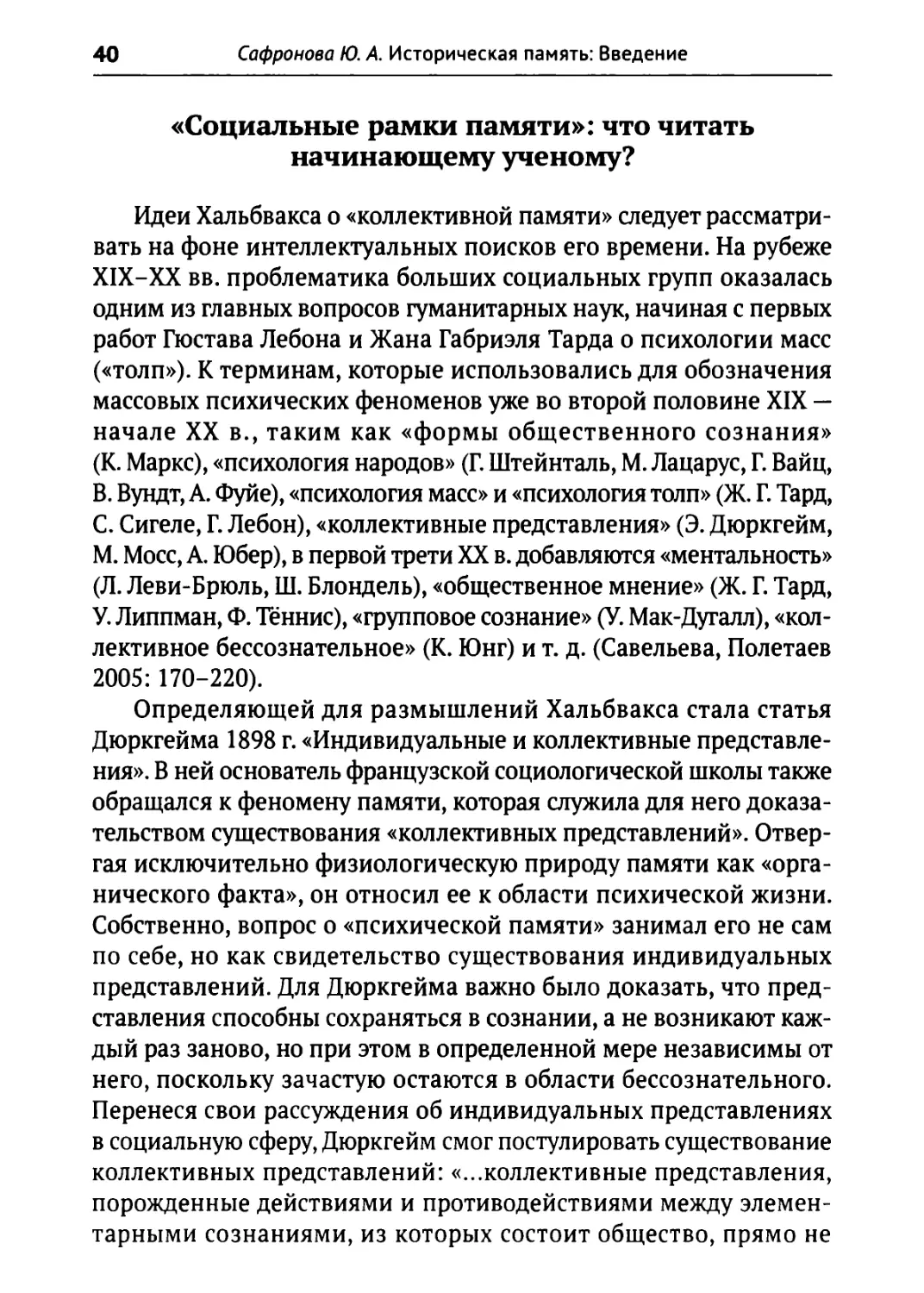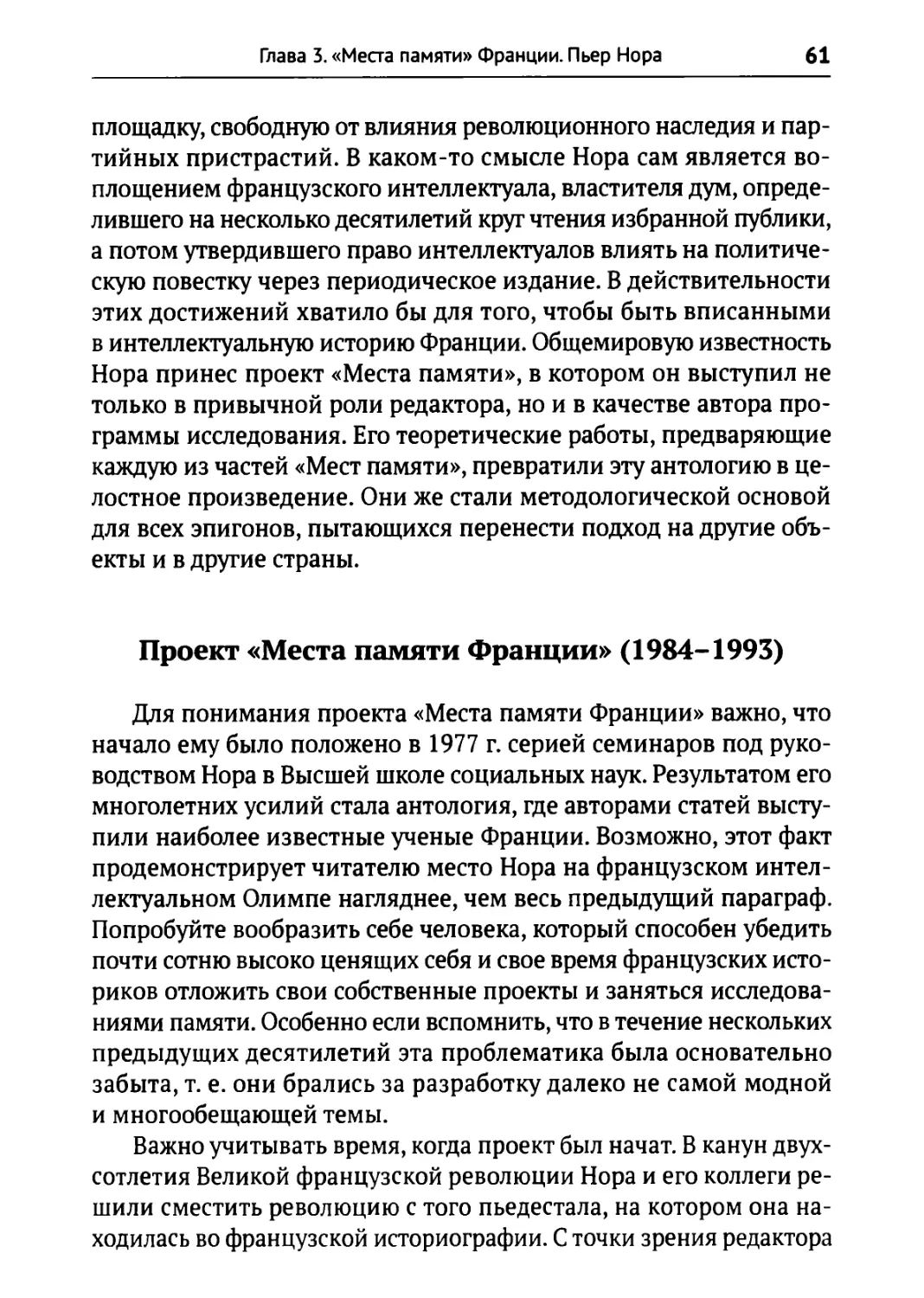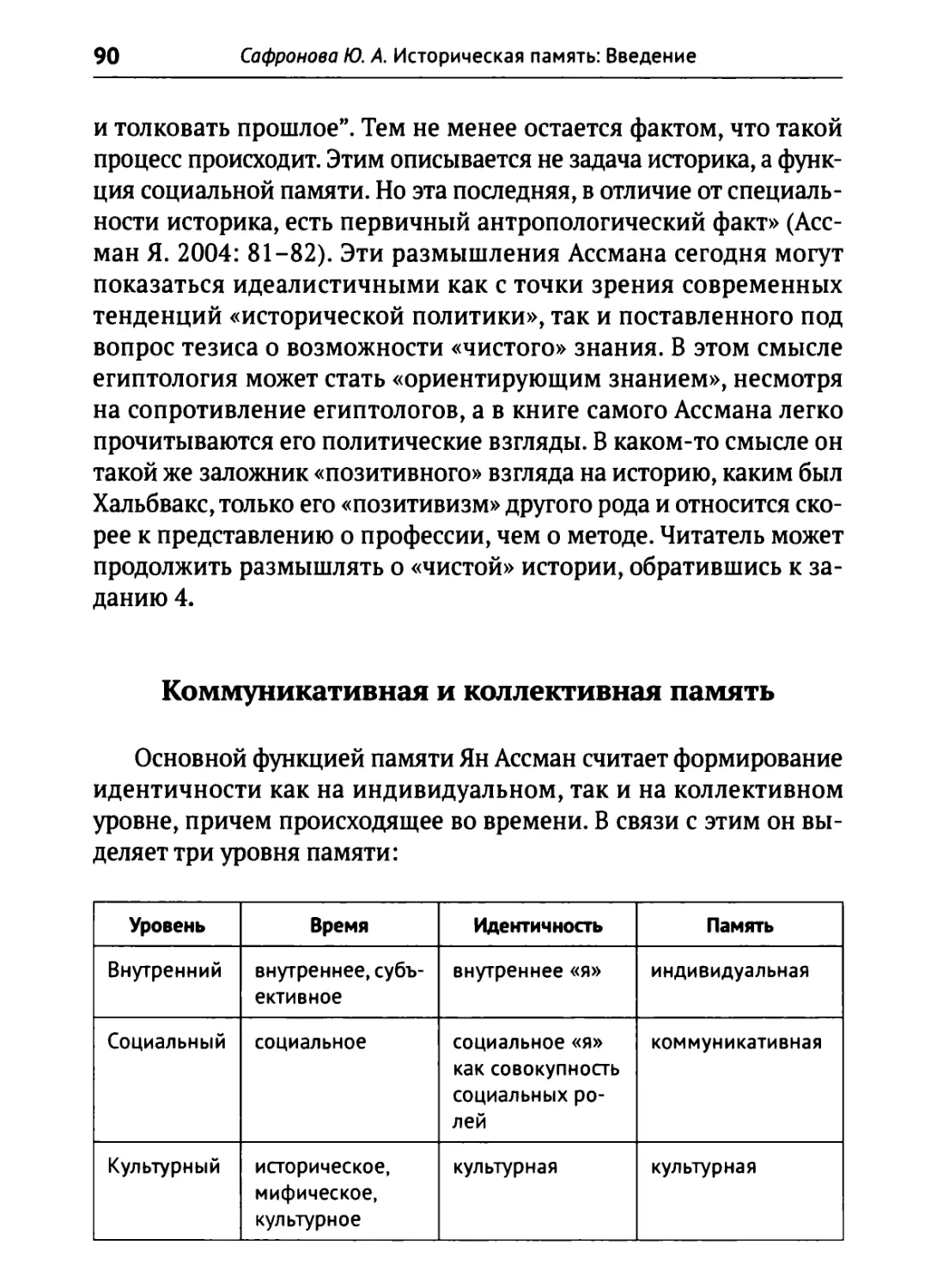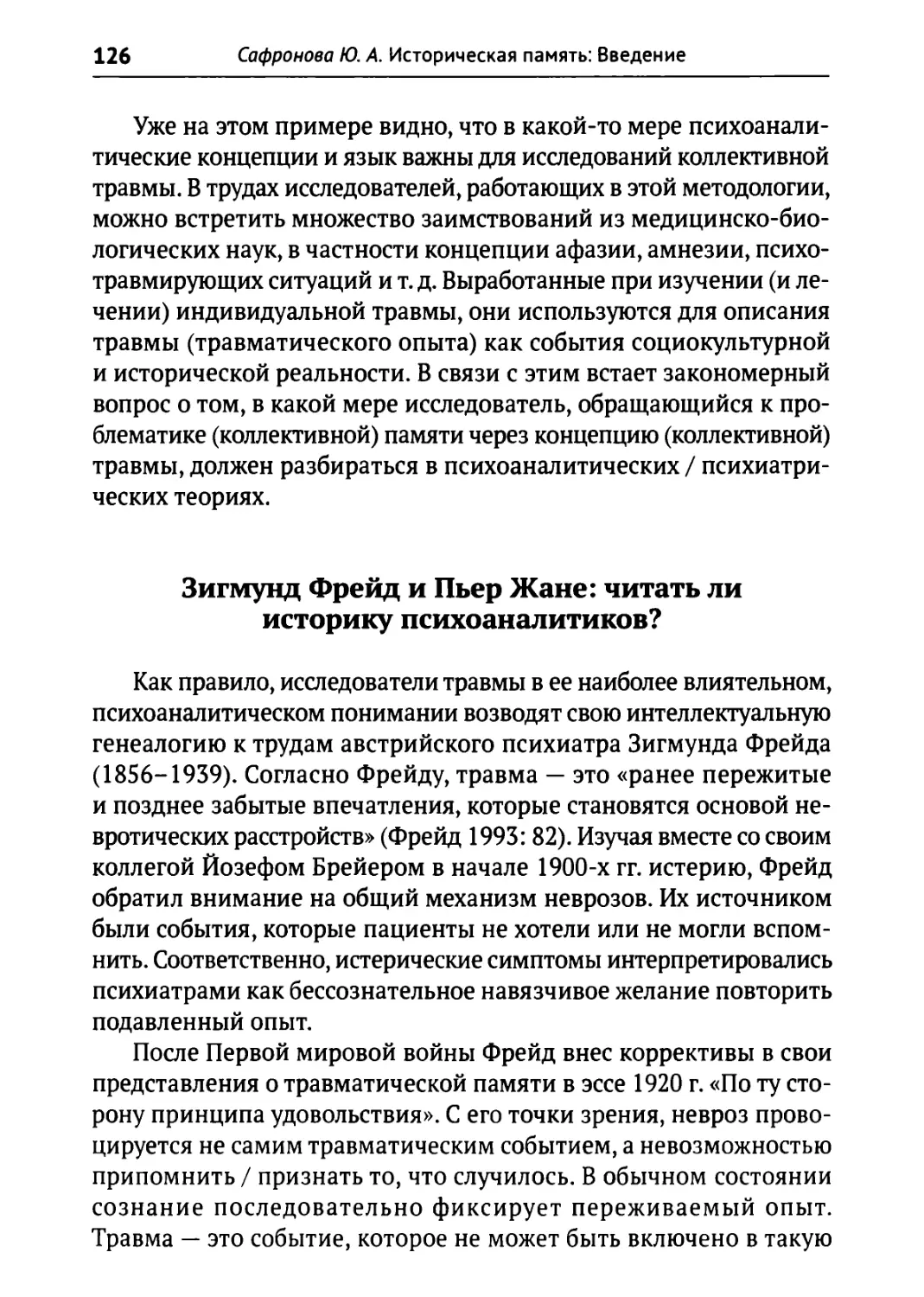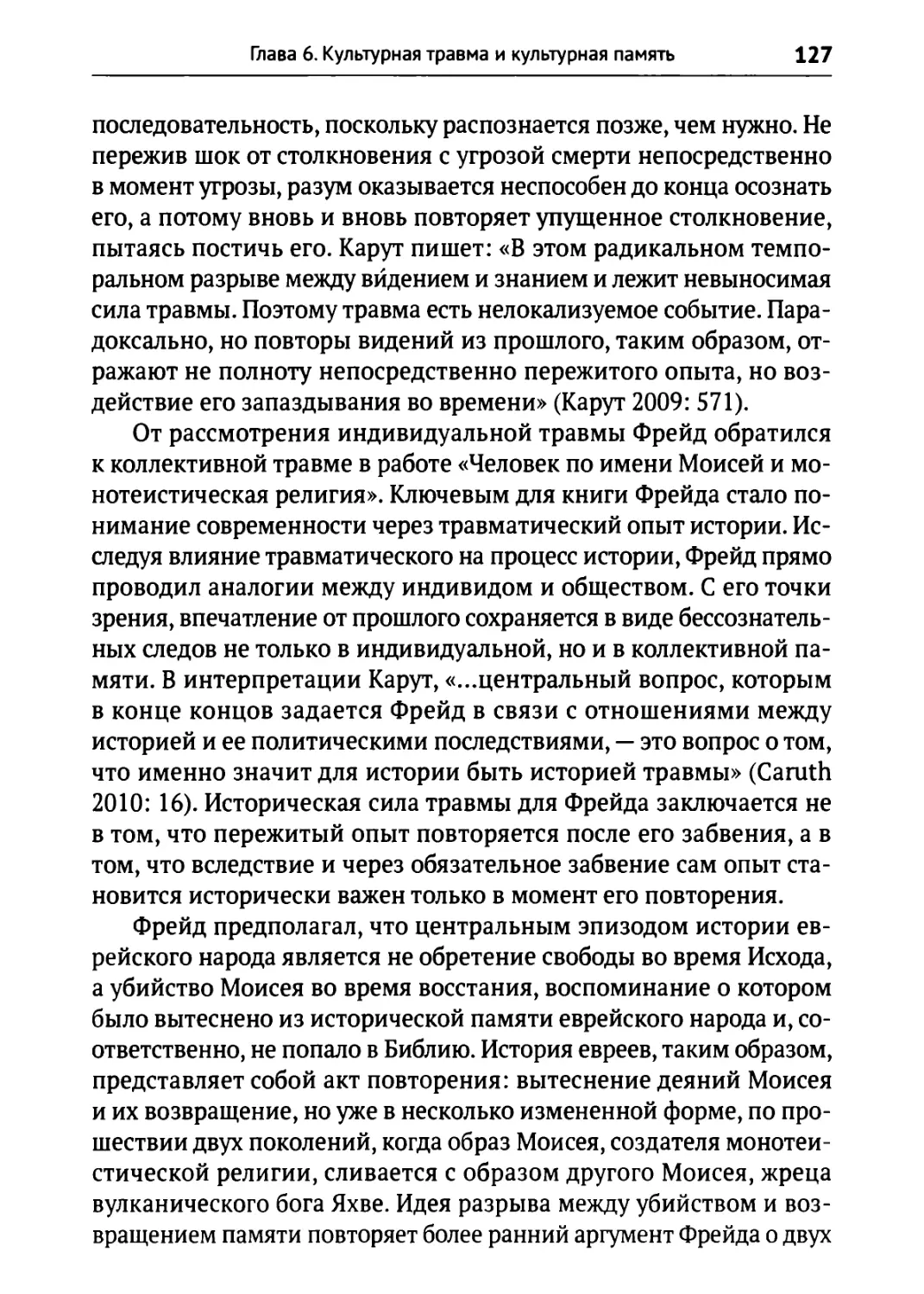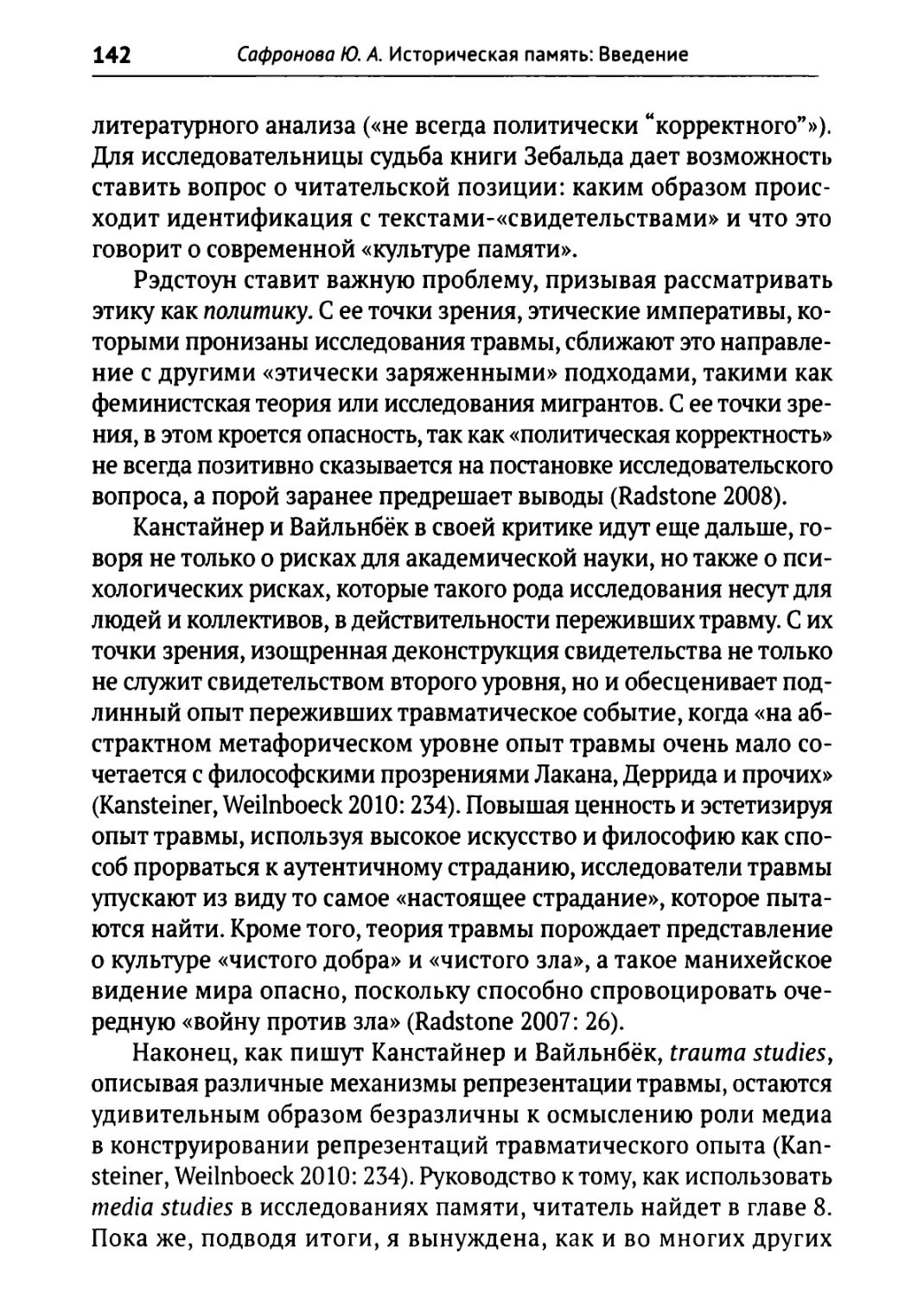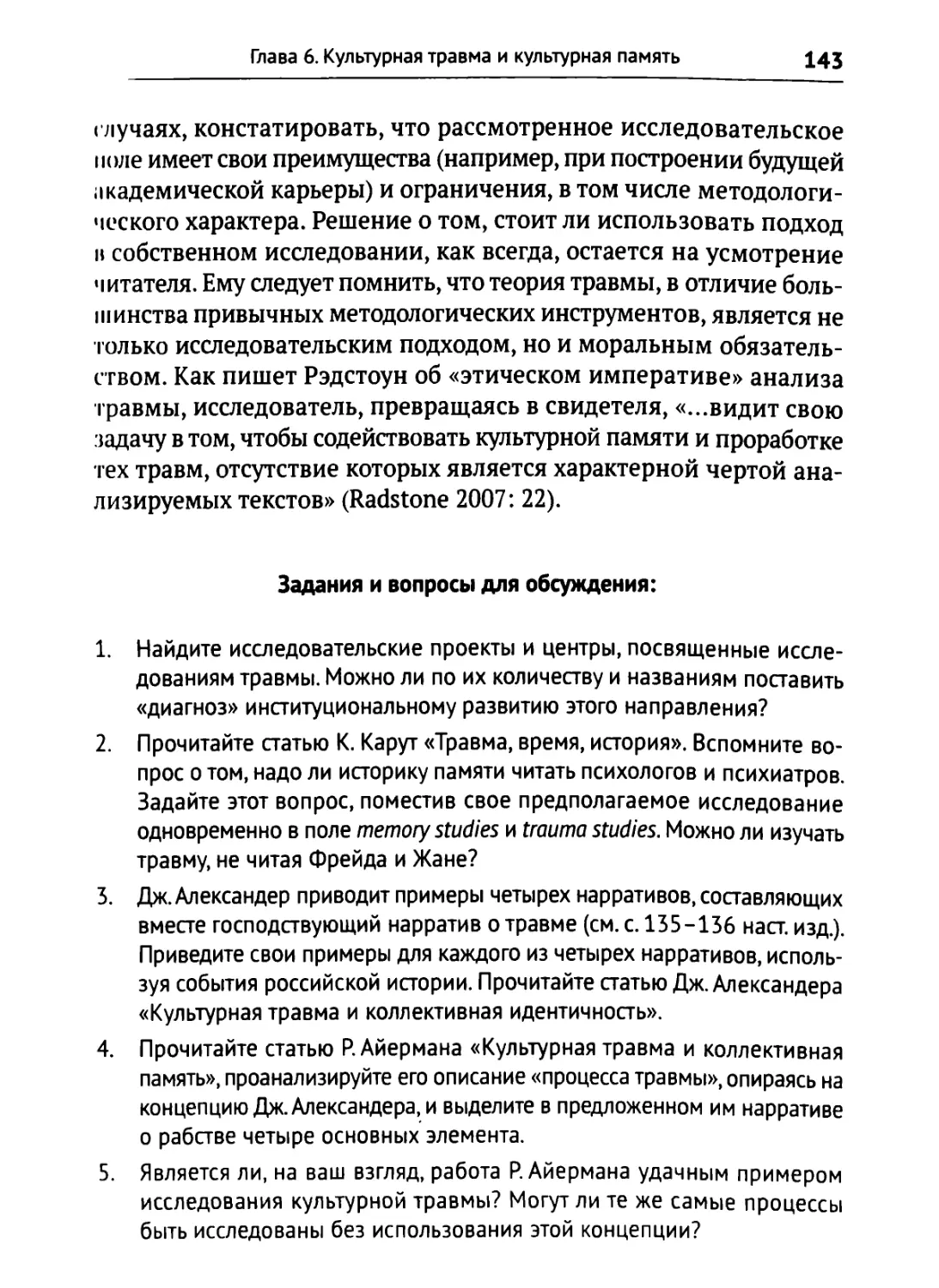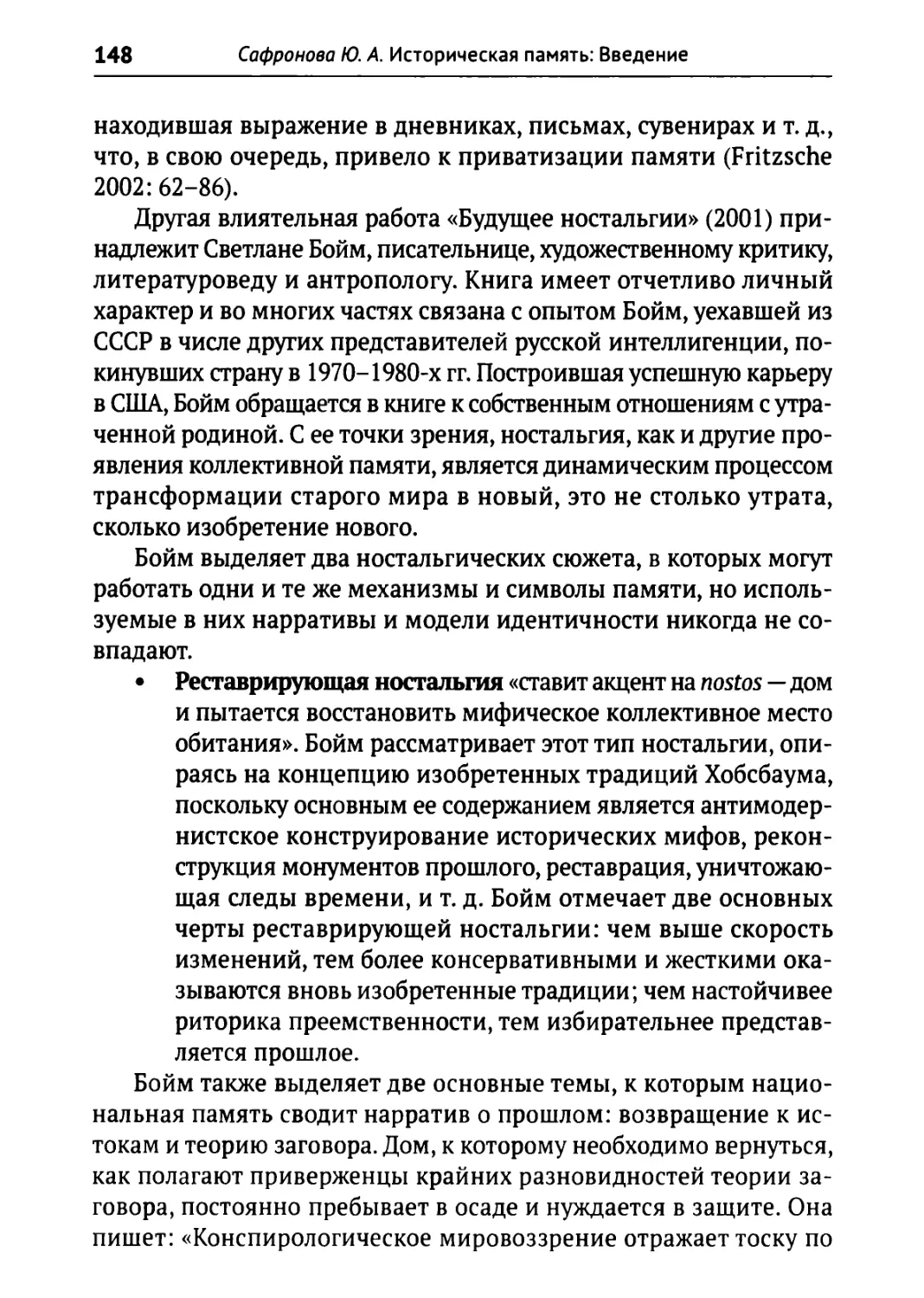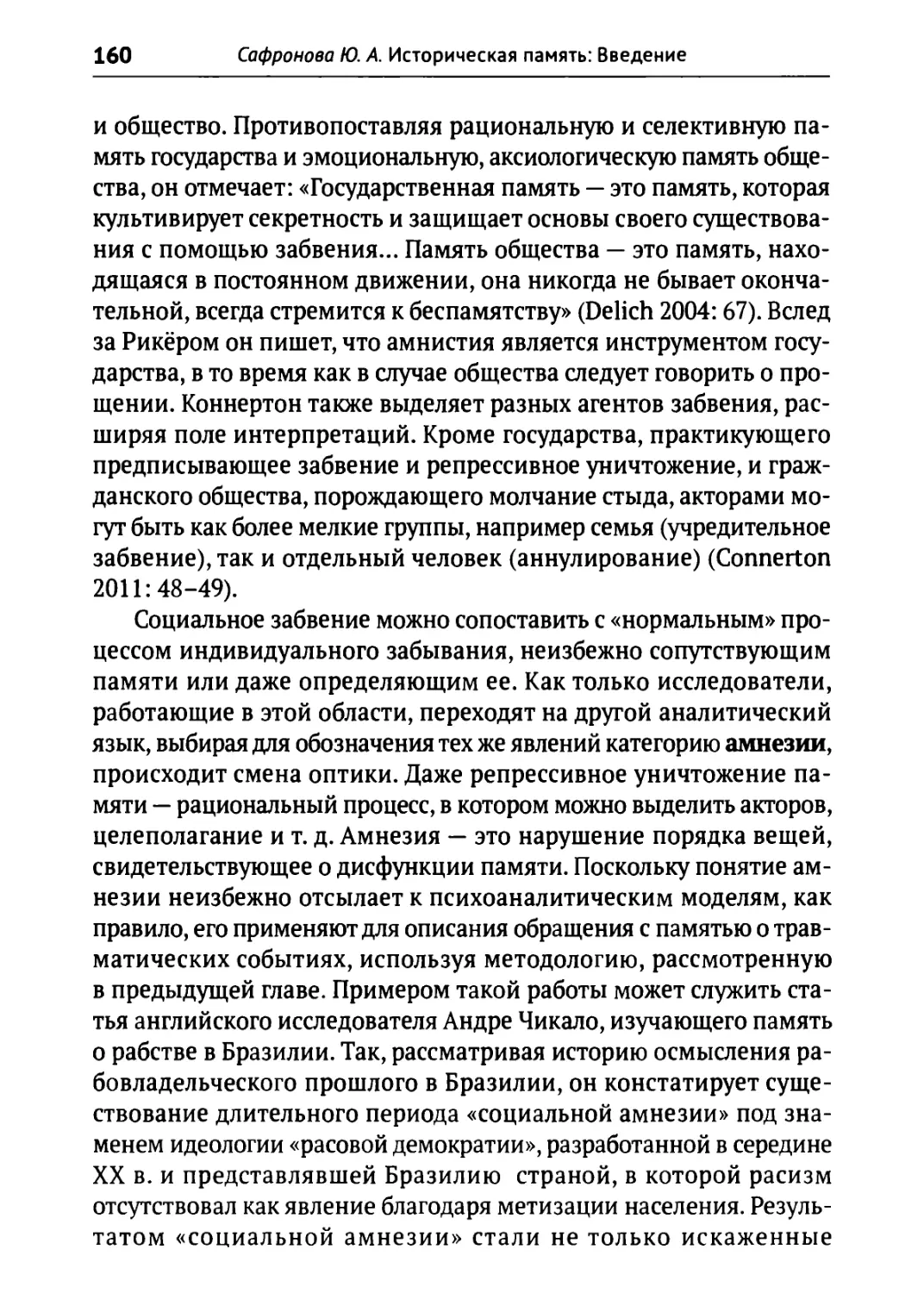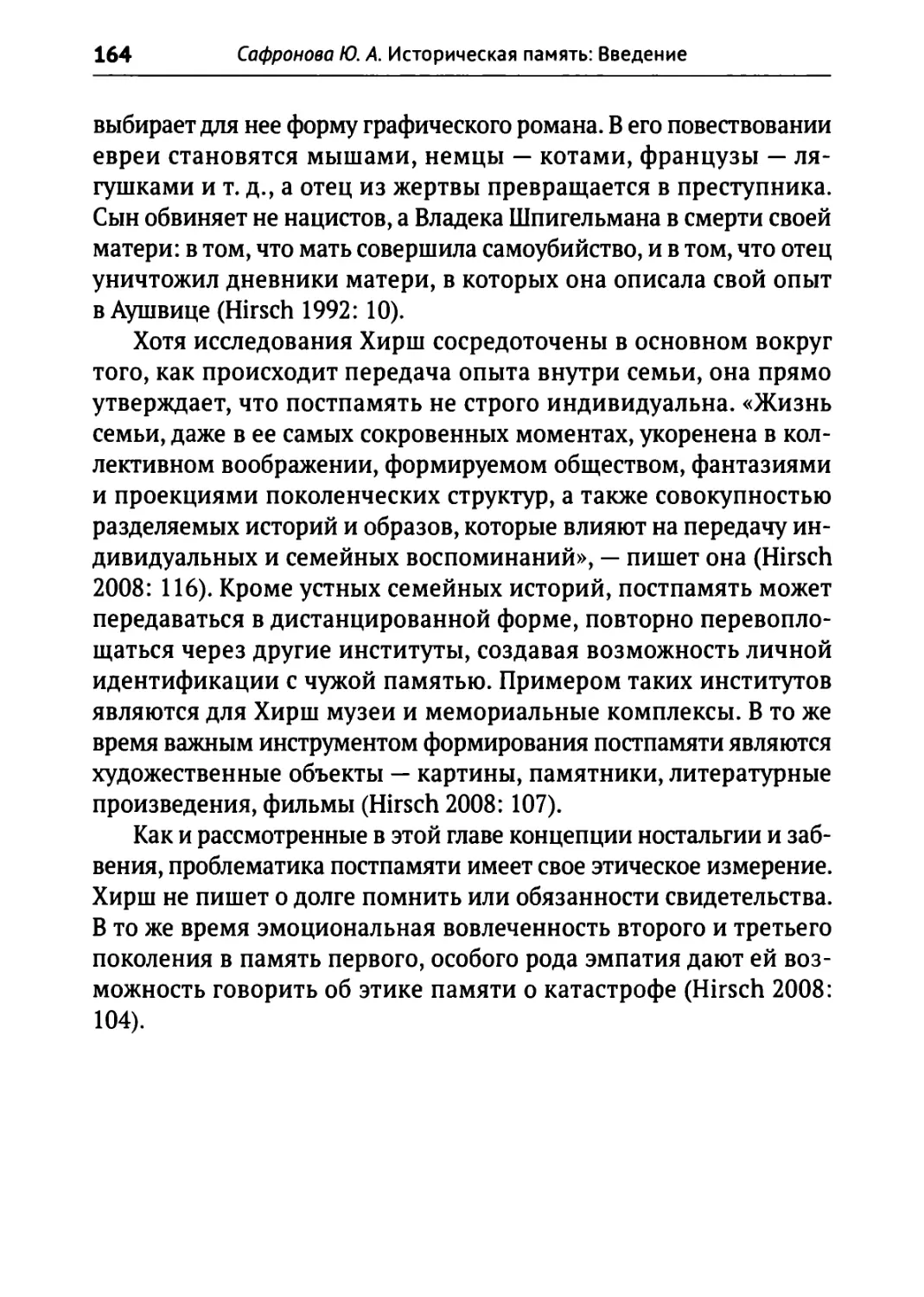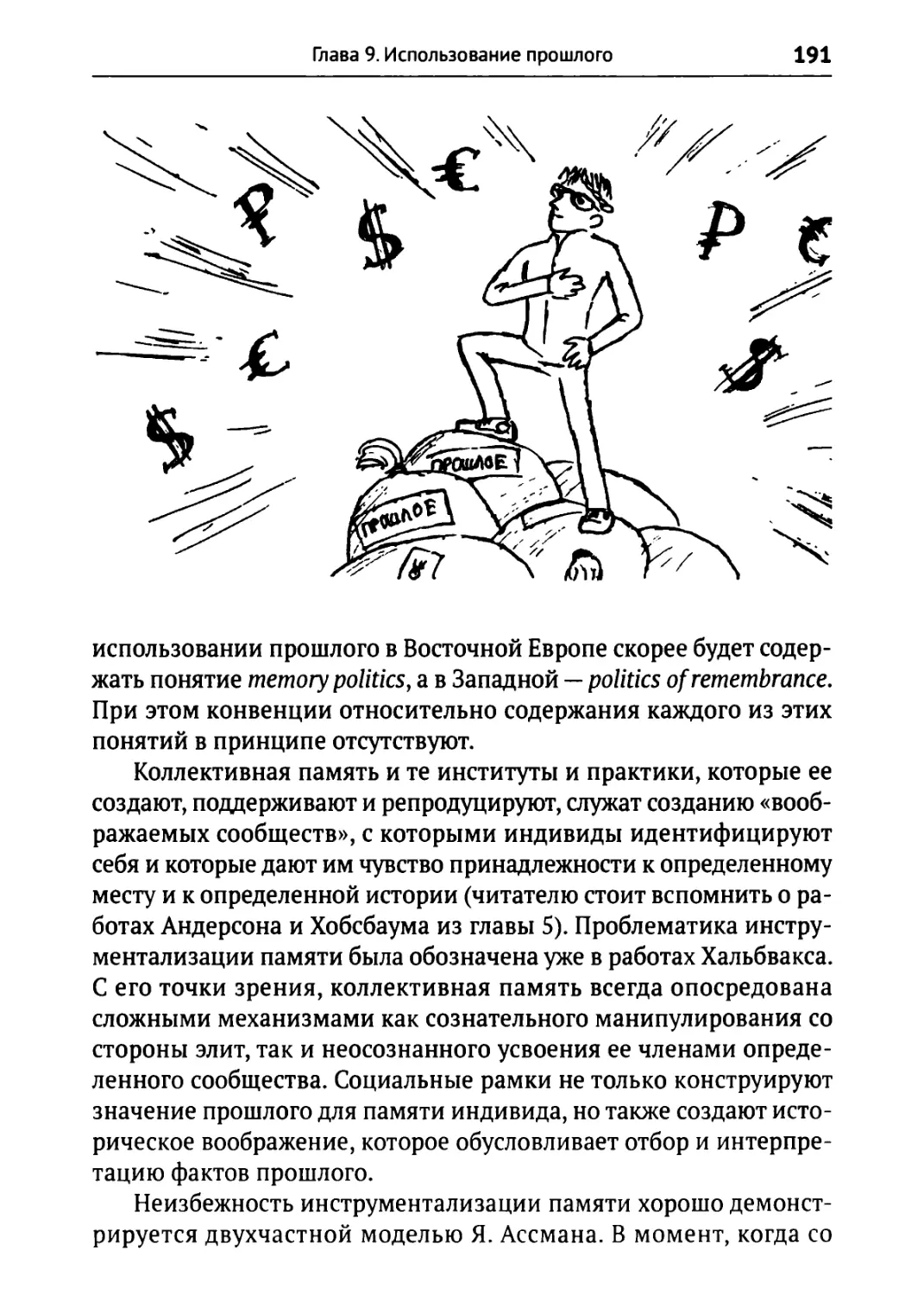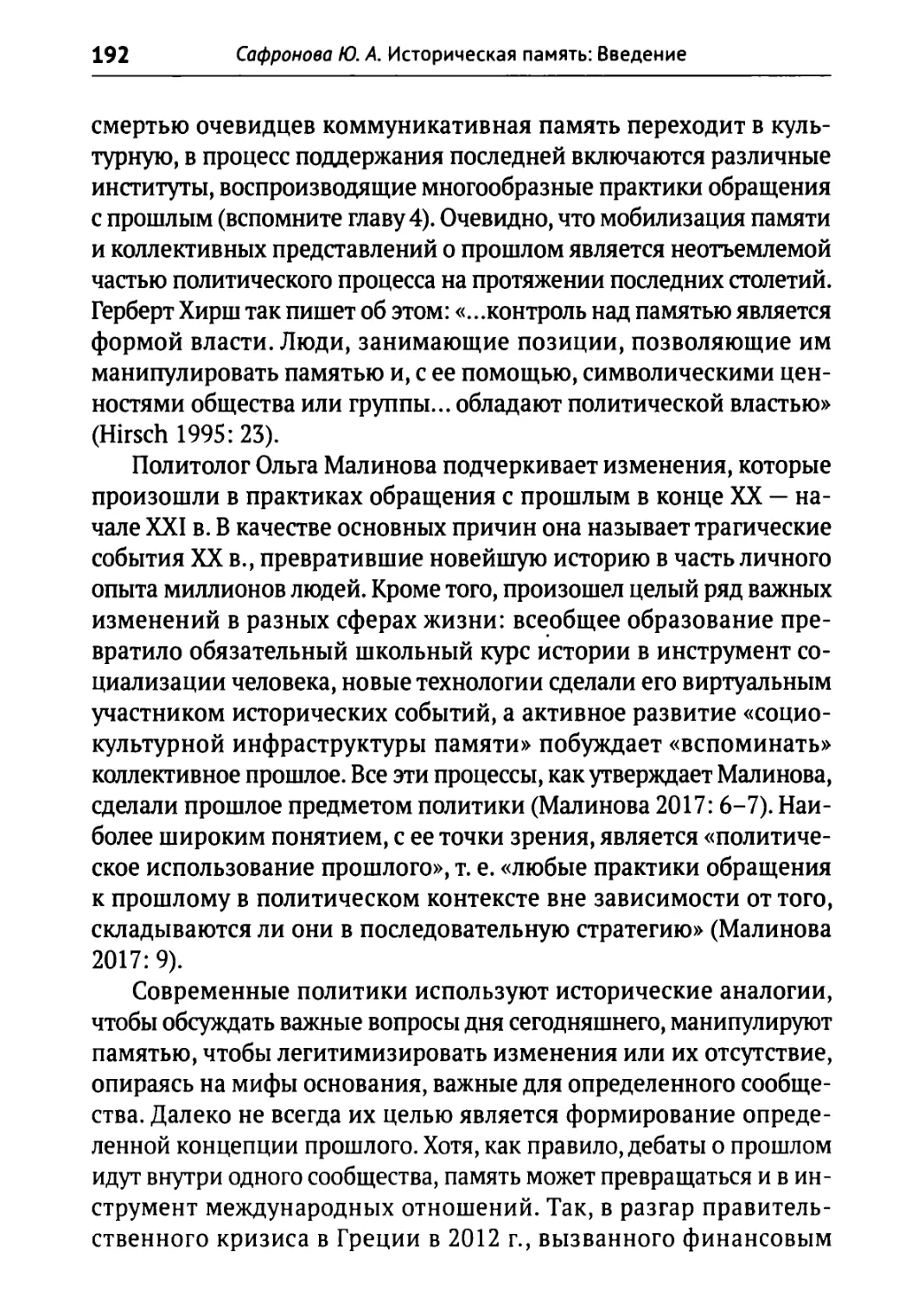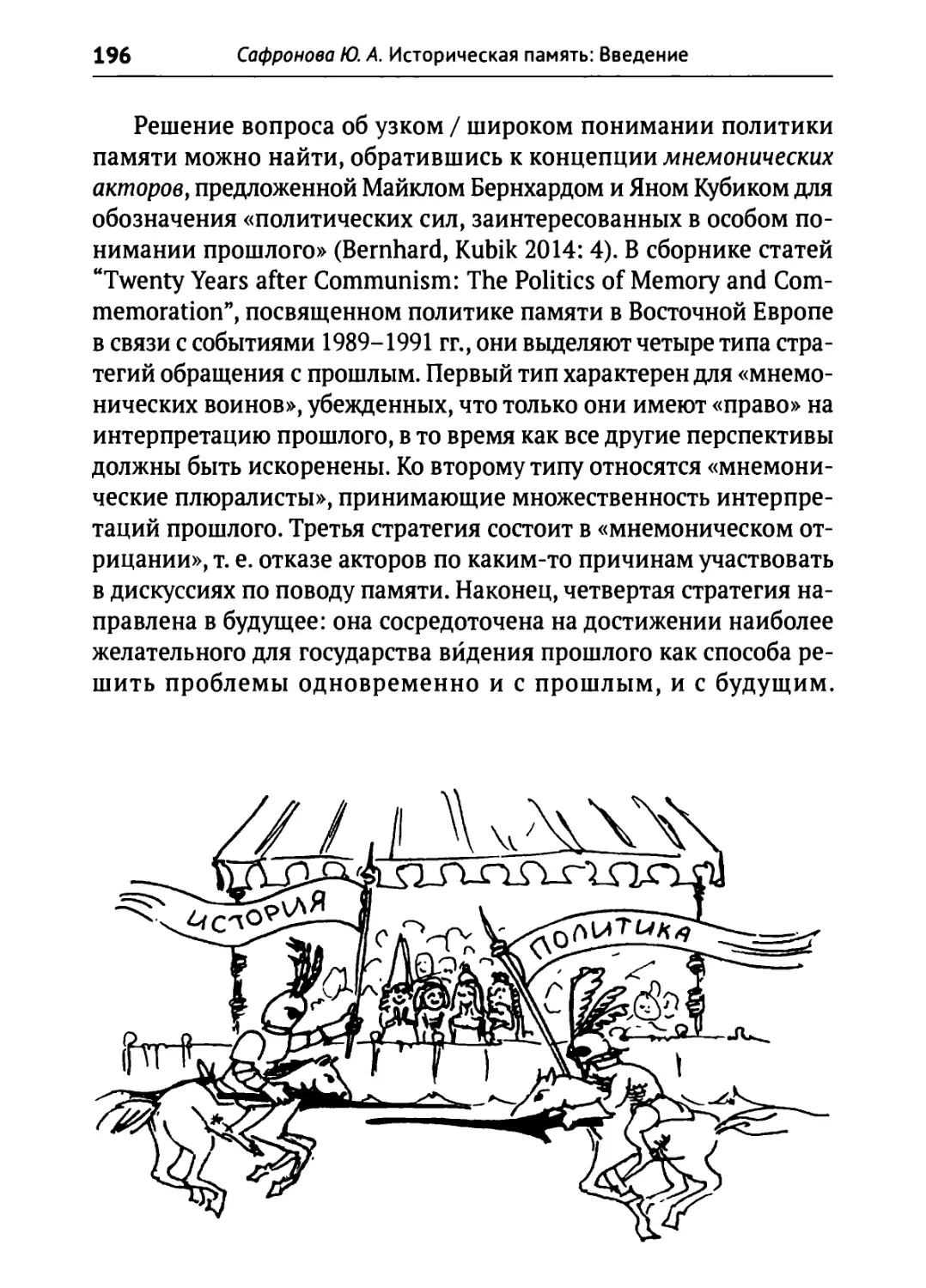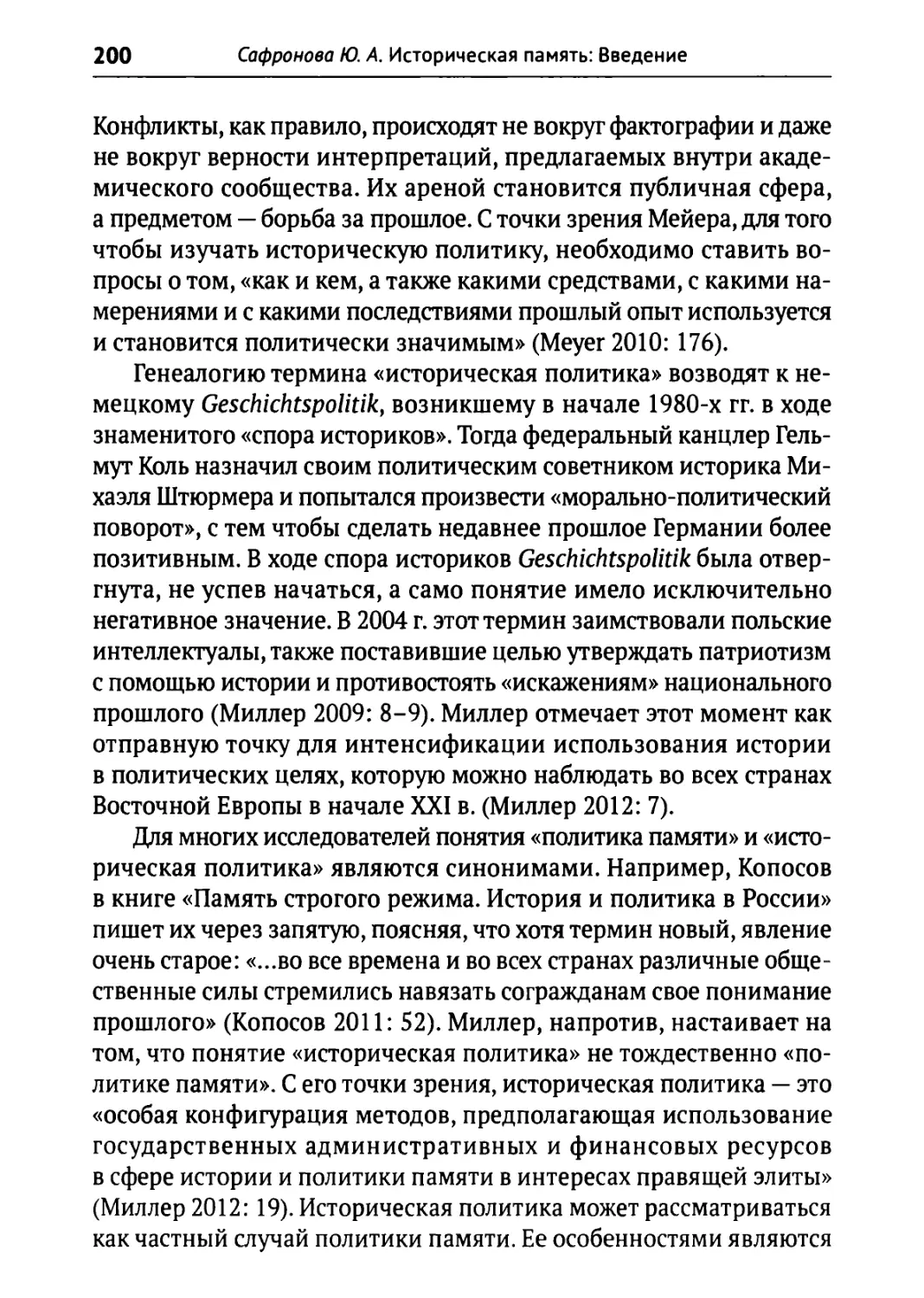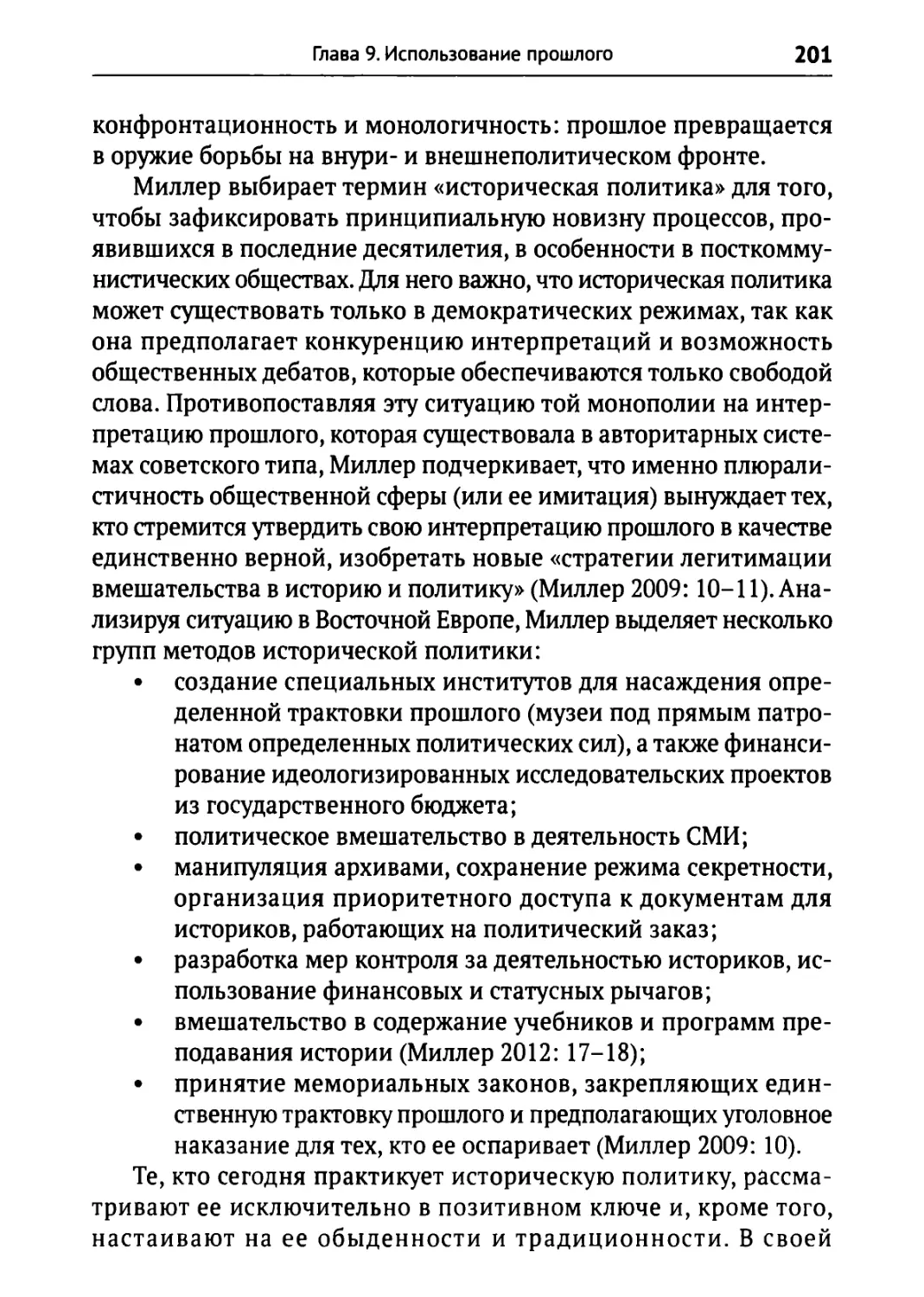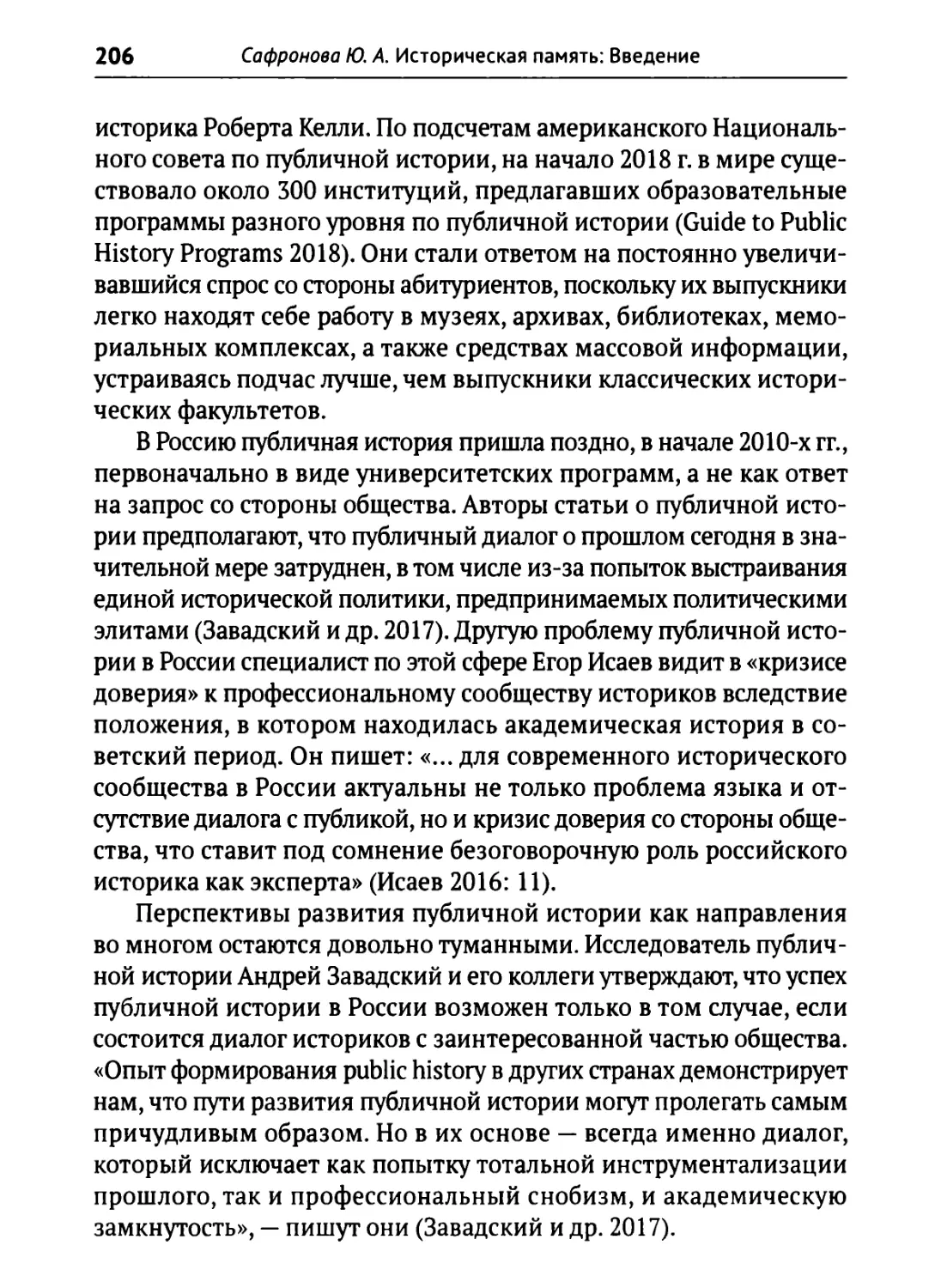Автор: Сафронова Ю.А.
Теги: история как наука теория и философия истории структура и морфология истории общественные науки в целом история историческая память историческая политика
ISBN: 978-5-94380-272-0
Год: 2019
Текст
учебное пособие
цог
память
введение
Ю. А. Сафронова
Санкт-Петербург 2019
УЧЕЕ НИКИ
ЕВРОПЕЙСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
УДК 930.1
ББК 60.032
С 217
Утверждено к печати Ученым советом
Европейского университета в Санкт-Петербурге
Рецензенты: Е. Махотина (PhD in History)
Е. А. Мельникова (канд. ист. наук)
Сафронова, Ю. А.
С 217 Историческая память: введение : учебное пособие / Ю. А. Саф¬
ронова. — СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-
Петербурге, 2019. — 220 с.
ISBN 978-5-94380-272-0
Изучение исторической памяти — одно из самых динамично развива¬
ющихся исследовательских полей, существующих на стыке различных
социальных и гуманитарных дисциплин. Учебное пособие представляет
собой вводный курс, позволяющий сориентироваться в этой сложной
и многообразной области. В первой части книги разбираются идеи
и работы авторов, заложивших фундамент исследований историче¬
ской памяти: Э. Ренана, М. Хальбвакса, Я. Ассмана, П. Нора. Каждый
автор рассматривается в широком историческом и дисциплинарном
контексте. Во второй части обсуждаются отдельные темы внутри
исследований памяти, такие как травма, ностальгия, забвение, ме¬
дийная память, историческая политика и т. д. После каждой главы
читателям даются задания и список литературы, цель которых — не
только глубже понять излагаемый материал, но и сформулировать
свою собственную исследовательскую программу в рамках одного
из предложенных подходов.
Книга предназначена студентам-историкам, но может быть полезна
и специалистам по другим социальным и гуманитарным наукам,
а также широкой аудитории, интересующейся проблематикой
современных общественных наук.
УДК 930.1
ББК 60.032
Исследование выполнено при финансовой поддержке
Российского научного фонда, грант № 17-18-01589,
в рамках проекта, осуществляемого в Институте научной информации
по общественным наукам РАН
© Ю. А. Сафронова, 2019
© Европейский университет
ISBN 978-5-94380-272-0 в Санкт-Петербурге, 2019
Оглавление
Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием 9
Глава 1
MEMORY STUDIES КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ПОЛЕ 13
Что такое память? 13
«Мемориальный бум» 21
Институциональное развитие memory studies и кризис направления . 26
Основные черты (коллективной) памяти 32
Глава 2
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ. МОРИС ХАЛЬБВАКС И «СОЦИАЛЬНЫЕ
РАМКИ ПАМЯТИ» 36
Отец-основатель? 36
«Социальные рамки памяти»: что читать начинающему ученому? ... 40
«Легендарная топография...» и «Коллективная память»: поздний Морис
Хальбвакс 50
Морис Хальбвакс и memory studies: ритуальная цитата или фундамент
для исследования? 55
Глава 3
«МЕСТА ПАМЯТИ» ФРАНЦИИ. ПЬЕР НОРА 59
Карьера французского интеллектуала 59
Проект «Места памяти Франции» (1984-1993) 61
Что такое lieux de memoire? 68
«Места памяти» на других языках 75
Глава 4
КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ.ЯН И АЛЕЙДААССМАН 80
Гейдельбергская школа культурологии 80
Ян Ассман читает Юрия Лотмана и Мориса Хальбвакса 83
Коммуникативная и коллективная память 90
Алейда Ассман: три уровня памяти 94
Глава 5
«ВООБРАЖАЕМЫЕ СООБЩЕСТВА» И «ИЗОБРЕТЕННЫЕ
ТРАДИЦИИ»: НАЦИЯ И ПАМЯТЬ 102
Эрнест Ренан: у истоков проблематики национальной памяти 102
Бенедикт Андерсон читает «Что такое нация?» 106
«Изобретение традиции»: Эрик Хобсбаум и Хью Тревор-Ропер 111
Глава 6
КУЛЬТУРНАЯ ТРАВМА И КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ 122
Что такое травма? 122
Зигмунд Фрейд и Пьер Жане: читать ли историку психоаналитиков? 126
Свидетель и проблема свидетельства 131
Культурная травма 133
Trauma studies: перспективное направление или «впечатляющая
ошибка»? 139
Глава 7
НОСТАЛЬГИЯ.ЗАБВЕНИЕ.ПОСТПАМЯТЬ 145
Ностальгия 145
Как писать историю забвения? 150
Типы забвения: позитивное, негативное, амбивалентное 155
Постпамять 161
Глава 8
МЕДИА И ПАМЯТЬ: ИНСТИТУТЫ, ФОРМЫ И ПРАКТИКИ 167
Media and memory / Media memory: есть ли исследовательское
поле?
167
Memory vs Media 174
Проблематика media and memory 178
Медиация, ремедиация и гипермедиация: динамика культурной
памяти 183
Глава 9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОШЛОГО: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА,
ПОЛИТИКА ПАМЯТИ И ПУБЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ 190
Как использовать прошлое? 190
Политика памяти 194
Историческая политика 199
Публичная история 202
Прикладная история 207
Библиография 211
Памяти моего деда Михаила Васильевича Солнцева
Несколько слов читателям, или
Как работать с учебным
пособием
Учебное пособие предназначено для студентов, которые делают
первые шаги в сложном поле исследований исторической памяти,
планируют начать собственную работу и ищут хорошие образцы
для подражания. Пособие ни в коем случае не заменит чтение тек¬
стов, о которых в нем идет речь. Скорее оно может служить путе¬
водителем, сверяясь с которым читатели все же должны прокла¬
дывать свои собственные маршруты. Для того чтобы облегчить эту
задачу во всех возможных случаях, в пособии, кроме ссылки на
опубликованный текст, приведена ссылка на электронную версию.
Интернет-адреса позволят исключить сложный сёрфинг по про¬
сторам сети и приблизить желанное знакомство, но нельзя гаран¬
тировать, что со временем они не перестанут быть актуальными.
Это же касается вопросов, предложенных для обсуждения после
каждой главы, а также заданий, включающих чтение текстов, про¬
смотр сайтов, поиск фотографий и т. д.
Сегодня публикации по темам, объединенным понятием «па¬
мять», составляют постоянно увеличивающийся массив, за которым
сложно уследить самому дотошному читателю. Предлагая неболь¬
шой список литературы после каждой главы, я не стремлюсь дать
самые важные или единственно правильные статьи / отрывки из
книг. Предложенные к прочтению тексты служат двум целям. С од¬
ной стороны, они должны вводить в поле академической дискуссии
по какой-то важной проблеме внутри исследований исторической
памяти и будить полемический задор. С другой стороны, они могут
представлять собой примеры хороших исследовательских работ,
способных послужить источником вдохновения.
В тексте наравне с русскими понятиями употребляются англо¬
язычные, поскольку терминологический аппарат исследований
10
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
памяти до сих пор не имеет устойчивых переводов на русский язык.
Так, я использую понятие memory studies для обозначения исследо¬
вательского поля или даже самостоятельной дисциплины, как ут¬
верждают некоторые ученые (Roediger, Wertsch 2008; Olick 2009),
так как до сих пор в русском языке не выработано какого-то одного
термина для обозначения сферы научных исследований, связанных
с проблематикой памяти. Вместо этого существует целый спектр
прилагательных, с помощью которых образуются разнообразные
словосочетания со словом «память»: коллективная память, соци¬
альная память, культурная память, историческая память. Поскольку
за каждым из них в действительности стоит выбор определенной
теоретической традиции, набора ключевых авторов и методов ис¬
следования, ни одно из них не подходит для обозначения рассма¬
триваемой в учебном пособии области в целом.
Также в первой главе я буду использовать понятие «коллектив¬
ная память» для того, чтобы отличать область коллективных пред¬
ставлений о прошлом от «памяти» вообще, которая является объ¬
ектом изучения нейробиологов, психологов, практиков различных
мнемотехик и т. п., поскольку в ней такое разграничение необхо¬
димо. Во всех последующих главах понятие «память» будет ис¬
пользовано в узком смысле — так, как его понимают социальные
и гуманитарные науки.
В главах 2-5 учебного пособия во всех случаях, когда речь идет
о важных текстах, лежащих в основе теоретического осмысления
феномена памяти, приведена справка об их авторах. Я хочу обра¬
тить на это особое внимание читателей, поскольку на первых за¬
нятиях всегда сталкиваюсь с тем, что, руководствуясь концепцией
смерти автора, многие студенты предпочитают пропускать био¬
графические детали из жизни авторов, чьи тексты они изучают.
Возможно, превратившись в изобретенную академическую тради¬
цию и признак хорошего тона, биографические справки стали ча¬
стью ритуала (о традиции, ритуале и памяти см. главу 5), а потому
их истинный смысл оказался затемнен для молодых исследовате¬
лей. Между тем, если видеть в любом научном тексте реплику бес¬
конечного диалога ученых, а не вещь в себе, без биографической
справки не обойтись. На ее основе складывается самое первое пред¬
ставление о том, с кем читаемый автор ведет диалог: спорит ли он
Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием Ц
со своими учителями, отвечает ли на критику коллег или защища¬
ется от нападок молодого поколения; почему он выбирает те, а не
иные аргументы, на каком языке он пишет и кого воображает своим
читателем. Поскольку и культурные, и академические традиции
в разных странах и в разные времена различны, надо обращать
внимание и на такие подробности: где читаемый автор родился,
в каких учебных заведениях учился, где работал и с кем, какие
работы были самыми важными в его время, и не только в истории,
но и в других науках, наконец, в каких издательствах он публико¬
вался и кто был его редактором. Вооружившись таким опросником,
читатель гораздо лучше поймет, что он читает и почему текст таков,
каков он есть, почему одни темы были для автора важны, а другие
оказались за пределами внимания.
В главах 6-9 учебного пособия биографических справок нет, но
читатели без труда смогут найти ответы на вопросы, воспользо¬
вавшись личными страницами авторов на сайтах их университетов,
поскольку большинство из них ныне здравствуют, ведут активную
исследовательскую работу и, возможно, к моменту попадания учеб¬
ного пособия в руки читателя успели поменять точку зрения на
предмет своих ученых штудий.
Наконец, процесс обучения неразрывно связан с пополнением
словарного запаса, так же как процесс исследования подчас сопро¬
вождается изобретением новых понятий. В связи с этим некоторые
термины (например, «пейоративный») намеренно оставлены в тек¬
сте без объяснений. Надеюсь, читатель, если вдруг ему встретится
незнакомое слово, не станет отмахиваться от него, как от досадной
помехи, а найдет минуту для того, чтобы заглянуть в словарь или
хотя бы прочитать статью в Википедии.
Если читатели будут последовательно выполнять задания, пред¬
ложенные после каждой главы, в их распоряжении окажется не¬
сколько десятков идей возможных исследовательских проектов.
После выбора темы и объекта исследования перед каждым из них
встанет вопрос о теоретических основаниях работы. Разумеется,
одну и ту же тему можно исследовать в рамках разных исследова¬
тельских подходов. Важно, однако, понимать, что нельзя в одном
исследовании воспользоваться всеми существующими теориями.
Конечно, в работе может присутствовать методологическая
12
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
эклектика, но только в том случае, если она оправдана поставлен¬
ными исследовательскими задачами. Разумеется, у некоторых чи¬
тателей может возникнуть искушение продемонстрировать во
введении свою эрудицию и упомянуть всех авторов, перечисленных
на страницах этого пособия, а также тех, кто в него не вошел. В этом
случае я отсылаю их к размышлениям Сары Женсбуржер о риту¬
альном цитировании работ Мориса Хальбвакса, подробнее пред¬
ставленных в главе 2. Надеюсь, что знакомство с учебным пособием
сделает выбор теоретической рамки исследования более осознан¬
ным, а сам процесс собственных научных изысканий — увлекатель¬
ным и плодотворным.
С пожеланиями вдохновения и хороших тем для исследования,
Юлия Сафронова
Глава 1
Memory studies как
исследовательское поле
Что такое память?
Память составляет часть нашей обыденной жизни: мы живем
с нею, но сама по себе она не является просто частью нашего ума
или тела. Современному человеку проще всего вообразить себе
память как документальный фильм, в котором пережитые им со¬
бытия вчерашнего дня или раннего детства запечатлены с разной
степенью детальности и достоверности. Мы привыкли доверять
нашей памяти, хотя иногда она подводит нас. Между тем само по¬
нятие «память» исторично, а разные способы обращения с нею
далеко не так очевидны, как может показаться на первый взгляд.
Например, Мэри Каррутерс, профессор литературы Нью-Йоркского
университета, показывает, что в Средние века под памятью по¬
нимали то, что мы сегодня назвали бы воображением или творче¬
ством (Carruthers 2008). Английский историк Френсис Йейтс, об¬
ращаясь к искусству памяти эпохи Возрождения, обнаружила, что
в некоторых философских системах того времени память рассма¬
тривалась как магический метод раскрытия тайной гармонии зем¬
ной и трансцендентальной сфер (Йейтс 1997).
От того, где мы помещаем память — в человеческом мозге или
в психике, зависит выбор дисциплины, к которой следует обращаться
с вопросом, что такое память. В первом случае мы будем иметь дело
с нейрологией и нейробиологией, во втором — с психологией, ког¬
нитивной психологией и т. д. С другой стороны, если мы, локализуя
индивидуальную память, остановимся только на «голове», мы до¬
вольно быстро обнаружим, что упускаем такие важные аспекты
памяти, как телесность или органы чувств. Не стоит также забывать
о внешних триггерах, способных запускать процесс воспоминания, —
звуках, запахах, изображениях и словах, с которыми человек
14
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
сталкивается в повседневной жизни (Garde-Hansen 2011: 14-15).
Именно в последней точке понимание феномена памяти естествен¬
ными науками сближается с тем, что интересует гуманитарное зна¬
ние. Сегодня, в отличие от первой половины XX в., уже никто не
оспаривает тезис о том, что память является подходящим объектом
исследования для историков, социологов, антропологов или что
память может быть понята отдельно от своих источников, которые
находятся за пределами человеческого мозга.
Сходство между различными дисциплинами, исследующими
память, к какой бы области знания они ни принадлежали, заклю¬
чается в разнообразии и неопределенности толкований изучаемого
феномена. Количество понятий, связанных с памятью, в естествен¬
ных науках, как и в гуманитарных, исчисляется сотнями. Эндель
Тулвинг, канадский экспериментальный психолог и нейрофизиолог,
специализирующийся на исследованиях памяти, в 2007 г. составил
список из 256 типов памяти, включив туда и созданные историками
понятия культурной памяти, политической памяти, архивной па¬
мяти и т. д. Его работа содержала немалую долю иронии по этому
поводу (Tulving 2007).
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
15
Во всем многообразии социальных и гуманитарных исследо¬
ваний, авторы которых работают с понятием «память», подразуме¬
вая при этом совершенно разные вещи, можно обнаружить нечто
общее. Память — это способ конструирования людьми своего про¬
шлого. С одной стороны, она может изучаться как память-свиде¬
тельство людей, переживших некий опыт, например выживших
в Холокосте. С другой стороны, это понятие используют для изуче¬
ния репрезентаций прошлого и его конструирования через медиа
памяти — книги, фильмы, монументы, церемонии и т. д.
Коллекгпи в НОЯ
Когда в 1920-х гг. французский социолог Морис Хальбвакс,
к идеям которого многие из современных ученых возводят интел¬
лектуальную генеалогию memory studies, впервые предложил по¬
нятие «коллективная память», другой отец-основатель (на этот раз
школы «Анналов») Марк Блок указал ему, что это понятие метафо¬
рично, а потому бессмысленно (Bloch 1925). В самом себе оно со¬
держит допущение, что коллектив обладает памятью подобно тому,
как ею обладает отдельный человек.
Современный немецкий культуролог Алейда Ассман в книге
«Новое недовольство мемориальной культурой» цитирует страст¬
ную речь немецкого историка Райнхарта Козеллека, семьдесят во¬
семь лет спустя вторившего аргументам Блока:
16
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Мой тезис гласит: я могу вспомнить лишь то, что пережил
сам. Воспоминания привязаны к личному опыту. У меня нет
воспоминаний, не обусловленных личным опытом. Я бы даже
сказал, что каждый человек имеет право на собственные вос¬
поминания. Это право на собственную биографию и собственное
прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на
коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или
ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное,
нежели то, что является частью официальной коммеморации
немецкого народа 27 января, в день освобождения Аушвица
советскими войсками (Ассман А. 2016: 16-17).
О том, что Хальбвакс никогда не утверждал, что коллектив об¬
ладает собственной памятью, читайте следующую главу. В критике
Блока, однако, есть своя доля истины: понятие «память» действи¬
тельно метафорично, а потому обладает всеми достоинствами и не¬
достатками, свойственными метафорам. С одной стороны, оно
будит воображение, позволяет дать имя многообразию сложно
сопоставимых, а иногда и сложно уловимых процессов и таким
образом дает исследователям новые предметы познания или новые
инструменты для работы со старыми. С другой стороны, любая
метафора ничем не ограничена в производстве смыслов. Воору¬
жившись ею, как знаменем, можно изучать практически что угодно,
а на любую критику отвечать, что автор использует понятие мета¬
форически.
Метафоричность основного понятия memory studies создает
особое поле напряжения, поскольку содержит в себе искушение
психологией и психоанализом. Между тем признанный предста¬
вителями естественных наук факт, что изучение индивидуальной
памяти невозможно без рассмотрения социального контекста ее
бытования, вовсе не означает обратного. Совсем не обязательно
разбираться в том, какие именно зоны головного мозга отвечают
за процесс воспоминания, чтобы изучать память о Первой мировой
войне в Великобритании или Жанну д’Арк как французское «место
памяти». Наоборот, экскурсы в нейробиологию или психоанализ
скорее осложнят процесс познания, затемнив его предмет, нежели
помогут ему. Американский историк, специалист по памяти
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
17
о Холокосте в послевоенной Европе Вульф Канстайнер, выступая
в 2002 г. с методологической критикой memory studies, настаивал
на необходимости разделять различные типы «социальной памяти»:
автобиографической памяти, с одной стороны, и коллективной
памяти, с другой. «Из-за отсутствия такого различения многие ис¬
следователи коллективной памяти совершают соблазнительную,
но потенциально смертельную методологическую ошибку, вос¬
принимая и концептуализируя коллективную память в терминах
психологии и эмоциональной динамики индивидуального вос¬
поминания» (Kansteiner 2002: 185).
Проведение аналогий между индивидуальной памятью как
свойством человеческой психики и памятью коллективной способно
завести исследователей на зыбкую почву: переход от «коллективной
памяти» к «коллективной психике» совершается довольно легко,
но его результаты всегда сомнительны. Самый яркий пример
здесь — это понятие коллективной исторической травмы, еще бо¬
лее зыбкое и метафоричное, а потому вызывающее гораздо больше
споров (см. главу 6).
С другой стороны, нельзя утверждать, что обращение историков
к работам нейробиологов или психологов одинаково бесполезно
во всех случаях. Напротив, в рамках memory studies историки регу¬
лярно сталкиваются с необходимостью интерпретации автобио¬
графической памяти, памяти-свидетельства. Отправляясь с опрос¬
ником «в поле» брать интервью в качестве устного историка или
работая с мемуарами, исследователь будет чувствовать себя уве¬
реннее, если известная историкам шутка «все мемуаристы врут»
найдет рациональные основания благодаря чтению работ, объяс¬
няющих механизмы разнообразных аберраций памяти. В этом
случае он будет лучше понимать, что хотя все мемуаристы врут,
некоторые из них искренне полагают, что говорят чистую правду.
Примером работы, где результаты исследований когнитивных
психологов служат для объяснения особенностей памяти о Холо¬
косте в послевоенной Германии, является статья немецкого исто¬
рика Харальда Вельцера «История, память и современность про¬
шлого. Память как арена политической борьбы». Статья начинается
с впечатляющего примера конфликта между историком и свиде¬
телем. Дрезденцы, пережившие разрушительные бомбардировки
18
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
города союзнической авиацией 13-14 февраля 1945 г., твердо убеж¬
дены, что после самой бомбежки самолеты летали над улицами
Дрездена и охотились на людей. В 2000 г. историк Хельмут Шнатц
сделал доклад, в котором на основании полетных заданий и борт¬
журналов британских военно-воздушных подразделений, а также
анализа технологических особенностей американских самолетов
(они не могли низко летать над горящим после бомбардировки
городом из-за высокой темпаратуры) доказал, что история про
охоту на людей — миф. Его выступление вызвало скандал: при¬
сутствовавшие на докладе свидетели восприняли слова историка
как посягательство на их личные воспоминания. Они точно пом¬
нили летящие на бреющем полете самолеты и спасавшихся бегством
людей, которых видели собственными глазами.
Объяснения этому, а также многим другим случаям аберраций
памяти Вельцер находит у неврологов и когнитивных психологов,
работающих с феноменом «забвения источника», когда человек
помнит само событие правильно, но путает источник, из которого
получено воспоминание о нем. Целый ряд исследований доказы¬
вает: «...человек может встраивать в историю своей жизни сведения,
эпизоды и даже целые событийные ряды, происходящие не из его
собственного опыта, а из совершенно иных источников — напри¬
мер, из рассказов других людей, из романов, из документальных
и художественных фильмов, а также из снов, грез и фантазий. <...>
В ложных воспоминаниях или в тех, которые заимствованы из дру¬
гих источников, особенно раздражает то, что события могут бук¬
вально “стоять перед глазами” у человека, как у тех пожилых дрез¬
денцев, — “так, словно все было вчера”. Именно визуальная
репрезентация прошедшего события субъективно более всего
убеждает человека в том, что он вспоминает то, что было в самом
деле и было именно так, как он видит это своим мысленным взором.
Дело, однако, не в том, что это событие сначала отразилось у него
на сетчатке и потом врезалось в память, а в том, что нейрональные
системы переработки визуальных восприятий и образов, порож¬
денных воображением, частично совпадают друг с другом, так что
даже события, представляющие собой исключительно плод фан¬
тазии человека, могут “стоять у него перед глазами” и казаться
живыми и объемными воспоминаниями», — пишет немецкий
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
19
историк. Одно из основных посланий статьи Вельцера заключается
в том, что память и история имеют мало отношения друг к другу,
поскольку «автобиографическая память представляет собой функ¬
циональную систему, задача которой — помогать человеку справ¬
ляться с жизнью в настоящем» (Вельцер 2005).
Статья Вельцера, на мой взгляд, служит удачным примером
работы, где выводы коллег из другого цеха, изложенные к тому
же доступным языком, помогают автору прояснить его основной
тезис. В то же время историку вовсе не обязательно цитировать
нейробиологов во всех случаях, когда он работает с автобиогра¬
фической памятью. Итальянский устный историк Алессандро
Портелли, изучивший не менее впечатляющий пример ложных
воспоминаний у жителей Рима в связи с массовыми казнями в Ар-
деатинских пещерах в 1944 г., к когнитивной психологии не об¬
ращался вовсе. В его работе анализируется очередной конфликт
между свидетелем, убежденным, что знает причины массовых
казней, и историком. Информанты Портелли твердо убеждены,
что в казнях виноваты партизаны: «...[партизаны] бросили бомбу,
а потом попрятались. А немцы их искали. Помню, весь город был
увешан листовками: “Если виновные сами сдадутся властям, мы
не станем применять репрессалии. Если же они не объявятся, мы
уничтожим за каждого убитого немца десять итальянцев”» Пор¬
телли 2005). Между тем исследователю точно известно, что ника¬
ких листовок вообще не было.
Портелли не ищет объяснений этому противоречию в процес¬
сах, протекающих в коре головного мозга свидетеля. Его интер¬
претация ложных воспоминаний строится на изучении четырех
взаимосвязанных составляющих памяти об Ардеатинских пещерах:
истории, мифа, ритуала и символа. Мифологическая версия этого
события, с точки зрения Портелли, столь сильна именно потому,
что связана с множеством до сих пор неразрешенных вопросов
о прошлом: «Италия — единственная страна, где через пол века
после трагедии все еще не утихают споры о том, кем же были борцы
за свободу — героями или преступниками; единственная страна,
где обсуждается вопрос, преступление это или нет — бросать бомбу
в марширующую колонну связанных с СС полицейских войск вра¬
жеской оккупационной армии», — пишет Портелли (Портелли 2005).
20
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
На примере работ Вельцера и Портелли хорошо видно, как
авторы, работающие со схожими сюжетами, включающими в себя
феномен ложного воспоминания, с одним и тем же видом источ¬
ников — интервью свидетелей, по-разному решают вопрос,
нуждается ли функционирование автобиографической памяти
в объяснениях нейробиологов, или историку достаточно тех ин¬
струментов, которые способна предложить ему его собственная
дисциплина. Этот выбор двух исследователей возвращает нас к во¬
просу о том, в какой мере понятие «память» является для историка
«просто метафорой». Ответ на него не может быть однозначным
или данным раз и навсегда. Выносить суждение о пользе или вреде
нейробиологии, психологии и т. п. дисциплин для исторической
работы можно только исходя из поставленного в каждом конкрет¬
ном случае исследовательского вопроса. Делая выбор в пользу того
или иного подхода, важно лишь помнить, что чем дальше иссле¬
дование уходит от изучения памяти-свидетельства к изучению
разных форм коллективной памяти, тем больше опасность, о ко¬
торой предупреждал Канстайнер: перенести объяснения, предла¬
гаемые специалистами по индивидуальной памяти, в сферу кол¬
лективных представлений о прошлом.
Сам Канстайнер писал: «...хотя коллективная память не имеет
органической основы и не существует в буквальном смысле, хотя
она и включает индивидуальную агентность, понятие “коллектив¬
ная память” не просто метафора. Коллективная память проистекает
из разделенной коммуникации о значении прошлого, закреплен¬
ном в жизненном мире индивидов, которые принимают участие
в общественной жизни соответствующего коллектива» (Kansteiner
2002: 185).
Понятие «коллективная память», переоткрытое вместе с рабо¬
тами Хальбвакса в 1980-х, довольно быстро перестало устраивать
большинство исследователей вследствие своего антииндивидуа¬
лизма. Как последовательный дюркгеймианец Хальбвакс понимал
под коллективной памятью коллективно разделяемые репрезента¬
ции прошлого, но при этом настаивал на том, что индивидуальная
память полностью социально детерминирована, а потому отдельный
человек не имеет значения для истории коллективной памяти. Пы¬
таясь преодолеть этот крайний социологизм, историки принялись
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
21
изобретать собственные альтернативные понятия: «историческая
память», «культурная память», «социальная память», «публичная
память» и даже «постпамять». Такая неопределенность основного
понятия, а также многообразие конкурирующих интерпретаций
при отсутствии собственного метода служат одним из главных ос¬
нований критики memory studies (Kansteiner 2002). С другой стороны,
раздаются голоса, утверждающие, что понятие «память» не способно
добавить в исторические исследования ничего нового по сравнению
с такими классическими понятиями, как «миф», «обычай», «тради¬
ция» и «историческое сознание» (Gedi, Elam 1996).
Делая первые шаги в сложном поле изучения памяти, начина¬
ющий исследователь, таким образом, сразу же сталкивается с про¬
блемой выбора между десятком уточняющих прилагательных к су¬
ществительному «память». В следующих главах будет подробно
рассказано о таких наиболее влиятельных концепциях, как «кол¬
лективная память» и «культурная память», и вскользь — о многих
других. Пока же следует подчеркнуть, что, хотя без выбора не обой¬
тись, не следует делать его механически или торопиться с ним.
Выбирая между обаянием классической «коллективной памяти»,
овеянной славой почти вековой традиции, «культурной памятью»,
с немецкой основательностью снабженной супругами Ассман слож¬
ными теоретическими обоснованиями, или, скажем, ни к чему не
обязывающей «исторической памятью», следует помнить, что вы
выбираете себе не просто знамя, но предмет исследования, инстру¬
менты, а также союзников и противников.
«Мемориальный бум»
Начиная с 1980-х гг. понятие «память» оказалось в центре вни¬
мания различных социальных и гуманитарных дисциплин. Волне
исследований в этой сфере положили начало два литературных
события: книга американского историка Йозефа Ерушалми «Захор:
еврейская память и еврейская история» (1982) и предисловие
французского историка Пьера Нора «Между памятью и историей»
к антологии «Места памяти» (1984). Оба автора противопоставляли
память истории как принципиально иной способ обращения
22
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
с прошлым. Десять лет спустя, в 1992 г. немецкий египтолог Ян
Ассман в книге «Культурная память. Письмо, память о прошлом
и политическая идентичность в высоких культурах древности»
мог уже довольно уверенно утверждать: «По всем признакам по¬
хоже, что вокруг понятия воспоминания складывается новая па¬
радигма наук о культуре, благодаря которой разнообразнейшие
феномены и области культуры — искусство, литература, политика
и общество, религия и право — предстают в новом контексте»
(Ассман Я. 2004: 11).
Выйдя за пределы академического мира, память превратилась
в повод и орудие для конфликтов как в рамках локальных сооб¬
ществ, так и за их пределами — внутри обществ, государств, на
арене международной политики и т. д. В 2002 г. Нора, один из
интеллектуалов, несущих ответственность за «мемориальный
бум» в гуманитарных науках, констатировал наступление эпохи
«всемирного торжества памяти». Приметами времени для него
стали:
• критика официальных версий истории и возвращение на
поверхность вытесненных составляющих исторического
процесса;
• возвращение репрессированной памяти сообществ, народов
и отдельных индивидов, чья история игнорировалась, скры¬
валась или уничтожалась;
• развитие генеалогических изысканий и семейных историй;
• активная организация всяческих мемориальных меропри¬
ятий;
• юридическое сведение счетов с прошлым;
• рост числа разнообразнейших музеев;
• бурное развитие «индустрии наследия»;
• повышенная чувствительность к созданию архивов и от¬
крытию доступа к документам;
• повышенное внимание к темам травмы, горя, эмоций,
аффектов, терапии и т. д. (Нора 2005).
Размышляя о причинах популярности исследований памяти,
ученые предлагают очень разные, иногда диаметрально противо¬
положные объяснения. Как правило, говорят не об одном каком-то
факторе, а о сочетании причин как минимум трех уровней:
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
23
• дисциплинарных, относящихся к ситуации внутри акаде¬
мического мира, общему состоянию гуманитарных наук
и вызовам постмодерна;
• социальных, связанных с радикальными изменениями
структуры общества эпохи глобализации и постколониа¬
лизма;
• медийных, коль скоро технический прогресс создал иллю¬
зию всеобщего доступа к памяти и опротестовал положение
историков как единственных экспертов по прошлому.
Дисциплинарные объяснения популярности memory studies,
исходящие из развития гуманитарного знания, связаны с основ¬
ными вызовами и кризисами второй половины XX в. Появление
понятия «память» в повестке гуманитарных дисциплин можно
рассматривать в качестве реакции на разрушительную критику
истории как способа постижения прошлого в его тотальности со
стороны структурализма, постструктурализма, постмодернизма,
деконструктивизма и постистории. Появление памяти как одного
из ключевых концептов нового историцизма совпадает со станов¬
лением новой культурной истории, ставшей ответом на разно¬
образные вызовы постмодерна (Klein 2000). Алон Конфино в 1997 г.
в статье «Коллективная память и культурная история: проблемы
метода» прямо утверждал, что «понятие “память” заняло место
главного термина, в последнее время, возможно, самого важного
термина в культурной истории». Размышляя об истоках такого по¬
ворота, он сравнивал интеллектуальную моду на память с модой
1970-х на исследования ментальностей, находя между ними много
общего (Confino 1997).
Американский историк Патрик Хаттон считает эту взаимосвязь
еще более явной. С его точки зрения, интерес историков к проблеме
памяти берет свое начало именно в работах по истории коллек¬
тивных ментальностей. Занимаясь исследованиями народной куль¬
туры, местных нравов и обычаев, структурой мышления и повсед¬
невности, историки, вследствие связи всех этих тем «с инертной
силой прошлого», так или иначе подходили к «вопросу о характере
и ресурсах коллективной памяти» (Хаттон 2003: 34).
Немецкая исследовательница Алейда Ассман предлагает другую
генеалогию memory studies. Возникновение и быстрый рост
24
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
популярности категории коллективной памяти она интерпретирует
как ответ на критику идеологий 1960-1970-х гг., рассматривавшую
использование образов и репрезентаций (в том числе, образов
прошлого) исключительно в негативном ключе как средство вну¬
шения «ложного сознания». Смена парадигм, связанная с новыми
категориями — «социальное воображаемое» (Жак Лакан), «вооб¬
ражаемое сообщество» (Бенедикт Андерсон) и «коллективная па¬
мять», привела к нормализации этих явлений. «Вместо критиче¬
ского отношения к образам как преимущественно средствам
манипуляции, — пишет Ассман, — пришло сознание необходимости
для человека обращаться к образам и коллективной символике.
Ментальные, материальные и медиальные образы выполняют важ¬
ную функцию, когда сообщество хочет выработать некое пред¬
ставление о самом себе» (Ассман А. 2014: 27-28).
Ассман специально подчеркивает, что предпосылкой для смены
парадигм был отнюдь не постмодернистский релятивизм с его
«отказом от презумпции рациональности и моральной ответствен¬
ности» (Ассман А. 2014:28). Канстайнер, напротив, утверждает, что
концепция памяти стала ответом немногим оставшимся постмо¬
дернистским критикам, поскольку на конкретных примерах по¬
казывает, как именно работают репрезентации и чем может быть
объяснена их власть. Его собственное объяснение популярности
понятия «память» среди исследователей включает также социаль¬
ную значимость этой сферы: выступая в качестве «экспертов по
памяти», ученые наконец-то могут ощутить себя гражданами, раз¬
деляющими с другими ношу современного кризиса коллективной
памяти (Kansteiner 2002:179-180).
«Решающей причиной» популярности memory studies социаль¬
ного порядка Ян Ассман, автор одного из самых влиятельных
исследований о культурной памяти, назвал уход поколения оче¬
видцев «тяжелейших в анналах человеческой истории преступле¬
ний и катастроф». «Экзистенциальная суть» повального увлечения
темой памяти и воспоминания, с его точки зрения, заключается
в том, что, переходя естественный рубеж, когда живое воспомина¬
ние свидетеля оказывается под угрозой исчезновения, общество
сталкивается с потребностью выработки «культурных форм памяти
о прошлом» (Ассман Я. 2004: 11-12).
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
25
О социальных причинах «мемориального бума» рубежа 1980-
1990-х гг. можно говорить в самом широком смысле. Так, интерес
к прошлому можно связать с тремя широкими социальными дви¬
жениями: студенческими волнениями 1960-х гг., когда молодежь
разных стран начала задавать вопросы о «неудобном» прошлом
своих отцов; подъемом антиколониальной борьбы, которая бросила
вызов господствующим нарративам, и возрождением подавленных
националистических движений по обе стороны железного занавеса
(Verovsek 2016:1-2).
Нора связывал «мемориальный бум» с двумя общемировыми
процессами — «ускорением истории» (Даниэл Галеви) и деколо¬
низацией. Потеряв представления о телеологии истории (во всех
трех возможных ее вариантах: будущем как реставрации про¬
шлого, как прогрессе или как революции), эпоха постмодерна, по
мнению Нора, потеряла знание о том, что из прошлого должно
сохраняться в настоящем. Результатом этой неопределенности
стало навязчивое желание «благоговейно и неразборчиво» со¬
хранять «любые видимые знаки и материальные следы, которым
предстоит (может быть) стать свидетельствами того, что мы есть
или чем мы были». Ощущение утраты привело к доминированию
памяти над историей, экстенсивному расширению смысла самого
понятия памяти при параллельном практически неконтролиру¬
емом увеличении количества институтов, отвечающих за нее, —
музеев, архивов, библиотек, коллекций и банков данных (Нора
2005).
Перечисляя приметы утраты (послевоенная индустриализация
и урбанизация «смели в ураганном порыве целый набор традиций,
пейзажей, ремесел, обычаев, жизненных укладов»), французский
историк не переходил к обобщениям. Его объяснения остаются
галлоцентричными и вращаются вокруг переживаемых Францией
с 1975 г. последствий «экономического кризиса, постголлизма
и исчерпанности революционной идеи» (Нора 2005). Между тем
другие исследователи говорят о популярности памяти в связи
с концом культурной традиции модерна. Я. Ассман так пишет об
этом: «...на нашу собственную культурную традицию нередко смо¬
трят теперь с позиций “посткультуры” (Джорж Стайнер), где нечто
завершившееся — это то, что Никлас Луман называет “старой
26
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Европой”, — продолжает жить лишь как предмет воспоминания
и комментирующей обработки» (Ассман Я. 2004: 11).
Деколонизация, выразившаяся в освобождении народов, этно¬
сов, групп и отдельного человека, вызвала к жизни потребность
в утверждении собственной идентичности через обращение к про¬
шлому. Возникающая в самых разных формах память меньшинств
приходит в противоречие с памятью наций и даже ставит под со¬
мнение возможность «коллективной памяти». Память, в отличие
от истории, всегда принадлежавшей власть имущим, по мнению
Нора, «обладает новым престижем демократичности и протеста»
(Нора 2005). Социолог Барри Шварц также объяснял интерес к со¬
циальному конструированию прошлого кризисом историописания:
в рамках идей мультикультурализма историческая наука стала
восприниматься как инструмент доминирования господствующих
классов, потому ее понимание прошлого было поставлено под со¬
мнение во имя интересов репрессированных групп (Schwartz 1996).
Наконец, исследователи говорят о влиянии технической рево¬
люции, связанной с появлением новых средств электронной фик¬
сации, хранения и воспроизводства информации, а следовательно
искусственной памяти, на «мемориальный бум». Любое событие
в настоящем сегодня оценивается как «будущее прошлое», достой¬
ное фиксации, точно так же как история жизни любого человека.
Все это сопровождается развитием масс-медиа, электронных медиа
и социальных сетей. Уже в 1988 г. французский историк, предста¬
витель школы «Анналов» Жак Ле Гофф в книге «История и память»
писал о «революции памяти», произошедшей после 1950-х гг., в ко¬
торой появление компьютера и электронной памяти лишь одно из
явлений, хотя и «наиболее впечатляющее» (Ле Гофф 2013:124).
Институциональное развитие memory studies
и кризис направления
Успех любого направления исследований можно измерить уров¬
нем его институционализации: появлением специализированных
журналов, университетских курсов, ассоциаций исследователей
и т. п. Современный уровень институционализации memory studies
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
27
свидетельствует о несомненном триумфе этой области исследова¬
ний в качестве отдельной научной дисциплины. В интересе к ней
сходятся историки, социологи, искусствоведы и литературоведы,
философы, психологи и нейрофизиологи. Описывая состояние этого
исследовательского поля в 2009 г., американский социолог Джеффри
Олик иронизировал по поводу «библиографической мегаломании»:
если десять лет назад, будучи молодым доцентом, он покупал все
книги, так или иначе имевшие отношение к коллективной памяти,
то теперь такой образ действий разорит самого высокооплачива¬
емого профессора (Olick 2008).
Важным знаком становления memory studies стало основание
в 1989 г. журнала “History and memory” Тель-Авивского универси¬
тета. Интерес редакции в основном сосредоточен на исследованиях
памяти о Холокосте, нацизме, расизме, апартеиде, войнах и со¬
циальных конфликтах. В журнале в первую очередь представлены
исследования конкретных кейсов, преимущественно относящихся
к истории XX в., при минимальном внимании к самой дисциплине
memory studies и ее теоретическим основаниям.
28
Голосов Г. В. Сравнительная политология: учебник
Огромное количество публикаций под знаменем memory studies,
авторы которых обращались к самым разным предметам, исполь¬
зуя всевозможные подходы и методы, не спасло это направление
от нараставшей волны критики, вылившейся в начале 2000-х в при¬
знание кризисного состояния дисциплины. Этот «критический»
период, начавшийся в середине 1990-х и продолжающийся до сих
пор, некоторые исследователи выделяют в качестве третьей волны
memory studies (Feindt et al. 2014). В отличие от первой волны 1920-
1940-х гг., связанной с именами Мориса Хальбвакса, Аби Варбурга,
Вальтера Беньямина и Фредерика Бартлетта, а также немногих их
последователей (Erll 2011:4-5), и второй волны 1980-х гг., для тре¬
тьей волны характерно внимание к теоретическому осмыслению
проблематики памяти, сопровождающемуся бурным институцио¬
нальным развитием дисциплины.
Уже в 1995 г. исследовательница современной американской
памяти Барби Зелизер в статье с характерным названием «Читая
прошлое против шерсти: положение исследований памяти» зада¬
валась вопросом о будущем концепции коллективной памяти. С ее
точки зрения, это исследовательское поле выросло слишком быстро
и стало слишком большим, включив в себя «все мысли, чувства
и действия по поводу прошлого, которые не изучает традиционная
история». Она писала о «трудностях двух видов»: неопределен¬
ности предмета и отсутствии ясной концепции. По ее мнению,
у исследователей до сих пор нет позитивного определения коллек¬
тивной памяти, позволяющего судить о природе изучаемого явле¬
ния. Коллективная память описывается через противопоставление
памяти индивидуальной, следовательно, ученые выносят суждения
лишь о том, чем такая память не является, а не о том, что она такое
(Zelizer 1995: 234-235).
Одним из наиболее часто цитируемых критических текстов
рубежа 1990-2000-х гг. является статья Конфино «Коллективная
память и культурная история: проблемы метода» (1997). Амери¬
канский историк перечислял темы недавних исследований своих
коллег («Монументы. Фильмы. Музеи. Микки Маус. Память амери¬
канского Юга. Холокост. Французская революция. Память о недав¬
них событиях. Память о текущих происшествиях. Непосредствен¬
ное воспоминание о вчерашних новостях»), чтобы констатировать
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
29
фрагментарность исследовательского поля, не имеющего «ни цен¬
тра, ни связи между темами» (Confino 1997: 1388). Отсутствие
сколько-нибудь общего понимания, что следует подразумевать под
понятием «память», а также отсутствие собственной методологии,
с его точки зрения, делают результаты исследований этой области
описательными и предсказуемыми. Историки, увлекаясь описанием
процесса конструирования памяти, упускают из виду общество,
в котором эта память существует. Они либо описывают многооб¬
разие конкурирующих версий одного и того же события (А. Руссо
«Синдром Виши: история и память во Франции после 1944 года»),
не объясняя того, каким образом конфликт репрезентаций про¬
шлого не раскалывает общество, либо, напротив, рассматривают
память как нечто гомогенное, игнорируя составляющие ее проти¬
воречивые суждения о прошлом (Й. Зарубавель «Восстановленные
корни: коллективная память и создание национальной традиции
Израиля»).
Год спустя Джеффри Олик и Джойс Роббинс в статье «Социаль¬
ные исследования памяти: от “коллективной памяти” к историче¬
ской социологии мнемоники» не менее критично утверждали, что
эта область исследований непарадигматична, междисциплинарна
(что в данном случае не было комплиментом) и к тому же не имеет
центра. В статье под сомнение было поставлено само существова¬
ние memory studies как специфического исследовательского поля
(Olick, Robbins 1998). Через одиннадцать лет, повторяя свои аргу¬
менты в статье с симптоматичным названием «Между хаосом и раз¬
нообразием: являются ли исследования памяти полем?», Олик
сформулировал ответ на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя
из понимания исследовательского поля. С его точки зрения, ис¬
следовательское поле включает в себя такие сложные составляющие,
как уровень, метод, объект анализа, а также институциональная
структура, способная этот анализ организовать, и критерии оценки
результатов. Оценивая уровень развития memory studies, Олик спра¬
ведливо удивлялся тому факту, что исследователи-гуманитарии
по-прежнему считают необходимым доказывать свое право на
изучение памяти, апеллируя к трудам Хальбвакса. В отличие от
этого кажущегося методологического единства, множество объ¬
ектов исследования, а также применение большого числа самых
30
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
разных концепцией, подходов, многообразие вопросов, которые
можно изучать под знаменем «памяти», являются для Олика «сиг¬
налами неустойчивости поля». Особенно это заметно, когда пред¬
меты и практики, формы и функции памяти изучаются изолиро¬
ванно друг от друга, без попыток понять их взаимосвязи.
Размышления Олика по поводу институционального уровня
развития memory studies приводят его к закономерному вопросу
о том, почему вообще необходимо объявлять какую-то интересную
тему исследования или слабо связанные между собой вопросы «на¬
правлением». В его интерпретации, это желание в той же мере
связано с устройством академии, сколько с потребностями самих
исследователей. Направление нуждается в институциональной
и организационной структуре для своего развития. За пределами
конференций, симпозиумов и социальных связей, на уровне уни¬
верситета ученые все еще нуждаются в «более значительных ин¬
теллектуальных основаниях, чем простое желание воображаемого
сообщества», чтобы «отважиться» просить декана факультета об
отдельной программе или «набраться наглости» и прийти к ректору
с идеей создания отдельного «факультета исследований памяти»
(Olick 2009).
Канстайнер, пытаясь найти «смысл» в исследованиях памяти,
обратил внимание на игнорирование многими исследователями
медийной составляющей этого феномена. Поскольку речь идет
о поиске смысла прошлого, помещенного в определенный куль¬
турный контекст, коллективная память по природе своей всегда
опосредованна, она представляет собой «мультимедийный коллаж».
Историки, обращаясь к изучению монументов, текстов, изображе¬
ний, коммеморативных практик или ландшафтов, фокусируются,
как правило, на одной медийной составляющей процесса воспо¬
минания, игнорируя прочие. Другая проблема, с его точки зрения,
заключается в том, что, сосредоточившись на репрезентациях про¬
шлого, исследователи упускают из вида центральную роль человека
в истории как создателя репрезентаций. «Формальные и семанти¬
ческие качества исторических репрезентаций могут иметь мало
общего с намерениями их авторов, и ни предмет исследования, ни
его автор не могут быть хорошими индикаторами последующего
процесса рецепции», — пишет он (Kansteiner 2002: 180).
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
31
Ответом на сомнения в существовании memory studies как само¬
стоятельного исследовательского поля, а также на явно обозначив¬
шийся методологический кризис стало основание в 2008 г. журнала
“Memory studies”. В его редакционный совет вошли многие из тех,
кто высказывал свое недовольство состоянием исследований: Эн¬
дрю Хоскинс, Вульф Канстайнер, Джон Саттон и др. В редакционной
статье первого номера журнала они подчеркнули, что главной своей
задачей видят облегчение «диалога или дебатов о теоретических,
эмпирических и методологических задачах, ключевых для совмест¬
ного понимания памяти сегодня» (Hoskins, Bamier, Kansteiner, Sut¬
ton 2008: 5).
Продолжением процесса институционализации memory studies
является учреждение в декабре 2016 г. Ассоциации исследований
памяти (The Memory Studies Association). В статье, посвященной
этому событию, Джеффри Олик, Алина Сирп и Дженни Вюстенберг
напомнили читателям о том, что при создании журнала “Memory
studies” в 2008 г. эта область исследований все еще была новой,
тогда как сегодня она «больше не новичок, но, к счастью, пока еще
недовольна собой». С их точки зрения, давние обвинения в «не-
парадигматичности» сегодня едва ли справедливы с интеллекту¬
альной точки зрения, но все еще основательны, если говорить об
институциональном аспекте существования memory studies как
самостоятельного поля. Хотя за последние 20 лет неоднократно
предпринимались попытки создания различных ассоциаций и се¬
тей, все они были фрагментарны, замкнуты на отдельных регионах,
к тому же многие из них прекратили свое существование, про¬
державшись лишь несколько лет. Новая ассоциация ставит своей
целью объединить существующие сети и группы, а также создать
площадку для практически ориентированных исследователей и по¬
литиков.
Достижение этой цели включает в себя следующие задачи:
• выход за рамки евро- и американоцентризма, расширение
географии исследований памяти, для чего предполагается
проводить конференции в разных частях мира, а также обе¬
спечить открытый онлайн-доступ к ресурсам ассоциации;
• выход за рамки академии, привлечение политиков, худож¬
ников и практиков;
32
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
• выход за дисциплинарные границы, взаимодействие с пред¬
ставителями естественных наук;
• привлечение ученых из «родственных» полей, таких как
исследования исторического наследия, устная история,
транснациональная юстиция, архивоведение и т. д.;
• представление интересов memory studies как профессио¬
нального сообщества, включая создание возможностей для
карьерного продвижения и поддержку начинающих ис¬
следователей;
• увеличение видимости исследовательского поля для спон¬
соров, как государственных, так и частных;
• участие в качестве экспертов в политических дискуссиях
сегодняшнего дня (Olick et al. 2017).
Вопреки давним опасениям Олика, многие университеты не
расценивают претензии на создание специальных программ по
memory studies как «наглость». Простой поиск в Google сегодня дает
по запросу “memory studies program” несколько сотен результатов,
правда и в этом случае в названиях программ «культурная память»
соседствует с «социальной памятью» и т. д. Вопрос о том, станет ли
возможен когда-нибудь отдельный факультет исследований па¬
мяти, — это в первую очередь вопрос к читателям этого учебного
пособия, выбирающим (или не выбирающим) memory studies в ка¬
честве предмета для своего исследования. Для того чтобы ответить
на вопрос, преодолен ли кризис в исследованиях памяти, конста¬
тированный многими критиками этого направления, необходимо
выполнить задания 4-6.
Основные черты (коллективной) памяти
Следующие главы учебника посвящены подробному разбору
основных концепций памяти, важных книг и больших исследова¬
тельских вопросов. Для того чтобы читатель не потерялся в много¬
образии определений и интерпретаций, следует сформулировать
несколько основных тезисов о природе (коллективной) памяти,
которые в дальнейшем могут послужить ориентирами в океане
литературы, посвященной рассматриваемой проблематике. Нельзя
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
33
сказать, что все они являются бесспорными, но, по крайней мере,
большинство исследователей согласно с тем, что:
• (Коллективная) память является социокультурной конструк¬
цией. Это значит, что она сохраняет не аутентичное прошлое,
а только его версию, принятую сообществом и служащую
средством достижения определенных целей, например
создания идентичности;
• (Коллективная) память функциональна. Социальные группы
сохраняют память о прошлом, преследуя различные цели.
Как правило, речь идет о том, чтобы определить границы
сообщества, сформировать представление о себе по кон¬
трасту с «другими» и заново утвердить существующий со¬
циальный порядок;
• Создание (коллективной) памяти — это постоянный, раз¬
нонаправленный процесс. (Коллективная) память не суще¬
ствует в раз и навсегда застывшем виде, она постоянно
подвергается трансформациям. Изменения (коллективной)
памяти нелинейны, нерациональны и далеко не всегда под¬
чинены какой-то логике. Новые события и идеи влияют на
восприятие прошлого, а схемы интерпретации прошлого
определяют понимание настоящего;
• Изучение (коллективной) памяти должно быть конкрети¬
зировано. (Коллективная) память — это концепция, имею¬
щая дело с довольно абстрактными идеями. Для того чтобы
она стала функциональной, необходимо выбрать конкрет¬
ный объект анализа и поставить такие исследовательские
вопросы, для ответа на которые эта концепция действительно
будет полезна.
34
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Перечитайте еще раз отрывок из выступления R Козеллека о его не¬
приятии концепции коллективной памяти. Приведите аргументы в под¬
держку его мнения и против него. Комментарий к этому выступлению
А.Ассман можно найти в ее книге «Новое недовольство мемориальной
культурой» (Ассман А. 2016:17-24).
2. Прочитайте статьи X. Вельцера и А. Портелли. Можно ли использовать
аргументы одного для интерпретации кейса второго? Придумайте три
темы исследования, в которых заимствования из психологии и нейроби¬
ологии будут оправданны, и три, где понятие «память» будет выступать
исключительно в роли метафоры.
3. Среди аргументов, с помощью которых А. Портелли объясняет ложные
воспоминания, есть утверждение об уникальности опыта Италии, «где
через полвека после трагедии все еще не утихают споры о том, кем
же были борцы за свободу - героями или преступниками». Согласны
ли вы с ним? Можете ли вы привести свои аргументы за и против
этого мнения? Если вы затрудняетесь с примерами, прочитайте статью
Ж. Корминой и С. Штыркова «Никто не забыт, ничто не забыто. История
оккупации в устных свидетельствах».
4. Продолжается ли до сих пор «эра коммеморации»? Приведите несколько
примеров событий, произошедших за последний год в стране / в вашем
городе, которые можно интерпретировать как приметы «мемориального
бума».
5. Посетите сайты журналов “History and Memory" (www.jstor.org/journal/
histmemo) и “Memory Studies” (http://journals.sagepub.com/home/mssa).
Выскажите суждение о том, как за последнее десятилетие изменилась
повестка memory studies.
6. Посетите сайт ассоциации исследователей памяти “Mnemonics” (www.
mnemonics.ugent.be), ознакомьтесь с темами всех проведенных летних
школ. Придумайте пять тем исследований, с которыми можно поехать
на встречу следующего года.
7. Преодолен ли кризис memory studies, констатированный исследователями
на рубеже 1990-2000-х гг.? Приведите аргументы за и против. Напишите
короткое эссе о том, является ли кризис «нормальным» состоянием
современного гуманитарного знания, используя в качестве примера
любое исследовательское поле.
Глава 1. Memory studies как исследовательское поле
35
8. Прочитайте статью Б. Зелизер «Читая прошлое против шерсти: со¬
стояние исследований памяти», чтобы продолжить список основных
черт (коллективной) памяти. Какие из выделенных ею пунктов кажутся
вам наиболее важными? Какие можно пропустить?
9. Посетите сайт “The Memory Studies Association” (https;//www.memorystud-
iesassociation.org/). О чем свидетельствует создание такой организации?
Посмотрите полный список состоящих в ассоциации центров и ис¬
следовательских групп. Можно ли по их географии и названиям судить
о современном состоянии memory studies как исследовательского поля?
Для чтения:
Вельцер X. (2005). История, память и современность прошлого. Память
как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. № 2-3 (40-41).
URL: http;//magazines.russ.ru/nz/2005/2/vel3.html; дата доступа 07.09.2018.
Кормина Ж., Штырков С. (2005). Никто не забыт, ничто не забыто. История
оккупации в устных свидетельствах// Неприкосновенный запас. № 2-3
(40-41). URL: http//magazines.russ.ru/nz/2005/2Aorml5.html; дата доступа
07.09.2018.
Портелли А. (2005). Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история,
миф, ритуал, символ // Неприкосновенный запас. № 2-3 (40-41). URL:
http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/po27.html; дата доступа 07.09.2018.
KansteinerW. (2002). Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique
of Collective Memory Studies // History and Theory. Vol. 41. No. 2. P. 179-197.
Radstone S. (2008). Memory studies: For and against // Memory Studies.
Vol. 1.No. 1. P.31-39.
Zelizer B. (1995). Reading the Past Against the Grain: The Shape of Memory
Studies//Critical Studies in Mass Communication. Vol. 12. No 2. P. 215-239.
Глава 2
Коллективная память.
Морис Хальбвакс и «социальные
рамки памяти»
Отец-основатель?
В недавней статье «Исследования Хальбвакса в коллективной
памяти: текст-основание для современных исследований памяти?»
французский социолог Сара Женсбуржер приводит впечатляющую
статистику самых цитируемых авторов по запросу “memory studies”
в поисковой системе Google Scholar на 20 августа 2015 г. (Gensburger
2016: 398).
Первое ключевое слово
Второе ключевое
слово
Результат
memory studies
-
24 000
memory studies
Halbwachs
3 160
memory studies
Nora
2 780
memory studies
Olick
2 050
memory studies
Bartlett
1 370
memory studies
Ricoeur
1070
memory studies
Kansteiner
993
memory studies
Sutton
974
memory studies
Assmann
870
memory studies
Stevens
745
memory studies
Hutton
551
Глава 2. Коллективная память
37
Большинство упомянутых в таблице авторов мы уже встречали
и главе 1, а о французском историке Пьере Нора и немецких куль¬
турологах Яне и Алейде Ассман специально поговорим в отдельных
главах. Показательно однако, с каким отрывом лидирует Морис
Хальбвакс, написавший свою самую цитируемую работу почти сто
лет назад.
Морис Хальбвакс родился в 1877 г. в Реймсе в семье эльзасско-
немецкого происхождения. Он закончил Высшую нормальную
школу в Париже (Ecole Normale Superieure), учебное заведение,
выпустившее целую плеяду ученых, определявших повестку дня
гуманитарных наук на протяжении целого столетия. На интерес
Хальбвакса к коллективной психологии оказали наибольшее вли¬
яние, хотя и по-разному, философ Анри Бергсон и социолог Эмиль
Дюркгейм. Первый был его учителем философии в старших классах
в лицее Генриха IV в Париже. Позднее Хальбвакс дистанцировался
от Бергсона. Его первая значительная работа о коллективной памяти
«Социальные рамки памяти» (“Les cadres sociaux de la memoire”,
1925) полностью построена на критике идей, высказанных его быв¬
шим учителем в книге «Материя и память» (“Matiere et memoire”,
1896).
В 1904 г. Хальбвакс познакомился с идеями Дюркгейма и при¬
соединился к группе, сложившейся вокруг журнала «Социологиче¬
ский ежегодник» (“L’Annee Sociologique”). Этот ученый входит
в число представителей французской социологической школы,
поставившей в центр своих исследований «коллективные пред¬
ставления» (термин, предложенный Дюркгеймом), т. е. коллектив¬
ные чувства и идеи, которые обеспечивают единство и сплоченность
социальной группы и создают социальную солидарность. В период
между двумя мировыми войнами Хальбвакс был интеллектуальным
лидером кружка французских ученых, унаследовав место главы
французской социологической школы после смерти Дюркгейма
в 1917 г. В своих политических взглядах он был последовательным
социалистом и поклонником идей Жана Жореса.
В 1919 г. Хальбвакс стал профессором социологии в Страсбурге,
в новом университете, оказавшем огромное влияние на француз¬
скую интеллектуальную мысль XX в. Одновременно с Хальбваксом
там работали Марк Блок и Люсьен Февр, в 1929 г. был издан первый
38
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
номер знаменитого журнала «Анналы экономической и социальной
истории» (“Annales d’histoire economique et sociale”), на долгие годы
определившего лицо исторической науки. Хальбвакс был членом
первой редколлегии «Анналов», представляя в ней социологов,
и опубликовал несколько статей и рецензий. Интеллектуальный
проект Блока и Февра, стремившихся расширить предмет истори¬
ческого познания и взглянуть на него поверх междисциплинарных
границ, в том числе используя достижения современной им со¬
циальной психологии, был близок к тем вопросам, которые зани¬
мали в это время самого Хальбвакса. Несмотря на близость к исто¬
рикам, по праву считающимся отцами-основателями исторической
науки нового типа, сам Хальбвакс был очень консервативен в по¬
нимании истории. Его взгляды на исторический процесс были
близки к позитивистской историографии второй половины XIX в.
с ее тяготением к большим нарративам.
С его точки зрения, история занимается только событиями,
ушедшими в прошлое, потерявшими живое свидетельство очевидца.
Она стремится к универсальности и эрудиции, теряя за описанием
процессов многие частности, сохраняемые памятью. «Мир истории
подобен океану, в который впадают все частные истории. Неуди¬
вительно, что в период возникновения исторической науки, и даже
во все периоды ее развития, было написано столько универсальных
историй. Такова естественная ориентация духа истории», — писал
он (Хальбвакс 2005). Объясняя это желание Хальбвакса разграничить
историю и память, Патрик Хаттон высказал гипотезу о дисципли¬
нарном соперничестве в страсбургском научном центре. Ученик
Дюркгейма, Хальбвакс разделял его представление о главенстве
социологии среди гуманитарных дисциплин. Настаивая на огра¬
ничении исследовательского поля исторической науки, он тем са¬
мым пытался сохранить близкие ему исследовательские вопросы
в качестве вотчины социологов. «Несмотря на предвидение им
многих проблем, на которые только через два поколения историков
будет обращено внимание, его собственное восприятие историче¬
ского метода оставалось основанным на анахронизмах Огюста
Конта», — пишет американский историк (Хаттон 2003: 196).
В 1937 г. Хальбвакс был приглашен в Париж, где стал профес¬
сором в Сорбонне. В 1944 г. он был избран профессором Коллеж
Глава 2. Коллективная память
39
Л с Франс по кафедре коллективной психологии. 26 июля 1944 г.
ученый был арестован гестапо за связь с Сопротивлением, заклю¬
чен в Бухенвальд, где умер 16 марта 1945 г.
Работы Хальбвакса были «переоткрыты» одновременно соци¬
ологами и историками в эпоху «коммеморативного бума». В 1980 г.
английская исследовательница Мэри Дуглас обратила внимание
па его последнюю книгу «Коллективная память», изданную по¬
смертно в 1950 г., и опубликовала ее перевод на английский язык.
Вскоре после этого социологи начали использовать предложенную
Хальбваксом теорию в качестве основы для своих собственных
работ по исследованию обрядов коммеморации (Zerubavel 1986;
Schwartz 1990 и др.).
Историки заново стали открывать для себя работы Хальбвакса
как автора, писавшего о бытовании памяти в устной традиции
и методах анализа форм устной коммуникации (Wachtel 1986;
Thompson 1988). Сегодня в рамках memory studies он известен как
автор понятия «коллективная память», а также первооткрыватель
политики памяти — благодаря его книге «Легендарная топография
Евангелий на Святой Земле, исследование коллективной памяти»
(“La Topographie legendaire des Evangiles en Terre Sainte; etude de
memoire collective”, 1941), новаторскому исследованию о станов¬
лении коммеморативного проекта, известного как «Святая Земля».
Несмотря на обильное цитирование работ французского со¬
циолога, все чаще раздаются голоса, ставящие под сомнение фигуру
Хальбвакса в роли отца-основателя дисциплинарного поля memory
studies. Например, Женсбуржер настаивает: хотя множество текстов,
посвященных памяти, сегодня начинается с упоминания Хальбвакса,
эти ссылки в действительности остаются формальными. «Едва ли
какая-нибудь современная работа, отдающая свой долг Хальбваксу,
в действительности цитирует его или эффективно использует его
тексты для дальнейшего эмпирического исследования. Этот фор¬
мализм чистой воды можно обнаружить по всему миру и во всех
дисциплинах, обращающихся к исследованиям памяти» (Gensburger
2016: 399). Для того чтобы ответить на вопрос, должен ли исследо¬
ватель, подобно множеству коллег, критикуемых Женсбуржер, на¬
чинать свою работу ссылкой на «Социальные рамки памяти», не¬
обходимо поближе познакомиться с идеями французского социолога.
40
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
«Социальные рамки памяти»: что читать
начинающему ученому?
Идеи Хальбвакса о «коллективной памяти» следует рассматри¬
вать на фоне интеллектуальных поисков его времени. На рубеже
XIX-XX вв. проблематика больших социальных групп оказалась
одним из главных вопросов гуманитарных наук, начиная с первых
работ Гюстава Лебона и Жана Габриэля Тарда о психологии масс
(«толп»). К терминам, которые использовались для обозначения
массовых психических феноменов уже во второй половине XIX —
начале XX в., таким как «формы общественного сознания»
(К. Маркс), «психология народов» (Г. Штейнталь, М. Лацарус, Г. Вайц,
B. Вундт, А. Фуйе), «психология масс» и «психология толп» (Ж. Г. Тард,
C. Сигеле, Г. Лебон), «коллективные представления» (Э. Дюркгейм,
М. Мосс, А. Юбер), в первой трети XX в. добавляются «ментальность»
(Л. Леви-Брюль, Ш. Блондель), «общественное мнение» (Ж. Г. Тард,
У. Липпман, Ф. Теннис), «групповое сознание» (У. Мак-Дугалл), «кол¬
лективное бессознательное» (К. Юнг) и т. д. (Савельева, Полетаев
2005: 170-220).
Определяющей для размышлений Хальбвакса стала статья
Дюркгейма 1898 г. «Индивидуальные и коллективные представле¬
ния». В ней основатель французской социологической школы также
обращался к феномену памяти, которая служила для него доказа¬
тельством существования «коллективных представлений». Отвер¬
гая исключительно физиологическую природу памяти как «орга¬
нического факта», он относил ее к области психической жизни.
Собственно, вопрос о «психической памяти» занимал его не сам
по себе, но как свидетельство существования индивидуальных
представлений. Для Дюркгейма важно было доказать, что пред¬
ставления способны сохраняться в сознании, а не возникают каж¬
дый раз заново, но при этом в определенной мере независимы от
него, поскольку зачастую остаются в области бессознательного.
Перенеся свои рассуждения об индивидуальных представлениях
в социальную сферу, Дюркгейм смог постулировать существование
коллективных представлений: «...коллективные представления,
порожденные действиями и противодействиями между элемен¬
тарными сознаниями, из которых состоит общество, прямо не
Глава 2. Коллективная память
41
нытекают из последних и, следовательно, выходят за их пределы».
Статья заканчивалась призывом создать новую отрасль социологии,
изучающую «законы коллективного существования идей» — кол¬
лективную психологию (Дюркгейм 1995).
Ответом на призыв стала работа Хальбвакса 1918 г. «Доктрина
Эмиля Дюркгейма», где он, реагируя на научный проект Дюркгейма,
продолжил развивать идею коллективной психологии, основанной
на изучении коллективного сознания. С его точки зрения, коллек¬
тивная психология способна объяснить, как мотивы, стремления
и эмоции соединяются в коллективные представления, хранящиеся
в памяти, которая является центральной точкой высших способ¬
ностей разума. В отличие от Дюркгейма, относившего социальную
память к области бессознательного, Хальбвакс постулировал три
основных тезиса:
• индивидуальная память социально сконструирована;
• существование коллективной памяти опосредовано группами
(семьей и социальными классами);
• существование «большой» коллективной памяти просле¬
живается на уровне обществ и цивилизаций.
Одна из самых известных работ Хальбвакса «Социальные рамки
памяти» начата им в 1921 г. и опубликована в 1925 г. Эта книга
переведена на русский язык в 2007 г. и вот уже более десяти лет
остается самой цитируемой работой Хальбвакса на русском языке.
Между тем неискушенный читатель, впервые берущий ее в руки
в надежде разобраться с тем, что такое «коллективная память» (и,
возможно, процитировать ее во введении к своей работе), будет
в немалой степени озадачен и смущен.
Во-первых, он не найдет определения основным категориям,
ради которых начинается подобное чтение, — ни памяти, ни кол¬
лективной памяти, ни социальным рамкам. Вместо этого ему будет
предложен текст, мало походящий на то, что мы сегодня предпо¬
лагаем встретить, открывая научную работу. Хальбвакс, в отличие
от тех работ, где он обращался к исследованию экономических
вопросов, выбирал для своих рассуждений о природе памяти язык,
полный метафор и недомолвок. Достаточно привести один пример,
чтобы подготовить читателя к тому, что его ожидает. В главе IV
«Локализация воспоминаний» он писал: «Чтобы воспоминания
42
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
поднимались, словно дичь перед охотником, лучший способ — бро¬
дить по горам и долам, по дорогам прошлого, то есть обследовать
целые периоды времени, углубляться в прошлое год за годом, ме¬
сяц за месяцем, день за днем и восстанавливать в памяти час за
часом все, что мы делали в такой-то день» (Хальбвакс 2007: 157).
Этот пример — один из многих, в которых яснее всего мысль автора
передается с помощью метафоры. Однако вообразить эту цитату
во введении к исследовательской работе молодого ученого довольно
трудно, разве что в качестве эпиграфа.
Во-вторых, память для Хальбвакса отнюдь не метафора (тут
надо вспомнить первую главу этого пособия). Его действительно
интересует работа человеческой памяти, он пишет о психомотор¬
ных состояниях и т. п., а также цитирует работы психологов своего
времени. Другое дело, что он переворачивает представления о при¬
роде воспоминаний, утверждая, что индивидуальной памяти не
существует. Человек не может вспомнить ничего без опоры на кон¬
текст, в основе которого лежит язык. «...Словесные конвенции об¬
разуют одновременно и самую элементарную, и самую устойчивую
рамку коллективной памяти», — писал он (Хальбвакс 2007: 118).
Глава 2. Коллективная память
43
Воспоминания обусловлены коммуникацией, т. е. могут формиро¬
ваться и закрепляться только через общение с другими людьми.
Коллективы не «обладают» памятью, но обусловливают память
своих членов. Поскольку большинство историков чаще используют
понятие «память» метафорически, возникает неразрешимое про¬
тиворечие между намерениями автора и тем, как хотят использо¬
вать его работу приверженцы концепции коллективной памяти.
Наконец в-третьих, молодому ученому будет совершенно не¬
доступен метод Хальбвакса. Книга, работа над которой продолжа¬
лась в течение четырех лет, в основном представляет собой резуль¬
тат самонаблюдения, фиксации своих снов и различных аберраций
памяти, а также рассуждений об особенностях работы памяти детей,
стариков и солдат Первой мировой войны, страдающих афазией.
Несколько дней назад в Форарльбергской долине я смотрел
на массив Фаллула около 6 часов вечера; зубчатые гребни гор
вырисовывались на фоне необыкновенно яркого неба, где
висели две-три розовые тучи. Внезапно я стал думать о гор¬
ном пейзаже, виденном в другой день, когда я возвращался
один с прогулки. Какое-то время я не мог связать этот пейзаж
с определенным местом, а потом представил себе, как наблюдаю
закатное небо такого же оттенка в Сен-Жерве, недалеко от
Бьонассейского перевала; я вспомнил, что несколько раз про¬
ходил через то место, и т. д. У меня было впечатление образа,
на миг повисшего в пустоте и почти в точности совпадавшего
с картиной, которая развертывалась теперь передо мной. Все
произошло так, словно воспоминание возникло у меня в душе,
не поддержанное никакими обстоятельствами времени, места,
среды; и мне понадобилось больше минуты, чтобы мысленно
перебрать места и моменты времени, где оно могло помещаться,
и вспомнить его рамку (Хальбвакс 2007: 155-156).
Все эти предупреждения отнюдь не означают, что «Социальные
рамки памяти» не следует читать пытливому начинающему уче¬
ному. Ему следует лишь вооружиться пониманием того, с работой
какого рода, выполненной в каком научном контексте и в каком
жанре, он имеет дело. В намерения Хальбвакса входило создать
44
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
труд по коллективной психологии, важный для социологов и со¬
циальных психологов. Он не планировал вооружать историков ни
методами, ни тезисами (в том числе, для ритуальных ссылок).
Поскольку Хальбвакс является одним из пионеров исследований
коллективной памяти, его идеи приходили в противоречие с ут¬
вердившейся к 1920-м гг. точкой зрения на природу человеческих
воспоминаний. В первую очередь поэтому его текст очень часто
выглядит подробным комментарием к влиятельной книге Анри
Бергсона, с которым автор «Социальных рамок памяти» непрерывно
был вынужден спорить. Описывая «Материю и память», Хальбвакс
также обращался к метафорам: «...образы прошлых событий в на¬
шем сознании предстают завершенными, как печатные страницы
книги, которые можно было бы раскрыть, пусть даже их уже не
раскрывают».
Основной тезис Бергсона заключается в том, что прошлое це¬
ликом остается в памяти человека и только особенности функци¬
онирования мозга мешают припоминать в малейших деталях со¬
бытия, очевидцем которых он был. Споря с этим утверждением,
Хальбвакс писал, что готовые образы содержатся не в памяти, а в
обществе: «...существует коллективная память и социальные рамки
памяти, и наше индивидуальное мышление способно к воспоми¬
нанию постольку, поскольку оно заключено в этих рамках и уча¬
ствует в этой памяти. <...> ...коллективные рамки памяти не об¬
разуются задним числом при сочетании индивидуальных
воспоминаний, но и не являются просто пустыми формами, в ко¬
торых откладываются приходящие извне воспоминания... они,
напротив, служат орудием, которым пользуется коллективная па¬
мять для воссоздания таких образов прошлого, какие в данный
период согласны с господствующими идеями данного общества»
(Хальбвакс 2007: 30).
Другим важным интеллектуальным вызовом был для Хальбвакса
психоанализ. Зигмунд Фрейд рассматривал воспоминания в каче¬
стве осознанных фрагментов психики. С точки зрения основателя
психоанализа, индивидуальная память хранит все, что когда-либо
происходило с человеком. Хотя многие травмирующие события
вытесняются из памяти, замещаясь ложными образами, изощрен¬
ный психоанализ способен дать доступ ко всему, что оказалось
Глава 2. Коллективная память
45
забыто. Особенное внимание в этой связи Фрейд уделял сновиде¬
ниям, видя в них фрагменты памяти, всплывающей на поверхность
из области бессознательного.
Реагируя на работы Фрейда, Хальбвакс поставил над собой экс¬
перимент: в течение четырех лет, начиная с 1920 г., он наблюдал
за своими снами, а также изучал опыт других людей, в том числе
пациентов самого Фрейда, чтобы констатировать, что «...во сне мы
неспособны заново переживать прошлое» и «...что хотя в наших
сновидениях и работают образы, весьма похожие на воспоминания,
но они попадают в эти сновидения лишь как фрагменты, разъятые
члены реально пережитых нами сцен» (Хальбвакс 2007: 67).
Эти размышления о природе сновидений и их связи с процес¬
сом воспоминания предваряют основной тезис Хальбвакса о за¬
висимости памяти от социальных рамок, в которые она помещена.
Многочисленные примеры снов, анализу которых, выполненному
почти с психоаналитической изощренностью, посвящены первые
две главы «Социальных рамок памяти», дают ученому возможность
проверить свою гипотезу на примерах, когда, по его собственному
объяснению, индивид максимально исключен из социума. Сны для
него — «...уникальная возможность измерить, какое расстояние
отделяет сознание, подчиняемое и дисциплинируемое всеми по¬
нятиями, что выработаны группой, от сознания, временно и ча¬
стично освобожденного от такого влияния» (Хальбвакс 2007: 87).
Для анализа социально обусловленной памяти Хальбвакс ис¬
пользует понятие «рамка» (cadre). Нигде не давая определения
рамке, он использует это понятие в двух разных смыслах. Более
простым для понимания является его описание рамки как ком¬
плекса пространственно-временных и социальных представлений,
опосредованных языком, позволяющего вспоминать по желанию
основные события прошлого (Хальбвакс 2007: 138). Приводя при¬
мер важности пространства — времени — языка как «ориентиров»,
делающих воспоминания устойчивыми, социолог писал: «...о пред¬
метах, виденных во время одинокой прогулки, мы сохраняем точ¬
ное воспоминание лишь постольку, поскольку локализовали их
в пространстве, определили их форму, дали им имя, поскольку они
побудили нас к каким-либо размышлениям. Ведь все это — место,
форма, имя, размышления — суть орудия, благодаря которым
46
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
сведения о прошлом подвластны нашему уму, иначе у нас остава¬
лись бы лишь смутные реминисценции этого прошлого» (Хальбвакс
2007: 55). Из этих рассуждений выросла последующая большая
работа «Легендарная топография Евангелий на Святой Земле»,
которая затем легла в основу понятия «место памяти» Пьера Нора
(см. главу 3).
Более сложным, но при этом более важным для самого Халь-
бвакса является его рассуждение о соотношении рамки и содержи¬
мого, с новыми аргументами повторяющее размышления Дюрк-
гейма. Идею Бергсона, утверждавшего, что существуют «чистые»
воспоминания о единичных событиях и воспоминания-привычки,
относящиеся к повторяющимся событиям, он передает через образ
«речного русла, берега которого заключают в себе поток, но лишь
отбрасывают свое отражение на его поверхности». Отрицая суще¬
ствование «чистых» воспоминаний, Хальбвакс пишет: «...рамка
и события тождественны по природе: события суть воспоминания,
но и сама рамка состоит из воспоминаний. Эти два рода воспоми¬
наний различаются тем, что вторые более устойчивы, всегда за¬
метны нам, и мы пользуемся ими для припоминания и реконструк¬
ции первых» (Хальбвакс 2007:135-136).
Таким образом, основная мысль французского социолога за¬
ключается в том, что нет воспоминаний, не обусловленных со¬
циальными рамками. Каждый раз, обращаясь к своему прошлому,
человек смотрит на него из дня сегодняшнего и пользуется ори¬
ентирами, которые предлагает ему его социальная группа. Про¬
шлое доступно нам не таким, каким оно было, а только как
«реконструкция», правила которой заданы днем сегодняшним:
«...общество обязывает людей время от времени не просто мыс¬
ленно воспроизводить прежние события своей жизни, но также
и ретушировать их, подчищать и дополнять, с тем чтобы мы, оста¬
ваясь убежденными в точности своих воспоминаний, приписывали
им обаяние, каким не обладала реальность» (Хальбвакс 2007:151).
В таком случае «трансформация рамок памяти влечет за собой
исчезновение или трансформацию наших воспоминаний» (Хальб¬
вакс 2007: 135).
От констатации существования «социальных рамок» памяти
Хальбвакс делал переход к анализу условий, в которых они
Глава 2. Коллективная память
47
складываются: коллективам людей разных уровней — от общества
в целом до узких групп друзей, единомышленников или членов
семьи. Он приводил следующий пример: «Я не знаю в точности,
когда я слышал некую сонату, но знаю, что это было на концерте
или в гостях у музицирующих друзей, то есть в группе, образован¬
ной в силу художественных интересов. Иными словами, я всегда
могу указать, в какой зоне социальной жизни родилось данное
воспоминание» (Хальбвакс 2007: 153).
Поскольку каждый человек одновременно входит во множество
групп, его социальные рамки оказываются одновременно подвиж¬
ными, изменяющимися из-за перемещения точки настоящего,
и чрезвычайно устойчивыми, коль скоро группа «заинтересована
в них и способна одновременно вызывать их в памяти» (Хальбвакс
2007: 183). Последние три главы книги посвящены рассмотрению
конкретных групп, объединенных общими воспоминаниями —
семьи, религиозного сообщества и социального класса, находя¬
щихся, по мнению социолога, в жесткой иерархической зависимо¬
сти друг от друга. В последних главах Хальбвакс наконец перешел
от поиска социальных элементов в индивидуальных воспоминаниях
к тому, что интересует его в действительности, — к коллективной
памяти социальных общностей. В его рассуждениях особенно ясно
видно, что социолог интересовался коллективной памятью как
реально существующим феноменом, а не использовал понятие
метафорически.
Последние три главы книги легче понять, если воспользоваться
предложенным гораздо позднее Я. Ассманом, опиравшимся на
идеи Хальбвакса, разделением памяти на коммуникативную и куль¬
турную (см. главу 4). В действительности для Хальбвакса память
группы — это память людей, живущих здесь и сейчас и имеющих
возможность обсуждать свое прошлое. Так, семейная память су¬
ществует в рамках примерно трех поколений, в исключительных
случаях касаясь более отдаленных периодов прошлого этой группы:
«...умершие отступают в прошлое, их имена мало-помалу впадают
в забвение — отнюдь не потому, что удлиняется материальный
отрезок времени, отделяющий их от нас, но потому, что ничего не
остается от группы, в лоне которой они жили и которой было нужно
называть их по имени» (Хальбвакс 2007: 207). Рамки семьи — один
48
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
из множества возможных вариантов рамок, обусловливающих
сохранение воспоминаний о прошлом.
Множественность и подвижность социальных рамок памяти,
как они виделись Хальбваксу, легко понять на одном примере из
этой главы: поездка в Компьень может вспоминаться как поездка
в город (места прогулок, впечатления, мысли, которыми мы дели¬
лись со своими спутниками) или поездка с братом (каким он был
тогда, и каков он сейчас, родственные узы, соединяющие с ним и со
всей семьей). В первом случае это не будет воспоминанием о се¬
мейной жизни, во втором — город отступит на второй план, поездка
станет лишь поводом осознать отношения с родственниками.
«...Воспоминание становится семейным воспоминанием лишь
с того момента, когда на место понятия, вызвавшего его в моей
памяти, — понятия об одном французском городе, которое само
составляет часть моего общего понятия о Франции, — заступает
другое, одновременное общее и частное понятие о моей семье,
которое обрамляет, но также и изменяет и преображает данный
образ» (Хальбвакс 2007:195).
В отличие от семейной памяти, которая легко сополагается
с памятью других групп («взаимопроникает и стремится к взаим¬
ной согласованности»), память религиозных сообществ «...считает
себя зафиксированной раз и навсегда и либо заставляет других
приспосабливаться к господству ее представлений, либо система¬
тически игнорирует их и относит к низшему разряду, противопо¬
ставляя свое постоянство и их нестабильность» (Хальбвакс 2007:
233). Рассматривая в качестве примера христианство, Хальбвакс
показывал, как постепенно общая память группы верующих, со¬
впадавшая с коллективной памятью общества в целом, распалась.
Из нее выделилась группа клириков, «всецело обращенная в про¬
шлое и занятая единственно его поминовением» (Хальбвакс 2007:
241), однако и у них прошлое не оставалось в неприкосновенности,
но каждый раз реконструировалось заново, исходя из потребностей
настоящего. Хотя формально ни догматика, ни культ не менялись,
фактически христианство постоянно трансформировалось под
влиянием все новых и новых вызовов. В этом смысле память
религиозных групп подчиняется тем же законам, каким и любая
другая коллективная память — «она не хранит, а реконструирует
Глава 2. Коллективная память
49
прошлое с помощью оставшихся от него материальных следов,
обрядов, текстов, традиций, а также социально-психологических
данных недавнего прошлого» (Хальбвакс 2007: 264).
В главе о религиозной памяти Хальбвакс обращается к теме
возникновения и функционирования традиции, предвосхищая
исследования Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера 1980-х (об
«изобретении традиций» см. главу 5). Для Хальбвакса традиция —
это процесс, посредством которого индивидуальные воспоминания
интегрируются в структуры коллективной памяти. Именно тради¬
ция позволяет социальным рамкам памяти существовать дольше,
чем длятся жизни отдельных людей, составляющих социальную
группу. Социолог показывает на примере религии, что традиция
постоянно пытается восстановить свою связь с прошлым, но при
этом подвергается ревизии в интересах настоящего. «Обстоятель¬
ства времени и места, столь конкретные и живые для современни¬
ков, превращаются при этом в общие черты: Иерусалим стал сим¬
волическим местом, аллегорией неба...» (Хальбвакс 2007: 245).
Однако процессы трансформации традиции идут медленно и оста¬
ются, как правило, незаметными современникам. Только историк,
рассматривая традицию на большом временном отрезке, может
заметить изменения. Именно из этих размышлений выросла сле¬
дующая важная работа Хальбвакса о легендарной топографии Свя¬
той Земли (1941).
Наконец, последняя глава книги посвящена коллективной па¬
мяти социальных классов, в ней основным объектом анализа вы¬
ступает буржуазия. Здесь он наиболее близок к дюркгеймианской
проблематике: общество способно жить лишь при условии, что его
институты опираются на сильные коллективные представления.
Природа этих представлений («социальных верований») всегда
двояка: это коллективные традиции или воспоминания и кон¬
венции, опирающиеся на потребности настоящего. Один из его
важных тезисов — «нет такой социальной идеи, которая не была
бы одновременно общественным воспоминанием» (Хальбвакс 2007:
343), но при этом сохраняются лишь те воспоминания, которые
общество может реконструировать, работая над своими нынешними
социальными рамками. Например, буржуазия как новый социаль¬
ный класс первоначально мимикрирует, используя ценности
50
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
аристократии, постепенно подменяя их собственными: так, на
смену идеи воинской доблести приходит идея компетентности,
а та, в свою очередь, сменяется декларацией ценности богатства.
Итак, книга «Социальные рамки памяти» важна прежде всего
тем, что предложила новый терминологический аппарат («коллек¬
тивная память», «социальные рамки») для работы с коллективными
представлениями о прошлом. Рецепцию идей Хальбвакса можно
найти в работах Я. Ассмана, П. Нора и множества других, далеко не
таких известных исследователей. В то же время, если мы будем
читать эти работы, мы поймем, что каждый автор скорее вдохнов¬
лялся идеями французского социолога, высказанными в первой
четверти XX в., чем действительно напрямую брал их для своих
исследований. В этом смысле чтение книги помогает лучше по¬
нимать тех исследователей, ссылки на которых в работе молодого
историка уже не будут носить ритуальный характер. В то же время
начинать размышления о какой-то теме в рамках memory studies
с чтения этой книги Хальбвакса, вероятно, не стоит, если, конечно,
это не будет работа по истории идей.
«Легендарная топография...» и «Коллективная
память»: поздний Морис Хальбвакс
После выхода книги «Социальные рамки памяти» в 1925 г.
Хальбвакс работал над проблематикой коллективной памяти сле¬
дующие двадцать лет, вплоть до своей смерти. Изданная посмертно
книга «Коллективная память» была собрана из статей и рукописей,
над которыми ученый работал на протяжении 1930-х гг. Хотя она
часто воспринимается как продолжение его первой работы, в дей¬
ствительности Хальбвакс скорректировал ряд своих положений,
а также в каком-то смысле сместил фокус своего внимания. В позд¬
них работах тезис о зависимости индивидуальной памяти от кол¬
лективной был сформулирован в гораздо более мягком виде, чем
ранее. В отличие от работы 1925 г. Хальбвакс отказался от пред¬
ставления о жесткой иерархии социальных групп и локализации
задаваемых ими рамок памяти вне отдельной личности. Напротив,
его в гораздо большей степени, чем раньше, интересовал процесс
Глава 2. Коллективная память
51
формирования памяти внутри индивидуального сознания в ре¬
зультате взаимодействия человека со множеством социальных
групп. Для того чтобы сравнить идеи раннего Хальбвакса с его бо¬
лее поздним пониманием памяти, выполните задания 3-5.
Важным новым сюжетом для позднего Хальбвакса стало соот¬
ношение памяти и истории. По-прежнему отрицая существование
индивидуальной памяти «как сугубо индивидуального свойства,
которое возникает в сознании, ограниченном собственными ре¬
сурсами, изолированном от других и способном вызывать, либо по
желанию, либо случайно, те состояния, через которые оно прошло
ранее», он предложил различать две памяти. Первая принадлежит
индивиду и содержит в себе его собственное прошлое, а вторая
относится к прошлому коллектива, к которому тот принадлежит.
Останавливаясь на этой оппозиции, Хальбвакс писал: «...существуют
основания различать две памяти, одну из которых можно, если
угодно, назвать внутренней, а другую — внешней, или же первую
личной, а вторую — социальной. Говоря еще точнее (с только что
указанной точки зрения): автобиографическая память и истори¬
ческая память» (Хальбвакс 2005).
Как видим, одним предложением французский социолог за¬
ложил основы для многих последующих дебатов о терминах, о ко¬
торых было сказано в первой главе. В самом деле, кажется, для него
нет разницы между внутренней, социальной и исторической па¬
мятью: все три определения относятся к его главному термину —
«коллективная память». Между тем для самоопределения многих
последующих исследований важно, какой именно термин они вы¬
бирают.
В то же время Хальбваксу необходимо было определить, что
такое история, поскольку в его время история казалась единствен¬
ным очевидным способом обращения с общим, а не индивидуаль¬
ным прошлым. Он постулировал тезис, согласно которому «исто¬
рия — это не все прошлое, но она и не все то, что остается от
прошлого» (Хальбвакс 2005). Соотношение памяти и истории опи¬
саны Хальбваксом как предельная оппозиция: память ищет сходства
между сегодняшним днем и прошлым — история устанавливает
различия; память завязана на эмоции — история беспристрастна;
память служит настоящему — история на службе у истины.
52
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Разумеется, такая дихотомия сегодня кажется наивной: социолог
не увидел в истории один из способов репрезентации прошлого,
который опирается на авторитет науки. Объяснение такой позиции
следует искать не только в довольно старомодном взгляде Хальб-
вакса, разделявшего позитивистские установки на предмет истории.
Важно также понимать, что в первой половине XX в. «новейшая
история» была явлением маргинальным, потому социолог вполне
закономерно заявлял: «...история обычно начинается в тот момент,
когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается со¬
циальная память. Пока воспоминание продолжает существовать,
нет необходимости фиксировать его письменно, да и вообще как-
либо фиксировать. Поэтому потребность написать историю того
или иного периода, общества и даже человека возникает только
тогда, когда они уже ушли так далеко в прошлое, что у нас мало
шансов найти вокруг себя многих свидетелей, сохраняющих о них
какое-либо воспоминание» (Хальбвакс 2005).
История, таким образом, интересовала Хальбвакса не сама по
себе, а лишь как объект для сравнения, позволяющий на контрасте
резче подчеркнуть его понимание «исторической памяти». В цен¬
тре его внимания были конкретные механизмы встраивания «исто¬
рических» событий в индивидуальную память: общение со стар¬
шими родственниками, чтение книг, рассматривание гравюр — вот
что позволяет индивиду включиться в поток коллективной памяти,
дополнить свои индивидуальные воспоминания. «Наша память
опирается не на выученную, а на прожитую историю», — писал он.
Как правило, исторические события проходят мимо отдельного
человека и встраиваются в его представление о прошлом лишь
задним числом. Так, история страны соприкасается с жизнью одного
ее гражданина «лишь в очень немногих точках», современник не
может почувствовать, что «сегодня началась Столетняя война».
Поскольку коллективная память способна сохранять только те пред¬
ставления о прошлом, которые для чего-то нужны группе, она «по
определению, не выходит за пределы этой группы». И далее: «Когда
некий период перестает интересовать последующий период, то мы
имеем дело не с одной группой, забывающей часть своего прошлого,
а, на самом деле, с двумя группами, сменяющими друг друга».
В этом смысле сам Хальбвакс вынужден был признать предложенное
Глава 2. Коллективная память
53
им понятие «историческая память» неудачным, поскольку оно свя¬
зывает вместе два противоположных понятия.
Вопреки скепсису по поводу исторической науки, последняя
значительная работа Хальбвакса, опубликованная в 1941 г., была
посвящена исключительно исторической проблематике, так что
Хаттон назвал социолога «историком памяти поневоле» (Хаттон
2003: 205). Книга «Легендарная топография Евангелий на Святой
Земле» посвящена становлению одной коммеморативной тради¬
ции: как коллективная память о жизни Христа локализовалась
в ландшафте вполне реальной Палестины. Хальбвакса интересовало,
каким образом воображаемый библейский ландшафт, созданный
в средневековой Европе, был перенесен сперва паломниками,
а позднее крестоносцами в физическое пространство Ближнего
Востока. Основная идея книги заключается в том, что прибыв на
«Святую Землю», паломники не открывали для себя библейский
пейзаж, а переносили свои представления в конкретное физическое
пространство. У этого переноса была своя логика и прагматика,
далекие от стремления к точному воссозданию прошлого, но, на¬
против, подчиненные потребностям современности.
Хальбвакс сосредоточился на исследовании семи самых из¬
вестных «мнемонических мест», способных вызывать воспомина¬
ния о жизни Иисуса Христа, — Вифлеема, Горницы (места Тайной
вечери), претории Понтия Пилата, Крестного пути, Елеанской горы,
Назарета, Тивериадского моря. Он показал, что первые паломники,
добравшиеся до Святой Земли, пользовались довольно туманными
указаниями Евангелий о конкретных приметах ландшафта, таких
как горы, озера и источники, к которым они должны были при¬
вязать известные им по текстам места, связанные с жизнью Иисуса.
В некоторых случаях, когда не было никакой географической при¬
вязки, важным оказывалось наличие источника или удобство пути
от одного мнемонического места к другому. Так, Кана Галилейская
оказалась удачно расположена на дороге к Тивериадскому морю.
В одни мнемонические места вкладывалось сразу множество смыс¬
лов. Елеонская гора была местом коммеморации сразу Нагорной
проповеди, Моления о чаше, Преображения, Вознесения и гробницы
Девы Марии. Другие, такие как Вифлеем или претория Понтия
Пилата, множились: вокруг них создавались конкурирующие
54
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
традиции. Кроме этого локального слоя формирования ком-
меморативной традиции существовали также потребности христи¬
анской церкви и политических элит. Хотя Хальбвакс не пишет о по¬
литике памяти, в действительности он обращал на нее внимание.
В каком-то смысле коммеморация была важным политическим
методом колонизации, особенно во время Крестовых походов.
Кроме того, она играла роль в политике внутри самой христианской
церкви: коммеморативные места закрепляли учение о телесном
воскресении Христа, споры о котором продолжались на протяжении
первых веков христианства.
Наиболее важной для самого Хальбвакса частью этой работы
было изучение того, как христианская мнемоническая традиция
реинтерпретировала существовавшую ранее иудейскую. Физически
те места, которые связывались с жизнью Христа, в большинстве
случаев были связаны с иудейскими: место рождения Иисуса было
закреплено за Вифлеемом, потому что это был город Давида, пре¬
тория Понтия Пилата — над колодцем Иеремии и т. д. Таким об¬
разом, социальные рамки иудейской традиции оформляли струк¬
туру христианской коммеморативной традиции.
Глава 2. Коллективная память
55
Эта работа Хальбвакса действительно стала пионерской в из¬
учении репрезентаций прошлого и конструирования традиции.
Работы французского социолога вдохновили многих историков,
исследовавших проблематику репрезентаций прошлого. Наиболее
впечатляющий случай — это проект «Места памяти» Пьера Нора,
о котором можно прочитать в главе 3.
Морис Хальбвакс и memory studies: ритуальная
цитата или фундамент для исследования?
Всякая дисциплина / субдисциплина / исследовательское на¬
правление нуждается в своих фундаментальных текстах. Чем моложе
область знания, тем выше потребность в легитимирующем тексте,
отстоящем от современности хотя бы на полстолетия. В главе 5 мы
еще обратимся к тексту Эрнеста Ренана о нации, который функци¬
онирует в определенной части исследовательского поля memory
studies в качестве обосновывающего проблематику национальной
памяти с той разницей, что относящаяся к 1882 г. маленькая речь,
56
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
где памяти и забвению отдана пара параграфов, в текстах историков
предстает еще более многозначительной за давностью лет. Потреб¬
ность в легитимации memory studies через обращение к прошлому —
это отличный сюжет для возможного исследования, выполненного
именно в духе хальбваксовской традиции. В самом деле, работы
французского социолога, кажется, оказались вовлечены в тот про¬
цесс, о котором он писал: академические рамки памяти оформляют
сегодня воспоминание об отце-основателе, локализуя его где-то на
заре нового века, когда он предчувствовал «коммеморативный бум»
1980-х, и приспосабливая под потребности дня сегодняшнего, не¬
взирая на сопротивление его текстов.
Как только работы Хальбвакса перестают быть просто источ¬
ником цитат, его идеи моментально оказываются объектом критики
со стороны тех, кто пытается применять его подход в своих работах.
Один из наиболее оспариваемых тезисов Хальбвакса переводчик
«Социальных рамок памяти» на английский язык Льюис Козер
обозначил понятием «презентизм». Если, согласно Хальбваксу,
прошлое постоянно подвергается перекодировке ради потребностей
настоящего, как вообще возможна непрерывная история? «...Это
сделало бы историю серией аннотаций, взятых из различных вре¬
мен и выражающих различные точки зрения», — писал он (Coser
1992: 370). Исследователи, обращающиеся к эмпирической части
работ Хальбвакса, регулярно делают оговорки, что современные
потребности социальных групп не могут полностью навязывать
свои реконструкции прошлому: коллективная память может пере¬
форматироваться лишь частично и зависит от предыдущих ком-
меморативных традиций (Armstrong, Crage 2006).
Также критике подвергается сам термин «коллективная память».
Олик, регулярно использующий это понятие, в 1999 г. выступил за
переопределение термина, так как Хальбвакс не создал стройной
теории, объясняющей взаимные отношения памяти, помещаемой
в разные социальные рамки. Вместо этого он предложил какое-то
количество полезных предположений по этому поводу. Олик объ¬
яснял это тем, что Хальбвакс определял индивидуальный и кол¬
лективный опыт как явления разного порядка (Olick 1999: 336).
Эти критические пассажи не учитывают важного факта: Хальб¬
вакс писал не для историков и по большому счету интересовался
Глава 2. Коллективная память
57
не памятью как таковой. За его интересом к воспоминаниям лежала
не только проблематика, поставленная на повестку дня Дюркгей-
мом, но также общий для социологической мысли того времени
вопрос о морфологии общества. Вопреки утверждениям из вводных
частей самых разных работ, Хальбвакс напрямую не интересовался
ни коммеморациями, ни политикой памяти.
Чтобы не оказаться среди тех исследователей памяти, кого кол¬
леги из социологического цеха уличают в неправильном цитиро¬
вании или неверной интерпретации работ Хальбвакса (Gensburger
2006:406), начинающему историку непременно следует самосто¬
ятельно их прочитать. Если эти труды не будут полезны для мето¬
дологического введения к его собственной работе, они все же от¬
кроют ему увлекательный мир аргументации и методов, далеко
отстоящих от современного понимания науки. Другое дело, что для
решения конкретных исследовательских задач куда больше подой¬
дет чтение авторов, представленных в следующих двух главах. Они
прямо писали о Хальбваксе как о своем вдохновителе, но при этом
создали две собственные традиции в рамках memory studies, мало
пересекающиеся друг с другом, однако породившие множество
последователей, читающих и немца Ассмана, и француза Нора.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Повторите запрос С. Женсбуржер в Google Scholar. Остается ли М. Хальб¬
вакс самым цитируемым автором memory studies в тот день, когда
вы читаете этот учебник? Известны ли вам следующие девять имен
в рейтинге? Составьте на основании этого запроса библиографический
список - он, без сомнения, пригодится для вашей собственной ис¬
следовательской работы.
2. Повторите задание 1 в русскоязычном сегменте интернета. Отличается
ли полученный результат от предыдущего? О чем это свидетельствует?
3. Прочитайте статью «Коллективная и историческая память» из книги
М. Хальбвакса «Коллективная память» (1950). Составьте таблицу, в которой
сравните сходства и различия памяти и истории сточки зрения М.Хальб¬
вакса. Чем обусловлены его взгляды на предмет исторической науки?
В какой мере они соответствуют сегодняшнему пониманию истории?
58
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
4. Можно ли резюмировать основной тезис М. Хальбвакса следующей
цитатой из «Социальных рамок памяти»: «Человек, который помнит
то, чего не помнят другие, походит на человека, который видит то, чего
другие не видят. В известном отношении он страдает галлюцинациями
и производит неприятное впечатление на окружающих»? (Хальбвакс
2007: 207).
5. Проанализируйте цитату из «Коллективной памяти». Можно ли с ее
помощью объяснить, почему М. Хальбвакс посчитал предложенный
им термин «историческая память» неудачным?
Я помню Реймс, потому что жил там целый год. Я также помню, что
Жанна д’Арк была в Реймсе и что там был коронован Карл VII, потому
что я слышал или читал об этом. Жанну д’Арк так часто представляли
в театре, в кино и так далее, что для меня действительно не составляет
никакого труда представить ее в Реймсе. В то же время я прекрасно
знаю, что я не мог быть свидетелем самого события: я здесь ограничен
прочитанными или услышанными словами - воспроизведенными
через века знаками, которые и есть все, что доходит до меня из этого
прошлого. То же самое относится ко всем известным нам историческим
событиям. Имена, даты, формулы, сжато представляющие длинную
череду подробностей, иногда анекдот или цитата - вот эпитафия давних
событий, столь же краткая, общая и бедная смыслом, как и большинство
надгробных надписей. Дело в том, что история и впрямь похожа на
кладбище, где пространство ограничено и где все время приходится
находить место для все новых могил.
6. Придумайте пять тем исследования в рамках memory studies, для
которых могут оказаться важными идеи М. Хальбвакса.
Для чтения:
Хальбвакс М.(2005). Коллективная и историческая память// Неприкос¬
новенный запас. № 2-3 (40-41). URL: http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/
ha2.html; дата доступа 07.09.2018.
Хаттон П. X. (2003). История как искусство памяти. СПб.: Наука. С. 191-229.
Gensburger S. (2016). Halbwachs’ Studies in Collective Memory: A Founding
Text for Contemporary “Memory Studies”? // Journal of Classical Sociology.
Vol. 16. No 4. P. 396-413.
Глава 3
«Места памяти» Франции.
Пьер Нора
Карьера французского интеллектуала
В этой главе речь пойдет еще об одном влиятельном француз¬
ском теоретике памяти, которого можно назвать одним из симво¬
лов memory studies, — издателе и ученом Пьере Нора. Кроме всего
прочего, именно он приложил немало усилий для того, чтобы «вер¬
нуть» труды Хальбвакса в сферу интереса современных исследова¬
телей. Если карьера Хальбвакса, описанная в предыдущей главе,
в каком-то смысле является образцом обычного пути в академии —
престижное столичное учебное заведение, ученичество у известных
ученых, преподавание в провинциальном, но динамично развива¬
ющемся университете, который стал символом новой науки, потом
кафедра в Сорбонне, — у героя этой главы все было не так. Сам он
утверждает, что всегда был «за сценой» французской академической
жизни, поэтому вдвойне интересно понять, как становятся «вла¬
стителями дум» в эпоху постмодерна.
Пьер Нора родился в 1931 г. в Париже в семье врача еврейского
происхождения Гастона Нора. Старший брат ученого Симон Нора
(1921-2006) был известным политиком, а также директором пре¬
стижной Национальной школы администрации, выпускники ко¬
торой играют значительную роль во французской политике. Пьер
Нора получил образование в элитарном Лицее Людовика Великого,
но затем провалился при поступлении в Высшую Нормальную
школу, ту самую, которую закончил Хальбвакс. Надо сказать, что
эту же участь с ним разделили в это время будущие известные
французские философы, с которыми Нора много работал в даль¬
нейшем. Жиль Делёз, провалив экзамен, пошел в Сорбонну, Мишель
Фуко поступил со второго раза, Жак Деррида — с третьего. В 1958 г.,
60
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
имея степень бакалавра, Нора сдал агрегацию по истории — пись¬
менный экзамен, позволяющий претендовать на место учителя
в школе. До 1960 г. он преподавал в лицее в алжирском городе
Оране, о чем написал книгу «Французы Алжира», вышедшую
в 1961 г. С 1965 по 1977 гг. он был лектором в Институте политиче¬
ских исследований в Париже, учебном заведении, готовящем по¬
литическую и дипломатическую элиту Франции. С 1977 г. Нора
работает в Высшей школе социальных наук, возникшей за два года
до этого, в 1975 г., в результате отделения от Практической школы
высших исследований секции по общественным наукам, созданной
в 1947 г. историками-«анналистами» Фернаном Броделем и Жаком
Ле Гоффом.
Гораздо важнее, чем преподавательская карьера, оказалась для
Нора работа в престижных французских издательствах. В 1964 г.
он стал работать в издательском доме “Julliard”, где создал книжную
серию «Архивы». В 1965 г., когда другое известное издательство
“Gallimard” решило расширить свою деятельность, создав секцию
по социальным наукам, Нора стал ее редактором. Своей позицией
во французских интеллектуальных кругах он обязан в очень боль¬
шой степени двум книжным сериям, создателем и редактором
которых он был. Достаточно сказать, что в серии «Библиотека со¬
циальных наук» впервые были изданы работы Мишеля Фуко «Слова
и вещи» и «Археология знания», а в «Исторической библиотеке» —
знаменитая книга Эммануэля Ле Руа Ладюри «Монтайю», а также
работы Франсуа Фюре, Мишеля де Серто, Жоржа Дюби, Жака
Ле Гоффа, Мориса Агюйона и исторические работы Мишеля Фуко.
Также Нора познакомил французскую публику с работами Эрнста
Канторовича, Карла Поланьи и др. Иными словами, большая часть
книг, определивших лицо так называемой «Новой истории», т. е.
третьего поколения школы «Анналов», так же как большое коли¬
чество известных работ французских философов-постмодернистов,
были опубликованы при непосредственном участии Нора.
В 1980 г. Нора и философ Марсель Гоше начали издавать журнал
«Дебат» (“Le Debat”), ставший наиболее влиятельным изданием
Франции конца XX в. Первый номер журнала вышел в день похорон
Жана-Поля Сартра, и в открывающей статье редакторы прямо пи¬
сали о своей цели — создать для французских интеллектуалов
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
61
площадку, свободную от влияния революционного наследия и пар¬
тийных пристрастий. В каком-то смысле Нора сам является во¬
площением французского интеллектуала, властителя дум, опреде¬
лившего на несколько десятилетий круг чтения избранной публики,
а потом утвердившего право интеллектуалов влиять на политиче¬
скую повестку через периодическое издание. В действительности
этих достижений хватило бы для того, чтобы быть вписанными
в интеллектуальную историю Франции. Общемировую известность
Нора принес проект «Места памяти», в котором он выступил не
только в привычной роли редактора, но и в качестве автора про¬
граммы исследования. Его теоретические работы, предваряющие
каждую из частей «Мест памяти», превратили эту антологию в це¬
лостное произведение. Они же стали методологической основой
для всех эпигонов, пытающихся перенести подход на другие объ¬
екты и в другие страны.
Проект «Места памяти Франции» (1984-1993)
Для понимания проекта «Места памяти Франции» важно, что
начало ему было положено в 1977 г. серией семинаров под руко¬
водством Нора в Высшей школе социальных наук. Результатом его
многолетних усилий стала антология, где авторами статей высту¬
пили наиболее известные ученые Франции. Возможно, этот факт
продемонстрирует читателю место Нора на французском интел¬
лектуальном Олимпе нагляднее, чем весь предыдущий параграф.
Попробуйте вообразить себе человека, который способен убедить
почти сотню высоко ценящих себя и свое время французских исто¬
риков отложить свои собственные проекты и заняться исследова¬
ниями памяти. Особенно если вспомнить, что в течение нескольких
предыдущих десятилетий эта проблематика была основательно
забыта, т. е. они брались за разработку далеко не самой модной
и многообещающей темы.
Важно учитывать время, когда проект был начат. В канун двух¬
сотлетия Великой французской революции Нора и его коллеги ре¬
шили сместить революцию с того пьедестала, на котором она на¬
ходилась во французской историографии. С точки зрения редактора
62
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
проекта, революция, десятилетиями служившая основой француз¬
ской идентичности, потеряла свое положение центрального со¬
бытия истории Франции. Повторяя знаменитую формулу Франсуа
Фюре «Французская революция завершена» из книги 1978 г. «По¬
стижение Французской революции», Нора открыл возможность для
встраивания двух последних веков в непрерывное существование
«тысячелетней Франции» как «государства-нации» (Нора 2005).
Одновременно это привело к молчанию о сюжетах, которые, каза¬
лось бы, напрашивались сами собой.
Второй важный момент: проект «Места памяти» изначально
было вписан в более широкую проблематику исследований нации
и национализма. По большому счету это не история Франции как
таковой, а исследование природы французской национальной иден¬
тичности. Лучше всего это отразилось в географии исследования.
В антологию вошла статья о гексагоне как символическом и эм¬
блематическом изображении территориальных границ Франции,
включающем Корсику, завоеванную в 1768 г., и Эльзас и Лотарин¬
гию. При этом она молчит о «Франции за морями» (la France d’outre
тег): в ней нет ни французской Индии, ни Африки, ни Азии — важ¬
ных завоеваний Третьей республики (То 2001).
Центральное понятие проекта — «место памяти» (lieu de memoire)
было заимствовано Нора из книги Френсис Йейтс 1966 г. «Искусство
памяти». У Йейтс оно отсылало к античному понятию loci memoriae,
изначально имевшему отношение к мнемотехнике. Например, для
Цицерона loci memoriae было практическим инструментом памяти,
очищенным от всякой идеологии, свободным от социальных цен¬
ностей, исторических взглядов или ожиданий от будущего. Нора
полностью перевернул это понятие. Хотя его lieux de memoire также
являются мнемотехническим инструментом, они далеки от того,
чтобы быть нейтральными и свободными от ценностных импли¬
каций. Напротив, они исключительно идеологичны. Большинство
«мест памяти», которые изучали Нора и его коллеги, были созданы,
изобретены или переозначены для того, чтобы служить националь¬
ному государству и быть основой национальной идентичности
французских граждан (Воег 2010: 21). Их исследование, однако,
было начато в момент, когда «общество заняло место нации, леги¬
тимизация через прошлое и, следовательно, через историю уступила
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
63
место легитимизации через будущее». И далее читаем: «Нация — это
больше не борьба, история превратилась в одну из социальных
наук, а память — это феномен исключительно индивидуальный»
(Нора 1999а: 25).
Больше, чем книга Йейтс, для понимания проекта Нора важна
его связь с постмодернистской критикой, в особенности с генеа¬
логической деконструкцией в духе Мишеля Фуко. Уже во вводном
очерке к первой части проекта «Между памятью и историей» яв¬
ственно читается ностальгия не только по утраченной «крестьян¬
ской» Франции, но и по праву историка создавать труды в духе
авторов XIX в., таких как Жюль Мишле или Эрнест Лависс. Раз¬
мышляя о том, как преобразилась история, утратив связь с живой
традицией и превратившись в знание общества о себе, он писал
почти с завистью о трудах своих предшественников: «Поражение
при Азинкуре или кинжал Равальяка, День одураченных или какой-
нибудь дополнительный параграф Вестфальского договора под¬
лежат скрупулезному бухгалтерскому учету. Точнейшая эрудиция
приумножает или приуменьшает капитал нации. Мощно единство
этого мемориального пространства: между нашей греко-римской
колыбелью и колониальной империей Третьей Республики точно
так же нет разрыва, как между высокой эрудицией, обогащающей
наследие новыми завоеваниями, и школьными учебниками, пре¬
вращающими их в вульгату. История священна, поскольку священна
нация» (Нора 1999а: 24). Хаттон, прочитавший тексты Нора через
призму постмодернистской генеалогии, анализировал природу
этой «ностальгии не по какому-то особому периоду прошлого, а по
времени невинности, когда были еще возможны нерефлексируемые
связи с традицией» (Хаттон 2003: 350).
В проекте также легко угадывается ностальгия иного рода — не
историка-профессионала, но француза, утратившего связь с «доброй
старой Францией». Английский историк Тони Джадт, критик Нора,
так писал о рубеже 1970-1980-х гг.: «...Франция одновременно
модернизировалась, уменьшалась в размерах, раскалывалась на
части... <...> Франция образца 1980 года почти ничем не напоминала
страну десятилетней давности. В ней не осталось ничего прежнего:
никаких преданий старины, никакой прошлой славы, никаких
крестьян. В “Местах памяти” это чувство прекрасно передал
64
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
с печальной иронией Паскаль Ори. В разделе, озаглавленном
“Гастрономия” он пишет: “Неужели из всего, что некогда было
с нами и что теперь оказалось совсем забыто, уцелела лишь фран¬
цузская кухня?”» (Джадт 2004). Сам Нора облек это чувство в тео¬
ретические размышления об исчезновении живой традиции и свя¬
занной с ней памяти: «Сама утрата нашей живой национальной
памяти заставляет нас наблюдать за ней взглядом, лишенным на¬
ивности или безразличия. Та память, которая мучит нас, но не яв¬
ляется более нашей...» (Нора 1999а: 27).
Как любая генеалогия, проект Нора перевернут. Французские
историки двигались от настоящего к прошлому, от «мест памяти»,
важных для самопонимания Третьей республики (том «Респуб¬
лика»), сквозь представления нации о самой себе через образы,
сформированные в начале новейшей истории (том «Нация»), к кол¬
лективной памяти Средних веков (том «Франция»). При этом, по
мере удаления в глубь веков, проект расширялся: от одной книги,
включавшей в себя восемнадцать очерков, к двум трехтомникам,
последний из которых по объему в два раза больше предыдущего.
В общей сложности эта «мозаика-головоломка», как назвал ее Нора,
состоит из 128 частей — 5 600 страниц! — и в каком-то смысле сама
является «местом памяти».
В предисловии к последнему тому редактор попытался объ¬
яснить, как из задуманных четырех книг, к которым предполага¬
лись унифицированные рубрики (региональное, религиозное, со¬
циальное и политическое), получился семитомный памятник,
«напоминающий одновременно готический собор и лабиринт со
множеством разнообразных ходов и переходов, с постоянно ме¬
няющейся связующей линией... с трудом поддающийся единому
плану и управлению». Несмотря на признание трудностей, Нора
отрицал «неспособность мэтра контролировать ситуацию» (Нора
19996: 66). Вместо этого он описал изменение внутренней логики
проекта, строившееся вокруг принципа отбора объектов для
исследования.
Для тома «Республика» нужно было выбирать «точки кристал¬
лизации» исторического наследия, в которых в XIX-XX вв. во Фран¬
ции утверждалась идея республики. Избранные сюжеты, такие как
Марсельеза, 14 июля или Вандея, все-таки были фрагментами
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
65
национальной памяти. Том «Нация» оказался подчинен другой
логике. Его авторы поставили перед собой цель выявить иерархи-
зированную структуру национальной памяти, так что важнее сю¬
жетов стали их взаимосвязи. Вошедшие в него «места памяти» были
классифицированы по принципу «нематериальное / материальное /
идеальное», так что каждая из трех книг говорила только об одном
виде. В «нематериальное» вошли тексты о наследии, историографии
и пейзажах (Реймс, «Анналы», «Картина географии Франции» Ви¬
даля де ла Блаша). Вторая книга о «материальном» описывает тер¬
риторию, государство и наследие (Гексагон, Версаль, провинциаль¬
ный музей), а третья — слова и славу (Верден и школьная классика).
В какой-то степени такая классификация стала опорой для чита¬
телей, пытавшихся понять методологию отбора первого тома. По¬
явившиеся проекты, подражавшие «Местам памяти», в основном
стали обращаться к материальным и памятным местам.
В объяснении структуры тома «Франция» можно прочитать
почти отчаяние редактора: очевидным выбором была бы прогрес¬
сия количества томов (1,3,6) — «поистине невыносимая для чита¬
теля и издателя» (Нора 19996: 69). Игра смыслами, позволявшая
сближать в одном издании выдуманного Солдата Шовена и вполне
66
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
реальный Верден, уступила место смирению перед «обязательными
сюжетами», «классическими, нескончаемыми и немыслимыми друг
без друга», такими как Жанна д’Арк или королевский двор. Кроме
проблемы выбора и обязательной классификации, участники
проекта оказались перед необходимостью конструировать свои
объекты, тогда как раньше «большинство сюжетов выступали как
очевидные “места памяти”». К этому же добавилась проблема
огромной историографии, стоящей за каждым сюжетом третьего
тома, — «о замках Луары и так все известно». Именно эта последняя
проблема позволила Нора наиболее четко сформулировать прин¬
цип, который должен держать в голове любой исследователь, со¬
бирающийся пойти по стопам французов и написать исследование
о «месте памяти». По большому счету любой объект можно назвать
«местом памяти», но проделывать такую операцию имеет смысл
только в одном случае: если факт рассмотрения его в таком качестве
говорит об избранном топосе нечто, что невозможно было бы вы¬
разить без этого (Нора 19996: 72).
«Места памяти» являются одним из самых известных проектов
в рамках memory studies. Нора сумел предложить исследовательскому
сообществу красивое понятие, интересную теоретическую рамку,
а также множество более или менее удачных, в некоторых случаях
даже блестящих образцов ее приложения к конкретным объектам.
Многотомное издание было переведено на множество языков. Наи¬
более полным переводом является трехтомная англоязычная вер¬
сия “Realms of memory”, вышедшая в 1998 г. Русскоязычный сбор¬
ник «Франция — память» со специальным предисловием П. Нора
был опубликован уже в 1999 г. Кроме многочисленных попыток
подражания, о которых будет сказано ниже, проект вызвал также
ряд критических замечаний, касавшихся в основном его методо¬
логических оснований и идеологического посыла, а не содержания
конкретных статей.
Джадт, азартный критик Нора, сформулировал свои сомнения
относительно «Мест памяти» в довольно ироничном ключе:
«Парадоксальный результат героических усилий Нора по воссоз¬
данию и запечатлению исторической памяти Франции состоит
в том, что его труд воспринимается теперь не столько как толчок
к поиску новых подходов, сколько как предмет поклонения, как
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
67
“достопримечательность”, заслуживающая внимания туриста»
(Джадт 2004). Причин, с его точки зрения, несколько.
Во-первых, этот проект абсолютно, навязчиво галлоцентричен,
а потому сопротивляется универсализации. Воспевая Францию
и ее уникальность («Только Франция — как нас хотят уверить —
может похвалиться исторической памятью, достойной замысла
этого многотомного издания»), авторы «мест памяти» отказывают
другим в праве на историческую память. Более того, их «старая
добрая Франция» — это страна, увиденная парижским интеллек¬
туалом из окна автомобиля: никто из них не оплакивает «провин¬
цию». Во-вторых, этот проект полон умолчаний. Одно из самых
очевидных — молчание о Варфоломеевской ночи 1572 г. Поскольку
для Нора Франция — это католическая страна, другие вероиспове¬
дания оказываются вытеснены на периферию (протестантизм или
иудаизм) или обойдены вовсе (ислам). В связи с этим, с точки зре¬
ния Джадта, этот проект «мало что может дать для понимания про¬
блем имперского и национального самосознания в многонацио¬
нальном контексте» (Джадт 2004). Наконец, по мере выхода новых
томов проект утратил методологическое единство: трудно при¬
думать что-нибудь, что не подходило бы под расплывчатые оп¬
ределения, которые Нора дает своему главному понятию \ieux
de memoire. Итогом этих размышлений становится довольно неуте¬
шительный вывод: «Места памяти» нельзя назвать настоящим
историческим исследованием, но можно считать «образцом со¬
временной мифологии», так что по большому счету нет смысла
пытаться переносить его на другую почву.
Основной инструмент критики, который использует Джадт, —
это контекстуализация. В обращении Нора и его коллег с историей
Франции ему видится «...подход замечательно уверенной в себе
космополитичной парижской интеллигенции, настолько хорошо
знающей все вехи истории Франции, все основы французской куль¬
туры, что она может позволить себе jeu d’esprit — игру ума, — пред¬
ложив обществу память в качестве “ненаучной” альтернативы
исторической науки» (Джадт 2004). При этом британский историк
почти не касается методологических оснований «Мест памяти».
Между тем, читателю этого пособия важно понять, можно ли ис¬
пользовать предложенную французскими историками концепцию
68
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
для своего собственного проекта. Для ответа на этот вопрос надо
не только разобраться с основным понятием, но и внимательно
посмотреть на его приложение к конкретным кейсам.
Что такое lieux de memoire!
Если читатель знакомится с этим учебным пособием, читая его
подряд, тогда предыдущая глава должна была примирить его с от¬
сутствием сколько-нибудь внятного определения основного по¬
нятия в большой теоретической работе. Нора, прямо апеллирующий
к работам Хальбвакса и заимствующий у него идею социальной
обусловленности памяти, похож на него также манерой письма.
Описание памяти как морского побережья в час отлива рефреном
повторяется Нора во введении к первому тому, где он пытается
объяснить свою концепцию:
Места памяти рождаются и живут благодаря чувству, что спон¬
танной памяти больше нет, а значит — нужно создавать архивы,
нужно отмечать годовщины, организовывать празднования,
произносить надгробные речи, нотариально заверять акты,
потому что такие операции не являются естественными. <...>
Если бы воспоминания, которые они заключают в себе, были бы
действительно живы, в этих бастионах не было бы нужды. Если
бы, напротив, история не захватила их, чтобы деформировать,
размять и превратить в камень, они не стали бы местами для
памяти. <...> Уже не вполне жизнь, но еще и не совсем смерть,
как эти ракушки, оставшиеся лежать на берегу после отлива
моря живой памяти (Нора 1999а: 27).
В каком-то смысле понятие lieux de memoire порождено игрой
слов, диалогом с автором «Социальных рамок памяти»: «Много¬
численные места памяти (lieux de memoire) существуют потому,
что больше нет памяти социальных групп (milieux de memoire)», —
писал редактор проекта в статье «Между памятью и историей.
Проблематика мест памяти» (Нора 1999а: 17). Последний термин —
прямая отсылка к тому, что интересовало Хальбвакса и что, с точки
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
69
зрения Нора, в 1980-х исчезало на глазах, — к коллективной па¬
мяти социальных групп (семьи, церкви, нации). Читатель пре¬
дисловия первого тома может найти единственное внятное опре¬
деление основного понятия: «Места памяти — это останки» (Нора
1999а: 26). Не слишком вдохновляющее начало для того, кто ищет
подходящую цитату для введения к собственной работе. Тем бо¬
лее что в предисловии к последнему тому Нора признался, что
в самом начале проекта lieux de memoire были скорее интуицией,
чем понятием: это словосочетание было приспособлено к инте¬
ресовавшим его инструментам мемориализации «спонтанно»
(Нора 19996: 72).
В действительности понимание замысла Нора возможно только
при учете его видения памяти как живой традиции, инструмента
формирования идентичности и ее отношений с историописанием,
деформировавших не только память, но и историю. «Истинная
память» — это «...жизнь, носителями которой всегда выступают
живые социальные группы, и в этом смысле она находится в про¬
цессе постоянной эволюции, она открыта диалектике запоминания
и амнезии, подвластна всем использованиям и манипуляциям,
способна на длительные скрытые периоды и внезапные оживления»
70
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
(Нора 1999а: 20). Результатом встречи истории и памяти становится
экстериоризация последней в форме публичных учреждений и ком-
меморативных жестов, призванных сохранять репрезентации про¬
шлого, раз живая связь с ними утрачена. «Если бы мы сами про¬
должали населять нашу память, нам было бы незачем посвящать
ей особые места. Они бы не существовали, потому что не было бы
памяти, унесенной историей. <...> Как только появляется след, дис¬
танция, медиация — мы более не в истинной памяти, но в исто¬
рии», — писал Нора (Нора 1999а: 19).
Зацикленность на «останках» прошлого парадоксальна для
общества, идентичность которого больше не нуждается в обосно¬
вании историей, но, напротив, нацелена на будущее. Нора объясняет
ее не только произошедшими изменениями в структуре общества,
но также усилиями нескольких поколений историков по присвое¬
нию коллективной памяти. Историография XIX в., поставившая
в центр архив и документ как воплощенное свидетельство про¬
шлого, изменила природу того, что обществу следовало помнить
о себе. Представление о радикальной роли историографии в транс¬
формации способов обращения с прошлым нашло отражение в со¬
держании «Мест памяти» — ей посвящен специальный раздел во
втором томе. Сам Нора, кроме вводных и заключительных статей,
написал две работы об историке Эрнесте Лависсе для первого и вто¬
рого тома.
Для Нора Лависс — это типичный пример историка-позитиви-
ста, работы которого сформировали память нескольких поколений
французов. Кроме как автор педагогических трудов, Лависс известен
как редактор «Истории Франции» в 27 томах, для подготовки ко¬
торой он собрал команду из французских академиков. Не правда
ли, в этом есть что-то знакомое? Нора показывает, что, хотя Лависс
и его коллеги претендовали на подлинную научную беспристраст¬
ность, их взгляд на историю был сентиментален и обусловлен
специфической памятью о национальных истоках Франции (Хаттон
2003: 352-353). В критике трудов Лависса, однако, содержится тот
же привкус ностальгии, которым приправлено все издание. В со¬
временном мире невозможно всерьез писать многотомную историю
Франции. Повторение этого жеста может быть лишь в форме рас¬
сказов об «останках» — «местах памяти» Франции.
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
71
Утрата «истинной памяти», с точки зрения Нора, оборачивается
принуждением к ней. В этом процессе он выделяет три взаимо¬
связанных аспекта:
• всеобщая озабоченность сохранением любых свидетельств
прошлого (память-архив);
• индивидуализация и психологизация памяти, понимаемой
как обязанность (память-долг);
• ощущение радикального разрыва с прошлым (память-дис¬
танция).
Живая традиция, в его понимании, не нуждалась в дотошной
фиксации: большинство письменных свидетельств о прошлом было
оставлено не для будущих историков. Современный «культ доку¬
мента» порождает фиксацию мельчайших деталей современной
жизни, внимание к голосу «среднего человека», бум устной истории
и погонные километры документов, не подлежащих уничтожению.
Эту озабоченность архивом французский историк понимает как
«выражение терроризма историоризированной памяти» (Нора
1999а: 32). Точно так же, в противовес изощренному постмодер¬
нистскому историописанию, память, понятая как долг, порождает
множество частных историй, создаваемых представителями самых
мелких социальных групп во вполне позитивистском духе. Типич¬
ным в этом смысле является генеалогический бум, захвативший
почти каждую семью. Наконец, в противоположность памяти-тра¬
диции, озабоченной истоками и понимавшей себя как непрерыв¬
ность, новая память-история везде видит разрывы: «Прошлое дано
нам как радикально иное, оно — это тот мир, от которого мы от¬
резаны навсегда» (Нора 1999а: 36).
«Места памяти» находятся в точке пересечения истории и па¬
мяти, порождаются навязчивым желанием помнить. В какой-то
степени любое место, отсылающее к прошлому, можно было бы
назвать местом памяти. Такая операция, однако, не соответствует
замыслу Нора: в этом случае достаточно было бы предпринять
простое исследование истории мемориальных комплексов. Опре¬
деляющим для автора проекта является не какое-то особенное
качество того или иного объекта, а интенция общества помнить.
«Места памяти» включают в себя три аспекта — материальный,
символический и функциональный. До тех пор пока материальный
72
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
объект — даже такой, казалось бы, переполненный прошлым, как
архив — не приобретет символическую ауру и не будет служить
задаче кристаллизации воспоминаний, он не может быть назван
lieu de memoire. Это относится, например, к большинству археоло¬
гических или геологических памятников: несмотря на бремя ты¬
сячелетней истории, полное отсутствие желания помнить исключает
их из сферы интереса авторов «Мест памяти». Напротив, абстракт¬
ное понятие «поколение» идеально подходит для него: оно мате¬
риально по демографическому содержанию, функционально, по¬
скольку осуществляет передачу воспоминания, и символично, так
как через опыт небольшой группы его представителей способно
репрезентировать большинство (Нора 1999а: 40).
Концептуализировать понятие lieux de memoire Нора попытался
только после окончания проекта, в предисловии к третьему тому.
В нем он признается, что до конца не был уверен в реализуемости
поставленной задачи и способности основного термина сохранять
свою эвристическую ценность при обращении к сюжетам, имею¬
щим характер «общих мест». С одной стороны, редактор антологии
жаловался на непредсказуемый эффект интенсивного распростра¬
нения понятия: его стали использовать преимущественно для
разговора о материальных и памятных местах, сведя все много¬
образие смыслов к наиболее понятному и банальному (Нора 19996:
68). Между тем для замысла проекта принципиально было сопо¬
ложение двух порядков реальности: материальной («вписанной
в пространство, время, язык, традицию») и «чисто символической,
являющейся носителем истории». С другой стороны, по мере ус¬
ложнения задачи и само понятие потеряло определенность, ус¬
ложнилось настолько, что в какой-то мере перешло в разряд ме¬
тафор (Нора 19996: 73).
В результате формулировка, которую Нора дал lieux de memoire
в финальной статье, страдает неопределенностью и расплывчато¬
стью. Она почти в той же мере не годится для теоретического обо¬
снования в работе молодого ученого, что и цитата про «останки»
из тома «Республика». «...Место памяти — всякое значимое един¬
ство, материального или идеального порядка, которое воля людей
или работа времени превратила в символический элемент наследия
некоторой общности». Если разобраться, под это определение
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
73
подходит все что угодно. Тем более что механизм отбора («эксгу¬
мации») объектов исследования описан еще более туманно. Исто¬
рикам полагается искать среди элементов наследия разных по¬
рядков «нечто общее», что «спонтанно и более или менее смутно
распознает в нем каждый» (Нора 19996: 79).
Методологические указания такого рода — далеко не лучшее
подспорье для начинающего исследователя. Для того чтобы понять,
как этот французский проект стал одним из самых известных ис¬
следований в memory studies, читателю необходимо познакомиться
со списком всех созданных для него очерков, а также со статьями,
переведенными на русский язык и изданными в сборнике «Фран¬
ция — память» в 1999 г. Здесь я очень коротко остановлюсь на ис¬
следовании Мишеля Винока о Жанне д’Арк как французском месте
памяти, надеясь, что читатели заинтересуются и этой работой,
и всеми остальными.
Жанна д’Арк — одно из самых очевидных «мест памяти» Фран¬
ции: «Каждый французский гражданин в определенный момент
своей жизни узнает, как бедная девушка из Домреми, которой ни¬
что не предвещало первых ролей, вошла в число немногих избран¬
ных великих, оставивших неизгладимый след в истории, повлияла
на ход исторических событий и избежала забвения (Винок 1999:
226).
Задача Винока состояла не в том, чтобы написать еще одну
историю Орлеанской девы и даже не в том, чтобы проследить, как
на протяжении веков изменялась память о Жанне, в которой пе¬
риоды забвения чередовались с моментами небывалой славы.
В действительности историка интересовала инструментализация
памяти о Жанне и включенные в нее идеологические импликации.
Он убедительно показывает, как на протяжении столетий разные
силы внутри Франции «присваивали» себе Жанну, превращая ее то
в католическую святую, то в воплощение народного патриотизма,
то в покровительницу крайнего национализма. Объединенные
в одной статье, они помогают ему выйти на вопрос о функциях
Жанны д’Арк как «места памяти».
В той же степени, в какой Жанна способна служить знаменем
самых разных политических и идеологических распрь, она может
воплощать в себе идею Франции. Историк выделяет три функцио-
74
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
нальных элемента, которые придают репрезентациям Жанны па¬
радигматический характер:
• Франция всегда была разобщена, ее история — это история
гражданской войны, иногда неявной, поскольку индивиду¬
ализм французов неистребим.
• История Франции — это чудо, раз она способна существовать
в постоянной анархии и занимать первенствующее место
между другими народами. Для католиков она «старшая дочь
церкви», для левых — «святилище Революции», для респу¬
бликанцев — «мать народов» и т. д.
• Поскольку все беды Франции предопределены структурно,
ее всегда спасает человек, ниспосланный Провидением
(Жанна д’Арк или генерал де Голль) (Винок 1999: 290-293).
Работа Винока в гораздо большей степени, чем многочисленные
теоретические статьи Нора, способна послужить для начинающего
исследователя путеводной нитью. Он предлагает очевидные и легко
воспроизводимые исследовательские ходы: выделить в разнообра¬
зии текстов те, что были созданы разными акторами, и найти в них
идеологические интенции их создателей; посмотреть, как менялся
коммеморативный ландшафт мест, связанных с памятью о Жанне,
на протяжении веков и т. д. Остается открытым вопрос, каким об¬
разом эта блестящая работа связана с теоретическими постулатами
редактора «Мест памяти». Нужны ли Виноку размышления Нора
об ускорении истории и утрате памяти для того, чтобы деконстру-
ировать миф о Жанне?
Работа Винока показывает не только перспективность понятия
«место памяти», поскольку с его помощью он действительно фор¬
мулирует новое знание о Франции, но и его ограничения. В каком-то
смысле проект «Места памяти» страдает от той же болезни, которой
подвержены многие исследования в рамках memory studies: в них
сделан упор на историю конструирования объекта коммеморации,
в то время как рецепция является предметом умолчания. Многие
из авторов «Мест памяти» игнорируют теоретические рассуждения
редактора проекта, предпочитая работать в привычном им стиле:
они с азартом деконструируют смыслы, вкладывавшиеся в течение
столетий в тот или иной объект, но при этом избегают помещать
его же в ландшафт памяти современной им Франции.
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
75
«Места памяти» на других языках
Как уже отмечалось, критики проекта часто упрекали Нора за
то, что его исследование получилось исключительно французским,
с трудом поддающимся переводу и еще в меньшей степени копи¬
рованию. Сложности начинаются уже при переводе понятия lieux
de memoire на другие языки, что признавал и сам Нора. Разумеется,
проблем не возникает в романских языках: например, статья Марио
Исненги об итальянских местах памяти носит название “Italian
luoghi della memoria” (Isnenghi 2010).
На английский язык латинское выражение loci memoriae обычно
передают как backgrounds of memory, при издании перевода фран¬
цузской антологии было выбрано словосочетание realms of memory,
в то время как многие ученые предпочитают использовать понятие
sites of memory. Например, известная книга Джея Винтера о ком-
меморации Первой мировой войны называется “Sites of Memory,
Sites of Mourning: The Great War in European Cultural History” (Win¬
ter 1998). Хуже всего понятие передается на немецкий язык, по¬
скольку, кроме неопределенности с выбором точного слова для
многозначного французского lieux — сам Нора при подготовке не¬
мецкого издания прибегал к словам Herde («очаги»), Knoten («узлы»),
Kreuzungen («перекрестки») и даже Bojen («буйки»), — затруднение
вызывает также передача memoire, так как предполагает выбор
между Erinnerung («воспоминание») и Gedachtnis («память»), см.
главу 4.
Другая методологическая проблема — перенос предложенной
модели из пространства нациостроительства, внутри которой легко
вообразить британские, португальские, американские и т. д. «места
памяти», в более широкий или более узкий контекст. С одной сто¬
роны, можно представить себе исследование «мест памяти» Европы:
будет ли оно простой суммой «мест памяти» тех стран, которые
объединены этим понятием, или возможно помыслить другую
таксономию? Точно так же, если вернуться к работе Хальбвакса о
Святой Земле и вообразить себе проект «мест памяти» христиан¬
ского мира, как много в нем останется от первоначального замысла
Нора? С другой стороны, легко вообразить исследование «мест
памяти» одной деревни: будет ли оно включать и национальные
76
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
места памяти, или их придется исключить из него? Я оставлю эти
вопросы открытыми, давая возможность читателям выполнить
задание 6.
Перевод на русский язык понятия lieux de memoire встречается
с теми же сложностями, что и с передачей на английский. Поскольку
в единственном издании отрывков из антологии Нора оно передано
как «места памяти», в российской историографии в основном оно
закрепилось в такой форме. В то же время, если мы заглянем в пе¬
ревод книги Хаттона, то обнаружим, что в главе о Нора переводчик
использует словосочетание «пространства памяти» (Хаттон 2003:
348). Наиболее экзотическим является вариант «урочища памяти»,
предложенный франко-швейцарским историком и филологом-
славистом, специалистом по русской литературе Жоржем Нива. Во
всех трех случаях, однако, выбраны слова, передающие в основном
пространственное измерение памяти. Отсюда возникает не только
путаница в понятиях «место памяти» и «памятное место», но и зна¬
комая уже по сетованиям Нора проблема одностороннего понима¬
ния самой концепции. Обращаясь к памятникам и другим
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
77
мемориальным местам, реально существующим в пространстве,
последователи французского проекта зачастую игнорируют функ¬
циональную и символическую составляющие lieux de memoire, на
которых настаивал Нора.
Российские «места памяти», разумеется, не обойдены внима¬
нием исследователей. Наиболее амбициозный, но так и не закон¬
ченный проект, был предпринят под руководством Нива. Его со¬
авторами стали российские историки и филологи. Первый том,
вышедший в 2007 г. на французском языке, имел подзаголовок
«География русской памяти», который уже свидетельствует о специ¬
фике понимания основного термина, далеко не совпадающего
с идеями Нора. Том посвящен городам (Москве, Санкт-Петербургу,
Перми, Великому Новгороду, Костроме, Ярославлю и т. д.), музеям
(в том числе, есть глава о династии Пиотровских, директорах Эр¬
митажа), церквям, библиотекам, университетам, местам воинской
славы и т. д. Запланированные далее тома об истории, мифологии
и патологии русской памяти так и не увидели свет.
Гораздо более известной работой, к тому же переведенной на
русский язык, является исследование немецкого историка Бенья-
мина Шенка «Александр Невский в русской культурной памяти:
святой, правитель, национальный герой (1263-2000)». Книга рас¬
сматривает историю памяти об Александре Невском с конца XIII
до конца XX в., изменения которой автор описывает как «движение
интерпретаций, смысловых “уплотнений”, “смещений” и “выпаде¬
ний”, а также воспоминания и забвения, отражающие изменения
в самоописании “мы-группы”» (Шенк 2007:10). Вместо того чтобы
создавать очередную «энциклопедию», он рассматривает один
символ, вокруг которого строится идентичность.
В этой книге немецкому историку удалось успешно совместить
несколько теоретических предпосылок в концептуальном фунда¬
менте своей работы. Кроме работы Нора, у которого он заимствует
понятие «место памяти» и идею рассмотрения исторического пер¬
сонажа в качестве «фигуры памяти» (он прямо пишет, что Александр
Невский может быть рассмотрен как «духовный брат» святой
Жанны, отсылая читателей к статье Винока), для него также важны
исследования национальной идентичности (Бенедикт Андерсон).
В отличие от Нора и его соавторов, для которых том «Франция»
78
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
в каком-то смысле остается прологом к тому «Нация», Шенк вы¬
ходит за рамки вопроса о процессе создания национальных со¬
обществ, поскольку «имперский» нарратив об Александре невоз¬
можно рассматривать без обращения к допетровскому и т. д.
Способом избегнуть жесткой привязки к проблематике национа¬
лизма становится для него обращение к этнологическому термину
«мы-группа» (Георг Эльверт). С помощью этого термина можно
описывать различные социальные группы, сплоченность которых
базируется на субъективном признании принадлежности к группе
ее членов, в том числе на представлениях об общем прошлом (Шенк
2007: 14).
Кроме того что Шенк предлагает своим читателям чрезвычайно
увлекательную историю, эта книга является образцом того, как
избранная теоретическая рамка в действительности помогает исто¬
рику ответить на поставленный исследовательский вопрос, а не
выступает в качестве украшения к вводной части. Во введении
Шенк пишет не только о Нора, но также о Хальбваксе (см. главу 2)
и работах супругов Ассман (см. главу 4), влияние идей которых
действительно чувствуется в исследовании. Я настоятельно реко¬
мендую читателю, решившему попробовать свои силы в написании
исследовательской работы, познакомиться с параграфом «Теоре¬
тические основания и определения понятий», даже если он не со¬
бирается использовать концепцию мест памяти. С моей точки
зрения, этот параграф является образцовым примером введения
к историческому исследованию.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Посмотрите план антологии «Места памяти» (Франция - память. СПб.,
1999. С. 324-326). Попробуйте классифицировать места памяти в со¬
ответствии с принципами, предложенными П. Нора.
2. Критики проекта П. Нора упрекают его во множестве умолчаний. Каких
очевидных, на ваш взгляд, сюжетов не хватает? Попробуйте объяснить
почему.
3. Основной инструмент критики Т. Джадта проекта «Места памяти» - его
контекстуализация через описание обстоятельств создания антологии
Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора
79
и биографий ее авторов. Прочитайте полностью статью «“Места памяти”
Пьера Нора: чьи места? Чья память?», а затем проделайте с ней ту же
операцию. Когда и с каких позиций она написана, в какой степени ее
можно объяснить карьерными траекториями и политическими взглядами
автора? Проверьте себя, познакомившись с биографией Т. Джадта
(начать можно со статьи в Википедии).
4. Почему П. Нора высказывает озабоченность интенсивным распро¬
странением понятия lieux de memoire, включением его в словари и в
юридическую практику?
5. Перечитайте определение «места памяти», данное П. Нора в томе
«Франция». В какой мере оно устраивает вас в качестве аналитического
понятия? Попробуйте сформулировать свое определение, опираясь на
текст параграфа, а также на предложенную для чтения статью Моны
Озуф о Пантеоне.
6. Представьте себя редактором проекта «Места памяти Европы». Пред¬
ложите принципы отбора сюжетов в этот проект, а затем на их основании
составьте оглавление к такому изданию. После этого прочитайте с. 24-25
из статьи Пима ден Боера. Сравните предложенный им список со своим.
Для чтения:
Джадт Т. (2004). «Места памяти» Пьера Нора: чьи места? Чья память? //
Ab Imperio. № 1. С. 44-71.
Нора П. (19996). Как писать историю Франции // Франция - память.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 66-94.
Озуф М. (1999). Пантеон. Эколь Нормаль мертвых // Франция - память.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 151-185.
Шенк Б. (2007).Александр Невский в русской культурной памяти: святой,
правитель, национальный герой (1263-2000). М.: Новое литературное
обозрение. С. 11-20.
Boer Р., den (2010). Loci memoriae - Lieux de memoire // Cultural
Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by
A. Erll, A. Nunning. Berlin; New York: De Gruyter. P. 24-25.
Глава 4
Культурная память.
Ян и Алейда Ассман
Гейдельбергская школа культурологии
Если «места памяти» представляют собой редкий пример успеха
целой группы талантливых историков, объединенных одним еще
более талантливым редактором, то концепция культурной памяти
связана с именами двух немецких ученых. Работа, начатая ими
вдвоем в середине 1980-х гг., в настоящее время продолжается
в основном усилиями Алейды Ассман, опирающейся на термино¬
логический аппарат, первоначально предложенный ее мужем Яном.
О формировании этой концепции, однако, следует говорить в кон¬
тексте Гейдельберской школы культурологии, оказавшей как тео¬
ретическое, так и институциональное влияние на супругов Ассман.
Ян Ассман родился в 1938 г. Его подготовка в качестве археолога
и египтолога проходила в университетах Мюнхена, Парижа, Гей¬
дельберга и Геттингена. С 1967 по 1971 г. он работал на раскопках
в Каире, затем — в Фивах и Луксоре до 1978 г. Академическая ка¬
рьера Ассмана тесно связана с Гейдельбергским университетом,
где он завершил хабилитацию в 1971 г. и работал профессором до
выхода на пенсию в 2003 г.
Алейда Ассман родилась в 1947 г. в семье евангелического те¬
олога Гюнтера Борнкамма. С 1966 по 1972 г. она изучала египтоло¬
гию и английскую литературу в Гейдельбергском и Тюбингенском
университетах. В 1977 г. защитила в Гейдельбергском университете
диссертацию по филологии. В 1992-м завершила хабилитацию в
Гейдельбергском университете. С 1993 г. является профессором
английской филологии и сравнительной истории литератур в Кон-
станцском университете.
Таким образом, интересы героев этой главы первоначально
лежали в экзотической для исследователей memory studies
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
81
области — египтологии, археологии и культурологии с фокусом на
высоких культурах древности и английской литературе. Это на¬
ложило отпечаток на рассматриваемые ими примеры, а также те¬
оретические основы их работ, опирающихся преимущественно на
классические труды культурологов и филологов, ранее не входив¬
шие в список канонических текстов memory studies.
Для того чтобы понять, как могла концепция немецких ученых,
выросшая на маргинальной для исследователей памяти почве Древ¬
него Востока, в короткое время завоевать ведущие позиции в рам¬
ках memory studies, нужно посмотреть на институцию, в которой
она возникла. Институт египтологии в Гейдельбергском универси¬
тете, где работал Я. Ассман, — это площадка широкого междисци¬
плинарного сотрудничества и методологического синкретизма.
С 1930-х гг. в нем базируется международный междисциплинарный
семинар, притягивающий к себе ученых из разных стран, занима¬
ющихся исследованиями культуры. В этом смысле симптоматично,
что основными предшественниками для Я. Ассмана являются ис¬
следователи культуры — от Иоганна Готфрида Гердера и Карла
Маркса до Клиффорда Гирца и Мэри Дуглас.
Важным шагом к формулированию концепции культурной па¬
мяти (kulturelles Gedachtnis) стал сборник статей 1988 г. «Культура
и память» (“Kultur und Gedachtnis”), вышедший под редакцией
Я. Ассмана и его коллеги археолога Тонио Хёльшера. Этот том вы¬
рос из работы коммеморативного характера, приуроченной
к 600-летию Гейдельбергского университета. Основной замысел
группы ученых, объединившихся вокруг этого тома, был связан
с идеей о том, что культурологические исследования должны стать
одним из главных инструментов объяснения современного мира.
Результатом работы группы стали многочисленные публикации
первой половины 1990-х гг., посвященные разным аспектам ис¬
следования культуры, одной из которых стала книга Я. Ассмана
«Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая
идентичность в высоких культурах древности».
Начальной точкой своего интереса к проблематике памяти Ян
Ассман назвал работу в 1984-1985 гг. группы «Археология литера¬
турной коммуникации» в Берлинском научном коллегиуме, в ко¬
торой участвовала и его жена Алейда Ассман. Там же он признается,
82
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
что запланированная ими совместная работа, разросшись до
150 страниц, вынудила их разделить усилия. Сам Я. Ассман оста¬
новился на исследовании высоких культур древности, а А. Ассман
написала диссертацию «Пространства памяти. К конструированию
культурного времени», посвященную формам и функционированию
памяти от античности до постмодерна. Позднее она перешла на
изучение уникального опыта мемориальной культуры Германии.
Главное достоинство работ культурологов — это разработанный
с немецкой тщательностью терминологический аппарат. Читатель,
стремящийся к точности или мечтающий о быстром постижении
того, что хотел сказать автор, и, возможно, уже отчаявшийся после
метафор Хальбвакса и Нора, наконец может удовлетворить свою
любовь к порядку. Я. Ассман во введении дает определения всем
своим основным понятиям, а затем подробно раскрывает их в пер¬
вой главе книги. Так, уже на 19 странице (русского издания) он дает
разъяснения, «что подразумевается под понятием “культурная
память”, почему это понятие законно и осмысленно, какие явления
целесообразнее описывать с его помощью, чем без него, и в чем
оно выходит за рамки привычного понятия “традиции”» (Ассман Я.
2004:19).
Эта кажущаяся простота теоретической части работы может
ввести в заблуждение. Сложность концепции культурной памяти
заключается в самом немецком языке, а также гейдельбергской
интеллектуальной традиции как таковой. Яснее всего это видно на
примере основного термина Я. Ассмана kulturelles Geddchtnis («куль¬
турная память»). При его переводе на другие языки теряется часть
смысла, поскольку сама традиция понимания слова kulturell в не¬
мецком языке отлична, допустим, от английского cultural. Если
англо-американская историография использует culture как общий
термин для обозначения идей, обычаев и искусства в контексте
общества и цивилизации, то немецкая Kultur относится к интел¬
лектуальным и художественным достижениям сообщества. Еще
больше сложностей с понятием Geddchtnis, более широким, чем
memory/ «память». Последний термин описывает процесс, прежде
всего относящийся к воспроизводству усвоенных знаний. В то время
как немецкое слово Geddchtnis относится не только к сохранению
того, что было выучено, но также к чувственным впечатлениями.
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
83
Таким образом, сама логика языка приводит к тому, что Я. Ассман,
разделяя внутреннюю и внешнюю память, помещает в последнюю
инструменты, материальные символы, письменные техники и ин¬
ституты, т. е. достижения культуры (Harth 2010: 87-90).
Я. Ассман посвящает свою книгу трем темам: обращению с про¬
шлым, политическому воображению и складыванию традиции. Для
упрощения понимания основной концепции он вводит понятие
«коннективная структура», с помощью которого описывает основ¬
ное качество культуры — способность связывать индивидуальных
субъектов на основе норм (законов) и нарративов (воспоминаний).
Он пишет: «...нормативный и нарративный, аспект поучения
и аспект рассказа создают принадлежность, или идентичность,
дают отдельному человеку возможность говорить “мы”» (Ассман Я.
2004:15-16). «Коннективная структура» является основой общего
знания, опирающегося на подчинение норме и общее прошлое.
Исходя из этого понятия, он выстраивает свой центральный вопрос:
как общества помнят и как воображают себя.
Ян Ассман читает Юрия Лотмана
и Мориса Хальбвакса
Ян Ассман возводит генеалогию своего теоретического аппарата
к понятию «культурная память», предложенному Юрием Лотманом
(Ассман Я. 2004: 21). Этот момент важно не упустить из виду, по¬
скольку семиотическая концепция памяти радикально отличается
от ее хальбваксовского понимания. Лотман видел в культуре «кол¬
лективный интеллект и коллективную память», но использовал эти
понятия исключительно метафорически, не прибегая к коллектив¬
ной психологии. Для него они служили способом объяснения функ¬
ционирования текста (в широком смысле). Память культуры — это
не пассивное хранилище смысла, а механизм хранения и передачи
сообщений о прошлом. В пространстве культуры общие для нее
тексты хранятся и актуализируются, причем только в пределах
некоторого «смыслового инварианта», поэтому трансформация
текстов происходит в рамках закономерностей, определяемых са¬
мой культурой.
84
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Лотман также разделял память на «информативную», сохраня¬
ющую итоги некоторой познавательной деятельности, и «творче¬
скую». Примером последней является для него память искусства,
в которой постоянно происходят процессы актуализации и забве¬
ния: «Актуальные тексты высвечиваются памятью, а неактуальные
не исчезают, а как бы погасают, переходя в потенцию». Примером
постоянной диалектики актуализации / забвения служит для Лот¬
мана синусоидный характер актуальности Пушкина для русского
читателя в течение XIX в., а также «воспоминание» об античности,
случившееся в Европе в эпоху Возрождения (Лотман 1992:200-202).
Влияние концепции московско-тартуской семиотической школы
на Ассмана гораздо больше, чем простое заимствование термина.
Взяв у Хальбвакса понимание основного механизма формирования
памяти как коммуникации (о чем ниже), он включил в сферу об¬
ращения смыслов все богатство культуры, мимо которого прошел
французский социолог. Для Ассмана важно понять, как происходит
переход от коммуникативной памяти группы к памяти культуры,
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
85
и в этом смысле лотмановская «культурная память» дает ему на¬
чальную точку. При этом, если Лотман в основном опирался на
«творческую память» искусства, Ассман понимает эту сферу шире,
включая в нее также традицию и обряд. Возможно, поэтому он не
пользуется предложенным Лотманом разграничением разных сфер
культурной памяти.
Ассман пишет, что прочитал книгу Хальбвакса в 1986 г., когда
она, по его признанию, все еще была основательно забыта, по край¬
ней мере в Германии. С точки зрения Дитриха Харта, исследователя
творчества Ассмана, работа французского социолога повлияла на
трансформацию термина. Первоначальное понятие «культура па¬
мяти» (Gedachtniskultur) превратилось в «культурную память» по
аналогии с «коллективной памятью» Хальбвакса, позволяющей
различать индивидуальное и социальное измерения обращения
с прошлым (Harth 2010: 91).
Важность идей Хальбвакса для его собственного проекта Ассман
подчеркивал неоднократно, посвятив разбору трудов французского
социолога особый параграф в первой главе книги «Культурная па¬
мять. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность
в высоких культурах древности». Именно у немецкого культуролога
работы Хальбвакса (он рассматривает всю совокупность трудов
социолога, специально останавливаясь на «Легендарной топогра¬
фии...») действительно становятся основой для дальнейших раз¬
мышлений, а не источником цитат. Главное, что берет Ассман из
концепции коллективной памяти, — это тезис о коммуникации как
об основном механизме социального конструирования прошлого.
В то же время он критически относится ко многим постулатам
Хальбвакса, а также сетует на его методологию: социолог «не в си¬
лах стряхнуть чары бергсоновских магических слов, таких как
“жизнь” и “действительность”» (Ассман Я. 2004:47).
В отличие от Хальбвакса, оперировавшего понятиями «группо¬
вая память», «память нации» и т. п., Ассман не считает коллектив
субъектом памяти (Ассман Я. 2004: 37). Взяв у Хальбвакса идею
формирования памяти в процессе коммуникации, он обратил вни¬
мание, что французский социолог практически не писал о роли,
которую в складывании коллективной памяти играет письмо. По¬
скольку в центре внимания Ассмана находится функционирование
86
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
культуры, он переносит рассмотренные Хальбваксом процессы
функционирования коллективной памяти на культуру. При этом
он вполне справедливо отмечает, что при таком переходе понятие
«память» неизбежно приобретает характер метафоры, т. е. исклю¬
чается из поля коллективной психологии, в котором его видел сам
Хальбвакс. Для Ассмана такой переход, так же как метафорический
характер основного термина, не является проблемой. В поздней
работе 2010 г. он уточняет, что в его собственном понимании память
является не метафорой, а «метонимией, основанной на матери¬
альном контакте между вспоминающим разумом и напоминающим
объектом», и поясняет: «Вещи не “имеют” собственной памяти, но
способны напоминать нам о чем-то, быть триггерами для памяти,
потому что они сохраняют воспоминания, которые мы сами по¬
мещаем в них» (Assmann J. 2010: 111).
Если для позднего Хальбвакса центральным было противопо¬
ставление памяти и историографии как «научной» реконструкции
прошлого, то Ассмана интересуют конкретные механизмы, обе¬
спечивающие взаимосвязь социальных общностей. В этом смысле
историописание для него — часть культурной памяти, как изо¬
бражения, архитектура, обряд и т. д., но часть специфическая. При¬
водя в пример работу историка культуры Питера Бёрка «История
как социальная память», в которой тот рассматривает историогра¬
фию как особый род социальной памяти, Ассман остается где-то
между ним и Хальбваксом. «Научность» понимается им как ней¬
тральность по отношению к идентичности помнящей группы,
поэтому, видя в историографии «научную» форму обращения
с прошлым, он использует для ее объяснения важное для него раз¬
личение между «холодной» и «горячей» памятью, которое он соз¬
дает, отталкиваясь от идей антрополога Клода Леви-Стросса (Ас¬
сман Я. 2004: 45).
Согласно антропологу, «холодные» общества стремятся «унич¬
тожить влияние, которое могли бы иметь исторические факторы
на их равновесие и устойчивость». Напротив, «горячие» общества
характеризуются «жадной потребностью в изменении», они ис¬
пользуют историю как движущую силу эволюции. Развивая оппо¬
зицию Леви-Стросса, Ассман приходит к выводу, что различие
между «холодными» и «горячими» обществами состоит не
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
87
в отсутствии или наличии исторического сознания, а в разных спо¬
собах обращения с прошлым, которые можно назвать разными
типами памяти. Если у Леви-Стросса предложенная им схема ка¬
салась простого различения первобытного и цивилизованного,
бесписьменного и литературного, Ассман применяет ее более ши¬
роко. Приводя в пример Древний Египет и средневековое еврейство
как письменные общества, очевидным образом «сопротивляющи¬
еся» истории, он призывает «понимать горячее и холодное как
опции культуры, иначе говоря, политические стратегии памяти,
данные всякий раз независимо от письма, календаря, развития
ремесел и способа правления» и поясняет: «В рамках “холодной”
опции письмо и государственная организация также могут стать
средствами замораживания истории» (Ассман Я. 2004: 73).
Размышляя о разных опциях обращения с прошлым, Ассман
приходит к очень важному выводу о том, что культуры памяти не
обязательно должны быть «горячими» или «холодными» целиком:
в них могут присутствовать как те, так и другие элементы. «Холод¬
ная» опция обращения с прошлым заключается в том, чтобы за¬
фиксировать повторяющееся прошлое, помнить о преемственности,
а не о разрыве. «Горячая» опция, напротив, призвана придавать
88
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
прошлому характер уникальности — идет ли речь о становлении
и росте или же о деградации (Ассман Я. 2004: 72-74). С точки зре¬
ния Ассмана, «холодная» память — скорее принадлежность власти,
утверждающей свою устойчивость через незыблемость прошлого.
Древнеегипетские списки царей, уводящие в глубь прошлого на
тысячи лет, на самом деле служат лишь для того, чтобы показать,
что все остается незыблемым, они делают прошлое доступным, но
не располагают к тому, чтобы им заниматься. Крайним случаем
такого «сопротивления» истории являются формы предписанного
забвения в Римской империи или фантазии Оруэлла. Он цитирует
«1984» как идеально-типическое описание «холодной памяти»:
«История остановилась. Есть лишь вечное настоящее, в котором
партия всегда права» (Ассман Я. 2004: 77).
«Горячая» опция обращения с прошлым свойственна «под¬
властным, угнетенным, непривилегированным», поскольку только
таким образом может быть выработано историческое мышление,
ставящее в центр разрывы и переломы. Основной характеристикой
«горячей» памяти является ее способность извлекать из обращения
к прошлому элементы представлений о сегодняшнем дне. Если
«холодная» память существует в виде списка, «горячая» всегда
оформляется в рассказ, в котором прошлое актуализируется и ин-
струментализируется, т. е. вспоминается не ради него самого,
а ради потребностей настоящего.
Ассман предлагает отказаться не только от хальбваксовского
противопоставления истории и памяти, но также от разделения на
«объективную» историю и ценностно нагруженный миф. Описы¬
ваемые им формы памяти включают в себя и историю и миф, по¬
тому что служат одной и той же функции — обоснованию настоя¬
щего. В качестве примера он приводит историю падения крепости
Массады. Являясь историческим событием, сегодня она служит
обосновывающей историей государства Израиль: развалины кре¬
пости стали местом присяги новобранцев израильской армии.
Анализируя этот пример, Ассман отмечает, что смысл истории
Массады не в объективном изложении событий, а в повествовании
«о тех добродетелях одновременно религиозного и политического
мученичества, к которым хотят обязать молодых израильских сол¬
дат» (Ассман Я. 2004: 81).
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
89
Исходя из такого понимания функции мифа, Ассман дает ему
определение: «Миф — это история, которую рассказывают для того,
чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, ко¬
торая не просто соответствует действительности, но еще и при¬
тязает на нормативность и обладает формирующей силой...». В этом
смысле неважно, лежит ли в основании мифа легендарное или ре¬
альное событие и как далеко оно отстоит от дня сегодняшнего.
Холокост — это исторический факт, являющийся в современном
Израиле мифом, в котором государство черпает важную часть своей
легитимации, напоминая о нем с помощью памятников, публичных
церемоний, ритуалов, школьной программы и т. д. Кроме обосно¬
вывающей функции, у мифа есть обратная сторона, которую Ян
Ассман вслед за Гердом Тайсеном называет «контрапрезентной».
Ее смысл заключается в выявлении недостатков настоящего через
апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону
упадка и разрыва.
По мнению Ассмана, любой миф может выполнять и обосно¬
вывающую, и контрапрезентную функцию. Эти характеристики
относятся не к его содержанию, а к «формирующему представлению
о себе и направляющему деятельность значению, которые он имеет
для настоящего, к той ориентирующей силе, которой он обладает
для группы в определенной ситуации». Способность мифа направ¬
лять деятельность культуры, внутри которой он функционирует,
Ассман называет «мифомоторикой». В качестве примера он при¬
водит обосновывающие и контрапрезентные мифы национали¬
стических движений XIX в., ссылаясь на работу Эрика Хобсбаума
об изобретении традиций (см. главу 5).
Введя понятие «мифомоторика», Ассман, кажется, решает по¬
ставленный Хальбваксом вопрос о разделении истории и памяти
через разделение функций: историописание, если оно поддержи¬
вает «горячую» опцию, само является формой памяти. Разграни¬
чение для Ассмана находится в веберовской концепции научности:
наука безоценочна и может порождать только знания. Подлинно
научная история и память «не имеют ничего общего». Споря с со¬
временными ему призывами сделать историю «ориентирующим
знанием», ученый писал: «От профессора истории никто не ожи¬
дает, что он станет “осмыслять воспоминание, чеканить понятия
90
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
и толковать прошлое”. Тем не менее остается фактом, что такой
процесс происходит. Этим описывается не задача историка, а функ¬
ция социальной памяти. Но эта последняя, в отличие от специаль¬
ности историка, есть первичный антропологический факт» (Асс-
ман Я. 2004: 81-82). Эти размышления Ассмана сегодня могут
показаться идеалистичными как с точки зрения современных
тенденций «исторической политики», так и поставленного под
вопрос тезиса о возможности «чистого» знания. В этом смысле
египтология может стать «ориентирующим знанием», несмотря
на сопротивление египтологов, а в книге самого Ассмана легко
прочитываются его политические взгляды. В каком-то смысле он
такой же заложник «позитивного» взгляда на историю, каким был
Хальбвакс, только его «позитивизм» другого рода и относится ско¬
рее к представлению о профессии, чем о методе. Читатель может
продолжить размышлять о «чистой» истории, обратившись к за¬
данию 4.
Коммуникативная и коллективная память
Основной функцией памяти Ян Ассман считает формирование
идентичности как на индивидуальном, так и на коллективном
уровне, причем происходящее во времени. В связи с этим он вы¬
деляет три уровня памяти:
Уровень
Время
Идентичность
Память
Внутренний
внутреннее, субъ¬
ективное
внутреннее «я»
индивидуальная
Социальный
социальное
социальное «я»
как совокупность
социальных ро¬
лей
коммуникативная
Культурный
историческое,
мифическое,
культурное
культурная
культурная
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
91
В поздней работе 2010 г. Я. Ассман прямо писал, что понятие
«коммуникативная память» было выбрано специально, чтобы под¬
черкнуть различие между «коллективной памятью» Хальбвакса
и их с А. Ассман концепцией культурной памяти. Культурная память
является формой коллективной памяти в том смысле, что разде¬
ляется некоторым количеством людей, составляющих коллектив
на основе их принадлежности к определенной культуре (Assmann J.
2010: 110).
Читателю важно запомнить, что сами супруги Ассман считают,
что они не предложили новый термин вместо «коллективной па¬
мяти» Хальбвакса, а уточнили его, подчеркнув различие между
двумя формами процесса воспоминания. Между тем в исследова¬
тельской литературе эти понятия зачастую существуют как взаи¬
моисключающие. В этом есть определенная логика, поскольку за
понятиями стоит апелляция к той или иной теоретической тради¬
ции, однако молодой исследователь всегда может сослаться на ав¬
торитет автора, если вдруг суровый критик поймает его на смеше¬
нии понятий. Главное, чтобы этот воображаемый молодой
исследователь не запутался в них сам.
Я. Ассман выделяет четыре области во внешней по отношению
к индивиду памяти:
• миметическую память, связанную с деятельностью и обу¬
чением через подражание;
• предметную память, т. е. различные слои прошлого, зало¬
женные в окружающих человека вещах;
• коммуникативную память;
• культурную память.
По отношению к первым трем измерениям культурная память
является наиболее общим понятием. В него входят миметические
навыки, когда они приобретают статус обрядов, вещи, если они
отсылают к определенному смыслу (например, памятники), а также
коммуникация во всей ее полноте (Ассман Я. 2004: 19-20).
Коммуникативная память относится к воспоминаниям о не¬
давнем прошлом, которые человек разделяет со своими современ¬
никами. Эта память имеет временное измерение: возникает и ис¬
чезает вместе со своими носителями. Коммуникативная память,
основанная на личной коммуникации и непосредственном
92
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
биографическом опыте, охватывает три-четыре поколения, т. е.
примерно 80 лет (Ассман Я. 2004: 52-54).
Культурная память не связана с непосредственным опытом
индивида, это область формирования смысла. «Прошлое скорее
сворачивается здесь в символические фигуры, к которым прикре¬
пляется воспоминание» (Ассман Я. 2004: 54). Фактическая история
в рамках культурной памяти преобразуется в воссозданную вос¬
поминанием, а та, в свою очередь, становится основанием для обо¬
сновывающего воспоминания. Культурная память связана с про¬
исхождением сообщества, которое воссоздается в памяти через
праздник и ритуал. Так история через воспоминание становится
мифом, но при этом остается реальностью в смысле постоянной
и формирующей силы. Она может существовать бесконечно долго,
но только искусственно, в рамках институций. В отличие от обще¬
доступной сферы коммуникативной памяти, культурная память,
с точки зрения Ассмана, всегда элитарна, имеет своих носителей
и ограничения доступа. Кроме того, она не распространяется сама
собой, а требует специальной заботы и контроля.
В связи с культурной памятью исследователя особенно инте¬
ресовало возникновение письменной традиции. По его мнению,
только с изобретением письма стало возможно появление памяти,
выходящей за пределы передаваемого и коммуницируемого в каж¬
дую отдельную эпоху смысла. Он пишет: «Культурная память пи¬
тает традицию и коммуникацию, но не исчерпывается ими. Только
так можно объяснить разрывы, конфликты, реставрации, револю¬
ции. Это вторжения того, что находится по ту сторону актуализи¬
рованного на данный момент смысла, возвращения к забытому,
возрождения традиции, возвращение вытесненного — типичная
для письменных культур динамика». Диалектика смыслов, формы
запоминания и вытеснения (в том числе, через манипулирование
прошлым, цензуру, уничтожение), а также связанная с ними эво¬
люция технических средств записи, способов хранения культур¬
ного смысла, групп носителей — это еще одна причина, почему
Ассман не был удовлетворен понятием «коллективная память»
Хальбвакса.
Отличия коммуникативной и культурной памяти можно на¬
глядно представить в виде таблицы:
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
93
Коммуникативная память
Культурная память
Содержание
Исторический опыт в рамках
индивидуальных биографий
Мифическая предыстория,
события в абсолютном
прошлом
Формы
Неформальна, слабо оформ¬
лена, естественна, возникает
во взаимодействии, повсед¬
невность
Учреждена, в высокой
степени оформлена, ри¬
туальная коммуникация,
праздник
Средства
Живое воспоминание в ор¬
ганической памяти, непо¬
средственный опыт, устные
рассказы
Устойчивые объективации,
традиционная символиче¬
ская кодировка / инсце¬
нировка в слове, образе,
танце и пр.
Временная
структура
80-100 лет, сдвигающийся
вместе с современностью
временной горизонт в три-
четыре поколения
Абсолютное прошлое ми¬
фической древности
Носители
Неспецифические, совре¬
менники определенной пом¬
нящей общности
Специалисты - носители
традиции
Источник: (Ассман Я. 2004: 58-59).
Основные черты концепции kulturelles Gedachtnis можно сфор¬
мулировать следующим образом:
• разделение устной и письменной коммуникации, соответ¬
ствующее разделению на опыт повседневной жизни и вре¬
мени событий «торжественных»;
• понимание культуры как авторитетного, символически
кодированного «мира смыслов»;
• (коллективная) память как собрание и генератор ценностей,
которые создают идентичность;
• стандартизация коллективно принимаемой «мы-иден-
тичности» через сакрализацию религии, истории, права
и литературной традиции;
• организация письменной культуры в качестве основания для
активного создания и использования канонизируемой тра¬
диции, поддерживаемой аннотациями и интерпретациями.
94
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Алейда Ассман: три уровня памяти
После книги «Культурная память. Письмо, память о прошлом
и политическая идентичность в высоких культурах древности»
Я. Ассман сделал мало нового в теоретическом осмыслении куль¬
турной памяти. Исследования этой проблематики продолжила
А. Ассман, которая внесла значительные коррективы в термино¬
логический аппарат.
Прежде всего, она критикует понятие «коллективная память»
за его «неопределенность» и заменяет его двумя другими — более
общим понятием «социальная память» и более частным — «по¬
литическая память». Таким образом, хотя исследовательница, по¬
добно многим, возводит генеалогию memory studies к работам Хальб-
вакса, в основе ее концепции лежат другие идеи. Интересно, что и
Я. Ассман в своей книге употреблял понятие «социальная память»,
но только в связи с работами немецкого историка искусства Аби
Варбурга, впервые связавшего вещи (когда они отсылают не только
к определенной цели, но и к определенному смыслу) с работой
памяти, коль скоро они являются показателем времени и идентич¬
ности (Ассман Я. 2004: 21).
А. Ассман апеллирует к работам 1930-х гг. социолога Карла
Маннгейма, изучавшего проблему поколений и показавшего, что
индивидуальная память определяется широким горизонтом по¬
коленческой памяти (Ассман А. 2014: 23). Понятие «социальная
память» используется А. Ассман для объяснения феноменов, кото¬
рые Я. Ассман называл коммуникативной памятью. Однако речь
не идет о простой замене одного слова другим. Хотя основным
механизмом формирования памяти, с точки зрения А. Ассман,
является коммуникация, для нее важнее описать акторов, чем сам
процесс. В центре ее внимания находится межпоколенческая ком¬
муникация и ее социальный горизонт, а также «медиальная основа»
в виде книг, фотоальбомов, дневников и т. д.
Другим важным моментом является активное включение А. Ас¬
сман нейробиологических, психологических и даже психоанали¬
тических объяснений в свои теоретические построения. Порой ее
экскурсы простираются в далекие от биологии homo sapiens’a
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
95
области. Так, в книге «Новое недовольство мемориальной культу¬
рой» она цитирует исследователя мозга Эрика Канделя, изучавшего
улиток Aplysia: и улитки, и люди используют память для «ориен¬
тации в настоящем ради будущих действий» (Ассман А. 2016: 25).
Надеюсь, читатель не забыл еще задание из первой главы — по¬
думать о том, в какой степени (нейро)биологические исследования
полезны для работы в рамках memory studies. Вопрос о том, дей¬
ствительно ли исследование улиток Aplysia — и только оно — может
помочь сформулировать простой тезис (с которым мы, кстати, уже
встречались у другого любителя нейрофизиологии Харольда Вель-
цера), остается открытым.
Яснее в работах А. Ассман сформулировано обращение к опыту
психотерапии. Она использует исследования работы индивиду¬
альной памяти, чтобы обосновать различие памяти и истории как
двух взаимодополняющих видов воспоминания, значительно и не
96
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
всегда обоснованно усложняя модель, предложенную Я. Ассманом.
Индивидуальная память существует на разных уровнях — осоз¬
нанном и используемом для самоинтерпретации и самоопреде¬
ления индивида, состоящем из элементов, доступных для вклю¬
чения в рассказ о себе, и неосознанном, находящемся по тем или
иным причинам вне внимания. По аналогии исследовательница
предлагает различать не память и историю, а два вида памяти —
функциональную и накопительную. Функциональная память фор¬
мирует коллективные субъекты (государства, нации) через кон¬
струирование ими своего прошлого. Накопительная память,
напротив, содержит «ставшие непригодными, неупотребимыми
и чуждыми, нейтральные, абстрактные для идентичности пред¬
метные знания, а также репертуар упущенных возможностей»
(Assmann А. 1999). В этом случае культурная память представляет
собой поле постоянного напряженного взаимодействия между
функциональной и накопительной памятью: «...элементы функ¬
циональной памяти постоянно уходят в архив, если к ним про¬
падает интерес; а из “пассивной” накопительной памяти сделан¬
ные в ней открытия вновь возвращаются в функциональную
память» (Ассман А. 2014: 34).
Уже из этой аналогии видно, что память не является для Ассман
ни метафорой, ни метонимией. В то же время она не приемлет
прямого уподобления индивидуальной и коллективной памяти.
«Институции и корпорации, а также культуры, нации, государства,
церковь или фирма “не имеют” памяти, ибо она “конструируется”
ими с помощью мемориальных знаков и символов. Благодаря этой
памяти институции и корпорации одновременно “конструируют”
собственную идентичность. При таких условиях можно говорить о
“памяти” в неметафорическом смысле, поскольку тут пересекаются
обращение к прошлому и конструирование идентичности» (Ас¬
сман А. 2014: 33). Выходом для немецкой исследовательницы ста¬
новится различение трех уровней человеческой памяти, связанных
друг с другом через взаимодействие трех измерений — носителя,
среды и опоры.
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
97
Измерение
Нейронная память
Социальная память
Культурная
память
Носитель
Мозг индивиду¬
ума
Социальная ком¬
муникация
Символические
медиаторы
Среда
Социальная ком¬
муникация
Мозг индивидуума
Социальная
коммуникация
Опора
Символические
медиаторы
Символические
медиаторы
Мозг инди¬
видуума
Источник: (Ассман А. 2014: 31).
Биологический уровень памяти обусловлен самим организмом
человека, мозгом и центральной нервной системой. Однако ней¬
ронная основа не является автономной системой. Биологическую
память питают два «поля интерактивности»: социальная комму¬
никация и культурная интеракция, основанная на знаках и меди¬
аторах. «Нейронная сеть неизменно связана с обоими измерени¬
ями — социальной сетью и культурным полем. Последнее включает
в себя материальное воплощение в виде текстов, визуальных об¬
разов, а также символические практики в виде праздников и ри¬
туалов» (Ассман А. 2014:29). Опорой биологической памяти служат
мемориальные стратегии (например, «дежурные» рассказы об од¬
ном и том же событии) и медиальные записи.
Социальный уровень памяти обусловлен социальной интерак¬
цией, он представляет собой социальную сеть, формируемую и под¬
держиваемую социальной коммуникацией и материальными но¬
сителями информации о прошлом. Ее носителем является уже не
отдельный человеческий организм, а социальная группа, сплачи¬
ваемая общими воспоминаниями. При этом средой такой памяти
являются индивиды, обменивающиеся воспоминаниями, а опо¬
рой — символические медиаторы, которыми они пользуются.
Культурный уровень формируется вокруг символических ме¬
диаторов. Ассман пишет:«... культурная память покоится на таком
носителе, как передаваемые и воспроизводящиеся культурные
объективации в виде символов, артефактов, медиаторов, практик
и их институций, в которых индивидуумы, будучи существами
98
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
смертными, сменяют друг друга, однако передача и традиции обе¬
спечивают долгосрочную значимость этих объективаций» (Ас-
сман А. 2014: 30-31). В этом случае средой выступает социальная
группа, которая конструирует свою идентичность с помощью куль¬
турных символов, а опорой — отдельные индивиды, их осваиваю¬
щие и использующие.
Особенно Ассман интересуют границы между различными уров¬
нями памяти. Переход от нейронной памяти к социальной трудно
уловить, поскольку на социальном уровне индивидуальная память
смешивается с чужими воспоминаниями, собственный опыт обо¬
гащается за счет чужого. Переход от социальной памяти к культур¬
ной, напротив, всегда ощутим, поскольку ведет к слому — на этом
уровне происходит расстыковка между памятью и опытом. В срав¬
нении с социальной памятью, которая по сути является лишь ско¬
ординированной памятью отдельных индивидов, обусловленной
их совместным проживанием и речевой коммуникацией, культур¬
ная память зиждется на символических медиаторах, дающих па¬
мяти долгосрочную опору.
Основные черты культурной памяти, с точки зрения Ассман, —
это, во-первых, экстернализация и объективация символов, во-
вторых, большой временной диапазон, не ограниченный сроком
жизни индивида, и в-третьих, постоянное переосмысление и ус¬
воение живой памятью «развоплощенных и вневременных смыс¬
лов» культурной памяти (Ассман А. 2014: 31-32).
Обозначив разные уровни существования памяти, Ассман пере¬
ходит от простого разделения на индивидуальную и коллективную
память к более детализированным формациям. В зависимости от
пространственно-временного диапазона, размера группы и ее ста¬
бильности она выделяет:
• память индивидуума;
• память социальной группы;
• память политического коллектива нации;
• память культуры.
Очевидно, что наиболее оригинальной частью этой модели
является выделение «политической памяти» из культурной. Ее
основным признаком является институционально закрепленное
использование прошлого для формирования идентичности. Ассман
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
99
пишет: «В противоположность многоголосой социальной памяти,
которая является памятью “снизу” и которая вновь и вновь ис¬
чезает со сменой поколений, национальная память оказывается
долговременной и гораздо более унифицированной конструкцией,
которая закрепляется политическими институциями, воздействуя
на общество “сверху”» (Ассман А. 2014: 35). Основой для полити¬
ческой памяти является миф. Ассман пытается очистить это по¬
нятие от негативных ассоциаций, нормализовать миф как куль¬
турную конструкцию, имеющую право на существование. С ее
точки зрения, миф — это не обязательно искажение исторических
фактов, как это обычно интерпретируется критикой идеологий,
но взгляд на историю через призму идентичности, аффективное
усвоение прошлого. В этом смысле важнее не «как было на самом
деле», а какой потенциал для социального воздействия имеет исто¬
рический опыт. Политическая память представляет собой пример
функциональной памяти, она «достигает стабилизации за счет
чрезвычайной плотности содержания, высокой символической
интенсивности, коллективных ритуалов и нормативных обяза¬
тельств» (Ассман А. 2014: 58).
Выделение политической памяти в каком-то смысле осложняет
дальнейшую работу А. Ассман с четвертой формацией, поскольку
она не дает определения культуры. Если в работе Я. Ассмана «куль¬
тура» используется как собирательное понятие для явлений раз¬
личного порядка, то у А. Ассман она должна соответствовать ею
же выделенным критериям — большему по сравнению с полити¬
ческой памятью пространственно-временному диапазону, коли¬
честву индивидов и стабильности. Культуролог также не опреде¬
ляет, в каких отношениях находятся политическая и культурная
память. Понятием «культурная память» она предлагает заменить
термины «традиция», «предание» и «культурное наследие», чтобы
выявить «динамику припоминания и забвения, которая всегда
присутствует в культуре», и поясняет: «Обеспечение сохранности
неизменно подразумевает свою противоположность — отбор, от¬
брасывание и уничтожение, а также более мягкие формы забвения:
пренебрежение, деформацию и потерю» (Ассман А. 2014: 52). Не¬
смотря на подчеркивание того факта, что в культурной памяти
также происходит отбор (еретические книги уничтожаются,
100
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
иногда вместе с еретиками), культурная память воплощает в себе
накопительную память в гораздо большей степени, чем полити¬
ческая. Ее содержимое локализуется в библиотеках, скульптуре,
архитектуре и поддерживается празднествами, обычаями и риту¬
алами, что создает постоянное поле напряжения: культурная па¬
мять сопротивляется унификации и инструментализации, она
в большей степени очищена от идеологии. При ее усвоении цен¬
тральную роль играют индивидуальные, а не коллективные спо¬
собы обращения с нею.
Для А. Ассман все четыре формации памяти связаны с форми¬
рованием разных идентичностей, которые находятся друг с другом
в сложных, иногда даже конфликтных отношениях. С точки зрения
Ассман, идентичность является результатом сложной динамики
памяти и забвения, включающей не только память других людей,
но и символический универсум культурных объективаций.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. В главе рассматривается, как перевод с немецкого языка влияет на
восприятие термина «культурная память». Сравните эту ситуацию
с переводом на разные языки понятия lieux de memoire. Подумайте
о том, как функционируют научные понятия и следует ли переводить
вновь вводимые в научный оборот термины.
2. Используйте концепцию «горячей» и «холодной» памяти для анализа
современной памяти о советском прошлом: каких элементов в нем
больше? как их соотношение меняется стечением времени? Для каких
еще кейсов эта модель может оказаться продуктивной?
3. Какие исторические события можно отнести к «мифам основания»
современной России?
4. Вспомните высказывание Я.Ассмана: «От профессора истории никто
не ожидает, что он станет “осмыслять воспоминание, чеканить понятия
и толковать прошлое”». Действительно ли это так? Напишите эссе о том,
возможно ли создать исторический текст, «чистый» от вмешательства
«горячей» памяти. Возможно, вам пригодится знакомство с книгой
Хейдена Уайта «Метаистория: Историческое воображение в Европе
XIX века», если по каким-то причинам оно до сих пор не состоялось.
Глава 4. Культурная память. Ян и Алейда Ассман
101
5. Сравните понимание «культурной памяти» у супругов Ассман. Какие
факторы могли повлиять на отход А. Ассман от первоначальных фор¬
мулировок Я.Ассмана?
6. Оцените эвристическую ценность понятия «политическая память».
Что нового дает его использование в сравнении со всеми остальными
понятиями?
7. Прочитайте отрывок из книги А. Ассман «Длинная тень прошлого»
о взаимоотношениях памяти и истории. Вспомните позиции М.Хальб-
вакса и П. Нора. Что нового в сравнении с их идеями вносит А. Ассман?
8. Используя предложенное А. Ассман разделение памяти на четыре
формации, придумайте пять тем исследований, где ее подход будет
работающим эвристическим инструментом.
Для чтения:
Ассман А. (2014). Длинная тень прошлого. Мемориальная культура
и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение. С. 42-51.
Ассман Я. (2004). Культурная память. Письмо, память о прошлом и поли¬
тическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской
культуры. С. 70-92.
УайтХ. (2002). Метаистория: Историческое воображение в Европе
XIX века. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та. С. 22-63.
Глава 5
«Воображаемые сообщества»
и «изобретенные традиции»:
нация и память
Эрнест Ренан: у истоков проблематики
национальной памяти
Имя французского философа и писателя Эрнеста Ренана уже
упоминалось в главе 2, где обсуждалась символическая роль Мориса
Хальбвакса в качестве отца-основателя исследовательского поля
memory studies. В отличие от своего младшего соотечественника,
значительную часть своих исследований посвятившего проблема¬
тике памяти, Ренан не занимался этим вопросом специально. Тем
не менее почти любой обзор исследований национальной памяти
начинается с упоминания его знаменитого доклада 1882 г. в Сор¬
бонне «Что такое нация?». Во всяком случае, это верно для тех ра¬
бот, которые изучают историю и память в качестве инструмента
формирования национальной идентичности.
Эрнест Ренан (1823-1892), воспитанник духовных семинарий,
специалист по семитским языкам, избравший вместо духовного
сана карьеру в науке, известен прежде всего как ученый-религио-
вед. В длинном списке его трудов наиболее значительными явля¬
ются семитомная «История происхождения христианства» (1863-
1882), включающая знаменитую работу «Жизнь Иисуса» (1863),
и пятитомная «История израильского народа» (1887-1893). Среди
этих и других трудов по философии и филологии короткий доклад,
прочитанный в Сорбонне 11 марта 1882 г., имел бы все шансы за¬
теряться, если бы он не опередил свое время и не оказал значи¬
тельного влияния на теоретиков нации и национализма второй
половины XX в.
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» ЮЗ
В отличие от предыдущих глав, где важными для понимания
идей были биографические траектории авторов, в случае с Ренаном
пытливому читателю скорее следует обратить внимание на страну,
в которой прозвучала речь «Что такое нация?». Третья республика
в 1882 г. еще помнила о том, что ее история начиналась с пораже¬
ния при Седане и Франкфуртского мира с Германией, лишившего
Францию Эльзаса и Лотарингии. В то же время в период прези¬
дентства Жюля Греви она уже начинала мечтать о возвращении
себе места среди великих держав. Ренан был последовательным
республиканцем. Весь пафос его речи был направлен на обоснова¬
ние «права нации», существующего помимо и над правами дина¬
стий: «...желание нации — единственный законный критерий,
к которому нужно всегда возвращаться» (Ренан 1902: 95-102).
Именно для того, чтобы обосновать легитимность самостоятельного
решения нацией своей судьбы, Ренану необходимо было дать ответ
на вопрос, вынесенный в название.
Большая часть речи 1882 г. была построена как отрицание го¬
сподствовавших в тот момент этнографических и филологических
теорий нации. Критика Ренана была направлена против немецкого
романтического дискурса, в первую очередь против работ Иоганна
Готлиба Фихте и Иоганна Готфрида Гердера, имевших отчетливо
примордиалистский характер. Споря с их пониманием нации как
естественного и древнейшего феномена, Ренан утверждал, что на¬
ция — явление историческое и довольно позднее. С его точки зре¬
ния, национальность не определяется ни расой, ни языком, ни
религией, ни совместным проживанием: «...нельзя прямо ощупы¬
вать черепа людей, потом брать их за горло и говорить: “Ты — на¬
шей крови... ты принадлежишь нам!” Кроме антропологических
черт есть разум, справедливость, истина, красота, которые одина¬
ковы для всех» (Ренан 1902: 98).
Понимание нации Ренаном было республиканским по духу.
Нация представляет собой солидарность, основанную на демокра¬
тическом волеизъявлении. Кроме политических и финансовых
интересов, и даже прежде них, нацию объединяет «душа», но не
в том смысле, какой вкладывали в это понятие немецкие роман¬
тики, а как общий исторический опыт. Переводя на современный
научный язык, стоит заменить «душу» понятием «идентичность».
104
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Тут наконец мы добираемся до аргумента Ренана, сделавшего
его речь важной для исследователей коллективной памяти. «Душа»
нации слагается из двух вещей, относящихся к прошлому и буду¬
щему: «обладание богатым наследием воспоминаний» и «желание
продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным
наследством» (Ренан 1902:101). Хотя Ренан не размышлял специ¬
ально о противоположности памяти и истории, для него воспоми¬
нания нации не имели ничего общего с исторической наукой. На¬
против, прогресс исторических исследований, с его точки зрения,
«представляет опасность для национальности», поскольку вскрывает
факты, которые должны быть и были забыты ради единства нации.
Наиболее часто цитируемый тезис Ренана заключается в том,
что именно забвение, а не стремление к истине, составляет основу
для конструирования национальной памяти: «Забвение или, лучше
сказать, историческое заблуждение является одним из главных
факторов создания нации... <...> Ни один француз не знает, бургунд
он, алан или вестгот; всякий гражданин Франции должен забыть
Варфоломеевскую ночь». Нации необходимо забыть о насилии,
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 105
неизбежно лежащем в ее основании, но помнить «общую славу
и общие сожаления» — «вместе страдать, наслаждаться, надеяться,
вот что лучше общих таможен и границ, соответствующих страте¬
гическим соображениям» (Ренан 1902:101-102).
А. Ассман, назвавшая Ренана «одним из основоположников
теории национальной памяти», выделила четыре основных тезиса
французского философа, которые могут быть полезны для иссле¬
дований коллективной памяти:
<...>
- он подчеркивал значение отсылок к прошлому как важнейшей
аффективной скрепы для консолидации нации,
- он обратил внимание на то, что страдания и траур консоли¬
дируют сильнее, чем триумф и успех,
- он указал на конститутивное значение забвения для кон¬
струирования национальной памяти,
- он проницательно отметил расхождения между научным
исследованием и конструированием коллективной памяти
(Ассман А. 2014:41-42).
Перечисленные тезисы действительно важны как для дальней¬
шего развития теории нации, так и для исследований памяти. Про¬
блема заключается в том, что три последних, в отличие от первого,
над которым Ренан действительно серьезно и глубоко размышлял,
относятся скорее к гениальным интуитивным прозрениям. Ни один
из них не подкреплен сколько-нибудь развернутой аргументацией.
Последующие исследования подтвердили наблюдения Ренана, хотя
не во всех случаях именно его текст был отправной точкой их авто¬
ров. Не следует также забывать, что Ренан представил в Сорбонне
не результаты научных изысканий, а скорее свое политическое кредо:
«Великое скопление людей со здравым смыслом и пылающим серд¬
цем создает моральное сознание, называемое нацией. Поскольку
это моральное сознание доказывает свою силу жертвами, которые
требуют отречения индивидуума на пользу общества, оно законно,
имеет право на существование. Раз возникают сомнения относи¬
тельно границ, советуйтесь со спорящими народами. Они имеют
право иметь свое мнение по этому вопросу» (Ренан 1902: 103).
106
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
В каком-то смысле Ренан разделяет судьбу Хальбвакса, являясь
действительным или воображаемым респектабельным «интеллек¬
туальным предком» для очень молодого исследовательского поля
и работающих в нем ученых. Размышляя о том, не стоит ли со¬
слаться на работу 1882 г., начинающий исследователь должен отда¬
вать себе отчет в том, для чего он это делает. Даже если его работа
действительно имеет отношение к проблематике формирования
нации на основе коллективной памяти, теме забвения или траура,
прежде чем принимать решение, ему стоит познакомиться с чрез¬
вычайно поучительной историей, изложенной в следующем разделе.
Бенедикт Андерсон читает «Что такое нация?»
Образцом прочтения речи Ренана, как поверхностного, так
и глубокого и продуктивного, являются два издания знаменитой
книги «Воображаемые сообщества» (“Imagined Communities”,), соз¬
данной в рамках конструктивистской парадигмы нации. Ее автор,
политолог и историк Бенедикт Андерсон (1936-2015) являет собой
образец академической карьеры, радикально отличающейся от
биографий французского историка и немецких культурологов, рас¬
смотренных ранее. Нельзя сказать, чтобы он был классическим
примером британского или американского ученого, хотя большую
часть жизни работал в США, — он скорее был гражданином мира
или «человеком без страны», как написал о нем ДжетХир в некро¬
логе (Неег 2015).
Бенедикт Андерсон родился в англо-ирландской семье в Кунь¬
мине (Китай), откуда в 1941 г. его семья переехала в Калифорнию,
а затем, в 1945 г., — в Ирландию. Суэцкий кризис 1956-1957 гг.,
разразившийся в момент, когда Андерсон был студентом Королев¬
ского колледжа в Кембридже, определил его взгляды последова¬
тельного антиимпериалиста, антиколониалиста и марксиста.
Андерсон был специалистом по Юго-Восточной Азии и специали¬
зировался на Индонезии. Поворотным моментом в его жизни стали
массовые убийства в Индонезии 1965-1966 гг., инициированные
диктатором Сухарто, боровшимся с коммунистами. Андерсон со¬
вместно с Рут Маквей в 1966 г. подготовил «Корнелльский доклад»,
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 107
в котором проанализировал попытку государственного переворота
в Индонезии 30 сентября 1965 г. прокоммунистически настроен¬
ными офицерами Национальной армии. В 1971 г. он стал свидете¬
лем показательного суда над генеральным секретарем Индонезий¬
ской коммунистической партии и впоследствии перевел и издал
его показания. За свою деятельность Андерсон был выслан из Ин¬
донезии в 1972 г.
Хир писал: «Наиболее известная работа Андерсона “Вообража¬
емые сообщества” сложилась в результате сурового испытания
индонезийской историей. Как сложные нации, такие как индоне¬
зийская, сложившиеся на основе множества языков и этничностей,
собираются вместе? Почему иногда их единство разбивается? Что
спасает людей в больших нациях от убийства друг друга и почему
национальное сосуществование иногда терпит неудачу? Для Ан¬
дерсона это были не просто абстрактные вопросы, они родились
в результате крещения индонезийской историей» (Неег 2015). Умер
Бенедикт Андерсон в Индонезии, куда смог вернуться в 1998 г. по¬
сле свержения режима Сухарто.
Одним из источников вдохновения для «Воображаемых сооб¬
ществ» дважды и очень по-разному послужило выступление Ренана.
В первом издании 1983 г. из речи «Что такое нация?» было про¬
цитировано только одно предложение, призванное проиллюстри¬
ровать тезис самого Андерсона, что нация есть результат вообра¬
жения: «Ренан в своей особой вкрадчиво двусмысленной манере
ссылался на это воображение». Восемь лет спустя, в предисловии
ко второму изданию, автор «Воображаемых сообществ» сознался
в «позорном» непонимании процитированного текста (Андерсон
2001: 24). Для исправления ошибки им была написана новая глава
«Память и забвение», представляющая собой обширный и глубокий
комментарий уже не к первой части фразы Ренана об общности
индивидов, составляющих нацию, а к ее финальному положению:
«А сущность нации в том и состоит, что все индивиды, ее состав¬
ляющие... забыли многое, что их разъединяет» (Андерсон 2001: 31).
Для понимания размышлений Андерсона о роли памяти и заб¬
вения необходимо хотя бы коротко обозначить основные положе¬
ния его концепции нации. Андерсон видел в нации историческое
и чрезвычайно новое явление, существующее только два последних
108
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
столетия. Он задавался вопросом: как культурный артефакт, явля¬
ющийся исключительно предметом воображения, может вынуждать
людей не только убивать, но, что важнее, отдавать свои жизни за
него? Члены самой маленькой нации никогда не будут знакомы со
всеми, кого они включают в одну с ними общность, именно поэтому
нация «воображаема». В то же время «независимо от фактического
неравенства и эксплуатации, которые в каждой нации могут суще¬
ствовать, нация всегда понимается как глубокое, горизонтальное
товарищество» (Андерсон 2001: 32).
Книга, посвященная культурным корням нации как продукта
воображения, содержит целый ряд интересных для исследователей
коммеморативных практик наблюдений. Например, Андресон рас¬
сматривал роль музея в процессе воображения нации, а также сде¬
лал ряд тонких замечаний о том, как функционируют в националь¬
ном воображении могилы неизвестного солдата, при том что
вообразить могилу неизвестного марксиста или либерала невоз¬
можно.
Возвратившись во втором издании книги к анализу известного
требования Ренана забыть Варфоломеевскую ночь и резню на юге
в XIII в., Андерсон показал, насколько в действительности оно па¬
радоксально. Сам Ренан не считал нужным объяснять слушателям,
что такое Варфоломеевская ночь или Альбигойские войны, точно
так же как не видел ничего странного в том, что они могут «пом¬
нить» о событиях, произошедших 300 и 600 лет назад. По большому
счету, его речь сама была продуктом той стадии воображения на¬
цией себя, когда государство через масштабную историографиче¬
скую кампанию и школу запечатлело убийства как «родовую исто¬
рию». Призыв Ренана относился не к событиям, какими их видела
современная ему историческая наука (большинство альбигойцев
говорили на провансальском и каталанском языках, а их убийцы
были родом из самых разных уголков Западной Европы), но к тому,
как они были известны складывающейся в его время национальной
памяти — братоубийственные войны между французами.
Рассматривая эту речь как «типичный механизм позднейшего
конструирования национальных генеалогий», Андерсон поставил
ее в ряд с другими подобными примерами. Так, школа учит моло¬
дых американцев помнить события 1861-1865 гг. как гражданскую
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 109
войну, а молодых англичан — не задаваться вопросом, что именно
завоевал Вильгельм Завоеватель и т. д. Вопреки распространенным
трактовкам выступления Ренана как предвидения важных для
memory studies исследований культурного забвения, в интерпрета¬
ции Андерсона оно превращается в симптоматичный артефакт
французского национального коммеморативного проекта. Требуя
«забыть», Ренан свидетельствует о том, что он «помнит», но и он
сам, и его слушатели способны к «воспоминанию» лишь потому,
что их научило этому национальное государство.
Из анализа речи Ренана Андерсон сделал два важных заключе¬
ния. Во-первых, для существования нации «удостоверяющие бра¬
тоубийства» так же важны, как нарративы о древнейшем мирном
сосуществовании. Во-вторых, «забвение», как его понимал Ренан,
невозможно, если живы свидетели. Исследователь подчеркивал,
что в 1882 г. никто не требовал забывать события Парижской ком¬
муны 1871 г., хотя они разъединяли французов в гораздо большей
степени, чем резня католиками гугенотов в 1572 г. (Андерсон 2001:
215-218).
110
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Анализ речи Ренана Андерсоном ставит под сомнение исклю¬
чительную важность этого текста для исследований механизмов
забвения (этой проблематике посвящен один из разделов главы 7).
Очевидным образом ссылка на речь «Что такое нация?» в работе
начинающего исследователя скорее всего будет носить ритуальный
характер. В противном случае ему грозит повторение ошибки, со¬
вершенной в первом издании «Воображаемых сообществ».
Наблюдения самого Андерсона за тем, какую роль в воображе¬
нии нации как сообщества играет забвение, исключительно инте¬
ресны. Он ставил вопрос о том, почему новорожденные нации во¬
образили себя древними и как именно им удалось «забыть» о своем
современном происхождении. Интересным примером для него
выступает история Вьетнама, точнее названия этой страны. В 1802 г.
первый император Вьетнама Зя Лонг на церемонии своей корона¬
ции пожелал назвать свое королевство «Нам Вьет» (Южный Вьет,
где Вьет (Юэ) — название древнекитайского царства). Пекин, однако,
настоял, чтобы оно называлось «Вьет Нам» («к югу от Вьета»). Ан¬
дерсон писал: «То, что сегодня вьетнамец гордо защищает Вьет
Нам, презрительно изобретенный маньчжурским императором
XIX в., заставляет нас вспомнить правило Ренана, что нации должны
“многое забыть”, но вместе с тем, что парадоксально, напоминает
нам и о присущей национализму силе воображения» (Андерсон
2001:176).
Начавшееся повсеместно в 1820-х гг. фантазирование о древ¬
нейшем национальном прошлом было проинтерпретировано Ан¬
дерсоном как естественное следствие «новизны». Национализм как
радикально новая форма сознания требовал создания собственных
нарративов (Андерсон 2001: 25). В момент возникновения наций
они не требовали исторического обоснования, в Декларации неза¬
висимости США нет ссылок ни на Христофора Колумба, ни на ка¬
кие-либо другие «исторические» основания. Осознание новизны,
породившее, например, введение революционного календаря фран¬
цузской республикой, быстро сменилось воображением национа¬
лизма как «поступательно непрерывной исторической традиции»
(Андерсон 2001: 211). Исследователь утверждал, что амнезия — аб¬
солютно естественное свойство глубинных изменений сознания,
поскольку потребность в нарративе «идентичности» заставляла
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 111
новорожденные нации забывать, что они есть результат радикаль¬
ного разрыва с прошлым, произошедшего в конце XVIII в. Меха¬
низмы этой амнезии были проанализированы в другой знаменитой
книге 1983 г. — «Изобретение традиции».
«Изобретение традиции»: Эрик Хобсбаум
и Хью Тревор-Ропер
Жизненный путь старшего коллеги Андерсона, британского
ученого Эрика Хобсбаума (1917-2012), имеет ряд параллелей с жиз¬
нью автора «Воображаемых сообществ», хотя он в гораздо меньшей
степени был гражданином мира. Хобсбаум (Hobsbawm) родился в
Александрии, в Египте, в семье лондонского предпринимателя
еврейского происхождения Леопольда Обстбаума (Obstbaum /
Hobsbaum). Он провел детство в Вене, откуда была родом его мать,
и в Берлине, где после смерти родителей жил у своей тети. В 1933 г.,
после прихода Гитлера к власти, семья перебралась в Лондон. Хобс¬
баум был студентом Королевского колледжа в Кембридже на исто¬
рическом и экономическом факультетах. Важно также, что он был
марксистом, членом Коммунистической партии Великобритании,
что отразилось как на проблематике, так и на методологии его ис¬
следований.
Хобсбаум известен как историк рабочего движения, а также
автор концепции долгого девятнадцатого века, которой посвящены
три его книги: «Эпоха революций: Европа 1789-1848)», «Эпоха ка¬
питала: Европа 1848-1875» и «Век империй: Европа 1875-1914»).
Кроме того, он был теоретиком и критиком национализма, кото¬
рому специально посвятил исследование 1990 г. «Нации и нацио¬
нализм».
В отличие от двух других авторов, рассмотренных в этой главе,
Хобсбаум никогда не интересовался проблематикой памяти. Из¬
данная совместно с британским историком Африки Теренсом Рейн¬
джером антология «Изобретение традиции» (“The Invention of Tra¬
dition”) считается классической книгой по памяти о прошлом и ее
использованию. Хобсбаум был автором введения, где была кон¬
цептуализирована идея изобретенных традиций, на которую
112
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
ориентировались остальные авторы сборника, предложившие свое
видение этого феномена на конкретном материале. Сам Хобсбаум
признавался, что толчком к проекту послужили наблюдения за
традициями Королевского колледжа в Кембриджском университете,
в частности ежегодного фестиваля «Девяти рождественских про¬
поведей и гимнов». Главной задачей проекта было вообще обна¬
ружить, что традиции изобретены, а затем реконструировать, как
и с какой целью это произошло.
Хобсбаум, на радость читателям, в самом начале своего текста
дал определение основного понятия, хотя оно и было сформули¬
ровано им в довольно общих выражениях: «Изобретенная тради¬
ция — совокупность общественных практик ритуального или сим¬
волического характера, обычно регулируемых с помощью явно или
неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение опре¬
деленных ценностей и норм поведения, а средством достижения
цели — повторение» (Хобсбаум 2000:48). Необходимость повторе¬
ния автоматически означает апелляцию к историческому про¬
шлому, однако эта связь по большей части фиктивная. Традиции
изобретаются в моменты радикальных разрывов, но при этом соз¬
дают иллюзию чего-то неизменного и неменяющегося в мире,
подверженном постоянным изменениям. Хобсбаум подчеркивал,
что даже революции, по определению порывающие с прошлым,
обладают своей собственной почтенной историей и традициями,
пусть они и восходят к 1789 г.
Среди изобретенных традиций Хобсбаум выделил три основных
типа, различающихся по функциям. Изобретенные традиции:
• устанавливают или символизируют социальную связь,
членство в группах, искусственных или подлинных общинах;
• вводят институты, статусы, отношения, придают им «за¬
конную» силу;
• социализируют, т. е. запечатлевают в сознании верования,
системы ценностей, правила поведения.
Для лучшего понимания функционирования традиций Хобсбаум
использовал сравнение их с обычаями, с одной стороны, и прави¬
лами, с другой. Традиции неизменны, связаны с фиксированными
практиками, в то время как обычаи гибки и легко приспосаб¬
ливаются к изменениям жизни, для них характерно «сочетание
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 113
гибкости содержания с формальной приверженностью прецеденту»
(Хобсбаум 2000:49). Хорошим примером разницы между традицией
и обычаем является британский суд, где обычай — это то, что судьи
делают, а традиция — парики и мантии.
В отличие от традиций, правила, хотя и имеют характер по¬
вторяемости, не обладают ритуальной или символической функ¬
цией. Правила создаются для практических нужд, легко приспоса¬
бливаются к изменениям, хотя в них есть место инерции, а также
заложена возможность превращения их в традицию в тот момент,
когда будет утрачен прагматический смысл. Примером такого
перехода может служить костюм английского охотника для верхо¬
вой езды. С точки зрения здравого смысла, необходимость защи¬
щать голову твердой шляпой во время этого опасного вида спорта
очевидна. Прагматика уступает место традиции, когда шляпа при¬
обретает строго определенную форму и сочетается с красным кам¬
золом.
Хотя Хобсбаум утверждал, что изобретение традиций проис¬
ходило всегда и везде, особенно богаты на него периоды радикаль¬
ных преобразований, когда вместе со старыми социальными фор¬
мами разрушались и старые традиции, свято место недолго
оставалось пусто. Его могли заполнить собой как совершенно новые
традиции, иногда изобретенные одним человеком, так и радикально
преобразившиеся старые. В обоих случаях «новое не перестает быть
новым из-за того, что ему удается рядиться в одежды седой ста¬
рины» (Хобсбаум 2000: 52). Именно это использование прошлого
для обоснования современности делает наблюдения Хобсбаума
особенно интересными для исследователей памяти. Он показал,
как в процессе изобретения традиции, с одной стороны, проис¬
ходит обширное заимствование старых ритуалов, формул и сим¬
волов, а с другой — воображение самой исторической преемствен¬
ности. Время рождения наций и национальных движений, с точки
зрения Хобсбаума, особенно интересно для изучения этого фено¬
мена, поскольку нация сама по себе — инновативное явление. Обо¬
снование их древнейшего происхождения иногда осуществлялось
с помощью мифа (два схожих «основателя» наций — галл Верцин-
геториг и херуск Арминий, памятники которым были воздвигнуты
во Франции и Германии в конце XIX в.), а иногда — прямым
114
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
подлогом, как это случилось с песнями Оссиана, якобы переведен¬
ными с гэльского языка и опубликованными в середине XVIII в.
Джеймсом Макферсоном. Хобсбаум писал: «Нас не должен вводить
в заблуждение странный, но объяснимый парадокс: современные
нации... претендуют на нечто прямо противоположное их новизне
и искусственности, на то, что корнями своими они уходят в глубо¬
кое прошлое и являются человеческими сообществами столь “при¬
родными”, что для их определения достаточно простого самоут¬
верждения» (Хобсбаум 2000: 60).
Изучение процесса изобретения традиций помогает выявить
переломные моменты истории, так как сами они — симптомы и ин¬
дикаторы становления нового общества. Кроме того, изобретенные
традиции, с точки зрения Хобсбаума, проливают свет на отношения
человека к прошлому: все традиции, призванные укреплять груп¬
повую солидарность, так или иначе используют историю. Ново¬
введения прикрываются ссылками на «народное прошлое», рево¬
люционную традицию, собственных героев и мучеников. Помимо
этого, изучение изобретенных традиций крайне полезно историку
для самонаблюдения и понимания основ своего ремесла. Во всех
случаях изобретения традиций речь идет не о той истории, «что
действительно хранится в народной памяти», а истории как части
идеологии, источнике знания о себе у нации, государства или дви¬
жения. Хобсбаум напоминает: все историки, осознанно или нет,
вовлечены в этот процесс изобретения прошлого, так что должны
«как минимум, постоянно помнить об этой составляющей их дея¬
тельности» (Хобсбаум 2000: 60).
Самой известной статьей сборника «Изобретение традиции»,
безусловно, является работа британского историка Хью Тревора-
Ропера «Изобретение традиции: традиция горцев Шотландии».
В 2015 г. отрывки из этой работы были опубликованы на русском
языке в журнале «Неприкосновенный запас», но, разумеется, всем
читателям я рекомендую познакомиться с полной версией текста
на английском языке (Trevor-Roper 2000: 15-42).
Хью Тревор-Ропер (1914-2003) был британским историком,
профессором Оксфордского университета. Получив образование
по антиковедению в Оксфордском университете, Тревор-Ропер
впоследствии стал признанным специалистом сразу в двух
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 115
темах — истории Британии XVI-XVII вв. и поздней нацистской
Германии. Наиболее известной является его книга 1947 г. «По¬
следние дни Гитлера», созданная им по заданию британского пра¬
вительства. Основанная на документах и свидетельских показа¬
ниях, книга была призвана опровергнуть легенду о том, что Гитлеру
удалось инсценировать собственную смерть и бежать от право¬
судия. Если эта публикация стала трамплином для дальнейшей
блестящей карьеры ученого, то другая, также связанная с Гитлером,
ее почти уничтожила. В 1983 г. репутация Тревора-Ропера постра¬
дала из-за скандала с «Дневниками Гитлера». В качестве признан¬
ного эксперта он подтвердил подлинность документов, сфабри-
кованность которых была доказана всего через два месяца после
их шумной публикации. В одной из сатирических статей, где ос¬
вещалась эта ошибка историка, он фигурировал как Hugh Very-
Ropey (Хью Очень-Скверный).
В каком-то смысле книга «Изобретение традиции» стала для
Тревора-Ропера выходом из создавшегося положения: новых работ
по истории гитлеровской Германии после 1983 г. он издавать не
мог. Вместо этого он продолжил работу над начатым для сборника
Хобсбаума исследованием, результаты которого были опубликованы
посмертно, в 2008 г., в виде книги «Изобретение Шотландии: миф
и история» (Trevor-Roper 2008). Тем более важным оно было лично
для историка, поскольку в нем фигурировала история нескольких
известных фальшивок, таких как «Поэмы Оссиана».
Исследование Тревора-Ропера посвящено изобретению особой
горской культуры и традиции, которые сегодня являются основой
национальной идентичности Шотландии. Такие общеизвестные
вещи из символического национального ряда, кактартановый килт,
рисунок и цвет которого указывает на клан, или волынка, были
результатом работы конца XVIII — начала XIX в. Историк убеди¬
тельно доказал, что потомки кельтов, жившие на западе Шотландии,
но тяготевшие к Ирландии и ее высокой культуре, сперва пере¬
писали историю, превратив Шотландию в «материнскую нацию»,
а Ирландию — в ее культурную колонию, затем искусственно соз¬
дали новые «древние горские традиции», после чего навязали их
восточной, равнинной Шотландии, где жили потомки пиктов, сак¬
сов и нормандцев, объявив эти традиции общешотландскими.
116
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Исследование процесса изобретения Шотландии больше всего
похоже на запутанный детективный сюжет. Действующие лица
известны наперечет, и среди них неподдельный интерес автора
вызывают два авантюриста — Джеймс и Джон Макферсоны, «пере¬
водчик» Оссиана и генерал-губернатор Индии. Тревор-Ропер пишет:
«[Во второй половине XVIII в.] вдвоем, при помощи двух откровен¬
ных подделок, они и создали “местную” литературу кельтской Шот¬
ландии, а в качестве необходимой подпорки — ее историю. И эта
литература, и эта история — там, где они вообще имели отношение
к реальности, — были украдены у ирландцев». Жертвой этой аван¬
тюры стал английский историк Эдуард Гиббон, признавший на¬
учные достижения двух Макферсонов и тем самым начавший «цепь
ошибок шотландской истории» (Тревор-Ропер 2015). Кажется, эта
история напоминает биографию самого Тревора-Ропера.
Обнаруженная Макферсонами и их почитателями «древняя
и независимая» культура горцев Шотландии немедленно нашла
выражение в не менее «древних» традициях, относящихся к одежде.
Наиболее интересным примером является килт, изобретенный
английским квакером из Ланкашира Томасом Роулсоном в 1720-х гг.
В этом случае речь изначально шла не об авантюрах или подделках,
а только о здравом смысле предпринимателя, нанявшего для рубки
леса горцев и обнаружившего, что их традиционное одеяние, быв¬
шее ближе всего к ирландской длинной рубахе, прикрытой подпо¬
ясанным пледом, мало годилось для работы возле углежогных пе¬
чей. Позволить себе штаны представители низших классов не могли,
поэтому вызванный из расквартированного в близлежащем городе
портной придумал укоротить и отделить от пледа «юбку», подшив
ее складками. Разумеется, Роулинсон одел горцев в килт «...не для
того, чтобы сохранить их традиционный образ жизни, а для того,
чтобы его преобразить: вытащить горцев из болота и затащить на
фабрику» (Тревор-Ропер 2015).
К моменту восстания 1745 г. килт все еще был нововведением.
Только парламентский акт, запретивший его среди прочих атри¬
бутов независимой шотландской культуры после подавления вос¬
стания, сделал изобретение Роулсона национальным символом
Шотландии. За тридцать пять лет, пока длился запрет, неимущие
горцы действительно переоделись в штаны и не собирались
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» Ц7
возвращаться к традиционной одежде, а вот среди шотландской
аристократии килт и тартан приобрели необычайную популярность.
Тревор-Ропер объяснял ее двумя причинами: романтизмом с его
культом благородного дикаря и формированием британским пра¬
вительством горских полков, где килт и клановая расцветка служили
знаками различия. Финальным аккордом этой истории стал офи¬
циальный визит короля Георга IV в Эдинбург в 1822 г. Церемониал
этого мероприятия был разработан писателем и членом Кельтского
общества Эдинбурга Вальтером Скоттом, желавшим провести его
в гэльском духе. Встретить короля явились «вожди» в клановых
тартанах, срочно заказанных у лондонских мануфактурщиков. Как
показал Тревор-Ропер, клановая расцветка определялась в спешке
и часто была результатом случайности. Так, тартан «Макферсон»
незадолго до этого был продан для вест-индских рабов Кидда, по¬
этому назывался «Кидд», а до того — просто «№ 155» (Тревор-Ропер
2015).
Исследование Тревора-Ропера увлекательно само по себе, тем
более что оно производит деконструкцию «общеизвестных» фактов,
118
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
знакомых по романам Вальтера Скотта или хотя бы фильму Мела
Гибсона «Храброе сердце», в котором легендарный герой XIII в.
Уильям Уоллес, разумеется, носит килт. Ироничность повествования
о «чувственном громиле» Макферсоне или фантазерах братьях
Аллен, создателях гениальной антикварной подделки “Vestiarium
Scoticum”, подчеркивает наблюдения Тревора-Ропера за глубин¬
ными процессами воображения нации, где амбиции одних людей,
соединяясь с коммерческими интересами вторых и политическими
фантазиями третьих, порождают целый мир «древней кельтской
культуры», продолжающий существовать до нашего времени. Хотя
Тревор-Ропер не ставил в статье теоретических вопросов и не сде¬
лал никаких дополнений к вводным замечаниям Хобсбаума, вме¬
сте эти два текста составляют единое целое, где история килта
и тартана составляет немалую часть обаяния этой исследователь¬
ской традиции.
Концепция изобретенных традиций нашла многих поклонни¬
ков и продолжателей. Введение Хобсбаума остается важным текстом
для memory studies, поскольку открывает проблематику создания
идентичности и политической легитимации через использование
прошлого (Erll 2011: 4). Идеи, высказанные Хобсбаумом, близки
к исследованиям политики памяти, где внимание ученых концен¬
трируется на политическом использовании прошлого в качестве
мобилизационного ресурса. Прошлое оказывается только проек¬
цией современной политической борьбы или идеологическим кон¬
текстом для настоящего, так что «публичная память говорит только
о структуре власти в обществе» (Bodnar 1992: 15).
Вместе с тем ряд историков подверг критике некоторые тезисы
Хобсбаума. В первую очередь, сомнение вызывает признание ав¬
тором введения к «Изобретению традиций» существования неких
«настоящих» традиций, свойственных традиционному обществу.
Авторы сборника, сосредоточившись на относительно недавних
явлениях, упустили из виду тот факт, что подобную деконструк-
тивистскую операцию можно было бы проделать и над теми тра¬
дициями, которые были отнесены Хобсбаумом к «подлинным»
(Burke 1986: 316-317). Антрополог Эрик Эриксен называет направ¬
ление, возникшее из работы Хобсбаума, «иронической антропо¬
логией», увлеченной «тщательной деконструкцией и разбором
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 119
“туземных” способов овеществления и манипуляции предполо¬
жительно их собственными явлениями культуры» (Eriksen 2004:
267). С другой стороны, радикальный конструктивизм Хобсбаума
и его последователей вызывает вопрос о том, в какой мере такой
анализ способен стать основой для нового понимания традиции
или памяти. Возможно, бездумное использование по отношению
к прошлому терминов «изобретение», «переизобретение», «рекон¬
струкция», «реинтерпретация», особенно в качестве самоочевид¬
ных синонимов, затмевает всю сложность отношений между на¬
стоящим и прошлым, лишая прошлое его собственной глубины
(Kirk 2005: 12-14).
Отчасти отвечая на эту критику, следует еще раз вернуться
к тексту Хобсбаума, поскольку он может стать для читателей этого
пособия образцом постановки исследовательской проблемы.
В конце вводной статьи Хобсбаум задался вопросом, отчасти, разу¬
меется, риторическим — зачем историкам вообще изучать все это?
Его ответ был парадоксальным — «растущее число историков это
просто делает». Вместо того чтобы вопрошать «зачем?», исследо¬
ватель предложил размышлять о том, «...какую пользу приносит
историкам исследование процесса изобретения традиции». (Хоб¬
сбаум 2000: 59). До тех пор пока «польза» от такого рода анализа
будет выражаться в появлении все новых и новых работ, углубля¬
ющих наше понимание нации, памяти или истории, до тех же пор
критические замечания не смогут перевесить тот существенный
вклад, который концепция изобретенных традиций внесла в рас¬
сматриваемую проблематику.
Хотя memory studies в борьбе за изобретение себя как легитим¬
ного исследовательского поля далеко продвинулись вперед, в том
числе в российской науке, начинающий исследователь непременно
и не раз столкнется с первым из обозначенных Хобсбаумом вопро¬
сов, где бы он ни презентовал свой труд — на студенческой конфе¬
ренции или во время защиты квалификационной работы. Лучшее,
что он может сделать в этом случае, — это повторить прием, ис¬
пользованный английским историком. По большому счету критику,
спрашивающему «зачем?», можно ответить разве что «ради удов¬
летворения любопытства» или «ради собственного удовольствия».
Гораздо правильнее говорить о пользе, которую исследования
120
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
памяти во всех ее проявлениях, в том числе применительно
к национализму, приносят процессу постижения настоящего
и прошлого.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте нижеприведенный отрывок из статьи американского
историка Джеймса Уэрча «Пустое место коллективной памяти: случай
России», посвященной месту пакта Молотова - Риббентропа в советских
и российских учебниках. Попробуйте определить место этого отрывка
в статье и роль, которую он в ней может играть. Какой аргумент может
подкреплять ссылка на Э. Ренана? Проверьте свои предположения,
прочитав статью.
Отец современных исследований коллективной памяти Морис Халь-
бвакс в 1920-х годах сделал важный вклад в дискуссию о «подлинной
истории» и ее отличиях от коллективной памяти. Ранее Хальбвакса
речь об этом шла в других дискуссиях: например, в XIX в. это было
предметом обсуждения в работах Э. Ренана, который рассматривал
научные исторические исследования в качестве часто возникающей
угрозы для коллективной памяти народа (Wertsch 2008:60).
2. Самостоятельно познакомьтесь с биографией Э. Ренана. В какой мере
жизнь ученого позволяет лучше понять генеалогию идей, высказанных
в речи «Что такое нация?»?
3. Э. Ренан писал: «В деле национальных воспоминаний траур имеет
большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности,траур
вызывает общие усилия» (Ренан 1902:102). Согласны ли вы с этим
утверждением? Приведите примеры, которые подтверждают / опро¬
вергают это высказывание. Каким вопросам могут быть посвящены
исследования, начинающиеся с этой цитаты?
4. Прочитайте параграф «Удостоверяющее подтверждение братоубийства»
из книги Б. Андерсона (Андерсон 2001: 215-220). Приведите свои
примеры «удостоверяющих подтверждений» из российской истории.
О чем свидетельствует существование этого феномена?
5. Посетите официальную страницу “A Festival of Nine Lessons and Carols”
(URL: http://www.kings.cam.ac.uk/events/chapel-services/nine-lessons.
html). Какие черты и приметы изобретенных традиций вы видите? Есть ли
Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции» 121
изобретенные традиции в вашем университете, можно ли проследить
историю их возникновения?
6. Э. Хобсбаум противопоставляет «народную память» и историю. На
основе чего делается такое противопоставление? В чем сходство и раз¬
личие его вйдения дихотомии «память/история» с мнением ранее
рассмотренных авторов?
7. В качестве эксперимента попробуйте заменить концепцию «изобретен¬
ная традиция» концепцией «место памяти». Можно ли переписать работу
X. Тревора-Ропера в такой манере? Какие из статей антологии «Места
памяти» можно было бы описать с помощью понятия «изобретенная
традиция»? В чем сходство и различие двух этих концепций?
Для чтения:
Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле.
Глава 11: Память и забвение. С. 203-223.
Ренан Э. (1902). Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений:
В 12 тт. / перев. с фр. под ред. В. И. Михайловского. Т. 6. Киев: Б. К. Фукс.
С. 87-103.
Тревор-Ропер X. (2015). Изобретение традиции: традиция горцев Шот¬
ландии // Неприкосновенный запас. № 6. URL: https://www.nlobooks.ru/
magazines/neprikosnovennyy_zapas/104_nz_6_2015/article/11749/; дата
доступа 07.09.2018.'
Хобсбаум Э. (2000). Изобретение традиций // Вестник Евразии. № 1.
С. 47-62.
Глава 6
Культурная травма и культурная
память
Что такое травма?
Понятие «травма» прочно входит в лексикон современного
человека, так же как понятие «память», хотя и несколько более
специфическим образом. Если «помнит» человек постоянно, как
правило, не замечая этого, то бытовые, спортивные и т. д. травмы
случаются с ним время от времени, представляя собой специфи¬
ческий, во всяком случае болезненный опыт. В современном обще¬
стве повального дилетантского увлечения психологическими, пси¬
хотерапевтическими и психоаналитическими конструкциями
понятие психологической травмы банализировано в языке, так что
травмирующим можно назвать любой неприятный опыт. Как пишет
американский социолог Джеффри Александер, весь XX век люди
«...постоянно используют язык травмы, чтобы объяснить, что про¬
изошло не только с ними самими, но и с коллективами, к которым
они принадлежат». И продолжает: «Акторы описывают себя в ка¬
тегориях травмы, когда окружение индивида или сообщества вне¬
запно изменяется непредсказуемым или нежелательным образом»
(Alexander 2004: 2).
В медицине понятие «травма» (от греч. «рана») используется
для обозначения любых нарушений анатомической целостности
или физиологических функций в результате внешнего воздействия.
Она изучается отдельной областью медицинского знания — трав¬
матологией. В начале XX в., во время Первой мировой войны, на¬
чались наблюдения за проявлениями военных неврозов у солдат,
переживших shell shock («артиллерийский шок» или «окопный шок»
у тех, кто стал свидетелем гибели товарищей в непосредственной
близости от себя). Они стали первым шагом к разработке понятия
Глава 6. Культурная травма и культурная память
123
кажемся,
посттравматического стрессового расстройства (ПТСР, posttraumatic
stress disorder), систематическое изучение которого было начато
американскими психиатрами во время Вьетнамской войны 1964-
1975 гг. В справочники по психиатрии понятие психологической
травмы было включено сравнительно недавно — в 1980 г.
Александер выделяет две основные модели понимания травмы:
«просвещенческую» и «психоаналитическую». Первая описывает
травму как вид рационального ответа на внезапные перемены на
личном или социальном уровне. Травматические события осозна¬
ются акторами, которые закономерно реагируют на них сходным
образом: политические скандалы приводят к возмущению, военные
потери — к негодованию и безысходности, природные катастрофы —
к панике, техногенные — к фобиям и т. д. Ответом на травму будут
попытки изменить обстоятельства, которые к ней привели. Память
о пережитом негативном опыте будет влиять на действия в буду¬
щем. Примером такого подхода может служить работа Артура Нила
«Национальная травма и коллективная память», в которой он ана¬
лизирует травматические события американской истории (Граж¬
данская война, Великая депрессия, Вторая мировая война) в каче¬
стве триггеров радикальных изменений, которые происходят на
124
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
коротком отрезке времени. Нила интересует природа травматиче¬
ских событий, которые в его описании «подобны извержению вул¬
кана» и способны потрясать основания социального мира людей,
их переживающих (Neal 1998: 3,9-10).
В отличие от первого подхода, психоаналитическая модель ис¬
ходит из идеи, что ответом на травматические события являются
неосознанные действия. Люди, пережившие травматический опыт,
не способны к его осознанию и рациональному пониманию, ре¬
зультатом чего становится его искажение или полное вытеснение
из памяти. Воспоминание о подлинном событии становится жерт¬
вой травмированного сознания и может быть восстановлено только
через терапию. С точки зрения Александера, классическим при¬
мером такого подхода в последние тридцать лет является изучение
Холокоста. Поскольку воспоминания о травматическом прошлом
существуют в коллективной памяти лишь в виде символических
остатков первоначальных событий, «они входят в социальную жизнь
через создание литературных произведений». Таким образом, ин¬
терпретация произведений культуры, в особенности литературы,
о травматическом прошлом «предлагается как своего рода акаде¬
мический эквивалент психоаналитического вмешательства» (Ale¬
xander 2004:4-6).
Для обеих рассмотренных Александером моделей характерно
представление о возможности существования как индивидуальной,
так и коллективной травмы. В отличие от исследований памяти,
где «разделение труда» между нейробиологами и гуманитариями
вполне очевидно, изучение коллективной травмы не является ис¬
ключительной вотчиной последних. Например, израильский ней¬
робиолог Рашель Йегуда исследовала уровень гормона стресса —
кортизола — у переживших Холокост родителей и их детей
и обнаружила полное совпадение уровня и дневных ритмов цир¬
куляции этого гормона у травмированных родителей и их нетрав-
мированных детей. В другом исследовании было показано, что
вероятность травматизации израильских солдат — участников
войны в Ливане была на 75 % выше, если их родители пережили
Холокост (Карут 2009: 573). Таким образом, существование кол¬
лективной, а также межпоколенческой травмы, кажется, можно
подтвердить методами точных наук, чего нельзя сделать
Глава 6. Культурная травма и культурная память
125
с коллективной памятью. Показательно также, что одна из первых
работ, находящихся у истоков гуманитарных и социальных ис¬
следований травмы, была создана в 1992 г. в соавторстве культу¬
рологом Шошаной Фелман и психиатром Дори Лаубом, профессо¬
рами Йельского университета. Их книга «Показания очевидцев:
кризис свидетельства в литературе, психоанализе и истории» по¬
священа феномену свидетельства о травматическом событии (Fel-
man, Laub 1992).
Наиболее влиятельной работой в исследовательском поле trauma
studies до сих пор остается книга Кэти Карут 1995 г. «Невостребо¬
ванный опыт: травма, нарратив и история», в которой она впервые
употребила понятие «теория травмы». Отталкиваясь от фрейдовской
интерпретации поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иеруса¬
лим», в которой герой Танкред по ошибке убивает свою возлюблен¬
ную Клоринду, она предлагает говорить не только о вытеснении
и аберрациях памяти, как это делал австрийский психиатр, но также
о «голосе сожаления», который парадоксальным образом реализу¬
ется «через рану». Карут подчеркивает, что травма не психическая
болезнь, а «история», адресованная нам «попытка рассказать о ре¬
альности или правде, которые иначе недоступны», и поясняет: «Эта
правда... связана не только с тем, что известно, но также и с тем,
что остается неизвестным в самих наших действиях и нашем языке»
(Caruth 2010:4).
Исследовательницу интересовало, как знание и незнание пере¬
плетаются в языке травмы и повествовании о травматических со¬
бытиях. Анализируя тексты о травме, она предлагает не просто
следовать за аргументами авторов, но изучать, как функционирует
язык травмы. Важным для нее является идея, что травма — это
история выжившего, который свидетельствует не только о своем
опыте, но и о травме другого, давая ему голос. Например, она ана¬
лизирует один из первых текстов об «исторической травме» — ра¬
боту Фрейда «Человек по имени Моисей и монотеистическая ре¬
лигия» как место травматического (site of trauma). С ее точки зрения,
текст, писавшийся на протяжении четырех лет, с 1934 по 1938 г.,
сначала в Вене, а затем в эмиграции в Лондоне, представляет собой
нарратив об опыте самого Фрейда как человека, лишенного прав
и гражданства из-за его происхождения (Caruth 2010: 20-21).
126
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Уже на этом примере видно, что в какой-то мере психоанали¬
тические концепции и язык важны для исследований коллективной
травмы. В трудах исследователей, работающих в этой методологии,
можно встретить множество заимствований из медицинско-био¬
логических наук, в частности концепции афазии, амнезии, психо¬
травмирующих ситуаций и т. д. Выработанные при изучении (и ле¬
чении) индивидуальной травмы, они используются для описания
травмы (травматического опыта) как события социокультурной
и исторической реальности. В связи с этим встает закономерный
вопрос о том, в какой мере исследователь, обращающийся к про¬
блематике (коллективной) памяти через концепцию (коллективной)
травмы, должен разбираться в психоаналитических / психиатри¬
ческих теориях.
Зигмунд Фрейд и Пьер Жане: читать ли
историку психоаналитиков?
Как правило, исследователи травмы в ее наиболее влиятельном,
психоаналитическом понимании возводят свою интеллектуальную
генеалогию к трудам австрийского психиатра Зигмунда Фрейда
(1856-1939). Согласно Фрейду, травма — это «ранее пережитые
и позднее забытые впечатления, которые становятся основой не¬
вротических расстройств» (Фрейд 1993: 82). Изучая вместе со своим
коллегой Йозефом Брейером в начале 1900-х гг. истерию, Фрейд
обратил внимание на общий механизм неврозов. Их источником
были события, которые пациенты не хотели или не могли вспом¬
нить. Соответственно, истерические симптомы интерпретировались
психиатрами как бессознательное навязчивое желание повторить
подавленный опыт.
После Первой мировой войны Фрейд внес коррективы в свои
представления о травматической памяти в эссе 1920 г. «По ту сто¬
рону принципа удовольствия». С его точки зрения, невроз прово¬
цируется не самим травматическим событием, а невозможностью
припомнить / признать то, что случилось. В обычном состоянии
сознание последовательно фиксирует переживаемый опыт.
Травма — это событие, которое не может быть включено в такую
Глава 6. Культурная травма и культурная память
127
последовательность, поскольку распознается позже, чем нужно. Не
пережив шок от столкновения с угрозой смерти непосредственно
в момент угрозы, разум оказывается неспособен до конца осознать
его, а потому вновь и вновь повторяет упущенное столкновение,
пытаясь постичь его. Карут пишет: «В этом радикальном темпо¬
ральном разрыве между вйдением и знанием и лежит невыносимая
сила травмы. Поэтому травма есть нелокализуемое событие. Пара¬
доксально, но повторы видений из прошлого, таким образом, от¬
ражают не полноту непосредственно пережитого опыта, но воз¬
действие его запаздывания во времени» (Карут 2009: 571).
От рассмотрения индивидуальной травмы Фрейд обратился
к коллективной травме в работе «Человек по имени Моисей и мо¬
нотеистическая религия». Ключевым для книги Фрейда стало по¬
нимание современности через травматический опыт истории. Ис¬
следуя влияние травматического на процесс истории, Фрейд прямо
проводил аналогии между индивидом и обществом. С его точки
зрения, впечатление от прошлого сохраняется в виде бессознатель¬
ных следов не только в индивидуальной, но и в коллективной па¬
мяти. В интерпретации Карут, «...центральный вопрос, которым
в конце концов задается Фрейд в связи с отношениями между
историей и ее политическими последствиями, — это вопрос о том,
что именно значит для истории быть историей травмы» (Caruth
2010: 16). Историческая сила травмы для Фрейда заключается не
в том, что пережитый опыт повторяется после его забвения, а в
том, что вследствие и через обязательное забвение сам опыт ста¬
новится исторически важен только в момент его повторения.
Фрейд предполагал, что центральным эпизодом истории ев¬
рейского народа является не обретение свободы во время Исхода,
а убийство Моисея во время восстания, воспоминание о котором
было вытеснено из исторической памяти еврейского народа и, со¬
ответственно, не попало в Библию. История евреев, таким образом,
представляет собой акт повторения: вытеснение деяний Моисея
и их возвращение, но уже в несколько измененной форме, по про¬
шествии двух поколений, когда образ Моисея, создателя монотеи¬
стической религии, сливается с образом другого Моисея, жреца
вулканического бога Яхве. Идея разрыва между убийством и воз¬
вращением памяти повторяет более ранний аргумент Фрейда о двух
128
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
стадиях травмы: событие приобретает свое значение постфактум,
когда проходит латентный период и выявляются отчасти неосоз¬
наваемые последствия. Карут признает, что для многих читателей
работа Фрейда является антиисторичной, поскольку, с одной сто¬
роны, он подменяет исторические факты собственными спекуля¬
циями, а с другой — утверждает, что историческая память всегда
искажена: подлинные события подменяются выдумкой, обуслов¬
ленной их травматической природой, поэтому «настоящая» исто¬
рия, если и доступна, то не напрямую (Caruth 2010: 17).
Антрополог Сергей Ушакин, проанализировав эволюцию кон¬
цепции травмы у Фрейда, подчеркивает те аспекты, которые важны
для работы не с индивидуальной, а с коллективной травмой и ее
выражением в культуре. Поскольку природа травмы влечет за собой
ее невыразимость, она несовместима с существующими в данной
культуре «нарративными традициями и смысловыми конвенциями,
ориентированными на упорядоченность опыта и связность его
репрезентации». «Сложившиеся повествовательные традиции не
в состоянии вместить (и не в состоянии выразить) травматический
Глава 6. Культурная травма и культурная память
129
I шыт», — пишет он (Ушакин 2009:14). Ситуация травмы заключается
и невозможности совместить опыт пережитого, опыт высказанного
и опыт осмысленного. Разрыв между эмоциями, словами и смыс¬
лами становится объектом исследования ученых, работающих
к поле trauma studies в той традиции, которая восходит к идеям
Фрейда.
Хотя в поле исследований травмы Фрейд является самым ав¬
торитетным отцом-основателем, он ни в коем случае не рассма¬
тривается как единственный специалист в этой области. Та же
Карут предпочитает соединять работы австрийского психиатра
с идеями его современника, француза Пьера Жане, предложившего
альтернативную теорию вытеснения через понятие диссоциации,
представляющей собой сочетание амнезии и вторжения точных
и подробных образов, которые не могут быть полностью осознаны
в момент их возврата. Диссоциация является механизмом психо¬
логической самозащиты: поскольку травмирующее событие не
может быть психологически освоено из-за угрозы для целостности
личности, оно не допускается в сознание — фиксируется, но не
осознается. Жане исследовал диссоциацию на примере своей па¬
циентки Ирэн: в течение шестидесяти суток женщина ухаживала
за умирающей матерью, но не могла признать факт ее смерти, хотя
в спонтанных трансах рассказывала о последней ночи умирающей
в исключительных подробностях. Как отмечает Карут, перенося
случай Ирэн на другие примеры, «те, кто пережили катастрофиче¬
ское событие, оказываются скорее носителями истории, которая
им не вполне принадлежит». Особенность видений из прошлого
заключается не просто в их исключительной точности, но именно
в отсутствии смысла: «Видение из прошлого фактически говорит:
ты должен видеть, но ты не можешь знать. Видимая “буквальность”
образа поэтому есть не репрезентация события, но сила его непо¬
стижимости или сопротивляемости осмысливанию. Образ на самом
деле говорит: есть что-то, что ты еще не понял». Именно сочетание
остроты переживания и недостатка осознания является определя¬
ющим моментом для выбора Карут концепции диссоциации (Карут
2009: 563-565).
Если для Карут выбор понятия диссоциации обусловлен его объ¬
яснительным потенциалом, то для А. Ассман, также прибегающей
130
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
к нему, предпочтения лежат скорее в этической плоскости. С ее точки
зрения, работы Фрейда далеки от современных психотравматических
исследований хотя бы потому, что обращены преимущественно
к преступнику, а не к жертве. Анализируя работу о Моисее, она пишет:
«По Фрейду, началом культуры и религии служат муки совести, вы¬
званные травмой, которая переживается преступниками. Это якобы
ведет к вытеснению преступного деяния из коллективного сознания,
что составляет скрытый подтекст библейской традиции, придавая
ей до наших дней специфически принудительный характер». В этой
цитате легко прочитать сомнение в основополагающей идее
австрийского психиатра. Нежелание Ассман признать травму пре¬
ступника проистекает из предмета ее занятий, поскольку она за¬
нимается исследованием памяти о Холокосте. Вместо травматиче¬
ского опыта преступника она предпочитает говорить, ссылаясь на
Бернхарда Гизена, о травме зрителя: «...добровольные исполнители...
постепенно вымирают, а вот вина зрителей становится решающим
транспоколенческим, латентным и потому ответственным за иден¬
тичность элементом» (Ассман А. 2014:103-104).
Хотя для исследователей травмы Фрейд и Жане не являются
обязательными авторами в той мере, в какой для исследователей
памяти необходимы Ренан и Хальбвакс, в этой присяге на верность
отцам-основателям, проявляющейся в обильном цитировании
текстов начала XX в. во всех исследованиях травмы, есть своя ло¬
гика. Выводы Фрейда и Жане об индивидуальной травме, развитые
их последователями, а также весь понятийный аппарат психоана¬
литических и психаитрических концепций экстраполируются на
обсуждения природы социокультурной травмы.
Анализируя опыт изучения травмы различными гуманитар¬
ными дисциплинами, Ушакин выделил несколько направлений,
отражающих «символическую неоформляемость» травматического
опыта, т. е. использующих для анализа различные психоаналити¬
ческие модели травмы:
• Травма как опыт утраты. Утрата становится причиной
переоценки уже несуществующего «целого», следы травмы
вписываются в структуру повседневности настоящего.
• Травма как консолидирующее событие. «[Нарратив о травме
формирует] сообщества утраты, являющиеся и основным
Глава 6. Культурная травма и культурная память
131
автором, и основным адресатом повествований о травмах.
Способность признать “общность боли” служит основой
солидарности пострадавших; одновременно “опыт боли”
выступает социальным водоразделом, символически изо¬
лирующим “переживших” от всех остальных» (Ушакин 2009:
8-10).
• Травма как символическая матрица. Травматический опыт
фиксируется в словах, смыслах, вещах или ритуалах. От¬
дельные факты выстраиваются в связный сюжет, которому
травма задает «общую систему повествовательных коорди¬
нат». Повествование о прошлом выстраивается через специ¬
фическую авторскую позицию жертвы или свидетеля,
а «биография и идентичность оказываются невозможными
вне истории о пережитой травме» (Ушакин 2009: 8-10).
Свидетель и проблема свидетельства
Одна из первых работ, с которой trauma studies ведут свое на¬
чало, посвящена проблеме свидетельства как специфического опыта
XX в., который ее автор Шошана Фелман назвала «эрой свидетель¬
ства». Она утверждает, что свидетельство — это «ключевой метод»
наших отношений с травматическими событиями современной
истории, такими как Вторая мировая война, Холокост или атомная
бомба. С ее точки зрения, «свидетельство как отношение к дей¬
ствительности кажется состоящим из осколков и кусочков памяти,
которая ошеломлена событиями, не укладывающимися ни в со¬
знании, ни в памяти». Свидетельство является не просто утверж¬
дением о неком событии, но дискурсивной практикой, речевым
актом, в процессе которого собственная речь говорящего является
материальным удостоверением правды (Felman, Laub 1992: 5).
Свидетель является проводником памяти, через его высказы¬
вание травматический опыт становится доступен аудитории, вклю¬
чающей в себя, в том числе, исследователя травмы. Фигура свиде¬
теля всегда амбивалентна по отношению к фигуре жертвы,
поскольку свидетель — это тот, кто выжил, а не тот, кто испытал
максимум мучений и чей опыт, по определению, недоступен для
132
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
культурной памяти. А. Ассман утверждает принципиальную важ¬
ность свидетеля для идентификации преступников и жертв, кото¬
рая может быть осуществлена только извне. Исследовательница
выделяет четыре типа свидетельствования:
• Свидетель перед судом. Такое свидетельство должно служить
установлению истины, поэтому его основными характери¬
стиками должны быть беспристрастность, непосредственное
чувственное восприятие произошедшего на месте события,
надежность памяти, скрепленное клятвой обязательство
говорить правду.
• Исторический свидетель. Это рассказ очевидца, повествую¬
щего потомкам о важном историческом событии, который
затем входит в реконструирующую работу историографии.
• Религиозный свидетель. Такое свидетельство воплощено
в идее мученичества, где гибель жертвы является ее победой:
«Послание, отправленное перед лицом гибели и самой ги¬
белью, содержит свидетельство веры в более могуществен¬
ного Бога».
• Моральный свидетель. Это новый тип свидетельства, сфор¬
мировавшийся, по мнению Ассман, под влиянием Холокоста.
Он объединяет в себе роли жертвы и очевидца, но, в отличие
от мученика, становится свидетелем, не погибнув, а выжив.
Свидетельство является обязанностью выжившего, говорящего
о чудовищном преступлении от своего лица и за тех, кто по¬
гиб. Важным для морального свидетельства является ауди¬
тория, готовая воспринимать свидетельство выживших
и превращаться в сообщество вторичных свидетелей. При
этом правдивость такого свидетельства не имеет отношения
к точности показаний в зале суда: «...авторитетность мораль¬
ного свидетельства заключаются в непосредственной при¬
частности к Холокосту, в неотчуждаемом физическом ис¬
пытании пережитого насилия... Будучи воплощением
травматического опыта, моральные свидетели в качестве
жертв являются живым доказательством преступления,
о котором они говорят» (Ассман А. 2014: 92-97).
Воплощением морального свидетельства, опосредованного
кинематографом и радикальным образом повлиявшего на
Глава 6. Культурная травма и культурная память
133
формирование сообщества вторичных свидетелей, является фильм
Клода Ланцмана «Шоа» (1985). С точки зрения Фелман, этот фильм
определяет нашу эпоху как «время свидетельствования», в котором
просмотр фильма сам превращается в травматический опыт. Ланц-
ман показывает зрителю дискурсивную несостоятельность рас¬
сказчика и эмоционально вовлекает его в переживания героев. Как
пишут Оксана Мороз и Екатерина Суверина, «аудитория Ланцмана
никогда не сможет стать современниками обсуждаемой трагедии,
но она может стать носителями памяти о ней, ее истории здесь
и сейчас» (Мороз, Суверина 2014).
Культурная травма
В 2004 г. Джеффри Александер и его коллеги выступили с кри¬
тикой просвещенческой и психоаналитической концепций травмы,
назвав их «ошибкой натурализма». С точки зрения американского
социолога, оба подхода разделяют неверное представление о том,
что травматические события действительно имеют место и ведут
к травме. Критикуя эту идею, он подчеркивал два важных момента.
Во-первых, событию необязательно иметь место в действитель¬
ности, чтобы оказаться травматическим. Воображаемые угрозы
способны приводить к настоящим травмам, в том числе коллек¬
тивным. Во-вторых, и подлинные, и воображаемые феномены ока¬
зываются травматическими не из-за их действительной опасности
или неожиданности, а из-за разделяемого многими убеждения, что
они являются таковыми. «Травма есть свойство, приписываемое
событию при посредстве общества. Это свойство может приписы¬
ваться событию в режиме реального времени, по ходу его осущест¬
вления; оно может приписываться событию до того, как оно про¬
изошло, в качестве его предзнаменования, или после того, как
событие завершилось, в качестве реконструкции post hoc» (Алек¬
сандер 2012: 16).
Целью Александера и его коллег стала формулировка нового
теоретического подхода к травме, который позволил бы описать
отношения между ранее не связываемыми событиями, структурами
и действиями принципиально новым способом. Пытаясь избежать
134
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
«ошибки натурализма», а также трактовок травмы «с позиции здра¬
вого смысла», они предложили использовать понятие «культурная
травма», чтобы подчеркнуть его конструктивистскую природу.
Вступительную статью Александера к сборнику 2004 г. «Культурная
травма и национальная идентичность» можно рассматривать в ка¬
честве теоретического манифеста нового подхода, который раз¬
деляют его авторы.
Принципиальным моментом в предложенной концепции куль¬
турной травмы является требование рассматривать ее как социо¬
культурный процесс приписывания какому-то опыту травма¬
тического статуса. Важную роль в таком приписывании играет
воображение, понимаемое Александером в дюркгеймианском
ключе как неотъемлемая часть процесса репрезентации события,
а не как искажение «истины» в угоду каким-либо идеологическим /
политическим интенциям. Поскольку события сами по себе не
являются травматическими, притязания на статус жертвы «нельзя
считать автоматическими или естественными реакциями на дей¬
ствительную сущность самого события» (Александер 2012:17).
Другим важным моментом в понятии культурной травмы яв¬
ляется ее связь с коллективной идентичностью. Александер писал:
«Культурная травма имеет место, когда члены некоего сообщества
чувствуют, что их заставили пережить какое-либо ужасающее со¬
бытие, которое оставляет неизгладимые следы в их групповом
сознании, навсегда отпечатывается в их памяти и коренным и не¬
обратимым образом изменяет их будущую идентичность» (Алек¬
сандер 2012: 6). Травматические события ставят под угрозу «ста¬
бильность смысла», социальный кризис сопровождается культурным
и угрожает чувству коллективной идентичности.
Такое понимание культурной травмы ведет к созданию прин¬
ципиально иной исследовательской программы. Предметом изуче¬
ния должны быть не травматические события и не их «бессозна¬
тельные следы», выраженные через произведения искусства,
а «процесс травмы», т. е. разрыв между событием и его репрезен¬
тацией. Такая постановка вопроса имеет не только эпистемологи¬
ческое, но и этическое измерение. С точки зрения Александера,
исследователи должны заниматься не оцениванием справедливо¬
сти претензии социальных акторов на статус жертвы, а тем, «как
Глава 6. Культурная травма и культурная память
135
и при каких условиях делаются эти заявления и к каким они при¬
водят результатам» (Александер 2012: 17).
Поскольку коллективы сами по себе не принимают решения
о том, что они травмированы, в центре внимания исследователей
оказываются агенты и институты, влияющие на понимание соци¬
альной реальности как травматической. Конструирование понима¬
ния события как травмы начинается с «заявления», выраженного
в нарративе, о «разрушительном социальном процессе» и заключа¬
ется в требовании «эмоциональной, институциональной и симво¬
лической компенсации и восстановления». «Заявление» может быть
сделано от лица самых разных «групп носителей» — от представи¬
телей политических элит до маргинализированных сообществ —
перед аудиторией, первоначально состоящей из членов самой
группы носителей. Если «заявление» имеет успех, члены группы
начинают разделять убеждение, что они были травмированы, по¬
степенно происходит расширение аудитории до «общества в целом».
Таким образом, процесс травмы — это процесс создания нового
господствующего нарратива общественного страдания, в который
включены четыре важных репрезентации:
• Природа боли. Что именно произошло с группой, которая
является жертвой, и сообществом в целом? Являются ли
события в Северной Ирландии «гражданскими беспорядками»
или «войной»?
• Природа жертвы. Какая группа людей испытала на себе эту
травмирующую боль? Был ли главный удар боли нанесен
отдельной и ограниченной группе, или здесь были замешаны
несколько групп? Основными жертвами Холокоста были
немецкие евреи / европейские евреи / еврейский народ
в целом? Являлись ли коммунисты, социалисты, гомосек-
суалы и люди с ограниченными возможностями жертвами
Холокоста?
• Связь жертвы травмы с более широкой аудиторией. До какой
степени члены аудитории, которой адресована репрезен¬
тация травмы, соотносят себя с членами непосредственно
пострадавшей группы? Привели ли зверства полиции
в Сельме (Алабама, 1965 г.), вызвавшие травму у темнокожих
борцов за гражданские права, к тому, что белые американцы,
136
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
наблюдавшие за событиями по телевизору из безопасной
северной части страны, не знавшей сегрегации, соотнесли
себя с жертвами?
• Распределение ответственности. Кто вызвал травму? Холо¬
кост создала «Германия» или нацистский режим? Престу¬
пления совершались спецподразделениями СС, всем вер¬
махтом, всеми гражданами? (Александер 2012: 21-23).
Этот процесс опосредуется тем, что он может происходить на
разных институциональных аренах, способных значительно влиять
на его содержание. Например, конструирование смысла Холокоста
происходит и в области эстетического, где оно подчиняется законам
жанра (так, под влиянием «Дневника Анны Франк» развилась целая
«литература переживших»), и в области юридического, где главной
целью интерпретации является определение наказания (Нюрн¬
бергский процесс).
После бурного этапа конструирования смыслов начинается
период, названный Александером «рутинизацией травмы». Из¬
менив идентичность группы, репрезентации травмы закрепляются
в памятниках и ритуалах, теряя эмоциональную остроту.
В отличие от разнообразных психоаналитических подходов
к коллективной травме, стремящихся увидеть в различных арте¬
фактах культуры следы события, искаженного или вытесненного
из памяти в силу его «невыносимости», концепция культурной
травмы предлагает принципиально иную программу исследования.
Если событие само по себе не имеет травматической природы, нет
смысла прорываться к нему «подлинному», вместо этого следует
рассмотреть механизмы, с помощью которых конструировался его
смысл, процесс этого конструирования, его участников и его по¬
следствия для коллективной идентичности.
Примером успешного соединения концепции культурной
травмы и культурной памяти является работа американского со¬
циолога Рона Айермана «Культурная травма и коллективная па¬
мять», посвященная конструированию «афроамериканской иден¬
тичности», для которой ключевой темой является рабство,
репрезентируемое как коллективная травма. Центральным тезисом
его работы является утверждение, что афроамериканская идентич¬
ность была сформирована уже после отмены рабства поколением
Глава 6. Культурная травма и культурная память
137
черных интеллектуалов, лично его не переживших. Травма была
в их случае «ретроспективной, опосредованной воспоминаниями
и рефлексией», в некоторых случаях тесно связанной с политиче¬
скими и практическими интересами. Понимание рабства как кол¬
лективной травмы обусловлено процессами конструирования исто¬
рической памяти о Гражданской войне, где «...черная кожа стала
ассоциироваться с рабством и подчинением». Память о рабстве
и его репрезентации являются центром афроамериканской иден¬
тичности: сегодня часть населения Соединенных Штатов иденти¬
фицирует себя как «бывших рабов» или «детей рабов», вне зависи¬
мости от подлинной семейной истории, поскольку именно рабство
видится причиной того, почему африканец находится в Америке.
Айерман пишет: «...рабство травмирует всех тех, кто разделяет
общую судьбу, — переживать общий опыт необязательно. Культур¬
ная травма задает членство в группе, которая объединена событием
или опытом, воссоздает первичную сцену, укрепляющую индиви¬
дуальную и коллективную идентичность. Это событие, отныне
связанное с созданием группы, должны вспоминать другие поко¬
ления, не переживавшие лично “подлинного” события, но продол¬
жающие определяться им и определять самих себя с его помощью»
(Айерман 2016).
Другим примером применения концепции культурной травмы
являются работы польского социолога Петра Штомпки. Он исполь¬
зует понятие травмы в качестве инструмента для объяснения не¬
гативных последствий социальных изменений. В качестве примера
радикального социального изменения в его работах выступает крах
коммунизма в Восточной Европе. Штомпка определяет травму как
динамично развивающийся процесс, смысл которого заключается
в деструктивном влиянии изменения на социальное тело общества,
приводящее к «патологии агентства» (agency). В этом процессе он
выделяет шесть последовательных стадий:
1) «готовность к травме» — структурное и культурное прошлое,
которое создает благоприятные условия для возникновения
травмы;
2) травматические события;
3) интерпретация травматических событий посредством име¬
ющихся культурных ресурсов;
138
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
4) травматические симптомы, выражающиеся в разделяемых
схемах поведения и общепринятых мнениях;
5) посттравматическая адаптация;
6) преодоление травмы — завершающая фаза или начало но¬
вого цикла травматической последовательности (Штомпка
2001:8).
Как и Александер, Штомпка утверждает субъективность травмы
как социального состояния. Тем не менее он выделяет ряд крите¬
риев, характерных для потенциально травматических событий:
неожиданность и быстрота, радикальность, экзогенность (мы «стра¬
даем» от травм, травмы «происходят с нами», мы «сталкиваемся»
с травмами), способность вызывать шок и отторжение. Под эти
критерии подходят не только войны, революции и массовые убий¬
ства, но также открытие секретных архивов и ревизия героических
традиций нации.
Травма, с точки зрения Штомпки, всегда заключена в культур¬
ные рамки, поскольку интерпретация какого-то события как
травмы не может возникнуть в вакууме. Он пишет: «Всегда при¬
сутствует наличный набор доступных значений, закодированных
в культуре конкретной общности (общества). Индивиды не вы¬
думывают значения, а отбирают их из окружающей культуры,
применяя к потенциально травматическим событиям. Некоторые
из этих интерпретаций описывают события как травматические.
Некоторые рассматривают воображаемые, объективно несуще¬
ствующие события как травматические. А некоторые считают
объективно травматические события нетравматическими»
(Штомпка 2001: 9).
Травматические события могут оказывать воздействие на раз¬
ных уровнях — биологическом и демографическом, проявляясь
в виде демографической деградации, социальном — через разру¬
шение социальных отношений и, наконец, культурном. Только
в последнем случае, с точки зрения Штомпки, можно говорить
о собственно культурной травме как ране на ткани культуры. Он
называет этот вид травмы наиболее важным, поскольку она суще¬
ствует дольше, чем другие травмы, сохраняясь в культурной памяти
и «культурном подсознании» нескольких поколений (Штомпка
2001:9).
Глава 6. Культурная травма и культурная память
139
Trauma studies: перспективное направление
или «впечатляющая ошибка»?
Сегодня trauma studies являются одним из самых модных и бы¬
стро развивающихся направлений гуманитарных исследований.
Признаком академической успешности, как было показано в пер¬
вой главе, является институциональное оформление исследова¬
тельского направления — основание специализированных журна¬
лов, центров и кафедр. В случае с исследованиями коллективной
травмы все оказывается не так просто, поскольку на ее изучение
претендуют множество разных дисциплин. Слово «травма» можно
обнаружить в названиях журналов по медицине и психологии
(“Journal of Loss and Trauma”), а также в сочетании с разными дру¬
гими предметами гуманитарных исследований. Так, “Australian
Journal of Disaster and Trauma Studies” в большей степени посвящен
различным природным и техногенным катастрофам, чем их трав¬
матическим последствиям, a “Journal of Literature and Trauma
Studies” — анализу литературных произведений.
Автор известной читателю из первой главы статьи о кризисе
memory studies Вульф Канстайнер совместно с Харольдом Вайльн-
бёком написал статью о trauma studies для международного пособия
по культурной памяти. Статья с провокативным подзаголовком
«Как я научился любить чужие страдания без помощи психотера¬
пии» начинается с утверждения, что включение в пособие раздела
о каком-либо подходе является признаком его академического
успеха, информирует читателей «о важности теоретической рамки
и методологии, демонстрирует, в каком контексте и для каких ис¬
следовательских данных эти интеллектуальные инструменты могут
быть использованы наиболее успешно» (Kansteiner, Weilnboeck
2010: 229). Далее авторы заявляют, что их единственной целью
в этом случае является демонстрация «впечатляющей ошибки»
исследователей, поддерживающих это направление вопреки мно¬
гочисленным противоречиям и трудностям.
Разумеется, главным объектом критики является само понятие
«травма», оправданность заимствования которого из психоанализа
и психиатрии кажется многим сомнительной. Возможно ли опи¬
сывать одним и тем же словом индивидуальный опыт людей,
140
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
страдающих от посттравматического стресса, и процесс констру¬
ирования различными группами репрезентаций негативного про¬
шлого? Возможно ли говорить о травме метафорически и не обе¬
сценивает ли такое высказывание страдания настоящих жертв?
Другой серьезной проблемой исследований травмы, по мнению
критиков, является нелегитимная апроприация психотерапевти¬
ческих концепций, превращающая любое высказывание о нега¬
тивном прошлом в «искаженное» травмой, «неадекватное» под¬
линным событиям и, следовательно, требующее обязательной
деконструкции. Канстайнер и Вайльнбёк говорят также о «парано¬
идальном страхе перед нарративом». Утверждая, что нарратив
обязательно искажает и нормализует травматические события,
поэтому ценны только фундаментальные пренарративные озаре¬
ния, исследователи травмы противоречат самой психоаналитиче¬
ской практике, где нарратив является инструментом терапии.
Такой подход к нарративу тесно связан с еще одной проблемой
исследований травмы. Хотя весь терминологический аппарат за¬
имствован из психоанализа и психологии, использующие его гу¬
манитарии редко интересуются «эмпирическим феноменом травмы
и травматического опыта настоящих людей», предпочитая «в спе¬
кулятивной манере рассуждать о философском значении травмы
и применять эту концепцию в исследованиях культуры и истории»
(Kansteiner, Weilnboeck 2010: 232). В этом смысле интересно сопо¬
ставить их критику с анализом культуролога Александра Эткинда,
утверждающего бессмысленность использования понятия травмы
в силу того, что суть ее состоит именно в провале репрезентации,
неспособности травмированного индивида «знать» о травматиче¬
ском опыте. В качестве альтернативы он предлагает использовать
фрейдовское же понимание горя как ответа на состояние Другого,
которое способно передаваться из поколения в поколение культу¬
рой. С точки зрения Эткинда, горе, в отличие от травмы, может
быть объектом научного анализа (Эткинд 2016: 26-27).
Наиболее проблемный, на мой взгляд, момент заключается
в том, что ученые, использующие концепт травмы, зачастую рас¬
сматривают свои работы не только как академический текст, но
и как этически необходимый обществу, пережившему XX век, спо¬
соб говорения об «ужасном» на языке науки. Как пишет Карут,
Глава 6. Культурная травма и культурная память
141
«теория травмы не должна читаться просто как теория, но сама
должна быть понята, в своих самых глубоких выражениях, как свое¬
образное свидетельство» (Карут 2009,581). Примером такого под¬
хода может служить работа А. Ассман «Длинная тень прошлого».
Признавая возможность бессознательной передачи травматиче¬
ского опыта от одного поколения к другому, немецкая исследова¬
тельница видит задачу терапии в том, чтобы «за счет артикуляции
высвободить травму из ее непрозрачного ядра и сделать частью
сознательной идентичности индивидуума». Поскольку травма имеет
коллективный характер, индивидуальная терапия невозможна —
«необходим общественный и политический контекст, точнее —
мемориальная рамочная конструкция, внутри которой расщеплен¬
ным и подавленным воспоминаниям уделяется эмпатическое
внимание, в результате чего они обретают свое место в социальной
памяти» (Ассман А. 2014: 99).
Александер относится к «терапевтической» составляющей ис¬
следований травмы более сдержанно. Называя литературу, репре¬
зентирующую травму с целью «восстановления коллективного
психологического здоровья», «пропагандистской», хотя и «весьма
похвальной в нравственном отношении», он отмечает недостаток
теоретического осмысления проблемы, подменяемого в таких слу¬
чаях здравым смыслом и этическими императивами (Александер
2012: 14-15).
О той же проблеме, но с других методологических позиций,
пишет британская социолог и культуролог Сюзанн Рэдстоун. Она
утверждает, что травма превратилась в один из «бродячих концеп¬
тов», который в случайном порядке используют представители
самых разных дисциплин для объяснения мало связанных между
собою феноменов. Рэдстоун считает, что во многих случаях было
бы продуктивнее от trauma studies вернуться к анализу текста
именно как текста, а не как «свидетельства». В качестве примера
она приводит роман немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда
«Аустерлиц» (2001), который стал каноническим текстом для ис¬
следователей травмы, видящих в нем художественно обработанное
свидетельство ребенка, пережившего опыт Kindertransport. С точки
зрения самой Рэдстоун, следует читать этот текст в контексте не¬
мецкой литературы и критической теории, опираясь на методы
142
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
литературного анализа («не всегда политически “корректного”»).
Для исследовательницы судьба книги Зебальда дает возможность
ставить вопрос о читательской позиции: каким образом проис¬
ходит идентификация с текстами-«свидетельствами» и что это
говорит о современной «культуре памяти».
Рэдстоун ставит важную проблему, призывая рассматривать
этику как политику. С ее точки зрения, этические императивы, ко¬
торыми пронизаны исследования травмы, сближают это направле¬
ние с другими «этически заряженными» подходами, такими как
феминистская теория или исследования мигрантов. С ее точки зре¬
ния, в этом кроется опасность, так как «политическая корректность»
не всегда позитивно сказывается на постановке исследовательского
вопроса, а порой заранее предрешает выводы (Radstone 2008).
Канстайнер и Вайльнбёк в своей критике идут еще дальше, го¬
воря не только о рисках для академической науки, но также о пси¬
хологических рисках, которые такого рода исследования несут для
людей и коллективов, в действительности переживших травму. С их
точки зрения, изощренная деконструкция свидетельства не только
не служит свидетельством второго уровня, но и обесценивает под¬
линный опыт переживших травматическое событие, когда «на аб¬
страктном метафорическом уровне опыт травмы очень мало со¬
четается с философскими прозрениями Лакана, Деррида и прочих»
(Kansteiner, Weilnboeck 2010:234). Повышая ценность и эстетизируя
опыт травмы, используя высокое искусство и философию как спо¬
соб прорваться к аутентичному страданию, исследователи травмы
упускают из виду то самое «настоящее страдание», которое пыта¬
ются найти. Кроме того, теория травмы порождает представление
о культуре «чистого добра» и «чистого зла», а такое манихейское
видение мира опасно, поскольку способно спровоцировать оче¬
редную «войну против зла» (Radstone 2007: 26).
Наконец, как пишут Канстайнер и Вайльнбёк, trauma studies,
описывая различные механизмы репрезентации травмы, остаются
удивительным образом безразличны к осмыслению роли медиа
в конструировании репрезентаций травматического опыта (Kan¬
steiner, Weilnboeck 2010: 234). Руководство к тому, как использовать
media studies в исследованиях памяти, читатель найдет в главе 8.
Пока же, подводя итоги, я вынуждена, как и во многих других
Глава 6. Культурная травма и культурная память
143
случаях, констатировать, что рассмотренное исследовательское
моле имеет свои преимущества (например, при построении будущей
лкадемической карьеры) и ограничения, в том числе методологи¬
ческого характера. Решение о том, стоит ли использовать подход
л собственном исследовании, как всегда, остается на усмотрение
читателя. Ему следует помнить, что теория травмы, в отличие боль¬
шинства привычных методологических инструментов, является не
только исследовательским подходом, но и моральным обязатель¬
ством. Как пишет Рэдстоун об «этическом императиве» анализа
травмы, исследователь, превращаясь в свидетеля, «...видит свою
задачу в том, чтобы содействовать культурной памяти и проработке
тех травм, отсутствие которых является характерной чертой ана¬
лизируемых текстов» (Radstone 2007: 22).
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Найдите исследовательские проекты и центры, посвященные иссле¬
дованиям травмы. Можно ли по их количеству и названиям поставить
«диагноз» институциональному развитию этого направления?
2. Прочитайте статью К. Карут «Травма, время, история». Вспомните во¬
прос о том, надо ли историку памяти читать психологов и психиатров.
Задайте этот вопрос, поместив свое предполагаемое исследование
одновременно в поле memory studies и trauma studies. Можно ли изучать
травму, не читая Фрейда и Жане?
3. Дж. Александер приводит примеры четырех нарративов, составляющих
вместе господствующий нарратив о травме (см. с. 135-136 наст. изд.).
Приведите свои примеры для каждого из четырех нарративов, исполь¬
зуя события российской истории. Прочитайте статью Дж. Александера
«Культурная травма и коллективная идентичность».
4. Прочитайте статью Р. Айермана «Культурная травма и коллективная
память», проанализируйте его описание «процесса травмы», опираясь на
концепцию Дж. Александера, и выделите в предложенном им нарративе
о рабстве четыре основных элемента.
5. Является ли, на ваш взгляд, работа Р. Айермана удачным примером
исследования культурной травмы? Могут ли те же самые процессы
быть исследованы без использования этой концепции?
144
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
6. Прочитайте статью П. Штомпки о культурной травме. Сравните его
подход к культурной травме с идеями Дж. Александера. В чем вы видите
сходства, а в чем различия? Чей подход вам ближе?
7. Вспомните, какие претензии предъявляют критики memory studies к ис¬
пользованию понятия «память», сопоставьте их с критикой понятия
«травма».
Для чтения:
Айерман Р. (2016). Культурная травма и коллективная память// Новое
литературное обозрение. № 5. URL.: http://magazines.russ.rU/nlo/2016/5/
kulturnaya-travma-i-kollektivnaya-pamyat.html; дата доступа 07.09.2018.
Александер Дж. (2012). Культурная травма и коллективная идентич¬
ность // Социологический журнал. № 3. С. 5-40.
Карут К. (2009).Травма, время, история //Травма: пункты: сб. статей /
сост. С.Ушакин, Е.Трубина. М.: Новое литературное обозрение. С. 561-581.
Штомпка П. (2001). Социальное изменение как травма // Социологические
исследования. № 1. С. 6-16.
Глава 7
Ностальгия. Забвение.
Постпамять
Ностальгия
Ностальгия (от двух греческих корней, nostos и algia, «возвра¬
щение на родину» и «боль», т. е. «тоска по дому») представляет
собой еще один способ обращения человека со своим прошлым.
Странным образом концепция ностальгии близка рассмотренной
в предыдущей главе концепции травмы. В обоих случаях речь идет
о переживании утраты, однако в случае с ностальгией потерянное
обладает исключительно положительными характеристиками. Кри¬
тик, профессор Гарвардского университета Светлана Бойм пишет:
«[Ностальгия] может быть защитной реакцией, ответом на пере¬
ходные периоды истории. Ностальгия ищет в прошлом той стабиль¬
ности, которой нет в настоящем, тоскует о потерянных наречиях
и медленном течении времени» (Бойм 2013). Память об одних и тех
же событиях может оказаться и ностальгической, и травматической,
а в некоторых случаях одно может скрывать другое. Типичным
примером здесь может служить память о советском.
Сегодня ностальгия занимает привилегированное положение
в широком спектре гуманитарных дисциплин, вдохновленных
(или зараженных) этим понятием, от литературоведения до ис¬
следований масс-медиа. Пытаясь объяснить этот успех, исследо¬
ватели говорят о моменте смены тысячелетий, «конце истории»,
«эрозии доверия к настоящему» и быстром техническом прогрессе,
делающем артефакты прошлого предметом страстного желания
(Drag 2014:136). В то же время Хаттон отмечает, что тема носталь¬
гии очень поздно вошла в дискуссию о работе памяти. С его точки
зрения, это объясняется тем, что изучение ностальгии с самого
начала было включено в медицинский дискурс, а также
146
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
в проблематику истории эмоций. Только в начале XXI в. появились
исследования, в которых ностальгия стала пониматься как исто¬
рический феномен, связанный с проблематикой коллективной
памяти (Hutton 2013: 1).
Появление понятия «ностальгия» относится к 1688 г. Оно было
введено в оборот в диссертации швейцарского врача Иоганна Хо-
фера, рассматривавшего болезнь, поражавшую наемных швейцар¬
ских солдат, а также слуг и студентов, воевавших, работавших
и учившихся вдали от родины. Как отмечает один из первых ис¬
следователей истории этого явления Жан Старобинский, принци¬
пиально новым было в этом случае то, что Хофер превратил эмо¬
циональный феномен в медицинский факт, рационализировав его
и поставив вопрос о его излечении (Starobinski 1966: 84). В XVII в.
ностальгию лечили прочищением желудка, опиумом, пиявками
и поездками в Альпы. В XIX в. ностальгия из физического недо¬
могания превратилась в «экзистенциальную метафору». Бойм пи¬
шет о влиянии ностальгии на появление национального сознания,
рождавшегося, в том числе, из тоски «по утраченному коллектив¬
ному дому». Кроме того, она повлияла на становление наук о со¬
временности, в частности социологии, которая противопоставляла
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
147
современное «общество» традиционной «общине». Сегодня но¬
стальгия — составная часть современности, она «коммерциализи¬
руется и приватизируется», превращаясь в китч (Бойм 2013).
Пионерской работой, в которой была поставлена проблема связи
ностальгии и памяти, является исследование американского со¬
циолога Фреда Дэвиса «Сожаления о вчерашнем дне» (1979). В нем
он рассматривает, как в течение XIX в. ностальгия трансформиро¬
валась из болезни в обычное чувство, помогавшее хранить иллюзию
непрерывности прошлого и настоящего. Дэвис отмечает, что с раз¬
витием новых средств коммуникации ностальгия из частного чув¬
ства перешла в сферу публичной жизни. Ее стали использовать
в своих целях журналисты, рекламные агенты и политики. Таким
образом, с его точки зрения, индивидуальная память присваивала
коллективные репрезентации прошлого, а частные воспоминания
были поглощены общей культурой (Davis 1979: 1-29). Важно от¬
метить, что Дэвис писал свою работу, когда идеи Хальбвакса еще
не были открыты заново, тем не менее его объяснения механизмов
формирования коллективных представлений о прошлом воспоми¬
наний близки понятию коллективной памяти.
Одним из наиболее влиятельных исследователей начала XXI в.
является американский историк Питер Фрицше, посвятивший ряд
работ исследованию отношений ностальгии и модерности. С его
точки зрения, ностальгия является ответом на стремительные из¬
менения конца XIX — XX в., оборотной стороной дискурса о про¬
грессе. Ностальгия — это чувство внутреннего беспокойства из-за
непредсказуемой, порой пугающей реальности, которое приходит
в противоречие с транслируемым в публичном пространстве дис¬
курсом ожидания нового, лучшего мира. Отправной точкой для его
рассуждений является революция 1789 г., начавшаяся надеждами
на новый социальный порядок и закончившаяся террором, случай¬
ными казнями и переустройством политической карты всей Ев¬
ропы. По мнению Фрицше, в наполеоновскую эру была создана
идеальная матрица осмысления действительности сквозь призму
ностальгии. Утраченное прошлое сохранялось в памяти в идеали¬
зированном виде. Если публичная жизнь оформлялась как новая,
городская, индустриальная культура, то в пространстве повседнев¬
ной жизни культивировалась память об идеальном прошлом,
148
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
находившая выражение в дневниках, письмах, сувенирах ит.д.,
что, в свою очередь, привело к приватизации памяти (Fritzsche
2002:62-86).
Другая влиятельная работа «Будущее ностальгии» (2001) при¬
надлежит Светлане Бойм, писательнице, художественному критику,
литературоведу и антропологу. Книга имеет отчетливо личный
характер и во многих частях связана с опытом Бойм, уехавшей из
СССР в числе других представителей русской интеллигенции, по¬
кинувших страну в 1970-1980-х гг. Построившая успешную карьеру
в США, Бойм обращается в книге к собственным отношениям с утра¬
ченной родиной. С ее точки зрения, ностальгия, как и другие про¬
явления коллективной памяти, является динамическим процессом
трансформации старого мира в новый, это не столько утрата,
сколько изобретение нового.
Бойм выделяет два ностальгических сюжета, в которых могут
работать одни и те же механизмы и символы памяти, но исполь¬
зуемые в них нарративы и модели идентичности никогда не со¬
впадают.
• Реставрирующая ностальгия «ставит акцент на nostos—дом
и пытается восстановить мифическое коллективное место
обитания». Бойм рассматривает этот тип ностальгии, опи¬
раясь на концепцию изобретенных традиций Хобсбаума,
поскольку основным ее содержанием является антимодер-
нистское конструирование исторических мифов, рекон¬
струкция монументов прошлого, реставрация, уничтожаю¬
щая следы времени, и т. д. Бойм отмечает две основных
черты реставрирующей ностальгии: чем выше скорость
изменений, тем более консервативными и жесткими ока¬
зываются вновь изобретенные традиции; чем настойчивее
риторика преемственности, тем избирательнее представ¬
ляется прошлое.
Бойм также выделяет две основные темы, к которым нацио¬
нальная память сводит нарратив о прошлом: возвращение к ис¬
токам и теорию заговора. Дом, к которому необходимо вернуться,
как полагают приверженцы крайних разновидностей теории за¬
говора, постоянно пребывает в осаде и нуждается в защите. Она
пишет: «Конспирологическое мировоззрение отражает тоску по
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
149
трансцендентальной космологии и примитивным представлениям
о добре и зле. В его основе лежит единая вневременная интрига,
манихейская битва добра и зла, неизбежно предполагающая изо¬
бличение мифического врага. Амбивалентность и сложность исто¬
рического пути тем самым устраняются, современная история
предстает в качестве воплощения древнего пророчества» (Бойм
2013).
• Рефлексирующая ностальгия «размышляет об algia — то¬
ске как таковой», отсылая к индивидуальной и культурной
памяти. Рефлексирующая ностальгия говорит о невозмож¬
ности возвращения домой, не претендует на то, чтобы
восстанавливать мифический дом; вместо этого она «упи¬
вается самим течением времени», предпочитая отрестав¬
рированному новоделу руины, являющиеся символом утраты.
Основным отличием рефлексирующей ностальгии от рестав¬
рирующей является ирония: тоска по прошлому не мешает крити¬
ковать и даже судить его. Бойм пишет: «Ностальгический нарратив
подобного типа открыт и фрагментарен. Предающиеся ему люди
осознают наличие перепада между идентичностью и подобием;
дом или лежит в руинах, или, напротив, только что подвергся ре¬
новации и джентрификации, которые сделали его неузнаваемым.
Отчуждение и чувство дистанции побуждают такого ностальгиру¬
ющего субъекта рассказывать свою персональную историю, по¬
вествовать об отношениях между прошлым, настоящим и будущим»
(Бойм 2013).
Если Фрицше начинает свой анализ с истории французской
революции 1789 г., то для Бойм отправной точкой является 1989 г.
в Восточной Европе, в котором она видит прелюдию коллапса СССР.
Ее интересует не столько почивший режим, сколько судьба России
между двумя революциями XX в. — 1917 и 1991 гг., а также носталь¬
гия по мечте о равенстве, ради которой большевики захватывали
власть и которую не смогли осуществить. Она изучает воображае¬
мый пейзаж бывшего Советского союза, теперь открытого для
переинтерпретаций. В памяти о советском, как она существовала
в первые годы после краха СССР, Бойм находит оба выделенных
ею типа ностальгии. Одни тосковали об утраченной материальной
защищенности, другие напоминали о сопротивлении режиму.
150
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Исследователи говорят о трансформации ностальгии в послед¬
ние десятилетия, характеризуя современный этап как ностальгию
постмодерна. Такая ностальгия обращается с прошлым далеко не
так почтительно, как это было раньше (Hutton 2013: 5-7). С точки
зрения Дэвиса, являющегося автором книги «Тоска по Вчера: со¬
циология ностальгии», произошедший сдвиг можно объяснить
постмодернистским консьюмеризмом. Современные медиа в по¬
исках коммерческого успеха все больше апроприируют и перепи¬
сывают прошлое, создавая общее чувство ностальгии. Она перестает
быть индивидуальной тоской по идеализированному прошлому
и превращается в коммерческий инструмент, упрощающий и под¬
чищающий образы прошлого, чтобы оправдать сегодняшнюю куль¬
туру потребления (Davis 1979:1-29). Ироничная и утилизирующая
ностальгия эпохи постмодерна дает историкам возможность ставить
вопрос о том, каким образом, несмотря на все манипуляции с про¬
шлым, все еще возможны сожаления об утраченном идеальном
доме.
Изучение ностальгии и ее отношений с коллективной памятью,
таким образом, может стать интересным исследовательским про¬
ектом. С одной стороны, можно вслед за другими исследователями
рассматривать историю ностальгии как способа обращения с про¬
шлым на разных этапах существования этой концепции. С другой
стороны, можно пойти по пути изучения того, как различные ак¬
торы сегодня создают чувство ностальгии, преследуя политические
или коммерческие цели. Спектр исследовательских проектов чи¬
татель расширит, выполнив задания 1 и 2.
Как писать историю забвения?
Память невозможно представить себе без ее обратной сто¬
роны — забвения. Человеческая память постоянно находится в ди¬
намике, приспосабливаясь к новым условиям. Знаменитая метафора
Шерлока Холмса, сравнившего человеческий мозг с чердаком, вме¬
стимость которого ограничена, лучше всего подчеркивает эту
дихотомию: мы способны помнить только потому, что можем
забывать.
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
151
Если до сих пор приходилось говорить о том, что русский язык
плохо передает нюансы теоретических конструктов memory studies,
то наконец у нас появляется возможность обсуждать тонкие раз¬
личия между забыванием и забвением, в отличие от тех, кто вы¬
нужден пользоваться английским словом forgetting. Разумеется,
тема забывания присутствует во всех нейрофизиологических, пси¬
хологических и т. п. исследованиях индивидуальной памяти, хотя
и в этом случае большее внимание уделяется нарушениям памяти,
а не «нормальному» процессу забывания. Забвение как социальное
или культурное явление — предмет тех, кто занимается изучением
памяти коллективной. Следует сразу подчеркнуть, что не существует
исследований, занимающихся исключительно забвением. Все ра¬
боты в этой области посвящены отношениям памяти / истории
и забвения, которые часто описываются формулой французского
философа Поля Рикёра как дихотомия долга помнить и потреб¬
ности забыть.
Сложность изучения забвения заключается в противоречивости
этого явления: если мнемонические практики разрабатываются
с самых ранних этапов развития человеческой культуры, то прак¬
тики забывания — вещь парадоксальная. Необходимо каким-то
образом помнить, что нечто должно быть забыто. Немецкая ис¬
следовательница Елена Эспозито предлагает рассматривать «со¬
циальное забвение» с точки зрения системно-теоретического под¬
хода. Ее понимание рассматриваемого феномена опирается на
модель немецкого социолога Никласа Лумана, автора теории со¬
циальных систем. Луман переворачивает традиционную модель
отношений памяти и забвения, утверждая, что забвение является
основным процессом, а сохранение воспоминаний происходит
только в исключительных случаях, когда это необходимо для под¬
держания идентичности. Задача памяти заключается в поддержа¬
нии баланса между забвением и сохранением воспоминаний.
Как правило, в рамках изучения культурной памяти говорят
о двух явлениях, так или иначе противоположных ей: «предписан¬
ном забвении», связанном с целеполаганием определенных акто¬
ров, и амнезии как непреднамеренном и неосознаваемом забвении,
вызываемом культурной травмой. Это деление условное, поскольку
изучение забвения в еще меньшей степени обладает разработанной
152
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
теорией или методологическими приемами, чем рассмотренная
в предыдущей главе проблематика травмы.
Генеалогия философского осмысления проблемы памяти / исто¬
рии и забвения обычно возводится к работе немецкого философа
Фридриха Ницше «О пользе и вреде истории для жизни», опубли¬
кованной им в 1874 г. Эта работа является филиппикой против
«исторического образования» и апологией забвения. Хотя она имеет
мало отношения к проблематике культурной памяти, я рекомендую
ее всем читателям учебного пособия, особенно если они делают
свои первые шаги в профессии историка.
С точки зрения Ницше, человек, увлеченно занимающийся про¬
шлым, не может жить собственной жизнью. Изучение истории при¬
водит к неспособности творить ее, превращает человека в евнуха.
Историческая «объективность», во времена Ницше ставшая основ¬
ным методом познания прошлого, была для философа сродни пре¬
ступлению против человечества. Следуя «объективной истине»,
историк разрушает иллюзии, подвергая род человеческий «исто¬
рическому анатомированию»: «...при исторической поверке обна¬
руживается каждый раз такая масса фальшивого, грубого, бесче¬
ловечного, нелепого, насильственного, что та благоговейная
атмосфера иллюзии, в которой только и может жить все, что хочет
жить, необходимо должна рассеяться: только в любви, только осе¬
ненный иллюзией любви может творить человек, т. е. только в без¬
условной вере в совершенство и правду». Так, с точки зрения Ницше,
историоризация христианства отнимает у людей веру, превращая
религию в холодное знание. Человек был бы счастлив, если бы был
избавлен от груза прошлого, смог раствориться в настоящем, за¬
бывая то, что с ним было вчера, занимаясь познанием себя, а не
великих деяний предков (Ницше 1990: 200).
Взгляд Ницше на забвение не был чем-то уникальным. Не¬
мецкий философ удачно выразил общее представление своего
времени об излишней памятливости как о болезни. Как писал
американский философ и психолог Генри Джеймс в 1890 г. в книге
«Принципы психологии», «если бы мы помнили все, мы в боль¬
шинстве случаев были бы столь же больны, как если бы мы не
помнили ничего». Психология и психиатрия конца XIX — начала
XX в. сосредоточивали внимание на «излишках памяти», а также
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
153
искали методы, которые помогали бы пациентам забывать (Соп-
nerton 2011: 33).
Как и в случае с другими «отцами-основателями», мы едва ли
можем извлечь из текста Ницше какие-либо аналитические ин¬
струменты или методологические основания, тем более что он
отрицает привычный нам способ обращения с прошлым, причис¬
ляя и нас, историков, к евнухам. Обсуждение проблемы забвения
в более прагматической плоскости, дающей основания не только
для философских размышлений, но и для исследовательской ра¬
боты, принято начинать с речи Ренана «Что такое нация?», которая
рассматривалась в главе 5. Напомню, что нация для него состоит
из людей, которых объединяет не только общая память, но и заб¬
вение: «Забвение или, лучше сказать, историческое заблуждение
является одним из главных факторов создания нации, и потому
прогресс исторических исследований часто представляет опасность
для национальности» (Ренан 1902: 93). Совершенно в духе своего
времени Ренан рассуждал об «историческом заблуждении» в по¬
зитивном ключе как об условии существования нации.
Переворот в восприятии забвения как позитивного процесса
произошел в XX в. Современный австрийский философ Рудольф
Бургер, автор книги «Малая история забвения», относит его ко вре¬
мени окончания Второй мировой войны. Разделяя взгляды Ницше,
он утверждает, что забвение является основой существования че¬
ловечества, а предписанный ему после 1945 г. императив помнить
о Холокосте считает преступлением: «Лишь мифогенный двадцатый
век, который на вершине технологической модернизации и бюро¬
кратического рационализма породил преступления теллурических
масштабов во имя квазирелигиозных, эсхатологических учений,
порвал и с цивилизационной традицией не-вспоминания...» (цит.
по: Ассман А. 2014: 66). С точки зрения британского социального
антрополога Пола Коннертона, «этика памяти» представляет собой
новое явление, возникшее в конце XX в. как реакция на «принуди¬
тельное забвение», практиковавшееся тоталитарными режимами.
Поскольку борьба с насилием была борьбой за право говорить
о пережитом ужасном опыте, борьбой памяти против забвения,
сформировалось представление о «долге помнить», совершенно
незнакомое более ранним периодам истории (Connerton 2011,33).
154
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Примером работы, разделяющей «этику памяти», можно назвать
книгу Рикёра «Память, история, забвение». В предисловии фрап
цузский философ прямо писал о «гражданском долге», побудившем
его открыто говорить о «политике справедливой памяти» (Рикер
2004:15).
В описании Рикёра, «нормальная» работа забвения, как на ин¬
дивидуальном, так и на коллективном уровне, мало доступна для
исследования, поэтому предметом анализа должны стать различные
«искаженные формы забвения». Поскольку ни тотальная память,
ни всеобъемлющий рассказ невозможны, неизбежно возникли
различные стратегии идеологизации нарратива о прошлом, оформ¬
ляемого в виде официальной истории, — «всегда можно рассказать
по-другому, о чем-то умалчивая, смещая акценты, различными
способами рефигурируя участников действия, как и контуры самого
действия».
С точки зрения Рикёра, забвение имеет двойственную природу:
с одной стороны, «власти предержащие» отнимают у социальных
акторов возможность самим рассказывать о себе, подменяя личные
нарративы «разрешенной, навязанной, прославляемой в мемори¬
альных церемониях историей». С другой стороны, этот процесс
невозможен без «тайного сообщничества» самих этих акторов. Он
описывает забвение как «полупассивную, полуактивную форму
поведения», стратегию избегания, где «...мотивом является смутное
желание не получать сведений, не ведать о зле, совершаемом во¬
круг, короче, стремление не знать». В его интерпретации забвение
как активная форма «не-действования» неизбежно влечет за собой
ответственность, поскольку «просвещенному и честному сознанию
ретроспективно становится ясно: можно и нужно было знать или
по крайней мере попытаться узнать, можно и нужно было вме¬
шаться» (Рикёр 2004: 619-620).
Таким образом, исследования забвения, как и исследования
культурной травмы, содержат сильный этический компонент. Они
сопряжены с описанием памяти как долга, а забвения как «ошибки»
или даже «преступления», с которыми нужно бороться. Конста¬
тируя распространенность идеи о «долге памяти», Коннертон в то
же время утверждает, что забвение не всегда заслуживает осуж¬
дения. С его точки зрения, в некоторых случаях именно оно
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
155
-создает и укрепляет социальные связи» (Connerton 2011: 34).
Л. Ассман также ставит под вопрос важность памяти как социаль¬
ного и культурного ресурса, поскольку память «способна разжигать
ненависть или доводить до депрессии». С ее точки зрения, важен
не императив «помни» сам по себе, а «содержание памяти, ее
рамки» (Ассман А. 2016: 193).
Типы забвения: позитивное, негативное,
амбивалентное
Как память, так и забвение сами по себе не являются безусловно
положительными или отрицательными феноменами. Пол Коннер-
тон предлагает говорить о семи типах забвения, три из которых
могут быть рассмотрены как позитивные практики «успешного
забвения», а еще четыре относятся к негативным.
• Предписанное забвение утверждается государственным
актом во имя интересов всех партий, чтобы предотвратить
развитие существовавшего ранее конфликта в бесконечную
вендетту. Примеры предписанного забвения можно найти
в античной Греции, когда в 403 г. до н. э. после короткого
правления «тридцати тиранов» было запрещено вспоминать
обо всех предшествующих преступлениях, независимо от
стороны, за которую выступал тот или иной гражданин.
Требование забыть было подкреплено сооружением на
Акрополе алтаря Леты. Другим примером может служить
текст Вестфальского мира, заключенного в 1648 г. по окон¬
чании Тридцатилетней войны, в котором от всех сторон
требовалось забыть насилие, несправедливость и ущерб,
причиненные друг другу.
• Учредительное забвение, служащее формированию новой
идентичности. С точки зрения Коннертона, важной состав¬
ляющей идентичности является приверженность опреде¬
ленным паттернам поведения, в формировании которых
ключевую роль играют нарративы, сохраняемые коллектив¬
ной памятью. В случае формирования новой идентичности
некоторые из старых нарративов переходят в латентное
156
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
состояние. Забвение становится частью процесса форми¬
рования новой разделяемой памяти, которая основывается
не только на новых общих воспоминаниях, но и на разде¬
ляемых умолчаниях. В процессе учредительного забвения
исключаются определенные детали, которые могут мешать
формированию новой идентичности: например, память
о предыдущем браке или сексуальном партнере может
мешать новым отношениям, память о прежней религии —
неофитам и т. д. В качестве примера он приводит общества
Юго-Восточной Азии, где антропологи отмечают отсутствие
знаний о предках при исключительной важности горизон¬
тальных родственных связей. Такая специфическая ситуа¬
ция объясняется демографической мобильностью населения,
перемещающегося между островами: в таких условиях не
нужно помнить о том, кем были предки, жившие на уже
покинутом острове, но принципиально — с кем сегодня
можно создать родственные связи.
• Аннулирование как результат пресыщения информацией.
Никакая эпоха не сохраняла свидетельства о прошлом в та¬
ких количествах, как наша. С точки зрения Коннертона,
можно говорить о двух наложившихся процессах — навяз¬
чивом архивировании всего порожденного бюрократиче¬
скими практиками модерного государства и развитии новых
технологий. Сегодня мы живем в обществе, перенасыщен¬
ном информацией, и эта проблема в дальнейшем будет только
усугубляться. Соответственно, задачей современного чело¬
века является забвение ненужной информации. В качестве
примера Коннертон приводит физику, где до 75 % цитиру¬
емых работ относятся к созданным в последние десятилетия
и где открытия некогда великих физиков становятся уделом
историков науки, а не практикующих ученых.
• Репрессивное уничтожение. Примером может служить
древнеримское проклятие памяти (damnatio memoriae), пред¬
полагавшее уничтожение материальных свидетельств су¬
ществования преступника — статуй, надгробных надписей,
упоминаний в летописях и законах. Парадоксальным об¬
разом требование не вспоминать может служить долгой
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
157
памяти, о чем свидетельствует хорошо известная история
Герострата. Damnatio memoriae, таким образом, служит не
столько уничтожению памяти, сколько лишению чести того,
кто был подвергнут этому наказанию. В качестве примера
Коннертон приводит попытки деятелей Великой француз¬
ской революции уничтожить память о старом режиме,
упразднив титулы, названия провинций и т. п. Репрессивное
уничтожение прошлого является характерной чертой всех
тоталитарных режимов XX в.
• Запланированное устаревание, созданное капиталисти¬
ческой системой, предполагает ускорение потребления,
привилегированное положение нового и постепенное вы¬
теснение с рынка старого, «морально устаревшего» продукта.
В результате жизненный цикл товара становится все короче,
горизонт планирования сокращается, а потребитель пре¬
вращается в неразборчивого ребенка, сегодня забывающего
о том, что вожделел вчера.
158
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
• Молчание унижения и стыда может быть рассмотрено
как часть попытки забыть о вещах, которые невозможно
выразить. В качестве такового Коннертон рассматривает
молчание о разгроме, которому подверглась Германия в конце
Второй мировой войны и история которого не написана до
сих пор. Формой забвения этого унижения стало, с его точки
зрения, экономическое чудо, которое стерло физические
следы недавней разрухи (Connerton 2011: 34-48).
• Еще одной формой предписанного забвения, которую
Коннертон не выделяет специально, но которая фигурирует
в рассуждениях других исследователей, является амнистия,
когда пощаженный человек / группа людей «освобождаются»
государством от «плохой памяти» о нем (Ассман А. 2014:
65).
Амнистия рассматривается исследователями по-разному, так
что можно говорить об амбивалентности данного явления. Рикёр
пишет преимущественно о негативных аспектах этого явления.
Отрицая во имя гражданского мира память о преступлениях, ам¬
нистия является лишь «имитацией прощения» (Рикёр 2004: 625).
С его точки зрения, вычеркивание из официальной памяти при¬
меров преступлений ради «воображаемого единства» лишает обще¬
ство возможности предохранить себя от повторения прошлых
ошибок, а также «осуждает соперничающие памяти на опасную
потаенную жизнь» (Рикёр 2004: 628).
Основой для рассуждений Рикёра о работе амнистии как «юри¬
дической амнезии», спровоцированной государством, является
известное исследование французского историка Анри Руссо «Син¬
дром Виши: с 1944 г. до наших дней» (1987). Описывая историю
осмысления «режима Виши» как коллективный невроз, Руссо вы¬
делил четыре этапа деформации коллективной памяти о событиях
Второй мировой войны во Франции. На первом этапе — «Неокон¬
ченной скорби» (1944-1954) — формирование коллективной памяти
происходило в рамках двойственного процесса чистки-амнистии.
После войны единство нации требовало примирения граждан, ин¬
струментом которого стала амнистия. Сам Руссо подчеркивал ско¬
рее прагматический характер амнистии: правительство не
создавало «юридическую амнезию» намеренно, голлистский
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
159
консенсус был необходимым условием восстановления страны
в рамках начавшейся Холодной войны. На втором этапе — «Вы¬
теснения» (1954-1971) — доминирующие коллективные памяти
голлистов и коммунистов сформировали героический миф Сопро¬
тивления, параллельно подавив или вытеснив память тех людей,
которые не вписывались в него, — военнопленных, узников
концлагерей, всех тех, кто предпочитал борьбе невмешательство
и вишистов. Третий этап Руссо назвал «Разбитым зеркалом» (1971—
1974), когда, в основном благодаря кинематографу и художествен¬
ной литературе, были вскрыты внутренние причины коллабора¬
ционизма, объяснявшегося теперь сохранявшейся в годы войны
сильной патриархальной традицией, традиционным антисемитиз¬
мом французов и т. д. Миф Сопротивления рушится, погребая под
собой голлистский консенсус. Наконец, на последнем этапе — «Одер¬
жимости» (с 1974 г. до момента публикации книги в 1990 г.) — реф¬
лексия затронула не только события периода войны, но и коррект¬
ность проведения чисток и т. д. Он также был отмечен пробуждением
памяти евреев и значимостью воспоминаний об оккупации в по¬
литических дискуссиях внутри страны (Рикёр 2004: 621-623).
А. Ассман, анализируя феномен амнистии, расставляет акценты
несколько иначе. С ее точки зрения, амнистия может быть полезным
инструментом в том случае, когда речь идет об интеграции рас¬
колотого общества, особенно в случае преодоления гражданской
войны. В то же время она говорит о существовании абсолютного
исключения из этого правила — Холокосте. Поскольку речь идет об
«асимметрии насилия» между преступником и жертвой, должна
иметь место и асимметрия памяти: «...в радикально изменившейся
политической ситуации преступник ищет спасения в забвении,
а жертва хранит память о прошлом как величайшую ценность.
Такая асимметрия устраняется не обоюдным забвением, а только
общей памятью» (Ассман А. 2014: 66).
Обсуждение амнистии как формы институционального забве¬
ния включает в себя аспект агентности. Коль скоро забвение ин-
струментализировано, служит цели наказания или примирения,
необходимо говорить об акторах, имеющих право такого предпи¬
сывания. Аргентинский исследователь Франсиско Делич выделяет
двух контрагентов коллективной памяти и забвения: государство
160
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
и общество. Противопоставляя рациональную и селективную па¬
мять государства и эмоциональную, аксиологическую память обще¬
ства, он отмечает: «Государственная память — это память, которая
культивирует секретность и защищает основы своего существова¬
ния с помощью забвения... Память общества — это память, нахо¬
дящаяся в постоянном движении, она никогда не бывает оконча¬
тельной, всегда стремится к беспамятству» (Delich 2004:67). Вслед
за Рикёром он пишет, что амнистия является инструментом госу¬
дарства, в то время как в случае общества следует говорить о про¬
щении. Коннертон также выделяет разных агентов забвения, рас¬
ширяя поле интерпретаций. Кроме государства, практикующего
предписывающее забвение и репрессивное уничтожение, и граж¬
данского общества, порождающего молчание стыда, акторами мо¬
гут быть как более мелкие группы, например семья (учредительное
забвение), так и отдельный человек (аннулирование) (Connerton
2011:48-49).
Социальное забвение можно сопоставить с «нормальным» про¬
цессом индивидуального забывания, неизбежно сопутствующим
памяти или даже определяющим ее. Как только исследователи,
работающие в этой области, переходят на другой аналитический
язык, выбирая для обозначения тех же явлений категорию амнезии,
происходит смена оптики. Даже репрессивное уничтожение па¬
мяти — рациональный процесс, в котором можно выделить акторов,
целеполагание и т. д. Амнезия — это нарушение порядка вещей,
свидетельствующее о дисфункции памяти. Поскольку понятие ам¬
незии неизбежно отсылает к психоаналитическим моделям, как
правило, его применяют для описания обращения с памятью о трав¬
матических событиях, используя методологию, рассмотренную
в предыдущей главе. Примером такой работы может служить ста¬
тья английского исследователя Андре Чикало, изучающего память
о рабстве в Бразилии. Так, рассматривая историю осмысления ра¬
бовладельческого прошлого в Бразилии, он констатирует суще¬
ствование длительного периода «социальной амнезии» под зна¬
менем идеологии «расовой демократии», разработанной в середине
XX в. и представлявшей Бразилию страной, в которой расизм
отсутствовал как явление благодаря метизации населения. Резуль¬
татом «социальной амнезии» стали не только искаженные
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
161
репрезентации прошлого, но и вытеснение знаков сохраняющегося
неравенства из городского пространства (Чикало 2016). Для того
чтобы понять, как выбор понятия «амнезия» влияет на исследова¬
тельскую оптику, необходимо выполнить задание 4.
Постпамять
До сих пор рассказ о каждом новом понятии или концепции,
так или иначе связанной с проблематикой памяти, сопровождался
словами о многообразии смыслов, в них вкладываемых, а также
спорах о том, кого считать очередным «отцом-основателем». В слу¬
чае с рассматриваемым в этом параграфе понятием постпамяти
история противоположная: оно было впервые введено в научный
оборот профессором Колумбийского университета Марианной
Хирш в статье 1992 г. «Семейные изображения: журнал “Маус”,
траур и пост-память». Термин, который довольно быстро стал пи¬
саться слитно как постпамять (,postmemory), в том числе самой
Хирш, был принят академическим сообществом с энтузиазмом,
поскольку позволял ответить на вопрос, поставленный еще Хальб-
ваксом: как происходит передача памяти между поколениями, как
именно люди могут «помнить» события, произошедшие до их
рождения?
В отличие от исследований социальной / культурной памяти,
в центре которых, как правило, стоит вопрос о преемственности,
постпамять позволяет уловить момент разрыва, а также специфику
отношений между поколениями. Эту особенность подчеркивает
профессор Лейденского университета Эрнст ван Альфен, когда на¬
стаивает на первоначальном написании понятия через дефис. С его
точки зрения, слитное написание создает впечатление, что есть
связь между памятью первого поколения и постпамятью второго,
хотя в случае с Холокостом, который находится в центре любого
обсуждения постпамяти, это не так: «Последующие поколения ис¬
пытывают чрезвычайно сильный разрыв с прошлым своих роди¬
телей и родителей своих родителей... Поколение родителей и по¬
коление детей превратились в два замкнутых на себя мира»
(Альфен 2016).
162
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Предлагая в 1992 г. добавить к памяти приставку «пост-», Хирш
настаивала, что речь не идет о конце памяти, которую теперь за¬
меняет история, как это виделось, например, Нора (вспомните
главу 3). Хотя постпамять позволяет говорить о разрыве между
двумя поколениями, она, в отличие от истории, обладает обяза¬
тельной глубокой эмоциональной вовлеченностью в тот опыт, ко¬
торый пережило поколение отцов (Hirsch 1992: 8). «Приставка
“пост-” в “постпамяти” означает больше, чем отдаленность во вре¬
мени, и больше, чем выражение следствия. <...> ...постпамять — это
не течение, метод или идея, напротив, я рассматриваю ее как струк¬
туру внутри- и межпоколенческого переноса травматического
знания и опыта. Это результат травматического воспоминания,
но (в отличие от посттравматического стрессового расстройства)
на межпоколенческом уровне», — утверждает исследовательница
(Hirsch 2008:106).
На размышления Хирш о постпамяти повлиял опыт ее семьи,
эмигрировавшей в США из Румынии, когда она сама была ребенком,
а также знакомство в разное время с людьми, пережившими Холо¬
кост. Среди них она называет своих первых соседей в США, семью
Якубовичей, прошедших Аушвиц. В их доме на круглом столе сто¬
яли фотографии предыдущих супругов обоих Якубовичей: ее муж
и три сына, его жена и три дочери. Хирш пишет о своих детских
впечатлениях: «...было что-то определенно дискомфортное в них
[фотографиях], вызывавших сразу два желания — продолжать смо¬
треть и отвернуться, уйти от них. Что я помню лучше всего, так это
то, насколько неузнаваемыми казались господин и госпожа Яку¬
бовичи на фотографиях, и как должно быть трудно для Ханны
[дочери Якубовичей], думала я, жить в тени этих легендарных “бра¬
тьев и сестер”, которых она не могла оплакивать, потому что не
могла их помнить, которых она уже переросла и по которым ее
родители не могли перестать скорбеть» (Hirsch 1992: 4).
Уже из этого отрывка видно, что «изображения Холокоста»,
ставшие центральной темой ее исследования, Хирш понимает ши¬
роко. Она включает в эту категорию не только фотографии лагерей,
гетто и т. д., но также семейные фотографии и портреты, связь
которых с событиями определяется не содержанием, а контекстом —
«ужас того, на что мы смотрим, заключается необязательно
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
163
в изображении, но в истории, которую мы создаем, чтобы почув¬
ствовать то, что отсутствует в нем». Таким образом, для Хирш
именно фотографии являются тем посредником, который осущест¬
вляет связь двух поколений (Hirsch 1992: 7).
Основой первого исследования постпамяти стал для Хирш двух¬
томный графический роман Арта Шпигельмана «Маус» (1989-1992),
в котором художник изобразил историю своего отца, польского
еврея, пережившего Холокост. История разворачивается парал¬
лельно в двух временных пластах (опыт Владека Шпигельмана
в 1930-1940-х гг. и события 1978-1979 гг., когда сын берет у него
интервью), рисунки дополняются фотографиями, включенными
в ткань повествования. Для Хирш «Маус» является исключительно
репрезентативным примером работы постпамяти: сын берет ин¬
тервью у отца, но при этом сам становится посредником его сви¬
детельства. С одной стороны, есть магнитофонные записи истории
Владека, как ее рассказал он сам. С другой стороны, «Маус» — это
интерпретация той же истории, осуществленная сыном, который
164
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
выбирает для нее форму графического романа. В его повествовании
евреи становятся мышами, немцы — котами, французы — ля¬
гушками и т. д., а отец из жертвы превращается в преступника.
Сын обвиняет не нацистов, а Владека Шпигельмана в смерти своей
матери: в том, что мать совершила самоубийство, и в том, что отец
уничтожил дневники матери, в которых она описала свой опыт
в Аушвице (Hirsch 1992: 10).
Хотя исследования Хирш сосредоточены в основном вокруг
того, как происходит передача опыта внутри семьи, она прямо
утверждает, что постпамять не строго индивидуальна. «Жизнь
семьи, даже в ее самых сокровенных моментах, укоренена в кол¬
лективном воображении, формируемом обществом, фантазиями
и проекциями поколенческих структур, а также совокупностью
разделяемых историй и образов, которые влияют на передачу ин¬
дивидуальных и семейных воспоминаний», — пишет она (Hirsch
2008: 116). Кроме устных семейных историй, постпамять может
передаваться в дистанцированной форме, повторно перевопло¬
щаться через другие институты, создавая возможность личной
идентификации с чужой памятью. Примером таких институтов
являются для Хирш музеи и мемориальные комплексы. В то же
время важным инструментом формирования постпамяти являются
художественные объекты — картины, памятники, литературные
произведения, фильмы (Hirsch 2008:107).
Как и рассмотренные в этой главе концепции ностальгии и заб¬
вения, проблематика постпамяти имеет свое этическое измерение.
Хирш не пишет о долге помнить или обязанности свидетельства.
В то же время эмоциональная вовлеченность второго и третьего
поколения в память первого, особого рода эмпатия дают ей воз¬
можность говорить об этике памяти о катастрофе (Hirsch 2008:
104).
Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять
165
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте статью С. Бойм «Будущее ностальгии». Приведите свои
примеры реставрирующей и рефлексирующей ностальгии.
2. Как С. Бойм анализирует реставрацию Сикстинской капеллы? О чем
свидетельствует, с ее точки зрения, спор вокруг принципов реставрации.
Рассмотрите в качестве аналогичного кейса реконструкцию Летнего
сада в Санкт-Петербурге (2009-2011). Какой «диагноз» можно поставить
современному российскому обществу, опираясь на текст С. Бойм?
3. Возможно ли написать работу о забвении, не прибегая к анализу
феномена памяти? Аргументируйте свой ответ.
4. Прочитайте критику А. Ассман работы Р. Бургера «Малая история
забвения» (Ассман А. 2014: 65-67). Что лежит в основе ее анализа?
В какой мере историк может и должен руководствоваться этическими
категориями в своей работе? При желании дополните эти размышления
анализом работы Ф. Ницше «О пользе и вреде истории для жизни».
5. Используя классификацию типов забвения П. Коннертона, приведите
свои примеры. Что нового вносит эта классификация в исследования
памяти?
6. Прочитайте статью А. Чикало «От социальной амнезии к социальной
памяти: повторное открытие историко-археологического наследия
рабства в Рио-де-Жанейро». В каком качестве в ней используется понятие
«амнезия»? Можно ли, опираясь на статью, говорить о концептуализации
амнезии в рамках изучения проблематики социальной памяти?
7. Предложите пять тем исследований, где забвение будет центральной
аналитической категорией.
8. Статья М. Хирш «Семейные изображения: журнал “Маус", траур и пост¬
память» начинается с рассказа о жившей по соседству еврейской паре,
а также описания фотографии тетки ее мужа Фриды, сделанной после
освобождения той из лагеря. Хотя фотография Фриды должна была
быть свидетельством благополучия, а женщина выглядит на ней ис¬
ключительно «нормальной», М. Хирш угадывает в ее позе и взгляде
все, что было ею пережито. В какой мере личный опыт автора может
и должен влиять на формирование исследовательских концепций?
Насколько автобиографичной может быть исследовательская работа?
Можете ли вы предложить темы исследования, опираясь на свой опыт?
Попробуйте написать введение к такой работе.
166
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Для чтения:
Бойм С. (2013). Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. № 89.
URL: httpy/magazines.russ.ru/nz/2013/3/lls.html; дата доступа 07.09.2018.
Чикало А. (2016). От социальной амнезии к социальной памяти: по¬
вторное открытие историко-археологического наследия рабства в Рио-де-
Жанейро // Новое литературное обозрение. № 6. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2016/6/ot-socialnoj-amnezii-k-socialnoj-pamyati-povtornoe-
otkrytie-ist.html; дата доступа 07.09.2018.
Connerton Р. (2011). The Spirit of Mourning: History, Memory and the
Body. Cambridge: Cambridge University Press. P. 33-50.
Hirsch M. (2008).The Generation of Postmemory// Poetics Today.Vol. 29.
No. 1. P.103-128.
Глава 8
Медиа и память: институты,
формы и практики
Media and memory / Media memory: есть ли
исследовательское поле?
В наши дни человек окружен прошлым в гораздо большей сте¬
пени, чем это было даже сто лет назад. Юдифь Лукаса Кранаха стар¬
шего и Юдифь Караваджо изображены одетыми по последней моде
своего времени, где своим является время жизни их создателей.
Анахронизмы такого рода не смущали ни художников, ни зрителей
на протяжении многих веков: игнорирование несоответствия эпохе,
описанной в Ветхом Завете, было нормой (см.: Лоуэнталь 2004).
Сегодня Баз Лурман может снять фильм «Ромео + Джульетта»
о борьбе мафиозных кланов, но в этом случае модная одежда 1990-х
послужит для того, чтобы подчеркнуть идею, что времена меняются,
а любовь остается вечной. Экранизации Шекспира могут быть хо¬
рошим примером того, как по-разному кинематограф обращается
с прошлым, то стремясь к «аутентичности» («Ромео и Джульетта»
Франко Дзефирелли), то намеренно избегая ее («Гамлет» Кеннета
Брана).
Человек соприкасается с прошлым не напрямую, а всегда опос¬
редованно. Мы не можем представить историю вне какой-то версии,
зафиксированной с помощью печатной продукции, телевидения,
фотографии, радио и, конечно, современных интернет-технологий.
Все они являются способами записи, конструирования, архивиро¬
вания и распространения информации, которая, по мере удаления
от момента ее фиксации, превращается в историю. Если добавить
к этому различные формы реконструкции прошлого и презентации
исторического наследия, окажется, что мы живем в окружении
истории в гораздо большей степени, чем любая другая эпоха. При
168
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
этом прошлое сегодня гораздо более многоликое и разнообразное,
поскольку революционные изменениях технологий привели
к трансформации самой культурной памяти.
Как отмечает исследователь медиа, профессор университета
Глазго Эндрю Хоскинс, само существование понятия «медиа» (me¬
dia) осложняет понимание памяти как опосредованного процесса
(mediated process). Ссылаясь на антрополога Доминика Бойера, он
пишет, что понятие «медиа», ставшее популярным в 1970-х гг.,
сегодня оказывает исключительное влияние на то, как мы понимаем
мир вокруг нас: оно стало «чрезвычайно важной теоретической
и эмпирической категорией». При этом, хотя современные специ¬
алисты по исследованию медиа и коммуникаций настаивают, что
вне медиа нет социальной жизни, они, с точки зрения Хоскинса,
используют свой основной термин метафорично и, во всяком слу¬
чае, очень широко: «...как вода представляет собой главное условие
существования рыб, так и медиа — людей» (Hoskins 2011:19-20).
В этом месте русскоязычный читатель сталкивается с пробле¬
мой, которую не смог решить для него русскоязычный автор. В по¬
нятии media в большинстве европейских языков явно читается
первоначальное значение, происходящее от латинского
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
169
medium — «средний» и «посредник», поэтому исследователям, пи¬
шущим на этих языках, не приходится делать выбор между «по¬
средник / медиа», «опосредованный / медиатизированный» («ме¬
диальный», «медийный» и т. д.).
В теории коммуникации, разработанной Торонтской школой,
под медиа понимаются и средства коммуникации, и способы пере¬
дачи информации, и образовывающаяся при этом среда. Базовое
положение теории было сформулировано канадским философом
Маршаллом Маклюэном: «Медиа и есть сообщение», т. е. средство
передачи информации не менее важно, чем сама информация (Мак-
люэн 2003). Хотя начало разработки теории медиа относится
к 1960-м гг., вне академических дискуссий это понятие обычно
употребляется в узком значении «масс-медиа», которое на русском
языке сужается еще больше, превращаясь порой в средства массо¬
вой информации (СМИ). Между тем для понимания проблематики
взаимоотношений памяти и медиа читателю необходимо все время
помнить, что речь идет о широком значении и первоначальном
смысле понятия. Медиа памяти — это любой посредник между
обществом и его прошлым, включая техники, технологии и прак¬
тики, с помощью которых опосредуется социальная и культурная
жизнь, включая и масс-медиа.
Исследователи в сфере media and memory (media / memory) с не¬
которым удивлением констатируют, что эта междисциплинарная
область возникла совсем недавно, в конце 1990-х — начале 2000-х гг.
(Zierold 2010: 399). С точки зрения английской исследовательницы
медиа и коммуникаций Джоанны Гарде-Хансен, фокусировка на
взаимоотношениях истории и медиа была порождена ситуацией
рубежа тысячелетий, соединением неудовлетворенности веком
войн и геноцидов с надеждами на то, что может дать человечеству
XXI век. Она также утверждает, что дискуссия о симбиозе медиа
и памяти внутри социальных наук была спровоцирована концом
больших исторических нарративов и требованием писать «историю
снизу» (Garde-Hansen 2011: 1-2).
До этого момента вопросы о том, как происходит переход от
индивидуального воспоминания к коллективному, почему память
о «подлинном» прошлом трансформируется во времени, порой
искажаясь до неузнаваемости, что остается обществу, когда уходит
170
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
последний свидетель, и где расположено «место хранения» вос¬
поминаний, разумеется, ставились в memory studies. Собственно,
они были заложены уже Хальбваксом в термине «рамки памяти»,
который был введен французским социологом для того, чтобы
зафиксировать опосредованность восприятия человеком собствен¬
ного прошлого (вспомните главу 2). Например, путешественник,
впервые посещающий Лондон, соотносит свои впечатления с тек¬
стами путеводителя в той же мере, как и с романами Диккенса,
так что впоследствии они соединяются в его памяти, создавая
образ столицы Великобритании. В равной мере личные впечатле¬
ния взрослого о том, как он впервые пришел в школу, смешиваются
со множеством прочитанных им рассказов на ту же тему (Хальбвакс
2005).
В той или иной степени вопроса о том, что коллективная / со¬
циальная и т. д. память, опирающаяся на культурные артефакты,
по определению опосредованна, касались многие исследователи.
В частности, в классификации Я. Ассмана средством (media) ком¬
муникативной памяти является непосредственная коммуникация,
а культурной — «тексты, изображения, танцы, ритуалы и представ¬
ления различных видов» (Assmann J. 2010:117).
В 1995 г. Барби Зелизер в статье «Читая прошлое против шерсти:
состояние исследований памяти» назвала «материальность» среди
основных пяти характеристик коллективной памяти. Поскольку
память существует не «в голове» отдельного человека, а в матери¬
альном мире, различные «агенты медиации» должны включаться
в анализ культурной памяти. В качестве таковых Зелизер, опираясь
на современные ей работы, называла язык, ритуалы, этикет, кар¬
тины, ландшафт (Connerton 1989; Lowenthal 1985; Kammen 1992)
и утверждала, что они в равной степени служат «сосудами» для
памяти, так же как радио, кино или газеты. Использовав в статье
понятие «медиа», исследовательница должна была прояснить, что
употребляет его именно в широком смысле, говоря не только о масс-
медиа, но и о любых средствах коммуникации, которые помогают
хранить информацию о прошлом. Призывая изучать материальное
измерение коллективной памяти, Зелизер вынуждена была при¬
знать, что «как и в каком виде медиа помогают — и препятствуют —
актам воспоминания, сейчас все еще недостаточно ясно» (Zelizer
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
171
1995: 232). Сама материальность культурной памяти, с ее точки
прения, служит препятствием для анализа. Зелизер констатировала,
что историки, если они все-таки обращают внимание на медийную
составляющую коллективной памяти, далеко не всегда осознают,
что медиа, даже выполняя функцию «простого» сохранения ин¬
формации, влияют на содержание исторического знания. В этом
случае она ссылалась на Мэри Дуглас и подчеркивала, что сам акт
сохранения сведений о прошлом делает коллективную память хра¬
нилищем социального порядка (Zelizer 1995: 233).
Пятнадцать лет спустя вопросы, которые были лишь намечены
в статье Зелизер, остро встали перед учеными, работающими в поле
memory studies. В 2010 г. Астрид Эрлл, одна из ведущих исследова¬
тельниц проблемы медиации памяти, опираясь на работы супругов
Ассман, писала: «Культурная память основана на коммуникации,
опосредованной медиа. Разделенные версии прошлого неизменно
генерируются средствами “медиальной экстернализации” (А. Ас¬
сман), наиболее базовой формой которой является устная речь...
Более сложные медиа-технологии, такие как письменность, кино
или интернет, расширяют темпоральные и пространственные рамки
воспоминания. Культурная память конституируется множеством
медиа, действующих внутри различных символических систем:
например, религиозных текстов, исторической живописи, исто¬
риографии, телевизионной документалистики, памятников и ком-
меморативных ритуалов. Каждое из этих медиа имеет свой соб¬
ственный способ запечатления прошлого и будет оставлять следы
в памяти, которую создает» (Erll 2010: 389).
Эрлл формулирует проблему, которая не до конца была осознана
memory studies в 1990-х: медиа не являются ни нейтральными, ни
пассивными хранителями прошлого. Они создают посредничество
между человеком и его опытом и в то же время являются основой
для будущих воспоминаний общества о самом себе. Андреас Гиссен
в книге “Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory”
писал о влиянии медиа на память: «Мы знаем, что медиа не пере¬
дают публичную память в первозданном виде. Они формируют ее
по своей структуре и форме» (Huyssen 2003: 20).
Новая постановка вопроса о взаимодействии памяти и медиа
связана с прагматическим поворотом в социальных науках, с одной
172
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
стороны, а также бурным развитием media studies, с другой. Интерес
исследователей сдвинулся от конкретных культурных артефактов
к процессам их взаимодействия с окружающей средой. В самом
исследовательском поле memory studies в последние полтора деся¬
тилетия произошли серьезные изменения. От исследования от¬
носительно статичных форм культурной памяти, таких как «места
памяти» Нора, ученые все чаще переходят к анализу динамических
процессов ее создания и функционирования. С точки зрения Эрлл,
культурная память все чаще понимается «...как непрерывный про¬
цесс воспоминания и забвения, в котором индивиды и группы
продолжают реконфигурацию своих отношений с прошлым и тем
самым репозиционируют себя относительно существующих и за¬
ново возникающих мест памяти», а «само слово “воспоминание”
предполагает, что это явление лучше рассматривать как взаимо¬
действие с прошлым, перформативный акт, а не простое воспро¬
изведение» (Erll, Rigney 2009: 2).
В 2007 г. Жози ван Дейк, специалист по исследованию медиа,
опубликовала книгу «Медиализированные воспоминания в циф¬
ровую эпоху» (“Mediated Memories in the Digital Age”), где пред¬
ложила понимать под медиализированными воспоминаниями
«...действия и объекты, которые мы производим и используем с по¬
мощью медиа-технологий, чтобы создавать и воссоздавать чувство
прошлого, настоящего и будущего нас самих в отношении с осталь¬
ными» (Dijck 2007: 21). Автор поставила перед собой задачу про¬
анализировать то, как цифровые технологии меняют наш взгляд
на собственное прошлое и через это — на нашу идентичность. Она
утверждает, что «медиализированные воспоминания не располо¬
жены ни прямо в мозге, ни полностью за его пределами в (мате¬
риальной) культуре, а существуют одновременно, поскольку они
представляют собой сложные интеракции между мозгом, матери¬
альными объектами и культурной матрицей, из которой они воз¬
никают» (Dijck 2007: 28). Хотя исследовательницу интересует в пер¬
вую очередь влияние электронных технологий на индивидуальную
память, сама постановка вопроса о медиализированных воспоми¬
наниях вынуждает ее обращаться к проблематике культурной па¬
мяти. Объекты опосредованной памяти, такие как фотографии или
домашнее видео, являются воплощением социокультурных
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
173
практик создающего их общества, фиксацией существующих куль¬
турных конвенций и т. д. (Dijck 2007:40).
В 2011 г. редакторы сборника “On Media Memory. Collective
Memory in a New Media Age” Мотти Найджер, Орен Мейерс и Эяль
Зандберг поставили перед собой нелегкую задачу дать определение
новой области исследований. Вместо неопределенного соединения
двух предметов исследования media and memory или узкого термина
ван Дейк mediated memories, они предложили использовать термин
media memory, ссылаясь на работу Каролин Китч «Страницы про¬
шлого: история и память в американских журналах». Китч исполь¬
зовала понятие «медийная память» (media memory) по аналогии
с коллективной памятью Хальбвакса, описав ее как «реконструкцию
прошлого, достигаемую с помощью данных, взятых из настоящего»
(Kitch 2005: 15). С точки зрения редакторов сборника, медийная
память является «не просто каналом или процессом, но самостоя¬
тельным феноменом». Таким образом, задача новой области ис¬
следования состоит в систематическом изучении того, как медиа
функционируют в качестве агентов памяти. Медийная память на¬
ходится на пересечении интересов memory studies и media studies
и способна обогатить каждую из этих сфер исследования, поскольку
ставит вопросы о власти репрезентаций и роли повествования
в процессе социального конструирования мнения: какие версии
прошлого формируют различные медиа и как; индикатором каких
социальных и политических изменений служит медийная память
и т. д. (On Media Memory 2011:1 -4).
Другие исследователи взаимоотношений памяти и медиа не
столь оптимистичны. Так, немецкий культуролог Мартин Зирольд,
специалист по коммуникациям и медиа, в 2010 г. назвал иссле¬
довательское поле media and memory «аморфным». Несмотря на
растущее число попыток теоретического и эмпирического опи¬
сания и анализа социальной памяти в ее отношениях с современ¬
ной медиа-культурой, оно не может быть названо каким-то усто¬
явшимся термином, не имеет канонического списка базовых
текстов, концепций или моделей. Само понятие «медиа», с его
точки зрения, является столь же размытым, как и «память», а боль¬
шинство исследований фокусируются на истории медиа, а не
на теории. Сам ученый указывал на необходимость создать
174
Сафронова Ю. А Историческая память: Введение
интегративную теоретическую концепцию, где социальная память
будет рассматриваться с точки зрения медиа-культуры (Zierold
2010: 399-400).
Наконец, раздаются голоса, призывающие остановить беско¬
нечное расширение понятия «память» и дополнение его другими
столь же метафорическими понятиями, как «медиа» (Berliner 2005).
Хоскинс отмечает, что, хотя есть те, кто считает исследования ме¬
диа вне компетенции memory studies, «...слишком поздно загонять
память в ее коробку», и утверждает: «Напротив, жизнь медиа — это
также и жизнь памяти» (Hoskins 2011:19-20).
Memory vs Media
Кроме методологической и терминологической неопределен¬
ности, в исследованиях media and memory все еще не преодолена
инерция подозрительного или прямо негативного отношения к ме¬
диа, чаще понимаемым в узком смысле как масс-медиа. «Подлин¬
ная» история, заключенная в томах научных исследований и ар¬
хивных хранилищах, противопоставляется медиатизированной
версии прошлого, развлекательной, примитивной или прямо лож¬
ной. Такие мнения высказывались и в 1950-х, и в 1980-х, и в наши
дни (Hoggart 1957,2004; Postman 1986; Miller 2007).
Профессор Манчестерского университета Джером де Гру, кото¬
рого сегодня называют одним из пионеров «публичной истории»,
посвятил книгу исследованию «потребления» истории современной
популярной культурой. Он противопоставляет «историю с большой
буквы», понимаемую как область профессионального знания, исто¬
рии как она «потребляется» в популярной культуре в самых разных
формах — от ТВ-шоу до компьютерных игр, от исторических ре¬
конструкций до повального увлечения семейной генеалогией. На
множестве примеров де Гру показывает, что сегодня история, под
которой он подразумевает любой опыт обращения с прошлым,
стала продуктом потребления и превратилась в товар. В отношении
современных обществ со своим прошлым де Гру видит два взаи¬
мосвязанных явления: «историоглоссию» (historioglossia), т. е. «мно¬
жество гибридных дискурсов, накапливающихся вокруг одного
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
175
события», и «избыточность истории» (historiocopia), т. е. перепол¬
нение ее смыслами (De Groot 2009:13).
Память, формирующаяся под воздействием масс-медиа, не
аутентична. Так, анализируя реалити-шоу ВВС, где воспоминания
«обычных» людей о 1970-х были перемешаны с воспоминаниями
знаменитостей, он пишет о формировании «канонического опыта»,
который имеет мало отношения к персональному опыту отдельных
людей. С его точки зрения, на место сообщества, формируемого
подлинными событиями, приходит воображаемое сообщество раз¬
деленного культурного опыта (De Groot 2009:164).
Сложный вопрос о том, что происходит с коллективной памятью
эпохи масс-медиа, решается по-разному. Журналисты претендуют
на то, что в своих репортажах они, являясь свидетелями «истори¬
ческих» событий, создают «черновик», на основании которого затем
будет сформирована коллективная память общества. Критики масс-
медиа, напротив, говорят об «эффекте CNN». Новости, транслиру¬
емые 24 часа в сутки, влияют на понимание и восприятие боль¬
шинства событий, которые когда-нибудь приобретут «историческое
значение». Невозможно гарантировать, что «свидетельство» видео¬
камеры правдиво, поскольку никто не знает, что именно остается
за кадром (Garde-Hansen 2011:4).
Хоскинс в статье с характерным названием «Телевидение и кол¬
лапс памяти» утверждает, что современные технологии изменили
наши представления о пространстве и времени и привели к кол¬
лапсу коллективной памяти. На примере войны в Заливе 1991 г.,
террористического акта 11 сентября 2001 г. и войны в Ираке 2003 г.
исследователь показывает, в какой степени нестабильна и неопре¬
деленна память об этих событиях. С его точки зрения, основная
причина заключается именно в том, что они освещались с неверо¬
ятной полнотой, создавая у зрителей эффект присутствия «здесь
и сейчас». Медийная память, по мнению Хоскинса, не просто ис¬
кажает прошлое, но разъединяет нас с ним. Пространство истории
сокращается: на ее место приходит история-вспышка, интенсивно
насыщенная информацией, в особенности визуальными образами,
позаимствованными из телевизионных новостей. Так, несмотря
на заявления после 11 сентября, что «вещи никогда не будут
прежними», мировые СМИ, продолжая выполнять свою задачу
176
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
насыщения зрителей новостями, быстро привели к коллапсу памяти
о том, что когда-то казалось «незабываемым». Он пишет: «...дис¬
куссии о том, что должно помнить, сменились вопросом о том, что
можно вспомнить». Пользуясь понятием flash frames («короткие
вспышки в видео»), он утверждает, что события, представленные
телевидением, опознаются только вспышками кадров, которые
«скорее повторяются, а не вспоминаются» (Hoskins 2004:124).
Зирольд не согласен с такой негативной оценкой влияния со¬
временной медиа-культуры на коллективную память. Констатируя,
что «современные тенденции развития медиа, такие как бум элек¬
тронных медиа или дигитализация, часто голословно обвиняются
в исчезновении памяти», он объясняет такую точку зрения «нор¬
мативной и статичной концепцией коллективной памяти». Ис¬
следователь предлагает сменить перспективу и признать, что сами
формы социальной памяти меняются вместе с развитием медийных
технологий. Вопреки опасениям пессимистов, предсказывающих
«эпоху забвения», Зирольд призывает, вместо того чтобы оплакивать
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
177
гипотетическое исчезновение памяти, постараться понять, кто
сегодня способен влиять на политику памяти и с помощью каких
инструментов, кто выбирает, какие исторические субъекты могут
быть представлены в медиа, чьи стратегии сохранения истории
сегодня востребованы, какие формы воспоминаний социально
приемлемы и т. д. (Zierold 2010: 399,405).
Его позицию разделяет также А. Ассман, обращаясь к проблеме
репрезентации Холокоста. Со времени знаменитой фразы Теодора
Адорно о том, что после Аушвица нельзя писать стихи, не утихают
споры о способах репрезентации Холокоста — вербальных, визу¬
альных и т. д. Например, Клод Ланцман настаивал на том, что лю¬
бые попытки художественного изображения Холокоста, любой
вымысел о нем должны подлежать запрету. Между тем, с точки
зрения А. Ассман, медиализация Холокоста уже является состояв¬
шимся фактом: «Задолго до того, как состоялось перешагивание
линии, за пределами которой люди, пережившие Холокост, и его
очевидцы с их живой памятью-опытом умолкают, сформировалась
базирующаяся на репрезентациях медиальная память о Холокосте,
ставшая естественной составной частью нашей социальной и куль¬
турной среды, той среды, в которую врастают будущие поколения.
Будущее памяти уже началось» (Ассман А. 2014:148).
Зирольд затрагивает важную проблему институционального
измерения медиа: не следует забывать, что в создании и потребле¬
нии медийной продукции участвуют разнообразные институты
власти, корпорации, коммерческие организации, руководствую¬
щиеся собственной логикой, в частности решая вопрос о том, кто
имеет «право на память». Исследователи характеризуют XX век как
время профессионализации и институционализации культурной
памяти при помощи различных медиа (в особенности телевидения),
которые оказали огромное влияние на то, как создается и пере¬
осмысливается прошлое. Гарде-Хансен обращается к рассмотрению
роли различных институтов, таких как новостные корпорации,
газеты, телевизионные компании, музеи, архивы, индустрия на¬
следия, в формировании индивидуальной и коллективной памяти
(Garde-Hansen 2011: 54-60).
Еще одна проблема связана с «популярным» характером ме¬
дийной продукции: масс-медиа формируют память о коллективном
178
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
опыте на примере отдельных знаменитостей. В связи с этим ис¬
следователи ставят под вопрос «подлинность» памяти, которая
формируется под влиянием популярных фильмов, телевизионных
передач и изданий и имеет мало отношения к «свидетельству».
В этом смысле классическим является противопоставление филь¬
мов Клода Ланцмана и Стивена Спилберга, посвященных теме Хо¬
локоста. «Шоа» представляет собой интервью со свидетелями,
«Список Шиндлера» — игровой фильм, получивший девять «Оска¬
ров» (Garde-Hansen 2011: 40-41).
Проблематика media and memory
Как отмечает Гарде-Хансен, исследователи коллективной па¬
мяти продолжают использовать термин «медиа» совсем иначе, чем
это принято в собственно media studies (Garde-Hansen 2011:26-27).
В memory studies понятие «медиа» может использоваться в двух
значениях: как технология коммуникации и как жанр. В первом
случае речь может идти о книгопечатании, фотографии, телевиде¬
нии или интернете. Во втором — о том, как по-разному могут вли¬
ять на формирование представления о прошлом школьный учебник
и исторический роман. Такая неопределенность понятия приводит
к тому, что в этой области можно выделить несколько тем.
Большое количество исследований посвящены истории медиа,
понимаемых как технологии сохранения социальной памяти, в том
числе в устных культурах, а также на разных этапах развития пись¬
менности. Их основная цель — показать, в какой степени измене¬
ние средств передачи опыта влияет на культурную память. Они
представляют собой продолжение исследований, начатых еще
в 1980-х гг., в которых рассматривалась эволюция культурной па¬
мяти, в первую очередь переход от устной к письменной форме
фиксации прошлого.
В дописьменных обществах память индивидов соотносится
с абстрактной общей памятью, которая существует и стабилизиру¬
ется за счет ритуалов и празднеств, в целом знакомых всем членам
сообщества, либо — на более поздних этапах — «специалистам»,
жрецам, поэтам и т. д. Появление письменности радикально меняет
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
179
ситуацию, а в дальнейшем каждый новый способ фиксации чело¬
веческого опыта ведет к изменениям социальной памяти.
В такой перспективе история коллективной памяти представ¬
лена, например, в книге французского историка Жака Ле Гоффа
«История и память», впервые вышедшей в 1988 г. Ле Гофф выделил
пять этапов развития «технологий» памяти:
1) этническая память в обществах, не обладающих письменно¬
стью;
2) процесс восхождения памяти от устной формы к письменной;
3) средневековая память, балансирующая между устной и пись¬
менной формами;
4) успехи письменной памяти начиная с XVI в. и до наших дней;
5) полнота современной памяти (Ле Гофф 2013: 82).
Для проблематики, рассматриваемой в этой главе, важно ут¬
верждение Ле Гоффа, что «не существует коллективной памяти
в чистом виде» (Ле Гофф 2013: 82). В связи с этим исследователя
интересовали материальные носители памяти, в истории которых
он отмечал такие революционные изменения, как изобретение
книгопечатания, фотографии и компьютера. В частности, появле¬
ние фотографии, с его точки зрения, произвело «...переворот в во¬
просе о памяти: она умножает и демократизирует ее, придает ей
точность; никогда ранее не достигавшаяся степень правдивости
визуальной памяти позволяет сохранять воспоминания о времени
и о хронологической эволюции» (Ле Гофф 2013:122). Особую главу
Ле Гофф посвятил современной ему памяти, назвав события второй
половины XX в. «потрясениями» в сфере памяти. В их число исто¬
рик включил появление электронной памяти компьютера, которая
обеспечила фиксацию человеческого опыта в невиданных прежде
масштабах и подробностях.
Раздел о памяти заканчивается заключением с характерным
названием «Надежды и расчеты на память». Хотя эволюция средств
фиксации прошлого, с точки зрения Ле Гоффа, привела не только
к исключительной полноте фиксации, но и небывалой ранее демо¬
кратизации, манипуляция прошлым по-прежнему остается важным
инструментом власти. Даже «в развитых обществах» новые тех¬
нические средства (например, аудио-визуальные архивы) не
всегда обеспечивают возможность меньшинствам обрести свою
180
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
собственную память. Новые средства производства памяти, «в осо¬
бенности радио и телевидение», напротив, оказываются подчинены
бдительному контролю со стороны власть имущих. Историк за¬
кончил свои размышления о современной ему памяти призывом,
в котором одновременно звучат оптимизм и тревога: «Память,
которую история использует и, в свою очередь, питает, стремится
спасти прошлое лишь для того, чтобы оно служило настоящему
и будущему. Сделаем же так, чтобы коллективная память способ¬
ствовала не порабощению, а освобождению человека» (Ле Гофф
2013: 136).
Если различным формам социальной памяти в устных и ранних
письменных культурах посвящено много всесторонних, детальных
работ, то исследования более современных медиа представлены
фрагментарно (Zierold 2010: 399). Начало специального изучения
отдельных форм медиа и связанных с ними культурных практик от¬
носится к 1990-м гг. Аннет Кун (Kuhn 1995) и Марианна Хирш
(Hirsch 1997) посвятили свои исследования семейным фотографиям,
Барби Зелизер — влиянию журналистики на коммеморацию убийства
президента Кеннеди (Zelizer 1992). Марита Стуркен в книге 1997 г.
«Запутанная память: война во Вьетнаме, эпидемия СПИДа и поли¬
тика памяти» проанализировала культурную память США в 1980-
1990-х гг., формировавшуюся вокруг таких знаковых событий не¬
давнего прошлого Америки, как войны во Вьетнаме и Персидском
заливе, эпидемию СПИДа, убийство Кеннеди, взрыв космического
шаттла «Челленджер». Одной из важных тем для исследовательницы
стали «технологии памяти» и способы взаимодействия людей с раз¬
личными «культурными продуктами», такими как публичные акции,
мемориалы, документальные фильмы, телевидение, фотографии,
реклама, символы (желтая лента как символ солидарности с людьми,
попавшими в беду) и т. д. (Sturken 1997: 9-12).
С начала 2000-х гг. количество работ, посвященных этой про¬
блематике, неизменно возрастает. Кроме того, появились первые
попытки концептуализации взаимосвязи памяти и медиа-культуры.
Например, Элисон Ландсберг в книге «Память на протезе: транс¬
формация американской памяти в эпоху массовой культуры» по¬
ставила провокативный вопрос о том, как современные технологии
массовой культуры позволяют выйти за пределы личного опыта,
Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики
181
создавая подвижные, нестабильные формы памяти. Подобно на¬
стоящему протезу, заменяющему отсутствующую конечность, вос¬
поминания, созданные с помощью новых технологий, не являются
«естественными», поскольку не соотносятся с личным опытом ин¬
дивида. В то же время они могут переживаться им как вполне на¬
стоящие, поскольку масс-медиа способны делать их не только пред¬
метом рационального знания, но и частью чувственного опыта.
Ландсберг анализирует, как травматические события, например
Холокост, рабство, массовая эмиграция из Восточной Европы, пред¬
ставлены в художественной литературе, кино и музейных экспо¬
зициях. В отличие от многих других исследователей, с подозрением
относящихся к массовой культуре, она утверждает, что новые тех¬
нологии способны создавать эмпатию и даже социальную ответ¬
ственность (Landsberg 2004).
Сегодня media studies расколоты дискуссией о том, как следует
понимать цифровую эпоху: как принципиально новое явление, нуж¬
дающееся в собственном терминологическом аппарате, моделях
и объяснениях, или как очередной этап развития медиа, для кото¬
рого работают традиционные концепции «аудитория», «институ¬
ция» и т. д. Разумеется, этот раскол влияет и на исследования куль¬
турной памяти: в какой мере цифровую память (digital memory)
можно рассматривать как принципиально новое явление (Hoskins
2011:22).
Цифровые способы фиксации прошлого являются порождением
социокультурных практик современного общества и в этом смысле
могут рассматриваться так же, как другие объекты медиализиро-
ванной памяти (Dijck 2007:48). Гарде-Хансен выделяет четыре вза¬
имосвязанных пути влияния цифровых медиа на процесс форми¬
рования коллективной памяти:
1. Цифровые медиа могут быть инструментом создания мате¬
риалов для традиционных архивов, идет ли речь о семейном
видео или мемориальном сайте 11 сентября;
2. Цифровые медиа служат в качестве технологии создания
новых способов архивирования информации о прошлом —
например, в виде онлайн-коллекции интервью;
3. Можно говорить о цифровых медиа как о самоархивирую-
щемся феномене. Примером могут быть как электронные
182
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
версии бумажных газет, так и информация, существующая
только в цифровом виде, в частности блоги;
4. Цифровые медиа могут сами становиться креативной формой
архива. Примером может быть страница в фейсбуке 6-летнего
мальчика Геньо Житомирского, погибшего в 1942 г. в газовой
камере концлагеря Майданек, созданная в 2009-м и удаленная
в 2010 г. за нарушение правил социальной сети, запрещающих
создавать страницы третьих лиц (Garde-Hansen 2011: 72).
Новые технологии создают совершенно новый уровень доступа
к коллективной памяти, а процесс ее создания делают драматиче¬
ски демократичным: достаточно иметь минимальные навыки для
того, чтобы создавать семейный электронный архив или форми¬
ровать собственную версию прошлого посредством ютуб-канала.
Эта простота, однако, кажущаяся, поскольку доступность электрон¬
ной информации зависит не столько от развития технологий,
сколько от режима использования обществом своих медиа-систем.
Наиболее простым примером может служить дихотомия между все
более ужесточающимся авторским правом и широко понимаемой
концепцией open source («открытое программное обеспечение»),
подкрепляемой романтикой электронного пиратства. От победы
одного из этих подходов к электронным данным будет зависеть,
в том числе, будущее коллективной памяти.
С точки зрения ван Дейк, отличия цифровых технологий от
предыдущего этапа развития медиа памяти заключается в полноте
фиксируемого опыта: никогда события человеческой жизни не
запечатлевались в таком объеме, как сегодня, когда каждая минута
может быть снята на камеру, зафиксирована в блоге, отправлена
по электронной почте. Вместе с тем, по сравнению с аналоговыми
носителями, цифровая память оказывается более хрупкой: она
может исчезнуть в любой момент быстрее, чем пожар способен
уничтожить библиотеку или архив. Думаю, эта проблема знакома
не понаслышке любому читателю, случайно удалявшему жизненно
важные файлы в последнюю ночь перед дедлайном или лишавше¬
муся фотографий из путешествия.
Идея о том, что изменения технологий непосредственно ведут
к трансформации памяти, по мнению ван Дейк, неверна. «Значение,
природа и функции памяти» никогда не изменяются под воздей-
Глава 8. Медиа и память: институты.формы и практики
183
ствием технологических революций, скорее сопутствующие им
изменения в умах, практиках и формах постепенно воздействуют
на наши способы помнить. С появлением новых технологий не
происходит автоматическая перезапись смыслов со старых анало¬
говых форм на цифровые: блоги только частично заменили обыч¬
ные бумажные дневники, фотографии все еще печатаются... По-
видимому, аналоговые и цифровые формы фиксации прошлого
будут продолжать существовать так же, как фотография не вытес¬
нила живопись. В связи с этим она настаивает, что в центре вни¬
мания исследователей должны быть не собственно технологические
изменения, а новая цифровая культура (Dijck 2007:49).
Гарде-Хансен придерживается иной точки зрения. Она утверж¬
дает: «Существующая парадигма изучения аналоговых медиа и свя¬
занные с ними традиции, теории и методы быстро становятся не¬
адекватными для понимания глубокого влияния в высшей степени
доступного, легко передаваемого и циркулирующего электронного
контента на то, как индивиды, группы и общества помнят и за¬
бывают» (Garde-Hansen 2011: 70-71).
Можно утверждать, что развитие электронных технологий, про¬
исходящее у нас на глазах, идет настолько быстрыми темпами, что
исследователи не успевают осмысливать эти процессы. Проблема¬
тика цифровой памяти является наименее изученной, методоло¬
гически неопределенной и поэтому наиболее перспективной для
начинающих исследователей, если в их амбиции входит сказать
радикально новое слово в этом исследовательском поле.
Медиация, ремедиация и гипермедиация:
динамика культурной памяти
Критика Зирольдом современного состояния исследователь¬
ского поля media and memory строится вокруг отсутствия интегра¬
тивных работ. С его точки зрения, ни анализ эволюции медиа, ни
разбор отдельных примеров не решают основного вопроса,
поскольку ни одна медийная технология не может нести ответ¬
ственность за социальную память: появление книгопечатания не
означает конец рукописной традиции, так же как анализ только
184
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
фотографии / только киноиндустрии не способен объяснить со¬
циальную память в ее динамике. Выходом, с его точки зрения,
должны быть исследования, где связь между памятью и медиа рас¬
сматривается в контексте сложных медийных систем, включающих
в себя рукописную традицию и книгопечатание, а также радио,
телевидение и интернет (Zierold 2010:402).
Примером такого подхода к изучению media and memory могут
служить работы Эрлл и ее коллег, разрабатывающих проблематику
медиации как основного процесса, формирующего культурную
память. Она утверждает, что медиа необходимо рассматривать не
как линейку дискретных и устойчивых технологий, а как «ком¬
плексные и динамические системы», которые всегда находятся
в развитии, а не в стабильном положении. Так, например, хоть
и возможно говорить отдельно о фотографии или кино как при¬
мерах медиа с определенными стабильными характеристиками,
нельзя упускать из вида, что и то и другое постоянно находится
в потоке технологических изменений. Сам процесс развития ме¬
дийного ландшафта как постоянно меняющегося репертуара
средств «производства смыслов» (Карл Вейк) нуждается в специ¬
альном изучении (Erll, Regney 2009).
Эрлл проводит различия между материальным и социальным
измерением медиа. Под материальным измерением она понимает
семиотические инструменты коммуникации (язык, изображения,
звуки), медиа-технологии (книгопечатание, радио, телевидение,
интернет) и медиа-продукт (газетные статьи, телевизионные пере¬
дачи и интернет-сайты). В социальном измерении она выделяет
два контекста, которые следует рассматривать отдельно: произ¬
водство и распространение медиа-продукта, с одной стороны, и его
рецепция и использование, которые могут происходить значи¬
тельно позднее времени его создания и в принципиально других
исторических условиях, с другой. В отличие от относительно гомо¬
генного процесса создания и распространения, рецепция и ис¬
пользование медиа-продукта не могут быть поняты как социально
однородный процесс. Каким образом будет использоваться тот или
иной медиа-продукт в процессе создания памяти, определяется
различными социальными системами общества. Один и тот же
медиа-продукт может функционировать совершенно по-разному
Глава 8. Медиа и память: институты.формы и практики
185
в разных социальных контекстах. При этом анализ социального
контекста не может производиться отдельно от исследования того,
в какой мере восприятие зависит от конкретных инструментов
коммуникации и медиа-технологий, поскольку те являются опре¬
деляющими факторами на всех уровнях создания медиа-продукта.
В этой сложной модели особенно интересна зависимость выбора
определенных медиа-технологий от соответствующих социальных
условий производства памяти.
С точки зрения Астрид Эрлл и Энн Ригней, культурная память
находится в постоянной динамике. Если информация о прошлом
больше не передается в виде рассказа, изображения или коммемо-
ративного ритуала, она становится нерелевантной для общества
и исключается из процесса создания памяти общества. Важной
составляющей этого процесса являются «медиальные рамки» (me¬
dial frameworks) памяти. Лучшей иллюстрацией того, в какой мере
этот аспект важен для понимания процесса функционирования
коллективной памяти, может быть роль книг и фильмов, иниции¬
рующих публичные дебаты об исторических событиях, которые
давно были маргинализированы или вовсе забыты (Erll, Regney
2009: 2).
Рассматривая культурную память не как явление, а как процесс,
Эрлл и Ригней выделяют в нем несколько диахронных измерений:
• Премедиация — создание с помощью существующих в дан¬
ном обществе медиа схем для объяснения и репрезентации
нового опыта. Например, опыт медийной репрезентации
колониальных войн определил создание образов Первой
мировой войны. В этом случае речь идет не столько о том,
что репрезентации более ранних событий создают схемы
для понимания и воспоминания более поздних. Сами медиа,
принадлежащие к более ранним этапам, например искусство,
мифологии и т. д., могут быть инструментами премедиации,
какими для Западного мира столетиями были Библия или
Илиада, а для нас — популярные фильмы (Erll 2009: 111).
• Медиация — фиксация опыта с помощью медиа, доступного
данному обществу.
• Ремедиация (Болтер, Грусин) — «перезапись» информации
о прошлом с одного носителя на другой, в процессе которого
186
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
медиа памяти постоянно комментируются, производятся
заново и влияют на содержание друг друга. Создатели тер¬
мина Болтер и Грусин писали о «двойной логике ремедиа¬
ции»: «...наша культура стремится умножать свои медиа
и уничтожать все следы медиации, в идеале она стремится
уничтожить сами медиа в самом факте их умножения».
Логика развития медиа приводит к созданию технологий,
которые делают зафиксированный с их помощью опыт все
более «реалистичным», т. е. непосредственным, однако из-за
процесса «перезаписи» постоянно увеличивается количество
медиа, на которых этот опыт зафиксирован.
• Гипермедиация — намеренное подчеркивание медиа, с по¬
мощью которого зафиксирована память о прошлом (Erll,
Regney 2009: 3-4).
Голландскиий специалист по еврейской истории Давид Верт-
хайм посвятил исследование процессу ремедиации дневника Анны
Франк, проанализировав адаптации этого текста с помощью раз¬
личных медиа, таких как кино, театры, музеи, документальные
фильмы и интернет. Он не отрицает, что существующий критицизм
по поводу коммерциализации дневника Анны Франк, превращения
его в китч имеет основания. Однако Вертхайм подчеркивает, что
каждая новая адаптация ставила и другую цель, кроме получения
коммерческой выгоды, — сделать историю Анны Франк настолько
«аутентичной», насколько это вообще возможно, а следовательно,
«они должны быть поняты как результаты усилий представить
правду» (Werthaim 2009:160).
Другим примером исследования культурной памяти через ме¬
дийные процессы может служить книга Лоры Базу «Нед Келли как
диспозитив памяти: медиа, время, власть и развитие австралийской
идентичности», в которой рассматривается, как история знамени¬
того разбойника XIX в. Неда Келли переписывается снова и снова
при помощи различных медиа. Отличием этой работы от других
исследований такого рода (например, работ о Жанне дАрк или
Александре Невском как «местах памяти») является пристальное
внимание ее автора не только к смыслам, которые на разных эта¬
пах конструировались вокруг этой фигуры, но и к средствам их
фиксации. Базу намеренно отказывается от «слишком общего»
Глава 8. Медиа и память: институты,формы и практики
187
термина «место памяти» (Нора) в пользу «диспозитива» (Фуко), под
которым понимается совокупность гетерогенных элементов внутри
системы и отношения между ними, имплицитно задаваемые ком¬
плексом отношений «власти — знания», которые определяют кон¬
фигурацию характерных для данного общества практик (например,
сам Фуко анализировал диспозитив сексуальности).
Базу предлагает рассматривать мнемонический диспозитив как
систему отношений, создавшуюся вокруг конкретной исторической
фигуры и включающую в себя потенциальные и латентные значе¬
ния, которые могут собираться в различные констелляции как уси¬
лием воли, так и не намеренно. В отличие от исследования «мест
памяти», которые всегда сосредоточены на акторах, производящих
смыслы, работа Базу строится на идее о том, что для понимания
культурной памяти, кроме вопроса о политике (кто), важны вопросы
о медиации (как) и темпоральности (когда). Сочетание трех этих
элементов создает диспозитив памяти (Basu 2012).
Исследовательское поле media and memory развивается сегодня
с впечатляющей скоростью, если судить по количеству работ, по¬
священных этой проблематике. Даже краткий очерк существующих
дискуссий и поднятых проблем доказывает, что написание работы
188
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
в этой области далеко не так просто, как может показаться на пер¬
вый взгляд, если судить только по доступности источников — на¬
пример, интернет-сайтов, до которых можно добраться, не вставая
со стула. К различным нерешенным проблемам внутри исследова¬
ния культурной памяти добавляются разнообразные сложности,
связанные с исследованиями медиа. Кроме всего прочего, в отли¬
чие от тем, описанных ранее, эта не содержит протоптанных дорог
и верных рецептов написания хорошей исследовательский работы.
Иными словами, работа в области media and memory — это вызов.
Принять ли его — каждый читатель должен будет решить для себя
самостоятельно.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте письмо итальянского ученого Умберто Эко внуку «До¬
рогой внук, учи наизусть» (например, тут: http://inosmi.ru/archive
2015/20160221/216819572.html) о «потере памяти». Сопоставьте его
сточкой зрения М.Зирольда о том,что высказывания о губительности
современных медиа зачастую подменяют серьезный анализ медиа¬
культуры. Приведите аргументы в поддержку обоих мнений: мы живем
в эпоху потери памяти / мы живем в эпоху мемориального бума.
2. Ж. Ле Гофф, описывая состояние современной ему коллективной памяти,
утверждал: «...коллективная память - это не только завоевание, но
еще и инструмент и цель для достижения могущества. Именно в тех
обществах, социальная память которых остается главным образом
устной или которые пребывают в процессе формирования письменной
коллективной памяти, как раз и можно наилучшим образом наблюдать
борьбу за господство над воспоминанием и традицией, манипуляцию
памятью» (Ле Гофф 2013:133). Согласны ли вы с его мнением, что
манипуляции памятью присущи преимущественно дописьменным
и несовременным культурам? На чем может быть основано его мнение?
3. Прочитайте интервью Дж. де Гру «Публичная история - это не
дисциплина», (http://articult.rsuh.ru/articult-ll-3-2013/public-
history-is-not-a-discipline-interview-with-professor-manchester-
university-jerome-de-gru.php). В какой степени обсуждаемая им
оппозиция «история / публичная история» совпадает с противопо¬
ставлением истории / памяти?
Глава 8. Медиа и память: институты.формы и практики
189
4. Приведите примеры книг или фильмов, которые открывали дискуссию
о «забытом» историческом событии.
5. Найдите информацию о фейсбук-странице Геньо Житомирского. Как вы
относитесь к этому проекту? Сравните его с проектом «1917. Свободная
история» (www.projectl917.ru).
6. Проведите мини-исследование о том, как различные формы медиации
влияют на восприятие прошлого, на примере обращения 22.06.1941 г.:
прослушайте аудиозапись, посмотрите видеохронику (https://www.
youtube.com/watch?v=ZAtRykr2vkg), найдите кинофильмы, в которых
есть сцена с этим сообщением, расспросите старших родственников
о том, как и когда они впервые услышали его. Смогут ли они вос¬
произвести текст? Какие ассоциации он у них вызывает? Что в этих
рассказах важнее: текст, звукозапись или визуальный ряд?
7. Посмотрите видеозапись с сайта мемориального комплекса истории
Холокоста «Яд Вашем». Как происходит медиация свидетельства?
С помощью каких приемов создается эффект непосредственности
воспоминания? В какой степени его можно считать непосредственным?
8. Вспомните работу Б. Шенка об Александре Невском как «месте памяти».
Можно ли написать исследование об этом же историческом персонаже
как о «мнемоническом диспозитиве». Чем будут отличаться ее структура,
источники, основные исследовательские вопросы?
Для чтения:
Erll А. (2009). Remembering across Time, Space, and Cultures: Premediation,
Remediation and the “Indian Mutiny”// Mediation, Remediation, and the
Dynamics of Cultural Memory. Berlin; New York: De Gruyter. P. 109-138.
Hoskins A. (2011). Media, Memory, Metaphor: Remembering and the
Connective Turn // Parallax. Vol. 17. No. 4. P. 19-31.
Глава 9
Использование прошлого:
историческая политика,
политика памяти и публичная
история
Как использовать прошлое?
Последняя глава учебного пособия посвящена использованию
прошлого для достижения целей, диктуемых днем сегодняшним.
В ней читатель не найдет рецептов, как именно нужно обращаться
с прошлым, чтобы добиться политического успеха или стать вла¬
стителем дум, как французский интеллектуал Пьер Нора. Здесь
представлены различные подходы к тому, как возможно изучать
удачное или не слишком удачное использование прошлого раз¬
личными акторами в различных обстоятельствах и с разными на¬
мерениями.
Как во всех остальных случаях с многочисленными течениями
внутри memory studies, в этом также можно наблюдать удивительное
многообразие определений для обозначенного в заглавии предмета
исследования: историческая политика, политика памяти, а также
публичная история и даже прикладная история. В английском языке,
который служит lingua franca современного академического мира,
наблюдаем то же многоголосие: memory politics, politics of remem¬
brance, politics of history, past politics, public history, applied history
и даже history marketing. Внимательный читатель заметит, что на
русском языке говорят о политике, а на английском — о «полити¬
ках». Кроме различия смыслов, вкладываемых в разные понятия,
с помощью которых анализируется использование прошлого, можно
говорить и о региональных особенностях, так как терминология
варьируется от страны к стране. Примечательно, что статья об
Глава 9. Использование прошлого
191
использовании прошлого в Восточной Европе скорее будет содер¬
жать понятие memory politics, а в Западной — politics of remembrance.
При этом конвенции относительно содержания каждого из этих
понятий в принципе отсутствуют.
Коллективная память и те институты и практики, которые ее
создают, поддерживают и репродуцируют, служат созданию «вооб¬
ражаемых сообществ», с которыми индивиды идентифицируют
себя и которые дают им чувство принадлежности к определенному
месту и к определенной истории (читателю стоит вспомнить о ра¬
ботах Андерсона и Хобсбаума из главы 5). Проблематика инстру¬
ментализации памяти была обозначена уже в работах Хальбвакса.
С его точки зрения, коллективная память всегда опосредована
сложными механизмами как сознательного манипулирования со
стороны элит, так и неосознанного усвоения ее членами опреде¬
ленного сообщества. Социальные рамки не только конструируют
значение прошлого для памяти индивида, но также создают исто¬
рическое воображение, которое обусловливает отбор и интерпре¬
тацию фактов прошлого.
Неизбежность инструментализации памяти хорошо демонст¬
рируется двухчастной моделью Я. Ассмана. В момент, когда со
192
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
смертью очевидцев коммуникативная память переходит в куль¬
турную, в процесс поддержания последней включаются различные
институты, воспроизводящие многообразные практики обращения
с прошлым (вспомните главу 4). Очевидно, что мобилизация памяти
и коллективных представлений о прошлом является неотъемлемой
частью политического процесса на протяжении последних столетий.
Герберт Хирш так пишет об этом: «...контроль над памятью является
формой власти. Люди, занимающие позиции, позволяющие им
манипулировать памятью и, с ее помощью, символическими цен¬
ностями общества или группы... обладают политической властью»
(Hirsch 1995: 23).
Политолог Ольга Малинова подчеркивает изменения, которые
произошли в практиках обращения с прошлым в конце XX — на¬
чале XXI в. В качестве основных причин она называет трагические
события XX в., превратившие новейшую историю в часть личного
опыта миллионов людей. Кроме того, произошел целый ряд важных
изменений в разных сферах жизни: всеобщее образование пре¬
вратило обязательный школьный курс истории в инструмент со¬
циализации человека, новые технологии сделали его виртуальным
участником исторических событий, а активное развитие «социо¬
культурной инфраструктуры памяти» побуждает «вспоминать»
коллективное прошлое. Все эти процессы, как утверждает Малинова,
сделали прошлое предметом политики (Малинова 2017: 6-7). Наи¬
более широким понятием, с ее точки зрения, является «политиче¬
ское использование прошлого», т. е. «любые практики обращения
к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того,
складываются ли они в последовательную стратегию» (Малинова
2017: 9).
Современные политики используют исторические аналогии,
чтобы обсуждать важные вопросы дня сегодняшнего, манипулируют
памятью, чтобы легитимизировать изменения или их отсутствие,
опираясь на мифы основания, важные для определенного сообще¬
ства. Далеко не всегда их целью является формирование опреде¬
ленной концепции прошлого. Хотя, как правило, дебаты о прошлом
идут внутри одного сообщества, память может превращаться и в ин¬
струмент международных отношений. Так, в разгар правитель¬
ственного кризиса в Греции в 2012 г., вызванного финансовым
Глава 9. Использование прошлого
193
коллапсом, редкое издание обходилось без изображения федераль¬
ного канцлера Германии Ангелы Меркель в нацистской форме,
поскольку греки видели в ФРГ главную причину своих бед
(Fleischhauer 2012).
Немецкий политолог Эрик Мейер подчеркивает, что память
является легитимным предметом исследования для политических
наук, в особенности если речь идет о переходных ситуациях, воз¬
никающих при смене режимов. Он выделяет целый ряд направле¬
ний, в рамках которых необходимо изучать использование про¬
шлого:
• внешняя политика и дипломатия — обсуждение неодно¬
значного прошлого как условие для функционирования
политических систем и их способности проводить между¬
народную политику;
• международная юстиция — определение статуса жертв
и преступников, в том числе в рамках международных со¬
глашений;
• политическая культура — моделирование политических
нарративов, формулирующих отношения между обществом
и его историей (Meyer 2010:174-175).
Малинова подчеркивает, что политика работает не со всем ре¬
пертуаром знания о прошлом, а с его актуализированной версией
(iusable past), т. е. «репертуаром исторических событий, фигур и сим¬
волов, которые наделяются смыслами, в той или иной мере значи¬
мыми для современных политических и культурных практик»
(Малинова 2017: 9).
Хотя многие исследователи сегодня пишут о необходимости
изучать процессы принятия решений, институты памяти и ис¬
пользуемые ими ресурсы, большинство работ строится, как правило,
вокруг изучения дискурсов, а не практик (Meyer 2011: 179). Про¬
блема в том, что при таком подходе упускаются из виду такие ком-
меморативные практики, как сооружение памятников, создание
экспозиций музеев, а также формирующиеся вокруг них ритуалы,
способные влиять на политику памяти не в меньшей степени, чем
самые авторитетные тексты. Таким образом, под политикой памяти
следует понимать всю сферу публичных стратегий в отношении
прошлого (Миллер 2009: 7).
194
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Кроме изучения использования прошлого как инструмента
политического процесса, которое сегодня становится «важной
новой сферой» для политических наук (Verovsek 2016:2), не следует
упускать из виду и другую сторону — роль профессионального
историка в инструментализации коллективной памяти. Историк
Алексей Миллер, ссылаясь на исследование Хейдена Уайта, пишет
о необходимости признать, что историк не может оставаться ней¬
тральным. Политические взгляды конкретного ученого оказывают
влияние на его работы хотя бы в выборе темы и методологии на¬
учного поиска, что, разумеется, не предполагает неизбежной по¬
литической предвзятости или политической ангажированности.
С другой стороны, он считает, что в процесс политизации прошлого
включены также читатели исторических работ, коль скоро они
ищут в них ответы на актуальные вопросы современности (Миллер
2009: 7).
Политика памяти
Вал публикаций, содержащих в заглавии понятие «политика
памяти» (memory politics), свидетельствует о большой популярности
этой сферы исследований внутри memory studies. Однако очень ча¬
сто заглавием все и ограничивается. Авторы не считают нужным
не только дать определение этому термину, но иногда даже не ис¬
пользуют его в тексте. Под рубрикой «политика памяти» можно
найти обсуждение публичных дискурсов, культурной травмы, нар¬
ративов, оспариваемого прошлого и т. д. Такая ситуация в значи¬
тельной степени затрудняет понимание политики памяти как са¬
мостоятельного феномена и отдельного объекта исследования.
Петр Веровчек, политолог из Гарвардского университета, в ста¬
тье, посвященной политике памяти как исследовательской пара¬
дигме, пишет: «Одна из главных проблем — возможно, главная
проблема — исследований политики памяти — это определение
границ этого концепта» (Verovsek 2016:6). Он выделяет два основ¬
ных подхода к пониманию политики памяти. В одном случае этот
феномен рассматривается в исключительно широких рамках, вклю¬
чающих в себя любое высказывание о прошлом и все сферы
Глава 9. Использование прошлого
195
общественной жизни. Гораздо чаще исследователи выбирают более
узкий, институциональный подход, сосредоточивая свое внимание
на деятельности политических элит. В качестве примера последнего
можно назвать сборник статей под редакцией Ричарда Лебоу,
Вульфа Канстайнера и Клаудио Фогу «Политики памяти в после¬
военной Европе» (2006). Во введении к нему Лебоу писал, что по¬
литика памяти «...описывает усилия политических элит, их сто¬
ронников и противников по конструированию значения прошлого
и его широкому распространению или навязыванию прочим чле¬
нам общества» (Lebow 2006:13). Предметом исследования коллек¬
тива авторов была институционализация памяти о нацизме и Вто¬
рой мировой войне в Европе с 1945 г. по настоящее время. Хотя
в первоначальную программу исследования входила выработка
категорий (победители, проигравшие, свидетели) для сравнения,
итогом сборника оказались скорее теоретические рассуждения
о соотношении индивидуальной и коллективной памяти, памяти
и истории и т. д. Авторам удалось зафиксировать специфическую
поколенческую динамику в качестве основной причины драмати¬
ческих изменений в коллективной памяти, произошедших в конце
1960-х — начале 1980-х гг. по всей Европе. С другой стороны, им
удалось показать, что в некоторых национальных контекстах эта
динамика была обусловлена специфической культурой истории,
которая создавала рамки памяти. Их главным выводом стало, что
«политики памяти всегда взаимодействуют со специфической по¬
этикой истории, сила которой может конституировать главную
переменную в эволюции коллективных воспоминаний» (Fogu, Кап-
steiner 2006: 284).
Веровчек выступает против ограничения понимания политики
памяти только институциональным измерением, поскольку, с его
точки зрения, в этом случае игнорируются широкие дебаты, про¬
исходящие в гражданском обществе, а также культурная сфера,
которая способна оказывать большое влияние на политическое
выражение коллективных воспоминаний. Он предлагает изменить
исследовательскую парадигму и сфокусироваться на том, как дис¬
куссии о прошлом, происходящие в обществе, понимаемом им
широко, оказывают влияние на формальные институты государства
(Verovsek 2016: 6).
196
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Решение вопроса об узком / широком понимании политики
памяти можно найти, обратившись к концепции мнемонических
акторов, предложенной Майклом Бернхардом и Яном Кубиком для
обозначения «политических сил, заинтересованных в особом по¬
нимании прошлого» (Bernhard, Kubik 2014: 4). В сборнике статей
“Twenty Years after Communism: The Politics of Memory and Com¬
memoration”, посвященном политике памяти в Восточной Европе
в связи с событиями 1989-1991 гг., они выделяют четыре типа стра¬
тегий обращения с прошлым. Первый тип характерен для «мнемо¬
нических воинов», убежденных, что только они имеют «право» на
интерпретацию прошлого, в то время как все другие перспективы
должны быть искоренены. Ко второму типу относятся «мнемони¬
ческие плюралисты», принимающие множественность интерпре¬
таций прошлого. Третья стратегия состоит в «мнемоническом от¬
рицании», т. е. отказе акторов по каким-то причинам участвовать
в дискуссиях по поводу памяти. Наконец, четвертая стратегия на¬
правлена в будущее: она сосредоточена на достижении наиболее
желательного для государства вйдения прошлого как способа ре¬
шить проблемы одновременно и с прошлым, и с будущим.
Глава 9. Использование прошлого
197
В зависимости от того, какой тип мнемонического актора суще¬
ствует в данном обществе, Бернхард и Кубик выделяют три типа
мемориального режима: раздробленный (fractured), унифициро¬
ванный (unified), пилларизированный1 (pillarized). Мнемонический
режим будет раздробленным, если хотя бы один из акторов — «мне¬
монический воин». Если таких акторов нет, но наблюдается плю¬
рализм интерпретаций прошлого, можно говорить о пилларизи-
рованном режиме. Если же нет ни первого, ни второго типа акторов,
то возникает унифицированный мнемонический режим. Выбор
мнемоническими акторами стратегий зависит как от политической
структуры, внутри которой они действуют, так и от культурных
дискурсов, представленных и доступных в каждой культуре, вклю¬
чая культурные формы и темы (Bernhard, Kubik 2014: 7-34).
Политика памяти не должна рассматриваться исключительно
в терминах манипуляции прошлым. Напротив, она может быть
результатом политических дебатов. Так, исследователь памяти
о войне в Алжире (1954-1962) Ян Янсен убедительно показывает,
в какой степени процесс ее формирования сопровождался проти¬
воречиями и конкуренцией различных точек зрения на то, что
именно следует помнить. Когда полемика обрела собственную ди¬
намику, инициаторы этого обсуждения превратились из акторов
в наблюдателей спора (Jansen 2010: 275-293). Миллер также опи¬
сывает политику памяти как пространство диалога различных
общественных сил. С его точки зрения, она может быть инструмен¬
том как преодоления внутринациональных и межнациональных
конфликтов, так и порождения новых (Миллер 2009: 8).
Малинова предлагает понимать под политикой памяти «дея¬
тельность государства и других акторов, направленную на утверж¬
дение тех или иных представлений о коллективном прошлом и фор¬
мирование поддерживающей их культурной инфраструктуры,
образовательной политики, а в некоторых случаях — и законода¬
тельного регулирования». Политика памяти выступает для нее
1 Пилларизация — устойчивое вертикальное деление общества, в котором
образцы политической организации определяются религиозной или лингвисти¬
ческой принадлежностью, существенно нарушающей горизонтальные классовые
деления (Большой толковый социологический словарь. М.: ACT; Вече 1999).
198
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
частным случаем символической политики, т. е. «публичной дея¬
тельности, связанной с производством различных способов интер¬
претации социальной реальности и борьбой за их доминирование
в публичном пространстве» (Малинова 2017: 9).
В течение XX в. политика памяти претерпела существенные
трансформации, связанные как с содержанием национальной па¬
мяти, так и с акторами, участвующими в ее регулировании. Ис¬
следователи современной европейской памяти Малгожата Пакир
и Бо Штрет в книге «Европейская память? Конкурирующие истории
и политика памяти» (2010) анализируют в качестве показательного
примера провал европейской конституции 2005 г., отвергнутой
Францией и Нидерландами. Конституция содержала апелляцию
к общим культурным, религиозным и гуманистическим традициям
и настаивала на преодолении старых разногласий. При этом в ней
отсутствовали упоминания о темных страницах европейской исто¬
рии, таких как колониализм, этнические чистки, мировые войны,
геноцид и тоталитарные режимы. С точки зрения политологов,
«было ошибкой» попытаться сегодня повторить нарратив, который
в XIX в. историки успешно использовали при создании националь¬
ных государств. Сегодня невозможно представить обоснование
Европейского союза «без упоминаний о конфликтах, соперничестве,
сложности и противоречивости европейского прошлого» (Pakier,
Strath 2010:1).
Российский историк Николай Колосов называет характерными
чертами современной памяти криминализацию и виктимизацию
прошлого. История сегодня рассматривается как цепь преступле¬
ний, а многие сообщества претендуют на то, чтобы представить
себя в качестве жертв. Такое отношение к прошлому сформирова¬
лось вокруг обсуждения Холокоста, который стал «одним из опре¬
деляющих факторов подъема памяти». Кроме того, большую роль
в становлении современной виктимизированной памяти сыграли
«комиссии по установлению правды» в Латинской Америке и Юж¬
ной Африке. Помимо собственно политических процессов Колосов
отмечает также сдвиги, произошедшие внутри профессионального
сообщества историков. С его точки зрения, «демократический по¬
ворот» в историографии 1950-1970-х гг. с его вниманием к «ма¬
ленькому человеку» обусловил возникновение «парадигмы
Глава 9. Использование прошлого
199
сострадания» в восприятии истории и сформулировал интерес
к контрпамяти. По мнению Колосова, память жертв сегодня явля¬
ется «максимально легитимной моделью современной историче¬
ской памяти» (Колосов 2011: 52-53).
В результате коллективная память оказывается инструментом,
который сегодня используют не только государства, но и различные
группы внутри него, необязательно находящиеся у власти. Напри¬
мер, большие успехи на этом поприще демонстрируют меньшин¬
ства, борющиеся за право на собственное прошлое. На практике
речь может идти не только и не столько о свидетельстве или пре¬
одолении травмы, сколько о компенсациях, репарациях, расстановке
сил, политической борьбе и даже границах государств.
Еще одно изменение политики памяти связано с постепенной
утратой профессиональными историками положения единствен¬
ных экспертов по прошлому. С одной стороны, ситуация связана
с трансформациями внутри самой профессии. Постмодернистская
критика вынудила историков признать риторические и лингви¬
стические ограничения историописания. С другой стороны, со¬
бытия «мемориального бума», описанные в главе 1, утвердили
право отдельных людей и сообществ «помнить» о своем прошлом.
С точки зрения Пакир и Штрета, сегодня следует говорить не
столько о различиях между историей и памятью, как это было
в 1980-е гг., сколько о сосуществовании различных дискурсов
о прошлом. Академический, политико-институциональный, по¬
пулярный или повседневный, медийный и т. д. дискурсы сложно
отделить друг от друга, тем более что они оказывают влияние друг
на друга (Pakier, Strath 2010:4).
Историческая политика
Историческая политика — это «набор практик, с помощью ко¬
торых отдельные политические силы стремятся утвердить опре¬
деленные интерпретации исторических событий как доминирую¬
щие» (Миллер 2009: 10). Как пишет Мейер, то, что противоречия
в интерпретации прошлого вообще способны нести политический
заряд, проистекает из ориентирующей функции истории.
200
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Конфликты, как правило, происходят не вокруг фактографии и даже
не вокруг верности интерпретаций, предлагаемых внутри акаде¬
мического сообщества. Их ареной становится публичная сфера,
а предметом — борьба за прошлое. С точки зрения Мейера, для того
чтобы изучать историческую политику, необходимо ставить во¬
просы о том, «как и кем, а также какими средствами, с какими на¬
мерениями и с какими последствиями прошлый опыт используется
и становится политически значимым» (Meyer 2010: 176).
Генеалогию термина «историческая политика» возводят к не¬
мецкому Geschichtspolitik, возникшему в начале 1980-х гг. в ходе
знаменитого «спора историков». Тогда федеральный канцлер Гель¬
мут Коль назначил своим политическим советником историка Ми¬
хаэля Штюрмера и попытался произвести «морально-политический
поворот», с тем чтобы сделать недавнее прошлое Германии более
позитивным. В ходе спора историков Geschichtspolitik была отвер¬
гнута, не успев начаться, а само понятие имело исключительно
негативное значение. В 2004 г. этот термин заимствовали польские
интеллектуалы, также поставившие целью утверждать патриотизм
с помощью истории и противостоять «искажениям» национального
прошлого (Миллер 2009: 8-9). Миллер отмечает этот момент как
отправную точку для интенсификации использования истории
в политических целях, которую можно наблюдать во всех странах
Восточной Европы в начале XXI в. (Миллер 2012: 7).
Для многих исследователей понятия «политика памяти» и «исто¬
рическая политика» являются синонимами. Например, Колосов
в книге «Память строгого режима. История и политика в России»
пишет их через запятую, поясняя, что хотя термин новый, явление
очень старое: «...во все времена и во всех странах различные обще¬
ственные силы стремились навязать согражданам свое понимание
прошлого» (Колосов 2011: 52). Миллер, напротив, настаивает на
том, что понятие «историческая политика» не тождественно «по¬
литике памяти». С его точки зрения, историческая политика — это
«особая конфигурация методов, предполагающая использование
государственных административных и финансовых ресурсов
в сфере истории и политики памяти в интересах правящей элиты»
(Миллер 2012: 19). Историческая политика может рассматриваться
как частный случай политики памяти. Ее особенностями являются
Глава 9. Использование прошлого
201
конфронтационность и монологичность: прошлое превращается
в оружие борьбы на внури- и внешнеполитическом фронте.
Миллер выбирает термин «историческая политика» для того,
чтобы зафиксировать принципиальную новизну процессов, про¬
явившихся в последние десятилетия, в особенности в посткомму¬
нистических обществах. Для него важно, что историческая политика
может существовать только в демократических режимах, так как
она предполагает конкуренцию интерпретаций и возможность
общественных дебатов, которые обеспечиваются только свободой
слова. Противопоставляя эту ситуацию той монополии на интер¬
претацию прошлого, которая существовала в авторитарных систе¬
мах советского типа, Миллер подчеркивает, что именно плюрали-
стичность общественной сферы (или ее имитация) вынуждает тех,
кто стремится утвердить свою интерпретацию прошлого в качестве
единственно верной, изобретать новые «стратегии легитимации
вмешательства в историю и политику» (Миллер 2009:10-11). Ана¬
лизируя ситуацию в Восточной Европе, Миллер выделяет несколько
групп методов исторической политики:
• создание специальных институтов для насаждения опре¬
деленной трактовки прошлого (музеи под прямым патро¬
натом определенных политических сил), а также финанси¬
рование идеологизированных исследовательских проектов
из государственного бюджета;
• политическое вмешательство в деятельность СМИ;
• манипуляция архивами, сохранение режима секретности,
организация приоритетного доступа к документам для
историков, работающих на политический заказ;
• разработка мер контроля за деятельностью историков, ис¬
пользование финансовых и статусных рычагов;
• вмешательство в содержание учебников и программ пре¬
подавания истории (Миллер 2012:17-18);
• принятие мемориальных законов, закрепляющих един¬
ственную трактовку прошлого и предполагающих уголовное
наказание для тех, кто ее оспаривает (Миллер 2009: 10).
Те, кто сегодня практикует историческую политику, рассма¬
тривают ее исключительно в позитивном ключе и, кроме того,
настаивают на ее обыденности и традиционности. В своей
202
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
деятельности они руководствуются идеями необходимости борьбы
с внешним и внутренним врагом, ареной для которой становятся
история и память. Обратной стороной этого процесса является
желание дать позитивные основания для патриотического чувства
внутри страны.
Исследователи исторической политики, как правило, не раз¬
деляют их энтузиазм. Так, немецкий историк Эдгар Вольфрум по¬
нимает под исторической политикой «политическую сферу», в ко¬
торой различные акторы извлекают из истории «политические
выгоды». С его точки зрения, историческая политика часто служит
политико-инструментальным способом обращения с историей
и историографией с целью повлиять на современные дебаты. Кроме
краткосрочного эффекта достижения сиюминутной политической
выгоды, историческая политика в перспективе способна оказывать
влияние на политическую культуру конкретного общества. «Кон¬
фликты внутри поля исторической политики могут рассматриваться
как утверждение и обновление специфических ценностных моде¬
лей, паттернов поведения и системы убеждений, которые — если
рассматривать их в долгосрочной перспективе — фреймируют и из¬
меняют политическую культуру», — пишет Вольфрум (Wolfrum 1999:
29). Миллер пишет о негативных последствиях исторической по¬
литики для профессиональных историков и для общества: «...раз¬
рушается пространство для диалога по проблемам истории, а с
ним... плодотворные способы общественного обсуждения прошлого
как общего достояния» (Миллер 2012: 20).
Публичная история
Джил Лиддингтон начинает свою статью, посвященную публич¬
ной истории, с характерного вопроса: «Что такое публичная исто¬
рия и что публичные историки делают?» (Liddington 2002:83). Этот
вопрос сразу подчеркивает двойственность рассматриваемого по¬
нятия: публичная история (public history) одновременно является
исследовательским полем, в котором изучаются репрезентации
прошлого, и прикладной деятельностью по их созданию. В первом
приближении этот термин создает границу между «академиче-
Глава 9. Использование прошлого
203
скими» историками, производящими знание в «башне из слоновой
кости», и «практиками» в самом широком значении этого слова:
начиная от режиссеров исторических сериалов, ведущих телепере¬
дач и заканчивая теми, кто работает с публикой в музеях и детьми
в школьных кружках. Иными словами, академические историки
работают в университетах, прикладные — где угодно за его преде¬
лами. В действительности вызовы современности принуждают все
больше профессиональных историков сегодня покидать тишину
кабинетов или шум университетских аудиторий ради экспертного
выступления на радио или записи онлайн-курса для какого-нибудь
интернет-портала вроде «Арзамаса» (https:/arzamas.academy).
Публичность сегодня поощряется университетским начальством,
поскольку влияет на репутацию отдельных ученых и институций,
в которых они работают. По большому счету все мы сегодня явля¬
емся публичными историками или вынуждены будем ими стать
в недалеком будущем.
Хотя о публичной истории говорят на протяжении последних
сорока лет, до сих пор не выработано ни однозначного определения,
ни ясного понимания, что подразумевается под этим термином.
Роберт Вейбл, историк и главный куратор Музея штата Нью-Йорк,
приводит знаменательный пример американского Национального
совета по публичной истории (National Council on Public History),
который после долгой внутренней дискуссии сумел сформулировать
следующее расплывчатое определение: «[Публичная история — это]
движение, методология и подход, которые способствуют совмест¬
ным историческим исследованиям и практикам; миссия практи¬
кующих их специалистов состоит в том, чтобы сделать выводы
академических исследователей доступными и полезными для пу¬
блики» (Weible 2008).
Существуют разные подходы к тому, что именно делают исто¬
рики, практикующие публичную историю: одни считают ее ис¬
ключительно исследовательским полем, другие видят свою миссию
в том, чтобы помочь людям создавать и понимать свою собствен¬
ную историю, третьи — сделать историю «полезной» частью со¬
циальной сферы. Наконец, есть те, кто полагает, что публичная
история способна влиять на публичную политику и даже способ¬
ствовать развитию гражданского общества.
204
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Становление публичной истории имело разные траектории
в разных странах. Ее рождение в США в конце 1970-х было вызвано
углублявшимся обособлением университетских историков, кото¬
рые постепенно превращались в замкнутую касту, способную
говорить только друг с другом. Это было движение за стены уни¬
верситета — в исторические парки и музеи, местные исторические
проекты, правительственные структуры и даже частный бизнес,
где молодые выпускники колледжей смогли найти себе работу и в
то же время создали условия для более широких публичных де¬
батов о прошлом. Первая конференция по public history прошла
в Фениксе (штат Аризона) в 1978 г. Ее результатом и стало созда¬
ние Национального совета по публичной истории, а также учреж¬
дение ежеквартального академического журнала “Public Historian”,
в котором публикуются статьи о публичной политике, федераль¬
ной, государственной и локальной истории, устной истории,
музееведении, образовании в области публичной истории. В пер¬
вом номере журнала его первый редактор Г. Уэсли Джонсон писал:
«...публичная история... предполагает, что исторические навыки
и методы сегодня нужны за пределами академии и для историков
желательно иметь связь с потребностями сообщества» (Johnson
1978). Стоит подчеркнуть, что и журнал и Национальный совет
были проспонсированы фондом Рокфеллеров, а в редакцию жур¬
нала вошли не только представители университетов, библиотек
и музеев, но также представители Государственного департамента
США, банковской компании «Уэллс Фарго» и Центра военной исто¬
рии армии США (Liddington 2002: 85). Этот факт впоследствии стал
причиной критики публичной истории со стороны научного со¬
общества.
Параллельно становление публичной истории происходило
в Австралии, а затем, под ее влиянием, в Великобритании. В первом
случае оно было тесно связано с осмыслением постколониального
прошлого, а во втором — с защитой культурного наследия. Инсти¬
туционализация этой дисциплины произошла в обеих странах
довольно поздно, в 1990-х гг. (Завадский и др. 2017).
В 1992 г. в Австралии был создан специализированный еже¬
годник “Public History Review”. Журнал посвящен «природе и фор¬
мам публичной истории», а в его задачи входит создание форума
Глава 9. Использование прошлого
205
для профессиональных историков, обсуждающих практики, пу¬
бличные репрезентации прошлого и саму публичную историю как
исследовательское поле. Его создатели прямо заявляют, что цель
журнала — «...более полно вовлечь академических историков во
взаимодействие с публикой и в публичную историческую работу
и попытаться артикулировать творческую взаимосвязь между те¬
орией и практикой». Важно отметить, что журнал, в отличие от
американского издания “Public Historian”, поддерживает режим
открытого доступа к своим публикациям, т. е. создает условия для
по-настоящему публичной дискуссии.
Процесс становления публичной истории в ФРГ, также при¬
шедшийся на 1970-е гг., был принципиально иным, поскольку
начался за пределами академии. Важную роль в нем сыграло Но¬
вое историческое движение (Neue Geschichtsbewegung), прово¬
дившее исторические семинары за пределами университетских
аудиторий. В неофициальном манифесте этого сообщества, тексте
«Копай, где стоишь» (“Grabe, wo du stehst”) шведского публициста
Свена Линдквиста, утверждалось, что каждый человек компетен¬
тен в собственной истории — как в истории места, где он родился,
вырос и прожил какую-то часть своей жизни, так и в истории
сферы, в которой он работает. На 1970-1980-е гг. пришелся рас¬
цвет локальной истории, включавшей изучение отдельных город¬
ских районов, деревень и предприятий, а также «истории снизу»,
работой над которой все больше начинали заниматься профес¬
сиональные историки. Как пишут авторы обзорной статьи «Пу¬
бличная история: между академическим исследованием и прак¬
тикой», «идеи и практики Нового исторического движения
показали, что академическая наука может работать совместно
с гражданским обществом, создавая историю не только для про¬
фессионалов» (Завадский и др. 2017). Этот процесс сопровождался
ростом общественного интереса к истории. Немаловажно, что он
открыл новый исторический рынок, на котором она все чаще
предлагалась как «услуга». Таким образом, публичная история
создала рабочие места вне университетов, музеев и школ для лю¬
дей с историческим образованием.
Первая бакалаврская программа по публичной истории была
открыта в 1976 г. в Университете Санта-Барбары по инициативе
206
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
историка Роберта Келли. По подсчетам американского Националь¬
ного совета по публичной истории, на начало 2018 г. в мире суще¬
ствовало около 300 институций, предлагавших образовательные
программы разного уровня по публичной истории (Guide to Public
History Programs 2018). Они стали ответом на постоянно увеличи¬
вавшийся спрос со стороны абитуриентов, поскольку их выпускники
легко находят себе работу в музеях, архивах, библиотеках, мемо¬
риальных комплексах, а также средствах массовой информации,
устраиваясь подчас лучше, чем выпускники классических истори¬
ческих факультетов.
В Россию публичная история пришла поздно, в начале 2010-х гг.,
первоначально в виде университетских программ, а не как ответ
на запрос со стороны общества. Авторы статьи о публичной исто¬
рии предполагают, что публичный диалог о прошлом сегодня в зна¬
чительной мере затруднен, в том числе из-за попыток выстраивания
единой исторической политики, предпринимаемых политическими
элитами (Завадский и др. 2017). Другую проблему публичной исто¬
рии в России специалист по этой сфере Егор Исаев видит в «кризисе
доверия» к профессиональному сообществу историков вследствие
положения, в котором находилась академическая история в со¬
ветский период. Он пишет: «... для современного исторического
сообщества в России актуальны не только проблема языка и от¬
сутствие диалога с публикой, но и кризис доверия со стороны обще¬
ства, что ставит под сомнение безоговорочную роль российского
историка как эксперта» (Исаев 2016: 11).
Перспективы развития публичной истории как направления
во многом остаются довольно туманными. Исследователь публич¬
ной истории Андрей Завадский и его коллеги утверждают, что успех
публичной истории в России возможен только в том случае, если
состоится диалог историков с заинтересованной частью общества.
«Опыт формирования public history в других странах демонстрирует
нам, что пути развития публичной истории могут пролегать самым
причудливым образом. Но в их основе — всегда именно диалог,
который исключает как попытку тотальной инструментализации
прошлого, так и профессиональный снобизм, и академическую
замкнутость», — пишут они (Завадский и др. 2017).
Глава 9. Использование прошлого
207
Прикладная история
Впервые понятие прикладной истории (Angewandte Geschichte)
было использовано в начале XX в. учителем дюссельдорфской гим¬
назии Генрихом Вольфом в названии серии учебников по курсу
«Введение в политическое мышление и волю». Вольф апеллировал
к старому принципу истории как учительницы жизни: она должна
была помогать извлекать уроки из прошлого. Поскольку Вольф был
активным членом сразу нескольких националистических органи¬
заций, его идеи были пронизаны националистической идеологией,
антисемитизмом и расизмом. В этом случае его едва ли можно
рассматривать как почетного «отца-основателя», к которому стоит
возводить генеалогию направления. В современной Германии по¬
нятие «прикладная история» конкурирует с заимствованным из
английского языка понятием публичной истории. Например, пер¬
вый немецкий профессор по прикладной истории Корд Арендес
в интервью немецкой газете “Die Zeit” заявил, что предпочитает
понятие public history официальному немецкому названию своей
позиции, поскольку термин Angewandte Geschichte в смысле при¬
меняемости истории к практической жизни кажется ему «громозд¬
ким» (Arendes 2014).
Вопросы о том, в какой мере прикладная история (applied history)
и публичная история (public history) пересекаются и чем первая
отличается от второй, остаются открытыми. В некоторых случаях
их рассматривают как синонимические понятия, в других говорят,
что прикладная история зародилась внутри публичной как одно
из ее направлений, где термин applied применялся к сфере public
policy и политических консультаций.
Раздаются голоса, предлагающие принципиально разграничить
эти две сферы исследований «для большей точности описания поля
отношений между историей, публичной сферой и их посредни¬
ками». Как пишут авторы статьи «Прикладная история, или пу¬
бличное измерение прошлого» (2012) Феликс и Якоб Аккерманны,
Анна Литтке, Жаклин Ниссер и Юлиане Томанн, хотя оба направ¬
ления схожи своей ориентированностью на практику, «...в отличие
от public history, которая в основном занимается изложением исто¬
рических тем в публичной сфере, в случае прикладной истории
208
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
следует обратить внимание на субъекты и возможности их сотруд¬
ничества» (Аккерманн и др. 2012).
Появление прикладной истории является вызовом для акаде¬
мических исследователей. Как любое новое направление, она по¬
рождает вопросы о том, так ли уж необходимо давать новое на¬
звание тому, что историки, по существу, делают давно в рамках
собственной профессии, поскольку история издавна эксплуатиро¬
валась с самыми разнообразными целями, далекими от академи¬
ческого поиска знания или образования. С другой стороны, должны
ли «прикладные» историки соблюдать те же этические нормы
и принципы, которые обязательны для их академических коллег?
Отвечая на эти вопросы, немецкий историк Давид Франц пишет:
«Задача исторической науки, независимо от того, служит ли она
лишь исполнителем работ для другого исследователя или для за¬
интересованной в истории и действующей (!) публики, состоит
в том, чтобы открывать исторические факты, размышлять над ними
и проверять их» (Franz 2015).
С его точки зрения, это означает следование трем важным прин¬
ципам. Во-первых, историки должны осознанно подходить к про¬
исходящим в обществе изменениям как на концептуальном, так
Глава 9. Использование прошлого
209
и на институциональном уровнях, выражающимся во все возрас¬
тающем спросе на историю. Во-вторых, основы и методы истори¬
ческой науки должны в равной мере относиться как к академиче¬
ским, так и к неакадемическим областям, таким как граждански
мотивированная кооперация или инициативы. В-третьих, история
должна оставаться предметом общественных переговоров, чтобы
не превратиться, если обстоятельства изменятся, в монопольный
товар. В этом смысле «демонополизация» истории должна быть
принята академическим сообществом как возможность, а не как
угроза (Franz 2015).
Полагаю, что эти наблюдения немецкого историка в полной
мере должны относиться не только к теоретикам и практикам при¬
кладной истории, но и к любой работе с прошлым, под каким бы
знаменем и в рамках какого бы исследовательского направления
она ни велась.
Задания и вопросы для обсуждения:
1. С помощью любой электронной полнотекстовой базы найдите десять
случайных статей, содержащих в заглавии понятие «политика памяти»
{memory politics). Прочитайте абстракты этих статей. Чему они посвящены?
Дают ли их авторы определение термина, вынесенного в заголовок?
Можно ли сравнить их между собой?
2. Прочитайте о «споре историков» в статье Ютты Шерер «Германия
и Франция: проработка прошлого». В рамках каких подходов к ис¬
пользованию прошлого этот спор можно исследовать? Будет ли вы¬
бор терминологии влиять на анализ? Возможен ли «спор историков»
в России?
3. Прочитайте статью Георгия Касьянова о мемориальных законах
в Украине. Выскажите свое мнение об этом феномене. Как они могут
влиять на историческую профессию? Нужны ли мемориальные законы
в России? Какие исторические проблемы могут стать объектом подобного
законодательства?
4. Сравните два понятия - «публичная история» и «прикладная история».
В чем их сходства и различия? Посетите сайты двух магистерских
программ - одну по публичной истории, другую по прикладной.
210
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Попробуйте понять, в каких сферах могут работать их выпускники,
есть ли сходства и различия в их подготовке?
5. Посетите сайт журнала “Public History Review” (https:/learning-analytics.
info/journals/index.php.phrj/index). Какой проблематике посвящены его
статьи? Какие регионы он охватывает? Есть ли у вас идея для статьи
в следующий номер?
6. Посетите сайт Национального совета по публичной истории (http://
ncph.org/program-guide/). Сколько образовательных программ по
публичной истории существует на момент, когда вы читаете этот учеб¬
ник? В каких преимущественно странах они открыты, какого уровня
образование дают?
Для чтения:
Касьянов Г. В. (2016). Историческая политика и «мемориальные» законы
в Украине: начало XXI в.// Историческая экспертиза. № 2. С. 28-57.
Шерер Ю.(2002). Германия и Франция: проработка прошлого//Истори¬
ческая политика в XXI веке. М.: Новое литературное обозрение. С. 473-505.
Библиография
Айерман Р. (2016). Культурная травма и коллективная память // Новое
литературное обозрение. № 5. URL: http://magazines.russ.ru/
nlo/2016/5/kulturnaya-travma-i-kollektivnaya-pamyat.html; дата
доступа 07.09.2018.
Аккерманн Ф., Аккерманн Я., Литтке А., Ниссер Ж.,Томанн Ю. (2012). При¬
кладная история, или Публичное измерение прошлого//Неприкосно¬
венный запас. № 3. URL: http://magazines.russ.rU/nz/2012/3/al9.html;
дата доступа 07.09.2018.
Александер Дж. (2012). Культурная травма и коллективная идентичность//
Социологический журнал. № 3. С. 5-40.
Альфен Э. ван (2016). «Оправдание» vs «Возвращение». Лекция в «Мемори¬
але». URL: http://urokiistorii.ru/article/53124; дата доступа 07.09.2018.
Андерсон Б. (2001). Воображаемые сообщества. Размышления об истоках
и распространении национализма. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле.
Ассман А. (2014). Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и исто¬
рическая политика. М.: Новое литературное обозрение.
Ассман А. (2016). Новое недовольство мемориальной культурой. М.: Новое
литературное обозрение.
Ассман Я. (2004). Культурная память. Письмо, память о прошлом и по¬
литическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки
славянской культуры.
Бойм С. (2013). Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. № 89. URL:
http://magazines.russ.rU/nz/2013/3/lls.html; дата доступа 07.09.2018.
Вельцер X. (2005). История, память и современность прошлого. Память
как арена политической борьбы // Неприкосновенный запас. № 2-3
(40-41). URL: http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/veL3.html; дата
доступа 07.09.2018.
Винок М. (1999). Жанна ДАрк // Франция - память. СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та. С. 225-295
Джадт Т. (2004). «Места памяти» Пьера Нора: чьи места? Чья память? //
Ab Imperio. № 1. С. 44-71.
Дюркгейм Э. (1995). Социология. Ее предмет, метод, предназначение / пер.
с фр., составление, послесловие и примечания А. Б. Гофмана. М.: Канон.
212
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Завадский А., Кравченко А., Склез В., Исаев Е., Суверина Е. (2017). Публичная
история: между академическим исследованием и практикой//Непри¬
косновенный запас. № 112. URL: http://magazines.russ.rU/nz/2017/2/
publichnaya-istoriya-mezhdu-akademicheskim-issledovaniem-i-prak.
html; дата доступа 07.09.2018.
Исаев Е. М. (2016). Публичная история в России: научный и учебный контекст
формирования нового междисциплинарного поля//Вестник Пермского
университета. Серия: История. № 2. С. 7-13.
Йейтс Ф. (1997). Искусство памяти. СПб.: Университетская книга.
Карут К. (2009).Травма, время, история //Травма: пункты: сб. статей /сост.
С.Ушакин, Е.Трубина. М.: Новое литературное обозрение. С. 561-581.
Касьянов Г. В. (2016). Историческая политика и «мемориальные» законы
в Украине: начало XXI в.// Историческая экспертиза. № 2. С. 28-57.
Колосов Н. Е. (2011). Память строгого режима. История и политика в России.
М.: Новое литературное обозрение.
Кормина Ж., Штырков С. (2005). Никто не забыт, ничто не забыто. История
оккупации в устных свидетельствах// Неприкосновенный запас. № 2-3
(40-41). URL: http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/korml5.html; дата
доступа 07.09.2018.
Ле Гофф Ж. (2013). История и память. М.: РОССПЭН.
Лотман Ю. М. (1992). Память в культурологическом освещении //Лот¬
ман Ю. М. Избранные статьи: В Зт.Т. 1.Таллин: Александра. С. 200-202.
Лоуэнталь Д. (2004). Прошлое - чужая страна. СПб.: Владимир Даль.
Маклюэн Г. М. (2003). Понимание медиа: внешние расширения человека.
М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле.
Малинова 0. (2017). Коммеморация исторических событий как инструмент
символической политики: возможности сравнительного анализа //
Полития. № 4. С. 6-22.
Миллер А. (2009). Россия: власть и история // Pro et contra. Т. 13. № 3-4.
С. 6-23.
Миллер А. (2012). Введение. Историческая политика в Восточной Европе
начала XXI века // Историческая политика в XXI веке: сб. статей / под
ред. А. Миллера, М. Липман. М.: Новое литературное обозрение. С. 7-32.
Мороз 0., Суверина Е. (2014).Trauma studies: История, репрезентация, сви¬
детель// Новое литературное обозрение. № 125. URL: http://magazines.
russ.ru/nlo/2014/125/8m.html; дата доступа 07.09.2018.
Ницше Ф. (1990). О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Со¬
чинения: В 2 т. Т. 1. М.: Мысль. С. 158-230.
Библиография
213
Нора П. (1999а). Между памятью и историей. Проблематика мест памяти //
Франция - память. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 17-65.
Нора П. (19996). Как писать историю Франции // Франция - память. СПб.:
Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 66-94.
Нора П. (2005). Всемирное торжество памяти // Неприкосновенный запас.
№ 2-3. URL: http://magazines.russ.rU/nz/2005/2/nora22.html; дата
доступа 07.09.2018.
Озуф М. (1999). Пантеон. Эколь Нормаль мертвых // Франция - память.
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. С. 151-185.
Портелли А. (2005). Массовая казнь в Ардеатинских пещерах: история, миф,
ритуал,символ//Неприкосновенный запас. № 2-3 (40-41). URL: http;//
magazines.russ.ru/nz/2005/2/po27.html; дата доступа 07.09.2018.
Ренан Э. (1902). Что такое нация? // Ренан Э. Собрание сочинений: В 12т./
перев.с фр.под ред. В. Н. Михайловского.! 6. Киев: Б. К. Фукс. С. 87-103.
Рикёр П. (2004). Память, история, забвение. М.: Издательство гуманитарной
литературы.
Савельева И. М., Полетаев А. В. (2005). «Историческая память»: к вопросу
о границах понятия // Феномен прошлого / ред. И. М. Савельева,
А. В. Полетаев. М.: Изд-во ГУ ВШЭ. С. 170-220.
Тревор-Ропер X. (2015). Изобретение традиции: традиция горцев Шотлан¬
дии // Неприкосновенный запас. № 6. URL: https://www.nlobooks.ru/
magazines/neprikosnovennyy_zapas/104_nz_6_2015/article/11749/; дата
доступа 07.09.2018.
Уайт X. (2002). Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века.
Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та.
Ушакин С. (2009). «Нам этой болью дышать»? О травме, памяти и со¬
обществах // Травма: пункты: сб. статей / сост. С. Ушакин, Е. Трубина.
М.: Новое литературное обозрение. С. 5-40.
Фрейд 3. (1993). Человек по имени Моисей и монотеистическая религия /
пер. с нем. и примеч. Р. Ф. Додельцева. М.: Наука.
Хальбвакс М. (2005). Коллективная и историческая память// Непри¬
косновенный запас. № 2-3 (40-41). URL: http://magazines.russ.ru/
nz/2005/2/ha2.html; дата доступа 07.09.2018.
Хальбвакс М. (2007). Социальные рамки памяти. М.: Новое издательство.
Хаттон П. X. (2003). История как искусство памяти. СПб.: Наука.
Хобсбаум Э. (2000). Изобретение традиций // Вестник Евразии. № 1. С. 47-62.
Чикало А. (2016). От социальной амнезии к социальной памяти: по¬
вторное открытие историко-археологического наследия рабства
214
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
в Рио-де-Жанейро // Новое литературное обозрение. № 6. URL: http://
magazines.russ.ru/nlo/2016/6/ot-socialnoj-amnezii-k-socialnoj-
pamyati-povtornoe-otkrytie-ist.html; дата доступа 07.09.2018.
Шенк Б. (2007). Александр Невский в русской культурной памяти: святой,
правитель, национальный герой (1263-2000). М.: Новое литературное
обозрение.
Шерер Ю. (2002). Германия и Франция: проработка прошлого // Исто¬
рическая политика в XXI веке. М.: Новое литературное обозрение.
С. 473-505.
Штомпка П. (2001). Социальное изменение как травма//Социологические
исследования. № 1. С. 6-16.
Эткинд А. (2016). Кривое горе. Память о непогребенных. М.: Новое лите¬
ратурное обозрение.
Alexander J. С. (2004). Toward a Theory of Cultural Trauma // Alexander Jef¬
frey C. et al. Cultural Trauma and Collective Identity. Oakland: University
of California Press.
Arendes C. (2014). Wir wollen kein “totes” Wissen produzieren // Die Zeit.
Januar, 16. URL: www.zeit.de/2014/04/universitaet-professur-angewandte-
geschichte; дата доступа 07.09.2018.
Armstrong E.A.,Crage S. (2006). Movements and Memory: The Making of the
Stonewall Myth//American Sociological Review. Vol. 71. No. 5. P.724-751.
Assmann A. (1999). Erinnerungsraume: Formen und Wandlungen des kultu-
rellen Gedachtnisse. Miinchen: Beck.
Assmann J. (2010). Communicative and Cultural Memory// Cultural Memory
Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll,
A. Nunning. Berlin; New York: De Gruyter. P. 109-119.
Basu L. (2012). Ned Kelly as Memory Dispositif: Media,Time, Power, and the
Development of Australian Identities. Berlin; New York: De Gruyter.
Berliner D. C. (2005). The Abuses of Memory: Reflections on the Memory Boom
in Anthropology//Anthropological Quarterly. Vol. 78. No. 1. P. 197-211.
Bernhard M.,KubikJ. (2014).ATheory of the Politics of Memory//Twenty Years
after Communism: The Politics of Memory and Commemoration / ed. by
M. Bernhard, J. Kubik. Oxford: Oxford University Press.
Bloch M. (1925). Memoire collective, tradition et coutume: a propos d’un livre
recent//Revue de Synthese Historique. Vol. 40. P. 73-83.
Bodnar J. (1992). Remaking America: Public Memory, Commemoration, and
Patriotism in the Twentieth Century. Princeton: Princeton University Press.
Библиография
215
Boer R, den (2010). Loci memoriae - Lieux de memoire // Cultural Memory
Studies: An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll,
A. Niinning. Berlin; New York: De Gruyter. P. 19-26.
Burke P. (1986). Review//The English Historical Review. Vol. 101. No. 398.
P. 316-317.
Caruth C. (2010). Unclaimed Experience: Trauma, Narrative and History. Bal¬
timore: Johns Hopkins University Press.
Carruthers M. (2008). The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval
Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
Confino A. (1997). Collective Memory and Cultural History: Problems of
Method //The American Historical Review. Vol. 102. No. 5. P. 1386-1403.
Connerton P. (1989). How Societies Remember. Cambridge: Cambridge Uni¬
versity Press.
Connerton P. (2011). The Spirit of Mourning: History, Memory and the Body.
Cambridge: Cambridge University Press.
Coser L. A. (1992). The Revival of the Sociology of Culture: The Case of Col¬
lective Memory //Sociological Forum. Vol. 7. No. 2. P. 365-373.
Davis F. (1979). Yearning for Yesterday: A Sociology of Nostalgia. New York:
The Free Press.
De Groot J. (2009). Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture.
New York: Routledge.
Delich F. (2004). The Social Construction of Memory and Forgetting // Dio¬
genes. Vol. 51. No. 1. P. 65-75.
Dijck J., van (2007). Mediated memories in the digital age. Stanford, CA: Stan¬
ford University Press.
Douglas M. (1980). Introduction: Maurice Halbwachs. 1877-1945 // Halb-
wachs M. The Collective Memory. New York: Harper and Row. P.1-50.
Drag W. (2014). Revisiting Loss: Memory, Traumas, Nostalgia in the Novel of
Kazuo Ishiguro. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Eriksen T. H. (2004). Traditionalism and Neoliberalism: The Norwegian Folk
Dress in the 21st Century// Properties of Culture - Culture as Property.
Pathways to Reform in Post-Soviet Siberia / ed. by E. Kasten. Berlin: Die¬
trich Reimer Verlag.
Erll A. (2009). Remembering across Time, Space, and Cultures: Premediation,
Remediation and the “Indian Mutiny”// Mediation, Remediation, and the
Dynamics of Cultural Memory. Berlin; New York: De Gruyter. P 109-138.
Erll A. (2010). Literature, Film, and the Mediality of Cultural Memory // Cultural
Memory Studies: An International and Interdisciplinary Handbook/ed. by
A. Erll, A. Niinning. Berlin; New York: De Gruyter. P 389-399.
216
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Erll А. (2011).Travelling Memory// Parallax.Vol. 17. No.4. P.4-18.
Erll A., Rigney A. (2009). Introduction: Cultural memory and its Dynamics //
Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory. Berlin;
New York: De Gruyter.
Feindt G., Krawatzek F., Mehler D., Pestel F.,Trimcev R. (2014). Entangled
Memory: Toward a Third Wave in Memory Studies // History and Theory.
Vol. 53. No. 1. P. 24-44.
Felman S., Laub D. (1992). Testimony: Crises of Witnessing in Literature,
Psychoanalysis and History. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Fleischhauer J. (2012). We Have Become the NewVillain//Der Spiegel. Februar,
27. URL: http://www.spiegel.de/international/europe/opinion-we-have-
become-the-new-villain-a-817887-druck.html; дата доступа 07.09.2018.
Fogu C., Kansteiner W. (2006). The Politics of Memory and the Poetics of
History//The Politics of Memory in Postwar Europe / ed. by R.-N. Lebow,
W. Kansteiner, C. Fogu. Durham, NC: Duke University Press. P. 284-310.
Franz D. (2015). Angewandte Geschichte und Public History: Chancen und
Herausforderungen fur die Geschichtswissenschaft// Erinnerungskul-
turen.Juli, 26. URL: https://erinnerung.hypotheses.org/371; дата доступа
07.09.2018.
Fritzsche P. (2002). How Nostalgia Narrates Modernity//The Work of Memory:
New Directions in the Study of German Society and Culture / ed. by
A. Confino, P. Fritzsche. Urbana: University of Illinois Press. P. 62-86.
Garde-Hansen J. (2011). Media and Memory. Edinburgh: Edinburgh University
Press.
Gedi N., Elam Y. (1996). Collective Memory - What Is It? // History and Memory.
Vol. 8. No. 2. P.30-50.
Gensburger S. (2016). Halbwachs’ Studies in Collective Memory: A Founding
Text for Contemporary “Memory Studies”? //Journal of Classical Sociology.
Vol. 16. No. 4. P.396-413.
Guide to Public History Programs (2018). Guide to Public History Programs.
National Council on Public History. URL: http://ncph.org/program-guide/;
дата доступа 07.09.2018.
Harth D. (2010).The Invention of Cultural Memory//Cultural Memory Studies:
An International and Interdisciplinary Handbook/ ed. by A. Erll, A. Nunning.
Berlin; New York: De Gruyter. P. 85-97.
Heer J. (2015). Benedict Anderson, Man Without a Country. URL: https://ne-
wrepublic.com/article/125706/benedict-anderson-man-without-country;
дата доступа 07.09.2018.
Библиография
217
Hirsch Н. (1995). Genocide and the Politics of Memory: Studying Death to
Preserve Life. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Hirsch M. (1992). Family Pictures: Maus, Mourning, and Post-Memory // Dis¬
course. Vol. 15. No. 2. P. 3-29.
Hirsch M. (1997). Family Frames: Photography, Narrative and Postmemory.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hirsch M. (2008).The Generation of Postmemory// Poetics Today.Vol. 29.
No. 1 P.103-128.
Hoggart R. (1957). The Uses of Literacy: Changing Patterns in English Mass
Culture. Fair Lawn, NJ: Essential Books.
Hoggart R. (2004). Mass Media and Mass Society: Myths and Realities. London:
Continuum.
Hoskins A. (2004). Television and the Collapse of Memory//Time and Society.
Vol. 13. No. 1. P.109-127.
Hoskins A. (2011). Media, Memory, Metaphor: Remembering and the Connective
Turn // Parallax. Vol. 17. No. 4. P. 19-31.
Hoskins A., Bamier A., Kansteiner W., Sutton J. (2008). Editorial // Memory
Studies. Vol. 1. P.5-7.
Hutton P. (2013). Preface: Reconsideration of the Idea of Nostalgia in Con¬
temporary Historical Writing // Historical Reflections. Vol. 39. No. 3. P. 1-9.
Huyssen A. (2003). Present Pasts: Urban Palimpsests and the Politics of Memory.
Redwood City, CA: Stanford University Press.
Isnenghi M. (2010). Italian luoghi della memorial!Cultural Memory Studies: An
International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll, A. Niinning.
Berlin; New York: De Gruyter. P. 27-36.
Jansen J. (2010). Politics of Remembrance, Colonialism and the Algerian War of
Independence in France //A European Memory? Contested Histories and
Politics of Remembrance / ed. by M. Pakier, B. Strath. New York; Oxford:
Berghahn Books. P. 275-293.
Johnson G. W. (1978). Editor’s Preface //The Public Historian. Vol. 1. No. 1.
P.4-10.
Kammen M. (1992). Meadows of Memory: Images of Time and Tradition in
American Art and Culture. Austin: University of Texas Press.
Kansteiner W. (2002). Finding Meaning in Memory: A Methodological Critique of
Collective Memory Studies // History and Theory. Vol. 41. No. 2. P. 179-197.
Kansteiner W.f Weilnboeck H. (2010). Against the Concept of Cultural Trauma
(or How I Learned to Love the Suffering of Others without the Help
of Psychotherapy) // Cultural Memory Studies: An International and
218
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Berlin; New York:
De Gruyter. P. 229-241.
Kirk A. (2005). Social and Cultural Memory // Memory, Tradition, and Text.
Uses of the Past in Early Christianity / ed. by A. Kirk, T. Tatcher. Atlanta,
GA: Society of Biblical Literature. P. 1-14.
Kitch C. (2005). Pages from the Past: History and Memory in American Maga¬
zines. Chapel Hill, NC: The University of North Carolina Press.
Klein K. L. (2000). On the Emergence of Memory in Historical Discourse // Rep¬
resentations. No. 69. Special Issue: Grounds for Remembering. P. 127-150.
Kuhn A. (1995). Family Secrets: Acts of Memory and Imagination. London: Verso.
Landsberg A. (2004). Prosthetic Memory: The Transformation of American
Remembrance in the Age of Mass Culture Considers. New York: Columbia
University Press.
Lebow R. N. (2006).The Memory of Politics in Postwar Europe //The Politics
of Memory in Postwar Europe / ed. by R. N. Lebow, W. Kansteiner, C. Fogu.
Durham, NC: Duke University Press. P. 1-39.
Liddington J. (2002). What Is Public History? Publics and Their Pasts, Meanings
and Practices //Oral History.Vol. 30. No. 1. P. 83-93.
Livingstone S. (1997). Clarifying the CNN Effect: An Examination of Media
Effects According to Type of Military Intervention // Research Paper R-17.
Cambridge, MA: Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public
Policy, Harvard University. URL: http://genocidewatch.info/images/1997C
larifyingtheCNNEffect-Livingston.pdf; дата доступа 07.09.2018.
Lowenthal D. (1985). The Past is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge
University Press.
Meyer E. (2010). Memory and Politics // Cultural Memory Studies: An
International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning.
Berlin; New York: De Gruyter. P 173-181.
Miller T (2007). Cultural Citizenship: Cosmopolitanism, Consumerism and
Television in a Neoliberal Age. Philadelphia: Temple University Press.
Neal A. (1998). National Trauma and Collective Memory: Major Events in the
American Century. London; New York: Routledge.
Olick J. K. (1999). Collective Memory: The Two Cultures // Sociological Theory.
Vol. 17. No. 3.P.333-348.
Olick J. K. (2008). “Collective memory”: A Memoir and Prospect // Memory
Studies. Vol. 1. No. 1. P 23-29.
Olick J. K. (2009). Between Chaos and Diversity: Is Social Memory Studies a
Field? // International Journal of Politics, Culture and Society. Vol. 22.
P.249-252.
Библиография
219
Olick J. К., Robbins J. (1998). Social Memory Studies: From “Collective Memory”
to the Historical Sociology of Mnemonic //Annual Review of Sociology.
Vol. 24. P.105-140.
Olick J., Sier A., Wuestenberg J. (2017). The Memory Studies Association:
Ambitions and an Invitation // Memory Studies.Vol. 10. No.4. P.490-494.
On Media Memory (2011). On Media Memory// Collective Memory in a New
Media Age / ed. by M. Neiger, 0. Meyers, E. Zandberg. London: Palgrave
Macmillan.
Pakier M., Strath B. (2010). A European Memory? Contested Histories and
Politics of Remembrance / ed. by M. Pakier, B. Strath. New York; Oxford:
Berghahn Books.
Postman N. (1986). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age
of Show Business. London: Penguin.
Radstone S. (2007). Trauma Theory: Contexts, Politics, Ethics // Paragraph.
Vol. 30, No. 1. P 9-29.
Radstone S. (2008). Memory Studies: For and Against// Memory Studies.Vol. 1.
No 1. P.31-39.
Roediger H. L., Wertsch J. V. (2008). Creating a New Discipline of Memory
Studies // Memory Studies. Vol. 1. No. 1. P. 9-22.
Schwartz B. (1990). The Reconstruction of Abraham Lincoln // Collective
Remembering. London: Sage.
Schwartz B.(1996). Introduction: the Expanding Past//Qualitative Sociology.
Vol.9. No. 3. P.275-282.
Starobinski J. (1966). The Idea of Nostalgia // Diogenes. Vol. 14. No. 54.
P.81-103.
Sturken M. (1997). Tangled Memories: The Vietnam War, the AIDS Epidemic,
and the Politics of Remembering. Berkeley: University of California Press.
Thompson P. (1988). The Voice of the Past. Oxford: Oxford University Press.
To H. (2001). Remembered Realms: Pierre Nora and French National Memory//
The American Historical Review. Vol. 106. No. 3. P. 906-922.
Trevor-Roper H. (2000). The Invention of Tradition: The Highland Tradition of
Scotland //The Invention of Tradition / ed. by E. Hobsbawm.T. Ranger.
Cambridge: Cambridge University Press. P. 15-42.
Trevor-Roper H. (2008). The Invention of Scotland: Myth and History. New
Haven; London: Yale University Press.
Tulving E. (2007). Are There 256 Different Kinds of Memory? //The Founda¬
tions of Remembering: Esseys in Honor of Henry L. Roedinger, III / ed. by
J. S. Nairne. New York: Psychology Press. P. 39-52.
220
Сафронова Ю. А. Историческая память: Введение
Verov§ek R J. (2016). Collective Memory, Politics, and the Influence of the Past:
the Politics of Memory as a Research Paradigm // Politics, Groups, and
Identities. Vol. 4. No. 3. P. 1-15.
Wachtel N. (1986). Memory and History // History and Anthropology. Vol. 2.
No. 2. P.207-224.
Weible R. (2008). Defining Public History: Is It Possible? Is It Necessary? //
Perspectives on History. March. URL: https://goo.gl/jXvnbo; дата доступа
07.09.2018.
Wertheim D. (2009). Remediation as a Moral Obligation: Authenticity, Memory,
and Morality in Representations of Anne Frank// Mediation, Remediation,
and the Dynamics of Cultural Memory/ed. by A. Erll, A. Rigney. New York:
De Gruyter. P.157-172.
Wertsch J. (2008). Blank Spots in Collective Memory: A Case Study of Russia //
The Annals of the American Academy of Political and Social Science.
Vol. 617. P.58-71.
Winter J. (1998). Sites of Memory, Sites of Mourning: The Great War in European
Cultural History. Cambridge: Cambridge University Press.
Wolfrum E. (1999). Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Der
Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Zelizer B. (1992). Covering the Body: The Kennedy Assassination, the Media, and
the Shaping of Collective Memory. Chicago: University of Chicago Press.
Zelizer B. (1995). Reading the Past Against the Grain: The Shape of Memory
Studies // Critical Studies in Mass Communication. Vol. 12. No. 2.
P.215-239.
ZerubavelY. (1986).The Recovery of Masada: A Study in Collective Memory//
The Sociological Quarterly. Vol. 27. No. 2. P. 147-164.
Zierold M. (2010). Memory and Media Cultures // Cultural Memory Studies:
An International and Interdisciplinary Handbook / ed. by A. Erll, A. Niinning.
Berlin; New York: De Gruyter. P. 399-409.
Учебное издание
Сафронова Юлия Александровна
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ВВЕДЕНИЕ
Учебное пособие
Редактор, корректор Е. А. Богач
Верстка М. Ю. Виноградова
Дизайн обложки А. Ю. Ходот
Художники Р. И. Казаков, Е. С. Михайлова-Смольнякова
Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург, Гагаринская ул., 6/1А
Тел. +7 (812) 386 76 27
Факс +7 (812) 386 76 39
E-mail: books@eu.spb.ru
Сайт и интернет-магазин издательства:
www.eupress.ru
Подписано в печать 27.11.2018.
Формат 60х 88 »/16.
Уел. печ. л. 13,68.
Тираж 800 экз.
Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом
в типографии издательско-полиграфической фирмы «Реноме»
192007, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: book@renomespb.ru
www.renomespb.ru
Заказ № 286.