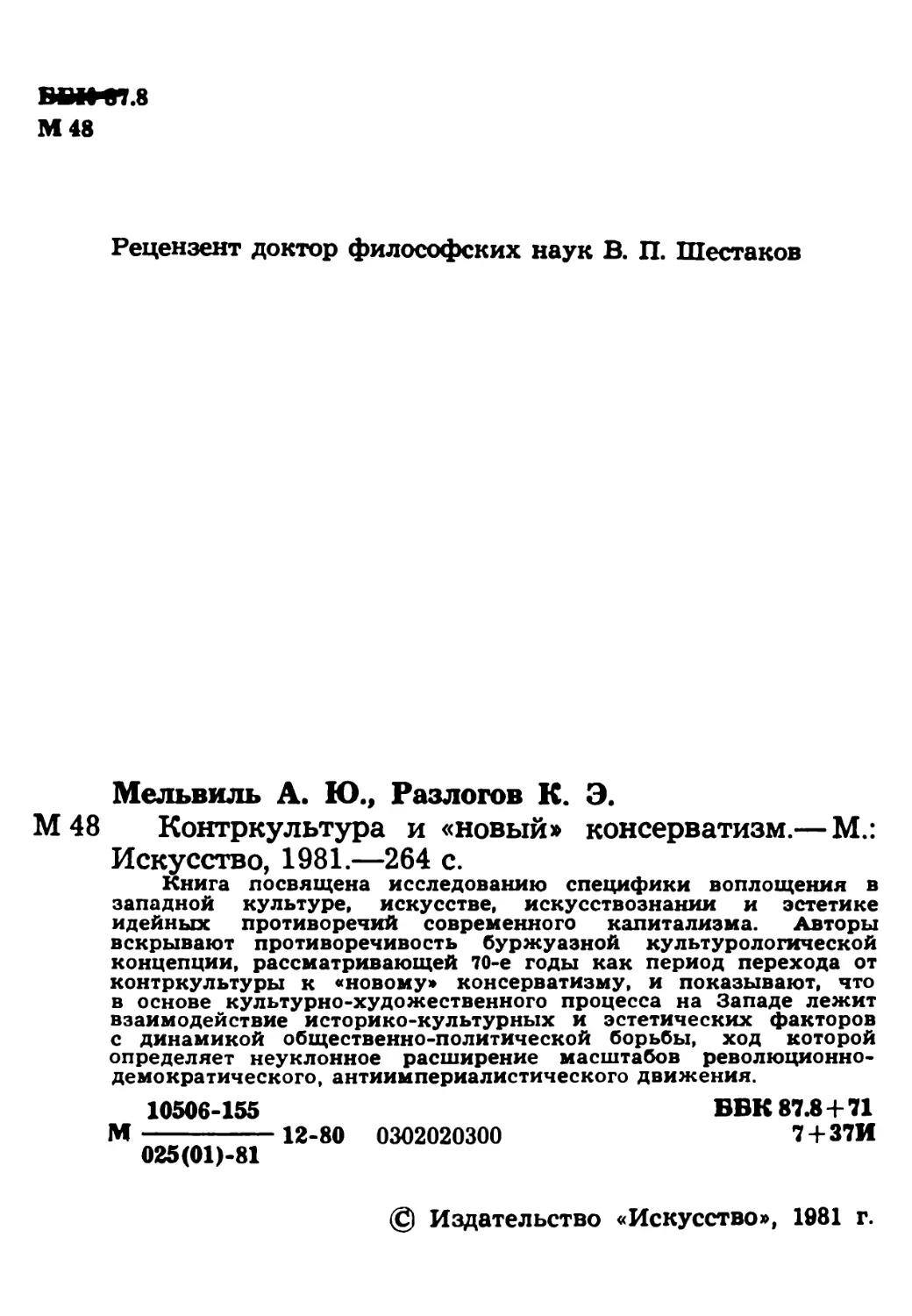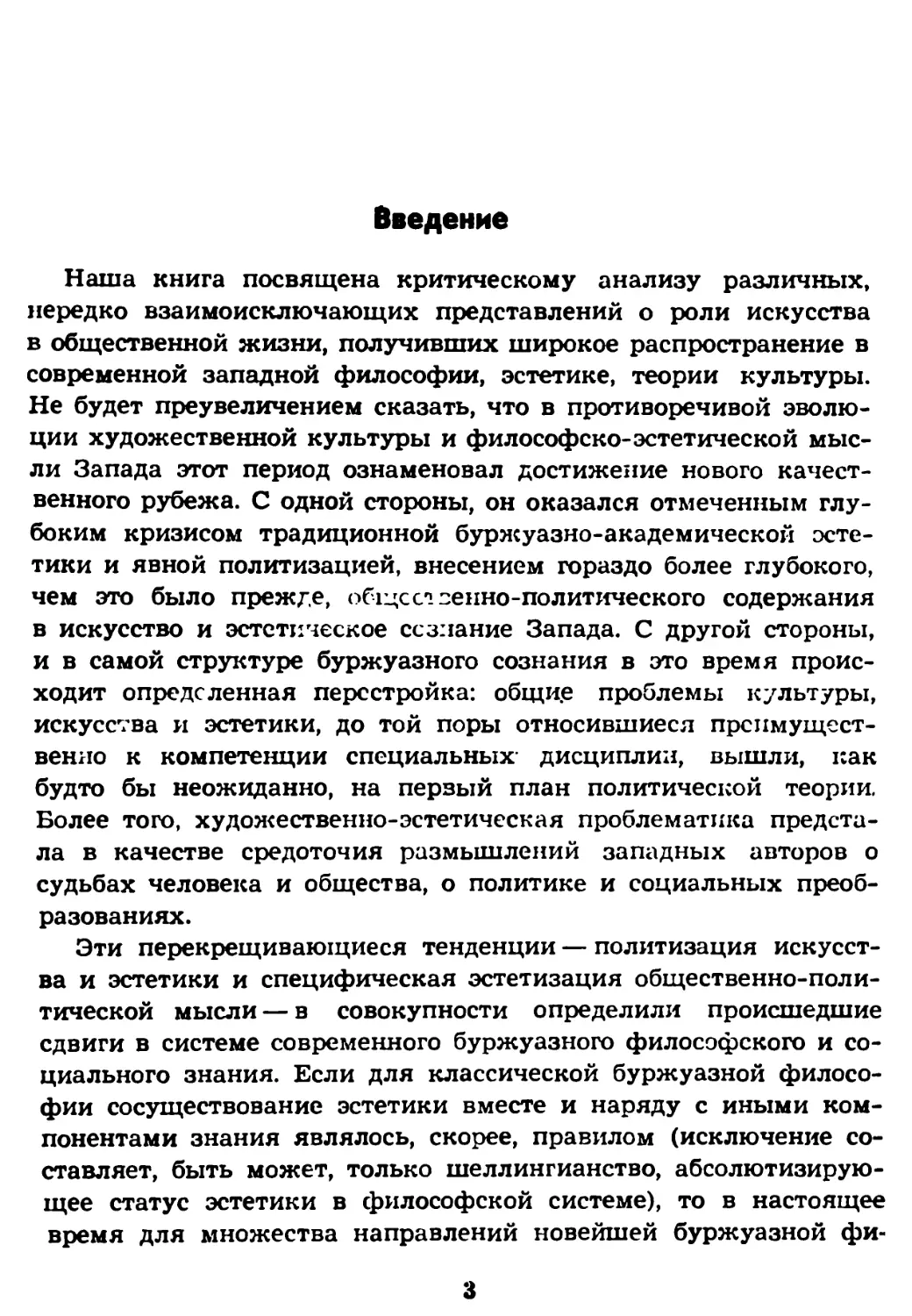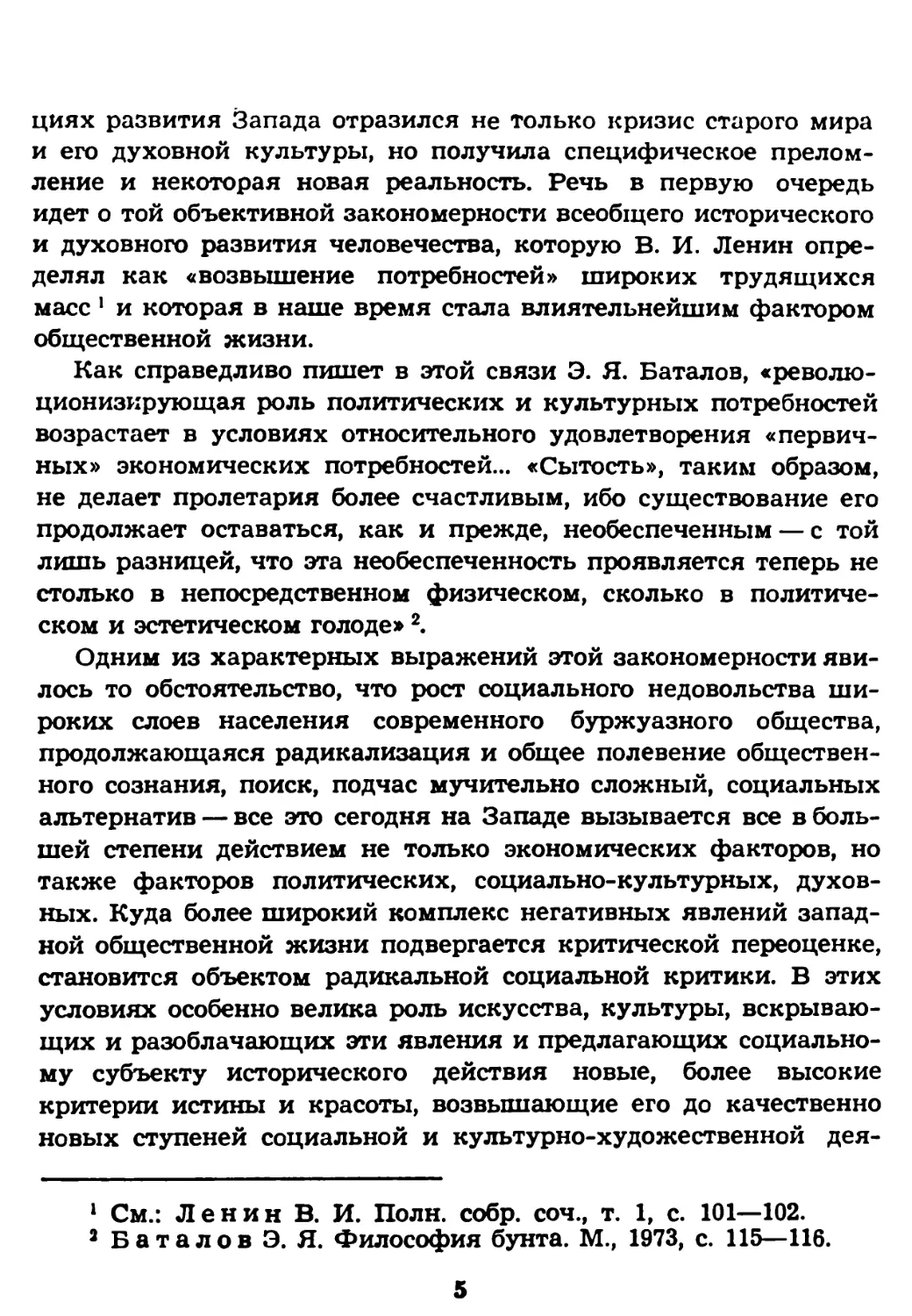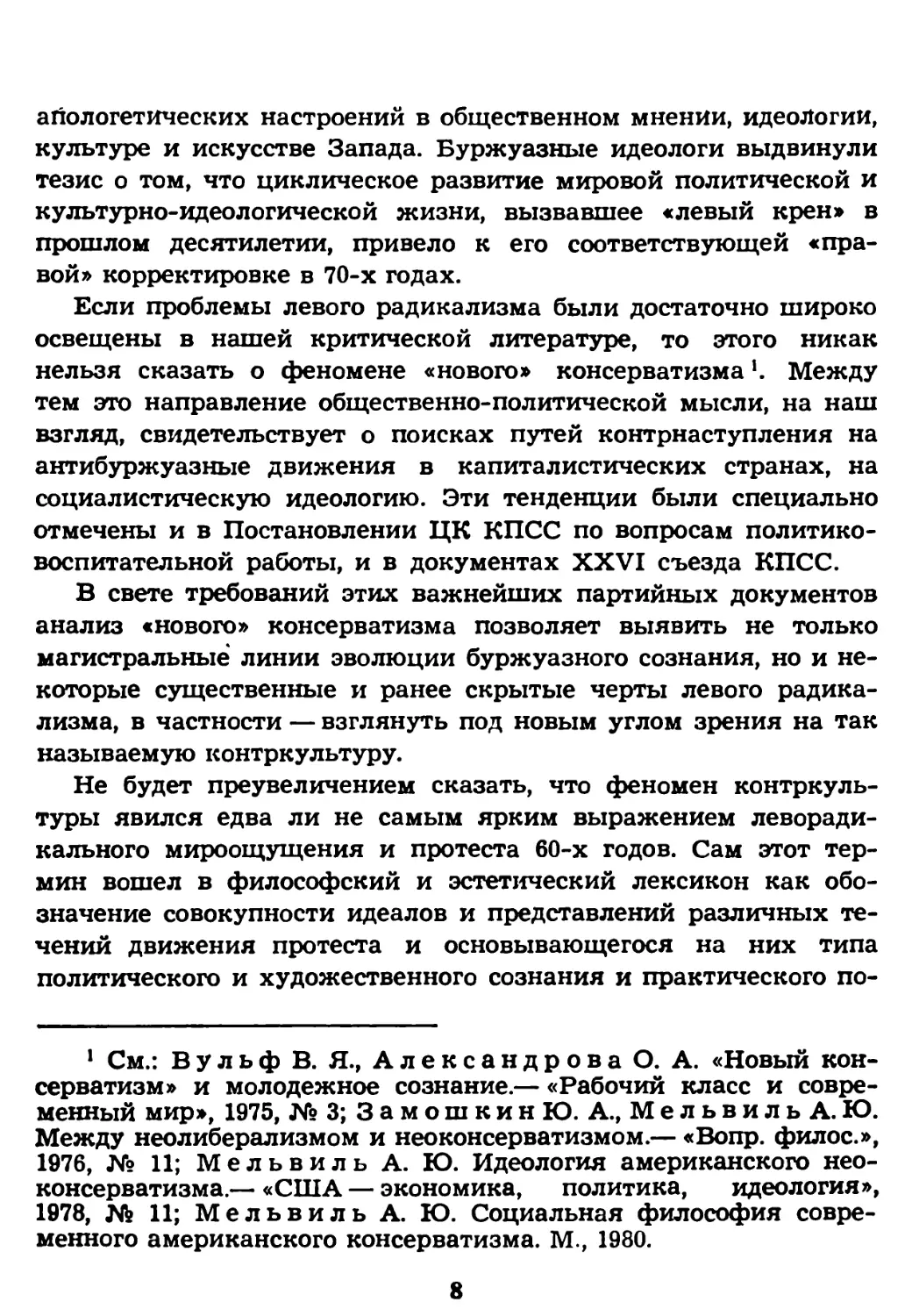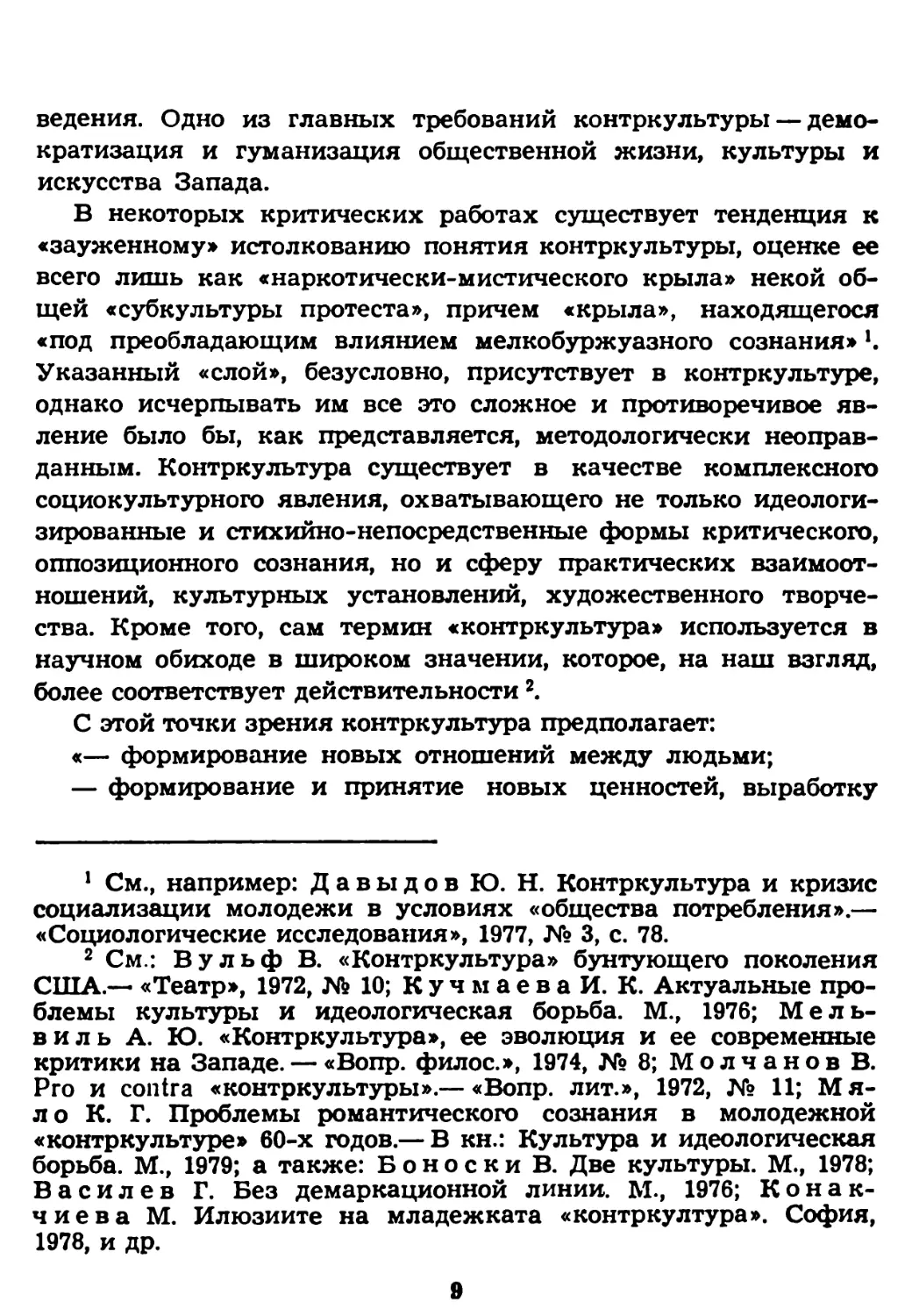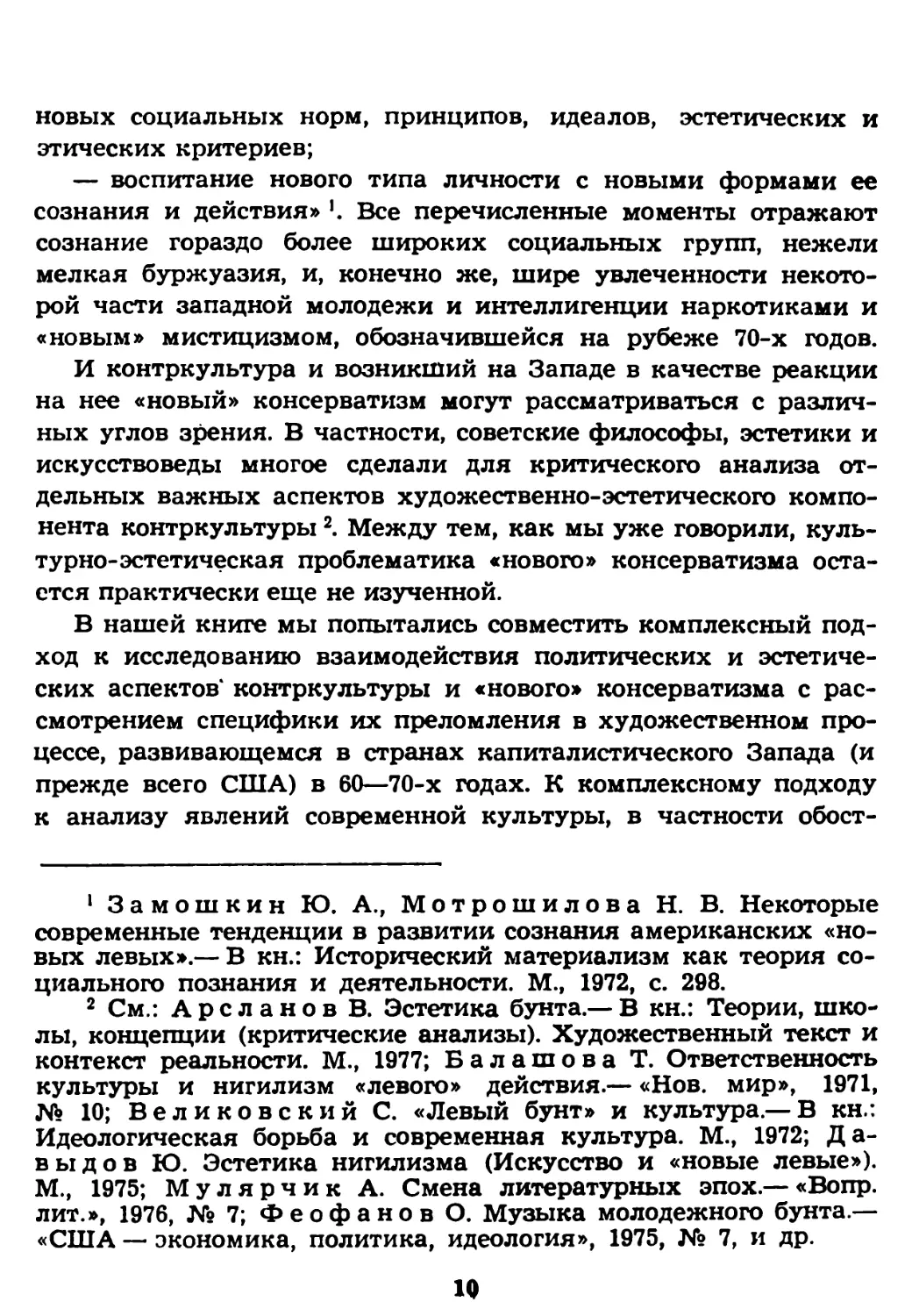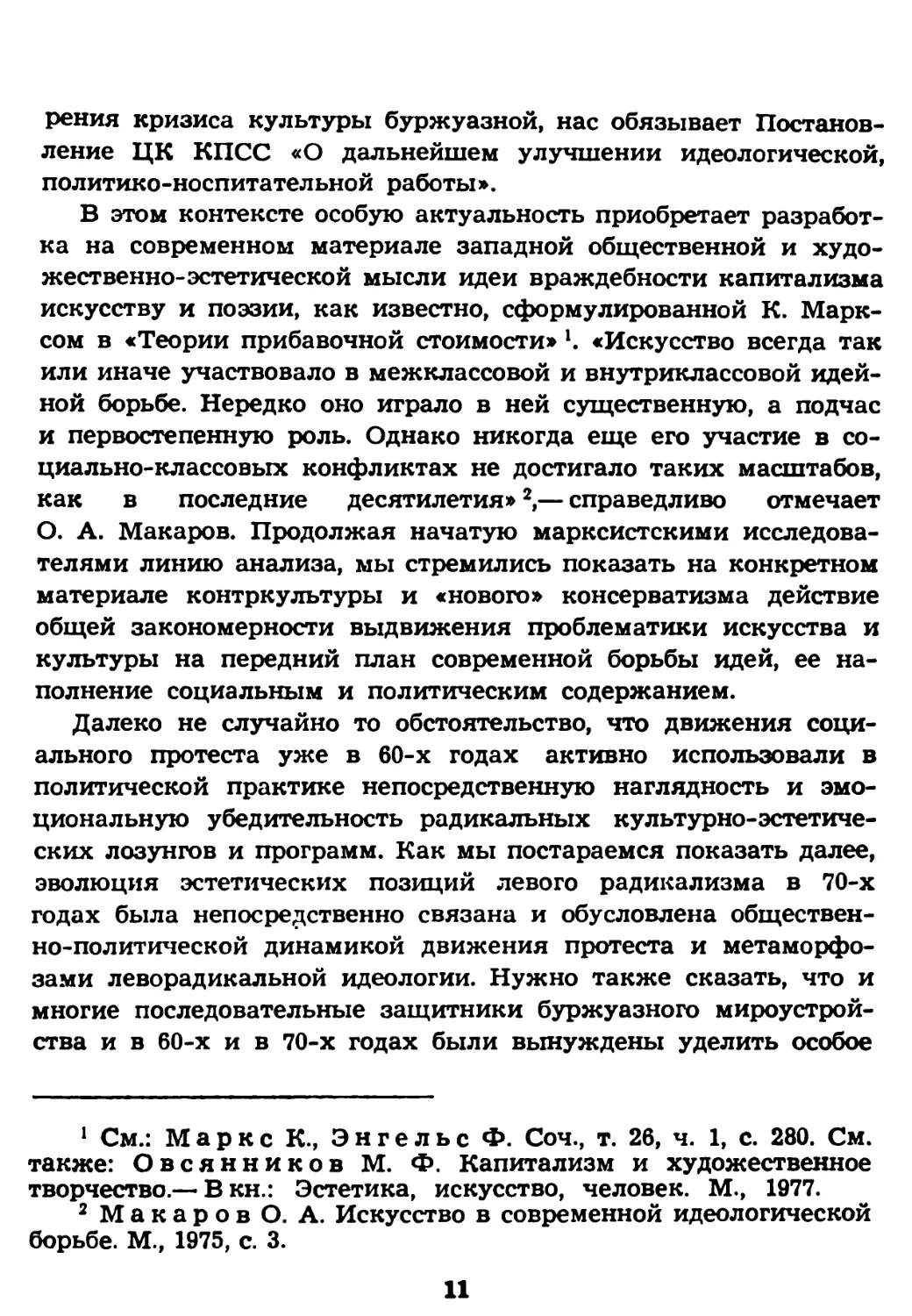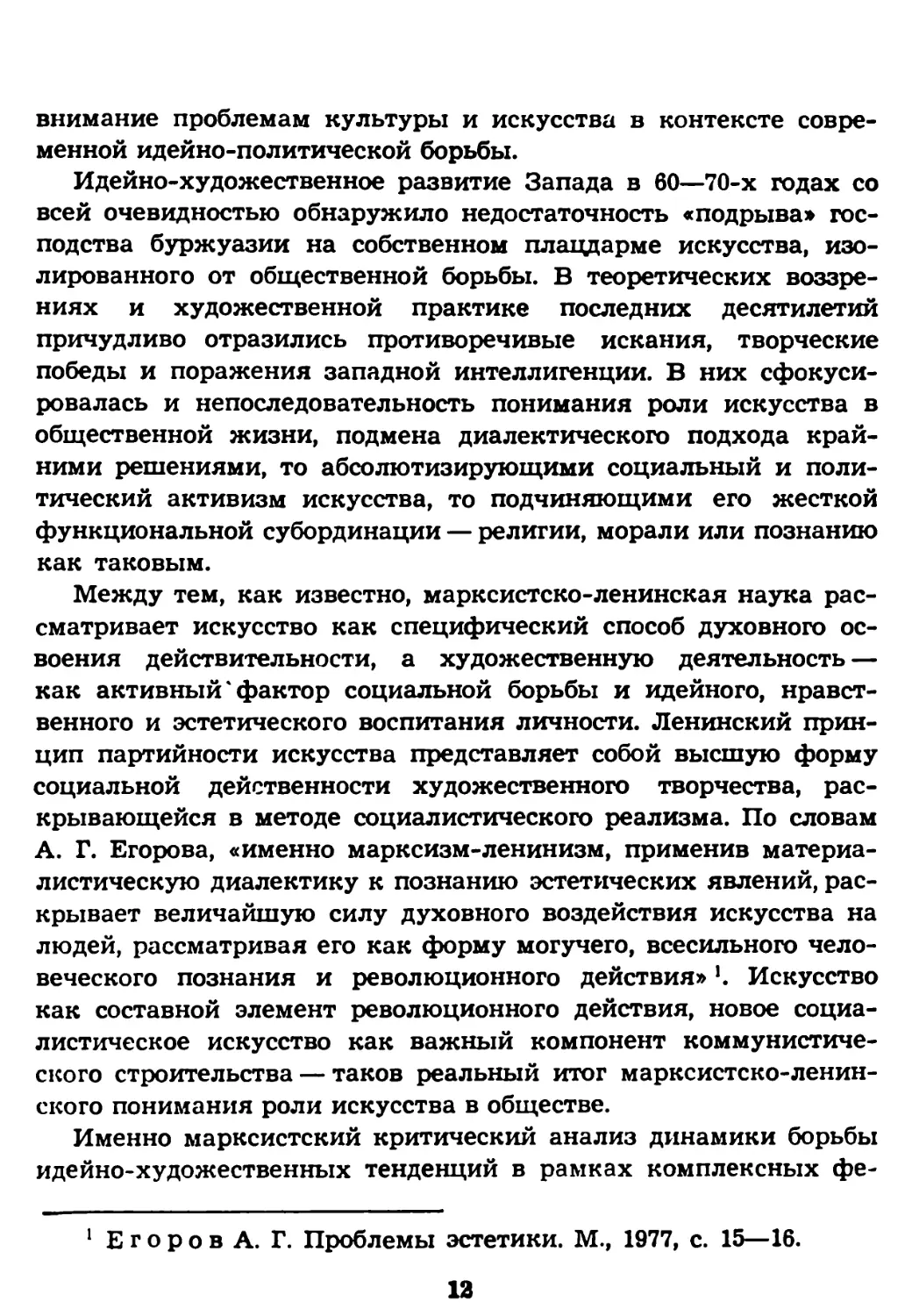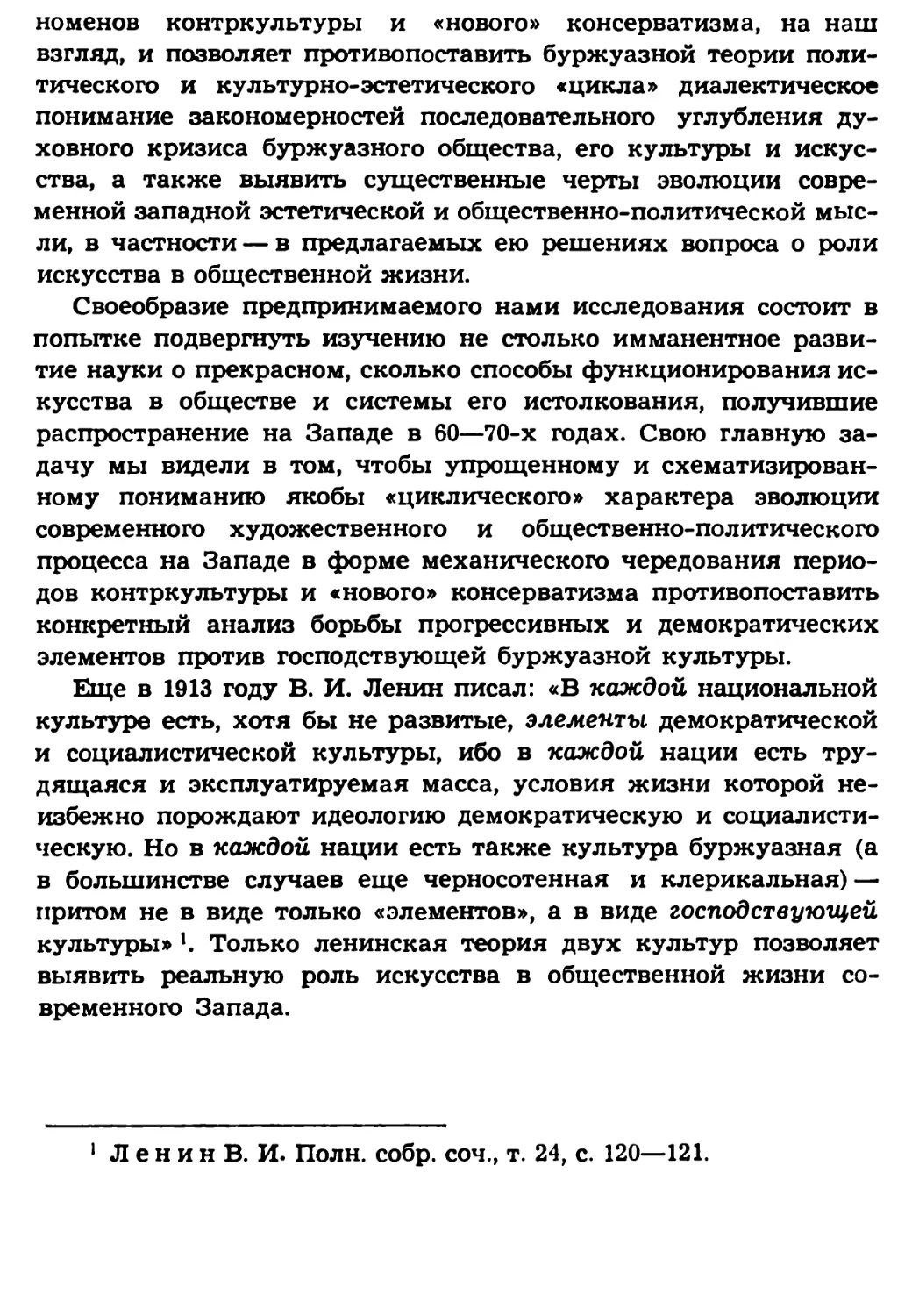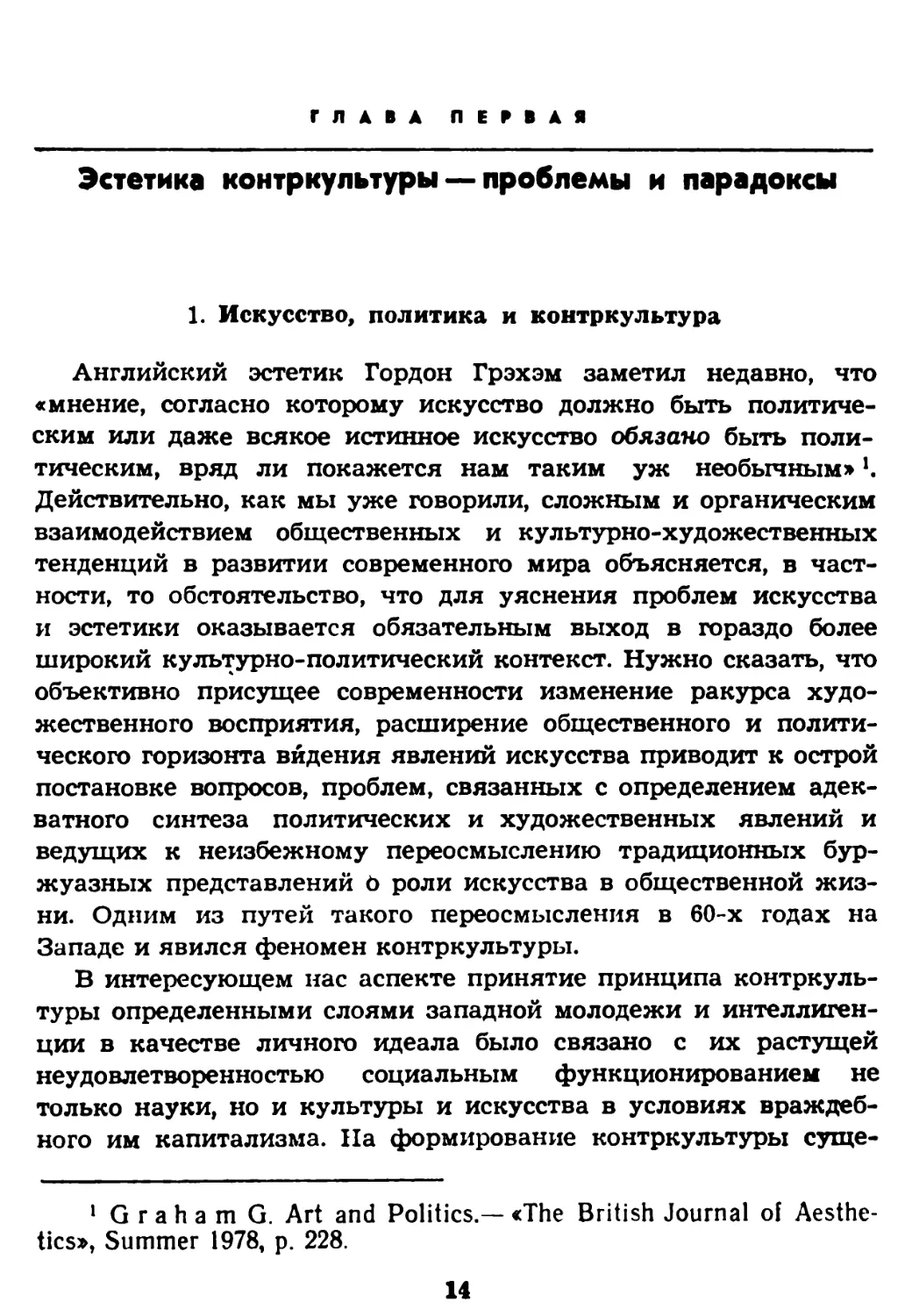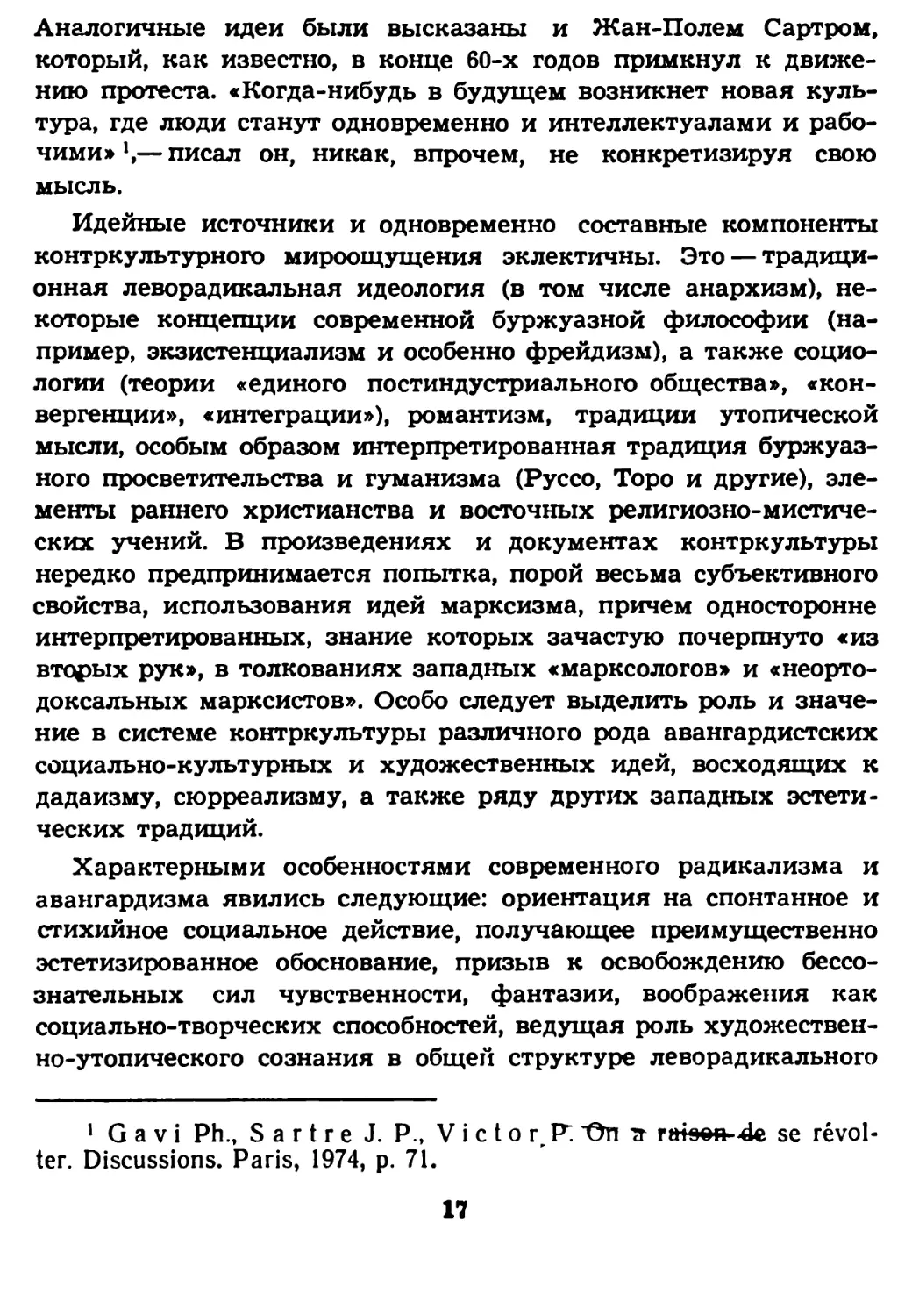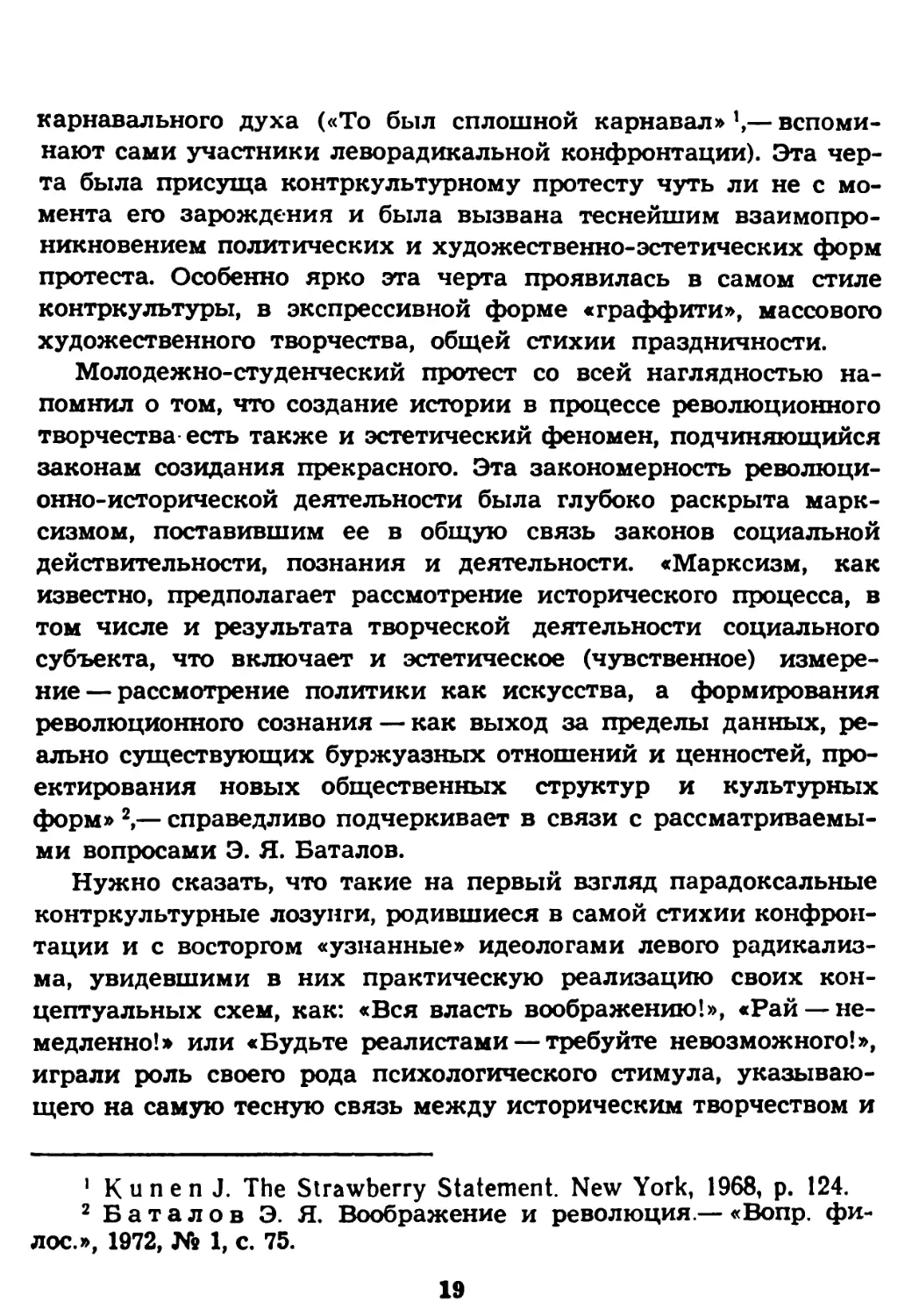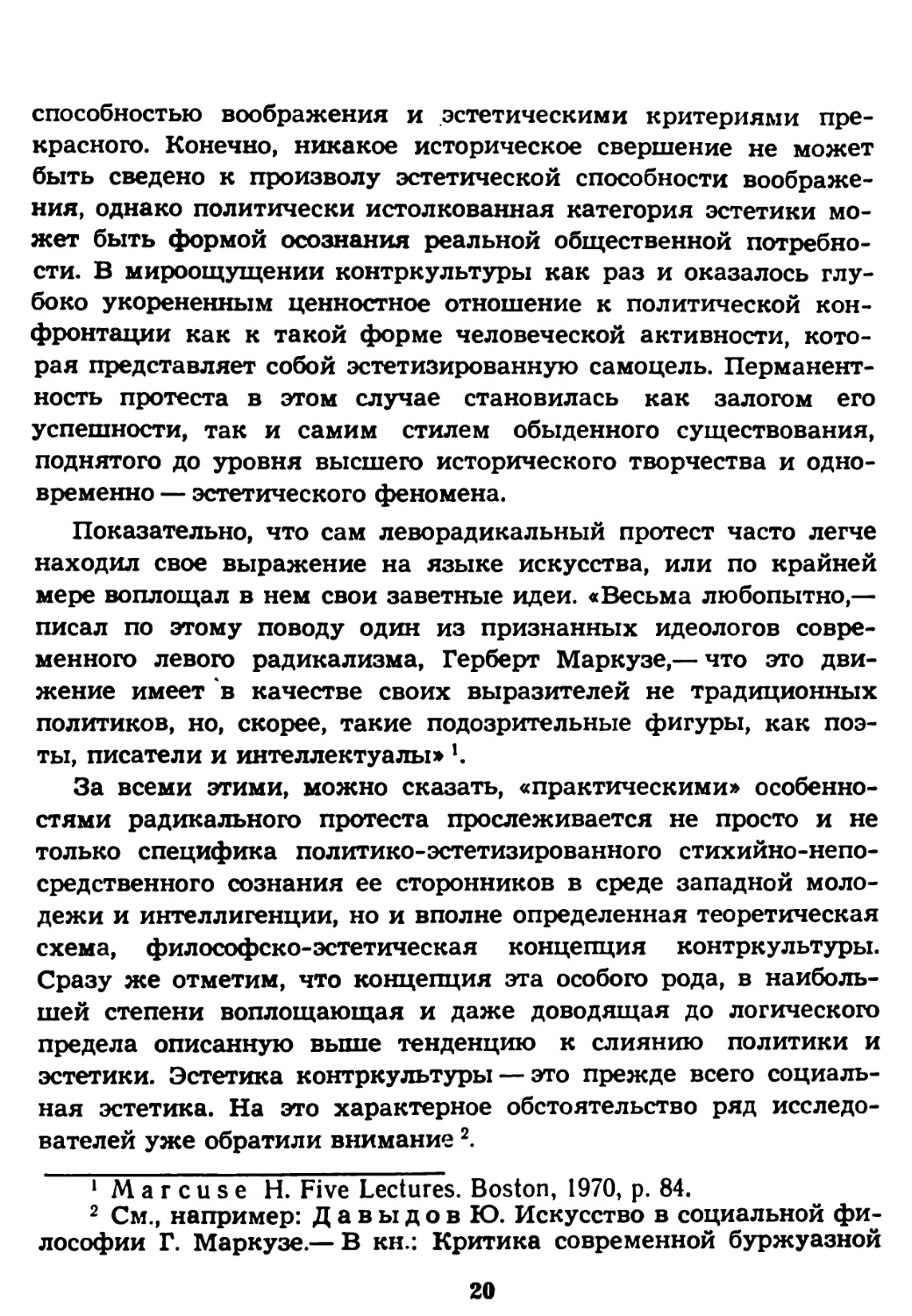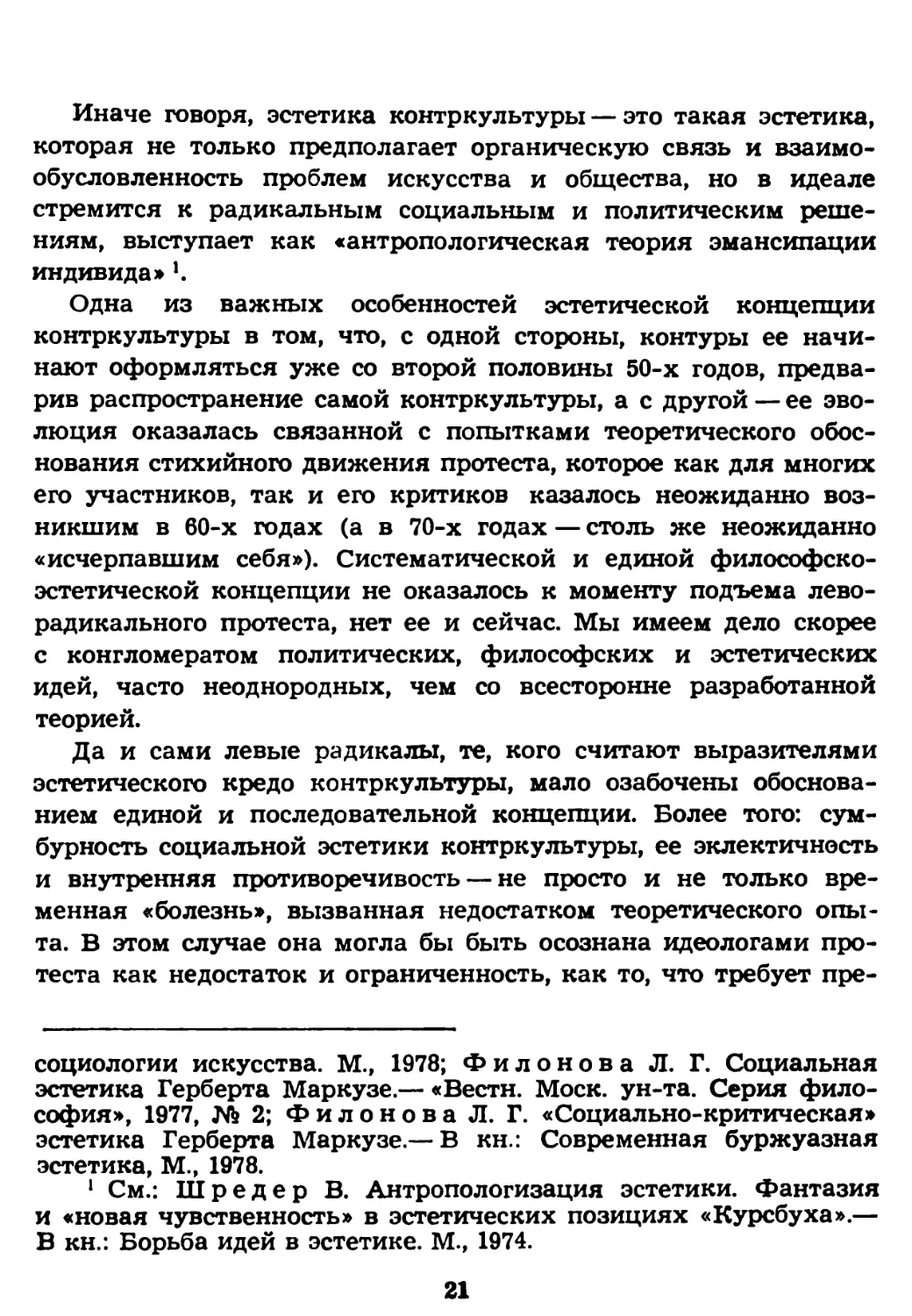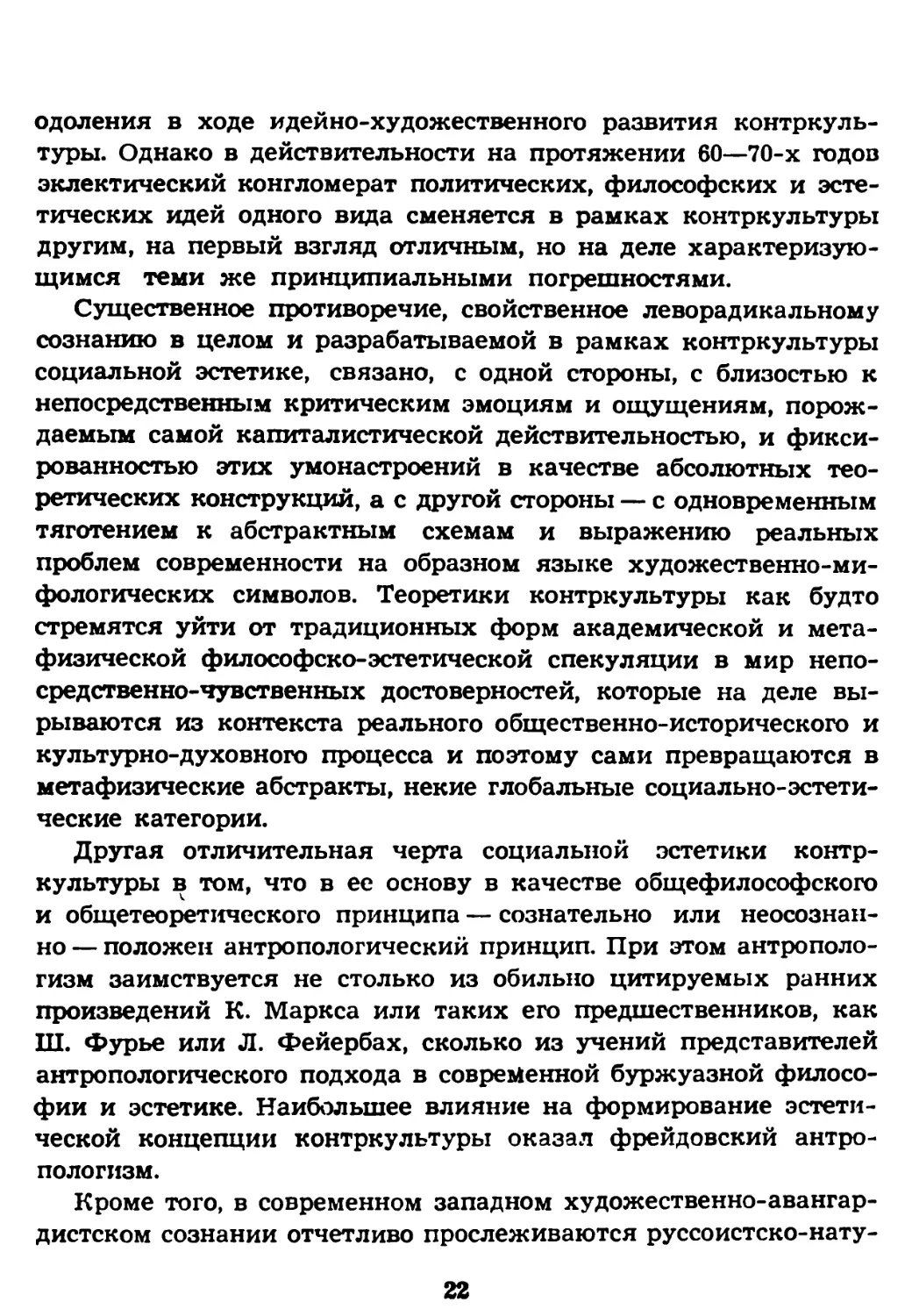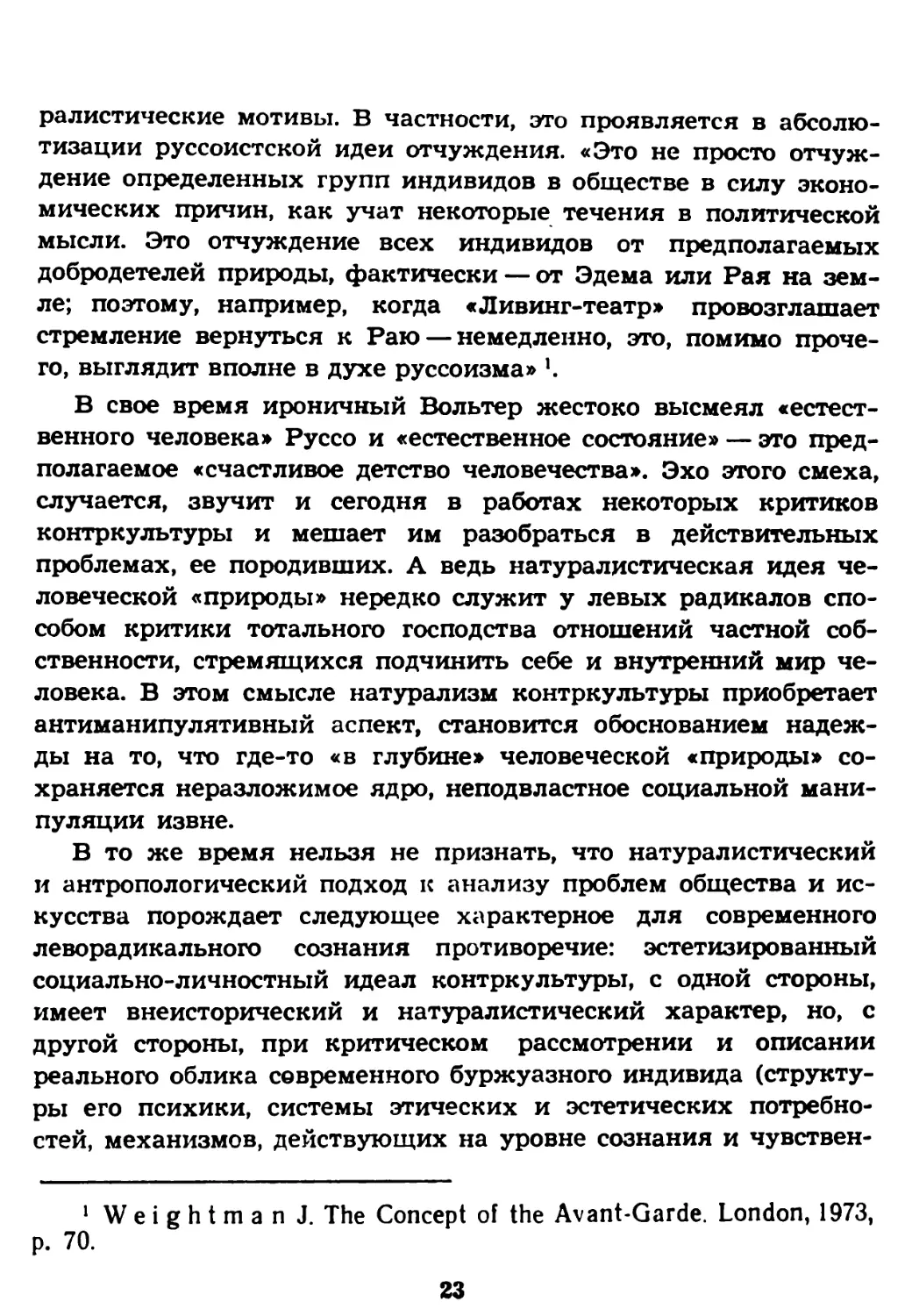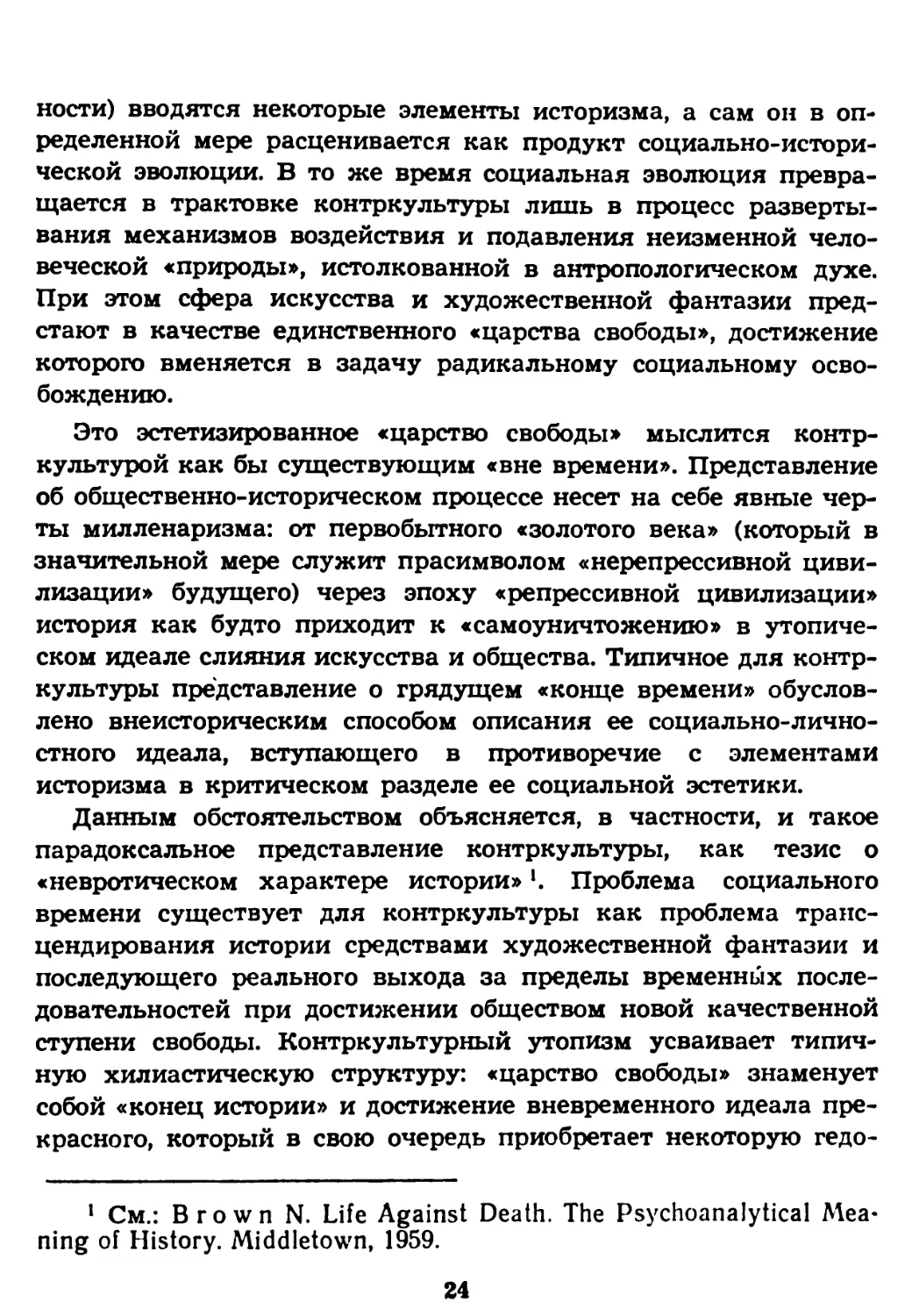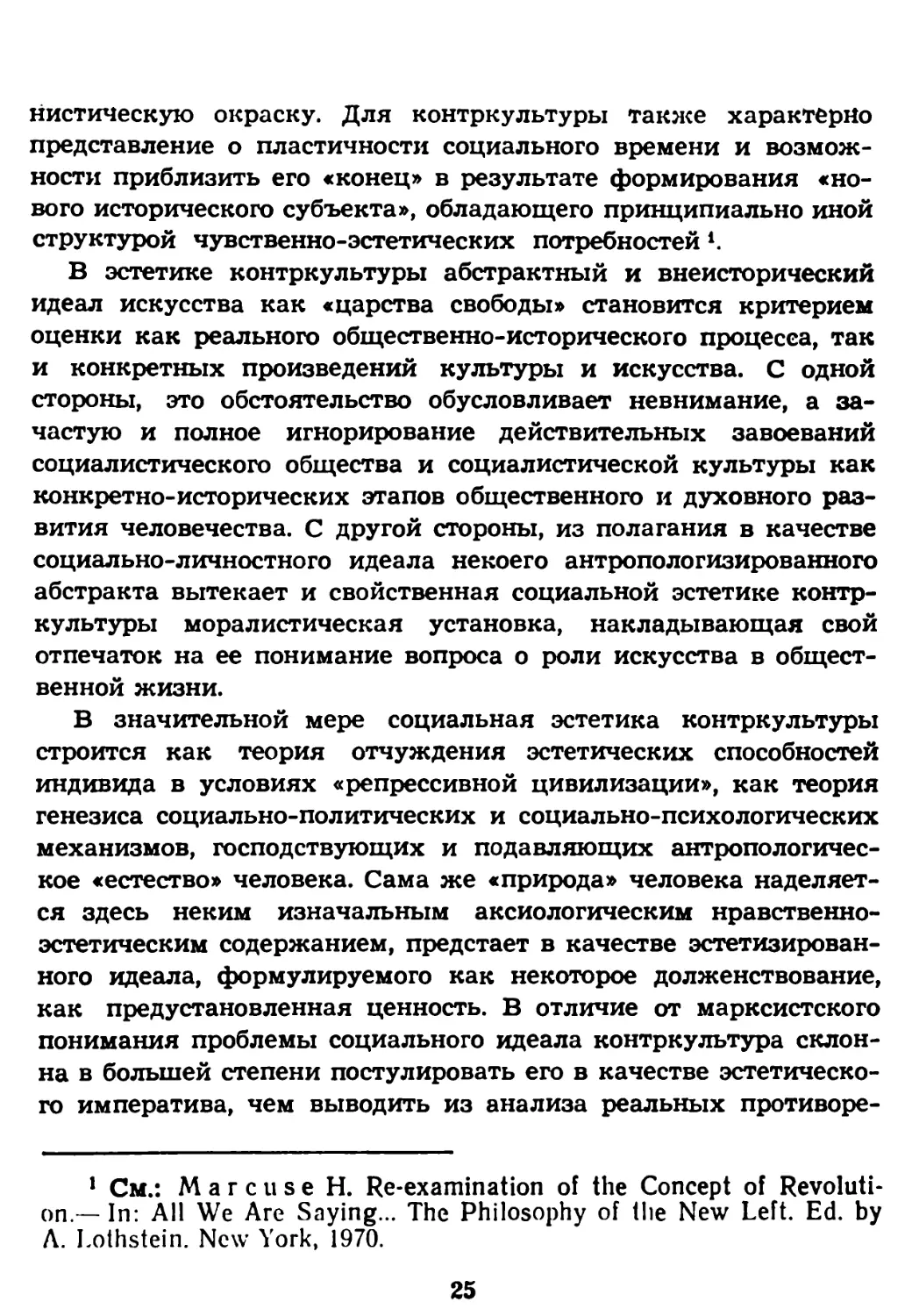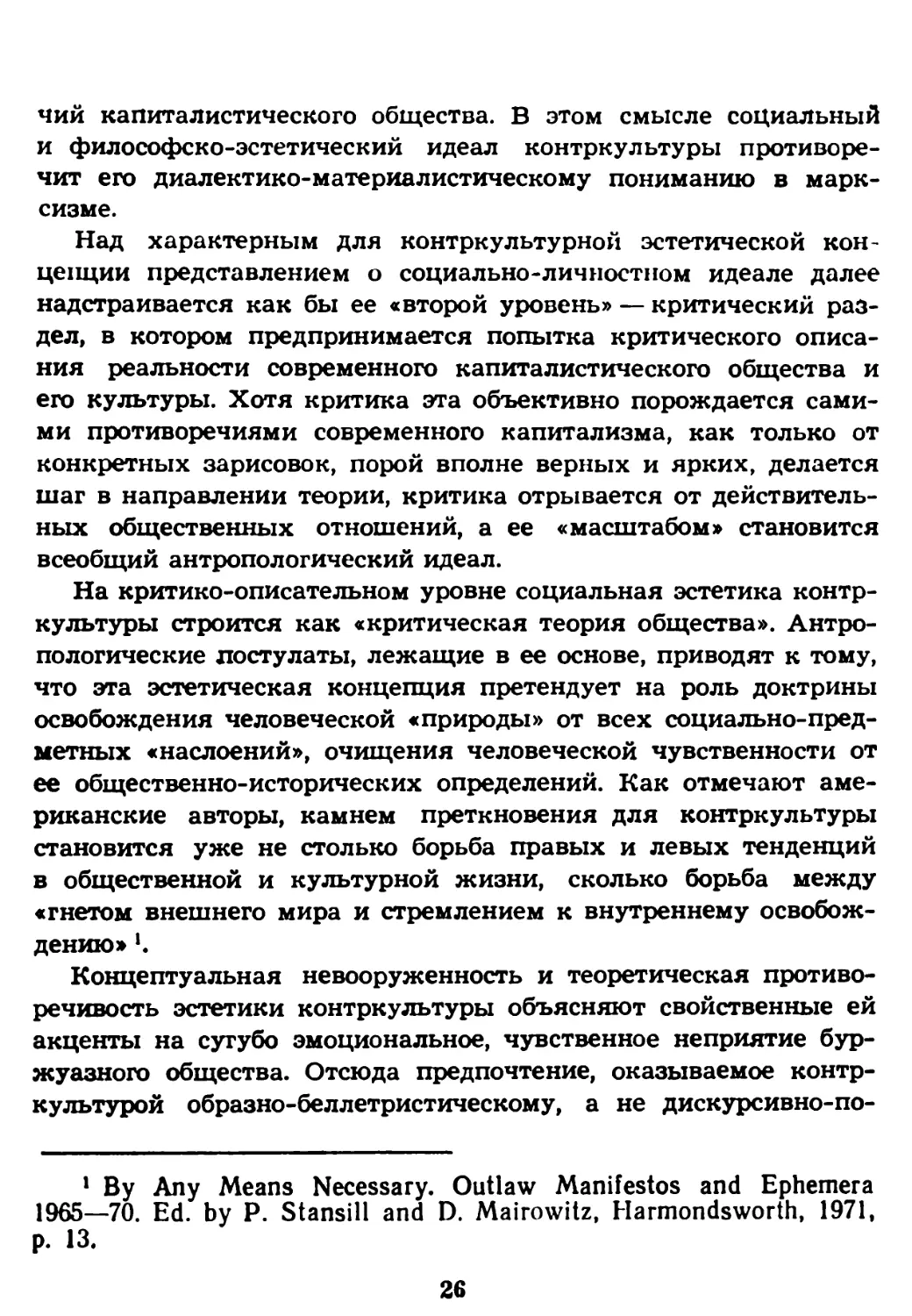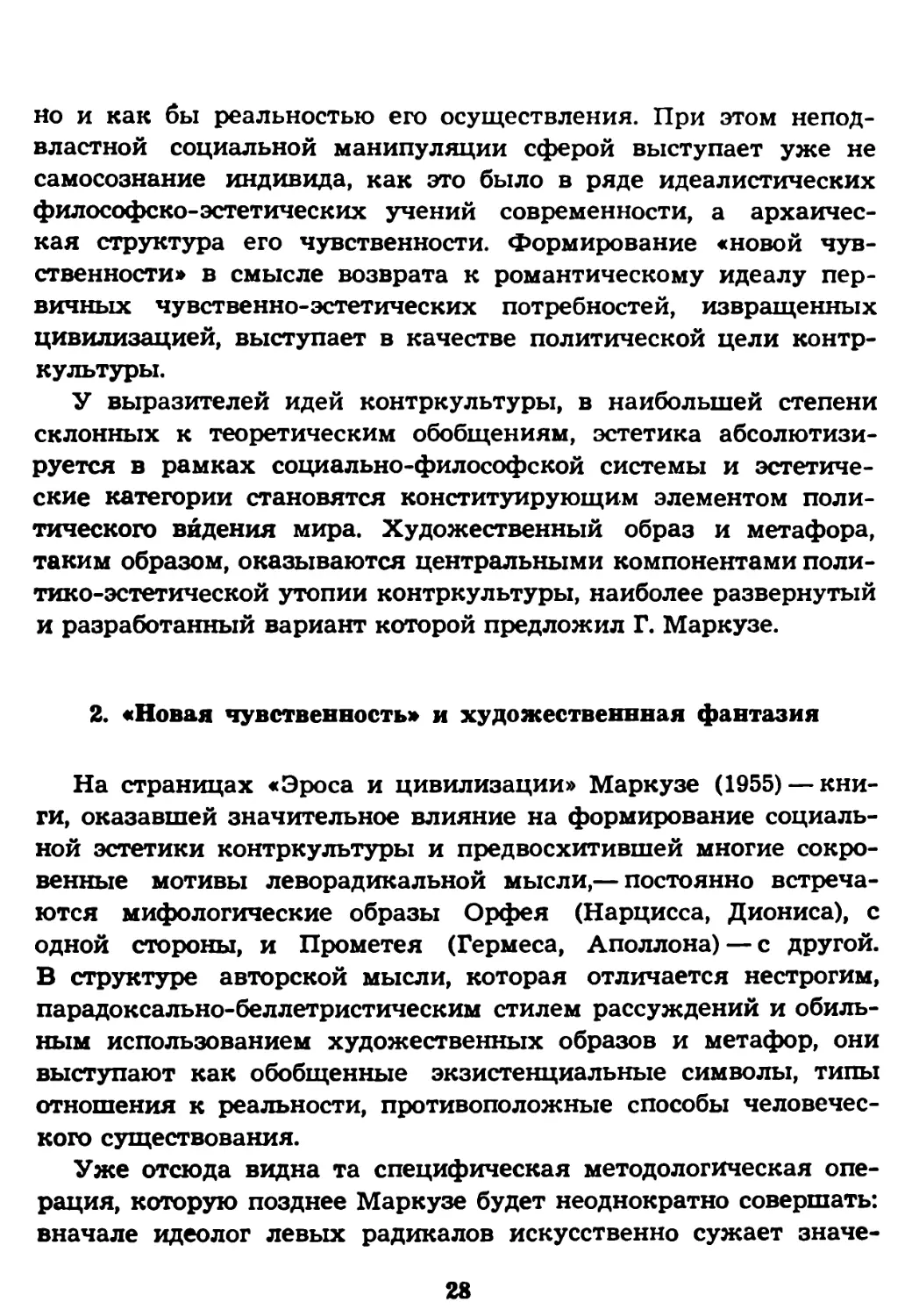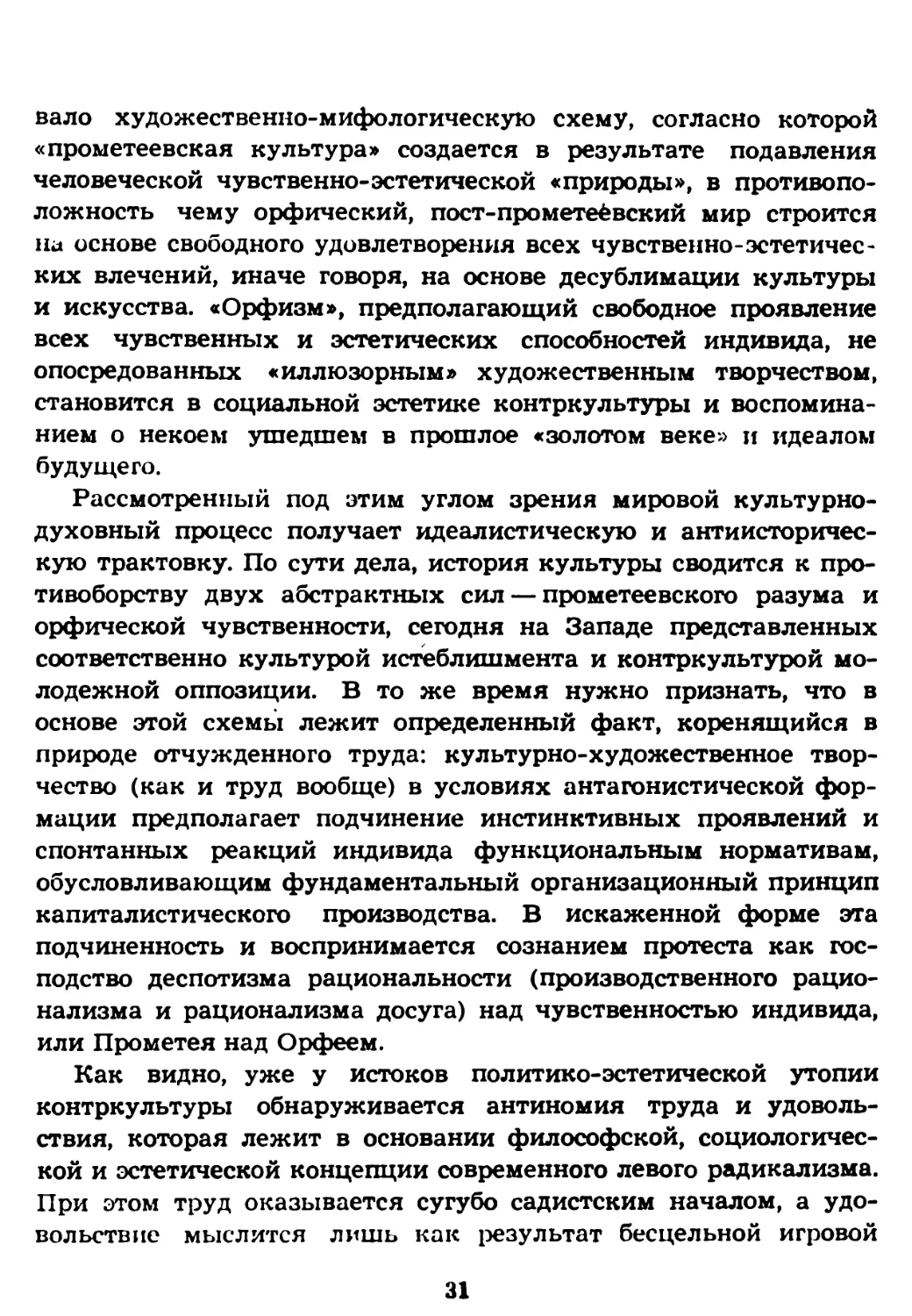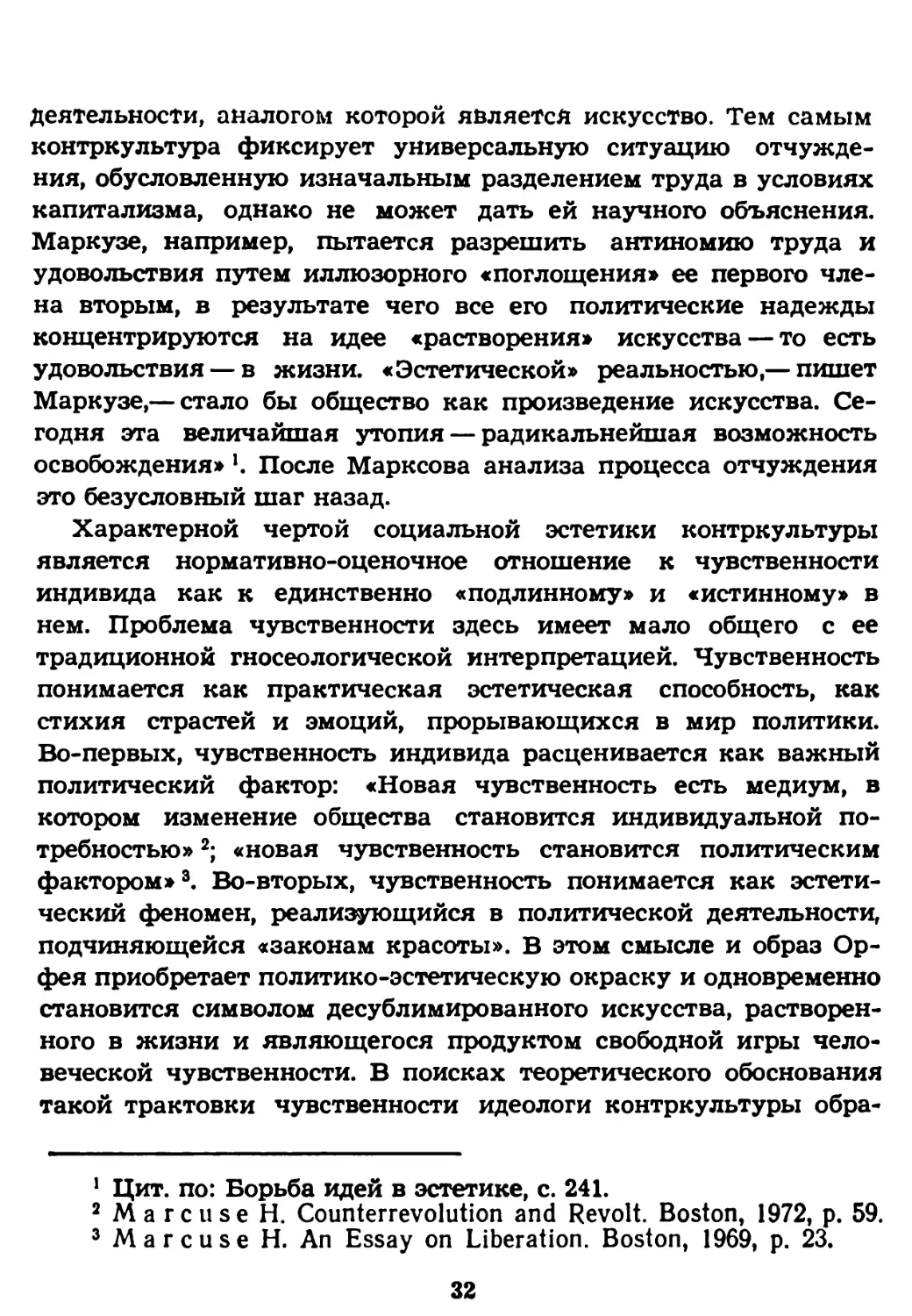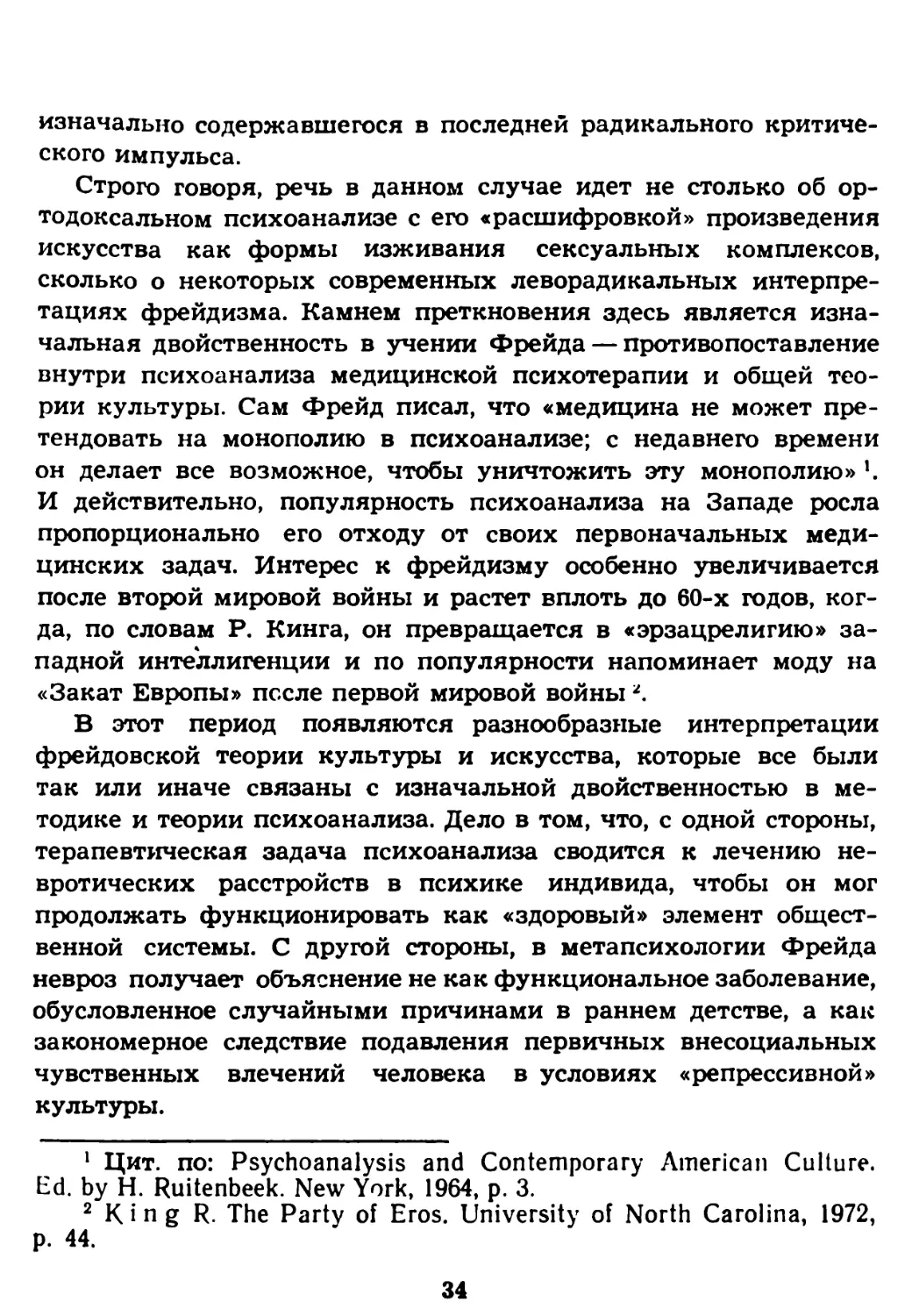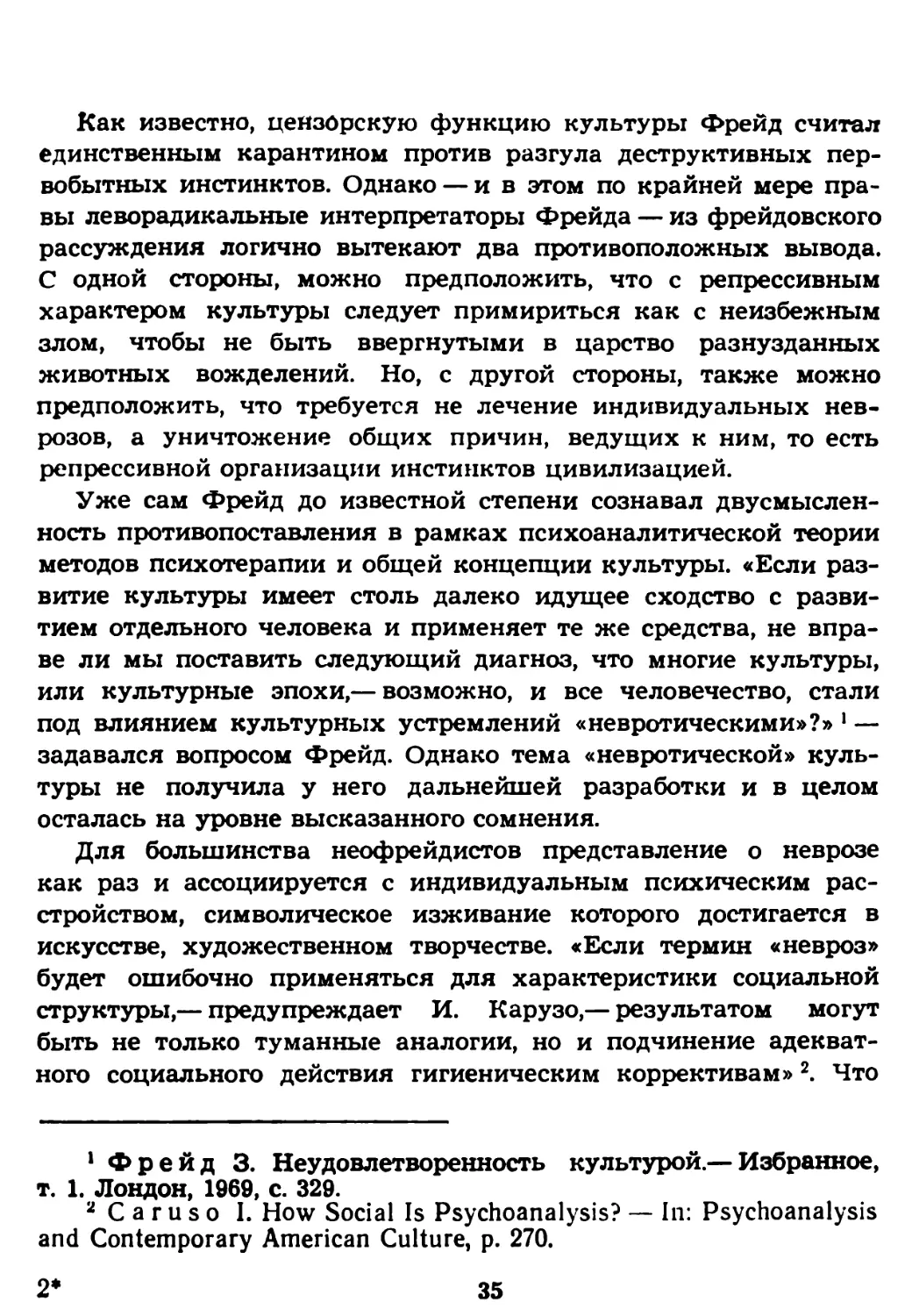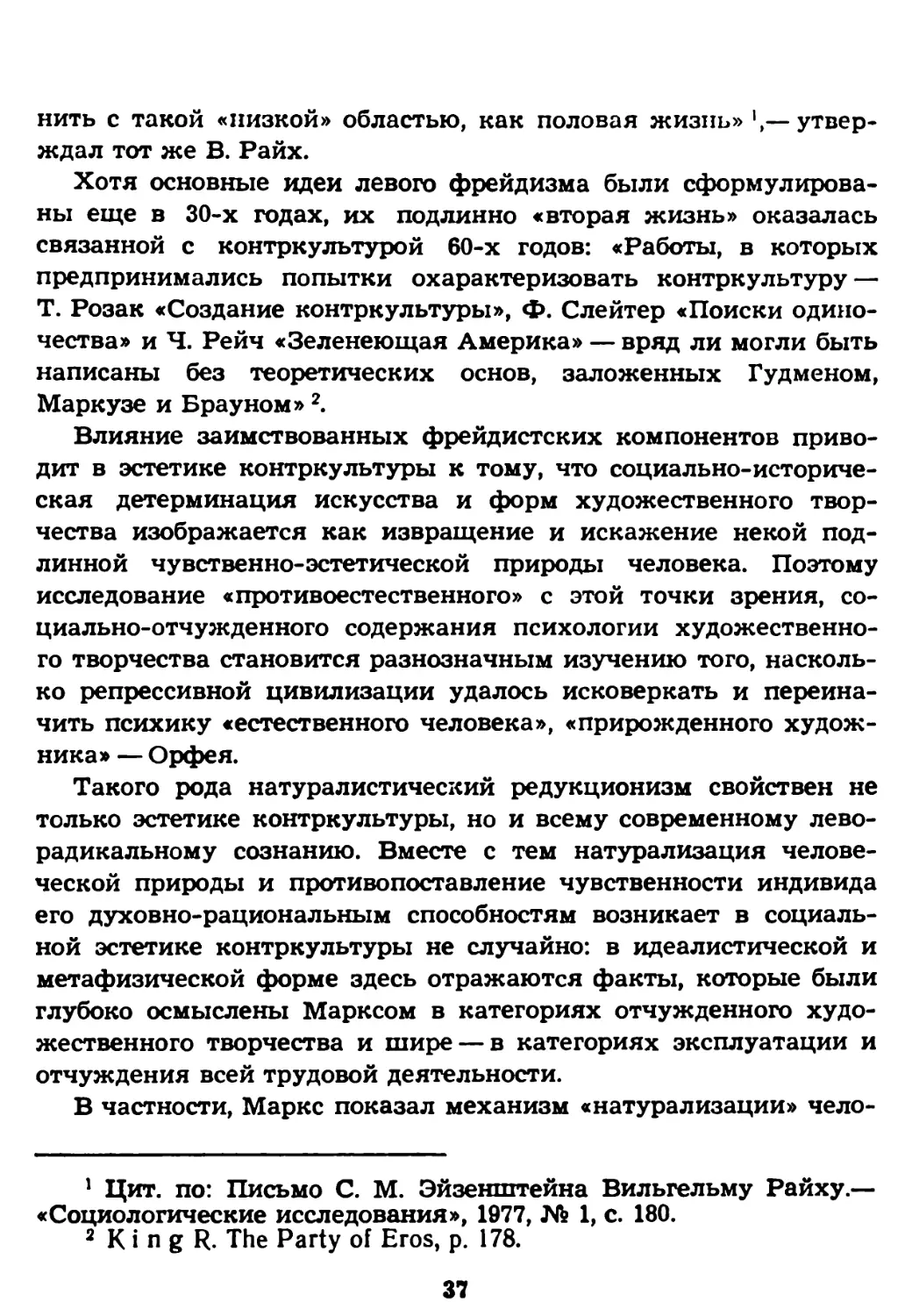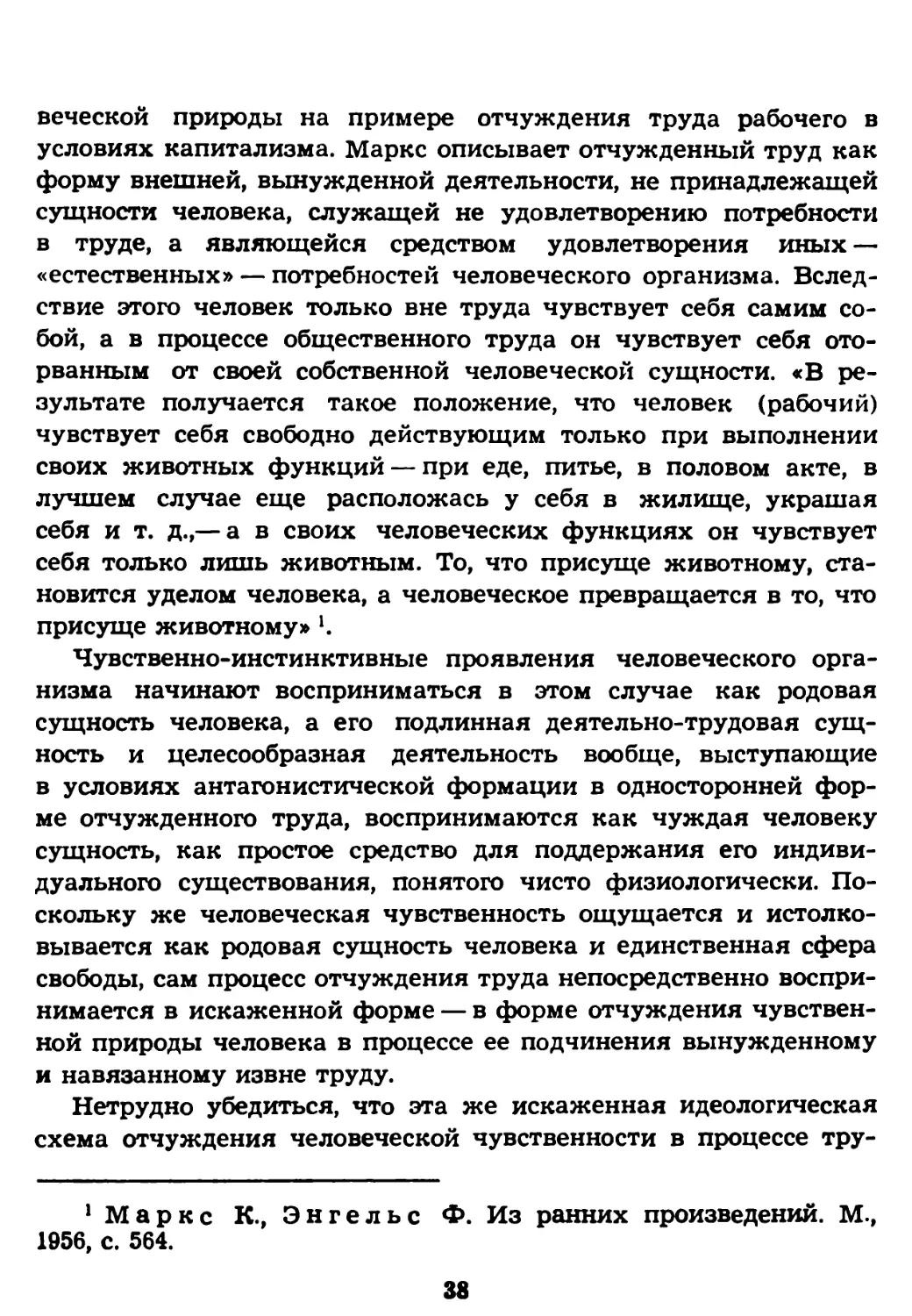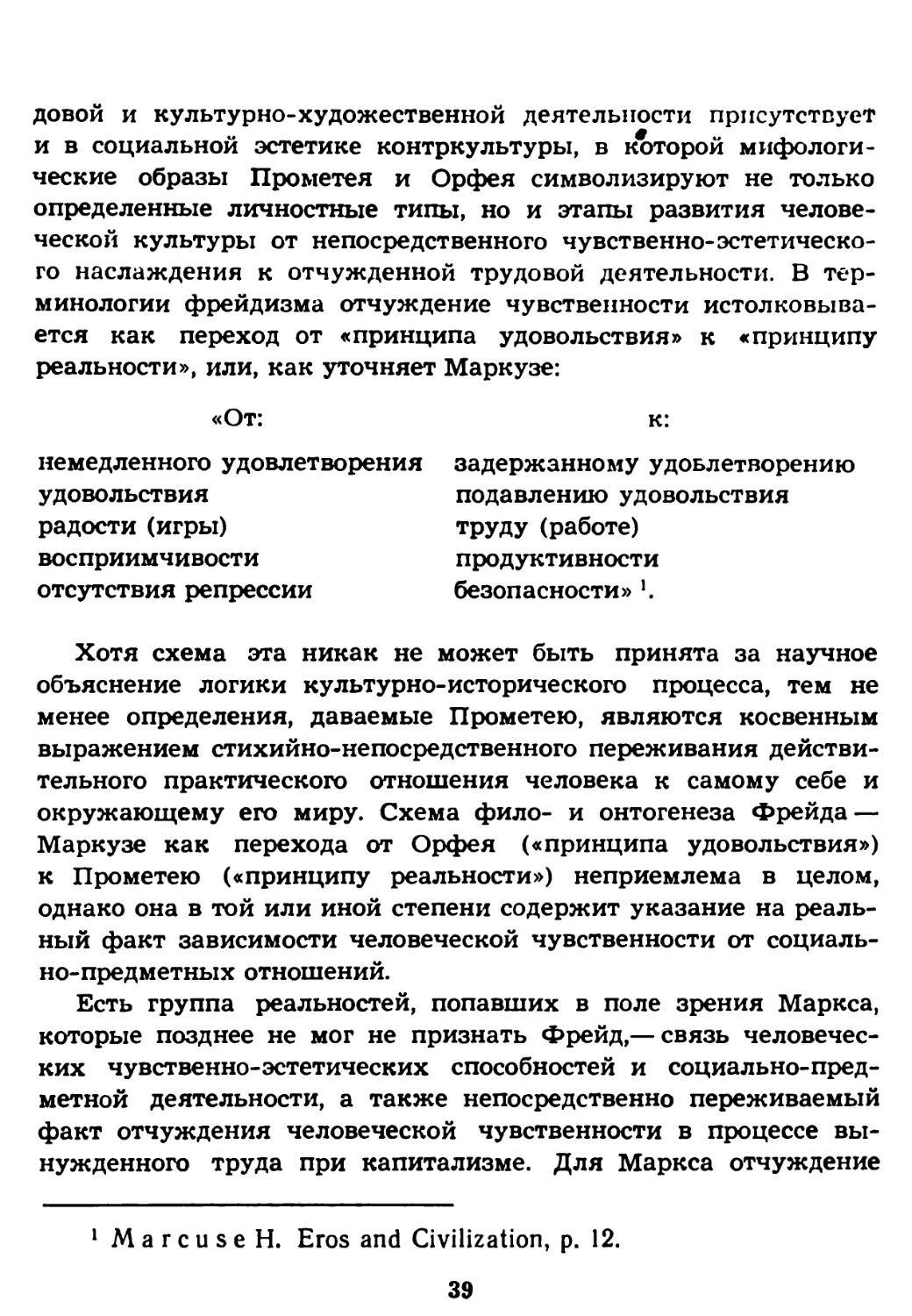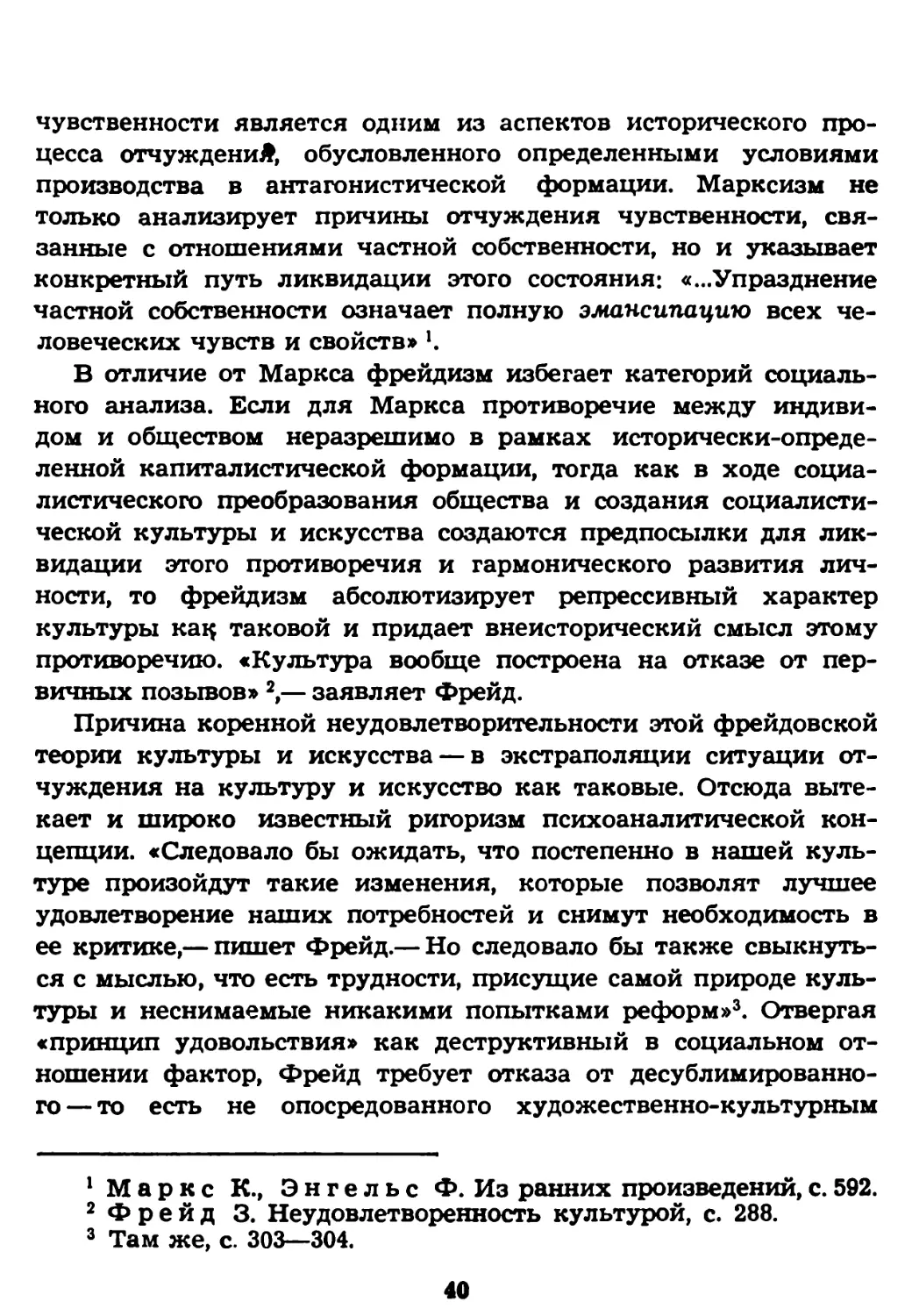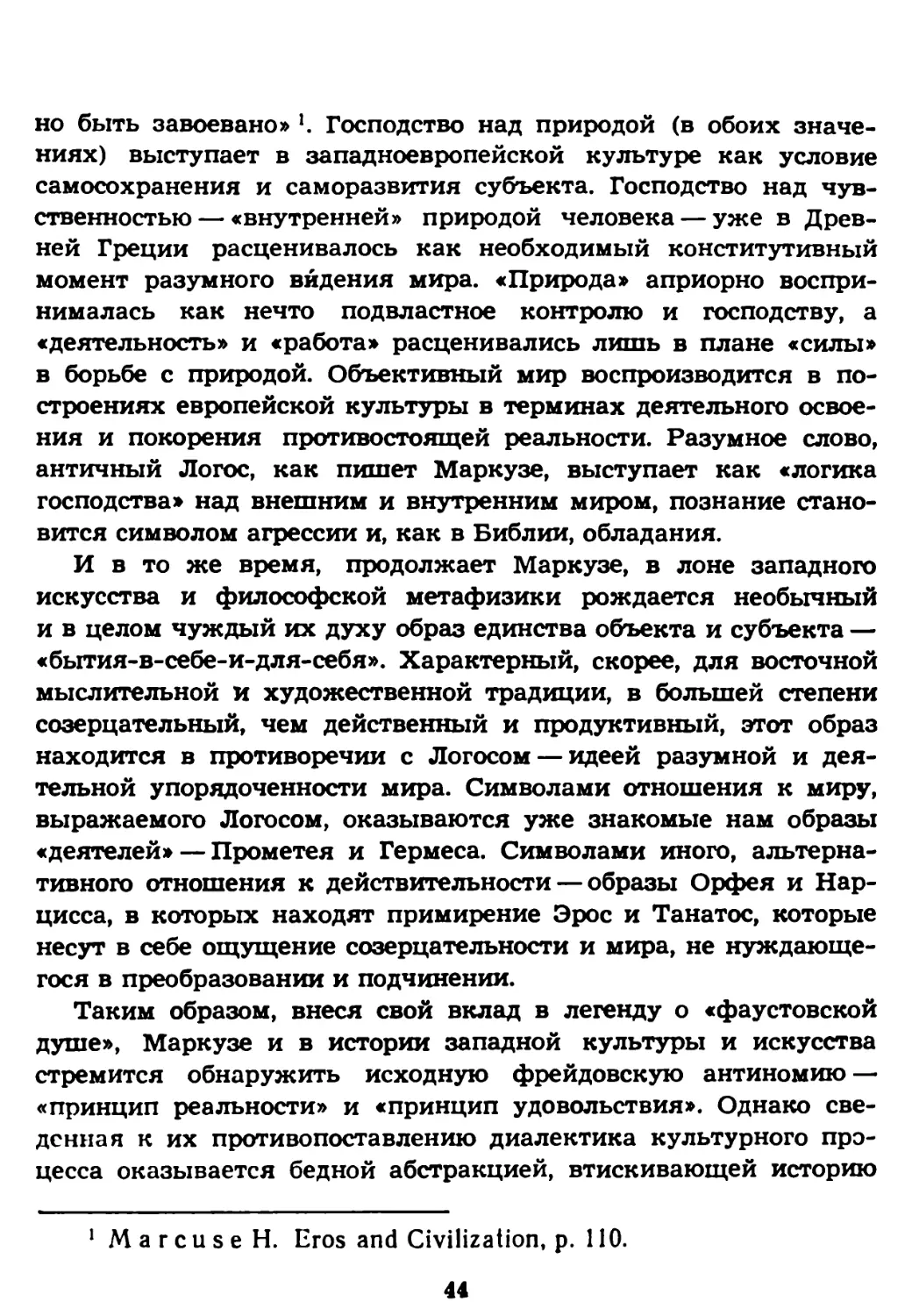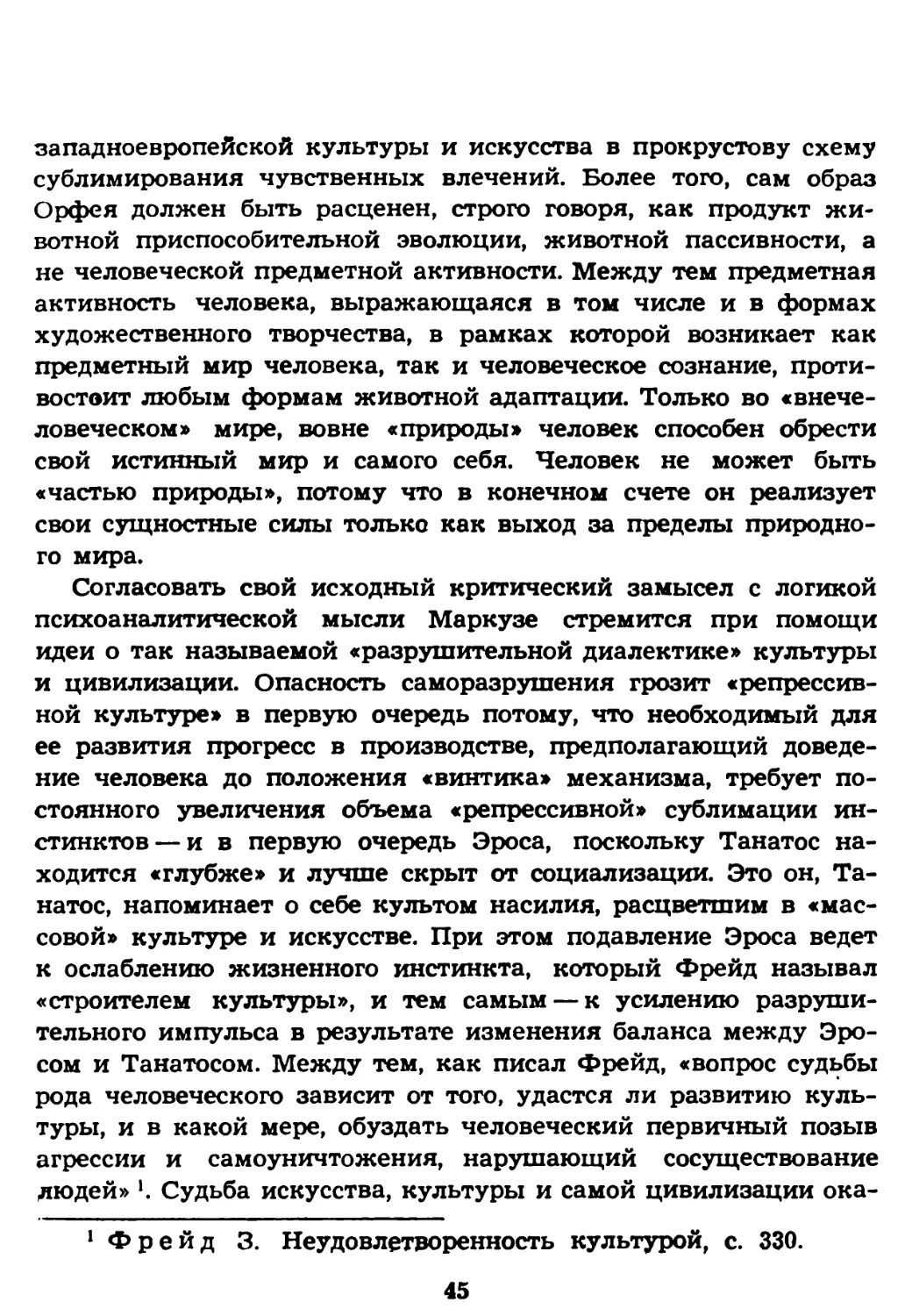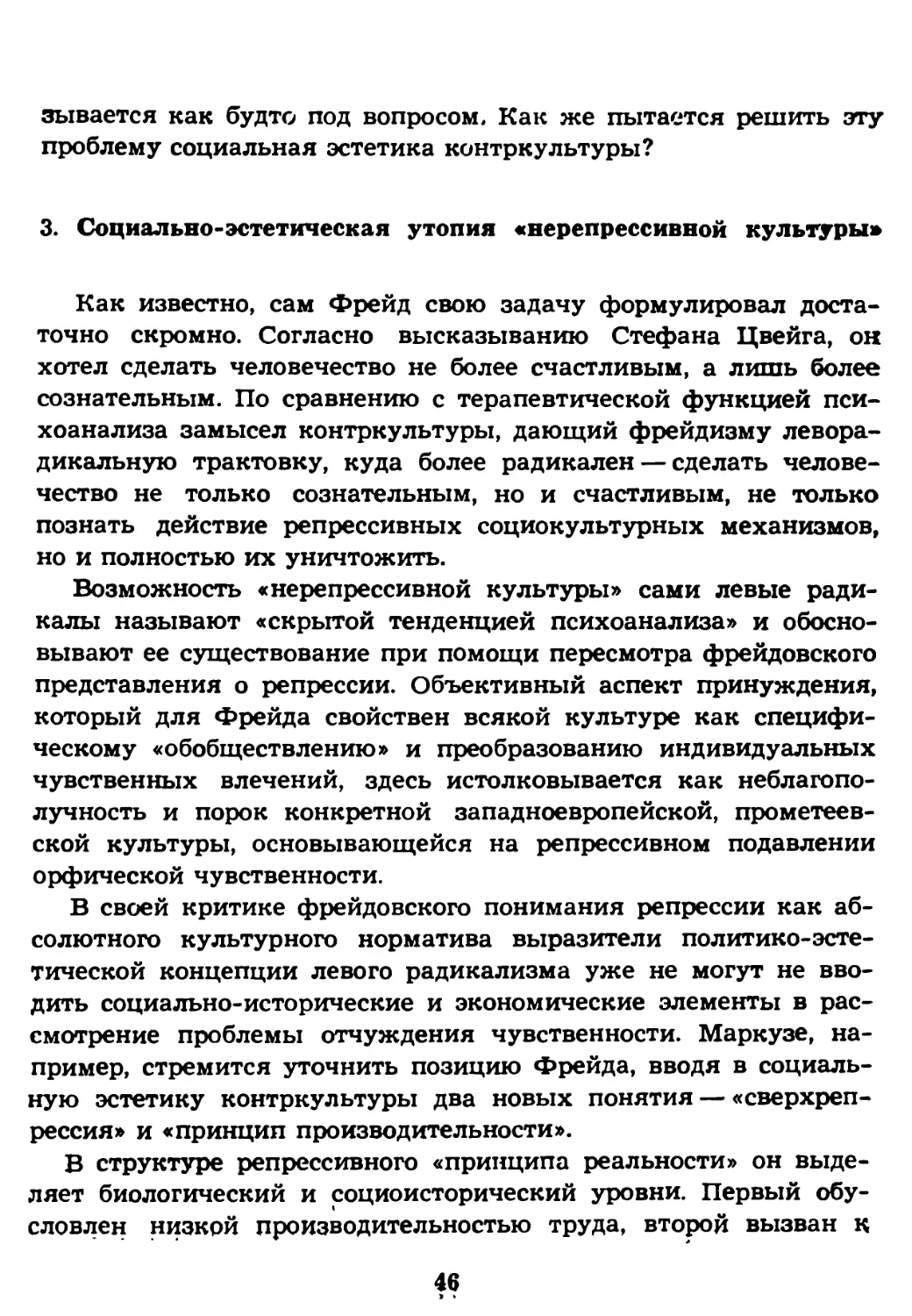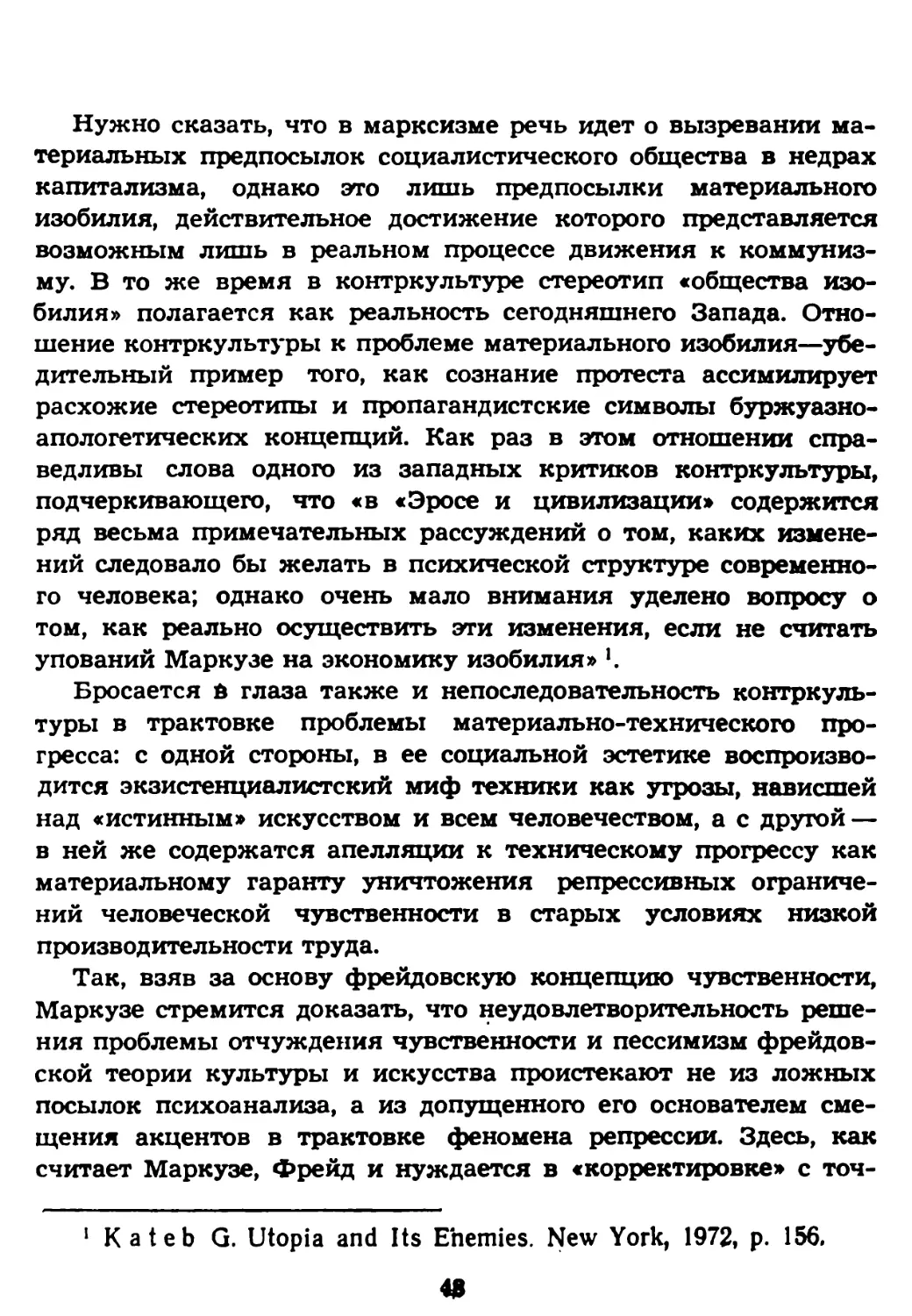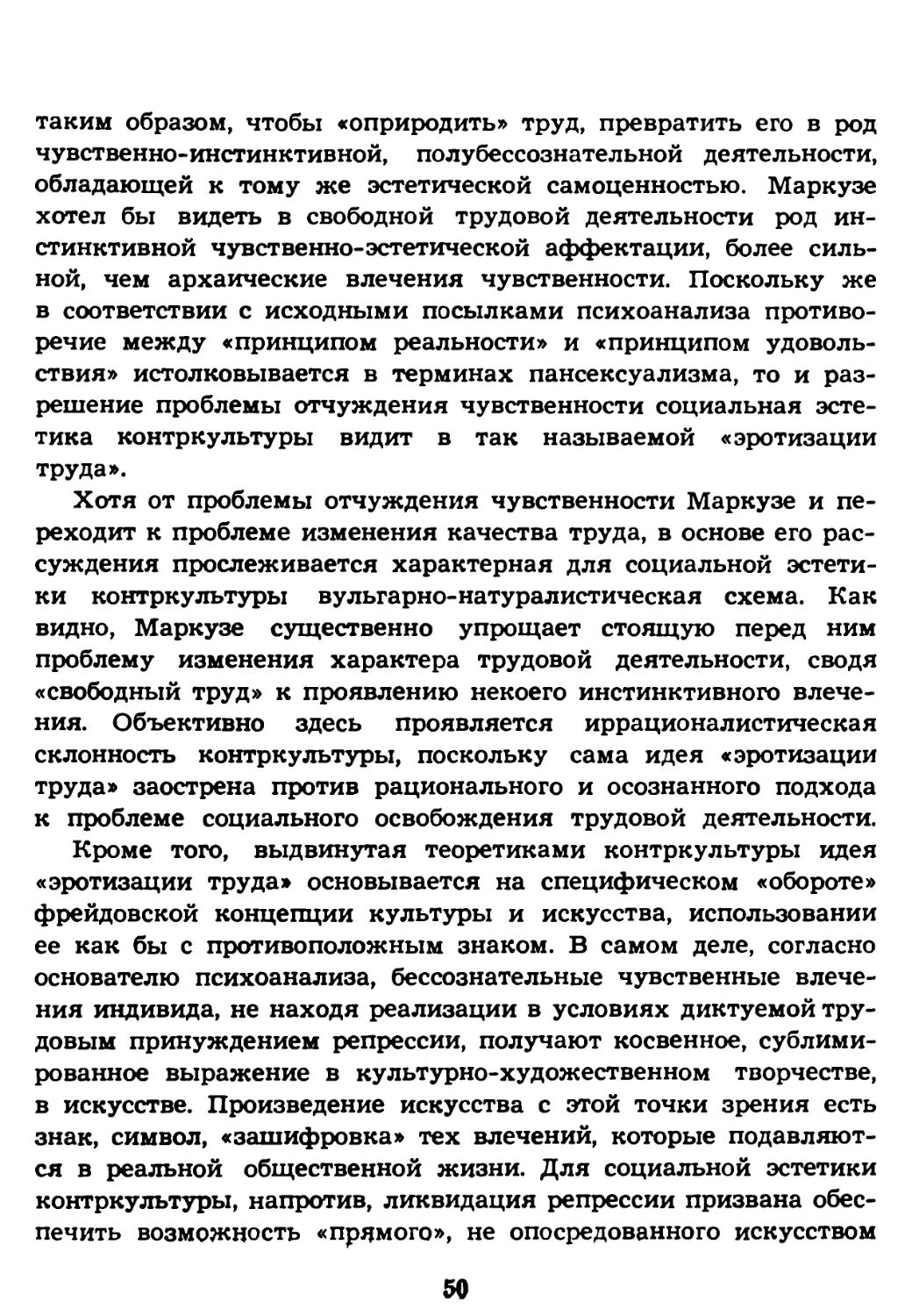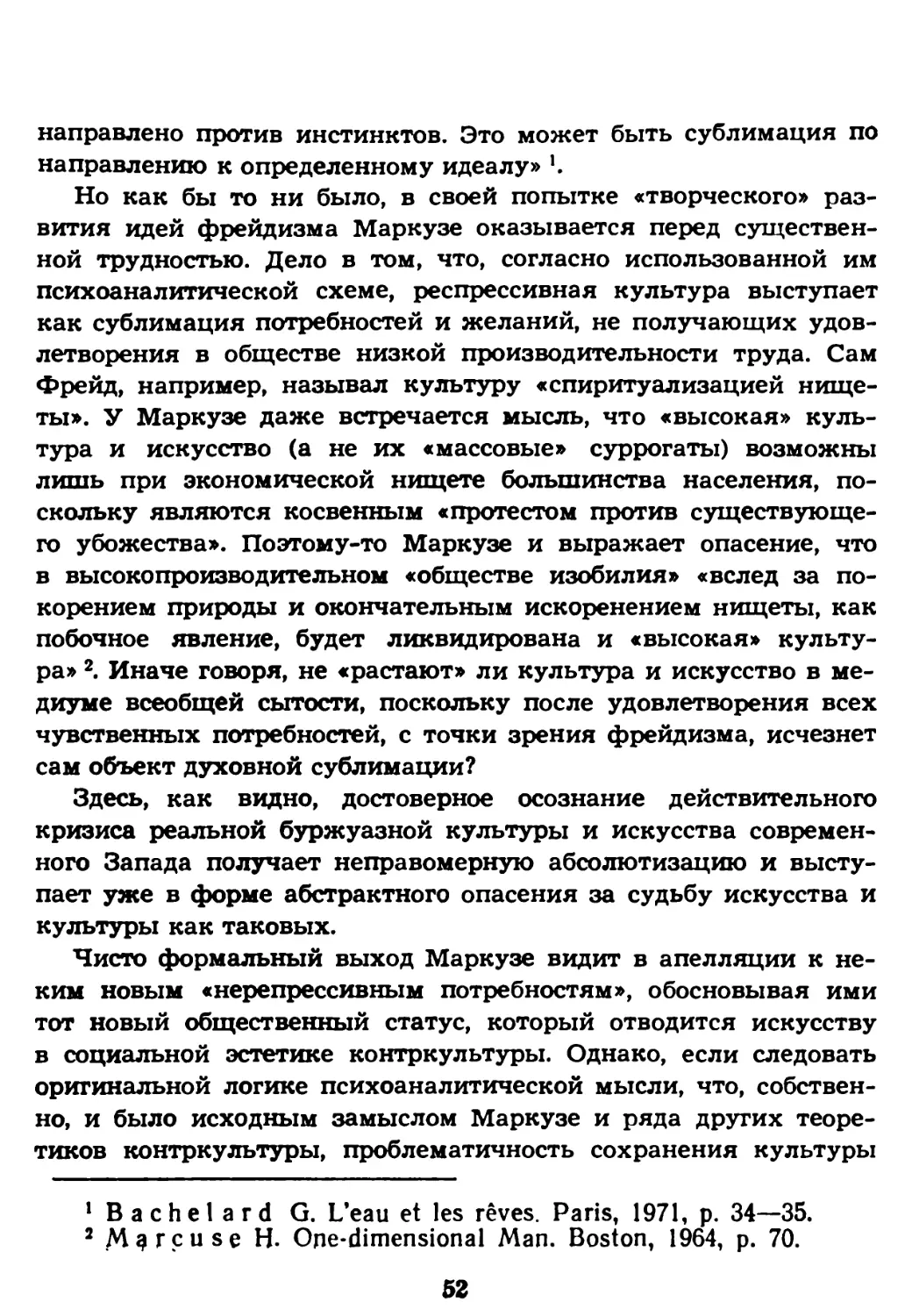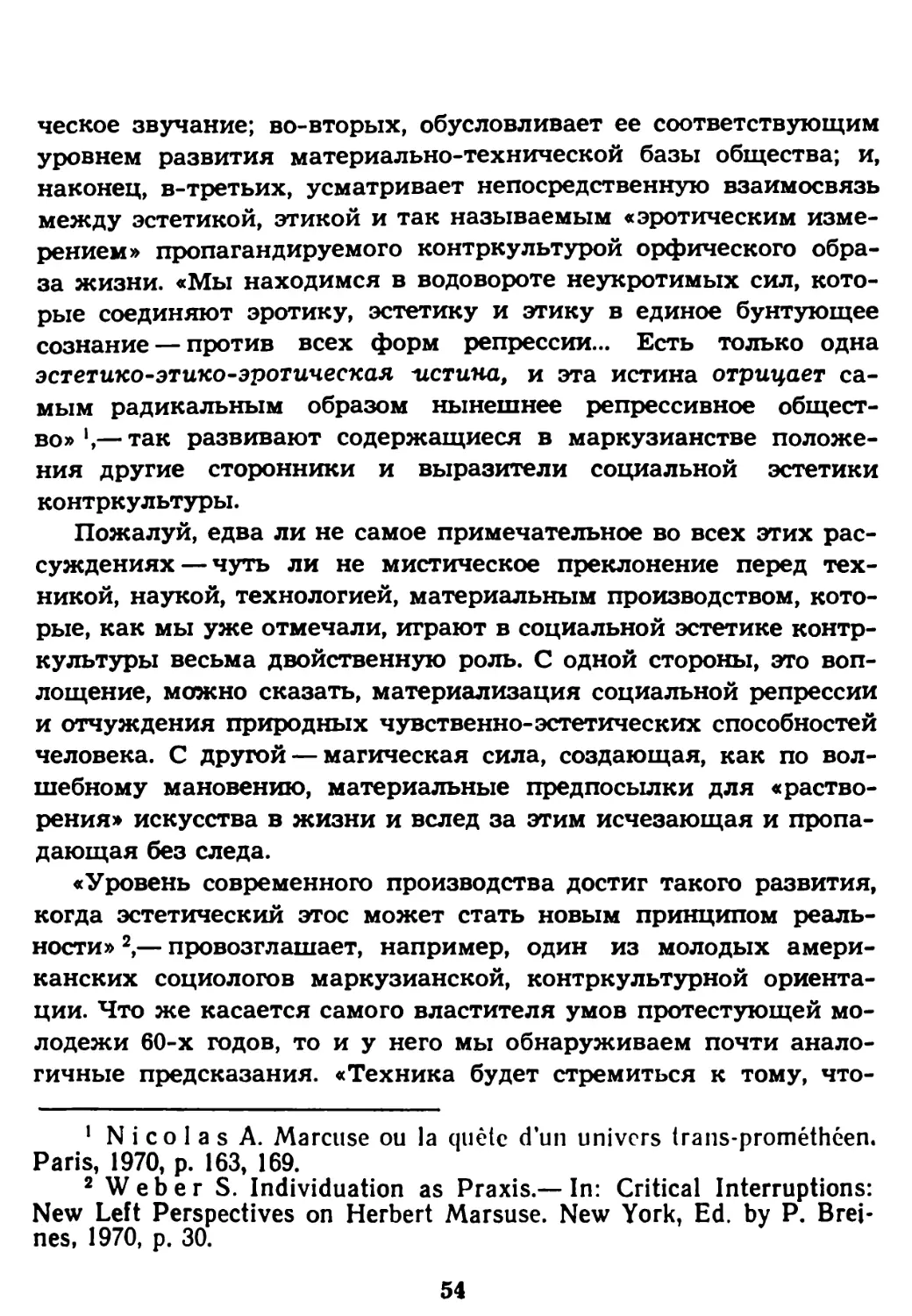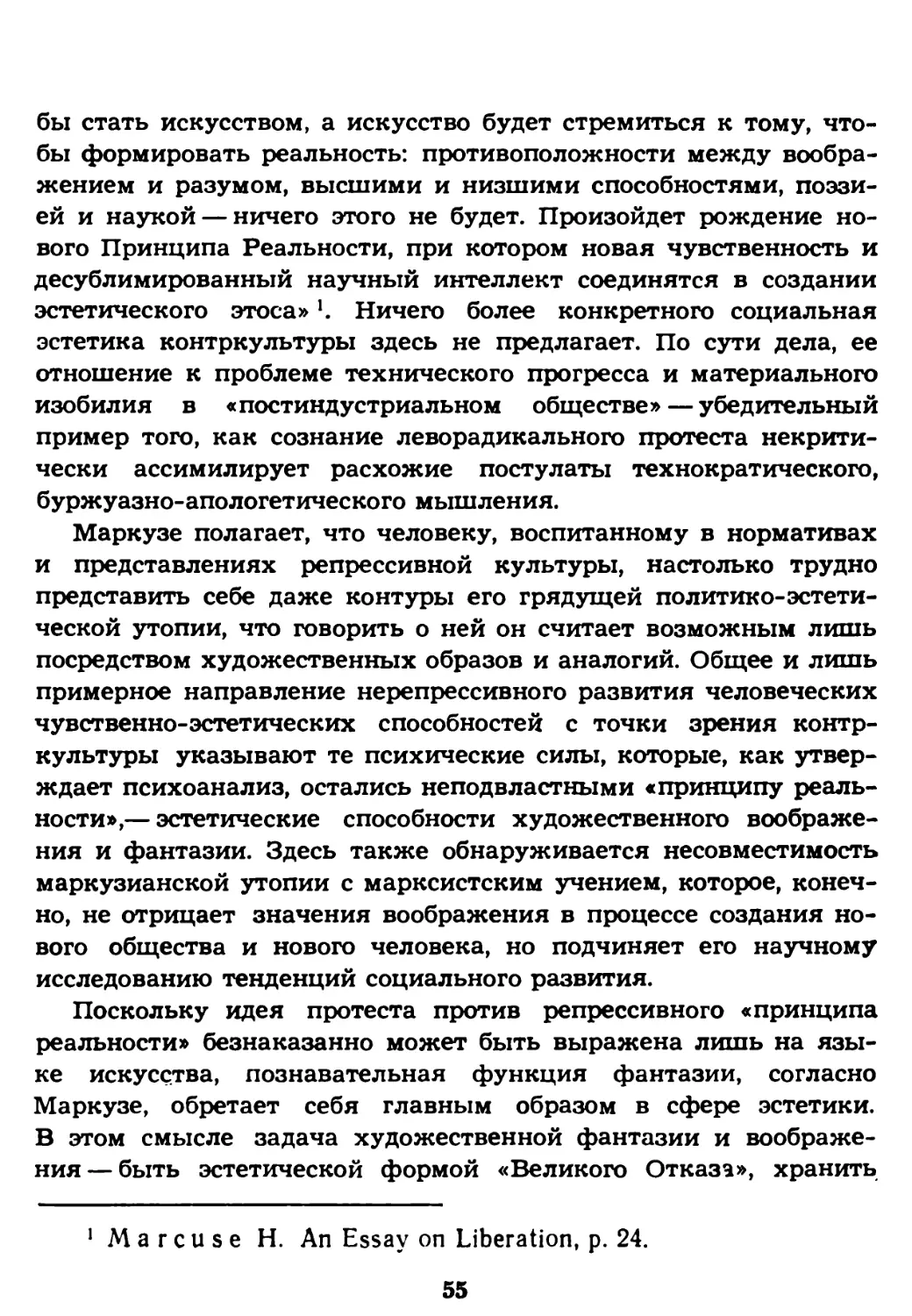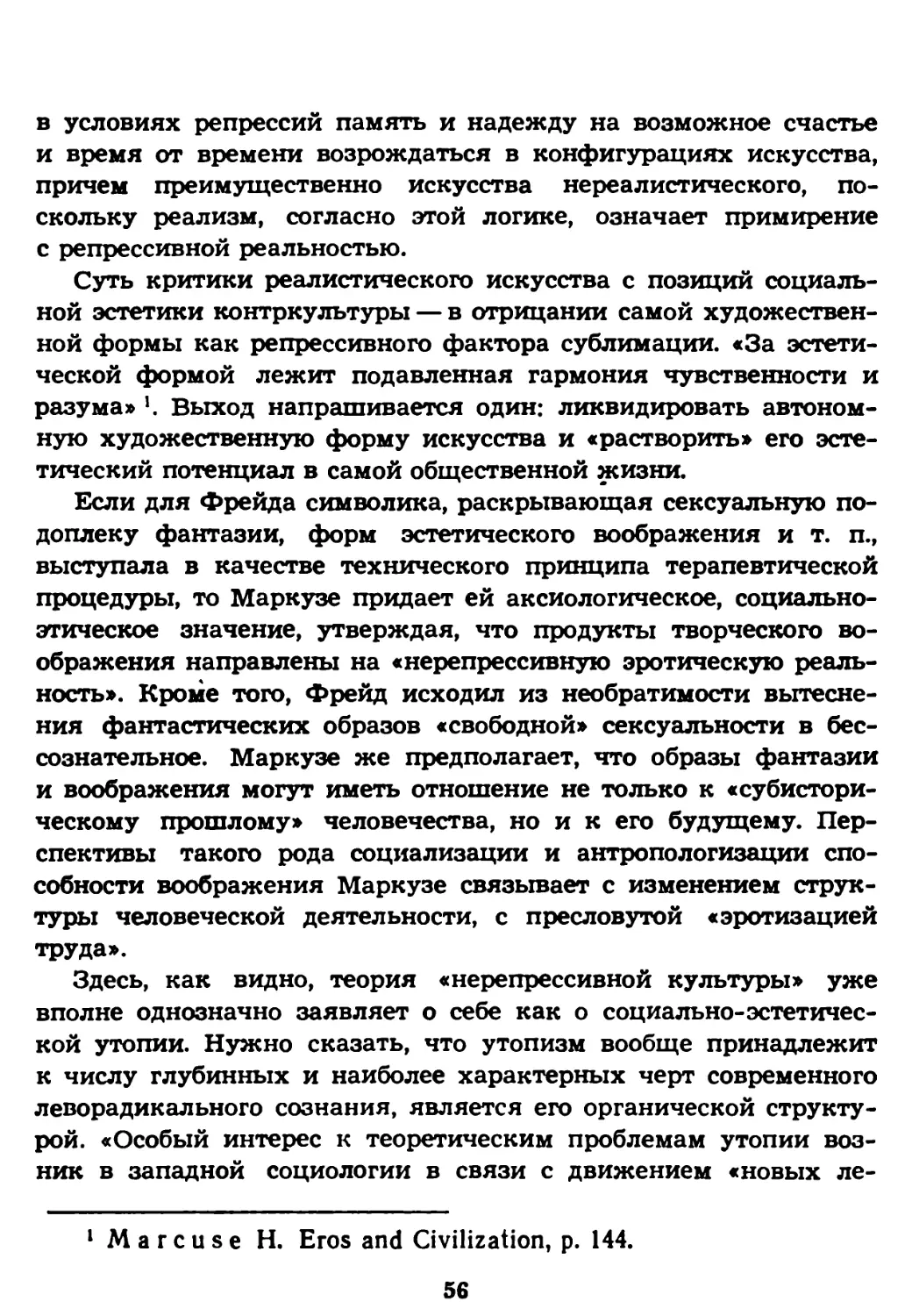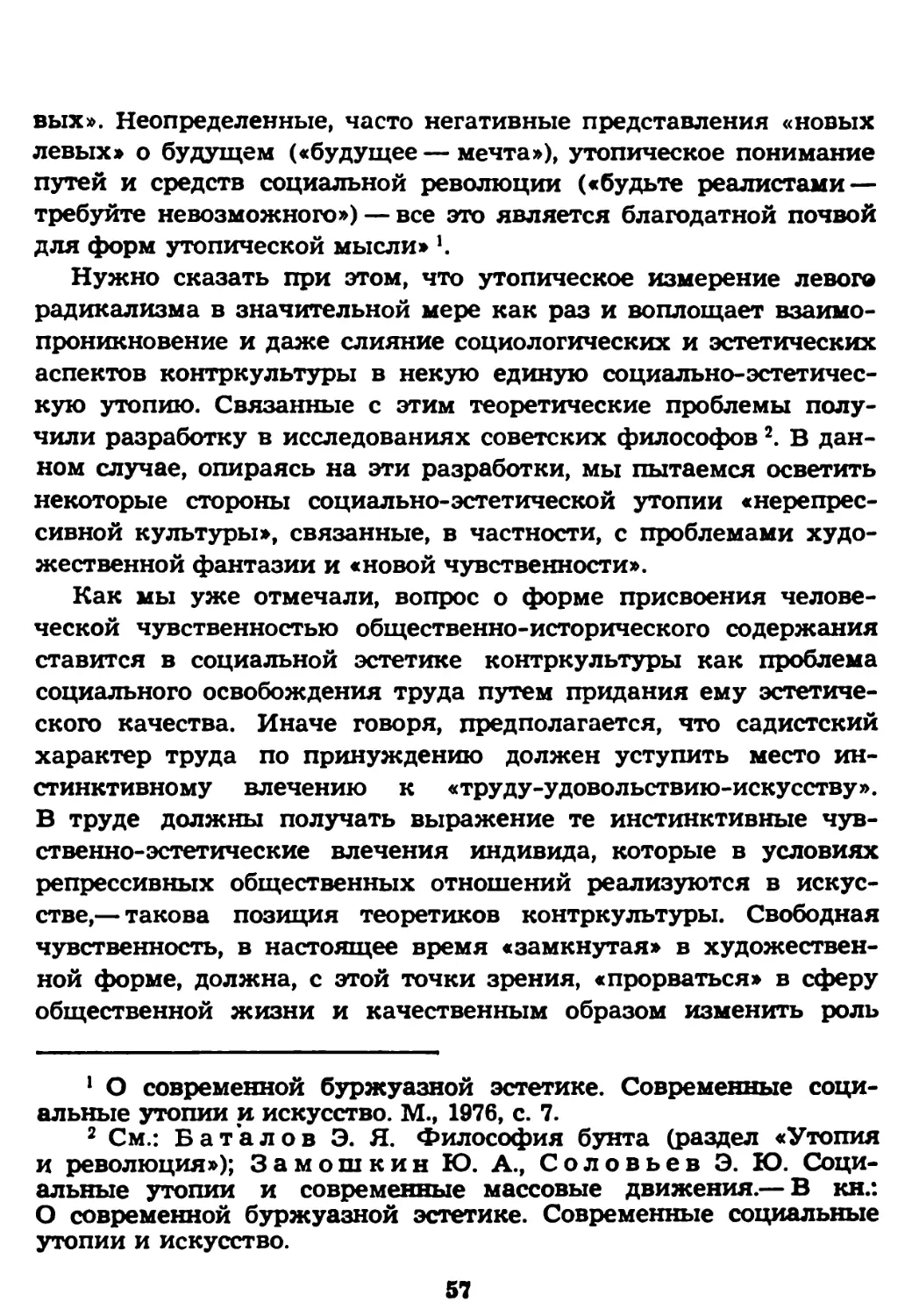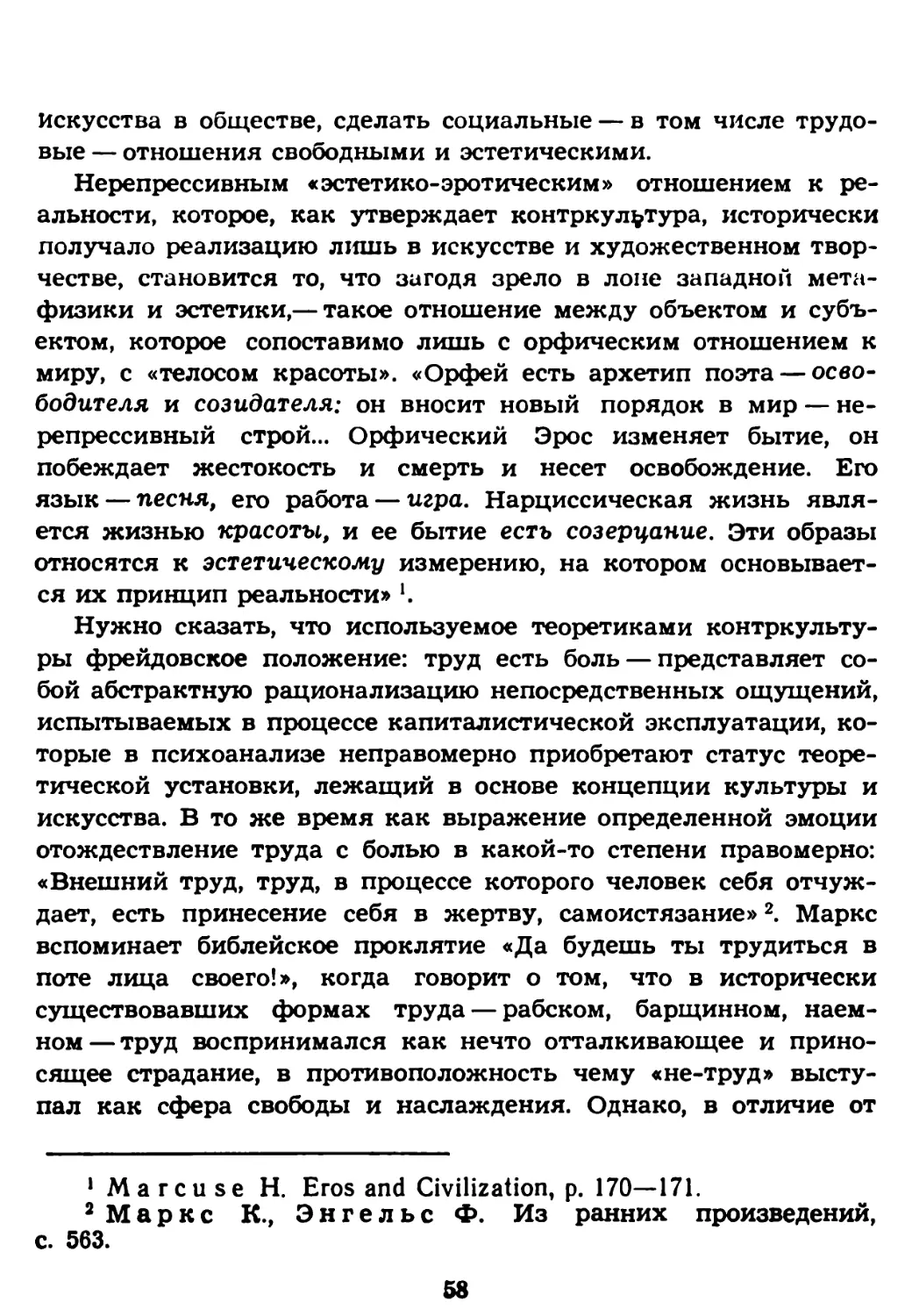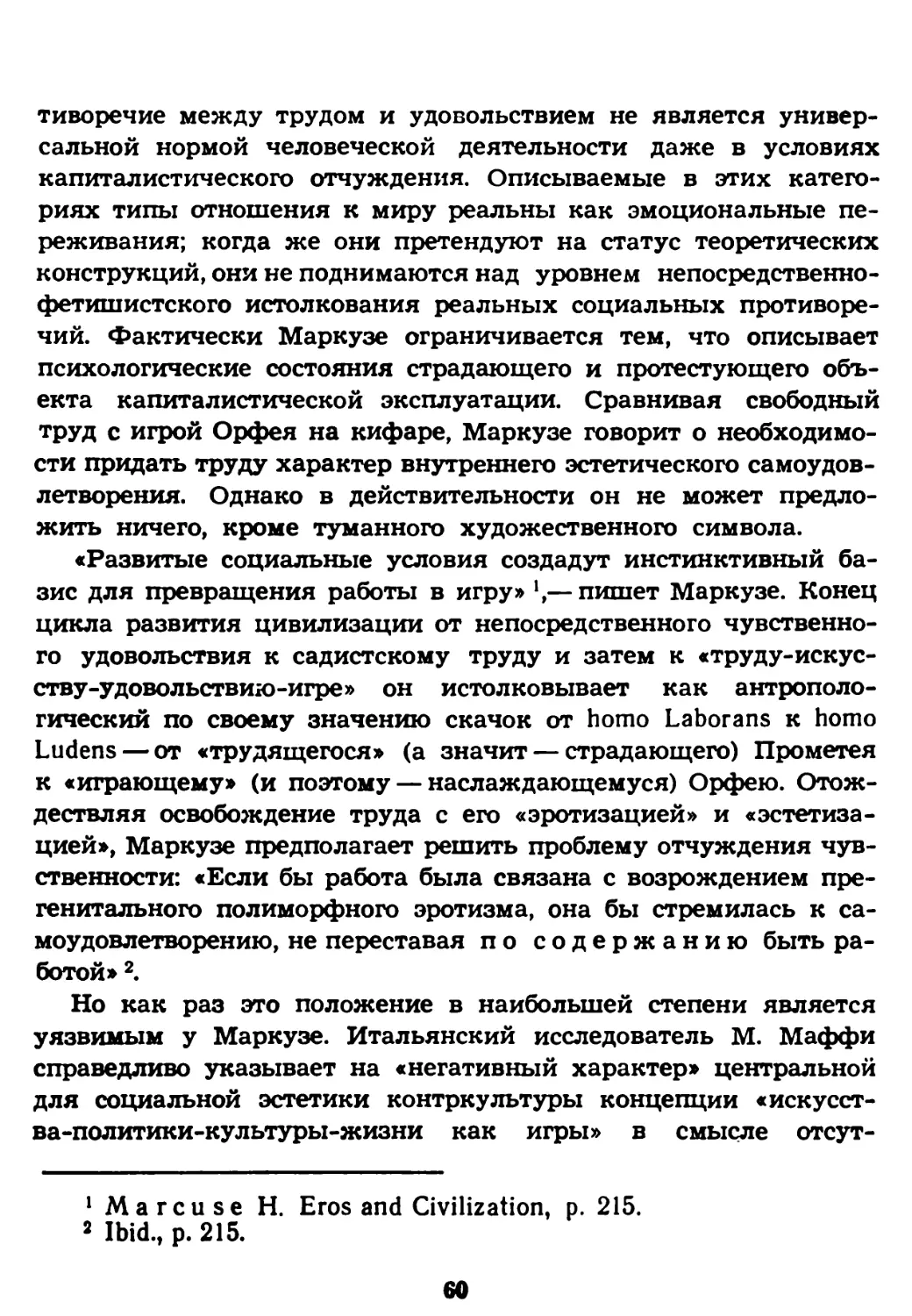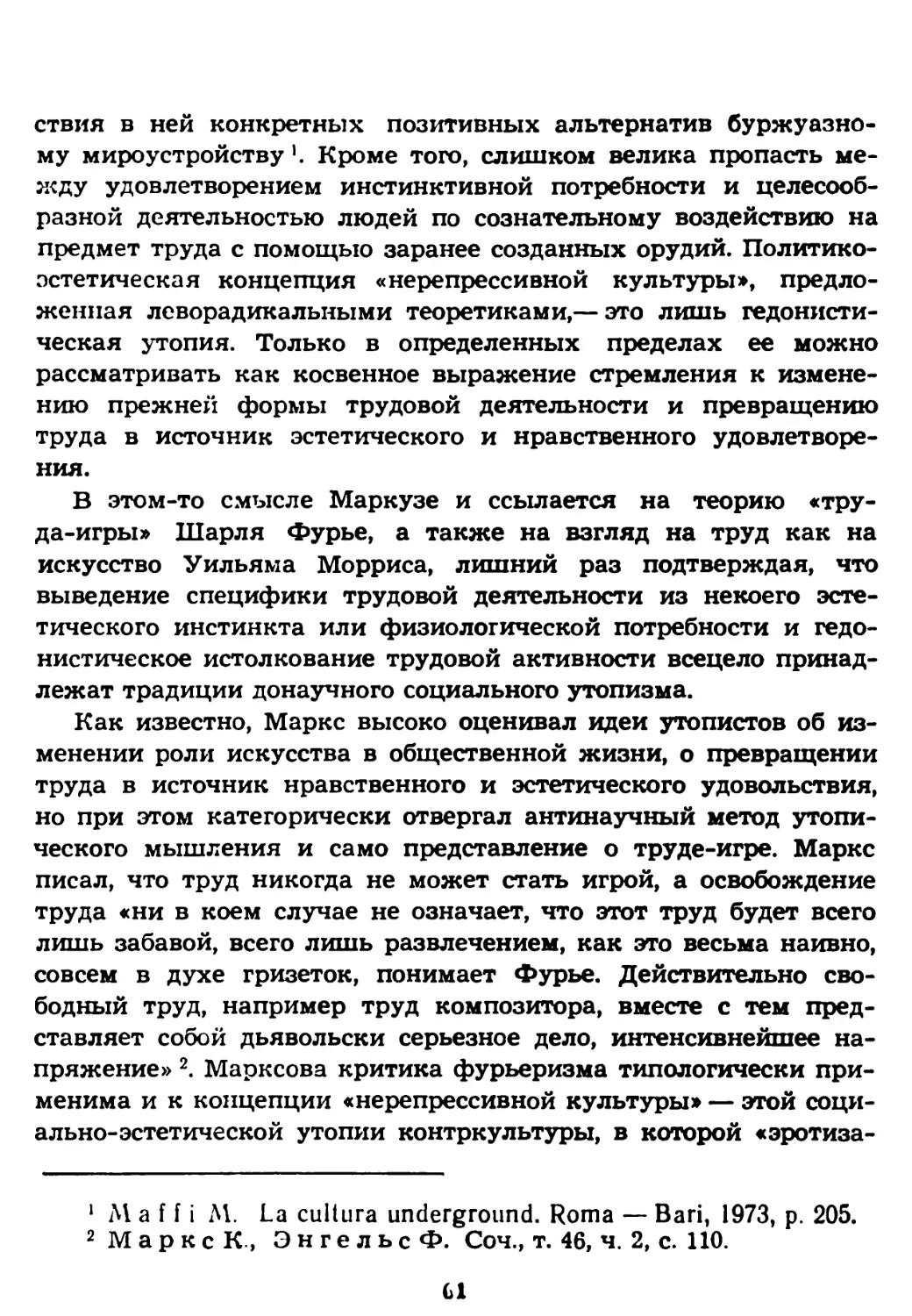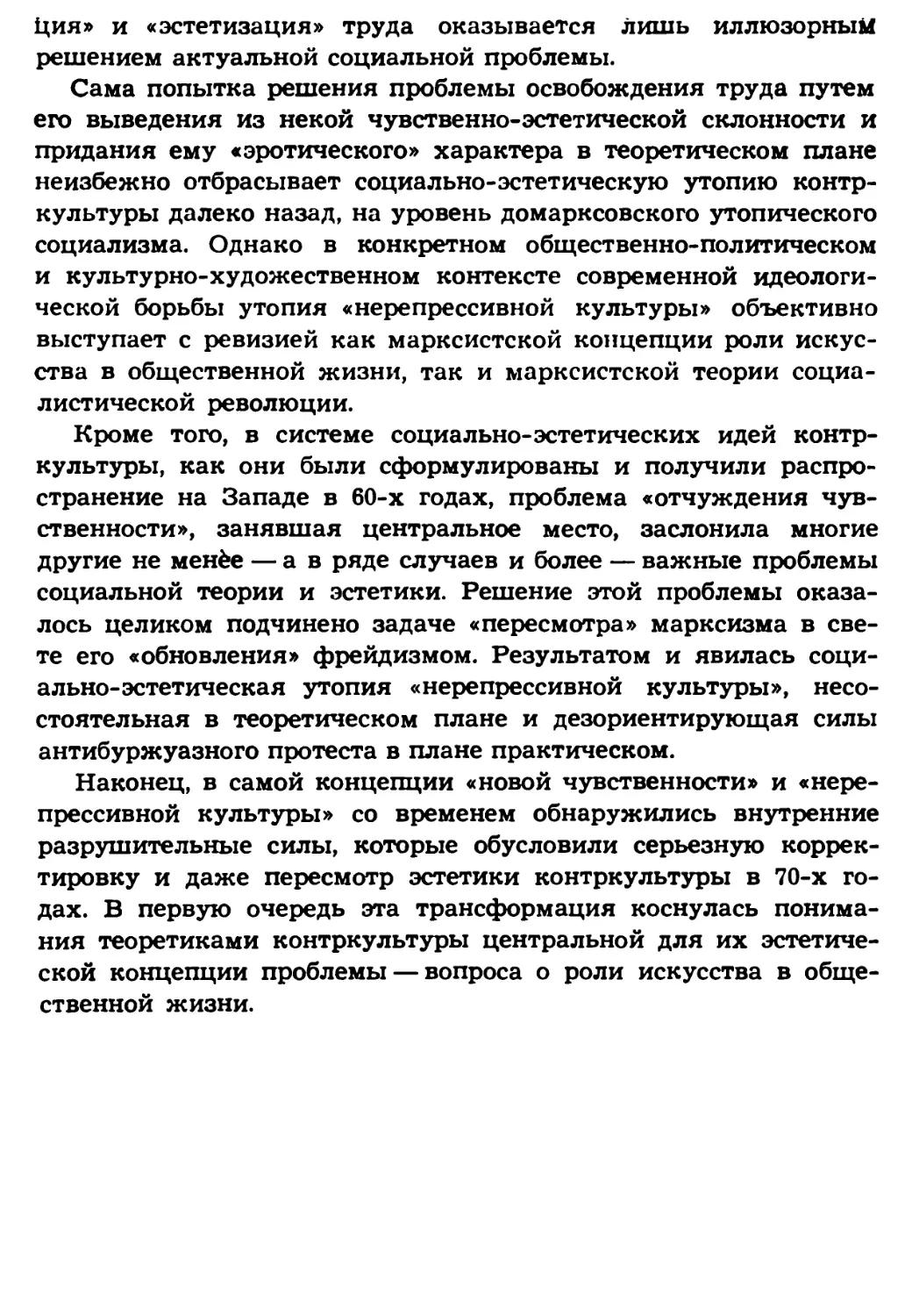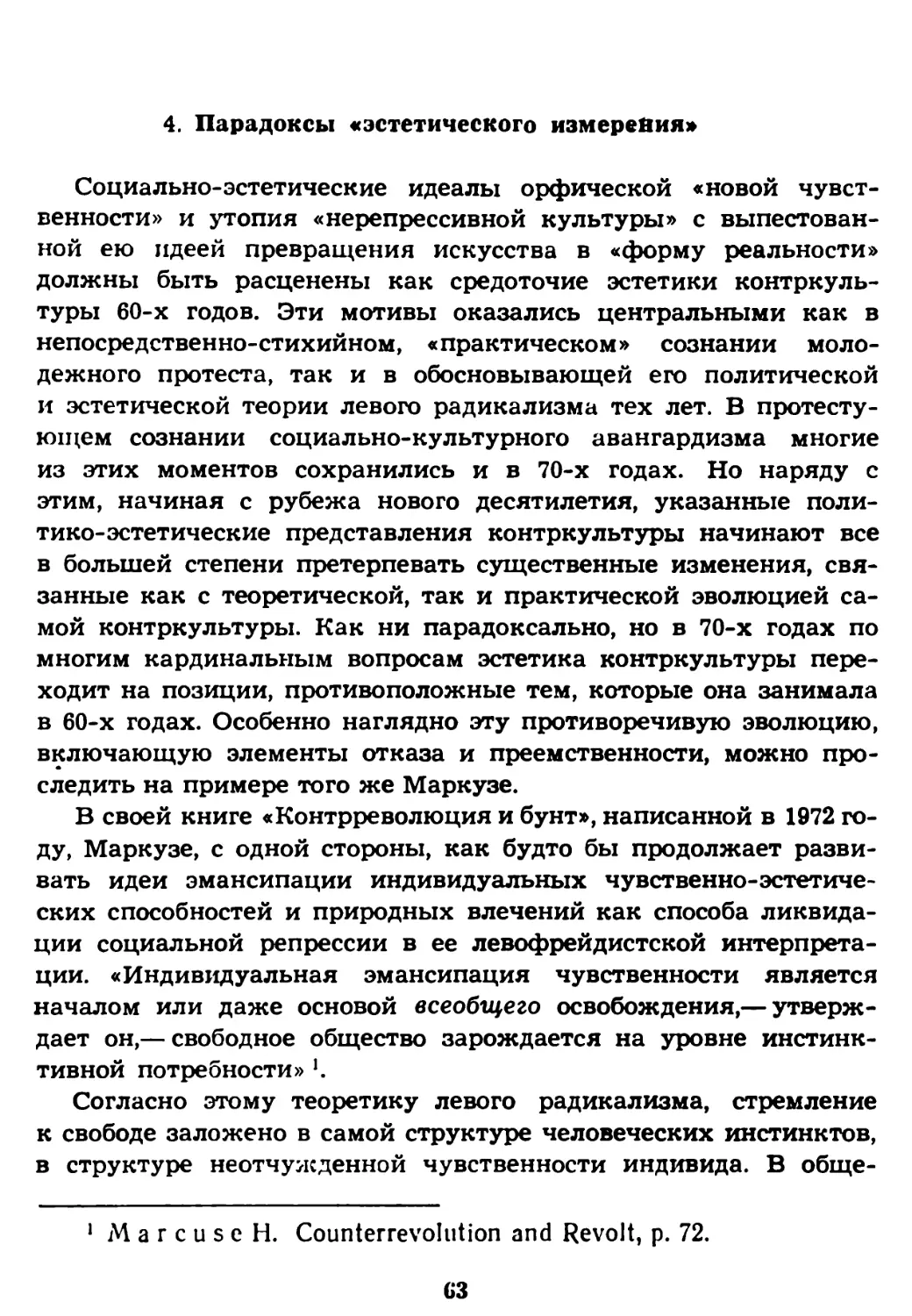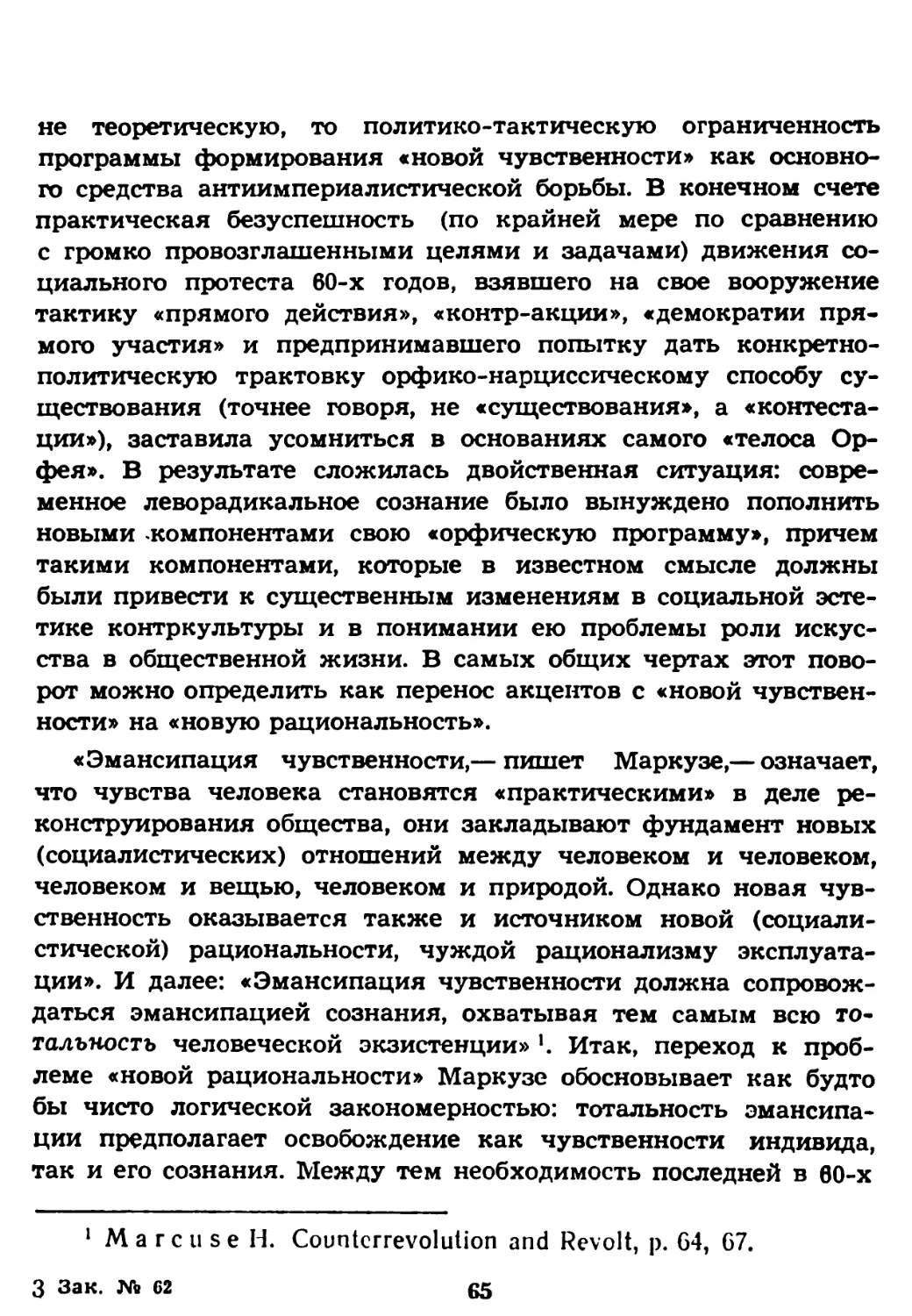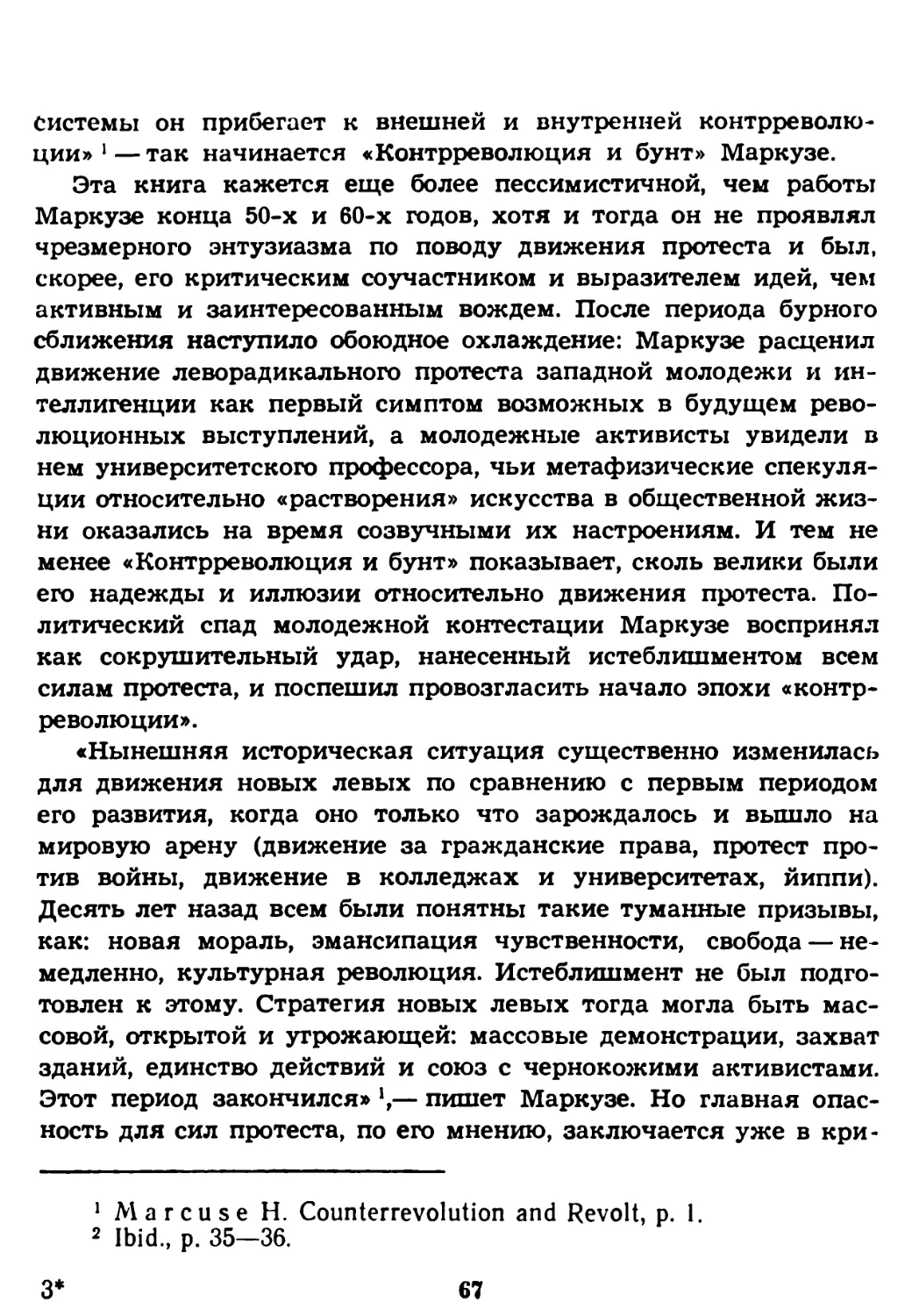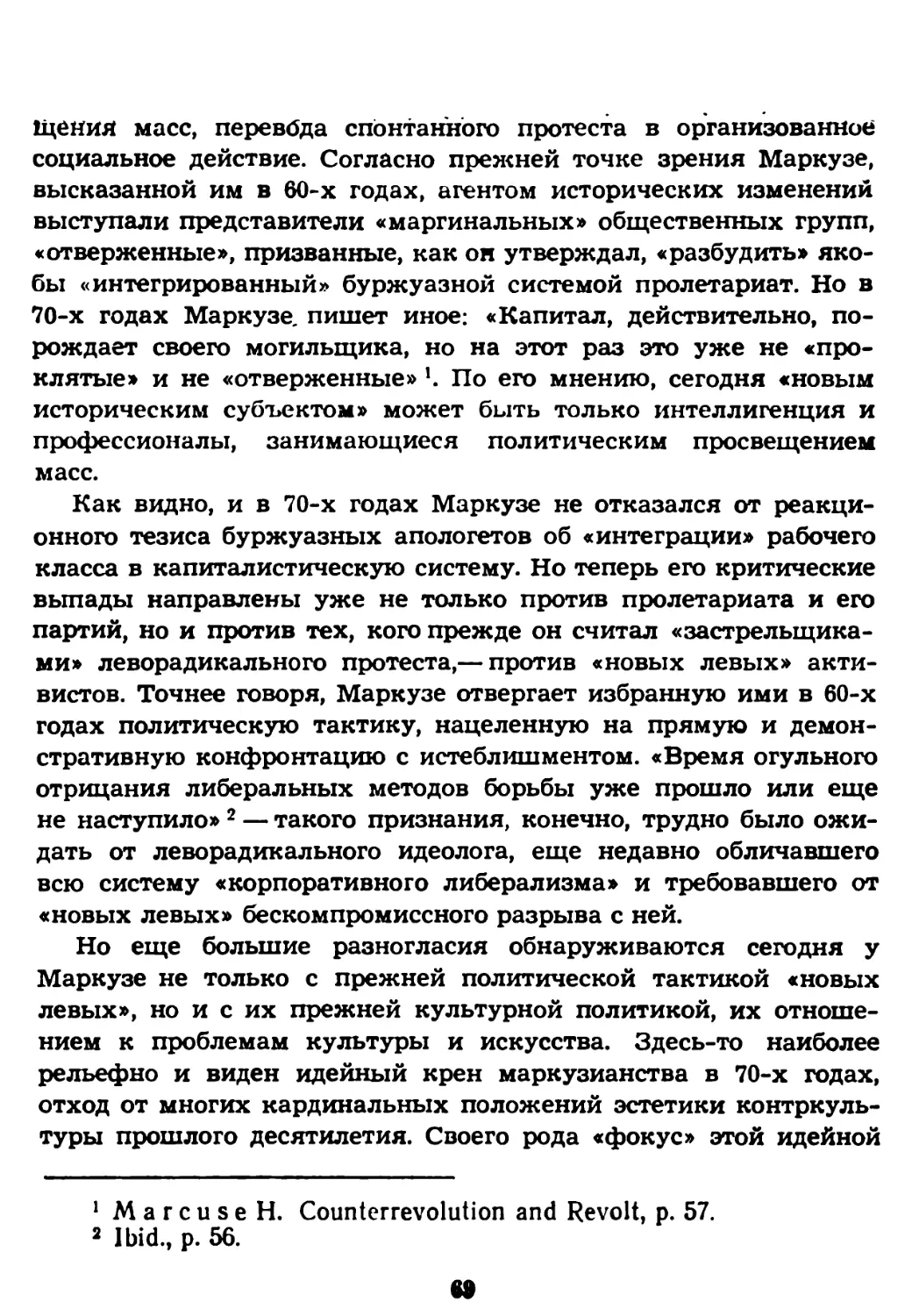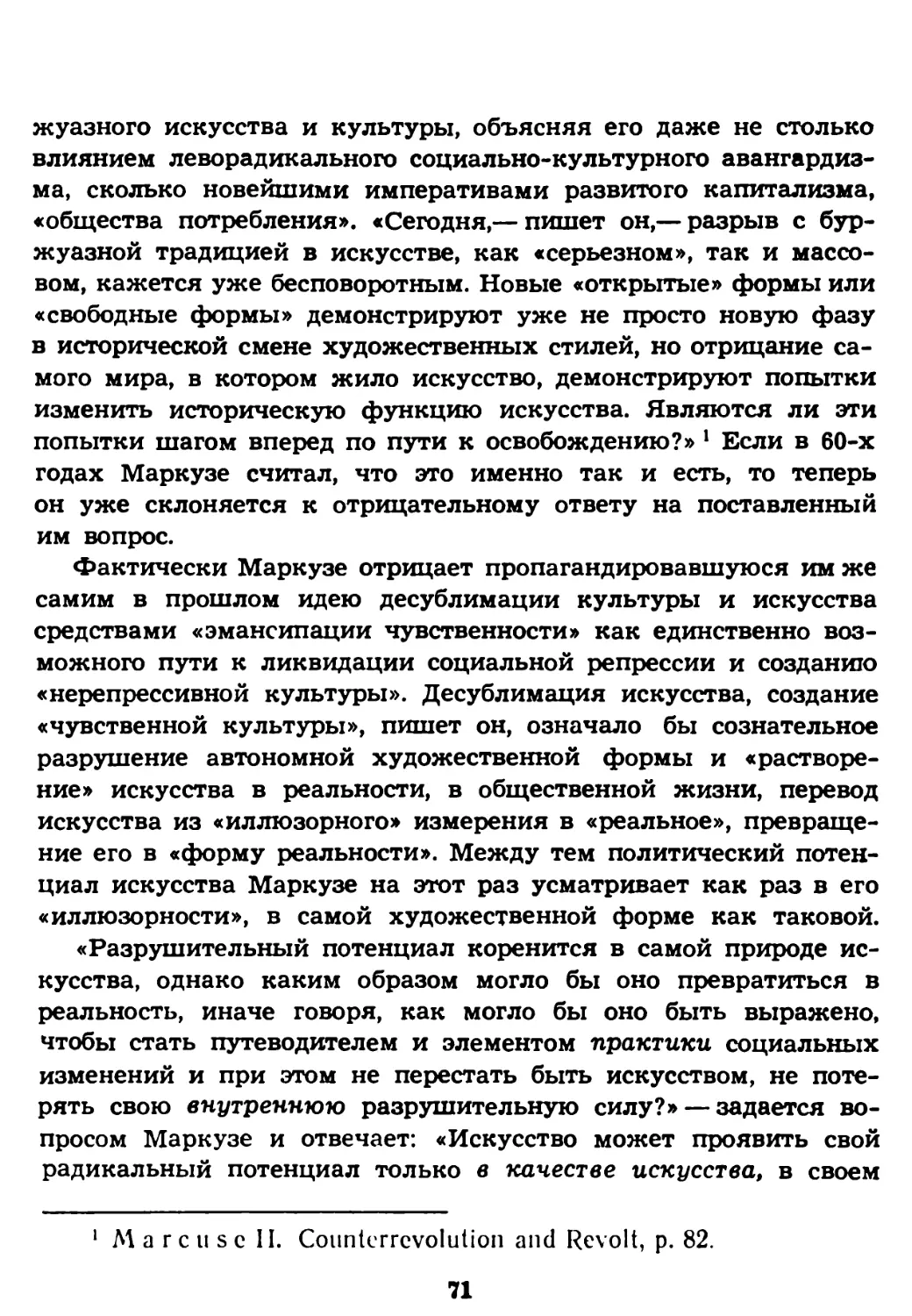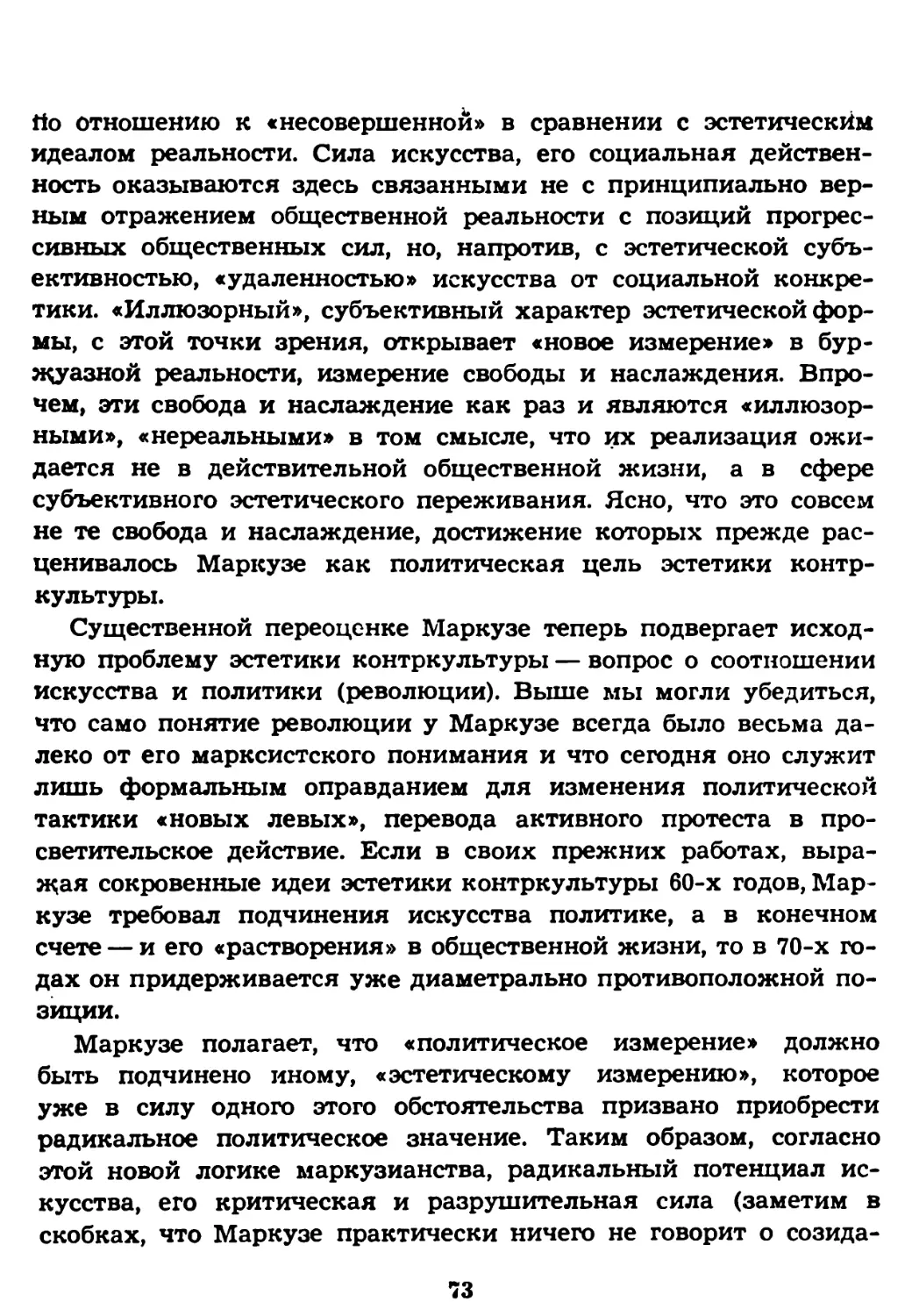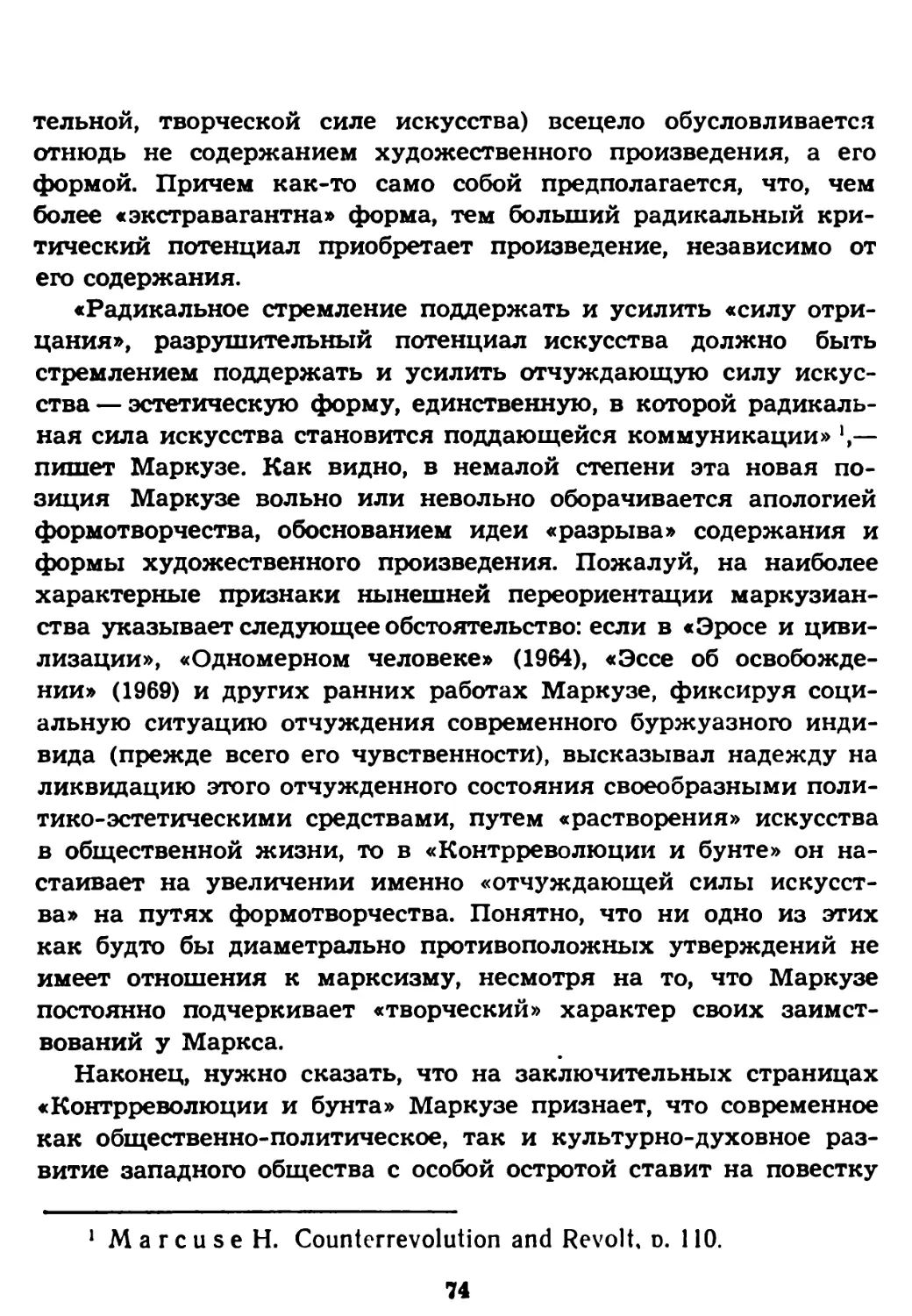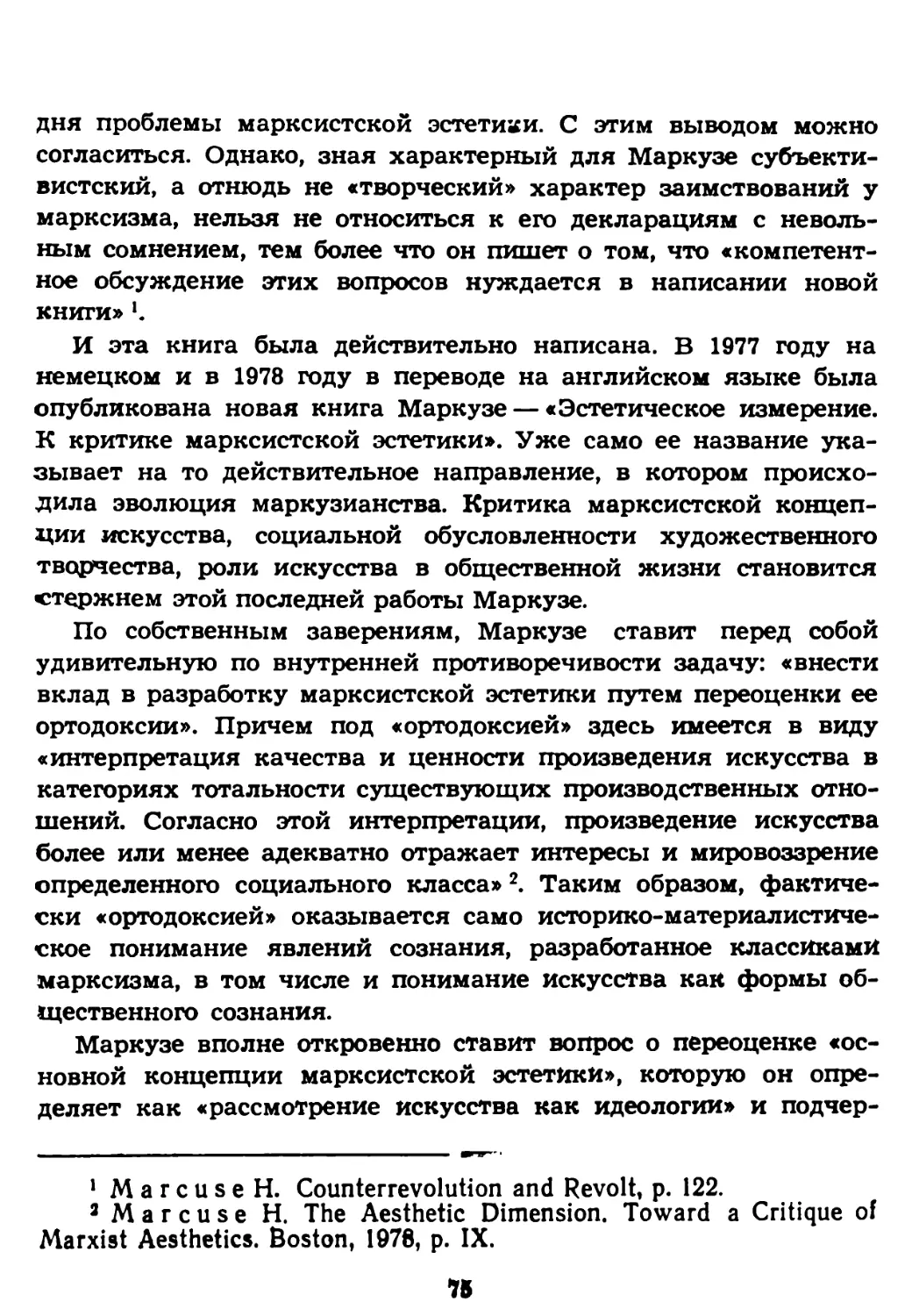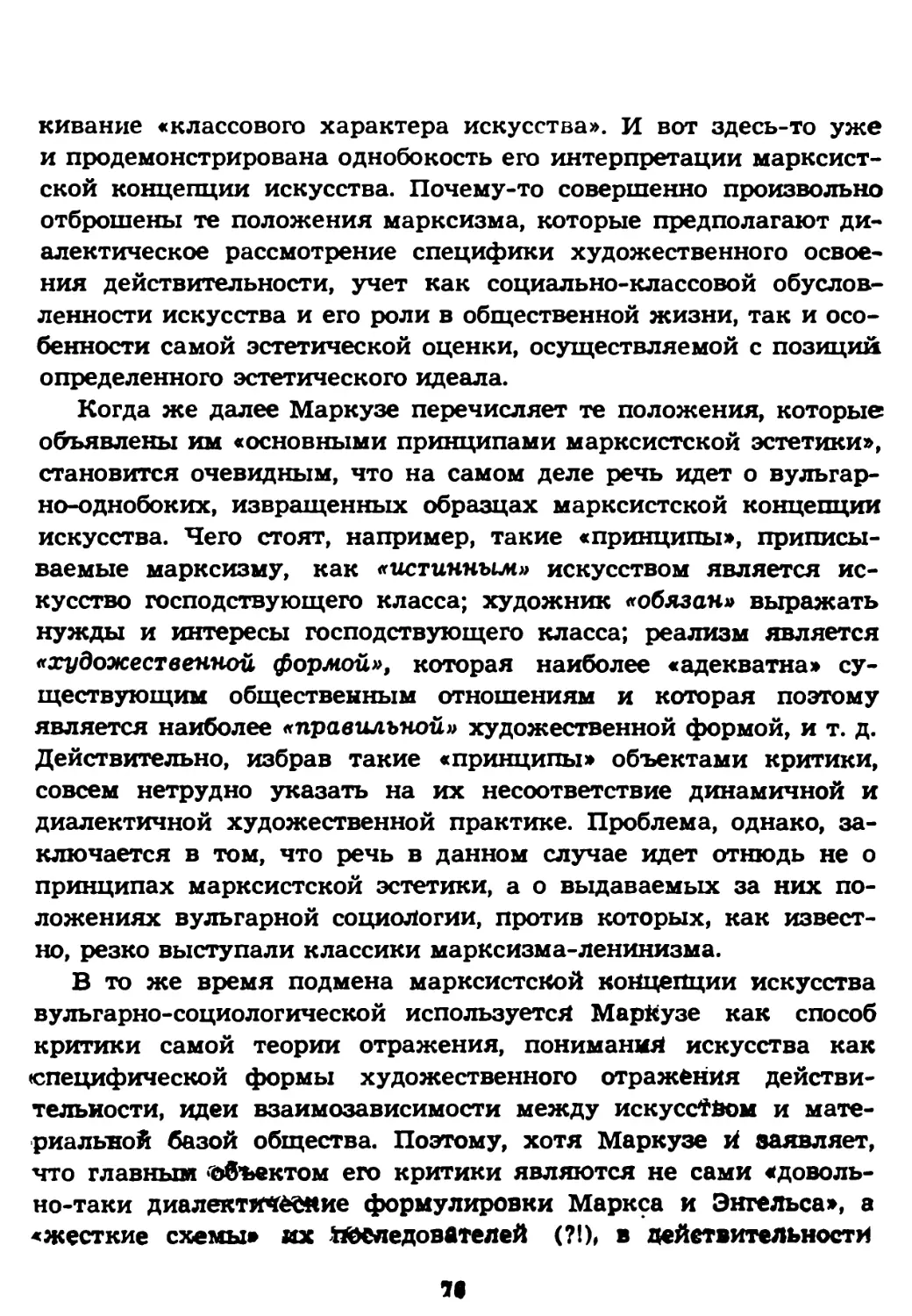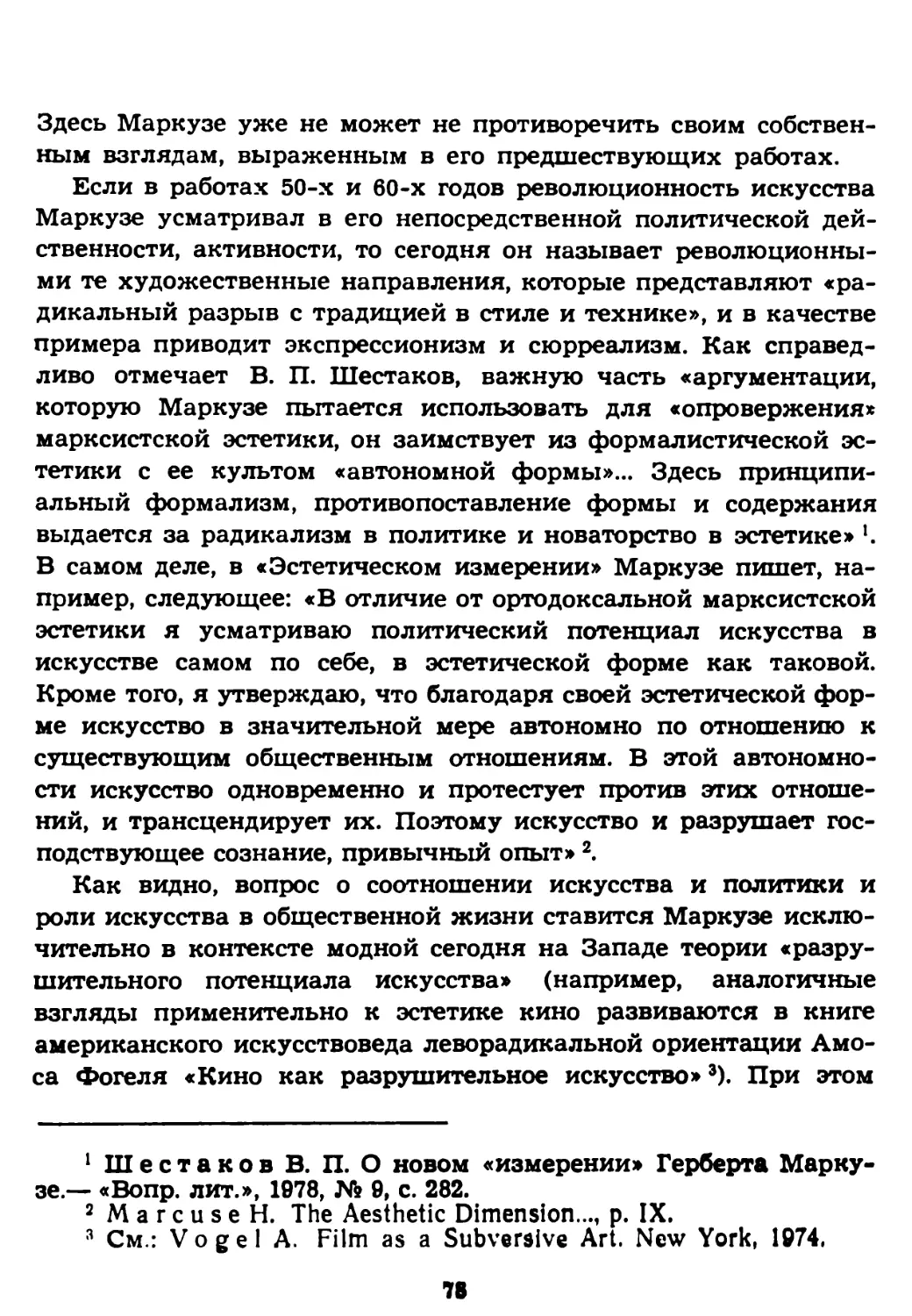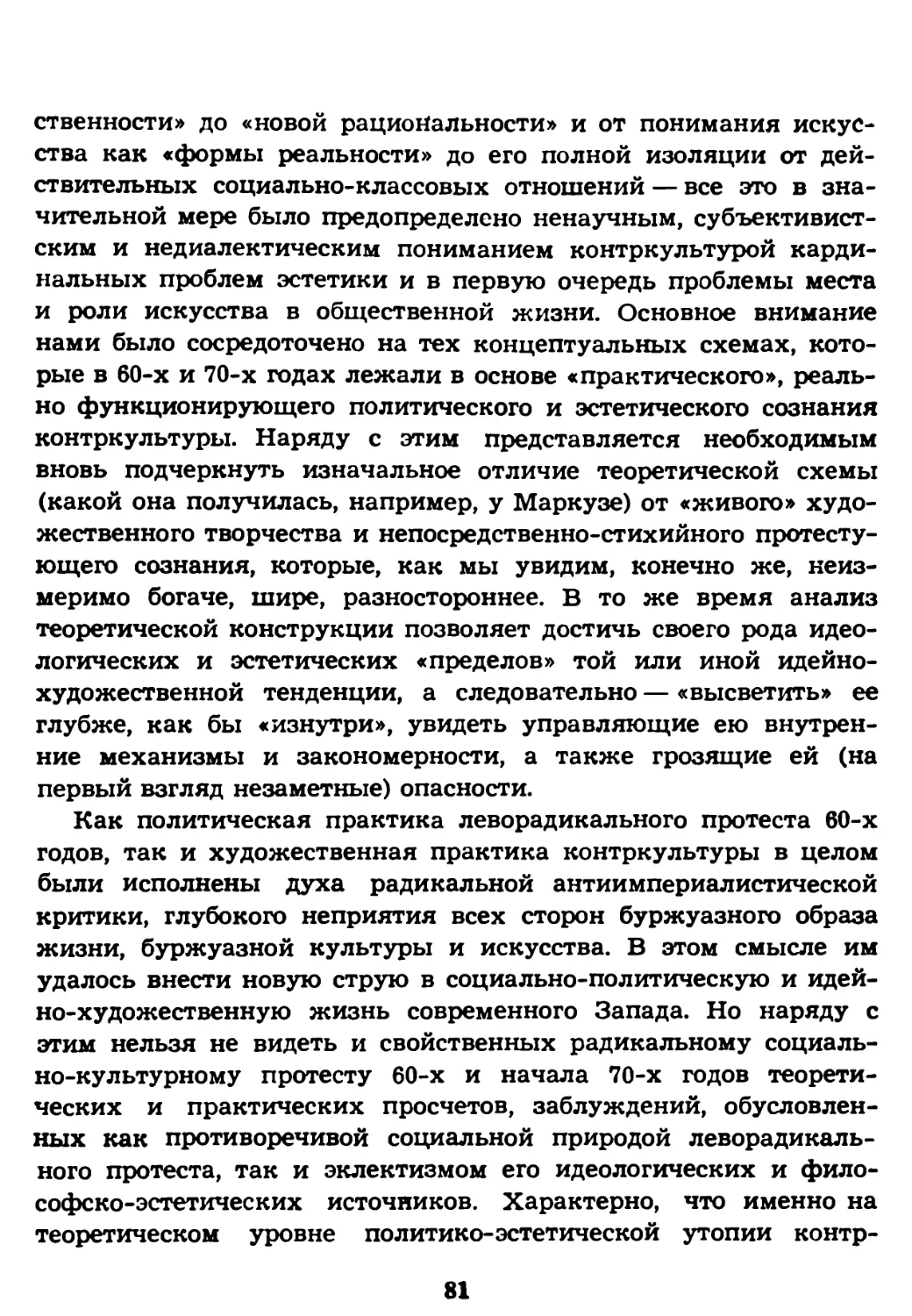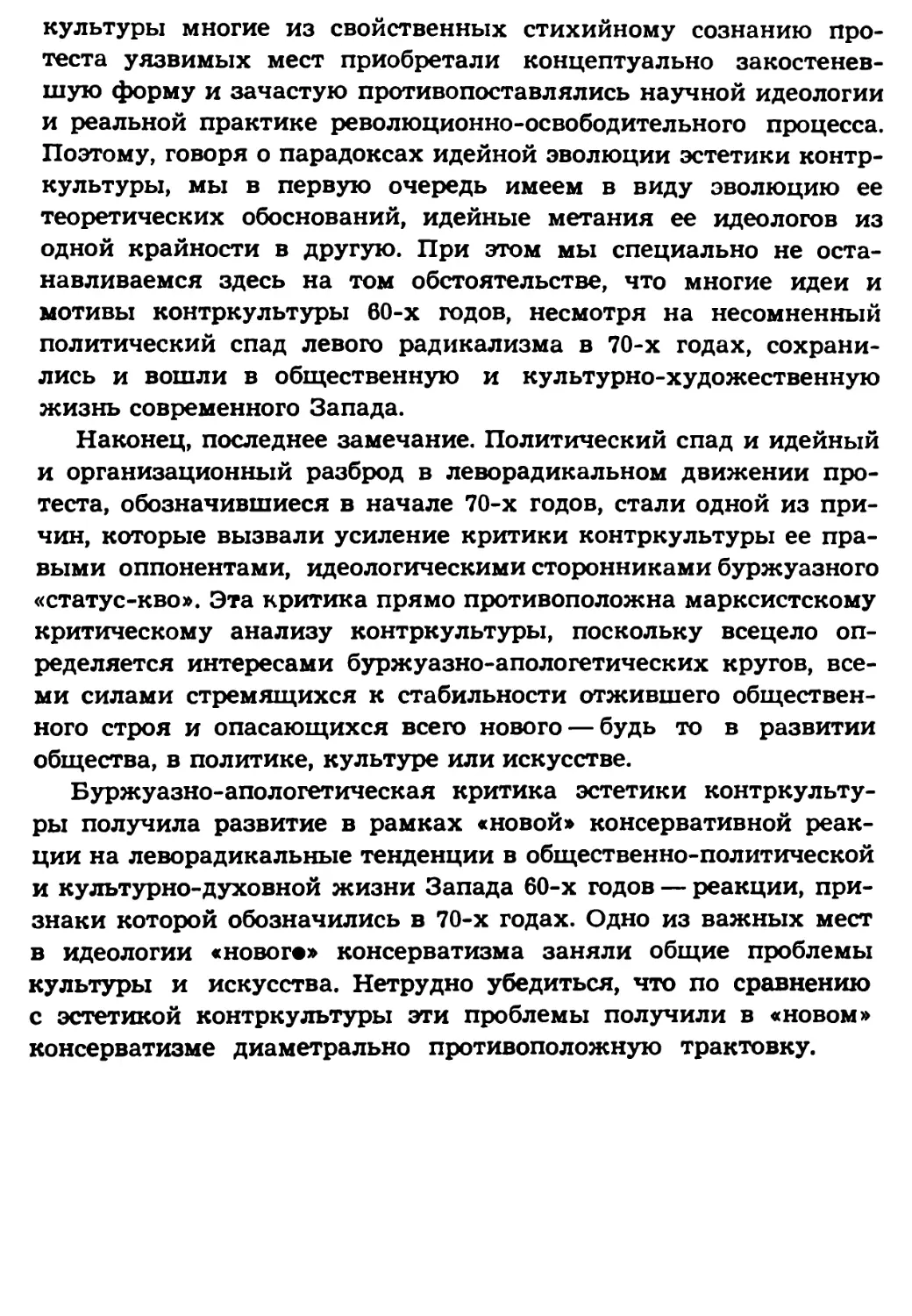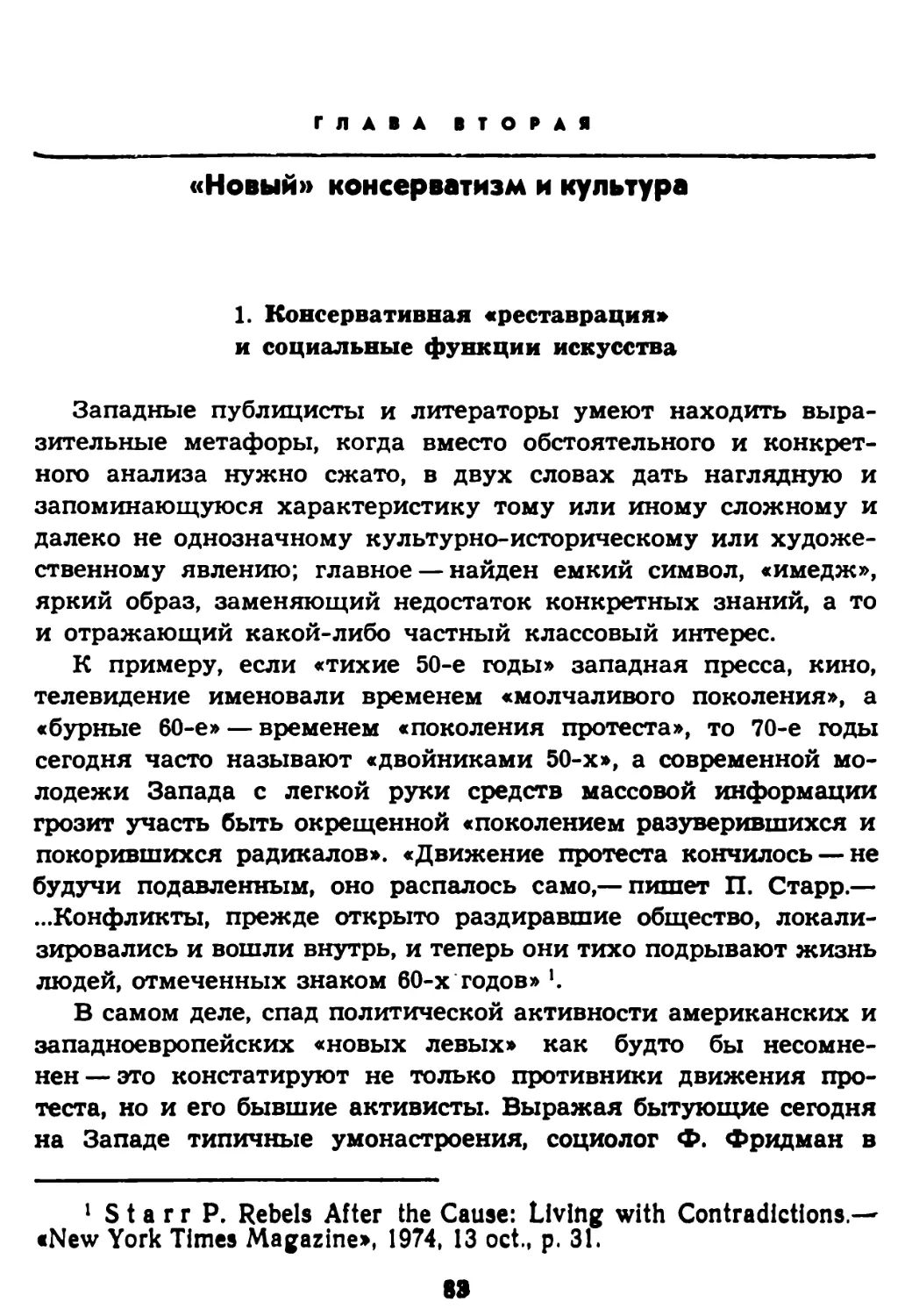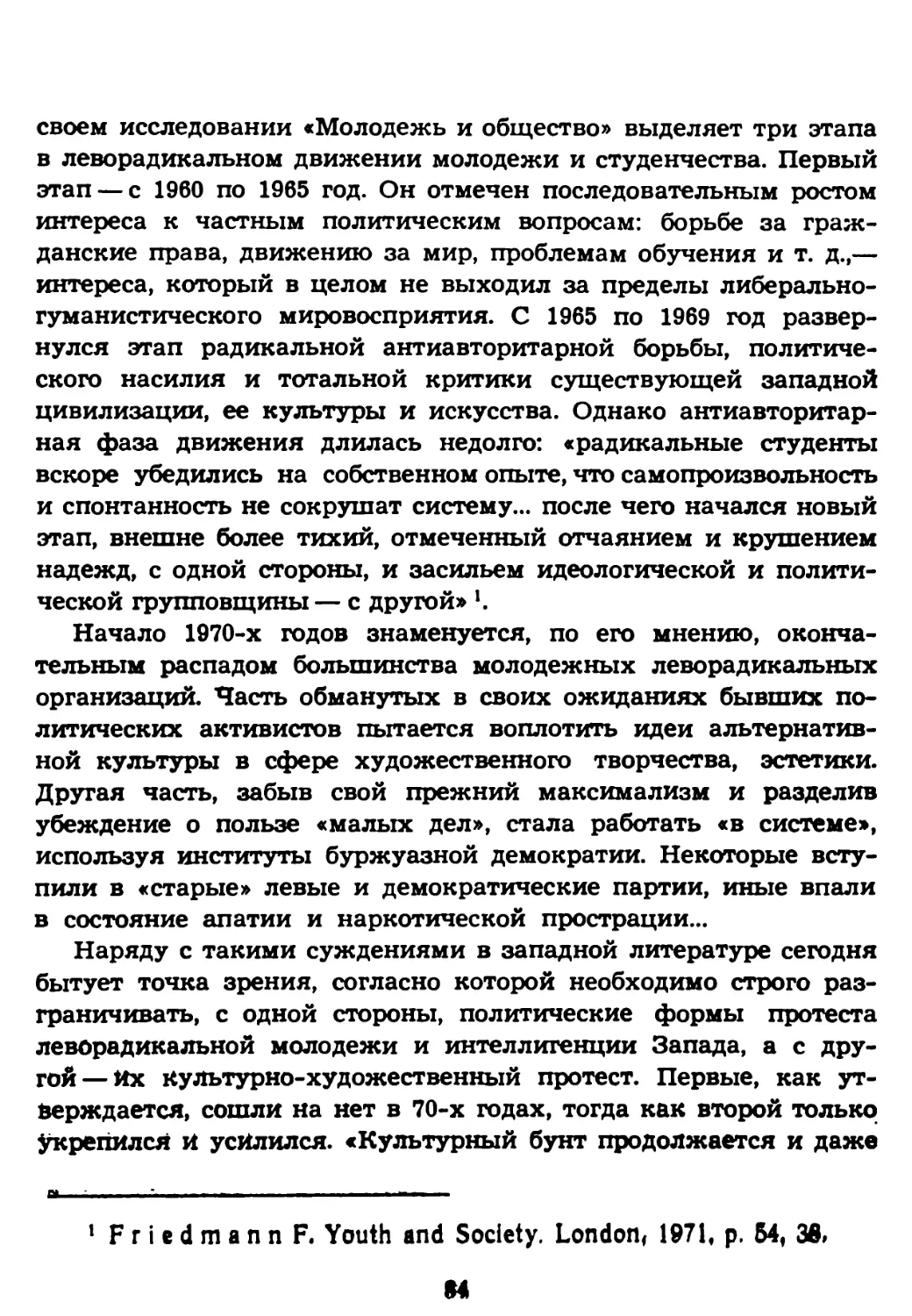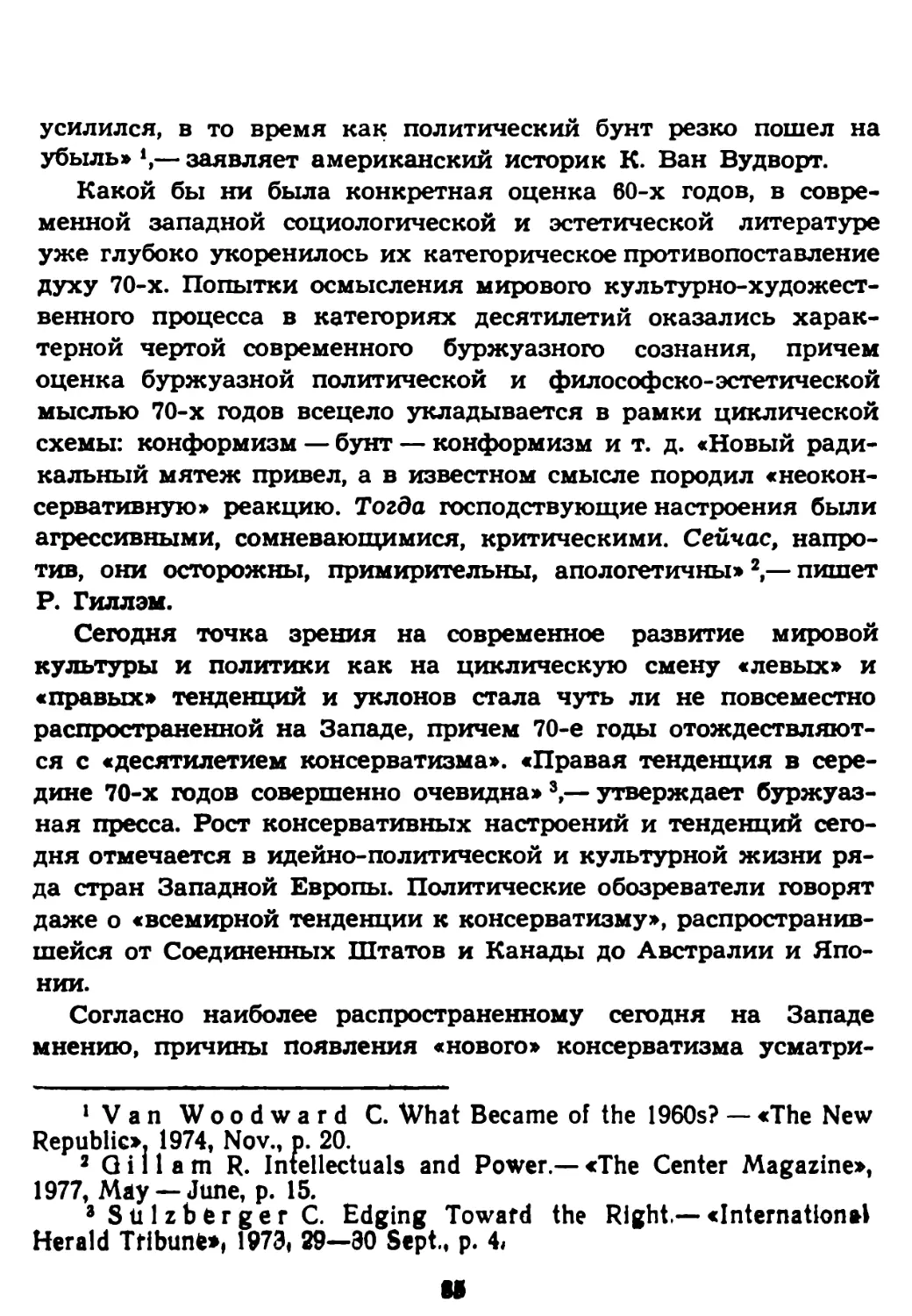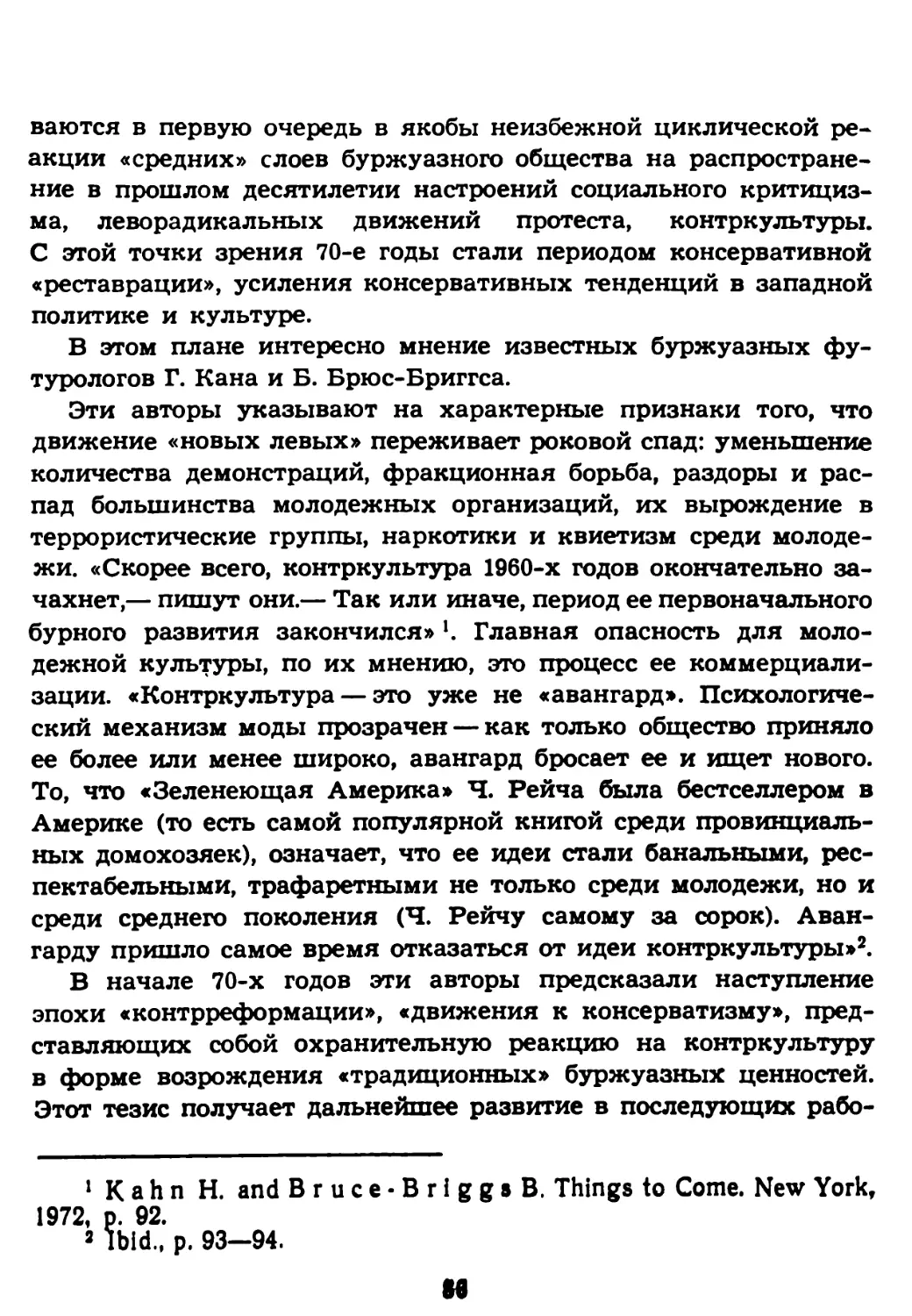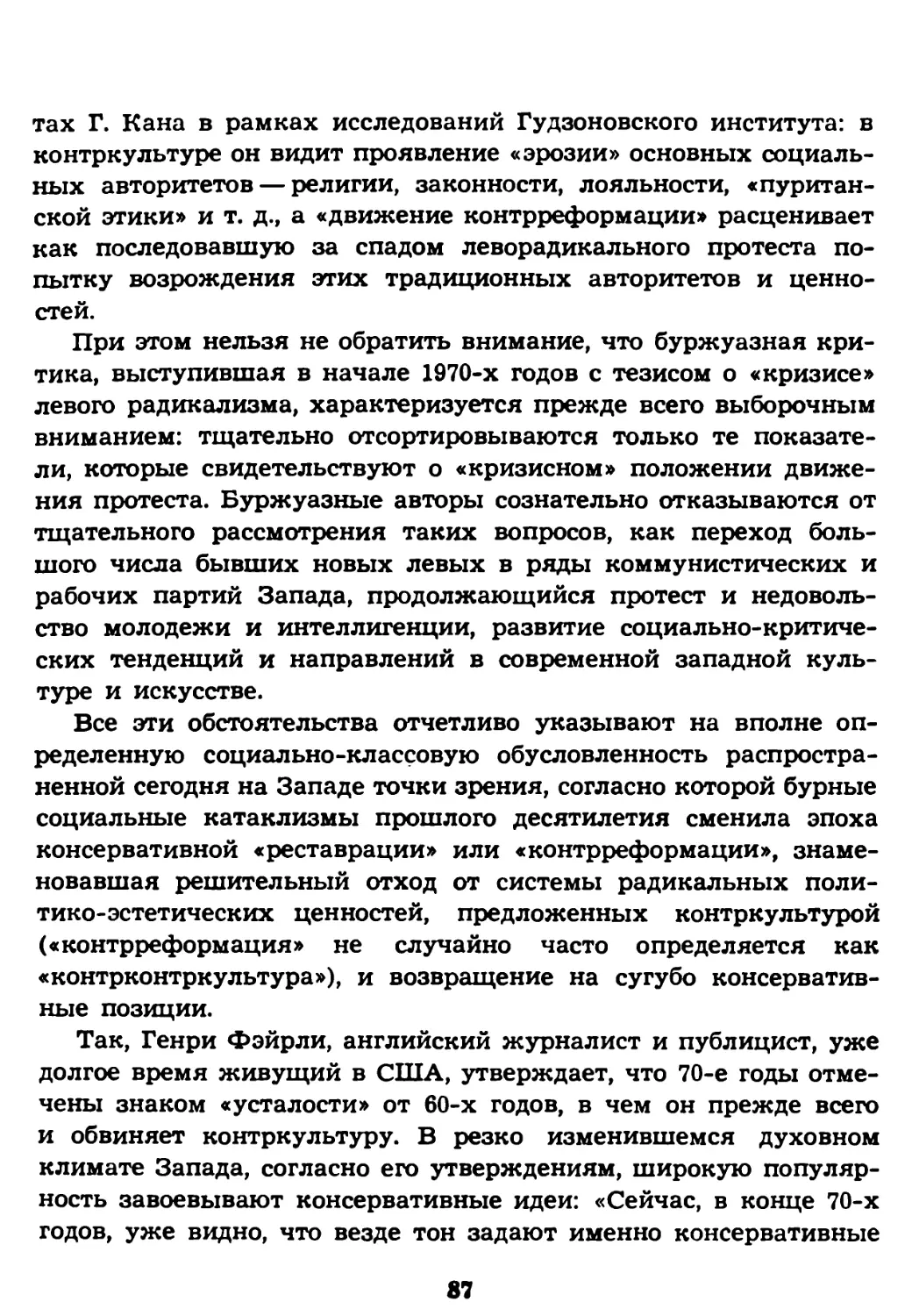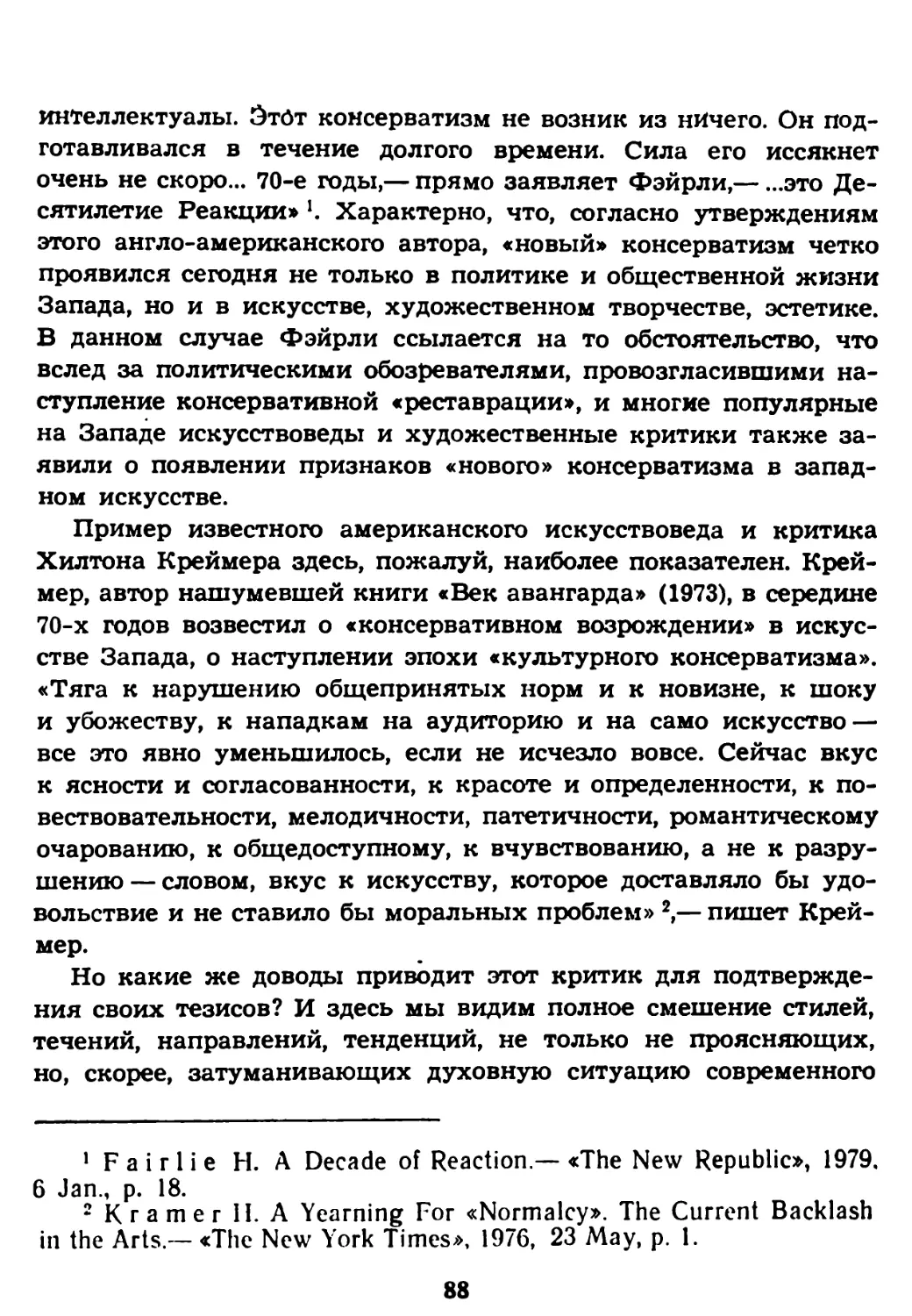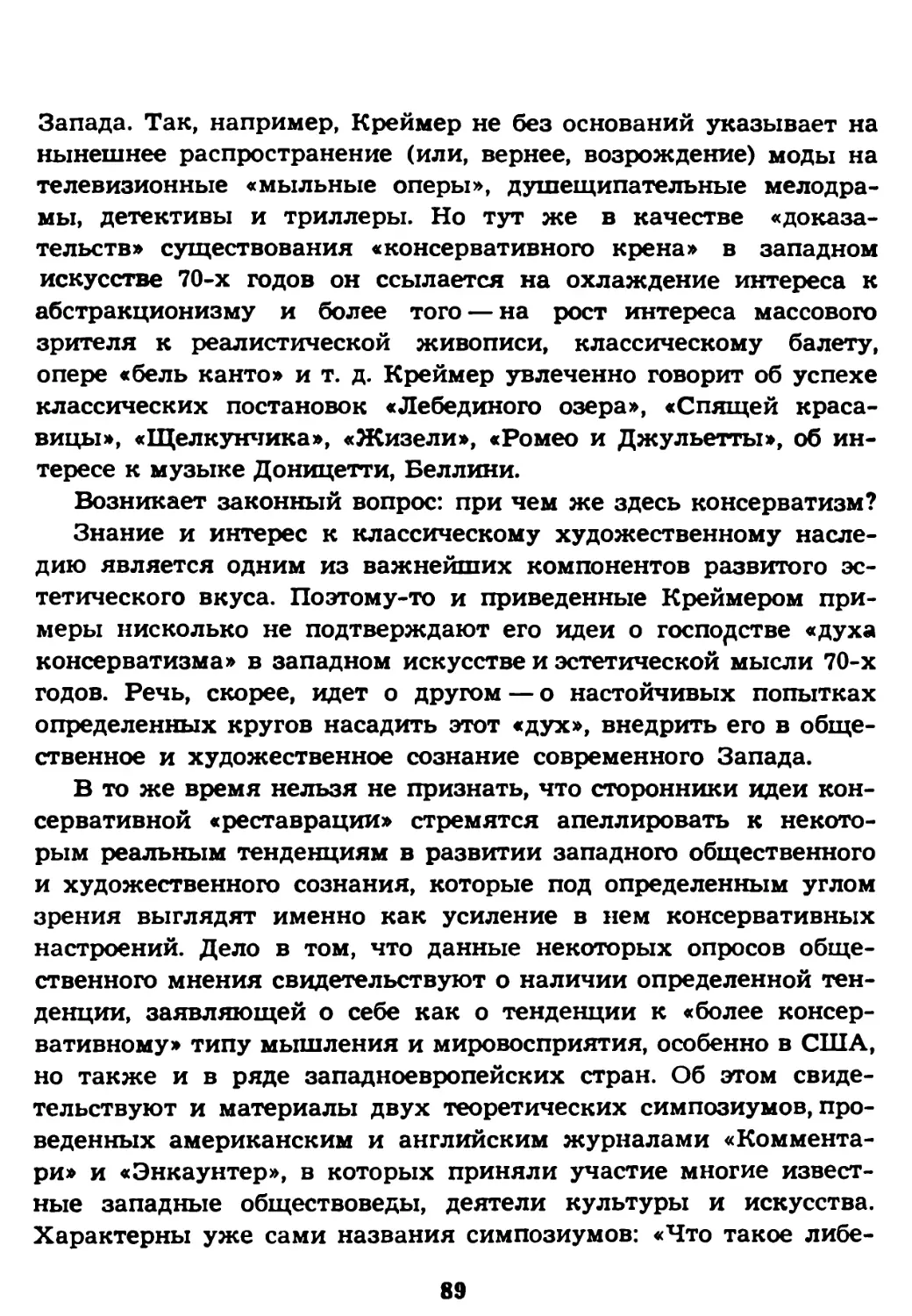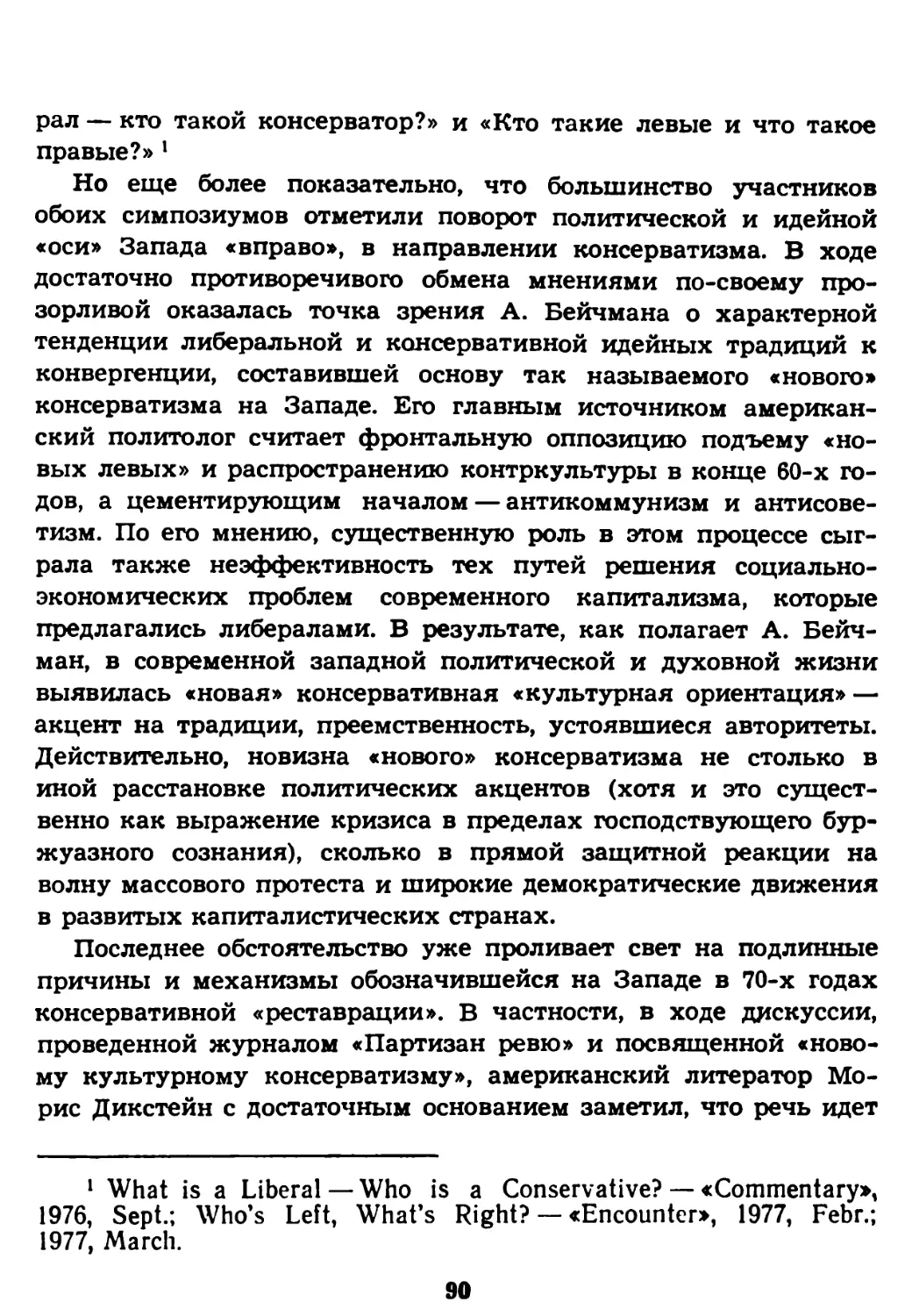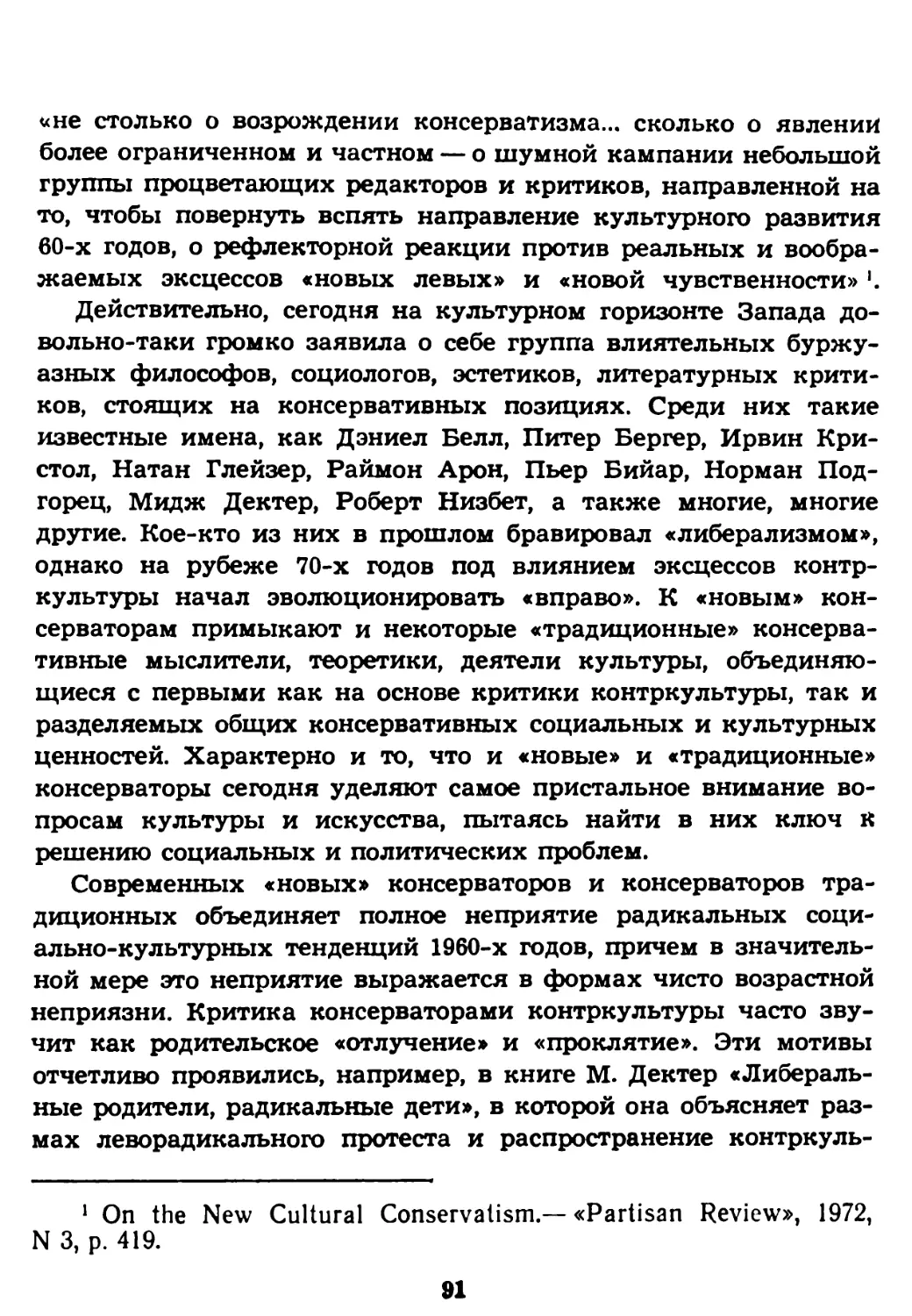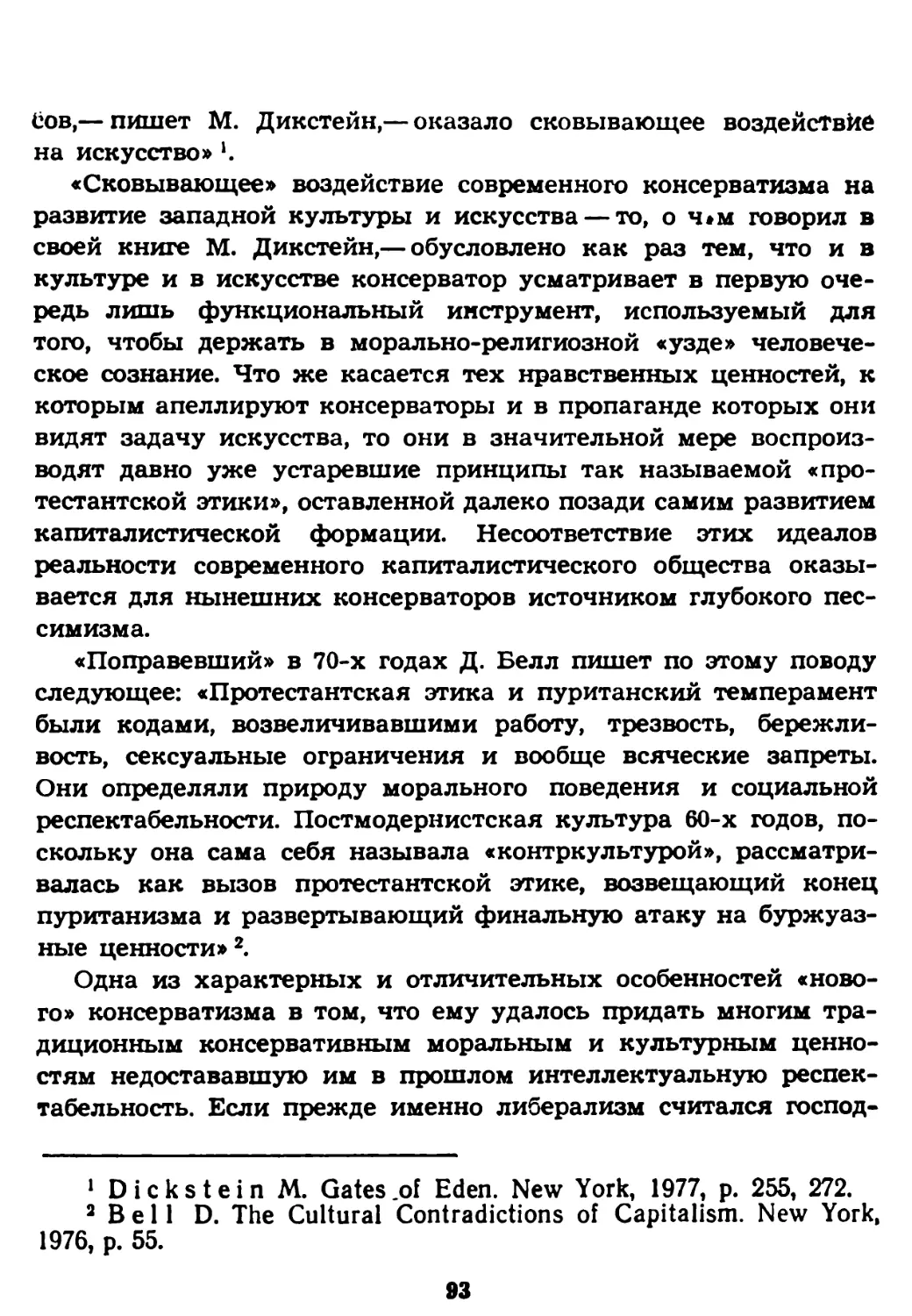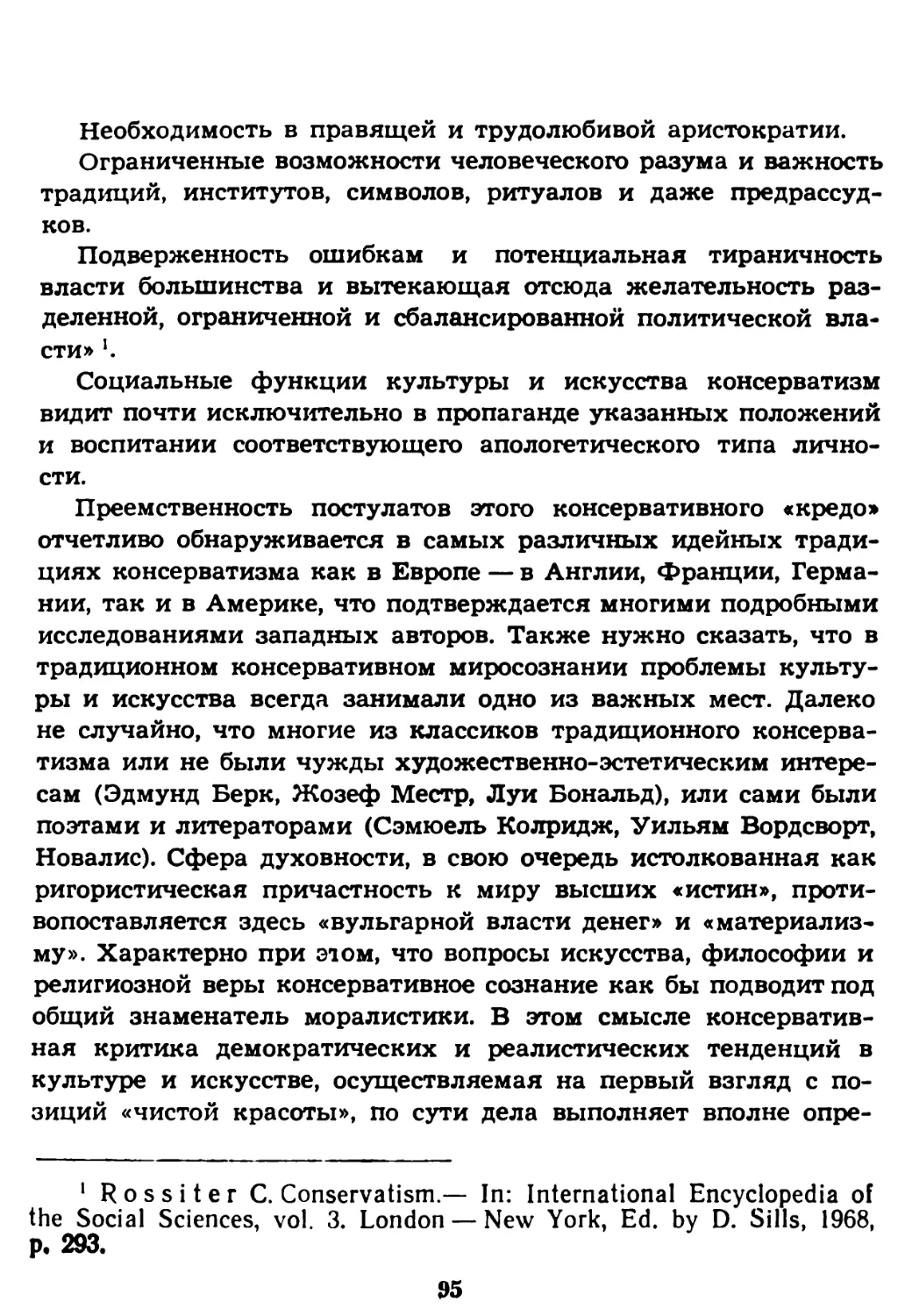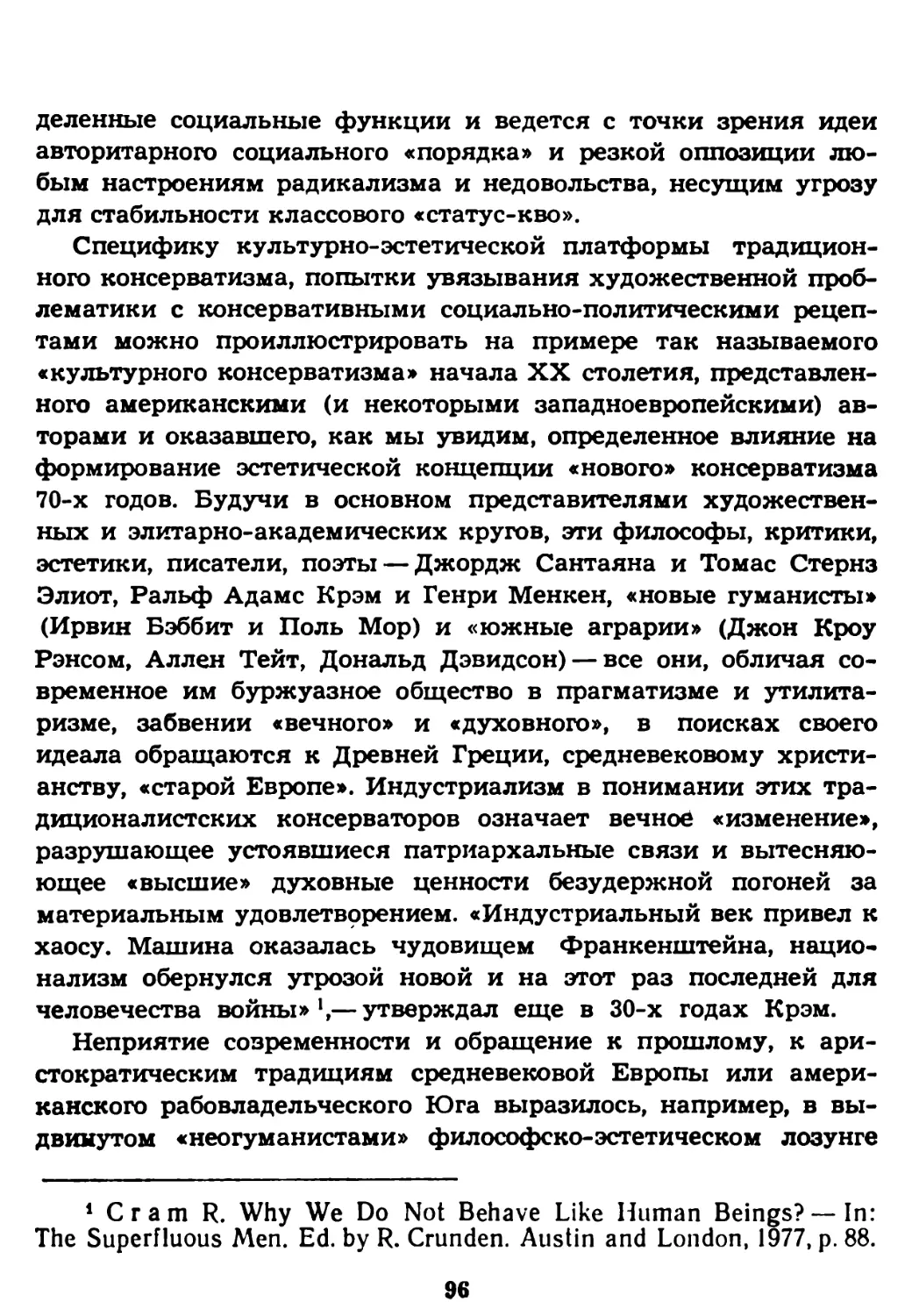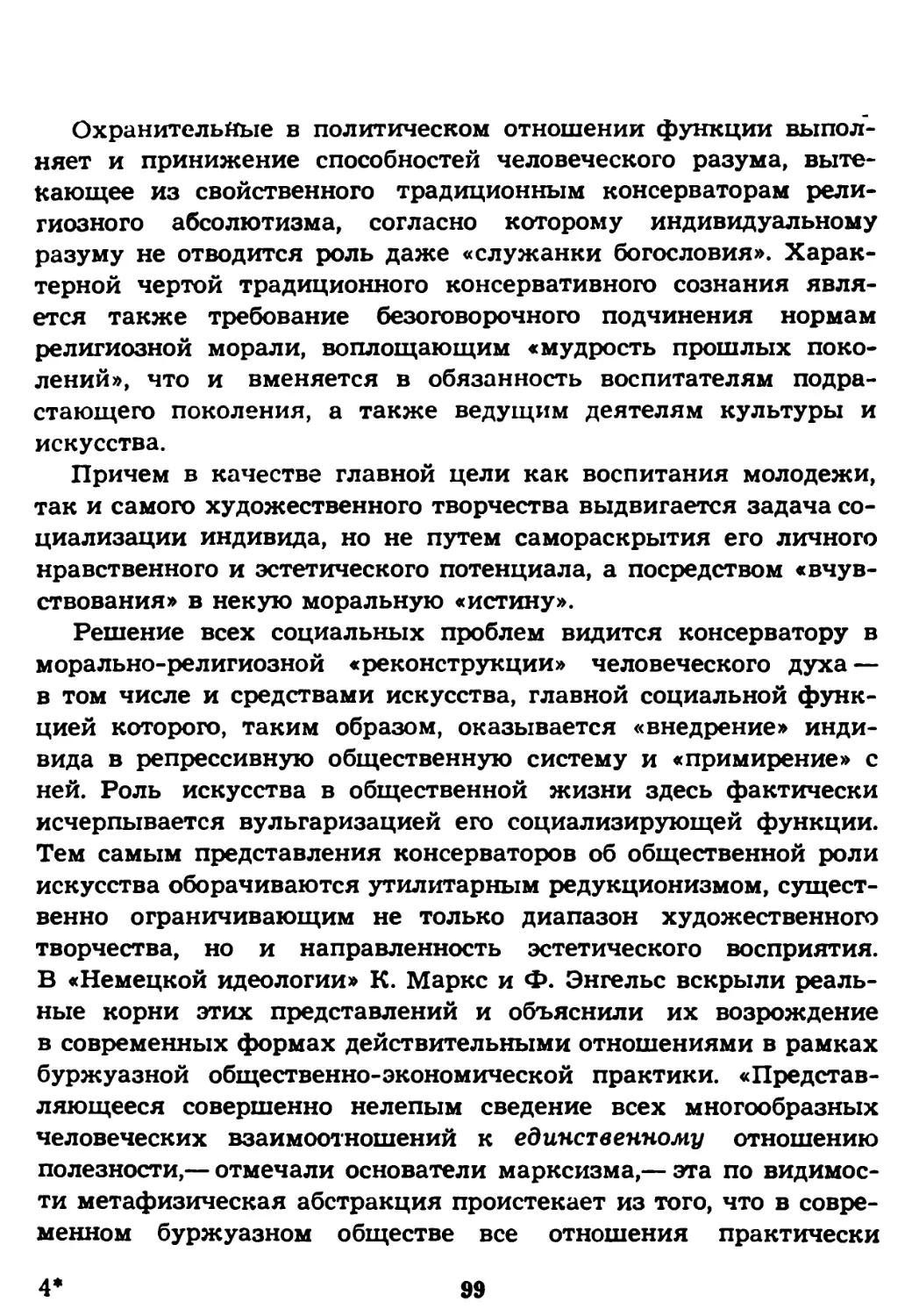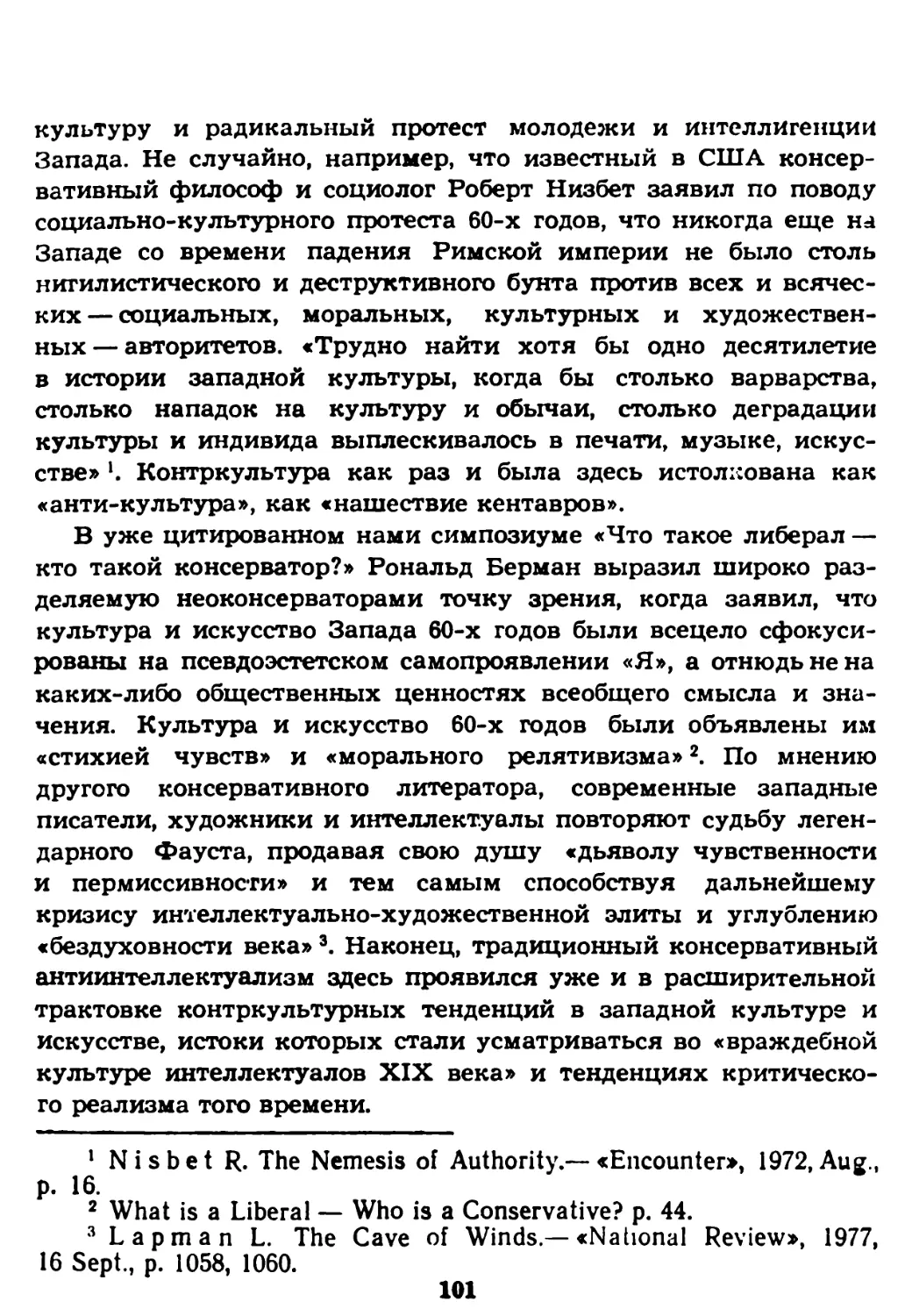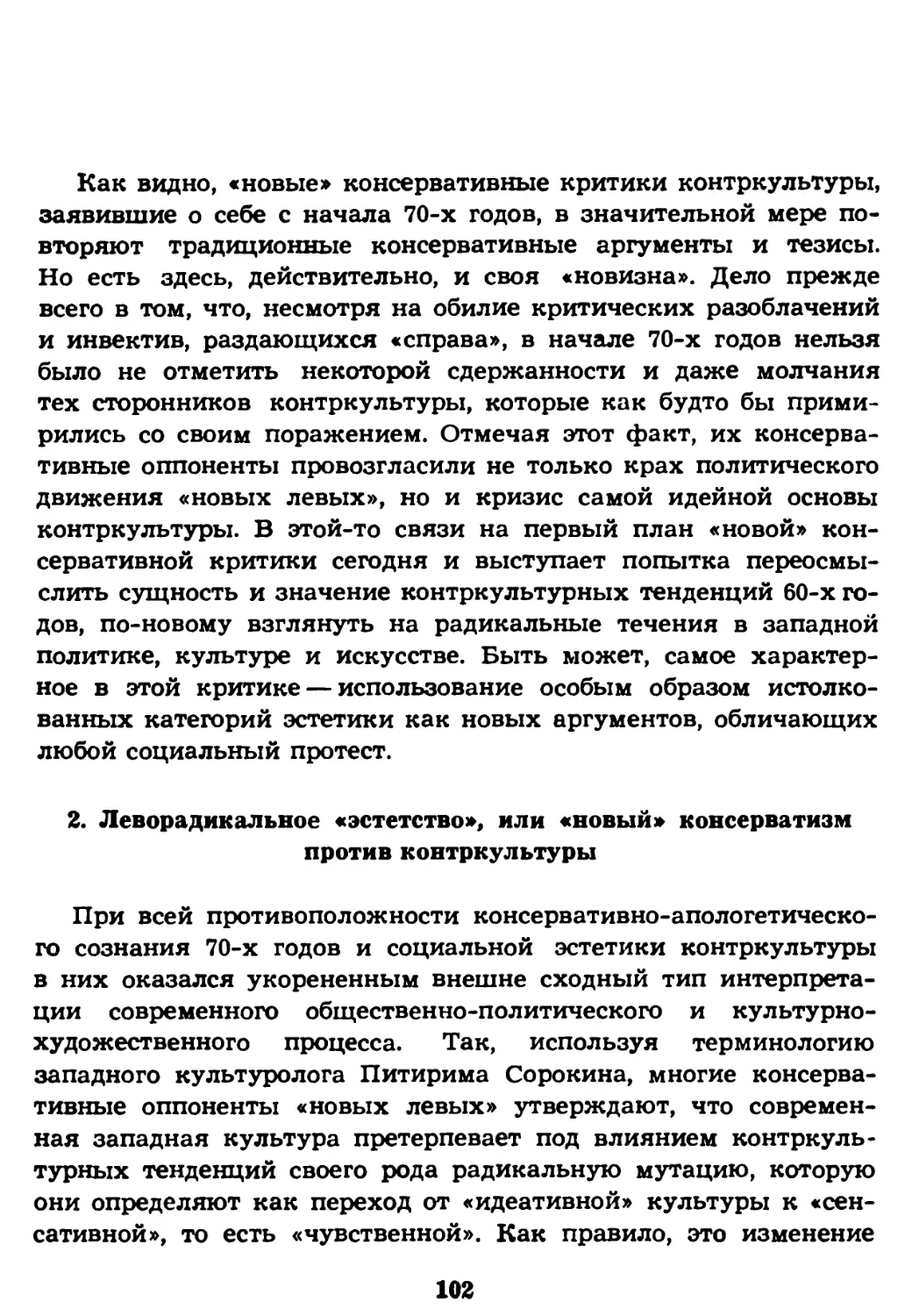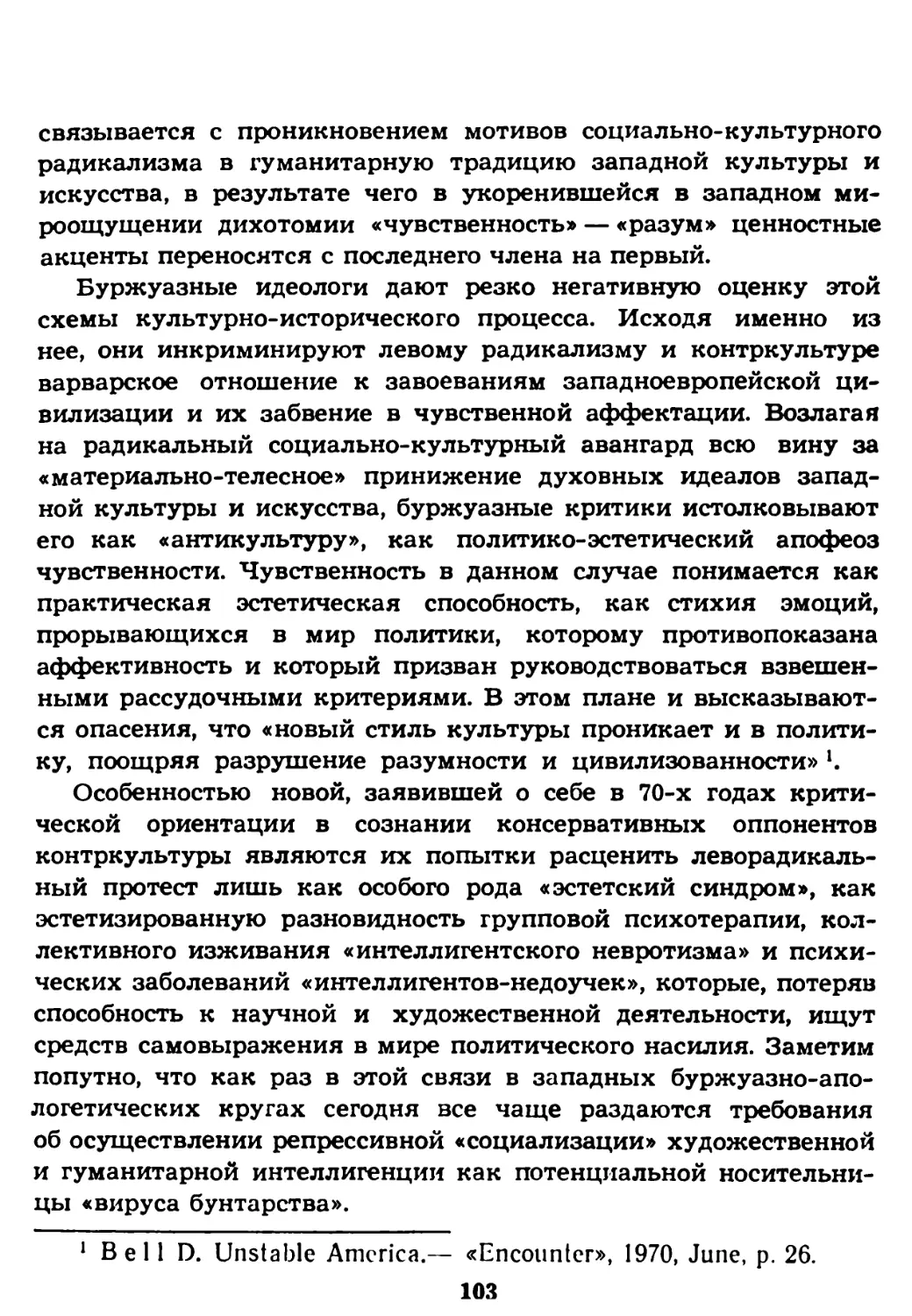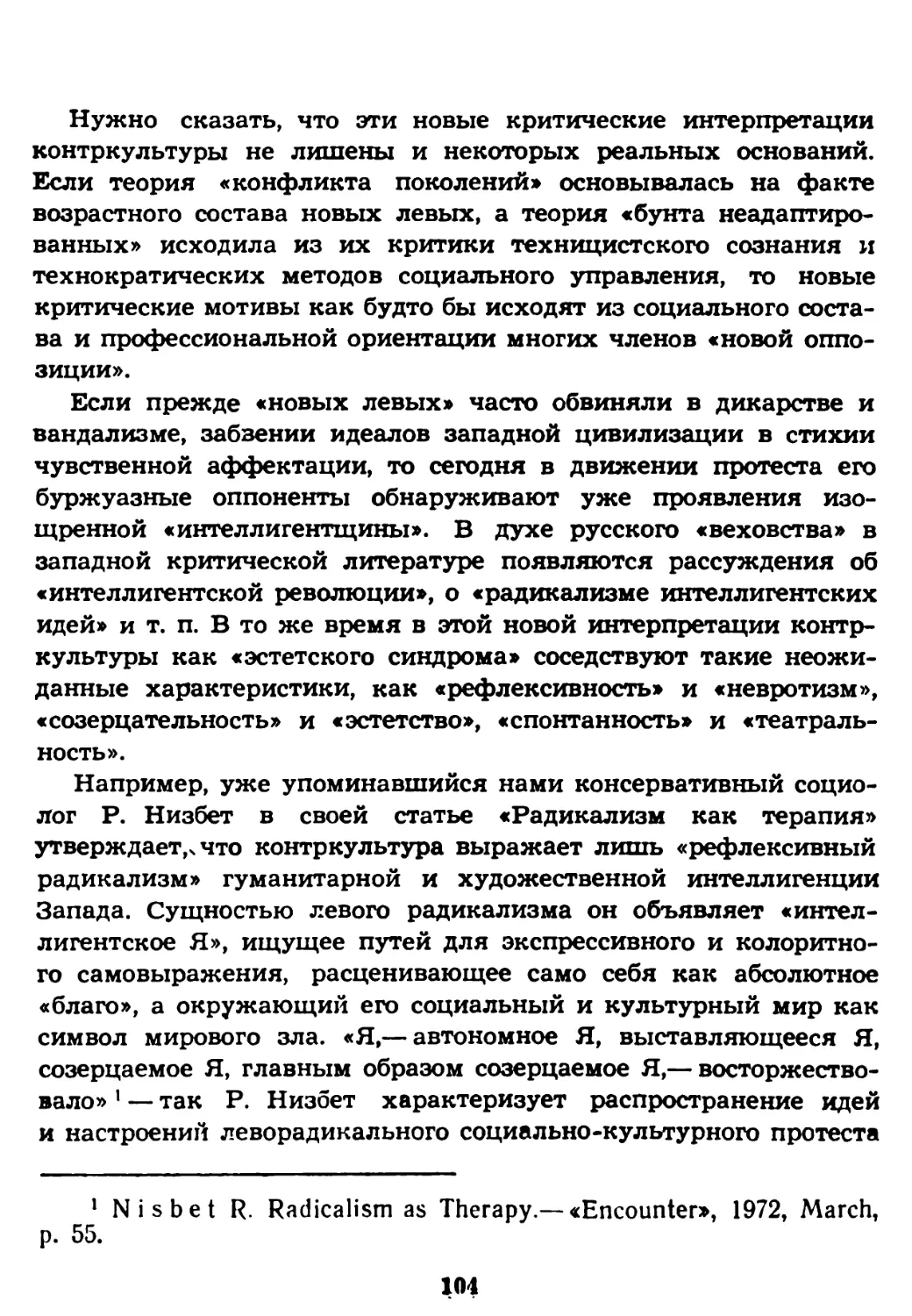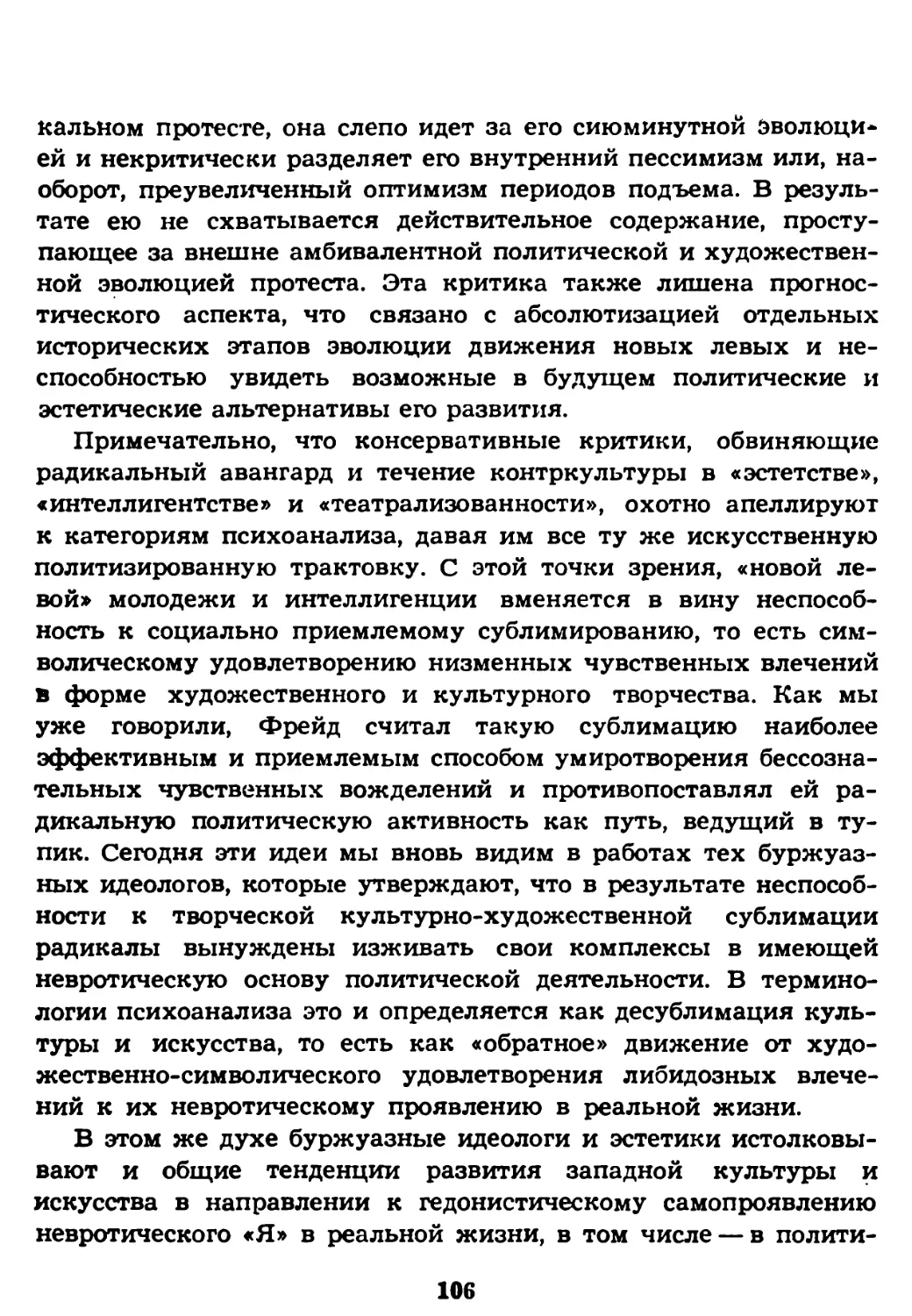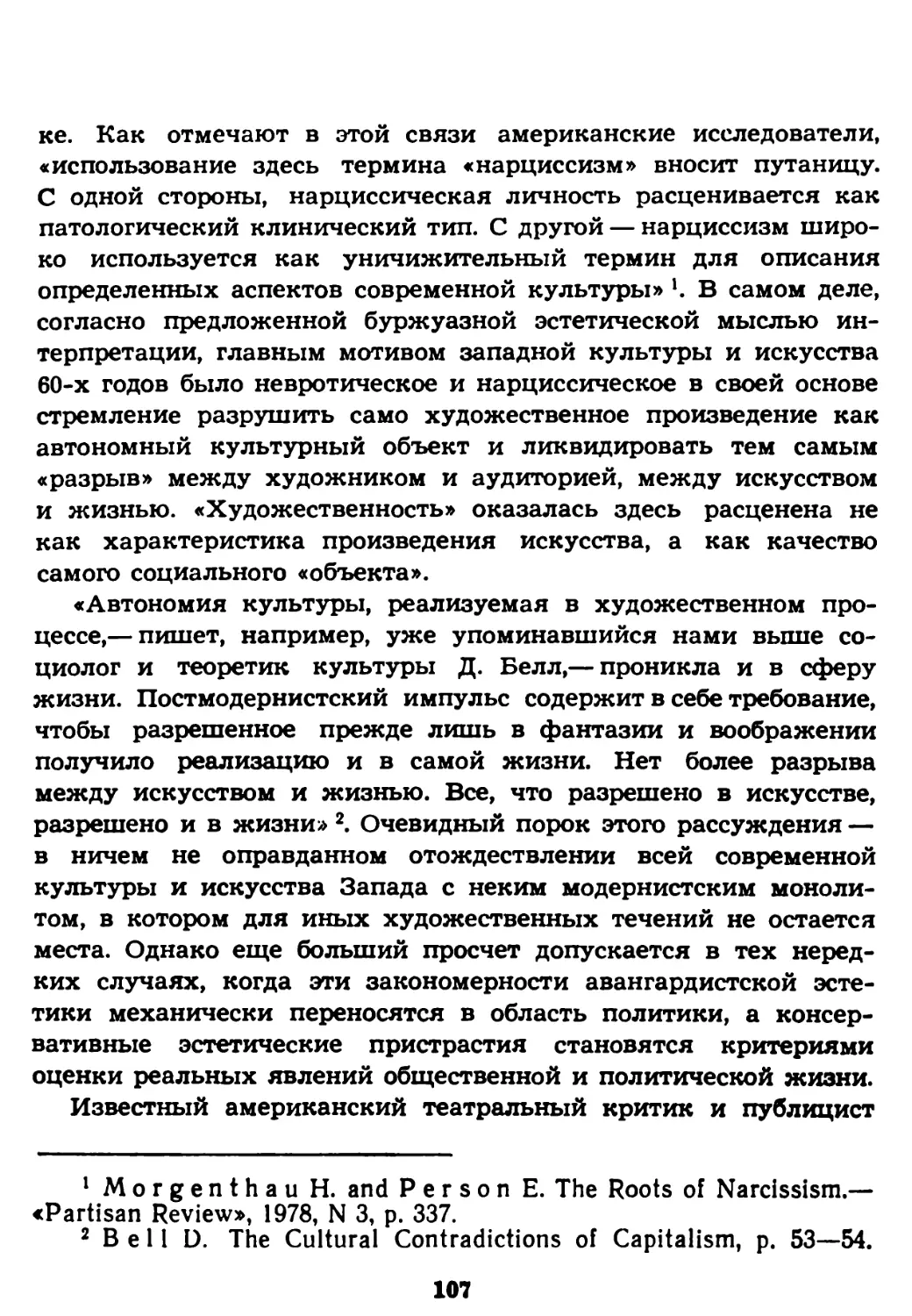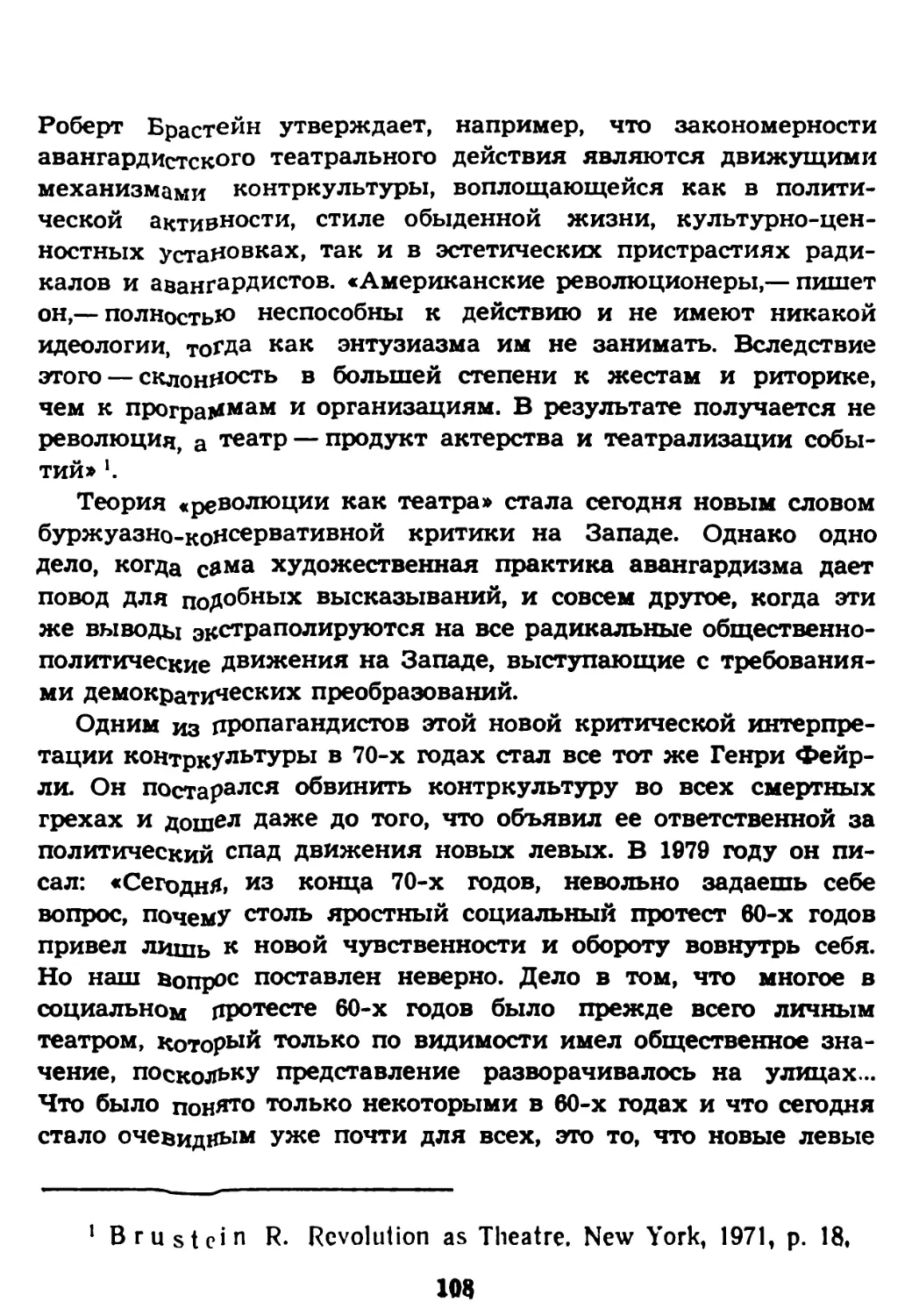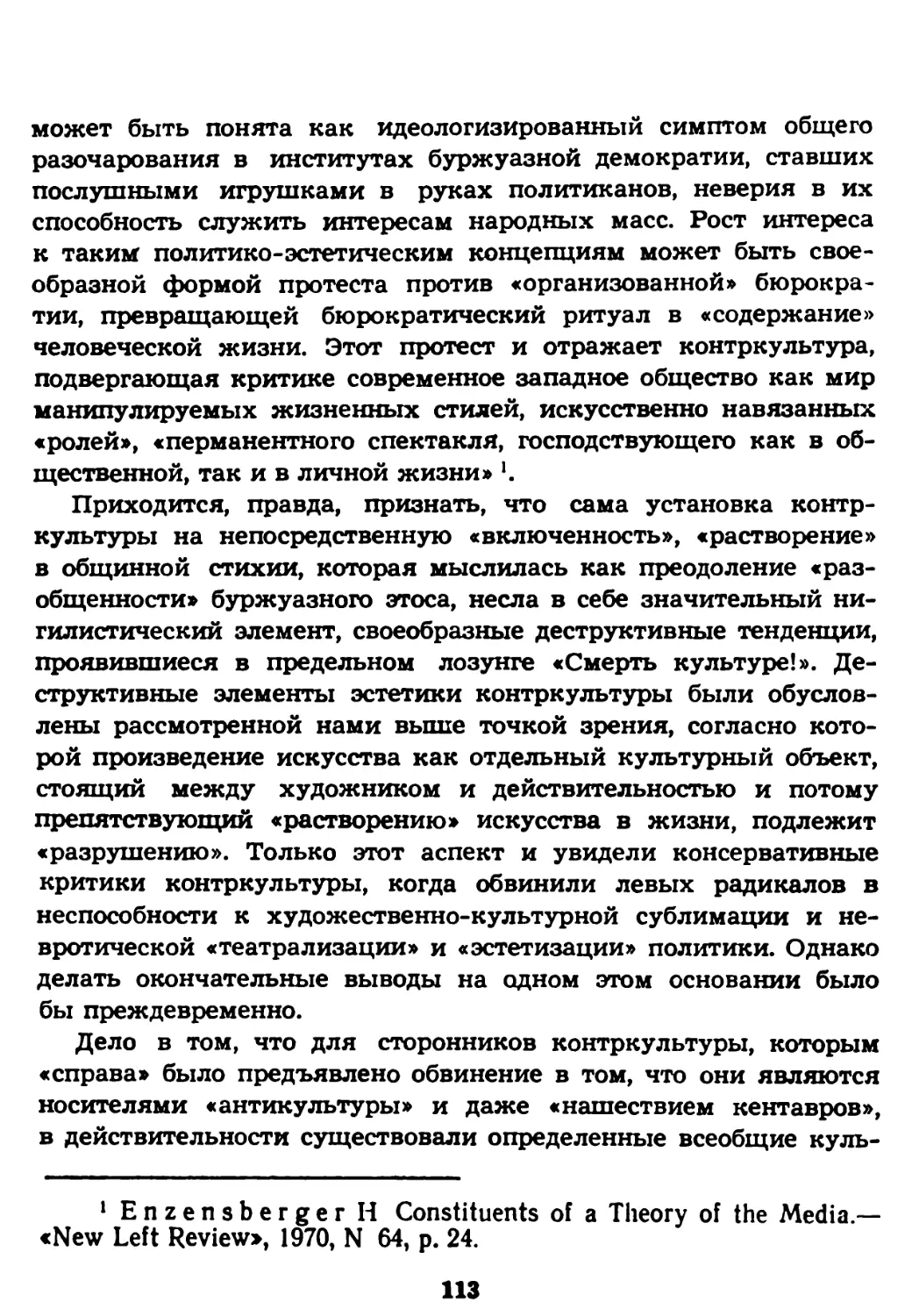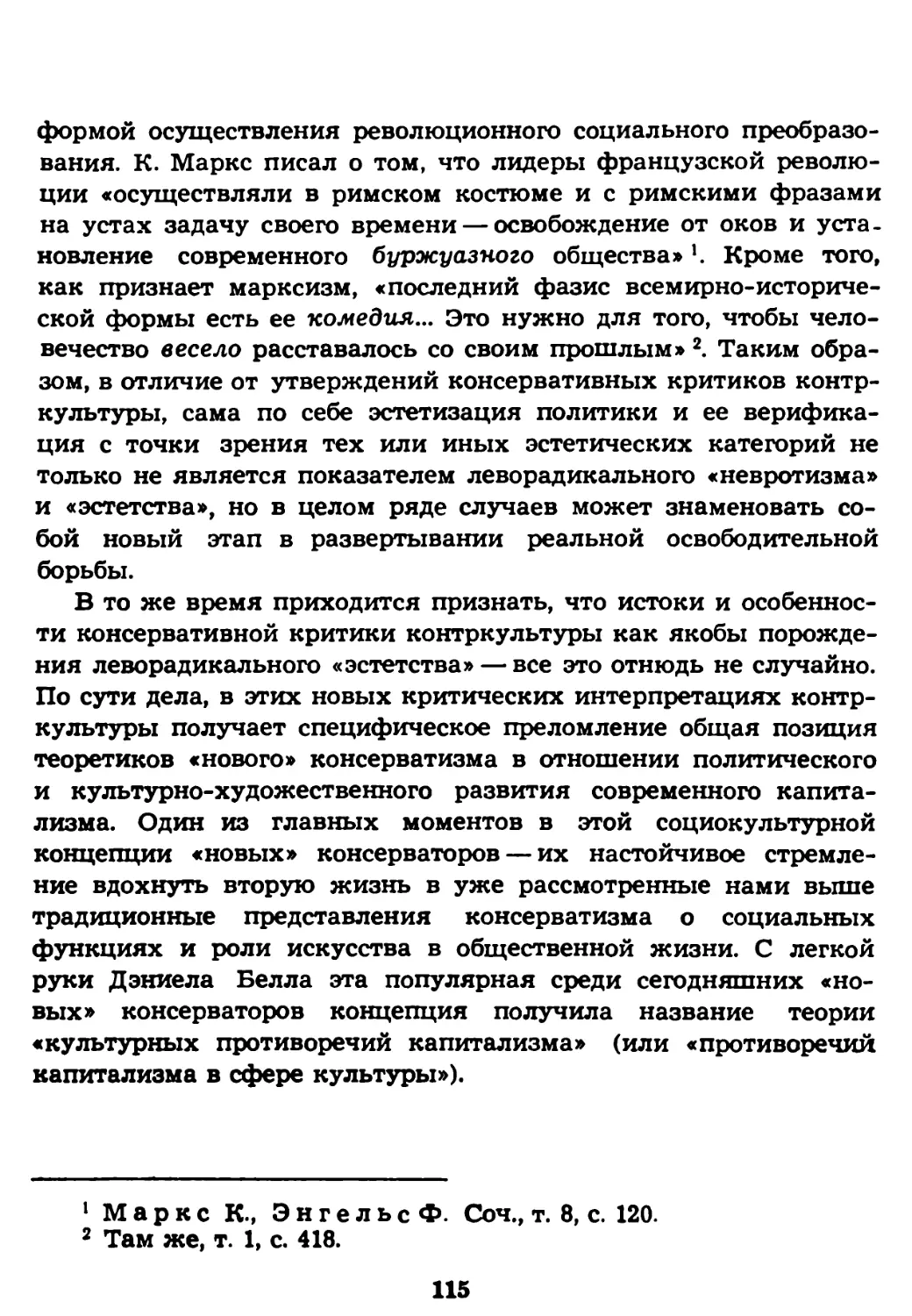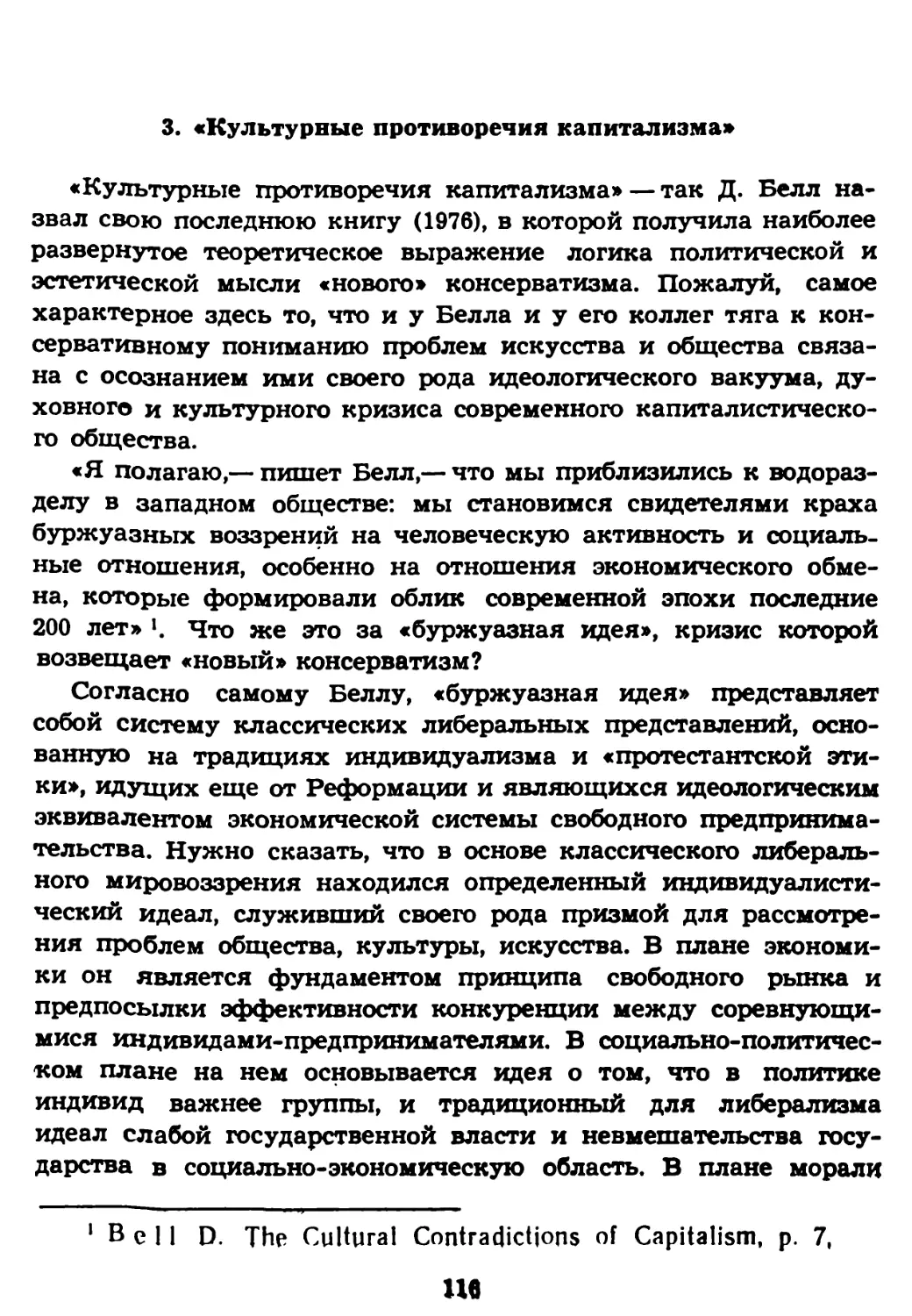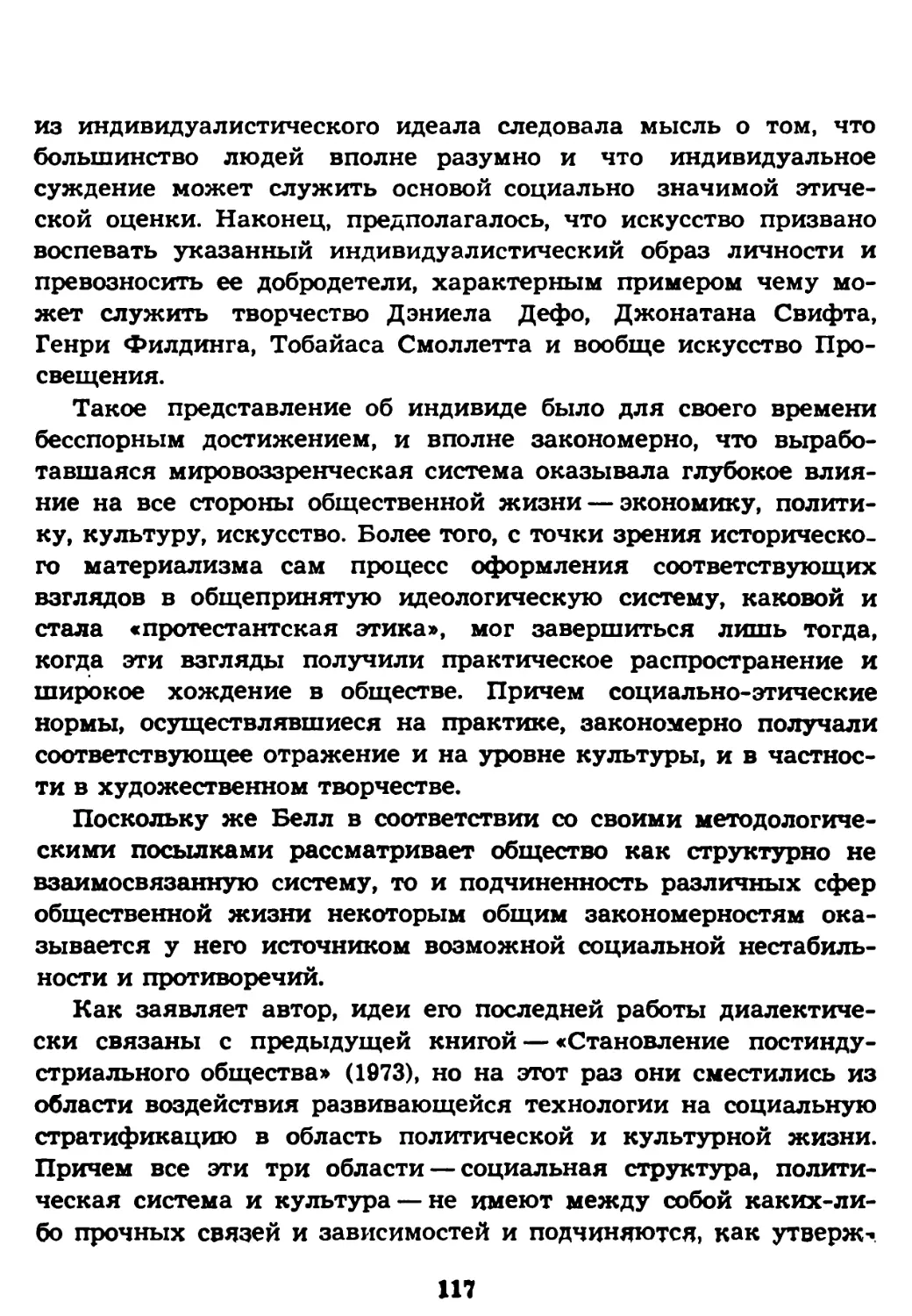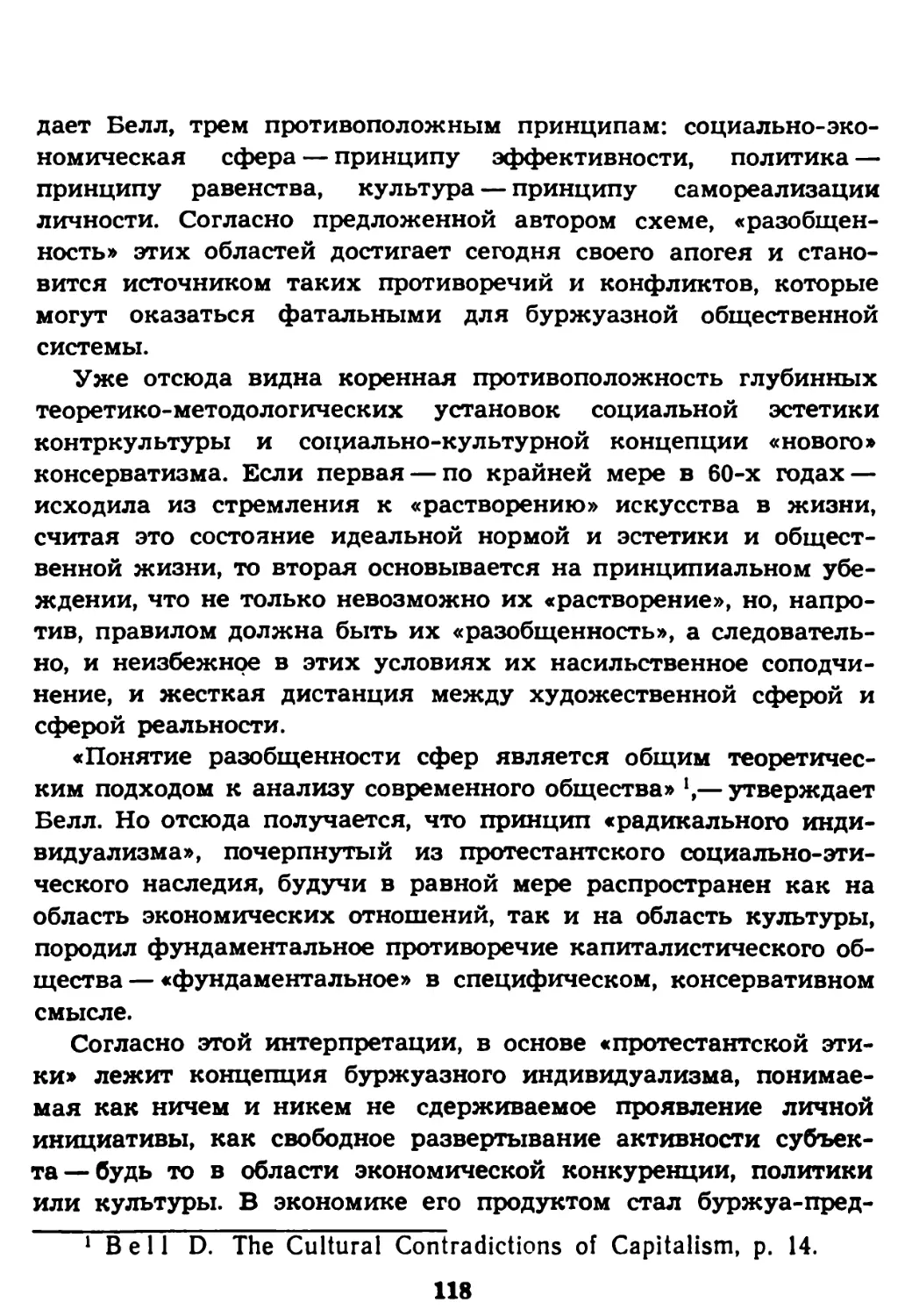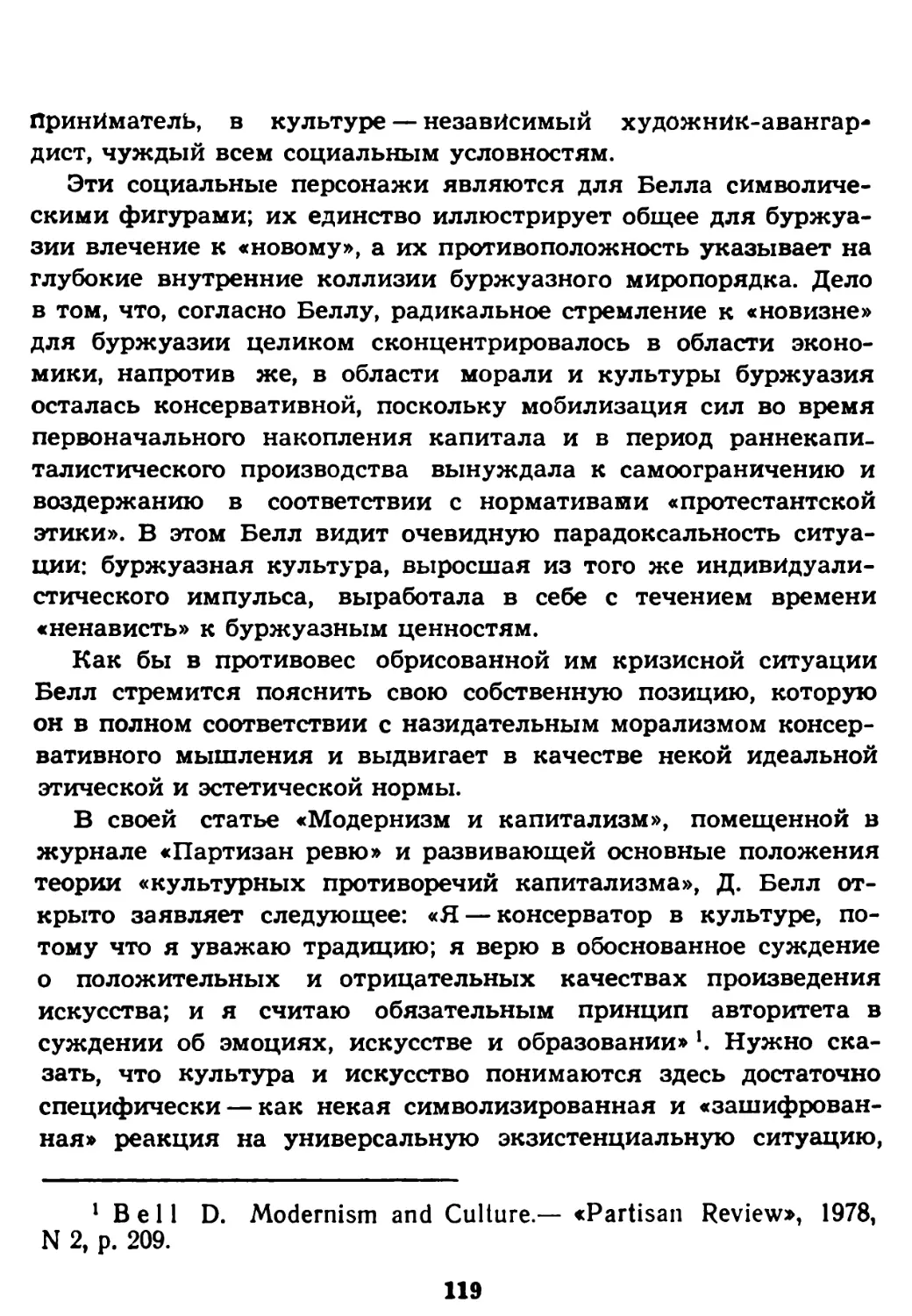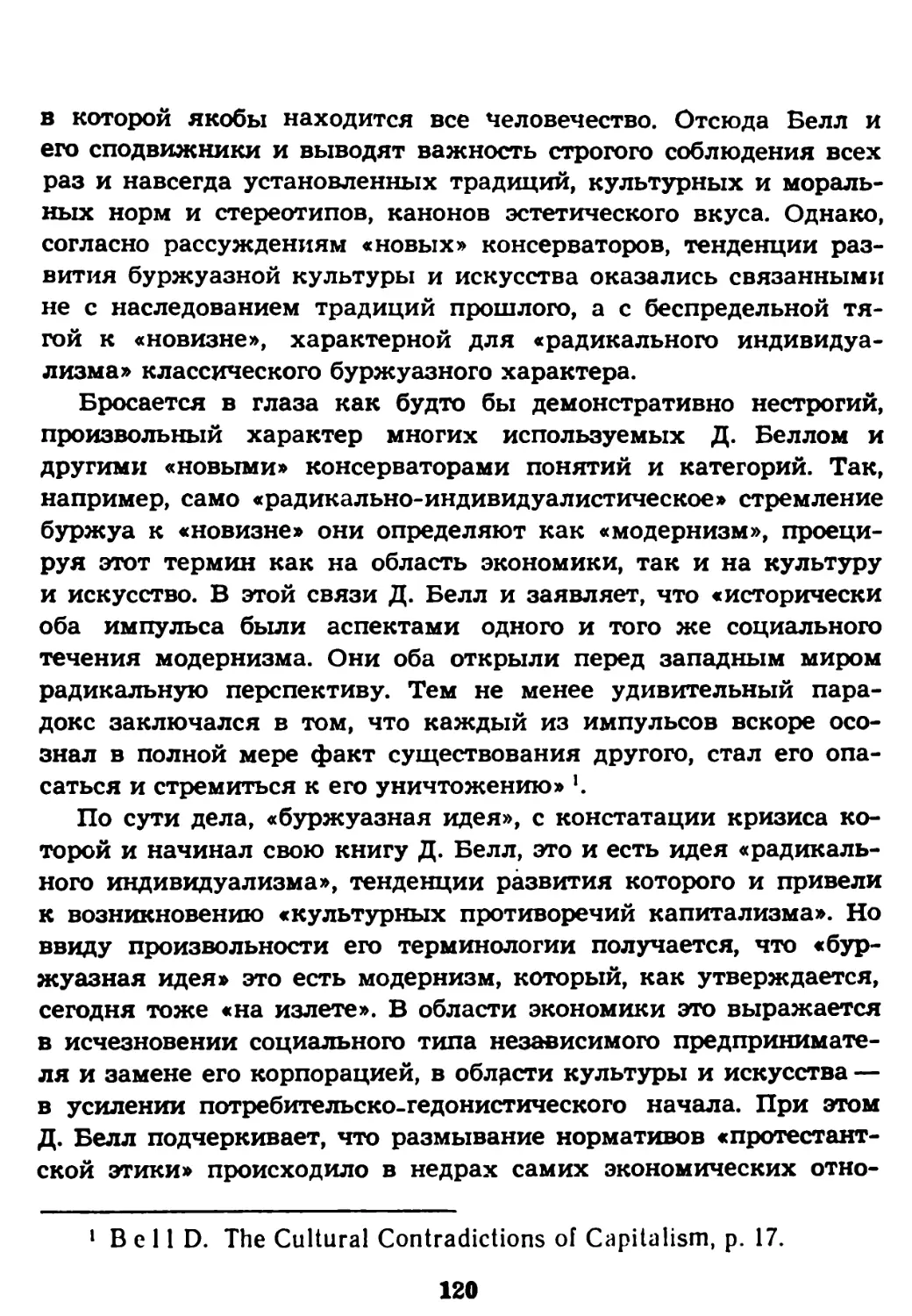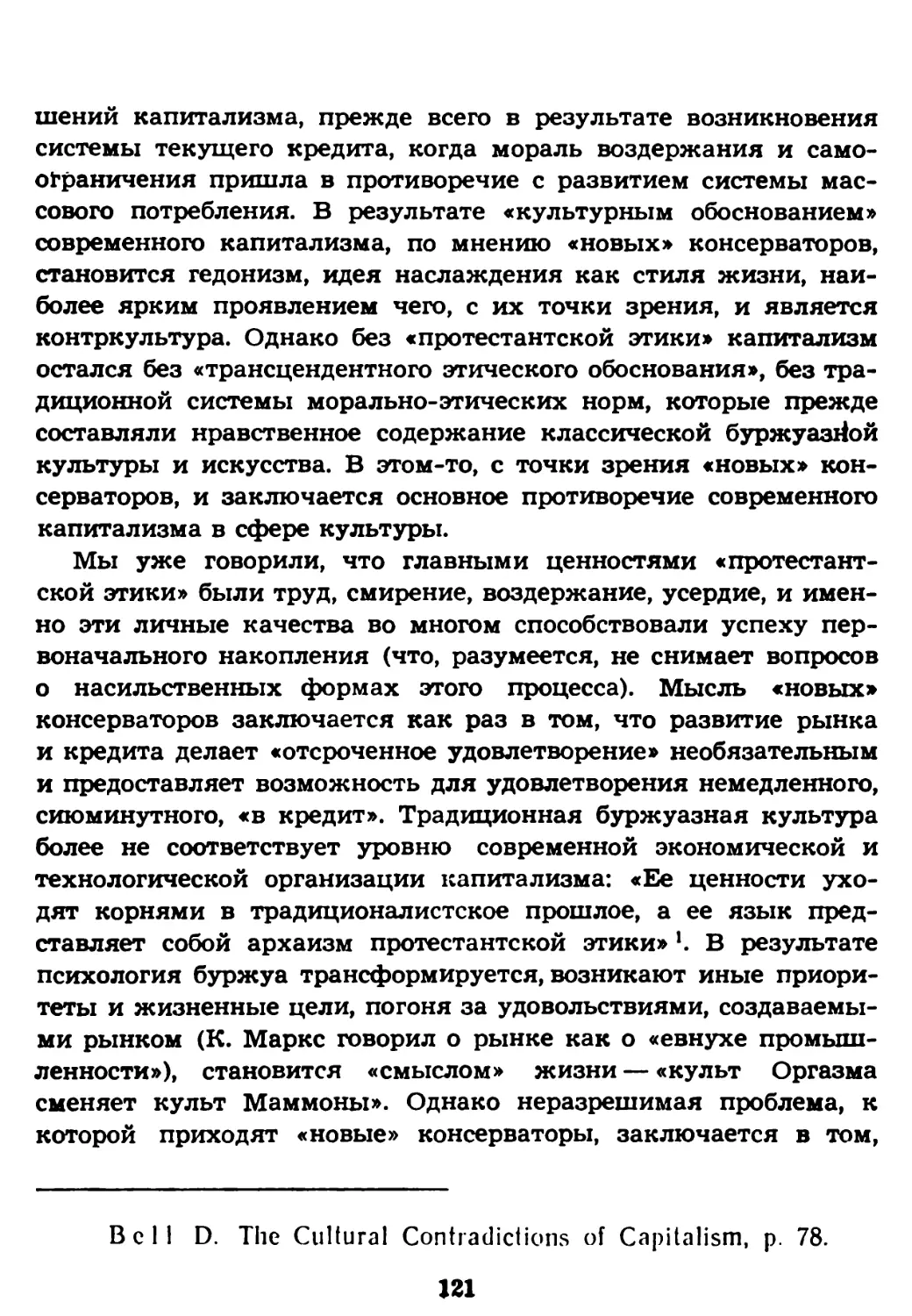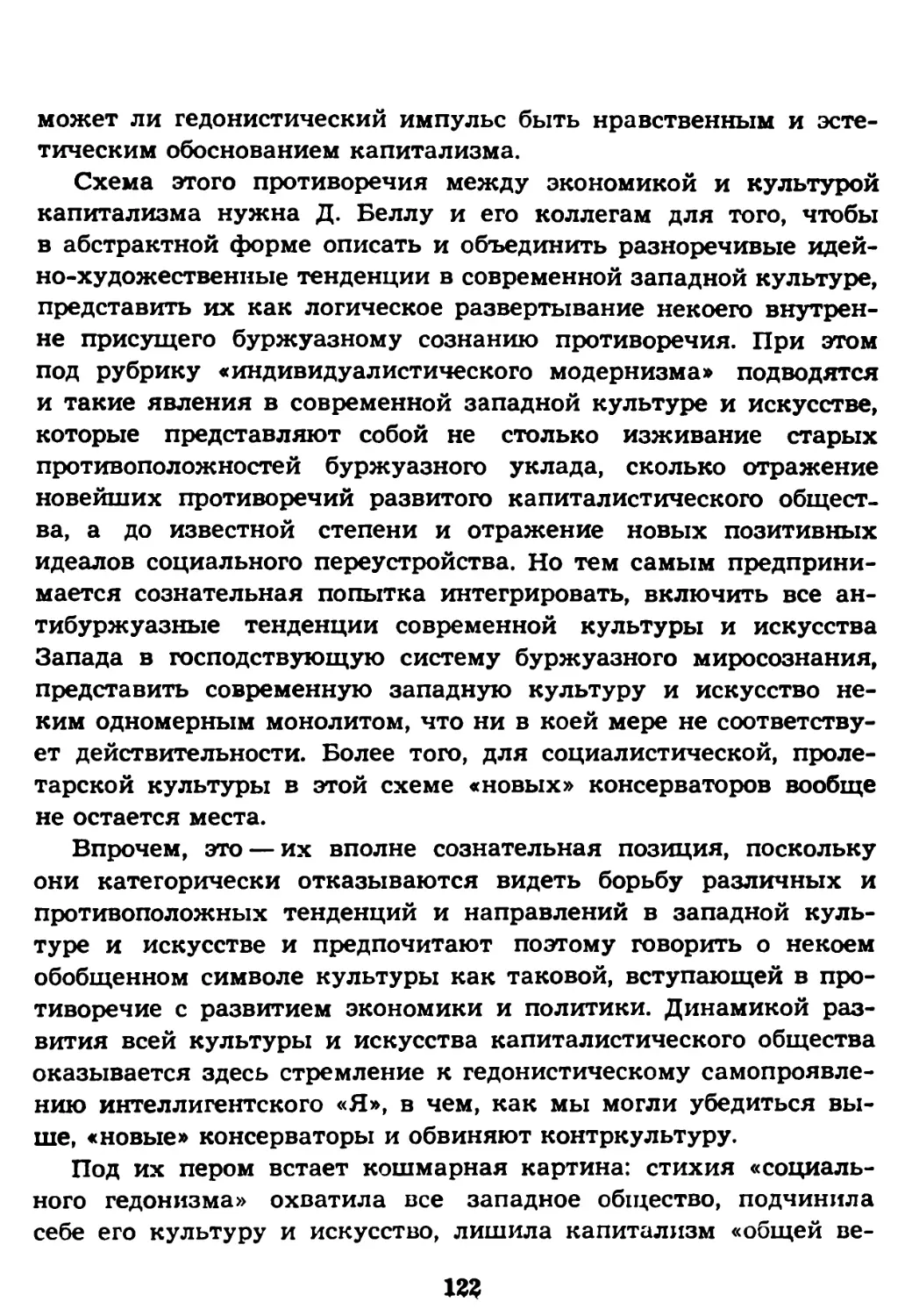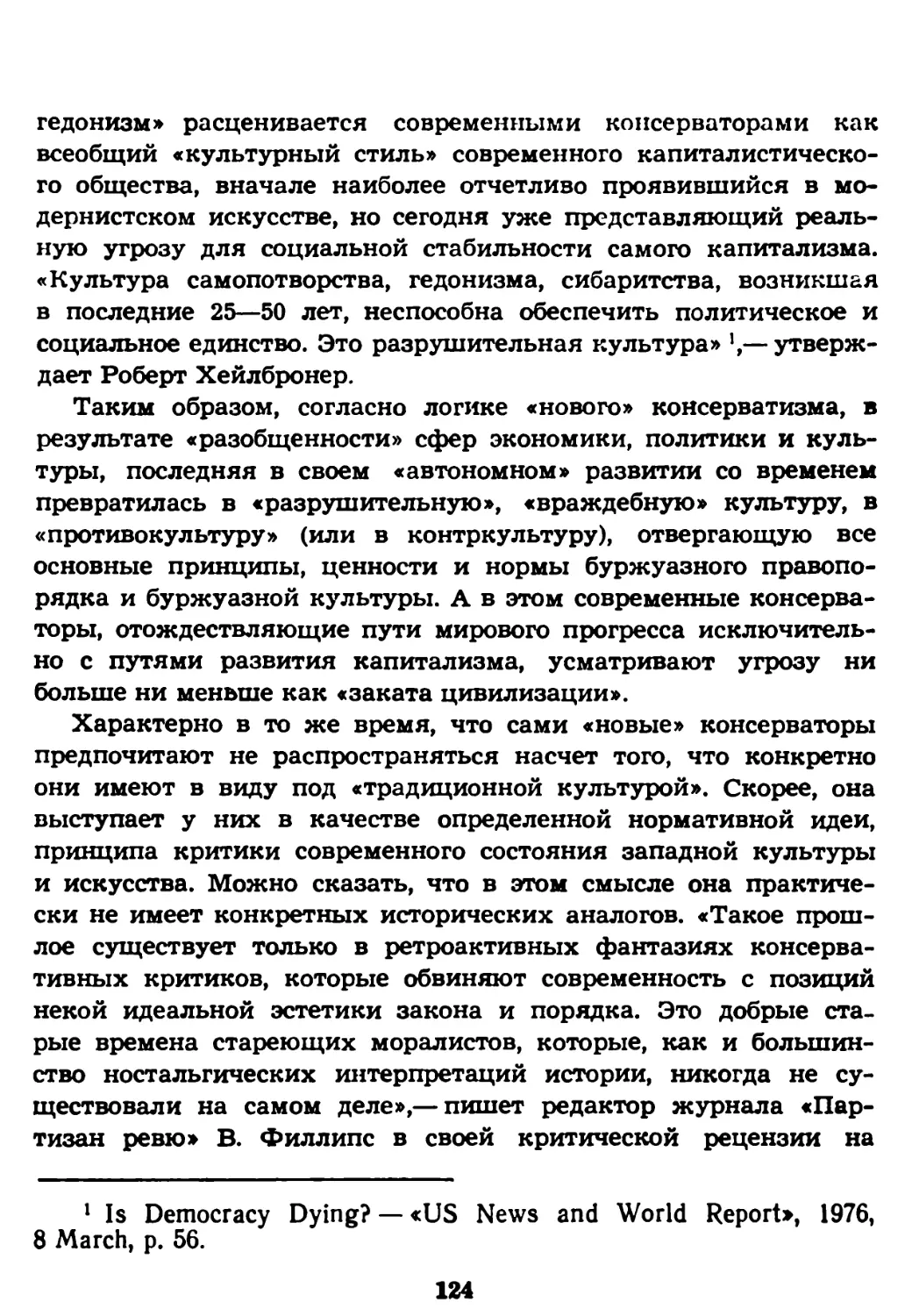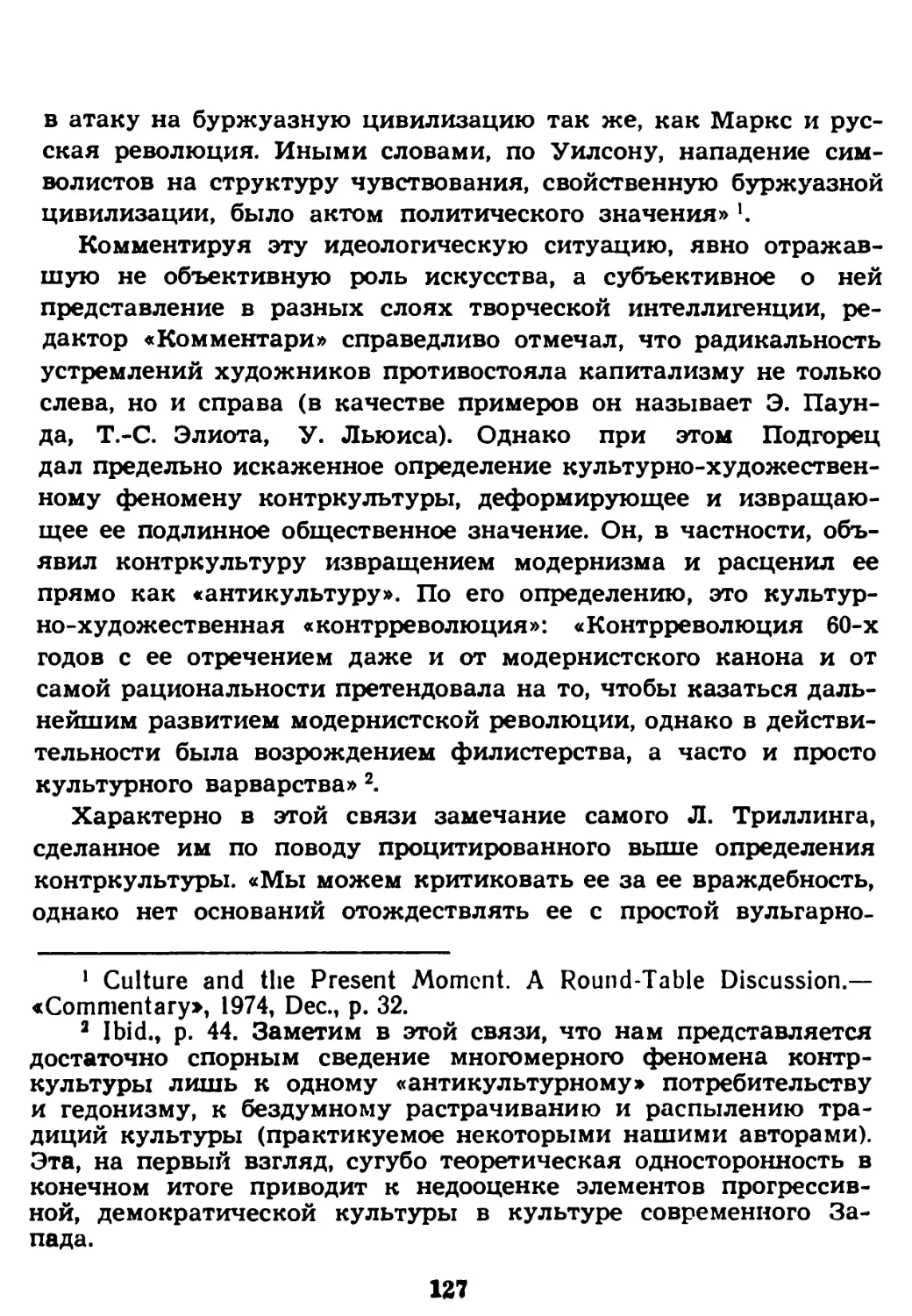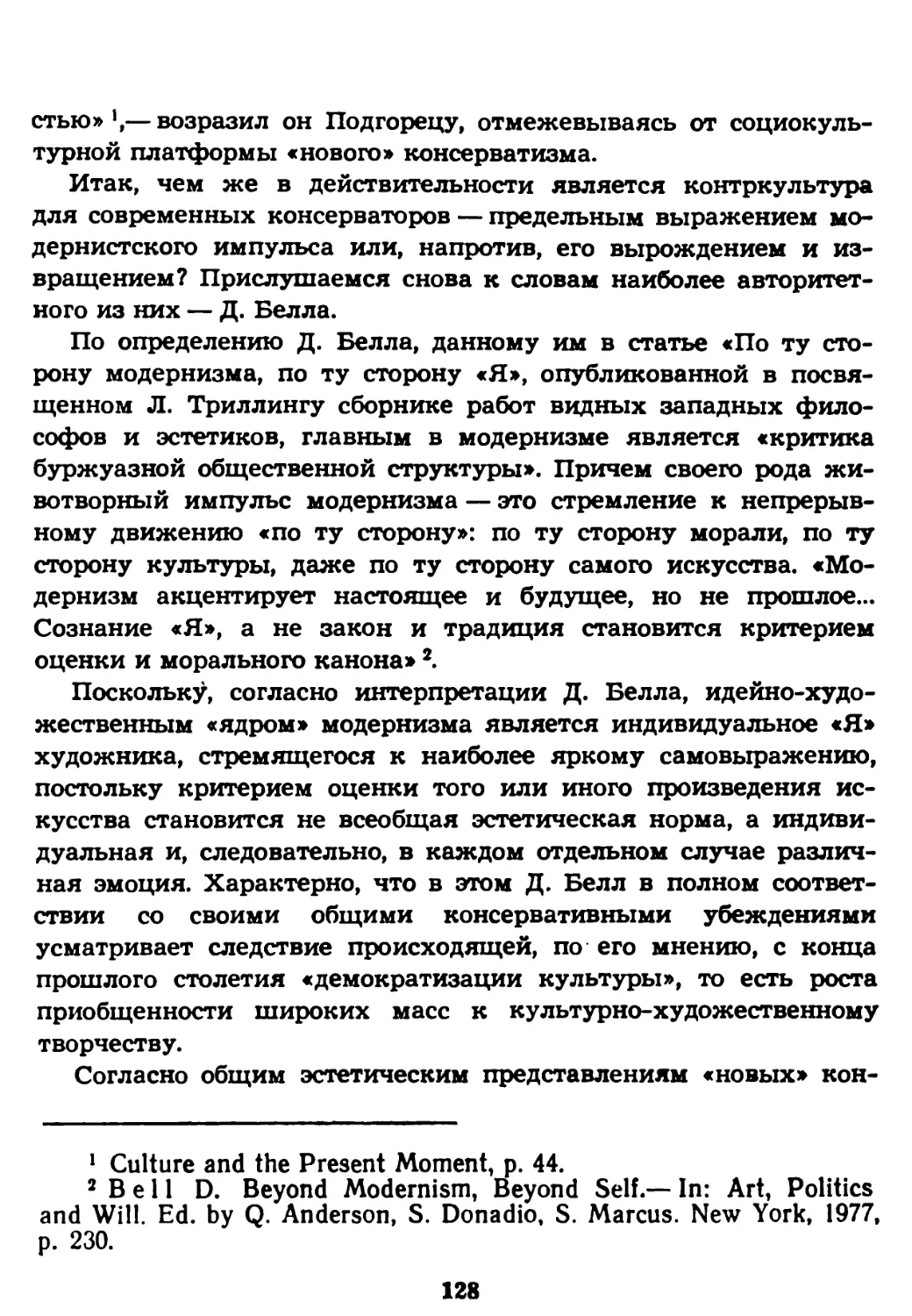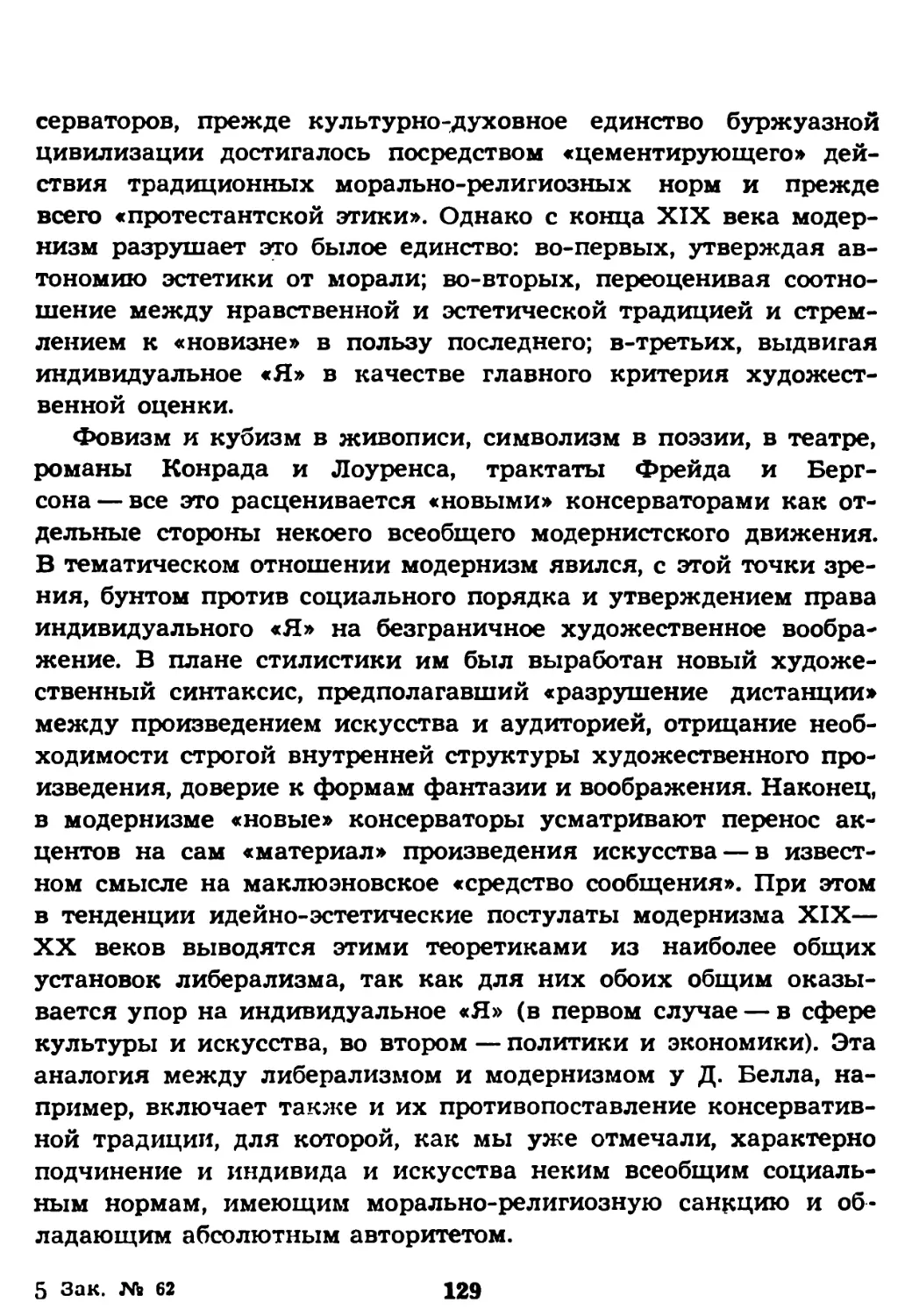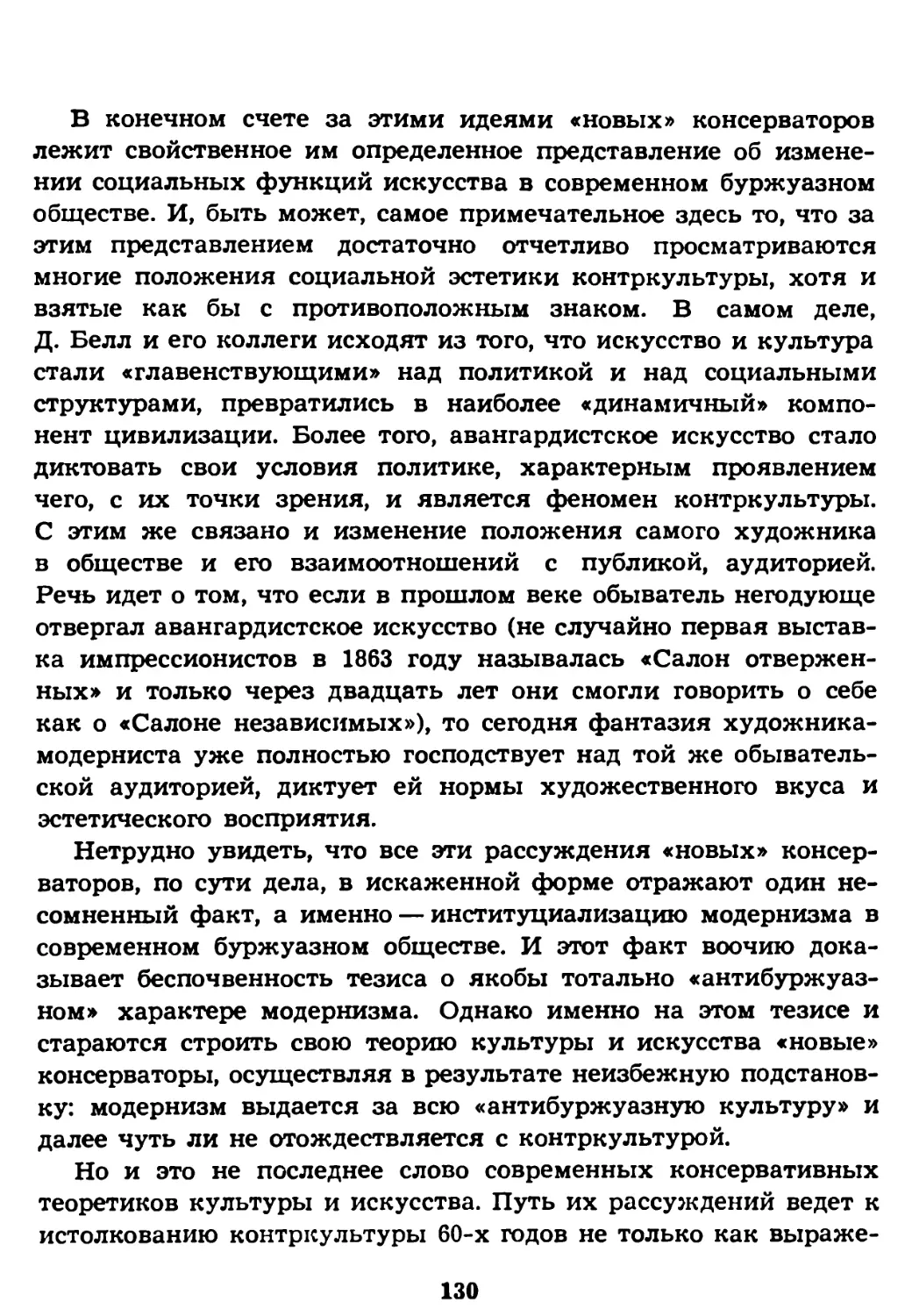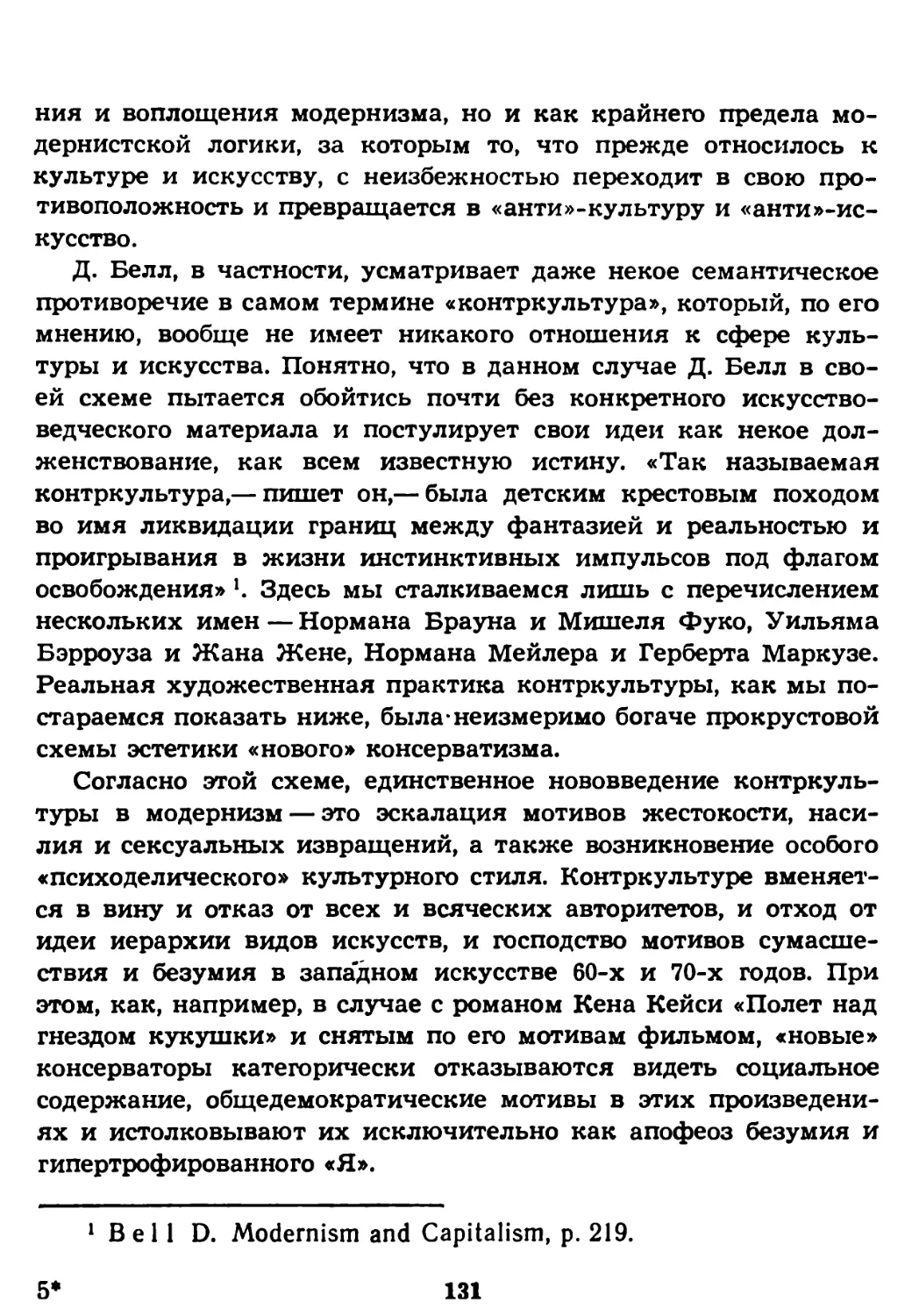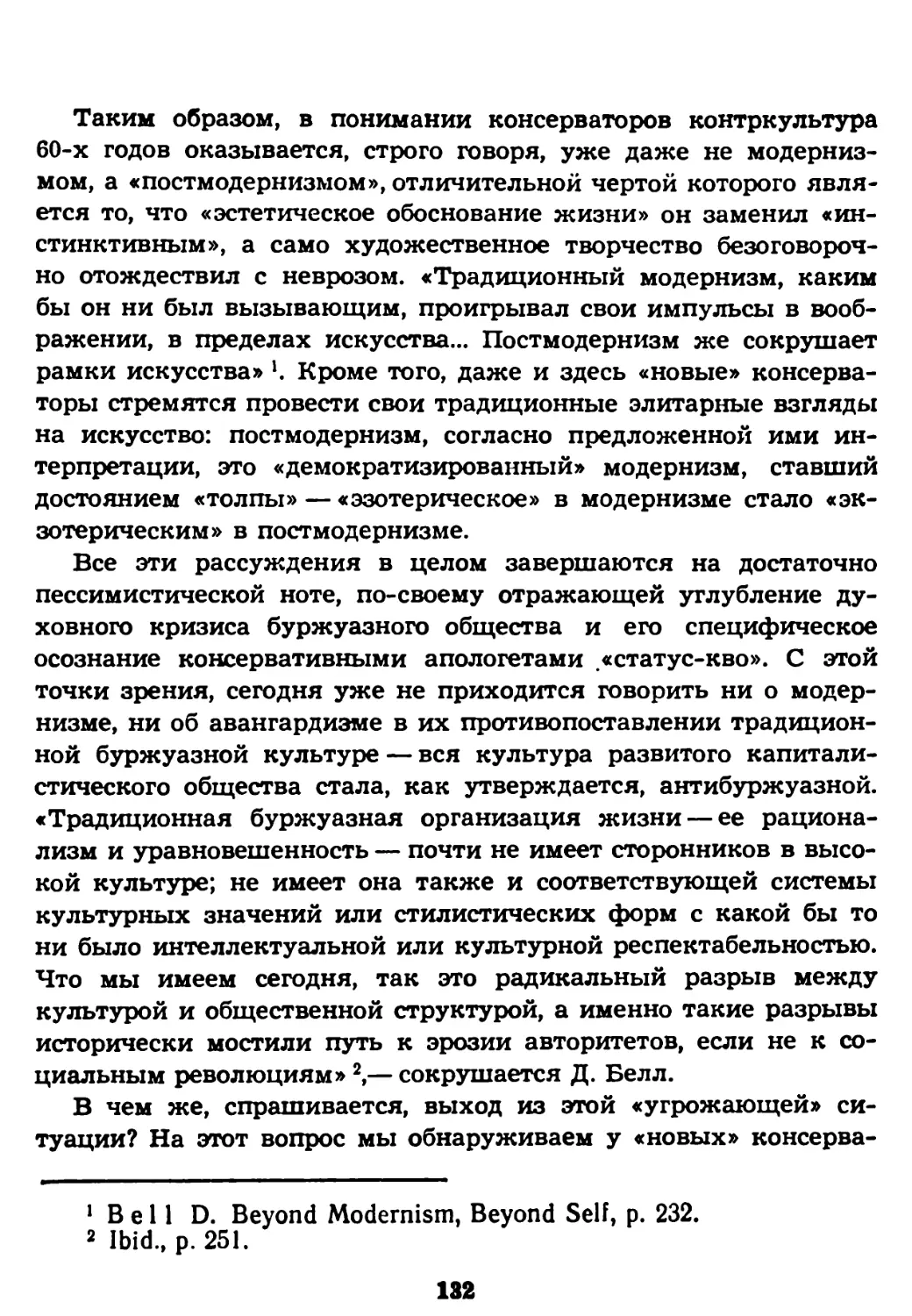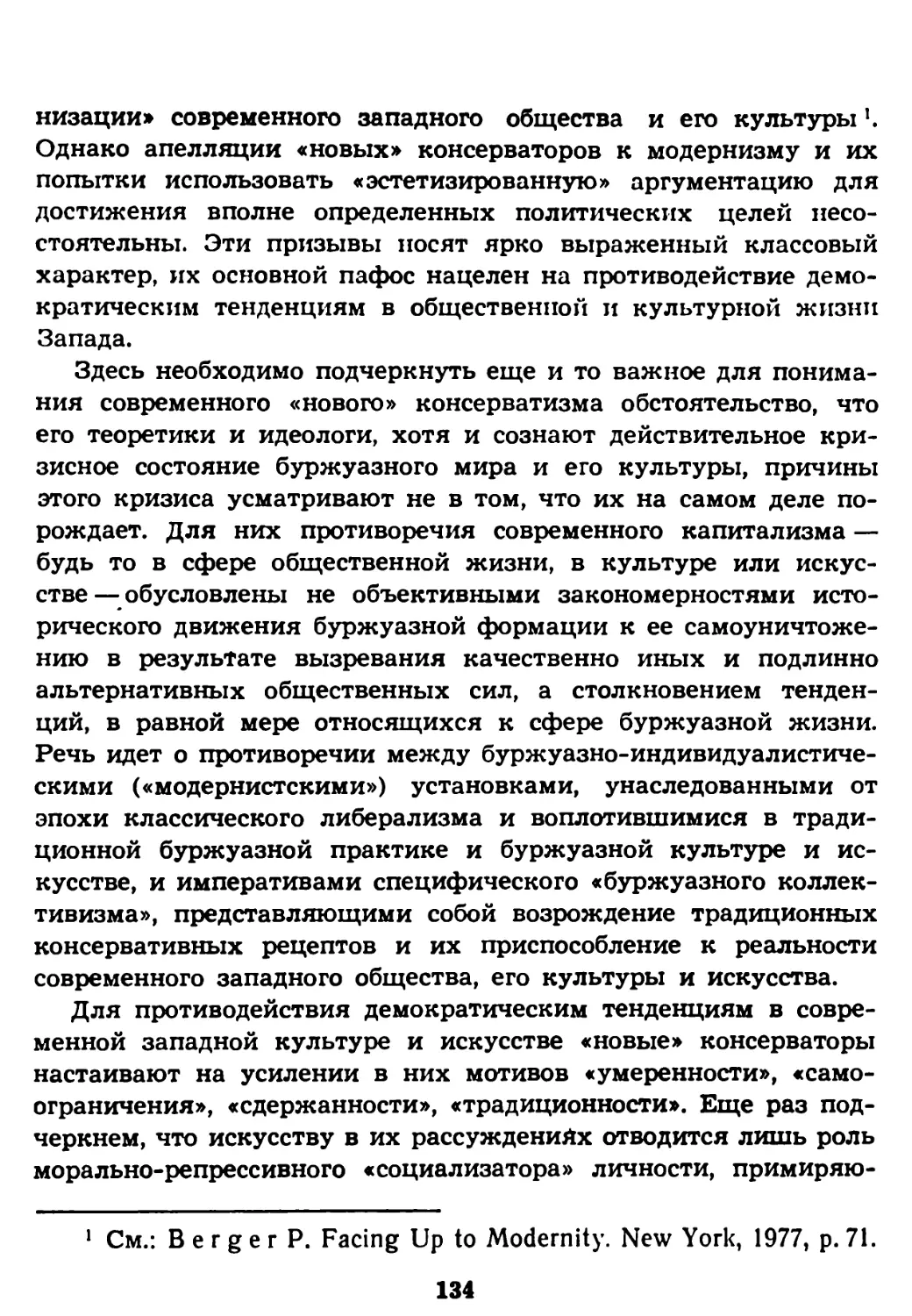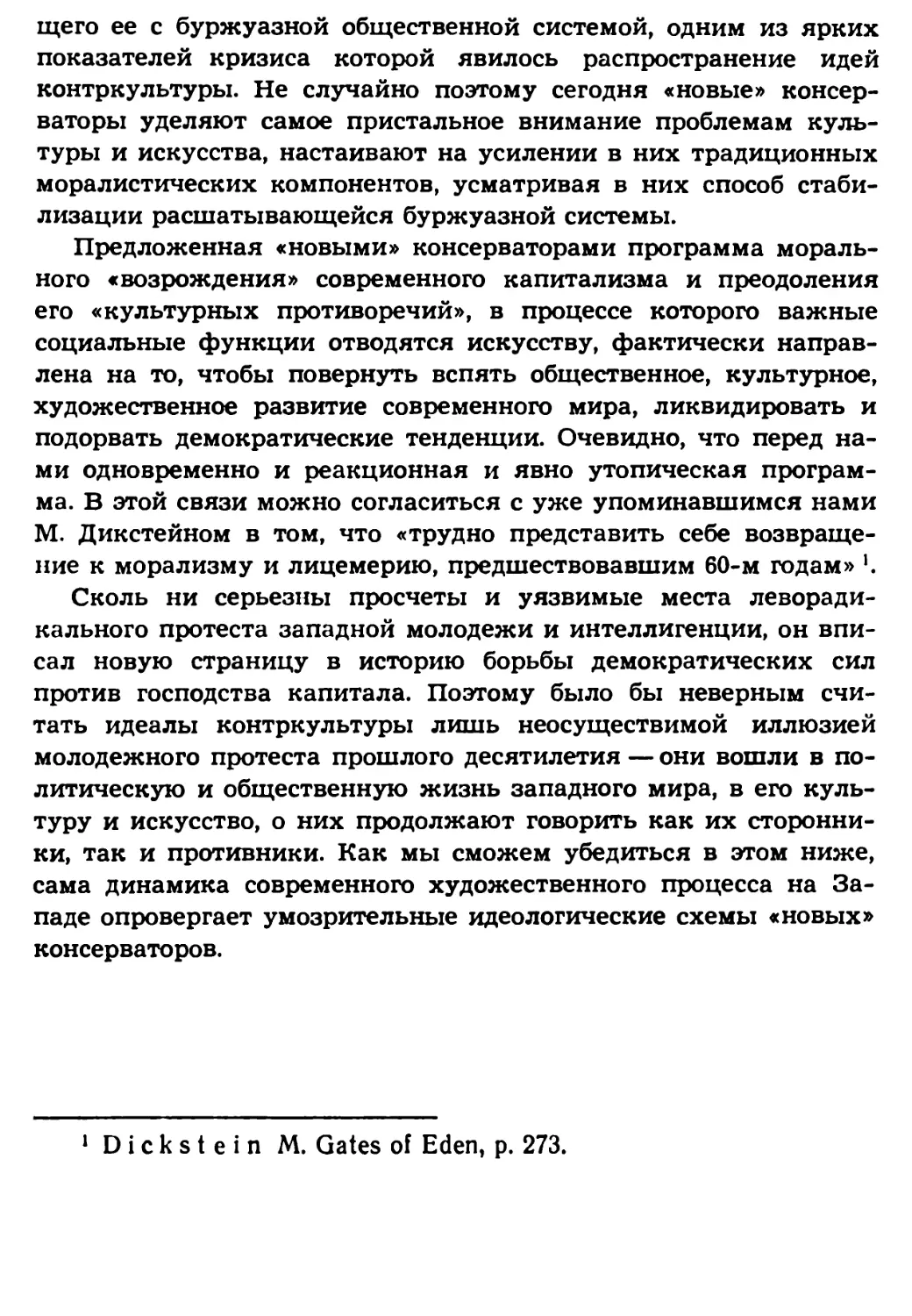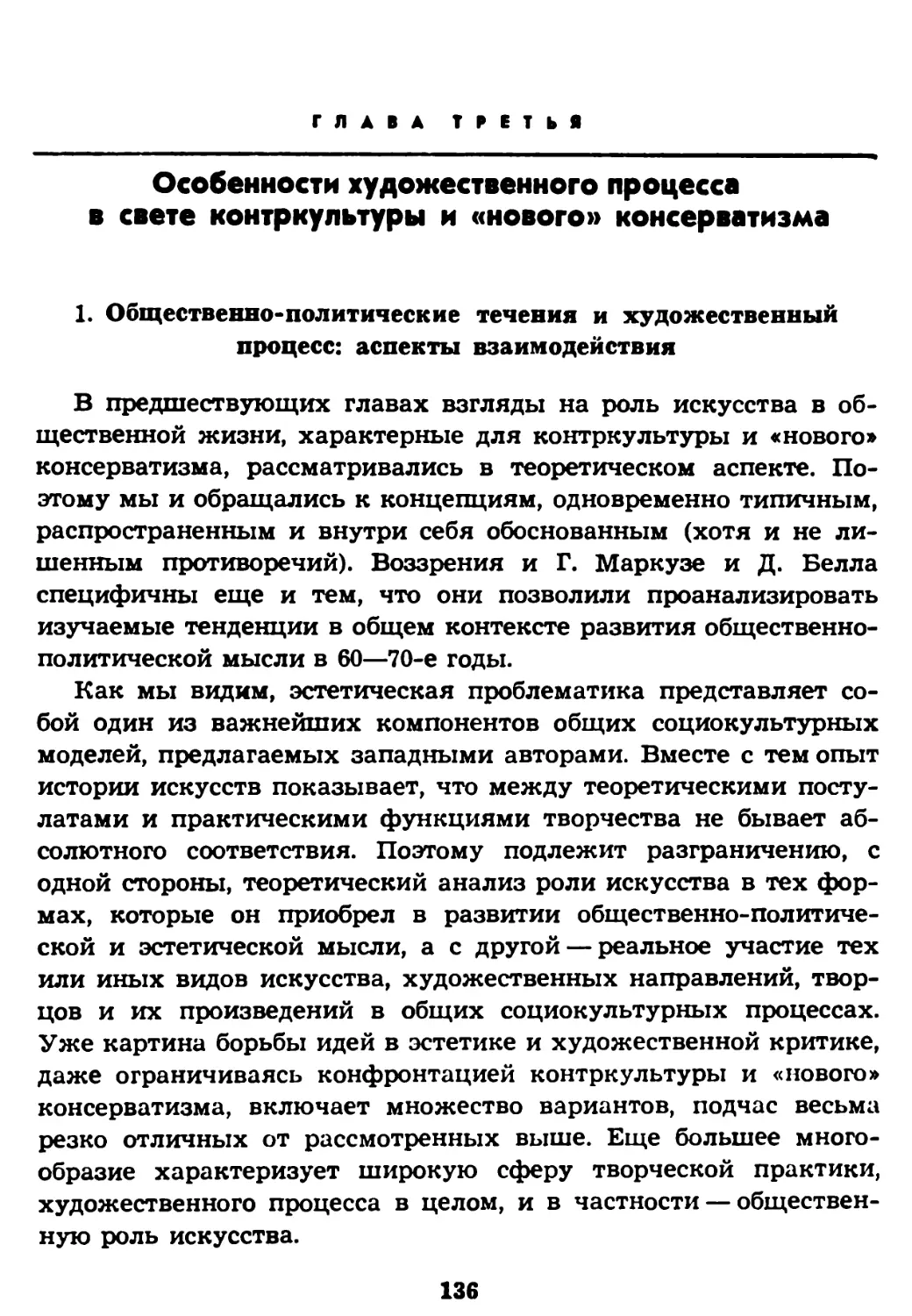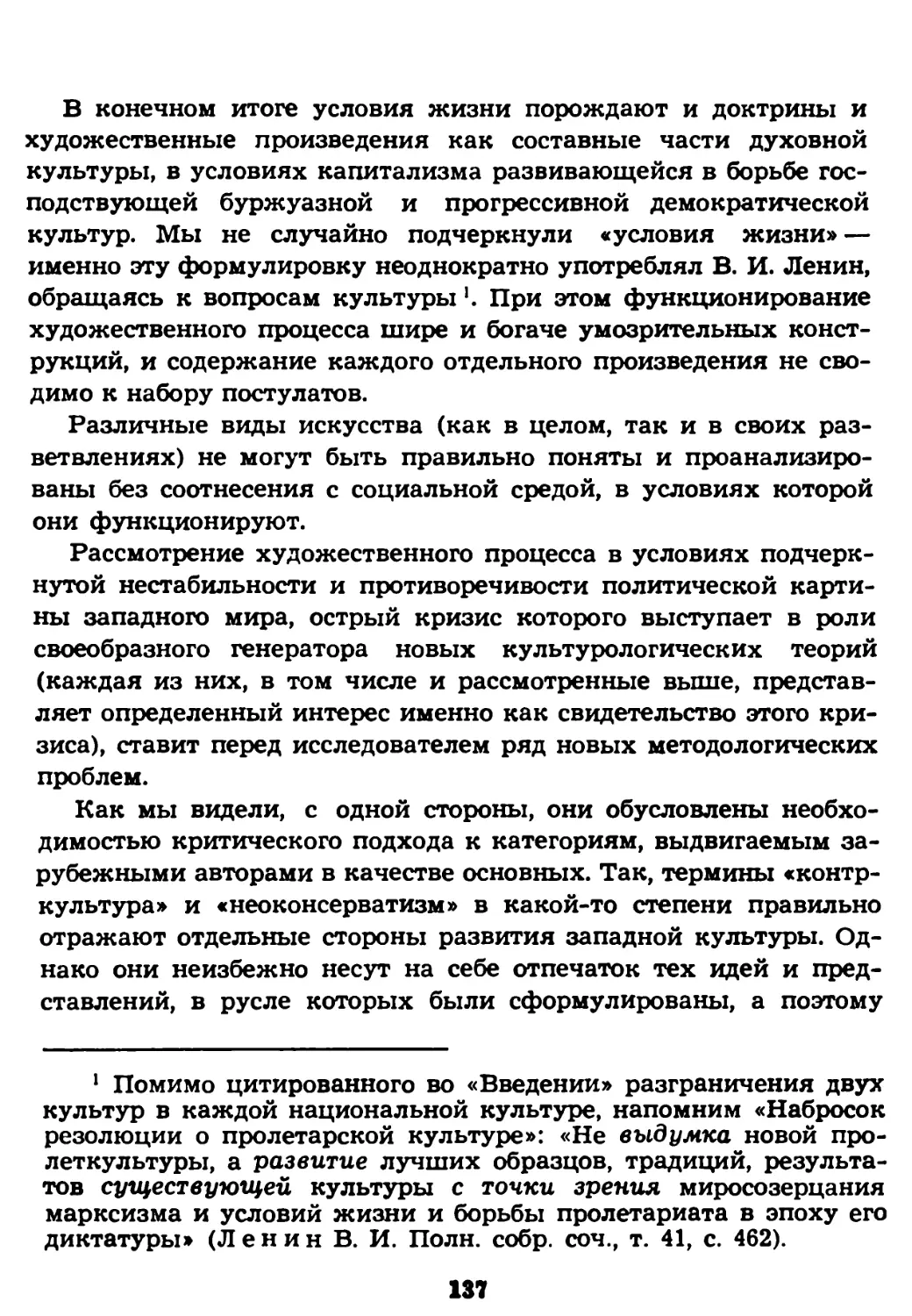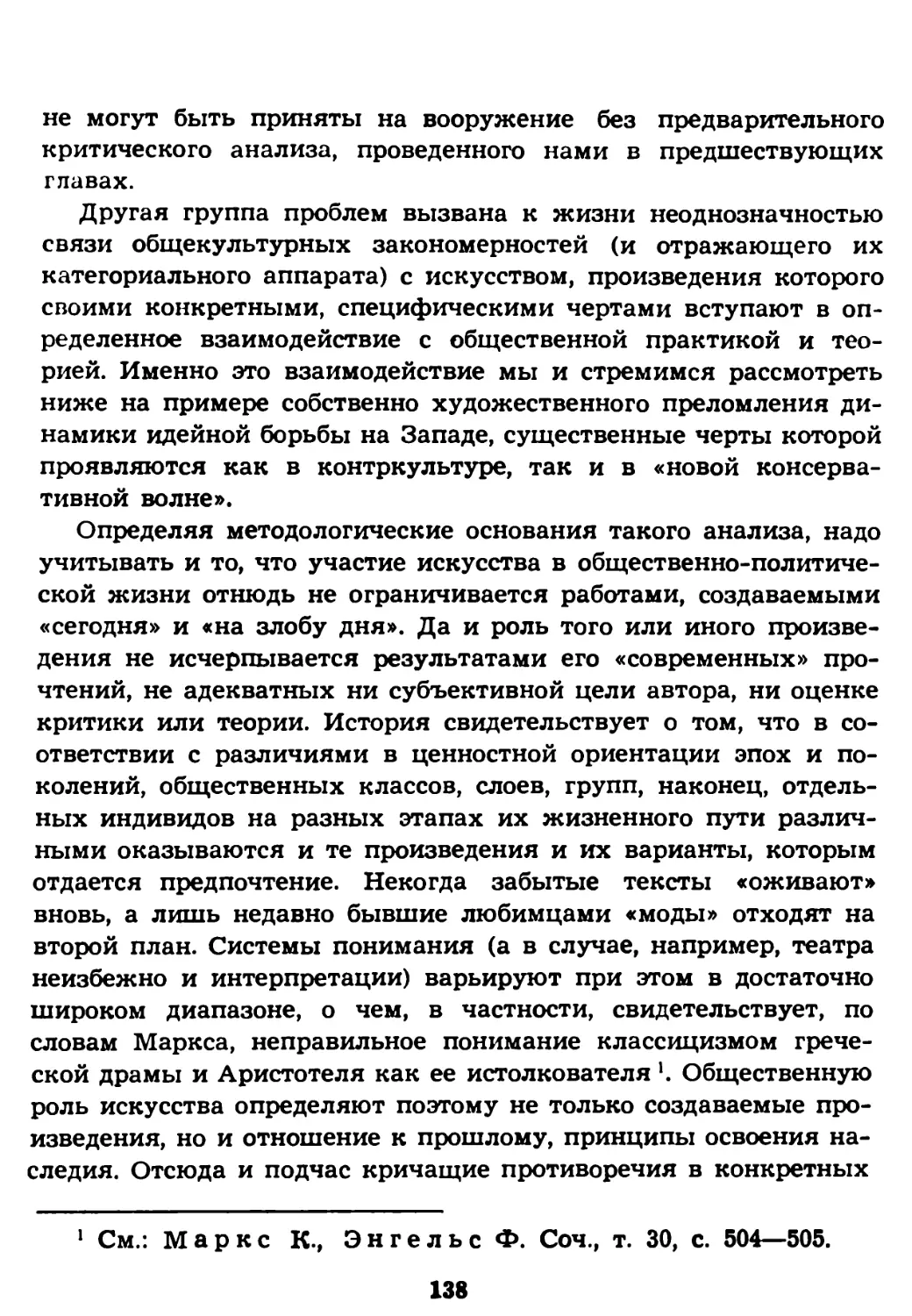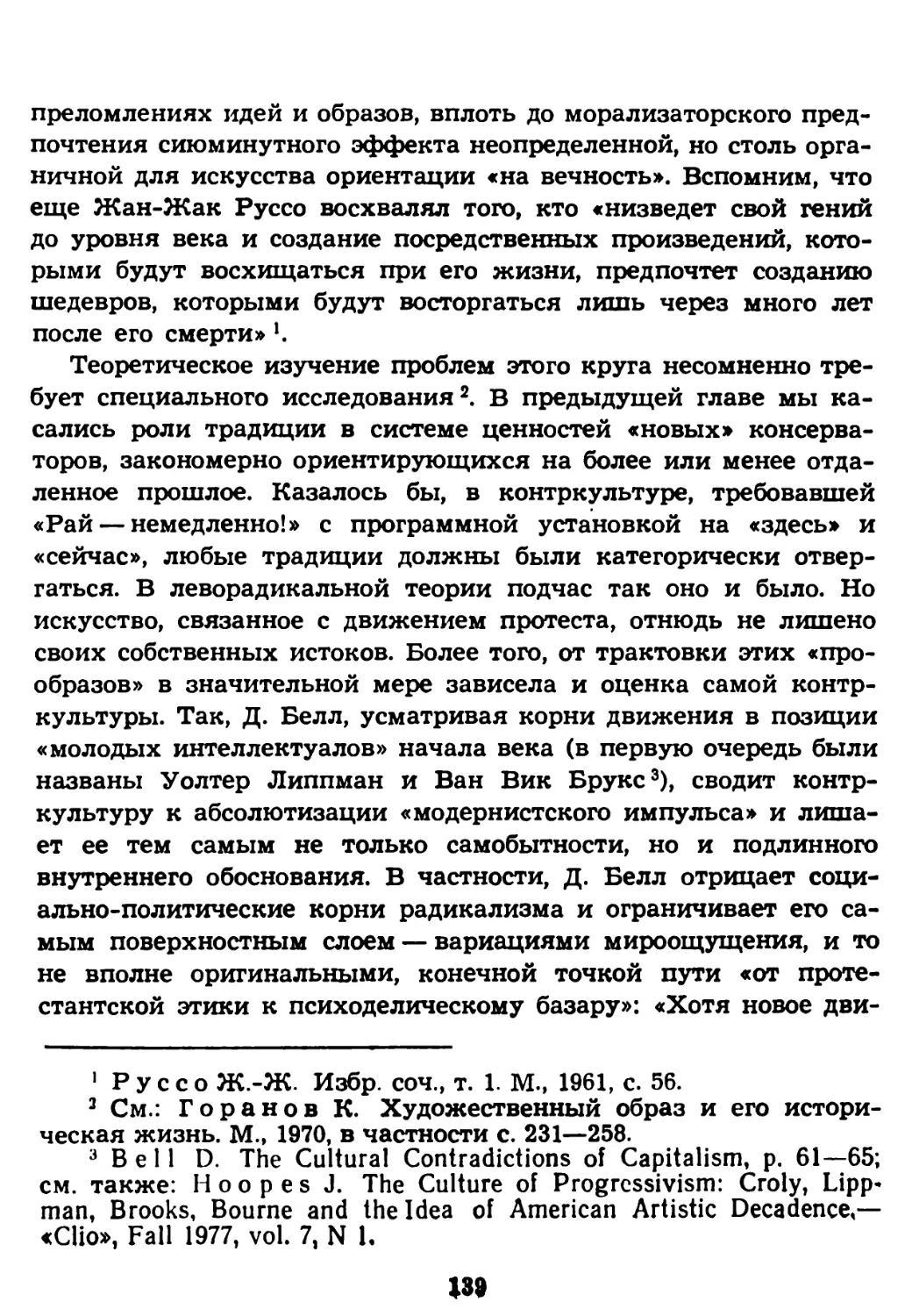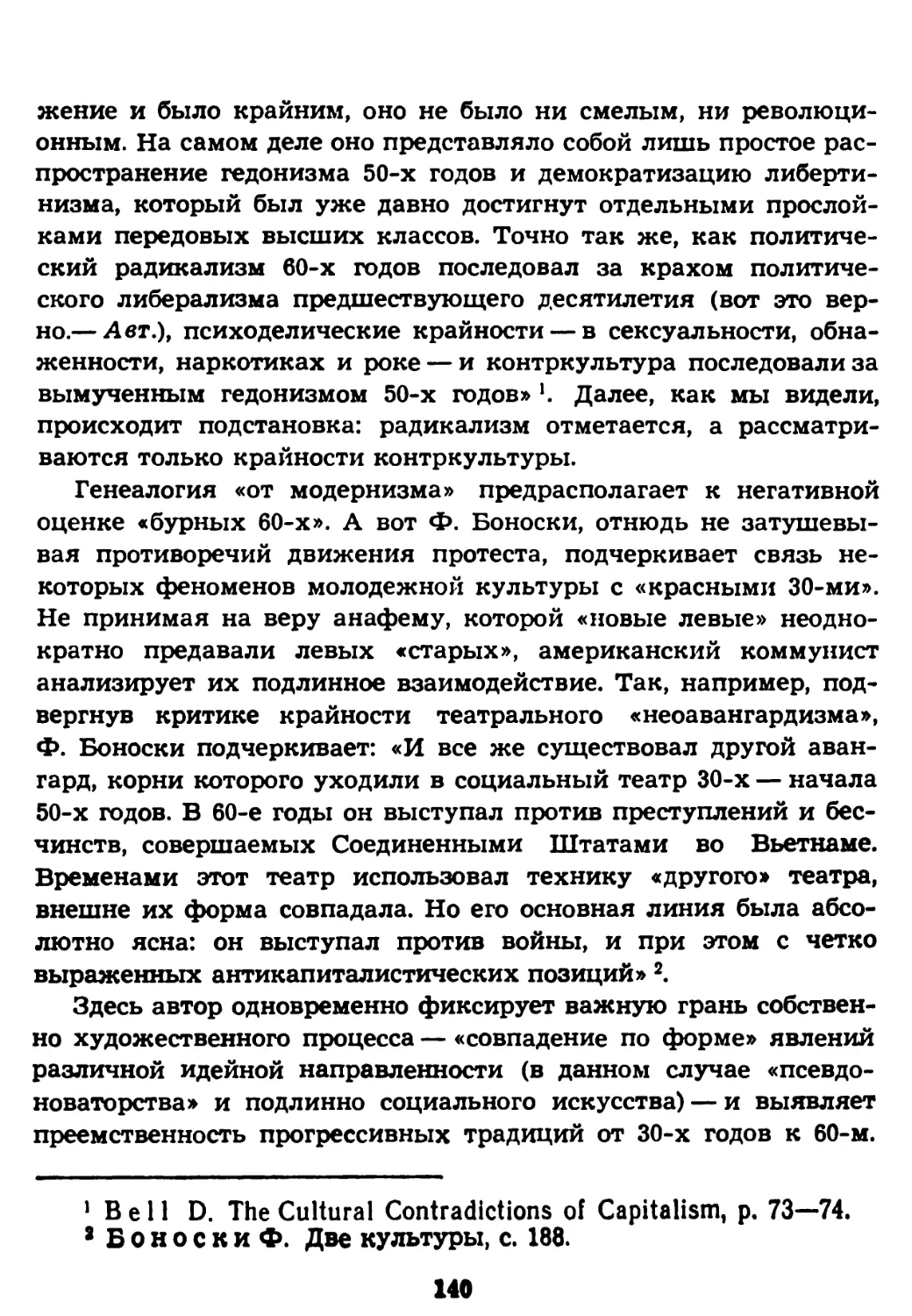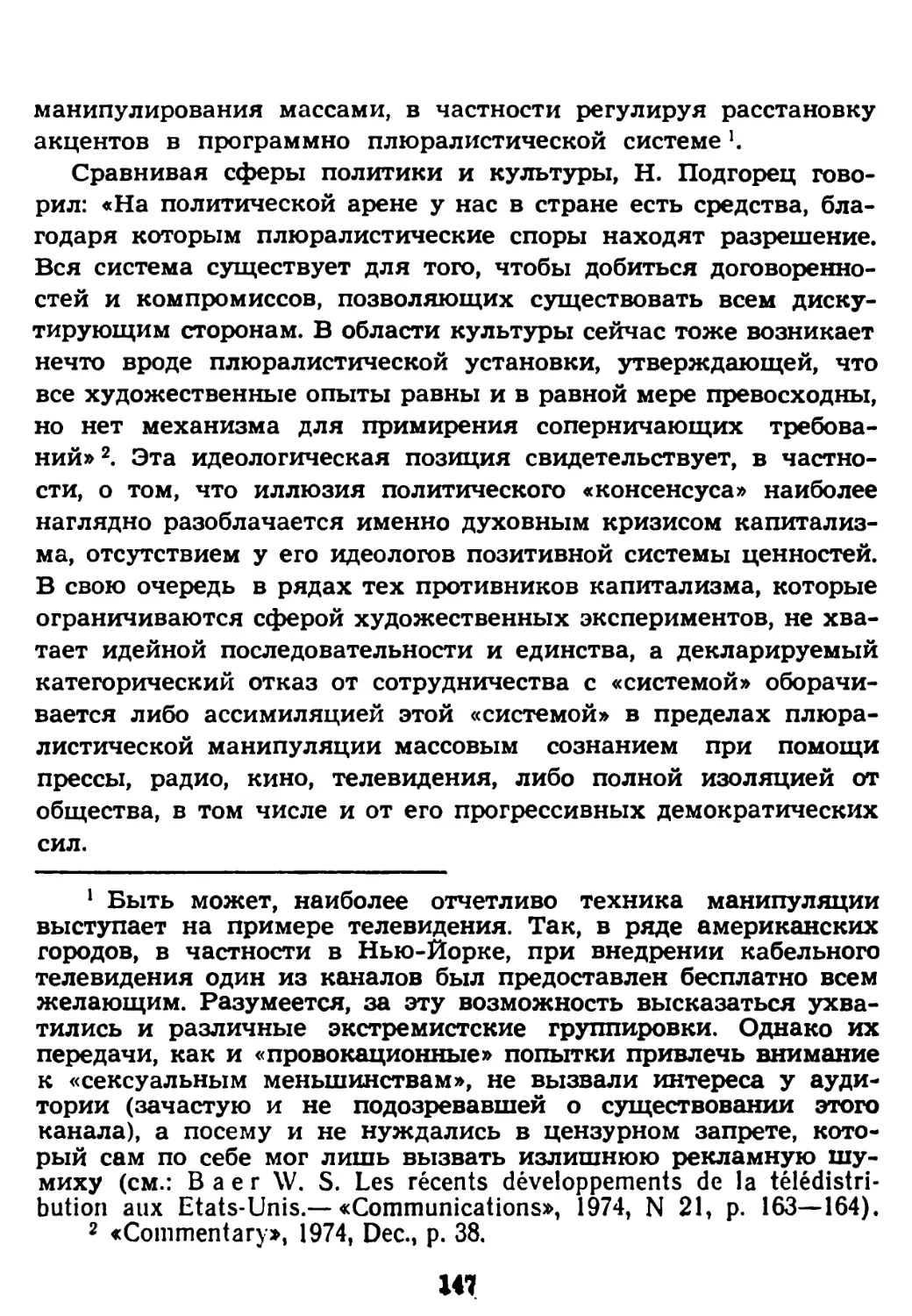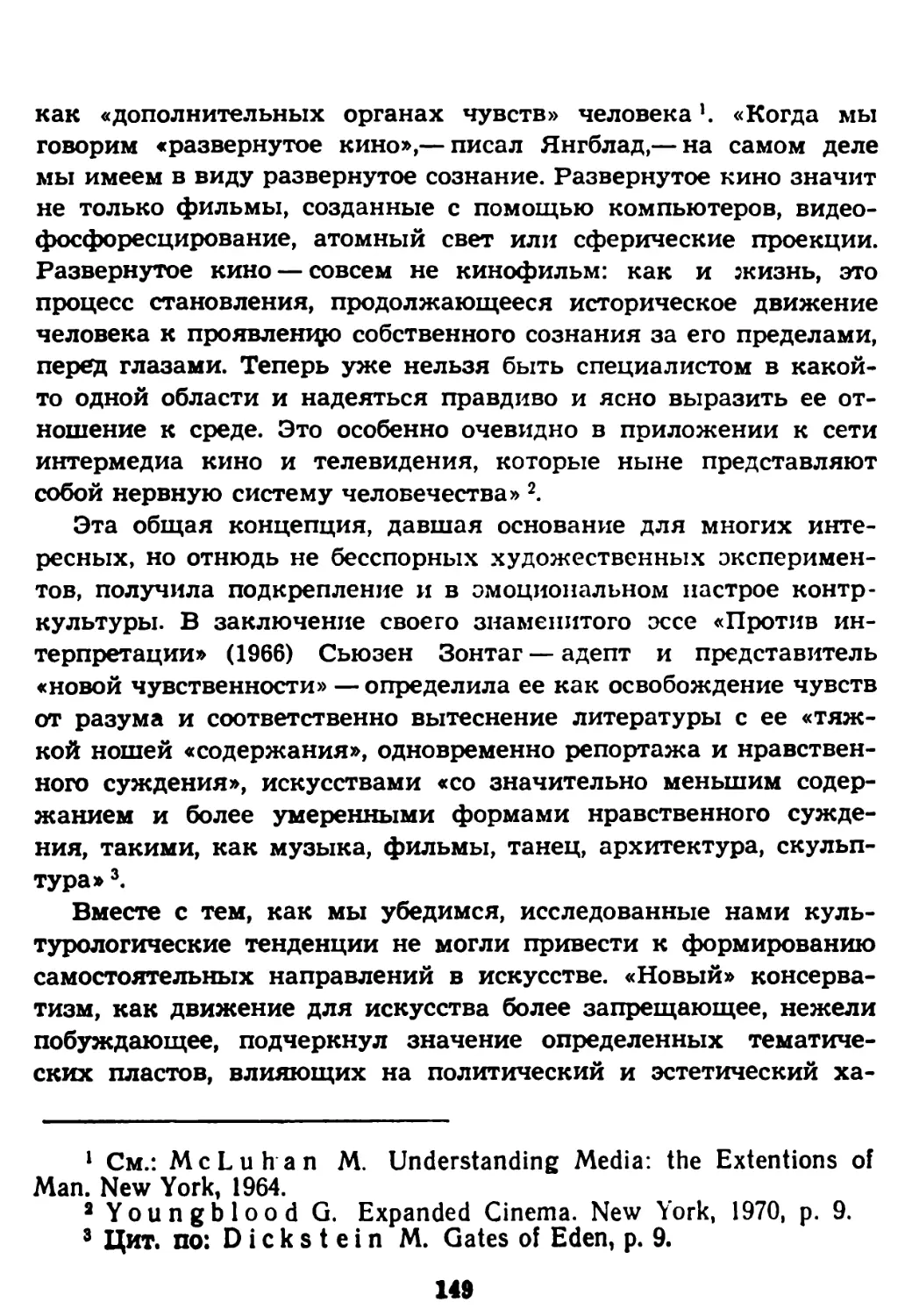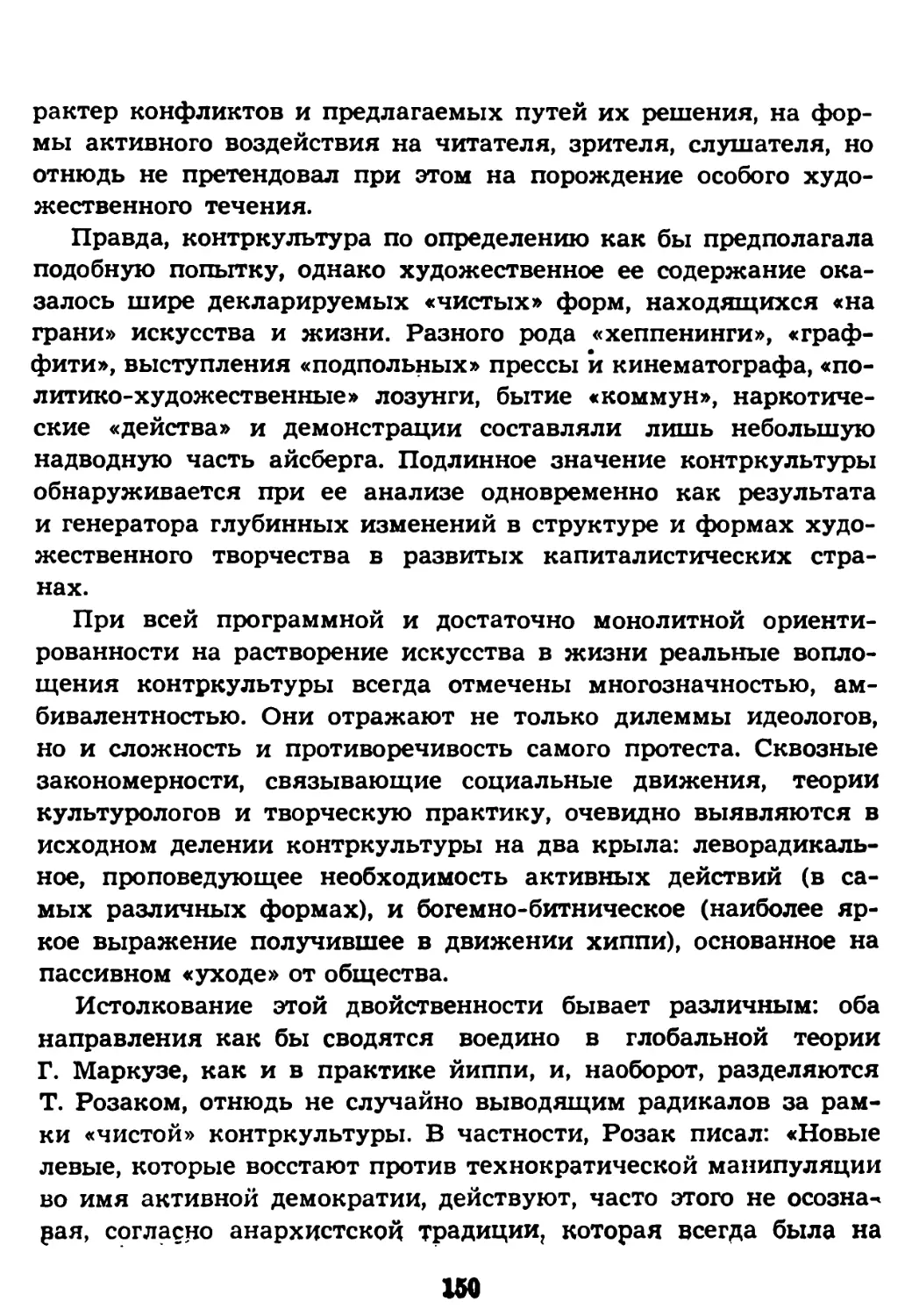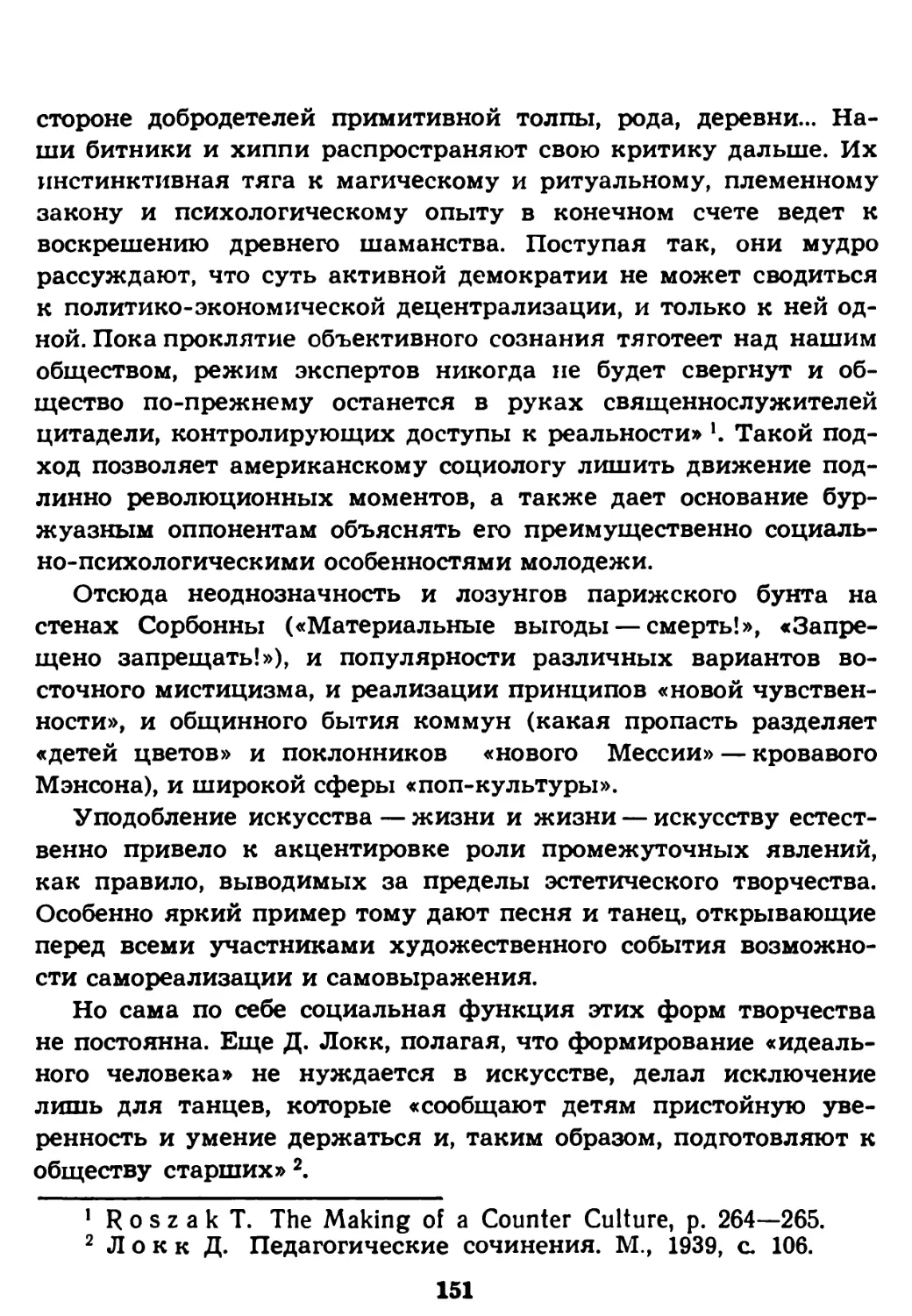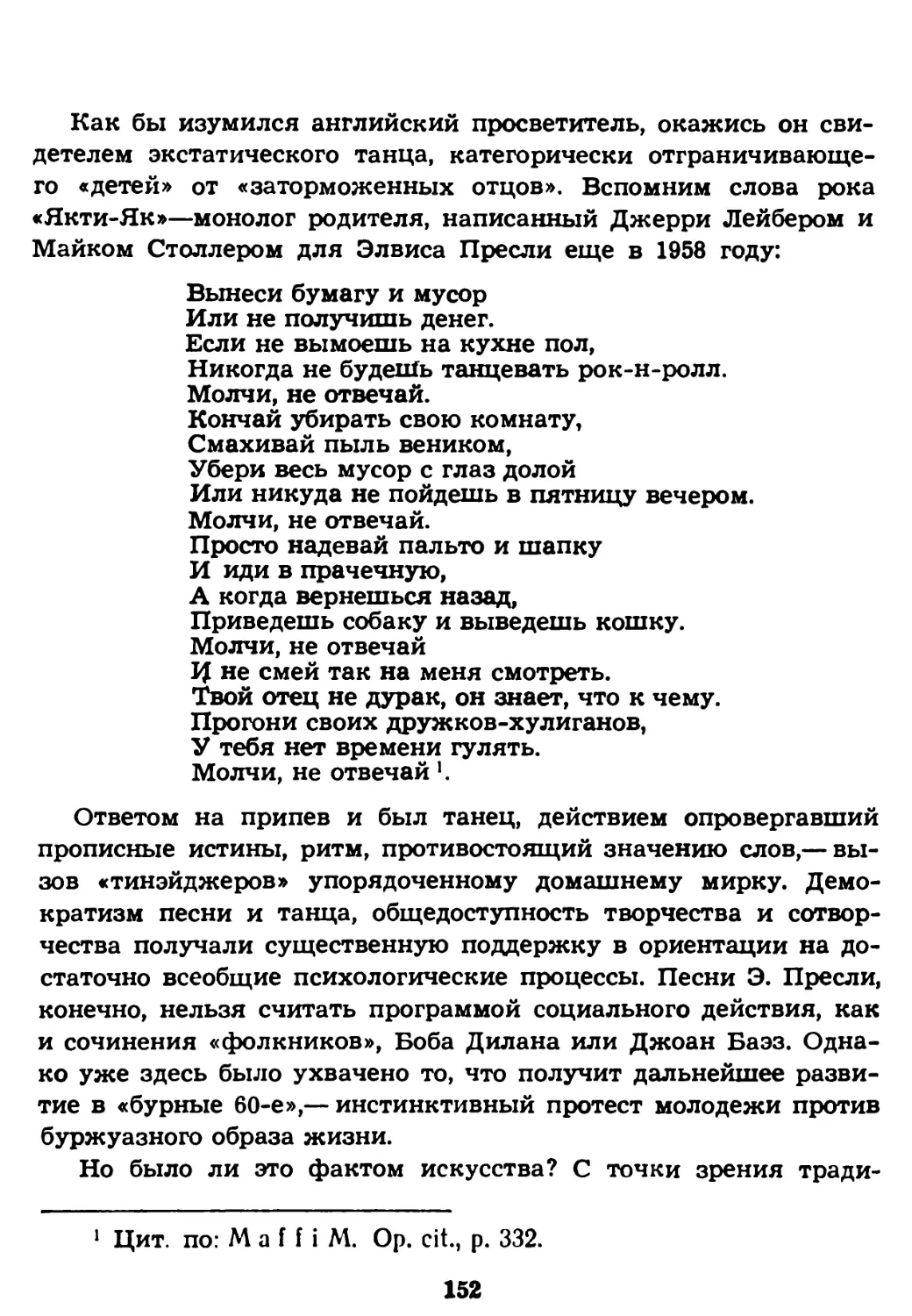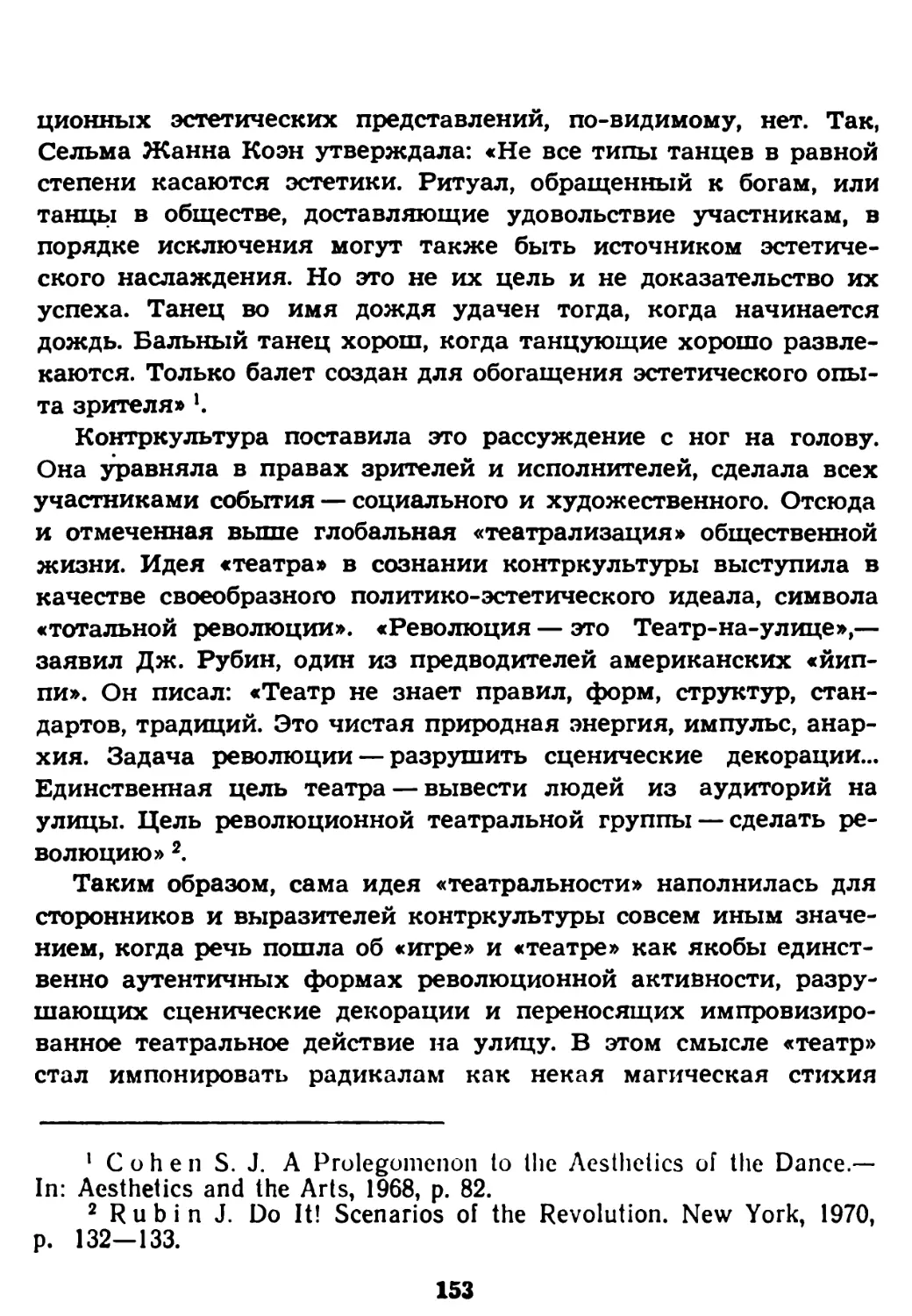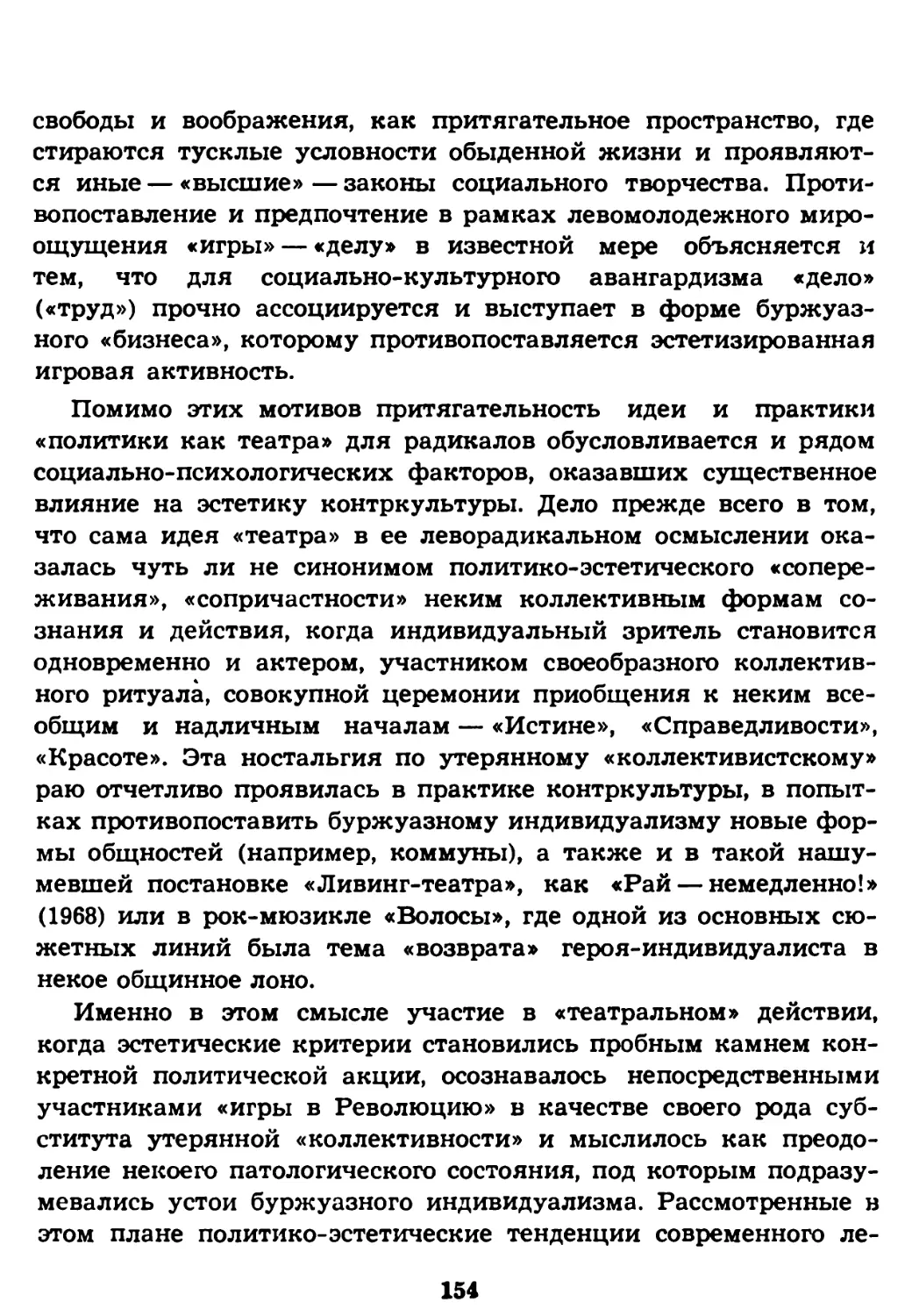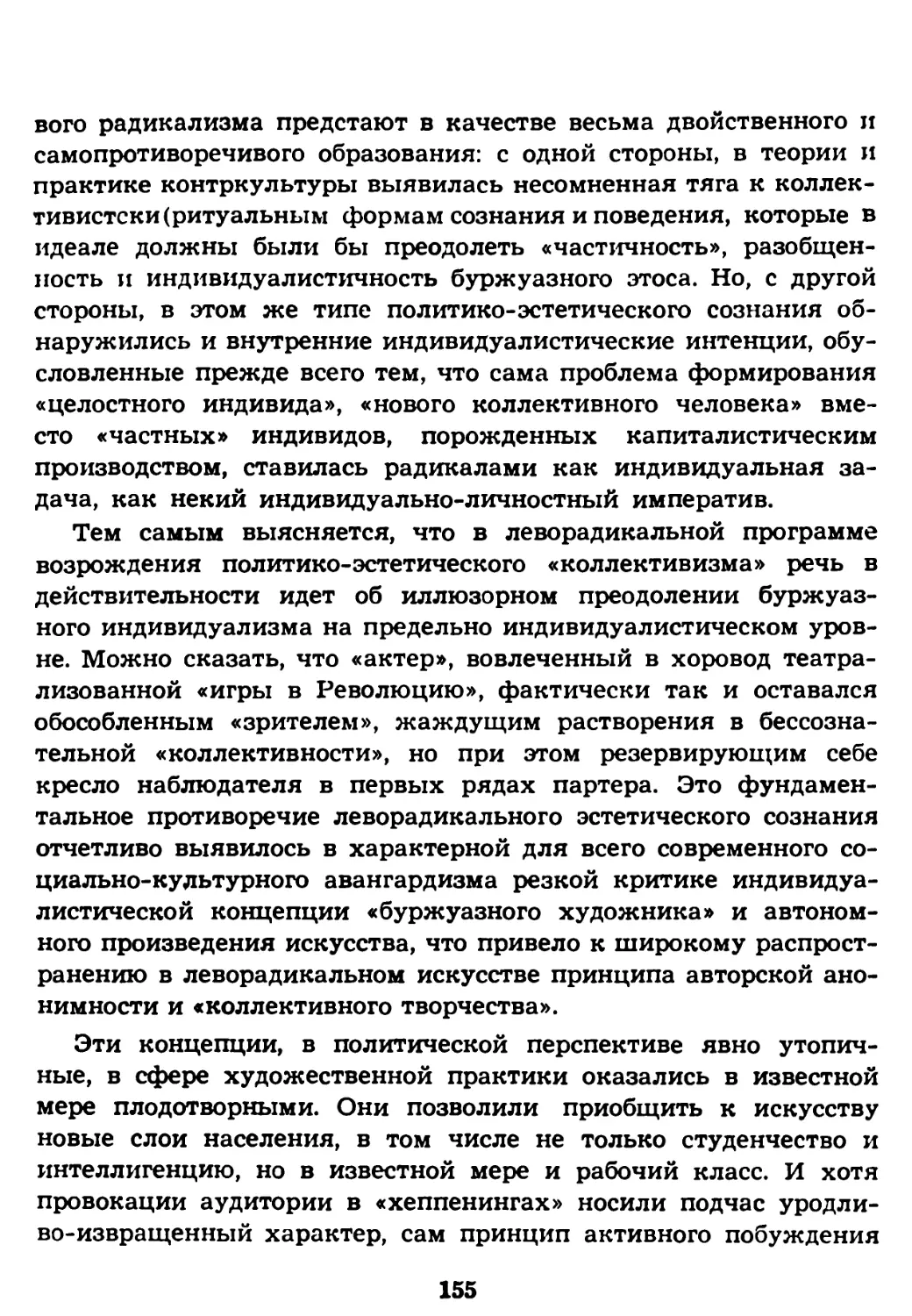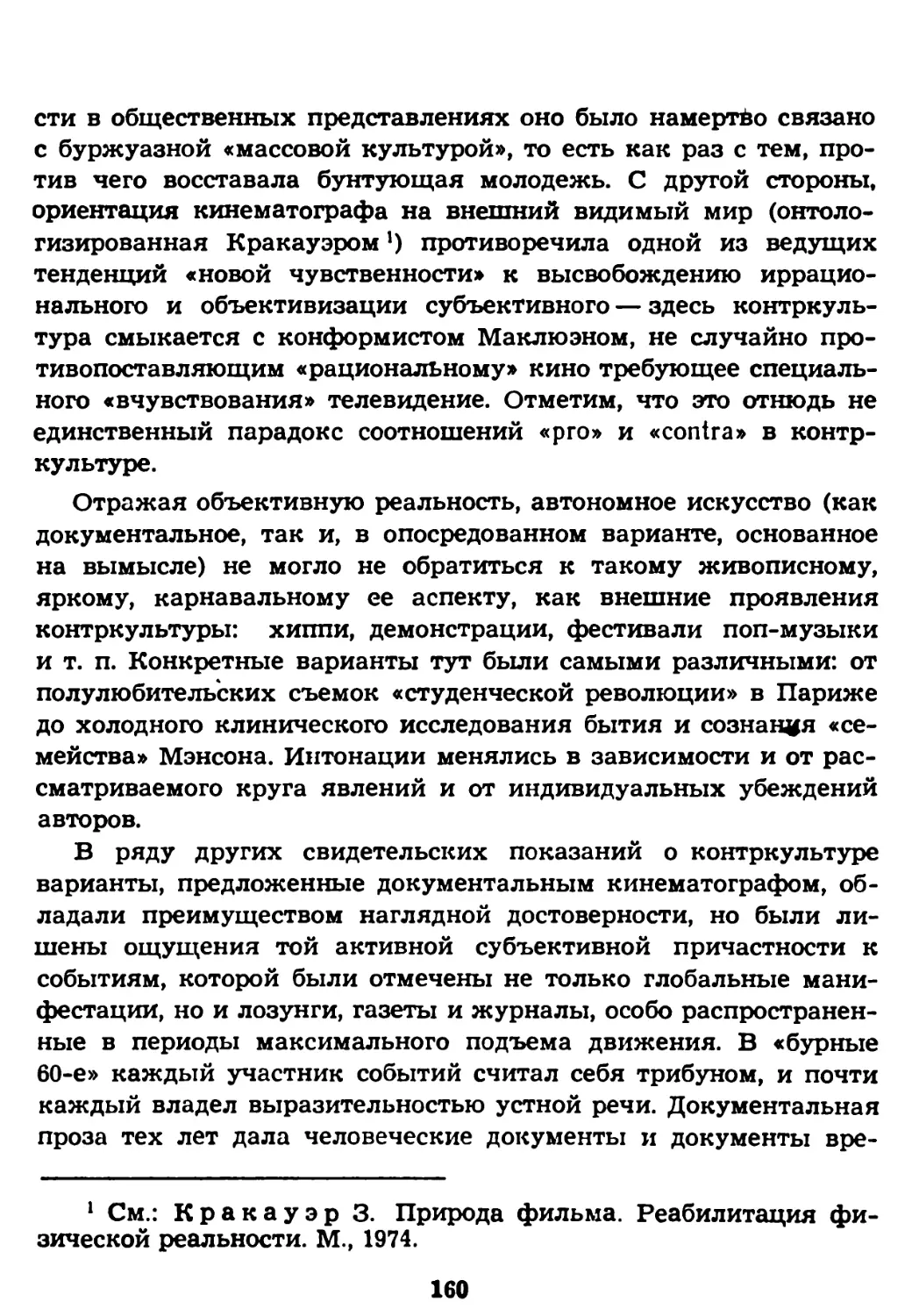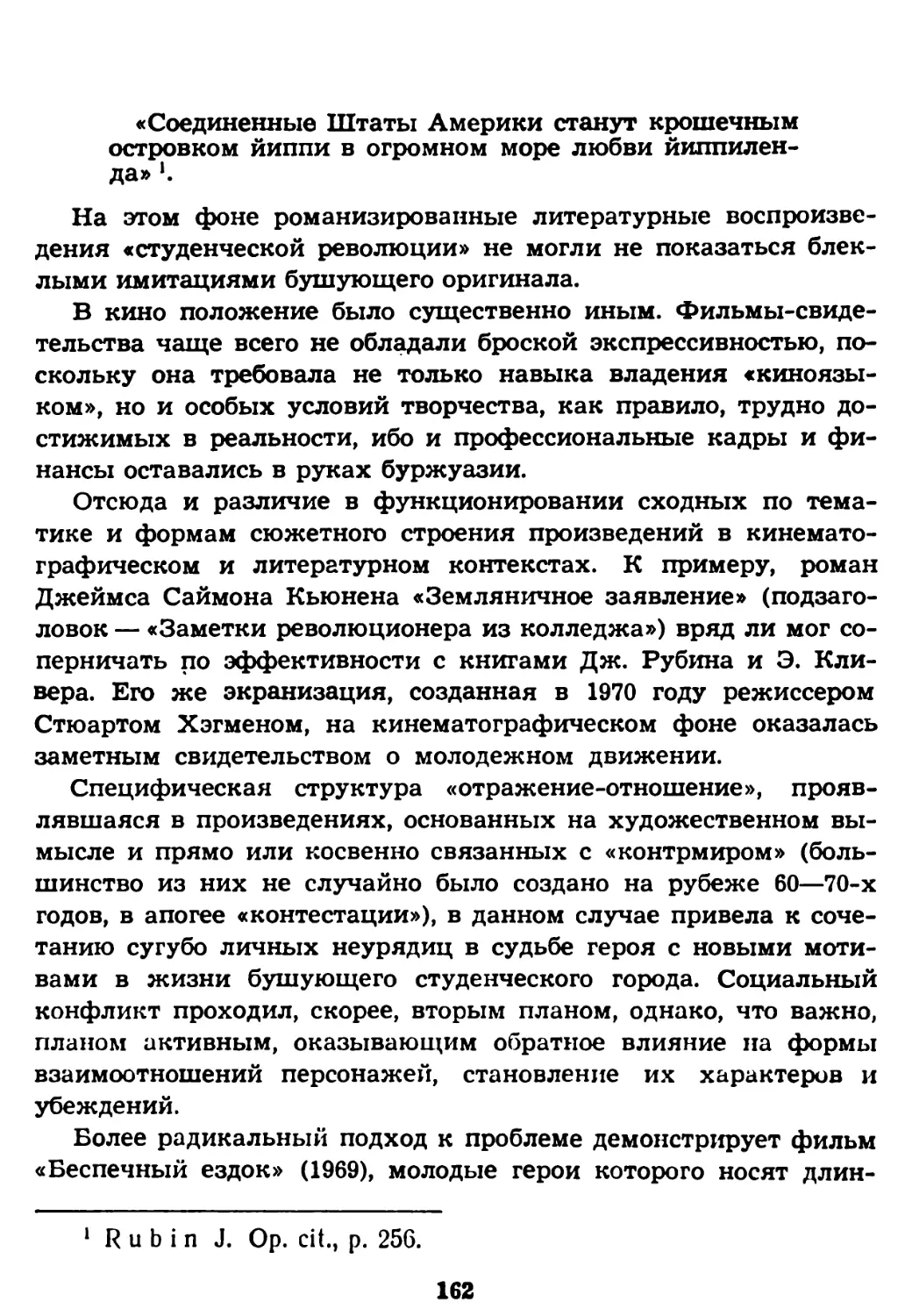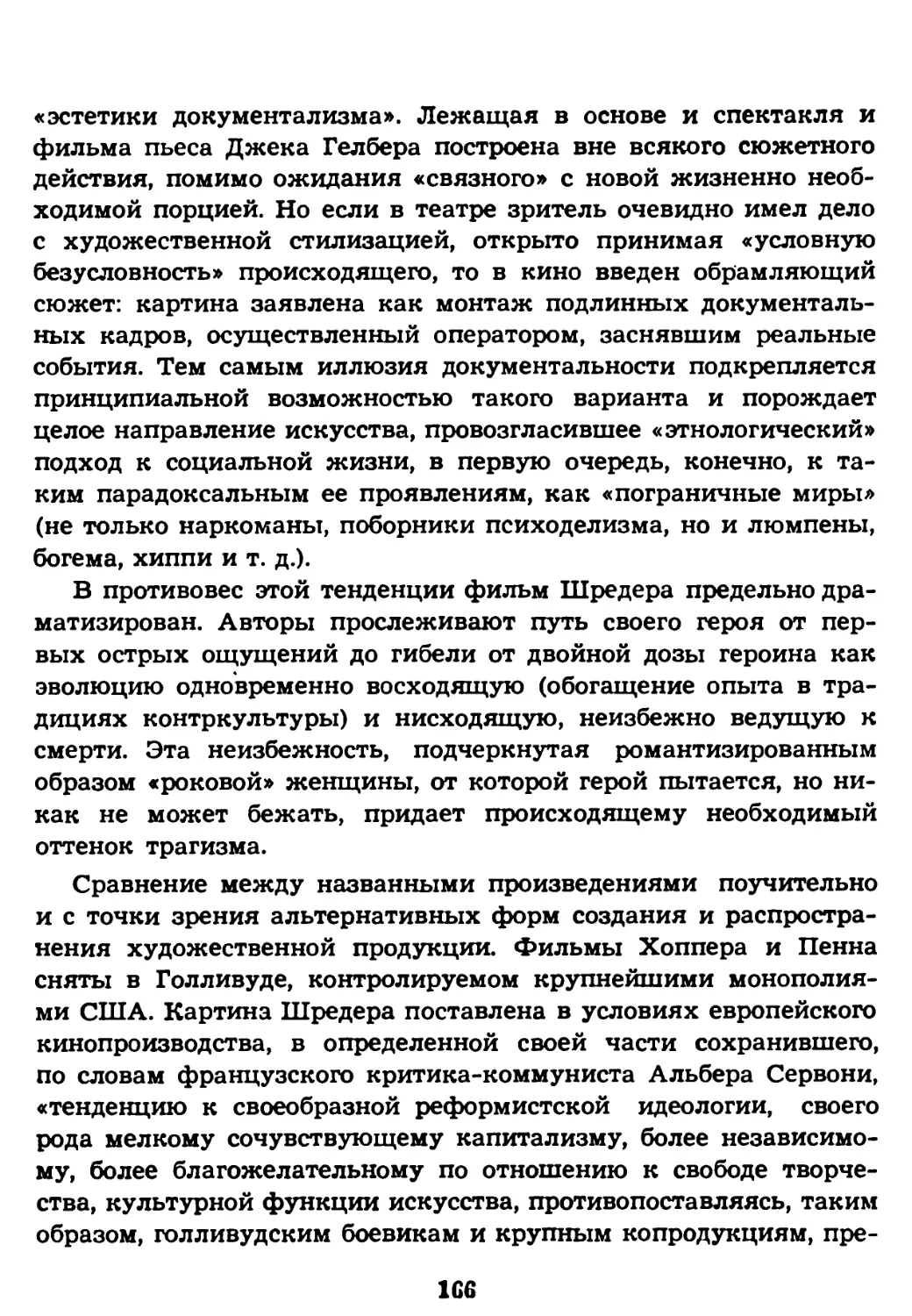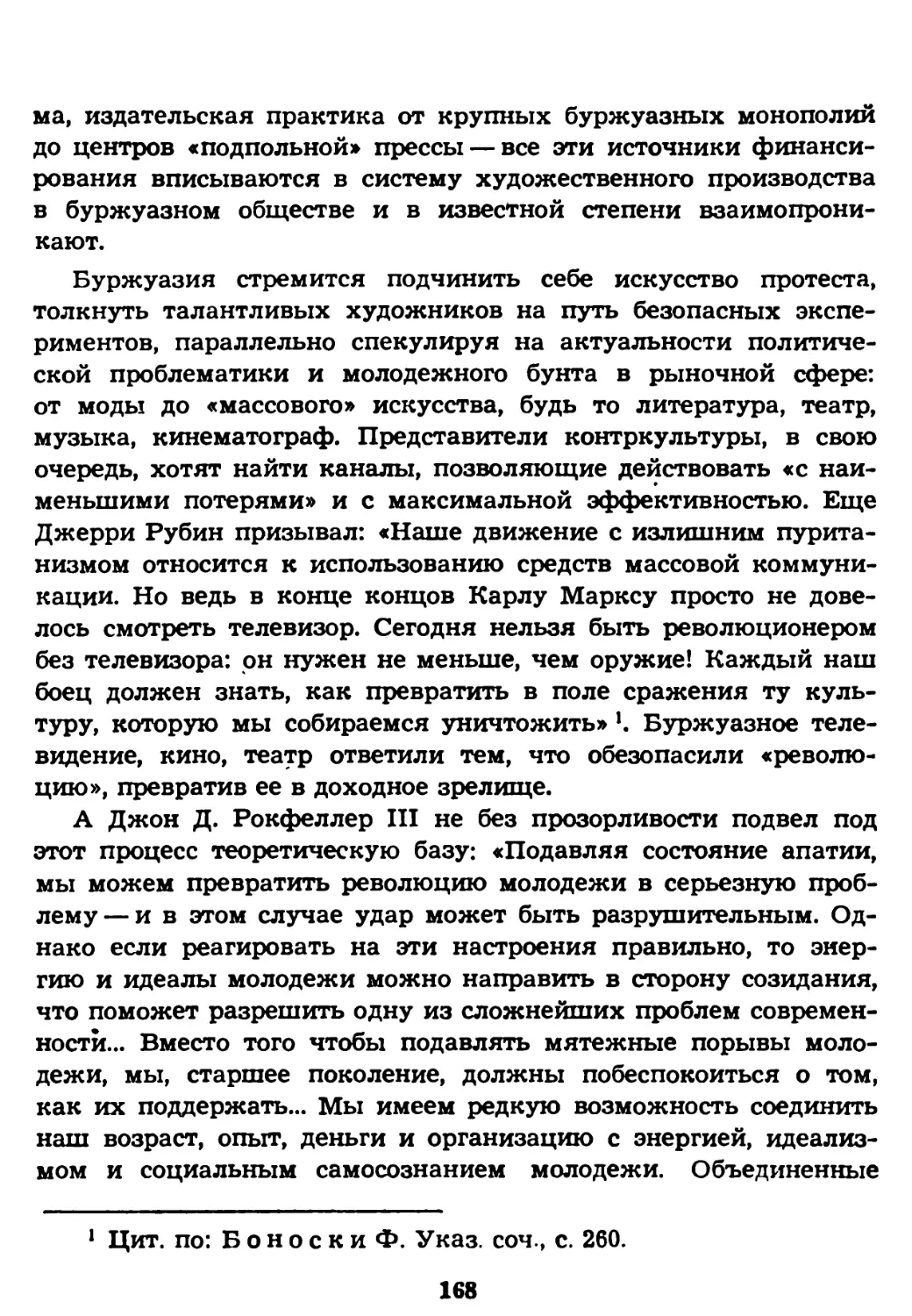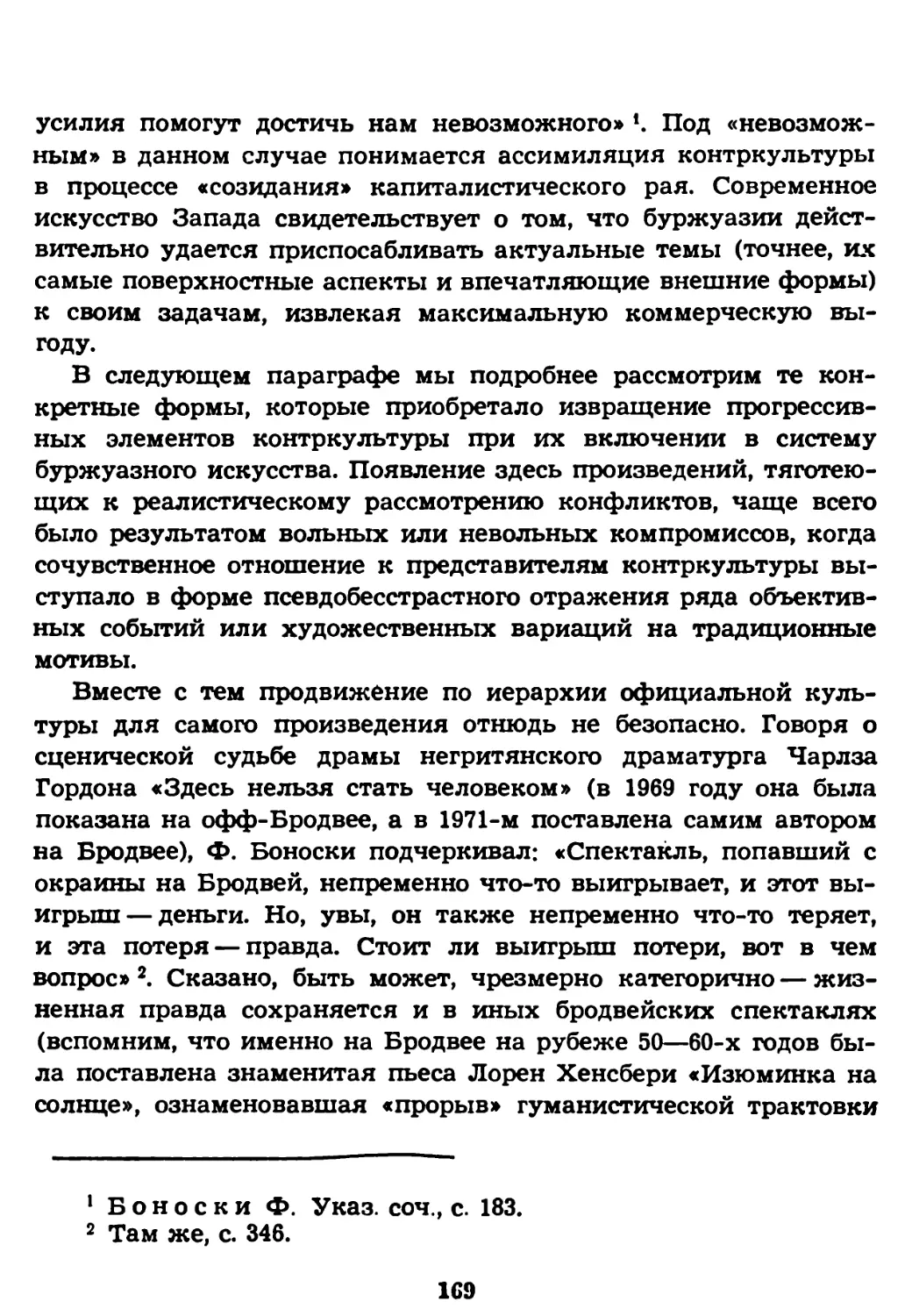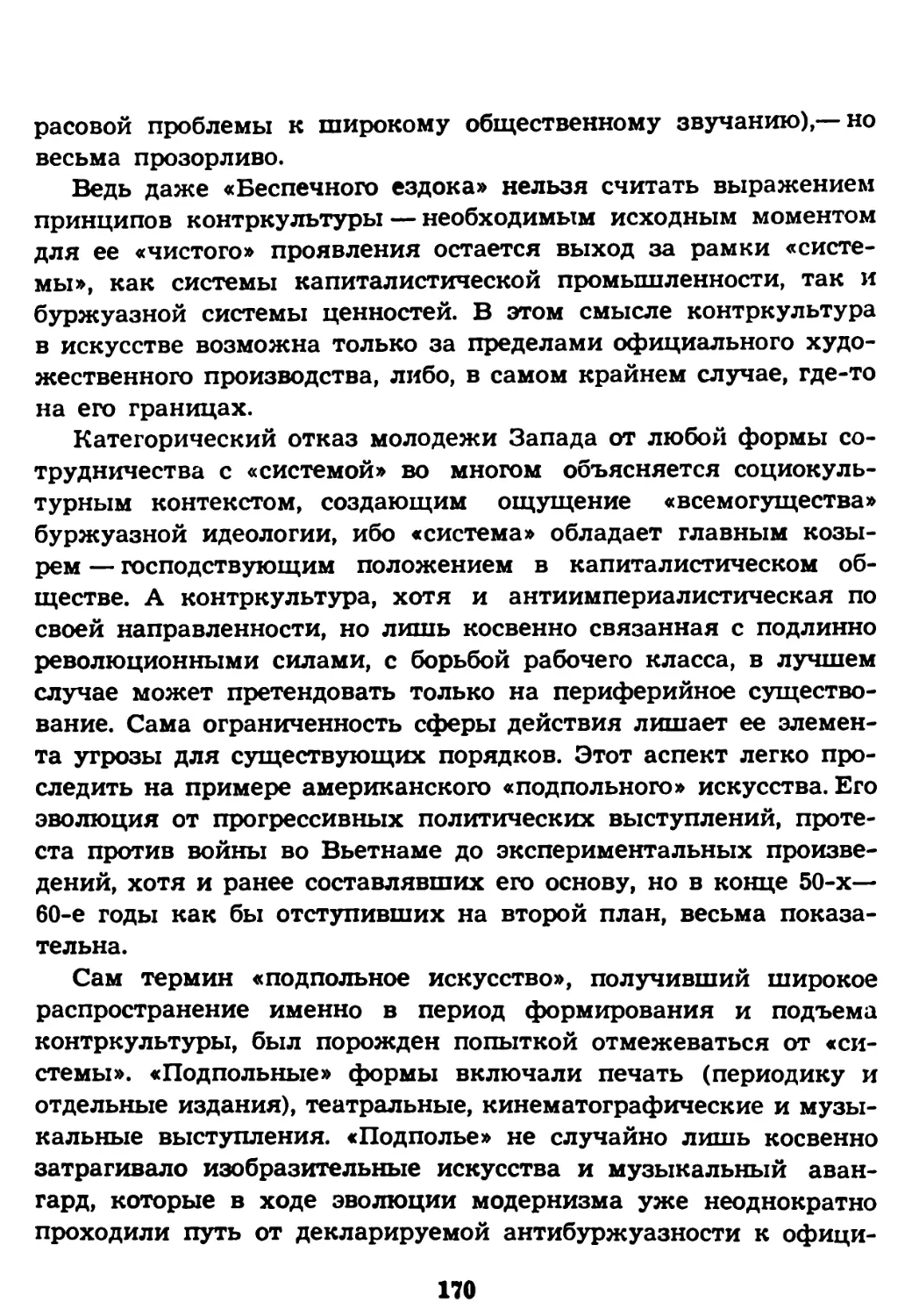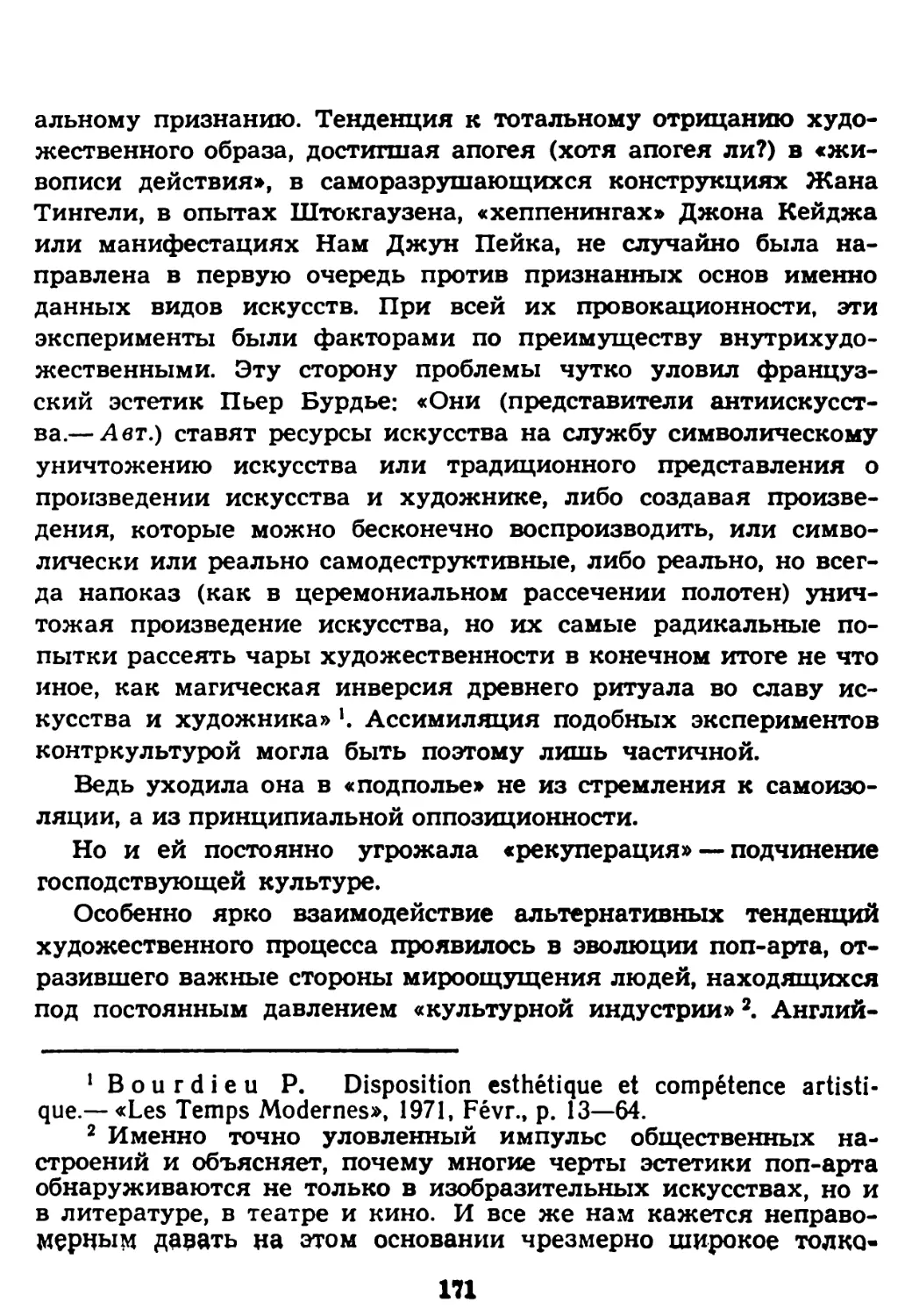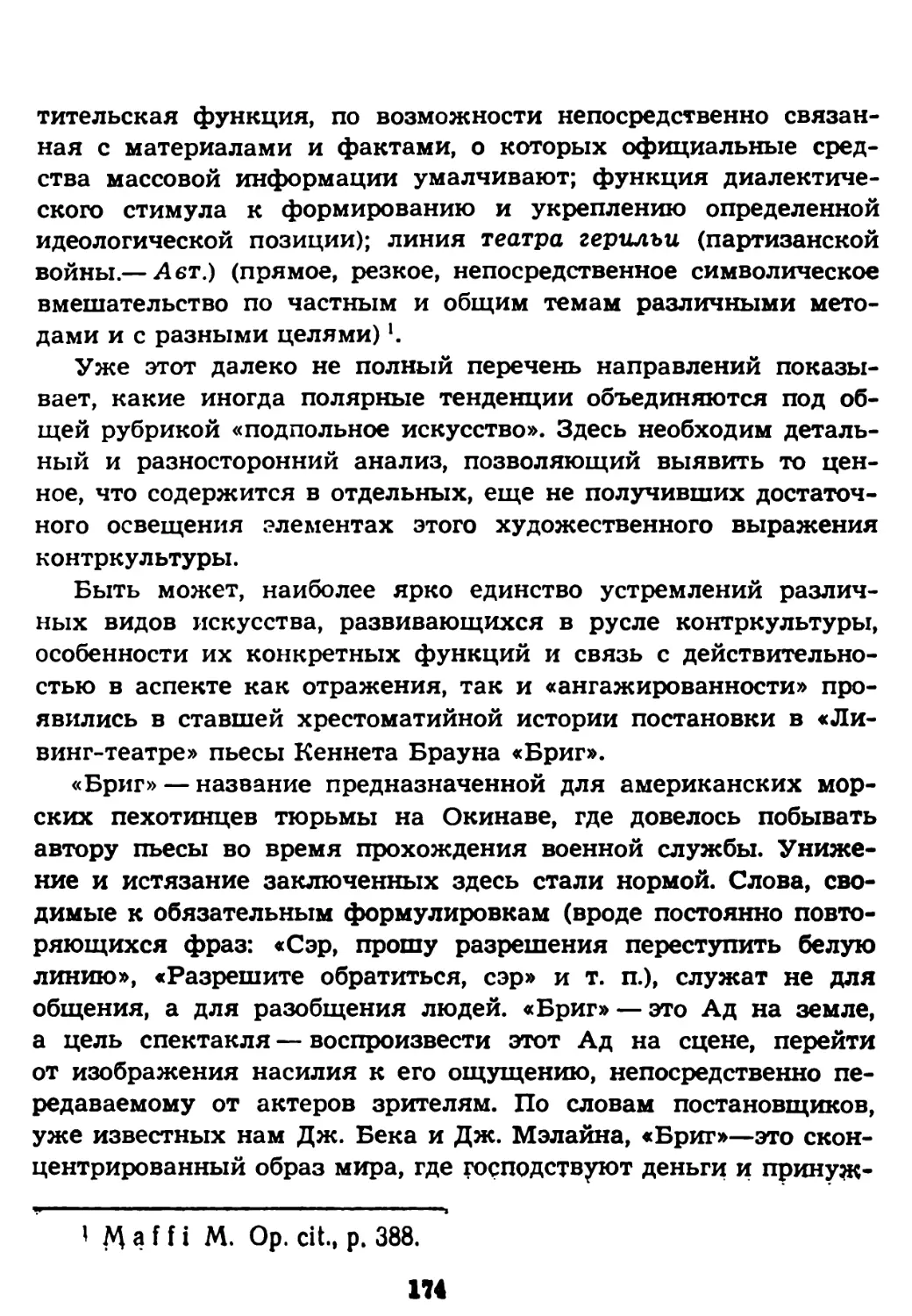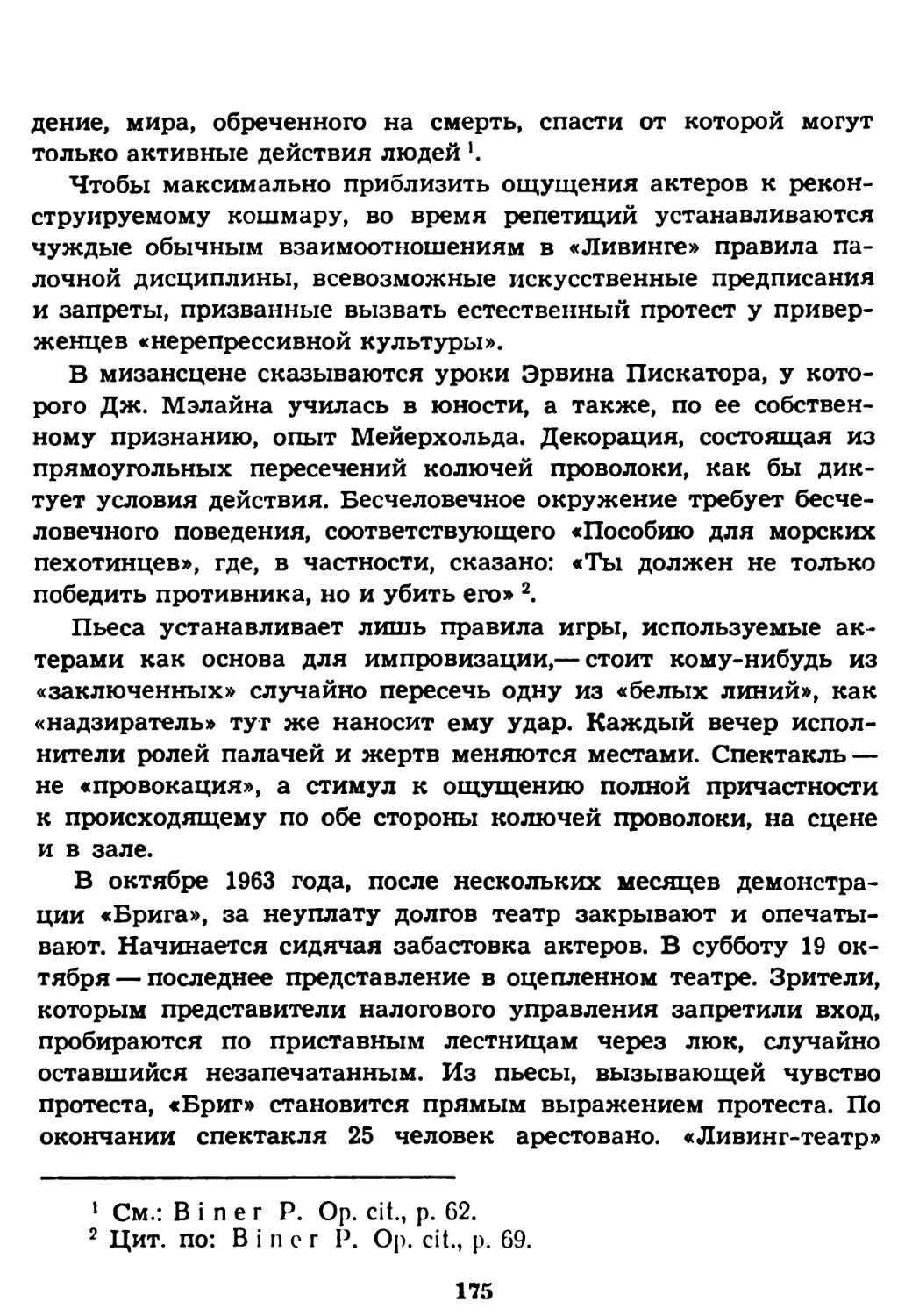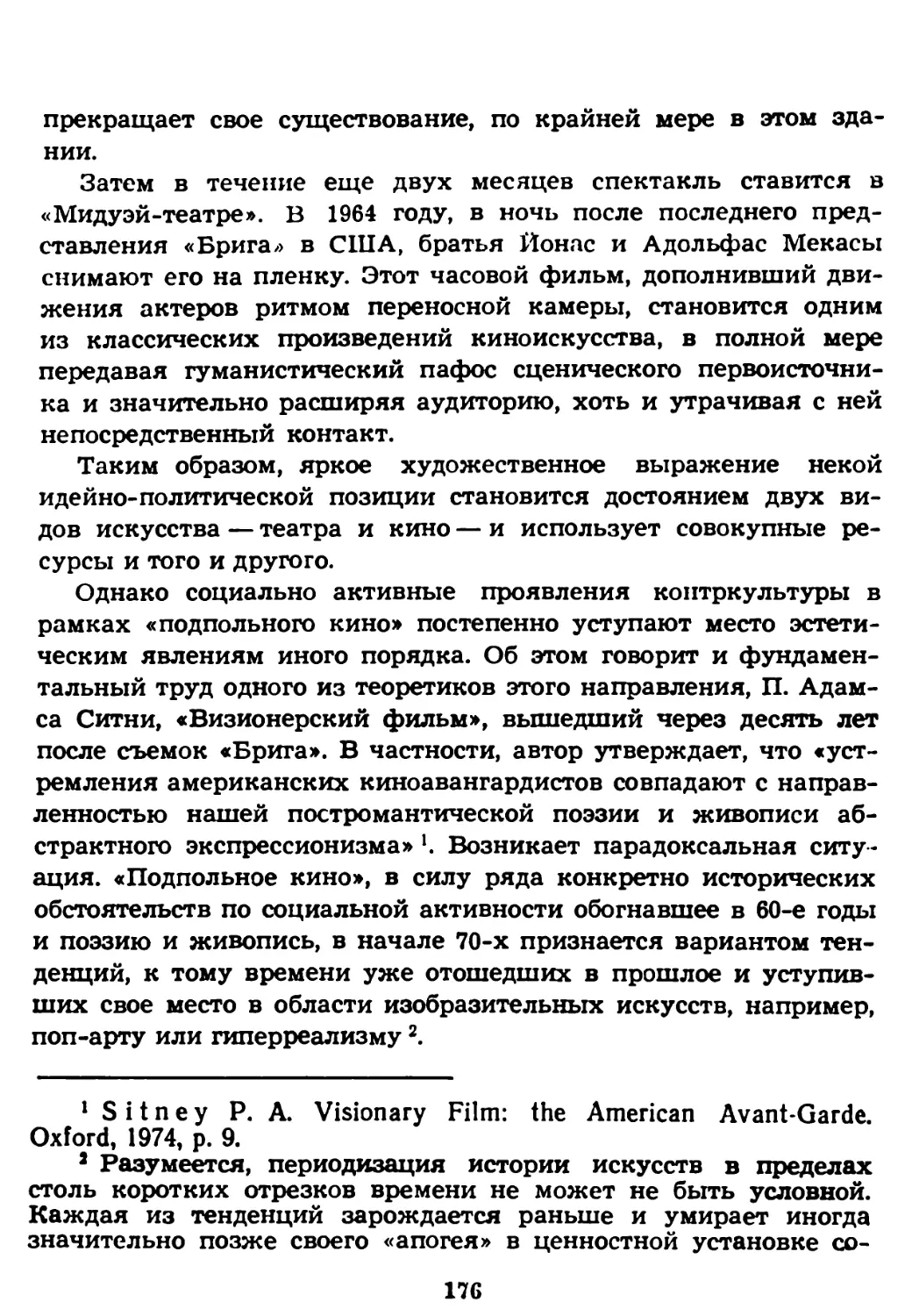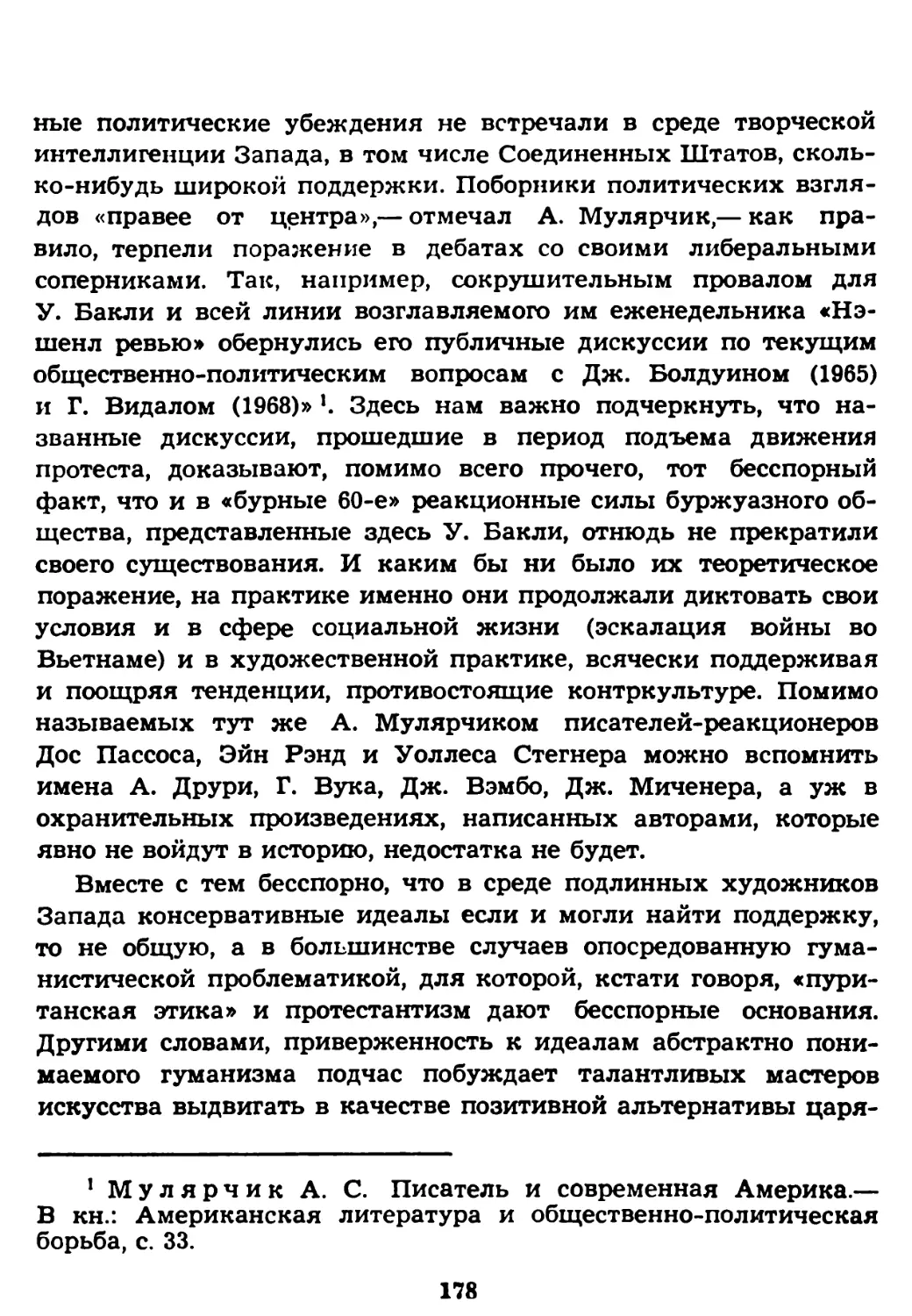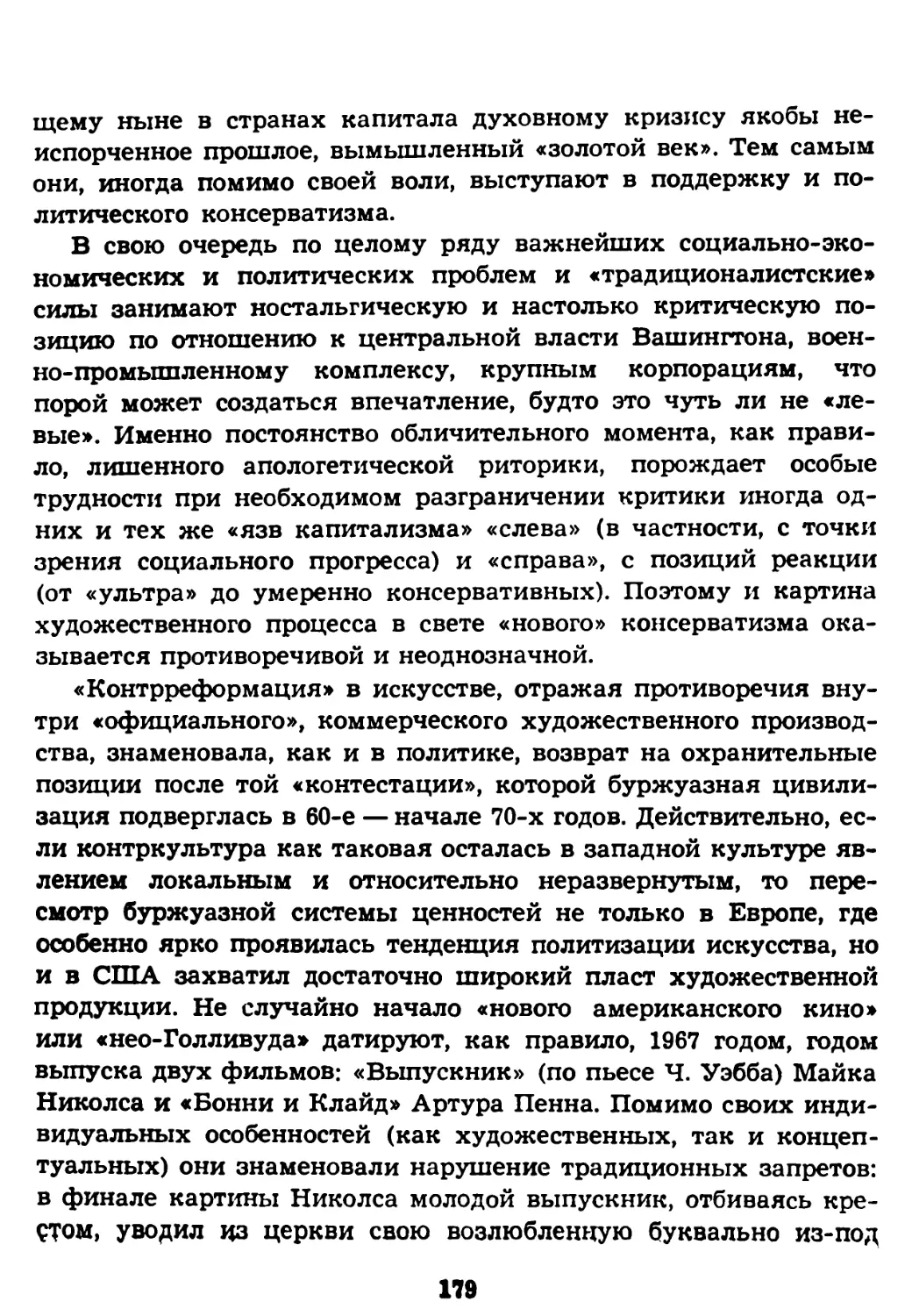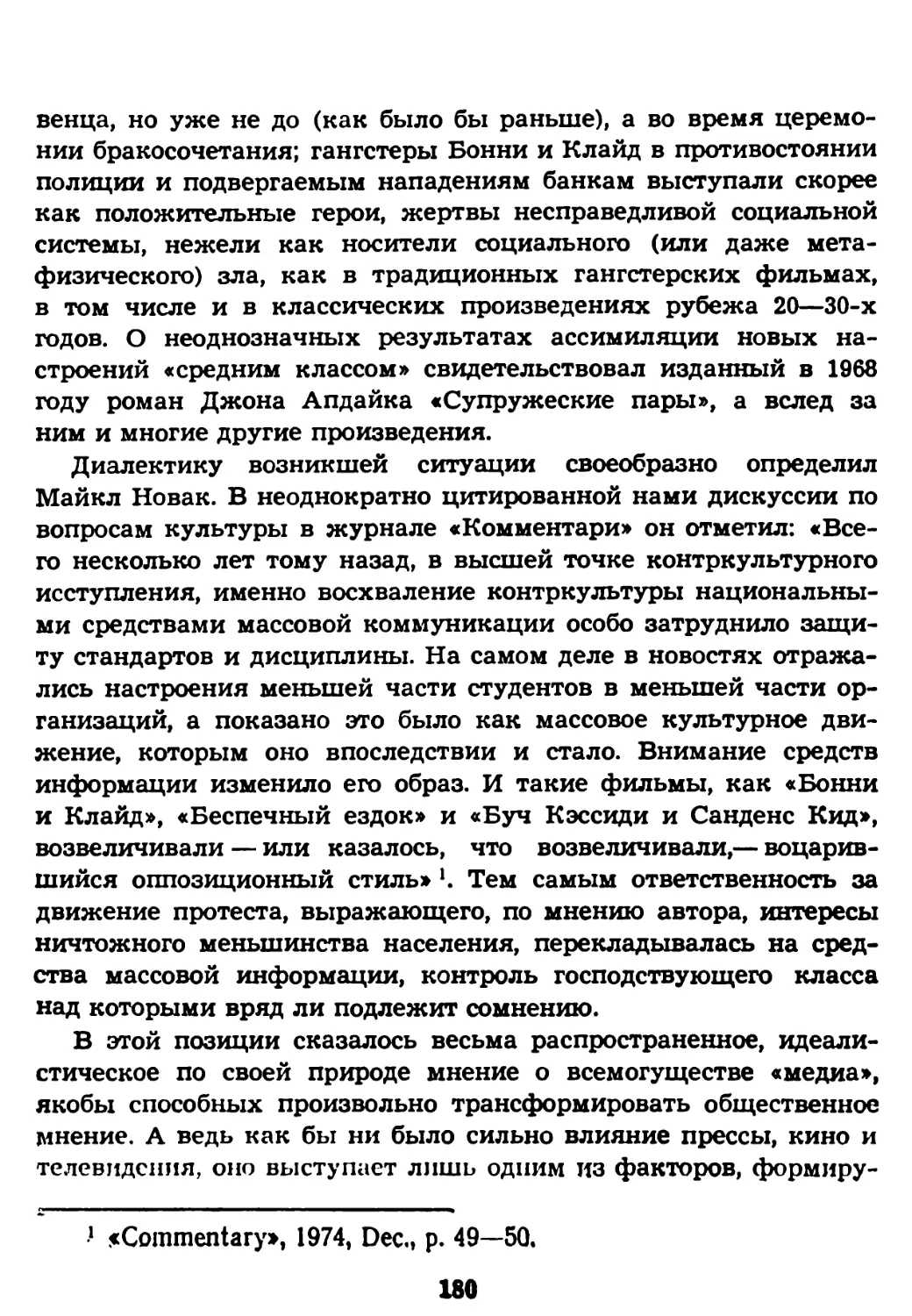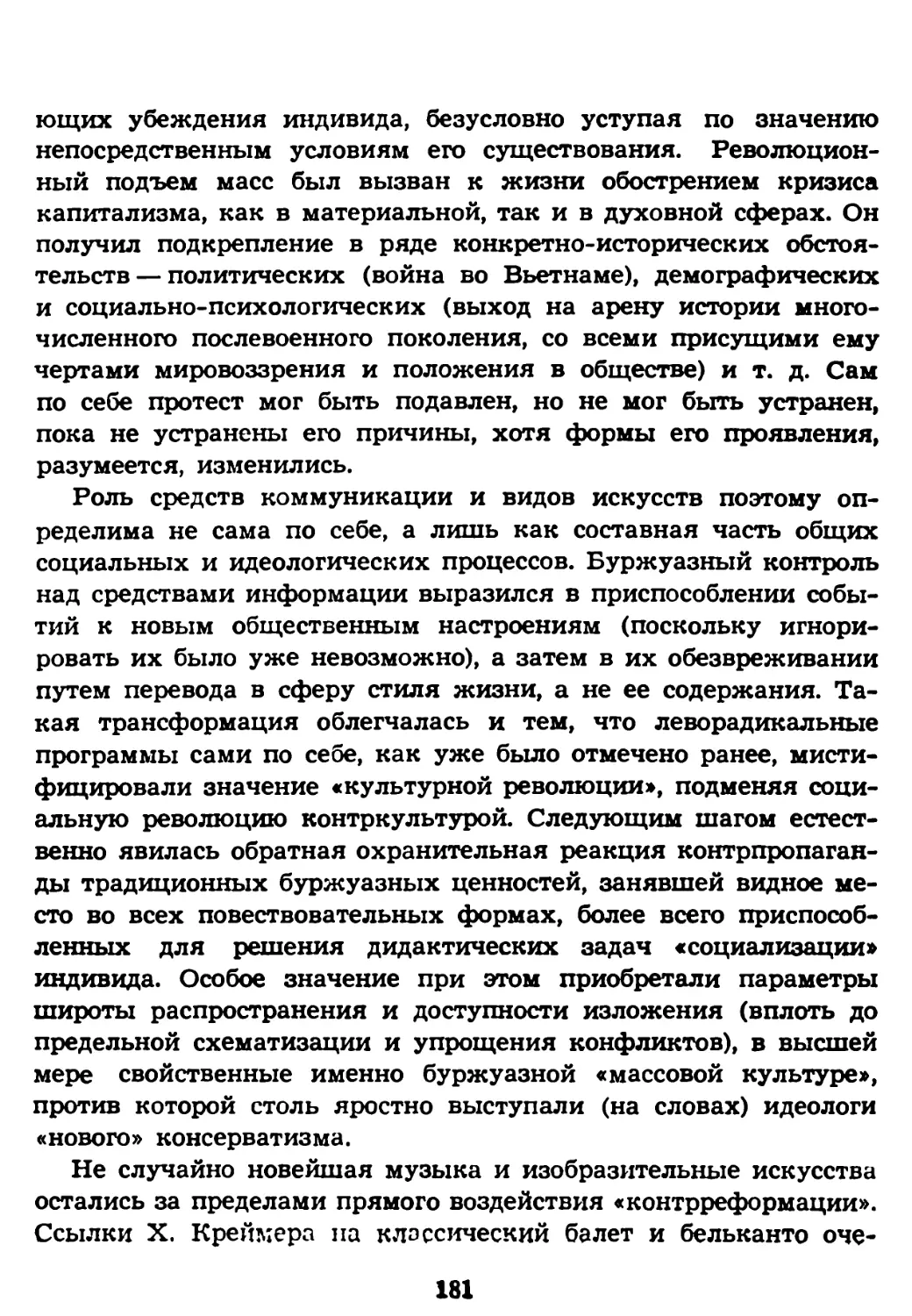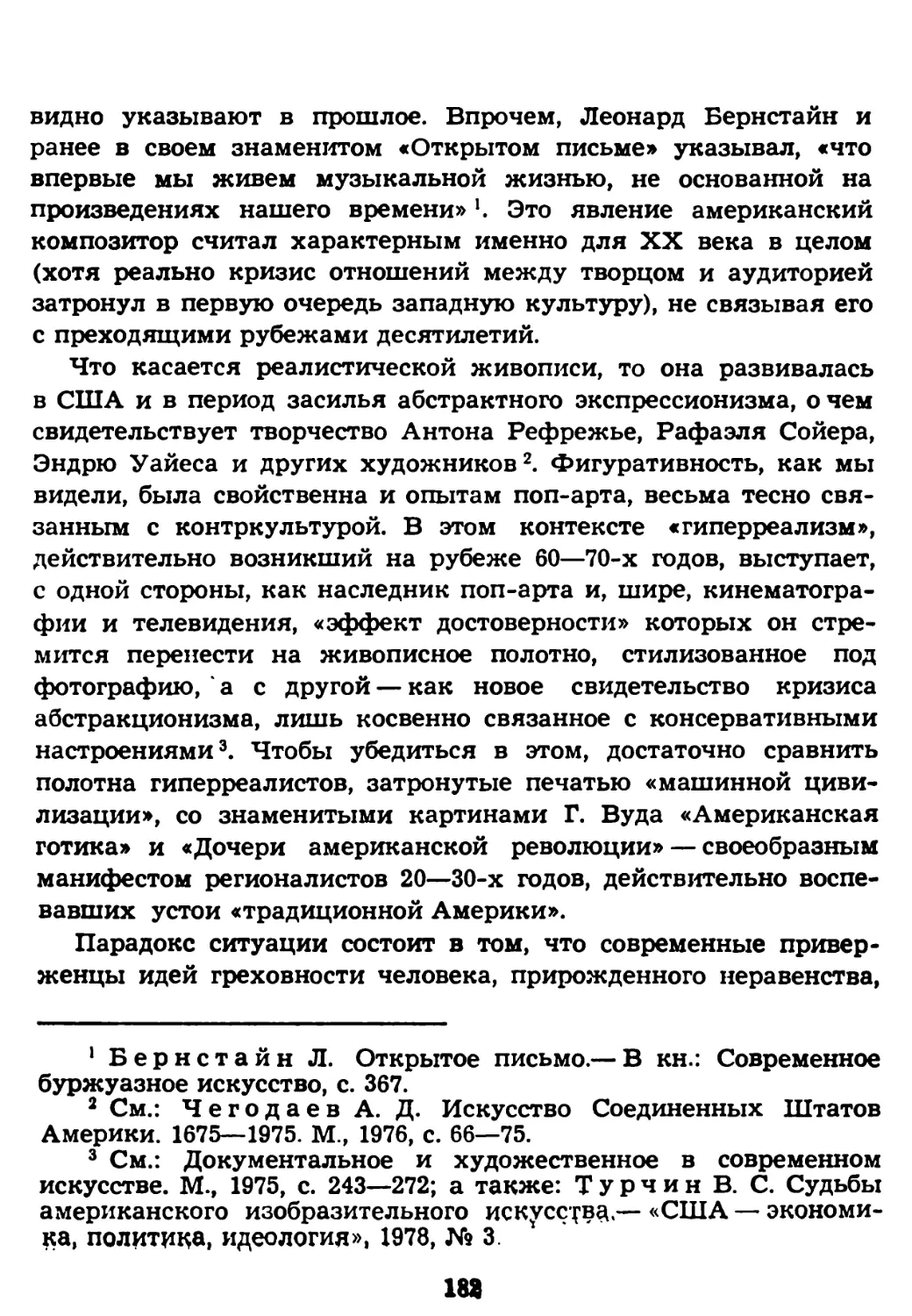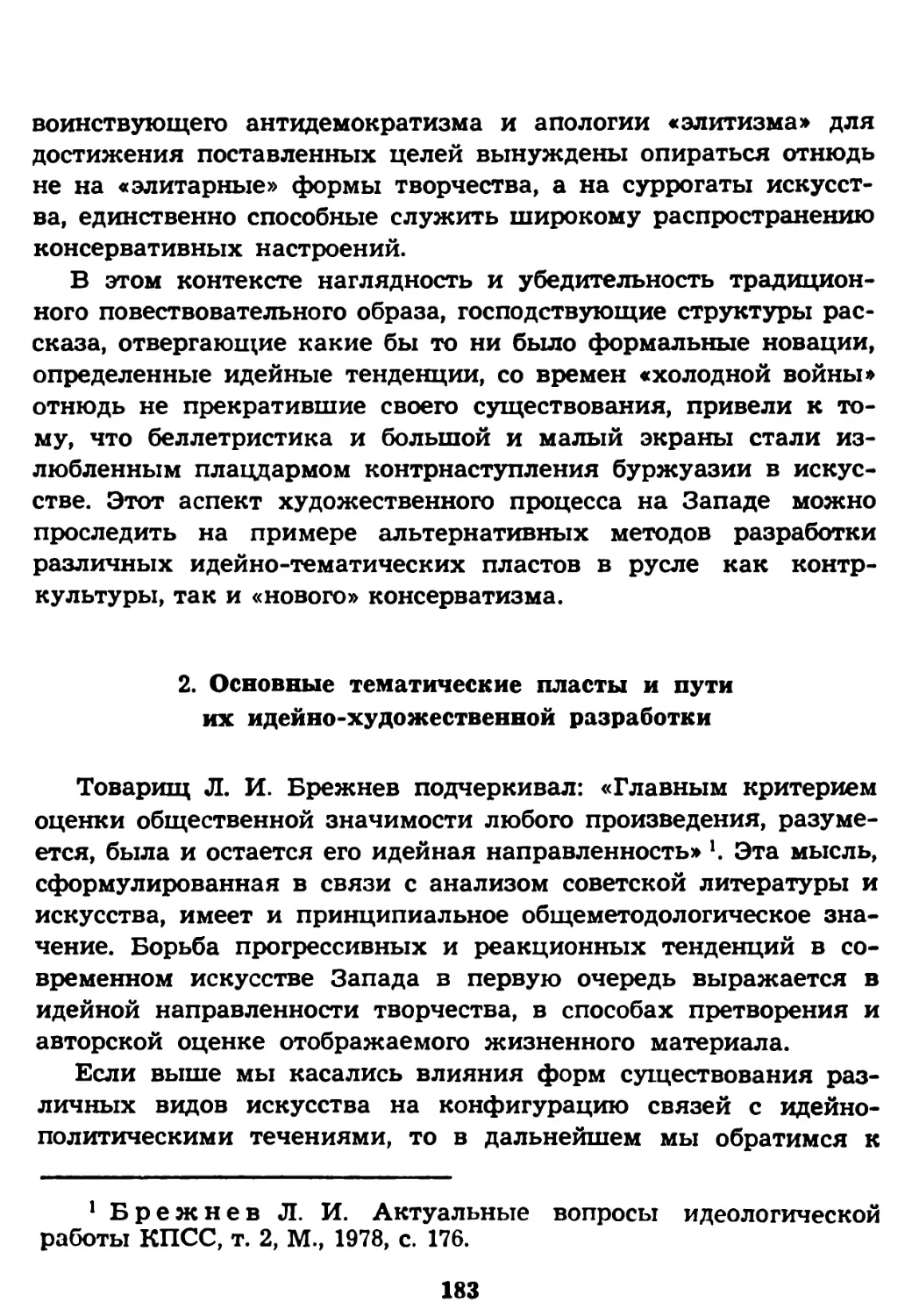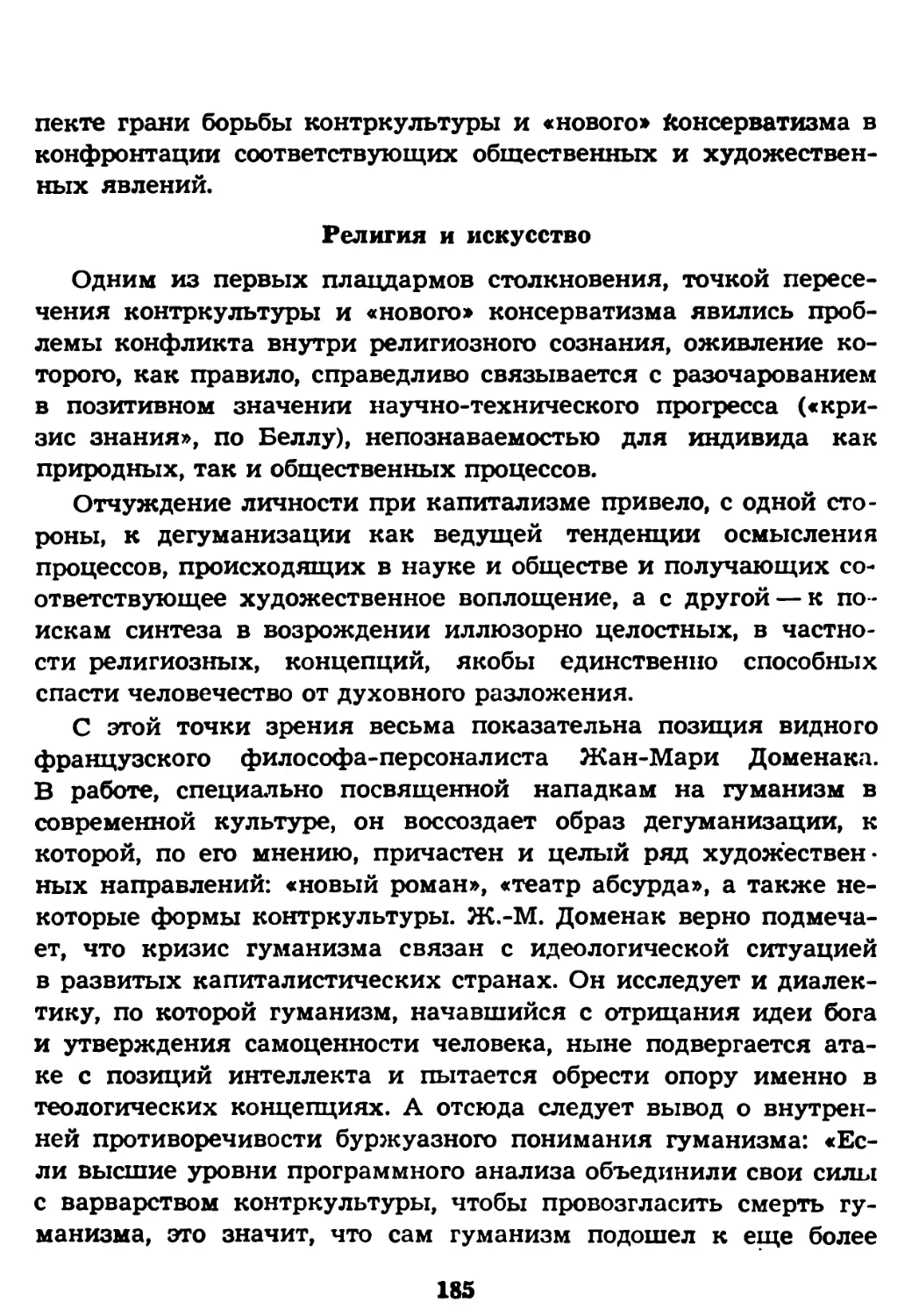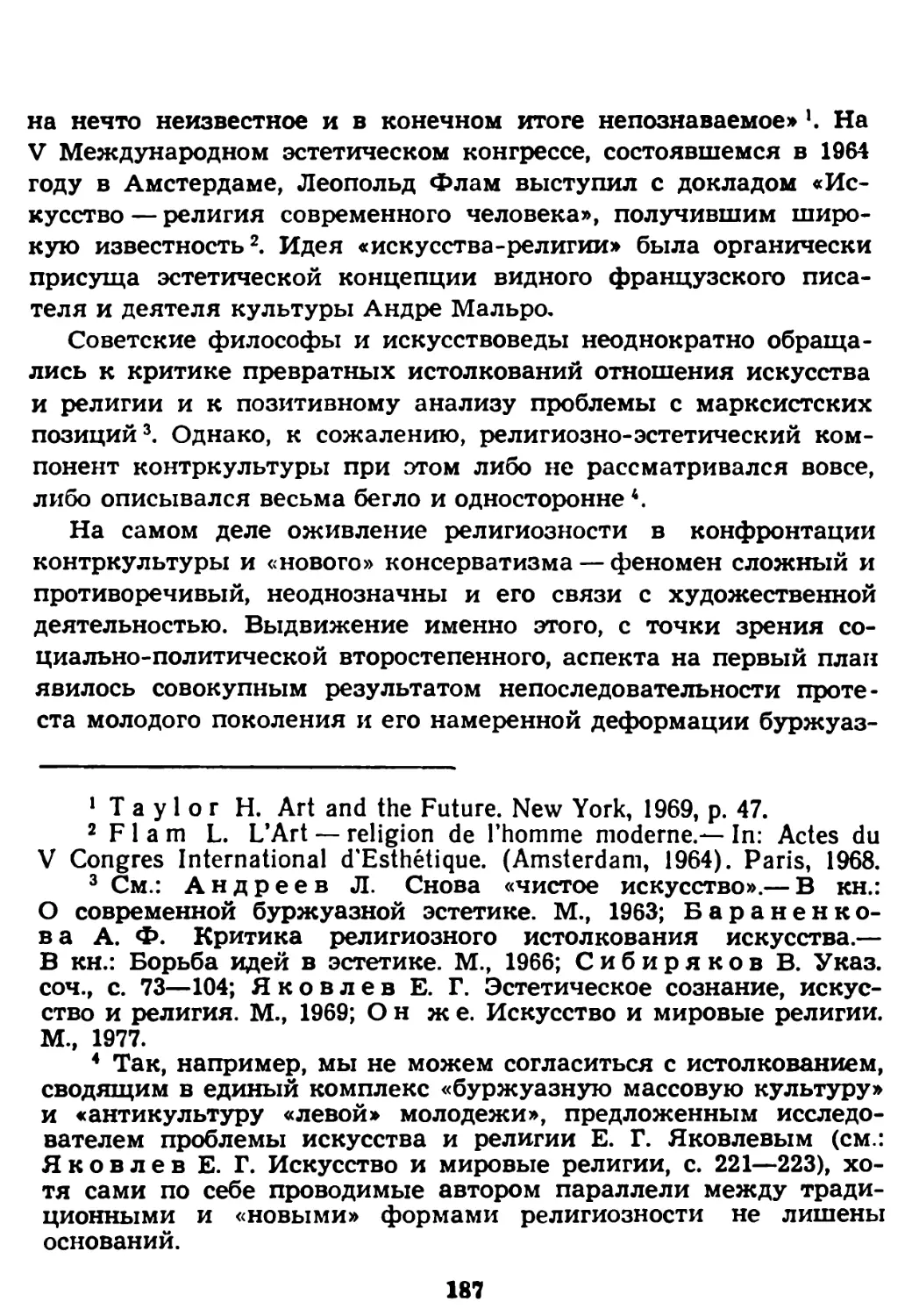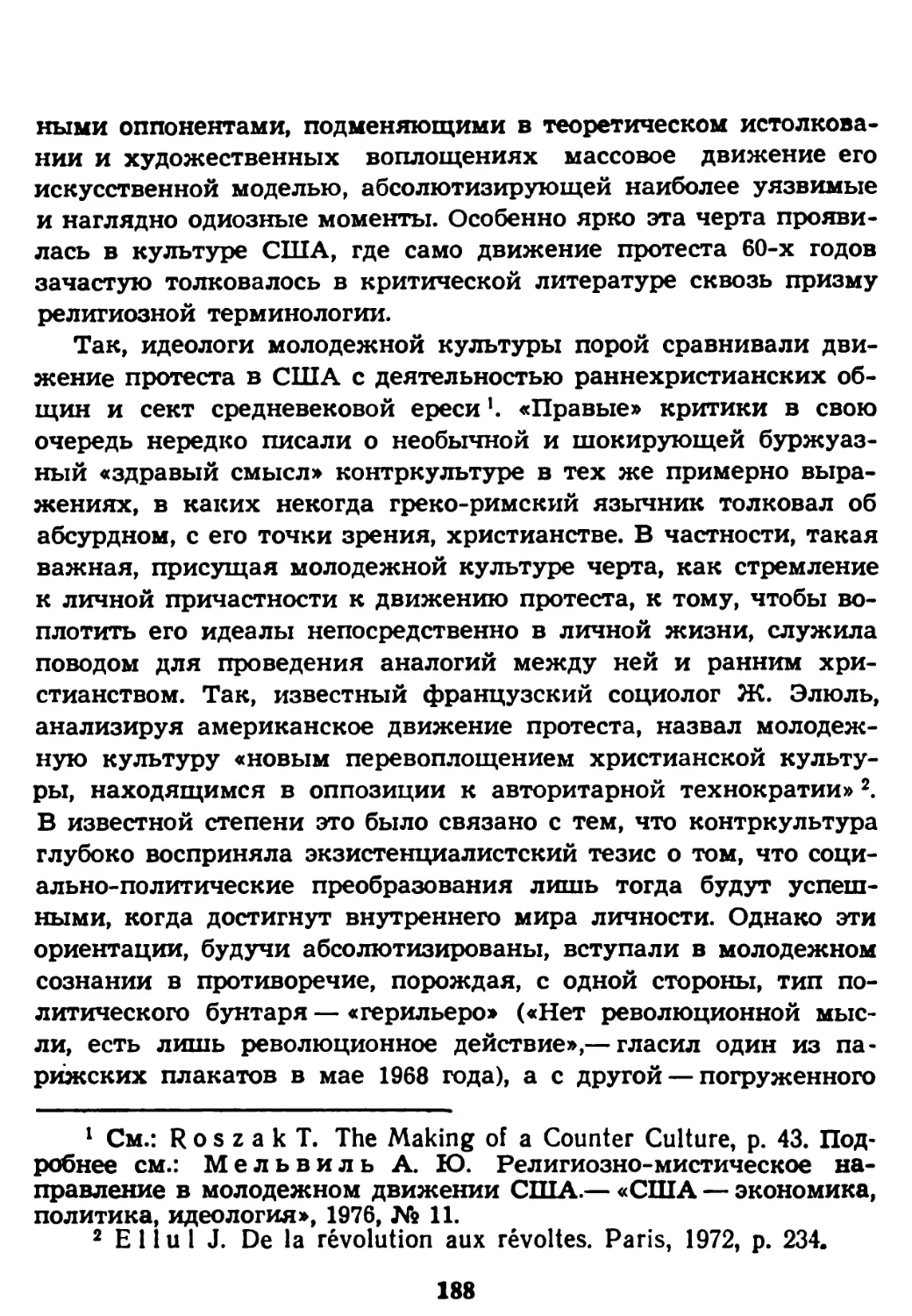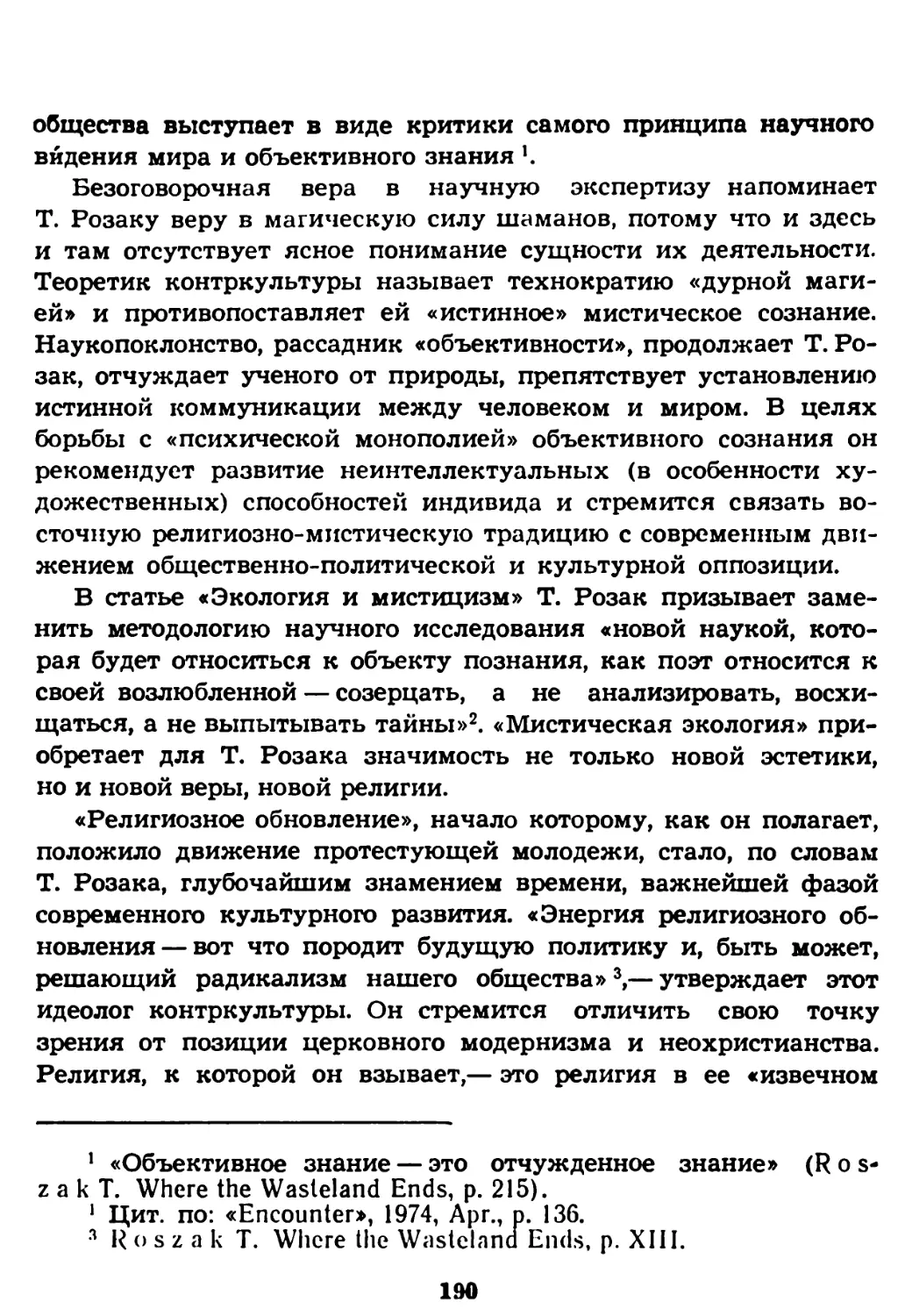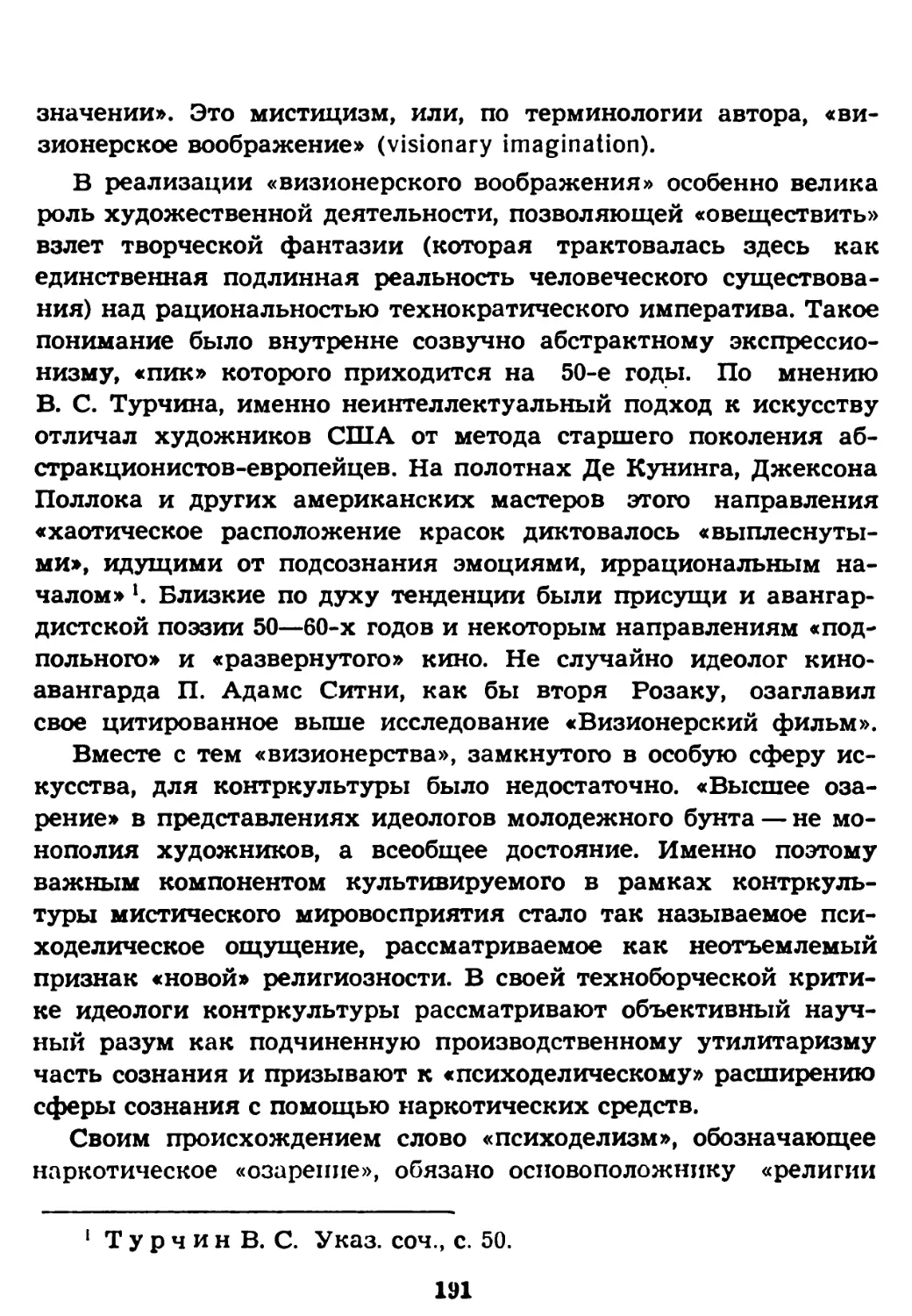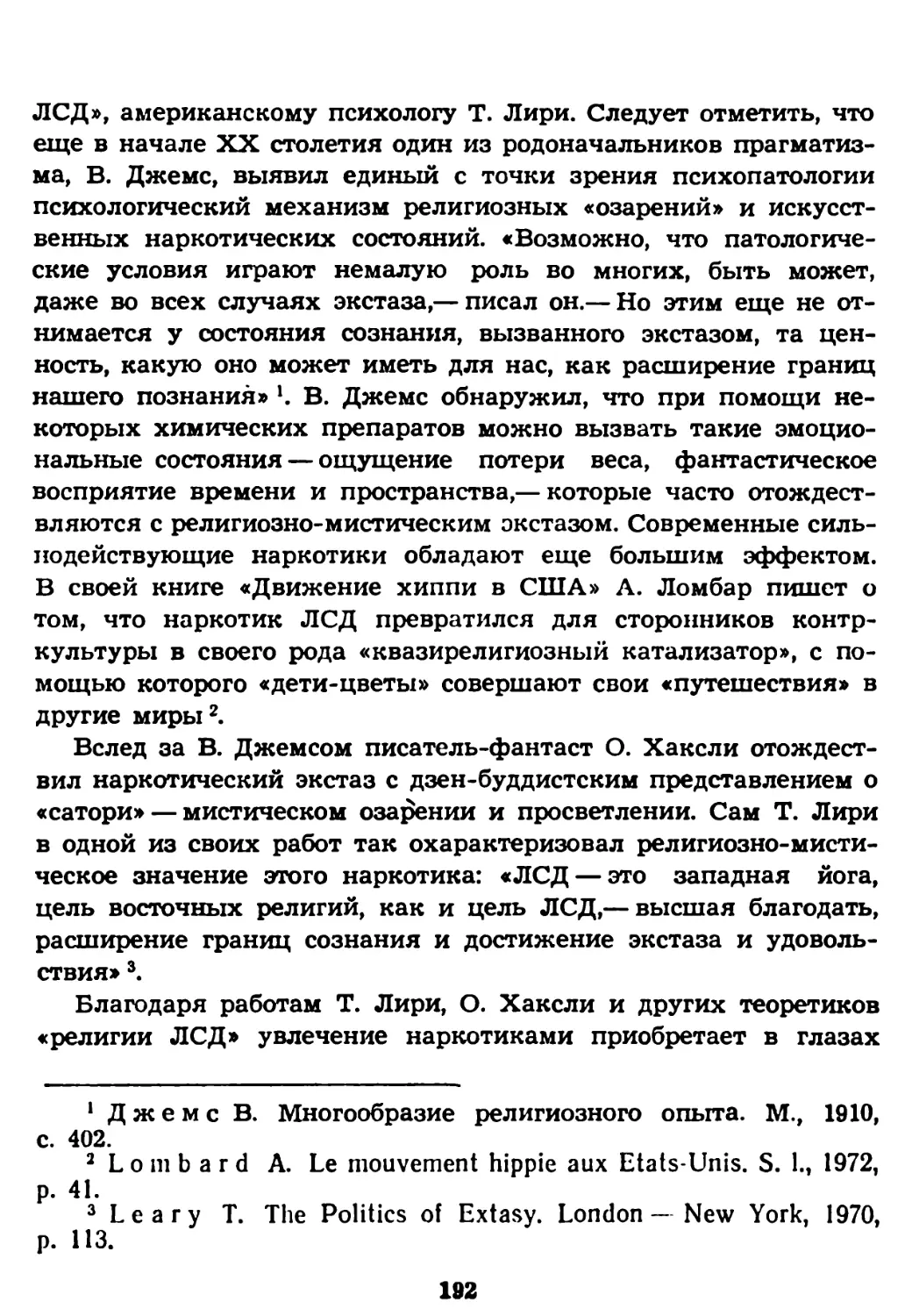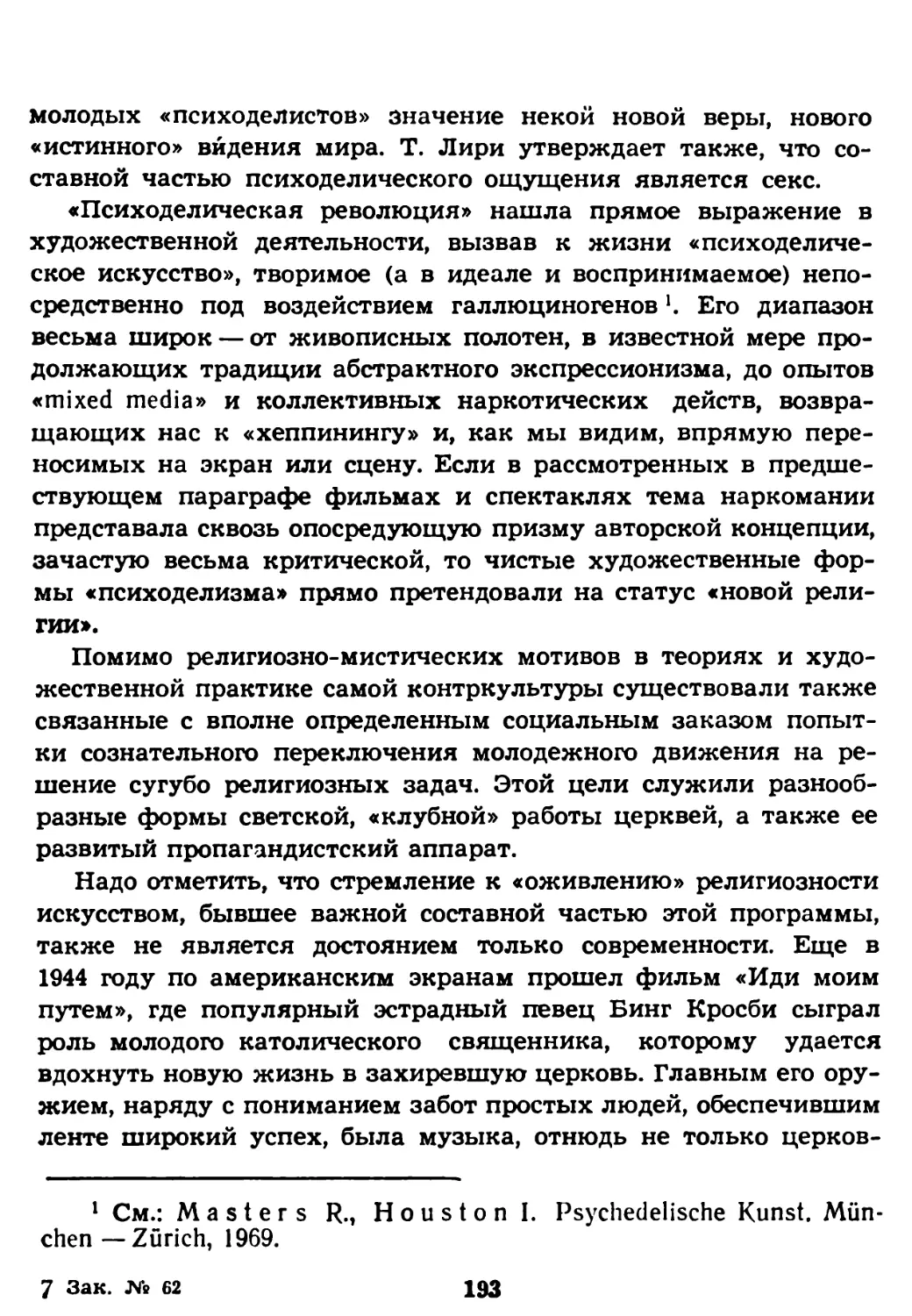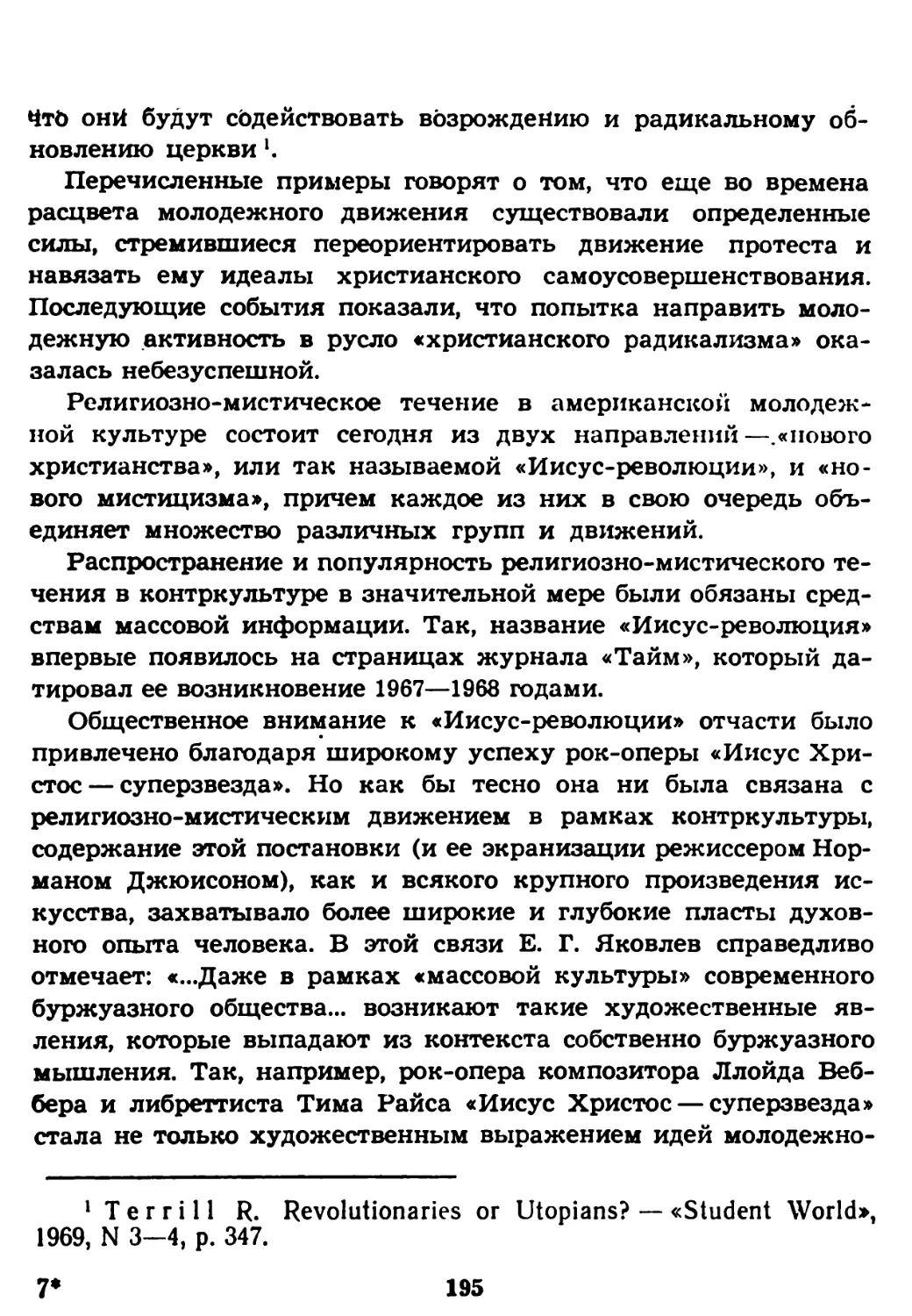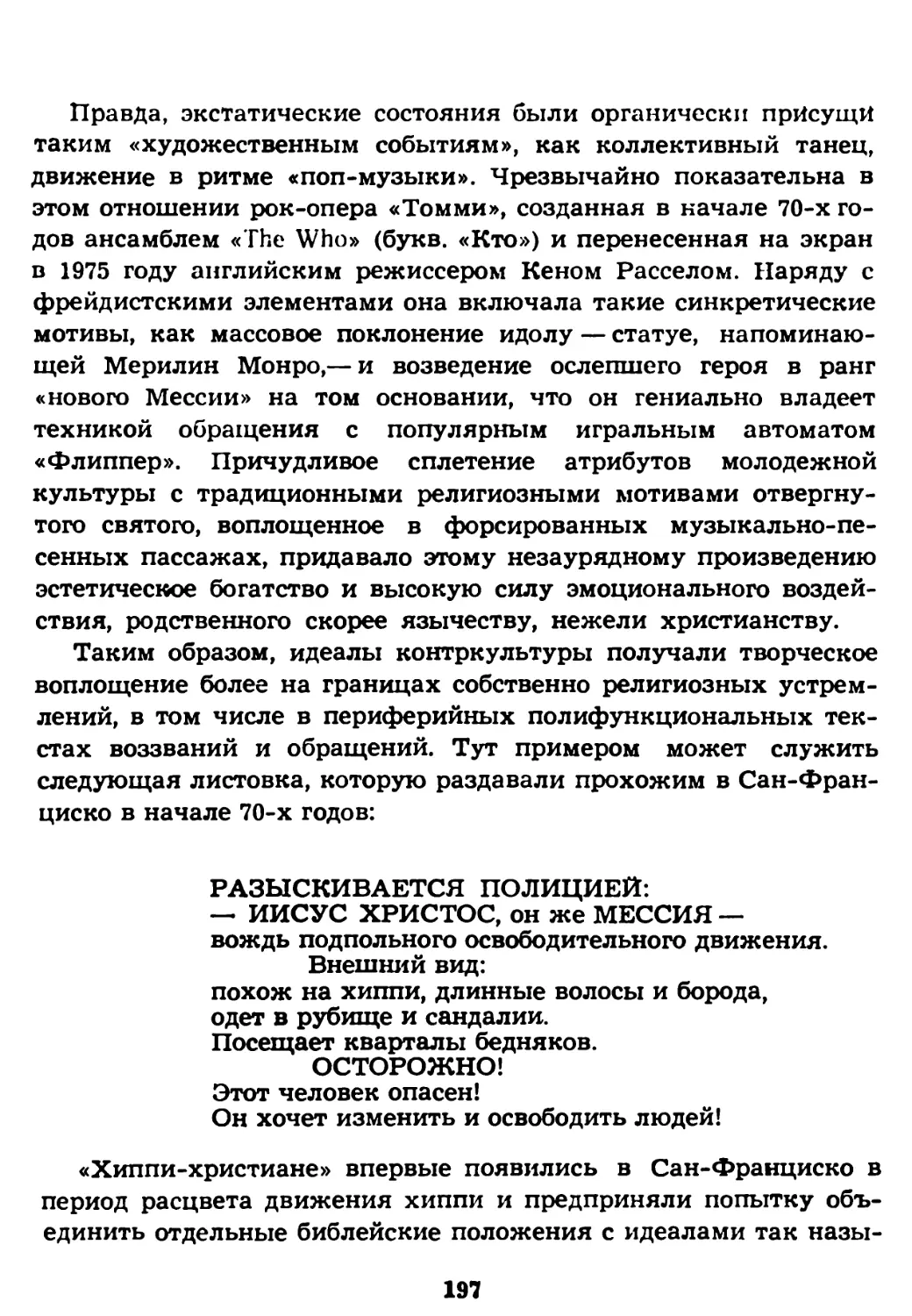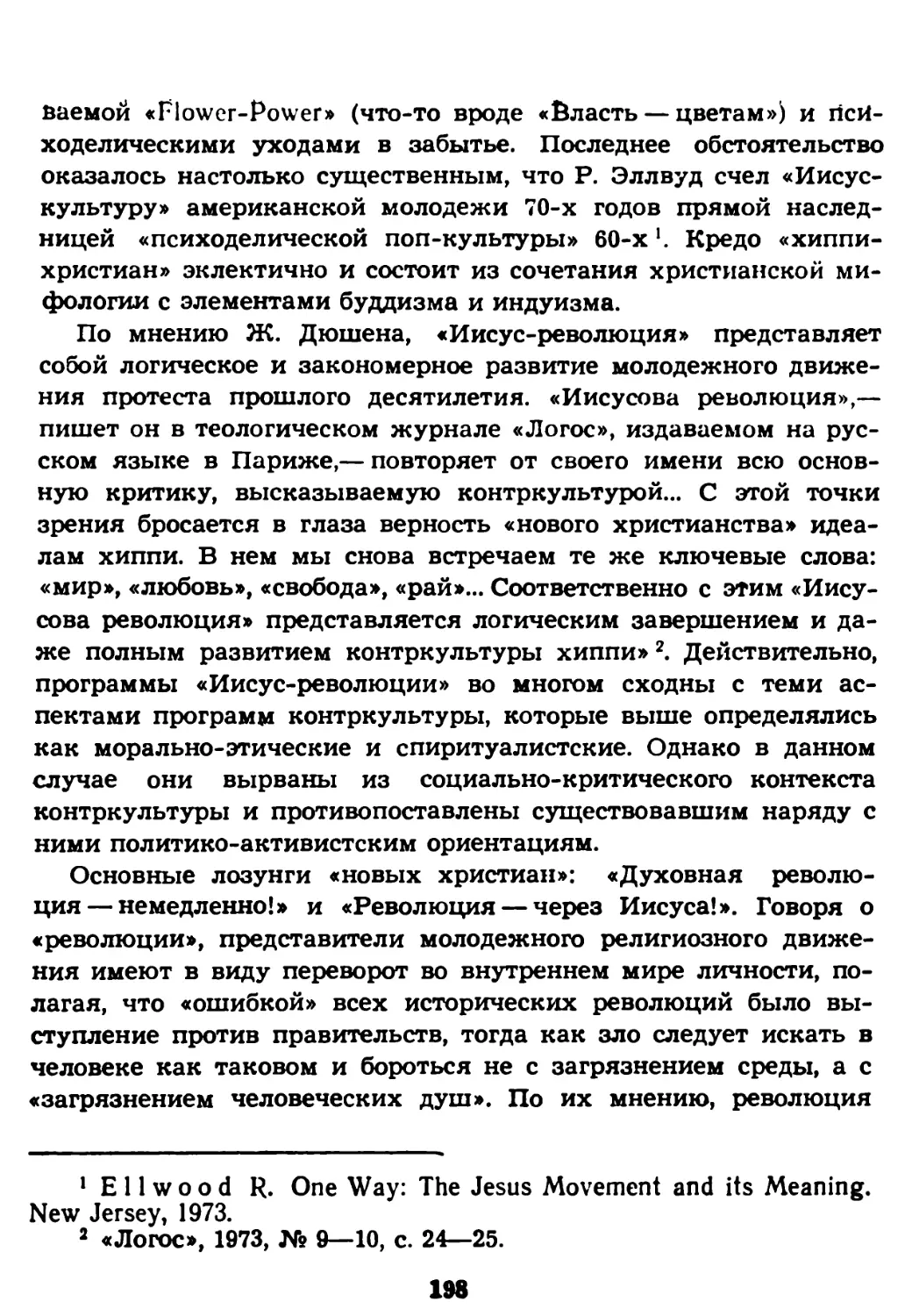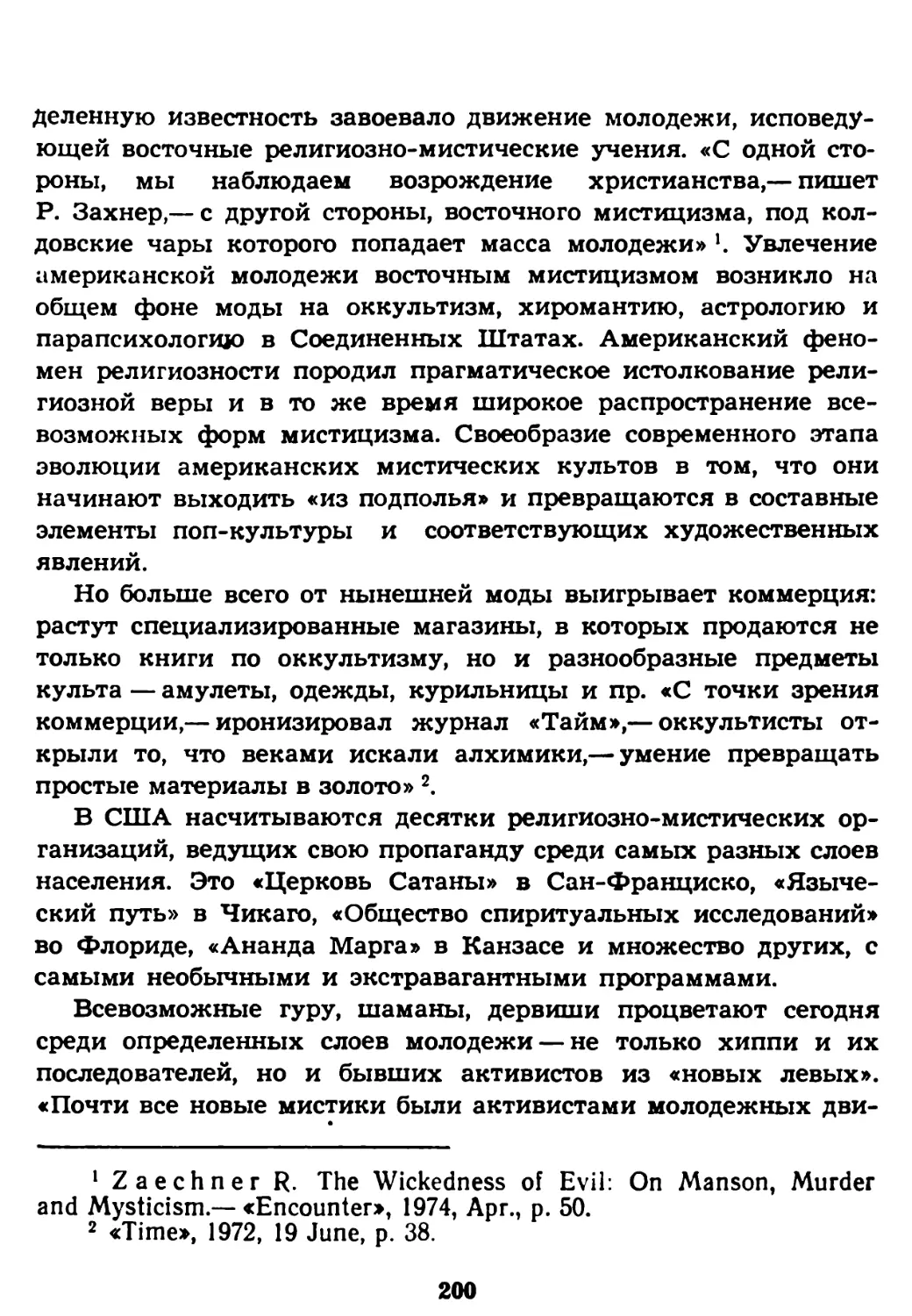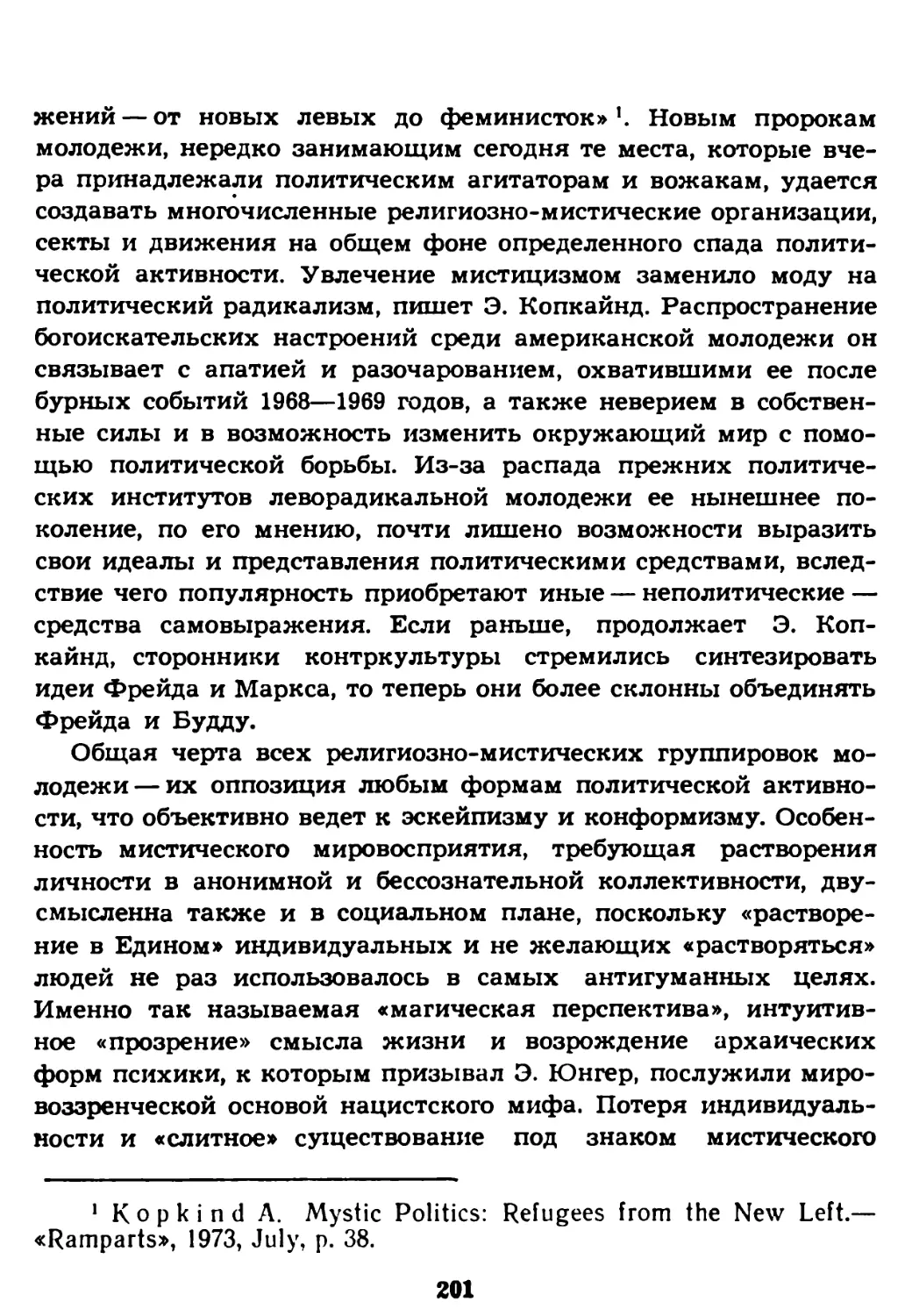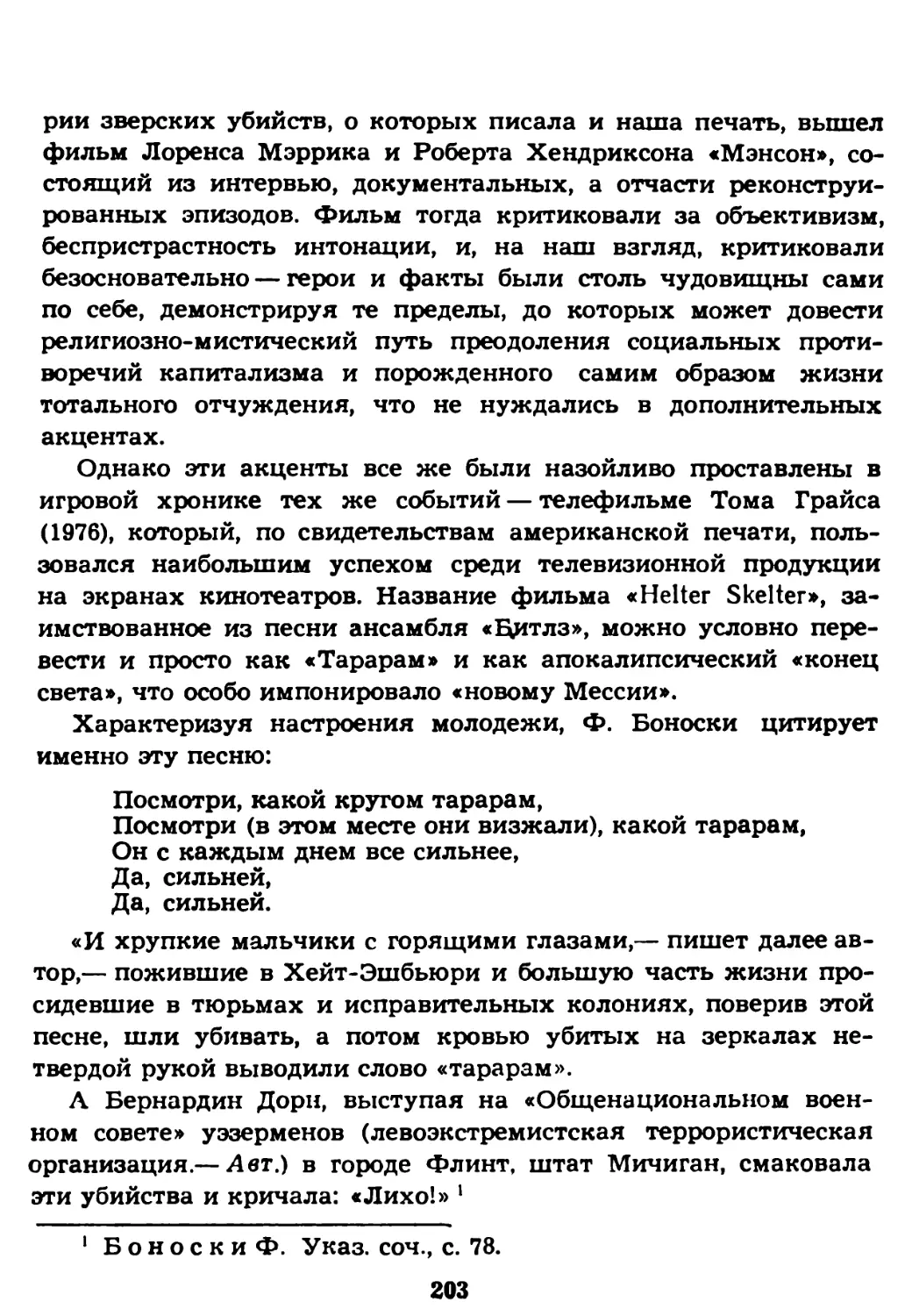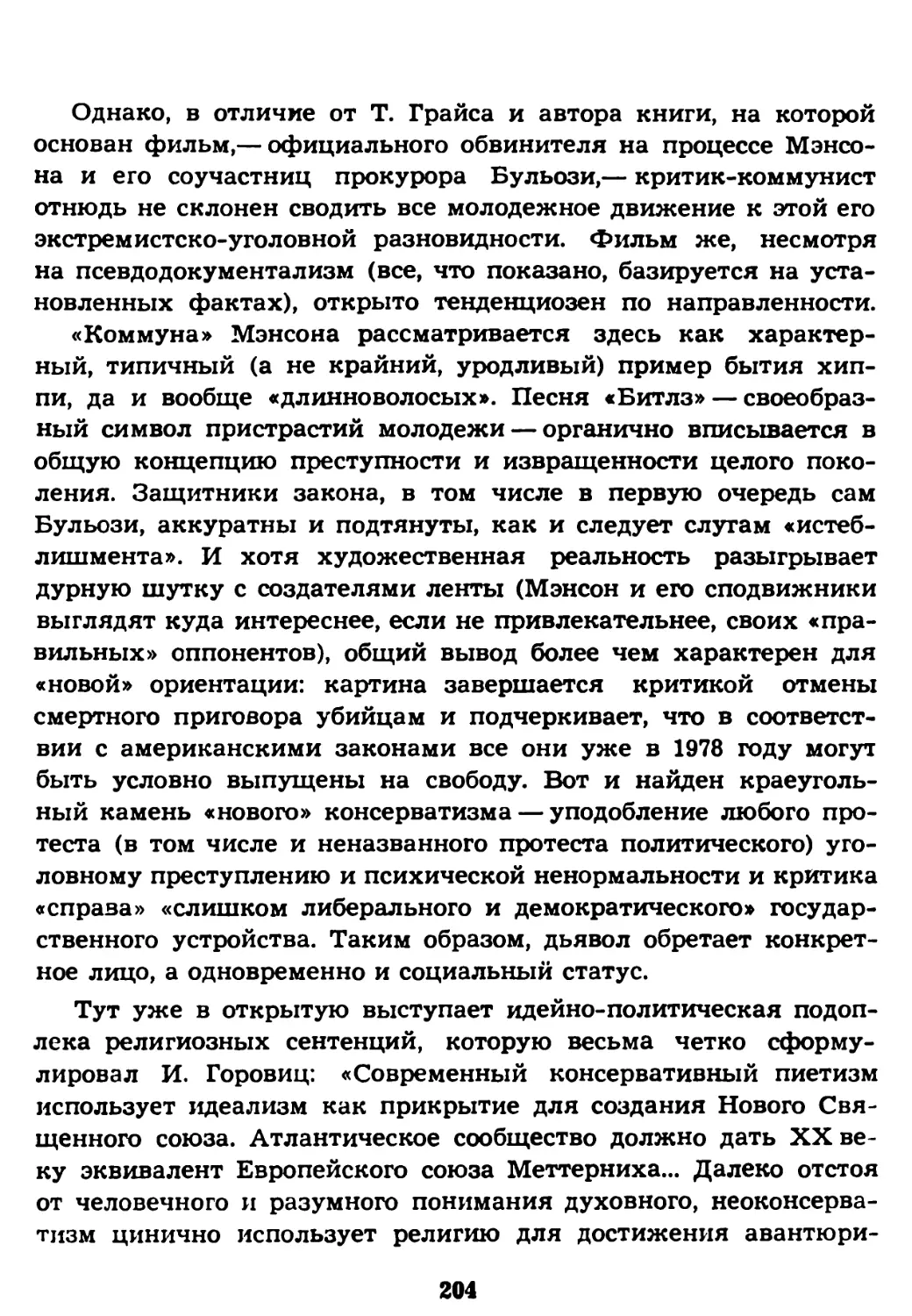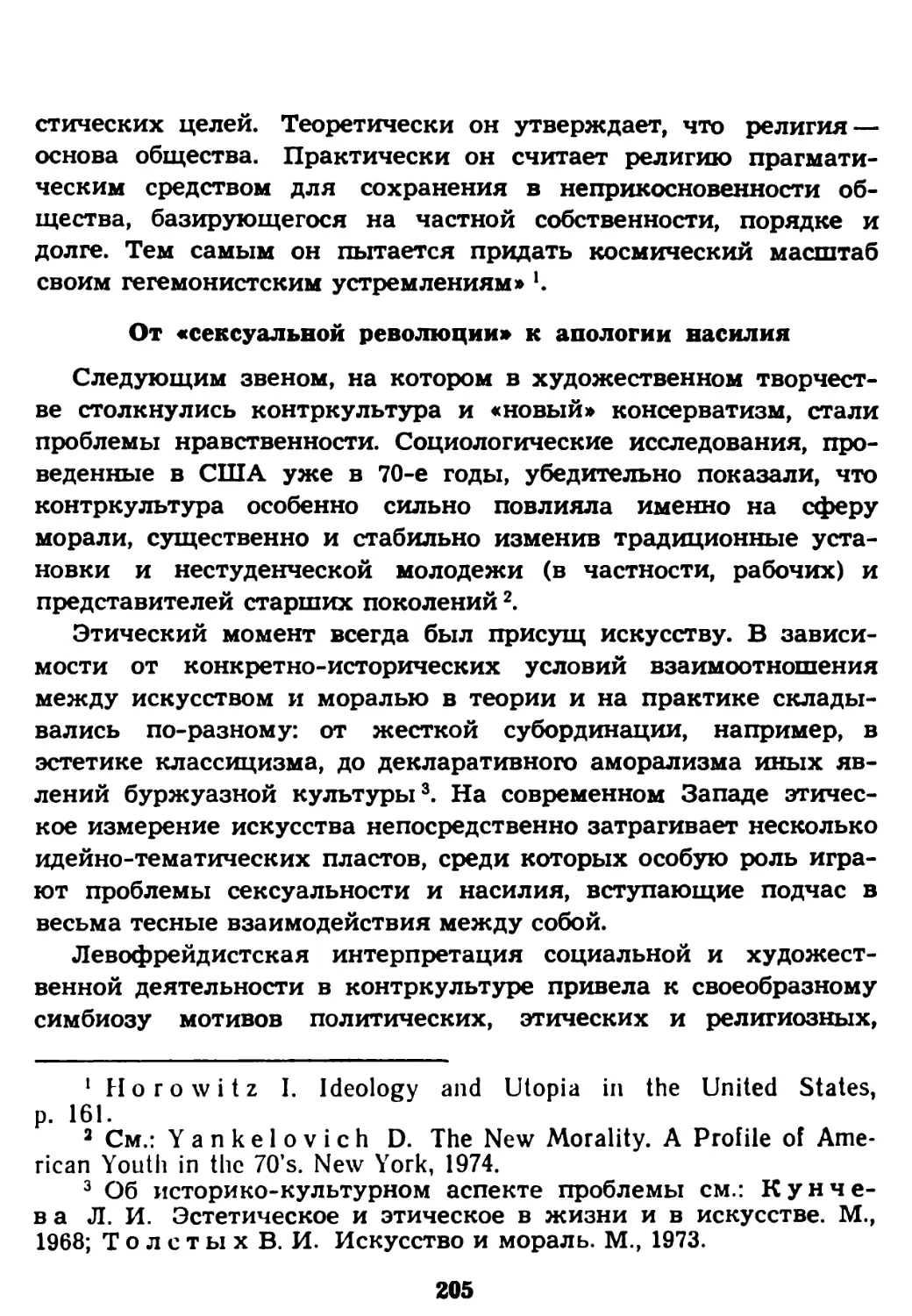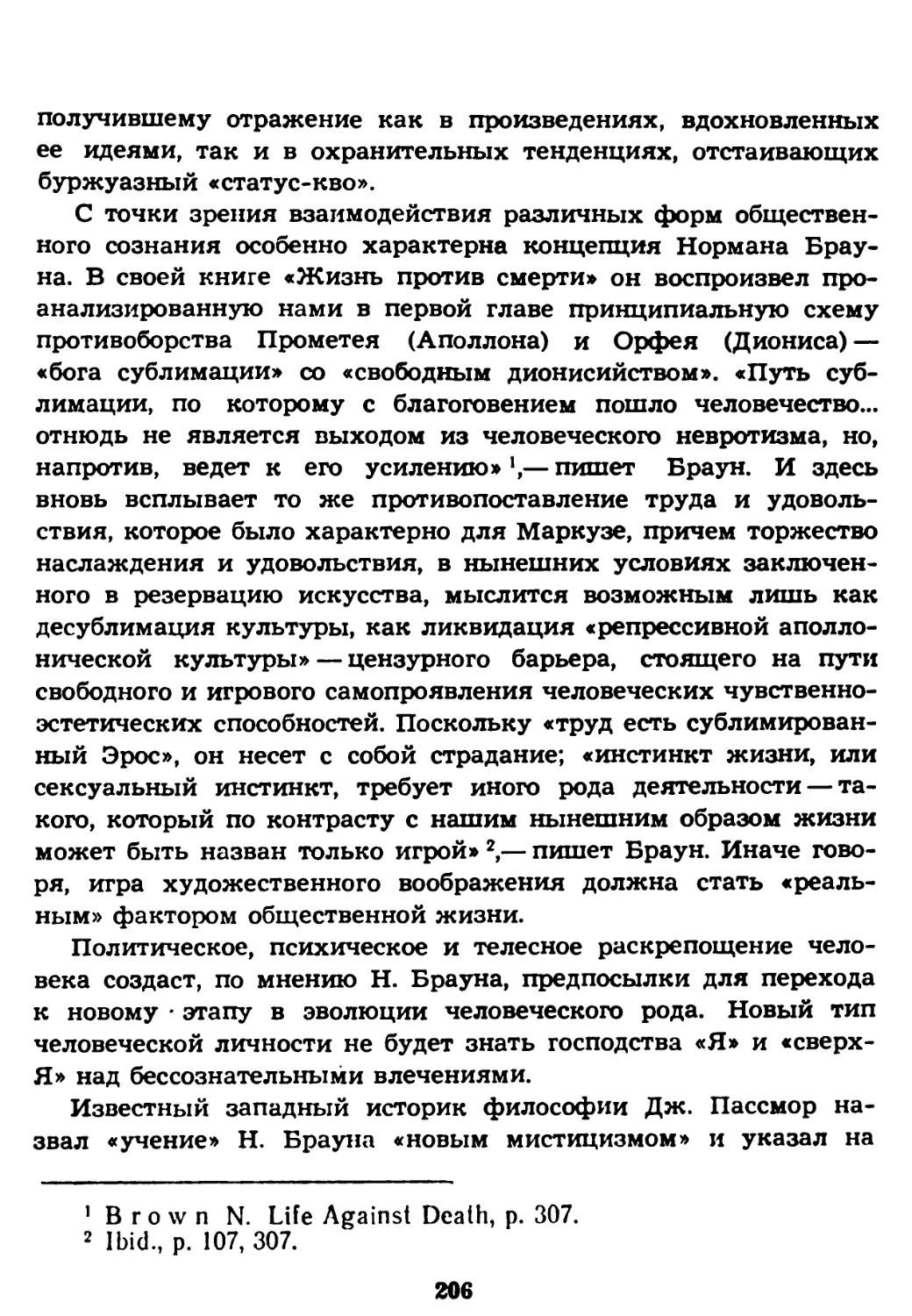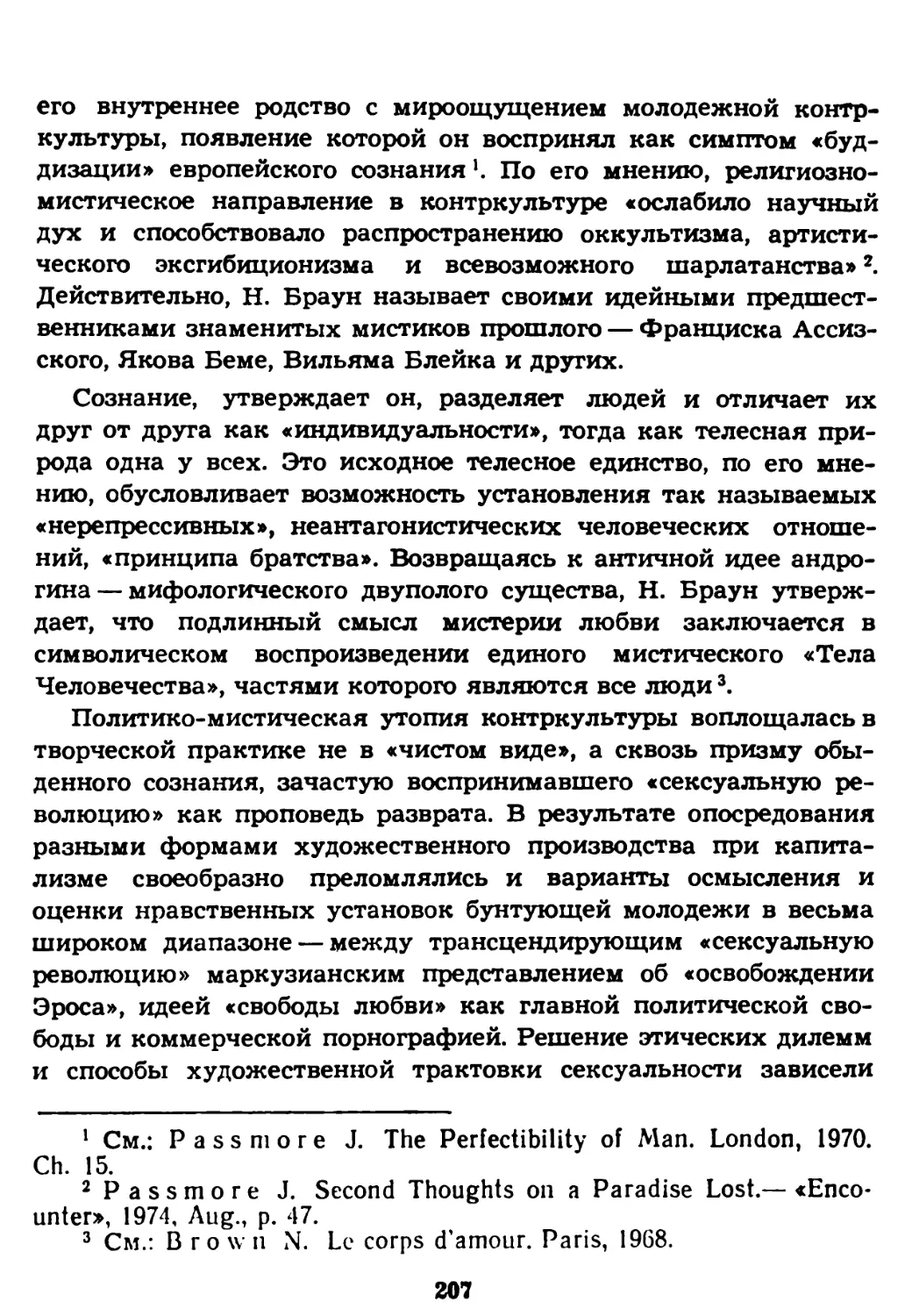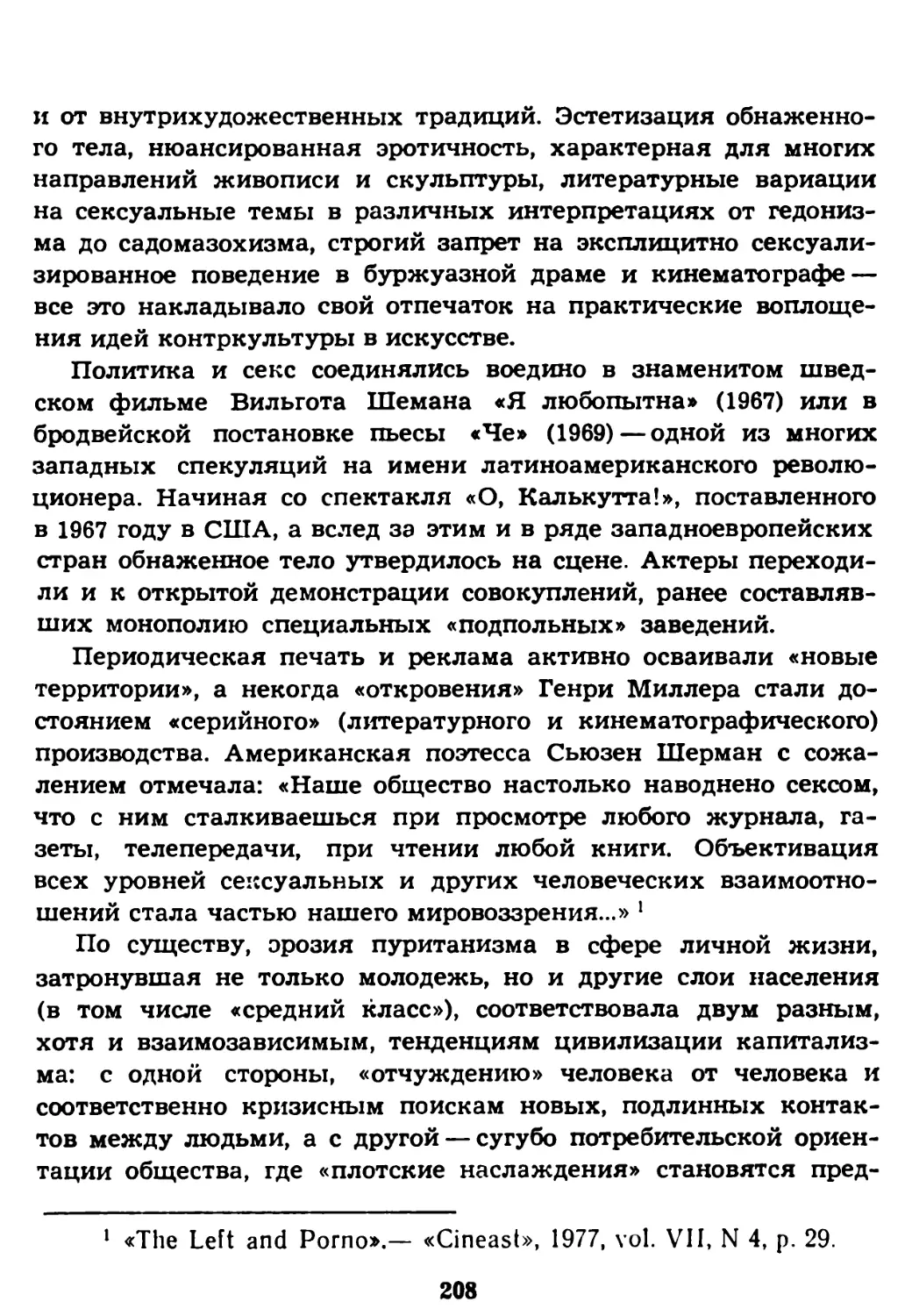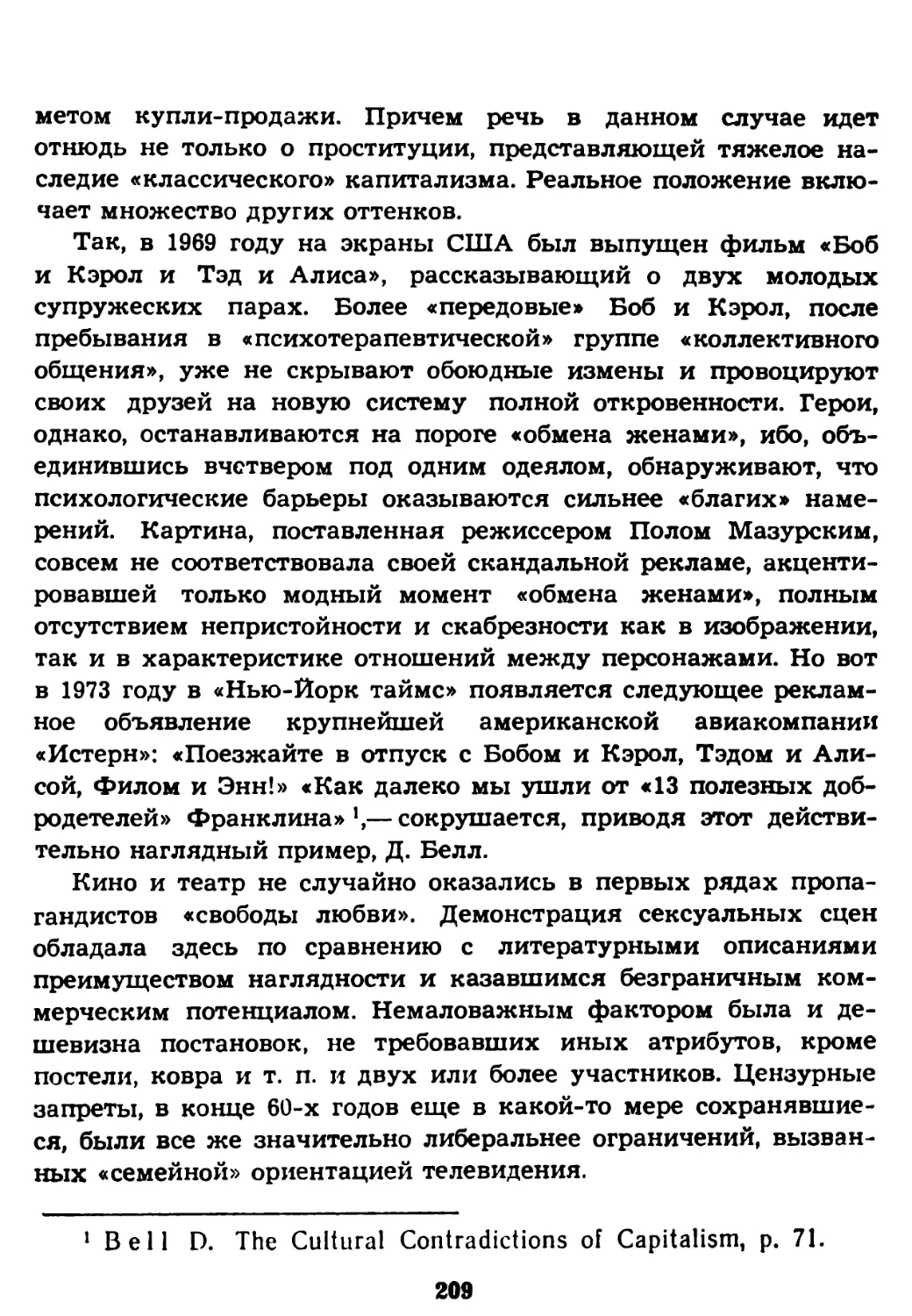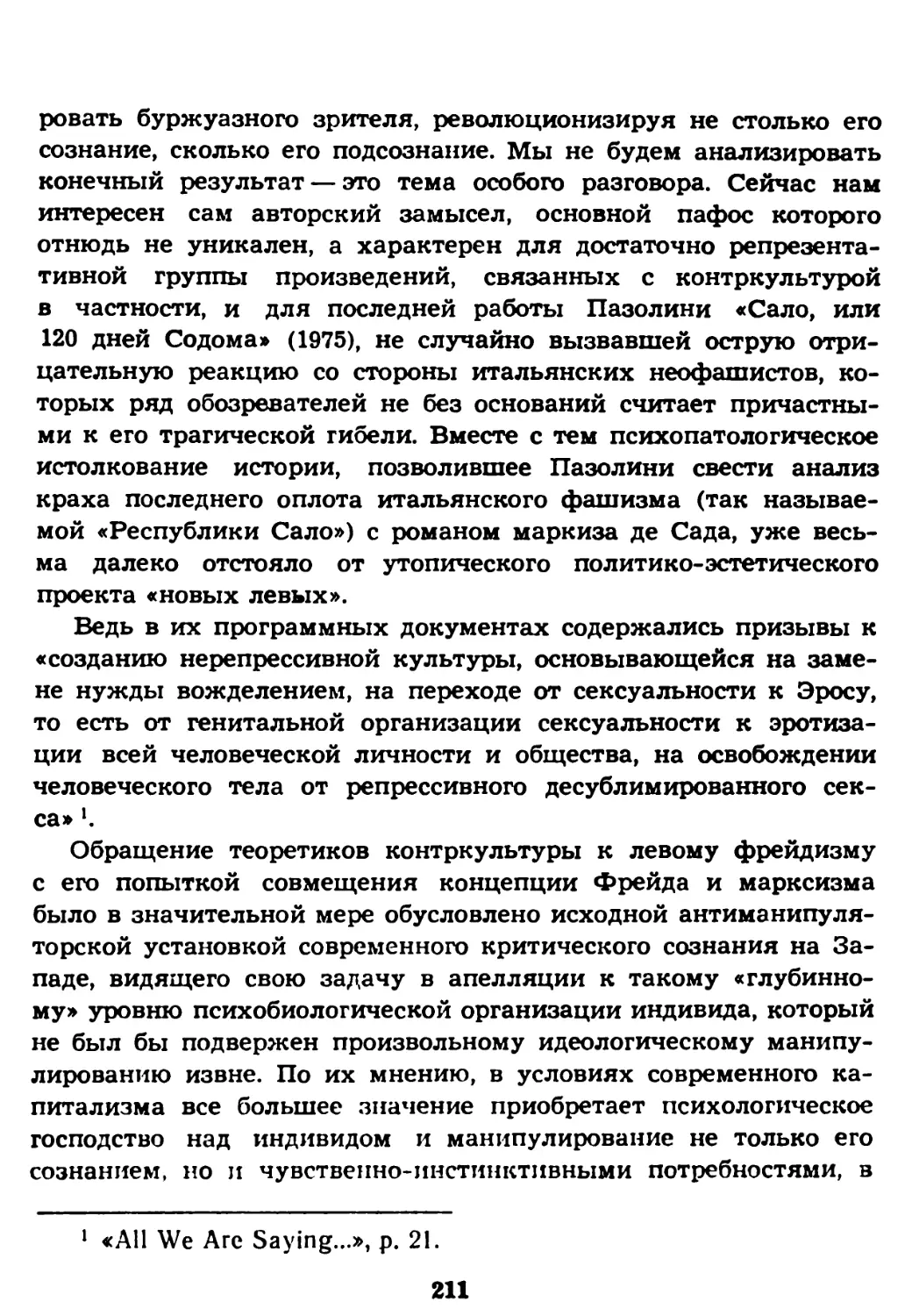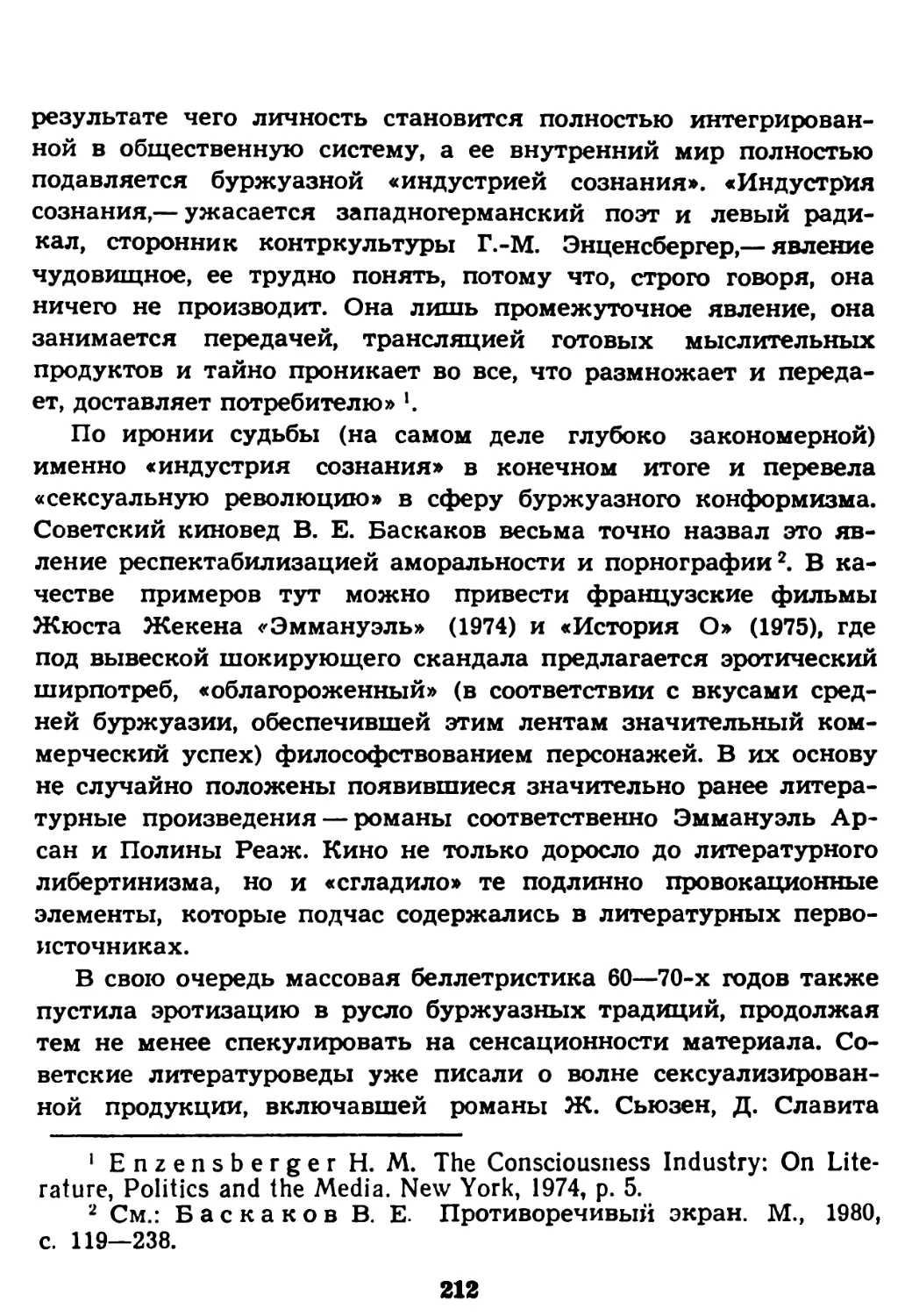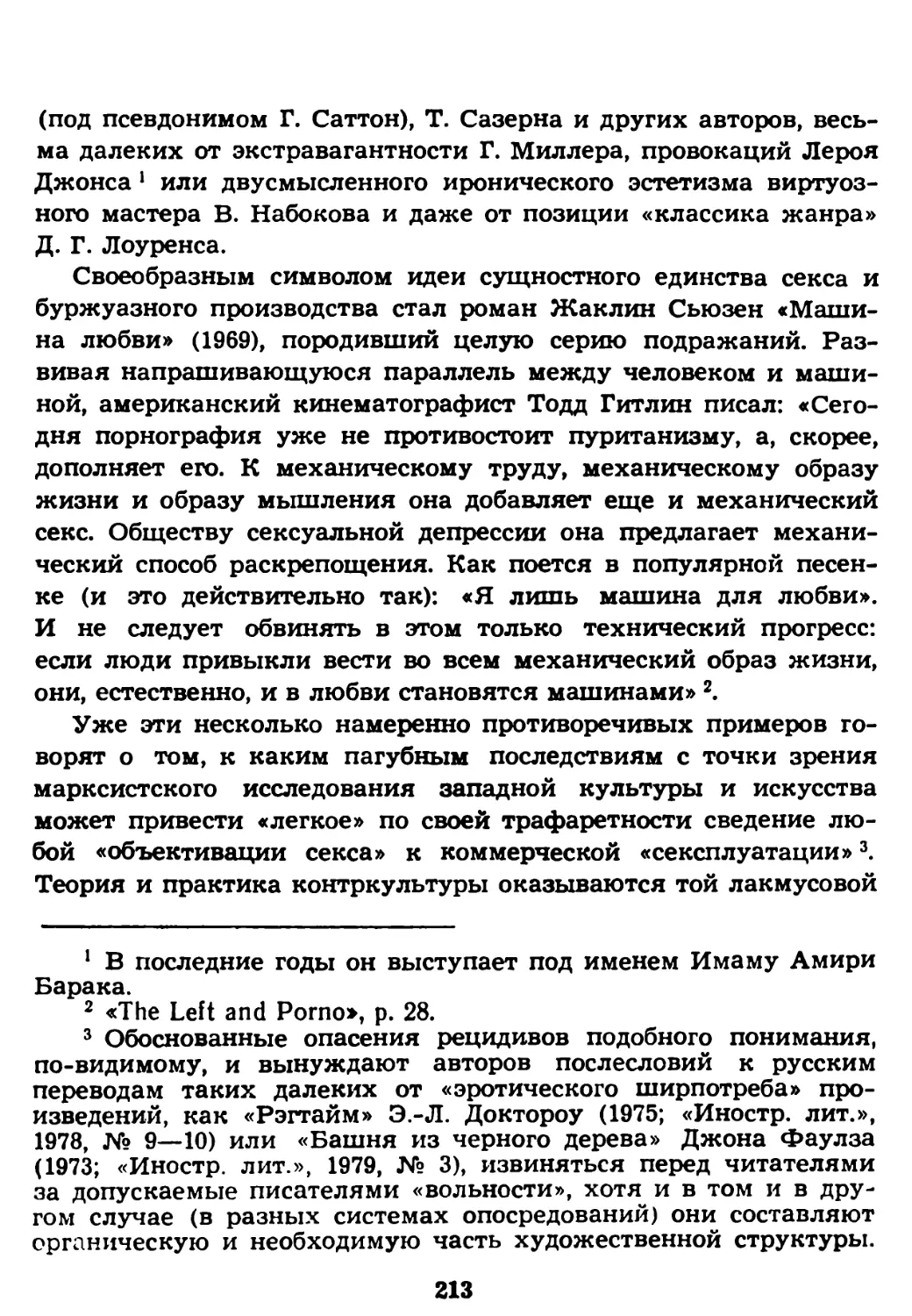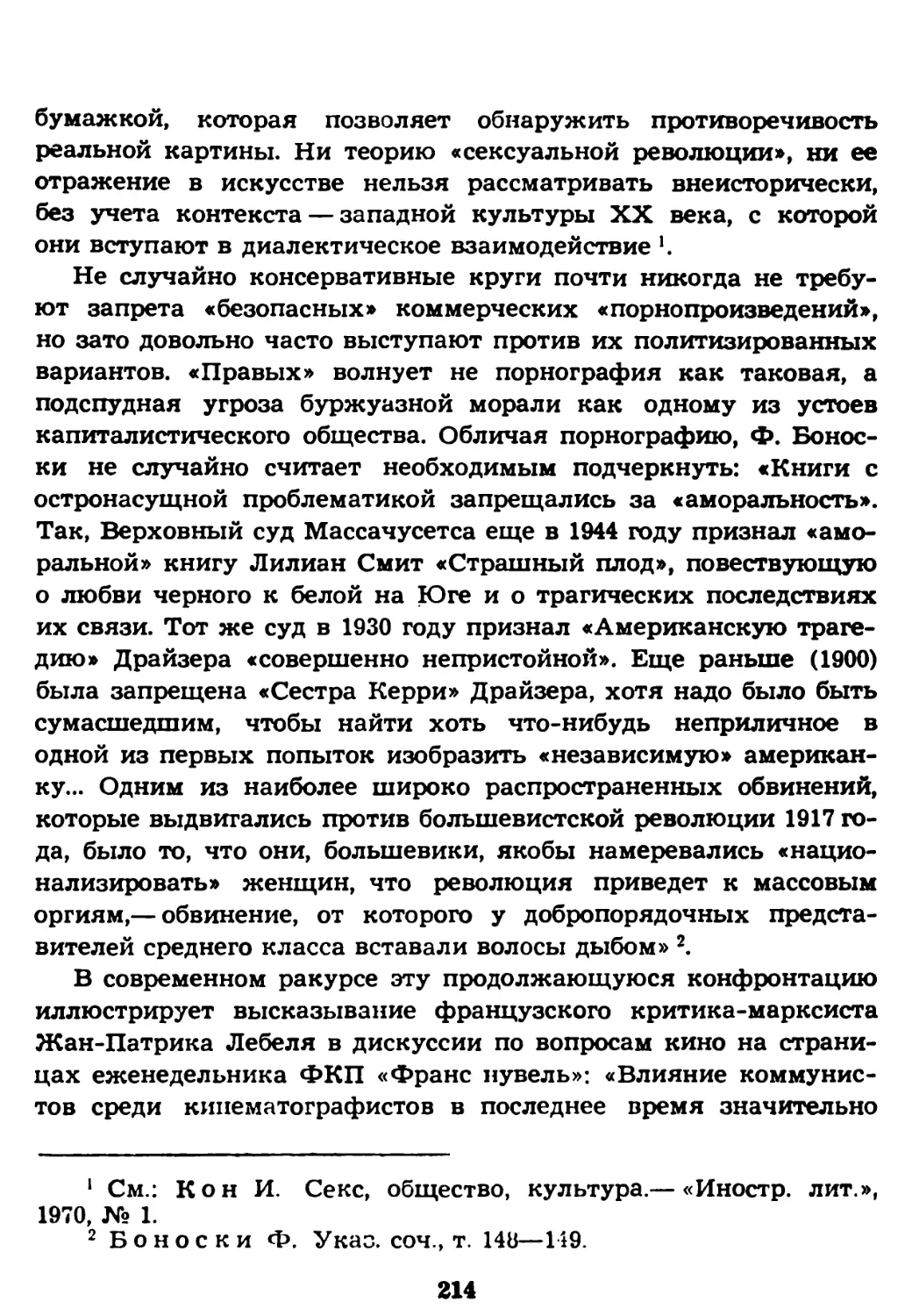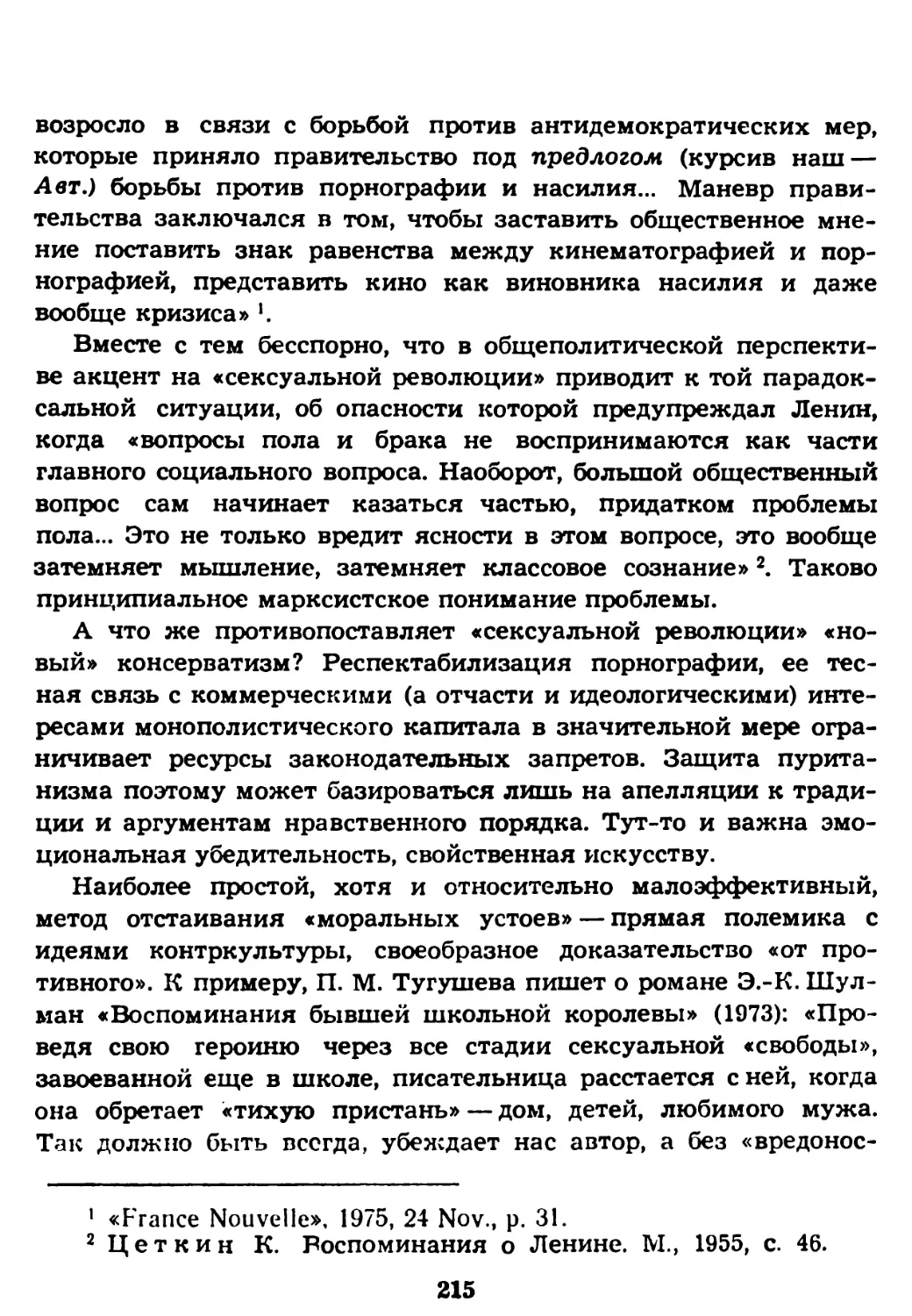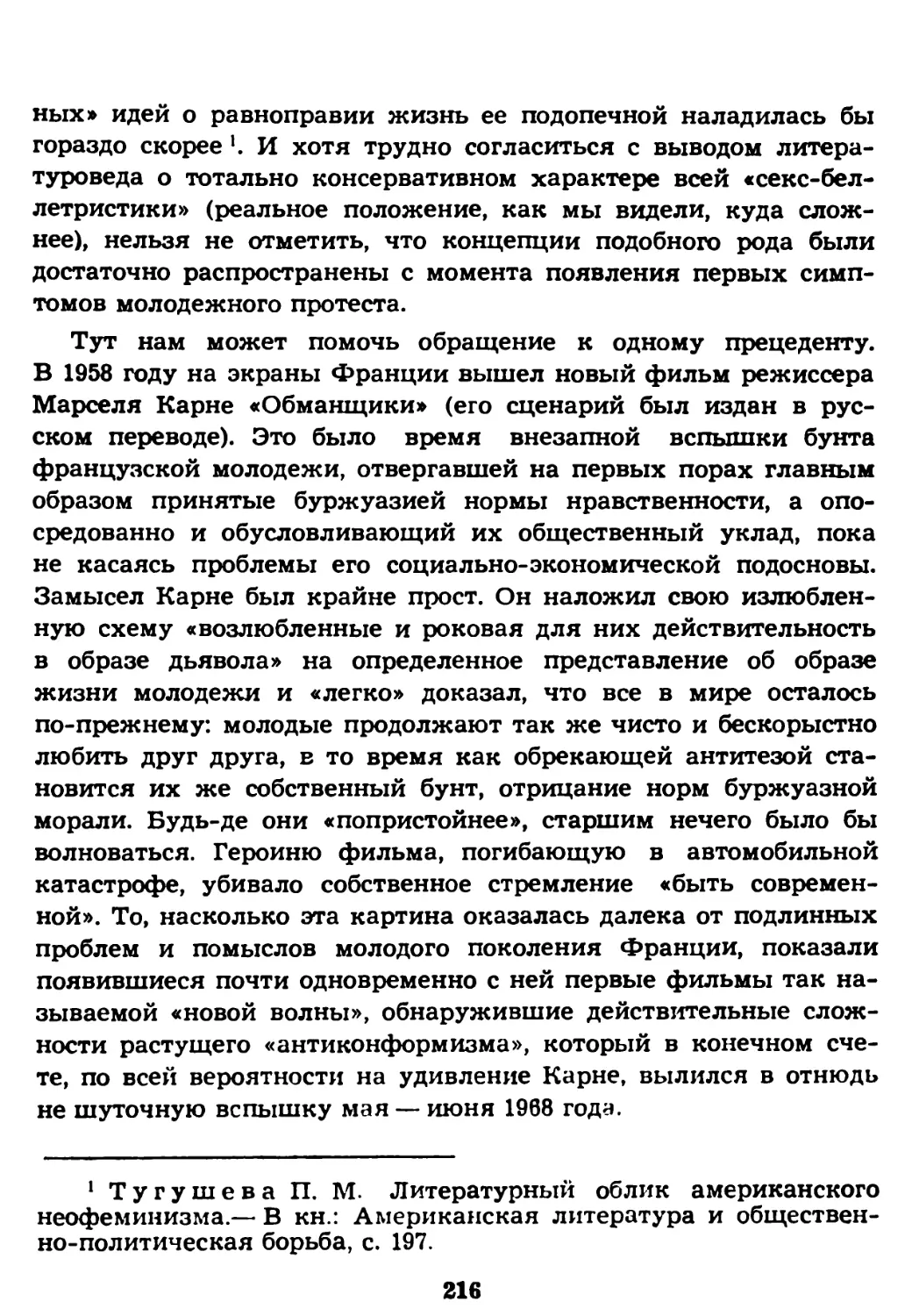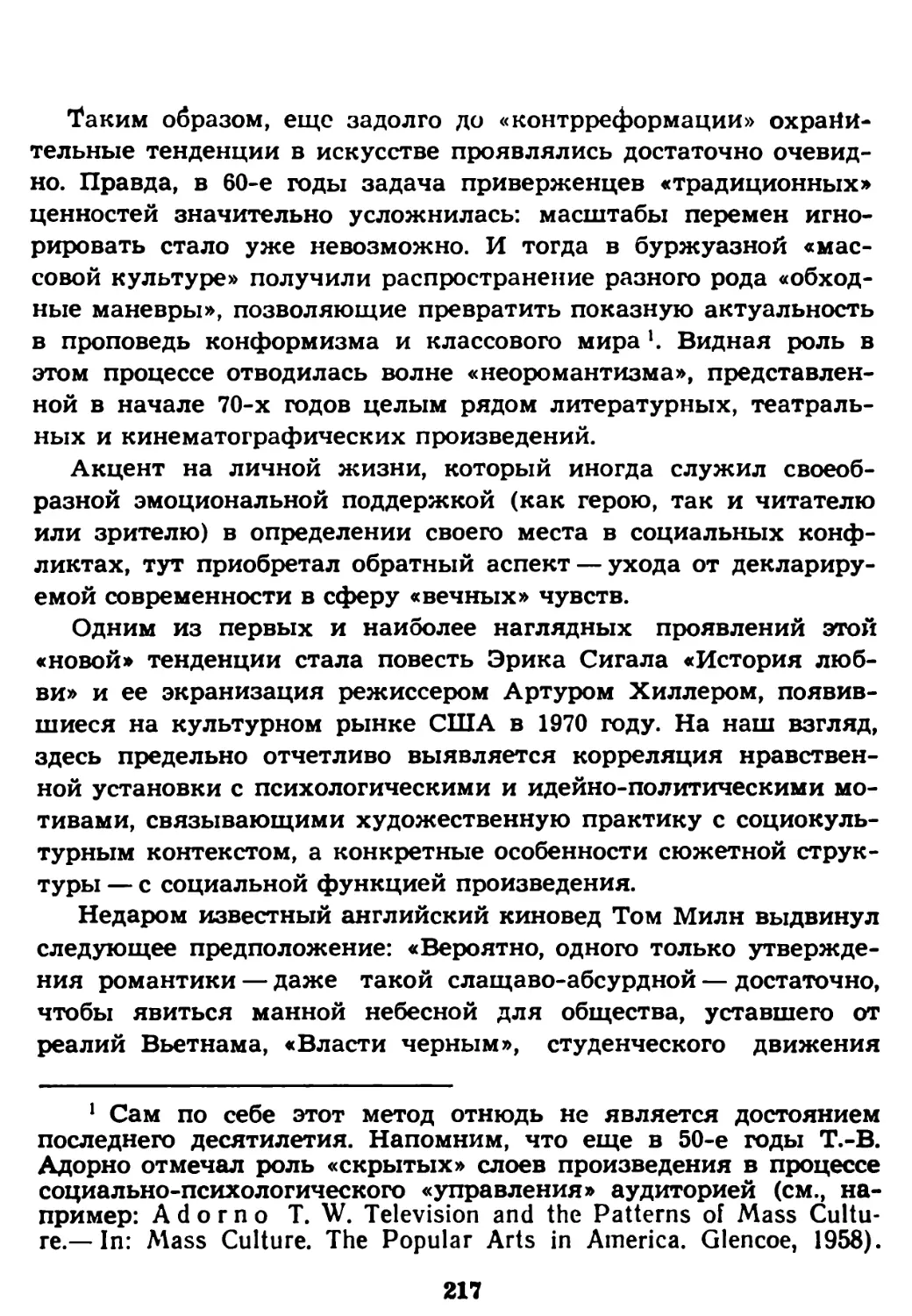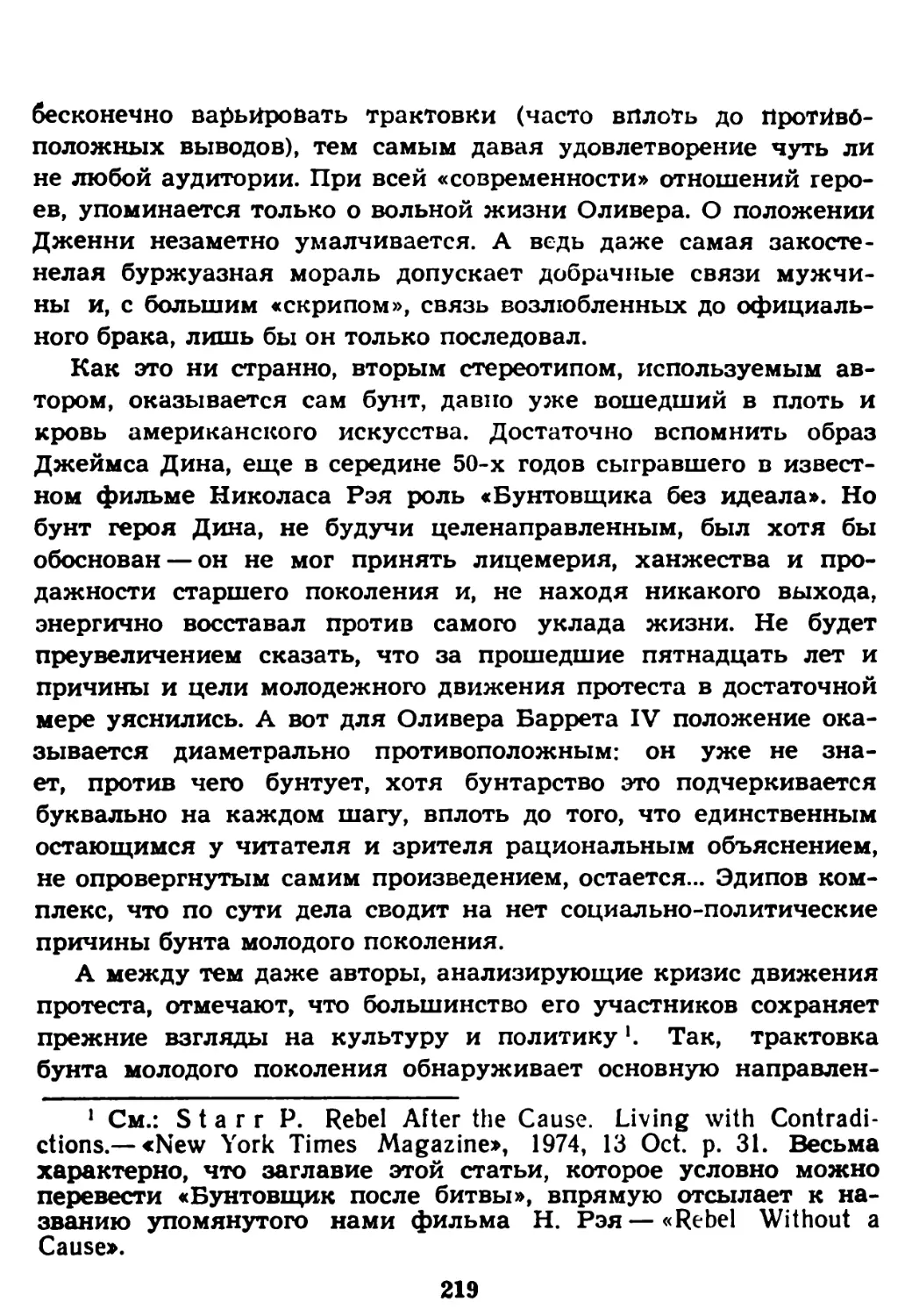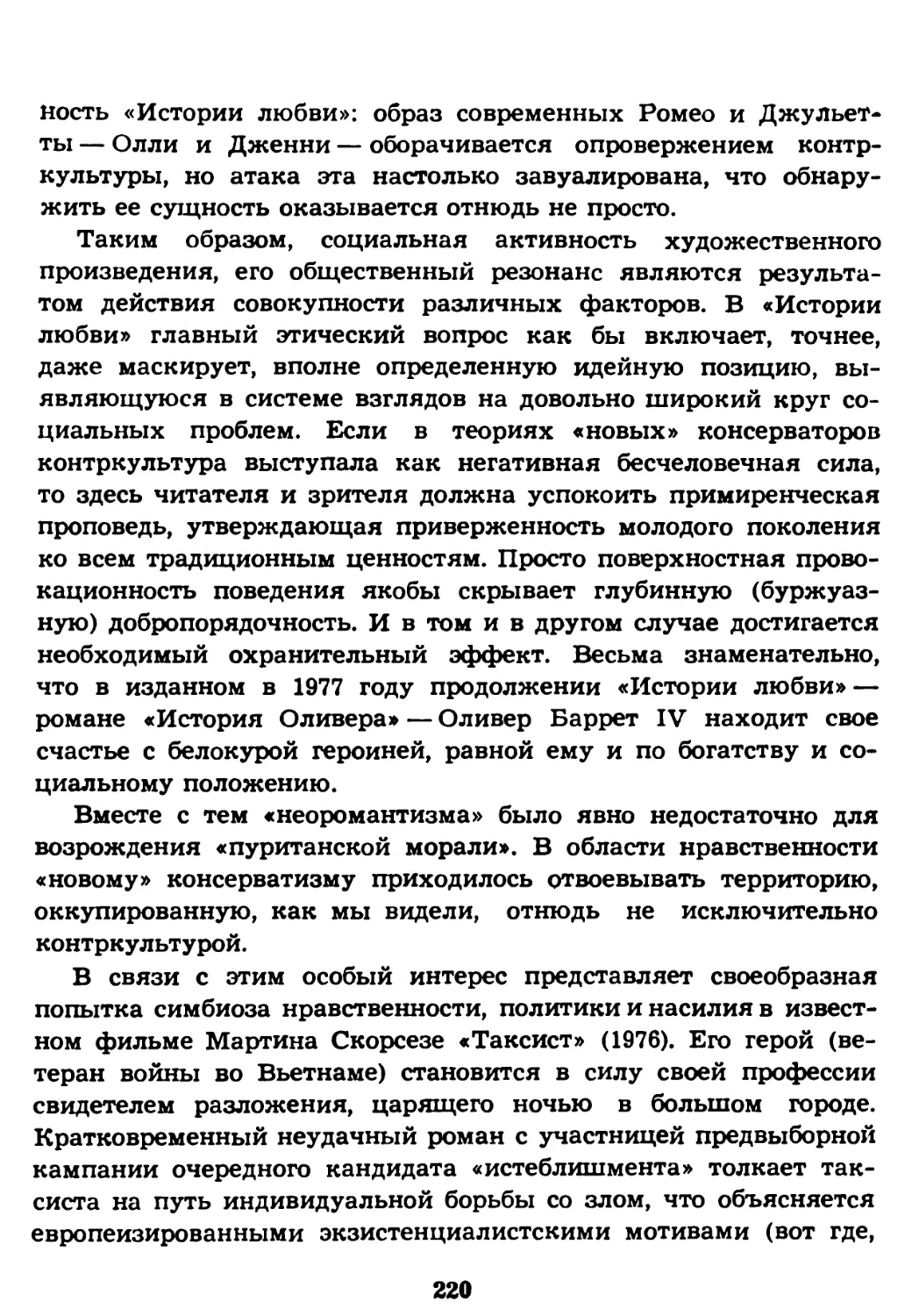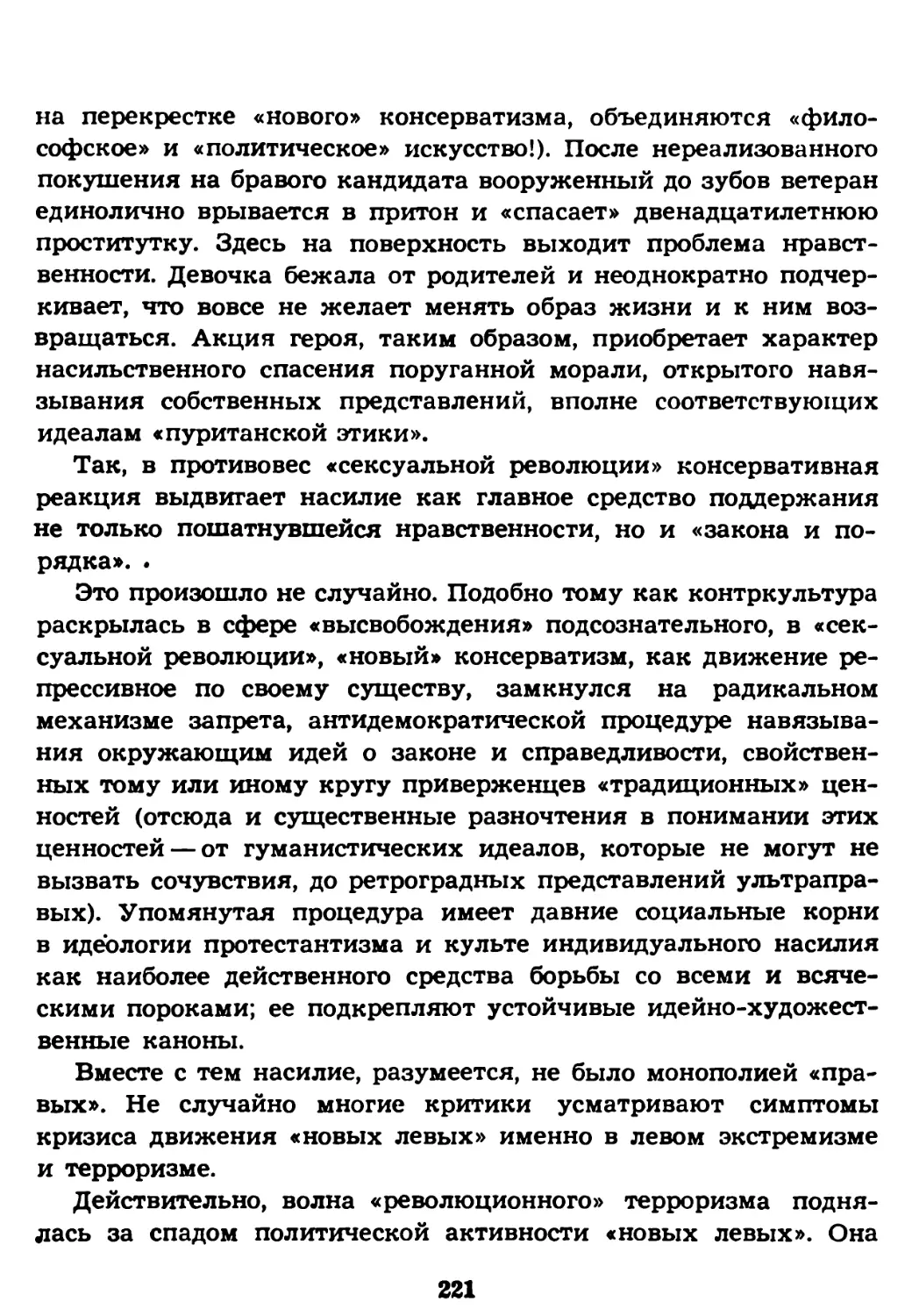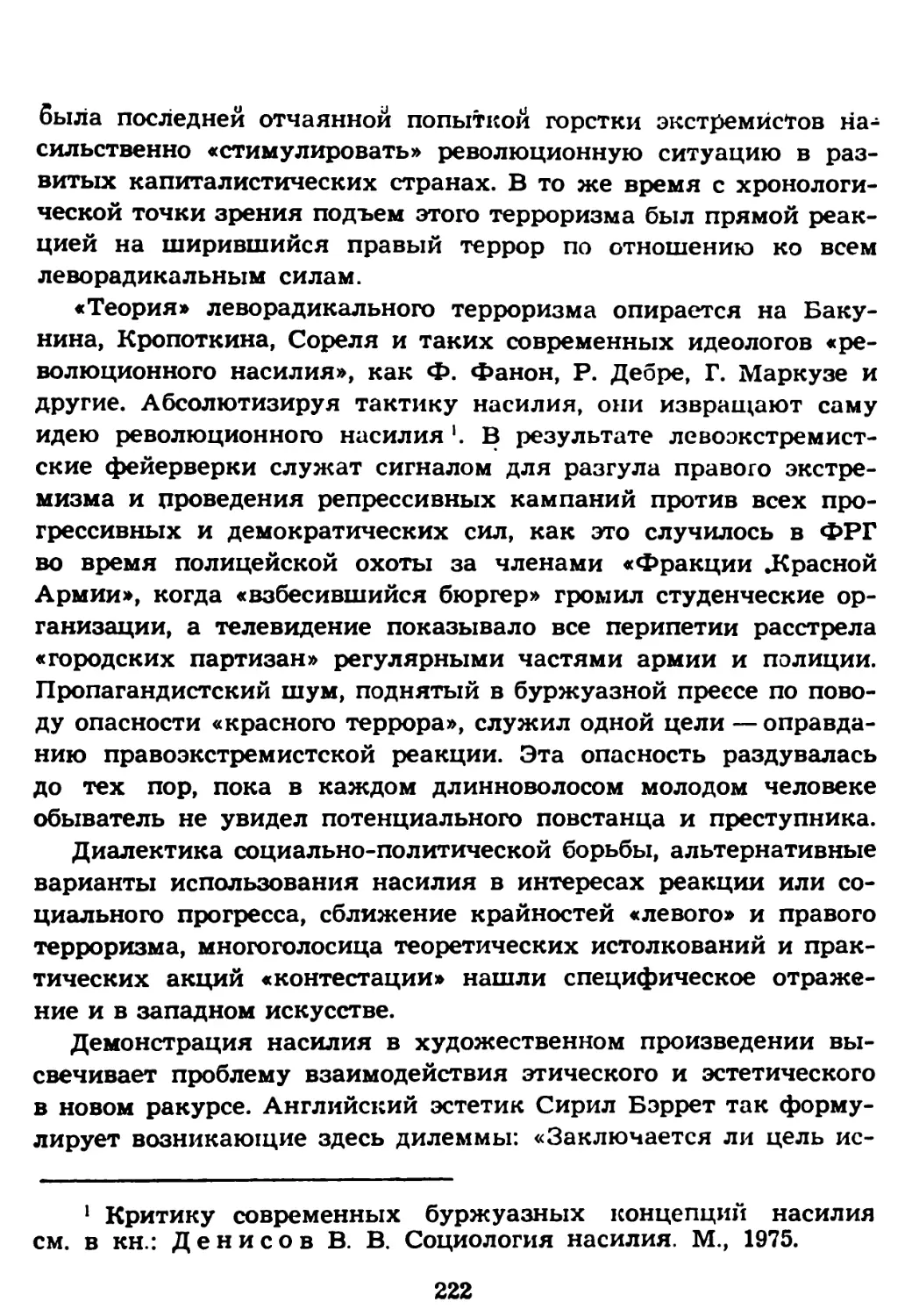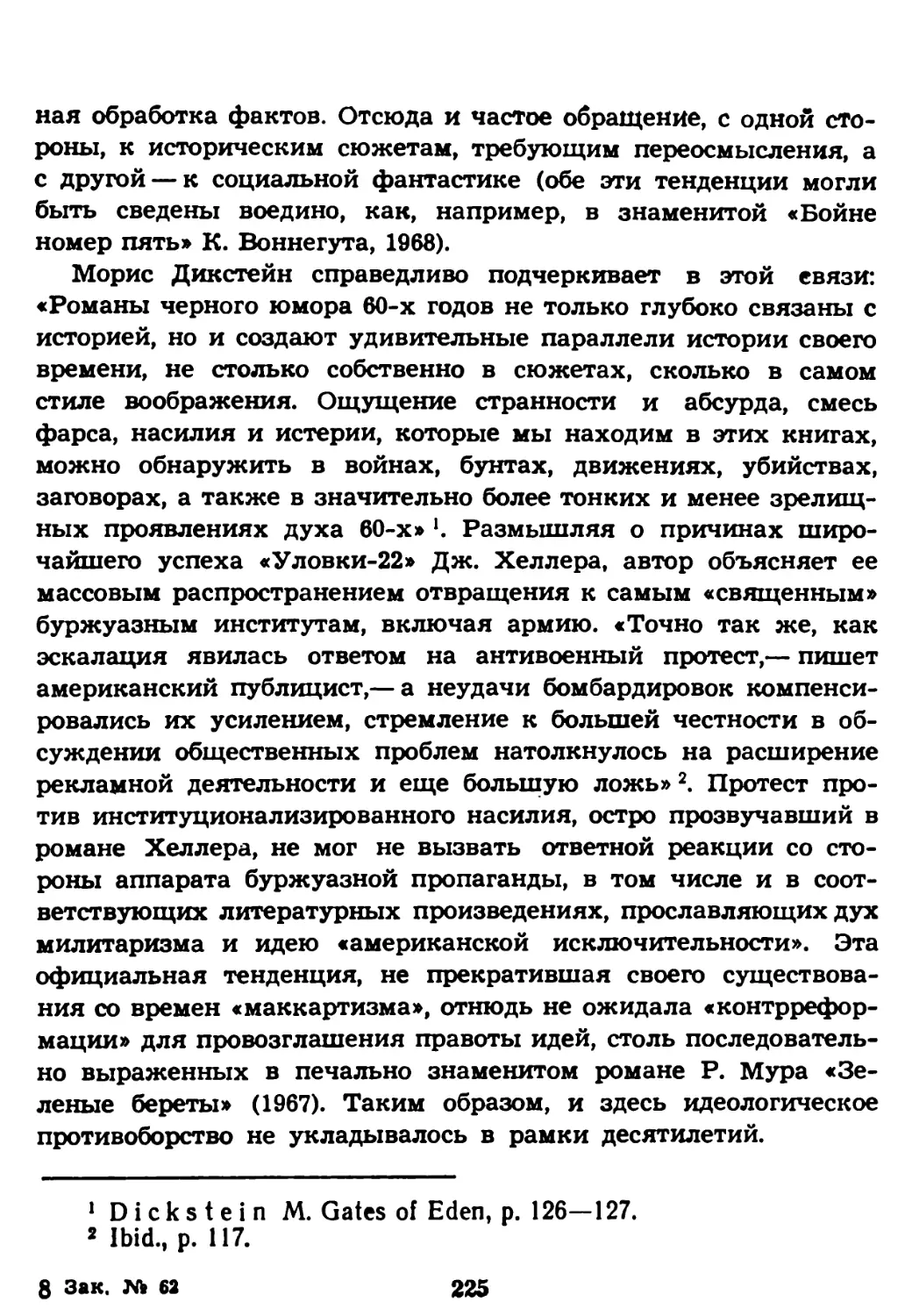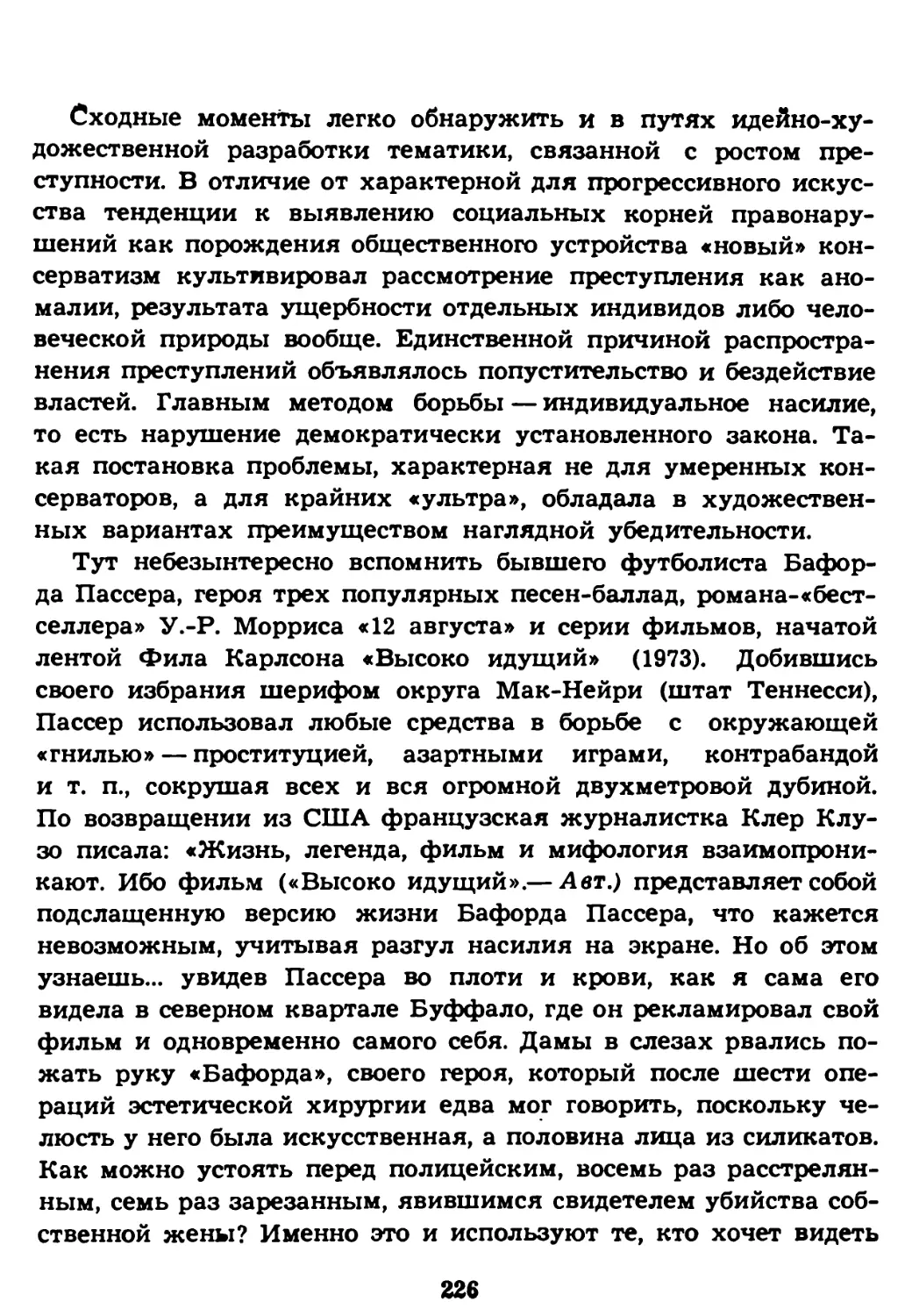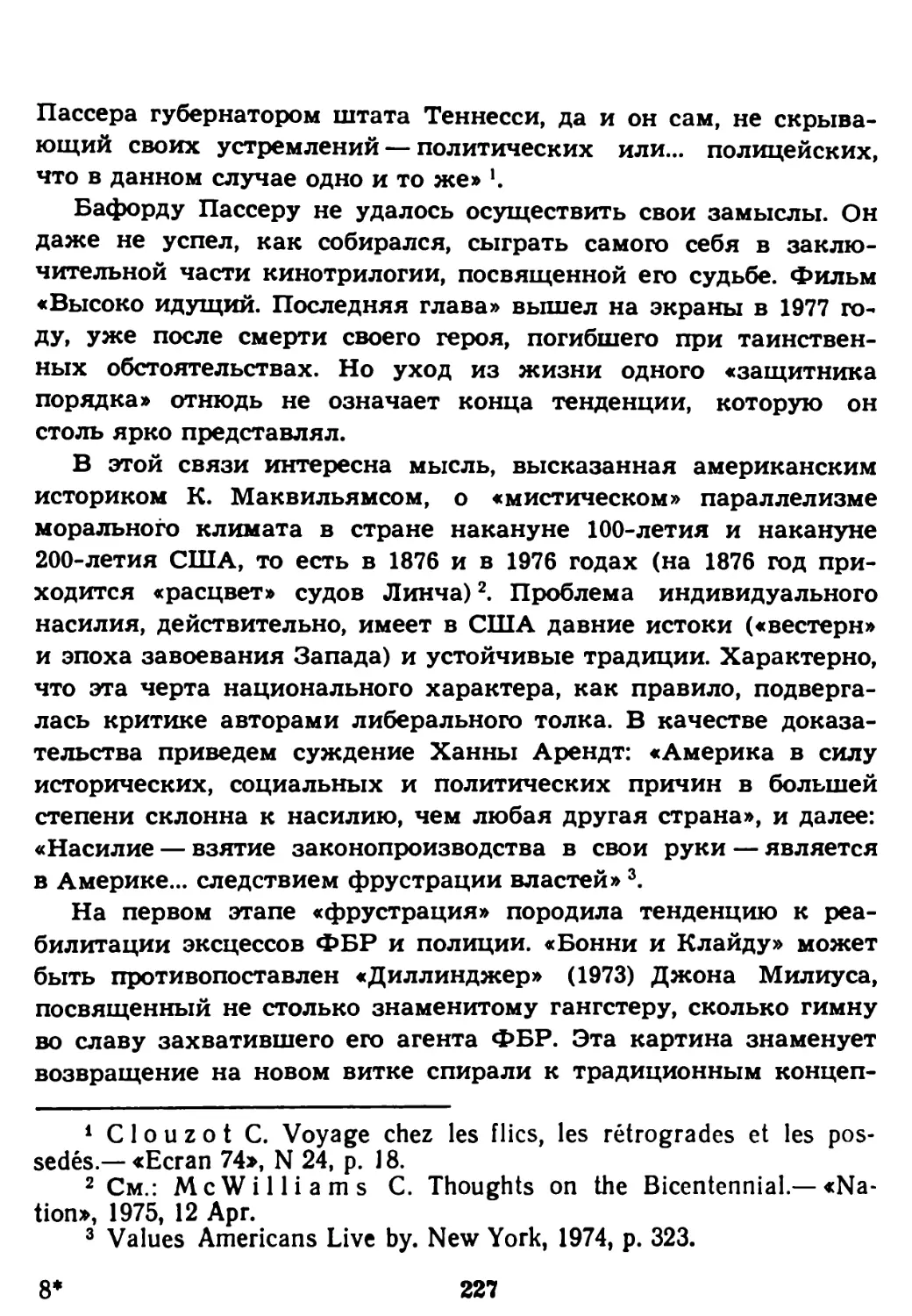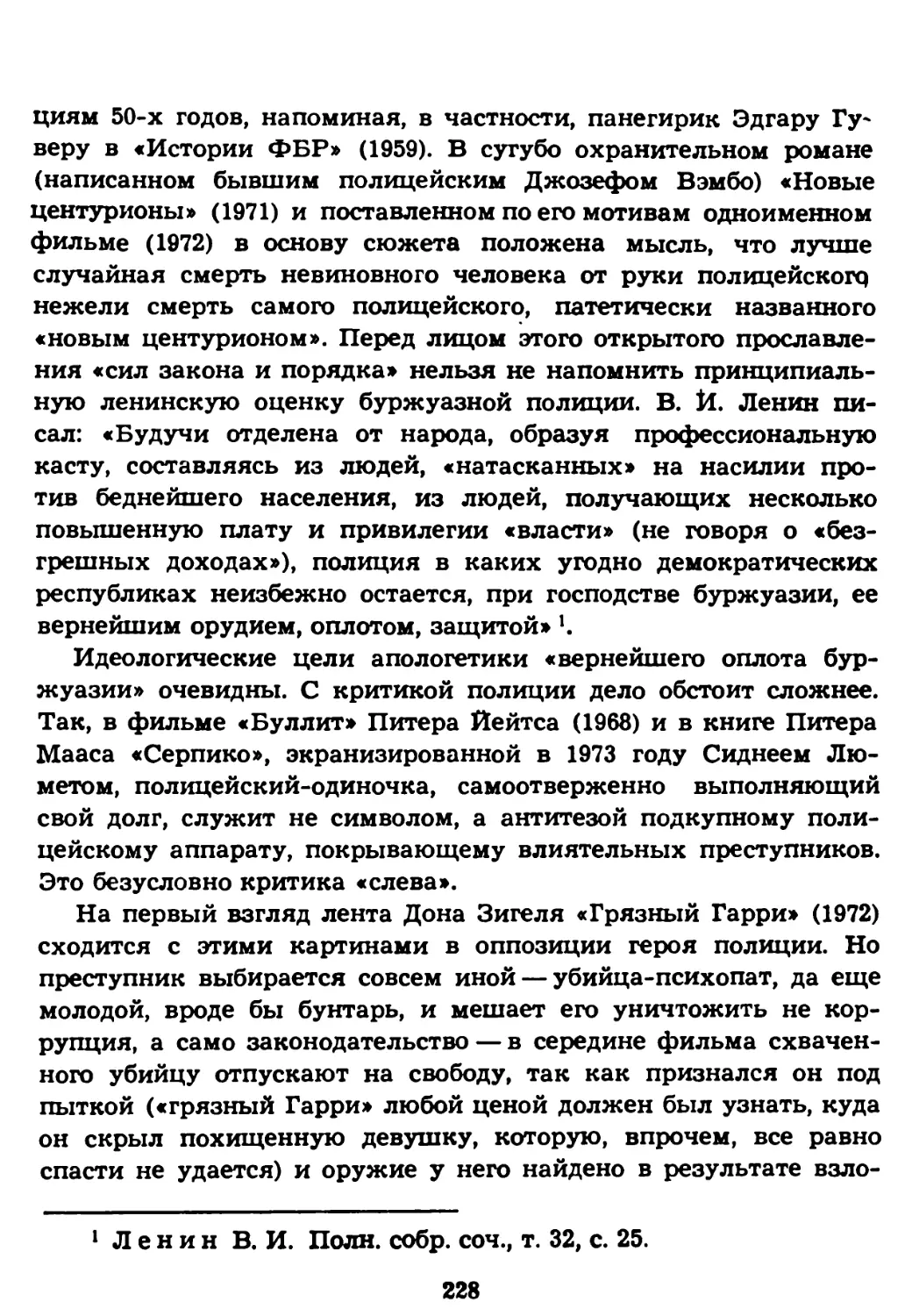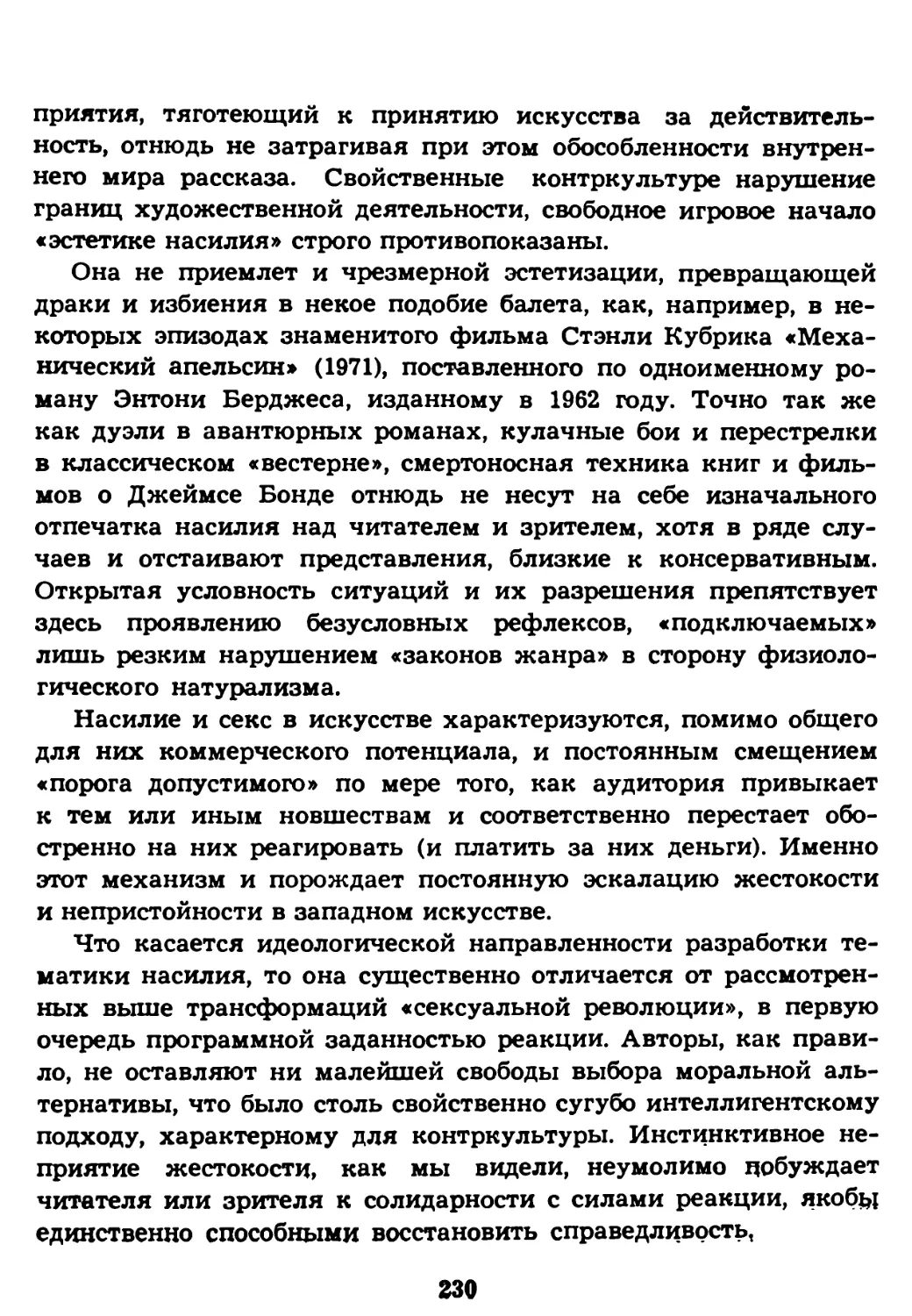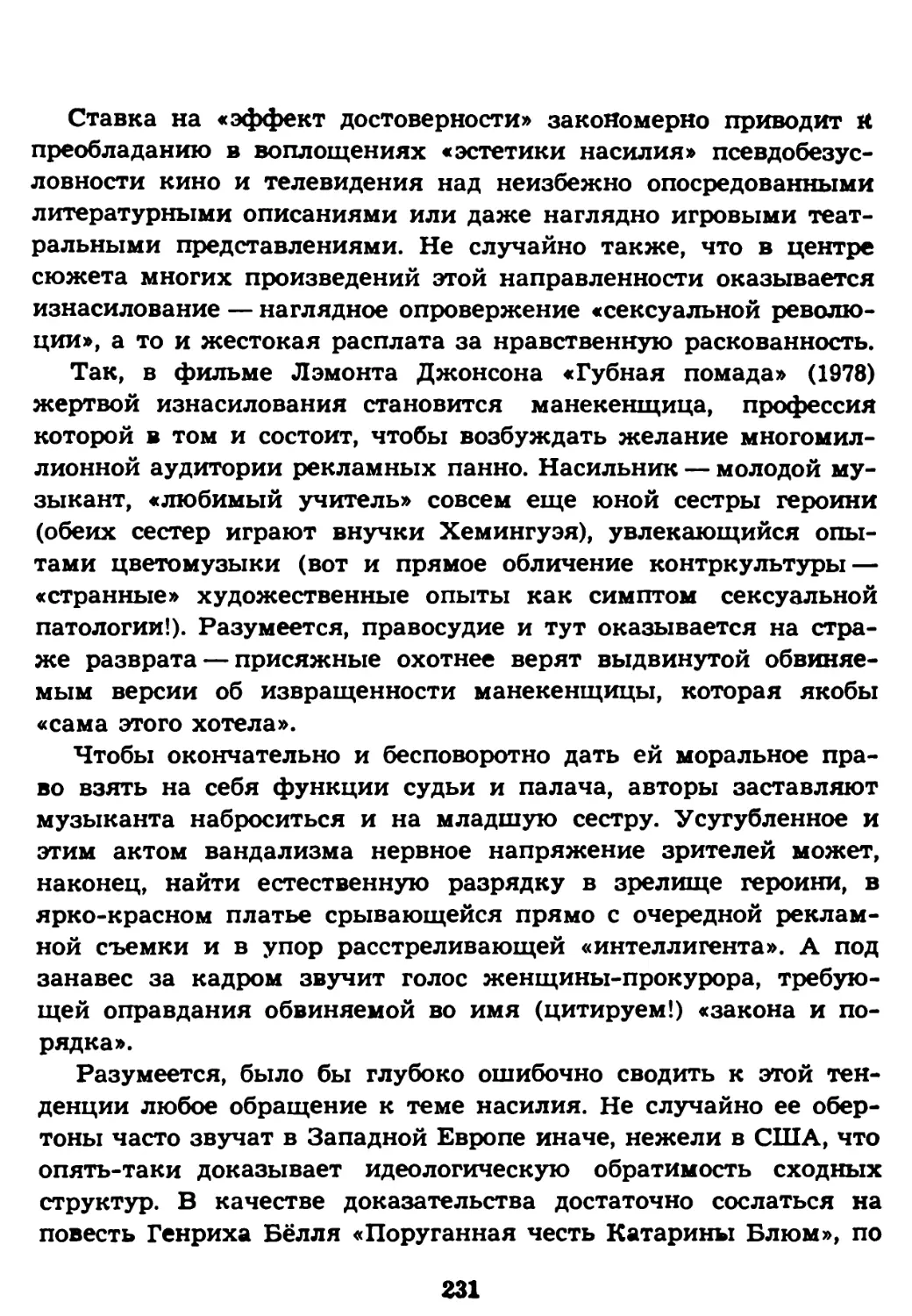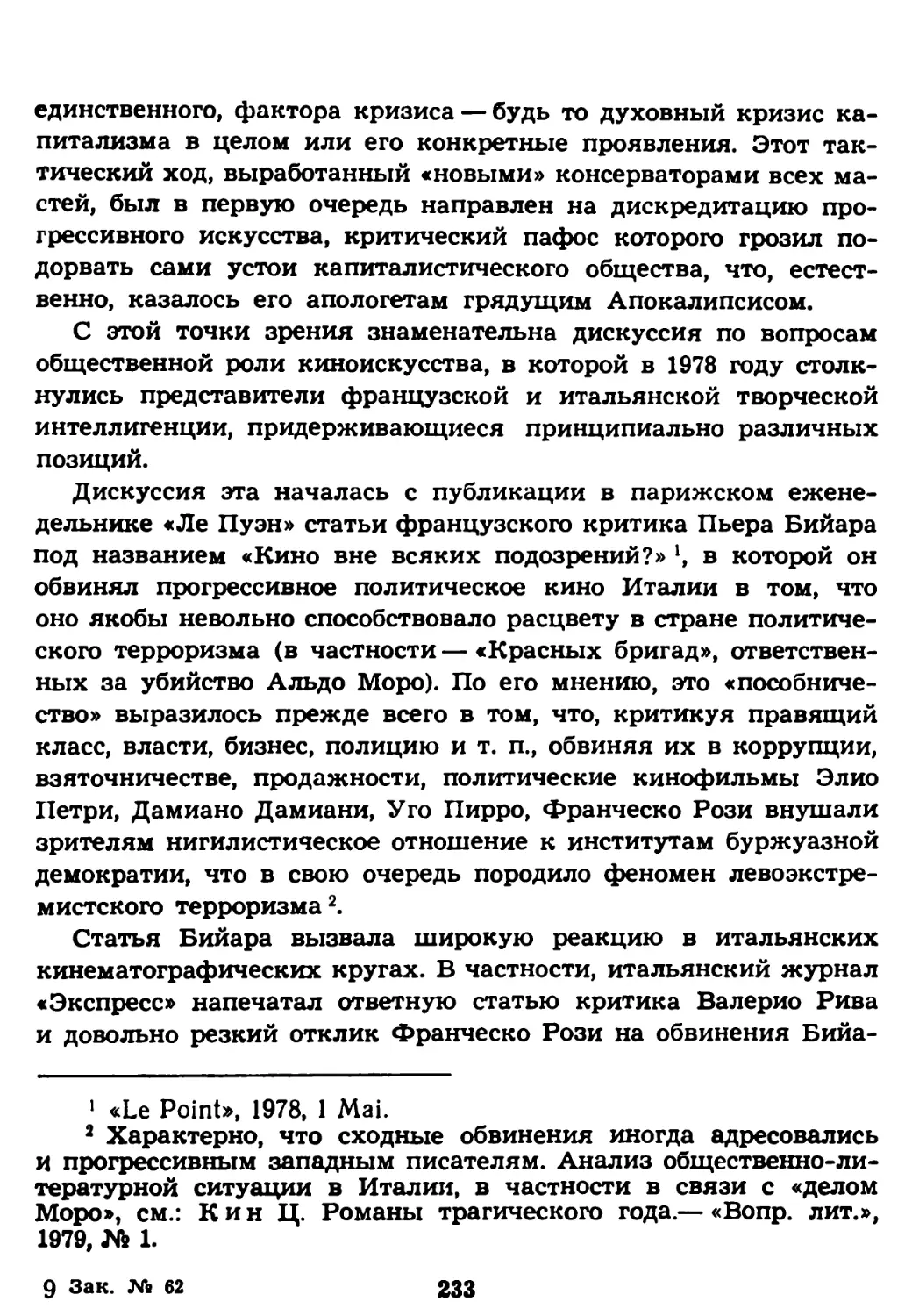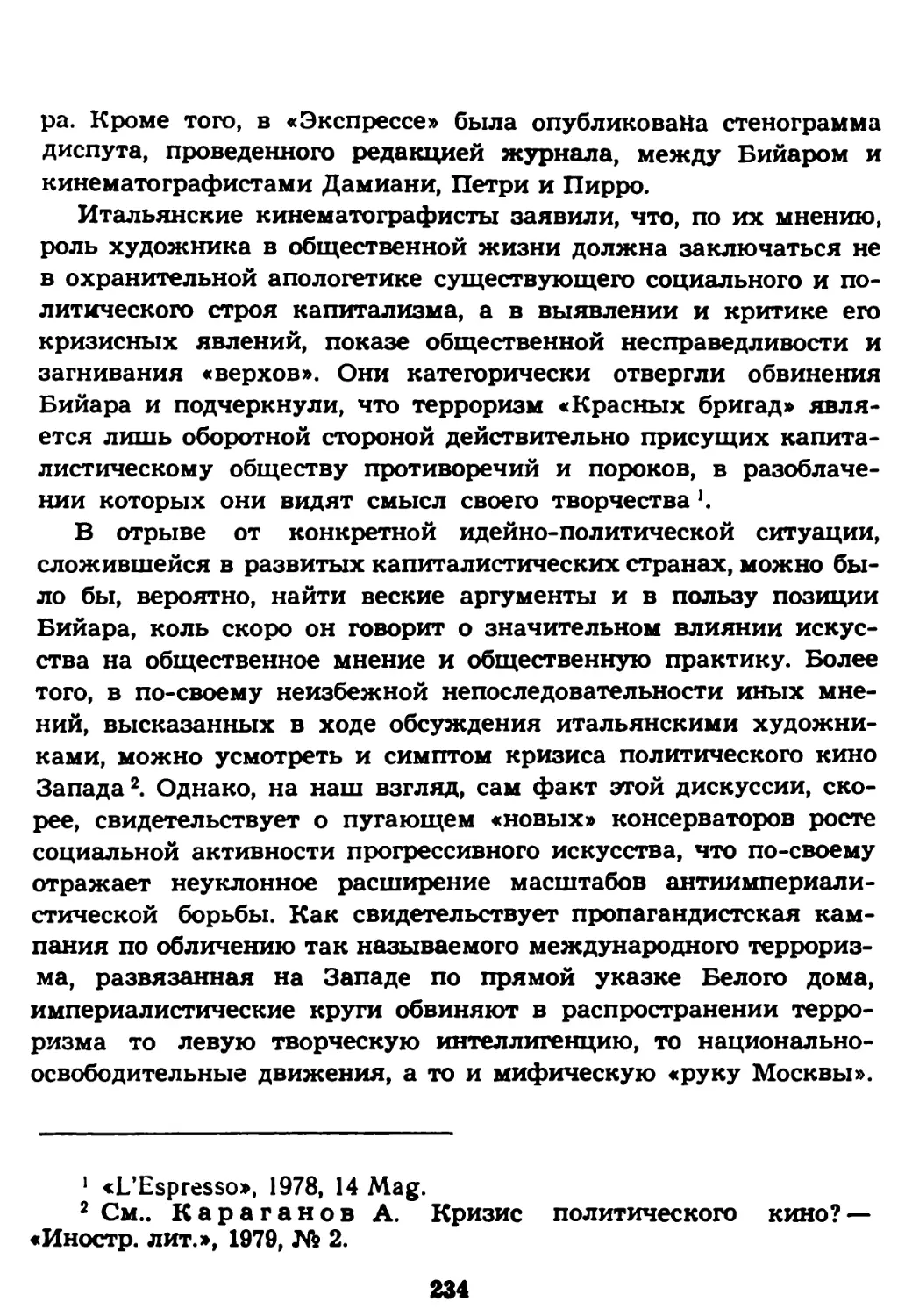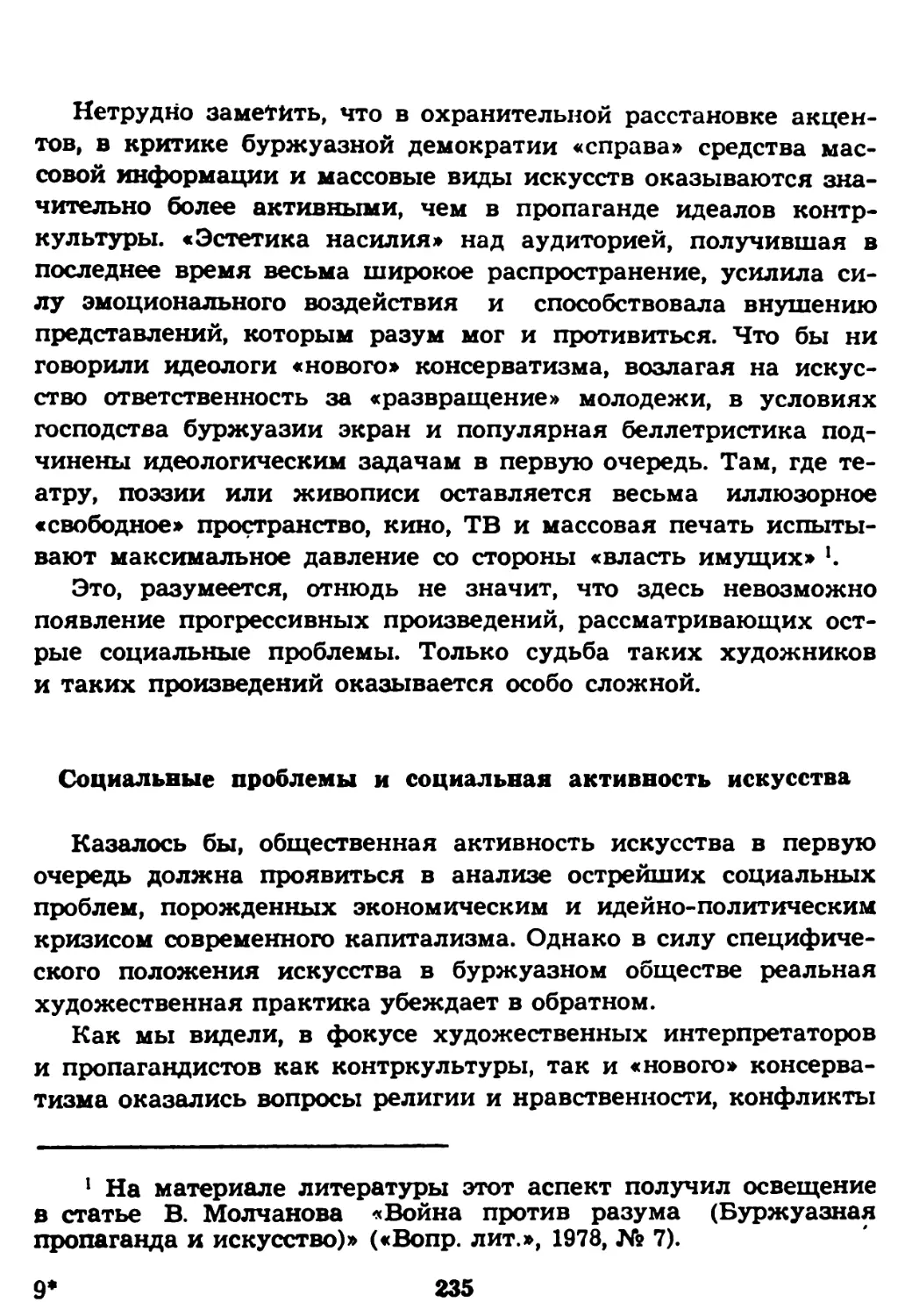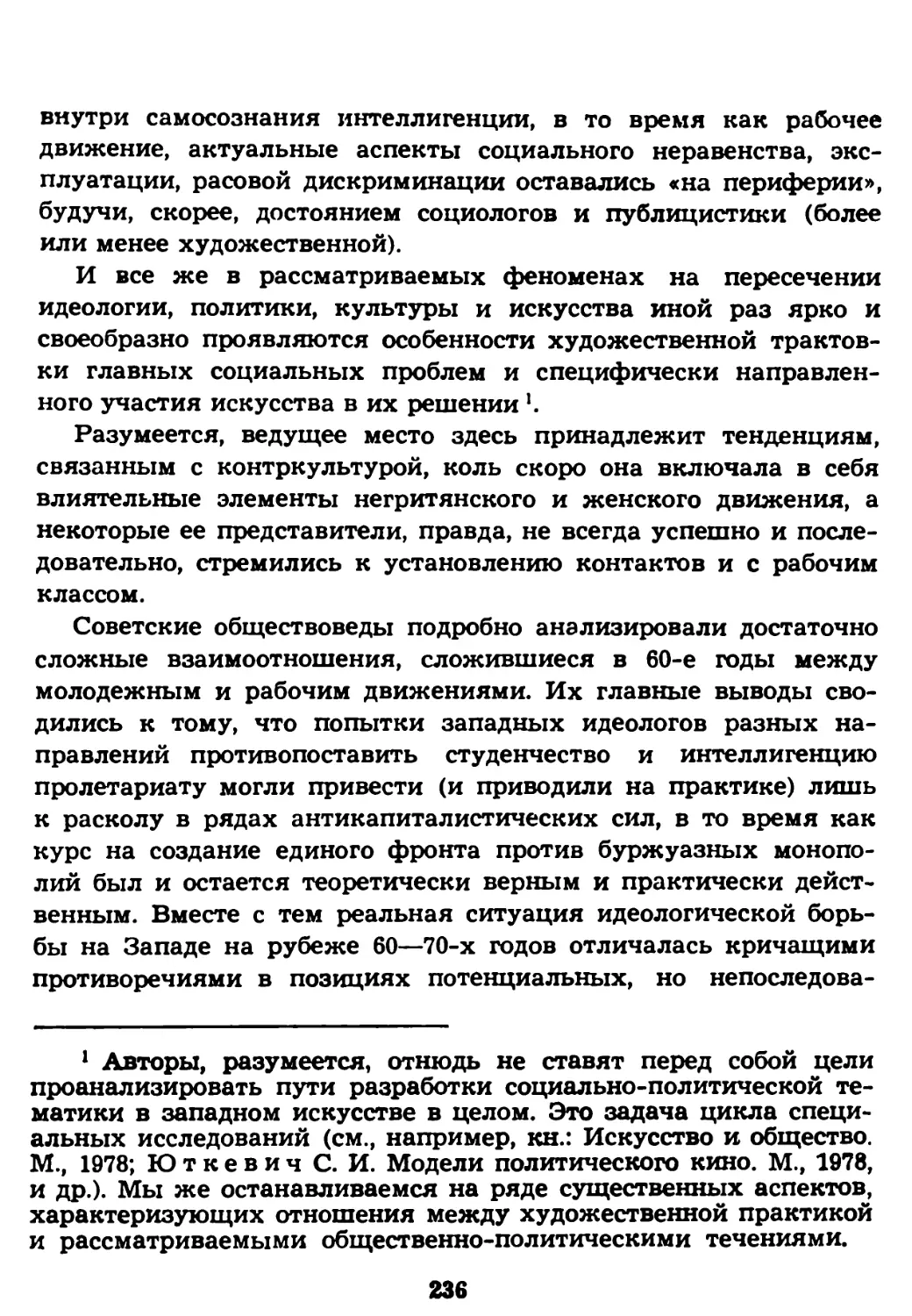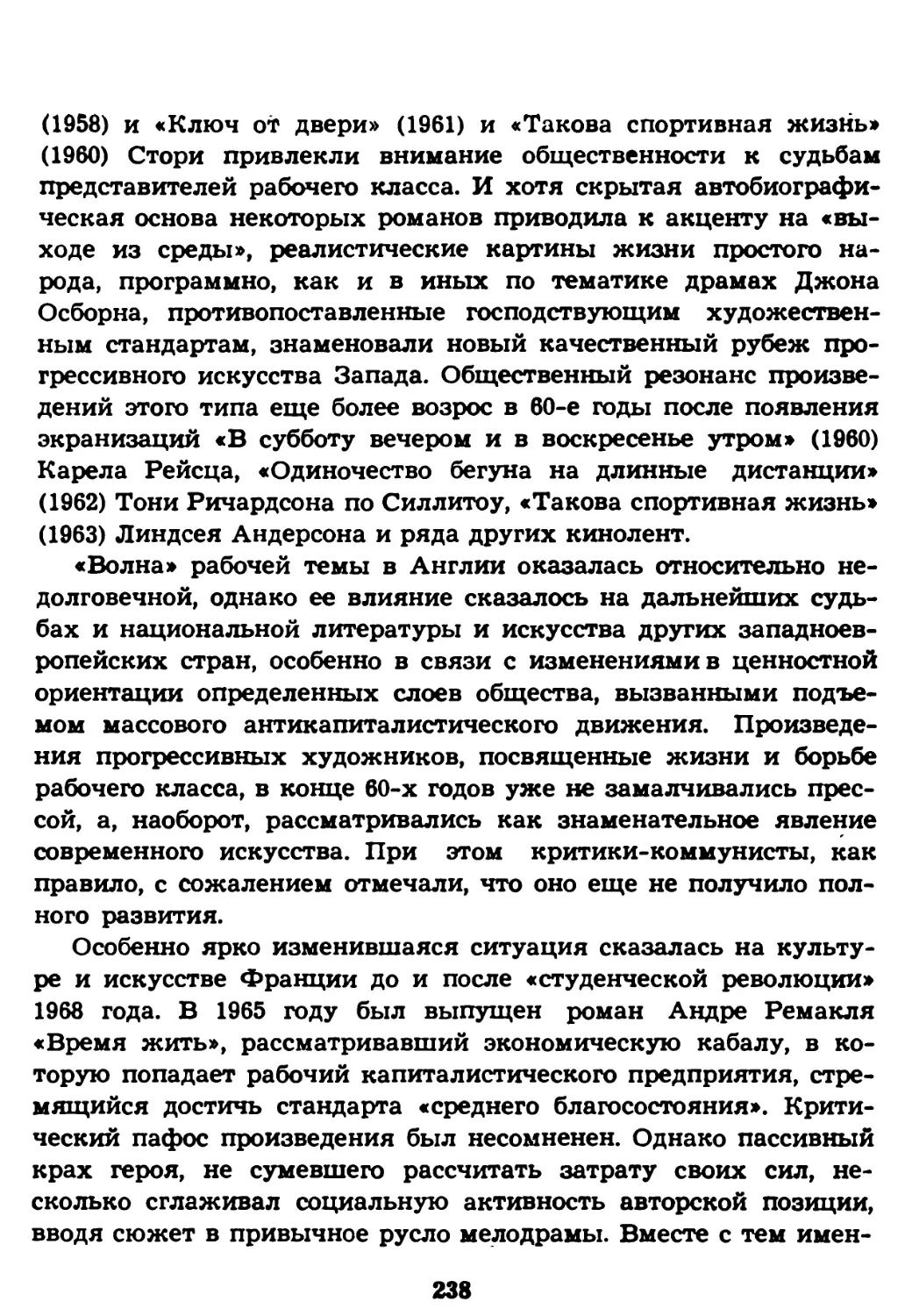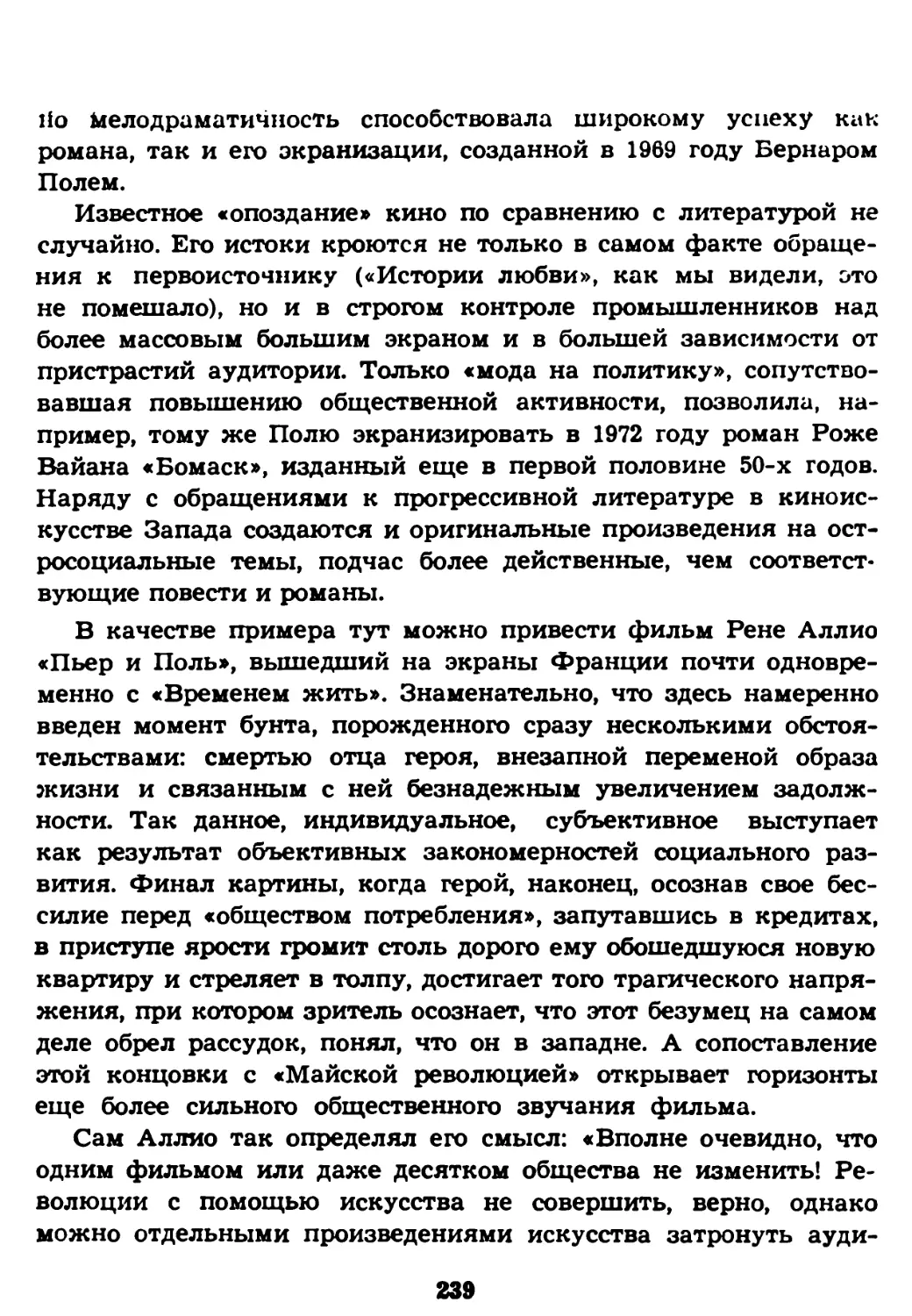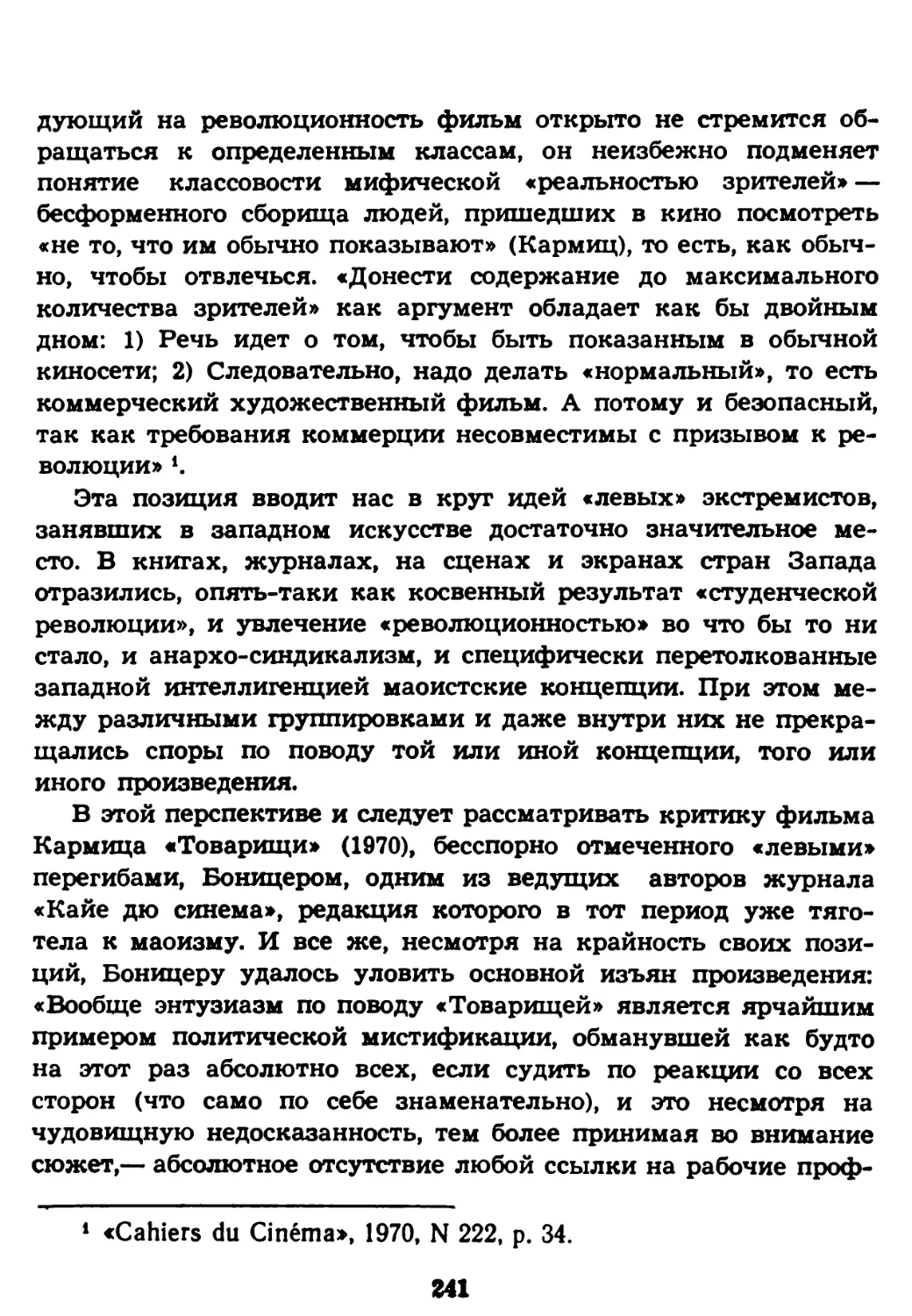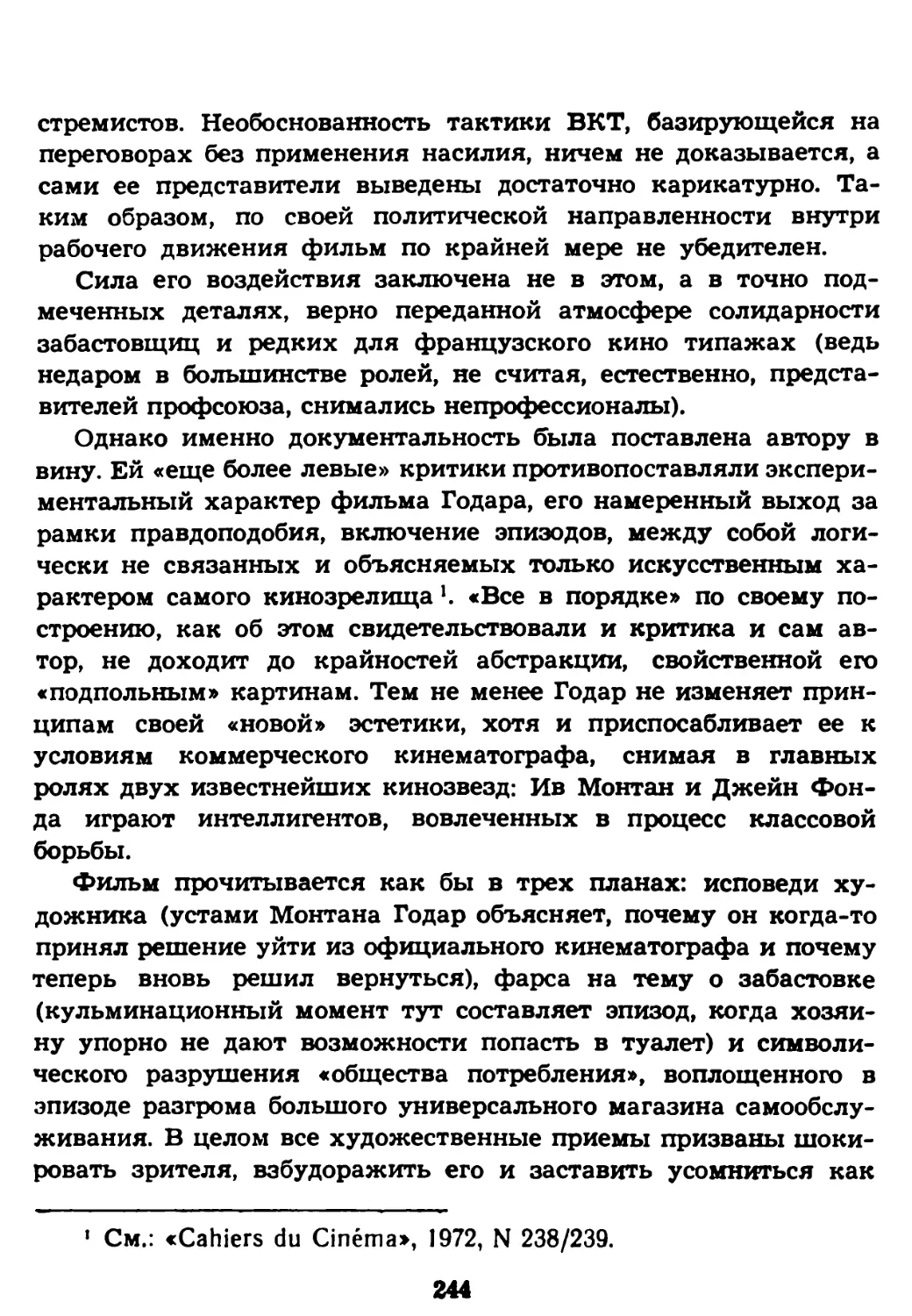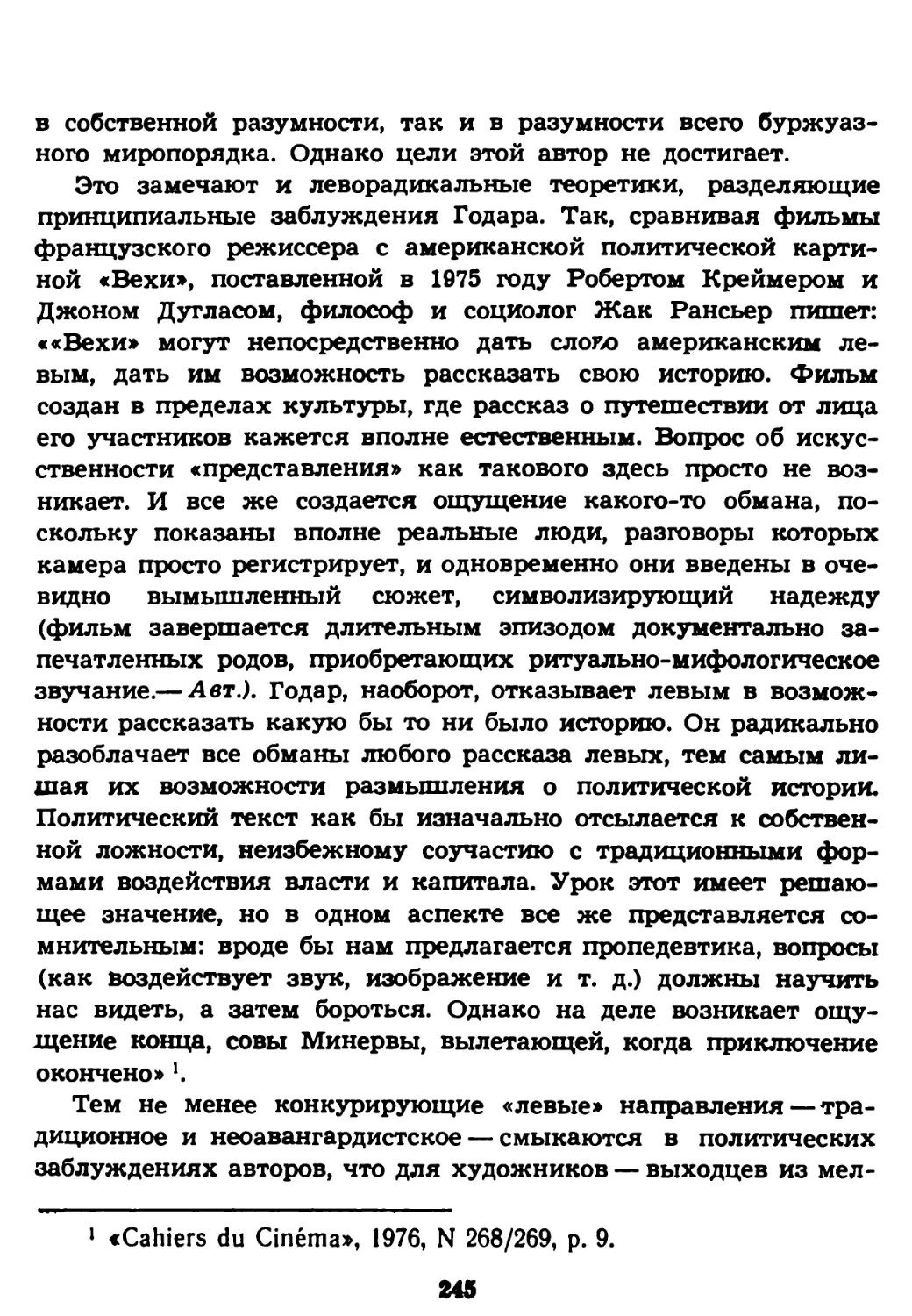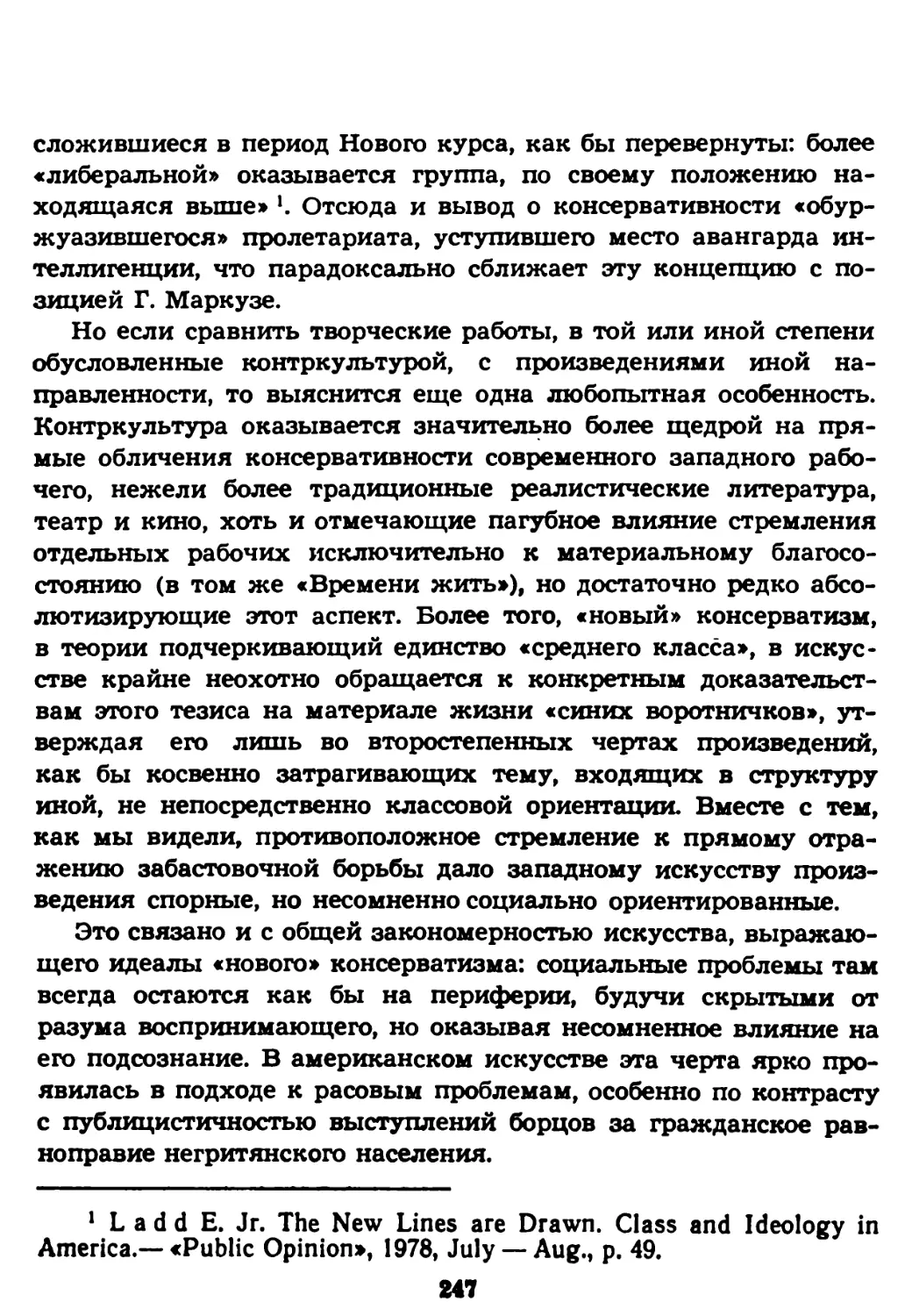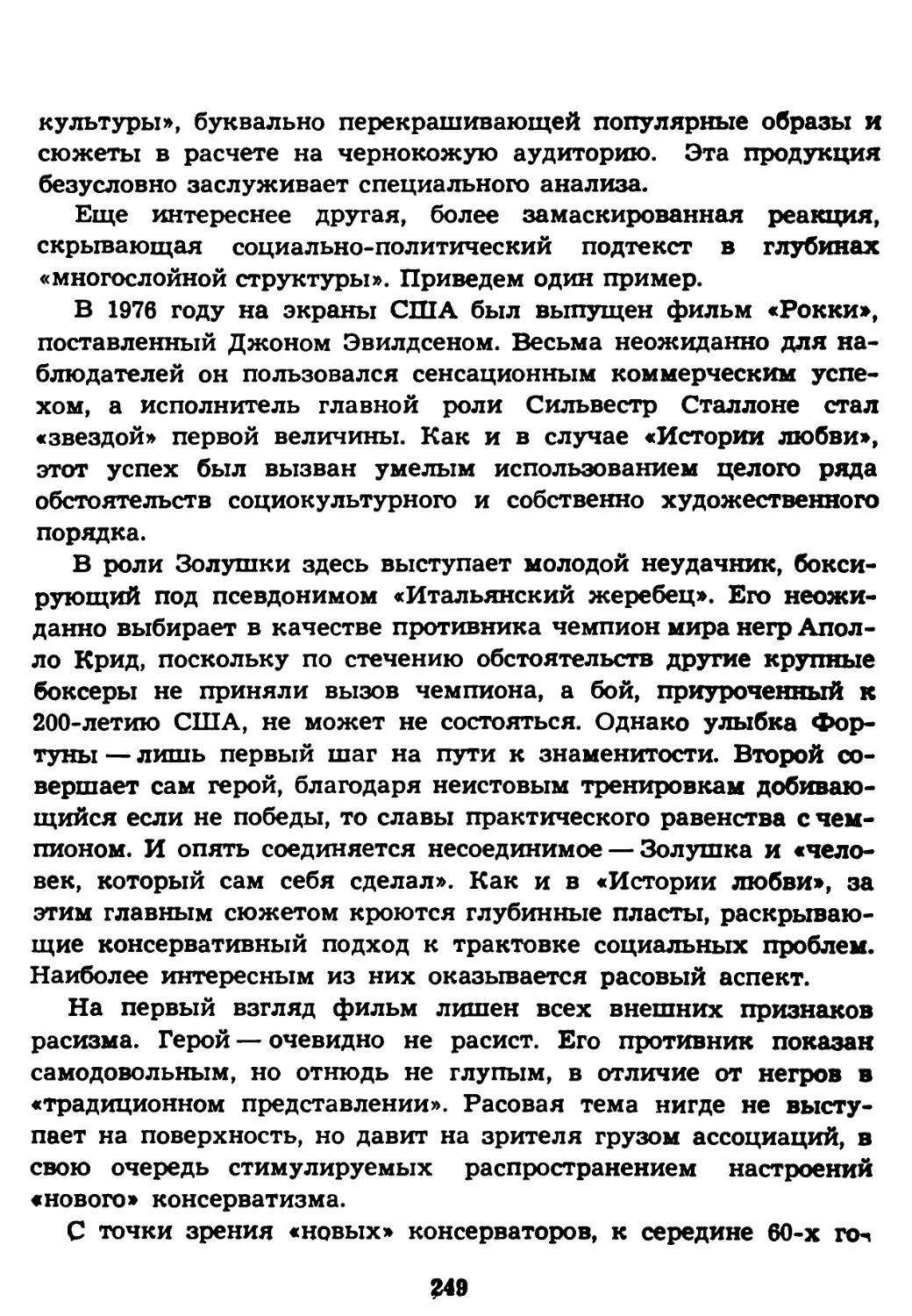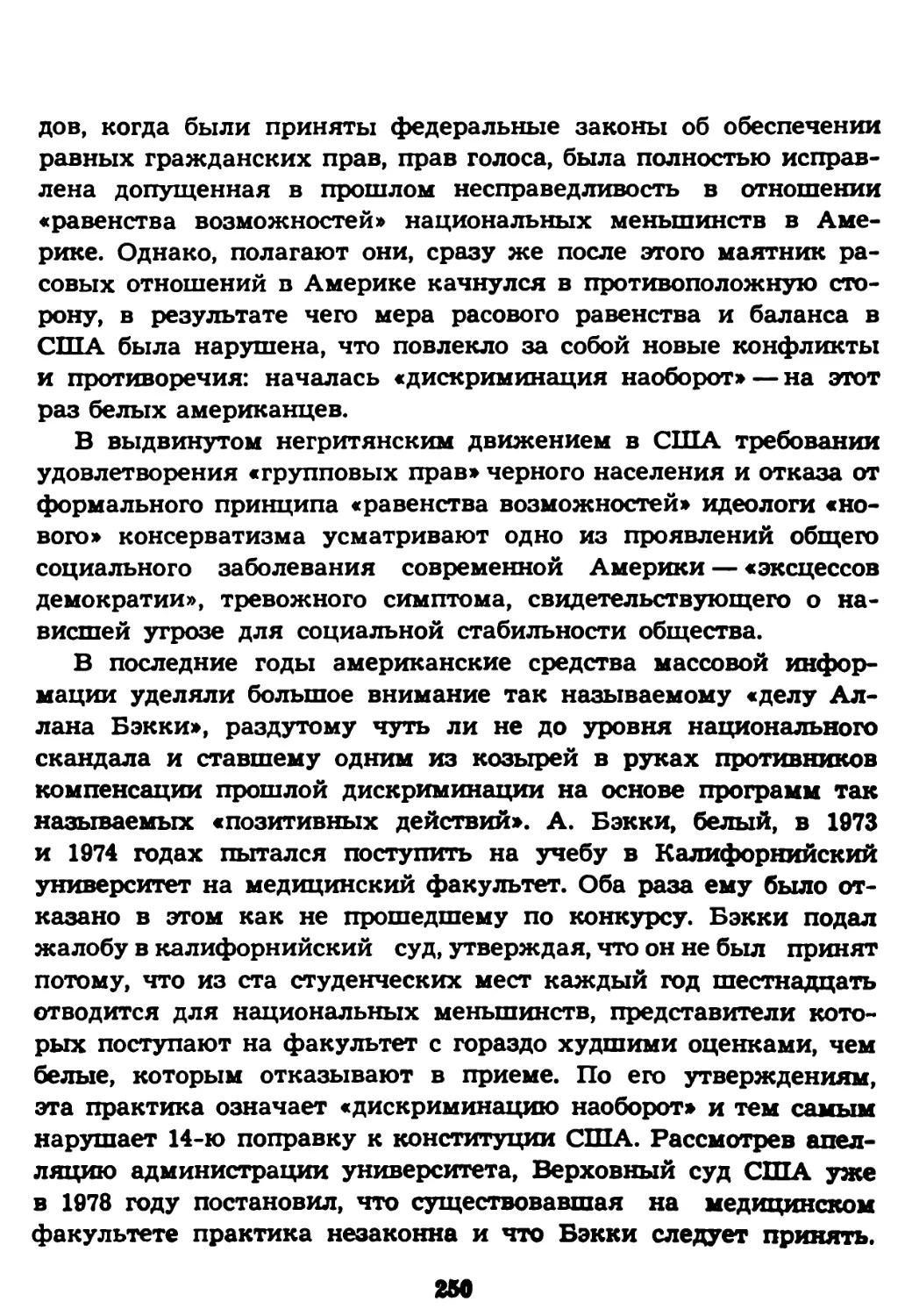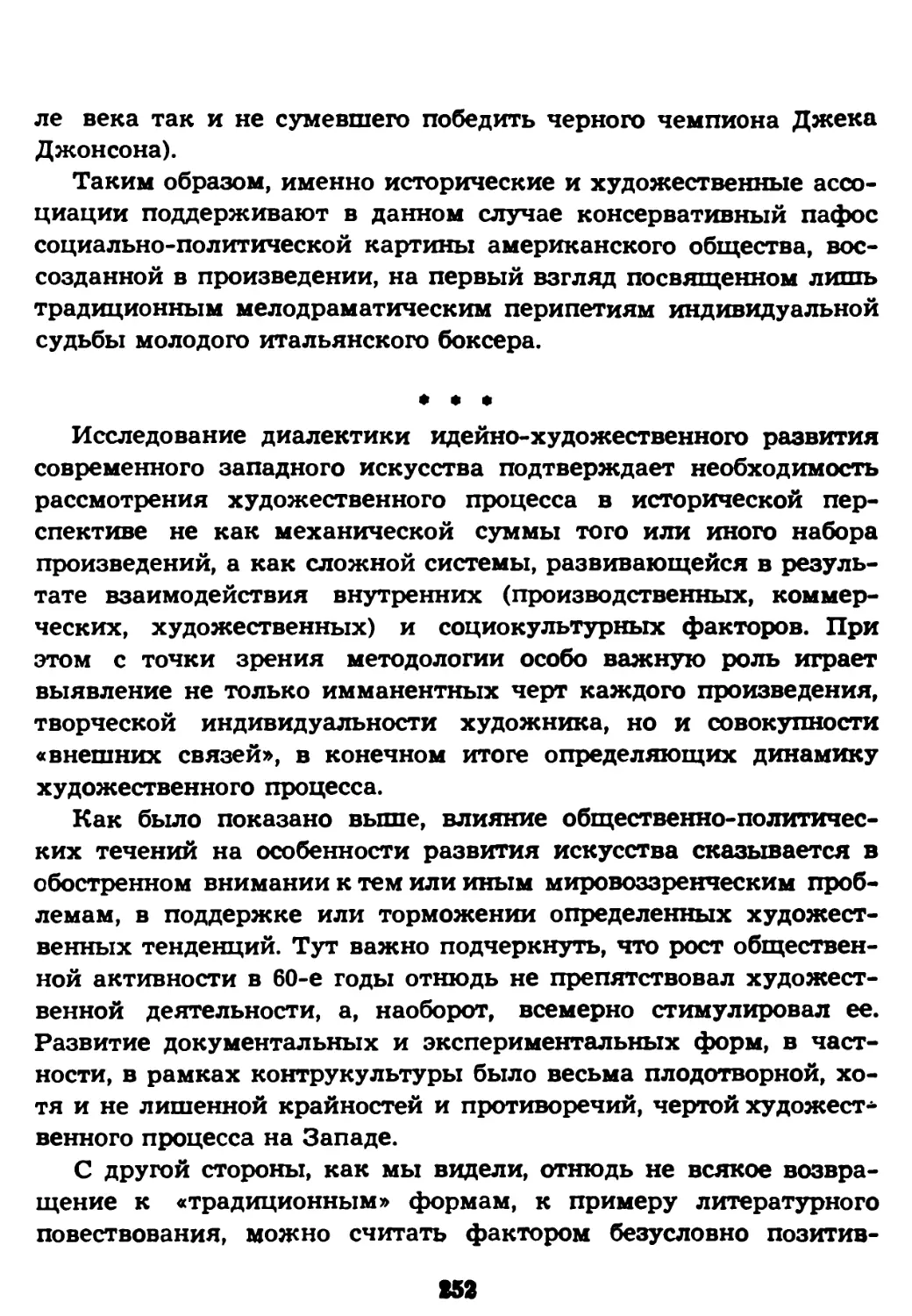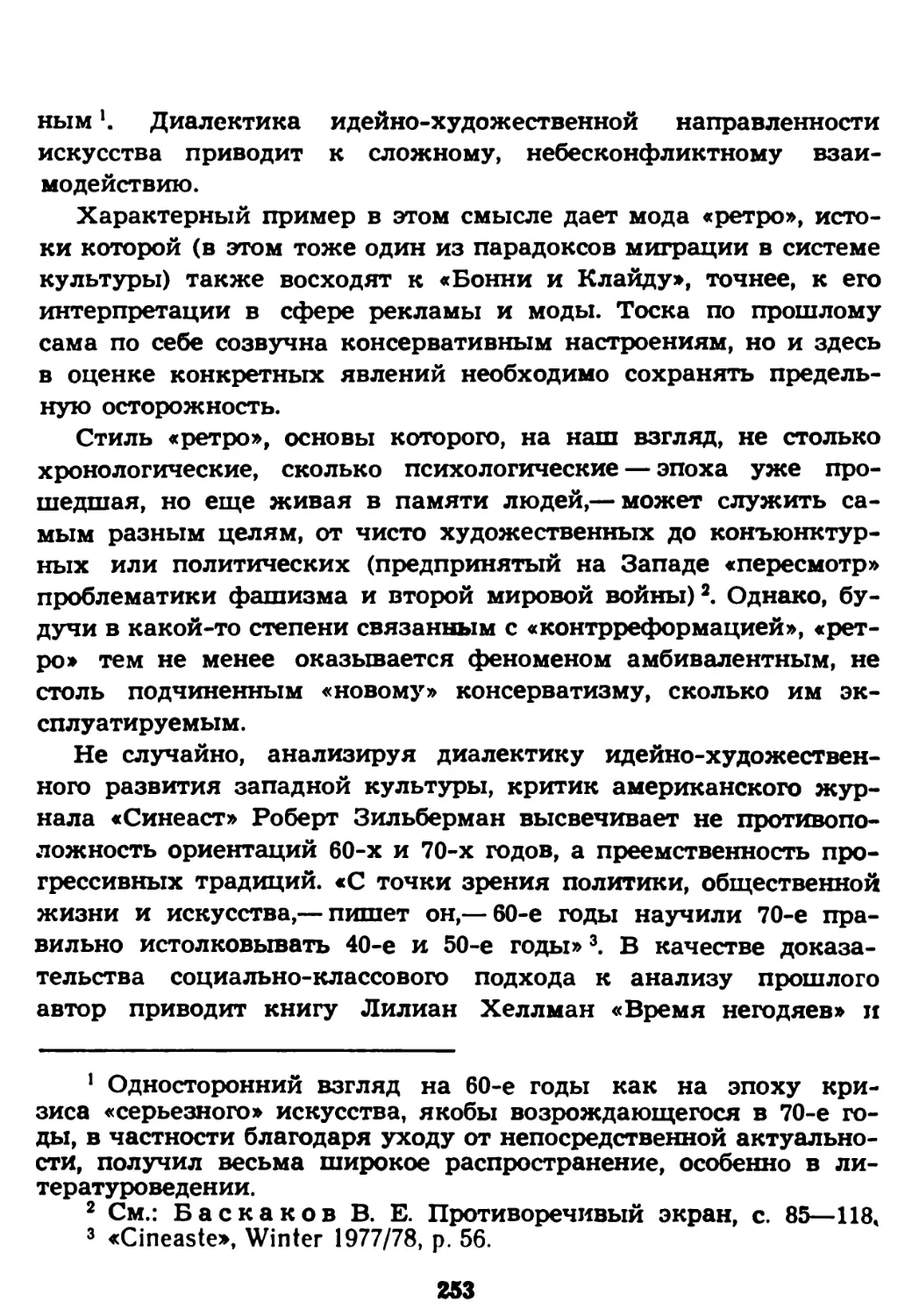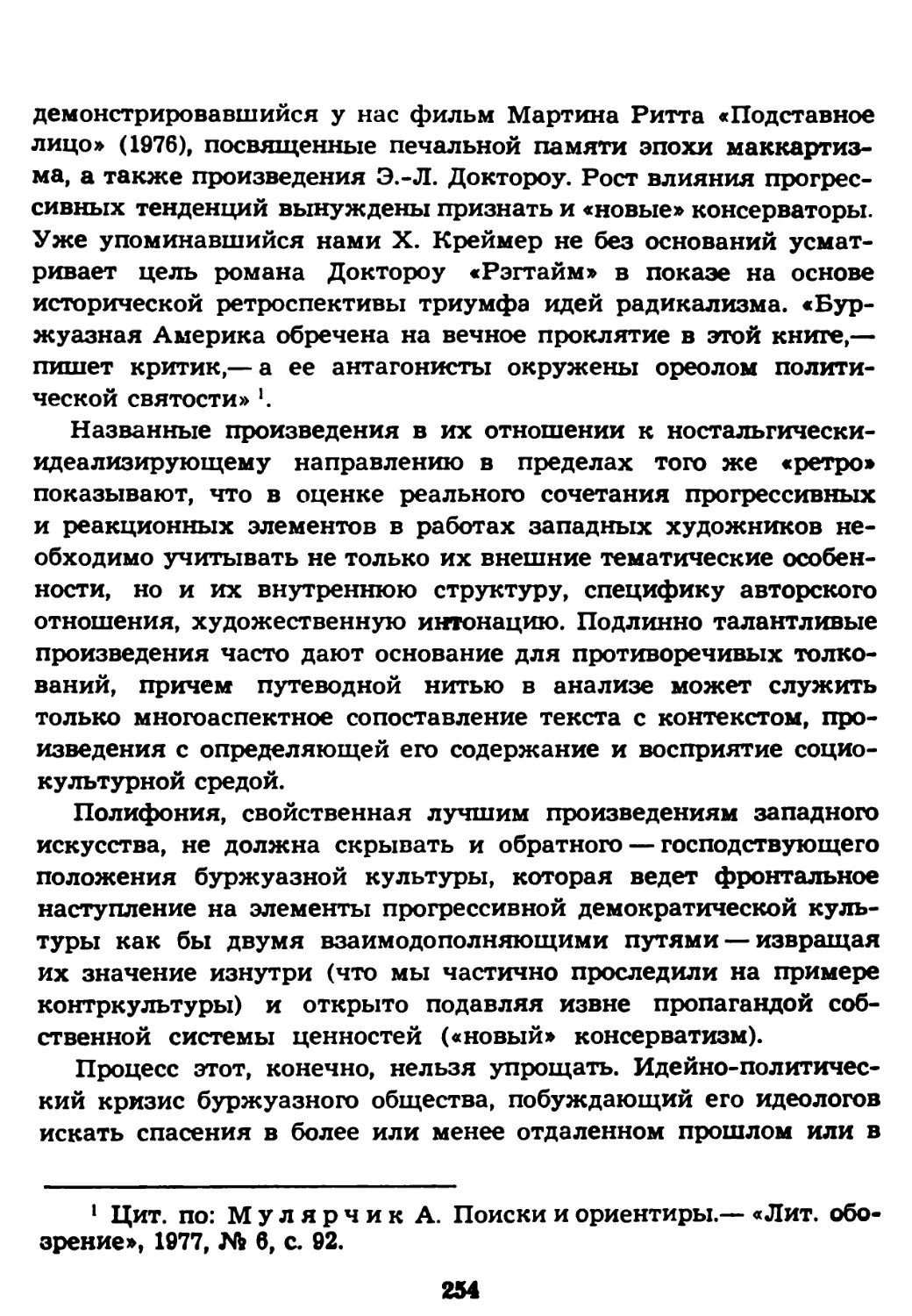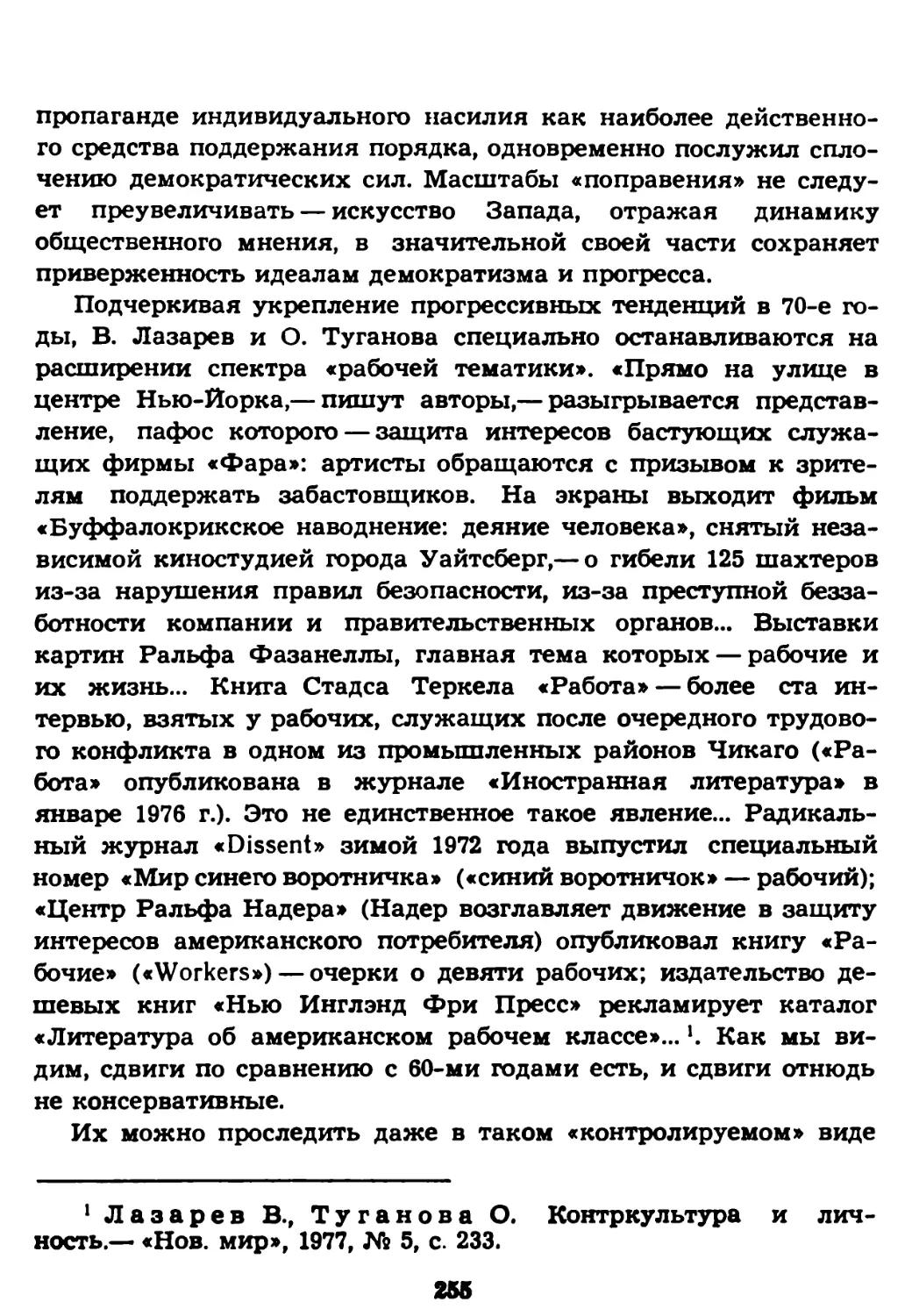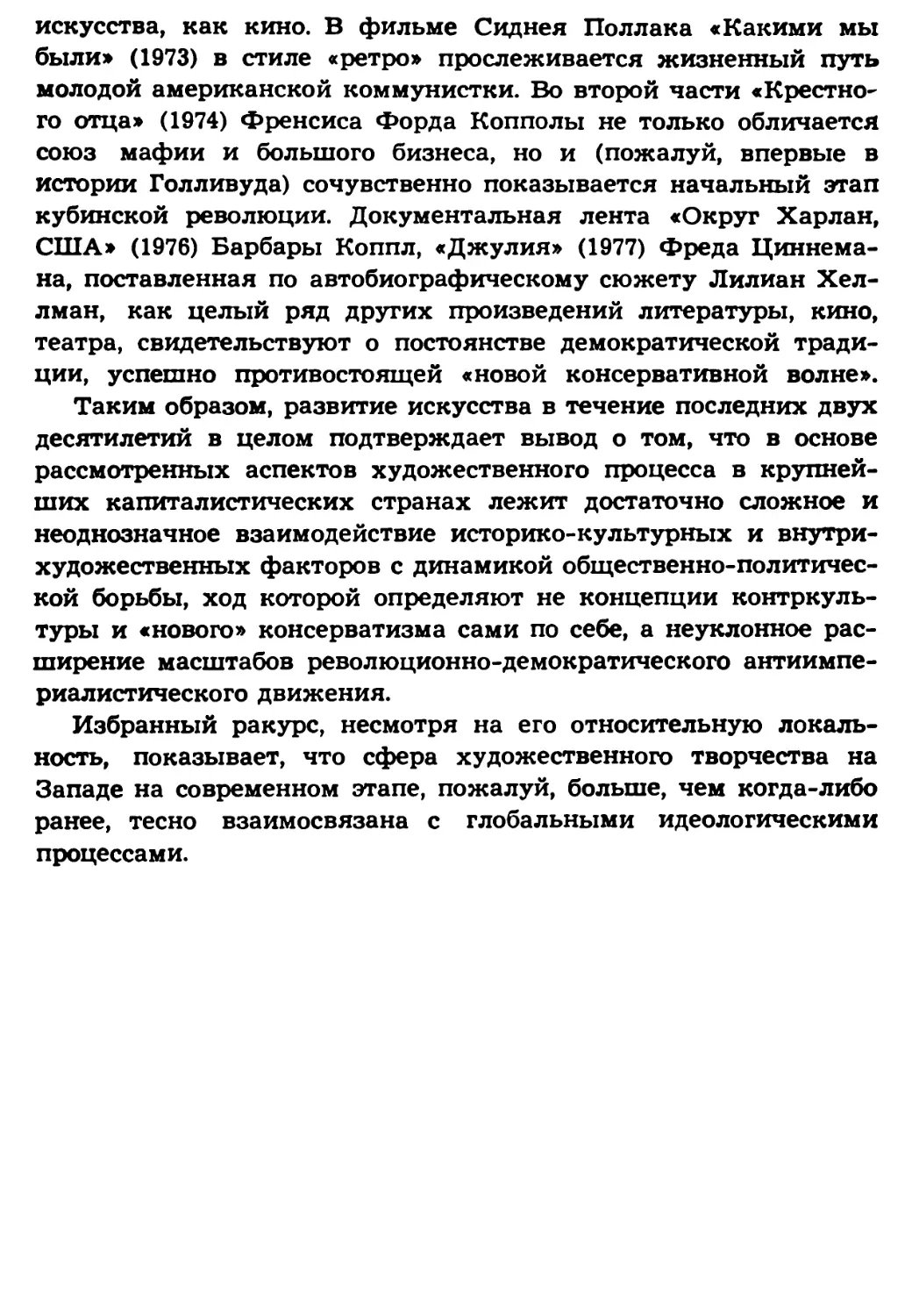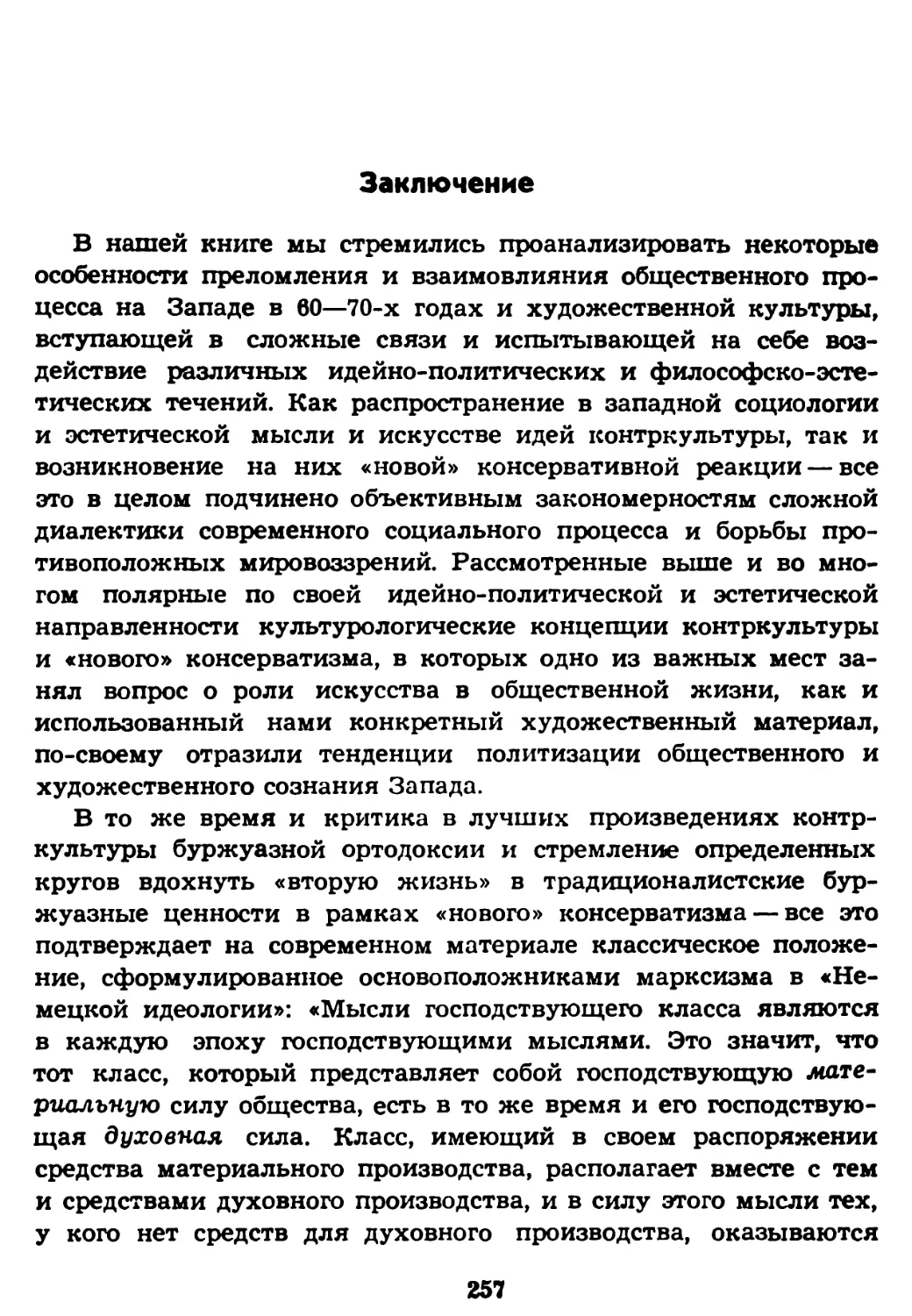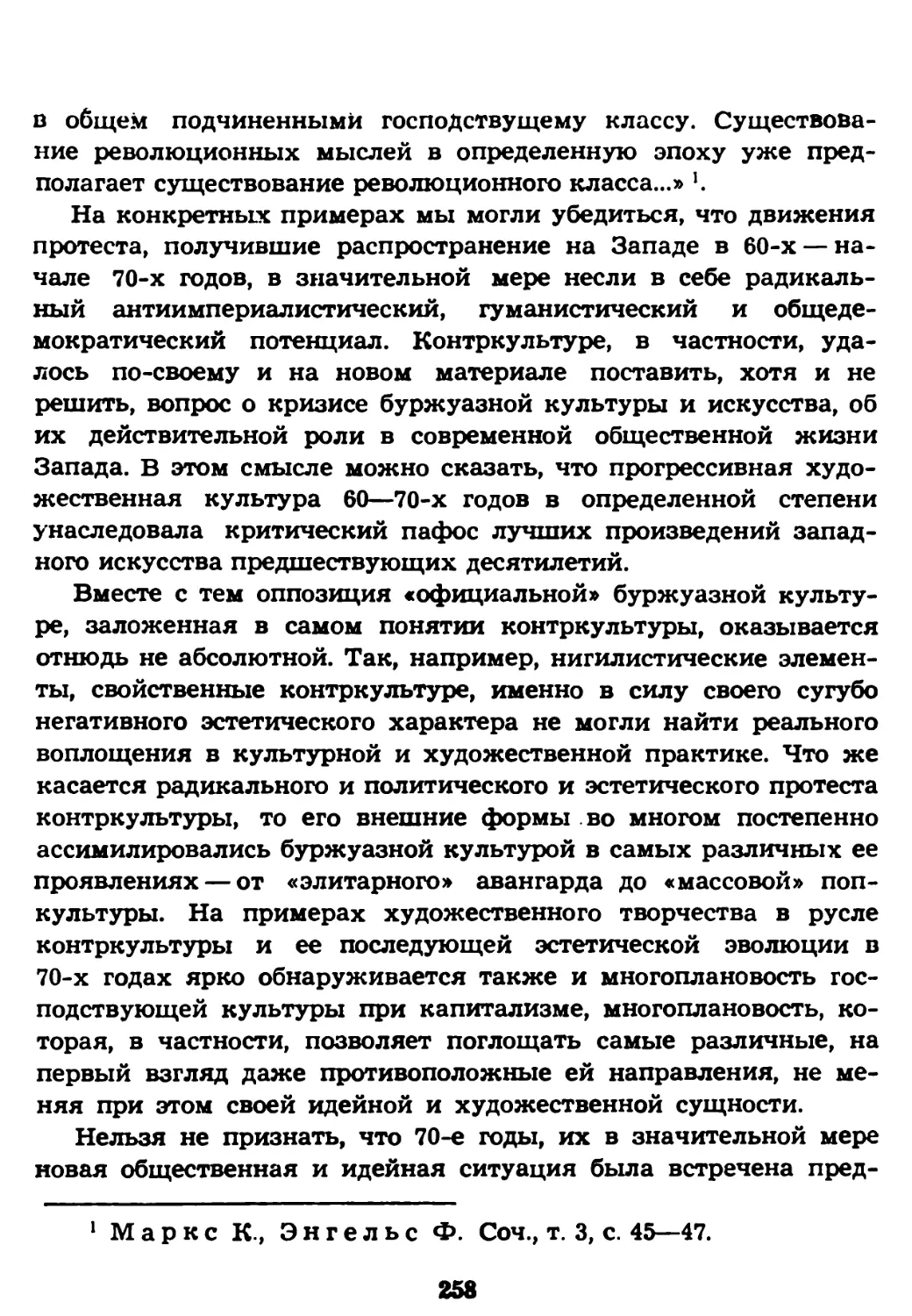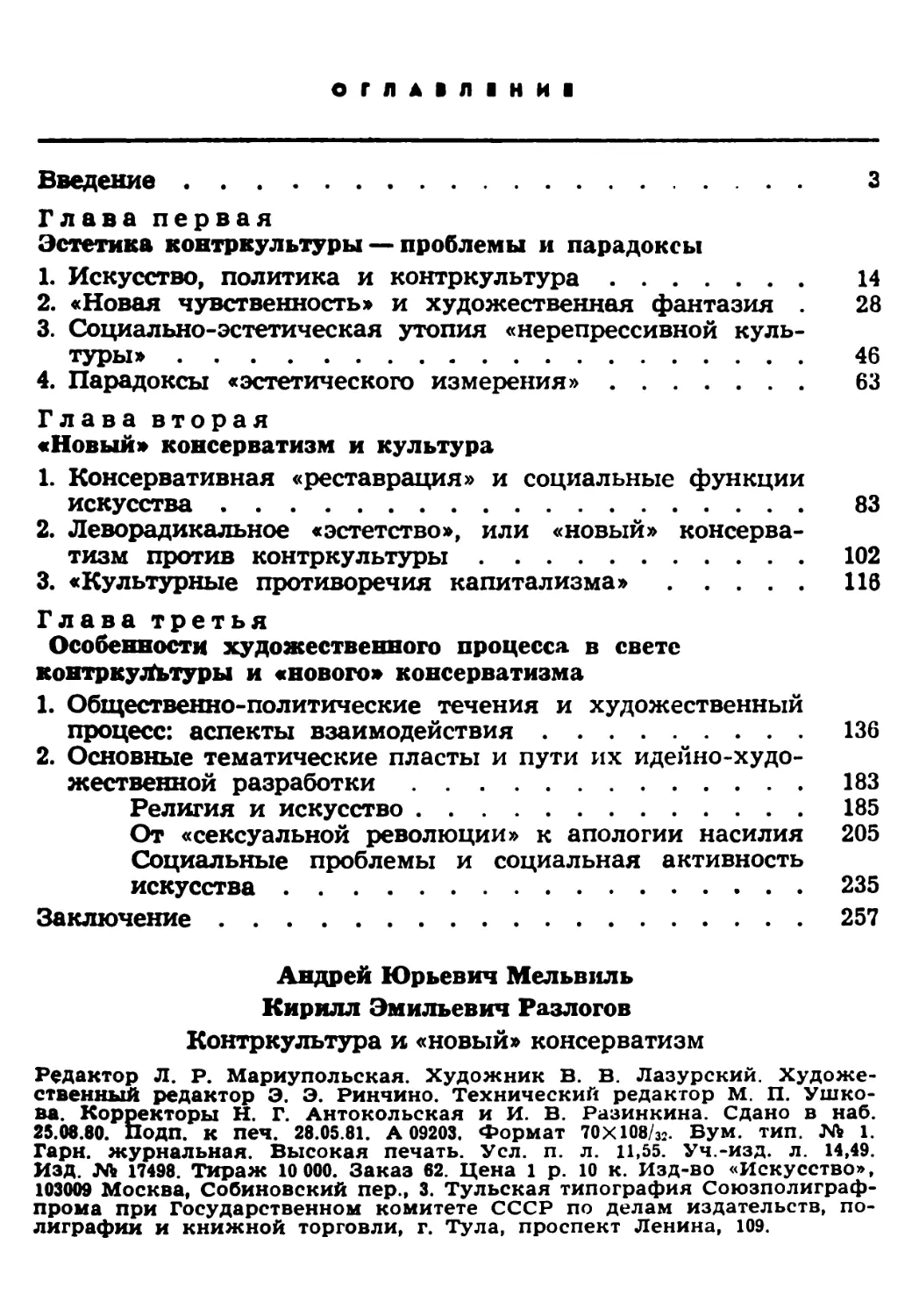Автор: Мельвиль А.Ю. Разлогов К.Э.
Теги: философия политика искусство искусствоведение культурология контркультура издательство искусство
Год: 1981
Текст
АЮМельвиль, КЭ.Разлогов
контркультура
»новый«
консерватизм
МОСКВА ИСКУССТВО 1981
М48
Рецензент доктор философских наук В. П. Шестаков
Мельвиль А. Ю., Разлогов К. Э.
М48 Контркультура и «новый» консерватизм.— М.:
Искусство, 1981.—264 с.
Книга посвящена исследованию специфики воплощения в
западной культуре, искусстве, искусствознании и эстетике
идейных противоречий современного капитализма. Авторы
вскрывают противоречивость буржуазной культурологической
концепции, рассматривающей 70-е годы как период перехода от
контркультуры к «новому» консерватизму, и показывают, что
в основе культурно-художественного процесса на Западе лежит
взаимодействие историко-культурных и эстетических факторов
с динамикой общественно-политической борьбы, ход которой
определяет неуклонное расширение масштабов революционно-
демократического, антиимпериалистического движения.
10506-155 БВК 87.8 + 71
М 12-80 0302020300 7 + 37И
025(01)-81
© Издательство «Искусство», 1981 г.
Введение
Наша книга посвящена критическому анализу различных,
нередко взаимоисключающих представлений о роли искусства
в общественной жизни, получивших широкое распространение в
современной западной философии, эстетике, теории культуры.
Не будет преувеличением сказать, что в противоречивой
эволюции художественной культуры и философско- эстетической
мысли Запада этот период ознаменовал достижение нового
качественного рубежа. С одной стороны, он оказался отмеченным
глубоким кризисом традиционной буржуазно-академической
эстетики и явной политизацией, внесением гораздо более глубокого,
чем это было прежде, общественно-политического содержания
в искусство и эстетическое сезлание Запада. С другой стороны,
и в самой структуре буржуазного сознания в это время
происходит определенная перестройка: общие проблемы культуры,
искусства и эстетики, до той поры относившиеся
преимущественно к компетенции специальных- дисциплин, вышли, как
будто бы неожиданно, на первый план политической теории.
Более того, художественно-эстетическая проблематика
предстала в качестве средоточия размышлений западных авторов о
судьбах человека и общества, о политике и социальных
преобразованиях.
Эти перекрещивающиеся тенденции — политизация
искусства и эстетики и специфическая эстетизация
общественно-политической мысли — в совокупности определили происшедшие
сдвиги в системе современного буржуазного философского и
социального знания. Если для классической буржуазной
философии сосуществование эстетики вместе и наряду с иными
компонентами знания являлось, скорее, правилом (исключение
составляет, быть может, только шеллингианство,
абсолютизирующее статус эстетики в философской системе), то в настоящее
время для множества направлений новейшей буржуазной фи-
3
лософской и общественно-политической мысли характерна иная
закономерность — проникновение категорий, методик и проблем
культуры, искусства и эстетики в социологию, этику, теорию
познания, философскую антропологию, политическую теорию.
Хотя некоторые признаки такого рода «сращивания» эстетики
и иных отраслей философского знания обнаруживаются уже в
феноменологии и в еще большей степени в экзистенциализме, в
полную меру настоящая тенденция проявилась с 60-х годов,
когда, по справедливому замечанию К. М. Долгова, «сфера
искусства и культуры превратилась в своеобразный источник
«свежих» идей, откуда буржуазные идеологи (и правые и
левые, и либералы и реакционеры) стремятся извлекать «модели»
социального преобразования» !.
Эти и другие новые явления в развитии современного
буржуазного сознания представили красноречивые свидетельства
дискредитации традиционных культурно-художественных и
социально-политических идей, прежде доминировавших в
западной мысли, и отразили настойчивые, хотя в конечном счете и
безуспешные, поиски выхода из сложившейся тупиковой
общественной и духовной ситуации Запада, обусловленной
углублением и развертыванием все новых и новых противоречий
империализма.
Отсюда следует необходимость в полной мере учитывать
характер резко обострившейся идеологической борьбы на
международной арене. В отчетном докладе Центрального Комитета
КПСС XXVI съезду партии тов. Л. И. Брежнев подчеркнул, что
«возросла активность пропагандистских средств классового
противника, усилились его попытки оказывать разлагающее
воздействие на сознание советских людей» 2. Важное место в
идеологической стратегии буржуазии занимает извращенное
истолкование роли искусства в общественной жизни. В описываемых
нами новейших социальных и культурно-художественных тенден-
1 Долгов К. Кризис буржуазного философско-эстетическо-
го сознания.— В кн.: Борьба идей в эстетике. М., 1974, с. 127.
2 «Правда», 1981, 24 февр.
4
циях развития Запада отразился не только кризис старого мира
и его духовной культуры, но получила специфическое
преломление и некоторая новая реальность. Речь в первую очередь
идет о той объективной закономерности всеобщего исторического
и духовного развития человечества, которую В. И. Ленин
определял как «возвышение потребностей» широких трудящихся
масс 1 и которая в наше время стала влиятельнейшим фактором
общественной жизни.
Как справедливо пишет в этой связи Э. Я. Баталов,
«революционизирующая роль политических и культурных потребностей
возрастает в условиях относительного удовлетворения
«первичных» экономических потребностей... «Сытость», таким образом,
не делает пролетария более счастливым, ибо существование его
продолжает оставаться, как и прежде, необеспеченным — с той
лишь разницей, что эта необеспеченность проявляется теперь не
столько в непосредственном физическом, сколько в
политическом и эстетическом голоде» 2.
Одним из характерных выражений этой закономерности
явилось то обстоятельство, что рост социального недовольства
широких слоев населения современного буржуазного общества,
продолжающаяся радикализация и общее полевение
общественного сознания, поиск, подчас мучительно сложный, социальных
альтернатив — все это сегодня на Западе вызывается все в
большей степени действием не только экономических факторов, но
также факторов политических, социально-культурных,
духовных. Куда более широкий комплекс негативных явлений
западной общественной жизни подвергается критической переоценке,
становится объектом радикальной социальной критики. В этих
условиях особенно велика роль искусства, культуры,
вскрывающих и разоблачающих эти явления и предлагающих
социальному субъекту исторического действия новые, более высокие
критерии истины и красоты, возвышающие его до качественно
новых ступеней социальной и культурно-художественной дея-
1 См.: Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 1, с. 101—102.
2 Баталов Э. Я. Философия бунта. М., 1973, с. 115—116.
5
тельности, на которых получает более разностороннее раскрытие
его нравственный, эстетический, духовный потенциал.
Одно из наиболее ярких и характерных воплощений
указанная закономерность возвышения человеческих потребностей
обрела в таком важном и значительном событии в жизни
западного общества, каким явилось движение протеста 60-х — начала
70-х годов, громко заявившее о себе не только в сфере
политики, но и в культуре, искусстве, эстетике. Весьма показательно,
что леворадикальный протест, охвативший в этот период
большинство развитых капиталистических стран Запада, возник в
обстановке относительного экономического подъема, когда, если
следовать логике буржуазно-апологетического мышления,
повсеместно должно было бы царить «счастливое сознание».
Протест вызвали в значительной мере иные —
неэкономические— причины. Как справедливо отмечает М. И. Новинская,
«предпосылкой социально-политических кризисов 60-х годов
явилась не та или иная преходящая экономическая
конъюнктура, но возрастающая нетерпимость масс к институтам и
нормам современного капиталистического общества» *.
В немалой степени в самом возникновении социального
протеста 60-х годов получила воплощение объективная
закономерность расширения социальной базы политического протеста
против всех форм капиталистической эксплуатации и
угнетения. Наряду с расширением классовых битв пролетариата
большое значение тцэиобрело увеличение общественно-политической
и культурной оппозиции власти капитала, связанное с ростом
критических настроений среди широкой непролетарской массы
населения. Радикализация и сдвиг влево в
общественно-политической и культурной жизни буржуазного мира выразились в
зарождении нового очага протеста, расположенного там, откуда
охранительная идеология и буржуазная культура прежде
черпали свои верные кадры. Зерно «измены» произросло в самой
идеологической и культурно-духовной сердцевине буржуазного
1 Новинская М. И. Исторические традиции и
леворадикальное сознание.— «Вопр. филос», 1975, № 5, с. 95.
6
общества. Несмотря на определенную двойственность, обуслой-
ленную мелкобуржуазным происхождением возникшей «новой
оппозиции», несмотря на ее достаточно противоречивый
политический и идеологический характер, в целом эти
непролетарские силы протеста выступили с антиимпериалистической
программой, что явилось показателем дальнейшего углубления
общего кризиса капиталистической системы.
Согласно принципиальным марксистским оценкам,
леворадикальный протест 60-х — начала 70-х годов явился одной из
специфических форм приобщения новых социальных слоев —
прежде всего молодежи и интеллигенции — к всемирному
революционно-освободительному движению К Теория и практика
современного левого радикализма получила глубокое освещение
в работах советских и зарубежных марксистских
исследователей2. Вместе с тем было показано, что, как сила, действующая
в отрыве, а порой и в оппозиции другим левым силам и рабочему
движению в странах капитала, социальный протест молодежи
и интеллигенции Запада оказался подверженным многим
слабостям и порокам, которые в конечном счете и объясняют его
постепенный спад в 70-х годах.
С начала 70-х годов в западной общественно-политической
мысли прочно укоренилось мнение о том, что по сравнению с
60-ми годами, ознаменовавшимися распространением
леворадикальной идеологии и подъемом движений социального протеста
в развитых странах капитализма, новое десятилетие стало
периодом своего рода «реставрации», усиления консервативных,
1 См.: Пономарев Б. Актуальные проблемы теории
мирового революционного процесса.— «Коммунист», 1971, № 15, с. 51.
2 См.: Баталов Э. Я. «Новые левые» и Герберт Маркузе.
М., 1970; Баталов Э. Я. Философия бунта; Лейбин В. М.
Философия социального критицизма в США. М., 1976;
Новинская М. И. Студенчество США. М., 1977; Салычев С. «Новые
левые»: с кем и против кого. М., 1972; Ю л и н а Н. С.
Буржуазные идеологические течения в США. М., 1971; а также: Кепе-
ц и Б. Идеология «новых левых». М., 1977; У о д д и с Дж..
«Новые» теории революции. М., 1975; Штейгервальд Р.
«Третий путь» Герберта Маркузе. М., 1971, и др.
7
апологетических настроений в общественном мнении, идеологий,
культуре и искусстве Запада. Буржуазные идеологи выдвинули
тезис о том, что циклическое развитие мировой политической и
культурно-идеологической жизни, вызвавшее «левый крен» в
прошлом десятилетии, привело к его соответствующей
«правой» корректировке в 70-х годах.
Если проблемы левого радикализма были достаточно широко
освещены в нашей критической литературе, то этого никак
нельзя сказать о феномене «нового» консерватизма К Между
тем это направление общественно-политической мысли, на наш
взгляд, свидетельствует о поисках путей контрнаступления на
антибуржуазные движения в капиталистических странах, на
социалистическую идеологию. Эти тенденции были специально
отмечены и в Постановлении ЦК КПСС по вопросам политико-
воспитательной работы, и в документах XXVI съезда КПСС.
В свете требований этих важнейших партийных документов
анализ «нового» консерватизма позволяет выявить не только
магистральные линии эволюции буржуазного сознания, но и
некоторые существенные и ранее скрытые черты левого
радикализма, в частности — взглянуть под новым углом зрения на так
называемую контркультуру.
Не будет преувеличением сказать, что феномен
контркультуры явился едва ли не самым ярким выражением
леворадикального мироощущения и протеста 60-х годов. Сам этот
термин вошел в философский и эстетический лексикон как
обозначение совокупности идеалов и представлений различных
течений движения протеста и основывающегося на них типа
политического и художественного сознания и практического по-
1 См.: Вульф В. Я., Александрова О. А. «Новый
консерватизм» и молодежное сознание.— «Рабочий класс и
современный мир», 1975, № 3; 3 а м о ш к и н Ю. А., М е л ь в и л ь А. Ю.
Между неолиберализмом и неоконсерватизмом.— «Вопр. филос»,
1976, № 11; Мельвиль А. Ю. Идеология американского
неоконсерватизма.— «США — экономика, политика, идеология»,
1978, № 11; Мельвиль А. Ю. Социальная философия
современного американского консерватизма. М., 1980.
8
ведения. Одно из главных требований контркультуры —
демократизация и гуманизация общественной жизни, культуры и
искусства Запада.
В некоторых критических работах существует тенденция к
«зауженному» истолкованию понятия контркультуры, оценке ее
всего лишь как «наркотически-мистического крыла» некой
общей «субкультуры протеста», причем «крыла», находящегося
«под преобладающим влиянием мелкобуржуазного сознания» 1.
Указанный «слой», безусловно, присутствует в контркультуре,
однако исчерпывать им все это сложное и противоречивое
явление было бы, как представляется, методологически
неоправданным. Контркультура существует в качестве комплексного
социокультурного явления, охватывающего не только
идеологизированные и стихийно-непосредственные формы критического,
оппозиционного сознания, но и сферу практических
взаимоотношений, культурных установлений, художественного
творчества. Кроме того, сам термин «контркультура» используется в
научном обиходе в широком значении, которое, на наш взгляд,
более соответствует действительности2.
С этой точки зрения контркультура предполагает:
«— формирование новых отношений между людьми;
— формирование и принятие новых ценностей, выработку
1 См., например: Давыдов Ю. Н. Контркультура и кризис
социализации молодежи в условиях «общества потребления».—
«Социологические исследования», 1977, № 3, с. 78.
2 См.: Вульф В. «Контркультура» бунтующего поколения
США.— «Театр», 1972, № 10; К у ч м а е в а И. К. Актуальные
проблемы культуры и идеологическая борьба. М., 1976; Me л fa-
вил ь А. Ю. «Контркультура», ее эволюция и ее современные
критики на Западе. — «Вопр. филос», 1974, № 8; Молчанов В.
Pro и contra «контркультуры».— «Вопр. лит.», 1972, № 11;
Мяло К. Г. Проблемы романтического сознания в молодежной
«контркультуре» 60-х годов.— В кн.: Культура и идеологическая
борьба. М., 1979; а также: Боноски В. Две культуры. М., 1978;
Василев Г. Без демаркационной линии. М., 1976; Конак-
чиева М. Илюзиите на младежката «контркултура». София,
1978, и др.
9
новых социальных норм, принципов, идеалов, эстетических и
этических критериев;
— воспитание нового типа личности с новыми формами ее
сознания и действия» '. Все перечисленные моменты отражают
сознание гораздо более широких социальных групп, нежели
мелкая буржуазия, и, конечно же, шире увлеченности
некоторой части западной молодежи и интеллигенции наркотиками и
«новым» мистицизмом, обозначившейся на рубеже 70-х годов.
И контркультура и возникший на Западе в качестве реакции
на нее «новый» консерватизм могут рассматриваться с
различных углов зрения. В частности, советские философы, эстетики и
искусствоведы многое сделали для критического анализа
отдельных важных аспектов художественно-эстетического
компонента контркультуры2. Между тем, как мы уже говорили,
культурно-эстетическая проблематика «нового» консерватизма
остается практически еще не изученной.
В нашей книге мы попытались совместить комплексный
подход к исследованию взаимодействия политических и
эстетических аспектов* контркультуры и «нового» консерватизма с
рассмотрением специфики их преломления в художественном
процессе, развивающемся в странах капиталистического Запада (и
прежде всего США) в 60—70-х годах. К комплексному подходу
к анализу явлений современной культуры, в частности обост-
1 Замошкин Ю. А., М о т р о ш и л о в а Н. В. Некоторые
современные тенденции в развитии сознания американских
«новых левых».— В кн.: Исторический материализм как теория
социального познания и деятельности. М., 1972, с. 298.
2 См.: Арсланов В. Эстетика бунта.—В кн.: Теории,
школы, концепции (критические анализы). Художественный текст и
контекст реальности. М., 1977; Балашова Т. Ответственность
культуры и нигилизм «левого» действия.— «Нов. мир», 1971,
№ Ю; Беликове кий С. «Левый бунт» и культура.—В кн.:
Идеологическая борьба и современная культура. М., 1972;
Давыдов Ю. Эстетика нигилизма (Искусство и «новые левые»).
М., 1975; Мулярчик А. Смена литературных эпох.—«Вопр.
лит.», 1976, JSfe 7; Феофанов О. Музыка молодежного бунта.—
«США — экономика, политика, идеология», 1975, № 7, и др.
Ю
рения кризиса культуры буржуазной, нас обязывает
Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической,
политико-носпитательной работы».
В этом контексте особую актуальность приобретает
разработка на современном материале западной общественной и
художественно-эстетической мысли идеи враждебности капитализма
искусству и поэзии, как известно, сформулированной К.
Марксом в «Теории прибавочной стоимости» 1. «Искусство всегда так
или иначе участвовало в межклассовой и внутриклассовой
идейной борьбе. Нередко оно играло в ней существенную, а подчас
и первостепенную роль. Однако никогда еще его участие в
социально-классовых конфликтах не достигало таких масштабов,
как в последние десятилетия»2,— справедливо отмечает
О. А. Макаров. Продолжая начатую марксистскими
исследователями линию анализа, мы стремились показать на конкретном
материале контркультуры и «нового» консерватизма действие
общей закономерности выдвижения проблематики искусства и
культуры на передний план современной борьбы идей, ее
наполнение социальным и политическим содержанием.
Далеко не случайно то обстоятельство, что движения
социального протеста уже в 60-х годах активно использовали в
политической практике непосредственную наглядность и
эмоциональную убедительность радикальных
культурно-эстетических лозунгов и программ. Как мы постараемся показать далее,
эволюция эстетических позиций левого радикализма в 70-х
годах была непосредственно связана и обусловлена
общественно-политической динамикой движения протеста и
метаморфозами леворадикальной идеологии. Нужно также сказать, что и
многие последовательные защитники буржуазного
мироустройства и в 60-х и в 70-х годах были вынуждены уделить особое
1 См.: Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 26, ч. 1, с. 280. См.
также: Овсянников М. Ф. Капитализм и художественное
творчество.—В кн.: Эстетика, искусство, человек. М., 1977.
2 Макаров О. А. Искусство в современной идеологической
борьбе. М., 1975, с. 3.
11
внимание проблемам культуры и искусства в контексте
современной идейно-политической борьбы.
Идейно-художественное развитие Запада в 60—70-х годах со
всей очевидностью обнаружило недостаточность «подрыва»
господства буржуазии на собственном плацдарме искусства,
изолированного от общественной борьбы. В теоретических
воззрениях и художественной практике последних десятилетий
причудливо отразились противоречивые искания, творческие
победы и поражения западной интеллигенции. В них
сфокусировалась и непоследовательность понимания роли искусства в
общественной жизни, подмена диалектического подхода
крайними решениями, то абсолютизирующими социальный и
политический активизм искусства, то подчиняющими его жесткой
функциональной субординации — религии, морали или познанию
как таковым.
Между тем, как известно, марксистско-ленинская наука
рассматривает искусство как специфический способ духовного
освоения действительности, а художественную деятельность —
как активный фактор социальной борьбы и идейного,
нравственного и эстетического воспитания личности. Ленинский
принцип партийности искусства представляет собой высшую форму
социальной действенности художественного творчества,
раскрывающейся в методе социалистического реализма. По словам
А. Г. Егорова, «именно марксизм-ленинизм, применив
материалистическую диалектику к познанию эстетических явлений,
раскрывает величайшую силу духовного воздействия искусства на
людей, рассматривая его как форму могучего, всесильного
человеческого познания и революционного действия» К Искусство
как составной элемент революционного действия, новое
социалистическое искусство как важный компонент
коммунистического строительства — таков реальный итог
марксистско-ленинского понимания роли искусства в обществе.
Именно марксистский критический анализ динамики борьбы
идейно-художественных тенденций в рамках комплексных фе-
1 Е г о р о в А. Г. Проблемы эстетики. М., 1977, с. 15—16.
12
номенов контркультуры и «нового» консерватизма, на наш
взгляд, и позволяет противопоставить буржуазной теории
политического и культурно-эстетического «цикла» диалектическое
понимание закономерностей последовательного углубления
духовного кризиса буржуазного общества, его культуры и
искусства, а также выявить существенные черты эволюции
современной западной эстетической и общественно-политической
мысли, в частности — в предлагаемых ею решениях вопроса о роли
искусства в общественной жизни.
Своеобразие предпринимаемого нами исследования состоит в
попытке подвергнуть изучению не столько имманентное
развитие науки о прекрасном, сколько способы функционирования
искусства в обществе и системы его истолкования, получившие
распространение на Западе в 60—70-х годах. Свою главную
задачу мы видели в том, чтобы упрощенному и
схематизированному пониманию якобы «циклического» характера эволюции
современного художественного и общественно-политического
процесса на Западе в форме механического чередования
периодов контркультуры и «нового» консерватизма противопоставить
конкретный анализ борьбы прогрессивных и демократических
элементов против господствующей буржуазной культуры.
Еще в 1913 году В. И. Ленин писал: «В каждой национальной
культуре есть, хотя бы не развитые, элементы демократической
и социалистической культуры, ибо в каждой нации есть
трудящаяся и эксплуатируемая масса, условия жизни которой
неизбежно порождают идеологию демократическую и
социалистическую. Но в каждой нации есть также культура буржуазная (а
в большинстве случаев еще черносотенная и клерикальная) —
притом не в виде только «элементов», а в виде господствующей
культуры» х. Только ленинская теория двух культур позволяет
выявить реальную роль искусства в общественной жизни
современного Запада.
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 24, с. 120—121.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Эстетика контркультуры — проблемы и парадоксы
1. Искусство, политика и контркультура
Английский эстетик Гордон Грэхэм заметил недавно, что
«мнение, согласно которому искусство должно быть
политическим или даже всякое истинное искусство обязано быть
политическим, вряд ли покажется нам таким уж необычным»1.
Действительно, как мы уже говорили, сложным и органическим
взаимодействием общественных и культурно-художественных
тенденций в развитии современного мира объясняется, в
частности, то обстоятельство, что для уяснения проблем искусства
и эстетики оказывается обязательным выход в гораздо более
широкий культурно-политический контекст. Нужно сказать, что
объективно присущее современности изменение ракурса
художественного восприятия, расширение общественного и
политического горизонта видения явлений искусства приводит к острой
постановке вопросов, проблем, связанных с определением
адекватного синтеза политических и художественных явлений и
ведущих к неизбежному переосмыслению традиционных
буржуазных представлений 6 роли искусства в общественной
жизни. Одним из путей такого переосмысления в 60-х годах на
Западе и явился феномен контркультуры.
В интересующем нас аспекте принятие принципа
контркультуры определенными слоями западной молодежи и
интеллигенции в качестве личного идеала было связано с их растущей
неудовлетворенностью социальным функционированием не
только науки, но и культуры и искусства в условиях
враждебного им капитализма. На формирование контркультуры суще-
1 G г a h a m G. Art and Politics.— «The British Journal of
Aesthetics», Summer 1978, p. 228.
14
ственное влияние оказала и профессиональная ориентация
участников леворадикального протеста. Социальная динамика
западной художественной интеллигенции, кризис устоявшихся
форм духовной деятельности, распространение «массовой»
культуры и «массового» искусства и другие новые явления и
тенденции в развитии культуры и искусства Запада стали той
призмой, сквозь которую в протестующем сознании
преломились специфические социально-политические требования и
радикальная критика буржуазного общества.
Контркультура существует как в формах
стихийно-непосредственного сознания, так и в идеологизированных формах. К
выразителям идей контркультуры относят себя такие теоретики,
как Чарлз Рейч, Теодор Розак, Филип Слейтер и другие, хотя
фактически их круг гораздо шире и в той или иной степени
включает большинство идеологов леворадикального протеста. Но
едва ли не наиболее эффективным и массовым пропагандистом
и распространителем контркультуры явилось вдохновленное ее
идеями художественное творчество.
Одна из главных отличительных черт контркультуры —
резкая и отчасти меткая критика широкого комплекса негативных
явлений капиталистического мира. Главный объект критики с
контркультурных позиций — технократия, сциентизм,
потребительство, понимаемые как составные части «культурного
императива» буржуазии. Однако существенным недостатком и
ограниченностью этой критики у теоретиков контркультуры
является их склонность к абстрактному морализированию и
отсутствие конкретного социального анализа объективных противоречий
капиталистической действительности. Эта особенность миросо-
знания контркультуры, как мы увидим ниже, получила
специфическое воплощение и в формах художественного творчества
на Западе. Вместе с тем эта особенность — отнюдь не
«упущение» сторонников контркультуры, а результат их
принципиальной позиции, убеждения в том, что наиболее радикальные
преобразования сначала должны быть осуществлены в сознании
личности, в сфере культурных и духовно-эстетических
ценностей.
15
«Близится революция,— утверждает Ч. Рейч.— Она не будет
похожа на революции прошлого. Первоначально она произойдет
в индивиде и культуре и изменит политическую структуру
только в конце» К Контркультура требует от своих последователей
сознательного отказа от системы традиционных культурных
ценностей буржуазного образа жизни и замены их
контрценностями— свободой самовыражения, личной причастностью к
новому стилю жизни, установкой на ликвидацию репрессивных
моментов в человеческих взаимоотношениях, полным доверием
к спонтанным проявлениям чувств, фантазии, воображению,
«невербальным» способам общения.
«С трудом подвергающаяся точным определениям,
контркультура сделала своим главным мотивом требование
установления новых отношений между человеком и человеком, а также
нового отношения человека к самому себе» 2,— отмечают сами
сторонники контркультуры.
Особенностью контркультурного сознания протеста является
резкая, можно сказать, тотальная критика всей западной
культуры, независимо от наличия в ней различных тенденций и
направлений. Причем главным пунктом обвинения против
буржуазной цивилизации является здесь «разрыв» материальной и
духовной культуры, разделение труда на физический и
умственный. «Что такое буржуазная культура? — спрашивалось в одном
из уличных плакатов во время майских событий в Париже в
1968 году.— Это инструмент, с помощью которого правящие
классы разъединяют трудящиеся массы и деятелей культуры,
придавая последним привилегированный статус. Эта привилегия
оказывается для художника невидимой тюрьмой... Для
художника в этом качестве исключается возможность воздействовать
на социальную реальность, а его труд становится ирреальным» 3.
1 Reich Ch. The Greening of America. New York, 1970, p. 4.
2 В о s k i n J. and Rosenstone R. Protest and Radicalism:
An Overview.— In: Seasons of Rebellion. Ed. by J. Boskin and R.
Rosenstone. New York, 1972, p. 7.
3 Manifest! delta rivolta di maggio. A cura di A. Pancaldi. Roma,
1968, p. 14-15.
16
Аналогичные идеи были высказаны и Жан-Полем Сартром,
который, как известно, в конце 60-х годов примкнул к
движению протеста. «Когда-нибудь в будущем возникнет новая
культура, где люди станут одновременно и интеллектуалами и
рабочими» 1,— писал он, никак, впрочем, не конкретизируя свою
мысль.
Идейные источники и одновременно составные компоненты
контркультурного мироощущения эклектичны. Это —
традиционная леворадикальная идеология (в том числе анархизм),
некоторые концепции современной буржуазной философии
(например, экзистенциализм и особенно фрейдизм), а также
социологии (теории «единого постиндустриального общества»,
«конвергенции», «интеграции»), романтизм, традиции утопической
мысли, особым образом интерпретированная традиция
буржуазного просветительства и гуманизма (Руссо, Торо и другие),
элементы раннего христианства и восточных
религиозно-мистических учений. В произведениях и документах контркультуры
нередко предпринимается попытка, порой весьма субъективного
свойства, использования идей марксизма, причем односторонне
интерпретщюванных, знание которых зачастую почерпнуто «из
вторых рук», в толкованиях западных «марксологов» и
«неортодоксальных марксистов». Особо следует выделить роль и
значение в системе контркультуры различного рода авангардистских
социально-культурных и художественных идей, восходящих к
дадаизму, сюрреализму, а также ряду других западных
эстетических традиций.
Характерными особенностями современного радикализма и
авангардизма явились следующие: ориентация на спонтанное и
стихийное социальное действие, получающее преимущественно
эстетизированное обоснование, призыв к освобождению
бессознательных сил чувственности, фантазии, воображения как
социально-творческих способностей, ведущая роль
художественно-утопического сознания в общей структуре леворадикального
1 G a vi Ph., Sartre J. P., Vic to r^R'On тг гт«ей-4е se revol-
ter. Discussions. Paris, 1974, p. 71.
17
мироощущения, рассмотрение революционно-преобразующей
деятельности как самоценного эстетического феномена, социаль-
но-антропологизированная трактовка проблем искусства и
эстетики.
В своей совокупности указанные моменты предстали как
различные стороны некоторой общей идеологической и
культурно-эстетической структуры леворадикального мироощущения.
Они оказались обусловленными кардинальным
переосмыслением в рамках контркультуры проблемы места, роли и функций
искусства в общественной жизни.
Одним из наиболее точных выражений этой новой
постановки вопроса о связи искусства и политики может считаться
доклад прошедшего зигзагообразный путь от феноменологии до
ультралевого культурно-художественного экстремизма
французского эстетика Микеля Дюфрена на VII Международном
эстетическом конгрессе, озаглавленный им «Искусство и политика».
«Не существует ли политическая функция искусства, которая
не окажется консервативной? — задался вопросом этот
выразитель леворадикальных по л итико-эстетических воззрений.—
Быть может. Но тогда придется отказаться от взгляда на
политику и эстетику как на разграниченные области, сферы
действия, цели и средства которых совершенно различны: завоевание
власти, с одной стороны, создание шедевров — с другой.
Возможно, надо переориентировать установившуюся между ними связь
и, вместо того чтобы размышлять о том, как искусство может
быть революционным, спросить себя, как может революция
быть художественной... Необходимо пересмотреть понятие
искусства. Искусство, о котором мы говорим, должно само творить
свою революцию, не подчиняясь политическим запретам» '.
В этом программном тезисе как бы преломляются реальные
особенности контркультуры и всего леворадикального протеста
60-х годов, отличительными чертами которого были попытки
эстетизации политической деятельности, внесение в нее игрового,
1 Дюфрен М. Искусство и политика.— «Вопр. лит.», 1973,
N9 4, с. 108—109.
18
карнавального духа («То был сплошной карнавал» ],—
вспоминают сами участники леворадикальной конфронтации). Эта
черта была присуща контркультурному протесту чуть ли не с
момента его зарождения и была вызвана теснейшим
взаимопроникновением политических и художественно-эстетических форм
протеста. Особенно ярко эта черта проявилась в самом стиле
контркультуры, в экспрессивной форме «граффити», массового
художественного творчества, общей стихии праздничности.
Молодежно-студенческий протест со всей наглядностью
напомнил о том, что создание истории в процессе революционного
творчества есть также и эстетический феномен, подчиняющийся
законам созидания прекрасного. Эта закономерность
революционно-исторической деятельности была глубоко раскрыта
марксизмом, поставившим ее в общую связь законов социальной
действительности, познания и деятельности. «Марксизм, как
известно, предполагает рассмотрение исторического процесса, в
том числе и результата творческой деятельности социального
субъекта, что включает и эстетическое (чувственное)
измерение— рассмотрение политики как искусства, а формирования
революционного сознания — как выход за пределы данных,
реально существующих буржуазных отношений и ценностей,
проектирования новых общественных структур и культурных
форм» 2,— справедливо подчеркивает в связи с
рассматриваемыми вопросами Э. Я. Баталов.
Нужно сказать, что такие на первый взгляд парадоксальные
контркультурные лозунги, родившиеся в самой стихии
конфронтации и с восторгом «узнанные» идеологами левого
радикализма, увидевшими в них практическую реализацию своих
концептуальных схем, как: «Вся власть воображению!», «Рай —
немедленно!» или «Будьте реалистами — требуйте невозможного!»,
играли роль своего рода психологического стимула,
указывающего на самую тесную связь между историческим творчеством и
1 Kunen J. The Strawberry Statement. New York, 1968, p. 124.
2 Баталов Э. Я. Воображение и революция.— «Вопр. фи-
лос.», 1972, № 1, с. 75.
19
способностью воображения и эстетическими критериями
прекрасного. Конечно, никакое историческое свершение не может
быть сведено к произволу эстетической способности
воображения, однако политически истолкованная категория эстетики
может быть формой осознания реальной общественной
потребности. В мироощущении контркультуры как раз и оказалось
глубоко укорененным ценностное отношение к политической
конфронтации как к такой форме человеческой активности,
которая представляет собой эстетизированную самоцель.
Перманентность протеста в этом случае становилась как залогом его
успешности, так и самим стилем обыденного существования,
поднятого до уровня высшего исторического творчества и
одновременно — эстетического феномена.
Показательно, что сам леворадикальный протест часто легче
находил свое выражение на языке искусства, или по крайней
мере воплощал в нем свои заветные идеи. «Весьма любопытно,—
писал по этому поводу один из признанных идеологов
современного левого радикализма, Герберт Маркузе,— что это
движение имеет в качестве своих выразителей не традиционных
политиков, но, скорее, такие подозрительные фигуры, как
поэты, писатели и интеллектуалы» К
За всеми этими, можно сказать, «практическими»
особенностями радикального протеста прослеживается не просто и не
только специфика политико-эстетизированного
стихийно-непосредственного сознания ее сторонников в среде западной
молодежи и интеллигенции, но и вполне определенная теоретическая
схема, философско-эстетическая концепция контркультуры.
Сразу же отметим, что концепция эта особого рода, в
наибольшей степени воплощающая и даже доводящая до логического
предела описанную выше тенденцию к слиянию политики и
эстетики. Эстетика контркультуры — это прежде всего
социальная эстетика. На это характерное обстоятельство ряд
исследователей уже обратили внимание 2.
* Marcuse H. Five Lectures. Boston, 1970, p. 84.
2 См., например: ДавыдовЮ. Искусство в социальной
философии Г. Маркузе.—В кн.: Критика современной буржуазной
20
Иначе говоря, эстетика контркультуры — это такая эстетика,
которая не только предполагает органическую связь и
взаимообусловленность проблем искусства и общества, но в идеале
стремится к радикальным социальным и политическим
решениям, выступает как «антропологическая теория эмансипации
индивида» '.
Одна из важных особенностей эстетической концепции
контркультуры в том, что, с одной стороны, контуры ее
начинают оформляться уже со второй половины 50-х годов,
предварив распространение самой контркультуры, а с другой — ее
эволюция оказалась связанной с попытками теоретического
обоснования стихийного движения протеста, которое как для многих
его участников, так и его критиков казалось неожиданно
возникшим в 60-х годах (а в 70-х годах — столь же неожиданно
«исчерпавшим себя»). Систематической и единой философско-
эстетической концепции не оказалось к моменту подъема
леворадикального протеста, нет ее и сейчас. Мы имеем дело скорее
с конгломератом политических, философских и эстетических
идей, часто неоднородных, чем со всесторонне разработанной
теорией.
Да и сами левые радикалы, те, кого считают выразителями
эстетического кредо контркультуры, мало озабочены
обоснованием единой и последовательной концепции. Более того:
сумбурность социальной эстетики контркультуры, ее эклектичность
и внутренняя противоречивость — не просто и не только
временная «болезнь», вызванная недостатком теоретического
опыта. В этом случае она могла бы быть осознана идеологами
протеста как недостаток и ограниченность, как то, что требует пре-
социологии искусства. М., 1978; Филонова Л. Г. Социальная
эстетика Герберта Маркузе.— «Вестн. Моск. ун-та. Серия
философия», 1977, № 2; Филонова Л. Г. «Социально-критическая»
эстетика Герберта Маркузе.— В кн.: Современная буржуазная
эстетика, М., 1978.
1 См.: Шредер В. Антропологизация эстетики. Фантазия
и «новая чувственность» в эстетических позициях «Курсбуха».—
В кн.: Борьба идей в эстетике. М., 1974.
21
одоления в ходе идейно-художественного развития
контркультуры. Однако в действительности на протяжении 60—70-х годов
эклектический конгломерат политических, философских и
эстетических идей одного вида сменяется в рамках контркультуры
другим, на первый взгляд отличным, но на деле
характеризующимся теми же принципиальными погрешностями.
Существенное противоречие, свойственное леворадикальному
сознанию в целом и разрабатываемой в рамках контркультуры
социальной эстетике, связано, с одной стороны, с близостью к
непосредственным критическим эмоциям и ощущениям,
порождаемым самой капиталистической действительностью, и фикси-
рованностью этих умонастроений в качестве абсолютных
теоретических конструкций, а с другой стороны — с одновременным
тяготением к абстрактным схемам и выражению реальных
проблем современности на образном языке
художественно-мифологических символов. Теоретики контркультуры как будто
стремятся уйти от традиционных форм академической и
метафизической философско-эстетической спекуляции в мир
непосредственно-чувственных достоверностей, которые на деле
вырываются из контекста реального общественно-исторического и
культурно-духовного процесса и поэтому сами превращаются в
метафизические абстракты, некие глобальные
социально-эстетические категории.
Другая отличительная черта социальной эстетики
контркультуры в том, что в ее основу в качестве общефилософского
и общетеоретического принципа — сознательно или
неосознанно— положен антропологический принцип. При этом
антропологизм заимствуется не столько из обильно цитируемых ранних
произведений К. Маркса или таких его предшественников, как
Ш. Фурье или Л. Фейербах, сколько из учений представителей
антропологического подхода в современной буржуазной
философии и эстетике. Наибольшее влияние на формирование
эстетической концепции контркультуры оказал фрейдовский
антропологизм.
Кроме того, в современном западном
художественно-авангардистском сознании отчетливо прослеживаются руссоистско-нату-
22
ралистические мотивы. В частности, это проявляется в
абсолютизации руссоистской идеи отчуждения. «Это не просто
отчуждение определенных групп индивидов в обществе в силу
экономических причин, как учат некоторые течения в политической
мысли. Это отчуждение всех индивидов от предполагаемых
добродетелей природы, фактически — от Эдема или Рая на
земле; поэтому, например, когда «Ливинг-театр» провозглашает
стремление вернуться к Раю — немедленно, это, помимо
прочего, выглядит вполне в духе руссоизма» х.
В свое время ироничный Вольтер жестоко высмеял
«естественного человека» Руссо и «естественное состояние» — это
предполагаемое «счастливое детство человечества». Эхо этого смеха,
случается, звучит и сегодня в работах некоторых критиков
контркультуры и мешает им разобраться в действительных
проблемах, ее породивших. А ведь натуралистическая идея
человеческой «природы» нередко служит у левых радикалов
способом критики тотального господства отношений частной
собственности, стремящихся подчинить себе и внутренний мир
человека. В этом смысле натурализм контркультуры приобретает
антиманипулятивный аспект, становится обоснованием
надежды на то, что где-то «в глубине» человеческой «природы»
сохраняется неразложимое ядро, неподвластное социальной
манипуляции извне.
В то же время нельзя не признать, что натуралистический
и антропологический подход к анализу проблем общества и
искусства порождает следующее характерное для современного
леворадикального сознания противоречие: эстетизированныи
социально-личностный идеал контркультуры, с одной стороны,
имеет внеисторический и натуралистический характер, но, с
другой стороны, при критическом рассмотрении и описании
реального облика современного буржуазного индивида
(структуры его психики, системы этических и эстетических
потребностей, механизмов, действующих на уровне сознания и чувствен-
1 W e i g h t m a n J. The Concept of the Avant-Garde. London, 1973,
p. 70.
23
ности) вводятся некоторые элементы историзма, а сам он в
определенной мере расценивается как продукт
социально-исторической эволюции. В то же время социальная эволюция
превращается в трактовке контркультуры лишь в процесс
развертывания механизмов воздействия и подавления неизменной
человеческой «природы», истолкованной в антропологическом духе.
При этом сфера искусства и художественной фантазии
предстают в качестве единственного «царства свободы», достижение
которого вменяется в задачу радикальному социальному
освобождению.
Это эстетизированное «царство свободы» мыслится
контркультурой как бы существующим «вне времени». Представление
об общественно-историческом процессе несет на себе явные
черты милленаризма: от первобытного «золотого века» (который в
значительной мере служит прасимволом «нерепрессивной
цивилизации» будущего) через эпоху «репрессивной цивилизации»
история как будто приходит к «самоуничтожению» в
утопическом идеале слияния искусства и общества. Типичное для
контркультуры представление о грядущем «конце времени»
обусловлено внеисторическим способом описания ее
социально-личностного идеала, вступающего в противоречие с элементами
историзма в критическом разделе ее социальной эстетики.
Данным обстоятельством объясняется, в частности, и такое
парадоксальное представление контркультуры, как тезис о
«невротическом характере истории»1. Проблема социального
времени существует для контркультуры как проблема транс-
цендирования истории средствами художественной фантазии и
последующего реального выхода за пределы временных
последовательностей при достижении обществом новой качественной
ступени свободы. Контркультурный утопизм усваивает
типичную хилиастическую структуру: «царство свободы» знаменует
собой «конец истории» и достижение вневременного идеала
прекрасного, который в свою очередь приобретает некоторую гедо-
1 См.: Brown N. Life Against Death. The Psychoanalytical
Meaning of History. Middletown, 1959.
24
нистическую окраску. Для контркультуры также характерно
представление о пластичности социального времени и
возможности приблизить его «конец» в результате формирования
«нового исторического субъекта», обладающего принципиально иной
структурой чувственно-эстетических потребностей *.
В эстетике контркультуры абстрактный и внеисторический
идеал искусства как «царства свободы» становится критерием
оценки как реального общественно-исторического процесса, так
и конкретных произведений культуры и искусства. С одной
стороны, это обстоятельство обусловливает невнимание, а
зачастую и полное игнорирование действительных завоеваний
социалистического общества и социалистической культуры как
конкретно-исторических этапов общественного и духовного
развития человечества. С другой стороны, из полагания в качестве
социально-личностного идеала некоего антропологизированного
абстракта вытекает и свойственная социальной эстетике
контркультуры моралистическая установка, накладывающая свой
отпечаток на ее понимание вопроса о роли искусства в
общественной жизни.
В значительной мере социальная эстетика контркультуры
строится как теория отчуждения эстетических способностей
индивида в условиях «репрессивной цивилизации», как теория
генезиса социально-политических и социально-психологических
механизмов, господствующих и подавляющих
антропологическое «естество» человека. Сама же «природа» человека
наделяется здесь неким изначальным аксиологическим нравственно-
эстетическим содержанием, предстает в качестве эстетизирован-
ного идеала, формулируемого как некоторое долженствование,
как предустановленная ценность. В отличие от марксистского
понимания проблемы социального идеала контркультура
склонна в большей степени постулировать его в качестве
эстетического императива, чем выводить из анализа реальных противоре-
1 См.: М а г с u s e H. Re-examination of the Concept of
Revolution.—In: All We Are Saying... The Philosophy of the New Left. Ed. by
A. Lothstein. New York, 1970.
25
чий капиталистического общества. В этом смысле социальный
и философско-эстетический идеал контркультуры
противоречит его диалектико-материалистическому пониманию в
марксизме.
Над характерным для контркультурной эстетической
концепции представлением о социально-личностном идеале далее
надстраивается как бы ее «второй уровень» — критический
раздел, в котором предпринимается попытка критического
описания реальности современного капиталистического общества и
его культуры. Хотя критика эта объективно порождается
самими противоречиями современного капитализма, как только от
конкретных зарисовок, порой вполне верных и ярких, делается
шаг в направлении теории, критика отрывается от
действительных общественных отношений, а ее «масштабом» становится
всеобщий антропологический идеал.
На критико-описательном уровне социальная эстетика
контркультуры строится как «критическая теория общества».
Антропологические постулаты, лежащие в ее основе, приводят к тому,
что эта эстетическая концепция претендует на роль доктрины
освобождения человеческой «природы» от всех
социально-предметных «наслоений», очищения человеческой чувственности от
ее общественно-исторических определений. Как отмечают
американские авторы, камнем преткновения для контркультуры
становится уже не столько борьба правых и левых тенденций
в общественной и культурной жизни, сколько борьба между
«гнетом внешнего мира и стремлением к внутреннему
освобождению» '.
Концептуальная невооруженность и теоретическая
противоречивость эстетики контркультуры объясняют свойственные ей
акценты на сугубо эмоциональное, чувственное неприятие
буржуазного общества. Отсюда предпочтение, оказываемое
контркультурой образно-беллетристическому, а не дискурсивно-по-
1 By Any Means Necessary. Outlaw Manifestos and Ephemera
1965—70. Ed. by P. Stansill and D. Mairowitz, Harmondsworth, 1971,
p. 13.
26
нятийному стилю мышления, а также широкое использование
образов и метафор вместо научных понятий и концепций.
И хотя порой в социальной эстетике левых радикалов
встречаются сугубо спекулятивные моменты, они, скорее, являются
оборотной стороной образно-метафорического мышления и
имеют ярко выраженный мифотворческий характер. О характерном
для контркультуры противоречии между чувственным образом
и спекулятивным мифом можно судить по трактовке такого
специфического для ее эстетики понятия, как «репрессия».
С одной стороны, как и в традиционном психоанализе, в
эстетике контркультуры принцип психологической репрессии,
насилия над чувственной природой человека выступает в
качестве механизма порождения отчужденного искусства,
подавляющего природные влечения индивида и направляющего их в
иллюзорное русло художественного образа. Но наряду с этим
понятие репрессии понимается контркультурой и как
обобщенная характеристика социальной структуры как таковой в ее
отношении к отчужденному индивиду. В этом понимании оно
и вошло в сознание молодежного протеста 60-х годов. Поэтому
в широком смысле понятие репрессии фиксирует один из
реальных аспектов противоречивого взаимоотношения между
индивидом и обществом в условиях антагонистической формации.
Однако психоаналитическая трактовка этого понятия, к которой
широко прибегают теоретики контркультуры, связана с тем,
что абстрактное истолкование якобы пагубной для индивида
зависимости человеческих чувственно-эстетических
способностей от социально-предметных отношений превращается в некую
обобщенную внеисторическую характеристику психики
общественного человека.
Эта же особенность эстетики контркультуры отчетливо
проявляется в ее трактовке таких эстетических категорий, как
фантазия и воображение, которые приобретают ярко
выраженный социально-антропологический характер и выступают в
качестве символов и одновременно механизмов политического
освобождения. Художественная фантазия здесь оказывается не
только способом описания социального идеала контркультуры,
27
но и как бы реальностью его осуществления. При этом
неподвластной социальной манипуляции сферой выступает уже не
самосознание индивида, как это было в ряде идеалистических
философско-эстетических учений современности, а
архаическая структура его чувственности. Формирование «новой
чувственности» в смысле возврата к романтическому идеалу
первичных чувственно-эстетических потребностей, извращенных
цивилизацией, выступает в качестве политической цели
контркультуры.
У выразителей идей контркультуры, в наибольшей степени
склонных к теоретическим обобщениям, эстетика
абсолютизируется в рамках социально-философской системы и
эстетические категории становятся конституирующим элементом
политического видения мира. Художественный образ и метафора,
таким образом, оказываются центральными компонентами
политико-эстетической утопии контркультуры, наиболее развернутый
и разработанный вариант которой предложил Г. Маркузе.
2. «Новая чувственность» и художественнная фантазия
На страницах «Эроса и цивилизации» Маркузе (1955)
—книги, оказавшей значительное влияние на формирование
социальной эстетики контркультуры и предвосхитившей многие
сокровенные мотивы леворадикальной мысли,— постоянно
встречаются мифологические образы Орфея (Нарцисса, Диониса), с
одной стороны, и Прометея (Гермеса, Аполлона) —с другой.
В структуре авторской мысли, которая отличается нестрогим,
парадоксально-беллетристическим стилем рассуждений и
обильным использованием художественных образов и метафор, они
выступают как обобщенные экзистенциальные символы, типы
отношения к реальности, противоположные способы
человеческого существования.
Уже отсюда видна та специфическая методологическая
операция, которую позднее Маркузе будет неоднократно совершать:
вначале идеолог левых радикалов искусственно сужает значе-
28
ние той или иной эстетической категории и придает ей
субъективно-идеалистический смысл, чтобы позднее, указав на
очевидную неадекватность такой ее трактовки, столь же
искусственно расширить ее значение вплоть до
объективно-идеалистических масштабов метафизического принципа становления
бытия. В то же время, на словах протестуя против
узкоакадемического истолкования категорий эстетики, Маркузе на деле
ограничивает все свои рассуждения феноменологическо-де-
скриптивным, художественно-описательным методом,
исключающим действенный анализ современного художественного
процесса.
Прометей — это символ продуктивности, господства над
природными силами, это человек разума, навыка и умения, экстра-
вертная личность, «герой» западноевропейской цивилизации.
Орфей — во всем антагонист Прометею. Это певец любви и
красоты, интравертная личность, эмоциональная душа. Орфей
символизирует «эстетизм как жизненный принцип» — мир,
красоту, свободу наслаждения, остановку времени, тишину, молчание,
ночь, рай, нирвану. «Орфей... не стал героем западной
культуры— его образ символизирует игру и удовлетворение, он поет,
а не приказывает, его жест великодушен, его деяние — мир, а
не ратный труд, он существует вне времени, сближая человека
с богом и природой» 1. Прометей символизирует собой
деятельный разум, принуждение и тяжкий труд. Орфей — чувственно-
эстетическое единение с природой, любование ею, аффективное
и эмоциональное существование. По сравнению с Прометеем
образ Орфея нереален, фантастичен и чужд западной культуре.
В этом противопоставлении сказывается характерное для
эстетики контркультуры стремление перевести вопрос о типологии
личности и всей западной культуры в плоскость произвольных,
нестрогих, нарочито расплывчатых характеристик. Правда, и
Прометей и Орфей ассоциируются у Маркузе и других
теоретиков протеста с достаточно конкретными и современными
человеческими типами, противоположными социальными
субъектами. Так, А. Клэр пишет, что «современные наследники Проме-
1 Marcuse H. Eros and Civilization. London, 1950, p. 162.
29
тея — это технократы»1. С другой стороны, Орфей отчетливо
идентифицируется с социально-психологическим типом
протестующей личности, со сторонниками контркультуры: «Орфико-
нарциссические образы несут в себе символ Великого Отказа» 2.
В этих художественно-мифологических образах оказались
настолько выразительно оформлены общие настроения и
интуиции протестующей молодежи и интеллигенции Запада, что
ценностное противопоставление этих символов глубоко укоренилось
в контркультуре. С одной стороны, они претерпели некоторую
политическую конкретизацию, в результате чего возник и
оформился символически-обобщенный портрет «врага» и
личностный идеал движения протеста. С другой стороны, эти же
образы оказались обобщенными до противоположных типов
культур, разновидностей цивилизаций. Прометей выступил как
архетип «репрессивной цивилизации» — общества, основывающегося
на тяжелом принудительном труде, ограничении и подавлении
своих «природных» влечений во имя интересов производства.
При этом в рубрику «репрессивной цивилизации» оказались
включенными все индустриально развитые страны, независимо
от их экономических и социально-политических систем.
Прометей превратился в лишенный исторических черт символ
трудовой деятельности, предметной активности, преодолевающей
внешние препятствия, причем предполагалось, что творческий
характер труда как развертывания сущностных сил человека
в этих условиях не имеет места.
В то же время выяснилось, что утопическому идеалу
общественного устройства, как он формулировался в системе политико-
эстетических идей контркультуры, были присущи многие черты
описанного Маркузе «телоса Орфея». Идеал «нерепрессивной
цивилизации», в основу которого Маркузе положил «свободную
орфическую чувственность», стал составной частью социальной
эстетики контркультуры. Левомолодежное сознание ассимилиро-
1 Clair A. Une philosophie de la nature. — «Esprit», 1969, Janv.,
p. 65.
2 Marcuscll. Eros and Civilization, p. 170.
30
вало художественно-мифологическую схему, согласно которой
«прометеевская культура» создается в результате подавления
человеческой чувственно-эстетической «природы», в
противоположность чему орфический, пост-прометеёвский мир строится
на основе свободного удовлетворения всех
чувственно-эстетических влечений, иначе говоря, на основе десублимации культуры
и искусства. «Орфизм», предполагающий свободное проявление
всех чувственных и эстетических способностей индивида, не
опосредованных «иллюзорным» художественным творчеством,
становится в социальной эстетике контркультуры и
воспоминанием о некоем ушедшем в прошлое «золотом веке» и идеалом
будущего.
Рассмотренный под этим углом зрения мировой культурно-
духовный процесс получает идеалистическую и
антиисторическую трактовку. По сути дела, история культуры сводится к
противоборству двух абстрактных сил — прометеевского разума и
орфической чувственности, сегодня на Западе представленных
соответственно культурой истеблишмента и контркультурой
молодежной оппозиции. В то же время нужно признать, что в
основе этой схемы лежит определенный факт, коренящийся в
природе отчужденного труда: культурно-художественное
творчество (как и труд вообще) в условиях антагонистической
формации предполагает подчинение инстинктивных проявлений и
спонтанных реакций индивида функциональным нормативам,
обусловливающим фундаментальный организационный принцип
капиталистического производства. В искаженной форме эта
подчиненность и воспринимается сознанием протеста как
господство деспотизма рациональности (производственного
рационализма и рационализма досуга) над чувственностью индивида,
или Прометея над Орфеем.
Как видно, уже у истоков политико-эстетической утопии
контркультуры обнаруживается антиномия труда и
удовольствия, которая лежит в основании философской,
социологической и эстетической концепции современного левого радикализма.
При этом труд оказывается сугубо садистским началом, а
удовольствие мыслится лишь как результат бесцельной игровой
31
деятельности, аналогом которой является искусство. Тем самым
контркультура фиксирует универсальную ситуацию
отчуждения, обусловленную изначальным разделением труда в условиях
капитализма, однако не может дать ей научного объяснения.
Маркузе, например, пытается разрешить антиномию труда и
удовольствия путем иллюзорного «поглощения» ее первого
члена вторым, в результате чего все его политические надежды
концентрируются на идее «растворения» искусства — то есть
удовольствия — в жизни. «Эстетической» реальностью,— пишет
Маркузе,— стало бы общество как произведение искусства.
Сегодня эта величайшая утопия — радикальнейшая возможность
освобождения» К После Марксова анализа процесса отчуждения
это безусловный шаг назад.
Характерной чертой социальной эстетики контркультуры
является нормативно-оценочное отношение к чувственности
индивида как к единственно «подлинному» и «истинному» в
нем. Проблема чувственности здесь имеет мало общего с ее
традиционной гносеологической интерпретацией. Чувственность
понимается как практическая эстетическая способность, как
стихия страстей и эмоций, прорывающихся в мир политики.
Во-первых, чувственность индивида расценивается как важный
политический фактор: «Новая чувственность есть медиум, в
котором изменение общества становится индивидуальной
потребностью» 2; «новая чувственность становится политическим
фактором»3. Во-вторых, чувственность понимается как
эстетический феномен, реализующийся в политической деятельности,
подчиняющейся «законам красоты». В этом смысле и образ
Орфея приобретает политико-эстетическую окраску и одновременно
становится символом десублимированного искусства,
растворенного в жизни и являющегося продуктом свободной игры
человеческой чувственности. В поисках теоретического обоснования
такой трактовки чувственности идеологи контркультуры обра-
1 Цит. по: Борьба идей в эстетике, с. 241.
2 Marc use H. Counterrevolution and Revolt. Boston, 1972, p. 59.
3 Marcuse H. An Essay on Liberation. Boston, 1969, p. 23.
32
щаются к психоаналитической концепции культуры и
искусства.
Орфическую и прометеевскую структуры человеческой
психики эстетика контркультуры, следуя фрейдизму, соотносит
с областями бессознательного и сознательного. Используя эти
обозначения, сознание протеста истолковывает эмансипацию
чувственно-эстетических способностей индивида как
уничтожение социальных институтов «Сверх-Я» и уничтожение гегемонии
«Я» над «Оно» в психике отдельного индивида. С этой точки
зрения освобождение выступает как «свобода от», как
неподчинение, независимость от сковывающих чувственность
репрессивных ограничений разума, культуры и социальности вообще,
то есть выражает сугубо негативный аспект свободы.
Необходимо, правда, учитывать то обстоятельство, что на
языке конкретного леворадикального протеста «освобождение
от социальности» часто подразумевало общую критику
капитализма, стремление освободиться от вполне определенных
социальных отношений буржуазной цивилизации и заменить их
новыми, «нерепрессивными». И хотя идеал «нерепрессивной
культуры» не мог не быть расплывчатым и абстрактным,
связанная с ним критика капитализма имела немалое значение.
Нельзя не признать, что в результате контркультуре удалось
сформулировать немало вполне обоснованных обвинений
капитализму как обществу, подавляющему свободу индивида и
сводящему роль культуры и искусства к сугубо функциональному
поддержанию общественного порядка и стабильности.
Другое дело, что психоаналитические ходы мысли, четко
обозначившиеся в эстетике контркультуры, нередко направляли эту
критику по ложному адресу. Нетрудно убедиться, что
психоаналитическая концепция культуры и искусства \ в целом
заимствованная (впрочем, не без специфической редакции)
контркультурой, в конечном счете воспрепятствовала реализации
1 См.: Афасижев М. Н. Фрейдизм и американская
культура.— В кн.: Современная эстетика США. М., 1978.
2 Зак. № 62
33
изначально содержавшегося в последней радикального
критического импульса.
Строго говоря, речь в данном случае идет не столько об
ортодоксальном психоанализе с его «расшифровкой» произведения
искусства как формы изживания сексуальных комплексов,
сколько о некоторых современных леворадикальных
интерпретациях фрейдизма. Камнем преткновения здесь является
изначальная двойственность в учении Фрейда — противопоставление
внутри психоанализа медицинской психотерапии и общей
теории культуры. Сам Фрейд писал, что «медицина не может
претендовать на монополию в психоанализе; с недавнего времени
он делает все возможное, чтобы уничтожить эту монополию» '.
И действительно, популярность психоанализа на Западе росла
пропорционально его отходу от своих первоначальных
медицинских задач. Интерес к фрейдизму особенно увеличивается
после второй мировой войны и растет вплоть до 60-х годов,
когда, по словам Р. Кинга, он превращается в «эрзацрелигию»
западной интеллигенции и по популярности напоминает моду на
«Закат Европы» пссле первой мировой войны г.
В этот период появляются разнообразные интерпретации
фрейдовской теории культуры и искусства, которые все были
так или иначе связаны с изначальной двойственностью в
методике и теории психоанализа. Дело в том, что, с одной стороны,
терапевтическая задача психоанализа сводится к лечению
невротических расстройств в психике индивида, чтобы он мог
продолжать функционировать как «здоровый» элемент
общественной системы. С другой стороны, в метапсихологии Фрейда
невроз получает объяснение не как функциональное заболевание,
обусловленное случайными причинами в раннем детстве, а как
закономерное следствие подавления первичных внесоциальных
чувственных влечений человека в условиях «репрессивной»
культуры.
1 Цит. по: Psychoanalysis and Contemporary American Culture.
Ed. by H. Ruitenbeek. New York, 1964, p. 3.
2 К i n g R. The Party of Eros. University of North Carolina, 1972,
p. 44.
34
Как известно, цензорскую функцию культуры Фрейд считал
единственным карантином против разгула деструктивных
первобытных инстинктов. Однако — и в этом по крайней мере
правы леворадикальные интерпретаторы Фрейда — из фрейдовского
рассуждения логично вытекают два противоположных вывода.
С одной стороны, можно предположить, что с репрессивным
характером культуры следует примириться как с неизбежным
злом, чтобы не быть ввергнутыми в царство разнузданных
животных вожделений. Но, с другой стороны, также можно
предположить, что требуется не лечение индивидуальных
неврозов, а уничтожение общих причин, ведущих к ним, то есть
репрессивной организации инстинктов цивилизацией.
Уже сам Фрейд до известной степени сознавал
двусмысленность противопоставления в рамках психоаналитической теории
методов психотерапии и общей концепции культуры. «Если
развитие культуры имеет столь далеко идущее сходство с
развитием отдельного человека и применяет те же средства, не
вправе ли мы поставить следующий диагноз, что многие культуры,
или культурные эпохи,— возможно, и все человечество, стали
под влиянием культурных устремлений «невротическими»?» 1 —
задавался вопросом Фрейд. Однако тема «невротической»
культуры не получила у него дальнейшей разработки и в целом
осталась на уровне высказанного сомнения.
Для большинства неофрейдистов представление о неврозе
как раз и ассоциируется с индивидуальным психическим
расстройством, символическое изживание которого достигается в
искусстве, художественном творчестве. «Если термин «невроз»
будет ошибочно применяться для характеристики социальной
структуры,— предупреждает И. Карузо,— результатом могут
быть не только туманные аналогии, но и подчинение
адекватного социального действия гигиеническим коррективам»2. Что
1 Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой.— Избранное,
т. 1. Лондон, 1969, с. 329.
2 Caruso I. How Social Is Psychoanalysis? — In: Psychoanalysis
and Contemporary American Culture, p. 270.
2*
35
же касается проблемы «невротической» культуры в ее
противопоставлении индивидуальной психопатологии, то ее детальной
разработкой занялся по преимуществу так называемый «левый»
фрейдизм '.
Ревизия «левыми» фрейдистами —- Вильгельмом Райхом и
Реймутом Райхом, Гербертом Маркузе, Норманом Брауном,
Бернаром Мюльдорфом и другими — психоаналитической
концепции свелась к вульгаризации теории либидо и
происхождения неврозов, с одной стороны, и к эклектической, а потому
бесплодной, попытке добавления психоаналитического «измерения»
в марксизм. Современные левые фрейдисты (как и их
предтеча — В. Ра их) выдвинули так называемую «генитальную теорию
невроза», согласно которой невротическое расстройство
является исключительно результатом той или иной формы прямой
сексуальной репрессии.
«Подавление сексуальности,— писал В. Райх,— ослабляет
умственные и эмоциональные способности человека, в частности
лишает его независимости, силы воли и способности к
критике» 2. Соответственно с этим все надежды оказались
возложенными на «сексуальную революцию». Аналогичная
вульгаризация была осуществлена левыми фрейдистами и в стношении
проблемы искусства и художественного творчества и их роли
в обществе: искусство было объявлено ими не символическим
(как у Фрейда) замещением инстинктивных влечений, а их
прямым порождением. «Искусство теснейшим образом связано
с центральной проблемой жизненной субстанции, с оргазмом.
Обычно об этом не говорят или, наоборот, высказывают резкое
несогласие, когда делается попытка высокое искусство соеди-
1 См.: Мяло К. Г. Левый фрейдизм и современная
леворадикальная идеология.— «Вопр. филос.», 1976, N° 8; Лей-
бин В. М. Психоанализ и философия неофрейдизма. М., 1977;
К л е м а н К. Б., Б р ю н о П., С э в Л. Марксистская критика
психоанализа. М., 1976; а также Robinson P. The Freudian Left
Wilhelm Reich, Geza Roheim, Herbert Marcuse. New York, 1969.
2 Reich W. The Sexual Revolution. New York, 1970, p. 78.
36
нить с такой «низкой» областью, как половая жизнь» ',—
утверждал тот же В. Райх.
Хотя основные идеи левого фрейдизма были
сформулированы еще в 30-х годах, их подлинно «вторая жизнь» оказалась
связанной с контркультурой 60-х годов: «Работы, в которых
предпринимались попытки охарактеризовать контркультуру —
Т. Розак «Создание контркультуры», Ф. Слейтер «Поиски
одиночества» и Ч. Рейч «Зеленеющая Америка» — вряд ли могли быть
написаны без теоретических основ, заложенных Гудменом,
Маркузе и Брауном» 2.
Влияние заимствованных фрейдистских компонентов
приводит в эстетике контркультуры к тому, что
социально-историческая детерминация искусства и форм художественного
творчества изображается как извращение и искажение некой
подлинной чувственно-эстетической природы человека. Поэтому
исследование «противоестественного» с этой точки зрения,
социально-отчужденного содержания психологии
художественного творчества становится разнозначным изучению того,
насколько репрессивной цивилизации удалось исковеркать и
переиначить психику «естественного человека», «прирожденного
художника» — Орфея.
Такого рода натуралистический редукционизм свойствен не
только эстетике контркультуры, но и всему современному
леворадикальному сознанию. Вместе с тем натурализация
человеческой природы и противопоставление чувственности индивида
его духовно-рациональным способностям возникает в
социальной эстетике контркультуры не случайно: в идеалистической и
метафизической форме здесь отражаются факты, которые были
глубоко осмыслены Марксом в категориях отчужденного
художественного творчества и шире — в категориях эксплуатации и
отчуждения всей трудовой деятельности.
В частности, Маркс показал механизм «натурализации» чело-
1 Цит. по: Письмо С. М. Эйзенштейна Вильгельму Райху.—
«Социологические исследования», 1977, № 1, с. 180.
2 К i n g R. The Party of Eros, p. 178.
37
веческой природы на примере отчуждения труда рабочего в
условиях капитализма. Маркс описывает отчужденный труд как
форму внешней, вынужденной деятельности, не принадлежащей
сущности человека, служащей не удовлетворению потребности
в труде, а являющейся средством удовлетворения иных —
«естественных» — потребностей человеческого организма.
Вследствие этого человек только вне труда чувствует себя самим
собой, а в процессе общественного труда он чувствует себя
оторванным от своей собственной человеческой сущности. «В
результате получается такое положение, что человек (рабочий)
чувствует себя свободно действующим только при выполнении
своих животных функций — при еде, питье, в половом акте, в
лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая
себя и т. д.,— а в своих человеческих функциях он чувствует
себя только лишь животным. То, что присуще животному,
становится уделом человека, а человеческое превращается в то, что
присуще животному» К
Чувственно-инстинктивные проявления человеческого
организма начинают восприниматься в этом случае как родовая
сущность человека, а его подлинная деятельно-трудовая
сущность и целесообразная деятельность вообще, выступающие
в условиях антагонистической формации в односторонней
форме отчужденного труда, воспринимаются как чуждая человеку
сущность, как простое средство для поддержания его
индивидуального существования, понятого чисто физиологически.
Поскольку же человеческая чувственность ощущается и
истолковывается как родовая сущность человека и единственная сфера
свободы, сам процесс отчуждения труда непосредственно
воспринимается в искаженной форме — в форме отчуждения
чувственной природы человека в процессе ее подчинения вынужденному
и навязанному извне труду.
Нетрудно убедиться, что эта же искаженная идеологическая
схема отчуждения человеческой чувственности в процессе тру-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М.,
1956, с. 564.
38
довой и культурно-художественной деятельности присутствует
и в социальной эстетике контркультуры, в которой
мифологические образы Прометея и Орфея символизируют не только
определенные личностные типы, но и этапы развития
человеческой культуры от непосредственного
чувственно-эстетического наслаждения к отчужденной трудовой деятельности. В
терминологии фрейдизма отчуждение чувственности
истолковывается как переход от «принципа удовольствия» к «принципу
реальности», или, как уточняет Маркузе:
«От: к:
немедленного удовлетворения задержанному удовлетворению
удовольствия подавлению удовольствия
радости (игры) труду (работе)
восприимчивости продуктивности
отсутствия репрессии безопасности» '.
Хотя схема эта никак не может быть принята за научное
объяснение логики культурно-исторического процесса, тем не
менее определения, даваемые Прометею, являются косвенным
выражением стихийно-непосредственного переживания
действительного практического отношения человека к самому себе и
окружающему его миру. Схема фило- и онтогенеза Фрейда —
Маркузе как перехода от Орфея («принципа удовольствия»)
к Прометею («принципу реальности») неприемлема в целом,
однако она в той или иной степени содержит указание на
реальный факт зависимости человеческой чувственности от
социально-предметных отношений.
Есть группа реальностей, попавших в поле зрения Маркса,
которые позднее не мог не признать Фрейд,— связь
человеческих чувственно-эстетических способностей и
социально-предметной деятельности, а также непосредственно переживаемый
факт отчуждения человеческой чувственности в процессе
вынужденного труда при капитализме. Для Маркса отчуждение
1 MarcuseH. Eros and Civilization, p. 12.
39
чувственности является одним из аспектов исторического
процесса отчуждения*, обусловленного определенными условиями
производства в антагонистической формации. Марксизм не
только анализирует причины отчуждения чувственности,
связанные с отношениями частной собственности, но и указывает
конкретный путь ликвидации этого состояния: «...Упразднение
частной собственности означает полную эмансипацию всех
человеческих чувств и свойств» К
В отличие от Маркса фрейдизм избегает категорий
социального анализа. Если для Маркса противоречие между
индивидом и обществом неразрешимо в рамках
исторически-определенной капиталистической формации, тогда как в ходе
социалистического преобразования общества и создания
социалистической культуры и искусства создаются предпосылки для
ликвидации этого противоречия и гармонического развития
личности, то фрейдизм абсолютизирует репрессивный характер
культуры кац таковой и придает внеисторический смысл этому
противоречию, с Культура вообще построена на отказе от
первичных позывов» 2,— заявляет Фрейд.
Причина коренной неудовлетворительности этой фрейдовской
теории культуры и искусства — в экстраполяции ситуации
отчуждения на культуру и искусство как таковые. Отсюда
вытекает и широко известный ригоризм психоаналитической
концепции. «Следовало бы ожидать, что постепенно в нашей
культуре произойдут такие изменения, которые позволят лучшее
удовлетворение наших потребностей и снимут необходимость в
ее критике,— пишет Фрейд.— Но следовало бы также
свыкнуться с мыслью, что есть трудности, присущие самой природе
культуры и неснимаемые никакими попытками реформ»3. Отвергая
«принцип удовольствия» как деструктивный в социальном
отношении фактор, Фрейд требует отказа от десублимированно-
го — то есть не опосредованного художественно-культурным
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений,с.592.
2 Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой, с. 288.
3 Там же, с. 303—304.
40
символом — удовлетворения чувственных влечений во имя
общественно полезного труда. В то же время для самого Фрейда
этот отказ принимает трагическую окраску и становится
источником его глубокого пессимизма. Действие «принципа
удовольствия», согласно фрейдизму, сохраняется лишь в
бессознательных глубинах человеческой психики и там, где присзггствуют
элементы игры и субъективного эстетического произвола,
прежде всего — в снах, мечтаниях, искусстве, художественной
фантазии и воображении.
Таким образом, Орфей как реальный человеческий тип, в
действительной жизни руководствующийся «принципом
удовольствия» и первичными чувственно-эстетическими
влечениями, с точки зрения ортодоксального психоанализа должен быть
расценен как невротик. Как реальная социальная форма
орфическое существование представляет угрозу для человеческого
рода, а орфическое искусство несет предупреждение о гибельных
последствиях необузданного царства инстинктов — такова
позиция Фрейда. Иного взгляда придерживаются «левые»
фрейдисты, до этого пункта разделявшие взгляды основателя
психоанализа. Орфей, идеал которого избрала себе контркультура,
интериоризирует невротическую схему отношения к
репрессивной социальности и становится субъектом «Великого Отказа»,
основывающегося на чувственно-эстетическом неприятии
любых форм социального господства и принуждения и абсолютном
доверии к велениям фантазии и воображения, до той поры
принадлежавшим лишь сфере искусства.
Таким образом, эстетика контркультуры использует
фрейдовскую схему формирования невроза, но с противоположным
ценностным знаком. Например, согласно Маркузе, возрождение
орфико-эстетической чувственности как индивидуального
феномена является невротическим симптомом — в этом он
солидарен с Фрейдом. Однако предполагается, что как явление
социального масштаба воскрешение орфического либидо может
привести к самосублимации чувственных влечений в социально-
приемлемых формах и созданию нерепрессивной десублимиро-
ванной культуры. Путем, ведущим к этому идиллическому
41
состоянию, объявлено формирование «новой чувственности» и
полное доверие к художественной фантазии.
Абсолютизировав проблему репрессивной манипуляции
человеческим сознанием в современном буржуазном обществе и
противопоставляя ему лишь спонтанность
чувственно-эстетической фантазии и воображения, Маркузе вынужден и само
сознание рассматривать как разрушительный фактор по
отношению к якобы существовавшему некогда психическому
единству человеческой «природы». Если Фрейдом сознание
трактовалось как относительно самостоятельная арена борьбы «Оно»
и «Сверх-Я», то для Маркузе вся сфера сознания все в
большей степени приобретает черты официально
санкционированного придатка «Сверх-Я», всецело подчиненного «принципу
реальности».
Изменение функциональных отношений между
структурными элементами человеческой психики Маркузе связывает с
вторжением «принципа реальности» в сферу «принципа
удовольствия», проникновением рационально организованного и
манипулируемого сознания туда, где раньше как будто бы
безраздельно господствовали бессознательные чувственные
влечения. Согласно Маркузе, эти изменения связаны с превращением
«свободного» капитализма в «организованный». Цель
«репрессивной сублимации счастья» состоит в том, чтобы исключить все
остатки бессознательных побуждений даже там, где они
касаются чувственного удовольствия — традиционного оплота «Оно»,
место которого занимает «рациональная» организация
человеческого отдыха и наслаждения — «Я-удовольствия».
Репрессивные механизмы цивилизации распространяются на ранее
остававшиеся суверенными области психики: «прогресс»
цивилизации теперь выражается не в переходе от бессознательного к
сознанию, а в придании самому сознанию черт
бессознательного автоматизма.
Одним из наиболее характерных проявлений этой
закономерности культурно-духовного развития современного
капитализма с этой точки зрения может служить феномен так
называемой «массовой» культуры и «массового» искусства. Если
42
прежнее «высокое» искусство было косвенным выражением,
«зашифровкой» бессознательных чувственных влечений
художника, то нынешнее буржуазное «массовое» искусство
представляет собой сознательную, «рациональную» манипуляцию
потаенными чувствами аудитории, цель которой — направить их в
заранее определенное русло, лишить «взрывного», опасного для
общества потенциала.
Однако «массовая» культура и искусство несут, согласно
политико-эстетической концепции контркультуры, и другую,
гораздо большую опасность. И здесь теоретикам контркультуры
приходится воспроизводить такие ходы мысли, которые
однозначно диктуются им заимствованными фрейдистскими
элементами. Дело в том, что, согласно психоаналитической доктрине,
наряду с врожденной сексуальностью человеческая культура
вынуждена преобразовать и канализировать второе
бессознательное влечение — инстинкт смерти — Танатос. В процессе
социализации Танатоса влечение к саморазрушению
преобразуется в экстраецированную агрессивность, являющуюся
причиной войн, насилий, преступлений. Однако «не существует
социальной организации инстинкта смерти, подобной
организации Эроса, это объясняется теми глубинами, на которые
действует Танатос: лишь некоторые его производные поддаются
контролю»1. Лишь частичное социализированное
удовлетворение Танатос получает в направленной на подчинение внешнего
объекта агрессивности, в частности в научно-техническом
покорении природы.
В плане этих идей Маркузе предлагает свою интерпретацию
истории классической западноевропейской культуры. По его
мнению, уже с древнегреческого искусства и философии
человеческое «Я» проявило себя как «ego agens» — как агрессивный
субъект, противопоставивший себя объекту и стремящийся к
безраздельному господству над ним. «Природа — как его
собственная, так и внешняя — задавались ему как нечто, что долж-
1 Marcuse H. Eros and Civilization, p. 51.
43
но быть завоевано» '. Господство над природой (в обоих
значениях) выступает в западноевропейской культуре как условие
самосохранения и саморазвития субъекта. Господство над
чувственностью— «внутренней» природой человека — уже в
Древней Греции расценивалось как необходимый конститутивный
момент разумного видения мира. «Природа» априорно
воспринималась как нечто подвластное контролю и господству, а
«деятельность» и «работа» расценивались лишь в плане «силы»
в борьбе с природой. Объективный мир воспроизводится в по-
строениях европейской культуры в терминах деятельного
освоения и покорения противостоящей реальности. Разумное слово,
античный Логос, как пишет Маркузе, выступает как «логика
господства» над внешним и внутренним миром, познание
становится символом агрессии и, как в Библии, обладания.
И в то же время, продолжает Маркузе, в лоне западного
искусства и философской метафизики рождается необычный
и в целом чуждый их духу образ единства объекта и субъекта —
«бытия-в-себе-и-для-себя». Характерный, скорее, для восточной
мыслительной и художественной традиции, в большей степени
созерцательный, чем действенный и продуктивный, этот образ
находится в противоречии с Логосом — идеей разумной и
деятельной упорядоченности мира. Символами отношения к миру,
выражаемого Логосом, оказываются уже знакомые нам образы
«деятелей» — Прометея и Гермеса. Символами иного,
альтернативного отношения к действительности — образы Орфея и
Нарцисса, в которых находят примирение Эрос и Танатос, которые
несут в себе ощущение созерцательности и мира, не
нуждающегося в преобразовании и подчинении.
Таким образом, внеся свой вклад в легенду о «фаустовской
душе», Маркузе и в истории западной культуры и искусства
стремится обнаружить исходную фрейдовскую антиномию —
«принцип реальности» и «принцип удовольствия». Однако
сведенная к их противопоставлению диалектика культурного
процесса оказывается бедной абстракцией, втискивающей историю
1 Marcuse H. Eros and Civilization, p. 110.
44
западноевропейской культуры и искусства в прокрустову схему
сублимирования чувственных влечений. Более того, сам образ
Орфея должен быть расценен, строго говоря, как продукт
животной приспособительной эволюции, животной пассивности, а
не человеческой предметной активности. Между тем предметная
активность человека, выражающаяся в том числе и в формах
художественного творчества, в рамках которой возникает как
предметный мир человека, так и человеческое сознание,
противостоит любым формам животной адаптации. Только во «внече-
ловеческом» мире, вовне «природы» человек способен обрести
свой истинный мир и самого себя. Человек не может быть
«частью природы», потому что в конечном счете он реализует
свои сущностные силы только как выход за пределы
природного мира.
Согласовать свой исходный критический замысел с логикой
психоаналитической мысли Маркузе стремится при помощи
идеи о так называемой «разрушительной диалектике» культуры
и цивилизации. Опасность саморазрушения грозит
«репрессивной культуре» в первую очередь потому, что необходимый для
ее развития прогресс в производстве, предполагающий
доведение человека до положения «винтика» механизма, требует
постоянного увеличения объема «репрессивной» сублимации
инстинктов— и в первую очередь Эроса, поскольку Танатос
находится «глубже» и лучше скрыт от социализации. Это он,
Танатос, напоминает о себе культом насилия, расцветшим в
«массовой» культуре и искусстве. При этом подавление Эроса ведет
к ослаблению жизненного инстинкта, который Фрейд называл
«строителем культуры», и тем самым — к усилению
разрушительного импульса в результате изменения баланса между
Эросом и Танатосом. Между тем, как писал Фрейд, «вопрос судьбы
рода человеческого зависит от того, удастся ли развитию
культуры, и в какой мере, обуздать человеческий первичный позыв
агрессии и самоуничтожения, нарушающий сосуществование
людей» !. Судьба искусства, культуры и самой цивилизации ока-
1 Фрейд 3. Неудовлетворенность культурой, с. 330.
45
зывается как будто под вопросом. Как же пытается решить эту
проблему социальная эстетика контркультуры?
3. Социально-эстетическая утопия «нерепрессивной культуры»
Как известно, сам Фрейд свою задачу формулировал
достаточно скромно. Согласно высказыванию Стефана Цвейга, он
хотел сделать человечество не более счастливым, а лишь более
сознательным. По сравнению с терапевтической функцией
психоанализа замысел контркультуры, дающий фрейдизму
леворадикальную трактовку, куда более радикален — сделать
человечество не только сознательным, но и счастливым, не только
познать действие репрессивных социокультурных механизмов,
но и полностью их уничтожить.
Возможность «нерепрессивной культуры» сами левые
радикалы называют «скрытой тенденцией психоанализа» и
обосновывают ее существование при помощи пересмотра фрейдовского
представления о репрессии. Объективный аспект принуждения,
который для Фрейда свойствен всякой культуре как
специфическому «обобществлению» и преобразованию индивидуальных
чувственных влечений, здесь истолковывается как
неблагополучность и порок конкретной западноевропейской,
прометеевской культуры, основывающейся на репрессивном подавлении
орфической чувственности.
В своей критике фрейдовского понимания репрессии как
абсолютного культурного норматива выразители
политико-эстетической концепции левого радикализма уже не могут не
вводить социально-исторические и экономические элементы в
рассмотрение проблемы отчуждения чувственности. Маркузе,
например, стремится уточнить позицию Фрейда, вводя в
социальную эстетику контркультуры два новых понятия —
«сверхрепрессия» и «принцип производительности».
В структуре репрессивного «принципа реальности» он
выделяет биологический и социоисторический уровни. Первый
обусловлен низкой производительностью труда, второй вызван к
46
жизни не требованиями самоограничения в условиях
биологической борьбы за существование, а стремлением правящих
классов к расширению сферы репрессивного манипулирования
ради сохранения и укрепления власти над индивидом. «Если
это так,— заключает Маркузе,— то репрессивная организация
инстинктов в условиях борьбы за существование объясняется
внешними причинами, то есть такими, которые не укоренены в
структуре самого инстинкта, а проистекают из особых
исторических условий его развития» ].
Этот мотив совершенно отличен от фрейдовской логики, в
рамках которой не проводится различие «внешних»
(социально-исторических) и «внутренних» (природных) факторов
репрессивной организации человеческой чувственности. Однако,
по мнению Маркузе, перенос акцентов на
социально-исторический аспект отчуждения природных чувственно-эстетических
влечений индивида как будто бы гарантирует возможность
постепенного ослабления репрессивного контроля над
инстинктивным развитием и полную ликвидацию угнетающих личность
репрессий в будущем.
Соответствующей «сверхрепрессии» исторической формой
«принципа реальности» является, согласно Маркузе,
репрессивный «принцип производительности», подчиняющий, как
«протестантская этика» М. Вебера, всю жизнедеятельность
индивида самоцели накопления капитала и развития производства.
Как определенный исторический этап репрессивная культура
и «принцип производительности» необходимы, поскольку
именно они подготавливают материальные условия для уничтожения
репрессивной организации человеческой чувственности.
Согласно этому предположению, условием перехода от репрессивного
«принципа реальности» (то есть «принципа
производительности») к нерепрессивному является материальное изобилие:
«Нерепрессивный строй — это строй изобилия»; «свобода лежит по
ту сторону борьбы за существование» 2.
1 MarcuseH. Eros and Civilization, p. 132.
2 Ibid., p. 194, 195.
47
Нужно сказать, что в марксизме речь идет о вызревании
материальных предпосылок социалистического общества в недрах
капитализма, однако это лишь предпосылки материального
изобилия, действительное достижение которого представляется
возможным лишь в реальном процессе движения к
коммунизму. В то же время в контркультуре стереотип «общества
изобилия» полагается как реальность сегодняшнего Запада.
Отношение контркультуры к проблеме материального
изобилия—убедительный пример того, как сознание протеста ассимилирует
расхожие стереотипы и пропагандистские символы буржуазно-
апологетических концепций. Как раз в этом отношении
справедливы слова одного из западных критиков контркультуры,
подчеркивающего, что «в «Эросе и цивилизации» содержится
ряд весьма примечательных рассуждений о том, каких
изменений следовало бы желать в психической структуре
современного человека; однако очень мало внимания уделено вопросу о
том, как реально осуществить эти изменения, если не считать
упований Маркузе на экономику изобилия» '.
Бросается в глаза также и непоследовательность
контркультуры в трактовке проблемы материально-технического
прогресса: с одной стороны, в ее социальной эстетике
воспроизводится экзистенциалистский миф техники как угрозы, нависшей
над «истинным» искусством и всем человечеством, а с другой —
в ней же содержатся апелляции к техническому прогрессу как
материальному гаранту уничтожения репрессивных
ограничений человеческой чувственности в старых условиях низкой
производительности труда.
Так, взяв за основу фрейдовскую концепцию чувственности,
Маркузе стремится доказать, что неудовлетворительность
решения проблемы отчуждения чувственности и пессимизм
фрейдовской теории культуры и искусства проистекают не из ложных
посылок психоанализа, а из допущенного его основателем
смещения акцентов в трактовке феномена репрессии. Здесь, как
считает Маркузе, Фрейд и нуждается в «корректировке» с точ-
1 Kateb G. Utopia and Its Enemies. New York, 1972, p. 156.
4*
ки зрения марксизма. Однако характер маркузианской
аргументации свидетельствует о том, что он эклектически соединяет
фрейдизм с некоторыми тезисами, которые лишь внешне
напоминают положения марксизма, а по сути представляют его
вульгарное и превратное толкование.
У Фрейда репрессивное подавление чувственности и
сублимация бессознательных влечений, в частности, в форме
искусства объясняется тем, что последние якобы обладают
принципиальным антиобщественным характером. Маркузе же говорит
о том, что отчуждение чувственности всецело определяется
спецификой общественных условий — социальным заказом
господствующих классов, опасающихся «свободной либидозной
энергии» эксплуатируемых масс и стремящихся направить ее в
отработанное русло «массовой культуры».
Здесь Маркузе готов даже признать, что свободное развитие
чувственно-эстетических способностей индивида связано с
изменением условий и самого качества человеческой трудовой
деятельности. Решение проблемы общественно-исторического
характера чувственности — проблемы, которая для Фрейда
существовала только как противопоставление чувственности
индивида социокультурному принуждению,— Маркузе хочет
связать с решением проблемы свободного труда. Но как?
«Освобождение чувственности,— отвечает он,— создаст новые
трудовые отношения» '.
Итак, для Маркузе не преобразование общественной
структуры, не процесс революционного изменения капиталистических
отношений собственности — основа для освобождения
человеческих чувств и способностей, но, напротив, преобразование
чувственности индивида, формирование у него «новой
чувственности» — предварительная и обязательная предпосылка
изменения условий труда. Такая трактовка вопроса в корне
противоречит марксизму. Маркузе стремится обнаружить в трудовой
деятельности некий неразложимый чувственно-инстинктивный
элемент, реконструировать систему общественных отношений
Marcuse H. Eros and Civilization, р. 155.
49
таким образом, чтобы «оприродить» труд, превратить его в род
чувственно-инстинктивной, полубессознательной деятельности,
обладающей к тому же эстетической самоценностью. Маркузе
хотел бы видеть в свободной трудовой деятельности род
инстинктивной чувственно-эстетической аффектации, более
сильной, чем архаические влечения чувственности. Поскольку же
в соответствии с исходными посылками психоанализа
противоречие между «принципом реальности» и «принципом
удовольствия» истолковывается в терминах пансексуализма, то и
разрешение проблемы отчуждения чувственности социальная
эстетика контркультуры видит в так называемой «эротизации
труда».
Хотя от проблемы отчуждения чувственности Маркузе и
переходит к проблеме изменения качества труда, в основе его
рассуждения прослеживается характерная для социальной
эстетики контркультуры вульгарно-натуралистическая схема. Как
видно, Маркузе существенно упрощает стоящую перед ним
проблему изменения характера трудовой деятельности, сводя
«свободный труд» к проявлению некоего инстинктивного
влечения. Объективно здесь проявляется иррационалистическая
склонность контркультуры, поскольку сама идея «эротизации
труда» заострена против рационального и осознанного подхода
к проблеме социального освобождения трудовой деятельности.
Кроме того, выдвинутая теоретиками контркультуры идея
«эротизации труда» основывается на специфическом «обороте»
фрейдовской концепции культуры и искусства, использовании
ее как бы с противоположным знаком. В самом деле, согласно
основателю психоанализа, бессознательные чувственные
влечения индивида, не находя реализации в условиях диктуемой
трудовым принуждением репрессии, получают косвенное,
сублимированное выражение в культурно-художественном творчестве,
в искусстве. Произведение искусства с этой точки зрения есть
знак, символ, «зашифровка» тех влечений, которые
подавляются в реальной общественной жизни. Для социальной эстетики
контркультуры, напротив, ликвидация репрессии призвана
обеспечить возможность «прямого», не опосредованного искусством
50
выражения бессознательных чувственных влечений в самой
общественной жизни и прежде всего в трудовой деятельности.
Предполагается, что сексуальный инстинкт, Эрос, вместо того
чтобы сублимироваться в художественном творчестве, сможет
найти «прямые» неопосредованные выражения, которые к тому
же не только не будут представлять угрозы обществу, но
выведут социальное и культурно-духовное развитие человечества на
более высокую ступень прогресса. «Реактивация полиморфной
нарциссическои сексуальности», утверждает Маркузе, заложит
основы «свободной культуры», в которой эстетический
потенциал искусства окажется «растворенным» в самой жизни и в
которой человеческое тело перестанет быть инструментом
отчужденного труда и станет субъектом эстетической
самореализации. Иными словами, общественно полезный труд, согласно
рассуждению Маркузе, может стать удовлетворением либидоз-
ных чувственно-эстетических влечений.
В какой-то мере повод для такой трактовки образа Орфея-
Нарцисса дает сам Фрейд с его разграничением «первичного»
и «вторичного» нарциссизма. Если «вторичный» нарциссизм —
это частная перверсия \ то «первичный» нарциссизм, будучи
более глобальным социопсихологическим явлением, не
исключает возможность нерепрессивного сублимирования
чувственности. «Происходящее в этом случае превращение вожделения
к объекту в вожделение к себе (нарциссизм), очевидно, влечет
с собой отказ от сексуальных целей, известную десексуализа-
цию, а стало быть, и своего рода сублимирование»2,— писал
Фрейд. Характерно, что и у такого известного французского
философа, как Г. Башляр, мы обнаруживаем трактовку
нарциссизма в аспекте нерепрессивного сублимирования. «Нарциссизм
отнюдь не всегда является невротическим феноменом...—
утверждает Башляр.— Сублимирование вовсе не обязательно
означает отрицание чувственного влечения, оно может и не быть
1 Freud S. On Narcissism.—In: The Major Works of Sigmund
Freud. London, 1952, p. 399.
2 Ф p e и д З. Яи Оно. Л., 1924, с. 27.
51
направлено против инстинктов. Это может быть сублимация по
направлению к определенному идеалу» К
Но как бы то ни было, в своей попытке «творческого»
развития идей фрейдизма Маркузе оказывается перед
существенной трудностью. Дело в том, что, согласно использованной им
психоаналитической схеме, респрессивная культура выступает
как сублимация потребностей и желаний, не получающих
удовлетворения в обществе низкой производительности труда. Сам
Фрейд, например, называл культуру «спиритуализацией
нищеты». У Маркузе даже встречается мысль, что «высокая»
культура и искусство (а не их «массовые» суррогаты) возможны
лишь при экономической нищете большинства населения,
поскольку являются косвенным «протестом против
существующего убожества». Поэтому-то Маркузе и выражает опасение, что
в высокопроизводительном «обществе изобилия» «вслед за
покорением природы и окончательным искоренением нищеты, как
побочное явление, будет ликвидирована и «высокая»
культура» 2. Иначе говоря, не «растают» ли культура и искусство в
медиуме всеобщей сытости, поскольку после удовлетворения всех
чувственных потребностей, с точки зрения фрейдизма, исчезнет
сам объект духовной сублимации?
Здесь, как видно, достоверное осознание действительного
кризиса реальной буржуазной культуры и искусства
современного Запада получает неправомерную абсолютизацию и
выступает уже в форме абстрактного опасения за судьбу искусства и
культуры как таковых.
Чисто формальный выход Маркузе видит в апелляции к
неким новым «нерепрессивным потребностям», обосновывая ими
тот новый общественный статус, который отводится искусству
в социальной эстетике контркультуры. Однако, если следовать
оригинальной логике психоаналитической мысли, что,
собственно, и было исходным замыслом Маркузе и ряда других
теоретиков контркультуры, проблематичность сохранения культуры
1 Bachelard G. L'eau et les reves. Paris, 1971, p. 34—35.
2 Ma reuse H. One-dimensional Man. Boston, 1964, p. 70.
52
и искусства в обществе предполагаемого неограниченного
удовлетворения всех чувственных влечений ничуть не уменьшается.
Фактически единственное, что в такой ситуации остается на
долю социальной эстетики контркультуры,— это говорить не
только о принципиально новом типе общества («нерепрессивная
цивилизация») и типе культуры («нерепрессивная культура»),
но и — поневоле — о совершенно ином искусстве, обладающем
иной формой, иным содержанием и играющем совершенно иную
роль в общественной жизни. Учитывая данное обстоятельство,
нельзя не признать, что, по сути дела, у Маркузе нет другого
выхода, кроме как выдвинуть тезис о том, что в условиях
«нерепрессивной цивилизации» десублимированное искусство
станет «формой реальности» и лишится статуса автономного
художественного процесса, вознесенного «над действительностью».
«Термин «эстетика»...— пишет Маркузе,— может быть
использован для обозначения качества производственно-творческого
процесса в царстве свободы. Техника, обретая черты искусства,
преобразует субъективную чувственность в объективную форму,
в реальность» К В «нерепрессивной цивилизации» будущего,
согласно Маркузе, искусство выйдет из «гетто» художественной
формы и станет «формой реальности» 2. Это будет «конец»
искусства путем реализации в жизни его возвышенных идеалов
прекрасного. Идея панэстетизма, содержащаяся в социальной
эстетике контркультуры и получающая теоретизированное
выражение у Маркузе, в значительной мере созвучна аналогичным
мотивам в работах такого известного эстетика, как Герберт Рид,
на которые часто ссылается Маркузе. Рид, в частности, писал:
«Искусство должно занять в нашей жизни такое место, чтобы
мы могли сказать: нет произведений искусства, существует
только искусство,— тогда оно стало бы образом жизни» 3.
В то же время, в отличие от Рида, Маркузе, во-первых,
придает идее панэстетизма ярко выраженное радикальное полити-
1 MarcuseH. An Essay on Liberation. London, 1969, p. 24.
a Ma'cuse H. Art as a Form of Reality.— In: On the Future of
Art. New York, 1970, p. 133.
3 Цит. по: Борьба идей в эстетике, с. 166.
53
ческое звучание; во-вторых, обусловливает ее соответствующим
уровнем развития материально-технической базы общества; и,
наконец, в-третьих, усматривает непосредственную взаимосвязь
между эстетикой, этикой и так называемым «эротическим
измерением» пропагандируемого контркультурой орфического
образа жизни. «Мы находимся в водовороте неукротимых сил,
которые соединяют эротику, эстетику и этику в единое бунтующее
сознание — против всех форм репрессии... Есть только одна
эстетико-этико-эротичеекая метина, и эта истина отрицает
самым радикальным образом нынешнее репрессивное
общество»',— так развивают содержащиеся в маркузианстве
положения другие сторонники и выразители социальной эстетики
контркультуры.
Пожалуй, едва ли не самое примечательное во всех этих
рассуждениях— чуть ли не мистическое преклонение перед
техникой, наукой, технологией, материальным производством,
которые, как мы уже отмечали, играют в социальной эстетике
контркультуры весьма двойственную роль. С одной стороны, это
воплощение, можно сказать, материализация социальной репрессии
и отчуждения природных чувственно-эстетических способностей
человека. С другой — магическая сила, создающая, как по
волшебному мановению, материальные предпосылки для
«растворения» искусства в жизни и вслед за этим исчезающая и
пропадающая без следа.
«Уровень современного производства достиг такого развития,
когда эстетический этос может стать новым принципом
реальности» 2,— провозглашает, например, один из молодых
американских социологов маркузианской, контркультурной
ориентации. Что же касается самого властителя умов протестующей
молодежи 60-х годов, то и у него мы обнаруживаем почти
аналогичные предсказания. «Техника будет стремиться к тому, что-
1 N i со 1 a s A. Marcuse ou la quetc d'un univcrs trans-prometheen.
Paris, 1970, p. 163, 169.
2 Weber S. Individuation as Praxis.—In: Critical Interruptions:
New Left Perspectives on Herbert Marsuse. New York, Ed. by P. Brei-
nes, 1970, p. 30.
54
бы стать искусством, а искусство будет стремиться к тому,
чтобы формировать реальность: противоположности между
воображением и разумом, высшими и низшими способностями,
поэзией и наукой — ничего этого не будет. Произойдет рождение
нового Принципа Реальности, при котором новая чувственность и
десублимированный научный интеллект соединятся в создании
эстетического этоса» К Ничего более конкретного социальная
эстетика контркультуры здесь не предлагает. По сути дела, ее
отношение к проблеме технического прогресса и материального
изобилия в «постиндустриальном обществе» — убедительный
пример того, как сознание леворадикального протеста
некритически ассимилирует расхожие постулаты технократического,
буржуазно-апологетического мышления.
Маркузе полагает, что человеку, воспитанному в нормативах
и представлениях репрессивной культуры, настолько трудно
представить себе даже контуры его грядущей по л
итико-эстетической утопии, что говорить о ней он считает возможным лишь
посредством художественных образов и аналогий. Общее и лишь
примерное направление нерепрессивного развития человеческих
чувственно-эстетических способностей с точки зрения
контркультуры указывают те психические силы, которые, как
утверждает психоанализ, остались неподвластными «принципу
реальности»,— эстетические способности художественного
воображения и фантазии. Здесь также обнаруживается несовместимость
маркузианской утопии с марксистским учением, которое,
конечно, не отрицает значения воображения в процессе создания
нового общества и нового человека, но подчиняет его научному
исследованию тенденций социального развития.
Поскольку идея протеста против репрессивного «принципа
реальности» безнаказанно может быть выражена лишь на
языке искусства, познавательная функция фантазии, согласно
Маркузе, обретает себя главным образом в сфере эстетики.
В этом смысле задача художественной фантазии и
воображения— быть эстетической формой «Великого Отказа», хранить
Marcuse H. An Essay on Liberation, p. 24.
55
в условиях репрессий память и надежду на возможное счастье
и время от времени возрождаться в конфигурациях искусства,
причем преимущественно искусства нереалистического,
поскольку реализм, согласно этой логике, означает примирение
с репрессивной реальностью.
Суть критики реалистического искусства с позиций
социальной эстетики контркультуры — в отрицании самой
художественной формы как репрессивного фактора сублимации. «За
эстетической формой лежит подавленная гармония чувственности и
разума» *. Выход напрашивается один: ликвидировать
автономную художественную форму искусства и «растворить» его
эстетический потенциал в самой общественной жизни.
Если для Фрейда символика, раскрывающая сексуальную
подоплеку фантазии, форм эстетического воображения и т. п.,
выступала в качестве технического принципа терапевтической
процедуры, то Маркузе придает ей аксиологическое, социально-
этическое значение, утверждая, что продукты творческого
воображения направлены на «нерепрессивную эротическую
реальность». Кроме того, Фрейд исходил из необратимости
вытеснения фантастических образов «свободной» сексуальности в
бессознательное. Маркузе же предполагает, что образы фантазии
и воображения могут иметь отношение не только к
«субисторическому прошлому» человечества, но и к его будущему.
Перспективы такого рода социализации и антропологизации
способности воображения Маркузе связывает с изменением
структуры человеческой деятельности, с пресловутой «эротизацией
труда».
Здесь, как видно, теория «нерепрессивной культуры» уже
вполне однозначно заявляет о себе как о
социально-эстетической утопии. Нужно сказать, что утопизм вообще принадлежит
к числу глубинных и наиболее характерных черт современного
леворадикального сознания, является его органической
структурой. «Особый интерес к теоретическим проблемам утопии
возник в западной социологии в связи с движением «новых ле-
1 Marcuse H. Eros and Civilization, p. 144.
56
вых». Неопределенные, часто негативные представления «новых
левых» о будущем («будущее — мечта»), утопическое понимание
путей и средств социальной революции («будьте реалистами —
требуйте невозможного») — все это является благодатной почвой
для форм утопической мысли» '.
Нужно сказать при этом, что утопическое измерение левого
радикализма в значительной мере как раз и воплощает
взаимопроникновение и даже слияние социологических и эстетических
аспектов контркультуры в некую единую
социально-эстетическую утопию. Связанные с этим теоретические проблемы
получили разработку в исследованиях советских философов2. В
данном случае, опираясь на эти разработки, мы пытаемся осветить
некоторые стороны социально-эстетической утопии
«нерепрессивной культуры», связанные, в частности, с проблемами
художественной фантазии и «новой чувственности».
Как мы уже отмечали, вопрос о форме присвоения
человеческой чувственностью общественно-исторического содержания
ставится в социальной эстетике контркультуры как проблема
социального освобождения труда путем придания ему
эстетического качества. Иначе говоря, предполагается, что садистский
характер труда по принуждению должен уступить место
инстинктивному влечению к «труду-удовольствию-искусству».
В труде должны получать выражение те инстинктивные
чувственно-эстетические влечения индивида, которые в условиях
репрессивных общественных отношений реализуются в
искусстве,—такова позиция теоретиков контркультуры. Свободная
чувственность, в настоящее время «замкнутая» в
художественной форме, должна, с этой точки зрения, «прорваться» в сферу
общественной жизни и качественным образом изменить роль
1 О современной буржуазной эстетике. Современные
социальные утопии и искусство. М., 1976, с. 7.
2 См.: Баталов Э. Я. Философия бунта (раздел «Утопия
и революция»); Замошкин Ю. А., Соловьев Э. Ю.
Социальные утопии и современные массовые движения.— В кн.:
О современной буржуазной эстетике. Современные социальные
утопии и искусство.
57
Искусства в обществе, сделать социальные — в том числе
трудовые — отношения свободными и эстетическими.
Нерепрессивным «эстетико-эротическим» отношением к
реальности, которое, как утверждает контркультура, исторически
получало реализацию лишь в искусстве и художественном
творчестве, становится то, что загодя зрело в лоне западной
метафизики и эстетики,— такое отношение между объектом и
субъектом, которое сопоставимо лишь с орфическим отношением к
миру, с «телосом красоты». «Орфей есть архетип поэта —
освободителя и созидателя: он вносит новый порядок в мир —
нерепрессивный строй... Орфический Эрос изменяет бытие, он
побеждает жестокость и смерть и несет освобождение. Его
язык — песня, его работа — игра. Нарциссическая жизнь
является жизнью красоты, и ее бытие есть созерцание. Эти образы
относятся к эстетическому измерению, на котором
основывается их принцип реальности» 1.
Нужно сказать, что используемое теоретиками
контркультуры фрейдовское положение: труд есть боль — представляет
собой абстрактную рационализацию непосредственных ощущений,
испытываемых в процессе капиталистической эксплуатации,
которые в психоанализе неправомерно приобретают статус
теоретической установки, лежащий в основе концепции культуры и
искусства. В то же время как выражение определенной эмоции
отождествление труда с болью в какой-то степени правомерно:
«Внешний труд, труд, в процессе которого человек себя
отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистязание»2. Маркс
вспоминает библейское проклятие «Да будешь ты трудиться в
поте лица своего!», когда говорит о том, что в исторически
существовавших формах труда — рабском, барщинном,
наемном— труд воспринимался как нечто отталкивающее и
приносящее страдание, в противоположность чему «не-труд»
выступал как сфера свободы и наслаждения. Однако, в отличие от
1 Marcuse H. Eros and Civilization, p. 170—171.
2 M a p к с К., Энгельс Ф. Из ранних произведений,
с. 563.
58
Маркса, Маркузе остается в своих теоретических построения*
на уровне рационализированной эмоции, которую может
испытывать лишь задавленный непосильным тяжелым трудом
человек, считающий, что все иные формы деятельности, в том числе
и художественно-эстетическое творчество, являются всего лишь
«игрой».
Зафиксировав массовый для капитализма характер
ощущения, согласно которому трудовая деятельность воспринимается
как насилие над чувственностью индивида и отчуждение его
природных эстетических способностей, Маркузе и его
единомышленники не ставят в дальнейшем вопроса о социально-
исторической обусловленности данного психологического
восприятия. Социальная эстетика контркультуры, вопреки ее
стремлению «углубить» марксистский анализ эксплуатации и
отчуждения и марксистскую концепцию роли искусства в
общественной жизни путем добавления «психоаналитического измерения»,
не идет далее психологизированного рассмотрения проблемы.
Маркс же, напротив, показывает, что восприятие трудовой
деятельности как страдания, а игры — как наслаждения является
лишь одной стороной сложного общественного отношения,
основывающегося на эксплуатации наемного труда. «Если
деятельность рабочего для него самого является мукой, то кому-то
другому она должна доставлять наслаждение и жизнерадостность» К
Так, вопрос о разрешении противоречия между трудом и
удовольствием марксизм связывает с решением вопроса о
ликвидации капиталистической эксплуатации и отношений частной
собственности.
Нельзя не подчеркнуть и то, что сама трудовая деятельность
в условиях антагонистической формации представляет собой
реальное многообразие тенденций, одна из которых, как это
было убедительно раскрыто марксизмом, в своей сущности
выражает созидательный, творческий аспект труда — источника как
общественного прогресса, так и прогресса в развитии
человеческой индивидуальности. Поэтому постулируемое Маркузе про-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений, с. 568.
59
тиворечие между трудом и удовольствием не является
универсальной нормой человеческой деятельности даже в условиях
капиталистического отчуждения. Описываемые в этих
категориях типы отношения к миру реальны как эмоциональные
переживания; когда же они претендуют на статус теоретических
конструкций, они не поднимаются над уровнем непосредственно -
фетишистского истолкования реальных социальных
противоречий. Фактически Маркузе ограничивается тем, что описывает
психологические состояния страдающего и протестующего
объекта капиталистической эксплуатации. Сравнивая свободный
труд с игрой Орфея на кифаре, Маркузе говорит о
необходимости придать труду характер внутреннего эстетического
самоудовлетворения. Однако в действительности он не может
предложить ничего, кроме туманного художественного символа.
«Развитые социальные условия создадут инстинктивный
базис для превращения работы в игру» \—пишет Маркузе. Конец
цикла развития цивилизации от непосредственного
чувственного удовольствия к садистскому труду и затем к
«труду-искусству-удовольствию-игре» он истолковывает как
антропологический по своему значению скачок от homo Laborans к homo
Ludens — от «трудящегося» (а значит — страдающего) Прометея
к «играющему» (и поэтому — наслаждающемуся) Орфею.
Отождествляя освобождение труда с его «эротизацией» и
«эстетизацией», Маркузе предполагает решить проблему отчуждения
чувственности: «Если бы работа была связана с возрождением пре-
генитального полиморфного эротизма, она бы стремилась к
самоудовлетворению, не переставая по содержанию быть
работой»2.
Но как раз это положение в наибольшей степени является
уязвимым у Маркузе. Итальянский исследователь М. Маффи
справедливо указывает на «негативный характер» центральной
для социальной эстетики контркультуры концепции
«искусства-политики-культуры-жизни как игры» в смысле отсут-
1 Marcuse H. Eros and Civilization, p. 215.
2 Ibid., p. 215.
60
ствия в ней конкретных позитивных альтернатив
буржуазному мироустройству'. Кроме того, слишком велика пропасть
между удовлетворением инстинктивной потребности и
целесообразной деятельностью людей по сознательному воздействию на
предмет труда с помощью заранее созданных орудий. Политико-
эстетическая концепция «нерепрессивной культуры»,
предложенная леворадикальными теоретиками,— это лишь
гедонистическая утопия. Только в определенных пределах ее можно
рассматривать как косвенное выражение стремления к
изменению прежней формы трудовой деятельности и превращению
труда в источник эстетического и нравственного
удовлетворения.
В этом-то смысле Маркузе и ссылается на теорию
«труда-игры» Шарля Фурье, а также на взгляд на труд как на
искусство Уильяма Морриса, лишний раз подтверждая, что
выведение специфики трудовой деятельности из некоего
эстетического инстинкта или физиологической потребности и
гедонистическое истолкование трудовой активности всецело
принадлежат традиции донаучного социального утопизма.
Как известно, Маркс высоко оценивал идеи утопистов об
изменении роли искусства в общественной жизни, о превращении
труда в источник нравственного и эстетического удовольствия,
но при этом категорически отвергал антинаучный метод
утопического мышления и само представление о труде-игре. Маркс
писал, что труд никогда не может стать игрой, а освобождение
труда «ни в коем случае не означает, что этот труд будет всего
лишь забавой, всего лишь развлечением, как это весьма наивно,
совсем в духе гризеток, понимает Фурье. Действительно
свободный труд, например труд композитора, вместе с тем
представляет собой дьявольски серьезное дело, интенсивнейшее
напряжение» 2. Марксова критика фурьеризма типологически
применима и к концепции «нерепрессивной культуры» — этой
социально-эстетической утопии контркультуры, в которой «эротиза-
1 М a f f i M. La cultura underground. Roma — Bari, 1973, p. 205.
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 2, с. ПО.
С1
Ция» и «эстетизация» труда оказывается лишь иллюзорным
решением актуальной социальной проблемы.
Сама попытка решения проблемы освобождения труда путем
его выведения из некой чувственно-эстетической склонности и
придания ему «эротического» характера в теоретическом плане
неизбежно отбрасывает социально-эстетическую утопию
контркультуры далеко назад, на уровень домарксовского утопического
социализма. Однако в конкретном общественно-политическом
и культурно-художественном контексте современной
идеологической борьбы утопия «нерепрессивной культуры» объективно
выступает с ревизией как марксистской концепции роли
искусства в общественной жизни, так и марксистской теории
социалистической революции.
Кроме того, в системе социально-эстетических идей
контркультуры, как они были сформулированы и получили
распространение на Западе в 60-х годах, проблема «отчуждения
чувственности», занявшая центральное место, заслонила многие
другие не менее — а в ряде случаев и более — важные проблемы
социальной теории и эстетики. Решение этой проблемы
оказалось целиком подчинено задаче «пересмотра» марксизма в
свете его «обновления» фрейдизмом. Результатом и явилась
социально-эстетическая утопия «нерепрессивной культуры»,
несостоятельная в теоретическом плане и дезориентирующая силы
антибуржуазного протеста в плане практическом.
Наконец, в самой концепции «новой чувственности» и
«нерепрессивной культуры» со временем обнаружились внутренние
разрушительные силы, которые обусловили серьезную
корректировку и даже пересмотр эстетики контркультуры в 70-х
годах. В первую очередь эта трансформация коснулась
понимания теоретиками контркультуры центральной для их
эстетической концепции проблемы — вопроса о роли искусства в
общественной жизни.
4. Парадоксы «эстетического измерения»
Социально-эстетические идеалы орфической «новой
чувственности» и утопия «нерепрессивной культуры» с
выпестованной ею идеей превращения искусства в «форму реальности»
должны быть расценены как средоточие эстетики
контркультуры 60-х годов. Эти мотивы оказались центральными как в
непосредственно-стихийном, «практическом» сознании
молодежного протеста, так и в обосновывающей его политической
и эстетической теории левого радикализма тех лет. В
протестующем сознании социально-культурного авангардизма многие
из этих моментов сохранились и в 70-х годах. Но наряду с
этим, начиная с рубежа нового десятилетия, указанные
политико-эстетические представления контркультуры начинают все
в большей степени претерпевать существенные изменения,
связанные как с теоретической, так и практической эволюцией
самой контркультуры. Как ни парадоксально, но в 70-х годах по
многим кардинальным вопросам эстетика контркультуры
переходит на позиции, противоположные тем, которые она занимала
в 60-х годах. Особенно наглядно эту противоречивую эволюцию,
включающую элементы отказа и преемственности, можно
проследить на примере того же Маркузе.
В своей книге «Контрреволюция и бунт», написанной в 1972
году, Маркузе, с одной стороны, как будто бы продолжает
развивать идеи эмансипации индивидуальных
чувственно-эстетических способностей и природных влечений как способа
ликвидации социальной репрессии в ее левофрейдистской
интерпретации. «Индивидуальная эмансипация чувственности является
началом или даже основой всеобщего освобождения,—
утверждает он,— свободное общество зарождается на уровне
инстинктивной потребности» ].
Согласно этому теоретику левого радикализма, стремление
к свободе заложено в самой структуре человеческих инстинктов,
в структуре неотчужденной чувственности индивида. В обще-
1 М а г с u s с Н. Counterrevolution and Revolt, p. 72.
63
стве отчужденного труда человеческая чувственность подавлена
и репрессирована: люди воспринимают мир лишь в формах его
наличного функционирования, в результате чего существующие
общественные отношения воспроизводятся не только на уровне
сознания, но и на уровне чувственного восприятия индивида.
В силу этих причин «эмансипация чувственности», которая в
свою очередь, согласно Маркузе, предполагает изменение формы
трудовой деятельности, а еще шире — изменение отношений
между субъектом и объектом (человеком и природой) и субъектом
и субъектом (человеком и человеком),— выступает в качестве
«инстинктивного фундамента» для создания «нерепрессивной
культуры».
«Радикальная трансформация природы становится
интегральной частью радикальной трансформации общества» ',— пишет
Маркузе, различая, как и в «Эросе и цивилизации»,
«внутреннюю» природу человека — структуру его первичных
чувственно-эстетических влечений и инстинктов —и «внешнюю»
природу— экзистенциальное окружение человека. В связи с этим он
проводит дифференциацию самого понятия «освобождение
природы», которое принимает форму, с одной стороны,
«эмансипации чувственности» («внутренней» природы человека) и
создания «новой чувственности», а с другой — восстановления
экологического баланса между человеком и его экзистенциальным
окружением («внешней» природой).
Таким образом, в общей форме идея «новой чувственности»
продолжает сохраняться в леворадикальном сознании на
Западе и в 70-х годах, что связано в первую очередь с тем
обстоятельством, что вызвавшие его на свет социальные и социально-
психологические причины (прежде всего отчуждение труда и
непосредственно-чувственное ощущение этого) продолжают
сохраняться и усиливаться в современном буржуазном обществе.
В то же время не только Маркузе, но и другие авторы,
являвшиеся выразителями социально-эстетических идей
контркультуры в 60-х годах, сегодня все в большей степени сознают если
1 М а г с u s e H. Counterrevolution and Revolt, p. 59.
64
не теоретическую, то политико-тактическую ограниченность
программы формирования «новой чувственности» как
основного средства антиимпериалистической борьбы. В конечном счете
практическая безуспешность (по крайней мере по сравнению
с громко провозглашенными целями и задачами) движения
социального протеста 60-х годов, взявшего на свое вооружение
тактику «прямого действия», «контр-акции», «демократии
прямого участия» и предпринимавшего попытку дать конкретно-
политическую трактовку орфико-нарциссическому способу
существования (точнее говоря, не «существования», а
«контестации»), заставила усомниться в основаниях самого «телоса
Орфея». В результате сложилась двойственная ситуация:
современное леворадикальное сознание было вынуждено пополнить
новыми компонентами свою «орфическую программу», причем
такими компонентами, которые в известном смысле должны
были привести к существенным изменениям в социальной
эстетике контркультуры и в понимании ею проблемы роли
искусства в общественной жизни. В самых общих чертах этот
поворот можно определить как перенос акцентов с «новой
чувственности» на «новую рациональность».
«Эмансипация чувственности,— пишет Маркузе,— означает,
что чувства человека становятся «практическими» в деле
реконструирования общества, они закладывают фундамент новых
(социалистических) отношений между человеком и человеком,
человеком и вещью, человеком и природой. Однако новая
чувственность оказывается также и источником новой
(социалистической) рациональности, чуждой рационализму
эксплуатации». И далее: «Эмансипация чувственности должна
сопровождаться эмансипацией сознания, охватывая тем самым всю
тотальность человеческой экзистенции» '. Итак, переход к
проблеме «новой рациональности» Маркузе обосновывает как будто
бы чисто логической закономерностью: тотальность
эмансипации предполагает освобождение как чувственности индивида,
так и его сознания. Между тем необходимость последней в 60-х
1 MarcuseH. Counterrevolution and Revolt, p. 64, 67.
3 Зак. j\№ 62
65
годах отвергалась контркультурой, поскольку любая форма
рациональности в соответствии с установками «левого» фрейдизма
рассматривалась как репрессивно-сублимированное, «заидеоло-
гизированное», а стало быть, и извращенное сознание. По этой
причине и предлагалось идти глубже — к бессознательным (то
есть неподвластным методам рационализированной
манипуляции) пластам психики. Следовательно, логическая
закономерность переноса внимания с «новой чувственности» на «новую
рациональность» в действительности оказывается отказом от
многих первоначальных принципов социальной эстетики
контркультуры и сознания протеста в целом. На самом же деле за
провозглашенной Маркузе логической закономерностью идейной
переориентации политико-эстетических представлений левого
радикализма скрывается вполне реальная историческая
эволюция движения протеста на Западе.
Уже в 1972 году бывший лидер леворадикальной
организации «Студенты за демократическое общество» Т. Гитлин имел
немало оснований заявить: «Организованное радикальное
движение 60-х годов распалось и исчезло» К Со своей стороны
Маркузе, подводя итог политическим и идейным битвам 60-х годов,
признал провал и истощение самого политико-эстетического
принципа контркультуры протестующей молодежи и
интеллигенции и констатировал переход западного общества к новой
фазе — «превентивной контрреволюции».
Если из антиномии «Одномерного человека»: 1) развитое
индустриальное общество может сдерживать тенденции
качественных социальных преобразований; 2) существует социальная
сила, способная революционно изменить существующий на Западе
общественный строй,— Маркузе в 60-х годах выбрал второй
тезис, хотя и неверно оценил эту социальную силу, то в 70-х
годах он стал склоняться к первому. «Западный мир вступил в
новую фазу развития: теперь для защиты капиталистической
1 Gi tlin Т. Toward a New Left.—«Partisan Review», 1972, N 3,
p. 458.
66
системы он прибегает к внешней и внутренней
контрреволюции» 1 — так начинается «Контрреволюция и бунт» Маркузе.
Эта книга кажется еще более пессимистичной, чем работы
Маркузе конца 50-х и 60-х годов, хотя и тогда он не проявлял
чрезмерного энтузиазма по поводу движения протеста и был,
скорее, его критическим соучастником и выразителем идей, чем
активным и заинтересованным вождем. После периода бурного
сближения наступило обоюдное охлаждение: Маркузе расценил
движение леворадикального протеста западной молодежи и
интеллигенции как первый симптом возможных в будущем
революционных выступлений, а молодежные активисты увидели в
нем университетского профессора, чьи метафизические
спекуляции относительно «растворения» искусства в общественной
жизни оказались на время созвучными их настроениям. И тем не
менее «Контрреволюция и бунт» показывает, сколь велики были
его надежды и иллюзии относительно движения протеста.
Политический спад молодежной контестации Маркузе воспринял
как сокрушительный удар, нанесенный истеблишментом всем
силам протеста, и поспешил провозгласить начало эпохи
«контрреволюции».
«Нынешняя историческая ситуация существенно изменилась
для движения новых левых по сравнению с первым периодом
его развития, когда оно только что зарождалось и вышло на
мировую арену (движение за гражданские права, протест
против войны, движение в колледжах и университетах, йиппи).
Десять лет назад всем были понятны такие туманные призывы,
как: новая мораль, эмансипация чувственности, свобода —
немедленно, культурная революция. Истеблишмент не был
подготовлен к этому. Стратегия новых левых тогда могла быть
массовой, открытой и угрожающей: массовые демонстрации, захват
зданий, единство действий и союз с чернокожими активистами.
Этот период закончился» \— пишет Маркузе. Но главная
опасность для сил протеста, по его мнению, заключается уже в кри-
1 М a reuse H. Counterrevolution and Revolt, p. 1.
2 Ibid., p. 35—36.
3*
67
зйсе самой идеи стихийного леворадикального бунта. Сам
принцип контркультуры—принцип «контр» («контринститут»,
«контрискусство», «контрэстетика» и т. п.) — становится, как считает
теперь Маркузе, наиболее слабым звеном леворадикальной
теории и практики. «Именно эти контрдействия, контрценности,
как объявленная война, изолируют радикальное движение от
масс» '.
Все то, что в свое время «новым левым» и самому Маркузе
казалось главной силой протеста,— «Великий Отказ», «новая
чувственность», «искусство как форма реальности» и т. п.—
сегодня становится, как склонен считать Маркузе, чуть ли не
угрозой для него. Эзотерический характер контркультуры, ее
бросающаяся в глаза экстравагантность — все это сегодня изолирует
леворадикальный протест западной молодежи и интеллигенции
от народных масс. По существу, полагает Маркузе, движение
«новых левых» с момента своего зарождения ориентировалось на
довольно узкую социальную базу и было в достаточной степени
«интеллектуалистским», что выражалось как в ориентации его
идей и программ, так и в фактическом преобладании в его
составе «интеллектуалов» и «антиинтеллектуальных
интеллектуалов». «В современных условиях,— пишет он,— когда новые
левые представляют собой главным образом интеллектуальное
движение, практикуемый ими антиинтеллектуализм является
услугой истеблишменту» 2.
Теперь, не порывая окончательно с политико-эстетической
идеей «эмансипации чувственности», Маркузе вынужден указать
на ее явную недостаточность без «эмансипации разума».
«Неуместным радикализмом» называет он практиковавшееся
эстетикой контркультуры в 60-х годах безоговорочное
отождествление «разума истеблишмента» с «разумом вообще», при этом
забывая, в какой большой мере он сам был причастен к
формулированию ложной дилеммы: «чувственность» или «разум».
Теперь Маркузе выдвигает программу политического просве-
1 Marcuse H. Counterrevolution and Revolt, p. 31.
2 Ibid., p. 32.
68
ЩенйЯ масс, перевода спонтанного протеста в организованное
социальное действие. Согласно прежней точке зрения Маркузе,
высказанной им в 60-х годах, агентом исторических изменений
выступали представители «маргинальных» общественных групп,
«отверженные», призванные, как он утверждал, «разбудить»
якобы «интегрированный» буржуазной системой пролетариат. Но в
70-х годах Маркузе. пишет иное: «Капитал, действительно,
порождает своего могильщика, но на этот раз это уже не
«проклятые» и не «отверженные» К По его мнению, сегодня «новым
историческим субъектом» может быть только интеллигенция и
профессионалы, занимающиеся политическим просвещением
масс.
Как видно, и в 70-х годах Маркузе не отказался от
реакционного тезиса буржуазных апологетов об «интеграции» рабочего
класса в капиталистическую систему. Но теперь его критические
выпады направлены уже не только против пролетариата и его
партий, но и против тех, кого прежде он считал
«застрельщиками» леворадикального протеста,— против «новых левых»
активистов. Точнее говоря, Маркузе отвергает избранную ими в 60-х
годах политическую тактику, нацеленную на прямую и
демонстративную конфронтацию с истеблишментом. «Время огульного
отрицания либеральных методов борьбы уже прошло или еще
не наступило» 2 — такого признания, конечно, трудно было
ожидать от леворадикального идеолога, еще недавно обличавшего
всю систему «корпоративного либерализма» и требовавшего от
«новых левых» бескомпромиссного разрыва с ней.
Но еще большие разногласия обнаруживаются сегодня у
Маркузе не только с прежней политической тактикой «новых
левых», но и с их прежней культурной политикой, их
отношением к проблемам культуры и искусства. Здесь-то наиболее
рельефно и виден идейный крен маркузианства в 70-х годах,
отход от многих кардинальных положений эстетики
контркультуры прошлого десятилетия. Своего рода «фокус» этой идейной
1 MarcuseH. Counterrevolution and Revolt, p. 57.
2 Ibid., p. 56.
W
переоценки — в принципиальном переосмыслении проблемы
взаимоотношения искусства и политики, проблемы роли
искусства в общественной жизни, которое, однако, нисколько не
приближает Маркузе к правильному, материалистическому и
диалектическому пониманию вопроса. Очевидно, в немалой степени
указанная переориентация связана с рассмотренным выше
изменением позиции Маркузе по проблемам леворадикальной
политической тактики.
Вопросам роли и функций искусства в общественной жизни,
соотношения политики и художественного творчества посвящен
третий, заключительный раздел «Контрреволюции и бунта» —
«Искусство и революция», опубликованный также в качестве
отдельного эссе в журнале «Партизан ревю» !. Сегодня главным
объектом критической переоценки у Маркузе выступает идея
об «искусстве как форме реальности», то есть то положение,
которое в его предшествующих работах играло роль центрального
по л итико- эстетического принципа.
Само выражение «искусство как форма реальности» сегодня
Маркузе считает «двусмысленным», полагая, что никогда не
будет ликвидировано специфическое «напряжение» между
искусством и реальностью, что никогда искусство не сможет
«раствориться» в реальности. Более того, саму эту идею Маркузе
называет уже «материалистической версией абсолютного
идеализма» 2, немыслимым единством субъекта и объекта.
Самокритика Маркузе могла бы быть оправдана, если бы вслед за ней
шло позитивное решение рассматриваемого вопроса,
основывающееся на понимании искусства как особого отражения
действительности. Однако, отвергая действительно уязвимые
положения эстетики контркультуры 60-х годов, Маркузе заменяет
их не менее ошибочными тезисами.
Леворадикальный теоретик исходит из признания глубокого
кризиса и даже полного распада классической традиции бур-
1 Ma reuse H. Art and Revolution.—«Partisan Review», 1972,
N 2.
2MarcuseH. Counterrevolution and Revolt, p. 108.
70
жуазного искусства и культуры, объясняя его даже не столько
влиянием леворадикального социально-культурного
авангардизма, сколько новейшими императивами развитого капитализма,
«общества потребления». «Сегодня,— пишет он,— разрыв с
буржуазной традицией в искусстве, как «серьезном», так и
массовом, кажется уже бесповоротным. Новые «открытые» формы или
«свободные формы» демонстрируют уже не просто новую фазу
в исторической смене художественных стилей, но отрицание
самого мира, в котором жило искусство, демонстрируют попытки
изменить историческую функцию искусства. Являются ли эти
попытки шагом вперед по пути к освобождению?» 1 Если в 60-х
годах Маркузе считал, что это именно так и есть, то теперь
он уже склоняется к отрицательному ответу на поставленный
им вопрос.
Фактически Маркузе отрицает пропагандировавшуюся им же
самим в прошлом идею десублимации культуры и искусства
средствами «эмансипации чувственности» как единственно
возможного пути к ликвидации социальной репрессии и созданию
«нерепрессивной культуры». Десублимация искусства, создание
«чувственной культуры», пишет он, означало бы сознательное
разрушение автономной художественной формы и
«растворение» искусства в реальности, в общественной жизни, перевод
искусства из «иллюзорного» измерения в «реальное»,
превращение его в «форму реальности». Между тем политический
потенциал искусства Маркузе на этот раз усматривает как раз в его
«иллюзорности», в самой художественной форме как таковой.
«Разрушительный потенциал коренится в самой природе
искусства, однако каким образом могло бы оно превратиться в
реальность, иначе говоря, как могло бы оно быть выражено,
чтобы стать путеводителем и элементом практики социальных
изменений и при этом не перестать быть искусством, не
потерять свою внутреннюю разрушительную силу?» — задается
вопросом Маркузе и отвечает: «Искусство может проявить свой
радикальный потенциал только в качестве искусства, в своем
М а г с u s с II. Counterrevolution and Revolt, p. 82.
71
языке и образе, которые лишают силы обычный язык, «прозу
жизни» '. Согласно этой новой позиции Маркузе, тождество
искусства и революции никогда не может быть достигнуто, а
конкретное политическое содержание произведения искусства под
влиянием художественной формы становится «метаполитиче-
ским», подчиняется внутренним закономерностям
художественного развития. «Ликвидация художественной формы, идея,
будто искусство может стать компонентом революционной (и
предреволюционной) практики, пока при полностью развитом
социализме оно не будет полностью переведено в реальность (или
поглощено «наукой»),— эта идея является ложной и
надуманной: это означало бы конец искусства» 2.
Как видно, Маркузе прежде всего совершенно произвольным
образом понимает соотношение формы и содержания
произведения искусства. Вместо диалектического и материалистического
решения вопроса, основывающегося на принципах ленинской
теории отражения, Маркузе явно склонен отдавать приоритет
чисто формальным моментам, подчинять форме выражаемое
ею содержание, наконец, усматривать в ней преобладающую
над содержанием самостоятельную ценность. Кроме того, хотя
Маркузе и использует по видимости марксистскую
терминологию, его позиция не имеет ничего общего с марксистской
эстетикой. Достаточно сказать, что марксизм никогда не
предполагал, что в развитом социалистическом обществе искусство будет
«переведено» в реальность, но, напротив, всегда видел в
искусстве активную силу общественного прогресса, подчеркивая
нормативно-ценностный характер эстетического идеала.
Теперь для Маркузе радикальный политический потенциал
искусства оказывается тождествен как раз тому, против чего
он прежде выступал,— «иллюзорности» художественного
произведения, его «отстраненности» от реальной общественной жизни
с ее нормами и запретами. Искусство, с этой точки зрения,
всегда должно оставаться своеобразным критическим коррективом
1 М а г с u s e H. Counterrevolution and Revolt, p. 103.
2 Ibid., p. 107.
72
по отношению к «несовершенной» в сравнении с эстетическим
идеалом реальности. Сила искусства, его социальная
действенность оказываются здесь связанными не с принципиально
верным отражением общественной реальности с позиций
прогрессивных общественных сил, но, напротив, с эстетической
субъективностью, «удаленностью» искусства от социальной
конкретики. «Иллюзорный», субъективный характер эстетической
формы, с этой точки зрения, открывает «новое измерение» в
буржуазной реальности, измерение свободы и наслаждения.
Впрочем, эти свобода и наслаждение как раз и являются
«иллюзорными», «нереальными» в том смысле, что их реализация
ожидается не в действительной общественной жизни, а в сфере
субъективного эстетического переживания. Ясно, что это совсем
не те свобода и наслаждение, достижение которых прежде
расценивалось Маркузе как политическая цель эстетики
контркультуры.
Существенной переоценке Маркузе теперь подвергает
исходную проблему эстетики контркультуры — вопрос о соотношении
искусства и политики (революции). Выше мы могли убедиться,
что само понятие революции у Маркузе всегда было весьма
далеко от его марксистского понимания и что сегодня оно служит
лишь формальным оправданием для изменения политической
тактики «новых левых», перевода активного протеста в
просветительское действие. Если в своих прежних работах,
выражая сокровенные идеи эстетики контркультуры 60-х годов,
Маркузе требовал подчинения искусства политике, а в конечном
счете — и его «растворения» в общественной жизни, то в 70-х
годах он придерживается уже диаметрально противоположной
позиции.
Маркузе полагает, что «политическое измерение» должно
быть подчинено иному, «эстетическому измерению», которое
уже в силу одного этого обстоятельства призвано приобрести
радикальное политическое значение. Таким образом, согласно
этой новой логике маркузианства, радикальный потенциал
искусства, его критическая и разрушительная сила (заметим в
скобках, что Маркузе практически ничего не говорит о созида-
73
тельной, творческой силе искусства) всецело обусловливается
отнюдь не содержанием художественного произведения, а его
формой. Причем как-то само собой предполагается, что, чем
более «экстравагантна» форма, тем больший радикальный
критический потенциал приобретает произведение, независимо от
его содержания.
«Радикальное стремление поддержать и усилить «силу
отрицания», разрушительный потенциал искусства должно быть
стремлением поддержать и усилить отчуждающую силу
искусства— эстетическую форму, единственную, в которой
радикальная сила искусства становится поддающейся коммуникации» \—
пишет Маркузе. Как видно, в немалой степени эта новая
позиция Маркузе вольно или невольно оборачивается апологией
формотворчества, обоснованием идеи «разрыва» содержания и
формы художественного произведения. Пожалуй, на наиболее
характерные признаки нынешней переориентации маркузиан-
ства указывает следующее обстоятельство: если в «Эросе и
цивилизации», «Одномерном человеке» (1964), «Эссе об
освобождении» (1969) и других ранних работах Маркузе, фиксируя
социальную ситуацию отчуждения современного буржуазного
индивида (прежде всего его чувственности), высказывал надежду на
ликвидацию этого отчужденного состояния своеобразными
политико-эстетическими средствами, путем «растворения» искусства
в общественной жизни, то в «Контрреволюции и бунте» он
настаивает на увеличении именно «отчуждающей силы
искусства» на путях формотворчества. Понятно, что ни одно из этих
как будто бы диаметрально противоположных утверждений не
имеет отношения к марксизму, несмотря на то, что Маркузе
постоянно подчеркивает «творческий» характер своих
заимствований у Маркса.
Наконец, нужно сказать, что на заключительных страницах
«Контрреволюции и бунта» Маркузе признает, что современное
как общественно-политическое, так и культурно-духовное
развитие западного общества с особой остротой ставит на повестку
1 MarcuseH. Counterrevolution and Revolt, d. 110.
74
дня проблемы марксистской эстетики. С этим выводом можно
согласиться. Однако, зная характерный для Маркузе
субъективистский, а отнюдь не «творческий» характер заимствований у
марксизма, нельзя не относиться к его декларациям с
невольным сомнением, тем более что он пишет о том, что
«компетентное обсуждение этих вопросов нуждается в написании новой
книги» !.
И эта книга была действительно написана. В 1977 году на
немецком и в 1978 году в переводе на английском языке была
опубликована новая книга Маркузе — «Эстетическое измерение.
К критике марксистской эстетики». Уже само ее название
указывает на то действительное направление, в котором
происходила эволюция маркузианства. Критика марксистской
концепции искусства, социальной обусловленности художественного
творчества, роли искусства в общественной жизни становится
стержнем этой последней работы Маркузе.
По собственным заверениям, Маркузе ставит перед собой
удивительную по внутренней противоречивости задачу: «внести
вклад в разработку марксистской эстетики путем переоценки ее
ортодоксии». Причем под «ортодоксией» здесь имеется в виду
«интерпретация качества и ценности произведения искусства в
категориях тотальности существующих производственных
отношений. Согласно этой интерпретации, произведение искусства
более или менее адекватно отражает интересы и мировоззрение
определенного социального класса»2. Таким образом,
фактически «ортодоксией» оказывается само историко-материалистиче-
ское понимание явлений сознания, разработанное классиками
марксизма, в том числе и понимание искусства как формы
общественного сознания.
Маркузе вполне откровенно ставит вопрос о переоценке
«основной концепции марксистской эстетики», которую он
определяет как «рассмотрение искусства как идеологии» и подчер-
1 MarcuseH. Counterrevolution and Revolt, p. 122.
3Marcuse H. The Aesthetic Dimension. Toward a Critique of
Marxist Aesthetics. Boston, 1978, p. IX.
75
кивание «классового характера искусства». И вот здесь-то уже
и продемонстрирована однобокость его интерпретации
марксистской концепции искусства. Почему-то совершенно произвольно
отброшены те положения марксизма, которые предполагают
диалектическое рассмотрение специфики художественного
освоения действительности, учет как социально-классовой
обусловленности искусства и его роли в общественной жизни, так и
особенности самой эстетической оценки, осуществляемой с позиций
определенного эстетического идеала.
Когда же далее Маркузе перечисляет те положения, которые
объявлены им «основными принципами марксистской эстетики»,
становится очевидным, что на самом деле речь идет о
вульгарно-однобоких, извращенных образцах марксистской концепции
искусства. Чего стоят, например, такие «принципы»,
приписываемые марксизму, как «истинным» искусством является
искусство господствующего класса; художник «обязан» выражать
нужды и интересы господствующего класса; реализм является
«осубожественной формой», которая наиболее «адекватна»
существующим общественным отношениям и которая поэтому
является наиболее «правильной» художественной формой, и т. д.
Действительно, избрав такие «принципы» объектами критики,
совсем нетрудно указать на их несоответствие динамичной и
диалектичной художественной практике. Проблема, однако,
заключается в том, что речь в данном случае идет отнюдь не о
принципах марксистской эстетики, а о выдаваемых за них
положениях вульгарной социологии, против которых, как
известно, резко выступали классики марксизма-ленинизма.
В то же время подмена марксистской концепции искусства
вульгарно-социологической используется Маркузе как способ
критики самой теории отражения, понимание искусства как
«специфической формы художественного отражения
действительности, идеи взаимозависимости между искусством и
материальной базой общества. Поэтому, хотя Маркузе й заявляет,
что главным объектом его критики являются не сами
«довольно-таки диалектические формулировки Маркса и Энгельса», а
«жесткие схемы» их последователей (?!), в действительности
7$
его критика направлена на исходные, философско-мировоззрен-
ческие принципы марксистской концепции искусства.
Складывается впечатление, что в «Эстетическом измерении»
Маркузе борется как бы на два фронта: с одной стороны, против
марксистской эстетики, а с другой — против кардинальных
положений эстетики контркультуры 60-х годов, прежде всего
против своего же прежнего тезиса об «искусстве как форме
реальности». Это центральное положение политико-эстетической
утопии «нерепрессивной цивилизации» он объясняет влиянием
материалистического понимания социальной природы искусства,
почерпнутого, как утверждается, контркультурой у марксизма.
Такая произвольная постановка вопроса преследует в первую
очередь тактические цели — сделать марксизм ответственным
за политические и идейно-художественные неудачи
контркультуры. Одновременно отказ от идеи социальной обусловленности
искусства и его активной общественной функции в сегодняшнем
маркузианстве призван служить своеобразным обоснованием
некоторых реальных тенденций в эволюции движения протеста
в 70-х годах на Западе — прежде всего спада политической
активности и переноса внимания на проблемы «новой
рациональности», обретающей себя в сфере идеологического и культурно-
художественного творчества.
В этой связи сам Маркузе признает, что перенос акцентов с
проблем политики на проблемы эстетики в тех условиях, когда
«убогая реальность» современного Запада может быть изменена
только посредством «радикальной политической практики», в
каком-то отношении является выражением «отчаяния»,
бегством от реальности, стремлением к уходу в мир иллюзорных
образов. И здесь Маркузе в определенном отношении прав,
учитывая действительную эволюцию леворадикального движения в
70-х годах. Но в то же время он высказывает мнение, будто бы
«искусство само по себе выражает истину, опыт, потребность,
которые, хотя и не относятся к области радикальной практики,
тем не менее являются важными компонентами революции» К
1 М а г с u f e H* The Aesthetic Dimension..., p. I.
11
Здесь Маркузе уже не может не противоречить своим
собственным взглядам, выраженным в его предшествующих работах.
Если в работах 50-х и 60-х годов революционность искусства
Маркузе усматривал в его непосредственной политической
действенности, активности, то сегодня он называет
революционными те художественные направления, которые представляют
«радикальный разрыв с традицией в стиле и технике», и в качестве
примера приводит экспрессионизм и сюрреализм. Как
справедливо отмечает В. П. Шестаков, важную часть «аргументации,
которую Маркузе пытается использовать для «опровержения»
марксистской эстетики, он заимствует из формалистической
эстетики с ее культом «автономной формы»... Здесь
принципиальный формализм, противопоставление формы и содержания
выдается за радикализм в политике и новаторство в эстетике» 1.
В самом деле, в «Эстетическом измерении» Маркузе пишет,
например, следующее: «В отличие от ортодоксальной марксистской
эстетики я усматриваю политический потенциал искусства в
искусстве самом по себе, в эстетической форме как таковой.
Кроме того, я утверждаю, что благодаря своей эстетической
форме искусство в значительной мере автономно по отношению к
существующим общественным отношениям. В этой
автономности искусство одновременно и протестует против этих
отношений, и трансцендирует их. Поэтому искусство и разрушает
господствующее сознание, привычный опыт» 2.
Как видно, вопрос о соотношении искусства и политики и
роли искусства в общественной жизни ставится Маркузе
исключительно в контексте модной сегодня на Западе теории
«разрушительного потенциала искусства» (например, аналогичные
взгляды применительно к эстетике кино развиваются в книге
американского искусствоведа леворадикальной ориентации
Амоса Фогеля «Кино как разрушительное искусство»э). При этом
1 Шестаков В. П. О новом «измерении» Герберта
Маркузе.— «Вопр. лит.», 1978, № 9, с. 282.
2 MarcuseH. The Aesthetic Dimension..., p. IX.
3 См.: Vogel A. Film as a Subversive Art. New York, 1974,
78
критическая сила искусства усматривается Маркузе не в
принципиально верном отражении социальной реальности с позиций
прогрессивного класса, а во «внеисторической сущности
искусства» — в его «эстетическом измерении», создаваемом самой
художественной формой, а не содержанием произведения.
Более того, политический потенциал искусства Маркузе
сегодня видит не только не в «растворенности» искусства в
общественной жизни, но, напротив, в его максимальной удаленности
и отстраненности от конкретного социального контекста.
«Политический потенциал искусства лежит только в его
собственном эстетическом измерении. Его отношение к практике
является безжалостно косвенным, опосредованным и фрустрирую-
щим. Чем более непосредственное отношение к политике имеет
произведение искусства, тем более оно умаляет свою остраняю-
щую силу, свои радикальные и трансцендентные цели
изменений. В этом смысле поэзия Бодлера и Рембо может обладать
большим разрушительным потенциалом, чем дидактические пьесы
Брехта» !. Таким образом, Маркузе, с одной стороны, как будто
бы хочет сказать, что искусство должно «преодолевать»
идеологические нормы существующих буржуазных отношений и
противопоставлять им «идеальный образ новой реальности», однако
здесь его ждет неразрешимое противоречие.
Дело прежде всего в том, что сама эстетическая форма,
которая, согласно его интерпретации, «удаляет» искусство от
реальной общественной жизни, «выводит» его в новое —
«эстетическое» — измерение и в которой, далее, воплощается
критическая функция искусства, с одной стороны, «удаляет искусство
из актуальной сферы классовой борьбы», а с другой — «отрицает
реалистически-конформистское сознание» 2. Для Маркузе
феномен эстетического остранения, достигаемый посредством
модернистской формы, оказывается воплощением критического
потенциала искусства. В итоге всех этих рассуждений
предлагается следующий выход: поскольку реализм расценивается вуль-
1 М а г с u s е П. The Aesthetic Dimension..., p. XII—XIII.
2 Ibid., p. 8.
79
гарно-социологически — как метод конформистско-апологетиче-
ского сознания, искусство «должно» вечно разрушать свою
традиционную форму и так же вечно стремиться к бесконечному
модернистскому формотворчеству.
В какой-то мере Маркузе все же хочет сохранить
формальную преемственность по отношению к своей прежней позиции
по вопросу о роли искусства в общественной жизни. В
«свободном обществе», пишет он, художественные образы станут
«аспектами реальности»; однако, добавляет Маркузе, «даже и такое
общество не возвестило бы конца искусства, преодоления
трагедии, примирения Диониса и Аполлона». В целом свою книгу
Маркузе заканчивает на пессимистических нотах: «Социализм
не может и никогда не сможет освободить Эрос от Танатоса.
Таков предел, который требует революционного преодоления
любого достигнутого уровня свободы: это борьба во имя
невозможного, против непобедимого, чьи владения, очевидно, никогда
не будут завоеваны... На искусстве остается печать несвободы;
сопротивляясь ей, искусство обретает свою автономию» '.
Подчеркнем со своей стороны, что эстетический (а в
определенной мере и политический) пессимизм последней книги
Маркузе обусловлен отнюдь не неспособностью социализма
«освободить Эрос от Танатоса»,— теория научного социализма и
реальная социалистическая практика ставят и успешно решают
иные задачи и прежде всего освобождают труд от эксплуатации
и частной собственности. Другое дело, что
социально-эстетическая утопия «нерепрессивной цивилизации», в формирование
которой немалый вклад внес Маркузе и которая оказалась
полемически заостренной не только против буржуазного общества,
но и против реального социализма, не могла оправдать
возлагавшихся на нее левыми радикалами надежд.
Мы стремились показать, что теоретические (а в известной
мере и политические) изъяны левого радикализма, его
противоречивая эволюция и идейные метания от концепции «новой чув-
1 М а г с u s e H. The Aesthetic Dimension..., p. 72—73.
80
ственности» до «новой рациональности» и от понимания
искусства как «формы реальности» до его полной изоляции от
действительных социально-классовых отношений — все это в
значительной мере было предопределено ненаучным,
субъективистским и недиалектическим пониманием контркультурой
кардинальных проблем эстетики и в первую очередь проблемы места
и роли искусства в общественной жизни. Основное внимание
нами было сосредоточено на тех концептуальных схемах,
которые в 60-х и 70-х годах лежали в основе «практического»,
реально функционирующего политического и эстетического сознания
контркультуры. Наряду с этим представляется необходимым
вновь подчеркнуть изначальное отличие теоретической схемы
(какой она получилась, например, у Маркузе) от «живого»
художественного творчества и непосредственно-стихийного
протестующего сознания, которые, как мы увидим, конечно же,
неизмеримо богаче, шире, разностороннее. В то же время анализ
теоретической конструкции позволяет достичь своего рода
идеологических и эстетических «пределов» той или иной идейно-
художественной тенденции, а следовательно — «высветить» ее
глубже, как бы «изнутри», увидеть управляющие ею
внутренние механизмы и закономерности, а также грозящие ей (на
первый взгляд незаметные) опасности.
Как политическая практика леворадикального протеста 60-х
годов, так и художественная практика контркультуры в целом
были исполнены духа радикальной антиимпериалистической
критики, глубокого неприятия всех сторон буржуазного образа
жизни, буржуазной культуры и искусства. В этом смысле им
удалось внести новую струю в социально-политическую и
идейно-художественную жизнь современного Запада. Но наряду с
этим нельзя не видеть и свойственных радикальному
социально-культурному протесту 60-х и начала 70-х годов
теоретических и практических просчетов, заблуждений,
обусловленных как противоречивой социальной природой
леворадикального протеста, так и эклектизмом его идеологических и фило-
софско-эстетических источников. Характерно, что именно на
теоретическом уровне по л итико-эстетической утопии контр-
81
культуры многие из свойственных стихийному сознанию
протеста уязвимых мест приобретали концептуально
закостеневшую форму и зачастую противопоставлялись научной идеологии
и реальной практике революционно-освободительного процесса.
Поэтому, говоря о парадоксах идейной эволюции эстетики
контркультуры, мы в первую очередь имеем в виду эволюцию ее
теоретических обоснований, идейные метания ее идеологов из
одной крайности в другую. При этом мы специально не
останавливаемся здесь на том обстоятельстве, что многие идеи и
мотивы контркультуры 60-х годов, несмотря на несомненный
политический спад левого радикализма в 70-х годах,
сохранились и вошли в общественную и культурно-художественную
жизнь современного Запада.
Наконец, последнее замечание. Политический спад и идейный
и организационный разброд в леворадикальном движении
протеста, обозначившиеся в начале 70-х годов, стали одной из
причин, которые вызвали усиление критики контркультуры ее
правыми оппонентами, идеологическими сторонниками буржуазного
«статус-кво». Эта критика прямо противоположна марксистскому
критическому анализу контркультуры, поскольку всецело
определяется интересами буржуазно-апологетических кругов,
всеми силами стремящихся к стабильности отжившего
общественного строя и опасающихся всего нового — будь то в развитии
общества, в политике, культуре или искусстве.
Буржуазно-апологетическая критика эстетики
контркультуры получила развитие в рамках «новой» консервативной
реакции на леворадикальные тенденции в общественно-политической
и культурно-духовной жизни Запада 60-х годов — реакции,
признаки которой обозначились в 70-х годах. Одно из важных мест
в идеологии «нового» консерватизма заняли общие проблемы
культуры и искусства. Нетрудно убедиться, что по сравнению
с эстетикой контркультуры эти проблемы получили в «новом»
консерватизме диаметрально противоположную трактовку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
«Новый» консерватизм и культура
1. Консервативная «реставрация»
и социальные функции искусства
Западные публицисты и литераторы умеют находить
выразительные метафоры, когда вместо обстоятельного и
конкретного анализа нужно сжато, в двух словах дать наглядную и
запоминающуюся характеристику тому или иному сложному и
далеко не однозначному культурно-историческому или
художественному явлению; главное — найден емкий символ, «имедж»,
яркий образ, заменяющий недостаток конкретных знаний, а то
и отражающий какой-либо частный классовый интерес.
К примеру, если «тихие 50-е годы» западная пресса, кино,
телевидение именовали временем «молчаливого поколения», а
«бурные 60-е» — временем «поколения протеста», то 70-е годы
сегодня часто называют «двойниками 50-х», а современной
молодежи Запада с легкой руки средств массовой информации
грозит участь быть окрещенной «поколением разуверившихся и
покорившихся радикалов». «Движение протеста кончилось — не
будучи подавленным, оно распалось само,— пишет П. Старр.—
...Конфликты, прежде открыто раздиравшие общество,
локализировались и вошли внутрь, и теперь они тихо подрывают жизнь
людей, отмеченных знаком 60-х годов» '.
В самом деле, спад политической активности американских и
западноевропейских «новых левых» как будто бы
несомненен— это констатируют не только противники движения
протеста, но и его бывшие активисты. Выражая бытующие сегодня
на Западе типичные умонастроения, социолог Ф. Фридман в
1 S t а г г P. Rebels After the Cause: Living with Contradictions.—
tNew York Times Magazine», 1974, 13 oct., p. 31.
88
своем исследовании «Молодежь и общество» выделяет три этапа
в леворадикальном движении молодежи и студенчества. Первый
этап — с 1960 по 1965 год. Он отмечен последовательным ростом
интереса к частным политическим вопросам: борьбе за
гражданские права, движению за мир, проблемам обучения и т. д.,—
интереса, который в целом не выходил за пределы либерально-
гуманистического мировосприятия. С 1965 по 1969 год
развернулся этап радикальной антиавторитарной борьбы,
политического насилия и тотальной критики существующей западной
цивилизации, ее культуры и искусства. Однако
антиавторитарная фаза движения длилась недолго: «радикальные студенты
вскоре убедились на собственном опыте, что самопроизвольность
и спонтанность не сокрушат систему... после чего начался новый
этап, внешне более тихий, отмеченный отчаянием и крушением
надежд, с одной стороны, и засильем идеологической и
политической групповщины — с другой» *.
Начало 1970-х годов знаменуется, по его мнению,
окончательным распадом большинства молодежных леворадикальных
организаций. Часть обманутых в своих ожиданиях бывших
политических активистов пытается воплотить идеи
альтернативной культуры в сфере художественного творчества, эстетики.
Другая часть, забыв свой прежний максимализм и разделив
убеждение о пользе «малых дел», стала работать «в системе»,
используя институты буржуазной демократии. Некоторые
вступили в «старые» левые и демократические партии, иные впали
в состояние апатии и наркотической прострации...
Наряду с такими суждениями в западной литературе сегодня
бытует точка зрения, согласно которой необходимо строго
разграничивать, с одной стороны, политические формы протеста
леворадикальной молодежи и интеллигенции Запада, а с
другой—их культурно-художественный протест. Первые, как
утверждается, сошли на нет в 70-х годах, тогда как второй только
укрепился и усилился. «Культурный бунт продолжается и даже
! FriedmannF. Youth and Society. London, 1971, p. 64f 36,
U
усилился, в то время как политический бунт резко пошел на
убыль» *,— заявляет американский историк К. Ван Вудворт.
Какой бы ни была конкретная оценка 60-х годов, в
современной западной социологической и эстетической литературе
уже глубоко укоренилось их категорическое противопоставление
духу 70-х. Попытки осмысления мирового
культурно-художественного процесса в категориях десятилетий оказались
характерной чертой современного буржуазного сознания, причем
оценка буржуазной политической и философско-эстетической
мыслью 70-х годов всецело укладывается в рамки циклической
схемы: конформизм — бунт — конформизм и т. д. «Новый
радикальный мятеж привел, а в известном смысле породил
«неоконсервативную» реакцию. Тогда господствующие настроения были
агрессивными, сомневающимися, критическими. Сейчас,
напротив, они осторожны, примирительны, апологетичны»2,— пишет
Р. Гиллэм.
Сегодня точка зрения на современное развитие мировой
культуры и политики как на циклическую смену «левых» и
«правых» тенденций и уклонов стала чуть ли не повсеместно
распространенной на Западе, причем 70-е годы
отождествляются с «десятилетием консерватизма». «Правая тенденция в
середине 70-х годов совершенно очевидна»3,— утверждает
буржуазная пресса. Рост консервативных настроений и тенденций
сегодня отмечается в идейно-политической и культурной жизни
ряда стран Западной Европы. Политические обозреватели говорят
даже о «всемирной тенденции к консерватизму»,
распространившейся от Соединенных Штатов и Канады до Австралии и
Японии.
Согласно наиболее распространенному сегодня на Западе
мнению, причины появления «нового» консерватизма усматри-
1Van Woodward С. What Became of the 1960s? — «The New
Republic». 1974, Nov., p. 20.
2 Q i 11 a m R. Intellectuals and Power.— «The Center Magazine»,
1977, May —June, p. 15.
3 Sulzberger C. Edging Toward the Right,— «International
Herald Tribune», 1973, 29—30 Sept., p. 4*
Si
ваются в первую очередь в якобы неизбежной циклической
реакции «средних» слоев буржуазного общества на
распространение в прошлом десятилетии настроений социального
критицизма, леворадикальных движений протеста, контркультуры.
С этой точки зрения 70-е годы стали периодом консервативной
«реставрации», усиления консервативных тенденций в западной
политике и культуре.
В этом плане интересно мнение известных буржуазных
футурологов Г. Кана и Б. Брюс-Бриггса.
Эти авторы указывают на характерные признаки того, что
движение «новых левых» переживает роковой спад: уменьшение
количества демонстраций, фракционная борьба, раздоры и
распад большинства молодежных организаций, их вырождение в
террористические группы, наркотики и квиетизм среди
молодежи. «Скорее всего, контркультура 1960-х годов окончательно
зачахнет,— пишут они.— Так или иначе, период ее первоначального
бурного развития закончился» 1. Главная опасность для
молодежной культуры, по их мнению, это процесс ее
коммерциализации. «Контркулътура — это уже не «авангард».
Психологический механизм моды прозрачен — как только общество приняло
ее более или менее широко, авангард бросает ее и ищет нового.
То, что «Зеленеющая Америка» Ч. Рейча была бестселлером в
Америке (то есть самой популярной книгой среди
провинциальных домохозяек), означает, что ее идеи стали банальными,
респектабельными, трафаретными не только среди молодежи, но и
среди среднего поколения (Ч. Рейчу самому за сорок).
Авангарду пришло самое время отказаться от идеи контркультуры»2.
В начале 70-х годов эти авторы предсказали наступление
эпохи «контрреформации», «движения к консерватизму»,
представляющих собой охранительную реакцию на контркультуру
в форме возрождения «традиционных» буржуазных ценностей.
Этот тезис получает дальнейшее развитие в последующих рабо-
1 К a h n H. and Bruce-BriggsB. Things to Come. New York,
1972, p. 92.
2 Ibid., p. 93—94.
И
тах Г. Кана в рамках исследований Гудзоновского института: в
контркультуре он видит проявление «эрозии» основных
социальных авторитетов — религии, законности, лояльности,
«пуританской этики» и т. д., а «движение контрреформации» расценивает
как последовавшую за спадом леворадикального протеста
попытку возрождения этих традиционных авторитетов и
ценностей.
При этом нельзя не обратить внимание, что буржуазная
критика, выступившая в начале 1970-х годов с тезисом о «кризисе»
левого радикализма, характеризуется прежде всего выборочным
вниманием: тщательно отсортировываются только те
показатели, которые свидетельствуют о «кризисном» положении
движения протеста. Буржуазные авторы сознательно отказываются от
тщательного рассмотрения таких вопросов, как переход
большого числа бывших новых левых в ряды коммунистических и
рабочих партий Запада, продолжающийся протест и
недовольство молодежи и интеллигенции, развитие
социально-критических тенденций и направлений в современной западной
культуре и искусстве.
Все эти обстоятельства отчетливо указывают на вполне
определенную социально-классовую обусловленность
распространенной сегодня на Западе точки зрения, согласно которой бурные
социальные катаклизмы прошлого десятилетия сменила эпоха
консервативной «реставрации» или «контрреформации»,
знаменовавшая решительный отход от системы радикальных
политико-эстетических ценностей, предложенных контркультурой
(«контрреформация» не случайно часто определяется как
«контрконтркультура»), и возвращение на сугубо
консервативные позиции.
Так, Генри Фэйрли, английский журналист и публицист, уже
долгое время живущий в США, утверждает, что 70-е годы
отмечены знаком «усталости» от 60-х годов, в чем он прежде всего
и обвиняет контркультуру. В резко изменившемся духовном
климате Запада, согласно его утверждениям, широкую
популярность завоевывают консервативные идеи: «Сейчас, в конце 70-х
годов, уже видно, что везде тон задают именно консервативные
87
интеллектуалы. Этот консерватизм не возник из ничего. Он
подготавливался в течение долгого времени. Сила его иссякнет
очень не скоро... 70-е годы,— прямо заявляет Фэйрли,— ...это
Десятилетие Реакции» К Характерно, что, согласно утверждениям
этого англо-американского автора, «новый» консерватизм четко
проявился сегодня не только в политике и общественной жизни
Запада, но и в искусстве, художественном творчестве, эстетике.
В данном слзгчае Фэйрли ссылается на то обстоятельство, что
вслед за политическими обозревателями, провозгласившими
наступление консервативной «реставрации», и многие популярные
на Западе искусствоведы и художественные критики также
заявили о появлении признаков «нового» консерватизма в
западном искусстве.
Пример известного американского искусствоведа и критика
Хилтона Креймера здесь, пожалуй, наиболее показателен. Крей-
мер, автор нашумевшей книги «Век авангарда» (1973), в середине
70-х годов возвестил о «консервативном возрождении» в
искусстве Запада, о наступлении эпохи «культурного консерватизма».
«Тяга к нарушению общепринятых норм и к новизне, к шоку
и убожеству, к нападкам на аудиторию и на само искусство —
все это явно уменьшилось, если не исчезло вовсе. Сейчас вкус
к ясности и согласованности, к красоте и определенности, к по-
вествовательности, мелодичности, патетичности, романтическому
очарованию, к общедоступному, к вчувствованию, а не к
разрушению — словом, вкус к искусству, которое доставляло бы
удовольствие и не ставило бы моральных проблем» 2,— пишет Крей-
мер.
Но какие же доводы приводит этот критик для
подтверждения своих тезисов? И здесь мы видим полное смешение стилей,
течений, направлений, тенденций, не только не проясняющих,
но, скорее, затуманивающих духовную ситуацию современного
1 Fairlie H. A Decade of Reaction.—«The New Republic», 1979,
6 Jan., p. 18.
2 Kramer H. A Yearning For «Normalcy». The Current Backlash
in the Arts.— «The New York Times», 1976, 23 May, p. 1.
88
Запада. Так, например, Креймер не без оснований указывает на
нынешнее распространение (или, вернее, возрождение) моды на
телевизионные «мыльные оперы», душещипательные
мелодрамы, детективы и триллеры. Но тут же в качестве
«доказательств» существования «консервативного крена» в западном
искусстве 70-х годов он ссылается на охлаждение интереса к
абстракционизму и более того — на рост интереса массового
зрителя к реалистической живописи, классическому балету,
опере «бель канто» и т. д. Креймер увлеченно говорит об успехе
классических постановок «Лебединого озера», «Спящей
красавицы», «Щелкунчика», «Жизели», «Ромео и Джульетты», об
интересе к музыке Доницетти, Беллини.
Возникает законный вопрос: при чем же здесь консерватизм?
Знание и интерес к классическому художественному
наследию является одним из важнейших компонентов развитого
эстетического вкуса. Поэтому-то и приведенные Креймером
примеры нисколько не подтверждают его идеи о господстве «духа
консерватизма» в западном искусстве и эстетической мысли 70-х
годов. Речь, скорее, идет о другом — о настойчивых попытках
определенных кругов насадить этот «дух», внедрить его в
общественное и художественное сознание современного Запада.
В то же время нельзя не признать, что сторонники идеи
консервативной «реставрации» стремятся апеллировать к
некоторым реальным тенденциям в развитии западного общественного
и художественного сознания, которые под определенным углом
зрения выглядят именно как усиление в нем консервативных
настроений. Дело в том, что данные некоторых опросов
общественного мнения свидетельствуют о наличии определенной
тенденции, заявляющей о себе как о тенденции к «более
консервативному» типу мышления и мировосприятия, особенно в США,
но также и в ряде западноевропейских стран. Об этом
свидетельствуют и материалы двух теоретических симпозиумов,
проведенных американским и английским журналами
«Комментарии и «Энкаунтер», в которых приняли участие многие
известные западные обществоведы, деятели культуры и искусства.
Характерны уже сами названия симпозиумов: «Что такое либе-
89
рал — кто такой консерватор?» и «Кто такие левые и что такое
правые?» х
Но еще более показательно, что большинство участников
обоих симпозиумов отметили поворот политической и идейной
«оси» Запада «вправо», в направлении консерватизма. В ходе
достаточно противоречивого обмена мнениями по-своему
прозорливой оказалась точка зрения А. Бейчмана о характерной
тенденции либеральной и консервативной идейных традиций к
конвергенции, составившей основу так называемого «нового»
консерватизма на Западе. Его главным источником
американский политолог считает фронтальную оппозицию подъему
«новых левых» и распространению контркультуры в конце 60-х
годов, а цементирующим началом — антикоммунизм и
антисоветизм. По его мнению, существенную роль в этом процессе
сыграла также неэффективность тех путей решения социально-
экономических проблем современного капитализма, которые
предлагались либералами. В результате, как полагает А. Бейч-
ман, в современной западной политической и духовной жизни
выявилась «новая» консервативная «культурная ориентация» —
акцент на традиции, преемственность, устоявшиеся авторитеты.
Действительно, новизна «нового» консерватизма не столько в
иной расстановке политических акцентов (хотя и это
существенно как выражение кризиса в пределах господствующего
буржуазного сознания), сколько в прямой защитной реакции на
волну массового протеста и широкие демократические движения
в развитых капиталистических странах.
Последнее обстоятельство уже проливает свет на подлинные
причины и механизмы обозначившейся на Западе в 70-х годах
консервативной «реставрации». В частности, в ходе дискуссии,
проведенной журналом «Партизан ревю» и посвященной
«новому культурному консерватизму», американский литератор
Морис Дикстейн с достаточным основанием заметил, что речь идет
1 What is a Liberal — Who is a Conservative? — «Commentary^
1976, Sept.; Who's Left, What's Right? — «Encounter», 1977, Febr.;
1977, March.
90
«не столько о возрождении консерватизма... сколько о явлении
более ограниченном и частном — о шумной кампании небольшой
группы процветающих редакторов и критиков, направленной на
то, чтобы повернуть вспять направление культурного развития
60-х годов, о рефлекторной реакции против реальных и
воображаемых эксцессов «новых левых» и «новой чувственности» '.
Действительно, сегодня на культурном горизонте Запада
довольно-таки громко заявила о себе группа влиятельных
буржуазных философов, социологов, эстетиков, литературных
критиков, стоящих на консервативных позициях. Среди них такие
известные имена, как Дэниел Белл, Питер Бергер, Ирвин Кри-
стол, Натан Глейзер, Раймон Арон, Пьер Бийар, Норман Под-
горец, Мидж Дектер, Роберт Низбет, а также многие, многие
другие. Кое-кто из них в прошлом бравировал «либерализмом»,
однако на рубеже 70-х годов под влиянием эксцессов
контркультуры начал эволюционировать «вправо». К «новым»
консерваторам примыкают и некоторые «традиционные»
консервативные мыслители, теоретики, деятели культуры,
объединяющиеся с первыми как на основе критики контркультуры, так и
разделяемых общих консервативных социальных и культурных
ценностей. Характерно и то, что и «новые» и «традиционные»
консерваторы сегодня уделяют самое пристальное внимание
вопросам культуры и искусства, пытаясь найти в них ключ к
решению социальных и политических проблем.
Современных «новых» консерваторов и консерваторов
традиционных объединяет полное неприятие радикальных
социально-культурных тенденций 1960-х годов, причем в
значительной мере это неприятие выражается в формах чисто возрастной
неприязни. Критика консерваторами контркультуры часто
звучит как родительское «отлучение» и «проклятие». Эти мотивы
отчетливо проявились, например, в книге М. Дектер
«Либеральные родители, радикальные дети», в которой она объясняет
размах леворадикального протеста и распространение контркуль-
1 On the New Cultural Conservatism.— «Partisan Review», 1972,
N 3, p. 419.
91
туры как оплошность, допущенную «родителями», которые
забыли о своих «родительских обязанностях» — «смотреть на
самих себя как на абсолютный авторитет добра и зла, правильного
и неверного» '. Общим для сегодняшних консерваторов является
склонность обвинять «интеллектуалов» и «левых критиков» в
том, что их «безответственная риторика» якобы стимулировала
рост настроений социального недовольства и протеста,
проявившихся и в искусстве Запада 60-х годов, многие представители
которого заняли достаточно четко выраженные антибуржуазные
позиции.
Однако как только консерваторы пытаются сформулировать
те политические и эстетические принципы, которые могли бы
стать альтернативой контркультуре, результатом оказывается
создание авторитарных схем, выдержанных в духе вполне
традиционной консервативной моралистики. Если определенные
художественно-эстетические тенденции контркультуры
выступили в оппозиции капитализму, то консервативная реакция на
них по-своему продемонстрировала враждебность капитализма
подлинному искусству. Это обстоятельство в той или иной
степени было зафиксировано и западными авторами.
Так, например, в своей работе «Врата рая», посвященной
подведению итогов культурно-художественного развития 60-х
годов и определению перспектив на будущее, тот же М. Дик-
стейн не может со своей стороны не признать, что «к началу
70-х годов само время продемонстрировало нам иллюзорность
и даже опасность «рая — немедленно» и раскрыло нам глаза на
те добродетели, которые мы третировали в более традиционной
литературной культуре 50-х годов». Наряду с этим он
подчеркивает, что консервативные ценности, как будто бы сменившие
в 70-х годах идеалы предшествующего десятилетия, не
являются плодотворными в плане вдохновения художественного
творчества. «Чувство ущемленных возможностей, несбывшихся
утопических надежд и израсходованных психологических ресур-
1 Decter M. Liberal Parents, Radical Children. New York, 1975,
p. 36.
92
сов,— пишет М. Дикстейн,— оказало сковывающее воздействие
на искусство» *.
«Сковывающее» воздействие современного консерватизма на
развитие западной культуры и искусства — то, о ч*м говорил в
своей книге М. Дикстейн,— обусловлено как раз тем, что и в
культуре и в искусстве консерватор усматривает в первую
очередь лишь функциональный инструмент, используемый для
того, чтобы держать в морально-религиозной «узде»
человеческое сознание. Что же касается тех нравственных ценностей, к
которым апеллируют консерваторы и в пропаганде которых они
видят задачу искусства, то они в значительной мере
воспроизводят давно уже устаревшие принципы так называемой
«протестантской этики», оставленной далеко позади самим развитием
капиталистической формации. Несоответствие этих идеалов
реальности современного капиталистического общества
оказывается для нынешних консерваторов источником глубокого
пессимизма.
«Поправевший» в 70-х годах Д. Белл пишет по этому поводу
следующее: «Протестантская этика и пуританский темперамент
были кодами, возвеличивавшими работу, трезвость,
бережливость, сексуальные ограничения и вообще всяческие запреты.
Они определяли природу морального поведения и социальной
респектабельности. Постмодернистская культура 60-х годов,
поскольку она сама себя называла «контркультурой»,
рассматривалась как вызов протестантской этике, возвещающий конец
пуританизма и развертывающий финальную атаку на
буржуазные ценности»2.
Одна из характерных и отличительных особенностей
«нового» консерватизма в том, что ему удалось придать многим
традиционным консервативным моральным и культурным
ценностям недостававшую им в прошлом интеллектуальную
респектабельность. Если прежде именно либерализм считался господ-
1 Dicks tein M. Gates .of Eden. New York, 1977, p. 255, 272.
2 В e 11 D. The Cultural Contradictions of Capitalism. New York,
1976, p. 55.
93
ствующим сознанием буржуазии, а консерватизм, скорее,
отождествлялся с идеологией феодально-аристократической реакции
на поступательное капиталистическое развитие, то сегодня
традиционные идеи консерватизма оказались прочно укорененными
в сознании апологетов буржуазного «статус-кво». В этой связи
по-новому зазвучало классическое определение консерватора,
данное англичанином Майклом Оукшоттом: «Быть консерватором
это значит предпочитать привычное — незнакомому,
испытанное — неизвестному, факт — загадке, реальное — возможному,
ограниченное — беспредельному, близкое — далекому,
достаточное — сверхобильному, удовлетворительное — блестящему,
нынешнюю улыбку — утопическому блаженству»1. Таким образом,
добродетели буржуазного охранительства были зачислены в
рубрику «консерватизма» и в своей совокупности определили
«стиль» консервативной «реставрации» 70-х годов.
При этом в содержательном плане современные
консерваторы унаследовали вполне традиционное «кредо консерватизма»,
которое, по определению Клинтона Росситера, включает
следующие «истины»:
«Существование всеобщего морального порядка,
санкционированного и поддерживаемого организованной религией.
Неисправимо несовершенная природа человека, в которой
неразумие и греховность скрываются под покрывалом
цивилизованного поведения.
Прирожденное неравенство людей по всем основным
параметрам ума, тела и характера.
Необходимость социальных классов и групп и поэтому
безрассудство попыток законодательного уравнительства.
Первичная роль частной собственности в достижении личной
свободы и защите социального порядка.
Неверие в прогресс и признание права давности как
основного закона социального развития.
1 Oakeshott M. On Being Conservative.— In: Ideologies of
Politics. Cape Town — London — New York, Ed. by A. de Crespigny and
J. Cronin, 1975, p. 24.
94
Необходимость в правящей и трудолюбивой аристократии.
Ограниченные возможности человеческого разума и важность
традиций, институтов, символов, ритуалов и даже
предрассудков.
Подверженность ошибкам и потенциальная тираничность
власти большинства и вытекающая отсюда желательность
разделенной, ограниченной и сбалансированной политической
власти» '.
Социальные функции культуры и искусства консерватизм
видит почти исключительно в пропаганде указанных положений
и воспитании соответствующего апологетического типа
личности.
Преемственность постулатов этого консервативного «кредо»
отчетливо обнаруживается в самых различных идейных
традициях консерватизма как в Европе — в Англии, Франции,
Германии, так и в Америке, что подтверждается многими подробными
исследованиями западных авторов. Также нужно сказать, что в
традиционном консервативном миросознании проблемы
культуры и искусства всегда занимали одно из важных мест. Далеко
не случайно, что многие из классиков традиционного
консерватизма или не были чужды художественно-эстетическим
интересам (Эдмунд Берк, Жозеф Местр, Луи Бональд), или сами были
поэтами и литераторами (Сэмюель Колридж, Уильям Вордсворт,
Новалис). Сфера духовности, в свою очередь истолкованная как
ригористическая причастность к миру высших «истин»,
противопоставляется здесь «вульгарной власти денег» и
«материализму». Характерно при эюм, что вопросы искусства, философии и
религиозной веры консервативное сознание как бы подводит под
общий знаменатель моралистики. В этом смысле
консервативная критика демократических и реалистических тенденций в
культуре и искусстве, осуществляемая на первый взгляд с
позиций «чистой красоты», по сути дела выполняет вполне опре-
1 Rossiter С. Conservatism.— In: International Encyclopedia of
the Social Sciences, vol. 3. London — New York, Ed. by D. Sills, 1968,
p. 293.
95
деленные социальные функции и ведется с точки зрения идеи
авторитарного социального «порядка» и резкой оппозиции
любым настроениям радикализма и недовольства, несущим угрозу
для стабильности классового «статус-кво».
Специфику культурно-эстетической платформы
традиционного консерватизма, попытки увязывания художественной
проблематики с консервативными социально-политическими
рецептами можно проиллюстрировать на примере так называемого
«культурного консерватизма» начала XX столетия,
представленного американскими (и некоторыми западноевропейскими)
авторами и оказавшего, как мы увидим, определенное влияние на
формирование эстетической концепции «нового» консерватизма
70-х годов. Будучи в основном представителями
художественных и элитарно-академических кругов, эти философы, критики,
эстетики, писатели, поэты — Джордж Сантаяна и Томас Стернз
Элиот, Ральф Адаме Крэм и Генри Менкен, «новые гуманисты»
(Ирвин Бэббит и Поль Мор) и «южные аграрии» (Джон Кроу
Рэнсом, Аллен Тейт, Дональд Дэвидсон) — все они, обличая
современное им буржуазное общество в прагматизме и
утилитаризме, забвении «вечного» и «духовного», в поисках своего
идеала обращаются к Древней Греции, средневековому
христианству, «старой Европе». Индустриализм в понимании этих
традиционалистских консерваторов означает вечное «изменение»,
разрушающее устоявшиеся патриархальные связи и вытесняю-
ющее «высшие» духовные ценности безудержной погоней за
материальным удовлетворением. «Индустриальный век привел к
хаосу. Машина оказалась чудовищем Франкенштейна,
национализм обернулся угрозой новой и на этот раз последней для
человечества войны»1,— утверждал еще в 30-х годах Крэм.
Неприятие современности и обращение к прошлому, к
аристократическим традициям средневековой Европы или
американского рабовладельческого Юга выразилось, например, в
выдвинутом «неогуманистами» философско-эстетическом лозунге
1 Cram R. Why We Do Not Behave Like Human Beings? —In:
The Superfluous Men. Ed. by R. Crunden. Austin and London, 1977, p. 88.
96
«Обратно к классицизму!», отражавшем их стремление
навязать искусству политический консерватизм. Так, в своей
программной статье «Что такое гуманизм?» (1908) Бэббит выступает
с требованием вернуть термину «гуманизм» его «изначальное»
латинское значение, которое он определяет как
«аристократическое следование доктрине и дисциплине». «Истинный»
гуманизм, который, согласно его утверждениям, должен вдохновлять
художника, противоположен идеологии альтруизма,
человеколюбия, вере в прогресс человечества !. «С точки зрения
цивилизации,— писал Бэббит,— принципиально важно, чтобы некоторые
индивиды в каждом обществе были освобождены от
необходимости заниматься физическим трудом, чтобы они могли
заниматься высшими формами деятельности и доказывать тем
самым свою способность быть лидерами» 2. Идеалом с этой точки
зрения служит художник-аристократ, творящий «высокое»
искусство и обучающий «толпу» законопослушанию и моральному
ригоризму.
Несколько иные акценты были сделаны в системе
традиционных консервативных социокультурных убеждений «южными
аграриями», подчеркивающими сословные и региональные
механизмы формирования элиты художников и правителей, все
так же противопоставленных «толпе». В своем программном
манифесте «Я займу свою позицию» (1930), подписанном
«двенадцатью южанами», «аграрии» возвестили о своем
наследовании традиций классической средневековой европейской
культуры и искусства — общественной иерархии, сословности,
аристократизма, «любви к прекрасному»3. Даже рабство, согласно их
утверждениям, было чем-то ужасным только под пером Бичер-
Стоу, тогда как в практике американского Юга это была
патриархальная идиллия, способствовавшая расцвету искусств и
ремесел. «Юг слепо привержен к тем формам европейского
настроения и поведения, которые были сокрушены французской
1 См.: Babbitt I. What is Humanism.— Ibid., p. 134.
2 Babbitt I. Democracy and Leadership.—Ibid., p. 218.
1 См.: I'll Take My Stand.— Ibid.
4 Зак. № G2
97
революцией и которые в очень слабой степени хранятся в
памяти Англии... Где, кроме Юга, имеется еще такое общество,
которое верит, хотя бы тайно, в Кодекс Чести?» ] — вопрошал
Тейт в работе под характерным названием «Реакционные
эссе» (1936).
Традиционное консервативное сознание на уровне внешнего
эмоционального настроя глубоко пронизано ощущением какой-
то онтологической катастрофы, разорванности привычных и
проверенных вековым опытом человеческих связей и
нравственных норм. Причем корни ощущаемой катастрофы
усматриваются в самой человеческой природе, лишившейся традиционных
сдерживающих механизмов морали и религии и прорвавшейся
в «злом» порыве «наружу». В этом смысле консерватизм
нередко называют «политической секуляризацией доктрины
первородного греха» 2.
В то же время идея злой человеческой природы
наполняется в консерватизме вполне определенным антидемократическим
содержанием. Как писал еще один из первых консервативных
критиков французской буржуазной революции, эстетик и
политик Э. Берк: «История по большей части слагается из
несчастий, которые обусловлены гордыней, честолюбием, жадностью,
мстительностью, похотливостью, соблазнами, лицемерием и
другими беспорядочными вожделениями, которым подвержены
массы»3. Эта черта традиционного консервативного сознания
сохранилась и по сей день, на что обращает внимание
американский социолог Ирвин Горовиц: «Изощренная
моралистическая артиллерия нового консерватизма имеет вполне светскую
цель — защиту стабильности общества, основанного на
принципах частной собственности» *.
1 Цит. по: Гиленсон Б. Заметки о «новой критике».—
В кн.: Вопросы эстетики. М., 1968, с. 265.
2 Viereck P. Conservatism Revisited. New York, 1966, p. 30
3 The Works of the Right Honorable Edmund Burke, vol. 3. Boston,
1865, p. 418.
4 Horowitz I. Ideology and Utopia in the United States:
1956—1976. London — Oxford — New York, 1977, p. 158.
98
Охранительные в политическом отношении функции
выполняет и принижение способностей человеческого разума,
вытекающее из свойственного традиционным консерваторам
религиозного абсолютизма, согласно которому индивидуальному
разуму не отводится роль даже «служанки богословия».
Характерной чертой традиционного консервативного сознания
является также требование безоговорочного подчинения нормам
религиозной морали, воплощающим «мудрость прошлых
поколений», что и вменяется в обязанность воспитателям
подрастающего поколения, а также ведущим деятелям культуры и
искусства.
Причем в качестве главной цели как воспитания молодежи,
так и самого художественного творчества выдвигается задача
социализации индивида, но не путем самораскрытия его личного
нравственного и эстетического потенциала, а посредством «вчув-
ствования» в некую моральную «истину».
Решение всех социальных проблем видится консерватору в
морально-религиозной «реконструкции» человеческого духа —
в том числе и средствами искусства, главной социальной
функцией которого, таким образом, оказывается «внедрение»
индивида в репрессивную общественную систему и «примирение» с
ней. Роль искусства в общественной жизни здесь фактически
исчерпывается вульгаризацией его социализирующей функции.
Тем самым представления консерваторов об общественной роли
искусства оборачиваются утилитарным редукционизмом,
существенно ограничивающим не только диапазон художественного
творчества, но и направленность эстетического восприятия.
В «Немецкой идеологии» К. Маркс и Ф. Энгельс вскрыли
реальные корни этих представлений и объяснили их возрождение
в современных формах действительными отношениями в рамках
буржуазной общественно-экономической практики.
«Представляющееся совершенно нелепым сведение всех многообразных
человеческих взаимоотношений к единственному отношению
полезности,— отмечали основатели марксизма,— эта по
видимости метафизическая абстракция проистекает из того, что в
современном буржуазном обществе все отношения практически
4*
99
подчинены только одному абстрактному денежно-торгашескому
отношению» '.
В то же время нельзя не видеть, что такого рода
реакционно-«просвещенческие» установки консервативного сознания,
истоки которых были раскрыты марксизмом, полны духом
теократизма, а также сожалений по поводу того, что
современная западная культура и искусство слишком уж погрязли, как
выражается современный американский консервативный
теоретик Джефри Харт, в «буржуазном эмпиризме» и стали «глухи»
к истинам христианства2. Показательно и то, что в сознании
консерватора рациональное познание и науки нередко
воспринимаются как «ложный Мессия», способный лишь зародить в
человеке опасный моральный релятивизм и скептицизм,
которому и противопоставляется религиозное и
художественно-эстетическое восприятие мира и общества.
Наконец, нужно сказать, что социальным идеалом
консерватизма является «порядок», «классовый мир», «социальная
гармония». О житейско-практическом фундаменте такого рода
представлений можно сказать словами К. Маркса, что он
представляет собой «не что иное, как дидактическое, более или
менее доктринерское истолкование обыденных представлений
действительных агентов производства», а поэтому
«ограничивается тем, что педантски систематизирует затасканные и
самодовольные представления буржуазных деятелей производства об
их собственном мире как лучшем из миров и объявляет эти
представления вечными истинами» 3.
Уместно будет еще раз подчеркнуть, что многие из
описанных выше политических, нравственных и эстетических
представлений традиционного консерватизма в той или иной форме
воспроизводятся и в рамках консервативной «реставрации»
70-х годов, выступившей в качестве реакции «справа» на контр-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 409.
2 Hart J. Truth and Culture.—cNational Review», 1977, 2 Sept.,
p. 992.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25, ч. 2, с. 398; т. 23,
с. 91.
100
культуру и радикальный протест молодежи и интеллигенции
Запада. Не случайно, например, что известный в США
консервативный философ и социолог Роберт Низбет заявил по поводу
социально-культурного протеста 60-х годов, что никогда еще на
Западе со времени падения Римской империи не было столь
нигилистического и деструктивного бунта против всех и
всяческих— социальных, моральных, культурных и
художественных— авторитетов. «Трудно найти хотя бы одно десятилетие
в истории западной культуры, когда бы столько варварства,
столько нападок на культуру и обычаи, столько деградации
культуры и индивида выплескивалось в печати, музыке,
искусстве» '. Контркультура как раз и была здесь истолкована как
«анти-культура», как «нашествие кентавров».
В уже цитированном нами симпозиуме «Что такое либерал —
кто такой консерватор?» Рональд Берман выразил широко
разделяемую неоконсерваторами точку зрения, когда заявил, что
культура и искусство Запада 60-х годов были всецело
сфокусированы на псевдоэстетском самопроявлении «Я», а отнюдь не на
каких-либо общественных ценностях всеобщего смысла и
значения. Культура и искусство 60-х годов были объявлены им
«стихией чувств» и «морального релятивизма»2. По мнению
другого консервативного литератора, современные западные
писатели, художники и интеллектуалы повторяют судьбу
легендарного Фауста, продавая свою душу «дьяволу чувственности
и пермиссивности» и тем самым способствуя дальнейшему
кризису интеллектуально-художественной элиты и углублению
«бездуховности века»3. Наконец, традиционный консервативный
антиинтеллектуализм здесь проявился уже и в расширительной
трактовке контркультурных тенденций в западной культуре и
искусстве, истоки которых стали усматриваться во «враждебной
культуре интеллектуалов XIX века» и тенденциях
критического реализма того времени.
1 Nisbet R. The Nemesis of Authority.—«Encounter», 1972,Aug.,
p. 16.
2 What is a Liberal — Who is a Conservative? p. 44.
3 Lapman L. The Cave of Winds.—«National Review», 1977,
16 Sept., p. 1058, 1060.
101
Как видно, «новые» консервативные критики контркультуры,
заявившие о себе с начала 70-х годов, в значительной мере
повторяют традиционные консервативные аргументы и тезисы.
Но есть здесь, действительно, и своя «новизна». Дело прежде
всего в том, что, несмотря на обилие критических разоблачений
и инвектив, раздающихся «справа», в начале 70-х годов нельзя
было не отметить некоторой сдержанности и даже молчания
тех сторонников контркультуры, которые как будто бы
примирились со своим поражением. Отмечая этот факт, их
консервативные оппоненты провозгласили не только крах политического
движения «новых левых», но и кризис самой идейной основы
контркультуры. В этой-то связи на первый план «новой»
консервативной критики сегодня и выступает попытка
переосмыслить сущность и значение контркультурных тенденций 60-х
годов, по-новому взглянуть на радикальные течения в западной
политике, культуре и искусстве. Быть может, самое
характерное в этой критике — использование особым образом
истолкованных категорий эстетики как новых аргументов, обличающих
любой социальный протест.
2. Леворадикальное «эстетство», или «новый» консерватизм
против контркультуры
При всей противоположности
консервативно-апологетического сознания 70-х годов и социальной эстетики контркультуры
в них оказался укорененным внешне сходный тип
интерпретации современного общественно-политического и культурно-
художественного процесса. Так, используя терминологию
западного культуролога Питирима Сорокина, многие
консервативные оппоненты «новых левых» утверждают, что
современная западная культура претерпевает под влиянием
контркультурных тенденций своего рода радикальную мутацию, которую
они определяют как переход от «идеативной» культуры к «сен-
сативной», то есть «чувственной». Как правило, это изменение
102
связывается с проникновением мотивов социально-культурного
радикализма в гуманитарную традицию западной культуры и
искусства, в результате чего в укоренившейся в западном
мироощущении дихотомии «чувственность» — «разум» ценностные
акценты переносятся с последнего члена на первый.
Буржуазные идеологи дают резко негативную оценку этой
схемы культурно-исторического процесса. Исходя именно из
нее, они инкриминируют левому радикализму и контркультуре
варварское отношение к завоеваниям западноевропейской
цивилизации и их забвение в чувственной аффектации. Возлагая
на радикальный социально-культурный авангард всю вину за
«материально-телесное» принижение духовных идеалов
западной культуры и искусства, буржуазные критики истолковывают
его как «антикультуру», как по л итико-эстетический апофеоз
чувственности. Чувственность в данном случае понимается как
практическая эстетическая способность, как стихия эмоций,
прорывающихся в мир политики, которому противопоказана
эффективность и который призван руководствоваться
взвешенными рассудочными критериями. В этом плане и
высказываются опасения, что «новый стиль культуры проникает и в
политику, поощряя разрушение разумности и цивилизованности» 1.
Особенностью новой, заявившей о себе в 70-х годах
критической ориентации в сознании консервативных оппонентов
контркультуры являются их попытки расценить
леворадикальный протест лишь как особого рода «эстетский синдром», как
эстетизированную разновидность групповой психотерапии,
коллективного изживания «интеллигентского невротизма» и
психических заболеваний «интеллигентов-недоучек», которые, потеряв
способность к научной и художественной деятельности, ищут
средств самовыражения в мире политического насилия. Заметим
попутно, что как раз в этой связи в западных
буржуазно-апологетических кругах сегодня все чаще раздаются требования
об осуществлении репрессивной «социализации» художественной
и гуманитарной интеллигенции как потенциальной
носительницы «вируса бунтарства».
1 Bell D. Unstable America.— «Encounter», 1970, June, p. 26.
103
Нужно сказать, что эти новые критические интерпретации
контркультуры не лишены и некоторых реальных оснований.
Если теория «конфликта поколений» основывалась на факте
возрастного состава новых левых, а теория «бунта
неадаптированных» исходила из их критики техницистского сознания и
технократических методов социального управления, то новые
критические мотивы как будто бы исходят из социального
состава и профессиональной ориентации многих членов «новой
оппозиции».
Если прежде «новых левых» часто обвиняли в дикарстве и
вандализме, забвении идеалов западной цивилизации в стихии
чувственной аффектации, то сегодня в движении протеста его
буржуазные оппоненты обнаруживают уже проявления
изощренной «интеллигентщины». В духе русского «веховства» в
западной критической литературе появляются рассуждения об
«интеллигентской революции», о «радикализме интеллигентских
идей» и т. п. В то же время в этой новой интерпретации
контркультуры как «эстетского синдрома» соседствуют такие
неожиданные характеристики, как «рефлексивность» и «невротизм»,
«созерцательность» и «эстетство», «спонтанность» и
«театральность».
Например, уже упоминавшийся нами консервативный
социолог Р. Низбет в своей статье «Радикализм как терапия»
утверждает^ что контркультура выражает лишь «рефлексивный
радикализм» гуманитарной и художественной интеллигенции
Запада. Сущностью левого радикализма он объявляет
«интеллигентское Я», ищущее путей для экспрессивного и
колоритного самовыражения, расценивающее само себя как абсолютное
«благо», а окружающий его социальный и культурный мир как
символ мирового зла. «Я,— автономное Я, выставляющееся Я,
созерцаемое Я, главным образом созерцаемое Я,—
восторжествовало» ' — так Р. Низбет характеризует распространение идей
и настроений леворадикального социально-культурного протеста
1 Nisbet R. Radicalism as Therapy.—«Encounter», 1972, March,
p. 55.
104
на Западе. Идеи, программы, лозунги «новых левых» — лишь
галлюцинаторные порождения расстроенного сознания,
интеллигентский «солипсизм» и «нарциссизм», не имеющие никакого
отношения к подлинным проблемам социальной реальности,
заключает Р. Низбет. По его мнению, наиболее распространенный
среди последователей контркультуры тип личности — невротик,
не ориентирующийся в обстоятельствах реальности.
Р. Низбету вторит и другой автор, И. Фест, называя майские
события во Франции 1968 года «взрывом коллективного
нарциссизма». Движение «новых левых» носило, по его мнению,
характер не политической активности, а эгоцентричного любования
результатами своих вандалистских акций: «Их целью было
личное удовольствие, а вовсе не более справедливое общество...
Бунтовщики получали истинное удовольствие не от реализации
своих революционных идей, а от самого процесса их
специфической активности» К
Во всех этих случаях налицо стремление замаскировать
классовые корни и социальное значение движения протеста и
представить как его причины, так и цели незначительными,
непринципиальными и субъективистскими. По сути дела,
буржуазная критика весьма некритически повторяет некоторые
наиболее уязвимые высказывания и самооценки протестующей
молодежи и интеллигенции Запада. Даже в том случае, если
движение протеста порой мыслило себя в демографических,
психологических, возрастных и прочих категориях, по своему
объективному содержанию оно является одним из выражений
общего кризиса капиталистической системы и господствующей
буржуазной культуры. Игнорируя социально-классовую
определенность движения «новых левых», буржуазная критика
сводит его объяснение к констатации (а затем и к искажению)
некоторых реальных — но второстепенных — моментов, которые
сами нуждаются в объяснении. Эта критика ситуационна в том
смысле, что, провозглашая «кризисы» и «переломы» в леворади-
1 Fest J. The Romantic Counterrevolution of our
Time—«Encounter», 1971, June, p. 58.
105
кальном протесте, она слепо идет за его сиюминутной
эволюцией и некритически разделяет его внутренний пессимизм или,
наоборот, преувеличенный оптимизм периодов подъема. В
результате ею не схватывается действительное содержание,
проступающее за внешне амбивалентной политической и
художественной эволюцией протеста. Эта критика также лишена
прогностического аспекта, что связано с абсолютизацией отдельных
исторических этапов эволюции движения новых левых и
неспособностью увидеть возможные в будущем политические и
эстетические альтернативы его развития.
Примечательно, что консервативные критики, обвиняющие
радикальный авангард и течение контркультуры в «эстетстве»,
«интеллигентстве» и «театрализованности», охотно апеллируют
к категориям психоанализа, давая им все ту же искусственную
политизированную трактовку. С этой точки зрения, «новой
левой» молодежи и интеллигенции вменяется в вину
неспособность к социально приемлемому сублимированию, то есть
символическому удовлетворению низменных чувственных влечений
в форме художественного и культурного творчества. Как мы
уже говорили, Фрейд считал такую сублимацию наиболее
эффективным и приемлемым способом умиротворения
бессознательных чувственных вожделений и противопоставлял ей
радикальную политическую активность как путь, ведущий в
тупик. Сегодня эти идеи мы вновь видим в работах тех
буржуазных идеологов, которые утверждают, что в результате
неспособности к творческой культурно-художественной сублимации
радикалы вынуждены изживать свои комплексы в имеющей
невротическую основу политической деятельности. В
терминологии психоанализа это и определяется как десублимация
культуры и искусства, то есть как «обратное» движение от
художественно-символического удовлетворения либидозных
влечений к их невротическому проявлению в реальной жизни.
В этом же духе буржуазные идеологи и эстетики
истолковывают и общие тенденции развития западной культуры и
искусства в направлении к гедонистическому самопроявлению
невротического «Я» в реальной жизни, в том числе — в полити-
106
ке. Как отмечают в этой связи американские исследователи,
«использование здесь термина «нарциссизм» вносит путаницу.
С одной стороны, нарциссическая личность расценивается как
патологический клинический тип. С другой — нарциссизм
широко используется как уничижительный термин для описания
определенных аспектов современной культуры» 1. В самом деле,
согласно предложенной буржуазной эстетической мыслью
интерпретации, главным мотивом западной культуры и искусства
60-х годов было невротическое и нарциссическое в своей основе
стремление разрушить само художественное произведение как
автономный культурный объект и ликвидировать тем самым
«разрыв» между художником и аудиторией, между искусством
и жизнью. «Художественность» оказалась здесь расценена не
как характеристика произведения искусства, а как качество
самого социального «объекта».
«Автономия культуры, реализуемая в художественном
процессе,— пишет, например, уже упоминавшийся нами выше
социолог и теоретик культуры Д. Белл,— проникла и в сферу
жизни. Постмодернистский импульс содержит в себе требование,
чтобы разрешенное прежде лишь в фантазии и воображении
получило реализацию и в самой жизни. Нет более разрыва
между искусством и жизнью. Все, что разрешено в искусстве,
разрешено и в жизни» 2. Очевидный порок этого рассуждения —
в ничем не оправданном отождествлении всей современной
культуры и искусства Запада с неким модернистским
монолитом, в котором для иных художественных течений не остается
места. Однако еще больший просчет допускается в тех
нередких случаях, когда эти закономерности авангардистской
эстетики механически переносятся в область политики, а
консервативные эстетические пристрастия становятся критериями
оценки реальных явлений общественной и политической жизни.
Известный американский театральный критик и публицист
1 Morgenthau H. and Person E. The Roots of Narcissism.—
«Partisan Review», 1978, N 3, p. 337.
2 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 53—54.
107
Роберт Брастейн утверждает, например, что закономерности
авангардистского театрального действия являются движущими
механизмами контркультуры, воплощающейся как в
политической активности, стиле обыденной жизни,
культурно-ценностных установках, так и в эстетических пристрастиях
радикалов и авангардистов. «Американские революционеры,— пишет
он,— полностью неспособны к действию и не имеют никакой
идеологии, тогда как энтузиазма им не занимать. Вследствие
этого — склонность в большей степени к жестам и риторике,
чем к программам и организациям. В результате получается не
революция, а театр — продукт актерства и театрализации
событий» 1.
Теория «революции как театра» стала сегодня новым словом
буржуазно-консервативной критики на Западе. Однако одно
дело, когда сама художественная практика авангардизма дает
повод для подобных высказываний, и совсем другое, когда эти
же выводы экстраполируются на все радикальные общественно-
политические движения на Западе, выступающие с
требованиями демократических преобразований.
Одним из пропагандистов этой новой критической
интерпретации контркультуры в 70-х годах стал все тот же Генри Фейр-
ли. Он постарался обвинить контркультуру во всех смертных
грехах и дошел даже до того, что объявил ее ответственной за
политический спад движения новых левых. В 1979 году он
писал: «Сегодня, из конца 70-х годов, невольно задаешь себе
вопрос, почему столь яростный социальный протест 60-х годов
привел лишь к новой чувственности и обороту вовнутрь себя.
Но наш вопрос поставлен неверно. Дело в том, что многое в
социальном протесте 60-х годов было прежде всего личным
театром, который только по видимости имел общественное
значение, поскольку представление разворачивалось на улицах...
Что было понято только некоторыми в 60-х годах и что сегодня
стало очевидным уже почти для всех, это то, что новые левые
1 В ru stein R. Revolution as Theatre. New York, 1971, p. 18,
109
с начала до конца находились в саморазрушительном союзе с
контркультурой и что контркультура поглотила новых левых» '.
В своей книге под характерным названием «Избалованный
ребенок западного мира» (1976) Фейрли прямо пишет о том, что
все беды и изъяны контркультуры проистекали прежде всего
из ее стремления рассматривать политику сквозь призму
категорий эстетики и свойственного ей представления о «политике
как театре». Фиксируя некоторые действительно присущие
социальной эстетике контркультуры особенности, этот критик,
однако, делает из своих констатации ничем не обоснованные
выводы и обвиняет все движение протеста 60-х годов в
леворадикальном «эстетстве» и переносе в область политики идей
и программ художественного авангардизма. «Все это детский
набор штампов культуры последних пятидесяти лет,—заявил
Фейрли по поводу идеологии левых радикалов.— Они нисколько
не обращали внимания на то общество, которое намеревались
изменить, а смотрели только на его искусство и слушали
только его литературу» 2.
Во всех этих высказываниях невольно узнаешь идеи и
утверждения одного из наиболее ожесточенных критиков левого
радикализма — Раймона Арона, который уже в конце 60-х годов
окрестил его «говорильней», пустозвонством, эстетством и
бессодержательной игрой пресытившейся студенческой молодежи.
Майские события 1968 года во Франции он назвал
«психодрамой». Вспомним, что сама теория «психодрамы» была
предложена американским социологом Дж. Морено в 30-х годах в
качестве разновидности игровой психотерапии, дающей выход
невротическим влечениям индивидов в социально приемлемой
форме. Морено также надеялся, что, проигрывая на
терапевтической сцене те воображаемые ситуации, которые не могут
быть реализованы в действительной жизни, пациенты будут
1 F a i г 1 i e H. A Decade of Reaction.— «The New Republic»,
January, 6, 1979, p. 17.
2 F a i г 1 i e H. The Spoiled Child of the Western World. Garden
City, 1976, p. 180. r
109
достигать «психодраматического катарсиса» '. Этой-то теории
Р. Арон и придает специфическую политико-эстетическую
трактовку.
«Сам термин «психодрама»,— писал он,— я употребляю в
несколько модифицированном виде. И тем не менее в эти дни мы
все играли сценические роли. Я выступал в роли де Токвиля,
что отчасти было нелепо, но другие при этом играли роли Сен-
Жюста, Робеспьера... и это было еще более смехотворно» 2. В
данном случае Р. Арон намекает на одно высказывание А. де
Токвиля, сделанное им после неудавшейся революции 1848 года. Он
писал тогда: «Мне постоянно казалось, что все старались не
столько продолжать французскую революцию, сколько
представлять ее на театральной сцене... Хотя я предвидел, что
развязка драмы будет ужасна, я смотрел на все, как на плохую
трагедию, разыгранную провинциальными актерами» 3.
Однако ни Токвиль в 1848 году, ни Р. Арон в 1968 не были
безучастными зрителями — выбранные ими позиции, их
заявления, оценки и. поступки свидетельствовали не о бесстрастном
лицезрении, а о непримиримой классовой позиции противников
революции. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить их
слова с описанием событий 1848 года, сделанным не сторонним
наблюдателем, а их активным участником — М. А. Бакуниным.
Он писал: «Это был месяц духовного пьянства. Не я один, все
были пьяны... Это был пир без начала и конца... Казалось, что
весь мир переворотился; невероятное сделалось обыкновенным,
невозможное возможным, возможное же и обыкновенное
бессмысленным» 4.
На деле «психодраматическое» истолкование контркультуры
Р. Ароном является способом критики левого радикализма с
позиций буржуазной апологетики. Придавая социально-полити-
1 См.: Морено Дж. Социометрия. М., 1958.
1 Aron R. Reflections After the Psychodrama.—«Encounter»,
1968, Dec, p. 68.
3 Токвиль А. де. Воспоминания. М., 1893, с. 60—61.
4 Бакунин М. А. Исповедь и письмо Александру II. М.,
1921, с 66.
110
ческую окраску операциональным понятиям
психотерапевтической концепции Дж. Морено, Р. Арон низводит движение
протеста до уровня терапевтической игры, ирреального,
сценического выражения неких невротических комплексов, от которых,
по его мнению, страдает молодое поколение и художественно-
гуманитарная интеллигенция. С этой точки зрения,
«психодрама» лишь выплеснулась с театрально-терапевтической сцены
на улицу и втянула в свой «игровой» водоворот несравненно
большие массы потенциальных пациентов. В результате «пси-
ходраматически» истолкованный леворадикальный протест
отождествляется с театрально-игровой фантасмагорией, лишь
отдаленным образом напоминающей проблемы реальной жизни.
Вместе с тем как «психодраматический» мотив в
интерпретации контркультуры и всего молодежного движения протеста,
так и попытки его осмысления в качестве «эстетского
синдрома» не являются лишь праздным вымыслом консервативной
критики. Когда «правые» оппоненты леворадикального
движения стараются переосмыслить его в терминах «эстетства»,
«интеллигентщины», «нарциссизма», они отражают некоторые
реальные стороны мироощущения новых левых,
леворадикальной идеологии и эстетики, хотя и совершают это предвзято и
односторонне. Это связано в первую очередь с тем, что
художественно-эстетическая проблематика, как мы говорили,
действительно заняла важное место в сознании леворадикального
протеста.
Но только ли об «эстетстве», прорывающемся в
неподходящую для этого область политики, свидетельствует «игровой»
характер леворадикальной конфронтации и осознание ее
контркультурой в качестве «революции как театра»?
Заметим, что сама аналогия между театром и жизнью
родилась еще у истоков западной цивилизации. Так, например, для
всей античной культуры близко представление о жизни как
сценической игре под руководством мудрого хорега. На
протяжении веков эти идеи так или иначе возрождаются в самых
различных формах. В одних случаях «игра» рассматривалась
как внутренний механизм художественного творчества (Шил-
111
лер), в других — как, например, в развивающейся в последнее
время на Западе «игровой социологии» — понятие «игра»
используется в эмпирических социальных исследованиях, общей
теории культуры, философской эстетике, а также в
политической теории. Сегодня не только левые радикалы, но и их
консервативные критики объявили ключевыми характеристиками для
понимания всего западного общества, его культуры и искусства
такие категории, как «игра» и «театр».
В этой связи интересно заметить, что, если, с одной стороны,
сведение леворадикального протеста к «игре», «театрализован-
ности» и «актерству» было обусловлено вполне определенным
социальным заказом, то, с другой стороны, оно опиралось и на
достаточно серьезную философско-эстетическую традицию, в
рамках которой игровая деятельность выступает в качестве
центрального конститутивного момента как всего искусства, так
и любой общественно-культурной формы. В наши дни
преемником этой традиции был Й. Хейзинга, пытавшийся рассмотреть
всю западноевропейскую культуру и искусство как продукты
«игры», игровой деятельности, субъективного эстетического
произвола. Перспективы возрождения и обновления
западноевропейской культуры Хейзинга связывал с высвобождением из
тисков производственного утилитаризма и целесообразности
некоего «игрового инстинкта», ныне сохраняющегося лишь в
искусстве и в инфантильном мире'. Эта концепция Хейзинги
также оказала существенное влияние на современную
западную социологическую и философско-эстетическую мысль, в
частности на те ее направления, в которых произошло
совмещение политики и эстетики и возникла аналогия между
политической деятельностью и театрализованной игрой.
Нетрудно также убедиться в том, что само уподобление
политики «игре» и «театру» может в принципе выполнять
различные и даже противоположные функции: с одной стороны,
служить целям дискредитации контркультуры ее «правыми»
оппонентами, но, с другой стороны, теория «политики как театра»
1 См.: Н u i s i n g a J. Homo Ludens. London, 1949.
112
может быть понята как идеологизированный симптом общего
разочарования в институтах буржуазной демократии, ставших
послушными игрушками в руках политиканов, неверия в их
способность служить интересам народных масс. Рост интереса
к таким политико-эстетическим концепциям может быть
своеобразной формой протеста против «организованной»
бюрократии, превращающей бюрократический ритуал в «содержание»
человеческой жизни. Этот протест и отражает контркультура,
подвергающая критике современное западное общество как мир
манипулируемых жизненных стилей, искусственно навязанных
«ролей», «перманентного спектакля, господствующего как в
общественной, так и в личной жизни» !.
Приходится, правда, признать, что сама установка
контркультуры на непосредственную «включенность», «растворение»
в общинной стихии, которая мыслилась как преодоление
«разобщенности» буржуазного этоса, несла в себе значительный
нигилистический элемент, своеобразные деструктивные тенденции,
проявившиеся в предельном лозунге «Смерть культуре!».
Деструктивные элементы эстетики контркультуры были
обусловлены рассмотренной нами выше точкой зрения, согласно
которой произведение искусства как отдельный культурный объект,
стоящий между художником и действительностью и потому
препятствзгющий «растворению» искусства в жизни, подлежит
«разрушению». Только этот аспект и увидели консервативные
критики контркультуры, когда обвинили левых радикалов в
неспособности к художественно-культурной сублимации и
невротической «театрализации» и «эстетизации» политики. Однако
делать окончательные выводы на одном этом основании было
бы преждевременно.
Дело в том, что для сторонников контркультуры, которым
«справа» было предъявлено обвинение в том, что они являются
носителями «антикультуры» и даже «нашествием кентавров»,
в действительности существовали определенные всеобщие куль-
1 Enzensberger H Constituents of a Theory of the Media.—
«New Left Review>, 1970, N 64, p. 24.
113
турные нормы и эстетические ценности. Другое дело, что
радикалы отвергли право какого бы то ни было буржуазного
социально-культурного института на посредничество между
индивидом и Культурой и провозгласили
коллективно-ритуализированную причастность каждого отдельного индивида к миру
«высшего смысла».
Именно в этой глубинной социально-психологической
установке контркультурного эстетического сознания кроются истоки
театрально-карнавальной, «хороводческои» политики и эстетики
левого радикализма, идеи «театра» как непосредственной и
активной «включенности» актера-зрителя в коллективное
действие. Радикализм этой идеи, ее критический по отношению к
капитализму потенциал как раз и заключается в отказе признать
право буржуазного общества быть полномочным
представителем и посредником между индивидом и всеобщими идеалами
«Истины» и «Красоты». «Деструктивные» и «антикультурные»
тенденции левого радикализма, всеми возможными способами
подчеркнутые его буржуазными критиками, в действительности
означали совершенно иное— не «антикультуру», а особое
отношение к культуре, ничем не опосредованную «игровую»
включенность в нее. «Игра» в данном случае выступила как фактор
свободы и радикального социально-культурного творчества.
Поэтому отнюдь не сама по себе эстетизированная
празднично-игровая стихия была выражением коренной слабости,
присущей социально-культурному авангардизму, а тот факт, что
«революция-праздник» оказалась противопоставленной
реальной, конкретно-исторической социалистической революции.
В этой связи можно вспомнить слова В. И. Ленина, назвавшего
революцию праздником угнетенных и эксплуатируемых !. Сами
по себе «праздник», «игра», «искусство» являются не только
существенными компонентами революционного исторического
творчества, но и необходимыми факторами человеческого
общественного бытия.
Нельзя не признать, что «театрализованность» может быть
1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 11, с. 103.
114
формой осуществления революционного социального
преобразования. К. Маркс писал о том, что лидеры французской
революции «осуществляли в римском костюме и с римскими фразами
на устах задачу своего времени — освобождение от оков и
установление современного буржуазного общества» К Кроме того,
как признает марксизм, «последний фазис
всемирно-исторической формы есть ее комедия... Это нужно для того, чтобы
человечество весело расставалось со своим прошлым» 2. Таким
образом, в отличие от утверждений консервативных критиков
контркультуры, сама по себе эстетизация политики и ее
верификация с точки зрения тех или иных эстетических категорий не
только не является показателем леворадикального «невротизма»
и «эстетства», но в целом ряде случаев может знаменовать
собой новый этап в развертывании реальной освободительной
борьбы.
В то же время приходится признать, что истоки и
особенности консервативной критики контркультуры как якобы
порождения леворадикального «эстетства» — все это отнюдь не случайно.
По сути дела, в этих новых критических интерпретациях контр-
культуры получает специфическое преломление общая позиция
теоретиков «нового» консерватизма в отношении политического
и культурно-художественного развития современного
капитализма. Один из главных моментов в этой социокультурной
концепции «новых» консерваторов — их настойчивое
стремление вдохнуть вторую жизнь в уже рассмотренные нами выше
традиционные представления консерватизма о социальных
функциях и роли искусства в общественной жизни. С легкой
руки Дэниела Белла эта популярная среди сегодняшних
«новых» консерваторов концепция получила название теории
«культурных щютиворечий капитализма» (или «противоречий
капитализма в сфере культуры»).
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 8, с. 120.
2 Там же, т. 1, с. 418.
115
3. «Культурные противоречия капитализма»
«Культурные противоречия капитализма» — так Д. Белл
назвал свою последнюю книгу (1976), в которой получила наиболее
развернутое теоретическое выражение логика политической и
эстетической мысли «нового» консерватизма. Пожалуй, самое
характерное здесь то, что и у Белла и у его коллег тяга к
консервативному пониманию проблем искусства и общества
связана с осознанием ими своего рода идеологического вакуума,
духовного и культурного кризиса современного
капиталистического общества.
«Я полагаю,— пишет Белл,— что мы приблизились к
водоразделу в западном обществе: мы становимся свидетелями краха
буржуазных воззрений на человеческую активность и
социальные отношения, особенно на отношения экономического
обмена, которые формировали облик современной эпохи последние
200 лет» !. Что же это за «буржуазная идея», кризис которой
возвещает «новый» консерватизм?
Согласно самому Беллу, «буржуазная идея» представляет
собой систему классических либеральных представлений,
основанную на традициях индивидуализма и «ггротестантской
этики», идущих еще от Реформации и являющихся идеологическим
эквивалентом экономической системы свободного
предпринимательства. Нужно сказать, что в основе классического
либерального мировоззрения находился определенный
индивидуалистический идеал, служивший своего рода призмой для
рассмотрения проблем общества, культуры, искусства. В плане
экономики он является фундаментом принципа свободного рынка и
предпосылки эффективности конкуренции между
соревнующимися индивидами-предпринимателями. В
социально-политическом плане на нем основывается идея о том, что в политике
индивид важнее группы, и традиционный для либерализма
идеал слабой государственной власти и невмешательства
государства в социально-экономическую область. В плане морали
'Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 7,
116
из индивидуалистического идеала следовала мысль о том, что
большинство людей вполне разумно и что индивидуальное
суждение может служить основой социально значимой
этической оценки. Наконец, предполагалось, что искусство призвано
воспевать указанный индивидуалистический образ личности и
превозносить ее добродетели, характерным примером чему
может служить творчество Дэниела Дефо, Джонатана Свифта,
Генри Филдинга, Тобайаса Смоллетта и вообще искусство
Просвещения.
Такое представление об индивиде было для своего времени
бесспорным достижением, и вполне закономерно, что
выработавшаяся мировоззренческая система оказывала глубокое
влияние на все стороны общественной жизни — экономику,
политику, культуру, искусство. Более того, с точки зрения
исторического материализма сам процесс оформления соответствующих
взглядов в общепринятую идеологическую систему, каковой и
стала «протестантская этика», мог завершиться лишь тогда,
когда эти взгляды получили практическое распространение и
широкое хождение в обществе. Причем социально-этические
нормы, осуществлявшиеся на практике, закономерно получали
соответствующее отражение и на уровне культуры, и в
частности в художественном творчестве.
Поскольку же Белл в соответствии со своими
методологическими посылками рассматривает общество как структурно не
взаимосвязанную систему, то и подчиненность различных сфер
общественной жизни некоторым общим закономерностям
оказывается у него источником возможной социальной
нестабильности и противоречий.
Как заявляет автор, идеи его последней работы
диалектически связаны с предыдущей книгой — «Становление
постиндустриального общества» (1973), но на этот раз они сместились из
области воздействия развивающейся технологии на социальную
стратификацию в область политической и культурной жизни.
Причем все эти три области — социальная структура,
политическая система и культура — не имеют между собой
каких-либо прочных связей и зависимостей и подчиняются, как утверж^
117
дает Белл, трем противоположным принципам:
социально-экономическая сфера — принципу эффективности, политика —
принципу равенства, культура — принципу самореализации
личности. Согласно предложенной автором схеме,
«разобщенность» этих областей достигает сегодня своего апогея и
становится источником таких противоречий и конфликтов, которые
могут оказаться фатальными для буржуазной общественной
системы.
Уже отсюда видна коренная противоположность глубинных
теоретико-методологических установок социальной эстетики
контркультуры и социально-культурной концепции «нового»
консерватизма. Если первая — по крайней мере в 60-х годах —
исходила из стремления к «растворению» искусства в жизни,
считая это состояние идеальной нормой и эстетики и
общественной жизни, то вторая основывается на принципиальном
убеждении, что не только невозможно их «растворение», но,
напротив, правилом должна быть их «разобщенность», а
следовательно, и неизбежное в этих условиях их насильственное
соподчинение, и жесткая дистанция между художественной сферой и
сферой реальности.
«Понятие разобщенности сфер является общим
теоретическим подходом к анализу современного общества» 1,— утверждает
Белл. Но отсюда получается, что принцип «радикального
индивидуализма», почерпнутый из протестантского
социально-этического наследия, будучи в равной мере распространен как на
область экономических отношений, так и на область культуры,
породил фундаментальное противоречие капиталистического
общества — «фундаментальное» в специфическом, консервативном
смысле.
Согласно этой интерпретации, в основе «протестантской
этики» лежит концепция буржуазного индивидуализма,
понимаемая как ничем и никем не сдерживаемое проявление личной
инициативы, как свободное развертывание активности
субъекта— будь то в области экономической конкуренции, политики
или культуры. В экономике его продуктом стал буржуа-пред-
1 В е 11 D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 14.
118
принйматель, в культуре — независимый
художник-авангардист, чуждый всем социальным условностям.
Эти социальные персонажи являются для Белла
символическими фигурами; их единство иллюстрирует общее для
буржуазии влечение к «новому», а их противоположность указывает на
глубокие внутренние коллизии буржуазного миропорядка. Дело
в том, что, согласно Беллу, радикальное стремление к «новизне»
для буржуазии целиком сконцентрировалось в области
экономики, напротив же, в области морали и культуры буржуазия
осталась консервативной, поскольку мобилизация сил во время
первоначального накопления капитала и в период раннекапи-
талистического производства вынуждала к самоограничению и
воздержанию в соответствии с нормативами «протестантской
этики». В этом Белл видит очевидную парадоксальность
ситуации: буржуазная культура, выросшая из того же
индивидуалистического импульса, выработала в себе с течением времени
«ненависть» к буржуазным ценностям.
Как бы в противовес обрисованной им кризисной ситуации
Белл стремится пояснить свою собственную позицию, которую
он в полном соответствии с назидательным морализмом
консервативного мышления и выдвигает в качестве некой идеальной
этической и эстетической нормы.
В своей статье «Модернизм и капитализм», помещенной в
журнале «Партизан ревю» и развивающей основные положения
теории «культурных противоречий капитализма», Д. Белл
открыто заявляет следующее: «Я — консерватор в культуре,
потому что я уважаю традицию; я верю в обоснованное суждение
о положительных и отрицательных качествах произведения
искусства; и я считаю обязательным принцип авторитета в
суждении об эмоциях, искусстве и образовании» 1. Нужно
сказать, что культура и искусство понимаются здесь достаточно
специфически — как некая символизированная и
«зашифрованная» реакция на универсальную экзистенциальную ситуацию,
1 В е 11 D. Modernism and Culture.— «Partisan Review», 1978,
N 2, p. 209.
119
в которой якобы находится все человечество. Отсюда Белл и
его сподвижники и выводят важность строгого соблюдения всех
раз и навсегда установленных традиций, культурных и
моральных норм и стереотипов, канонов эстетического вкуса. Однако,
согласно рассуждениям «новых» консерваторов, тенденции
развития буржуазной культуры и искусства оказались связанными
не с наследованием традиций прошлого, а с беспредельной
тягой к «новизне», характерной для «радикального
индивидуализма» классического буржуазного характера.
Бросается в глаза как будто бы демонстративно нестрогий,
произвольный характер многих используемых Д. Беллом и
другими «новыми» консерваторами понятий и категорий. Так,
например, само «радикально-индивидуалистическое» стремление
буржуа к «новизне» они определяют как «модернизм»,
проецируя этот термин как на область экономики, так и на культуру
и искусство. В этой связи Д. Белл и заявляет, что «исторически
оба импульса были аспектами одного и того же социального
течения модернизма. Они оба открыли перед западным миром
радикальную перспективу. Тем не менее удивительный
парадокс заключался в том, что каждый из импульсов вскоре
осознал в полной мере факт существования другого, стал его
опасаться и стремиться к его уничтожению» 1.
По сути дела, «буржуазная идея», с констатации кризиса
которой и начинал свою книгу Д. Белл, это и есть идея
«радикального индивидуализма», тенденции развития которого и привели
к возникновению «культурных противоречий капитализма». Но
ввиду произвольности его терминологии получается, что
«буржуазная идея» это есть модернизм, который, как утверждается,
сегодня тоже «на излете». В области экономики это выражается
в исчезновении социального типа независимого
предпринимателя и замене его корпорацией, в области культуры и искусства —
в усилении потребительско-гедонистического начала. При этом
Д. Белл подчеркивает, что размывание нормативов
«протестантской этики» происходило в недрах самих экономических отно-
1 В е 11 D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 17.
120
шений капитализма, прежде всего в результате возникновения
системы текущего кредита, когда мораль воздержания и
самоограничения пришла в противоречие с развитием системы
массового потребления. В результате «культурным обоснованием»
современного капитализма, по мнению «новых» консерваторов,
становится гедонизм, идея наслаждения как стиля жизни,
наиболее ярким проявлением чего, с их точки зрения, и является
контркультура. Однако без «протестантской этики» капитализм
остался без «трансцендентного этического обоснования», без
традиционной системы морально-этических норм, которые прежде
составляли нравственное содержание классической буржуазной
культуры и искусства. В этом-то, с точки зрения «новых»
консерваторов, и заключается основное противоречие современного
капитализма в сфере культуры.
Мы уже говорили, что главными ценностями
«протестантской этики» были труд, смирение, воздержание, усердие, и
именно эти личные качества во многом способствовали успеху
первоначального накопления (что, разумеется, не снимает вопросов
о насильственных формах этого процесса). Мысль «новых»
консерваторов заключается как раз в том, что развитие рынка
и кредита делает «отсроченное удовлетворение» необязательным
и предоставляет возможность для удовлетворения немедленного,
сиюминутного, «в кредит». Традиционная буржуазная культура
более не соответствует уровню современной экономической и
технологической организации капитализма: «Ее ценности
уходят корнями в традиционалистское прошлое, а ее язык
представляет собой архаизм протестантской этики» К В результате
психология буржуа трансформируется, возникают иные
приоритеты и жизненные цели, погоня за удовольствиями,
создаваемыми рынком (К. Маркс говорил о рынке как о «евнухе
промышленности»), становится «смыслом» жизни — «культ Оргазма
сменяет культ Маммоны». Однако неразрешимая проблема, к
которой приходят «новые» консерваторы, заключается в том,
Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 78.
121
может ли гедонистический импульс быть нравственным и
эстетическим обоснованием капитализма.
Схема этого противоречия между экономикой и культурой
капитализма нужна Д. Беллу и его коллегам для того, чтобы
в абстрактной форме описать и объединить разноречивые
идейно-художественные тенденции в современной западной культуре,
представить их как логическое развертывание некоего
внутренне присущего буржуазному сознанию противоречия. При этом
под рубрику «индивидуалистического модернизма» подводятся
и такие явления в современной западной культуре и искусстве,
которые представляют собой не столько изживание старых
противоположностей буржуазного уклада, сколько отражение
новейших противоречий развитого капиталистического
общества, а до известной степени и отражение новых позитивных
идеалов социального переустройства. Но тем самым
предпринимается сознательная попытка интегрировать, включить все
антибуржуазные тенденции современной культуры и искусства
Запада в господствующую систему буржуазного миросознания,
представить современную западную культуру и искусство
неким одномерным монолитом, что ни в коей мере не
соответствует действительности. Более того, для социалистической,
пролетарской культуры в этой схеме «новых» консерваторов вообще
не остается места.
Впрочем, это — их вполне сознательная позиция, поскольку
они категорически отказываются видеть борьбу различных и
противоположных тенденций и направлений в западной
культуре и искусстве и предпочитают поэтому говорить о некоем
обобщенном символе культуры как таковой, вступающей в
противоречие с развитием экономики и политики. Динамикой
развития всей культуры и искусства капиталистического общества
оказывается здесь стремление к гедонистическому
самопроявлению интеллигентского «Я», в чем, как мы могли убедиться
выше, «новые» консерваторы и обвиняют контркультуру.
Под их пером встает кошмарная картина: стихия
«социального гедонизма» охватила все западное общество, подчинила
себе его культуру и искусство, лишила капитализм «общей ве-
№
ры и цели»... Рост и укрепление демократических тенденций
и направлений в современной западной культуре и искусстве
истолковывается с этой точки зрения как потеря должной меры
защитной изоляции элиты — как социальной, так и
художественной— от массы, как кризис традиционных буржуазных
общественных и художественно-эстетических авторитетов и
представлений, делающий элиту подверженной «капризам масс».
Эти тенденции вызывают у «новых» консерваторов особые
опасения потому, что сами массы, с их точки зрения,
неспособны ни к наукам, ни к искусствам, более того, они являются
неразумными, иррациональными, подверженными
«социальному гедонизму», который в свою очередь оказывается угрозой
для стабильности буржуазного общества.
Само перерождение буржуазного индивидуализма в
социальный гедонизм объясняется «новыми» консерваторами ссылками
на якобы неизменную человеческую природу, исполненную злых,
иррациональных и эгоистических импульсов,— то есть, по сути
дела, с помощью ставших уже традиционными консервативных
аргументов. Действительно, социально-культурная концепция
«нового» консерватизма видит человека только сквозь призму
традиционных консервативных представлений — как проекцию
внешних социальных условностей и сдерживающих
моралистических рамок, которые только и могут обуздать так и рвущиеся
наружу злые импульсы человеческой природы. Искусству в
этой схеме как раз и отводится роль одного из «социализаторов»
человеческого эгоизма и агрессивности.
«Можно только удивляться,— пишет в этой связи другой
теоретик «нового» консерватизма, Ирвин Кристол,— как
буржуазное общество существует еще в культурной среде, в которой
высмеиваются традиционные буржуазные добродетели и
восхваляются промискуитет, гомосексуализм, наркомания,
политический терроризм — словом, все то, что с буржуазной точки
зрения должно быть расценено как извращение» 1. «Социальный
1 Kris to l I. On the Democratic Idea in America. New York,
1972, p. 29.
123
гедонизм» расценивается современными консерваторами как
всеобщий «культурный стиль» современного
капиталистического общества, вначале наиболее отчетливо проявившийся в
модернистском искусстве, но сегодня уже представляющий
реальную угрозу для социальной стабильности самого капитализма.
«Культура самопотворства, гедонизма, сибаритства, возникшая
в последние 25—50 лет, неспособна обеспечить политическое и
социальное единство. Это разрушительная культура»
\—утверждает Роберт Хейлбронер.
Таким образом, согласно логике «нового» консерватизма, в
результате «разобщенности» сфер экономики, политики и
культуры, последняя в своем «автономном» развитии со временем
превратилась в «разрушительную», «враждебную» культуру, в
«противокультуру» (или в контркультуру), отвергающую все
основные принципы, ценности и нормы буржуазного
правопорядка и буржуазной культуры. А в этом современные
консерваторы, отождествляющие пути мирового прогресса
исключительно с путями развития капитализма, усматривают угрозу ни
больше ни меньше как «заката цивилизации».
Характерно в то же время, что сами «новые» консерваторы
предпочитают не распространяться насчет того, что конкретно
они имеют в виду под «традиционной культурой». Скорее, она
выступает у них в качестве определенной нормативной идеи,
принципа критики современного состояния западной культуры
и искусства. Можно сказать, что в этом смысле она
практически не имеет конкретных исторических аналогов. «Такое
прошлое существует только в ретроактивных фантазиях
консервативных критиков, которые обвиняют современность с позиций
некой идеальной эстетики закона и порядка. Это добрые
старые времена стареющих моралистов, которые, как и
большинство ностальгических интерпретаций истории, никогда не
существовали на самом деле»,— пишет редактор журнала
«Партизан ревю» В. Филлипс в своей критической рецензии на
1 Is Democracy Dying? — «US News and World Report», 1976,
8 March, p. 56.
124
«Культурные противоречия капитализма» Белла, сравнивая его
взгляды с «традиционным консервативным молебном против
модернизма, восходящим еще к Ирвину Бэббиту и Полю
Элмеру Мору» !.
Таким образом, «новые» консерваторы отождествляют
модернизм с «враждебной культурой», якобы противостоящей
буржуазной политической и художественно-эстетической традиции.
В данном случае сам термин «враждебная культура»
заимствован у Лайонела Триллинга, известного американского критика
и литературоведа. Однако «новые» консерваторы придают
этому термину несколько иное значение. Дело в том, что Л. Трил-
линг в своих работах — «Либеральное воображение» (1949) и
«По ту сторону культуры» (1965) — под «враждебной культурой»
подразумевал в первую очередь так называемую «высокую»,
или модернистскую и авангардистскую, культуру и искусство.
Однако у него вся культура как таковая оказывалась в
тенденции в той или иной степени «враждебной» — причем в том
смысле, что культурное и художественное творчество
неизбежно оказывается «в оппозиции» по отношению к «реальности»;
искусство не есть «реальность», оно есть нечто иное. Л. Трил-
линг, в частности, писал: «Любой историк современной
литературы сочтет буквально само собой разумеющимся, что ее
характеризует враждебность намерений и буквально подрывной
характер,— он воспримет очевидную задачу оторвать читателя
от привычных форм мышления и чувствования, навязываемых
более широкой культурой, дать ему необходимую почву и
преимущественное положение, с которых тот мог бы судить,
выносить приговор и, возможно, пересматривать установки
породившей его культуры» 2. Так формулируется уже давно
сложившееся представление о модернизме как направлении в культуре,
кардинально противостоящем господствующим установкам,
вплоть до его уподобления социальной революции.
1 Phillips W. The End of Culture.—«Partisan Review», 1977,
N 2, p. 282—283, 279, 280.
2 Trilling L. Beyond Culture. New York, 1965, p. XII—XIII.
125
Однако сама по себе идея «враждебной культуры»,
интерпретированная в таком эстетико-онтологическом смысле, была
у Л. Триллинга практически лишена каких-либо ярко
выраженных идеологических импликаций и того оттенка «тотального
нигилизма» и «социального гедонизма», который она приобрела
у «новых» консерваторов. Социально-критическая позиция
художника расценивалась и Л. Триллингом и многими другими
искусствоведами либерального направления в качестве
необходимой мировоззренческой предпосылки искусства и творчества
вообще. Роль искусства и художника в обществе, с этой точки
зрения, в той или иной степени была связана с социальным
критицизмом. Другое дело, что оппозиция культуры и
буржуазного общества здесь нередко подменялась оппозицией
модернизма реализму.
«Новые» консерваторы не останавливаются перед
огрублением и даже вульгаризацией указанных проблем
взаимоотношения искусства и общества. Чтобы убедиться в этом,
достаточно обратиться (помимо концепции Д. Белла) к материалам
«круглого стола», проведенного консервативным литературно-
критическим и общественно-политическим журналом «Ком-
ментари» и озаглавленного «Культура и текущий момент».
Открывая дискуссию, главный редактор журнала Норман
Подгорец с очевидным сожалением отмечает, что эпоха, когда
положение в области культуры на Западе представлялось абсолютно
ясным, безвозвратно отошла в прошлое. Концепции Ортеги-и-
Гассета, как и появившаяся в 1935 году в журнале «Партизан
ревю» статья Климента Гринберга «Авангард и китч»,
предполагали абсолютное разграничение «элитарной», «подлинной»,
«высокой» культуры и культуры «массовой», «популярной»,
«низкой», обозначавшейся термином «китч». Возвращаясь к истокам,
Н. Подгорец пишет: «Эдмунд Уилсон утверждал, что между
движением символистов в литературе и революционным
свержением буржуазии существует имплицитная связь. Среди
конкретных художников, творчество которых анализировал
Уилсон, были и очевидные нереволюционеры, но, по мнению
автора, своими собственными средствами, как художники они шли
126
в атаку на буржуазную цивилизацию так же, как Маркс и
русская революция. Иными словами, по Уилсону, нападение
символистов на структуру чувствования, свойственную буржуазной
цивилизации, было актом политического значения» '.
Комментируя эту идеологическую ситуацию, явно
отражавшую не объективную роль искусства, а субъективное о ней
представление в разных слоях творческой интеллигенции,
редактор «Комментари» справедливо отмечал, что радикальность
устремлений художников противостояла капитализму не только
слева, но и справа (в качестве примеров он называет Э. Паун-
да, Т.-С. Элиота, У. Льюиса). Однако при этом Подгорец
дал предельно искаженное определение
культурно-художественному феномену контркулътуры, деформирующее и
извращающее ее подлинное общественное значение. Он, в частности,
объявил контркультуру извращением модернизма и расценил ее
прямо как «антикультуру». По его определению, это
культурно-художественная «контрреволюция»: «Контрреволюция 60-х
годов с ее отречением даже и от модернистского канона и от
самой рациональности претендовала на то, чтобы казаться
дальнейшим развитием модернистской революции, однако в
действительности была возрождением филистерства, а часто и просто
культурного варварства» 2.
Характерно в этой связи замечание самого Л. Триллинга,
сделанное им по поводу процитированного выше определения
контркультуры. «Мы можем критиковать ее за ее враждебность,
однако нет оснований отождествлять ее с простой вульгарно-
1 Culture and the Present Moment. A Round-Table Discussion.—
«Commentary», 1974, Dec, p. 32.
2 Ibid., p. 44. Заметим в этой связи, что нам представляется
достаточно спорным сведение многомерного феномена
контркультуры лишь к одному «антикультурному» потребительству
и гедонизму, к бездумному растрачиванию и распылению
традиций культуры (практикуемое некоторыми нашими авторами).
Эта, на первый взгляд, сугубо теоретическая односторонность в
конечном итоге приводит к недооценке элементов
прогрессивной, демократической культуры в культуре современного
Запада.
127
стью» !,— возразил он Подгорецу, отмежевываясь от
социокультурной платформы «нового» консерватизма.
Итак, чем же в действительности является контркультура
для современных консерваторов — предельным выражением
модернистского импульса или, напротив, его вырождением и
извращением? Прислушаемся снова к словам наиболее
авторитетного из них — Д. Белла.
По определению Д. Белла, данному им в статье «По ту
сторону модернизма, по ту сторону «Я», опубликованной в
посвященном Л. Триллингу сборнике работ видных западных
философов и эстетиков, главным в модернизме является «критика
буржуазной общественной структуры». Причем своего рода
животворный импульс модернизма — это стремление к
непрерывному движению «по ту сторону»: по ту сторону морали, по ту
сторону культуры, даже по ту сторону самого искусства.
«Модернизм акцентирует настоящее и будущее, но не прошлое...
Сознание «Я», а не закон и традиция становится критерием
оценки и морального канона» 2.
Поскольку, согласно интерпретации Д. Белла,
идейно-художественным «ядром» модернизма является индивидуальное «Я»
художника, стремящегося к наиболее яркому самовыражению,
постольку критерием оценки того или иного произведения
искусства становится не всеобщая эстетическая норма, а
индивидуальная и, следовательно, в каждом отдельном случае
различная эмоция. Характерно, что в этом Д. Белл в полном
соответствии со своими общими консервативными убеждениями
усматривает следствие происходящей, по его мнению, с конца
прошлого столетия «демократизации культуры», то есть роста
приобщенности широких масс к культурно-художественному
творчеству.
Согласно общим эстетическим представлениям «новых» кон-
1 Culture and the Present Moment, p. 44.
2 В e 11 D. Beyond Modernism, Beyond Self.— In: Art, Politics
and Will. Ed. by Q. Anderson, S. Donadio, S. Marcus. New York, 1977,
p. 230.
128
серваторов, прежде культурно-духовное единство буржуазной
цивилизации достигалось посредством «цементирующего»
действия традиционных морально-религиозных норм и прежде
всего «протестантской этики». Однако с конца XIX века
модернизм разрушает это былое единство: во-первых, утверждая
автономию эстетики от морали; во-вторых, переоценивая
соотношение между нравственной и эстетической традицией и
стремлением к «новизне» в пользу последнего; в-третьих, выдвигая
индивидуальное «Я» в качестве главного критерия
художественной оценки.
Фовизм и кубизм в живописи, символизм в поэзии, в театре,
романы Конрада и Лоуренса, трактаты Фрейда и
Бергсона— все это расценивается «новыми» консерваторами как
отдельные стороны некоего всеобщего модернистского движения.
В тематическом отношении модернизм явился, с этой точки
зрения, бунтом против социального порядка и утверждением права
индивидуального «Я» на безграничное художественное
воображение. В плане стилистики им был выработан новый
художественный синтаксис, предполагавший «разрушение дистанции»
между произведением искусства и аудиторией, отрицание
необходимости строгой внутренней структуры художественного
произведения, доверие к формам фантазии и воображения. Наконец,
в модернизме «новые» консерваторы усматривают перенос
акцентов на сам «материал» произведения искусства — в
известном смысле на маклюэновское «средство сообщения». При этом
в тенденции идейно-эстетические постулаты модернизма XIX—
XX веков выводятся этими теоретиками из наиболее общих
установок либерализма, так как для них обоих общим
оказывается упор на индивидуальное «Я» (в первом случае — в сфере
культуры и искусства, во втором — политики и экономики). Эта
аналогия между либерализмом и модернизмом у Д. Белла,
например, включает также и их противопоставление
консервативной традиции, для которой, как мы уже отмечали, характерно
подчинение и индивида и искусства неким всеобщим
социальным нормам, имеющим морально-религиозную санкцию и
обладающим абсолютным авторитетом.
5 зак. мъ 62
129
В конечном счете за этими идеями «новых» консерваторов
лежит свойственное им определенное представление об
изменении социальных функций искусства в современном буржуазном
обществе. И, быть может, самое примечательное здесь то, что за
этим представлением достаточно отчетливо просматриваются
многие положения социальной эстетики контркультуры, хотя и
взятые как бы с противоположным знаком. В самом деле,
Д. Белл и его коллеги исходят из того, что искусство и культура
стали «главенствующими» над политикой и над социальными
структурами, превратились в наиболее «динамичный»
компонент цивилизации. Более того, авангардистское искусство стало
диктовать свои условия политике, характерным проявлением
чего, с их точки зрения, и является феномен контркультуры.
С этим же связано и изменение положения самого художника
в обществе и его взаимоотношений с публикой, аудиторией.
Речь идет о том, что если в прошлом веке обыватель негодующе
отвергал авангардистское искусство (не случайно первая
выставка импрессионистов в 1863 году называлась «Салон
отверженных» и только через двадцать лет они смогли говорить о себе
как о «Салоне независимых»), то сегодня фантазия художника-
модерниста уже полностью господствует над той же
обывательской аудиторией, диктует ей нормы художественного вкуса и
эстетического восприятия.
Нетрудно увидеть, что все эти рассуждения «новых»
консерваторов, по сути дела, в искаженной форме отражают один
несомненный факт, а именно — институциализацию модернизма в
современном буржуазном обществе. И этот факт воочию
доказывает беспочвенность тезиса о якобы тотально
«антибуржуазном» характере модернизма. Однако именно на этом тезисе и
стараются строить свою теорию культуры и искусства «новые»
консерваторы, осуществляя в результате неизбежную
подстановку: модернизм выдается за всю «антибуржуазную культуру» и
далее чуть ли не отождествляется с контркультурой.
Но и это не последнее слово современных консервативных
теоретиков культуры и искусства. Путь их рассуждений ведет к
истолкованию контркультуры 60-х годов не только как выраже-
130
ния и воплощения модернизма, но и как крайнего предела
модернистской логики, за которым то, что прежде относилось к
культуре и искусству, с неизбежностью переходит в свою
противоположность и превращается в «анти»-культуру и «анти»-ис-
кусство.
Д. Белл, в частности, усматривает даже некое семантическое
противоречие в самом термине «контркультура», который, по его
мнению, вообще не имеет никакого отношения к сфере
культуры и искусства. Понятно, что в данном случае Д. Белл в
своей схеме пытается обойтись почти без конкретного
искусствоведческого материала и постулирует свои идеи как некое
долженствование, как всем известную истину. «Так называемая
контркультура,— пишет он,— была детским крестовым походом
во имя ликвидации границ между фантазией и реальностью и
проигрывания в жизни инстинктивных импульсов под флагом
освобождения» К Здесь мы сталкиваемся лишь с перечислением
нескольких имен — Нормана Брауна и Мишеля Фуко, Уильяма
Бэрроуза и Жана Жене, Нормана Мейлера и Герберта Маркузе.
Реальная художественная практика контркультуры, как мы
постараемся показать ниже, была-неизмеримо богаче прокрустовой
схемы эстетики «нового» консерватизма.
Согласно этой схеме, единственное нововведение
контркультуры в модернизм — это эскалация мотивов жестокости,
насилия и сексуальных извращений, а также возникновение особого
«психоделического» культурного стиля. Контркультуре
вменяется в вину и отказ от всех и всяческих авторитетов, и отход от
идеи иерархии видов искусств, и господство мотивов
сумасшествия и безумия в запа'дном искусстве 60-х и 70-х годов. При
этом, как, например, в случае с романом Кена Кейси «Полет над
гнездом кукушки» и снятым по его мотивам фильмом, «новые»
консерваторы категорически отказываются видеть социальное
содержание, общедемократические мотивы в этих
произведениях и истолковывают их исключительно как апофеоз безумия и
гипертрофированного «Я».
1 В е 11 D. Modernism and Capitalism, p. 219.
5*
131
Таким образом, в понимании консерваторов контркультура
60-х годов оказывается, строго говоря, уже даже не
модернизмом, а «постмодернизмом», отличительной чертой которого
является то, что «эстетическое обоснование жизни» он заменил
«инстинктивным», а само художественное творчество
безоговорочно отождествил с неврозом. «Традиционный модернизм, каким
бы он ни был вызывающим, проигрывал свои импульсы в
воображении, в пределах искусства... Постмодернизм же сокрушает
рамки искусства» 1. Кроме того, даже и здесь «новые»
консерваторы стремятся провести свои традиционные элитарные взгляды
на искусство: постмодернизм, согласно предложенной ими
интерпретации, это «демократизированный» модернизм, ставший
достоянием «толпы» — «эзотерическое» в модернизме стало
«экзотерическим» в постмодернизме.
Все эти рассуждения в целом завершаются на достаточно
пессимистической ноте, по-своему отражающей углубление
духовного кризиса буржуазного общества и его специфическое
осознание консервативными апологетами .«статус-кво». С этой
точки зрения, сегодня уже не приходится говорить ни о
модернизме, ни об авангардизме в их противопоставлении
традиционной буржуазной культуре — вся культура развитого
капиталистического общества стала, как утверждается, антибуржуазной.
«Традиционная буржуазная организация жизни — ее
рационализм и уравновешенность — почти не имеет сторонников в
высокой культуре; не имеет она также и соответствующей системы
культурных значений или стилистических форм с какой бы то
ни было интеллектуальной или культурной респектабельностью.
Что мы имеем сегодня, так это радикальный разрыв между
культурой и общественной структурой, а именно такие разрывы
исторически мостили путь к эрозии авторитетов, если не к
социальным революциям» 2,— сокрушается Д. Белл.
В чем же, спрашивается, выход из этой «угрожающей»
ситуации? На этот вопрос мы обнаруживаем у «новых» консерва-
1 В е 11 D. Beyond Modernism, Beyond Self, p. 232.
2 Ibid., p. 251.
132
торов довольно-таки недвусмысленный ответ. Дело в том,
утверждают они, что основная установка модернизма,
заимствованная и доведенная до своего логического конца
контркультурой, заключалась в стремлении выйти «за пределы», «по ту
сторону» — культуры, морали, художественного вкуса. Однако, с
их точки зрения, само существование искусства, культуры и
цивилизации как таковой не может не покоиться на внутреннем
принятии и одобрении идеи «предела», «границы». И этой
«границей» консерваторы объявляют моральную норму
традиционного буржуазного миропорядка, незыблемость которого
охраняется не только репрессивной полицейской силой, но и
охранительной идеологией и культурой. Только в этом они и видят
возможность выхода из тех «культурных противоречий», в
которых сегодня оказалось буржуазное общество.
Так мы подошли к главному тезису социокультурной
концепции «нового» консерватизма — тезису о необходимости создания
и массового распространения «новой» нормативной апологетиче-
ско-охранительной системы политических и
культурно-художественных ценностей. Хотя эта задача и определяется ими как
создание «новой общественной философии», указанная
«новизна», по существу, оборачивается усилением вполне
традиционных консервативных мотивов, в частности в вопросе о роли
искусства и художественной культуры в обществе. Искусство и
культура, как они понимаются «новыми» консерваторами, как
раз и должны в этой связи выполнить одну «главную»
социальную функцию — способствовать распространению
апологетического, конформистского сознания и тем самым «включению»
индивида в репрессивную общественную систему.
Эта пропагандируемая «новыми» консерваторами система
апологетических ценностей призвана, по их мнению,
противостоять наиболее опасному проявлению «социального
гедонизма», прорывающемуся из сферы искусства в политику и
общественную жизнь,— расширению общедемократической
активности различных слоев западного общества, особенно усилившейся
в 60-х годах и продолжающейся и по сей день. Не случайно эти
призывы нередко формулируются как программа «контрмодер-
133
низации» современного западного общества и его культуры К
Однако апелляции «новых» консерваторов к модернизму и их
попытки использовать «эстетизированную» аргументацию для
достижения вполне определенных политических целей
несостоятельны. Эти призывы носят ярко выраженный классовый
характер, их основной пафос нацелен на противодействие
демократическим тенденциям в общественной и культурной жизни
Запада.
Здесь необходимо подчеркнуть еще и то важное для
понимания современного «нового» консерватизма обстоятельство, что
его теоретики и идеологи, хотя и сознают действительное
кризисное состояние буржуазного мира и его культуры, причины
этого кризиса усматривают не в том, что их на самом деле
порождает. Для них противоречия современного капитализма —
будь то в сфере общественной жизни, в культуре или
искусстве—обусловлены не объективными закономерностями
исторического движения буржуазной формации к ее
самоуничтожению в результате вызревания качественно иных и подлинно
альтернативных общественных сил, а столкновением
тенденций, в равной мере относящихся к сфере буржуазной жизни.
Речь идет о противоречии между
буржуазно-индивидуалистическими («модернистскими») установками, унаследованными от
эпохи классического либерализма и воплотившимися в
традиционной буржуазной практике и буржуазной культуре и
искусстве, и императивами специфического «буржуазного
коллективизма», представляющими собой возрождение традиционных
консервативных рецептов и их приспособление к реальности
современного западного общества, его культуры и искусства.
Для противодействия демократическим тенденциям в
современной западной культуре и искусстве «новые» консерваторы
настаивают на усилении в них мотивов «умеренности»,
«самоограничения», «сдержанности», «традиционности». Еще раз
подчеркнем, что искусству в их рассуждениях отводится лишь роль
морально-репрессивного «социализатора» личности, примиряю-
1 См.: В е г g е г P. Facing Up to Modernity. New York, 1977, p. 71.
134
щего ее с буржуазной общественной системой, одним из ярких
показателей кризиса которой явилось распространение идей
контркультуры. Не случайно поэтому сегодня «новые»
консерваторы уделяют самое пристальное внимание проблемам
культуры и искусства, настаивают на усилении в них традиционных
моралистических компонентов, усматривая в них способ
стабилизации расшатывающейся буржуазной системы.
Предложенная «новыми» консерваторами программа
морального «возрождения» современного капитализма и преодоления
его «культурных противоречий», в процессе которого важные
социальные функции отводятся искусству, фактически
направлена на то, чтобы повернуть вспять общественное, культурное,
художественное развитие современного мира, ликвидировать и
подорвать демократические тенденции. Очевидно, что перед
нами одновременно и реакционная и явно утопическая
программа. В этой связи можно согласиться с уже упоминавшимся нами
М. Дикстейном в том, что «трудно представить себе
возвращение к морализму и лицемерию, предшествовавшим 60-м годам» К
Сколь ни серьезны просчеты и уязвимые места
леворадикального протеста западной молодежи и интеллигенции, он
вписал новую страницу в историю борьбы демократических сил
против господства капитала. Поэтому было бы неверным
считать идеалы контркультуры лишь неосуществимой иллюзией
молодежного протеста прошлого десятилетия — они вошли в
политическую и общественную жизнь западного мира, в его
культуру и искусство, о них продолжают говорить как их
сторонники, так и противники. Как мы сможем убедиться в этом ниже,
сама динамика современного художественного процесса на
Западе опровергает умозрительные идеологические схемы «новых»
консерваторов.
1 D i с k s t e i n M. Gates of Eden, p. 273.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Особенности художественного процесса
в свете контркультуры и «нового» консерватизма
1. Общественно-политические течения и художественный
процесс: аспекты взаимодействия
В предшествующих главах взгляды на роль искусства в
общественной жизни, характерные для контркультуры и «нового»
консерватизма, рассматривались в теоретическом аспекте.
Поэтому мы и обращались к концепциям, одновременно типичным,
распространенным и внутри себя обоснованным (хотя и не
лишенным противоречий). Воззрения и Г. Маркузе и Д. Белла
специфичны еще и тем, что они позволили проанализировать
изучаемые тенденции в общем контексте развития общественно-
политической мысли в 60—70-е годы.
Как мы видим, эстетическая проблематика представляет
собой один из важнейших компонентов общих социокультурных
моделей, предлагаемых западными авторами. Вместе с тем опыт
истории искусств показывает, что между теоретическими
постулатами и практическими функциями творчества не бывает
абсолютного соответствия. Поэтому подлежит разграничению, с
одной стороны, теоретический анализ роли искусства в тех
формах, которые он приобрел в развитии
общественно-политической и эстетической мысли, а с другой — реальное участие тех
или иных видов искусства, художественных направлений,
творцов и их произведений в общих социокультурных процессах.
Уже картина борьбы идей в эстетике и художественной критике,
даже ограничиваясь конфронтацией контркультуры и «нового»
консерватизма, включает множество вариантов, подчас весьма
резко отличных от рассмотренных выше. Еще большее
многообразие характеризует широкую сферу творческой практики,
художественного процесса в целом, и в частности —
общественную роль искусства.
136
В конечном итоге условия жизни порождают и доктрины и
художественные произведения как составные части духовной
культуры, в условиях капитализма развивающейся в борьбе
господствующей буржуазной и прогрессивной демократической
культур. Мы не случайно подчеркнули «условия жизни» —
именно эту формулировку неоднократно употреблял В. И. Ленин,
обращаясь к вопросам культуры'. При этом функционирование
художественного процесса шире и богаче умозрительных
конструкций, и содержание каждого отдельного произведения не
сводимо к набору постулатов.
Различные виды искусства (как в целом, так и в своих
разветвлениях) не могут быть правильно поняты и
проанализированы без соотнесения с социальной средой, в условиях которой
они функционируют.
Рассмотрение художественного процесса в условиях
подчеркнутой нестабильности и противоречивости политической
картины западного мира, острый кризис которого выступает в роли
своеобразного генератора новых культурологических теорий
(каждая из них, в том числе и рассмотренные выше,
представляет определенный интерес именно как свидетельство этого
кризиса), ставит перед исследователем ряд новых методологических
проблем.
Как мы видели, с одной стороны, они обусловлены
необходимостью критического подхода к категориям, выдвигаемым
зарубежными авторами в качестве основных. Так, термины
«контркультура» и «неоконсерватизм» в какой-то степени правильно
отражают отдельные стороны развития западной культуры.
Однако они неизбежно несут на себе отпечаток тех идей и
представлений, в русле которых были сформулированы, а поэтому
1 Помимо цитированного во «Введении» разграничения двух
культур в каждой национальной культуре, напомним «Набросок
резолюции о пролетарской культуре»: «Не выдумка новой про-
леткультуры, а развитие лучших образцов, традиций,
результатов существующей культуры с точки зрения миросозерцания
марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его
диктатуры» (Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 41, с. 462).
137
не могут быть приняты на вооружение без предварительного
критического анализа, проведенного нами в предшествующих
главах.
Другая группа проблем вызвана к жизни неоднозначностью
связи общекультурных закономерностей (и отражающего их
категориального аппарата) с искусством, произведения которого
своими конкретными, специфическими чертами вступают в
определенное взаимодействие с общественной практикой и
теорией. Именно это взаимодействие мы и стремимся рассмотреть
ниже на примере собственно художественного преломления
динамики идейной борьбы на Западе, существенные черты которой
проявляются как в контркультуре, так и в «новой
консервативной волне».
Определяя методологические основания такого анализа, надо
учитывать и то, что участие искусства в
общественно-политической жизни отнюдь не ограничивается работами, создаваемыми
«сегодня» и «на злобу дня». Да и роль того или иного
произведения не исчерпывается результатами его «современных»
прочтений, не адекватных ни субъективной цели автора, ни оценке
критики или теории. История свидетельствует о том, что в
соответствии с различиями в ценностной ориентации эпох и
поколений, общественных классов, слоев, групп, наконец,
отдельных индивидов на разных этапах их жизненного пути
различными оказываются и те произведения и их варианты, которым
отдается предпочтение. Некогда забытые тексты «оживают»
вновь, а лишь недавно бывшие любимцами «моды» отходят на
второй план. Системы понимания (а в случае, например, театра
неизбежно и интерпретации) варьируют при этом в достаточно
широком диапазоне, о чем, в частности, свидетельствует, по
словам Маркса, неправильное понимание классицизмом
греческой драмы и Аристотеля как ее истолкователя !. Общественную
роль искусства определяют поэтому не только создаваемые
произведения, но и отношение к прошлому, принципы освоения
наследия. Отсюда и подчас кричащие противоречия в конкретных
1 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 30, с. 504—505.
138
преломлениях идей и образов, вплоть до морализаторского
предпочтения сиюминутного эффекта неопределенной, но столь
органичной для искусства ориентации «на вечность». Вспомним, что
еще Жан-Жак Руссо восхвалял того, кто «низведет свой гений
до уровня века и создание посредственных произведений,
которыми будут восхищаться при его жизни, предпочтет созданию
шедевров, которыми будут восторгаться лишь через много лет
после его смерти» 1.
Теоретическое изучение проблем этого круга несомненно
требует специального исследования2. В предыдущей главе мы
касались роли традиции в системе ценностей «новых»
консерваторов, закономерно ориентирующихся на более или менее
отдаленное прошлое. Казалось бы, в контркультуре, требовавшей
«Рай — немедленно!» с программной установкой на «здесь» и
«сейчас», любые традиции должны были категорически
отвергаться. В леворадикальной теории подчас так оно и было. Но
искусство, связанное с движением протеста, отнюдь не лишено
своих собственных истоков. Более того, от трактовки этих
«прообразов» в значительной мере зависела и оценка самой
контркультуры. Так, Д. Белл, усматривая корни движения в позиции
«молодых интеллектуалов» начала века (в первую очередь были
названы Уолтер Липпман и Ван Вик Брукс3), сводит
контркультуру к абсолютизации «модернистского импульса» и
лишает ее тем самым не только самобытности, но и подлинного
внутреннего обоснования. В частности, Д. Белл отрицает
социально-политические корни радикализма и ограничивает его
самым поверхностным слоем — вариациями мироощущения, и то
не вполне оригинальными, конечной точкой пути «от
протестантской этики к психоделическому базару»: «Хотя новое дви-
1 Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 1. М., 1961, с. 56.
3 См.: Горанов К. Художественный образ и его
историческая жизнь. М., 1970, в частности с. 231—258.
3 В е 11 D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 61—65;
см. также: Hoopes J. The Culture of Progressivism: Croly, Lipp*
man, Brooks, Bourne and the Idea of American Artistic Decadence,—
«Clio», Fall 1977, vol. 7, N 1.
139
жение и было крайним, оно не было ни смелым, ни
революционным. На самом деле оно представляло собой лишь простое
распространение гедонизма 50-х годов и демократизацию либерти-
низма, который был уже давно достигнут отдельными
прослойками передовых высших классов. Точно так же, как
политический радикализм 60-х годов последовал за крахом
политического либерализма предшествующего десятилетия (вот это
верно.— Лет.), психоделические крайности — в сексуальности,
обнаженности, наркотиках и роке — и контркультура последовали за
вымученным гедонизмом 50-х годов» 1. Далее, как мы видели,
происходит подстановка: радикализм отметается, а
рассматриваются только крайности контркультуры.
Генеалогия «от модернизма» предрасполагает к негативной
оценке «бурных 60-х». А вот Ф. Боноски, отнюдь не
затушевывая противоречий движения протеста, подчеркивает связь
некоторых феноменов молодежной культуры с «красными 30-ми».
Не принимая на веру анафему, которой «новые левые»
неоднократно предавали левых «старых», американский коммунист
анализирует их подлинное взаимодействие. Так, например,
подвергнув критике крайности театрального «неоавангардизма»,
Ф. Боноски подчеркивает: «И все же существовал другой
авангард, корни которого уходили в социальный театр 30-х — начала
50-х годов. В 60-е годы он выступал против преступлений и
бесчинств, совершаемых Соединенными Штатами во Вьетнаме.
Временами этот театр использовал технику «другого» театра,
внешне их форма совпадала. Но его основная линия была
абсолютно ясна: он выступал против войны, и при этом с четко
выраженных антикапиталистических позиций» 2.
Здесь автор одновременно фиксирует важную грань
собственно художественного процесса — «совпадение по форме» явлений
различной идейной направленности (в данном случае
«псевдоноваторства» и подлинно социального искусства) — и выявляет
преемственность прогрессивных традиций от 30-х годов к 60-м.
'Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 73—74.
8 Боноски Ф. Две культуры, с. 188.
140
Отсюда и характерные для марксистской
общественно-политической мысли правомерные параллели между 30-ми и 60-ми
годами, поскольку в оба эти периода отрицание буржуазной
системы ценностей стало ведущей тенденцией культурного
процесса. Постоянство и неоднозначность процессов наследования
культуры прослеживается и на протяжении трех последних
десятилетий, в масштабах истории искусств срока относительно
небольшого. При всех метаморфозах, порождаемых ускорением
современного художественного развития, в это время
продолжали работать одни и те же художники, не прекращаясь, шла
борьба между различными художественными направлениями,
более или менее очевидно проявлялись внутренние
взаимодействия художественного процесса.
Поэтому именно материал искусства наиболее очевидно
раскрывает ущербность представления о «циклическом»
чередовании противоположных тенденций. Феномен, названный
контркультурой, на самом деле начинался значительно раньше 60-х
годов. Принципы фронтальной оппозиции господствующей
культуре были сформулированы еще в 50-е годы и Г. Маркузе и
(в сфере творческой практики) Норманом Мейлером, в частности
в знаменитом эссе «Белый негр» (1957). Вместе с Жан-Полем
Сартром, провозгласившим самого себя трибуном молодежного
бунта по ту сторону океана, автор «Нагих и мертвых» (1948)
раскрыл в ходе своей неоднозначной эволюции с 40-х до 70-х
годов экзистенциалистские корни «новой чувственности» и дал
движению и мировой культуре образцы документальной прозы:
«Армии ночи» и «Майами и осада Чикаго» (1968)1.
Поэзия «битников», рок-н-ролл, поп-арт, драматургия
«сердитых молодых людей», кинематографическая «новая волна»,
ранние произведения Курта Воннегута и Джеймса Болдуина
явились живыми и наглядно разнопорядковыми истоками
контркультуры. При этом фазы зарождения, подъема и кризиса
отдельных художественных форм отнюдь не совпадали с движе-
1 См. Мулярчик А. В погоне за бегущим временем
(романы Нормана Мейлера).— «Вопр. лит.», 1978, № 10.
141
нием социологического «маятника». Опосредующим звеном,
определяющим специфику конкретных связей, неизменно
выступали внутренние особенности той или иной формы творчества.
Например, Ал. В. Михайлов справедливо отметил:
«Авангардизм, казалось бы, обогнал свою эпоху, когда уже задолго до
1968 года исполнял перед глухими к этой музыке слушателями
анархические варианты грядущих бунтов. В этом уже
заключался известный политический смысл авангардистского
искусства, быть может еще не столь очевидный в начале 60-х годов
и самим композиторам с их приверженностью к
технологическому мышлению и «чистым» структурам» К Это пример прямой,
хотя прямо и не осознаваемой, корреляции. Преломлялись в
искусстве и более давние традиции: об их решающем
художественном значении говорят и новое открытие на рубеже 70-х годов
творчества Германа Гессе, и актуальность истории
революционного движения прошлых веков (спектакль французского
«Театра Солнца» «1789», 1970, или фильм Р. Аллио «Камизары»,
1971), и политизированное прочтение классики, в особенности
Шекспира2. Важную роль в развитии прогрессивных тенденций
сыграло также расширение международных контактов, влияние
культуры социалистических и развивающихся стран. Борьба
социалистической и буржуазной культуры на Западе не только
разграничивает между собой различные направления в
искусстве, но и как бы разрывает их изнутри. Ведь прогрессивные
элементы подчас неожиданно появляются и в произведениях,
ведущие мотивы которых, казалось бы, очевидно обслуживают
господствующую идеологию. Черты демократической культуры
присущи и творчеству художников, пусть непоследовательных,
но ищущих альтернативу буржуазному мироустройству, даже в
тех случаях, когда их субъективные заблуждения препятствуют
1 Михайлов Ал. В. Некоторые мотивы музыкального
авангардизма. Карлгейнц Штокгаузен.— В кн.: Искусство и
общество. Тенденции политизации в современном западном
искусстве. М., 1978, с. 71.
2 См. там же, в частности, статьи Г. В. Макаровой и
Т, В, Проскурняковой,
иг
выявлению подлинных путей решения поднимаемых проблем,
как социальных, так и художественных.
Конечно, каждый из видов искусства сам по себе
заслуживает специального исследования. В соответствии со своей
конкретной спецификой та или иная форма художественного
творчества по-своему участвует в социокультурных движениях.
Музыкальный авангард, поп-музыка и сентиментальный романс,
абстрактный экспрессионизм, поп-арт или гиперреализм в
изобразительных искусствах, «новый роман», документальная
проза, «шпионская» и «черная» серии, экспериментальное
словотворчество и «деконструкция» в литературе, «театр абсурда»,
«хеппенинг», нравоучительная драма на сцене в той или иной
мере соотносятся с рассматриваемыми направлениями в
культуре. Эти явления, как и многие нами не упомянутые, получили
определенное отражение в советской критической литературе К
Рассмотрение художественного процесса в свете
определенных общественно-политических (а не только собственно
эстетических) течений позволяет выявить закономерности развития
духовной культуры, которые при обособленном
литературоведческом или искусствоведческом анализе остаются скрытыми.
Поэтому, опираясь на результаты соответствующих
специальных исследований, по возможности не дублируя их, ниже мы
обратим главное внимание на комплексные вопросы
функционирования идейно-художественных тенденций в различных
видах искусства, в связи с особенностями их выразительного
потенциала, сформировавшихся традиций, форм распространения
в обществе.
1 См., в частности: Современное западное искусство.
Идейные мотивы, пути развития. М., 1971; Кризис буржуазной
культуры и музыка. М., 1972; Неоавангардистские течения в
зарубежной литератзгре 1950—1960 гг. М., 1972; Современное западное
искусство. К критике буржуазной художественной культуры
XX века. М., 1972; Идеологическая борьба и современная
культура. М., 1972; Экран и идеологическая борьба. М., 1976;
Американская литература и общественно-политическая борьба. М.,
1977; Западное искусство. XX век. М., 1978, а также ряд других
сборников, монографий и статей в периодических изданиях.
143
Общественно-политические тенденции выносят подчас на
первый план явления, по искусствоведческой традиции
представляющиеся периферийными. Произведения, носящие оперативный,
агитационный характер, еще нередко оставляются в тени как
академической наукой, так и текущей художественной
критикой. А ведь современная революционная поэзия, сценки и
пьесы для уличных театров, социально-обличительные песни в
капиталистических странах выступают против буржуазной
реакции. Они требуют, по существу, цикла специальных
исследований. Мы только хотим подчеркнуть, что именно феномены
этого круга и составляют прогрессивные элементы
контркультуры, поскольку ее весьма специфическая ориентация в высшей
мере активизировала маргинальные формы творчества,
находящиеся вне и направленные против «официальной» культуры
буржуазии.
В конечном итоге именно взаимодействие специфических
установок той или иной социокультурной тенденции с общими
закономерностями художественного развития и их частными
преломлениями в каждом из видов искусств и составляет
существо проблемы.
Весьма заметными факторами развития искусства на Западе
оказываются возрастающее влияние средств массовой
коммуникации на циркуляцию культуры и формирование
общественного сознания *, увеличение удельного веса визуальных и
аудиовизуальных каналов связи, а также усиление интегративных
процессов и взаимопроникновения различных форм творчества.
Вернемся к дискуссии по вопросам культуры в журнале
«Комментари» с точки зрения альтернативных систем
ценностей в их приложении к различным видам искусств. Общая
интонация этого «круглого стола» — ностальгическая. Его
участники сожалеют о «добрых старых временах», относимых к тем же
30—50-м годам,, когда в буржуазном философско-эстетическом
1 Эти закономерности подробно (хотя и не всегда бесспорно)
проанализированы в кн.: Моль А. Социодинамика культуры.
М., 1973.
144
сознании «подлинное искусство» отождествлялось с
художественным авангардом и категорически отграничивалось от любой
формы массовости (в результате интеллектуалы не только могли
себе позволить, но и обязаны были с презрением отворачиваться
от популярных песен, фильмов, даже спектаклей, не говоря о
рекламных панно), когда индивидуальное творчество в музыке,
живописи и скульптуре и, конечно, в литературе априорно
предпочиталось синкретизму кино и ТВ.
Кризис традиционных представлений справедливо
связывался с контркультурой. Так, Н. Подгорец говорил: «Эта так
называемая новая чувственность, бывшая сама по себе результатом
традиций авангардистского мышления, приложила
максимальные усилия для стирания граней между высокой культурой и
массовой, или низкой, культурой благодаря таким движениям,
как поп-арт, и возвеличиванию критикой популярных фигур
вроде ансамбля «Битлз» или ранее презираемых голливудских
режиссеров типа Говарда Хоукса» !. Л. Триллинг уточняет
картину: «Кино мне кажется здесь наиболее ярким примером:
популярная форма, поднявшаяся из состояния низости и грубости
(которое мы, правда, ныне вспоминаем с ностальгией) на самые
высокие уровни культуры. Сегодня кино дает величайший
эстетический опыт и люди ссылаются на фильмы и детали из
фильмов так же, как мы когда-то цитировали книги» 2. А отсюда и
сожаление о том, что в системе ценностей нынешних студентов-
гуманитариев кинокритики захватили место, некогда
безраздельно принадлежавшее критикам литературным.
Н. Подгорец между литературой и кино вводит
промежуточное звено — сцену. «На мой взгляд,— дополняет он Триллинга,—
скорее, так обсуждали бродвейские спектакли. Бродвей
действительно передвинулся в Голливуд: в тот период определенная
часть зрителей рассматривала Бродвей как серьезное искусство,
а кино считала недоискусством, теперь кино поднялось на
ступеньку выше, а недоискусством стало телевидение...» 3.
1 «Commentary», 1974, Dec, p. 33.
2 Ibid., p. 37.
3 Ibid.
145
Наряду с этими переформирующимися разграничениями в
системе художественной культуры все более сильными
оказываются интегративные процессы взаимоперехода между
формами коммуникации и, в частности, различными видами
искусств.
Этот аспект особенно ярко выступает на примере
трансформаций повествования — инсценировок, экранизаций, «новелли-
заций» (написания романов по фильмам) и т. п. Ретрансляция
рассказов об одних и тех же событиях включает и репортажи,
и «дайджесты», и комиксы, и фотороманы в окружении разного
рода критико-теоретических построений. Ее подлинный диапазон
простирается от устного обмена мнениями до стихии западной
журналистики, одна из главных установок которой — создание
новостей 1. При этом газетные хроники с легкостью
превращаются в фильм или роман, вновь возвращаясь на полосы
периодики в рубрике такого злободневного жанра, как
художественная критика.
В этом многообразии рассказов идейно-политические и
художественные течения на разных этапах проявляются в
различных формах, интегрируются официальной системой буржуазной
пропаганды или скрываются от нее в «альтернативных» и
«подпольных» произведениях, вступают в острые столкновения
между собой и борются за преимущественное влияние на
общественное мнение, то есть отстаивают право искусства на
социальную активность. Политические идеи, нравственные (или
безнравственные) установки, те или иные общественные идеалы
мигрируют со страниц книг и периодических изданий на экраны
или сцены и обратно, а конечный эффект определяется их
общественным резонансом во всех трансформациях. Разумеется,
что подобное положение вещей, являющееся одним из
результатов научно-технической революции, дает господствующему
классу широчайшие возможности для эффективного и скрытого
1 См.: В о о г s t i n D. The Image, or What Happened to the
American Dream. New York, 1961.
146
манипулирования массами, в частности регулируя расстановку
акцентов в программно плюралистической системе1.
Сравнивая сферы политики и культуры, Н. Подгорец
говорил: «На политической арене у нас в стране есть средства,
благодаря которым плюралистические споры находят разрешение.
Вся система существует для того, чтобы добиться
договоренностей и компромиссов, позволяющих существовать всем
дискутирующим сторонам. В области культуры сейчас тоже возникает
нечто вроде плюралистической установки, утверждающей, что
все художественные опыты равны и в равной мере превосходны,
но нет механизма для примирения соперничающих
требований» 2. Эта идеологическая позиция свидетельствует, в
частности, о том, что иллюзия политического «консенсуса» наиболее
наглядно разоблачается именно духовным кризисом
капитализма, отсутствием у его идеологов позитивной системы ценностей.
В свою очередь в рядах тех противников капитализма, которые
ограничиваются сферой художественных экспериментов, не
хватает идейной последовательности и единства, а декларируемый
категорический отказ от сотрудничества с «системой»
оборачивается либо ассимиляцией этой «системой» в пределах
плюралистической манипуляции массовым сознанием при помощи
прессы, радио, кино, телевидения, либо полной изоляцией от
общества, в том числе и от его прогрессивных демократических
сил.
1 Быть может, наиболее отчетливо техника манипуляции
выступает на примере телевидения. Так, в ряде американских
городов, в частности в Нью-Йорке, при внедрении кабельного
телевидения один из каналов был предоставлен бесплатно всем
желающим. Разумеется, за эту возможность высказаться
ухватились и различные экстремистские группировки. Однако их
передачи, как и «провокационные» попытки привлечь внимание
к «сексуальным меньшинствам», не вызвали интереса у
аудитории (зачастую и не подозревавшей о существовании этого
канала), а посему и не нуждались в цензурном запрете,
который сам по себе мог лишь вызвать излишнюю рекламную
шумиху (см.: В а е г W. S. Les recents developpements de la teledistri-
bution aux Etats-Unis.—«Communications», 1974, N 21, p. 163—164).
2 «Commentary», 1974, Dec, p. 38.
И7
Следовательно, социальная роль искусства, его отдельных
видов и произведений, реализуется в конечном итоге благодаря
общественному резонансу, в свою очередь определяемому
многоканальной системой связей с идеологией и культурой.
Существенные признаки той или иной установки мы при этом можем
обнаружить в каждом из искусств, хотя формы их проявления
будут зависеть от материала творчества и способов
распространения произведений.
Кстати говоря, это взаимодействие, как один из результатов
интегративных тенденций, в полной мере проявляется и на
самом общем уровне в синтетических формах творчества. Так,
музыка и театр, сцена и зрительный зал, актеры и аудитория
сводятся воедино в «хеппенингах»; кино, телевидение и
реальное действие — в опытах «развернутого кино»; музыка, свет,
цвет и движение — в «кинетическом искусстве» и комплексных
представлениях. Эти параметры художественного процесса
получили отражение и в специальных терминах, обозначающих
разные типы соединения ресурсов нескольких средств
выражения: «multimedia» (принятый русский перевод — «многосредные
композиции», точнее было бы сказать «многосредственные»),
«mixed media» («смешанные», «комбинированные» формы) или
«intermedia» («взаимопроникающие средства»)1. Для данного
круга явлений характерно преимущественное внимание к технике,
иногда даже в противовес человеческому творческому фактору.
В теоретической перспективе они восходят к «маклюэнизму»,
хотя и преодолевают его ориентацию на выявление роли
какого-либо одного канала связи.
В этом русле также кино и ТВ, как технические формы
искусства экрана, получают особое значение уже в сфере
самосознания искусства, близкого к контркультуре. Здесь
характерна позиция американского теоретика Джина Янгблада,
развивающего положение М. Маклюэна о средствах коммуникации
1 См. кн.: Современное буржуазное искусство, М., 1975, в
частности статьи 3. Воиновой и В. и С. Матвеевых.
148
как «дополнительных органах чувств» человека'. «Когда мы
говорим «развернутое кино»,— писал Янгблад,— на самом деле
мы имеем в виду развернутое сознание. Развернутое кино значит
не только фильмы, созданные с помощью компьютеров,
видеофосфоресцирование, атомный свет или сферические проекции.
Развернутое кино — совсем не кинофильм: как и жизнь, это
процесс становления, продолжающееся историческое движение
человека к проявлению собственного сознания за его пределами,
перед глазами. Теперь уже нельзя быть специалистом в какой-
то одной области и надеяться правдиво и ясно выразить ее
отношение к среде. Это особенно очевидно в приложении к сети
интермедиа кино и телевидения, которые ныне представляют
собой нервную систему человечества» 2.
Эта общая концепция, давшая основание для многих
интересных, но отнюдь не бесспорных художественных
экспериментов, получила подкрепление и в эмоциональном настрое
контркультуры. В заключение своего знаменитого эссе «Против
интерпретации» (1966) Сьюзен Зонтаг — адепт и представитель
«новой чувственности» — определила ее как освобождение чувств
от разума и соответственно вытеснение литературы с ее
«тяжкой ношей «содержания», одновременно репортажа и
нравственного суждения», искусствами «со значительно меньшим
содержанием и более умеренными формами нравственного
суждения, такими, как музыка, фильмы, танец, архитектура,
скульптура» 3.
Вместе с тем, как мы убедимся, исследованные нами
культурологические тенденции не могли привести к формированию
самостоятельных направлений в искусстве. «Новый»
консерватизм, как движение для искусства более запрещающее, нежели
побуждающее, подчеркнул значение определенных
тематических пластов, влияющих на политический и эстетический ха-
1 См.: McLuhan M. Understanding Media: the Extentions of
Man. New York, 1964.
2 Youngblood G. Expanded Cinema. New York, 1970, p. 9.
3 Цит. по: D i с k s t e i n M. Gates of Eden, p. 9.
149
рактер конфликтов и предлагаемых путей их решения, на
формы активного воздействия на читателя, зрителя, слушателя, но
отнюдь не претендовал при этом на порождение особого
художественного течения.
Правда, контркультура по определению как бы предполагала
подобную попытку, однако художественное ее содержание
оказалось шире декларируемых «чистых» форм, находящихся «на
грани» искусства и жизни. Разного рода «хеппенинги»,
«граффити», выступления «подпольных» прессы и кинематографа,
«политико-художественные» лозунги, бытие «коммун»,
наркотические «действа» и демонстрации составляли лишь небольшую
надводную часть айсберга. Подлинное значение контркультуры
обнаруживается при ее анализе одновременно как результата
и генератора глубинных изменений в структуре и о>ормах
художественного творчества в развитых капиталистических
странах.
При всей программной и достаточно монолитной
ориентированности на растворение искусства в жизни реальные
воплощения контркультуры всегда отмечены многозначностью,
амбивалентностью. Они отражают не только дилеммы идеологов,
но и сложность и противоречивость самого протеста. Сквозные
закономерности, связывающие социальные движения, теории
культурологов и творческую практику, очевидно выявляются в
исходном делении контркультуры на два крыла:
леворадикальное, проповедующее необходимость активных действий (в
самых различных формах), и богемно-битническое (наиболее
яркое выражение получившее в движении хиппи), основанное на
пассивном «уходе» от общества.
Истолкование этой двойственности бывает различным: оба
направления как бы сводятся воедино в глобальной теории
Г. Маркузе, как и в практике йиппи, и, наоборот, разделяются
Т. Розаком, отнюдь не случайно выводящим радикалов за
рамки «чистой» контркультуры. В частности, Розак писал: «Новые
левые, которые восстают против технократической манипуляции
во имя активной демократии, действуют, часто этого не осозна-»
вая, согласно анархистской традиции, которая всегда была на
150
стороне добродетелей примитивной толпы, рода, деревни...
Наши битники и хиппи распространяют свою критику дальше. Их
инстинктивная тяга к магическому и ритуальному, племенному
закону и психологическому опыту в конечном счете ведет к
воскрешению древнего шаманства. Поступая так, они мудро
рассуждают, что суть активной демократии не может сводиться
к политико-экономической децентрализации, и только к ней
одной. Пока проклятие объективного сознания тяготеет над нашим
обществом, режим экспертов никогда не будет свергнут и
общество по-прежнему останется в руках священнослужителей
цитадели, контролирующих доступы к реальности» !. Такой
подход позволяет американскому социологу лишить движение
подлинно революционных моментов, а также дает основание
буржуазным оппонентам объяснять его преимущественно
социально-психологическими особенностями молодежи.
Отсюда неоднозначность и лозунгов парижского бунта на
стенах Сорбонны («Материальные выгоды — смерть!»,
«Запрещено запрещать!»), и популярности различных вариантов
восточного мистицизма, и реализации принципов «новой
чувственности», и общинного бытия коммун (какая пропасть разделяет
«детей цветов» и поклонников «нового Мессии» — кровавого
Мэнсона), и широкой сферы «поп-культуры».
Уподобление искусства — жизни и жизни — искусству
естественно привело к акцентировке роли промежуточных явлений,
как правило, выводимых за пределы эстетического творчества.
Особенно яркий пример тому дают песня и танец, открывающие
перед всеми участниками художественного события
возможности самореализации и самовыражения.
Но сама по себе социальная функция этих форм творчества
не постоянна. Еще Д. Локк, полагая, что формирование
«идеального человека» не нуждается в искусстве, делал исключение
лишь для танцев, которые «сообщают детям пристойную
уверенность и умение держаться и, таким образом, подготовляют к
обществу старших» 2.
1 R о s z a k Т. The Making of a Counter Culture, p. 264—265.
2 Л о к к Д. Педагогические сочинения. М., 1939, с 106.
151
Как бы изумился английский просветитель, окажись он
свидетелем экстатического танца, категорически
отграничивающего «детей» от «заторможенных отцов». Вспомним слова рока
«Якти-Як»—монолог родителя, написанный Джерри Лейбером и
Майком Столлером для Элвиса Пресли еще в 1958 году:
Вынеси бумагу и мусор
Или не получишь денег.
Если не вымоешь на кухне пол,
Никогда не будешь танцевать рок-н-ролл.
Молчи, не отвечай.
Кончай убирать свою комнату,
Смахивай пыль веником,
Убери весь мусор с глаз долой
Или никуда не пойдешь в пятницу вечером.
Молчи, не отвечай.
Просто надевай пальто и шапку
И иди в прачечную,
А когда вернешься назад,
Приведешь собаку и выведешь кошку.
Молчи, не отвечай
Ц не смей так на меня смотреть.
Твой отец не дурак, он знает, что к чему.
Прогони своих дружков-хулиганов,
У тебя нет времени гулять.
Молчи, не отвечай К
Ответом на припев и был танец, действием опровергавший
прописные истины, ритм, противостоящий значению слов,—
вызов «тинэйджеров» упорядоченному домашнему мирку.
Демократизм песни и танца, общедоступность творчества и
сотворчества получали существенную поддержку в ориентации на
достаточно всеобщие психологические процессы. Песни Э. Пресли,
конечно, нельзя считать программой социального действия, как
и сочинения «фолкников», Боба Дплана или Джоан Баэз.
Однако уже здесь было ухвачено то, что получит дальнейшее
развитие в «бурные 60-е»,— инстинктивный протест молодежи против
буржуазного образа жизни.
Но было ли это фактом искусства? С точки зрения тради-
Цит. по: М a f f i M. Op. cit., p. 332.
152
ционных эстетических представлений, по-видимому, нет. Так,
Сельма Жанна Коэн утверждала: «Не все типы танцев в равной
степени касаются эстетики. Ритуал, обращенный к богам, или
танцы в обществе, доставляющие удовольствие участникам, в
порядке исключения могут также быть источником
эстетического наслаждения. Но это не их цель и не доказательство их
успеха. Танец во имя дождя удачен тогда, когда начинается
дождь. Бальный танец хорош, когда танцующие хорошо
развлекаются. Только балет создан для обогащения эстетического
опыта зрителя» К
Контркультура поставила это рассуждение с ног на голову.
Она уравняла в правах зрителей и исполнителей, сделала всех
участниками события — социального и художественного. Отсюда
и отмеченная выше глобальная «театрализация» общественной
жизни. Идея «театра» в сознании контркультуры выступила в
качестве своеобразного политико-эстетического идеала, символа
«тотальной революции». «Революция — это Театр-на-улице»,—
заявил Дж. Рубин, один из предводителей американских «йип-
пи». Он писал: «Театр не знает правил, форм, структур,
стандартов, традиций. Это чистая природная энергия, импульс,
анархия. Задача революции — разрушить сценические декорации...
Единственная цель театра — вывести людей из аудиторий на
улицы. Цель революционной театральной группы — сделать
революцию» 2.
Таким образом, сама идея «театральности» наполнилась для
сторонников и выразителей контркультуры совсем иным
значением, когда речь пошла об «игре» и «театре» как якобы
единственно аутентичных формах революционной активности,
разрушающих сценические декорации и переносящих
импровизированное театральное действие на улицу. В этом смысле «театр»
стал импонировать радикалам как некая магическая стихия
1 С о h e n S. J. A Prolegomenon to the Aesthetics of the Dance.—
In: Aesthetics and the Arts, 1968, p. 82.
2 R u b i n J. Do It! Scenarios of the Revolution. New York, 1970,
p. 132-133.
153
свободы и воображения, как притягательное пространство, где
стираются тусклые условности обыденной жизни и
проявляются иные — «высшие» — законы социального творчества.
Противопоставление и предпочтение в рамках левомолодежного
мироощущения «игры» — «делу» в известной мере объясняется и
тем, что для социально-культурного авангардизма «дело»
(«труд») прочно ассоциируется и выступает в форме
буржуазного «бизнеса», которому противопоставляется эстетизированная
игровая активность.
Помимо этих мотивов притягательность идеи и практики
«политики как театра» для радикалов обусловливается и рядом
социально-психологических факторов, оказавших существенное
влияние на эстетику контркультуры. Дело прежде всего в том,
что сама идея «театра» в ее леворадикальном осмыслении
оказалась чуть ли не синонимом по л итико-эстетического
«сопереживания», «сопричастности» неким коллективным формам
сознания и действия, когда индивидуальный зритель становится
одновременно и актером, участником своеобразного
коллективного ритуала, совокупной церемонии приобщения к неким
всеобщим и надличным началам — «Истине», «Справедливости»,
«Красоте». Эта ностальгия по утерянному «коллективистскому»
раю отчетливо проявилась в практике контркультуры, в
попытках противопоставить буржуазному индивидуализму новые
формы общностей (например, коммуны), а также и в такой
нашумевшей постановке «Ливинг-театра», как «Рай — немедленно!»
(1968) или в рок-мюзикле «Волосы», где одной из основных
сюжетных линий была тема «возврата» героя-индивидуалиста в
некое общинное лоно.
Именно в этом смысле участие в «театральном» действии,
когда эстетические критерии становились пробным камнем
конкретной политической акции, осознавалось непосредственными
участниками «игры в Революцию» в качестве своего рода
субститута утерянной «коллективности» и мыслилось как
преодоление некоего патологического состояния, под которым
подразумевались устои буржуазного индивидуализма. Рассмотренные в
этом плане политико-эстетические тенденции современного ле-
154
вого радикализма предстают в качестве весьма двойственного и
самопротиворечивого образования: с одной стороны, в теории и
практике контркультуры выявилась несомненная тяга к
коллективистски (ритуальным формам сознания и поведения, которые в
идеале должны были бы преодолеть «частичность»,
разобщенность и индивидуалистичность буржуазного этоса. Но, с другой
стороны, в этом же типе политико-эстетического сознания
обнаружились и внутренние индивидуалистические интенции,
обусловленные прежде всего тем, что сама проблема формирования
«целостного индивида», «нового коллективного человека»
вместо «частных» индивидов, порожденных капиталистическим
производством, ставилась радикалами как индивидуальная
задача, как некий индивидуально-личностный императив.
Тем самым выясняется, что в леворадикальной программе
возрождения политико-эстетического «коллективизма» речь в
действительности идет об иллюзорном преодолении
буржуазного индивидуализма на предельно индивидуалистическом
уровне. Можно сказать, что «актер», вовлеченный в хоровод
театрализованной «игры в Революцию», фактически так и оставался
обособленным «зрителем», жаждущим растворения в
бессознательной «коллективности», но при этом резервирующим себе
кресло наблюдателя в первых рядах партера. Это
фундаментальное противоречие леворадикального эстетического сознания
отчетливо выявилось в характерной для всего современного
социально-культурного авангардизма резкой критике
индивидуалистической концепции «буржуазного художника» и
автономного произведения искусства, что привело к широкому
распространению в леворадикальном искусстве принципа авторской
анонимности и «коллективного творчества».
Эти концепции, в политической перспективе явно
утопичные, в сфере художественной практики оказались в известной
мере плодотворными. Они позволили приобщить к искусству
новые слои населения, в том числе не только студенчество и
интеллигенцию, но в известной мере и рабочий класс. И хотя
провокации аудитории в «хеппенингах» носили подчас
уродливо-извращенный характер, сам принцип активного побуждения
155
к действию лежит в основе подлинно прогрессивного искусства.
Слабость позиций приверженцев контркультуры — не в
утверждении органичной взаимосвязи между политикой и искусством,
а в их эклектическом смешении. Именно это делает ее столь
уязвимой для критики «справа».
На тризне по левым радикалам 60-х годов их буржуазные
оппоненты не случайно поминают прошлые годы молодежного
протеста как гигантскую буффонаду, феерию и «хеппенинг».
«Интеллигентский синдром» и «психотерапевтический» характер
движения протеста и самой контркультуры объявляются
причинами эстетизированных форм молодежной активности и
якобы «невротического» отношения радикальной молодежи и
интеллигенции к политике как к своего рода инстинктивной
деятельности и театральной игре. «Мелодраматические события в
политике,— пишет, например, Ф. Маунт в своей книге под
характерным названием «Театр политики», имея в виду
контркультуру и леворадикальный протест в целом,— вызывают
аналогии с театром» !. В другом месте он же заявляет: «Радикалы
думают, что их театрализованная конфронтация с властями
является единственно возможной и аутентичной акцией
протеста против универсально-репрессивного общества и что только
сценическая дерзость может разрушить освященную традицией
гниль политических структур и учреждений» 2. По его мнению,
интеллектуал в политике, как и интеллектуал в искусстве,
заботится лишь об удовлетворении своих личных влечении, а не
об общественном значении своих действий. В итоге — все то же
обвинение в «интеллигентском» эгоизме, обусловленное
приравниванием так называемого «общественного» интереса к
интересу истеблишмента, в результате чего противоположные и
критические по отношению к капитализму устремления
оказываются «частным» интересом.
Само название статьи Ф. Маунта — «Дух литературы в поли-
1 Mount F. The Theatre of Politics. London, 1972, p. 4.
2 Mount F. The Literary Spirit in Politics.—«Encounter», 1972,
Jan., p. 4.
15G
тике» — и многие ее положения навеяны взглядами
французского публициста и общественного деятеля XIX века А. де Ток-
вил я. В частности, он писал: «Я называю духом литературы в
политике привычку отдавать предпочтение не тому, что
истинно, а тому, что остроумно и ново, находить более
удовлетворения в том, что красиво с виду, чем в том, что полезно,
интересоваться хорошей игрой актеров независимо от содержания пьесы
и руководствоваться в своих решениях не столько доводами,
сколько впечатлениями» 1.
Сегодня эти идеи Токвиля получили достаточно широкое
распространение в различных по л итико-эстетических
интерпретациях контркультуры и леворадикального протеста в целом,
появившихся в буржуазной консервативно-апологетической
литературе. В результате исходный критический замысел
буржуазных идеологов получил своеобразную по л итико-эстетическую
интерпретацию. Категории «игры» и «театра» были истолкованы
как «стиль» всей современной культуры и искусства Запада,
отданных на откуп авангардизму и постмодернизму.
Одновременно они наполнились несвойственным им политическим
содержанием и стали символами упрека, обращенного к левым
радикалам.
Такая предвзятая ориентация не могла не привести к
намеренному искажению содержания и смысла
политико-эстетических акций молодежи. Одно из самых ярких свидетельств
тому— весьма противоречивые отклики на знаменитый Вудсток-
ский фестиваль музыки и искусства, собравший на переломном
рубеже 60—70-х годов более четырехсот тысяч человек у
небольшого озера Уайт-Лейк в штате Нью-Йорк. Противники
контркультуры поспешили объявить его «сборищем хиппи,
накурившихся марихуаны», хотя само число участников
манифестации убедительно говорит о ее весьма широком характере. На
фестивале были представители различных слоев американской
молодежи, а отнюдь не только хиппи или «юные отпрыски бо-
1 Т о к в и л ь А. де. Воспоминания. М., 1893, с. 76.
157
гатых семей»!. Расписывая быт гигантской аудитории, иные
комментаторы не скупились на броские характеристики:
«Разгул низменных страстей», «Содом и Гоморра» и т. п. А между
тем в Вудстоке не было ни одного изнасилования, ни одной
кражи (несмотря на то, что продовольствия катастрофически не
хватало), а начальник полиции города Беверли-Хиллз был
вынужден признаться, что он «никогда не видел столько народа на
такой небольшой территории* которым был бы настроен столь
миролюбиво»2. Где тут основания для параллелей с
ритуальными убийствами «семейства» Мэнсона?
Нравственная раскованность иных участников фестиваля
также была далека от разврата и назойливого эпатажа: в этом
сообществе «эпатировать» было некого. Конечно, ощущение
«единства поколения», обретенное в Вудстоке, было
мимолетным и иллюзорным. Оно базировалось на факторах не столько
социально-политических, сколько культурно-психологических
и, лишенное прочной опоры в повседневности, в условиях
жизни, не могло «оказаться долговечным. С точки зрения эстетики
контркультуры значение этого и других подобных фестивалей
состояло в их событийности — Вудсток стал фактом биографии
каждого, кто там побывал. В предисловии к книге «Две
культуры» А. Мулярчик не случайно отмечает, что Ф. Боноски, весьма
критически относящийся к «молодежной культуре», «не
скрывает своих восторженных впечатлений от знаменитого Вудсток-
ского фестиваля» 3.
Весьма характерно, что прогрессивные политические
выступления получали там восторженную поддержку аудитории. По
свидетельствам прессы, более половины песен Вудстокского фе-
1 К сожалению, с этой уничижительной формулировки
начинается единственная статья, которая была посвящена у нас
Вудстокскому фестивалю (В у л ь ф В. Вокруг Вудстокского
фестиваля.— «Театр», 1970, J4b 8, с. 147). Опираясь главным образом
на материалы буржуазной прессы, автор не всегда мог
отнестись к ним достаточно критически.
2 См. там же, с. 152.
3 Б о н о с к и Ф. Две культуры, с. 15.
158
стиваля отражали социальную тематику, касались самых острых
проблем современности 1. Сенсацией стала песня «Ресторан
Алисы» Арло Гатри — сына знаменитого Вуди Гатри, с 30-х годов
исполнявшего свои социальные баллады перед трудовым людом
Америки. Глубокое чувство уважения к подлинно народным
традициям прозвучало в песне, исполненной Джоан Баэз в
память о пролетарском певце начала века Джо Хилле. И хотя по
отношению к фестивалю как событию отдельные выступления
играли роль относительно подчиненную, их содержание было
очень существенно для определения эмоционального настроя и
социальной направленности этого коллективного действа, как мы
видим, весьма далекого от наркотического Содома.
Теперь сравним реальный фестиваль с его
кинематографическим отображением в четырехчасовой фреске Майкла Уодли
«Вудсток» (1970). Фильм, построенный как беспристрастная
хроника событий, включает интервью местных жителей,
организаторов и участников фестиваля, развернутые картины быта (в
известной мере, вероятно, приглаженного и даже несколько
романтизированного), отдельные номера. Авторская позиция
причудливо сочетает буржуазный объективизм, игру на
сенсационности материала и затушеванную симпатию к идеалам
контркультуры. Как любое автономное произведение, «Вудсток»
лишает зрителя возможности прямого соучастия в показываемых
событиях, оставляя ему лишь свободу сопереживания в
достаточно широком диапазоне — от полной солидарностси до
решительного отвращения.
Граница экрана, вынужденная дистанция между зрелищем и
залом и не позволили кинематографу (вопреки приведенным
выше пристрастным суждениям западных авторов) стать тем
видом искусства, в котором идеи и настроения контркультуры
нашли наиболее адекватное выражение. Кино не могло стать
олицетворением «контрдвижения», поскольку в своих
официальных формах в условиях капиталистической промышленно-
1 См.: Шнеерсон Г. М. Американская политическая
песня.— В кн.: Искусство и общество, с. 86.
159
сти в общественных представлениях оно было намертво связано
с буржуазной «массовой культурой», то есть как раз с тем,
против чего восставала бунтующая молодежь. С другой стороны,
ориентация кинематографа на внешний видимый мир (онтоло-
гизированная Кракауэром *) противоречила одной из ведущих
тенденций «новой чувственности» к высвобождению
иррационального и объективизации субъективного — здесь
контркультура смыкается с конформистом Маклюэном, не случайно
противопоставляющим «рациональному» кино требующее
специального «вчувствования» телевидение. Отметим, что это отнюдь не
единственный парадокс соотношений «pro» и «contra» в
контркультуре.
Отражая объективную реальность, автономное искусство (как
документальное, так и, в опосредованном варианте, основанное
на вымысле) не могло не обратиться к такому живописному,
яркому, карнавальному ее аспекту, как внешние проявления
контркультуры: хиппи, демонстрации, фестивали поп-музыки
и т. п. Конкретные варианты тут были самыми различными: от
полулюбительских съемок «студенческой революции» в Париже
до холодного клинического исследования бытия и сознания
«семейства» Мэнсона. Интонации менялись в зависимости и от
рассматриваемого круга явлений и от индивидуальных убеждений
авторов.
В ряду других свидетельских показаний о контркультуре
варианты, предложенные документальным кинематографом,
обладали преимуществом наглядной достоверности, но были
лишены ощущения той активной субъективной причастности к
событиям, которой были отмечены не только глобальные
манифестации, но и лозунги, газеты и журналы, особо
распространенные в периоды максимального подъема движения. В «бурные
60-е» каждый участник событий считал себя трибуном, и почти
каждый владел выразительностью устной речи. Документальная
проза тех лет дала человеческие документы и документы вре-
1 См.: Кракауэр 3. Природа фильма. Реабилитация
физической реальности. М., 1974.
160
мени в серии эссе Нормана Мейлера, в «Душе на льду» Элдрид-
жа Кливера (художественная выразительность дает о себе знать
уже в двойном смысле заглавия, обозначающего также «Черный
за решеткой»), в «Автобиографии» Малькольма Икса и в
десятках безымянных призывов и исповедей. Их художественное
качество может представляться сомнительным, их социальная
активность несомненна 1. Впечатляющий пример подобного рода
прозы (при всей очевидной превратности очерчиваемых
перспектив) дает финал книги Дж. Рубина, целенаправленно
озаглавленной «Действуй» (с не менее ярким подзаголовком —
«Сценарии революции»):
«На собраниях по всей стране Боб Дилан заменит
Национальный гимн.
Не будет больше тюрем, судов или полиции.
Белый дом станет местом пристанища для всех,
кому негде будет остановиться в Вашингтоне.
Весь мир превратится в одну большую коммуну с
бесплатным питанием и жильем, где все будет
общим.
Все часы, большие и маленькие, будут уничтожены.
Парикмахеры будут отправлены в лагеря
реабилитации, где они отрастят себе волосы.
«Воровство» перестанет быть преступлением,
поскольку все будет бесплатным.
Пентагон будет заменен экспериментальной
фермой для выработки ЛСД.
Не будет больше школ или церквей, поскольку весь
мир превратится в единую школу и единую церковь.
Люди будут заниматься утром сельским
хозяйством, вечером — музыкой, а любовью — где и когда
захотят».
А далее едва заметным петитом:
i
Не случайно апелляция к эстетическим критериям
зачастую служит маскировкой идеологической позиции. Так,
Хилтон Креймер объявляет книгу Н. Мейлера «Вера в граффити»
просто «выражением дурного вкуса» («Commentary», 1974, Dec,
p. 50).
(3 Зак. N9 62
161
«Соединенные Штаты Америки станут крошечным
островком йиппи в огромном море любви йилпилен-
да»1.
На этом фоне романизированные литературные
воспроизведения «студенческой революции» не могли не показаться
блеклыми имитациями бушующего оригинала.
В кино положение было существенно иным.
Фильмы-свидетельства чаще всего не обладали броской экспрессивностью,
поскольку она требовала не только навыка владения
«киноязыком», но и особых условий творчества, как правило, трудно
достижимых в реальности, ибо и профессиональные кадры и
финансы оставались в руках буржуазии.
Отсюда и различие в функционировании сходных по
тематике и формам сюжетного строения произведений в
кинематографическом и литературном контекстах. К примеру, роман
Джеймса Саймона Кьюнена «Земляничное заявление»
(подзаголовок — «Заметки революционера из колледжа») вряд ли мог
соперничать по эффективности с книгами Дж. Рубина и Э.
Кливера. Его же экранизация, созданная в 1970 году режиссером
Стюартом Хэгменом, на кинематографическом фоне оказалась
заметным свидетельством о молодежном движении.
Специфическая структура «отражение-отношение»,
проявлявшаяся в произведениях, основанных на художественном
вымысле и прямо или косвенно связанных с «контрмиром»
(большинство из них не случайно было создано на рубеже 60—70-х
годов, в апогее «контестации»), в данном случае привела к
сочетанию сугубо личных неурядиц в судьбе героя с новыми
мотивами в жизни бушующего студенческого города. Социальный
конфликт проходил, скорее, вторым планом, однако, что важно,
планом активным, оказывающим обратное влияние на формы
взаимоотношений персонажей, становление их характеров и
убеждений.
Более радикальный подход к проблеме демонстрирует фильм
«Беспечный ездок» (1969), молодые герои которого носят длин-
1 Rubin J. Op. cit., p. 256.
162
ные волосы, путешествуют на мотоциклах, зарабатывают на
жизнь торговлей наркотиками, для остроты ощущений иногда
сами прибегают к марихуане. По пути они заезжают в общину
хиппи, знакомятся (в тюрьме) с молодым адвокатом из
обеспеченной семьи, находящим прибежище в алкоголе. Налицо все
приметы контркультуры. Режиссер и исполнитель одной из
главных ролей в фильме Деннис Хоппер и его партнеры Питер
Фонда и Джек Николсон не скрывают своей симпатии к героям
и не упрощают конфликтов; неустроенность «ездоков» в
современной Америке носит тотальный характер не только по
внешним причинам (ненависть представителей «правильной»
культуры, готовых на убийство ради сохранения собственного мира),
но и в силу внутренней психологической изоляции. Они не
могут найти успокоения ни в семье фермера, удовлетворяющегося
скромным земледельческим трудом, ни в среде хиппи, ни на
шумном карнавале в Новом Орлеане. Им место только на
дорогах, и именно на дороге их подстерегает смерть.
Сопровождающие ленту песни-баллады, также характерные для
контркультуры, придают происходящему всеобщий метафорический
характер: столкновение молодых бунтарей (причем бунтарей
пассивных, поскольку их бунт выражается только в манере
одеваться и в образе жизни) с официальной Америкой (символом
которой служат обыватели, еще недавно бывшие
«железобетонными» положительными героями «вестернов») приводит ко
вселенской катастрофе.
«Беспечный ездок» представляет собой своеобразное
размышление о контркультуре, свидетельствующее о поддержке ее
общей направленности и искренней ненависти к ее непримиримым
оппонентам.
Однако (и в этом заключается особенность общественного
функционирования искусства в отличие от прямой пропаганды
или публицистики), как бы ни были ясно выражены взгляды
создателей произведения, зритель, читатель, слушатель может
истолковать их превратно. Поэтому и адекватное представление
об искусстве Запада, о том, как содержание произведений
«прочитывается» аудиторией, может сложиться лишь в том случае,
6*
163
если будет учтен весь сложный комплекс противоречивых
социокультурных условий. Так, укорененные в американском
национальном сознании психологические стереотипы и установки,
ценностные эталоны и приоритеты, составляющие
духовно-психологическую ткань американской культуры, в ряде случаев
приводили к решительной переакцентировке в истолковании
столкновения контркультуры и истеблишмента в
художественной практике.
Ведь не случайно, по свидетельствам прессы, консервативная
аудитория американского Юга вставала и аплодировала
финальному эпизоду фильма «Беспечный ездок», выражая
солидарность с теми, кто убил безвинных героев.
Противопоставление новой ориентации молодежи
традиционным ценностям голливудского кинематографа как наиболее
адекватного выражения «американского образа жизни»,
звучавшее в фильме Денниса Хоппера, скорее, как сопутствующий
мотив, во многом определяет специфическое место именно
киноискусства в «конфликте поколений». Диалектическое
исследование этого столкновения двух противоположных систем
ценностей мы находим в ленте Артура Пенна «Ресторан Алисы»,
созданной в том же 1969 году на основе цикла песен Арло Гат-
ри, исполнившего здесь одну из главных ролей. Как и в песне,
давшей фильму название, авторы развенчали идеалы «общества
процветания»: антипотребительское отношение к жизни служит
для героев решающим свидетельством подлинного богатства
человека. Не случайно мы оставляем героиню в переломный
момент — для нее наступает новый период: замужество (пусть
карнавально-пародийное, в купленной и вновь выставленной для
продажи небольшой разоренной церкви) знаменует переход от
свободной (и неустойчивой) молодости к стабильной (но
бесперспективной) зрелости. Теперь у Алисы, вероятно, будет свой
кусок земли, хозяйство, дети, но не останется прежних друзей,
которые, как «беспечные ездоки», вновь разъезжаются по
дорогам. Тем самым Артур Пени — представитель если еще не
старшего, то уже среднего поколения художников — свидетельствует
о преходящем характере «нового образа жизни», который при
164
этом не теряет своей привлекательности. Отсюда и своеобразная
элегическая интонация картины.
Эти американские примеры наиболее характерны потому, что
в кино США острее всего ощущается диктат буржуазной
промышленности и антагонизм «индустрии культуры» и контр-
культуры сказывается и во внутренней структуре произведений
и в их отношении к традиции.
Вместе с тем сходные моменты мы можем обнаружить и в
Западной Европе. Своеобразной чертой европейского искусства
оказывается приобщение контркультуры к классическим
структурам художественного творчества. В результате оно становится
одним из мотивов эстетического бунта, не противопоставляется
искусству как таковому, а, наоборот, как бы пытается
продолжать его лучшие традиции. Это соответствует и определенному
представлению о роли художественного творчества, по которому
подлинное искусство всегда революционно.
Особенности воплощения сходной тематики в американском
и западноевропейском искусстве наиболее отчетливо выступают
при сравнении двух известных произведений — «Связной» и
«Еще». «Связной» — спектакль «Ливинг-театра», поставленный
Джулианом Беком и Джудит Мэлайна в 1959 году,— был
перенесен на экран через два года Ширли Кларк в рамках так
называемой нью-йоркской школы, предтечи «подпольного кино»,
к которому мы еще вернемся ниже. Картина «Еще» была
сделана в 1968 году в Люксембурге режиссером Барбетом
Шредером, немцем по происхождению, работающим главным образом
во Франции. Центральная проблема этих произведений —
наркомания— интернациональна и для контркультуры
принципиально важна. Ведь «психоделическая революция» (приобщение
к наркотикам) играет важную роль в формировании «новой
чувственности».
«Связной», появившийся на сцене и на экране задолго до
провозглашения наркотического «путешествия» главным путем
к освобождению от господствующей культуры, дает возможность
сопоставить кинематографический и театральный ракурсы
165
«эстетики документализма». Лежащая в основе и спектакля и
фильма пьеса Джека Гелбера построена вне всякого сюжетного
действия, помимо ожидания «связного» с новой жизненно
необходимой порцией. Но если в театре зритель очевидно имел дело
с художественной стилизацией, открыто принимая «условную
безусловность» происходящего, то в кино введен обрамляющий
сюжет: картина заявлена как монтаж подлинных
документальных кадров, осуществленный оператором, заснявшим реальные
события. Тем самым иллюзия документальности подкрепляется
принципиальной возможностью такого варианта и порождает
целое направление искусства, провозгласившее «этнологический»
подход к социальной жизни, в первую очередь, конечно, к
таким парадоксальным ее проявлениям, как «пограничные миры»
(не только наркоманы, поборники психоделизма, но и люмпены,
богема, хиппи и т. д.).
В противовес этой тенденции фильм Шредера предельно
драматизирован. Авторы прослеживают путь своего героя от
первых острых ощущений до гибели от двойной дозы героина как
эволюцию одновременно восходящую (обогащение опыта в
традициях контркультуры) и нисходящую, неизбежно ведущую к
смерти. Эта неизбежность, подчеркнутая романтизированным
образом «роковой» женщины, от которой герой пытается, но
никак не может бежать, придает происходящему необходимый
оттенок трагизма.
Сравнение между названными произведениями поучительно
и с точки зрения альтернативных форм создания и
распространения художественной продукции. Фильмы Хоппера и Пенна
сняты в Голливуде, контролируемом крупнейшими
монополиями США. Картина Шредера поставлена в условиях европейского
кинопроизводства, в определенной своей части сохранившего,
по словам французского критика-коммуниста Альбера Сервони,
«тенденцию к своеобразной реформистской идеологии, своего
рода мелкому сочувствующему капитализму, более
независимому, более благожелательному по отношению к свободе
творчества, культурной функции искусства, противопоставляясь, таким
образом, голливудским боевикам и крупным копродукциям, пре-
1СС
имущественно или даже исключительно меркантильного
характера» *.
«Ливинг-театр» (как и нью-йоркская школа в кино) еще
дальше отстоит от «официальной» системы, представленной
Бродвеем. Экспериментальный театр, имевший собственное здание
только с 1959 по 1963 год и превратившийся затем в знаменитую
странствующую труппу, существовал на небольшие вклады
добровольных меценатов и в какой-то мере за счет продажи
билетов, постоянно находясь на грани разорения. И все же его
независимость от «денежного мешка» была иллюзорной. В начале
вынужденного европейского турне Дж. Мэлайна признавалась
(со свойственными «Ливингу» анархистскими перегибами):
«Каждый раз, как я беру у кого-нибудь доллар или даю
кому-нибудь франк, я пользуюсь воинственной и кровавой системой,
принятой людьми для взаимного обмена, и тем самым
поддерживаю ее. Все мы тут соучастники. Каждое мое движение
свидетельствует о рабском согласии с системой. Единственный
способ жить прилично и честно по отношению к системе —
находиться под ее прямым, жестоким и принудительным
давлением» 2.
В этом заявлении, которое можно считать в какой-то мере
программным для контркультуры, причудливо сочетаются
неприятие «системы» и неизбежное подчинение ей. Для того чтобы
стать активной социальной силой, контркультура должна найти
пути распространения произведений, а средства духовного
производства остаются в руках господствующего класса, хотя его
контроль и осуществляется в разной степени и в разных
формах. Государственное или коммерческое телевидение, частное
или «подпольное» кинопроизводство, Бродвей, офф-Бродвей или
офф-офф-Бродвей, произведения искусства, создаваемые и"
закупаемые на средства Национального фонда помощи
искусствам США или частных фондов Форда, Рокфеллера, Гуггенхей-
1 «Cinema 72», N 163, р. 49.
2 Цит. по: В i n е г P. Le Living Theatre. Histoire sans legende.
Lausanne, 1968, p. 9.
167
ма, издательская практика от крупных буржуазных монополий
до центров «подпольной» прессы — все эти источники
финансирования вписываются в систему художественного производства
в буржуазном обществе и в известной степени
взаимопроникают.
Буржуазия стремится подчинить себе искусство протеста,
толкнуть талантливых художников на путь безопасных
экспериментов, параллельно спекулируя на актуальности
политической проблематики и молодежного бунта в рыночной сфере:
от моды до «массового» искусства, будь то литература, театр,
музыка, кинематограф. Представители контркультуры, в свою
очередь, хотят найти каналы, позволяющие действовать «с
наименьшими потерями» и с максимальной эффективностью. Еще
Джерри Рубин призывал: «Наше движение с излишним
пуританизмом относится к использованию средств массовой
коммуникации. Но ведь в конце концов Карлу Марксу просто не
довелось смотреть телевизор. Сегодня нельзя быть революционером
без телевизора: он нужен не меньше, чем оружие! Каждый наш
боец должен знать, как превратить в поле сражения ту
культуру, которую мы собираемся уничтожить» 1. Буржуазное
телевидение, кино, театр ответили тем, что обезопасили
«революцию», превратив ее в доходное зрелище.
А Джон Д. Рокфеллер III не без прозорливости подвел под
этот процесс теоретическую базу: «Подавляя состояние апатии,
мы можем превратить революцию молодежи в серьезную
проблему— и в этом случае удар может быть разрушительным.
Однако если реагировать на эти настроения правильно, то
энергию и идеалы молодежи можно направить в сторону созидания,
что поможет разрешить одну из сложнейших проблем
современности... Вместо того чтобы подавлять мятежные порывы
молодежи, мы, старшее поколение, должны побеспокоиться о том,
как их поддержать... Мы имеем редкую возможность соединить
наш возраст, опыт, деньги и организацию с энергией,
идеализмом и социальным самосознанием молодежи. Объединенные
1 Цит. по: Б о н о с к и Ф. Указ. соч., с. 260.
168
усилия помогут достичь нам невозможного» !. Под
«невозможным» в данном случае понимается ассимиляция контркультуры
в процессе «созидания» капиталистического рая. Современное
искусство Запада свидетельствует о том, что буржуазии
действительно удается приспосабливать актуальные темы (точнее, их
самые поверхностные аспекты и впечатляющие внешние формы)
к своим задачам, извлекая максимальную коммерческую
выгоду.
В следующем параграфе мы подробнее рассмотрим те
конкретные формы, которые приобретало извращение
прогрессивных элементов контркультуры при их включении в систему
буржуазного искусства. Появление здесь произведений,
тяготеющих к реалистическому рассмотрению конфликтов, чаще всего
было результатом вольных или невольных компромиссов, когда
сочувственное отношение к представителям контркультуры
выступало в форме псевдобесстрастного отражения ряда
объективных событий или художественных вариаций на традиционные
мотивы.
Вместе с тем продвижение по иерархии официальной
культуры для самого произведения отнюдь не безопасно. Говоря о
сценической судьбе драмы негритянского драматурга Чарлза
Гордона «Здесь нельзя стать человеком» (в 1969 году она была
показана на офф-Бродвее, а в 1971-м поставлена самим автором
на Бродвее), Ф. Боноски подчеркивал: «Спектакль, попавший с
окраины на Бродвей, непременно что-то выигрывает, и этот
выигрыш— деньги. Но, увы, он также непременно что-то теряет,
и эта потеря — правда. Стоит ли выигрыш потери, вот в чем
вопрос» 2. Сказано, быть может, чрезмерно категорично —
жизненная правда сохраняется и в иных бродвейских спектаклях
(вспомним, что именно на Бродвее на рубеже 50—60-х годов
была поставлена знаменитая пьеса Лорен Хенсбери «Изюминка на
солнце», ознаменовавшая «прорыв» гуманистической трактовки
1 Боноски Ф. Указ. соч., с. 183.
2 Там же, с. 346.
169
расовой проблемы к широкому общественному звучанию),—но
весьма прозорливо.
Ведь даже «Беспечного ездока» нельзя считать выражением
принципов контркультуры — необходимым исходным моментом
для ее «чистого» проявления остается выход за рамки
«системы», как системы капиталистической промышленности, так и
буржуазной системы ценностей. В этом смысле контркультура
в искусстве возможна только за пределами официального
художественного производства, либо, в самом крайнем случае, где-то
на его границах.
Категорический отказ молодежи Запада от любой формы
сотрудничества с «системой» во многом объясняется
социокультурным контекстом, создающим ощущение «всемогущества»
буржуазной идеологии, ибо «система» обладает главным
козырем — господствующим положением в капиталистическом
обществе. А контркультура, хотя и антиимпериалистическая по
своей направленности, но лишь косвенно связанная с подлинно
революционными силами, с борьбой рабочего класса, в лучшем
случае может претендовать только на периферийное
существование. Сама ограниченность сферы действия лишает ее
элемента угрозы для существующих порядков. Этот аспект легко
проследить на примере американского «подпольного» искусства. Его
эволюция от прогрессивных политических выступлений,
протеста против войны во Вьетнаме до экспериментальных
произведений, хотя и ранее составлявших его основу, но в конце 50-х—
60-е годы как бы отступивших на второй план, весьма
показательна.
Сам термин «подпольное искусство», получивший широкое
распространение именно в период формирования и подъема
контркультуры, был порожден попыткой отмежеваться от
«системы». «Подпольные» формы включали печать (периодику и
отдельные издания), театральные, кинематографические и
музыкальные выступления. «Подполье» не случайно лишь косвенно
затрагивало изобразительные искусства и музыкальный
авангард, которые в ходе эволюции модернизма уже неоднократно
проходили путь от декларируемой антибуржуазности к офици-
170
альному признанию. Тенденция к тотальному отрицанию
художественного образа, достигшая апогея (хотя апогея ли?) в
«живописи действия», в саморазрушающихся конструкциях Жана
Тингели, в опытах Штокгаузена, «хеппенингах» Джона Кеиджа
или манифестациях Нам Джун Пейка, не случайно была
направлена в первую очередь против признанных основ именно
данных видов искусств. При всей их провокационности, эти
эксперименты были факторами по преимуществу внутрихудо-
жественными. Эту сторону проблемы чутко уловил
французский эстетик Пьер Бурдье: «Они (представители
антиискусства.— Авт.) ставят ресурсы искусства на службу символическому
уничтожению искусства или традиционного представления о
произведении искусства и художнике, либо создавая
произведения, которые можно бесконечно воспроизводить, или
символически или реально самодеструктивные, либо реально, но
всегда напоказ (как в церемониальном рассечении полотен)
уничтожая произведение искусства, но их самые радикальные
попытки рассеять чары художественности в конечном итоге не что
иное, как магическая инверсия древнего ритуала во славу
искусства и художника» '. Ассимиляция подобных экспериментов
контркультурой могла быть поэтому лишь частичной.
Ведь уходила она в «подполье» не из стремления к
самоизоляции, а из принципиальной оппозиционности.
Но и ей постоянно угрожала «рекуперация»-—подчинение
господствующей культуре.
Особенно ярко взаимодействие альтернативных тенденций
художественного процесса проявилось в эволюции поп-арта,
отразившего важные стороны мироощущения людей, находящихся
под постоянным давлением «культурной индустрии» 2. Англий-
1 В о и г d i e u P. Disposition esthetique et competence artisti-
que.— «Les Temps Modernes», 1971, Fevr., p. 13—64.
2 Именно точно уловленный импульс общественных
настроений и объясняет, почему многие черты эстетики поп-арта
обнаруживаются не только в изобразительных искусствах, но и
в литературе, в театре и кино. И все же нам кажется
неправомерным давать на этом основании чрезмерно широкое толко-
171
ский критик Лоуренс Эллоуэй, впервые употребивший этот
термин «поп-арт» еще в середине 50-х годов, так определял истоки
движения: «Мы обнаружили, что нас объединяет туземная
культура, существующая независимо от каких бы то ни было
специальных интересов или стилей в искусстве, архитектуре,
дизайне или художественной критике, присущих каждому из
нас. Общую сферу давала городская культура массового
производства: кино, реклама, научная фантастика. Мы не
испытывали свойственной большинству интеллектуалов неприязни к
стандартам коммерческой культуры, принимали ее как факт,
детально обсуждали и с энтузиазмом потребляли» 1.
Контркультура, в теории весьма созвучная принципам
«живописи действия» (коль скоро она переносила акцент с самого
произведения на процесс его создания), на практике
парадоксально приобщилась к поп-арту, выступившему против
изоляционизма, характерного для влиятельных направлений
буржуазной эстетики (в частности, для такого видного ее
представителя, как Герберт Рид) и художественной деятельности (в
особенности абстрактного экспрессионизма). Представители
движения протеста не без оснований усмотрели в поп-арте
возможность демократизации воздействия искусства и подрыва
господствующей культуры как бы изнутри, на ее же собственной
территории. Однако, при всей ироничности по отношению к
буржуазной «массовой культуре», доходящей подчас до неприкрытого
издевательства, поп-арт — порождение этой культуры,
сохраняющее известную автономию именно благодаря унаследованной
от модернистской традиции скульптуры и живописи обособлен-
вание самому термину «поп-арт», как это сделано, например, в
статье А. Зверева «Поп-арт и кризис модернизма» (В кн.:
Идеологическая борьба и современная культура). Поп-арт —
направление современной западной скульптуры и живописи (или
скульптоживописи) — составная часть «поп-культуры», которая
на равных правах включает все прочие воплощения феномена
«поп» — от моды до музыки. См. также: Сибиряков В. Поп-
арт и парадоксы модернизма. М., 1969.
1 Цит. по: The Oxford Companion to Art. Oxford, 1978, p. 894.
172
ности от широкой аудитории. Поэтому при перенесении его
принципов в «подпольное» искусство, в особенности в кино, что
и было осуществлено Энди Уорхолом, оппозиционность быстро
оборачивалась «рекуперацией». Не случайно именно картины
Уорхола и Поля Морисси «Плоть» (1968) и «Мусор» (1969)
вывели этот кинематограф из «подполья» на простор
коммерческого экрана, продолжив линию «Связного». Здесь можно было
найти в основном внешние атрибуты «вольной жизни»
интеллектуальной элиты в контакте со столь же пограничным миром
люмпенов. Зрителя были призваны привлечь и экзотика в
сочетании в объективистской манерой повествования и эротические
моменты.
Постоянное движение из «подполья» к «системе» и
формирование новых, «еще более оппозиционных» группировок легко
можно проследить почти в каждом виде искусства. В музыке это
и коллизия «Битлз», довольно быстро принятых
истеблишментом, с более жесткими «Роллинг Стоунз» и «Фронт
освобождения рока», возникший в начале 70-х годов в противовес
коммерциализации этой формы музыкальной культуры К В театре
сходные процессы затронули миграцию трупп по «маршруту»
офф-офф-Бродвей — офф-Бродвей — Бродвей 2. А
принадлежность к более или менее глубоко «подпольному» слою сама по
себе еще не свидетельствовала о преобладании социально
активных элементов.
К примеру, исследуя творческую практику «подпольного
театра», М. Маффи пишет: «Чтобы дать схематичную и
временную картину современных тенденций «нового театра», нужно
выделить четыре линии: линию поискового театра (формальные
эксперименты, метафизические и универсальные темы —
рождение, смерть, человек и т. д.; постоянное преобладание
изощренности; основа — мистика и хиппи); линия коммунального
театра (политико-социальная деятельность внутри определенного
сообщества); линия театра обсуждения и информации (просве-
1 Подробнее см.: М a f f i M. Op. cit., p. 337—343.
8 См.: Боноски Ф. Указ. соч., с. 112—123,
173
тительская функция, по возможности непосредственно
связанная с материалами и фактами, о которых официальные
средства массовой информации умалчивают; функция
диалектического стимула к формированию и укреплению определенной
идеологической позиции); линия театра герильи (партизанской
войны.— Авт.) (прямое, резкое, непосредственное символическое
вмешательство по частным и общим темам различными
методами и с разными целями)1.
Уже этот далеко не полный перечень направлений
показывает, какие иногда полярные тенденции объединяются под
общей рубрикой «подпольное искусство». Здесь необходим
детальный и разносторонний анализ, позволяющий выявить то
ценное, что содержится в отдельных, еще не получивших
достаточного освещения элементах этого художественного выражения
контркультуры.
Быть может, наиболее ярко единство устремлений
различных видов искусства, развивающихся в русле контркультуры,
особенности их конкретных функций и связь с
действительностью в аспекте как отражения, так и «ангажированности»
проявились в ставшей хрестоматийной истории постановки в «Ли-
винг-театре» пьесы Кеннета Брауна «Бриг».
«Бриг» — название предназначенной для американских
морских пехотинцев тюрьмы на Окинаве, где довелось побывать
автору пьесы во время прохождения военной службы.
Унижение и истязание заключенных здесь стали нормой. Слова,
сводимые к обязательным формулировкам (вроде постоянно
повторяющихся фраз: «Сэр, прошу разрешения переступить белую
линию», «Разрешите обратиться, сэр» и т. п.), служат не для
общения, а для разобщения людей. «Бриг» —это Ад на земле,
а цель спектакля — воспроизвести этот Ад на сцене, перейти
от изображения насилия к его ощущению, непосредственно
передаваемому от актеров зрителям. По словам постановщиков,
уже известных нам Дж. Бека и Дж. Мэлайна, «Брит»—это
сконцентрированный образ мира, где господствуют деньги и принуж-
1 М a f f i M. Op. cit., p. 388.
174
дение, мира, обреченного на смерть, спасти от которой могут
только активные действия людей К
Чтобы максимально приблизить ощущения актеров к
реконструируемому кошмару, во время репетиций устанавливаются
чуждые обычным взаимоотношениям в «Ливинге» правила
палочной дисциплины, всевозможные искусственные предписания
и запреты, призванные вызвать естественный протест у
приверженцев «нерепрессивной культуры».
В мизансцене сказываются уроки Эрвина Пискатора, у
которого Дж. Мэлайна училась в юности, а также, по ее
собственному признанию, опыт Мейерхольда. Декорация, состоящая из
прямоугольных пересечений колючей проволоки, как бы
диктует условия действия. Бесчеловечное окружение требует
бесчеловечного поведения, соответствующего «Пособию для морских
пехотинцев», где, в частности, сказано: «Ты должен не только
победить противника, но и убить его» 2.
Пьеса устанавливает лишь правила игры, используемые
актерами как основа для импровизации,— стоит кому-нибудь из
«заключенных» случайно пересечь одну из «белых линий», как
«надзиратель» туг же наносит ему удар. Каждый вечер
исполнители ролей палачей и жертв меняются местами. Спектакль —
не «провокация», а стимул к ощущению полной причастности
к происходящему по обе стороны колючей проволоки, на сцене
и в зале.
В октябре 1963 года, после нескольких месяцев
демонстрации «Брига», за неуплату долгов театр закрывают и
опечатывают. Начинается сидячая забастовка актеров. В субботу 19
октября— последнее представление в оцепленном театре. Зрители,
которым представители налогового управления запретили вход,
пробираются по приставным лестницам через люк, случайно
оставшийся незапечатанным. Из пьесы, вызывающей чувство
протеста, «Бриг» становится прямым выражением протеста. По
окончании спектакля 25 человек арестовано. «Ливинг-театр»
1 См.: В i n е г P. Op. cit., p. 62.
2 Цит. по: В i n с г P. Op. cit., p. 69.
175
прекращает свое существование, по крайней мере в этом
здании.
Затем в течение еще двух месяцев спектакль ставится в
«Мидуэй-театре». В 1964 году, в ночь после последнего
представления «Брига» в США, братья Йонас и Адольфас Мекасы
снимают его на пленку. Этот часовой фильм, дополнивший
движения актеров ритмом переносной камеры, становится одним
из классических произведений киноискусства, в полной мере
передавая гуманистический пафос сценического
первоисточника и значительно расширяя аудиторию, хоть и утрачивая с ней
непосредственный контакт.
Таким образом, яркое художественное выражение некой
идейно-политической позиции становится достоянием двух
видов искусства — театра и кино — и использует совокупные
ресурсы и того и другого.
Однако социально активные проявления контркультуры в
рамках «подпольного кино» постепенно уступают место
эстетическим явлениям иного порядка. Об этом говорит и
фундаментальный труд одного из теоретиков этого направления, П. Адам-
са Ситни, «Визионерский фильм», вышедший через десять лет
после съемок «Брига». В частности, автор утверждает, что
«устремления американских киноавангардистов совпадают с
направленностью нашей постромантической поэзии и живописи
абстрактного экспрессионизма» 1. Возникает парадоксальная
ситуация. «Подпольное кино», в силу ряда конкретно исторических
обстоятельств по социальной активности обогнавшее в 60-е годы
и поэзию и живопись, в начале 70-х признается вариантом
тенденций, к тому времени уже отошедших в прошлое и
уступивших свое место в области изобразительных искусств, например,
поп-арту или гиперреализму2.
Pitney P. A. Visionary Film: the American Avant-Garde.
Oxford, 1974, p. 9.
1 Разумеется, периодизация истории искусств в пределах
столь коротких отрезков времени не может не быть условной.
Каждая из тенденций зарождается раньше и умирает иногда
значительно позже своего «апогея» в ценностной установке со-
176
Тем самым «подпольное искусство» все более сближалось с
буржуазным по своей природе эстетизмом: внешний антагонизм
обернулся внутренним соответствием. Господствующая
культура в ипостаси элитарности поглотила свою противоположность.
Метаморфозы культурных оппозиций составляют, таким
образом, важнейшую часть системы культуры стран капитализма,
часть, в определенной мере способствующую господствующему
положению буржуазной культуры.
Следовательно, почва для консервативной реакции была
подготовлена в искусстве уже как бы изнутри, в перерождении
форм, развивавшихся в системе контркультуры.
Каково же оказалось место искусства в новой расстановке
акцентов? С одной стороны, «массовая культура» Запада
(телевидение, Голливуд, Бродвей, популярная беллетристика и т. п.)
в значительной своей части справедливо рассматривается как
проводник буржуазной идеологии и системы ценностей. В этом
смысле из всех видов искусств экран, пожалуй, был наименее
подвластен стихии протеста, характерной, по мнению того же
Д. Белла, для «модернистской» культуры вообще. Поэтому и
основа для возврата к традиции здесь практически не была
подорвана. Однако нельзя не учитывать и противоположного
аспекта. В рамках «официального» художественного производства
стран Запада создавались и создаются произведения, в которых
роль прогрессивных демократических элементов,
гуманистического, в основе своей антибуржуазного пафоса оказывается
ведущей. Не случайно те же американские социологи считают,
что для творческой интеллигенции как социальной прослойки
в большинстве случаев характерна «левая» (от радикальной до
буржуазно-либеральной), в крайнем случае центристская
ориентация. Фигуры актеров-реакционеров Боба Хоупа и Джона
Уэйна выглядят здесь, скорее, как исключения,
подтверждающие правило. Весьма примечателен тот факт, что консерватив-
циума (в данном случае, скорее, даже художественной критики).
Мы же имеем в виду чередование в фокусе общественных
интересов.
177
ные политические убеждения не встречали в среде творческой
интеллигенции Запада, в том числе Соединенных Штатов,
сколько-нибудь широкой поддержки. Поборники политических
взглядов «правее от центра»,— отмечал А. Мулярчик,— как
правило, терпели поражение в дебатах со своими либеральными
соперниками. Так, например, сокрушительным провалом для
У. Бакли и всей линии возглавляемого им еженедельника «Нэ-
шенл ре вью» обернулись его публичные дискуссии по текущим
общественно-политическим вопросам с Дж. Болдуином (1965)
и Г. Видалом (1968)» К Здесь нам важно подчеркнуть, что
названные дискуссии, прошедшие в период подъема движения
протеста, доказывают, помимо всего прочего, тот бесспорный
факт, что и в «бурные 60-е» реакционные силы буржуазного
общества, представленные здесь У. Бакли, отнюдь не прекратили
своего существования. И каким бы ни было их теоретическое
поражение, на практике именно они продолжали диктовать свои
условия и в сфере социальной жизни (эскалация войны во
Вьетнаме) и в художественной практике, всячески поддерживая
и поощряя тенденции, противостоящие контркультуре. Помимо
называемых тут же А. Мулярчиком писателей-реакционеров
Дос Пассоса, Эйн Рэнд и Уоллеса Стегнера можно вспомнить
имена А. Друри, Г. Вука, Дж. Вэмбо, Дж. Миченера, а уж в
охранительных произведениях, написанных авторами, которые
явно не войдут в историю, недостатка не будет.
Вместе с тем бесспорно, что в среде подлинных художников
Запада консервативные идеалы если и могли найти поддержку,
то не общую, а в большинстве случаев опосредованную
гуманистической проблематикой, для которой, кстати говоря,
«пуританская этика» и протестантизм дают бесспорные основания.
Другими словами, приверженность к идеалам абстрактно
понимаемого гуманизма подчас побуждает талантливых мастеров
искусства выдвигать в качестве позитивной альтернативы царя-
1 Мулярчик А. С. Писатель и современная Америка.—
В кн.: Американская литература и общественно-политическая
борьба, с. 33.
178
щему ныне в странах капитала духовному кризису якобы
неиспорченное прошлое, вымышленный «золотой век». Тем самым
они, иногда помимо своей воли, выступают в поддержку и
политического консерватизма.
В свою очередь по целому ряду важнейших
социально-экономических и политических проблем и «традиционалистские»
силы занимают ностальгическую и настолько критическую
позицию по отношению к центральной власти Вашингтона,
военно-промышленному комплексу, крупным корпорациям, что
порой может создаться впечатление, будто это чуть ли не
«левые». Именно постоянство обличительного момента, как
правило, лишенного апологетической риторики, порождает особые
трудности при необходимом разграничении критики иногда
одних и тех же «язв капитализма» «слева» (в частности, с точки
зрения социального прогресса) и «справа», с позиций реакции
(от «ультра» до умеренно консервативных). Поэтому и картина
художественного процесса в свете «нового» консерватизма
оказывается противоречивой и неоднозначной.
«Контрреформация» в искусстве, отражая противоречия
внутри «официального», коммерческого художественного
производства, знаменовала, как и в политике, возврат на охранительные
позиции после той «контестации», которой буржуазная
цивилизация подверглась в 60-е — начале 70-х годов. Действительно,
если контркультура как таковая осталась в западной культуре
явлением локальным и относительно неразвернутым, то
пересмотр буржуазной системы ценностей не только в Европе, где
особенно ярко проявилась тенденция политизации искусства, но
и в США захватил достаточно широкий пласт художественной
продукции. Не случайно начало «нового американского кино»
или «нео-Голливуда» датируют, как правило, 1967 годом, годом
выпуска двух фильмов: «Выпускник» (по пьесе Ч. Уэбба) Майка
Николса и «Бонни и Клайд» Артура Пенна. Помимо своих
индивидуальных особенностей (как художественных, так и
концептуальных) они знаменовали нарушение традиционных запретов:
в финале картины Николса молодой выпускник, отбиваясь
крестом, уводил из церкви свою возлюбленную буквально из-под
179
венца, но уже не до (как было бы раньше), а во время
церемонии бракосочетания; гангстеры Бонни и Клайд в противостоянии
полиции и подвергаемым нападениям банкам выступали скорее
как положительные герои, жертвы несправедливой социальной
системы, нежели как носители социального (или даже
метафизического) зла, как в традиционных гангстерских фильмах,
в том числе и в классических произведениях рубежа 20—30-х
годов. О неоднозначных результатах ассимиляции новых
настроений «средним классом» свидетельствовал изданный в 1968
году роман Джона Апдайка «Супружеские пары», а вслед за
ним и многие другие произведения.
Диалектику возникшей ситуации своеобразно определил
Майкл Новак. В неоднократно цитированной нами дискуссии по
вопросам культуры в журнале «Комментари» он отметил:
«Всего несколько лет тому назад, в высшей точке контркультурного
исступления, именно восхваление контркультуры
национальными средствами массовой коммуникации особо затруднило
защиту стандартов и дисциплины. На самом деле в новостях
отражались настроения меньшей части студентов в меньшей части
организаций, а показано это было как массовое культурное
движение, которым оно впоследствии и стало. Внимание средств
информации изменило его образ. И такие фильмы, как «Бонни
и Клайд», «Беспечный ездок» и «Буч Кэссиди и Санденс Кид»,
возвеличивали — или казалось, что возвеличивали,—
воцарившийся оппозиционный стиль» К Тем самым ответственность за
движение протеста, выражающего, по мнению автора, интересы
ничтожного меньшинства населения, перекладывалась на
средства массовой информации, контроль господствующего класса
над которыми вряд ли подлежит сомнению.
В этой позиции сказалось весьма распространенное,
идеалистическое по своей природе мнение о всемогуществе «медиа»,
якобы способных произвольно трансформировать общественное
мнение. А ведь как бы ни было сильно влияние прессы, кино и
телевидения, оно выступает лишь одним из факторов, формиру-
1 «Commentary», 1974, Dec, p. 49—50.
180
ющих убеждения индивида, безусловно уступая по значению
непосредственным условиям его существования.
Революционный подъем масс был вызван к жизни обострением кризиса
капитализма, как в материальной, так и в духовной сферах. Он
получил подкрепление в ряде конкретно-исторических
обстоятельств— политических (война во Вьетнаме), демографических
и социально-психологических (выход на арену истории
многочисленного послевоенного поколения, со всеми присущими ему
чертами мировоззрения и положения в обществе) и т. д. Сам
по себе протест мог быть подавлен, но не мог быть устранен,
пока не устранены его причины, хотя формы его проявления,
разумеется, изменились.
Роль средств коммуникации и видов искусств поэтому
определима не сама по себе, а лишь как составная часть общих
социальных и идеологических процессов. Буржуазный контроль
над средствами информации выразился в приспособлении
событий к новым общественным настроениям (поскольку
игнорировать их было уже невозможно), а затем в их обезвреживании
путем перевода в сферу стиля жизни, а не ее содержания.
Такая трансформация облегчалась и тем, что леворадикальные
программы сами по себе, как уже было отмечено ранее,
мистифицировали значение «культурной революции», подменяя
социальную революцию контркультурой. Следующим шагом
естественно явилась обратная охранительная реакция
контрпропаганды традиционных буржуазных ценностей, занявшей видное
место во всех повествовательных формах, более всего
приспособленных для решения дидактических задач «социализации»
индивида. Особое значение при этом приобретали параметры
широты распространения и доступности изложения (вплоть до
предельной схематизации и упрощения конфликтов), в высшей
мере свойственные именно буржуазной «массовой культуре»,
против которой столь яростно выступали (на словах) идеологи
«нового» консерватизма.
Не случайно новейшая музыка и изобразительные искусства
остались за пределами прямого воздействия «контрреформации».
Ссылки X. Креймера па классический балет и бельканто оче-
181
видно указывают в прошлое. Впрочем, Леонард Бернстайн и
ранее в своем знаменитом «Открытом письме» указывал, «что
впервые мы живем музыкальной жизнью, не основанной на
произведениях нашего времени»1. Это явление американский
композитор считал характерным именно для XX века в целом
(хотя реально кризис отношений между творцом и аудиторией
затронул в первую очередь западную культуру), не связывая его
с преходящими рубежами десятилетий.
Что касается реалистической живописи, то она развивалась
в США и в период засилья абстрактного экспрессионизма, о чем
свидетельствует творчество Антона Рефрежье, Рафаэля Сойера,
Эндрю Уайеса и других художников2. Фигуративность, как мы
видели, была свойственна и опытам поп-арта, весьма тесно
связанным с контркультурой. В этом контексте «гиперреализм»,
действительно возникший на рубеже 60—70-х годов, выступает,
с одной стороны, как наследник поп-арта и, шире,
кинематографии и телевидения, «эффект достоверности» которых он
стремится перенести на живописное полотно, стилизованное под
фотографию, * а с другой — как новое свидетельство кризиса
абстракционизма, лишь косвенно связанное с консервативными
настроениями3. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить
полотна гиперреалистов, затронутые печатью «машинной
цивилизации», со знаменитыми картинами Г. Вуда «Американская
готика» и «Дочери американской революции» — своеобразным
манифестом регионалистов 20—30-х годов, действительно
воспевавших устои «традиционной Америки».
Парадокс ситуации состоит в том, что современные
приверженцы идей греховности человека, прирожденного неравенства,
1 Бернстайн Л. Открытое письмо.— В кн.: Современное
буржуазное искусство, с. 367.
2 См.: Чегодаев А. Д. Искусство Соединенных Штатов
Америки. 1675—1975. М., 1976, с. 66—75.
3 См.: Документальное и художественное в современном
искусстве. М., 1975, с. 243—272; а также: Турчин В. С. Судьбы
американского изобразительного искусства.,— «США —
экономика, политика, идеология», 1978, № 3,
Ш
воинствующего антидемократизма и апологии «элитизма» для
достижения поставленных целей вынуждены опираться отнюдь
не на «элитарные» формы творчества, а на суррогаты
искусства, единственно способные служить широкому распространению
консервативных настроений.
В этом контексте наглядность и убедительность
традиционного повествовательного образа, господствующие структуры
рассказа, отвергающие какие бы то ни было формальные новации,
определенные идейные тенденции, со времен «холодной войны»
отнюдь не прекратившие своего существования, привели к
тому, что беллетристика и большой и малый экраны стали
излюбленным плацдармом контрнаступления буржуазии в
искусстве. Этот аспект художественного процесса на Западе можно
проследить на примере альтернативных методов разработки
различных идейно-тематических пластов в русле как
контркультуры, так и «нового» консерватизма.
2. Основные тематические пласты и пути
их идейно-художественной разработки
Товарищ Л. И. Брежнев подчеркивал: «Главным критерием
оценки общественной значимости любого произведения,
разумеется, была и остается его идейная направленность» 1. Эта мысль,
сформулированная в связи с анализом советской литературы и
искусства, имеет и принципиальное общеметодологическое
значение. Борьба прогрессивных и реакционных тенденций в
современном искусстве Запада в первую очередь выражается в
идейной направленности творчества, в способах претворения и
авторской оценке отображаемого жизненного материала.
Если выше мы касались влияния форм существования
различных видов искусства на конфигурацию связей с идейно-
политическими течениями, то в дальнейшем мы обратимся к
1 Брежнев Л. И. Актуальные вопросы идеологической
работы КПСС, т. 2, М., 1978, с. 176.
183
общему рассмотрению динамики идейной борьбы в ее отражении
преимущественно повествовательными художественными
структурами. В процессе отбора и истолкования событий рассказ
позволяет более непосредственно, чем иные формы творчества,
выразить определенные идейно-нравственные установки. Смысл
того или иного конкретного произведения к ним, конечно, не
сводится. Он по-своему проявляется и в художественной
фактуре, неразрывно связанной, как мы видели, со специфическими
ресурсами письменного слова, экрана или сцены и даже в
условиях восприятия.
Теперь, отвлекаясь от этой стороны художественного
процесса, сосредоточим свое внимание на миграции и трансформациях
идейно-тематических мотивов, условно считая, что их выражение
в книге и ее инсценировке, фильме и его « новелл изации» на
данном уровне обобщения эквивалентно. Это позволит нам
более четко выявить структурирующую роль изучаемых течений.
Следует иметь в виду, что при таком подходе удельный вес
с нового» консерватизма неизбежно оказывается больше, чем
контркультурь1, коль скоро она в значительной мере опиралась
на чисто эмоциональную сторону воздействия и тем самым, как
справедливо заметила в цитированном высказывании С. Зонтаг,
вынесла «содержание» на периферию художественного
творчества, активизировав ресурсы музыки и танца, спонтанного
выражения чувств, в меньшей мере доступного повествованию.
Асимметрия идейных тенденций и их художественных
воплощений носит как бы двоякий характер. Она порождается, с
одной стороны, особенностями рассматриваемого параметра
культуры (религии, нравственности, расовых и классовых
взаимоотношений), а с другой — спецификой художественного
творчества, где то или иное явление может получить в какой-то
мере ограниченное воплощение. Поэтому ниже мы будем подчас
изменять ракурс рассмотрения в зависимости от характера
материала (как идейного, так и эстетического), в одних случаях
очерчивая общий контур ситуации, в других — сосредоточивая
внимание на том или ином произведении или группе
произведений, постоянно стремясь выявить наиболее важные в нашем ас-
184
пекте грани борьбы контркультуры и «нового» консерватизма в
конфронтации соответствующих общественных и
художественных явлений.
Религия и искусство
Одним из первых плацдармов столкновения, точкой
пересечения контркультуры и «нового» консерватизма явились
проблемы конфликта внутри религиозного сознания, оживление
которого, как правило, справедливо связывается с разочарованием
в позитивном значении научно-технического прогресса
(«кризис знания», по Беллу), непознаваемостью для индивида как
природных, так и общественных процессов.
Отчуждение личности при капитализме привело, с одной
стороны, к дегуманизации как ведущей тенденции осмысления
процессов, происходящих в науке и обществе и получающих
соответствующее художественное воплощение, а с другой — к
поискам синтеза в возрождении иллюзорно целостных, в
частности религиозных, концепций, якобы единственно способных
спасти человечество от духовного разложения.
С этой точки зрения весьма показательна позиция видного
французского философа-персоналиста Жан-Мари Доменака.
В работе, специально посвященной нападкам на гуманизм в
современной культуре, он воссоздает образ дегуманизации, к
которой, по его мнению, причастен и целый ряд
художественных направлений: «новый роман», «театр абсурда», а также
некоторые формы контркультуры. Ж.-М. Доменак верно
подмечает, что кризис гуманизма связан с идеологической ситуацией
в развитых капиталистических странах. Он исследует и
диалектику, по которой гуманизм, начавшийся с отрицания идеи бога
и утверждения самоценности человека, ныне подвергается
атаке с позиций интеллекта и пытается обрести опору именно в
теологических концепциях. А отсюда следует вывод о
внутренней противоречивости буржуазного понимания гуманизма:
«Если высшие уровни программного анализа объединили свои силы
с варварством контркультуры, чтобы провозгласить смерть
гуманизма, это значит, что сам гуманизм подошел к еще более
185
серьезному противоречию между провозглашенными им
ценностями и разрушительными последствиями его промышленной и
военной технологии» К Это в определенной мере консервативная
позиция.
А вот американский протестантский теолог Харвей Кокс
предпринимает попытку объединить религиозные установки с
ренессансными традициями и контркультурой на почве
глобального карнавала (вспомним Рабле в трактовке Бахтина2), откуда
и формулировка «радикальной теологии» и «подпольной
церкви», прямо ассоциирующейся с «подпольными» формами
творчества. По мнению автора, только смесь святого и
революционера может «спасти мир от самого себя»3.
В современной буржуазной философско-эстетической мысли
прочно укоренилось представление об укреплении связей между
искусством и религией. Прогнозируя будущее искусства,
американский эстетик Гарольд Тейлор весьма точно резюмировал
смысл этих концепций: «Слово «религия» довольно часто
применялось в последнее время для описания этой сферы, которую в
современном мире занимают художники. Действительно верно,
что в странах Запада была создана область ощущения и
восприятия, где искусство и художник занимают место, ранее
бывшее владением религиозного чувства и людей, его выражавших.
Другой вопрос, религия это или нет. Сам факт существования
такой области, обладающей многими атрибутами религиозного
чувства, достаточен для того, чтобы указать на решающую роль
искусства в современной духовной жизни. Современное
тяготение западной церкви к секуляризации, социальному действию
и искусствам в будущем будет нарастать, пока искусства и
художники не займут центральное место в выражении всех
религиозных чувств и верований. Произведение искусства указывает
1 D о m e n а с h J. M. The Attack on Humanism in Contemporary
Culture.— «Concilium», 1973, vol. 6, N 9, p. 28.
2 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и
народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
3 См.: Сох Ы. G. The Feast of Fools. A Theological Essay on
Festivity and Fantasy. Cambridge (Mass.), 1969.
186
на нечто неизвестное и в конечном итоге непознаваемое» '. На
V Международном эстетическом конгрессе, состоявшемся в 1964
году в Амстердаме, Леопольд Флам выступил с докладом
«Искусство — религия современного человека», получившим
широкую известность2. Идея «искусства-религии» была органически
присуща эстетической концепции видного французского
писателя и деятеля культуры Андре Мальро.
Советские философы и искусствоведы неоднократно
обращались к критике превратных истолкований отношения искусства
и религии и к позитивному анализу проблемы с марксистских
позиций3. Однако, к сожалению, религиозно-эстетический
компонент контркультуры при этом либо не рассматривался вовсе,
либо описывался весьма бегло и односторонне4.
На самом деле оживление религиозности в конфронтации
контркультуры и «нового» консерватизма — феномен сложный и
противоречивый, неоднозначны и его связи с художественной
деятельностью. Выдвижение именно этого, с точки зрения
социально-политической второстепенного, аспекта на первый план
явилось совокупным результатом непоследовательности
протеста молодого поколения и его намеренной деформации буржуаз-
1 Т а у 1 о г Н. Art and the Future. New York, 1969, p. 47.
2 F1 a m L. L'Art — religion de l'homme moderne.— In: Actes du
V Congres International d'Esthetique. (Amsterdam, 1964). Paris, 1968.
3 См.: Андреев Л. Снова «чистое искусство».— В кн.:
О современной буржуазной эстетике. М., 1963; Бараненко-
ва А. Ф. Критика религиозного истолкования искусства.—
В кн.: Борьба идей в эстетике. М., 1966; Сибиряков В. Указ.
соч., с. 73—104; Яковлев Е. Г. Эстетическое сознание,
искусство и религия. М., 1969; О н ж е. Искусство и мировые религии.
М., 1977.
4 Так, например, мы не можем согласиться с истолкованием,
сводящим в единый комплекс «буржуазную массовую культуру»
и «антикультуру «левой» молодежи», предложенным
исследователем проблемы искусства и религии Е. Г. Яковлевым (см.:
Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии, с. 221—223),
хотя сами по себе проводимые автором параллели между
традиционными и «новыми» формами религиозности не лишены
оснований.
187
ными оппонентами, подменяющими в теоретическом
истолковании и художественных воплощениях массовое движение его
искусственной моделью, абсолютизирующей наиболее уязвимые
и наглядно одиозные моменты. Особенно ярко эта черта
проявилась в культуре США, где само движение протеста 60-х годов
зачастую толковалось в критической литературе сквозь призму
религиозной терминологии.
Так, идеологи молодежной культуры порой сравнивали
движение протеста в США с деятельностью раннехристианских
общин и сект средневековой ереси1. «Правые» критики в свою
очередь нередко писали о необычной и шокирующей
буржуазный «здравый смысл» контркультуре в тех же примерно
выражениях, в каких некогда греко-римский язычник толковал об
абсурдном, с его точки зрения, христианстве. В частности, такая
важная, присущая молодежной культуре черта, как стремление
к личной причастности к движению протеста, к тому, чтобы
воплотить его идеалы непосредственно в личной жизни, служила
поводом для проведения аналогий между ней и ранним
христианством. Так, известный французский социолог Ж. Элюль,
анализируя американское движение протеста, назвал
молодежную культуру «новым перевоплощением христианской
культуры, находящимся в оппозиции к авторитарной технократии» 2.
В известной степени это было связано с тем, что контркультура
глубоко восприняла экзистенциалистский тезис о том, что
социально-политические преобразования лишь тогда будут
успешными, когда достигнут внутреннего мира личности. Однако эти
ориентации, будучи абсолютизированы, вступали в молодежном
сознании в противоречие, порождая, с одной стороны, тип
политического бунтаря — «герильеро» («Нет революционной
мысли, есть лишь революционное действие»,— гласил один из
парижских плакатов в мае 1968 года), а с другой — погруженного
1 См.: R о s z a k Т. The Making of a Counter Culture, p. 43.
Подробнее см.: Мельвиль А. Ю. Религиозно-мистическое
направление в молодежном движении США.— «США — экономика,
политика, идеология», 1976, № 11.
2 Ellul J. De la revolution aux revoltes. Paris, 1972, p. 234.
188
в свой внутренний мир схимника и наркомана. По мере
эволюции молодежного движения противоположность этих
социальных типов обострилась до полного и окончательного разрыва
между ними.
Наряду с попытками идейно-теоретической переориентации
и выработки «нового революционного сознания» среди
определенных кругов американской молодежи и творческой
интеллигенции получают распространение совершенно иные идеи,
представляющие собой доведение до логического конца спиритуали-
стских мотивов контркулътуры. Эволюция спиритуалистского
крыла контркультуры вылилась в религиозно-мистическое
течение в американском молодежном движении и искусстве. В
известном смысле оно действительно имеет свои идейные истоки в
морально-этическом и эстетическом характере молодежного
протеста и является последовательной разработкой уже
содержавшихся в контркультуре религиозно-мистических тенденций.
Так, Т. Розак говорил о современном «религиозном
возрождении» как о «высшем духовном измерении», которого лишена
технократическая идеология 1. В основе религиозно-мистического
течения в контркультуре лежит критика объективного сознания.
Вместе с тем в теориях контркультуры это направление
выступает в контексте социальной критики. В наибольшей степени
такой мотив характерен именно для Т. Розака.
Технократия, по его мнению, есть социальная форма, в
рамках которой индустриальное общество достигает вершины своей
организационной интеграции. Но технократия приобретает у
Т. Розака и специфические культурно-идеологические
характеристики: технократия есть выражение великого культурного
императива, своего рода мистика, которую разделяет
большинство2. Критика «технократического культурного императива»
Т. Розаком — показатель того, как в современном
леворадикальном сознании критика социальной формы позднебуржуазного
1 См.: Roszak Т. Where the Wasteland Ends. New York, 1973,
p. XVI.
2 См.: Roszak T. The Making of a Counter Culture, p. XIV.
189
общества выступает в виде критики самого принципа научного
видения мира и объективного знания ].
Безоговорочная вера в научную экспертизу напоминает
Т. Розаку веру в магическую силу шаманов, потому что и здесь
и там отсутствует ясное понимание сущности их деятельности.
Теоретик контркультуры называет технократию «дурной
магией» и противопоставляет ей «истинное» мистическое сознание.
Наукопоклонство, рассадник «объективности», продолжает Т. Ро-
зак, отчуждает ученого от природы, препятствует установленшо
истинной коммуникации между человеком и миром. В целях
борьбы с «психической монополией» объективного сознания он
рекомендует развитие неинтеллектуальных (в особенности
художественных) способностей индивида и стремится связать
восточную религиозно-мистическую традицию с современным
движением общественно-политической и культурной оппозиции.
В статье «Экология и мистицизм» Т. Розак призывает
заменить методологию научного исследования «новой наукой,
которая будет относиться к объекту познания, как поэт относится к
своей возлюбленной — созерцать, а не анализировать,
восхищаться, а не выпытывать тайны»2. «Мистическая экология»
приобретает для Т. Розака значимость не только новой эстетики,
но и новой веры, новой религии.
«Религиозное обновление», начало которому, как он полагает,
положило движение протестующей молодежи, стало, по словам
Т. Розака, глубочайшим знамением времени, важнейшей фазой
современного культурного развития. «Энергия религиозного
обновления— вот что породит будущую политику и, быть может,
решающий радикализм нашего общества» 3,— утверждает этот
идеолог контркультуры. Он стремится отличить свою точку
зрения от позиции церковного модернизма и неохристианства.
Религия, к которой он взывает,— это религия в ее «извечном
1 «Объективное знание — это отчужденное знание» (R о s-
z a k Т. Where the Wasteland Ends, p. 215).
1 Цит. по: «Encounter», 1974, Apr., p. 136.
3 Rosza к Т. Where the Wasteland Ends, p. XIII.
190
значении». Это мистицизм, или, по терминологии автора,
«визионерское воображение» (visionary imagination).
В реализации «визионерского воображения» особенно велика
роль художественной деятельности, позволяющей «овеществить»
взлет творческой фантазии (которая трактовалась здесь как
единственная подлинная реальность человеческого
существования) над рациональностью технократического императива. Такое
понимание было внутренне созвучно абстрактному
экспрессионизму, «пик» которого приходится на 50-е годы. По мнению
В. С. Турчина, именно неинтеллектуальный подход к искусству
отличал художников США от метода старшего поколения
абстракционистов-европейцев. На полотнах Де Кунинга, Джексона
Поллока и других американских мастеров этого направления
«хаотическое расположение красок диктовалось
«выплеснутыми», идущими от подсознания эмоциями, иррациональным
началом» К Близкие по духу тенденции были присущи и
авангардистской поэзии 50—60-х годов и некоторым направлениям
«подпольного» и «развернутого» кино. Не случайно идеолог
киноавангарда П. Адаме Ситни, как бы вторя Розаку, озаглавил
свое цитированное выше исследование «Визионерский фильм».
Вместе с тем «визионерства», замкнутого в особую сферу
искусства, для контркультуры было недостаточно. «Высшее
озарение» в представлениях идеологов молодежного бунта — не
монополия художников, а всеобщее достояние. Именно поэтому
важным компонентом культивируемого в рамках
контркультуры мистического мировосприятия стало так называемое
психоделическое ощущение, рассматриваемое как неотъемлемый
признак «новой» религиозности. В своей техноборческой
критике идеологи контркультуры рассматривают объективный
научный разум как подчиненную производственному утилитаризму
часть сознания и призывают к «психоделическому» расширению
сферы сознания с помощью наркотических средств.
Своим происхождением слово «психоделизм», обозначающее
наркотическое «озарение», обязано основоположнику «религии
Т у р ч и н В. С. Указ. соч., с. 50.
191
ЛСД», американскому психологу Т. Лири. Следует отметить, что
еще в начале XX столетия один из родоначальников
прагматизма, В. Джемс, выявил единый с точки зрения психопатологии
психологический механизм религиозных «озарений» и
искусственных наркотических состояний. «Возможно, что
патологические условия играют немалую роль во многих, быть может,
даже во всех случаях экстаза,— писал он.— Но этим еще не
отнимается у состояния сознания, вызванного экстазом, та
ценность, какую оно может иметь для нас, как расширение границ
нашего познания» !. В. Джемс обнаружил, что при помощи
некоторых химических препаратов можно вызвать такие
эмоциональные состояния — ощущение потери веса, фантастическое
восприятие времени и пространства,— которые часто
отождествляются с религиозно-мистическим экстазом. Современные
сильнодействующие наркотики обладают еще большим эффектом.
В своей книге «Движение хиппи в США» А. Ломбар пишет о
том, что наркотик ЛСД превратился для сторонников
контркультуры в своего рода «квазирелигиозный катализатор», с
помощью которого «дети-цветы» совершают свои «путешествия» в
другие миры2.
Вслед за В. Джемсом писатель-фантаст О. Хаксли
отождествил наркотический экстаз с дзен-буддистским представлением о
«сатори» — мистическом озарении и просветлении. Сам Т. Лири
в одной из своих работ так охарактеризовал
религиозно-мистическое значение этого наркотика: «ЛСД — это западная йога,
цель восточных религий, как и цель ЛСД,— высшая благодать,
расширение границ сознания и достижение экстаза и
удовольствия» 3.
Благодаря работам Т. Лири, О. Хаксли и других теоретиков
«религии ЛСД» увлечение наркотиками приобретает в глазах
1 Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М., 1910,
с. 402.
2 L о m b a r d A. Le mouvement hippie aux Etats-Unis. S. 1M 1972,
p. 41.
3 Leary T. The Politics of Extasy. London - New York, 1970,
p. 113.
192
молодых «психо дел истов» значение некой новой веры, нового
«истинного» видения мира. Т. Лири утверждает также, что
составной частью психоделического ощущения является секс.
«Психоделическая революция» нашла прямое выражение в
художественной деятельности, вызвав к жизни
«психоделическое искусство», творимое (а в идеале и воспринимаемое)
непосредственно под воздействием галлюциногенов *. Его диапазон
весьма широк — от живописных полотен, в известной мере
продолжающих традиции абстрактного экспрессионизма, до опытов
«mixed media» и коллективных наркотических действ,
возвращающих нас к «хеппинингу» и, как мы видим, впрямую
переносимых на экран или сцену. Если в рассмотренных в
предшествующем параграфе фильмах и спектаклях тема наркомании
представала сквозь опосредующую призму авторской концепции,
зачастую весьма критической, то чистые художественные
формы «психоделизма» прямо претендовали на статус «новой
религии».
Помимо религиозно-мистических мотивов в теориях и
художественной практике самой контркультуры существовали также
связанные с вполне определенным социальным заказом
попытки сознательного переключения молодежного движения на
решение сугубо религиозных задач. Этой цели служили
разнообразные формы светской, «клубной» работы церквей, а также ее
развитый пропагандистский аппарат.
Надо отметить, что стремление к «оживлению» религиозности
искусством, бывшее важной составной частью этой программы,
также не является достоянием только современности. Еще в
1944 году по американским экранам прошел фильм «Иди моим
путем», где популярный эстрадный певец Бинг Кросби сыграл
роль молодого католического священника, которому удается
вдохнуть новую жизнь в захиревшую церковь. Главным его
оружием, наряду с пониманием забот простых людей, обеспечившим
ленте широкий успех, была музыка, отнюдь не только церков-
1 См.: Masters RM Houston I. Psychedelische Kunst. Miin-
chen —Zurich, 1969.
7 Зак. № 62
193
ная. Созданный им из местных «неблагополучных» подростков
хор с равным чувством исполнял религиозный гимн, популярный
шлягер и сентиментальный романс, давший фильму название.
Следуя, по существу, все тем же путем, в 60-е годы церковь
затратила большие усилия на то, чтобы переориентировать
молодежное движение протеста, выхолостить его
социально-критический пафос и придать ему характер сугубо религиозного
течения. Играя на революционных настроениях американской
молодежи, церковные теоретики выступили с демагогическим
призывом к разработке «революционной теологии», уже
упомянутой нами ранее (X. Кокс, А. Гиш и другие).
Например, А. Гиш в книге «Новые левые и христианский
радикализм» писал о том, что в движении новых левых
«личная вовлеченность необходимо предполагает переоценку
радикального наследия христианской веры, анабаптистской
традиции в частности» '. По его мнению, в своем оригинальном
замысле христианство является идеологией социально-этического
радикализма и поэтому может оказать неоценимую помощь
протестующей молодежи в ее поисках позитивных идеалов.
Согласно А. Гишу, ортодоксальная библейская мысль содержит в себе
«революционный подтекст», в выявлении которого и
заключается главная задача леворадикальных теоретиков. Призывая к
разработке «революционной теологии», А. Гиш дополняет
проведенную им аналогию между современным молодежным
движением и анабаптизмом XVI века «леворадикалистской»
трактовкой основных библейских понятий, таких, как «творение»,
«исход», «Мессия», «воскресение» и т. д.
Другой автор, Р. Террилл, сравнивает молодежные коммуны
хиппи с раннехристианскими общинами и выражает надежду,
1 G i s h A. The New Left and Christian Radicalism. Michigan,
1970, p. 49. Анабаптисты, представители крестьянско-плебейского
крыла Реформации, выступали с требованиями свободы совести,
а также гражданского и имущественного равенства духовенства
и мирян.
194
чтб они будут содействовать возрождению и радикальному
обновлению церкви 1.
Перечисленные примеры говорят о том, что еще во времена
расцвета молодежного движения существовали определенные
силы, стремившиеся переориентировать движение протеста и
навязать ему идеалы христианского самоусовершенствования.
Последующие события показали, что попытка направить
молодежную активность в русло «христианского радикализма»
оказалась небезуспешной.
Религиозно-мистическое течение в американской
молодежной культуре состоит сегодня из двух направлений—.«нового
христианства», или так называемой «Иисус-революции», и
«нового мистицизма», причем каждое из них в свою очередь
объединяет множество различных групп и движений.
Распространение и популярность религиозно-мистического
течения в контркультуре в значительной мере были обязаны
средствам массовой информации. Так, название «Иисус-революция»
впервые появилось на страницах журнала «Тайм», который
датировал ее возникновение 1967—1968 годами.
Общественное внимание к «Иисус-революции» отчасти было
привлечено благодаря широкому успеху рок-оперы «Иисус
Христос— суперзвезда». Но как бы тесно она ни была связана с
религиозно-мистическим движением в рамках контркультуры,
содержание этой постановки (и ее экранизации режиссером
Норманом Джюисоном), как и всякого крупного произведения
искусства, захватывало более широкие и глубокие пласты
духовного опыта человека. В этой связи Е. Г. Яковлев справедливо
отмечает: «...Даже в рамках «массовой культуры» современного
буржуазного общества... возникают такие художественные
явления, которые выпадают из контекста собственно буржуазного
мышления. Так, например, рок-опера композитора Ллойда Веб-
бера и либреттиста Тима Раиса «Иисус Христос — суперзвезда»
стала не только художественным выражением идей молодежно-
1 Terrill R. Revolutionaries or Utopians? — «Student World»,
1969, N 3-4, p. 347.
7*
195
го движения Америки, известного под названием
«Иисус-революция», но и определенным художественным синтезом
народно-мифологических традиций (выраженных в христианских
мифологемах) и социально-актуальных проблем современного
буржуазного общества, раздираемого острейшими противоречиями.
Именно это органическое соединение в едином
художественном произведении «вневременных» социально-художественных
проблем с проблемами сегодняшнего дня, к тому же созданном
в стиле современного художественного мышления и
преломленном через художественные индивидуальности, делает его
значительным явлением современной культуры» !.
В приведенном суждении особого внимания заслуживает
специальное упоминание о стиле современного художественного
мышления. Без преувеличения можно сказать, что любое
оживление религиозности, как в рамках «традиционных» церквей,
так и за их пределами, опирается на приведение в соответствие
догматов веры с современным мироощущением, от которого
канонические формы, зародившиеся в иных социокультурных
условиях, периодически отрываются. А искусство является как
раз средством универсального и целостного воздействия на
человека. Отсюда следует не только стремление к созданию
собственно религиозных произведений, но и постоянное
использование художественных элементов в разного рода ритуалах. К
феноменам такого порядка можно отнести и модернизацию
песнопений (в частности, знаменитые негритянские «спиричуэлз»,
значение которых опять-таки выходит далеко за рамки
религии) и зачастую утрированные актерские приемы «новых»
проповедников, находящихся в оппозиции к официальной церкви.
Вместе с тем искусство в контексте настроений молодежи
в определенной степени было подчинено религии, а кое-где и
уступало ей свое место. Ведь созерцание произведений не могло
заменить непосредственного мистического экстаза. В этом
смысле религиозная ориентация противостояла не только
политической, но и художественной деятельности.
1 Яковлев Е. Г. Искусство и мировые религии, с. 60—61.
196
Правда, экстатические состояния были органически присущи
таким «художественным событиям», как коллективный танец,
движение в ритме «поп-музыки». Чрезвычайно показательна в
этом отношении рок-опера «Томми», созданная в начале 70-х
годов ансамблем «The Who» (букв. «Кто») и перенесенная на экран
в 1975 году английским режиссером Кеном Расселом. Наряду с
фрейдистскими элементами она включала такие синкретические
мотивы, как массовое поклонение идолу — статуе,
напоминающей Мерилин Монро,— и возведение ослепшего героя в ранг
«нового Мессии» на том основании, что он гениально владеет
техникой обращения с популярным игральным автоматом
«Флиппер». Причудливое сплетение атрибутов молодежной
культуры с традиционными религиозными мотивами
отвергнутого святого, воплощенное в форсированных
музыкально-песенных пассажах, придавало этому незаурядному произведению
эстетическое богатство и высокую силу эмоционального
воздействия, родственного скорее язычеству, нежели христианству.
Таким образом, идеалы контркультуры получали творческое
воплощение более на границах собственно религиозных
устремлений, в том числе в периферийных полифункциональных
текстах воззваний и обращений. Тут примером может служить
следующая листовка, которую раздавали прохожим в
Сан-Франциско в начале 70-х годов:
РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПОЛИЦИЕЙ:
— ИИСУС ХРИСТОС, он же МЕССИЯ —
вождь подпольного освободительного движения.
Внешний вид:
похож на хиппи, длинные волосы и борода,
одет в рубище и сандалии.
Посещает кварталы бедняков.
ОСТОРОЖНО!
Этот человек опасен!
Он хочет изменить и освободить людей!
«Хиппи-христиане» впервые появились в Сан-Франциско в
период расцвета движения хиппи и предприняли попытку
объединить отдельные библейские положения с идеалами так назы-
197
ваемой «Plower-Power» (что-то вроде «Бласть— цветам») и
психоделическими уходами в забытье. Последнее обстоятельство
оказалось настолько существенным, что Р. Эллвуд счел «Иисус-
культуру» американской молодежи 70-х годов прямой
наследницей «психоделической поп-культуры» 60-х'. Кредо «хиппи-
христиан» эклектично и состоит из сочетания христианской
мифологии с элементами буддизма и индуизма.
По мнению Ж. Дюшена, «Иисус-революция» представляет
собой логическое и закономерное развитие молодежного
движения протеста прошлого десятилетия. «Иисусова революция»,—
пишет он в теологическом журнале «Логос», издаваемом на
русском языке в Париже,— повторяет от своего имени всю
основную критику, высказываемую контркультурой... С этой точки
зрения бросается в глаза верность «нового христианства»
идеалам хиппи. В нем мы снова встречаем те же ключевые слова:
«мир», «любовь», «свобода», «рай»... Соответственно с этим
«Иисусова революция» представляется логическим завершением и
даже полным развитием контркультуры хиппи» 2. Действительно,
программы «Иисус-революции» во многом сходны с теми
аспектами программ контркультуры, которые выше определялись
как морально-этические и спиритуалистские. Однако в данном
случае они вырваны из социально-критического контекста
контркультуры и противопоставлены существовавшим наряду с
ними политико-активистским ориентациям.
Основные лозунги «новых христиан»: «Духовная
революция— немедленно!» и «Революция — через Иисуса!». Говоря о
«революции», представители молодежного религиозного
движения имеют в виду переворот во внутреннем мире личности,
полагая, что «ошибкой» всех исторических революций было
выступление против правительств, тогда как зло следует искать в
человеке как таковом и бороться не с загрязнением среды, а с
«загрязнением человеческих душ». По их мнению, революция
1 Е 11 w о о d R. One Way: The Jesus Movement and its Meaning.
New Jersey, 1973.
2 «Логос», 1973, № 9—10, с. 24—25.
198
вообще сугубо индивидуальна, а подлинный враг Человека есть
злой дух, низвергнутый на землю. В одной из газет «Иисус-
революционеров» писалось: «Князь мира сего действует, чтобы
нас уничтожить, возбуждая войны, плоть против плоти.
Настоящий враг человеческого братства — не кто иной, как сам
Сатана... Возьмитесь за оружие и вступите в настоящий духовный
бой, пока вы еще не попали в ловушку Сатаны. Примите
Иисуса Христа в свое сердце и раз и навсегда убейте, свинью в себе
самих» !.
Социальное значение и возможные перспективы дальнейшего
развития «Иисус-революции» могут быть расценены как поиск
неких позитивных идеалов, противостоящих ценностям
«американского образа жизни». Однако новые социально-этические
ценности молодежь стремится найти в той самой религиозной
вере, которая является важнейшим компонентом ненавистного
им образа жизни. С этим обстоятельством связана определенная
двойственность как «Иисус-революции», так и всего религиозно-
мистического направления в молодежном движении в целом.
Так, существуют факты, свидетельствующие об объективна
противоречивости и двусмысленности программ
«Иисус-революции». Осуждая традиционную церковь и ее институты, «новые
христиане» зачастую пользуются ее финансовой поддержкой;
они уклонялись от антивоенных демонстраций во время войны
во Вьетнаме; критика отдельных сторон капиталистического
общества соседствует у них с антикоммунистическими и
антисоветскими нападками. В целом же «Иисус-революция»
возвращает ветхозаветной Америке блудных детей «протестующего
поколения» 60-х годов. Как справедливо отмечает Р. Эллвуд,
«Иисусово движение представляет собой реинтеграцию тех
элементов, которые были наиболее враждебны американскому
образу жизни» 2.
Наряду с движением «христианской молодежи» в сегодняшней
общественно-политической и культурной жизни Америки опре-
1 «Логос», 1973, № 9—10, с. 28.
2 Ell wood R. Op. cit., p. 23.
199
деленную известность завоевало движение молодежи,
исповедующей восточные религиозно-мистические учения. «С одной
стороны, мы наблюдаем возрождение христианства,— пишет
Р. Захнер,— с другой стороны, восточного мистицизма, под
колдовские чары которого попадает масса молодежи» К Увлечение
американской молодежи восточным мистицизмом возникло на
общем фоне моды на оккультизм, хиромантию, астрологию и
парапсихологию в Соединенных Штатах. Американский
феномен религиозности породил прагматическое истолкование
религиозной веры и в то же время широкое распространение
всевозможных форм мистицизма. Своеобразие современного этапа
эволюции американских мистических культов в том, что они
начинают выходить «из подполья» и превращаются в составные
элементы поп-культуры и соответствующих художественных
явлений.
Но больше всего от нынешней моды выигрывает коммерция:
растут специализированные магазины, в которых продаются не
только книги по оккультизму, но и разнообразные предметы
культа — амулеты, одежды, курильницы и пр. «С точки зрения
коммерции,— иронизировал журнал «Тайм»,— оккультисты
открыли то, что веками искали алхимики,— умение превращать
простые материалы в золото» 2.
В США насчитываются десятки религиозно-мистических
организаций, ведущих свою пропаганду среди самых разных слоев
населения. Это «Церковь Сатаны» в Сан-Франциско,
«Языческий путь» в Чикаго, «Общество спиритуальных исследований»
во Флориде, «Ананда Марга» в Канзасе и множество других, с
самыми необычными и экстравагантными программами.
Всевозможные гуру, шаманы, дервиши процветают сегодня
среди определенных слоев молодежи — не только хиппи и их
последователей, но и бывших активистов из «новых левых».
«Почти все новые мистики были активистами молодежных дви-
1 Zaechner R. The Wickedness of Evil: On Manson, Murder
and Mysticism.— «Encounter*, 1974, Apr., p. 50.
2 «Time», 1972, 19 June, p. 38.
200
жений — от новых левых до феминисток»1. Новым пророкам
молодежи, нередко занимающим сегодня те места, которые
вчера принадлежали политическим агитаторам и вожакам, удается
создавать многочисленные религиозно-мистические организации,
секты и движения на общем фоне определенного спада
политической активности. Увлечение мистицизмом заменило моду на
политический радикализм, пишет Э. Копкайнд. Распространение
богоискательских настроений среди американской молодежи он
связывает с апатией и разочарованием, охватившими ее после
бурных событий 1968—1969 годов, а также неверием в
собственные силы и в возможность изменить окружающий мир с
помощью политической борьбы. Из-за распада прежних
политических институтов леворадикальной молодежи ее нынешнее
поколение, по его мнению, почти лишено возможности выразить
свои идеалы и представления политическими средствами,
вследствие чего популярность приобретают иные — неполитические —
средства самовыражения. Если раньше, продолжает Э.
Копкайнд, сторонники контркультуры стремились синтезировать
идеи Фрейда и Маркса, то теперь они более склонны объединять
Фрейда и Будду.
Общая черта всех религиозно-мистических группировок
молодежи— их оппозиция любым формам политической
активности, что объективно ведет к эскейпизму и конформизму.
Особенность мистического мировосприятия, требующая растворения
личности в анонимной и бессознательной коллективности,
двусмысленна также и в социальном плане, поскольку
«растворение в Едином» индивидуальных и не желающих «растворяться»
людей не раз использовалось в самых антигуманных целях.
Именно так называемая «магическая перспектива»,
интуитивное «прозрение» смысла жизни и возрождение архаических
форм психики, к которым призывал Э. Юнгер, послужили
мировоззренческой основой нацистского мифа. Потеря
индивидуальности и «слитное» существование под знаком мистического
1 К о р k i n d A. Mystic Politics: Refugees from the New Left.—
«Ramparts», 1973, July, p. 38.
201
«единства Почвы и Крови» — отличительные черты институали-
зированной мистики тоталитарных режимов. История должна
послужить предупреждением религиозно-мистическому
направлению в молодежном движении, которое, имея своим истоком
гуманистическую и морально-этическую критику буржуазного
общества, может прийти к отказу от своих: первоначальных
замыслов, как это случилось, например, с поклонниками
печально известного Чарлза Мэнсона.
Как мы увидим, именно Мэнсону был придан статус символа
молодежной оппозиции, поскольку с точки зрения
традиционного пуританизма и, шире, фундаменталистских религий, значение
которых подчеркнул «новый» консерватизм, все перечисленные
веяния глобально воспринимались как исчадие ада.
В защите от Сатаны искусству принадлежала, естественно,
Солыиая роль, нежели в религиях контркультуры,
ориентированных вовнутрь, на революцию самосознания, которой
художественные произведения не столько способствуют, сколько
препятствуют.
Наиболее последовательно противостояние бога и дьявола
было воплощено в известном романе Уильяма Питера Блэтти
«Изгоняющий дьявола» (1971) и поставленном на его основе
фильме Уильяма Фридкина (1973). История изгнания
вселившегося в двенадцатилетнюю девочку дьявола (который
рассматривается и как эманация окружающего общественного зла)
излагается на высоком профессиональном теологическом уровне
и служит обоснованием идеи бессилия рационализма и науки в
целом.
Эстетский вариант той же темы еще раньше предложили
Аира Левин и его экранный интерпретатор Роман Поланский в
«Ребенке Розмари» (1968), демонический сюжет которого может
читаться и как бред героини, постепенно в ходе беременности
сходящей с ума, и как вполне рациональная история козней
сектантов, и как мистический сюжет о рождестве сатанинского
антипода Иисуса Христа.
А далее происходит знаменательная подмена «священного»
< мирским». В 1972 году на экраны США по свежим следам се-
202
рии зверских убийств, о которых писала и наша печать, вышел
фильм Лоренса Мэррика и Роберта Хендриксона «Мэнсон»,
состоящий из интервью, документальных, а отчасти
реконструированных эпизодов. Фильм тогда критиковали за объективизм,
беспристрастность интонации, и, на наш взгляд, критиковали
безосновательно — герои и факты были столь чудовищны сами
по себе, демонстрируя те пределы, до которых может довести
религиозно-мистический путь преодоления социальных
противоречий капитализма и порожденного самим образом жизни
тотального отчуждения, что не нуждались в дополнительных
акцентах.
Однако эти акценты все же были назойливо проставлены в
игровой хронике тех же событий — телефильме Тома Грайса
(1976), который, по свидетельствам американской печати,
пользовался наибольшим успехом среди телевизионной продукции
на экранах кинотеатров. Название фильма «Helter Skelter»,
заимствованное из песни ансамбля «Цитлз», можно условно
перевести и просто как «Тарарам» и как апокалипсический «конец
света», что особо импонировало «новому Мессии».
Характеризуя настроения молодежи, Ф. Боноски цитирует
именно эту песню:
Посмотри, какой кругом тарарам,
Посмотри (в этом месте они визжали), какой тарарам,
Он с каждым днем все сильнее,
Да, сильней,
Да, сильней.
«И хрупкие мальчики с горящими глазами,— пишет далее
автор,— пожившие в Хейт-Эшбьюри и большую часть жизни
просидевшие в тюрьмах и исправительных колониях, поверив этой
песне, шли убивать, а потом кровью убитых на зеркалах
нетвердой рукой выводили слово «тарарам».
Л Бернардин Дорн, выступая на «Общенациональном
военном совете» уэзерменов (левоэкстремистская террористическая
организация.— Авт.) в городе Флинт, штат Мичиган, смаковала
эти убийства и кричала: «Лихо!» 1
1 Боноски Ф. Указ. соч., с. 78.
203
Однако, в отличие от Т. Грайса и автора книги, на которой
основан фильм,— официального обвинителя на процессе Мэнсо-
на и его соучастниц прокурора Бульози,— критик-коммунист
отнюдь не склонен сводить все молодежное движение к этой его
экстремистско-уголовной разновидности. Фильм же, несмотря
на псевдо доку мента л изм (все, что показано, базируется на
установленных фактах), открыто тенденциозен по направленности.
«Коммуна» Мэнсона рассматривается здесь как
характерный, типичный (а не крайний, уродливый) пример бытия
хиппи, да и вообще «длинноволосых». Песня «Битлз» —
своеобразный символ пристрастий молодежи — органично вписывается в
общую концепцию преступности и извращенности целого
поколения. Защитники закона, в том числе в первую очередь сам
Бульози, аккуратны и подтянуты, как и следует слугам
«истеблишмента». И хотя художественная реальность разыгрывает
дурную шутку с создателями ленты (Мэнсон и его сподвижники
выглядят куда интереснее, если не привлекательнее, своих
«правильных» оппонентов), общий вывод более чем характерен для
«новой» ориентации: картина завершается критикой отмены
смертного приговора убийцам и подчеркивает, что в
соответствии с американскими законами все они уже в 1978 году могут
быть условно выпущены на свободу. Вот и найден
краеугольный камень «нового» консерватизма — уподобление любого
протеста (в том числе и неназванного протеста политического)
уголовному преступлению и психической ненормальности и критика
«справа» «слишком либерального и демократического»
государственного устройства. Таким образом, дьявол обретает
конкретное лицо, а одновременно и социальный статус.
Тут уже в открытую выступает идейно-политическая
подоплека религиозных сентенций, которую весьма четко
сформулировал И. Горовиц: «Современный консервативный пиетизм
использует идеализм как прикрытие для создания Нового
Священного союза. Атлантическое сообщество должно дать XX
веку эквивалент Европейского союза Меттерниха... Далеко отстоя
от человечного и разумного понимания духовного,
неоконсерватизм цинично использует религию для достижения авантюри-
204
стических целей. Теоретически он утверждает, что религия —
основа общества. Практически он считает религию
прагматическим средством для сохранения в неприкосновенности
общества, базирующегося на частной собственности, порядке и
долге. Тем самым он пытается придать космический масштаб
своим гегемонистским устремлениям» !.
От «сексуальной революции» к апологии насилия
Следующим звеном, на котором в художественном
творчестве столкнулись контркультура и «новый» консерватизм, стали
проблемы нравственности. Социологические исследования,
проведенные в США уже в 70-е годы, убедительно показали, что
контркультура особенно сильно повлияла именно на сферу
морали, существенно и стабильно изменив традиционные
установки и нестуденческой молодежи (в частности, рабочих) и
представителей старших поколений2.
Этический момент всегда был присущ искусству. В
зависимости от конкретно-исторических условий взаимоотношения
между искусством и моралью в теории и на практике
складывались по-разному: от жесткой субординации, например, в
эстетике классицизма, до декларативного аморализма иных
явлений буржуазной культуры3. На современном Западе
этическое измерение искусства непосредственно затрагивает несколько
идейно-тематических пластов, среди которых особую роль
играют проблемы сексуальности и насилия, вступающие подчас в
весьма тесные взаимодействия между собой.
Левофрейдистская интерпретация социальной и
художественной деятельности в контркультуре привела к своеобразному
симбиозу мотивов политических, этических и религиозных,
1 Horowitz I. Ideology and Utopia in the United States,
p. 161.
2 См.: Yankelovich D. The New Morality. A Profile of
American Youth in the 70's. New York, 1974.
3 Об историко-культурном аспекте проблемы см.: Кунче-
в а Л. И. Эстетическое и этическое в жизни и в искусстве. М.,
1968; ТолстыхВ.И. Искусство и мораль. М., 1973.
205
получившему отражение как в произведениях, вдохновленных
ее идеями, так и в охранительных тенденциях, отстаивающих
буржуазный «статус-кво».
С точки зрения взаимодействия различных форм
общественного сознания особенно характерна концепция Нормана
Брауна. В своей книге «Жизнь против смерти» он воспроизвел
проанализированную нами в первой главе принципиальную схему
противоборства Прометея (Аполлона) и Орфея (Диониса) —
«бога сублимации» со «свободным дионисийством». «Путь
сублимации, по которому с благоговением пошло человечество...
отнюдь не является выходом из человеческого невротизма, но,
напротив, ведет к его усилению»!,— пишет Браун. И здесь
вновь всплывает то же противопоставление труда и
удовольствия, которое было характерно для Маркузе, причем торжество
наслаждения и удовольствия, в нынешних условиях
заключенного в резервацию искусства, мыслится возможным лишь как
десублимация культуры, как ликвидация «репрессивной аполло-
нической культуры» — цензурного барьера, стоящего на пути
свободного и игрового самопроявления человеческих чувственно-
эстетических способностей. Поскольку «труд есть
сублимированный Эрос», он несет с собой страдание; «инстинкт жизни, или
сексуальный инстинкт, требует иного рода деятельности —
такого, который по контрасту с нашим нынешним образом жизни
может быть назван только игрой» 2,— пишет Браун. Иначе
говоря, игра художественного воображения должна стать
«реальным» фактором общественной жизни.
Политическое, психическое и телесное раскрепощение
человека создаст, по мнению Н. Брауна, предпосылки для перехода
к новому • этапу в эволюции человеческого рода. Новый тип
человеческой личности не будет знать господства «Я» и «сверх-
Я» над бессознательными влечениями.
Известный западный историк философии Дж. Пассмор
назвал «учение» Н. Брауна «новым мистицизмом» и указал на
1 Brown N. Life Against Death, p. 307.
2 Ibid., p. 107,307.
206
его внутреннее родство с мироощущением молодежной контр-
культуры, появление которой он воспринял как симптом «буд-
дизации» европейского сознания *. По его мнению, религиозно-
мистическое направление в контркультуре «ослабило научный
дух и способствовало распространению оккультизма,
артистического эксгибиционизма и всевозможного шарлатанства»2.
Действительно, Н. Браун называет своими идейными
предшественниками знаменитых мистиков прошлого — Франциска
Ассизского, Якова Беме, Вильяма Блейка и других.
Сознание, утверждает он, разделяет людей и отличает их
друг от друга как «индивидуальности», тогда как телесная
природа одна у всех. Это исходное телесное единство, по его
мнению, обусловливает возможность установления так называемых
«нерепрессивных», неантагонистических человеческих
отношений, «принципа братства». Возвращаясь к античной идее андро-
гина — мифологического двуполого существа, Н. Браун
утверждает, что подлинный смысл мистерии любви заключается в
символическом воспроизведении единого мистического «Тела
Человечества», частями которого являются все люди3.
Политико-мистическая утопия контркультуры воплощалась в
творческой практике не в «чистом виде», а сквозь призму
обыденного сознания, зачастую воспринимавшего «сексуальную
революцию» как проповедь разврата. В результате опосредования
разными формами художественного производства при
капитализме своеобразно преломлялись и варианты осмысления и
оценки нравственных установок бунтующей молодежи в весьма
широком диапазоне — между трансцендирующим «сексуальную
революцию» маркузианским представлением об «освобождении
Эроса», идеей «свободы любви» как главной политической
свободы и коммерческой порнографией. Решение этических дилемм
и способы художественной трактовки сексуальности зависели
1 См.: Pass more J. The Perfectibility of Man. London, 1970.
Ch. 15.
2Passmore J. Second Thoughts on a Paradise Lost.—
«Encounter», 1974, Aug., p. 47.
3 См.: В г own N. Le corps d'amour. Paris, 1968.
207
и от внутрихудожественных традиций. Эстетизация
обнаженного тела, нюансированная эротичность, характерная для многих
направлений живописи и скульптуры, литературные вариации
на сексуальные темы в различных интерпретациях от
гедонизма до садомазохизма, строгий запрет на эксплицитно сексуали-
зированное поведение в буржуазной драме и кинематографе —
все это накладывало свой отпечаток на практические
воплощения идей контркультуры в искусстве.
Политика и секс соединялись воедино в знаменитом
шведском фильме Вильгота Шемана «Я любопытна» (1967) или в
бродвейской постановке пьесы «Че» (1969) — одной из многих
западных спекуляций на имени латиноамериканского
революционера. Начиная со спектакля «О, Калькутта!», поставленного
в 1967 году в США, а вслед за этим и в ряде западноевропейских
стран обнаженное тело утвердилось на сцене. Актеры
переходили и к открытой демонстрации совокуплений, ранее
составлявших монополию специальных «подпольных» заведений.
Периодическая печать и реклама активно осваивали «новые
территории», а некогда «откровения» Генри Миллера стали
достоянием «серийного» (литературного и кинематографического)
производства. Американская поэтесса Сьюзен Шерман с
сожалением отмечала: «Наше общество настолько наводнено сексом,
что с ним сталкиваешься при просмотре любого журнала,
газеты, телепередачи, при чтении любой книги. Объективация
всех уровней сексуальных и других человеческих
взаимоотношений стала частью нашего мировоззрения...» 1
По существу, эрозия пуританизма в сфере личной жизни,
затронувшая не только молодежь, но и другие слои населения
(в том числе «средний класс»), соответствовала двум разным,
хотя и взаимозависимым, тенденциям цивилизации
капитализма: с одной стороны, «отчуждению» человека от человека и
соответственно кризисным поискам новых, подлинных
контактов между людьми, а с другой — сугубо потребительской
ориентации общества, где «плотские наслаждения» становятся пред-
1 «The Left and Porno».— «Cineast», 1977, vol. VII, N 4, p. 29.
208
метом купли-продажи. Причем речь в данном случае идет
отнюдь не только о проституции, представляющей тяжелое
наследие «классического» капитализма. Реальное положение
включает множество других оттенков.
Так, в 1969 году на экраны США был выпущен фильм «Боб
и Кэрол и Тэд и Алиса», рассказывающий о двух молодых
супружеских парах. Более «передовые» Боб и Кэрол, после
пребывания в «психотерапевтической» группе «коллективного
общения», уже не скрывают обоюдные измены и провоцируют
своих друзей на новую систему полной откровенности. Герои,
однако, останавливаются на пороге «обмена женами», ибо,
объединившись вчетвером под одним одеялом, обнаруживают, что
психологические барьеры оказываются сильнее «благих»
намерений. Картина, поставленная режиссером Полом Мазурским,
совсем не соответствовала своей скандальной рекламе,
акцентировавшей только модный момент «обмена женами», полным
отсутствием непристойности и скабрезности как в изображении,
так и в характеристике отношений между персонажами. Но вот
в 1973 году в «Нью-Йорк тайме» появляется следующее
рекламное объявление крупнейшей американской авиакомпании
«Истерн»: «Поезжайте в отпуск с Бобом и Кэрол, Тэдом и
Алисой, Филом и Энн!» «Как далеко мы ушли от «13 полезных
добродетелей» Франклина»1,— сокрушается, приводя этот
действительно наглядный пример, Д. Белл.
Кино и театр не случайно оказались в первых рядах
пропагандистов «свободы любви». Демонстрация сексуальных сцен
обладала здесь по сравнению с литературными описаниями
преимуществом наглядности и казавшимся безграничным
коммерческим потенциалом. Немаловажным фактором была и
дешевизна постановок, не требовавших иных атрибутов, кроме
постели, ковра и т. п. и двух или более участников. Цензурные
запреты, в конце 60-х годов еще в какой-то мере
сохранявшиеся, были все же значительно либеральнее ограничений,
вызванных «семейной» ориентацией телевидения.
1 Bell D. The Cultural Contradictions of Capitalism, p. 71.
209
Прибыльность создания «порноспектаклей» и
«порнофильмов», быстро преодолевшая опасения промышленников от
искусства, привела к изначальной двойственности, позволявшей
одним и тем же произведениям служить как бы одновременно
двум хозяевам — контркультуре и буржуазии.
Даже в «подпольном искусстве», где первоначально
возможности демонстрации откровенных сцен были значительно шире,
чем в рамках «системы», политика отошла на второй план; в
частности, в контексте западной культуры киноленты такого
рода (например, знаменитые «Пламенеющие создания» Джека
Смита, 1963) представлялись свидетельством о «свободном»
образе жизни, сближаясь в этой своей функции с «обнаженным»
театральным мюзиклом «Волосы».
Буржуазное коммерческое искусство, в рамках которого
«эротические произведения» создавались уже многие
десятилетия, постепенно ассимилировало эти «новые» тенденции,
расширив круг дозволенных моментов и распространяя
претендующие на революционное воздействие книги и фильмы по
каналам, рассчитанным на вполне определенную аудиторию, которая
политические моменты оставляла без внимания.
Параллельно процесс снятия запретов на «объективацию
секса» сказывается и в творчестве художников-интеллектуалов.
То, что раньше было дозволено только литературе, в 60—70-е
годы выносится на экраны и сцену. Типичным примером связей
через века может служить кинотрилогия Пьера Паоло
Пазолини «Декамерон» (1970), «Кентерберийские рассказы» (1973) и
«Цветок Тысячи и одной ночи» (1974). В современных
интерпретациях этого рода основу для вынесения на первый план
сексуальных моментов чаще всего дает теория психоанализа.
На стыке «интеллектуального» искусства с «политическим»
оказывается такой фильм, как «Последнее танго в Париже»
(1973), где вызывающая смелость скорее подсказанных, чем
показанных (как в «порнофильмах») сексуальных моментов,
по мнению режиссера Бернардо Бертолуччи, должна была не
только соответствовать психическому состоянию персонажей
(фрейдизм в традициях «элитарного» искусства), но и травми-
210
решать буржуазного зрителя, революционизируя не столько его
сознание, сколько его подсознание. Мы не будем анализировать
конечный результат — это тема особого разговора. Сейчас нам
интересен сам авторский замысел, основной пафос которого
отнюдь не уникален, а характерен для достаточно
репрезентативной группы произведений, связанных с контркультурой
в частности, и для последней работы Пазолини «Сало, или
120 дней Содома» (1975), не случайно вызвавшей острую
отрицательную реакцию со стороны итальянских неофашистов,
которых ряд обозревателей не без оснований считает
причастными к его трагической гибели. Вместе с тем психопатологическое
истолкование истории, позволившее Пазолини свести анализ
краха последнего оплота итальянского фашизма (так
называемой «Республики Сало») с романом маркиза де Сада, уже
весьма далеко отстояло от утопического политико-эстетического
проекта «новых левых».
Ведь в их программных документах содержались призывы к
«созданию нерепрессивной культуры, основывающейся на
замене нужды вожделением, на переходе от сексуальности к Эросу,
то есть от генитальной организации сексуальности к
эротизации всей человеческой личности и общества, на освобождении
человеческого тела от репрессивного десублимированного
секса» !.
Обращение теоретиков контркультуры к левому фрейдизму
с его попыткой совмещения концепции Фрейда и марксизма
было в значительной мере обусловлено исходной антиманипуля-
торской установкой современного критического сознания на
Западе, видящего свою задачу в апелляции к такому
«глубинному» уровню психобиологической организации индивида, который
не был бы подвержен произвольному идеологическому
манипулированию извне. По их мнению, в условиях современного
капитализма все большее значение приобретает психологическое
господство над индивидом и манипулирование не только его
сознанием, но и чувственно-инстинктивными потребностями, в
1 «All We Arc Saying...», p. 21.
211
результате чего личность становится полностью
интегрированной в общественную систему, а ее внутренний мир полностью
подавляется буржуазной «индустрией сознания». «Индустрия
сознания,— ужасается западногерманский поэт и левый
радикал, сторонник контркультуры Г.-М. Энценсбергер,—явление
чудовищное, ее трудно понять, потому что, строго говоря, она
ничего не производит. Она лишь промежуточное явление, она
занимается передачей, трансляцией готовых мыслительных
продуктов и тайно проникает во все, что размножает и
передает, доставляет потребителю» х.
По иронии судьбы (на самом деле глубоко закономерной)
именно «индустрия сознания» в конечном итоге и перевела
«сексуальную революцию» в сферу буржуазного конформизма.
Советский киновед В. Б. Баскаков весьма точно назвал это
явление респектабилизацией аморальности и порнографии2. В
качестве примеров тут можно привести французские фильмы
Жюста Жекена «Эммануэль» (1974) и «История О» (1975), где
под вывеской шокирующего скандала предлагается эротический
ширпотреб, «облагороженный» (в соответствии с вкусами
средней буржуазии, обеспечившей этим лентам значительный
коммерческий успех) философствованием персонажей. В их основу
не случайно положены появившиеся значительно ранее
литературные произведения — романы соответственно Эммануэль Ар-
сан и Полины Реаж. Кино не только доросло до литературного
либертинизма, но и «сгладило» те подлинно провокационные
элементы, которые подчас содержались в литературных
первоисточниках.
В свою очередь массовая беллетристика 60—70-х годов также
пустила эротизацию в русло буржуазных традиций, продолжая
тем не менее спекулировать на сенсационности материала.
Советские литературоведы уже писали о волне сексуализирован-
ной продукции, включавшей романы Ж. Сьюзен, Д. Славита
1 Enzensberger H. M. The Consciousness Industry: On
Literature, Politics and the Media. New York, 1974, p. 5.
2 См.: Баскаков В. Е. Противоречивый экран. М., 1980,
с. 119—238.
212
(под псевдонимом Г. Саттон), Т. Сазерна и других авторов,
весьма далеких от экстравагантности Г. Миллера, провокаций Лероя
Джонса ! или двусмысленного иронического эстетизма
виртуозного мастера В. Набокова и даже от позиции «классика жанра»
Д. Г. Лоуренса.
Своеобразным символом идеи сущностного единства секса и
буржуазного производства стал роман Жаклин Сьюзен
«Машина любви» (1969), породивший целую серию подражаний.
Развивая напрашивающуюся параллель между человеком и
машиной, американский кинематографист Тодд Гитлин писал:
«Сегодня порнография уже не противостоит пуританизму, а, скорее,
дополняет его. К механическому труду, механическому образу
жизни и образу мышления она добавляет еще и механический
секс. Обществу сексуальной депрессии она предлагает
механический способ раскрепощения. Как поется в популярной
песенке (и это действительно так): «Я лишь машина для любви».
И не следует обвинять в этом только технический прогресс:
если люди привыкли вести во всем механический образ жизни,
они, естественно, и в любви становятся машинами» 2.
Уже эти несколько намеренно противоречивых примеров
говорят о том, к каким пагубным последствиям с точки зрения
марксистского исследования западной культуры и искусства
может привести «легкое» по своей трафаретности сведение
любой «объективации секса» к коммерческой «сексплуатации»3.
Теория и практика контркультуры оказываются той лакмусовой
1 В последние годы он выступает под именем Имаму Амири
Барака.
2 «The Left and Porno», p. 28.
3 Обоснованные опасения рецидивов подобного понимания,
по-видимому, и вынуждают авторов послесловий к русским
переводам таких далеких от «эротического ширпотреба»
произведений, как «Рэгтайм» Э.-Л. Доктороу (1975; «Иностр. лит.»,
1978, JSfo 9—10) или «Башня из черного дерева» Джона Фаулза
(1973; «Иностр. лит.», 1979, № 3), извиняться перед читателями
за допускаемые писателями «вольности», хотя и в том и в
другом случае (в разных системах опосредовании) они составляют
органическую и необходимую часть художественной структуры.
213
бумажкой, которая позволяет обнаружить противоречивость
реальной картины. Ни теорию «сексуальной революции», ни ее
отражение в искусстве нельзя рассматривать внеисторически,
без учета контекста — западной культуры XX века, с которой
они вступают в диалектическое взаимодействие '.
Не случайно консервативные круги почти никогда не
требуют запрета «безопасных» коммерческих «порнопроизведений»,
но зато довольно часто выступают против их политизированных
вариантов. «Правых» волнует не порнография как таковая, а
подспудная угроза буржуазной морали как одному из устоев
капиталистического общества. Обличая порнографию, Ф. Бонос-
ки не случайно считает необходимым подчеркнуть: «Книги с
остронасущной проблематикой запрещались за «аморальность».
Так, Верховный суд Массачусетса еще в 1944 году признал
«аморальной» книгу Лилиан Смит «Страшный плод», повествующую
о любви черного к белой на Юге и о трагических последствиях
их связи. Тот же суд в 1930 году признал «Американскую
трагедию» Драйзера «совершенно непристойной». Еще раньше (1900)
была запрещена «Сестра Керри» Драйзера, хотя надо было быть
сумасшедшим, чтобы найти хоть что-нибудь неприличное в
одной из первых попыток изобразить «независимую»
американку... Одним из наиболее широко распространенных обвинений,
которые выдвигались против большевистской революции 1917
года, было то, что они, большевики, якобы намеревались
«национализировать» женщин, что революция приведет к массовым
оргиям,— обвинение, от которого у добропорядочных
представителей среднего класса вставали волосы дыбом» 2.
В современном ракурсе эту продолжающуюся конфронтацию
иллюстрирует высказывание французского критика-марксиста
Жан-Патрика Лебеля в дискуссии по вопросам кино на
страницах еженедельника ФКП «Франс нувель»: «Влияние
коммунистов среди кинематографистов в последнее время значительно
1 См.: Кон И. Секс, общество, культура.— «Иностр. лит.»,
1970, № 1.
2 Боноски Ф. Указ. соч., т. 140—149.
214
возросло в связи с борьбой против антидемократических мер,
которые приняло правительство под предлогом (курсив наш —
Авт.) борьбы против порнографии и насилия... Маневр
правительства заключался в том, чтобы заставить общественное
мнение поставить знак равенства между кинематографией и
порнографией, представить кино как виновника насилия и даже
вообще кризиса» !.
Вместе с тем бесспорно, что в общеполитической
перспективе акцент на «сексуальной революции» приводит к той
парадоксальной ситуации, об опасности которой предупреждал Ленин,
когда «вопросы пола и брака не воспринимаются как части
главного социального вопроса. Наоборот, большой общественный
вопрос сам начинает казаться частью, придатком проблемы
пола... Это не только вредит ясности в этом вопросе, это вообще
затемняет мышление, затемняет классовое сознание»2. Таково
принципиальное марксистское понимание проблемы.
А что же противопоставляет «сексуальной революции»
«новый» консерватизм? Респектабилизация порнографии, ее
тесная связь с коммерческими (а отчасти и идеологическими)
интересами монополистического капитала в значительной мере
ограничивает ресурсы законодательных запретов. Защита
пуританизма поэтому может базироваться лишь на апелляции к
традиции и аргументам нравственного порядка. Тут-то и важна
эмоциональная убедительность, свойственная искусству.
Наиболее простой, хотя и относительно малоэффективный,
метод отстаивания «моральных устоев» — прямая полемика с
идеями контркультуры, своеобразное доказательство «от
противного». К примеру, П. М. Тугушева пишет о романе Э.-К. Шул-
ман «Воспоминания бывшей школьной королевы» (1973):
«Проведя свою героиню через все стадии сексуальной «свободы»,
завоеванной еще в школе, писательница расстается с ней, когда
она обретает «тихую пристань» — дом, детей, любимого мужа.
Так должно быть всегда, убеждает нас автор, а без «вредонос-
1 «France Nouvelle», 1975, 24 Nov., p. 31.
2 Цеткин К. Роспоминания о Ленине. М., 1955, с. 46.
215
ных» идей о равноправии жизнь ее подопечной наладилась бы
гораздо скорее 1. И хотя трудно согласиться с выводом
литературоведа о тотально консервативном характере всей
«секс-беллетристики» (реальное положение, как мы видели, куда
сложнее), нельзя не отметить, что концепции подобного рода были
достаточно распространены с момента появления первых
симптомов молодежного протеста.
Тут нам может помочь обращение к одному прецеденту.
В 1958 году на экраны Франции вышел новый фильм режиссера
Марселя Карне «Обманщики» (его сценарий был издан в
русском переводе). Это было время внезапной вспышки бунта
французской молодежи, отвергавшей на первых порах главным
образом принятые буржуазией нормы нравственности, а
опосредованно и обусловливающий их общественный уклад, пока
не касаясь проблемы его социально-экономической подосновы.
Замысел Карне был крайне прост. Он наложил свою
излюбленную схему «возлюбленные и роковая для них действительность
в образе дьявола» на определенное представление об образе
жизни молодежи и «легко» доказал, что все в мире осталось
по-прежнему: молодые продолжают так же чисто и бескорыстно
любить друг друга, в то время как обрекающей антитезой
становится их же собственный бунт, отрицание норм буржуазной
морали. Будь-де они «попристойнее», старшим нечего было бы
волноваться. Героиню фильма, погибающую в автомобильной
катастрофе, убивало собственное стремление «быть
современной». То, насколько эта картина оказалась далека от подлинных
проблем и помыслов молодого поколения Франции, показали
появившиеся почти одновременно с ней первые фильмы так
называемой «новой волны», обнаружившие действительные
сложности растущего «антиконформизма», который в конечном
счете, по всей вероятности на удивление Карне, вылился в отнюдь
не шуточную вспышку мая — июня 1968 году.
1 Тугушева П. М. Литературный облик американского
неофеминизма.— В кн.: Американская литература и
общественно-политическая борьба, с. 197.
216
Т*аким образом, еще задолго до «контрреформации»
охранительные тенденции в искусстве проявлялись достаточно
очевидно. Правда, в 60-е годы задача приверженцев «традиционных»
ценностей значительно усложнилась: масштабы перемен
игнорировать стало уже невозможно. И тогда в буржуазной
«массовой культуре» получили распространение разного рода
«обходные маневры», позволяющие превратить показную актуальность
в проповедь конформизма и классового мира К Видная роль в
этом процессе отводилась волне «неоромантизма»,
представленной в начале 70-х годов целым рядом литературных,
театральных и кинематографических произведений.
Акцент на личной жизни, который иногда служил
своеобразной эмоциональной поддержкой (как герою, так и читателю
или зрителю) в определении своего места в социальных
конфликтах, тут приобретал обратный аспект — ухода от
декларируемой современности в сферу «вечных» чувств.
Одним из первых и наиболее наглядных проявлений этой
«новой» тенденции стала повесть Эрика Сигала «История
любви» и ее экранизация режиссером Артуром Хиллером,
появившиеся на культурном рынке США в 1970 году. На наш взгляд,
здесь предельно отчетливо выявляется корреляция
нравственной установки с психологическими и идейно-политическими
мотивами, связывающими художественную практику с
социокультурным контекстом, а конкретные особенности сюжетной
структуры — с социальной функцией произведения.
Недаром известный английский киновед Том Милн выдвинул
следующее предположение: «Вероятно, одного только
утверждения романтики — даже такой слащаво-абсурдной — достаточно,
чтобы явиться манной небесной для общества, уставшего от
реалий Вьетнама, «Власти черным», студенческого движения
1 Сам по себе этот метод отнюдь не является достоянием
последнего десятилетия. Напомним, что еще в 50-е годы Т.-В.
Адорно отмечал роль «скрытых» слоев произведения в процессе
социально-психологического «управления» аудиторией (см.,
например: A d о г п о Т. W. Television and the Patterns of Mass
Culture.—In: Mass Culture. The Popular Arts in America. Glencoe, 1958).
217
протеста и экстравагантности хиппи» '. Критик верно
усматривает главный козырь Сигала — намеренно выпяченный
контраст между традиционной мелодраматичностью придуманной
истории и реальной жестокостью современности. Однако Мили
упускает из виду, что противопоставление это выражается не
только в противостоянии повести жизни, но и внутри самого
произведения.
Как утверждает Э. Сигал, в основу сюжета положена
подлинная история, рассказанная ему одним из его бывших
студентов, жена которого, вынужденная работать, пока муж
заканчивал образование, скоропостижно скончалась от лейкемии.
В роли студента в повести выступает Оливер Баррет IV —
наследник богатейшего бостонского банкира, студент Гарвардского
университета. В роли Золушки, содержащей своего Принца,
лишенного отцовской поддержки за «преждевременный» брак,—
дочь итальянца-булочника Дженнифер Кавиллери.
Хотя творение Сигала и считают своеобразным антиподом
«секс-беллетристики», отсутствие подробных эротических
описаний компенсируется передачей изменившихся норм
нравственности как чего-то само собой разумеющегося. Мы не
найдем упоминания о девственности (или недевственности)
героини, разговор о браке естественно возникает только перед лицом
угрожающей в противном случае разлуки и воспринимается
Дженни с неподдельным изумлением и т. д. Любовь отнюдь
не противопоставляется сексу и не рассматривается как бы
независимо от него — сдвиги в представлении о нормах интимной
жизни запечатлеваются как данность, не заслуживающая
особого упоминания, и могут восприниматься как обличение
только со стороны откровенно предубежденных читателей.
Но такая реакция все же остается возможной, что
объясняется главным приемом автора при подходе, или, точнее,
обходе актуальных кризисных проблем современной Америки —
сохранением предельной многозначности, максимальной зату-
шеванностью авторского отношения к событиям, что позволяет
1 «Monthly Film Bulletin», 1971, Apr., p. 79.
218
бесконечно варьировать трактовки (часто вплоть до
противоположных выводов), тем самым давая удовлетворение чуть ли
не любой аудитории. При всей «современности» отношений
героев, упоминается только о вольной жизни Оливера. О положении
Дженни незаметно умалчивается. А ведь даже самая
закостенелая буржуазная мораль допускает добрачные связи
мужчины и, с большим «скрипом», связь возлюбленных до
официального брака, лишь бы он только последовал.
Как это ни странно, вторым стереотипом, используемым
автором, оказывается сам бунт, давно уже вошедший в плоть и
кровь американского искусства. Достаточно вспомнить образ
Джеймса Дина, еще в середине 50-х годов сыгравшего в
известном фильме Николаса Рэя роль «Бунтовщика без идеала». Но
бунт героя Дина, не будучи целенаправленным, был хотя бы
обоснован — он не мог принять лицемерия, ханжества и
продажности старшего поколения и, не находя никакого выхода,
энергично восставал против самого уклада жизни. Не будет
преувеличением сказать, что за прошедшие пятнадцать лет и
причины и цели молодежного движения протеста в достаточной
мере уяснились. А вот для Оливера Баррета IV положение
оказывается диаметрально противоположным: он уже не
знает, против чего бунтует, хотя бунтарство это подчеркивается
буквально на каждом шагу, вплоть до того, что единственным
остающимся у читателя и зрителя рациональным объяснением,
не опровергнутым самим произведением, остается... Эдипов
комплекс, что по сути дела сводит на нет социально-политические
причины бунта молодого поколения.
А между тем даже авторы, анализирующие кризис движения
протеста, отмечают, что большинство его участников сохраняет
прежние взгляды на культуру и политику '. Так, трактовка
бунта молодого поколения обнаруживает основную направлен-
1 См.: Starr P. Rebel After the Cause. Living with
Contradictions.— «New York Times Magazine», 1974, 13 Oct. p. 31. Весьма
характерно, что заглавие этой статьи, которое условно можно
перевести «Бунтовщик после битвы», впрямую отсылает к
названию упомянутого нами фильма Н. Рэя—«Rebel Without a
Cause».
219
ность «Истории любви»: образ современных Ромео и
Джульетты — Олли и Дженни — оборачивается опровержением
контркультуры, но атака эта настолько завуалирована, что
обнаружить ее сущность оказывается отнюдь не просто.
Таким образом, социальная активность художественного
произведения, его общественный резонанс являются
результатом действия совокупности различных факторов. В «Истории
любви» главный этический вопрос как бы включает, точнее,
даже маскирует, вполне определенную идейную позицию,
выявляющуюся в системе взглядов на довольно широкий круг
социальных проблем. Если в теориях «новых» консерваторов
контркультура выступала как негативная бесчеловечная сила,
то здесь читателя и зрителя должна успокоить примиренческая
проповедь, утверждающая приверженность молодого поколения
ко всем традиционным ценностям. Просто поверхностная прово-
кационность поведения якобы скрывает глубинную
(буржуазную) добропорядочность. И в том и в другом случае достигается
необходимый охранительный эффект. Весьма знаменательно,
что в изданном в 1977 году продолжении «Истории любви» —
романе «История Оливера» — Оливер Баррет IV находит свое
счастье с белокурой героиней, равной ему и по богатству и
социальному положению.
Вместе с тем «неоромантизма» было явно недостаточно для
возрождения «пуританской морали». В области нравственности
«новому» консерватизму приходилось отвоевывать территорию,
оккупированную, как мы видели, отнюдь не исключительно
контркультурой.
В связи с этим особый интерес представляет своеобразная
попытка симбиоза нравственности, политики и насилия в
известном фильме Мартина Скорсезе «Таксист» (1976). Его герой
(ветеран войны во Вьетнаме) становится в силу своей профессии
свидетелем разложения, царящего ночью в большом городе.
Кратковременный неудачный роман с участницей предвыборной
кампании очередного кандидата «истеблишмента» толкает
таксиста на путь индивидуальной борьбы со злом, что объясняется
европеизированными экзистенциалистскими мотивами (вот где,
220
на перекрестке «нового» консерватизма, объединяются
«философское» и «политическое» искусство!). После нереализованного
покушения на бравого кандидата вооруженный до зубов ветеран
единолично врывается в притон и «спасает» двенадцатилетнюю
проститутку. Здесь на поверхность выходит проблема
нравственности. Девочка бежала от родителей и неоднократно
подчеркивает, что вовсе не желает менять образ жизни и к ним
возвращаться. Акция героя, таким образом, приобретает характер
насильственного спасения поруганной морали, открытого
навязывания собственных представлений, вполне соответствующих
идеалам «пуританской этики».
Так, в противовес «сексуальной революции» консервативная
реакция выдвигает насилие как главное средство поддержания
не только пошатнувшейся нравственности, но и «закона и
порядка». .
Это произошло не случайно. Подобно тому как контркультура
раскрылась в сфере «высвобождения» подсознательного, в
«сексуальной революции», «новый» консерватизм, как движение
репрессивное по своему существу, замкнулся на радикальном
механизме запрета, антидемократической процедуре
навязывания окружающим идей о законе и справедливости,
свойственных тому или иному кругу приверженцев «традиционных»
ценностей (отсюда и существенные разночтения в понимании этих
ценностей — от гуманистических идеалов, которые не могут не
вызвать сочувствия, до ретроградных представлений
ультраправых). Упомянутая процедура имеет давние социальные корни
в идеологии протестантизма и культе индивидуального насилия
как наиболее действенного средства борьбы со всеми и
всяческими пороками; ее подкрепляют устойчивые
идейно-художественные каноны.
Вместе с тем насилие, разумеется, не было монополией
«правых». Не случайно многие критики усматривают симптомы
кризиса движения «новых левых» именно в левом экстремизме
и терроризме.
Действительно, волна «революционного» терроризма
поднялась за спадом политической активности «новых левых». Она
221
была последней отчаянной попыткой горстки экстремистов
насильственно «стимулировать» революционную ситуацию в
развитых капиталистических странах. В то же время с
хронологической точки зрения подъем этого терроризма был прямой
реакцией на ширившийся правый террор по отношению ко всем
леворадикальным силам.
«Теория» леворадикального терроризма опирается на
Бакунина, Кропоткина, Сореля и таких современных идеологов
«революционного насилия», как Ф. Фанон, Р. Дебре, Г. Маркузе и
другие. Абсолютизируя тактику насилия, они извращают саму
идею революционного насилия '. В результате левоэкстремист-
ские фейерверки служат сигналом для разгула правого
экстремизма и проведения репрессивных кампаний против всех
прогрессивных и демократических сил, как это случилось в ФРГ
во время полицейской охоты за членами «Фракции .Красной
Армии», когда «взбесившийся бюргер» громил студенческие
организации, а телевидение показывало все перипетии расстрела
«городских партизан» регулярными частями армии и полиции.
Пропагандистский шум, поднятый в буржуазной прессе по
поводу опасности «красного террора», служил одной цели —
оправданию правоэкстремистскои реакции. Эта опасность раздувалась
до тех пор, пока в каждом длинноволосом молодом человеке
обыватель не увидел потенциального повстанца и преступника.
Диалектика социально-политической борьбы, альтернативные
варианты использования насилия в интересах реакции или
социального прогресса, сближение крайностей «левого» и правого
терроризма, многоголосица теоретических истолкований и
практических акций «контестации» нашли специфическое
отражение и в западном искусстве.
Демонстрация насилия в художественном произведении
высвечивает проблему взаимодействия этического и эстетического
в новом ракурсе. Английский эстетик Сирил Бэррет так
формулирует возникающие здесь дилеммы: «Заключается ли цель ис-
1 Критику современных буржуазных концепций насилия
см. в кн.: Денисов В. В. Социология насилия. М., 1975.
222
кусства в том, чтобы произвести определенное впечатление на
аудиторию и по возможности изменить общество или, по
крайней мере, отношение отдельного индивида к теневым сторонам
нашей жизни? Может ли демонстрация насилия в искусстве
оказывать благотворное воздействие?.. Может ли изображение
насилия быть морально нейтральным с этической точки
зрения?» 1
Правильные ответы на эти вопросы могут быть даны только
на основе исследования взаимодействия объективного
содержания отражаемых в искусстве актов насилия с этической (и
политической) позицией автора и, далее, с реальным влиянием
произведения па аудиторию в конкретных социокультурных
условиях.
Сама по себе социальная активность искусства, как
позитивная, так и негативная, представляющаяся западным авторам
сомнительной, с точки зрения марксизма-ленинизма бесспорна.
И право на художественное отображение насилия — отнюдь не
результат объективистски-натуралистической установки
буржуазного сознания, как, например, в концепции такого крупного
эстетика, как Томас Манро2. Обращаясь к теме насилия,
художник, хочет он этого или не хочет, вводит свое произведение в
сложную систему социально-психологических опосредовании.
Так, ценностные установки контркультуры получили весьма
неожиданное косвенное подтверждение и подкрепление в
книгах, спектаклях и фильмах, авторы которых переносили акцент
с обличения преступления как такового на обличение
истеблишмента. На наш взгляд, это было в определенной мере связано
со специфической ситуацией конца 60-х годов, когда полиция и
власти уже не могли рассматриваться исключительно как
защитники «честных граждан» от преступников, а обнаружили
свой классовый характер неоднократными разгонами демонст-
1 Barret С. Art and Violence.— In: Achter Internationaler Kon-
gress fur Asthetik. Zusammenfassungen. Darmstadt, 1976, p. 9.
1 См.: Munro T. Art and Violence.— In: Actes du VI Congres
d'Esthetique. Uppsala, 1968, p. 21.
223
раций и забастовщиков, когда ФБР и ЦРУ скомпрометировали
себя преданным гласности вмешательством как в личную жизнь
американских граждан, так и в политическую жизнь других
стран. В этом контексте Новая популярность и актуальность
классического «гангстерского фильма» после успеха «Бонни и
Клайда» была вызвана отнюдь не только тенденцией к
живописанию насилия (как это иногда трактовалось и в нашей
печати), но в какой-то степени и необходимостью отразить, пусть в
иносказательной форме, новую ценностную ориентацию
общества (во всяком случае, прогрессивной его части).
Интерпретацию этой тенденции как «иносказания» современной ситуации
косвенно подтверждает широкое распространение в более
«либеральном» западноевропейском искусстве произведений,
критикующих полицию в-открытую, как, например,
демонстрировавшийся в нашей стране сатирический гротеск Элио Петри «Дело
гражданина вне всяких подозрений» (1969).
Свидетельством глубины нравственной переориентации
выступает и эрозия, которой подвергается самый устойчивый и
традиционный из американских жанров — «вестерн»,
представляющий собой развернутую, хотя и открыто не
сформулированную, мифологическую систему «доисторических времен»
завоевания Дальнего Запада. С этой точки зрения особенно
характерен роман Томаса Бергера «Маленький большой человек», где
была создана впечатляющая пародия на литературный
«вестерн» и на насаждаемые им стереотипы, вплоть до
разоблачения национального героя США генерала Кастера и разрушения
изнутри основ романтизации и мифологизации этой кровавой
эпохи.
Жанр «черного юмора», получивший широкое
распространение в американской литературе «критического десятилетия» и
представленный помимо Бергера такими именами, как Джозеф
Хеллер, Курт Воннегут, Филип Рот, Уильям Пинчон, давал
весьма специфическое перетолкование настроений, подчас
весьма близких к контркультуре. В отличие от публицистики,
впрямую обращавшейся к социально-политическим реалиям, здесь
ведущую роль играли стиль, авторская интонация, литератур-
224
ная обработка фактов. Отсюда и частое обращение, с одной
стороны, к историческим сюжетам, требующим переосмысления, а
с другой —к социальной фантастике (обе эти тенденции могли
быть сведены воедино, как, например, в знаменитой «Бойне
номер пять» К. Воннегута, 1968).
Морис Дикстейн справедливо подчеркивает в этой евязи:
«Романы черного юмора 60-х годов не только глубоко связаны с
историей, но и создают удивительные параллели истории своего
времени, не столько собственно в сюжетах, сколько в самом
стиле воображения. Ощущение странности и абсурда, смесь
фарса, насилия и истерии, которые мы находим в этих книгах,
можно обнаружить в войнах, бунтах, движениях, убийствах,
заговорах, а также в значительно более тонких и менее
зрелищных проявлениях духа 60-х» '. Размышляя о причинах
широчайшего успеха «Уловки-22» Дж. Хеллера, автор объясняет ее
массовым распространением отвращения к самым «священным»
буржуазным институтам, включая армию. «Точно так же, как
эскалация явилась ответом на антивоенный протест,— пишет
американский публицист,— а неудачи бомбардировок
компенсировались их усилением, стремление к большей честности в
обсуждении общественных проблем натолкнулось на расширение
рекламной деятельности и еще большую ложь»2. Протест
против институционализированного насилия, остро прозвучавший в
романе Хеллера, не мог не вызвать ответной реакции со
стороны аппарата буржуазной пропаганды, в том числе и в
соответствующих литературных произведениях, прославляющих дух
милитаризма и идею «американской исключительности». Эта
официальная тенденция, не прекратившая своего
существования со времен «маккартизма», отнюдь не ожидала
«контрреформации» для провозглашения правоты идей, столь
последовательно выраженных в печально знаменитом романе Р. Мура
«Зеленые береты» (1967). Таким образом, и здесь идеологическое
противоборство не укладывалось в рамки десятилетий.
1 Dicks tein M. Gates of Eden, p. 126—127.
2 Ibid., p. 117.
8 Зак. № 62
225
Сходные моменты легко обнаружить и в путях
идейно-художественной разработки тематики, связанной с ростом
преступности. В отличие от характерной для прогрессивного
искусства тенденции к выявлению социальных корней
правонарушений как порождения общественного устройства «новый»
консерватизм культивировал рассмотрение преступления как
аномалии, результата ущербности отдельных индивидов либо
человеческой природы вообще. Единственной причиной
распространения преступлений объявлялось попустительство и бездействие
властей. Главным методом борьбы — индивидуальное насилие,
то есть нарушение демократически установленного закона.
Такая постановка проблемы, характерная не для умеренных
консерваторов, а для крайних «ультра», обладала в
художественных вариантах преимуществом наглядной убедительности.
Тут небезынтересно вспомнить бывшего футболиста Бафор-
да Пассера, героя трех популярных песен-баллад,
романа-«бестселлера» У.-Р. Морриса «12 августа» и серии фильмов, начатой
лентой Фила Карлсона «Высоко идущий» (1973). Добившись
своего избрания шерифом округа Мак-Нейри (штат Теннесси),
Пассер использовал любые средства в борьбе с окружающей
«гнилью» — проституцией, азартными играми, контрабандой
и т. п., сокрушая всех и вся огромной двухметровой дубиной.
По возвращении из США французская журналистка Клер Клу-
зо писала: «Жизнь, легенда, фильм и мифология
взаимопроникают. Ибо фильм («Высоко идущий».— Авт.) представляет собой
подслащенную версию жизни Бафорда Пассера, что кажется
невозможным, учитывая разгул насилия на экране. Но об этом
узнаешь... увидев Пассера во плоти и крови, как я сама его
видела в северном квартале Буффало, где он рекламировал свой
фильм и одновременно самого себя. Дамы в слезах рвались
пожать руку «Бафорда», своего героя, который после шести
операций эстетической хирургии едва мог говорить, поскольку
челюсть у него была искусственная, а половина лица из силикатов.
Как можно устоять перед полицейским, восемь раз
расстрелянным, семь раз зарезанным, явившимся свидетелем убийства
собственной жены? Именно это и используют те, кто хочет видеть
226
Пассера губернатором штата Теннесси, да и он сам, не
скрывающий своих устремлений — политических или... полицейских,
что в данном случае одно и то же» '.
Бафорду Пассеру не удалось осуществить свои замыслы. Он
даже не успел, как собирался, сыграть самого себя в
заключительной части кинотрилогии, посвященной его судьбе. Фильм
«Высоко идущий. Последняя глава» вышел на экраны в 1977
году, уже после смерти своего героя, погибшего при
таинственных обстоятельствах. Но уход из жизни одного «защитника
порядка» отнюдь не означает конца тенденции, которую он
столь ярко представлял.
В этой связи интересна мысль, высказанная американским
историком К. Маквильямсом, о «мистическом» параллелизме
морального климата в стране накануне 100-летия и накануне
200-летия США, то есть в 1876 и в 1976 годах (на 1876 год
приходится «расцвет» судов Линча)2. Проблема индивидуального
насилия, действительно, имеет в США давние истоки («вестерн»
и эпоха завоевания Запада) и устойчивые традиции. Характерно,
что эта черта национального характера, как правило,
подвергалась критике авторами либерального толка. В качестве
доказательства приведем суждение Ханны Арендт: «Америка в силу
исторических, социальных и политических причин в большей
степени склонна к насилию, чем любая другая страна», и далее:
«Насилие — взятие законопроизводства в свои руки — является
в Америке... следствием фрустрации властей» 3.
На первом этапе «фрустрация» породила тенденцию к
реабилитации эксцессов ФБР и полиции. «Бонни и Клайду» может
быть противопоставлен «Диллинджер» (1973) Джона Милиуса,
посвященный не столько знаменитому гангстеру, сколько гимну
во славу захватившего его агента ФБР. Эта картина знаменует
возвращение на новом витке спирали к традиционным концеп-
1 С 1 о u z о t С. Voyage chez les flics, les retrogrades et les pos-
sedes.— «Ecran 74», N 24, p. 18.
2 См.: McWilliams C. Thoughts on the
Bicentennial.—«Nation», 1975, 12 Apr.
3 Values Americans Live by. New York, 1974, p. 323.
8*
227
циям 50-х годов, напоминая, в частности, панегирик Эдгару
Гуверу в «Истории ФБР» (1959). В сугубо охранительном романе
(написанном бывшим полицейским Джозефом Вэмбо) «Новые
центурионы» (1971) и поставленном по его мотивам одноименном
фильме (1972) в основу сюжета положена мысль, что лучше
случайная смерть невиновного человека от руки полицейского,
нежели смерть самого полицейского, патетически названного
«новым центурионом». Перед лицом этого открытого
прославления «сил закона и порядка» нельзя не напомнить
принципиальную ленинскую оценку буржуазной полиции. В. Й. Ленин
писал: «Будучи отделена от народа, образуя профессиональную
касту, составляясь из людей, «натасканных» на насилии
против беднейшего населения, из людей, получающих несколько
повышенную плату и привилегии «власти» (не говоря о
«безгрешных доходах»), полиция в каких угодно демократических
республиках неизбежно остается, при господстве буржуазии, ее
вернейшим орудием, оплотом, защитой» К
Идеологические цели апологетики «вернейшего оплота
буржуазии» очевидны. С критикой полиции дело обстоит сложнее.
Так, в фильме «Буллит» Питера Йейтса (1968) и в книге Питера
Мааса «Серпико», экранизированной в 1973 году Сиднеем Лю-
метом, полицейский-одиночка, самоотверженно выполняющий
свой долг, служит не символом, а антитезой подкупному
полицейскому аппарату, покрывающему влиятельных преступников.
Это безусловно критика «слева».
На первый взгляд лента Дона Зигеля «Грязный Гарри» (1972)
сходится с этими картинами в оппозиции героя полиции. Но
преступник выбирается совсем иной — убийца-психопат, да еще
молодой, вроде бы бунтарь, и мешает его уничтожить не
коррупция, а само законодательство — в середине фильма
схваченного убийцу отпускают на свободу, так как признался он под
пыткой («грязный Гарри» любой ценой должен был узнать, куда
он скрыл похищенную девушку, которую, впрочем, все равно
спасти не удается) и оружие у него найдено в результате взло-
1 Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 32, с. 25.
228
ма помещения без соответствующего ордера, то есть эти (в
глазах зрителя, конечно, неопровержимые) доказательства не
имеют силы перед судом. Иначе говоря, закон покровительствует
преступнику. И когда в конце фильма герой все-таки его
убивает, финальный жест — отказ от полицейского значка — звучит
как вызов «несовершенному» законодательству и переход на
позиции, в сущности, того же «суда Линча».
Однако «грязному» Гарри Каллагэну (в исполнении одного
из популярнейших ныне на Западе актеров-режиссеров — Клин-
та Иствуда) не удалось покинуть ни полицию, ни экраны.
Кинопромышленники угадали ту роль в политической борьбе,
которую ему и ему подобным суждено сыграть. Все так же
оказываясь не в ладах с законом и со своим руководством, этот
«неоконсервативный герой», которого иные обозреватели не без
основания называют фашистом, придерживается прежних
методов, а фигуры его противников обретают подчас и более
социально конкретные очертания. В одном из последующих
появлений Гарри на экране ему приходится бороться с
террористической организацией, преимущественно состоящей из молодых
людей, называющих себя «революционерами». Заглавие этой
картины «The Enforcer» (1976) обращено к герою как к живому
воплощению принципа «to enforce», словарные значения
которого представляют собой своеобразную антологию «новой
консервативной волны»:
1) принуждать, заставлять;
2) навязывать;
3) проводить в жизнь закон;
4) усиливать.
В основе этого перечня остается насилие, ставшее не только
излюбленным материалом искусства, отстаивающего
консервативные идеалы, но и его эстетическим кредо. Эффект «эстетики
насилия» базируется на неизбежности однозначной
психофизиологической реакции на убийства, изнасилования,
надругательства над человеком. Чем более подробно и натуралистично
показывается жестокость, тем выше сила воздействия.
Произведения подобного рода опираются на упрощенный механизм вос-
229
приятия, тяготеющий к принятию искусства за
действительность, отнюдь не затрагивая при этом обособленности
внутреннего мира рассказа. Свойственные контркультзгре нарушение
границ художественной деятельности, свободное игровое начало
«эстетике насилия» строго противопоказаны.
Она не приемлет и чрезмерной эстетизации, превращающей
драки и избиения в некое подобие балета, как, например, в
некоторых эпизодах знаменитого фильма Стэнли Кубрика
«Механический апельсин» (1971), поставленного по одноименному
роману Энтони Берджеса, изданному в 1962 году. Точно так же
как дуэли в авантюрных романах, кулачные бои и перестрелки
в классическом «вестерне», смертоносная техника книг и
фильмов о Джеймсе Бонде отнюдь не несут на себе изначального
отпечатка насилия над читателем и зрителем, хотя в ряде
случаев и отстаивают представления, близкие к консервативным.
Открытая условность ситуаций и их разрешения препятствует
здесь проявлению безусловных рефлексов, «подключаемых»
лишь резким нарушением «законов жанра» в сторону
физиологического натурализма.
Насилие и секс в искусстве характеризуются, помимо общего
для них коммерческого потенциала, и постоянным смещением
«порога допустимого» по мере того, как аудитория привыкает
к тем или иным новшествам и соответственно перестает
обостренно на них реагировать (и платить за них деньги). Именно
этот механизм и порождает постоянную эскалацию жестокости
и непристойности в западном искусстве.
Что касается идеологической направленности разработки
тематики насилия, то она существенно отличается от
рассмотренных выше трансформаций «сексуальной революции», в первую
очередь программной заданностью реакции. Авторы, как
правило, не оставляют ни малейшей свободы выбора моральной
альтернативы, что было столь свойственно сугубо интеллигентскому
подходу, характерному для контркультуры. Инстинктивное
неприятие жестокости, как мы видели, неумолимо побуждает
читателя или зрителя к солидарности с силами реакции, якобы
единственно способными восстановить справедливость,
230
Ставка на «эффект достоверности» закономерно приводит it
преобладанию в воплощениях «эстетики насилия»
псевдобезусловности кино и телевидения над неизбежно опосредованными
литературными описаниями или даже наглядно игровыми
театральными представлениями. Не случайно также, что в центре
сюжета многих произведений этой направленности оказывается
изнасилование — наглядное опровержение «сексуальной
революции», а то и жестокая расплата за нравственную раскованность.
Так, в фильме Лэмонта Джонсона «Губная помада» (1978)
жертвой изнасилования становится манекенщица, профессия
которой в том и состоит, чтобы возбуждать желание
многомиллионной аудитории рекламных панно. Насильник — молодой
музыкант, «любимый учитель» совсем еще юной сестры героини
(обеих сестер играют внучки Хемингуэя), увлекающийся
опытами цветомузыки (вот и прямое обличение контркультуры —
«странные» художественные опыты как симптом сексуальной
патологии!). Разумеется, правосудие и тут оказывается на
страже разврата — присяжные охотнее верят выдвинутой
обвиняемым версии об извращенности манекенщицы, которая якобы
«сама этого хотела».
Чтобы окончательно и бесповоротно дать ей моральное
право взять на себя функции судьи и палача, авторы заставляют
музыканта наброситься и на младшую сестру. Усугубленное и
этим актом вандализма нервное напряжение зрителей может,
наконец, найти естественную разрядку в зрелище героини, в
ярко-красном платье срывающейся прямо с очередной
рекламной съемки и в упор расстреливающей «интеллигента». А под
занавес за кадром звучит голос женщины-прокурора,
требующей оправдания обвиняемой во имя (цитируем!) «закона и
порядка».
Разумеется, было бы глубоко ошибочно сводить к этой
тенденции любое обращение к теме насилия. Не случайно ее
обертоны часто звучат в Западной Европе иначе, нежели в США, что
опять-таки доказывает идеологическую обратимость сходных
структур. В качестве доказательства достаточно сослаться на
повесть Генриха Бёлля «Поруганная честь Катарины Блюм», по
231
которой был создан фильм, демонстрировавшийся на наших
экранах (1975). Героиня — молодая, ничем не примечательная
домработница — влюбляется в террориста, за которым наблюдает
полиция, и проводит с ним ночь. Наутро в квартиру врываются
полицейские, ее личная жизнь становится объектом
фальсификации со стороны «желтой прессы». Чувствуя собственное
бессилие и бессилие своих друзей, она находит только один
выход— убивает журналиста, столь беспардонно использовавшего
«свободу печати», и вновь встречается с возлюбленным, но уже
в тюрьме. Это произведение (его тема, безусловно, навеяна
акциями «левого» терроризма) выдающимся явлением делает
точно найденный образ главной героини —не революционерки и
«профессиональной» экстремистки, а рядовой женщины с
улицы, которую сама жизнь сталкивает с необходимостью выбора,
пусть политически неправильного, но психологически точно
обоснованного.
Теперь сравним Катарину Блюм с героем картины Майкла
Уиннера «Жажда смерти» (1974), «мирным» архитектором,
который после злодейского нападения на жену и дочь объявляет
войну преступному миру и становится «любимцем публики».
Как этот наступательный оптимизм супермена далек от
безнадежного жеста доведенной до крайности домработницы!
Старательное соблюдение «правил игры» — архитектор никогда не
наносит первый удар, хотя чаще всего провоцирует нападение —
служит обоснованием этой действительной апологии насилия.
Таким образом, демаркационная линия прогрессивных и
реакционных тенденций в искусстве пролегает не по ту сторону
индивидуального насилия, которое может быть и
революционным и контрреволюционным, а находится в самой сердцевине
художественного образа, более в побудительных причинах,
нежели в результатах действия (террор, как известно, еще никогда
не приводил к победе революции).
В связи с этим возникает вопрос о диалектике социальной
роли искусства, о мере его влияния на общественную жизнь.
Мы уже неоднократно сталкивались с превратным толкованием
активности художественного творчества как главного, если не
232
единственного, фактора кризиса —будь то духовный кризис
капитализма в целом или его конкретные проявления. Этот
тактический ход, выработанный «новыми» консерваторами всех
мастей, был в первую очередь направлен на дискредитацию
прогрессивного искусства, критический пафос которого грозил
подорвать сами устои капиталистического общества, что,
естественно, казалось его апологетам грядущим Апокалипсисом.
С этой точки зрения знаменательна дискуссия по вопросам
общественной роли киноискусства, в которой в 1978 году
столкнулись представители французской и итальянской творческой
интеллигенции, придерживающиеся принципиально различных
позиций.
Дискуссия эта началась с публикации в парижском
еженедельнике «Ле Пуэн» статьи французского критика Пьера Бийара
под названием «Кино вне всяких подозрений?» *, в которой он
обвинял прогрессивное политическое кино Италии в том, что
оно якобы невольно способствовало расцвету в стране
политического терроризма (в частности — «Красных бригад»,
ответственных за убийство Альдо Моро). По его мнению, это
«пособничество» выразилось прежде всего в том, что, критикуя правящий
класс, власти, бизнес, полицию и т. п., обвиняя их в коррупции,
взяточничестве, продажности, политические кинофильмы Элио
Петри, Дамиано Дамиани, Уго Пирро, Франческо Рози внушали
зрителям нигилистическое отношение к институтам буржуазной
демократии, что в свою очередь породило феномен левоэкстре-
мистского терроризма2.
Статья Бийара вызвала широкую реакцию в итальянских
кинематографических кругах. В частности, итальянский журнал
«Экспресс» напечатал ответную статью критика Валерио Рива
и довольно резкий отклик Франческо Рози на обвинения Бийа-
1 «Le Point», 1978, 1 Mai.
2 Характерно, что сходные обвинения иногда адресовались
И прогрессивным западным писателям. Анализ
общественно-литературной ситуации в Италии, в частности в связи с «делом
Моро», см.: К и н Ц. Романы трагического года.— «Вопр. лит.»,
1979, № 1.
9 Зак. № 62
233
pa. Кроме того, в «Экспрессе» была опубликована стенограмма
диспута, проведенного редакцией журнала, между Бийаром и
кинематографистами Дамиани, Петри и Пирро.
Итальянские кинематографисты заявили, что, по их мнению,
роль художника в общественной жизни должна заключаться не
в охранительной апологетике существующего социального и
политического строя капитализма, а в выявлении и критике его
кризисных явлений, показе общественной несправедливости и
загнивания «верхов». Они категорически отвергли обвинения
Бийара и подчеркнули, что терроризм «Красных бригад»
является лишь оборотной стороной действительно присущих
капиталистическому обществу противоречий и пороков, в
разоблачении которых они видят смысл своего творчества *.
В отрыве от конкретной идейно-политической ситуации,
сложившейся в развитых капиталистических странах, можно
было бы, вероятно, найти веские аргументы и в пользу позиции
Бийара, коль скоро он говорит о значительном влиянии
искусства на общественное мнение и общественную практику. Более
того, в по-своему неизбежной непоследовательности иных
мнений, высказанных в ходе обсуждения итальянскими
художниками, можно усмотреть и симптом кризиса политического кино
Запада2. Однако, на наш взгляд, сам факт этой дискуссии,
скорее, свидетельствует о пугающем «новых» консерваторов росте
социальной активности прогрессивного искусства, что по-своему
отражает неуклонное расширение масштабов
антиимпериалистической борьбы. Как свидетельствует пропагандистская
кампания по обличению так называемого международного
терроризма, развязанная на Западе по прямой указке Белого дома,
империалистические крути обвиняют в распространении
терроризма то левую творческую интеллигенцию, то национально-
освободительные движения, а то и мифическую «руку Москвы».
1 «L'Espresso», 1978, 14 Mag.
2 См.. Караганов А. Кризис политического кино? —
«Иностр. лит.», 1979, № 2.
234
Нетрудно заметить, что в охранительной расстановке
акцентов, в критике буржуазной демократии «справа» средства
массовой информации и массовые виды искусств оказываются
значительно более активными, чем в пропаганде идеалов
контркультуры. «Эстетика насилия» над аудиторией, получившая в
последнее время весьма широкое распространение, усилила
силу эмоционального воздействия и способствовала внушению
представлений, которым разум мог и противиться. Что бы ни
говорили идеологи «нового» консерватизма, возлагая на
искусство ответственность за «развращение» молодежи, в условиях
господства буржуазии экран и популярная беллетристика
подчинены идеологическим задачам в первую очередь. Там, где
театру, поэзии или живописи оставляется весьма иллюзорное
«свободное» пространство, кино, ТВ и массовая печать
испытывают максимальное давление со стороны «власть имущих» К
Это, разумеется, отнюдь не значит, что здесь невозможно
появление прогрессивных произведений, рассматривающих
острые социальные проблемы. Только судьба таких художников
и таких произведений оказывается особо сложной.
Социальные проблемы и социальная активность искусства
Казалось бы, общественная активность искусства в первую
очередь должна проявиться в анализе острейших социальных
проблем, порожденных экономическим и идейно-политическим
кризисом современного капитализма. Однако в силу
специфического положения искусства в буржуазном обществе реальная
художественная практика убеждает в обратном.
Как мы видели, в фокусе художественных интерпретаторов
и пропагандистов как контркультуры, так и «нового»
консерватизма оказались вопросы религии и нравственности, конфликты
1 На материале литературы этот аспект получил освещение
в статье В. Молчанова «Война против разума (Буржуазная
пропаганда и искусство)» («Вопр. лит.», 1978, № 7).
9*
235
внутри самосознания интеллигенции, в то время как рабочее
движение, актуальные аспекты социального неравенства,
эксплуатации, расовой дискриминации оставались «на периферии»,
будучи, скорее, достоянием социологов и публицистики (более
или менее художественной).
И все же в рассматриваемых феноменах на пересечении
идеологии, политики, культуры и искусства иной раз ярко и
своеобразно проявляются особенности художественной
трактовки главных социальных проблем и специфически
направленного участия искусства в их решении 1.
Разумеется, ведущее место здесь принадлежит тенденциям,
связанным с контркультурой, коль скоро она включала в себя
влиятельные элементы негритянского и женского движения, а
некоторые ее представители, правда, не всегда успешно и
последовательно, стремились к установлению контактов и с рабочим
классом.
Советские обществоведы подробно анализировали достаточно
сложные взаимоотношения, сложившиеся в 60-е годы между
молодежным и рабочим движениями. Их главные выводы
сводились к тому, что попытки западных идеологов разных
направлений противопоставить студенчество и интеллигенцию
пролетариату могли привести (и приводили на практике) лишь
к расколу в рядах антикапиталистических сил, в то время как
курс на создание единого фронта против буржуазных
монополий был и остается теоретически верным и практически
действенным. Вместе с тем реальная ситуация идеологической
борьбы на Западе на рубеже 60—70-х годов отличалась кричащими
противоречиями в позициях потенциальных, но непоследова-
1 Авторы, разумеется, отнюдь не ставят перед собой цели
проанализировать пути разработки социально-политической
тематики в западном искусстве в целом. Это задача цикла
специальных исследований (см., например, кн.: Искусство и общество.
М., 1978; Юткевич С. И. Модели политического кино. М., 1978,
и др.). Мы же останавливаемся на ряде существенных аспектов,
характеризующих отношения между художественной практикой
и рассматриваемыми общественно-политическими течениями.
236
тельных союзников рабочего класса, не говоря о
принципиальных разногласиях между марксистско-ленинским авангардом и
правыми и «левыми» ревизионистами внутри самого рабочего
движения 1.
Попробуем кратко проследить специфику преломления этой
противоречивой идеологической ситуации в решении темы
рабочего класса, темы, для контркультуры в целом
периферийной, однако принципиально важной для оценки с наших
позиций ее леворадикального крыла в перспективе союза левых сил.
Поскольку в США эта тематика как таковая в интересующий
нас период не нашла достаточного отражения, обратимся к
нескольким типичным примерам из опыта западноевропейского
искусства2.
Среди предвестников контркультуры в литературе,
драматургии и кинематографе не случайно называют английскую
группу «сердитых молодых людей», заявившую о себе во
второй половине 50-х годов. Анализируя творчество Алана Силли-
тоу, Кита Уотерхауза, Дэвида Стори, английский критик Уолтер
Аллен не случайно подчеркивает: «Все они родились в семьях
промышленных рабочих и если даже, получив образование,
подкидали свою среду, то тем не менее в каком-то смысле
оставались на позициях пролетарского сознания»3. Действительно,
романы Силлитоу «В субботу вечером и в воскресенье утром»
1 См., в частности: Пономарев Б. Международное
значение Берлинской конференции.— «Коммунист», 1976, JSfe 11; Его
ж е. Перед историческим выбором.— «Коммунист», 1976, № 17;
а также: Тимофеев Т. Т. Рабочий класс в центре идейно-
теоретического противоборства. М., 1979.
2 «Америка — единственная в мире страна, в которой
официально существует только один класс — средний,— пишет Ф. Бо-
носки.—...Единственными фильмами, которые с симпатией
изображали жизнь американских рабочих, как ни странно, а быть
может, и не так уж странно, были фильмы, отснятые в Европе.
Первый —«Джо Хилл» (1971) —в Швеции, второй — «Сакко и
Ванцетти» (1971) — в Италии» (Указ. соч., с. 197—198).
3 Аллен У. Постскриптум к «Традиции и мечте».—
«Иностр. лит.», 1977, № 12, с. 211.
237
(1958) и «Ключ от двери» (1961) и «Такова спортивная жизнь»
(1960) Стори привлекли внимание общественности к судьбам
представителей рабочего класса. И хотя скрытая
автобиографическая основа некоторых романов приводила к акценту на
«выходе из среды», реалистические картины жизни простого
народа, программно, как и в иных по тематике драмах Джона
Осборна, противопоставленные господствующим
художественным стандартам, знаменовали новый качественный рубеж
прогрессивного искусства Запада. Общественный резонанс
произведений этого типа еще более возрос в 60-е годы после появления
экранизаций «В субботу вечером и в воскресенье утром» (I960)
Карела Рейсца, «Одиночество бегуна на длинные дистанции»
(1962) Тони Ричардсона по Силлитоу, «Такова спортивная жизнь»
(1963) Линдсея Андерсона и ряда других кинолент.
«Волна» рабочей темы в Англии оказалась относительно
недолговечной, однако ее влияние сказалось на дальнейших
судьбах и национальной литературы и искусства других
западноевропейских стран, особенно в связи с изменениями в ценностной
ориентации определенных слоев общества, вызванными
подъемом массового антикапиталистического движения.
Произведения прогрессивных художников, посвященные жизни и борьбе
рабочего класса, в конце 60-х годов уже не замалчивались
прессой, а, наоборот, рассматривались как знаменательное явление
современного искусства. При этом критики-коммунисты, как
правило, с сожалением отмечали, что оно еще не получило
полного развития.
Особенно ярко изменившаяся ситуация сказалась на
культуре и искусстве Франции до и после «студенческой революции»
1968 года. В 1965 году был выпущен роман Андре Ремакля
«Время жить», рассматривавший экономическую кабалу, в
которую попадает рабочий капиталистического предприятия,
стремящийся достичь стандарта «среднего благосостояния».
Критический пафос произведения был несомненен. Однако пассивный
крах героя, не сумевшего рассчитать затрату своих сил,
несколько сглаживал социальную активность авторской позиции,
вводя сюжет в привычное русло мелодрамы. Вместе с тем имен-
238
ilo мелодраматичность способствовала широкому успеху как
романа, так и его экранизации, созданной в 1969 году Бернаром
Полем.
Известное «опоздание» кино по сравнению с литературой не
случайно. Его истоки кроются не только в самом факте
обращения к первоисточнику («Истории любви», как мы видели, это
не помешало), но и в строгом контроле промышленников над
более массовым большим экраном и в большей зависимости от
пристрастий аудитории. Только «мода на политику»,
сопутствовавшая повышению общественной активности, позволила,
например, тому же Полю экранизировать в 1972 году роман Роже
Вайана «Бомаск», изданный еще в первой половине 50-х годов.
Наряду с обращениями к прогрессивной литературе в
киноискусстве Запада создаются и оригинальные произведения на
остросоциальные темы, подчас более действенные, чем
соответствующие повести и романы.
В качестве примера тут можно привести фильм Рене Аллио
«Пьер и Поль», вышедший на экраны Франции почти
одновременно с «Временем жить». Знаменательно, что здесь намеренно
введен момент бунта, порожденного сразу несколькими
обстоятельствами: смертью отца героя, внезапной переменой образа
жизни и связанным с ней безнадежным увеличением задолж-
ности. Так данное, индивидуальное, субъективное выступает
как результат объективных закономерностей социального
развития. Финал картины, когда герой, наконец, осознав свое
бессилие перед «обществом потребления», запутавшись в кредитах,
в приступе ярости громит столь дорого ему обошедшуюся новую
квартиру и стреляет в толпу, достигает того трагического
напряжения, при котором зритель осознает, что этот безумец на самом
деле обрел рассудок, понял, что он в западне. А сопоставление
этой концовки с «Майской революцией» открывает горизонты
еще более сильного общественного звучания фильма.
Сам Аллио так определял его смысл: «Вполне очевидно, что
одним фильмом или даже десятком общества не изменить!
Революции с помощью искусства не совершить, верно, однако
можно отдельными произведениями искусства затронуть ауди-
239
торию, заставить ее обратить внимание на определенные
проблемы. Горький не совершил революции в 1917 году, но тем, что
он писал, он способствовал ее осуществлению» *. Тем самым
названные художники доказывают одновременно свою
приверженность к социальной тематике и стремление работать в
рамках буржуазного художественного производства, чтобы, по
словам Б. Поля, «обращаться к максимальному числу зрителей»2.
В интервью, откуда взяты эти слова, режиссер отмечает и
неизбежную ограниченность такого подхода. Однако отрицать
значение подобных произведений только на том основании, что
они составляют часть официальной «системы», как это делают
иные идеологи контркультуры, вряд ли правомерно. Как
справедливо отмечает критик-марксист Жан-Патрик Лебель, «тот,
кто с отвращением морщился по поводу фильма Бернара Поля
«Время жить», обвиняя его в поверхностности эстетических
эффектов и своеобразной сентиментальной демагогии, не принял
во внимание специфическую для этого произведения
идеологическую целенаправленность и не судил о нем в зависимости
от поставленной цели и от тех необходимых формальных и
идеологических ограничений, которые автор открыто принял»3.
С точки зрения определения общественной роли искусства
интерес представляет дискуссия, разгоревшаяся на рубеже 60—
70-х годов во Франции между режиссером Мареном Кармицем
и критиком Паскалем Боницером. Кармиц утверждал: «Чтобы
донести содержание фильма до максимального количества
зрителей, нужно добиться показа в существующих коммерческих
кинотеатрах, а соответственно прежде всего обеспечить
нормальный выход фильма на парижские экраны», и далее «было
бы левачеством игнорировать реальность зрителей»4. Критик
парирует: «Естественно, режиссер умалчивает о том, что эта
«реальность зрителей» есть реальность призрака. Если претен-
1 «Cinema 69», N 137, р. 25.
2 «La Revue du Cinema», 1973, N 270, p. 50.
3 Lebel P. Cinema et ideologie. Paris, 1971, p. 87.
4 «Cinema 70», N 147.
240
дующий на революционность фильм открыто не стремится
обращаться к определенным классам, он неизбежно подменяет
понятие классовости мифической «реальностью зрителей» —
бесформенного сборища людей, пришедших в кино посмотреть
«не то, что им обычно показывают» (Кармиц), то есть, как
обычно, чтобы отвлечься. «Донести содержание до максимального
количества зрителей» как аргумент обладает как бы двойным
дном: 1) Речь идет о том, чтобы быть показанным в обычной
киносети; 2) Следовательно, надо делать «нормальный», то есть
коммерческий художественный фильм. А потому и безопасный,
так как требования коммерции несовместимы с призывом к
революции» *.
Эта позиция вводит нас в круг идей «левых» экстремистов,
занявших в западном искусстве достаточно значительное
место. В книгах, журналах, на сценах и экранах стран Запада
отразились, опять-таки как косвенный результат «студенческой
революции», и увлечение «революционностью» во что бы то ни
стало, и анархо-синдикализм, и специфически перетолкованные
западной интеллигенцией маоистские концепции. При этом
между различными группировками и даже внутри них не
прекращались споры по поводу той или иной концепции, того или
иного произведения.
В этой перспективе и следует рассматривать критику фильма
Кармица «Товарищи» (1970), бесспорно отмеченного «левыми»
перегибами, Боницером, одним из ведущих авторов журнала
«Кайе дю синема», редакция которого в тот период уже
тяготела к маоизму. И все же, несмотря на крайность своих
позиций, Боницеру удалось уловить основной изъян произведения:
«Вообще энтузиазм по поводу «Товарищей» является ярчайшим
примером политической мистификации, обманувшей как будто
на этот раз абсолютно всех, если судить по реакции со всех
сторон (что само по себе знаменательно), и это несмотря на
чудовищную недосказанность, тем более принимая во внимание
сюжет,— абсолютное отсутствие любой ссылки на рабочие проф-
1 «Cahiers du Cinema», 1970, N 222, p. 34.
241
союзы, в то время как фильм якобы посвящен рабочим
проблемам: как бороться против угнетателей, чрезмерной
интенсивности труда, мастеров, увольнений и т. д.» ].
Но что же противопоставлялось творчеству Кармица на
страницах того же журнала? Новое «неоавангардистское»
политическое искусство, основанное на «деконструкции» и
«дистанцировании».
Представление о «разрушении языка» как единственном
методе революционного преобразования общества зародилось не
в кино, а в литературе и литературоведении структуралистской
ориентации среди радикально настроенной творческой
интеллигенции. Если термин «дистанцирование» генетически восходил к
брехтовскому «очуждению» и касался трансформаций
традиционных отношений между зрителем и зрелищными формами
творчества, то принципы «деконструкции» были
сформулированы применительно к словесному искусству в рамках весьма
утонченной и эзотерической теории, подробное рассмотрение
которой далеко выходит за рамки этой книги2. Отметим лишь
общую идейно-художественную направленность, объединившую
представителей этого неоавангардистского течения независимо
от материала, в котором им приходилось воплощать свои
представления о «подлинно революционном» искусстве. Ее суть
была весьма точно сформулирована во французском журнале
«Тель Кель»: «Лучший способ разрешить противоречие между
авангардистским текстом и революционным действием —
обострить его до предела... Чем дальше своей радикальной новизной
и затрудненностью тексты определенной группы писателей будут
отстоять от норм среды (литературной, идеологической,
социальной), где происходит борьба, тем вернее эта группа писателей
добьется союза с борющейся массой трудящихся» 3. Утопический
1 «Cahiers du Cinema», 1970, N 222, p. 35.
2 См.: Балашова Т. Методология «новой критики».— В кн.:
Теории, школы, концепции (Критические анализы).
Художественный образ и структура. М., 1976.
3 См. там же, с. 106.
242
характер такого «единения через радикальное разъединение»
вряд ли нуждается в доказательстве.
Тем более парадоксально, что идеи «деконструкции» нашли
весьма широкую поддержку (и неоднозначное воплощение) в
кино, прямо ориентированном на массовую аудиторию. Правда,
искусство экрана восприняло концепции литературоведов
достаточно упрощенно. Не имея такого развитого аппарата
исследования «аудиовизуального языка», каким обладает современная
структурная лингвистика, теоретики и практики кино толковали
«деконструкцию» как любое разрушение логики повествования,
а «дистанцирование» как эксплицитное выявление условности
происходящего. Эта установка приводила к особенно
парадоксальным результатам в тех случаях, когда произведения, на
ней основанные, касались острых социальных проблем.
Различие между традиционной и неоавангардистской
трактовками такой характерной для радикального крыла
контркультуры темы, как «забастовка», четко обнаруживается при
сравнении двух картин 1972 года: «Ударом на удар» того же
Кармица и «Все в порядке» Жан-Люка Годара и Жан-Пьера
Горена. Обе они сделаны с позиций «левого» радикализма.
Авторы выступают против Всеобщей конфедерации труда и
Французской коммунистической партии, которые якобы отстали от
современных требований рабочего движения, ибо отрицают
«энергичные» методы забастовки (в обоих случаях —
насильственный захват владельца предприятия).
На этом сходство кончается. «Ударом на удар» намеренно
построен как почти документальная хроника забастовки. Кар-
миц и его сотрудники систематически акцентировали роль
настоящих работниц (дело происходит на швейной фабрике) в
создании этой картины. По их словам, работницы были
соавторами съемочной группы почти во всем: от написания текста до
актерского исполнения и критики отснятого материала. Но,
подчеркивая это участие, Кармиц забывает об одном
принципиально важном моменте — своей авторской концепции,
основанной на ложных посылках. Его героиня с ходу утверждает
неправомерность методов ВКТ и сразу примыкает к группе эк-
243
стремистов. Необоснованность тактики ВКТ, базирующейся на
переговорах без применения насилия, ничем не доказывается, а
сами ее представители выведены достаточно карикатурно.
Таким образом, по своей политической направленности внутри
рабочего движения фильм по крайней мере не убедителен.
Сила его воздействия заключена не в этом, а в точно
подмеченных деталях, верно переданной атмосфере солидарности
забастовщиц и редких для французского кино типажах (ведь
недаром в большинстве ролей, не считая, естественно,
представителей профсоюза, снимались непрофессионалы).
Однако именно документальность была поставлена автору в
вину. Ей «еще более левые» критики противопоставляли
экспериментальный характер фильма Годара, его намеренный выход за
рамки правдоподобия, включение эпизодов, между собой
логически не связанных и объясняемых только искусственным
характером самого кинозрелища К «Все в порядке» по своему
построению, как об этом свидетельствовали и критика и сам
автор, не доходит до крайностей абстракции, свойственной его
«подпольным» картинам. Тем не менее Годар не изменяет
принципам своей «новой» эстетики, хотя и приспосабливает ее к
условиям коммерческого кинематографа, снимая в главных
ролях двух известнейших кинозвезд: Ив Монтан и Джейн
Фонда играют интеллигентов, вовлеченных в процесс классовой
борьбы.
Фильм прочитывается как бы в трех планах: исповеди
художника (устами Монтана Годар объясняет, почему он когда-то
принял решение уйти из официального кинематографа и почему
теперь вновь решил вернуться), фарса на тему о забастовке
(кульминационный момент тут составляет эпизод, когда
хозяину упорно не дают возможности попасть в туалет) и
символического разрушения «общества потребления», воплощенного в
эпизоде разгрома большого универсального магазина
самообслуживания. В целом все художественные приемы призваны
шокировать зрителя, взбудоражить его и заставить усомниться как
1 См.: «Cahiers du Cinema», 1972, N 238/239.
244
в собственной разумности, так и в разумности всего
буржуазного миропорядка. Однако цели этой автор не достигает.
Это замечают и леворадикальные теоретики, разделяющие
принципиальные заблуждения Годара. Так, сравнивая фильмы
французского режиссера с американской политической
картиной «Вехи», поставленной в 1975 году Робертом Креймером и
Джоном Дугласом, философ и социолог Жак Рансьер пишет:
««Вехи» могут непосредственно дать слогю американским
левым, дать им возможность рассказать свою историю. Фильм
создан в пределах культуры, где рассказ о путешествии от лица
его участников кажется вполне естественным. Вопрос об
искусственности «представления» как такового здесь просто не
возникает. И все же создается ощущение какого-то обмана,
поскольку показаны вполне реальные люди, разговоры которых
камера просто регистрирует, и одновременно они введены в
очевидно вымышленный сюжет, символизирующий надежду
(фильм завершается длительным эпизодом документально
запечатленных родов, приобретающих ритуально-мифологическое
звучание.— Авт.). Годар, наоборот, отказывает левым в
возможности рассказать какую бы то ни было историю. Он радикально
разоблачает все обманы любого рассказа левых, тем самым
лишая их возможности размышления о политической истории.
Политический текст как бы изначально отсылается к
собственной ложности, неизбежному соучастию с традиционными
формами воздействия власти и капитала. Урок этот имеет
решающее значение, но в одном аспекте все же представляется
сомнительным: вроде бы нам предлагается пропедевтика, вопросы
(как воздействует звук, изображение и т. д.) должны научить
нас видеть, а затем бороться. Однако на деле возникает
ощущение конца, совы Минервы, вылетающей, когда приключение
окончено» !.
Тем не менее конкурирующие «левые» направления —
традиционное и неоавангардистское — смыкаются в политических
заблуждениях авторов, что для художников — выходцев из мел-
1 cCahiers du Cinema», 1976, N 268/269, p. 9.
245
кобуржуазной среды не удивительно. Причем только
направление, основанное на разрушении «системы» строения и
восприятия произведения (то есть в этом аспекте и Годар и
«Вехи»), может быть отнесено к «чистой» контркультуре.
Противоречивость самого этого понятия и непоследовательность тех, кто
объявляет себя его приверженцами, в значительной мере
способствует негативному политическому воздействию
произведений типа «Все в порядке» и «Ударом на удар». На их примере
это наиболее очевидно, поскольку центральной темой
французские режиссеры избрали борьбу рабочего класса.
Вместе с тем, каковы бы ни были субъективные
заблуждения авторов только что рассмотренных произведений, их
принципиальное утверждение революционной силы рабочего класса
бесспорно противостоит ее отрицанию как в рамках
контркультуры, так и в тех концепциях буржуазных социологов, в
которых подчеркивается псевдоконсервативность современного
рабочего, перешедшего в результате экономического подъема 60-х
годов из разряда «неимущих» в категорию «имущих».
Эта последняя позиция для современной буржуазной
идеологии принципиально важна, поскольку она позволяет
«опровергнуть» марксизм в самом средоточии его революционного учения.
В качестве типичного примера тут можно привести статью
«Прочерчены новые границы. Классы и идеология в Америке»,
опубликованную в 1978 году в журнале «Паблик опинион». Ее
автор, социолог Эверет Лэдд-младший, излагает весьма
влиятельную на Западе, в основе своей консервативную концепцию
«новой расстановки классовых сил» в США. Он утверждает, что
если в эпоху президентства Ф. Рузвельта вплоть до 50-х годов
главным классовым конфликтом был конфликт между средним
классом и рабочими, то сегодня ситуация якобы кардинально
изменилась. Теперь друг другу противопоставлены «низший
средний класс» и «высший средний класс», а точнее —
«обуржуазившийся рабочий класс» и интеллигенция. В частности,
автор пишет: «Идеологическое выражение этого конфликта чаще
всего и описывается в терминах оппозиции между «новым
консерватизмом» и «новым либерализмом». При этом отношения,
246
сложившиеся в период Нового курса, как бы перевернуты: более
«либеральной» оказывается группа, по своему положению
находящаяся выше» !. Отсюда и вывод о консервативности
«обуржуазившегося» пролетариата, уступившего место авангарда
интеллигенции, что парадоксально сближает эту концепцию с
позицией Г. Маркузе.
Но если сравнить творческие работы, в той или иной степени
обусловленные контркультурой, с произведениями иной
направленности, то выяснится еще одна любопытная особенность.
Контркультура оказывается значительно более щедрой на
прямые обличения консервативности современного западного
рабочего, нежели более традиционные реалистические литература,
театр и кино, хоть и отмечающие пагубное влияние стремления
отдельных рабочих исключительно к материальному
благосостоянию (в том же «Времени жить»), но достаточно редко
абсолютизирующие этот аспект. Более того, «новый» консерватизм,
в теории подчеркивающий единство «среднего класса», в
искусстве крайне неохотно обращается к конкретным
доказательствам этого тезиса на материале жизни «синих воротничков»,
утверждая его лишь во второстепенных чертах произведений,
как бы косвенно затрагивающих тему, входящих в структуру
иной, не непосредственно классовой ориентации. Вместе с тем,
как мы видели, противоположное стремление к прямому
отражению забастовочной борьбы дало западному искусству
произведения спорные, но несомненно социально ориентированные.
Это связано и с общей закономерностью искусства,
выражающего идеалы «нового» консерватизма: социальные проблемы там
всегда остаются как бы на периферии, будучи скрытыми от
разума воспринимающего, но оказывая несомненное влияние на
его подсознание. В американском искусстве эта черта ярко
проявилась в подходе к расовым проблемам, особенно по контрасту
с публицистичностью выступлений борцов за гражданское
равноправие негритянского населения.
1 L a d d E. Jr. The New Lines are Drawn. Class and Ideology in
America,— «Public Opinion», 1978, July — Aug., p. 49.
247
Действительно, негритянская литература и театр, в
особенности в «критическое десятилетие», отличались открытой
постановкой социальных вопросов, хотя о «мере радикальности»
предлагаемых преобразований и путей их достижения между
представителями движения неоднократно разгорались острые
дискуссии. Гуманистические традиции и идеи «черного
изоляционизма», тактика «ненасильственного действия» и кровавые
вспышки агрессивности причудливо переплетались в жизни и в
искусстве, порождая произведения яркие, самобытные в своих
плюсах и минусах и всегда отмеченные социальным
активизмом даже в ущерб художественному качеству. М. Дикстейн
справедливо отмечал: «Особенностью возрождения литературы
черных... в 60-е годы было то, что она развивалась параллельно
политическому и социальному движению и была глубоко
связана с текущей общественной жизнью негритянских масс. Хотя
черные лидеры и черные художники оставались высоко
сознательным меньшинством, на которое подчас не обращалось
достаточного внимания, они тем не менее отражали сдвиги в
коренных представлениях широких слоев черной общины» '. В
нашу задачу сейчас не входит конкретная характеристика
творческой практики представителей афроамериканского искусства,
анализ отдельных аспектов которого можно найти в
соответствующих изданных у нас исследованиях2.
В аспекте конфронтации контркультуры и «нового»
консерватизма в художественных работах, касающихся расовых
проблем, важно подчеркнуть принципиальные различия между
этими общественно-политическими течениями по пропагандистским
методам действия и противодействия. С одной стороны, подобно
тому как «сексуальная революция» переродилась в
«сексплуатацию», негритянское движение вызвало к жизни
«блэксплуатацию» — создание специальной отрасли буржуазной «массовой
1 D ic k s t e i n M. Gates of Eden, p. 155.
2 См., например: Боноски Ф. Указ. соч., с. 283—383; Коп-
п е л м э н У. X. Диалектический анализ современной
литературы чернокожих.— В кн.: Современная прогрессивная
философская и социологическая мысль в США. М., 1977.
Щ
культуры», буквально перекрашивающей популярные образы и
сюжеты в расчете на чернокожую аудиторию. Эта продукция
безусловно заслуживает специального анализа.
Еще интереснее другая, более замаскированная реакция,
скрывающая социально-политический подтекст в глубинах
«многослойной структуры». Приведем один пример.
В 1976 году на экраны США был выпущен фильм «Рокки»,
поставленный Джоном Эвилдсеном. Весьма неожиданно для
наблюдателей он пользовался сенсационным коммерческим
успехом, а исполнитель главной роли Сильвестр Сталлоне стал
«звездой» первой величины. Как и в случае «Истории любви»,
этот успех был вызван умелым использованием целого ряда
обстоятельств социокультурного и собственно художественного
порядка.
В роли Золушки здесь выступает молодой неудачник,
боксирующий под псевдонимом «Итальянский жеребец». Его
неожиданно выбирает в качестве противника чемпион мира негр
Аполло Крид, поскольку по стечению обстоятельств другие крупные
боксеры не приняли вызов чемпиона, а бой, приуроченный к
200-летию США, не может не состояться. Однако улыбка
Фортуны — лишь первый шаг на пути к знаменитости. Второй
совершает сам герой, благодаря неистовым тренировкам
добивающийся если не победы, то славы практического равенства с
чемпионом. И опять соединяется несоединимое — Золушка и «чело-
век, который сам себя сделал». Как и в «Истории любви», за
этим главным сюжетом кроются глубинные пласты,
раскрывающие консервативный подход к трактовке социальных проблем.
Наиболее интересным из них оказывается расовый аспект.
На первый взгляд фильм лишен всех внешних признаков
расизма. Герой — очевидно не расист. Его противник показан
самодовольным, но отнюдь не глупым, в отличие от негров в
«традиционном представлении». Расовая тема нигде не
выступает на поверхность, но давит на зрителя грузом ассоциаций, в
свою очередь стимулируемых распространением настроений
«нового» консерватизма.
С точки зрения «новых» консерваторов, к середине 60-х «ь
249
дов, когда были приняты федеральные законы об обеспечении
равных гражданских прав, прав голоса, была полностью
исправлена допущенная в прошлом несправедливость в отношении
«равенства возможностей» национальных меньшинств в
Америке. Однако, полагают они, сразу же после этого маятник
расовых отношений в Америке качнулся в противоположную
сторону, в результате чего мера расового равенства и баланса в
США была нарушена, что повлекло за собой новые конфликты
и противоречия: началась «дискриминация наоборот» — на этот
раз белых американцев.
В выдвинутом негритянским движением в США требовании
удовлетворения «групповых прав» черного населения и отказа от
формального принципа «равенства возможностей» идеологи
«нового» консерватизма усматривают одно из проявлений общего
социального заболевания современной Америки — «эксцессов
демократии», тревожного симптома, свидетельствующего о
нависшей угрозе для социальной стабильности общества.
В последние годы американские средства массовой
информации уделяли большое внимание так называемому «делу
Аллана Бэкки», раздутому чуть ли не до уровня национального
скандала и ставшему одним из козырей в руках противников
компенсации прошлой дискриминации на основе программ так
называемых «позитивных действий». А. Бэкки, белый, в 1073
и 1074 годах пытался поступить на учебу в Калифорнийский
университет на медицинский факультет. Оба раза ему было
отказано в этом как не прошедшему по конкурсу. Бэкки подал
жалобу в калифорнийский суд, утверждая, что он не был принят
потому, что из ста студенческих мест каждый год шестнадцать
отводится для национальных меньшинств, представители
которых поступают на факультет с гораздо худшими оценками, чем
белые, которым отказывают в приеме. По его утверждениям,
эта практика означает «дискриминацию наоборот» и тем самым
нарушает 14-ю поправку к конституции США. Рассмотрев
апелляцию администрации университета, Верховный суд США уже
в 1078 году постановил, что существовавшая на медицинском
факультете практика незаконна и что Бэкки следует принять.
250
В статье, специально посвященной расовой проблеме в
фильме «Рокки», американский критик Майкл Галланц пишет: «1976
год был годом решения по делу Бэкки, в котором Верховный
суд штата Калифорния признал, что отказ Аллану Бэкки в
приеме на медицинский факультет был следствием расовой
дискриминации против белых в пользу Черных и других
представителей Третьего мира. Для многих это решение представляло собой
официальную санкцию давно уже обозначившихся попыток
отхода назад. В самых разных политических формах это
движение рассматривает те демократические права, которых черные
добились с конца 50-х годов в результате упорной борьбы, как
привилегии; оно считает, что черные заключили союз с частью
белой буржуазии против игнорируемых и подавляемых белых,
в частности белых этнических меньшинств среди рабочего
класса и мелкой буржуазии» !.
С точки зрения критика, именно эта позиция нашла
косвенное отражение в расстановке сил в фильме Эвилдсена. В образе
чемпиона мира угадывается Мухаммед Али, фигура которого,
как известно, была тесно связана с прогрессивными
социальными движениями 60-х годов (он лишь позднее скомпрометировал
себя участием в антисоветской кампании). Скрывая от глаз
зрителя героическую борьбу за гражданские права негритянского
населения, фильм создает образ человека, поднявшегося на
вершину славы и пользующегося всеми привилегиями, в которых
отказано бедному «Итальянскому жеребцу». Используя черты,
действительно свойственные манере поведения Али, о которых
советский читатель может судить по фрагментам из книги
Нормана Мейлера «Бой» («Иностранная литература», 1978, № 10),
фильм предлагает версию, диаметрально противоположную
социокультурной концепции автора «Белого негра». Сам того не
замечая, зритель убеждается, что «черные захватили власть» и
«всеми командуют», а героическое противостояние героя на
ринге естественно воспринимается как моральная победа
«Большой белой надежды» (так называли Джима Джеффриса, в нача-
1 G а 11 a n t z M. Rocky's Racism.— с Jump Cut», 1978, N 18, p. 33.
251
ле века так и не сумевшего победить черного чемпиона Джека
Джонсона).
Таким образом, именно исторические и художественные
ассоциации поддерживают в данном случае консервативный пафос
социально-политической картины американского общества,
воссозданной в произведении, на первый взгляд посвященном лишь
традиционным мелодраматическим перипетиям индивидуальной
судьбы молодого итальянского боксера.
* * •
Исследование диалектики идейно-художественного развития
современного западного искусства подтверждает необходимость
рассмотрения художественного процесса в исторической
перспективе не как механической суммы того или иного набора
произведений, а как сложной системы, развивающейся в
результате взаимодействия внутренних (производственных,
коммерческих, художественных) и социокультурных факторов. При
этом с точки зрения методологии особо важную роль играет
выявление не только имманентных черт каждого произведения,
творческой индивидуальности художника, но и совокупности
«внешних связей», в конечном итоге определяющих динамику
художественного процесса.
Как было показано выше, влияние
общественно-политических течений на особенности развития искусства сказывается в
обостренном внимании к тем или иным мировоззренческим
проблемам, в поддержке или торможении определенных
художественных тенденций. Тут важно подчеркнуть, что рост
общественной активности в 60-е годы отнюдь не препятствовал
художественной деятельности, а, наоборот, всемерно стимулировал ее.
Развитие документальных и экспериментальных форм, в
частности, в рамках контрукультуры было весьма плодотворной,
хотя и не лишенной крайностей и противоречий, чертой
художественного процесса на Западе.
С другой стороны, как мы видели, отнюдь не всякое
возвращение к «традиционным» формам, к примеру литературного
повествования, можно считать фактором безусловно
позитивна
ным!. Диалектика идейно-художественной направленности
искусства приводит к сложному, небесконфликтному
взаимодействию.
Характерный пример в этом смысле дает мода «ретро»,
истоки которой (в этом тоже один из парадоксов миграции в системе
культуры) также восходят к «Бонни и Клайду», точнее, к его
интерпретации в сфере рекламы и моды. Тоска по прошлому
сама по себе созвучна консервативным настроениям, но и здесь
в оценке конкретных явлений необходимо сохранять
предельную осторожность.
Стиль «ретро», основы которого, на наш взгляд, не столько
хронологические, сколько психологические — эпоха уже
прошедшая, но еще живая в памяти людей,— может служить
самым разным целям, от чисто художественных до
конъюнктурных или политических (предпринятый на Западе «пересмотр»
проблематики фашизма и второй мировой войны)2. Однако,
будучи в какой-то степени связанным с «контрреформацией»,
«ретро» тем не менее оказывается феноменом амбивалентным, не
столь подчиненным «новому» консерватизму, сколько им
эксплуатируемым .
Не случайно, анализируя диалектику
идейно-художественного развития западной культуры, критик американского
журнала «Синеаст» Роберт Зильберман высвечивает не
противоположность ориентации 60-х и 70-х годов, а преемственность
прогрессивных традиций. «С точки зрения политики, общественной
жизни и искусства,— пишет он,—60-е годы научили 70-е
правильно истолковывать 40-е и 50-е годы»3. В качестве
доказательства социально-классового подхода к анализу прошлого
автор приводит книгу Лилиан Хеллман «Время негодяев» л
1 Односторонний взгляд на 60-е годы как на эпоху
кризиса «серьезного» искусства, якобы возрождающегося в 70-е
годы, в частности благодаря уходу от непосредственной
актуальности, получил весьма широкое распространение, особенно в
литературоведении.
2 См.: Баскаков В. Е. Противоречивый экран, с. 85—118,
3 «Cineaste», Winter 1977/78, p. 56.
253
демонстрировавшийся у нас фильм Мартина Ритта «Подставное
лицо» (1976), посвященные печальной памяти эпохи маккартиз-
ма, а также произведения Э.-Л. Доктороу. Рост влияния
прогрессивных тенденций вынуждены признать и «новые» консерваторы.
Уже упоминавшийся нами X. Креймер не без оснований
усматривает цель романа Доктороу «Рэгтайм» в показе на основе
исторической ретроспективы триумфа идей радикализма.
«Буржуазная Америка обречена на вечное проклятие в этой книге,—
пишет критик,— а ее антагонисты окружены ореолом
политической святости» '.
Названные произведения в их отношении к ностальгически-
идеализирующему направлению в пределах того же «ретро»
показывают, что в оценке реального сочетания прогрессивных
и реакционных элементов в работах западных художников
необходимо учитывать не только их внешние тематические
особенности, но и их внутреннюю структуру, специфику авторского
отношения, художественнзгю интонацию. Подлинно талантливые
произведения часто дают основание для противоречивых
толкований, причем путеводной нитью в анализе может служить
только многоаспектное сопоставление текста с контекстом,
произведения с определяющей его содержание и восприятие
социокультурной средой.
Полифония, свойственная лучшим произведениям западного
искусства, не должна скрывать и обратного — господствующего
положения буржуазной культуры, которая ведет фронтальное
наступление на элементы прогрессивной демократической
культуры как бы двумя взаимодополняющими путями — извращая
их значение изнутри (что мы частично проследили на примере
контркультуры) и открыто подавляя извне пропагандой
собственной системы ценностей («новый» консерватизм).
Процесс этот, конечно, нельзя упрощать.
Идейно-политический кризис буржуазного общества, побуждающий его идеологов
искать спасения в более или менее отдаленном прошлом или в
1 Цит. по: Мулярчик А. Поиски и ориентиры.— «Лит.
обозрение», 1977, № в, с. 92.
254
пропаганде индивидуального насилия как наиболее
действенного средства поддержания порядка, одновременно послужил
сплочению демократических сил. Масштабы «поправения» не
следует преувеличивать — искусство Запада, отражая динамику
общественного мнения, в значительной своей части сохраняет
приверженность идеалам демократизма и прогресса.
Подчеркивая укрепление прогрессивных тенденций в 70-е
годы, В. Лазарев и О. Туганова специально останавливаются на
расширении спектра «рабочей тематики». «Прямо на улице в
центре Нью-Йорка,— пишут авторы,— разыгрывается
представление, пафос которого — защита интересов бастующих
служащих фирмы «Фара»: артисты обращаются с призывом к
зрителям поддержать забастовщиков. На экраны выходит фильм
«Буффалокрикское наводнение: деяние человека», снятый
независимой киностудией города Уайтсберг,— о гибели 125 шахтеров
из-за нарушения правил безопасности, из-за преступной
беззаботности компании и правительственных органов... Выставки
картин Ральфа Фазанеллы, главная тема которых — рабочие и
их жизнь... Книга Стадса Теркела «Работа» — более ста
интервью, взятых у рабочих, служащих после очередного
трудового конфликта в одном из промышленных районов Чикаго
(«Работа» опубликована в журнале «Иностранная литература» в
январе 1976 г.). Это не единственное такое явление...
Радикальный журнал «Dissent» зимой 1972 года выпустил специальный
номер «Мир синего воротничка» («синий воротничок» — рабочий);
«Центр Ральфа Надера» (Надер возглавляет движение в защиту
интересов американского потребителя) опубликовал книгу
«Рабочие» («Workers») — очерки о девяти рабочих; издательство
дешевых книг «Нью Инглэнд Фри Пресс» рекламирует каталог
«Литература об американском рабочем классе»...!. Как мы
видим, сдвиги по сравнению с 60-ми годами есть, и сдвиги отнюдь
не консервативные.
Их можно проследить даже в таком «контролируемом» виде
1 Лазарев В., Туганова О. Контркультура и
личность.— «Нов. мир», 1977, № 5, с. 233.
256
искусства, как кино. В фильме Сиднея Поллака «Какими мы
были» (1973) в стиле «ретро» прослеживается жизненный путь
молодой американской коммунистки. Во второй части
«Крестного отца» (1974) Френсиса Форда Копполы не только обличается
союз мафии и большого бизнеса, но и (пожалуй, впервые в
истории Голливуда) сочувственно показывается начальный этап
кубинской революции. Документальная лента «Округ Харлан,
США» (1976) Барбары Коппл, «Джулия» (1977) Фреда Циннема-
на, поставленная по автобиографическому сюжету Лилиан Хел-
лман, как целый ряд других произведений литературы, кино,
театра, свидетельствуют о постоянстве демократической
традиции, успешно противостоящей «новой консервативной волне».
Таким образом, развитие искусства в течение последних двух
десятилетий в целом подтверждает вывод о том, что в основе
рассмотренных аспектов художественного процесса в
крупнейших капиталистических странах лежит достаточно сложное и
неоднозначное взаимодействие историко-культурных и внутри-
художественных факторов с динамикой
общественно-политической борьбы, ход которой определяют не концепции
контркультуры и «нового» консерватизма сами по себе, а неуклонное
расширение масштабов революционно-демократического
антиимпериалистического движения.
Избранный ракурс, несмотря на его относительную
локальность, показывает, что сфера художественного творчества на
Западе на современном этапе, пожалуй, больше, чем когда-либо
ранее, тесно взаимосвязана с глобальными идеологическими
процессами.
Заключение
В нашей книге мы стремились проанализировать некоторые
особенности преломления и взаимовлияния общественного
процесса на Западе в 60—70-х годах и художественной культуры,
вступающей в сложные связи и испытывающей на себе
воздействие различных идейно-политических и философско-эсте-
тических течений. Как распространение в западной социологии
и эстетической мысли и искусстве идей контркультуры, так и
возникновение на них «новой» консервативной реакции — все
это в целом подчинено объективным закономерностям сложной
диалектики современного социального процесса и борьбы
противоположных мировоззрений. Рассмотренные выше и во
многом полярные по своей идейно-политической и эстетической
направленности культурологические концепции контркультуры
и «нового» консерватизма, в которых одно из важных мест
занял вопрос о роли искусства в общественной жизни, как и
использованный нами конкретный художественный материал,
по-своему отразили тенденции политизации общественного и
художественного сознания Запада.
В то же время и критика в лучших произведениях контр-
культуры буржуазной ортодоксии и стремление определенных
кругов вдохнуть «вторую жизнь» в традиционалистские
буржуазные ценности в рамках «нового» консерватизма — все это
подтверждает на современном материале классическое
положение, сформулированное основоположниками марксизма в
«Немецкой идеологии»: «Мысли господствующего класса являются
в каждую эпоху господствующими мыслями. Это значит, что
тот класс, который представляет собой господствующую исате-
риальную силу общества, есть в то же время и его
господствующая духовная сила. Класс, имеющий в своем распоряжении
средства материального производства, располагает вместе с тем
и средствами духовного производства, и в силу этого мысли тех,
у кого нет средств для духовного производства, оказываются
257
в общем подчиненными господствущему классу.
Существование революционных мыслей в определенную эпоху уже
предполагает существование революционного класса...» ].
На конкретных примерах мы могли убедиться, что движения
протеста, получившие распространение на Западе в 60-х —
начале 70-х годов, в значительной мере несли в себе
радикальный антиимпериалистический, гуманистический и
общедемократический потенциал. Контркультуре, в частности,
удалось по-своему и на новом материале поставить, хотя и не
решить, вопрос о кризисе буржуазной культуры и искусства, об
их действительной роли в современной общественной жизни
Запада. В этом смысле можно сказать, что прогрессивная
художественная культура 60—70-х годов в определенной степени
унаследовала критический пафос лучших произведений
западного искусства предшествующих десятилетий.
Вместе с тем оппозиция «официальной» буржуазной
культуре, заложенная в самом понятии контркультуры, оказывается
отнюдь не абсолютной. Так, например, нигилистические
элементы, свойственные контркультуре, именно в силу своего сугубо
негативного эстетического характера не могли найти реального
воплощения в культурной и художественной практике. Что же
касается радикального и политического и эстетического протеста
контркультуры, то его внешние формы во многом постепенно
ассимилировались буржуазной культурой в самых различных ее
проявлениях — от «элитарного» авангарда до «массовой» поп-
культуры. На примерах художественного творчества в русле
контркультуры и ее последующей эстетической эволюции в
70-х годах ярко обнаруживается также и многоплановость
господствующей культуры при капитализме, многоплановость,
которая, в частности, позволяет поглощать самые различные, на
первый взгляд даже противоположные ей направления, не
меняя при этом своей идейной и художественной сущности.
Нельзя не признать, что 70-е годы, их в значительной мере
новая общественная и идейная ситуация была встречена пред-
1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 45—47.
258
ставителямй контркультуры не без некоторого внутреннего
замешательства. В то же время, захлебнувшись как активистское
общественно-политическое течение, движение протеста отнюдь
не исчерпало себя и не исчезло на рубеже нового десятилетия,
как это зачастую пытаются представить его буржуазные
оппоненты. Факты западной политики и искусства 70-х годов говорят
о том, что контркультура в некоторых своих проявлениях не была
автоматически интегрирована в буржуазную систему.
Сегодняшний перелом в движении протеста и определенная идейная и
художественная мутация контркультуры, прослеженная нами
выше, не означают ни того, что прошедшие годы напряженной
борьбы с буржуазным обществом и буржуазной культурой не
привели ни к каким практическим и художественным
результатам, ни тем более того, что капиталистическая система
одержала полную победу над антиимпериалистическим протестом.
Справедливо пишут в этой связи советские исследователи В.
Лазарев и О. Туганова: «То, что несла в себе контркультура
предыдущего десятилетия, не промчалось, «как вешние воды», не
рассеялось, не выветрилось. Оно продолжает жить и сегодня.
Оно в наиболее сильных своих проявлениях вошло в эстетику
более широкого времени, перешагнуло границы своего
десятилетия, впечаталось в социальное сознание и продолжает жить
непосредственно или претерпев множество метаморфоз в
книгах, картинах, музыке, на сцене, в представлениях об образе
жизни нынешнего дня» '.
Несмотря на то, что некоторые, а в отдельных случаях
многие, сторонники контркультуры и выразители ее эстетического
кредо сегодня фактически отказались от наследия 60-х годов,
ушли в мистику или стали пропагандистами левоэкстремист-
ских идей, и в западной эстетической мысли 70-х — начала 80-х
годов и в современном искусстве Запада, как мы пытались
показать, достаточно велик удельный вес антибуржуазных
политических и художественных идеалов. Эти прогрессивные тен-
1 Лазарев В., Туганова О. Контркультура и личность,
с. 231.
259
денции нельзя оставлять без внимания и поддержки. Не
случайно В. И. Ленин особо отмечал, что «мы должны брать
за основу не лица и не группы, а именно анализ
классового содержания общественных течений и идейно-политическое
исследование их главных, существенных принципов» К
Нам кажется, что использованный в книге конкретный
художественный материал, как и проведенный анализ политических
и эстетических теорий, вскрывает иллюзорность и ошибочность
встречающегося в некоторых критических работах мнения о
враждебности контркультуры искусству, о том, что она по своей
сути является «антикультурой» и «смертью искусства». Этот
вывод связан еще и с тем, что художественная практика всегда
неизмеримо богаче любых умозрительных схем, создаваемых
как в рамках контркультуры, так и «нового» консерватизма.
Показательно, что к аналогичным выводам (сформулированным
с большей или меньшей последовательностью) на эстетическом
конгрессе в Бухаресте пришли многие представители как
социалистических, так и капиталистических стран. Комментируя
во вступительном докладе к теме «Современное искусство.
Смерть искусства?» выступление своей соотечественницы Элизы
Оберти, итальянский эстетик Джанни Ваттимо подчеркнул: «Те
черты, которые сегодня считаются симптомами смерти
искусства, на самом деле сводятся к признакам кризиса критериев
и канонизированных структур традиционного искусства,
которое, становясь все в большей мере чисто эстетическим
феноменом, потеряло почти полностью свою познавательную
эффективность по отношению к субъекту. Современное искусство
выбирает материалы и формы, с первого взгляда кажущиеся
неприятными. Именно производимый шоковый эффект и может
пробудить в субъекте познавательную ответственность. Кроме
того, сама эта неприятность соответствует искаженной и
отчужденной сущности мира, в котором оказался эстетический опыт»2.
Нельзя не подчеркнуть, что похоронный звон по широкому
1 Л е н и н В. И. Полн. собр. соч., т. 26, с. 151.
2 Actes du Vile Congres international d'esthetique. Bucuresti, 1976,
p. 311.
260
антикапиталистическому движению протеста 60-х и начала
70-х годов и заведомо упрощенную трактовку контркультуры как
поверхностного в политическом и несамостоятельного в
художественном отношении явления, а то и простой проповеди
моральной распущенности и «эстетического нигилизма», не
случайно пропагандируют прежде всего
консервативно-охранительные идеологи буржуазной системы. Вместе с тем ряд
объективных явлений в развитии западной культуры 70-х — начала 80-х
годов дает основания для вывода об определенном наступлении
буржуазно-охранительных тенденций в самых различных
формах (в том числе и в искусстве), базой для которых, в частности,
служит реакция на эксцессы «левизны» и некоторые
неоавангардистские крайности контркультуры. Как мы пытались
показать, едва ли не решающую роль в пропаганде и
распространении идей и настроений «новой» консервативной «реставрации»
уже с конца 60-х годов и по сей день на Западе играют
буржуазные средства массовой информации, реакционная идеология,
культура и искусство. Искусству здесь как раз и отводится
сугубо функциональная роль «социализатора» личности в
буржуазную общественную систему.
Наряду с этим мы ставили перед собой задачу показать, что
конкретный анализ состояния и тенденций развития западной
художественной культуры последних десятилетий не может не
обнаружить обманчивость метафизического представления о
чисто временном чередовании строго определенных
противоположных и равновеликих идейно-политических и художественно-
эстетических тенденций по принципу маятника, который
идеологи капитализма пытаются использовать в качестве
доказательства якобы глобального поворота «вправо» в 70-х годах.
Обращение к материалу искусства и проведенный анализ, как
нам кажется, показывают, что-исследование многомерной
культурно-художественной системы современного западного
общества не может быть осуществлено на основе категориального
аппарата западной социологии и искусствознания, который не
столько помогает, сколько препятствует разграничению
прогрессивных и реакционных тенденций. Даже внутри этого аппа-
261
рата в силу его эмпирического характера нет и не может быть
взаимооднозначного соответствия между его различными
уровнями. Так, политико-идеологические понятия контркультуры и
«нового» консерватизма (и их эстетические варианты) не
определяют, а, скорее, по-разному интерпретируют определенные
оржетно-тематические пласты («политика», «секс», «насилие»,
«ретро» и т. д.), которые в свою очередь могут конкретно
разрабатываться в разных формальных структурах («деконструкция»
и «дистанцирование», «эстетизм», «эстетика насилия», докумен-
тализм или стилизация под документ). Попытка добиться
идейно-художественной унификации на основе внешних по
отношению к самим произведениям особенностей — характера
производства («официальное» и «внесистемное», «параллельное»,
«альтернативное») или характера аудитории («элитарное» и
«массовое», «коммерческое») — также не может привести к
успеху. Система западной культуры (как и культуры вообще)
представляет собой многомерное, сложно организованное целое,
в пределах которого социокультурная обусловленность
художественного процесса выступает и в целом и на каждом уровне,
в пределах каждой категории отдельно, и проявляется не «в
чистом виде» научной абстракции, а скорее, в удельном весе
того или иного начала, той или иной из противоборствующих
идейных и художественных тенденций.
Диалектика развития современной западной культуры и
формы участия в этом процессе искусства подтверждают
прозорливость ленинского положения о борьбе двух культур в культуре
буржуазного общества. Как в социальном, идейном, так и в
художественном процессе существуют свои необратимые
закономерности, тенденции, которые никакими усилиями не удается
повернуть вспять. В этом смысле можно сказать, что и
контркультура и «новый» консерватизм (даже в аспекте своей
противоположности) представляют собой различные стороны кризиса
господствующей буржуазной культуры. В плане исторической
преемственности демократических и гуманистических идеалов
небезынтересно замечение литератора М. Дикстейна.
«Культурные сдвиги,— пишет автор, имея в виду изменения ду-
262
ховного климата на Западе в 60-х и 70-х годах,— всегда
включают значительные элементы постоянства и
преемственности наряду с драматическими переменами в акцентах. В
определенном смысле уже раз открытые двери не могут быть
полностью закрыты вновь... 60-е годы сохранились не только
как память, не только как ориентир или предостережение. Они
живы в нас, живы в тех, кто участвовал в них и отдавал им
себя без оглядки» 1.
Не случайно название книги Дикстейна взято из песни
популярного барда движения протеста — Боба Дилана.
Характерное для современности усиление влияния
марксистско-ленинского мировоззрения, интеллектуальное и
эмоциональное воздействие социалистического искусства, ставшего ныне
явлением интернациональным и привлекающим на свою сторону все
больше мастеров культуры, в том числе из капиталистических
и развивающихся стран, говорит о том, что передовое
художественное творчество становится активным фактором общественной
борьбы, борьбы прогрессивной демократической культуры
против сил реакции. Сложность и противоречивость этого
столкновения на специфическом материале контркультуры и «нового»
консерватизма, оказавших существенное влияние на понимание
и формы участия искусства в общественной жизни, мы и
стремились раскрыть в этой книге, руководствуясь положением
о том, что идейное противоборство двух систем становится
все более активным. «В борьбе двух идеологий не может быть
места нейтрализму и компромиссам,— подчеркивал товарищ
Л. И. Брежнев.— Здесь нужна высокая политическая
бдительность, активная, оперативная и убедительная пропагандистская
работа, своевременный отпор враждебным идеологическим
диверсиям» 2.
1 D i с k s t e i n M. Gates of Edem, p. 272—276.
2 Брежнев Л. И. Актуальные вопросы идеологической
работы КПСС, т. 2, с. 169.
263
ОГЛА1Л1НИ1
Введение 3
Глава первая
Эстетика контркультуры — проблемы и парадоксы
1. Искусство, политика и контркультура 14
2. «Новая чувственность» и художественная фантазия . 28
3. Социально-эстетическая утопия «нерепрессивной
культуры» 46
4. Парадоксы «эстетического измерения» 63
Глава вторая
«Новый» консерватизм и культура
1. Консервативная «реставрация» и социальные функции
искусства . 83
2. Леворадикальное «эстетство», или «новый»
консерватизм против контркультуры 102
3. «Культурные противоречия капитализма» 116
Глава третья
Особенности художественного процесса в свете
контркуЛьтуры и «нового» консерватизма
1. Общественно-политические течения и художественный
процесс: аспекты взаимодействия 136
2. Основные тематические пласты и пути их
идейно-художественной разработки 183
Религия и искусство 185
От «сексуальной революции» к апологии насилия 205
Социальные проблемы и социальная активность
искусства 235
Заключение 257
Андрей Юрьевич Мельвиль
Кирилл Эмилъевич Разлогов
Контркультура и «новый» консерватизм
Редактор Л. Р. Мариупольская. Художник В. В. Лазурский.
Художественный редактор Э. Э. Ринчино. Технический редактор М. П. Ушко-
ва. Корректоры Н. Г. Антокольская и И. В. Разинкина. Сдано в наб.
25.08.80. Подл, к печ. 28.05.81. А 09203. Формат 70Х108/32. Бум. тип. МЪ 1.
Гарн. журнальная. Высокая печать. Усл. п. л. 11,55. Уч.-изд. л. 14,49.
Изд. № 17498. Тираж 10 000. Заказ 62. Цена 1 р. 10 к. Изд-во «Искусство»,
103009 Москва, Собиновский пер., 3. Тульская типография Союзполиграф-
прома при Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.