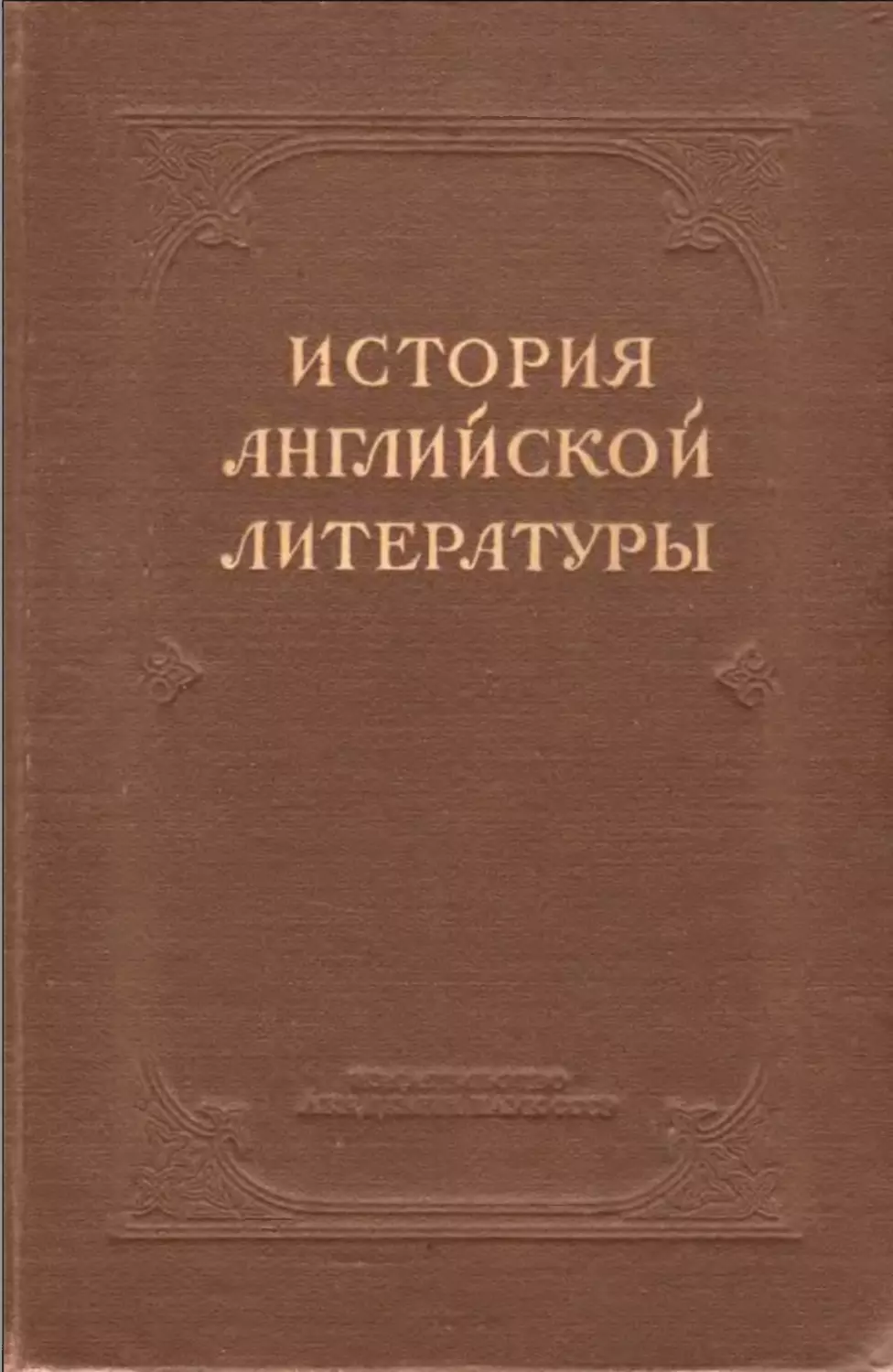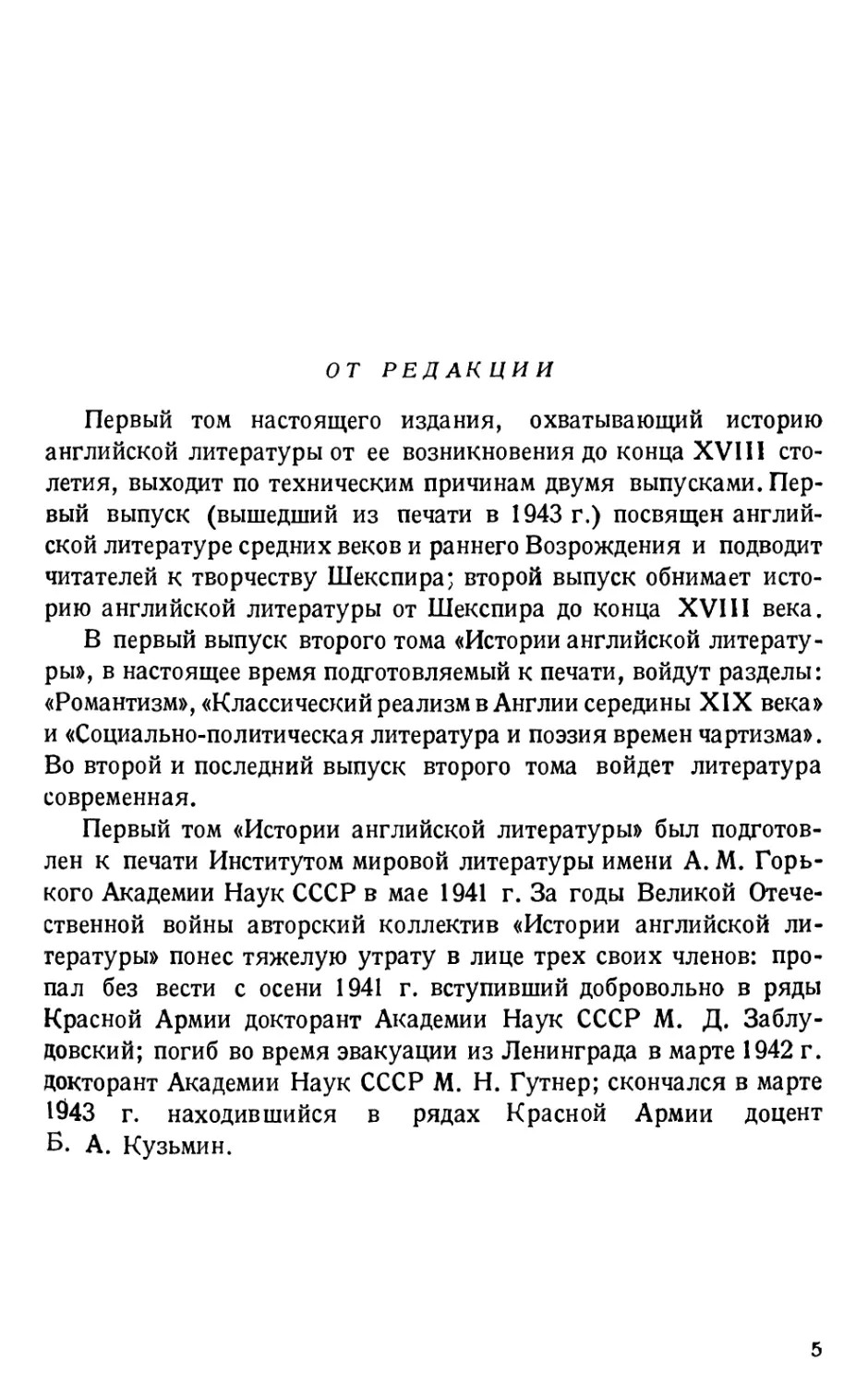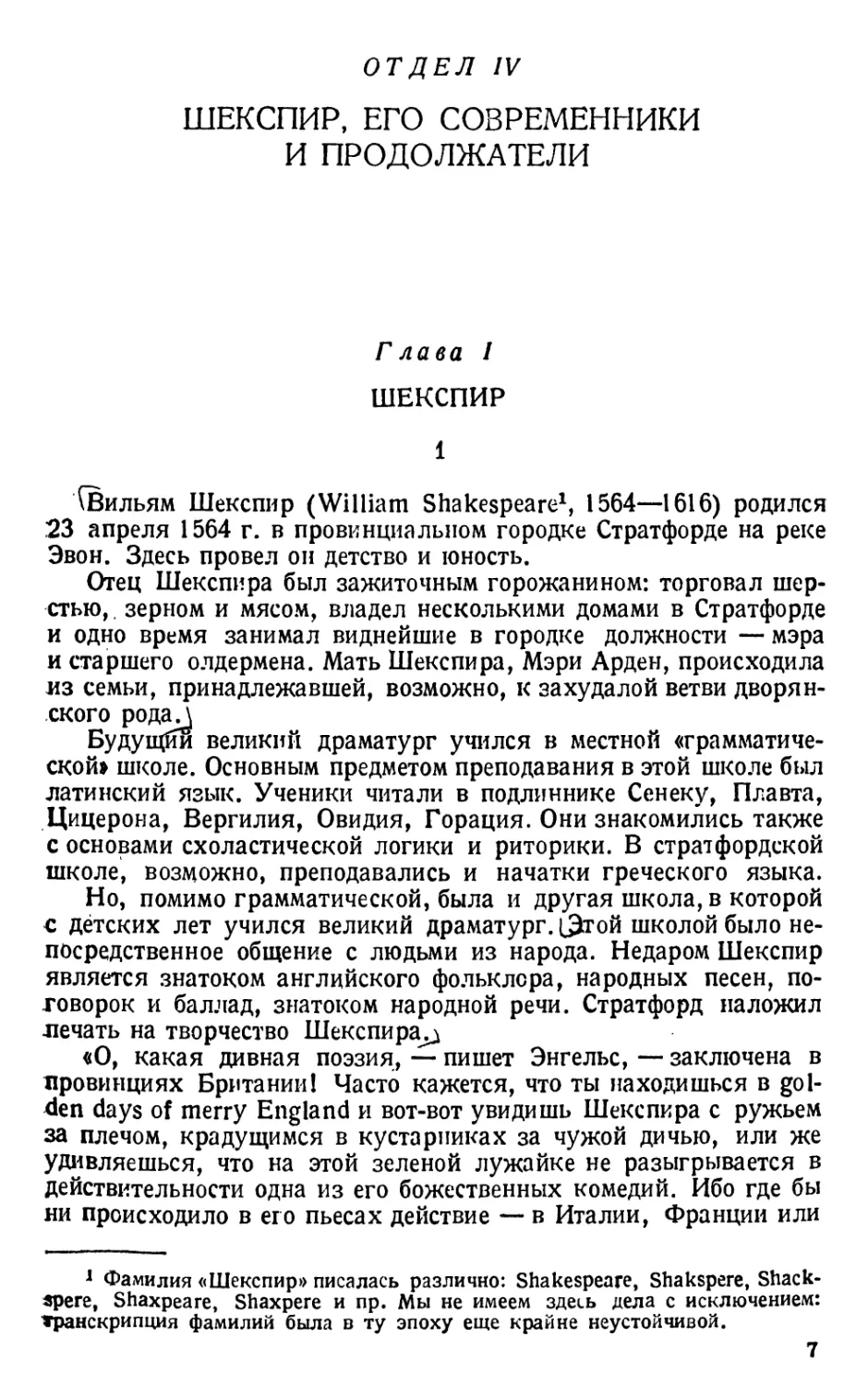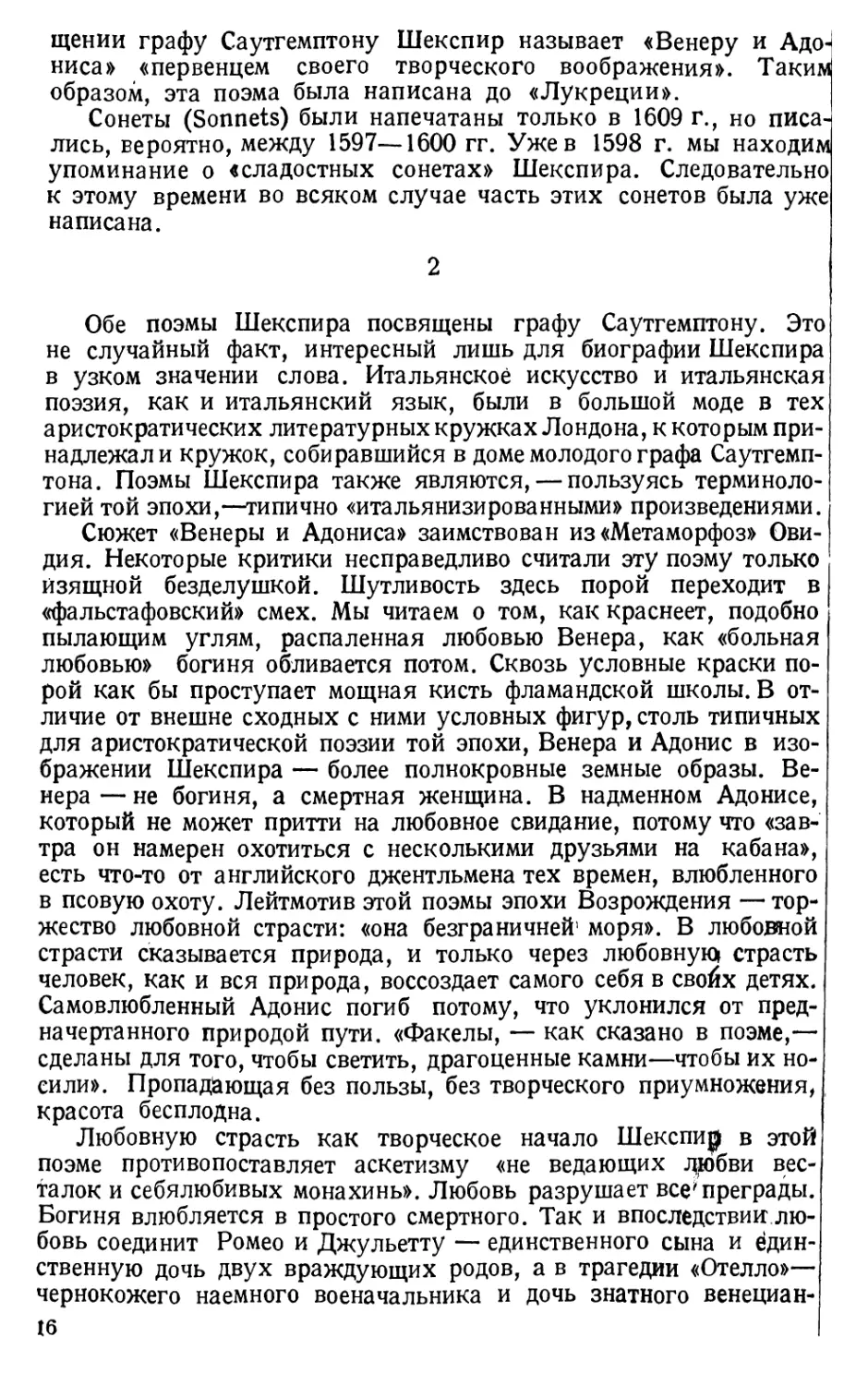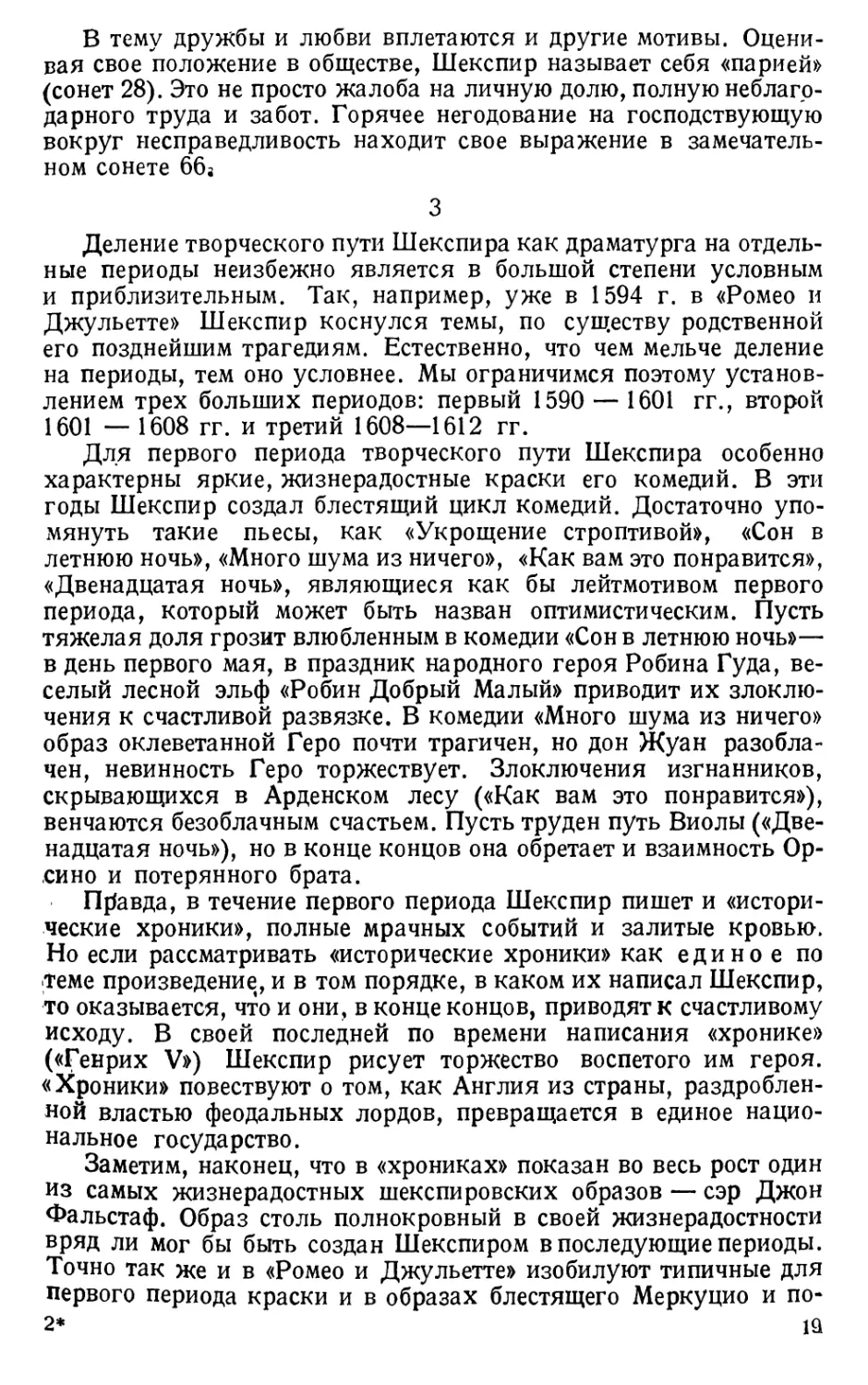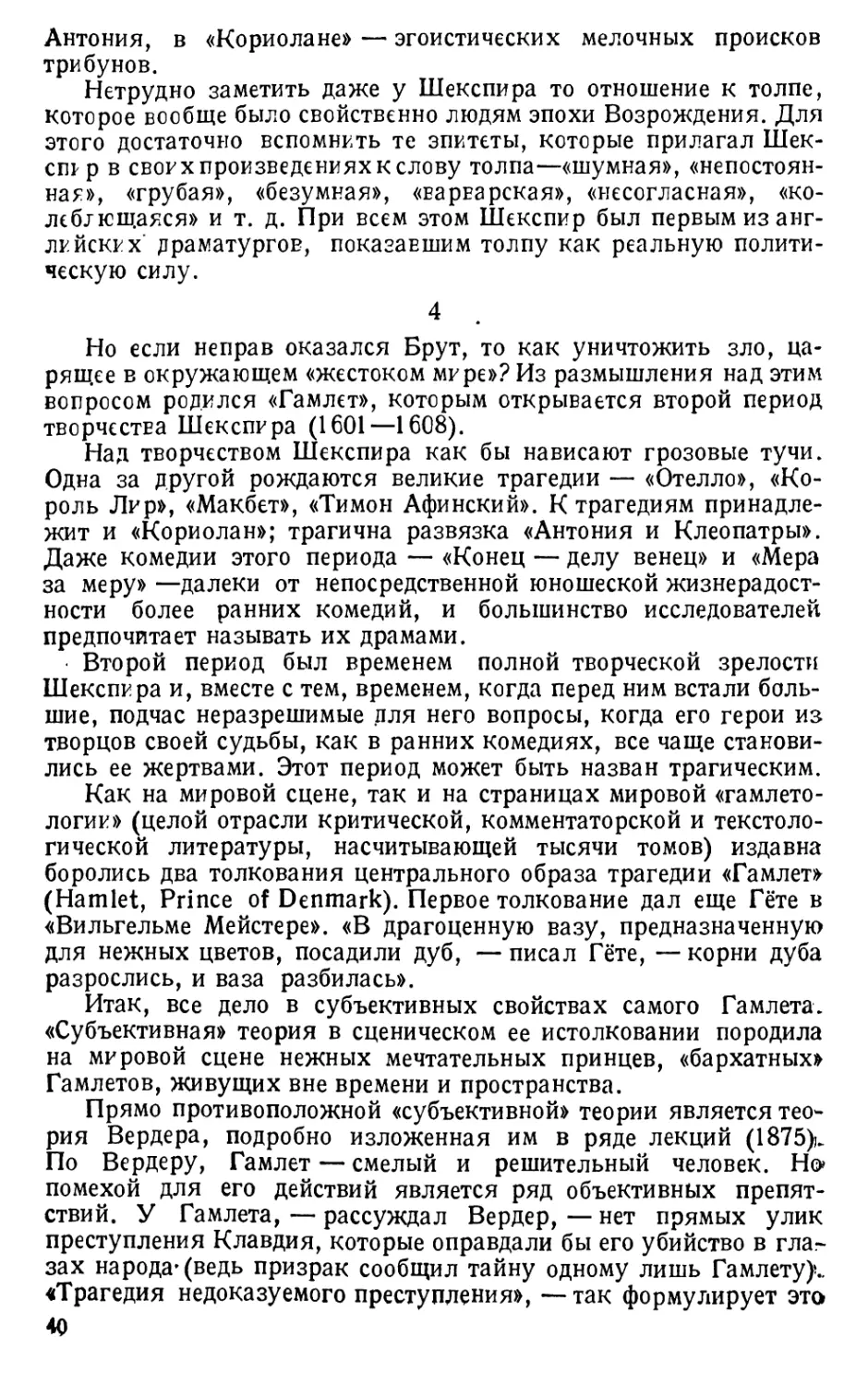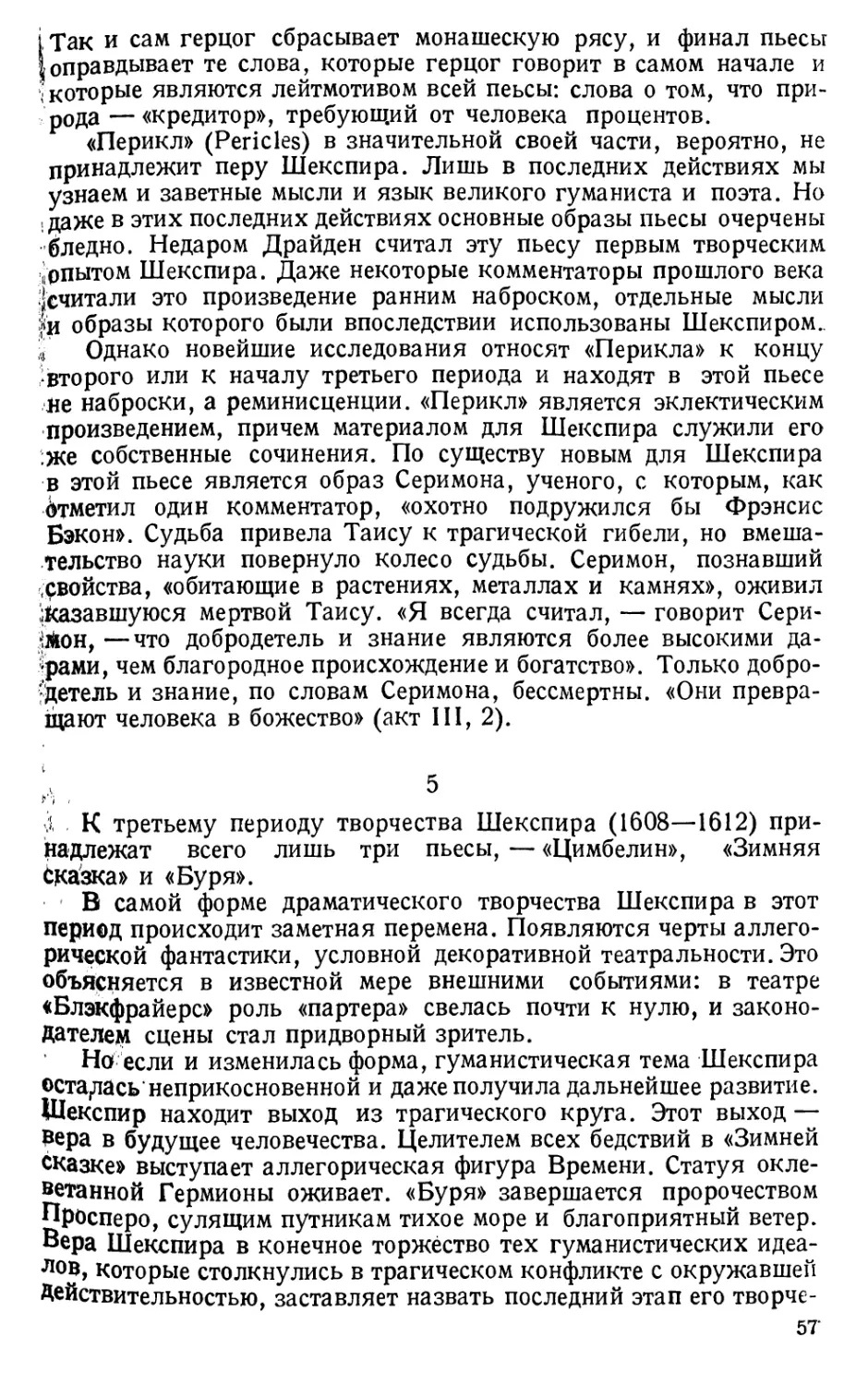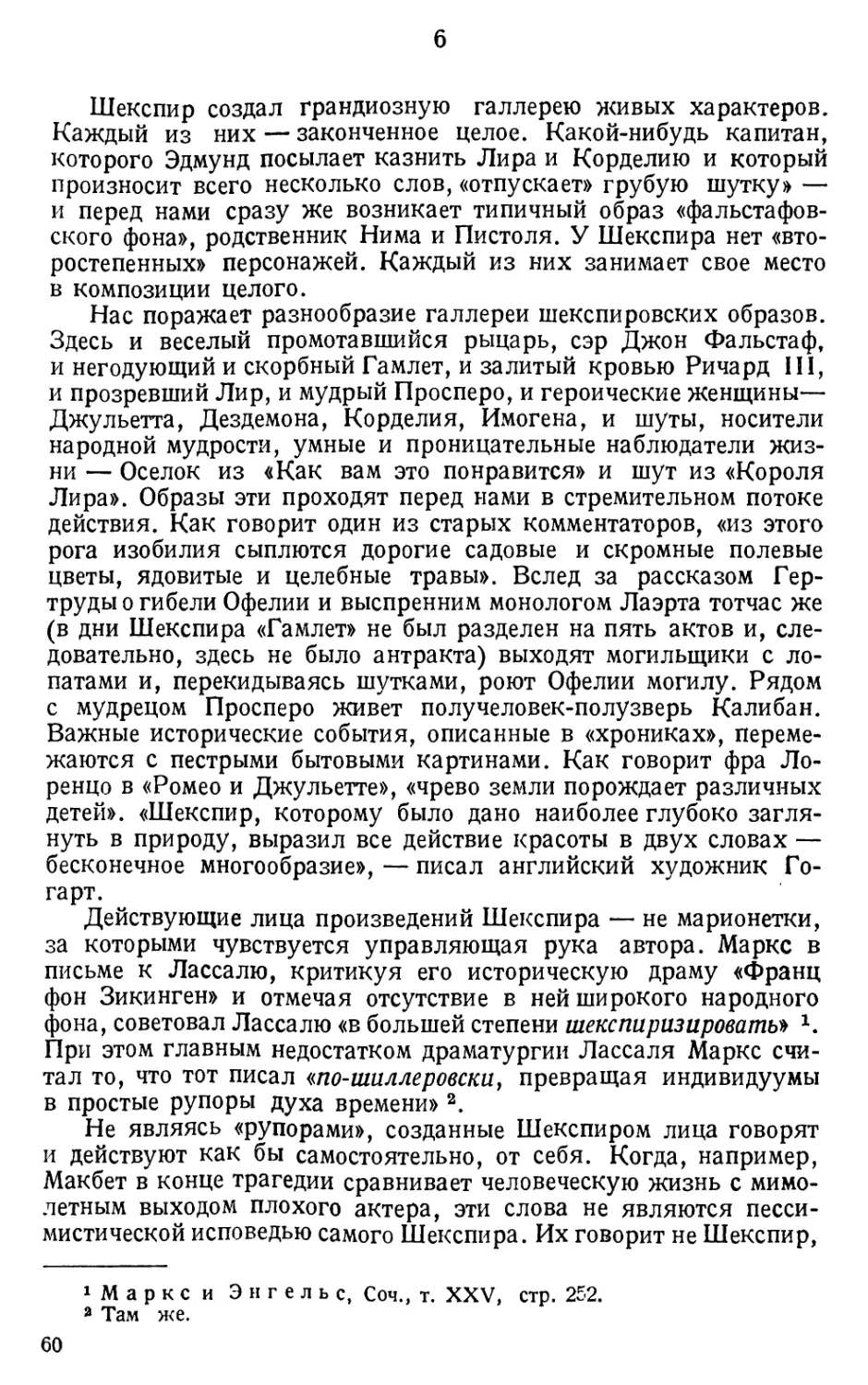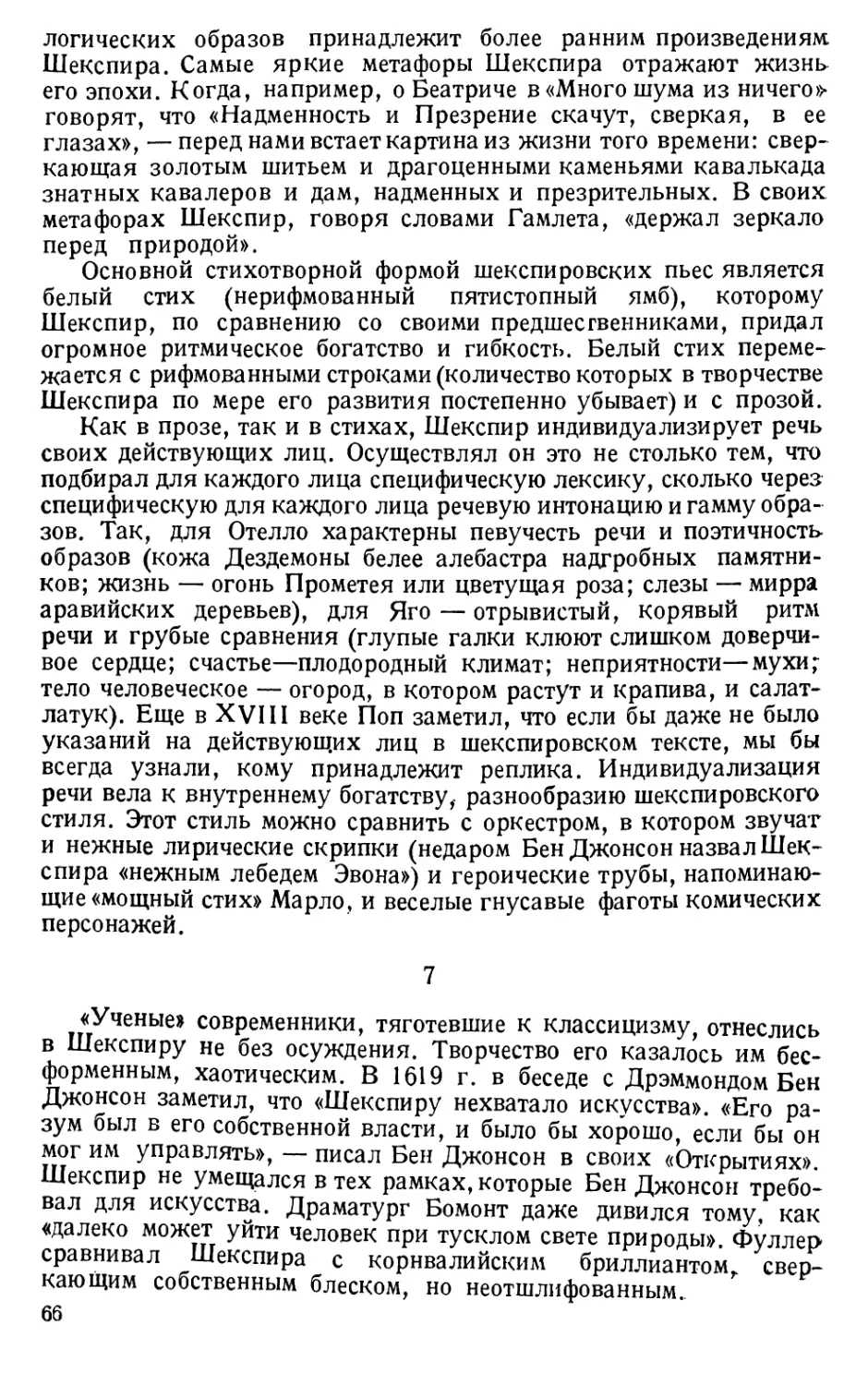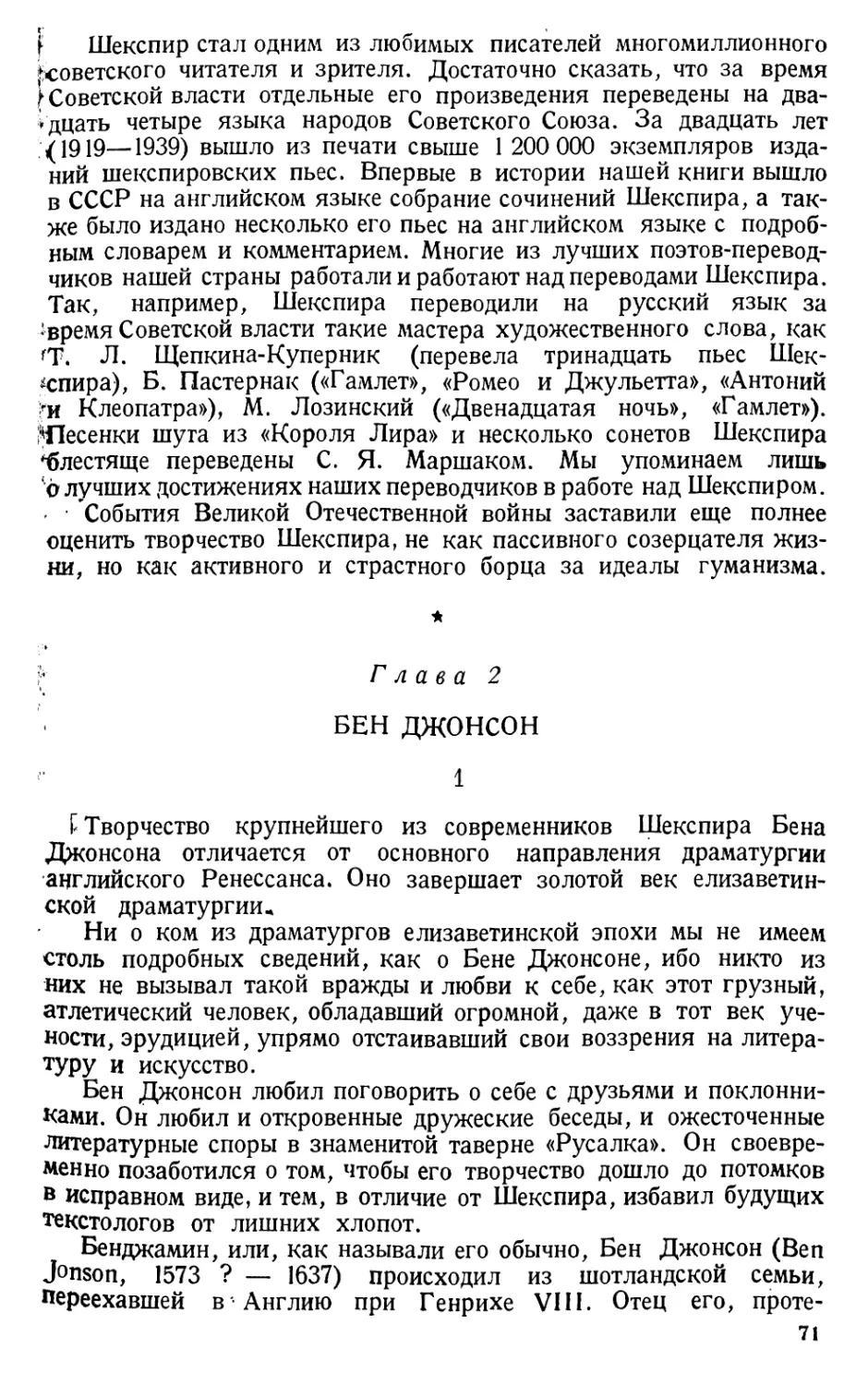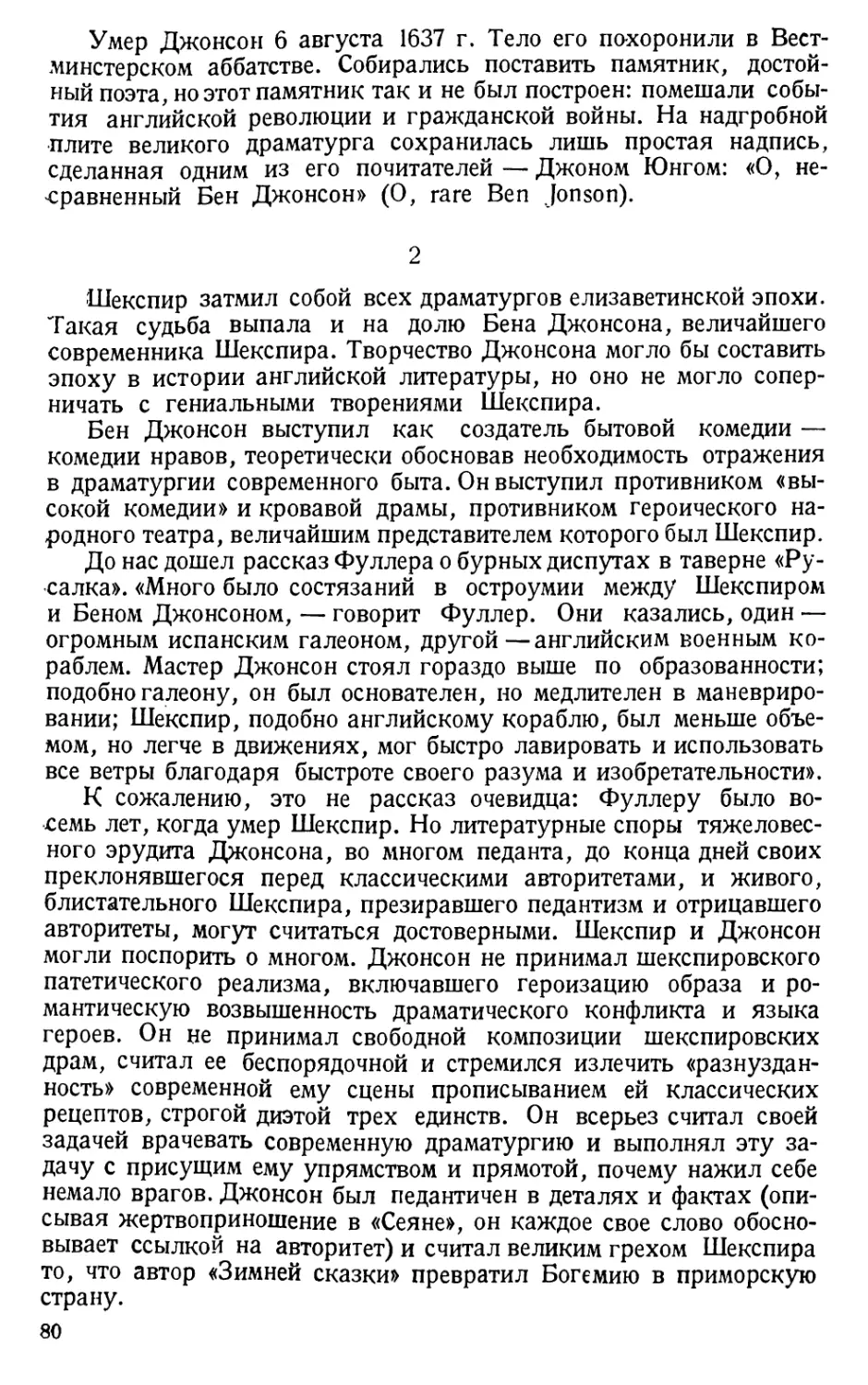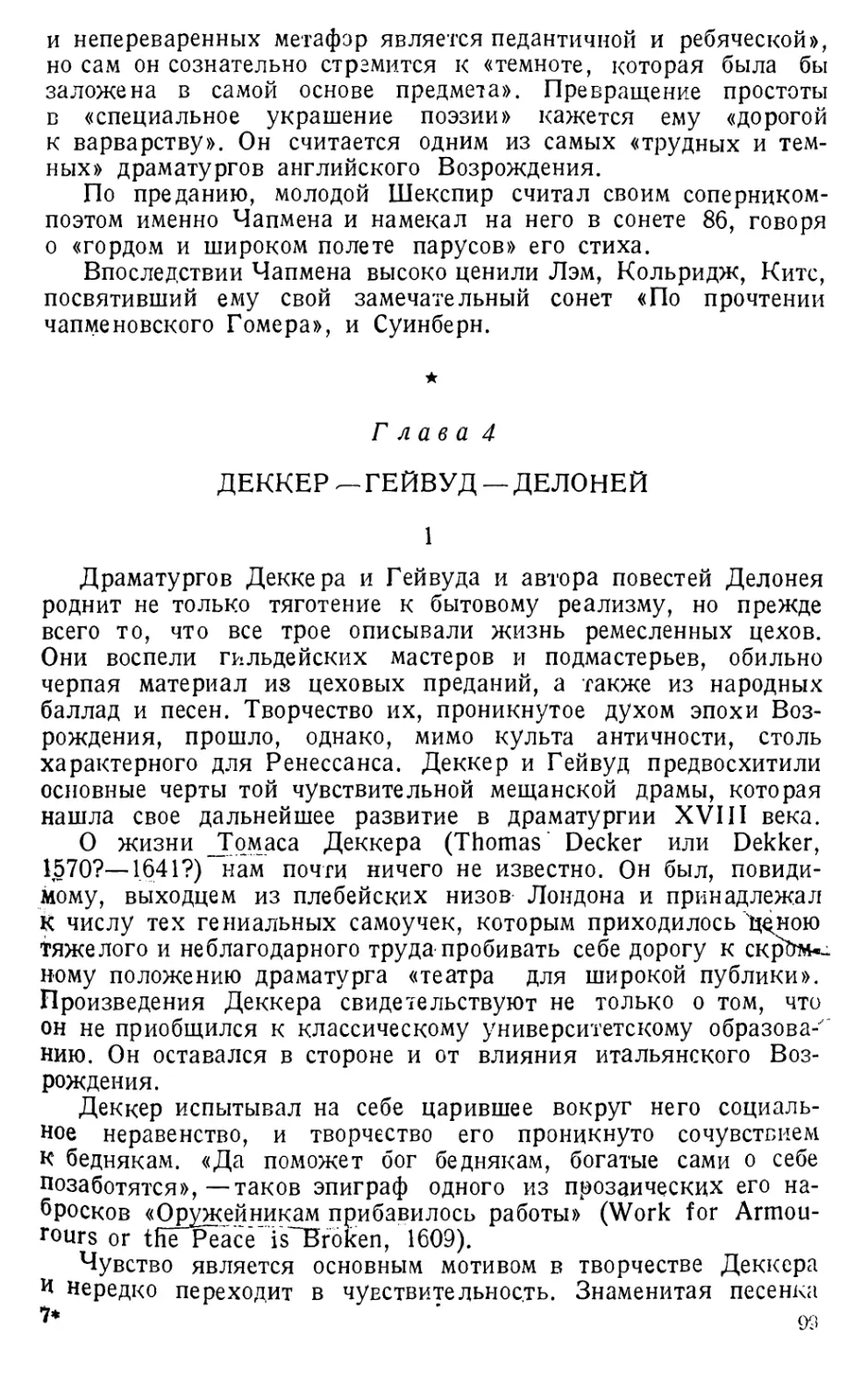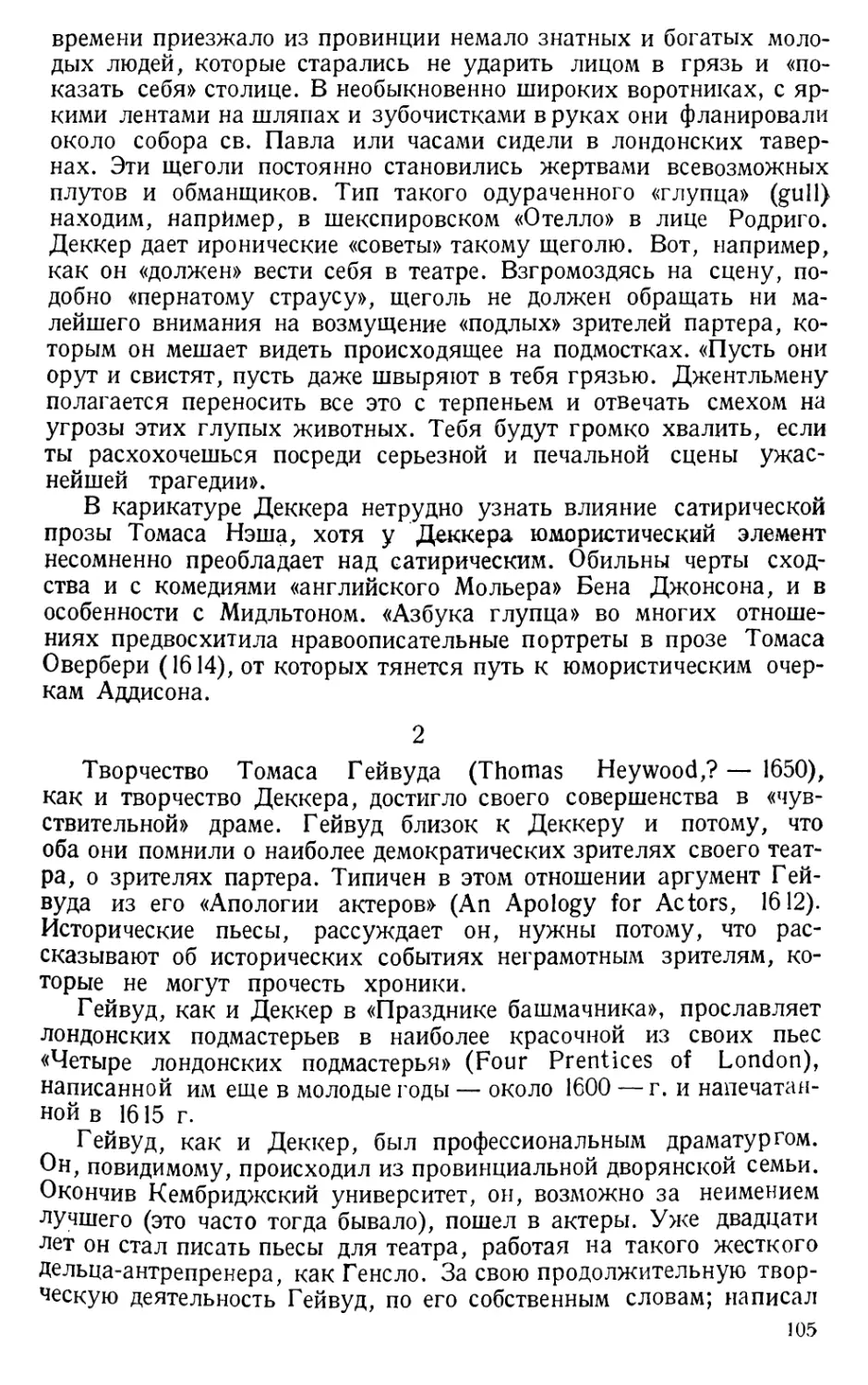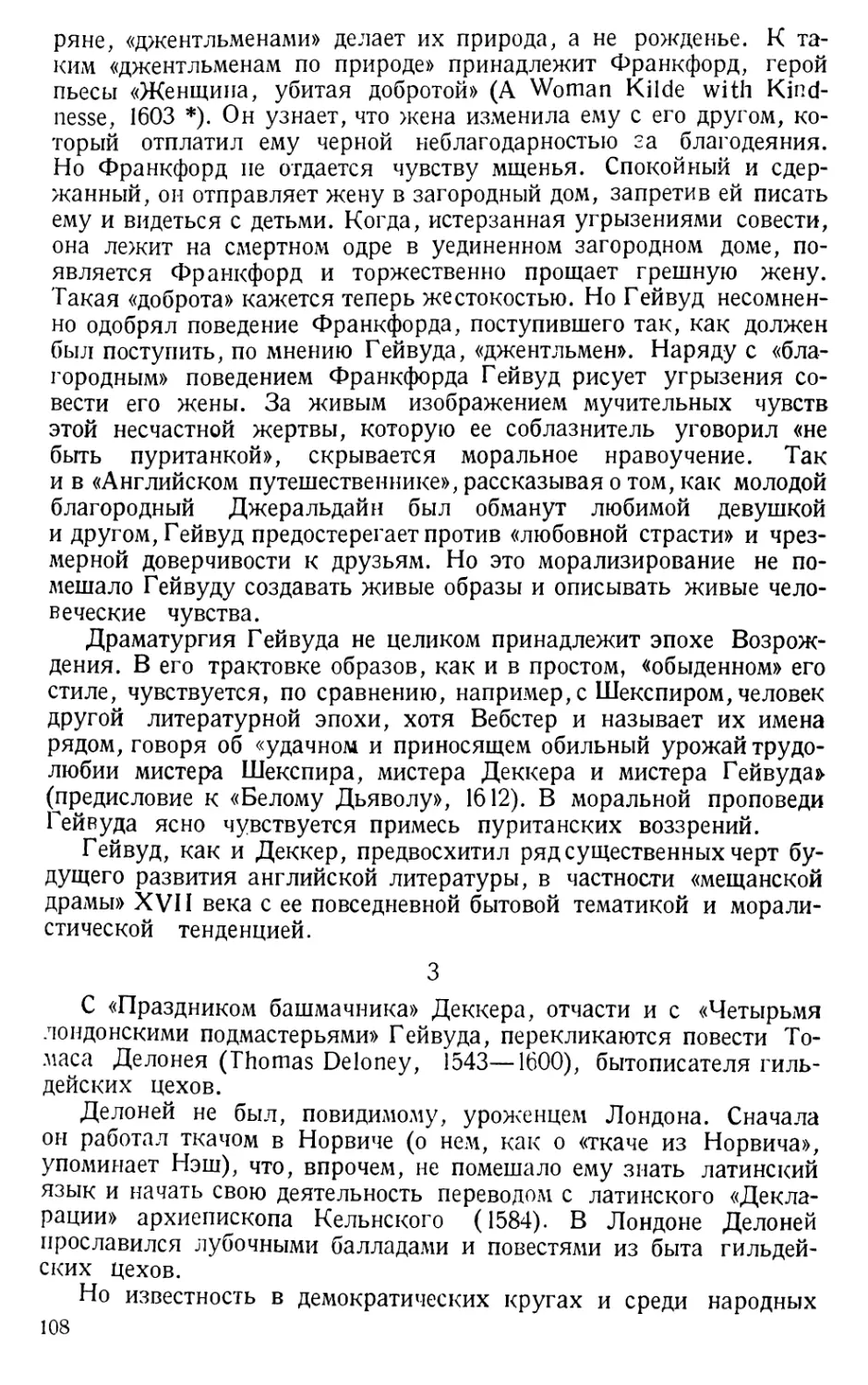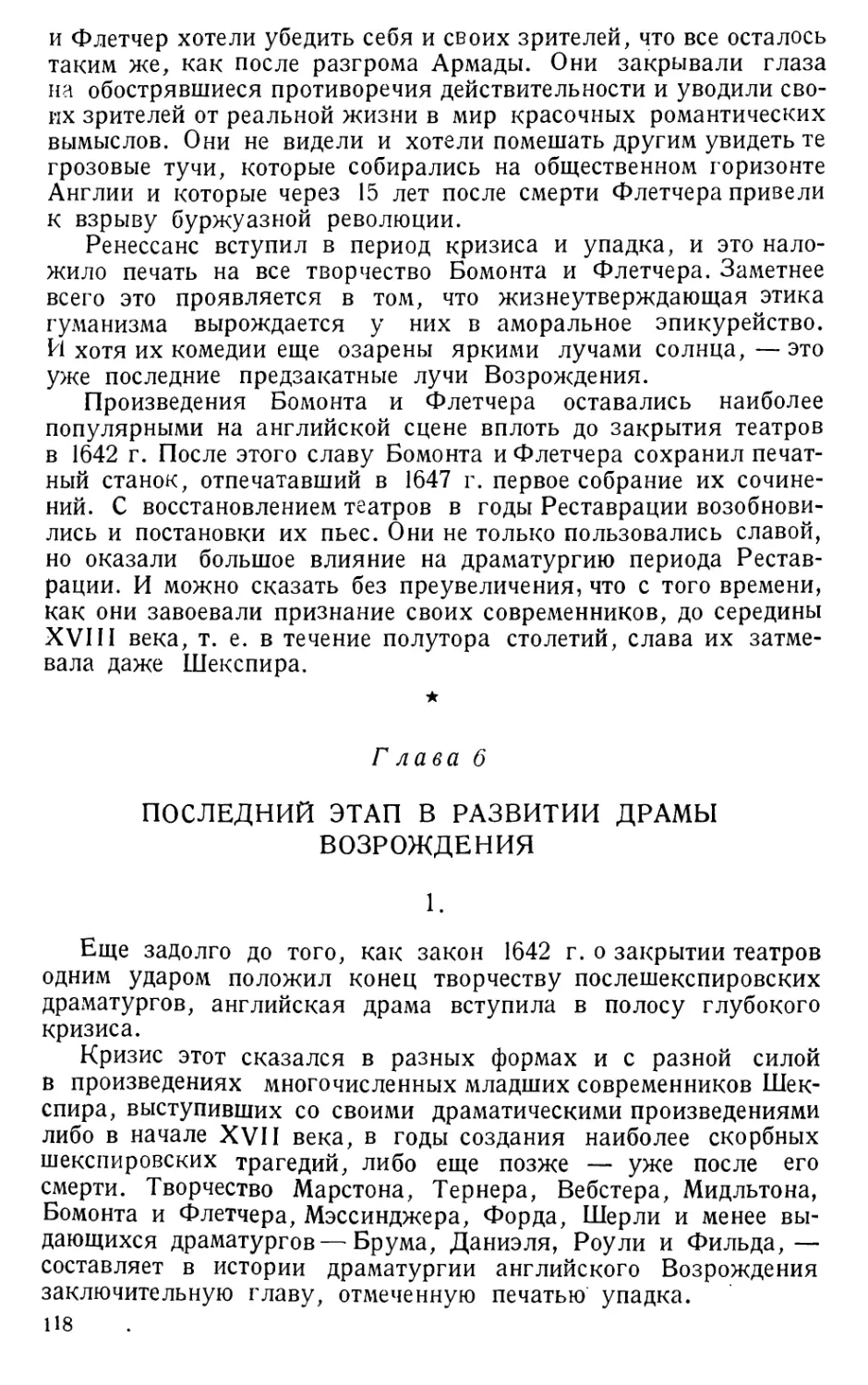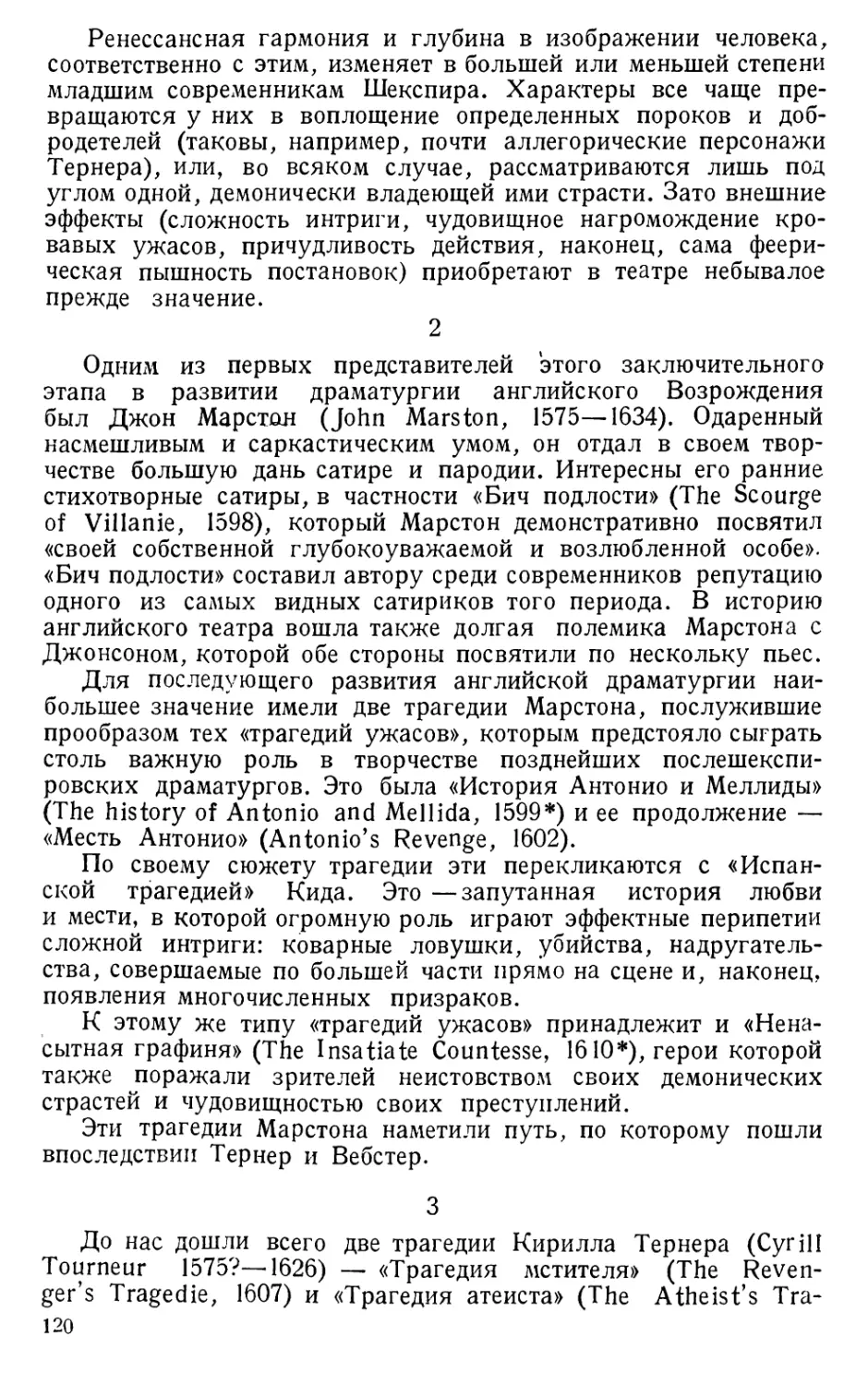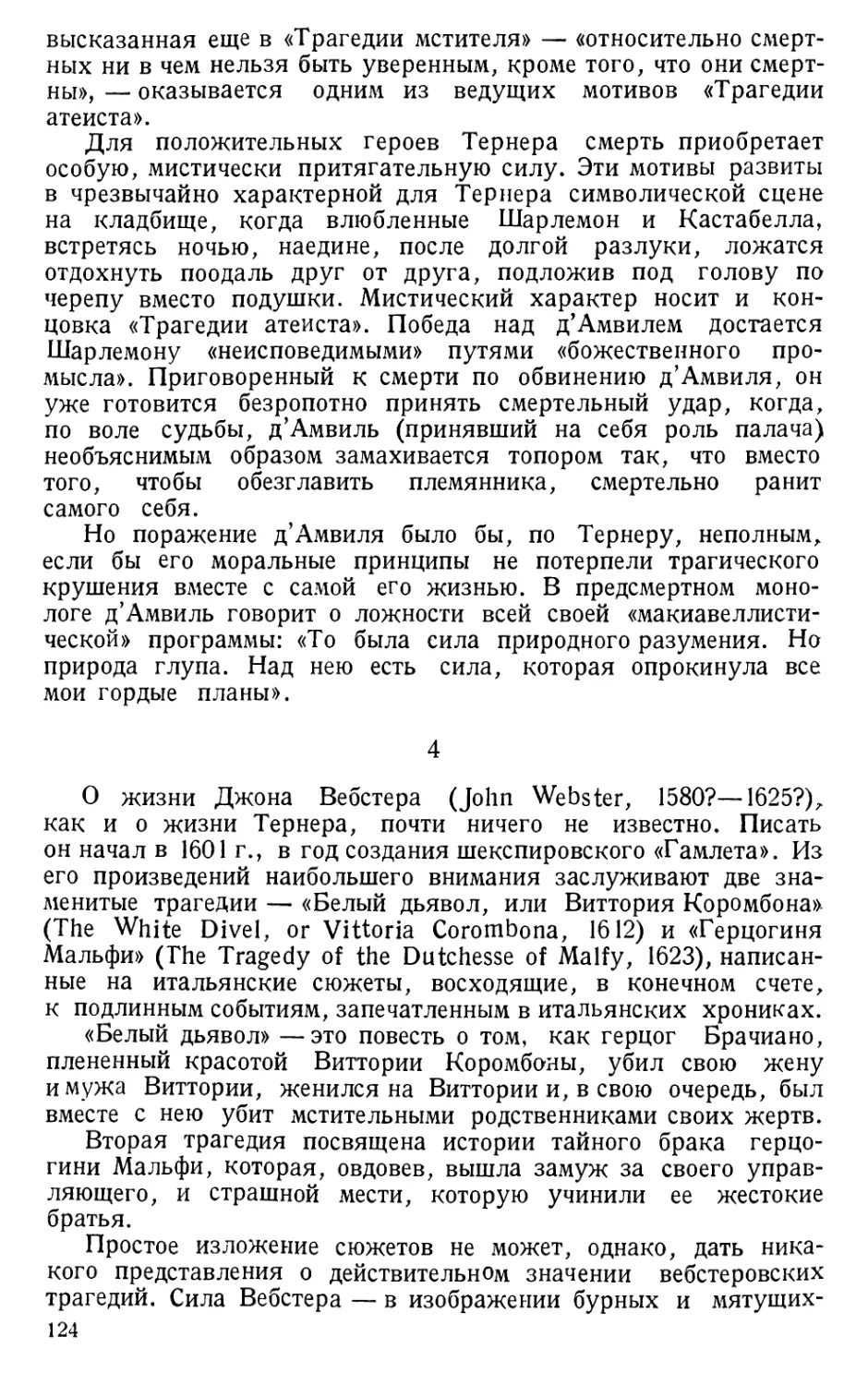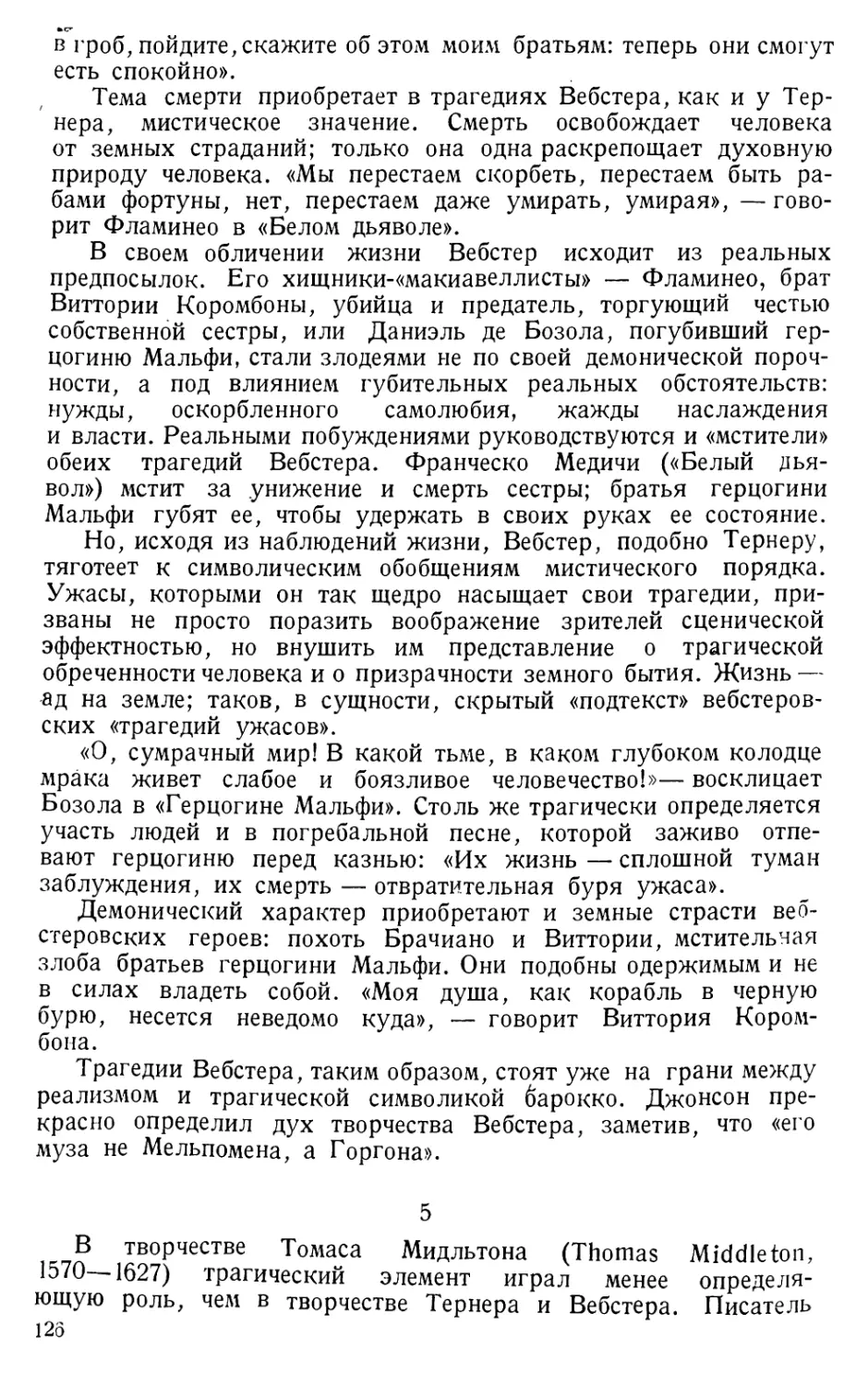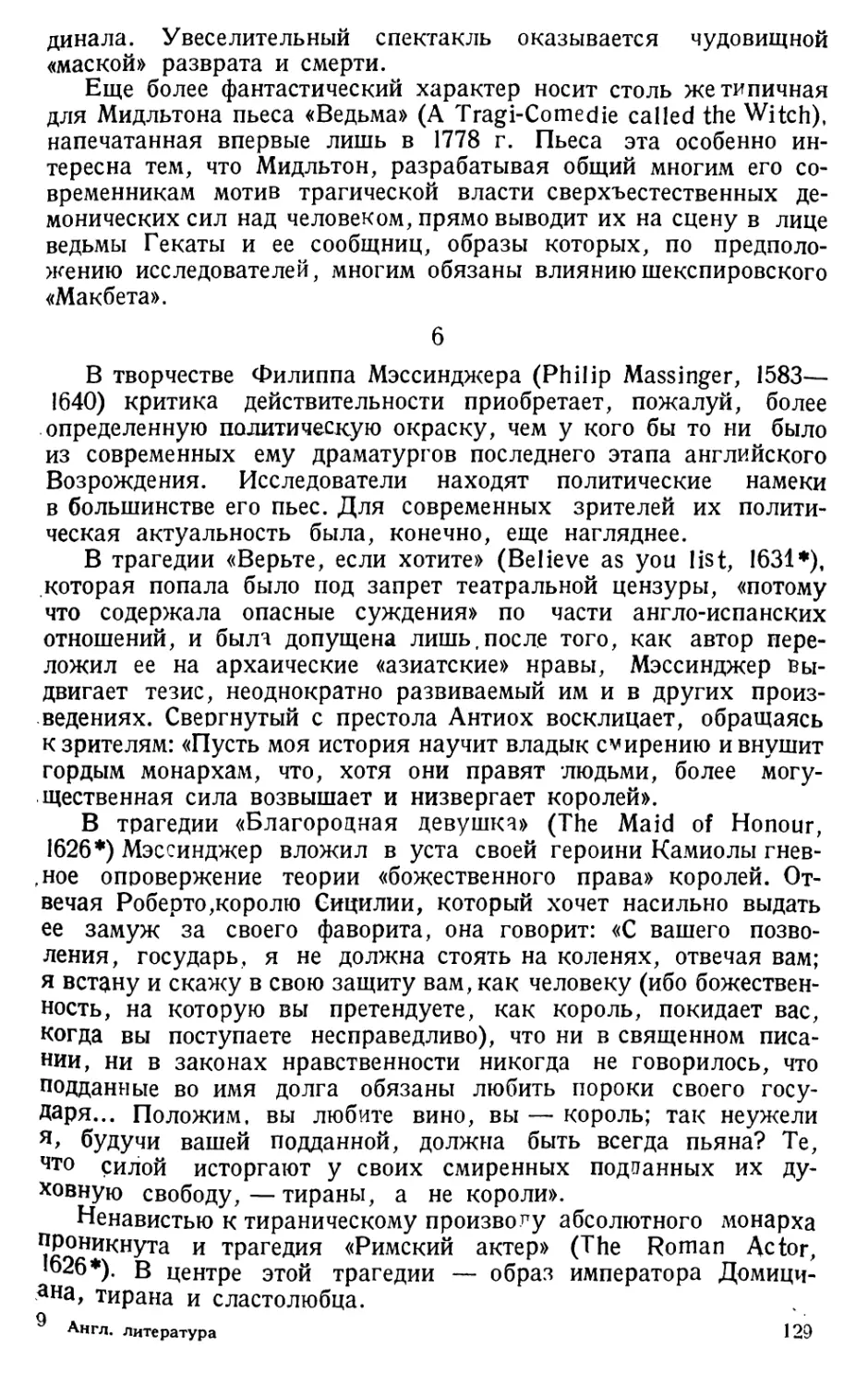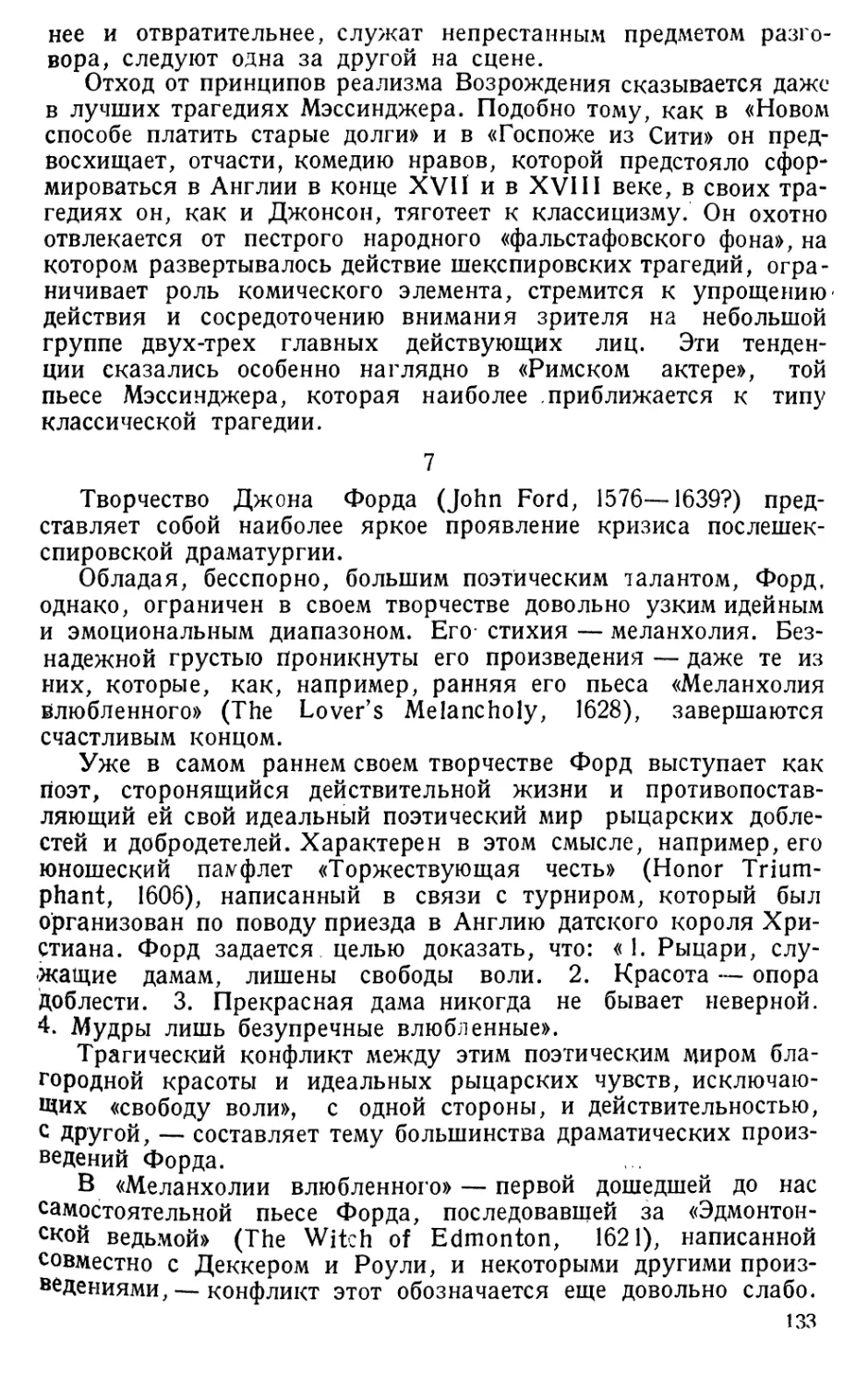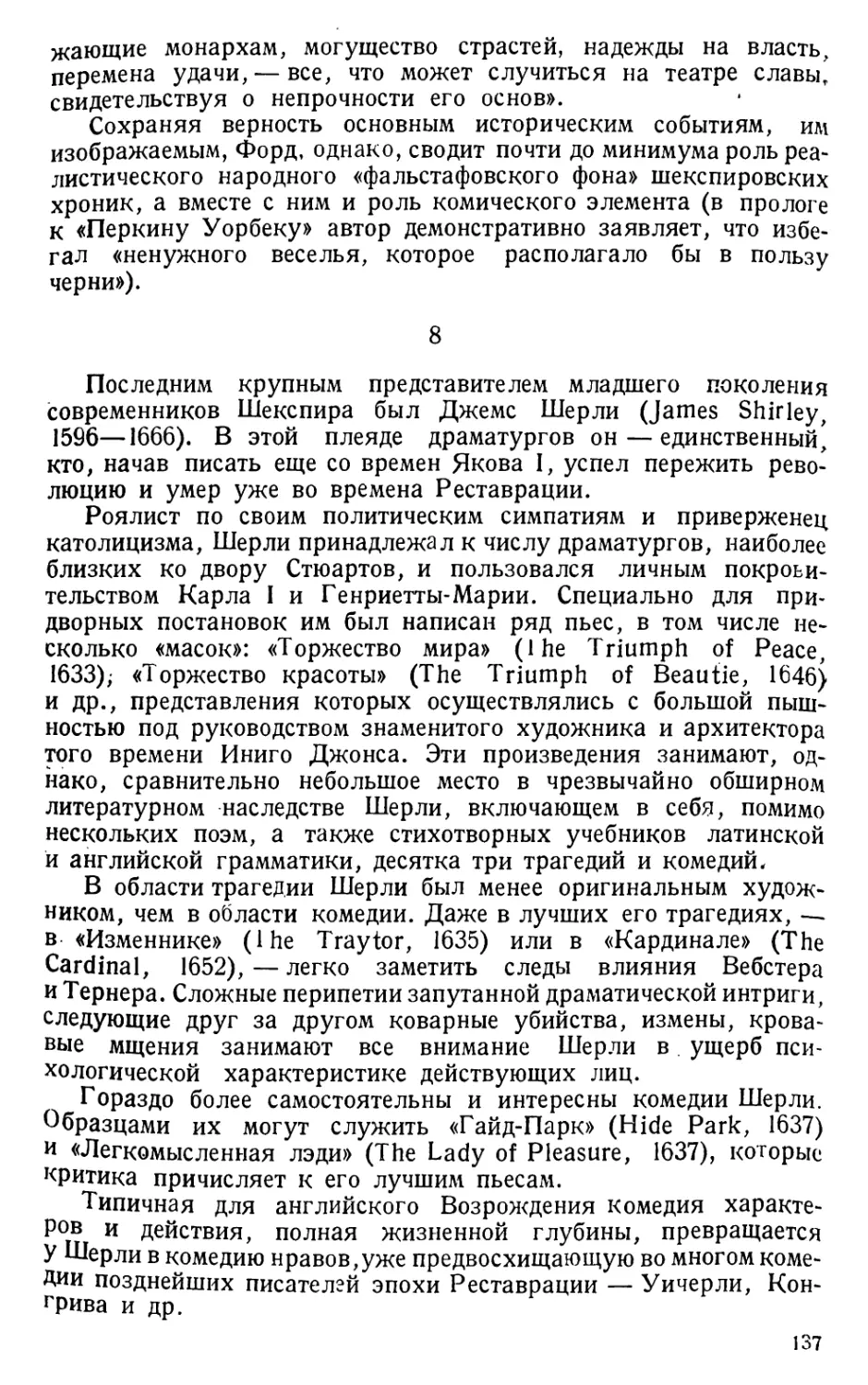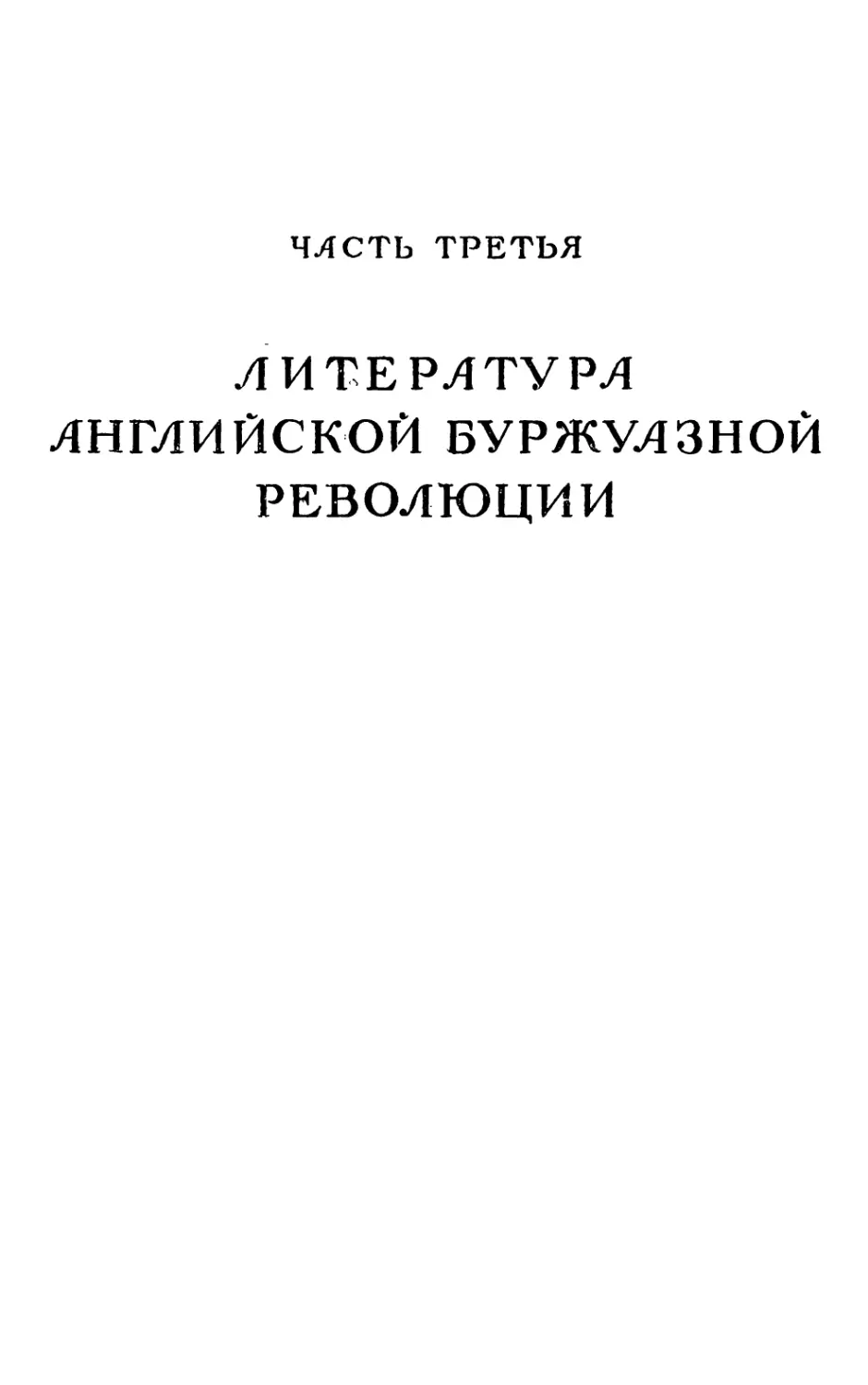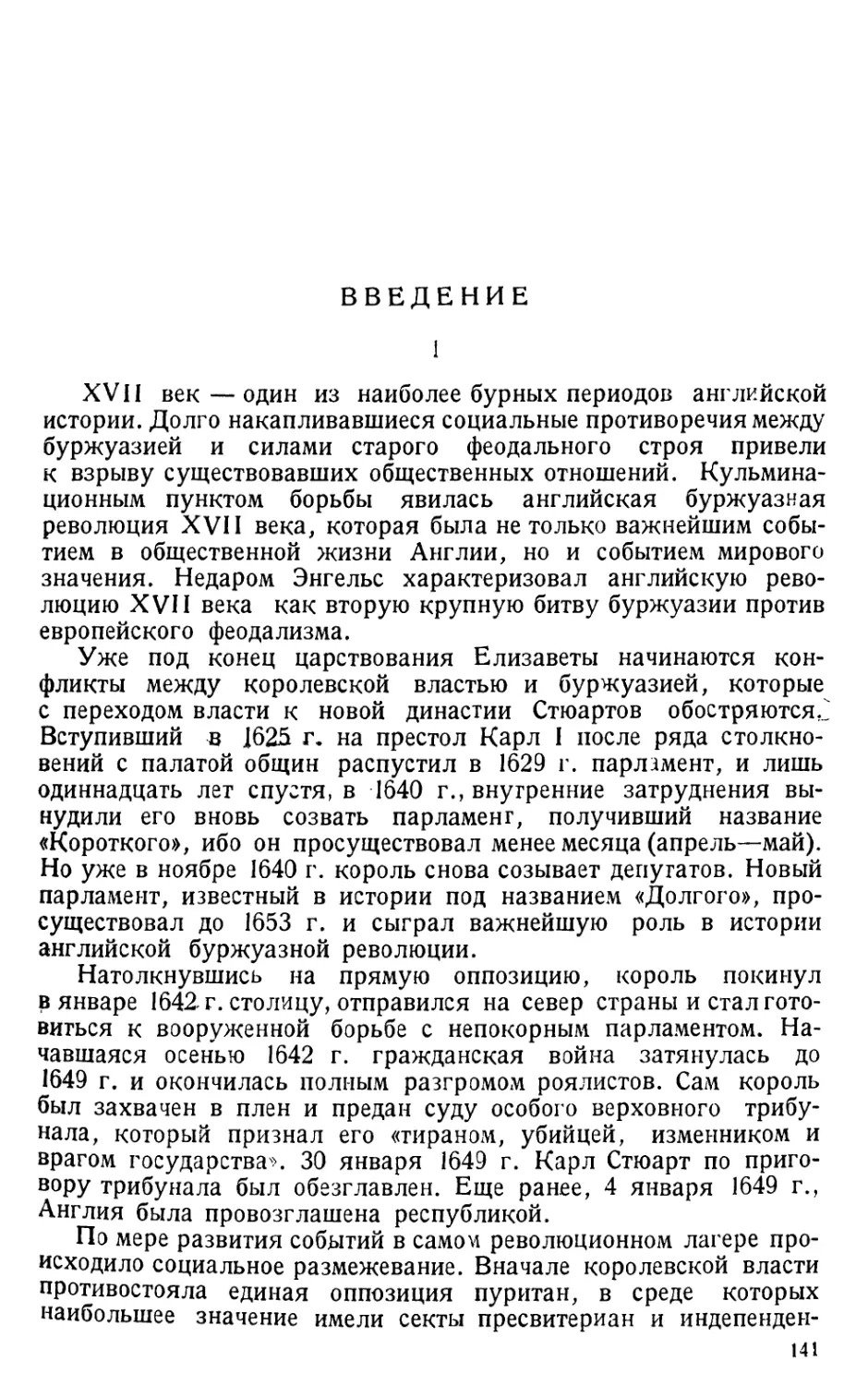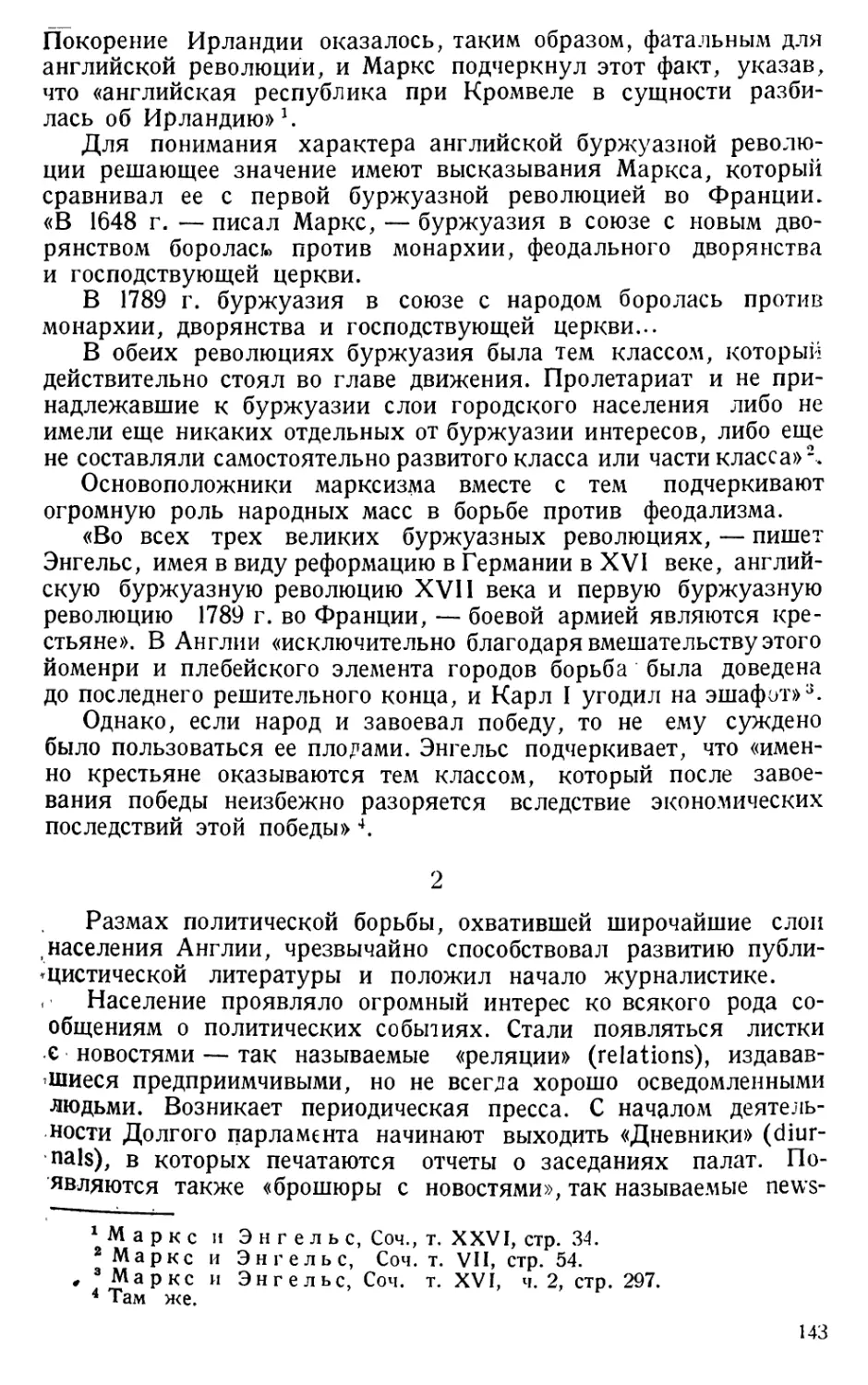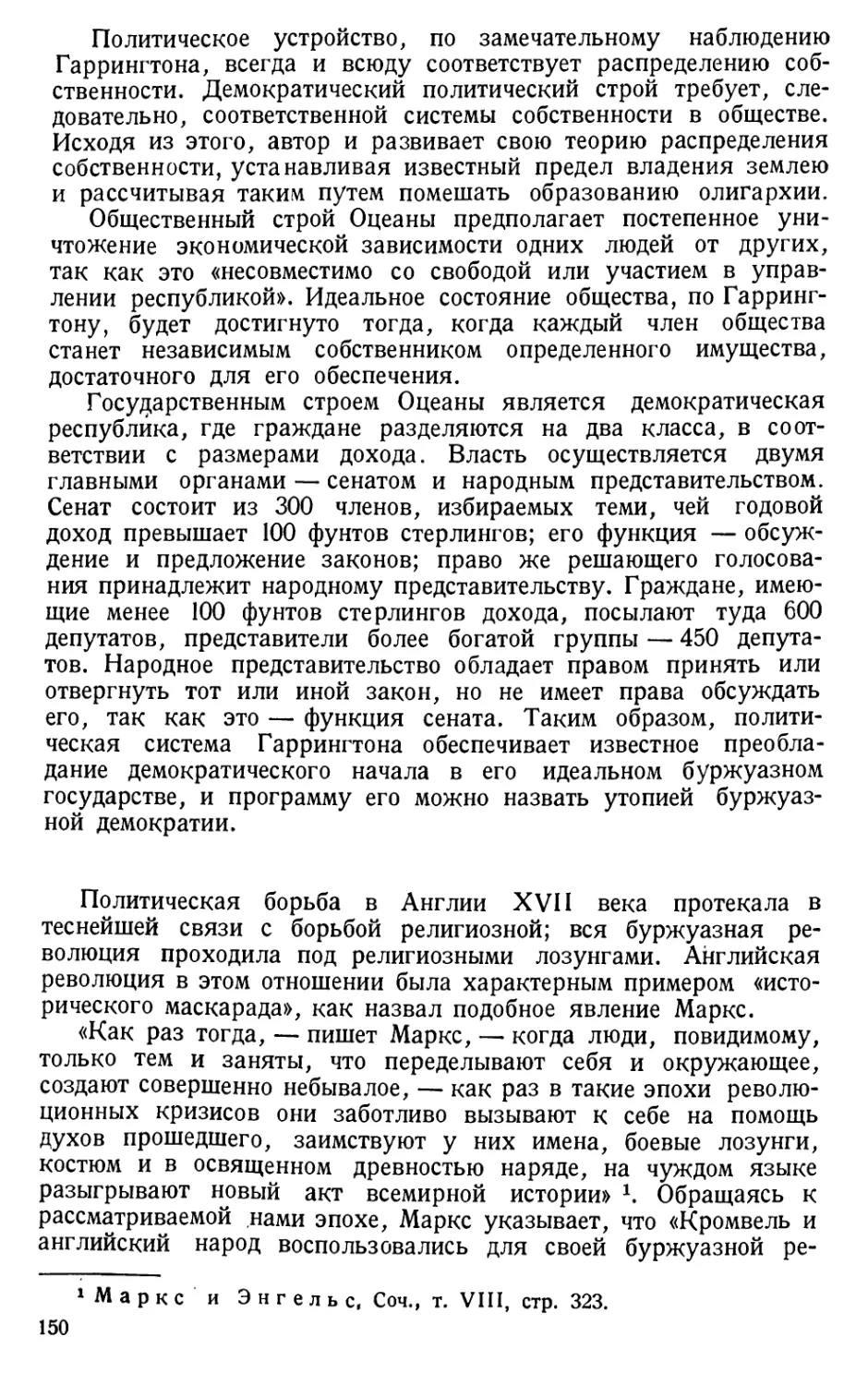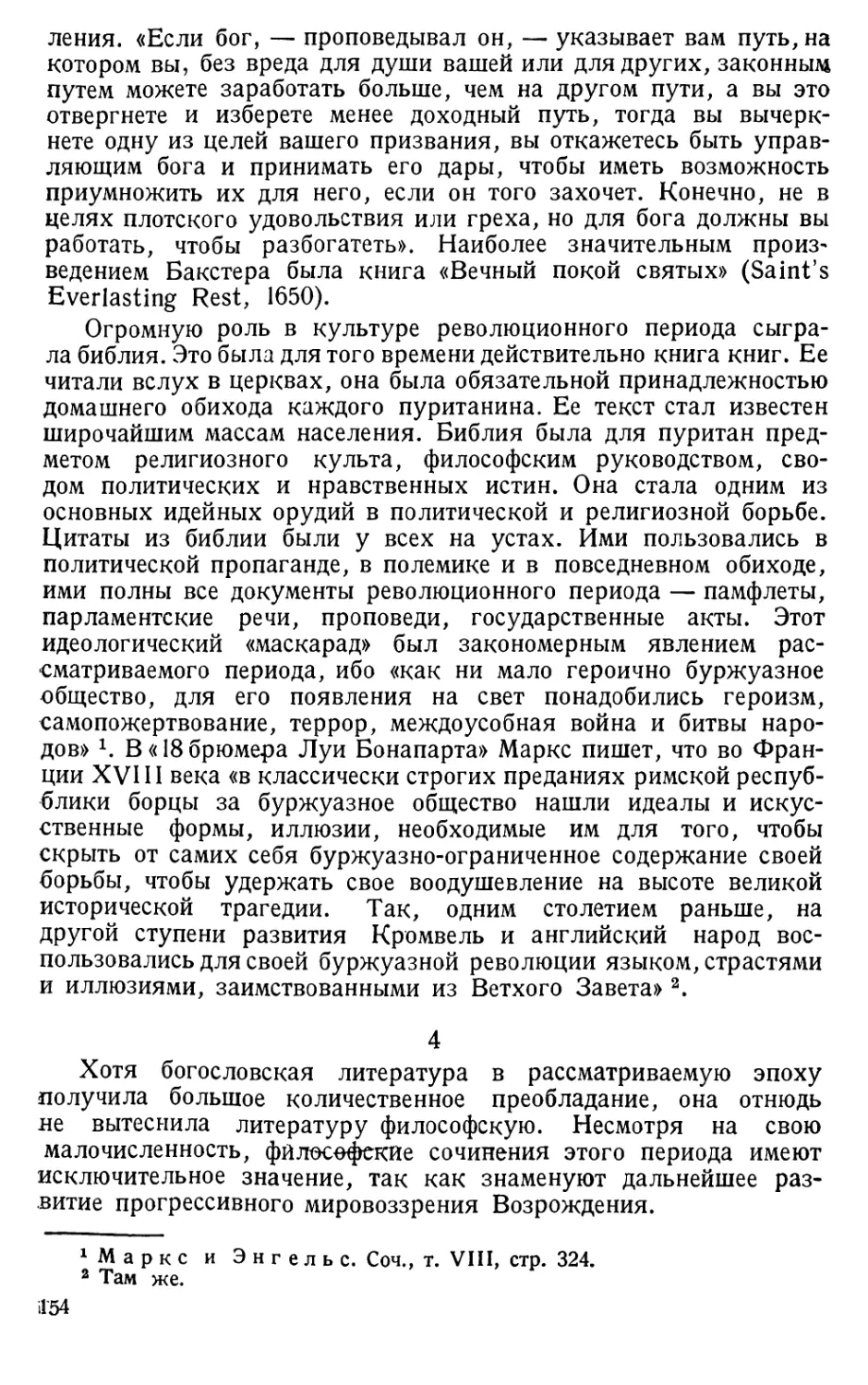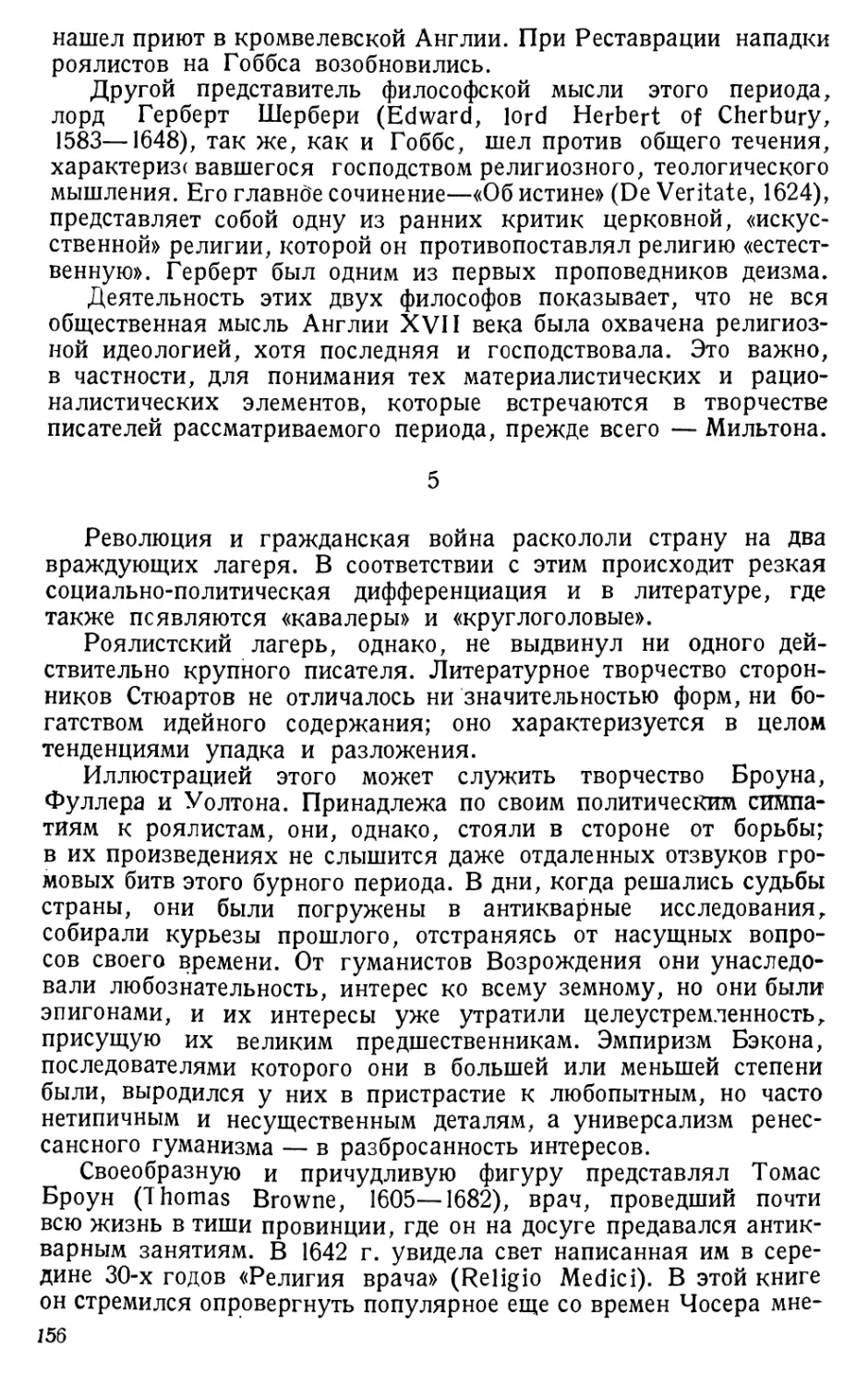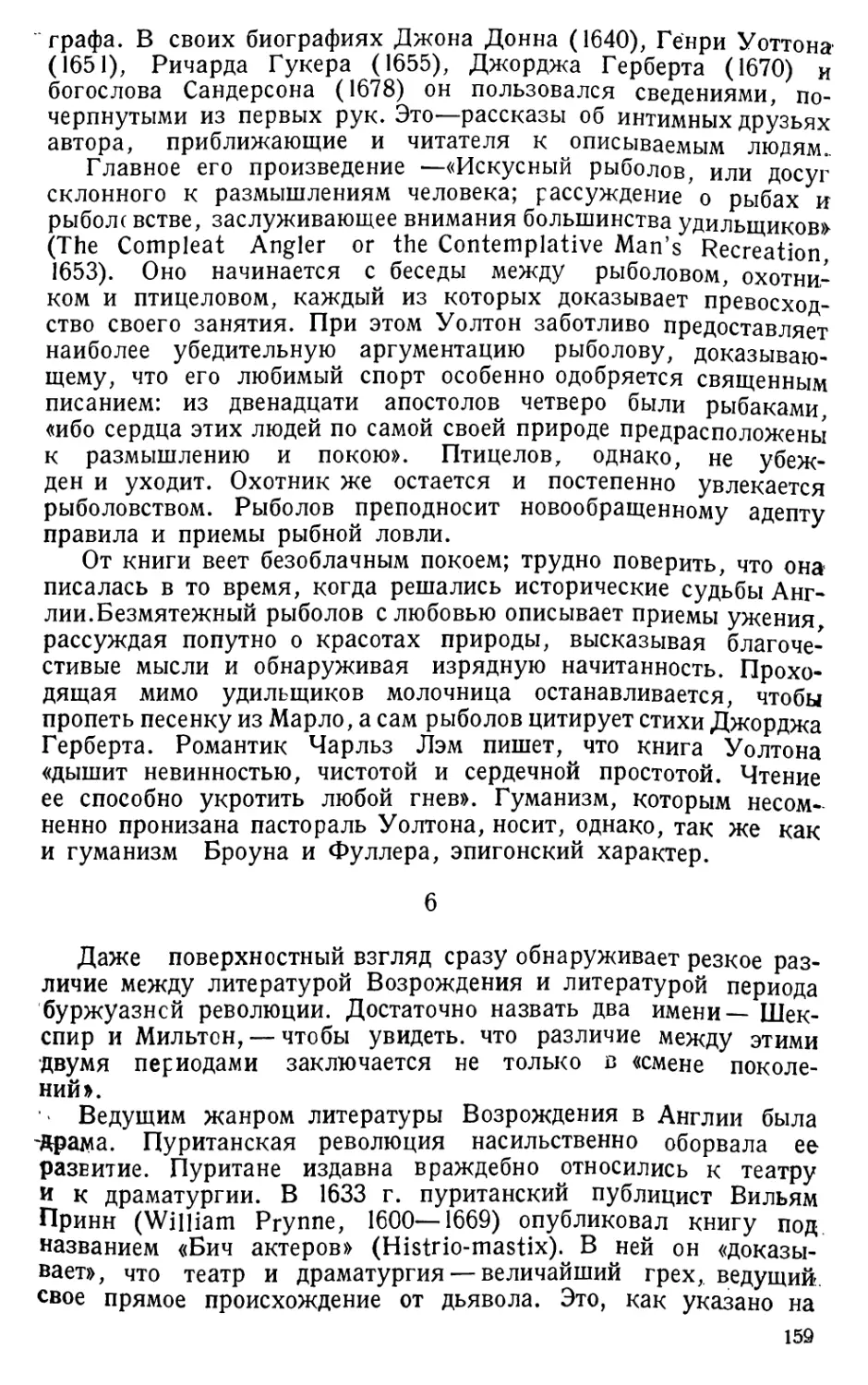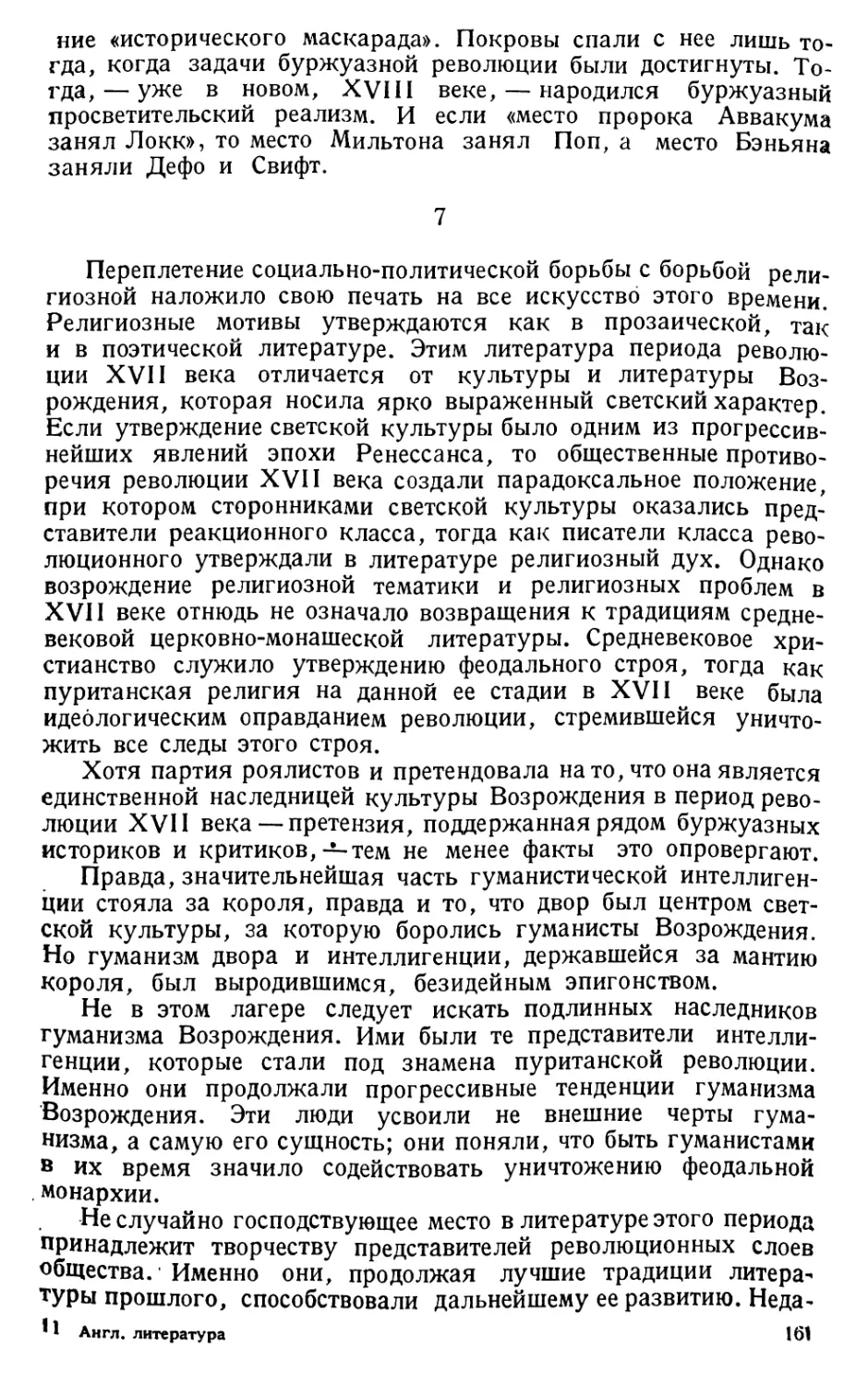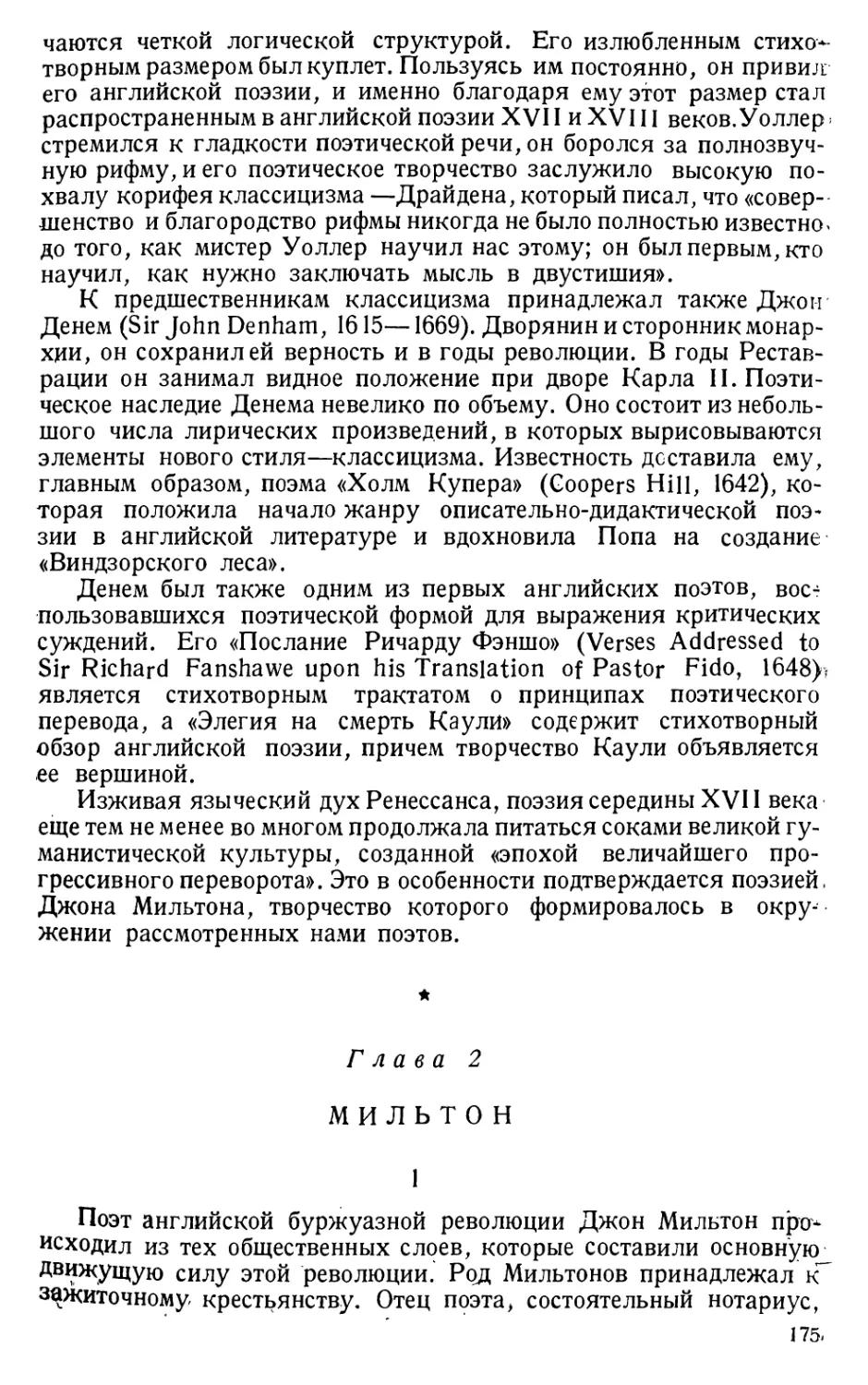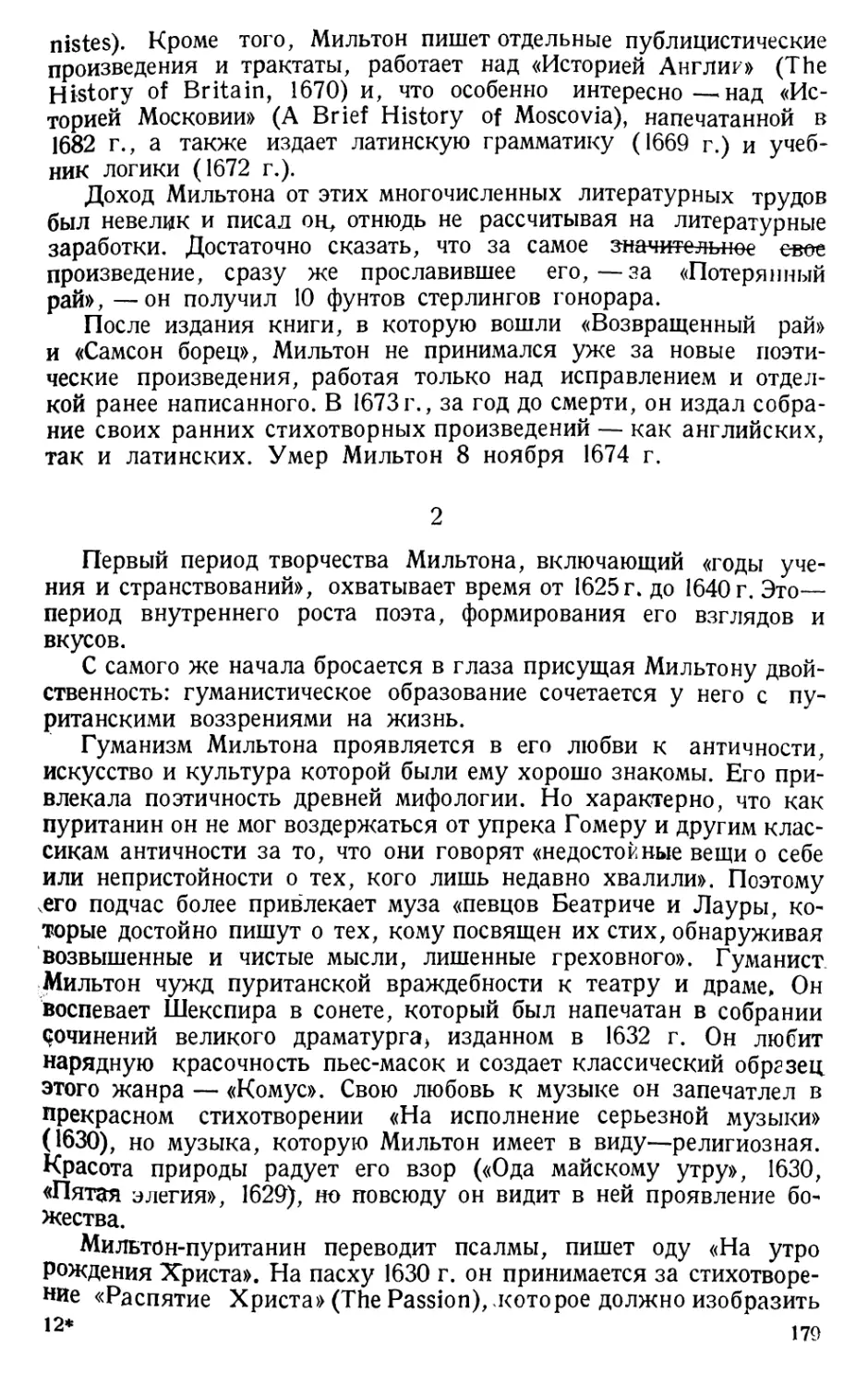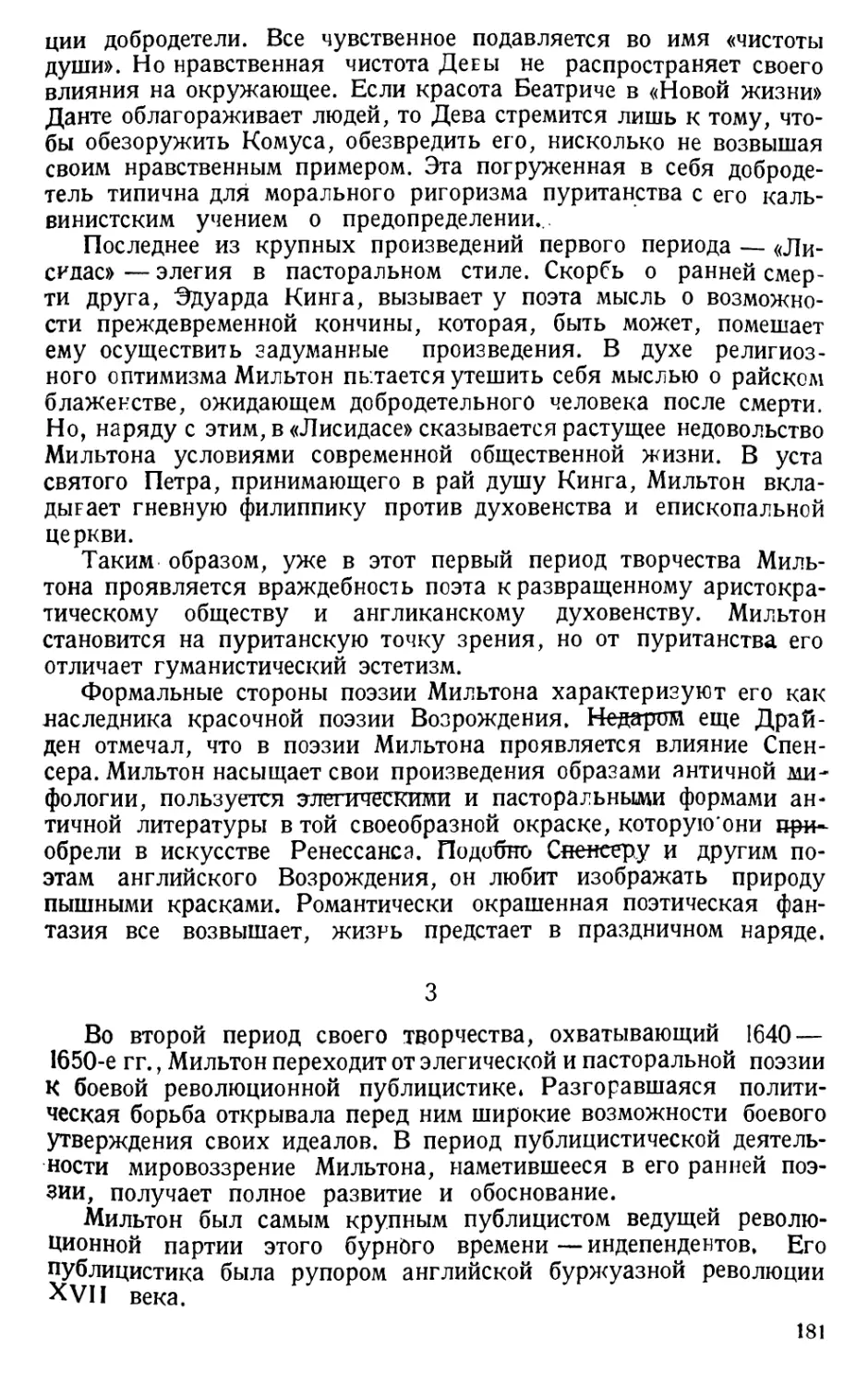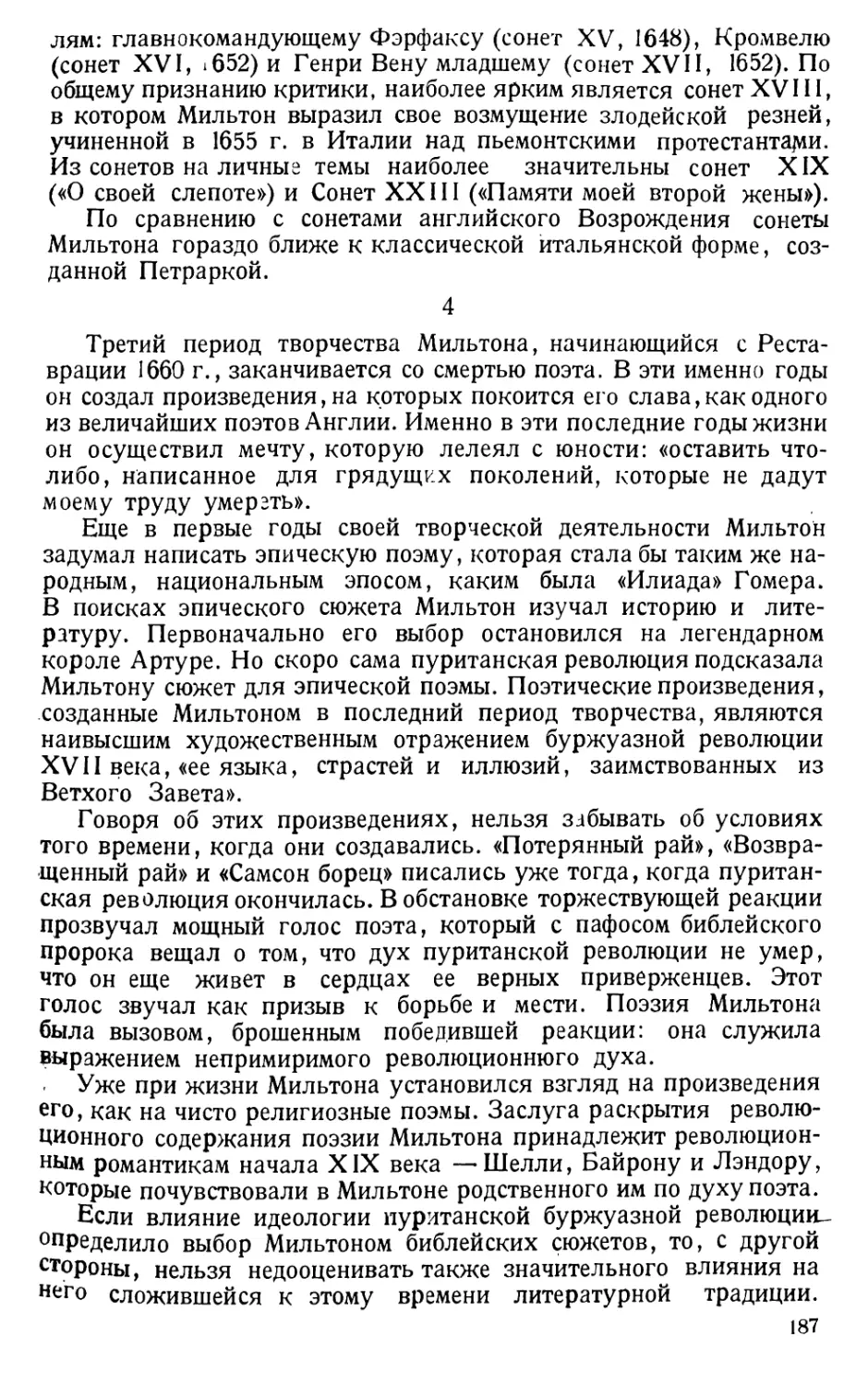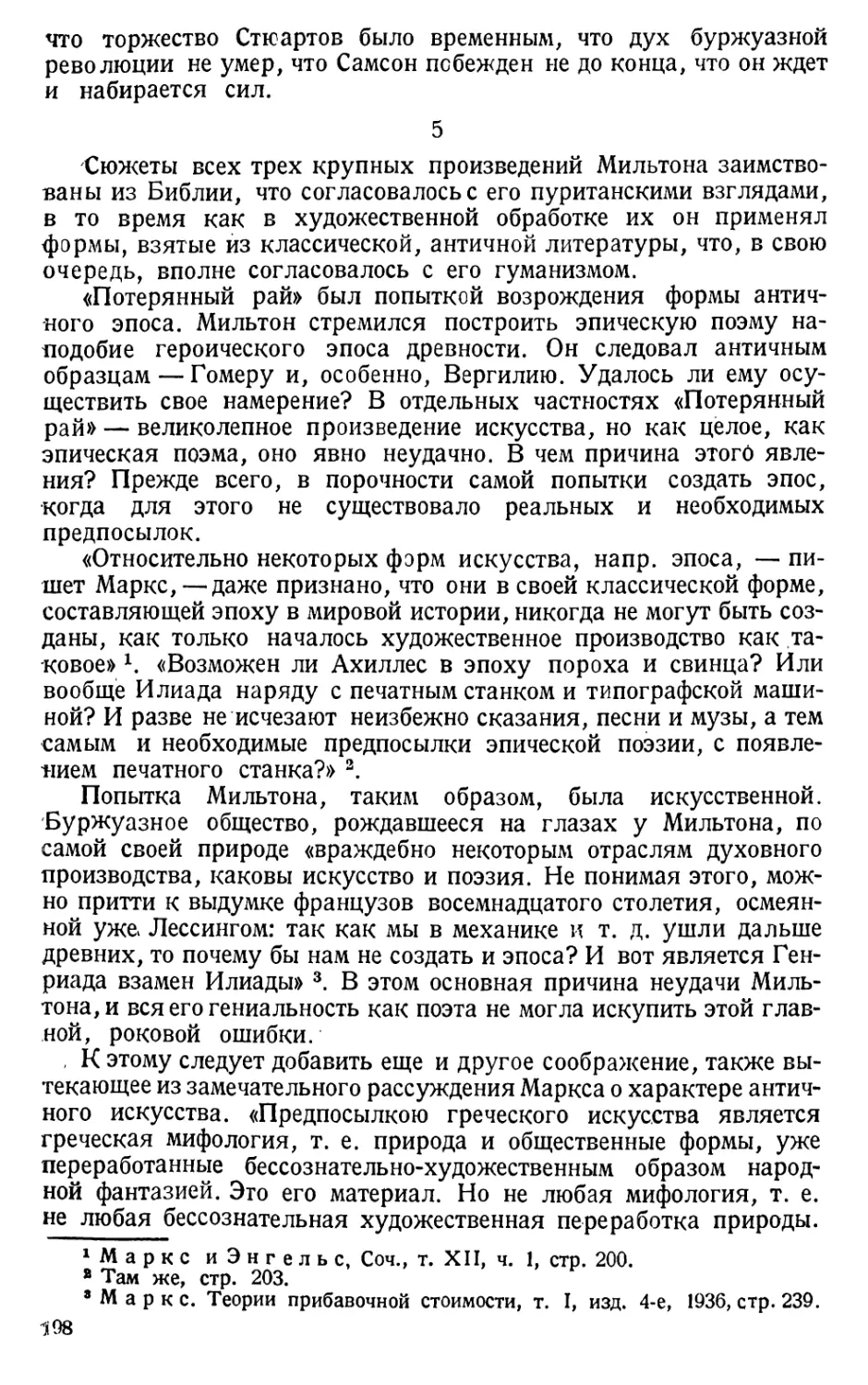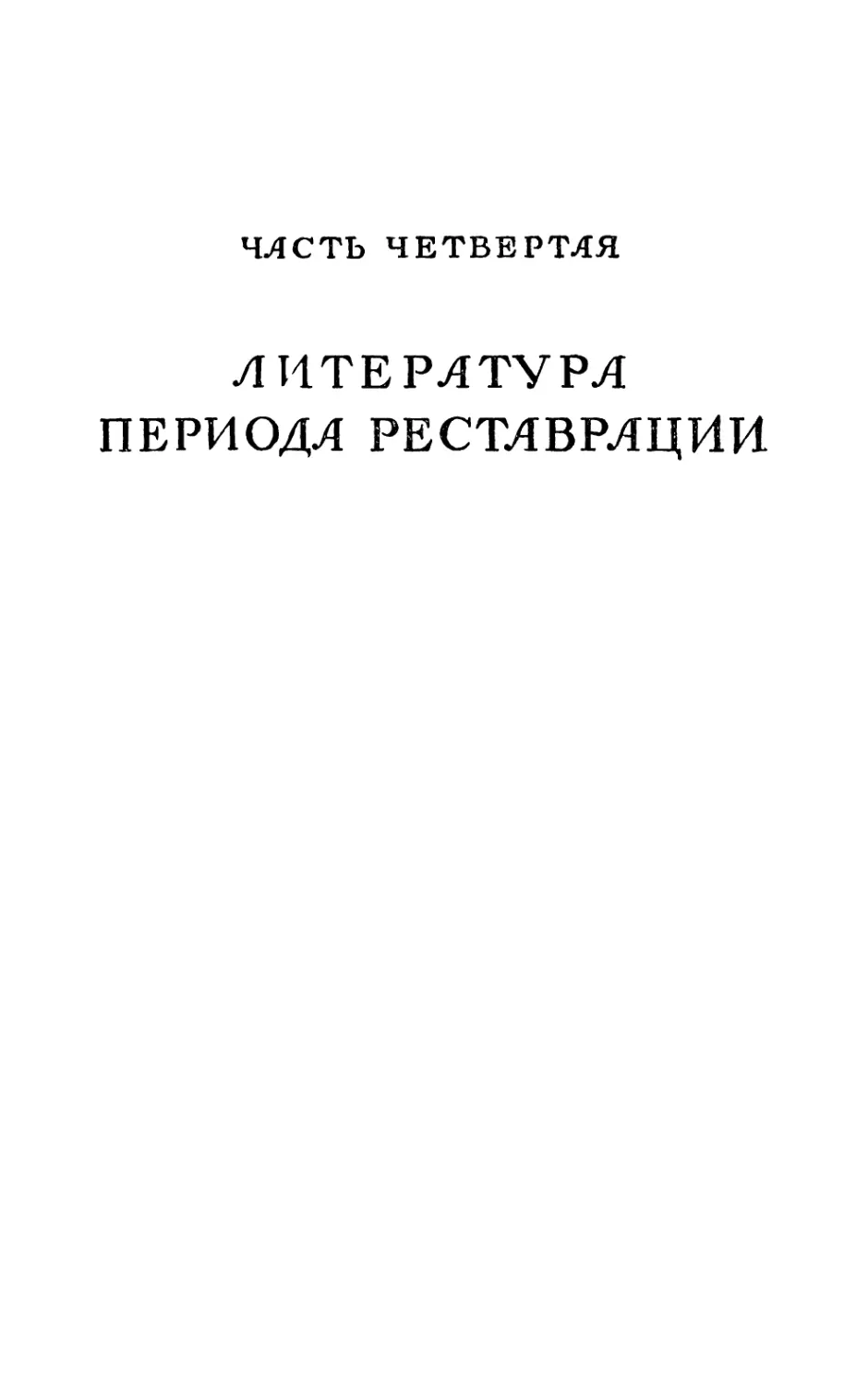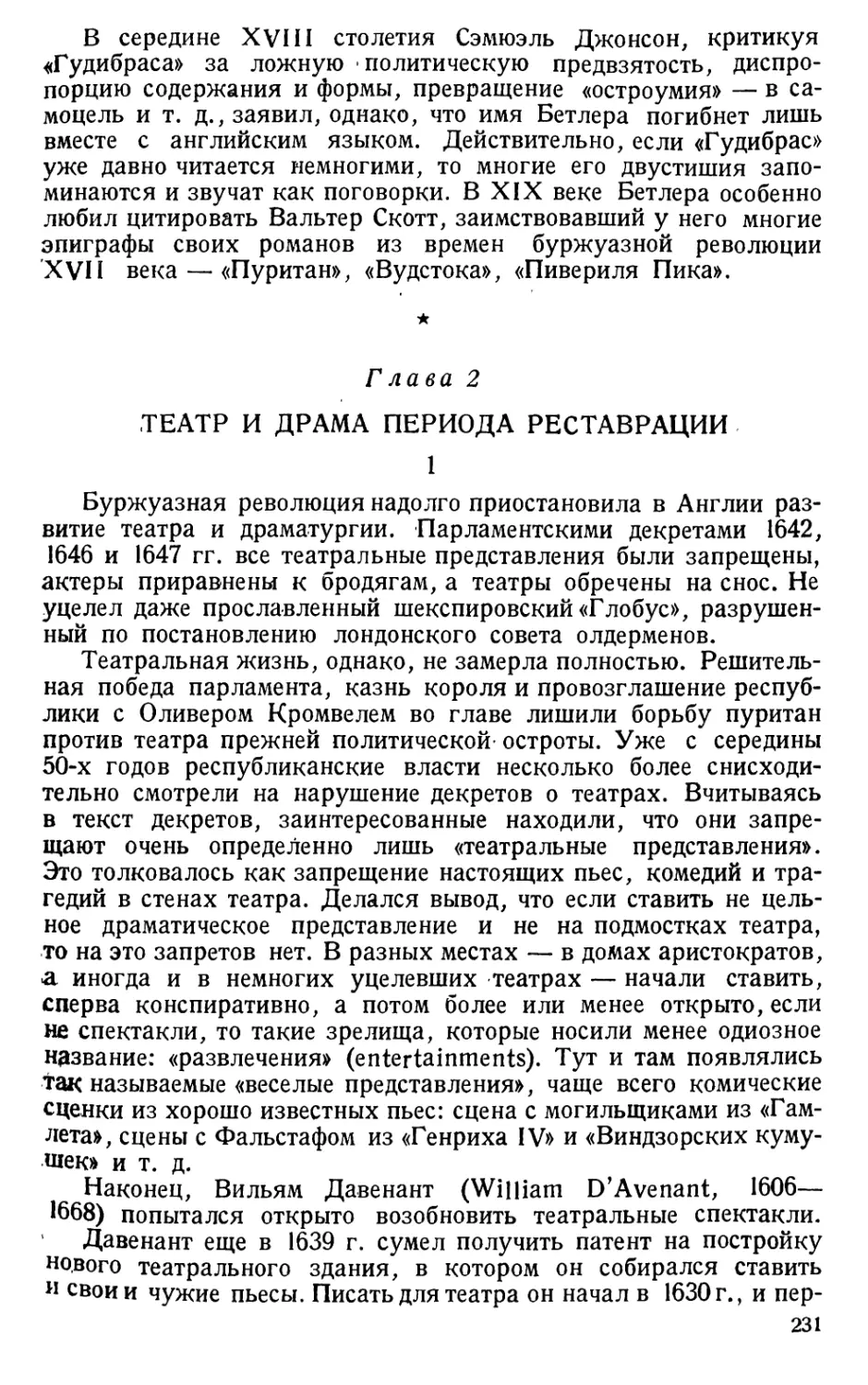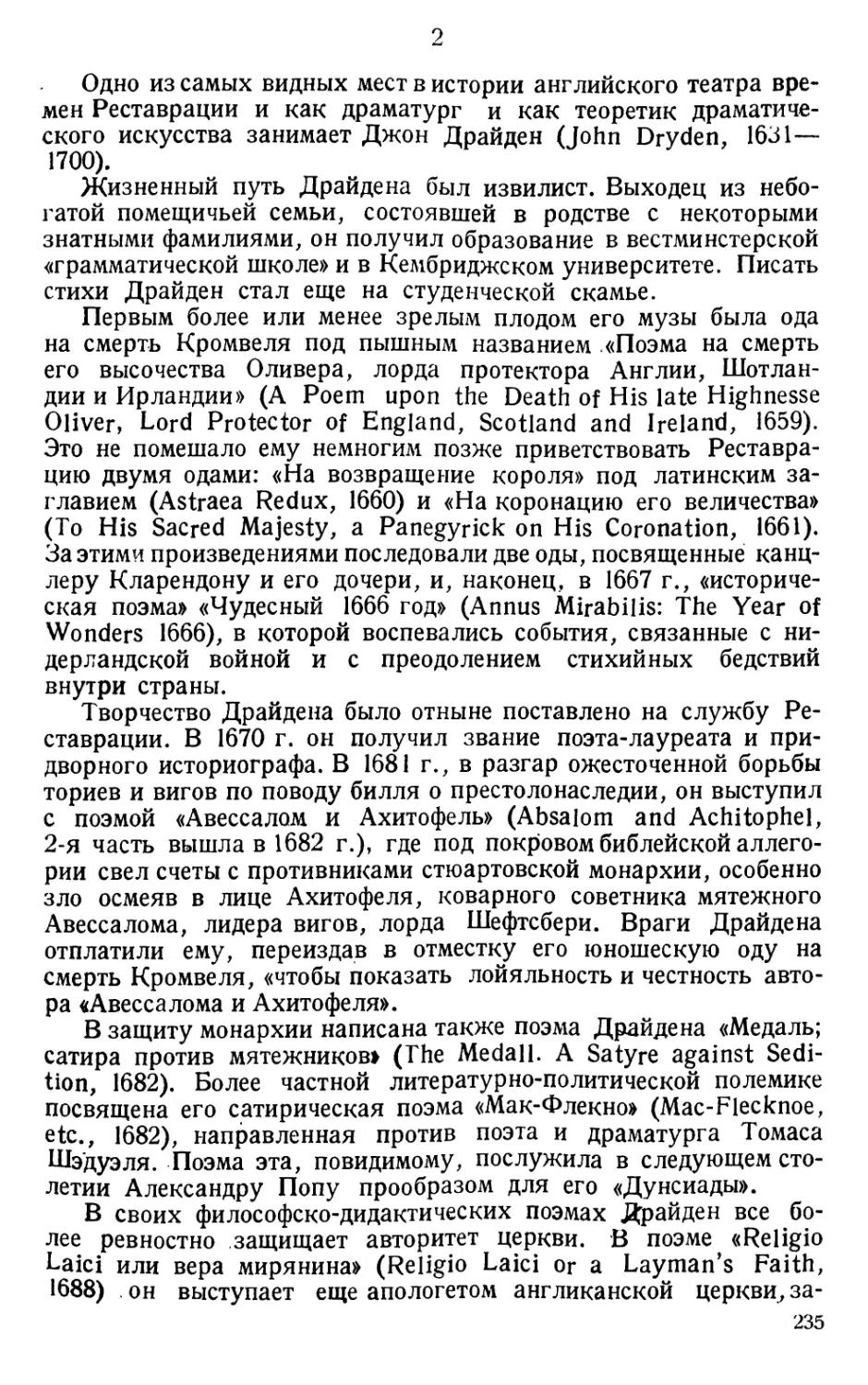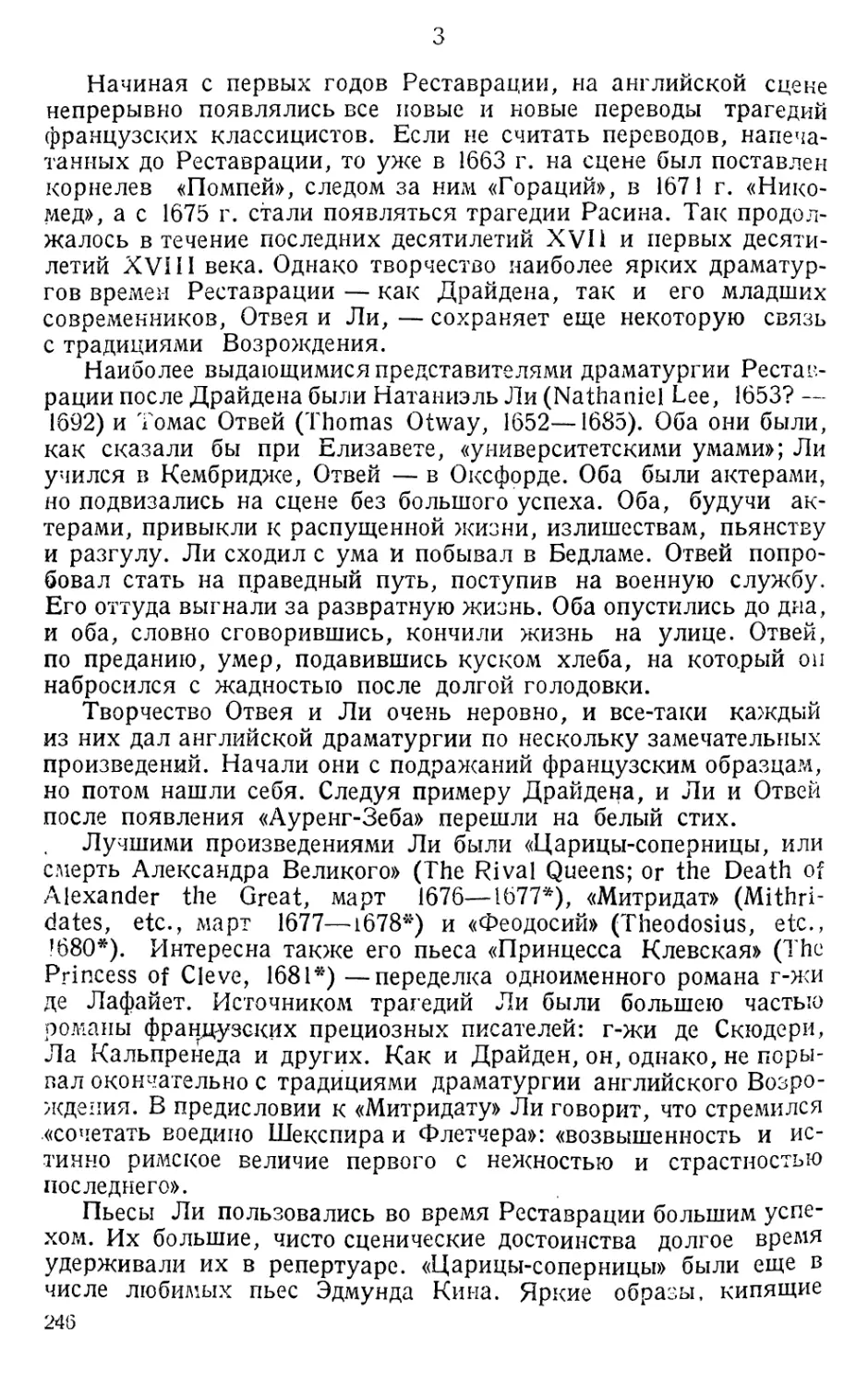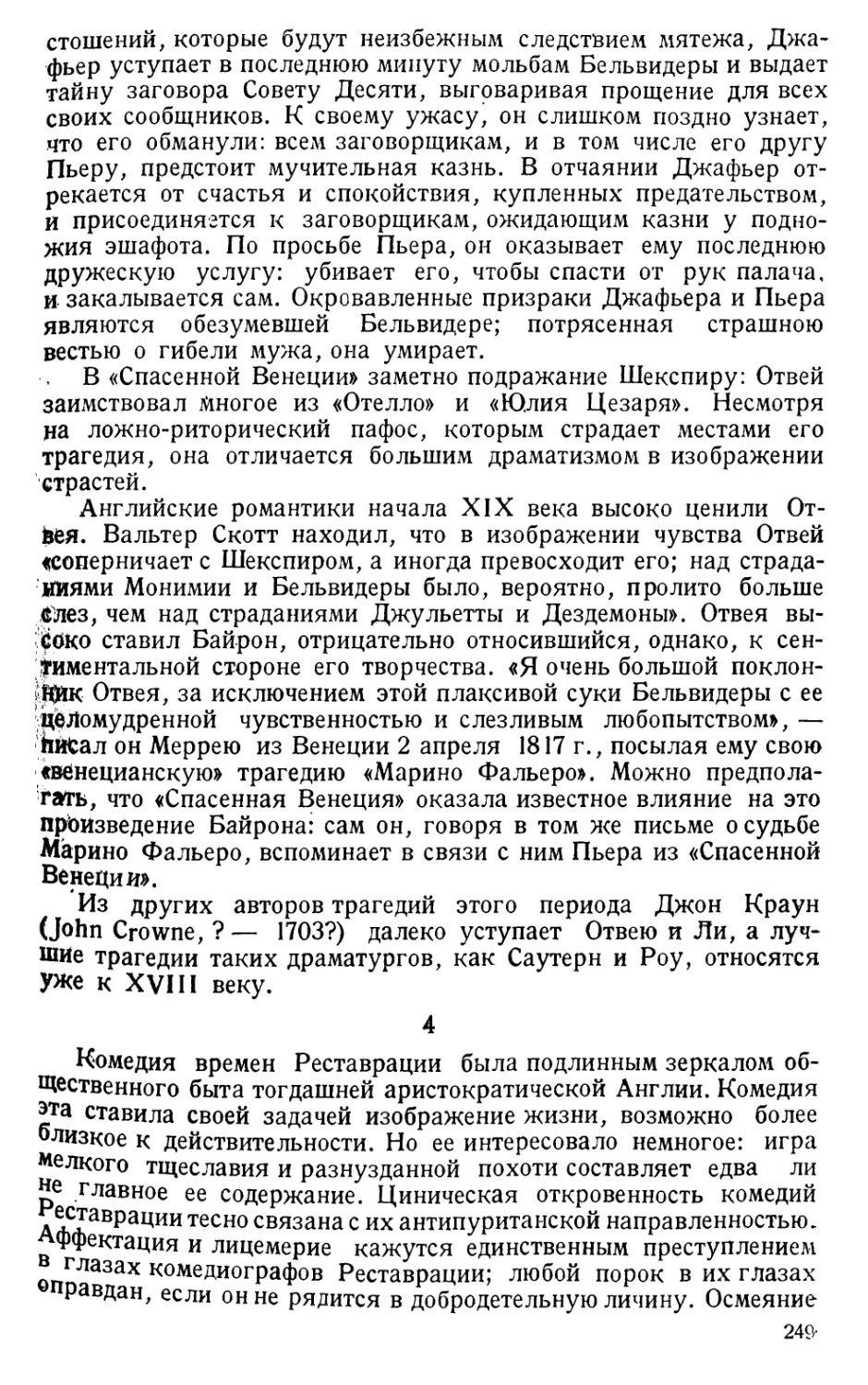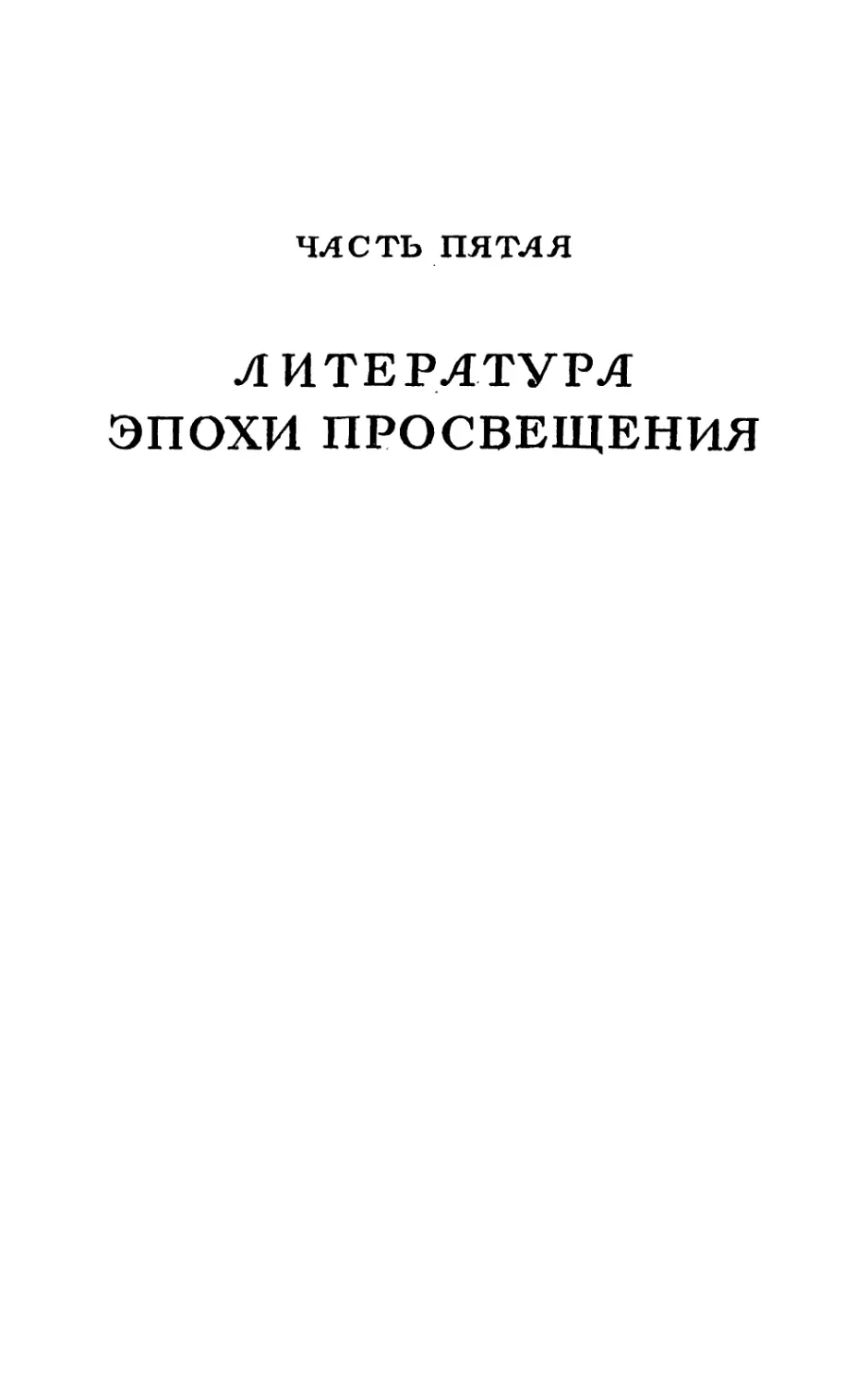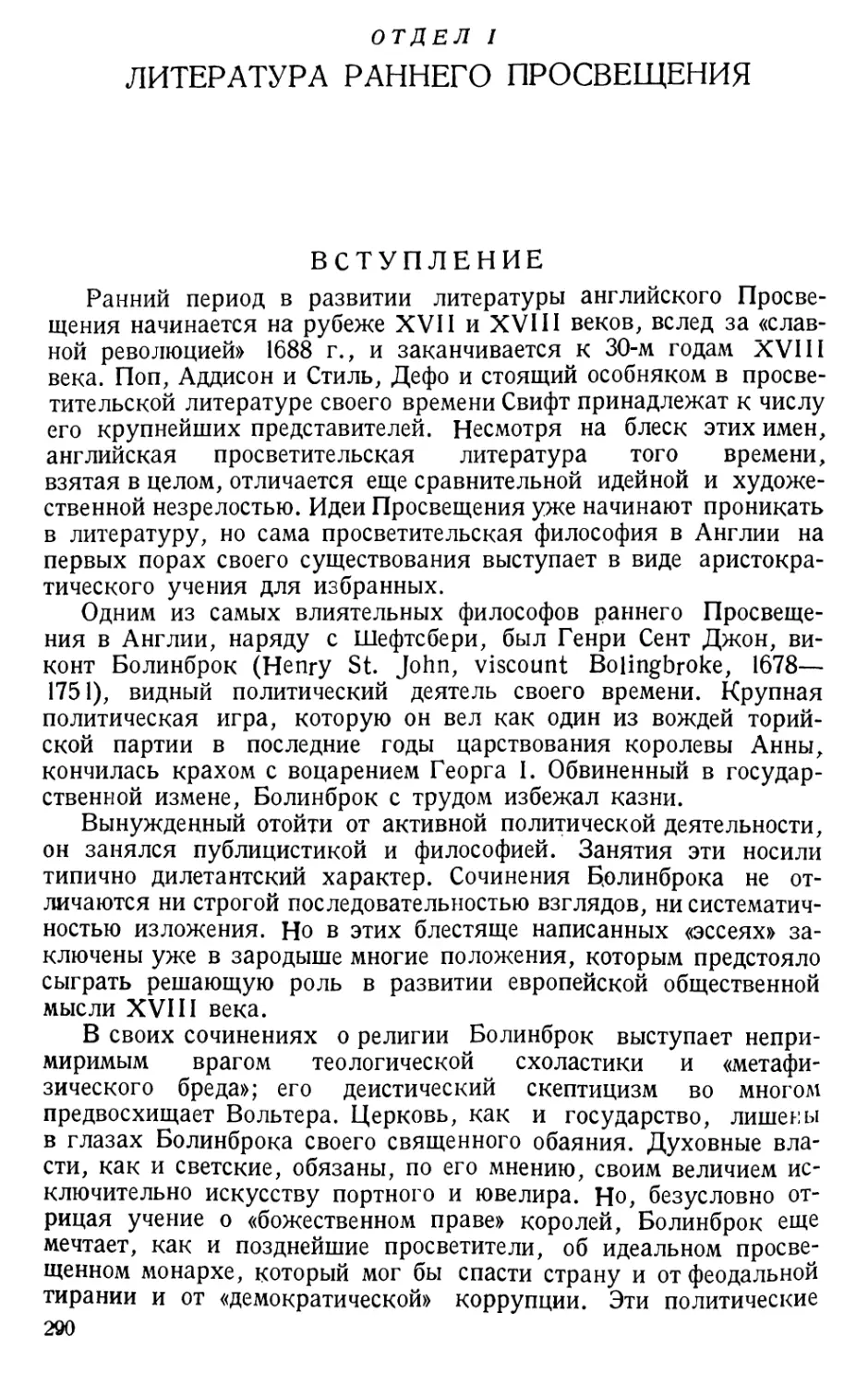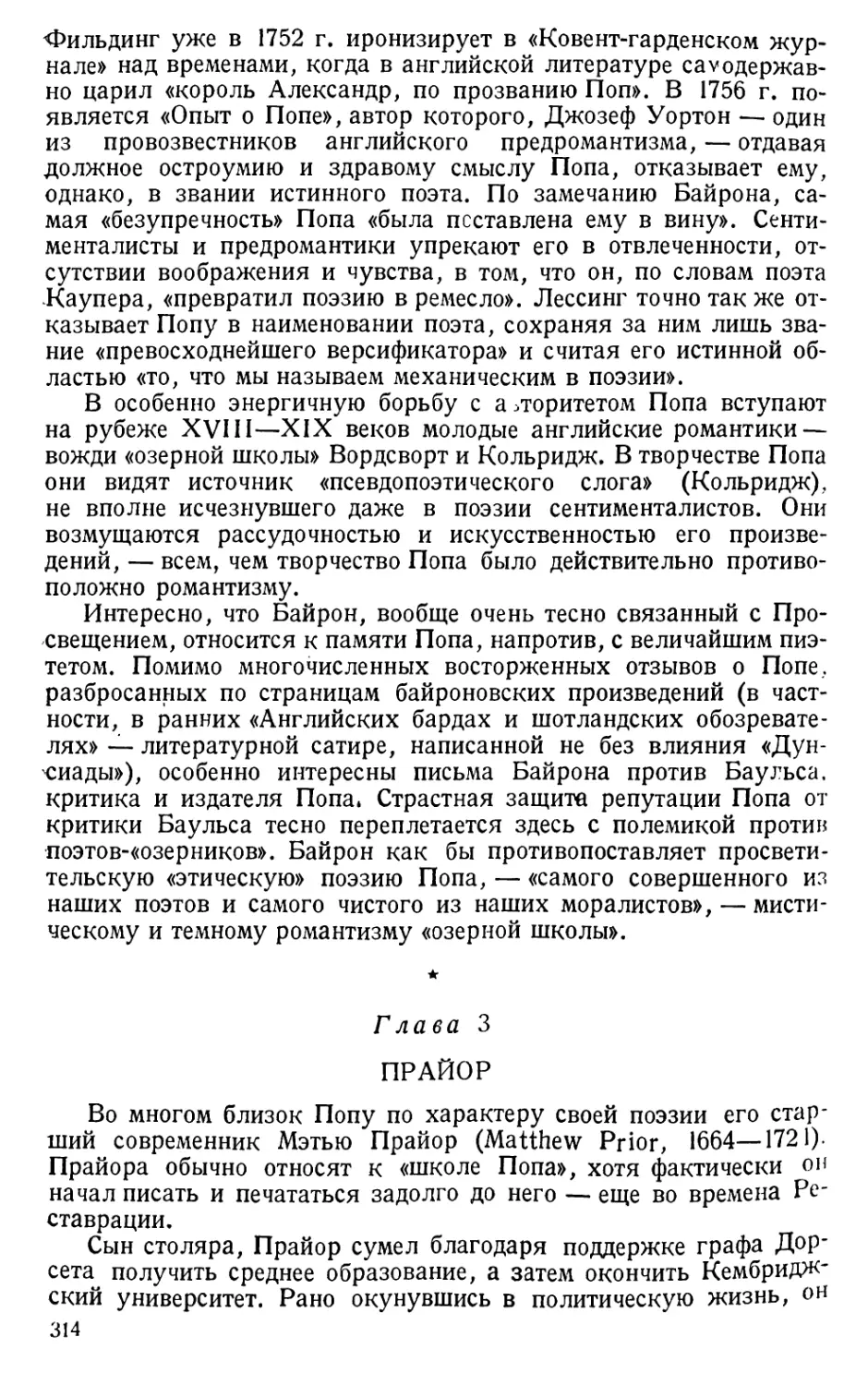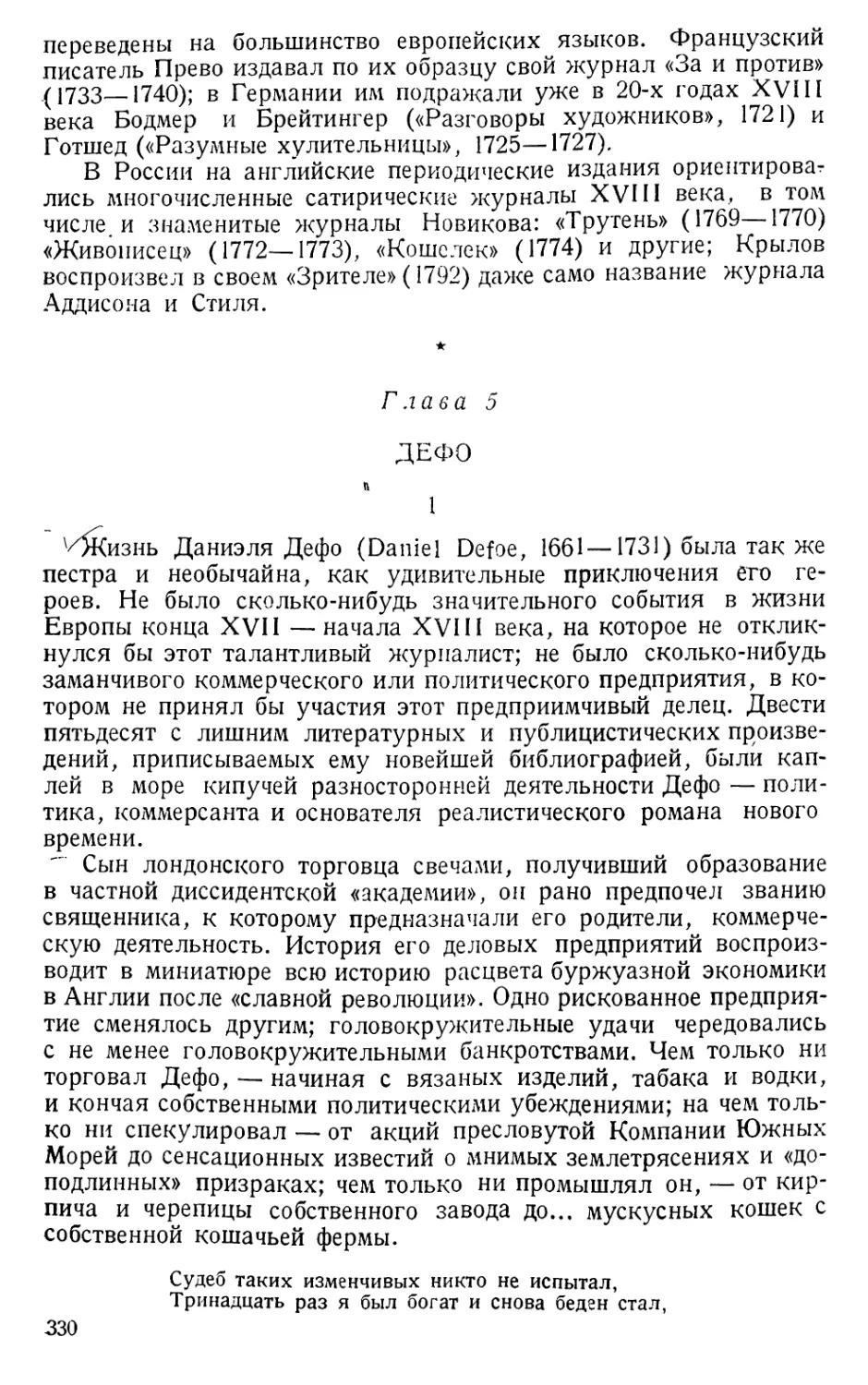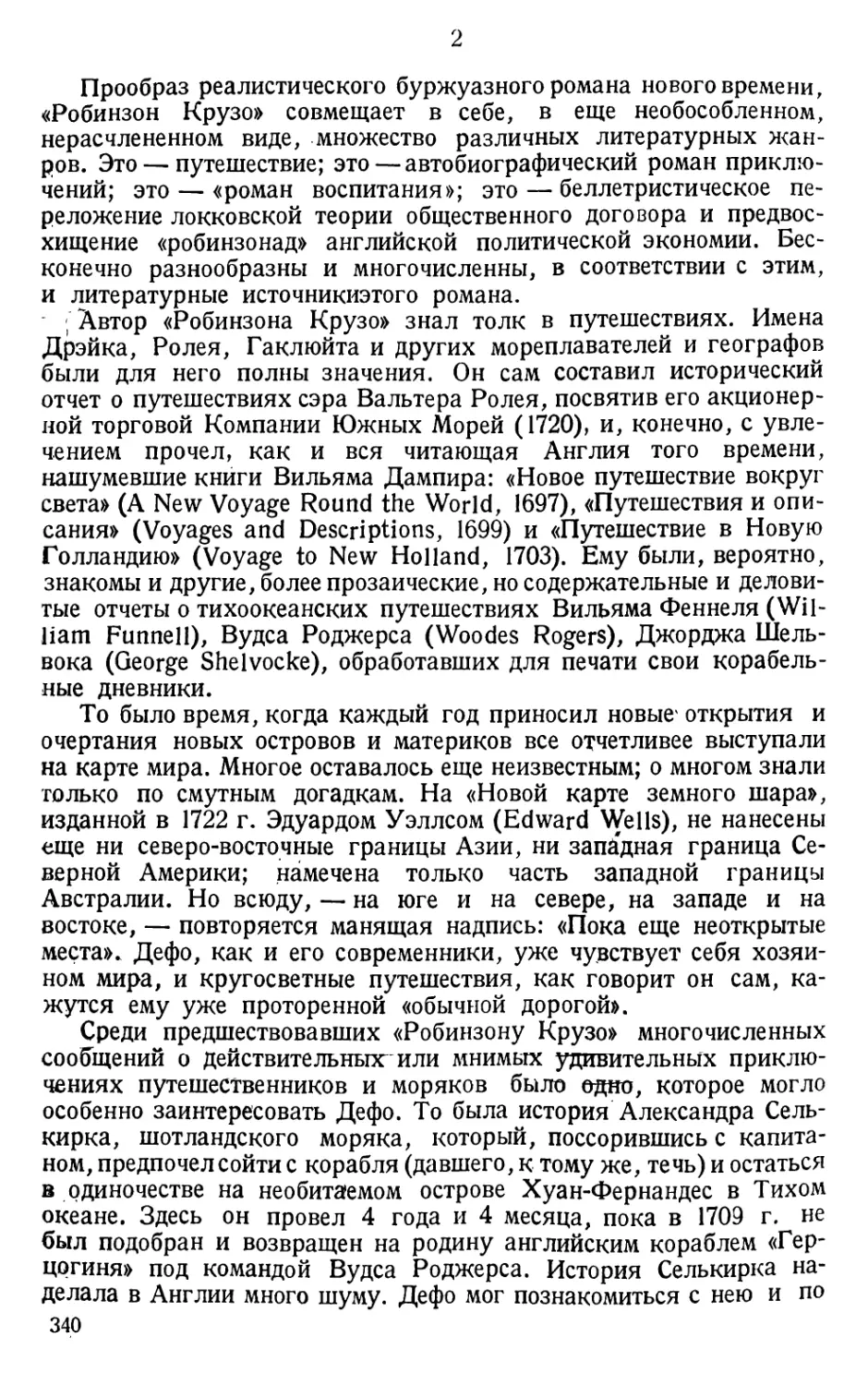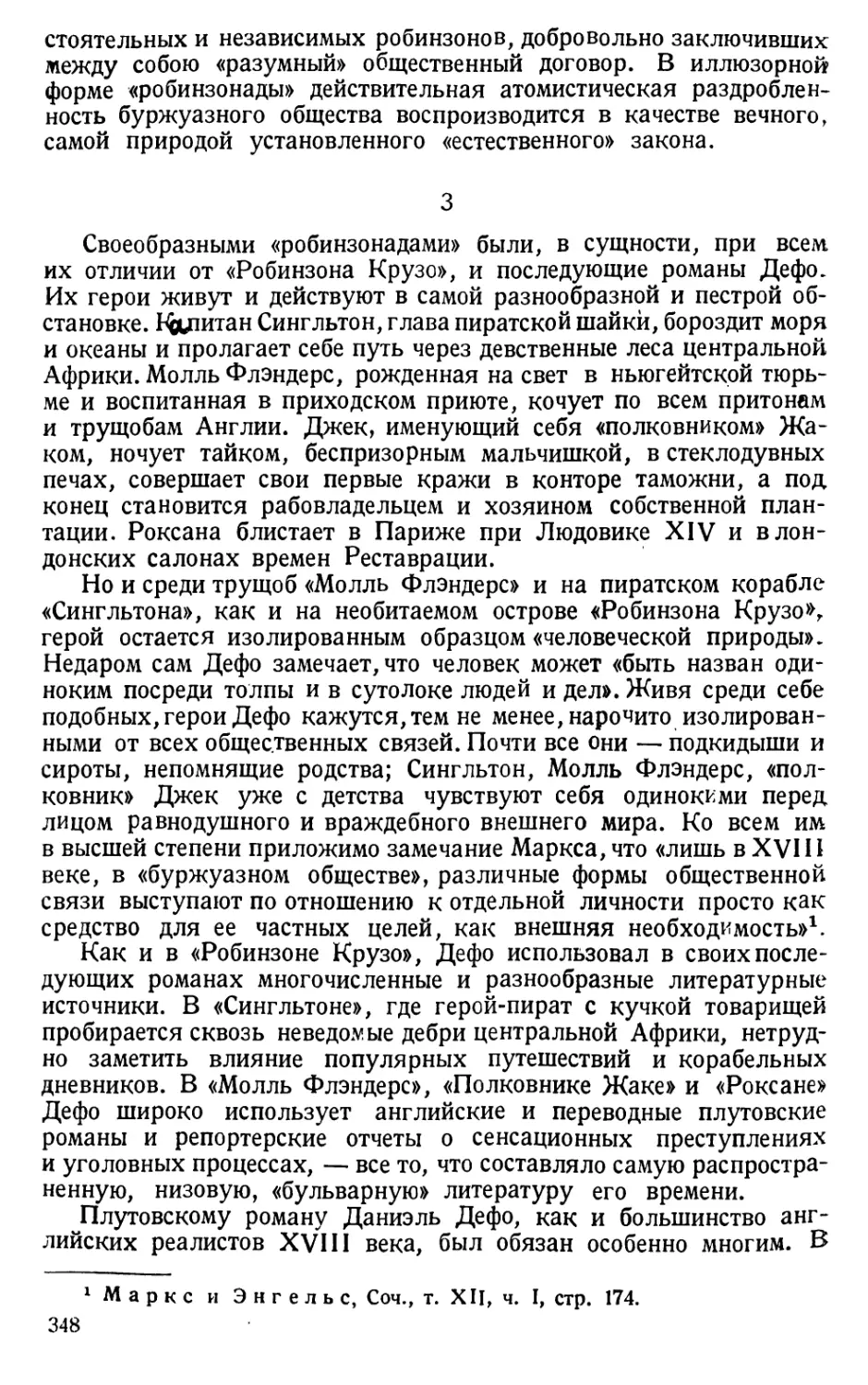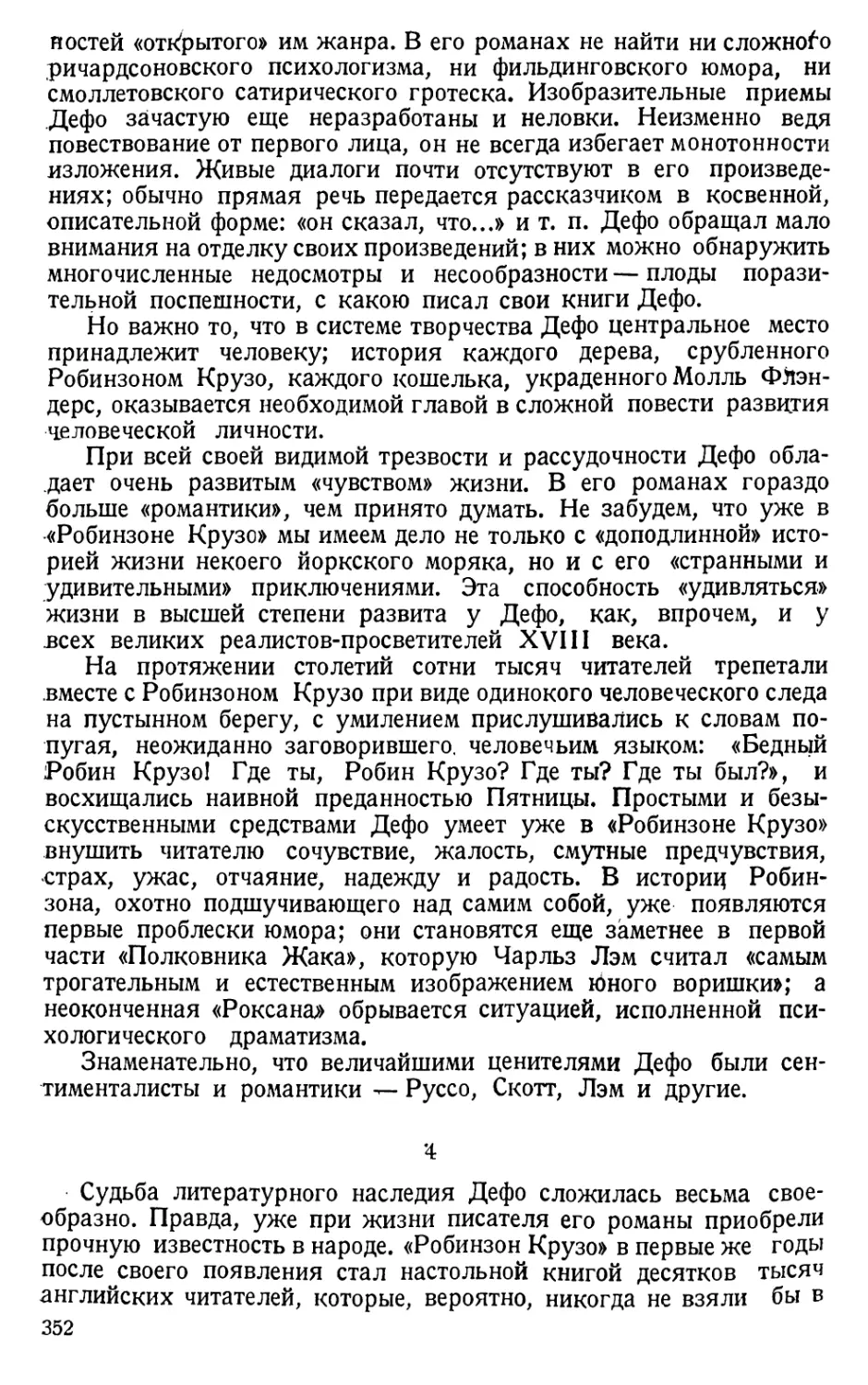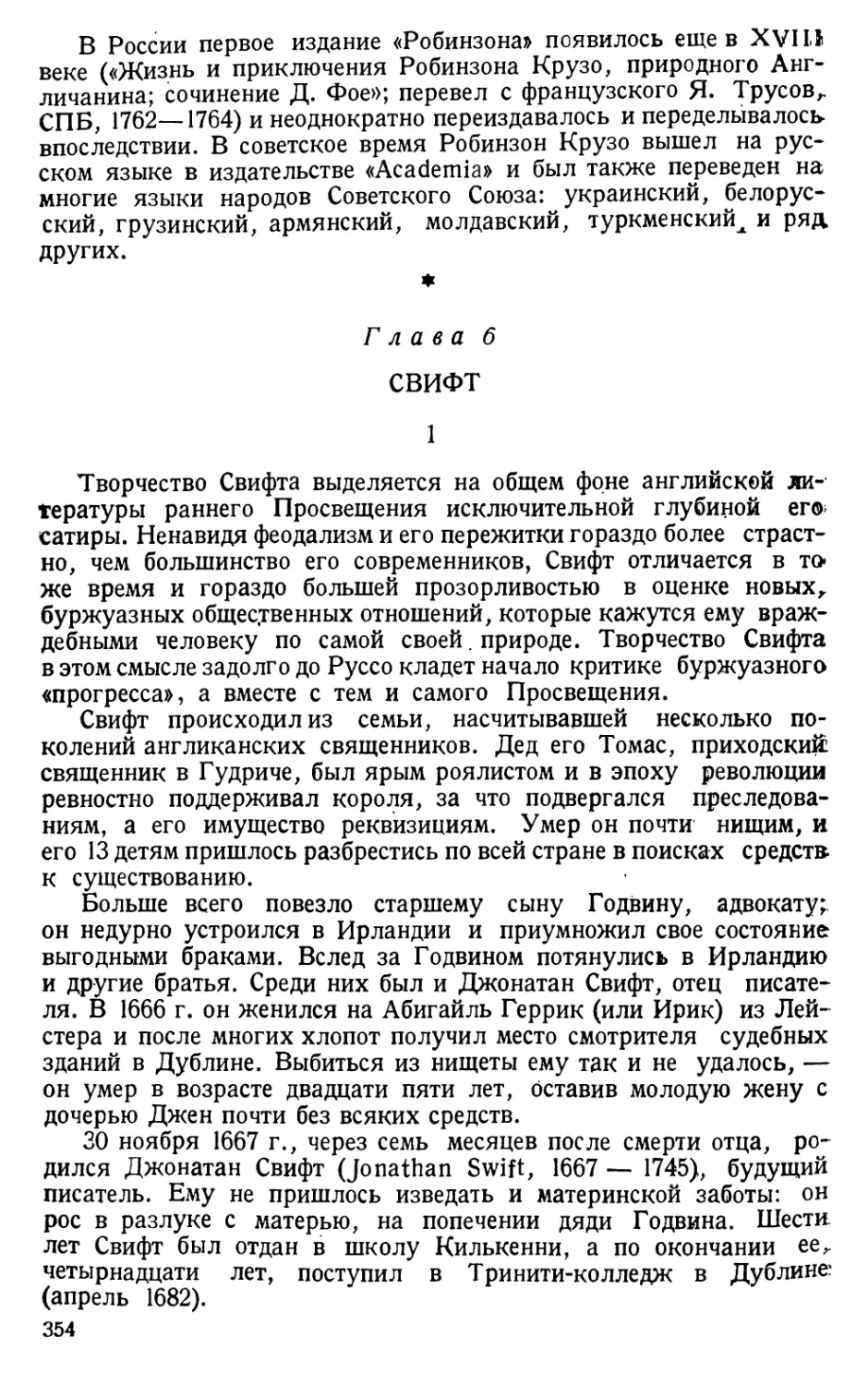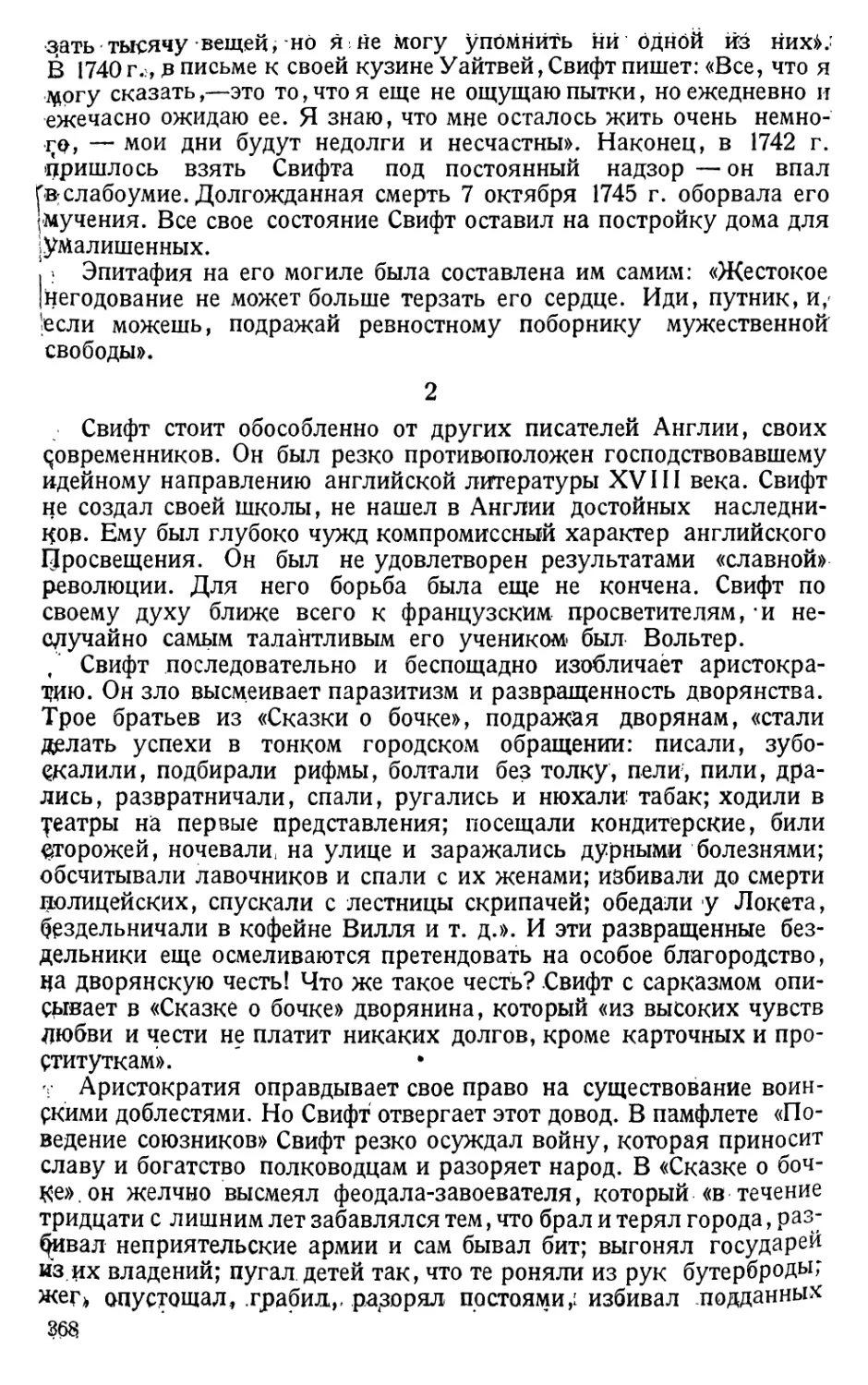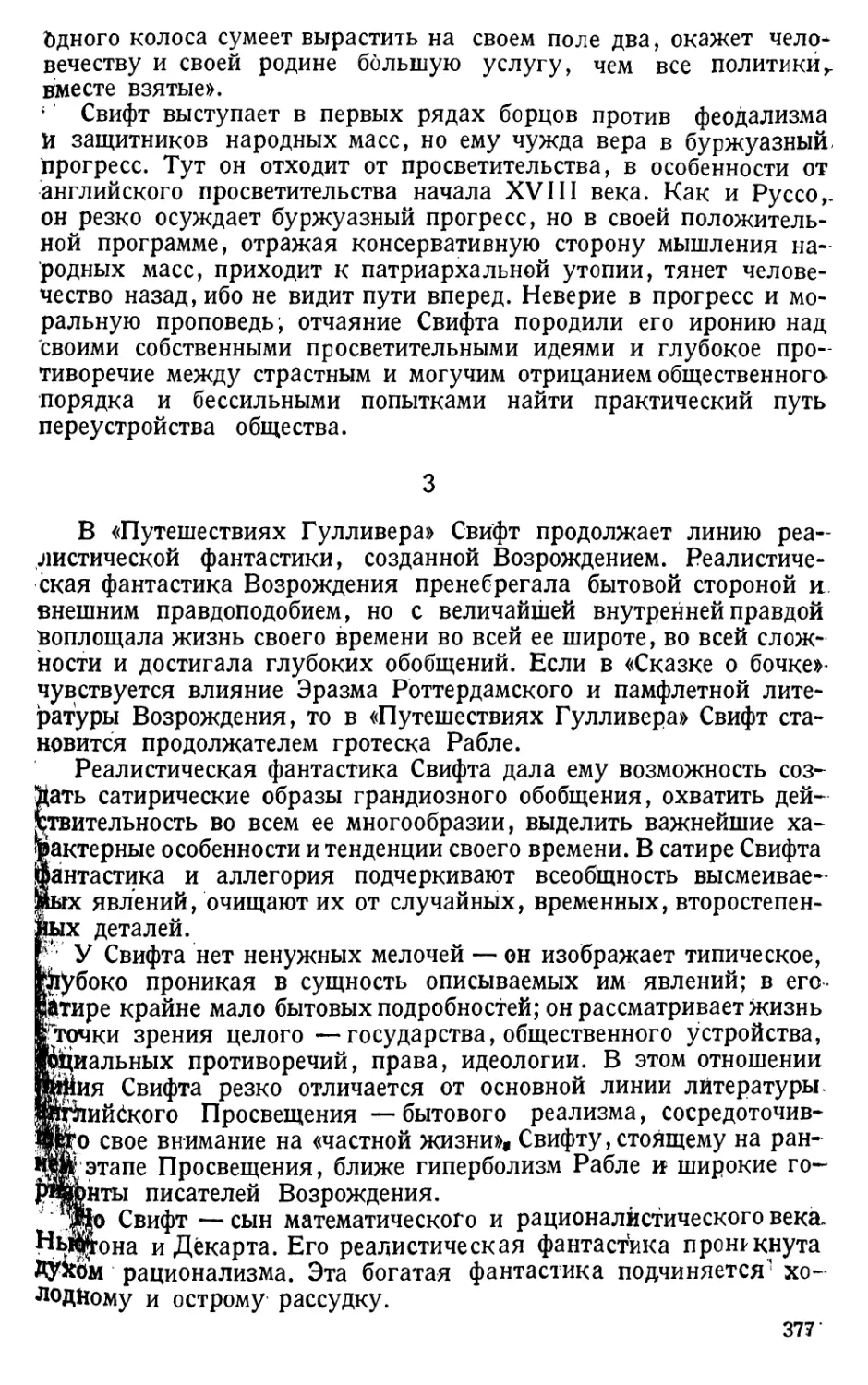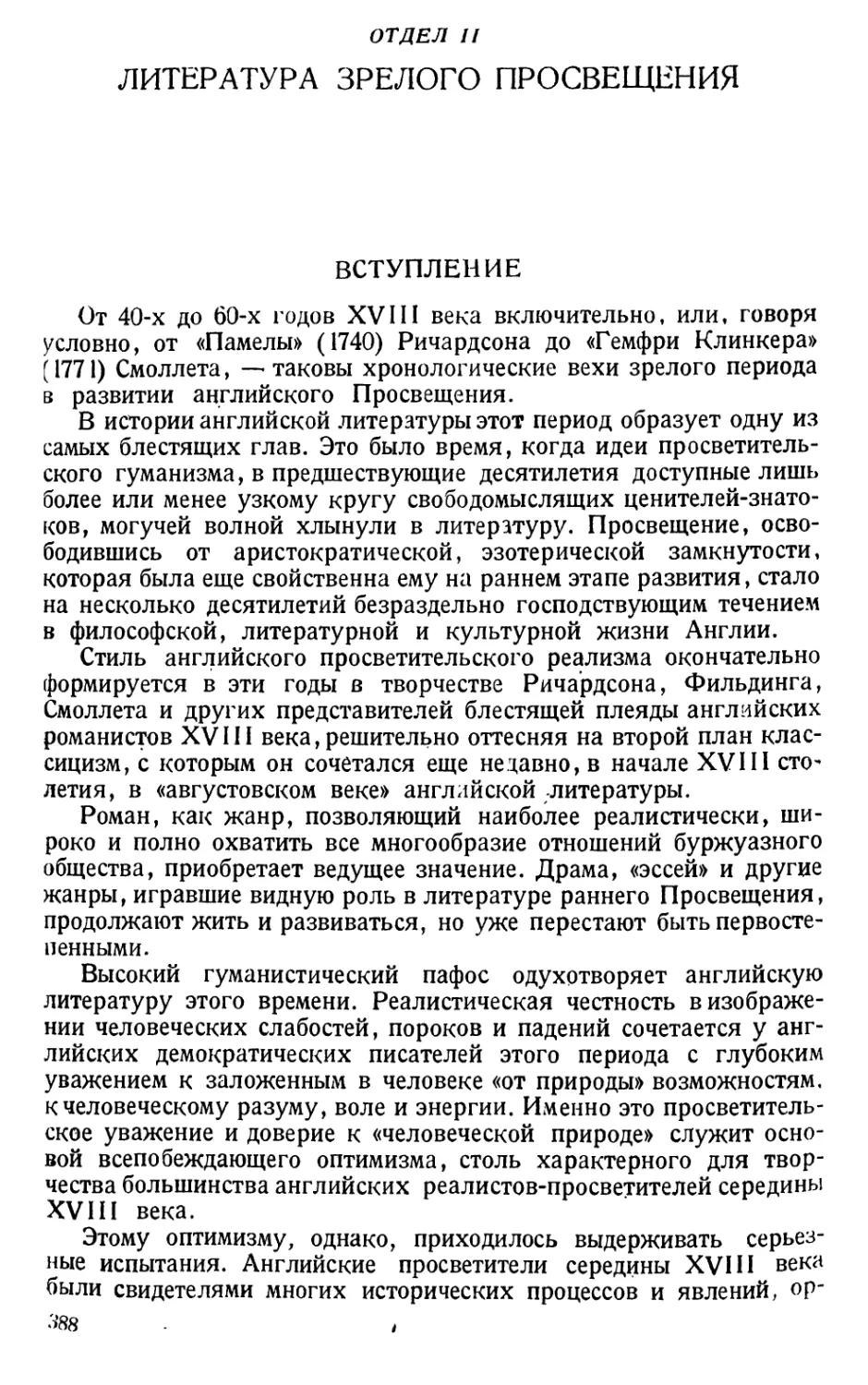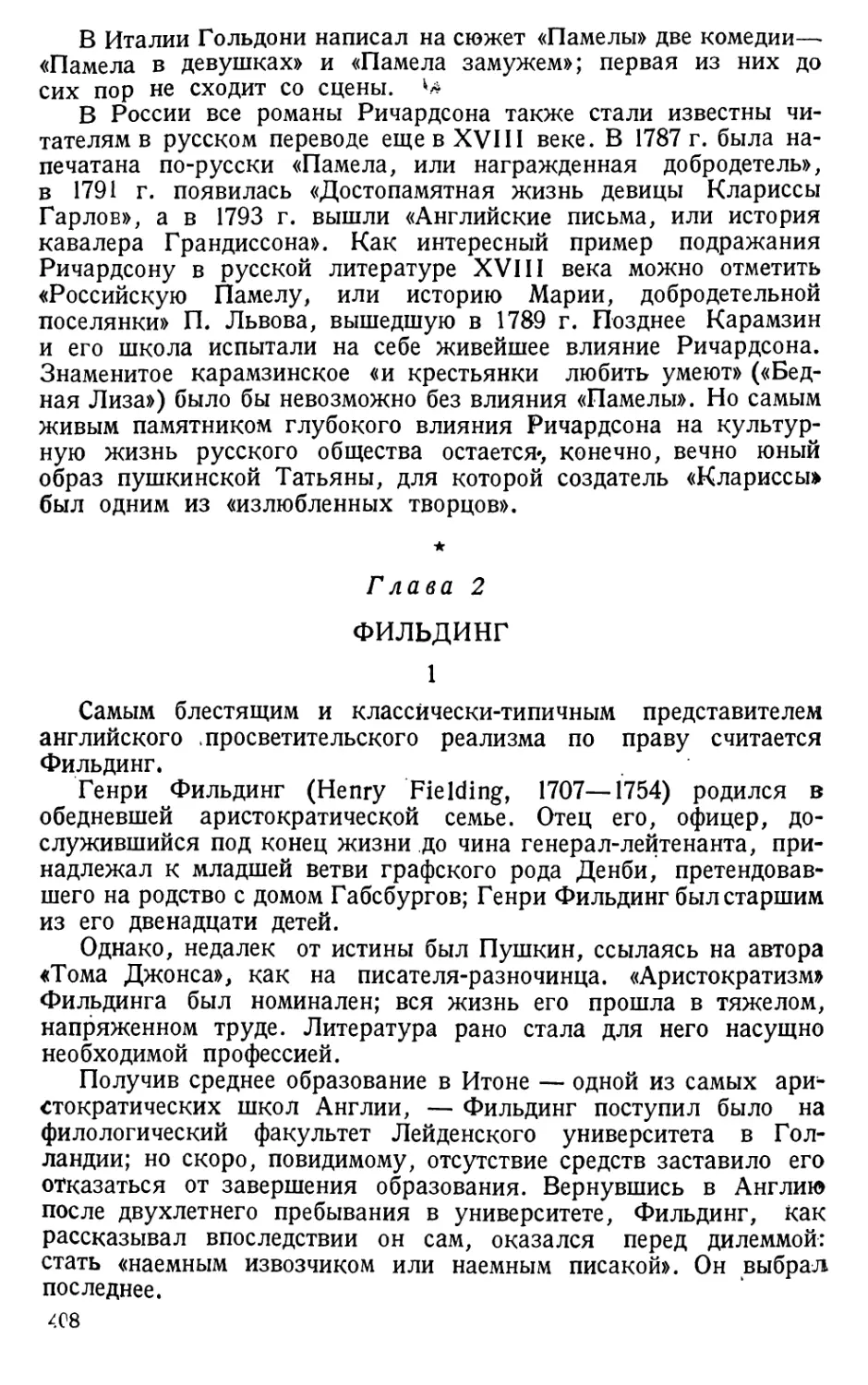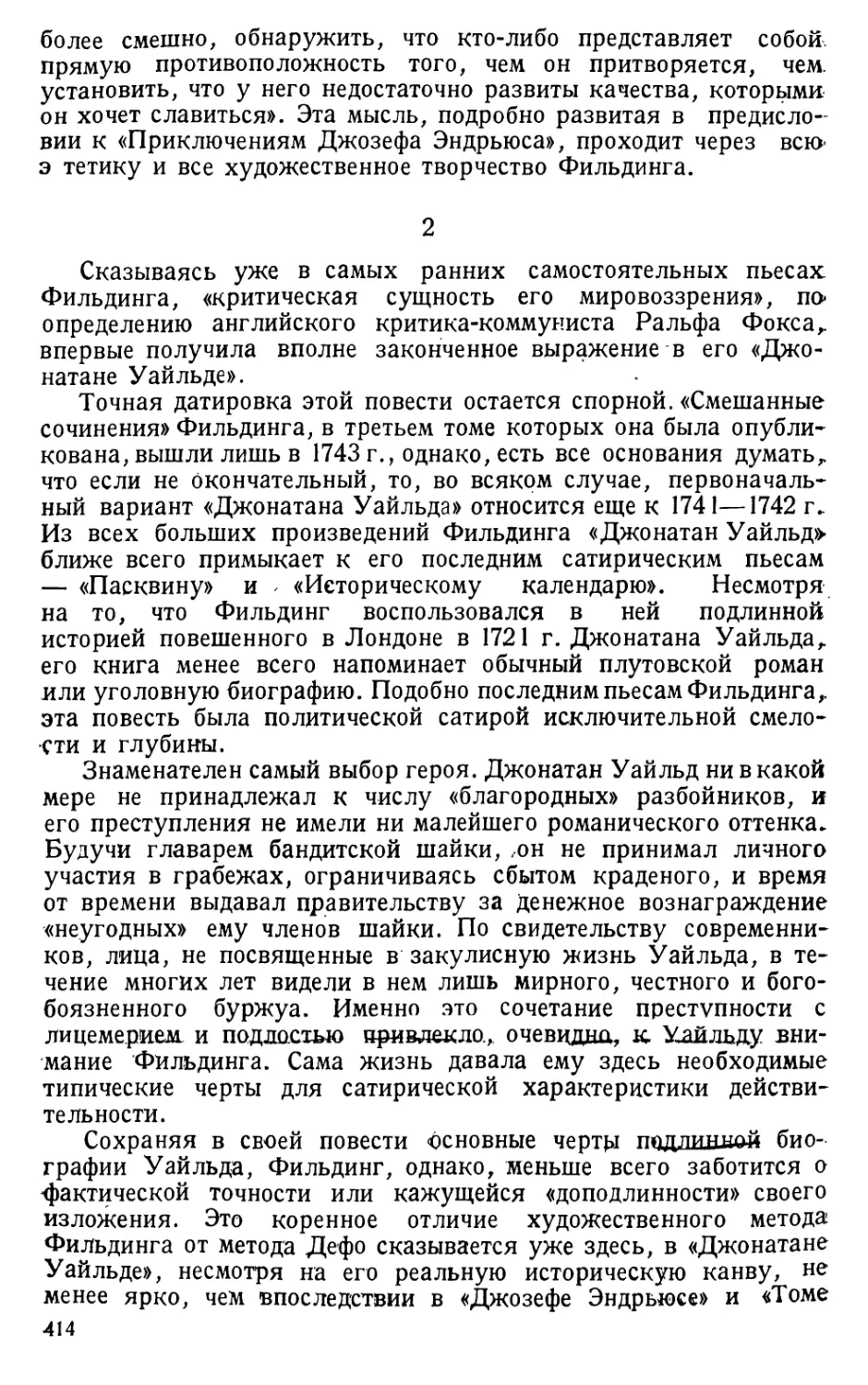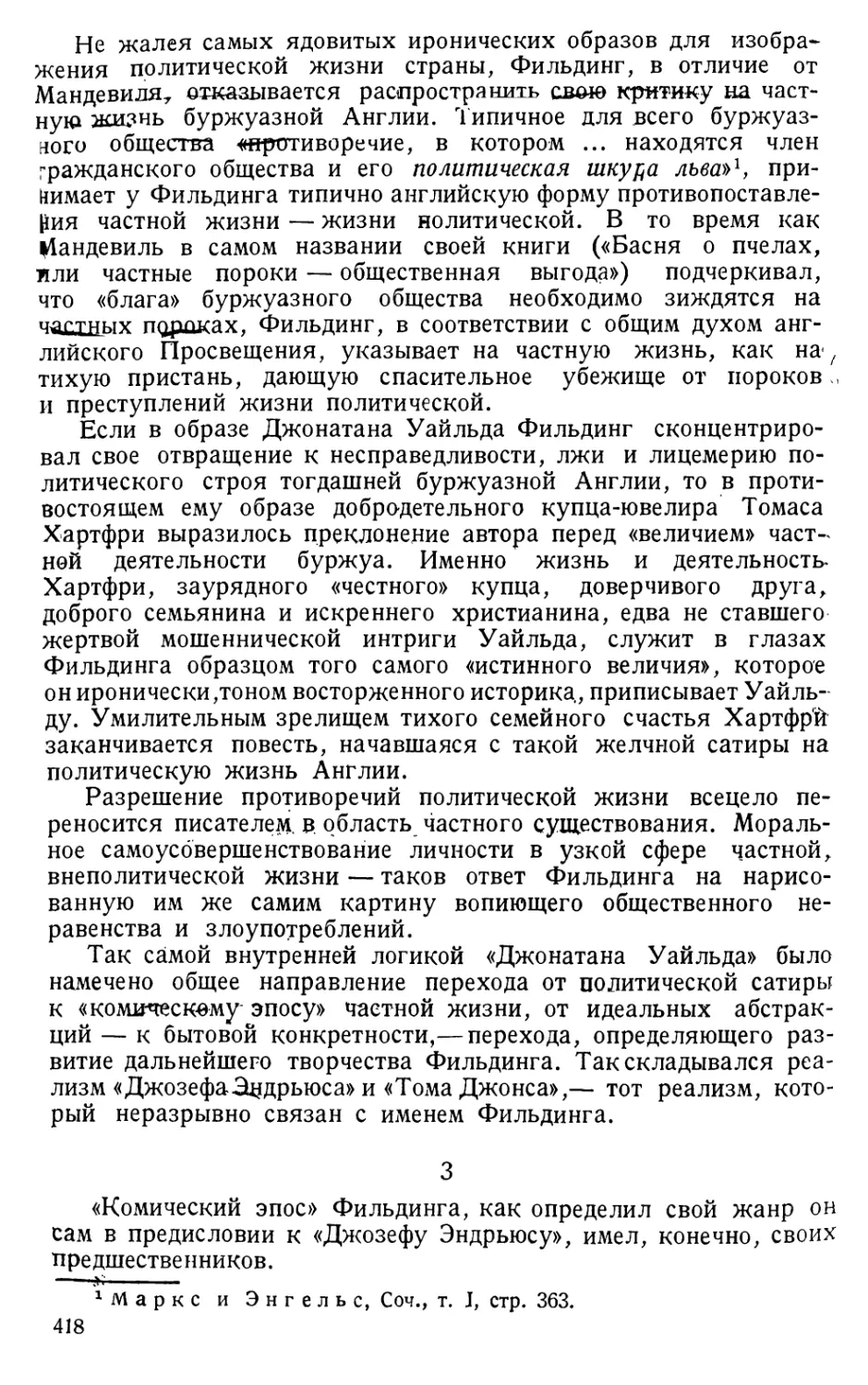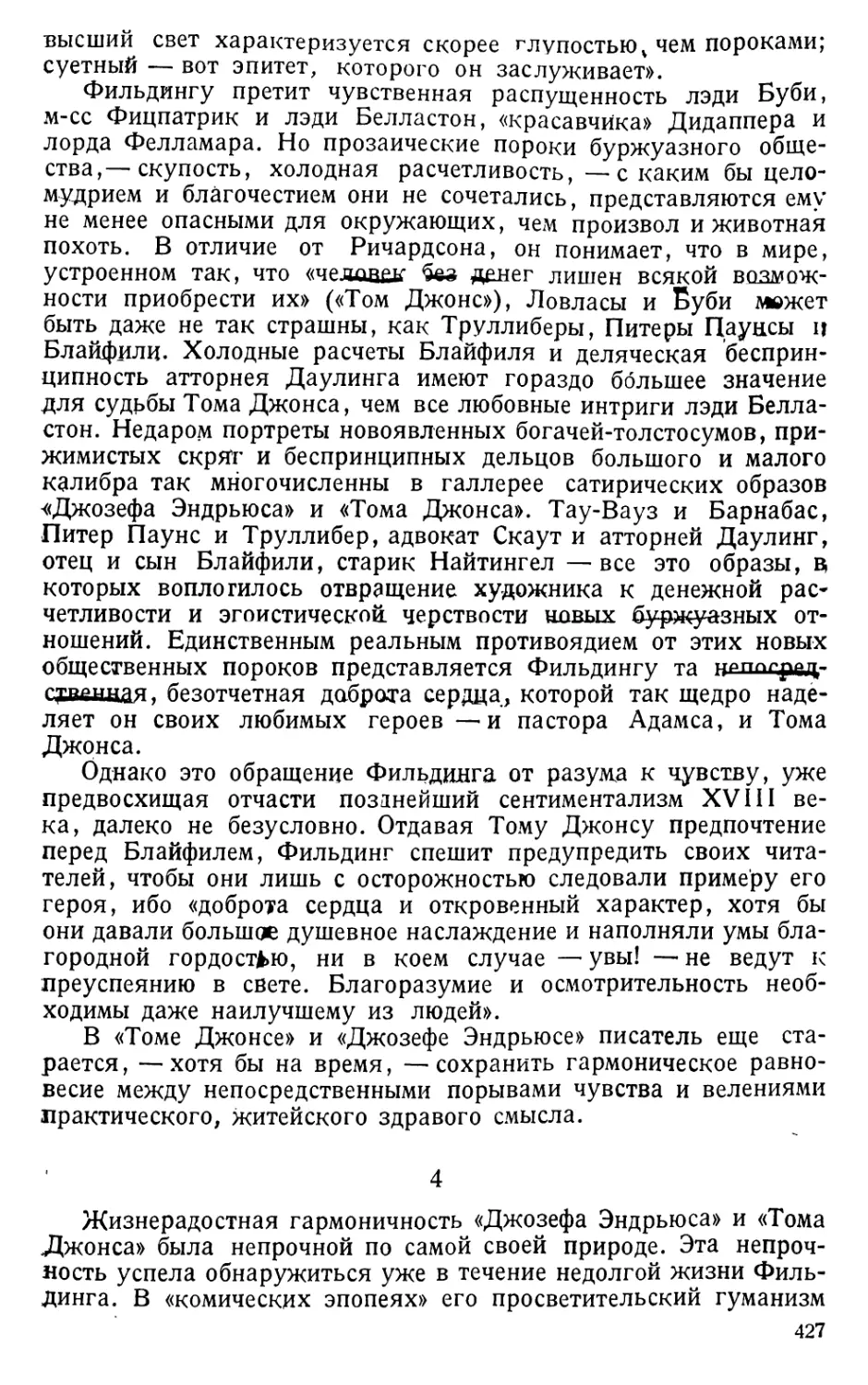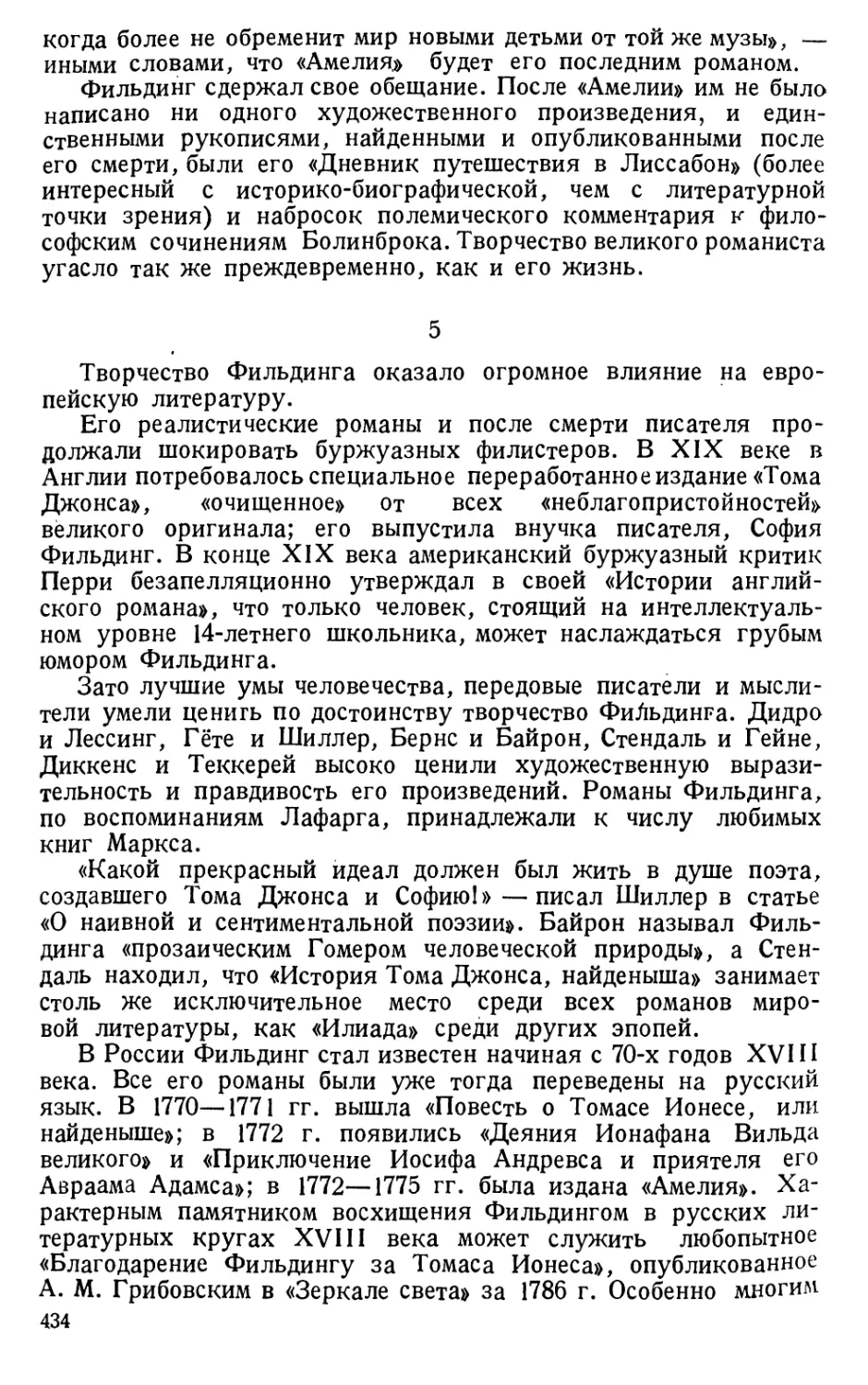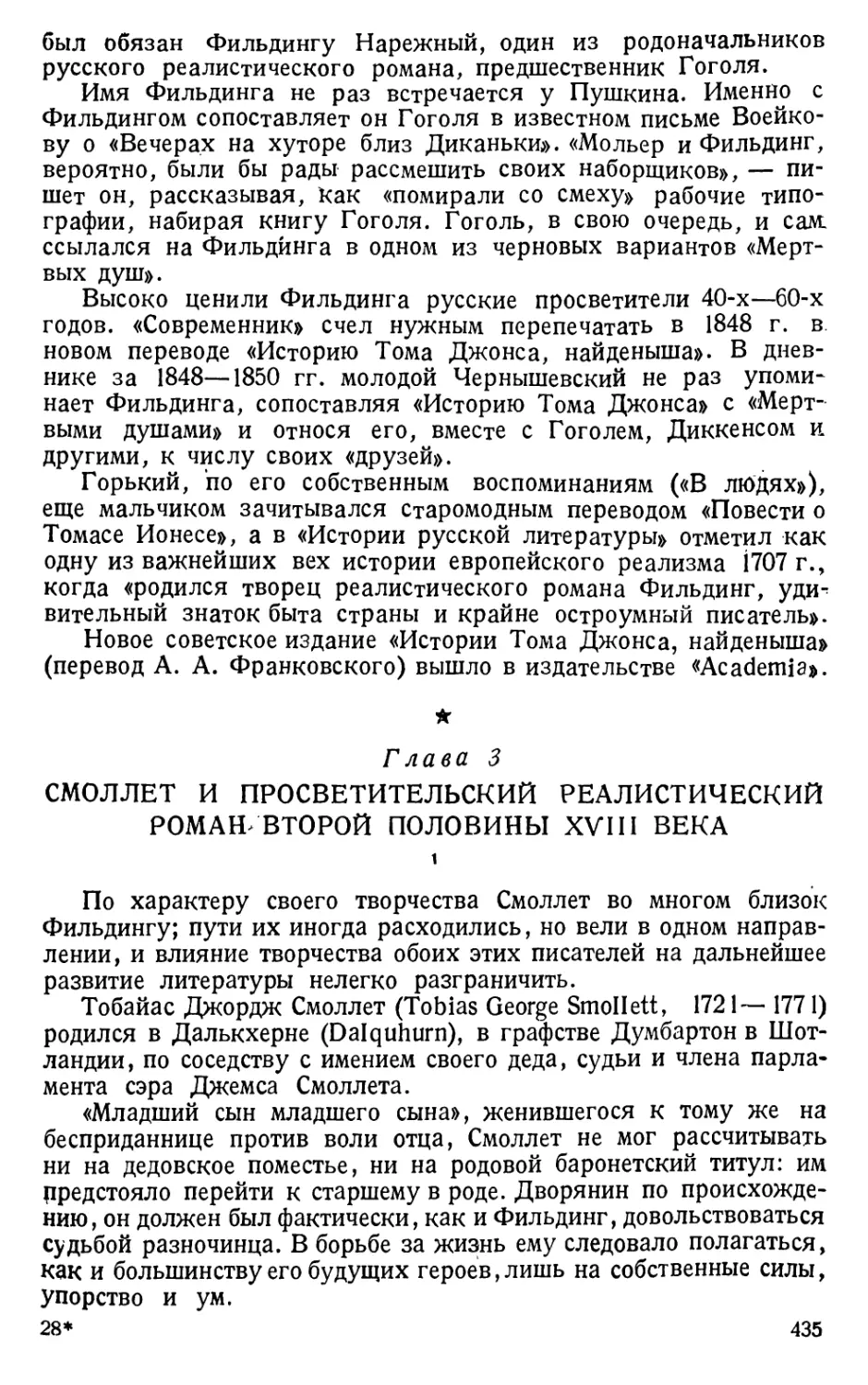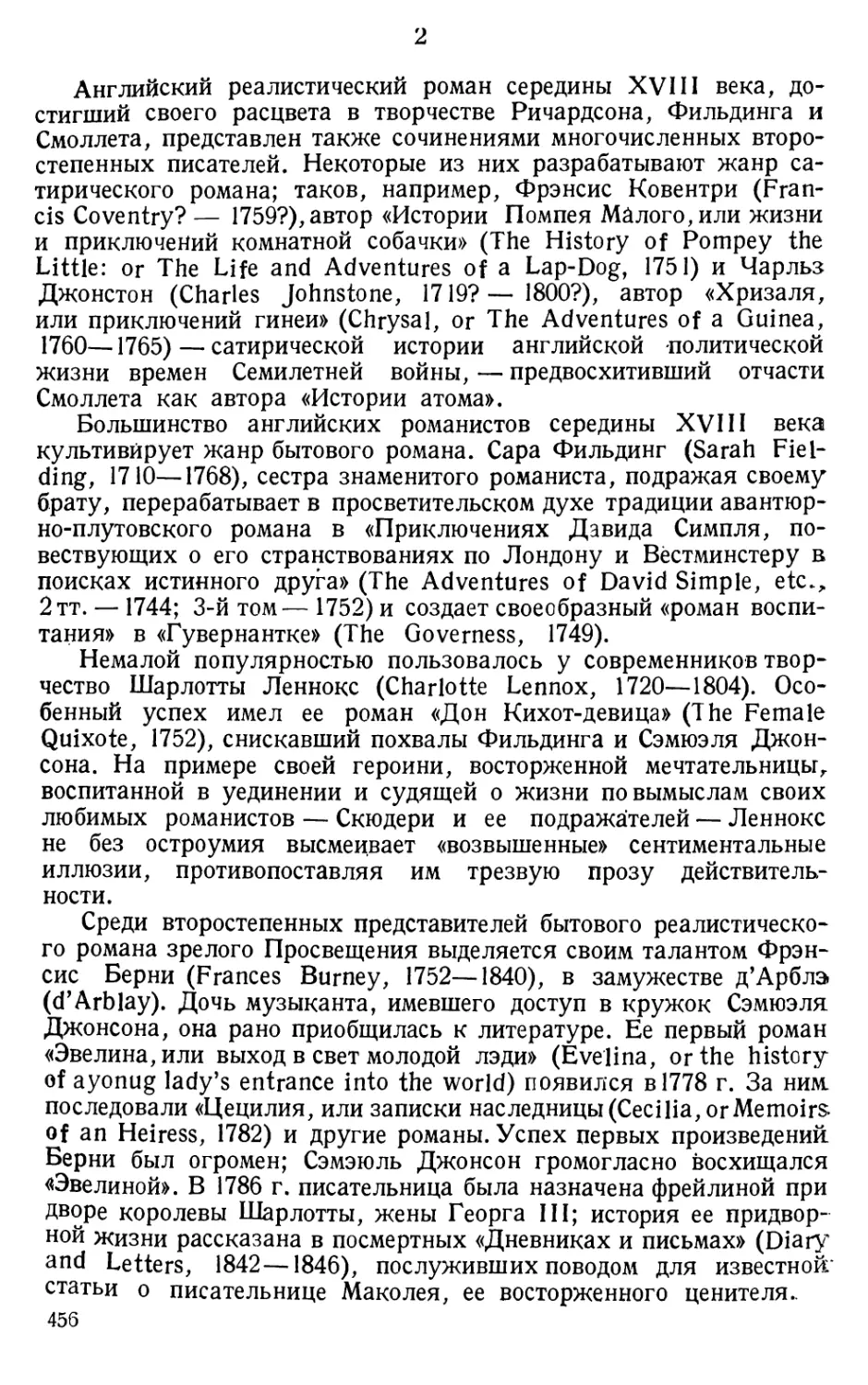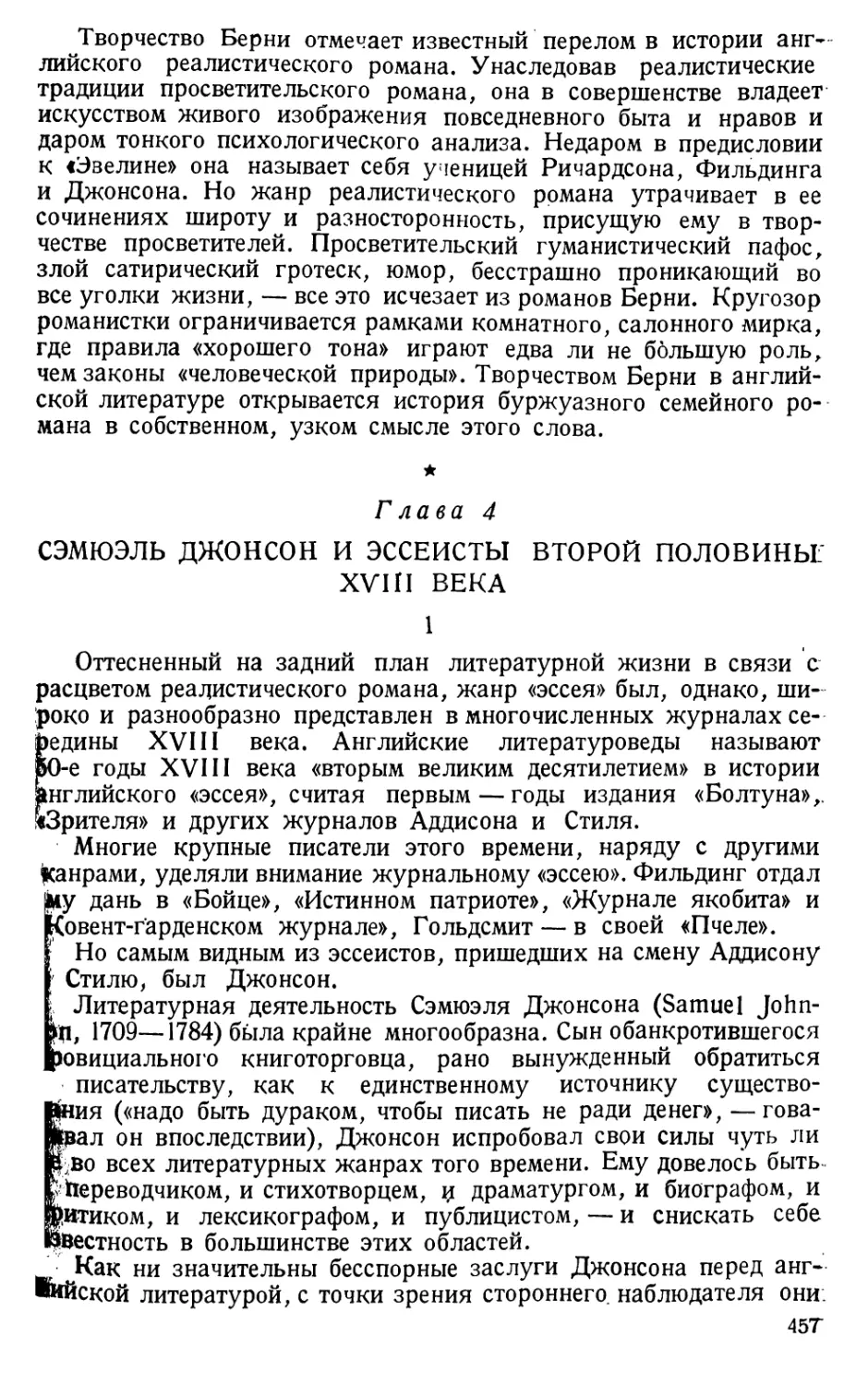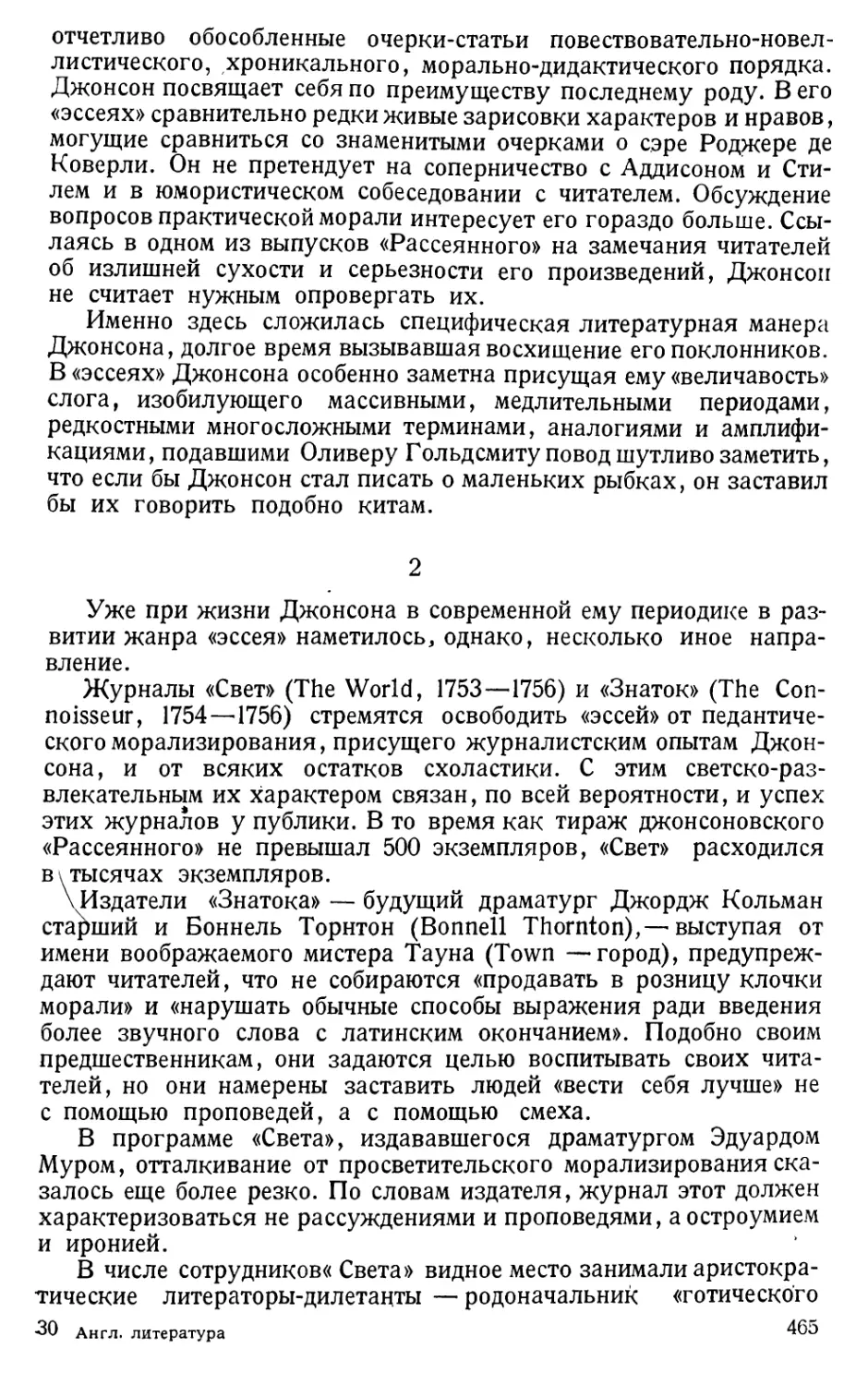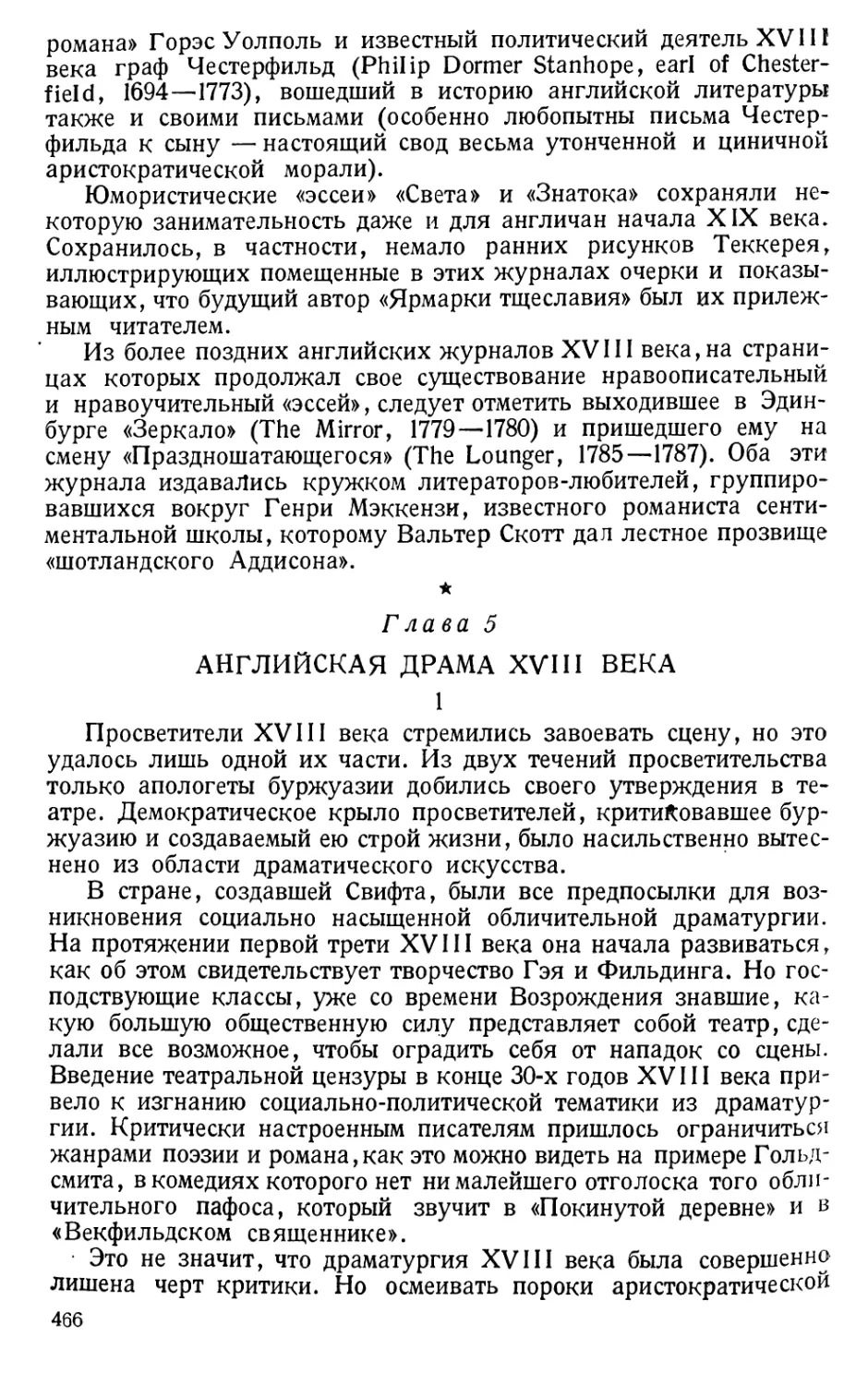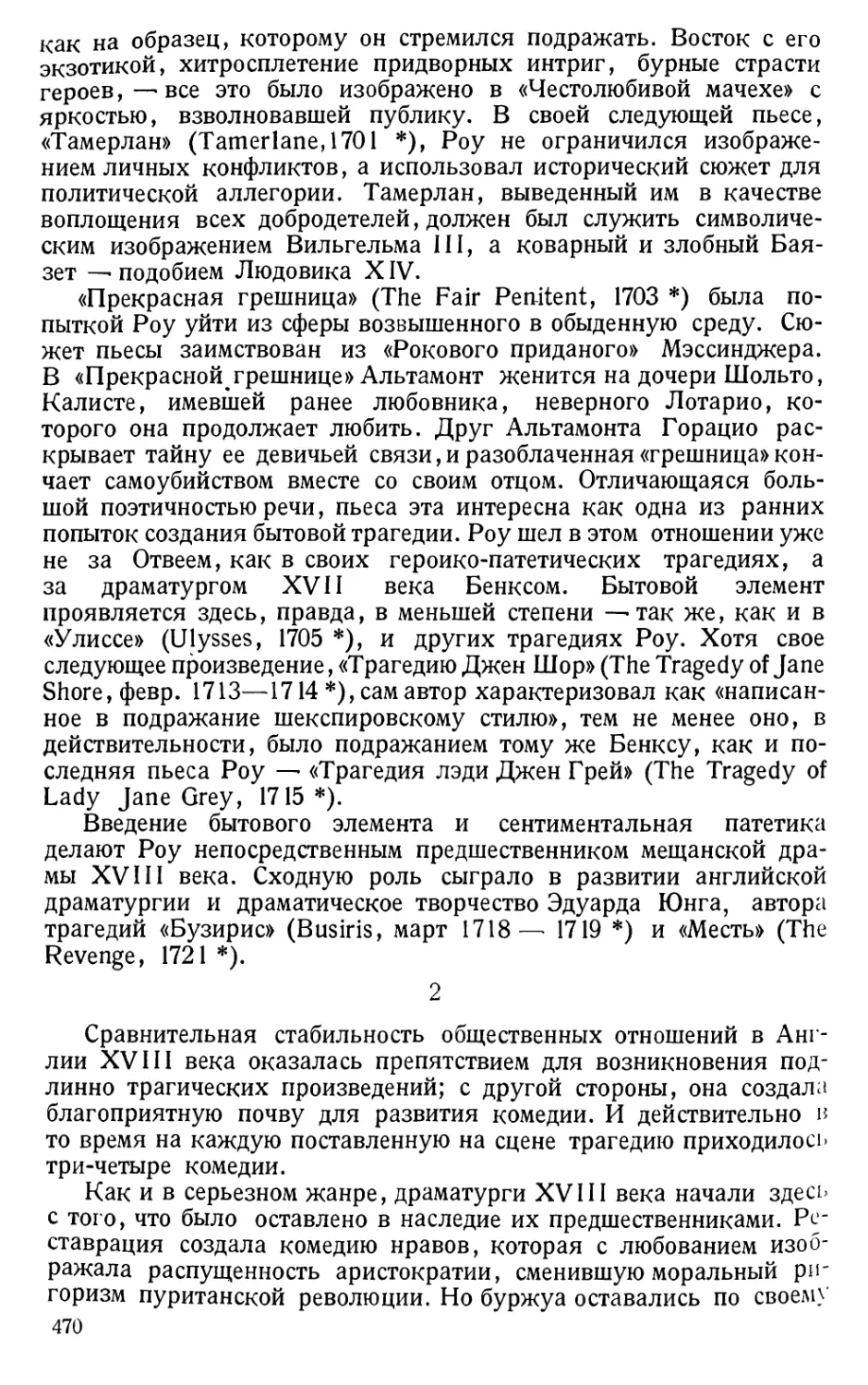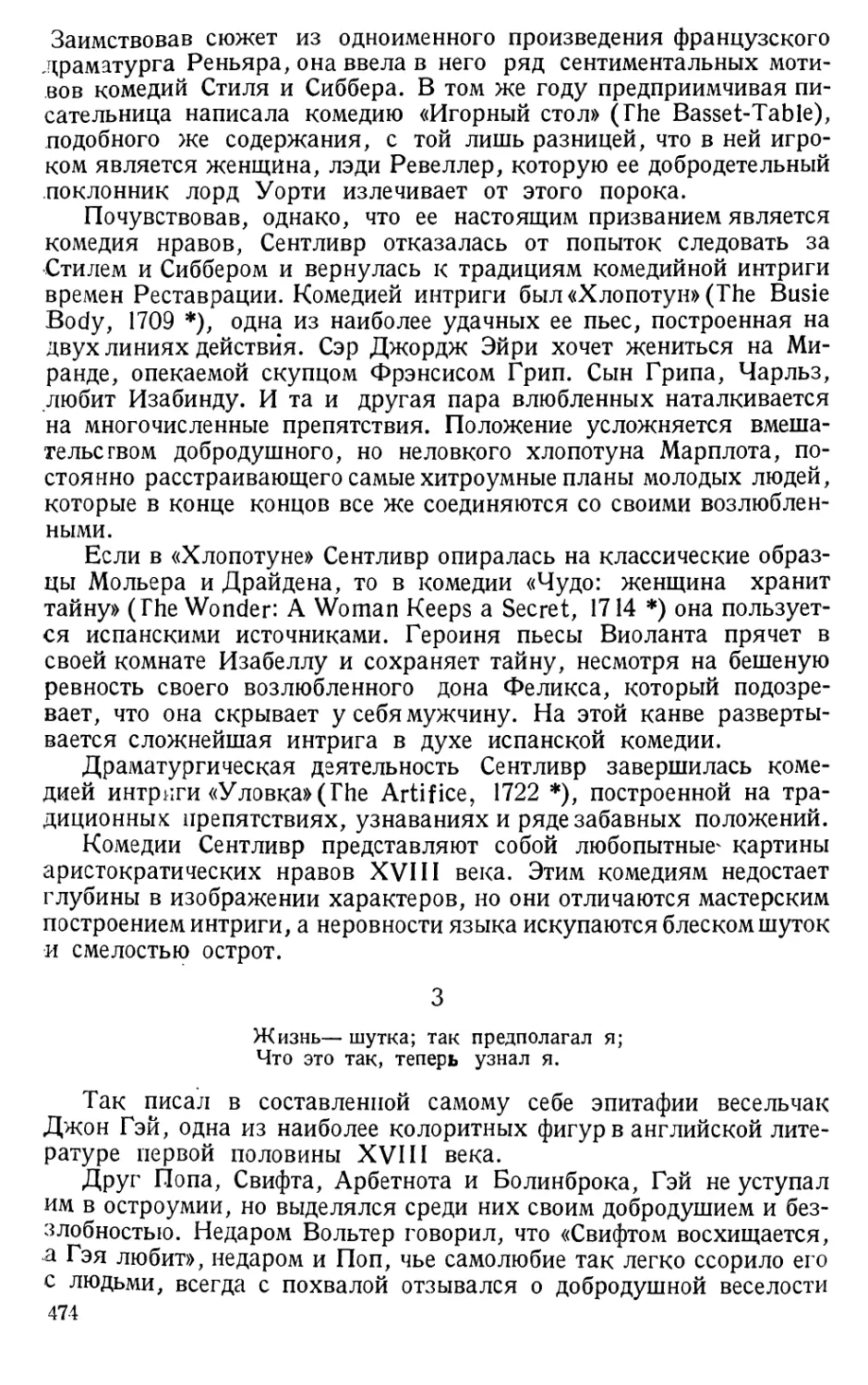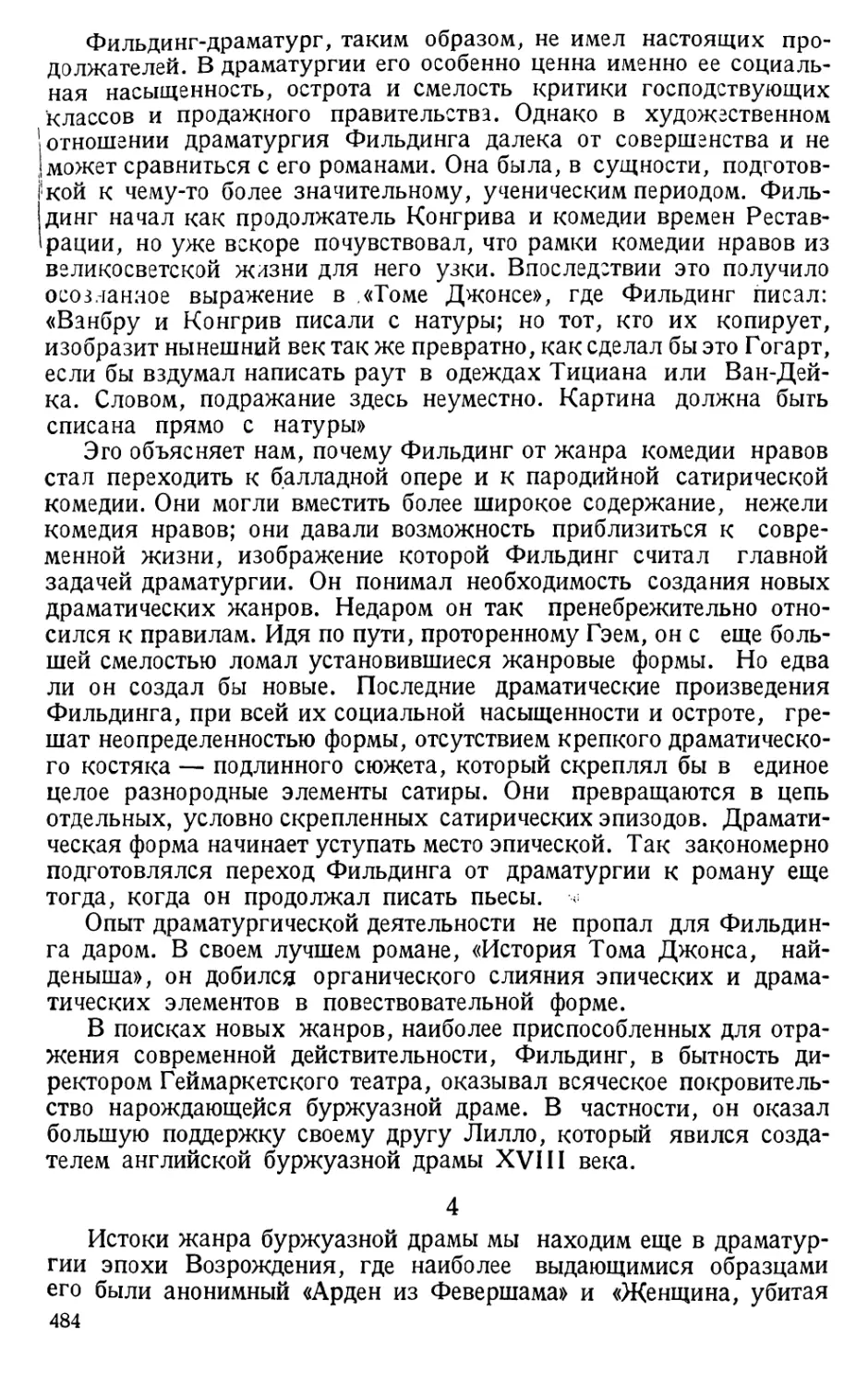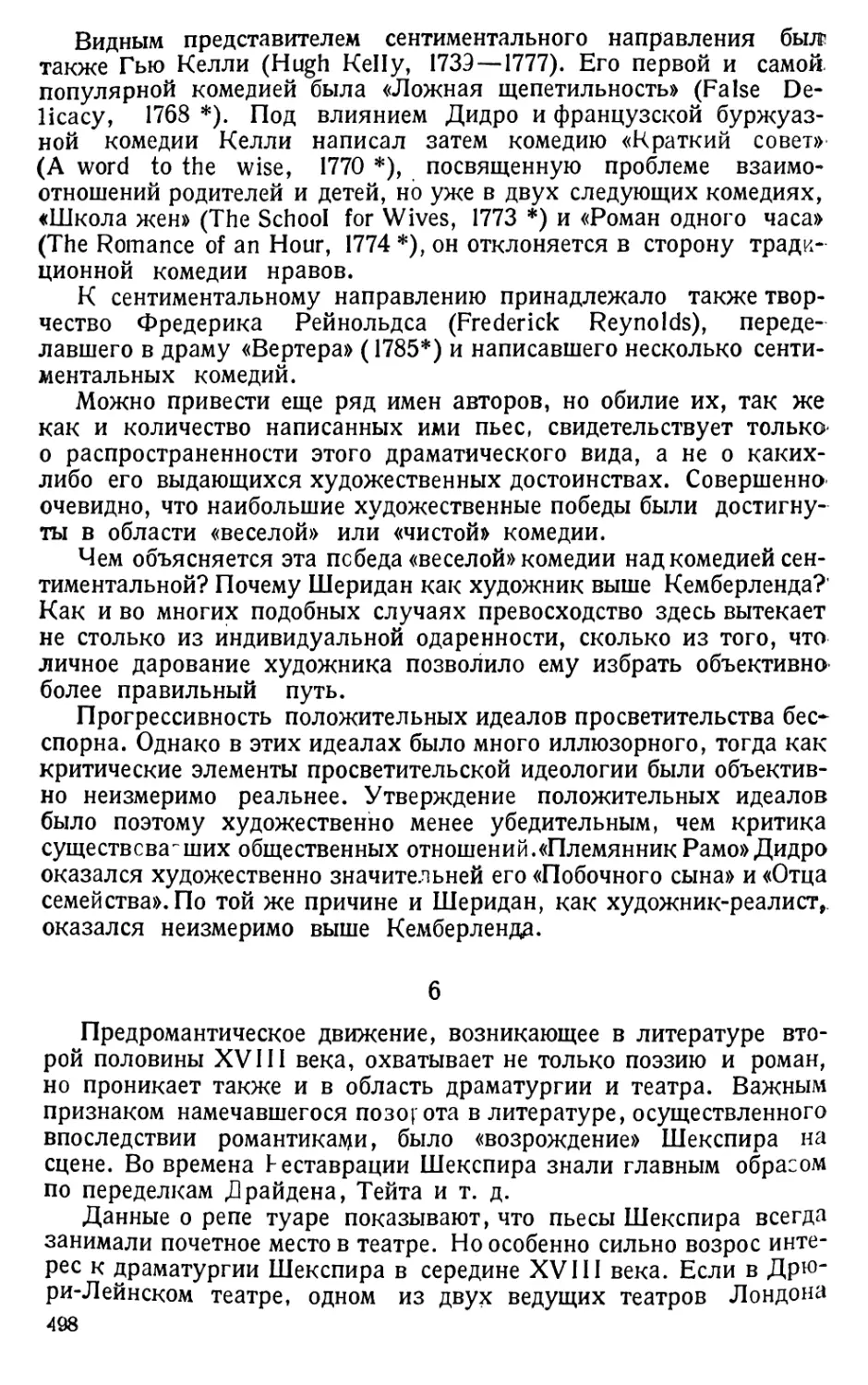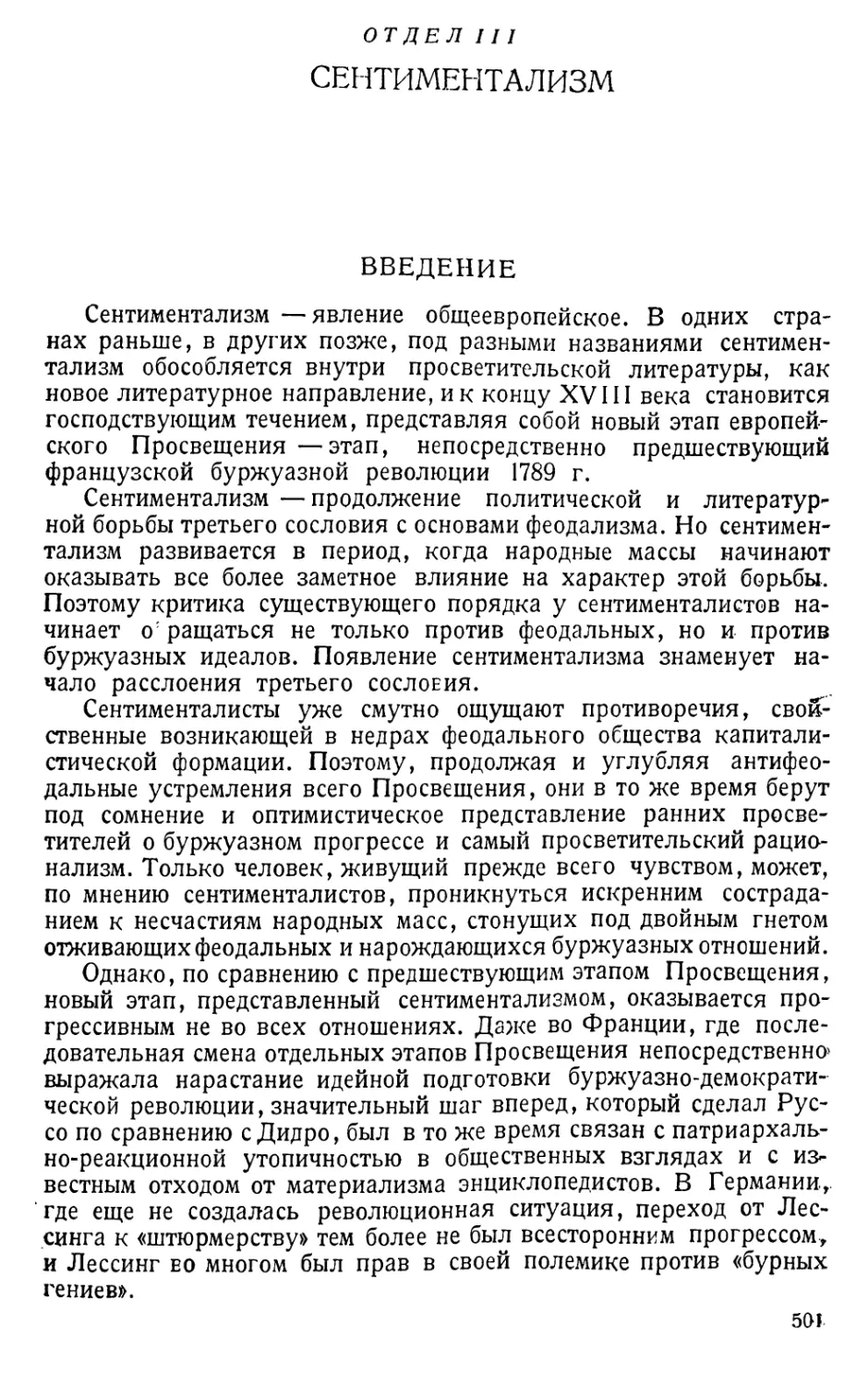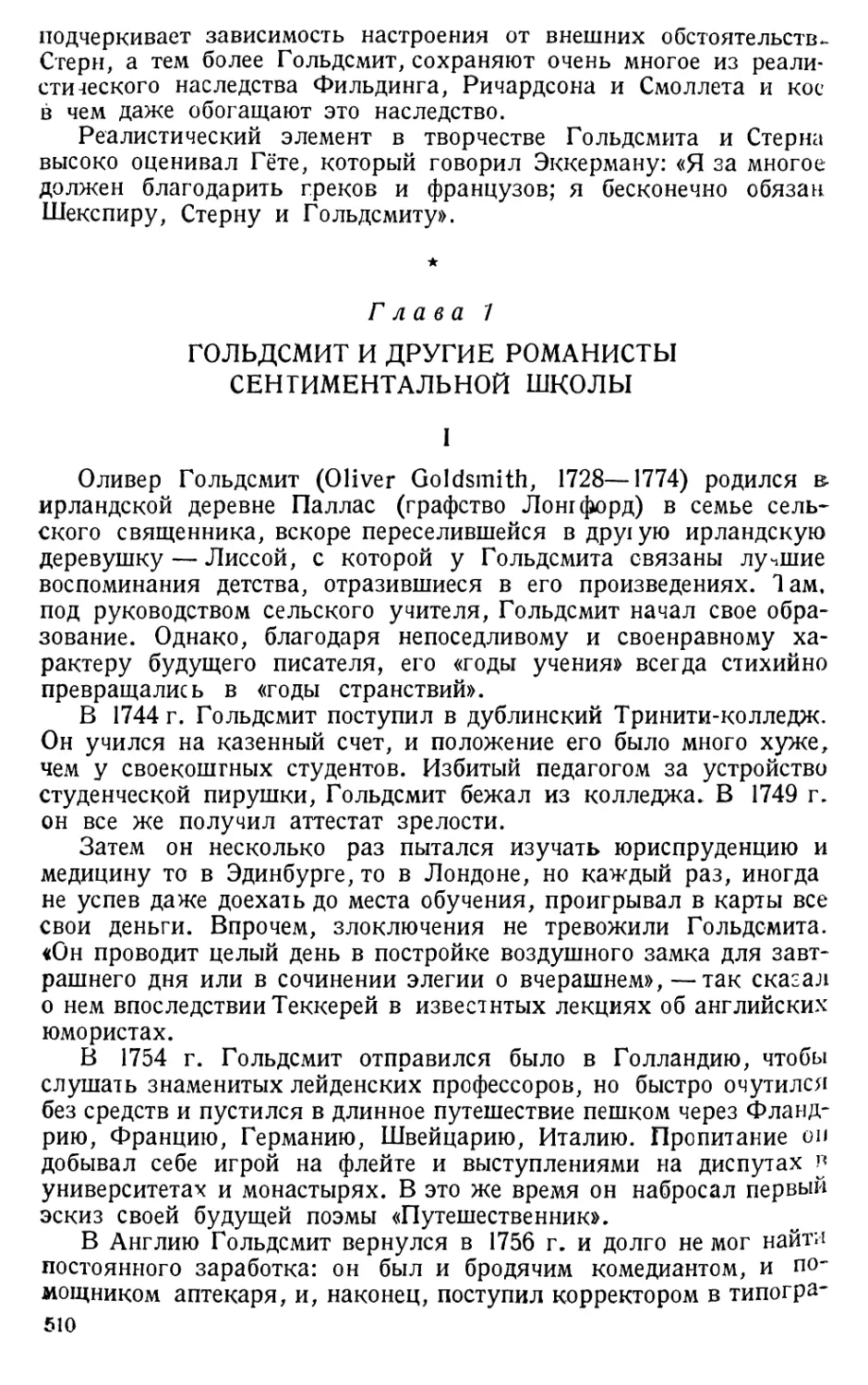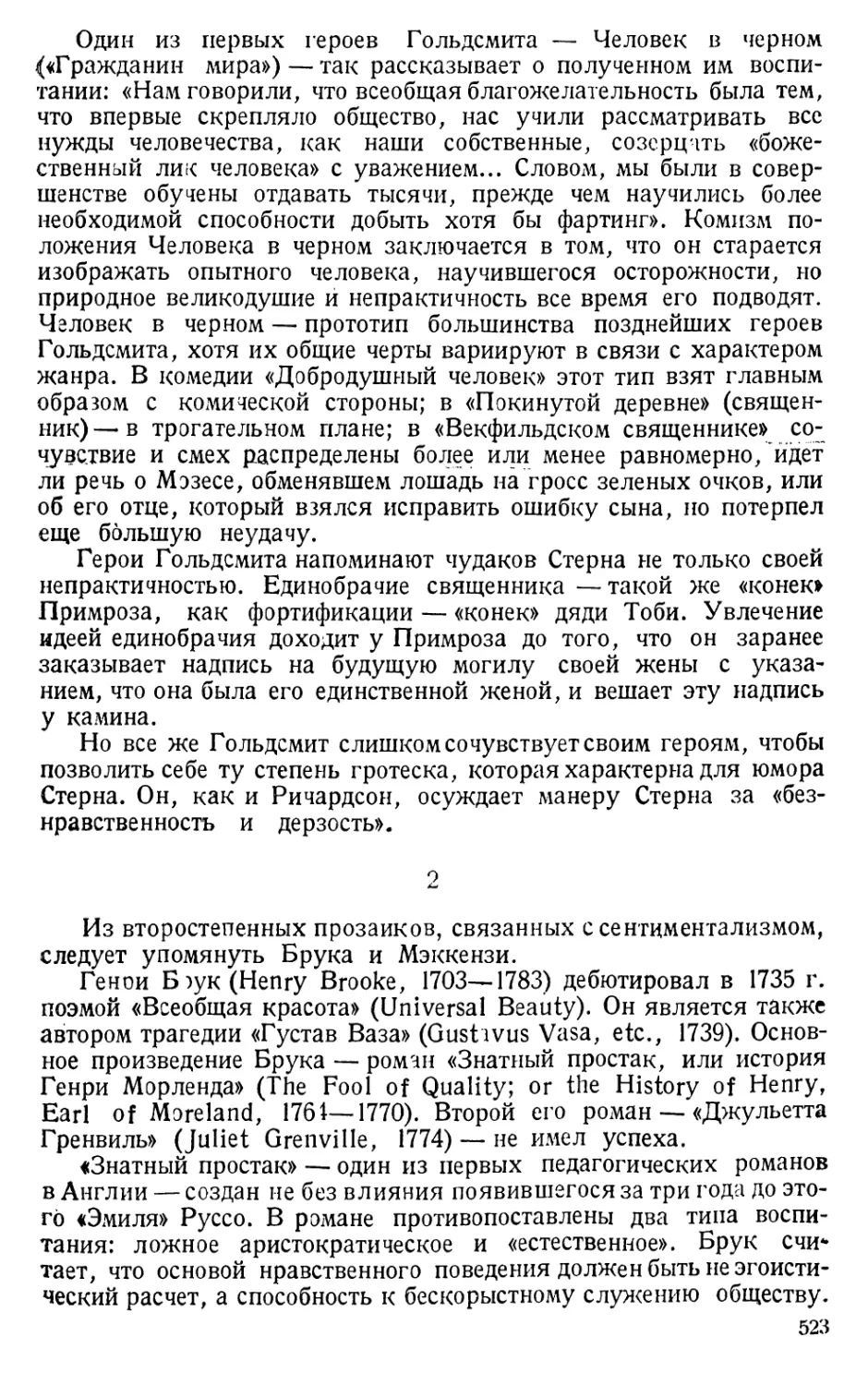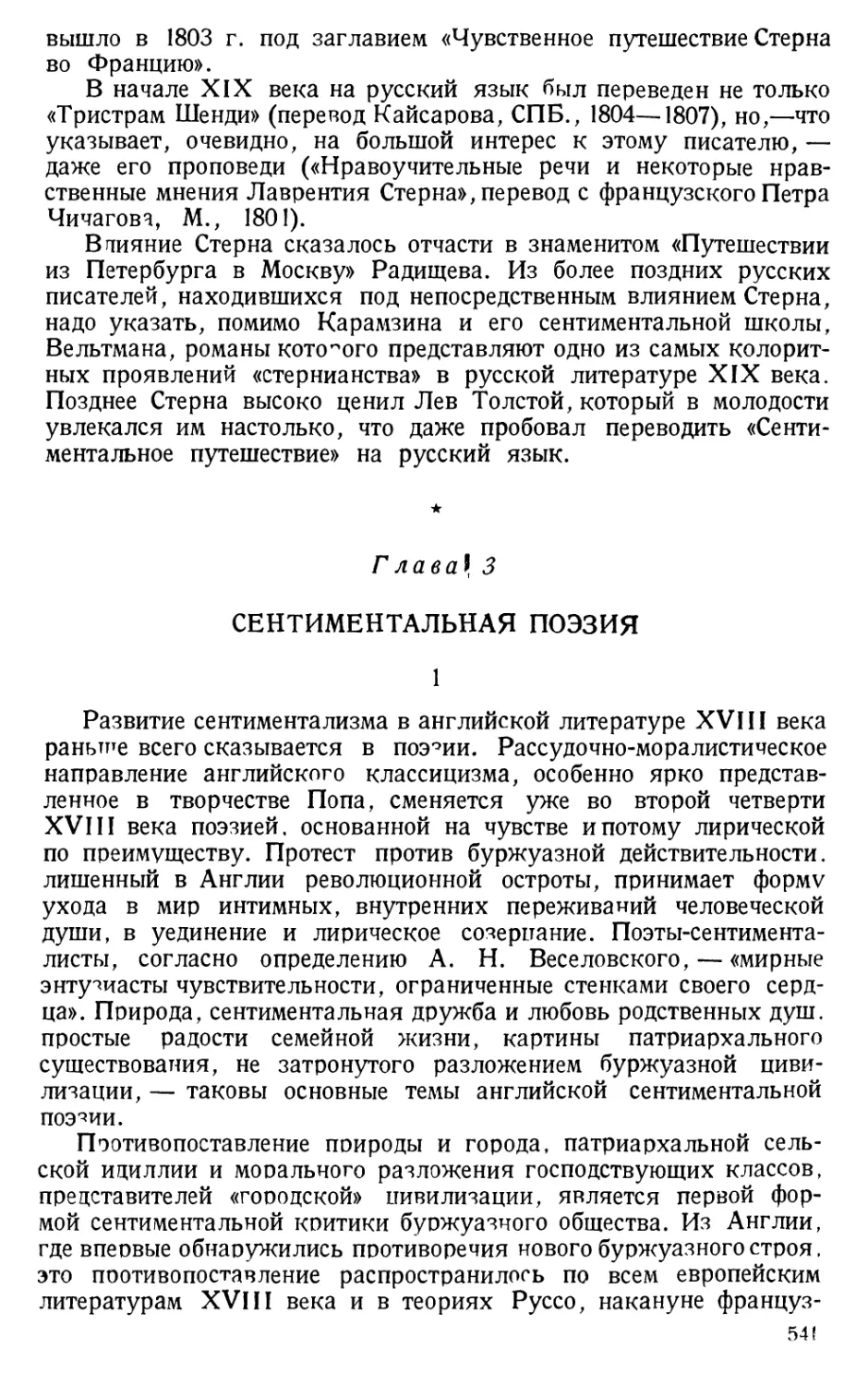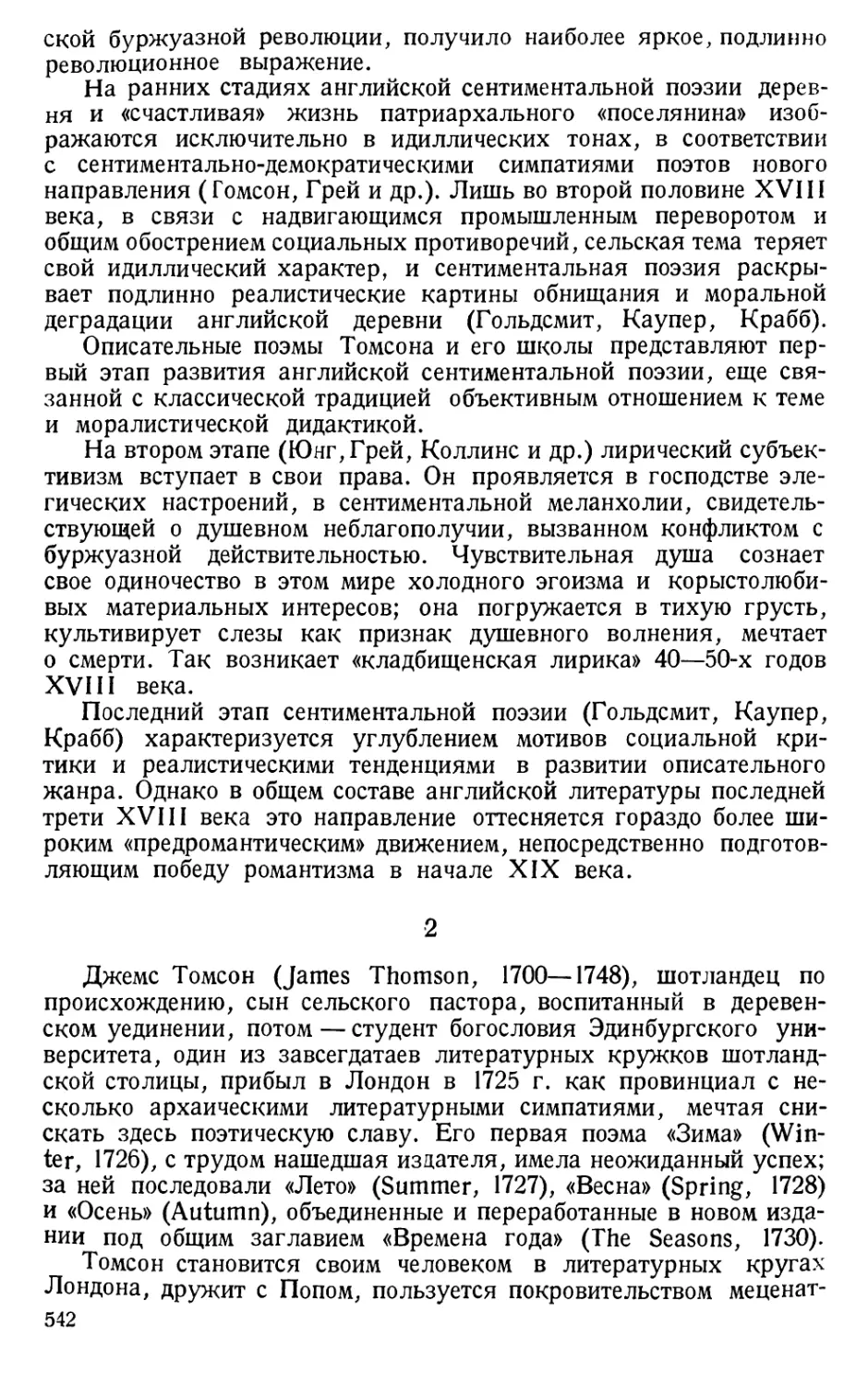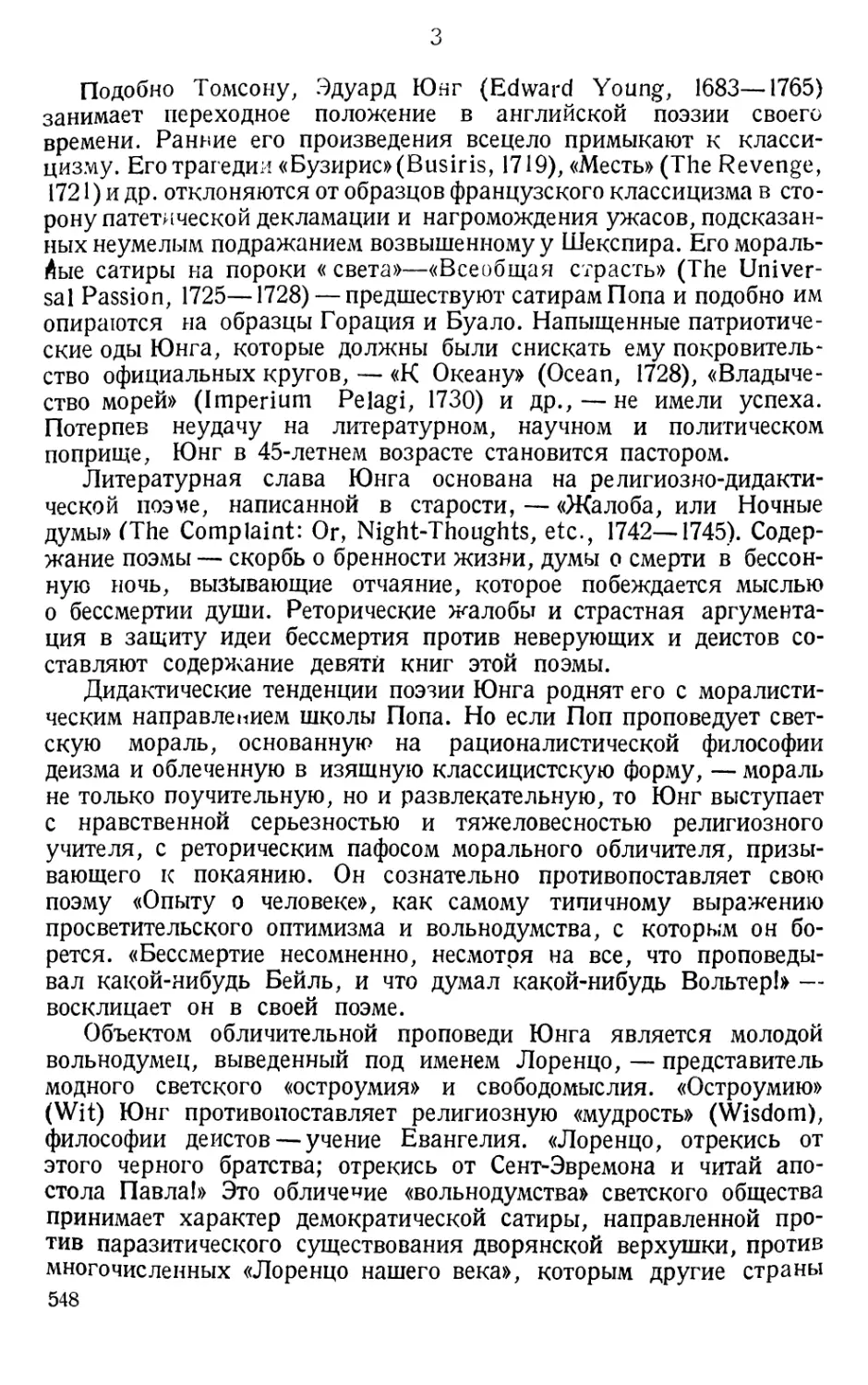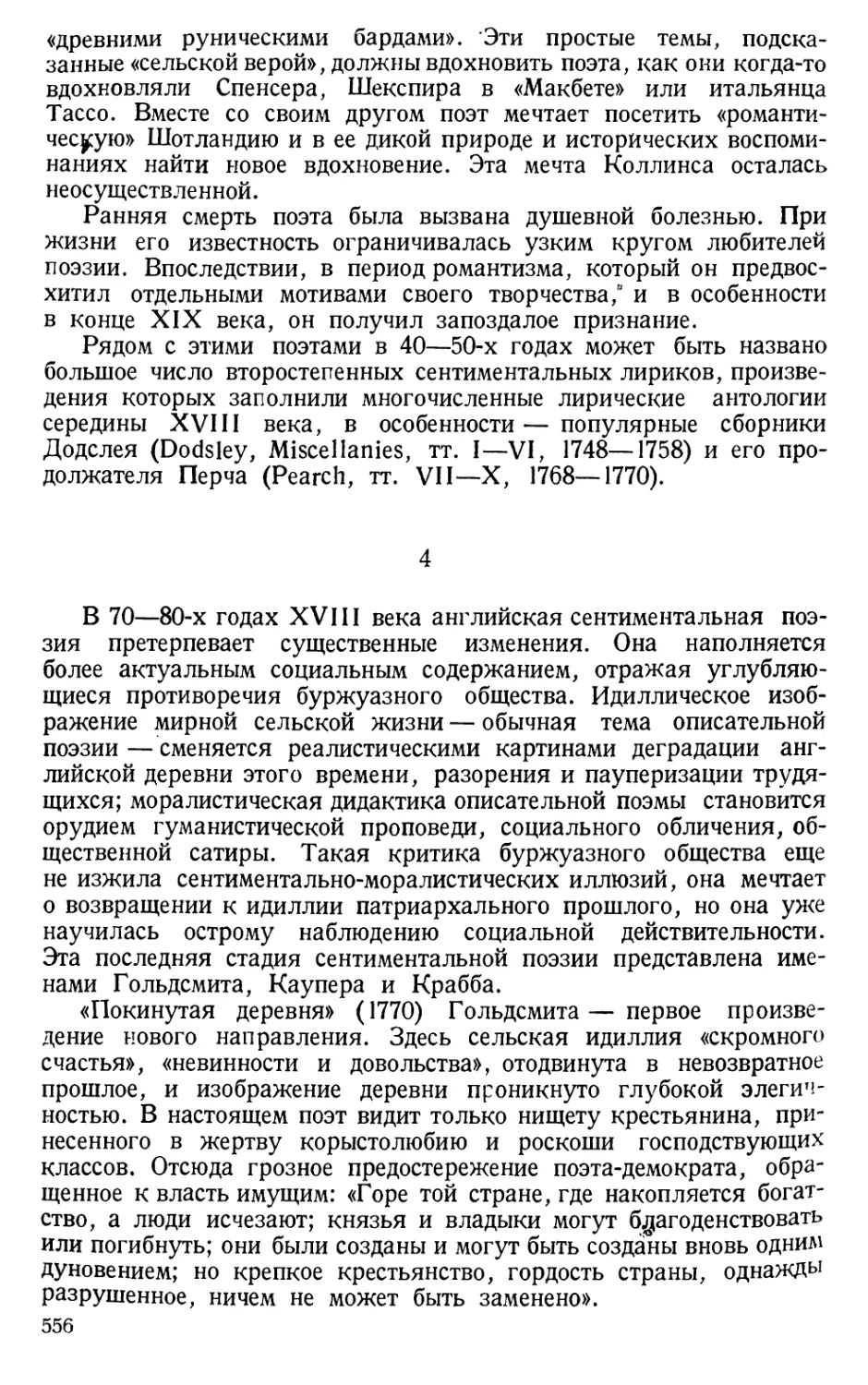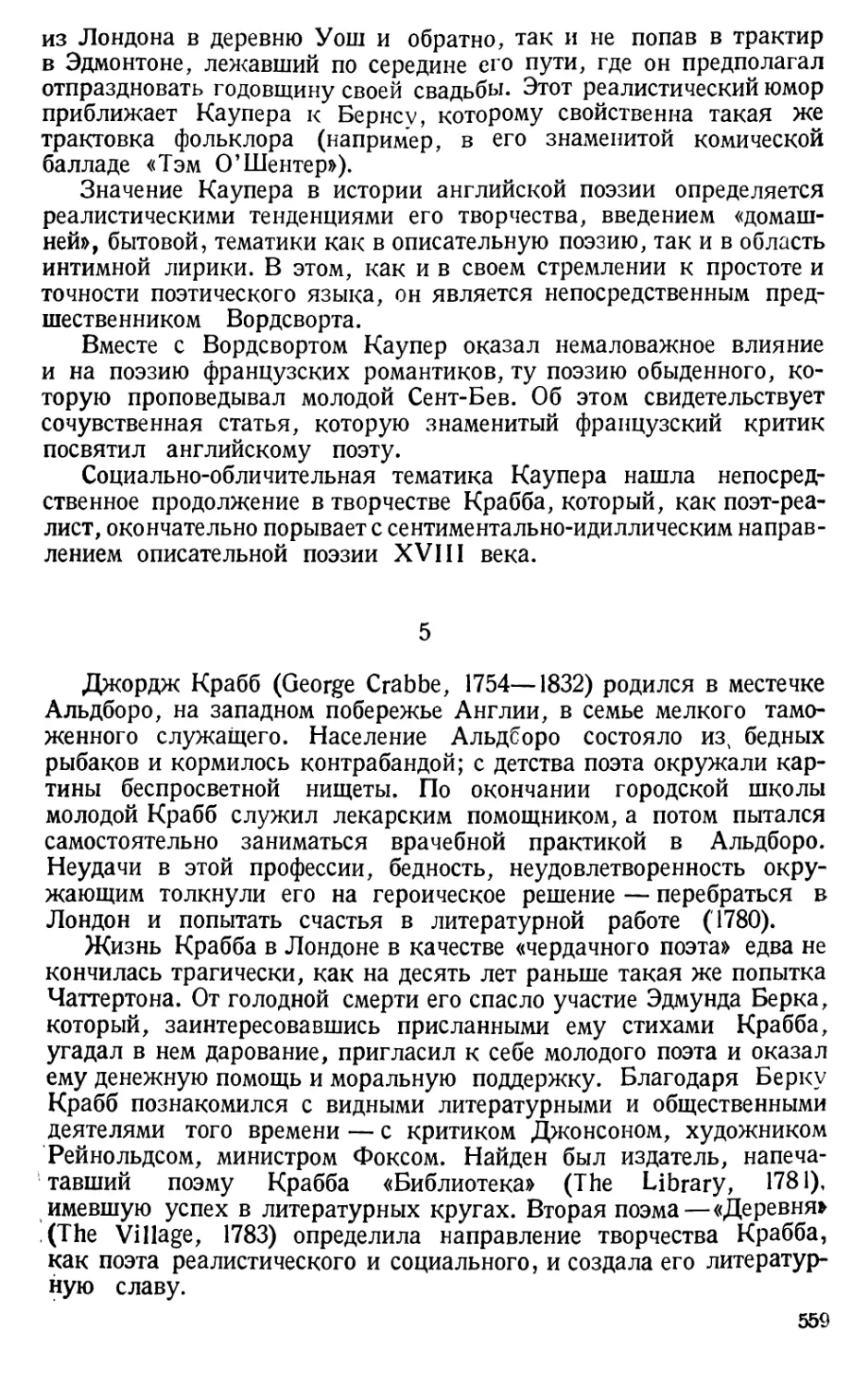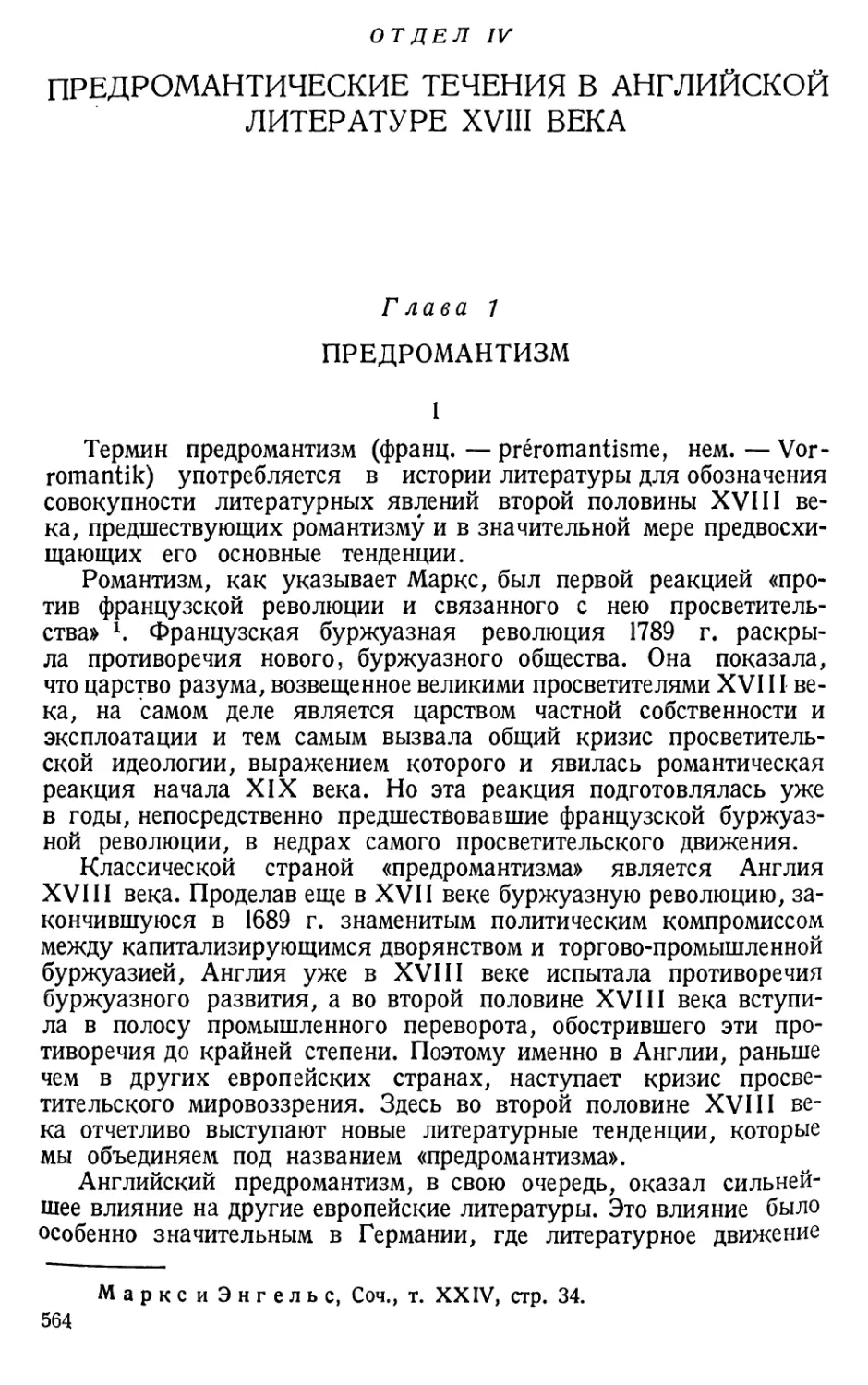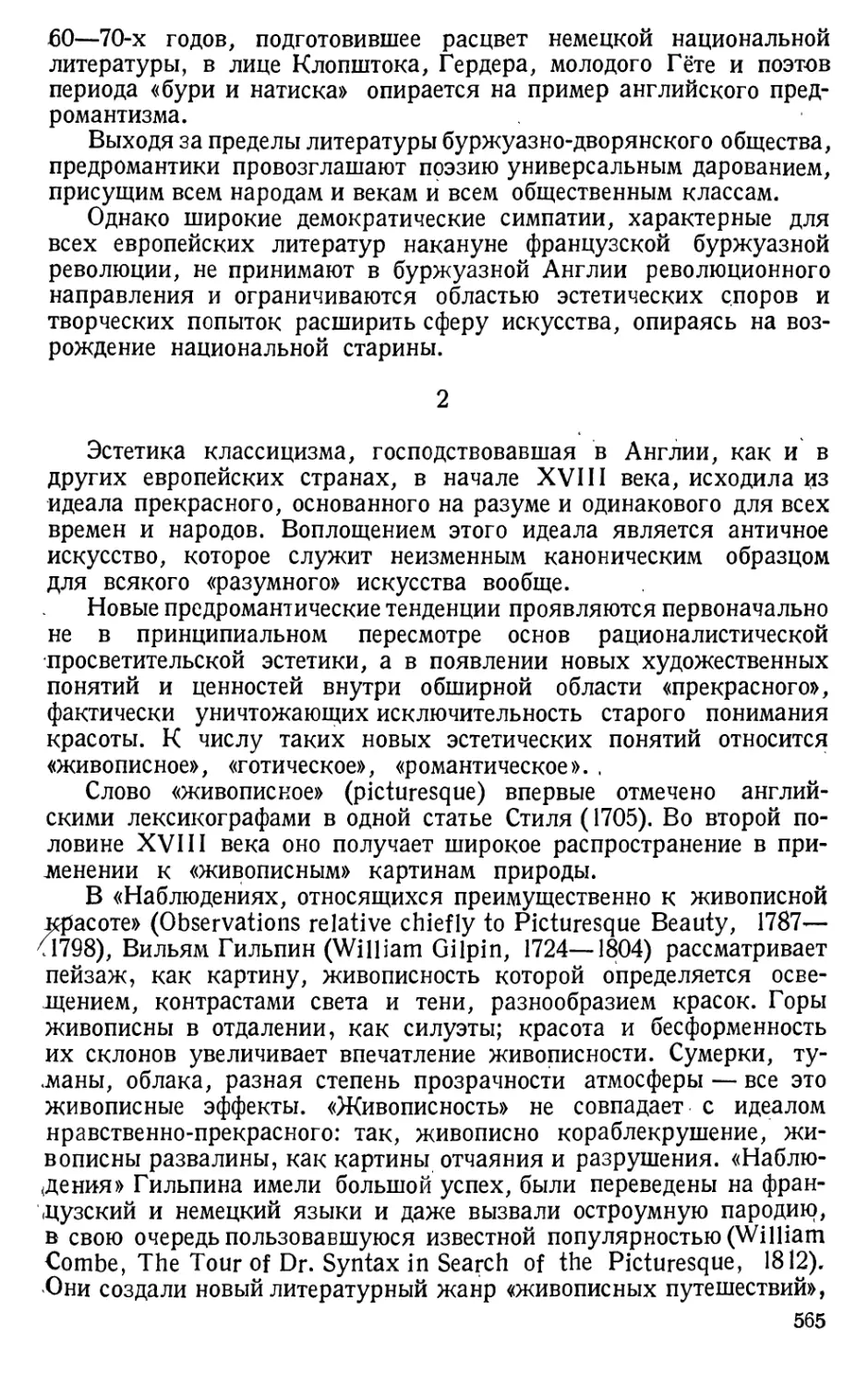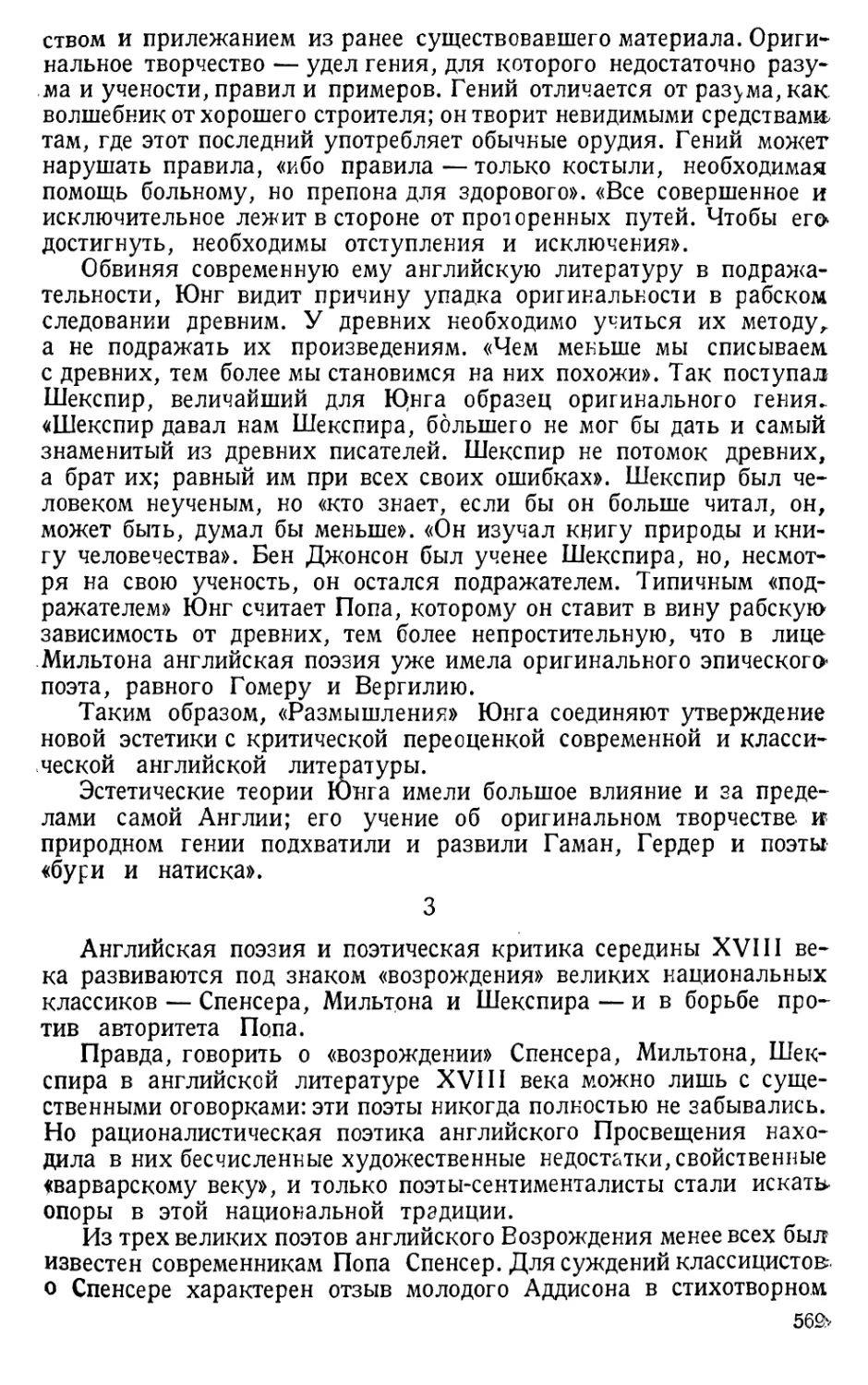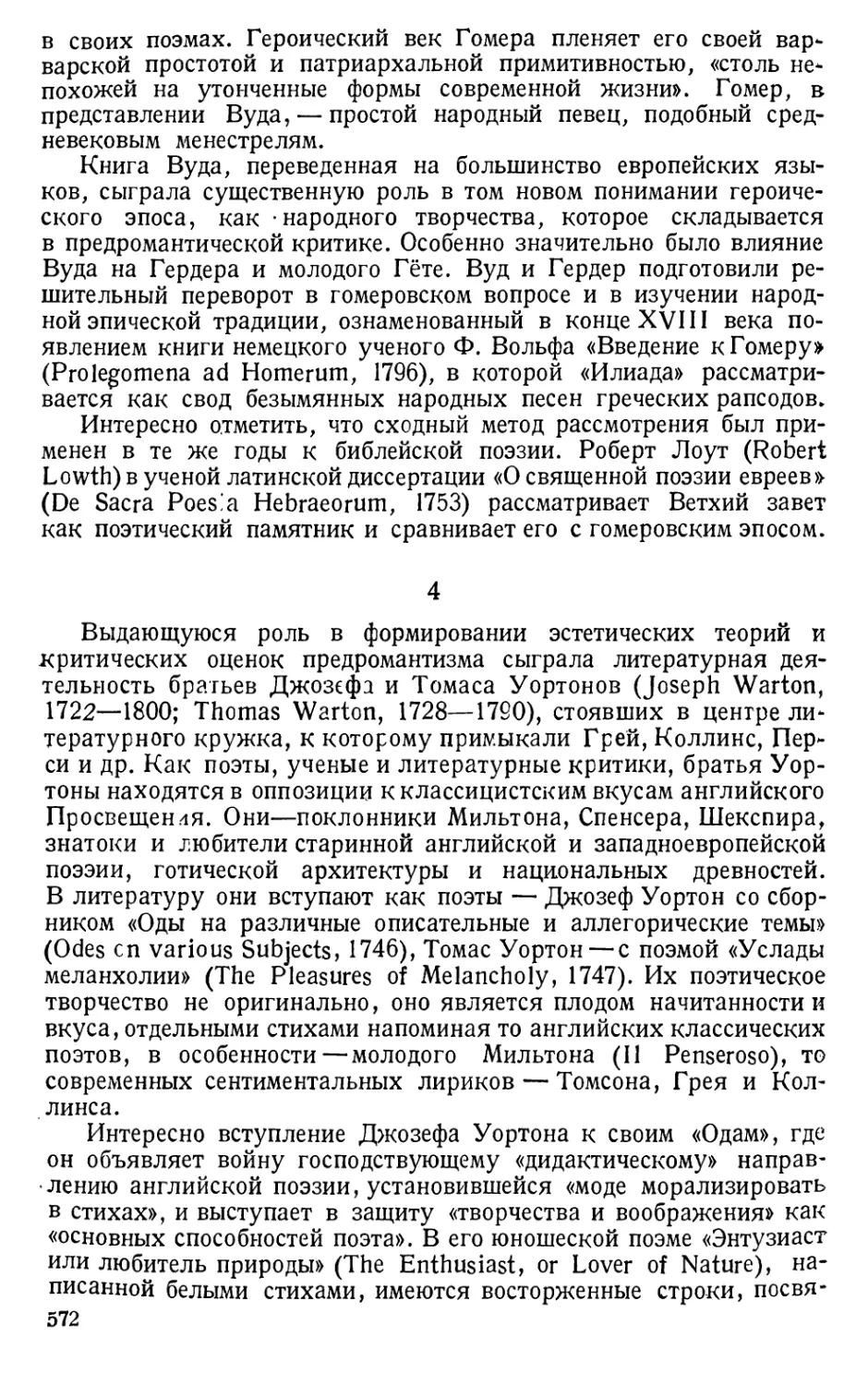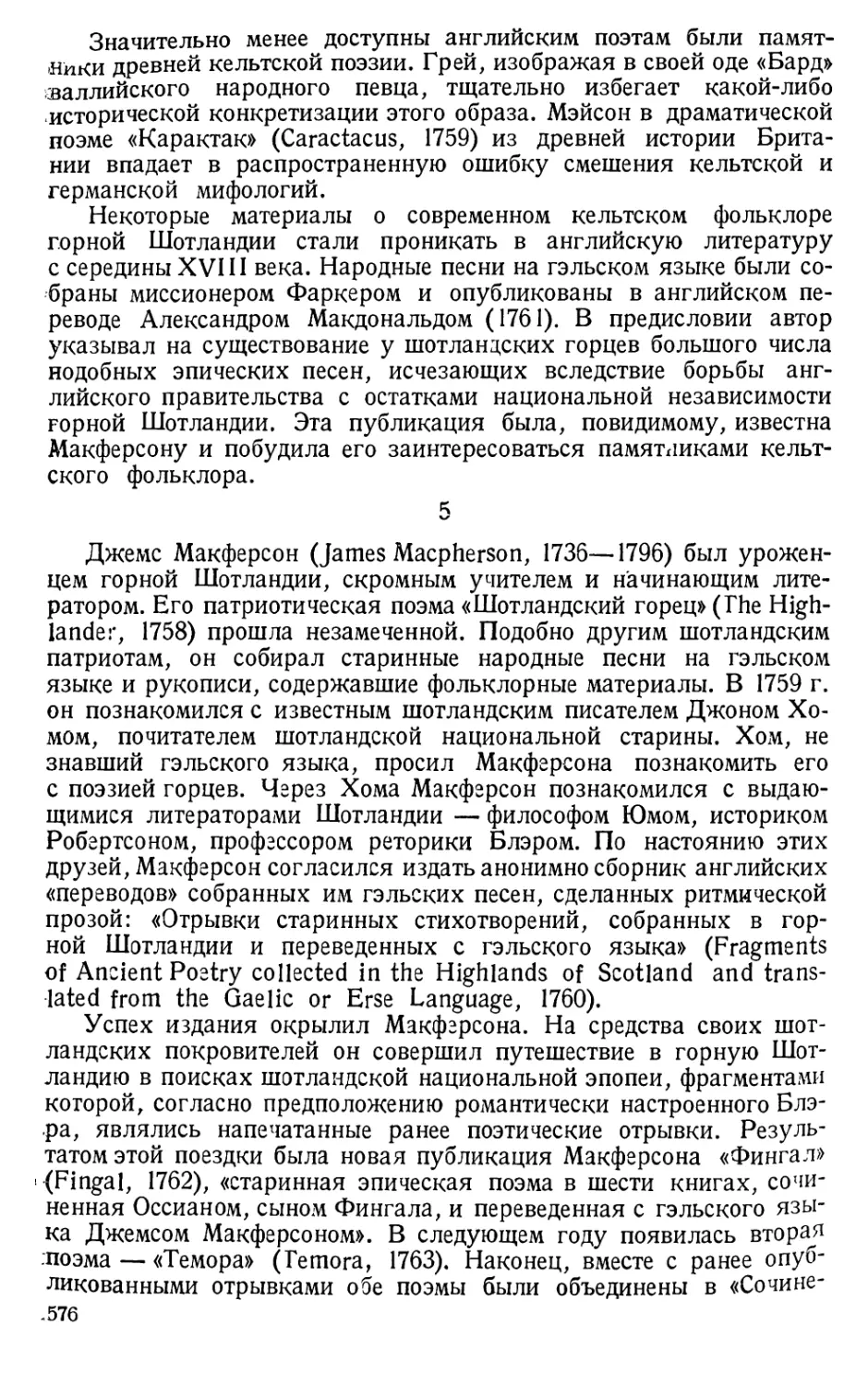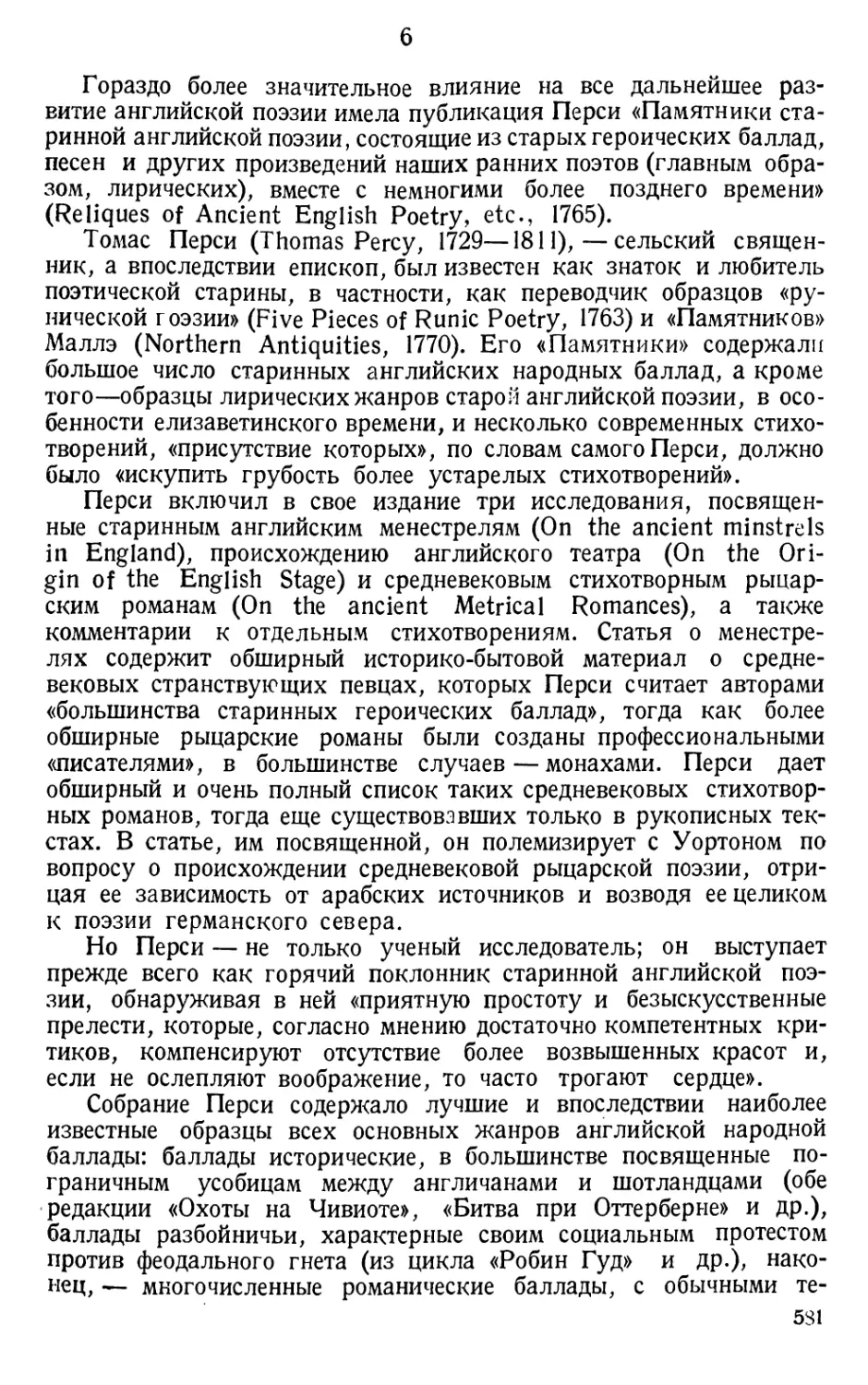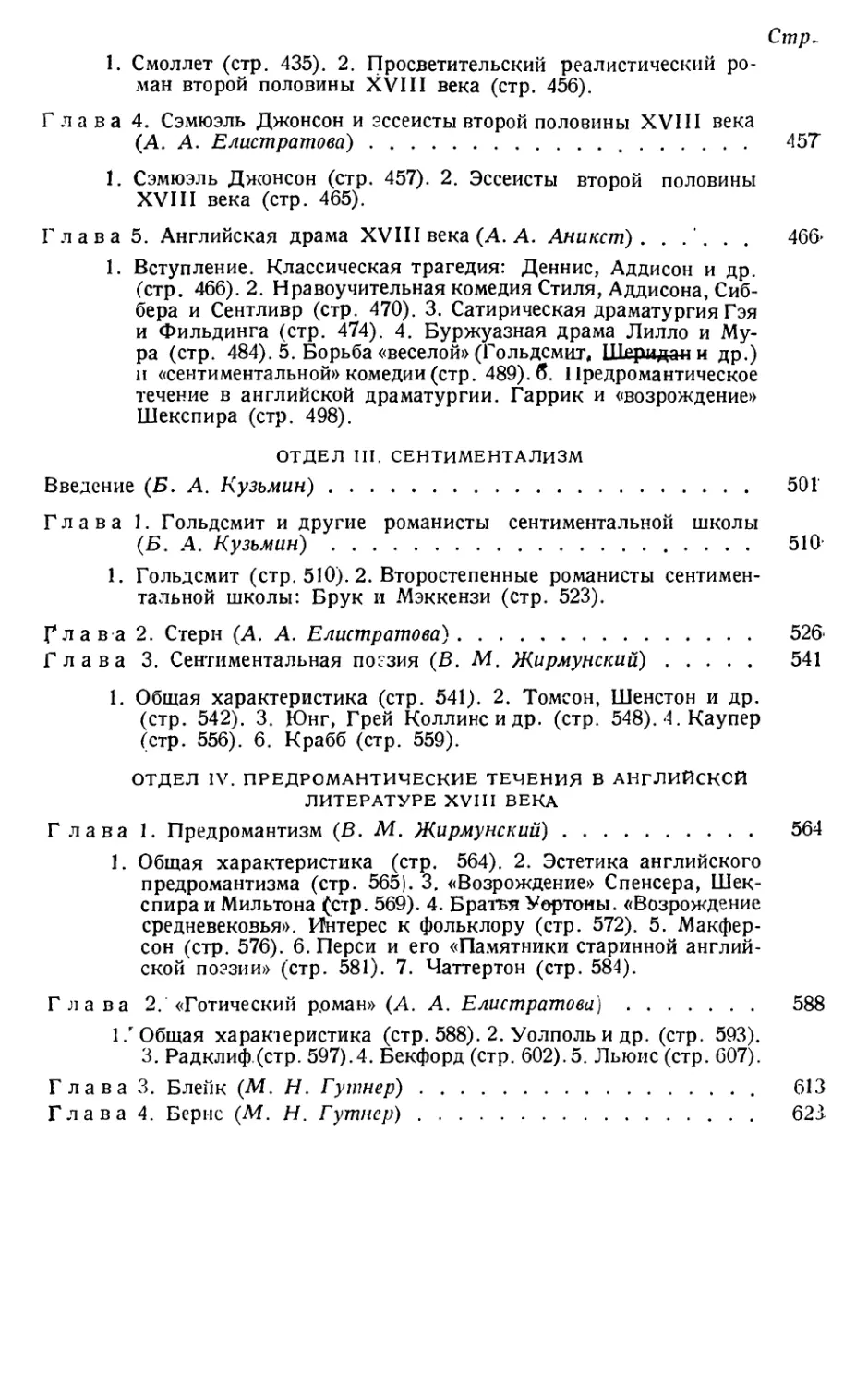Автор: Анисимов И.И.
Теги: английский иностранный язык иностранная литература изучение языков английская грамматика
Год: 1945
Текст
лнглиискои
ЛИТЕРЛТУРЫ
Издательство
Академии Наук СССР
1945
ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR
A.M.GORKY INSTITUTE OF WORLD LITERATURE
HISTORY
ENGLISH
LITERATURE
VOLUME I
SECOND ISSUE
PUBLISHED BY
THE ACADEMY OF SCIENCES OF THE USSR
MOSCOW* 1945 • LENINGRAD
АКАДЕМИЯ НАУК СОЮЗА ССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ имени А.М. ГОРЬКОГО
ИСТОРИЯ
лнглийской
ЛИТЕРЛТУРЫ
ТОМ I
ВЫПУСК ВТОРОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ HAVK СССР
МОСКВА•1945•ЛЕНИНГРАД
ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Проф. М. П. Алексеева, проф. И. И. Анисимова,
проф. А. К. Джирелегова, А. А. Елистратовой,
.^лена-корреспондента Академии Наук СССР
проф. В. М. Жирмунского, проф. M. М. Морозова
EDITED BY
Prof. M. p. Alexeyev, prof. I. I. Anissimov,
prof. A. K. Djivelegov, A. A. Elistratova,
prof. M. M. Morosov and prof. V. M. Shirmunsky,
Corresponding member of the Academy of Sciences
of the USSR
ОТ РЕДАКЦИИ
Первый том настоящего издания, охватывающий историю
английской литературы от ее возникновения до конца XVIII сто-
летия, выходит по техническим причинам двумя выпусками. Пер-
вый выпуск (вышедший из печати в 1943 г.) посвящен англий-
ской литературе средних веков и раннего Возрождения и подводит
читателей к творчеству Шекспира; второй выпуск обнимает исто-
рию английской литературы от Шекспира до конца XVIII века.
В первый выпуск второго тома «Истории английской литерату-
ры», в настоящее время подготовляемый к печати, войдут разделы:
«Романтизм», «Классический реализм в Англии середины XIX века»
и «Социально-политическая литература и поэзия времен чартизма».
Во второй и последний выпуск второго тома войдет литература
современная.
Первый том «Истории английской литературы» был подготов-
лен к печати Институтом мировой литературы имени А. М. Горь-
кого Академии Наук СССР в мае 1941 г. За годы Великой Отече-
ственной войны авторский коллектив «Истории английской ли-
тературы» понес тяжелую утрату в лице трех своих членов: про-
пал без вести с осени 1941 г. вступивший добровольно в ряды
Красной Армии докторант Академии Наук СССР М. Д. Заблу-
довский; погиб во время эвакуации из Ленинграда в марте 1942 г.
докторант Академии Наук СССР M. Н. Гутнер; скончался в марте
1043 г. находившийся в рядах Красной Армии доцент
Б. А. Кузьмин.
5
ОТДЕЛ IV
ШЕКСПИР, ЕГО СОВРЕМЕННИКИ
И ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Глава I
ШЕКСПИР
1
^Вильям Шекспир (William Shakespeare1, 1564—1616) родился
23 апреля 1564 г. в провинциальном городке Стратфорде на реке
Эвон. Здесь провел он детство и юность.
Отец Шекспира был зажиточным горожанином: торговал шер-
стью, . зерном и мясом, владел несколькими домами в Стратфорде
и одно время занимал виднейшие в городке должности — мэра
и старшего олдермена. Мать Шекспира, Мэри Арден, происходила
из семьи, принадлежавшей, возможно, к захудалой ветви дворян-
ского родал
Будущий великий драматург учился в местной «грамматиче-
ской» школе. Основным предметом преподавания в этой школе был
латинский язык. Ученики читали в подлиннике Сенеку, Плавта,
Цицерона, Вергилия, Овидия, Горация. Они знакомились также
с основами схоластической логики и риторики. В стратфордской
школе, возможно, преподавались и начатки греческого языка.
Но, помимо грамматической, была и другая школа, в которой
с детских лет учился великий драматург, ijirofi школой было не-
посредственное общение с людьми из народа. Недаром Шекспир
является знатоком английского фольклора, народных песен, по-
говорок и баллад, знатоком народной речи. Стратфорд наложил
лечать на творчество Шекспира^
«О, какая дивная поэзия, — пишет Энгельс, — заключена в
провинциях Британии! Часто кажется, что ты находишься в gol-
den days of merry England и вот-вот увидишь Шекспира с ружьем
за плечом, крадущимся в кустарниках за чужой дичью, или же
удивляешься, что на этой зеленой лужайке не разыгрывается в
действительности одна из его божественных комедий. Ибо где бы
ни происходило в его пьесах действие — в Италии, Франции или
1 Фамилия «Шекспир» писалась различно: Shakespeare, Shakspere, Shack-
spere, Shaxpeare, Shaxpere и пр. Мы не имеем здесь дела с исключением:
транскрипция фамилий была в ту эпоху еще крайне неустойчивой.
7
Наварре,—по существу перед нами всегда merry England, ро-
дина его чудацких простолюдинов, его умничающих школьных
учителей, его милых, странных женщин; на всем видишь, что дей-
ствие может происходить только под английским небом» г.
Шекспиру не было и шестнадцати лет, когда его отец запу-
тался в делах и юноше пришлось самому зарабатывать на жизнь.
По одному преданию, он поступил подмастерьем к торговцу мя-
сом («перед тем, как зарезать теленка, он произносил над ним тор-
жественный монолог», — гласит легенда), по другому — млад-
шим,-учителем в сельскую школу.
В 1582 г. Шекспир женился на Анне Гэзевей, дочери зажиточ-
ного фермера; она была на восемь лет старше его.
Года через три после женитьбы Шекспир покинул Стратфорд.
По преданию, он бежал, спасаясь от преследований крупного
местного помещика, сэра Томаса Люси, в заповеднике которого
молодой Шекспир будто бы тайком охотился на оленей. «Украсть
оленя» в заповеднике знатного лица считалось доблестью среди де-
ревенской молодежи, воспитанной на балладах о Робин Гуде..
Попав в Лондон, Шекспир сначала будто бы жил тем, что при-
сматривал за лошадьми приезжавших в театр джентльменов^ ОС
этом поэт Александр Поп слышал от Роу, первого биографа Шек-
спира. Роу слышал об этом от трагика Беттертона, которому, в свою
очередь, рассказал об этом Вильям Давенант со слов своего отца.
Вот насколько неясны подробности биографии Шекспира.
(С внешней стороны жизненный путь Шекспира не богат со-
бытиями. Он поступил актером в театр, но на этом поприще вряд
ли достиг многого. Роу сообщает, что лучшей ролью Шекспира
была тень отца Гамлета. Но у Шекспира была и другая, главная,
обязанность в театре. Он. начал, вероятно, с работы «штопаль-
щика пьес» («playpatcher»), т. е. отделывал старые пьесы при и?с
возобновлении в репертуаре. Затем он стал постоянным драматур-
гом театра. Рядовой актер вторгся в ту область, где до него почти
безраздельно господствовали «университетские умы».'
В материальном отношении жизнь Шекспира сложилась, по-
видимому, благополучно. Он оказался настолько нужным театру
человеком, что в 1599 г., когда был основан знаменитый театр «Гло-
бус» (Globe), Шекспир был принят в число пайщиков.
Все свои силы ой отдал театру. Лучшие свои годы он провел
в упорном труде. В посвящении к «Белому дьяволу» (1612) Джон
Вебстер упоминает об «удачном и приносящем обильный урожай
трудолюбии мистера Шекспира». В круг любимого чтения Шек-
спира входили «Хроники» Голиншеда, «Чертог наслаждений»»
(сборник переведенных на английский язык итальянских новелл),
«Опыты» Монтэня (в переводе Флорио), английский перевод «Жиз-
ней» Плутарха и «Метаморфозы» Овидия (в переводе Гольдинга).
Имя Овидия встречается в произведениях Шекспира чаще других
древних авторов. О том, насколько Шекспир знал древние языкиг
1Маркс и Энгельс, Соч., т. 11, стр. 59—60.
вспоминал Бен Джонсон: «Латинский язык ты знал плохо, а гре-
ческий и того хуже» («плохо», разумеется, с точки зрения такого
знатока языков, как Бен Джонсон; надо все же помнить, что Шек-
спир учился в «грамматической» школе). Повидимому, он научился
читать по-итальянски и по-французски, хотя вряд ли владел этими
языками в совершенстве.
В круг литературного образования Шекспира необходимо
включить произведения его ближайших предшественников и со-
временников. Он, несомненно, читал и перечитывал произведения
английских «петраркистов», «Королеву фей» Эдмунда Спенсера,
«Аркадию» Сиднея, сочинения Лили, Грина и Лоджа, а драмы Map-
ло, повидимому, знал почти наизусть. Кроме того, по текстам Шек-
спира видно, что он был не только любителем, но и знатоком мут
зыки.
. Предание сохранило образ Шекспира как человека общительг
ного, любящего весело пошутить. «Дружелюбным» называет его
современник. Даже критически настроенный Бен Джонсон в свог
их «Открытиях» воздал должное Шекспиру, как человеку: «Я лю-
<бил его... Он был честным человеком, открытой и щедрой натурой»т
Как рассказывают, Шекспир был завсегдатаем таверны «Русалка»
(Mermaid), где встречался с Беном Джонсоном и вел с ним литера-
турные споры. Актеры, сотоварищи по сцене, повидимому, радо-
вались широкой популярности пьес Шекспира и гордились этим,
В обозрении неизвестного автора «Возвращение с Парнаса»
^Retourne from Parnassus, между 1598 и 1602) выведен один из
актеров театра «Глобус» —комик Кемп, который говорит: «Не-
многие из этих людей с университетским образованием хорошо
пишут пьесы. Они уж слишком пропахли Овидием и чересчур
много болтают о Прозерпине и Юпитере. Вот наш товарищ Шек-
спир всех их превзошел, да и Бена Джонсона в придачу».
Пьесы Шекспира находили живой отклик у зрителей из народа,
густой толпой с трех сторон обступавших сценические подмостки
«Глобуса».
Но в театре того времени драматург обычно оставался мало за-
метным для большинства зрителей. Имена выдающихся актеров
затмевали имя драматурга. Современник Шекспира Корбет (Cor-
bet), епископ оксфордский, рассказывает, что хозяин деревенской
гостиницы, показывавший ему место битвы при Босворте, где na^i
Ричард III, заметил: «Вот здесь Бербеджвоскликнул: «Коня, пре-
стол мой за коня!» Хозяину гостиницы и в голову не пришло ска-
зать: «Вот здесь Ричард III, по трагедии Шекспира, воскликнул...»
Драматург оставался неведомым для большинства зрителей.
Совершая вместе с труппой поездки по провинции, Шекспир
вероятно, не раз побывал в аристократических замках (в «Гам-
лете», например, показан приезд актеров из столицы). В Лондоне
он также навещал вельмож, среди которых было немало любите-
лей театра. Именно этим, возможно, объясняется его знакомство
с бытом аристократии. Поэмы Шекспира посвящены молодому
графу Саутгемптону. Не раз высказывалось предположение,
9
что Шекспир был вхож к этому просвещенному аристократу.
В его блестящем кружке Чапмен читал свой новый перевод «Или-
ады», Диодати беседовал об Ариосто, Фрэнсис Бэкон толковал о
началах своей новой философии. Здесь же громко и откровенно
критиковали правление королевы. Но, высказывая предположение
о дружбе Шекспира с Саутгемптоном, надо помнить, какое гро-
мадное расстояние отделяло в ту эпоху вельможу, аристократа от
скромного драматурга «театра для широкой публики». Не при-
ходится поэтому удивляться, что в бумагах Саутгемптона мы нигде
не встречаем упоминания о Шекспире. Если Саутгемптон и обратил
внимание на Шекспира, то, повидимому, очень скоро забыл о нем.
Чем тщательнее мы систематизируем те отрывочные факты из
биографии Шекспира, которые дошли до нас, тем явственнее ста-
новится его одиночество в окружавшем его «нестройном мире» (сло-
ва Гамлета), тем дальше в область предания отходит созданный
некоторыми биографами рассказ о его мирной и благополучно
уравновешенной жизни. Это одиночество стало еще ощутимее,
когда тот театр, которому Шекспир отдавал все свои творческие
силы, пошел по чуждому ему пути. В 1608 г. труппа «Глобуса»
приобрела для своих зимних спектаклей «приватный» (т. е. за-
крытый) театр «Блэкфрайерс». Намечались первые признаки упад-
ка старых «театров для широкой публики». В новомодном «Блэк-
фрайерсе» уже не народный зритель, а придворный «ценитель изящ-
ного» был законодателем сцены. В 1609 г. труппа пригласила на
постоянную работу двух молодых драматургов — Бомонта и Флет-
чера, более соответствовавших новому направлению.
Шекспир некоторое время продолжал работать для театра,
но еще до 1612 г. он покинул Лондон и вернулся в Стратфорд,
где провел последние годы жизни в уединении. В 1612 г. он соз-
дал «Бурю», свою последнюю пьесу. «Генрих VIII», написанный,
вероятно, после «Бури», по мнению большинства современных
исследователей, принадлежит в основном перу Флетчера — Шек-
спир был лишь соавтором.
Умер Шекспир 23 апреля 1616 г. Он похоронен в Стратфорде1
Единственный подлинный портрет Шекспира, сделанный,
вероятно, с гипсовой маски, снятой с лица умершего, и чрезвы-
чайно плохо исполненный, помещен в первом собрании пьес Шек-
спира, изданном в 1623 г. Бен Джонсон восхищался сходством
этого портрета. Но если в нем улавливали сходство люди, видав-
шие Шекспира, то нам этот портрет почти ничего не говорит.
Другие портреты Шекспира, в том числе и так называемый «чан-
досский портрет», приписываемый кисти Ричарда Бербеджа, яв-
ляются апокрифическими.
О жизни Шекспира мы знаем немного, но, во всяком случае,
не меньше, чем о большинстве современных ему драматургов.
Эта скудость сведений вполне естественна: драматурги занимали
в ту эпоху весьма скромное общественное положение. Писание пьес
считалось низким, продажным ремеслом. «Боже сохрани, •—
писал поэт Даниэль,—чтобы я грязнил бумагу продажными стро-
Ю
Ками! О нет, нет —стих мой не уважает театра». Когда Бен Джон-
сон назвал свои пьесы трудами («Works»), это вызвало колкие на-
смешки. Такое отношение к драматургам изменилось лишь по-
степенно. В 1662 г. Фуллер уже имел возможность включить имя
Шекспира в число «достойных людей Англии». Но первую био-
графию Шекспира опубликовал Роу только в 1709 г. Роу писал,
главным образом, на основании сообщений страстного поклонника
Шекспира —трагика Беттертона, специально ездившего в Страт^
форд, чтобы собрать сведения о Шекспире, и беседовавшего там со
старожилами.
Биография Шекспира в большей своей части выросла, таким
образом, на почве позднейшего устного предания. Бедность фак-
тических данных и ненадежность источников породили ряд тео-
рий, приписывающих авторство шекспировских пьес другим ли-
|дам. Еще в 1772 г. Герберт Лоренс, друг актера Гаррика, пи-
сал:«Бэкон сочинял пьесы. Нет надобности доказывать, насколько
преуспел он на этом поприще. Достаточно сказать, что он на-
звался Шекспиром». В 1848 г. американец Харт снова поднял во-
прос об авторстве Шекспира. В 1857 г. Делия Бэкон (Bacon)
опубликовала объемистый том под заглавием «Разоблачение фило-
софии пьес Шекспира» (The Philosophy of the Plays of Shakespeare
Unfolded). В этом труде она пыталась доказать, что автором при-
писываемых Шекспиру пьес был конспиративный кружок вольно-
думцев (как будто в произведениях великого драматурга нет ярко
выраженного индивидуального стиля!) во главе с философом Фрэн-
сисом Бэконом и поэтом, эссеистом, историком и мореплавателем
сэром Вальтером Ролеем (Walter Raleigh). В 1907 г. Карл Блейб-
трей (Bleibtreu, «Der wahre Shakespeare») создал «ретлендовекую
теорию», согласно которой автором произведений, приписываемых
Шекспиру, был лорд Ретленд.Эта теория была разработана в 1918 г.
бельгийцем Дамблоном (Demblon, «Lord Rutland est Shakespeare»)
и изложена в 1924 г. на русском языке Ф. Шипулинским («Шек-
спир-Ретленд»). К более новым теориям принадлежат «дербийская»,
согласно которой под псевдонимом Шекспир скрывался лорд Дер-
би, и «оксфордская», считающая автором прославленных пьес
лорда Оксфорда.
Как ни бедны и отрывочны биографические сведения о Шек-
спире, их все же достаточно, чтобы устранить сомнения в его
авторстве. Кроме того, сохранились довольно многочисленные от-
зывы о Шекспире его современников. Так, например, Бен Джон-
coiifB беседе с Дрэммондом в 1619г. упрекал Шекспира в недостатке
образованности; в 1623 г. он журил в дружеском тоне и с некото-
рым чувством собственного превосходства «нежного лебедя Эвона»
•за то, что тот плохо знал древние языки; надо быть совсем ослеп-
ленным предвзятой теорией, чтобы усматривать здесь возможность
•намека на образованных аристократов, вроде Ретленда, Оксфорда
или Дерби, не говоря уже оФрэнсисе Бэконе. Писавший, хотя и по
устному преданию, но по свежим следам, Фуллер говорит о Шек-
спире как об уроженце Стратфорда.
и
С антишекспировских позиций остается необъяснимым тот
факт, что в течение столь долгого времени авторство Шекспира
считалось общепризнанным. Наконец, театральная практика до-
казывает, что Шекспир знал технику сцены так, как мог ее знать
только профессионал.
Аргументы, приводимые антишекспиристами, отличаются край-
ней неубедительностью. В их работах читатель найдет удивитель-
ные по своей произвольности «расшифровки» якобы таинственных
анаграмм. Нередко они утверждают также, что имеются два раз-
личных имени: Шекспер (уроженец Стратфорда) и Шекспир («потря-
сатель копья», литературный псевдоним). Однако еще в XVII веке
Фуллер, имея в виду уроженца Стратфорда, говорил о «воин-
ственном звуке» его имени. Вообще, орфография той эпохи не
является надежным источником. Так, например, фамилию Марло
писали на одиннадцать разных ладов, однако никому и в голову
не пришло предположить, что было одиннадцать различныхМарло.
Авторские рукописи прославленных пьес Шекспира бесследно
исчезли, —аргументируют антишекспиристы. Но ведь до нас не
дошли и авторские рукописи огромного большинства современ-
ных Шекспиру драматургов; в том числе Марло и Кида.
Все же исследователи вряд ли имеют право с презрением от-г
махнуться от антишекспиристов, несмотря на основное их заблу*
ждение. Многое из написанного ими бросает свет как на личность
Шекспира, так и на его творчество. Делии Бэкон удалось показать
органическое родство между творчеством великого драматурга
и мыслью «основателя современного материализма» Фрэнсиса Бэ-
кона. В гуманизме Шекспира она видела завет грядущим векам,
По ее мнению, творчество Шекспира — весть об ркружавшем его
«диком общественном бедствии». «Это—апология поэта, защищаю-
щего свое новое учение о человеческой жизни,которое он хочет объ-
явить людям и оставить на земле для далеких грядущих времен». Со
страниц защитников «ретлендовской» теории встает образ «потря-
сающего копьем» поэта, —образ неизмеримо более привлекатель*
ный, чем то сусальное изображение, которое мы нередко находим
в традиционных биографиях Шекспира.
Антишекспировские теории порождены скудостью биографиче-
ских сведений о Шекспире. Почва, на которой выросли эти тео-
рии, различна. В одних случаях мы имеем дело просто с дет
шевой сенсацией, в других — с недоверием к дарованию человека*
вышедшего из «низов». Но в большинстве случаев антишекспиров-
ские теории порождены протестом против традиционных биогра?
фий, рисующих картину уравновешенного спокойствия и филиг
стерского благополучия.
Шекспир был, по словам Бена Джонсона, «душой своего века»>
века грозного и бурного. Окружавшая Шекспира действительность
была чем угодно, только не идиллией. Точно так же и его жизнь
была, вероятно, чем угодно, только не безоблачной пасторалью.
Ни одной авторской рукописи Шекспира до нас не дошло.
Первоисточником шекспировского текста являются старинные из-
12
дания пьес, вышедшие либо при его жизни, либо после его смерти,
в течение XVII века. Из 37 пьес Шекспира, входящих в «канониче-
ское» издание пьес, при его жизни было издано отдельными книж-
ками (так называемые кварто) 16 пьес, причем некоторые из них
успели выдержать по нескольку изданий («Ричард III» и «Ри-
чард II» — по 5 изданий, «Гамлет» и «Ромео и Джульетта» — по
4 издания). В 1622 г. вышло кварто «Отелло». В 1623 г. появилось
первое собрание пьес Шекспира (так называемое «Первое фолио»),
включившее все известные нам драматические произведения
(кроме «Перикла». Таким образом, 20 пьес были впервые напеча-
таны в 1623 г.
| j Многочисленные кварто и Первое фолио являются основными
IПервоисточниками текста. Всего вероятней, что эти издания на-
дпечатаны не с авторских рукописей, а с режиссерских экзем-
пляров. Расхождения между кварто и Первым фолио объясняются,
таким образом, прежде всего тем, что мы имеем дело с различными
*еатральными редакциями авторской рукописи. Кроме того, по-;
Скольку вопрос шел отнюдь не о «роскошных» изданиях, набор-!
щикиси корректоры работали крайне небрежно.
Многие поколения шекспироведов, путем кропотливого ели-;
чения старинных изданий, анализа'текстов, исправлений и пр.,,
создали в середине прошлого века текст, принятый с теми или
иными мелкими вариациями редакторами многочисленных совре-
менных английских изданий. Научные издания приводят разно-
чтения, из которых многие имеют такое же право на существо-;
вание, как и канонический текст.
Нельзя не признать плодотворности огромной работы, npo-j
деланной корифеями шекспироведения; но результаты этой ра-1
боты далеко не всегда являются окончательными. Во-первых,!
многие исправления лишь предположительны; во-вторых, на вы-,
боре слова или словосочетания из двух или нескольких вариан-;
тов не могла подчас не сказаться субъективная эстетическая оценка,\
связанная с тем или иным идеологическим истолкованием твор-;
чёства Шекспира.
Шекспир оставил нам две поэмы, собрание сонетов, и, согласно
изданиям принятого текста, 37 драматических, произведений (счи-
тая каждую часть «Генриха IV» и «Генриха VI» за самостоятель-
ную пьесу). Последнюю цифру надо принимать с существенной ого--
варкой.
Исследователям не стоило большого труда обнаружить в пер-
вой части «Генриха VI» разнородность стилей, всего вероятнее сви-
детельствующую о сотрудничестве нескольких авторов. Правда,;
Хемикдж и Кондель, сотоварищи Шекспира по «Глобусу» и ре-
дакторы Первого фолио, включили в это издание первую часть
«Генриха VI». Но это еще ничего не доказывает. Две другие части
принадлежали Шекспиру, и редакторы, естественно, могли доба^
№ть для полноты картины и первую часть, в которой Шекспир
был лишь соавтором. Весьма знаменательно, что Мерее (Meres),
Перечисляя пьесы Шекспира в своей «Сокровищнице Паллады»
13
(Palladis Tamia, 1598), не упоминает о первой части «Ген-
риха VU. Умолчание Мереса в данном случае показательно
петому, что первая часть пользовалась, как мы знаем со слов
Нэша, особенным успехом у публики. Некоторые исследователи
склонны отрицать вообще какое-j ибо участие Шекспира в со-
здании первой части «Генриха VI». В качестве возможных
авторов называют Марло, Пиля, Грина, Нэша. Историческая
хроника «Генрих VIII», по мнению современных автеригетов,
написана в большей своей части Флетчером. Шекспир принимал
в ее создании, вероятно, хишь скромное участие.
Даем предположительную датировку пьес Шекспира.
Название
Написана
(предполо-
жительно)
Впервые
напечатана
1590 1623 (Фолио)
1590 1623 (Фолио)
1591 1623 (Фолио)
1592 1597 (Кварго)
1592 1623 (Фолио)
1593 1594 (Кварто)
1593 1623 (Фолио)
1594 1623 (фолио)
1594 1598 (Кварто)
1594 1597 (Кварто)
1595 1597 (Кварто)
1595 1600 (Кварто)
1596 1623 (Фолио)
1596 1600 (Кварто)
1597 1598 (Кварто)
1597 1600 (Кварто)
1597 1602 (Кварто)
1598 1600 (Кварто)
1598 1600 (Кварто)
1599 1623 (Фолио)
1599 1623 (Фолио)
1600 1623 (Фолио)
1601 1603 (Кварто)
1602 1609 (Кварто)
1602 1623 (Фолио)
1604 1623 (Фолио)
1604 1622 (Кварто)
1605 1608 (Кварто)
1605 1623 (Фолио)
1606 1623 (Фолио)
1607 1623 (Фолио)
1607 1623 (фолио)
1608 1609 (Нвар-о)
1609 1623 (кЬолио)
1610 1623 /(фолио)
1612 1623 (Фолио)
I Генрих viii»j | 1612 I 1623 (Фолио)
К списку егмкительных пьес следует, по нашему убеждению,
добавить и «Тита Андрскика», несмотря на то, что Мерее
14
Вторая часть «Генриха VI» .
Тр тья часть «Генриха VI» .
[Первая часть «Генриха VI»]
«Ричард III»
«Ком(дия ошибок»
[«Тит Андроник»]
«Укрощение строптивой» . .
«Деа веронца»
«Тщетные усилия любви» . .
«Ромео и Джульетта» . . . .
«Ричард II»
«Сон в летнюю ночь» . . . .
«Король Иоанн»
« Венецианский купец» . . . .
Первая часть «Г нриха IV» .
Вторая часть «Генриха IV» .
«Виндзорские кумушьи» . . .
«Мною шума из ничего» . .
«Генрих V»
«Юлий Цезарь»
«Как еэм это понравится» . .
«Двенадцатая ночь»
«ГаМлет»
«Троил и Крессила»
«Конец — д-лу венец» . . . .
«Мера за меру»
«Отелло»
«Король Лир»
«Маьбет» *
«Антоний и Клеопатра» .
«Кориолан»
«Тимон Афинский»
«Перикл»
«Цимбелин»
«Зимняя сказка»
«Буря»
[«Генрих VIII»]
p 1598 г. упоминал о «юте Андронике» как о пьесе Шекспира
И что Хеминдж и Кондель включихи ее в Первое фохио. Но
в первом издакии этой пьесы (первсе кварто, 1594) нет имени
автора. Правда, местами в стиле как будто чувствуется манера
Шекспира, что наводит на мысль о его соавторстве, но в ос-
новном мы имеем дело с достаточно аляповатым и примитивным
Ьодражакием Марло, отчасти —Тсмасу Киду. Итак, в лучшем
случае, «Тит Андроник» — ученическая работа Шекспира. Наобо-
рот, в «Перикле», хотя эта пьеса и не была включена в Пер-
вое фолио и одно время авторство Шекспира считалось сомни-
тельным, ясно чувствуется его манера. Даже наиболее скепти-
чески. Настроенные современные исследователи ограничиваются
тем, ц$о отрицают авторство Шекспира лишь в первых двух
акташ'оставляя за ним три последних, т. е. большую часть
пьес»
jft-ак, за исключением первой части «Генриха VI», «Тита
Айроника» и «Генриха VIII», число бесспорно принадлежащих
пШу Шекспира пьес достигает тридцати четырех. В последние
«ы жизни Шекспир, возможно, принял участие в создании
шесы «Два благородных родича», основным автором которой
|ыл, повидимому, Флетчер.
I Хронология произведений Шекспира —в значительной сте-
пени предположительная и основана на разнообразных данных.
Во-первых, год издания произведения, регистрации его в теат-
ральной цензуре или первого упоминания о нем у современни-
ков является датой, позднее которой произведение не могло
быть написано. Во-вторых, намеки на злободневные события
или даже на незначительные факты окружавшей Шекспира
действительности (например, на ту или иную моду в одежде)
часто являются ключом к разрешению сомнений в хронологии.
Наконец, существенным критерием является стиль данного
произведения, исследуемый в отношении как к другим произ-
ведениям* Шекспира, так и к общему развитию английской дра-
матурги^ той эпохи.
Поэма «Венера и Адонис» (Venus and Adonis) была издана
в 1593г., поэма «Лукреция» (Lucrèce)—в 1594 г. Веро-
ятно, эти поэмы были написаны двумя-тремя годами раньше
указанных дат. В полемике, возникшей в связи с напечатаьием
посмертной «исповеди» Роберта Грина (1592), Четль намекал
на ^покровительство, оказываемое Шекспиру «достопочтенными
людьми». Повидимому, тут имеется в виду граф Саутгемптон.
?етль говорит также об «изящной шутливости» произведений
[експйдо. Весьма вероятно, что эта характеристика относится
«Венера и Адонису». Если так, то эта поэма была написана
не позднее 1592 г. Во всяком случае, необходимо помнить, что
:в ту эпоху-» между созданием поэтического произведения и его
опубликованием обычно проходил изЕестьый срок, иногда
весьма продолжительный, в течение которого сткхи или но-
велла были достоянием небольшого круга читателей. В посвя-
15
щении графу Саутгемптону Шекспир называет «Венеру и Адо^
ниса» «первенцем своего творческого воображения». Таким
образом, эта поэма была написана до «Лукреции».
Сонеты (Sonnets) были напечатаны только в 1609 г., но писан
лись, вероятно, между 1597—1600 гг. Уже в 1598 г. мы находим
упоминание о «сладостных сонетах» Шекспира. Следовательно]
к этому времени во всяком случае часть этих сонетов была уже
написана.
2
Обе поэмы Шекспира посвящены графу Саутгемптону. Это
не случайный факт, интересный лишь для биографии Шекспира
в узком значении слова. Итальянское искусство и итальянская
поэзия, как и итальянский язык, были в большой моде в тех
аристократических литературных кружках Лондона, к которым при-
надлежал и кружок, собиравшийся в доме молодого графа Саутгемп-
тона. Поэмы Шекспира также являются, — пользуясь терминоло-
гией той эпохи,—типично «итальянизированными» произведениями.
Сюжет «Венеры и Адониса» заимствован из «Метаморфоз» Ови-
дия. Некоторые критики несправедливо считали эту поэму только
изящной безделушкой. Шутливость здесь порой переходит в
«фальстафовский» смех. Мы читаем о том, как краснеет, подобно
пылающим углям, распаленная любовью Венера, как «больная
любовью» богиня обливается потом. Сквозь условные краски по-
рой как бы проступает мощная кисть фламандской школы. В от-
личие от внешне сходных с ними условных фигур, столь типичных
для аристократической поэзии той эпохи, Венера и Адонис в изо-
бражении Шекспира — более полнокровные земные образы. Ве-
нера— не богиня, а смертная женщина. В надменном Адонисе,
который не может притти на любовное свидание, потому что «зав-
тра он намерен охотиться с несколькими друзьями на кабана»,
есть что-то от английского джентльмена тех времен, влюбленного
в псовую охоту. Лейтмотив этой поэмы эпохи Возрождения — тор-
жество любовной страсти: «она безграничней1 моря». В любовной
страсти сказывается природа, и только через любовную* страсть
человек, как и вся природа, воссоздает самого себя в своих детях.
Самовлюбленный Адонис погиб потому, что уклонился от пред-
начертанного природой пути. «Факелы, — как сказано в поэме,—
сделаны для того, чтобы светить, драгоценные камни—чтобы их но-
сили». Пропадающая без пользы, без творческого приумножения,
красота бесплодна.
Любовную страсть как творческое начало Шекспир в этой
поэме противопоставляет аскетизму «не ведающих лробви вео
талок и себялюбивых монахинь». Любовь разрушает вес* преграды.
Богиня влюбляется в простого смертного. Так и впоследствии лю-
бовь соединит Ромео и Джульетту —единственного сына и един-
ственную дочь двух враждующих родов, а в трагедии «Отелло»—
чернокожего наемного военачальника и дочь знатного венециан-
16
ского патриция. Гуманистическая тема Шекспира уже слышится
в этом «первенце его творческого воображения».
«Лукреция» является, если можно так выразиться, антитезой
«Шнеры и Адониса». Если любовная страсть—голос самой при-
роды, то всегда ли является она положительным началом? Восполь-
зовавшись сюжетом, заимствованным, вероятно, из «Легенды о
Славных женщинах» Чосера (возможно, что Шекспир читал и
Первую книгу Тита Ливия), Шекспир нарисовал картину «ложной
страсти», «гнусного очарования похоти». Охваченный похотью
Тарквиний подобен «хищному зверю, который не ведает благород-
ной правды и повинуется лишь собственному гнусному желанию».
На этой поэме лежит печать необычной для Шекспира рассудоч-
ности и отвлеченной риторики. Лукреция произносит длинные
Утомительные монологи, подобно героям дошекспировской «школь-
ной драмы». Она рассматривает висящую на стене картину гибели
рГрои. Эта картина описана в восемнадцати строфах. Многие
Строки поэмы полны риторической напыщенности («в свою без-
вредную грудь она вонзает зловредный кинжал»). Но в отдель-
ных строках уже чувствуется мощь Шекспира,—и в словах
о ночи, когда «свинцовый сон борется с силой жизни и каждый
отдыхает, бодрствуют лишь воры и озабоченные, опечаленные
души», и в наблюдении над человеческими переживаниями (Лук-
рецию раздражает все окружающее! «глупа горькая тоска и
капризна, как ребенок; тиха лишь давнишняя скорбь»), и в него-
довании против общественного зла: «бедняки, хромые, слепые...
тщетно ищут в жизни удачи. Умирает больной, пока спит врач;
умирает с голоду сирота, пока обжирается угнетатель; пирует
правосудие, пока плачет вдова».
Нельзя недооценивать значение «Лукреции» в общем ходе твор-
чества Шекспира. Здесь уже намечается противопоставление
хищника жертве: «Не то, что пожрано, но то, что пожирает, до-
стойно осуждения». В образе Тарквиния мы улавливаем черты
Анджело из «Меры за меру», а в его колебании перед свершением
Преступления, в стыде и страхе после его свершения — смутный
ир|ообраз Макбета.
ГСонеты Шекспира во многом близки произведениям других
Щглийских поэтов XVI века, подражателей Петрарки, в особен-
жти сонетам Даниэля, сборник которых под заглавием «Делия»
$« издан в 1592 г. и переиздавался несколько раз. Но страстность,
°*ж?я сжатость> насыщенность и конкретная образность языка
шшьпировских сонетов выделяет их на общем фоне любовной ли-
рики: той эпохи.
На пути к исчерпывающему анализу этих сонетов стоят не-
преодолимые препятствия. Трудно найти произведение, которое
$|1ло бы до такой степени насыщено неясными намеками на со-
ЪЩця из личной жизни автора и воспеваемого им друга. По сло-
вай)современника, сонеты были написаны «для круга близких
Друзей». Из краткого посвящения издателя, Томаса Торпа, видно,
что он был инициатором издания сонетов. Весьма вероятно, что
^ Англ. литература
17
они были напечатаны с рукописи, находившейся у загадочнога
«мистера W. Н.», и что Шекспир не принимал никакого участия
в их опубликовании. В посвящении Торпа «Мистер W. Н». назван
«the onlie begetter» сонетов. Слово tbegetter» значит: «тот, кто по-
родил», переводя вольно, — «виновник». «W. Н.», таким образом,
является «единственным виновником» сонетов, т. е. тем самым
другом, которого они воспевают. Это с неоспоримой ясностью
подтверждается словами Торпа, желающего «мистеру W. Н.»
«бессмертия, обещанного нашим вечно живым поэтом». Мысль о
том, что образ друга, благодаря сонетам, останется бессмертным,
несколько раз повторена Шекспиром.
Некоторые шекспироведы указывают, что в сонетах, помимо
друга, есть и «черная дама» и что, следовательно, никто не был
«единственным виновником» этих лирических строк. Но это воз-
ражение неубедительно. Ведь «черная дама»—лищь эпизоди-
ческий персонаж в той большой драме, которая в течение несколь-
ких лет составляла, повидимому, основное содержание личной,
жизни Шекспира и в которой, помимо самого автора, главным дей-
ствующим лицом являлся неизвестный нам друг.
Кто же был 3tot'«W. H.»? Некоторые полагают, что это —
Саутгемптон. С другой стороны, сонеты 135 и 136 как будто пока-
зывают, что его, как и Шекспира, звали Вильямом, тогда как Саут-
гемптона звали Генри.
Сонеты воспевают дружбу. Чувство дружбы выше и богаче
любовной страсти, оно обладает всей полнотой любовных пере-
живаний,— и радостью свидания, и горечью разлуки, и
муками ревности. Друг для Шекспира — его «лучшее я», era
муза.
Сонеты представляют по существу единое произведение* Как
Венера уговаривает Адониса в первой поэме Шекспира, так и сам
Шекспир в начале своего цикла сонетов уговаривает друга «вос-
становить» себя в потомстве и предостерегает его от «себялюбия».
Только потомство является «защитой против косы Времени»
(сонет 12). Шекспир жалуется на свою тяжелую долю (сонеты
26, 27, 28, 29), в которой любовь к другу является единственным
утешением. Но друг часто забывает о нем, «тучи скрывают солнце»
(сонет 33). Автор ревнует друга к женщине (сонет 42), наступает
разлука с другом (сонет 44). Мы проходим по длинному лабиринту
сложных и мучительных переживаний.
Но вот на сцене появляется новое лицо — «черная дама» (со-
нет 127). Она увлекает и друга и автора, который и любит и не-
навидит ее, проклиная за те страдания, которые она причиняет;
ему и его другу (сонет 133). В сонете 144, как бы подводящем ито-4'
ги, светлое чувство дружбы противопоставлено темной и мучи-
тельной страсти к «черной даме».
Основная мысль сонетов нашла в творчестве Шекспира rf
драматическое воплощение, — например, в «Двух веронцах (пНр-
тивопоставление Валентина Протею, как дружбы — любоврй
страсти). I
18
В тему дружбы и любви вплетаются и другие мотивы. Оцени-
вая свое положение в обществе, Шекспир называет себя «парией»
(сонет 28). Это не просто жалоба на личную долю, полную неблаго-
дарного труда и забот. Горячее негодование на господствующую
вокруг несправедливость находит свое выражение в замечатель-
ном сонете 66s
3
Деление творческого пути Шекспира как драматурга на отдель-
ные периоды неизбежно является в большой степени условным
и приблизительным. Так, например, уже в 1594 г. в «Ромео и
Джульетте» Шекспир коснулся темы, по существу родственной
его позднейшим трагедиям. Естественно, что чем мельче деление
на периоды, тем оно условнее. Мы ограничимся поэтому установ-
лением трех больших периодов: первый 1590 — 1601 гг., второй
1601 — 1608 гг. и третий 1608—1612 гг.
Для первого периода творческого пути Шекспира особенно
характерны яркие, жизнерадостные краски его комедий. В эти
годы Шекспир создал блестящий цикл комедий. Достаточно упо-
мянуть такие пьесы, как «Укрощение строптивой», «Сон в
летнюю ночь», «Много шума из ничего», «Как вам это понравится»,
«Двенадцатая ночь», являющиеся как бы лейтмотивом первого
периода, который может быть назван оптимистическим. Пусть
тяжелая доля грозит влюбленным в комедии «Сон в летнюю ночь»—
в день первого мая, в праздник народного героя Робина Гуда, ве-
селый лесной эльф «Робин Добрый Малый» приводит их злоклю-
чения к счастливой развязке. В комедии «Много шума из ничего»
образ оклеветанной Геро почти трагичен, но дон Жуан разобла-
чен, невинность Геро торжествует. Злоключения изгнанников,
скрывающихся в Арденском лесу («Как вам это понравится»),
венчаются безоблачным счастьем. Пусть труден путь Виолы («Две-
надцатая ночь»), но в конце концов она обретает и взаимность Ор-
сино и потерянного брата.
Правда, в течение первого периода Шекспир пишет и «истори-
ческие хроники», полные мрачных событий и залитые кровью.
Но если рассматривать «исторические хроники» как едино е по
теме произведение, и в том порядке, в каком их написал Шекспир,
то оказывается, что и они, в конце концов, приводят к счастливому
исходу. В своей последней по времени написания «хронике»
(«Генрих V») Шекспир рисует торжество воспетого им героя.
«Хроники» повествуют о том, как Англия из страны, раздроблен-
ной властью феодальных лордов, превращается в единое нацио-
нальное государство.
Заметим, наконец, что в «хрониках» показан во весь рост один
из самых жизнерадостных шекспировских образов — сэр Джон
Фальстаф. Образ столь полнокровный в своей жизнерадостности
вряд ли мог бы быть создан Шекспиром в последующие периоды.
Точно так же и в «Ромео и Джульетте» изобилуют типичные для
первого периода краски и в образах блестящего Меркуцио и по-
2* ш
тешной кормилицы, и в том дыхании молодости и весны, которым
проникнута эта пьеса.
Особняком среди произведений первого периода стоит лишь тра-
гедия «Юлий Цезарь». Если бы Шекспир после этой трагедии не на-
писал двух комедий («Как вам это понравится» и «Двенадцатая
ночь»), то с «Юлия Цезаря» следовало бы считать .второй период
его творчества.
Первой из ранних комедий Шекспира является «Комедия оши-
бок» (Comedy of Errors). Комедии Шекспира сочетают в себе и си-
туации и характеры. Одна из заслуг Шекспира, как драматурга,
состоит в том, что он как бы взорвал изнутри старинный примитив-
ный фарс и близкую к нему английскую комедию XVI века (про-
изведения вроде «Ральфа Ройстера Дойстера»), заменив «маски»
живыми, реалистическими характерами и, вместе с тем, сохранив
из этого фарса остроту комедийных ситуаций. В «Комедии ошибок»,
однако, преобладает еще комизм положений, т. е внешняя сто-
рона.
Заимствовав свой сюжет у Плавта, Шекспир еще резче под-
черкнул комедийную ситуацию тем, что к двум поразительно схо-
жим братьям, Антифолу Сиракузскому и Антифолу Эфесскому,
прибавил еще двух не отличимых друг от друга близнецов — Дро-
мио Сиракузского и Дромио Эфесского. «Комедия ошибок» —
повесть о вытекающих отсюда забавных недоразумениях. И все
же неправ был Кольридж, считавший «Комедию ошибок» только
«шуткой», примитивным фарсом. В сутолоке событий можно уже
различить контуры характеров,—правда, еще слабо очерченных.
Вспыльчивая, ревнивая Адриана и смиренница Луциана — образы
скорее комедийного, чем фарсового плана.
В следующей своей комедии—«Укрощение строптивой»—Шек-
спир снова вернулся к этим образам и гораздо глубже раскрыл их,
противопоставив прямую, резкую и озлобленную, но не злую
Катарину скромной с виду, но по существу эгоистичной и лице-
мерной Бьянке. Совсем в духе Бьянки думает и чувствует Луциана,
когда не столько возмущается тем, что Антифол изменяет своей
жене, сколько советует ему «поступать тайком» и «научить грех
казаться святым».
И в образах двух тождественных по внешности Антифолов есть
характерное различие. Мечтательный, грустящий о своем поте-
рянном брате Антифол Сиракузский мало похож на скуповатого
и сварливого Антифола Эфесского, типичного зажиточного горо-
жанина. Но еще важнее то, что в этой «шутке» звучат серьезные,
почти трагические мотивы. Трагична сама экспозиция пьесы:
судьба разбросанной по свету семьи.
Отметим характерную для всего миропонимания Шекспира
черту: > счастливая развязка не является слепой случайно-
стью. Она завершает долгие и деятельные поиски Эгейоном
своего потерянного сына (Эгейон побывал и в Греции, обсле-
довал «пределы Азии») и поиски потерянного брата Анти фолом
Сиракузским, который сравнивает себя с «каплей, ищущей другую
20
каплю в океане». Люди должны сами добиваться своего счастья,—
таков лейтмотив, который впоследствии не один раз прозвучит у
Шекспира.
Со стороны стилистической «Комедия ошибок» является ти-
пичным для Шекспира соединением разнородных жанров. Неда-
ром враждебно настроенный Грин уже в то время иронически
назвал Шекспира «мастером на все руки» (Johannes Factotum).
Элементы фарса перемежаются с элементами совершенно иного по-
рядка. Когда Антифол Эфесский не узнает своего отца, тот произ-
носит строки, которые принадлежат к лучшим образцам шек-
спировского трагического пафоса.
Комедия «Укрощение строптивой» (The Taming of the Shrew),
как и «Комедия ошибок», на первый взгляд может показаться
всего лишь гротеском, легкой шуткой.
Шекспир заимствовал свой сюжет из пьесы неизвестного ав-
тора, которая была напечатана в 1594 г. под заглавием «Укроще-
ние одной строптивой» (The Taming of a Shrew), а написана, ве-
роятно, несколькими годами раньше. «Укрощение одной строп-
тивой» — типичное дошекспировское или, точнее, догуманистиче-
ское произведение, насквозь проникнутое проповедью «домостроев-
ского» послушания. Грубый и тупой, но решительный Ферандо
«укрощает» строптивую Катарину, пока та, окончательно слом-
ленная, не только становится послушной рабой мужа, но и про-
износит в назидание другим женам утомительную и бесцветную
проповедь о необходимости полного повиновения мужьям. Шек-
спир использовал этот примитивный фарс как материал для своей
комедии. Некоторые детали он заимствовал из «Подмененных»
', Ариосто (переведенных на английский язык Гаскойнем) и, может
быть, из итальянской «комедии дель арте».
Сравнивая «Укрощение строптивой» с ее английским прототи-
пом, мы видим, во-первых, что Шекспир перенес место действия
из фантастических «Афин» в современную ему Италию. Во-вто-
рых, он перенес действие из аристократической среды в среду
зажиточных горожан, причем под итальянскими покровами ясно
видна английская действительность. На фоне этой мещанской
среды выделяется дворянин Петручио. Впрочем, сам он давно уже
махнул рукой на свое дворянство, как и на свой старинный,
запущенный загородный дом. Он стал воином и мореплавателем,
одним из тех искателей приключений и наживы, которых так
много появилось на «утренней заре» первоначального накопления.
По его собственным словам, из Вероны в Падую его принес «тот
ветер, который разбрасывает молодых людей по всему свету, чтобы
они искали удачи подальше, чем у себя дома». Петручио один на
один ведет бой за удачу. Этот блестящий молодой человек появ-
ляется в довольно скучном обществе старозаветных, патриархаль-
ных горожан. Они любят посидеть, попировать, похвастать своим
богатством (вспомним своего рода состязание в богатстве между
Гремио и Транио). Старый Баптиста с безмятежной откровенно-
стью торгует дочерью, решая выдать Бьянку за того из двух жени-
21
хов, который окажется богаче. Петручио затосковал, «Все сидеть
да сидеть, кушать да кушать», — жалуется он даже во время сва-
дебного пира. В этом затхлом мирке томится Катарина. Чтобы
ясней стал ее образ, вспомним о дошекспировском фарсе. Там мы
не находим Бьянки. Для чего же она понадобилась Шекспиру?
Нам кажется, что в противопоставлении двух сестер раскрывается
основная, и притом чисто шекспировская, мысль. Бьянка с виду
«нежная голубка». «Скромной девушкой» называет ее простодуш-
ный Лученцио, «покровительницей небесной гармонии» — Гор-
тензио. Стоит ей, однако, выйти замуж, как эта смиренница «по-
казывает свои коготки». Она не только не приходит на зов мужа,
но при всех называет его дураком. Катарина же, этот «дьявол»,
к всеобщему удивлению, является любящей женой. Обе оказы-
ваются не теми, кем кажутся.
Внешность и существо, на языке Шекспира — «одежда» и
«природа», не только не соответствуют, но в данном случае прямо
противоположны друг другу. Петручио делает поэтому совсем не
то, что делал его прототип Ферандо: он не «укрощает» жену.
Как и Шекспир, он только открывает истинную «природу» Ката-
рины. Ей душно в той среде, в которой ей приходится жить. Она
возмущена тем, что отец относится к ней как к вещи, как к то-
вару. Она «строптива» потому, что все кругом издеваются над ней.
Обаяние горячей, вспыльчивой Катарины — в ее искренности.
Правда, ее протест принимает необузданные, даже дикие формы.
Но не забудем, что перед нами люди, которые не отличались ни
изысканностью манер, ни сдержанностью чувств. Катарина —
сильный, полнокровный человек Возрождения. Ее характер ти-
пичен именно для Англии того времени. Ее протест выражается
в причудах: в том, что на языке той эпохи выражалось словом
humour. Едва встретившись с Катариной, Петручио сразу же
разгадал, что ее «строптивость» лишь humour. И он «побеждает ее,
ее же прихотью», как говорит слуга Питер. Поведение Петручио —
своего рода пародия на «причуды» Катарины. Как отмечает Ле-
вее («Женские образы Шекспира»), «Катарина видит в поведении
Петручио свой собственный характер в карикатуре». От «строп-
тивости» Катарины не остается и следа, и в конце пьесы Катарина
произносит монолог, как будто проповедующий «домостроевский»
закон беспрекословного подчинения воле мужа. В этом монологе
несправедливо видели декларацию самого Шекспира.
Не следует ни на минуту забывать, что действующие лица
Шекспира не являются «рупорами». Они говорят и действуют от
себя. Финальный монолог произносит не Шекспир, а Катарина.
Этот монолог — не проповедь, а выражение чувства. Катарина
говорит не «вообще» о мужьях и женах, но о себе и о Петручио.
«Я люблю тебя», — вот подтекст этого монолога. «Господин»,
«король», «повелитель» — это только самые ласковые, самые
восторженные слова, которые Катарина нашла в своем лексиконе.
Все дело в том, что у «дьявола» Катарины, а не у чувствительной
«смиренницы» Бьянки оказалось горячее сердце. Слушая взволно-
22
ванную речь Катарины, Петручио до конца разгадал это сердце.
ч<Вот это девка! Пойди сюда и поцелуй меня, Кэт», — восклицает
он в восторге. Он не только победитель, он сам побежден любовью.
История Петручио. не менее удивительна, чем история Ката-
рины. Он прибыл в Падую с откровенным намерением жениться
ла богатой невесте. Но, встретившись с Катариной, он сразу по-
нял, что под «одеждой» строптивости здесь скрыт человек, ко-
торый на голову выше окружающей среды. Он поставил себе за-
дачей найти настоящую Катарину и для осуществления своей
цели прибегнул к разным причудам. Подлинный смысл его наме-
рений выражается лишь в аллегорическом иносказании. Он яв-
ляется на свадьбу в гротескных лохмотьях. Это не просто при-
хоть. Он сам поясняет смысл своего поступка: «Ведь она выходит
замуж за меня, а не за мою одежду». Тот же мотив повторяется
и в загородном доме, когда Петручио отнимает у Катарины новое
нарядное платье. «Ум обогащает тело, — говорит он ей. — И по-
добно тому, как солнце пробивается сквозь самые темные тучи,
достоинство сквозит из-под самых темных одежд... О нет, добрая
Кэт. Ты не стала хуже оттого, что на тебе бедные украшения и
жалкая одежда». Победа «природы» над «одеждой» является лейт-
мотивом комедии.
Заимствовав сюжет из повести о Феликсе и Филомене (эта
ловесть подверглась в Англии драматической обработке еще до
Шекспира, в 1584 г.), Шекспир создал комедию «Два веронца»
(The two Gentlemen of Verona), построенную на несколько схема-
тическом противопоставлении. Эта комедия, как и сонеты, повест-
вует о превосходстве дружбы над себялюбивой страстью. Перед
нами два друга — Валентин и Протей. «Он охотится за честью,
я же за любовью», — говорит Протей. Культ собственной лично-
сти, погружение в свой субъективный мир ведет Протея по пути
измены и лжи. Стремление к деятельности, характеризующее Ва-
лентина, приводит его к моральной победе над своим антиподом.
Но Валентин не только благородный и самоотверженный
человек. Он протестует, он бежит из окружающего его общества
в природу, в лес, где становится вожаком других таких же от-
.щепенцев. Подобно Робину Гуду, старинному герою английских
народных баллад, эти отщепенцы не трогают «беззащитных жен-
тцин и бедных путешественников». Таким образом, протест Ва-
лентина перекликается с робин-гудовскими мотивами, т. е. мыс-
лями, чувствами, заветными мечтами, издавна бродившими в ан-
глийском народе. С другой стороны, Валентин является прооб-
разом той позднейшей галлереи «благородных разбойников»,
к которой принадлежит и шиллеровский Карл Моор.
Самый характер противопоставления Валентина Протею по-
казателен. Ведь это противопоставление основано не на различии
природных качеств (Протей вовсе не «злодей от природы»), а на
различии избранных путей.
Из других персонажей отметим самоотверженную Юлию,
предвосхищающую образ Виолы из «Двенадцатой ночи», а также
23
Лаунса с его собакой Крабом. Одна из замечательных черт Шек-
спира как драматурга состоит в том, что он придал шутам и клоу-
нам, этим смехотворным буффонам дошекспировской драмы,
подлинно человечные черты.«Чудацкий простолюдин» Лаунс, повто-
ряющий в своем дружеском чувстве к неблагодарной собаке ос-
новной мотив всей комедии, не только забавен, но и трогателен.
Недаром Энгельс так высоко оценил этот образ. «Один только Лаунс
со своей собакой Крабом больше стоит, чем все немецкие комедии
вместе взятые» \ — писал он Марксу.
Комедия «Тщетные усилия любви» (Love's Labour's Lost),
написанная, вероятно, тоже в 1594 г., как и «Два веронца», из-
давна была предметом недоброжелательной критики. Хэзлит прямо
заявил, что «если.бы пришлось расстаться с одной из комедий
Шекспира, надо было бы выбрать «Тщетные усилия любви».
А между тем современники думали иначе. В 1604 г. сэр Вальтер
Коп написал виконту Крэнборну записку, в которой приводится
отзыв Ричарда Бербеджа о «Тщетных усилиях любви». Зна-
менитый трагик, глава труппы «Глобуса», называет эту комедию
«остроумной и веселой пьесой».
Причину такого расхождения мнений объяснить нетрудно.
«Тщетные усилия любви» во многих отношениях являются па-
родией. Здесь много полемических выпадов и гротескных карика-
тур, которые «доходили» до современников, но для нас остаются
темными. За многими действующими лицами стоят, вероятно, жи-
вые современники Шекспира. В Моли некоторые видят пародию
на Томаса Нэша. Другие исследователи полагают, что Олоферн
не только восходит к Олоферну из Рабле, учителю Гаргантюа, и,
следовательно, пародирует «ученость» средневековых схоластов,
но является также карикатурой на Флорио, учителя итальянского
языка в доме графа Саутгемптона (Олоферн, вполне возможно,
анаграмма Флорио).
Многие детали этой пьесы для нас неясны, но общий ее замы-
сел понятен и является существенным в общей концепции твор-
чества Шекспира. Кружок молодых аристократов отказывается
от удовольствий жизни, чтобы предаться отвлеченным философ-
ским размышлениям. Эта попытка уйти от окружающей действи-
тельности в «чистое созерцание», которое, по мнению Шекспира,
является эгоистическим самоуслаждением, терпит полную неудачу.
Мысль не может заменить жизнь. Путь эгоистического углубле-
ния в себя — ложный путь. В этом смысле «Тщетные усилия
любви» развивают тему Протея из «Двух веронцев». Шекспир
направляет здесь острие своей сатиры также и против искус-
ственного, напыщенного стиля, столь модного в придворно-аристо-
кратических кругах той эпохи. Бирон отрекается от «тафтяных
фраз и слов, из шелка свитых, гипербол трехэтажных». Он ра-
тует за простоту речи.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 429.
24
«Тщетные усилия любви» отмечают важный этап в биогра-
фии Шекспира. Молодой поэт только что прославился в кружке
графа Саутгемптона как автор двух поэм. С другой стороны, он
уже выступил как драматург «театра для широкой публики».
Перед ним открыты были два пути: либо писать для «знатоков
изящного», либо выносить свои произведения на суд широких
масс. Шекспир выбрал второй путь.
Комедия «Сон в летнюю ночь» (A Midsummer-Night's Dream)
занимает особое место среди произведений первого периода. Эта
комедия, как предполагают, была написана по случаю празднова-
ния одной аристократической свадьбы. На первый взгляд перед
нами нарядная эпиталама—и только. Незначителен сам по себе
и сюжет. Главную роль в комедии играет цветок, которым обла-
дает Пак и который носит название «любовь от праздности».
Прихоти любовной страсти, застающей врасплох и помимо воли
^овладевающей сердцем, — вот основное содержание пьесы. Но,
;как обычно у Шекспира, первое впечатление оказывается непол-
ным. Прежде всего отметим, что под условными «афинскими» ко-
стюмами различима окружавшая Шекспира английская дейст-
вительность. В Тезее, хвастающем своими охотничьими псами,
нетрудно подметить черты важного английского вельможи;
влюбленные «афиняне» во многом, вероятно, напоминали тех моло-
дых джентльменов и дам, которых Шекспир мог наблюдать хотя
бы в доме графа Саутгемптона. Даже эльфы ссорятся, любят и рев-
нуют, как люди. Перед нами появляются Оберон, Титания, Пак.
Будто в детской сказке, человеческими существами оказываются
Цветок душистого горошка, паутинка, мотылек, горчичное зер-
нышко. Фантастика Шекспира реалистична. Эльфы — те же люди.
Но, вместе с тем, Титания не больше похожа на знатную даму ели-
заветинской Англии, чем легкий Пак — на реального шута той
эпохи. Шекспировские эльфы—волшебные существа, хотя в
них нет. ничего «потустороннего». Они и свободнее людей, и вместе
;С тем полны интереса только к людям, потому что принадлежат им:
;|это — сны и мечты человеческие; без них герои пьесы не достигли
бы счастливой гармонии, завершающей длинный ряд злоклю-
чений.
Показательно, что даже в этой «аристократической» комедии
фантастика Шекспира предпочла образы английской народной
сказки: место условного Купидона занял хорошо известный на-
родному поверью веселый и лукавый Пак, он же — «Робин Доб-
рый малый». И, наконец, как бы в качестве аккомпанемента к фа-
буле> появилась шумная группа чудаков-ремесленников во главе
с ткачом Основой.
? Атмосфера этой комедии не так уж безоблачна и лучезарна,
|сак-кажется сначала.. Любовь Лизандра и Гермии не может вос-
торжествовать в «Афинах». Ей преграждает путь воплощенный
$ лице старого Эгея древний жестокий закон, дающий родителям
Власть над жизнью и смертью своих детей. Для молодых людей
остается один выход: бежать из «Афин» на лоно природы, в лесную
25
чащу. Только здесь, в цветущем лесу, разрываются вековые цепи.
Отметим, что действие происходит в день первого мая, — в тот
день, когда народ по городам и деревням Англии праздновал па-
мять своего героя, Робина Гуда. Не только о «прихотях любви»,
но и о победе живого чувства над старозаветным и жестоким фео-
дальным законом повествует «подтекст» этой комедии.
Но для чего понадобились Шекспиру ремесленники? Конечно,
не только для комического контраста к лирической теме. Ре-
месленники эти смешны, и смешны они потому, что в них много
старинного, уже отжившего, это—типичные гильдейские мастера,
целиком еще проникнутые средневековьем. Но вместе с тем они
привлекательны. Шекспир любит их потому, что они—из народа.
Эти ремесленники деятельно заняты подготовкой к спектаклю,
который должен быть разыгран на свадьбе Тезея. Конечно, спек-
такль оказывается смехотворным. Возможно, что Шекспир здесь па-
родировал исполнение мистерий мастерами и подмастерьями гиль-
дейских цехов. Видеть мистерии на сцене Шекспир мог еще в дет-
стве в провинции. Но мы имеем здесь дело не только с карика-
турой. В этом смехе звучат и горькие мотивы. Повесть о Пираме
и Фисбе в своей завязке перекликается с судьбой Лизандра и Тер-
мин. «В окружающем меня мире все далеко не всегда так хорошо
кончается, как в моей комедии»,—такова скрытая ремарка Шек-
спира. Выразителями этой истины оказываются неуклюжие, не-
искусные, но правдивые ремесленники. Недаром и Пак, высту-
пающий в эпилоге, напоминает зрителям о «львах, ревущих от
голода», о пахаре, изнуренном трудом, о тяжело больном, кото-
рый в эту свадебную ночь думает о погребальном саване. Из
наблюдений над живой действительностью уже вырастали темы, ко-
торые впоследствии воплотились в потрясающие коллизии вели-
ких трагедий Шекспира.
Olo бытовому реализму, отчасти напоминающему манеру Бена
Джонсона, среди комедий первого периода выделяются «Винд-
зорские кумушки» (The Merry Wives of Windsor). Хотя номинально
события происходят в царствование Генриха IV, перед нами в дей-
ствительности — глухая провинция эпохи Шекспира. Тихий го-
родок назван «Виндзором». Вероятно, он скорее напоминал дале-
кий Стратфорд, родину Шекспира. Чванливый судья Шеллоу, его
дегенеративный племянник Слендер, чудаковатый пастор Эванс,
хлебосольный, добродушный, но несколько глуповатый Пейдж,
веселый балагур-хозяин придорожной гостиницы, — живые об-
разы этого захолустья. И все же не точно было бы назвать эту
пьесу «мещанской комедией», поскольку такое определение ассо-
циируется с проповедью отвлеченной морали.
Эту комедию Шекспира часто сводили к несложной концепции:
в мещанскую среду «нисходит» распутник-придворный, сэр Джон
Фальстаф; однако распутство придворного оказывается побежден-
ным мещанской доб£<штелью и т< д. Прежде всего заметим, что
гнев кумушек не является выражением возмущенного нравствен-
ного чувства. Мистрисс Форд свдчала даже польщена, получив
26
письмо от сэра Джона. Гнев кумушек по-настоящему вспыхивает
только тогда, когда они обнаруживают, что сэр Джон посла л обеим
одинаковые письма. Если кумушки жестоко «разыгрывают»
Фальстафа, то это объясняется не желанием доказать истинность
отвлеченной морали, а простым стремлением повеселиться. Лейт-
мотивом комедии, апологией жизнерадостности, провозглашаемой
человеком эпохи Возрождения наперекор пуританскому презре-
нию к женщине, звучат слова одной из кумушек о том, что
«женщины могут веселиться, не теряя при этом честности». Эти
слова, повидимому, настолько выделялись при исполнении ко-
медии, что в конце XVII века стали припевом популярной пе-
сенки.
Сэр Джон Фальстаф — что угодно, но только не петиметр. В от-
личие от некоторых критиков, мы не сомневаемся в том, что Фаль-
стаф из «Генриха IV» и Фальстаф из «Виндзорских кумушек» —
одно и то же лицо. Но с ним приключилась беда. Оказавшись без
пенни в кармане, он вступил на путь, не свойственный его при-
воде, и за это был жестоко наказан. Фальстаф — обжора, пья-
*ница, хвастун, обманщик. Он готов грабить людей на большой
дороге, но, вместе с тем, в нем нет хищного расчетливого практи-
цизма. В «Виндзорских кумушках» есть замечательная деталь.
•Пистоль украл ручку дорогого дамского веера, а Фальстаф, за то
что поклялся в невиновности Пистоля, получил всего на всего
пятнадцать пенсов... Пистоль и Ним на каждом шагу обманывают
►этого большого ребенка. Фальстафу нужны деньги, чтобы пить
вино и обжираться ростбифом, но не ради накопления. Однако в
к<Виндзорских кумушках» он принялся за другое. «Я собираюсь
наживать деньги», — говорит он. Он пустился в сложные махи-
нации: решил притвориться влюбленным, чтобы открыть себе вер-
ный путь к богатству. За это его и посадили в корзину с грязным
бельем и выбросили в вонючую лужу. В конце комедии он сам при-
знает свою глупость и добродушно называет себя «ослом».
, В этой веселой комедии звучат и иные мотивы. Ревность Форда
достигает настоящей глубины душевного страдания. Анна Пейдж
восстает против «домостроевского» уклада. Она выходит замуж за
того, кого избрало ее сердце. И это не только приносит счастье
ей самой, но и облагораживает ее возлюбленного Фентона Он,
•как сам признается, сначала думал о деньгах Анны Пейдж, но
потом, позабыв о золоте, стал помнить только о чувстве.
«Виндзорские кумушки», в особенности начало комедии,
принадлежат к лучшим образцам творчества Шекспира. «В одном
только первом акте «Merry wives» больше жизни и движения,
чем во всей немецкой литературе» *, — писал Энгельс Марксу^
г Заимствовав свой сюжет у Ариосто и у Банделло, Шекспир
роздал комедию «Много шума из ничего» (Much Ado About No-
thing), пожалуй, самую легкую и несложную из своих комедий.
И все же атмосфера ее не так уж безоблачна. Изображенное здесь
', 1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XXIV, стр. 429.
Ш 27
блестящее общество поражено скрытой червоточиной. Среди этих
знатных беззаботных людей живет злодей дон Жуан. Уязвленный
своим положением незаконного сына, он клевещет, наслаждаясь
самым актом мести. И особенно характерно то, что в этом обще-
стве так легко поверили дон Жуану. «Дело идет преимущест-
венно о том, — говорит Гервинус, — какого рода бывают люди,
которые подымают много шума из-за пустяков, а не о тех пустя-
ках, из-за которых подымается шум». Судьба оклеветанной Геро
приблизилась к трагической развязке. Катастрофа совершилась
бы, если бы не вмешалась в дело ночная стража. Этим смехотвор-
ным неуклюжим чудакам Геро обязана своим спасением. Так и
шут у Шекспира, несмотря на всю свою эксцентричность, часто
является выразителем народной правды, обличителем несправед-
ливости. Приближение катастрофы заставило одуматься Бенедикта
и Беатриче, отчасти напоминающих «прихотливые» образы «Укро-
щения строптивой». Как говорит современник, Бенедикт и Беат-
риче пользовались, на ряду с Фальстафом и Мальволио, особенным
успехом у зрителей. Приближение несчастия заставило их глубже
вглядеться в жизнь и прекратить свой «турнир причуд». Они от-
бросили колкое острословие и искренно признались, наконец,
что любят друг друга.
В комедии «Как вам это понравится» (As You Like It) отчет-
ливо звучит робин-гудовская тема. Напомним, что сюжет комедии
через напыщенную новеллу Лоджа восходит к старинному сказа-
нию о Гамелине, которое близко к легендам о Робине Гуде. Од-
нако эту комедию некогда традиционно толковали — ив критике
и на сцене — как праздничную «пастораль», как веселую про-
гулку в лесу. При этом забывали, что три главных действующих
лица этой комедии — изгнанники: и герцог, у которого отнял
престол брат, и изгнанная под страхом смерти Розалинда, и Ор-
ландо, которого старший брат сначала держал на скотном дворе,
а затем задумал убить. Орландо по общественному положению
стоит ниже старшего брата, но по природе обаони, будучи братьями,
равны.
Пьеса начинается бунтом Орландо против брата. Орландо при-
ходится бежать в дремучий лес, который назван «арденским»,
но в котором нетрудно узнать шервудский лес английских народ-
ных легенд. Здесь живут пастухи, у которых, в отличие от па-
сторальных «пастушков», руки вымазаны дегтем. Природа здесь
не условная, пасторальная, а настоящая, где бушует непогода.
Но все же эта природа милостива к людям. Как и в цветущем
лесу «Сна в летнюю ночь», но уже без вмешательства волшебных
сил, разрываются цепи несправедливых отношений и торжествуют
любовь и радость. Каждый, сбросив с себя все искусственное, на-
носное, случайное, становится самим собой. Это—не уход от жиз-
ни. Это утверждение другой, лучшей жизни на иных основаниях,
другого общества, проникнутого человечностью. Как же живут
эти люди в лесу? На это отвечает борец Чарльз в начале комедии:
«Они живут так, как в старику Робин Гуд английский». За герцо-
28
гом последовало много «веселых людей», — совсем как за Робином
Гудом. Только место храброго стрелка из лука занял изгнанный
герцог, мыслитель-гуманист.
Особняком в этой комедии стоит меланхолик Жак. Если за
его уныние и пессимизм и смеется над ним Розалинда, а Шек-
спир лишает его места в радостном финале, то в сатирических моно-
логах Жака, стремящегося«очистить испорченный желудок мира»,
уже звучат те мотивы, которые вскоре нашли свое дальнейшее раз-
витие в трагедиях Шекспира. Сам же образ Жака, задумавшегося
над несправедливостью окружающей его действительности, зани-
мает в творчестве Шекспира особое место, являясь в некоторых
своих чертах как бы эскизом к образу Гамлета.
Блестящий комедийный цикл первого периода завершается
«Двенадцатой ночью» (Twelfth Night). Основная тема этой ко-
медии — борьба Виолы за свое счастье. Ее живое чувство, ее
героическая преданность в конце концов будят ленивую душу же-
манного Орсино. Так же и неприступная Оливия, отдающаяся
своей томной грусти, уступает природе и загорается внезапной
любовью. Под именем сэра Тоби Бельча (в буквальном переводе —
«пес с отрыжкой») вновь появляется сэр Джон Фальстаф. Замеча-
тельно, что этот пьяница-рыцарь оказывается противником пу-
ританина Мальволио. «Неужели же ты думаешь,—восклицает
сэр Тоби, обращаясь к Мальволио, — что если ты добродетелен,
то не будет больше в мире пирожков и эля?» Эти слова стали в Ан-
глии поговоркой. Откровенная жизнерадостность сэра Тоби и
Марии, людей эпохи Возрождения, побеждает лицемерную «свя-
тость» Мальволио.
В комедии есть еще замечательный персонаж. Это — шут Оли-
вии, Фест. Не случайно Шекспир вложил в.уста этому шуту изы-
сканные лирические песни. Фест, повидимому, человек образо-
ванный, поневоле, за неимением лучшего, избравший профессию
шута. Острословит он без подъема, как бы нехотя. В конце коме-
дии он не получает доли в общем счастье и, как был, остается оди-
ноким. В финальной песне Фест поет о своей загубленной, пропи-
той жизни, о том унылом дожде, который беспрерывно моросил
в течение всей его жизни. Так, меланхолической нотой, заканчи-
вается эта веселая комедия, само заглавие которой говорит о ее
назначении: она была впервые исполнена в маскарадный крещен-
скир вечер (в двенадцатый вечер после Рождества).
/На ряду с комедиями, основными произведениями первого пе-
риода являются «исторические хроники».
■\ Еще до Шекспира пьесы на сюжеты из английской истории за-
воевали на лондонской сцене огромную популярность. Марло
Д&вел этот жанр до высокого художественного совершенства в
Эдуарде II». Во всех этих пьесах особенно ярко выступает по-
литическая тенденция.
Щ;Если рассматривать шекспировские «хроники» в той последова-
Цльности, в которой они написаны, то они образуют единую эпо-
■ш), завершающуюся разгромом феодальных лордов королем
(«Генрих IV»), победой над внешним врагом и торжеством нацио-
нального героя («Генрих V»). Само собой разумеется, что Шекспир
здесь идеализирует своего героя. На созданный им образ мало по-
хож действительно существовавший «кровавый Генрих V (сожи-
гатель еретиков)» 1, как называет его Маркс. Шекспир выступает
здесь сторонником идеи национального единства и монарха как
воплощения этой идеи. Даже впоследствии, в годы разгула
реакции, Шекспир не изменил своих взглядов. Улисс («Троил
и Крессида», 1602) в торжественном монологе (акт 1,3) сравнивает
монарха с солнцем, устанавливающим гармонию среди других
светил. Нарушение этой гармонии ведет к хаосу й всеобщей
гибели.
Наиболее часто встречающейся метафорой или сравнением яв-
ляется в «хрониках» растущее дерево. И действительно, рост
Англии, консолидация страны под властью монарха — централь-
ная тема шекспировских «хроник». В них Шекспир подводил
итоги всего того периода европейской истории, когда для
Англии «королевская власть, опираясь на горожан, сломила
мощь феодального дворянства и основала крупные, по существу
национальные монархии, в которых получили свое развитие сов-
ременные европейские нации и современное буржуазное об-
щество» 2.
Но, видя в монархе залог национального единения страны,
Шекспир жестоко критикует тех монархов, действия которых про-
тиворечат образу идеального государя. Таков у Шекспира без-
вольный Генрих VI, своей слабостью ввергающий страну в ужасы
междоусобной феодальной войны; таков и преступный король
Иоанн (пьеса «Король Иоанн» также должна быть отнесена к
«хроникам»), расплачивающийся за преступление мучительной
смертью, и, наконец, обагренный кровью злодей на троне — Ри-
чард III.
Надо, однако, отметить, что короли-злодеи у Шекспира —
обычно узурпаторы престола (Ричард III, впоследствии — Клав-
дий в «Гамлете» и Макбет). По отношению к маленькому Артуру
узурпатором является и король Иоанн. Слабоволие Генриха VI
отчасти объясняется шаткостью его прав на корону. «Шатки мои
права», —говорит он. Любопытно, что права на корону идеали-
зированного Генриха V Шекспир не подвергает сомнению, хотя
отец его, Генрих IV, и испытывает тяжкое бремя венца, отнятого
у Ричарда II.
Шекспир защищает законное право престолонаследия. Та-
кая позиция вполне понятна. Узурпация престола грозила на-
чалом борьбы за корону, началом междоусобного кровопроли-
тия — «гражданской бойни», как говорит король Генрих IV,
грозила воскресшим призраком войн Алой и Белой Розы, память
о которых была в дни Шекспира еще свежа в устном предании.
1 «Архив Маркса и Энгельса», т. VII, стр. 371.
2 Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр.475.
30
Особняком стоит «хроника» о короле Ричарде II. Это—«закон-
ный» монарх. Вина его—не в узурпации престола, а в безрассудном
самовластии, в превращении своей короны и своего сана в фетиш.
Правда, Шекспир осуждает не столько самого монарха, сколько
его окружение. Садовник, олицетворяющий собой в этой пьесе
глас народа, называет королевских фаворитов «плевелами» и глав-
ной ошибкой Ричарда считает то, что он не подрезал буйно раз-
росшихся ветвей сада. И все же именно «хроника» о Ричарде II
прозвучала в те дни Katf антиправительственная пьеса (сцена от-
речения Ричарда была даже запрещена цензурой).
Возможно, что именно шекспировским «Ричардом II», как ору-
жием агитации, воспользовались граф Эссекс и его друзья нака-
нуне восстания против королевы Елизаветы. В самом деле, в пьесе
скрыто много стрел, направленных против правительства коро-
левы, в частности против политики монополий. «Стыдно сдавать
всю страну в аренду... Ты —землевладелец Англии, а не ее ко-
роль», — говорит старый герцог Ланкастерский Ричарду.
Одним из основных вопросов, над которым задумывались кри-
тики и исследователи «хроник», является вопрос об их историч-
ности. Существует распространенное мнение, согласно которому
Шекспир будто бы преднамеренно не считался с историей, созна-
тельно предпочитая поэтический вымысел фактам. Это утвержде-
ние требует существенных оговорок и уточнений.
«Хроники» бЦли для зрителей театра описанием абсолютно
достоверных событий. Если, например, в «Короле Лире» Шек-
спир в корне изменил ход событий, заменив счастливую развязку
легендарного предания трагической, он никогда не позволил бы
себе такой «вольности» в «хрониках». Знаменательно,'что Шекспир
словами хора в начале последнего акта «Генриха V» просит зри-
телей простить ему, что он не в состоянии сценическими сред-
ствами изобразить «огромной жизни в ее настоящем виде» (huge
and proper life).
«Хроники» казались зрителям воскресшей историей. «Как
^радовался бы храбрый Тальбот, гроза французов, если бы знал,
|гго, пролежав двести лет в могиле, он снова будет одерживать
,|(обеды на сцене, —писал в 1592 г. Томас Нэш, — ...зрителям
ражется, что они видят его самого, залитого кровью свежих ран,
;;й трагическом актере, его изображающем».
з • Причину того, что «хроники» Шекспира расходятся с действи-
тельностью, надо искать в тех источниках, которые служили Шек-
спиру материалом: в хрониках Голиншеда, в дошекспировских
исторических драмах, в устной легенде. Бывали на английском
■|Ьестоле короли и похуже Ричарда III. Но предание, а вслед за
Щм и существовавшая до Шекспира театральная «хроника» об
Лм короле изобразили ею как исключительного злодея. Из
ЭДо мрачного, полулегендарного образа и исходил Шекспир.
€$$-Не вымышлял, он лишь дом ыш л я л, сообразуясь с тем общим
1$йсунком, который ему удавалось извлечь из своего небогатого
материала.
31
Однако именно в этом «домысле» сказывается вся сила художе-
ственного гения Шекспира. Если можно найти черты домысла даже
в наиболее «историчных» образах «хроник» (принц Гарри, напри-
мер), то в создании других образов, как, например, сэр Джон Фаль-
стаф, — вольное художественное воображение играло основную
роль. «Генрих IV» является наиболее значительной и совершенной
из шекспировских «хроник», может быть, именно потому, что в этой
пьесе гармонически сочетаются историческая правда, как пони-
мал ее автор, и художественная фантазия (принц Гарри и Фаль-
стаф). «Хроники» Шекспира и в наши дни представляют исклю-
чительный интерес для практической и теоретической эстетики ис-
торической драмы, исторического жанра вообще.
Шекспир — противник реакционных феодальных лордов, бо-
рющихся против короля. Он показывает историческую обречен-
ность их борьбы. Гибнут они не из-за недостатка личной доблести
и отваги. Перси «Горячая шпора» (Hotspur) — бесстрашный ры-
царь. Отчаянно храбр и его союзник Дуглас. Они гибнут потому,
что действуют разрозненно, что каждый ведет самостоятельную
политическую игру.
Если обречены мятежные феодальные лорды, то точно так же
обречены, по мнению Шекспира, и преступные короли. Такие
люди, как Ричард III, носят сами в себе семена своего разрушения.
Образ Ричарда мрачен не только потому, что он преступен, но и
потому, что он умен и сознает свою преступность, как и свое
уродство. Он знает, что существует совесть, но предпочитает силу.
«Пусть будут нам совестью наши сильные руки, законом—мечи!» —
восклицает он перед битвой, обращаясь к своим военачальникам.
В королях шекспировских «хроник» под царственными одеждами
мы видим живых людей окружавшей Шекспира действительности.
В хищном себялюбии Ричарда, в его лицемерии, столь ненавист-
ном Шекспиру, мы узнаем «макиавеллиста», как говорили тогда
в Англии, одного из тех хищников, которых в таком изобилии по-
родила эпоха первоначального накопления. К той же породе при-
надлежат и Яго, и Клавдий, и Гонерилья с Реганой.
Но в Ричарде есть черты, отличающие его, например, от Клав-
дия, который умирает трусом, позабыв о Гертруде и жалобно умо-
ляя окружающих спасти его. Смерть Ричарда почти героична.
«В груди моей —тысячи великих сердец. Вперед знамена наши.
Разите врагов!» — восклицает он перед последней битвой. В груди
Ричарда кипят неукротимые страсти. Он во многом напоминает
неистовых героев Марло.
Преступному Ричарду Шекспир противопоставляет ГенрихаV
как «идеального» монарха. «Хор», говорящий за автора, дружески
и ласково называет Генриха уменьшительным именем «Гарри».
Вначале Генрих—«гуляка праздный». Но, если они распутен в мо-
лодости, он лишен того, что больше всего ненавидел Шекспир,—
лицемерия. Вместе с тем он является носителем подлинной рыцар-
ской чести, как понимал ее Шекспир. Эту подлинную честь Шек-
спир противопоставляет эгоистической чести, воплощенной в об-
32
разе Перси. Перси готов добыть честь хотя бы «с луны или
из глубины морской». Но он жаждет славы «без соперника», лич-
ной славы для себя. Эта личная слава не нужна принцу Гарри,
который, победив Перси в единоборстве, с легким сердцем усту-
пает славу этой победы Фальстафу. Став королем, он ищет в бит-
вах славу не для себя, а для всего своего войска. Под стенами
Харфлера, обращаясь к воинам, среди которых немало простых
иоменов («Генрих V», III, 1), он называет их всех «друзьями».
В своем замечательном монологе о дне св. Криспиана («Генрих
V», IV, 3) Генрих говорит не о своей, но о «нашей славе», т. е.
о славе всех сражающихся: «Сегодня тот, кто будет вместе со мной
проливать кровь, будет моим братом. И каким бы низким ни было
его происхождение, этот день сделает его благородным». Шекспир
подчеркивает демократичность Генриха. «Если бы ты смогла
узнать меня,ты бы нашла, что я простой король,—говорит он своей
невесте, французской принцессе, — ты бы подумала, что я продал
ферму, чтобы купить корону». В глазах Генриха король такой
же человек, как и другие люди. «Разве король не такой же чело-
зек, как и я?—говорит солдатам переодетой простым воином
Генрих;—фиалка благоухает ему, как и мне; силы природы дей-
ствуют на него, как и на меня; все его чувства — обычные, чело-
веческие; отбрось церемониал, и обнаженный король окажется
всего лишь человеком». Голодные, изнуренные походом солдаты
Генриха идут в бой против щегольского рыцарского французского
войска. Накануне битвы французские военачальники хвастают
своими конями и доспехами. А между тем переодетый Генрих
ночью обходит лагерь и беседует с солдатами. Победа достается
англичанам. В этой победе немаловажную роль играют храбрость
и предприимчивость самого Генриха. «Мы находимся в большой
опасности, -г- говорит он перед битвой, — и поэтому тем большей
должна быть наша смелость... Плохой сосед заставляет рано вста-
вать с постели».
«Хроника» о короле Генрихе V принадлежит к тем пьесам, ко-
торые, как свидетельствуют современники, производили глубокое
впечатление на зрителей шекспировского театра. «Какая англий-
ская грудь, — пишет Томас Гейвуд в своей «Апологии актеров»
(1612), — не сочувствует мужеству англичанина, когда оно изобра-
жается в какой-нибудь из наших исторических драм!.. Какой трус
не постыдится своей трусости, когда увидит храброго соотечест-
венника!»
Патриотическая тема находит в шекспировских «хрониках» яр-
Ёое выражение, с особенной полнотой — в монологах Генриха V.
Шекспир навсегда останется верным этой теме. Даже у самого пес-
симистического из его героев, Тимона Афинского, одно чувство
все же сохраняется живым: «Я люблю мою родину», — говорит он.
Замечательная черта шекспировских «хроник» заключается в
том, что в них действуют не только отдельные лица. В отличие,
например, от Марло, у которого действует Тамерлан, и только Та-
мерлан, а «бесчисленное, как песок морской, войско» является
3 Англ. литература 33
лишь бледным придатком к титанической фигуре победителя, —
у Шекспира французов побеждает не только сам Генрих, но и все
английское войско.
В «хрониках» нас поражает многосторонность шекспировского
гения, широта охвата действительности. Сам Шекспир назвал
в «Генрихе V» жизнь «огромной». Именно на почве «хроник» ро-
сла и созревала его способность к многообразному изображению
действительности. Перед нами—королевские дворцы, таверны,
рыцари с большой дороги, битвы, решающие судьбу государства,
жанровые сцены, вроде сборов двух извозчиков, отправляющихся
перед рассветом в путь из провинциальной гостиницы («Ген-
рих IV», ч. I).
Вместе с тем столь типичное для Шекспира сочетание траги-
ческого и комического, выраженное и в комедиях, впервые на-
ходит полное свое развитие в «хрониках». Так, например, во вто-
рой части «Генриха IV» мы находим и трагическую скорбь ста-
рого Нортумберленда о погибшем сыне, и веселую сцену в саду
судьи Шеллоу, и беззаботные шутки Фальстафа. Наряду с торже-
ственными событиями, которые воспевает «пламенная муза»у
перед нами проходят пестрые образы «фальстафовского фона».
Возле пышных королевских знамен треплются лохмотья завербо-
ванных Фальстафом рекрутов, среди ярких рыцарских гербов
улыбается пьяная рожа самого сэра Джона.
Сэр Джон Фальстаф — одна из самых ярких фигур шекспи-
ровских «хроник». Его не раз сопоставляли с дон Кихотом. Разло-
жение феодальных связей и гибель рыцарства дали Сервантесу ма-
териал для создания «Рыцаря печального образа». Шекспир же
создал великолепную картину в духе фламандцев. В «Виндзор-
ских кумушках» Фальстаф назван «фламандским рыцарем» (дей-
ствительно, он прежде всего напоминает образы Рубенса). Фаль-
стаф — не только обломок разрушающегося здания; в нем во-
плотилось столь характерное для эпохи Возрождения «ликование
плоти», живой протест как против аскетических идеалов средне-
вековья, так и против ханжеского самоограничения пуритан..
Один из старых комментаторов назвал Фальстафа «воскресшим
Вакхом». Новейшее исследование доказало, что некоторые реп-
лики Фальстафа позаимствованы из песни, приписываемой Джону
Лили и озаглавленной «Гимн Вакху» (Song to Bacchus).
Фальстаф — «деклассированный рыцарь» и, подобно шекспи-
ровскому шуту, не связан по рукам и ногам отношениями окру-
жающего его общества: если он раб своего желудка, то он не раб
золота. И именно поэтому он обаятелен в глазах Шекспира. Смерть
его почти поэтична. В «Генрихе V» хозяйка таверны рассказывает
о том, как Фальстаф в предсмертном бреду «играл с цветами, улы-
бался, глядя на кончики своих пальцев, и что-то болтал о зеленых
полях».
По генеалогии театральных образов Фальстаф восходит, быть
может, к «Старому греху», фигуре поздней моралите. Этот «Грех»,
воплощавший множество пороков, в конце представления убивал
34
чорта, торжествуя, таким образом, над загробным возмездиелг.
Так и сэр Джон является утверждением земной жизни, торжест-
вующей плоти, вырвавшейся из тысячелетних оков средневеко-
вья. Но есть у Фальстафа и другая сторона. «Какие только по-
разительно характерные образы ни дает эта эпоха разложения
феодальных связей в лице странствующих королей-нищих, по-
бирающихся ландскнехтов и всякого рода авантюристов,—поисти-
не фальстафовский фон...», г}—писал Энгельс в письме Лассалюпо»
поводу его трагедии «Франц фон Зикинген». Фальстаф — разорив-
шийся рыцарь, грабящий на большой дороге и занимающийся
браконьерством. Хотя он и любит порой покичиться своим дворян-
ством, идеалы рыцарства давно потеряли для него всякое значе-
ние. Честь для него — пустое слово. Вместе с тем, он не скрывает:
презрения к окружающей его действительности, к «этим торгаше-
ским временам». И в этом чуждом ему мире его порой охватывает
тоска. «Я меланхоличен как старый кот или как медведь на при-
вязи», — заявляет он.
К первому периоду творчества Шекспира, помимо комедий:
и «хроник», принадлежат также «Ромео и Джульетта» и «Венеци-
анский купец». На грани первого и второго периодов стоит «Юлий
Цезарь».
В «Ромео и Джульетте» Шекспир использовал сюжет и рях.
деталей из одноименной поэмы Артура Брука. В этой трагедии
впервые у Шекспира выступает грозная сила судьбы. На поэти-
ческом фоне, среди платановых рощ и цветущих гранатовых де-
ревьев, под «благословенным» небом Италии, двое молодых лю-
дей полюбили друг друга. Но путь их к счастью преградила вза-
имная вражда тех знатных родов, к которым им было суждено
принадлежать. По образному выражению пролога, они были «опро-
кинуты» этой враждой. Так и в пьесе Марло «Мальтийский ев-
рей» дочь Варравы и молодой испанец, ее возлюбленный, оказы-
ваются жертвами царящей вокруг них ненависти и вражды. Но
если Марло говорит о разрушительной силе золота и создает об-
$аз «макиавеллиста», хищника первоначального накопления, Шек-
спир рисует старинную феодальную междоусобицу. И все же было*
$Щ конечно, неправильно сводить содержание произведения к кри-
тике патриархального деспотизма феодальной семьи. Значение
этой трагедии, конечно, гораздо шире. Джульетта не только «ослу-
шалась» своих родителей. Она предпочла «выгодному» жениху,
блестящему Парису, обездоленного изгнанника Ромео. Она
восстала не только против «традиции» своей семьи, но и против
буржуазного практического «здравого смысла», воплощенного*
Советах кормилицы.
^Эпиграфом к пьесе могут служить слова естествоиспытателя
и ученого, гуманиста в монашеской рясе — фра Лоренцо. Один
и тот же цветок,—говорит он,—содержит в себе и яд и целебную
силу; все зависит от применения. Так и сулившая счастье любовь
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 250—261.
3* 3*
приводит в описанных Шекспиром обстоятельствах к гибели, ра-
дость обращается в слезы. Влюбленные оказываются бессильными
перед судьбой, как бессильна перед ней и ученость фра Лоренцо.
Это не мистический рок, но судьба, как олицетворение окружаю-
щих человека обстоятельств, из которых он произвольно вырваться
не может. Ромео и Джульетта гибнут в окружающем их «жестоком
мире», как гибнут в нем Гамлет, Отелло, Дездемона.
Уже в прологе Шекспир называет Ромео и Джульетту «обре-
ченными». Вступив в неравную борьбу с окружающим, сознают
свою обреченность и сами влюбленные. «Я — шут в руках судь-
бы!» — восклицает в отчаянии Ромео. Над влюбленными тяго-
теет сознание неизбежной катастрофы, отраженное в преследую-
щем их предчувствии гибели (сцена их последней разлуки). И все
же гибель Ромео и Джульетты не бессмысленна и не бесплодна.
Она приводит к примирению враждовавших родов. Над могилой
погибших воздвигают золотой памятник. Шекспир как бы ука-
зывает зрителям, что память о них сохранится, как бы уводит
зрителей в будущее. В этом — жизнеутверждающий мотив «пове-
сти, печальнее которой нет на свете».
В конце трагедии мы слышим о народной толпе, бегущей с
криком, чтобы взглянуть на погибших. Эта та самая народная
толпа, которая в течение всей трагедии ненавидела распрю Ка-
пулетти и Мэнтекки и теперь горячо сочувствует влюбленным.
Их светлые образы переходят в легенду. На фоне народной толпы
грустная повесть приобретает героическое звучание.
Шекспир показал образы своих героев в живом развитии.
Джульетта из девочки — «божьей коровкой» называет ее корми-
лица— вырастает в героиню, Ромео—из мечтательного юноши,
томно вздыхающего о Розалине, в мужественного, бесстрашного
человека. В конце трагедии он называет Париса, который, может
<г>пъ, и старше его годами, «юношей», а себя — «мужем». Полю-
б 1вшая Джульетта смотрит на жизнь иными глазами. Она по-
стигает истину, которая идет вразрез со всеми традициями ее
воспитания. <сЧто такое Монтекки? — говорит она;—это не рука,
не нога, не лицо, не какая-либо другая часть, составляющая
человека. Ах,назовись иным именем! Что в имени? То, что мы
называем розой, благоухало бы столь же нежно, если бы носило
другое имя». Обратившись к современной Шекспиру философии,
мы найдем ту же мысль у Фрэнсиса Бэкона, родоначальника
английского материализма. Заметим также, что Шекспир здесь
отвергает и созданный веками феодализма догмат —веру в реаль-
ное значение знатного родового имени. «Ты—ты сам, а не Мон-
текки», — думает Джульетта о своем возлюбленном. Шекспир
наделил Джульетту не только чистотой и героической самоотвер-
женностью, не только горячим серцем, но и умом, смелым и про-
ницательным.
, Замечательны в этой трагедии и персонажи «второго плана».
Блестящий, остроумный Мзркуцио — подлинный носитель жизне-
радостности эпохи Возрождения. Во всем противоположен ему
36
«огненный Тибальд», непосредственный виновник несчастий, об-
раз которого глубоко уходит корнями в темное феодальное прош-
лое. Кормилицу критики не без основания окрестили «Фаль-
стафом в юбке».
В эпоху Шекспира «Ромео и Джульетта» пользовалась, пово-
димому, большим успехом у читателей. О популярности ее средг
.студенчества говорит следующий факт. В течение XVII века v
читальном зале библиотеки Оксфордского университета находился
прикрепленный цепью к книжной полке экземпляр Первого фо-
лио Шекспира. Эту книгу, как видно по ее страницам, в то время
много читали. Наиболее протерты пальцами студентов страницы
текста «Ромео и Джульетты», в особенности — сцены ночного сви-
дания в саду Капулетти.
В «Венецианском купце» (The Merchant of Venice) заглавие не
вполне соответствует содержанию. Ведь под «венецианским куп-
цом» подразумевается Антонио. А между тем наиболее закончен-
ным образом в пьесе является, конечно, Шейлок.
Многосторонность образа Шейлока отметил еще Пушкин,
противопоставив его написанному одной краской мольеровскому
Скупому. Нет сомнения в том, что в образе Шейлока, набожно чи-
тающего библию и одновременно складывающего в мешок чер-
вонцы, Шекспир изобразил некоторые характерные черты ростов-
щика-пуританина. Шейлок повернут к нам своей темной стороной.
В корыстолюбии своем он беспощаден. Он возникает перед нами
Как воплощение хищного практицизма. «Частный интерес прак-
тичен, — писал Маркс, — а нет ничего более практичного в мире,
чем уничтожить своего врага! «Кто не стремится уничтожить пред-
мет своей ненависти?» — говорит Шейлок» г.
Но, с другой стороны, положительными чертами Шейлока яв-
ляются его беззаветная любовь к дочери, а также смелость его мыс-
№. Вспомним его страстные слова о том, что еврей такой же че-
ловек, как и другие люди. «Разве нет у еврея глаз? Разве нет у
еврея рук, органов тела и его частей, ощущений, чувств, страстей?
Ьн кормится той же пищей, раним тем же оружием, он болеет
?геми же болезнями, его вылечивают те же лекарства, его греет то
Же лето и заставляет мерзнуть та же зима, как и христианина».
В этих горячих словах слышится голос самого автора.
, Шейлок — трагическая фигура. Как еврея, его презирают и
гонят, и гонения рождают в нем жажду мести. Гонения извра-
тили эту могучую натуру. «Когда вы отравляете нас, разве мы
Не умираем? — говорит Шейлок. — И если вы оскорбляете насг
|ючему же мы не должны мстить? Если мы подобны вам в осталь-
ном, то и в этом будем на вас похожи... Гнусности, которым вы
Меня учите, я применю к делу—и превзойду своих учителей».
И; Исключительный интерес представляет история сценических
воплощений этого образа. Английская сцена XVIII века знала
Шейлока исключительно как мрачного злодея. Подлинную ре-
1Маркс и Энгельс, Соч., т. I, стр. 219.
37
волюцию в трактовке этого образа совершил великий английский
трагик Эдмунд Кин, выступивший в роли Шейлока в 1814 г.
«Он завоевывает симпатию тех мыслящих зрителей, — писал
Хэзлит,— которые понимают, что месть еврея нисколько не хуже
нанесенных христианами оскорблений».
Оружием мести Шейлока является золото. Но, прибегнув к
этому опасному оружию, он сам становится его рабом. Не алчного
от природы хищника, но разлагающую, обезображивающую че-
ловека силу золота рисует в этой драме Шекспир. «Роскошное
золото, жесткая пища Мидаса, я не хочу тебя»,—говорит Басса-
нио. Шекспир здесь впервые подчеркнул силу золота, способного,
как говорится в «Ромео и Джульетте», «соблазнить и святых».
Полное развитие этой темы мы найдем в «Тимоне Афин-
ском» (1607).
Другим оружием Шейлока является «закон». Но именно по-
тому, что этот «закон» способен служить оружием личной мести,
он лишен, —воспользуемся излюбленным словом Шекспира, —
«природы» и является выхолощенной мертвой буквой. Для того,
чтобы разрушить хитросплетения такого «закона», не требуется
доводов ученого юриста; достаточно здравого смысла молодой де-
вушки. Сцена суда —сатира, направленная против формального
закона. Обнажая тлетворную сущность золота и ложь «закона»,
превращенного в оружие личных интересов, Шекспир усматри-
вал в окружавшем его обществе власть той «кажущейся правды,
в которую облекается, — как говорит Бассанио, — наше хитрое
время, чтобы поймать в западню мудрейших людей». Весь мир,
по словам Бассанио, «обманут украшением»: в судах «красивый
голос» истца скрывает зло; порок прикрывается добродетелью;
трусы носят «бороду Геркулеса»; красота «покупается на вес»; все
вокруг—лишь «золоченый берег опасного моря». Среди этого хао-
са лжи гармоничны только любовь и музыка, апофеозом кото-
рых венчается эта драма.
•Трагедия «Юлий Цезарь» во многих отношениях подготовила
почву для «Гамлета». Как и в «Гамлете» и позднее в «Макбете»,
действие этой «римской трагедии» происходит на мрачном и зло-
вещем фоне. Мы слышим о «пламенных воинах, сражающихся
в облаках», о кровавом дожде, падающем на Капитолий. В образы
таинственных предзнаменований облеклось здесь то тягостное
чувство, которое испытывал в те годы не один Шекспир. Страна
была наводнена нищим, бездомным людом. Продолжалось обед-
нение широких народных масс. Все мрачнее становилась эпоха,
история которой «вписана в летописи человечества пламенеющим
языком меча и огня» х. Правительство королевы тщетно силилось
всеми правдами и неправдами пополнить пустеющую казну.
В многочисленных памфлетах, изданных в те годы, впервые
и как бы издали слышатся раскаты революционной грозы. Чем
дальше в прошлое отходила опасность извне — нашествие «Вели-
1 M а р к с и Э и гель с, Соч., т. XVII, стр. 783.
38
кой Армады» (1588), тем больше развязывалась направленная прог
тив правительства критика среди буржуазии и части дворянства.
Приближался 1601 г., когда парламент в вопросе о монополиях
впервые резко разошелся с правительством. Возле самого престола
зрели заговоры, в одном из которых, возглавляемом графом Эссек-
сом, принимал участие «патрон» Шекспира, граф Саутгемптон.
Тяжкая грозовая атмосфера этих лет нашла отражение и в дра-
матургии. Чапмен пишет мрачную трагедию «Бюсси д'Амбуа».
Со своими кровавыми драмами выступает приблизительно в те же
годы Джон Марстон. В его пьесе «Недовольный» (The Malcontent,
1601), мы видим человека, — жертву несправедливости, — горько
осуждающего царящий вокруг порок и взывающего к отмщению.
В этой атмосфере родились и «Гамлет» и «Юлий Цезарь».
Как относился к восстанию Эссекса Шекспир? Во всяком
случае, он не принимал в нем никакого участия. Ни о каких пре-
следованиях Шекспира со стороны Тайного совета мы не
слышим.
Об отрицательном отношении Шекспира к тем путям, по ко-
торым пошел Эссекс со своими друзьями, свидетельствует, по
нашему мнению, «Юлий Цезарь». В смысле трактовки исторических
событий Шекспир во многом придерживается концепции Плу-
тарха. Хотя «Юлий Цезарь» и не республиканская пьеса, несом-
ненно, что Шекспир показал Цезаря в непривлекательном свете.
Это—потерявший зубы одряхлевший лев. На Шекспира, как
полагают некоторые исследователи, повлияли также слова Мон-
тэня: «Добро не обязательно сменяет уничтоженное зло. Может
последовать зло еще худшее, как это доказали убийцы Цезаря,
которые ввергли государство в великое расстройство».
Если непривлекателен у Шекспира Цезарь, то непривлека-
тельны и заговорщики, за исключением Брута. Неподкупную
честность его признает даже Антоний: «Это был человек». И все
!же удар кинжалом оказался роковой ошибкой. Цезарь пал, но
тень его преследовала Брута и победила при Филиппах. «О Юлий
Цезарь!—восклицает побежденный Брут, —Все еще мощен ты!
Твой призрак бродит вокруг и обращает наши мечи против нас
самих». Удар кинжалом оказался бесплодным. Его осудила ис-
тория. Судьба Брута и других заговорщиков решается в сущности
народом, не последовавшим за ними.
Образ народной толпы в «Юлии Цезаре», как и в «Кориолане»,
вызвал у комментаторов разноречивые суждения. Нам кажется,
что образ этот имеет различные аспекты и у самого Шекспира.
Он давал Шекспиру обильный материал для характерных жан-
ровых сцен. Перед нами, конечно, не плебс древнего Рима, но
|орожане шекспировского Лондона, перед нами—народная масса,
|:рторую наблюдал Шекспир в Лондоне на рубеже двух столетий,
^мрачные годы наступавшей реакции, — масса, в которой бродит
fàïyxoe недовольство, но, вместе с тем, масса неорганизованная,
Стихийная, лишенная достойных руководителей. Эта толпа ста-
новится в «Юлии Цезаре» жертвой коварного красноречия Марка
39
Антония, в «Кориолане» — эгоистических мелочных происков
трибунов.
Нетрудно заметить даже у Шекспира то отношение к толпе,
которое вообще было свойственно людям эпохи Возрождения. Для
этого достаточно вспомнить те эпитеты, которые прилагал Шек-
спгр в своих произведениях к слову толпа—«шумная», «непостоян-
ная», «грубая», «безумная», «варварская», «несогласная», «ко-
леблющаяся» и т. д. При всем этом Шекспир был первым из анг-
лу иску х" драматургов, показавшим толпу как реальную полити-
ческую силу.
4
Но если неправ оказался Брут, то как уничтожить зло, ца-
рящее в окружающем «жестоком мире»? Из размышления над этим
вопросом родился «Гамлет», которым открывается второй период
творчества Шекспира (1601—1608).
Над творчеством Шекспира как бы нависают грозовые тучи.
Одна за другой рождаются великие трагедии — «Отелло», «Ко-
роль Лир», «Макбет», «Тимон Афинский». К трагедиям принадле-
жит и «Кориолан»; трагична развязка «Антония и Клеопатры».
Даже комедии этого периода — «Конец — делу венец» и «Мера
за меру» —далеки от непосредственной юношеской жизнерадост-
ности более ранних комедий, и большинство исследователей
предпочитает называть их драмами.
Второй период был временем полной творческой зрелости
Шекспира и, вместе с тем, временем, когда перед ним встали боль-
шие, подчас неразрешимые для него вопросы, когда его герои из
творцов своей судьбы, как в ранних комедиях, все чаще станови-
лись ее жертвами. Этот период может быть назван трагическим.
Как на мировой сцене, так и на страницах мировой «гамлето-
логии» (целой отрасли критической, комментаторской и текстоло-
гической литературы, насчитывающей тысячи томов) издавна
боролись два толкования центрального образа трагедии «Гамлет»
(Hamlet, Prince of Denmark). Первое толкование дал еще Гёте в
«Вильгельме Мейстере». «В драгоценную вазу, предназначенную
для нежных цветов, посадили дуб, —писал Гёте, —корни дуба
разрослись, и ваза разбилась».
Итак, все дело в субъективных свойствах самого Гамлета.
«Субъективная» теория в сценическом ее истолковании породила
на мировой сцене нежных мечтательных принцев, «бархатных»
Гамлетов, живущих вне времени и пространства.
Прямо противоположной «субъективной» теории является тео-
рия Вердера, подробно изложенная им в ряде лекций (1875).
По Вердеру, Гамлет — смелый и решительный человек. Но»
помехой для его действий является ряд объективных препят-
ствий. У Гамлета, — рассуждал Вердер, — нет прямых улик
преступления Клавдия, которые оправдали бы его убийство в гла-
зах народа-(ведь призрак сообщил тайну одному лишь Гамлету)..
«Трагедия недоказуемого преступления», —так формулирует это
40
Вердер. Одним словом, будь достаточная улика налицо, .никакой
внутренней трагедии бы не было. Все, таким образом, сводится
к объективной случайности.
Повесть о Гамлете впервые записал в конце XII века датский
хронограф Саксон Грамматик. В 1576 г. Бельфоре воспроизвел
это древнее сказание в своих «Трагических повестях». Для Бель-
форе, как и для Саксона Грамматика, в основе сюжета лежало осу-
ществление кровной мести. Повесть заканчивается торжеством
Гамлета. «Скажи своему брату, которого ты убил так жестоко, что
ты умер насильственной смертью, — восклицает Гамлет, убив
своего дядю, — пусть его тень успокоится этим известием среди
блаженных духов и освободит меня от долга, заставившего меня
мстить за родную кровь» (Бельфоре).
В 80-х годах XVI века на лондонской сцене была поставлена
пьеса о Гамлете. Эта пьеса до нас не дошла. Автором ее, повиди-
мому, был Томас Кид. В «Испанской трагедии» Кида старику Иеро-
нимо и Белимперии, людям чувства, противостоят «макиавелли-
сты»— сын португальского короля и брат Белимперии. Старик
Иеронимо, у которого убили сына, медлит, как и шекспировский-
Гамлет, с осуществлением мести. Как и Гамлет, он чувствует свое
одиночество. Он сравнивает себя спутником, стоящим в «зимнюю
бурю на равнине». Из уст его вырывается вопль: «О мир! — нет, не
мир, но скопище неправды: хаос убийств и преступлений».
В атмосфере этих чувств и мыслей, зная потерянную для нас
пьесу Кида и, конечно, его «Испанскую трагедию», а также фран-
цузскую новеллу Бельфоре и, вероятно, повесть Саксона Грамма-
тика, Шекспир создал своего «Гамлета». Есть основание предпо-
лагать, что «Гамлет» исполнялся в университетах Оксфорда и
Кембриджа студентами-любителями. Трагедия шла, конечно, и
на сцене «Глобуса».
О замысле, Шекспира многое бы мог, конечно, рассказать на
языке театра друг Шекспира и первый исполнитель роли
Гамлета — Ричард Бербедж. К сожалению, мы ничего не знаем:
о его истолковании образа Гамлета. Но мы располагаем некото-
рыми весьма любопытными сведениями из другого источника..
Знаменитый английский актер Беттертон старался, на основании
устного актерского предания, воссоздать в своем исполнении
Гамлета старинную традицию театра «Глобус». Писатель Ри-
чард Стиль видел Беттертона в роли Гамлета. Беттертон,
по словам Стиля, играл «многообещающего, живого и пред-
приимчивого молодого человека». Вспомним, что, по словам
Офелии, этот молодой человек до происходящих в трагедии собы-
тий был «зеркалом моды», владел «шпагой война» и «языком уче-
ного», обладал «внешностью придворного». С другой стороны, мы
зйаем, что Гамлет учился в университете, где, перешагнув через
бездну, отделявшую знатных студентов от бедняков, подружился
с бедным студентом Горацио.
Гамлет является перед нами в «чернильном» траурном плаще.
Как и одежда, просты его речи, в отличие, например, от напыщен-
41
ной речи Лаэрта. Впервые мы видим Гамлета уже негодующим
на окружающую его неправду. К миру, над которым властвует
«распухший от обжорства и пьянства», «улыбающийся негодяй»—
Клавдий, и в котором кишат Розенкранцыи Гильденстерны (как
тонко заметил Гёте, их двое, друг с другом совершенно схожих,
потому что их много; «они — общество»), Гамлет чувствует глубо-
чайшее отвращение. В таком мире, как и в «запущенном саду»,
жить не хочется. «Мир —тюрьма».
Как мы видели, основой древней повести являлась кровная
месть. Шекспир «отобрал» этот мотив у Гамлета и «передал» его
Лаэрту. Кровная месть требовала лишь исполнения сыновнего
долга. Убийце отца надо отомстить хотя бы отравленным клин-
ком,— так рассуждает, согласно своей феодальной морали,
Лаэрт. О том, любил ли Лаэрт Полония, нам ничего не известно.
По-иному взывает к мести призрак: «Если ты любил своего отца,
отомсти за его убийство». Это —месть не только за отца, но и за
человека, которого любил и высоко ценил Гамлет. «Я видел од-
нажды вашего отца, —говорил Горацио, — он был красавец
король». «Он человеком был», — поправляет Гамлет своего друга.
И тем ужаснее для Гамлета весть об убийстве отца, — весть, об-
наруживающая перед ним всю преступность «жестокого мира».
Задача личной мести перерастает для него в задачу исправления
этого мира. Все мысли, впечатления, чувства, вынесенные из
встречи с призраком отца, Гамлет суммирует в словах о «вывих-
нутом веке» и о тяжком долге, зовущем его «вправить этот вывих».
Центральным местом трагедии является монолог «быть или не
быть». «Что лучше, —спрашивает себя Гамлет, —молча сносить
пращи и стрелы яростной судьбы, или поднять оружие против
моря бедствий?» Молча, безропотно созерцать Гамлет, активный от
природы человек, не может. Но одинокому человеку поднять
оружие против целого моря бедствий — значит погибнуть. И Гам-
лет переходит к мысли о смео^и («Умереть. Уснуть».). «Море бед-
ствий» здесь не просто «вымешиая метафора», но живая картина:
море, по которому бегут берУисленные ряды волн. Эта картина
как бы символизирует фон всей трагедии. Перед нами образ оди-
нокого человека, стоящего с обнаженным мечом в руке перед бегу-
щими друг за другом и готовыми поглотить его волнами.
Гамлет видит «неправду угнетателя, презрение гордеца, боль
презренной любви, проволочки в судах, удары, которые принимает
терпеливо достоинство от недостойных». Жизнь кажется ему «тя-
желой ношей». Он не в состоянии ответить на вопрос «быть или
не быть». Исторически и не могло быть иначе. Бессилие рвущейся
к цели мысли, — он сравнивает ее с деревянным шаром, который,
наткнувшись на выступ почвы, отлетает в сторону и не достигает
цели,—создает избыток рефлексии, парализующей действие.
Мысль, по словам Гамлета, покрывает своей болезненной бледно-
стью прирожденный цвет решимости. Это замечательные слова.
Сам Гамлет объявляет нам, что он от природы — решительный че-
ловек.
42
Своей частной цели Гамлет в конце трагедии достигает. Клав-
дий убит его рукой. Но это не разрешает вопроса. Уже после убий-
ства Клавдия Гамлет называет мир «жестоким». Но если смерть
его трагична, в ней нет пессимизма. Гамлет умирает не равнодуш-
ным мизантропом. Он просит Горацио рассказать людям о его
судьбе. Смерть Гамлета,«любимого толпой», по признанию его злей-
шего врага Клавдия, героична. Взор его устремляется в будущее.
Гамлет задумался над окружающей его действительностью.
И вместе с тем он задумался над самим собой и увидал в себе,
в человеке, неисчерпаемые силы. «Какое удивительное создание
человек! — говорит Гамлет. — Как благороден его разум! Как
безграничны его способности! В облике своем и движениях как
выразителен он и чудесен! Поступками он подобен ангелу, позна-
нием — божеству. Красота мира! Венец творения!»
Но трагедия о Гамлете говорит не только о величии человека.
Она говорит также о его страдании и гибели в том обществе, кото-
рое философ Апемант в «Тимоне Афинском» сравнивает с «лесом,
населенным хищными зверями». В этом обществе Гамлет, как плен-
ник, опутан, по собственным словам «сетями подлости». Так чув-
ствовал и сам Шекспир:
Я смерть зову, глядеть не в силах боле,
Как гибнет в нищете достойный муж,
А негодяй живет в красе и холе;
Как топчется доверье чистых душ,
Как целомудрию грозят позором,
Как почести мерзавцам воздают,
Как сила никнет перед наглым взором,
Как всюду в жизни торжествует плут,
Как над искусством произвол глумится,
Как правит недомыслие умом,
Как в лапах Зла мучительно томится
Все то, что называем мы добром.
Когда бы не ты, любовь моя, давно бы
Искал я отдыха под сенью гроба.
(66-ù сонет, перевод О. Б, Румера
'Отсюда меланхолия'датского принца. Ибо отрицать в нем ме-
ланхолию не в значении созерцательной грусти, но глубокой скор-
би,— значило бы превратить шекспировскую трагедию в «ту
обработку шекспировского Гамлета, в которой нехватало не
'тсйько меланхолии датского принца, но и самого принца»1.
'.«эту скорбь усугубляет одиночество Гамлета. Гертруда по-своему
^нобйт сына. Но недаром Гамлет, имея в виду ее сожительство с
Клавдием, сравнивает ее с овцой, покинувшей горные пастбища,.
%обы «жиреть на болоте». Горацио до конца остается лишь пас-
эдвным наблюдателем; он может только сочувствовать Гамлету,
к^елия попадается в сети короля и Полония. Недаром Гамлет
называет Полония Иеффаем, именем того судьи израильского, ко-
ттгг: ■
•■:,л M а р к с и Энгель с, Соч., т. X, стр. 461.
;43
торый принес дочь свою в жертву. Если образ Офелии вначале
полон аффектированной искусственности,то в сцене сумасшествия,
когда Офелия плачет о погибшем на чужбине возлюбленном, она
обретает подлинную «природную» человечность. Она является'
с полевыми цветами в руках, поет стихи из народных баллад и
песен. От цветов искусственных к полевым, естественным цветам—
таков путь развития этого образа.
Гамлет — один из самых многогранных шекспировских обра-
зов. Если угодно, он — мечтатель, потому что надо было носить
в себе мечту о каких-то других, лучших человеческих отноше-
ниях, чтобы так негодовать на окружающие ложь и уродство. Он
и человек действия. Разве не привел он в смятение весь датский
двор и не разделался со своими врагами — Полонием, Розенкран-
цем, Гильденстерном, Клавдием? Но его силы и возможности не-
избежно ограничены. Недаром он противопоставляет себя Гер-
кулесу. Тот подвиг, о котором мечтал Гамлет, мог осуществить
только Геркулес, имя которому — народ. Но уже одно то, что
Гамлет увидел ужас окружавших его «авгиевых конюшен», —
то, что вместе с тем он, гуманист Гамлет, так высоко оценил че-
ловека, составляет его величие. Гамлет—гениальнейший из
персонажей Шекспира. И нельзя не согласиться с комментаторами,
отмечавшими, что из всех героев Шекспира один Гамлет мог бы
написать шекспировские произведения.
После «Гамлета» следующей по времени создания «большой
трагедией» Шекспира является «Отелло» (Othello, the Moor of Ve-
nice). При сравнении с новеллой Чинтио, изданной в Венеции
в 1555 г., из которой Шекспир заимствовал контуры своего сю-
жета, особенно наглядно выступает гуманистическая концепция
трагедии.
В Венеции жил однажды мавр, «человек воинственный и со-
бой красавец», —так рассказывает Чинтио. Дочь знатного вене-
цианца Дездемона полюбила мавра и, вопреки родительской воле,
вышла за него замуж. Синьория послала мавра начальствовать
войсками на Кипр, куда за мужем последовала и Дездемона. Среди
приближенных мавра был красивый молодой офицер, «по природе
развращеннейший человек в мире». Он влюбился в Дездемону иг
не добившись взаимности, заподозрил, что Дездемона любит од-
ного из военачальников. Он задумал отомстить Дездемоне и стал
возбуждать подозрения мавра. Как и у Шекспира, роковой пла-
ток погубил Дездемону. Мавр и молодой офицер сговорились убить
ее. Мавр разбудил ее ночью, и, когда она встала с постели, офицер
нанес ей несколько ударов мешком, в который был насыпан песок.
Затем убийцы обрушили потолок комнаты. Тело Дездемоны засы-
пало обломками, и все сбежавшиеся на шум и крики решили, что
она погибла от несчастного случая. После смерти Дездемоны мавр
впал в тоску. Вскоре между двумя убийцами вспыхнула вражда.
Офицер рассказал о том, что Дездемону убил мавр. Синьория при-
казала схватить мавра, пытать его, а затем отправить в изгнание,,
где он и пал от руки родственника Дездемоны. Попавшись на дру-
44
гом злодеянии, погиб и второй убийца. На сюжетной основе этой
несложной повести о ревности и преступлении Шекспир создал
свою трагедию.
Еще Теобальд (Lewis Theobald, 1688—1744), сравнивая траге-
дию Шекспира с новеллой Чинтио, отметил, что в новелле содер-
жится наглядное поучение молодым девицам, предостерегающее их
от неравных браков. «Такого поучения нет у Шекспира, — пи-
сал Теобальд, — наоборот, Шекспир показывает нам, что женщина
способна полюбить человека за его достоинства и блестящие ка-
чества, невзирая на цвет кожи». Эти замечательные слова «отца
шекспироведения» не находили тогда отклика.
Хотя трагедия и имела шумный успех на сцене, равнодушное,
а то и прямо враждебное отношение к ней зачастую наблюдалось
в критической литературе, и не только среди представите-
лей классицизма. «Изучите хорошенько эту трагедию,—пи-
сал еще в 1699 г. Раймер — и вы увидите, что благородная Дез-
демона не выше деревенской служанки... В Англии чернолицый
мавр может стать полковым трубачом, не больше. Шекспир делает
€ГО генералом. У нас мавр может жениться разве на какой-нибудь
потаскухе; Шекспир выдает за него дочь и наследницу вель-
можи... Нет в природе ничего более отвратительного, чем неправ-
доподобная ложь. Нет менее правдоподобной пьесы, чем «Отелло»
Шекспира». Чрезвычайно типично и мнение Сэмюэля Джонсона,
прямо противоположное цитированным нами словам Теобальда.
«Отелло», — говорил Джонсон Босвелю, — дает весьма полезный
урок не вступать в неравные браки».
Впоследствии трагедию великого гуманиста часто сводили це-
ликом к мотиву ревности. Получалась такая картина: в гармони-
ческую среду «цивилизованного» венецианского общества втор-
гается дикарь, «свирепый тигр» или «наивное дитя природы» —
от этого по существу своему концепция не изменяется, —и, на
мгновение возмутив царящую кругом гармонию и совершив, в по-
рыве бешеной страсти или по недомыслию своему, ужасное зло-
деяние, сам погибает.
В действительности трагедия Шекспира неизмеримо сложнее.
В отличие от мрачного ревнивца из новеллы Чинтио Отелло Шек-
спира — человек большого ума и большого сердца. Об этом сви-
детельствует не кто иной, как Яго. «У них (т. е. у синьории) нет
другого человека такой глубины ума», — говорит Яго. И в дру-
гом месте: «Мавр — человек непосредственной и открытой души».
Перед нами — человек, прошедший долгий путь лишений и опас-
ностей и сохранивший среди всех невзгод благородство и прямоту
чувств. Это подлинно «благородный мавр». Трудная школа жизни
выработала в нем сдержанность (если сравнить, например, его
поведение в начале трагедии с необузданной вспыльчивостью Бра-
банцио). Он — чужой среди окружающих. Если сенат в минуту
опасности и посылает его главнокомандующим на Кипр и даже
«Жертвует» Дездемоной, тот же сенат после гибели турецкого фло-
та торопится отозвать Отелло с его поста.
45
В любви Отелло и Дездемоны как бы вновь возникает тема
«Ромео и Джульетты». Но в ранней пьесе Шекспира сила любви
ниспровергает те преграды, которые были поставлены родовой,
феодальной распрей: полюбив Ромео, Джульетта все же остается
в своей «среде». Здесь же эта сила, более всеобъемлющая, разру-
шает преграды «расовых» предрассудков: Дездемона не только
ослушалась отца и отвергла «кудрявых баловней судьбы»; по соб-
ственным ее словам, она пошла «на штурм своей судьбы». Недаром
Отелло называет ее «прекрасным воином».
Но счастье Отелло и Дездемоны в «жестоком мире» столь же
несбыточно, как счастье Ромео и Джульетты. Против торжествую-
щих гуманистических чувств в наступление переходит «макиавел-
лизм» в лице Яго. После долгой и упорной борьбы Яго удается про-
будить в Отелло, который всю свою жизнь отдал служению долгу,
самое личное из всех чувств — ревность, «зеленоглазое чудовище^
издевающееся над собственной жертвой». И тем труднее для Яго
добиться этого, что Отелло от природы не склонен к ревности.
Если бы Отелло был ревнив от природы, то не надо было бы умного
и глубоко проницательного Яго, чтобы тонкой и длительной иг-
рой возбудить в нем подозрение и, наконец, убедить его. Отелло
сам говорит в конце трагедии, что «нелегко ревнив». «Отелло по
природе не ревнив,—напротив, он доверчив», — заметил Пушкин,
На доверчивости Отелло и играет Яго.
. И Отелло решает уничтожить Дездемону как осквернившую его
идеал чистоты, благородства и человеческого достоинства. «Спра-
ведливость требует этого»х, с этими словами Отелло входит к
спящей Дездемоне. Целуя ее, Отелло говорит: «О сладкое дыха-
ние, тебе почти удается заставить правосудие переломить свой меч».
И в том же монологе: «Она должна умереть, иначе она предаст
других». Свой поступок Отелло называет «жертвой»; уничтожая
преступницу, действуя во имя справедливости, он приносит в
жертву свою любовь. За убийством следует отчаяние, когда Отелло
узнает о своей трагической ошибке, за отчаянием — просвет-
ление. В конце трагедии Отелло плачет и сравнивает свои слезы с
«целебной миррой аравийских деревьев». Ведь Дездемона оказа-
лась невинной. Прав оказался он, Отелло, а не Яго. В этих слезах
Отелло —та жизнеутверждающая вера в человека, которая вно-
сит финальный мажорный аккорд в одну из самых печальных тра-
гедий Шекспира.
Яго — одна из монументальных фигур, созданных Шекспи-
ром. Это — человек, способный на любое преступление, на дшбое
предательство ради своей личной выгоды. Все поступки Яго в
этом смысле имеют свою логику. Яго, адъютант главнокомандую-
щего, метит в его заместители. Назначение Кассио разрушает
все его планы. Он задумывает погубить Кассио и достигает своей
цели. Теперь он — заместитель Отелло. Ему надо погубить и
Отелло, чтобы самому взобраться на его место и окончательно
1 Но не «причина есть», как у нас обычно переводят.
46*
«выйти в люди». Ему удался бы его замысел, если бы он не мерил'
всех по своей мерке и не считал бы всех людей подлецами. Между
тем, Яго и не подозревал о честности собственной жены Эмилии,
не побоявшейся смерти, чтобы обличить мужа в преступлении.
На советской сцене прочно утвердилась интерпретация
«Отелло» не как трагедии ревности, но как трагедии обманутого
доверия.
Сюжет трагедии «Король Лир» (King Lear)уводит нас в дале-
кое прошлое. Впервые повесть о старом британском короле и его
неблагодарных дочерях была записана на латинском языке в
начале XII века. В течение XVI века эта повесть пересказыва-
лась несколько раз и в стихах и в прозе. Варианты ее находим
и в «хрониках» Голиншеда, и в «Зерцале правителей» и в «Коро-
леве фей» Эдмунда Спенсера. Наконец, в начале 90-х годов XVI
века на лондонской сцене появилась пьеса о короле Лире. В от-
личие от шекспировской трагедии, дошекспировский «Лир» во всех
своих вариантах приводит события к счастливой развязке. Лир*
и Корделия оказываются в конце концов вознагражденными.
В своем благополучии они как бы сливаются с окружающей их
действительностью, ассимилируются с ней.
Наоборот, положительные герои трагедий Шекспира возвы-
шаются над этой действительностью. В этом их величие и, вместе
с тем, обреченность. Если бы рана, нанесенная отравленной шпагой
Лаэрта, не оказалась смертельной, Гамлет все равно не смог бы
царствовать над миром Озриков, новых Розенкранцев,Гильденстер-
нов и Полониев, какие смог бы вернуться и в мирный Виттенберг.
Если бы шевельнулась пушинка у губ Корделии и она бы ожила,.
Лир, «увидавший многое», как говорит о нем герцог Альбанский
в заключительных словах последнего акта, все равно не смог бы
вернуться в тот пышный зал королевского замка, где мы видели его»
в начале трагедии. Не смог бы он, бродивший с непокрытой голо-
вой в бурю и дождь по ночной степи, где вспоминались ему «бед-
ные нагие несчастливцы», удовольствоваться и укромным безмя-
тежным приютом, который создала бы ему Корделия.
В дошекспировских вариантах «Лира» нет сцены в ночной;
степи, как нет в них и шута, носителя народной мудрости.
От «Короля Лира» тянутся нити к старинной трагедии «Гор^
бодук», написанной еще в 50-х годах XVI века Сэквилем и Нор-
тоном. Король Горбодук разделил власть между своими двумя
сыновьями, что привело к междоусобной войне, потокам крови и
великим бедствиям для страны. Так и Лир, разделив власть между
своими двумя дочерьми, чуть было не сделал «раздробленное ко-
ролевство» добычей иноземцев, как говорит об этом Кент.
Но от своих источников трагедия Шекспира отличается, преж-
де всего, постановкой гуманистической, подлинно шекспиров-
ской проблемы. Лир на троне, «олимпиец», окруженный блеском
двора (начальная сцена, несомненно, самая пышная во всей тра-
гедии), далек от страшной действительности за стенами замка.
Корона, королевская мантия, титулы являются в его глазах свя-
47/
■щенными атрибутами и обладают полнотой реальности. Ослеплен-
ный раболепным поклонением в течение долгих лет своего царст-
вования, он принял этот внешний блеск, — «церемониал», как
сказал бы король Генрих V, —за подлинную сущность. Почему
же ему было и не отказаться от «власти, доходов и правления»,
раз королевский сан, обладающий сам по себе реальностью в его
глазах, сохранялся за ним? «Мы сохранили имя и титул
короля».
Но под внешним блеском «церемониала» ничего не оказалось.
«Из ничего и выйдет ничего», —как говорит сам Лир. Он стал
«нулем без цифры», как говорит шут. С плеч упала царственная
одежда, с глаз упала пелена, и Лир впервые увидал мир неприкра-
шенной действительности, жестокий мир, над которым властво-
вали Реганы, Гонерильи и Эдмунды. «Олимпиец» низвергнут на
голую землю. Лишенный королевской власти, Лир увидел себя
«бедным, больным, немощным, презираемым стариком». Мрачная
степь, по которой ночью, в бурю и дождь, бродит бездомный Лир
и среди которой одиноко торчит шалаш помешанного бродяги,
как бы воплощает мрачный фон шекспировской эпохи. В ночной
степи, впервые осознав действительность, прозревает Лир.
Вы, бедные, нагие несчастливцы,
Где б эту бурю ни встречали вы,
Как вы перенесете ночь такую
С пустым желудком, в рубище дырявом,
Без крова над бездомной головой?
Кто приютит вас, бедные? Как мало
О вас я думал! Роскошь, научись,
О, научись сама страданью бедных,
Стряхни с себя избыток, им на пользу,
И докажи, что справедливо небо.
К Перевод Дружинина)
Ни в одном из своих произведений Шекспир не показал эво-
люцию образа с такой полнотой, как в центральной фигуре «Ко-
роля Лира». В ходе развивающихся событий меняется не только
сам Лир, меняется и отношение к нему зрителя или читателя.
«Смотря на Лира, —замечает Н. А. Добролюбов, —мы сначала
чувствуем ненависть к этому беспутному деспоту; но, следуя за
развитием драмы, все более примиряемся с ним как с человеком
и оканчиваем тем, что исполняемся негодованием и жгучей зло-
бой уже не к нему, а за него и за целый мир — к тому дикому,
нечеловеческому положению, которое может доводить до такого
беспутства даже людей, подобных Лиру».
Сцена в степи—момент полного падения Лира. Он оказался вы-
брошенным из общества. «Неоснащенный человек,—говорит он,—
всего лишь бедное, голое, двуногое животное». И, вместе с тем,
эта сцена —его величайшая победа. Вырванный из сети опу-
тывавших его общественных отношений, он оказался в состоянии
подняться над ними и осмыслить окружающее. Он понял то, что с
самого начала понимал шут, который уже давно знал истину.
48
Недаром Лир называет его «горьким шутом». «Судьба, распутница
из распутниц,—поет шут,—ты никогда не отворяешь двери бед-
някам». Жизнь вокруг, как видит ее шут, уродливо искажена.
Надо, чтобы все в ней изменилось. «Тогда наступит время, —
кто доживет до него!— когда ходить начнуть ногами», — поет
шут. Он—«дурачок». А между тем, в отличие от придворных
Лира, он до конца сохраняет человеческое достоинство. Следуя
за Лиром, шут проявляет подлинную честность и сам сознает
это. «Тот господин,—поет шут,—который служит ради выгоды
и ищет выгоды и который только по внешности следует за своим
повелителем, унесет ноги, когда начнется дождик, и покинет
тебя в бурю. Но я останусь; дурак'не уйдет; пусть спасается
бегством мудрец; убегающий негодяй похож на шута, но сам шут,
ей-бсгу, не негодяй». Итак, шут уже обладал той свободой,
которую, сбросив королевскую мантию и корону, обрел
Лир.
Ту же свободу обретает и бродящий по степи под маской
сумасшедшего Эдгар, а также ослепленный Глостер, который, по
его собственным словам, «спотыкался, когда был зрячим». Теперь
>Ке, слепой, он видит правду. Обращаясь к Эдгару, которого он
тне узнает и принимает за бездомного бедняка, он говорит:
«Пусть владеющий избытком и пресыщенный роскошью человек,
который обратил закон в своего раба и который не видит, потому-
*îîo не чувствует, поскорей ощутит мощь твою, тогда распреде-
ление уничтожит излишество, и каждый получит достаточно средств
к существованию». Возмущение несправедливым распределением
земных благ совпадает с моментом наивысшего напряжения этой
глубочайшей по замыслу трагедии Шекспира.
Судьба Глостера, показанная параллельно с судьбою Лира,
имеет решающее значение в идейной композиции произведения.
Как указал Шлегель, наличие двух параллельно развивающихся
и «о многом сходных сюжетов придает произведению универсаль-
ность. То, что можно было принять за частный случай, приобре-
тает, благодаря параллельному сюжету, типичность. С другой
стороны, если бы дело шло только о трагедии Лира, мы были бы
вправе видеть в ней прежде всего развенчание феодальных воз-
зрений старого короля. Но Глостер становится жертвой Эдмунда,
типичного «макиавеллиста», человека новой породы для той
эпохи. Оскорбленный своим положением незаконного сына, Эд-
мунд во многом напоминает и озлобленного своим уродством Ри-
чарда и, в еще большей степени, Яго, уязвленного тем, что его
обошли по службе.
Трагическая атмосфера становится еще мрачней в «Макбете
(Macbeth). По замечанию комментаторов, слово «кровавый» упо-
требляется в этом произведении особенно часто и красной нитью
проходит через всю трагедию. Вероятно чаще, чехМ в других пье-
сах1 Шекспира, встречается в «Макбете» и слово «тиран». Тема
«Макбета» во многом напоминает «Ричарда III». Как там, так и
здесь перед нами — обагренный кровью «узурпатор», который
"^ Англ. литература
49
сначала достигает цели, но затем расплачивается за свое преступ-
ление. Как там, так и здесь трагедия завершается торжеством по-
ложительных сил (Генрих, Малькольм), восстанавливающих в го-
сударстве нарушенную гармонию. Жестокость Ричарда вырастает
на кровавой почве междоусобной феодальной войны Алой и Бе-
лой Роз, преступление Макбета как бы продолжает вереницу тех
предательств, заговоров и мятежей, с упоминания о которых начи-
нается трагедия. Но субъективно между Макбетом и Ричардом
мало общего.
Глубокое различие между этими двумя трагическими образами
отметил еще в XVIII веке Ватели. Ричард, по мнению Ватели,
обладает природным бесстрашием, Макбет же — только решимо-
стью, которая не вытекает из его природы и является результа-
том борьбы с самим собой. Он склонен, как отмечает Ватели, к
безрассудной решимости именно потому, что от природы он —
колеблющийся человек, и весь путь его преступлений свидетель-
ствует о его природной слабости, так как он стремится уничтожить
преследующую его «тень страха». Эта характеристика нуждается,
конечно, в существенном дополнении.
Ричард III во многом напоминает образы Марло. С самого на-
чала трагедии он — законченный «злодей» и откровенно заявляет
о своем злодействе. Макбет же, хотя он сам первый подумал об
убийстве Дункана, является в дальнейшем в известном смысле
жертвой окружающих влияний. Сравнение Макбета с Ричардом
дает наглядное представление о пути, пройденном Шекспиром, от
изображения изолированной, «самой по себе» действующей лич-
ности, напоминающей героев Марло, до ее изображения во взаи-
модействии с окружающим миром.
Отметим, что Макбету было тем легче поддаться искушению,
что он был не только могущественным таном, но, согласно древ-
ней хронике, родственником Дункана и, следовательно, по рожде-
нию своему близок к престолу. С другой стороны, сам Дункан -г—
слабовольный и бездеятельный правитель. В шекспировской тра-
гедии мы видим Дункана вдалеке от поля битвы, в которой он не
принимает непосредственного участия, доверяя предводительство
войском своим танам.
И все же Макбет несет на себе всю тяжесть вины. Мысль об
убийстве Дункана пришла раньше всего ему, а не была подска-
зана пророчеством ведьм. Из слов лэди Макбет (акт 1,7) видно, что
разговор об убийстве Дункана jorçp когда-то велся между ними
(еще до описанных в трагедии событий, т. е. до появления ведьм).
«Что за зверь заставил тебя открыть мне этот замысел... Тогда
не благоприятствовали ни время, ни место»,— говорит мужу лэди
Макбет. Итак, замысел родился у самого Макбета. Раз затаив этот
замысел и не отвергнув его, Макбет подпал под власть сил, тол-
кавших его вперед по пути преступлений, сойти с которого он уже
не может. В этом судьба Макбета — судьба, воплощенная в мрач-
ном образе лэди Макбет и еще более мрачных и зловещих образах
ведьм. Совершившему ряд преступлений «Макбету, пробравшемуся
50
; к короне кровавым путем, легче итти вперед, чем вернуться к
состоянию мира и невинности» (Маркс)х.
Ведьмы в «Макбете» издавна привлекали внимание шекспи-
роведческой критики. Некоторые видят в них лишь старух-пред-
сказательниц, нищих шотландок, выбалтывающих то, о *1ем все
кругом шептали втихомолку. С таким толкованием трудно согла-
суется хотя бы внезапное исчезновение ведьм, которых Банко
недаром называет «пузырями земли». «То, что казалось телес-
ным, — говорит о ведьмах Макбет, — растворилось, как дыхание
в ветре». Согласно другому толкованию, ведьмы — лишь галлю-
цинации, «ироэцированные» сокровенные желания Макбета. В этом
толковании есть несомненная доля правды.Ведьмы повторяют лишь
то, о чем уже думал Макбет. Их видят те, кому их надо видеть —
! Макбет и Банко. Ведь можно предположить, что и в душе Банко
[ таился тщеславный замысел, если не в отношении самого себя, то
в отношении своего рода. В первой картине четвертого акта вхо-
дящий Ленкокс не видит ведьм, видит их только Макбет. И все же
толкование, сводящее «сверхъестественные» явления в «Макбете»
к галлюцинациям или «проэцированным» сокровенным желаниям
действующих лиц, вряд ли применимо к пьесе, написанной в на-
чале XVII века. Сомнительно, например, чтобы тень Банко была
галлюцинацией. Большинство зрителей, для которых писал Шек-
спир, верили в реальность этой тени.
Нет основания оспаривать реальность ведьм в «Макбете», ко-
торых Шекспир показывает отдельно еще до появления других
лиц. В существовании ведьм вряд ли сомневалось более двух-
трех человек из зрителей «Глобуса», включая самых образованных.
Верил ли сам Шекспир в ведьм? Об этом мы ничего не знаем. Но
Шекспир писал для зрителей своего времени. Реальность ведьм
имеет существенное значение в общем замысле произведения.
«Макбет» — повесть не только о гибельном и преступном тщесла-
вии, но и о внешних влияниях, которые овладевают человеком,
им поддающимся, и губят его. В этом смысле, повторяем, ведьмы—
судьба Макбета (недаром «тремя норнами» назвал ихКольридж).
Они — воплощение всей нравственной грязи, коварства, подло-
сти, царивших в окружавшей Шекспира действительности.
Носительницей злой судьбы Макбета, помимо ведьм, является
лэди Макбет. Но как ни отрицательна ее «функция», сама лэди
Макбет не просто «четвертая ведьма», как характеризовали ее не-
которые критики. В ней есть живое чувство. Ее страстная любовь
к мужу выражается в желании видеть его королем во что бы то
ни стало, так как, согласно ее воззрениям, пурпур королевской
мантии и королевская корона являются лучшим украшением.
В самой лэди Макбет борются противоречизые начала. Выпол-
нение кровавого замысла сталкивается в трагическом конфликте
с той человечностью, которой наделена эта могучая натура. По-
ощрив мужа на преступление, лэди Макбет оказывается сломлен-
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XI, ч. 2, стр. 115.
4* 51
ной. Ее первый обморок является, конечно, не притворным, так
как этот обморок несомненно выдал ее и ее мужа перед многими
присутствующими. В дальнейшем ходе кровавых событий лэди
Макбет, обессиленная, погибает, тогда как сам Макбет все еще
находит в себе силы бороться.
Напомним в заключение о весьма правдоподобной гипотезе
старинных комментаторов. В этой трагедии, возможно, отрази-
лись кровавые события, которыми ознаменовались последние
годы существования шотландского королевского двора. Убий-
ство Дарнлея, Муррея — обо всем этом еще ходили толки
в Лондоне эпохи Шекспира. Образ лэди Макбет, может быть,
недалек от Марии Стюарт, как она рисовалась Шекспиру. Неда-
ром Яков I, ненавидевший свою мать за убийство его отца Дарн-
лея, так благосклонно отнесся к этой пьесе.
К более поздним произведениям Шекспира мировой театр об-
ращался сравнительно редко, и это не случайно. Полнокровный
реализм Шекспира приобретает во многом чуждую ему психоло-
гическую окраску в «Антонии и Клеопатре», создает мощный, но
однотонный образ Кориолана и далеко не достигает, за исклю-
чением отдельных монологов, былой художественной высоты в
«Тимоне Афинском», хотя эта трагедия и имеет большое значение
для понимания шекспировского мировоззрения. Комедии второго
периода, за исключением «Меры за меру», принадлежат к наиболее
слабым в художественном отношении произведениям Шекспира.
Даже в таких произведениях последнего периода, как «Зимняя
сказка»:и «Буря» —великолепных по яркости красок, живописно-
сти образов и богатству языка, проникнутых непоколебимой ве-
рой в жизнь и любовью к ней, — порой чувствуется некоторая
медлительность действия.
Мы вступаем в эпоху царствования Якова I, в эпоху реакции
и застоя, в душной атмосфере которой, не сдаваясь, творил дерз-
новенный и пламенный гений Шекспира.
Трагедию «Антоний и Клеопатра» (Antony and Cleopatra),
быть может, справедливо назвать «лебединой песней» Ренессанса,
на смену которому пришел дух расчетливого практицизма. В этом
мире, где неизбежно торжествуют такие люди, как Октавий, Ре-
нессанс перерождался в утонченный и изнеженный гедонизм.
Дальнейшее развитие Ренессанса в Англии, вплоть до последних
его отблесков в поэзии Мильтона, было уже его закатом. Как ни
пленительны краски «Антония и Клеопатры», чувство в этой тра-
гедии перестает быть творческой силой. Любовь к Клеопатре не
только приводит Антония к гибели, но и превращает в ничто бли-
стательные его качества. Усталостью и разочарованностью веет
от этой трагической поэмы, как и от образа самой египетской ца-
рицы, недаром нашедшей наиболее яркое сценическое воплощение
в изысканном творчестве Элеоноры Дузе.
«Вот она — Клеопатра Шекспира, влюбленная женщина,
уже уставшая любить, но бессильная совладать со своей послед-
ней страстью...
52
i|,;;"; Увы... Я пью сладчайшую отраву...
#\ Возможно ль, чтоб он вспоминал меня,
Всю черную от поцелуев Феба,
Покрытую морщинами годов.
Усталость отражается на ее лице, и в ту минуту, когда она
говорит о своих морщинах, лицо Дузе вдруг кажется постарев-
шим»1.
"Лишь в конце трагедии Клеопатра обретает «природную»
рилу. Она как бы спускается с трона, превращаясь из царицы в
^простую любящую женщину. В начале монолога она надевает
!|свою царскую одежду и корону. Она называет вино «соком еги-
петских лоз», сравнивает себя с огнем и воздухом. Но тональность
^эпитетов и метафор постепенно меняется. Клеопатра теперь вспо-
Щшиает о своем возлюбленном как о «кудрявом Антонии». Впив-
шийся ей в грудь аспид, по ее сравнению, — дитя, сосущее грудь
кормилицы, пока та не уснет. Клеопатра уже не «обольститель-
■ница», не «удивительное создание», как назвал ее Энобарб.
щу В «Кориолане» (Coriolanus) мы видим катастрофу воспетого
ренессансом «культа сильной личности», который двадцатью го-
рами раньше нашел наиболее оптимистическое выражение в «Та-
Церлане Великом» Марло. Воля Тамерлана была творческой си-
рой. Не менее могучая воля Кориолана оказывается силой разру-
шительной, обращенной против него самого и обрекающей на бес-
плодность его гениальные способности, его бесстрашное мужество,
Его не знающую лицемерия откровенность и прямоту. Если дея-
тельность Тамерлана приводит в движение массы, «бесчисленные,
Цак песок морской», и если Тамерлан идет во главе войска, состоя-
щего, как говорит он сам, «из деревенских парней», то поступки
Кориолана обращены против масс, против народа. Именно потому,
||ïo Кориолан противопоставил себя народу, он оказывается пу-
стоцветом. Ослепленный себялюбием, Кориолан поднял меч про-
бив своего народа, своей родины. Но в решительную минуту пе-
I, ним явилась Волумния. Кориолан внемлет голосу матери. Он
ровольно опускает занесенный над родиной меч, хотя и знает,
за это его ждет неминуемая гибель. Вот почему эта гибель при-
стает героическое звучание, и слово «благородный», как эпи-
Кориолана, дважды произносится в конце трагедии.
«Кориоланом» завершается то драматическое воплощение ти-
ических характеров, которое начал на почве английского Ре-
санса Марло в «Тамерлане Великом». Примечательно, что «Ко-
лан» по самой художественной манере во многом напоминает
«Тимон Афинский» (Timon of Athens) может быть по справед-
ости назван самым горьким из произведений Шекспира. Шек-
ровский трагизм достиг здесь своего крайнего предела. В этом
гизме слышатся ноты отчаяния. «Я мизантроп и ненавижу
^вечество!», — восклицает Тимон.
$ «Северный вестник», 1901.
"В «Тимоне Афинском» Шекспир со всей силой своего негодо-
вания обрушился на новые капиталистические отношения. Созер-
цание мира, в котором все больше укоренялись эти отношения, —
мира, подобного «лесу, населенному хищными зверями», приво-
дило либо к циническому пессимизму Апеманта, либо к отчаянию
Тимона.
Отдельные строки и образы, разоблачающие тлетворную силу
золота, обильно рассыпаны в произведениях Шекспира. Так,
например, уже в поэме «Лукреция» мы находим мрачный образ
скупого старика, берегущего накопленное богатство и испыты-
вающего муки Тантала из-за вечного страха за свои сокровища.
Ромео называет золото худшим ядом, чем тот яд, который дает
ему аптекарь. Калечащую человека силу золота Шекспир изобра-
зил в «Венецианском купце».
Но нигде у Шекспира эта тема не нашла такого завершенного
выражения, как в «Тимоне Афинском». Тимон был богат, и «дру-
зья» льстили ему. Тимон разорился, и «друзья» («псами» и «вол-
ками» называет их Тимон) отвернулись от него. Над тем обществом,
к которому принадлежал Тимон, властвует единое божество —
золото, «храм которого гнуснее свиного хлева». В этом обществе
честь воздают по богатству, «презирая природу». Все в этом об-
ществе «криво». «Ученая башка ныряет в низком поклоне перед зо-
лотым дураком». Тот, кто грабит на большой дороге и открыто
«питается людьми», честней этого общества, потому что не прикры-
вает свой грабеж «святостью». «Грабьте друг друга,—говорит
Тимон, наделяя разбойников золотом, —режьте глотки! Все, кого
вы встретите, — воры. Идите в Афины, взломайте лавки, воруйте
у воров... Ида погубит вас золото. Аминь». «Грабьте! — обращается
Тимон к слугам — ваши важные на вид господа — крупные раз-
бойники и грабят по закону». Охваченный отчаянием Тимон бе-
жит на берег морской. Здесь произносит он проклятия золоту и
рассуждает о сущности денег (акт IV, 3).
«Шекспир превосходно изображает сущность денег» \ —
пишет Маркс,говоря о «Тимоне».
«Шекспир особенно подчеркивает в деньгах два их свойства:
1. Они — видимое божество, превращение всех человеческих
и природных качеств в их противоположность, всеобщее смеше-
ние и извращение вещей; они соединяют братски невоз-
можности.
2. Они — вселенская блудница, вселенская сводня людей и
народов»2.
' В развивавшихся в его эпоху капиталистических отношениях
Шекспир уже предвидел будущее того общества, в котором «все
делается предметом купли-продажи». Отсюда — отчаяние, с по-
трясающей силой выраженное в монологах Тимона, в самом образе
его одинокой могилы на морском берегу.
1 Маркс и Энгельс. Об искусстве. Сборник. М.—Л., 1937, стр. 67.
2 Там же, стр. 68.
54
Остальные пьесы второго периода также в той или иной сте-
пени проникнуты горечью. Трудно назвать их комедиями. Даже
современники, повидимому, определяли их различно. Например,
на титульном листе первого издания «Троила и Крессиды» (Troi-
lus and Cressida, 1609), это произведение названо исторической
пьесой, в предисловии (в том же издании) о нем говорится
как о комедии. Редакторы Первого фолио отнесли его к тра-
гедиям.
В шекспироведческой критике выдвигалась гипотеза, согласно
.которой «Троил и Крессида» была задумана Шекспиром как па-
родия. Вряд ли это так, но любопытно, что эта пьеса имела успех
на сцене только в том случае, когда ее ставили в пародийном пла-
не. Мы не найдем в ней больших шекспировских характеров. «Вер-
ный» Троил слишком болтлив и мелок, и повесть о его любви к
чувственной и легкомысленной Крессиде, являющейся живой ил-
люстрацией к словам Гамлета: «непостоянство, имя тебе женщина»,
.оставляет читателя равнодушным. Бледно очерчен образ Гектора.
Не трогает нас и невежественный Ахилл. И только один образ в
этой пьесе написан подлинными шекспировскими красками. Это—
подлый Терсит, «чеканящий клевету, как монету». Терсит пере-
жил Троила и Крессиду и занял свое место в галлерее больших
шекспировских образов.
Великолепен замысел пьесы «Конец — делу венец» (All's
Well that Ends Well). В ней Шекспир вновь возвращается к своей
излюбленной теме о природном равенстве людей. Елена, героиня
пьесы, во многом напоминает Виолу из «Двенадцатой ночи». Как
и Виола, она смело борется за свое счастье.
«Помощь часто зависит от нас самих, и мы лишь приписываем
-ее небесам,—говорит Елена,—управляющее судьбами небо
предоставляет нам свободу действовать: оно мешает нам только
тогда, когда мы сами медлим». На пути к счастью Елены стоит со-
/словное неравенство. Она, дочь бедного врача, влюблена в над-
менного, гордого своей аристократической кровью Бертрама. Но
се самоотверженная любовь побеждает, в конце концов, сердце
$>ертрама. «Прости меня», —умоляет он в конце пьесы. Мысль
4* природном равенстве людей провозглашает французский ко-
|№ль в своем знаменитом монологе. Кровь всех людей, говорит
Цфроль, одинакова по цвету, весу и теплу; благодаря делам даже
<tCôMoe низкое» положение становится почетным; добро прекрасно,
как; бы его ни назвать, сущность заключена в свойствах, а не в
названии.
И все же в этой пьесе нет ни свежести, ни обаяния ранних ко-
медий. Предметом самоотверженной любви Елены является кап-
ризный tf чванливый Бертрам, в котором нет ни ренессансного ве-
ликолепия Орсино (вспомним хотя бы первый монолог Орсино о
музыке и любви), ни даже одаренности Протея. Во-вторых, в са-
Щй Елене нет той простосердечности, которая так пленяет в Вио-
«Яе. Своей цели Елена, в конце концов, достигает путем ловкой
проделки.
55
«Мера за меру» (Measure for Measure) — несомненно самая со-
вершенная в художественном отношении из «комедий» второго пе-
риода — вводит нас в тяжелую и мрачную атмосферу. Действие
номинально происходит в «Вене». На самом деле.перед нами — не-
привлекательные окраины Лондона начала XVII века, растущего
большого города, в значительной степени уже города капиталисти-
ческого, с его уродливой пестротой, лицемерными судьями, глу-
пыми полицейскими, обанкротившимися офицерами во главе с
Люцио, мечтающими о войне как о единственной возможности хотя
бы на время набить дырявые карманы; с виселицами и тюрьмами,
преступниками, палачами и сводницами (образами, как бы пред-
восхищающими угрюмые рисунки Гогарта), сифилисом. «Все на-
сквозь прогнило в нашем государстве», — мог бы сказать добро-
детельный Эскал в «Мере за меру». Ужаснувшись разгулу пре-
ступности и разврата, герцог покидает престол, скорее разочаро-
вавшись в собственных способностях правителя, чем стремясь,
подобно древнему Гарун аль Рашиду, наблюдать со стороны окру-
жающее. Но даже в этой невеселой комедии Шекспир осуждает
стремление уйти от жизни, и поступок герцога чуть было не при-
вел к пролитию невинной крови и многим бедствиям.
Центральным в этом произведении является, конечно, образ
Анджело. Многие критики (например, Брандес) несправедливо
сравнивают его с Тартюфом. В отличие от последнего Анджело —
не сознательный обманщик с самого начала. Если бы он остался в
стороне от жизни, в своем уединении, среди ученых юридических
книг, он, вероятно, сохранил бы свою «добродетель». Но решение
герцога заставляет Анджело принять деятельное участие в жизни.
Соприкоснувшись с жизнью, «добродетель» Анджело изменяет ему.
Не без тяжелой борьбы с самим собой, как бы увлеченный нахлы-
нувшим бурным хаотическим потоком жизни, Анджело оказы-
вается рабом своего преступного сластолюбия. Роль Анджело всег-
да была благодарной задачей для больших трагических актеров.
Глубиной этого образа восхищался Пушкин. «У Мольера, —
писал он, — лицемер волочится за женою своего благодетеля, ли-
цемеря; принимает имение под хранение, лицемеря; спрашивает
стакан воды, лицемеря. У Шекспира лицемер произносит судеб-
ный приговор с тщеславной строгостию, но справедливо; он оправ-
дывает свою жестокость глубокомысленным суждением государ-
ственного человека; он обольщает невинность сильными, увлека-
тельными софизмами, не смешною смесью набожности и волокит-
ства. Анджело лицемер, потому что его гласные действия противо-
речат тайным страстям! А какая глубина в этом характере!»
Изабелла, по мысли Шекспира, глубоко права, когда предпочи-
тает нравственную чистоту даже жизни любимого брата. Это не
эгоизм и не ханжество. Для Изабеллы лучше пожертвовать люби-
мым существом, чем совершить преступление. Но Изабелла не-
права, когда, ища спасения от окружающей подлости и грязи,
хочет бежать от жизни в монастырь. Жизнь разрушает ее на-
мерение и, вместо пострига, она оказывается невестой герцога.
56
I Так и сам герцог сбрасывает монашескую рясу, и финал пьесы
|оправдывает те слова, которые герцог говорит в самом начале и
ï которые являются лейтмотивом всей пеьсы: слова о том, что при-
рода— «кредитор», требующий от человека процентов.
«Перикл» (Pericles) в значительной своей части, вероятно, не
принадлежит перу Шекспира. Лишь в последних действиях мы
узнаем и заветные мысли и язык великого гуманиста и поэта. Но
I даже в этих последних действиях основные образы пьесы очерчены
бледно. Недаром Драйден считал эту пьесу первым творческим
урпытом Шекспира. Даже некоторые комментаторы прошлого века
Считали это произведение ранним наброском, отдельные мысли
;*и образы которого были впоследствии использованы Шекспиром.
I Однако новейшие исследования относят «Перикла» к концу
-второго или к началу третьего периода и находят в этой пьесе
tie наброски, а реминисценции. «Перикл» является эклектическим
произведением, причем материалом для Шекспира служили его
;же собственные сочинения. По существу новым для Шекспира
в этой пьесе является образ Серимона, ученого, с которым, как
етметил один комментатор, «охотно подружился бы Фрэнсис
Бэкон». Судьба привела Таису к трагической гибели, но вмеша-
тельство науки повернуло колесо судьбы. Серимон, познавший
свойства, «обитающие в растениях, металлах и камнях», оживил
казавшуюся мертвой Таису. «Я всегда считал, — говорит Сери-
мой, — что добродетель и знание являются более высокими да-
йрами, чем благородное происхождение и богатство». Только добро-
детель и знание, по словам Серимона, бессмертны. «Они превра-
щают человека в божество» (акт III, 2).
i
5
i К третьему периоду творчества Шекспира (1608—1612) при-
надлежат всего лишь три пьесы, — «Цимбелин», «Зимняя
еказка» и «Буря».
В самой форме драматического творчества Шекспира в этот
период происходит заметная перемена. Появляются черты аллего-
рической фантастики, условной декоративной театральности. Это
объясняется в известной мере внешними событиями: в театре
«Блэкфрайерс» роль «партера» свелась почти к нулю, и законо-
дателем сцены стал придворный зритель.
На если и изменилась форма, гуманистическая тема Шекспира
осталась"неприкосновенной и даже получила дальнейшее развитие.
Щекспир находит выход из трагического круга. Этот выход —
Эера в будущее человечества. Целителем всех бедствий в «Зимней
сказке» выступает аллегорическая фигура Времени. Статуя окле-
ветанной Гермионы оживает. «Буря» завершается пророчеством
Просперо, сулящим путникам тихое море и благоприятный ветер.
Вера Шекспира в конечное торжество тех гуманистических идеа-
лов, которые столкнулись в трагическом конфликте с окружавшей
Действительностью, заставляет назвать последний этап его творче-
5Т
ства не периодом холодной и абстрактной фантастики, а романти-
ческим периодом неостывшей и в иных формах продолжавшейся
борьбы.
В «Цимбелине» (Cymbeline), открывающем третий и последний
период творчества Шекспира, в образе Имогены воскресают черты
величайших героинь шекспировских трагедий. Мы узнаем в ней
и Дездемону и отчасти Джульетту. Как и Дездемону, ее можно
назвать «прекрасным воином», бесстрашно идущим «на штурм
своей судьбы». Она не сдается перед горем. Внутреннее благород-
ство ее в конце концов побеждает злую судьбу, — тема, к которой
Шекспир вернулся в «Зимней сказке». Мрачные образы коварной
королевы и тупоумного грубого Клотина предвосхищают ведьму
Сикоракс и Калибана из «Бури». Самовлюбленный щеголь Яхимо
своей гнусной клеветой отчасти напоминает Яго, как простодуш-
ный Постум своей доверчивостью напоминает Отелло. Гвидерий
и Арвираг, выросшие среди диких скал и побеждающие состоящее
из знатных патрициев войско римлян, близки к героям народных
легенд.
Шекспироведами не раз высказывалось мнение, что две по-
следние пьесы Шекспира — «Зимняя сказка» и «Буря» — от-
мечены налетом разочарования, отказом от жизни и уходом в
фантастику. Однако такая характеристика во всяком случае не
касается внутренней сущности этих произведений. Правда, в них
больше отвлеченного аллегоризма, чем в прежних. В них больше
и парадной праздничности. За этой пышной внешностью скры-
вается, однако, все та же страстная мечта великого гума-
ниста.
Сюжет «Зимней сказки» (A Winter's Tale) заимствован из но-
веллы Роберта Грина. Действие происходит в фантастической стра-
не. Точно так же и «Буря» разыгрывается на каком-то диком ост-
рове среди моря: в «романтическом Нигде», как верно определил
один комментатор.
Заглавие «Зимняя сказка» напоминает те беседы у пылающего
камина, которыми в шекспировской Англии любили коротать
длинные зимние вечера. «Зиме подходит печальная сказка», —
говорит Мамилий. Гермиона—жертва безрассудной ревности.
Но вот на сцене появляется аллегорическая фигура Времени. Как
указывают комментаторы, выход Времени делит пьесу на две ча-
сти: первая полна трагических событий, вторая — музыки и ли-
ризма. Наступит час, — таков лейтмотив «Зимней сказки»,—
и мечта превратится в действительность. Оживление статуи Гер-
мионы — вершина этой радостной трагедии, сценический момент,
не раз производивший потрясающее впечатление на зрителей.
Леонт, этот своевольный избалованный аристократ, начинает
ревновать беспричинно: рядом с ним нет ни Яго, ни даже Яхимо.
Причиной его ревности является тот деспотизм,, который воспи-
тала в нем лесть окружающих. Дальнейший путь Леонта —
освобождение от эгоистичных страстей. В конце трагедии он пре-
клоняется перед Гермионой, носительницей гуманистических идеа-
58
лов Шекспира. На ряду с темой Гермионы и Леонта тема Флори-
зеля и Пердиты составляет основное содержание пьесы. Это —
тема торжества молодого поколения, которое смело идет к сча-
стью; ему не грозят внутренние конфликты, омрачившие жизнь
старшего поколения. Вместе с тем любовь пастушки Пердиты и
принца Флоризеля говорит об узаконенном самой природой ра-
венстве людей. «То же солнце, которое освещает дворец, не скры-
вает своего лица и от нашей хижины», — говорит Пердита.
Пророчество о победе человека над природой составляет основ-
ную тему «Бури» (The Tempest), этой утопии Шекспира. «Буря»
в абстрактно-аллегорической форме, внешне напоминающей наряд-
ную «маску», как бы подводит итог основной гуманистической
теме творчества Шекспира и в этом отношении является одним из
самых замечательных произведений великого драматурга. Про-
сперо (to prosper — преуспевать, процветать) олицетворяет про-
цветающее человечество, благодаря мудрости которого молодому
поколению, Миранде и Фердинанду, открыт путь к счастью, тогда
как Ромео и Джульетта заплатили жизнью за одну попытку всту-
пить в него. В образе четвероногого Калибана Просперо побеж-
дает темные, хаотические силы природы, а в лице духа стихий
Ариэля — мощью своего знания заставляет служить себе те силы
природы, которые полезны человеку. Победить природу — зна-
чит познать судьбу. И Просперо свободно читает в книге гряду-
щего.
«Буря» — гимн человечеству и ожидающему его счастью. «Как
прекрасно человечество! — восклицает Миранда. — О, великолеп-
ный новый мир, в котором живут такие люди!» Об обильных пло-
дах земли, о полных жатвы амбарах, о тучных виноградниках, об
исчезновении недостатка и нужды поет Церера.
Если для раннего периода творчества Шекспира особенно ти-
пичны солнечные краски комедий; если затем великий драматург
переживает грозные конфликты трагедий, то «Буря» выносит нас
на светлый берег. В чем же, однако, заключается это просветление?
В «примирении» ли с жизнью, в «принятии зла, как факта», как
нередко толковали шекспироведы? Но Просперо не примиряется
с Калибаном: он побеждает его и заставляет служить себе. Свет-
лое начало в человеке побеждает начало звериное. В уходе ли
от жизни? Но Просперо не остается на острове, он возвращается
к.людям. Однако это уже не прежний Просперо. Это —прошед-
ший через «бурю» и умудренный опытом человек. В «Буре» Шек-
спир не возвращается к «первоначальной гармонии», но преодоле-
вает трагическое ощущение жизненных противоречий силой веры
в грядущую судьбу человечества и торжество молодого поколе-
ния.
Последняя пьеса Шекспира завершается предсказанием Прос-
перо о спокойных морях и благоприятном ветре. Так радостным
предсказанием о грядущих судьбах человечества завершается
творчество Шекспира.
59
б
Шекспир создал грандиозную галлерею живых характеров.
Каждый из них — законченное целое. Какой-нибудь капитан,
которого Эдмунд посылает казнить Лира и Корделию и который
произносит всего несколько слов, «отпускает» грубую шутку» —
и перед нами сразу же возникает типичный образ «фальстафов-
ского фона», родственник Нима и Пистоля. У Шекспира нет «вто-
ростепенных» персонажей. Каждый из них занимает свое место
в композиции целого.
Нас поражает разнообразие галлереи шекспировских образов.
Здесь и веселый промотавшийся рыцарь, сэр Джон Фальстаф,
и негодующий и скорбный Гамлет, и залитый кровью Ричард III,
и прозревший Лир, и мудрый Просперо, и героические женщины—
Джульетта, Дездемона, Корделия, Имогена, и шуты, носители
народной мудрости, умные и проницательные наблюдатели жиз-
ни — Оселок из «Как вам это понравится» и шут из «Короля
Лира». Образы эти проходят перед нами в стремительном потоке
действия. Как говорит один из старых комментаторов, «из этого
рога изобилия сыплются дорогие садовые и скромные полевые
цветы, ядовитые и целебные травы». Вслед за рассказом Гер-
труды о гибели Офелии и выспренним монологом Лаэрта тотчас же
(в дни Шекспира «Гамлет» не был разделен на пять актов и, сле-
довательно, здесь не было антракта) выходят могильщики с ло-
патами и, перекидываясь шутками, роют Офелии могилу. Рядом
с мудрецом Просперо живет получеловек-полузверь Калибан.
Важные исторические события, описанные в «хрониках», переме-
жаются с пестрыми бытовыми картинами. Как говорит фра Ло-
ренцо в «Ромео и Джульетте», «чрево земли порождает различных
детей». «Шекспир, которому было дано наиболее глубоко загля-
нуть в природу, выразил все действие красоты в двух словах —
бесконечное многообразие», — писал английский художник Го-
гарт.
Действующие лица произведений Шекспира — не марионетки,
за которыми чувствуется управляющая рука автора. Маркс в
письме к Лассалю, критикуя его историческую драму «Франц
фон Зикинген» и отмечая отсутствие в ней широкого народного
фона, советовал Лассалю «в большей степени текспиризироватьъ г.
При этом главным недостатком драматургии Лассаля Маркс счи-
тал то, что тот писал «по-шиллеровски, превращая индивидуумы
в простые рупоры духа времени» 2.
Не являясь «рупорами», созданные Шекспиром лица говорят
и действуют как бы самостоятельно, от себя. Когда, например,
Макбет в конце трагедии сравнивает человеческую жизнь с мимо-
летным выходом плохого актера, эти слова не являются песси-
мистической исповедью самого Шекспира. Их говорит не Шекспир,
!Маркси Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 252.
2 Там же.
60
а Макбет, для которого при данных обстоятельствах типично так
чувствовать и говорить именно эти слова, — Макбет, достигший
крайнего предела внутренней опустошенности.
«Лица, созданные Шекспиром, не суть, как у Мольера, типы
такой-то страсти, такого-то порока, но существа живые, исполнен-
ные многих страстей, многих пороков; обстоятельства развивают
перед зрителем их разнообразные и многосторонние характеры», —
отметил Пушкин.
Когда Джульетта узнает от кормилицы, что Ромео убил ее
родственника Тибальта, ее охватывает гнев, и в этом гневе, в про-
клятиях, обращенных к Ромео, слышится голос кровной мести.
В ней, в «чистой Джульетте», как назвал ее современник, есть ча-
стица «огненного Тибальта». Возвышенный строй мыслей и чувств
Джульетты не исключает того, что она — дочь своего века и своей
среды, дочь Капулетти.
Шекспировские образы изменяются, эволюционируют в ходе
действия. Джульетта на наших глазах вырастает из девочки в
героиню. Слушая болтливого, шутливо настроенного Глостера
в начале трагедии «Король Лир» (разговор Глостера с Кентом),
трудно представить себе, что у этого весельчака вырвут глаза, и
что кровавыми своими впадинами он увидит ту истину, которая
теперь для него сокрыта. «Бедный Том из Бедлама», полуголый и
страшный на вид, выходит на поединок, закованный в рыцарские
латы. Он побеждает коварного врага. И этот новый Эдгар теперь—
герой, правитель королевства. Он, конечно, гораздо выше, силь-
нее и значительнее того достаточно безличного Эдгара, которого
мы видели в начале трагедии. Образ прошел путь сложного и
противоречивого развития.
Диалектическое развитие образа отличает Шекспира даже от
наиболее выдающихся его предшественников, ,— например, от
Марло и Кида, образы которых, при всей их ярости, чаще всего
остаются статичными от начала до конца пьесы. При создании
образа Шекспир часто противопоставляет «одежду» «природе».
В черной груди Отелло, человека, по замыслу Шекспира, не-
красивого, бьется чистое и благородное сердце; под приветливой
внешностью «честного» Яго таится подлое предательство. Шекспир
беспощадно срывает «одежды», как бы обнажая перед нами по-
длинную природу человека.
Комические ситуации у Шекспира не менее остры и прямо-
линейны, чем, например, ситуации старинного народного фарса;
его трагические ситуации не уступают «трагедиям грома и крови».
Но эти острые положения неразрывно связаны с характерами
действующих лиц. В отличие от «двухмерных» масок фарса или
марионеток «трагедий грома и крови» действующие лица Шекспира
Живут не только в настоящем, но имеют и прошлое: они «пер-
спективны». Не случайно Отелло рассказывает о своей жизни
в знаменитом монологе в сенате; не случайно из отдельных намеков
Яго перед нами возникают некоторые черты биографии этого бы-
валого авантюриста.
61
Часто Шекспиру, как и его предшественникам, людям эпохи
Возрождения, основные качества человека казались врожденны-
ми свойствами: Ричард III «родился с зубами». Озрик уже в пе-
ленках «кривлялся перед грудью матери», как говорит о нем Гам-
лет. Но вместе с тем, великий реалист глубоко почувствовал зна-
чение внешних влияний на внутренний склад человека. Универ-
ситет и университетские вольнодумные кружки, где читали «Уто-
пию» Мора и «Похвалу глупости» Эразма и где воспитались такие
люди, как Марло, несомненно сыграли огромную роль в жизни
Гамлета. В мрачности Шейлока мы чувствуем следы гонений. Мы
знаем, что деспотизм Лира, как и подозрительность Леонта («Зим-
няя сказка»), не природный изъян, а испорченность, порожденная
нездоровой атмосферой лести, с одной стороны, своеволия — с дру-
гой. Иначе невозможно было бы выздоровление ни Лира, ни
Леонта.
Сила злого влияния, конкретизированного в образе «макиа-
веллиста», находит свое наиболеезаконченное выражение в «Отел-
ло». Трагический поступок «благородного мавра»—действие то-
го яда, который Яго капля за каплей «вливал ему в ухо».
Воздействие на человека внешних сил — будь то влияние дру-
гих людей, столкновение с окружающей средой или случайное
стечение событий — суммировалось для Шекспира в общем по-
нятии «судьба» (fate). В этом смысле Яго является злой судь-
бой Отелло. В' своих пьесах Шекспир не раз рисовал победу
человека над судьбой. Самоотверженность Виолы из «Двена-
дцатой ночи», как и предприимчивость Елены из «Конец—делу
венец», преодолевает все преграды. Люди—кузнецы своего счастья,
этот мотив не раз звучит у Шекспира. Но еще в «Ромео и Джульет-
те» обреченная чета молодых влюбленных падает жертвой злой
судьбы. Неотвратимыми становятся «пращи и стрелы яростной
судьбы» в трагедиях второго периода. Вступивший с ней в бой
героический Гамлет гибнет от этих отравленных стрел. И лишь в
своей последней пьесе «Буря», этой мечте о будущем человечества,
Шекспир в лице Просперо рисует мудреца-гуманиста, постигшего
судьбу и овладевшего ею.
Легкая победа над судьбой, тяжкая и неравная борьба с нею и,
наконец, полное торжество над ней, — эти три этапа нашли наи-
более яркое выражение в ранних комедиях, в трагедиях второго
периода и в «Буре».
Точно так же менялось и отношение Шекспира к природе. Из-
гнанники легко претерпевали все невзгоды в Арденском лесу («Как
вам это понравится»), и девственная природа дарила им душевно »
спокойствие и счастье. В трагедиях второго периода бушующая
природа обращается к человек своим страшным лицом. Стоящий
перед такой природой беспомощный человек-—«голое двуногое
животное». Хищный «макиавеллист» Эдмунд взывает к этой при-
роде, как к своей «богине».
В пьесах последнего периода проходит мысль о том, что человек
может и должен овладеть природой. Пастушка. Пердита («Зимняя
62
сказка») не любит садовых цветов, улучшенных человеком, пред-
почитая им девственные полевые цветы. Поликсен возражает ей.
«Это искусство (art), — говорит он, — исправляет природу, вер!
ней, изменяет ее, но само искусство — природа». Здесь слово art
употреблено в значении знание, наука; взятая в этом аспекте, вьь
сказанная Поликсеном мысль сближает Шекспира с Бэконом. Но
art значит и искусство; в словах Поликсена скрыта декларация
Шекспира об искусстве, которое, будучи «зеркалом природы»
(«Гамлет»), является и творческой силой, изменяющей мир. Вместе
с тем, корни искусства материалистичны: «само искусство — при-
рода». Такой взгляд на искусство прямо противоположен тому
пассивному, созерцательному «объективизму», который так усердно
старались навязать Шекспиру некоторые даже наиболее выдающие-
ся его комментаторы.
С подмостков «Глобуса» Шекспир произносил горячую речь о
природном равенстве людей, о том, что одно солнце светит над
дворцом вельможи и над хижиной бедняка, над черным Отелло и
белой Дездемоной. Он говорил о ценности больших и цельных чувств,
незримо присутствовал на сцене, восхищался Джульеттой,
Гамлетом, Дездемоной и столь же страстно ненавидел предателей,
подобных Розенкранцу и Гильденстерну, и коварных хищников,
подобных Яго. В «Ромео и Джульетте» он осуждал феодальную
распрю двух враждующих родов. В «Тимоне Афинском» громко
i-звучало его проклятие золоту, худшему из ядов, царящему над
Миром и растлевающему человечество. Если всем существом своего
творчества Шекспир восставал против идеологии, созданной веками
феодализма, то и в развивавшихся капиталистических отношениях
он не нашел места своим гуманистическим идеалам.
.'■ Творчество Шекспира, как и величайших его предшественни-
ков, Марло и Кида, стало возможным благодаря распаду оков ты-
сячелетнего обязательного средневекового мышления, закрывав-
шего человеку глаза на мир живой действительности. Все трое —
Марло, Кид, Шекспир—были выходцами из среды мелких
горожан, в ту эпоху тесно сливавшейся с широкими массами на-
рода. Все трое восприняли покровительствуемую просвещенным
новым дворянством культуру Ренессанса, но отдали свое искус-
ство народному зрителю «театров для широкой публики».
Величие искусства и глубина гуманизма Шекспира опреде-
ляются их народностью. В 1604 г. Скалигер писал о том, что «тра-
гедии Шекспира понятны стихии простонародья». Во втором со-
брании шекспировских пьес («Втором фолио» — 1632) неизвест-
ный автор так охарактеризовал Шекспира: «Плебейское дитя с
высокого трона создает целый мир и правит им, незримо влияя на
человечество». Именно потому, что шекспировский гуманизм ухо-
дит корнями в народную почву, «принадлежит не веку он — всем
временам», — как писал о Шекспире Бен Джонсон.
От своих предшественников Шекспир унаследовал, — и, уна-
следовав, развил, — форму драматического действия, представ-
ляющую собой причудливую смесь разнородных элементов; «воз-
&л
вышенного и низменного, ужасного и смешного, героического и
шутовского».
От них же шекспировская драма унаследовала и множест-
венность места действия, прямо противоположную классичес-
кому единству. В пьесах Шекспира, как и других драматургов
«театров для широкой публики» того времени, действие легко
переносилось с места на место. Показывались события, продол-
жающиеся целые недели, месяцы, а то и годы (как, например,
в «Зимней сказке»). В одной пьесе параллельно развивалось
два или даже несколько сюжетов. Вспомним «Короля Лира»
с двумя параллельными сюжетными линиями —Лира и Глостера.
Характерно, что Тейт, переделывавший Шекспира в конце
XVII века согласно канону классицизма, постарался свести
эти две сюжетные линии к единству. С этой целью он заставил
Эдгара и Корделию влюбиться друг в друга и даже поженил
их в конце пьесы.
Космополитическая культура Ренессанса уводила действие
далеко за пределы Англии, — в древний Рим или Грецию, в
Италию, Францию и другие страны. Не случайно, быть может,
родилось и само название театра «Глобус» — в более точном
переводе «Земной шар».
Вольность в перенесении места действия требовала от писа-
теля фантазии. Шекспир был художником эпохи Возрождения,
не только открывшего человеку глаза на мир живой действи-
тельности, но и разбудившего в нем силу воображения.
Огромное влияние на фантазию Шекспира оказали такие,
по существу чуждые ему, писатели, как Эдмунд Спенсер и
Филипп Сидней. Шекспир всегда говорил о своей современности,
но в каждом отдельном произведении он выделял определен-
ную сторону этой современности и силой воображения находил
для этой стороны внутренне гармонирующий фон. Воспевая
пламенную любовь двух молодых людей своего времени, он
представил себе жаркий климат Италии, звездное небо, плата-
новую рощу, цветущее гранатовое дерево. «Лебединая песня»
Ренессанса, «Антоний и Клеопатра», прозвучала на фоне
эллинизированного Египта. Шекспир стремился передать жесто-
кость своего века, его суровость, и перед ним возникли очер-
тания замка в Эльсиноре, холодное северное небо с блещущей
на нем Полярной звездой. Фон шекспировского произведения
вытекает, таким образом, из внутренней сущности произведения.
Он неотделим от действующего лица и как бы является его
продолжением. Шекспировское «оформление» основано прежде
всего на принципе параллелизма: буря бушует не только
в степи, но и в самом Лире.
В перенесении образов действительности в отдаленные эпохи
и страны играл, конечно, роль и другой, более прозаический,
фактор. У Фрэнсиса Бэкона в «Истории царствования короля
Генриха VII» мы находим весьма интересное свидетельство об
этом. Рассказывая о том, как Саймонд, подготовляя заговор
64
с целью посадить на английский престол самозванца, решил начать
борьбу не в Англии, а за ее пределами, ь Ирландии, Бэкон
замечает: «Боясь, что дело будет доступно для любопытных
глаз со слишком близкого расстояния и что легко будет распо-
знать устроенное им переодевание, если он начнет это переоде-
вание в Англии,—он решил, по обычаю театральных пьес
и масок, показать его издалека». Театру приходилось опасаться
«слишком близкого расстояния». «Переодевание» бывало про-
диктовано цензурными соображениями.
Но где бы ни происходило в пьесах Шекспира действие,
сами лица и отношения между ними принадлежат английской
действительности.
Чем больше мы изучаем Шекспира, тем лучше узнаем его
эпоху и тем яснее становятся для нас его произведения.
В отношении языка Шекспир широко использовал произве-
дения своих предшественников, включая и Спенсера, и англий-
ских петраркистов, и даже таких эвфуистических писателей
как Лили и Филипп Сидней. С другой стороны, источником, из
которого черпал Шекспир, была народная литература. «Его
произведения,—замечает профессорВальтерРолей, один из выдаю-
щихся знатоков Шекспира,—исключительно богаты фрагмен-
тами народной литературы — как бы осколками целого мира
Народных песен, баллад, повестей и пословиц. В этом отношении он
;||кделяется даже среди своих современников». Можно смело
Ёказать, что Шекспир был так же хорэшо знаком с английской
ралладой своего времени, как Роберт Берне с песнями
|Иотландии.
> Но особенно важно помнить то обстоятельство, что Шекспир ши-
роко распахнул двери перед живой речью своей эпохи. Его язык
йасыщен идиомами этой речи,—идиомами, которые сплошь и рядом
Нелегко отличить от изощренных и даже искусственных оборотов.
Это не значит, что Шекспир не отдал дани вычурным эвфуизмам.
Но не в эвфуизмах, конечно, своеобразие шекспировского стиля.
Широко использовав живую речь своего времени, Шекспир ввел
большое количество слов в обиход английского литературного
языка. В Большом Оксфордском словаре чаще других писателей
встречается имя Шекспира в связи с первым случаем употребления
в литературе того или иного слова.
Язык Шекспира чрезвычайно образен. «Каждое слово у него
картина»,—заметил английский поэт XVIII века Томас Грей.
Метафоры Шекспира отражают, прежде всего, окружавшую его
Действительность. «Обычаи, манеры приветствий, особенности
одежды, спорт и игры, музыка, мебель, искусства и ремесла,
военные доспехи, законы, жизнь школы — все это находит
отражение в языке Шекспира», — писал английский шекспиро-
вед Дауден.
Образы и сравнения, заимствованные, например, из античной
Мифологии, а также вообще «книжные» образы и сравнения зани-
мают у Шекспира относительно скромное место. Большинство мифо-
Англ. литература 65
логических образов принадлежит более ранним произведениям
Шекспира. Самые яркие метафоры Шекспира отражают жизнь
его эпохи. Когда, например, о Беатриче в «Много шума из ничего»
говорят, что «Надменность и Презрение скачут, сверкая, в ее
глазах», — перед нами встает картина из жизни того времени: свер-
кающая золотым шитьем и драгоценными каменьями кавалькада
знатных кавалеров и дам, надменных и презрительных. В своих
метафорах Шекспир, говоря словами Гамлета, «держал зеркало
перед природой».
Основной стихотворной формой шекспировских пьес является
белый стих (нерифмованный пятистопный ямб), которому
Шекспир, по сравнению со своими предшественниками, придал
огромное ритмическое богатство и гибкость. Белый стих переме-
жается с рифмованными строками (количество которых в творчестве
Шекспира по мере его развития постепенно убывает) и с прозой.
Как в прозе, так и в стихах, Шекспир индивидуализирует речь
своих действующих лиц. Осуществлял он это не столько тем, что
подбирал для каждого лица специфическую лексику, сколько через
специфическую для каждого лица речевую интонацию и гамму обра-
зов. Так, для Отелло характерны певучесть речи и поэтичность
образов (кожа Дездемоны белее алебастра надгробных памятни-
ков; жизнь — огонь Прометея или цветущая роза; слезы — мирра
аравийских деревьев), для Яго — отрывистый, корявый ритм
речи и грубые сравнения (глупые галки клюют слишком доверчи-
вое сердце; счастье—плодородный климат; неприятности—мухи;
тело человеческое — огород, в котором растут и крапива, и салат-
латук). Еще в XVIII веке Поп заметил, что если бы даже не было
указаний на действующих лиц в шекспировском тексте, мы бы
всегда узнали, кому принадлежит реплика. Индивидуализация
речи вела к внутреннему богатству,- разнообразию шекспировского
стиля. Этот стиль можно сравнить с оркестром, в котором звучат
и нежные лирические скрипки (недаром Бен Джонсон назвал Шек-
спира «нежным лебедем Эвона») и героические трубы, напоминаю-
щие «мощный стих» Марло, и веселые гнусавые фаготы комических
персонажей.
7
«Ученые» современники, тяготевшие к классицизму, отнеслись
в Шекспиру не без осуждения. Творчество его казалось им бес-
форменным, хаотическим. В 1619 г. в беседе с Дрэммондом Бен
Джонсон заметил, что «Шекспиру нехватало искусства». «Его ра-
зум был в его собственной власти, и было бы хорошо, если бы он
мог им управлять», — писал Бен Джонсон в своих «Открытиях»
Шекспир не умещался в тех рамках, которые Бен Джонсон требо-
вал для искусства. Драматург Бомонт даже дивился тому, как
«далеко может уйти человек при тусклом свете природы» Фуллер
сравнивал Шекспира с корнвалийским бриллиантом, свер-
кающим собственным блеском, но неотшлифованным.
66
Мода на таких драматургов, как Бомонти Флетчер, затмила ту
популярность, которую произведения Шекспира завоевали при
его жизни. Возрожденное при дворе Карла I увлечение Шекспиром
объяснялось прежде всего протестом против перешедшей в наступ-
ление идеологии пуританства и тяготением «кавалеров» к пышному
искусству Ренессанса. Здесь Шекспир, таким образом, восприни-
мался под углом зрения аристократического гедонизма.
Буржуазная пуританская революция, уничтожившая «театры
для широкой публики», на время похоронила Шекспира. Воскре-
сила его эпоха Реставрации, приспособив, однако, к воззрениям
и вкусам аристократической знати. От «театров для широкой пуб-
лики», вроде «Глобуса», теперь не осталось и следа. Это было время
первых переделок Шекспира. Среди этих многочисленных переде-
лок отметим уже упомянутого нами «Короля Лира» Тейта (1681).
Тейт выбросил шута, как фигуру вульгарную, и увенчал пьесу счаст-
ливым концом. В своем предисловии он сравнивает шекспировский
подлинник с грудой неотшлифованных драгоценных камней, ко-
торые ему удалось расположить в порядке. Переделка Тейта,
в которой, как заметил еще Аддисон в своем «Зрителе»(1711 ),«от под-
линника осталась лишь половина», держалась на английской сцене
до 30-х годов XIX века. В этой переделке выступали в роли Лира
такие актеры, как Гаррик и Джон-Филипп Кембль.
Весьма характерна та позиция, которую занимал в отношении
Шекспира Драйден. С одной стороны, он высоко ценил его гений;
с другой стороны, Шекспир был для Драйдена сыном «варвар-
ского» века. Такое же двойственное отношение к Шек-
спиру типично и для английских просветителей XVIИ века, в той
или иной степени затронутых влиянием эстетики классицизма.
Это не помешало некоторым из них, — например, Александру Попу
и Сэмюэлю Джонсону, — быть выдающимися комментаторами
Шекспира.
XVIII век—время рождения шекспироведения в Англии. Еще
знаменитый трагик Беттертон ездил в Стратфорд, чтобы собирать
сведения о Шекспире. С его слов Роу написал первую биографию
Шекспира (1709). XVIII век насчитывает целую плеяду крупней-
ших комментаторов и текстологов Шекспира в Англии, начиная от
«отца шекспироведения» Теобальда и кончая такими корифеями,
как Стивене (George Steevens, 1736—1800) и Мэлон (Edmund Ma-
lone, 1741—1812). В течение почти всего столетия Шекспир
не сходил с репертуара английских театров. Уже в 1710 г. лорд
Шефтсбери назвал «Гамлета» излюбленной пьесой английского
театра. В деле популяризации Шекспира в Англии особенно
велика была заслуга знаменитого актера Давида Гаррика
(1717—1779). В течение XVIII века Шекспир завоевал у себя
на родине признание великого или даже величайшего писателя.
В это столетие произведения Шекспира стали проникать
и в Другие страны. Немецкий писатель Виланд в своем фило-
софском романе «Агатон» восхваляет у Шекспира смешение раз-
нородных элементов, т. е. как раз то самое, за что так жестоко
5* 67
критиковали Шекспира представители классицизма. «Шекспира,—
пишет Виланд,—того единственного из всех поэтов со времен Го-
мера, который отлично знал людей от короля до нищего, от Юлия
Цезаря до Джека Фальстафа... порицают за то, что в его пьесах
нет никакого плана... что комическое и трагическое у него пере-
мешано самым странным образом... не сообразив того, что именно
в этом отношении его пьесы и представляют собою верную карти-
ну человеческой жизни». Эти слова сочувственно цитировал в «Гам-
бургской драматургии» Лессинг, для которого Шекспир, а не пред-
ставители французского классицизма, был подлинным продолжате-
лем поэтического реализма древнегреческих трагиков.
Одним из первых, глубоко заглянувших в природу шекспиров-
ского творчества, был Гёте. «Я не помню, чтобы какая-нибудь
книга или какое-нибудь событие моей жизни произвели на меня
такое неотразимое впечатление, как драмы Шекспира... Это не
поэтические произведения. Читая их, с ужасом видишь перед
собой книгу человеческих судеб и слышишь, как бурный вихрь
жизни с шумом переворачивает ее листы... Произведения его по-
хожи на часы из чистого кристалла, так что в одно время видишь
и ход времени, и весь механизм их движений. Это прозрение во
внутренний мир человека побудило и меня подойти поближе к ми-
ру действительности и самому черпать из этого неисчерпаемого
источника» («Вильгельм Мейстер»).
В течение XVIII века переводы и переделки Шекспира появи-
лись и во Франции. Особенной известностью пользовались пере-
делки Дюсиса. Вольтер, сначала содействовавший проникнове-
нию Шекспира во Францию, затем изменил свою точку зрения.
Особенно претило Вольтеру смешение разнородных элементов
у Шекспира. «Одною из особенностей английской трагедии, на-
столько отталкивающей чувство француза, что Вольтер даже на-
зывал Шекспира пьяным дикарем, является причудливая смесь
возвышенного и низкого, ужасного и смешного, героического
и шутовского» г. Отношение Вольтера к Шекспиру оказалось во
Франции весьма живучим.
Глубоких ценителей Шекспира, каким был Стендаль, в исто-
рии французской критической литературы оказалось немного.
Для Стендаля творческий метод Шекспира был залогом передо-
вого, прогрессивного искусства. Своим современникам, француз-
ским писателям, скованным, по его мнению, «славой великого Ра-
сина», Стендаль указывал на Шекспира. «То, в чем нужно подра-
жать этому великому человеку,—это способ изучения мира, в ко-
тором мы живем, и искусство давать своим современникам именно
тот жанр трагедии, который им нужен». Стендаль надеялся, что
«новая французская трагедия будет очень походить на трагедию
Шекспира» («Расин и Шекспир», 1823).
В общем же сдержанное или равнодушное отношение к Шек-
спиру оказалось типичным для французской критики. Отнюдь
1 M а р к с и Э и гель с, Соч., т. X, стр. 13.
68
не парадоксальным исключением является, например, книга Пе-
лисье («Shakespeare et la superstition Shakespearienne», 1914), стре-
мившегося разрушить «легенду о величии Шекспира». Еще в на-
шем веке некоторые пьесы Шекспира шли на французской сцене
в переделке.
В России видоизмененное отражение Шекспира впервые появи-
лось в 1748 г. в трагедии Сумарокова «Гамлет». «Шекспир, —
писал Сумароков,— английский трагик и комик, в котором и очень
худова и чрезвычайно хорошево очень много». В своей «Эпистоле
о стихотворстве» Сумароков назвал Шекспира «дворцом, достой-
ным славы», но, вместе с тем, «непросвещенным». Трагедия Сума-
рокова имеет очень мало общего с шекспировской. Достаточно
сказать, что она заканчивается счастливо: торжеством Гамлета,
который женится на Офелии. В 1772 г. в журнале «Вечера» был
напечатан последний монолог Ромео (вероятно, перевод Сушковой).
В 1783 г. в Нижнем-Новгороде неизвестным переводчиком был пе-
реведен в прозе с французского «Ричард III». В 1787 г. появился
«Юлий Цезарь» в переводе Карамзина. Однако дальнейшее про-
никновение Шекспира в Россию происходило не в переводах, но
в переделках, причем особенно сильным оказалось влияние переде-
лок Дюсиса, по стопам которого шли и Вельяминов («Отелло»)
и Гнедич(«Леар»)и Висковатов, в пьесе которого (1810) монарх Гам-
лет ведет борьбу с заговорщиком Клавдием и в последнем акте
пронзает его мечом, говоря: «Небесный суд свершился!».
Первый, сделанный Вронченко, перевод «Гамлета» на русский
язык появился только в 1828 г. В этом же году «Московский Вест-
ник» обрушился статьей на «переделки Дюсиса-и русских его
подражателей» и вообще на «деспотический классицизм», переделы-
вавший «дерзновенного Шекспира», которого автор статьи срав-
нил с «новым Прометеем».
Но подлинное проникновение Шекспира в Россию начинается
лишь с исполнения Гамлета «безумным другом Шекспира», великим
актером Мочаловым, так восхитившим своею игрою Белинского
(знаменитая статья Белинского «Мочалов в роли Гамлета»).
В 30-х годах текст Шекспира одерживает решительную победу над
искажавшими его переделками. С 1841 г. начинают выходшь пе-
реводы Шекспира, принадлежащие перу Н. Кетчера. К 1850 г.
в его переводе вышло пятнадцать пьес. В следующем издании
(1862—1879) Кетчер дал полное собрание драматических сочинений
Шекспира в русском переводе. Однако Кетчер переводил Шекспи-
ра целиком в прозе, и перевод его, поэтому, не может быть назван
в полном смысле слова художественным переводом. Первое пол-
ное собрание художественных переводов Шекспира было из-
дано Н. А. Некрасовым и Н. В. Гербелем в 1865—1868 гг. («Пол-
ное собрание драматических произведений Шекспира в переводе
русских писателей»).
XIX век стал эпохой многостороннего развития шекспирове-
дения. К лучшим страницам шекспировской критики этого столе-
тия принадлежат высказывания о Шекспире многих величайших.
69*
русских писателей и мыслителей — Пушкина, Белинского, Доб-
ролюбова и др. Если собрать воедино высказывания Пушкина
о Шекспире, их можно было бы назвать «золотой книгой» шек-
спироведения. Слова Пушкина о народных законах шекспировской
драматургии, о многосторонности созданных Шекспиром образов
и многие отдельные его замечания являются путеводными вехами
в работе советского шекспироведения.
За последние годы высказывания о Шекспире классиков рус-
ской литературы и критики все чаще переводятся на английский
языки несомненно начали оказывать свое влияние на мировую шек-
спироведческую мысль. В комментировании и изучении текстов,
приведшем к сличению заново первоисточников и пересмотру «ка-
нонического» текста в отдельных его деталях (так называемый «Но-
вый Шекспир», издаваемый Кембриджским университетом),
а также в исследовании отношения творчества Шекспира к творче-
ству современных ему писателей английскими и американскими
шекспироведами за последнее время проделана большая работа.
Но нигде еще идейная сторона шекспировского творчества,— гу-
манизм и народность Шекспира, — не воспринималась так широко
и всесторонне, как в Советском Союзе. Ход развития шекспиро-
ведческой мысли в Советском Союзе нашел, между прочим, свое
отражение в шекспировских конференциях, которые созываются
ежегодно. Пять таких конференций (начиная с 1939 г.) состоялось
в Москве, шестая шекспировская конференция происходила в сто-
лице Советской Армении—Ереване. Шекспировские конференции
созывались и на периферии (например, в Куйбышеве и Ярославле
в 1939 г., в Свердловске в 1941 г.). Кроме того, многочисленные
шекспировские сессии проводятся отдельными научно-исследова-
тельскими институтами и вузами. Шекспировские конференции
нередко сопровождаются шекспировскими театральными фести-
валями (например, конференция в Ереване в 1944 г.).
«Положительной стороной театральных шекспировских поста-
новок XX века, — пишет известный английский шекспировед
Довер Вильсон в своей книге «Судьба Фальстафа», — яв-
ляется то, что актеры стали обращаться за помощью к ученым
и что ученые, со своей стороны, стали все чаще учиться у актеров».
Эти слова прежде всего применимы к нашей стране. У нас почти не
встречается театральных шекспировских постановок, осуществлен-
ных без помощи консультанта-шекспироведа. С другой стороны,
наш театр, стремящийся с особенной интенсивностью не только
к художественному*воплощению, но и к идейному раскрытию дра-
матических произведений, стал неотъемлемой частью советского
шекспироведения. Исполнение роли Отелло А. А. Остужевым
и А. А. Хоравой, роли Лира—С. М. Михоэлсом, роли Гамлета —
А. В. ПоляковымиВагаршем Вагаршяном; постановки «Укрощения
строптивой» А. Д. Поповым и Ю. А. Завадским; постановка коме-
дии «Как вам это понравится» М. И. Кнебель и Н. П. Хмелевым, —
все это факты не только художественного, но и познавательного
«шекспироведческого» значения.
70
I Шекспир стал одним из любимых писателей многомиллионного
^советского читателя и зрителя. Достаточно сказать, что за время
f Советской власти отдельные его произведения переведены на два-
дцать четыре языка народов Советского Союза. За двадцать лет
< 1919—1939) вышло из печати свыше 1 200 000 экземпляров изда-
ний шекспировских пьес. Впервые в истории нашей книги вышло
в СССР на английском языке собрание сочинений Шекспира, а так-
же было издано несколько его пьес на английском языке с подроб-
ным словарем и комментарием. Многие из лучших поэтов-перевод-
чиков нашей страны работали и работают над переводами Шекспира.
Так, например, Шекспира переводили на русский язык за
'время Советской власти такие мастера художественного слова, как
тТ. Л. Щепкина-Куперник (перевела тринадцать пьес Шек-
спира), Б. Пастернак («Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний
?и Клеопатра»), М. Лозинский («Двенадцатая ночь», «Гамлет»).
Шесенки шуга из «Короля Лира» и несколько сонетов Шекспира
^блестяще переведены С. Я. Маршаком. Мы упоминаем лишь
о лучших достижениях наших переводчиков в работе над Шекспиром.
♦ ■ События Великой Отечественной войны заставили еще полнее
оценить творчество Шекспира, не как пассивного созерцателя жиз-
ни, но как активного и страстного борца за идеалы гуманизма.
*
г Глава 2
БЕН ДЖОНСОН
1
(^Творчество крупнейшего из современников Шекспира Бена
Джонсона отличается от основного направления драматургии
английского Ренессанса. Оно завершает золотой век елизаветин-
ской драматургии н
Ни о ком из драматургов елизаветинской эпохи мы не имеем
столь подробных сведений, как о Бене Джонсоне, ибо никто из
них не вызывал такой вражды и любви к себе, как этот грузный,
атлетический человек, обладавший огромной, даже в тот век уче-
ности, эрудицией, упрямо отстаивавший свои воззрения на литера-
туру и искусство.
Бен Джонсон любил поговорить о себе с друзьями и поклонни-
ками. Он любил и откровенные дружеские беседы, и ожесточенные
литературные споры в знаменитой таверне «Русалка». Он своевре-
менно позаботился о том, чтобы его творчество дошло до потомков
в исправном виде, и тем, в отличие от Шекспира, избавил будущих
текстологов от лишних хлопот.
Бенджамин, или, как называли его обычно, Бен Джонсон (Ben
Jonson, 1573 ? — 1637) происходил из шотландской семьи,
переехавшей в Англию при Генрихе VIII. Отец его, проте-
71
стант, подвергался преследованиям в царствование католички Ма-
рии Кровавой, конфисковавшей его имущество. С воцарением Ели-
заветы он стал протестантским священником. Бен Джонсон ро-
дился в Вестминстере спустя месяц после смерти своего отца. Мать
его, оставшись вдовой без всяких средств, вышла вторично замуж
за каменщика. Отчим отдал Бена в вестминстерскую школу, где
преподавал известный ученый, археолог Вильям Кэмден. Под его
руководством Бен далеко подвинулся в изучении наук и на всю
жизнь сохранил внушенную ему пылкую любовь к античным авто-
рам. Первая выдающаяся пьеса Бена Джонсона — «Всяк
в своем нраве» — посвящена Кэмдену.
Джонсону, однако, пришлось рано оставить школу, чтобы
помогать отчиму укладывать кирпичи. Но его кипучая натура не
смогла удовлетвориться этим мирным занятием, и вскоре мы видим
его во Фландрии в армии Морица Нассауского, сражавшейся про-
тив испанского владычества. Из рассказа Бена Джонсона Дрэм-
монду нам известен любопытный эпизод его солдатской жизни: Джон-
сон вызвал на единоборство одного из солдат противника, «на виду
у обеих армий убил его и снял с него вооружение как трофей».
В 1592 г. Бен Джонсон вернулся домой. У него не было ни
гроша, однако это не помешало ему жениться на «сварливой, но
честной», по его словам, женщине, которая подарила ему троих
детей. Никто из них не пережил его.
Неизвестно, когда именно Бен Джонсон поступил в театр.
Судя по издевательским намекам Деккера в «Биче сатирика»,
Джонсон вначале был актером бродячей труппы, которая разъез-
жала по провинции в фургоне. Затем, перебравшись в Лондон,
он завязал знакомство с Генсло и выступал как актер, а потом
как драматург его труппы. На первых порах Бен Джонсон глав-
ным образом исправляет и дополняет пьесы старых драматургов
и редактирует новые. По обычаю елизаветинцев, он начал с со-
трудничества с другими авторами.
Первой самостоятельной пьесой Джонсона была, повидимому, ко-
медия «Обстоятельства переменились» (The Case isAlter'd, 1597*),
написанная еще в чисто романтическом духе, хотя и по
образцу комедий Плавта. Пьеса построена на традиционной лю-
бовной интриге, но в ней есть одно нововведение — главной герои-
ней выступает нищенка. В 1598 г. Мерее уже упоминает о Бене
Джонсоне как об одном из шести писателей, наиболее выдающихся
в области трагедии.
1598 год—начало широкой литературной известности Джон-
сона и расцвета его творчества. В этом году была поставлена
с большим успехом пьеса «Всяк в своем нраве» (Every Man in His
Humour) — первая бытовая комедия Джонсона, в прологе которой
он решительно порывал с господствовавшей в театре традицией.
Этой пьесой он положил начало комедии нравов и своей знамени-
той теории «юмора».
* Звездочкой здесь и в дальнейшем отмечен год первое постановки пьесы.
72
.Не поладив с прижимистым и скаредным Генсло, Джонсон
передал свою комедию труппе лорда камергера, с которой был свя-
зан Шекспир. Как утверждает Роу, пьесу сначала отвергли,
но потом, по настоянию Шекспира, приняли к постановке. Шек-
спир участвовал в ней в качестве актера, как видно из списка ис-
полнителей, приложенного к изданию пьесы in folio.
Труппа лорда камергера конкурировала с Генсло; успех ко-
медии вызвал поэтому чрезвычайное недовольство прежних това-
рищей Джонсона, и один из лучших актеров Генсло, Габриэль
Спенсер, вызвал его на дуэль. Через четыре дня после дуэли Генсло
с прискорбием сообщил'Аллейну в письме (26 сентября 1598 г.):
«Я потерял одного актера из моей труппы, что меня глубоко огор-
чило. Габриэль убит на Хогсдэнском поле рукой Бенджамина Джон-
сона, каменщика».
Габриэль Спенсер был испытанным дуэлянтом и забиякой.
Незадолго до ссоры с писателем он успел уже убить кого-то на>
дуэли. Его шпага была на десять дюймов длиннее джонсоновской, \
и ему удалось ранить Бена в плечо. Тем не менее, Джонсону гро-
зили крупные неприятности — вплоть до виселицы. Драматурга
посадили в тюрьму, конфисковали все его имущество, но от висе-
лицы его спасли влиятельные друзья и то, что он числился в цехе
каменщиков, а каменщики пользовались привилегиями церковно-
служителей. Однако в память о суде Джонсону заклеймили
буквой «Т» (Тайбернское дерево, т. е. виселица) большой палец,
левой руки.
Так 1598 год принес ему славу крупнейшего драматурга
и клеймо висельника. В тюрьме он, кстати, перешел в католичество, I
но через двенадцать лет вернулся к отцовской вере, причем при
первом причащении по протестантскому обряду залпом выпил все
вино из церковной чаши.
Джонсон постоянно переходил из одной актерской труппы
в другую, и уже одно это вызывало недовольство. К.тому же он был
несдержан на язык и «предпочитал скорее потерять друга, чем воз-
можность сострить на его счет». Современники находили сатири-
ческие намеки и в его пьесе «Всяк в своем нраве» и в другой пьесе,
«Всяк вне своего нрава» (Every Man out of His Humour), постав-
ленной в «Глобусе» той же шекспировской труппой в 1599 г. Эта
вторая комедия Джонсона имела несравненно меньший успех.
Несмотря на яркие бытовые зарисовки, она отличалась дидактиз-
мом и чрезмерной усложненностью.
Драматург Марстон, обидевший как-то, может быть даже не-
вольно, Джонсона в своей переделке старой комедии «Бич актеров»
(Histrio-mastix, 1599*) нашел в комедии Джонсона выпады против
себя и решил мстить. Началась знаменитая «война театров»— «поэ-
томахия», по выражению Деккера, которой посвящены специальные
исследования.
В 1600 г. Джонсон написал комическую сатиру «Празднество
Цинтии» (Cynthia's Revels), поставленную Детской капеллой.
В этой пьесе он вывел Анаида и Гедона, наглых и бездарных
7а
завистников, нападающих на благородного и ученого Крита. Мар-
етон и Деккер увидели в этих сатирических образах себя, а в бла-
городном Крите портрет Джонсона. Марстон огрызнулся аноним-
ной пьесой «Празднество Джека-барабанщика» (Jack Drum's
Entertaynment, 1601 *) и вовлек Деккера в эту «войну» с тем, чтобы
объединенным фронтом выступить против Джонсона.
Узнав о замыслах своих врагов, Джонсон постарался опередить
их и нанес им сокрушительный удар. Это была комедия «Вирше-
плет» (Poetaster, or The Arraignement, 1601*), написанная спешно
за пятнадцать недель. В ней Марстон изображался в лице графо-
мана Криспина, а Деккер в лице Деметрия. Себя самого Джонсон
вывел в образе Горация. Действие происходит в Риме эпохи Авгу-
ста. Джонсон, помимо своей прямой сатирической цели, постарался
дать и правдивую картину римских нравов. Так, на сцене изобра-
жалась участь Овидия, влюбленного в дочь Августа и подвергаю-
щегося изгнанию, аристократический салон Хлои, где царит рас-
пущенность нравов, и т. д. Но все же центральное место в пьесе
заняла литературная полемика. Кульминационный пункт этой
сатиры—суд Августа, который оправдывает Горация, разбивает
обвинения, возводимые на поэта жалкими бумагомарате-
лями и виршеплетами, и присуждает обвинителей к наказанию за
клевету: Криспина-Марстона заставляют выпить рвотного, после
чего он извергает все придуманные им нелепые слова и выра-
жения.
На эту сатиру Джонсона Деккер ответил долго подготовляв-
шимся «Бичом сатирика». С помощью Марстона он ввел в свою
комедию ряд персонажей из «Виршеплета» и оправдал Криспина
.и Деметрия как добрых и правдивых людей, желающих излечить
Горация от его пороков. Суд присуждает Горацию венок из кра-
пивы. Но деккеровская пьеса уступала джонсоновской, в которой
звучало подлинное сатирическое негодование.
«Война театров» имела успех скандала и привлекала множество
народа в Детскую капеллу, где ставились комедии Джонсона, что
наносило ущерб другим театрам, в частности «Глобусу»; на это,
повидимому, жалуется Шекспир в «Гамлете» (беседа Гамле-
та с актерами, вынужденными из-за конкуренции выезжать на
гастроли). В «войне театров» Шекспир соблюдал нейтралитет,
но не слишком благожелательный по отношению к Джонсону.
Наконец, Джонсону надоели раздоры с Марстоном и Декке-
ром. Он торопился начать осуществление созревших в его голове
новых замыслов, и в «Апологетическом диалоге», снятом со сцены
после первого же представления, объявил, что бросает жанр
сатирической комедии и переходит к трагедии. «Война» окончи-
лась. Бен Джонсон уединился в поместьи своего друга лорда
д'Обиньи и стал собирать материалы для трагедии «Падение Сея-
на» из истории древнего Рима. Враги его пошли на мировую и даже
готовы были восхвалять того, кого вчера еще обливали грязью.
Сам Джонсон, при всей своей необузданной ярости в полемике
и ссорах, злопамятством не отличался.
74
Времена менялись. На трон вступил Яков I. Джонсону было
псручено почетное и ответственное дело — написать от парламента
приветствие в стихах новому королю, а также разработать про-
грамму и текст для коронационных празднеств. К этой работе он
привлек своего недавнего врага — Деккера.
В 1603 г. в театре «Глобус» с участием Шекспира была сыграна
трагедия «Падение Сеяна» (Sejanus: His Fall), которая «потерпела
от народа не меньше, чем ее герой потерпел от гнева народа рим-
ского», — как пишет Джонсон в посвящении лорду д'Обиньи.
Народ не понял ученой трагедии Джонсона, подошедшего к своей
задаче как историк-исследователь. На основании изучения Та-
цита, Светония и других авторитетов он вложил в уста героев
в ряде случаев прямые цитаты из этих источников, с величайшей
тщательностью стараясь передать все детали обычаев и обстановки
римской жизни. Недаром свою трагедию он снабдил подробными
примечаниями и ссылками на античных классиков — таких при-
мечаний, составляющих целый научный комментарий, набралось
около трехсот. Впрочем Джонсон ссылался на авторитеты не
только из научного педантизма: он стремился обезопасить себя
от «тех добровольных заплечных мастеров, которые готовы вздер-
нуть любую игру ума на дыбу». Трагедия «Сеян», в которой беспо-
щадно осуждался произвол и развращенность деспота и раболеп-
ство придворных, была удобной мишенью для нападок и доносов
таких «заплечных мастеров». И, действительно, после постановки
«Сеяна» граф Нортгемптон возбудил дело по обвинению автора
в папизме и государственной измене.
В трагедии «Сеян» Бен Джонсон стремился воскресить не толь-
ко быт эпохи цезарей, но и самую обстановку античной трагедии.
Поэтому мы встречаем там группу действующих лиц, по существу
выполняющую функцию хора. Центральное место в трагедии за-
нимают Сеян и Тиверий. Сеян вкрался в милость к императору
Тиверию и, чтобы расчистить себе путь к власти, умертвил сына
императора —Друза. Он всячески потворствовал разврату Тиве-
рия, желая превратить его в свое орудие. Но Тиверий перехитрил
Сеяна и раскрыл его замыслы.
Наиболее ярка сцена пятого акта, когда в храме Аполлона
собирается сенат, чтобы выслушать послание Тиверия. Сеян толь-
ко-что получил звание трибуна, и продажные царедворцы и се-
наторы льнут к нему в чаянии милостей и выгод. Но вот читают
письмо Тиверия. Он начинает издалека, потом переходит к Сеяну,
упоминает о его низком происхождении, о неблагоприятном мне-
нии о нем многих римлян. Постепенно враждебный Сеяну тон
усиливается, и письмо заканчивается повелением об аресте преж-
него любимца. Эта исключительная по драматизму сцена является
в то же время горьким обличением продажности, лицемерия и под-
лости людей, стоящих у власти и пресмыкающихся у подножия
трона.
Известно, что к работе над «Сеяном» Джонсон привлек соавтора:
по одним данным, Сэмюэля Шеппарда, по другим — Чапмена
75*
В 1605 г. Бен Джонсон снова вернулся к комедийному жанру
и написал, в сотрудничестве с Чапменом и Марстоном, пьесу «Эй,
к востоку» (Eastward Ное, 1605*). Постановка этой пьесы привела
к ряду крупных неприятностей: в ней увидели осмеяние шотланд-
цев, которые были в силе при шотландце Якове I. Спектакль за-
претили. Марстона и Чапмена арестовали, хотя участие их в пьесе
было довольно незначительным. Бен Джонсон добровольно отпра-
вился в тюрьму, чтобы разделить участь своих товарищей. Им гро-
зила тяжелая кара: за оскорбление величества полагалось отрезать
уши и нос.
Снова, как и во время первого тюремного заключения, на по-
мощь Джонсону пришли влиятельные друзья. На пирушке в честь
освобождения его из тюрьмы мать Джонсона, чокаясь с сыномт
показала ему яд. В случае присуждения его к позорному увечьюг
она решила всыпать этот яд в его питье и осушить с ним вместе
чашу смерти.
Выход из тюрьмы ознаменовал наступление счастливых дней
для Джонсона. Он восстановил хорошие отношения с двором
и получил заказ на «маску». «Маска» —придворное представление,
в котором участвуют наиболее знатные придворные и дамы. Обыч-
но сюжет «маски» был аллегорическим и заимствовался из класси-
ческих мифов или средневековых романов. «Маска» была дивертис-
ментом, отличалась большой пышностью костюмов и декораций,
включала балет и музыку. После своей первой «маски» («Маска
черных»—Masque of blackness, 1605 *) Джонсон стал почти моно-
полистом в области составления либретто для этих представлений
при дворе Якова I.
Работа над «масками» давала Джонсону возможность проявить
полностью свою эрудицию и любовь к классическим мифам. Якову I,
гордившемуся своей ученостью, доставляло большое наслаждение
разгадывать замысловатые аллегории Джонсона на античные темы.
Король не жалел затрат на эти придворные представления, обстав-
лявшиеся с большой пышностью и с применением весьма высокой
для того времени сценической техники. Джонсон получал за «мас-
ку» 40 фунтов, т. е. в 4—5 раз больше, чем за свои лучшие комедии.
Джонсон усовершенствовал и разработал «маску» как зрелище.
Обычно она состояла из трех частей: выхода ряженых, представ-
ления (presentation) и собственно «маски» (пантомимы или бале-
та, за которым следовало приглашение к общим танцам благород-
ных зрителей и благородных актеров). Джонсон превратил «маску»
в маленькую пьесу и ввел в нее фарсовый элемент в виде «антимаски»,
где пародировалась торжественная часть представления с ее ми-
фологическими богами, героями и отвлеченными аллегориями доб-
родетелей.
«Маски», однако, не заменили Джонсону «серьезной комедии»,
т. е. идейного, социально значимого творчества. В 1606 г. он
поставил на сцене свою комедию «Вольпоне, или Лиса» (Volpone,
Or the Foxe), которая имела огромный успех, особенно в Оксфэрд-
ском и Кембриджском университетах; им — двум «равнославным
76
сестрам» — посвятил свою комедию Джонсон при ее издании
< 1607). Венецианский фон, разработанный со всей тщательностью,
свойственной писателю, никого не обманул, — лондонцы узнали
в пьесе себя.
«Вольпоне» — крупнейшая комедия нравов, написанная Джон-
соном. В ней он хотел «подражать правосудию и учить жизни»
и создал блестящее сатирическое произведение, одно из лучших во
всей литературе английского Возрождения. Рисуя образ хитрого
Вольпоне, обманывающего людей, которые ради получения наслед-
ства от богатого и якобы умирающего старика готовы пойти на
любую подлость, на любое преступление, Джонсон не пожалел
мрачных красок, чтобы показать, как жадность к богатству губит
все человеческое в человеке. Он дает своим героям имена, заимство-
ванные из животного царства (Вольпоне — лиса, Корбаччо —
ворон, Моска — муха, Вольторе —коршун). Этим он одновременно
как бы воскрешает традицию народных басен и народной сати-
ры (Рейнеке-Лис).
За «Вольпоне» последовал ряд других выдающихся комедий.
К ним относится «Эписин, или молчаливая женщина» (Epicoene,
Or the Silent Woman, 160Э *) — фарс, построенный на
замысловатой комической ситуации: племянник разыгрывает над
своим скупым и боящимся шума дядей злую шутку, женив его на
молодой и молчаливой особе, которая в финале оказывается от-
нюдь не молчаливой, а главное—совсем не женщиной. Увлека-
тельная комическая интрига переплетается со злой сатирой на
лондонскую жизнь. В этой пьесе, как и в последующих, Джонсон
уже не переносит действие в Италию — он изображает Лондон
и его обитателей.
Даже первую свою пьесу, «Всяк в своем нраве», действие ко-
торой происходило во Флоренции, Джонсон подвергает теперь
переработке, заменяет итальянские, имена английскими и создает
новый, «английский» вариант этой программной комедии.
«Наша сцена — Лондон, потому что ни в одной стране нет ве-
селья лучше, чем у нас», — объявляет он в прологе к пьесе «Алхи-
мик» (The Alchemist, 1610 *) —комедии нравов, изображающей,
подобно «Вольпоне», «мир плутовства и обмана».
В пьесе «Варфоломеевская ярмарка» (Bartholomew Fayre,
1614 *), последней из этого замечательного цикла, Джонсон дает
чисто бытовую комедию из жизни лондонского «дна»: воров, тор-
говок, сводников и т. д. Здесь чрезвычайно важна комическая
фигура Зил-оф-ди-Ленд Бизи (Zeal-of-the-Land Busy), в образе
которого Джонсон зло высмеивает пуритан.
За «Варфоломеевской ярмаркой» последовала комедия «Одура-
ченный чорт» (The Divell is an Asse, 1616*). Фабула этой комедии
задумана прекрасно: чорт хочет победить людей в грехе и плутов-
стве, но на каждом шагу оказывается кругом одураченным; он
убеждается, что совершенно невозможно принести в этот мир обман-
щиков какой-либо новый грех,которым бы люди уже не обладали,
и просит сатану вернуть его в ад. Но фабула эта не получила доста-
77
точно глубокого сатирического воплощения. Пьеса потерпела
неудачу, и Джонсон почти на 10 лет отошел от театра.
Во время работы над комедиями нравов Джонсон создал
и свою вторую крупную трагедию, тоже из римской жизни—«За-
говор Каталины» (Catiline his Conspiracy, 1611 *). Подобно
Тиверию и Сеяну и здесь выступают два могучих антагониста —
Катилина и Цицерон. Джонсон придал драматическую напряжен-
ность конфликту, заимствованному из истории, и снова сумел
тщательно соблюсти все исторические детали. Но он слишком пере-
грузил пьесу длинными отрывками из речей Цицерона, которые ци-
тирует с педантичной точностью. Это разрыхлило ткань пьесы
и нарушило ее композиционную стройность.
В эти годы творческой активности Бен Джонсон успел совер-
шить в 1612—1613 гг. путешествие в Европу в качестве наставника
сына знаменитого Ролея. Молодой Ролей, видимо, был вполне до-
стойным учеником, потому что впоследствии, будучи в гостях
у Дрэммонда, Джонсон со смехом вспоминал о совместных их про-
делках, скандалах и кутежах в Париже.
В 1616 г. Бен Джонсон издал девять своих пьес в формате
in folio, под заглавием «Труды» (Works)—событие, для того времени
необычайное. Джонсон — первый драматург в Англии, сам издав-
ший собрание своих произведений и положивший прочную основу
для признания драматургии литературой, равноправней с поэ-
зией и романом. Вышедшее в 1623 г. шекспировское «фолио» по
своему типу схоже с джонсоновским. Из известных нам пьес в со-
брание сочинений Джонсона не вошла только комедия «Обстоятель-
ства переменились». Кроме того, в «фолио» вошли также «маски»
и стихи, собранные под заголовками «Эпиграммы» и «Лес»
Хотя многие возмущались неслыханной дерзостью Бена Джон-
сона, выпустившего собрание своих пьес под громким заглавием
«Труды», издание in folio окончательно утвердило его место в ли-
тературе, как крупнейшего писателя Англии после Шекспира.
Поэтому, когда Джонсон летом 1618 г. начал свое пешеходное пу-
тешествие в Шотландию и, пройдя через весь остров, прибыл в Эдин-
бург, он был принят там с величайшим почетом. Он гостил у Дрэм-
монда в Хауторндене. Записанные Дрэммондом беседы с писателем
дают исключительно ценный материал о жизни и воззрениях Бена
Джонсона.
В 1619 г. Джонсон побывал в Оксфорде, где ему, никогда не
учившемуся в университете, была присуждена почетная степень
доктора. Даже Яков I, узнав о таких почестях писателю, собирался
пожаловать ему дворянство. Наступили счастливые для Джонсона
годы: он получил пенсию в 100 марок от короля и стал придворным
поэтом-лауреатом. Вокруг него собрался кружок верных друзей
и почитателей, и он часами просиживал с молодыми любителями
литературы, взиравшими на него, как на оракула, в комнате Апол-
лона в таверне «Чорт». Он попрежнему в дружбе с влиятельными
лицами, пишет «маски» для двора и часто ссорится с их постанов-
щиком — архитектором Иниго Джонсом.
78
В 1623 г. случилось несчастье — пожар в домике Джонсона.
Сгорели его книги, рукописи и ряд неопубликованных
трудов.
После смерти Якова, с воцарением Карла I, Джонсон лишился
расположения двора — его вытеснил Иниго Джонс, захвативший
«маски» всецело в свои руки.
Джонсон снова обратился к народному театру. В 1625 г. он
ставит «Склад новостей» (The Staple of Newes). Это—комедия,.
с которой начинается период его упадка. Она крайне усложнена,,
аллегорична и далека от живой бытовой сатиры, в которой Джон-
сон ранее достиг таких вершин, К этим творческим неудачам при-
соединилась болезнь — писателя разбил паралич.
. Но Джонсон не отказался от творчества. В 1629 г. он поставил
комедию «Новая гостиница» (The New Inné), в которой пародиро-
вал романтические сюжеты. Пьеса провалилась. Не имела успеха-
и «Притягательная лэди», точнее «Магнетическая лэди» (The Mag-
ne tick Lady, 1632 *).
В 1630 г., после шестилетнего перерыва, Джонсон совместно
с Иниго Джонсом написал две «маски». Соавторство привело
к еще большему обострению вражды между ним и архитектором,,
усиленно интриговавшим против старого писателя.
Но даже больной, Джонсон не забыл своего сатирического дара
и не научился спускать обиды. Он переделал в 1633 г. свою раннею
комедию «Сказка о бочке» (Tale of a Tub, в буквальном переводе
«бессмыслица», «вздор»), вставив сцены, в которых высмеивал
Иниго Джонса, выведенного под прозрачным именем Витрувия.
Однако по повелению короля эти сцены пришлось снять.
В том же году Джонсон снова взялся за старое свое мастерство—
«маски». Король гостил у друга писателя, герцога Ньюкасля,
и Бен Джонсон решил показать свое искусство в полном блеске.
Последняя его «маска» была сыграна в Больсовере в 1634 г. под
заглавием «Добро пожаловать в Больсовер» (Love Welcome. The
King and Queenes Entertainment at Bolsover). В этом дивертисмен-
те писатель снова нападал на своего врага Иниго Джонса.
Несмотря на то, что король увеличил пенсию Джонсону со
ста марок до ста фунтов, первый английский поэт-лауреат в послед-
ние годы своей жизни крайне нуждался, и, смиряя свою гордость,
вынужден был обращаться за денежной помощью к друзьям.
До последних своих дней Джонсон продолжал работать. После
его смерти было найдено много неопубликованных произведений:
собрание стихотворений, заметок и выписок, перевод «Поэтического
искусства» Горация, фрагмент трагедии «Падение Мортимера»,
часть трактата «Английская грамматика» и незаконченная
пастораль «Печальный пастух» (The Sad Shepherd), в которой
с большой поэтической силой звучит обычно несвойственный Джон-
сону лиризм. В этой пасторали, на ряду с феями и колдуньями из
народных сказок, выступает любимый герой английских баллад—
Робин Гуд. Эти произведения вошли в «фолио» Джонсона, изданное
в 1640 г.
79
Умер Джонсон 6 августа 1637 г. Тело его похоронили в Вест-
минстерском аббатстве. Собирались поставить памятник, достой-
ный поэта, но этот памятник так и не был построен: помешали собы-
тия английской революции и гражданской войны. На надгробной
плите великого драматурга сохранилась лишь простая надпись,
сделанная одним из его почитателей — Джоном Юнгом: «О, не-
сравненный Бен Джонсон» (О, rare Ben jonson).
2
Шекспир затмил собой всех драматургов елизаветинской эпохи.
Такая судьба выпала и на долю Бена Джонсона, величайшего
современника Шекспира. Творчество Джонсона могло бы составить
эпоху в истории английской литературы, но оно не могло сопер-
ничать с гениальными творениями Шекспира.
Бен Джонсон выступил как создатель бытовой комедии —
комедии нравов, теоретически обосновав необходимость отражения
в драматургии современного быта. Он выступил противником «вы-
сокой комедии» и кровавой драмы, противником героического на-
родного театра, величайшим представителем которого был Шекспир.
До нас дошел рассказ Фуллера о бурных диспутах в таверне «Ру-
салка». «Много было состязаний в остроумии между Шекспиром
и Беном Джонсоном, — говорит Фуллер. Они казались, один —
огромным испанским галеоном, другой —английским военным ко-
раблем. Мастер Джонсон стоял гораздо выше по образованности;
подобно галеону, он был основателен, но медлителен в маневриро-
вании; Шекспир, подобно английскому кораблю, был меньше объе-
мом, но легче в движениях, мог быстро лавировать и использовать
все ветры благодаря быстроте своего разума и изобретательности».
К сожалению, это не рассказ очевидца: Фуллеру было во-
семь лет, когда умер Шекспир. Но литературные споры тяжеловес-
ного эрудита Джонсона, во многом педанта, до конца дней своих
преклонявшегося перед классическими авторитетами, и живого,
блистательного Шекспира, презиравшего педантизм и отрицавшего
авторитеты, могут считаться достоверными. Шекспир и Джонсон
могли поспорить о многом. Джонсон не принимал шекспировского
патетического реализма, включавшего героизацию образа и ро-
мантическую возвышенность драматического конфликта и языка
героев. Он не принимал свободной композиции шекспировских
драм, считал ее беспорядочной и стремился излечить «разнуздан-
ность» современной ему сцены прописыванием ей классических
рецептов, строгой диэтой трех единств. Он всерьез считал своей
задачей врачевать современную драматургию и выполнял эту за-
дачу с присущим ему упрямством и прямотой, почему нажил себе
немало врагов. Джонсон был педантичен в деталях и фактах (опи-
сывая жертвоприношение в «Сеяне», он каждое свое слово обосно-
вывает ссылкой на авторитет) и считал великим грехом Шекспира
то, что автор «Зимней сказки» превратил Богемию в приморскую
страну.
80
Но', будучи литературным противником Шекспира, Бен Джон-
сон не был его личным врагом. Он никогда не нападал непосред-
ственно на Шекспира. Отдельные его сатирические замечания отно-
сятся либо к общему стилю драматургии, величайшим пред-
ставителем которой был Шекспир, либо к романтическим элемен-
там шекспировского творчества. Знаменитый пролог к комедии
«Всяк в своем нраве», осуждающий тех, «кто воображает себя спо-
собным с помощью трех заржавленных мечей и нескольких хро-
мающих аршинных слов изобразить длительные войны Йорка и
Ланкастера», (т. е. войны Алой и Белой роз) — носит именно такой
общий характер.
Прямые намеки на Шекспира мы встречаем в прологе к ко-
медии «Варфоломеевская ярмарка». Здесь Джонсон пренебрежи-
тельно отзывается об Иеронимо (герое «Испанской трагедии» Кида)
и Андронике, а также о шекспировской «Буре». Он берет здесь
Шекспира и Кида за одну скобку, как представителей противо-
положного литературного стиля. Все эти нападки Джонсона носят
принципиальный, а не личный характер. Литературные рас-
хождения, видимо, не мешали дружбе этих людей.
Джонсон высоко ценил гений Шекспира. В своих заметках
«Открытия» (Discoveries, 1640) он вполне воздает ему должное.
«Я помню, — пишет он, — что актеры часто говорили, словно
об особом достоинстве, о том, что Шекспир никогда не вычер-
кивал ни одной строки, что бы ни писал; я же отвечал им: лучше
бы он вычеркнул тысячу. Это они сочли злобными речами. Я бы
не сообщил потомству об этом, если бы актеры по невежеству своему
не воспользовались этим обстоятельством для того, чтобы хвалить
своего друга за его самый большой недостаток, и я должен оправ-
дать откровенность моих суждений потому, что я любил этого че-
ловека и чту его память — не впадая в идолопоклонство — не
меньше, чем другие. Он был честным человеком, открытой и щедрой
натурой, обладал превосходным воображением, прекрасными идея-
ми и благородными выражениями, и поэзия его лилась с такой
легкостью, что по временам была необходимость его остановить:
Sufflam inandus erat, как Август сказал о Гатерии. Его разум был
в его собственной власти, и было бы хорошо, если бы он мог им
управлять. Часто он говорил вещи, которые могли быть только
смешны: так, например, когда он вкладывает в уста человека,
обращающегося к Цезарю, слова: «Цезарь, ты причинил мне зло»
и отвечает от лица Цезаря: «Цезарь никогда не творит зла, кроме
как с благой целью» и т. п. —это смешно. Но он искупает свои
пороки своими достоинствами. В нем всегда было больше достой-
ного хвалы, чем нуждающегося в прощении». Нельзя не признать,
что суждение Джонсона глубоко искренне и лишено оттенка
зависти или недоброжелательности.
Еще ярче выступает восхищение гением Шекспира в знаме-
нитых стихах Джонсона на дрэшоутовском портрете Шекспира
в издании «фолио» и особенно в эпитафии «Памяти моего возлюблен-
ного мастера Вильяма Шекспира и о том, что он нам оставил» (То
^ Англ. литература °*
the Memory of my Beloved Master William Shakespeare and
What He Hath Left Us). Джонсон говорит о мощи шекспировского
гения, плоды которого останутся в веках: «Ликуй,Британия! То-
бой рожден был тот, пред кем склонились сцены всей Европы.
Принадлежит не веку он — всем временам». Далее следует высшая
хвала в устах Джонсона: он признает, что Шекспир превзошел
даже классиков античности,—признание, по существу означаю-
щее, что Шекспир открыл новую эру в истории литературы и теат-
ра. «Веселый грек Аристофан колючий, Теренций ясный, остроум-
ный Плавт уж ныне нас не радуют — забыты, устарели, как будто
не были они в семье природы».
Но, при всем уважении к гению Шекспира, Джонсон предпочи-
тал итти своей дорогой, неукоснительно следуя своей теории.
В современной ему литературе не было сколько-нибудь установив-
шейся теории драмы. Народная драма Марло, Кида, Шекспира
отказалась от правил классицизма, но своей эстетической тео-
рии она не создала. Проблемы драматургии решались требова-
ниями народной сцены и индивидуальными новшествами писателей.
Джонсон, первый теоретик и критик драматургии в Англии,
выступил со своей программной пьесой «Всяк в своем нраве» в
1598 г., когда на сцене безраздельно господствовала народная
драма, победившая ученую, классическую драматургию.
При делении на комедии, трагедии и хроники в современной
Джонсону драматургии не существовало никаких канонов. Отсут-
ствие единства времени, частая смена места действия, смешение
комического и трагического составляли характерные черты пьес
елизаветинской эпохи. Джонсон поднял оружие побежденных клас-
сицистов Возрождения и выступил с защитой классической эсте-
тики, с требованием ограничить сценическое своеволие писателей
и сделать драму правдоподобной. Он требовал от театра реализма
и подражания природе. Программа Джонсона — бытовой реализм,
в отличие от возвышенного, патетического реализма народной
драмы, и следование рациональным классическим канонам в отли-
чие от того, что он считал «романтической разнузданностью».
Тяготение к классицизму существовало в елизаветинской дра-
ме и до Джонсона, но оно заглушалось народным театром. Клас-
сические каноны отстаивал Филипп Сидней в своей «Защите
поэзии». Особенно сильна была классическая тенденция в комедии,
для которой Теренций и Плавт оставались образцами. Не случайно
Шекспир в «Комедии ошибок» подражал Плавту. Бытовой реализм
находил свое выражение в комических персонажах из обыденной
жизни, в хрониках, где героические сцены с участием королей и
вельмож^ чередовались с фарсовыми сценами, создававшими их
реальный фон («фальстафовский фон» у Шекспира). Тяготение к
бытовой комедии заметно у Чапмена («Веселый день») и других дра-
матургов, но стать окончательно на этот путь они решились только
после смелого вторжения на сцену Джонсона.
В прологе к своей первой,-программной комедии «Всяк в своем
нраве» Джонсон обрушивается на современную ему драму, далекую
82
от повседневной жизни обычных людей. Он обещает зрителям пье-
су, где не будет ни «хора, влекущего вас за моря, ни скрипучего
трона, спускающегося вниз на потеху мальчишкам, ни шустрых
шутов, пугающих дам, ни ядра, которое падает, чтобы вы пред-
ставили себе гром, ни буйно грохочущего барабана, возвещающего
наступление бури». «В моей комедии, — говорит он, — вы най-
дете другое:
Живых людей в ней речи и дела,
И лиц таких комедия взяла,
Чтоб начертать картину наших дней.
Джонсон язвительно высмеивает пристрастие «высокой трагедии»
своего времени к вельможным героям; он издевается над гипер-
болами поэтического языка, над эвфуистической манерностью речи
героев, над неестественной приподнятостью их монологов.
В комедии «Всяк вне своего нрава» Джонсон пародирует наи-
более прославленные строки «Испанской трагедии» Кида:
О, очи! Нет, не очи — слез фонтаны,
О, жизнь! Не жизнь — живущий облик смерти.
О, мир! Не мир, но груда зол людских,
Сплетение убийств и злодеяний.
Джонсон требует простоты, понятности, жизненности языка,
освобожденного от поэтических привесок, неумеренных метафор
и манерных эпитетов. Он требует логической, стройной речи,
.соответствующей строго рациональной композиции всей пьесы.
Центром эстетической программы Джонсона является его зна-
менитая теория «юмора». Эту теорию он декларирует в пьесе «Всяк
jB своем нраве», которую можно также перевести «Всяк в своем
юморе», и особенно в пьесе «Всяк вне своего нрава» («Всяк вне
своего юмора»). Характер должен быть изображен с соответствую-
щим ему «юмором».
,.; В прологе к комедии «Всяк вне своего нрава» Джонсон пишет:
$,\ В теле человека
if ' Ж елчь, флегма, меланхолия и кровь
S?'-- Ничем не сдержанные беспрестанно
V"' Текут в свое русло и их за это
;( Назвали «humours». Если так, мы можем
'■;,,'' Метафорически то слово применить
И к общему расположенью духа:
Когда причудливое свойство, странность,
Настолько овладеет человеком,
Что, вместе слив, по одному пути
Влечет все помыслы его и чувства —
То правильно назвать нам это — humour.
Слово «humour» первоначально обозначало «жидкость», «жиз-
ненный сок»; поэтому так были названы темпераменты, определяе-
мые пропорцией «жизненных соков». Слово это могло употреб-
ляться не только в значении «чудачество», «господствующая
страсть», но и в значении «характер», «тип», «нрав».
Джонсон в своей теории «юмора» опирается на учение старой
физиологии о четырех темпераментах (холерический, меланхоли-
ческий, флегматический и сангвинический), соответствующих
четырем элементам (горячий, холодный, влажный и сухой) и опреде-
ляемых соотношением и пропорцией этих элементов. Следовательно,
нельзя рассматривать humour в понимании Джонсона просто
как чудачество, нелепую эксцентричность героя. «Юмор» —
определяющая черта характера, которая настолько подчиняет себе
все остальные страсти, что нарушает обычные нормы поведения
человека и, будучи доведена до крайности, делает героя комическим
персонажем. Характеры Бена Джонсона одержимы господствую-
щей страстью или «юмором»: одни выступают как вечные рабы
своей страсти, другие временно подпадают под ее власть. Нередко
у Бена Джонсона «юмор» —это внешнее, наносное, неприсущее
природе человека свойство, а иногда даже доведенная до нелепо-
сти добродетель.
Эта теория носила двойственный характер. С одной стороны,
она явилась базой для комедии нравов Джонсона и для его быто-
вой реалистической сатиры; с другой стороны, она превращала
характер на сцене в одностороннее изображение какой-либо стра-
сти или порока. Эта рационалистическая теория позволяла коме-
дии более непосредственно отражать различные пороки современ-
ного общества, но в то же время ограничивала и сужала образ
героя. Усиливая актуальность комедии, эта теория лишала ее
всего многообразия, жизненной реальности, понимаемой в более
широком смысле. Как следствие этого, драматургия Джонсона ут-
ратила не только героический характер народного театра, но
и жизненную противоречивость, конфликтность, страстность шек-
спировской драматургии, изображавшей героев-титанов.
Герой Джонсона выступает как неизменная величина. Он не
претерпевает никакой эволюции, поскольку он лишен внутренней
противоречивости и либо сохраняет свой юмор, либо утрачивает
его. Так например, во второй комедии «юмора» («Всяк вне своего
нрава») герои, дойдя в своей страсти до кульминационного пункта,
внезапно отрекаются от нее, так как дальнейшее развитие «юморов»
просто невозможно, и в конце пьесы все действующие лица
оказываются в положении, диаметрально противоположном тому,
которое они занимали в начале пьесы. Это механическое и рацио-
налистическое разрешение композиции почти постоянно встре-
чается у Джонсона.
Герой Джонсона со своей господствующей страстью превра-
щается сплошь и рядом просто в олицетворение того или иного
порока или добродетели. Это подчеркивается даже его именем,
которое часто включает характеристику персонажа. И когда в
комедии «Всяк в своем нраве» мы встречаем героя Даунрайт (Down-
right), то мы наперед знаем, что перед нами прямодушный человек,
с грубоватой искренностью высказывающий свои мысли. Особенно
84
широко применяется этот прием сатирической характеристики в
комедии «Вольпоне»,где герои наделены аллегорическими именами,
'заимствованными из животного царства.
Превращая своего героя в олицетворение одной страсти, Джон-
сон хотел достичь наибольшей типичности образов и усилить их
нравственное воздействие на зрителя. В угоду своей теории «юмо-
ров» он как бы заранее отрекался от органического слияния инди-
видуального и типического в образе героя. В комедиях Джонсона
мы встречаем совершенно абстрагированные типы и, рядом с ними,
героев настолько индивидуализированных, что они превращены
il просто в экстравагантных чудаков, выполняющих уже чисто коми-
; ческие функции. К таким гиперболическим чудакам, воистину чу-
довищам своего «юмора», принадлежит, например, Мороуз («Брюз-
га») из комедии «Эписин, или молчаливая женщина». Мороуз не
выносит шума, и главною задачею его жизни стало избегать малей-
шего звука, который мог бы его потревожить. Он платит деньги
торговкам и городским глашатаям, чтоб они не кричали возле
его дома. Он поселяется на такой узкой улице, что по ней невоз-
можно движение экипажей, устраивает в своей комнате двойные
стены и окружает себя безмолвными слугами. Теперь остается
только одно: найти молчаливую жену. На этом и строится вся
интрига этой легкой и веселой комедии.
Правда, Джонсон дает «юмору» Мороуза социальное обоснова-
ние: Мороуз — богач и самовлюбленный эгоист; он не терпит шума
и чужих речей, но сам много говорит и производит немало шума.
Удача или неудача Джонсона зависит большей частью от того,
насколько избранный им «юмор» воплощает в себе доминирующие
социальные черты эпохи, насколько он общественно значителен.
В случае удачи, мы получаем такие прекрасные комедии Джонсона,
как «Вольпоне» — беспощадный приговор буржуазному стяжатель-
ству, как «Алхимик» и «Варфоломеевская ярмарка», рисующие
яркие картины лондонского быта и являющиеся неоценимыми ли-
тературными документами елизаветинской Англии.
if Композиция пьес Джонсона соответствует принципу абстракт-
ной типизации. Она строго рационалистична и тщательно рассчи-
тывает все эпизоды. Мы тщетно будем искать в пьесах Джонсона
^огучего, страстного драматического конфликта. Действие в его
комедиях развивается обычно со строгой последовательностью,
5рз резких переходов. В трагедиях Джонсон не может вовсе обой-
тись без бурь и катастроф, но, в отличие от народного театра, он
их смягчает и снижает.
Джонсон — большой мастер композиции, но сюжет играет у
него второстепенную роль. Сюжет должен лишь помочь героям с
полной четкостью выявить свой «юмор»: самостоятельного значе-
ния он, по существу, не имеет.
Завязка и развязка действия у Джонсона в значительной
степени случайны. Так, например, в комедии «Всяк в своем нраве»
завязкой служит приезд старого Новеля в Лондон. Новель хочет,
оставаясь неузнанным, выследить своего сына и помешать ему
85
пойти по дороге беспутства. «Юмор» старого Новеля — чрезмерная
родительская любовь. Он предстает перед нами исключительно в
этой роли комически заботливого отца. Развязкой служит встреча
всех действующих лиц у судьи, когда каждому становятся понятны
собственные заблуждения. Мы видим здесь характерную для
Джонсона схему построения комедии: «юмор» ослепляет человека,
ставит его в неправильные отношения с другими людьми, создает
у него ложное представление об окружающих. Так завязывается
узел интриги, усложненной тем, что каждый из героев действует
только сообразно своему «юмору». Когти заблуждения героев
разъясняются, наступает развязка.
В бытовых комедиях Джонсона роль сюжета сведена до мини-
мума, как, например, в комедии «Варфоломеевская ярмарка».
Герой Литлвит уговаривает жену упросить ее мать, ханжу-пу-
ританку, разрешить им пойти на ярмарку, чтобы поесть жареной
свинины. Это служит поводом показать пеструю картину ярмарки
и вывести самых разнообразных персонажей — воров, слуг, тор-
говцев, слабоумного дворянина, лицемерного пуританина, моло-
дых щеголей и т. д. Сюда же вплетается комическая история судьи
Оверду (to overdo — перестараться). Судья приходит на ярмарку
переодетым (переодевание — излюбленный прием античной ко-
медии — встречается у Джонсона почти во всех пьесах), чтобы на-
блюдать нравы и разоблачать преступления. Слишком старатель-
ный судья, движимый своим «юмором»—стремлением к безупречной
справедливости, постоянно ошибается в людях и сам попадает в
колодки, как преступник. Развязкой пьесы служит встреча всех
героев в ярмарочном балагане на кукольном представлении.
Пьеса скорее обрывается, чем оканчивается. Общая интрига —
только обрамление для блестяще написанных реалистических бы-
товых картин, из которых состоит «Варфоломеевская ярмарка».
Развязки, в традиционном для народного театра духе, когда ос-
новное действие завершается и герои выступают уже в новом, опре-
деленном состоянии, у Джонсона нет.
В джонсоновской теории «юмора» слились воедино различные
источники: каноны классической эстетики с ее требованием единств
и строго логической композиции; традиции народных фарсов
и итальянской «комедии масок», создавших шаржированные, кари-
катурные образы и установленные раз навсегда комические типы —
скупого, педанта, шарлатана, ловкого слуги-пройдохи и т. д.;
традиции средневековых моралите, изображавших аллегорически
и отвлеченно человеческие пороки и добродетели.
Творчество Джонсона, основанное на теории «юморов», яви-
лось мостом между английской драматургией позднего Ренессан-
са и классицизмом. Не случайно Джонсон оказал большое влияние
на Джона Вильсона, продолжавшего в своей комедии «Обманщики»
то же изображение «юморов», и на Томаса Шедуэля, в предисловии
к своей первой комедии «Сердитые любовники» восхищавшегося
Джонсоном, который «никогда не писал комедии без семи или вось-
ми значительных юморов», и заявлявшего о своем стремлениипод-
86
ражать ему. Еще более важно, что творчество Джонсона нашло
признание у Драйдена, который в своем «Опыте о драматической
поэзии» так излагал теорию «юморов»: «Среди англичан под «юмо-
ром» понимаются какие-либо экстравагантные привычки, страсти
или аффектации, присущие определенному лицу, странностью
которых он мгновенно выделяется среди прочих людей. Юмор,
будучи живо и естественно представлен, чаще всего порождает
злобное наслаждение . у публики, которое выражается смехом,
поскольку все, что отклоняется от обычного, является лучшим сред-
ством вызвать смех. Описание этих юморов, нарисованных со зна-
нием жизни и по наблюдениям над частными лицами, было гени-
альным открытием Бена Джонсона».
Бен Джонсон обладал исключительно большой эрудицией, по-
ражавшей его современников. Это был один из образованнейших
людей своего века. Ему были известны творения Боккаччо, Пет-
рарки, Тассо, Эразма Роттердамского, Рабле, Монтэня, Лопе де Вега,
Сервантеса. Но особенно хорошо знал он античных писателей.
В его характеристиках современников — Бэкона и Шекспира —
исследователи обнаружили цитаты из Сенеки и других писателей
античности. Джонсон невольно выражает свои мысли в стиле клас-
сиков, а его богатейшая память услужливо подсказывает ему гото-
вые формулировки, которые настолько глубоко сроднились с мыш-
лением самого Джонсона, что он начал считать их своей собствен-
ностью. Это и составляло главный пункт обвинений против Джон-
сона— враги обвиняли его в «воровстве у древних».
Джонсон был преисполнен глубоким сознанием величия искус-
ства и огромной роли, которую оно играет для человечества. Поэ-
тому он так часто критиковал современных ему писателей, защищая
святыню искусства от кощунства и бездарного невежества. Он
никогда не унижался перед знатью и королем, никогда не рассы-
пался в раболепной лести, всегда держался независимо.
Значение драмы Джонсон видит прежде всего в ее облагора-
живающем нравственном воздействии на общество. «В своей коме-
дии «Вольпоне»,—говорит Джонсон,—я старался исправить
«писателей» и научить их следовать не только сценическим
формам древних, но и их нравам — естественности, пристой-
ности, чистоте и, наконец, назидательности — конечной цели
поэзии».
В своей «комедии нравов» Бен Джонсон ставит себе морализа-
Торские цели. В этом нельзя не видеть влияния пуританства —
значительнейшего социального явления того времени. Недаром
Джонсон в том же предисловии к «Вольпоне» говорит о нападках
пуритан на театр. Отвечая на них, он указывает, что порочность
и разнузданность присущи не театру, а недостойным его деятелям.
Но против самих обвинений, выдвигавшихся пуританами, Джон-
сон не возражает и полагает, что средством исправления драмы по-
служит придание ей нравоучительного характера. Джонсон защи-
щает театр, как зрелище, от благочестивого рвения господ в круглых
шляпах. Он обличает ханжество и лицемерие пуритан, выступает
87
против их тоскливого аскетизма, но одновременно многими черта-
ми своего морализма он приближается к пуританам.
Джонсон — последний великий драматург английского. Воз-
рождения. Он выступил на сцену в эпоху кризиса гуманизма, когда
рушилась надежда гуманистов на свободное и гармоническое раз-
витие человеческой личности, когда на смену феодальному гнету
пришла не «Телемская обитель» Рабле, не «Утопия» Томаса Мора,
а буржуазия с властью золота, эгоизма и обмана.
Джонсон выступил как бытописатель этого нового общества.
Он положил начало буржуазной драме, населив свою комедию
шумной и пестрой ярмарочной толпой, плутами, мошенниками,
торговками, шарлатанами. Он впервые по-настоящему широко
распахнул двери драматургии для горожан самых различных ран-
гов — от бездомного нищего до почитаемого за богатство купца,
от проститутки до добродетельной мещанки. Демократизм
Джонсона, его глубокое знание лондонского быта, извлеченное
из опыта собственной жизни, изобиловавшей множеством прев-
ратностей, соединились вместе, чтобы создать картину совре-
менности. Драматург изображает жизнь лондонских улиц, быт
хорошо знакомых ему таверн и лавок; итальянские декорации
отпадают вместе с любовной романтикой и вычурной речью. Джон-
сон был обличителем современного ему общества, сатириком, вскрыв-
шим его пороки. Он видел зло, эгоизм и порочность складываю-
щегося буржуазного строя, хотя и не воспринял их столь траги-
чески, как Шекспир.
Бен Джонсон — непримиримый враг тирании, феодальных
привилегий и средневекового порабощения личности. Он создал
такие сатирические образы дворян, как слабоумный, нуждающий-
ся в няньке Варфоломей Кук («Варфоломеевская ярмарка»), как
сэр Эпикур Маммон («Алхимик»), у которого ненасытная жажда
богатства вытеснила последние остатки рыцарского благородства.
Сэр Эпикур обладает чудовищным чувственным аппетитом; он
мечтает о благоухающих дворцах, где разместятся тысячи налож-
ниц, о самых тонких одеждах, о самых изысканных блюдах. Все
это станет доступно ему, как только алхимик Сатль (Subtle —
хитрец) добудет философский камень. Эпикур — образ дворянина,
обуржуазившегося в том смысле, что он прибавил все буржуазные
пороки к аристократической расточительности и развращенности.
Ненависть Джонсона к тирании выступает особенно ярко в его
римских трагедиях. Он бичует холодную жестокость и деспотизм
Тиверия, прикрывающегося пышными словами о справедливости,
лицемерие и подлость раболепствующих перед тираном сенаторов
и придворных. Тирания убивает благородство и совесть, она по-
рождает трусов и лицемеров. Именно благодаря всеобщему разло-
жению при деспотии может возвыситься фаворит Сеян, соб-
лазняющий Ливию и вместе с ней осуществляющий убийство ее
мужа. Льстец и интриган, опутавший Рим сетью шпионажа, Сеян
прокладывает себе дорогу к власти, уничтожая все преграды, под-
нимаясь со ступеньки на ступеньку к полному могуществу. Он
88
гибнет, почти добравшись до цели. Сеян — макиавеллист, но не Яго.
У него нет змеиного красноречия Яго, уменья Яго влезть в душу
человека и пытать ее медленно действующим ядом. Сеян откровенно,
грубо подл. У Тиверия он в чести как подручный, готовый испол-
нить все гнусные затеи деспота, как льстец, как существо, поднятое
Тиверием из грязи и всем обязанное своему владыке. И сам Тиверий,
вознесший Сеяна на головокружительную высоту, низвергает его
и отдает толпе на растерзание.
Бен Джонсон осуждает тиранию, — но в чем же состоит его
политический идеал, как мыслит он себе идеальный государствен-
ный строй? На этот вопрос мы не получим четкого ответа от дра-
матурга — он силен лишь своим отрицанием, своим судом над дей-
ствительностью.
Разделяя воззрения гуманистов своего времени, Джонсон надеял-
ся на мудрого и справедливого монарха, но (что весьма характерно)
добавлял к этому требование добродетельности государя. По-
добно тому, как «нельзя быть хорошим поэтом, не будучи хоро-
шим человеком», нельзя быть и хорошим правителем, не будучи
строго нравственным существом. В его «Открытиях» дан длинный
перечень качеств, необходимых такому государю: он должен ду-
мать не о себе, а о народе, служить народу, избегать льстецов («Го-
ворят, что короли никакой науки не изучают так глубоко, как
искусство верховой езды — очевидно потому, что лошадь не
льстец и может скинуть седока»), установить свободу мысли в своем
государстве, управлять, внушая не страх, а любовь, избегать же-
стокости («Множество наказаний порочит короля так же, как мно-
жество похорон — врача»), стричь «со своих подданных только
шерсть, а не кожу» и т. д. По существу это те же мысли, которые
Джонсон открыто высказал в сочиненном им приветствии королю
Якову I от парламента.
Однако Джонсон считал, что добрый государь — не идеал, а
нечто само собой разумеющееся и необходимое. Он не ждал от
справедливого монарха коренных изменений жизни общества, как
Другие гуманисты. Джонсон, по существу, гораздо радикальней,
|готя и не высказывает своих мыслей вполне открыто, —и без того
на его веку в избытке было преследований, судов и тюрем. Идеаль-
ным государственным строем Джонсон считает античную респуб-
лику. Его симпатии к республиканцам отчетливо выступают в
«Сеяне», где республиканец Силий изображен как единственный
герой-римлянин среди продажных трусов. Он смело бросает
Эызов деспотизму Тиверия. Уже в первой сцене трагедии Силий вы-
ражает свои республиканские убеждения, горечь по поводу утраты
свободы и ненависть к деспотизму:
Мы были восемьдесят лет назад
Свободны, равными царями мира
И над собой не знали мы владык.
Однажды изменив своим свободам,
Мы стали воли одного рабами.
80
Наш взгляд — предлог допросу, наши речи,
Как ни невинны, станут преступленьем.
Нам скоро не позволят видеть сны
И думать запретят: ведь все измена.
Сабиний, Аррунций, Галл и другие —тоже положительные об-
разы, но они беспомощны и пассивны. Они способны только, боясь
шпионов, топотом, в своем кругу, осуждать Сеяна и Тиверия. Это —
хор трагедии, выносящий приговор деспотии, последовательно
обличающий ложь и порок под позолотой власти. Но благородный
Аррунций и его друзья только ролью хора и ограничиваются. Они
не представляют собою реальной силы, способной уничтожить дес-
пота, они могут лишь горько издеваться и негодовать. Вывода из
своей трагедии Джонсон не сделал — он сам вынужден был занять
позицию Аррунция.
Радикализм Джонсона сказывается и во второй его трагедии —
«Катилина». Эта трагедия во многом отлична от «Сеяна». Образ
Катилины выше и значительнее Сеяна; это, пожалуй, единствен-
ный титанический образ у Джонсона. Особым пафосом облекает
драматург трагический образ Цицерона, защитившего республику
от Катилины лишь для того, чтобы увидеть ее во власти Юлия Це-
заря. Трагический конфликт здесь глубже, чем в «Сеяне», и это
придает больше жизни и значимости, больше героизма действую-
щим лицам.
Цицерон — идеальный гражданин, образцовый государствен-
ный деятель. Перед Джонсоном, как отдаленная моральная цель,
все время высился античный идеал гражданина. Для того чтобы
в мир вернулась свобода, надо воспитать таких граждан среди со-
временников. Этой, как и некоторыми другими чертами своего миро-
воззрения, Джонсон перекликается с будущими просветителями.
Противоречие творчества Джонсона заключается в том, что.
являясь гуманистом и поклонником языческой античности и
не став буржуазно ограниченным художником и пуританином, он
вместе с тем закладывал в своих комедиях основы буржуазной
морали, расчищая дорогу пуританству и буржуазной революции
XVII века. Это—■ трагическое противоречие последнего елизаве-
тинца, ибо никто из современников не обличал буржуазного
стяжательства с такой беспощадной силой, как Джонсон.
Лучшим свидетельством этого является комедия «Вольпоне» —
вершина творчества Джонсона, первая подлинно классическая
комедия в английской литературе. Тема этой комедии — стяжа-
тельство. Маркс писал о Шекспире, что он великолепно изображает
сущность денег, извращающую силу золота. Это, в извест-
ной мере, может быть отнесено и к Джонсону. Вольпоне встречает
утро восторженным обращением к своей «святыне» — золоту:
«душа вселенной и моя», «порожденье солнца, затмившее отца»,
«ты — лучшее на свете, ты отрадней всех радостей от чад, отцов,
друзей».
Богатство,
Цена души: с тобою даже ад —
90
Рай. Добродетель ты, и честь, и слава,
И все, что хочешь. Кто тобой владеет,
Тот благороден, честен, смел, премудр...
Против этой извращающей силы золота и выступает в своей
комедии Джонсон. Он показывает, как люди утрачивают челове-
ческий облик в животной погоне за обогащением, как они приносят
в жертву ложному богу, мнимой ценности, ценности реальные:
семью, любовь и честь. Все эти «герои» — Муха, Ворон, Вороне-
нок — готовы поступиться чем угодно, лишь бы заполучить на^
следство Лисы-Вольпоне. Перед нами на сцене «животный эпос»
буржуазного общества. Ревнивый муж, осыпающий жену отборной
бранью только за то, что она подошла к окошку, сам, в надежде
угодить похоти старика и стать его наследником, тащит ее на
ложе Вольпоне. Отец разоряет своего сына и подписывает заве-
щание в пользу Вольпоне, надеясь пережить Лису и обогатиться
еще больше. Юрист готов продать совесть, законы, суд — только
бы завещание Вольпоне было в его пользу.
Вольпоне — удалившийся на покой стяжатель — со злоб-
ным садизмом наслаждается порочностью людей, стремящихся к
богатству. Хищные «наследники» ослеплены блеском сокровищ,
которые сами принесли Вольпоне. Но, обманывая всех притворной
болезнью, Вольпоне'в свою очередь становится жертвой обмана.
В этом мире все так построено на обмане, что правда, дабы казаться
истиной, должна принять облик лжи. Ложь и обман разоблачаются.
Вольпоне сам разоблачает себя, Моску, «наследников» — весь
мир стяжательства и грязи. Комедия становится судилищем над ко-
рыстолюбием и развращающей властью золота.
Героями Джонсона движут материальные интересы, и цель их
плутовства весьма реальна и осязательна: это погоня за обогаще-
нием. Джонсон увидел скрытые пружины человеческих поступков
в главном интересе века — в интересе чистогана.
Буржуазные критики Джонсона с негодованием отмечают у него
отсутствие светлых образов и то, что весь мир делится у него на две
категории — плутов и одураченных. Оставляя в стороне это бла-
гочестивое негодование, надо, однако, внести поправку в характе-
ристику героев Джонсона. У Джонсона нет плутов и одурачен-
ных — у него есть только плуты. Одураченные — это те же
плуты, но с меньшей сноровкой. Так, Вольпоне, знающий цену лю-
дям и сам прожженный плут, слишком слепо доверяется своему
орудию — Моске. Жертвы Вольпоне и Моски — хитрые плуты,
которые, однако, слишком легко поверили в мнимую болезнь Лисы.
Так вертится колесо обмана и лжи, — оказавшийся внизу ничем
не лучше того, кто очутился наверху.
Ту же градацию плутовства мы встречаем в комедии «Алхимик».
Сэр Эпикур Маммон, пастор Трибюлейшен Хоульсом и его дьякон
Ананий такие же плуты и обманщики, как, скажем, клерк Деннер
"И торговец Дреггер. Играя на этой стяжательской струнке, со-
ставляющей основную черту всех персонажей, шайке Сатля, Фэйса
я Долль удается обмануть своих клиентов, обобрать людей, го-
91
товых ради богатства уверовать в алхимию и продать свою душу
чорту. А в конце Сатль и Долль сами оказываются обманутыми
своим же компаньоном — еще более ловким мошенником Фэйсом.
В этом мире обмана и грязи есть нечто, особенно ненавистное
Джонсону. Это религиозный обман. Бен Джонсон был материа-
листом; об этом говорят его восторженный отзыв о Бэконе и такие
замечания в его «Открытиях», как, например: «Знание есть
действие души, но оно невозможно без службы чувств; органы
чувств приводят в действие душу». Но считать Джонсона ате-
истом нельзя; он просто скептик в вопросах религии, равнодушен
к ней и весьма отрицательно относится к религиозным спорам
и диспутам, излюбленным в его время. «Некоторые спорщики
по вопросам богословия похожи на забияк в трактире, которые
хватают то, что к ним поближе, подсвечник или горшок, пре-
вращая все в оружие. Часто они сражаются слепо, и оба поби-
вают воздух. Один доит козла, другой подставляет решето».
Переходя из протестантства в католичество, потом снова в про-
тестантство, Джонсон делал это без больших душевных пережива-
ний, довольно равнодушно, как с горечью отмечает Дрэм-
монд.
В пьесах Джонсона мы никогда не встретим вмешательства
божественной силы или упоминания о потустороннем мире, где
праведников ожидает награда, а грешников — наказание. По
джонсоновской морали добродетель сама включает награду,
а злодеяние—кару. Он человечен во всем. Богу в его твор-
честве места не оставлено. Понятна поэтому его враждебность
к религиозному фанатизму пуритан. Гуманист и поклонник ан-
тичности не мог согласиться с отрицанием искусства и жизне-
радостности во имя накопления; он считал пуританский аскетизм
удочкой для улавливания глупцов, продолжением деятельности
«алхимиков» на религиозной почве.
Лицемерие пуритан изображается Джонсоном в резко сатири-
ческом свете. Поход пуритан против зрелищ и театров мотивиро-
вался тем, что пьесы неприличны и богохульны; в библии Моисей
запретил мужчине переодеваться в женское платье (в елизаветин-
ском театре, как известно, женские роли исполнялись мальчиками).
Борьба пуритан против театра еще более усилила враждебность
к ним Джонсона.
В «Алхимике» зло высмеивается импортный пуританин — пастор
Трибюлейшен Хоульсом из Амстердама со своим фанатическим
дьяконом Ананием, «одержимым избытком рвения». Но сатири-
ческие нападки на пуритан в «Алхимике» — только прелюдия к
великолепному образу Рабби Бизи в «Варфоломеевской ярмарке»
(«Рабби» — иронический титул, намекающий на глубокое уваже-
ние пуритан к библии). Рабби Бизи получает исчерпывающую ха-
рактеристику от другого героя пьесы — Кварелуса: «Знаю его —
поразительно лицемерная сволочь. У него благочестива рожа, а не
душа...» Красноречие Рабби Бизи неподражаемо, он самовлюблен-
но упивается звуками собственного голоса. Когда у него спраши-
92
Baiof, можно ли жене Литлвита пойти на ярмарку, чтоб поесть сви-
нины, он решает этот вопрос с истинно ханжеским софизмом. Сна-
чала он отрицательно относится к такому намерению. «Мясо пи-
тательно, следовательно, съедобно и должно быть съедаемо, но не
на ярмарке и не в виде варфоломеевской свиньи, ибо самое назва-
ние варфоломеевской свиньи и вкушение ее есть род жертвопри-
ношения, и вы обращаете этим ярмарку в подобие капища». Но,
увидев, что невыгодно противоречить жене Литлвита, Рабби Бизи
быстро меняет фронт. «Свинина может быть вкушаема и на ярмар-
ке, допускаю, в кабаке, в вертепе грешников: место не имеет зна-
чения, не имеет особенного значения. Мы можем быть благочести-
вы среди язычников. И свинину могут есть уста, на которых почиет
благодать, с благочестием и смирением, не пожирая с жадностью
и обжорством. В этом суть. Если бы мы пошли туда тешиться про-
исходящим, находя наслаждение в непристойных одеяниях, удов-
летворяя вожделение глаз своих или похоть нёба, то было бы сквер-
но, было бы непристойно, было бы омерзительно, было бы недобро-
детельно». Эта казуистика заканчивается заявлением, окончательно
разоблачающим ханжу: «Во имя утешения слабых я пойду и наемся.
Я буду есть до пресыщения и пророчествовать». И он действительно
обжирается и пророчествует против ярмарки — «седалища зверя»,
как красочно повествует барышник Нокем: «Теперь, раз живот
его набит, он лягается, старая шельма».
Самый любопытный эпизод с Рабби Бизи — это его появление
в конце пьесы на кукольном представлении, где он требует пре-
кратить зрелище. Возникает диспут между Бизи и марионеткой.
Бизи призывает на помощь бога. «Не боюсь обнаружить свой разум
и дарования. Да поможет мне мое рвение. Да преисполнит оно
меня, то-есть сделает меня преисполненным». Он приводит главный
довод пуритан против театра — переодевание мужчин в женский
наряд, но марионетка, скинув одежды, доказывает ему, что среди
них нет ни мужчин, ни женщин. Рабби Бизи признает свое пора-
жение и «обращается», остается зрителем на представлении. Исто-
рически дело обстояло совсем не так; пуритане не думали сдаваться
и вскоре после смерти Джонсона одержали победу над театром.
# Любопытно, что эта едкая сатира на ханжу-пуританина вхо-
дит в самую «буржуазную» из бытовых комедий Джонсона. Джон-
сон обуржуазил в ней даже традиционный пролог, который принял
у него форму договора между автором и публикой, составленного
по всем правилам юридической науки, причем читает договор но-
тариус.
Бен Джонсон обличал ханжество, фанатизм и невежество
пуритан, требовавших уничтожения искусства и беспощадно
осуждавших языческую древность. Ему была враждебна узость
пуританского мировоззрения. Он не мог не выступить против
замены знания откровением, науки — религией; он не мог не
выступить против нетерпимости, религиозного фанатизма и буржу-
азной бережливости пуритан. Пуританству, каким его знал Бен
Джонсон, еще не была свойственна революционная героика эпохи
93
гражданской войны. Оно еще выступало больше как религиозноет
чем как политическое течение. Безоговорочно осуждая религиоз-
ный дух пуритан, Джонсон, однако, сближался с ними в вопросах
гражданской морали. Характерная для Джонсона проповедь нрав-
ственного стоицизма и гражданской добродетели, воспринятая у
древних, но не противоречащая пуританству; борьба его против ари-
стократической распущенности и монаршего произвола; обличение
пороков современного общества и прославление республиканского
мужества — все это расчищало дорогу пуританской революции.
Бен Джонсон разделил судьбу всех драматургов Возрождения.
Закрытие театров пуританами привело к тому, что и его творчество
в середине XVII века утратило популярность.
Но в период Реставрации интерес к его драме возродился. Бла-
годаря элементам классицизма в его творчестве, он был поднят на
щит Драйденом. Аристократической культуре Реставрации был
чужд республиканский дух его трагедий; зато антипуританская
направленность его комедий пришлась как нельзя больше по вку-
су, и они имели больший успех, чем даже комедии Шекспира.
Принцип джонсоновского «юмора» оказал значительное влияние
на творческие приемы романистов XVIII века, в частности Филь-
динга и Смоллета, а в XIX веке отдельные черты этого влияния
сказываются у Диккенса, знавшего и любившего автора «Вар-
фоломеевской ярмарки».
Первое двухтомное собрание сочинений Джонсона на русском
языке было издано в 1933 г. в переводах Аксенова, Соколова
и Пастернака.
Глава 3
ЧАПМЕН
Из современных Бену Джонсону драматургов ближе всего
стоял к нему по характеру своего творчества Чапмен,. связанный
с ним также и личной дружбой.
Джордж Чапмен (George Chapman, 1559 ? — 1634) родился в
Гитчине, в Гертфордшире, и получил образование в Оксфорде.
Жизнь его сложилась, повидимому, нерадостно; автобиографиче-
ские намеки в его произведениях полны горечи. Его единственный
«покровитель» — сын Якова I принц Генри — умер в 1612 г., и
после его смерти Чапмен лишился назначенной им маленькой пен-
сии. Поэзия и драматургия не обеспечивали ему существования.
Чапмен вынужден был писать для придворных постановок и для
знати «маски» и стихи. Так, на бракосочетание принцессы Елиза-
веты он написал «Маску Мидль-Темпля» (Masque of the Middle
Temple, 1613), а на бракосочетание лэди Фрэнсис Эссекс с графом
Робертом Сомерсет — аллегорическую поэму «Андромеда осво-
божденная» (Andromeda Liberata, 1614). Когда Джонсон, поссо-
рившись с придворным постановщиком и архитектором Иниго
94
Джонсом, был отстранен от придворного театра, Чапмен занял его
место. Сам Джонсон считал, что «маски» Чапмена не хуже его соб-
ственных.
Близость ко двору не избавила Чапмена от преследований.
В 1605 г. он был арестован по обвинению в оскорблении королевского
величества в комедии «Эй, к востоку», написанной совместно сМарсто-
ном и Джонсоном, и только вмешательство Джонсона, добровольно
разделившего заключение со своим другом и единомышлен-
ником, спасло Чапмена от угрожавшей ему казни. Немало не-
поиятностей доставила ему и «Андромеда освобожденная».
В пышных аллегорических образах этой торжественной эпиталамы
публика усмотрела сатирические выпады против тех самых лиц,
которым она была посвящена, и Чапмену, поставленному перед
угрозой новых преследований, пришлось давать неприятные и
пространные объяснения по поводу действительного смысла своей
поэмы.
Мы не можем восстановить многих фактов из биографии Чап-
мена, но общий облик этого страстного, принципиально последо-
вательного человека и смелого мыслителя ясен. Есть основания
предполагать, что Чапмен, как и Марло, был близок к знаменитому
кружку вольнодумцев, главой которого был сэр Вальтер Ролей.
Свои первые поэмы — «Тень ночи» (The Shadow of Night, 1594)
и «Овидиев праздник чувств» (Ovid's Banquet of Sence, 1595) — он
посвятил члену этого кружка Мэтью Ройдону, который настолько
скомпрометировал себя в глазах елизаветинского правительства,
что должен был бежать в Шотландию, спасаясь от преследований.
В 1598 г. Чапмен закончил начатую Марло поэму «Геро и Ле-
андр» (Hero and Leander) на сюжет одноименной поэмы Музея,
греческого поэта IV века н. э. Третья песнь этой поэмы полна наме-
ков на Марло, к «свободному духу» которого Чапмен обращаете;:
с восторженным призывом.
Чапмен прославился также переводом Гомера. Он перевел
«Илиаду» (1611) и «Одиссею» (1616), а впоследствии также «Батра-
хомиомахию», «Гомеровские гимны» и «Труды и дни» Гесиода.
Чаймену, гуманисту Возрождения, влюбленному в античность,
был близок дух античного искусства; он уловил героический па-
фос и величавость гомеровского эпоса. «К греческому берегу только
ты знал дорогу», — заметил, обращаясь к нему, Джонсон. В ра-
боте над Гохмером сам Чапмен видел смысл и цель своей жизни.
Из драматургических произведений Чапмена до нас дошлп
десятка полтора комедий и трагедий, не считая нескольких
приписываемых ему анонимных пьес, авторство которых, однако,
остается сомнительным.
В лучших комедиях Чапмена—«Все в дураках» (Al Fooles,
1604*), «Эй, к востоку» (Eastward Ное, 1605*) —преобладает,
как и у Джонсона, реалистическое изображение буржуазных нра-
вов и быта.
В комедии «Все в дураках», отчасти напоминающей по свое-
му сюжету, «Братьев» Теренция, он создает живой сатириче-
95
ский образ старого Гостанцо, который воспитывает своего сына
в правилах цинично-эгоистической морали («то, что свет называет
дружбой и человечностью — лишь недостаток опытности; чест-
ность—лишь отсутствие остроумия»), но сам оказывается же-
стоко одураченным, думая, что дурачит других.
Блестящая комедия «Эй, к востоку» воспроизводит всю кра-
сочность и пестроту тогдашней лондонской жизни. Мир честных
и добропорядочных буржуа — цехового мастера ювелира Тачстона
и его подмастерья Гольдинга, которого Сити посылает своим
представителем в парламент,—противопоставлен беспокойному
миру темных дельцов, прожектёров, авантюристов из промотав-
шихся дворянчиков, мечтающих о сказочно быстром обогащении
в далекой Америке, где столько сокровищ, что даже преступники
носят золотые кандалы, а обыватели развлекаются по праздни-
кам, собирая рубины и алмазы на морском берегу. Воздушные
замки охотников до легкой наживы рушатся, и пьеса заканчи-
вается торжеством буржуазной добродетели к вящшему посрам-
лению дворянства и выскочек. Эта комедия, посвященная изобра-
жению частного быта, давала, однако, широкий простор
социально-политической сатире. Именно политические выпады
против шотландских дворян, хлынувших в Англию после воца-
рения Якова I и пользовавшихся особым покровительством
двора, навлекли на Чапмена правительственные преследования.
Лучшие трагедии Чапмена: «Бюсси д'Амбуа (Bussy d'Ambois,
1604*), ее продолжение — «Отмщение Бюсси д'Амбуа (The reven-
ge of Bussy d'Ambois, 1610 *), две трагедии о Шарле Бироне —
«Заговор Шарля, герцога Бирона» (The Conspiracie of Charles,
Duke of Byron) и «Трагедия Шарля, герцога Бирона, маршала
Франции (The Tragédie of Charles, Duke of Byron, Marschall of
France, 1608*)—и написанный совместно с Шерли «Шабо, ад-
мирал Франции» (The Tragédie of Chabot, Admirall of France
1613*) объединяются обычно под названием «француз-
ских «трагедий, так как сюжеты их заимствованы из француз-
ской истории времен Карла IX, Генриха III и Генриха IV. В тра-
гедиях о Бюсси д'Амбуа, убитом в 1579 г., и о Шарле Бироне, каз-
ненном за измену в 1602 г., Чапмен касается политических событий,
современниками которых были и он сам, и его зрители и читатели.
Трагедии эти уже по самому своему материалу не могли не обла-
дать большой актуальностью.
В трагедиях Чапмена особенно живо сказались основные черты
его мировоззрения — свободомыслие в вопросах религии и
ненависть к политической тирании. Только «вольнодумством»
Чапмена можно объяснить то нарочитое равнодушие к религиоз-
ным распрям, к борьбе протестантов и католиков, которое ставит
втупик исследователей «Отмщения Бюсси д'Амбуа». В этой траге-
дии автор как бы демонстративно, в виде вызова своим пуритан-
ским соотечественникам, вкладывает в уста своего героя, «фило-
софа» Клермона д'Амбуа, софистическое «оправдание» Варфоло-
мееЕСКой ночи.
96
Самая заветная мечта Чапмена — свобода человека. Свобода
кажется ему естественным, прирожденным правом каждой чело-
веческой личности. Каждый человек создан королем, — утверж-
дает Бюсси д'Амбуа, — «кто сам себе закон, в законе не нуждает-
ся, не оскорбляет закона и действительно король».
Обличение Чапменом в «Бюсси д'Амбуа» разврата, интриг
и преступлений, царящих при дворе последнего Валуа, перерастает
в дальнейшем в отрицание самых основ абсолютизма. «Что такое
князь? — спрашивает один из героев комедии «Джентльмен-при-
вратник» (The Gentleman Usher, 1602 *), лорд Очинлок. — Будь
все добродетельны, никогда не было бы на свете князей, а также
и подданных: все были бы князьями. Добродетельный человек не под-
властен никакому князю, а только своей душе и чести, что являются
законами, держащими при себе огонь и меч, никогда не ошибаю-
щимися, никогда не беззаконными. Что такого есть в князе, чтобы
малейшие его прихоти приравнивались к жизни людей?»
В «Отмщении Бюсси д'Амбуа» устами графини Камбрэ Чапмен
смело формулирует принцип ответственности короля перед обще-
ством («для поддержания которого только и были созданы первые
короли»). Произвол и тирания опасны для самих королей.
Нарушая договор с подданными, они сами повинны в из-
мене. В этом замечательном монологе уже предвосхищаются те
республиканские принципы, которым предстояло быть проведен-
ными в жизнь буржуазной революцией 1640—1660 гг.
Республиканские тенденции сказались и в других трагедиях
Чапмена. В «Помпее и Цезаре» (The Warres of Pompey and Caesar,
1613? *) он с особой любовью рисует образ героического республи-
канца Катона. В «Трагедии об Альфонсе, германском императоре»
(The Tragedy of Alphonsus, Emperor of Germany), опубликованной
много лет спустя после смерти Чапмена — в 1654 г., он пользуется
жанром «кровавой трагедии» как средством политического развен-
чания абсолютной власти в лице императора Альфонса, короно-
ванного злодея и тирана, типичного «макиавеллиста» в понимании
англичан того времени.
Духом гражданственности проникнуты чапменовские трагедии
о Шарле Бироне. На примере герцога Бирона, маршала Франции,
казненного за измену родине, Чапмен показывает, как гибнут даже
самые одаренные люди, если их деятельность направлена не на об-
щее благо, а на осуществление личных честолюбивых замыс-
лов. Все былые подвиги Бирона не могут искупить его предатель-
ства. Эти трагедии, строго соблюдающие единство действия
и проникнутые почти эпической величавостью, принадлежат
К числу наиболее сильных произведений Чапмена.
Осуществление политических идеалов в представлении Чампена
тесно связано с распространением знания. Как и просветители,
которых он отчасти предвосхищает, он преклоняется перед
разумом и наукой. Могущество знания служит одной из люби-
мых тем его дидактической поэзии. Только знание гарантирует
подлинную свободу. «Мудрым не надо королей».
Англ. литература 97
В «Отмщении Бюсси д'Амбуа»— трагедии, которая, по сло-
вам самого Чампена, должна была «побудить к героической
жизни» зрителей и читателей, — он создает интересный образ
вольнодумца Клермона д'Амбуа, смелого мыслителя, последова-
теля Сенеки. В этой трагедии некоторые исследователи усматри-
вают отголоски шекспировского «Гамлета». Феодальный долг
кровной мести (за брата) уже не является для героя Чапмена
руководством в жизни. Клермона, как человека Возрождения,
занимают общие проблемы его времени. Он видит испорченность
всего общества и потому готов снять с отдельных лиц (даже
с Гиза, убийцы брата Клермона) ответственность за их преступ-
ления. Живя, в отличие от большинства чапменовских героев,
в мире рефлексии, а не в мире действия, он не может принять
участия в распрях и раздорах своего времени и кончает само-
убийством.
Преклонение Чапмена перед разумом и знанием сказалось
в основных особенностях его эстетики. Как и Джонсон, он
видел в искусстве могущественное средство поучения и вос-
питания людей. «Наглядное поучение, изящное и наставитель-
ное побуждение к добродетели и отвлечение от порока — вот
душа, тело и пределы подлинной трагедии»,—писал он в посвя-
щении к «Отмщению Бюсси д'Амбуа».
Творчество Чапмена в. целом не лишено дидактического
отпечатка; в своих пьесах он Есегда готов отвлечься от дейст-
вия, чтобы подвергнуть обсуждению волнующие его вопросы
философии или общественной жизни. Он охотно превращает
своих героев в «рупоры идей». Страстные монологи, проникну-
тые высоким пафосом, но иногда не чуждые и риторичности,
составляют характерную особенность драматических произведе-
ний Чампена. Английская критика охотно говорит о «метафизич-
ности» его творчества.
Подобно Джонсону, Чампен до некоторой степени тяготеет
к классицизму. В своих комедиях он обращается преимущест-
венно к анализу односторонних «юморов», определяющих собою
характеры его персонажей. В трагедиях он тоже постепенно при-
ближается к классицизму. Пестрота и необузданность действия
в трагедии «Бюсси д'Амбуа» с ее кровавыми сценическими эф-
фектами, поединками, засадами, пытками и призраками, усту-
пает место классицистскому единству и четкости в трагедиях
о Шарле Бироне.
Чапмену, как и Джонсону, присуща склонность к «ученой»
поэзии. Он не без педантизма выставляет на показ свою эру-
дицию, щедро уснащая свои пьесы и в особенности поэмы ан-
тичными реминисценциями, запутанными риторическими оборо-
тами, сложными метафорами, в которых подча'с может разобраться
только знаток. «Я ненавижу чернь и посвящаю свои странные
поэмы лишь тем пытливым душам, которые облагорожены зна-
нием»,— заявляет он сам в посвящении к «Овидиеву празднику
чувств». Но добавляет, что, хотя «туманность напыщенных слов
98
и непереваренных метафор является педантичной и ребяческой»,
но сам он сознательно стрзмится к «темноте, которая была бы
заложена в самой основе предмета». Превращение простоты
в «специальное украшение поэзии» кажется ему «дорогой
к варварству». Он считается одним из самых «трудных и тем-
ных» драматургов английского Возрождения.
По преданию, молодой Шекспир считал своим соперником-
поэтом именно Чапмена и намекал на него в сонете 86, говоря
о «гордом и широком полете парусов» его стиха.
Впоследствии Чапмена высоко ценили Лэм, Кольридж, Ките,
посвятивший ему свой замечательный сонет «По прочтении
чапменовского Гомера», и Суинберн.
•
Глава 4
ДЕККЕР ^ГЕЙВУД — ДЕЛОНЕЙ
1
Драматургов Деккера и Гейвуда и автора повестей Делонея
роднит не только тяготение к бытовому реализму, но прежде
всего то, что все трое описывали жизнь ремесленных цехов.
Они воспели гильдейских мастеров и подмастерьев, обильно
черпая материал из цеховых преданий, а также из народных
баллад и песен. Творчество их, проникнутое духом эпохи Воз-
рождения, прошло, однако, мимо культа античности, столь
характерного для Ренессанса. Деккер и Гейвуд предвосхитили
основные черты той чувствительной мещанской драмы, которая
нашла свое дальнейшее развитие в драматургии XVIII века.
О жизни _Томаса Деккера (Thomas Decker или Dekker,
1570?— 1641 ?) нам почти ничего не известно. Он был, повиди-
мому, выходцем из плебейских низов Лондона и принадлежал
*С числу тех гениальных самоучек, которым приходилось ц^ною
Тяжелого и неблагодарного труда пробивать себе дорогу к скрйм*-
ному положению драматурга «театра для широкой публики».
Произведения Деккера свидетельствуют не только о том, что
он не приобщился к классическому университетскому образова-"
Шло. Он оставался в стороне и от влияния итальянского Воз-
рождения.
Деккер испытывал на себе царившее вокруг него социаль-
ное неравенство, и творчество его проникнуто сочувствием
к беднякам. «Да поможет бог беднякам, богатые сами о себе
позаботятся»,—таков эпиграф одного из прозаических его на-
бросков «Оружейникам прибавилось работы» (Work for Armou-
rours or tEePeacé ~ is~Brôken, 1609).
Чувство является основным мотивом в творчестве Деккера
И нередко переходит в чувствительность. Знаменитая песенка
из его пьесы о «Старом Фортунате», начинающаяся словами
«Art thou poor, yet Hast thou golden slumbers» (Хоть и беден
ты, но сны у тебя золотые), могла бы быть написана и в XVIII веке.
Исследователи не раз сближали «чувствительного» Деккера с Гольд-
смитом. Это, конечно, нуждается в существенных оговорках.
Народность Деккера, роднящая его с Шекспиром,шире и непосред-
ственней демократизма Гольдсмита.
Жизнь Деккера была, повидимому, неразрывно связана с Лон-
доном. «Чрево твое, — обращается он к родному городу, — дало
мне жизнь, твои сосцы питали меня». Еще молодым человеком Дек-
кер стал работать как драматург на Генсло, — на того самого Ген-
ело, первого крупного театрального антрепренера-капиталиста,
который, на ряду с «театрами для широкой публики», владел пред-
приятием для изготовления крахмала, ареной для травли медведей
и публичными домами. Популярность Деккера заставила Генсло
платить ему относительно более высокие гонорары, чем другим
драматургам. Так, например, за пьесу «Лечебное средство для
строптивой» (A Medicine for a Curst Wife, 1602 *?) Деккер получил
10 фунтов стерлингов. Но скудный литературный заработок давал
средства лишь на полуголодное существование Деккер не был, как
Шекспир, пайщиком театра.
Деккер не пользовался славой мастера литературной формы.
Бен Джонсон обрушился на него с жестокой критикой, обвиняя этого
«бродягу» и «невежду» в полнейшем незнании латинского и грече-
ского языков. Деккер ответил сатирой «Бич сатирика» (Satiro-
mastix, 1601), где издевался над «творческими муками» Бена Джон-
сона.
Эта полемика представляет интерес для биографии Деккера,
поскольку Джонсон издевался не только над «отсутствием искус-
ства» в его произведениях, но и над его безысходной бедностью.
Джонсон причислял Деккера к числу нищих поэтов, «голодных
бедняков, на которых всегда грязное белье и которые ничем не мо-
гут похвастаться, кроме худого лица, выглядывающего из рваной
одежды — живого воплощения нищеты» («Виршеплет»).
Деккер работал, подгоняемый нуждой. Он не только написал
самостоятельно много пьес (из которых до нас дошло всего семь),
но и сотрудничал в области драматургии с Джонсоном, Мидль-
тоном, Драйтоном, Четлем, Вебстером, Роули, Фордом и Мэссин-
джером. Трудоспособность, однако, не спасла Деккера от долговой
тюрьмы, в которой он пробыл с 1613 по 1616 г., а возможно,
и дольше.
Учителями Деккера были Марло и Грин. Влияние первого,
в особенности его «Фауста», сказалось на ранней пьесе Деккера
«Приятная комедия о старом Фортунате» (Pleasant Comedy
of Old Fortunatus), написанной около 1594 г. и впервые напечатанной
в 1600 г. Однако пьеса Деккера совершенно лишена широких фило-
софских концепций Марло. Идея пьесы до крайности прими-
тивна. Писатель ограничивается тем, что предостерегает от
излишней жажды золота, как от опасного «порока». Жизнь для
100
Деккера—череда превратностей, над которыми безраздельно
властвует судьба. От этого эпически созерцательного отношения
к жизни комедию не спасает шумная и яркая пестрота описан-
ных событий. С точки зрения формы, перед нами типичная для
английской драматургии той эпохи «причудливая смесь возвы-
шенного и низкого, ужасного и смешного, героического и шу-
товского»1.
Сюжет своей пьесы Деккер заимствовал из распространенной
народной сказки о волшебном кошельке, в котором никогда не
переводится золото. Крестьянину Фортунату, как в старинном
моралите, Судьба предлагает на выбор один из своих даров: муд-
рость, силу, здоровье, красоту, долголетие—или богатство. Фортунат
выбирает богатство и получает волшебный кошелек. Он оказывает-
ся при «Вавилонском дворе», где проводит в пиршествах дни и но-
чи. Но приходит преждевременная и неумолимая смерть. Пляшу-
щие сатиры уносят тело Фортуната. Богатство достается двум его
сыновьям, а также шуту, которому Деккер дал имя «Тень». Собы-
тия переносятся то в заморские страны, то в пустыню, где растут
волшебные «яблоки Содома». Порок, поощряемый вечно текущим из
кошелька золотым потоком, торжествует, но, конечно, только вре-
менно; в конце концов побеждает Добродетель. «Тень» рассказывает
о гибели тех, кто поддался пороку. Пьеса заканчивается апофео-
зом Добродетели, которую венчают на царство под громкую музы-
ку и песню: «Добродетель улыбается. Наступил праздник!». «Ко-
медия о старом Фортунате» по существу своему еще проникнута
духом старинного моралите, духом средневековья.
Свое настоящее творческое лицо Деккер нашел в «Празднике
башмачника» (The Shoemaker's Holiday, 1599 *). Два сюжета
параллельно развиваются в этой пьесе. Один из них отчасти навеян
«Благородным ремеслом» Томаса Делонея. Основная тема повести
Делонея — удачная судьба хозяина-ремесленника. Эту тему и по-
заимствовал Деккер. Главное действующее лицо в «Празднике
башмачника»—полулегендарный Саймон Эйр. Для Деккера он,
прежде всего, — человек из народа. Он побеждает в жизни не рас-
четливым практицизмом, но благородством своего беззаботного
сердца, а также безграничной щедростью и любовью к своим под-
мастерьям. Он чувствует себя среди них, как Робин Гуд среди
«веселых людей зеленого леса». «Будьте веселы, бездельники, как
весел ваш хозяин Саймон Эйр, и вы будете шерифами Лондона», —
ласково обращается он к своим подмастерьям. Этот «веселый баш-
мачник из Тауэр-стрит»—враг всех сословных различий. «Я не
принц, — заявляет он, — но по рождению равен принцу,
так как я — единственный сын башмачника». Шумный и хлопот-
ливый Саймон Эйр — великолепный, живой образ. Он любит по-
балагурить, ненавидит всякую мишуру, всякую церемонию — даже
короля он именует в лицо «дорогим Диоклетианом». Он всегда
готов помочь обиженным судьбой. Став лорд-мэром, он прежде
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. X, стр. 13.
101
всего думает о том, как бы получше угостить подмастерьев. «На-
кройте эту сотню столов еще и еще раз, пока не угостим всех весе-
лых подмастерьев, — восклицает он. — Попируем в честь баш-
мачников!» Саймон Эйр не одинок. Он окружен дружной семьей
подмастерьев, которых Деккер рисует не «мужланами» (clowns),
но живыми и привлекательными людьми.
Образ хозяина-ремесленника, сердце которого «безыскусственно
и не знает лукавства», является, как указывают исследователи, своего
рода романтической идеализацией старинных патриархальных цехо-
вых отношений. Но важно помнить, что пьеса Деккера появилась
в эпоху, когда с развитием новых капиталистических отношений
все более четко вырисовывался образ скрытного, расчетливого,
пуритански настроенного хозяина-предпринимателя. Толпа зри-
телей-подмастерьев шумно аплодировала Деккеру как своему пи-
сателю. Зрители из народа видели в бодром и торжествующем Сай-
моне Эйре осуществление своей исконной мечты. Саймон Эйр —
это сам народ, ставший в мечте Деккера, пусть и неосознанной им
самим, хозяином жизни. В наступавшие тяжелые времена зрители
из народа находили в этом спектакле утешение.
Недаром о тяжелых временах говорит одна из предпосланных
пьесе песен:
Ветер дует, дождик косит,
Гью святой х, ободри нас.
Плох тот день, что не приносит
Помощи в тяжелый час.
Веселей, веселей.
Эй, эй, веселей.
Вторая сюжетная линия этой пьесы — повесть о любви моло-
дого аристократа и дочери именитого лондонского купца, предше-
ственника Саймона Эйра на посту лорд-мэра. Отец против того,
чтобы его дочь выходила замуж за дворянина:
Проста моя дочурка для него.
- Не следует родниться горожанам
С придворными, что на одни наряды
В год тратят больше, чем имею я.
Со своей стороны, и граф Линкольн не соглашается на брак
своего племянника. Но любовь побеждает все преграды. Молодой
придворный, сбросив пышные наряды, одевается простым башмач-
ником и поступает подмастерьем к Саймону Эйру.
Любовь! Как ты всесильна, что способна
Высокому рожденью облик дать
Башмачника простого!
восклицает он.
1 Святой Гыо (Гуго) считался покровителем башмачников.
102
С помощью товарищей-подмастерьев влюбленному удается
обвенчаться с любимой девушкой. Покровителем молодых стано-
вится сам Саймон Эйр, лорд-мэр Лондона. Все это во многом напо-
минает старинные народные баллады. Неслучайно в начале коме-
дии, наряду с тревожной песней о тяжелых временах, звучит
гимн первому мая, празднику юности и весны, который в Англии
той эпохи был посвящен памяти Робина Гуда.
Ах, веселый месяц май, день веселый мая.
Зелен так и весел ты, юностью блистая.
Я возлюбленной сказал: «Пэгги, дорогая,
Пэг, голубка, будешь ты королевой мая».
Любовь устанавливает равенство между людьми, — такова
гуманистическая тема, роднящая Деккера с Шекспиром. С другой
стороны, народные корни гуманизма Шекспира видимы и для не-
вооруженного глаза через несложное и ясное творчество Деккера.
Есть в пьесе и момент непосредственного соприкосновения с Шекспи-
ром. Слова французского короля из комедии Шекспира ^ «Конец
делу венец» о том, что кровь у всех людей одинакова по цвету и
теплу, перекликается с торжественным заявлением английского
короля из «Праздника башмачника» Деккера:
Любовь не знает разницы в крови;
Рожденье ей и званье безразличны.
(Переводы А. С. Булгакова)
Образы лондонских подмастерьев, показанные в привлекатель-
ном свете и написанные в стиле, напоминающем красочную быто-
вую нидерландскую школу живописи, типичны для творчества
Деккера. Вновь встречаются эти образы в «Добродетельной шлю-
хе» (Ihe Honest Whore, между 1604 и 1605 *), хотя номинально
действие и происходит в Милане.
«Добродетельная шлюха» является самым зрелым в художествен-
ном отношении произведением Деккера. Пьеса состоит из двух
частей. В создании первой части с Деккером сотрудничал, хотя,
невидимому, в незначительной степени, Мидльтон. Героиней пьесы,
и при этом героиней положительной, является куртизанка. Уже
в первой части пьесы мы присутствуем при «исправлении», к которому
приводит вспыхнувшее в ее сердце чувство любви. Несмотря на
обилие дидактических элементов в этой пьесе, «чувствительный»
Деккер занимает позицию, резко противоположную взглядам
пуритан.
Молодой Ипполито, скорбящий о смерти своей возлюбленной
Инфеличе, встречается с куртизанкой Беллафронтой, которая, влю-
бившись в него, отказывается от своей развратной жизни. Но Иппо-
лито не отвечает на ее любовь. В конце концов оказывается, что
Инфеличе жива. Исстрадавшаяся Беллафронта выходит замуж за
того, кто впервые соблазнил ее. Такова условно «счастливая» раз-
вязка первой части. Но она, повидимому, не удовлетворила требо-
ваниям той жизненной, правды, которую искал Деккер.
103
Вторая часть показывает нам будни жизни. Прошло семнадцать
лет.Матео, муж Беллафронты, оказался неисправимым кутилой и
игроком. Он заставляет жену жить в бедности, обирает ее,даже крадет
у нее платье. Между тем,Ипполито пресытился прекрасной Инфеличе.
Теперь его очередь домогаться любви Беллафронты.Но она остается
верной мужу. В последнюю минуту Беллафронту спасает ее отец, ста-
рый Фрискобальдо. Он некогда отрекся от дочери, но уже давно, пере-
одетый слугой, наблюдал за нею. Этот не раз описанный в англий-
ской литературе чудак, сочетающий наружную грубость с чувстви-
тельностью сердца, несомненно принадлежит к наиболее ярким
из созданных Деккером образов. Старому Фрискобальдо Деккер
обязан тем, что некоторые критики окрестили его «Диккенсом ели-
заветинской Англии».
Таковы наиболее замечательные из дошедших до нас оригиналь-
ных пьес Деккера.
В прозаических своих произведениях Деккер рисует картины
темного, преступного мира Лондона, кишащего ворами, шулерами,
мелкими авантюристами всех мастей и оттенков. Реализм этих
набросков временами напоминает «Молль Флэндерс» Даниэля
Дефо. Но проза Деккера, конечно, далека от трезвой «протоколь-
ной» точности прозы Дефо. В ней мы найдем и элементы пышной
риторики, столь характерной для «елизаветинцев», и аллегори-
ческие образы, близкие к средневековому моралите. К описаниям
Деккера примешивается доля иронического гротеска. Не увле-
каясь духом авантюры, он интересуется, прежде всего, типичными
перспективами, взятыми из жизни. В прозе Деккера всегда чув-
ствуется драматург, современник Шекспира, жадно интересующий-
ся характерами. Перед нами проходят шулеры, обыгрывающие
в карты и в кости богатых наследников, мелкие ростовщики, взлом-
щики лавок, карманные воры. Пестрое своеобразие и вместе с тем
уродство растущего города на фоне «утренней зари капитализ-
ма» живо запечатлено Деккером в этих «зарисовках с натуры».
Но когда он переходит к рассуждениям, образы его часто ста-
новятся аллегориями, как, например, в «Семи смертных .грехах
Лондона» (The Seven Deadly Sins of London, 1606). Среди этих
«смертных грехов» мы находим «притворное банкротство» (Po-
litick Bankruptism),T. е. уловки лондонских купцов, объявляющих
себя банкротами, чтобы не платить долгов; «бритье» (Shaving),
т. е. погоню за чрезмерной и «незаконной» прибылью; «жесто-
кость», особенно типичными проявлениями которой Деккер счи-
тает взимание ростовщических процентов, ограбление хозяевами
подмастерьев и своеволие отцов, насильно, не по любви, выдающих
своих дочерей замуж. Аллегорические картины находим и в опи-
сании лондонской чумы (The Wonderful Year, 1603), где Смерть
наступает на Лондон со своим войском, врывается в город ив побе-
доносном шествии проходит по улицам, оставляя повсюду гнию-
щие трупы и гробы со зловонными останками.
Самым значительным прозаическим произведением Деккера
является «Азбука глупца» (Gull's Hornbook, 1609). В Лондон того
104
времени приезжало из провинции немало знатных и богатых моло-
дых людей, которые старались не ударить лицом в грязь и «по-
казать себя» столице. В необыкновенно широких воротниках, с яр-
кими лентами на шляпах и зубочистками в руках они фланировали
около собора св. Павла или часами сидели в лондонских тавер-
нах. Эти щеголи постоянно становились жертвами всевозможных
плутов и обманщиков. Тип такого одураченного «глупца» (gull)
находим, например, в шекспировском «Отелло» в лице Родриго.
Деккер дает иронические «советы» такому щеголю. Вот, например,
как он «должен» вести себя в театре. Взгромоздясь на сцену, по-
добно «пернатому страусу», щеголь не должен обращать ни ма-
лейшего внимания на возмущение «подлых» зрителей партера, ко-
торым он мешает видеть происходящее на подмостках. «Пусть они
орут и свистят, пусть даже швыряют в тебя грязью. Джентльмену
полагается переносить все это с терпеньем и отвечать смехом на
угрозы этих глупых животных. Тебя будут громко хвалить, если
ты расхохочешься посреди серьезной и печальной сцены ужас-
нейшей трагедии».
В карикатуре Деккера нетрудно узнать влияние сатирической
прозы Томаса Нэша, хотя у Деккера юмористический элемент
несомненно преобладает над сатирическим. Обильны черты сход-
ства и с комедиями «английского Мольера» Бена Джонсона, и в
особенности с Мидльтоном. «Азбука глупца» во многих отноше-
ниях предвосхитила нравоописательные портреты в прозе Томаса
Овербери (1614), от которых тянется путь к юмористическим очер-
кам Аддисона.
2
Творчество Томаса Гейвуда (Thomas Heywood,? — 1650),
как и творчество Деккера, достигло своего совершенства в «чув-
ствительной» драме. Гейвуд близок к Деккеру и потому, что
оба они помнили о наиболее демократических зрителях своего теат-
ра, о зрителях партера. Типичен в этом отношении аргумент Гей-
вуда из его «Апологии актеров» (An Apology for Actors, 1612).
Исторические пьесы, рассуждает он, нужны потому, что рас-
сказывают об исторических событиях неграмотным зрителям, ко-
торые не могут прочесть хроники.
Гейвуд, как и Деккер в «Празднике башмачника», прославляет
лондонских подмастерьев в наиболее красочной из своих пьес
«Четыре лондонских подмастерья» (Four Prentices of London),
написанной им еще в молодые годы — около 1600 — г. и напечатан-
ной в 1615 г.
Гейвуд, как и Деккер, был профессиональным драматургом.
Он, повидимому, происходил из провинциальной дворянской семьи.
Окончив Кембриджский университет, он, возможно за неимением
лучшего (это часто тогда бывало), пошел в актеры. Уже двадцати
лет он стал писать пьесы для театра, работая на такого жесткого
дельца-антрепренера, как Генело. За свою продолжительную твор-
ческую деятельность Гейвуд, по его собственным словам; написал
105
полностью или в качестве соавтора 220 пьес, — больше, чем лю-
бой другой английский драматург того времени. Но из этого огром-
ного количества до нас дошло всего 24. Как и другие современные
ему английские драматурги,Гейвуд получал за свой труд ничтожную
плату. Так, например, за «Женщину, убитую добротой» он получил
от Генсло всего 6 фунтов, тогда как одно черное бархатное женское
платье для этой пьесы обошлось театру приблизительно в ту же
сумму.
Гейвуд писал свои пьесы для сцены, и только для сцены. В пре-
дисловии к «Английскому путешественнику» (English Traveller,
1631) он сам заявляет, что ему безразлично, будут ли его пьесы
собраны и изданы для чтения. Ему, конечно, и в голову не пришло
назвать свои пьесы «трудами», как это сделал Джонсон.
Как и для большинства драматургов шекспировской Англии,
основным критерием драматургического искусства для Гейвуда
было то, насколько пьеса развлекала зрителей. Так, например,
смешение трагического с комическим, которое апологеты «ели-
заветинской» драматургии впоследствии оправдывали существо-
ванием такого смешения в самой жизни, Гейвуд объяснял очень
просто: такого рода разнообразие нравится публике.
Кроме пьес, Гейвуд писал различные произведения в стихах
и прозе, близкие к той литературе, которая в лубочных изданиях
и в форме повестей, баллад, «путешествий» и т. д. наводняла лондон-
ский книжный рынок. Из прозаических его произведений упомя-
нем: «Девять книг различных повестей о женщинах» (Nine Books
of Various History Concerning Women, 1624); «Наша английская
Елизавета» (England's Elisabeth, 1632), где Гейвуд описывает
юные годы Елизаветы до ее воцарения и страдания ее во время
царствования* католички Марии Кровавой; «Достойнейшие
женщины мира. Три еврейки. Три язычницы. Три хри-
стианки» (Most Worthy Women of the World. Three Jewesses.
Three Gentiles. Three Christians, 1640); «Жизнь Мерлина...
Его пророчества» (The Life of Merlin... His Prophecies, 1641);
из поэм — «Британская Троя» (Troia Britanica, 1609) «Иерархия
благословенных ангелов» (The Hierarchy of the Blessed Angels,
1633), где описываются «службы» различных ангелов, а также
падение Люцифера.
Гейвуд, повидимому, продолжал работать над углублением при-
обретенного им в Кембридже классического образования, о чем
свидетельствует, в частности, изданный им в 1608 г. перевод Сал-
люстия.
Работая для театра, Гейвуд испробовал себя в самых различных
жанрах. Он то «опускался» до лондонского кабачка или лавки,
находящейся неподалеку от лондонской биржи, то поднимался до
мифологических сюжетов, рассчитывая на эффектные зрелищные
представления, то писал исторические «хроники».
Среди этого репертуара, пестроту которого сам Гейвуд объяснял
меняющимися вкусами публики, выделяется пьеса «Четыре лон-
донских подмастерья», посвященная «честным и доблестным под-
106
мастерьям». Гейвуд зовет подмастерьев на подвиги и приключения,
достойные рыцарского романа. Действие из Лондона переносится
в заморские страны и, наконец, в Иерусалим, у «высоких стен»
которого встречаются, покрытые славой, четыре брата, четыре
лондонских подмастерья. Здесь венчают их королевскими венца-
ми, но один из братьев предпочитает венец из терний. Перед нами
картина, близкая к воспетому пуританскими проповедниками
«Горнему Иерусалиму избранных». Правда, четыре брата — порт-
ной, сапожник, шерстобит и приказчик — оказываются сыновьями
обездоленного «старого графа Бульонского», но это не меняет де-
мократической сущности произведения. Аристократичность —
лишь традиционное и внешнее украшение. Недаром у каждого
из четырех героев Гейвуда на щите, вместо рыцарского герба,
эмблема его гильдии. Один из братьев во время битвы сожалеет
о том, что с ним нет честных лондонских подмастерьев.
Над пьесой Гейвуда и над подобными ей издевались в «Рыцаре
пламенеющего пестика» Бомонт и Флетчер, иронизируя над «дон-
кихотством» лондонских подмастерьев. Эта пародия заставила,
конечно, смеяться тех самых зрителей из придворных и аристокра-
тических кругов, которые впоследствии искренне изумлялись,
увидав «обычных» горожан, вооружившихся в бой против «кава-
леров». Гейвуд не сомневался в воинской доблести горожан, что
видно, например, из его исторической драмы «Эдуард IV» (Edward
IV, 1599), в которой он повествует о военной победе вооружив-
шихся лондонских горожан под командой лорд-мэра. Сочувствие
горожанам, в частности религиозным их взглядам, сказалось в
трактовке Гейвудом исторической тематики. Так, например, в пье-
се «Если вы не знаете меня, вы никого не знаете» (If You Know not
Me, You know Nobody, 1605 *), выдержавшей с 1605 г. по 1639 г.
восемь изданий, описаны страдания идеализированной Гейвудом
молодой протестантской принцессы Елизаветы, будущей королевы,
под гнетом католички Марии Кровавой.
В пьесе «Красотка с запада» (The Fair Maid from the West,
1631) девушка из английской таверны поражает султана своей
красотой. Гейвуд дал этой энергичной девушке английское
народное имя Бесс и заставил султана Мулли шейха восторженно
воскликнуть при виде ее:
Я смущен.
Передо мной не смертное созданье,
А верно, ангел, залетевший с неба
К нам от пророка!
[Переводы А С. Булгакова)
В «Эдуарде IV» Гейвуд рисует печальный и трогательный образ
Жены ювелира Джен Шор, возлюбленной короля, погибшей
в нищете. «Прекрасная девушка с биржи» (The Fayre Mayde of the
Exchange, 1602 *) — повесть о любви скромной лондонской про-
давщицы.
Само понятие «джентльмен» по-новому раскрывается в твор-
честве Гейвуда. Хотя в его пьесах постоянно действуют дво-
107
ряне, «джентльменами» делает их природа, а не рожденье. К та-
ким «джентльменам по природе» принадлежит Франкфорд, герой
пьесы «Женщина, убитая добротой» (A Woman Kilde with Kind-
nesse, 1603 *). Он узнает, что жена изменила ему с его другом, ко-
торый отплатил ему черной неблагодарностью за благодеяния.
Но Франкфорд не отдается чувству мщенья. Спокойный и сдер-
жанный, он отправляет жену в загородный дом, запретив ей писать
ему и видеться с детьми. Когда, истерзанная угрызениями совести,
она лежит на смертном одре в уединенном загородном доме, по-
является Франкфорд и торжественно прощает грешную жену.
Такая «доброта» кажется теперь жестокостью. Но Гейвуд несомнен-
но одобрял поведение Франкфорда, поступившего так, как должен
был поступить, по мнению Гейвуда, «джентльмен». Наряду с «бла-
городным» поведением Франкфорда Гейвуд рисует угрызения со-
вести его жены. За живым изображением мучительных чувств
этой несчастной жертвы, которую ее соблазнитель уговорил «не
быть пуританкой», скрывается моральное нравоучение. Так
и в «Английском путешественнике», рассказывая о том, как молодой
благородный Джеральдайн был обманут любимой девушкой
и другом, Гейвуд предостерегает против «любовной страсти» и чрез-
мерной доверчивости к друзьям. Но это морализирование не по-
мешало Гейвуду создавать живые образы и описывать живые чело-
веческие чувства.
Драматургия Гейвуда не целиком принадлежит эпохе Возрож-
дения. В его трактовке образов, как и в простом, «обыденном» его
стиле, чувствуется, по сравнению, например, с Шекспиром, человек
другой литературной эпохи, хотя Вебстер и называет их имена
рядом, говоря об «удачном и приносящем обильный урожай трудо-
любии мистера Шекспира, мистера Деккера и мистера Гейвуда»
(предисловие к «Белому Дьяволу», 1612). В моральной проповеди
Гейвуда ясно чувствуется примесь пуританских воззрений.
Гейвуд, как и Деккер, предвосхитил ряд существенных черт бу-
дущего развития английской литературы, в частности «мещанской
драмы» XVII века с ее повседневной бытовой тематикой и морали-
стической тенденцией.
3
С «Праздником башмачника» Деккера, отчасти и с «Четырьмя
лондонскими подмастерьями» Гейвуда, перекликаются повести То-
маса Делонея (Thomas Deloney, 1543—1600), бытописателя гиль-
дейских цехов.
Делоней не был, повидимому, уроженцем Лондона. Сначала
он работал ткачом в Норвиче (о нем, как о «ткаче из Норвича»,
упоминает Нэш), что, впрочем, не помешало ему знать латинский
язык и начать свою деятельность переводом с латинского «Декла-
рации» архиепископа Кельнского (1584). В Лондоне Делоней
прославился лубочными балладами и повестями из быта гильдей-
ских цехов.
Но известность в демократических кругах и среди народных
108
масс Лондона вряд ли могла обеспечить существование писателю.
В 1600 г., говоря о смерти Делонея, актер Кемп упоминает о край-
ней его бедности.
Баллады Делонея принадлежали к жанру, весьма популяр-
ному в Лондоне времен Шекспира. Многие из них посвящены круп-
ным современным историческим событиям: англо-испанской войне,
разгрому Армады. 'Другие обращаются к историческому прошлому
Англии. Особенного внимания заслуживает баллада о восстании
Уота Тайлера (The Rebellion of Wat Tyler). Для некоторых баллад
Делоней заимствовал «романтические» сюжеты новелл Боккаччо,
как, например, для баллады о терпеливой Гризельде (Patient Gris-
sil and a noble Marquis), а также из рыцарских романов, как, на-
пример, для баллады о Ланселоте (Lancelot du Lake) и из устной
фольклорной традиции (баллады о битве при Флоддене, о смерти
прекрасной Розамунды и др.).
Но Делоней коснулся и другой тематики. В одной из своих
баллад он изображает королеву Елизавету, ведущую беседу с на-
родом, который горько жалуется на свою судьбу. Лорд-мэр Лондо-
на 25 июля 1569 г. сообщал об этой балладе лорд-канцлеру, при
чем упоминал об ее авторе, подстрекающем народ к мятежу, —
«некоем негодяе Делонее». >
Демократическим пафосом насыщены и три большие повести
Делонея, написанные, возможно, по заказу ремесленных гиль-
дий. В «Джеке из Ньюбери» (Jack of Newbury, 1597) Делоней
славит ткачей, в «Благородном ремесле» (The gentle Craft, 1597) —
башмачников, в «Томасе из Рединга» (Thomas of Reading, 1600) —
суконщиков.
В основу своих повестей Делоней положил известные леген-
ды, а также исторические факты из жизни ремесленных цехов.
К основному повествованию он присоединил многочисленные
побочные сюжеты и эпизоды, использовав для этого и «хроники»
Голиншеда, и фабльо, и баллады, и всевозможные лубочные
книжки развлекательных повестей, и переводы итальянских
новелл. Однако повести Делонея интересны не своей интригой,
а заимствованными из жизни, хотя и идеализирующими эту
жизнь, картинами. Искусство Делонея напоминает спокойный
и трезвый реализм голландских мастеров.
Герои Делонея — ремесленники, мануфактуристы, купцы, вы-
шедшие из низов и достигшие богатства и почестей. Подмастерье
Джек из Ньюбери женится на вдове своего хозяина и становится
богачом. Герой Делонея полон чувства собственного достоинства.
Верный сын доброй старой Англии, он выручает ее в минуту
•опасности, помогая самому королю, но решительно отказывает-
ся от дворянского звания, предложенного ему в награду. Духом
воинствующего демократизма проникнута дерзкая притча, кото-
рую Джек из Ньюбери рассказывает королю. Он говорит о себе,
как о предводителе трудолюбивых муравьев, «мирную республи-
ку» которых он хочет защищать от посягательств праздных
и властолюбивых раззолоченных бабочек.
109
В «Благородном ремесле»—повести, прославляющей знаме-
нитых башмачников прошлых дней и начинающейся с жития их
«покровителя», святого Гуго, бывший подмастерье Саймон Эйр,
тот самый, которого воспел Деккер в «Празднике башмачника»,
становится лорд-мэром Лондона. Как и в пьесе Деккера, жизнь
мастеров-хозяев и их веселых подмастерьев залита солнечным
светом, между хозяевами и их подмастерьями царит еще ничем не
омраченная гармония.
В этих идеализированных картинах веселого труда, безмятеж-
ного довольства и растущего избытка раскрывается полнее всего
живописное дарование Делонея. Изобилие и радость царствуют
в доме и мануфактуре Джека из Ньюбери. Двести прядильщиц
в красных юбках, в белых, «как снег», рубашках и белых, «как моло-
ко», платочках распевают за работой, «точно соловьи». Тут же
весело трудятся двести ткачей. Всех их добрый Джек кормит
жирной и обильной снедью. В «Томасе из Рединга» говорится
о том, как путешествующий король повстречался с двумя стами
телег, груженых сукном. Король вынужден был посторониться.
Вскоре король повстречал еще и еще караваны. «Я всегда по-
лагал, — восклицает удивленный король, —что храбрость анг-
личан превосходи их богатство. Теперь я вижу, что богатство
может оказать помощь их доблести».
Стиль Делонея, местами надуманный и напыщенный, — он
неискусно" подражает изысканной прозе писателей аристо-
кратически-придворного круга, — достигает наибольшей убе-
дительности при описании явлений обыденной, хотя и идеали-
зированной, действительности, когда Делоней рассказывает
о вещах и фактах и, по собственному определению, говорит языком
«простым и скромным».
Книги Делонея пользовались у современных демократиче-
ских читателей огромной популярностью. К 1630 г. «Джек из
Ньюбери» выдержал 11 изданий. Повесть эта переиздавалась и
в XVIII веке, но позднее Делоней был забыт, и исследователь-
ский интерес к его творчеству возник лишь в начале XX века.
Наряду с Делонеем следует упомянуть Ричарда Джонсона
(Richard Johnson, 1573—1659?), лондонского подмастерья, про-
славившегося описанием в прозе и стихах жизни «Девяти достой-
ных мужей Лондона» («Nine worthies of London», 1592),в том числе
галантерейщика, бакалейщика, портного и ткача, увенчавших
себя славой геройских рыцарских подвигов.
•
Глава 5
БОМОНТ И ФЛЕТЧЕР
Бомонт и Флетчер, наряду с Беном Джонсоном, являются
самыми выдающимися из современников Шекспира. Они вы-
ступили со своими произведениями в период расцвета англий-
ской драмы Возрождения, но в их творчестве, при всем его блеске,
lir-
уже заметны признаки кризиса гуманистического ренессансного
искусства.
Традиция навсегда соединила имена Бомонта и Флетчера.
Они стали примером столь тесного творческого содружества,
что признано невозможным отделить их друг от друга. Этому
содействовало и то, что произведения их были изданы вместе.
Впервые собрание их сочинений было напечатано в 1647 г. Оно
содержало 34 пьесы и одну «маску». Во втором издании, вышед-
шем в 1679 г., было 52 пьесы и одна «маска». Второе издание
и составило так называемый канон Бомонта и Флетчера.
Работа первых исследователей заключалась в том, чтобы
определить особенности каждого из соавторов и выделить долю
каждого из них в их совместном творчестве. Постепенно, однако,
стало обнаруживаться наличие творческой манеры третьих лиц,
и в настоящее время уже совершенно очевидно, что 52 пьесы,
составляющие «Собрание сочинений Бомонта и Флетчера»,—резуль-
тат творчества более чем двух драматургов.
Согласно новейшим исследованиям, из 52 пьес издания 1679 г..
одна была написана Бомонтом, около 10 —Бомонтом и Флетче-
ром, около 15— одним Флетчером, больше 20 — Флетчером
в сотрудничестве с другими драматургами, около 5—никакого
отношения ни к Бомонту, ни к Флетчеру не имеют. К этому
следует добавить не вошедшие в это собрание произведения: по
меньшей мере две пьесы, написанные Флетчером совместно
с Шекспиром, и новооткрытую пьесу «Барнавельт», написанную
Флетчером и Мэссинджером.
Таким образом, значительнейшая часть «Сочинений Бомонта
и Флетчера» была результатом коллективного творчества не-
скольких драматургов. Особенно велика здесь доля Мэссин-
джера, который был главным сотрудником Флетчера после смерти
Бомонта и участвовал в создании более чем 15 пьес. Кроме того,
работами различных исследователей утверждается большая или
меньшая прикосновенность к отдельным пьесам и таких драма-
тургов, как Фильд, Мидльтон, Роули, Шерли.
И все же произведения Бомонта и Флетчера обладают совер-
шенно определенным стилевым единством. Это единство в зна-
чительной степени обусловливается тем, что в создании почти
всех 52 произведений львиная доля принадлежала Флетчеру.
Именно его творческая индивидуальность определила наиболее
яркие художественные особенности всего цикла пьес.
Джон Флетчер (John Fletcher, 1579—1625) был младшим
сыном настоятеля собора в Питерборо, впоследствии лондонского
епископа. Семья была не чуждой литературных инте-
ресов. Двоюродные братья Джона Флетчера, Джайльс и Фи-
неас Флетчер, были незаурядными поэтами. Джон Флетчер
учился в Кембриджском университете. Ему было 17 лет, когда
Умер его отец и ему пришлось задуматься о заработке. Он избрал
профессию драматурга. Работал он быстро, создавая за год больше
произведений > чем любой другой драматург его времени.
m
Согласно исследованию Д. Маколея, следующие пьесы были
написаны одним Флетчером: «Преданная пастушка» (The Faith-
full Shepherdesse, 1609— 1610),*) «Мусье Тома» (Monsieur Thomas,
1609*, переделка 1615*)., «Валентиниан» (Valentinian, 1611—
— 1614*?), «Бондука» (Bonduca, 1613—1614*?), «Ум без денег»
(Wit Without Money, 1613—1614*), «Укрощение укротителя» (The
Woman's Prize, or Tamer Tamed, 1603*?), «Верноподданный» (The
loyal subject, 1618*), «Безумный влюбленный» (The Mad Lover,
1616*), «Своенравный лейтенант» (The humourous Lieutenant,
1619*), «Довольные женщины» (Women Pleased, 1619—1621*,),
«Паломник» (The Pilgrim, 1621*), «Чепуха» (The Wild-Goose
Chase, 1621*?), «Принцесса острова» (The Island Princess, 1621*),
«Жена на месяц» (A Wife for a Month, 1624 *), «Кто правит же-
ной— имеет жену» (Rule a Wife and have a Wife, 1624 *)
Эти произведения дают возможность установить характерные
черты творческой индивидуальности Флетчера. У него было живое
и богатое воображение, он отличался большой изобретатель-
ностью, стих его был певуч и мелодичен. Он питал особую склон-
ность к острым драматическим ситуациям, любил динамическое
действие и резкую смену эпизодов, но ему недоставало
глубины мысли и проникновенного понимания человеческой
души.
Фрэнсис Бомонт (Francis Beaumont, 1584—1616), как
и Флетчер, в отличие от большинства других драматургов своего
времени, происходил из культурной семьи, принадлежавшей
к высшим слоям общества. Его отец был судьей. Бомонт сначала
учился в Оксфорде, а затем изучал право в одной из лондонских
юридических школ. Однако он не пошел по стопам своего отца,
а посвятил себя драме и театру. Его первым произведением была
пьеса «Женоненавистник» (The Women-Hater, 1605—1606 *?).
Сближение Бомонта и Флетчера произошло в 1607 г. Они
подружились и решили жить и работать вместе. Они поселились
неподалеку от театра «Глобус». Имущество у них было общее,
и свои заработки они делили поровну. Так они жили до 1613 г.,
когда Бомонт женился. 1607—1613 гг. и были годами творче-
ского содружества Бомонта и Флетчера. Именно в этот период
ими были созданы наиболее значительные произведения. Это —
«Рыцарь пламенеющего пестика» (The Knight of the Bur-
ning Pestle, 1610?*); «Филастер» (Philaster, 1609*?), «Трагедия
девушки» (The Maid's Tragedy, 1609—1611*?), «Король и не ко-
роль» (A King and no King, 1611*), «Четыре пьесы в одной» (Four
Plays in One, 1613—1615*?) и, возможно, некоторые другие про-
изведения.
Соавторство Бомонта и Флетчера было счастливым сочета-
нием. Именно в этом творческом содружестве расцвел талант
каждого из них. Обладая не меньшим чувством трагического
и комического, чем Флетчер, Бомонт отличался от своего друга
большей серьезностью и глубиной, склонностью к патетике
и безусловно большим эстетическим чувством меры.
112
После того как распалось это замечательное содружество,
Флетчер написал еще ряд пьес один (эти пьесы перечислены выше)
и в сотрудничестве с другими писателями. Особенно много про-
изведений было написано им вместе с Мэссинджером. Сюда от-
носятся «Барнавельт» ' (Barnavelt, 1619*), «Обычай страны»
(The custom of the Country, 1619—1623*), «Старший брат» (The
elder Brother, написан около 1614), «Маленький французский
адвокат» (The little French Lawyer, 1619—1620*), «Испанский
священник» (The Spanish Curate, 1622*) и др.
Особый интерес представляет вопрос о соавторстве Шек-
спира и Флетчера. По мнению Снеддинга, разделяемому боль-
шинством исследователей, «Генрих VIII» написан ими совместно,
причем Шекспиру принадлежат: в первом акте—сцены 1 и 2, во
втором—3 и 4, в третьем—строки 1—203 второй сцены
и в пятом—первая сцена, а остальное будто бы написано Флетче-
ром. В последнее время Сайке выдвинул гипотезу, что так назы-
ваемые шекспировские сцены этой пьесы были написаны
Мэссинджером и всю хронику следует считать произведением Флет-
чера и Мэссинджера.
Вторая пьеса, приписываемая Шекспиру и Флетчеру, —
«Два благородных родича» (The two Noble Kinsmen, 1613*) —
инсценировка истории Паламона и Архита из «Кентерберийских
рассказов» Чосера. Традиционная гипотеза приписывает Шек-
спиру все поэтическое в этой пьесе, относя на счет Флетчера все
слабые ее места. Сайке склонен видеть в некоторых сценах руку
Мэссинджера, а Олифант полагает, что и Бомонт имел некото-
рое отношение к этой пьесе. Впрочем, многие текстологические
й хронологические вопросы, связанные с творчеством Бомон-
та и Флетчера, и поныне недостаточно изучены и остаются спор-
ными.
Творчество Бомонта и Флетчера, приходящееся на первую
четверть XVII века (1607—1625), внесло ряд новых черт в ан-
глийскую драматургию Возрождения. В социальном отношении
оно характеризовалось резко выраженными аристократическими
тенденциями. Это было связано с изменением в общем направлении
сценического и театрального искусства в начале XVII века.
Театр, который со времени разгрома Непобедимой Армады был
народным, после воцарения Якова I постепенно все более под-
вергался влиянию придворно-аристократических кругов, на-
стоятельно диктовавших ему свои требования и п:степенно под-
чинявших его своим вкусам.
Правда, ряд драматургов не поддавался этой тенденции,
боролся против нее, но в театре, для которого писали Бомонт и
Флетчер и который был одним из ведущих театров того времени,
"эта тенденция победила. Это был театр, с которым была связана
Деятельность Шекспира и который теперь, в период, когда
Утвердилось влияние Бомонта и Флетчера, действительно
оправдал свое название («слуг его величества»), ибо стал
ориентироваться на вкусы двора и аристократии.
Англ. литература 113
В то время как Шекспир опровергал божественный ха-
рактер королевской власти, Бомонт и Флетчер окружают мо-
нархию ореолом святости. Их положительные герои на все
лады и по разным поводам утверждают необходимость пре-
данного служения королю. В их пьесах нередко встречается
изображение дурных поступков монархов, но даже это, по
их мнению, не дает оснований для неповиновения или бунта.
Так Аэций в «Валентиниане», обращаясь к пострадавшему от
монаршего своеволия Максиму, говорит: «Вспомни, Максим,
что мы лишь подданные. Покорность тому, что повелевается,
и скорбь по поводу того, что творится дурно, — вот единствег-
ное, что нам остается». Аркас в «Верноподданном» не только благо-
дарит монарха, сместившего его с должности, но покорно по-
сылает своих дочерей ко двору, где их ждет печальная участь;
когда возмущенные пороками монарха войска готовы восстать,.
Аркас останавливает их, ибо выше всего он ставит долг подчи-
нения подданного своему королю. Наряду с этим большое
значение в творчестве Бомонта и Флетчера имеет понятие дво-
рянской чести, которое здесь, как и в испанской драме, допу-
скает своеволие, пороки, разврат и убийство.
Дворянско-аристократические тенденции драматургии Бо-
монта и Флетчера получили выражение и в комедии «Рыцарь
пламенеющего пестика, (большая часть пьесы написана Бо-
монтом, меньшая — Флетчером). Сюжет комедии в значитель-
ной степени навеян «Дон Кихотом» Сервантеса. Некий бака-
лейщик в сопровождении жены и подручного Ральфа при-
ходит в театр. Когда пролог объявляет о содержании пьесы,
долженствующей изображать высокопоставленных особ, бака-
лейщик требует, чтобы показали другую пьесу, героем кото-
рой был бы человек его профессии. Идя навстречу его желанию,
актеры ставят пьесу, в которой главным героем является Рыцарь
пламенеющего пестика, роль которого^} исполняет подручный
бакалейщика Ральф. При исполнении этой роли Ральф, начи-
тавшийся рыцарских романов, проявляет эрудицию, анало-
гичную той, которою наделил Сервантес своего Рыцаря Печаль-
ного Образа. Таким образом, в комедии Бомонта и Флетчера
Санчо Панса выступает в роли Дон Кихота.
Пьеса эта — прямой выпад против бюргерской драматур-
гии того времени; она осмеивает желание буржуазных слоев
увидеть свою жизнь отображенной в искусстве.
Пародия на рыцарство у Бомонта и Флетчера не случайна
и не противоречит их аристократизму, ибо дворянство, на ко-
торое они ориентировались, было чуждо рыцарскому идеалу сред-
невековья. Творчество Бомонта и Флетчера —один из показателей
начинавшегося распада гуманизма Возрождения. От гуманиз-
ма они унаследовали культ земной жизни, но им чужды высокие
нравственные идеалы. В этических вопросах они, по существу,
индифферентны. Они принимают существование зла и пороков
как нечто само собой разумеющееся. Этим они резко отличаются
114
от Джонсона, который, борясь именно с такого рода тенденцией,
выступая от имени передовых буржуазно-демократических слоев
общества, важнейшей задачей театра считал обличение пороков.
Бомонт и Флетчер с полным безразличием рисуют картины
пороков.и страстей. Призером этого может служить «Трагедия
девушки». Король выдает свою любовницу Эвадну за слабо-
характерного Аминтора, который ради этого брака отказы-
вается от своей невесты Аспазии. В брачную ночь Эвадна рас-
сказывает Аминтору, что у нее есть любовник, которому она
попрежнему будет принадлежать, он же будет ее мужем лишь
по имени. Аминтор заявляет, что он убьет своего счастливого
соперника, но когда Эвадна называет имя своего возлюбленного,
он смиряется. Преданный своему монарху, он отказывается от
мести, хотя и чувствует себя глубоко униженным и оскорб-
ленным той ролью, которую ему навязал король.
Не таков его друг Мелантий. Уязвленный тем, что его
сестра Эвадна стала наложницей короля, Мелантий решает
отомстить. Побуждаемая им, Эвадна убивает короля и рас-
сказывает об этом Аминтору, надеясь, что заслужила прощение.
Но ее поступок приводит Аминтора в ужас. Тогда Эвадна
убивает себя тем же кинжалом, которым она заколола короля.
Аспазия, отвергнутая Аминтором невеста, также ищет смерти.
Переодетая в мужское платье, она встречается в поединке
с Аминтором, который, не узнав девушки, убивает ее. Таково со-
держание трагедии —одной из наиболее значительных в твор-
честве Бомонта и Флетчера.
В отличие от Шекспира, который возвысил «кровавую драму»,
дав ей глубокое социальное, философское и психологическое
содержание, Бомонт и Флетчер возвратились вспять —к манере
Кида. В сущности они продолжают именно его манеру, развивая
мелодраматические возможности, заложенные в жанре, кро-
вавой драмы». Наряду с этим они разрабатывают технику нового,
промежуточного жанра трагикомедии, сочетающего элементы
трагизма, героики, идиллии и комедии. Наиболее значительный
образец этого жанра в их творчестве — «Филастерж
Наследный принц Сицилии Филастер любит Аретузу, но
ее отец, захвативший трон, решает выдать ее за испанского
принца Фарамонда. Однако у Фарамонда есть любовница Мегра,
•которая, чтобы помешать его браку, обвиняет Аретузу в связи
с пажем Филастера, Беларио. Филастер, поверив клевете, решает
отомстить и ранит Аретузу и Беларио. Беларио делает при-
знание, которое разъясняет все. Оказывается, что это не юноша,
Д девушка Ефразия, влюбленная в Филастера. Она переоделась
Э мужское платье и стала пажем, чтобы находиться вблизи без-
надежно любимого ею принца. Все завершается счастливым
концом, и Филастер женится на Аретузе.
Эта пьеса опять-таки дает материал для сравнения с Шек-
спиром. Как давно замечено критиками, Филастер напоминает
то Гамлета, то Отелло. Ефразия, переодевшаяся пажем, явно
списана с Виолы из «Двенадцатой ночи». Заимствуя то здесь,
то там у Шекспира, драматурги создают новую комбинацию
драматических моментов, но даже непосредственные заимство-
вания у великого мастера не приближают их к нему. В отличие от
автора «Гамлета» и «Отелло», создавшего действие, насыщенное
подлинным трагическим пафосом, они лишь нагромождают мело-
драматические события и эпизоды. Бомонт и Флетчер ставят
себе задачей не художественную разработку сложных проблем
жизни, а создание занимательного действия, насыщенного мело-
драматизмом. Ради занимательности они жертвуют правдо-
подобием. Взяв у Шекспира отдельные «романтические» элементы,
Бомонт и Флетчер возвели их в принцип и создали новый метод
в драматургии. Этот метод получил особенно полное воплощение
в их трагикомедиях, которые позднейшая критика называет
также «романтическими драмами». Мастерское владение новой
формой обеспечило ей большой успех. Она начала даже вытес-
нять трагедию.
Ряд драматургов почувствовал себя вынужденными пойти
на выучку к Бомонту и Флетчеру. Среди них оказался даже
сам Шекспир. Все произведения, созданные Шекспиром в по-
следний период его творчества — «Перикл», «Зимняя сказка»,
«Цимбелин» и «Буря», — принадлежат к жанру, введенному
Бомонтом и Флетчером: к трагикомедиям или «романтическим
драмам». Необходимо, впрочем, отметить, что в «Буре» Шекспира
больше идейного содержания, чем во всех 52 пьесах и одной
«маске» Бомонта и Флетчера вместе взятых.
Богатство содержания заменяется у Бомонта и Флетчера
динамичностью действия, глубина изображения характеров —
изобилием поступков, острота проблем —острыми драматическими
ситуациями. Это относится не только к их трагедиям и траги-
комедиям, но и к комедиям.
Недостатки творчества Бомонта и Флетчера особенно обна-
руживаются в изображении характеров. Их герои являются
в значительной степени абстрактными фигурами, недостаточно
индивидуализированными. Бомонт и Флетчер заставляют своих
героев совершать невероятные поступки; они допускают такие
преувеличения в изображении мотивов поведения и страстей,
которые приводят почти к полному отходу от реализма. И все
же, несмотря на все недостатки, пьесы их обладают одним боль-
шим достоинством: они необыкновенно сценичны.
Особенно чувствуется это в комедиях. Быстрая смена эпизо-
дов, невероятность положений, нагромождение событий—все
это способствует созданию сильных комедийных эффектов.
Комедия «Рыцарь пламенеющего пестика» весьма характерна
для манеры Бомонта и Флетчера сложностью действия, происхо-
дящего то в зрительном зале, то на сцене. Этим произведением
s Бомонт и Флетчер положили начало жанру сценической пародии,
\ который в годы Реставрации и в XVIII веке получил большое
развитие в виде «пьес-репетиций».
116
Для этих пьес характерно соединение нескольких перепле-
тающихся линий действия, создающих невероятные комиче-
ские осложнения. Так, в известной комедии Флетчера и Мэссин-
джера «Испанский священник» можно выделить следующие линии
действия: историю взаимоотношений двух братьев—дона Энрико
и дона Хаиме, историю юношеской любви дона Энрико, историю
Леандро, влюбленного в жену адвоката Бартолуса—Амаранту,
и, наконец, похождения испанского священника Лопеса и поно-
маря Диего, составляющие комический фон всей комедии.
В комедиях Бомонта и Флетчера встречаются самые разно-
образные мотивы — от идиллически-пасторальных, образец ко-
торых дает «Преданная пастушка», до фарсовых, на которых
построено «Укрощение укротителя». Последняя комедия со-
ставляет продолжение шекспировского «Укрощения строптивой».
Петручио после смерти Катарины попадает в Англию и здесь
женится вновь. Его вторая жена «укрощает» его еще более
грубыми методами, чем он — свою первую жену.
Драматургия Бомонта и Флетчера испытала на себе большое
влияние испанской драмы и испанской литературы времен
Возрождения. Влияние испанской драмы сказалось на самой
структуре их произведений..Недаром критика отмечает, что комедии
Бомонта и Флетчера приближаются к типу «комедий плаща
и шпаги». Как и в испанской драме, на первом плане у них —
развитие действия, а характеры занимают подчиненное место.
Не случайно действие этих комедий так ■ часто происходит
в Испании. Самые сюжеты нередко заимствованы у испанских
писателей, в частности у Сервантеса, «Назидательные новеллы»
которого были, повидимому, настольной книгой Флетчера.
Характеризуя творчество Бомонта и Флетчера, поэт и критик
Суинберн говорит о них как о писателях молодости. Действи-
тельно, бурный характер изображаемых ими страстей, стреми-
тельность действия, каскады смеха, вызываемые их шутками
и комическими ситуациями, создают именно такое первое впе-
чатление. Но более вдумчивое отношение к их драматургии за-
ставляет отказаться от этого взгляда.
: Достаточно сопоставить «Ромео и Джульетту» и «Трагедию
девушки», «Сон в летнюю ночь», «Тщетные усилия любви»
и «Испанского священника», «Укрощение строптивой» и «Укроще-
ние укротителя», чтобы почувствовать кризисный характер
творчества Бомонта и Флетчера. Молодость Шекспира была
здоровой и полнокровной, тогда как в буйстве и задоре Бомонта
и Флетчера чувствуется молодость порочная и развращенная.
И это вытекало не столько из индивидуальных различий драма-
тургов/сколько из общих социальных причин.
Когда молодой Шекспир прославлял радость жизни,
это означало победу Возрождения над средневековьем; когда ее
прославляли Бомонт и Флетчер, это имело уже другой смысл.
Сам Шекспир к этому времени изменился; он увидел мир в мрачных
красках «Гамлета», «Отелло», «Лира» и «Макбета», а Бомонт
117
и Флетчер хотели убедить себя и своих зрителей, что все осталось
таким же, как после разгрома Армады. Они закрывали глаза
на обострявшиеся противоречия действительности и уводили сво-
их зрителей от реальной жизни в мир красочных романтических
вымыслов. Они не видели и хотели помешать другим увидеть те
грозовые тучи, которые собирались на общественном горизонте
Англии и которые через 15 лет после смерти Флетчера привели
к взрыву буржуазной революции.
Ренессанс вступил в период кризиса и упадка, и это нало-
жило печать на все творчество Бомонта и Флетчера. Заметнее
всего это проявляется в том, что жизнеутверждающая этика
гуманизма вырождается у них в аморальное эпикурейство.
И хотя их комедии еще озарены яркими лучами солнца, — это
уже последние предзакатные лучи Возрождения.
Произведения Бомонта и Флетчера оставались наиболее
популярными на английской сцене вплоть до закрытия театров
в 1642 г. После этого славу Бомонта и Флетчера сохранил печат-
ный станок, отпечатавший в 1647 г. первое собрание их сочине-
ний. С восстановлением театров в годы Реставрации возобнови-
лись и постановки их пьес. Они не только пользовались славой,
но оказали большое влияние на драматургию периода Рестав-
рации. И можно сказать без преувеличения, что с того времени,
как они завоевали признание своих современников, до середины
XVIII века, т. е. в течение полутора столетий, слава их затме-
вала даже Шекспира.
•
Г лава 6
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ ДРАМЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ
1.
Еще задолго до того, как закон 1642 г. о закрытии театров
одним ударом положил конец творчеству послешекспировских
драматургов, английская драма вступила в полосу глубокого
кризиса.
Кризис этот сказался в разных формах и с разной силой
в произведениях многочисленных младших современников Шек-
спира, выступивших со своими драматическими произведениями
либо в начале XVII века, в годы создания наиболее скорбных
шекспировских трагедий, либо еще позже — уже после его
смерти. Творчество Марстона, Тернера, Вебстера, Мидльтона,
Бомонта и Флетчера, Мэссинджера, Форда, Шерли и менее вы-
дающихся драматургов—Брума, Даниэля, Роули и Фильда, —
составляет в истории драматургии английского Возрождения
заключительную главу, отмеченную печатью упадка.
П8 .
Упадок этот, конечно, вызван не просто отсутствием у бли-
жайших наследников Шекспира достаточного таланта и мастер-
ства. Не выдерживая сравнения со своим гениальным предшест-
венником, они были, однако, в большинстве своем высоко-
одаренными художниками, и произведения многих из них, как,
например, Вебстера или Форда, могут поныне служить источ-
ником высокого эстетического наслаждения. Кризис послешекспи-
ровской драматургии был одним из проявлений общего кризиса
гуманизма Возрождения.
Младшие современники Шекспира в большинстве своем под-
хватывают в своем творчестве те недоуменные вопросы, которые
он ставил в своих великих трагедиях. Недаром так часты в их
лроизведениях непосредственные или отделенные реминисцен-
ции «Гамлета», «Лира», «Макбета». Но вопросы эти оказываются
для них еще более неразрешимыми и роковыми, чем для Шекспира.
Если в творчестве автора «Гамлета» глубочайший трагизм
уравновешивался мудрой верой в победоносную силу жизни, то
в произведениях большинства его младших современников это рав-
новесие оказывается невозвратно нарушенными невосстановимым.
В пору глухой, но все нараставшей борьбы между усилив-
шейся феодально-абсолютистской реакцией и пуританской
буржуазной оппозицией, революционная миссия которой исто-
рически еще не могла быть ясна людям первой трети XVII века,
эти последние гуманисты чувствовали себя одинаково чуждыми
как феодальной тирании и распущенности аристократических
вольнодумцев, так и пуританским буржуазным «добродетелям»;
под маской которых они угадывали скрытые пороки. Мир казался
им зашедшим в тупик, человеческая жизнь — безумным вихрем
страстей или долиной скорби.
Они видели, как потерпели крушение на практике смелые,
жизнерадостные призывы гуманизма Возрождения, ставшие опас-
ным оружием в руках хищников-«макиавеллистов», которые
сделали из принципа суверенности человеческой природы сред-
ство оправдания любых преступлений и пороков. Отрекаясь
от лучшего, что было в наследии их предшественников, они
выносят обвинительный приговор человеку с его реальными
страстями, побуждениями и помыслами. Только путем отре-
чения от всего земного, от мирского счастья, даже от самой жизни
сохраняет большинство героев трагедий Тернера, Мэссинджера,
Форда и др. моральную красоту и достоинство своего внутрен-
него облика.
1: Мистическое презре ние к земной жизни становится одним из
постоянных мотивов послешекспировской драматургии. Чело-
век представляется драматургам этой плеяды уже не власти-
телем жизни, а рабом собственных страстей, которые в свою
очередь рисуются столь гиперболически, что превращаются на
глазах у зрителя в отвлеченные воплощения внечеловеческих,
демонических сил, которыми по воле судьбы «одержимы» не-
счастные, мятущиеся и жалкие люди.
119
Ренессансная гармония и глубина в изображении человека,
соответственно с этим, изменяет в большей или меньшей степени
младшим современникам Шекспира. Характеры все чаще пре-
вращаются у них в воплощение определенных пороков и доб-
родетелей (таковы, например, почти аллегорические персонажи
Тернера), или, во всяком случае, рассматриваются лишь под
углом одной, демонически владеющей ими страсти. Зато внешние
эффекты (сложность интриги, чудовищное нагромождение кро-
вавых ужасов, причудливость действия, наконец, сама феери-
ческая пышность постановок) приобретают в театре небывалое
прежде значение.
2
Одним из первых представителей этого заключительного
этапа в развитии драматургии английского Возрождения
был Джон Марстан (John Marston, 1575—1634). Одаренный
насмешливым и саркастическим умом, он отдал в своем твор-
честве большую дань сатире и пародии. Интересны его ранние
стихотворные сатиры, в частности «Бич подлости» (The Scourge
of Villanie, 1598), который Марстон демонстративно посвятил
«своей собственной глубокоуважаемой и возлюбленной особе».
«Бич подлости» составил автору среди современников репутацию
одного из самых видных сатириков того периода. В историю
английского театра вошла также долгая полемика Марстона с
Джонсоном, которой обе стороны посвятили по нескольку пьес.
Для последующего развития английской драматургии наи-
большее значение имели две трагедии Марстона, послужившие
прообразом тех «трагедий ужасов», которым предстояло сыграть
столь важную роль в творчестве позднейших послешекспи-
ровских драматургов. Это была «История Антонио и Меллиды»
(The history of Antonio and Mellida, 1599*) и ее продолжение —
«Месть Антонио» (Antonio's Revenge, 1602).
По своему сюжету трагедии эти перекликаются с «Испан-
ской трагедией» Кида. Это —запутанная история любви
и мести, в которой огромную роль играют эффектные перипетии
сложной интриги: коварные ловушки, убийства, надругатель-
ства, совершаемые по большей части прямо на сцене и, наконец,
появления многочисленных призраков.
К этому же типу «трагедий ужасов» принадлежит и «Нена-
сытная графиня» (The Insatiate Countesse, 1610*), герои которой
также ^поражали зрителей неистовством своих демонических
страстей и чудовищностью своих преступлений.
Эти трагедии Марстона наметили путь, по которому пошли
впоследствии Тернер и Вебстер.
3
До нас дошли всего две трагедии Кирилла Тернера (Cyril!
Tourneur 1575?—1626) — «Трагедия мстителя» (The Reven-
ger's Tragédie, 1607) и «Трагедия атеиста» (The Atheist's Tra-
120
gedie, 1611). Если Тернером и были написаны какие-либо
другие произведения, то о них, как и о жизни их автора, не
сохранилось никаких сведений.
Обе пьесы Тернера и возможный прототип их — «Испанская
трагедия» Кида, с которой постоянно сравнивает их критика,
представляют собою «кровавые трагедии», где преступление
и мщение непрестанно меняются местами, соперничая в жесто-
кости и изощренности.
Однако трагедии Тернера, как и трагедии Вебстера, при
всей их близости к жанру «кровавой трагедии» кидовской
школы, значительно сложнее, чем их отдаленные прообразы
в творчестве ранних елизаветинцев. В кровавых и запутанных
перипетиях «Трагедии мстителя» и «Трагедии атеиста» разви-
вается весьма пессимистическая философия, свидетельствующая
о том, как тесно связано творчество Тернера с кризисом гума-
низма Возрождения. В основе «Трагедии мстителя» и, в осо-
бенности, «Трагедии атеиста» лежит трагическая мысль о глу-
бокой порочности не только существующих общественных нра-
вов, но и самой «природы» человека.
В «Трагедии мстителя» зрителям предстает отвратительное
зрелище морального разложения общества. Тернер даже лишает
своих знатных героев собственных имен и называет сына герцо-
га «Луссуриозо» (похотливый), а герцогских пасынков — «Амби-
циозо» (властолюбивый) и «Супервакуо» (пустопорожний),,
как бы желая, лишив их всего индивидуально-человеческого,
представить в них чудовищное воплощение пороков. Право-
судие, честь, добродетель находятся в рабской зависимости от
денег и власти. Прекрасная Глориана, невеста Вендиче, отрав-
лена по приказу старого герцога за то, что не согласилась
служить его похоти. Добродетельная жена Антснио, изнаси-
лованная младшим пасынком герцога, сама принимает яд, чтобы
не пережить позора, в то время как герцогский произвол без
труда спасает насильника от заслуженной кары. Оскверняются
даже самые нерушимые и естественные человеческие отно-
шения. Мать, которую тысяча червонцев мгновенно превра-
тила в сводню, убеждает собственную дочь стать содержан-
кой герцогского сына, а дочь проклинает свою мать, как
дьявола.
Сама добродетель в этих условиях становится близкой
к пороку. Вендиче («мститель»), желая отомстить герцогу за
убийство возлюбленной, сам должен пользоваться оружием
преступления и лжи. Личность его раздваивается. Пылая не-
навистью ко всему герцогскому дому, он притворяется послуш-
ным слугой герцога и его сына, и, взявшись сыграть роль свод-
ника по отношению к любимой сестре, едва не достигает, к соб-
ственному ужасу, успеха. Так происходят чудовищные сцены,
когда сын, явившийся к матери под видом герцогского послан-
ника и неузнанный ею, убеждает ее продать честь собственной
Дочери, а в конце пьесы, сбросив маску, с кинжалом в руке,
121
заставляет мать раскаяться в преступной слабости, вызванной
его же уговорами.
Месть Вендиче принимает чудовищную форму: заманив гер-
цога в уединенный охотничий павильон под предлогом свидания
с новой любовницей, он заставляет его поцеловать в отравленные
уста череп убитой когда-то по герцогскому приказу Глорианы,
умело замаскированный под видом живой, спящей в постели
женщины.
Страшная месть постигает и наследника герцога, разврат-
ного Луссуриозо. Во время торжественного пиршества по случаю
его восшествия на престол, как раз тогда, когда он обдумывает
способ отделаться, путем убийства, от сводных братьев, в залу
входят участники «маски мстителей». Замаскированные танцо-
рами, Вендиче и его сообщники, танцуя, приближаются к гер-
цогскому столу и, выхватив мечи из ножен, закалывают Луссу-
риозо и его приближенных.
Однако отмщение обращается против самого мстителя. Над
убийцами, по словам Вендиче, «тяготеет проклятие»: «мы сами
стали своими врагами». Новый герцог, добродетельный Антонио,
приказывает казнить Вендиче и его сообщника — брата, ибо,
как говорит Антонио, тот, кто мог убить прежнего герцога,
может убить и его самого. Так самого «мстителя» постигает,
в конце концов, неотвратимое возмездие судьбы.
Тема рока занимает в обеих трагедиях Тернера очень вид-
ное место. Вся атмосфера разнузданного сладострастия и нена-
висти в «Трагедии мстителя» окрашена мрачным колоритом
мистической обреченности. Фантастическая символика вводится
Тернером уже здесь — хотя и менее широко, чем впоследствии
в «Трагедии атеиста». Когда Вендиче обращается к небу, требуя
кары для своих врагов из герцогского дома, ему отвечают рас-
каты грома, как бы подтверждающие справедливость его гнева.
Во время предсмертного пиршества Луссуриозо в небе заго-
рается комета, «пламенеющая звезда», таинственное сияние
которой заранее предвещает недоброе. Убийство Луссуриозо
и его придворных также сопровождается ударом грома.
Тема рока сказывается не только в этих эпизодах, где
сверхъестественные силы прямо выступают на сцену, но и во
всем развитии «Трагедии мстителя». Действие этой пьесы пред-
ставляет собой сплошную цепь роковых самообманов, недо-
разумений и заблуждений, благодаря которым стремления
и поступки человека обращаются с фатальной иронией против
него самого. Так, Амбициозо и Супервакуо, думая отправить
на казнь своего сводного брата Луссуриозо, не подозревая того,
посылают на смерть родного, любимого брата. Так, Луссуриозо
поручает переодетому и неузнанному им Вендиче убить самого
же Вендиче. Так, и Вендиче хвастает перед новым герцогом
совершенными им убийствами, не предчувствуя, что наградой за
них будет смерть. Люди, какой бы сильной волей, энергией,
122
настойчивостью и смелостью они ни обладали, оказываются
пешками в руках судьбы.
Еще более безотрадно оценивается судьба человека в «Траге-
дии атеиста». Главный персонаж этой пьесы, «атеист» д'Амвиль,
принадлежит к числу тех злодеев-«макиавеллистов», которых так
много в зрелых трагедиях Шекспира и в произведениях более
поздних драматургов английского Возрождения. Критика осо-
бенно охотно сближает этот образ, в частности, с шекспировским
Эдмундом из «Короля Лира».
У хищного и смелого эгоиста д'Амвиля— своеобразная система
философских взглядов, которыми он старается оправдать свои
преступления. С его точки зрения, стремление любой ценой
упрочить благосостояние своего рода вполне естественно; оно
продиктовано самою «природой», а, следовательно, всякий по-
ступок, совершаемый с этой целью, законен. Можно предательски
убить брата, чтобы завладеть его состоянием; можно обманом
разорить и заточить в тюрьму племянника; можно насильно
заставить богатую наследницу выйти замуж за сына,а если брак их
остается бесплодным, изнасиловать невестку для получения
потомства. Все это санкционировано самой «природой», как
понимает ее д'Амвиль, а кроме «природы» он не признает ничего,
презирая даже громы небесные, так как ему прекрасно известно
их естественное происхождение. Так гуманистический лозунг
Возрождения: «делай что хочешь» понимается цинически как
оправдание крайнего эгоизма.
Но хотя ненависть к аристократическому вольнодумству
«макиавеллистов», подобных д'Амвилю, и сближает как будто
бы Тернера с пуританством, пуританизм в собственном смысле
слова остается ему чуждым. Недаром в галлерею отрицательных
персонажей «Трагедии атеиста» он включает, наряду с аристо-
кратическими развратниками— д'Амвилем, Левидульчией и дру-
гими,— «пуританина» Лангбо Снаффа («Гнусный краснобай»),
лицемера и мошенника, готового за хорошую взятку на любое
предательство.
В «Трагедии атеиста» Тернер прямо выдвигает тезис, который
в косвенной форме отразился уже в «Трагедии мстителя»: борь-
ба с грехом и пороком земными, человеческими средствами —
-бесполезна и опасна; право мщения принадлежит небесам; удел
человека — самоотречение и покорность божественному про-
мыслу. Призрак старого Монферрерса (убитого д'Амвилем
брата) требует от сына (Шарлемона) не мщения, к которому
взывал у Шекспира дух отца Гамлета, а терпения и спокойствия.
Оба положительных героя «Трагедии атеиста» — и Шарле-
мрн, и его невеста Кастабелла, насильно обвенчанная с сыном
ДАмвиля,—сохраняют свою добродетель лишь ценою отре-
чения от всего земного. Гамлетовская скорбь (монолог Шарле-
мона на кладбище (акт IV, 3) во многом напоминает соответ-
ствующее место из «Гамлета») перерастает у героя Тернера в утвер-
ждение суетности и призрачности земного существования. Мысль,
123
высказанная еще в «Трагедии мстителя» — «относительно смерт-
ных ни в чем нельзя быть уверенным, кроме того, что они смерт-
ны», — оказывается одним из ведущих мотивов «Трагедии
атеиста».
Для положительных героев Тернера смерть приобретает
особую, мистически притягательную силу. Эти мотивы развиты
в чрезвычайно характерной для Тернера символической сцене
на кладбище, когда влюбленные Шарлемон и Кастабелла,
встретясь ночью, наедине, после долгой разлуки, ложатся
отдохнуть поодаль друг от друга, подложив под голову по
черепу вместо подушки. Мистический характер носит и кон-
цовка «Трагедии атеиста». Победа над д'Амвилем достается
Шарлемону «неисповедимыми» путями «божественного про-
мысла». Приговоренный к смерти по обвинению д'Амвиля, он
уже готовится безропотно принять смертельный удар, когда,
по воле судьбы, д'Амвиль (принявший на себя роль палача)
необъяснимым образом замахивается топором так, что вместо
того, чтобы обезглавить племянника, смертельно ранит
самого себя.
Но поражение д'Амвиля было бы, по Тернеру, неполным,
если бы его моральные принципы не потерпели трагического
крушения вместе с самой его жизнью. В предсмертном моно-
логе д'Амвиль говорит о ложности всей своей «макиавеллисти-
ческой» программы: «То была сила природного разумения. Но
природа глупа. Над нею есть сила, которая опрокинула все
мои гордые планы».
4
О жизни Джона Вебстера (John Webster, 1580?—1625?),
как и о жизни Тернера, почти ничего не известно. Писать
он начал в 1601 г., в год создания шекспировского «Гамлета». Из
его произведений наибольшего внимания заслуживают две зна-
менитые трагедии — «Белый дьявол, или Виттория Коромбона»
(The White Divel, or Vittoria Corombona, 1612) и «Герцогиня
Мальфи» (The Tragedy of the Dutchesse of Malfy, 1623), написан-
ные на итальянские сюжеты, восходящие, в конечном счете,
к подлинным событиям, запечатленным в итальянских хрониках.
«Белый дьявол» —это повесть о том, как герцог Брачиано,
плененный красотой Виттории Коромбоны, убил свою жену
и мужа Виттории, женился на Виттории и, в свою очередь, был
вместе с нею убит мстительными родственниками своих жертв.
Вторая трагедия посвящена истории тайного брака герцо-
гини Мальфи, которая, овдовев, вышла замуж за своего управ-
ляющего, и страшной мести, которую учинили ее жестокие
братья.
Простое изложение сюжетов не может, однако, дать ника-
кого представления о действительном значении вебстеровских
трагедий. Сила Вебстера — в изображении бурных и мятущих-
124
ся страстей. Его характеры — в отличие от тернеровских — еще
не утратили величия и сложности, присущих лучшим драматур-
гическим образам английского Возрождения.
Виттория Коромбона порочна. Пылкая и необузданная
чувственность сочетается в ней с холодной жестокостью. Она
сама в знаменитой сцене сна (акт 1, 2) незаметно внушает герцогу
Брачиано необходимость убийства его жены и своего мужа.
И тем не менее,в сцене суда (акт III, 1)и в сцене смерти (акт V,6)
зритель не может не восхищаться дерзостью, находчивостью
и смелостью, с какими Виттория —этот «белый дьявол» — уве-
ренная в непреодолимом обаянии своей красоты, издевается
над своими обвинителями, судьями и палачами. Самообладание
не покидает ее до конца; ее последние слова, обращенные
к палачу, звучат как вызов: «Вот мужественный удар! Следующим
пойди убей какого-нибудь грудного младенца, и тогда ты станешь
знаменит».
Не менее сложен, хотя и по-другому, образ герцогини Мальфи.
Вебстер показывает ее не как бесплотную добродетельную
жертву безжалостных убийц, но как женщину живую и полную
страсти. Настоящая героиня Возрождения, она знает вкус не-
скромной шутки и не боится смотреть в лицо опасности; она не
стыдится сама избрать себе мужа и первой заговорить с ним
о своей любви; и за счастье свое она умеет бороться. Трагизм ее
судьбы заключается в том, что ее враги обдуманно избирают
самый длительный, но самый действенный способ мщения.
Прежде чем умертвить герцогиню Мальфи, они хотят растоптать
ее волю, ее энергию, ее рассудок. Разлучив ее с мужем, они под-
вергают ее все нарастающим и тонко обдуманным нравственным
пыткам. Брат ее, Фердинанд, герцог Калабрии, приходит «при-
мириться» с нею, но когда герцогиня доверчиво протягивает
ему руку в знак примирения, он, пользуясь темнотой, подсовы-
вает ей мертвую, отрубленную у трупа руку, убеждая ее, что
это—рука ее мужа. Ей показывают на расстоянии восковые
изображения ее мужа и детей, говоря, что это — их трупы. Ее
окружают сумасшедшими, от воплей и безумных выходок кото-
рых она нигде не может найти покоя. В комнату ее вносят гроб
и веревки — орудия предстоящей казни. Наконец, ее отпевают
заживо.
Смерть приходит к герцогине тогда, когда, кажется, все че-
ловеческое уже умерло в ней. «Она жила среди ужасов так долго,
что сроднилась с этой стихией. Она говорит на языке отчаяния,
в словах ее есть что-то напоминающее о Тартаре и погибших
Душах», — писал Чарльз Лэм в комментариях к «Герцогине
Мальфи». И все же она сохраняет достоинство и мужество даже
Перед лицом смерти, призывая ее, как желанную освободитель-
ницу. «Скажите моим братьям, что теперь, пробудившись от сна,
я вижу, что смерть — лучший дар, какой они могут дать мне,
à я — принять от них... Приди, насильственная смерть, послужи
мне мандрагорой, которая усыпит меня! Когда меня положат
125
в гроб, пойдите, скажите об этом моим братьям: теперь они смогут
есть спокойно».
Тема смерти приобретает в трагедиях Вебстера, как и у Тер-
нера, мистическое значение. Смерть освобождает человека
от земных страданий; только она одна раскрепощает духовную
природу человека. «Мы перестаем скорбеть, перестаем быть ра-
бами фортуны, нет, перестаем даже умирать, умирая», —гово-
рит Фламинео в «Белом дьяволе».
В своем обличении жизни Вебстер исходит из реальных
предпосылок. Его хищники-«макиавеллисты» — Фламинео, брат
Виттории Коромбоны, убийца и предатель, торгующий честью
собственной сестры, или Даниэль де Бозола, погубивший гер-
цогиню Мальфи, стали злодеями не по своей демонической пороч-
ности, а под влиянием губительных реальных обстоятельств:
нужды, оскорбленного самолюбия, жажды наслаждения
и власти. Реальными побуждениями руководствуются и «мстители»
обеих трагедий Вебстера. Франческо Медичи («Белый дья-
вол») мстит за унижение и смерть сестры; братья герцогини
Мальфи губят ее, чтобы удержать в своих руках ее состояние.
Но, исходя из наблюдений жизни, Вебстер, подобно Тернеру,
тяготеет к символическим обобщениям мистического порядка.
Ужасы, которыми он так щедро насыщает свои трагедии, при-
званы не просто поразить воображение зрителей сценической
эффектностью, но внушить им представление о трагической
обреченности человека и о призрачности земного бытия. Жизнь —
ад на земле; таков, в сущности, скрытый «подтекст» вебстеров-
ских «трагедий ужасов».
«О, сумрачный мир! В какой тьме, в каком глубоком колодце
мрака живет слабое и боязливое человечество!»— восклицает
Бозола в «Герцогине Мальфи». Столь же трагически определяется
участь людей и в погребальной песне, которой заживо отпе-
вают герцогиню перед казнью: «Их жизнь — сплошной туман
заблуждения, их смерть — отвратительная буря ужаса».
Демонический характер приобретают и земные страсти вео-
стеровских героев: похоть Брачиано и Виттории, мстительная
злоба братьев герцогини Мальфи. Они подобны одержимым и не
в силах владеть собой. «Моя душа, как корабль в черную
бурю, несется неведомо куда», — говорит Виттория Кором-
бона.
Трагедии Вебстера, таким образом, стоят уже на грани между
реализмом и трагической символикой барокко. Джонсон пре-
красно определил дух творчества Вебстера, заметив, что «его
муза не Мельпомена, а Горгона».
5
В творчестве Томаса Мидльтона (Thomas Middleton,
1570—1627) трагический элемент играл менее определя-
ющую роль, чем в творчестве Тернера и Вебстера. Писатель
12Ô
весьма разнообразный и плодовитый, он отдал дань и комедии,
и трагедии, и политической драме. Его политическая аллегория
«Шахматная...партия» (A Game at Chesse, 1625), направленная
^отив намечавшегося реакционного сближения Англии с Испа-
нией, навлекла на автора очень серьезные неприятности, вплоть
до суда и тюрьмы. Мидльтон испробовал свои силы и вне дра-
матургии. Среди его ранних произведений особенно интересна
сатирическая «Черная книга» (The Blacke Booke, 1604), написан-
ная не без влияния Нэша. В этом памфлете повествование ведет-
ся от лица Люцифера, который, устроив свои дела в Лондоне,
где он успел «напитать ядом до отказа каждый порок», садится
писать свое завещание и раздает в наследство, один за другим,,
самые выгодные и доходные пороки.
Уже эти ранние произведения Мидльтона свидетельствуют,
так же как и его пьесы, о весьма мрачном взгляде писателя на
окружавшую его жизнь. Официальная служебная деят льность
Мидльтона (с 1620 г. до самой смерти он занимал пост городского
летописца, на котором его сменил Джонсон), обогатив его жизнен-
ным опытом, повидимому лишь способствовала укреплению этого
взгляда.
Одной из любимых тем Мидльтона становится тема преступ-
ности, тема, которую он использует одинаково охотно и в траге-
дии, и даже в комедии. Кризис гуманистического реализма Воз-
рождения сказывается в комедиях Мидльтона не менее ярко, чем
в самых мрачных его трагедиях.
Мидльтон увлекается чисто внешними комическими эффек-
тами, основанными на неожиданности и несообразности сцени-
ческих положений. Формальная сторона комедии приобретает
в его глазах порой едва ли не более важное значение, чем ее
содержание.
Лучшей комедией Мидльтона по праву считается пьеса «Как
надуть старика» (A Tricke to Catch the Old one, 1604—1606*?).
Подобно многим лучшим комедиям Джонсона, Мидльтон строит
эту комедию как злую сатиру на буржуазные нравы, высмеивая
не столько частные бытовые пороки английских буржуа, сколько
основной их общественный «порок» — страсть к наживе.
Подобно «Вольпоне» Джонсона, комедия Мидльтона показы-
вает, как слишком далеко зашедшие жадность и хитрость могут
завлечь даже самого коварного и испытанного плута в им же
поставленную ловушку. Именно такою оказывается участь двух
изображенных Мидльтоном прожженных дельцов из Сити —
Лакра и Хорда, самые имена которых аллегорически много-
значительны (lucre— барыш; to hoard — накоплять).
Промотавшийся повеса Уитгуд, разоренный своим дядей —
мошенником Лакром, пускается на хитрость, чтобы, как гласит
заглавие пьесы, «надуть старика». Приехав в Лондон в сопро-
вождении своей бывшей содержанки, он выдает ее за богатую
вдову и распускает по городу слухи о своей предстоящей женитьбе
на ней. Хитрость увенчивается блестящим успехом. Креди-
127
торы, уже отчаявшиеся было вернуть свои деньги, открывают
Уитгуду новый кредит, чтобы ускорить свадьбу. Лакр, поверив
выдумке племянника и надеясь прибрать к рукам доходы бу-
дущей невестки, также проявляет небывалую щедрость. В довер-
шение же всего заклятый враг Лакра, такой же темный делец
Хорд, увозит мнимую «вдову» и женится на ней, убежденный,
что совершает чрезвычайно выгодную сделку.
В сущности, уже в этой веселой по видимости комедии вы-
двигается тема безнадежной испорченности человеческой при-
роды. В мидльтоновских трагедиях эта тема занимает централь-
ное место. Большинство их примыкает к тому же типу кровавых
«трагедий ужасов», что и трагедии Тернера или Вебстера.
Трагедия «Женщины, остерегайтесь женщин» (Women Beware
Women, 1657) может служить образцом произведений этого жан-
ра в творчестве Мидльтона. Юная Изабелла кажется воплощением
чистоты и целомудрия, но стоит ей прислушаться к советам
«опытной» тетки, лживо внушающей ей, будто она — не дочь
своего отца, как она уже соглашается добровольно запятнать
себя любовной связью с собственным дядей и навсегда надевает
лицемерную маску притворства, ловко обманывая отца и жениха.
Семейное гнездышко скромного торгового приказчика Леантио,
только что женившегося на прелестной Бианке, кажется надеж-
ным приютом тихих супружеских радостей. Но проходит всего
две недели медового месяца,—и в Бианке, нечаянно попавшейся
на глаза герцогу и соблазненной им, просыпается новая, сладо-
страстная и жестокая, безнадежно порочная женщина, и от
недавнего семейного счастья не остается и следа.
Это мрачное изображение разгула порочных страстей завер-
шается у Мидльтона, как и в трагедиях Тернера и Вебстера,
символической катастрофой. Все герои гибнут насильственной
смертью, и самый конец их обставлен так, чтобы еще более по-
разить воображение зрителя. При дворе, во время празднова-
ния бракосочетания герцога и Бианки (с мужем ее уже покон-
чено руками убийцы), разыгрывается увеселительная «маска».
Роли исполняются героями пьесы. Роль Юноны — богини,
хранящей святость брака, играет порочная Ливия, тетка Иза-
беллы, которая была сводней в начале связи герцога с Бианкой;
чистейшую нимфу играет Изабелла, развращенная своим
дядей Ипполито; одного из невинных пастушков играет сам
Ипполито, и т. д.
Исполненные ненависти друг к другу, все участники празд-
ника пользуются случаем, чтобы приготовить врагам своим вне-
запную ^смерть, и все аксессуары мифологической «маски» влекут
за собой чью-нибудь гибель: отравлены благоухания, ароматом
которых встречается появление на сцене Юноны, и «богиня» и
«нимфа» мертвыми падают наземь; умирает «пастух» Ипполито,
пронзенный отравленными стрелами Купидона; умирает герцог,
выпив вина из отравленной чаши, по ошибке поднесенной ему
Ганимедом и предназначавшейся Бианкой для его брата, кар-
128
динала. Увеселительный спектакль оказывается чудовищной
«маской» разврата и смерти.
Еще более фантастический характер носит столь же типичная
для Мидльтона пьеса «Ведьма» (A Tragi-Comedie called the Witch),
напечатанная впервые лишь в 1778 г. Пьеса эта особенно ин-
тересна тем, что Мидльтон, разрабатывая общий многим его со-
временникам мотив трагической власти сверхъестественных де-
монических сил над человеком, прямо выводит их на сцену в лице
ведьмы Гекаты и ее сообщниц, образы которых, по предполо-
жению исследователей, многим обязаны влиянию шекспировского
«Макбета».
6
В творчестве Филиппа Мэссинджера (Philip Massinger, 1583—
1640) критика действительности приобретает, пожалуй, более
определенную политическую окраску, чем у кого бы то ни было
из современных ему драматургов последнего этапа английского
Возрождения. Исследователи находят политические намеки
в большинстве его пьес. Для современных зрителей их полити-
ческая актуальность была, конечно, еще нагляднее.
В трагедии «Верьте, если хотите» (Believe as you list, 1631*),
которая попала было под запрет театральной цензуры, «потому
что содержала опасные суждения» по части англо-испанских
отношений, и былз допущена лишь,после того, как автор пере-
ложил ее на архаические «азиатские» нравы, Мэссинджер вы-
двигает тезис, неоднократно развиваемый им и в других произ-
ведениях. Свергнутый с престола Антиох восклицает, обращаясь
к зрителям: «Пусть моя история научит владык смирению и внушит
гордым монархам, что, хотя они правят людьми, более могу-
щественная сила возвышает и низвергает королей».
В трагедии «Благородная девушка» (The Maid of Honour,
1626*) Мэссинджер вложил в уста своей героини Камиолы гнев-
ное опровержение теории «божественного права» королей. От-
вечая Роберто,королю Сицилии, который хочет насильно выдать
ее замуж за своего фаворита, она говорит: «С вашего позво-
ления, государь, я не должна стоять на коленях, отвечая вам;
я встану и скажу в свою защиту вам, как человеку (ибо божествен-
ность, на которую вы претендуете, как король, покидает вас,
когда вы поступаете несправедливо), что ни в священном писа-
нии, ни в законах нравственности никогда не говорилось, что
подданные во имя долга обязаны любить пороки своего госу-
даря... Положим, вы любите вино, вы — король; так неужели
я> будучи вашей подданной, должна быть всегда пьяна? Те,
что силой исторгают у своих смиренных подданных их ду-
ховную свободу,—тираны, а не короли».
Ненавистью к тираническому произвожу абсолютного монарха
проникнута и трагедия «Римский актер» (The Roman Actor,
1626*). в центре этой трагедии — образ императора Домици-
ана, тирана и сластолюбца.
Англ. литература 129
Знаменательно, что сам Карл I счел нужным лично выразить
свое неодобрение Мэссинджеру, написав на полях одной иг
его пьес: «Это слишком дерзко и должно быть изменено». Пьеса,
носившая многозначительное название «Король и подданный»
(The King and the Subject, 1638*), утеряна, но по иронии судьбы
строки, уничтожения которых требовал король, сохранились,
и по ним видно, что Мэссинджер вывел на сцену (под именем дон
Педро, короля Испании) тирана, злоупотребляющего неогра-
ниченным правом взимания новых налогов. Совершенно очевидно,
насколько политически актуальной и «дерзкой» должна была
оказаться эта пьеса в то время, когда вся Англия следила за
борьбой против нового «корабельного налога», введенного Карлом L
Однако Мэссинджер нигде не призывает к борьбе против
тиранов. В политической борьбе своего времени он, повидимому,
остановился на перепутье между абсолютизмом, который он крити-
кует, и революционным пуританским движением, которое оста-
лось ему чуждым. Он отличается от большинства современных
ему драматургов тем, что в его творчестве почти отсутствуют обыч-
ные для тогдашнего английского театра насмешки над пурита-
нами. Но добродетели английской буржуазии все же, как пока-
зывают его произведения, внушают ему столь же мало доверия,
как и недвусмысленные пороки монархов и феодальной знати.
В этом отношении особенно интересны его реалистические бы-
товые комедии «Новый способ платить старые долги» (A New
Way to Pay Old Debts, 1633) и «Госпожа из Сити» (The City
Madam, 1632*).
«Новый способ платить старые долги» — пожалуй, един-
ственная из пьес Мэссинджера, прочно вошедшая в репертуар
английского театра. Роль главного героя этой комедии, сэра
Джайльса Оверрича (to overreach —перестараться), высоко це-
нили не только современники автора, но и лучшие английские
актеры последующих столетий.
В лице сэра Джайльса Оверрича, «жестокого вымогателя»,
как он именуется в списке действующих лиц комедии, Мэссин-
джер создал замечательный образ английского буржуа, тяну-
щегося к дворянству. Не брезгуя никакими средствами обо-
гащения, Оверрич живет одной заветной мечтой — увидеть свою
единственную дочь титулованной лэди и через нее породниться
со знатью» С цинической хвастливостью он рассказывает, как
разоряет своих соседей судебными процессами и кляузами,
чтобы потом за бесценок скупить их владения, как огораживает
общинные земли, пуская по-миру народ. По его собственным
словам, он столь же равнодушен к проклятиям и жалобам
разоренных им людей, как месяц к вою голодных волков.
При всей своей хитрости и изворотливости, Оверрич попа-
дается в свою собственную ловушку, так же как Вольпоне Джон-
сона и старые дельцы Мидльтона («Как надуть старика»). Мечтая
выдать свою дочь за лорда Ловеля, он сам, заставляя ее еже-
дневно принимать от знатного жениха письма, толкает ее
130
к сближению с пажем Лове ля, Томом Олуортом, за которого она
и выходит замуж с помощью лорда, сочувствующего молодой паре.
Буржуазные нравы высмеиваются Мэссинджером и в комедии
«Госпожа из Сити», отчасти напоминающей по своей теме молье-
ровских «Смешных жеманниц» и «Мещанина во дворянстве».
Мэссинджеровские героини — жена и дочери лондонского купца
сэра Джона Фругала, которые тянутся за знатью, подобно молье-
ровским героиням получают урок, заставляющий их в дальней-
шем довольствоваться своим местом.
Среди персонажей пьесы особенно оригинален, пожалуй,
образ младшего брата сэра Джона Фругала, Льюка. Промотав
унаследованное от отца состояние, Льюк занимает в доме стар-
шего брата незавидное положение приживала и в начале пьесы
поражает зрителей долготерпением и кротостью, с какою он
исполняет самые унизительные поручения невестки и племянниц,
вступается за неимущих должников брата, и, кажется, испо-
ведует «истинно-христианское» презрение к благам мира сего.
Скоро, однако, зрители получают возможность подвергнуть
проверке добродетели Льюка Фругала. Чтобы проучить жену
и дочерей, сэр Джон Фругал уезжает из дома, распустив ложный
слух, будто он перешел в католичество и постригся в монастырь,
а все его состояние переходит к брату Льюку. Едва почуяв силу
богатства, вчерашний смиренник преображается на глазах
у зрителей. Он третирует невестку и племянниц и без зазрения
совести готов сжить их со света (они «едят слишком много!»).
Он безжалостно отправляет в тюрьму тех самых должников, за
которых еще недавно• ходатайствовал перед братом и, в ответ на
упреки в жестокости и лицемерии, провозглашает в циничном
монологе: «Религия, совесть, человеколюбие, прощайте! Для меня
вы —только слова, и ничего больше; человеческое счастье —
в наживе».
Эти сатирические комедии Мэссинджера, столь реально
изображающие английских буржуа его времени, косвенным
образом помогают уяснить некоторые существенные особенности
его трагедий. После «Нового способа платить старые долги»
и «Госпожи из Сити», так зло высмеивающих английских буржуа,
становится более понятным, почему Мэссинджер, несмотря на
присущий его творчеству гражданский пафос, остался в стороне
от революционного буржуазно-демократического движения своего
времени, и почему в своих трагедиях он столь отвлеченно ставит
волнующую его проблему свободы личности.
Свобода, за которую борется Мэссинджер в своих трагедиях,
это не реальная общественная и политическая свобода, но сво-
бода духовная, достигаемая путем отречения от земного благо-
получия и даже, если надо, от самой жизни. Это свое внутреннее
Достоинство и духовную свободу герои Мэссинджера'' берегут как
лучшее сокровище, идя ради них на любые жертвы. Именно
в этом — источник морального величия лучших созданных им
положительных образов.
Тема оскорбленного человеческого достоинства получает раз-
витие уже в раннем «Миланском герцоге» (The Duke of Millaine, ок.
1618*), сюжет которого Мэссинджер заимствовал отчасти из исто-
рии Ирода и Мариамны, в XIX веке использованной в одно-
именной трагедии Геббзлем. Герцог Сфорца, уезжая для опасных
переговоров в лагерь врага, поручает своему приближенному
Франческо, в случае своей гибели, убить герцогиню Марселию,
так как он не в силах перенести мысль о том, что страстно любимая
жена переживет его и достанется другому. Благодаря предатель-
ству Франческо Марселия узнает о приказе мужа. Возмущен-
ная его недоверием, она подавляет в себе любовь к нему, встре-
чает его с холодностью и, когда честь ее берется под сомнение,
не только не считает нужным оправдываться, но вызывающе под-
тверждает ни на чем не основанные обвинения. Сфорца закалы-
вает ее. Но даже умирая, она не раскаивается в своем пове-
дении, а сожалеет лишь о муже, который узнает слишком позд-
нэ, что убил невиновную.
В «Римском актере» актер Парис — один из любимых мэс-
синджеровских героев, в уста которого драматург вложил свои
самые заветные доводы в защиту театра, — в сознании своей
невиновности со стоическим спокойствием, без просьб и оправ-
даний, принимает смерть из рук императора Домициана.
В трагедии «благородная девуш.а» эта тема борьбы за внутрен-
нее достоинство человека окрашивается отчасти в религиозно-мис-
тические тона. Камиола, отвергнутая честолюбивым возлюблен-
ным Бертольдо, ради которого она готова была пожертвовать не
только состоянием, но даже самой жизнью, принуждает Бертольдо
к публичному раскаянию. Брак их снова возможен, земное
счастье опять улыбается ей. Но она сама отвергает его и уходит
в монастырь. Эго, говоря словами Камиолы, единственная «на-
дежная гавань, где обитает вечное счастье и куда никогда не
проникают соблазны».
В:ецэло мистический характер носит написанная Мэссин-
джером совместно с Деккером трагедия «Дева-мученица» (The
Virgin Martir, 1622), представляющая апофеоз раннего христиан-
ства. Презрение к плотской, земной природе человека, как не-
обходимый залог его духовного торжества, составляет основной
мотив пьесы. «Жизнь, — говорит героиня,—суета, от которой
я устала». «Дева-мученица» Доротея, поддерживаемая религией,
попирает законы природы. Развратники не осмеливаются коснуть-
ся края ее одежды, удары патачей не оставляют следа на ее телз.
Сверхъестественные силы открыто вмешиваются в ход действия:
Доротею сопровождает в качестве слуги Анджело—ангел, на
время принявший человеческий облик, а наперсником Теофила,
ревностного преследователя христиан, является, под видом его
секретаря Гарпакса, сам дьявол.
( «Ужасы», которыми так охотно злоупотребляли драматурги
позднего английского Возрождения, в этой пьесе используются-
Мэссинджером особенно широко. Пытки, одна другой изощрен-
132
нее и отвратительнее, служат непрестанным предметом разго-
вора, следуют одна за другой на сцене.
Отход от принципов реализма Возрождения сказывается даже
в лучших трагедиях Мэссинджера. Подобно тому, как в «Новом
способе платить старые долги» и в «Госпоже из Сити» он пред-
восхищает, отчасти, комедию нравов, которой предстояло сфор-
мироваться в Англии в конце XVII и в XVIII веке, в своих тра-
гедиях он, как и Джонсон, тяготеет к классицизму. Он охотно
отвлекается от пестрого народного «фальстафовского фона», на
котором развертывалось действие шекспировских трагедий, огра-
ничивает роль комического элемента, стремится к упрощению-
действия и сосредоточению внимания зрителя на небольшой
группе двух-трех главных действующих лиц. Эти тенден-
ции сказались особенно наглядно в «Римском актере», той
пьесе Мэссинджера, которая наиболее приближается к типу
классической трагедии.
7
Творчество Джона Форда (John Ford, 1576—1639?) пред-
ставляет собой наиболее яркое проявление кризиса послешек-
спировской драматургии.
Обладая, бесспорно, большим поэтическим талантом, Форд,
однако, ограничен в своем творчестве довольно узким идейным
и. эмоциональным диапазоном. Его стихия — меланхолия. Без-
надежной грустью проникнуты его произведения — даже те из
них, которые, как, например, ранняя его пьеса «Меланхолия
влюбленного» (The Lover's Melancholy, 1628), завершаются
счастливым концом.
Уже в самом раннем своем творчестве Форд выступает как
поэт, сторонящийся действительной жизни и противопостав-
ляющий ей свой идеальный поэтический мир рыцарских добле-
стей и добродетелей. Характерен в этом смысле, например, его
юношеский памфлет «Торжествующая честь» (Honor Trium-
phant, 1606), написанный в связи с турниром, который был
организован по поводу приезда в Англию датского короля Хри-
стиана. Форд задается целью доказать, что: «1. Рыцари, слу-
жащие дамам, лишены свободы воли. 2. Красота — опора
Доблести. 3. Прекрасная дама никогда не бывает неверной.
4. Мудры лишь безупречные влюбленные».
Трагический конфликт между этим поэтическим миром бла-
городной красоты и идеальных рыцарских чувств, исключаю-
щих «свободу воли», с одной стороны, и действительностью,
с Другой, — составляет тему большинства драматических произ-
ведений Форда.
В «Меланхолии влюбленного» — первой дошедшей до нас
самостоятельной пьесе Форда, последовавшей за «Эдмонтон-
екой ведьмой» (The Witch of Edmonton, 1621), написанной
совместно с Деккером и Роули, и некоторыми другими произ-
ведениями,— конфликт этот обозначается еще довольно слабо.
133
В:я пьеса, во многом навеянная бертоновской «Анатомией ме-
ланхолии», напоминает скорее лирическую поэму, чем драму,
настолько замедлено и не развернуто действие. Однако уже
здесь, в этой истории кипрского принца Паладора, томящегося
тоской по утраченной невесте, сказывается характерный для
Форда культ поэтической меланхолии, а введенная в пьесу «маска
.меланхолии», с помощью которой приближенные принца думают
излечить его и по ходу которой на сцене выступают с причуд-
ливыми танцами и пением безумцы, одержимые разными видами
«меланхолии», напоминает аналогичные приемы в пьесах Веб-
стера, Тернера и других, столь типичные для послешекспиров-
ской драматургии.
Зато уже в следующей, заслуженно знаменитой трагедии —
«Как жаль ее развратницей назвать» (fis Pitty Shees a Whore,
1633) — творчество Форда достигает высокой трагической на-
пряженности. Исследователи сопоставляли эту пьесу Форда
с «Ромео и Джульеттой», влияние которой, действительно, можно
обнаружить в некоторых сценах. Этого сопоставления достаточ-
но, чтобы определить глубокое различие самого духа шекспи-
ровского и фордовского творчества.
В трагедии Форда перед нами обреченная на трагическую
гибель юная и прекрасная пара влюбленных. Но влюбленные
эти — родные брат и сестра, любовь их — кровосмесительная
страсть, больная и противоестественно уродливая в самом блеске
своего расцвета, и печать роковой обреченности с самого начала
скрепляет их союз. Тема стихийной свободы чувства, победно-
оптимистически звучавшая в «Ромео и Джульетте», в трагедии
Форда приобретает болезненный, почти мистический смысл.
«Природа», на которую настойчиво ссылается, в оправдание
своей кровосмесительной связи с сестрой, Джованни, выступает
у Форда как роковая и страшная сила, толкающая людей, при-
слушивающихся к ее голосу, на грех, преступление и гибель.
Устами фра Бэнавентуры, духовника Аннабеллы и Джованни,
Форд снова ненова повторяет на протяжении всей пьесы мысль,
которая восходит еще к тернеровской «Трагедии атеиста»: «При-
рода слепа перед лицом неба».
«Небо» мстит за попранные молодыми влюбленными законы.
Отмщение приходит роковым и неизбежным путем. По настоянию
отца и духовника Аннабелла соглашается выйти замуж за не-
любимого Соранцо. Дважды пытаются враги жениха покончить
с ним то шпагой, то ядом, но оба раза безрезультатно. Судьба
бережет Соранцо, ибо он призван быть орудием гибели Аннабеллы
и ее любовника-брата. Беременность Аннабеллы выдает мужу
тайну ее любовной связи. В ярости он готовит ей мучительный
и позорный конец. Но Джованни предупреждает его: он сам
закалывает Аннабеллу. В заключительной сцене пьесы, где Форд
соперничает с «ужасами» своих предшественников, Джованни
выходит к гостям, которых Соранцо нарочно созвал на пир.
чтобы сделать их свидетелями позора своей жены, неся на острие
134
кинжала окровавленное сердце, Аннабеллы и гибнет, пронзенный
мечами наемных бандитов, которые должны были стать палачами
его сестры.
К числу лучших трагедий Форда относится также и «Разби-
тое сердце» (The Broken Heart, 1633). По общим очертаниям,
сюжета «Разбитое сердце» принадлежит к тем «трагедиям мести»
которыми так богата послешекспировская драматургия Воз-
рождения. Молодой спартанец Оргил не может простить Итоклу
того, что тот, памятуя традиции старинной семейной вражды,
насильно выдал свою, обрученную было с Оргилом, сестру Пентею
замуж за другого. После того как Пентея, измученная ревностью
нелюбимого мужа, верность которому она свято хранила из
чувства долга, сходит с ума и умирает, Оргил заманивает Итокла
в ловушку и убивает его.
История этого мстительного замысла в пьесе Форда играет,
•однако, служебную роль. Для Форда важны не столько актив-
ные действия его героев, сколько владеющие ими чувства, и прежде
всего та излюбленная им «меланхолия», которая является уде-
лом каждого из них. Оргил скорбит о своей погибшей любви.
Итокл, слишком поздно раскаявшийся в том, что погубил сес-
тру, с мучительной жалостью следит за тем, как она угасает
у него на глазах. Сама Пентея, готовая лишиться рассудка, тос-
кует о радостях материнства и разделенной любви, которые ей
так и не суждено было познать.
Подлинной героиней, участь которой дала повод к названию
трагедии, является Каланта, спартанская царевна, невеста
Итокла. Во время торжественного празднества во дворце по
случаю свадьбы одной из ее придворных дам Каланте, только что
открывшей праздник, одно за другим сообщают страшные известия:
скончался ее отец; умерла несчастная подруга Пентея; преда-
тельски убит любимый жених Итокл. К изумлению вестников
Каланта продолжает танцовать; она только приказывает музыкан-
там играть веселее, и лишь тогда, когда праздничная церемо-
ния окончена, она, спокойно свершив справедливый суд над убий-
цей жениха и мудро обеспечив будущую безопасность
•своего государства, склоняется, наконец, над гробом Итокла
и, прощаясь с ним последним поцелуем, умирает «от того, что
у нее разбилось сердце».
Концовка эта, по мысли Форда, должна, очевидно, иметь
символическое значение. Каланта, как и другие герои трагедии,
обретает подлинную жизнь в смерти, ибо, — как не раз повто-
ряют это на протяжении пьесы действующие лица «Разбитого
сердца», — «наш дом — в могиле»; «слава человеческого величия
подобна . приятным снам или быстро ускользающим теням»;
«любовь царит лишь в смерти».
Форд старается освободить свои пьесы от последних остатков
того комического элемента, который был так широко пред-
ставлен в шекспировских трагедиях. В прологе к «Разбитому
•сердцу» он с гордостью заявляет о том, что, как показывает само
135
заглавие, зритель не найдет в его трагедии ни «обезьяньего
смеха и хромых насмешек», ни «вымышленного повода в шуткам,
годным для публичного дома», ни низменных песен, годных
,лишь для нецеломудренных ушей». Сама эта поэтическая про-
грамма свидетельствует об отходе Форда от принципов реа-
лизма Возрождения.
Среди других произведений Форда заслуживает внимания
его историческая трагедия «Перкин Уорбек» (The Chronicle
History of Perkin Warbeck, 1634), заимствованная из бэконов-
ской «Истории Генриха VII» и представляющая собою, по мнению
критики, лучшую историческую хронику в английской драма-
тургии после Шекспира.
Более реалистическая, чем другие его трагедии, эта пьеса
Форда воспроизводит, однако,,его обычную «меланхолическую»
концепцию жизни. Герои пьесы — Перкин Уорбек, претендо-
вавший на английский престол под именем Ричарда Йоркского,
младшего из двоих сыновей Эдуарда IV, убитых в Тауэре
Ричардом III; его жена, лэди Кэтрин Гордон, принцесса шот-
ландского королевского дома, сохраняющая преданность мужу
даже тогда, когда он, пойманный и заключенный в колодки,
выставлен как самозванец на посмешище толпе; преданно сле-
дующий за нею в качестве верного рыцаря и друга лорд Да лье ль,
и отец ее, старый граф Хангли,—выделяются на фоне окружаю-
щего их мира: все они слишком благородны, чтобы преуспеть
в нем.
Самозванец Уорбек, искренне убежденный в своем праве на
престол, в изображении Форда гораздо «царственнее» трусли-
вого, эгоистичного и жестокого «законного» короля Генриха VII.
Самая гибель Уорбека вызвана его высоким моральным благо-
родством: в решающий момент гражданской войны он отказы-
вается предать на разграбление своим шотландским союзникам
английский народ, ценя его интересы выше личной выгоды.
А в то время как он с рыцарственным величием отвергает един-
ственное средство, которое могло бы закрепить за ним помощь
шотландцев, его союзники спокойно сговариваются за его спи-
ной с его врагом Генрихом VII и заключают выгодную сделку
ценою предательства. Эгоистические интересы одерживают по-
беду над рыцарским благородством. Но моральная победа остается
за Перкином Уорбеком; он верен себе до конца, и даже во
вражеском плену, осыпаемый оскорблениями, сидя в колод-
ках, ведет себя как король, и если просит о помиловании, то
лишь для своих- сообщников.
Тип исторической хроники во многом изменяется у Форда
по сравнению с Шекспиром, как изменяется у него и самый
тип трагедии. Смелая историческая объективность Шекспира
уступает место более субъективному, меланхолически-морали-
заторскому подходу к истории. «Мораль» «Перкина Уорбека»
сквозит в эпилоге, исполненном обычного для Форда пессимиз-
ма: «Здесь были показаны в различных видах опасности, угро-
136
жающие монархам, могущество страстей, надежды на власть,
перемена удачи, —все, что может случиться на театре славы,
свидетельствуя о непрочности его основ».
Сохраняя верность основным историческим событиям, им
изображаемым, Форд, однако, сводит почти до минимума роль реа-
листического народного «фальстафовского фона» шекспировских
хроник, а вместе с ним и роль комического элемента (в прологе
к «Перкину Уорбеку» автор демонстративно заявляет, что избе-
гал «ненужного веселья, которое располагало бы в пользу
черни»).
8
Последним крупным представителем младшего поколения
современников Шекспира был Джемс Шерли (James Shirley,
1596—1666). В этой плеяде драматургов он — единственный^
кто, начав писать еще со времен Якова I, успел пережить рево-
люцию и умер уже во времена Реставрации.
Роялист по своим политическим симпатиям и приверженец
католицизма, Шерли принадлежал к числу драматургов, наиболее
близких ко двору Стюартов, и пользовался личным покрови-
тельством Карла I и Генриетты-Марии. Специально для при-
дворных постановок им был написан ряд пьес, в том числе не-
сколько «масок»: «Торжество мира» ( 1 he Triumph of Peace,
1633); «Торжество красоты» (The Triumph of Beautie, 1646)
и др., представления которых осуществлялись с большой пыш-
ностью под руководством знаменитого художника и архитектора
того времени Иниго Джонса. Эти произведения занимают, од-
нако, сравнительно небольшое место в чрезвычайно обширном
литературном наследстве Шерли, включающем в себя, помимо
нескольких поэм, а также стихотворных учебников латинской
и английской грамматики, десятка три трагедий и комедий.
В области трагедии Шерли был менее оригинальным худож-
ником, чем в области комедии. Даже в лучших его трагедиях, —-
в «Изменнике» ( 1 he Traytor, 1635) или в «Кардинале» (The
Cardinal, 1652),—легко заметить следы влияния Вебстера
и Тернера. Сложные перипетии запутанной драматической интриги,
следующие друг за другом коварные убийства, измены, крова-
вые мщения занимают все внимание Шерли в ущерб пси-
хологической характеристике действующих лиц.
Гораздо более самостоятельны и интересны комедии Шерли.
Образцами их могут служить «Гайд-Парк» (Hide Park, 1637)
и «Легкомысленная лэди» (The Lady of Pleasure, 1637), которые
критика причисляет к его лучшим пьесам.
Типичная для английского Возрождения комедия характе-
ров и действия, полная жизненной глубины, превращается
У Шерли в комедию нравов,уже предвосхищающую во многом коме-
дии позднейших писателей эпохи Реставрации — Уичерли, Кон-
грива и др.
137
Действие в «Гайд-парке» и «Легкомысленной лэди» довольно
замедленно; оно нередко задерживается, — как и впослед-
ствии в комедиях Реставрации, — диалогами, в которых дей-
ствующие лица состязаются в остроумии, или жанровыми
бытовыми сценами, не имеющими прямого отношения к раз-
витию сюжета. Такова, например, сцена скачек в «Гайд-парке».
Подобно писателям времен Реставрации, Шерли изображает
в «Гайд-парке» и «Легкомысленной лэди» преимущественно нравы
столичной великосветской «золотой молодежи» и подражаю-
щих ей провинциалов. Тема адюльтера —подготовляющегося,
возможного или уже осуществленного — занимает видное место
в обеих этих комедиях.
Шерли еще свободен от демонстративного антипуританского
цинизма писателей Реставрации; он старается соблюсти в своих
пьесах необходимую мораль и оберегает, по возможности, от
угрожающих ей опасностей святыню семейного очага. Теа-
тральный цензор счел даже нужным по поводу пьесы Шерли
«Молодой адмирал» (The Young Admirall, 1637) выразить автору
одобрение за то, что он не склонен к богохульству и неприли-
чию. Впрочем, забавные истории миссис Бонавент — вдовушки,
оказавшейся одновременно обладательницей двух мужей («Гайд-
парк»), или сэра Томаса Борнвеля, ставшего на время мотом
и повесой ради исправления легкомысленной жены («Легкомыс-
ленная лэди»), рассказаны так беззаботно и изобилуют столь
пикантными подробностями, что «морализующее» их значение
едва ли не отступает на задний план.
Творчество Шерли, как и других английских драматургов,
связанных с этим последним этапом в развитии английской ре-
нессансной драмы, неопровержимо свидетельствует о том, как
далеко продвинулся процесс внутреннего распада искусства,
созданного эпохой Возрождения. Конец был близок. Закон 1642 г.,
надолго прекративший существование английских театров, обо-
рвал развитие драматургии, уже неумолимо клонившееся к упадку.
ЧЛСТЬ ТРЕТЬЯ
ЛИТЕРЛТУРЛ
ЛНГЛИЙСКОЙ БУРЖУЛЗНОИ
РЕВОЛЮЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
i
XVII век — один из наиболее бурных периодов английской
истории. Долго накапливавшиеся социальные противоречия между
буржуазией и силами старого феодального строя привели
к взрыву существовавших общественных отношений. Кульмина-
ционным пунктом борьбы явилась английская буржуазная
революция XVII века, которая была не только важнейшим собы-
тием в общественной жизни Англии, но и событием мирового
значения. Недаром Энгельс характеризовал английскую рево-
люцию XVII века как вторую крупную битву буржуазии против
европейского феодализма.
Уже под конец царствования Елизаветы начинаются кон-
фликты между королевской властью и буржуазией, которые
с переходом власти к новой династии Стюартов обостряются/
Вступивший в 1625 i\ на престол Карл I после ряда столкно-
вений с палатой общин распустил в 1629 г. парламент, и лишь
одиннадцать лет спустя, в 1640 г., внугренние затруднения вы-
нудили его вновь созвать парламенг, получивший название
«Короткого», ибо он просуществовал менее месяца (апрель—май).
Но уже в ноябре 1640 г. король снова созывает депутатов. Новый
парламент, известный в истории под названием «Долгого», про-
существовал до 1653 г. и сыграл важнейшую роль в истории
английской буржуазной революции.
Натолкнувшись на прямую оппозицию, король покинул
в январе 1642 г. столицу, отправился на север страны и стал гото-
виться к вооруженной борьбе с непокорным парламентом. На-
чавшаяся осенью 1642 г. гражданская война затянулась до
1649 г. и окончилась полным разгромом роялистов. Сам король
был захвачен в плен и предан суду особого верховного трибу-
нала, который признал его «тираном, убийцей, изменником и
врагом государствам. 30 января 1649 г. Карл Стюарт по приго-
вору трибунала был обезглавлен. Еще ранее, 4 января 1649 г.,
Англия была провозглашена республикой.
По мере развития событий в самом революционном лагере про-
исходило социальное размежевание. Вначале королевской власти
противостояла единая оппозиция пуритан, в среде которых
наибольшее значение имели секты пресвитериан и индепенден-
141
тов. Пресвитериане, представлявшие интересы крупной бур-
жуазии и верхушки нового дворянства, составляли болынин-
чство в парламенте. Занимая умеренные политические позиции,
они тормозили развитие революции и делали неоднократные
попытки договориться с королем. Индепенденты, вождем которых
был Кромвель, представляли интересы средних слоев буржуазии
и нового дворянства и пользовались на первые порах поддерж-
кой мелкой буржуазии и крестьянства. Они стояли за более
решительную борьбу против короля. Захватив в свои руки
руководство армией, они разгромили пресвитериан и изгнали их
в 1648 г. из парламента (так называемая «Прайдова чистка»).
Но еще до этого произошел раскол в среде самой армии
и индепендентов. Верхушка армии нашла своего руководителя
в лице Кромвеля. Этой группе — «джентльменам», как их называ-
ли, — противостояли левеллеры («уравнители»), идейным вождем
которых был Джон Лильберн. Будучи представителями мелко-
буржуазных элементов города и деревни, они стояли за углуб-
ление революции. Левеллеров поддерживали городская беднота
и беднейшие слои крестьянства. Наконец, возникло еще более
радикальное движение так называемых «истинных левеллеров»
или «диггеров» («копателей»).
Одержав победу над королем, возглавляемые Кромвелем
индепенденты жестоко подавляют восстания в Шотландии
и Ирландии, а также расправляются со всеми радикальными дви-
жениями в самой Англии — в первую очередь, с левеллерами.
Со временем индепенденты постепенно переходят на более правые
позиции. Крупная буржуазия и верхушка нового дворянства,
ранее поддерживавшие пресвитериан, становятся на сторону
Кромвеля, положение которого упрочилось после ряда крупных
успехов во внутренней и внешней политике. В 1653 г. кромве-
левские солдаты разгоняют остатки Долгого парламента, так
называемое «охвостье», и этим кладется начало кромвелевского
протектората.
В побежденной Ирландии по окончании гражданской войны
были конфискованы огромные земельные территории, значи-
тельная часть населения была разорена. «Зеленый остров»
оказался добычей победившей в революции буржуазии. Эта
расправа с Ирландией повлекла за собой последствия, имевшие
огромное влияние на судьбу английской революции. Стремление
удержать покоренную страну в подчинении с неизбежностью
привело к установлению военной диктатуры Кромвеля, по-
правшего демократические завоевания революции.
«На примере ирландской истории, —писал Энгельс Марксу, —
можно видеть, какое это несчастье для народа поработить себе
другой народ... Мне кажется несомненным, что дела в Англии
приняли бы другой оборот, если бы не было необходимости воен-
ного господства и создания новой аристократии в Ирландии».1
1 Маркс пЭнгельс, Соч, т. XXIV, стр. 240—241.
142
Покорение Ирландии оказалось, таким образом, фатальным для
английской революции, и Маркс подчеркнул этот факт, указав,
что «английская республика при Кромвеле в сущности разби-
лась об Ирландию»1.
Для понимания характера английской буржуазной револю-
ции решающее значение имеют высказывания Маркса, который
сравнивал ее с первой буржуазной революцией во Франции.
«В 1648 г. — писал Маркс, — буржуазия в союзе с новым дво-
рянством боролась против монархии, феодального дворянства
и господствующей церкви.
В 1789 г. буржуазия в союзе с народом боролась против
монархии, дворянства и господствующей церкви...
В обеих революциях буржуазия была тем классом, который
действительно стоял во главе движения. Пролетариат и не при-
надлежавшие к буржуазии слои городского населения либо не
имели еще никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще
не составляли самостоятельно развитого класса или части класса»2*
Основоположники марксизд1а вместе с тем подчеркивают
огромную роль народных масс в борьбе против феодализма.
«Во всех трех великих буржуазных революциях, — пишет
Энгельс, имея в виду реформацию в Германии в XVI веке, англий-
скую буржуазную революцию XVII века и первую буржуазную
революцию 1789 г. во Франции, — боевой армией являются кре-
стьяне». В Англии «исключительно благодаря вмешательству этого
йоменри и плебейского элемента городов борьба была доведена
до последнего решительного конца, и Карл I угодил на эшафот»3.
Однако, если народ и завоевал победу, то не ему суждено
было пользоваться ее плодами. Энгельс подчеркивает, что «имен-
но крестьяне оказываются тем классом, который после завое-
вания победы неизбежно разоряется вследствие экономических
последствий этой победы» 4.
2
Размах политической борьбы, охватившей широчайшие слои
населения Англии, чрезвычайно способствовал развитию публи-
цистической литературы и положил начало журналистике.
Население проявляло огромный интерес ко всякого рода со-
общениям о политических событиях. Стали появляться листки
с новостями — так называемые «реляции» (relations), издавав-
шиеся предприимчивыми, но не всегла хорошо осведомленными
людьми. Возникает периодическая пресса. С началом деятель-
ности Долгого парламента начинают выходить «Дневники» (diur-
nals), в которых печатаются отчеты о заседаниях палат. По-
являются также «брошюры с новостями», так называемые news-
1Маркс и Энгельс, Соч., т. XXVI, стр. 34.
2 Маркс и Энгельс, Соч. т. VII, стр. 54.
, 3Маркс и Энгельс, Соч. т. XVI, ч. 2, стр. 297.
4 Там же.
143
books, выходящие более или менее регулярно и носящие едино-
образный заголовок. Эти брошюры не только сообщают новости,
но дают и комментарии, содержащие оценку событий. Один из
современников этой эпохи, Томасон, собрал коллекцию все-
возможных политических изданий, выходивших на протяжении
1641—1660 гг. Из 22 000 номеров, составляющих его собрание,
более половины представляют собой листки, «брошюры с но-
востями», «реляции» и тому подобные издания политической
журналистики.
Помимо того, сохранилось большое число листовок-одно-
дневок — откликов на злобу дня. Среди них имеются и листовки
с «балладами» на темы современных событий. Издавались также
в немалом количестве сатирические листовки, в которых под-
вергались критике деятели враждующих партий. Остроумие рес-
публиканцев особенно изощрялось в сатирических нападках на
командующего армией Карла I — принца Руперта и его люби-
мую собачку. Роялистские остряки отвечали насмешками над
красным носом Кромвеля.
Несмотря на многочисленные попытки, роялисты не создали
почти ничего значительного в области публицистики. Един-
ственный крупный образец публицистики королевской партии,
это — памфлет «Образ короля, портрет его священного величе-
ства в его одиночестве и страданиях» (Eikon Basil ike, the Pour-
traicture of his Sacred Majestie in His Solitudes and Sufferings,
1649). Автором этого памфлета был богослов Джон Годин (John
Gauden, 1605—1662). «Образ короля» был написан в первом лице
и представлял собой как бы его исповедь. Король представлен
в идеализированном виде. Он изображается человеком добрым,
религиозным, полным заботы о своих подданных и своей семье.
В его уста вложены многочисленные благочестивые размы-
шления. Когда книга появилась в продаже, подлинное автор-
ство ее было известно лишь отдельным лицам, а большинство
читателей сочло ее произведением самого короля. Уже после
Реставрации Годин заявил о своих «авторских правах» и был
вознагражден Карлом II, назначившем его епископом Эксетера.
Эффект, прои?веденный опубликованием «Образа короля»,
был настолько велик, что высший орган исполнительной власти
республики, государственный совет, признал необходимым вы-
пустить официальный ответ на это сочинение.
^Составление ответа сначала предполагалось поручить круп-
нейшему из ранних публицистов революционной буржуазии
XVII века Джону Сельдену ( John Selden, 1584—1654). О тин из
наиболее образованных правоведов того времени, он завоевал из-
вестность историко-правовыми исследованиями, опрокидывавшими
юридическое обоснование феодального строя. Его капитальный
«Трактат о дворянских титулах» (A Treatise on Titles of Honour,
1614) разоблачал реальную подоплеку привилегий дворянства.
Его «История церковной десятины» (The Historié of Tithes,
1618) научно опровергала «божественный» характер этого йа-
144
лога, служившего важнейшим источником церковных доходов,
л доказывала его феодальную основу. О впечатлении, произ-
веденном этим трактатом, можно судить по тому, что Яков I
лично сделал выговор Сельдену, а верховный суд, специально
разбиравший вопрос об этой книге, принудил автора отречься
от нее.
Сыграв значительную роль в идеологической подготовке
революции, Сельден в разгар революционной борьбы не удер-
жался на высоте положения. Он отказался написать ответ на
«Образ короля», так как, занимая умеренную позицию, не одо-
брял казни Карла и стоял за конституционную монархию.
Отказ Сельдена, однако, не поставил правительство в затруд-
нительное положение, ибо к этому времени в республиканском
лагере уже был ряд значительных ораторов и публицистов,
среди которых выделялся Генри Вен старший (Henry Vane,
1586—1654), один из виднейших деятелей революции.
Но наиболее крупным публицистом пуританской партии был
Мильтон. Он и принял поручение написать ответ на памфлет
Година. Впоследствии Мильтон не раз выполнял подобные по-
ручения, став как бы официальным публицистом буржуазной
революции. Его публицистические работы дали теоретическое
обоснование всей борьбе буржуазии против монархии. Своими
памфлетами Мильтон сыграл роль главного идеолога основной
лартии буржуазной революции — индепендентов.
Выдающимся публицистом был также вождь левеллеров Джон
Лильберн (John Lilburne, 1614?—1657), жизнь которого была в
полном смысле слова мученической. Сын провинциального
землевладельца, Лильберн был в 1630 г. отдан в ученики к одному
крупному купцу лондонского Сити, рьяному пуританину. Еще
юношей он принимал участие в распространении запрещенных
книг религиозно-политического содержания и, спасаясь от пре-
следований властей, бежал в Голландию. По возвращении в
Англию он был арестован и приговорен к штрафу в 500 фунтов
стерлингов, длительному тюремному заключению и выставлению
у позорного столба. Условия заключения были так тяжелы,
что Лильберн умер бы в тюрьме, если бы парламент не добился
его. освобождения в 1641 г.
По освобождении Лильберн вступил в войска парламента,
принимал участие в гражданской войне против короля, был ра-
нен, отличился в битвах и был назначен подполковником дра-
гунского полка. Примкнув к индепендентам, он опубликовал
памфлет, направленный против пресвитерианского большинства
палаты общин, и за это был в 1646 г. заключен в тюрьму, откуда
его освободили только после долгих хлопот друзей и привер-
женцев.
Когда в парламентских войсках начало развиваться дви-
жение радикально настроенных солдат, недовольных индепен-
•Дентской верхушкой, Лильберн возглавил это движение в
'Качестве идейного вождя левеллеров. При его участии быласостав-
Англ. литература 145
лена политическая программа левеллеров, так называемое «На-
родное соглашение» (The Agreement of the People), в котором были
сформулированы основные положения политической теории Лиль-
берна. Еще в 1648 г., во время тюремного заключения, Лиль-
берн написал памфлет «Анатомия тирании лордов» (Anatomy of
the Lords Tyranny). В этом гамфлете он развивает мысль, что
лорды—потомки сподвижников Вильгельма Завоевателя, насиль-
ственно захвативших земли и власть и велевших именовать себя
герцогами, графами и баронами. Стоя на точке зрения естест-
венного права, Лильберн считал, что источником законной
власти может быть только добровольный договор, «соглашение»
власти и народа.
В конце 1648 г. Лильберн снова попадает в тюрьму. Нахо-
дясь в заключении, он, однако, продолжает борьбу и пишет
памфлет «Договор свободного народа Англии». В этом памфлете
он подробно излагает программу демократического, республи-
канского устройства Англии, в основу которого он кладет все-
общее избирательное право. Программа Лильберна предусмат-
ривает веротерпимость, смягчение уголовного кодекса, отмену
монополий, милиционное построение армии и др.
Оправданный в 1649 г., Лильберн уже в 1652 г. снова был
арестован и постановлением парламента присужден к пожиз-
ненному изгнанию. Когда Кромвель в 1653 г. разогнал «охво-
стье» Долгого парламента, Лильберн, находившийся в то время
в Голландии, вернулся в Англию, полагая, что с разгоном пар-
ламента теряет силу и постановление об его изгнании. Но по
приказу Кромвеля он был арестован и предан суду. Несмотря
на то, что Лильберн был судом оправдан, Кромвель продолжал
держать его в заточении. В 1654 г. его перевели на остров Джерсей
(в Ламанше), а затем на соседний остров Гернсей.
Бесконечные преследования и долголетнее пребывание в
тюрьмах подорвали не только физическое здоровье, но и нрав-
ственную силу Лильберна. Он впал в мистицизм и стал при-
верженцем квакеров. Когда Кромвель узнал об этом, он рас-
порядился освободить Лильберна и назначил ему пенсию, но
запретил жить и бывать в Лондоне. Через несколько месяцев
после освобождения Лильберн скончался.
Пламенный трибун Лильберн пользовался исключительной
популярностью в народных массах, которые видели в нем борца
и мученика за народные права.
«Истинные левеллеры» или диггеры («копатели») также вы-
двинули одного значительного публициста. Они называли себя
«истинными уравнителями» потому, что их социально-поли-
тическая программа требовала полного имущественного урав-
нения. Это движение возникло в среде крестьян. В период
республики в нескольких местностях страны диггеры делали по-
пытки коллективной обработки незанятых земель, но эта практи-
ческая деятельность насильственно пресекалась респуб.гикан-
скими властями. Диггеры опубликовали ряд памфлетов, иг*
146
которых большая часть была подписана именами Эверарда и
Уинстенли. Последний и был наиболее значительным публи-
цистом этой группы.
Почти никаких биографических сведений о Джерарде Уин-
стенли (Gerrard Winstanley) не сохранилось. Известно лишь,
что последний его памфлет был опубликован в 1658 г.
Наиболее значительным из его произведений является «Закон
свободы, изложенный в виде платформы, или восстановление
истинной системы правления» (The Law of Freedom in a Plat-
form, or True Magistracy Restored, 1652). Написанное в обычном
для той эпохи пророческом стиле, со многими библейскими
ссылками и цитатами, оно представляет собой утопию «истинного
левеллерства». Книга посвящена Кромвелю. Уинстенли при-
зывает его отдать землю народу, с чьей помощью была достиг-
нута победа над «фараоном».
Отказываясь от насильственного изменения общественных
отношений, Уинстенли думает достичь цели посредством про-
поведи своих идеалов. Он стоит за полное имущественное урав-
нение и за равенство политических прав всех граждан.
Присвоение плодов чужого труда рассматривается им как преступ-
ление, торговля—как мошенничество, богатство — как грех.
Он подробно описывает общественную организацию, при кото-
рой, по его мнению, будет достигнуто всеобщее счастье. «Слава
царства Израильского заключалась в том, что среди израильтян
не было нищих», — таков его идеал. Он стоит за республику и за
выборность власти.
Буржуазные историки пытались представить диггеров и их
идеологию как «коммунизм». Но это неверно. Отражая идеологию
беднейших слоев крестьянства, они, по существу, стояли на точке
зрения примитивного уравнительства, которое ничего общего с
коммунизмом не имеет.
Если Мильтон примкнул к республиканцам, то ряд гумани-
стов продолжал защищать принцип монархии, давая ему, однако,
новое теоретическое обоснование. Такую именно позицию занял
Сэлишжь Гартлиб (Samuel Hartlib, ок. 1600—1670?). В 1641 г. он
выпустил трактат об экономических и политических задачах
государства, озаглавленный «Описание знаменитого королев-
ства Макарии, имеющего отличное правительство, где все жители
благоденствуют, пользуясь счастьем и здоровьем, где королю
повинуются, дворянам оказывают почтение, а всем хорошим
людям уважение» и т. д. (A Description of the Famous Kingdom
of. Macaria etc.). Это—утопия, написанная в форме диалога «между
ученым и путешественником», причем Гартлиб сам указывает,что при
изложении он «ставил себе образцом сэра Томаса Мора и лорда Фрэн-
сиса Бэкона». Макария (по-гречески—«жилище блаженства»)—стра-
на, в которой все производство находится под контролем пра-
вительства. Собственники предприятий имеют известные обяза-
тельства перед государством, невыполнение которых влечет за
собой конфискацию их собственности в пользу общества. Прави-
гельство Макарии состоит из пяти «государственных советов»,
из которых один ведает земледелием, другой — рыболовством,
третий — промышленностью и сухопутной торговлей, четвер-
тый — морской торговлей, пятый — колониями. Мероприятия
и общественные реформы, предлагавшиеся Гартлибом, не под-
разумевали существенного изменения общественных отношений.
Гартлиб считал возможным использовать монархию в целях
упорядочения новых общественных отношений.
f Принцип монархии получает « новое теоретическое и социаль-
но-экономическое обоснование в трудах английского философа
Томаса Гоббса. Уже в своем первом политическом трактате
«Элементы естественного и общественного закона» (The Elements
of Law Natural and Politic), распространявшемся только в руко-
писных списках, Гоббс высказался в пользу монархии как наи-
более совершенной формы правления. Это сделало небезопас-
ным его дальнейшее пребывание в Англии, и Гоббс в 1640 г.
эмигрировал во Францию, где сблизился с роялистскими кругами
и стал воспитателем будущего английского короля Карла II.
В эмиграции были написаны трактат «О гражданстве» (De Cive,
1642) и капитальный труд «Левиафан, или сущность, форма и
сила власти церковного и гражданского государства» (Levia-
than Or the Matter, Forme, and Power of A Commonwealth Eccle-
siasticall and Civil, 1651). В этом труде получила свое полное раз-
витие политическая теория Гоббса.
Так же, как и публицисты буржуазной революции, Гоббс
отказывается от феодальной теории божественного происхожде-
ния королевской власти/ Однако, в отличие от сторонников рес-
публиканского строя, Гоббс стоит за сильную королевскую
власть. Он исходит из того, что общество является конгломера-
том индивидов, преследующих свои узкие эгоистические цели.
Естественным состоянием общества, по его мнению, является
«война всех против всех». Именно то, что в этом обществе «че-
ловек человеку волк», делает необходимым существование силь-
ного государства — Левиафана, способного ввести порядок и
создать условия, которые позволят каждому наслаждаться пло-
дами его труда и обезопасят его собственность от покушений на
нее. Единоличная монархическая власть, по мнению философа,
наиболее способна осуществить эти задачи.
В сущности своей теория Гоббса не противоречила классовым
интересам крупной буржуазии и верхушки нового дворянства.
Недаром, когда Гоббс вскоре по опубликовании «Левиафана»
вернулся в Англию, он пользовался покровительством Кромвеля,
который в это время вместе со своей партией переходил на
новые позиции. Сыграв роль Робеспьера английской революции,
Кромвель теперь готовился сыграть также роль ее Наполеона.
^Задача буржуазной революции — ниспровержение феодаль-
ной монархии — была выполнена, и вокруг Кромвеля стали
объединяться все слои, выигравшие от революции. Они стремились
148
теперь упрочить свое положение, и первоочередной их задачей
было обуздание народных масс, которые хотели углубить револю-
цию и осуществить более радикальные преобразования.
j В лице Гоббса философия выступила «на защиту королев-
ского всемогущества» и стала призывать абсолютную монархию
к «укрощению этого puer robustus, sed malitiosus, т. е. народа»1.
В этом — сущность политической теории Гоббса. Она была
выражением не ретроградной точки зрения аристократии, а
интересов новых господствующих классов, утвердившихся у
власти в результате революции — крупной буржуазии и вер-
хушки нового дворянства, которые после смерти Кромвеля почти
безропотно приняли обратно Стюартов, надеясь, что и они будут
соблюдать их интересы.
Однако сторонники буржуазной демократии отказались
принять теорию Гоббса и с большой решительностью выступили
против нее. Наиболее разработанным возражением Гоббсу было
выступление Гаррингтона.
Джемс Гаррингтон (James Harrington, 1611—1677) проис-
ходил из состоятельной дворянской семьи, связанной с аристо-
кратической знатью. Он учихся в Оксфорде, путешествовал за
границей, а по возвращении был принят при дворе и сделался
одним из приближенных короля. Несмотря на это, Гаррингтон
по своим взглядам был республиканцем, и рассказывают, что
он спорил с королем, доказывая ему преимущества республи-
канского правления. После казни короля, за дружбу с которым
Гаррингтон был подвергнут недолгому тюремному заключению,
он посвятил себя научным занятиям. Он работал над сочине-
нием об идеальной республике, но рукопись была конфискована
по приказу кромвелевской администрации, и лишь с большими
усилиями Гаррингтону удалось получить ее обратно, а затем
добиться разрешения на напечатание. В 1656 г. это произведе-
ние— «Республика Оцеана» (The Common-wealth of Oceana) —
было, наконец, опубликовано. В 1659 г. для разработки проблем,
связанных с организацией справедливого республиканского строя,
Гаррингтон учредил клуб «The Rota», куда входили видные
представители передовой буржуазной демократии того времени.
После Реставрации Гаррингтон как республиканец был аресто-
ван и долго просидел в тюрьме без суда и следствия, пока, наконец,
родственники не добились его освобождения.
«Оцеана» Гаррингтона представляет собой утопическое описа-
ние идеального государства. Книга распадается на четыре
отдела, последовательно рассматривающих условия возникнове-
ния подобного государства. Характерной чертой утопии Гарринг-
тона является его попытка найти пути практического осу-
ществления своего идеала; он считает необходимым для этого
ряд последовательных законодательных реформ.
'Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 299.
149
Политическое устройство, по замечательному наблюдению
Гаррингтона, всегда и всюду соответствует распределению соб-
ственности. Демократический политический строй требует, сле-
довательно, соответственной системы собственности в обществе.
Исходя из этого, автор и развивает свою теорию распределения
собственности, устанавливая известный предел владения землею
и рассчитывая таким путем помешать образованию олигархии.
Общественный строй Оцеаны предполагает постепенное уни-
чтожение экономической зависимости одних людей от других,
так как это «несовместимо со свободой или участием в управ-
лении республикой». Идеальное состояние общества, по Гарринг-
тону, будет достигнуто тогда, когда каждый член общества
станет независимым собственником определенного имущества,
достаточного для его обеспечения.
Государственным строем Оцеаны является демократическая
республика, где граждане разделяются на два класса, в соот-
ветствии с размерами дохода. Власть осуществляется двумя
главными органами — сенатом и народным представительством.
Сенат состоит из 300 членов, избираемых теми, чей годовой
доход превышает 100 фунтов стерлингов; его функция — обсуж-
дение и предложение законов; право же решающего голосова-
ния принадлежит народному представительству. Граждане, имею-
щие менее 100 фунтов стерлингов дохода, посылают туда 600
депутатов, представители более богатой группы — 450 депута-
тов. Народное представительство обладает правом принять или
отвергнуть тот или иной закон, но не имеет права обсуждать
его, так как это — функция сената. Таким образом, полити-
ческая система Гаррингтона обеспечивает известное преобла-
дание демократического начала в его идеальном буржуазном
государстве, и программу его можно назвать утопией буржуаз-
ной демократии.
Политическая борьба в Англии XVII века протекала в
теснейшей связи с борьбой религиозной; вся буржуазная ре-
волюция проходила под религиозными лозунгами. Английская
революция в этом отношении была характерным примером «исто-
рического маскарада», как назвал подобное явление Маркс.
«Как раз тогда, — пишет Маркс, — когда люди, повидимому,
только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее,
создают совершенно небывалое, — как раз в такие эпохи револю-
ционных кризисов они заботливо вызывают к себе на помощь
духов прошедшего, заимствуют у них имена, боевые лозунги,
костюм и в освященном древностью наряде, на чуждом языке
разыгрывают новый акт всемирной истории» г. Обращаясь к
рассматриваемой нами эпохе, Маркс указывает, что «Кромвель и
английский народ воспользовались для своей буржуазной ре-
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 323.
150
волюции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из
Ветхого завета. Когда же действительная цель была достигнута,
когда английское общество было переделано на буржуазный
лад, место пророка Аввакума занял Локк» J.
Пуританство, ставшее идеологией английской революцион-
ной буржуазии, возникло как религиозное движение, стремив-
шееся к завершению реформации, проведенной в XVI веке, но
носившей половинчатый характер и недостаточно очистившей
церковь от установлений католицизма. Вскоре оно переросло в
движение социальное,ставившее себе целью очищение общественной
жизни от всех пороков, источником которых, по мнению благо-
честивых буржуа, была аристократия.
Теоретическую основу пуританства составило религиозное и
моральное учение Жана Кальвина. Ядром кальвинизма был
догмат предопределения, согласно которому бог еще до созда-
ния мира предопределил одних людей к спасению, других — к
погибели. Однако из этого отнюдь не вытекало, что человек
должен фаталистически покоряться судьбе. Он не может знать,
что ему предопределено. Более того, каждый обязан жить и дей-
ствовать таким образом, чтобы доказать, что ему предопределено
спасение. Кальвин, следовательно, призывал к активности,
и недаром Энгельс писал, что «его догма отвечала требованиям
самой смелой части тогдашней буржуазии2».
В учении Кальвина о предопределении была одна сторона,
характерно отражавшая практику буржуазии. «Его учение
о предопределении,—как указывает Энгельс, — было религиоз-
ным выражением того факта, что в мире торговли и конкурен-
ции удача или банкротство зависят не от деятельности или искус-
ства отдельных лиц, а от обстоятельств, от них не зависящих.
«Определяет не воля или действия какого-либо отдельного чело-
века, а милосердие» могущественных, но неведомых экономиче-
ских сил»5.
< Кальвин был противником централизованной феодальной
церкви. Он создал новую форму церковной организации, ядром
которой являлась религиозная община.
«...Церковный строй Кальвина, — пишет Энгельс, — был на-
сквозь демократичным и республиканским; а где уже и царство
^божие республиканизировано, могли ли там земные царства
•оставаться верноподданными королей, епископов и феодалов-
йомещиков? Если лютеранство в Германии было удобным орудием
£ руках германских мелких князей, то кальвинизм создал рес-
публику в Голландии и сильные республиканские партии в Англии
** особенно в Шотландии»4.
В моральном учении Кальвина был ряд пунктов, которые
оправдывали стяжательство буржуазии. Кальвин признавал спра-
1 Маркс иЭнгельс Соч., т. VIII, стр. 324.
* Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 297.
3 Там же.
4 Там же.
151
ведливым взимание ростовщических процентов, считал рабство
вполне допустимым с религиозной точки зрения. Учение о «мир-
ском призвании» (которым чаще всего оказывалась коммерческая
деятельность) и учение о «мирском аскетизме», весь «секрет которого
состоит в буржузной бережливости»1, служили религиозным
освящением накопления и эксплоатации. Задачам буржуазного
накопления подчиняется вся практическая мораль пуританства.
Умеренность и бережливость объявляются важнейшими добро-
детелями; всякие наслаждения, все, что вызывает расходы и
расточительность, порицается как грех.
В формировании пуританской морали большую роль играло
осуждение того образа жизни, который вели аристократические
круги. Нравственная распущенность, царившая при дворе
Стюартов, усиливала недовольство буржуазии и народа. Уже в
годы монархии пуритане вели ожесточенную борьбу за установ-
ление своих правил жизни. Они энергично выступали против
театра, танцев, ярмарочных развлечений, против азартных игр
и изысканных аристократических мод, стремясь к повсеместному
установлению «мирского аскетизма». Столетие спустя Свифт
высмеивал причудливые формы, которые приняла партийная
борьба в Англии XVII—XVIII веков. В империи лилипутов
образовались две враждующие партии, получившие название
Тремексенов и Слемексенов, «от высоких и низких каблуков, при
помощи которых они отличались друг от друга». Великий сатирик
довольно точно изобразил реальный факт: со времен Елизаветы
у аристократов была мода носить башмаки с широкими носками,
пуритане же принципиально стали носить остроносую обувь.
Показательно, что даже свое прозвище представители ре-
волюционной буржуазии получили от названия прически. Еще
при Елизавете аристократы стали носить длинные завитые ло-
коны, так называемые love-locks. В противоположность этой
прическе пуритане коротко стригли волосы в кружок, за что
получили в 1641 г. прозвище «круглоголовых» (Roundheads).
С приходом пуритан к власти был проведен ряд мероприятий,
которые сделали их морально-бытовые правила государственным
установлением. В 1642 г. Долгий парламент запретил театраль-
ные представления и развлечения, приравненные к сцени-
ческому искусству—медвежью травлю и петушиные бои. В период
республики народные празднества и развлечения были запре-
щены; статуи и картины, как предметы идолопоклонства, были
вынесены из церквей.
Исключительно важная роль религиозных и церковных во-
просов в период буржуазной революции XVII века обусловила
развитие обширной богословской литературы.
Большое политическое значение имела полемика о церковном
управлении. Споры по этому поводу были как бы идеологиче-
ской репетицией революции. Происходили они в 1641—1642 гг.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 144.
152
и были вызваны намерением пуританского парламента 'упразд-
нить епископат. На стороне епископальной церкви выступили ее
ученейшие представители — епископы Джозеф Холл и Джемс
Эсшер. Их противниками были Джон Мильтон и группа пуритан,
подписывавшаяся псевдонимом Smectymnws, составленным из
инициалов пяти авторов (Stephen Marshall, Edmund Calamy,
Thomas Young, Matthew Newcomen, William Sparstow). Поле-
мика сама собой прекратилась, когда Долгий парламент в 1642 г.
уничтожил епископат.
Каждая из враждовавших между собой церквей — англи-
канская и пуританская — имела многочисленных проповед-
ников.
Крупнейшим из проповедников англиканской церкви был
Джереми Тэйлор (Jeremy Taylor, 1613—1667). Во время гра-
жданской войны он был капелланом в королевской армии и
пользовался личным расположением Карла I. В годы республики
Тэйлор несколько раз подвергался тюремному заключению.
После Реставрации Стюарты вознаградили его посвящением в
сан епископа.
Среди многочисленных богословских сочинений Тэйлора осо-
бый интерес представляет «Свобода исповедания» (A Discourse
of the Liberty of Prophesying, 1647), где он выступает сторонником
веротерпимости. Две другие его известные книги — «Правила и
упражнения благочестивой жизни» (Rules and Exercises of Holy
Life, 1650) и «Правила и упражнения, приуготовляющие к благо-
честивой смерти» (Rules and Exercises of Holy Dying, 1651) —
представляют собой собрания религиозных наставлений, иллюстри-
рованных многочисленными жизнещыми наблюдениями и
историческими фактами. Тэйлор был блестящим стилистом;
работы его изобилуют образами, сравнениями и многочисленными
ссылками на античных авторов.
Наиболее крупным из пуританских проповедников был Ри-
чард Бакстер (Richard Baxter, 1615—1691), во время граждан-
ской войны сопровождавший парламентские войска. Он был
противником казни короля, однако, когда при Реставрации ему
предложили епископский сан, он отказался от него и стал в
оппозицию к религиозной политике вернувшихся Стюартов.
В 1675 г. он выступил против преследований диссидентов, и за это
был привлечен к суду. Судил его знаменитый судья Джеффрис,
прославившийся своими жестокими расправами над противни-
ками монархии. «Ричард, — сказал Джеффрис, обращаясь
к подсудимому, — ты старый негодяй. Ты написал столько книг,
что ими можно было бы нагрузить целый воз, и каждая из них
так же полна мятежным духом, как яйцо своим содержимым».
Суровый судья довольно верно охарактеризовал литературную
деяте.гьность этого пуританского проповедника, который дей-
ствительно написал целый воз книг.
Бакстер был типичным представителем пуританской морали,,
приспособленной к практическим задачам буржуазного накоп-
153-
ления. «Если бог, — проповедывал он, — указывает вам путь, на
котором вы, без вреда для души вашей или для других, законным
путем можете заработать больше, чем на другом пути, а вы это
отвергнете и изберете менее доходный путь, тогда вы вычерк-
нете одну из целей вашего призвания, вы откажетесь быть управ-
ляющим бога и принимать его дары, чтобы иметь возможность
приумножить их для него, если он того захочет. Конечно, не в
целях плотского удовольствия или греха, но для бога должны вы
работать, чтобы разбогатеть». Наиболее значительным произ-
ведением Бакстера была книга «Вечный покой святых» (Saint's
Everlasting Rest, 1650).
Огромную роль в культуре революционного периода сыгра-
ла библия. Это была для того времени действительно книга книг. Ее
читали вслух в церквах, она была обязательной принадлежностью
домашнего обихода каждого пуританина. Ее текст стал известен
широчайшим массам населения. Библия была для пуритан пред-
метом религиозного культа, философским руководством, сво-
дом политических и нравственных истин. Она стала одним из
основных идейных орудий в политической и религиозной борьбе.
Цитаты из библии были у всех на устах. Ими пользовались в
политической пропаганде, в полемике и в повседневном обиходе,
ими полны все документы революционного периода — памфлеты,
парламентские речи, проповеди, государственные акты. Этот
идеологический «маскарад» был закономерным явлением рас-
сматриваемого периода, ибо «как ни мало героично буржуазное
общество, для его появления на свет понадобились героизм,
самопожертвование, террор, междоусобная война и битвы наро-
дов» 1. В «18 брюмера Луи Бонапарта» Маркс пишет, что во Фран-
ции XVIII века «в классически строгих преданиях римской респуб-
блики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искус-
ственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы
скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей
борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой
исторической трагедии. Так, одним столетием раньше, на
другой ступени развития Кромвель и английский народ вос-
пользовались для своей буржуазной революции языком, страстями
и иллюзиями, заимствованными из Ветхого Завета»2.
4
Хотя богословская литература в рассматриваемую эпоху
получила большое количественное преобладание, она отнюдь
не вытеснила литературу философскую. Несмотря на свою
малочисленность, фйлософекйе сочинения этого периода имеют
исключительное значение, так как знаменуют дальнейшее раз-
витие прогрессивного мировоззрения Возрождения.
1 M а р к с и Энгельс. Соч., т. VIII, стр. 324.
2 Там же.
154
Философия этого времени представлена, в сущности, всего
двумя именами. Но одно из них по своему значению покрывает
всех премудрых богословов многочисленных направлений ан-
глийской церкви того времени. Это — Томас Гоббс (Thomas
Hobbes, 1588—1679), продолжатель бэтшновгкого материа-
лизма.
«Гоббс был первым современным материалистом (в смысле
XVIII века)» 1,— писал Энгельс. В своей философии Гоббс исходил
из работ своего предшественника, выдающегося философа эпохи
Возрождения — Бэкона, родоначальника английского материа-
лизма.
Сравнение этих двух философов обнаруживает существен-
ные черты различий между ними. «В Бэконе, как первом творце
материализма, — пишет Маркс в «Святом семействе», — в наив-
ной еще форме скрыты зародыши всестороннего развития этого
учения»2, в то время как «в своем дальнейшем развитии материа-
лизм становится односторонним»*. Эта односторонность ха-
рактеризует именно философию Гоббса.
Говоря о Бэконе, Маркс указывает, что у автора «Нового
Органона» «материя улыбается своим поэтическим чувствен-
ным блеском всему человеку»4. В отличие от этого, у Гоббса «чув-
ственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную
чувственность геометра. Физическое движение приносится в жер-
тву механическому, или математическому движению, геометрия
провозглашается главной наукой. Материализм становится
враждебным человеку. Чтобы преодолеть человеконенавистни-
ческий, бесплотный дух в его собственной области, материализм
должен сам умертвить свою плоть и сделаться аскетом. Он
выступает как рассудочное существо, но зато он с беспощадной
последовательностью развивает все выводы рассудка»5.
Но Гоббс имел и известное превосходство над Бэконом.
«Изложенное в афористической форме учение Бэкона еще полно
теологической непоследовательности»6, тогда как «Гоббс уни-
чтожил теистические предрассудки бэконовского материа-
лизма7».
Монархические позиции, занятые Гоббсом в начале револю-
ции, послужили причиной его эмиграции во Францию. Хотя
он и оставался монархистом, его философское свободомыслие
и материализм поссорили его с эмигрантами-роялистами и с
французскими властями. Реакционное духовенство стало пре-
следовать Гоббса. Он лишился места воспитателя принца Карла
Стюарта. Вынужденный бежать от своих недавних друзей, он
1Маркс и Энгельс. Соч., т. XXVIII, стр. 260.
2 Маркс и Энгельс. Соч., т. III, стр. 157.
3 Там же.
4 Там же.
* Там же.
6 Там же.
7 Там же, стр. 158.
155
нашел приют в кромвелевской Англии. При Реставрации нападки
роялистов на Гоббса возобновились.
Другой представитель философской мысли этого периода,
лорд Герберт Шербери (Edward, lord Herbert of Cherbury,
1583—1648), так же, как и Гоббс, шел против общего течения,
характеризс вавшегося господством религиозного, теологического
мышления. Его главное сочинение—«Об истине» (De Veritate, 1624),
представляет собой одну из ранних критик церковной, «искус-
ственной» религии, которой он противопоставлял религию «естест-
венную». Герберт был одним из первых проповедников деизма.
Деятельность этих двух философов показывает, что не вся
общественная мысль Англии XVII века была охвачена религиоз-
ной идеологией, хотя последняя и господствовала. Это важно,
в частности, для понимания тех материалистических и рацио-
налистических элементов, которые встречаются в творчестве
писателей рассматриваемого периода, прежде всего — Мильтона.
5
Революция и гражданская война раскололи страну на два
враждующих лагеря. В соответствии с этим происходит резкая
социально-политическая дифференциация и в литературе, где
также появляются «кавалеры» и «круглоголовые».
Роялистский лагерь, однако, не выдвинул ни одного дей-
ствительно крупного писателя. Литературное творчество сторон-
ников Стюартов не отличалось ни значительностью форм, ни бо-
гатством идейного содержания; оно характеризуется в целом
тенденциями упадка и разложения.
Иллюстрацией этого может служить творчество Броуна,
Фуллера и Уолтона. Принадлежа по своим политическим симпа-
тиям к роялистам, они, однако, стояли в стороне от борьбы;
в их произведениях не слышится даже отдаленных отзвуков гро-
мовых битв этого бурного периода. В дни, когда решались судьбы
страны, они были погружены в антикварные исследования,
собирали курьезы прошлого, отстраняясь от насущных вопро-
сов своего времени. От гуманистов Возрождения они унаследо-
вали любознательность, интерес ко всему земному, но они были
эпигонами, и их интересы уже утратили целеустремленность,
присущую их великим предшественникам. Эмпиризм Бэкона,
последователями которого они в большей или меньшей степени
были, выродился у них в пристрастие к любопытным, но часто
нетипичным и несущественным деталям, а универсализм ренес-
сансного гуманизма — в разбросанность интересов.
Своеобразную и причудливую фигуру представлял Томас
Броун (Thomas Browne, 1605—1682), врач, проведший почти
всю жизнь в тиши провинции, где он на досуге предавался антик-
варным занятиям. В 1642 г. увидела свет написанная им в сере-
дине 30-х годов «Религия врача» (Religio Medici). В этой книге
он стремился опровергнуть популярное еще со времен Чосера мне-
156
ние о неверии представителей медицинской профессии. Книга
представляет собой собрание рассуждений автора по самым раз-
нообразным вопросам, изложенным без всякого плана. Броун
заявляет себя сторонником англиканской церкви, выражая при
этом терпимое отношение к последователям других религиозных
учений. Он гордится своим космополитизмом и отсутствием на-
циональных предрассудков и наряду с этим является убежден-
ным монархистом. Гуманистическая ученость сочетается в нем
с религиозностью, скептицизм уживается с мистицизмом и суе-
вериями. В «Религии врача» он признается в своей вере в су-
ществование чудес, а в «Распространенных заблуждениях» (Pseu-
dodoxia Epid^mica, 1646) подвергает детальной критике попу-
лярные предрассудки и суеверия. \
В философских взглядах Броуна заметны черты пантеизма.
••«Существуют две книги, — пишет он в «Религии врача», — из
которых я черпаю свое богословие; наряду с той, которая на-
писана богом, я обращаюсь и к другой, написанной его слугой
Природой, универсальный и общедоступный текст которой лежит
раскрытый перед глазами всех». Последователь эмпирической
философии, Броун постоянно обращается к этому «второму
тексту» — к природе. Но цельной философской системы у него
нет, и он не пытается ее построить, ограничиваясь частными
замечаниями и наблюдениями.
Проповедуя гуманность и милосердие, он вместе с тем выражает
свою ненависть к толпе. Как бы предвосхищая Свифта, он гово-
рит о своей любви к человеку, но заявляет, что ненавидит «толпу,
это многочисленное собрание чудовищ, которые, будучи взяты
в отдельности, похожи на людей... но смешанные в кучу состав-
ляют одну огромную скотину и чудовище, более ужасное, чем
тидра». Вместе с тем он чужд сословных предрассудков и считает,
-что «чернь бывает и в среде дворянства». Как и гуманисты, он
-признает существование «благородства без титулов, естествен-
ного благородства».
Но при всем этом гуманизм Броуна существенно отличается
m гуманизма Возрождения. Он совершенно лишен той жизнера-
достности, которая была характерной чертой Ренессанса. По-
добно Бертону, Броун нередко поддается настроению мелан-
холии. Жизнь рисуется ему в мрачном свете. «Мир я считаю не
гостиницей, а больницей, не местом, чтобы жить, а чтобы умирать».
Мысли о смерти постоянно преследуют его и накладывают
свою печать на всю его философию. В сочинении «Гидриотафия —
погребение в урнах» (Hydriotaphia, Urne-Buriall, 1658) Броун
рассматривает различные способы погребения, сопровождая
"это рассуждениями о бренности земной жизни и славы. Он
пишет также «Сад Кира» (The Garden of Cyrus, 1658), пред-
ставляющий собой странное смешение антикварной эрудиции
и нелепых мистических рассуждений, по поводу, например, осо-
бых свойств расположения предметов в крестообразном порядке.
Наконец, последнее его произведение «Христианская мораль»
157
(Christian Morals, опубликовано посмертно, в 1716 г.) содержит
довольно тривиальные религиозно-моральные нравоучения. Все
эти трактаты написаны причудливым языком, сочетающим жи-
вую речь с изощренной научной терминологией, произвольно
создаваемой самим автором. При всем этом книги Броуна имели
многочисленных читателей и ценителей. Ими восхищались и
классицист Сэмюэль Джонсон и романтик Кольридж.
Томас Фуллер (Thomas Fuller, 1608—1661) был англикан-
ским священником, служившим в войсках короля во время
гражданской войны. Фуллер продолжил развитие жанра портре-
тов-характеристик, зачинателем которого в Англии был Овер-
бери. Произведением такого рода была «Благочестивая и не-
честивая жизнь» (The Holy State. The Profane State, 1642),
Эта книга состоит из очерков характеров, — идеально хоро-
ших или абсолютно дурных, — сопровождаемых «примерными»-
жизнеописаниями исторических или легендарных лиц. Так,
образцом «хорошей женщины» является святая Моника; био-
графия Фрэнсиса Дрэйка служит иллюстрацией характера «доб-
рого капитана»; примером «славного полководиа» является
Густав-Адольф, «безбожника»—Цезарь Борджиа; Жанна д'Арк
изображена как «колдунья». Фуллер далек от язвительности и
сарказма Овербери, его стиль также лишен эпиграмматично-
сти, присущей последнему. Хотя в его очерках больше обоб-
щенных образов, но постоянно навязываемая религиозная мораль
невыгодно отличает Фуллера от свободомыслящего Овербери.
Большое собрание любопытных сведений представляет
«История знаменитостей Англии» (The History of the Worthies
of England), опубликованная после смерти Фуллера, в ГСБ2 г.
Книга эта дает в алфавитном порядке описания всех графств
Англии. В каждой главе в особых разделах описываются при-
рода, растительность, животные, птицы данной местности, рас-
пространенные там ремесла, пословицы и поговорки, затем «зна-
менитости» данного графства, идущие под рубриками: «святые»,
«великомученики», «законоведы», «воины», «писатели» и т. д.
Биографическая часть книги очень любопытна, ибо содержит
множество интересных деталей. Так, именно Фуллер рассказы-
вает о спорах между Шекспиром и Беном Джонсоном. Однако
далеко не все в этом собрании курьезов является достовер-
ным.
Фуллер был также автором «Церковной истории Бри-
тании» (The Church-History of Britain, 1655), довольно объек-
тивной в смысле отношения к отдельным сектам и содержащей
любопытные факты из истории церкви.
Биографом и любителем курьезов был также Исаак Уол-
т-он (Izaak Walton, 1593—1683). Сын йомена и торговец же-
лезными товарами, Уолтон имел личные связи с представителями
литературного мира. Он жил в приходе Джона Донна, знал
Драйтона и Бена Джонсона, удил рыбу вместе с Генри Уотто-
ном. Свою литературную деятельность он начал в качестве био-
158
графа. В своих биографиях Джона Донна (1640), Генри Уоттона
(1651), Ричарда Гукера (1655), Джорджа Герберта (1670) и
богослова Сандерсона (1678) он пользовался сведениями, по-
черпнутыми из первых рук. Это—рассказы об интимных друзьях
автора, приближающие и читателя к описываемым людям..
Главное его произведение —«Искусный рыболов, или досуг
склонного к размышлениям человека; рассуждение'о рыбах и
рыболс встве, заслуживающее внимания большинства удильщиков»
(The Compleat Angler or the Contemplative Man's Recreation
1653). Оно начинается с беседы между рыболовом, охотни-
ком и птицеловом, каждый из которых доказывает превосход-
ство своего занятия. При этом Уолтон заботливо предоставляет
наиболее убедительную аргументацию рыболову, доказываю-
щему, что его любимый спорт особенно одобряется священным
писанием: из двенадцати апостолов четверо были рыбаками
«ибо сердца этих людей по самой своей природе предрасположены
к размышлению и покою». Птицелов, однако, не убеж-
ден и уходит. Охотник же остается и постепенно увлекается
рыболовством. Рыболов преподносит новообращенному адепту
правила и приемы рыбной ловли.
От книги веет безоблачным покоем; трудно поверить, что она
писалась в то время, когда решались исторические судьбы Анг-
лии.Безмятежный рыболов с любовью описывает приемы ужения
рассуждая попутно о красотах природы, высказывая благоче-
стивые мысли и обнаруживая изрядную начитанность. Прохо-
дящая мимо удильщиков молочница останавливается, чтобы
пропеть песенку из Марло, а сам рыболов цитирует стихи Джорджа
Герберта. Романтик Чарльз Лэм пишет, что книга Уолтона
«дышит невинностью, чистотой и сердечной простотой. Чтение
ее способно укротить любой гнев». Гуманизм, которым несом-
ненно пронизана пастораль Уолтона, носит, однако, так же как
и гуманизм Броуна и Фуллера, эпигонский характер.
б
Даже поверхностный взгляд сразу обнаруживает резкое раз-
личие между литературой Возрождения и литературой периода
буржуазией революции. Достаточно назвать два имени— Шек-
спир и Мильтон, — чтобы увидеть, что различие между этими
двумя периодами заключается не только в «смене поколе-
ний».
Ведущим жанром литературы Возрождения в Англии была
-Драма. Пуританская революция насильственно оборвала ее
развитие. Пуритане издавна враждебно относились к театру
и к драматургии. В 1633 г. пуританский публицист Вильям
Принн (William Prynne, 1600—1669) опубликовал книгу под.
названием «Бич актеров» (Histrio-mastix). В ней он «доказы-
вает», что театр и драматургия — величайший грех, ведущий.
свое прямое происхождение от дьявола. Это, как указано на
159
титульном листе, подкрепляется солидной богословской аргумен-
тацией: текстами из священного писания, цитатами из поста-
новлений 55 синодов и церковных соборов, ссылками на 71 со-
чинение отц >в церкви и разных христианских писателей, живших
до нашла XIII века, на произведения 150 протестантских и като-
лических авторов и 40 языческих философов, историков и поэтов.
«Что все известные и распространенные пьесы, — пишет
.Принн, — комические, трагические, сатирические, мимические
или смешанного типа (особенно такие, которые сочиняются
и представляются теперь) суть греховные, зловредные и пагуб-
ные развлечения, совершенно недостойные и противоречащие
законам христиан, я прежде всего удостоверю и докажу, указав
на их первоначальных создателей, а создателем их был не кто
иной, как сам дьявол, или, по крайней мере, идолопоклонные и
сладострастные язычники, зачавшие сей дьявольский плод от
самого Ада». Автор обрушивается и на музыку, которая ему
также представляется дьявольским навождением. Одним из
важнейших зол, проистекающих от театра, благочестивый
буржуа считает трату времени, которое могло бы быть исполь-
зовано с большей моральной и материальной пользой. Несмотря
на то, что точка зрения Принна характеризуется совершенно
-анекдотическими крайностями, она разделялась подавляющим
большинством пуритан.
Когда пуритане пришли к власти, одним из первых актов
Долгого парламента в 1642 г. было запрещение публичных теат-
ральных представлений. Почти на четверть века драма в Анг-
лии прекратила свое существование. Удар был очень чувстви-
телен. Никогда впоследствии она не могла подняться до того
положения, которое занимала во времена Шекспира. Правда,
уже после смерти Шекспира начался процесс постепенной де-
градации драматического искусства, но пуританство убило драму
окончательно.
В эпоху Возрождения драма была искусством, наиболее
доступным массам, искусством подлинно народным. В период
буржуазной революции наиболее распространенной и массовой
формой литературы становится проза. Именно с этого времени
начинается выдвижение прозы в первые ряды литературных
жанров. Социально-политическая проблематика получает
наибольшее освещение в литературе прозаической, которая в
период буржуазной революции носила, по преимуществу, публи-
цистический характер.
Но пуританская революция породила и великого поэта—Миль-
тона, и крупного прозаика — Бэньяна. Творчество этих
двух крупнейших писателей, выдвинутых революционно-демо-
кратическим пуританством, характеризуется господством рели-
гиозных сюжетов и мотивов. Но за традиционными религиоз-
ными сюжетами скрывалось новое и глубоко современное со-
держание.
Художественная литература также испытала на себе влия-
160
ние «исторического маскарада». Покровы спали с нее лишь то-
гда, когда задачи буржуазной революции были достигнуты. То-
гда,— уже в новом, XVIII веке, — народился буржуазный
просветительский реализм. И если «место пророка Аввакума
занял Локк», то место Мильтона занял Поп, а место Бэньяна
заняли Дефо и Свифт.
7
Переплетение социально-политической борьбы с борьбой рели-
гиозной наложило свою печать на все искусство этого времени.
Религиозные мотивы утверждаются как в прозаической, так
и в поэтической литературе. Этим литература периода револю-
ции XVII века отличается от культуры и литературы Воз-
рождения, которая носила ярко выраженный светский характер.
Если утверждение светской культуры было одним из прогрессив-
нейших явлений эпохи Ренессанса, то общественные противо-
речия революции XVII века создали парадоксальное положение,
при котором сторонниками светской культуры оказались пред-
ставители реакционного класса, тогда как писатели класса рево-
люционного утверждали в литературе религиозный дух. Однако
возрождение религиозной тематики и религиозных проблем в
XVII веке отнюдь не означало возвращения к традициям средне-
вековой церковно-монашеской литературы. Средневековое хри-
стианство служило утверждению феодального строя, тогда как
пуританская религия на данной ее стадии в XVII веке была
идеологическим оправданием революции, стремившейся уничто-
жить все следы этого строя.
Хотя партия роялистов и претендовала на то, что она является
единственной наследницей культуры Возрождения в период рево-
люции XVII века —претензия, поддержанная рядом буржуазных
историков и критиков, — тем не менее факты это опровергают.
Правда, значительнейшая часть гуманистической интеллиген-
ции стояла за короля, правда и то, что двор был центром свет-
ской культуры, за которую боролись гуманисты Возрождения.
Но гуманизм двора и интеллигенции, державшейся за мантию
короля, был выродившимся, безидейным эпигонством.
Не в этом лагере следует искать подлинных наследников
гуманизма Возрождения. Ими были те представители интелли-
генции, которые стали под знамена пуританской революции.
Именно они продолжали прогрессивные тенденции гуманизма
Возрождения. Эти люди усвоили не внешние черты гума-
низма, а самую его сущность; они поняли, что быть гуманистами
в их время значило содействовать уничтожению феодальной
. монархии.
Неслучайно господствующее место в литературе этого периода
принадлежит творчеству представителей революционных слоев
общества. Именно они, продолжая лучшие традиции литера-
туры прошлого, способствовали дальнейшему ее развитию. Неда-
"1 Англ. литература 161
ром имя великого поэта пуританской революции, Мильтона, яв-
ляется символом высших достижений литературы того временю.
Но как могло возникнуть это скрещение гуманизма с пуритан-
ством? Как случилось, что пуританство, столь враждебное искус-
ству, смогло выдвинуть из своей среды больших писателей?
Объясняется это революционностью пуританской буржуазии;
середины XVII века.
Бен Джонсон был прав, когда смеялся над узостью и ограни-
ченностью пуритан первой четверти XVII века, ибо то были
мещанские религиозные сектанты. Но не таковы были пуритане
времен революции, для свершения которой, как писал Маркс,
понадобились героизм, самопожертвование, террор и междоусоб-
ная война. Революционное пуританство XVII века было героиче-
ским по своему характеру, его воодушевление стояло «на высоте
великой исторической трагедии» (Маркс). Это воодушевление
возвысило Мильтона и других писателей-пуритан над тем уров-
нем посредственности, который характеризовал пуританскую»
буржуазию в предшествующую эпоху Возрождения и в после-
дующий период, после «славной революции» 1688 г. Пуританство-
революционного времени втянуло в свою орбиту народные мас-
сы. Именно это открыло перед крупнейшими писателями-пурита-
нами широкие возможности. Не дух ограниченного, мещан-
ского, обывательского пуританства, а именно героический дух
пуританства революционного и демократического обусловил по-
явление значительных художественных произведений и поро-
дил таких выдающихся писателей, как Мильтон и Бэньян.
•
Глава 1
ПОЭЗИЯ СЕРЕДИНЫ XVII ВЕКА
Поэзия периода буржуазной революции не отличается сти-
левой законченностью и определенностью, свойственной стилю
Возрождения и классицизму. Она очень неоднородна, в ней
происходит борьба различных тенденций: одни формы пережи-
вают упадок, на смену им,нарождаются новые. Поэзия середины
XVII века имеет переходный характер, ибо именно в этот период,
происходили те сдвиги, которые обусловили отмирание реализма
Ренессанса и зарождение классицизма.
В начале века, когда господствовал гуманизм Возрожденияг
йоэзия носила ярко выраженный светский характер. В сере-
дине столетия (30—60-е годы) преобладает религиозная тема-
тика. Наконец, в период Реставрации происходит возрождение
светской поэзии в новом ее качестве.
^Насыщенность поэзии нравственно-этическсй проблемати-
кой, естественно, приближала поэтов к философии, влияние
которой имело значение не только для содержания, но и. для
162
развития художественных форм. Исключительно большим было
влияние материализма XVII века; оно сказалось даже в твор-
честве поэтов, у которых преобладала религиозная тематика.
Своими корнями поэзия XVII века уходит в Ренессанс.
В богатой и многообразной литературе Возрождения находят-
ся источники тех течений поэзии, которые получили свое разви-
тие в XVII веке. В поэзии начала столетия подчас трудно опре-
делить, где кончается Ренессанс и начинается новый стиль.
Особая близость к поэзии Возрождения проявляется у
писателей школы Спенсера, главными представителями кото-
рой были в начале XVII века Финеас и Джайльс Флетчерьи
Основным произведением Джайльса Флетчера (Giles Fletcher,
1588?—1623) была поэма «Христова победа и торжество на небе-
сах, и на земле, над смертью и после нее» (Christ's Victorie and
Triumph in Heaven, and Earth, over and after Death, 1610). Моди-
фицируя спенсерову строфу, пользуясь приемами и оборотами
поэтической речи автора «Королевы Фей», Джайльс Флетчер,
под известным влиянием «Недели» Дю Барта создал поэтическое
переложение библейского рассказа об искушении Христа
сатаной и о победе сына божия над князем тьмы. Эта поэма пред-
ставляет особый интерес тем, что ее сюжет предвосхищает «Воз-
вращенный рай» Мильтона.
Красочная декоративность поэтического стиля Возрожде-
ния, богатый словесный орнамент и насыщенность аллегорий
сочетаются у Джайльса Флетчера с серьезным религиозно-нрав-
ственным содержанием. Это же характерно и для его
старшего брата Финеаса Флетчера (Phineas Fletcher, 1582—
1650), творчество которого в еще большей степени проникнуто
религиозным духом. Он написал по-латыни поэму «Locustae»
(Саранча), которую сам же вольно перевел в расширенном анг-
лийском варианте (The Locusts or Apollyonists, 1627). Эта рели-
гиозная аллегория в пяти песнях полна нападками на иезуи-
тов; ее сюжет — падение Сатаны — близок к одной из сюжетных
линий «Потерянного рая» Мильтона. В другой религиозной
поэме Флетчера «Пурпурный остров, или остров человека» (The
Purple Island: or the Isle of Man, 1633) основу содержания со-
ставляет сложная аллегория: человеческое тело подвергается
нападению различных грехов и пороков. Этот сюжет в значитель-
ной степени предвосхищает аллегорический роман Бэньяна.
«Священная война».
Взятое в целом, творчество братьев Флетчеров свидетель-
ствует о растущем распространении религиозной тематики. Оно
представляет также интерес как звено между поэзией Спенсера
и Мильтона.
Особую школу поэзии первой половины XVII века составляет
группа поэтов, включающая Донна и его последователей —
Герберта, Крэшо, Вогена — и известная под названием «мета-
физической». Термин «метафизическая поэзия» был впервые
применен Драйденом. Драйден, отрицательно относившийся к
п* 163
этим поэтам, употреблял его в смысле «искусственной» поэзии,
в противоположность поэзии «естественной», которая следует
«Природе». .Использовав термин Драйдена, критик XVIII века
Сэмюэль Джонсон развил целую концепцию «метафизической
школы поэзии», которую он характеризовал следующим образом:
«Метафизические поэты были людьми большой учености, и вся
их цель была в том, чтобы эту ученость показать; однако, к не-
счастью, они стремились проявить ее в поэтической форме...
Их мысли часто новы, но редко естественны... Их желанием бы-
ло просто сказать что-нибудь такое, что, как они надеялись,
никем еще никогда не было сказано». Мнение Драйдена и Джон-
сона не лишено оснований, но их подход к метафизической
поэзии был односторонним, ибо оба они были представителями
классицизма, т. е. как раз того направления, которое непосред-
ственно боролось с «метафизической поэзией».
В самое последнее время возникла противоположная тен-
денция. Представители модернистской поэзии и критики нашего
времени (Т. е. Элиот и др.) объявляют «метафизическую поэзию»
одним из высших достижений поэтического творчества прошлых
веков. В точке зрения апологетов «метафизической школы»
здраво только то, что неправильно было отрицать всякое до-
стоинство за поэзией Донна и его последователей и что их твор-
чество содержало ряд новых и интересных черт. Возрождение
интереса к «метафизической поэзии» у представителей современ-
ного декаданса весьма симптоматично.
«Метафизическая поэзия» является английской формой стиля
барокко. В основе ее лежит «концептизм». Явления действитель-
ности осмысливаются в ней в форме сложных образных концеп-
ций (итальянское — concetti, английское — conceit). Она не-
обыкновенно метафорична, причем особенно характерны для нее
распространенные метафоры. Иногда целое произведение пред-
ставляет собой не что иное, как одну распространенную метафору.
Иногда, наоборот, оно состоит из большого числа метафор, как
иолны, набегающих одна на другую так, что не только трудно
определить, где кончается одна и начинается следующая, но
трудно, а иногда и невозможно понять сложный смысл всего этого
нагромождения метафор.
Взятый в целом, стиль «метафизической поэзии» создает
впечатление необыкновенной интеллектуальной сложности. Не
только лирика Возрождения, но даже аллегорическая поэзия
Спенсера кажется простой по сравнению со сложной игрой обра-
зов Донна и его последователей. Но эта усложненность формы
■не означает большего богатства содержания поэзии «метафизи-
ков» по сравнению с поэзией Возрождения. «Метафизическая
поэзия» в сущности бедней, но ограниченность своего содержа-
ния она стремится прикрыть сложностью формы.
Поэзия Возрождения всеобъемлюща, и содержание ее уни-
версально; это — человек и мир. Поэзия барокко тоже кажется
всеобъемлющей, но является такой лишь по виду. Духом средне-
164
вековой схоластики веет от сложных поэтических фигур «нова-
торов» поэзии барокко.
Поэты Возрождения создали плавный, гармоничный стих,,
представители «метафизической поэзии» разрушали эту гармо-
нию. Для них характерно сознательное стремление к дисгармо-
нии, проявляющееся в ломке ритма и часто в причудливом исполь-
зовании различных метров в пределах одного произведения.
Родоначальником «метафизической поэзии» и ее наиболее'
крупным представителем был Джон Донн. Младший современ-
ник Шекспира и сверстник Вена Джонсона, с которым он был:
в дружеских отношениях, Донн принадлежит, однако, другой
эпохе. При жизни его произведения распространялись в рукопис-
ных списках и были известны только друзьям и узкому кругу
литераторов. Широкую известность он приобрел после смерти,
когда в 1633 г. было издано первое собрание его стихотворений.
Однако не столько эти внешние обстоятельства, сколько самый
характер его творчества заставляет нас отделить его от совре-
менников и приблизить к следующему поколению поэтов, на
которых он оказал большое влияние.
Джон Донн (John Donne, 1573—1631) был сыном лондон-
ского купца; среди его предков по материнской линии были:
Томас Мор и автор интерлюдий Джон Гейвуд. Образование он
получил в Оксфорде и Кембридже, а затем изучал право в лон-
донской юридической школе Линкольн Инн. Он принял уча-
стие в морском набеге Эссекса на Кадикс, а по возвращении стал
секретарем лорда канцлера Эгертона, с племянницей которого
вскоре вступил в тайный брак. Узнав об этом, разгневанный
Эгертон заточил Донна в Тауэр. По освобождении из тюрьмы
Донн некоторое время бедствовал, пока ему не помогли друзья
при дворе. Яков I выразил желание, чтобы Донн вступил в духов-
ное звание, и когда, после некоторых колебаний, он принял по-
священие, то был назначен королевским капелланом, а впо-
следствии настоятелем лондонского собора св. Павла и вскоре
прославился как один из наиболее красноречивых проповед-
ников.
Эволюция творчества Донна предвосхищает общую эволю-
цию поэзии в середине XVII века, —от язычески-жизнерадост-
ной гуманистической лирики к религиозной духовной поэзии.
Донн начал творить в последнее десятилетие XVI века. Его
первые произведения — песни, сонеты, эпиграммы, элегии, эпи-
таламы и послания — воспевают любовь, идеальную и чув-
ственную; они полны гедонизма, прославляют наслаждение
жизнью. Его отношение к религии, как оно проявляется, напри-
мер, в третьей «Сатире», по меньшей мере скептическое. Посте-
пенно,' однако, эпикурейские мотивы уступают место меланхо-
лическому раздумью о бренности земной жизни. Взоры поэта
обращаются к небесам. Он пишет большую поэму «Анатомия
мира; где, в связи с преждевременной смертью мистрис Элизабет
Дрюри, изображается бренность и увядание мира сего» (An
Anatomy of the World. Wherein By Occasion of the untimely
death of Mistris Elisabeth Drury the frailty and the decay of
this whole world is represented, 1611). Написанная через год
после кончины Элизабет Дрюри, эта поэма имеет подзаголовок —
«Первая годовщина» (The First Anniver sary). Вторую годов-
щину Донн отметил поэмой «Путь души» (Of the Progress of
the Soul, etc., 1612), в которой он предается «размышлениям о стра-
даниях души в сей жизни и радостях ее в мире ином». В по-
следний период своей жизни Донн создает ряд духовных гимнов
и стихотворений, из которых в поэтическом отношении особенно
интересны «Благочестивые сонеты» (Holy Sonnets), написанные
в 1618 г.
У Донна проявляется стремление порвать с традицией поэти-
ческого стиля Ренессанса. Критика с полным правом уподобляет
Донна итальянцу Марино и испанцу Гонгоре, которые в поэзии
своих стран знаменовали упадок реализма Возрождения и утвер-
ждение стиля барокко.
Донн — изощренный мастер словесного орнамента, который
превращается у него в самоцель. Искусственность образов и
сравнений проявляется у него подчас в таких крайних формах,
что стихи воспринимаются как какие-то поэтические ребусы.
Стих Донна негармоничен, отличается резкостью каденций; не-
даром его друг Бен Джонсон говорил, что «за. несоблюдение
ударений Донн заслуживает быть повешенным».
Поэма «Путь души» (The Progress of the Soul, 1601)^ .которую
почитатели Донна ценят как одно из его наиболее значительных
произведений, является типичным образцом барокко. Душа всех
•вещей, движущая жизнью растений, животных и людей, яви-
лась в мир, когда был сорван плод с древа жизни. Из расщелины
этого райского дерева она проникла в жизнь, воплощаясь посте-
пенно во все предметы и существа. Путь души таков, что она
сначала входит в растение мандрагору, затем перекочевывает
в яйцо птицы, оттуда в рыбу, в кита, в мышь, в слона, в волка,
в обезьяну и, наконец, в женщину. Пифагорейская идея метам-
психоза служит Донну для объяснения порочности мира, ибо
«душа мира» порочна в самом своем основании.
Донн отказывается от того стремления к возвышенному,
которое было свойственно поэзии Возрождения. Наиболее ясно
проявляется это в трактовке темы любви. В отличие от вдох-
новенного платонизма любовной лирики Возрождения, он пишет
стихи, подчас доходящие до грубости и цинизма. В стихотво-
рении «Блоха» Донн пользуется этим малоприятным насекомым
для создания весьма своеобразной «концепции». Обращаясь к
любимой женщине, повидимому, отвергающей его, он указывает
на блоху, которая укусила их обоих, и в которой, следовательно,
смешалась их кровь. «Ведь никто не считает это грехом, позором
или потерей невинности», — говорит он и высказывает жела-
ние более естественным путем довершить смешение крови, на-
чатое блохой. Донн далеко ушел от традиций лирики Возрож-
Л66
дения* Ее художественному реализму он противопоставляет
своеобразный натурализм.
Одним из ближайших последователей Донна был Джордж
Герберт (George Herbert, 1593—1633), младший брат философа-
деиста Герберта Шербери. Воспитанник Кембриджа, он рассчи-
тывал вначале на светскую карьеру, но обстоятельства выну-
дили его в 1626 г. принять духовное звание и, отказавшись от
честолюбивых планов, поселиться в скромном сельском приходе.
Он дружил с Донном и Бэконом, причем последний настолько
высоко ценил ученость своего друга, что давал ему на про-
смотр свои произведения, перед тем как сдать их в печать.
Поэтические произведения Герберта были опубликованы после
его смерти, в 1633 г., под заглавием «Храм, религиозные стихо-
творения и личные признания» (The Temple, Sacred Poems and
Private Ejaculations). Сборник этот содержит все духовные
стихи поэта. Герберт писал также стихи светского содержания,
iHO в пылу религиозного рвения уничтожил их.
В отличие от своего свободомыслящего брата, Джордж Гер-
берт проявляет исключительно глубокую религиозность. Его
спиритуализм особенно ярко проявляется в стихотворении «Добро-
детель», где он говорит о том, что все преходяще, но дух человека
.и его добродетель переживут все материальные красоты мира.
Важное место в поэзии Герберта занимает тема противоречия
между мирскими желаниями человека и отречением от мира,
которого требует религия. В стихотворении «Эпиграмма» Красота,
Деньги, Слава, Остроумие являются к поэту, чтобы напомнить о
себе. Мирскому соблазну, которому они его подвергают, он
не может противопоставить никаких аргументов; он ограничивается
-ссылкой на то, что «бог ответит за него». Религия для него —
нравственная узда, или «Ошейник» (так называется стихотво-
рение, трактующее об этом)—узда нежная, ибо наложена она
•самим богом.
Возвышенный спиритуализм отличал Герберта от сенсуали-
ста Донна, хотя в формальном отношении он был одним из
-наиболее близких Донну поэтов. Пользуясь метафизическими
«концепциями», он прибегает к столь сложным образам и срав-
нениям, что стих его становится темным, малопонятным и
даже загадочным. Герберт был экспериментатором в области
стихотворной строфики и одним из наиболее ранних создателей
«свободного стиха».
Последователем Герберта объявил себя Ричард Крэшо (Ri-
chard Crashaw, 1613—1649), протестантский священник, пере-
шедший впоследствии в католичество. Стремясь подчеркнуть, что
он продолжает линию духовной лирики Герберта, он озаглавил
сборник своих произведений «Шаги к храму» (Steps to the Temple,
1646). Стихи, вошедшие в этот сборник, были написаны еще до
перехода Крэшо в католичество, но в них уже проявляется ярко
выраженная склонность к мистицизму. Особенно показателен в
.этом отношении его Гимн святой Терезе (Flaming Heart, upon
167
the Book and Picture of Seraphical Saint Teresa). Эмоциональность,,
насыщающая его лирику, отличает его и от Донна и от
Герберта, и в силу этого некоторые критики ставят его выше дру-
гих «метафизических» поэтов.
Мистицизм характерен и для творчества Генри Вогена (Henry
Vaughan, 1622—1695). Он изучал сначала богословие в Оьйсфорде,.
затем—право в Лондоне, но, в конце концов, остановился на меди-
цинской профессии и поселился в деревне в качестве врача. Его
творческий путь представляет обычную для его времени картину.
В начале его поэтической деятельности преобладают мотивы
светской лирики — «Поэмы» (Poems, 1646), затем намечается
перелом, в известной степени обусловленный тяжелой болезнью,
перенесенной поэтом, и в его творчестве утверждаются рели-
гиозные мотивы. Религиозные настроения Вогена получили свое
наивысшее выражение в сборниках «Искры из-под кремня»
(Silex Scintillans, 1650) и «Лебедь Юска» (Olor Iscanus, 1651).
Эти стихи полны скорби. Мысль автора обращается к прошлому,
и тихая грусть овладевает им при воспоминании об утраченном
блаженстве юности. Этой именно теме посвящено наиболее из-
вестное стихотворение Вогена «Возвращение», которое навеяла
впоследствии Вордсворту его «Оду к бессмертию».
Наконец, особую группу поэтов середины XVII века состав-
ляют представители придворно-аристократической поэзии, назы-
ваемые «поэтами-кавалерами». Их творчество опирается на тра-
диции придворно-аристократической поэзии Возрождения. В
произведениях этих поэтов господствует мирской дух. Основной,
темой их является любовь, при этом преимущественно любовь
чувственная. Хотя в основном эти поэты исходили из образцов
галантно-эпикурейской лирики Бена Джонсона, но на творчестве
некоторых из них сказалось также влияние Донна.
Светский характер поэзии «кавалеров» — единственное, что
роднит их с гуманистами. В остальном же их творчество, так же
как и «метафизическая поэзия», представляет одно из характерных
проявлений упадка и разложения гуманистической традиции.
Всеобъемлющая философия жизни гуманистов вырождается у
«поэтов-кавалеров» в безыдейный гедонизм, а бурное кипение,
страстей — в бойкость нрава. Отход этих писателей от подлин-
ного гуманизма обозначился со всей резкостью, когда в годы
гражданской войны они решительно стали под знамена королев-
ской партии и активно боролись против революции.
Характерные черты поэзии «кавалеров» впервые получили
свое выражение в творчестве Томаса Керью (Thomas Carew, 1598—
1639), типичного аристократа того времени, который, впрочем,
не дожил до грозных боев середины века. Хотя Керью и писал
в элегии на смерть Донна, что последний был «королем, своеволь-
но правившим всеобщим царством мысли», тем не менее сам он
отнюдь не был подданным этого «короля». Его стих был гладким,,
плавным, и соперничавшие с ним придворные поэты подозревали
его в том, что он «неприлично» долго работал над отделкой своих
168
произведений. В его поэзии господствует любовная тематика^
которая, однако, лишена тех тонких чувств и изысканности
выражений, которые были свойственны любовной лирике Воз-
рождения. Большее влияние, чем Донн, оказал на него Бен
Джонсон, что видно не только в пьесе-маске, написанной Керью
в 1634 г., но и в большом числе лирических стихотворений. Поэ-
тические произведения Керью были впервые опубликованы после.
его смерти, в 1640 г.
Другой представитель поэзии «кавалеров», Джон Секлинг
(John Suckling, 1609—1642), был одним из наиболее блес-
тящих придворных Карла I. Поэзия для него соста-
вляла светское развлечение; умение слагать стихи он считал
столь же обязательным, как умение фехтовать или ездить вер-
хом. Среди «поэтов-кавалеров» он выделяется наибольшей
безыскусственностью, которая часто переходит в небрежность.
«Баллада о сврдьбе», которую впоследствии цитировал в «Томе
Джонсе» Фильдинг, характерна для Секлинга своей задорной
веселостью и шутливостью. Он писал, кроме лирических стихо-
творений, неплохие пародии и посредственные пьесы. Как и Керью,
\ он написал пьесу-маску «Аглаура» (Aglaura, 1638), содержавшую
'< ряд злободневных политических намеков. Политическая тенден-
циозность Секлинга с особой силой проявилась в его трагедии4
•чБренноральт» (Brennoralt, написана в 1639 г.; напечатана в «Frag-
menta Aurea», 1646), осуждающей шотландцев, восставших против
Карла I.
Во время борьбы Карла I с шотландцами Секлинг снарядил:
на свои средства отряд для королевской армии. Солдаты его
отряда были одеты в роскошные мундиры, сделанные по рисунку
самого поэта, но, увы, при первом же столкновении с неприя-
телем, позорно бежали с поля битвы. Это сделало Секлинга
предметом насмешек; была даже сочинена сатирическая баллада
«Поход сэра Джона Секлинга». Будучи замешан в роялистские
заговоры, Секлинг, опасаясь разоблачения, бежал на континент,.
снача'ла во Францию, а затем в Испанию, где подвергся,
преследованиям инквизиции. Сломленный жизненными неудачамит.
он отравился.
' Рьяным роялистом был также Ричард Ловлас (Richard Love-
lace, 1618—1658), истративший все свае состояние на поддерж-
ку короля во время его борьбы с парламентом. Парламентские
власти дважды подвергали Ловлаоэ тюремному заключению. Он
был необыкновенно красив, о его романических авантюрах склады-
вались легенды, и Ричардсон косвенным образом обессмертил
^Го имя, наделив им прославленного соблазнителя Клариссы
Гарло.
Первый сборник стихов Ловласа «Лукаста» (Lucasta) был,
издан в 1649 г.; посмертный сборник произведений поэта был на-
печатан его братом в 1659 г. В обычную для поэзии «кавалеров»-
любовную тематику Ловлас внес новый элемент — тсму дворян-
ской чести. Наиболее яркие лирические стихотворения Ловласа —
1.69
«Послание Альтее из тюрьмы» и «Послание Лукасте перед отпра-
влением на войну».
К «поэтам-кавалерам» примыкает единственный плебей среди
них—Джон Кливленд (John Cleveland, или Cleiveland, 1613—
— 1658), который отличался еще и тем, что основным содержанием
его творчества была сатира. Наиболее известная сатирическая
поэма Кливленда «Мятежный шотландец» (The Rebel Scot) направ-
лена против шотландцев, выдавших Карла I английскому парла-
менту. В сатирических, а также в любовных стихотворениях
Кливленда проявляется некоторое влияние Донна, которому он
подражал в создании причудливо сложных образов и сравнений.
Особо выделяется среди «поэтов-кавалеров» Роберт Герри!с
(Robert Herrick, 1591 —1674), один из самых крупных лириче-
ских поэтов XVII века. Он провел бурную молодость, которая
отразилась в его юношеских анакреонтических стихах. Впрочем,
эти мотивы встречаются и в лирике зрелого периода. Став свя-
щенником, он получил приход в деревне. Сельская жизнь при-
близила поэта к природе, к здоровой жизни простонародья, и
в его лирике начинают звучать новые мотивы. Он воспевает мир-
ные удовольствия сельской жизни, крестьянские празднества,
простые нравы деревенских обитателей. Религиозные мотивы,
проявляющиеся позднее в его поэзии, не заглушают светской
струи его творчества. Произведения Геррика были изданы
в 1648 г. под названием «Геспериды, или сочинения светские и ду-
ховные» (Hesperides: or, the Works both Humane and Divine).C6op-
ник этот состоит из стихов самого разнообразного содержания.
Пуританство, враждебно относившееся к искусству, тем не
менее также имело своих представителей в поэзии.
Поэтом пуританства в результате сложной эволюции стал
Джордж Уитер (George Wither или Withers, 1588—1667). Свою ли-
тературную деятельность он начал сатирической поэмой «Пороки
обнаженные и бичуемые» (Abuses Stript and Whipt, 1613), за ко-
торую он, несмотря на то, что избегал задевать конкретных лиц,
^был тем не менее посажен в тюрьму. В неидиллической обстановке
тюрьмы Маршальси он сложил пять пасторалей под общим на-
званием «Охота пастуха» (The Shepheards Hunting, 1615) и в пас-
торальном же духе написал элегию «Фиделия» (Fidelia, 1615).
В 1621 г. он снова подвергся кратковременному тюремному заклю-
чению за опубликование сатирической поэмы «Девиз Уитера»
r(Wither's Motto, 1621), которая имела большой успех и разошлась
колоссальным для того времени тиражем в 30 тысяч экземпляров.
Два года спустя Уитер выступил в новой ррли кж автор «Цер-
ковных гимнов и песнопений» (Hymnes and Songs, of the Church,
1623). Чума 1625 г. воспринимается им как божье наказание чело-
вечества за грехи, и он пишет проникнутое религдозно-нравоучи-
тельным духом «Напоминание Британии» (Britain's Remembran-
cer, 1628).
В 30-х годах обличитель пороков стюартовского режима неожи-
данно поворачивает вправо. В 1635 г. он в льстивых выражениях
170
посвящает королю и королеве сборник стихотворений «Эмблемы»
((Emblèmes) и в 1639 г. командует кавалерийским отрядом в коро-
левской армии, сражающейся против восставших шотландских
пуритан. Однако с усилением революционной активности пу-
ританской буржуазии Уитер снова становится в ряды борцов
лротив монархии Стюартов. Его поэма «Аллилуйя, или второе на-
ломинание Британии» (Halelujah, or Britain's Second Remembran-
cer, etc., 1641) уже обнаруживает явно пуританские взгляды ав-
тора.
В начале гражданской войны, в 1642 г., Уитер продает свое
;имение, чтобы на вырученные деньги снарядить отряд для парла-
ментской армии. Захваченный роялистами в плен, он избег
казни только благодаря заступничеству поэта-роялиста Денема,
.который саркастически мотивировал свое ходатайство тем, что пока
Уитер жив, он, Денем, не будет считаться худшим поэтом Англии.
По странной иронии судьбы во время протектората Уитер был ком-
пенсирован правительством путем передачи ему одного из конфис-
кованных имений Денема. Зато сразу же после реставрации мо-
нархии он был заключен на три года в тюрьму, откуда его выпу-
стили, взяв обещание, что он будет вести себя смирно. Но оказав-
шись на свободе, Уитер продолжал писать «напоминания», про-
рочившие скорую гибель нации, на самом деле имея в виду не-
избежную гибель монархии Стюартов.
В художественном отношении творчество Уитера не выделялось
;над средним уровнем поэзии того времени. Уитер не отличался
«большой оригинальностью и как поэт значительно уступал не
только Мильтону, но и другому поэту пуританства — Марвелю.
Эндрью Марвель (Andrew Marvell, 1621—1678) был сыном
сельского священника. В 1638 г. он окончил Кембриджский уни-
верситет, после чего в течение нескольких лет путешествовал за
границей и некоторое время жил в Константинополе, исполняя
обязанности секретаря английского посла при дворе султана.
По, возвращении на родину он в 1650 г. стал домашним учителем
дочери генерала Фэрфакса, виднейшего деятеля республиканского
лагеря. Президент Государственного совета Брэдшо рекомендовал
-Марвеля на должность латинского секретаря правительства, так
л<ак Мильтон, исполнявший эту обязанность, к тому времени ослеп.
По Мильтон остался на своем посту, а Марвель был в 1657 г. назна-
чен его помощником и стал не только сотрудником, но и близким
другом будущего автора «Потерянного рая». Незадолго до Ре-
ставрации Марвель был избран в парламент и сохранил свое де-
путатское место после возвращения Стюартов. В период Реставра-
ции он стоял в открытой оппозиции к королю и неоднократно
выступал с обличением монархии. Будучи даровитым публицистом,
он опубликовал ряд памфлетов, из которых особенно значителен
памфлет против реставрированной монархии — «Усиление папизма
и монархического произвола в Англии» (An Account of the Growth
of Popery and Arbitrary Government in England, 1677). Карл II
предложил ему место при дворе и денежный подарок в 1 000 фун-
171
тов стерлингов. Но искренний республиканец Марвель отклонил
«милости» монарха, желавшего купить его молчание.
В ранней лирике Марвеля особенно большой интерес представ-
ляют его стихотворения, посвященные природе, — «Аппльтон-
Хауг», «Сад» и другие. Типично для поэтических вкусов середины
XVII века стихотворение «Капля росы». Капля росы упала на
розу. Она лежит на лепестках, «стремясь сохранить свою чистоту».
Она блестит, как «своя собственная слеза», пока жаркое солнце
не даст ей испариться снова к небесам. Однако наряду с черта-
гми «метафизической» образности в поэзии Марвеля появляются и
другие тенденции, в первую очередь известное приближение к
классицизму. Характерно в этом смысле, что Марвель отказы-
вается от enjambement и пользуется парной рифмой (куп-
летом).
Тонкое чувство красоты, любовь к природе, эротичность по-
казывают, что Марвель не разделял антиэстетических и аскети-
ческих принципов пуританства. Но он был политическим привер-
женцем пуританской революции и в годы республики и протек-
тората создал ряд ярких произведений революционной полити-
ческой лирики. Чтобы отобразить эту революцию и ее деятелей,
он ищет монументальные классические формы. Такова «Ода в
стиле Горация на возвращение Кромвеля из Ирландии» (,1650).
Марвель воспевает в Кромвеле вождя революции, свергнувшей
абсолютную монархию, полководца, которому пуританская респуб-
лика была обязана всеми важнейшими победами в гражданской
войне.
Марвель в гораздо большей степени, чем Мильтон, преклонялся
перед Кромвелем. Если автор «Потерянного рая» воспевал Кром-
веля-республиканца, то Марвель слагал стихотворные ' хвалы и
Кромвелю-диктатору, о чем свидетельствует его стихотворение
«Первая годовщина правления его высочества лорда-протектора»
(The First Anniversary of the Government Under His Highness The
Lord Protector, 1655). И, наконец, кончине Кромвеля поэт посвя-
щает глубоко прочувствованное лирическое «Стихотворение на
смерть покойного его высочества лорда-протектора» (1658).
Политические мотивы получают решительный перевес в поэзии
Марвеля после Реставрации. В его творчестве появляется новая
струя — сатирическая. Марвель-сатирик, как и эпик Мильтон,
мстит за проигранную революцию. В сильных сатирических
стихотворениях он обличает монархический произвол вернувшихся
Стюартов, вскрывает разложение аристократии, разврат, распущен-
ность и коррупцию, которые установились в дворянском обществе
реставрированной монархии.
Особенно замечателен сатирический диалог « Беседа двух коней»
(A Dialogue between two Horses, 1675). Беседу ведут бронзовые кони
памятников Карлу I и Карлу II. Они обсуждают пороки своих вен-
ценосных всадников. В заключение конь Карла II спрашивает:
Когда кончится зло? Мне поведай, мудрец!
172
На это конь Карла I отвечает:
Когда царству Стюартов настанет конец.
В целом творчество Марвеля было одним из проявлений по-
степенного перехода к классицизму.
Переходным по своему характеру является и творчество Авра-
ама Каули (Abraham Cowley, 1618—1667). За свои роялистские
убеждения он был изгнан во время революции из Кембриджского
университета, где занимал небольшую ученую должность, и эми-
грировал во Францию. После Реставрации Каули вернулся в Ан-
глию и поселился в подаренном ему королем имении.
Первый небольшой сборник стихов — «Поэтические цветы» (Po-
etical Blossomes, 1633), — он опубликовал, когда ему было 15 лет.
Стихотворениями сборника «Возлюбленная» (The Mistresse, 1647)
Каули продемонстрировал свою приверженность к «метафизической»
поэзии. Но его «Пиндарические оды» (Pindarique Odes, 1656) и
«Давидеида» (Davideis, 1656) вместе с «Одами» были признаком по-
ворота в сторону классицизма. Несмотря на неровность поэтиче-
ского мастерства, этими произведениями Каули заслужил при-
знание как один из наиболее выдающихся поэтов своего времени. До-
статочно сказать, что Мильтон считал тремя величайшими англий-
скими поэтами Спенсера, Шекспира и... Каули.
Для Мильтона в творчестве Каули особый интерес представ-
ляла его поэма «Давидеида». Это произведение осталось незакон-
ченным. Каули написал только четыре песни из предполагавшихся
двенадцати. Поэт задался целью создать поэму в духе античного
эпоса, но с христианским сюжетом. В формальном отношении он
опирался на эпическую традицию Гомера и особенно Вергилия,
как это сделал впоследствии и Мильтон. Поэма должна была дать
историю библейского царя Давида; в ней выступал и князь тьмы
Люцифер.
Начало «Давидеиды» дает любопытный материал для сравнения
с «Потерянным раем». Первая сцена, так же как у Мильтона, изо-
бражает ад. Здесь и проявляются со всей очевидностью причины,
не позволившие Каули довести свой замысел до конца — недоста-
ток поэтического воображения и отсутствие эпического вдохно-
вения. Поэма написана размером, который впоследствии стал из-
любленным у классицистов, — героическим куплетом (пятистоп-
ный ямб, попарно рифмуемые строки). Но не столько эта формаль-
ная черта делает Каули предшественником классицизма, сколько
Сугубый рационализм, проявляющийся как в этой поэме, так и
в следующих его произведениях.
Хотя в отдельных стихотворениях, как, например, «На смерть
Вильяма Герви» и «На смерть Крэшо», сквозит подлинная проник-
новенная эмоциональность, но в целом поэзии Каули свойственна
рационалистическая сухость. В этом смысле особенно характерны
его стихотворения «Об остроумии», «Против надежды», «О разуме»
и, наконец, его обращение к «Королевскому обществу», англий-
ской академии наук, в учреждении которой он сам принимал ак-
173
тивное участие. В этих стихах Каули утверждает разум совсем
в духе последующей поэзии классицизма.
Помимо поэтических произведений Каули написал трактат
«Развитие экспериментальной философии» (A Proposition for the
Advancement of Experimental Philosophy, 1661) и ряд прозаических
«Опытов» (Essays, 1668).
Предшественником классицизма был также Эдмунд Уоллер-
(Edmund Waller, 1606—1687), родившийся еще в эпоху Шекспира
и умерший накануне «славной революции». Уоллер был, как заме-
чает его биограф, одним из немногих английских поэтов, никогда
не испытывавших нужды. Уоллер учился в Итонском колледже, а
затем в Оксфордском университете, после чего вступил на путь,
политической деятельности. В парламенте он быстро выдвинулся
как блестящий оратор.
Уоллер был близок к наиболее правым кругам пуританской
партии. В 1643 г. он был арестован за участие в антипарламентском,
заговоре, однако ему удалось спастись тем, что он выдал всех
своих сообщников. Уплатив огромный денежный штраф, он эми-
грировал во Францию. Амнистированный Кромвелем, он вернулся
в 1652 г. на родину и отблагодарил лорда-протектора восторженным
панегириком в его честь.
Впрочем, когда монархия была реставрирована, Уоллер с
неменьшей легкостью, написал поэтическое приветствие Карлу II.
Новый король, однако был не очень доволен поэмой. Он спросил
автора, чем объяснить, что его панегирик Кромвелю в поэтическом
отношении выше, нежели приветствие монарху. Славившийся своим,
остроумием Уоллер . не растерялся. «Государь, — сказал;
он Карлу II,—мы, поэты, всегда достигаем большего успеха,
когда имеем дело с вымыслом, чем с правдой».
На поэтический стиль Уоллера большое влияние оказала ли-
тература французского классицизма. Живя во Франции, Уоллер
сблизился с Сент-Эвремоном. Лафонтен относился к нему с боль-
шим уважением. Корне ль счел себя польщенным, когда Уоллер ,
сообщил ему, что из каждоц его новой трагедии он переводит наи-
более понравившиеся ему места.
Произведения Уоллера распадаются на три группы. Наиболее
значительны его лирические стихотворения, в которых он воспе-
вает под именем Сахариссы свою возлюбленную; он пишет стихо-
творные обращения к цветам (The Bud; Go, lovely Rose; On a Girdle),
стихи на случай, мадригалы и т. д. Другую группу составляют
произведения политической лирики, навеянные различными со-
бытиями общественной борьбы, начиная от убийства герцога Бу-
кингема в 1629 г. до Реставрации. Наконец, третью группу со-
ставляют стихи религиозного содержания (Divine Poems, 1685).
Поэзия Уоллера во многом противоположна «метафизическому»
стилю. Сложной образной системе «метафизиков» Уоллер противо-
поставляет стремление к простоте и прозрачной ясности образов
и сравнений. Если он и пользуется мифологическими ссылками,
то всегда с известной сдержанностью. Его стихотворения отли-
174
чаются четкой логической структурой. Его излюбленным стихо-
творным размером был куплет. Пользуясь им постоянно, он привия
его английской поэзии, и именно благодаря ему этот размер стал
распространенным в английской поэзии XVII и XVI11 веков.Уоллер ■■•
стремился к гладкости поэтической речи, он боролся за полнозвуч-
ную рифму, и его поэтическое творчество заслужило высокую по-
хвалу корифея классицизма —Драйдена, который писал, что «совер-
шенство и благородство рифмы никогда не было полностью известно,
до того, как мистер Уоллер научил нас этому; он был первым, кто
научил, как нужно заключать мысль в двустишия».
К предшественникам классицизма принадлежал также Джон
Денем (Sir John Denham, 1615—1669). Дворянин и сторонник монар-
хии, он сохранил ей верность и в годы революции. В годы Рестав-
рации он занимал видное положение при дворе Карла II. Поэти-
ческое наследие Денема невелико по объему. Оно состоит из неболь-
шого числа лирических произведений, в которых вырисовываются
элементы нового стиля—классицизма. Известность доставила ему,
главным образом, поэма «Холм Купера» (Coopers Hill, 1642), ко-
торая положила начало жанру описательно-дидактической поэ-
зии в английской литературе и вдохновила Попа на создание
«Виндзорского леса».
Денем был также одним из первых английских поэтов, вое-1
пользовавшихся поэтической формой для выражения критических
суждений. Его «Послание Ричарду Фэншо» (Verses Addressed to
Sir Richard Fanshawe upon his Translation of Pastor Fido, 1648)?
является стихотворным трактатом о принципах поэтического
перевода, а «Элегия на смерть Каули» содержит стихотворный
обзор английской поэзии, причем творчество Каули объявляется
ее вершиной.
Изживая языческий дух Ренессанса, поэзия середины XVII века
еще тем не менее во многом продолжала питаться соками великой гу-
манистической культуры, созданной «эпохой величайшего про-
грессивного переворота». Это в особенности подтверждается поэзией -,
Джона Мильтона, творчество которого формировалось в окру-
жении рассмотренных нами поэтов.
•
Глава 2
МИЛЬТОН
1
Поэт английской буржуазной революции Джон Мильтон про-
исходил из тех общественных слоев, которые составили основную
движущую силу этой революции. Род Мильтонов принадлежал к~
зажиточному крестьянству. Отец поэта, состоятельный нотариус,
175-
Фыл весьма образованным и разносторонним человеком и одним
из лучших композиторов своего времени.
Джон Мильтон (John Milton, 1608—1674) родился в Лондоне
9 декабря 1608 г. Воспитанием его занимался отец, прививший
ему любовь к музыке и литературе. «С детских лет, — рассказы-
вает сам Мильтон,—мой отец предназначал меня для литературных
занятий». Детство Мильтона было непохоже на детство его свер-
стников. Игры и обычные детские развлечения мало занимали его.
Все свое время он отдавал учению. Он сам рассказывает: «Жажда
.знаний во мне была столь велика, что, начиная с двенадцатилетне-
го возраста, я редко когда кончал занятия и шел спать раньше по-
луночи».
В феврале 1625 г., шестнадцатилетним юношей,Мильтон посту-
пил в Кембриджский университет. В 1629 г. он получил степень
баккалавра, а в июле 1632 г. — степень магистра искусств. Ему
было предложено остаться при университете в качестве преподава-
теля. Но так как это было связано с принятием духовного сана,
Мильтон отказался.
Состояние отца освобождало Мильтона от материальных за-
бот. Он поселился в имении родителей в Хортоне и предался там
научным и литературным занятиям. К тому времени он уже был
автором ряда небольших поэтических произведений. Первый опыт
Мильтона в области поэзии относится к 1624 г., когда ему было
15 лет; он написал стихотворные переложения двух псалмов. За
годы пребывания в университете он создал большое число стихо-
творений, главным образом латинских. В 1629 г. он написал свое
первое значительное произведение на родном языке — оду «На
утро рождения Христа» (Ode on the Morning of Christ's Nativity).
В следующем, 1630 году уже владея в совершенстве итальянским,
Мильтон пишет сонеты на языке Петрарки.
К хортонскому периоду относятся поэмы «L'Allégro» (Веселый)
и «Il Penseroso» (Задумчивый) и пьеса - маска «Аркадия» (Arcades),
впервые напечатанные в 1645 г., «маска» «Комус» (Cornus,
1637) и элегия «Лисидас» (Lycidas, 1638). В одном из писем к своему
другу Чарльзу Диодати Мильтон пишет о заветной цели своих
тогдашних стремлений: «Ты спрашиваешь, о чем я помышляю.
С помощью небес, о бессмертной славе. Но что же я делаю?.. Я отра-
щиваю крылья и готовлюсь воспарить; но мой Пегас еще недоста-
точно оперился, чтобы подняться в воздушные сферы».
По обычаю того времени, Мильтон решил завершить свои «годы
учения» странствованиями. Его манила к себе обетованная земля
гуманизма — Италия, и в апреле 1638 г. он покинул Англию. Че-
рез Париж, Ниццу и Геную Мильтон проехал во Флоренцию, где
он провел два месяца. Дальнейший его путь лежал через Сиену
в Рим, где он провел зиму 1638—1639 г. После посещения Неапо-
ля он тем же путем направился обратно, и тогда произошла его
знаменитая встреча с Галилеем. Великий ученый, надломленный
пытками инквизиции, доживал свои дни под бдительным надзором
церковников. Мильтону удалось проникнуть в его уединенную
176
виллу и встретиться с великим мучеником науки. Эта встреча про-
извела на поэта глубокое впечатление; он дважды упоминает имя
Галилея в «Потерянном рае».
После этого Мильтон посетил родину Кальвина — Женеву.
Многое еще хотелось ему посмотреть, но вести, приходившие с
родины, ускорили его возвращение. «Я считал, — писал он, —
что было бы низко в то время, когда мои соотечественники боро-
лись за свободу, беззаботно путешествовать за границей ради
личного интеллектуального развития».
Мильтон вернулся в Англию в 1639 г., когда начиналась
борьба между правительством и пуританской буржуазией. В те-
чение некоторого времени Мильтон приглядывался к обстановке.
Возможности практической деятельности были ограниченными.
На первых порах он готов был удовлетвориться скромной работой
педагога и взял к себе в обучение двоих племянников, сыновей своей
старшей сестры. Впоследствии число учеников возросло. В резуль-
тате педагогической деятельности Мильтона возник его трактат
«О воспитании» (Of Education, 1644).
В мае 1643г. Мильтон неожиданно прервал свои педагогические
занятия и уехал из Лондона. Вскоре он вернулся в сопровождении
молодой супруги—Мэри Поуэль, дочери мелкого помещика из
оксфордского графства. Брак был, повидимому, поспешным. Месяц
спустя жена Мильтона уехала к своим родителям, заявив, что
не желает возвращаться к мужу. Для Мильтона это было боль-
шим моральным ударом. Тем не менее он предался трезвым раз-
мышлениям о браке, и в результате появилась серия трактатов о
развод?, в которых он, не касаясь пережитой им личной драмы,
рцссма гривает развод как общественную проблему.
Развитие политических событий неожиданным образом привело
впоследствии к воссоединению супругов. Семья Поуэль была роя-
листской. Когда после победы над королем его приверженцы стали
подвергаться преследованиям, Поуэли вспомнили о Мильтоне,
который в это время стал уже видным деятелем. Мэри изъявила
желание примириться со своим супругом. Примирение состоялось,
ив 1645 г. Мэри вернулась под кров Мильтона. Подарив ему четы-
рех детей, она умерла во время родов в 1652 г.
, Четыре года спустя Мильтон женился вторично. Кэтрин Вудсток
бдола предметом его самой горячей любви, и поэт называл ее «пре-
красным ангелом», «святой», которая излучала «любовь, нежность
И доброту» (сонет XIX). Но Кэтрин умерла в 1658 г., —через
пятнадцать месяцев после замужества.
Начиная с 1640 г. Мильтон опубликовал ряд памфлетов, став
самым выдающимся публицистом индепендентской партии. Когда
в 1649 г. было создано республиканское правительство, Мильтона
назначили на пост латинского секретаря государственного совета.
Работа его состояла, главным образом, в переводе на латинский
и с латинского дипломатической переписки правительства. Служба
в Государственном совете привела Мильтона к личному контакту
со всеми выдающимися деятелями пуританской революции, ко-
Анпй. литература
177
торые высоко ценили его публицистический талант и в трудные
для правительства моменты обращались к нему за содействием.
Так было, когда роялисты опубликовали памфлет «Образ короля»,
который был так бы обвинительным актом против революции,
казнившей английского монарха; так было, когда подобного же
рода памфлеты были изданы за границей наемными писаками контр-
революционного лагеря. Во всех этих случаях Мильтон в блестя-
щих памфлетах защищал правоту революционного народа. Миль-
тону поручали также писать правительственные прокламации.
Активное участие в политической жизни оставляло мало вре-
мени для каких-либо других занятий. В период республики Миль-
тон почти совершенно отошел от художественного творчества. За
двадцатилетие — с 1640 по 1660 г. — он написал только небольшое
число сонетов, — выдающиеся образцы лирики.
С детства у Мильтона было слабое зрение. В начале 50-х годов
врачи, лечившие Мильтона, заявили, что для сохранения остат-
ков зрения ему необходимо на время совершенно прекратить чте-
ние и письмо. Мильтон ответил: «Подобно тому, как я пожертвовал
поэзией, так теперь я готов принести на алтарь свободы свои глаза».
Он не прервал занятий, следствием чего была полная слепота, на-
ступившая в 1652 г. Но и это не остановило Мильтона. С прежней
энергией, несмотря на слепоту, продолжал он свою публици-
стическую деятельность в защиту революционного английского
народа.
Реставрация монархии в 1660 г. была для Мильтона тяжелым
ударом. Она лишила его общественного положения, почти всего
состояния и ввергла в бедствия и нищету. Он, правда, избег пре-
следований, — повидимому, главным образом, по причине слепоты,
которая делала его безвредным в глазах новых правителей. Но
Реставрация означала для него не только потерю положения: она
была колоссальной катастрофой, уничтожившей дело всей его жиз-
ни, — дело, которому он посвятил свои лучшие годы, ради которого
пожертвовал поэзией и зрением.
Но мужественный дух Мильтона не был сломлен. Он поселился
в скромном домике, где его навещали немногие друзья, и
принялся за поэтическое творчество. Лишенный возможности
писать и читать, он пользовался услугами преданных друзей,
которые служили ему добровольными писцами и чтецами. В резуль-
тате упорного труда он сумел к 1663 г. закончить поэму «Поте-
рянный рай» (Paradise Lost), которая появилась в печати лишь
несколько лет спустя—в 1667 г.
Вскоре после окончания своей большой поэмы Мильтон же-
нился в третий раз. Эта жена Мильтона, Элизабет Мигшель, была
простой, почти необразованной, но очень преданной ему женщи-
ной и, насколько это было в ее силах, она облегчала его тяжелое
существование в условиях бедности и политической реакц'.и.
После первой поэмы Мильтон принимается за вторую и со-
здает «Возвращенный рай» (Paradise Regain'd), который был напе-
чатан в 1671 г. вместе с трагедией «Самсон борец» (Samson Ago-
nistes). Кроме того, Мильтон пишет отдельные публицистические
произведения и трактаты, работает над «Историей Англии» (The
History of Britain, 1670) и, что особенно интересно—над «Ис-
торией Московии» (A Brief History of Moscovia), напечатанной в
1682 г., а также издает латинскую грамматику (1669 г.) и учеб-
ник логики (1672 г.).
Доход Мильтона от этих многочисленных литературных трудов
был невелик и писал он, отнюдь не рассчитывая на литературные
заработки. Достаточно сказать, что за самое значительное евое
произведение, сразу же прославившее его,—за «Потерянный
рай», —он получил 10 фунтов стерлингов гонорара.
После издания книги, в которую вошли «Возвращенный рай»
и «Самсон борец», Мильтон не принимался уже за новые поэти-
ческие произведения, работая только над исправлением и отдел-
кой ранее написанного. В 1673 г., за год до смерти, он издал собра-
ние своих ранних стихотворных произведений — как английских,
так и латинских. Умер Мильтон 8 ноября 1674 г.
2
Первый период творчества Мильтона, включающий «годы уче-
ния и странствований», охватывает время от 1625г. до 1640 г. Это—
период внутреннего роста поэта, формирования его взглядов и
вкусов.
С самого же начала бросается в глаза присущая Мильтону двой-
ственность: гуманистическое образование сочетается у него с пу-
ританскими воззрениями на жизнь.
Гуманизм Мильтона проявляется в его любви к античности,
искусство и культура которой были ему хорошо знакомы. Его при-
влекала поэтичность древней мифологии. Но характерно, что как
пуританин он не мог воздержаться от упрека Гомеру и другим клас-
сикам античности за то, что они говорят «недостойные вещи о себе
или непристойности о тех, кого лишь недавно хвалили». Поэтому
чего подчас более привлекает муза «певцов Беатриче и Лауры, ко-
торые достойно пишут о тех, кому посвящен их стих, обнаруживая
возвышенные и чистые мысли, лишенные греховного». Гуманист
Мильтон чужд пуританской враждебности к театру и драме, Он
воспевает Шекспира в сонете, который был напечатан в собрании
сочинений великого драматурга) изданном в 1632 г. Он любит
нарядную красочность пьес-масок и создает классический образец
этого жанра — «Комус». Свою любовь к музыке он запечатлел в
прекрасном стихотворении «На исполнение серьезной музыки»
(1630), но музыка, которую Мильтон имеет в виду—религиозная.
Красота природы радует его взор («Ода майскому утру», 1630,
«Пятая элегия», 1629), но повсюду он видит в ней проявление бо-
жества.
Мильтон-пуританин переводит псалмы, пишет оду «На утро
рождения Христа». На пасху 1630 г. он принимается за стихотворе-
ние «Распятие Христа» (The Passion), которое должно изобразить
распятие и воскресение, но, недовольный началом, оставляет
произведение незаконченным.
Ренесеансные и пуританские мотивы предстают в его произве-
дениях всегда ^вместе, в очень своеобразном сочетании. Мильтон
сам сознавал эту двойственности, которая получила наиболее
отчетливое выражение в «поэмах-близнецах», как их назвал один
крлтлк, — «L'Allégro» и «Il Penseroso». Каждая из них описывает
определенный тип человека, определенное настроение. Паралле-
лизм этих двух поэм подчеркнут аналогичностью их формального
построения.
В «L'Allegj-o» перед нами юноша, веселый и беззаботный, кото-
рый гонит от себя меланхолию. Он призывает одну из трех граций,
Езфросинию, дочь Венеры и Вакха. Красочные картины природы
предстают перед ним в пасторальном обличий. Его радует поэзия
Джэнсона и Шекспира. Душа его полна желаний, он хочет ощутить
полноту жизни.
«Il Penseroso» рисует образ вдумчивого, склонного к размыш-
лениям человека. Он, наоборот, гонит от себя веселье и привет-
ствует «божественную Меланхолию». Его влечет наука. Если мысль
его и обращается к искусству, то лишь для того, чтобы вспомнить
о трагедии, причем предпочитает он трагедию греческую. Его
манят сумрачная прохлада готического собора и величавые звуки
органа.
Эти поэмы выражают противоречие двух укладов жизни, остро
ощущавшееся молодым Мильтоном. В «L'Allegro» воплощен радост-
ный дух Возрождения, от которого Мильтон отрешается, ибо
внутреннему его настроению более отвечает вдумчиво серьезное
отношение к жизни «Il Penseroso».
Та же тема уже в социально заостренном виде представляет
основу аллегорической «маски» «Комус», действие которой проис-
ходит в некоем таинственном лесу, где живет злой маг Комус.
В этом лесу заблудилась Дева; она встречает Комуса и принимает
его за доброго простолюдина. Комус заводит ее в свое обиталище
и хитрыми речами пытается совратить с пути добродетели. Тем
временем ее братья разыскивают пропавшую. Дух-покровитель
приводит иху к нимфе Сабрине, которая и освобождает Деву.
.... Лес символизирует светскую жизнь, Комус — зло и грех; Дева
воплощает добродетель. Идея произведения раскрывается в диа-
логе между Девой и Комусом. Ренессансной жажде наслаждений,
выражаемой Комусом, противопоставлена строгая мораль, вло-
женная в уста Девы. Дары природы даны человеку не для того,
чтобы он ими злоупотреблял. Природа дарит свои блага тем, кто
живет согласно строгим законам и в соответствии с благочестивы-
ми требованиями умеренности. В «Комусе» осуждается аристокра-
тическая роскошь и развращенность; наконец, выражается даже
протест против неравного распределения жизненных благ.
Богатая поэтическая фантазия, пасторальная красочность об-
становки сочетаются в этом произведении с чисто пуританским
духом, который полнее всего проявляется в мильтоновской концеп-
180
ции добродетели. Все чувственное подавляется во имя «чистоты
души». Но нравственная чистота ДеЕы не распространяет своего
влияния на окружающее. Если красота Беатриче в «Новой жизни»
Данте облагораживает людей, то Дева стремится лишь к тому, что-
бы обезоружить Комуса, обезвредить его, нисколько не возвышая
своим нравственным примером. Эта погруженная в себя доброде-
тель типична для морального ригоризма пуританства с его каль-
винистским учением о предопределении...
Последнее из крупных произведений первого периода — «Ли-
сидас» — элегия в пасторальном стиле. Скорбь о ранней смер-
ти друга, Эдуарда Кинга, вызывает у поэта мысль о возможно-
сти преждевременной кончины, которая, быть может, помешает
ему осуществить задуманные произведения. В духе религиоз-
ного оптимизма Мильтон пытается утешить себя мыслью о райском
блаженстве, ожидающем добродетельного человека после смерти.
Но, наряду с этим, в «Лисидасе» сказывается растущее недовольство
Мильтона условиями современной общественной жизни. В уста
святого Петра, принимающего в рай душу Кинга, Мильтон вкла-
дыБает гневную филиппику против духовенства и епископальной
церкви.
Таким образом, уже в этот первый период творчества Миль-
тона проявляется враждебность поэта к развращенному аристокра-
тическому обществу и англиканскому духовенству. Мильтон
становится на пуританскую точку зрения, но от пуританства его
отличает гуманистический эстетизм.
Формальные стороны поэзии Мильтона характеризуют его как
наследника красочной поэзии Возрождения» Недарим еще Драй-
ден отмечал, что в поэзии Мильтона проявляется влияние Спен-
сера. Мильтон насыщает свои произведения образами античной ми-
фологии, пользуется элегическими и пасторальными формами ан-
тичной литературы в той своеобразной окраске, которуюони дри~
обрели в искусстве Ренессанса. Подобно Сяенееру и другим по-
этам английского Возрождения, он любит изображать природу
пышными красками. Романтически окрашенная поэтическая фан-
тазия все возвышает, жизнь предстает в праздничном наряде.
3
Во второй период своего творчества, охватывающий 1640 —
1650-е гг., Мильтон переходит от элегической и пасторальной поэзии
К боевой революционной публицистике* Разгоравшаяся полити-
ческая борьба открывала перед ним широкие возможности боевого
утверждения своих идеалов. В период публицистической деятель-
ности мировоззрение Мильтона, наметившееся в его ранней поэ-
зии, получает полное развитие и обоснование.
Мильтон был самым крупным публицистом ведущей револю-
ционной партии этого бурного времени—индепендентов, Его
публицистика была рупором английской буржуазной революции
XVII века.
181
Свою общественную борьбу Мильтон начал с вопросов свободы
в области религии, выступив резким противником епископальной
церкви, сохранявшей многие черты католической обрядности.
Этому посвящены его памфлеты «О реформации» (Of Reformation
Touching Church Discipline In England, 164i) и «Об епископате»
(Of Prelatical Episcopacy, etc., 1641).В трактате «Необходимость цер-
ковного управления без прелатов» (The Reason of Church govern-
ment Urg'd Against Prelaty, 1641) Мильтон высказывался за отде-
ление церкви от государства и не допускал никакого общественного
вмешательства в религиозные дела. Соблюдение внешней об-
рядности не имеет для него, по существу, никакого значения,
ибо религия для Мильтона, —дело внутреннего убеждения.
Индепендентские воззрения Мильтона соприкасаются здесь с воз-
зрениями гуманистов Возрождения, для которых религия была в
первую сшередь нравственным учением. Католицизм, по мнению
Мильтона, должно преследовать, ибо по самому своему характеру
эта религия связана с церковной организацией, подавляющей инди-
видуальную свободу.
Обычно принято считать Мильтона вполне правоверным ис-
следователем пуританства. Между тем в действительности это да-
леко не так. В гуманистическом мировоззрении Мильтона были эле-
менты, которые никак не могли мириться с пуританской доктри-
ной. И это привело его к ряду существенных отклонений от нее.
Мильтону присуще в некоторой степени даже критическое отно-
шение к Библии. Он отказывается принимать на веру все, сказан-
ное в Новом завете, считая, что человек посредством разума сам
должен определить, что в этих писаниях истинно и что ложно.
Он заходит тан; далеко, что склонен считать разум более надежным
руководителем человека, чем «слово божие». Этот взгляд получил
свое выражение в трактате «О христианской доктрине» (De Doctrina
Christiana), впервые опубликованном лишь в 1825 г.
Мильтон веррл в то, что бог создал мир и жизнь. Но, раз создав
мир, божество предоставило всему итти своим путем. Человек,
созданный по образу божию, наделен частицей божественности,—
разумом, который, в конечном счете, должен привести его к истине
и счастью. Воля человека свободна.
Важнейшим отступлением Мильтона от догмы пуританизма
является неприятие доктрины о предопределении. Как гуманист
он не может примириться с осуждением человека, заранее предна-
чертанным небесами. Ценность человеческой личности определяется
для него жизненной деятельностью. Не разделяя пессимизма
пуританской религии, гуманист Мильтон верит в конечное торжество
лучших начал человеческой природы.
В религиозно-философских воззрениях Мильтона были отдель-
ные элементы материализма. Считая, что даже бог не мог создать мир
из ничего, он был убежден, что бог создал человека из материи и
материя есть элемент самого бога. Идейные корни философского
мировоззрения Мильтона тянутся к философии Возрождения с ее
стихийным материализмом.
182
Материалистические элементы философии сказываются также
в понимании Мильтоном природы человека. «Человек,—пишет он
в трактате «О христианской доктрине»,—есть живое существо,
но природе своей единое и индивидуальное, не составное и не раз-
делимое; он не был, как это принято считать по общему мнению,
создан или составлен из двух отдельных или различных элементов
природы, как душа и тело».
Признавая единство духовной и материальной субстанции
человека, Мильтон тем самым становится на точку зрения реаби-
литации плоти. Однако, если в понимании гуманистов Возрожде-
ния плоть есть чувственная природа человека, то у Мильтона эта
плоть есть материальная субстанция человеческого существа, очи-
щенная посредством пуританских добродетелей от всего нравствен-
но недостойного.
Материальным является не только человек; Мильтон считает, что
материя составляет часть бога; ангелы рисуются Мильтону также
материальными существами, только созданы они из более легкого
вещества, чем люди. Так, в конечном счете, весь мир является
у Мильтона материальным. Но это материалистическое воззрение
на мир сочетается с самой глубокой религиозностью, составлено*-
щей идеалистический элемент его мировоззрения.
Вторая книга трактата «О христианской доктрине» посвящена
этическим проблемам. Характерно, что в построении своей этики
Мильтон опирается не только на авторитет Библии, но и на филосо-
фию античности, в чем лишний раз проявляется его связь с гуманиз-
мом. Главная задача нравственности для Мильтона состоит в обу-
здании дурных страстей и в развитии добродетелей. Мильтон счи-
тает самодисциплину важнейшим регулятором человеческого по-
ведения. И как гум шист и как индепендент он является против-
ником внешних ограничений свободы человека, считая, что нрав-
ственное поведение должно быть результатом самовоспитания.
Это подводит нас к группе памфлетов, в которых Мильтон рас-
сматривает вопрос о свободе в частной жизни. Ш*его словам, это
«включало рассмотрение трех важных вопросов: условий
брачного союза, воспитания детей и свободного обнародования
мыслей».
В памфлетах и трактатах, посвященных вопросу о разводе
(1643—1645), Мильтон утверждает необходимость полной свободы
человека в личной жизни. Будучи противником внебрачных сою-
зов, Мильтон, однако, решительно отходит от ханжеской рели-
гиозной морали, устанавливая, что с нравственной точки зрения
развод является не только допустимым, но в некоторых случаях
и абсолютно необходимым.
В трактате «О воспитании» Мильтон выступает против «неиз-
житого схоластического невежества варварских веков» и выдви-
гает принципы гуманистического воспитания. Он полностью раз-
деляет взгляд гуманистов Возрождения, утверждавших необходи-
мость всестороннего развития личности. «Я называю совершенным
и благородным такое воспитание, — пишет он, — которое делает
183
человека способным выполнять подобающим образом, умело и
великодушно, любое дело, личное и общественное, как в мирное
время, так и на войне». Читая описание образцового учебного за-
ведения,—«академии», как ее именует Мильтон, — читатель не-
вольно вспоминает гуманистические утопии, в частности Телемскую
обитель и систему воспитания гуманиста Понократа, описанные
у Рабле.
Педагогическая система Мильтона также стремится к тому,
чтобы ни один час не был потерян для учения. Он вырабатывает
рациональный план занятий, который сам характеризует как «наи-
более близкий к типу древних и славных школ Пифагора, Платона,
Изократа, Аристотеля и им подобных». Как и другие гуманисты,
Мильтон не ограничивает задачи воспитания исключительно
интеллектуальным развитием. Физическое воспитание, по Миль-
тону, должно не только обеспечить здоровье воспитанника, но и
сделать его способным к выполнению своего гражданского долга —
защите родины.
Гуманизм Мильтона проявляется во всей своей силе в замеча-
тельной защите свободы слова, которой посвящено одно из лучших
его публицистических произведений, «Ареопагитика» (Areopagi-
tica, 1644). Оно написано в форме обращения к английскому пар-
ламенту, — «ареопагу», и вдохновлено образцами ораторского
искусства древности.
Мильтон высоко ценит печатное слово. «...Убить книгу — почти
то же, что убить человека... Тот, кто уничтожает книгу, убивает
самый разум... Многие люди живут на земле, лишь обременяя
ее, но хорошая книга есть жизненная кровь высокого разума».
Мильтон, правда, знает, что есть и дурные книги, враждебные
разуму, справедливости и свободе. Это, однако, его не пугает.
Конечно, следует содействовать распространению только хороших
книг. Но он сомневается в необходимости полного запрета дурных.
Он полагает, что человек способен разумно разобраться в том, что
истинно и что ложно.
Такая постановка вопроса связана с тем общим решением, ко-
торое Мильтон дает проблеме добра и зла. В отличие от пуритан,
резко разграничивающих добро и зло, Мильтон считает, что «добро
и зло растут в нашем мире вместе и почти нераздельно; познание
добра настолько связано и переплетается с познанием зла, они
бывают подчас настолько похожи, что их трудно друг от друга
отличить».
Мильтона не страшит то, что дурные книги могут ввести чело-
века «во искушение». Добродетель, которую надо оберегать от иску-
шений, немногого стоит. Кроме того, требование свободы печати
имеет и практический, общественно-политический смысл. «Нельзя
надеяться, что с установлением свободы в республике никогда
не будет никакого недовольства; этого пусть никто не ждет; но если
жалобы будут свободно выслушиваться, глубоко рассматриваться
и быстро удовлетворяться, будут достигнуты те крайние
пределы свободы, к которым стремятся все мудрые люди». Сво-
184
бода слова представляется Мильтону необходимым условием для
построения наиболее совершенного политического строя — рес-
публики, основанной на разуме и справедливости.
Решение политических проблем определилось для Мильтона
двумя факторами: его гуманистическим мировоззрением и рево-
люционной практикой английского народа. Мильтон — убежден-
ный противник всякой тирании, а, следовательно, и монархии.
Мильтон, правда, допускал теоретически возможность гуманной
и просвещенной монархии, — идея, которая, как известно, была
особенно распространена среди гуманистов, — но для него это было
не больше чем теоретическое допущение. Практически же было
очевидно, что для установления свободы надо свергнуть монархию
Стюартов.
Со всем революционным пылом Мильтон посвящает себя ра-
боте, имеющей целью дать теоретическое обоснование буржуазной
революции его времени.Прежде всего,он категорически отказывается
видеть в монархии установление, якобы исходящее «свы-
ше». Он отрицает феодальную доктрину о божественном происхож-
дении власти. Центральный пункт политической программы Миль-
тона — утверждение, что источником власти является сам народ,
имеющий бесспорное и ничем не ограниченное право устанавливать
государственную форму, наиболее соответствующую его интересам.
Народ имеет право доверить функцию власти отдельным лицам, но
эти последние не имеют права злоупотребить этой властью в ущерб
народным интересам. Народ имеет право лишить должностных
лиц власти и подвергнуть их наказанию вплоть до смертной каз-
ни. Об этом просто и недвусмысленно сказано в трактате «Права и
обязанности короля и должностных лиц» (1 he Tenure of Kings
and Magistrates, 1649). Здесь «доказывается законность... того,
что обладающие властью имеют право призвать к ответу тирана
или дурного короля и после соответствующего рассмотре-
ния вопроса низложить и предать его смерти, в случае, если обыч-
ные должностные лица пренебрегли и отказались совершить это».
«Обладающие властью» в данном случае — революционная бур-
жуазия и народ, действующие через избранный ими пар-
ламент.
Когда после казни Карла I началась реакционная агитация
против республиканского правительства, Мильтон выступил в за-
щиту действий пуритан. В памфлете «Иконоборец» (Eikonoklas-
tes, 1649), который был ответом на «Образ короля», он опровергал
роялистскую легенду о короле-«мученике» и доказывал право на-
рода на тираноубийство.
Обоснованию и защите народовластия посвящены все дальней-
шие политические сочинения Мильтона, в частности его две бле-
стящие «Защиты английского народа» (Pro Populo Anglicano Defen-
sio, 1650, Pro Populo Anglicano Defensio Secunda, 1654), которые
были ответом на реакционные памфлеты, осуждавшие казнь коро-
ля. R своих ответах Мильтон выступил перед общественным мне-
нием Европы как защитник действий революционного народа.
185
Как же согласуются свободолюбивые и республиканские взгля-
ды Мильтона с его прославлением Кромвеля? В известном сонете
«Лорду генералу Кромвелю» и во «Второй защите английского
народа» Мильтон прославгяет Кромвеля как борца против монархии
и поборника народной свободы. Вознося хвалы его революционной
деятельности, Мильтон во «Второй защите» заключает их следую-
щим обращением к лорду-протектору: «Испытав столько страданий,
пройдя через столь великие опасности в борьбе за свободу, не со-
верши сам насилия над ней и не допусти ущерба ей со стороны ко-
го-либо другого». Таким образом, даже восхваляя Кромвеля, Миль-
тон остается верен себе и своим республиканским убеждениям.
Как известно, увещания Мильтона пропали даром. Кромвель
утвердил военную диктатуру, и это заставило поэта изменить свое
отношение к некоронованному самодержцу республики. Мильтон
замкнулся в молчании и в последующие годы не проронил ни слова
о Кромвеле/ Показательно, что когда Кромвель умер и хор поэтов,
включавший Марвеля, Уоллера и молодого Драйдена, оплакивал
его смерть, Мильтон не нарушил своего осуждающего молчания.
Для Мильтона смерть Кромвеля не была поводом для скорби, наобо-
рот, онавызвала надежду на возможность возрождения республи-
канской свободы. Это получило выражение в написанном им после
смерти Кромвеля памфлете: «Наличные способы и краткое описа-
ние установления свободной республики, легко и безотлагательно
осуществимого на деле» (Present Means and Brief Delineation of a
Free Commonwealth, easy to be put in Practice, and without Delay,
1660). «Способ», предлагаемый Мильтоном, чрезвычайно характе-
рен для его политических воззрений. Республика не может сразу
же возникнуть во всем совершенстве своей социально-политической
структуры. Народ должен добиться на первых порах самого основ-
ного, практически осуществимого. Поэтому Мильтон предлагает
незамедлительно приступить к созданию новой выборной власти
на местах и в столице; низовыми органами этой власти должны
быть тщательно составленные и несменяемые муниципальные
советы (councils). Конституционное оформление государственного
устройства должно явиться уже как результат реально существую-
щего республиканского строя.
Захваченный бурным потоком политических событий своего
времени, Мильтон почти совершенно отказался от столь близкой
его сердцу поэзии. Единственным созданием его музы за двадцати-
летний период 1640—1660 гг. были «Сонеты». Впрочем, из 23соне-
тов, написанных Мильтоном за всю его жизнь, семь были созданы
до 1640 г. Из этих ранних сонетов пять были написаны на италь-
янском языке.
Наряду с традиционной любовной тематикой Мильтон вводит
в сонеты темы социально-политические. Первый политический со-
нет был написан им в 1642 г. в связи с ожидаемым нападением ко-
ролевской армии на Лондон (сонет VIII). Сонеты XI и XII были
откликом на нападки оппонентов, осуждавших трактаты Миль-
тона о разводе. Три сонета были посвящены политическим деяте-
186
лям: главнокомандующему Фэрфаксу (сонет XV, 1648), Кромвелю
(сонет XVI, î652) и Генри Вену младшему (сонет XVII, 1652). По
общему признанию критики, наиболее ярким является сонет XVI11,
в котором Мильтон выразил свое возмущение злодейской резней,
учиненной в 1655 г. в Италии над пьемонтскими протестантами.
Из сонетов на личные темы наиболее значительны сонет XIX
(«О своей слепоте») и Сонет XXIII («Памяти моей второй жены»).
По сравнению с сонетами английского Возрождения сонеты
Мильтона гораздо ближе к классической итальянской форме, соз-
данной Петраркой.
4
Третий период творчества Мильтона, начинающийся с Реста-
врации 1660 г., заканчивается со смертью поэта. В эти именно годы
он создал произведения, на которых покоится его слава, как одного
из величайших поэтов Англии. Именно в эти последние годы жизни
он осуществил мечту, которую лелеял с юности: «оставить что-
либо, написанное для грядущих поколений, которые не дадут
моему труду умерзть».
Еще в первые годы своей творческой деятельности Мильтон
задумал написать эпическую поэму, которая стала бы таким же на-
родным, национальным эпосом, каким была «Илиада» Гомера.
В поисках эпического сюжета Мильтон изучал историю и лите-
ратуру. Первоначально его выбор остановился на легендарном
короле Артуре. Но скоро сама пуританская революция подсказала
Мильтону сюжет для эпической поэмы. Поэтические произведения,
созданные Мильтоном в последний период творчества, являются
наивысшим художественным отражением буржуазной революции
XVII века, «ее языка, страстей и иллюзий, заимствованных из
Ветхого Завета».
Говоря об этих произведениях, нельзя забывать об условиях
того времени, когда они создавались. «Потерянный рай», «Возвра-
щенный рай» и «Самсон борец» писались уже тогда, когда пуритан-
ская революция окончилась. В обстановке торжествующей реакции
прозвучал мощный голос поэта, который с пафосом библейского
пророка вещал о том, что дух пуританской революции не умер,
что он еще живет в сердцах ее верных приверженцев. Этот
голос звучал как призыв к борьбе и мести. Поэзия Мильтона
была вызовом, брошенным победившей реакции: она служила
выражением непримиримого революционного духа.
Уже при жизни Мильтона установился взгляд на произведения
его, как на чисто религиозные поэмы. Заслуга раскрытия револю-
ционного содержания поэзии Мильтона принадлежит революцион-
ным романтикам начала XIX века —Шелли, Байрону и Лэндору,
которые почувствовали в Мильтоне родственного им по духу поэта.
Если влияние идеологии пуританской буржуазной революции^
опРеделило выбор Мильтоном библейских сюжетов, то, с другой
стороны, нельзя недооценивать также значительного влияния на
него сложившейся к этому времени литературной традиции,
187
В английской поэзии середины XVII века религиозные мотивы по-
лучили значительное преобладание. Еще до Мильтона были по-
пытки создать эпическую поэму на библейский сюжет. Кроме того,
Мильтон опирался на традицию религиозной поэзии, возникшей на
егропейском континенте в связи с реформацией и контрреформацией.
Еще в конце XVI века в Англии пользовались известностью
произведения французских протестантских поэтов, из которых осо-
бую популярность получил Дю Барта, автор эпических поэм «Не-
деля» и «Вторая неделя». Во второй из них излагалась легенда об
Адаме и Еве. Знакомство Мильтона с этим произведением бесспорно,
хотя большее влияние на него оказали два других поэтических про-
изведения континентальной Европы. Это—драматическое произве-
дение величайшего представителя нидерландской литературы
эпохи Возрождения Иоста фан ден Фонделя —«Люцифер», и, в
особенности, трагедия итальянского писателя Джамбатиста Андре-
ини.—«Адам».Но скольким бы ни был обязан Мильтон своим пред-
шественникам, он создал величественную эпическую псэму, в ко-
торой во всей силе проявился его оригинальный поэтический гений.
В «Потерянном рае» поражает, прежде всего, эпическая гран-
диозность. Местом действия является вселенная, время действия —
бесконечность. Такою же отдаленностью от обычного и повседнев-
ного отличаются и персонажи поэмы. Сюжет «Потерянного рая»
является в подлинном смысле слова космическим.
Революционное содержание поэмы во всей силе проявляется
в изображении борьбы Сатаны против Бога. Согласно смыслу ре-
лигиозной легенды, в этой борьбе должны обнаружиться благость
и величие Бога и низость Сатаны. В поэме Мильтона мы видим не-
что совсем иное. Бог Мильтона —это суровый пуританский бог,
обрушивающий кары на непокорных ему духов и людей. Он —
всемогущий монарх вселенной, и ангелы называют его «небесным
королем»; архангел Рафаил даже уточняет это определение поли-
тическим термином — «суверенный король». Бог правит миром
самодержавно. От своих небесных и земных подданных он требует
безусловного подчинения. Божественная мудрость не всегда прояв-
ляется в его приказах. И недаром Сатана говорит о нем, что он
Один царит, как деспот в небесах.
Сатана —гораздо более привлекательная фигура. В нем больше
человечности и внутреннего величия. Как заметил еще Драйден
(Посвящение перевода «Энеиды», 1697), именно Сатана является
герсем поэмы. Это — гордый, непокорный дух, не желающий скло-
ниться даже перед Богом. Рабское подчинение несовместимо с его
натурой. Восстание против Бога лишило его блаженства небесной
жизни, но хотя воспоминание о ней и тревожит его иногда, он все
же предпочитает свое нынешнее состояние. Ибо, несмотря на муки
и страдания, он чувствует себя свободным, не имея над собой
никакого властителя.
Героический дух Сатаны прекрасно проявляется в словах, обра-
щенных к ангелам, разделившим его падение:
188
Что из того, что мы побеждены?
Попрежнему непобедима воля
С оэдуманною жаждою отмщенья,
И ненависть бесстрашная и дух,
Не знающий вовеки примиренья.
Нет, никогда могуществу творца
Мы торжества такого не доставим!
Склонясь пред ним о милости молить,
Боготворить того, кто столь недавно
За власть свою пред нами трепетал —
Бесчестием считал бы это я,
Позорнейшим, чем самое паденье.
Вместе, с тем Сатане оказывается доступным чувство, которого
не знает суровый пуританский бог Мильтона, —жалость. Это чув-
ство пробуждается в нем, когда он видит вокруг себя своих сторон-
ников , «сообщников вины его ужасной» ,«жертв, утративших блажен-
ство и вечному страданью обреченных из-за него». Сатана и его
приверженцы связаны узами верности и единодушия. Поэт под-,
черкивает, что падшие ангелы «и в померкшей славе верны оста-'
лись» Сатане.
Не то мы видим на небесах. Когда Бог спрашивает ангелов,
кто из них согласен стать смертным, чтобы искупить своими стра-
даниями грех первых людей, то
хор небесных духов
Безмолвствовал, и тихо было в небе.
Никто принять на голову свою
Последствия смертельного греха
Не пожелал, явясь за человека
Ходатаем.
Это заставило даже свободомыслящего Лэндора выразить удив-
ление. «Не понимаю,—писал он в «Воображаемых разговорах»,—
что побудило Мильтона сделать Сатану столь величественным суще-
ством, столь склонным разделять все опасности и страдания анге-
лов, которых он совратил. Я не понимаю, с другой стороны, что
могло его побудить сделать ангелов столь подло трусливыми, что
даже на призыв творца ни один из них не выразил желания спасти
от вечной погибели самого слабого и ничтожного из мыслящих
существ».
Сказанного достаточно, чтобы убедиться, что «Потерянный рай»
содержит элементы, явно мешающие поэме быть выражением орто-
доксальной религиозной точки зрения. Это особенно подчеркнул
Шелли, заметивший, что поэма Мильтона содержит в себе философ-
ское опровержение той самой системы, которую она была призвана
поддерживать. «Ничто не может превзойти энергию и величие об-
раза Сатаны...в «Потерянном рае». Ошибочно считать, будто он был
предназначен стать общедоступной иллюстрацией воплощенного
зла,.. Мильтон настолько исказил распространенное убеждение
(если это можно считать искажением), что не дал своему богу ни-
какого нравственного превосходства над своим дьяволом» («Защи-
та поэзии»). С мнением Шелли нельзя не согласиться. Трудно
189
лишь установить, насколько сознательным было искажение рели-
гиозной легенды в поэме Мильтона.
Белинский, также прекрасно понявший революционный ха-
рактер «Потерянного рая», считал, однако, что возвеличение
Сатаны над Богом было у Мильтона непреднамеренным. «Поэзия
Мильтона, -—писал он, — явно произведение его эпохи; сам того не
подозревая, он в лице своего гордого и мрачного Сатаны написал
апофеозу восстания против авторитета, хотя и думал сделать со-
вершенно другое» («Взгляд на русскую литературу 1847 г.»).
Религиозные воззрения Мильтона отличались от общепринятой
точки зрения. В «Потерянном рае» бог и ангелы так же материальны,
как и люди. В изображении бога Мильтон отходит от христиан-
ского спиритуализма и возвращается к наивному материализму
античного эпоса. Его бог материален, хотя и лишен тех черт, ко-
торые делают столь привлекательными богов античности; это—за-
костеневший в пуританской суровости громовержец Олимпа.
Откуда же брал Мильтон краски для своей палитры? В первую
очередь—из окружавшей его действительности, из жизни его
бурной эпохи. Современник грандиозной исторической борьбы
двух общественных сил, он сам весь был пропитан духом этой
борьбы. Именно она придала внутренний пафос его обработке биб-
лейского сюжета. Изображая борьбу Сатаны против Бога, Миль-
тон — скорее бессознательно, чем намеренно, —рисовал ее под
влиянием воспоминаний о гражданской войне в Англии XVII века.
Сатана и его сподвижники вдохновлены желанием сокрушить
непререкаемый авторитет Бога. Характерно, что Сатана, возглав-
ляющий восстание ангелов против Бога, не подавляет своих спод-
вижников своей властью. В лагере мятежных ангелов, как его
рисует Мильтон, есть своеобразная «демократия»; это про-
является в изображении «совещаний» адских духов. Нед< ром критик
Р#лей (Raleigh), характеризуя совет падших ангелов, говорит, что
он представляет собой своеобразный «адский парламент». В мятеж-
ных ангелах, изображенных Мильтоном,живет дух индепендентов
XVII века.
И все же нельзя сказать, как это думал Шелли, что поэма Миль-
тона есть полное опровержение религиозного мировоззрения. Бог
является у поэта воплощением определенных моральных принци-
пов, которые были ему дороги. Сатана, при всей своей человечности,
страстности и свободолюоии, все же, как он сам говорит, «добру
служить не будет никогда». Бог представляется Мильтону абстракт-
ным воплощен ем принципа добра; образ его, правда, не возбуждает
человеческих симпатий, но он символизирует утверждение положи-
тельных начал жизни, в отличие от Сатаны, который, по замыслу
поэта, должен быть абстрактным воплощением зла.
Но в том-то и дело, что между замыслом и его воплощением воз-
никло существенное расхождение. Мильтон вышел за пределы схе-
мы, согласно которой в Боге выражались добрые начала жизни, а
в Сатане —зло. В процессе создания поэмы он увлекся теми объ-
ективными возможностями, которые открывал избранный им сюжет.
190
Борьба Сатаны против небесного царя невольно ассоцииро-
валась у него с восстанием пуритан против земного короля, и
естественно, что политические симпатии автора «Иконоборца» за-
ставили его с большей симпатией живописать мятежных ангелов.
Результатом этого явилось противоречие, составляющее существен-
ную черту всего произведения в целом: пуританин Мильтон стоит
на стороне Бога, республиканец Мильтон оздаех^все свои симяатим-
бунтарю Сатане. Это реально существующее противоречие поэл'Ы
никакими софизмами критики устранено быть не может. Оно про-'
низывает собой в££ произведение и определяет его своеобразие;
Изображение Адама и Евы в «Потерянном рае» является заме-
чательным доказательством духовного родства Мильтона с гума-
нистами Возрождения. Человек для него, как и для всех гумани-
стов,— высшее из земных существ. Он находит теплые краски для
изображения любви Адама и Евы. Любовь их полна той огромной
силы, которая характеризовала эту страсть в понимании гумани-
стов. И если Адам, узнав о грехопадении Евы, вкушает запретный
плод для того, чтобы разделить с ней ожидающую ее кару, то и Ева
не менее решительно готова разделить с Адамом все испытания,
которые им сулит грядущая жизнь. Когда, изгнанные, они поки-
дают Эдем, Ева говорит Адаму:
Веди меня. Последовать готова
Я за тобой. С тобою для меня
Повсюду рай, с утратой же тебя
Я все равно утратила бы рай.
Напрасно некоторые критики хотят видеть в Адаме и Еве всего
лишь преображенных поэтом мещан-пуритан XVII века. Значе^
ние этих двух образов иное. Они задуманы поэтом как идеальные
мужчина и женщина. В изображении их гораздо больше сказался
гуманизм Мильтона, чем его пуританство. Любопытно при этом, что
по ходу действия поэмы Мильтон несколько изменяет своему пури-
танскому убеждению о превосходстве мужчины и вынужден отве-
сти Еве не меньшую роль, чем Адаму.
Адам и Ева изображены как существа, жаждущие знания. Но
у Адама —это спокойное любопытство, которое не стремится про-
никнуть за пределы, установленные согом человеческому познанию.
В Еве жажда знания проявляется, как мгновенно вспыхнувшая
страсть, возникшая под влиянием речей Сатаны, который уверил
ее в возможности уподобиться богам посредством познания добра
и зла. Отступая от библейской легенды, где Ева поддается лести
Сатаны, Мильтон изображает Еву недоступной лести. Искушение
ее у Мильтона состоит в том, что Сатана рисует ей возмож-
ность неизмеримого могущества, доступного тому, кто вкусил
плод от древа гознания добра и зла.
Вы из людей должны богами стать,—
говорит он Еве, убеждая ее в огромном преимуществе, которое дает-
ся человеку знанием.
fôi
«Чем господу познанье не угодно?» — спрашивает хитрый змей
Еву, и ему удается посеять в ее душе сомнение:
Ведь знание есть благо; почему же
Нельзя и нам воспользоваться благом
И мудрости достигнуть чрез него?
В этот центральный момент сюжета поэмы, когда происходит
символическое событие, от которого зависит вся будущая судьба
человечества, Ева выступает не как легкомысленная женщина,
по неразумию и слабости совершающая роковой проступок, но как
величественное воплощение человечества, стремящегося к позна-
нию мира. Причина, заставляющая ее решиться на роковой шаг,
выражена поэтом в недвусмысленной форме, и мы видим, что по-
буждения Евы в сущности своей и глубоко человечны и глубоко
благородны. Она говорит:
Здесь я найду решенье всех сомнений.
Небесный плод, и знание, и вкус
Пленяющий, дает собою мудрость.
И что же мне мешает, наконец,
Вкусить его и с голодом телесным
И мой духовный голод утолить?
В Еве, которая ради познания решается рискнуть своим бла-
женством и будущим всего человечества, есть нечто очень родствен-
ное замечательному образу, созданному гуманистом и атеистом
Марло, чей Фауст, ради достижения знания и господства над ми-
ром, жертвует загробным блаженством и продает свою душу дьяво-
лу. И это совпадение отнюдь не случайно. Оно является лишним
свидетельством тесного духовного родства Мильтона с гуманизмом
Возрождения.
Если книги 1—-III, V—VI имеют своей темой «восстание
против авторитета», то остальные песни посвящены философско-
этическим проблемам. Эти проблемы Мильтон решает в духе
философии гуманизма.
Итак, грехопадение свершилось. Человек утратил свою перво-
бытную невинность, он потерял земной рай, где обретался до той
поры в счастьи и довольстве.
Выиграло ли человечество от познания добра и зла? Адам, как
бы отвечая на этот вопрос, говорит:
Добро и зло познали мы: утратив
Добро навек и зло приобретя.
О, гибельный познанья плод!
Здесь, по существу, поставлена проблема, которая столетие
спустя волновала молодого Руссо, когда он прочитал объявление о
конкурсе на тему: «Содействовало ли возрождение наук и искусств
улучшению нравов?» И в этом совпадении нет ничего удив -
тельного, ибо вопрос об естественном состоянии и цивилизации
возник не в XVIII веке; он занимал умы гуманистов уже в XVI —
XVII веках* Пребывание Адама и Евы в раю есть идеальное есте-
192
ственное состояние; оно было утрачено ими, как только они обре-
ли познание добра и зла. Это обрекло Адама и Еву на изгнание tfx
рая. Взамен первобытного состояния они обрели жизнь, полную
труда, горя и всевозможных бедствий. В первое время Адаму дей-
ствительно кажется, что он утратил всякую возможность земного
блаженства, но затем настроение его меняется. Он видит зло, про-
никшее в мир, но находит и нечто очень положительное в той новой
форме существования, которая отныне суждена человечеству.
«Все выходит прекрасным из рук творца, и все портится в руках
человека», — говорил Руссо, и с этими словами можно сопоставить
то, что говорит у Мильтона «творец мира»:
...Мир,
Который я прекрасным сотворил;
Доныне он таким бы оставался,
Когда бы не безумье человека...
Но Мильтон далек от руссоистского решения этой проблемы,.
Он разделяет взгляды, свойственные гуманистам Возрождения,
которые настолько ценили знание, что ради него готовы были на,
любые жертвы. Мильтон счктает, что самое познание добра невоз-
можно без познания зла. И, в конечном счете, к этому же убежде-
нию приходит и Адам. Утешая Еву, скорбящую об утрате райского
блаженства, он рисует ей картину их будущей жизни после изгна-
ния из Эдема.
Трудом своим питаться должен я,
Но это ли — несчастие? Опасней
И тягостней была бы праздность мне.
Эта пробуждающаяся в Адаме любовь к труду делает его образ
глубоко символичным. Он воплощает в себе активное начало че-
ловеческой жизни, и замечательно, что он отказывается от без-
делья, от беззаботной жизни в Эдеме. Его уже не страшат опасно-
сти. Знание принесло в мир не только познание добра, но к
зла. Это явилось следствием прегрешения самого человека. Но,
в конечном счете, даже и зло должно принести человечеству изве-
стное благо. Не только Адам, но бог и сын божий выражают то же
убеждение: человек, в конце концов, станет даже лучше, чем был
до грехопадения.
Здесь Мильтон-гуманист приходит в самое острое противоречие
с пуританской моральной доктриной. Если пуританское учение
о предопределении признает безусловную греховность человека,
то Мильтон, исходя из гуманистической морали, реабилитирует
человека, даже если он и совершил грех. Вместо полного и без-
оговорочного осуждения Мильтон становится на гуманистическую
точ*<у зрения и считает, что своим трудом, испытаниями, лише-
ниями и муками человек может очиститься и искупить свой грех.
Перед тем как Адам и Ева покидают Эдем, к ним является архан-
гел Михаил, который в видении показывает Адаму будущее чело-
вечества: «добро и зло», «борьбу страстей людских и беззаконий».
Наименее страшны в изображении Мильтона стихийные бедствия,
*3 Англ. литература 193
ибо, хотя они и действуют разрушительно, но не оскверняют душу
самого человека. Гораздо ужасней растлевающее человеческую
душу бедствия социальные. Таковы, по мнению Мильтона, война,
деспотизм и социальное неравенство феодального общества. Устами
Адама Мильтон осуждает феодальные войны так же, как осуждали
их Рабле, Эразм, Шекспир и многие другие гуманисты. Феодаль-
ная Бойна родит завоевателей, тиранов и деспотов. Самое ужасное
последствие тирании — утрата свободы, ибо
...С утратою свободы
Равно и побежденные утратят
Все доброе, остынет благочестье
В сердцах людей.
Когда архангел Михаил рисует Адаму картину тирании и про-
извола, ожидающих в будущем человечество, Адам, «негодованьем
полный», возмущается действиями тирана-поработителя. «Чело-
века над человеком бог не сделал владыкой, — говорит Адам, —
это звание владыки он взял себе, оставив человека свободным от
власти другого человека». Архангел Михаил соглашается с Адамом.
...Справедливо
Ты на того, кто внес порабощенье
И смуту в мир, — душою негодуешь.
Таким образом, в «Потерянном рае» сказываются не только фи-
лософские и морально-этические, но и политические воззрения
Мильтона, который остается преданным поборником свободы и в
этом произведении, законченном уже после краха английской бур-
жуазной революции XVII века.
Поэма «Возвращенный рай», сюжетно и по заглавию как бы яв-
ляющаяся продолжением «Потерянного рая», по существу имеет
особое содержание и только отчасти примыкает к тематике и про-
блематике предшествующей поэмы. «Возвращенный рай» следует
поэтому рассматривать как законченное и самостоятельное произве-
дение. Если же искать черты, связывающие эту поэму с другими про-
изведениями Мильтона, то эти поиски приведут нас не к «Потерян-
ному раю», а к другому, значительно более раннему произведению
поэта.
Личность Христа интересовала Мильтона еще в юности, когда
он попытался создать поэму о страданиях Христа-искупителя.
Но юный поэт не завершил этого произведения, ибо тема была, по
собственному его признанию, «выше его разумения».Когда же зрелый
Мильтон вернулся к этой теме, то у него стожился взгляд на Христа,
отличавшийся от религиозной традиции. Он пришел к выводу,
что евангельский рассказ о Христе следует рассматривать не бук-
вально, а фугурально. Иначе говоря, допуская факт существования
Христа, Мильтон, однако, отказывался верить всем тем чудесам,
которые рассказывает о нем Евангелие, ибо его рационалистическое
мировоззрение не могло признать их достоверности. В Христе
Мильтона нет ничего сверхъестественного. В образе его поэт вопло-
194
щает не религиозное представление о Христе, а свой пуританский
и гуманистический идеал человека.
Тема «Возвращенного рая» — борьба благочестивой души про-
тив соблазнов и искушений мирской жизни, борьба разума против,
страсти и чувства. Впервые эта тема была поставлена Мильтоном^
в его ранней пьесе-маске «Комус», и именно с этим произведением^
ближе чем с каким-либо другим, связана проблематика «Возвра-
щенного рая».
Действие поэмы сведено к минимуму. Содержанием ее является
искушение, которому Сатана подвергает Христа. Подобно Комусу,
соблазнявшему Деву картинами всех наслаждений жизни, Сатана
раскрывает перед Христом возможности обладания мирскими бла-
гами, дающими человеку силу, власть и могущество,—правда, в
ущерб его добродетели. И подобно Деве, Христос отвергает все
зти искушения.
Мильтон наделил Христа чертами своей собственной личности,
что с религиозной точки зрения было святотатством. Христос рас-
сказывает о своем детстве в таком духе, что мы не можем не вспом^
нить детство и юность самого Мильтона.
... Будучи ребенком, не любил
Я детских игр, мой ум стремился к знанью,
К общественному счастию и благу.
Мне думалось, я призван для того,
Чтоб истину восстановить святую
Здесь на земле.
Мессия Мильтона ставил себе те же цели, что и автор «Иконо-
борца» и «Защиты английского народа»:
... Я мечтал народ избавить
От римского владычества, из мира
Изгнать навек насилие и, правде
Свободу дав, восстановить равенство..
Изображая Христа, Мильтон подводил итоги своей жизни; Осо-
бое значение «Возвращенного рая» в том, что Мильтон здесь со всей
Силой выразил разочарование в своей революционной деятельно-
сти и признал ее бесплодность. Служению революции он по-
евятил лучшие годы жизни лишь для того, чтобы на склоне лет
плоды его работы и работы его единомышленников были разруше-
ны реставрацией монархии. Кого же надо в этом винить? Поэт
приходит к выводу, что виною всему является незрелость народа,
которому Мильтон не может простить, что он охотно принял на себя4
снова бремя монархии. С грустью констатирует он, что «племена,,
томящиеся в оковах», «тому подверглись добровольно». И Христос
говорит, что теперь «не станет он радеть об их свободе». Он будет
ждать, пока умы их просветятся, и ставит себе, задачей
Сердца людей словами покорять
И вразумлять заблудщие их души,.
Которые не знают, что творят.
13* ,,95
Поведение Христа является примером благочестия и выраже-
нием того пуританского стоицизма, посредством которого Мильтон
стремится преодолеть постигшее его разочарование, ибо разочаро-
вался он не в своих идеалах, а в возможности их осуществления.
Душа мильтоновского героя закаляется. Из всех жизненных бед
и разочарований он выходит еще более укрепленным в своей вере
в истину, хотя и лишенным радостного сознания, что народ разде-
ляет его убеждения. Ни одно из благ мира не в состоянии отвра-
тить его от служения этой вечной истине.
Сатана знает, что искушать его сладострастием, или чревоуго-
дием бесполезно. Тогда он сулит ему богатство. Но Христос легко
отклоняет и это искушение, ибо понимает, что богатство
...доставить неспособно
Могущество, а если и доставит,
То удержать его не в состояньп.
Подобно Шекспиру, Мильтон знает, какое разрушительное
действие оказывают золото и богатство на человека. Христос гово-
рит Сатане:
Не пробуй же превозносить богатство,
Кумир глупцов и бремя мудреца,
Иль западню опасную. Оно
Способно лишь ослабить добродетель
И притупить к делам великим рвенье.
Не соблазняет мильтоновского героя и власть, не могут иску-
сить его слава и почести, которые ему сулит Сатана. Тогда Сатана
делает последнюю попытку. Он пытается искусить его языческой
мудростью Эллады, но Мильтон устами Христа отвергает философию
античных мудрецов, ибо в теперешнем его положении она не может
служить ему ни руководством в жизни, ни средством морального
самоусовершенствования. Источником его силы является внутрен-
ний мир: здесь находит он ту стойкость, которая дает ему возмож-
ность переносить все страдания.
«Возвращенный рай» — это поэма о внутреннем самоусовер-
шенствовании человека, и естественно, что герой Мильтона отвер-
гает все внешние блага жизни, ибо единственное, что дает ему силу,
это — глубочайшее внутреннее убеждение в своей правоте. В том
состоянии, какое переживают Мильтон и его герой, не могут служить
отрадой и музы древней Греции. Поэтому Христос отвергает ан-
тичную поэзию, отдавая предпочтение Библии. Его настроению
не соответствует языческая жизнерадостность античной поэзии,
его духу ближе патетическая речь «израильских пророков
и вождей».
На первый взгляд кажется, что в этом столкновении Мильто-
на-пуританина с Мильтоном-гуманистом победа одержана первым.
Но это лишь на первый взгляд. Ибо гуманизм Мильтона нельзя
мерить его отношением к внешним формам гуманистической куль-
туры. Если Мильтон в данном случае отказывается от обычной для
196
гуманистов приверженности античному искусству, то это отнюдь
не означает отступления от самой сути гуманизма. Здесь он остается
верен и самому себе и своему мировоззрению. При этом из эти-
ческого учения гуманизма Мильтон сделал политические выводы,
которым он не изменил и тогда, когда писал «Возвращенный рай».
Свобода личности, осуществленная как политическая свобода,
попрежнему остается идеалом Мильтона-гуманиста, и «Возвращен-
ный рай» есть поэма об идеальном человеке-гражданине, который
оказался одиноким, окруженным непониманием и все же остался
верным себе и своему взгляду на жизнь.
Сатана, которого мы встречаем в этой поэме, наделен некото-
рыми чертами, сближающими его с Сатаной «Потерянного рая».
Но в целом, это—новый герой, что, между прочим, лишний раз
подтверждает несвязанность этих двух поэм. Сатана здесь лишен
того титанизма, героического одушевления борьбой, которые свой-
ственны этоуу персонажу в «Потерянном рае». Здесь это — хитрый
и умный искуситель, а не величественный бунтарь «Потерянного
рая». И если в первой поэме он способен вызывать интерес и симпа-
тии читателя, то в «Возвращенном рае» весь интерес сосредоточен
на личности Христа.
Последнее произведение Мильтона — трагедия «Самсон, бй-
рец» — напоминает своею ситуацией положение самого Мильто-
на в период Реставрации. Ослабевший, ослепленный Самсон,
преданный женой-филистимлянкой, осужден на позорное рабст-
во в стане победивших врагов. Побежден был и Мильтон, он
также был слепым и так же, как герой его, обречен на тягостное
существование, в то время как окружавшие его враги торжест-
вовали. Эти аналогии, неоднократно отмеченные исследователя-
ми, настолько очевидны, что не приходится сомневаться в
автобиографическом значении трагедии.
Но этим смысл ее отнюдь не исчерпывается. Она является
выражением той внутренней эволюции, которую Мильтон пере-
живал в последние годы своей жизни. В «Самсоне борце» мы
видим пробуждение героической энергии. Безропотная покор-
ность была вполне в духе христианства, но она не была в духе
Мильтона. Ничто не могло примирить его с Реставрацией. Он
жаждал действия, в нем кипела жажда отмщения, и она полу-
чила свое бурное выражение в трагедии о Самсоне. На этот раз
библейский сюжет, в отличие от «Потерянного рая», полностью
соответствовал той ситуации, в которой находился поэт. От
имени Есего революционного пуританства Мильтон грозит местью
торжествующим врагам. Побежденный филистимлянами, Самсон
вновь обретает силу. Это дает ему возможность осуществить
свою месть. Правда, он гибнет и сам, но гибель его озарена
торжеством свершенного мщения.
Так отплатил поэт пуританской революции ее врагам. Поэзия
Мильтона стала поэзией борьбы и мщения, она выразила с исклю-
чительной силой страсти предвидение, подтвержденное историей
следующих тридцати лет социально-политической жизни Англии,—
197
что торжество Стюартов было временным, что дух буржуазной
революции не умер, что Самсон побежден не до конца, что он ждет
и набирается сил.
5
Сюжеты всех трех крупных произведений Мильтона заимство-
ваны из Библии, что согласовалось с его пуританскими взглядами,
в то время как в художественной обработке их он применял
формы, взятые из классической, античной литературы, что, в свою
очередь, вполне согласовалось с его гуманизмом.
«Потерянный рай» был попыткой возрождения формы антич-
ного эпоса. Мильтон стремился построить эпическую поэму на-
подобие героического эпоса древности. Он следовал античным
образцам — Гомеру и, особенно, Вергилию. Удалось ли ему осу-
ществить свое намерение? В отдельных частностях «Потерянный
рай» — великолепное произведение искусства, но как целое, как
эпическая поэма, оно явно неудачно. В чем причина этого явле-
ния? Прежде всего, в порочности самой попытки создать эпос,
когда для этого не существовало реальных и необходимых
предпосылок.
«Относительно некоторых форм искусства, напр. эпоса, — пи-
шет Маркс, —даже признано, что они в своей классической форме,
составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть соз-
даны, как только началось художественное производство как та-
ковое» х. «Возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или
вообще Илиада наряду с печатным станком и типографской маши-
ной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы, а тем
самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появле-
нием печатного станка?» 2.
Попытка Мильтона, таким образом, была искусственной.
Буржуазное общество, рождавшееся на глазах у Мильтона, по
самой своей природе «враждебно некоторым отраслям духовного
производства, каковы искусство и поэзия. Не понимая этого, мож-
но притти к выдумке французов восемнадцатого столетия, осмеян-
ной уже, Лессингом: так как мы в механике и т. д. ушли дальше
древних, то почему бы нам не создать и эпоса? И вот является Ген-
риада взамен Илиады» 3. В этом основная причина неудачи Миль-
тона, и вся его гениальность как поэта не могла искупить этой глав-
ной, роковой ошибки.
К этому следует добавить еще и другое соображение, также вы-
текающее из замечательного рассуждения Маркса о характере антич-
ного искусства. «Предпосылкою греческого искусства является
греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже
переработанные бессознательно-художественным образом народ-
ной фантазией. Это его материал. Но не любая мифология, т. е.
не любая бессознательная художественная переработка природы.
1Маркс иЭнгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 200.
в Там же, стр. 203.
8 M а р к с. Теории прибавочной стоимости, т. I, изд. 4-е, 1936, стр. 239.
198
(Здесь под последнею понимается все предметное, следовательно,
включая общество.) Египетская мифология никогда не могла бы
быть почвой или материнским лоном греческого искусства» х.
Между тем у Мильтона мы замечаем гменно такого рода попытку
искусственного скрещивания эпической формы, выработанной
греческим искусством, с христианской библейской мифологией.
В этом смысле «Потерянный рай» не является в достаточной
степени оргаческим произведением.
К тому же, в самой разработке сюжета имеется существенное
противоречие, заключающееся в том, что единственный подлинно
героический характер поэмы, Сатана, не может быть, по рели-
гиозным соображениям, признан самим автором в качестве героя.
«Потерянный рай» содержит в себе элементы сюжета скорее
трагического, нежели эпического. Есть безусловный трагизм
в образе и судьбе Сатаны, который вечно будет бороться с богом и
никогда не будет победителем, который обрел свободу ценой . утра-
ты вечного блаженства. Трагична судьба Адама и Евы, достигших
познания добра и зла через грех и изгнанных из рая.
Этот внутренний трагизм «Потерянного рая» инстинктивно
должен был чувствовать и сам Мильтон. Недаром, как замечает
Ролей, в поэме есть ряд мест, указывающих, что Мильтон находился
под влиянием елизаветинских драматургов. С этой точки зрения
более правильной была попытка Мильтона овладеть драматурги-
ческой формой в «Самсоне борце».
«Самсон борец» написан в форме классической античной трагедии.
Однако его недостатком является известная статичность дей-
ствия. Это — одно из первых произведений, знаменующих начало
классицизма в английской драме.
Как и все искусство его эпохи, творчество Мильтона является
памятником переходного времени, связующим звеном межд> Воз-
рождением и классицизмом. В титанических страстях «Потерянного
рая», в гигантском универсализме борьбы, изображенной в этой
поэме, звучат отголоски не только буржуазной революции, но и
Возрождения. С другой стороны, рационализм и стремление к
классическим формам античной литературы, также завещанные
в значительной степени Ренессансом, были, вместе с тем, знамением
наступавшего нового периода в развитии литературы, — периода
классицизма.
Мильтон был наследником лучших традиций поэзии прошлого.
Он был противником стиля барокко, одним из немногих поэтов,
которые не поддались увлечению модной «метафизической поэзией».
'Исходя из поэтических традиций Возрождения, опираясь на об-
разцы стиля Серрея, Спенсера, Марло и Шекспира, он содейство-
вал дальнейшему развитию поэтического языка.
Наиболее значительны художественные достижения Мильтона
в области белого стиха, которым написаны его три последних и
самых крупных произведения. Впервые введенный в английскую
1Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 203.
199
поэзию Серреем, белый стих был развит и усовершенствован Maрло
и Шекспиром. У обоих драматургов стих был составной частью
драматического действия. Разнообразие вносилось введением про-
зы, репликами действующих лиц, формой диалога и т. д.
Перед Мильтоном стояла гр шдиозная задача: написать боль-
шую поэму в одной стихотворной форме, так, чтобы она не звучали
однообразно. Здесь во всей силе проявилось его мастерство. Задача
усложнялась тем, что самый сюжет заставлял Мильтона строго
держаться возвышенного строя поэтической речи.
Белый стих Мильтона обладает величественным и приподнятым
звучанием, соответствующим космической возвышенности сю-
жета. Он певуч и гармоничен. Но в этой гармонии множество зву-
ковых оттенков. Стих звучит то медлительно-плавно, то стреми-
тельно, то мрачно и сурово, то красочно и певуче. Поэзия Миль-
тона многообразна и может быть единственное, что в ней отсутствует,
это — юмор.
Язык Мильтона отличается чрезвычайной конденсированно-
стью. Он избегает многословия. Тщательно выбранные слова и
эпитеты кратко и выразительно характеризуют описываемое.
Звучание стиха Мильтон разнообразит, меняя положение це-
зуры в строке, модифицируя расстановку ударений. Достоинством
поэзии Мильтона является также ее музыкальность, определяемая
не только богатством ритмических оттенков, но и мастерской зву-
кописью. Отказавшись от рифмы, Мильтон стремится восполнить
ее отсутствие аллитерацией, которой он пользуется очень
умело.
Влияние Мильтона на дальнейшую английскую поэзию было
глубоко и значительно. Его поэтическому стилю подражали
в XVIII веке Аддисон («Перевод из Энеиды»), Томсон во «Временах
года», Юнг в «Ночных думах», Блэр в поэме «Могила», Эйкенсайд
в «Усладах воображения», Тол ас Уортон в «Усладах меланхолии»
и др. Особенно значительным было влияние Мильтона на поэзию
сентиментализма и предромантизма.
Популярность Мильтона в XVIII веке в значительной степени
определялась тем, что в нем видели поэта, сочетавшего религиоз-
ность и нравоучительность с классической стройностью стиля.
В таком же духе воспринимали Мильтона и представители первого
поколения романтических поэтов — Вордсворт и Кольридж, ко-
торых, наряду с поэтическими достоинствами, особенно привле-
кал религиозный характер тематики Мильтона.
Совсем по-иному подошли к поэзии Мильтона революционные
романтики —Байрон, Шелли и Лэндор. Они восприняли револю-
ционный дух автора «Потерянного рая», и он оказал немалое влия-
ние на их творчество. Знаменитая элегия. Шелли «Адонаис» была
подражанием «Лисидасу» Мильтона.
Но наиболее ярким свидетельством влияния Мильтона на ро-
мантическую поэзию является «Каин» Байрона. Проблематика
этого самого революционного произведения Байрона теснейшим
образом связана с «Потерянным раем».
200
Влияние Мильтона распространилось и на литературу других
стран. Во Франции влияние Мильтона сказалось в романтической
поэзии Виньи и Ламартина. В Германии оно было одним из
источников, определивших развитие поэзии «бури и натиска»
(«Мессиада» Клопштска).
В России «Потерянный рай» Мильтона уже с 1745 г. получил
распространение в рукописном переводе А. Г. Строганова. Позд-
нее перевод «Потерянного рая» был издан русским просветителем
Н. И. Новиковым. «Общедоступность новиковского издания,
писал Алексей Веселовский («Западное влияние в новой русской
литературе»), — конечно, в значительной степени содействовала уста-
новлению популярности у нас поэмы Мильтона, проникшей...
в среду народных читателей». Радищев в «Путешествии из Петербурга
в Москву» с восхищением отзывался о Мильтоне.
Пушкин в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе
«Потерянного рая» («Современник», 1837) в горячей полемике с
Гюго и Виньи возражает против искажения ими образа Мильтона:
«Нет, господин Гюго!, — пишет Пушкин, разбирая «Кромвеля»
Гюго, — не таков был Мильтон, друг и сподвижник Кромвеля,
суровый фанатик, строгий творец «Иконокласта» и книги «Defensio
populi»! Не таким языком изъяснялся бы с Кромвелем тот, кото-
рый написал ему свой славный сонет: Cromwell, our chief etc...
He мог быть посмешищем развратного Рочестера и придворных шутов
тот, кто, в злые дни жертва злых языков, в бедности, в гонении и в
слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный
Рай »...». Замечательно и суждение Пушкина о языке «Мильтона,
сего поэта, вместе и изысканного и простодушного, и темного и
запутанного, и выразительного и своенравного, и смелого даже
до бессмыслия».
В течение XIX века «Потерянный рай» и «Возвращенный рай»
неоднократно переводились на русский язык и прозой, и стихами.
Переводились и другие поэмы Мильтона, а также его «Ареопа-
гитика» и «История Московии».
•
Глава 3
БЭНЬЯН
После Мильтона крупнейшей фигурой английской литературы
середины XVII века является Джон Бэньян. Как и автор «Поте-
рянного рая», Бэньян был пуританином, при этом даже более орто-
доксальным, чем Мильтон, и его творчество, в известном смысле,
было более полным выражением пуританского духа. Если Мильтон
был величайшим поэтом своего времени, то Бэньян был самым вы-
дающимся представителем художественной прозы в английской ли-
тературе XVII века.
Джон Бэньян (John Bunyan, 1628—1688) родился в деревне
Эльстоу, неподалеку от городка Бедфорд, в семье бедного луди ль-
201
щика. Однако, несмотря на бедность семьи, Бэньян посещал бед-
фордскую грамматическую школу, где научился читать и писать.
Когда отец Бэньяна, овдовев, тотчас же женился вторично, 16-лет-
ний юноша покинул родительский дом. Он был завербован в сол-
даты. Когда вспыхнула гражданская война, ему было 17 лет.
Об участии Бэньяна в гражданской войне сохранились очень
отрывочные и неточные сведения. Повидимому, как полагает авто-
ритетнейший исследователь его жизни и творчества Фруд (Froude),
Бэньян служил в войсках короля. После разгрома роялистов
Бэньян в 1649 г. вернулся в родное селение и здесь женился на
бедной девушке, не принесшей ему никакого приданого, кроме
двух книг религиозного содержания, — «Путь простого человека к
небесам» (Plain Man's Way to Heaven) и «Упражнения в благо-
честии» (Holy Exercises), — которые оказали довольно значительное
влияние на будущего писателя. Средства к существованию Бэньян
зарабатывал ремеслом своего отца; он стал бродячим лудильщиком.
Образ жизни молодого Бэньяна не отличался особым благоче-
стием. Впрочем, главным его пороком, по его собственному при-
знанию, было неумеренное употребление бранных слов.
В 1653 г. Бэньян вступил в сектантскую общину и стал энту-
зиастом пуританского учения. В 1655 г. мы уже видим его пропо-
ведником.
Однако наступившая в 1660 г. Реставрация надолго прекра-
тила проповедническую деятельность Бэньяна. Борясь против пу-
ританства, правительство Реставрации запретило собрания пу-
ританских сект и общин. На одном таком тайном собрании в нояб-
ре 1660 г. Бэньян был арестован и заключен в бедфордскую тюрьму.
Через некоторое время ему предложили свободу при условии, что
он подпишет обязательство прекратить проповедническую деятель-
ность. Бэньян отказался и был оставлен в тюрьме, где провел 12 лет.
Режим заключения, вначале очень суровый, был затем смяг-
чен. Ему было разрешено читать и писать, и в тюрьме им был на-
писан ряд религиозных произведений. Долголетнее тюремное
заключение сделало его в глазах пуритан мучеником за веру.
В 1672 г. Бэньян был выпущен на свободу и, в соответствии с
изменением религиозного законодательства, получил официальное
право проповеди. Но три года спустя, в 1675 г., он снова был аре-
стован и осужден на 6 месяцев тюремного заключения. Именно
во время этого второго пребывания в тюрьме Бэньян начал писать
наиболее значительное свое произведение — «Путь паломника».
Выйдя на свободу, он продолжал литературную и проповедни-
ческую деятельность. Должность пуританского проповедника
в городке Бедфорд он сохранял вплоть до смерти.
Портреты Бэньяна рисуют его крепким, коренастым человеком,
здоровым и полнокровным. Он был чужд монашеского аскетизма.
Жизнь существовала для него во всем богатстве и разнообразии
своих форм. Благочестие, которое он проповедывал, отнюдь не
заключалось в отказе от жизни. Религия была для него моральным
кодексом, который требовал не отречения от мирских благ, но пра-
202
вильного их использования и справедливого распределения.
Трезвый, практический взгляд на мир сочетался у Бэньяна с
глубоким религиозным одушевлением. Он осмысливал поэтически
любые факты реальной жизни, открывая в них символическое
значение. Это свое видение мира он воплощал в образах.
Один из новейших исследователей (Дж. Линдсей) очень удач-
но охарактеризовал Бэньяна как «создателя мифов». Творче-
ское воображение Бэньяна поражает своей силой и смелостью.
Он создает своеобразную мифологию, сочетающую в себе экзаль-
тированную пуританскую религиозность и трезвое восприятие
нарождающегося буржуазного мира.
Невольно напрашивается сравнение произведений Бэньяна
с христианской литературой средневековья. Аллегория и симво-
лика церковно-монашеской литературы средних веков отличались
абстрактностью и спиритуализмом. У Бэньяна аллегория и сим-
волика, также подчиненные религиозной доктрине, наделены ма-
териальной весомостью. Его символические образы чувственно
осязаемы. Это — реальные, телесные образы, в которых вообра-
жение писателя вскрывает иное, сверхчувственное значение. Слож-
ные абстракции пуританского религиозного вероучения приобрели
в его аллегориях черты величайшей конкретности, что как нельзя
лучше отвечало наивному религиозному сознанию народа и стало
одной из важнейших причин популярности Бэньяна.
Доступности произведений Бэньяна содействовал также их
язык. Стиль Бэньяна — это живая народная речь его времени.
Он лишен изощренности, которая отличала прозу писателей, вос-
питанных на гуманистических традициях. Достаточно сравнить
длинные, сложные периоды прозы Мильтона с простыми короткими
фразами, которыми пишет Бэньян, чтобы сразу понять особен-
ности стиля последнего. «Словарь Бэньяна,—писал Маколей,—
это словарь простонародья. За исключением немногих богослов-
ских терминов, в нем нет выражений, которые были бы непонятны
.самому необразованному крестьянину. Мы заметили, что на не-
которых страницах не встречается ни одного слова, содержащего
'более двух слогов. И тем не менее ни один писатель не выразил с
большей точностью то, что он хотел сказать. Грубоватая речь, язык
лростых трудовых людей оказались совершенным способом для
выражения возвышенного, патетики, неистовых увещеваний, тон-
чайшей изысканности, — словом, всего, что желал выразить поэт,
оратор, проповедник». (Рец. на «Путь паломника», издание
Саути). Образцом стиля для Бэньяна была Библия, ее «автори-
зованный перевод», созданный в эпоху Возрождения. Влияние
Библии сказывается во всех без исключения произведениях пи-
сателя.
Из шестидесяти написанных Бэньяном произведений только
четыре имеют историко-литературное значение.
Первое крупное произведение Бэньяна — «Изобильное мило-
сердие, изливающееся на главного грешника» (Grace Abounding
to the Chief of Sinners, 1666) — было написано им во время долго-
203
летнего тюремного заключения. Оно представляет исповедь, по-
вествующую о грешной жизни Бэньяна в молодости и его после-
дующем обращении на путь протестантской религиозности. Эта
книга раскрывает все своеобразие внутреннего мира Бэньяна.
Тяжелая и бесплодная жизнь породила в душе лудильщика
Бэньяна острейшую внутреннюю неудовлетворень ость. Он ощущал
в себе большую скрытую силу, не находившую применения,
стремился к жизни лучшей, чем та, которая выпала на его долю.
«Меня метало, — пишет он, —между дьяволом и моим собственным
невежеством; настолько бывал я по временам смущен духом, что
не знал, что и делать».
В состоянии такого душевного смятения ему рисуется следую-
щая картина: он видит себя у подножия горы, продрогшим от снега
и тумана. Гора эта окружена стеной. Долго бродит он вокруг, пока
не находит узкого прохода в стене, через который ему удается прой-
ти только после больших усилий. «И это показало мне, —пишет
Бэньян,— что вступить в святую жизнь может лишь тот... кто сбро-
сил с себя порчу мирскую, ибо здесь было место только для тела
и души, но не для тела, души и греха».
Бэньян проникается духом кальвинистского учения с его догма-
том предопределения. Его терзает вопрос: принадлежит ли он
к числу избранных, которым свыше предназначено спасение.
В воображении его появляется образ дьявола, нашептывающего
ему соблазны. Мучительная внутренняя борьба, колебания ме-
жду добром и злом, верой и неверием, заканчиваются победой ре-
лигиозного чувства. И здесь снова решающим моментом является
почти материализованное видение, галлюцинация. Однажды он
слышит доносящийся к нему через окно голос, который он при-
нимает за голос ангела и который возвещает ему о том, что кровь
распятого Христа искупила его, Бэньяна, вину и грехи.
Начатый Бэньяном во время второго заключения в тюрьму «Путь
паломника» (The Pilgrim's Progress etc.) вышел в 1678 г. В этом же
году последовало второе, а в 1679 г. — третье издание книги..
Каждое из них содержало существенные добавления. В 1684 i\
вышла вторая часть книги.
Герой «Пути паломника» Христиан, — это символ человека,
стремящегося к небесному блаженству. Он живет в городе, кото-
рый, как ему известно в силу божественного откровения, будет
сожжен и разрушен. Его мучит вопрос: «Что должен я сделать,
чтобы быть спасенным?» В поле он встречает евангелиста, который,
советует ему бежать из Города Разрушения. Следуя его совету,
он покидает город и достигает калитки, которая открывает дорогу
к праведной жизни. Он проходит через эту калитку, чем аллего-
рически обозначается, что он достиг праведности. С этого, соб-
ственно, и начинается «путь паломника» — путь, ведущий благо-
честивого человека через все искушения жизни к небесному
блаженству. Пройдя значительную часть пути, герой встречает
другого паломника, Верного, который отныне сопровождает его.
Описывая их странствования, Бэньян не только утверждает свой
204
религиозно-моральный идеал, но и дает критику отрицательных
явлений жизни. Эта критика облечена в форму сатирических опи-
саний, достигающих подчас исключительно большой силы обобще-
ния. Такова знаменитая Ярмарка Суеты (Vanity Fair). Всякий,
стремящийся к Граду Спасения, должен пройти через эту ярмарку,
которая является своеобразным испытанием нравственности че-
ловека. «На этой ярмарке продаются любые товары: дома, земли,
торговые предприятия, почести, повышения, титулы, страны, ко-
ролевства, похоти, удовольствия и наслаждения всякого рода,
как-то шлюхи, сводни, жены, мужья, дети, господа, слуги, жизнь,
кровь, тела, души, серебро, золото, жемчуг, драгоценные камни
и все, что угодно. Кроме того, на этой ярмарке можно во всякое вре-
мя увидеть фокусы, обманщиков, игры, театр, шутов, обезьян,
мошенников и негодяев... Здесь увидишь, также задаром, воров-
ство, убийства, прелюбодеяния, лжесвидетельства, — и все это
кровавокрасного цвета».
Картина, нарисованная здесь, является не только изображе-
нием Лондона в период Реставрации, но и символической картиной
всего нарождающегося буржуазного общества, где царит продаж-
ность и где, как на Ярмарке Суеты, можно купить честь и совесть,
душу и тело, мужа или жену, землю или должность, — словом, что
угодно. Так именно понял эту гениальную сатирическую картину
Теккерей, который многозначительно назвал свой роман, изобра-
жающий буржуазное общество XIX века, «Vanity Fair», заим-
ствовав это название у Бэньяна.
Появление Христиана и Верного на ярмарке производит боль-
шой переполох, в результате которого оба смиренных странника
оказываются привлеченными к суду за нарушение общественного
спокойствия. Ирония Бэньяна здесь тем более остра, что сам он,
учивший свою духовную паству христианскому терпению и сми-
рению, также был осужден в качестве нарушителя общественного
порядка.
Следующая затем сцена суда принадлежит к числу интерес-
нейших эпизодов повести. Это — яркое изображение реальной
жизни, на время совершенно оттесняющее благочестивую аллего-
рию. Свидетель обвинения — Зависть — говорит о том, что он
«слышал, как обвиняемый утверждал, что христианство и обычаи
нашего города Суеты диаметрально противоположны и что
их невозможно примирить». Другой свидетель — Наушник — рас-
сказывает суду, что Христиан «с презрением говорил о его (свиде-
теля) достопочтенных друзьях, именуемых... лорд Сибарит, лорд
Промотай, лорд Тщеславец, лорд Сластолюбец, сэр Скопидом, а
также и о других наших дворянах. Кроме того, он говорил, что
если бы все люди разделяли его мнение, то, будь это возможно,
ни один из этих дворян не остался бы в городе». Эту резкую анти-
Дворянскую филиппику Бэньян сопровождает многозначительным
примечанием на полях (вообще маргиналии в этой книге замеча-
тельны, так как часто в афористической форме сообщают мысль
автора): «Грехи — это лорды, и к тому же великие».
205
Верного присуждают к казни. Когда после страшных истяза-
ний он умирает, тело его при трубных звуках возносится на чу-
десной колеснице на небо. Что же касается Христиана, то ему удает-
ся спастись от наказания и, в конце концов, достигнуть Небесного
Града. Он переправляется через реку смерти и, следуя за встретив-
шим его ангелом, вступает в небесный Иерусалим. На этом закан-
чивается первая часть книги.
Вторая часть изображает, как указано в подзаголовке, «отправ-
ление в путь жены Христиана и его детей, их опасное путешествие
и благополучное прибытие в страну обетованную». Жена Христиа-
на, раскаявшаяся в своем отношении к мужу, которого она вместе
с другими считала сумасшедшим, отправляется в сопровождении
детей на его поиски. Идя по его следам, они слышат рассказы о его
подвигах, встречают добрых людей и ужасных чудовищ. Дети
становятся честными людьми, добронравными и религиозными, а
перед Христианои в конце ее паломничества открываются врата
Небесного Града.
Элементы социальной сатиры и критики, столь значительные
в первой части, почти отсутствуют во второй.
«Путь паломника» имел большое социально-политическое зна-
чение: всем своим содержанием он был направлен против режима
Реставрации. Политическая реакция сопровождалась исключи-
тельно резкой реакцией в области морально-этической. Пуритан-
ской суровости и простоте нравов, пуританскому идеалу граждан-
ственности Реставрация противопоставила циничный эгоизм и
индивидуальную свободу, по существу оправдывавшую самую
грязную распущенность. «Путь паломника» звучал поэтому для
современников как обличение всего строя жизни в период Рестав-
рации, и в этом было прогрессивное значение религиозно-мораль-
ной аллегории Бэньяна.
Попытку стихотворного перевода-переложения «Пути палом-
ника» на русский язык предпринял, но не довел до конца.,
Пушкин, написавший в 1834 г. отрывок «Странник из
Буньяна».
В следующем произведении Бэньяна — «Жизнь и смерть ми-
стера Бэдмена» (Life and Death of Mr. Badman, etc., 1680) —алле-
горический элемент менее значителен; повествование раскрывает
перед читателями картину жизни и быта второй половины XVII
века. Оно развертывается в форме диалога между мистером Уайзме-
ном (что значит — «мудрый человек») и мистером Аттентив (что
значит — «внимательно слушающий»). Мистер Уайзмен расска-
зывает историю героя, а мистер Аттентив сопровождает ее своими
комментариями.
Герой повествования — Бэдмен (т. е. «дурной человек») —
уже с детства проявлял наклонность ко злу. Он начал со лжи, а
затем стал воровать и грабить. Рассказчик, набожный пуританин
мистер Уайзмен, подчеркивает, что Бэдмен «терпеть не мог чтения
священного писания, божественных собеседований, проповедей
и молитв». Зато он любил браниться. Отец, не будучи в. состоянии,
206
управиться с непокорным и испорченным сыном, решил отдать,
его в ученики.
Сначала Бэдмен был в обучении у хорошего мастера, богобояз-
ненного человека, который, однако, был бессилен исправить своего
ученика. Тогда он был отдан в услужение другому хозяину. Новый
хозяин был подстать ученику. Этс* был грубый и испорченный
человек; он плохо кормил Бэдмена и заставлял его больше рабо-
тать. Но Бэдмену это место нравилось.
Когда кончились «годы учения», отец дал Бэдмену деньги для
того, чтобы тот завел собственное предприятие. Но Бэдмен растра-
тил все в кутежах.
Единственным способом поправить положение была женитьба
на богатой невесте. Бэдмен нашел такую невесту, но на беду она
была религиозна. Не долго думая, он тоже стал религиозным,
начал посещать собрания верующих, распевать гимны, — словом,
вести себя как набожный пуританин. Своей невесте он говорил,
что любит ее благочестивой любовью, что его не интересует ее
приданое, что ему просто нужна хорошая спутница, которая
сопровождала бы его на пути благочестия. Несмотря на предупре-
ждения друзей, бедная женщина поверила Бэдмену и стала его
женой. Ей быстро пришлось раскаяться в своем легковерии. Бэд-
мен стал ругать ее последними словами, обращался с ней необык-
новенно грубо, смеялся над ее религиозностью, приводил в дом
проституток и всячески унижал ее.
Присвоив состояние жены, Бэдмен становится ловким дель-
цом. Со своими клиентами он ведет себя соответственно их харак-
теру и наклонностям. «Я могу быть верующим и неверующим, —
Говорит он,— могу быть чем угодйо и ничем. Могу ругаться и осуж-
дать тех, кто ругается. Могу лгать и осуждать лжецов. Могу
пить, прелюбодействовать,быть нечистым, обманщиком и не бояться
этого/ Могу наслаждаться и быть господином над самим собой,
не позволяя никому и ничему повелевать мной».
Чрезвычайно интересно подробное описание спекулятивной ком-
мерческой деятельности Бэдмена. Он занимает в долг несколько
тысяч фунтов стерлингов, развивает бурную торговую деятель-
ность посредством дешевой распродажи товаров, привлекая этим.
большое число покупателей, а затем, припрятав все свои доходы,
объявляет себя несостоятельным. Перед нами типичный способ
легкой наживы, очень распространенный в XVII— XVIII веках
и известный в законодательстве под названием злостного банкрот-
ства. Он пишет письма своим кредиторам, старается разжалобить
Их, ссылаясь «на тяжелые налоги, плохие времена, потери от не-
оплаченных долгов, и приводит их к согласию принять по пяти шил-
лингов за каждый фунт стерлингов долга». Этот прием Бэдмен
повторяет неоднократно.
Кроме того, у него были разные веса и меры — одни для покуп-
ки, Другие для продажи. Если же ему приходилось пользоваться
чужими весами, он пускал в ход «ловкость рук». Он с большим ис-
кусством обсчитывал и обмеривал, и если у кого-либо возникали.
207
сомнения, слуги его всегда готовы были принести любую клятву
по первому его взгляду или слову. Он продавал дешево купленные
товары по самой дорогой цене. Он умел также перемешивать то-
вары таким образом, чтобы вместе с хорошими продавать плохие,
не вызывая ни малейших подозрений. Получив с покупателя день-
ги, он через некоторое время вновь требовал их, и, если покупа-
тель не мог представить удовлетворительных доказательств плате-
жа, в девяноста случаях из ста ему приходилось платить снова.
Такова коммерческая деятельность Бэдмена, который обрисо-
ван Бэньяном как типичный буржуа-стяжатель, не гнушающийся
никакими средствами наживы. «Покупать на самом дешевом рынке
и продавать на самом дорогом» — таков основной коммерческий
принцип мистера Бэдмена.
Но автор решительно несогласен с этим «принципом». Он живо
ощущает несправедливость законов капиталистического накоп-
ления. От лица народных масс он горячо протестует против них,
но средство исправить существующее положение, предлагаемое
им, является наивнейшей утопией. Не в богатстве счастье, — по-
учает Бэньян. «Когда продаешь — не расхваливай. Когда поку-
паешь — не снижай стоимости, всегда оценивай вещь, с которой
имеешь дело, по ее действительной стоимости и достоинству...
Грешно накапливать для того, чтобы вызвать голод и нужду у
бедняков... Будь умерен при продаже, уступи бедняку его пенни...
Вот что значит покупать и продавать по совести... Будь уверен,
что бог вознаградит тебя за это».
Такова «политическая экономия» Бэньяна, который наивно
думал, что возможно наложить нравственную узду на буржуа.
Подобного рода суждения Бэньяна представляют значительный
интерес, ибо они свидетельствуют о том, что он не только не разде-
лял взглядов буржуазии, но был честным борцом против- неспра-
ведливости буржуазного миропорядка еще тогда, когда этот поря-
док только зарождался.
Если в «Жизни и смерти мистера Бэдмена» Бэньян выступил
как реалист, создавший замечательный образец ранней социально-
бытовой повести, то в своем следующем и последнем крупном про-
изведении—«Священная война» (Holy War, etc., 1682)—он вер-
нулся к аллегорической форме. Это произведение представляет
своеобразную параллель «Потерянному раю» Мильтона. Его сюжет
тот же: борьба дьявола с богом, сотворение человека, его грехопа-
дение и последующее искупление. Но если Мильтон разработал
этот сюжет в форме монументального героического эпоса, то Бэнь-
ян ограничился аллегорическим повествованием со множеством
забавных и нравоучительных сцен.
Местом действия является страна Вселенная, в которой имеется
город Менсоул (Mansoul — «человеческая душа»). Основал этот
город Шаддай, построивший в центре его великолепный дворец
(сердце). Особенностью этого города является то, что проникнуть
через стены его вовнутрь возможно лишь с согласия обитателей.
В стенах имеется пять ворот; это — Ворота Слуха, Ворота Зре-
208
ния, Ворота Рта, Ворота Обоняния и Ворота Осязания. Ужасный
великан Дьяволус, некогда бывший слугой Шаддая, но затем от-
павший от него, восстает из бездны, куда его поверг Шаддай, и
решает отомстить последнему разрушением Менсоула. Дьяволус
и его сторонники проникают в Менсоул и производят там полный
переворот. Жители сменяют прежних правителей города, Разумно-
го и Совесть, и назначают лорда Будь-что-будет и ему подобных.
В длинной цепи эпизодов развертывается аллегорическое изобра-
жение борьбы между добром и злом в душе человека.
Предельная конкретизация абстрактных понятий, проводимая
Баньяном, помимо желания автора создает ряд комических эф.
фектов,—поэтому, несмотря на большое сюжетное сходство,
зто произведение оставляет впечатление, противоположное тому.
какое вызывает «Потерянный рай». Прозаизм и бытовые детали
лишают сюжет того пафоса, который так величественно звучит
: у Мильтона. «Священная война» не лишена, однако, элементов
социальной сатиры.
) Творчество Бэньяна всеми своими корнями уходит в народную
>!(изнь XVII века. Это был писатель, сам вышедший из народа и
^сю жизнь проведший в теснейшем общении с беднотой, — кре-
;^5гьянамии ремесленниками, радости и горести которых он делил.
^Взгляды и понятия Бэньяна были взглядами и понятиями людей
Ф$ простонародья. Он был лишен широкого гуманистического
||бразования и подчеркивал в своей автобиографии, что он не вос-
щггывался на Платоне и Аристотеле. Его книгою книг была
Шмая распространенная в его время в народе книга — Библия.
|$$ней искал он ответа на свои духовные запросы, в ней черпал пра-
|Щла общественной жизни и мррали и из нее же заимствовал формы
|#||дожественного изображения. Жизнь простонародья и Библия
Шри двумя основными источниками его творчества.
|;Бэньян, в'сущности, остался в стороне от бурной политической
;^^>рьбы своего времени. Его участие в гражданской войне было слу-
чайным и малозначительным эпизодом. Политическая борьба не
;^Шла отражения в его произведениях. В этом отношении он не-
^)|рним ç Мильтоном, — трибуном и глашатаем английской ре-
Й^ЙЬции. Зато Бэньян был одним из первых разоблачителей по-
льзующейся буржуазии, которую он заклеймил в образе безнрав-
Ст|иенного и бесчеловечного мистера Бэдмена. Если Мильтон был
пейцом буржуазной революции, то Бэньян был первым разобла-
чителем ее последствий для народных масс.
Бэньян, в отличие от Мильтона, был последовательным при-
верженцем пуританской доктрины. Он был глубоко убежден в
истинности кальвинистского учения о предопределении. Образ
Христиана, с одной стороны, и образ Бэдмена, — с другой, яв-
ляются наглядной иллюстрацией того, как Бэньян понимал это
Учение. Религия Бэньяна — это религия, которая предопределяет
наказание греховных стяжателей, наживающихся за счет народного
"°та и крови. Именно эта глубочайшая народность Бэньяна и обу-
ловила наличие гуманистических черт в его творчестве, несмотря
4 Англ. литература 200
на очевидную противоположность между суровым кальвинистским
учением и гуманизмом.
Творчество Бэньяна представляет собой важное и значительное
звено в истории английской литературы. В произведениях Бэньяна
понемногу выкристаллизовываются элементы бытового реализма
и социальной сатиры, особенно значительные в «Жизни и смерти-
мистера Бэдмена». Бытовой реализм сказывается также в «Пути
паломника», содержащем множество описаний сельской жизни.
«Путь паломника» предвосхищает в некоторой степени форму
романа-путешествия, столь распространенного в XVIII веке.
В «Жизни и смерти мистера Бэдмена» есть элементы плутовского
романа. Эта книга была в какой-то мере и предшественницей «Молль
Флэндерс» Дефо. Приемы сатирической аллегории, применявшиеся
Бэньяном, оказали влияние на Свифта, а позднее — на Фильдин-
га, чья сатирическая «История мистера Джонатана Уайльда Ве-
ликого» отчасти напоминает бэньяновскую «Жизнь и смерть мисте-
ра Бэдмена». Таким образом, Бэньян был одним из предшествен-
ников великих английских романистов XVIII века.
ЧЛСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ЛИТЕРЛТУРЛ
ПЕРИОДЛ РЕСТЛВРЛЦИИ
ВВЕДЕНИЕ
В годы Реставрации (1660—1688) в литературе продолжается
борьба, отражающая еще не заглохший конфликт между двумя
враждебными силами периода буржуазной революции. Певец
пуританской революции Мильтон создает и печатает в эти годы
свои великие произведения, полные отголосков гражданской вой-
ны и пылающие жаждой отмщения победившим «филистимлянам».
Демократические слои пуританства выдвигают и замечательного
прозаика, Бэньяна, который в своих аллегорических повестях
подвергает критике безнравственность аристократов и стяжатель-
ство буржуа.
Противники пуритан также выдвигают из своей среды пи-
сателей. Пуритан осмеивают со сцены в грубых фарсах и забав-
ных комедиях. Против них выступает Сэмюэль Бетлер, «Гудибрас»
которого становится одной из самых популярных сатир. Анти-
пуританская реакция сказывается во всех областях литератур-
ной жизни.
Внутреннее брожение, в полосу которого вступила английская
литература после блестящего расцвета, пережитого ею в эпоху
Возрождения, достигает своего предела в эти годы реакции.
Печатью глубокого идейного и морального кризиса отмечено твор-
чество каждого сколько-нибудь выдающегося представителя ари-
стократической литературы времен Реставрации. В этой лите-
ратуре окончательно завершается процесс распада ренессансного
[[гуманизма. Вместе с тем, она отчасти подготовляет почву
|для будущей реалистической литературы Просвещения.
I Реставрация монархии в 1660 г. была подготовлена внутрен-
ними затруднениями, которые возникли в последние годы про-
тектората и усилились после смерти Кромвеля. Имущие классы
опасались народа, страдавшего от нищеты, безработицы и дру-
гих бед. Нужна была сильная власть, чтобы удержать массы в
ровиновении.
|; Сын казненного короля, Карл II, занявший английский пре-
стол по восстановлении монархии, обязалЬя не нарушать
(интересов тех, кто во время революции нажился на землях, кон-
фискованных у церкви и роялистов. Новый монарх согласился
;^акже на признание религиозной свободы.
| Однако, как это было впоследствии и с Бурбонами во Франции,
Стюарты ничего не забыли и ничему не научились. Подстегивае-
$ 213
мый озлобленными роялистами, вернувшимися из эмиграции,
король не очень заботился о соблюдении данных им обещаний.
Прежде всего началась расправа над «цареубийцами». При этом
роялисты не пощадили даже мертвых. Тела Кромвеля и его при-
ближенных были вырыты из могил и преданы повешению. Обещан-
ной веротерпимости не было и в помине. Не только была восста-
новлена епископальная церковь, но Стюарты, особенно Яков II,
помышляли даже о возрождении католицизма. Недовольство
буржуазии вызывала также позорная капитулянтская внешняя
политика Стюартов, которые шли на поводу у субсидировавшего
их Людовика XIV. Правительство было недобросовестно и в своих
денежных расчетах. Оно брало взаймы у крупных финансистов
и банкиров, а когда наступал срок уплаты долга, объявляло себя
банкротом и не возвращало ссуд.
Монархия Стюартов не оправдала надежд, возлагавшихся
на нее. Их власть оказалась неустойчивой, несмотря на террор
и преследования, которым подвергались их противники. В пар-
ламенте возникла открытая оппозиция. Неустойчивость режима
проявилась в факте образования двух политических партий —
вигов и ториев. Их возникновение было связано с вопросом об
отношении к наследнику престола, будущему Якову II, католи-
ческие симпатии которого были общеизвестны. Его приверженцев
назвали ториями — по прозвищу католиков-ирландцев, боров-
шихся против пуританской республики. Название же противни-
ков Якова — вигов (whigs) — происходит от слова «виггамор»
(wiggamore), как называли во время революции шотландских
пресвитериан.
Хотя Стюарты и -удерживали власть посредством террора, но
восстановить старые порядки полностью им не удавалось.
Революция 1688 г. навсегда положила конец их господству.
Политическая борьба этого периода получает свое отражение
в различных теориях государственной власти. Так, принципы
Гоббса,1 стоявшего за .сильную единоличную власть, служили
как бы теоретическим оправданием восстановления монархии
Стюартов. Но самих роялистов позиция Гоббса, отрицавшего
божественное происхождение монархии, удовлетворить не могла.
Из среды роялистов выдвинулся публицист Роберт Фильме р
(Robert Filmer, ? —1653), защищавший божественное проис-
хождение королевской власти. Его труд, содержавший изложе-
ние этой теории, был напечатан в 1680 г. под названием «Па-
триарх, или естественная власть королей» (Patriarcha: or the
Natural Power of Kings).
Против Фильмера выступил Ольджернон Сидней (Algernon
Sidney, 1622—1682), правнук автора «Аркадии», утверждавший
в своем «Рассуждении о правительстве» (Discourse on Government,
напечат. в 1698 г.) теорию суверенитета народа и рассматривав-
1 См. выше, часть III, «Литература английской буржуазно революции».
Введение, стр. 155
214
ший власть как результат договора между людьми. Вследствие
доноса и на основании рукописи, захваченной властями, Сидней
еще до опубликования своего труда был осужден как государст-
венный изменник и казнен.
Политическая реакция сопровождалась в период Реставрации
своеобразной «антипуританской» реакцией и в области общест-
венных нравов.
Народ ограничился восстановлением майских празднеств
на лугу с пением и плясками, возобновлением петушиных боев
и «медвежьей травли», да разрешением от поста: снова можно
было печь по праздникам мясные пироги, которые пуританами
были преданы анафеме. Этим ограничилась реакция против пу-
ританских нравов в народной среде.
Не то было в среде аристократии. Дворянские нравы периода
Реставрации отличались крайней распущенностью и цинизмом.
И Карл II и Яков II подавали в этом отношении пример своим
приближенным. Карл утратил не только политическое доверие,
но и моральный авторитет, что сказалось в общеизвестной тогда
сатирической эпитафии, написанной лордом Рочестером:
Наш сюзерен король здесь опочил:
Словам его не доверял никто.
Он, правда, глупостей не говорил,
Зато и умного не делал ничего.
Фаворитизм, развившийся при дворе, был на виду у всех.
Любовные дела монарха были предметом обсуждения не только
Лондона, но и всей страны. Бесстыдство королевских фавори-
ток не знало предела. Любовница короля, актриса Нелли Гвин,
выступала на сцене в откровенных костюмах, демонстрируя
свои прелести.
Один из остряков того времени, Чарльз Седли, непристой-
ностью своих речей поразил даже бывалых привратников Ковент-
Гарденского театра, которые не выдержали и сбросили его
fi балкона.
Нашумела история герцога Букингема, но и она не слишком
выходила за пределы обычного в аристократической среде. Он
;убил на дуэли лорда Шрюсбери, обольстив предварительно его
жену. Прекрасная лэди присутствовала при поединке в костюме
пажа, держа под уздцы коня своего любовника.
; В нравах английской аристократии не было утонченной га-
лантности в духе рококо. Здесь царили грубейшая распущен-
ность и откровенный цинизм. Комедия этого времени запечатлела
в реалистических картинах и образах нравы аристократического
общества.
Нравы эти находили своеобразное оправдание в этической тео^
рии Гоббса, этого «радикала на службе реакции», как его удач-
но назвал один философ. Принцип эгоизма, определяющего,
по Гоббсу, все поведение человека, отвечал как. интересам раз-
вивающейся буржуазии, так и моральным представлениям дво-
215
рянского общества. Буржуазия все же лицемерно отказывалась
от признания этики Гоббса, продолжая стремиться к тому, чтобы
прикрыть свое истинное существо религиозно-нравственными
покровами. В аристократической же среде без стеснения, откро-
венно принимались по-своему истолкованные положения этой
нравственной философии.
«Человек человеку —волк», — учил Гоббс. Каждый стре-
мится к личному благу, и общество — конгломерат таких индиви-
дов — представляет собой «войну всех против всех». Тем, кто
сомневается в истинности такого мнения, Гоббс указывает на
очень простые жизненные примеры, подтверждающие его взгляд.
Каково инстинктивное отношение человека к себе подобным, го-
ворит он, можно видеть в том, что «когда кто-нибудь едет в путе-
шествие, то он вооружается; когда ложится спать — замыкает
двери; даже в своем собственном доме запирает на ключ сундуки;
и все это — несмотря на то, что он знает о существовании законов
и должностных лиц, вооруженных, чтобы отплатить за всякий
ущерб, какой может быть причинен ему».
Материализм Гоббса имел существенное значение для под-
готовки гуманистической философии Просвещения. Современни-
ки, однако, воспринимали его односторонне. Английская
аристократия времен Реставрации находила в этике Гоббса тео-
ретическое обоснование не только своим эгоистическим, но и
гедонистическим стремлениям.
Утверждая, что для человека естественно стремление к удо-
вольствиям и наслаждениям, Гоббс при этом еще не делает разли-
чия между инстинктивным стремлением к довольству и намерен-
ным стремлением к наслаждению. Даже восприятие красоты,
не связанное с непосредственной личной заинтересованностью,
есть, по Гоббсу, не более как «обещание наслаждения» (pleasure
in promise). Если люди не ищут непосредственно удовольствия,
то стремятся к власти, как средству, обеспечивающему наслаж-
дения в будущем. Стремления людей можно свести к жажде лич-
ного блага или к желанию славы: «все общество стремится либо
к выгоде, либо к славе».
Те же идеи можно встретить в драматургии Реставрации.
В напряженно-трагической форме они проявляются в «героиче-
ских пьесах» и трагедиях этого периода; в цинически-гедонисти-
ческой форме эту мораль выразила комедия Реставрации.
Против материализма и рационализма Гоббса выступили кем-
бриджские неоплатоники.
Кедворт (Ralph Cudworth, 1617—1688) в особенности ополчился
против положения Гоббса, согласно которому добро и зло
определяются законами и волей государя. Он утверждал наличие
познаваемых разумом «вечных разграничений между добром и
злом», знание которых имеет божественное происхождение.
Генри Mop (Henry More, 1614—1687) так же, как и Кедворт,
в своих этических воззрениях опирался на положения религии.
В его взглядах особенно проявляется влияние платонизма. Этиле
216
эгоизма он противопоставляет концепцию «доброобразной спо-
собности» (boniform faculty), высшим проявлением которой яв-
ляется любовь к богу и ближнему. Он верит в существование
добродетели, которая, по его определению, «есть интеллектуаль-
ная сила души, способная обуздать животные наклонности и
чувственные страсти».
Развивая далее это учение, Ричард Кемберленд (Richard Cum-
berland, 1631—1718) также решительно выступает против Гоббса,
объявляя, что «высшим нравственным законом является благо
общества». Естественным состоянием является, по его мнениют
не «война всех против всех», а, наоборот, мир между людьми..
Этика кембриджских моралистов и Кемберленда явилась от-
части подготовкой просветительских этических теорий.
Однако в период Реставрации наиболее значительным было
влияние не идеалистов кембриджской школы, а философии мате-
риализма. Бэкон и Гоббс находили многочисленных последова-
телей, особенно в аристократической среде, где было развито
свободомыслие. В то время как буржуазия держалась за рели-
гию, аристократическая среда являлась благоприятной почвой
для утверждения материалистических идей. Цинический скеп-
тицизм, присущий английскому дворянству времен Реставрации,,
^парадоксальным образом сыграл в эту пору в известном смысле
положительную, прогрессивную роль. Полное отрицание всего
и вся распространилось на религию и на бога.
Именно дворянская среда служит в это время рассадником
вольнодумства. Таким вольнодумцем был, например, самый раз-
вратный представитель развратного двора Стюартов, граф Ро-
честер (John Wilmot, Earl of Rochester, 1647—1680), заслуживаю-
щий упоминания в истории литературы и как поэт, не лишенный
таланта. Впрочем, значительная часть его стихотворений разде-
ляет судьбу литературного наследия Баркова и даже при самой
большой терпимости не может быть опубликована. Свободомыслие
Рочестера в вопросах религии имело своим основанием продуман-
ную систему деистических взглядов. Растратив свои силы в ор-
гиях, он скончался 34 лет, покаявшись в грехах на смертном
одре. Однако он предварительно весьма подробно растолковал
своему священнику, что не верит в бога, смеется над церковными
■обрядами, что религия выдумана жрецами для увеличения своих
доходов и что на том свете человека не ждут ни награды, ни на-
казания.
. Горячего поборника деизм нашел и в лице Чарльза Блоунта
(Charles Blount, 1654—1693), изложившего свои взгляды в книге
«Душа мира» (Anima Mundi, 1679). Продолжая линию, начатую
Гербертом Шербери, Блоунт считает все положительные рели-
гии сознательным обманом, созданным священниками, и посвя-
щает много внимания рационалистическому опровержению чудес,
приписываемых Христу.
Развитие свободомыслия и влияние материалистической фи-
лософии, с одной стороны, способствовали развитию естество-
217
знания, а с другой — сами опирались на успехи этой науки. Ве-
личайшее значение в этом смысле имела деятельность Исаака
Ньютона (Isaac Newton, 1642—1727). Его главный труд — «Ма-
тематические основания естественной философии» (Principia,
etc., 1687) служил научной опорой для деистов и материалистов
XVII—XVIII веков. Он имел значение и в борьбе против рели-
гиозных предрассудков, и как наглядное доказательство способ-
ности человеческого разума постичь тайны природы.
Впрочем, народ еще был в полном неведении относительно
всех достижений естествознания, успехи которого, как и фило-
софское свободомыслие, оставались достоянием сравнительно
узкого круга лиц. Занятия естественными науками стали модой
в светской среде. «Одно время, — пишет Маколей в своей «Исто-
рии Англии», —химия занимала внимание легкомысленного Бу-
кингема наряду с вином и любовью, сценой и игорным столом,
наряду с интригами придворного и интригами демагога. У самого
короля была химическая лаборатория в Уайтголе, и он был в ней
заинтересован не меньше, чем в заседаниях совета. Для изящного
джентльмена стало совершенной необходимостью уметь сказать
что-нибудь о телескопе и воздушном насосе; даже дамы отправ-
лялись в каретах, запряженных шестерней, в Грехем, чтобы ос-
матривать тамошние достопримечательности, и были вне себя от
восторга, когда видели, что магнит действительно притягивал
иголку и блоха в микроскоп была величиной с воробья».
Развитие научного естествознания получило общественное при-
знание. Оно пользовалось покровительством двора и света. Имен-
но под «высочайшим покровительством» возникло в 1662 г. «Ко-
ролевское общество» — британская академия наук, — ставшее
центром научной мысли.
Наряду с прогрессом науки период Реставрации был также
отмечен большим оживлением литературной жизни. Особенно
большое значение имело возобновление деятельности театров.
В большом количестве печатаются произведения Шекспира,
Бомонта и Флетчера и других, создаются новые трагедии, ко-
медии, поэмы, повести и рассказы, развивается литературная
полемика. Политическая борьба, интриги двора, оппозиция пар-
ламента, заговоры, — все это становится предметом политиче-
ской сатиры и метких эпиграмм.
Столкновение враждующих политических тенденций в лите-
ратуре Реставрации сопровождается борьбой литературных на-
правлений. Правда, полного соответствия между ними нет, ибо
политические противники оказываются иногда в одном и том же
литературном лагере, а политические союзники, наоборот, никак
не согласны между собой в вопросах стиля. Так, при всей проти-
воположности Бэньяна и Бетлера, они, в сущности, создали
произведения одного и того же стиля. Обоих характеризует на-
громождение фактов, деталей, любовь к повседневному и бытовой
конкретности, сатирический гротеск. Ас другой стороны, роялист
и католик Драйден восхищается республиканцем и пуританином
Мильтоном, хваля его за подражание «стилю Гомера» и «латин-
ской нарядности Вергилия».
Развитие английской литературы в период Реставрации идет
в основном под. знаком классицизма. Классицизм этот, однако,
весьма своеобразен; в нем сохраняются еще многие черты, свя-
занные с традициями позднего Возрождения. Литература все еще
переживает переходное состояние, и поэтому многое в литератур-
ных тенденциях остается еще не окончательно оформленным.
Разложение стиля Ренессанса, неизбежное в условиях обост-
ренного конфликта между силами феодально-дворянского и на-
рождающегося буржуазного общества, проявляется с необычай-
ной резкостью в английской литературе этого времени. Обнаже-
ние социальных конфликтов, острота классовых противоречий
эпохи приводят к разложению гармонически-стройного миро-
воззрения Ренессанса и соответствующего ему литературного
стиля. Уже литература позднего Возрождения (Шекспир и Сер-
вантес) обнаруживает первые признаки распада ренессансной
гармоничности. С концом Возрождения в искусстве преобладает
подчеркнутая двойственность, антиномичность, находящаяся в
противоречии с целостностью и гармонией стиля Ренессанса.
В литературе все более остро намечается конфликт гедонизма,
стремления к наслаждению, с жаждой искупления и очищения,
от греха, т. е. религиозными тенденциями, как в испанской дра-
матургии XVII века. Показательно в этом отношении творчество
величайшего из европейских писателей барокко — Кальдерона,
в произведениях которого с наибольшей полнотой воплощено
противоречие между чувственной природой человека и стремле-
нием к религиозному очищению.
В английской литературе XVII века антиренессансное движе-
ние отличалось своими особенностями. Так, в частности, не ка-
толицизм, а пуританство или англиканская церковь выступали
здесь в качестве противников гуманизма. Двойственность, столь
характерная для барокко, проявлялась поэтому своеобразно
в английской окраске, с одной стороны, у «метафизических поэ-
тов», а с другой — в пуританском обличий, в творчестве такого
писателя, как Бэньян, у которого также получает выражение кон-
фликт чувственной природы человека с религиозно-искупитель-
ными мотивами.
Столкновение противоречивых идейных и этических мотивов,
отражавшее реальный кризис человеческого сознания, приводило
к внутреннему напряжению и взволнованности, требовавшим
для своего выражения новой поэтической формы. Так возникли
причудливость, страсть к метафоричности, к усложненным алле-
гориям и тому подобные черты.
Образность, свойственная поэзии Ренессанса, вырождается
теперь в самодовлеющую орнаментальность стиля. Отсюда —
длинные, усложненные периоды речи, отсюда — прециозный
стиль прозы периода Реставрации. Хотя Англия имела свою тра-
дицию прециозного стиля, шедшую от Лили, тем не менее, в XVII
219
веке определяющим здесь явилось не его влияние, а влияние фран-
цузских прециозных романистов (Скюдери и др.). Аристократи-
ческая литература времен Реставрации характеризуется также
любовью к экзотике, что заметно не только в романах Афры Бен
(особенно «Оруноко»), но и в ряде драм Драйдена. Обилие мета-
фор, чрезмерность словесного орнамента сочетаются у аристо-
кратических писателей Реставрации с риторической приподня-
тостью, а все эти черты вместе создают отяжеленный стиль, пре-
тендующий на ложную величавость. В целом же все уже от-
меченные особенности обусловили искусственность этой лите-
ратуры.
Но наряду с этим в литературе этого времени была и другая
тенденция — реалистическая. В творчестве некоторых ее пред-
ставителей встречаются элементы, являющиеся продолжением
народной притчи, фаблио, плутовской новеллы, сатирической
поэзии типа Скельтона и т. п> От Возрождения был унаследован
интерес к конкретно-чувственному, реальному миру. Но то, что
в искусстве Возрождения входило в гармоническую систему це-
лостного мировосприятия, теперь начинает играть самодовлею-
щую роль и превращается в своеобразный натурализм. Черты
этого натурализма есть у Бэньяна, но особенно сильны они у Бет-
лера. Предметом изображения все чаще становятся явления урод-
ливые и безобразные. Но в этом натуралистическом гротеске
заключаются некоторые зародыши реализма XVIII века.
Английский классицизм времен Реставрации весьма своеоб-
разен; он отличается рядом существенных черт от французского
классицизма XVII века. Классицизм не был привнесен в Англию
извне, как иногда полагают. Правда, роялистские эмигранты,
вкусы которых были воспитаны спектаклями Бургундского отеля
и трагедиями Корне ля, привезли с собою на родину привержен-
ность классицизму, но тенденции этого рода имелись в англий-
ской литературе еще в давние времена. Сидней и «Ареопаг» были
первыми сторонниками классицизма в Англии, а когда во Фран-
ции, по выражению Буало, «пришел Малерб», то в Англии уже
был Бен Джонсон, во многом предвосхитивший французских
классицистов того времени, В середине XVII века дальнейшее
развитие этих тенденций можно видеть в творчестве Мильтона.
В Англии были и свои философские предпосылки классицизма,
,ибо и здесь рационалистические тенденции были очень сильны.
И все же классицизм не восторжествовал полностью в англий-
ской литературе XVII века. В отличие от Франции XVII века,
на которую ориентировались английские классицисты, в Англии
периода Реставрации не было соответствующей социальной почвы
для классицизма.
Во Франции классицизм возник и развился в период, когда
абсолютизм был прогрессивной силой, опиравшейся не только
на^дворянство, но и на буржуазию. Идеал государственности,
победа долга над чувством, вдохновлявшие классицистов XVII
века, и были выражением прогрессивности этого строя. Когда
220
у Корне ля Гораций жертвовал сыновьями ради Рима, а Август
прощал заговорщика Цинну, когда у Мольера полицейский ко-
миссар являлся арестовать Тартюфа, — во всем этом был пафос
государства, подчиняющего своей единой воле все общество и
подавляющего, во .имя интересов целого, личные чувства
и желания.
«Абсолютная монархия—пишет Маркс,—возникает в пе-
реходные эпохи, когда старые феодальные сословия разлага-
ются, а средневековое сословие горожан складывается в со-
временный класс буржуазии, и ни одна из спорящих сторон не взя-
ла еще перевеса над другой» г. В Англии XVII века общественное
развитие зашло гораздо дальше; здесь уже во всей остроте стоял
вопрос об утверждении буржуазии у власти. Победа дворянства
и реставрация стюартовской монархии была временной и недол-
говечной. Буржуазия, однажды уже победившая в революции
середины XVII века, не могла мириться с подавлением своих
интересов, которое проводили в своей политике Стюарты. Как
пишет Энгельс, за «избытком революционной деятельности по-
следовала неизбежная реакция, которая в свою очередь тоже за-
шла дальше своей цели» 2.
Монархия Реставрации не опиралась на подлинное равнове-
сие сил. Конфликт между буржуазией и монархией обострялся и
со всей настоятельностью требовал своего разрешения. Если
французская буржуазия по всей логике вещей мирилась с прин-
ципом Людовика XIV — «Государство-^-это я», то все попытки
Карла II и Якова II утвердить то же самое встречали самую
резкую оппозицию английской буржуазии, которая уже чувство-
вала себя достаточно сильной, чтобы сказать: «государство —
это мы».
Лишенный гражданского идейного содержания, классицизм)
в аристократической английской литературе этого времени мог
сводиться лишь к внешнему подражанию античности и следова-
нию правилу трех единств. Недаром самый замечательный
образец трагедии классицизма смог создать в эту пору не роялист
Драйден, а республиканец Мильтон («Самсон борец»). Мильтон
имел определенные гражданские идеалы, без которых немыслим
подлинный классицизм; их, в сущности, не было у Драйдена,
несмотря на всю его приверженность монархии, ибо сама эта
монархия была подточена изнутри разложением. В драматургии
Драйдена, при всем его тяготении к классицизму, господствует
не общегосударственный идеал, а личные страсти и индивидуаль-
ные стремления. В вопросах стиля и композиции сам Драйден
пытался итти по пути компромисса между стилем ренессансной
Драмы и классицизмом. Гибрид, который получился в результате
этого — «героическая пьеса» — рядом черт напоминает драматур-
гию испанского барокко.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. V, стр. 212.
Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 297.
221
Интереснейшую отрасль литературы Реставрации составляет
комедия. Здесь также, с одной стороны, имелось формальное тя-
готение к классицизму, сказывавшееся в абстрактной типиза-
ции, в подражании Мольеру, и т. п. Но комедия французского
классицизма бичевала пороки, исходя из определенных нрав-
ственных идеалов. Таких идеалов не было в комедиях Ре-
ставрации, творцы которых придерживались эгоистической мо-
рали Гоббса и делали из нее циничные и аморальные выводы.
Отсутствие этических идеалов подменялось натуралистическим
изображением нравов, а эти дикие нравы Реставрации породили
безнравственность ее комедии. Зато, с другой стороны, отсут-
ствие идеализации придавало правдивость изображению ари-
стократической среды.
Бытовой натурализм и нравоописательные элементы комедий
Реставрации были как бы подготовкой почвы для реалистической
литературы XVI11 века. Романисты и драматурги XVIII века —
Ричардсон и Фильдинг, Мур и Шеридан,— многое взяли у коме-
диографов Реставрации, но повернули это под другим углом зре-
ния, осветив все эти картины лучами просветительской критики.
В области-поэзии классицизму удалось одержать, пожа-
луй, наиболее значительные победы в Англии. Драйден утвердил
описательно-дидактическую манеру и сделал героический куплет
основным орудием поэзии. В области романа замечается опреде-
ленный прогресс. Но этот жанр еще не определился вполне и
не очистился от чуждых ему наслоений. У Бэньяна повествование
еще неразлучно с аллегорией, а у аристократическх романистов,
вплоть до Афры Бен, господствует стремление приукрасить по-
вествование чертами галантности и прециозности. Английская
литература носит еще преимущественно переходный характер.
В период Реставрации зарождается профессиональная лите-
ратурная критика. В основном критика этого времени носит рас-
судояно-догматичшшй характер и выражается в попытке уста-
новить твердые и беспрекословные оценки писателей. Именно
в таком духе писал отец английской критики Драйден, давший
высокую оценку творчества крупнейших мастеров английской
литературы прошлого — Чосера, Шекспира, Бена Джонсона, Бо-
монта и Флетчера. Он откликался также на наиболее значитель-
ные явления современной ему литературы, и в этом смысле особен-
но интересен его отзыв о Мильтоне, революционность которого он
инстинктивно почувствовал. Большой интерес представляют об-
щетеоретические высказывания Драйдена, в особенности его суж-
дения о драме, изложенные в ряде критических опытов.
Духом догматики были проникнуты суждения известнейшего
критика этого периода Томаса Раймера (Thomas Rymer, 1641—
1713). Его основная критическая работа — «Трагедии прошлого
века» (The Tragedies of the Last Age, 1678) — является типич-
ным образцом догматического педантства в духе односторон-
не . и ограниченно понятой поэтики классицизма. И хотя
Драйден относился к мнениям Раймера с уважением, назы-
222
вая его ^превосходным критиком», а Поп считал его «лучшим,
критиком, какого мы когда-либо имели»,— более правильно суж-
дение о нем Маколея, назвавшего его «худшим из всех когда-
либо существовавших критиков». Об оценках Раймера можно
составить достаточное представление хотя бы по тому, что о «По-
терянном рае» он отзывается, как о произведении, которое «сочли
за поэму», а «Отелло», по его мнению,—«кровавый фарс, неинте-
ресный и безвкусный».
В качестве критиков проявили себя также племянники Миль-
тона Джон и Эдуард Филипсы, воспитанные великим поэтом
в его домашней школе. Эдуард Филипс написал «Поэтический
театр» (Theatrum Poetarum, 1675), обзор английской поэзии, в.
котором заметку о Шекспире, как полагают, редактировал сам
Мильтон.
Джерард Лангбейн (Langbaine) издал в 1688 г. обзор англий-
ской драмы, переизданный им в значительно увеличенном объеме
в 169* г.. как «Обзор английских драматических поэтов» (An
Account of the English Dramatic Poets). В этом обзоре он не без
юмора разоблачил многочисленные случаи плагиата драматур-
гами Реставрации у елизаветинцев.
В период Реставрации возникает мемуарная литература,
представляющая значительный историко-культурный интерес.
Большая часть подобного рода сочинений была, однако, опубли-
кована уже за пределами рассматриваемого периода. В большин-
стве этих произведений слышатся отголоски недавних политиче-
ских бурь. В этом смысле особый интерес представляют «Мемуа-
ры» Люси Хетчинсон (Lucy Hutchinson), вдовы полковника пу-
ританской армии, рассказывающей своим детям об их отце и о
времени, в какое ему довелось жить. Эти мемуары содержат
не только интересный портрет сравнительно рядового деятеля вре-
мен пуританской революции, но и большое число интересных бы-
товых данных об эпохе революции. Они были опубликованы
впервые в 1806 г.
Один из крупнейших политических деятелей периода Рестав-
рации, граф Кларендон (Edward Hyde, Earl of Clarendon,
1609—1674) поставил себе широкую задачу сочетать истори-
ческий рассказ с пропагандой определенной системы полити-
ческих взглядов. С этой целью им была написана «История мя-
тежа в Англии» (History of the Rebellion... in England, 3 тома,
опубликованных в 1702 — 1704 гг.), продолжением которой
была «История гражданской войны в Ирландии» (History
ôf the Rebellion and Civil Wars in Ireland, 1719—1720). Кро-
ме того, он написал свою автобиографию, изданную под за-
главием «Жизнь Эдуарда, графа Кларендона» в 1759 г. Все эти
работы проникнуты ярко выраженной роялистской тенденцией.
Достаточно показательно, что буржуазную революцию Кла-
рендон именует всего лишь «мятежом». Хотя работы Кларендона
никак не могут рассматриваться как объективное историческое
исследование, тем не менее они интересны и с литературной и
223
с исторической точки зрения. Он дает яркие зарисовки важных
исторических событий и любопытные портреты-характеристики
политических деятелей.
Облик самой Реставрации с исключительной полнотой и ярко-
стью запечатлен в дневниках двух современников этого периода.
Особый интерес представляет дневник Самюэля Пеписа, или
Пипса (Samuel Pepys, 1633—1703). Многолетний секретарь адми-
ралтейства, Пепис был культурным человеком с самыми разносто-
ронними интересами. В течение периода 1650—1669 г. он регу-
лярно изо дня в день вел шифрованные записи всего, что он ви-
дел и слышал за день, рассказывая попутно самые интимные по-
дробности своей жизни. Ни одна книга в мире не может сравниться
по своей откровенности с дневником Пеписа. Не задаваясь ника-
кими побочными целями, не думая о том, каким он предстанет
перед потомками и не стараясь оправдывать себя, он рассказы-
вает о себе решительно все. Эта откровенность шокировала анг-
лийских издателей Пеписа. Дневник его был расшифрован и впер-
вые опубликован Смитом и Брейбруком в 1825 г., но с большими
пропусками. Многочисленные переиздания сохраняли все эти
пробелы, пока наконец Уитли (Wheatley) не выпустил в 1893 —
1899 гг. полный текст этого интереснейшего историко-куль-
турного документа.
Близость Пеписа к правительственным кругам обусловила
«го естественную заинтересованность в политике, и он произво-
дит многочисленные и детальные записи, раскрывающие перед
читателем политическую жизнь в период Реставрации. Но
особенно большой интерес представляют всякого рода бытовые
записи, позволяющие восстановить обстановку эпохи. Вместе
с ним мы присутствуем при беседах в кулуарах парламента
в дни, непосредственно предшествующие реставрации монархии,
наблюдаем приезд короля, узнаем, как миссис Пепис заказывает
себе новое платье, заходим в артистическую уборную Нелли Гвин,
наблюдаем прогулку короля и придворных в парке, узнаем, как
Пепис обзавелся каретой, получаем отчет о театральных поста-
новках и знакомимся с тем, как был воспринят «Гудибрас» Бет-
лера (книга, которая Пепису не понравилась, несмотря на все-
общее увлечение ею), заглядываем в интимную жизнь Пеписа и
узнаем о его супружеских изменах, наконец, присутствуем при
высшей точке политической карьеры Пеписа, когда он произно-
сит свою четырехчасовую речь в парламенте.
Еще более длительный период освещает в своем дневнике
Джон Эвелин (John Evelyn, 1620—1706). Роялист по убеждениям,
Эвелин во время гражданской войны некоторое время был в ря-
дах королевской армии, затем странствовал по Франции, Ита-
лии, Голландии и в 1652 г., вернувшись на родину, поселился
в своем имении, где создал образцовое садоводство и.написал ряд
книг по этому предмету. В годы Реставрации он был близок ко
двору и участвовал во всякого рода правительственных комиссиях.
Русский император Петр I во время пребывания в Англии
224
жил некоторое время в поместье Эвелина, рассказывающего
об этом в своих мемуарах.
Если Пепис сравнительно поздно начал вести свой дневник
и прекратил записи из-за ослабления зрения, то Эвелину ничто
не препятствовало вести записки на протяжении всей его со-
знательной жизни. Почти семьдесят лет вел он свои записи, в ко-
торых отразилась жизнь его самого и его близких, гражданская
война, пребывание в эмиграции за границей, реставрация монар-
хии и другие исторические события. От Пеписа Эвелина отли-
чает некоторая строгость моральных суждений. Секретарь
адмиралтейства со спокойным безразличием описывал нравы дво-
рянского и придворного общества, а Эвелин не может удержаться
от сурового осуждения его безнравственности. Но и его дневник
содержит обилие интереснейших зарисовок английской жизни
XVII века. Недаром Вальтер Скотт писал, что это—«богатей-
ший рудник» сведений. Дневник Эвелина был впервые опубли-
кован в 1818 г.
Глава 1
САТИРИЧЕСКАЯ АНТИПУРИТАНСКАЯ ПОЭЗИЯ ВРЕМЕН
РЕСТАВРАЦИИ
Одним из самых крупных памятников антипуританской реак-
ции в английской литературе времен Реставрации является са^
тирическая поэзия Сэмюэля Бетлера.
Сэмюэль Бетлер (Samuel Butler, 1612—1680) родился в Вус-
тершире в семье зажиточного фермера, ярого роялиста. Полу-
чив среднее образование в вустерской «грамматической школе»,
он значительно пополнил и расширил его в дальнейшем. Произ-
ведения Бетлера свидетельствуют как о специальных юридиче-
ских познаниях поэта, так и о его широкой начитанности в об-
ласти художественной и публицистической литературы Возрож-
дения. До Реставрации Бетлер был писцом, судейским клерком,
управляющим. Подробности его карьеры мало известны. Биогра-
фы отмечают как наиболее интересный ее эпизод службу Бетлера
в грды революции в доме сэра Сэмюэля Льюка, ревностного пре-
свитерианца, полковника кромвелевской армии и мирового судьи
своей округи, оказавшегося, повидимому, прообразом бетлеров-
ского Гудибраса.
В 1663 г. вышла в свет первая часть сатирической поэмы
Бетлера «Гудаерас» (Hudibras), сразу обратившая на себя всеоб-
щее внимание. Поэма была издана анонимно, но авторство Бетлера
было тотчас же раскрыто.
Момент опубликования «Гудибраса» был выбран удачно. Со-
бытия, связанные с революцией и гражданской войною, были
свежи в памяти каждого; будучи издана в самый разгар монархи-
ческой реакции, антипуританская поэма Бетлера сыграла роль
Англ. литература 225
злободневного политического памфлета. Успех ее в роялистских
кругах был огромен. Знакомство с «Гудибрасом» стало в придвор-
ной среде требованием «хорошего тона». Пепис рассказывает в
своем дневнике о том, как он вынужден был против воли купить
книгу Бетлера, так как ограничиться знакомством с нею по-на-
слышке оказалось невозможным. Король Карл II подавал при-
мер своим приближенным, цитируя крылатые словечки из «Гу-
дибраса», и выдал автору денежную награду.
Однако, если Бетлер возлагал большие надежды на милости
двора, то ожидания его были обмануты. Несмотря на то, что из-
дание второй части «Гудибраса» (1664) упрочило успех поэмы,
автор ее продолжал оставаться в тени, вдали от двора. Попытка
снискать ему покровительство влиятельного герцога Букингема
оказалась безрезультатной. Последние годы жизни Бетлера про-
шли, повидимому, в бедности. Когда после смерти поэта на его
могиле был установлен надгробный памятник, автор анонимной
эпитафии Бетлера с горечью заметил, что вместо хлеба, которого
ему нехватало при жизни, автор «Гудибраса» получил камень
после смерти.
Третья и посл°дняя часть «Гудибраса» вышла после долгого
перерыва — в 1678 г. Поэма, в сущности, осталась незакон-
ченной.
Рукописное наследие Бетлера было опубликовано лишь в
1759 г. Помимо прозаических «Характеров», продолжающих тра-
дицию Овербери и Эрля, в это собрание «Подлинных памятников»
(The Genuine Remains, etc.) творчества Бетлера входят много-
численные стихотворные сатиры, представляющие любопытный до-
полнительный материал для характеристики его поэзии.
Место Бетлера в истории английской литературы всецело
определяется, однако, «Гудибрасом». Поэма была написана в том
бурлескно-пародийном роде,образцом которого Бетлеру мог послу-
жить знакомый ему «Вергилий наизнанку» (1648—1652)Скаррона.
От этого возможного французского прообраза она решительно
отличалась, однако, подчеркнутой политической остротой своего
содержания. В лице своего главного «героя» — самодовольного
и педантичного пресвитерианского судьи, сэра Гудибраса, и его
«оруженосца» — хитрейшего крючкотвора и лицемера, индепен-
дентаРальфо, Бетлер хотел предать осмеянию все пуританство,—
более того, все недавнее революционное прошлое Англии.
Свободное построение поэмы позволило ввести в нее самые
разнородные эпизоды и самые многообразные отступления.
Поэма открывается «героически-комической» историей похода сэра
Гудибраса, строгого блюстителя пуританской чистоты общест-
венных нравов, против зачинщиков традиционного ярмарочного
веселья. После кровопролитного сражения, вынужденный поме-
риться силами в неравном бою с хромоногим скрипачом, пово-
дырем медведя, мясником, лудильщиком, конюхом и прочими
поборниками медвежьей травли, а также и с самим медведем, сэр
Гудибрас терпит поражение вместе со своим оруженосцем. Улю-
226
люкающая толпа сажает обоих защитников нравственности в ко-
лодки, откуда их, после многих трагикомических перипетий,
освобождает только вмешательство богатой вдовушки, приданое
которой уже давно приглянулось сэру Гудибрасу. Освобождение,
однако, сопряжено с новыми испытаниями: сэр Гудибрас, свя-
занный необдуманным обетом, который исторгла у него коварная
вдова, должен добровольно подвергнуться порке в честь своей
освободительницы (мотив, заимствованный Бетлером у Серван-
теса). Хитроумный Ральфо нашел было выход из затруднения:
ничто не препятствует сэру Гудибрасу воспользоваться подстав-
ным лицом, которое приняло бы на себя предназначенные ему
удары. Но когда благодарный Гудибрас спешит предложить эту
незавидную роль ему самому, Ральфо мгновенно меняет свою ар-
гументацию, не оставляя и следа от свсих прежних доводов. Так
возникает ссора, изображая которую Бетлер подразумевает,
очевидно, памятные раздоры пресвитерианской партии (к которой
принадлежит сэр Гудибрас) и партии индепендентов (членом
которой является Ральфо).
История матримониальных планов сэра Гудибраса образует
сюжетную основу следующих песен поэмы. Повествование, од-
нако, все чаще прерывается сатирическими отступлениями. Иногда
они растягиваются на целые песни. Так, например, вторая песнь
третьей части поэмы целиком посвящена раздорам, возникшим
в лагере пуритан после смерти Кромвеля; третья, последняя,
песнь той же части содержит длинную сатирическую характе-
ристику «закона» и «правосудия» времен республики и т. д.
Поэма обрывается неожиданно; как видно, Бетлер далеко не ус-
пел довести до конца свой первоначальный замысел.
Антипуританская сатира Бетлера не была лишена всякого
исторического основания. Бетлер был близок к~; истине,
критикуя религиозное ханжество и лицемерно-эгоистическую мо-
раль пуританской буржуазии, высмеивая враждебность пуритан
^Искусству и плотским радостям жизни, отмечая внутренние про-
тиворечия в пуританском лагере и указывая, наконец, на анти-
народные черты пуританства. Может быть, именно поэтому пер-
вые песни «Гудибраса», где педантическому аскетизму ханжей-
щуритан противопоставляется безудержная стихия народного
||^сщадного веселья, удались Бетлеру более других. Заслуженной
;;Местностью пользуется, в особенности, блестящее начало пер-
вой песни, где на фоне сатирической характеристики пуритан-
ства описывается выступление в «поход» сэра Гудибраса.
Однако и здесь, как и во всей поэме, Бетлер явно искажает
Действительную историческую перспективу и значение изобра-
жаемых им событий. В его аристократическом пренебрежении
£ революционному прошлому Англии чувствуется немало фальши.
° XVIII веке на это обратил внимание уже Сэмюэль Джонсон,
который в своей статье о Бетлере («Биографии замечательных
английских поэтов») сухо заметил, что автор «Гудибраса» на-
прасно посмеивался над оружием пуритан: «Можно по-разному
относиться к их учению или их доводам, но опыт достаточно по-
казал, лто мечи их не были достойны презрения».
Как и большинство английских поэтов роялистского лагеря,
Бетлер старается использовать в своей борьбе с буржуазным пу-
ританством наследие гуманистического искусства Возрождения.
Некоторые отголоски ренессансного реализма несомненно зву-
чат еще в «Гудибрасе». Внешним образом влияние литературы
Возрождения сказалось уже в самом названии поэмы: имя Гуди-
браса было заимствовано Бетлером у Спенсера. Во второй книге
«Королевы фей», в легенде о сэре Гюйоне, рыцаре Умеренности,
фигурирует сэр Гудибрас; это — поклонник одной из двух Край-
ностей, злых сестер прекрасной Мздины, которая олицетворяет
Золотую Середину. Подобно своему будущему тезке, этот витязь
отличается, по словам Спенсера, не столько мудростью, сколько
силой; разум в нем подчинен безрассудству, и слава его превы-
шает его подвиги.
Еще более существенно влияние на «Гудибраса» великих гу-
манистов Возрождения — Эразма, Рабле и Сервантеса. Подра-
жание «Дон Кихоту» сказалось и в сюжете и в иронически за-
думанных характерах «Гудибраса». Комические «герои» поэмы
Бетлера, — сэр Гудибрас и его оруженосец Ральфо, — должны
были, по мысли автора, представлять собою аналогию дон Кихоту
и Санчо Пансе. Влияние Эразма и Рабле дает себя знать во всем
строе многочисленных сатирических отступлений «Гудибраса»,
навеянных «Похвалою глупости» и «Гаргантюа и Пантагрюэлем».
Бетлера сближает с ними ненависть ко всяческой теологической
метафизике и схоластике, к педантизму и шарлатанству в науке,
к лжеправосудию , превращающему судопроизводство в «род
гражданской войны», к религиозному ханжеству и т. д.
В карикатурном образе Гудибраса есть черты, напоминаю-
щие тех «темных людей» средневековой теологии, с которыми
боролись великие гуманисты Возрождения:
Мог, метафизик вдохновенный,
Он что есть что сказать мгновенно;
Все знатоком его считали
И номиналий, и реалий;
Он из песка тугую нить
Умел рукой искусной свить;
Наткать умел он в миг единый
Слои тончайшей паутины.
Он знал, где рай лежит, — порой
Доказывал, что под луной,
Порою, что над нею слева;
Знал, что пред появленьем Евы,
Когда Адаму снился сон,
Во сне увидел этом он.
Все богословом знаменитым
Решалось вмиг, — ученый муж
Молол, не заикаясь, чушь..,
(Перевод СБ. Румера)
228
Ренессансные черты сказываются в самой художественной
манере Бетлера, в фальстафовской пестроте и красочности изо-
бражаемого им народного фона, в грубоватой резкости юмора и,
наконец, в живой непринужденности стиха, — так называемого
«доггреля», напоминающего народный «раешник».
Но в целом, творчество Бетлера, как и других аристократиче-
ских писателей Реставрации, сохраняет лишь очень от-
даленную и слабую связь с реализмом Возрождения. Оно отли-
чается полным отсутствием той внутренней гармонии, которой об-
ладали шедевры ренессансного искусства. По замечанию Сэмюэля
Джонсона, автора «Гудибраса» «одолевает, как кажется, бурное
смешение разнородных идей». Хаотическая композиция «Гуди-
браса» не случайна—это одно из частных проявлений дисгармо-
ничности и разорванности, характеризующих все это произве-
дение.
На мировоззрении Бетлера лежит печать тяжелого кризиса.,
Горечь, скрывающаяся в его поэме, образует поразительный кон-'
траст с ее видимой «шутливостью». В отличие от здорового скеп-
тицизма ренессансных гуманистов, исполненных интереса к жиз-
ни и людям, скептицизм Бетлера прикрывает собою трагическую
внутреннюю опустошенность. Сатира Бетлера шире, чем кажется.
По меткому замечанию Казамьяна, в глазах Бетлера «педанти-
ческая фальшь пуританской теологии сливается воедино со
всеми тщетными* претензиями человеческой науки». Высмеивая
неразумность своих пуританских «героев», сам Бетлер, в сущно-
сти, давно разуверился в человеческом разуме.
Плохо скрываемое презрение к человеческим интересам и
стремлениям, сквозящее и в «Гудибрасе», сказывается с большей
откровенностью в посмертных стихотворных сатирах Бетлера.
«Сатира на распущенность века Карла 11» показывает, что за роя-
листским рвением автора «Гудибраса» скрывалось, в сущности,
весьма скептическое отношение к самой реставрированной монар-
хии. Вся политическая история Англии XVII века оказывается
Э>'глазах поэта грандиозным шарлатанским представлением:
«Жалкий глупый мир дважды вывертывали наизнанку, как кар-
ШИ; фокусника, вытряхнули из него лицемерие... и поспешили
Наполнить его разнузданным беззаконием и грехом». В «Сатире
йа слабость и злополучие человека» это политическое разочаро-
вание переходит в беспросветный пессимизм. Бетлер с горькой
насмешкой говорит о стремлении человека познать «то, что ни-
когда не будет известно». Напрасно пытается человек взвесить
на весах своего разума «право и беззаконие, истину и ложь», —
чем; тоньше и чувствительней весы, тем скорее они испортятся
и выйдут из употребления. Та же тема разрабатывается и в «Са-
тире на несовершенства и злоупотребления человеческой учено-
сти» и в «Сатире на Королевское общество». В стихотворении «Слон
на луне» Бетлер для иллюстрации своей мысли о тщете науки
прибегает к анекдоту: ученые астрономы вообразили, что видят
на луне целые армии людей и гигантского слона; на самом деле
229
за обитателей луны была принята мошкара, залетевшая в те-
лескоп, а за слона — попавшая туда мышь.
Эти сатиры Бетлера перекликаются во многом со свифтовской
сатирой на науку его времени в «Путешествиях Гулливера» (опи-
сание Лапуты). Предвосхищая, отчасти, горечь свифтовской сати-
ры, Бетлер, однако, чужд гуманизму Свифта. В «Сатире на сла-
бость и злополучие человека» люди кажутся ему жалкими
ублюдками, в которых презренное земное начало преобладает,
к их стыду, над сверхчувственной духовностью. Он с отвраще-
нием говорит о «грубой земной материи» человеческой природы.
Все человеческие радости призрачны, страдания —единственная
реальность бытия. Смерть властвует над жизнью: «Наши благо-
роднейшие здания и величавейшие палаты — лишь преддверие
гробниц; города, при всем их величии и блеске, лишь склады,
откуда пополняется могила».
В свете этих противоречий мировоззрения Бетлера понятнее
становится и незавершенность его поэмы о Гудибрасе и своеобра-
зие ее стиля. Кажется, что иронический гротеск, вырастающий
на почве всеобщего скептического отрицания, становится здесь,
в конце концов, самоцелью. Еще Вольтер заметил, что «Гуди-
брас» невыгодно отличается от «Дон Кихота» излишним преизбыт-
ком остроумия. Ничего не щадя своими насмешками, соединяя
в причудливом узоре самые неожиданные понятия и образы, снова
и снова прерывая самого себя, Бетлер отвергает и стройность ком-
позиции и логическую последовательность мысли. Они и не нуж-
ны ему, ибо его сатира, в сущности, никуда не ведет, — разва
только в тупик.
Некоторыми сторонами своего творчества Бетлер оказал не-
сомненное влияние на литературу Просвещения.
Вольтер, довольно критически относившийся к Бетлеру,
высоко ценил, однако, его насмешки над «теологическими диспу-
тами и энтузиазмом английских пуритан» и познакомил своих со-
отечественников с «Гудибрасом», включив в «Философские
письма» стихотворное переложение вступительной части этой
поэмы.
У себя на родине «Гудибрас» вызвал много подражаний (в ис-
торию литературы вошел даже термин «гудибрастический стих»
для обозначения того свободного четырехстопного ямба с парными
рифмами, которыми была написана поэма Бетлера). Большин-
ство их, однако, было неудачно, и даже единственная значитель-
ная поэма этого рода — аллегорическая «Альма» Прайора —
давно забыта.
Гораздо более интересна еще недостаточно изученная проблема
влияния Бетлера на Свифта, сатирическое творчество которого,
выделяясь в литературе английского Просвещения, напоминает
автора «Гудибраса» своею горечью и резкостью сатирического
гротеска. Следует также отметить, что в 20-х годах XVIII века
комические бытовые эпизоды «Гудибраса» послужили материалом
для иллюстраций Гогарта.
230
В середине XVIII столетия Сэмюэль Джонсон, критикуя
«Гудибраса» за ложную политическую предвзятость, диспро-
порцию содержания и формы, превращение «остроумия» — в са-
моцель и т. д., заявил, однако, что имя Бетлера погибнет лишь
вместе с английским языком. Действительно, если «Гудибрас»
уже давно читается немногими, то многие его двустишия запо-
минаются и звучат как поговорки. В XIX веке Бетлера особенно
любил цитировать Вальтер Скотт, заимствовавший у него многие
эпиграфы своих романов из времен буржуазной революции
XVII века — «Пуритан», «Вудстока», «Пивериля Пика».
•
Глава 2
ТЕАТР И ДРАМА ПЕРИОДА РЕСТАВРАЦИИ
1
Буржуазная революция надолго приостановила в Англии раз-
витие театра и драматургии. Парламентскими декретами 1642,
1646 и 1647 гг. все театральные представления были запрещены,
актеры приравнены к бродягам, а театры обречены на снос. Не
уцелел даже прославленный шекспировский «Глобус», разрушен-
ный по постановлению лондонского совета олдерменов.
Театральная жизнь, однако, не замерла полностью. Решитель-
ная победа парламента, казнь короля и провозглашение респуб-
лики с Оливером Кромвелем во главе лишили борьбу пуритан
против театра прежней политической остроты. Уже с середины
50-х годов республиканские власти несколько более снисходи-
тельно смотрели на нарушение декретов о театрах. Вчитываясь
в текст декретов, заинтересованные находили, что они запре-
щают очень определенно лишь «театральные представления».
Это толковалось как запрещение настоящих пьес, комедий и тра-
гедий в стенах театра. Делался вывод, что если ставить не цель-
ное драматическое представление и не на подмостках театра,
то на это запретов нет. В разных местах — в домах аристократов,
«а иногда и в немногих уцелевших театрах — начали ставить,
сперва конспиративно, а потом более или менее открыто, если
не спектакли, то такие зрелища, которые носили менее одиозное
название: «развлечения» (entertainments). Тут и там появлялись
так называемые «веселые представления», чаще всего комические
сценки из хорошо известных пьес: сцена с могильщиками из «Гам-
лета», сцены с Фальстафом из «Генриха IV» и «Виндзорских куму-
шек» и т. д.
Наконец, Вильям Давенант (William D'Avenant, 1606—
•668) попытался открыто возобновить театральные спектакли.
Давенант еще в 1639 г. сумел получить патент на постройку
нового театрального здания, в котором он собирался ставить
и свои и чужие пьесы. Писать для театра он начал в 1630 г., и пер-
231
вые его пьесы были сделаны в духе Флетчера. В 1638 г. он занял
освободившееся после смерти Ьена Джонсона место поэта^лау-
реата, а во время революции, естественно, так сказать, по должно-
сти, находился на стороне короля. За это он просидел несколько
лет в тюрьме, но потом был выпущен на свободу и в последние годы
республики мирно проживал в Лондоне. Через своих друзей
он получил от протектора разрешение на постановку очередного
«развлечения», которое состоялось 22 мая 1Ь56 г. Это были даже
не сценки, а скорее диалоги между такими, совершенно безвред-
ными с точки зрения пуритан лицами, как Диоген и Аристофан.
Сценки сопровождались музыкою. Публика с опаскою, но пошла
на это представление.
Правда, зала была наполовину пуста. Тем не менее Давенант
не пал духом. В сентябре того же года он поставил уже настоящую,
написанную им самим,пьесу с музыкой, под названием «Осада Ро-
доса» (The Siege of Rhodes). Это была в сущности опера, которая
впервые в Англии показывала зрителям речитатив на итальян-
ский лад. Сцена была маленькая, и пятикратная смена декораций,
которые должны были изображать флот Сулеймана Великолеп-
ного, его армию (в ней было семь человек, но они совершали под
музыку чудеса храбрости), весь остров Родос и разнообразные
сцены осады, никак не умещалась на ней. Роль Янте, главной
героини пьесы, исполняла актриса Кольман. Это был не первый
случай появления женщины на английской сцене. В Лондоне
играли французские актеры, среди которых женщины выступали
постоянно, и, кроме того, в придворных представлениях, осо-
бенно в «масках» на мифологические сюжеты, всегда принимали
участие придворные дамы. Но миссис Кольман, — актриса, об-
ладавшая прекрасным голосом и малым актерским талантом, —
открыла ряд регулярных выступлений женщин на подмостках анг-
лийских театров. Точно также не была совершенной новостью
многократная смена декорацкй во время спектакля. Однако и тут
«Осада Родоса» положила начало регулярному использованию
этих, также итальянских, приемов.
Повидимому, дело у Давенанта пошло неплохо, ибо в 1658 г.
он начал ставить спектакли в заслуженном здании Кокпита
в Дрюри-Лейнском районе. С этих пор начинается славная, исто-
рия Дрюри-Лейнского театра, прославленного игрою целой плея-
ды величайших английских актеров. Давенант успел поставить
еще две свои пьесы такого же характера, как и «Осада Родоса»,—
«Жестокости испанцев в Перу» (1 he Cruelty of the Spaniards in
Peru, 1658 *) и «История сэра Фрэнсиса Дрэйка» (i he History of
Sir Francis Drake, lb58*). Пуритане чрезвычайно косо смотрели
на эксперименты Давенанта и пытались было после смерти Кром-
веля привлечь его к ответственности.
Реставрация открыла новый период в истории английского
театра. Уже через три месяца после своего возвращения «на трон
предков» Карл II дал патент на открытие двух театров — Да-
венанту и Томасу Киллигрью (Thomas Killigrew, 1Ы2—1Ь83).
232
Патенты эти обеспечивали их владельцам монополию в театраль-
ном деле. Были запрещены какие бы то ни было представления,
кроме тех, которые давали эти две труппы. Обе они получили
официальные наименования: труппа Киллигрыо стала называться
труппою короля, труппа Давенанта — труппою герцога Иорк-
скрго,т. е. брата короля, будущего Якова 11. Давенант мог теперь
свободно развернуть свою драматическую и антрепренерскую дея-
тельность. Киллигрью, находившийся вовремя республики в эми-
грации, должен был прилагать большие усилия, чтобы не отстать
от него. 1 еатр Давенанта устроился в новом здании, во владениях
.юридической корпорации, а после смерти Давенанта перешел во
вновь отстроенное здание Сольсбери Корта на Флитстрит. Кил-
лигрью переменил несколько помещений: в 1662 г. он занял по-
мещение Дрюри-Лейнского театра, получившего наименование
Королевского.
Давенант в годы Реставрации написал или переделал несколько
пьес. Из ранних наибольшим успехом пользовались «Любовь и
честь» (Love and, Honour, янв. 1оЗЬ—1637*)1 и «Платонические лю-
бовники» (:1 he Platonick Lovers, 1635). Но его главная деятельность
была направлена на переработку и приспособление к новым услови-
ям шедевров старого репертуара. Он поставил «Макбета» с «измене-
ниями, поправками, дополнениями и новыми песнями», переделал
. «Меру за меру» в пьесу «Закон против любовников», а «Ромео и Джу-
льетту»— в комедию. У Давенанта и у Киллигрью шли в б.;лее
или менее изуродованном виде еще следующие пьесы Шекспира:
«Отелло», «Генрих IV», «Сон в летнюю ночь». Они ставили «Мол-
чаливую женщину» и «Варфоломеевскую ярмарку» Бена Джон-
сана, несколько пьес Бомонта и Флетчера и других более поздних
драматургов. Весь этот довольно обширный репертуар дер-
жался на сцене до весны 1663 г. Позднее в него вошли еще мно-
гие шекспировские пьесы: «Гамлет», в котором впервые блеснул
евоей игрой Томас Беттертон, «Буря», переделанная Шэдуэлем,
!«1ит Андроник», переделанный Равенскрофтом, «Король Лир»,
Переделанный 1эйтом, который придал пьесе благополучный
родаец, и многие другие.
|;;:ï Киллигрью, помимо того, что он принимал очень деятельное
Счастие в этой работе с клеем и ножницами, тоже не терял вре-
мени. В его портфеле осталось несколькопьес,написанных им до ре-
волюции и тогда же успевших повидать сцену: «Пленники» (i he
prisoners, 1641*), «Кларасила» (Claracilla, 1641*), «Принцесса»
(1 he Princess, видимо, поставлена не была), все три — «ро-
мантические» трагикомедии. Они представляют интерес в том
отношении, что являются типом переходным от комедии в
духе Флетчера к так называемым «героическим драмам». При-
ключенческий элемент доведен в них до таких размеров/что
им поглощается все остальное. Их политическая направленность
1 Двойные даты которые даются специальными справочниками по
драматургии, объясняются тем, что нынешняя календарная система, счита-
ющая началом года 1 января, была принята в Англии лишь с 175-4 г.
233
уже и тогда была ультрамонархической, а после революции мо-
нархизм Киллигрью стал махровым. Новые его пьесы, написан-
ные либо в эмиграции, либо уже после нее, были в том же стиле.
Из них наибольшей популярностью пользовались: «Цецилия
и Клоринда» (Cecilia and Clorinda, поставлена не была), сюжет
которой заимствован из «Великого Кира» г-жи Скюдери, и
«Венчание священника» (The Parson's Wedding, 1664*), сюжет
которого автор взял из «Дамы-невидимки» Кальдерона. Вместе
с Томасом Киллигрью пьесы для его театра поставляли два
его брата — старший, сэр Вильям, и меньшой —Генри. Давенант
и братья Киллигрью были главными представителями ранней
драматургии Реставрации.
Основное отличие театра времен Реставрации от театра
дореволюционного заключалось в том, что он был отныне всецело
оторван от народного зрителя. Вкусы, настроения, интересы,
господствовавшие в театре, исходили от двора и от аристо-
кратического общества. Воцарилось раболепство. Народ был от-
странен от театра и не мог оказывать влияния на драматургию
и драматургов. В «Опыте о драматической поэзии», Драйден,
крупнейший драматург Реставрации, с презрением говорит об эс-
тетических вкусах и мнениях «толпы».
Одно течение в драматургии, в художественном отношении
ничтожное, особенно резко подчеркивало отрыв театра от народа.
В театре начали ставить пьесы, в которых торжествующая реак-
ция праздновала свою победу. Их было много. Преследовали
они цели нехудожественные, а политические: добить остатки ре-
волюции, пригвоздить к позорному столбу недобитых республи-
канцев. Это была настоящая свистопляска самой черной реакции.
Начало этим бездарным пьесам положил Джон. Тэтем (John
Tatham, годы деятельности 1632—1664) пьескою, которую он
назвал «Охвостье» (The Rump, 1660*) — намек на ироническое
прозвище последнего парламента, разогнанного Кромвелем. В
этой пьеске он без стеснения издевается над теми деятелями ре-
волюции, которые еще были в живых, и не останавливается
перед гнусными намеками по адресу вдовы Кромвеля. Сюжет дол-
жен был, якобы, разоблачить мелкие политические интриги в
республиканском лагере после смерти Кромвеля. Несколько более
приличный характер имели пьесы, осмеивавшие пуритан: «Коми-
тет» (The Committee, 1662*) Роберта Говарда и «Каттер с Коль-
мен-стрит» (Cutter of Coleman Street, 1661 *) Авраама Каули.
В последней имеется даже забавный, хорошо сделанный образ
пьяненького полковника Джолли.
Такие же пьесы время от времени продолжали появляться и
в более поздние годы. Таковы «Старое войско» (The Old Troop,
1665*) актера Джона Лэси, «Политика Сити» (City Politiques,
1682—1683) Джона Крауна и «Круглоголовые» (The Roundheads,
1681) Афры Бен.Все эти пьесы, независимо от их художест-
венных достоинств, восторженно принимались аристократическим
зрительным залом.
234
2
Одно из самых видных мест в истории английского театра вре-
мен Реставрации и как драматург и как теоретик драматиче-
ского искусства занимает Джон Драйден (John Dryden, 1631—
1700).
Жизненный путь Драйдена был извилист. Выходец из небо-
гатой помещичьей семьи, состоявшей в родстве с некоторыми
знатными фамилиями, он получил образование в вестминстерской
«грамматической школе» и в Кембриджском университете. Писать
стихи Драйден стал еще на студенческой скамье.
Первым более или менее зрелым плодом его музы была ода
на смерть Кромвеля под пышным названием «Поэма на смерть
его высочества Оливера, лорда протектора Англии, Шотлан-
дии и Ирландии» (A Poem upon the Death of His late Highnesse
Oliver, Lord Protector of England, Scotland and Ireland, 1659).
Это не помешало ему немногим позже приветствовать Реставра-
цию двумя одами: «На возвращение короля» под латинским за-
главием (Astraea Redux, 1660) и «На коронацию его величества»
(То His Sacred Majesty, a Panegyrick on His Coronation, 1661).
За этими произведениями последовали две оды, посвященные канц-
леру Кларендону и его дочери, и, наконец, в 1667 г., «историче-
ская поэма» «Чудесный 1666 год» (Annus Mirabilis: The Year of
Wonders 1666), в которой воспевались события, связанные с ни-
дерландской войной и с преодолением стихийных бедствий
внутри страны.
Творчество Драйдена было отныне поставлено на службу Ре-
ставрации. В 1670 г. он получил звание поэта-лауреата и при-
дворного историографа. В 1681 г., в разгар ожесточенной борьбы
ториев и вигов по поводу билля о престолонаследии, он выступил
с поэмой «Авессалом и Ахитофель» (Absalom and Achitophel,
2-я часть вышла в 1682 г.), где под покровом библейской аллего-
рии свел счеты с противниками стюартовской монархии, особенно
зло осмеяв в лице Ахитофеля, коварного советника мятежного
Авессалома, лидера вигов, лорда Шефтсбери. Враги Драйдена
отплатили ему, переиздав в отместку его юношескую оду на
смерть Кромвеля, «чтобы показать лойяльность и честность авто-
ра «Авессалома и Ахитофеля».
В защиту монархии написана также поэма Драйдена «Медаль;
сатира против мятежников» (The Medall. A Satyre against Sedi-
tion, 1682). Более частной литературно-политической полемике
посвящена его сатирическая поэма «Мак-Флекно» (Mac-Flecknoe,
etc., 1682), направленная против поэта и драматурга Томаса
Шэ'дуэля. Поэма эта, повидимому, послужила в следующем сто-
летии Александру Попу прообразом для его «Дунсиады».
В своих философско-дидактических поэмах Драйден все бо-
лее ревностно защищает авторитет церкви. В поэме «Religio
Laici или вера мирянина» (Religio Laici or a Layman's Faith,
1688) он выступает еще апологетом англиканской церкви, за-
235
щищая ее от деистической критики. В дальнейшем, однако, он
все более приближается к католицизму и, наконец, после восше-
ствия на престол католика Якова II, переходит в католичество.
В защиту католической церкви им написана аллегорическая поэ-
ма «Лань и пантера» (The Hind and the Panther, 1687). Кроткая
белоснежная лань символизирует здесь католическую церковь,
а коварная пантера—церковь англиканскую.
Официальная деятельность поэта-лауреата поглощала лишь
малую долю творческой энергии Драйдена. Уже с 60-х годов он
посвятил свои силы театру.
Драматургическое наследство, оставленное Драйденом, со-
стоит из 27 пьес, принадлежащих к самым разнообразным драма-
тическим жанрам. Начал он с комедий и трагикомедий. Первен-
цем его была прозаическая комедия «Необузданный поклонник»
(The Wild Gallant, фезр. 1662—1663*), не имевшая особого успеха.
Драйден не чувством ал себя свободно в комедийном жанре, и его
пьесы далеко не могут равняться с пьесами таких мастеров, как
Уичерли и Конгрив. Большинство его комедий—подражательны.
«Мартин-недотепа» (Sir Martin Mar-All, 1667*) написан по молье-
рову «Ветреннику», «Испанский монах» (The Spanish Fryar, март
1679—1680*) примыкает по сюжету к «Испанскому священнику»
Флетчера, «Амфитрион» (Amphitryon, etc., 1690*) скопирован с
Мольера и Плавта.
В жанре трагикомедии у Драйдена было два вдохновителя:
мастер французской трагикомедии Александр Арди и Флетчер,
которого Драйден очень любил и за которым ему. особенно легко
было следовать в этом смешанном жанре. Много пользовался Драй-
ден также романами г-жи Скюдери. По мотивам. «Великого
Кира» написана трагикомедия «Тайнай любовь, или девственная
королева» (Secret Love, or the Maiden Queen, март 1666—1667*),
которую особенно любил Карл II, и последняя пьеса Драйдена
«Торжествующая любовь» (Love Triumphant, etc., 1693*).
Драйден работал также в жанре, который представлял собою
нечто среднее между старыми «масками» и новою оперой. Это бы-
ли пьесы в стихах, сопровождаемые музыкой, специально написан-
ной тем или другим композитором. Сюда относится «Состояние
невинности» (The State of Innocence, etc., 1677, поставлена не была)
сюжет из «Потерянного рая» Мильтона, «Альбион и Альбаний»
(Albion and Albanius, 1685*),—«маска», прославляющая Карла II
и Якова II,— и ее продолжение —«Король Артур» (King Arthur,
etc., 1691*), появившееся к тому времени, когда Карл уже умер,
а Яков был изгнан.
Кроме того, Драйден переделывал и приспосабливал для сцены
пьесы елизаветинских и более старых драматургов. Ему при-
надлежат переделки «Бури» (1670) и «Троила и Крессиды» (1679*)
Шекспира. Вместе со своим приятелем Натаниэлем Ли Драйден
переработал софокловского «Эдипа» (янв. 1678—1679), который
дал материал для классицистского переоформления Корнелн, и
переделал в трагедию «Герцог Гиз» (The Duke of Guise, 1682*)
236
«Парижскую резню» Марло, дошедшую до нас в чрезвычайно
несовершенном «пиратском» списке.
Самым оригинальным жанром драйденовской драматургии,
именно Драйдену обязанным своей популярностью, была так
называемая «героическая пьеса». Жанр этот возник еще до Драй-
дена. Его первоначальные наброски имелись уже в пьесах Даве-
нанта; позднее в нем подвизались драматурги-любители —
виконт Роджер Оррери и шурин Драйдена, сэр Роберт Говард. Го-
вард и привлек Драйдена к разработке этого жанра.
Произведение, возвестившее расцвет «героической пьесы»,.на-
зывалось «Королевой индейцев» (The Indian Queen, 1662*). Пьеса
вышла под именем Говарда, но Драйден принимал большое уча-
стие в ее создании. Успех пьесы подсказал ему мысль написать
продолжение. Так появился «Император индейцев, или завоева-
ние Мексики испанцами» (The Indian Emperour, etc. 1665*).
Пьеса была принята, пожалуй, с еще большим энтузиазмом, чем
ее предшественница. За нею последовали новые «героические дра-
мы»: «Тираническая любовь» (Tyrannick Love, etc., 1669*) и две
части «Завоевания Гранады испанцами» (The Conquest of Granada
by the Spaniards, янв. 1670—1671* и 1672*) на сюжет, заимство-
ванный у Скюдери. Отныне Драйден стал признанным мастером
этого нового вида драматического творчества.
Успеху «героических пьес» способствовало и то, что на сцене
появились талантливые актеры, которые очень умело подошли
к произведениям этого рода. Среди них блистали Нелли Гвин,
возлюбленная короля, и вскоре появившийся на подмостках То-
мас Беттертон. Нелли очень удались роли святой великомученицы
Екатерины в «Тиранической любви» и целомудренной Алъма-
хиды в «Завоевании Гранады», а Беттертон с величайшим ма-
стерством декламировал со сцены рифмованные «героические дву-
стишия» Драйдена, умея скрывать их утомительное однообразие.
Последняя «героическая пьеса» Драйдена — «Ауренг-Зеб»
(Aureng-Zebe) была поставлена в 1675 г. Его позднейшие пьесы —
«Все за любовь» (All for Love, etc., 1677*) «Дон Себастиан» (Don
Sebastian, etc., 1689*), «Клеомен» (Cleomenes the Spartan Heroe,
1692) — отличаются большим единством и строгостью действия и
гораздо ближе к канону классицистской трагедии, хотя Драйден
и отказывается в них от рифмованного «героического двустишия»
ради традиционного белого стиха елизаветинцев.
Революция 1688 г. произвела в жизни Драйдена неожидан-
ный перелом. Поэт-лауреат, оставшийся верным свергнутой ди-
настии, лишился прежних должностей и пенсии и вынужден был
отойти от политики. В последние годы жизни он много работал
над стихотворными переводами и пересказами. В 1697 г. вышел
его перевод произведений Вергилия. За ним последовал сборник
поэм, которому Драйден дал заглавие «Рассказы» (Fables, Ancient
and Modern). Состав этого сборника чрезвычайно пестрый.
Драйден включил туда ряд переводов из Гомера, Вергилия, Ови-
дия, несколько стихотворений на случай.
237
Но основное содержание сборника составляют стихотворные
переработки новелл Чосера и Боккаччо. Из Чосера Драйден взял
рассказ рыцаря «Паламон и Архит», рассказ капеллана «Петух
и лисица», пролог к рассказу женщины из Бата и рассказ свя-
щенника, а также приписывавшийся Чосеру аллегорический от-
рывок «Цветок и лист». Из новелл Боккаччо в сборник вошли три:
«Гисмонда и Гвискардо», «Теодоро и Онория», «Кимон и Ифи-
гения». Выбор этот чрезвычайно характерен для Драйдена, каким
он стал после революции 1688 г., на пороге нового века Просвеще-
ния. Последние плоды музы старого поэта не таковы, какими они
были бы при Карле II, а особенно при Якове II. Это — почти бо-
гохульный рассказ о Шантеклере из Чосера, апология простого
священника, отца и друга своих прихожан, из тех же «Кентер-
берийских рассказов» и, особенно, новелла Боккаччо о Гис-
монде и Гвискардо —красноречивый протест против классо-
вого неравенства. Драйден обогатил ее даже рядом мыслей,
отсутствовавших у Боккаччо. У него Гисмонда в своем бурном
демократическом пафосе не оставляет в покое даже королей: «Мо-
гущественные монархи часто бывают рождены в низах, а родив-
шиеся на троне возвращаются в ряды незаметных людей».
«Рассказы» вышли в свет в ноябре 1699 г. Драйдену было поч-
ти семьдесят лет. Он пользовался очень большим уважением, но
материальное его положение было далеко не так блестяще, как
во времена Карла II, и он очень страдал от подагры и других
старческих болезней. Больше всего любил он теперь сидеть в ко-
фейне Виля, где ему всегда было обеспечено почетное место —
летом на балконе, зимой у камина, — и где его всегда окружали
почитатели, слушавшие его рассказы. Весною 1700 г. он
умер.
Общее направление идейно-политической эволюции Драйде-
на со всей ее извилистостью и противоречивостью чрезвычайно ти-
пично для развития аристократической общественной мысли в Анг-
лии времен Реставрации. «Легкость», с какою Драйден перешел
от восхваления Кромвеля к воспеванию Стюартов, от защиты
англиканства—к апологии католичества, была обусловлена,
очевидно, не только личным оппортунизмом и «приспособ-
ленчеством» писателя, но и другими, более общими, при-
чинами.
Драйден, как и большинство его современников — аристо-
кратических писателей времен Реставрации — унаследовал от
гуманистов Возрождения — Эразма, Монтэня, Бертона и дру-
гих, их скептицизм, о котором он сам не раз говорит, как о своем
излюбленном философском методе. Однако гуманистический скеп-
тицизм Возрождения переживает у Драйдена, как и у других
его современников, глубокий кризис, приводящий к полному
его перерождению. Скептицизм, служивший гуманистам Возрож-
дения могучим средством творческой критики религии, государ-
ства, общества, у писателей времен Реставрации оборачивается
своей негативной, нигилистической стороной. Под сомнение бе-
238
рется уже не только—и не столько — все сонмище «идолов»,
порабощающих человека, сколько сама человеческая природа и
человеческий разум.
В аристократических кругах Реставрации получает распро-
странение доктрина так называемого «пирронизма» (от имени
древнегреческого скептика Пиррона), сторонники которой, цспо-
'ведуя крайний скептицизм во всех вопросах познания, видят за-
лог единственно возможного счастья в подчинении существующему
режиму и в сохранении полного равнодушия к общественной и
политической борьбе. Скептическое сомнение в действенности
человеческого разума лишь укрепляет их уверенность в том, что
сильная власть, основанная не на разуме, а на авторитете, яв-
ляется единственной надежной защитой порядка как в политиче-
ской, так и в идейной области.
Эти тенденции сказываются и в мировоззрении Драйдена.
Свободомыслие, унаследоЕанное им как пережиток ренессансного
гуманизма, приходит у него в столкновение с культом «сильной
власти». В сущности, даже ранние «про-кромвелевские» высту-
пления Драйдена, которые впоследствии не раз инкриминировали
ему его противники, свидетельствовали не столько о его республи-
канских настроениях, сколько именно об этом преклонении поэта
перед идеалом «сильной власти», воплощенным для него, на том
этапе, в лице Кромвеля.
В дальнейшем мысль о необходимости спасительного подчи-
нения сверхличному авторитету выступает у* Драйдена все более
четко. Гуманистический рационализм терпит поражение в схват-
ке с мистическим авторитетом религии. Знаменитые начальные
строки «Веры мирянина» могут служить образцом драйденовского
qredo: «Для души человеческой свет разума — то же, что туск-
лые, отраженные лучи луны и звезд для одиноких усталых, блу-
ждающих путников... Как исчезают эти ночные светила, когда
над землею восходит сверкающий владыка дня, так бледнеет ра-
зум перед лицом религии, меркнет и растворяется в сверхъесте-
ственном свете».
Эти противоречия сказались и в драматургии Драйдена. В ней
еще не погасли последние отблески ренессансного гуманизма.
Вего ранних пьесах не раз возникает образ свободной героической
личности, не знающей иных законов, кроме законов природы,
повинующейся лишь своему бесстрашному разуму и стихий-
ному чувству. Таков Монтезума («Император индейцев»), прези-
рающий и угрозы и пытки конкистадоров, и религиозную софи-
стику иезуитов. Таков Альманзор («Завоевание Гранады»),
гордо провозглашающий себя самого своим единственным пове-
лителем, «свободный, каким природа создала человека задолго
До того, как возникли низменные законы рабства, когда на воле
бродил в лесах благородный дикарь».
В самом жанре «героической пьесы», как мыслит его Драйден,
видны следы связи с искусством Возрождения. В «Опыте о герои-
ческих nbecax»(Of Heroic Plays. An Essay, 1672), предпосланном «3a-
239
воеваиию Гранады», Драйден ссылается на Ариосто, провозглашая
девизом нового жанра начальные строки «Неистового Роланда»:
Дам, рыцарей, оружие, влюбленность
И подвиги и доблесть я пою..
(Перевод Ю. Н. Верховского)
Драйден разделяет с классицистами их представление о воз-
вышенности мыслей, образов и действия, как «основе поэзии».
Именно этим стремлением к возвышенности языка, как можно
более отдаленного от обычной разговорной речи, оправдывает
он, в частности, замену белого стиха елизаветинцев так назы-
ваемым «героическим стихом» (heroic verse),—попарно рифмую-
щимся пятистопным ямбом. Но, весьма иронически отзываясь
о тех, кто полагает, что драматическое искусство достигло своих
пределов в творчестве Шекспира и Флетчера, Драйден, однако,
пытается сохранить в своей поэтике многие черты ренессансного
стиля. Вопреки строгой эстетике классицизма, он не только
не изгоняет со сцены бурное и пестрое действие елизаветинцев,
но, напротив, горячо защищает его: «Тем, кто упрекает меня в том,
что я слишком часто пользуюсь барабанами и трубами и изобра-
жаю сражения, я должен ответить, что не я ввел их на английскую
сцену: Шекспир пользовался ими, часто». В «Завоевании Гра-
нады», как и в других пьесах Драйдена {например, в «Дон Себа-
стиане»), народная толпа врывается на сцену, принимая актив-
ное участие в действии, — что, впрочем, служит у Драйдена лишь
целям монархической «морали». «О, как ничтожна и презренна
власть, когда такие люди коронуют и свергают королей!» — вос-
клицает Альманзор, провожая взглядом уходящий со сцены «про-
стой народ». «Как доблестна великая душа, подчиняющая толпы
своей единоличной власти!» — отвечает ему Абдалла.
Ссылаясь на поэтов Возрождения —Ариосто, Спенсера, Тас-
со, — Драйден защищает право драматурга на фантастику.
И, наконец, — что, может быть, особенно важно, — он расхо-
дится с последовательными классицистами и в принципах изо-
бражении характеров. Он противопоставляет своего Альманзора с
его неукротимым темпераментом,бурной переменчивостью стремле-
ний и дерзким презрением к суверенной власти, «однотонным» ге-
роям французской литературы XVII века. Драйден отказывается
строить свои героические образы по «строгим правилам мораль-
ной добродетели». «Никогда, — восклицает он, — не подчиню я
свои характеры французскому образцу, по которому любовь и
честь полагается взвешивать драхмами и скрупулами».
Но, сохраняя отдельные черты, унаследованные от Возрож-
дения, «героические пьесы» Драйдена не обладают уже ни гармо-
ничностью, ни подлинной идейной значительностью ренессансного
искусства. Внешняя пышность драйденовских «героических драм»,
декорации и костюмы которых переносили зрителя в экзотиче-
скую обстановку Мексики («Император индейцев»), мавританской
Испании («Завоевание Гранады»), Индии («Ауренг-Зеб»), была,
240
в сущности, обманчивой, так же, как и искусственный риториче-
ский пафос их героев, речи которых сам Драйден в «Опыте о ге-
роических пьесах», говоря об Альманзоре, назвал «родомонта-
дами».
Это понимали отчасти уже современники. В декабре 1671г.,
т. е. после первой части «Завоевания Гранады» и задолго до «Ау-
ренг-Зеба», в театре была поставлена пьеса, которая носила скром-
ное название «Репетиция» (The Rehearsal). Авторами ее, как об-
наружилось потом, были любимец Карла герцог Букингем, бу-
дущий епископ Томас Спрат, Мартин Клиффорд и, повидимому,
также Сэмюэль Бетлер, автор «Гудибраса». «Репетиция» зло па-
родировала условности «героической пьесы». Имя Дрокансэра
(Drawcansir — «могу обнажить шпагу, сэр!»), пародийного ге-
роя, в котором можно узнать карикатурно шаржированного
Альманзора, оставалось даже в следующем столетии ходячим
символом неумеренного бахвальства и ложного, напыщенного
пафоса. Авторы «Репетиции» не пощадили и самого Драйдена.
Он был выведен на сцене под видом драматурга мистера Бэйса
(Bayes — лавры). Прекрасный комик, актер Лэси, исполнявший
эту роль, ходил по сцене, одетый в точно такой же костюм, как
у Драйдена, говорил и нюхал табак с его ужимками и даже под-
делывался под его голос. Эта пародия, вызвавшая целую сен-
сацию, была тяжелым ударом для Драйдена. Он долго не писал
после этого «героических пьес», а выпуская в свет пять лет спу-
стя последнюю из них-—«Ауренг-Зеба», он предпослал ей пролог,
в котором допускал возможность отказа от рифмованного «герои-
ческого стиха» и другие отступления от канона «героической
пьесы».
, Внутренние противоречия жанра «героической пьесы» обна-
ружились в творчестве Драйдена, однако, гораздо ранее и неза-
висимо от насмешек «Репетиции». Уже в «Завоевании Гранады»
намечается трагический-конфликт между человеческими стремле-
ниями и религиозной санкцией. Земная природа человека — во
власти «дерзновенных, но слепых страстей». Действие «Завоева-
ния Гранады» проносится стремительным вихрем измен, преда-
тельств, неблагодарных, черных подозрений, порожденных иссту-
пленной любовью и тщеславием. Страсти драйденовских героев
всепоглощающи и губительны. «Любовь — борьба, стремнины,
Ураган жизни». Она, «как жадный баклан, за один час пожирает
все, что может дать целая жизнь».
Можно ли «доверить хрупкому разуму руководство чувст-
вами», столь разнузданными и гибельными? Так подтверждается
необходимость в божественном руководителе, без помощи кото-
рого человеку не выбраться из лабиринта страстей. Призрак ма-
тери Альманзора трижды преграждает ему дорогу, возвещая во-
лю провидения. Самые благородные порывы, самые героиче-
ские подвиги бесполезньГи греховны, если они не соответствуют
предначертаниям божественного промысла. Человек, как
Убеждается Альмгнзор, подобен узнгку, ■ заключенному на
16 Англ. литература 241
острове огради бззбргжнэго океана: свободный по видимости :
духовно он — пленник.
Чем дальше, тем больше акцентируется в драйденовских пье-
сах эта тема призрачности и суетности земного бытия. Она про-
ходит, как конечный вывод человеческой мудрости, сквозь зна-
менитый монолог Ауренг-Зеба.
Людская жизнь, как погляжу, — обман.
Но опьяняет нас надежд дурман!
От завтрашнего дня мы ждем всех благ,
А между тем он людям злейший враг, —
Им обещает счастье и покой
И грабит их безжалостной рукой.
Года ушедшие вернуть назад
Никто не хочет; каждый ждет отрад
От дней оставшихся. Нелепый бред!
В хмельном осадке сил живящих нет.
Сгинь, эликсир, морочащий юнцов
И к нищенству ведущий стариков!
(Перевод О. Б. Румера)
Ь лучших трагедиях Драйдена («Все за любовь» и «Дон Се-
бастиан») эта тема становится центральной. Отказываясь в этих
пьесах от рифмованных «героических» двустиший в пользу бе-
лого стиха елизаветинцев, Драйден в остальном, пожалуй, бли-
же подходит здесь к жанру классической трагедии. Правда, он
сохраняет за собою право смешения стилей и нарушения единств
и довольно широко пользуется им, например, в «Дон Себасти-
ане» (в предисловии к этой трагедии он оправдывается — всецело
в духе нравов Реставрации — тем, что англичане слишком при-
выкли к разнообразию, даже к распутству, в своих удовольствиях,
чтобы вынести пьесу, написанную в строгом соответствии с «пра-
вилами»). Но бурное многообразие внешнего действия, столь
характерное для «героических драм», здесь уже теряет былое зна-
чение. Трагический конфликт становится все более четким и на-
пряженным, подчиняя себе все линии сюжета, и благополучное раз-
решение его, еще возможное ранее, в «героических драмах», где
Альманзор и Ауренг-Зеб приходили к победе, оказывается теперь
недостижимым.
Трагедия «Все за любовь», навеянная мотивами шекспиров-
ского «Антония и Клеопатры», представляет собою, однако,
самостоятельное и- чисто «драйденовское» произведение. Нигде,
может быть, не выступает у Драйдена с такою рельефностью про-
ходящая через всю эту пьесу мысль о фатальной тщетности по-
гони за любовным наслаждением. Любовь Антония и Клеопатры
с самого начала отмечена трагической печатью рока. Отвлекаясь
от широкого исторического фона, на котором развертывалось дей-
ствие трагедии Шекспира, Драйден представляет эту обречен-
ность любви, ради которой Антоний и Клеопатра жертвуют це-
лым миром, как нечто, необходимо заложенное в самой природе
всякой земной страсти. «Жизнь, —восклицает один из героев тра-
гедии, — подобна комку снега: чем крепче его сжимаешь в руке,.
тем скорее он тает!»
2:', 2
Обманчивость любовного блаженства проходит лейтмотивом
и через трагедию «Дон Себастиан». Драйден обратился здесь
к историческим событиям, нашедшим отражение столетием
раньше— в «Битве при Алькасаре» Джорджа Пиля, но, как и в тра-
гедии «Все за любовь», подчинил историю личному трагическому
конфликту.
Взаимность прекрасной «варварийской царицы» Альмейды,
разделяющей с ним заключение, позволяет Себастиану, королю
Португалии, забыть и о проигранном сражении, и о тяготах пле-
на, и о казни, ему угрожающей. Если бы от него самого зависело
решение его судьбы, он добровольно выбрал бы ту же участь ради
наслаждений «одной ночи». Ничто, — восклицает он,—даже
сама смерть, не в силах отнять у него сладостного воспоми-
нания о радостях разделенной любви. Но судьба ловит его на сло-
ве. На утро после первой брачной ночи влюбленные узнают друг
В'друге брата и сестру. Напрасным, ненужным даром кажутся
им теперь и свобода, и победа над врагами, и право на престол, —
все, что, словно в насмешку, дарит им судьба. Блаженство, отрав-
ленное грехом кровосмешения, становится для них прокля-
тием. Обреченные на вечную разлуку, Себастиан и Альмейда доб-
ровольно уходят из мира в монастырское заточение.
Весьма любопытен второй план этой трагедии. История забав-
ных любовных авантюр Антонио, «молодого знатного влюбчивого
португальца», проданного в рабство в до?д старого муфтия, воспро-
изводит, в сущности, трагическую тему «Дона Себастиана» в иной,
комической тональности. Погоня за любовным наслаждением,
представленная в образах Себастиана и Альмейды в возвышен-
ном, поэтическом аспекте, низводится в похождениях Антонио
с женой и дочерью муфтия до уровня грубой, животной чувствен-
ности. Характерный контраст духовного и низменного, плотского
начала человеческой природы представлен в этой трагедии
Драйдена особенно резко.
Сам Драйден чрезвычайно высоко оценивал историческое
^йачение своего драматургического творчества. Считая себя за-
конным преемником драматургов Возрождения — Шекспира,
Бена Джонсона, Флетчера, — он видел свою миссию в упорядо-
чении английской драмы согласно принципам классицизма, от-
разившимся во французских драматургических образцах XVII
века.
Компромиссный характер эстетики Драйдена сказался осо-
бенно наглядно в его основном теоретическом, сочинении — в
«Опыте о драматической поэзии» (Of Dramatick Poésie, an Essay,
1668). Написанный в виде диалога нескольких знатных собесед-
ников, снисходительно интересующихся вопросами искусства, он
был построен, по словам самого Драйдена, по принципам его лю-
бимого «скептического метода». Автор не отдает абсолютного пред-
почтения ни одному из спорящих, допуская, что в каждой из про-
тивоположных точек зрения может заключаться известная доля
истины. Однако, повидимому, взгляды самого Драйдена ближе
всего к замечаниям Неандра, самого умеренного из собеседни-
ков. Устами Неандра Драйден берется доказать, что эстетиче-
ские принципы классицизма (три единства, рифмованный стих
и т. д.) вполне совместимы с наследием великих елизаветинцеи.
«Я мог бы указать даже в сочинениях Шекспира и Флетчсра пье-
сы, написанные почти правильно, как, например, «Виндзор-
ские кумушки» или «Насмешливая лэди». Особенной похвалы
удостаивается Бен Джоисон за свою близость к классицизму.
Драйден, однако, отдает должное и гению Шекспира, посвящая
ему замечательную характеристику, вложенную в уста Неандра:
«Из всех современных и древних писателей в нем, быть может,
была самая всеобъемлющая и понимающая душа. Все явления
природы были открыты ему, и он их изображал без усилия и с успе-
хом. Когда он о чем-нибудь говорит, вы более чем видите описы-
ваемое, вы его чувствуете. Те, что обвиняют его в отсутствии зна-
ния, своим обвинением высоко его превозносят. Он по природе был
учен и не нуждался в таких очках, как книги, чтобы читать при-
роду. Он смотрел в свою душу и в ней познавал природу. Не ска-
жу, чтобы он был всегда ровен: я нанес бы ему оскорбление, срав-
нивая его с величайшими представителями человечества. Он часто
бывает плоским, пошлым: его комизм часто вырождается в дву-
смысленность, его пафос — в ходульность, но он всегда велик,
когда перед ним, стоит великая тема».
В «Опыте о драматической поэзии» сказывается, вместе с этим,
и аристократическая ограниченность эстетического кругозора
Драйдена. Знаменательно, что даже умеренный и проницатель-
ный Неандр приходит в негодование, едва речь заходит о народе,
как о судье искусства. «Если под народом вы разумеете толпу,
чернь, то безразлично, что она думает. Иногда она права, иногда
заблуждается. Ее суждения — не больше как лотерея».
Драйден может считаться одним из основоположников клас-
сицизма в английской литературе, но классицизма весьма своеоб-
разного. «Возвышенность», к которой стремился сам Драйден в
своей драматургии, очень непохожа на строгую величавость его
современников — французских классицистов. Риторический пафос
Драйдена не знает меры ни в языке чувств, ни в действенном вы-
ражении страстей. Гипербола кажется его родной стихией. Траги-
ческие эффекты драйденовской драматургии преувеличены на-
столько, что порою почти граничат с комизмом. В «Тиранической
любви» тиран Максимин произносит свой предсмертный монолсг,
восседая на поверженном теле своего смертельно раненного клев-
рета и время от времени, походу речи,поражая его ударами кин-
жала. В «Дон Себастиане» враги Доракса; не сговорившись, отрав-
ляют его двумя различными ядами, которые оказывают взаимно
действие противоядий,—так мотивируется чудесное спасение
героя.
Порой Драйден сознательно «обыгрывает» контрасты траг и-
ческого и комического; это особенно заметно в его прологах и эпи-
логах, обычно резко отличающихся по тону от всего произведения,
244
к которому они относятся. «Тираническая любовь» кончалась,
например, шутовскою сценой. Нелли Гвин, игравшая Екатерину,
неожиданно вырывалась из рук служителей сцены, выносивших
ее «мертвое» тело, бранясь и крича, что она должна еще прочесть
свой эпилог.
Страсть драйденовских героев легко переходит в исступление;
недаром в прологе к «Ауренг-Зебу» сам драматург говорит, что
страсть у него «слишком свирепа, чтобы носить оковы» рифмы.
Даже к самой любви его героев примешивается привкус жесто-
кости. В «Дон Себастиане» император Мулей-Молух, влюблен-
ный в Альмейду, говорит ей, что готов был бы преследовать
ее босиком, под полуденным солнцем, по раскаленному песку
выжженных пустынь, чтобы насладиться ее любовью, — а насла-
дившись, убить ее. Альмейда же вторит ему, говоря о чудо-
вищном потомстве, которым они, сочетавшись, населили бы
Африку.
При всем этом пьесы Драйдена отличаются большим совер-
шенством формы. Стих Драйдена всегда превосходен: ясен, зву-
чен, музыкален — и тогда, когда он рифмуется, и тогда, когда он
течет свободной чередою пятистопного белого ямба. Особенно
хороши песни, написанные свободными размерами и вставленные
чуть ли не в каждую пьесу.
Английская поэзия обязана Драйдену многим. Его поэтиче-
ское творчество в этом отношении не менее важно, чем его драхма-
тургия. Он придал английскому стиху не только «правильность»
классицизма, но и небывалую прежде гибкость и выразительность.
Образцом поэтического дарования Драйдена может служить, на-
пример, его знаменитая ода, известная под названием «Пиршеств©
Александра» (Alexander's Feast etc., 1б97),славящая всемогущество
музыки. Ода эта, отличающаяся необычайным богатством разно-
образных размеров и ритмов, в соответствии с многообразием
Эмоциональных переходов, была положена к а музыку Генделем.
Жуковский перевел ее на русский язык.
Ближайшим преемником Драйдена в английской литера-
торе был поэт-классицист Александр Поп. Позже творчество
Драйдена нашло отклик у Сэмюэля Джонсона (его поэма «О сует-
ности человеческих желаний» близка к мотивам Драйдена). Ин-
терес к Драйдену не угас и позднее, в период романтизма. Собра-
ние сочинений Драйдена было с любовью издано Вальтером Скот-
том. Байрон высоко ценил Драйдена, как и Попа. Кигсовская
поэма «Изабелла» обязана своим возникновением знакомству
Китса со стихотворными «Рассказами» Драйдена.
В последние десятилетия фигура Драйдена вызвала по-но-
вому обостренный интерес в реакционных литературно-полити-
ческих кругах Англии. Знаменательна, в частности, попытка «реа-
билитации» Драйдена, предпринятая поэтом и критиком Т. С. Элио-
том, именующим себя «роялистом в политике, католиком в рели-
гии и классицистом в литературе». Элиот посвятил Драйдену
Целый цикл лекций.
245
3
Начиная с первых годов Реставрации, на английской сцене
непрерывно появлялись все новые и новые переводы трагедий
французских классицистов. Если не считать переводов, напеча-
танных до Реставрации, то уже в 1663 г. на сцене был поставлен
корнелев «Помпеи», следом за ним «Гораций», в 1671 г. «Нико-
мед», а с 1675 г. стали появляться трагедии Расина. Так продол-
жалось в течение последних десятилетий XVII и первых десяти-
летий XVIII века. Однако творчество наиболее ярких драматур-
гов времен Реставрации — как Драйдена, так и его младших
современников, Отвея и Ли, — сохраняет еще некоторую связь
с традициями Возрождения.
Наиболее выдающимися представителями драматургии Рестав-
рации после Драйдена были Натаниэль Ли (Nathaniel Lee, 1653? —
1692) и Томас Отвей (Thomas Otway, 1652—1685). Оба они были,
как сказали бы при Елизавете, «университетскими умами»; Ли
учился в Кембридже, Отвей — в Оксфорде. Оба были актерами,
но подвизались на сцене без большого успеха. Оба, будучи ак-
терами, привыкли к распущенной жизни, излишествам, пьянству
и разгулу. Ли сходил с ума и побывал в Бедламе. Отвей попро-
бовал стать на праведный путь, поступив на военную службу.
Его оттуда выгнали за развратную жизнь. Оба опустились до дна,
и оба, словно сговорившись, кончили жизнь на улице. Отвей,
по преданию, умер, подавившись куском хлеба, на который он
набросился с жадностью после долгой голодовки.
Творчество Отвея и Ли очень неровно, и все-таки каждый
из них дал английской драматургии по нескольку замечательных
произведений. Начали они с подражаний французским образцам,
но потом нашли себя. Следуя примеру Драйдена, и Ли и Отвей
после появления «Ауренг-Зеба» перешли на белый стих.
Лучшими произведениями Ли были «Царицы-соперницы, или
смерть Александра Великого» (The Rival Queens; or the Death of
Alexander the Great, март 1676—1677*), «Митридат» (Mithri-
dates, etc., март 1677—1678*) и «Феодосии» (Theodosius, etc.,
1680*). Интересна также его пьеса «Принцесса Клевская» (The
Princess of Cleve, 1681*) —переделка одноименного романа г-жи
де Лафайет. Источником трагедий Ли были большею частью
романы французских прециозных писателей: г-жи де Скюдери,
Ла Кальпренеда и других. Как и Драйден, он, однако, не поры-
вал окончательно с традициями драматургии английского Возро-
ждения. В предисловии к «Митридату» Ли говорит, что стремился
.«сочетать воедино Шекспира и Флетчера»: «возвышенность и ис-
тинно римское величие первого с нежностью и страстностью
последнего».
Пьесы Ли пользовались во время Реставрации большим успе-
хом. Их большие, чисто сценические достоинства долгое время
удерживали их в репертуаре. «Царицы-соперницы» были еще в
числе любимых пьес Эдмунда Кина. Яркие образы, кипящие
246
страстью монологи составляют их главную притягательную силу
для актеров. Литературная сторона этих пьес, однако, далеко
уступает сценической. В них нет ни сколько-нибудь убедитель-
ной композиции, ни цельности, ни единства.
Лучшими пьесами Отвея были «Дон Карлос» (Don Carlos, etc.,
1676*), «Сирота» (The Orphan, etc., 1680*) и «Спасенная Венеция,
или раскрытый заговор» (Venice Preserve; or A Plot Discover^.,
февр. 1681—1682*). Исследователи нередко сопоставляют Отвея с
Расином, «Веронику» которого он перевел на английский язык (Ti-
tus and Berenica, 1676*). Действительно, мастерство Отвея заклю-
чается прежде всего в изображении лирических оттенков страсти.
Даже в тех его трагедиях, самый сюжет которых предполагал по-
становку гражданско-политических проблем, — как, например,
в «Дон Кар лосе» и в «Спасенной Венеции», — он остается пре-
жде всего поэтом интимного, личного чувства. «Он весь—сплош-
ная нежность», —заметил об Отвее критик XVIII века Сэмюэль
Джонсон.
«Дон Карлос» Отвея, основанный на материале одноименного
французского сочинения аббата де Сен-Реаля (1673), разрабаты-
вает тот же исторический сюжет, к которому обратились столе-
тием позже Шиллер («Дон Карлос») и Альфиери («Филипп II»).
Сюжет этот трактуется Отвеем в плане личной, семейной траге-
дии: героическое самопожертвование Позы, свободолюбие Кар-
лоса, — мотивы, которым предстояло стать решающими в траге-
дии Шиллера, — у него едва намечены. Главным в трагедии
Отвея является роковая игра слепой любви и ревности. Убе-
дившись в том, что его жена и сын неповинны в измене, Филипп
дюлит их о прощении, хочет вернуть их к жизни, но уже поздно;
королева отравлена по его приказанию, а дон Карлос перерезал
себе вены-в отравленной ванне.
Пагубная слепота страстей, ведущих человека к гибели, со-
ставляет тему трагедии «Сирота». В трагедии сквозит мысль
о жалкой беспомощности человека, скованного собственной чув-
ственностью. Герои Отвея достигают подлинного, высокого эмо-
ционального пафоса только тогда, когда, стоя на пороге искупле-
ния, они готовятся отрешиться от всего человеческого. Находясь
же во власти земной любви, они готовы завидовать даже живот-
ным. «Стоит ли быть жалким, безрассудным существом, именуе-
мым человеком., чтобы так унижаться, заискивать и льстить ради
наслаждения, которым животные обладают в большей мере, чем
он!—восклицает влюбленный Полидор.—Могучий бык выби-
рает себе из стада любую самку и, насладившись ею, покидает ее;
дабудеттак... пресытившись блаженством, я верну себе свободу...
« позабуду и о наслаждении, и о тоске».
Пьеса основана на роковом недоразумении, благодаря которому
брат обманно отнимает у брата в брачную ночь жену, думая,
что речь идет о пустяшной любовной интрижке. Разъяснение ис-
тины приводит всех героев к гибели. Полидор, обманувший лю-
имого брата, сам в отчаянии ищет смерти от его руки; Мони-
247
мия, невольно изменившая мужу, обезумев от горя, принимает
яд; Касталио, жертва рокового обмана, кончает самоубийством.
Фантастические мотивы, введенные Отвеем, с первых актов под-
черкивают фатальную обреченность героев. Шамонт, брат Мони-
мии, видит вещий сон, пророчащий неотвратимую гибель сестры;
спеша к ней на помощь, он встречает зловещую старуху, которая
предсказывает ему недоброе. Гражданско-политические мотивы
в этой трагедии полностью заглушаются частною темой.
Сэмюэль Джонсон считал «Сироту» классическим образцом
«домашней трагедии из жизни средних классов» и видел «всю ее
силу в изображении чувств». В этом отношении «Сироту», как и
некоторые позднейшие трагедии Роу, можно считать отдаленной
предшественницей «буржуазных трагедий» Лилло.
«Спасенная Венеция, или раскрытый заговор», сюжет которой,
связанный с венецианским заговором 1612 г., Отвей заимствовал
у Сен-Реаля, появилась на сцене в разгар борьбы ториев и вигов
и была воспринята современниками как произведение большой
политической актуальности. В лице злобных, жадных и раз-
вратных венецианских сенаторов, изображенных в трагедии,
роялисты увидели сатиру на английский парламент. Особую
сенсацию вызвала гротескная фигура сенатора Антонио, жалкого
и смешного сластолюбца, доходящего до последней степени жи-
вотного унижения перед своей любовницей. Публика без труда
узнавала в Антонио лидера вигов, лорда Антони Шефтсбери, того
самого, которого в своих политических сатирах высмеивал Драй-
ден. Король и герцог Йоркский демонстративно присутствовали
на представлениях «Спасенной Венеции». По словам новейшего
биографа Отвея (Нэш), трагедия стала «почти официальным
триумфальным гимном ториев».
Однако, не считая отдельных образов и намеков, реакционная
политическая идея не получила полного развития в трагедии От-
вея. В самом сюжете «Спасенной Венеции» таилась известная
двусмысленность: если сенат Венецианской республики и при-
равнивался сатирически к английскому парламенту, ненавист-
ной помехе на пути к неограниченной монархии, то, с другой сто-
роны, автору трудно было реабилитировать полностью и самих
заговорщиков, осмелившихся восстать против «властей предер-
жащих».
Из общественно-политической сферы трагический конфликт,
•как и в других пьесах Отвея, был перенесен в область личной
этики и личного чувства. Джафьер, женившийся на Бельвидере,
дочери венецианского сенатора Приули, вопреки воле ее отца,
под влиянием нищеты и отчаяния присоединяется к заговору про-
тив Венецианской республики, поддавшись уговорам своего друга
Пьера—души заговора. В залог своей верности он отдает под
надзор заговорщиков Бельвидеру, которая становится предме-
том сластолюбивых вожделений своего «надсмотрщика», старого
Рено, участника заговора. Оскорбленный за честь жены и по-
трясенный раскрывшейся перед ним перспективой кровавых опу-
248
стошений, которые будут неизбежным следствием мятежа, Джа-
фьер уступает в последнюю минуту мольбам Бельвидеры и выдает
тайну заговора Совету Десяти, выговаривая прощение для всех
своих сообщников. К своему ужасу, он слишком поздно узнает,
что его обманули: всем заговорщикам, и в том числе его другу
Пьеру, предстоит мучительная казнь. В отчаянии Джафьер от-
рекается от счастья и спокойствия, купленных предательством,
и присоединяется к заговорщикам, ожидающим казни у подно-
жия эшафота. По просьбе Пьера, он оказывает ему последнюю
дружескую услугу: убивает его, чтобы спасти от рук палача,
и закалывается сам. Окровавленные призраки Джафьера и Пьера
являются обезумевшей Бельвидере; потрясенная страшною
вестью о гибели мужа, она умирает.
: В «Спасенной Венеции» заметно подражание Шекспиру: Отвей
заимствовал Многое из «Отелло» и «Юлия Цезаря». Несмотря
на ложно-риторический пафос, которым страдает местами его
трагедия, она отличается большим драматизмом в изображении
страстей.
Английские романтики начала XIX века высоко ценили От-
£ея. Вальтер Скотт находил, что в изображении чувства Отвей
соперничает с Шекспиром, а иногда превосходит его; над страда-
ниями Монимии и Бельвидеры было, вероятно, пролито больше
ртз, чем над страданиями Джульетты и Дездемоны». Отвея вы-
Щшо ставил Байрон, отрицательно относившийся, однако, к сен-
тиментальной стороне его творчества. «Я очень большой поклон-
||(№с Отвея, за исключением этой плаксивой суки Бельвидеры с ее
доШмудренной чувственностью и слезливым любопытством», —
;Ы&ал он Меррею из Венеции 2 апреля 1817 г., посылая ему свою
«венецианскую» трагедию «Марино Фальеро». Можно предпола-
гать, что «Спасенная Венеция» оказала известное влияние на это
произведение Байрона: сам он, говоря в том же письме о судьбе
Марино Фальеро, вспоминает в связи с ним Пьера из «Спасенной
Венеции».
Из других авторов трагедий этого периода Джон Краун
(John Crowne, ?— 1703?) далеко уступает Отвею и Ли, а луч-
шие трагедии таких драматургов, как Саутерн и Роу, относятся
Уже к XVIII веку.
4
Комедия времен Реставрации была подлинным зеркалом об-
щественного быта тогдашней аристократической Англии. Комедия
эта ставила своей задачей изображение жизни, возможно более
близкое к действительности. Но ее интересовало немногое: игра
мелкого тщеславия и разнузданной похоти составляет едва ли
ие главное ее содержание. Циническая откровенность комедий
.^7авРациитесно связана с их антипуританской направленностью,
аффектация и лицемерие кажутся единственным преступлением
оппЛа3аХ комедиогРаФов Реставрации; любой порок в их глазах
равдан, если он не рядится в добродетельную личину. Осмеяние
249-
-буржуазных семейных добродетелей, сдающих свои позиции под
напором аристократического распутства, составляет — особен-
но на первых порах — одну из любимых тем этих писателей.
Реалистическое значение комедии времен Реставрации
явно ограничено. Ее общественный кругозор чересчур узок,
а идеи — слишком мелки, чтобы позволить ей выйти за пределы
натуралистически грубого «обыгрывания» одних и тех же двусмы-
сленных тем и ситуаций, варьируемых, правда, ее создателями
с истинно виртуозным блеском. Само это разнообразие становит-
ся под конец монотонным. Безудержное распутство составляет
единственное и исключительное содержание жизни в этих коме-
диях, герои и героини которых, если и прекращают свои любов-
ные шашни и начинают «проповедывать дружбу и вишневую на-
стойку» (как лэдиУишфорту Конгрива), то лишь потому, что они
уже слишком стары, чтобы «производить потомство».
В известной статье «Об искусственной комедии прошлого сто-
летия» романтик Чарльз Лэм подчеркнул эту условность и искус-
ственность комедий Реставрации, восхищавших его, впрочем,
своим литературным блеском. «Эта игра остроумной фантазии, —
писал Лэм, — никогда не сочеталась в моем представлении с вы-
водами, которые были бы приложимы к реальной жизни. Это —
свой особый мир, почти как в сказке... Фэйноллы и Мирабели,
Дориманты и лэди Тачвуд, в своей области, не оскорбляют моего
нравственного чувства: они даже не задевают его. Они — в своей
стихии. Они не нарушают никаких законов или велений совести,—
они им неведомы. Они удалились из христианского мира в страну
адюльтера, в Утопию галантности, где долг заключается в на-
слаждении, а нравственность — в полной свободе. Это чисто услов-
ное состояние, не имеющее ни малейшего отношения к миру дей-
ствительности... В переводе на язык реальной жизни драматиче-
ские персонажи Конгрива и его друга Уичерли оказываются раз-
вратниками и распутницами, а безраздельное стремление к не-
законному наслаждению — единственным делом их краткого су-
ществования. Они не признают никаких иных стимулов действия
или возможных мотивов поведения... Но мы неправы, переводя
их на язык реальной жизни. Эти люди живут в состоянии хаоса.
Их нельзя судить по нашим правилам. Они не. оскорбляют своим
поведением священных учреждений, — ибо их нет у них. Они
не нарушают семейного покоя, — ибо у них нет семейных уз.
Они не оскверняют чистоты брачного ложа, — ибо у них ее не
существует... Глубокое чувство и брачная верность не растут
на этой земле. Здесь нет ни добра, ни зла, ни благодарности, ни
ее противоположности; ни прав, ни долга; ни отцовства, ни сынов-
ней любви. Что Добродетели до того, похитит ли мисс Марту
сэр Саймон или Дэппервит, и кто отец детей лорда Фроса или сэра
Поля Плайанта?».
Технически комедии Реставрации сделаны превосходно.
Авторы их умели не без успеха подражать Мольеру, хотя
им были совершенно чужды его гуманистические идеалы и его
250
великолепный реализм. Гораздо ближе им были такие английские
мастера, как Флетчер, Шерли и другие поздние представители
ренессансной комедии, прельщавшие их своим легким отноше-
нием к жизни. Следуя драматургическим приемам Мольера,
комедиографы Реставрации освобождали себя от всяких
моральных обязательств.
Зачинателями комедии Реставрации были Джордж Этеридж
(Sir George Etherege, 1635?—1691), Томас Шэдуэль (Thomas Shad-
well, 1642?—1692), Чарльз Седли (Sir Charles Sedley, 1639?—1701),
(\фра Бен и Вильям Уичерли (William Wycherley, 1640?—
1716). Позднее к ним присоединился самый талантливый из них,
Вильям Конгрив (William Congreve, 1670—1729), первая ко-
медия которого была поставлена через пять лет после револю-
ции 1688 г. Все это были люди приблизительно одного круга,
5лизко общавшиеся с представителями аристократии, разде-
лявшие с ними цинично-легкомысленное отношение к жизни, амо-
ральность и нигилизм.
Этеридж был завсегдатаем аристократического кружка Ро-
дстера и принимал участие во всех скандалах и бесчинствах, ко-
торые тот устраивал. Успехи в свете никогда ему не изменяли.
Он был возлюбленным лучшей актрисы своего времени — миссис
Барри, занимал высокие дипломатические посты за границей,
Женился на очень богатой женщине, а жизнь кончил тем, что раз-
Зился, упав в пьяном виде с лестницы. Седли, его приятель, за-
нимал, пожалуй, еще более высокое положение в свете. Он был
близок к королю, очень хорошо умел устраивать свой дела, но
Жизнь вел такую же безобразную. Уичерли своей наружностью
йрельстил королевскую фаворитку герцогиню Кливленд и этим
нутем проник в среду высшей аристократии. Он тоже дружил
É Рочестером и Букингемом, несколько раз менял вероисповеда-
ййе и соперничал в беспутстве с самыми беспутными. Конгрив
гоже принадлежал к аристократии и тоже прожигал жизнь в
кутежах и разгуле.
Шэдуэлю повезло меньше, чем другим. Он попал под безжа-
лостное перо Драйдена и получил в памфлете «Мак-Флекно»
ио заслугам. Драйден заклеймил и его писания и его поведение
одинаково беспощадно.
Хронология комедий этих писателей не очень тверда. Однако
родоначальником их надо признать, повидимому, Этериджа. Его
«Смехотворная месть» (The Comical Revenge, etc.) написана ге-
роическим стихом и поставлена в 1664 г. Две другие комедии,
в прозе, появились с большими промежутками: в 1668 г. — «Она
бы хотела, если бы могла» (She would if She could), в 1676 г. —
«Поклонник моды» (The Man of Mode, etc.). Все три комедий
блистают тем чудесным диалогом, который был подхвачен
и Доведен до художественного совершенства Кокгривом, Шери-^
Даном, Уайльдом. Композиция пьесы слабая; образы, в сущ-
ности говоря, сводятся к двум: к мужчине, который гоняется за
Удовольствиями, и к женщине, занятие которой—интриги и любовь,
251
Седли в своих комедиях «Парк Мюльбери» (The Mulberry
Garden, 1668*) и «Белламира» (Bellamira, or the Mistress, 1687*)
обращал больше внимания на композиционную сторону и на тех-
нику. Его диалог не обладает таким блеском, как диалог Эте-
риджа, но он ровнее и литературнее. Недаром автор тщательно
изучал Мольера. Содержание на том же уровне, что и у Этериджа:
картины бесшабашных аристократических нравов.
Как писательница, Афра Бен, быть может, выше, чем оба пре-
дыдущих. Истинную меру своего таланта она показала в прекрас-
ном романе «Оруноко». Ее образцами были эпигоны дореволю-
ционной комедии, главным образом Мидльтон и Мэссинджер.
Такие ее комедии, как «Голландский любовник» (The Dutch
Lover, февр. 1672—1673*), «Распутница» (The Debauchee,etc.,февр.
1676—1677*), «Городской франт» (The Town-Fopp, etc., 1676*) изо-
бражают ту же разнузданную жизнь аристократов, пожалуй, с еще
большим бесстыдством, чем это делают Этеридж и Седли.
Уичерли написал четыре комедии: «Любовь в лесу» (Love
In a Wood, etc., 1671*),«Танцовальный учитель-джентльмен» (The
Gentleman Dancing Master, янв. 1671—1672*), «Деревенская жена»
(The Country Wife, янв. 1674—1675*) и «Прямодушный (The Plain
Dealer, 1676*). Уичерли долго жил во Франции и поэтому имел
возможность присмотреться к драматургической технике Мольера.
Она оказала на него заметное влияние. Но сердцевину мольеров-
ского творчества он не понял и едва ли стремился понять. Из-
лагать содержание его комедий можно лишь в самых общих
чертах, ибо малейшее углубление в детали превратит изложение
в ряд непристойных сцен. Первая — «Любовь в лесу» — по сю-
жету повторяет «Парк Мюльбери» Седли: фейерверк легких зна-
комств, мимолетных связей, грубых интриг, нечистоплотных от-
ношений. В «Танцовальном учителе» изображено, как некий
джентльмен, застигнутый в момент, не очень для него удобный,
выдал себя за учителя танцев. «Деревенская жена» воскрешает
ситуацию теренциева «Евнуха»: молодой человек выдает себя за
кастрата, чтобы без помехи соблазнять жен поверивших ему про-
стаков. «Прямодушный»,—лучшая из всех комедий Уичерли,—
построена на мотивах «Мизантропа», но подражание ограничилось
внешней рамкой. Суровый мольеровский протест против современ-
ного общества исчез, чтобы дать место циническому изображению
нарочито грубых нравов. Персонажи Уичерли говорят таким
площадным языком, ведут себя до такой степени непозволительно,
что в наше время эту комедию неприятно читать.
Однако между Уичерли и тремя его предшественниками имеет-
ся существенная разница. Этеридж, Седли и Афра Бен рисуют
своих персонажей, их поведение и пороки со снисходительной
усмешкой. Они ни на йоту не поднимаются над уровнем своих
героев. В их ярких, натуралистических комедиях нет ни одной
сатирической ноты. Уичерли изображает современную жизнь
с такой же цинической откровенностью, как и другие, но в его
252
изображении иной раз явственно слышится сатира. Ларошфуко
недаром был его любимым писателем;
Конгрив пошел в этом направлении еще дальше. Он испробо-
вал свои силы в самых различных областях литературы: написал
роман «Незнакомка» (Incognita, etc., 1692) и трагедию «Невеста
в трауре» (The Mourning Bride, 1697*); писал стихи и литератур-
ные трактаты, среди которых интересен «Опыт об остроумии и
юморе». Но имя его принадлежит по праву истории комедийного
жанра. Хотя Конгрив начал писать уже после революции 1688 г.,
все, что им написано, держится корнями во вкусах и нравах вре-
мен Реставрации. Он тоже следует за Мольером и "английским
мастером Беном Джонсоном, родственным мольерову гению. Из
древних Конгрив почитал Менандра и Теренция, и нет ничего
удивительного, что некоторые приемы этих великих изобрази-
телей быта мы встречаем в его комедиях.
Конгрив великолепно умеет наблюдать жизнь и не в пример
Этериджу и Уичерли не идет покорно за фактами, а подчиняет
•их своей творческой воле. Поэтому его комедии не в такой мере
страдают от натурализма, как комедии Реставрации. Четыре его
пьесы: «Старый холостяк» (The Old Batchelor, янв. 1692— 1693*),
^Двоедушный (The Double Dealer, 1693*), «Любовь за любовь»
(Love for Love, 1695*) и «Пути светской жизни» (The Way of
the World, март 1699—1700*) принадлежат к лучшим образцам
английской комедии вообще. Моральный уровень героев, правда,
цочти так же невысок, как и в комедиях времен Реставрации, и
Конгрив этого не скрывает. Когда его упрекали в том, что из
четырех женщин, выведенных в «Двоедушном», три — разврат-
ницы, он отвечал, что не его вина, если три четверти женского
яола порочны.
Комедии Конгрива написаны с очень большим мастерством.
^Интриги, ситуации, диалог — все блестяще. Действие разверты-
вается естественно и убедительно, весело и непринужденно.
Пикировки действующих лиц заставляют иной раз вспомнить
такие образцы, как Беатриче и Бенедикт. Но главное отличие
Комедий Конгрива от комедий его предшественников — в том,
*что он рисует жизнь реалистически и что его действующие лица —
■Живые люди. Имена некоторых из них до сих пор остаются нари-
цательными. Таковы, например, миссис Милламент и ее поклон-
ник Мирабель («Пути светской жизни»).
Конгрив не только видит насквозь своих персонажей, он не
только способен сатирически отнестись к ним. Он уже строит
свои пьесы так, что читатель и зритель воспринимает их как ко-
медии нравов, продиктованные определенными взглядами на
жизнь. Это — большой шаг вперед в развитии английской коме-
дии конца XVII и начала XVIII века. Слава Конгрива к
началу XVIII века выходила за пределы его родины. Вольтер
поспешил познакомиться с ним по приезде в Англию.
После революции 1688 г., свергнувшей монархию Стюартов,
аристократическая драматургия не могла, как прежде, полно-
253
властно царить на сцене. Лицо английского театра уже к концу
XVII и началу XVIII века заметно меняется.
Творчество Конгрива было самым ярким явлением после-
реставрационной драматургии. Трагедия после «славной револю-
ции» должна была надолго если не умереть, то впасть в летар-
гию. Кого могло интересовать в эти прозаические времена кипение
трагедийных страстей? Но и комедия принуждена была с тру-
дом отвоевывать себе право на существование. Буржуазные кру-
ги все более настоятельно требовали реформы театра. Буржуаз-
ная критика с новоявленньш пуританским рвением ополчилась
против комедии Реставрации. Одним из самых ярких явлений
такого рода была в эту пору книга Джереми Колльера
(Jeremy Collier, 1650—1726) «Краткий очерк безнравственности
и нечестивости английской сцены» (A Short View of the Immorality
and Profanity of the English Stage, 1698). Хотя Колльер был ярым
сторонником Стюартов, выступал в защиту изгнанного Якова II
и был даже причастен к заговору против Вильгельма, он тем
не менее выступил ревностным противником драматургии годов
Реставрации.
В своей книге Колльер обличает «распущенность» театра, его
«кощунство», «насмешки над духовенством», «безнравственность,
поощряемую сценой», критикует несколько пьес, которые, по его
мнению, представляют типичные примеры того, что он разобла-
чает. В заключительной главе Колльер разбирает «взгляд язы-
чества, церкви и государства на театр». Вывод из всего памфлета
таков: «Ничто не может быть вреднее, чем театр, для благоче-
стия и религии. Театр покровительствует таким страстям и на-
граждает такие пороки, которые противны разуму». На основании
всех этих рассуждений Колльер настойчиво требует реформы
театра.
Книга Колльера вызвала, разумеется, множество возражений,
в том числе и со стороны драматургов. Тем не менее, она не только
произвела сильное впечатление, но и привела к практическим
последствиям. Взгляды Колльера и его'единомышленников встре-
чали поддержку у нового зрителя, определявшего успех или неус-
пех любой пьесы. Теперь светские щеголи в партере и светские
дамы в ложах уже не были единственными посетителями театров,
как в годы Реставрации. В театре появились зрители-буржуа.
На галлерее, раньше целиком отданной многочисленной дворян-
ской челяди, теперь, расталкивая ее все более и более энергично,
размещались ремесленники и торговцы. Вся эта новая публика
умела очень решительно выражать свое мнение.
Комедии вроде тех, которые писали Уичерли с Конгривом,
стали теперь невозможны на сцене. Два наиболее популярных
драматурга, Джон Ванбру (Sir John Vanbrugh, 1664—1726)
и Джордж Фаркер (George Farquhar, 1678—1707) должны были
внести в свое творчество некоторые коррективы, подсказанные
поворотом общественного мнения. По их творчеству равнялся
теперь и Шэдуэль.
254
Первые две комедии Ванбру, поставленные до появления книжки?
Колльера, — «Неисправимый» (The Relapse, etc., 1696*) &
«Оскорбленная супруга» (The Provok'd Wife, ч. I, 1696*; ч. II,
март 1696—1697*) — ничем не отличаются от комедий периода
Реставрации. К следующим своим комедиям — «Эзоп»(Aesop, ч. I,.
1696) и «Вероломный друг» (The False Friend, февр. 1701—1702*)—
Ванбру должен был предпослать объяснительные прологи. В про-
логе ко второй пьесе он говорит: «Вы, черствые реформаторы
нечестивого века, будьте хоть раз справедливы к нам. Вот мы
теперь подчиняемся вашим требованиям, чтобы заслулшть вашу
благосклонность, и предлагаем вам пьесу, такую нравственную,
что даже боимся за ее успех». Эта «нравственная» пьеса обра-
щается за сюжетом к репертуару испанской комедии «плаща и
цшаги»;*в ней развратник, победоносный герой прежних комедий,
Терпит в конце заслуженное наказание. Но Ванбру, повидимому,
iifice-таки чувствовал себя выбитым из колеи новыми требованиями
|: театру. Он решил пойти по линии наименьшего сопротивления:
|тал переделывать комедии Мольера и Данкура.
I Ту же эволюцию претерпел и Фаркер. Первая его пьеса—
|Любовь и бутылка» (Love and a Bottle, 1699*) лучше всего
выражает его подлинное направление и, так же как и первые
|<омедии Ванбру, написана в духе драматургии Реставрации.
^следующих комедиях он меняет вехи. Это ему удалось не сразу.
Щ пьесе «Верная супружеская пара» (The Constant Couple,
àttc., 1699*) и ее продолжении — «Сэр Гарри Вильдер» (Sir Harry
Kfildair, etc., 1701*) y него то и дело прорываются легкомыслен-
нее, часто цинические речи. Комический эффект лучших сцен
Шерной супружеской пары» заключается в том, что сэр Гарри
рильдер принимает почтенный семейный дом лэди Дарлинг за
й^Йличный дом и соответственно ведет себя с дочерью хозяйки,
Эрлоденькой невинной Анжеликой.
•['■\ Но комедия «Братья-соперники» (The Twin-Rivals, 1702*) уже
Обнаруживает серьезный поворот. В предисловии к ней автор
говорит о том, что существуют проступки, которые достойны
кары, но для трагедии они слишком незначительны. Так как их
нельзя оставлять безнаказанными, то, очевидно, их надо пока-
зывать не в трагедии. Действующие лица в этих случаях слишком
мелки для того, чтобы стать трагическими героями. «Что с ними
Делать? Естественно, они должны стать предметом комедии». Тут
уже можно усмотреть первую мысль о новом жанре — о буржуаз-
ной драме.
Томас Шэдуэль, который выступал в годы Реставрации как под-
голосок Этериджа и Уичерли, проделал большую эволюцию и свои-
ми последними пьесами, вместе с Ванбру и Фаркером, занимает
переходную ступень, ведущую к драматургии нового типа, развитие
которой принадлежит уже истории литературы Просвещения.
Комедия времен Реставрации оказала известное влияние на
Реалистическую литературу английского Просвещения. Фильдинг
^моллет, Гольдсмит и Шеридан многим обязаны Уичерли, Кон-
255
гриву, Ванбру и Фаркеру. В первой половине XIX века интерес
к комедии Реставрации воскресили романтики — Лэм, Хэзлит,
Ли Гент.
Глава 3
ПРОЗАИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕН РЕСТАВРАЦИИ
1
Прозаические повествовательные жанры — «эссей» и роман —
играли в аристократической литературе времен Реставрации
второстепенную роль.
В истории развития английского романа, как и всей англий-
ской литературы, годы Реставрации являются переходным перио-
дом. Пдутовскои роман, образцом которого может служить
«Английский плут» (The English Rogue, 1665—1671)Хеда (Richard
Head) и Керкмена (Francis Kirkman), с переменным успехом оспа-
ривал популярность у «галантных», прециозных романов, кото-
рые, начиная с 50-х годов XVII века, во множестве переводились
с французского и породили немало подражаний в самой Англии.
Образцом этих подражаний может служить «Партенисса»
(Parthenissa, 1654—1665) Роджера Бойля, лорда Брогиля, графа
Оррери (Roger Boyle, lord Broghill, Earl of Orrery, 1621—1679).
Действие этого многотомного романа начинается в Гиерополисе,
в Сирии. Герой романа — «незнакомец, богато вооруженный и
соответственно благословенный всеми дарами Природы и воспи-
тания», оказывающийся персидским военачальником Артабаном, —
рассказывает жрецу храма Венеры историю своей любви к несрав-
ненной принцессе Партениссе. Это патетическое повествование
прерывается вставными эпизодами, где фигурируют другие влюб-
ленные пары. Роман, как и его французские прообразы, отличается
весьма фантастическим «историзмом». Так, например, к чис-
лу прочих подвигов Артабака принадлежит организация восста-
ния римских рабов, которое он возглавляет под именем Спарта-
ка. Впрочем, как и подобает герою «галантного» романа, Арта-
бан и здесь заботится, главным образом, о служении прекрасным
дамам.
Наиболее значительной английской романисткой этого пе-
риода была Афра Бен (Aphra Behn, 1640—1689), одна из самых
колоритных фигур своего времени. Если верить биографическим
данным, приводимым ею самою и ее современниками, она была
дочерью суринамского губернатора, умершего на пути в свою
колонию, и провела несколько лет в Суринаме, где стала свиде-
тельницей событий, описанных ею в романе «Оруноко». Вернув-
шись на родину, она вышла замуж за голландского купца Бена,
блистала при дворе и своими прелестями снискала внимание
Карла II. Овдовев, она «работала» некоторое время английской
256
шпионкой в Голландии, ведя слежку за эмигрировавшими туда
английскими республиканцами. В Англии Афру Бен ждала дол-
говая тюрьма. Но на выручку предприимчивой авантюристке при-
шла литературная деятельность; по словам современного ей био-
графа, «остаток ее жизни был посвящен целиком наслаждению
и поэзии»; Афра Бен стала не только куртизанкой, но и первой
английской профессиональной писательницей.
Многие из этих сведений оспариваются новейшими биогра-
фами. Несомненно, во всяком случае, что жизнь Афры Бен дей-
ствительно была полна превратностей и позволила ей хорошо
лознакомиться с закулисными сторонами английской обществен-
ной жизни ее времени.
Литературное наследство, оставленное Афрой Бен, очень
обширно. Помимо романов, она писала стихи, пьесы, литератур-
ные трактаты, много переводила. Большинство ее романов при-
мыкает к прецдозно-«галантному» жанру, прославленному
сочинениями Скюдери, Ла Кальпренеда и других. Прециозным ду-
хом проникнута, например, написанная по французским источ-
никам книга «Лицидус, или изысканный влюбленный. Рассказ
Лицидуса Лизандру о его путешествии с острова любви» (Lyci-
dus, or the Lover in Fashion. Being an Account from Lycidus to
Lysander, of His Voyage from the Island of Love, 1688), где лю-
бовная фабула трактуется в галантно-аллегорическом планер
Лицидус повествует о том, как происки Равнодушия разлучили
«го с Сильвией, его возлюбленной, удалившейся на Остров Отвра-
щения, после чего он вынужден был искать рассеяния в путешест-
вии по новым местам, именуемым Развлечение, Уступчивость и Не-
решимость, где пережил немало новых любовных авантюр.
От своих французских прообразов романы Бен отличаются,
однако, гораздо большей сжатостью и страстным драматизмом
Действия, напоминая подчас итальянские новеллы времен Воз-
рождения. Иногда у Афры Бен встречаются ситуации, которым
позднее предстояло быть использованными романистами-просве-
тителями; так, например, в «Странствующей красавице» (The
Wandering Beauty), где героиня под видом служанки внушает
любовь своему хозяину и становится его женой, писательница
разрабатывает в плане авантюрного «галантного» романа ситуа-
цию «Памелы» Ричардсона.
Самый замечательный роман Афры Бен — «Оруноко, или цар-
ственный раб» (Oroonoko, or the Royal Slave) — вышел в 1688 г.
Книга эта заметно выделяется среди бесчисленных произведений
писательницы. В «Оруноко» Афра Бен предвосхитила некоторые
существенные мотивы просветительской литературы XVIII века.
Роман «Царственный раб» повествует о жестокой судьбе аф-
риканского «принца» Оруноко и его возлюбленной, чернокожей
красавицы Имоинды. Несчастья влюбленных начались еще на
Родине, на Золотом берегу Африки. Не успели они обручиться,
*ак царь племени, столетний старец, дед Оруноко, насильствен-
разлучил их. Пленившись красотой Имоинды, он заключил ее
Англ. литература ф 257
в свой гарем, а затем, убедившись, что не в состоянии овладеть ею,,
тайно продал ее в рабство. Оруноко, поверив ложному сооб-
щению царских приближенных, считает свою невесту мертвой.
Судьба, однако, снова соединяет влюбленных. К африканским
берегам причаливает английский корабль, капитан которого
завязывает знакомство с Оруноко и приглашает его посетить
судно. Доверчивый африканец принимает приглашение и вместе
со своими спутниками попадает в западню. Команда невольни-
чьего корабля нападает на простодушных чернокожих гостей
и заковывает их в кандалы. Корабль поспешно снимается с яко-
ря, и попутный ветер увлекает Оруноко на чужбину, в рабство.
На плантациях далекого Суринама Оруноко-раба ждет, однако,
неожиданная радость: в негритянке-невольнице, слава о красоте
и добродетели которой разнеслась по всей колонии, он узнает
свою Имоинду. Теперь Оруноко с новой страстью рвется к сво-
боде. Он поднимает восстание среди невольников и во главе ше-
стисот негров уходит в лесные дебри, мечтая пробиться к морю
и там основать свое, свободное государство, а может быть, за-
владев чужим кораблем, вернуться на родину. Но вооруженная
погоня настигает повстанцев. Не выдержав натиска преследо-
вателей, рабы изменяют своему вождю. Оруноко, доверившись
лживым обещаниям губернатора, сулящего ему свободу, сдается
в плен. Жестокие истязания, которым подвергают его торжест-
вующие враги, не могут сломить его героический дух. Лишившись
надежды на освобождение, Оруноко убивает Имоинду, радостно
принимающую смерть от руки любимого, и пытается покончить
с собой. Но его железное здоровье берет верх: Оруноко выздорав-
ливает, и враги его, только и ждавшие этой минуты, спешат пре-
дать опасного мятежника публичной казни. Оруноко умирает
мучительною, медленною смертью, с героическим спокойствием вы-
держивая все пытки, какие нашлись для него у белых палачей,
и губернатор рассылает по плантациям куски его четвертованного
тела, в назидание другим «непокорным» рабам.
«Оруноко» во многом связан с традициями аристократической
литературы Реставрации. В нем можно усмотреть, в част-
ности, влияние драйденовской «героики». В образе Оруноко
проступают черты, напоминающие «императора индейцев» и
других «благородных» экзотических персонажей «героических
пьес» Драйдена. Самый подзаголовок романа — «царственный
раб» — полон значения. Афра Бен неустанно подчеркивает «цар-
ственность» своего героя и его благородной подруги и трагиче-
скую исключительность их горестной судьбы. С наивною тщатель-
ностью она наделяет своего африканского «принца» всеми атри-
бутами, необходимыми герою «галантного» прециозного романа
XVII века. Ее Оруноко обладает не только «подлинным величием
души», но и «утонченными понятиями о чести». Живя в африкан-
ской глуши, он успел обучиться французскому, английскому 1!
испанскому языкам; он восхищается доблестями древних римлян
и скорбит о «плачевной кончине» Карла I, а изящество его манер
258
и галантность обращения таковы, «как будто он был воспитан
при каком-нибудь европейском дворе». Самая наружность этого
экзотического героя, — за исключением цвета кожи, — соответ-
ствует всем требованиям европейского вкуса. «Нос его был резко
очерченный и римский, а не африканский и приплюснутый...
Рот его был обрисован самым изящным образом и далеко не по-
хож на те толстые, вывороченные губы, которые так свойственны
остальным неграм», и т. д. Столь же исключительными чертами
отличается и облик Имоинды. Даже в неволе она, как иОруноко,
ни на мгновение не «оскверняет» себя трудом; все ее работы на
плантации, — рассказывает Афра Бен, — исполняются за нее
поочередно ее бесчисленными поклонниками.
Оберегая своих героев даже в самых тяжелых испытаниях
от соприкосновения с повседневной житейской прозой, Афра
Бен менее всего помышляет о том, чтобы сделать их поборниками
свободы и равенства. Гуманность Оруноко не мешает этому «про-
свещенному» принцу в бытность на родине спокойно торговать
рабами. Встретясь на суринамских плантациях со своими жерт-
вами-невольниками, когда-то проданными им в рабство, он не
только не сожалеет о том, что стал виновником их несчастий, но
тотчас же становится в положение их прирожденного повелителя-
Мррарха и милостиво принимает знаки их почтительного вос-
хищения.
, И, вместе с тем, в этом произведении, еще близком к прециоз-
НО-«галантным» романам XVII века, есть черты, связывающие его
с позднейшей просветительской литературой XVIII века. В «Ору-
ноко» уже намечается то противопоставление «естественного со-
стояния» — «цивилизации», которому предстояло сыграть столь
Важную роль в развитии просветительской общественной мысли.
Это противопоставление формулируется уже во вступительной
части романа, где Афра Бен рассказывает о жизни и нравах су-
ринамских индейцев.
«Этот народ, — пишет она, — представлялся мне абсолютным
воплощением первобытного состояния невинности, когда чело-
век еще не знал греха... Безыскусственная Природа—самая
безвредная, безобидная и добродетельная повелительница. Если
ей дащт свободу, она руководит миром успешнее, чем все, что
изобретено человеком: религия лишь уничтожила бы спокой-
ствие, которым эти люди обладают благодаря своему невежеству,
Я законы научили бы их преступлениям, о которых они сейчас
не имеют понятия. Однажды, когда английский губернатор, обе-
щавший к ним приехать, не явился в назначенный день, они
объявили траур и пост в знак скорби о его кончине, будучи уве-
рены, что если человек дал слово, то ничто, кроме смерти, не
может и не должно помешать ему сдержать его. Когда же они уз-
нали, что он не умер, они спросили его, как называется на его язы-
2* человек, который обещает то, чего не исполняет. Губернатор
' казал им> чт° такой человек — лжец, и что слово это позорно
jlf ДЖентльмена. Тогда один из них ответил: «Губернатор, вы—
259
лжец и повинны в этом позоре». У них есть прирожденное чув-
ство справедливости, не допускающее обмана; и они не знают ни
порока, ни*лжи, за исключением того, чему их учат белые».
Эти мотивы развиваются далее в истории самого Оруноко,
в лице которого в английскую литературу входит первый идеаль-
ный «естественный человек» будущих просветительских утопий.
Трагическая гибель Оруноко обусловлена именно тем, что его
прирожденное, «естественное» благородство не совместимо с лжи-
выми законами европейской «цивилизации». И хотя он и выхо-
дит физически побежденным из всех своих столкновений с бе-
лыми «цивилизаторами» — капитаном-работорговцем, плантато-
рами, губернатором, — моральная победа остается за ним. Про-
стодушная невинность и чистота этого «естественного человека»
оттеняют с особою резкостью грязь «цивилизованных» нравов.
Устами своего героя Афра Бен осуждает и самое христианство.
По словам Оруноко, «ни белым людям, ни богам, которым они по-
клоняются, нельзя верить; эти боги внушили им столь ложные
правила, что честные людц не могут жить в их среде. Ни один на-
род не обещает так много и не исполняет так мало...С христианами
человек должен быть всегда настороже, никогда не выпус-
кать из рук оружия, деля с ними питье или пищу, и, ради само-
сохранения, никогда не верить ни единому их слову». Ясному
уму Оруноко претит христианская мистика. «Он никак не мог при-
мириться с нашим представлением о троице и даже подшучивал
над ним... и его никак нельзя было заставить понять, что такое
вера».
Эти антирелигиозные мотивы романа знаменательны. Аристо-
кратическое вольнодумство, столь характерное для времен Реста-
Ерации, уже непосредственно граничит здесь с просветитель-
ским свободомыслием, заставляя вспомнить известные замечания
Энгельса об аристократическом происхождении просветительского
материализма.
Любопытно, что английским буржуазным просветителям XVII
века предстояло даже внести некоторые коррективы в эту крити-
ку религии, намеченную в романе Афры Бен. Уже у Дефо рели-
гиозные споры Робинзона и Пятницы кончаются все-таки «обра-
щением» последнего. Афра Бен в этом смысле стоит ближе
к французскому Поосвещению, предвосхищая отчасти антирели-
гиозные мотивы «Простака» Вольтера или «Дополнения к путе-
шествию Бугенвиля» Дидро.
Многими особенностями своего стиля Афра Бен приближается
к реализму ранних романистов английского Просвещения. Подобно
Дефэ, она стремится придать своей экзотической истории «царст-
венного раба» возможно более достоверный, подлинный характер.
Читатель должен почувствовать себя не в сфере вымысла, а в об-
ласти реальных фактов. Афра Бен выступает как свидетельница
и участница описываемых ею событий. Она искусно вплетает
в свое повествование мимолетные «личные» воспоминания о пер-
вом знакомстве с Оруноко, о беседах с ним и т. д., а если и при-
260
знается иногда, для большего правдоподобия, что не присут-
ствовала сама при том или ином событии, то спешит сослаться на
свои «источники» — на родных или знакомых, рассказы которых
якобы послужили ей материалом. О том, какое принципиальное
значение придавала этим приемам сама Афра Бен, свидетельствуют
вступительные строки ее романа. «Предлагая вам историю этого
царственного раба, — писала она, — я не намерена занимать
читателя похождениями вымышленного героя, жизнью и судьба-
ми которого фантазия может распоряжаться по произволу поэ-
та; и, рассказывая правду, не собираюсь украшать ее никакими
происшествиями, за исключением тех, которые действительно име-
ли место. Пусть она войдет в свет попросту, полагаясь лишь на
свои собственные достоинства и естественность интриги; в ней до-
статочно реальности, чтобы... сделать ее занимательной без помощи
вымысла».
«Оруноко» имел успех у современников. Уже в XVII веке
он дважды переделывался для сцены — Томасом Саутерном («Ору-
ноко», 1696*) и Вильямом Уокером («Победоносная любовь», 1698).
Но особенно интересна его роль в формировании просветитель-
ского реалистического романа XVIII века. Некоторые исследо-
ватели полагают, что автор «Робинзона Крузо» заимствовал из,
«Оруноко» не только экзотический фон далеких тропиков, но к<
самый образ «естественного человека»—дикаря. Новейший исто-
рик английского романа Э. Бейкер высказывает, вместе с тем,
любопытное предположение о том, что и Свифт, в свою очередь,
не прошел мимо «Оруноко» и что гневное обличение европейской
«цивилизации» и христианства, вложенное Афрой Бен в уста ее
героя, могло повлиять на замысел «Путешествий Гулливера».
. Переходным характером отличалось также творчество другой;
менее крупной романистки этого периода, младшей современ-
ницы Афры Бен, — Мэри де ла Ривьер Мэяли (Mary de la Ri-
vière Manley, 1672— Î725). Среди многочисленных произведений
этой писательницы — пьес, романов, памфлетов, воспоминаний
и т. д., особенно выделяетея так называемая «Новая Атлан-
тида» (The New Atalantis). Под этим общим названием известен
многотомный цикл ее произведений, включавший «Тайные ме-
муары и нравы различных знатных особ обоего пола... с Новой
Атлантиды, острова на Средиземном море» (Secret Memoirs, etc.,
1709), «Придворные интриги, в собрании подлинных писем с ост-
рова Новая Атлантида» (Court Intrigues, etc., 1711) и др.
Своеобразие «Новой Атлантиды» заключалось в том, что фри-
вольно-эротическая фабула тесно сплеталась с политико-сати-
рическими, разоблачительными мотивами. Под видом Новой Ат-
лантиды изображалась, конечно, Англия. В Сигизмунде II узна-
вали Карла II, в принце Тамеранском — Якова II, в маркизе
Кариа — герцога Мальборо и т. д. Ревностная сторонница то-
риев, Мэнли ополчалась против вигов, высмеивая их руководи-
телей под прозрачными псевдонимами и объясняя политику виг-
ского правительства самыми двусмысленными альковными мо-
261
тивами. Политические выпады, заключенные в «Новой Атлан-
тиде», отличались такою резкостью, что стоявшее у власти
вигское министерство подвергло аресту и автора и издателей
этой книги.
Есть предположение, что уже в «Новой Атлантиде» Мэнли
пользовалась помощью Свифта. Во всяком случае, в дальнейшем
они не раз сотрудничали в своей политической борьбе против
вигов. Свифт сам упоминает в «Дневнике для Стеллы» ( 16 апреля
1711 г. и др.), что давал Мэнли материал для ее политических
памфлетов. Летом 1711 г. Мэнли сменила Свифта на посту редак-
тора торийского «Исследователя».
Продолжая литературные традиции Реставрации, Мэнли, по-
добно Афре Бен, предвосхищает и некоторые черты просветитель-
ской реалистической литературы. В ее «Новой Атлантиде», —
по мнению некоторых исследователей, повлиявшей на Свифта,—
можно видеть истоки английского политико-сатирического ро-
мана XVIII века, а другое ее крупное произведение — «Поездка
в Эксетер в почтовой карете. Юмористическое описание пути,
а также характеров и приключений пассажиров» (A Stage-Coach
Journey to Exeter. Describing the Humours of the Road, with the
Characters and Adventures of the Company, 1725) — кажется про-
образом реалистического .«романа большой дороги», столь бле-
стяще представленного впоследствии в творчестве Фильдинга
и Смоллета.
2
«Эссей» времен Реставрации существенно отличался от поздней-
шего, просветительского «эссея». По сравнению с просветительским
«эссеем», совместившим в себе в зародыше жанровые признаки мно-
жества литературных родов, «эссей» времен Реставрации гораздо
менее гибок и разнообразен по своим скрытым жанровым воз-
можностям и гораздо более массивен по размерам. Это — изящ-
ное, но солидное «рассуждение», плод кабинетных раздумий,
сочинение достаточно непринужденное, чтобы служить легким
чтением для классически образованного читателя, но вместе с тем
слишком академически-«эрудированное», чтобы претендовать на
доступ «в каждую кофейню и к каждому чайному столу», подобно
«эссеям» Аддисона и Стиля.
Самым видным представителем английского «эссея» конца
XVII века был сэр Вильям Темпль (Sir William Temple, 1628—
1699), крупный политический деятель, один из руководителей
английской дипломатии времен Карла II. В истории английской
литературы он более известен как «покровитель» молодого Свиф-
та, который служил секретарем в доме Темпля и издал, по за-
вещанию последнего, его сочинения.
Первые сборники «эссеев» Темпля вышли уже при жизни ав-
тора. Первая часть «Miscellanea» (Смешанные сочинения) появи-
лась в 1680 г., вторая—в 1690 г., третья—посмертно, в 1701 г.
262
Тематика «эссеев» Темпля разнообразна. Наряду с вопросами
высокой политики он занимается также и литературой, и эсте-
тикой, и гигиеной, и частным бытом.
В «Опыте о происхождении и природе правительства» Темпль
вносит мало нового в учение о государстве. Полемизируя с тео-
риями общественного договора, он, подобно Фильмеру, видит
источник государственной власти в патриархальном, отеческом
авторитете.
Более оригинален его «эссей» «О народных возмущениях», на-
писанный после победы «славной революции» и подводящий,
с умеренно-консервативных позиций, итоги бурной истории Анг-
лии XVII века. Некоторые замечания Темпля, при всей его пред-
убежденности, довольно метки. Так, например, он не без остро-
умия отмечает, что офицеры кромвелевской армии требовали
отмены всех прав помещиков и уничтожения поземельных запи-
сей лишь до тех пор, пока не успели сами обзавестись собствен-
ностью, после чего стали ревностными поборниками строгой
«законности». В историческом отношении этот «эссей» Темпля, на-
писанный на основании живого общественного опыта, гораздо ин-
тереснее его дилетантского «Введения в историю Англии» (Intro-
duction to the History of England, 1695).
Историки литературы указывают на близость Темпля-эсе-
пста к Монтэню, о котором он не раз с похвалой отзывается в своих
сочинениях. Подобно Монтэню, Темпль сочетает в своих «эссеях»
реминисценции классической древности с личными житейскими
наблюдениями, воспоминаниями, анекдотами. Так, например,
в «эссее» «О садах Эпикура, или о садоводстве» ссылки на ан-
тичные «авторитеты» — Сципиона, Лукулла, Августа и т. д. —
и экскурс в философию Эпикура перебиваются простодушно-са-
модовольным рассказом о необыкновенных сортах слив, фиг
и винограда, выращенных самим Темплем в его поместье.
Темпль напоминает Монтэня и своим скептицизмом, который,
однако, утрачивает у него, как и у других аристократических
писателей времен Реставрации, действительную связь с гумани-
стическим пафосом Возрождения. Темпль-скептик относится с не-
доверием и к человеческой «природе» и к человеческому разуму.
В «эссее» «О народных возмущениях» он говорит об «известном бес-
покойстве ума и мысли, которое повидимому всегда и неотдели-
мо связано с нашей природой», как об источнике всех человече-
ских бед и печалей. Человек, как кажется Темплю, напрасно
гордится собою; в сущности он почти ничем не отличается от жи-
вотного; по внешности он не так уж непохож на обезьяну, дар
речи он разделяет с попугаем и обладает разумом наравне с собакою,
лошадью, слоном и т. д. Правда, в отличие от животных, человек
умеет смеяться, — но кто же не знает, как ничтожны, низменны
и порочны обычные мотивы человеческого смеха!
Пессимистическим духом проникнут также и наиболее извест-
ный «эссей» Темпля «О древней и новой учености», отголосок начав-
шегося еще во Франции так называемого «спора древних и но-
263
вых». Темпль выступает здесь с резкой критикой представления
о прогрессе цивилизации. Современное общество, с его точки зре-
ния, не создало ни в науке, ни в искусстве ничего, что могло бы
превзойти античные образцы. Если люди XVII века в некоторых
отношениях и стоят выше «древних», то лишь настолько, насколь-
ко карлик, взобравшийся на плечи к великану, может считаться
выше последнего. Даже борьба с педантизмом и схоластикой в нау-
ке кажется Темплю печальным знамением времени: насмешки
над педантством, по его мнению, нанесли последний удар науке,
так же как насмешки Сервантеса над рыцарством погубили ры-
царскую Испанию. Этот «эссей» оказал большое влияние на моло-
дого Свифта, который принял участие в полемике, вызванной
выступлением Темпля, своею «Битвою книг» — сатирой на сторон-
ников «прогресса». Впоследствии Свифт с высокой похвалой ото-
звался о литературных заслугах Темпля. «Общепризнано, —
писал он, — что этот автор довел английский язык до наиболь-
шего доступного ему совершенства». «Темпль,—заметил позд-
нее Сэмюэль Джонсон, — был первым писателем, придавшим
ритм английской прозе».
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ЛИТЕРЛТУРЛ
ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
1
В общественной жизни большинства европейских стран дви-
жение, известное под названием Просвещения, сыграло огромную
роль.
При всем разнообразии направлений и оттенков, каким от-
личалась деятельность просветителей XVIII века в различных
странах Европы, их основные исторические задачи совпадали.
Просветительство было в эту пору повсюду наиболее универсаль-
ной формой идеологической борьбы третьего сословия с феода-
лизмом и его пережитками. Рассматриваемое в общеевропейских
исторических масштабах, просветительное движение XVIII века
лолучило свое закономерное завершение в французской буржуаз-
ной революции 1789 г., идейно им подготовленной.
Одушевление «горячей враждой к крепостному праву и всем
его порождениям в экономической, социальной и юридической
области»; «горячая защита просвещения, самоуправления, сво-
боды»; «отстаивание интересов народных масс, главным образом
крестьян (которые еще не были вполне освобождены или только
.освобождались в эпоху просветителей), искренняя вера в то, что
отмена крепостного права и его остатков принесет с собой общее
благосостояние, и искреннее желание содействовать этому» х —
таковы три характерные черты «просветителя», на которые указы-
вает Ленин.
Деятельность просветителей XVIII века была кипучей и много-
образной. Со времен Возрождения Европа еще ни разу не была
ареной столь неустанных исканий во всех областях обществен-
ной, политической и культурной жизни, как в эту пору. Будучи
в большинстве своем людьми необычайно универсальных, под-
линно энциклопедических интересов и познаний, просветители
стремились поставить на службу человечеству все отрасли знания.
•Самые отвлеченные проблемы мышления увязывались ими с са-
мыми практическими и насущными вопросами общественной и
Частной жизни людей. «Философия—это наука о счастье», —
говорит один из ранних английских просветителей, Антони Шефтс-
оери.
1 Л ен и н, Соч., т. II, стр. 314.
' 267
Во введении к «Анти-Дюрингу» Энгельс дал замечательную ха-
рактеристику взглядов и деятельности просветителей XVIII ве-
ка. «Великие люди, которые во Франции просвещали головы для
приближавшейся революции, сами выступали крайне револю-
ционно, — пишет он. — Никаких внешних авторитетов они не
признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государст-
венный порядок — все подвергалось их беспощадной критике, все
призывалось пред судилище разума и осуждалось на исчезнове-
ние, если не могло доказать своей разумности. Разум стал един-
ственным мерилом всего существующего. Это было то время,
когда, по выражению Гегеля, «мир был поставлен на голову», т. е.
когда человеческая голова и открытые при помощи ее мышления
положения предъявили притязание служить единственным осно-
ванием всех человеческих действий и общественных отношений
и когда вслед за тем противоречившая этим положениям дей-
ствительность была фактически перевернута вверх ногами. Все
прежние формы общества и государства, все традиционные пред-
ставления были признаны неразумными и отброшены как ста-
рый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками,
и все его прошлое достойно лишь сожаления и презрения. Теперь
впервые взошло солнце, наступило царство разума, и с этих пор
суеверие и несправедливость, привилегии и угнетение уступят
место вечной истине, вечной справедливости, вытекающему из
законов природы равенству и неотъемлемым правам человека.
Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным,
как идеализированным царством буржуазии, что вечная справед-
ливость осуществилась в виде буржуазной юстиции, что равенство
ограничилось равенством граждан перед законом, а самым сущест-
венным из прав человека объявлено было право буржуазной соб-
ственности. Государство разума, «общественный договор» Руссо,
оказалось и могло оказаться на практике только буржуазной
демократической республикой. Столь же мало, как и все их пред-
шественники, великие мыслители XVIII века могли выйти за пре-
делы, которые им ставила их собственная эпоха.
Но наряду с противоположностью между феодальным дворян-
ством и буржуазией, [выступавшей в качестве представительницы
всего остального общества] существовала общая противополож-
ность между эксплоататорами и эксплоатируемыми, богатыми:
тунеядцами и трудящимися бедняками. Именно это обстоятельство
дало возможность представителям буржуазии выступать в роли
представителей не какого-либо отдельного класса, а всего страж-
дущего человечества» г. ,
Прогрессивное историческое значение буржуазного просве-
тительства подчеркивал и Ленин в цитированной уже статье «От
какого наследства мы отказываемся?»
«Нельзя забывать, — говорит Ленин, — что в ту пору, когда
писали просветители XVIII века (которых общепризнанное мне-
1 Энгельс, Анти-Дюринг, 1938, стр. 16—17.
268
ние относит к вожакам буржуазии), когда писали наши просве-
тители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы своди-
лись к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые об-
щественно-экономические отношения и их противоречия тогда
были еще в зародышевом состоянии. Никакого своекорыстия по-
этому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив,
и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее
благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти
не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал
из крепостного» х.
Центральным вопросом всех политических, философских,
эстетических и литературных изысканий просветителей был во-
прос о человеке или, по обычному термину XVIII века, о «челове-
ческой природе». В противоположность традиционному церковному
учению о «первородном грехе», обусловившем, якобы, врожден-
ную порочность чувственной природы земного человека, просве-
тители единодушно утверждают, что человек от природы добр.
Если в действительности люди столь часто отступают от этой своей
естественной добродетели, то лишь потому, что их нормальная,
здоровая природа подверглась пагубному, извращающему влия-
нию неестественных и неразумных условий окружающей их об-
щественной или частной среды и воспитания..Феодальный строй,
сословные различия, религиозные догматы, церковные установ-
ления, схоластическую премудрость — все это просветители от-
вергали, как неразумие, ложь и фальшь, не соответствующие
истинным законам «человеческой природы».
Гуманистические воззрения просветителей XVIII века сами
по себе были, однако, далеко не последовательны и полны про-
тиворечий. Даже самые передовые материалисты-просветители
XVIII века оставались идеалистами в понимании законов об-
щественного развития. Возлагая все свои надежды на воспита-
ние и прэсвещение человечества, они, по замечанию Маркса,
забывали, «что обстоятельства изменяются людьми и что воспита-
теля самого надо воспитывать» 2.
Делая мерою всех вещей идеальную мерку отвлеченного ра-
зума, просветители придавали исторически обусловленным и
определенным явлениями процессам внеисторический, абстракт-
ный характер. Буржуазные общественные отношения, слагав-
шиеся внутри феодального общества по мере разложения старых
феодальных связей, рассматривались просветителями XVIII
века как единственно возможная, истинно человечная, естествен-
ная и разумная фэрма связи между людьми, а буржуа казался
им индивидом, установленным, якобы, самой природой. Как
пишет Маркс («^вздени? к «Критике политической экономии»),
«пророкам XVIII века... этот индивид XVIII века, —продукт,
с одной стороны, разложение феодальных общественных форм,
1 Л е н и н, Соч., т. II, стр. 315.
'Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 5S0.
269
а с другой — развившихся с XVI века новых производительных
сил, — представляется идеалом, существование которого отно-
сится к прошлому, — не результатом истории, а ее исходным
пунктом; потому что соответствующий природе индивид, соглас-
но их воззрению на человеческую природу, казалось, не возник
исторически, а установлен самой природой» 3.
Представление о «естественной» неизбежности законов бур-
жуазного общества, якобы столь же непреложных и неизменных,
как движение звезд и планет или развитие клеток в организме,
ставшее впоследствии краеугольным камнем буржуазной социо-
логии XIX века, зарождается, таким образом, уже в XVIII веке,
в эпоху Просвещения. Но для самих просветителей вопросы, свя-
занные со становлением буржуазного общества, решались да-
леко не так просто, как для их либеральных эпигонов.
В одной из своих ранних работ, — в статье «К еврейскому во-
просу» — Маркс высказал соображения, служащие ключом к по-
ниманию основных противоречий просветительской философии т
морали и литературы XVIII века. Подытоживая исторические
результаты буржуазно-демократических революций на Западе г
Маркс указывает, что «свержение политического ярма было в то
же время свержением уз, сковывавших эгоистический дух граж-
данского общества. Политическая эмансипация была в то же вре-
мя эмансипацией гражданского общества от политики, даже от
видимости какого-нибудь общего содержания.
Феодальное общество было разложено до своего основания —
человека, но до того человека, который действительно составлял
его основание, до эгоистического человека»2. «Человек, как член
гражданского общества, имеет значение собственно человека,
homme'a в отличие от citoyen'a, ибо он является человеком в
своем ближайшем чувственном индивидуальном существовании,
тогда как политический человек является лишь абстрактным,
искусственным человеком, человеком как аллегорической, мораль-
ной личностью. Действительный человек признан лишь в образе
эгоистической личности, истинный человек—лишь в образе
абстрактного citoyen'a...
Политическая эмансипация есть сведение человека, с одной
стороны, к члену гражданского общества, к эгоистическому., не-
зависимому индивиду, с другой — к политическому гражданину,
к моральной личности»3.
Эти противоречия достигли своего полного развития лишь
в XIX веке, в годы зрелости буржуазного общества; но уже в
XVIII веке они встают перед буржуазными просветителями За-
пада в качестве смутных, но недоуменных и все более и более неот-
вязных, неразрешимых вопросов. Как согласовать общечеловече-
ские законы разума с псбуждениями разобщенных и враждебных
друг другу эгоистических частных интересов? Как перебросить
1 Маркс и Энгельс, Соч., т.XII, ч. I, стр. 173—174.
2Маркс иЭнгельс, Соч., т. I, стр. 376.
8 Там же, стр. 377—378.
270
мост в царство гражданского долга, свободы, равенства и брат-
ства из складывавшегося уже в XVIII веке буржуазного обще-
ства, в котором, по выражению Маркса, «различные формы
общественной связи выступают по отношению к отдельной лично-
сти просто как средство для ее частных целей»? * Как найти рав-
нодействующую между идеальными Катоиами и Брутами и
реальными Жиль Блазами и Фигаро? Как, наконец, перенося
эти вопросы в область эстетической теории, сочетать принцип
правдивого воспроизведения явлений, непосредственно данных
художнику природой, с противоположными стремлениями к «иде-
альной модели» (Дидро), прообразу истины, добра и красоты?
В осознанной и развитой форме эти внутренние противоречия
просветительства были выражены Дидро в 1780-х годах, нака-
нуне французской революции, в его «Племяннике Рамо» В этом
гениальном этюде с величайшей диалектической глубиною рас-
крыто противоречие между высокими идеалами Просвещения и
реальными путями буржуазного прогресса. Философ-просветитель,
исполненный лучших гражданских и гуманистических побужде-
ний и выступающий от имени всего человечества, с тревогой!
обнаруживает свое «второе я» в лице реального «естественного!
человека» буржуазного общества, эгоиста и хищника Рамо.
В менее развитой, зачастую бессознательной форме эти про-
тиворечия и ранее, задолго до «Племянника Рамо», высказываются
в философских и художественных произведениях просветителей
XVIII века. В Англии, благодаря особым историческим усло-
виям развития этой страны, они обнаруживаются даже ранее,
чем в других западноевропейских странах.
2
Англия созрела для буржуазной революции гораздо раньше
большинства других европейских стран. Уже в середине XVII ве-
ка в Англии разыгралась буржуазная революция невиданного
по тому времени размаха, закончившаяся победой благодаря
участию в ней крестьянства и городских плебейских масс. А далее,
говоря словами Энгельса, — «за этим избытком револю-
ционной деятельности последовала неизбежная реакция, которая
в Свою очередь тоже зашла дальше своей цели. После ряда ко-
лебаний установился, наконец, новый центр тяжести, который и
послужил исходным пунктом для дальнейшего развития. Заме-
чательный период английской истории, который филистеры ок-
рестили «великим бунтом», и следующие за ним битвы завер-
шаются сравнительно незначительным событием 1689 г. ^кото-
рое либеральные историки называют «славной революцией».
Новый исходный пункт был компромиссом между подымаю-
щейся буржуазией и бывшими феодальными землевладельцами»2.
1Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 174.
2 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 297—298.
271
«Политические «победные трофеи» —должности, синекуры, вы-
сокие оклады — доставались на долю знатных родов земельного
дворянства с условием: в достаточной мере соблюдать экономиче-
ские интересы финансовой, промышленной и торговой буржуазии.
Эти экономические интересы уже тогда были достаточно сильны;
в конечном счете они определяли собою общую национальную по-
литику. Конечно, существовали разногласия по тому или другому
вопросу, но аристократическая олигархия слишком хорошо по-
нимала, что ее собственное экономическое благополучие нераз-
рывной цепью связано с процветанием промышленной и торговой
буржуазии» \
В XVIII столетии в Англии начинается полоса длительного
политического застоя, особенно заметного по сравнению с рево-
люционными битвами предшествующего века. Этот застой иску-
пался, однако, небывалым расцветом экономики. Хозяйственная
жизнь страны действительно кипела ключом. Именно в области
экономики переживала Англия XVIII века свои внутренние
бури, потрясения и перевороты. Если кульминационным пунктом
развития буржуазных отношений во Франции XVIII века оказа-
лась политическая революция 1789 г., а в Германии XVIII века-
ми лософская революция», осуществленная в произведениях
классиков немецкой философии, то в Англии XVIII века эта ис-
торическая роль выпала на долю «экономической революции» —
промышленного переворота.
Компромисс 1689 г., сохранив политическую власть в руках
аристократии, широко раскрыл двери буржуазной частной ини-
циативе во всех областях экономической жизни. Маркс и Эн-
гельс обращают внимание на то, что уже «при Вильгельме 111
получило свое первое освящение господство финансовой буржуа-
зии благодаря учреждению Банка и введению государственного
долга, что благодаря последовательному проведению охранитель-
ной таможенной системы был дан новый толчок развитию ма-
нуфактурной буржуазии» 2.
* Роль финансовой буржуазии в Англии этого времени была
так велика, что дала основание Марксу установить «огромное
сходство» этой эпохи в истории Англии «с эпохой Луи-Филиппа
во Франции, когда старая земельная аристократия была раз-
бита, а буржуазия оказалась способной занять ее место лишь под
знаменем денежной плутократии, или «haute finance»3. tM
Финансовая спекуляция и ажиотаж принимали в Англии
XVIII века самые фантастические формы. Особенно широкую из-
вестность получила история с акциями «Компании Южных
Морей», пользовавшейся покровительством парламента и королев-
ского дома. Ее крах ( 1721) разорил множество рядовых акционе-
ров, обогатив кучку ловких спекулянтов с видными членами
правительства во глдве. Каждый день приносил известия о новых
1 M а р к с и Энгельс. Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 297.
2Маркс и Энгельс, Соч. т. VIII, стр. 276.
3Маркс и Энгельс. Соч., т. IX, стр. 353.
272
спекулятивных предприятиях подобного рода. Возникали акцио-
нерные общества «по извлечению серебра из.свинца», «по изобре-
тению вечного двигателя», «по импорту ослов из Испании», «по
превращению ртути в ковкий и драгоценный металл». Однажды
было даже объявлено о создании акционерного общества «для
осуществления предприятия, которое своевременно обнару-
жится»; находчивый организатор этого «общества» скрылся, ус-
пев собрать за одно утро 2 000 гиней. Ссылаясь на Бэлинброка,
Маркс говорит в «Капитале» о впечатлении, которое произвело
на современников «внезапное возвышение этой шайки банкокра-
тов, финансистов, рантье, маклеров, спекулянтов и биржевых
волков» г.
Политика была открыто поставлена на службу буржуазной
экономике. Уже Локк прямо провозгласил в своем «Трактате о
правлении», что государство «не имеет иных целей, кроме сохра-
нения собственности». Буржуазная «собственность» становится
ключом всей внешней и внутренней политики Англии.
Войны, которые Англия XVIII века вела с другими европей-
скими государствами, преследуют прежде всего торговые и коло-
ниальные интересы. Семилетнюю войну между Англией и Фран-
цией Ленин характеризует как «войну из-за колоний, т. е...
империалистскую войну (которая возможна и на базе рабства,
и на базе примитивного капитализма, как и на современной базе
высокоразвитого капитализма)»2. Все новые страны вовлекаются
в орбиту колониального владычества Англии. К зависимым
еще ранее Ирландии и Шотландии присоединяются Индия, Се-
верная Америка, Вест-Индские острога. И хотя уже в 70-х годах
XVIII века от Англии впервые, путем восстания, в результате
войны за независимость, отделяется столь важная ее колония,
как Соединенные Штаты Америки, XVIII столетие в целом не мо-
жет не рассматриваться как период, положивший начало коло-
ниальному могуществу будущей Британской империи.
Чрезвычайно характерны самые методы, с помощью которых
укреплялось господство Англии в колониях. Частная коммерче-
ская инициатива играла здесь, как и внутри самой страны, реша-
ющую роль; государство оставляло за собой лишь окончательное
^закрепление результатов, достигнутых под его покровительством.
Так, например, завоевание Индии было, по словам Маркса, на
200 лет передоверено монопольной торговой Ост-Индской компа-
нии. «В течение всего этого времени все партии в Англии молча-
ливо потворствовали всему тому, что делалось в Индии, —даже
те из них, которые решили громче всех выступить с криками о ми-
ре после того как округление английских владений в Индии ста-
нет совершившимся фактом» 3.
Уже с начала XVIII века среди английских просветителей
раздаются отдельные голоса протеста против колониальной поли-
са р к с и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 826,
2 Л е н и н, Соч., т. XIX, стр. 182.
3Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 357.
»о Англ. литература 273
тики Англии. В «Путешествиях Гулливера» Свифт с гневным сар-
казмом рассказывает, о пиратах-колонизаторах. В 1729 г. прави-
тельство нашло необходимым запретить написанную приятелем
Свифта, драматургом Джоном Гэем пьесу «Полли», изображав-
шую борьбу индийских повстанцев. А в конце XVIII века
нашумевший процесс калькуттского губернатора Уоррена Гас-
тингса, одним из обвинителей которого выступил знаменитый
политический деятель и драматург Шеридан, впервые полно-
стью раскрыл перед широкими кругами Англии картину коло-
ниальных порядков в Индии.
В самой Англии царил частнособственнический произвол, освя-
щенный законодательством. Бесчисленные пережитки средневе-
ковых феодальных установлений и обычаев в экономических от-
ношениях, в законодательстве, в судебной процедуре опутывали
жизнь народа. Достаточно отметить, что, не располагая ни одним
определенным законодательным актом, которым закреплялась
бы в общей форме отмена крепостного права, Англия XVIII века
обогатилась при первых Георгах рядом новых законов против
рабочих союзов и стачек.
Говоря о результатах буржуазной «славной революции» г
Маркс писал: « 1 ут, как и в других случаях, мы имеем пример
того, как первая решительная победа буржуазии над феодальной
аристократией совпадает с наиболее выраженной реакц* ей про-
тив народа» г.
Одним из самых разительных проявлений этой реакции про-
тив народа был процесс огораживания общинных земель, кото-
рый, начавшись еще в XV—XVI веках, достиг небывалых масшта-
бов в XVIII веке. За первое шестидесятилетие XVIII века было
огорожено и превращено таким образом в частную собственность
не менее трех миллионов акров земли. По ироническому замеча-
нию Маркса, если ранее, в XV— XVI веках, процесс огоражива-
ния «совершался в форме отдельных индивидуальных насилий,
с которыми законодательство тщетно боролось в течение 150лет»,
то «в XVIII столетии обнаруживается прогресс в том отношении,
что сам закон становится орудием грабежа народной земли...
Парламентской формой этого грабежа являются «Bills for Indo-
sures of Commons» (билли об огораживании общинной земли),
т. е. декреты, при помощи которых лэндлорды сами себе пода-
рили народную землю на правах частной собственности, —де-
креты, экспроприирующие народ» 2.
Огораживание общинных земель изменило до неузнаваемости
лицо английской деревни. Крестьяне-йомены, столетием раньше
вынесшие на своих плечах буржуазную революцию XVII века,
утрачивали свою независимость. Одни из них превратились в мел-
ких фермеров-арендаторов — «людей, рабски приниженных, все-
цело зависящих от произвола лэндлорда»3; другие, потеряв
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 353.
2Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 793.
3 Там же.
274
последнюю связь с землей, потянулись в города, составив ^ре-
зервную армию наемного труда для крупной промышленности,
которой скоро предстояло развиться в результате промышлен-
ного переворота. Эта армия будущих пролетариев пополнялась
не только вчерашними крестьянами, насильственно изгнанными
с родных земель; в нее во множестве входили также вчерашние
мелкие ремесленники и кустари, лишенные возможности кон-
курировать с мануфактурным способом производства.
Промышленный переворот, возвещенный уже в 30-х годах изоб-
ретением прядильной машины Уайета и достигший наибольшего
размаха в 60—80-х годах XVIII века, повлек за собой еще более
значительные общественные сдвиги. Под влиянием промышлен-
ного переворота «исчезают целые классы населения, на место
которых появились новые классы, с новыми условиями сущест-
вования и с новыми потребностями. Зарождается новая, более
могучая буржуазия; в то время как старая буржуазия борется
с французской революцией, новая завоевывает себе мировой ры-
нок» 1. А одновременно с этим возникает и формируется, хотя
пока лишь как «класс в себе», еще слабо организованный и смутно
сознающий свои интересы пролетариат.
Меняется весь облик страны: недавняя патриархальная ману-
фаКтурно-земледельческая Англия становится страной крупной
капиталистической промышленности и капиталистического сель-
ского хозяйства. По берегам недавно тихих рек вырастают фаб-
ричные здания; каналы и шоссейные дороги прорезают страну;
возникают новые города и с небывалой до тех пор быстротой ра-
стут старые — Шеффильд, Бирмингам, Манчестер, Ливерпуль,
Ньюкасл. Все эти центры современной английской промышлен-
ности выдвинулись в число больших городов Англии именно
в XVIII веке.
Развитие науки, техники, путей сообщения и т. д. заставляло
людей по-новому ощущать свою власть над природой. «Я продаю
здесь то, в чем нуждается каждый—силу»,—гордо заявлял
своим посетителям Мэтью Болтон, владелец первого машино-
строительного завода в Англии.
Лишь смутно отдавая себе отчет в том, к чему вело бурное
развитие капиталистических отношений в промышленности и
в сельском хозяйстве, современники во всяком случае не могли
не ощущать глубочайшей разницы между кипучим оживлением,
царившим в области экономики, и застоем политической жизни
Англии.
Несмотря на видимость представительной системы, тогдашний
парламент по самому своему составу был совершенно чужд на-
роду. К концу XVIII века из восьми миллионов, населявших
Англию, даже номинальным правом выбирать в парламент
пользовалось не более - 160 тысяч человек. К тому же, уже
вначале XVIII века, при королеве Анне, господствующие пар-
1Маркс и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 279.
18* 275
тии, как замечают Маркс и Энгельс, «удлинили срок парламент-
:ких полномочий до семи лет и таким образом почти совершенно
уничтожили влияние народа на правительство»х. Парламентское
представительство так называемых «гнилых местечек», отменен^
ное было при Кромвеле и восстановленное во времена Реставра-
ции, продолжало оставаться в силе, и 1—2 «избирателя» торжест-
венно посылали в парламент своего «депутата», в то время как но-
вые крупные торговые и промышленные центры, выросшие в те-,
чение XVIII века, оставались без всякого представительства в за-
конодательном учреждении страны.
Сама процедура выборов, —какая бы демагогическая шумиха
ее ни окружала, — превратилась в беззастенчивую сделку, ни-
чем не отличавшуюся от любого другого акта купли-продажи. Гла-
ва знатного семейства, по достижении его сыном совершенно-
летия, покупал ему место в парламенте с такою же легкостью,
с какой, при желании, мог купить ему офицерский чин в ар-
мии или церковный приход. К началу XVIII века торговля пар-
ламентскими местами успела превратиться чуть ли не в настоя-
щую профессию.
«В Англии дни выборов издавна являлись вакханалией пья-
ного разгула, обычными биржевыми сроками для учета полити-
ческих убеждений, временем богатейшей жатвы для трактир-
щиков», 2 — писал Маркс в статье «Избирательная коррупция».
Произведения Свифта, Фильдинга и Смоллета, гравюры Гогарта
изобилуют злыми насмешками над комедией парламентских выбо-
ров. В провинциальном городке, где разыгрывается действие
пьесы Фильдинга «Дон Кихот в Англии» (1734), возникает опас-
ность,что на выборах, за отсутствием кандидатов, будет представле-
на лишь одна парламентская Партия. Отсутствие оппозиции озна-
чает отсутствие подкупа, отсутствие взяток, которые издавна
рассматриваются местными избирателями как законная часть их
бюджета. Чтобы защитить свои «права», почтенные избиратели
под руководством мэра пускаются в поиски кандидата, который
взял бы на себя представительство оппозиции, и останавливаются
на заезжем путешественнике Дон Кихоте. «А то, что он сума-
сшедший, раз он не сидит в Бедламе, не имеет никакого значе-
ния». В другой пьесе — «Пасквин» (1736) Фильдинг изображает
репетицию комедии «Выборы», написанной, якобы, неким ми-
стером Трапуитом. «В этой вашей пьесе, мистер Трапуит, нет ни-
чего, кроме взяток?» — спрашивает автора один из зрителей,
присутствующих на репетиции. «Сэр, —• отвечает тот, — моя
пьеса — точное воспроизведение действительности».
В самом парламенте также безраздельно царила коррупция,
возведенная в развитую и усовершенствованную систему в годы
пребывания у власти премьер-министра сэра Роберта Уолполя
(1721—1742). На подкупы и взятки бесконтрольно расходовались
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 276.
2 Ma ркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. 21.
276
огромные суммы из государственного секретного фонда. Продаж-
ность английских парламентских «деятелей» ни для кого не
составляла тайны. «У каждого из этих людей есть своя цена», —
цинически заметил будто бы сам сэр Роберт Уолполь, указывая
на членов английского парламента. Современники приписывали
ему даже еще более язвительное заявление, — он утверждал, яко-
бы, что ему приходилось прибегать к взяткам, чтобы заставить
членов парламента голосовать за свои убеждения, а не во-
преки им.
Понятие ответственности — хотя бы чисто формальной—перед
избирателями и страной оставалось настолько чуждым парла-
ментариям XVIII века, что, когда газеты с середины столетия
начали было помещать отчеты о парламентских прениях, парла-
мент официально запретил это как попытку контролировать его
деятельность извне. Впрочем, изобретательные газетчики легко
нашли выход из положения, и молодой Сэмюэль Джонсон, со-
стоявший тогда репортером «Джентльменского журнала», вос-
пользовавшись сатирическим приемом Свифта, стал облекать
отчеты о парламентских прениях в форму фантастических со-
общений о правительственных дебатах... в Лилипутии!
На поверхности «лилипутско»-английского парламентского
болота царило, по видимости, большое оживление. История борь-
бы двух больших английских парламентских партий,—торчев
и вигов, — история взаимных подвохов и подсиживаний, преда-
тельств и измен — наполняет целые тома сочинений, посвящен-
ных политической жизни Англии XVIII века. Но обе партии,
оспаривавшие друг у друга влияние в парламенте, — и тории,
представлявшие крупное землевладение, и виги, являвшиеся, по
определению Маркса, «аристократическими представителями
буржуазии, промышленного июргового среднего класса» *, —
были бесконечно далеки от народа.
В течение всего XVIII века английский народ продолжал с
надеждой прислушиваться к демагогическим лозунгам обеих этих
партий, ожидая найти действительных защитников своих прав и
свобод то в ториях с их боевым кличем: «Свобода, собственность и
никакого акциза!», то в вигах с их классическим лозунгом:
* «Долой папство и деревянные башмаки!» (деревянные башмаки
фигурировали в качестве символа нищеты, на которую обречено
население Франции и других католических, «папистских» стран
в отличие от «свободной» протестантской Англии). Эта надежда
вновь оживала с каждыми новыми выборами, с каждой переменой
министерства, — и снова терпела неизменный и неизбежный Крах.
Свифт, Дефо, Фильдинг, Смоллет, Стерн, при всем их отличии
друг от друга, с одинаковым разочарованием и горечью говорят
о своих попытках участия в политической жизни. В «Путешест-
виях Гулливера» Свифт сатирически изображает современных ему
политических деятелей Англии в лице лилипутских министров,
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. IX, стр. б.
277
политические заслуги которых определяются их успехами в ис-
кусстве ходить по канату. Джон Гэй в своей нашумевшей «Опере
нкщих» ядовито намекает на то, что представители правящих кру-
гов Англии, вероятно, пожелают узнать себя в изображенных им
«героях» плутовства и разбоя. Фильдинг в «Истории Джонатана
Уайльда» прямо сравнивает ториев и вигов с жуликами, кото-
рые для виду заводят между собою драку, чтобы отвести глаза
честному народу.
Буржуазия была удовлетворена результатами компромисса
1689 г. Вопрос о парламентской реформе, которая допустила бы
к участию в политической жизни более широкие буржуазно-де-
мократические круги, был поднят в Англии лишь к концу XVIII
века, а по-настоящему обострился еще много позднее, в 1815—
1832 гг. Народ же, которому предстояло под руководством бур-
жуазии добиться парламентской реформы 1832 г. так же, как
двумя столетиями раньше он добился решительной победы бур-
жуазной революции XVII века, в XVIII веке не мог играть роль
революционной общественной силы.
1 Революционные классы недавнего прошлого, и в первую оче-
редь свободолюбивое независимое крестьянство — «йоменри»,—
исчезли с исторической арены; новый же революционный класс —
пролетариат — к концу XVIII века едва лишь появился на сцене.
Стихийное недовольство народных масс Англии находило выход
либо в многочисленных, но разрозненных и случайных стычках
с хозяевами и правительством, не приносивших реальных поли-
тических плодов, либо в увлечении сектантскими религиозно-
мистическими движениями, — в частности, методизмом, умело
рпользовавшим в своих целях нараставшее в народе брожение.
■' Лишь в редких случаях отголоски народного возмущения
в прямой и непосредственной форме проникали в просветитель-
скую литературу. Так, подъем национально-освободительного
движения в Ирландии придал необычайную социально-полити-
ческую остроту сатире Свифта, а вольнолюбивый дух шотланд-
ского крестьянства сказался в бунтарском пафосе поэзии Бернса.
В большинстве же своем английские просветители XVIII века,
будучи свободны от узко буржуазной, филистерской ограничен-
ности, тем не менее и сами разделяли, отчасти, со средними анг-
лийскими буржуа своего времени их умеренность и отвращение
ко всякому «потрясению основ», их трезвое практическое «здра-
вомыслие».
Деятельность английских просветителей оставалась огра-
ниченной по своему общественному размаху и по другим причи-
нам. Безграмотность, невежество и темнота «низов» мешали
непосредственному общению просветителей с народом. Постепенно
освобождаясь от тяжелой опеки аристократического меценат-
ства, просветительская литература, однако, с трудом проклады-
вала себе путь к народу. Не только Аддисон и Стиль, но даже
Фильдинг и Смоллет писали еще для более или менее узкого кру-
га читателей-«знатоков», которые могли оценить их классические
278
реминисценции, эрудицию и вкус. Лишь немногие редкие
книги-=- «Робинзон Крузо» Дефо, «Памела» Ричардсона —сразу
становились достоянием всех. В народных кругах, еще недавно
довольствовавшихся дедовской Библией да бэньяновским «Путем
паломника», книга становится настоящей потребностью не ранее
конца XVIII века, о чем свидетельствует и возникновение к этому
времени многочисленных библиотек (circulating libraries) и рост
книготорговли.
В течение большей части XVIII века вся культурная жизнь
Англии сосредоточивалась в Лондоне. Здесь занималось своими
учеными трудами «Королевское общество»; здесь в многочислен-
ных кофейнях, игравших роль клубов, собирались в кругу завсе-
гдатаев литераторы, критики, политиканы и за чашкой кофе об-
суждали последние новости литературной и общественной жиз-
ни; здесь издавались все более или менее значительные газеты и
журналы; здесь находились все солидные издательства и лучшие
театры. Сюда устремлялись со всех концов Англии, как в обето-
ванную землю, все, кто мечтал прославить себя в литературе,
в науке, в искусстве. Сюда пришел, с двумя с половиной пенсами
в кармане, безвестный провинциальный учитель Сэмюэль Джон-
сон, будущий знаменитый критик, в компании со своим учеником
Давидом Гарриком, в котором никто еще не мог бы угадать буду-
щего прославленного актера. Сюда явился из далекой Шотландии
восемнадцатилетний Тобиас Смоллет, аптекарский ученик, меч-
тавший о славе трагического поэта. Здесь ставил свои пьесы и пи-
сал свои романы Фильдинг. Здесь, на чердаках Грэб-стрит, —
улицы, название которой стало нарицательным именем, — юти-
лась литературная мелкота, закабаленная издателями, готовая
за несколько шиллингов переводить с любых языков, компилиро-
вать любые трактаты, сочинять что угодно и о чем угодно.
-В провинцию просачивались до поры до времени только сла-
бые струйки столичной культуры. В целом родина Ньютона и
Локка оставалась погруженной во тьму варварского невежества,
суеверий и предрассудков. Последний официальный судебный про-
цесс в Англии по делу о колдовстве состоялся в 17^6 г. в Хентинг-
доне. Мэри Хикс и ее одиннадцати летняя дочь были повешены
по приговору суда «за то, что, по их признанию, они продали ду-
шу дьяволу, заставляли своих соседей изрыгать булавки и, сни-
мая с себя чулки и взбивая мыльную пену, подняли на море бу-
рю, от которой едва не потерпел крушение один корабль». Закон
о ведьмах был отменен в Англии лишь в 1736 г. (для Ирландии
он был оставлен в силе вплоть до 1818 г.), но самосуды над «ведь-
мами» совершались на протяжении всего XVIII века. «Доподлин-
ные» отчеты о появлении призраков и привидений раскупались
нарасхват. С ними могли соперничать разве лишь столь же сен-
сационные «признания» прослав генных уголовных преступников.
Публичные смертные казни служили одним из самых популярных
зрелищ. Программа столичных развлечений провинциала, попав-
шего в Лондон, казалась неполной, пока он, посмотрев на Тауэр
279
и собор святого Павла, не успевал побывать на очередной казни
в Тайберне. К числу обычных увеселений принадлежало также
и посещение Бедлама — дома для умалишенных, где за плату
в два пенса разрешалось разглядывать и дразнить сумасшедших.
Англия XVIII века, изображенная на страницах романов Филь-
динга и Смоллета, в сущности, гораздо менее карикатурна, чем
может подумать иной читатель XX века.
В воззрениях самых просвещенных англичан того времени
можно обнаружить разительные противоречия, которые были
не просто «данью времени», но вытекали закономерно из самой
природы английского Просвещения.
3
Раннее развитие и укрепление буржуазных отношений в Анг-
лии создавало, с одной стороны, особенно благоприятные условия
для быстрого развития буржуазной философии, науки и искус-
ства. Но, с другой стороны, это же самое историческое обстоя-
тельство ограничивало размах английского буржуазного Просве-
щения. На долю Англии XVIII века выпала роль рассадника
просветительских идей, которые, вырастая из английских семян,
смогли, однако, достигнуть полного последовательного разви-
тия и расцвета лишь на предреволюционной почве европейского
континента.
На протяжении почти всего XVIII века, вплоть до француз-
ской буржуазной революции 1789 г., просвещенная Англия,
как маяк, привлекает к себе взоры всех передовых европейских
мыслителей и художнкков. Монтескье и Вольтер, Дидро и Лес-
синг, Руссо и немецкие штюрмеры, Новиков и Радищев, — каж-
дый по-своему учится у Англии и вдохновляется английскими об-
разцами. «За последнее время мы только и видим, что сочинения,
переведенные с английского языка, — пишет Гримм в 1753 г.,—
эта мода, уже и так продолжающаяся дольше, чем обычно продол-
жаются моды в нашей стране, повидимому, все еще не наме-
ревается пройти». Можно даже сказать, что, как это ни парадо-
ксально, английский политический строй, английская философия,
английская литература в эти годы в большей степени принимаются
всерьез не в самой Англии, а на континенте, где они с жаром изу-
чаются, комментируются и популяризируются в литературно-
политических кругах. Характерно, что самый термин «Просве-
щение» менее всего привился именно в Англии, на родине просве-
тительства. Английский термин «enlightenment», конечно, никогда
не имел того распространения и значения, как русское «просве-
щение» или немецкое «Aufklàrung» или даже французское «âge
des lumières».
Компромиссность, характерная для всего исторического раз-
вития буржуазной Англии, с самого начала сказалась и в разви-
тии английского Просвещения.
Уже деятельность Джона Локка (John Locke, 1632—1704),
известного английского философа и просветителя, поражает своей
280
необычайной противоречивостью. Величайшая смелость в поста-
новке философских и социально-политических проблем соче-
тается у него с поразительной непоследовательностью в их разре-
шении, что позволяет в целом делать не только различные, но даже
прямо противоположные выводы из его философии. Заметив, что
«и Беркли и Дидро вышли изЛокка»1, Ленин, в сущности, поды-
тожил в одной этой фразе всю внутреннюю двойственность англий-
ского Просвещения и противоречивость его исторических судеб.
Большинство главных произведений Локка увидело свет по-
сле «славной революции». Это были «Два трактата о правлении»
(Iwo 1 realises on Government, 1690), «Опыт о человеческом
разуме» (An Essay concerning Human Understanding, 1690), «Ра-
зумность христианства» (ihe Reasonableness of Christianity,
1Ь95) и дру!ие.
В сочинениях Локка уже были, в сущности, поставлены все
центральные вопросы, которым предстояло в течение целого сто-
летия волновать европейских просьетителей.
В «1рактатах о правлении» Локк выдвигает свою теорию
государства, сыгравшую огромную роль в политической истории
Европы XVI11 века. По Локку, человечество находилось перво-
начально в состоянии естественного, первобытного равенства
и свободы, из которого оно принуждено было выйти в связи с раз-
витием собственности, источником которой Локк, предвосхищая
Адама Смита, считает труд. Вместе с собственностью возникает
и необходимость в ее охране. Чтобы гарантировать свои собствен-
нические права, люди заключают между собою общественный-
договор, обязуясь подчинять свои личные интересы воле боль-
шинства и передоверяя свои «естественные», прирожденные пра-
ва государственной власти. Таким образом, источником власти
в государстве, согласно Локку, оказывается народ, который
поэтому имеет неотъемлемое право через посредство своих зако-
нодателей контролировать исполнительную власть и, в случае
необходимости, сменять ее. По замыслу самого Локка, эти дово-
ды должны были доказать «законность» низложения парламен-
том Якова II и воцарения, на основе конституционной монархии,
Вильгельма III и Марии.
В дальнейшем аргументацию Локка ожидала более славная
судьба: через посредство «Общественного договора» Руссо ей
предстояло лечь в основу «Декларации прав человека и гражда-
нина», провозглашенной французской буржуазной революцией.
В своем главном произведении — «Опыте о человеческом ра-
зуме» — Локк переносит то же общепросветительское представ-
ление о суверенности «естественного» человека из области поли-
тики в область философии.
Педагогический трактат Локка «Мысли о воспитании» (Some
Thoughts concerning Education, 1693) во многом предвосхищает
«Эмиля» Руссо.
1 Ленин, Соч., т. XIII, стр. 103.
281
Отвергая существование врожденных идей, на котором настаи-
вала идеалистическая философия декартовской школы, не го-
воря уже об официальных «теоретиках» церкви с их учением
об откровении, Локк объявляет опыт единственным источником
познания и сравнивает человеческую душу с листом чистой бу-
маги, на котором опыт пишет свои письмена. Разум, с его точки
зрения, должен быть верховным руководителем человека.
Утверждая, что «первая причина счастия или несчастия чело-
веческого от самого же человека происходит», Локк, как и все
позднейшие просветители, придает огромное значение вопросам
воспитания. Его педагогический просветительский идеал заклю-
чается в воспитании гармонически и всесторонне развитого че-
ловека, разум которого был бы свободен как от пут схоластики,
так и от тумана ложного фанатического «энтузиазма».
Учение Локка о человеке оказало огромное влияние на всю ли-
тературу английского Просвещения. Именно к нему, в конечном
счете, восходит и внимание реалистов-просветителей ко всему
богатству чувственного человеческого опыта, и самая постановка
темы человеческого воспитания, которое, выходя далеко за
пределы школьных «лет учения», заканчивается, в сущности, лишь
с самою жизнью, — темы, столь характерной для большинства
английских просветительских романов XVIII века.
В вопросах религии Локк выдвигает требование веротерпи-
мости, делая, впрочем, с характерной непоследовательностью,
исключение для католиков и атеистов, как не заслуживающих
снисхождения. Требование это имело немалое значение для того
времени.
Своей «Разумностью христианства» Локк прокладывает уже,
в сущности, дорогу деистической рационалистической трактовке
религиозных догм.
Однако Локк останавливается на полдороге в большинстве
своих рассуждений. Культ человеческого разума оказывается
у него половинчатым и компромиссным. Предвосхищая уже
отчасти скептический агностицизм Юма, он приходит в «Опыте
о человеческом разуме» к пессимистическому выводу, что разум
сам по себе, без помощи откровения, не может быть источником
полного и достоверного знания.
Само толкование Локком «опыта» — стержневого понятия
всей его философии — стрчдчет крайней двойственностью. Он
объявляет двумя равноправными источниками знания как «внеш-
ние чувственные объекты» так и «внутренние движения нашей ду-
ши», отрывая тем самым вопрос об ощущении как источнике по-
знания от вопроса о реальности этих «внешних чувственных объек-
тов» , отозжениями или слепками которых служат наши ощущения.
Обособленное от чувственной человеческой практики познание,
с точки зрения Локка, замыкается, таким образом, обла-
стью идей.
Сомнения в познаваемости действительного мира, в суверен-
ности человеческого разума, независимого от «божественного от-
282
кровения», в объективной безграничности человеческого познания
разъедают^^ак ржавчина, сенсуалистическую философию Локка.
У большинства его английских учеников и продолжателей эти
сомнения превращаются в прямое отрицание, становящееся
в той или иной форме — будь то субъективный идеал зм Берк-
ли или агностицизм Юма, — основой их философского мировоз-
зрения.
«Исходя из ощущений, — писал Ленин, — можно идти по ли-
нии субъективизма, приводящей к солипсизму («тела суть
комплексы или комбинации ощущений»), и можно идти по
линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения
суть образы тел, внешнего мира)» 1.
Французские материалисты-просветители XVIII века, —
Дидро, Гольбах, Гельвеций, — в своем истолковании и разви-
тии сенсуалистических положений философии Локка пошли по
второму пути. Английское Просвещение в лице его главных пред-
ставителей избрало первый путь.
Правда, английская философия этого времени знает таких
мыслителей-материалистов, как Толанд, Пристли, Годвин, но
не эти имена служат вехами столбовой дорэги английского/бур-
жуазного Просвещения. Те немногие, которые решались открыто
свернуть с этой дороги на путь материалистического мышления,
попадали в положение изгоев, отщепенцев, становились предме-
том всеобщих насмешек, издевательств и преследований.
История жизни и деятельности Джона Толанда (John Toland,
1670—1722) может служить в этом отношении наглядным приме-
ром. В 1696 г. молодой философ выступил со своей первой кни-
гой— «Христианство без таинств» (Christianity not Mysterious).
Называя себя учеником и продолжателем Локка, Толанд подверг
в своей работе просветительской проверке разумом тексты и догма-
ты христианства. Не отрицая открыто христианской религии,
он самым ходом своих рассуждений заставлял читателя брать
под сомнение и отдельные ее «таинства» и само учение о божест-
венном откровении. Либо, рассуждал Толанд, таинства религии
могут быть познаны человеческим разумом, — ив таком случае
они не более таинственны, чем камешек или былинка травы;
либо они вовсе недоступны человеческому познанию, а следо-
вательно недействительны* «Имеет ли основания, — спрашивал
своих читателей Толанд, — гордиться своими знаниями тот,
кто, обладая непогрешимой уверенностью, что в природе суще-
ствует некто по имени Бликтри, не знает, в то же время, что та-
кое этот Бликтри?» Так, в «эзоповской форме», Толанд брал под
сомнение самые основы христианской религии.
Книга Толанда вызвала целую бурю в теологических и фило-
софских кругах того времени. Локк, на которого ссылался То-
ланд, поспешил отречься от своего опасного ученика, несмотря
на то, что совсем недавно в «Разумности христианства» сходным
1 Ленин, Соч., т. XIII, стр. 103.
283
образом интерпретировал евангельские тексты. Дело не ограни-
чилось одной полемикой. Книга Толанда была присуждена к со-
жжению, а сам автор, переехавший было в Ирландию, стал жерт-
вой злейших преследований, пока наконец, — как злорадно пи-
сал один из его противников, — ирландский «парламент, к своей
бессмертной славе, не выпроводил его во-свояси, без помощи
костра задав ему такого жару, что он не мог долее там оста-
ваться» .
Дальнейшая жизнь Толанда была полна обид и лишений.
Иногда ему приходилось надолго превращаться в литератур-
ного поденщика, за грошсвую плату выполнять любые заказы
издателя; иногда, заручившись ненадежным покровительством
того или другого вольнодумствующего «мецената», он получал
возможность отдаваться, хотя бы урывками, своей любимой на-
учной работе.
В «Письмах к Серене» (Letters to Serena, 1704)Толанд, не без
иронии расшаркиваясь, для вида, перед официальной религией,,
сформулировал основные положения своего — для того времени
чрезвычайно смелого — материалистического философского уче-
ния. В основе жизни, по мнению Толанда, лежит материя, к чис-
лу существенных свойств которой он относит не только протя-
женность и непроницаемость, но и движение.
В «Пантеистиконе» (Pantheisticon, 1720), — сочинении, напи-
санном для немногих читателей, где изложены самые заветные
мысли автора, — Толанд создает стройную пантеистическую
картину всеобщего движения материи, являющегося основ-
ным законом жизни вселенной. Минералы, растения, животные
связаны этим единым движением, и само человеческое «мышле-
ние», по определению Толанда, «есть особое движение мозга, спе-
циального органа этой способности».
Материалистических взглядов придерживался и Джозеф При-
стли (Joseph Priestley, 1733—1804), известный философ и есте-
ствоиспытатель^ своих химических исследованиях остановивший-
ся уже на пороге современной химии. Как и Толанд, Пристли
утверждал, что мысль есть функция мозга, и доказывал матери-
альность души, сравнивая ее с бритвой, которая утрачивает спо-
собность резать и исчезает, будучи растворена в кислоте, точно
так же, как душа теряет способность мыслить и уничтожается
при разложении тела.
Но и Пристли и, в особенности, его младший современник
Вильям Годвин были многим обязаны обратному влияю ю на
английскую философию более смелой французской просветитель-
ской мысли предреволюционного периода.
Большинство передовых английских мыслителей времен Про-
свещения предпочитало сводить счеты с религией не прямо, а
косвенно, подвергая религиозные догматы рационалистической
переоценке и противопоставляя официальному христианскому ве-
роучению «разумную», «очищенную» от мистицизма и «энтузиаз-
ма» «естественную» религию — деизм.
284
Признавая номинально существование «верховного существа»
'{по замечанию Болинброка, бог — «не самодержавный, но кон-
ституционный монарх, ибо его могущество ограничено его муд-
ростью»), деисты ограничивали его функции очень узкими пре-
делами. «Взрховное существо» мыслилось ими лишь как перво-
причина бытия, некогда давшая толчок движению мироздания,
после чего природа продолжала и продолжает жить согласно
своим законам, свободная от всякого постороннего «сверхъесте-
ственного» вмешательства. «Бог» деистов оказывался, таким обра-
зом, лишь некоторым «допущением», позволявшим, в остальном,
материалистически рассматривать природу и человека. Подобно
тому, как Гоббс «уничтожил теистические предрассудки бэконов-
ского материализма», так Коллинс, Додвэль, Ковард, Гарт ли
и Пристли «разрушили последние теологические рамки лок-
ковского сенсуализма», — говорил Маркс, замечая при этом,
что «теизм — по крайней мере, для материалиста — есть не боль-
ше, как удобная и мягкая форма избавления от религии»х.
Однако даже деистические идеи, оказывая на деле огромное
влияние на писателей английского Просвещения, обычно на сло-
вах отвергаются ими. Деисты, которых английское общественное
мнение — не без основания — причисляло также к числу «без-
божников», служат постоянной мишенью нападок и насмешек
не только таких писателей, как Аддисон и Стиль или, позднее,
Ричардсон, но даже наиболее критически мыслящих предста-
вителей английской просветительской литературы. Поп, пост-
роивший в сущности свой «Опыт о человеке» на чисто деисти-
ческой философской основе, с ужасом открещивался от обвинений
в деизме и безжалостно осмеял своих современников-деистов,
поместив их среди тупиц и глупцов,— героев своей сатирической
поэмы «Дунсиада».
В романах Фильдинга и Смоллета заблудшие героини (мисс
Вильяме в «Родерике Рэндоме», мисс Мэтьюс в «Амелии») всегда
начинали с того, что еще в отчем доме зачитывались пагубными
сочинениями деистов. А в последние месяцы жизни Фильдинг
занялся даже подготовкой развернутого «опровержения» деисти-
ческой философии Болинброка. И даже Свифт, так зло и беспощад-
но осмеявший христианскую религию и церковь в своей сатириче-
ской «Сказке о бочке», счел нужным полемизировать с деистом
Коллинсом в защиту официальной религии. Это, впрочем, не спас-
ло его от злорадства английских филистеров, ехидно утверждав-
ших после смерти великого писателя, что господь «покарал» его
сумасшествием за безбожие и человеконенавистничество.
Иногда эти разительные противоречия были связаны с необ-
ходимостью в сознательной «защитной» маскировке; обычно, од-
нако, они вытекали из искреннего и серьезного убеждения. Это
•парадоксальное сочетание реалистической трезвости с религиоз-
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. Ш, стр. 158.
285
ным морализаторством представляет собою одну из характерней-
ших особенностей английского буржуазного Просвещения.
По словам Энгельса, английский буржуа XVIII века «сам был
религиозен; его религия доставила ему знамя, под которым он
победил короля и лордов. Скоро он открыл в этой религии также
средство для того, чтобы обрабатывать своих естественных под-
данных и делать их послушными приказам хозяев, которых по-
ставил над ними неисповедимый промысел божий. Короче
говоря, англ йский буржуа с этого времени стал соучастником в
подавлении «низших сословий», —огромной производящей народ-
ной массы, — и одним из применявшихся при этом средств было
влияние религии»г.
К тому же, как указывает далее Энгельс, материалистическая
философия английских деистов и атеистов была вдвойне подозри-
тельной и опасной в глазах английских буржуа XVIII века, так
как первые ее представители принадлежали в большинстве своем
к аристократическим кругам и выступали, таким образом, не
только в качестве идейных, но и в качестве политических про-
тивников буржуазии.
Сама официальная религия ортодоксальных английских бур-
жуа приобретает в XVIII веке новые черты по сравнению с герои-
ческим пуританством времен буржуазной революции. Пуритан-
ский «энтузиазм» предшествующего столетия берется под сомнение,
— может быть именно потому, что он слишком живо и неприят-
но напоминал буржуа XVIII века о «крайностях» революцион-
ного народного движения. Превратившись из средства револю-
ционной борьбы с феодальным строем в средство оправдания и
утверждения существующих порядков, пуританство приобретает
более деловитый и откровенно филистерск' й характер; люди сво-
дят свои счеты с богом так же, как они сводят их с клиентами у
себя в конторе.
4
Во Франции, где общая историческая задача просветитель-
ства заключалась в подготовке политической революции, граж-
данские мотивы отчетливо доминируют и в искусстве, и в морали,
и в философии просветителей. Подобно своим английским пред-
шественникам и современникам, французские просветители ис-
ходят в своих философских и художественных построениях из
общепросветительского представления о «естественном человеке».
Но их «естественный человек» вырастает в «гражданина».
Чем больше накаляется с годами политическая атмосфера пред-
революционной Франции, тем отчетливее выступают гражданские
черты французского Просвещения. Конфликт личного чувства
с общественным долгом, заканчивающийся победой «гражданина»
над «естественным человеком», становится центральной темой
французского Просвещения. История Брута, во имя граждан-
1Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 299.
286
ского до Яга пославшего на смерть своих сыновей, становится
любимым сюжетом художников, и революционный Париж аплоди-
рует обретшему новую политическую молодость «Горацию» Кор-
неля.
В Англии дело обстояло иначе. Сама английская буржуазная
революция носила подчеркнуто экономический, а не политиче-
ский характер, и завершивший ее компромисс 1689 г., надолго за-
крепив политическое равновесие английской буржуазии, всецело
обратил внимание этого класса к практическим вопросам эконо-
мической жизни. Классическая политическая экономия оказалась
высшим достижением английской буржуазии XVIII века в сфере
научной деятельности, так же как ее высшим достижением в об-
ласти литературы оказался реалистический нравоописательный
роман.
Несмотря на старания Аддисона, Попа и других авторов, цент-
ральной фигурой английской просветительной литературы был
не героический гражданский образ Катона или Брута, а Робин-
зон Крузо — рядовой деловитый и сметливый англичанин, сумев-
ший даже на необитаемом острове воспроизвести экономические
отношения буржуазного общества. Не гражданская трагедия клас-
сицизма и даже не «серьезный жанр» мещанской семейной драмы,
а именно реалистический роман, повествующий о судьбах «неза-
висимого индивида» буржуазной Англии, стал действительно
ведущим жанром литературы английского Просвещения.
В отличие от Франции и, отчасти, Германии, классицизм не
получил подлинного расцвета на английской почве, а в творчестве
своих немногих, действительно крупных, английских представи-
телей (в первую очередь Попа) достиг самого блестящего вы-
ражения как раз в тех своих жанрах, которые стоят на грани про-
светительского реализма (сатира, бурлеск и т. п.).
В этом ослаблении высокого гражданского пафоса в англий-
ской литературе XVIII века за счет расцвета бытового просве-
тительского реализма бесспорно сказалась историческая огра-
ниченность английского Просвещения; но, вместе с тем, это свое-
образие английской просветительской литературы заключало в
себе исторически в высшей степени ценные и прогрессивные
черты.
В сущности, почти все мастера английского реалистического
просветительского романа XVIII века обращались к изучению и
изображению частной жизни, быта и нравов современной им Анг-
лии не потому, что ими владело равнодушие к общественным и
политическим вопросам, а, напротив, именно потому, что, страстно
желая воздействовать на общественную жизнь своего времени,
они не видели иного пути к этому, кроме морального, воспита-
тельного влияния на человека в области его частной, личной дея-
тельности. 1
Это заметно уже у Дефо и Ричардсона, пуританское морализа-
торство которых, несмотря на свои филистерские черты, было
все-таки своеобразной формой проявления демократического па-
287
фоса. Но особенно очевидным этот гражданский «подтекст»
становится в творчестве позднейших представителей зрелого анг-
лийского Просвещения — Фильдинга и Смоллета. Политико-са-
тирическая драматургия («Паскви^», «Исторический кален-
дарь») и повесть («Джонатан Уайльд») Фильдинга, граждан-
ская поэзия («Слезы Шотландии», «Ода к независимости») и
политико-сатирическая повесть («История атома») Смоллета фор-
мально занимают как будто бы обособленное и ограниченное ме-
сто в творчестве этих писателей, не имея, по видимости,прямого
отношения к их прославленным шедеврам: к «Джозефу Эндрьюсу»
и «Тому Джонсу», к «Родерику Рэндому» и «Гемфои Клинкеру».
Но в сущности связь между этой «боковой» линией свифтианской
политической сатиры и «ведущей» линией нравоописательного
бытового романа вполне органична. «Джонатан Уайльд» подгото-
вил «Джозефа Эндрьюса» и «Тома Джонса», так же как «История
атома» подготовила «Гемфри Клинкера».
Характерно, что, в то время как во Франции в творчестве
Вольтера, или в Германии в творчестве Лессинга, гражданская
трагедия служила орудием антифеодальной и антицерковной борь-
бы, единственную значительную попытку создания высокой кпас-
счческой гражданской трагедии в Англии предпринял именно
Аддисон, автор «Катона», — писатель, преданный принципам
1689 г. и менее всего склонный к «потрясению основ» того порядка,
который складывался в Англии после «славной революции». То,
что английские реалисты-просветители в большинстве своем не
создавали положительных гражданских образов, в сущности, сви-
детельствует об их исторической прозорливости и чувстве худо-
жественной правды. Добродетельные героические Катоны не мог-
ли не быть фальшивым недоразумением в Англии сэра Роберта
Уолполя.
Но, обращаясь к быту рядовых англичан своего времени, анг-
лийские реалисты-просветители меньше всего заслуживают упре-
ка в плоском «бытовизме» в современном смысле этого слова.
«Бытовизм» английского просветительского реалистического сти-
ля XVIII века и сложнее, и обманчивее, чем может показаться
с первого взгляда. Быт занимает английских писателей, может
быть, и сам по себе, своей красочностью, пестротою, разнообра-
зием деталей, но его значение заключается для них в том, что он
составляет существенную часть действительности. Каждый из
них — будь то Ричардсон, стремящийся «познать нравы людей»
на примере «одного дома» (эпиграф «Клариссы»), или Фильдинг,
изображающий «нравы многих людей» (эпиграф «Тома Джонса»)—
обращается к быту во имя страстного и глубокого интереса к «че-
ловеческой природе». Для каждого из них, говоря словами Филь-
динга, «предметом искусства является человек».
Этого «человека» они понимают, конечно, в. духе XVIII века.
Как и ясе домао^совские материалисты, они также склонны
рассматривать «человеческую сущность» как «нечто абстрактное,
присущее отдельному индивиду», а не как«совокупность обществен-
288
ных отношений» х, и некоторая внеисторичность отличает даже
самые яркие характеры, ими созданные, от более сложных
и исторически определенных образов позднейшего классиче-
ского реализма XIX века.
Но, стремясь обнаружить в противоречивом взаимодействии
частных интересов отдельных людей общие законы отвлеченной
«человеческой природы», они временами подходят поразительно
близко к пониманию действительных противоречий буржуазного
общества. Семейство Гарло у Ричардсона, Труллибер, Паунс
и Джонатан Уайльд Фильдинга, не говоря уже о йэху Свифта,
принадлежат к числу таких реалистических прозрений.
Вопрос о согласовании — и о согласуемости — частного ин-
тереса с интересами общества и стал одним из центральных во-
просов английского Просвещения. Историческая компромиссность
английского буржуазного Просвещения ни в чем, может быть,
не сказалась с такой очевидностью, как в настойчивости, с кото-
рой, один за другим, английские писатели-просветители стара-
ются «примирить» трезвое и реалистическое понимание действи-
тельных противоречий буржуазной жизни с идиллическим доверием
к добродетельной моральной «природе» человека.
На раннем этапе английского Просвещения это «примирение»
достигается сравнительно легко. И Поп, и Аддисон и Стиль, и Де-
фо, — при всем различии их взглядов, вкусов и методов — ис-
ходят в своем творчестве из оптимистического доверия к «разум-
ным» и «естественным» законам буржуазной действительности.
Лишь один английский просветитель начала XVIII века
остается последовательным в своей сатирической критике буржуаз-
ного прогресса, приходя таким образом к трагическому разоча-
рованию в «разумности» английской действительности и в практиче-
ской действенности самого просветительского разума. Это—Свифт.
Чем дальше, тем больше «примирение» противоречий стано-
вилось затруднительным и в области литературы и в философии.
В творчестве Фильдинга и Смоллета, лучших представителей зре-
лого английского Просвещения, уже дает себя знать назреваю-
щий кризис просветительского оптимизма.
Промышленный переворот со всеми его историческими послед-
ствиями нанес просветительским иллюзиям последний удар.
В то время как в сознании рядовых английских буржуа просве-
тительский культ разума все более вырождается в прозаический
кухьт пользы, в творчестве передовых английских просветителей
оптимистический гуманизм Просвещения переживает глубокий
внутренний кризис, по-разному дающий себя знать и в сентимен-
тализме, ив предромантических течениях XVIII века, пока, на-
конец, на пороге XIX века на смену Просвещению не приходит
окончательно «романтическая» «реакция против французской
революции и связанного с нею просветительства»2.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 590.
2Маркс иЭнгельс, Соч., XXIV, стр. 34.
*У Англ. литература 289
ОТДЕЛ I
ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Ранний период в развитии литературы английского Просве-
щения начинается на рубеже XVII и XVIII веков, вслед за «слав-
ной революцией» 1688 г., и заканчивается к 30-м годам XVIII
века. Поп, Аддисон и Стиль, Дефо и стоящий особняком в просве-
тительской литературе своего времени Свифт принадлежат к числу
его крупнейших представителей. Несмотря на блеск этих имен,
английская просветительская литература того времени,
взятая в целом, отличается еще сравнительной идейной и художе-
ственной незрелостью. Идеи Просвещения уже начинают проникать
в литературу, но сама просветительская философия в Англии на
первых порах своего существования выступает в виде аристокра-
тического учения для избранных.
Одним из самых влиятельных философов раннего Просвеще-
ния в Англии, наряду с Шефтсбери, был Генри Сент Джон, ви-
конт Болинброк (Henry St. John, viscount Bolingbroke, 1678—
1751), видный политический деятель своего времени. Крупная
политическая игра, которую он вел как один из вождей торий-
ской партии в последние годы царствования королевы Анны,
кончилась крахом с воцарением Георга I. Обвиненный в государ-
ственной измене, Болинброк с трудом избежал казни.
Вынужденный отойти от активной политической деятельности,
он занялся публицистикой и философией. Занятия эти носили
типично дилетантский характер. Сочинения Цолинброка не от-
личаются ни строгой последовательностью взглядов, ни систематич-
ностью изложения. Но в этих блестяще написанных «эссеях» за-
ключены уже в зародыше многие положения, которым предстояло
сыграть решающую роль в развитии европейской общественной
мысли XVIII века.
В своих сочинениях о религии Болинброк выступает непри-
миримым врагом теологической схоластики и «метафи-
зического бреда»; его деистический скептицизм во многом
предвосхищает Вольтера. Церковь, как и государство, лишены
в глазах Болинброка своего священного обаяния. Духовные вла-
сти, как и светские, обязаны, по его мнению, своим величием ис-
ключительно искусству портного и ювелира. Но, безусловно от-
рицая учение о «божественном праве» королей, Болинброк еще
мечтает, как и позднейшие просветители, об идеальном просве-
щенном монархе, который мог бы спасти страну и от феодальной
тирании и от «демократической» коррупции. Эти политические
290
воззренияБолинброка выразились наиболее полно в его программ-
ном сочинении «Идеал короля-патриота» (Idea of a Patriot King,
1749).
Литература раннего Просвещения многим обязана влиянию'
Болинброка. Он был приятелем Свифта и близким другом Попа.
Вольтер, высоко ценивший Болинброка, посвятил ему свою тра-
гедию «Брут».
Собрание сочинений Болинброка было опубликовано посмертно
в 1754 г. шотландцем Давидом Маллетом и вызвало взрыв негодо-
вания в консервативных кругах Англии. Сэмюэль Джонсон в бе-
седе с Босвелем назвал Болинброка негодяем и трусом. «Он не-
годяй потому, что зарядил мушкет, чтобы выстрелить по религии,
и нравственности, а трус потому, что не решился выпалить из
него сам и оставил полкроны нищему шотландцу, чтобы тот спу-
стил курок после его смерти».
Аристократическая замкнутость, «эзотеричность» сказывается
отчасти и в самой художественной литературе раннего Просве-
щения. Связь с широкой демократической читательской публикой
налаживалась с трудом и постепенно. В течение первых десяти-
летий XVIII века писатели, для которых литературная деятель-
ность была не дилетантской забавой, а действительной профес-
сией, еще гораздо больше зависели от покровительства «просвещен-
ных» меценатов, чем от вкусов и требований массового читателя.
Судьба книги или пьесы нередко решалась удачным посвящением
знатному «покровителю». Время, когда Фильдинг демонстративно
посвятил свой «Исторический календарь на 1736 год» «Публике»,
а Сэмюэль Джонсон в знаменитом открытом письме лорду Честер-
фильду с гордостью отверг покровительство знатного мецената,
было еще впереди.
Изданием «Болтуна», «Зрителя» и других журналов Аддисон
и Стиль положили отчасти начало сближению просветительской
литературы с демократическими читательскими кругами, но пер-
вым, чьи книги еще при жизни их автора стали действительно до-
стоянием народа, оказался только Даниэль Дефо.
В английских историях литературы этот период известен под
традиционным названием «августовского века» (The Augustan
Age). Термин этот, при всей своей условности, действительно от-
ражает некоторые существенные черты литературы раннего Про-
свещения в Англии.
Литература раннего английского Просвещения развивается,
главным образом, под знаком классицизма, на почве которого
стоит не только Поп, но и Аддисон, и Стиль, и даже такой нова-
тор, как Свифт. Эта связь с классицизмом носила принципиаль-
ный характер; в большинстве своем английские писатели раннего
Просвещения стремятся осмыслить современную им общественную
жизнь в формах и образах, заимствованных из античности. Ад-
дисон пишет «Катона», пытаясь в этой классической трагедии из
истории древнего Рима разрешить актуальные проблемы, подска-
занные современными политическими событиями в Англии;
19* 291
Поп критикует нравы своих английских современников в «го-
рацианских» сатирах, предоставляя читателям угадывать англий-
ские оригиналы под латинскими именами.
Популярность, которой пользовались среди ранних англий-
ских просветителей древнеримские классические поэты августов-
ской поры, в особенности Гораций, чрезвычайно знаменательна и
характерна. Культ «золотой середины», пр*оповедь умеренности,
спокойствия и эпикурейского наслаждения жизнью — все то,
что сделало Горация, полугора столетиями позже, столь чуждым
русскому революционному демократу-просветителю Добролюбо-
ву,— обеспечивало ему, напротив, безоговорочное признание со сто-
роны большинства представителей раннего английского Просве-
щения.
В большинстве своем писатели раннего английского Просве-
щения разделяют «оптимистическую» точку зрения на настоящее и
будущее современной им Англии. Внугренние противоречия бур-
жуазного «прогресса» остаются для них большею частью неза-
метными или, вэ всяком случае, неясными.
Единственным исключением в этом отношении был Свифт.
Гораздо ближе стоявший к народным движениям того времени,
он глубже, чем кто-либо из его современников, постиг сущность
буржуазных общественных отношений. В публицистических пам-
флетах и «Путешествиях Гулливера» Свифта буржуазный «про-
гресс», а в соответствии с этим и само просветительство, впервые
становятся предметом сознательной и далеко идущей критики.
Однако действительный смысл этой критики исторически еще не
был и не мог быть понят большинством его современников. В ли-
тературе своего времени Свифт остался одиноким.
Ж«*нр просветительского реалистического романа, в котором
полнее и шире всего предстояло отразиться английской общест-
венной действительности XVI11 века со всеми ее внутренними проти-
воречиями, возникает лишь в конце этого периода в творчестве
Даниэля Дефо, но не получает ни малейшего признания со сто-
роны литературной критики и остается как бы за пределами «вы-
сокой» литературы.
Ведущими, общепризнанными жанрами ранней просвети-
тельской литературы в Англии остаются драма, философско-
дидактическая поэма, «эссей», — жанры, которые в дальнейшем,
в зрелый период развития английского Просвещения, будут ре-
шительно оттеснены на второй план литературной жизни в связи
с расцветом просветительского реалистического романа.
•
Глава 7
ШЕФТСБЕРИ И МАНДЕВИЛЬ
У истоков литературы английского Просвещения стоят два пи-
сателя, творчество которых находится на грани философской
публицистики и художественной прозы. Это — Шефтсбери и Манде-
292
виль, два антагониста, отражающие в своей полемике противо-
речия, присущие всему английскому Просвещению. Влияние этих
писателей, сочетавших оригинальность мысли с блестящим лите-
ратурным мастерством, щ сказывается на протяжении всего
XVIII века в просветительской литературе Англии.
Антони Эшли Купер, граф Шефтсбери (Anthony Ashley
Cooper, Earl of Shaftesbury, 1671—1713) был одним из наиболее
популярных и влиятельных философов своего времени. Внук из-
вестного политического деятеля времен Реставрации, лидера ви-
гов лорда Шефтсбери, он получил блестящее образование под
руководством самого Локка, много путешествовал и был лично зна-
ком со «скептическим Бейлем» и другими представителями передо-
вой общественной мысли тогдашней Европы.
Последователь Локка, Шефтсбери, сумел облечь его учение
в живую, общедоступную форму. Большинство работ Шефтсбери бы-
ло объединено им самим под общим названием «Характеристики,
людей, нравов,мнений и времени» (Characteristicks of Men, Manners,
Opinions, Times, 1711). Это — непринужденные беседы с
читателем,—иногда в форме писем, иногда в форме диалога,—
написанные с большим литературным блеском и лишенные схола-
стической сухости и строгости изложения, которая могла бы от-
пугнуть «непосвященных». Впрочем, к читателю Шефтсбери предъ-
являет свои, особые требования: как предупреждает он сам, он
пишет не для толпы, не для народа, а для немногих избранных
«джентльменов-дилетантов», в меру свободомыслящих и в меру
трезвых, с которыми можно спокойно беседовать о предметах,
слишком щекотливых и опасных для публичного, всенародного
обсуждения. Рассчитанная на немногих избранных, философия
Шефтсбери и в этом смысле отличалась эзотеричностью, присущей
всему раннему английскому вольнодумству.
Известность Шефтсбери не ограничивалась пределами Анг-
лии. Монтескье считал его, — наравне с Платоном, Мальбраншем
и Монтэнем, — одним из «четырех великих поэтов» человечества.
Вольный перевод его «Исследования о добродетели и заслуге»
(An Inquiry Concerning Virtue or Merit, 1699) был первой философ-
ской работой молодого Дидро. По словам Маркса и Энгельса, «сво-
бодомыслие французской революции было ввезено во Францию
именно из Англии. Локк был отцом его, и уже у Шефтсбери и
•Болинброка оно приняло ту остроумную форму, которая получила
впоследствии во Франции столь блестящее развитие»1.
В своем «Опыте о свободе остроумия и юмора» (Sensus Commu-
nis: An Essay on the Freedom of Wit and Humor, 1709), отголоски
которого сказываются во всей позднейшей эстетике английского
Просвещения и, в частности, в эстетике комического у Фильдинга,
Шефтсбери рассматривает «насмешку» (ridicule) как могущественный
критерий истины. Истинно лишь то, что выдерживает проверку
смехом.
1Маркс и Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 277.
293
Этим методом проверки истины блестяще пользуется сам Шефтс-
бери в своей критике религии и церкви. Но, высмеивая чрезмерное
«религиозное рвение», Шефтсбери стремится, однако, избежать
крайностей в самом своем вольнодумстве. Лучшим противоядием
против ненавистного ему «фанатизма» и «энтузиазма» он считает
джентльменское спокойствие и умеренность «золотой середины».
В своей философии Шефтсбери исходит из оптимистического
признания гармоничности и благоустроенности бытия. «На мой
взгляд, — рассуждает его Филокл в диалоге «Моралисты», — во
всем имеется своя доля неудобств; наслаждение и страдание,
красота и уродство, добро и зло... повсюду переплетаются друг с
другом и образуют, мне думается, приятную смесь, достаточно
приемлемую в целом. Так иногда богатые ткани, благодаря стран-
ному сочетанию фона с цветистым узором, неправильности ри-
сунка и пестрэте красок, дурно выглядят в отдельном образчике,
но. вполне естественно и хорошо — в целом куске».
Недовольство людей существующим порядком вещей объяс-
няется, таким образом, простою неправильностью перспективы,
в которой они видят жизнь; стоит только стать на достаточном от-
далении, чтобы с непогрешимостью убедиться в совершенстве
мироздания, в котором «преобладает добро, и каждое бренное и
смертное существо... лишь уступает место тому, кто лучше его,
а все это вместе — тому наилучшему и высочайшему существу,
которое нетленно и бессмертно». Так получает классическое выра-
жение в философии Шефтсбери тот самый консервативный, все
оправдывающий и все освящающий своей философской санкцией
«оптимизм», который так ядовито осмеял впоследствии Вольтер.
Подобно другим английским просветителям, Шефтсбери вы-
водит свою концепцию всеобщей гармонии бытия из принципа
единства частного интереса и добродетели. Но своеобразие его
системы заключается в самом понимании им «частного интереса».
С его точки зрения, порок представляет собой случайное нравст-
венное уродство или болезнь; что же касается нормального чело-
века, то величайшим из всех доступных ему благ является наслаж-
дение добродетелью, в стремлении к которой и заключается
поэтому частный интерес каждой «естественной» и здоровой челове-
ческой личности.
С точки зрения Шефтсбери, истинная добродетель не только
не совпадает с эгоистической личной пользой (как, например,
впоследствии у Бентама), но, напротив, заключается именно в
бескорыстности добродетельного поступка. Добродетель сама
себя вознаграждает. «Естественные чувства представляют собою,
сами по себе, высочайшее наслаждение», и, .напротив, «те самые
страсти, которые делают людей порочными, являются сами по
себе мучением и болезнью».
Счастье и добродетель, таким образом, совпадают, и лучшим
руководителем человека в поисках счастья оказывается не рассу-
док, а априорное «естественное нравственное чувство» (natural
moral sense), заложенное «от природы» в каждом человеческом
294
существе и заставляющее его инстинктивно и бескорыстно стре-
миться к добру, истине и красоте, составляющим неразрывную
триаду по просветительскому представлению Шефтсбери. Это
учение о единстве "истины, добра и красоты, сложившееся не без
влияния Платона, оказало, в изложении Шефтсбери, огромное
влияние на развитие всей европейской просветительской эсте-
тики. В Англии времен раннего Просвещения эстетические прин-
ципы, намеченные в сочинениях Шефтсбери, получили дальней-
шее развитие у Фрэнсиса Хетчесона (Francis Hutcheson, 1694 —
1746) в «Происхождении понятий красоты и добродетели» (An
Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue, 1725)
и у других.
Просветительский рационализм лежит в основе эстетики Шефтс-
бери. Он с пренебрежительной иронией говорит о так называемой
«невыразимости, непостижимости, непознаваемости прекрасного».
Всем людям, находит он, присущ от природы единый, неизменный
идеал красоты; «все признают один и тот же стандарт, правило и
меру»; эстетические разногласия — продукт невежества и беспо-
рядка, вносимого в душевную жизнь человека столкновением стра-
стей и интересов. Искусство, как и философия, должно обращаться
не к страстям, а к разуму; «единственный яд для разума — это
страсть».
В своих эстетических суждениях Шефтсбери, как и большин-
ство ранних просветителей, стоит на почве классицизма. В душе
каждого человека, по мнению Шефтсбери, глубже всего запечат-
лено «чувство порядка и пропорции». Все беспорядочное, хаоти-
ческое, неопределенное, с точки зрения Шефтсбери, не может быть
прекрасным. «Как велика разница между строгим и единообраз-
ным зданием, построенным каким-нибудь благородным архитек-
тором, и грудой песку или камней! Между разумно организованным
телом и туманом или облаком, гонимым ветром!». Он прези-
рает все «готическое», видя в самом этом слове синоним «чудовищ-
ности» и «фальши». Античные писатели кажутся ему образцом
художественного совершенства.
Но в вопросах этики Шефтсбери до некоторой степени расхо-
дится с другими просветителями, подвергая известному пере-
смотру материалистические предпосылки этики Локка. Правда,
положение, что «первая причина счастия или несчастия человече-
ского от самого человека происходит», было сформулировано еще
Локком. Но в его трактовке оно носило материалистический ха-
рактер: если и с меньшей последовательностью, чем позднее Гель-
веций, он подчеркивал все же огромное значение обстоятельств,
воспитания и среды для формирования человеческого характера.
В трактовке Шефтсбери это положение Локка приобретает более
узкий, буквальный смысл. Если бескорыстное наслаждение добро-
детелью представляет наивысшее блаженство, доступное человеку, а
способность к этому наслаждению зависит от врожденного нрав-
ственного чувства,—неудивительно, что каждый человек ока-
зывается носителем своего счастья, совершенно независимо от
295
окружающих его общественных условий. Говоря словами самою
Шефтсбери, — «счастье приходит изнутри, а не извне».
Как бы заранее полемизируя с нравственной бухгалтерией Бен-
тама, Шефтсбери обрушивается на тех «эгоистических калькуля-
торов счастья и частной выгоды, которые, преследуя собственные
интересы как на этом, так и на том свете, навсегда погрязли в хит-
рости и низменности мысли, в грязных расчетах, извращенных и
уродливых причудах и дурном расположении духа». А со своей
стороны Бентам почти целым столетием позже объявляет опасней-
шим врагом своей утилитарной этики, наряду с религиозным
«аскетизмом», также и «сентиментализм», крупнейшим представите-
лем которого он называет Шефтсбери.
Философия Шефтсбери чрезвычайно противоречива и по своим
предпосылкам, и по тем выводам, которые могут быть из нее сде-
ланы. Автор «Характеристик» сам по себе, разумеется, бесконечно
далек от того, чтобы порвать с просветительским культом разума.
Напротив, именно у Шефтсбери этот культ разума приобретает
наиболее консервативный, «охранительный» характер. Весь «оп-
тимизм» Шефтсбери зиждется на прекраснодушном и самодоволь-
ном признании непогрешимости и «разумности» существующего
порядка вещей, в том числе и того порядка, который сложился
в Англии на основе «славной революции», и к которому Шефтсбери
относится не менее сочувственно, чем его ближайшие литературные
соратники-«оптимисты», апологеты компромисса 1689 г.—Аддисон
и Стиль.
Но в то же время обращение Шефтсбери от черствого эгоисти-
ческого рассудка к бескорыстному интуитивному чувству уже
могло быть истолковано его менее «оптимистическими» продолжа-
телями как зародыш сомнения в святости буржуазного разума, —
иными словами, как зародыш критики буржуазного просветитель-
ства изнутри.
Для современников самого Шефтсбери, как и для него лично,
этот потенциальный смысл его философии не был, — и исторически
не мог еще быть, — ясен. Только последующему поколению ан-
глийских просветителей, представителям второго, зрелого этапа
развития английского Просвещения — ив первую очередь Филь-
дингу — предстояло раскрыть и разработать в своем творчестве
эту до поры до времени скрытую сторону этики Шефтсбери. Для
своих современников Шефтсбери был прежде всего столпом фило-
софского «оптимизма», апологетом-идеализатором существующего
порядка вещей. Именно эту сторону его философии сделал пред-
метом своей критики один из выдающихся современников Шефтс-
бери — Мандевиль.
Бернард Мандевиль (Bernard Mancleville, 1670—1733), гол-
ландец по происхождению, родился в семье врача и сам избрал
своей профессией медицину. Окончив Лейденский университет,
он получил в 1691 г. степень доктора медицины. Обосновавшись
с конца 90-х годов XVII века в Англии, Мандевиль и там продол-
жал свою медицинскую деятельность, имел, повидимому, довольно
296
обширную врачебную практику, главным образом по нервным
болезням, и опубликовал ученый медицинский «Трактат об ипохон-
дрических и истерических страстях» (Treatise of Hypochon-
driack and Hysterick Passions, 1711).
Занятия медициной не только не помешали, но, может быть,,
даже способствовали философским изысканиям Мандевиля, дав
ему возможность внести материалистическую трезвость в рассмот-
рение «умозрительных» философских вопросов.
Важнейшее философское сочинение Мандевиля — знаменитая
«Басня о пчелах», — было подготовлено рядом сравнительно
ранних и незамеченных публикой подражаний Лафонтену (Some
Fables after the Easie and Familiar Method of Monsieur de la Fon-
taine, 1703), Эзопу (Aesop Dress'd or A Collection of Fables Writ in
Familiar Verse, 1704) и Скаррону(Typhon:.. A Burlesque Poem in
Imitation of the Comical Mons. Scarron, 1704). Именно из этих пер-
вых сатирических литературных опытов выросла стоящая на грани
литературы и философской публицистики стихотворная «басня»
Мандевиля, выпущенная им в 1705 г. под названием «Возроптав-
ший улей, или плуты, ставшие честными» (The Grumbling Hive:
or, Knaves Turn'd Honest). Сперва эта маленькая брошюрка-пам-
флет прошла также почти незамеченной, но, будучи впоследствии
переиздана Мандевилем с развернутыми комментариями и преди-
словием под окончательным названием «Басня о пчелах, или част-
ные пороки — общественная выгода» (The Fable of the Bees: or
Private Vices, Publick Benefits, 1714), она привлекла к себе все-
общее внимание и сыграла огромную роль в развитии английской
философии и литературы XVIII века. Постепенно обрастая с каж-
дым новым изданием все новыми комментариями, добавлениями,
полемическими ответами критикам и т. д., «Басня о пчелах»
увеличивалась в размерах, составив в полных и окончательных
изданиях два тома. Однако ее основное идейное зерно заклю-
чалось уже полностью в том коротеньком стихотворном памфлете-
■«басне», из которого она вырастала в течение стольких лет.
I В «Возроптавшем улье, или плутах, ставших честными», Ман-
|девиль в грубоватых и непринужденных стихах рассказывает
|аллегорическую историю пчелиного улья, обитатели которого на-
слаждались благоденствием, какое только может быть доступно
^Цивилизованному обществу. Улей заслуженно славился своим бо-
гатством, законами и военной мощью и считался «великим питом-
ником наук и промышленности».
Но это процветание было основано на всеобщем плутовстве:
не было ни одного ремесла, ни одной профессии без обмана. Плу-
товали бесчисленные авантюристы, паразиты, сводни, карманники,
фальшивомонетчики, шарлатаны, но такими же плутами, в своем
Роде, были и «важные дельцы». Плутовали юристы, изучавшие за-
коны, как громилы изучают Жилые дома и лавки, приглядываясь,
Как бы туда забраться; плутовали врачи, гораздо больше дорожа
своим богатством и репутацией, чем здоровьем пациентов; плу-
товали жрецы, умело скрывая свое тунеядство, развращенность,
297
скупость и тщеславие; плутовали военные; плутовали министры,
обкрадывая королевство; плутовали судьи, отправляя на висе-
лицу бедняков, преступления которых не заслуживали бы этой
чести, если бы речь не шла о том, чтобы обеспечить безопасность
богачей и знати.
Итак, везде порок царил,
Но улей в целом раем был.
Каждый порок играл свою положительную роль в гармонии
целого. Скупость, накопляя богатства, была служанкой мотовства;
любовь к роскоши, тщеславие и зависть давали работу миллионам
бедняков, и капризное непостоянство моды и вкусов служило дви-
жущим колесом «торговли.
Но, в безумном ослеплении, обитатели улья, не умея ценить
своего счастья, пожелали стать добродетельными и навсегда по-
кончить с плутовством, — и рассерженный Юпитер исполнил их
просьбу. Едва лишь честность успела поселиться в сердцах его
обитателей, как улей изменился до неузнаваемости. Исчезли за не-
надобностью суды, тюрьмы и наемные армии; министры, отка-
завшись от взяток, стали жить одним жалованьем; упали цены;
прекратили существование целые отрасли промышленности;
пришли в упадок с исчезновением роскоши все ремесла и искус-
ства. От прежнего богатства и процветания не осталось и следа.
Враги, воспользовавшись случаем, напали на обитателей некогда
грозного улья, и его поредевшее население с трудом смогло про-
тивостоять иноплеменному нашествию; тысячи пчел погибли в не-
равном бою, а оставшиеся, счцтая отныне всякое удобство поро-
ком, перелетели на житье в древесное дупло.
В заключительной «морали» своей басни Мандевиль поясняет
далее ее смысл. «Наслаждаться благами мира..., живя... без боль-
ших пороков — пустая утопия». «Голая добродетель не может обес-
печить нациям процветание; тот, кто хотел бы воскресить Золотой
век, должен согласиться не только быть честным, но и пи-
таться жолудями».
В дальнейшем, в предисловии и многочисленных дополнитель-
ных комментариях к своей басне, Мандевиль выступает уже
открытым противником «оптимизма» Шефтсбери и его единомышлен-
ников. Он не отрицает известной «гармонии» существующего по-
рядка, но сама эта «гармония» зиждется, по его представлению,
на прозаически низменной основе и оказывается, увы! гораздо
менее утешительной, чем идеальная гармония Шефтсбери.
В исследовании человека и общества Мандевиль исходит и:>
материалистических предпосылок. С его точки зрения, и пороки,
и добродетели — относительны и легко переходят друг в друга-
«Наилучшие добродетели нуждаются в помощи наихудших поро-
ков». В блестящих полемических схватках с Шефтсбери Манде-
виль с неподражаемой иронией «обыгрывает» тезисы своего про-
тивника, подставляя под его отвлеченное положение о бескорыст-
298 '
ном стремлении человека к добродетели реальные общественные
примеры этого «бескорыстия».
«Например, если мы видим, как трудолюбивая бедная женщина,
которая долгое время жила впроголодь и ходила в лохмотьях,
чтобы скопить 40 шиллингов, отдает эти деньги, чтобы поместить
своего шестилетнего сына в ученье к трубочисту, то, судя о ней...
в соответствии с системой общественных добродетелей, мы должны
вообразить, что, хотя она ни разу в жизни не платила за чистку
дымохода, она знает по опыту, что пренебрежение этой необходи-
мой предосторожностью не раз приводило к порче супа и ко мно-
гим пожарам; а потому, чтобы, в меру своих сил, облагодетельство-
вать своих современников, она отдает все, что имеет, — и сына, и
состояние, — чтобы помочь предотвращению различных бедствий,
часто вызываемых большим скоплением сажи, и, чуждая эгоизму,
приносит единственного сына в жертву самому жалкому занятию
ради общественного блага».
«Но, если вы презираете безграмотных бедняков, я могу су-
.дить, пользуясь тем же методом, о людях, занимающих более
высокие посты. Пусть враги общественной системы посмотрят на
достопочтенного советника, славящегося ныне своим богатством,
который, достигнув престарелого возраста, продолжает изнывать
в суде, ведет сомнительные процессы и, пренебрегая обедом, со-
кращает собственную жизнь в стремлении обеспечить ближним
сохранность их собственности!».
«Каким благом... является для общества проникнутый граж-
данским духом галантерейный торговец, который расходует
значительные средства, чтобы удовлетворить желания двух различ-
ных классов людей! Он доставляет пищу и одежду достойным бед-
някам и подбирает с величайшим старанием самых искусных ма-
стеров, чтобы никто не мог выпустить лучших изделий, чем он;
он встречает совершенно незнакомых ему людей с нарочитой веж-
ливостью и сияющей улыбкой и часто заговаривает с ними первый,
любезно стараясь угадать их желания... Какое прекрасное зре-
лище естественной любви к ближним!».
Блестяще разоблачая, таким образом, действительное нера-
венство, эксплоатацию и эгоизм, скрывающиеся под покровом ли-
цемерной «святости» буржуазных отношений, Мандевиль указы-
вает прямо, каким целям служат философские системы, подобные
«оптимистическому» учению Шефтсбери. «Все, чему учили нас
моралисты..., имело целью обеспечить социальный мир и процвета-
ние гражданского общества; заставить людей покориться власти».
Сам Мандевиль, однако, очень далек от стремления к наруше-
нию «социального мира» этого современного ему «гражданского
общества». Понимая не хуже, чем впоследствии Руссо, несовмести-
мость буржуазной «цивилизации» с патриархальными доброде-
телями добуржуазного «Золотого века», он никоим образом не
помышляет о возврате к прошлому. Как обычно, он поясняет
эту мысль остроумной аллегорией. Живя в Лондоне, — рассуждает
он, — в грязи, пыли и столичной сутолоке, люди, конечно, то-
299
скуют о благоухающих садах и тенистых сельских рощах и хотят,
чтобы на улицах города было чисто и не так шумно. «Но как только
они примут во внимание, что все вызывающее их раздражение
является следствием изобилия, развитого товарообмена и богат-
ства могучего города, то, будучи хоть сколько-нибудь заинтере-
сованы в его благополучии, они вряд ли пожелают видеть даже
улицы его менее грязными».
Когда Мандевиль говорит об утраченных человечеством до-
бродетелях «Золотого века», в его тоне не только не чувствуется
восторженного трепета, с каким говорит о них Руссо, но,
напротив, сквозит насмешливая ирония.
Мандевиль, — как и его противник Шефтсбери, — стоит на
почве буржуазного прогресса. Разница лишь в том, что Шефтс-
бери окутывает его идиллической розовой дымкой своего «опти-
мизма», тогда как Мандевиль спокойно и трезво приемлет его та-
ким, каков он есть, во всей его прозаической неприглядности.
Взгляды Мандевиля вызвали бешеное негодование в философ-
ских и литературных кругах тогдашней Англии. Даже самое имя
Мандевиля обращалось против него в качестве курьезного полеми-
ческого оружия: раздраженные филистеры усматривали в нем
особый символический смысл, разлагая его, по созвучию, на со-
ставные части: «человек-дьявол» (man-devil). Мандевиля упрекали
в клевете на «человеческую природу», в человеконенавистниче-
стве, в грязном цинизме и безбожии.
По достоинству оценил философию Мандевиля Маркс. В первом
томе «Капитала», ссылаясь на «Басню о пчелах», Маркс писал:
«Мандевиль, честный человек и ясная голова, еще не понимает
того, что самый механизм процесса накопления вместе с капи-
талом увеличивает и массу «трудолюбивых бедняков», т. е.
наемных рабочих» 1.
Еще в 70-х годах XIX века Лесли Стивен (Leslie Stephen)
в своей классической «Истории английской мысли XVIII века»
(History of English Thought in the Eighteenth Century, 1876) обратил
внимание на особую роль полемики Мандевиля и Шефтсбери в
истории английского Просвещения. Действительно, полемика эта
вышла далеко за пределы своих первоначальных рамок и много
десятилетий спустя после смерти своих непосредственных участ-
ников продолжала развиваться не только в философии, но и в
художественном творчестве английских просветителей XVIII века.
Можно говорить о «шефтсберианстве» и «мандевилизме» как
двух линиях английского буржуазного просветительства. Речь
идет, конечно, не просто о прямом влиянии тогб или другого из
этих философов на их английских продолжателей. Шефтсбери
и Мандевиль в перспективе общего исторического развития англий-
ского просветительства представляются лишь наиболее ранними
и классическими выразителями двух различных воззрений на
буржуазный прогресс, проявившихся в английском Просвещении.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 676.
зоэ
Исходным пунктом философии Шефтсбери служит идеализи-
рованный до неузнаваемости, абстрактный, искусственный чело-
век, человек как «аллегорическая моральная личность», вопло-
щающий гражданские идеалы Просвещения; в центре философии
Мандевиля — «эгоистический, независимый индивид» буржуазного
общества со своими реальными частными интересами. Неприми-
римость этого противоречия, отражавшего, — независимо от со-
знания его выразителей, — объективное соотношение между граж-
данскими общественными идеалами Просвещения и реальной дей-
ствительностью буржуазного общества, оставалась в течение дол-
гого времени неясной не только для современников Шефтсбери
и Мандевиля, но даже и для большинства позднейших английских
просветителей.
•
Глава 2
ПОП
Классицистские тенденции, характерные для литературы
раннего Просвещения, сказались наиболее полно в творчестве
Александра Попа — крупнейшего английского поэта начала
XVIII века.
Александр Поп (Alexander Pope, 1688—1744) был единствен-
ным сыном состоятельного торговца полотном, вынужденного
из-за своей принадлежности к католичеству устраниться от дел
после «славной революции» 1688 г.
Жизнь Попа рано сложилась как жизнь кабинетного пи-
сателя. Отстранению от активной деятельности способствовала
врожденная болезненность Попа (хилое сложение поэта служило
предметом постоянных насмешек его литературных противников);
кроме того, он был католиком, а это наглухо закрывало, по тог-
дашним законам, доступ в политическую жизнь.
Симпатии Попа привлекла фрондирующая против правитель-
ства оппозиция. Так создалась почва для сближения его не
только с политическими деятелями, подобными Болинброку и
Гарли, но даже с самим Свифтом. Язвительные выпады Попа про-
тив подкупности английских политиков и беспринципности ми-
нистерства Уолполя могли иметь, однако, лишь чисто поверхно-
стное сходство с уничтожающей критикой, которой подвергает
в эти же годы Свифт общественный строй Англии. Целая про-
пасть разделяла на деле этих друзей-сочленов литературного со-
общества, названного именем мифического писаки Мартина Скриб-
леруса. Свифт, издеваясь над нравами и обычаями Англии своего
времени, отрицал в сущности всю тогдашнюю цивилизацию, как
«Цивилизацию» грязных йэху. Поп, при всем его фрондерстве,
прочно стоял на почве буржуазного прогресса. Современники не-
даром любили сравнивать его с Горацием; ему дорог был идеал
умеренной и компромиссной «золотой середины». Его пояснения
к плану «Опыта о человеке» (An Essay on Man, 1733—1734), где он
301
видит свою заслугу в том, что «проложил себе путь между крайно-
стями по видимости противоположных доктрин... и создал
умеренную систему этики», удачно характеризуют общий дух
творчества Попа.
Поп испытал на себе сильное влияние ранней деистической
философии английского Просвещения. В своей философско-дидакти-
ческойс поэзии он в сущности лишь перекладывает в стихи основ-
ные идеи Шефтсбери и особенно близкого Попу Болинброка.
И подобно тому, как у этих «последователей Гоббса,— Болинброка,
Шефтсбери и др. —■ новая, деистическая форма материализма
оставалась аристократическим учением для избранных» 1, ли-
тературное творчество Попа также отличалось аристократической
отчужденностью от «черни». «Поэзия и критика никоим образом
не являются занятием всего света; это — дело исключительно
праздных людей, пишущих у себя в кабинете, и праздных людей,
проводящих там время за чтением», —* пишет он в предисловии
к своим сочинениям.
Произведения Попа предъявляют читателю большие требования.
Надо было знать Вергилия и Феокрита, чтобы оценить по досто-
инству «Пасторали» (Pastorals, 1709), и хорошо помнить Горация,
чтобы вполне насладиться остроумным подражанием ему в сати-
рах и посланиях Попа. «Опыт о человеке» предполагал у читателя
развитый вкус к отвлеченным морально-философским размыш-
лениям, и пикантность «Похищения локона» (The Rape of the Lock,
1712, полн. изд. 1714) была по-настоящему доступна лишь тому,
кто сочетал знакомство с новейшей «скандальной хроникой» лон-
донских салонов с достаточными литературно-мифологическими
реминисценциями.
И литературная практика и эстетическая теория Попа исходят
в основном из традиций классицизма. «Опыт о критике» (An Essay
On Criticism, 1711) — программная эстетико-теоретическая поэ-
ма, задуманная, очевидно, по аналогии с «Поэтическим искус-
ством» Буало, — была настоящим манифестом английского клас-
сицизма.
В основе классицизма Попа лежит, в сущности, то же стремле-
ние к разумному упорядочению мира, что и в просвещенной фило-
софии Шефтсбери и Болинброка. Поп придает величайшее зна-
чение упорядочивающей, гармонизирующей функции искусства.
Если, будучи врагом всякой схоластики, он выступает, тем не
менее, ревностным приверженцем нормативной эстетики, то это
вызвано прежде всего его желанием надежно обуздать строгими
законами разума своевольные стихии «природы». Противник хаоса
и «дикой свободы» в искусстве, как и в общественной жизни, он
требует от художника добровольного самоограничения и подчи-
нения издревле установленным классическим «правилам», кото-
рые, говоря словами «Опыта о критике», также являются природой,
но «природой упорядоченной» (nature methodised).
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 299.
Строгая рационалистическая ясность и четкость содержания
и формы представляются Попу необходимым условием художе-
ственности. Поклонник умеренности, он хотел бы изгнать из ис-
кусства все преувеличенное, чрезмерное, граничащее с ненавист-
ным ему «энтузиазмом». Считая задачей искусства следование са-
мой природе, Поп признает необходимость известных эстетических
условностей, приукрашивающих и гармонизирующих ее. «Истин-
ное остроумие — это природа, одетая к лицу».
Поэтика Попа действительно полна таких приукрашивающих
природу классицистских условностей. Он широко пользуется пери-
фразами, заменяя точное название изображаемого предмета услов-
ным «поэтическим» описанием. Так, например, мед описывается
как «розовая роса» («Пасторали»), рыбы — как «чешуйчатое пле-
мя» («Виндзорский лес»), кофе — как «аравийская гуща», фарфор —
как «китайская глина» («Похищение локона»), восточные благово-
ния — как «драгоценная сладость аравийских рос» («Послание Сафо
Фаону») и т. д. Поп охотно прибегает также к постоянным «укра-
шающим» эпитетам: «эмалевые луга», «бальзамический сон»,
«кристальные источники», «ароматные ветерки» и т. д. становятся
у него почти стандартом, тем, что англичане называют «stock
diction» (стандартным слогом) и что впоследствии так возмущало
романтиков. Такую же «украшающую» роль призваны играть и
бесчисленные мифологические аксессуары его стихотворений.
Описание жатвы кажется ему неполным без упоминания о Церере,
цветущий английский пейзаж — невозможным без «плодами увен-
чанной Помоны» и «краснеющей Флоры».
Но преклонение Попа перед античностью носит далеко не
формальный характер. Идеал античного искусства совпадает в
его представлении с просветительским идеалом естественности.
Произведения «древних» были созданы по законам самой природы
(«природа и Гомер — одно и то же»).
Восхищаясь античностью как золотым веком искусства, Поп
с истинно просветительским презрением говорит о феодальном
средневековье как о «варварском веке», когда «тирания объедини-
лась с суеверием, так что одна порабощала тело, а другое — дух».
В Ренессансе он ценит прежде всего возрождение античной куль-
туры в узком смысле ,слова. Характерно, что единственным поэ-
том времен Возрождения, которого Поп с восторгом упоминает в
«Опыте о критике», оказывается... Джироламо Вида, писавший ла-
тинские стихи! Зато французские классицисты XVII века пред-
ставляются ему законными наследниками античности: «Буало ца-
рит по праву, унаследованному от Горация». Но, вместе с этимг
общий характер английского Просвещения сказывается уже в твор-
честве Попа, порождая в его эстетике известные отступления от
последовательного классицизма.
Английское Просвещение, сложившееся исторически уже
после победы буржуазной революции в Англии, не отличалось той
гражданской направленностью, которая характеризует предре-
волюционное Просвещение во Франции XVIII века. Английские
303
просветители XVIII века очень рано начинают отдавать предпоч-
тение проблемам, связанным с частной, практической деятельно-
стью, бытом и нравами людей буржуазного общества, перед
общегражданскими вопросами. Это преобладание частного, индиви-
дуализирующего начала над началом обобщающим и гражданским,
характерное для всего английского Просвещения, сказывается от-
части уже у Попа.
Общая классицистская формула «подражания природе» при-
обретает у Попа особый смысл. Конкретное, индивидуальное,
частное вступает у него в свои права, насколько это возможно в
рамках классицизма. Любопытна сама жанровая структура его
творчества. «Большие» и «высокие» жанры классицизма почти
не даются Попу. Эпос представлен у него лишь переводами. Его
единственная юношеская трагедия «Святая Женевьева» (Saint
Genevieve. A Tragedy) была сожжена самим автором в рукописи,
зато главенствующее значение у Попа получают так называемые
«малые» и «низкие» жанры классицизма. Он — мастер герой-
комического бурлеска («Похищение локона») и сатиры («Дунси-
ада» и др.). Он постепенно отходит от описательно-статиче-
ских жанров классицизма (пастораль и т. п.), все более охотно
вводя элемент действия и движения в свои поэмы. Действием
полны и «Похищение локона», и «Дунсиада»,и даже дидактические
«Моральные опыты» (Moral Essays) изобилуют живыми реалисти-
ческими очерками характеров и нравов. Само учение о роли «гос-
подствующей страсти» в определении человеческого характера,
развиваемое поэтом в «Моральных опытах», примыкает в целом к
положениям, разработанным еще в XVII веке картезианской эсте-
тикой во Франции. Однако оно не лишено интересных указаний на
сложность и противоречивость человеческого поведения, предва-
ряя этим отчасти творчество просветителей-реалистов XVIII века.
«Немногие характеры просты, в большинстве они смешаны,
скрыты или непоследовательны»,—пишет Поп в прозаическом
резюме послания сэру Ричарду Темплю «О познании челове-
ческих характеров» (On the Knowledge and Characters of Men),
входящего в цикл «Моральных опытов». «Ничто не постоянно и не
определенно... О мотивах нельзя судить по поступкам; одни и те же
поступки проистекают из противоположных мотивов, и одни и
те же мотивы вызывают противоположные поступки. Поступки,
страсти, мнения, нравы, причуды и принципы, — все подлежит
изменению».
Лессинг, вообще невысоко ценивший Попа, ссылается на него
в «Лаокооне» как на писателя, понимавшего отличие задач поэзии,
призванной изображать движение жизни, от статически-изобра-
зительных задач живописи.
Творчество Попа, как и его эстетическая теория, остается наи-
более значительным явлением английского просветительского
классицизма; отдельными своими чертами оно уже предвосхищает
английский просветительский реализм XVIII века. Самые прин-
ципы классицистской «правильности» и ясности получают у него
304
своеобразное осмысление. «Правильность» как таковая, — как
ни дорога она сердцу Попа, мечтавшего стать самым «правильным»
из всех английских поэтов, —-еще не служит для него сама по
себе критерием художественности. Истинное различие между по-
этом и рифмачом заключается не в том, что первый более верен
«правилам», но в том, что он, —как подчеркивает Поп в «Посла-
нии Августу» ( 1737), — воздействует на воображение читателя.
Уже в «Опыте о критике» Поп допускает существование «кра-
сот, которые не могут быть предусмотрены никакими правилами».
«Великие таланты (wits) могут иногда совершать блистательные
проступки и возвышаться до ошибок, которые истинные критики
не решатся исправить»; им случается, вопреки всем правилам,
добиваться такого эффекта, «который, проходя мимо рассудка, за-
воевывает сердце и сразу достигает своей цели». Все это, правда,
допускается Попом лишь по отношению к «древним»; «современ-
ники» должны остерегаться столь смелого нарушения эстетических
норм. Но нельзя все же не заметить в этом отступлении Попа от
строго-нормативной эстетики классицизма частичного предвосхи-
щения последующего развития английской эстетической мысли
XVIII века. Свобода гения от правил, лишь частично и условно
допускаемая Попом по отношению к «древним», станет несколько
позже универсальным эстетическим принципом у сентиментали-
стов. Выходит за пределы классицизма и проводимая в том же «Опы-
те о критике» — опять-таки лишь в применении к «древним» —
^ысль о необходимости известного историзма в критическом
Диализе.
Щ; Особую постановку получает у Попа и вопрос о литературном
[^наследстве. В «споре древних и новых», отголоски которого еще
Доучат в его творчестве, он склонен занять компромиссную пози-
цию. В «Опыте о критике» он иронически сравнивает с религиоз-
ными сектантами критиков, из которых «одни презирают ино-
странных, другие—наших писателей, одни ценят лишь древних,
другие — лишь новых», а в «Послании Августу» подсмеивается над
|*еми, кто согласен признать «классиком» лишь писателя столет-
ней давности.
fs Творчество Мильтона, Шекспира, Спенсера и Чосера значит
Для него гораздо больше, чем значила литература французского
возрождения для теоретиков французского классицизма. Он пы-
$&ется даже подражать Чосеру (в «Храме славы», 1715) и Спенсеру.
$ Отношение Попа к Шекспиру, наиболее полно отраженное в
Предисловии к предпринятому им изданию собрания сочиненийШек-
^пира (1721), особенно интересно. По словам Попа, Шекспир от-
личается от новейших писателей так же, как «древний величавый
!#бразец готической архитектуры» — от современного здания, по-
строенного по всем правилам; многое в нем кажется «ребяческим,
неуместным и несоответствующим его величию», — и все же он
Поражает своею силой и благородством. Предвосхищая точку зре-
гИя Вольтера на «неправильность» творчества Шекспира, Поп,
Днако, указывает, что «оценивать... Шекспира по правилам Ари-
Англ. литература 305
стотеля — все равно, что судить человека, действовавшего со-
гласно законам одной страны, по законам другой. Шекспир писал
для народа, и писал, сперва не пользуясь покровительством луч-
шей части общества, а потому не стремясь угодить ей.». Уже само
это указание на народный характер творчества Шекспира свиде-
тельствует о несомненной прозорливости Попа-критика. Сам он,
однако, в полном соответствии с духом классицизма, считает эту
народность скорее «смягчающим обстоятельством», извиняющим
прегрешения Шекспира, чем особым его достоинством; так Буало
в свое время сожалел о близости Мольера к народу.
Литературная известность Попа начинается с издания его
юношеских «Пасторалей». Написанные под непосредственным
влиянием Феокрита и Вергилия (и отчасти Спенсера, на которого
Поп ссылается в предпосланном его поэмам трактате о пастораль-
ном жанре), они обладали, в своем роде, несомненной прелестью,
но прелестью подчеркнуто условной. «Берега Темзы» воспеваются
в традиционных формулах античной мифологии, и Стрефон, моля-
щий Феба вдохновить его «звуками Уоллера или Гренвиля», ко-
нечно, не имеет ничего общего с настоящим английским пастухом.
Но все же сквозь искусственную «гладкость» и «элегантность»,
к которым стремится сам Поп, уже в «Пасторалях», а в особенно-
сти в более позднем «Виндзорском лесе» (Windsor Forest, 1713),
проглядывает живой, непритворный интерес к природе. Условные
формулы описательной классицистской поэзии нередко перемежа-
ются свежими образами, заимствованными из непосредственного
восприятия английской природы. Английский боярышник и
маргаритки занимают свое место рядом с классическими миртами и
розами.
Даже страстный противник Попа — романтик Вордсворт
принужден был отметить появление в «Виндзорском лесе» един-
ственных «новых образов в изображении природы», какие знала
английская поэзия в промежутке между Мильтоном и Томсоном,
Замечателен для своего времени уже самый замысел «Виндзорского
леса», согласно которому предметом изображения оказывается не
абстрактная природа «вообще», но реальный пейзаж хорошо зна-
комого Попу Виндзора. Правда, о соблюдении «местного колорита»
поэт заботится меньше всего. Он ценит в природе прежде всего ее
отвлеченную «упорядоченность» и гармоничность; виндзорский пей-
заж пленяет его тем, что «холмы и долины, лес и степь, земля и
вода... не хаотически сталкиваются друг с другом... но... гармони-
чески смешаны; мы видим здесь порядок в разнообразии».
Изображая природу, Поп широко пользуется условными мифологи-
ческими аксессуарами; в «Виндзорский лес» вплетена целая исто-
рия «превращения» нимфы Лодоны в реку Лоддон, — история, по-
строенная по образцу овидиевых «Метаморфоз».
«Опыт о критике» — крупное произведение Попа. И достой»''
ства и недостатки этой поэмы очень характерны для его твор1,е'
ства. Этот поэтический трактат в сущности вносит немного но
вого в эстетику классицизма после Буало и других, но Поп умее1
306
заставить зазвучать оригинально и остро даже самые традицион-
ные истины. «Никто не мог сравниться с ним в искусстве чека-
нить афоризмы из общих мест», — писал об авторе «Опыта о кри-
тике» Лесли Стивен. Поп уже здесь обретает тот жанр, в котором*
позже написаны многие лучшие его морализаторские поэмы —
жанр блестящей, остроумной, хотя и не лишенной рационали-
стической сухости, беседы с читателем, где каждая фраза свер-
кает и отточена, как лезвие ножа.
В 1712 г. появилось в первоначальном кратком варианте
«Похищение локона», впоследствии значительно расширенное поэ-
том. Эта шутливая и изящная «герой-комическая» псэма возникла
как галантный экспромт на «злобу дня» великосветской жизни.
Лондонские салоны были полны пересудов по поводу ссоры двух
знатных семейств, вызванной дерзким поступком лорда Питра, от-
резавшего локон у красавицы мисс Арабеллы Фермор. Поэма Попа
должна была содействовать примирению враждующих сторон,
обратив все в изысканную шутку.
Жанр «герой-комического» эпоса, к которому обратился в
этом случае Поп, был к тому времени уже широко представлен и во
Франции, и в самой Англии. Попу, в частности, мог послужить об-
разцом «Аналой» Буало, не говоря уже о «Гудибрасе» Бетлера и о
галантно-шутливых поэмах Мэтью Прайора. Подобно Прайору ~
и подобно Вольтеру — Поп испытывает живое влияние стиля
рококо с его легким изяществом, галантным культом наслаждения
и умением ценить тонкую прелесть грациозных безделушек-«пу-
стячков» в искусстве и жизни. Жанр «герой-комической» поэмы
в связи с этим как бы освобождается у Попа от той тяжеловатой
пародийной «нарочитости», которой отличались написанные еще
в предшествующем веке произведения, подобные «Вергилию на-
изнанку» Скаррона, и приобретает большую самостоятельность,.
гибкость и грациозность.
Любопытно, что мифологический «механизм» «Похищения ло-
Кона», о котором Поп с важностью рассуждает в посвящении к сво-
ей поэме, он заимствует не из античной мифологии и не из обла-
сти рационалистических аллегорий. Предводительствуемые Ариэ-
лем сильфы Попа (заимствованные, якобы, из мистического уче-
ния розенкрейцеров) напоминают — хотя бы и очень отдаленно,—
поэтичных и жизнерадостных духов и эльфов Шекспира («Буря» \\,
б особенности, «Сон в летнюю ночь»). Поэзия английского Воз-
рождения (Спенсер, Шекспир) с ее радостной и гармоничной фан-
тастикой, пожалуй, нигде не оказала на Попа большего влияния,
чем в «Похищении локона».
Подобно тому как в «Опыте о критике» Поп обнаружил ис-
ключительную способность придавать неожиданный блеск и ост-
роту даже трюизмам, в «Похищении локона» он сумел создать-
истинно поэтическое, полное юмора и жизни произведение из свет-
ского анекдота. «Я очарован волшебством вашего воображения,
всеми этими образами, намеками и необъяснимыми красотами,.
Которые вы столь удивительно и в то же время столь естественно
20* 307>'
извлекаете из пустяка», -— писал Попу такой «серьезный» его
современник, как будущий епископ Беркли, основоположник субъ-
ективно-идеалистической философии нового времени.
В «Похищении локона» Поп блестяще сочетает изящную услов-
ность рококо с живым изображением быта и нравов аристо-
кратической английской среды его времени; недаром эта поэма
смогла дать материал для иллюстраций Гогарта, мастера сатирико-
.бытового жанра.
В галантность Попа подмешано немало яда.
Удар, что ей грозит,
Во мраке неизвестности сокрыт.
Нарушить ли закон Дианы вскоре,
Найти ль изъян на дорогом фарфоре,
Честь запятнать свою иль свой наряд,
Молитву пропустить иль маскарад,
Браслет иль сердце потерять на бале?..
Иль небеса во гневе пожелали,
Чтоб сдох ее любимый песик Шок?
(Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперпик ).
Успех «Похищения локона» был огромен. Поп сообщает, что
за четыре дця было продано 3 000 экземпляров поэмы. В 1716 г.
появилось уже пятое издание.
В первом собрании сочинений Попа (1717) обращали на себя
особое взимание два сходных по теме и настроению стихотворе-
ния, впервые ставшие известными широкой публике. Это были
послание Элоизы к Абеляру (Eloisa to Abelard) и «Элегия памяти
одной несчастной лэди».
Печальная судьба Элоизы и Абеляра, давшая повод Руссо на-
звать «Новой Элоизой» свой знаменитый роман, уже в это время
привлекала к себе внимание Европы. В распоряжении Попа могли
быть латинские письма, выдававшиеся тогда за подлинную пе-
реписку Абеляра и Элоизы; несколько позже, в 1722 г., они вы-
шли в английском переводе Джона Хыоза. Стихотворение Попа
написано от лица Элоизы, уже разлученной с Абеляром и томя-
щейся в монастырском заточении.
В «Элегии памяти одной несчастной лэди» Поп сознательно
мистифицирует читателя, лишь глухо, неясными намеками говоря
о трагической судьбе своей героини. Одаренная красотой, богат-
ством и знатностью, она безвременно погибла в одиночестве на
чужбине. Страсть заставила ее преступить законы света, но она
много страдала и много любила, и сочувствие поэта принадлежит
ей всецело.
Оба стихотворения поражают необычной для Попа эмоцио-
нальностью. Поэт отступает от классицистской ясности и четкости
в сторону патетического лиризма. Любопытно оригинальное для
того времени использование «романтических» аксессуаров: мона-
стырские стены, могильный склеп, глухое завывание ветра (по-
слание Элоизы), «манящий призрак в лунной тени», «окровавлен-
ное
ная грудь», «призрачный меч» («Элегия»). В переписке этога
времени сам Поп охотно говорит о своем «романтическом» настрое-
нии. Из всех произведений Попа (за исключением разве лишь от-
части «Похищения локона») ничто не встречало у английских
критиков времен романтизма большего сочувствия, чем эти два
стихотворения. «Лирическое смятение, бурные переходы, надежда,
слезы, восторги, покаяние, отчаяние выбывают в читателе взвол-
нованное сочувствие к бедной обезумевшей монахине», — писал
по поводу послания Элоизы известный английский романтик
Де Квинси. В России это стихотворение переводил молодой
Жуковский.
Но в дальнейшем творчество Попа пошло по иному пути. «По-
хищение локона», послание Элоизы к Абеляру, «Элегия» были
для него поэтическими проказами юности, недолгим отдыхом от
строгого служения музе классицизма. Именно о них вспоминал,
вероятно, Поп, когда писал впоследствии в «Послании к Арбет-
ноту», что «недолго бродил в лабиринте фантазии, но обратился
к истине и служению морали».
Перевод «Илиады» (1715—1720) окончательно упрочил лите-
ратурную репутацию поэта. До Попа Гомер был известен в Англии,
главным образом, по старому переводу Чапмена. Этот перевод
обладал несомненными литературными достоинствами, но «шоки-
ровал» «просвещенный» вкус XVIII века и архаичностью, и самой
выразительностью и резкостью своего языка. Поп постарался при-
дать своему Гомеру необходимую «правильность» и гладкость.
Древнегреческий эпос сбивается в его переводе на классицист-
ские эпопеи XVII—XVIII веков. Гомеровская простота сменяется
несколько искусственной «элегантностью» (если, например, у Го-
мера упрямый Аякс сравнивается с ослом, то у Попа он изыскан-
но уподобляется, с помощью смягченного перифраза, «медлитель-
ному животному, одаренному тяжеловесной силой»!). Гектор
и Ахилл рассуждают подобно прекраснодушным джентльменам
XVIII века, а гекзаметр Гомера заменяется рифмованными ям-
бическими двустишиями привычного лощеного десятисложного
«героического размера». Вероятно, именно эта «мвдернизация»
Гомера в духе классицизма XVII—XVIII веков и обеспечила
«Илиаде» Попа огромный успех среди английских читателей XVIII
века. Известный английский ученый-филолог того времени Ри-
чард Бентли (Richard Bentley, 1662—1742) оценил значение «Или-
ады» Попа в лаконической фразе: «Миленькая поэма, мистер Поп,
но вам не следует называть ее Гомером».
Перевод «Одиссеи», предпринятый Попом несколькими го-
дами позже (1725—1726), по общему мнению современников ме-
нее удался поэту. Поп работал над ним не так охотно и шире, чем
ранее, пользовался посторонней помощью. Одним поколением
позже критику Сэмюэлю Джонсону, при жизни которого достиг
своего апогея английский бытовой просветительский роман, пред-
стояло, напротив, предпочесть «Одиссею» «Илиаде» именно за бо-
лее «домашний» характер ее тематики.
309
Отныне за Попом прочно закрепляется авторитет верховного
судьи-законодателя в эстетических и литературных вопросах
древности и современности. В 1728 г. появилась — сперва ано-
нимно — его «героическая поэма» «Дунсиада» (Dunciad. A Heroic
Poem, 1728—1743), которую он впоследствии неоднократно пе-
ределывал и расширял. Название поэмы происходит от англий-
ского слова «dunce» (тупица, глупец), происходящего — mutatis
mutandis — от собственного имени известного средневекового
философа-схоласта Дунса Скотта. «Дунсиада» принадлежала к
тому же пародийному «герой-комическому» жанру, что м «Похи-
щение локона», но тон ее был иным. Прежнее изящество уступило
место почти натуралистической грубости, легкая ирония — рез-
кой сатире; недаром из всех своих поэм именно «Дунсиаду» посвя-
тил Поп Джонатану Свифту.
Сюжет поэмы — смотр сил богини Тупости и избрание ее на-
местника на земле — дал автору возможность построить «Дун-
сиаду» как широкий сатирический обзор литературной жизни
тогдашней Англии. Поэма представляет портретную галлерею «ту-
яиц» английской литературы и науки. Любимцем Тупости и ко-
ролем земных «тупиц» в первом варианте «Дунсиады» был выведен
шекспировед Льюис Теобальд, выступивший незадолго перед тем
с критикой выпущенного Попом издания Шекспира. В окончатель-
ном варианте поэмы его место занял поэт-лауреат Колли Сиббер.
«Дунсиада» была для Попа средством свести литературные счеты
с противниками. Но поэма имела и более глубокое значение. В ос-
нове «Дунсиады» лежала, в сущности, важнейшая тема всего
Просвещения: борьба невежества и варварства с твердынями челове-
ческого Разума. Даже такой иронический и трезвый ценитель,
как Теккереи, восхищался заключительными строками поэмы, где
Поп пророчит гибель культуры в случае победы Тупости над
Разумом:
Дочь Хаоса и Ночи, вот она
Идет, идет, во мрак облачена,
Перед нею гаснут, прекратив движенье,
« Златые облака Воображенья,
И тщетно Мысль взметает ввысь огни,
На землю, вспыхнув, падают они.
Как Аргусу Гермес жезлом своим
Слепил глаза, один вслед за другим,
Так при ее неслышном приближеньи
Искусства блекнут все в одно мгновенье;
Назад в пещеру Истина бежит.
Взор с неба Любомудрие отводит
И в пустоту «вторых причин» уходит.
Вновь, Хаос, мир у ног твоих лежит.
(Перевод О. Б. Румера).
Объекты сатиры Попа иногда неожиданны — среди «тупиц»
оказываются не только ученые-антиквары, энтомологи, ботаники,
.310
на которых, в соответствии с духом своего века, с безграничным
презрением смотрит Поп, но и Дефо, и передовые философы-воль-
нодумцы — Тиндаль, Толанд, Мандевиль. В такой парадоксаль-
ности оценок сказались, конечно, не только личные симпатии и
антипатии поэта — всегда очень резкие, —но и характерная поло*
винчатость его просветительских взглядов. Эта половинчатость
и противоречивость обнаружились с наибольшей ясностью в
произведении, с которым бьи.и связаны самые честолюбивые ли-
тературные замыслы Попа, — в его философско-дидактической
поэме «Опыт о человеке». й
В «Опыте о человеке» и примыкающих к нему «Моральных опы-
тах» яснее, чем где-либо, сказалась зависимость просветитель-
ских воззрений Попа от деистического «оптимизма» Болинброка;
именно у него заимствованы координаты, по которым начертана
эта «общая карта Человека» (как определил свое сочинение сам
поэт). Подобно Болинброку, Поп исходит из стремления оправ-
дать существующий порядок мироздания; повторяя знаменитую
фразу Мильтона, он обещает «оправдать пути господни человеку».
Поп придерживается здесь приблизительно тех же взглядов,
каких держался еще в «Задиге» (1748) В >льтер, лишь позднее осме-
явший их в «Кандиде, или оптимизме» (1759). Квинтэссенция
«Опыта о человеке» заключена в формуле «Все существующее —
справедливо» (whatever is, is right), тождественной с неизменным
изречением знаменитого вольтеровского Панглоса: «Все к луч-
шему в сем лучшем из миров!».
А между тем нельзя сказать, чтобы Поп был совершенно слеп
к порокам буржуазного общества. Человек XVIII века, он иногда
позволяет себе в своих суждениях немалую смелость. Порою он
готов весьма язвительно поговорить о всеобщей продажности, на
которой зиждется процветание буржуазного общества. Интере-
сен, например, спор о роли денег, которым открывается послание
«О пользе богатства» (Of the Use of Riches, 1732). Адресат по-
слания, лорд Батхерст (Bathurst), выступает апологетом «золота»,
Поп — обвинителем. Благодаря золоту, утверждают спорщики:
Б. Коммерция и общество растут.
П. Продажна дружба, процветает плут.
Б. Народу в помощь армия дана.
П. Сенат подкуплен, предана страна.
На все эти противоречия, однако, накидывается розовый по-
кров философского оптимизма, и риторический пафос неизменно
спасает в нужный момент поэта от непр ятной необходимости
«сводить концы с концами» в своей философской системе.
О том, насколько противоречива была эта «система», свиде-
тельствовал любопытный эпизод, разыгравшийся в 1737—1738 гг.,
когда швейцарец, пастор Круза (Crousaz), выступив с критиче-
ским разбором «Опыта о человеке», выдвинул против Попа об-
винение в греховном деистическом покушении на религию.
311
Признавая вселенную результатом божественного акта тво-
рения, Поп, как и все деисты, фактически устранял из нее
возможность всякого последующего сверхъестественного вмеша-
тельства. Будучи пущен в ход божеством, мир, управляемый не-
изменными и разумными законами, уже не нуждается более в гос-
подней помощи. Грозный и вездесущий бог Библии и кальвинизма
превращается в отвлеченную «великую первопричину», которую
люди именуют то Иеговой, то Юпитером, то господом, как пишет
Поп в стихотворении «Всеобщая молитва» (Universal Prayer,
1738). Более того, слова «бог» и «природа» употребляются у него
почти как синонимы. Но, несмотря на то, что фактически все его
творчество, — в особенности «Опыт о человеке» и «Всеобщая молит-
ва»,— было проникнуто деистическими мотивами, Поп искренне
считал себя вправе метать громы и молнии против безбожных
вольнодумцев-деистов —Тиндаля, Толанда и других. Обвинение в
деистическом свободомыслии поставило его втупик.
На помощь обескураженному поэту пришел один из будущих
«столпов» английской церкви, тогда еще безвестный литератор,
впоследствии епископ, — Уорбертон (Warburton), не без ловкости
доказавший, что «Опыт о человеке» ни в какой мере не выходит за
пределы церковной ортодоксии. Благодарственное письмо Попа
Уорбертону — любопытный документ. «Вы сделали мою систему
такой ясной, какой должен был бы, но не мог сделать ее я сам, —
писал Поп.— Я знаю, что я имел в виду именно то, что объясняете
вы, но я не мог так хорошо объяснить свою мысль, как это сде-
лали вы».
Смертельный удар философской репутации Попа был нанесен
Лессингом, опубликовавшим в 1751 г. брошюру под ядовитым
заглавием «Поп — метафизик!», где доказывалось, что рассуждения
автора «Опыта о человеке» находятся вообще за пределами фило-
софии.
Однако сама компромиссность философско-дидактических поэм
Попа способствовала их длительной популярности и в Англии
и за ее пределами. Влияния «Опыта о человеке» не избежал даже
Вольтер, который в «Естественном законе» (1751) отдал дань Попу
и лишь позднее свел с ним и с Лейбницем счеты в «Кандиде». В Рос-
сии XVIII века моралист «Попе» (так писалось тогда его имя)
пользовался также немалой популярностью. Сделанный учеником
Ломоносова H. Н. Поповским перевод «Опыта о человеке» выдер-
жал ряд изданий.
Большой популярностью пользовались также примыкавшие
к «Опыту о человеке» «Моральные опыты», — послания и сатиры
в подражание Горацию. Поп обращается здесь к вопросам морали,
быта и литературной жизни, подкрепляя общие рассуждения жи-
выми характеристиками тогдашних людей и нравов. Одним-двумя
эпиграмматическими двустишиями он рисует иногда яркую реа-
листическую сценку. В послании Батхерсту «О пользе богатства»
запоминается, например, сатирическое изображение буржуазных
английских «филантропов» времен Попа, большинство которых
312
названо прямо по именам. В знаменитом «Послании к Арбетноту»
(Epistle to Mr. Arbuthnot, 1735, русский перевод Дмитриева), ха-
рактеризующем литературные нравы тогдашней Англии, читатели
без труда узнавали в портретах,набросанных Попом, под условными
латинизированными именами своих современников. В самодоволь-
ном и завистливом литераторе Аттикусе угадывали Аддисона, в «раз-
дутом Буфо», «раскормленном нежными посвящениями», узнавали
лорда Галифакса, охотно претендовавшего на роль мецената,
и т. д. Классическая форма горацианской сатиры и послания за-
полняется у Попа уже новым, живым, английским содержанием.
Английская литература многим обязана Попу. Если он узако-
нил на время в английской поэзии холодноватую условность и
«правильность» классицизма, то вместе с этим он одним из первых
поставил стих на службу просветительской мысли и помог поэ-
зии найти язык четкий и ясный.
Преданный сторонник просветительского культа разума, Поп
считал необходимой основой поэзии равновесие остроумия и рас-
судка. Он — против той поэтичности, которая покупается ценой
«отказа от точности или разрыва цепи рассуждений». Ясность —
вот достоинство, о котором он прежде всего заботится в своем твор-
честве. Его стих поражает строгой симметрией построения. Мы-
сли и образы сменяются с последовательностью членов математи-
ческого уравнения.
Поп — мастер четкого и лаконического афоризма, меткого и
острого словца. Многие строки его поэм прочно вошли в обиход-
ный английский язык, как общеизвестные поговорки: «But fools
rush in, where angels fear to tread» (Но глупцы бросаются туда, куда
боятся ступить ангелы), «A little knowledge is a dangerous thing»
(Опаснее знать мало, чем ничего не знать), «It is not poetry but
prose run mad» (Это не поэзия, а взбесившаяся проза), и другие
стихотворные строки Попа употребляются как привычные изре-
чения англичанами, быть может никогда не читавшими «Опыта
о критике» или «Сатир», откуда заимствованы эти вошедшие в быт
цитаты. Афористической лаконичности благоприятствовала и сама
форма поэзии Попа: единообразные рифмованные двустишия,
где каждая пара строк,—а то и отдельная строка, — чаще
всего представляла собой более или менее замкнутое синтак-
сическое и смысловое единство. Сам Поп говорил, объясняя план
«Опыта о человеке», что ему легче быть кратким и сжатым в сти-
хах, чем в прозе. Попытки передать прозой содержание его про-
изведений, заметил Лессинг, так же невыгодны для Попа, как невы-
годны были бы для Эвклида попытки переложить в стихи его ма-
тематические труды.
При жизни Поп пользовался огромной славой, да и в дальней-
шем в глазах среднего английского читателя он остается на протя-
жении всего XVIII века самым чтимым, — хотя, может быть, и не:
самым читаемым, — поэтом. В литературных кругах его автори-
тет, однако, довольно рано начинает оспариваться, по мере того
как классицизм вытесняется из литературы новыми течениями.
313
Фильдинг уже в 1752 г. иронизирует в «Ковент-гарденском жур-
нале» над временами, когда в английской литературе сауодержав-
но царил «король Александр, по прозванию Поп». В 1756 г. по-
является «Опыт о Попе», автор которого, Джозеф Уортон — один
из провозвестников английского предромантизма, — отдавая
должное остроумию и здравому смыслу Попа, отказывает ему,
однако, в звании истинного поэта. По замечанию Байрона, са-
мая «безупречность» Попа «была поставлена ему в вину». Сенти-
менталисты и предромантики упрекают его в отвлеченности, от-
сутствии воображения и чувства, в том, что он, по словам поэта
Каупера, «превратил поэзию в ремесло». Лессинг точно так же от-
казывает Попу в наименовании поэта, сохраняя за ним лишь зва-
ние «превосходнейшего версификатора» и считая его истинной об-
ластью «то, что мы называем механическим в поэзии».
В особенно энергичную борьбу с авторитетом Попа вступают
на рубеже XVIII—XIX веков молодые английские романтики —
вожди «озерной школы» Вордсворт и Кольридж. В творчестве Попа
они видят источник «псевдопоэтического слога» (Кольридж),
не вполне исчезнувшего даже в поэзии сентименталистов. Они
возмущаются рассудочностью и искусственностью его произве-
дений, — всем, чем творчество Попа было действительно противо-
положно романтизму.
Интересно, что Байрон, вообще очень тесно связанный с Про-
свещением, относится к памяти Попа, напротив, с величайшим пиэ-
тетом. Помимо многочисленных восторженных отзывов о Попе,
разбросанных по страницам байроновских произведений (в част-
ности, в ранних «Английских бардах и шотландских обозревате-
лях» — литературной сатире, написанной не без влияния «Дун-
сиады»), особенно интересны письма Байрона против Баугьса,
критика и издателя Попа. Страстная защита репутации Попа от
критики Баульса тесно переплетается здесь с полемикой против
поэтов-«озерников». Байрон как бы противопоставляет просвети-
тельскую «этическую» поэзию Попа, — «самого совершенного из
наших поэтов и самого чистого из наших моралистов», — мисти-
ческому и темному романтизму «озерной школы».
Глава 3
ПРАЙОР
Во многом близок Попу по характеру своей поэзии его стар-
ший современник Мэтью Прайор (Matthew Prior, 1664—1721).
Прайора обычно относят к «школе Попа», хотя фактически он
начал писать и печататься задолго до него — еще во времена Ре-
ставрации.
Сын столяра, Прайор сумел благодаря поддержке графа Дор-
сета получить среднее образование, а затем окончить Кембридж-
ский университет. Рано окунувшись в политическую жизнь, он
314
с эпикурейским спокойствием относился к политическим тревол-
нениям своего времени. Из сторонника реакционного режима.
Якова II он легко превратился после 1688 г.в ревностного вига,с тем,
чтобы в последние годы царствования Анны стать деятельным то-
рием, одним из ближайших сотрудников Болинброка и Гарли.
Большинство людей, доказывает Прайор в своем «Опыте о мне-
ниях» (An Essay upon Opinion), вообще не имеет своих собствен-
ных мнений, но заимствует чужие, смотря по обстоятельствам.
- В политической жизни тсгдашней Англии Прайор играл ак-
тивную роль; на него не раз возлагались ответственные диплома-
тические поручения; с 1711 по 1714 г. он был английским послом
во Франции. После падения торийского правительства, с воцаре-
нием ганноверской династии, Прайор попал в немилость, просидел
около двух лет в тюрьме и вышел оттуда без всяких средств к су-
ществованию, что и побудило его приятелей выпустить по под-
писке соорание его стихотворений.
Поэмы Прайора — «Альма, или путь ума» (Alma, or the Prog-
ress of Mind) и «Соломон о суетности мира» (Solomon on the Vanity
of the World) — довольно близки к дидактической поэзии Попа.
«Альма» — стихотворный трактат, написанный живым «гудибра-
стическим стихом», — излагает историю развития человеческого
разумения, перебиваемую острыми сатирическими выпадами
против «неразумия» во всех его формах. Некоторые из этих выпа-
дов заставляют вспомнить о ренессансных сатирах против Глупости
(Эразм и др.), вероятно, знакомых Прайору. «Соломон», пред-
ставлявший собою попытку создания большой философской эпи-
ческой поэмы на библейскую тему (вроде «Давидеиды» Каули),
пользовался в XVIII веке, пожалуй, не меньшим уважением
чем «Опыт о человеке» Попа.
В отличие от Попа Прайор, однако, не столь тесно связан с
классицизмом. Он меньше заботится о строгой рационалистической
ясности и «правильности» своих произведений. Влияние рококо
сказывается у него значительно сильнее, чем у Попа. Наряду с
«официальными» жанрами классицизма (эпической поэмой, сати-
рой, одой и т. д.) Прайор охотно разрабатывает легкие и
■непринужденные жанры светской поэзии—экспромт, шутливое по-
желание, мадригал, веселую или элегическую песенку, эпиграмму.
•Он охотно прибегает к пародии; у современников, например, поль-
I зовалась известностью его «Английская баллада на взятие На-
;. мюра»(Ап English Ballad on the Taking of Namur), пародирующая
Стих за стихом известную оду Буало на победы Людовика XIV.
В лирике Прайора обычны жизнерадостно-чувственные, ана-
креонтические мотивы; его мифологические образы и ассоциации
кажутся более живыми и материали°ованными, чем услов-
ные мифологические аксессуары поэзии Попа. Прайор с юмором
рассказывает о любовных похождениях «мисс Данаи» и пе-
реплетает древнее предание о Федре и Ипполите фривольными на-
меками на новейшие приключения английских светских дам. Его
шутливые поэмы «Ганс Карвель» (Hans Carvel) и «Паоло Пурганти
315
и его жена» (Paulo Purganti and his Wife) представляют собой удач-
ные подражания нескромным «Сказкам» Лафонтена.
Для Прайора характерен также живой интерес к средневеко-
вой английской поэзии. Интересна его поэма «Генри и Эмма»
(Henri and Emma. A Poem, upon the Model of the Nut-Brown Maid),
написанная в подражание старинной английской балладе о «Смуг-
лой девушке».
Более живая, юмористическая и чувственно-конкретная, чем
поэзия Попа, поэзия Прайора отличалась также гораздо большим
разнообразием размеров и форм. Наряду с традиционным, из-
любленным Попом, десятисложным «героическим размером», ко-
торый кажется Прайору чересчур близким к прозе, он охотно
пользуется также более живым восьмисложным стихом, воскре-
шает в несколько видоизмененном виде старинную «спенсерову
строфу» и т. д.
Литературная репутация Прайора оказалась в оценке позд-
нейших читателей и критиков, пожалуй, более устойчивой, чем
репутация Попа. Лессинг, находя, что в философско-дидактиче-
ском «Соломоне» Прайор попал «не в свою область», считал, од-
нако, что в остальном «никто из английских поэтов не превосходит
его чистотою языка, благозвучием, легкостью остроумия, наивной
нежностью» («Письма о литературе»). У английских сентимента-
листов и романтиков Прайор встретил гораздо больше сочувствия,
чем Поп. Его высоко ценили Гольдсмит, Каупер, Крабб, Скотт;
его «песни» оказали немалое влияние на Мура; Байрон ссылался
на его авторитет в оправдание реалистических «вольностей»
«Беппо» и «Дон Жуана».
Глава 4
АДДИСОН И СТИЛЬ
Уже в период раннего Просвещения художественная проза за-
воевывает себе все более видное место в английской литературе.
Позднейший расцвет английского реалистического романа XVIII
века был подготовлен отчасти Аддисоном и Стилем, создателями
сатирико-нравоописательных журналов.
Джозеф Аддисон (Joseph Addison, 1672—1719), сын англикан-
ского священника, получил солидное классическое образование.
Его первые литературные труды — латинские поэмы в подража-
ние древнеримским классикам, переводы Овидия и Вергилия, —-
и живой интерес к филологии и археологии рано обратили на него
внимание ученого мира. По окончании Оксфорда он был оставлен
при университете и мог бы, приняв духовное звание, в то время
бывшее почти непременным условием университетской карьеры
в Англии, рассчитывать на достижение самых высоких ступеней
академической лестницы; но он предпочел кабинетной академи-
ческой жизни более практическую и живую деятельность поли-
316
тика и литератора. В 1699—1703 гг. Аддисон, приняв предложенное
ему правительственное пособие, совершил длительное путешествие
по Европе, призванное подготовить его к дальнейшей полити-
ческой деятельности. Плодом этого путешествия была книга путе-
вых очерков «Замечания о различных частях Италии» (Remarks on
Several Parts of Italy, 1705).
Начало широкой литературной известности Аддисона отно-
сится к 1705 г., когда, вернувшись в Англию, он написал по за-
казу правительства нашумевшую поэму «Поход» (The Campaign),
посвященную герцогу Мальборо, под водительством которого анг-
лийская армия одержала крупную победу в недавнем сражении
при Бленгейме (1704). Написанная в соответствии со всеми кано-
нами классицизма, с претензиями на эпическую величавость,
эта поэма Аддисона была, вместе с тем, по замечанию критика
Роута, политическим «памфлетом в стихах». Воспевая победителя
при Бленгейме, Аддисон тем самым воспевал политику вигов, к
лидерам которых принадлежал Мальборо. «Поход» был воспри-
нят и как литературное и как политическое выступление; в то
время как ревнители классицизма радовались появлению в анг-
лийской литературе первого истинно-классического поэта (поэ-
тические выступления Попа были еще впереди) и спешили, ради
вящего торжества классицистской поэзии, перевести «Поход» на
латинский язык (Expeditio militaris, by T. G., 1708), вожди пар-
тии вигов приветствовали в лице Аддисона нового политического
сотрудника. Его политическая карьера была отныне обеспечена:
в 1706 г. он был назначен помощником статс-секретаря, в 1709 г. —
главным секретарем ирландского наместника, а в последние годы
жизни — государственным секретарем Великобритании. С 1708 г.
и до конца жизни он бессменно состоял членом парламента.
Аддисон был ревностным защитником политического компро-
мисса 1689 г. В отличие от своих более проницательных современ-
ников (Дефо и, особенно, Свифта), он был искренно уверен в том,
что «славная революция» сделала Англию истинно свободной и счаст-
ливой страной. Путешествие по Европе (по его собственным сло-
вам — лучшее лекарство против якобитства) еще более укрепило
в нем эту оптимистическую уверенность в совершенствах англий-
ской конституции. Именно с этими иллюзиями связан гражданско-
патриотический пафос Аддисона, получивший особенно яркое вы-
ражение в его «Катоне» (1713).
Это была классическая трагедия, призванная, по мысли Ад-
дисона и его друзей, возродить в Англии не только классиче-
ские каноны античного искусства, но и героический дух древнерим-
ской гражданственности. Поп, написавший стихотворный пролог
к трагедии Аддисона, призывал «британцев» следовать заветам
Катона и в своих эстетических вкусах и в общественной жизни.
Впрочем, Аддисон, с присущей ему нелюбовью к крайности, счел
нужным умерить гражданский пафос пролога и потребовал от
Попа замены слишком рискованного призыва: «Британцы, вос-
станьте!» более нейтральным: «Британцы, внемлите!».
317
«Катон» имел шумный успех; но на первом же представлении
выяснилось одно любопытное обстоятельство. В то время как виги—
соратники Аддисона— горячо аплодировали, истолковывая в духе
своей политической программы патетические рассуждения героев
«Катона» о свободе, отечестве и доблестях римских граждан, Бо-
линброк, глава партии ториев, вызвал к себе в ложу актера
Бутса, игравшего роль Катона, и демонстративно вручил ему ко-
шелек с золотом за то, что тот так хорошо защищал интересы то-
риев! Вслед за этим не замедлил появиться курьезный памфлет —
«Превращение м-ра Аддисона в тория; или сцена наизнанку,
где показывается, что виги превратно поняли этого автора в его
трагедии «Катон» (Mr. Addison Turn'd Tory, etc., 1713).
Высокая гражданская фразеология «Катона» оказалась, та-
ким образом, неожиданно для самого автора, одинаково приемле-
мой и для сторонников вигской олигархии, мнивших себя наслед-
никами «славной революции», и для ториев, охотно npi бегавших
к «свободолюбивой» демагогии в своей парламентской борьбе за
власть. Приверженцы обеих партий были одинаково готовы рас-
пинаться в своем патриотизме и свободолюбии, и, драпируясь п
римскую тогу, позировать в качестве новых Катонов XVIII века.
И те, и другие охотно устанавливали прямую аналогию между
Англией времен королевы Анны и Римской республикой времен
Катона, свободам которой угрожало самовластие Цезаря. Исто-
рическая схема «Катона», как видно, допускала прямо противопо-
ложные истолкования: в то время, как виги ожидали появления
тирана-самодержца из лагеря торийской оппозиции, — быть мо-
жет, в лице самого «претендента» Стюарта,—их противники,
тории, обнаруживали нового Цезаря-узурпатора в виге Маль-
боро.
Этот двусмысленный успех «Катона», в сущности, с необычай-
ной наглядностью характеризует внутреннюю беспочвенность
гражданского классицизма аддисоновского типа. Классицистские
гражданские идеалы общественного долга, самопожертвования
и патриотизма, исполненные глубокого прогрессивно-исторического
смысла в предреволюционной французской литературе XVIII века.
в послереволюционной буржуазной Англии этого времени
становятся, в сущности, анахронизмом. Очень уж непреодоли-
мой оказалась пропасть между высоким гражданским пафосом
«Катонов» и действительной, буржуазно-эгоистической практикой
английского общества.
Как ни удивлялся Вольтер странному вкусу анггичан, про-
должавших смотреть Шекспира после того, как на сцене появи-
лась трагедия Аддисона, «Катон» остался изолированным явле-
нием в истории английской литературы. Да и сам Аддисон в своих
остальных немногочисленных драматургических опытах заметно
отходит от классицизма *.
1 Драматургическое творчество Аддисона и Стиля рассматривается ни>ье
в главе 5 — «Английская драма XVIII века».
318
Неизмеримо большее литературно-историческое значение имела-
деятельность Адд сона как зачинателя английской журналистики.
В этой связи имя его неотделимо от имени его ближайшего лите-
ратурного друга и сотрудника — Стиля.
Школьный товарищ Аддисона Ричард Стиль (Richard Steele,
1672—1729),—сын юриста, получил классическое образование в
Оксфорде, но вышел из университета без ученой степени и рано
отказался от академического затворничества. Он переменил на.
своем веку немало должностей: был гвардейским офицером,
камер-юнкером при дворе, редактировал официальную прави-
тельственную «Лондонскую газету» (The London Gazette, 1707—
1714), был членом парламента, принимал живейшее участие в
политической борьбе своего времени на стороне партии вигов и по
воцарении ганноверской династии получил за свои заслуги ти-
тул баронета. Истинной его профессией, однако, уже с начала
1700-х годов стала литературная деятельность.
Первым произведением Стиля был морагьно-дидактический
трактат под названием «Христианский герой» (The Christian Hero,
1701) или, как гласил подзаголовок, «Доказательство того, что
никакие принципы, кроме христианских, недостаточны, чтобы сде-
лать человека великим». Стиль с позиций буржуазного пурита-
низма полемизирует здесь с героическими идеалами античности;
«языческие добродетели» Катона, Цезаря и Брута представляются
ему недействительными, ибо в их основании лежали земные, чело-
веческие страсти; противопоставляя Плутарху Библию, он считает
самоотречение и презрение ко всему мирскому единственным ис-
точником истинного «христианского» героизма.
Пуританская дидактика сказывается и в драматургической
деятельности Стиля. Вслед за Сиббером он ставит себе задачу
«оздоровления» английского театра. Его бытовые комедии — «По-
хороны, или печаль по моде» (1701*), «Любовник-лгун» (1703*),
«Нежный муж» (1705*) и «Совестливые влюбленные» (1722*) —
были призваны, в соответствии с требованиями Колльера и
пуританских памфлетистов, изгнать со сцены «безнравственную»
комедию времен Реставрации.
Но настоящим литературным новатором Стилю, как и Аддисо-
ну, суждено было стать не в драматургии, а в новом жанре сати-
рической нравоописательной журналистики.
Заслуга «открытия» этого жанра принадлежала Стилю. Именно
он, скрываясь под мифическим псевдонимом Исаака Бикерстсфа
(Isaac Bickerstaff), заимствованным из памфлета Свифта, начал
издавать весной 1709 г. нравственно-сатирический журнал «Бол-
тун» (The Tatler, 1709—1711), в котором позднее сотрудничал
Аддт сон. В дальнейшем на смену «Болтуну», при ближайшем
участии Аддисона, появляется «Зритель» (The Spectator, 1711—
1712); за ним последовали «Опекун» (The Guardian, 1713), «Анг-
личанин» (The Englishman, 1713—1714) и др.
Современное понятие журнала не вполне применимо к этим
изданиям. В Англии начала XVIII века периодическая печать
319
только начинала развиваться, и отдельные роды и виды перио-
дики еще не успели отчетливо определиться. Политические пам-
флеты и листовки продолжали успешно соперничать с газетами л
информационными «листками новостей» (newsletters), рассы-
лавшимися из столицы провинциальным подписчикам; функции
журналов также оставались на первых порах весьма неопреде-
ленными, как, впрочем, и функции самих редакторов, которые,
в отличие от своих позднейших собратьев, обычно сами писали
все статьи для выпускавшихся ими изданий. В журналах Адди-
сона и Стиля случалось эпизодически сотрудничать многим из их
современников; но, как правило, каждый номер состоял обычно, —
не считая мелких заметок и объявлений, —из одной статьи, на-
писанной самими редакторами.
«Болтун» выходил три раза в неделю, «Зритель» —ежедневно,
и читатель мог найти в них, как в газетах, объявления о спектак-
лях и литературную, а иногда и политическую информацию. Но
в основном содержание этих журналов укладывалось в гибкую
и непринужденную форму очерка — «эссея» (essay—термин, по-
чти непереводимый, буквальное значение которого «опыт»). Этот
термин, издавна получивший право гражданства в английской
литературе («Опыты» писал еще Бэкон), необычайно соответствовал
духу Просвещения. Локк и Юм дали название «опытов» своим клас-
сическим трудам по философии («Опыт о человеческом разуме»,
«Нравственные и политические опыты»); «опытами» назывались тео-
ретико-эстетические и морально-дидактические поэмы Попа («Опыт
о критике», «Опыт о человеке»).
Такими же просветительскими «опытами» изучения человече-
ских нравов были бесконечно разнообразные по своему содержа-
нию журнальные очерки Аддисона и Стиля. Созданные на заре
развития новой буржуазной литературы, они отличались необы-
чайной жанровой синкретичностью. В «эссее» Аддисона и Стиля со-
вмещаются в зародыше и газетная хроника-«смесь»., и фельетон,
и публицистическая заметка, и литературно-критическая статья,
и юмористическая или серьезная новелла, и даже — в виде перво-
начальных, беглых набросков — будущий реалистический роман.
Все эти разнообразные по темам и жанрам очерки объединялись
определенным литературным обрамлением.
Статьи «Болтуна» приписывались Исааку Бикерстафу — «ста-
рику философу, юмористу, астрологу и цензору», а иногда его
молоденькой сестре, мисс Дженни Дистаф, и читателя подробно
знакомили с мифической генеалогией, нравами и обычаями этого
вымышленного семейства. Предполагаемые помощники Бикер-
сгафа доставляли ему материал, собранный в лондонских клубах-
кофейнях, и читатель заранее знал, что светские новости исходят
из кондитерской Уайта, научные сообщения—из Греческой ко-
фзйни, литературные известия — из кофейни Билля, а полити-
ческая информация — из Сент-Джемской кофейни.
В «Зрителе» литературное обрамление было разработано еще
более подробно и живо. Издатель, скрывшийся под псевдонимом
320
«Зрителя», представился читателям с первых же номеров журнала
в качестве члена небольшого, но сплоченного клуба. В дальней-
шем члены этого клуба — провинциальный «старосветский» по-
мещик сэр Роджер де Ковер ли, богатый купец из Сити сэр Эн-
дрью Фрипорт, отставной офицер капитан Сентри, великосвет-
ский щеголь Билль Хоником и другие — должны были постоянно
фигурировать на страницах «Зрителя» и в качестве героев, и в
качестве воображаемых авторов «эссеев». Этот вымышленный клуб
«Зрителя» очевидно был призван воспроизвести в миниатюре
английское общество тех времен, каким оно представлялось Адди-
сонуи Стилю. Дружественные отношения купца-вига сэра Эндрью
Фрипорта и помещика-тория сэра Роджера де Коверли как бы сим-
волизировали общее «равновесие» социальных и политических
интересов буржуазии и дворянства, достигнутое на основе компро-
мисса 1689 г. Либеральная свобода мнений, царившая в клубе
«Зрителя», отражала, казалось, конституционные «свободы», за-
воеванные буржуазной Англией, а разносторонние интересы чле-
нов клуба соответствовали той тяге к просвещению, которую Ад-
дисон и Стиль всемерно старались привить своим современникам.
В «Болтуне» и «Зрителе» литература'раннего английского Про-
свещения впервые освобождается от аристократической «эзотерич-
ности», присущей творчеству Попа и «официальной» поэзии и
драматургии самого Аддисона. «Болтун» и «Зритель» рассчитаны не
на избранных ценителей-знатоков, а на широкие круги буржуазных
читателей. По известному замечанию Аддисона, «Зритель» хотел
заставить философию выйти из кабинетов и библиотек, из школ
и университетов, и поселиться в клубах и в обществе, в кофей-
рях и за чайным столом.
Морально-просветительные планы «Зрителя» имели целью при-
общить буржуазную Англию XVIII века к культуре. С этими но-
рыми буржуазными читательскими кругами Аддисон и Стиль ста-
раются установить самое живое общение. «Эссей» «Болтуна» и
^Зрителя» становится формой непринужденной, — хотя и дидак-
тической, — беседы издателя с читателем. Журналы Аддисона и
(ртиля охотно предоставляют также место подлинным и вымышлен-
ным — иногда серьезным, иногда комически-пародийным — чита-
тельским письмам по любым вопросам быта, морали и философии,
Связанным с «человеческой природой».
• Просветительская этика приобретает в журналах Аддисона
и Стиля буднично-практический, прикладной характер. Героиче-
ских Катонов оттесняют «моральные цензоры Великобритании»,
прозаические и чудаковатые Бикерстафы и «Зрители», лондон-
ские обыватели, завсегдатаи театров, ксфеен и биржи. Каждому
«эссею» Аддисона и Стиля неизменно предшествует, в виде клас-
сического эпиграфа, морализующая латинская сентенция; но воз-
вышенная античная мудрость Горация, Вергилия и Цицерона по-
ясняется живыми сценками английского быта и нравов XVI11 века.
Отвлеченные пороки и добродетели интересуют издателей «Бол-
туна» и «Зрителя» гораздо меньше, чем мелкие, но реальные жи-
-1 Англ. литература 321
тейские причуды и "слабости их английских современников^
В сферу суждений «Зрителя» входят не только поучительные пре-
дания классической древности, но и бесчисленное множество зло-
бодневых бытовых тем: танцы и маскарады; дуэли и сплетни;
мушки, веера, парики и кринолины; воспитание детей и супруже-
ские нравы. Сегодня речь идет о Сократе или о Локке; завтра —
о распущенности слуг или о вреде кокетства, о комическом «клубе
дураков» или о конкурсе на лучшую гримасу; общие рассуждения
о смысле жизни или о сущности человека сменяются анекдотиче-
скими случаями, разыгравшимися в зале театра или в почтовой
карете. В предметном указателе к томам «Зрителя» стоят бок о
бок библейские псалмы и римский Пантеон, египетские пирамиды
и родительское попечение о детях, «планеты, лицезрение коих
наполняет нас удивлением», и «приятные люди, которых следует
избегать».
Иногда «эссеи» Аддисона и, в особенности, Стиля исполнены
трогательной чувствительности. Такова, например, написан-
ная Стилем печальная история индианки Ярико, проданной в
рабство своим любовником-англичанином, которому она спасла
жизнь.
Однако чаще всего на страницах «Болтуна» и «Зрителя» пре-
обладает безмятежный юмор. «Зритель» непрочь пошутить и
над собственными невинными странностями, — над своим несу-
разным круглым лицом, над своей маниакальной молчаливостью, —
и над грешками и слабостями своих читателей. Этот юмор «по-
джентльменски» умерен и уравновешен и, конечно, очень далек
от сатиры. Согласно аллегорической генеалогии, сочиненной Ад-
дисоном, к числу ближайших предков Истинного Юмора относится
не только Истина, но и Здравый Смысл. «Я всегда предпочитал
жизнерадостность (cheerfulness) веселью (mirth),—писал Ад-
дисон. —Веселье похоже на вспышку молнии, которая пробивается
сквозь мрак облаков и блистает одно мгновение; жизнерадостность
поддерживает в душе дневной свет и наполняет ее постоянной и
устойчивой ясностью».
У издателей «Болтуна» и «Зрителя» не возникает опасных со-
мнений относительно «разумности» общественных порядков, уста-
новленных в Англии «славной революцией», и они искренне убеж-
дены, что живут в самую блестящую пору английской истории.
Отвергая трезво-материалистические теории Гоббса и Мандевиля,
они уверены, что «человеческая природа» допускает мирное сожи-
тельство разумного буржуазного эгоизма с альтруистической
«благожелательностью» к ближним; дух частной наживы, охватив-
ший современную им Англию, не вызывает в них никаких опа-
сений.
Некоторые номера «Зрителя» представляют собой настоящие
гимны во славу кредита и коммерции — этих новых богов «про-
свещенной» буржуазной Англии. Так, например, уже третий но-
мер журнала посвящен аллегорическому сну «Зрителя»-Аддисона,
который тот, якобы, увидел однажды после посещения банка. В зале
322
банка, на золотом троне, восседает «прекрасная дева», имя кото-
рой — Общественный Кредит. Над головой ее. висит Великая
хартия вольностей, вокруг ее трона нагромождены груды золота.
Внезапно в двери зала врываются «уродливые призраки»: Тира-
ния и Анархия, Суеверие и Атеизм, Дух Республики и безымян-
ный «молодой человек 22-х лет», в котором нетрудно угадать «пре-
тендента» Якова Стюарта. Кредит лишается чувств и умирает,
мешки с деньгами съеживаются, как будто они были надуты возду-
хом, а горы червонцев превращаются в клочки бумаги. Но сцена
меняется: на помощь являются новые, «весьма приятные при-
зраки» — Свобода об руку с Монархией, Умеренность с Религией,
и Дух Великобритании в сопровождении будущего «конституци-
онного» наследника престола, Георга Ганноверского. При их по-
явлении Общественный Кредит воскресает, клочки бумаги вновь
превращаются в полновесные гинеи, а денежные мешки достигают
прежнего объема.
Трудно брло бы дать более откровенное обоснование той по-
литической умеренности, за которую Аддисона впоследствии так
ценили либералы XIX века во главе с Маколеем.
Ситуации и мотивы, которые могли бы послужить благодар-
ным материалом для просветителя-сатирика, часто оставались не-
развитыми в «эссеях» «Зрителя». Когда в № 50 «Зрителя» появи-
лись забавные отрывки из воображаемого дневника индийских
царей,.путешествующих по Англии, Свифт, указывая, что он сам
когда-то подал Стилю эту «прекрасную мысль», досадовал, что
сделал это. «Я намеревался написать об этом целую книгу. Он,
кажется, истратил все на одну статью» (письмо Стелле, 28 апреля
1711). Контраст между «естественной» человеческой природой и
противоречиями европейской цивилизации, изображавшийся в
резйо сатирическом плане у Свифта, Вольтера, Дидро, ис-
пользуется в «Зрителе» с чисто юмористической целью.
Наибольшей историко-литературной ценностью обладают не
философско-аллегорические «эссеи» «Зрителя», а живые очерки
английского быта и нравов, авторы которых пролагали пути буду-
щему реалистическому роману. Лучшие из этих очерков связаны
с образом сэра Роджера де Коверли.
Любопытно, что из всех сочленов клуба «Зрителя» ни один
не удался Стилю и Аддисону так, как сэр Роджер. Неожиданно,
быть может, для самих его творцов, истинным героем «Зрителя»
оказался не просвещенный буржуа новой формации, сэр Эндрыо
Фрипорт с его благонамеренным вигизмом и коммерческим про-
цветанием, а старомодный сэр Роджер, всем своим существом свя-
занный со старой Англией, помнящий двор Стюартов, ужинавший
некогда с лордом Рочестером и сэром Джорджем Этериджем, и
дравшийся на дуэли во времена Реставрации. В новой буржуазной
Англии XVIII века он кажется живой реликвией прошлого; даже
покрой его камзола и кафтана успел двенадцать раз выйти из моды
за то время, что их носит сэр Роджер. Но, может быть, именно
эта «старосветскость» придает старому баронету особое обаяние
21* 32а
в изображении Аддисона и Стиля. Старомодная наивность и ре-
бяческие странности этого «старосветского» помещика оказываются
гораздо более трогательными и ?анимательными, чем коммерче-
ская деловитость и практический здравый смысл сэра Эндрью
Фрипорта.
Очерки о сэре Роджере де Коверли разбросаны по разным но-
мерам «Зрителя», но образуют, в сущности, единое целое и не раз
выходили впоследствии отдельным изданием.
Безымянный «Зритель», принадлежащий к числу близких дру-
зей старого баронета, начинает с рассказа о том, как он гостил
у сэра Роджера в его имении. Мы знакомимся с завсегдатаями
Коверли-Холла — с добродушным Биллем Вимблем, который
готов скакать через целое графство, чтобы по поручению прияте-
лей передать по назначению луковицу тюльпана или породистого
щенка; с почтенным капелланом, вполне удовлетворяющим всем
требованиям хозяина (сэр Роджер, назначая в свой приход свя-
щенника, опасался больше всего, как бы тот не стал «оскорблять
его латынью и греческим за его собственным столом»). Мы посе-
щаем вместе со «Зрителем» заседание суда, на котором сэр Роджер
присутствует в качестве мирового судьи, и слышим, как старый
баронет, «чтобы поддержать свою репутацию в графстве», торже-
ственным шопотом поздравляет председателя суда с хорошей по-
годой. Однажды мы попадаем даже в цыганский табор, где цыганки
предсказывают сэру Роджеру сердечные победы, и он приходит
в необычайно веселое настроение «на целых полчаса»,— пока не
обнаруживает, что ловкие предсказательницы начисто опустошили
его карманы.
«Зритель» посвящает нас и в историю давнишнего романиче-
ского увлечения сэра Роджера некоей коварной вдовой, которая,
бывало, при каждой встрече обращалась к нему с такими казуи-
стическими речами о любви и о чести, что он никак не мог понять
их смысла.
С наступлением весны сэр Роджер, в свою очередь, приезжает
в Лондон и в сопровождении «Зрителя» осматривает столичные до-
стопримечательности: посещает Вестминстер, проводит вечер в уве-
селительных садах Вокзолла и присутствует на представлении
«Несчастной матери» (переделка расиновской «Андромахи») в Дрю-
рк-Лейнском театре, забавляя своего спутника наивными замеча-
ниями. А через несколько месяцев из Коверли-Холла приходит пе-
чальное известие о смерти баронета. Он схватил простуду в суде,
куда отправился, чтобы вступиться за права вдовы и сирот, оби-
женных соседним помещиком.
Очерки о сэре Роджере скреплены лишь очень слабой сюжет-
ной связью; но они уже могут рассматриваться как первые пред-
варительные зарисовки к тем широким полотнам, которые пред-
стояло создать несколькими десятилетиями позже мастерам анг-
лийского реалистического романа.
В лице сэра Роджера де Коверли в английскую литературу
XVIII века вошел первый предшественник тех многочисленных ге-
324
роев-«юмористов», чудаков и оригиналов, которым предстояло
в дальнейшем фигурировать на страницах романов Фильдинга и
Слюллета, Гольдсмита и Стерна, Диккенса и Теккерея. Сэр Род-
жер де Коверли кажется немного сродни и пастору Адамсу, и лей-
тенанту Лисмэхаго, и векфильдскому священнику Примрозу, и
дяде Тоби, и мистеру Пиквику, и полковнику Ньюкому; ему свой-
ственна та же комическая наивность и непрактичность в сочетании
с истинной добротой и человеческим достоинством. Он «очень лю-
бит людей; но в его поведении есть столь забавные черты, что его
скорее любят, чем уважают. Его арендаторы богатеют, у слуг —
довольный вид, все молодые женщины уверяют, что влюблены в
него, а все молодые люди рады его обществу». Век буржуазного
просвещения, кажется, почти не коснулся его; но недостаток об-
разования и практической рассудительности искупается в сэре
Роджере непритворным добросердечием. Он готов верить в су-
ществование ведьм и не без опаски косится на метлу и на кошку в
лачуге старухи-крестьянки Молль Уайт, подозреваемой в колдов-
стве. Но, настоятельно рекомендуя ей, как мировой судья,
«избегать всякого общения с дьяволом и не вредить соседской ско-
тине», сэр Роджер сопровождает свой официальный совет «подая-
нием, которое было принято очень охотно».
Аддисон и Стиль далеки от сознательного противопостав-
ления непосредственной и наивной чувствительности черствому
здравому смыслу, — противопоставления, из которого предстояло
исходить большинству последующих английских юмористов. Они
нисколько не сомневаются в суверенности «здравого смысла» и не
без снисходительного превосходства извиняют «экстравагантные»
чудачества сэра Роджера его возрастом, воспитанием и положе-
нием.
Юмор «Зрителя» еще лишен «сервантесовского» духа, которому
предстояло возродиться в английском романе в творчестве Филь-
динга и его продолжателей. Но уже та живая заинтересованность,
с какою Аддисон и Стиль пишут о частном быте и нравах своих со-
временников, позволяет видеть в них предшественников будущих
английских романистов. В юмористических «эссеях» «Зрителя»
английская буржуазная литература уже твердр берет курс на изу-
чение и изображение частной жизни и частных судеб людей, ко-
торым определяется, в основном, последующий путь развития
реалистического романа в Англии.
Не меньшее историческое значение имела литературно-кри-
тическая деятельность «Зрителя», на страницах которого Аддисон
опубликовал множество статей по эстетике и литературе.
В целом по своим эстетическим взглядам Аддисон принадлежит
классицизму. Его ранние «Замечания об Италии» интересны
по тому, с каким неподдельным пренебрежением он говорит в
них о диких альпийских пейзажах.^ с каким удовольствием спе-
шит перейти от изображения действительной природы и быта к
реминисценциям классической римской древности. Однако его
частные литературные суждения нередко предвосхищают поздней-
325
шие эстетические течения XVIII века, оказывая влияние и на
сентименталистов и на предромантиков.
В № 160 «Зрителя» Аддисон проводит новую для того времени
мысль о существовании двух видов гениальности: одни гениаль-
ные писатели оригинальны и велики от природы, без помощи уче-
ния и правил; другие «сформировали себя по правилам и подчинили
величие своих прирожденных талантов исправлениям и сдержи-
вающей силе искусства». К первым Аддисон относит Гомера,
Пиндара, Шекспира, а также авторов Библии (хотя по тогдашним
временам нужна была немалая смелость, чтобы рассматривать Би-
блию как произведение искусства); ко вторым—Платона, Аристо-
теля, Цицерона и Вергилия, а из англичан — Бэкона и Мильтона.
Аддисон подчеркивает, что он далек от мысли умалить значение
авторов последнего типа: «гений обоих этих видов может быть оди-
наково Еелик». Но он уже указывает на опасность подражатель-
ности, угрожающую «гениям», которые создают свои произведе-
ния по заранее заданным правилам и образцам.
Аддисон допускает большую свободу в выборе предметов по-
эзии. Даже «описание навозной кучи приятно воображению, если
этот образ представлен нашему уму в соответствующих выраже-
ниях»,— замечает он в № 418 «Зрителя». С другой стороны, он
предоставляет широкие права в искусстве фантастике, хотя и счи-
тает ее, по-просветительски, порождением «темноты» и «суеве-
рия» средних веков. Он находит даже, что фантастика особенно
присуща английской поэзии, в соответствии с меланхолическим
и мрачным духом английской нации, и, в частности, восхищается
«благородной необузданностью воображения» Шекспира. «В ре-
чах его духов, фей, ведьм и тому подобных воображаемых лиц
есть нечто столь дикое, но вместе с этим столь величавое, что мы
не можем не поверить в их естественность, хотя у нас и нет правил,
по которым мы могли бы судить о них» (№ 419).
Очень интересен обширный цикл статей Аддисона о Мильтоне,
занявших разновременно 16 номеров «Зрителя» и нередко выхо-
дивших впоследствии отдельными изданиями. Можно без преуве-
личения сказать, что Адписон помог европейской литературе XVIII
века заново «открыть» Мильтона. Его статьи о «Потерянном рае»,
отдающие должное величавому пафосу и грандиозным героиче-
ским образам поэмы Мильтона, которую Аддисон ценит наравне
с «Илиадой», получили большую известность не только в Англии,
но и за рубежом, особенно в Германии. Бодмер написал под их
влиянием свой разбор «Потерянного рая» (1740).
Но особенно интересны для своего времени статьи Аддисона о
народной поэзии. Он не только посвятил два номера «Зрителя»
(№ 70 и 74) разбору старинной английской народной баллады «Охота
у Чевиотских холмов» (Chevy Chase), но и впервые в XVIII веке
поставил на принципиальную почву вопрос о художественном зна-
чении народного искусства. «Произведение, одобряемое массами
читателей, хотя бы они принадлежали к черни, не может не
обладать особой способностью пленять и радовать человеческий
326
ум. Человеческая природа одинакова у всех разумных существ;
и все, что ей соответствует, найдет ценителей среди читателей всех
сословий и состояний», — пишет он во введении к своему первому
«эссею» о народной поэзии. Отвлеченное рационалистическое
представление о неизменности «человеческой природы», из кото-
рого исходили классицисты, провозглашая незыблемость антич-
ного классического идеала для всех времен и народов, становится
здесь у Аддисона доводом в защиту общечеловеческого значения
народного творчества. Мысли «Зрителя» о народной поэзии были
лодхвачены и развиты в дальнейшем в эстетике сентименталистов
и предромантиков; их влияние за пределами Англии можно про-
следить вплоть до Гердера и Гёте.
Новые мотивы появляются и в отношении «Зрителя» к при-
роде. В многочисленных суждениях Аддисона о природе, пейзажах,
садоводстве сказываются заметные расхождения с классицизмом.
Аддисон времен «Зрителя» умеет ценить прелесть безыскусствен -
пых диких пейзажей. «Что касается меня, то я предпочел бы ви-
деть дерево со всеми его роскошно разросшимися сучьями и вет-
вями, чем подрезанным и подстриженным в виде математической
фигуры; и я не могу не думать, что фруктовый сад в цвету бес-
конечно красивее, чем все лабиринты самых изысканных газо-
нов»,— замечает он в № 414 «Зрителя». На эти суждения «Зри-
теля» могли опираться в дальнейшем английские поэты-сентимен-
талисты с их культом простой и безыскусственной природы.
Но, несмотря на все эти точки соприкосновения с позднейшими
литературными течениями XVIII века, издатели «Зрителя» все
же остаются тесно связанными с классицизмом в своих эстети-
ческих взглядах. Откликаясь на знаменитый литературный «спор
древних и новых», начавшийся еще в XVII веке во Франции, Адди-
сон выступает против Перро, поддерживая Буало с его принци-
пом превосходства античной классики над искусством нового
времени. Чтобы воздать должное Мильтону, он сопоставляет «По-
терянный рай», во всех подробностях, с «Илиадой» и «Энеидой»,
подходя к ним с общей меркой, а защищая Шекспира от переделок
в духе XVIII века, ссылается (в оправдание трагического конца
«Короля Лира») на непререкаемый авторитет Аристотеля, законо-
дателя трагедии. От рассуждений Аддисона о «красотах» и «раз-
нообразии», приличествующих поэтическому языку, о том, что
поэт должен «образовывать свое воображение с таким же усердием,
с каким философ культивирует свой разум» (№417) и пр., веет хо-
лодком рационалистической нормативной эстетики классицизма.
И в самом жанре «эссея» у Аддисона и Стиля сказывается, до из-
вестной степени, преемственная связь не только с ренессансными
«Опытами» Бэкона и Монтэня, но и с «характерами», «максимами»
и сатирическими посланиями французского классицизма XVIII
века.
Вместе с этим в «эссеях» «Болтуна», «Зрителя» и других журна-
лов Аддисона и Стиля уже заключалась в зародыше будущая про-
светительская литература XVIII века. Иногда можно установить
327
непосредственную связь между одним из этих «эссеев» и выросшим:
из него большим произведением просветительского реализма.
Так, например, очерк Стиля об Александре Селькирке, матросе,
прожившем несколько лет на необитаемом острове в Вест-Индии,
непосредственно предвосхищает знаменитого «Робинзона Крузо»
Дефо. В других случаях эта связь выступает в менее наглядной,
но столь же несомненной форме: дневник индийского царя, пу-
тешествующего по Англии, или аллегорическое «Видение Мирзы»
являются прообразом философской повести — одного из ведущих
жанров просветительской литературы XVIII века; «эссеи»-пись-
ма, посвященные заботам и треволнениям частной жизни, пред-
восхищают реалистический эпистолярный роман Ричардсона; бы-
товые юмористические «эссеи» о сэре Роджере де Ковер ли и т. п.
служат предварительными эскизами к бытовым романам Филь-
динга, Смоллета, Гольдсмита.
Влияние очерков «Болтуна», «Зрителя» и других журналов Ад-
дисона и Стиля сказывается не только в просветительской лите-
ратуре XVIII века, но и в следующем столетии, в сочинениях эс-
сеистов-романтиков— Лэма, Хэзлита и других, и, наконец, в
реалистическом творчестве Диккенса и Теккерея. К «эссеям» Ад-
дисона и Стиля восходят, — хотя бы и отдаленно, — не только
ранние «Очерки Боза», но и знаменитые «Записки Пиквикского
клуба». Сама мысль — представить героев романа членами мифи-
ческого клуба чудаков—могла быть подсказана Диккенсу исто-
рией воображаемого «клуба», куда входил и сам «Зритель», и сэр
Роджер де Коверли, и Билль Хоником, — в своем роде такие же
«юмористы»-оригиналы, как мистер Пиквик и его сподвижники.
Очерки, которыми начал свою литературную деятельность
Теккерей, также имели непосредственное отношение к «эссеям»
Аддисона и Стиля. В «Лекциях об английских юмористах XVIII
века» Теккерей отвел издателям «Болтуна» и «Зрителя» почетное
место среди мастеров английского юмора, а в историческом романе
«Эсмонд» очень живо изобразил их обоих в числе действую-
щих лиц.
Журнально-издательская деятельность Аддисона и Стиля
сыграла огромную роль в истории европейской периодики. Из
«Болтуна» и «Зрителя» выросли, в сущности, все позднейшие ли-
тературные журналы XVIII века.
В Англии «Болтун» и «Зритель» сразу же вызвали множество
подражаний, которые исчисляются чуть ли не сотнями. «Шептун»
(The Whisperer, 1709), «Ворчун» (The Grumbler, 1715), «Брюзга
или Диоген, выгнанный из бочки» (The Grouler; or Diogenes robb'd
of His Tub, 1711), «Болтунья» (The Female Tatler, 1709—1710),
«Развлекатель» (The Entertainer, 1717—1718), «Критик на 1718 год»
(Critick for the Year MDCCXVIII, 1718), «Осведомитель» (The
Intelligencer, 1728), издававшийся Томасом Шериданом, отцом зна-
менитого драматурга, при участии Свифта; «Попугай» (The Parrott,
1728), «Всеобщий зритель» (The Universal Spectator, 1728—1746),
издававшийся Генри Бейкером, зятем Дефо, и множество других
32S
журнальных листков оспаривали друг у друга внимание публики..
Многие из них, по примеру «Болтуна» и «Зрителя», выпускались
от имени вымышленного издателя, вокруг которого группиро-
вался кружок друзей или завсегдатаев, наподобие клуба «Зри-
теля». «Болтунья» издавалась от лица миссис Крэкенторп, «дамы,
которой все известно», на «ассамблеях» которой собирается весь
Лондон. В «Москвитянине» (The Muscovite, 1714), издатель кото-
рого намеревался изучать «человеческую природу» в ее националь-
ных проявлениях, в качестве ведущих персонажей выступали
француз, голландец, итальянец, испанец и т. д. В «Ворчуне» фигу-
рировало целое семейство Гиззардов, настолько зараженное ворч-
ливостью, что многие его члены успели скончаться от этой тяжелой
болезни.
Большинство этих журналов, подобно «Болтуну» и «Зрителю»,
«поучает и развлекает» читателей «эссеями» самого разнообраз-
ного нравоописательного и дидактического содержания. В неко-
торых из них, однако, намечаются признаки «специализации».
Журнал «Рапсодия» (The Rhapsody, 1712) стремится, в4 просвети-
тельных целях, к воскрешению античной мудрости, печатает пре-
нмущественно статьи о классической древности, переводы из Софок-
ла, Платона и др. Статьи «Цензора» (The Censor, 1715—1717), из-
дателем которого был известный шекспиролог Льюис Теобальд,
посвящены, главным образом, литературе: древнегреческой дра-
матургии, Шекспиру, Драйдену, и др. «Суфлер» (The Prompter,
1734—1736), издававшийся Аароном Хиллом, занят преимуще-
ственно вопросами театра. Журнал «Смесь» (The Miscellany, 1732—
1741) подчиняет все свое содержание «защите религии и англикан-
ской церкви», рассматривая с этой точки зрения нравы и искус-
ство своего времени.
В литературной жизни Англии 30-х годов известную роль сыг-
рал также сатирический «Грэб-стритский журнал» (The Grub-
Street Journal, 1730—1737), созданный, повидимому, при уча-
стии Попа. На страницах этого журнала, принадлежавшего к то-
рийскому лагерю, продолжалась полемика с современными лите-
раторами, начатая Попом в «Дунсиаде». «Попианцы» или«парнас-
сцы», как именовали себя сотрудники журнала, сражались со
своими противниками — «теобальдовцами» или «рыцарями лже-
пафоса», в число которых попали не только Теобальд и Сиббер,
но также и молодой Генри Фильдинг.
Прообразом журналов более современного типа может счи-
таться «Джентльменский журнал» (Gentleman's Magazine, 1731—
1907). Содержание его было очень разнообразно; наряду с лите-
ратурой в нем занимала видное место политика. Издатель жур-
нала, Эдуард Кейв (Cave), первым начал печатать отчеты о
парламентских дебатах—сперва открыто, а потом, во избежание
правительственных репрессий, под видом «дебатов в сенате Лили-
путии».
В течение XVIII века журналы Аддисона и Стиля — в особен-
ности «Зритель» — многократно переиздавались в Англии и были
329
переведены на большинство европейских языков. Французский
писатель Прево издавал по их образцу свой журнал «За и против»
(1733—1740); в Германии им подражали уже в 20-х годах XVIII
века Бодмер и Брейтингер («Разговоры художников», 1721) и
Готшед («Разумные хулительницы», 1725—1727).
В России на английские периодические издания ориентирован
лись многочисленные сатирические журналы XVIII века, в том
числе и знаменитые журналы Новикова: «Трутень» (1769—1770)
«Живописец» (1772—1773), «Кошелек» (1774) и другие; Крылов
воспроизвел в своем «Зрителе» (1792) даже само название журнала
Аддисона и Стиля.
Глава 5
ДЕФО
1
изнь Даниэля Дефо (Daniel Defoe, 1661 —1731) была так же
пестра и необычайна, как удивительные приключения его ге-
роев. Не было сколько-нибудь значительного события в жизни
Европы конца XVII —начала XVIII века, на которое не отклик-
нулся бы этот талантливый журналист; не было сколько-нибудь
заманчивого коммерческого или политического предприятия, в ко-
тором не принял бы участия этот предприимчивый делец. Двести
пятьдесят с лишним литературных и публицистических произве-
дений, приписываемых ему новейшей библиографией, были кап-
лей в море кипучей разносторонней деятельности Дефо — поли-
тика, коммерсанта и основателя реалистического романа нового
времени.
Сын лондонского торговца свечами, получивший образование
в частной диссидентской «академии», он рано предпочел званию
священника, к которому предназначали его родители, коммерче-
скую деятельность. История его деловых предприятий воспроиз-
водит в миниатюре всю историю расцвета буржуазной экономики
в Англии после «славной революции». Одно рискованное предприя-
тие сменялось другим; головокружительные удачи чередовались
с не менее головокружительными банкротствами. Чем только ни
торговал Дефо, — начиная с вязаных изделий, табака и водки,
и кончая собственными политическими убеждениями; на чем толь-
ко ни спекулировал — от акций пресловутой Компании Южных
Морей до сенсационных известий о мнимых землетрясениях и «до-
подлинных» призраках; чем только ни промышлял он, — от кир-
пича и черепицы собственного завода до... мускусных кошек с
собственной кошачьей фермы.
Судеб таких изменчивых никто не испытал,
Тринадцать раз я был богат и снова беден стал,
330
гласит двустишие, в котором Дефо, по собственным его словам,
«подвел итог сценам своей жизни».
В политическую и литературную жизнь своего времени ему
пришлось войти незваным гостем — «с черного хода». Парламент
был недоступен для буржуа его круга. À корифеям английской
литературы «августовского века» — Аддисону, Попу — меньше
всего могло притти в голову видеть собрата по перу в этом со-
мнительном аферисте, «бесстыжем Дефо» (Поп).
И, действительно, Дефо отличался от этих своих современ-
ников не меньше, чем отличались от их Катонов и Белинд его из-
любленные герои — работорговцы, проститутки, пираты и воры.
Его бесспорно широкие познания были чужды и классической эру-
диции, и джентльменского лоска. Не книжным, а практическим,
житейским опытом вдохновлялось его творчество, и апеллировало
оно не к изысканному вкусу аристократических ценителей и даже
не к просвещенному вниманию «цивилизованных» буржуазных
клубменов, а к живой любознательности, здравому смыслу и прак-
тической сметке широких демократических читательских кругов.
Есть предположение, что Дефо был замешан в неудачном вос-
стании Монмаута против Якова II (1685). Во всяком случае кон-
ституционная монархия Вильгельма III, пришедшего к власти в ре-
зультате компромиссной «славной революции», нашла в нем с
первых же лет своего существования ревностного сторонника. На-
чиная с 90-х годов XVII века Дефо выступает с рядом политиче-
ских-памфлетов в защиту нового порядка, против роялистской дво-
рянской оппозиции. Среди них выделяется, в особенности, сти-
хотворная сатира «Чистокровный англичанин» (The True-Born
Englishman. A Satyr, 1701). Это была резкая отповедь реакцио-
нерам-роялистам, утверждавшим, что «иностранцу» ВилыельмуШ
(голландцу по происхождению) не пристало быть королем «чис-
токровных англичан». Дефо придает названию своего памфлета
иронический смысл: английская нация, говорит он, сложилась исто-
рически в результате смешения самых различных национально-
стей (Англия «была сточной ямой всей Европы»), а, следовательно,
самое понятие «чистокровный англичанин»—не более, как неле-
пое «противоречие, ирония — на словах, фикция — на деле».
Эта полемика с реакционным национализмом отличалась резко
выраженным демократическим характером. Доказывая отсутствие
в Англии «чистокровных англичан», Дефо подвергает особенно
язвительному разбору генеалогии английских аристократических
родов и призывает своих сограждан, презирая мишурный блеск
продажных дворянских титулов, довольствоваться величием,
основанным на личной доблести. Злая и остроумная сатирическая
поэма Дефо, написанная непринужденным и бойким стихом, имела
у демократической публики огромный успех. Повидимому она
сумела также привлечь к автору благосклонное внимание прави-
тельства.
Но после смерти Вильгельма III (1702) снова стали подымать
голову реакционеры-церковники и роялисты. Не принадлежавшие
331
к официальной англиканской церкви диссиденты (какими былиг
в подавляющем большинстве, тогдашние английские буржуа) ока-
зались под угрозой новых государственных преследований. «Цер-
ковная тирания», которую Дефо еще в «Чистокровном англичанине»
назвал «наихудшей чумой из всех, какие поражают человечество»,
казалось, была готова вновь укрепиться на английской почве..
В этой тревожной обстановке Дефо выступил с мистификатор-
ским памфлетом, который поставил втупик и его политических
друзей, и его врагов. Это был знаменитый «Кратчайший способ
расправы с диссидентами» (The Shortest Way With The Dissen-
ters, etc., 1702). Непосвященным читателям эта брошюра должна
была показаться произведением самого «ортодоксального» и са-
мого ожесточенного реакционера-церковника. Автор метал громы
и молнии против непокорных диссидентов. Призывая «положить
конец... кудахтанью о мире и единстве и о христианском долге
умеренности», он требовал новых жестоких кар для борьбы с
ослушниками; виселицы и каторга, — настаивал он,— должны за-
менить прежние пени и штрафы, которым подвергались диссиденты.
Брошюра заканчивалась фанатическим призывом «распять разбой-
ников» во имя безраздельного торжества государственной англи-
канской церкви.
Эта карикатура на проповеди торийских церковников была
на первых порах принята за чистую монету сторонниками реак-
ции. Столпы церкви приветствовали нового анонимного союзника.
Среди диссидентов, напротив, воцарилось смятение. Недоразу-
мение, однако, продолжалось недолго; автор был обнаружен, его
сатирический замысел раскрыт, и возмущенное торийское прави-
тельство отдало распоряжение об аресте Дефо, предложив
50 фунтов награды за поимку преступника. Рукопись и наличные
экземпляры памфлета были захвачены и сожжены рукой палача.
По приговору суда, Дефо должен был уплатить 200 марок штрафа
и быть трижды выставлен у позорного столба; после этого ему
предстояло остаться в тюрьме на неопределенный срок — «по
благоусмотрению королевы» — и представить поруку за свое хо-
рошее поведение в течение последующих семи лет.
Гражданская казнь Дефо, состоявшаяся 29—31 июля 1703 г.,
превратилась для него в настоящий триумф. Собравшаяся на
площади толпа публично приветствовала Дефэ, осыпала его цве-
тами и украсила гирляндами позорный столб. В довершение
всего в это же время поступил в продажу знаменитый «Гимн
позорному столбу» (A Hymn to the Pillory, 1703), написанный
Дефо в тюрьме, — смелое и остроумное выступление в защиту
свободы мысли и печати.
Тем не менее, положение Дефэ было крайне неутешительно;
коммерческие дела его пришли за время аргста в полный беспо-
рядок, «свободная» публицистика оказалась весьма опасным ре-
меслом, а впереди была мрачная перспектива длительного за-
ключения. Склонный к «практичным» компромиссам, Дефо при-
нял условия, предложенные ему министром Робертом Гарли,
332
впоследствии графом Оксфордом и одним из вождей английских
ториев.
Отныне для Дефо началась сложная двойная жизнь. Выпущен-
ный на свободу уже ссенью 1703 г., он остается по видимости
«независимым» журналистом и в основном проводит в своей
газете «Обозрение» (The Review, 1705-—1713) и в многочислен-
ных памфлетах прежние принципы демократического вигизма; но
наряду с этимон несет тайные обязанности правительственного
агента, порой даже шпиона. Ему поручается закулисная работа
по организации парламентских выборов. Несколько лет он про-
водит под видом частного лица в Эдинбурге и других шотланд-
ских городах, занятый подготовкой объединения Шотландии с
Англией, осуществленного в 1707 г.
В качестве тайного правительственного агента Дефо неодно-
кратно меняет свою политическую ориентацию, в зависимости от
«конъюнктурных» условий, становясь торием при Гарли, вигом —
при Годольфине, снова перевоплощаясь в тория с возвращением
Гарли. В дальнейшем, после воцарения ганноверской династии
(1714) и окончательного падения ториев, он попрежнему продол-
жает служить предержащим властям, беря на себя двусмыслен-
ную роль тайного правительственного сотрудника оппозиционного
торийского «Журнала» (The Weekly Journal, 1717—1724), из-
дававшегося Натаниэлем Мистом, который, как рассказывают,
едва не убил Дефо, узнав о его многолетней предательской работе.
0 политической беспринципности Дефо писали уже его совре-
менники. В памфлете «Разоблаченный и пойманный наконец Иуда»
(Judas Discovered and Catch'd at last) Дефо изображается как «жи-
вотное, которое меняет свои облик чаще Протея и бросается то
вперед, то назад, подобно загнанному зайцу; невозмутимый чисто-
кровный лицемер, сегодня — церковник, а завтра — отъявлен-
ный виг; подобно герою басни, он и согревает, и охлаждает одним
и тем же дуновением».
Эти «превращения» Дефо находят себе объяснение в особенно-
стях самой политической жизни тогдашней Англии. После компро-
мисса 1689 г. борьба английских парламентских партий —ториев,
представлявших крупное землевладение, и вигов, являвшихся,
по определению Маркса, «аристократическими представителями
буржуазии», 1 —утратила серьезное принципиальное значение.
И тории, и виги были в эти годы равно далеки от народа; борьба
их представляла собой, в сущности, борьбу внутри немногочислен-
ной финансово-землевладельческой олигархии, пришедшей к по-
литической власти в Англии после 1688 г.
Дефо понимал эту внутреннюю беспринципность парламент-
ской борьбы своего времени не хуже, чем Свифт и позднейшие анг-
лийские просветители-сатирики — Фильдинг, Смоллет и другие.
«Я видел изнанку всех партий, изнанку всех их претензий и изнанку
их искренности, и, подобно тому, как пророк сказал, что все суета
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. IX, стр. б.
333
и томление духа, я говорю о них: все это — простое притворство,,
видимость и отвратительное лицемерие со стороны каждой партии'
во все времена, при всяком правительстве, при всякой перемене
правительства... Их интересы господствуют над их принципами».
Так пишет Дефо в 1712 г. в поныне неопубликованной полностью
рукописи. В своих публицистических сочинениях он с величайшей
откровенностью говорит о господстве всеобщей коррупции во внут-
риполитической жизни Англии.
Дефо прекрасно отдает себе отчет в. том, как порабощен,
несмотря на все «совершенства» британской конституции, анг-
лийский народ. В памфлете «Ходатайство бедняка» (A Poor Man's
Plea, 1698) он сравнивает английские законы с паутиной, в которой
запутываются маленькие мухи, тогда как большие легко проры-
вают ее. Говоря о новых правительственных распоряжениях по
охране «общественной нравственности», он пишет: «Все это обру-
шивается на нас, на чернь, на бедных плебеев, как будто в нас
сосредоточен весь порок; ведь мы не видим, чтобы пьяных богачей
отправляли к лорд-мэру, а богохульствующих развратных купцов
штрафовали или сажали в колодки. Обладатель золотого перстня
и пышной одежды может богохульствовать перед судом..., может
пьяным тащиться домой по улицам, и никто не обратит на это ни-
какого внимания; но если бедняку случится выпить и выругаться,
ему не избежать колодок». В то же время Дефо слишком хорошо
помнит уроки английской революции, чтобы не знать, как страшен
может быть народ для его угнетателей. К народному авторитету он
апеллирует и в «Обращении от имени легиона» (Legion's Memorial,
1701), и в «Изначальном могуществе английского народа» (The
Original Power of the CollectiveBody of the People of England, etc.),
1702), и в других политических памфлетах.
Эти «плебёйско»-обличительные политические мотивы не игра-
ют, однако, решающей роли в мировоззрении и творчестве Дефо,
Лишенный каких-либо " иллюзий относительно действительной
сущности новой политической системы Англии, он спокойно и
цинично приемлет ее.
— Свобода частной буржуазной инициативы, торговой экспансии,
экономического процветания — вот основа оптимистического па-
фоса Дефо. Он безжалостно низводит вопросы «высокой» политики
до уровня трезвой экономической прозы. Его политические памф-
леты, посвященные англо-французским отношениям, замечатель-
ны по той откровенности, с какою их автор говорит о торговых
интересах буржуазной Англии как о действительной причине англо-
французского соперничества. «Что такое Англия без своей тор-
говли?» — восклицает он, обсуждая возможности войны с Фран-
цией. Эти слова служат, в сущности, лейтмотивом всей полити-
ческой публицистики Дефо.
Экономические проблемы занимают почетное место в сочинениях
Дефо. Помимо множества статей и памфлетов по частным экономи-
ческим вопросам, ему принадлежат «Всеобщая история торговли,
в особенности в ее отношении к британской коммерции» (A gene*
334
rai History of Trade,'*e te, 1713), «Всеобщая история открытий №
усовершенствований в полезных искусствах, в особенности в ве-
ликих отраслях коммерции, навигации и земледелия во всех из-
вестных частях света» (A general History of Discoveries and Impro-
vements, etc., 1725—1726) и другие. Особенной известностью
пользовалось его «Путешествие по всему острову Великобритании»-
(A Tour Thro'the whole Island of Great Britain, etc., 1724—1727),
содержавшее подробное описание экономических ресурсов Анг-
лии. Книга эта (с последующими переделками и дополнениями)
многократно переиздавалась в XVIII веке и поныне сохраняет
известный исторический интерес.
В отношении Дефо к буржуазному обществу нельзя не заме-
тить бессознательной близости к Мандевилю. Подобно автору «Бас-
ни о пчелах», он прекрасно понимает власть эгоистического част-
ного интереса над буржуазной «человеческой природой» и не тешит
себя прекраснодушными иллюзиями относительно «гармоничности»-
общественной жизни своего времени. Политико-экономические
суждения Дефо весьма трезвы; интересно по своей откровенности
его замечание об эксплоатируемом труде как источнике буржуазной
собственности. «Торговля, как и вся природа, — говорит он, —
беспрекословно повинуется великому закону причины и следствия,
а потому даже самые ценные предметы торговли вытекают из той,
по видимости, незначительной и ничтожной вещи, которая име-
нуется трудом бедняка, и должны преклониться перед ней».
Но, в отличие от Мандевиля, Дефо не созерцает извне буржуаз-
ный «улей», а сам принадлежит к числу его обитателей, и фи-
лософская последовательность сатирической концепции Манде-
виля остается ему чуждой.
Вместе с деловитым практицизмом в Дефо живет пуританская
богобоязненность и отвращение к «греху», заставляющие его освя-
щать столь трезво понимаемые им законы буржуазного общества
санкцией божественного промысла. Он считает, как видно, что
Библия и гроссбух могут уживаться друг с другом в буржуазном
обществе не хуже, чем они уживались на необитаемом острове
Робинзона, и английский купец представляется ему не только вопло-
щением делового процветания, но и прекраснейшим проявлением
■Нравственной «человеческой природы». «Настоящий купец, —
С восхищением пишет Дефо,—универсальный ученый. Он настолько
■Щр выше простого знатока латыни и греческого, насколько этот
последний выше безграмотного, не умеющего читать и писать че-
ловека. Он знает языки без помощи книг, географию — без по-
мощи карт...; его торговые путешествия исчертили весь мир; era
иностранные сделки, векселя и доверенности говорят на всех язы-
ках; ;ен сидит в своей конторе и разговаривает со всеми нациями».
Просветительская проблема воспитания человека нередко
превращается в публицистике Дефо в проблему воспитания «ис-
тинного» буржуа. Его «Полный английский негоциант» (The Com-
plete'English Tradesman, etc., 1725—1727) представляет собою раз-
вернутый кодекс практической, эгоистичной и черствой буржуазной
335
морали. Именно «Полный английский негоциант» вызвал со сто-
роны романтика Чарльза Лэма, восторженного поклонника худо-
жественного творчества Дефо, негодующий отзыв: «Эта книга стре-
мится настолько засушить людские сердца..., что, живи я в то
время, я конечно предложил бы мидльсекскому суду присяжных,
осудившему «Басню о пчелах», осудить, вместо того, эту книгу
Дефо, как произведение гораздо более гнусное и развращающее
по своей тенденции».
В том же духе написан и «Семейный руководитель» (The Fa-
mily .Instructor, 1715)— сборник многочисленных диалогов на
религиозные и бытовые темы, где пуританская дидактика легко
уживается с деловым практицизмом, и многие другие аналогичные
публицистические сочинения Дефо.
Лишь в немногих лучших произведениях публицистики Дефо
прославление частной буржуазной инициативы перерастает в обще-
гуманистический просветительский оптимизм. Замечателен, в осо-
бенности, знаменитый «Опыт о проектах» (An Essay upon Projects,
J697), где Дефо предлагает целую систему экономических, быто-
вых и воспитательных нововведений, призванных служить на благо
человечеству. Наряду с коммерческими новшествами — учреж-
дением государственного банка и сберегательных касс, страхо-
ванием от стихийных бедствий и т. д. — Дефо советует* создать
общество «для поощрения наук, очищения английского языка и
борьбы с варварством нравов» и с особенным жаром настаивает на
лредоставлении женщинам широких прав на образование.
Несколько позже, в 1709 г., Дефо выступил цсвоем «Обозрении»
с еще более смелым проектом установления вечного мира в Европе,
предвосхитив на много десятилетий аналогичные планы француз-
ских просветителей. Его проект предполагал создание междуна-
родного европейского «Апелляционного суда для. всех обиженных
и угнетенных, будь то государи или народы», с помощью чего, по
мнению Дефо, человечеству удастся навсегда «изгнать войну из
Европы».
Основные беллетристические жанры, впоследствии блестяще
разработанные Дефо, незаметно выкристаллизовывались в тече-
ние многих лет в аморфной и пестрой массе его бесчисленных
публицистических книг, памфлетов и статей. Огромное журнально-
публицистическое наследие, оставленное Дефо, поражает необы-
чайным разнообразием тем и жанров: политика, экономика, но-
вейшая история, богословие и прикладная мораль, воспитание и
быт, заморские сенсации и отечественная хроника происшествий,—
все, что интересно, или все, что может быть сделано интересным
для читателей новой буржуазной Англии, занимает Дефо.
^ Среди деловитых брошюр о кредите и займах, об африканской
и вест-индской торговле, о европейском равновесии и испанском
наследстве неожиданно появляются .такие произведения, как
«Религиозное ухаживание, представляющее собой исторические
рассуждения о необходимости вступать в брак лишь с религиозны-
ми мужьями и женами... С приложением о необходимости нанимать
336
лишь религиозных слуг и предложением о лучшем способе управ-
ления слугами» (Religious Courtship, etc., 1722) и «Великий закон
субординации, или наглость и невыносимое поведение английских
слуг» (ihe Great Law Of Subordination, etc., 1724).
«Защита печати, или опыт о полезности литературы, о критике
и о квалификации авторов» (A Vindication of the Press, etc., 1718)
находит место в публицистике Дефо наравне с «Опытом о литера-
туре, или исследованием о древности и происхождении письма»,
где доказывается, что две скрижали, исписанные перстом господ-
ним на горе Синае, были первой письменностью на земле, и что
все остальные алфавиты происходят от еврейского (An Essay Upon
Literature, etc., 1726). «Краткие выводы о возникновении, разви-
тии и огромном значении британской шерстяной промышленности»
(A Brief Deduction of the Original, Progress and Immense Great-
ness of the British Woollen Manufacture, 1727) выходят в про-
межутке между «Системой магии» (A System of Magick, etc., 1727)
и «Опытом о реальности привидений» (An Essay On The History and
Reality of Apparitions, 1727), а «Беспристрастная история
жизни и деяний Петра Алексеевича, нынешнего царя Московии»
(An Impartial History Of The Life and Actions of Peter Alexowitz,
etc., 1723) прекрасно уживается не только с «Кратким историческим
отчетом о жизни шести известных уличных грабителей»
(A Brief Historical Account of the Lives of the Six Notorious Street-
Robbers, etc., 1726), но даже с «Политической историей дьявола»
(The Political History Of The Devil, etc., 1726).
Дефо — умелый и ловкий журналист, и его публицистические
приемы гораздо менее примитивны, чем принято думать. Он пре-
красно умеет показать товар лицом, поразить читателя острым
словечком, хлестким заглавием, заранее представляя себе, как
будет оно звучать на лондонских улицах, когда продавцы-разнос-
чики станут рекламировать новый, свежеотпечатанный памфлет.
Он умеет заинтересовать читателя заманчивым названием вроде
$Куй железо, пока горячо, или настал момент быть счастливым»
^Strike while the Iron's Hot, etc., 1715); смутить его неожиданным
É страшным вопросом: «А что, если королева умрет?» (An Answer
Ж Question That No Body Thinks of, etc., 1713), «Что, если напа-
Щр шведы?» (What if the Swedes Should Come, etc., 1717); сыграть
1Шщобопытстве читателя, предлагая ему всевозможные «тайные
и$г|рии» и «тайные записки» о государственных и придворных делах.
Если надо, Дефо появляется перед читателем собственной пер-
соной и призывает весь мир в свидетели и судьи своих личных
ДОЛ; Цо чаще он предпочитает оставаться неизвестным анонимом, а
зачастую попросту приписывает сочинение своих памфлетов, для
большей достоверности, неведомым квакерам, турецким шпионам,
Деревенским помещикам, британским офицерам на русской службе
** т. п.. Иногда эти «переодевания» становятся более сложными:
Дефо охотно пользуется пародией, как могущественным и удобным
сатирическим жанром. Пародией на реакционеров-церковников был
и его знаменитый «Кратчайший способ расправы с диссидентами»,
22 Англ. литература 337
и близкие по теме «Инструкции из Рима в пользу претендента, адре-
сованные высокопоставленнейшему дону Сачевереллио» (I nstructions
from Rome, etc., 17Ю).
Дефо знает толк в парадоксе. Он непрочь иной раз помисти-
фицировать читателя, подробно доказывая правильность чужих
взглядов, чтобы потом неожиданно огорошить его изложением сво-
его собственного, прямо противоположного мнения. Но главный
козырь Дефо-публициста—это безусловная, якобы, «истинность»
всех его сообщений. Список его сочинений испещрен всевозмож-
ными «правдивыми и подлинными отчетами» и «правдивыми сооб-
щениями».
В публицистике Дефо попадаются самые фантастические сен-
сации. В 1705 г. он выпускает серию памфлетов о путешествии на
луну (оказавших, возможно, частичное влияние на «Путешествия
Гулливера» Свифта); годом позже он преподносит публике «Прав-
дивое сообщение о появлении призрака некоей м-сс Виль» (A True
Relation of the.Apparition of one Mrs. Veal, etc., 1706), а однажды
изумляет своих читателей весьма точным отчетом о небывалом из-
вержении некоего вулкана, которое, как выяснилось впослед-
ствии, никогда, не имело места в действительности.
Но даже самый смелый вымысел всегда появляется у Дефо под
будничной маской реального факта. Он пишет о привидениях и
ясновидцах так же деловито, рассудительно и спокойно, как об
английских шерстобитнях и винокурнях. Его духи очень материаль-
ны. Восставшая из мертвых м-сс Виль делится с приятельницей не
только своим загробным опытом, перечисляя, в порядке библио-
графической консультации, лучшие «труды» о смерти и загробной
жизни, но и земными женскими «тайнами», признаваясь, что наде-
тое на ней шелковое платье побывало-таки в чистке. Она непрочь
даже выпить, по старой памяти, чашечку чая. Все поведение
этого необычайного призрака описано Дефо с такой тщательностью,
что любители-«исследователи» смогли составить точную карту марш-
рута м-сс Виль.
То же стремление к максимальной фактической достоверности ска-
залось впоследствии и в беллетристических .произведениях Дефо.
Первый и наиболее прославленный роман Дефо «Жизнь и
странные удивительные приключения Робинзона Крузо... написан-
ные им самим» (The Life and Strange Surprizing Adventures of Ro-
binson Crusoe... Written by Himself, 1719) появился тогда, когда
его автору было уже под шестьдесят лет. Успех этого нового лите-
ратурного эксперимента заставил Дефо вскоре выпустить вторую,
а затем и третью — дидактическую часть романа. То были «Даль-
нейшие приключения Робинзона Крузо» (The Farther Adventures
of Robinson Crusoe, etc., 1719) и «Серьезные размышления в тече-
ние жизни и удивительных приключений Робинзона Крузо, с ею
видением ангельского мира» (Serious Reflections During The Life
and Surprising Adventures of Robinson Crusoe: With His Vision
Of the Angelick World, 1720).
За «Робинзоном Крузо» с удивительной быстротой последовала
338
целая серия романов. То были «Жизнь, приключения и пиратства*
знаменитого капитана Сингльтона» (The Life, Adventures, and
Pyracies,Cf the Famous Captain Singleton, 1720); «Радости и горести
знаменитой Молль Флэндерс» (The Fortunes And Misfortunes Of
the Famous Moll Flanders, etc., 1722); «Записки чумного года»
(A Journal of the Plague Year, etc., 1922, дат. 1721 ); «История и замеча-»
тельная жизнь достопочтенного полковника Жака» (The History and
Remarkable Life of the truly Honourable Cob Jacque, etc., 1722);
«Удачливая любовница, или история жизни и разнообразных похо-
ждений мадемуазель де Бело..., известной под именем лэди Роксаны
во времена короля Карла II» (The Fortunate Mistress: or, a History
of the Life and Vast Variety of Fortunes of Mademoiselle de Beleau...
Being the Person known by the Name of the Lady Roxana, in the
Time of King Charles II, 1724) и др.
Всем этим книгам был заранее обеспечен живейший интерес
рядовых английских читателей. Дефо писал именно о том, что, как
он прекрасно знал, занимало каждого среднего англичанина его
времени. Он писал о том, как смелые конквистадоры — полупира-
ты-полукупцы — пролагают новые пути по еще неизведанным
материкам и океанам; о том, как дерзкие искатели при-
ключений, презирая опасности, наживают несметные состояния;,
о том, какие скрытые и необычайные возможности таятся в челове-
ческой судьбе, и о том, как воля человека может превозмочь ш
стихийные силы природы, и общественный произвол.
Дефо опускает свое имя на обложке всех этих книг. Читатель
должен поверить, что перед ним непререкаемо-подлинный че-
ловеческий документ, что история Робинзона Крузо действительна
«написана им самим», а история Молль Флэндерс составлена «ш
ее запискам».
Номинальные авторы этих документальных повествований очень
различны по своему положению в жизни. Но как ни велика разница
между Йоркским моряком Робинзоном Крузо и фешенебель-
ной куртизанкой Роксаной, между воровкой Молль Флэндерс и
респектабельным горожанином из лондонского Сити, автором «За-
писок чумного года», —все они равно деловиты и трезвы в своем
отношении к жизни. Говорят ли они об одиночестве на необитае-
мом острове, или о краже кошелька, о чумных больных, заживо
погребенных в общей могиле, или о выгодной любовной связи, —
их тон всегда одинаково прост и спокоен, а слова — одинаково
точны. Они никогда не упустят назвать вам, смотря по тому,,
о чем идет речь, точный градус и минуту долготы и широты своего
местонахождения, точную цифру пройденных ими миль, точное?
число ярдов в украденном отрезе материи или точную сумму по-
лученных от любовника фунтов, шиллингов и пенсов.
И все же во всех этих «документальных» записках, дневниках
и мемуарах гораздо больше выдумки и мысли, чем можно подуматьг
гговерив на слово Даниэлю Дефо. Его романы заключают в себе
гораздо больше того, что они обещают. Это относится в особенности
к шедевру Дефо — знаменитому «Робинзону Крузо».
22* зш
2
Прообраз реалистического буржуазного романа нового времени,
«Робинзон Крузо» совмещает в себе, в еще необособленном,
нерасчлененном виде, множество различных литературных жан-
ров. Это — путешествие; это — автобиографический роман приклю-
чений; это — «роман воспитания»; это — беллетристическое пе-
реложение локковской теории общественного договора и предвос-
хищение «робинзонад» английской политической экономии. Бес-
конечно разнообразны и многочисленны, в соответствии с этим,
и литературные источникиэтого романа.
; Автор «Робинзона Крузо» знал толк в путешествиях. Имена
Дрэйка, Ролея, Гаклюйта и других мореплавателей и географов
были для него полны значения. Он сам составил исторический
отчет о путешествиях сэра Вальтера Ролея, посвятив его акционер-
ной торговой Компании Южных Морей (1720), и, конечно, с увле-
чением прочел, как и вся читающая Англия того времени,
нашумевшие книги Вильяма Дампира: «Новое путешествие вокруг
света» (A New Voyage Round the World, 1697), «Путешествия и опи-
сания» (Voyages and Descriptions, 1699) и «Путешествие в Новую
Голландию» (Voyage to New Holland, 1703). Ему были, вероятно,
знакомы и другие, более прозаические, но содержательные и делови-
тые отчеты о тихоокеанских путешествиях Вильяма Феннеля (Wil-
liam Funnell), Вудса Роджерса (Woodes Rogers), Джорджа Шель-
вока (George Shelvocke), обработавших для печати свои корабель-
ные дневники.
То было время, когда каждый год приносил новые4 открытия и
очертания новых островов и материков все отчетливее выступали
на карте мира. Многое оставалось еще неизвестным; о многом знали
только по смутным догадкам. На «Новой карте земного шара»,
изданной в 1722 г. Эдуардом Уэллсом (Edward Wells), не нанесены
еще ни северо-восточные границы Азии, ни западная граница Се-
верной Америки; намечена только часть западной границы
Австралии. Но всюду, — на юге и на севере, на западе и на
востоке, — повторяется манящая надпись: «Пока еще неоткрытые
места». Дефо, как и его современники, уже чувствует себя хозяи-
ном мира, и кругосветные путешествия, как говорит он сам, ка-
жутся ему уже проторенной «обычной дорогой».
Среди предшествовавших «Робинзону Крузо» многочисленных
сообщений о действительных: или мнимых удивительных приклю-
чениях путешественников и моряков было одно, которое могло
особенно заинтересовать Дефо. То была история Александра Сель-
кирка, шотландского моряка, который, поссорившись с капита-
ном, предпочел сойти с корабля (давшего, к тому же, течь) и остаться
в одиночестве на необитаемом острове Хуан-Фернандес в Тихом
океане. Здесь он провел 4 года и 4 месяца, пока в 1709 г. не
был подобран и возвращен на родину английским кораблем «Гер-
цогиня» под командой Вудса Роджерса. История Селькирка на-
делала в Англии много шуму. Дефо мог познакомиться с нею и по
340
^путешествию Вудса Роджерса, и но очерку Стиля, помещенному в
журнале «Англичанин» (1713); есть сведения, что будущий автор
«Робинзона» и сам встречался и беседовал с Селькирком.
Нельзя отрицать ни общности главной ситуации, ни сходства
многих деталей вымышленной истории Робинзона Крузо с под-
линной историей' Александра Селькирка. Дефо действительна
был обязан Селькирку фактической канвой центральной части
своего романа. Но роман этот представлял собой не простую «белле-
тризацию» приключений Селькирка, а нечто гораздо более слож-
ное и значительное по своему замыслу (еще Вальтер Скотт сове-
товал не преувеличивать влияния истории Селькирка на Дефо).
Прообразом «робинзонады» Дефо мог послужить роман Генри
Невиля (Henry Neville) «Остров Пайнса, или четвертый остров близ
неизвестного австралийского материка, недавно открытый Ген-
рихом Корнелиусом фон Слоттеном» (The Isle of Pines, etc., 1668),
где описывалась жизнь англичанина Джорджа Пайнса и его много-
численного потомства на пустынном острове, не нанесенном ни на
одну географическую карту.
Частичное влияние на «Робинзона Крузо» мог оказать также
другой роман XVII века, — «Оруноко» Афры Бен, главным
героем которого был добродетельный дикарь, первый «естественный
человек» тогдашней литературы. Некоторые черты его, возможно,
были перенесены на образ Пятницы.
"Наряду с этим, на автора «Робинзона Крузо» оказало несом-
ненное скрытое влияние произведение, казалось бы очень далекое
от него и по своему духу и по своим литературно-жанровым осо-
бенностям. Это аллегорический «Путь паломника» пуританина
Джона Бэньяна.
В 1720 г., в заключительной, дидактической части «Робинзона
Крузо», Дефо озадачил своих будущих исследователей неожидан-
ным заявлением, что приключения Робинзона представляют собою
не что иное, как аллегорическое изображение жизни самого
автора. «Приключения Робинзона Крузо — схема действительной
ЗЯШзни,— двадцати восьми, лет, проведенных в самых скиталь-
ческих, одиноких и печальных обстоятельствах, какие ког-
$Э-либо испытывал человек. За это время я прожил долгую и уди-
вительную жизнь, — в постоянных бурях, в борьбе с наихудшим
Ейдэм дикарей и каннибалов,,. Я испытал всяческие насилия и
щ^тения, несправедливые упреки, людское презрение, нападения
Щволов, небесные кары и земную вражду; изведал бесчисленные
йрейратности фортуны, побывал в рабстве хуже турецкого, спасся
С йоМощью столь же ловкого плана, как тот, что описан в истории
Ксури...; попадал в море бедствий,снова спасался ненова погибал...;
частго терпел я кораблекрушения, хотя скорее на суше, чем
на море. Одним словом, нет в воображаемой истории ни одного об-
стоятельства, которое не было бы законным намеком на историю
подданную».
Было немало споров о том, следует ли принимать эти слова Дефо
всерьез и буквально. Известный биограф Дефо Томас Райт
341
(Wright), разобрав всю «Жизнь Робинзона Крузс» в соответствии
с этим его заявлением, нашел возможным подставить под каждое
событие романа реальный факт биографии писателя. При таком
истолковании самовольный отъезд Робинзона из отчего дома под-
разумевает отказ Дефо от духовного звания, кораблекрушение
у берегов необитаемого острова намекает на разгром восстания Мон-
маута, сам необитаемый остров Робинзона оказывается Велико-
британией, противоположная сторона острова — Шотландией, ди-
кари-людоеды — реакционерамй-ториями, а первое появление их
на острове совпадает с первыми проповедями Сачевереля.
Эта интерпретация оспаривается, однако, большинством иссле-
дователей, считающих, что Дефо не устоял перед искушением мисти-
фицировать своих читателей и что самая идея этой мистификации
была, вероятно, подсказана ему злым памфлетом Чарльза Гиль-
дона (Oildon). Этот памфлет, направленный против автора «Ро-
бинзона Крузо», появился еще осенью 1719 г., в промежутке между
второй и третьей частями «Робинзона», под любопытным пародий-
ным заглавием: «Жизнь и странные удивительные приключения
м-ра Д... Де Ф..., чулочника из Лондона, который прожил сам
по себе свыше 50 лет в королевствах Северной и Южной Британии
и т. д.» (The Life and Strange Surprizing Adventures of Mr. D...
De F,.., of London, Hosier, etc.).
Все же 'замечания Дефо об аллегорическом значении «Робин-
зона Крузо» достойны внимания, даже если не- принимать их бук-
вально. Автобиографическое истолкование романа могло быть при-
думано задним числом; но роман был с самого, начала задуман и
написан иначе, чем большинство тогдашних «путешествий» и «при-
ключений». Если применить к «Робинзону Крузо» определения
«жизнеописание» и «история» (в том смысле, в каком Фильдингу
предстояло впоследствии ввести их в эстетику английского Про-
свещения), то эта книга оказалась бы, конечно, не простым «жизне-
описанием», а «историей» человеческой личности. Хаос житей-
ских случайностей введен здесь в русло определенного развития
и подчинен общим законам.
Эти законы выступают, в глазах самого Робинзона Крузо и его
создателя — Даниэля Дефо, в мистическое форме.
По определению Робинзона, жизнь его «похожа на мозаику, по-
добранную самим провидением с таким разнообразием материалов,
какое редко встречается в этом мире». Робинзон видит проявление
божественного промысла в каждом происшествии своей жизни;
его посещают пророческие сны, и даже случайное совпадение ка-
лендарных дат и событий кажется ему особым знамением свыше.
Бури, кораблекрушение, одиночество необитаемого острова, на-
шествие дикарей — все это кажется ему божественными карами,
призванными очистить и, закалить его душу* Так, сорока годами
ранее, в бэньяновском «Пути паломника», приключения Христиана,
странствующего по волшебным долинам и заколдованным замкам,
в борьбе с великанами, разбойниками и дикими зверями, служили
Д42 '
аллегорическим выражением истории христианской души, восхо-
дящей к небесам.
Но четыре десятилетия, отделяющие «Жизнь и приключения
Робинзона Крузо» от «Пути паломника», прошли не напрасно.
Новая буржуазная действительность вошла в свои права; и, по-
добно трму, как в философии «место пророка Аввакума занял Локк»1,
так героических библейских бунтарей Мильтона и пуританских
энтузиастов Бэньяна сменил в литературе новый, деловитый и
практический буржуазный герой Дефо.
Самый пуританизм Дефо выглядит уже совсем по-иному, чем
экзальтированный пуританизм Бэньяна. Автор «Пути паломника»
требовал от человека отречения не только от всех чувственных вле-
чений, но даже от самого «светского» разума. Герой Дефо, напро-
тив, мог бы сделать своим девизом поговорку: «На бога надейся,
а сам не плошай». На протяжении всей «Жизни Робинзона Крузо»
можно проследить борьбу между традиционным пуританизмом, упо-
вающим на благость божественного промысла, и „трезвылц реали-
стически-разумным отношением к миру, характерным для века
буржуазного Просвещения.
Встречаясь с непредвиденными жизненными обстоятельствами,
Робинзон неизменно истолковывает их сперва на пуританско-ми-
стический лад, но лишь затем, чтобы тотчас же прислушаться к
более практическому и надежному голосу собственного разума,
Увидя возле своего жилища на необитаемом острове колосья ри-
£а и ячменя, он счел было, что перед ним, —- чудо, совершеннее
«самим провидением; но скоро он вспоминает, что сам нечаянно
йяюсеял» эти злаки, вытряхнув на лужайке мешок из-под птичь-
его корма. «Чудо исчезло, а вместе с открытием, что все это самая
Естественная вещь, я должен сознаться, значительно простыла и
тоя горячая благодарность промыслу», — не без юмора замечает
1н сам. При виде таинственного человеческого следа на пустынном
Шрегу острова Робинзон, как истый пуританин, решает, что это —
§|ло самого дьявола, но логические доводы разума скоро разу-
Щждают его: «Смешно было... думать, что дьявол принял челове-
рШ<ий образ с единственной целью оставить след своей ноги в та-
Шм пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шан-
Шв? против одного, чточ никто этого следа не увидит... Нет, дьявол
Р|;так глуп. И, наконец, с какой стати, зная, что я живу по эту
Шррону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на
Щке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все
$$: было весьма противоречиво и не вязалось с обычными нашими
'Проставлениями о хитрости дьявола. Окончательно убежденный
э1тШи доводами, я признал несостоятельность своей гипо-
тезй 6 нечистой силе и отказался от нее. Но если это был не
ДьЙвол, тогда возникало предположение гораздо бойее устрашаю-
щего свойства: это были дикари с материка, лежавшего против
моего острова».
1 Маркс и Энгельс, Соч., т, VIII, стр. 324.
343
Так жизненный опыт и практический здравый смысл взрывают
цитадель пуританского благочестия. Рассказывая о своих бого-
словских беседах с Пятницей, Робинзон замечает, что «искусство
облегать религию тайной, чтобы обеспечить почтение народа к
духовенству, изобретено не только в Риме, но, вероятно, всеми
религиями на свете», и признается, что был поставлен втупик на-
ивными доводами Пятницы, недоумевавшего, почему бог, — если
он действительно всеблаг и всемогущ,—терпит существование
дьявола, как источника всяческого зла. В этих сценах Пятница
с его наивным здравым смыслом первобытного «естественного чело-
века» уже напоминает будущего вольтеровского «Простака».
При всем своем отдаленном родстве с Бэньяном, Дефо как автор
«Робинзона Крузо» стоит уже в непосредственной близости к про-
светительскому «роману воспитания». Образ Робинзона Крузо
заметно изменяется на протяжении его истории. Легкомысленный
и своевольный юноша, — каким он является в начале романа, —
становится под влиянием жизненных испытаний умудренным и
серьезным человеком.
Именно «роман воспитания» ценил в «Робинзоне Крузо» Жан-
Жак Руссо, называвший книгу Дефо «удачнейшим трактатом о
естественном воспитании». «Эта книга,—писал Руссо в знаме-
нитом педагогическом романе «Эмиль, или о воспитании» (1762),—
(будет первой, которую прочтет мой Эмиль; она долгое время будет
составлять всю его библиотеку и навсегда займет в ней почетное
место. По ней мы будем проверять степень развития наших суж-
дений; и пока вкус наш не будет испорчен, ее чтение всегда будет
нам приятно. Что же это за волшебная книга? Аристотель? Пли-
ний? Бюффон? Нет: это «Робинзон Крузо»!».
В лице Робинзона Крузо в английскую художественную лите-
ратуру впервые входит в собственном смысле слова буржуазный
герой. Робинзон — «это настоящий» буржуа»1, по определению
Энгельса. Герой Дефо призван быть художественным воплощением
«полного английского негоцианта». Его приключения входят в
программу коммерческого риска. Он не брезгует ни плантаторством,
ни работорговлей и готов отправиться на край света, чтобы поде-
шевле купить, подороже продать. Он знает цену времени и день-
гам; даже на необитаемом острове «Робинзон, Спасший от корабле-
крушения часы, гроссбух, чернила и перо, тотчас же, как истый
англичанин, начинает вести учет самому себс»2.
Предусмотрительный и благоразумный практик неизменно по-
беждает в нем прекраснодушного философа. «Ненужный хлам!—
восклицает Робинзон-философ при виде денег, оставшихся в каюте
затонувшего корабля, — зачел! ты мне теперь? Ты и того не стоишь,
чтобы поднять тебя с полу. Всю эту кучу золота я готов от-
дать за любой из этих ножей. Мне некуда тебя девать: так оставай-
ся же, где лежишь, и отправляйся на дно морское, как существо,
1 M а р к с и Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 407.
2Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 86,
344
чью жизнь не стоит спасать!»... «Однако ж, поразмыслив, — до-
бавляет Робинзон-практик, —я решил взять их с собой».
У Робинзона высоко развито чувство собственности, и даже
экзотически-прекрасная природа необитаемого острова пленяет
его прежде всего потому, что он чувствует себя ее полным в лаг
стелином: «Я спустился в эту очаровательную долину и с тай-
ным удовольствием... подумал, что все это—мое, я—царь и
хозяин этой земли; права мои на нее бесспорны, и если б я мог
перенеоиее в обитаемую часть света, онастала бы таким же без-
условным достоянием моего рода, как поместье английского лор-
да»* Он дорожит вещами лишь в меру их полезности и описывает
свой ос-ров как рачительный хозяин, составляющий инвентарь
своего имущества.
Умея работать, он умеет также заставить и других работать
на себя, и его отношения к Пятнице, в сущности, воспроизводят
в идиллической форме отношения нанимателя и работника. «Он—
строитель империи... Его награда рассчитана с точностью до
трех пенсов и является вполне заслуженной», — писал о Ро-
бинзоне Крузо английский революционный критик Ральф Фокс
в книге «Роман и народ» (The Novel and the People, 1937).
Но вместе с тем этот первый буржуазный роман о буржуаз-
ном герое обладал огромным общечеловеческим значением.
«Робинзон Крузо» был первой и классической попыткой пред-
ставить реального индивида нового буржуазного общества в.
виде «естественного» человека. Именно к роману Дефо восходят
бесчисленные «робинзонады» последующей буржуазной лите-
ратуры, философии и политической экономии
Истинную сущность «робинзонад» раскрыл Маркс (Вве-
дение к «К критике политической экономии»). «Единичный и
|{5особленный охотник и рыболов, с которых начинают Смит
É Рикардо, — писал Маркс, — принадлежат к лишенным фан-
рзии выдумкам XVIII века. Это — робинзонады, которые
|гнюдь не выражают, — как воображают историки культуры, —
Вгащь реакцию против чрезмерной утонченности и возвращение
Il ложно понятой природе. Подобно тому как и «Об-
щественный договор» Руссо, который устанавливает путем до-
feopa взаимоотношение и связь между независимыми от при-
ЩШ* субъектами, ни в малой степени не покоится на таком на-
ЯЙализме. Это — иллюзия, и лишь эстетическая иллюзия боль-
Щ&% и малых робинзонад. Это, напротив, предвосхищение «бур-
жуазного общества», которое подготовлялось с XVI века, а в.
?ÇVl..H — сделало гигантские шаги на пути к своей зрелости. В
Щош обществе свободной конкуренции отдельный человек вы-
ctynaet освобожденным от естественных связей и т. д., которые
в прежние исторические эпохи делали его принадлежностью опре-
деленного ограниченного человеческого конгломерата. Проро-
кам XVIII века, на плечах ко орых еще целиком стоят Смит и
Рикардо, этот индивид XVIII века, — продукт, с одной стороны,
разложения феодальных общественных форм, а с другой — раз-
345,
вившихся с XVI века новых производительных сил, — пред-
ставляется идеалом, существование которого относится к прош-
лому, — не результатом истории, а ее исходным пунктом;
потому что соответствующий природе индивид, согласно их
воззрению на человеческую природу, казалось, не возник исто-
рически, а установлен самой природой» х.
Робинзон Крузо поныне живет в сознании читателей не толь-
ко как «полный английский негоциант», но и как истинный че-
ловек, чьи радости и горести никому не могут быть чужды.
Робинзон Крузо, Йоркский моряк XVII века, во многом не-
ожиданно оказывается учеником просветительской философии
XVIII века. Он космополит и предоставляет испанцам равные
права с англичанами в своей колонии (черта замечательная
и для того времени, когда был написан роман); он уважает челове-
ческое достоинство даже и в «дикарях» и сам исполнен гордым со-
знанием своего личного человеческого превосходства над всеми «са-
модержцами» земли.
Но не в этом заключается тайна человечности Робинзона Крузо.
Она связана с тем, что, выбросив своего героя на необитаемый
остров, Дефо временно изолировал его от всех реальных общест-
венных связей, и практическая деятельность Робинзона-буржуа
по необходимости предстала перед читателями в общечело-
веческой форме труда. Чисто человеческий пафос покорения природы
сменяет в первой и центральной частях «Робинзона Крузо» пафос
коммерческих авантюр, делая почти поэтичными даже самые «про-
заические» подробности трудовой деятельности Робинзона* Бесхит-
ростная история того, как построил Робинзон свою первую хижину,
как сколотил он свою первую скамью, как вылепил и обжег
свой первый кувшин, волнует и захватывает воображение, ибо
это—история свободного, творческого, всецобеждающего труда.
В борьбе с природой Робинзон, год за годом, овладевает всем тру-
довым опытом человечества.
В отличие от Руссо и руссоистов, Дефо далек от сомнений
в преимуществах «цивилизации» над первобытным состоянием. Ро-
бинзон продолжает с успехом пользоваться вещественными пло-
дами технического и материального общественного прогресса
даже в уединении необитаемого острова. Если бы не корабль, столь
своевременно доставивший Робинзону необходимые инструменты
и вещи, «робинзонада» Дефо выглядела бы совершенно иначе.
Но «цивилизация» представлена на необитаемом острове Робинзо-
на лишь своими техническими достижениями; скрывающиеся под
их покровом общественные противоречия не существуют для оди-
нокого, изолированного от общества Робинзона Крузо. «Все
отношения между Робинзоном и вещами, составляющими его само-
дельное богатство... просты и прозрачна» (Маркс)2, и жизнь его
на необитаемом острове полна внутренней гармонии.
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 173—174
2 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 86.
346
Но очарование исчезает, едва лишь восстанавливается пре-
рванная связь между Робинзоном и буржуазным обществом.
Сам Робинзон, в описании Дефо, с грустью покидает свой необи-
таемый остров; и интерес читателей к этому герою стремительно
надает, едва лишь он меняет первобытную одежду «естественного»
человека на цивилизованный костюм нормального буржуа. После-
дующие приключения Робинзона в торговых путешествиях по Ин-
дии, Китаю и Сибири могут быть и пестры и необычайны, но они
кажутся мелочными и безжизненными по сравнению с первой
частью романа.
Сам необитаемый остров, куда читатель возвращается сноЕа
вместе с Робинзоном Крузо во второй части романа, уже утрачи-
вает свою былую прелесть. Остров Робинзона превращается в «иде-
альную» колонию с частной собственностью на землю («я отвел...
определенные участки... колонистам, остальную же землю объя-
вил своей собственностью»,—рассказывает Робинзон), с хозяевами
и невольниками, с церковными обрядами, освящающими сущест-
вующий порядок вещей.
Описывая возникновение и развитие робинзоновой колонии,
Дефо исходит из представлений английских буржуазных просве-
тителей о развитии буржуазного общества и государства. Вначале
среди поселенцев, оставшихся на острове, царит «естественное»
равенство состояний; но очень скоро оно нарушается столь же
«естественным» несходством характеров и противоречием эко-
номических интересов, порожденных развитием островного хо-
зяйства. Наступает период кровавых смут и раздоров, продол-
жающийся до тех.пор, пока обитатели острова, во имя охраны свя-
щенной собственности, не заключают между собою компромиссного
союза, — наподобие . локковского «общественного договора».
Впрочем, как ни цивилизована отныне его колония, Робинзон
Крузо благоразумно воздерживается от вручения своим поселен-
цам привезенных из Англии пушек.
Еще более плоски благочестивые дидактические «Серьезные
размышления» третьей части «Робинзона», опускаемой почти во
всех позднейших изданиях романа. Вальтер Скотт, находивший,
не без основания, вслед за Руссо, что «Робинзон Крузо» должен
был бы состоять лишь из одной первой части, заметил, что в этой
заключительной, третьей части нет почти ничего, «что не могл<} бы
быть сказано любым черинг-кросским лавочником». {
Таким образом, уже в «Робинзоне Крузо» проявилось прису-
щее всему буржуазному Просвещению XVIII века противоречие
между идеалом «естественного» человека и реальностью «буржуаз-
ного индивида».
Ситуация «Робинзона» воспроизводится последующими буржуаз-
ными писателями как универсальная общественная норма. Обо-
собленная производительная деятельность одиночки-Робинзона в
представлении теоретиков буржуазной политической экономии ока-
зывается прообразом всякого общественного производства. И само
буржуазное общество мыслится как сумма бесчисленных само-
347
стоятельных и независимых робинзонов, добровольно заключивших
между собою «разумный» общественный договор. В иллюзорной
форме «робинзонады» действительная атомистическая раздроблен-
ность буржуазного общества воспроизводится в качестве вечного,
самой природой установленного «естественного» закона.
3
Своеобразными «робинзонадами» были, в сущности, при всем
их отличии от «Робинзона Крузо», и последующие романы Дефо.
Их герои живут и действуют в самой разнообразной и пестрой об-
становке. Кодштан Сингльтон, глава пиратской шайки, бороздит моря
и океаны и пролагает себе путь через девственные леса центральной
Африки. Молль Флэндерс, рожденная на свет в ньюгейтской тюрь-
ме и воспитанная в приходском приюте, кочует по всем притонам
и трущобам Англии. Джек, именующий себя «полковником» Жа-
ком, ночует тайком, беспризорным мальчишкой, в стеклодувных
печах, совершает свои первые кражи в конторе таможни, а под
конец становится рабовладельцем и хозяином собственной план-
тации. Роксана блистает в Париже при Людовике XIV и в лон-
донских салонах времен Реставрации.
Но и среди трущоб «Молль Флэндерс» и на пиратском корабле
«Сингльтона», как и на необитаемом острове «Робинзона Крузо»,
герой остается изолированным образцом «человеческой природы».
Недаром сам Дефо замечает, что человек может «быть назван оди-
ноким посреди толпы и в сутолоке людей и дел». Живя среди себе
подобных, герои Дефо кажутся, тем не менее, нарочито изолирован-
ными от всех общественных связей. Почти все они — подкидыши и
сироты, непомнящие родства; Сингльтон, Молль Флэндерс, «пол-
ковник» Джек уже с детства чувствуют себя одинокими перед
лицом равнодушного и враждебного внешнего мира. Ко всем им
в высшей степени приложимо замечание Маркса,что «лишь вXVIII
веке, в «буржуазном обществе», различные формы общественной
связи выступают по отношению к отдельной личности просто как
средство для ее частных целей, как внешняя необходимость»1.
Как и в «Робинзоне Крузо», Дефо использовал в своих после-
дующих романах многочисленные и разнообразные литературные
источники. В «Сингльтоне», где герой-пират с кучкой товарищей
пробирается сквозь неведомые дебри центральной Африки, нетруд-
но заметить влияние популярных путешествий и корабельных
дневников. В «Молль Флэндерс», «Полковнике Жаке» и «Роксане»
Дефо широко использует английские и переводные плутовские
романы и репортерские отчеты о сенсационных преступлениях
и уголовных процессах, — все то, что составляло самую распростра-
ненную, низовую, «бульварную» литературу его времени.
Плутовскому роману Даниэль Дефо, как и большинство анг-
лийских реалистов XVIII века, был обязан особенно многим. В
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 174.
348
плутовском романе, создавшемся на почве разложения феодаль-
ных общественных связей, впервые сложилось то противопостав-
ление изолированного, отъединившегося от общества индивида —
миру, которое в дальнейшем легло в основу буржуазного романа
нового времени. В сознании европейских читателей XVIII века
грани между «робинзонадой? и плутовским романом почти сти-
рались (любопытно, например, что немецкий перевод лесажевского
«Жиль Ьлаза» вышел под названием «Испанского Робинзона»).
< Однако плутовской роман переосмысляется Дефо по-новому —
в духе просветительского реализма XVIII века. Дефо занимает
уже,не столько пестрая смена приключений героя, сколько изме-
нения его судьбы и характера в зависимости от жизненных обстоя-
тельств. Взаимоотношения между человеком и средой приобретают
у него, как и у всех писателей Просвещения, огромное, решающее
значение.
Именно поэтому Дефо начинает свои романы, подобно боль-
шинству позднейших английских реалистов, историей детства и
воспитания героев — историей формирования их личности под
влиянием обстоятельств.
Романы Дефо исполнены глубокого реализма. Самая тема пре-
ступности, в литературном отношении заимствованная из прежнего
плутовского романа, приобретает у него новый реалистический
смысл. Все его герои—преступники. Боб Сингльтон—пират; «пол-
ковника Джек — вор и авантюрист, самовольно присвоивший себе
имя и звание; Молль Флэндерс — проститутка и воровка; Рокса-
на — содержанка. Но действительным виновником их преступле-
ний оказывается само «порядочное» общество.
Замечательную характеристику реалистического образа Молль
флэндерс дал Горький в лекциях по истории русской литерату-
ры: «Молль Флэндерс изображена, как человек пьяный, злой, гру-
бый, ни во что не верующий, лживый, хитрый, но в то же время
вы ясно видите в ней все чувства гражданки свободной страны, и
йргда вы слушаете ее разговоры с друзьями о себе самой, о мужчи-
нах, об аристократии, вы видите, что пред вами личность, знаю-
щая себе цену, человек, который великолепно понимает степень
Шчной своей вины и вину общества, принудившего ее жить про-
дажею своего тела, — одним словом, автор ни на минуту не забы-
вает, что пред ним жертва уродливого социального строя, он осуж-
дает ее за то, что Молль недостаточно упрямо сопротивлялась, но
èifle более резко осуждает он общество за эту победу над женщиной».
Слова «не ввергай меня в нищету, чтобы мне не красть», на
которые ссылается Молль Флэндерс, служат, в сущности, лейт-
мотивом всей ее истории. Развращающая роль буржуазного обще-
ства по отношению к неиспорченной «человеческой природе» реа-
листически изображена уже в одном из первых эпизодов «Молль
Флэндерс», относящихся к раннему детству героини4. Маленькая
Молль — сирота, воспитанная за счет прихода, — меч-
тает «стать барыней». Для нее самой эта заветная мечта означает
«всего лишь возможность собственным трудом заработать себе
349
хлеб», но окружающие безжалостно подымают ее на смех. «Увы! —
вспоминает она — мне казалось, что быть барыней — значит ра-
ботать на себя..., тогда как для них это означало занимать высокое
положение, вести широкую жизнь, и не знаю, что еще».
Воровкой и проституткой делает Молль Флэндерс, в изобра-
жении Дефо, не слепой случай и не внутренняя моральная извра-
щенность, а внешняя общественная необходимость. С настойчи-
востью, почти монотонной, Дефо заставляет свою героиню снова
и снова переходить от достатка к нищете и обратно, и восстанов-
ление ее материального благополучия оказывается каждый рмз
равносильным восстановлению ее «нравственного» равновесия.
Молль Флэндерс может утверждать, что действует по наущению
дьявола, но и здесь, как и в «Робинзоне Крузо», мистические сверхъ-
естественные силы, как бы ни ссылался на них Дефо, выступают
в конкретной и разумно-постижимой форме реальных жизненных
обстоятельств.
Истории Сингльтона, Молль Флэндерс, «полковника» Джека,
Роксаны служат художественным развитием просветительски-гу-
манистической мысли, высказанной Дефо: «Необходимость де-
лает честного человека мошенником, и если бы свету было предо-
ставлено судить в соответствии с общепринятой точкой зренияг
в живых не осталось бы ни одного бедняка». При всем своем пури-
танизме Дефо-просветитель утверждает, что «ни один человек не
делает зла ради него самого»; но он готов, подобно Мандевилю,
признать разумный эгоизм основным стимулом человеческого
поведения.
Буржуазное общество, каким оно рисуется на страницах рома-
нов Дефо, очень похоже на аллегорический «пчелиный улей»Ман-
девиля. Сами преступления его героев оказываются в изображении
Дефо как бы лишь особой формой «деловой» активности.
Маленький «полковник» Джек честен от природы. «У меня не было
дурных намерений; я никогда еще ничего не крал,; и если бы меня
оставили в ювелирной лавке, среди гор золота, и поручили мне
стеречь его, я бы не притронулся к нему, настолько я был честен»,—
пишет он, вспоминая свое детство. Но он простосердечно считает
воровство «своего рода ремеслом» и становится «подмастерьем кар-
манника», как другие становятся подмастерьями сапожников или
пекарей. И «полковник» Джек, и пират Сингльтон, и воровка Молль
Флэндерс столь же деловиты, практичны и «добросовестны» в
своем ремесле, как любой торговец, стоящий за своим прилавком,
и сама их преступная деятельность начинает, :-р конце концов, ка-
заться не исключением, а жизненной нормой буржуазного
общества.
Правда, самому Дефо представляется, что он «спасает поло-
жение»,заставляя своих преступных героев покаяться и вер-
нуться в лоно буржуазной «респектабельности». Но та легкость,
с какою происходит это душеспасительное преображение вчераш-
них пиратов и воровок, наводит на размышления. Уж очень не-
заметной и неясной оказывается граница между «беззаконным»
350
грабежом и «законным» преуспеванием, между «грязными» и «чисты-
ми» деньгами в буржуазном обществе.
«Благополучные» развязки его романов не мешают Дефо прав-
диво показывать чудовищное извращение человеческих характе-
ров и судеб в условиях буржуазной действительности. Каждая
страница «Молль Флэндерс» показывает, как безжалостно ковер-
кают и уродуют человека «железные лапы» «беспросветного горя»'
и нищеты, — процесс тем более страшный, что совершается он
не втихомолку, не втайне, а наглядно, видимо и ощутимо для
самой его жертвы. Молль Флэндерс ясно видит, куда толкает ее
н)$$да; она пытается бороться с собой, боится собственных мыс-
лей готова плакать над собственной «жестокостью и бесчеловечно-
стью». Но все напрасно: «Нищета...—верная отрава добродетели».
В «Роксане» —своем последнем романе —Дефо изобразил еще
более трагическое столкновение человеческих страстей, возни-
кающее в связи с порабощением человека «бессердечным чистога-
ном». Роксана—авантюристка, вынужденная скрывать свое прош-
лое — неожиданно сталкивается с дочерью, когда-то ею покинутой и
упорно настаивающей теперь на том, чтобы быть признанной своей
матерью. Между матерью и дочерью разгорается смертельная
вражда, и когда в последних главах незаконченного романа моло-
дая девушка таинственно исчезает, читатель не может отделаться!
от подозрения, что Роксана повинна в гибели собственной дочери.
По драматизму своих ситуаций и «Роксана», и, отчасти, пред-
шествующие романы Дефо уже до некоторой степени предвос-
хищают последующий психологический роман, — точно так же,
как «Записки кавалера» (Memoirs Of A Cavalier, 1720), «Записки
чумного года» и «Записки английского офицера... капитана Джорд-
жа Карльтона» (The Memoirs Of An English Officer..., by Capt^
George Carleton, 1728) представляют собой отдаленный прообраз
исторического романа нового времени.
«Если бы меня спросили,—заметил как-то Дефо,—что я
считаю совершенным стилем или языком, то я бы ответил, что я счи-
таю таким языком тот, обращаясь на котором к пятистам людей
Средних и различных способностей (исключая идиотов и сумасшед-
ших), человек был бы понят ими всеми, и... в том самом смысле, в.
Исаком он хотел быть понятым». Это определение вполне приложимо
К творчеству самого писателя. Стиль Дефо прост и ясен, понятен
Сотням и тысячам «людей средних и различных способностей».
В его произведениях очень мало «литературности». Но чем
менее они «литературны», тем более они жизненны. Традиционное
представление о примитивности и «непоэтичности» стиля Дефо
необосновано. Историко-литературная судьба «Жизни Робинзона
Крузо», поныне увлекающей воображение читателей, служит
этому наилучшим опровержением.
Действительно, реализм Дефо представляется еще неразвитым
по,сравнению с позднейшими произведениями литературы анг-
лийского Просвещения. Зачинатель буржуазного реалистического
романа нового времени, Дефо не постиг еще всех тайных возмож-
351
ностей «открытого» им жанра. В его романах не найти ни сложного
ричардсоновского психологизма, ни фильдинговского юмора, ни
смоллетовского сатирического гротеска. Изобразительные приемы
Дефо зачастую еще неразработаны и неловки. Неизменно ведя
повествование от первого лица, он не всегда избегает монотонности
изложения. Живые диалоги почти отсутствуют в его произведе-
ниях; обычно прямая речь передается рассказчиком в косвенной,
описательной форме: «он сказал, что...» и т. п. Дефо обращал мало
внимания на отделку своих произведений; в них можно обнаружить
многочисленные недосмотры и несообразности—плоды порази-
тельной поспешности, с какою писал свои книги Дефо.
Но важно то, что в системе творчества Дефо центральное место
принадлежит человеку; история каждого дерева, срубленного
Робинзоном Крузо, каждого кошелька, украденного Молль Флэн-
дерс, оказывается необходимой главой в сложной повести развития
человеческой личности.
При всей своей видимой трезвости и рассудочности Дефо обла-
дает очень развитым «чувством» жизни. В его романах гораздо
больше «романтики», чем принято думать. Не забудем, что уже в
«Робинзоне Крузо» мы имеем дело не только с «доподлинной» исто-
рией жизни некоего Йоркского моряка, но и с его «странными и
удивительными» приключениями. Эта способность «удивляться»
жизни в высшей степени развита у Дефо, как, впрочем, и у
всех великих реалистов-просветителей XVIII века.
На протяжении столетий сотни тысяч читателей трепетали
.вместе с Робинзоном Крузо при виде одинокого человеческого следа
на пустынном берегу, с умилением прислушивались к словам по-
пугая, неожиданно заговорившего, человечьим языком: «Бедный
Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?», и
восхищались наивной преданностью Пятницы. Простыми и безы-
скусственными средствами Дефо умеет уже в «Робинзоне Крузо»
внушить читателю сочувствие, жалость, смутные предчувствия,
страх, ужас, отчаяние, надежду и радость. В историц Робин-
зона, охотно подшучивающего над самим собой, уже появляются
первые проблески юмора; они становятся еще заметнее в первой
части «Полковника Жака», которую Чарльз Лэм считал «самым
трогательным и естественным изображением иного воришки»; а
неоконченная «Роксана» обрывается ситуацией, исполненной пси-
хологического драматизма.
Знаменательно, что величайшими ценителями Дефо были сен-
тименталисты и романтики — Руссо, Скотт, Лэм и другие.
'4
Судьба литературного наследия Дефо сложилась весьма свое-
образно. Правда, уже при жизни писателя его романы приобрели
прочную известность в народе. «Робинзон Крузо» в первые же годы
после своего появления стал настольной книгой десятков тысяч
английских читателей, которые, вероятно, никогда не взяли бы в
352
|эуки другого романа. «Каждая старуха, если только у нее есть
чем заплатить за них, покупает «Жизнь и приключения Робинзона
КрузО» и передает их по наследству потомкам вместе с «Путем па-
ломника», «Упражнением в благочестии» и «Господним отмщением за
убийство», —писал враждебный Дефо современник Чарльз Тиль-
дой. Большой популярностью пользовалась также и «Молль Флэн-<
де#К
;^х±(у литературное признание пришло к Дефо не сразу. Англий-
ская литература и критика XVIII века долго не принимали его.
всерьез. Свифт называл его «безграмотным писакой». Поп издевался
над ним в «Дунсиад:» как над неудачливым журналистом, хотя и был
вынужден, —как сообщает Спенс в своих анекдотах (Joseph Spence,
Anecdotes, 1820), —признать в частной беседе, что первая часть
«Робинзона Крузо» очень хороша. Фильдинг умалчивает о Дефо,
говоря о своих учителях и предшественниках; Смоллет мимоходом
упоминает о нем в своей «Истории Англии», как о «грязном полити-
ческом писаке, пользовавшемся очень малым уважением».
" тА между тем английский реалистический роман был обязан
Даниэлю Дефо бесконечно многим. Дефо впервые сумел показать'
значительность и необычайность простых и реальных жизненных1
фактов своего времени, открыть нового героя в английском моряке/
Купце, бродяге и дать выход оптимистическому пафосу частной7
инициативы и практической жизнедеятельности, столь характер-'
Йшу для Англии XVI11 века.
|о; Английская литература по-настоящему оценила Дефо лишь в
ЩХ веке, когда о нем заговорили Скотт и Лэм и когда вышли, на-'
ядонец, первые собрания его романов (полного собрания сочинений
Щгфо, впрочем, не существует и поныне).
|$шСвоей международной известностью Дефо во многом обязан'
Шан Жаку Руссо, который оценил по достоинству философское»
щачение «Робинзона Крузо». Начиная с Руссо для сентймента-
Щрнрв, а впоследствии и для романтиков с их культом природы и
Естественного» чувства, особое значение приобретает «эстетиче-
|р видимость» (по выражению Маркса) робинзонады. Робинзонада
Щфо возрождается в опоэтизированной форме в «Поле и Виргинии»
Ше?) Бернардена де Сен Пьера, в романах Фенимора Купера
|fe п. В немецкой литературе XVIII века среди бесчисленных
Ш||>ажаний «Робинзону Крузс» обращает на себя внимание роман
р$#бига Шнабеля «Остров Фельзенбург» (1731—1743) — ориги-
Р^ное сочетание робинзонады с социальной утопией. ;
Р^Щтнио «Робинзону Крузо» Дефо обязан своей международной
Популярностью. Немногие произведения мировой литературы изда-!
^«Чись; переделывались, служили предметом подражаний так
чЙОДр.как «Робинзон Крузо», переведенный на большинство язы-
ков мира. В течение двух столетий «Робинзон Крузо» остается'
одшйиалюбимейших детских книг. Из числа переделок и подра*
Жаний Дефо, предназначенных для детей, особенной известностью1
го>№здзали(!ь «Робинзон младший» (1779) Кампе и «Швейцарский "
Робинзон» (1812) Виса.
23
Англ. литература 353
В России первое издание «Робинзона» появилось еще в XVI1J
веке («Жизнь и приключения Робинзона Крузо, природного Анг-
личанина; сочинение Д. Фое»; перевел с французского Я. Трусов,,
СПБ, 1762—1764) и неоднократно переиздавалось и переделывалось
впоследствии. В советское время Робинзон Крузо вышел на рус-
ском языке в издательстве «Academia» и был также переведен на
многие языки народов Советского Союза: украинский, белорус-
ский, грузинский, армянский, молдавский, туркменский^ и ряд
других.
*
Глава 6
СВИФТ
1
Творчество Свифта выделяется на общем фоне английской ли-
тературы раннего Просвещения исключительной глубиной его*
сатиры. Ненавидя феодализм и его пережитки гораздо более страст-
но, чем большинство его современников, Свифт отличается в то»
же время и гораздо большей прозорливостью в оценке новых,
буржуазных общественных отношений, которые кажутся ему враж-
дебными человеку по самой своей. природе. Творчество Свифта
в этом смысле задолго до Руссо кладет начало критике буржуазного
«прогресса», а вместе с тем и самого Просвещения.
Свифт происходил из семьи, насчитывавшей несколько по-
колений англиканских священников. Дед его Томас, приходский
священник в Гудриче, был ярым роялистом и в эпоху революции
ревностно поддерживал короля, за что подвергался преследова-
ниям, а его имущество реквизициям. Умер он почти нищим, и
его 13 детям пришлось разбрестись по всей стране в поисках средств,
к существованию.
Больше всего повезло старшему сыну Годвину, адвокату;
он недурно устроился в Ирландии и приумножил свое состояние
выгодными браками. Вслед за Годвином потянулись в Ирландию
и другие братья. Среди них был и Джонатан Свифт, отец писате-
ля. В 1666 г. он женился на Абигайль Геррик (или Ирик) из Лей-
стера и после многих хлопот получил место смотрителя судебных
зданий в Дублине. Выбиться из нищеты ему так и не удалось, —
он умер в возрасте двадцати пяти лет, оставив молодую жену с
дочерью Джен почти без всяких средств.
30 ноября 1667 г., через семь месяцев после смерти отца, ро-
дился Джонатан Свифт (Jonathan Swift, 1667— 1745), будущий
писатель. Ему не пришлось изведать и материнской заботы: он
рос в разлуке с матерью, на попечении дяди Годвина. Шести:
лет Свифт был отдан в школу Килькенни, а по окончании еег
четырнадцати лет, поступил в Тринити-колледж в Дублине
(апрель 1682).
354
Жизнь на скудные Подачки родственников угнетала Свифта;
схоластика, педантизм и метафизика, царившие в университете,
были ему чужды и враждебны. Он занимался, по собственному
признанию, больше изучением истории и поэзии, чем богословием.
Это привело к плохим отметкам на экзаменах, и Свифт был допу-
щен к испытаниям на степень баккалавра только по «особой ми-
лости». Он получил эту степень в феврале 1686 г.
Закончить курс учения в университете Свифту не удалось. Ре-
волюция 1688 г., свергнувшая с престола Якова II, сопровожда-
лась восстаниями в Ирландии, которые вынудили англичан бежать
оттуда. Свифт уехал из Дублина в Лейстер, где жила его мать.
Летом 1689 г. ему пришлось поступить на службу к Вильяму
Темплю, отставному вельможе, который был связан с Ирландией.
Он знал семью Свифтов, а через жену был в каком-то отдаленном
родстве с матерью Свифта.
Вильям Темпль, царедворец и дипломат, заключивший в 1668 г.
тройственный союз Англии, Голландии и Швеции, был человеком
образованным, большим любителем литературы и искусства, си-
баритом и эпикурейцем. При Карле 11 он удалился от политических
дел и поселился в своем поместье Мур-Парк, где занимался садо-
водством, писал изящные «эссеи» и радушно принимал наезжавших
из Лондона литераторов и политиков.
Темпль не оценил ума и энергии юноши и отнесся к нему
как к доверенному слуге. Свифт опять попал в зависимое положе-
ние и не мог не тяготиться этим. Уже через год под предлогом
болезни он уехал в Ирландию с рекомендательным письмом Темпля
к государственному секретарю Роберту Саутвелю. Письмо не по-
могло, Свифт не получил должности и сно^а вернулся в Мур-Парк.
Теперь Темпль обратил больше внимания на своего секретаря, й
положение Свифта в доме вельможи значительно улучшилось. Свифт
много занимается изучением классиков; встречи с писателями и по-
литическими деятелями, приезжавшими в Мур-Парк, расширяют
его кругозор, дают ему представление о людях и идеях его времени.
В июле 1692 г. Свифт получил в Оксфорде ученую степень магистра,
дававшую право на духовную должность. В следующем—1693—го-
! ду он выехал в Лондон с поручением от Темпля к королю.
| Вильгельм III Оранский познакомился с Темплем еще в Гол-
ландии, во время дипломатической миссии Темпля, высоко ценил
|ум и опытность старого дипломата и часто обращался к нему за со-
ветами в области политики. По одному из таких вопросов (в связи
|| проектом закона о трехлетнем сроке депутатских полномочий в
парламенте) Вильгельм запросил совета Темпля, но тот был болен
щ прислал вместо себя Свифта, что было, конечно, знаком большого
ррверия. Свифт защищал перед королем необходимость издания
требуемого парламентом закона; миссия его, однако, не имела
успеха. Так же неудачно было и ходатайство Свифта перед королем
О получении должности. Король в ответ на просьбу предложил Свиф-
ту чин капитана кавалерии и показал ему, кстати, голландский спо-
соб Цриготовления спаржи.
23* 355
Оставалось Ждать, чтобы Темпль выполнил свое обещание —
предоставить Свифту духовную должность. Ждать пришлось дол-
го и Свифт, которому не терпелось стать на ноги, получить воз*
можность развернуть свои силы и способности, наконец, не выдер-
жал. В мае 1694 г. он снова уехал в Лейстер ив январе 1695 г.
получил сан священника англиканской церкви. По ходатайству
друзей его назначили в маленький приход Кильрут в Ир-
ландии.
Пробыв в Кильруте полтора года, Свифт стал тяготиться ску-
кой и .пустотой деревенской жизни (не о такой самостоятельности
он мечтал) и.с удовольствием откликнулся на просьбу Темпля прие-
хать в Мур-Парк. В 1696 г. Свифт снова поселился в Мур-Парке и
оставался там до смерти Темпля (1699).
В этот период начинается расцвет творческой деятельности
Свифта. От растянутых пиндарических од и других подражаний
античным классикам Свифт перешел к той области, которая от-
вечала его дарованию — к сатире. В 1697 г. он написал свою пер-
вую сатиру «Битва книг» и набросок знаменитой «Сказки о бочке».
«Битву книг» Свифт написал в защиту Темпля.
«Спор древних и новых», т. е. спор о преимуществе новой
литературы и науки перед античными, разгоревшийся во Франции
с новой силой после выступления Перро в 1687 г. с восхвалением
«века Людовика», перекинулся и в Англию. Темпль выступил про-
тив Перро и Фонтенеля с «Опытом о древнем и новом знании», в
котором защищал античных писателей, объявлял бесполезными
открытия Коперника и Гарвея и особенно расхваливал «Посла-
ния Фаларида» как лучший образец античной, литературы. Сто-
ронники новой литературы, — ученые Ричард Бентли и Вильям
Уоттон, — ответили книгой, где оспаривали мнения Темпля и
высмеивали его грубый промах, доказывая, что письма Фаларида
были подделкой.
Тут в спор вмешался Свифт, чтобы защитить Темпля от насме-
шек. В «Битве книг» он избирает любимый свой сатирический1
прием — аллегорию. Место действия — Сент-Джемская библио-
тека. Ричард Бентли, библиотекарь, в угоду своему пристрастию к*
новейшим писателям, отвел их сочинениям лучшие места на пол-
ках. Из-за этого среди книг возникают рдспри. Древние книги,
взбунтовавшись, требуют, чтобы им вернули подобающие места.
Новые книги имеют численное превосходство (их 50 000), но зна-i
чительно уступают по вооружению. Обе стороны стягивают свои
силы. Эзопу приходится превратиться в осла, дабы его приняли
за нового писателя и дали, возможность пробраться к своим, т. е.;
к древним. Среди облаков пыли организуются два войска,
выступающих друг против друга.
Легкомысленно и запальчиво ведут себя «новые», мужественно,
с достоинством — «старики». Гомер и Пиндар предводительствуют
конницей, Платон и, Аристотель — стрелками, Геродот и Ливии —
пехотой, Гиппократ тг-дрдгунами, Эвклиду поручена инженерная
часть. В арьергарде выступают союзники во главе с Темплем.
385
По зову богини Славы на помощь «древним» приходят боги Олимпа;
на стороне «новых»—злобная богиня Критика, дочь Невежества
и; Гордости. Критика выступает со своими детьми — Бесстыдством,
Д1умихой, Тщеславием, Педантизмом, Тупостью. Уоттону она яв^
ляется в уродливом образе его друга Бентли. Завязываются поедин*
ки Аристотеля с Бэконом, Гомера—с Перро и Фонтенелем, Вер-
гилия—с Драйденом, Пиндара—с Каули, Темпля и Фаларида—-
с Бентли и Уоттоном.
Противников Темпля — Бентли и Уоттона — постигает печаль-
ная участь: их обоих пронзают одним ударом копья. На этом «Бит-
ва книг» обрывается с характерной для Свифта мистификаторской
мотивировкой: конец рукописи, якобы, утерян. Нетрудно
все же догадаться, что победа неизбежно достанется древним и
их сторонникам.
Отчетливо выявляет взгляды Свифта на роль искусства и науки
вставной эпизод в «Битве книг» — спор пчелы и паука. Паук огра-
ничен своим темным углом, он с большим искусством плетет пау-
тину по всем законам математики, вытягивая нить из самого себя.
Пчела прорывает эту паутиЪу— ей нужен широкий, вольный про1
стор, она нуждается в цветах, чтобы добывать мед и воск, т. ei
сладость и свет для людей. Свифт выступает против узкого, отгра-
ничивающегося от жизни педантизма, за науку и литературу, не^
сущую людям широту мысли, радость и свет знания.
«Битва книг» вышла в 1704 г. —гораздо позже, чем была на-
писана, но еще до появления в печати она в многочисленных спи^
сках стала широко известна литературным кругам.
Спокойной творческой жизни Свифта в Мур-Парке скоро при^
шел конец. В январе 1699 г. умер Вильям Темпль, оставив Свифту
■100 фунтов в наследство и завещав издать свои сочинения с тем,
чтобы доход от издания поступил Свифту. Едва ли можно было
ждать больших доходов от этого издания. Но Свифт тщательно со-
бирает и редактирует «эссеи» Темпля, составившие пять томов,
и посвящает издание королю, в надежде, что ему, наконец, дадут
достойную его способностей работу.
т Однако Свифту, как всегда, не повезло. «Я вспоминаю,— писал
юн Болинброку,—что, когда я был еще мальчиком, однажды крю-
чок моей удочки дернула большая рыба, я ее почти уже вытащил
на берег, как вдруг она сорвалась в воду. Разочарование мучает
меня по сей день, и я верю, что то был прообраз всех моих
будущих разочарований». Свифту пришлось поступить секретарем
и домашним капелланом к лорду Беркли, получившему назна-
чение в Ирландию (июнь 1699). Интриги приближенных Беркли
лишили его и этого места, но в виде возмещения Свифту был пре^
доставлен приход в Ларакоре, в Ирландии (февраль 1700 г.),
i;; Снова судьба загнала Свифта в глушь, снова он очутился в Ир-
ландии. Ларакор не был даже деревней в полном смысле; на пере-
крестке четырех дорог стояла церковь, и около нее ютились пять
домишек. Пребывание в Ларакоре, как и в Кильруте, не было, од-
нако, \ бесплодным для писателя.. Путешествуя пешком, исполняя
357
обязанности священника, он познакомился с нуждами и чаяниями
народа, с бедствиями зависимой Ирландии.
Чтобы рассеять свое одиночество, он пригласил приехать в Ир-
ландию свою давнишнюю подругу Стеллу. Под этим поэтическим
именем Свифт воспевал Эстер Джонсон, дочь экономки Темпля. Ког-
да Свифт приехал в Мур-Парк, Эстер было 7 или 8 лет—она была на
четырнадцать лет моложе писателя. Свифт принял участие в судь-
бе девочки, учил ее грамоте, играл с нею. С годами эта дружба воз-
растала и крепла пока, наконец, Стелла не полюбила беззаветно
и пламенно старшего товарища своих детских игр.
Свифт и в Ларакоре жадно ловил вести о политической жизни
Лондона, следил за разгоравшейся партийной борьбой вигов и то-
риев. Вильгельм IIIбыл призван на английский престол вигами,
на них он и опирался в своей политике. Виги, являвшиеся «ари-
стократическими представителями буржуазии» (Маркс), настаи-
вали на активном вмешательстве Англии в европейские дела, тре-
бовали войны для расширения колониальных владений. Борьба
партий достигла наибольшего напряжения в 1701—1702 гг. Виль-
гельм готовился к войне с Францией за испанское наслед-
ство.
Свифт выступил на стороне вигов. В лагерь* вигов его привели
не столько убеждения в правоте их программы, сколько личные
связц с руководящей верхушкой вигов, возникшие еще в Мур-
Парке,—доставшиеся, так сказать, по наследству от Темпля
и окрепшие при сближении с семьей лорда Беркли. В церковных
вопросах Свифт, однако, расходился с вигами с самого начала,
выступая против пуритан-диссидентов в защиту «высокой» анг-
ликанской церкви.
Первый памфлет Свифта, с которого начинается его политиче-
ская деятельность, был выпущен анонимно в 1701 г. под загла-
вием «О раздорах в Афинах и Риме» (A Discourse of the Contests
and Dissensions between the Nobles and the Commons in Athens and
Rome). Защищая руководителей вигов от нападок палаты общин',
где большинство принадлежало партии ториев, Свифт сравнивает
Соммерса, Галифакса и Сендерленда с такими великими мужами
древности, как Перикл, Аристид и Фемистокл, и всячески восхва-
ляет ум и" талантливость политических деятелей партии вигов.
Вожди вигов начали разыскивать анонимного автора, оказав-
шего им большую помощь в борьбе. После нескольких ошибок и
недоразумений авторство Свифта было обнаружено. Отныне он
становится виднейшим вигским журналистом, принятым во всех
вигских обществах, завсегдатаем литературных кофеен. Он по-
стоянно наезжает из Ларакора в Лондон и остается иногда в сто-
лице очень подолгу (1703—1704, 1707 — 1709 и т. д.).
После выхода из печати «Сказки о бочке» Свифт, уже успевший
прославиться своими блестящими острстами и экстравагантными
выходками, окончательно завоевал первое место в литературе.
«Сказка о бочке, написанная для всеобщего усовершенствования
человечества» (A Tale of a Tub. Written for the Universal Impro-
358
veinent of Mankind. To Which is added An Account of a Batt<f(
Between the Antient and Modern Books, etc., 1704) выдержала в тече-
ние первого же года три издания. Заглавие знаменитого произве-
дения Свифта имеет двойной смысл. Выражение «сказка о бочке» во
времена Свифта идиоматически обозначало «бессвязную историю»,
«бестолковщину». Этому смыслу заглавия соответствуют бесконеч-
ные сатирические отступления Свифта от основного сюжета, мно-
жество предисловий («Апология автора», «Посвящение», «Книго-
«продавец читателю», «Посвятительное послание его королевскому
высочеству принцу Потомству», «Предисловие», «Введение»), яз-
вительно пародирующих манеру современных Свифту авторов.
Но еще большее значение имеет другой смысл заглавия, ука-
занный самим Свифтом в «Предисловии»: «Некий проницательный
и искусный наблюдатель сообщил на недавнем заседании одного
комитета о следующем важном открытии: у моряков существует
обычай при встрече с китом бросать в море пустую бочку, чтобы
этой забавой отвлечь его внимание от корабля. Собрание тотчас же
принялось истолковывать эту притчу. Все поняли, что под китом
следует разуметь «Левиафана» Гоббса, который в этой книге играет
и вертит всеми системами религии и политики, огромное большин-
ство которых оказываются пустыми, высохшими, полыми боч-
ками, насквозь прогнившими и без толку шумными, но весьма
пригодными для катания во все стороны... Что касается корабля в
опасности, то он был понят как древняя эмблема государства».
Намек на материалиста Гоббса, считавшего религию только
государственным учреждением, не случаен. Религия служит боч-
кой, при помощи которой государство пытается отвлечь народ
спорами, чтобы уцелеть самому.
«Сказка о бочке» — сатира на религию в ее трех наиболее рас-
пространенных в Англии формах: англиканства, католицизма и
Пуританского диссидентства. Они изображаются в лице трех
братьев —Мартина (англиканская церковь), Петра (католицизм)
И Джека (кальвинизм, пуританство). Отец (христианство), умирая,
оставил каждому в наследство по кафтану; в завещании (святое
писание) было указано, как надо носить кафтаны, и запрещено
добавлять что-либо к этой одежде или как-либо изменять ее
|[ид. Братья в течение первых семи лет выполняли отцовское заве-
щание, но потом, желая попасть в высший свет (следует беспощад-
ная сатира на образ жизни аристократов), обнаружили, что покрой
;|сафтанов не соответствует моде. В моду вошли аксельбанты, но
ipffflx не упоминалось в завещании. Петр предложил выход из за-
труднения: можно составить слово «аксельбант» из букв, употреб-
ленных в завещании. Правда, одной буквы нехватало, но находчи-
|§Мй Петр удачно заменил ее. После этого вошли в моду галуны.
Щк как завещание хранило молчание и по этому поводу, Петр со-
Ш^лся на «устное предание*: «Помните,братья,мы слышали,когда
ptym маленькими, как кто-то сказал, что он слышал, как слуга моего
ЩЦД сказал, что он слышал, как отец сказал, что он советует сыно-
вьям завести золотые галуны на кафтанах, как только средства поз-
359
Ьолят купить й^с». Галуны были пришиты. Так продолжалось до
чгех пор, пока им вообще не надоели эти увертки; тогда они запрята
ли завещание подальше.
Петр воровски присвоил себе наследство одного вельможи ^ воз^
тордился перед другими братьями, приказал величать себя господ
даном Петром и изобрел ряд выгодных способов обирать доверчив
*вых людей: средство от глистов (отпущение грехов), шептальню
'(исповедальню), страхование от огня (индульгенции), универсала
ный рассол (святую воду) и т. д. От сп^си он помешался, напялил?
ка себя три старых высоких шляпы, одну поверх другой (папская
тиара) и, пригласив братьев к себе на Ъбед, угостил их черным хле*
бом и водой, убеждая, что это —мясо и вино (сатира на при-
частие и учение о пресуществлении). г
Братья, выведенные из терпения поведением наглого мошенник
ка, обратились к первоначальному завещанию, но тогда Петр вьн
гнал их из дома. Они решили убрать украшения, противоречащие
завещанию. Осторожный Мартин срывал только то, что можно было
снять, не повредив самого кафтана. Ревностный Джек, из злобы*
на Петра, обдирая свой кафтан, превратил его в лохмотья и из-за
этого поссорился с разумным Мартином.
Джек преисполнился необычайной нежности к завещанию. Оно
служило ему ночным колпаком, когда он ложился спать, и зон^
тиком в дождливую погоду. Он говорил только цитатами из за-
вещания и если стукался головой о столб, то это, как и прочие
Несчастья, считал предопределением. «Когда Джек затевал какую-
нибудь гнусность, он становился на колени, иногда прямо в кана1
ву, закатывал глаза и начинал молиться». Он приходил в бешена
ство при звуках музыки и смертельно ненавидел яркие краски2
Впоследствии он заключил с Петром союз против Мартина. Но,
когда вышел приказ о взятии Петра под стражу, он покинул ег#
в беде и украл у него охранную грамоту. • ■'
Во множестве отступлений Свифт развертывает широкую сатиа
рическую картину современной ему жизни. Таковы, например
«Отступление касательно происхождения, пользы и успехов без-1
умия в человеческом обществе» и «Отступление касательно кри-^
тиков», где Свифт, сатирически используя цитаты из древних ав-v
торов, доказывает, что Геродот и Ктесий, говоря об ослах, имели
в виду критиков. «Самый голос критиков способен был повергнуть
в трепет легион авторов, от ужаса ронявших перья. Так Геродот
рассказывает, что большая армия скифов была обращена в паних
ческое бегство ревом осла». В отступлениях продолжаются нападки
на безумство религиозного энтузиазма (рассказ о секте «эолистов»)>
fia мошенников-попов. -
■ Многие буржуазные критики стараются защитить Свифта or
Обвинения в антирелигиозном характере его сатиры, доказывая1,,
что Свифт нападал только на враждебные англиканской церкви
вероисповедания, к самому же англиканству относился с уваже-
нием и, якобы, даже защищал его. Действительно, Свифт меньше
Всего высмеивает Мартина, но единственное, что он может сказать
360
в пользу англиканской церкви, —это то, что она менее нелепа^
чем другие. Такая «защита» является, по существу, суровым nptf-
говором. Это понимал Вольтер. «Свифт,—писал он,—высмеял
«б своей «Сказке о бочке» католичество, лютеранство и кальвинизму
Он ссылается на то, что не коснулся христианства, он уверяет, что
-был исполнен почтения к отцу, хотя попотчевал его трех сыновей
•сотней розог; но недоверчивые люди нашли, что розги были на-
столько длинны, что задевали и отца».
| Сатирические розги Свифта, действительно, задевают религию
довольно чувствительно. Это понимали и современники Свифта.
Его не спасло то, что он представил англиканскую церковь в ка-
кой-то степени свободной от крайностей религиозного фанатизма.
Слава «Сказки о бочке»,—выдающегося произведения английской
сатирической литературы XV111 века, — дорого обошлась Свифту
и послужила большой помехой на его жизненном пути.
•■ Министры-виги заискивали перед Свифтом, но не оказали ему
существенной поддержки. Особенно ярко это проявилось, когда:
Свифт в ноябре 1707 г. приехал в Лондон в качестве представители1
ирландского духовенства, которое, зная о связях Свифта с вигскиль
правительством, поручило ему защищать свои интересы в Лондоне
й добиться, чтобы в отношении церковных доходов ирлалдскр^
духовенство было уравнено в правах с английским. Свифт ходатай-
ствовал об этом перед Соммерсом и Сендерлендом, беседовал даже
С главой правительства Годольфином, но от него отделались ту-
манными обещаниями; в конце концов, ничего не добившись, Свиф?
6 марте 1709 г. уехал обратно é Ларакор. Это была первая трещина
6 его отношениях с вигами.
; В памфлетах, написанных во время пребывания в Лондоне, — é
«Доказательстве невыгоды уничтожения христианства» (Argument tcS
^)rove that the Abolishing of Christianity,etc., написан в 1708, напеч.й
1711), в «Проекте развития религии», —(A Project for the Advancement
of Religion, etc., 1709) и других,— Свифт отчасти продолжает линию;
^Сказки о бочке». Он утверждает, что первоначальное христиан-
ство выродилось и что религия тесно связана с правящими классами!
*■& В этот же период любовь Свифта к мистификаций толкнула его*
|tt забавную полемику с неким предсказателем картриджем, вы-
ругавшим альманахи, где описывались заранее все события, дол-
женствующие произойти в текущем году. Свифт, под именем Исаака
рикерстафа, выпустил свой шуточный альманах предсказаний на
1F08 г. (Predictions for the Year 1708, etc., 1708), в котором мни-
fjpttt' астролог пророчил близкую смерть самому мистеру/Партрвдг
щШ указывал даже точные сроки: Шртридж умрет 29 марта 1708 г;
ЩШо одиннадцати часов вечера. Когда прошел этот срок, Парт-
№$Ш с торжеством заявил о том, что он жив. На это Свифт ответил:
Шй^етом, в котором с комическими подробностями описывалась
tiKëpSte Партриджа. Так Свифт заживо похоронил бедного колдуна1.
Памфлет Свифта приобрел такую популярность, что Стиль, за1-
ДуМайОйздавать сатирический журнал «Болтун», назвал лицо, от
йМеййт^торого якобы ведется журнал, • Исааком Бикерстафом1
361
Для «Болтуна» Свифт написал несколько сатирических
ючерков.
Пока Свифт томился в Ларакоре, в политической жизни Анг-
лии произошли крупные изменения: положение вигов пошатнулось
Избранный в ноябре 1710 г. парламент предоставил подавляющее
большинство ториям. ^Свифт поспешил в Лондон с новым поруче-
лием от ирландского духовенства и, несмотря на запоздалые попыт-
ки вигов удержать его, перзшел в лагерь ториев.
Неверно было бы считать, что Свифт перешел на сторону ториез
лишь потому, что они одержали победу. Здесь сыграли роль и лич-
лая обида Свифта на влгских министров и расхождение с ними в
©опросах церковной политики.
Но главные причины его разрыва с вигами лежали глубже. Все
более росло отвращение Свифта к методам вигской политики, к раз-
ложению и системе подкупов в вигском правительстве. Наконец,
Свифт видел, что бремя затянувшейся войны за испанское наслед-
ство легло целиком на плечи и без того обобранного народа, а сла-
iBy военных подвигов пожинали министры-виги.
Не случайно, что одним из первых памфлетов, которые Свифт
написал, уже будучи в лагере ториев, было «Поведение союзников
и прошлого министерства в настоящей войне» (The Conduct of
the Allies... in the Present War, 1711, датировано 1712). В этом зна-
менитом памфлете Свифт говорит о войне, как о всенародном бед-
ствии. Во имя чего и в чьих интересах ведется эта война, от
которой так много лет страдает английский народ? Народ не за-
интересован в войне: она только разоряет его. Пора народу
пробудиться от своей летаргии и освободиться от тех, кто вовлек
его в беду. «Мы брали города, —пишет он, —но каждый из них
стоил нам шести миллионов и доставался не нам, а союзникам,
мы одерживали блистательные победы, но они приносили нам
лишь пустую славу». Он нападает на английского главнокоман-
дующего герцога Мальборо, обвиняя его в хищничестве; на капи-
талистов и банковских дельцов, которые разжирели на народном
бедствии; на продажность и своекорыстие вигов.
Памфлет имел необычайный успех. Опубликованный 27 ноября
1711 г., он уже 1 декабря вышел вторым изданием, которое разо-
шлось в четыре часа. В течение каких-нибудь двух месяцев было
продано 11 тысяч экземпляров.
Памфлет Свифта сыграл решающую роль в повороте обществен-
ного мнения в пользу мира, явился сокрушительным ударом для
Мальборо и поддерживавших его вигов. Но значение его выходит
далеко за пределы защиты новых друзей — ториев — и посрам-
ления вигов. Это — памфлет не столько в защиту ториев, сколько в
защиту народа. Поэтому такой страстностью проникнуты строки
«Поведения союзников». Сквозь абстрактно логическую аргумен-
тацию прорывается пафос искреннего негодования против угне-
тателей народа.
Свифт тесно сблизился с вождями ториев — Сент-Джоном
(Болинброком) и Гарли, будущим графом Оксфордом. Он стал ак-
362
тивнейшим участником, по существу, руководителем, еженедель-
ной торийской газеты «Исследователь» (Examiner), негласным
советником торийского министерства, возглавляемого Гарли-Окс-
фордвм. «Министр без портфеля», как определяют положение Свиф-
та в правительстве ториев его биографы, руководил политикой
всего министерства.
биографы обычно объясняют пессимизм, разочарование и
горечь сатиры Свифта тем, что он был обделен на «жизненном
вдфу» —стремился к «теплому местечку», да так и не смог полу-
*№(Ь его. Именно в таком,духе говорит о Свифте Теккерей, сравни-
вая его с разбойником на большой дороге: «Карета с митрой и епи-
Ж^рским посохом, которые он хочет заполучить на свою долю,
додержалась в пути от Сент-Джемского дворца. Он ждет и ждет
kjjfjjp[самой ночи. Вдруг прибегают, его гонцы и сообщают, что
шрета поехала по другой дороге и ускользнула от него. Он с
фЬоклятием разряжает пистолеты в воздух и уезжает» («Англии-
щ*е юмористы XVIII века»).
Верно, что Свифт был самолюбив и горд, верно, что он негодо-
видя, как преуспевают бездарные ничтожества, а он дол-
ей прозябать в ирландской глуши. Он сам писал об этом Болин-
JlQfKy: «Все мои стремления отличиться объяснялись лишь тем,
щ$ у меня не было ни громкого титула, ни богатства; мне хоте-
^сь, чтобы люди, имеющие лестное мнение о моих способностях,
обращались со мной, как с лордом, независимо от того, справед-
ливо это мнение или нет. Таким образом репутация остроумного
&0ловека и великого ученого заменяет голубую ленту и карету
десдеерней».
%\.ц Цо в ту пору, когда Свифт обладал исключительным влиянием
^црлитику торийского кабинета, он ничем не проявил своеко-
Шия. Выдвигая других на выгодные должности, Свифт не при-
п себе ни богатства (он с возмущением отослал Гарли его круп-
н|Ц денежный подарок), ни чинов.
^Э; апреле 1713 г. был, наконец, подписан Утрехтский мир, ко-
bpjro с такими усилиями добивался Свифт. Ему надоели интриги
||#, наскучило мирить Болинброка с Оксфордом; он предчувство-
li^To разлад в лагере ториев приведет к краху министерства.
ЩЙкоре Свифт взамен ожидаемого епископства получил на-
1Щщие деканом (настоятелем) дублинского собора св. Патрика
|$§#ал в Дублин. Но не успел он доехать туда, как его друзья-
.ЩШ; стали умолять его вернуться: назревал новый политический
Щ^с. После короткого пребывания в Лондоне Свифт снова уехал
Е)ландию.
шистерство ториев было обречено. Болинброк вытеснил
Ерда из состава правительства, но успех Болинброка был
|Йем кратковременным: через две недели после удаления Окс-
|умерла королева Анна. На престол взошел Георг I Ганно-
|л Болинброк успел бежать во Францию, Оксфорд был заклю-
чи вТрауэр. Свифт остался верен своей дружбе с ним. Несмотря на
Угрожавшую ему опасность, он открыто выражал свой симпатии
363
павшему министру и в письме к Оксфорду предлагал разделите rïr
ним тюремное заключение.
Политической деятельности Свифта в Англии пришел конец':
началось правление вигов, сэра Роберта Уолполя. Свифт снова\
и на этот раз окончательно, оказался прикованным к Ирландии^
Ему осталось только, по его словам, «умирать в бешенстве, как
отравленной крысе в норе». •■■ ■
* Этот бурный период жизни Свифта в Лондоне подробно описан
им в «Дневнике для Стеллы» (Journal to Stella), который ой
вел со 2 сентября 1710 г. по б июня 1713 г. «Дневник» имеет неоце-
нимое значение для понимания политических действий Свифта Mr
взаимоотношений его с виднейшими людьми его времени. Это —
важнейший исторический документ, рйсуюЩий людей, обстановку;
интриги и интересы Лондона начала XVIIГ века. Но и этот «Днев-
ник», составленный из писем к Стелле, не дает ключа к загадочной
и запутанной личной драме, финал которой разыгрался в Ирландии:
Уже в одном из первых писем Свифт упоминает, что обедал à
семействе своей соседки, миссис ВаНомрй, вдовы голландского*
купца, ставшего английским чиновником; Свифт познакомился è
дочерью Ваномри, носившей то же имя, что и «Стелла» —Эстер:
Он стал завсегдатаем дома, взялся за образование молодой девуш-1
ки. Нервная, порывистая Эстер Ваномри В8.е5 больше привязывалась
К Свифту и, наконец, однажды Свифт уШлшал от девушки при-
знание в любви. Памятником его отношеййй с Эстер Ваномри явиа
лась поэма «Каденус и Ванесса» (Cadéttufc and Vanessa, 1726)1*
Ванесса — это Эстер, Каденус — сам СБифт (перевернутое «Дека-
нус»). Привязанность к Ванессе столкнулась с любовью к Стелле!
После отъезда из Лондона Свифт не npeKJpàttoi переписки с Ванес-
сой. В 1715 г., после смерти своей матери^ девушка, неожиданно'
для Свифта, приехала в Ирландию. В слеДМщем году он навестил
ее в Сельбридже. V, }
Сложный узел отношений Свифта к обеШ любящим его женщи1
нам стянулся еще туже после тайного брйка со Стеллой (1716),
о котором возникло столько легенд. Потеку Свифт держал этот
брак в тайне —неизвестно. Может быть, ой^йсрывал его от Ванес-
сы, может быть, и сам этот брак является1 Жендой. Ванесса жйМ
одиноко в Сельбридже, жадно ожидая пись#$е Свифта или его по-
сещения. Наконец, Ванесса написала письм<ЯЙгелле (или Свифту,—^
биографы расходятся в этом пункте, как и*/Ш датировке письма):
Ответ раскрыл ей все. Свифт порвал с ней); Это было тяжким1
ударом для слабой здоровьем молодой жШцины. Она умерла1
в 1723 г. Стелла пережила свою соперницу на 5 лет. ;;
Пятидесятилетний Свифт совсем уж был<>; отказался от поли-
тической деятельности, но жизнь вновь наегоятельно потребо-
вала его вмешательства в политику. Он не Шг безмолвствовать^
при виде бедствий, выпавших на долю Ирландии,—страны,'
с которой его прочно соединила судьба. Он принял активное
участие в борьбе народных масс против политики Англии,приведи
шей «изумрудный остров» к ужасающей нищете. : i
364
-.'■; Вот как описывает Сййфт Ирландию и её столицу: «Грустное зре*
Лище поразит всякого, кто пожелает посетить этот большой город
или проехать по деревням: на улицах, по дорогам, у дверей ла-
чуг —везде нищенки, каждая в сопровождении трех,четырех или
шести детей, покрытых лохмотьями и осаждающих всякого встреч-
ного просьбами о милостыне» («Скромное предложение»).
кч Свифт, проклинавший ранее «собачью дыру», куда его упорно
загоняла судьба, отдает всю мощь своего громового голоса
защите Ирландии. В памфлете «Предложение о всеобщем упо-
треблении ирландской мануфактуры» (A Proposai For the universal
Use Of Irish Manufacture, etc., 1720) Свифт призывает к бойкоту
английских товаров. Ирландия никогда не будет счастлива, пока
Не будет издан закон о сожжении всего прибывающего' из Англии,
за исключением самих англичан и английского угля. Свифт прии
еодит миф о Палладе и Арахне. Паллада, завидуя*Арахне, которая
е большим искусством ткала и пряла, превратила ее в; паука и
обрекла ткать нить, вытягивая ее из собственный внутренно-
стей. «Сознаюсь, —пишет Свифт, — я всегда жалел бедную Apiax-
ну и никогда не любил богиню за ее жестокий и несправедливый
приговор, который, однако, полностью применяется к нам Англией,
и даже с еще большей суровостью и Жестокостью — из нас вытя-
гивают кишки и внутренности, но не разрешают прясть их и
ткать».
/ Памфлет Свифта вызвал переполох в английском правМёлЬ-
стве. Оно назначило 300 фунтов за раскрытие авторского анонима
и предало суду издателя, но все усилия оказались бесплодными.
Несмотря на то, что судья Уитшед девять раз приказывал присяж-
ным пересмотреть свой вердикт, присяжные оправдали издателя,
и. никто не выдал Свифта.
Это была только первая зарница. Настоящая буря свифтовской
сатиры разразилась, когда английское правительство, по протек-
ции любовницы короля,не спросив ирландский парламент, отдало
подряд на чеканку разменной монеты для Ирландии авантюристу
Вуду, который рассчитывал нажить на медных полупенсах нема-
лый капитал.
: Свифт обрушился на правительство серией памфлетов, напи-
санных от лица скромного дублинского торговца. Так называемые
«Письма суконщика» написаны простейшим, убедительным, по-
нятным всем и каждому языком; доказательства развиваются неотра-
зимо логически, ясно и стройно. Свифт призывает к бойкоту непол-
ноценной монеты Вуда, разоблачает его мошеннические проделки,
возможные лишь в условиях разложившегося английского двора.
с Уже в первом памфлете —«Письмо торговцамj лавочникам,
фермерам и простым людям Ирландии о медных полупенсах, кото-
рые чеканит мистер Вуд» (A Letter to the Shopkeepers, Tradesmen, Far-
mers and Common People of Ireland, etc. by M. B. Drapier, 1724)—Свифт
метит гораздо дальше, чем в этого мелкого мошенника. Свифт го-
ворит о лордах и сквайрах, владеющих поместьями в Ирландии,
т< прижигающих, жизнь в Лондоне^ Кай средство против монеты
365'
Вуда предлагается натуральный обмен между ирландскими тор-
говцами.
Второй памфлет («Письмо мистеру, Гарлину, типографщику»)
доказывает неполноценность монеты Вуда и полемизирует с Ньюто-
ном, который, в качестве директора монетного двора, дал благо-
приятную экспертизу вудовским полупенсам. Тон становится рез-
че: «Постыдно человеку дать себя съесть живьем крысе».
В третьем письме Свифт спрашивает: «Если я свободный человек
в Англии, то разве я становлюсь рабом за шесть часов, нужных,
чтобы переплыть канал?».Политически особенно заострено послед-
нее, четвертое письмо суконщика («Письмо всему народу Ирлан-
дии»), в котором Свифт говорит о лишениях Ирландии, о том, чта
король не имеет права поработить свободный народ. Письмо за-
канчивается прямым призывом к восстанию: «Средство находится
в ваших руках, и я делаю это краткое отступление [только для того,
чтобы возбудить и поддержать проявленную вами энергию. Я дол-
жен напомнить вам, что по закону божескому вы являетесь и долж-
ны быть таким же свободным народом, как ваши братья в Англии».
Авантюра Вуда провалилась, 'правительственные репрессий
оказались безуспешными. Свифт стал необычайно популярен. Со-
здался даже специальный отряд для его охраны. Когда Уолполь
задумал арестовать Свифта, ему сказали: «Чтобы арестовать Свиф-
та, нужно десять тысяч солдат». В честь Свифта был основан «Клуб
суконщика». В письме к Попу (1737) Свифт упоминает, что когда
он проходит по улицам «тысяча поклонов и благословений встре-
чает его». По возвращении из поездки в Англию в 1726- г. Свифт
был встречен колокольным звоном. Ирландские города устраивали
ему торжественные приемы, словно принцу, по словам известного
литературоведа Лесли Стивена. Свифт стал признанным вождем
народных масс Ирландии.
Свифт-сатирик продолжал борьбу, начатую в связи с делом
Вуда, требуя независимости Ирландии в памфлетах «Краткий:
обзор положения Ирландии» (A Short View of the State of Ireland,
1727—1728), «О нынешнем горестном положении Ирландии» (The
Present Miserable State of Ireland, 1735) и других.
В знаменитом памфлете «Скромное предложение о детях
бедняков и т. д.» (A Modest Proposal For Preventing the Children
of Poor People From being a Burthen to their Parents or the
Country and For making them Beneficial to the Publick, .1729)
Свифт указывает правительству меры для облегчения нищеты
в Ирландии— надо откармливать детей бедняков на убой, оста-
вив предварительно нужное количество для размножения. Из ре-
бенка можно приготовить фрикассе или рагу под соусом, — это
даст вкусные блюда для стола дворянина-джентльмена; из кожи
ребенка можно выделывать тонкие и изящные перчатки и сапоги.
Свифт дает кулинарные советы: «Лучше покупать детей живыми и
приготовлять их мясо еще теплым, из-под ножа, как приготовляют
поросенка». Это мероприятие должно привести ко всесторонне
выгодным результатам —оно уменьшит число бедняков, поможет
366
нищим родителям, увеличит богатство!страны, повысит экспорт
солонины. Памфлет написан в бесстрастно-деловом тоне, с эконо-
мическими данными, с цифровыми выкладками, с обстоятельным
перечислением всех выгод от убоя детей.
Теккерей в своей известной лекции о Свифте с укором отмечает г
насколько далек великий сатирик от добродушия Стиля, Гольдсмита
или Фильдинга.« Могли бы Дик Стиль, или Гольдсмит, или Фильдинг
даже в самом язвительном настроении написать что-либо подоб-
ное знаменитому «Скромному предложению» Декана, где рекомен-
дуется есть детей? Каждый из этих людей смягчается при мысли
о детях, готов баловать и ласкать их. Господин Декан лишен такой
мягкости и входит в детскую веселой, поступью людоеда». С Текке-
реем перекликается Тэн, называя «каннибальской иронией» то, что-
ftm самом деле вызвано величайшим гневом против титулованных
^каннибалов.
В октябре 1726 г. вышло из печати «Путешествия в различные
отдаленные страны мира Лемюэля Гулливера, вначале хирургаг
•;9 затем капитана нескольких кораблей» (Travels into Several Re-
mote Nations of the World. By Lemuel Gulliver, First a Surgeon,
land then a Captain of several Ships). Свифт начал работать над этой1
рснигой —гениальным венцом всего его творчества —по приезде*
шз Англии в 1714 г., но вплотную принялся за нее лишь в 1719—
Н720 гг.
|- Когда это бессмертное произведение вышло в свет, Свифту
рыло 59 лет. Несмотря на все пережитые им бури и несчастья,
|ум его все еще сохранял свою мощь. А между тем Свифт стоял на*
ророге помешательства. Роковой удар нанесла ему смерть Стел-
|да в 1728 г. Свифт потерял единственного по-настоящему близкого
|человека. Участились головокружения, знакомые Свифту eûje с
Ьрности» и головные боли. Свифт понимал, что это значит. На про-
Цулке он показал однажды Эдуарду Юнгу, автору «Ночных дум»,
[засыхающий вяз, сказав: «Так же вот и я начну умирать — с
ловы».
Время от времени вновь ярко вспыхивает угасающий гений и1
здает такие произведения, как «Полное собрание изящных и
гроумных разговоров» (A Complete Collection of Genteel and Inge-
ous Conversation, etc., 1738), «Наставление слугам» (Directions*
Servants, etc., 1745) и «Клуб легиона» (The Legion Club, 1726).
Свифт ждет смерти. Еще в 1731 г. он написал сатирическую
•эму «На смерть доктора CBH(j)Ta»#(Verses on the Death of Dr. Swift,
пила в 1739 г.), где описывал, как «свет» и друзья воспримут
сть о его кончине: «Бедняга Поп погрустит с месяц; Гэй—с неделю,
, ^Арбетнот — один день... Знакомые мне дамы, чьи нежные сердца
р^учились лучше играть свою роль, выслушают эту новость с пе-
£ Чй^ьной миной: Декан умер (извините, что козыри?), тогда,—упокой
' гоедрди его душу (сударыня, я рискую прикупить)».
(Слабеет изумительная память Свифта. В 1738 г. он пишет графу
Оксфорду: «Я ни на что не гожусь, совсем оглох, очень стар и ли-
шен милости власть имущих.Мой дорогой граф, мне нужно ска-
367
зать тысячу вещей, но я tie могу упомнить ни одной из Шх>У:
В 1740г.:, э письме к своей кузине Уайтвей, Свифт пишет: «Все, что я
адогу сказать,—это то, что я еще не ощущаю пытки, но ежедневно и
ежечасно ожидаю ее. Я знаю, что мне осталось жить очень немно-
гу, — мои дни будут недолги и несчастны». Наконец, в 1742 г.
•пришлось взять Свифта под постоянный надзор —он впал
Г»слабоумие. Долгожданная смерть 7 октября 1745 г. оборвала его
{•мучения. Все свое состояние Свифт оставил на постройку дома для
умалишенных.
I ? Эпитафия на его могиле была составлена им самим: «Жестокое
(негодование не может больше терзать его сердце. Иди, путник, и,'
'если можешь, подражай ревностному поборнику мужественной
свободы».
2
: Свифт стоит обособленно от других писателей Англии, своих
современников. Он был резко противоположен господствовавшему
идейному направлению английской литературы XVIII века. Свифт
не создал своей школы, не нашел в Англии достойных наследни-
ноз. Ему был глубоко чужд компромиссный характер английского
Просвещения. Он был не удовлетворен результатами «славной»
революции. Для него борьба была еще не кончена. Свифт по
своему духу ближе всего к французским просветителям, -и не-
случайно самым талантливым его учеником был Вольтер.
,"' Свифт последовательно и беспощадно изобличает аристокра-
тию. Он зло высмеивает паразитизм и развращенность дворянства.
Трое братьев из «Сказки о бочке», подражая дворянам, «стали
делать успехи в тонком городском обращении: писали, зубо-
скалили, подбирали рифмы, болтали без толку, пели, пили, дра-
лись, развратничали, спали, ругались и нюхали* табак; ходили в
театры на первые представления; посещали кондитерские, били
сторожей, ночевали! на улице и заражались дурными болезнями;
обсчитывали лавочников и спали с их женами; избивали до смерти
полицейских, спускали с лестницы скрипачей; обедали у Локета,
бездельничали в кофейне Билля и т. д.». И эти развращенные без-
дельники еще осмеливаются претендовать на особое благородство,
ца дворянскую честь! Что же такое честь? Свифт с сарказмом опи-
сывает в «Сказке о бочке» дворянина, который «из высоких чувств
любви и чести не платит никаких долгов, кроме карточных и про-
ституткам».
т Аристократия оправдывает свое право на существование воин-
скими доблестями. Но Свифт отвергает этот довод. В памфлете «По-
ведение союзников» Свифт резко осуждал войну, которая приносит
славу и богатство полководцам и разоряет народ. В «Сказке о боч-
ке», он желчно высмеял феодала-завоевателя, который «в течение
тридцати с лишним лет забавлялся тем, что брал и терял города, раз;
С[ивал неприятельские армии и сам бывал бит; выгонял государей
из .их владений; пугал детей так, что те роняли из рук бутерброды;
жег» опустошал, грабил,-разорял постоями,: избивал подданных
Ш
и чужеземцевг друзей и врагов». В «Путешествиях Гулливера»
орисана кровопролитная распря между Лйлипутией и Блефуску,
а в беседе с Гулливером король страны великанов приходит в ужас
от описания разрушительного действия современных орудий войны
и поражается жестокости и кровожадности такого ничтожного,
насекомого, как человек.
- ^Ненависть к политическим установлениям аристократии, к
яркости и нелепости государственного устройства тогдашней
тлщт составляет характерную черту свифтовской сатиры. Боль-
ше всего внимания Свифт уделяет разоблачению гнусности совре-
Щрного ему политического строя, язвительнее всего его сатира
|рй, где он говорит о государственной машине, о развращенности
!||^нархов и их пресловутом «милосердии»: «Ничто так не устрашает
;|||род, как эти панегирики императорскому милосердию, ибо за-
|;^яено, что чем они пространнее и велеречивее, тем бесчеловечней
;|^зни и невинней жертвы»,
равительство в таком государстве становится ареной столкно-
* корыстных и грязных вожделений,оно прикрывает свою мер-
► мишурой и позолотой, но, если откинуть ложь льстецов-исто-
в, чье свидетельство подкупно, то отчетливо станет видно зло,
шое государством деспотии и продажности. «Когда я увидел
нолюдей, которые в течение прошедшего столетия пользовались
кой славой при дворах королей, —говорит Гулливер в стране
ебников, вызвавших ему толпу теней из преисподней, —то
л, в каком заблуждении держат мир продажные писаки,
исывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы—
<ам, искренность —льстецам, римскую доблесть —измен-
vi отечеству, набожность—безбожникам, целомудрие—сот
гам, правдивость —доносчикам. Я узнал, сколько невинных
восходных людей было приговорено к смерти или изгнано бла-
)я проискам могущественных министров, подкупных судей
>ьбе партий; сколько подлецов возводилось в высокие долж-
[, облекалось доверием, властью, пользовалось почетом и
мальными благами, какие дела вершили во дворцах, государ-
ных советах и сенатах сводники, проститутки, паразиты и
своей ненависти к царедворцам и фаворитам Свифт не счи-
я с правилами благопристойности; его сатира становится
тлистически грубой. Гуигнгнм рассказывает Гулливеру об
шх звероподобных людей — йэху: «В большинстве стад
есть своего рода вожаки, которые всегда являются самыми
Шрбразными и злобными из всего стада. У каждого такого вождя
ОЫвает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сход-
®Рво,гх)бязанность которого заключается в том, что он лижет ноги
Ш задницу своего господина и доставляет самок в его логовище;
в благодарность за это его время от времени награждают куском
вслиногс* мяса. Этот фаворит является предметом ненависти всего
йгада и потому, для безопасности, всегда держится возле своего
господина* Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока
. Англ. литература 369
не найдется еще худшего йэху; и едва только он удалится в
отставку, как все йэху этой области, молодые и старые, самцы и
самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают
с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это при-
ложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, мой хозяин пред-
ложил определить мне самому». «Я не осмелился, возразить что-
нибудь на эту злобную инсинуацию»,—с горькой иронией^закан-
чивает Свифт этот рассказ.
Достаточно вспомнить присягу, которую приносит Гулливеру
лилипутов, протокол обыска в его карманах (сатира на шпионаж)v
этикет, заставляющий подданных короля ,Трильдрогдриба лизать
пыль у подножия его трона, инструкцию для раскрытия заговоров-
путем исследования экскрементов заподозренных, — чтобы оце-
нить по достоинству сатиру Свифта1* Упомянутая инструкция»
дополняется указанием по расшифровке тайных знаков заговор-
щиков: бездонная бочка означает казначейство, дурацкий кол-
пак — фаворита, помойная яма —двор, ночной горшок —комитет
вельможи, гноящаяся рана—систему управления.
Свифт хорошо понимает, что надо лечить не только «гноящуюся
рану», а весь организм; что нужны коренные перемены для того>
чтобы вырвать человечество из этого хаоса крови и грязи, безум-
ства и подлости, вернуть его на дорогу разума и справедливости.
Может быть, Свифт верит в то, что с установлением чисто бур-
жуазного строя эти язвы будут излечены? Нет, он далек от веры
в буржуазный прогресс. Эпоха первоначального накопления была
слишком хорошо изучена Свифтом не по рассказам историков, а па
личным наблюдениям над истерзанной Ирландией, чтобы он мог
обольщаться на этот счет. Для этого он был слишком зорок и на-
блюдателен.
Величие Свифта—в том, что он не стал апологетом буржуа-
зии, а гениально предугадал зло, которое несет с собой царство
эгоизма и корысти, и возвысился до понимания эксплоатации че-
ловека человеком при помощи богатства: «Богатые, —писал он, —
пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче
на одного богада, и громадное большинство нашего народа вынуж-
дено влачить жалкое существование». Имущественное неравенство
порождает нищенство, воровство и грабеж.: Свифт уже почувствовал
основное противоречие капиталистического общества,— обществен-
ное производство и индивидуальное присвоение, —когда писал,что
Гулливер носит в виде одежды «на своем теле работу по крайней
мере ста человек, постройка и обстановка дома требуют еще боль-
шего числа рабочих, а чтобы нарядить жену,нужно увеличить это
число еще в пять раз».
Свифт не сделал, да и не мог сделать, всех выводов из этого про-
тиворечия. Он мог только нападать на излишества —на роскошь
и алчность буржуа, на их моральные недостатки — эгоизм, лице-
мерие, религиозное ханжество. Вырваться вполне за пределы бур-
жуазных отношений он не мог. И хотя, осуждая пороки, порождае-
мые частной собственностью, он почти догадывается, что в ней таит-
370
ся причина общественных зол, в своих выводах он останавливается
на полдороге.
Но порождения собственнического строя —эгоизм и хищни-
чество, продажность и обман —Свифт бичует беспощадно. Он
последователен в своем разоблачении буржуазии, как и в отно-
шении к дворянству. Свифт жестоко издевается над буржуазной
легендой о том, что богатство достигается трудолюбием и береж-
ливостью. Он хорошо знает, что трудами праведными богатства не
йаживешь. Недаром Гулливер, мечтая о бессмертии, высчитывает,
кто ему потребуется двести лет умеренности и бережливости для
того, чтобы стать богатым. Такой срок —явная издевка, потому что
Свифт отлично видит истоки богатства в грабеже и обмане. В стра-
не магов Гулливер любопытствовал, каким способом добываются
знатные титулы и огромные состояния. «По моей просьбе, — гово-
рит он, — было вызвано множество титулованных лиц и богачей,
и после самых поверхностных расспросов перед мной раскрылась
■такая картина бесчестья, что я не могу спокойно вспоминать об
этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому
/подобные мерзости были самыми простительными средствами из
упомянутых ими». *
Свифт не упускает из виду и другой источник обогащения, ха-
рактерный для эпохи первоначального накопления, — эксплоа-
|тацию колоний. Свифт описывает, как шайка пиратов высаживается
fl-на неизвестном им берегу. Пираты «находят там безобидных жите-
лей, оказывающих им хороший прием; дают стране новое название;
|именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или ка-
мень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины
^туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в ка-
честве образца, возвращаются на родину и получают прощение.
|Так возникает новая колония, приобретенная по божественному
|праву. При первой возможности туда посылаются корабли; тузем-
ры либо изгоняются, либо истребляются. Земля обагряется кровью
Всвоих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь
^благочестивыми делами, образует современную колонию, осно-
ванную для насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклон-
|ников» и обращения их в христианство. «Но это описание,—добав-
|ляет с сарказмом Свифт, —разумеется, не имеет никакого касатель-
ства к британской нации, которая может служить примером для
рсего мира, благодаря своей мудрости, заботливости и справедли-
вости в насаждении колоний».
1 : Образ собственника, воплощение эксплоататорского строя,Свифт
таисует в лице йэху. Озверевшие люди противопоставлены благо-
родным лошадям-гуигнгнмам. Йэху — синтез пороков общества;
Шивотного эгоизма, стяжательства, похоти^ и собственничества!.
щрш выродки, полные грязных вожделений, скаредности и ненасыт-
$МЩ алчности —жестокая карикатура на собственников-буржуа,
J?' Сатира Свифта обличает эксплоататорские классы — аристо-
j^KpaTHto и буржуазию, обличает общественный строй> созванный
господством этих классов, как царство нелепости, безумия1, грязи
24* 371
и жестокости. В «Путешествиях Гулливера» нарастает отчаяние,
вызванное зрелищем человеческой глупости и человеческих бед-
ствий и сознанием трагического бессилия вернуть логику и разум
«свихнувшемуся миру».
В поисках положительной программы Свифт хватается за ста-
рый политический идеал гуманистов — за теорию просвещенного,
гуманного монарха, окруженного талантливыми и честными
советниками. Это первый этап идейной эволюции Свифта. Здесь
Свифт идет по стопам Рабле, предвосхищая Вольтера. Он думает,
что при просвещенном монархе можно добиться блага народа
«сверху»; он винит в государственных бедах царедворцев
и фаворитов, которые «забрызгивают короля грязью, и он ока-
зывается поэтому грязнее всех» («Сказка о бочке»); он упрекает
королей за пренебрежение к талантам и добродетелям. Во вто-
рой части «Путешествий Гулливера» Свифт, подобно Рабле с его
Пантагрюэлем, создал образ коронованного великана, короля
страны Бробдингнег, который не имеет армии, ненавидит интри-
ги, издал простые законы и «все искусство управления ограни-
чивает самыми тесными рамками и требует от него только
здравого смысла, разумности, справедливости, кротости, быст-
рого решения уголовных и гражданских дел».
Свифт надеялся на просвещенного монарха и осуществление
блага народа «сверху» потому, что не считал народ такой социальной
силой, которая могла бы изменить несправедливый и мерзкий по-
рядок вещей. Независимое крестьянство—йоменри, самая здоровая,
по его мнению, часть общества, — быстро деградировало.в резуль-
тате обезземеливания, и Свифт с горечью отмечал этот процесс.
В стране волшебников Гулливер, перебрав все слои общества—
королей, вельмож и богачей, —просит вызвать,из преисподней
«английских поселян старого закала, некогда столь славных про-
стотою нравов, пищи и одежды, честностью в торговле,подлинным
свободолюбием, храбростью и любовью к отечеству... Сравнив жи-
вых с покойниками, —говорит он —я был сильно удручен при
виде того, как эти отечественные добродетели опозорены внуками,
которые, продавая свои голоса во время выборов в парламент, при-
обрели все пороки и развращенность,каким только можно научить-
ся при дворе». Йоменри, независимое крестьянство, уже не способно
играть основной роли в революции, как в XVII веке, когда оно
было главной силой Кромвеля, —Свифт это ç горечью сознает.
В последних двух частях «Путешествий; Гулливера», написан-
ных, повидимому, гораздо позже первых двух (слишком разли-
чаются обе половины книги по характеру сатиры), Свифт отказы-
вается от своей первоначальной веры в то, что просвещенный монарх
уничтожит все зло в обществе. Столкнувшись непосредственно с
освободительным движением ирландского народа и политикой
Англии в отношении ирландцев, Свифт разочаровался в теории
просвещенного абсолютизма.. Монарх-мудрец может принести поль-
зу народу, но это не радикальное средство, а кроме того —
утопия*
372
В лапутской «академии» есть школа политических прожекте-
ров —еще более безумных, чем те лапутяне, которые добывают
солнечный свет из огурцов, ткань из паутины, пищу из экскремен-
тов. «Тамошние профессора были, на мой взгляд, людьми совершен-
но рехнувшимися, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску.
Эти несчастные предлагали способы убедить монархов выбирать
себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных,
«аучить министров принимать в расчет общественное благо, на-
граждать людей достойных; талантливых, оказавших обществу
выдающиеся услуги; учить монархов познаник* их истинных инте-
ресов, которые основаны на интересах их народов; и множество
других диких и невозможных фантазий, которые никогда не за-
рождались в головах людей здравомыслящих».
Как всегда, ирония Свифта сложна и противоречива: это издев-
ка над нелепостью мира, не понимающего очевидных вещей, над
королевской властью, но в то же время — над своими собственными
надеждами, обреченными остаться химерическими, над утопией
просвещенного абсолютизма. Свифт приходит к выводу, что «без
развращенности нравов невозможно удержать королевский трон».
Сама монархия —порождение эксплоататорского общества. Нуж-
но иное.
Начиная с третьей части «Гулливера» —с «Путешествия в Ла^-
путу»,—Свифт выступает республиканцем, врагом всякого абсолю-
тизма. Он вдохновляется светлыми воспоминаниями об античной
республике. Мы снова с Гулливером в стране Глаббдобдриб —
3 царстве магов и волшебников. «Я попросил созвать римский сенат
:рг одной большой комнате, —говорит он, —и, для сравнения с
ким, современный парламент —в другой. Первый казался собра-
нием героев и полубогов, второй—сборищем разносчиков,кар-
анных воришек, грабителей и буянов».
^ С восхищением, столь редким у него, Свифт пишет о республи-
канце Бруте: «При виде Брута я проникся глубоким благогове-
нием: в каждой черте этого благородного лица нетрудно было уви-
|деть самую совершенную добродетель, величайшее бескорыстие
щ.твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелатель-
ность к людям».
|li Свидетельством окончательного поворота в отношении Свифта к
Монархии служат знаменательные слова, которыми заканчивается
|щ глава: «Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреб-
рйшшх тиранов и узурпаторов и восстановлявших свободу и по-
вранные права угнетенных народов. Но я неспособен передать вол-
новавшие меня чувства в такой форме, чтобы заинтересовать
Читателя».
Jfi «Путешествие в страну гуигнгнмов», последняя часть «Гул^
|WBepa», одновременно и утопия и пародия на утопию. Противс*
Доставляя очеловеченных лошадей одичавшим людям, Свифт хочет
создать картину «естественного состояния» общества. Он вклады*
*^т;в изображение государства лошадей свои политически^ йдеа-
Лье-т-защиту республиканского строя и призыв к патриархальному
373
натуральному хозяйству. Призыв к натуральному обмену в
«Письмах суконщика», прославление добродетели патриархального
крестьянства в третьей части «Гулливера» завершаются здесь кар-
тиной натурального хозяйства гуигнгнмов, не знающих пороков
и язв капиталистического строя.
Утопия Свифта повторяет судьбу всех других утопий XVIII
века. Но отличие его от прочих утопистов в том, что он сам видит
несбыточность этой утопии. Ему нехватает красок, чтобы восхва-
лить этот узкий, ограниченный строй'с его овсяной кашицей и от-
сутствием письменности, с сохранением частной собственности и
рабовладения, —да Свифт и не собирается это делать. Здесь боль-
ше отчаяния, чем веры. Гуигнгнмы-лошади, помыкающие людьми-
йэху, —это грозное предостережение. Вырождение человечества
неизбежно, если оно не изменит своего социального порядка. Пат-
риархальная республика на основе натурального хозяйства —то-
же химера, и Свифт это сознает. Он не может противопоставить
безумию современного ему общества реального, уверенного пути к
совершенному миропорядку, —и это доводит его до отчаяния, до
неистовой горечи в нападках на человеческую глупость и мерзость.
Английские просветители не могли не столкнуться с теми же
противоречиями буржуазного общества, возникавшего из разло-
жения феодального мира. Но они менее глубоко, чем Свифт, загля-
дывали в сущность социальных бедствий, они стремились к гармо-
ническому примирению противоречий. Человек по своей природе
добродетелен. Зло —это нечто наносное, внешнее по отношению
к природе человека; оно будет уничтожено моральной проповедью,
буржуазным прогрессом, развитием науки. Таков тезис большинства
английских просветителей.
Свифт выступает против этой ведущей теории XVIII века о есте-
ственной склонности человека к добру. Он, как и Мандевиль, не
верит в добродетельные инстинкты «естественного человека» и
считает, что от природы .человеку даны дурные наклонности, а
цивилизация, рождая богатство, усиливает и умножает пороки
человека. Недаром Свифт отчасти пародирует теорию «естественного
человека» в лице йэху; дикари заражены всеми пороками буржуаз-
ного общества, *№лоть до ненасытной жажды золота. Свифт со-
мневается в добродетели «естественного человека». В этом отношении
он оказал влияние на Вольтера. Вспомним, как Вольтер, ирони-
зируя над теорией «естественного человека» в письме к Руссо, при-
глашал его «приехать пощипать травки» и сокрушался саркасти-
чески, что ему уже «трудно разучиться ходить на двух ногах
и опуститься на четвереньки». Но, борясь против пороков бур-
жуазного прогресса, Свифт, как и Вольтер, не мог совершенно
избежать влияния теории «естественного человека», которое явно
сказывается в изображении-гуигнгнмов. Главное для Свифта —это
добродетельный разум. Вот что отличает естественных гуигнгнмов
от естественных йэху.
Впрочем, в вопросе о разуме, как и вообще во всех проблемах
просветительства, Свифт мучительно колеблется между верой и
374
«еверием, между утопией и отчаянием, переходя от одной крайности
к другой, горько издеваясь над самим собой и тем мистифици-
руя читателя.
Для Свифта разум и добродетель —одно и то же. Он проти-
-вопоставляет этому тождеству другое — порок равнозначен безу-
мию. В порочном обществе обитатели Бедлама по праву могут за-
нять высшие должности —они не более безумны, чем остальные
^«Сказка о бочке»). Разум л^ожет выступать только в неразрывном
-союзе с добродетелью, иначе он перестает быть разумом: «Развра-
щенный разум хуже какой угодно звериной тупости». Надо вернуть
►разуму его права, и только тогда может быть создан совершенный
Миропорядок. Свифт, несмотря на весь свой пессимизм, верит в
; конечную победу разума: «Разум в конце концов всегда возобладает
•над грубой силой».
> К явлениям действительности Свифт, как истинный просвети-
тель, подходит с меркой разума. Происходит переоценка ценно-
•сгей.^все то, чем люди дорожат, из-за чего дерутся в общей свалке —
золото, орденские ленты, различие религиозных обрядов и веро-
ваний, — оказывается на поверкучепухой, нелепостью» «свихнувше-
гося мира». Все это не выдерживает испытания разумом.
Особенно пустой и бессмысленной оказывается религия, ибо она
ш своему существу враждебна разуму: святая вода — рассол,
крест —просто кусок дерева, спор об обрядах—спор о том, с ка-
кого конца следует разбивать яйцо, с тупого или с острого; рели-
гиозный энтузиазм аналогичен ветрам в кишечнике. Свифт беспо-
щадно осмеивает различные ветви христианства и религиозный
фанатизм.вообще. Изображение секты «эолистов», поклоняющихся
<духу»,т.е. тем же пресловутым «ветрам», является непревзойденной
сатирой на религиозное рвение. Христианство выродилось, его
!|№ожно бы совсем уничтожить, но из-за этого могут упасть акции,
|потерпят убыток купцы («Доказательство невыгоды уничтожения
Цфистианства»). Свифт бичует ханжеское лицемерие торгашей,
||отовых ради прибыли топтать распятие («Путешествие в Лапуту»)
ж прикрывающих внешним благочестием эгоизм и стяжательство.
Щ В том, что Свифт близко подошел к атеизму, убеждают нас все
Его сатирические произведения — сравнения поповской кафедры,
риселицы и балагана, как трех великих ораторских машин (при-
дам кафедру предпочтительно делать из гнилого дерева, ибо гни-
Шшки светятся в темноте), рассуждение о секте «эолистов» и «меха-
ческой операции духа», «кощунственное» заявление, что между
Цапахом фимиама и запахом отхожего места нет принципиальной
';разницы, и т. д. и т. д.
I); Однако Свифт враждебен аристократическому атеизму. Ре-
вдгию надо очистить от грязи и глупости, сделать ее «естественной»,
Щгогда она сможет играть роль известной моральной узды. Мы
встретим у Свифта и чисто деистические мысли о боге —первичном
Деятеле вселенной, удалившемся на покой в бесконечность.
А «Любопытно, что Свифт написал «Путешествие в Лапуту» позже,
Нем четвертую часть «Гулливера»—«Путешествие к гуигнгнмам»—
375
(это с точностью установлено по его переписке), но поместил лапу-
тян перед гуигнгнмами. Чем вызвана эта перестановка? Ведь
третья часть как будто нарушает строгую логическую композицию
всего романа, являясь самым хаотическим его разделом. Свифт
ставит вопрос, может ли наука быть рычагом разумного переустрой-
ства общества.
После разочарования в теории «просвещенного абсолютизма»
такая постановка проблемы вполне логична. Но и здесь Свифта
ожидает разочарование. Прогресс науки, как и буржуазный про-
гресс, представляет собой для Свифта безотрадное зрелище. Ока-
зывается, что наука тоже не в ладах с разумом; где же ей быть ры-
чагом разумного переустройства мира? Свифт видит две крайности
в науке своего века: отвлеченную, педантическую схоластику,умо-
зрительную пустоту, с одной стороны, и фанатическое прожектер-
ство, служащее целям капиталистической наживы,—с другой.
Отрешенность от мира лапутян, с их математическими форму-
лами и криво построенными домами, и сумасбродное изобретатель-
ство «академиков»—одинаково не нужны жизни, враждебны
разуму. Такая наука не только бессильна, не только не служит
народу, она даже не ставит себе такой задачи; больше того, она
враждебна народу. Недаром у лапутян заброшенные поля и разо^-
ренный народ. Недаром народ оказывает сопротивление нелепым
замыслам новаторов. Профессора из «академии» изобрели проект
уничтожения языка и замены его демонстрированием вещей. «Это*
изобретение, благодаря его большим удобствам и пользе для здо-
ровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение,
если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не
пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их былапре-^
доставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю,—
так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом!
науки!»
Феодальная схоластика и буржуазное прожектерство не только
оказываются союзниками мракобесия (не случайно математика
лапутяне верят в астрологию), но они враждебны народу, как оплот
тирании. Чудо науки —летающий остров —используется для
угенетения страны, для подавления бунтовщиков. Наука служит
господствующим классам.
Отношение Свифта к просветительству чрезвычайно противо-
речиво. Он тоже стремится усовершенствовать общественный строй.
Но эта тенденция сталкивается у Свифта с сомнением в просвети-
тельных идеях и в возможности основать проповедью век добро-
детели и разума. Отсюда ироническое удивление Гулливера: по-
чему, — хотя уже шесть месяцев прошло со дня выхода его кни-
ги, — не положен конец злоупотреблениям и порокам и не прове-
дены в этот «вполне достаточный срок» тысячи преобразований, на
которые он рассчитывал? Разочаровавшись в науке, Свифт ощупью
приходит к тому, к чему позже пришли другие просветителиг
к чему пришли Вольтер и Гёте, — к прославлению созидающего
труда, средства исцеления человечества. «Всякий, кто вместо
376
Ъдного колоса сумеет вырастить на своем поле два, окажет чело*
вечеству и своей родине большую услугу, чем все политики,.
йместе взятые».
f Свифт выступает в первых рядах борцов против феодализма
M защитников народных масс, но ему чужда вера в буржуазный,
прогресс. Тут он отходит от просветительства, в особенности от
английского просветительства начала XVIII века. Как и Руссо,,
он резко осуждает буржуазный прогресс, но в своей положитель-
ной программе, отражая консервативную сторону мышления на-
родных масс, приходит к патриархальной утопии, тянет челове-
чество назад, ибо не видит пути вперед. Неверие в прогресс и мо-
ральную проповедь, отчаяние Свифта породили его иронию над
своими собственными просветительными идеями и глубокое про-
тиворечие между страстным и могучим отрицанием общественного
порядка и бессильными попытками найти практический путь
переустройства общества.
3
В «Путешествиях Гулливера» Свифт продолжает линию реа-
листической фантастики, созданной Возрождением. Реалистиче-
ская фантастика Возрождения пренебрегала бытовой стороной и
внешним правдоподобием, но с величайшей внутренней правдой
воплощала жизнь своего времени во всей ее широте, во всей слож-
ности и достигала глубоких обобщений. Если в «Сказке о бочке»*
чувствуется влияние Эразма Роттердамского и памфлетной лите-
ратуры Возрождения, то в «Путешествиях Гулливера» Свифт ста-
новится продолжателем гротеска Рабле.
Реалистическая фантастика Свифта дала ему возможность соз-
вать сатирические образы грандиозного обобщения, охватить дей-
ствительность во всем ее многообразии, выделить важнейшие ха-
рактерные особенности и тенденции своего времени. В сатире Свифта
фантастика и аллегория подчеркивают всеобщность высмеивае-
мых явлений, очищают их от случайных, временных, второстепен-
ных деталей.
If; У Свифта нет ненужных мелочей — он изображает типическое,
рубоко проникая в сущность описываемых им явлений; в его
ртире крайне мало бытовых подробностей; он рассматривает жизнь
сточки зрения целого —государства, общественного устройства,
■Спальных противоречий, права, идеологии. В этом отношении
Шейя Свифта резко отличается от основной линии литературы*
Шйшйекого Просвещения —бытового реализма, сосредоточив-
аете свое внимание на «частной жизни», Свифту, стоящему на ран-
ЩЕ;.;этапе Просвещения, ближе гиперболизм Рабле ю широкие го-
рШйты писателей Возрождения.
J Що Свифт — сын математического и рационалистического века
Нь^она и Декарта. Его реалистическая фантастика проникнута
Лухом рационализма. Эта богатая фантастика подчиняется1 хо-
лодному и острому рассудку.
37?-
Рабле совершеннэ не заботился о внешнем правдоподобии —
у него типические черты эпохи представали в гротескном преувели-
чении, причем гротеск этот был необычайно широк и свободен.
Если вначале рот Пантагрюэля сравнивается с голубятней, то
потом оказывается, что во рту у него могут поместиться целые го-
рода и села. Веселым смехом ответил бы Рабле на упреки в проти-
воречии и] неправдоподобии. Это его не заботило. Его гротеск
размашист и нарочито неправдоподобен. Когда в «Гаргантюа и
Пантагрюэле» мы встречаем цифры: младенцу Гаргантюа требо-
валось молоко от 17 913 коров, на штаны ему пошло 1 KtôVg лок-
тей шерстяной материи и т. д., — то все эти цифры служат просто
комически утрированной заменой слова «много».
Иное —у Свифта. Гротеск Свифта приобретает строгую точ-
ность пропорций: лилипуты точно в двенадцать раз меньше лю-
дей и относятся к ним, как дюйм к футу, люди точно в двенадцать
раз меньше великанов — бробдингнежцев. Все определяется этими
соотношениями, все размеры тщательно рассчитаны, и коммента-
торы, проверив число тюфяков, предоставленных Гулливеру в
Лилипутии, нашли/что действительно шестисот тюфяков ему было
мало и Гулливер справедливо жаловался на жесткость своей по-
стели, так как по росту ему полагалось бы 1 800 тюфяков. Эта
лротокольная точность играет двойную роль в сатире. Свифта:
она создает атмосферу кажущегося внешнего правдоподобия,
придает его сатире мнимую «научность»; с другой стороны, точ-
ное измерение в дюймах и футах несуществующих и невозможных
вещей носит явно иронический и пародийный характер.
Гротеск Свифта — рационалистичен. Фантастика его лишена
той яркости и пестроты красок, какая характерна для Рабле.
У Свифта она приобретает графическую сухость и ясность линий.
В «Сказке о бочке» композиция еще не вполне приняла рацио-
налистический вид — повествование о трех братьях постоянно
перебивается всевозможными отступлениями автсфа, сатирически-
ми размышлениями на самые различные темы. Эти отступления,
предисловия и т. д. вытеснили центральный сюжет и стали по-
длинным содержанием книги.
Отсутствие логической, рациональной композиции объясняется
исключительным богатством сатирического материала, которое
Свифт стремился вложить в свою первую книгу. Он хотел сказать
сразу обо всем, «Я публично здесь заявляю, —пишет Свифт, —
о своем решении исчерпать в этой книге полностью весь накоплен
ный мною за много лет материал. Раз уж мой фонтан открылся,
я с радостью вылью его до последней капли ради общего блага
всего человечества и на пользу моей дорогой родины в особенности».
В «Путешествиях Гулливера» композиция становится ясной,
<строго рационалистической. Она зиждется на контрастах: Гулли-
вер—лилипуты, Гулливер—великаны. Свифт как бы меняет
линзы, переходя от Лилипутии к Бробдингнегу, —меняет теле-
скоп на микроскоп. Этот переход вполне логичен и последователен
в плане общего сатирического замысла книги.
378
Композицию «Сказки о бочке» напоминает только третья часть
«Путешествий Гулливера» — «Путешествие в Лапуту»,—написанная
лозже всех остальных частей и, видимо, вобравшая в себя сатири-
ческий материал, не умещавшийся в четкие границы повестей о
Лилипутии, Бробдингнеге и гуигнгнмах. Как и в «Сказке о бочке»,
материала здесь хватило бы на несколько частей или даже целых
произведений —здесь и летающий остров, и академия прожекте-
ров, и путешествие в страну магов, вызывающих тени умерших,
и рассказ о бессмертных людях, и поездка в Японию. Эти разно-
образные, пестрые эпизоды лишены связи между собой, хотя они,
каждый по-своему, разрешают единую сатирическую тему.
Фантазия Свифта неисчерпаема. Он нигде не повторяется.
Четыре раза высаживается Гулливер на незнакомую ему землю,
и Свифт каждый раз дает этому новую мотивировку: буря, пираты,
лрогулка. Он разнообразит свою книгу элементами авантюрно-
морского романа. Авантюрно-морской роман пародируется Свиф-
том, но его мотивы прочно входят в самую ткань «Путешествий Гул-
ливера», подобно тому как пародированные Сервантесом и Рабле
мотивы рыцарского романа прочно вошли в «Гаргантюа» и «Дон
Кихота».
С большой тщательностью и последовательностью Свифт под-
готавливает читателя к появлению на страницах его|романа фан-
тастических, необычайных образов и явлений. В Лилипутии Гул-
ливер, прежде чем заснуть, удивляется низкой и наредкость шел-
ковистой траве; в Бробдингнеге его, наоборот, поражают чрез-
мерно высокие травы, необычайно широкая дорога; в стране гуигн-
гнмов его внимание обращает на себя множество следов лошадиных
копыт. Так подготовляется появление карликов, великанов и
;мудрых лошадей.
i' Аналогично поступает Свифт при сравнении Гулливера с йэху.
рЗначале ни Гулливеру, ни читателю не приходит в голову, что
режду человеком и этими отвратительными обезьяноподобными
Существами есть что-либо общее. Когда Гулливер постигает, что
различие между ним и йэху только в одежде, когда, наконец, самка
Ёэху загорается страстью к Гулливеру, тождество людей и йэху
достигает степени разоблачения, хотя это неожиданное «открытие»
Подготавливалось постепенно. В дальнейшем, Свифт прямо именует
Ююдей «йэху», а впоследствии саркастически объясняет, что йэху
шраны гуигнгнмов произошли от англичан.
К; Композиции романа соответствует и эволюция образа героя,
Шъединяющего собою все четыре путешествия. Образ Гулливера!
Шожен. Это не просто «проходное лицо», связующее воедино эпи-1
К^ы сатиры, как Кандид у Вольтера, не просто свидетель и участ-
ник событий, рассказчик, от имени которого ведется повествование.
щкцивер подчиняется ходу событий, старается приспособиться ^
|<Щзменившейся обстановке — не больше. Он не действует, а^рас-
$^дает и анализирует> стараясь постичь сущность явлений,
" Но созерцательность Гулливера действенна, ибо, хотя он не
активен, в действии, мыслит он активно. Этим Гулливер резко
379
противоположен образу практика и завоевателя Робинзона Кру-
зо, так же как он оторванного от привычных условий европейской
цивилизации. Робинзон Крузо — энергичный и волевой буржуа-
практик, овладевающий богатствами природы. Для Гулливера
же интереснее всего люди и их общественное устройство. Гулливер,
умеющий мыслить и Сочувствовать людям, способен увидеть боль-
ше, чем Робинзон. Поэтому Свифт вкладывает в уста Гулливера
много своих собственных мыслей. Но Гулливер далек от того, что-
бы быть положительным образом; его пассивность уничтожает
эту возможность.
Кроме того, Свифт меняет свое отношение к Гулливеру на
протяжении романа и нередко иронизирует над своим героем так
же, как и над своими идеалами. Свифт отмечает низкопоклонства
этого мыслящего человека перед коронованными особами, будь
то даже король Лилипутии, величиной с Гулливеров палец. В стра-
не лилипутов Человек-гора ничего не изменяет, он не использует
своей огромной силы, чтобы уничтожить несправедливость и не-
лепость устройства Лилипутии. Свифт как бы хочет этим сказать,
что, будучи великаном среди лилипутов, тоже ничего нельзя сде-
лать. Получается даже обратное: свою мощь Гулливер употреб-
ляет на чуждые истинному демократу цели. Так, например, он
вмешивается в нелепую грабительскую войну между Лйлипутией
и Блесфуску и похищает флот последней. А между тем Гулливер
является в стране лилипутов великаном не только по своему росту,
но и по духовному складу: он выше этих пигмеев, он осуждает их,
он отказывается содействовать окончательному закабалению Бле-
фуску, заявляя, что «никогда не согласится быть орудием обра-
щения в рабство храброго и свободного народа». Критическое
отношение Гулливера к государственному устройству лилипутов:
возвышает его над толпой пигмеев, в лице которых он осуждает
тогдашнюю Англию.
Однако постепенно Гулливер мельчает, проникается «лилипут-
ским духом». К концу своего пребывания в Лилипутии он способен
уже гордиться своим высоким титулом «нардака». Когда Гулливер
узнает об интриге против него и угрозе медленной смерти, у него*
возникает мысль об активной борьбе, о сопротивлении, но эта
мысль быстро гаснет. «Вспомнив присягу, данную мною императо-
ру (пусть и читатели вспомнят, в чем заключалась лилипутская
присяга: нужно было-держать правую ногу в левой руке, положив
в то же время средней палец правой руки на темя, а большой на
верхушку правого уха), все его милости ко мне и высокий титул
нардака, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением
отверг этот проект». Вот почему Человек-гора бессилен: лилипуты
снова его опутали, но не тонкими бечевками, как раньше, не фи-
зически, а духовно —феодальной мишурой, лестью, милостями,
титулами, присягой. Гулливер становится лилипутом уже в Ли-
липутии, и Человек-гора трусливо бежит от пигмеев, ибо внутрен-
не он сам переродился в пигмея.
~В~Ттране Еробдингнег соотношение меняется: по сравнению с
380
великанами Гулливер превращается в пигмея. И это опять-таки
не только физическое, но и духовное его превращение. В просве-
щенной стране великанов Гулливер обнаруживает свою узость
и консерватизм; он пытается защищать свое государство, восхва-
ляя его в беседах с королем Бробдингнега; он утрачивает тот кри-
тический разум, который возвышал его над лилипутами, и ста-*
новится сам пигмеем. Этому соответствует и жалкий облик Гул-
ливера—уже не полсотни кораблей уводит он, не героической
силой поражает мир — нет, он сражается с осами, залетевшими
р его уютную клетку прирученного животного; он доблестно уби-
рает крыс на хозяйской постели, бесстрашно прогуливается по
столу перед кошкой или в смелом единоборстве прогоняет жабу
со своей лодки, когда катается в корыте с водой. Гулливер чрез-
вычайно озабочен своей репутацией храбреца. Он безудержно
хвастает своими «герой-комическими» сражениями. Гулливер
мельчает внутренне, как и внешне.
i В последних двух частях романа Гулливер становится, наконец,
самим собою —рационалистом-скептиком, внимательным наблюда-
телем. Он теперь обычный человек среди себе подобных, но он
роумнел и научился искренне ненавидеть йэху. Воспитание героя
закончилось. Но понятно, что нельзя отождествлять Гулливера с
<его автором.
щ Сатирические приемы Свифта чрезвычайно разнообразны. Диа-
пазон его универсальной сатиры исключительно широк.
% Наиболее часто и метко Свифт поражает врага своей иронией,
ирония Свифта связана с убеждением в относительности всего,
!$оздацного человеком. Люди абсолютизировали государство, ре-
лигию, обычаи, законы, а на самом деле все это имеет весьма отно-
|дительное значение, и человеческие фетиши не выдерживают про-
верки разумом. То, что люди привыкли считать значительным,
■Юму они отдают свои помыслы и силы, оказывается на поверку
шепухой, нелепостью. Золото Гулливера в стране лилипутов счи-
тается огрэмным богатством, в стране великанов фермер слюня-
Вит палец, чтобы ухватить монету Гулливера и недоумевает, ка-
Кре значение может иметь эта крохотная золотая блестка. Один
Н$от же поступок может рассматриваться как героизм и как сума-
Вродство. «Философы правы, утверждая, что понятия великого
«малого суть понятия относительные».
И&лЙрония великого сатирика обнажает противоречия жизни,
ща глубоко реалистична и вскрывает за лицемерной поверхно-
щ№>, грязную действительность. Свифт сам, в обычной для него
Ратифицированной форме, говорит о сущности сатиры: «Искус-
ила вскрывать недостатки и выставлять напоказ слабости —за-
1рЙРие, по-моему, ни дать ни взять такое же, как срывание маски,
■jpfcвсегда считалось неприличным и в обществе, и на маскарадах»,
р большую роль в сатире Свифта играет пародия. На этом приеме
Р^Шо проследить развитие стиля свифтовской сатиры. Уже начи-
™|я с «Битвы книг», Свифт пользуется сатирической аллегррией,
рБитве книг» хорошо подходит форма «герой-комического» эпо-
381
са, заимствованная у «древних». В ней остроумно пародируется
стиль Уоттона и Бентли, но содержится также множество намеков t
понятных только узкому кругу лиц; она целиком еще стоит на
почве классицизма. В «Битве книг» нет широкого социального со-
держания; это остроумие, имеющее целью свести счеты с против-
никами, и только.
«Сказка о бочке» уже характеризуется широким социальным
содержанием, обилием сатирических тем, из которых на первом
плане стоит тема религии, весьма актуальная во времена Свифта.
Этому содержанию придана соответствующая форма. «Сказка о
бочке» по существу — блестящая пародия на евангельские притчи.
Основное содержание этой сатиры понятно и самым широким мас-
сам, но многое в ней —намеки на определенных лиц, мистифика-
торские цитаты из классиков, пародирование современных писа-
телей — было понятно только узкому кругу «wits» («остроум-
цев»), завсегдатаев лондонских кофеен. В отношении стиля «Сказ-
ка о бочке» сложное и переломное произведение. Свифт пишет и для
узкого круга знатоков, и для самой широкой аудитории.
В «Путешествиях Гулливера» нет уже латинской премудрости
и усложненной композиции «Сказки о бочке». В «Гулливере». Свифт
пародирует уже не прошлые отжившие формы искусства, а совре-
менную популярную и весьма плодовитую отрасль литературы —
авантюрно-морской роман в стиле Дефо. Он берет описания бури
и снаряжения судна из современных ему произведений и подает
их так, что описания эти звучат как пародии —столь сгущена в
них специальная терминология морских романов. Йэху у Свифта
являются пародией не только на «естественного человека», но и
на проповедника этой теории — Робинзона|Крузо. Свифт предла-
гает свою версию робинзонады. На необитаемом острове гуигнгн-
мов он поселил Робинзона и его подругу. От этой пары англичан
и произошло отвратительное племя йэху. Мало утешительного в
такой робинзонаде.
4
Свифт оказал огромное влияние на позднейших английских
реалистов-просветителей. Свифтианские мотивы проходят через
все творчество Фильдинга, достигая особенной силы в его политико-
сатирической драматургии и чв «Истории Джонатана Уайльда
Великого». Черты «свифтианства» проступают также в большин-
стве реалистических романов Смоллета, в особенности же резко —
в его сатирической «Истории атома». Высоко ценил Свифта Вильям
Годвин, ссылавшийся на автора «Путешествий Гулливера», как
на одного из своих учителей. В XIX веке Свифту многим был обя-
зан Карлейль, лучшие публицистические произведения которого
представляют собою блестящие образцы социальной сатиры.
Если не прямо, то косвенно влияние Свифта сказалось и в твор-
честве английских классических реалистов XIX века. «Книга
снобов» и «Ярмарка тщеславия» Теккерея, так же как и диккен-
совский сатирический гротеск в изображении «министерства око-
38?
личностей» в «Крошке Доррит» или канцлерского суда в «Холодном
доме», вряд ли были бы возможны без влияния Свифта.
Интересную попытку более непосредственного воскрешения
свифтовской сати рыпредставлял собою «Ируон» (1872) Сэмюэля
Бетлера, — сатирико-утопическкй роман, зло высмеивавший
английское буржувзное общество под видом фантастической
страны Ируон («Ertwhon»— анаграмма английского слова «no-
where» — нигде).
Влияние Свифта на континентальную европейскую литерату-
ру было также чрезвычайно велико. Особенно близким и понятным
должен был оказаться Свифт для французских просветителей.
Его ближайшим учеником и продолжателем во Франции был Воль-
тер, блестяще использоваЕший в своих философских повестях
метод свифтовской сатиры.
Впоследствии СЕифтовский жанр обобщающей сатиры, осно-
ванной на реалистическом использовании фантастики, нашел
гениальных продолжателей в л^це Салтыкова-Щедрина («История
одного города», «Сказки») в России и Анатоля Франса («Остров
пингвиное») во Франции.
Русским читателям Свифт стал известен еще в XVIII веке. Пер*
вый русский перевод «Путешествий Гулливера», сделанный с
французского Ерофеем Кгржавиным, вышел в 1772—1773 гг. под
названием «Путешествия Гулливеровы в Лилипут, Бродинягу, Ла-
путу, Бальнибарбы, Гуигнгмскую страну или к лошадям». Много-
кратно переводились они и в XIX веке.
В советское время «Путешествия Гулливера» вышли в новом
русском переводе в издании «Academia». Существуют также много-,
численные переводы книги Свифта на языки народов Советского
Союза: украинский, белорусский, грузинский, армянский, мол-
давский, таджикский, карельский, киргизский, еврейский»
монгольский и др. Не раз выходила в русском переводе и «Сказка
о бочке».
Большой популярностью пользовался в Советском Союзе фильм
«Новый Гулливер», основанный на мотивах свифтовской книги;
•
Глава 7
АРБЕТНОТ
Арбетнот был одним из ближайших друзей Свифта. Все.
четверо —Свифт, Поп, Гэй и Арбетнот — были связаны круж-
ком «Мартина Скриблеруса», литературными боями с журнали-
стами и писателями аддисоновского лагеря и тем, что все они
принадлежали к сторонникам ториев и были сатириками, хотя,,
'конечно, отличались друг от друга как силою сатирического да-
рования, так и степенью торийской принципиальности.
Больше других испытал влияние Свифта Джон Арбетнот (John..
Arbuthnot, 1667—1735). Он родился в деревне Арбетнот, в семье:
/ 383
сельского священника-шотландца. После окончания курса в Эбер-
динском колледже (1681—1685), где он отличался своими матема-
тическими способностями, Арбетнот переехал в Лондон. Здесь
он в течение нескольких лет преподавал математику и работал
над переводами научных трудов, в частности, выпустил перевод
книги Гюйгенса о теории вероятности.
В 1694 г. Арбетнот поступил для продолжения образования в
Оксфордский университет, неожиданно изменив математике ради
медицины. Он получил степень доктора, выдержав блестяще все
испытания в колледже Сент-Эндрьюс. Случай помог ему выдви-
нуться — ему довелось быть в Ипсоме в 1705 г., когда,там заболел
-Георг датский. Принц выздоровел, а Арбетнот стал популярен при
дворе и был назначен в 1709 г. лейб-медиком королевы. Он принял
активное участие в борьбе против вигского кабинета, и его ком-
наты во дворце часто использовались для торийских совещаний.
С падением вигов положение Арбетнота еще более укрепилось.
-К этому времени (1710—1711 гг.) относится его знакомство со
Свифтом, скоро перешедшее в дружбу*
Центральным вопросом политики ториев была борьба против
войны с Францией и ее вдохновителя Мальборо, ставленника
вигов. Вслед за «Поведением союзников» Свифта ( 1711 г.) Арбетнот
выступил против Мальборо и войны за испанское наследство с са-
мым известным из своих памфлетов —так называемой «Историей
Джона Булля». Это была, собственно, серия из пяти памфлетов.
Первый из них вышел в марте 1712 г. прд, заглавием «Закон —
это бездонная яма, что доказывается на примере лорда Струта,
Джона Булля, Николаса Фрога и Льюиса Бабуна, потративших
эсе, что они имели, на судебную тяжбу» (Laijy is a Bottomless Pitt,
Exemplified in the Case of-the Lord Strutfy John Bull, Nicholas
Frog, and Lewis Baboon, Who spent all thqy had in a Law Suit).
За этим памфлетом в том же 1712 г. последовали другие: «Джон
Булль в здравом рассудке», «Джон Булль попрежнему в здравом
рассудке», «Приложение к Джону Буллю йопрежнему в здравом
Ёассудке» и, наконец: «Льюис Бабун, старший честным, и Джон
•улль, ставший политиком». Эти памфлеты; были впоследствии
переработаны и объединены под оэщим заглавием «Истории Джона
Булля» (The History of John Bull) в издании 1727 г. В октябре
1712 г. Арбетнот издал свой второй крупный памфлет «Искусство
политической лжи» (^svôoaota поаяца, a Treatise of the Art, of
Political Lying, etc.)
По существу, этими двумя памфлетами исчерпывается наиболее
эажноэ в литературном наследстве Арбетнота. Он был очень небре-
жен по отношению к своим произведениям, печатал их анонимно и
мало заботился о своей литературной славе. Поэтому исследователи
часто не могут решить, принадлежит ли в действительности ка-
кой-либо из памфлетов, приписываемых Арбетноту, его перу,или
же написан кем-либо другим, —чаще всего Свифтом или Попом.
Помимо литературно-публицистических памфлетов, перу Ар-
бетнота принадлежит несколько научных трудов: «О пользе изуче-
384
кия математики» (An Essay on the Usefulness of Mathematical Lear-
ning, 1701), «Опыт о влиянии воздуха на человеческое тело» (An
Essay concerning the Effects of Air on Human Bodies, 1733) и дру-
гие, a также поэма «Познай себя» (fvsTt gsvoltov, Know yourself, 1734).
Время правления торийского кабинета было периодом наиболь-
шего расцвета творческих сил и политического влияния Арбет-
нота* Смерть королевы Анны и падение ториев вынудили его уехать
во Францию и там дожидаться более благоприятной политической
йогоды. По возвращении в Англию Арбетнот вновь объединяет
старых друзей, и дом его превращается в «канцелярию Мартина
Скриблеруса». Он участвует в литературных замыслах Гэя и
Попа («Три часа после свадьбы», вероятно участие в «Дунсиаде»
и пр.). Его самостоятельное творчество этого периода имеет мало
значения, если не считать «Мемуаров Мартина Скриблеруса»,
(Memoirs... of Martinus Scriblerus, 1741).
Дружба Арбетнота со Свифтом не порвалась с разлукой. Арбет-
нот поддерживает со Свифтом деятельную переписку, посылает ему
в Ирландию певцов для хора св. Патрика и помогает в издании
«Гулливера». Возможно, перу Арбетнота принадлежат памфлеты
«Рассказ о состоянии образования в империи Лилипутов» (An
Account of the State of Learning in the Empire of Lilliput, etc.,
1728) и «Критические заметки о «Путешествиях капитана Гулли-
вера», .составленные Бентли» (Critical Remarks on Capt. Gulliver's
Travels. By Doctor Bantley, 1735).
Свифт высоко ценил личные качества Арбетнота и в письме
к Попу заявил: «Если бы на свете была дюжина Арбетнотов, я
бы сжег свои Путешествия».
Основное произведение Арбетнота — «История Джона Бул-
ля» — построено на сатирической аллегории, принцип которой за-
имствован из «Сказки о бочке». Главные действующие лица этой
сатиры: лорд Струт —Испания, Льюис Бабун (Baboon— обезья-
на) — Франция, Джон Булль (Bull —бык) —Англия и Николас
Фрог (Frog —лягушка) —Голландия. Оба последних — купцы,
заинтересованные в том, Чтобы Струт продолжал у них закупки
товаров и перестал общаться со своим дедушкой — Бабуном. Они
начинают судебный процесс против Струта, поручив ведение тяжбы
стряпчему Хокусу (Hocus —надувательство), т. е. Мальборо,
который больше всего любит деньги и по слухам находятся' под
башмаком у своей жены.
•Далее излагаются, под прикрытием той же прозрачной сатири-
ческой аллегории, основные события долгой войны за испанское
наследство. Хокус обещает, что тяжба вот-вот закончится, но хотя
все решения выносятся в пользу Джона Булля, «закон —это без-
донная яма, Гарпия, все пожирающая». Хокус затягивает тяжбу
на десять лет и разоряет Джона Булля, — честного, прямодушного,'
храброго, но неуравновешенного человека, который никогда не
проверяет счетов и позволяет всем себя обкрадывать.
■ Но даже Джон Булль приходит в ужас, увидев счет, предъяв-
ленный ему Хокусом. Он решает сам стать'адвокатом, ибо это го-
^5 Англ. литература
раздо прибыльней торговли. Однако тут обнаруживаются шашни
Хокуса с женой Джона Булля (вигский парламент), вскоре уми-
рающей в опале. Джон женится вторично (торийский парламент)
на трезвой, хозяйственной помещице, которая советует ему скорее
прекратить тяжбу. После долгих перипетий, выявляющих веро-
ломство и корыстность друзей Джона, главные герои встречаются
в таверне «Приветствие» (Утрехтский мир) и приходят к доброму
согласию.
В этот центральный сюжет вставлен навеянный «Сказкой о
бочке» рассказ о матери Джона, добродетельной женщине мягкого
нрава (англиканская церковь), а также история его бедной сестры
Печ (Шотландия) и ее любовника Джека (кальвинизм).-Арбетнот
уделяет много места описанию бедственного йоложения Шот-
ландии. Этот побочный сюжет завершается примирением Джона
с сестрой (уния), которое создает почву для новых ссор.
Памфлет Арбетнота имел исключительный успех. Он утвердил
в литературе общеизвестное шутливое прозвище англичан —Джон
Булль —и вызвал много подражаний и полемических памфлетов.
Исключительные композиционные достоинства этой сатиры не
могут, однако, заслонить от нас ее ограниченности, крайнего су-
жения темы и превращения ее, несмотря на гиперболизированную
аллегорию, в простой пересказ событий. Вот почему «История Джона
Булля» стала чисто историческим документом, достоянием
литературного архива, в отличие от свифтовской «Сказки а
бочке».
Некоторые исследователи, в частности библиограф Свифта Тее-
ринк, пришли к выводу, что действительным автором «Истории
Джона Булля» был Свифт. Подражание Арбетнота Свифту несом-
ненно. Весьма вероятно, что Свифт помогал другу в работе, на-
правленной на общее дело. Но говорить, об авторстве Свифта —
мало оснований: в «Истории Джона Булля» не только нет свифтов-
ского универсализма, но нет и того негодования, той горькой и бес-
пощадной иронии, без которых Свифт перестает быть Свифтом.
Незлобивый характер юмора. Арбетнота, который биографы с уко-
ром ставят в пример Свифту, сказывается,и в этом его произве-
дении достаточно отчетливо.
Гораздо ближе к Свифту по духу «искусство политической
лжи» — сатирический трактат, определяющий политическую ложь
как «искусство убедить народ в спасительной лжи во имя какой-
либо благой цели». На ложь лучше всег<>!отвечать не правдой, а
ложью. Беда только, что главари партии сами начинают верить
в свои измышления и из-за этого попадают впросак и т. д. В этом
памфлете невозможные вещи доказываются} с такой свифтовской
логичностью, что вполне можно счесть Свифта автором или, п<*
крайней мере, соавтором «Искусства политической лжи».
«Мемуары Мартина Скриблеруса» являются плодом коллек-
тивной работы свифтовского кружка, но почти все основное на-
писано Арбетнотом, как ему и советовал Свифт: «Представить себе
Мартина в иных руках, кроме ваших, —безумие, потому что вы.
386
каждый день вносите лучшие мотивы, чем все мы вместе могли бы
придумать за целый год».
Кружок «Мартина Скриблеруса» (т. е. «Писаки») образовался
примерно с приходом ториев к власти. Свифт, Поп, Гэй, Парнель,
Конгрив, Арбетнот и другие собирались в комнатах Арбетнота &
Сент-Джемском дворце. На собраниях этих присутствовали и то-
р!йские лидеры — Гарли и другие. Целью кружка было создание
сатиры на самые различные формы педантизма и лжеучености>
воплощенные в образе Скриблеруса-Писаки. По словам Попа, они
хотели высмеять «все ложные пристрастия в науке, создав собира-
тельный образ человека, который углубляется в каждую
науку и каждую отрасль искусства, но делает это безрассудно».
Первый том «Мемуаров Мартина Скриблеруса» был опублико-
ван тслько в 1741 г.,' — через шесть лет после смерти Арбетнота, —
во втором томе прозаических произведений Попа. В «Мемуарах»
повествуется о рождении и воспитании Мартина, которому посчаст-
ливилось быть сыном ученого-антиквария. В картинках детства
Мартина многое предваряет «Тристрама Шенди» Стерна. 'Отец
Мартина, чтобы воспитать его по античному образцу, решает, что,
как Гераклу, люлькой его сыну должен служить щит. Затем сле-
дует пародия на классическое образование: на пряниках Мартина
вытиснен греческий алфавит, он играет только в греческие игры,
и одежда его представляет собою географическую карту. Мартин
становится критиком, потом изучает медицину, исследует душевный
болезни, стремится обнаружить седалище души и т. д. Под конец
он отправляется в путешествие.
С коллективным замыслом «Мартина Скриблеруса» связаны
такие произведения как «Путешествия Гулливера» Свифта и «Дун-
сиада», Попа, выросшие из отдельных частей общего плана.
Первая книга «Мемуаров», написанная Арбетнотом при участи»
Попа, являлась только начальным эпизодом этого весьма обширного
начинания, которому никогда не суждено было завершиться^
25*
ОТДЕЛ II
ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
От 40-х до 60-х годов XVIII века включительно, или, говоря
условно, от «Памелы» (1740) Ричардсона до «Гемфри Клинкера»
(1771) Смоллета, —таковы хронологические вехи зрелого периода
в развитии английского Просвещения.
В истории английской литературы этот период образует одну из
самых блестящих глав. Это было время, когда идеи просветитель-
ского гуманизма, в предшествующие десятилетия доступные лишь
более или менее узкому кругу свободомыслящих ценителей-знато-
ков, могучей волной хлынули в литературу. Просвещение, осво-
бодившись от аристократической, эзотерической замкнутости,
которая была еще свойственна ему на раннем этапе развития, стало
на несколько десятилетий безраздельно господствующим течением
в философской, литературной и культурной жизни Англии.
Стиль английского просветительского реализма окончательно
формируется в эти годы в творчестве Ричардсона, Фильдинга,
Смоллета и других представителей блестящей плеяды английских
романистов XVIII века,решительно оттесняя на второй план клас-
сицизм, с которым он сочетался еще недавно, в начале XVIII сто-
летия, в «августовском веке» английской литературы.
Роман, как жанр, позволяющий наиболее реалистически, ши-
роко и полно охватить все многообразие отношений буржуазного
общества, приобретает ведущее значение. Драма, «эссей» и другие
жанры, игравшие видную роль в литературе раннего Просвещения,
продолжают жить и развиваться, но уже перестают быть первосте-
пенными.
Высокий гуманистический пафос одухотворяет английскую
литературу этого времени. Реалистическая честность в изображе-
нии человеческих слабостей, пороков и падений сочетается у анг-
лийских демократических писателей этого периода с глубоким
уважением к заложенным в человеке «от природы» возможностям,
к человеческому разуму, воле и энергии. Именно это просветитель-
ское уважение и доверие к «человеческой природе» служит осно-
вой всепобеждающего оптимизма, столь характерного для твор-
чества большинства английских реалистов-просветителей середины
XVIII века.
Этому оптимизму, однако, приходилось выдерживать серьез-
ные испытания. Английские просветители середины XVIII века
были свидетелями многих исторических процессов и явлений, ор-
î анически связанных с принципами буржуазного развития Англии,,
но трагически противоречивших принципам просветительского гу-
манизма. Они были свидетелями обнищания широких масс англий-
ского народа, растущей коррупции государственного аппарата,,
бесславных «коммерческих» войн; некоторые из них дожили до-
войны за независимость США, когда свободная Англия выступила;
перед лицом всего мира в качестве страны-угнетательницы и по-,
терпела позорное поражение в борьбе с американскими колонистами.
Начиная с 50-х годов в английской публицистической, фило-
софской и художественной литературе появляются многочислен-
ные признаки усиливающегося внутреннего брожения. Разочаро-
вание в результатах исторического «прогресса» Англии, а сле-
довательно, и в самих идеалах просветительства сказывается в
эти годы в самых различных формах в ряде разнообразных произве-
дений.
Чрезвычайно характерным историческим документом в этом отно-
шении является нашумевшая «Оценка нравов и принципов современ-
ности» (An Estimate of the Manners and Principles of the Times, 1757—
175.8), написанная священником Джоном Брауном (John Brown,
1715—1766), Книга эта произвела на современников огромное впе-
чатление. По словам Маколея, относившегося к Брауну далеко
не сочувственно, «ее читали, удивлялись и верили ей. Автор впол-
не убеждал своих читателей, что они — племя трусов и бездель-
ников, что ничто не может спасти их, что они близки к тому, что-
бы быть порабощенными врагом, и что они вполне заслужили свою
судьбу». Браун доказывает, что видимое процветание Англии со-
провождается разложением ее моральных, общественных устоев.
«Дух свободы» совершенно исчез в правящих кругах; гражданское
единство нации г околеблено; всюду царят изнеженность, корысто-
любие и эгоизм, и причиной этого, по мнению Брауна, является
не что иное, как «чрезмерное развитие торговли и богатства».
Менее глубоким по содержанию, но не менее характерным по
своему общественному резонансу, было другое, более позднее
публицистическое выступление, относившееся уже к концу 60-х—
началу 70-х годов. Это были знаменитые «Письма Юниуса» (The
Letters of Junius), печатавшиеся в «Публичном вестнике» (The
Public Advertiser) с 1769 по 1772 г. и опубликованные отдельным
^зданием в 1772 г. Личность анонимного автора этих писем доны-
не не установлена, хотя большинство исследователей уже давно
Ьригисывает их сэру Филиппу Фрэнсису (Sir Philip Francis,
|17<0—1818). Кто бы он ни был, «Юниус» (очевидно, имевший дос-
туп в прав' тельственные круги и, может быть, к ним принадлежав-
ши) намекал, что его выступлеш е быго вызвано личными оскор-
блениями и жаждой мести; но его политическая сатира, будучи
■продиктована, может быть, и частными соображениями, развер-
нула перед читателями потрясающую картину коррупции и
бесйомсщнгсти английского правительства. В своих письмах
«Юниус» обращался поочередно к членам тогдашнего английского'
правительства, обвиняя их в беспринципности, взяточничестве^
389>
нечистоплотных должностных преступлениях, полной и безнадежной
неспособности. Свои обвинения, изложенные с необычайной поле-
мической страстностью и сарказмом, он подкреплял неожиданными
сенсационными разоблачениями. Эта серия писем-памфлетов, обра-
щенных к министрам и их приспешникам, увенчивалась самым дерз-
ким выступлением «Юниуса» — его открытым письмом к королю
Георгу III, над политикой которого он издевался самым непочти-
тельным образом.
В более сложных формах кризис просветительства проявляется
в английской философии середины XVIII века. Может быть наи-
более характерна в этом отношении деятельность Давида Юма
(David Hume, 1711—1776), крупнейшего философа зрелого Про-
свещения в Англии. В своем «Исследовании человеческого разу-
мения» (Philosophical Essays concerning Human Understanding,
1748) Юм, сохраняя унаследованное от Локка отвращение к идеа-
листической мистике, подвергает, однако, скептической переоценке
действенность и силу человеческого разума. С точки зрения фило-
софского агностицизма Юма, разум человека, оперируя «материа-
лом, доставляемым нам внешними чувствами и опытом», неспосо-
бен, однако, проникнуть в действительную сущность явлений.
Реальным руководителем человека в жизни является, по мнению
Юма, не разум, а привычка. Да и сама «человеческая природа»,
в его понимании, гораздо менее надежна, чем казалось просве-
тителям-оптимистам. Рядом иронических примеров Юм доказывает,
что единственное достоверное предсказание о поступках человека
можно сделать, исходя из всемогущества эгоистического личного
интереса, а не из принципа естественной доброты «человеческой
природы».
Эти скептические сомнения дают себя знать и в творчестве-боль-
шинства крупных английских писателей зрелого Просвещения. Позд-
ний Фильдинг, поздний Смоллет, Сэмюэль Джонсон, — не говоря о
Гольдсмите или о Стерне, творчество которых уже выходит за пре-
делы Просвещения в собственном смысле слова, — все они/каждый
по-своему, приходят к более или менее осознанной неудов-
летворенности принципами просветительства. Уже в их собствен-
ном творчестве намечается кризис просветительского реализма,
сказывающийся с еще большей очевидностью, когда в английской
литературе 60—70-х годов появляются новые течения, оппозицион-
ные к просветительству. К числу этих течений относятся сентимен-
тализм и предромантизм.
•
Глава 1
РИЧАРДСОН
В творчестве Ричардсона новому жанру реалистического
романа, «открытому» еще Даниэлем Дефо, впервые суждено было
получить всеобщее безоговорочное признание и общеевропейскую
известность.
;390
Биография Сэмюэля Ричардсона (Samuel Richardson, 1689—
1761) небогата событиями, но в своем роде очень характерна.
Детство, проведенное в дербиширской деревне, в семье отца, про-
винциального столяра; недолгое пребывание в школе, где маленький
Сэмюэль пользуется известностью среди товарищей под проз-
вищами «Серьезный» и «Важный»; долгие годы работы, сперва в
качестве подмастерья, а потом, по словам самого Ричардсона,—•
«столпа всей фирмы» лондонского издателя и книготорговца Уайль-
да; женитьба на дочери бывшего хозяина; собственное, сперва
скромное, потом все более преуспевающее типографско-издатель-
ское дело;—таковы основные вехи жизни Ричардсона. В 1754 г.
он — почтенный семьянин, добрый лондонский буржуа — занял
«столь же доходный, как и почетный» (по его словам) пост главы
издательской гильдии (Stitioners'Company) и через,несколько лет
умер в собственном доме, окруженный довольством, в сознании
добросовестно прожитой жизни.
Ричардсон не был профессиональным писателем в современном
смысле слова. Даже успех «Памелы» и «Клариссы» не смог заста-
вить его отказаться от привычной каждодневной типографской ра-
боты. Литература была для него лишь одним из многих занятий..
Профессия английского stationer в середине XVIII века была весьма
многосторонней: Ричардсону и его коллегам приходилось совмещать
в своем лице и редакторов, и издателей, и типографщиков, и книго-
продавцев. Ричардсон, как и многие другие, «присоединил» ко
всему этому профессию сочинителя.
Это произошло неожиданно, почти случайно. В 1739 г. к Ри-
чардсону обратилось двое его сотоварищей-издателей с предло-
жением—составить письмовник, откуда читатели, неопытные в
эпистолярном искусстве, могли бы заимствовать образцы писем,
приличествующих различным случаям жизни. Издания такого
рода с давних пор были широко распространены в Англии.
Ричардсон принял предложение. Среди многочисленных житей-
ских ситуаций, которых он коснулся, его особенно заинтересо-
вала одна: положение девушки-служанки, подвергающейся лю-
бовным преследованиям со стороны хозяина. Как расскажет она
об этом родителям? Что посоветуют они дочери? Так зародился
первоначальный замысел «Памелы».
Работа над письмовником скоро отодвинулась на задний план.
«Письма к близким по поводу важнейших обстоятельств, указыва-
ющие не только стиль и формы, которым надо следовать при
писании частных писем, но и справедливый и разумный образ
[Мыслей и действий в обычных случаях человеческой жизни» (Let-
ters Written to and for particular friends, etc.) появились /ишь
m январе 1741 г.,—три месяца спустя после выхода знаменитого
.первого романа Ричардсона «Памела, или вознагражденная доб-
роде!ель» (Pamela; or, Virtue Rewarded), увидевшего свет в
ноябре 1740 г. Это был роман в письмах. Имя автора даже
«е фигурировало на титульном листе. Как и впослед-
ствии в остальных своих романах, Ричардсон ограничился
391
скромной ролью «издателя» якобы подлинной переписки своих
героев.
В «ряде частных писем красивой молодой девиЦы к ее родите-
лям, публикуемых с целью развития принципов добродетели и
религии в умах молодежи обоего пола», как гласил подзаголовок
романа, читателям сообщалась назидательная история Памелы —
молоденькой горничной в богатом помещичьем доме, целомудрие
которой подвергается серьезной опасности со стороны ее хозяина,
молодого сквайра Б., безжалостно преследующего свою жертву всеми
еозможными способами, пока, наконец, ее добродетели не умиляют
его настолько, что, забыв обо всех сословных преградах, он пред-
лагает своей служанке стать его законной женой.
В трактовке самого Ричардсона история Памелы была лишена
того воинствующего демократического ^значения, какое нередка
приписывали ей позднейшие читатели и критики. Верный сын ком-
промисса 1689 г., он был убежден в законности и естественности
существующих в Англии классовых и сословных различий. В
своих взглядах на общественную жизнь он, по существу, очень
близок к прекраснодушному оптимизму шефтсберианско-болин-
броксвского типа. Все хорошо на своем месте, и все к лучшему в
сем лучшем из миров. «Кто пожелал бы быть прислугой, если бы
мог быть барином или барыней? Честные бедняки... очень полез-
ная часть мироздания».
Смирение пред:тавхяется Ричардсону наилучшим украшением
тех, кто принадлежит к этой «полезной части мироздания» г
и он щедро наделяет этой добродетелью всех своих плебейских
героер. Уже Вальтер Скотт заметил по поводу того эпизода «Па-
мелы», где отец героини, старик Эндрьюс, является к сквайру Б.,
чтобы узнать о судьбе своей без вести пропавшей дочери, что автор
романа мог бы, но не пожелал «придать характеру глубоко оскорб-
ленного крестьянина дух мужественного негодования, которого
требовали обстоятельства». Действительно, в изображении Ричард-
сона и сама Памела и ее родные столь смиренны, что видят в ее
браке со сквайром Б. небывалую награду, окупающую с лихвой все
унизительные преследования, оскорбления и беззакония, которые
ей пришлось претерпеть от своего преследователя.
И все же, каким бы филистерством и консерватизмом ни отли-
чались зачастую общественные воззрения Ричардсона, "его твор-
чество, начиная с «Памелы», быдсьдемократично в щцрдкрм смысле
слова. Нимало не стремясь к руссоистскому утверждению" все-
общего равенства людей, сохраняя приличествующее английскому
буржуа глубокое уважение к положению и рангу, он, однако,
открывает в переживаниях простой служанки столько истинного
к благородства, тонкости и глубины, сколько и не снилось е^тгнпред-
шественникам, писавшим до него о жизни и нравах рядовых анг-
личан. Его Памела, может быть, гораздо менее героичнд, чем Эми-
лия Галотти или Луиза Миллер, созданные воинстзующими демо-
кратическими писателями XVIII века— Лессингом и Шиллером.
Но и Памела умеет сознавать и беречь свое человеческое до-
392 ^
стоинство; и она живет службой и богатой внутренней
жизнью. ^^\
Успех «Памелы» был огромен. В течение первого же года после
появления романа понадобилось, не считая так называемых «пи-
ратских перепечаток», не менее пяти изданий, чтобы удовлетворить-
спрос читателей на эту столь необычайную для того времени кни-
гу. Ею восхищались общепризнанные литературные авторитеты;
сам Поп, находившийся тогда на вершине своей славы, снисходи^
тельно одобрил произведение скромного типографщика из Сити.
Некий пастор, доктор Слокок, рекомендовал ее своим прихожанам
с церковной кафедры. Аристократические дамы спешили показать
друг другу «Памелу», как последнюю модную новинку. И в то же
время тысячи рядовых читателей, порою не будучи даже в состоя-
нии различить, имеют ли они дело с вымыслом или с живым чело-
веческим документом,^проливали слезы над трогательной участью
героини, проклинали коварство развратного сквайра Б. и радо-
вались, как празднику, счастливому концу романа, где добродетели
служанки одерживали моральную победу над аристократическим
пороком^
Предприимчивые литературные дельцы поспешили восполь^
зоваться успехом нового романа. Уже весной 1741 г. в продажу
поступило анонимное продолжение «Памелы» под названием «По-
ведение Памелы в высшем свете», за которым последовал ряд ана-*
логичных поселок. Ричардсону, — вообще не умевшему, по сло-
вам одного из критиков, «во-время расставаться со своими героя-
ми», — не оставалось ничего другого, как выступить с собственным
подлинным продолжением «Памелы», что он и сделал в конце 174 Гг.,
добавив к двум томам, которыми ограничивался первоначаль-
ный текст его романа, еще два тома. Они ?аключали в себе,
как значилось на титульном листе, переписку Памелы «в ее воз-
рышенном положении с видными и знатными особами». Эти тома:
«ПаМелы» пользуются заслуженной репутацией самых скучных
произведений, когда-либо написанных Ричардсоном. Почти лишен-
ные действия, они носят преимущественно дидактический характер.
Ричардсон заставляет Памелу в пространных назидательных по-
сланиях высказывать свое мнение о воспитании детей и об управле-
нии слугами, об английском театре и итальянской опере, о спаси-
тельной роли религии и пр. Все это доставляет позднейшим истори-
кам литературы обильный материал для суждения о философских
|Й эстетических воззрениях Ричардсона, но не прибавляет ничего*
значительного к его художественному наследию.
*■: Возможно, что продолжение «Памелы» было отчасти обязано
сроей чопорностью и дидактичное!ью той критике, которую, при
#}ем их успехе, встретили первые тома романа. Нетрудно предста-
ешь себе, как должно было поразить Ричардсона обвинение в техса-
ЦЩ пороках, против которых он направ ял свой роман, обвинение-
^безнравственности! А именно в этом — прямо или косвенно,.
Шумливо или всерьез—обвиниги его авторы множества, по большей
ъШц анонимных, сатирических памфлетов и пародий, наводнив-
393.
тих книжный рынок в первые месяцы после выхода «Памелы».
Авторы «Апологии жизни миссис Шамелы Эндрьюс» (игра слов:
«sham» по-английски—притворство, фальшь), «Анти-Памелы, или
разоблаченной притворной невинности», «Истинной анти-Памелы»,
«Осужденной Памелы», «Памелы, или прелестной обманщицы»
.и других аналогичных" изданий брали под сомнение и безу-
пречную добродетельность ричардсоновской героини и нравст-
венность его книги. Неизменная рассудительность и сдержан-
ность Памелы и самая победа ее над сквайром Б. представля-
лись им результатом весьма трезвых практических расчетов
этой «юной политиканки», как именовал ее автор «Апологии
жизни миссис Шамелы Эндрьюс», приписываемой Фильдингу; а
откровенность, с какой Ричардсон отважился изобразить много-
кратные покушения сквайра Б. на честь Памелы, позволила
его критикам утверждать, что, как гласил титульный лист «Осуж-
денной Памелы», «под благовидным предлогом развития принципов
добродетели и религии в умах молодежи обоего пола» он сообщает
читателям «самые хитроумные и соблазнительные любовные идеи».
Ричардсон сделал все возможное, чтобы «реабилитировать» свою
героиню и отвести подобные обвинения от продолжения своего
романа. Но каково бы ни было возможное влияние этой полемики
на последующее творчество Ричардсона, для истории литературы
она представляет иной, особый интерес: ведь именно с этой поле-
микой связано возникновение первоначального замысла знаме-
нитого романа Фильдинга «Приключения Джозефа Энцрьюса»,
задуманного так же как пародия на «Памелу», и начало многолет-
ней литературной вражды обоих писателей.
Следующий роман Ричардсона вышел в свет после длительного
перерыза: в 1747—1748 гг. Это был огромный семитомный роман
«Кларисса, или история молодой лэди, охватывающая важнейшие
вопросы частной жизни и показывающая, в особенности, бедствия,
проистекающие из дурного поведения как родителей, так и детей в
отношении к браку» (Clarissa. Or The History of a Young Lady,
etc.). Этот роман по праву считается шедевром Ричардсона.
Новая книга Ричардсона отличалась гораздо большей глубиной
и сложностью содержания. Сложнее была и ее структура. Чтобы
поведать читателю историю Клариссы Гарлоу, - Ричардсон поль-
зуется не только письмами самой героини, как это было в «Памеле»,
но и многочисленными письмами ее родных, друзей и знакомых,
по-разному и с разных точек зрения рассказывающих об одних и
тех же событиях.
Кларисса Гарлоу, девушка из богатой буржуазной семьи, не-
давно приобщившейся к дворянству, становится предметом внима-
ния прославленного великосветского кутилы Роберта Ловласа,
Семейные раздоры, жертвою которых оказывается Кларисса, —на-
жившая, благодаря полученному ею от деда наследству, непримири-
мых врагов в лице завистливого брата и сестры,—скоро дают Лов-
ласу возможность овладеть ее доверием. С помощью обмана и
подкупа он добивается того, что Кларисса, которой угрожает на-
394
сильственный брак с ненавистным ей человеком, бежит из дома и
отдается под его покровительство. Движимый не столько любовью,
сколько самолюбием и тщеславием, Ловлас, под предлогом «испы-
тания добродетели» находящейся фактически в его власти Клариссы,
всеми спхсбами старается сделать ее своей любовницей. На-
конец, усыпив с помощью наркотического питья свою жертву, он
насилует ее.
Горе Клариссы безгранично, но воля ее не сломлена. Ей удает-
ся бежать из публичного дома, куда заключил ее Ловлас. Изму-
ченная горем и лишениями, она умирает, а через несколько меся-
дев' умирает и Ловлас, смертельно раненный на дуэли одним из
родственников Клариссы.
Беглое изложение сюжета «Клариссы» само по себе не может
дать настоящего представления о значении этого романа. На пер-
вый взгляд читателю может показаться непропорциональным
соотношение между огромными размерами произведения и его
сравнительно несложным действием, охватывающим менее одного
года. Над длиннотами «Клариссы» не раз подсмеивалась критика.
Еще Сэмюэль Джонсон, восторженный ценитель ричардсоновскйх
романов, сознавался, что тот, кто вздумает читать их ради сюжета,
должен будет повеситься от нетерпения. Ричардсона, говорил он,
«надо читать ради чувства и рассматривать сюжет лишь как повод
для чувства». Это в особенности применимо к «Клариссе». Ричард-
сон пользуется здесь всеми возможностями, заключенными в эпис~
толярной форме романа. Она позволяет ему, — как пишет он сам
в послесловии к «Клариссе»,—запечатлеть самые непосредствен-
ные переживания своих героев, оставляя, вместе с тем, широкий
простор для изображения дальнейшей рефлексии и внутренней
борьбы. Жанр эпистолярного романа обнаруживает в «Клариссе»
необычайную разносторонность: он включает в себя и письмо-опи*-
сание, и письмо-диалог, и письмо полемическое, и, прежде всего,
лирическое письмо-исповедь.
«Кларисса» имела огромный успех. Но этот успех был не сов-
сем таким, какого желал сам автор. Писатель-моралист, ценивший
нравоучительно-дидактическую сторону своих романов неизме-
римо выше, чем их художественное достоинство, Ричардсон не
без огорчения замечал, как неразумные читатели перетолковывают
на свой лад самые заветные его замыслы. Ловлас, в образе которого
он хотел раз навсегда заклеймить великосветское вольнодумство
и разврат, неожиданно покорил своим обаянием читательские
сердца, а Кларисса, добродетельная Кларисса, подверглась, как
обиженно писал Ричардсон, упрекам в чопорйости и высокомерии.
Ричардсон поспешил исправить невольно совершенную ошибку.
За «Клариссой» должен был последовать роман, который уже ни-
кому не мог бы подать повода к пренебрежению добродетелью
или восхищению пороком. Здесь следовало достигнуть полной и
Недвусмысленной определенности. Так был задуман последний и
наименее удачный роман Ричардсона — «История сэра Чарльза
Грандисона» (The History of Sir Charles Grandison, etc., 1754) —
395
история «хорошего человека», как именуется она в переписке са-
мого астора,или «Кларисса мужского пола»,как назвала ее немец-
кая почитательница Ричардсона, жена поэта Клопштока.
Это был апофеоз человеческой добродетели, какой представля-
лась она Ричардсону — добродетели чинной, благонамеренной,
благоразумной, лишенной малейшей слабости или изъяна. Ричард-
сон приложил все старания, чтобы заставить этого «хорошего че-
ловека» затмить своими несравненными качествами опасно обаятель-
ного Ловласа. Но, увы, ни «бесподобный Грандисон, который нам
наводит сон» (Пушкин), ни его достойная невеста, мисс Гарриет
Байрон, не могли — даже в глазах тогдашних читателей — срав-
ниться с Клариссой и Ловласом.
«Я могу найти у сэра Чарльза лишь один недостаток, — пи-
сала Ричардсону одна из самых восторженных его читательниц,,
мисс Донеллан, — а именно, у него нет ни одного недостатка, нет
страстей». Этого «недостатка» не могли искупить все романические
перипетии книги.
В «Грандисоне» филистерско-морализаторская тенденция одер-
жала верх над реализмом Ричардсона. На серо-дидактическом фоне
романа выделялся лишь один образ, сумевший по-настоящему тро-
нуть сердца людей XVIII века, Это была молодая итальянка, Кле-
ментина делла Порретта, влюбленная до потери рассудка в не-
сравненного Грандисона. Различие вероисповеданий препятствует
их браку< и возникающая в душе Клементины борьба между ре-
лигиозным долгом и любовной страстью, наполняет экзальтиро-
ванным пафосом сотни страниц роман'а.
Патетический «бред» безумной Клементины обладал в глазах
современников неизъяснимым очарованием. Голос неразумного,
иррационального чувства, казалось, звучал убедительнее, чем голос
добродетельного грандисоновского благоразумия. Современный
Ричардсону критик Джозеф Уортон доходил до того, что отдавал
безумию Клементины предпочтение перед безумием Лира и безу-
мием эврипидовского Ореста.
После «Грандисона» Ричардсон считал свою писательскую мис-
сию законченной. Несмотря на настояния друзей (одна из чита-
тельниц обратилась к нему с оригинальным «заказом»— написать
роман о «хорошей вдове») он не выпустил больше ни одного крупного
произведения. Тремя большими романами фактически исчерпы-
вается оставленное им литературное наследство, если не считать,
кроме указанного выше анонимного письмовника, сборника из-
бранных изречений,, заимствованных из «Памелы», «Клариссы»
и «Грандисона», да предисловия к «Эзоповым басням», статьи и
цжонсоновском «Рассеянном» и нескольких других мелких работ,
представляющих в настоящее время чисто библиографический
интерес.
Как почти все английские романисты XVIII века, Ричардсон —
прежде всего художник частной жизни. «Клариссе» он предпосы-
лает заимствованный у Ювенала латинский эпиграф, звучащий
программно: «...hominum mores tibi nosse volenti suffi ci t una do-
396
mus...» (если ты хочешь познать нравы человеческого рода, тебе
довольно и одного дома). Но в этих четырех стенах «одного дома»
Ричардсон открывает неисчерпаемые богатства образов и эмоций.
Частная жизнь, впервые становящаяся у него предметом серь-
езного художественного изображения, захватывает писателя своим
неожиданным многообразием. Автор как бы боится упустить хотя
бы мельчайшую черточку, малейшую сторону жизни своих героев.
Он не хочет пожертвовать ни одним словом, ни одним жестом, ни
одной мимолетно промелькнувшей мыслью. Если его романы раз*
растаются до таких грандиозных размеров, если в них нередки и
повторения и длинноты, то причиною этому, прежде всего», жадный
интерес их создателя к людям и жизни, ко всему,,что, говоря язы-
ком XVIII века, касается «человеческой природы».
О быте и нравах среднего англичанина и до Ричардсона в Анг-
лии XVIII века писало немало авторов — и Поп в своих сатирах и
«Похищении локона», и Аддисон и Стиль в очерках «Зрителя»
и «Болтуна», и больше, чем кто-либо, конечно, ДесрЬ, создатель
реалистического романа нового времени. Все они — каждый по-
своему — сделали многое для того, чтобы облегчить Ричардсону
его задачу. Но никто из них не мог придать изображению самых,
казалось бы, обычных явлений частного существования того дра-
матического пафоса, которым полны романы Ричардсона.
Мелкие и мельчайшие бытовые детали возбуждают в Ричардсоне
уже не только трезво-практическое, деловое внимание, какое они
вызывали у Дефо, но и глубокий эмоциональный интерес. Это новое
отношение писателя к миру сказывается в самом переходе Ричард-
сона от мемуарно-дневниковой формы романов Дефо к эпистолярной
форме. Автор «Клариссы», как и автор «Робинзона Крузо», еще
старается придать роману возможно более документальный, под-
линно-достоверный вид; он еще скрывается под маской издателя,
не вступая в открытую беседу с читателем, как это сделает Филь-
динг. Но к уменью наблюдать и описывать он прибавляет новую,
по сравнению с Дефо, способность переживать наблюдаемое!. Его
интересуют уже не только поступки людей, но и бесчисленные скры-
тые, едва уловимые движения мысли и чувства, лишь косвенно
Проявляющиеся в действии.
В своей восторженной «Похвале Ричардсону» Дидро прекрасно
охарактеризовал новаторство Ричардсона в изображении частной
ишзни: «Вы обвиняете Ричардсона в растянутости?... Думайте
рб этих подробностях, что вам угодно; но для меня они будут инте-
ресны, если они правдивы, если они выводят страсти, если они по-
казывают характеры. Вы говорите, что они обыденны; это видишь
Каждый день! Вы ошибаетесь; это — то, что каждый день происхо-
mtr перед вашими глазами, и чего вы никогда не видите».
^ В обыденном, частном существовании обычных людей своего
щщени Ричардсон действительно открывает чувства такой не-'
^бычайной глубины, душевные переживания такой тонкости* и
Ложности, какие еще недавно казались исключительной приви-
легией «высоких» героев рыцарско-пасторальных романов и тра-
397
гедий классицизма. Материал, еще недавно представлявшийся без-
надежно «низким», стал теперь у него не только предметом худог
жественного изображения, но, более того, источником нового па-
фоса и новой героики. Автору «Памелы» и «Клариссы» вероятно,
были бы понятны знаменитые слова Бальзака о разыгравшейся.
в семействе Гранде «буржуазной трагедии без яда, без кинжала,
без пролития крови, но для действующих лиц более жестокой,
чем все драмы, происшедшие в знаменитой семье Атридов».
Изображение семейных раздоров в доме Гарлоу недаром зани-
мает столько места в романе Ричардсона. Кларисса Гарлоу еще
недавно была, казалось, кумиром всей семьи, но стоило ей полу-
чить от деда наследство, намного превышавшее долю ее брата и
сестры, как все изменилось. Привычные отношения, родственная
привязанность, элементарная человечность — все отступило на
задний план перед той новой силой, которую сама Кларисса назы-
вает «столкновением интересов». Пусть стараются Гарлоу оправ-
дать свое поведение по отношению к Клариссе желанием спасти ее
от козней Ловласа, устроить ее судьбу и пр.,— ни для нее, ни для
них самих не может быть тайной, какими мотивами вызвано их
рвение. Дедовское завещание недаром фигурирует в. романе Ри-
чардсона столь же часто, как брачный контракт или вексель в ином
романе Бальзака. Не будем искать у Ричардсона сознательного
стремления разоблачить могущество буржуазного «голого интере-
са, бессердечного чистогана*», но объективно власть денег над че-
ловеком в буржуазном обществе изображена в истории семейства
Гарлоу с такой художественной силой, какая была доступна не-
многим произведениям того времени.
Одним из немногих современников, оценивших по достоинству
именно эту сторону творчества Ричардсона, был Дидро. Автор
«Племянника Рамо» — первого и единственного произведения про-
светительской литературы XVIII века, где с неумолимой гроро-
ческой силой была показана хищническо-эгоистическая подкладка
«естественного» и «общечеловеческого» буржуазного интереса —
особенно восхищается уменьем Ричардсона «различать тонкие бес-
честные мотивы, прячущиеся и скрывающиеся за другими, чест-
ными мотивами, которые спешат первыми показаться наружу»
(«Похвала Ричардсону»).
Дидро первый обратил также внимание на редкую в просве-
тительской литературе XVIII века сложность характеров, изо-
бражаемых Ричардсоном. Он восхищается «гениальностью», с ка-
кой Ричардсон сумел сочетать в Ловласе «редчайшие достоинства
с отвратительнейшими пороками, низость — с велиь одушием, глу-
бину — с легкомыслием, порывистость — с .хладноьровием, здра-
вый смысл — с безумством; гениальностью, с какой он сделал из
него негодяя, которого любишь, которым восхищаешься, которого
презираешь, который удивляет вас, в каком бы виде он ни появил-
ся, и который ни на мгновение не сохраняет одного и того же вида»-
Эта сложность характеров достигалась не простым механическим
сочетанием разнообразных и противоречивых свойств. В образе
398
Ловласа, в образе Клариссы Ричардсон сумел показать, как тесна
связаны между собой пороки и ттпйрпдАтрп^ отмщавшиеся идой.
раз проявлением ошШ и тей же чвряы человеческого харак-
тера.
«Великодушие» Ловласа, о котором говорит Дидро, нигде,,
пожалуй, не проявляется в романе так живо, как в известном эпи-
зоде с «Розочкой» (Rosebud), молодеьькой деревенской девушкой,,
у отца которой, по соседству с именьем Гарлоу, живет инкогнито.
Ловлас. Поведение, Ловласа по отношению к «Розочке» кажется
прямой противоположностью его поведению по отношению к Кла-
риссе. Он уже готов сделать хорошенькую простушку своей оче-
редной жертвой; но достаточно бабушке «Розочки» попросить Лов-
ласа пощадить ее внучку, чтобы он — хотя и скрепя сердце —
отказался от своего развратного замысла. Как согласовать это с
безжалостным преследованием Клариссы? А между тем для самого
Ричардсона поведение его героя в обоих случаях обусловлено
одним и тем же преобладающим мотивом — всепоглощающим само-
любием Ловласа. «Розочка» и ее родные дают ему понять, что счи-
тают ее счастье всецело зависящим от его власти,—и этого до-
статочно, чтобы заставить его отказаться от дальнейшей победы;.
Кларисса осмеливается противиться его обаянию, она отваживается
противопоставлять его воле — свою, и стремление к обладанию ею
превращается у Ловласа в дело принципа, где самолюбие ре-
шает все.
В свою очередь, и сияющая добродетель Клариссы несет в себе
черты фамильного порока семейства Гарлоу. Разве гордость, стоя-
щая на страже черство-эгоистических интересов ее родных, не
вдохновляет ее в борьбе за свою чистоту и духовную свободу?
«Она —тоже одна из Гарлоу», —эти слова недаром так часто по-
вторяются в романе Ричардсона.
Эпистолярная форма давала Ричардсону возможность просле-
дить неуловимые взаимодереходы добра и зла в тончайших движе-
ниях мысли и чувств его героев. Немногие романисты его време-
ни — разве только Прево и Мариво — могут сравниться с ним,
как с мастером психологического аналцза. Психологический ана-
лиз Ричардсона — это прежде всего анализ деталей, микроскопи-
чески тщательный и кропотливый.
..' Романы Ричардсона нельзя перелистывать. Чтобы оценить их
достоинства, надо, терпеливо преодолевая повторения и длинноты,
j«e боясь монотонных дидактических рассуждений, внимательно
Учитываться в каждую страницу, в каждую строчку этих массив-
ных томов.
!>.. «Чувствительность» Ричардсона и его поклонников давно стала
рредметом анекдотов. Но то, что Ричардсон заставил своих чита-
щпеи плакать над связкой ключей, которую в знак вящщей не-
1Й|лости отнимает у Клариссы ее жестокая родня, над жилетом,.
крторый вышивает Памела для сквайра Б., над оловянной посудой,
которую она украдкой пробует чистшь на кухне, чтобы испытать,
удастся ли ей справиться с новыми обязанностями, ожидающими
399
^е в бедном родительском доме, — это было необычайно ново для
того времени.
Ричардсон был реалистом-просветителем, хотя термин «про-
светитель» кажется не вполне к нему применимым. Он далек от
мысли о борьбе с существующими государственными и общественны-
ми порядками. Деизм Болинброка и Юма вызывает в нем такой тре-
петный ужас, что он заставляет полемизировать с деистами даже
своего «злодея» Ловласа. И все же в разрешении наиболее вол-
нующих его этических проблем частной жизни он исходит факти-
чески из тех же предпосылок, что и большинство английских
просветителей XVIII века. И он считает необходимым прислуши-
ваться не только к велениям религии, но и к голосу природы, —
недаром его Памела, например, выводит «божественные обязанно-
сти» матери из «естественных обязанностей»), а не наоборот. Ион,
вслед за Локком, приписывает огромное значение вопросам вос-
питания, будучи твердо убежден в возможности и необходимости
совершенствования «человеческой природы». В литературном твор-
честве и он видит могущественное средство исправления людей.
Он упорно защищает твердыни просветительского оптимизма от
иронической критики Мандевиля и пессимистической сатиры
Свифта, которого обвиняет ни больше ни меньше как в стремлении
«принизить человеческую природу за счет животной».
Все романы Ричардсона, в особенности же «Грандисон», пред-
ставляют собой, объективно, своеобразную форму «полемики» со
Свифтом. Образами Памелы, Клариссы и, в особенности, непогре-
шимого сэра Чарльза Грандисона Ричардсон словно' хочет опро-
вергнуть то пессимистическое истолкование «человеческой при-
роды», которое дал Свифт в своих «йэху». Он далек от того, чтобы
отрицать существование и активность «зла» в существующем мире;
но ни Ловласы, ни Джемсы Гарлоу, как бы охотно они ни творили
зло, не в силах, по убеждению Ричардсона, нарушить надолго
извечную гармонию бытия. Добродетель Памелы, Клариссы,
Грандисона побеждает зло уже здесь, на земле, и ничто не может
поколебать уверенности их создателя в том, что счастье и добро-
детель могут сопутствовать друг другу в этом мире, как бы ни дока-
зывал обратное ненавистный ему автор «Басни о пчелах».
Но в то же время Ричардсон вносит в английскую просветитель-
скую литературу XVIII века отсутствующие в ней обычно черты.
Как и большинство его английских современников, он склонен
развенчивать высокий гражданский героизм, восходящий к образ-
цам классической древности. Ко времени создания «Памелы» и
«Клариссы» домашние буржуазные добродетели героев «Зрителя»
и «Болтуна» уже давно вытеснили-из сердца английских чита-
телей героические доблести Катонов. Античные герои, добродете-
лями и подвигами которых вдохновляются французские просве-
тители, уже непонятны Ричардсону. В свое изображение частной
жизни и частных судеб людей своего времени он вносит, однако,
возвышенный пафос, заставляющий вспомнить о классической тра-
гедии XVII века. Характеры и события, описываемые Ричард-
400
соном, кажутся значительнее и серьезнее тех же или сходных
характеров и событий, изображаемых в жизнеописаниях Дефо,
комических эпопеях Фильдинга и авантюрно-бытовых романах
Смоллета. Они стоят дальше от каждодневной прозы, в них боль-
ше неожиданного и необычайного, они поражают не комической
гротескностью, но исключительным драматизмом. Слово «герой»
употребляется Ричардсоном в применении к его персонажам серь-
езно, без той лукаво-пародийной усмешки, которая так часто со-
провождает его у других английских романистов того времени.
Ричардсон ратовал за принципы нового буржуазного искусства
не менее усердно, чем большинство современных ему английских
писателей. И в личной переписке, и в «редакторских» комментариях
к своим романам он неизменно противопоставляет свое творчество
традициям аристократического искусства. В «Сэре Чарльзе Гран-
дисоне», например, находим любопытную критику «Принцессы
Клёвской» Лафайет. С той же точки зрения «простого здравого
смысла» критикует он устами Памелы и «Андромаху» Расина,
известную ему по переделке Амброза Филипса под названием
«Несчастная мать».
И все же никто из современных Ричардсону английских ро-
манистов не обнаруживает в своем творчестве такого тяготения
к «поэтическим тонкостям», как автор «Памелы» и «Клариссы». Уже
Вильям Хэзлит, английский критик-эссеист начала XIX века,
справедливо отмечал его близость к «галантной» литературе
XVII века.
Трудно, конечно, говорить о непосредственном влиянии клас-
сицизма на творчество Ричардсона. Известно лишь, что он высоко
ценил памятники эпистолярного искусства XVII века — письма
мадам де Севинье и Нинон де Ланкло. Но лучшие из созданных
им образов, принадлежа к совсем иному, домашнему, житейскому
кругу, проникнуты героическим пафосом, так же как и про-
славленные образы классической трагедии. Кларисса Гарлоу
проявляет в узком мещанском кругу столь же высокую мораль-
ную стойкость, что и расиновская Андромаха, судьба которой
решалась вместе с судьбами народов и государств. Недаром в
заключении «Клариссы» Ричардсон так пространно рассуж-
дает о принципах классической трагедии, сближая с этим жанром
евой роман.
jj Ричардсон-романист имеет немало точек соприкосновения и
| рыцарско-пасторальным романом. Известно, что он высоко це-
|шл Спенсера, слава которого возрождалась в тогдашней Анг-
лии; известно, что он был знаком с «Аркадией» Сиднея хотя бы на-
столько, чтобы заимствовать оттуда необычное имя своей первой
героини — Памелы. К рыцарско-пасторальным произведениям
шюго типа романы Ричардсона гораздо ближе по тону, чем к
Шфлескно-плутовскому, «низкому» жанру XVII—XVIII веков,
pro героини по-своему возвышаются над будничной обыденностью
так же, как когда-то странствующие принцессы Спенсера и бла-
городные пастушки Сиднея. Читатель не может отделаться от
^6 Англ. литература 401
подсказанного ему автором чувства, что, разливая чай, кормя
кур или проверяя хозяйственные расходы, Кларисса лишь вре-
менно «снисходит» до общения с каждодневной прозой. Ричард-
сон никогда не осмелится подвергнуть своих героинь мелким тра-
гикомическим житейским невзгодам. Им никогда не случится
свалиться с лошади подобно Софии Уэстерн, или разбить себе
нос подобно Амелии Бузе в романах Фильдинга.
Сюжеты ричардсоновских романов, освобожденные от «не-
разумной» фантастики и хаотической нестройности рыцарско-
пасторального жанра, сохраняют в себе множество романтичен
ских перипетий: похищений, переодеваний, преследований. Ме-
сто волшебников и драконов занимают теперь коварные раз-
вратники и их жестокие пособники; жизнь же остается попреж-
нему полной страшных опасностей, тревог и испытаний. Но это
постоянное ощущение глубокой серьезности и драматизма жизни»
вытекает у Ричардсона из совсем иных предпосылок.
Пафосом своего творчества Ричардсон во многом обязан пу-
ританству. Правда, к тому времени английский пуританизм исто-
рически уже пережил себя. Сам Ричардсон, вероятно, чувствовал
себя бесконечно далеким от неистовых «круглоголовых» кром-
велевской Англии, обретавших в Библии оружие для борьбы
с земными царями. Сын своего времени, он сторонился вся-
кого «энтузиазма», презирал политику, вкладывал в уста своих
героев рассуждения по поводу трактатов Локка («Памела») и при-
знавался в частных письмах, что он—не особенный охотник до
посещения церковной службы. Революционная пуританская
публицистика Мильтона претила ему, пожалуй, не меньше, чем
аристократическое вольнодумство Болинброка. И все же дух
пуританства продолжает жить в лучших произведениях Ричард-
сона — в «Памеле» и, в особенности, в «Клариссе».
Как ни измельчало английское пуританство со времен пред-
шествующего революционного столетия, оно еще сохраняло
немалое влияние в Англии. «Именно протестантские секты, ко-
торые доставляли и знамя и бойцов для борьбы против Стюартов,
выдвинули также главные боевые силы прогрессивной бур-
жуазии и еще сейчас составляют основной хребет «великой
либеральной партии» г,— писал Энгельс в 1892 г. В середине XVI11
века — как раз в годы творчества Ричардсона — пуританство,
снова возродившееся к жизни в лице меходиамд, смогло привлечь
к себе десятки и сотни тысяч английских ремесленников и кре-
стьян — трудового люда, страдавшего от буржуазных поряд-
ков новой Англии.
Сам Ричардсон был, впрочем, далек от этого массового ре-
лигиозного движения, и его произведения во многом как нельзя
, лучше иллюстрируют известные слова Энгельса о том, что со
времени компромисса 1689 г. «английский буржуа... стал соучаст-
ником в подавлении «низших сословий»,— огромной произ-
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 299.
402
водящей народной массы, — и одним из применявшихся при
этом средств было влияние религии» 1.
Религия, в целом, приобретает у Ричардсона охранительный
характер, — более того, превращается зачастую в настоящую
бухгалтерию, где человек и бог выступают как два деловых
контрагента. Памела, например, заводит для учета своих благо-
творительных дел настоящую приходо-расходную книгу под за-
головком «Скромная отплата за небесные милости».
Нигде, пожалуй, черты ханжества не сказываются у Ри-
чардсона с такой определенностью, как в его отношении к
чувственным проявлениям человеческой природы. Чувствен-
ность, с таким жизнерадостным юмором и блеском изображаемая
его современником Фильдингом, у Ричардсона находится под
запретом. Его герои, — какой бы сложностью и разносторон-
ностью ни отличалась их психологическая характеристика,—
кажутся бесплотными призраками по сравнению с полнокров-
ными, пышущими жизнью персонажами фильдинговских «коми-
ческих эпопей». Положительные герои Ричардсона как будто
стоят в стороне от «пути всякой плоти»; даже его Ловласы, и те
превращают погоню за чувственным наслаждением б своего рода
интеллектуальный спорт, в котором остроумные уловки и ухищ-
рения представляют едва ли не больший интерес, чем пресле-
дуемая ими цель.
В послесловии к «Сэру Чарльзу Грандисону» Ричардсон по-
лемизирует с реалистическими романистами фильдинговско-
смоллетовского типа, настаивающими на необходимости изобра-
жать человеческую природу такой, «как она есть». С точки зрения
Ричардсона этот принцип порочен в самой своей основе. Он
стремится «очистить» человеческую природу от всех земных
стремлений и слабостей. Вот почему возникают в его романах
Многочисленные сцены, исполненные ложнопатетическим духом
религиозного самоотречения и аскетизма: так, Памела — моло-
дая мать—хладнокровно сочиняет душеспасительные стихи над
колыбелью смертельно больного ребенка, а Кларисса собствен-
норучно составляет символические рисунки и надписи для
своего гроба.
Недоверие к чувственным проявлениям человеческой при-
роды и напряженное внимание к внутреннему душевному миру
человека, — не шевельнется ли украдкой змейка первородного
1феха? не блеснет ли спасительная искра божественной благо-
дати?— придают творчеству Ричардсона замкнутый, интроспек-
тивный характер. Еще Кольридж, сопоставляя его с Фильдин-
гом, сравнивал романы Ричардсона с душной, жарко натоплен-
ной комнатой больного, а романы Фильдинга — с лужайкой,
#де веет свежий весенний ветер.
Именно филистерско-пуритадскую, морализаторскую сторону
творчества Ричардсона еДеТгог ттредметом своих насмешек Филь-
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 299.
26* 403
динг. Уже в «Апологии жизни миссис Шамелы Эндрьюс», не
без основания приписываемой ему исследователями, он объ-
являет насквозь лицемерной ричардсоновскую проповедь бла-
горазумного воздержания и самоограничения. В «Приключениях
Джозефа Эндрьюса», где Фильдинг комически пародирует
исходную ситуацию «Памелы», ричардсоновская героиня фигу-
рирует как самодовольная и лицемерная ханжа.
Действительно, Ричардсон уже не создает образов мильто-
новских масштабов. Понятия греха и благодати мельчают,
облекаясь в формы реального буржуазного быта. Но даже и в
этом сниженном виде пафос пуританства, скрытый в творчестве
Ричардсона, все же придает его лучшим образам драматизм и
величие, исключительные в английской просветительской ли-
тературе XVIII века.
Религиозно-политические проблемы свободы и долга, греха
и спасительной благодати, волновавшие пуританскую Англию
за сто лет до Ричардсона, переводятся им на язык частной жизни.
Памела и Кларисса — протестантки в собственном смысле
слова. Борьба за внутреннюю личную независимость и за сво-
боду воли играет решающую роль в жизни ричардсоновских
героинь. Этому в особенности обязана своим глубоким драма-
тизмом история Клариссы Гарлоу.
Читатели и критики, руководствуясь обыденным, житей-
ским здравым смыслом, не раз упрекали Ричардсона в том, что
он поставил своих героинь — Памелу и особенно Клариссу —
в искусственно безвыходное, неправдоподобно отчаянное поло-
жение. Но для Ричардсона в этом кажущемся неправдоподобии
заключалась высшая правда.
Известно, с каким волнением ожидали английские читатели
выхода последних томов «Клариссы», чтобы узнать, как решится
судьба героини. Сколько письменных и устных просьб, советов,
увещаний, жалоб, даже угроз было пущено в ход, чтобы заста-
вить Ричардсона завершить роман счастливым концом! Но Ричард-
сон остался непоколебимым в своем решении. Более того, он
настаивал на том, что трагический конец «Клариссы» — по-
своему очень «счастливый» конец. Если Т1амела, как гласил
подзаголовок этого романа, олицетворяла собой, по замыслу
автора, «вознагражденную добродетель», то Кларисса пред-
ставляла собой в глазах Ричардсона добродетель тоджестцующую.
Какую бы роль ни играли в романе Ричардсона религиозные
упования на лучший, потусторонний мир, судьба его героев ре-
шалась здесь, на земле. Здесь, на земле, торжествовала добро-
детель Клариссы, здесь, на земле, терпел поражение Ловлас.
С замечательной для своего времени смелостью Ричардсон
заставляет героиню пренебречь в решении своей судьбы всеми
привычными нормами поведения. Судиться с обидчиком? «По-
править» дело законным браком? — оба пути с презрением
отвергаются Клариссой^ Когда-то бэньяновский Христиан («Путь
паломника») отверг советы мистера Светского Мудреца и услуги
404
господ Легальности и Вежливости, проживающих в деревне
Моральности. И Кларисса должна пройти через «Долину уни-
жения», прежде чем достигнуть духовного торжества. Изнаси-
лованная, опозоренная, всеми отвергнутая, она отклоняет всякий
компромисс, всякое примирение, ибо насилие не смет л© ни
осквернить ее духовной чистоты, ни сломить ее непреклонную
волю. Напрасно потрясенный Ловлас, его знатные родственники,
наконец, даже ее собственные друзья убеждают Клариссу со-
гласиться на брак с ним. Она умирает одинокая, измученная,
и все же счастливая, в гордом сознании своей внутренней сво-
боды и чистоты, незапятнанной сообщничеством с грехом.
В задуманном таким образом характере Клариссы было бес-
спорно своеобразное величие. Бальзак находил его неповто-
римым. «У Клариссы, этого прекрасного образа страстной добро-
детели, есть черты чистоты, приводящей в отчаяние», — писал
он в предисловии к «Человеческой комедии».
Настоящим реалистом выступает Ричардсон и в своем изобра-
жении темных сторон жизни. Пуританское отвращение к «греху»
еще не переходит у него в викторианскую робость и лицемер-
ную чопорность, а, напротив, — порождает стремление изо-
бразить пардки и язвы жизни во всей их наготе. Писатель
XVIII века, он говорит о всех человеческих отношениях без умол-
чаний и перифраз. Именно поэтому все его, даже второстепен-
ные, «отрицательные», «падшие» персонажи —отвратительная
сводня м-сс Джукс («Памела»), м-сс Синклер и ее сподвижницы
из публичного дома, куда обманом завлекает Ловлас Клариссу,
пьяненький пастор, готовый без зазрения совести насильно
обвенчать Гарриет Байрон с ее похитителем («Грандисон») —
предстают перед читателем не как условные символы «зла»,
а как живые характеры.
обычно Ричардсона считают отцом европейского сентимен-
тализма. Это положение нуждается в серьезных оговорках.
Правда, сентименталисты, вплоть до Руссо и молодого Гёте,
обязаны автору «Памелы» и «Клариссы» большим, чем кому
бы то ни было из своих предшественников. Юнг недаром именно
ему адресовал свое знаменитое письмо о самобытном творче-
стве — евангелие европейского сентиментализма.
Ричардсон впервые придал высокую серьезность и значи-
тельность скромным явлениям частной жизни; он впервые
сделал роман средством могущественного эмоционального воз-
действия на читателя. И именно к нему был обращен знамени-
тый в истории сентиментализма вопрос одной из читательниц
«Памелы» и «Клариссы»: что же именно значит это новое модное
словечко «сентиментальный», которое теперь у всех на языке?
Но сам Ричардсон далек от сентиментализма даже в той за-
частую непоследовательной и неразвитой форме, в какой про-
является на английской почве это течение в годы его творче-
ства. Ему чужда не только необузданность Руссо й молодого
Гёте, но и меланхолическая рефлексия Юнга и добродушное
405
дон-кихотство Гольдсмита; известно, как возмущался он Стер-
ном, находя единственное утешение в том, что писания «Йорика»
«слишком грубы, чтобы воспламенить» читателей.
Домашнее, буржуазно-житейское благоразумие остается для
Ричардсона, в отличие от сентименталистов, священным, не-
пререкаемым авторитетом. Далекий от всякого серьезного
разлада с действительной жизнью, далекий от сомнений в не-
погрешимости разума и в разумности существующего порядка
вещей, Ричардсон не разделяет с сентименталистами их
критики разума во имя чувства. Даже фильдинговская
апелляция от разума к доброму сердцу представляется ему
опасной и безнравственной. Сомнение в совершенствах
буржуазной действительности, заставлявшее Гольдсмита и
Стерна избирать своими любимыми героями новых англий-
ских дон-кихотов — наивных чудаков, подобных пастору Прим-
розу или дяде Тоби, чуждо автору «Грандисона».
Положительные герои Ричардсона могут быть всем, чем угодно,
но только не чудаками. Рассудительны и деловиты его идеальные
герои (вспомним хотя бы знаменитый «бюджет времени» Кларис-
сы, где все, начиная с дружеской беседы и кончая филантро-
пическими посещениями «бедняков», оказывается предметом
строжайшей нравственной бухгалтерии). Рассудительны и де-
ловиты на свой лад даже, его «злодеи». Ловлас вкладывает в
свои любовные интриги гораздо больше делового расчета, чем
непосредственного эмоционального порыва.
Известная похвала Джонсона знаменательна: в своих ро-
манах Ричардсон действительно «научил страсти двигаться по
приказу добродетели», — и добродетель эта была рассудочна
до мозга костей.
Достаточно вспомнить, как старается автор «Клариссы»,
пользуясь различием английских слов «to love» и «to like» («лю-
бить» и «нравиться»), избавить свою героиню от обвинения в
любви к Ловласу, как заставляет он сэра Чарльза Грандисона
со стоическим спокойствием ожидать на протяжении семитомного
романа, какая из двух возможных невест станет по воле судьбы
его нареченной женой, чтобы понять упреки, с которыми
обращались к Ричардсону даже самые восторженные его почита-
тельницы, обвиняя его в «недооценке» любовной страсти. В ответ
на один из таких упреков, исходивший от мисс Малсо, предпо-
лагаемого прототипа Гарриет Байрон из «Грандисона», если не
самой Клариссы Гарлоу, — Ричардсон, признаваясь, Чсто, по
его мнению, любовь гораздо менее благородное чувство, чем
дружба, приводит в доказательство следующий знаменательный
«простой довод»: «рассудок может господствовать в дружбе; он
не может господствовать в любви».
Ричардсон не раз досадовал на легкомыслие и упрямство
читателей, по-своему толковавших его лучшие замыслы; Его
досада, вероятно, перешла бы в негодование, знай он, какие
плоды принесло его творчество в интерпретации сентиментали-
406
стов. Нетрудно вообразить себе, с какой поспешностью отрек-
ся бы он от всякого духовного родства с авторами «Новой Элоизы»
и «Страданий юного Вертера», т,цк же, как отрекся при жизни от
автора «Тристрама Шенди». И все же не только литературная
форма интимного и эмоционального романа в письмах, но и
самые принципы свободы личности и свободы чувства были
почерпнуты сентименталистами из литературного наследия
Ричардсона.
Личность и творчество Ричардсона еще при жизни писателя
становятся предметом настоящего культа и в Англии и, в осот
бенности, на континенте. Дидро рассказывает" в своей «По-
хвале Ричардсону» о том, как путешественнику, отправившемуся
в Англию, поручали передать привет мисс Гоу и повидаться с
Бельфордом. Совершались паломничества, чтобы посмотреть на
чернильницу, из которой родилась «Кларисса». Восторженные
критики, среди которых был и Дидро, пророчили Ричардсону
бессмертную славу наравне с Гомером и Библией.
Бессмертен был Гомер; средь христиан бессмертней
Британец Ричардсон...
писал его почитатель Геллерт.
Английский сентиментальный роман XVIII века испытал на
себе, начиная со Стерна, значительное влияние Ричардсона.
Ученицами Ричардсона считали себя многочисленные англий-
ские романистки конца XVIII — начала XIX века, начиная с
Берни (Burney) и кончая Эджуорт (Edgeworth). Но в целом в
английской литературе его творчество оставило, пожалуй, менее
значительный след, чем в литературах континентальной Европы.
Именно там более передовым, воинствующе- демократическим
писателям XVIII века — Дидро, Руссо, молодому Гёте — было
близко творчество Ричардсона. Понятию неотъемлемой вну-
тренней свободы личности, в зародыше заключенному в «Памеле»
и «Клариссе», у них предстояло развиться полностью и быть
впервые поставленным в связь с вопросом о «естественных»
и гражданских правах человека.
Ричардсона очень рано узнали и оценили во Франции. Его
сочинения многократно переводились на французский язык, в
том числе — самим Прево; Вольтер подражал его «Памеле» в
своей комедии «Нанина» (1749); Дидро восхищался им; в «Мона-
хине» (1760), а, может быть, через посредство Стерна, ив «Пле-
мяннике Рамо» сказалось влияние Ричардсона. Руссо, вы-
соко ценя творчество английского романиста, написал «Новую
Элоизу» (1761) в духе ричардсоновского романа.
Широкой известностью пользовался Ричардсон и в Германии
XVIII века. Его ценил не только Геллерт, подражавший ему в
своих «Письмах шведской графини фон Г***» (1747—1748), но и
Клопшток и — одно время — Виланд. Прямо или косвенно,
через посредство Руссо, Ричардсон несомненно оказал влияние
на молодого Гёте, автора «Страданий юного Вертера» (1774).
407
В Италии Гольдони написал на сюжет «Памелы» две комедии—•
«Памела в девушках» и «Памела замужем»; первая из них до
сих пор не сходит со сцены. ^
В России все романы Ричардсона также стали известны чи-
тателям в русском переводе еще в XVIII веке. В 1787 г. была на-
печатана по-русски «Памела, или награжденная добродетель»,
в 1791 г. появилась «Достопамятная жизнь девицы Клариссы
Гарлов», а в 1793 г. вышли «Английские письма, или история
кавалера Грандиссона». Как интересный пример подражания
Ричардсону в русской литературе XVIII века можно отметить
«Российскую Памелу, или историю Марии, добродетельной
поселянки» П. Львова, вышедшую в 1789 г. Позднее Карамзин
и его школа испытали на себе живейшее влияние Ричардсона.
Знаменитое карамзинское «и крестьянки любить умеют» («Бед-
ная Лиза») было бы невозможно без влияния «Памелы». Но самым
живым памятником глубокого влияния Ричардсона на культур-
ную жизнь русского общества остается*, конечно, вечно юный
образ пушкинской Татьяны, для которой создатель «Клариссы»
был одним из «излюбленных творцов».
•
Глава 2
ФИЛЬДИНГ
1
Самым блестящим и классически-типичным представителем
английского .просветительского реализма по праву считается
Фильдинг,
Генри Фильдинг (Henry Fielding, 1707—1754) родился в
обедневшей аристократической семье. Отец его, офицер, до-
служившийся под конец жизни до чина генерал-лейтенанта, при-
надлежал к младшей ветви графского рода Денби, претендовав-
шего на родство с домом Габсбургов; Генри Фильдинг был старшим
из его двенадцати детей.
Однако, недалек от истины был Пушкин, ссылаясь на автора
«Тома Джонса», как на писателя-разночинца. «Аристократизм»
Фильдинга был номинален; вся жизнь его прошла в тяжелом,
напряженном труде. Литература рано стала для него насущно
необходимой профессией.
Получив среднее образование в Итоне — одной из самых ари-
стократических школ Англии, — Фильдинг поступил было на
филологический факультет Лейденского университета в Гол-
ландии; но скоро, повидимому, отсутствие средств заставило его
отказаться от завершения образования. Вернувшись в Англию
после двухлетнего пребывания в университете, Фильдинг, как
рассказывал впоследствии он сам, оказался перед дилеммой:
стать «наемным извозчиком или наемным писакой». Он выбрал
последнее.
<С8
Еще в 1728 г., до отъезда в Лейден, Фильдинг успел поста-
вить на сцене Дрюри-Лейнского театра свою первую комедию
«Любовь в различных масках» (Love in Several Masques). To
был чисто любительский опыт. По возвращении в Англию,
начиная с 1730 г. Фильдинг пишет для сцены одну пьесу за
другой как профессиональный драматург. Всего им было написа-
но — единолично или в сотрудничестве с другими авторами —
25 драматических произведений: фарсов, бурлесков, комедий,,
политических сатир.
Популярность Фильдинга-драматурга росла; он уже видел:
себя хозяином собственного театра, как вдруг новый закон о
театральной цензуре (Licensing act, 1737), строго ограничивший
свободу сцены, неожиданно положил конец его драматургиче-
ской карьере.
Годы драматургического творчества 1 Фильдинга составляют
очень важную главу его биографии. Именно в это время сфор-
мировались и получили проверку на практике политические
взгляды писателя, отразившиеся не только в его пьесах, но и
в его позднейших прославленных романах.
Политическая деятельность молодого Фильдинга тесно свя-
зана с историей так называемой «сельской партии» (Country party)v
«Сельская партия», называвшая себя так в противовес прави-
тельственной партии, которую она иронически именовала
«придворной» (Court party), представляла собой в 30-х годах
XVIII аека довольно пестрый антиправительственный 0лок-
Борьба с министерством Роберта Уолполя, осуществлявшим
интересы верхушки крупных поместных собственников и финан-
систов, временно стала в эти годы общей платформой и для зем-
левладельческих ториев, представленных в руководстве «сель-
ской партии» Болинброком, Маром и другими, и для части вигов,
предводительствуемой Полтнеем, Честерфильдом, Питтом стар-
шим и Литльтоном (двое последних были личными друзьями
Фильдинга).
«Сельская партия» не отличалась сплоченным единством и,
|*как показали события, последовавшие за падением министер-
ства Уолполя (февраль 1742 г.), не обладала сколько-нибудь
[Серьезной положительной программой. Она распалась, едва
Шридя к власти, как распадаются все беспринципные блоки. Но
шока она оставалась на положении антиправительственной,
оппозиционной партии, резкая критика, которой она подвер-
гала уолполевское министерство с его беспринципностью, про-
Важностью и взяточничеством, создала ей значительную попу-
лярность в широких демократических кругах. Фильдинг был
Рдним из тех, кого привлекла на сторону анти-уолполевской
оппозиции ее борьба с правительственным оппортунизмом и
poppy пцией.
1 Творчество Фильдинга-драматурга рассматривается подробно в главе<<Анг-
мйская драма XVIII века».
* 40ft
"Уже в своих первых самостоятельных фарсах и комедиях
«Фильдинг выходит из тесной области частного быта. Он многому
учится у Гэя, еще более того у Свифта. Как бы затем, чтобы
открыто заявить о своей идейной близости к Свифту, Фильдинг
прибегает к псевдониму «Скриблеруса Секундуса», намекая тем
самым на свою связь с сатирическими традициями группировав-
шегося вокруг Свифта кружка «Мартина Скриблеруса».
Постепенно нарастая, политическая сатира Фильдинга до-
стигает максимальной силы и выразительности в «Дон Кихоте
в Англии», в «Пасквине» и в «Историческом календаре на
1736год». Никогда еще на английской сцене XVIII века не высмеи-
вался так смело и зло весь государственный механизм и вся
политика правительства, как в этих комедиях Фильдинга. «Сель-
ская партия» с гордостью приветствовала молодого драма-
турга, как одного из самых блестящих своих защитников, а сам
Фильдинг демонстративно посвятил «Дон Кихота в Англии»
одному из ее вождей — Честерфильду.
В действительности, однако, политическая сатира Филь-
динга далеко не укладывалась в рамки демагогической агита-
ции «сельской партии». По мере того как внутрипарламентская
борьба, обостряясь, приближалась к неизбежной развязке,
Фильдингу, посвященному в закулисные ее перипетии, стано-
вилось все более очевидным отсутствие принципиальных раз-
личий между действительной политической программой «патрио-
тов», как с гордостью именовали себя сторонники «сельской
партии», и программой уолполевского правительства. Уже в
«Дон Кихоте в Англии», не говоря о «Пасквине» и «Историче-
ском календаре», Фильдинг, высмеивая Уолполя и его приспеш-
ников, не щадит и самих «патриотов».
Уолполевское правительство заметило и постаралось углу-
бить эту трещинку между Фильдингом-сатириком и «патриота-
ми» из оппозиции* Правительственный «Ежедневный газетчик»
(Daily Gazetteer), внушительно намекая на то, что дискреди-
тация правительства в «Пасквине» и «Историческом календаре»
заслуживала бы применения к автору методов Бастилии и «lett-
res de cachet», по-дружески предупреждал «джентльменов из
оппозиции», что может наступить момент, когда, в случае их
прихода к власти, этот «остроумный писатель» выступит и про-
тив них.
Скептическое отношение Фильдинга к гражданским доброде-
телям «патриотов», достаточно ясно просвечивавшее уже в
2го пьесах, сказалось еще более резко в 1742 г. в его памфлете
«Видение об оппозиции» (Opposition. A Vision).
Отставка Уолполя и приход к власти представителей оп-
позиции, изменив состав английского правительства, не внес-
ли сколько-нибудь существенных изменений в его политику.
«Патриоты» ограничились тем, что распределили между собой
теплые правительственные места, не выполнив ни одного из
-воих обещаний; методы правительственной коррупции, вызы-
410 *
вавшие в них столько негодования в бытность их в оппозиции;
теперь не только не были отвергнуты, но, напротив, практи-
ковались ими едва ли не с большим совершенством, чем во вре-
мена Уо лполя.
Тем, кто, подобно Фильдингу, поддерживал оппозицию в ее
борьбе с правительством не ради личных целей, суждено было
испытать немалое разочарование. Правда, Фильдинг сохранил
до конца жизни близкие отношения с Литльтоном и другими
руководителями прежней оппозиции; он даже принял несколь-
кими годами позже от министерства Пельгамов официальное
назначение на судейский пост. Но, как бы то ни было, победа
оппозиции над правительством Уолполя означала в то же время
конец прежней политической активности Фильдинга. Если в
«середине 40-х годов он и возвратился на время к политической
журналистике, то лишь под влиянием особых исторических
причин.
Попытка вторичной рестабрации Стюартов, предпринятая в
1745 г. «претендентом» Чарльзом Эдуардом, угрожала Англии
двояко: и восстановлением в стране реакционного абсолютист-
ского режима, и усилением Франции, поддерживавшей Стюар-
тов и являвшейся на протяжении всего XVIII века злейшим
конкурентом буржуазной Англии. Перед лицом якобитской
опасности Фильдинг должен был предпочесть общему врагу
даже столь гнилое и оппортунистическое правительство, как
министерство Пельгамов.. Истинное — и весьма пессимистиче-
ское — мнение Фильдинга о правительственной системе и вну-
трипарламентской борьбе партий в Англии следует, искать не
в официальных журнальных статьях середины 40-х годов, а
в его политико-сатирических пьесах и в особенности в «Джона-
тане Уайльде».
После того как закон 1737 г. о театральной цензуре прегра-
дил ему доступ на сцену, Фильдинг, в поисках иных средств
существования, обратился к юриспруденции. Нужно было
немало решимости для того, чтобы в тридцать лет, будучи уже
<>тцом семейства, снова сесть на студенческую скамью в Темпле,
куда, как правило, будущие адвокаты поступали в обучение
совсем юнцами. Фильдинг, однако, успешно превозмог все труд-
ности и в 1740 г., после трехлетнего обучения, был допущен
к адвокатской практике. Юридические занятия заинтересова-
ли его настолько, что он задумал большое сочинение о прерога-
тивах короны (так называемый Crown Law) и в предисловии к
роману своей сестры Сары Фильдинг — «Давид Симпл» (David
pimple, 1744) публично заявил о своем намерении навсегда
отказаться от литературной деятельности в пользу юриспруден^
Ьш.
Это заявление, однако, вряд ли могло быть серьезным. Ли-
тературные интересы Фильдинга не ослабевали даже в годы самых
усиленных юридических занятий. Конец 30-х и начало 40-х годов
<)Ыли для него -периодом долгих творческих исканий. Ощупью
411
выбираясь на новую дорогу, Фильдинг испробовал в эти годы
один за другим почти все популярные жанры, узаконенные тог-
дашней литературой. Он писал дидактические поэмы-послания в
духе Попа — «Об истинном величии» (Of True Greatness, 1741),
«Свобода» (Liberty, 1743) и другие; нравоописательные «эссеи»
в духе Аддисона и Стиля; фантастические сатиры в подражание
Лукиану и его позднейшим продолжателям — «Путешествие в
загробный мир» (A Journey from this World to the next, 1743).
К этому же времени относится и его большая сатирическая по-
весть «Жизнь мистера Джонатана Уайльда Великого» (The
Life of Mr. Jonathan Wild the Great), впервые опубликованная,
вместе с другими произведениями этого периода, в трехтомном
собрании «Смешанных сочинений» (Miscellanies), изданных Филь-
дингом по подписке в 1743 г.
К этому же времени относятся первые шаги Фильдинга в
области журналистики. В течение 1739—1741 гг. он издает жур-
нал «Боец» (The Champion), продолжающий традиции «Зрите-
ля». Журналистские начинания Фильдинга не имели особого
успеха, но были довольно многочисленны. В 1745 г., в разгар
якобитского восстания, Фильдинг предпринимает издание анти-
торийского «Истинного патриота» (The True Patriot, 1745—
1746), а затем, несколько позже, «Журнала якобита» (The Jaco-
bite's Journal, 1747—1748). К самым последним годам жизни
писателя относится еще одно журнальное предприятие — «Ко-
вент-гарденский журнал» (The Covent-Garden Journal, 1752).
В начале 1742 г. появилось, без имени автора, произведение,
которому суждено было сыграть роль поворотного пункта в
творчестве Фильдинга. Это была задуманная в качестве паро-
дии на «Памелу» Ричардсона, но скоро переросшая первоначаль-
ный замысел «История приключений Джозефа Эндрьюса и
его друга м-ра Абрагама Адамса» (The History of the Adventures
of Joseph Andrews and of his Friend Mr; At>raham Adams). 3a
этой первой «комической эпопеей» Фильдинга после значительного
перерыва последовала вторая, его шедевр — «История Тома Джон-
са, найденыша» (The History of Tom Jones, a Foundling, 1749),
над которой он работал долго и тщательно в продолжение
«нескольких тысяч часов».
Успех «Тома Джонса» был огромен; в течение первого же
года понадобилось, не считая «пиратских» перепечаток, не
менее четырех авторизованных изданий, чтобы удовлетворить'
читательский спрос на этот роман. Популярность, завоеванная
Фильдингом благодаря «Тому Джонсу», была так велика, что его
следующий роман «Амелия» (Amelia, 1751) был раскуплен пол-
ностью в первый же день выхода в свет.
Но даже небывалый успех «Тома Джонса» не смог обеспечить
Фильдингу материальной независимости. Приняв в 1748 г. на-
значение на пост мирового судьи в Вестминстере, он вынужден
был сохранять его за собой до конца жизни. За триста фунтов
в год «самых грязных денег на земле» он должен был отдавать
412
все свое время и свои последние, уже угасавшие силы бесконеч-
ной судебной волоките. Эта работа окончательно подорвала
здоровье Фильдинга. В 1754 г., уже смертельно больной, он
предпринял по совету врачей морское путешествие в Лиссабон,
где и умер вскоре после приезда, вдали от родины и друзей.
Эти последние месяцы жизни были описаны им в посмертном
«Дневнике путешествия в Лиссабон» (Journal of a Voyage to
Lisbon, 1755).
Жизненный путь Фильдинга был гораздо более тернист, чем
путь любого героя его «комических эпопей». Фильдингу не су-
ждено было изведать и малой доли того благополучия, которым,
как бы в виде воображаемой компенсации за собственные горе-
сти, так щедро наделил он и Джозефа Эндрьюса и Тома Джонса.
Уже самое детство писателя было омрачено семейными раздо-
рами: после смерти матери Фильдинга его отец и бабушка не-
сколько лет судились из-за того, под чьей опекой должен нахо-
диться мальчик, и будущий романист к 14 годам изведал на
себе все прелести тогдашнего английского судопроизводства. Став
профессиональным писателем, он рано познал всю горечь зави-
симости от безграмотных издателей, антрепренеров и «просве-
щенных» литературных меценатов. Самые веселые страницы
«Приключений Джозефа Эндрьюса» писались в то время, когда
на глазах Фильдинга умирали медленной смертью от нужды и
лишений его старшая дочь и жена. «Никто не наслаждался жиз-
нью так, как он; никто не имел для этого так мало оснований», —
заметила о нем его современница, лэди Мэри Уортли Монтегью.
Жизнерадостность, столь характерная, в целом, для твор-
чества Фильдинга, не была простым следствием сангвиниче-
ского темперамента, плодом беззаботного и бездумного отноше-
ния к жизни, как это нередко старались представить буржуазные
критики, в частности, например, Тэн, приписывавший автору
«Тома Джонса» нравственные свойства «добродушного буйвола».
Заразительная веселость фильдинговских «комических эпопей»
неразрывно связана с просветительской, гуманистической муд-
ростью их создателя. Искреннее сочувствие народу, глубокое
уважение к «естественному», человеческому достоинству и от-
вращение ко всяческому филистерству, лицемерию и шарла-
танству как в политической, так и в частной жизни, — вот
основа оптимистического пафоса творчества Фильдинга. Его
юмор гораздо серьезней, чем, может быть, кажется; Фильдинг
видит в нем могущественное средство борьбы с лицемерием и
ложью, так как, по его мнению, «единственным источником ис-
тинно смешного... является притворство». «Притворство, —
«ишст он, — проистекает от одной из двух следующих причин:
Тщеславия или лицемерия... Смешное возникает при разобла^
-Книи этого притворства, всегда неожиданно и приятно поражая
ругателя, причем эта неожиданность и удовольствие достигают
рольшей степени, когда притворство проистекает от лицемерия,
а Неот тщеславия, ибо более удивительно, а следовательно и
413
более смешно, обнаружить, что кто-либо представляет собой,
прямую противоположность того, чем он притворяется, чем.
установить, что у него недостаточно развиты качества, которыми
он хочет славиться». Эта мысль, подробно развитая в предисло-
вии к «Приключениям Джозефа Эндрьюса», проходит через всю-
э тетику и все художественное творчество Фильдинга.
2
Сказываясь уже в самых ранних самостоятельных пьесах
Фильдинга, «критическая сущность его мировоззрения», по»
определению английского критика-коммуниста Ральфа Фокса,,
впервые получила вполне законченное выражение в его «Джо-
натане Уайльде».
Точная датировка этой повести остается спорной. «Смешанные
сочинения» Фильдинга, в третьем томе которых она была опубли-
кована, вышли лишь в 1743 г., однако, есть все основания думать,,
что если не окончательный, то, во всяком случае, первоначаль-
ный вариант «Джонатана Уайльда» относится еще к 1741—1742 г.
Из всех больших произведений Фильдинга «Джонатан Уайльд»
ближе всего примыкает к его последним сатирическим пьесам
— «Пасквину» и , «Историческому календарю». Несмотря
на то, что Фильдинг воспользовался в ней подлинной
историей повешенного в Лондоне в 1721 г. Джонатана Уайльда,,
его книга менее всего напоминает обычный плутовской роман
или уголовную биографию. Подобно последним пьесам Фильдинга,,
эта повесть была политической сатирой исключительной смело-
сти и глубины.
Знаменателен самый выбор героя. Джонатан Уайльд ни в какой
мере не принадлежал к числу «благородных» разбойников, и
его преступления не имели ни малейшего романического оттенка.
Будучи главарем бандитской шайки, ,он не принимал личного
участия в грабежах, ограничиваясь сбытом краденого, и время
от времени выдавал правительству за денежное вознаграждение
«неугодных» ему членов шайки. По свидетельству современни-
ков, лица, не посвященные в закулисную жизнь Уайльда, в те-
чение многих лет видели в нем лишь мирного, честного и бого-
боязненного буржуа. Именно это сочетание преступности с
лицемерием и подлостью дривлекло, очевидна, к* Уайльду вни-
мание Фильдинга. Сама жизнь давала ему здесь необходимые
типические черты для сатирической характеристики действи-
тельности.
Сохраняя в своей повести основные чертщ поддидшй био-
графии Уайльда, Фильдинг, однако, меньше всего заботится о
-фактической точности или кажущейся «доподлинности» своего
изложения. Это коренное отличие художественного метода
Фильдинга от метода Дефо сказывается уже здесь, в «Джонатане
Уайльде», несмотря на его реальную историческую канву, не
менее ярко, чем впоследствии в «Джозефе Эндрьюсе» и «Томе
414
Джонсе». В то время как Дефо старается представить читатели?1
свои романы в качестве подлинных документов, где нет и доли
художественного вымысла, Фильдинг смело приносит права
историка-биографа в жертву правам художника. История Джо-
натана Уайльда интересна для него не своими действительными,
факшческими деталями, многие из которых он произвольно
изменяет или опускает; она представляет для него интерес лишь-
как удачная внешняя оболочка широко задуманной сатиры на,
всю политическую жизнь современного ему общества.
По словам самого Фильдинга, он хотел показать в своей по-
вести «не плута, а плутовство» — плутовство в самом широком
смысле слова, от мелкого уголовного плутовства карманных
воришек до политического плутовства парламентариев и минис-
тров. «Мое повествование,—пишет Фильдинг, — посвящено не
столько тому, что он (Уайльд) действительно сделал, сколько тем
поступкам, которые он мог или должен был совершить, и ко-
торые подошли бы и другим таким великим людям с таким же
успехом, как и тому лицу, чье имя носит это повествование».
Основная мысль «Джонатана Уайльда» была в той или иной
форме общим достоянием эпохи Просвещения. В Англии ее
можно было встретить в сочинениях философов и публицистов^
самых различных группировок, от Локка и Шефтсбери до Манде-
виля включительно. Это — утверждение ничтожности превоз-
носимого официальной историографией «величия» знатных «ге-
роев» — монархов и полководцев. У Фильдинга мысль эта не раз
проводилась и ранее. Этапами ее развития были, по-своему, w
бурлескная «Трагедия трагедий» (The Tragedy of Tragedies,.
1731), ирпниц^к!* героиаирявавшая карликовое «величие» Маль-
чика с пальчик, и «Путешествие в загробный мир», заставляв-
шее императора перевоплощаться в евнуха и раба.
В «Джонатане Уайльде» Фильдинг снова возвращается к
этой проблеме, ставя ее в наиболее обобщенной и наиболее иро-
нической форме. Отказываясь от обычного приема бурлёскно-
пародийного «снижения», он блестяще пользуется обратным
приемом — иронического прославления уголовных «подвигов»1
своего героя. Происхождение Уайльда также описывается
в полном соответствии со всеми правилами официальной при-
дворной историографии: «Итак, м-р Джонатан Уайльд или
Вайльд (ибо он не всегда придерживался определенного метода:
написания своего имени) происходил от великого Вульфетана1
Уайльда, прибывшего в Англию вместе сХенгистоми весьма от*
личившегося на том знаменитом пиру, где бритты были столь
предательски умерщвлены саксами; ибо когда был провоз*
глашен условленный клич: «nemet eour saxeç», «беритесь з#
мечи»,—этот джентльмен, будучи немного туг на ухо, приняв
эти слова за «nemet her sacs», «забирайте их кошельки». А потопу,
вместо того, чтобы схватить своего гостя за горло, он немед-
ленно залез к нему в карман и удовольствовался тем, что зайрал
его имущество, не причинив никакого вреда его жизни».
415
Так, исходя из антифеодальной просветительской пред-
посылки о преступности всякого «величия», основанного на
бедствиях народных масс, Фильдинг с удивительной для своего
времени смелостью провозглашает отсутствие действительных
различий между подвигами монархов и полководцев,, ваеоеваемых
придворными историографами, и подвигами любого «рыцаря»
большой дороги. В свете его сатиры бандитский притон пере-
стает отличаться от Сент-Джемского двора, а воровские ин-
триги оказываются поразительно схожими с политическими махи-
нациями премьер-министров и парламентариев. Имя Джона-
тана Уайльда и имена его соратников и соперников играют
роль Х-ов и К-ов алгебраического уравнения, за которыми может
скрываться в действительности любая политическая вели-
чина.
Был ли этой политической величиной Роберт Уолполь, как
полагает большинство комментаторов? Более, чем вероятно, что
именно его, в первую очередь, имел в виду Фильдинг, то и дело
иронически сопоставляя действия своего героя с действиями
«премьер-министра». Но политическая сатира Фильдинга имела
гораздо более обобщенный смысл. Если «Джонатан Уайльд» был
задуман и начат еще до отставки Уолполя, то окончен он был, во
всяком случае, уже после того как приход к власти «патрио-
тов» из оппозиции дал Фильдингу возможность на деле убедиться
в том, как ничтожны реальные результаты смены министерства
и парламентских партий в буржуазной Англии его времени.
Каждая страница его повести проникнута поэтому горечью по-
литического разочарования.
Фильдинга занимают не отдельные плохие министры или
плохие «патриоты»; он обращает свою сатиру против всех пар-
ламентских фракций и группировок. Пользуясь эзоповским
языком «Джонатана Уайльда», он клеймит их всех как одну
шайку разбойников, мнимые ссоры которых — лишь удобный
прием для надувания непосвященных дураков.
Блестящим образцом политико-сатирической аллегории Филь-
динга может служить знаменитая глава «О шляпах».
«Уайльд собрал к этому времени многолюдную шайку, со-
стоявшую из... распущенных праздношатающихся молодчиков,
которые, не получив никакого наследства и не обучившись ника-
кому ремеслу или профессии, желали, не работая, вести роскош-
ную жизнь. Так как у всех этих людей были различные прин-
ципы, т. е. шляпы,среди них возникали частые раздоры. В
особенности выделялись две партии, а именно те, что носили
шляпы, лихо заломленные набекрень, и те, что предпочитали...
шляпы с надвинутыми на глаза полями. Первые назывались ка-
валерами и ребятами тори-рори и т. п., вторые были из-
вестны под различными именами вроде вислоухих, круглоголо-
вых, потряси-мошной, старых Ноллей и многими другими. Между
ними происходили постоянные стычки, так что современем они сами
начали думать, что в их расхождениях есть нечто существенное,
416
и что ищересы их совершенно противоположны, тогда как в
действительности разница заключалась лишь в фасоне их шляп.
А потому Уайльд, собрав их всех в трактире..., обратился к ним
со следующей мягкой, но убедительной речью: «Джентльмены,
jviHe стыдно видеть людей, посвятивших себя столь великому и
славному начинанию, как ограбление публики, занятых такими
глупыми и мелочными раздорами... Если публика настолько
наивна, что принимает участие в ваших ссорах и отдает пред-
почтение той или другой шайке, в то время как обе нацеливаются
на ее кошельки, вы должны смеяться над ее безумством, а не
подражать ему. Может ли быть что-нибудь смехотворнее джентль-
менов, ссорящихся из-за шляп, когда среди вас нет ни одного,
чья шляпа стоила бы хоть фартинг?».
Та же мысль проводится Фильдингом и в главе о «Волнениях
в Ньюгейте». Борьба между Уайльдом и неким Роджером
Джонсоном — двумя претендентами на пост главаря заключен-
ных— вызывает в тюрьме не меньшие волнения, чем любые
парламентские выборы или смена министерства, и сопровождается
столь же внушительными процедурами. Но победа Уайльда над
его соперником, позволяющая ему облачиться в отобранный у
Джонсона халат, жилет и ночной колпак — эти высокие символы
рласти, —столь же мало улучшает положение рядовых заклю-
ченных, как мало облегчает положение народа вытеснение од-
ного парламентского большинства другим. Самой печальной
оказывается судьба должников, которые, в отличие от содержа-
щихся с ними в одной тюрьме уголовных преступников, не имеют
никаких надежд на освобождение или на улучшение своей участи.
Рассказывая о них, Фильдинг явно намекает на политически бес-
правные массы английского населения, за счет которых вели
свое паразитическое существование парламентарии любых оттен-
ков— от ториев до вигов включительно.
В «Джонатане Уайльде» Фильдинг многим обязан своим
ближайшим предшественникам — Мандевилю и Свифту.
В самом замысле этой политической сатиры Фильдинга чув-
ствуется прямое влияние свифтовской «Сказки о бочке», «Путе-
шествий Гулливера» и, в особенности, мандевилевской «Басни о
пчелах». Лежащее в основе «Джонатана Уайльда» представле-
ние о всеобщем плутовстве, проникающем во все слои общества,
начиная с карманников и бандитов и кончая министрами
&зштью, непосредственно восходит, вероятно, к знаменитому
памфлету Мандевиля.
Но в то же время мировоззрение Фильдинга уже в этой
'ранней книге существенно расходится с системой взглядов Манде-
филя. Восприняв многие стороны мандевилевского учения, Филь-
динг сделал из него компромиссные вывода По своему
идейно-философскому смыслу «Жизнь Джонатана Уайльда» пред-
ставляла собой своеобразную попытку соединить критику бур-
жуазно-аристократического строя с «оптимистическим» его оправ-
Даадем, — попытку «примирить» Мандевиля с Шефтсбери.
27 Англ- литература 417
Не жалея самых ядовитых иронических образов для изобра-
жения политической жизни страны, Фильдинг, в отличие от
Мандевилят отказывается распространить свше критику на част-
ную жизнь буржуазной Англии. Типичное для ясего буржуаз-
ного общества «противоречие, в котором ... находятся член
гражданского общества и его политическая шку^а льва»1, при-
нимает у Фильдинга типично английскую форму противопоставле-
ния частной жизни—жизни политической. В то время как
Иандевиль в самом названии своей книги («Басня о пчелах,
или частные пороки — общественная выгода») подчеркивал,
что «блага» буржуазного общества необходимо зиждятся на
чз£тцых щцшках, Фильдинг, в соответствии с общим духом анг-
лийского Просвещения, указывает на частную жизнь, как на-,
тихую пристань, дающую спасительное убежище от пороков -I,
и преступлений жизни политической.
Если в образе Джонатана Уайльда Фильдинг сконцентриро-
вал свое отвращение к несправедливости, лжи и лицемерию по-
литического строя тогдашней буржуазной Англии, то в проти-
востоящем ему образе добродетельного купца-ювелира Томаса
Хартфри выразилось преклонение автора перед «величием» част-
ной деятельности буржуа. Именно жизнь и деятельность
Хартфри, заурядного «честного» купца, доверчивого друга,
доброго семьянина и искреннего христианина, едва не ставшего
жертвой мошеннической интриги Уайльда, служит в глазах
Фильдинга образцом того самого «истинного величия», которое
он иронически,тоном восторженного историка, приписывает Уайль-
ду. Умилительным зрелищем тихого семейного счастья Хартфри
заканчивается повесть, начавшаяся с такой желчной сатиры на
политическую жизнь Англии.
Разрешение противоречий политической жизни всецело пе-
реносится писателем, е область частного существования. Мораль-
ное само усовершенствование личности в узкой сфере частной,
внеполитической жизни—таков ответ Фильдинга на нарисо-
ванную им же самим картину вопиющего общественного не-
равенства и злоупотреблений.
Так самой внутренней логикой «Джонатана Уайльда» было
намечено общее направление перехода от политической сатиры
к «ком!*ческему эпосу» частной-жизни, от идеальных абстрак-
ций — к бытовой конкретности,— перехода, определяющего раз-
витие дальнейшего творчества Фильдинга. Так складывался реа-
лизм «ДжозефаЗцдрьюса» и «Тома Джонса»,— тот реализм, кото-
рый неразрывно связан с именем Фильдинга.
3
«Комический эпос» Фильдинга, как определил свой жанр он
сам в предисловии к «Джозефу Эндрьюсу», имел, конечно, своих
предшественников.
—~а*-
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. J, стр. 363.
418
Творчество Фильдинга, как и вся литература Просвещения,
особенно многим обязано плутовскому роману. Этот жанр, корни
которого уходят вглубь эпохи Возрождения (первый классиче-
ский образец плутовского романа, знаменитый «Ласарильо с
Тормеса», вышел в 1554 г.), служит как бы провозвестником реа-
листического буржуазного романа нового времени. Рожденный
в бурное и смутное время разложения феодализма и возникно-
вения новых буржуазных отношений, плутовской роман отразил
в себе всю пестроту «фальстафовского фона» тогдашней обществен-
ной жизни. На его страницах нашли место те «поразительно
характерные образы», которые, по словам Энгельса, давала «эта
эпоха разложения феодальных связей в лице странствующих
королей-нищих, побирающихся ландскнехтов и всякого рода
авантюристов»1.
Как ни грубо фантастичны были порой плутовские авантюры
этих романов, в них все же заключалось здоровое зерно реализма.
В то время как писатели барокко убеждали читателей в нереаль-
ности и призрачности земного существования, в том, что «жизнь
есть сон», создатели испанского плутовского романа всем сво-
им творчеством утверждали материальную реальность этой зем-
ной жизни. Как ни пестры превращения героев плутовского рома-
на, всеми ими движет обычно один и тот же весьма материальный
фактор — деньги. Деньги выступают здесь открыто как дей*
ствительные «узы всех уз». И общественное положение человека,,
и его личное достоинство — все превращается в меновую стш*
дюсть.
В стремительном сюжетном движении плутовского романа
с его прихотливой и неожиданной «игрой Фортуны» сказалась
зыбкость общественных отношений той эпохи, когда «пестрые
феодальные нити, связывавшие человека с его наследственными
повелителями»2, сменялись откровенными отношениями купли-
продажи, и еще недавно казавшиеся непоколебимыми сословные
различия отступали перед противоположностью нищеты и бо-
гатства, всегда готовых перемениться местами.
Реализм плутовского романа весьма наивен. Создатели испан-
ской «пикарески» и родственного ей французского бурлескного
романа находились еще в рамках феодального общества; и новый
«низкий жанр», противопоставлявшийся ими «возвышенности»
аристократического искусства, сам еще во многом оставался в
Плену у аристократической культуры, хотя бы и пародируя ее
й даже именно в силу своей пародийной ограниченности.
Пародийность, столь характерная для всего этого жанра,
Свидетельствует не только о его полемической социальной за-
остренности, но и о его незрелости. Новая тематика, — жизнь
«Плебейских низов» общества — используется плутовским рема-
Й<ш почти неизменно в плане комического гротеска. Простолюди-
1 Маркс ,и Энгельс, Соч., XXV, стр. 26С—261.
2 Маркс и Энгельс, Соч., т. V, стр. 485.
27* 419
ны, которые выступают его «героями» вместо рыцарей и принцев
аристократической литературы, оказываются нередко не столько
настоящими живыми людьми из народа, сколько лишь гротескно
искаженными тенями все тех же традиционных аристократи-
ческих персонажей.
Новый герой, герой буржуазного общества, на первых по-
рах своего существования должен был входить в литературу как
бы ползком, под маской шута или клоуна. Его человеческое
достоинство сперва еще не принимается всерьез. У Мольера,
величайшего реалиста европейской литературы XVII века,
простолюдин несет еще почти исключительно комическую функ-
цию. Свои моральные победы он одерживает лишь в шутовском
обличий Скапенов. И даже Фигаро, много позднее, вынужден
паясничать, чтобы заставить королевскую Францию проглотить
поднесенные ей горькие истины.
Однако еще задолго до Бомарше, последнего и замечатель-
нейшего представителя плутовского жанра, плутовской роман
успел пережить весьма существенное превращение. Расширение
кругозора плутовского романа заметно уже у Лесажа. Сатира
«Жиль Блаза» приобретает всеобщий характер, охватывая все
круги общества, начиная от разбойничьего притона и кончая
королевским двором. Однако пестрая смена приключений по-
прежнему занимает здесь внимание писателя больше, чем вза-
имодействие человеческого характера и обстоятельств.
Великие английские реалисты XVIII века —Дефо, Филь-
динг, Смоллет — воспитались на плутовском романе подобно
тому, как, столетием позже, на их собственном творчестве вос-
питывались Диккенс и Теккерей. Но точно так же, как и эти
последние, они подвергли опыт своих предшественников корен-
ной переработке. В их руках плутовской роман превращается
виной, качественно новый жанр. Он приобретает несвойственную
ему прежде художественную универсальность: вместо того,
чтобы только воспроизводить однообразные, при всем их ка-
жущемся разнообразии, плутни авантюристов, он становится
зеркалом, в котором отражается действительное разнообразие
и сложность жизни,—превращается в роман о человеке. По
словам самого Фильдинга, в его понимании «истинным пред-
метом искусства является человек».
И в «Приключениях Джозефа Эндрьюса» и в «Истории Тома
Джонса, найденыша» Фильдинг сохраняет общую традицион-
ную схему, унаследованную от плутовских романов. Но то, что
раньше было самоцелью, становится теперь ^едством. Грубо-
ватые комические перипетии плутовских романов — кухон-
ные адюльтеры, трактирные ссоры, драки и потасовки, разбитые
носы и разорванные кафтаны — остаются и в его романах, но
они играют уже не центральную и самодовлеющую, а подчи-
ненную роль.
Действительно, присмотревшись ближе к комическим сценам
«Джозефа Эндрьюса» и «Тома Джонса», нельзя не заметить, что
420
даже там, где, казалось бы, речь идет о простом комизме noJ
ложений, юмор Фильдинга гораздо менее примитивен и гораз-
до более глубок, чем юмор его предшественников, не раз изо-
бражавших сходные ситуации. Падение занавески, за которой
спрятался Сквейр в комнате Молли Сигрим («Том Джонс»), про-
изводит комический эффект не столько благодаря пикантности
неожиданно создающегося алюльтерного «треугольника», сколько
благодаря тому, что позволяет уличить в распутстве «высоко-
нравственного» лицемера-философа. Комизм визита пастора Адамса
к пастору Труллиберу («Джозеф Эндрьюс») заключается не
только в том, что Адаме вывалялся в грязи в свином хлеву,
куда его потащил Труллибер, по ошибке принявший своего
гостя за свиноторговца-покупщика, а в раскрываемом Филь-
дингом противоречии между «духовным саном» Труллибера и
его жадной и алобной «кулацкой» натурой. Комизм положений
играет у Фильдинга подчиненную, служебную роль по отно-
шению к комизму характеров.
То же относится и к многочисленным гротескным чертам,
которыми так охотно пользуется Фильдинг в обрисовке поведе^
ния и внешности своих персонажей. Обрывки латинской пре-
мудрости, которыми некстати щеголяет брадобрей Партридж,1
охотничий жаргон сквайра Уэстерна; жеманное коверканье
слов, неизменно характеризующее речь Слипслоп, —г все эти
гротескные подробности реалистически осмыслены. Даже то,
что пастор Труллибер отличается «гусиной походкой», а трак-
тирщица Тау-Вауз, разговаривая, сжимает губы так, словно
захлопывает кошелек, не случайно. Все эти гротескные черты
ценны для Фильдинга не сами по себе, не внешней причудливостью
производимого ими эффекта: они помогают ему убедительнее и жи-
вее раскрыть внутреннее содержание изображаемых им характеров.
Наконец, сама сюжетная схема плутовского романа при-
обретает в трактовке Фильдинга новое значение и новую ценность.
Свободно следующие друг за другом пестрой вереницей при-
ключения героя интересны для Фильдинга уже не этой своей
случайностью, а, напротив, именно тем, что они дают возмож-
ность проследить влияние среды, обстоятельств и всего жи-
тейского опыта на характер человека; сюжет «Джозефа Эндрью-
са», а в особенности «Тома Джонса», по видимости столь же
«свободный», как сюжет любого плутовского романа, в действи-
тельности оказывается глубоко продуманным и упорядоченным.
Недаром сам Фильдинг уже в «Джозефе Эидрьюсе» говорил о
Себе, как о создателе «комического эпоса в прозе, отличающего-
ся от комедии так же, как серьезный эпос отличается от траге-
дии, тем, что его действие более широко и развернуто». В «Томе
Джонсе» он настаивал на том, что его роман, в отличие от все-
возможных «жизнеописаний» и «апологий», представляет со-
бой «историю», т. е. художественное обобщение событий.
В «Истории Тома Джонса» Фильдинг, призывая себе на по-
мощь гений, вдохновлявший великих писателей прошлого, на-
421
зывает рядом с Аристофаном, Мольером и Свифтом — Шекспира,
Сервантеса и Рабле, как своих учителей. И действительно из
всех западноевропейских писателей XVIII века Фильдинг по
самому духу своего творчества, пожалуй, наиболее близок реа-
лизму Возрождения. Это сказывается особенно наглядно в трак-
товке Фильдингом центрального вопроса всего его творчества —
вопроса о «человеческой природе».
Герои Фильдинга — в отличие от героев Ричардсона — ли-
шены всякой моральной отвлеченности. Живые, реальные су-
щества из плоти и крови, они подвержены всем прозаическим
неприятностям повседневной жизни. Им случается мерзнуть от
холода и мокнуть под дождем, страдать от дорожной пыли и
грязи, ссориться с трактирщиками и даже падать и ушибаться.
Они нуждаются в еде и сне и в деньгах на ежедневные расходы;
и как бы страстно они ни были влюблены, их пищей служат не
только мечты и вздохи, но и гораздо более питательные, хотя и
более прозаические, ростбифы и пулярдки.
Фильдинг, в отличие от Ричардсона, не боится «скомпроме-
тировать» своих положительных героев, наделяя их всеми есте-
ственными чувственными потребностями и нередко вытекающими
из них ошибками и слабостями. Но, настаивая на чув-
ственной, земной реальности своих персонажей, Фильдинг,
однако, далек от представления о человеке, как о животном.
Признавая за человеком естественную потребность в х насла-
ждении и право на него,—принцип, в котором Маркс усма-
тривал одно из лучших достижений материалистической мысли
XVIII века,—он, однако, принадлежит к числу решительных про-
тивников аристократического «культа наслаждения». С аристо-
кратическим гедонизмом Фильдинг полемизирует неоднократ-
но на протяжении всего своего творчества, начиная с первых
более или менее самостоятельных комедий и кончая «Амелией».
Откровенно изображая «падения» своего героя, Фильдинг,
однако, никогда не злоупотребляет эротикой ради нее самой, как
нередко- делает потом Стерн, и даже сам предупреждает об этом
читателей: «Вечером у Джонса снова было свидание с лэди
Белластон..., но... мы воздержимся от передачи его в подроб-
ностях, сомневаясь, чтобы они были занимательны для читате-
ля, если только он не из тех господ, поклонение которых пре-
красному полу, подобно поклонению папистов святым, нуждается
в поддержке при помощи картин. Я далек от желания препод-
носить их публике и с удовольствием задернул бы занавесом и
je, что в последнее время выставлены в некоторых француз-
ских романах». Лэди Буби, лэди Белластон, лорд Фелламар,
«красавчик» Дидаппер и им подобные герои «Джозефа Эндрьюса»
и «Тома Джонса» жалки и ничтожны в глазах Фильдинга потому,
что погоня за чувственным наслаждением исчерпывает собой
все содержание их жизни.
Однако, обратная крайность — всяческое «умерщвление плоти»,
худосочная чувствительность, аскетизм религиозного или
422
рассудочного толка — претит ему не менее, чем распущенность
.аристократического эпикуреизма. Он не без иронии заставляет
Олворти проповедывать Дженни Джонс, что «любовь есть страсть
рациональная», а Памелу Эндрыос — уговаривать своего брата
отказаться от брака с Фанни во имя платонической любви. «Элизи-
ум, — писал Фильдинг в «Путешествии в загробный мир»,—не
для тех, кто слишком благоразумен, чтобы быть счастливым»,
Излишнее благоразумие, рассудительность и воздержанность4
кажутся ему щщозрительными. «По правде сказать, — писал
\>н еще в раннем «Опыте о познании человеческих характеров»
^публикованном в «Miscellanies», 1743), — кислая, брюзгливая,
угрюмая, склонная к порицанию святость никогда не бывает и
не может быть искренней». Недаром почти все изображаемые
им распутницы, от лэди Буби до м-сс Фицпатрик и. даже лэди
Белластон, носят маску самой чопорной невинности и с него-
дованием отвергают всякий намек на их поведение, в то время
как действительно невинная София с искренней веселостью встре-
чает предположение о том, что она — любовница «претендента».
«Добродетель» . в филистерско-буржуазном толковании, добро-
детель негативная, представляется ему ограниченной и недоста-
точной. Воздержанный Тваком ничем не лучше невоздержанного
Сквейра; Блайфиль, желающий обладать Софией, главным обра-
зом, по расчету, ради ее состояния, ничем не лучше лорда Фе-
ламара, для которого чувственное обладание ею представляет
самоцель. Питеры Паунсы, Труллиберы, Найтингелы старшие и
Блайфили могут быть весьма рассудительны в деловой жизни
и воздержаны в личной жизни, —это, однако, не делает их по-
настоящему человечными и полноценными существами.
Только в непосредственном, бескорыстном чувстве видит
Фильдинг основу истинной человечности. Именно эта «беско-
рыстная деятельность» чувства делает Тома Джонса, Софию
Уэстерн, пастора Адамса действительно положительными
героями, несмотря на комические стороны их характеров, их
нравственные слабости и промахи.
Разрешая в «Приключениях Джозефа Эндрьюса» и в «Истории
Тома Джонса» центральную для всего Просвещения проблему
«добра» и «зла» в человеческой природе, Фильдинг стремится
найти как бы среднюю линию между трагическим пессимизмом
Свифта и пуританским филистерством Ричардсона. Йэху и Гран-
дисон — вот два диаметрально противоположных решения этой
проблемы, данные английской просветительской литературой
времен Фильдинга. Решением Фильдинга был Том Джонс.
Сознательно или бессознательно, Фильдинг ставит себе в
своих «комических эпопеях» двойную задачу — реабилити-
ровать свифтовского человека-зверя Йэху, .вернув ему чело-
веческое достоинство, и, в то же время, совлечь безжизненную
%Ску добродетели с лица филистерского «хорошего человека»
Зтечардсона, чтобы дать ему свободно проявить свою чувствен-
■но-человеческую природу.
423
Непосредственная смежность таких эпизодов «Тома Джонса» г
как встреча с Горным отшельником и авантюра с м-с Уотерс а
эптонской гостинице, была, может быть, не простой случай-
ностью. В разговоре с Горным отшельником Том Джонс с юно-
шеским пылом доказывает величие и доброту человека, опро-
вергая свифхиа«ек€>-мизантропические взгляды отшельника. Не-
сколькими часами позже он сам падает жертвой самого грубога
чувственного искушения и оскорбляет Софию, изменяя
своему чувству к ней. Так, на' примере своего героя, Филь-
динг как бы измеряет диапазон всех скрытых возможностейг
заключенных в «человеческой природе», — от нравственного подъе-
ма к нравственному падению, причем ни та, ни другая грань не
являются в его глазах безусловными и взаимоисключающими.
Ричардсон, утверждая право буржуазного героя на внутрен-
нюю свободу своего «я», делал рассудочно-аскетическое само-
обуздание необходимым условием этой свободы. Добродетельная
чувствительность Памел и Кларисс и порочная чувственность
Ловласов противопоставлялись им друг другу как две поляр-
ные противоположности. Фильдинг как бы «снимает» эту огра-
ниченность рассудочного гуманизма XVIII века, на мгновение
восстанавливая в «Томе ]\жтъ&> утраченную со времен Воз-
рождения гармонию плоти и духа. Том Джонс и София оказы-
ваются в литературе XVIM века едва ли не первыми живымиг
полноценными людьми, равно свободными и от эгоистической,
сухой расчетливости и от животной грубости. Именно благо-
даря этому, при всей ейоей трезвости в изображении прозаи-
ческого быта и нравов буржуазной Англии XVIII века, Филь-
динг сумел придать своей книге своеобразную поэтичность^
столь редкую в рассудочной литературе XVIII века.
Уже в «Джозефе Эндрьюсе» Фильдинг, не ограничиваясь
пародированием Ричардсона, сам показал себя мастером реа-
листического изображения характеров. Правда, молодые герои
этого романа, — лакей Джозеф, предполагаемый брат ричардсонов-
ской Памелы, и его возлюбленная Фанни, служанка с фермы,—
были еще довольно безличны.
^Настоящим живым героем романа был пастор Адаме, — не-
даром полное название книги Фильдинга было «Приключения*
Джозефа Эндрьюса и его друга мистера Абрагама Адамса». Под
неказистой комической внешностью полунищего деревенского
священника, по-детски наивного и любопытного и по-детски
неприспособленного к жизни, этого неуклюжего чудака и не-
у£яхи, настолько рассеянного, что он может спокойно бросить.
в огонь свою любимую книгу и потерять в дороге единственную
Лошадь, Фильдинг обнаруживает настоящего человека в луч-
шем, просветительско-гуманистическом смысле слова. Адаме до
смешного непрактичен; но эта житейская непрактичность не
мешает ему быть верным другом в беде. Он смешон своими не-
лепыми манерами и привычками, своей грязной и обтрепан-
ной подоткнутой рясой и вечным прищелкиванием пальцами;.
424
но в то же время этот смешной старик умеет с истинным
благородством постоять за свои убеждения и за своих
друзей.
На заглавном листе первого издания «Джозефа Эндрьюса»
значилось: «Написано в подражание манере Сервантеса». Бли-
зость Фильдинга к «Дон Кихоту» ни в чем не проявилась с та-
кой силой, как в образе Адамса. Фильдинг щедро наделяет
Адамса чертами «донкихотизма», понимаемого не только в по-
верхностно-комическом, но и в более глубоком, гуманистическом
смысле. Дон Кихот, воодушевленный непоколебимой . верой в
рыцарские идеалы, принимал ветряные мельницы за великанов
и трактиры — за рыцарские замки. Пастор Адаме, руководимый
столь же непреклонной верой в совершенство человеческой при-
роды, готов принять за «Человека» даже скотоподобного Труд-
либера, своего собрата по профессии, для которого каждая вы-
кормленная им свинья дороже всей его паствы. Сталкиваясь
на каждом шагу, подобно Дон Кихоту, с грубой житейской про-
зой, Адаме, однако, не даетчей победить свою веру в людей.
Именно поэтому, подсмеиваясь над простодушием, непоследо-
вательностью и комическими промахами Адамса, Фильдинг со- -
храняет за ним свое глубокое уважение и сочувствует ему так*,
же, как сочувствовал Сервантес своему Дон Кихоту.
Герои Ричардсона были лишены непосредств£нности. Они
не столько действовали, сколько думали, не столько жили, сколь-
ко п^еживали. Для наиболее удачных реалистических харак-
теров Фильдинга —для Адамса, Тома Джонса, Софии Уэстерн и
ее отца, старого сквайра Уэстерна, — типична, напротив, ве-
личайшая нелосредствешш£1Ь. Именно в непосредственности, с
какой проявляется чувственная природа Тома Джонса, вопреки
сеем установлениям филистерской морали, видел еще Фрид-
рих Шиллер источник художественного впечатления, про-
изводимого на читателя этим образом Фильдинга.
«История Тома Джонса, найденыша» была частичным отсту-
плением Фильдинга от последовательной просветительской про-
граммы.
«История Тома Джонса» в том виде, в каком рассказывает
|е Фильдинг, в сущности, заметно противоречит мнению про-
ветителей XVIII века о всеопределяющем влиянии обстоя-
адьетв и воспитания на характер безусловно «доброго» от при-
воды человека.
Фильдинг не без иронии говорит о том, что, дав своим вос-
питанникам двоих столь различных наставников, как Сквейр
И Тваком, Олворти надеялся, что влияние одного уравновесит
Штаяние другого и приведет к наилучшим результатам для обо-
Рх юношей; «если результаты не оправдали его ожиданий,^ то
fra, может быть, проистекало от какой-то ошибки в самом плане...,
которую мы и предоставляем обнаружить читателю».
Действительно, получившие одинаковое воспитание Джонс
и Блайфиль, — будучи к тому же братьями,—вырастают как
425
нельзя более непохожими друг на друга. Воспитательная система
Твакома и С^вейра оказывается по отношению к ним обоим оди-
наково несостоятельной.
Более того, в своих авторских замечаниях Фильдинг вообще
берет под • сомнение эффективность воспитательного воздейст-
вия на человека. «Пожалуй, нет более верного признака глупо-
сти, чем старание исправлять естественные слабости тех, кого
мы любим. Самая утонченная натура, подобно тончайшему фар-
фору, может иметь изъян, и в обоих случаях, боюсь, он не-
исправим, хотя часто нисколько не уменьшает высокой ценности
экземпляра».
Каковы бы ни были достоинства его любимого героя, бур-
жуазное благоразумие никогда не принадлежало к их числу.
Продает ли Джонс свою Библию, чтобы помочь нищей семье
лесного сторожа, или соблазняет его дочь; объясняется ли в
любви Софии или напивается на радостях, узнав о выздоров-
лении своего приемного отца; дерется ли сТвакомом или вступает
в сражение с разбойниками, чтобы спасти жизнь беспомощно-
I го старика, — во всех случаях своей богатой приключениями
жизни он неизменно ру^цшедсхауется не доводами рассудка* а
неппсредгтириными порывами чувства.
Его сводный брат Блайфиль, напротив, представляет собой
настоящее воплощение буржуазного благоразумия Он. рас-
судителен, предусмотрителен, сдержан, осторожен, трезв, скро-
мен, целомудрен, — одним словом, казалось бы, наделен чуть
ли не всеми достоинствами, необходимыми для согласования
частного интереса с добродетелью. И все же именно этот столь
благоразумный Блайфиль оказывается действительным «злодеем»
фильдинговского романа.
Подобно Ричардсону, автор «Тома Джонса» не забывает по-
заботиться о морали своего романа. И у него также добродетель
торжествует над пороком. Но, увы! эта торжествующая добро-
детель Тома Джонса весьма и весьма неблагоразумна, а повер-
женный в прах порок Блайфиля вовсе не легкомыслен. Природ-
ное добросердечие, «простые, бесхитростные движения честной
природы» торжествуют над ограниченностью эгоистического
буржуазного благоразумия.
Представление Фильдинга об общественных пороках его
времени оказывается в его «комических эпопеях» гораздо более
сложным, чем представление Ричардсона. В отличие от автора
«Памелы» и «Клариссы», в глазах которого развратность аристо»
кратических Ловласав и сквайров Б. представлялась едва ли не
главной общественной опасностью и окрашивалась самыми мрач-
ными, почти трагическими красками, автор «Тома Джонса»
весьма легко относится к вопросу об испорченности велико-
светских нравов. «Нет ничего нелепее заблуждения, широко
распространенного среди массы читателей: заимствуя свои взгля-
ды у невежественных сатириков, они воображают, будто мы
живем в развращенном веке... По моему скромному мнению, наш
426
высший свет характеризуется скорее глупостьюv чем пороками;
суетный — вот эпитет, которого он заслуживает».
Фильдингу претит чувственная распущенность лэди Буби,
м-сс Фицпатрик и лэди Белластон, «красавчика» Дидаппера и
лорда Фелламара. Но прозаические пороки буржуазного обще-
ства,—скупость, холодная расчетливость, —с каким бы цело-
мудрием и благочестием они не сочетались, представляются ему
не менее опасными для окружающих, чем произвол и животная
похоть. В отличие от Ричардсона, он понимает, что в мире,
устроенном так, что «человЕК §ез денег лишен всякой возмож-
ности приобрести их» («Том Джонс»), Ловласы и Буби может
быть даже не так страшны, как Труллиберы, Питеры Паулсы ц
Блайфили. Холодные расчеты Блайфиля и деляческая бесприн-
ципность атторнея Даулинга имеют гораздо большее значение
для судьбы Тома Джонса, чем все любовные интриги лэди Белла-
стон. Недаром портреты новоявленных богачей-толстосумов, при-
жимистых скрягг и беспринципных дельцов большого и малого
калибра так многочисленны в галлерее сатирических образов
«Джозефа Эндрьюса» и «Тома Джонса». Тау-Вауз и Барнабас,
Питер Паунс и Труллибер, адвокат Скаут и атторней Даулинг,
отец и сын Блайфили, старик Найтингел —все это образы, в>
которых воплотилось отвращение художника к денежной рас-
четливости и эгоистической, черствости новых буржуазных от-
ношений. Единственным реальным противоядием от этих новых
общественных пороков представляется Фильдингу та нрппгред-
срвшщдя, безотчетная доброта сердца, которой так щедро наде-
ляет он своих любимых героев —и пастора Адамса, и Тома
Джонса.
Однако это обращение Фильдинга от разумд к чувству, уже
предвосхищая отчасти позанейший сентиментализм XVIII ве-
ка, далеко не безусловно. Отдавая Тому Джонсу предпочтение
перед Блайфилем, Фильдинг спешит предупредить своих чита-
телей, чтобы они лишь с осторожностью следовали примеру его
героя, ибо «доброта сердца и откровенный характер, хотя бы
они давали большое душевное наслаждение и наполняли умы бла-
городной гордостью, ни в коем случае —увы! —не ведут к
преуспеянию в свете. Благоразумие и осмотрительность необ-
ходимы даже наилучшему из людей».
В «Томе Джонсе» и «Джозефе Эндрьюсе» писатель еще ста-
рается, — хотя бы на время, —сохранить гармоническое равно-
весие между непосредственными порывами чувства и велениями
практического, житейского здравого смысла.
4
Жизнерадостная гармоничность «Джозефа Эндрьюса» и «Тома
Джонса» была непрочной по самой своей природе. Эта непроч-
ность успела обнаружиться уже в течение недолгой жизни Филь-
динга. В «комических эпопеях» его просветительский гуманизм
427
еще сохраняет «светский», внерелигиозный характер, хотя и
в них, в сущности, мистическое «провидение» скрывается за
«естественными» факторами, определяющими судьбы героев.
' Но близилось время, когда для спасения своего просвети-
тельского оптимизма и веры в человека, для установления более
прочного равновесия между своими гуманистическими идеалами
и буржуазной действительностью Фильдингу предстояло отречь-
ся и от этой возрожденческой «светскости», чтобы найти «опору»
в религии. Роман «Амелия» и другие поздние произведения Филь-
динга— памятники глубокого творческого кризиса, омрачив-
шего .последние годы жизни писателя*
Судейская деятельность открыла ему глаза на такие обще-
ственные явления, которые уже никак не укладывались в рамки
просветительского оптимизма. Глубокие социально-экономиче-
ские процессы английской истории кануна промышленного пере-
ворота,— процессы развития буржуазных отношений в Англии
и обнищания широких масс английского крестьянства и реме-
сленников, — которые он мог доныне наблюдать лишь в их
распыленных, единичных проявлениях, предстали теперь в
концентрированном виде перед его судейским столом. Через
судебную камеру Фильдинга непрерывным потоком про-
ходили люди, искалеченные общественным строем: недавние
честные труженики, которых, подобно невольному грабителю>
изображенному в «Томе Джонсе», нужда толкнула на путь пре-
ступления; жертвы проституции и алкоголизма; дети, вовлечен-
ные в водоворот преступности. Перед писателем раскрылась
вся бездна нищеты и бедствий народа. Потрясенный от-
крывшимся ему зрелищем, Фильдинг публикует, одно за другим,
^«Исследование о причинах недавнего роста грабежей» (1751) и
«Предложения по организации действительного обеспечения бед-
няков» (1753), предпринимает издание нравственно-сатирического
«Ковент-гарденского журнала» (1752) и пишет «Амелию», как
книгу, «искренне предназначенную к тому^ чтобы содействовать
делу добродетели и разоблачить некоторые из наиболее явных,
как общественных, так и частных зол, наводняющих в настоя-
щее время страну».
Сухие юридические справки и выкладки публицистических
памфлетов Фильдинга и скучноватые дидактические рассужде-
ния «Ковент-гарденского журнала» то и дело чередуются с яркими
страницами, исполненными страстного негодования, невольно
заставляющего читателей вспомнить, что перед ними не рядо-
вой английский мировой судья XVIII века, а ученик Свифта,
передовой гуманист-сатирик своего времени.
В одном из первых номеров «Ковент-гарденского журнала»,,
в статье с эпиграфом: «Если вы знаете лучший способ помочь
беднякам, сообщите нам о нем», Фильдинг развивает далее мысль
знаменитого «Скромного предложения» Свифта. Он предлагает...
ввести в Англии древнюю языческую религию: человеческие
жертвоприношения, требуемые языческим ритуалом, поглотят
428
всю массу бедняков, находящихся за бортом общества.
Свою мысль он поясняет ссылкой на античную историю: «Когда
Серен был приговорен к смерти римским сенатом, Галл Азиний
предложил смягчить приговор, заменив смертную казнь изгна-
нием, и предложил отправить приговоренного на остров Гиарос
или Данузу; но Серен отверг эту альтернативу, так как оба
острова были лишены воды, сказав, как передает Тацит: «Да-
вая мне жизнь, дайте также и средства к жизни».
Серен хорошо понимал, что без этих средств «милость», которую
ему, якобы, хотели оказать, была лишь оскорблением и, в дей-
ствительности, не смягчением, а отягощением его прежнего
приговора».
В жестокой сатире Фильдинга скрыт глубоко человечный
смысл. Слова — «Давая жизнь, дайте также и средства к жизни»,
обращенные им к буржуазному обществу, звучат, как настоя-
щий обвинительный акт. Никогда еще не видел он так ясно про-
пасти между «бедными» и «богатыми», между обездоленными тру-
довыми массдми и «кучкой трутней, которые..., ничем не спо-
собствуя процветанию улья, ведут роскошную жизнь за счет
работы трудолюбивой пчелы».
В «Исследовании о причинах недавнего роста грабежей»
потрясающее впечатление производит картина беспробудного
пьянства, получившего действительно повальное распростране-
ние в тогдашней Англии. Есть предположение, что именно эти
страницы Фильдинга дали Гогарту идею его «Водочного пере-
улка» (Gin Alley) —одной из его самых талантливых и самых
страшных гравюр. К чести Фильдинга, требующего законо-
дательного вмешательства в борьбу с этим общественным злом
(«если потребление этого яда (джина) продлится в теперешних
размерах еще двадцать лет, то к тому времени останется очень
мало простого народа, чтобы его пить»), он далек от мысли о
том, чтобы возложить ответственность за массовое распрост-
ранение алкоголизма на народные низы, как это сделало . бы
большинство буржуазных моралистов. Не внутренняя «испор-
ченность» людей из народа, а самые общественные условия,
в которых они живут, ответственны,"по мнению Фильдинга, за
рост алкоголизма, преступности, проституции среди англий-
ской бедноты.
Так же, как десять лет назад, в «Джонатане Уайль-
де», Фильдинг с негодованием пишет в «Амелии» об авгиевых
конюшнях тогдашней английской государственной системы. Он
перебирает одно за другим злые сравнения для описания «со-
вершенства английской конституции». Прекрасный часовой меха-
низм, обладающий единственным «маленьким» недостатком: он
не может быть приведен в движение; дом, где все слуги расстав-
лены на неподходящих должностях, так что дворецкий рабо-
тает за кучера, лакей исполняет обязанности управляющего,
а управляющий ездит на запятках господской кареты, —таков,
по его мнению, государственный строй Англии. Он возмущается
429
произволом, протекционизмом и продажностью правитель-
ства, ни во что не ставящего личные заслуги людей, — неспра-
ведливость, которая, по его словам, «обладает явной тенденцией
к уничтожению в народе всех добродетелей и талантов, поскольку
она лишает людей всякого поощрения и побудительных моти-
вов к соревнованию и совершенствованию в каком-либо искус-
стве, науке или профессии»- Излюбленная всеми, апологетами
капитализма легенда о частной инициативе, как основном фак-
торе прогресса, уже не разделяется Фильдингом; да и само обыч-
ное буржуазное представление об историческом прогрессе берет-
ся им теперь под сомнение.
Скептическое отношение Фильдинга к социально-оодити-
ческим итогам славной революцдщ доходит в а*и годы до тога,
что он вздыхает о временах Оливера Кромвеля, который «под-
нял репутацию Англии на небывалую... высоту», — черта за-
мечательная для публицистики такого «мирного» по своим по-
литическим взглядам человека, как автор «Тома Джоыса». Впрочем,
дело не шло дальше беглого упоминания о временах Кромвеля.
Желая «пробудить гражданскую власть из ее теперешнего ле-
таргического состояния» как определял сам Фильдинг основную
задачу своего «Исследования о причинах недавнего роста гра-
бежей», он далек от каких-либо стремлений к коренной ломке
всего общественного строя Англии. Он мечтает не о социальном
перевороте, а всего лишь о некоторых отдельных реформах:
«задача, равно противостоящая как диким представлениям о
свободе, несовместимым ни с каким образом правления, так и
вредоносным правительственным планам, губящим истинную
свободу». В «Амелии» он формулирует устами доктора Гаррисона
свой скромный политический идеал: это — правительство, ко-
торое «заботилось бы об истинных интересах своей страны», не
собирало бы лишних налогов, содержало б"ы только честных и
способных чиновников и уделяло бы достаточно внимания расши-
рению торговли и внутренним делам Англии. Однако и этот
компромиссный идеал представляется ему почти утопичным.
В поисках выхода Фильдинг обращается к законодательству,
обдумывая проекты многочисленных частных реформ. Но какими
бы желательными ни предстарлялись ему эти реформы, касав-
шиеся, как указывал он сам, лишь «низших разветвлений» ан-
глийской конституции, —борьба за их осуществление не могла
дать выхода всей горечи, разочарованию и гневу, подтачивав-
шим самую основу его былого оптимизма. Их скрытое разъе-
дающее действие сказалось в «Амелии».
Всего лишь два года отделяют этот последний роман Филь-
динга от его непосредственного предшественника — «Истории
Тома Джонса, найденыша»; но расстояние между ними могло бы
исчисляться десятилетиями. По сравнению с юношески свежей и
жизнерадостной «Историей Тома Джонса», «Амелия» кажется
старческим произведением. Ясная гармоничность «Тома Джон-
са» утрачена; оптимизм уступает место пессимистической мрач-
430
ности; юмор окрашивается необычной для прежнего Фильдинга
желчностью.
Несколько примеров из сатирического «Современного сло-
варя», опубликованного в «Ковент-гарденском журнале» вскоре
после выхода «Амелии» помогут живее почувствовать эти перемены.
«Богатство — единственная действительно ценная и же-
ланная вещь на земле.
Брак —род торговых сделок, заключаемых представите-
лями обоих полов, причем оба участника сделки постоянно ста-
раются надуть друг друга, и оба в конце концов обычно про-
игрывают.
Великий —в применении к вещам означает их большой
размер; в применении к людям означает нередко ничтожность или
Н'ИЗОСТЬ.
Добродетель 1темы для разговора.
Достоинства — власть, положение, богатство.
Капитан ( любая деревянная дубина с головой наверху
Полковник / ис куском черной ленты на этой голове.
Красота — качество, при наличии которого женщины
обыкновенно становятся содержанками.
Ничтожества (nobody) — все население Великобритании,,
за исключением около 1 200 человек.
Платье—основное достоинство мужчин и женщин.
Патриот—кандидат на место при дворе.
Политика — искусство получать такие места.
Судья ! ^ - ,
Юстиция / старая баба.
Чепуха — философия».
Все эти мысли и ранее встречались у Фильдинга, но никогда,
еще они не облекались в такую мрачную, по-свифтовски пессими-
стическую форму. Противоречие между прекрасными идеалами
црдсвети^ельасаго гуманизма и реальной общественной деятель-
ностью нм*ф*да^в1цо не звучало у него таким трагическим дис-
сонансом, как в этих горьких строчках., объявляющих фдлософмю
«чепухой»% мудрость — уменьем, добиваться власти, положения
Я богатства, а порок и добродетель — темами для разговора.
В «Джозефе Эндрьюсе» и «Томе Джонсе» Фильдинг исходил
из глубокого доверия к неиспорченной «человеческой природе».
Он смело отправлял своих героев в житейские странствования,
твердо веря, что их доброе сердце устоит перед всеми гибельными
соблазнами и искушениями, и что даже самые их «падения» не
будут опасны. Собственные силы, здоровье, молодость, любовь —
вот что поддерживает Джозефа Эндрьюса и Фанни, Тома
Джонса и Софию во всех треволнениях жизни.
В «Дмелии» это доверие автора к «человеческой природе»,
уже поколеблено. Образ Вильяма Бузса, главного персонажа
романа, представляется совершенно новым вариантом недавнего
образа Тома Джонса. На смену прежнему юмору, с каким Филь-
431
динг прощал герою своей последней «комической эпопеи» все
его бесчисленные прегрешения, приходит гораздо более тре-
бовательная и ригористическая мораль, в свете которой рас-
сматриваются заблуждения Вильяма Бузса. Сердечная доброта
кажется Фильдингу уже недостаточной для нравственного «спа-
сения» человека. Добрый, честный и благородный от природы
Бузе с каждым шагом все глубже погружается в тину порока:
изменяет жене, проигрывает последние деньги в карты, попа-
дает в тюрьму за' долги, —и все это потому, что он слишком
послушен непосредственным порывам своей «человеческой при-
роды».
Поведение людей нуждается, согласно «Амелии», не только
в чисто человеческой, но и в религиозной санкции. Когда-то очень
близкий по духу к Мандевилю, Фильдинг не только предает те-
перь анафеме его трезвое материалистическое учение о чело-
веческой природе, как совокупности страстей, но парадоксально
извлекает даже из самого этого учения мысль о необходимости
для человечества религиозной узды.
Знаменательно заключение романа: «моральная» развязка —
«обращение» вольнодумца Бузса — предшествует развязке «ма-
териальной» — известию о полученном Амелией богатом на-
следстве. В самом «оптимизме» «Амелии» сказываются таким
образом филистерские черты, существенно отличающие его от
неподдельной и здоровой жизнерадостности предшествующих
романов.
Критика уже давно отметила противоречивость и замысла,
и построения «Амелии». Действительно, вводные главы романа
с их широко задуманной сатирой на «совершенства английской
конституции», с их смелыми реалистическими картинами анг-
лийского суда и тюрьмы, образуют заметный контраст с сенти-
ментальным изображением маленького семейного мирка Бузсов
в дальнейших главах. Кажется, что «комический эпос» Филь-
динга превращается на глазах читателя в «семейный роман»,
по-ричардсоновски ограниченный стенами «одного дома».
Мелочи семейного, частного быта никогда еще не были пред-
ставлены у Фильдинга в таком изобилии и никогда еще не вос-
принимались им с такою сентиментальностью, как в «Амелии».
Безнаказанность девочки-служанки, укравшей рубашки Аме-
лии, подает повод к пространным филиппикам против несостоя-
тельности английских законов (рубашки были «доверены на
попечение» девочки, а потому ее преступление не может быть
формально подведено под рубрику воровства). Неудавшийся
семейный ужин превращается в событие почти трагического зна-
чения. Поколения читателей, вслед за автором, проливали слезы
умиления над остывшими бараньими котлетками, о которых на-
прасно хлопотала Амелия в ожидании своего легкомысленного
супруга.
Здоровый юмор, гармонически умерявший ранее чувстви-
тельность фильдинговских «комических эпопей», теперь все
432
больше изменяет автору. Характеры «Амелии» бледнеют по срав-
нению с персонажами «Джозефа Эндрьюса» или «Тома Джонса»;
реализм^ Фильдинга щедро разбавляется сентиментальной ди-
дактикой. На протяжении всего многолетнего творчества Филь-
динга его героями, конечно, не было пролито столько слез, сколь*
ко проливается на страницах «Амелии». Нервические припадки,
обмороки, рыдания, слезы, вздохи бесконечной вереницей сле-
дуют друг за другом; люди плачут от горя и от радости, от вол-
нения и в знак «благодарения небу». Как заметил французский
литературовед Казамьян, «Амелия» — «роман, более чем напо-
ловину пропитанный сентиментализмом», причем сентимента-
лизм этот приобретает недвусмысленно религиозную окраску.
Этот внутренний кризис просветительского реализма Филь-
динга сказывается и в его эстетике. Еще недавно, в «Томе Джонсе»,
Фильдинг с гордостью провозглашал себя учеником Аристофана
и Рабле; теперь он демонстративно отрекается от этих былых
учителей. Зато- Ричардсон, еще недавно столь чуждый Филь-v
дингу, теперь становится гораздо ближе ему по духу. Недаром,
шастаивая в «Ковент-гарденском журнале», что хсшутливость...
'должна быть сделана лишь средством поучения», Фильдинг уже
вполне сочувственно, без тени иронии, ссылается на авторитет
Ричардсона, «остроумного автора «Клариссы».
Читатели, привыкшие ценить в Фильдинге неподражаемого
создателя «комических эпопей», сразу почувствовали разницу
между «Амелией;> и ее предшественниками и были глубоко разо-
чарованы, не найдя в ней нового «Тома Джонса» или «Джозефа
Эндрьюса». Это разочарование читательской публики сказалось
печальным образом на судьбе «Амелии». Первое издание книги
разошлось в один день; но хотя автор поспешил внести в нее
исправления, чтобы подготовить ее к следующему изданию, ему
^ак и не удалось дождаться его. Исправленный его рукой текст
[«Амелии» был напечатан лишь в 1762 г. в первом (посмертном)
|обрании сочинений Фильдинга.
k Холодность читателей и грубые нападки критики — враждеб-
ная Фильдингу «Старая Англия» (The Old England) с торже-
ством писала о провале «Амелии», называя ее «почти безжиз-
ненным трупом жалкого, несчастного, умирающего романа»—
|яжело подействовали на писателя. Он ответил на них
сатирическими сценками «суда над «Амелией», помещенными в
|эух номерах его «Ковент-гарденского журнала» (25 и 28 января,
№52). Прокурор «Город» (Town) обвиняет роман Фильдинга в
юм, что он скучен, что «вся книга представляет собой кучу вздо-
Нд. скуки и чепухи; что в ней нет ни остроумия, ни юмора, ни
Щания человеческой природы или света; что ее фабула, мораль,
изображаемые в ней нравы и чувства и язык ее, — все одина-
ков плохо и достойно презрения». Вместо того чтобы опроверг-
нута* эти обвинения, автор — «отец» подсудимой, являющейся, по
ег<> словам, его «любимейшим детищем», —предлагает суду ком-
промиссное решение дела. Он торжественно обещает, что «ни-
Англ. литература
433
когда более не обременит мир новыми детьми от той же музы», —
иными словами, что «Амелия» будет его последним романом.
Фильдинг сдержал свое обещание. После «Амелии» им не было
написано ни одного художественного произведения, и един-
ственными рукописями, найденными и опубликованными после
его смерти, были его «Дневник путешествия в Лиссабон» (более
интересный с историко-биографической, чем с литературной
точки зрения) и набросок полемического комментария к фило-
софским сочинениям Болинброка. Творчество великого романиста
угасло так же преждевременно, как и его жизнь.
5
Творчество Фильдинга оказало огромное влияние на евро-
пейскую литературу.
Его реалистические романы и после смерти писателя про-
должали шокировать буржуазных филистеров. В XIX веке в
Англии потребовалось специальное переработанное издание «Тома
Джонса», «очищенное» от всех «неблагопристойностей»
великого оригинала; его выпустила внучка писателя, София
Фильдинг. В конце XIX века американский буржуазный критик
Перри безапелляционно утверждал в своей «Истории англий-
ского романа», что только человек, стоящий на интеллектуаль-
ном уровне 14-летнего школьника, может наслаждаться грубым
юмором Фильдинга.
Зато лучшие умы человечества, передовые писатели и мысли-
тели умели ценить по достоинству творчество ФиЛьдинга. Дидро
и Лессинг, Гёте и Шиллер, Берне и Байрон, Стендаль и Гейне,
Диккенс и Теккерей высоко ценили художественную вырази-
тельность и правдивость его произведений. Романы Фильдинга,
по воспоминаниям Лафарга, принадлежали к числу любимых
книг Маркса.
«Какой прекрасный идеал должен был жить в душе поэта,
создавшего Тома Джонса и Софию!» —писал Шиллер в статье
«О наивной и сентиментальной поэзии». Байрон называл Филь-
динга «прозаическим Гомером человеческой природы», а Стен-
даль находил, что «История Тома Джонса, найденыша» занимает
столь же исключительное место среди всех романов миро-
вой литературы, как «Илиада» среди других эпопей.
В России Фильдинг стал известен начиная с 70-х годов XVIII
века. Все его романы были уже тогда переведены на русский
язык. В 1770—1771 гг. вышла «Повесть о Томасе Ионесе, или.
найденыше»; в 1772 г. появились «Деяния Ионафана Вильда
великого» и «Приключение Иосифа Андревса и приятеля его
Авраама Адамса»; в 1772—1775 гг. была издана «Амелия». Ха-
рактерным памятником восхищения Фильдингом в русских ли-
тературных кругах XVIII века может служить любопытное
«Благодарение Фильдингу за Томаса Ионеса», опубликованное
А. М. Грибовским в «Зеркале света» за 1786 г. Особенно многим
434
был обязан Фильдингу Нарежный, один из родоначальников
русского реалистического романа, предшественник Гоголя.
Имя Фильдинга не раз встречается у Пушкина. Именно с
Фильдингом сопоставляет он Гоголя в известном письме Воейко-
ву о «Вечерах на хуторе близ Диканьки». «Мольер и Фильдинг,
вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков», — пи-
шет он, рассказывая, Как «помирали со смеху» рабочие типо-
графии, набирая книгу Гоголя. Гоголь, в свою очередь, и сам
ссылался на Фильдинга в одном из черновых вариантов «Мерт-
вых душ».
Высоко ценили Фильдинга русские просветители 40-х—60-х
годов. «Современник» счел нужным перепечатать в 1848 г. в.
новом переводе «Историю Тома Джонса, найденыша». В днев-
нике за 1848—1850 гг. молодой Чернышевский не раз упоми-
нает Фильдинга, сопоставляя «Историю Тома Джонса» с «Мерт-
выми душами» и относя его, вместе с Гоголем, Диккенсом и
другими, к числу своих «друзей».
Горький, по его собственным воспоминаниям («В людях»),
еще мальчиком зачитывался старомодным переводом «Повести о
Томасе Ионесе», а в «Истории русской литературы» отметил как
одну из важнейших вех истории европейского реализма i707 г.,
когда «родился творец реалистического романа Фильдинг, уди^
вительный знаток быта страны и крайне остроумный писатель».
Новое советское издание «Истории Тома Джонса, найденыша»
(перевод А. А. Франковского) вышло в издательстве «Academia».
*
Глава 3
СМОЛЛЕТ И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ РЕАЛИСТИЧЕСКИЙ
РОМАН ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА
По характеру своего творчества Смоллет во многом близок
Фильдингу; пути их иногда расходились, но вели в одном направ-
лении, и влияние творчества обоих этих писателей на дальнейшее
развитие литературы нелегко разграничить.
Тобайас Джордж Смоллет (Tobias George Smollett, 1721 — 1771)
родился в Далькхерне (Dalquhurn), в графстве Думбартон в Шот-
ландии, по соседству с имением своего деда, судьи и члена парла-
мента сэра Джемса Смоллета.
«Младший сын младшего сына», женившегося к тому же на
бесприданнице против воли отца, Смоллет не мог рассчитывать
ни на дедовское поместье, ни на родовой баронетский титул: им
цредстояло перейти к старшему в роде. Дворянин по происхожде-
нию, он должен был фактически, как и Фильдинг, довольствоваться
судьбой разночинца. В борьбе за жизнь ему следовало полагаться,
как и большинству его будущих героев, лишь на собственные силы,
упорство и ум.
28* 435
Детство Смоллета, проведенное в родной деревне, у берегов Леве-
на, где на скромное пособие жила с детьми его рано овдовевшая
мать, вероятно, немногим отличалось от детства его крестьянских
сверстников. Мальчиком он, как и Берне, увлекался подвигами
Уоллеса и других шотландских народных героев и сохранил до
конца жизни светлые воспоминания о дикой и живописной при-
роде Шотландии, «невообразимо романтичную прелесть» которой
он постарался передать в «Гемфри Клинкере».
Окончив Думбартонскую «грамматическую школу», где пре-
подавались основы латинской премудрости, Смоллет поступил в
ученики к аптекарю и хирургу Гордону в Глазго и начал посещать
медицинский факультет университета; но помыслы его уже в эти
годы были обращены к литературе. Едва дождавшись истечения
срока ученичества, Смоллет покинул Шотландию и направился в
Лондон. Он вез с собой произведение, которое, как думал восем-
надцатилетний автор, должно было открыть ему путь к успеху и
славе. Это была пятиактная историческая трагедия «Цареубий-
ство» (The Regicide), очень напоминавшая своими мелодрамати-
ческими ситуациями и неумеренным пафосом те самые «героические
пьесы», над которыми уже с начала 30-х годов насмехался Филь-
динг в своих сценических пародиях. Не приходится удивляться
тому, что лондонские антрепренеры, —в том числе и Гаррик, —
единодушно отказались от постановки «Цареубийства». История
этой первой литературной неудачи долго продолжала мучить Смол-
лета; он неоднократно возвращался к ней впоследствии, подробно
рассказывая о своих театральных злоключениях и в «Приключе-
ниях Родерика Рэндома» (в истории Мелопойна) и в предисловии
к изданному, наконец, в 1749 г. «Цареубийству».
Непризнанному молодому драматургу волей-неволей пришлось
вернуться к медицинской профессии. Англия, вступизшая в 1739 г.
в войну с Испанией, нуждалась в военных врачах; Смоллету уда-
лось получить назначение на один из кораблей военного флота.
В качестве помощника судового хирурга он принял участие в вест-
индской экспедиции адмирала Вернона, закончившейся в 1741 г.
осадой Картахены. В военном отношении картахенская экспеди-
ция, стоившая государству огромных затрат, была крайне неудач-
на; как заметил Карлейль, ее единственно важным моментом было
то, что в ней участвовал Смоллет.
Служба в военном флоте расширила политический кругозор
будущего писателя и обогатила его жизненным опытом. Уже здесь
зародилось желчно-сатирическое отношение Смоллета к обще-
ственным и политическим нравам Англии, которое его буржуазные
биографы тщетно старались объяснить просто «раздражитель-
ностью» писателя. К картахенским впечатлениям ему не раз пред-
стояло возвращаться в дальнейшем: и в «Родерике Рэндоме», и в
«Отчете об экспедиции против Картахены» (An Account of the Expe-
dition against Carthagena, 1756), и в «Истории Англии» (A Complete
History of England, 1757—58), всегда с неизменной сатирической
злостью.
436
После краха картахенской экспедиции Смоллет задержался на
некоторое время на Ямайке; здесь он встретился с Анной Лассельс,
которая впоследствии стала его женой. 1745 год — год последнего
якобитского восстания — застал его уже в Англии.
Но ни женитьба на ямайской «наследнице», ни медицинская
практика, которой попытался было, но без успеха, заняться Смол-
лет, не упрочили его материального положения. Сохранившиеся
письма Смоллета свидетельствуют о том, что денежные затруднения
не оставляли его до конца жизни. Литература скоро стала для него
единственной настоящей профессией; как и Фильдинг, он
изведал всю горечь положения профессионала-писателя. «Пред-
ставители других ремесел могут обогащаться, нанимая хороших
рабочих, которые трудятся под их руководством; но писатель, ода-
ренный и известный, должен, как видно, оставаться пожизненным
поденщиком», — писал он Ричардсону в октябре 1760 г.
Нужда заставляла его приниматься за самые разнообразные,
подчас довольно неожиданные, виды литературной деятельности.
Он печатает и стихи, и медицинские трактаты, и труды по англий-
ской и всеобщей истории; составляет собрание «путешествий»;
пишет комедию «Репрессалии, или моряки старой Англии» (The
Reprisal, or the Tars of Old England, 1757), принятую к постановке
Гарриком; издает литературно-критический журнал (The Critical
Review, осн. в 1756) и политическую газету «Британец» (The Briton,
1762—1763) и много переводит (Лесажа, Сервантеса, Вольтера).
Все это делается второпях, вперемежку, подчас довольно легко-
весно. В апреле 1759 г. Смоллет делится с Ричардсоном своими не-
доумениями; ему надо «заполнить пробел в 15 —16 листов описа-
нием страны, которую все силы человеческие не могут растянуть
более, чем на половину этого размера» (речь шла, повидимому, о
Южной Америке). Свою многотомную «Историю Англии» он должен
был сочинять с такой быстротой, что, как рассказывали современ-
ники, на каждый месяц приходилось по целому столетию.
Над этой пестрой массой разнородных писаний, плодов лите-
ратурной поденщины, возвышаются романы Смоллета: «Приклю-
чения. Родерика Рэндома» (The Adventures of Roderick Random,
1748), «Приключения Перегрина Пикля» (The Adventures of Pereg-
rine Pickle, 1751), «Приключения графа Фердинанда Фатома»
(The Adventures of Ferdinand Count Fathom, 1753), «Приключения
сэра Ланселота Гривза» (The Adventures of Sir Launcelot Greaves,
1762) и «Путешествие Гемфри Клинкера (The Expedition of Humph-
rey Clinker, 1771); более или менее условно к их числу можно от-
нести также «Историю и приключения атома» (The History and
Adventures of an Atom, 1769), близкую к жанру публицистической
Сатиры. Именно этим произведениям (также, впрочем, далеко не
однородным по оригинальности и глубине) обязан Смоллет своей
литературной славой.
Уже при жизни Смоллета много говорилось о его «торизме».
Основанием для этого служили и критика вигов в его «Истории
Англии», и поддержка торийского министерства лорда Бьюта в
437
«Британце», и, наконец, общий дух всего творчества Смоллета. Даже
в 1824 г. французские роялисты из «Белого знамени» (Le drapeau
blanc) считали возможным истолковать в свою пользу «Приклю-
чения сэра Ланселота Гривза» с их критикой английского парламен-
таризма и псевдодемократической демагогии буржуазных полити-
канов. Но скептическое отношение Смоллета к реальным истори-
ческим плодам буржуазной «славной революции» 1688 г. было в
действительности бесконечно далеко от обычного «твердолобого»
торийского консерватизма.
Сама жизнь убедила Смоллета в необходимости пересмотра по-
литических традиций вигизма, в духе которых он был воспитан.
В январе 1758 г., только что закончив «Историю Англии», Смоллет,
высказывая в письме к своему другу Джону Муру уверенность
в том, что книга вызовет суровое порицание «шотландских вигов»,
писал: «Насколько от меня зависело, я придерживался истины,
не поддерживая никакой клики, хотя я сознаюсь, что сел за работу
с живым сочуствием тем принципам, в которых я был воспитан. Но
в ходе моих исследований министры-виги (и их сторонники) ока-
зались таким сборищем грязных негодяев, что я не мог не заклей-
мить их за отсутствие честности и чувства».
Смоллетовская «История Англии» действительно чрезвычайно
скептически оценивает истинное значение экономического процве-
тания и политических свобод, закрепленных за буржуазной Анг-
лией компромиссрм 1689 г. Смоллет с негодованием пишет о том,
как «народ стал жертвой грубейшего обмана» в результате финан-
совых спекуляций, в которых (как, например,в знаменитой аван-
тюре Компании Южных Морей) наравне с буржуазными афериста-
ми принимал участие цвет английской аристократии и принцы
крови. Рост государственного долга, растрата «национального
богатства» на «ненужные войны и бесплодные экспедиции», «опас-
ные посягательства на конституцию... частым нарушением Habeas
corpus act..., и, в особенности,установлением системы коррупции»,—
таковы, в его изложении, характерные черты обществен-
ной жизни Англии XVIII века.
В отличие от ториев, нередко предъявлявших почти такие же
обвинения «ганноверской» Англии, Смоллет уже отдает себе отчет
в том, что обе парламентские партииXVIII века стоят друг друга.
Презирая вигов, подобных премьеру Роберту Уолполю, он не
менее скептически относится и к их политическим противникам.
Подобно Фильдингу, Смоллет должен был на собственном жиз-
ненном опыте убедиться в неумолимом противоречии между про-
светительским идеалом свободной и цветущей цивилизации и ре-
альной общественной практикой буржуазной Анттпти XVIII века.
Шотландское происхождение Смоллета было само по себе не-
маловажным обстоятельством в истории формирования его об-
щественных взглядов. Все его творчество живо свидетельствует
о том,, насколько остро было развито в нем национальное чувство.
Недаром именно шотландцем сделал он своего первого героя, Ро-
дерика Рэндома, недаром с таким сочувствием писал о доблестях
438
шотландского народа в «Гемфри Клинкере». Когда после разгрома
якобитского восстания в 1746 г. начались жестокие преследования
мятежных шотландцев и было сделано все, чтобы уничтожить
последние следы независимости Шотландии, Смоллет ответил на
правительственный террор смелым стихотворением «Слезы Шот-
ландии» (The Tears of Scotland, 1746), где оплакивал жертвы кара-
тельных экспедиций «мясника» Кемберлэнда и весь порабощенный
шотландский народ. Это выступление было продиктовано, конечно,
не политическими симпатиями к якобитской реакции; Смоллет
недаром решительно опровергал в своей переписке представление
о том, будто он «проникся поповскими взглядами» (письмо Джону
Муру от 28 сентября 1758 г.), и недаром изобразил в столь непри-
влекательном свете якобита Джолтера, поклонника француз-
ского абсолютизма, в «Перегрине Пикле». Писателем руководили
не политические симпатии к дому Стюартов, но глубокое сочувст-
вие родному шотландскому народу, отныне, казалось, навсегда
утратившему надежду на свободу и независимость. Несколькими
десятилетиями позже шотландский революционный поэт Берне
должен был точно так же отнестись к событиям 1745—1746 гг. в
своей гражданской лирике.
Позиция, занятая Смоллетом в американском вопросе, уже
достаточно назревшем в последние годы жизни писателя, также
свидетельствовала о его глубоком недоверии к принципам вели-
кобританской государственности. В письме к своему американ-
скому читателю, Ричарду Смиту (8 мая 1763 г.), Смоллет ставил
<:ебе в заслугу, что «не раз старался оказать услугу колониям».
В «Истории Англии» мы находим, действительно, замечательные
[Строки, как бы предвещавшие будущую войну за независимость
Северной Америки. Замечая, что «Британия в некоторых случаях
[вела себя, как мачеха, по отношению к своим колониям», Смоллет
предостерегает английское правительство от продолжения этой по-
литики в будущем.Он с горячим сочувствием пишет об американском
рсмелом, выносливом, трудолюбивом народе, воодушевленном бла-
городным стремлением к свободе и независимости», и предсказы-
вает, что «североамериканский континент... может стать послед-
ним прибежищем британской свободы».
f\ Еще более пророчески звучало знаменитое Зб-е письмо «Путе-
шествий по Франции и Италии» (Travels through France and Ita-
ly, 1766). Рассказывая как очевидец о бесправии, угнетении и нище-
те французского наоода, Смоллет приходит к выводу, что феодально-
абсолютистский строй во Франции стоит на^краю гибели. «Пра-
вительство... ослабело и шатается... и, по всей вероятности, фран-
цузские подданные первыми воспользуются этим.В настоящее время
среди них идет сильное брожение различных принципов, которое
в Цаоствочание очень слабого госудаоя или во время долгого несо-
вершеннолетия может произвести большую перемену в конститу-
ции. В соответствии с успехами разума и философии, которме дале-
ко продвинулись в этом королевстве, суеверие теряет почву под
ногами; прежние предрассудки отступают, дух свободы берет верх».
439
Смоллет-историк и политик выступает всюду не как консерва-
тор-торий , мечтающий о возвращении к дореволюционному прош-
лому, но как просветитель-демократ. Насколько, действительно,
отличался его «торизм» от стопроцентного твердолобого торизма
английских консерваторов, не замедлило обнаружиться при первой
же попытке Смоллета принять практическое участие в полити-
ческой жизни. Кратковременная деятельность в качестве редактора
газеты «Британец», призванной поддерживать торийское министер-
ство Бьюта, была едва ли не самым тяжелым испытанием в его
жизни. Из этого политического искуса он вынес, как и Фильдинг
из своего сотрудничества с анти уолполевской парламентской оп-
позицией, самое безнадежное разочарование в политических нравах
и парламентской системе Англии.
В сатирической «Истории и приключениях атома» это разоча-
рование выразилось наиболее остро.«История атома» была написана
в привычной для XVIII века форме условно «экзотических» —
на этот раз «японских»—мемуаров, продиктованных, якобы,
некоему незадачливому лондонскому литератору одним из атомов,
его собственного тела, неожиданно заговорившим человеческим
языком. «Атом» пространно рассказывает о перевоплощениях, пе-
режитых им в Японии, где он, пребывая в телах тамошних поли-
тических деятелей, познал многие важные и достопримечательные
государственные тайны. Под видом «японских» порядков Смоллег
жестоко высмеивает политическую жизнь'Англии своего времени.
«Население Японии,—повествует его «атом»,—издавна дели-
лось на две непримиримых партии, известные под названиями
«Шит-тильк-омс-хейт» (Shit-tilk-ums-heit) и «Ши-ит-комс-хай-тиль»
(She-it-kums-hi-til), из которых первое означает «скорее дурак,
чем плут», а второе — «скорее плут, чем дурак». Обе партии го-
сподствовали поочередно, обеспечивая себе большинство в народ-
ных собраниях... Чтобц получить это большинство, обе стороны
пускали в ход все виды коррупции, клеветы, инсинуаций и хан-
жества». Эта желчная характеристика вытекает из конкретной
истории политической жизни Англии середины XVIII века, до-
вольно точно воспроизводимой Смоллетом под условными «япон-
скими» наименованиями. Современники без труда узнавали под
экзотическими кличками имена виднейших политических деятелей
60-х годов; в Тайчо угадывали Питта, в Якстроте —Бьюта, в
Джо-Джо —Георга III и т. д. По своему идейному замыслу «Исто-
рия атома» непосредственно примыкала к политическим сатирам
Свифта и Фильдинга.
В этой связи особую значительность приобретает посмертная
«Ода к независимости» (Ode to Independence, 1773) Смоллета, в
которой некоторые критики хотят видеть прямое предвосхищение
надвигавшейся войны за независимость Соединенных Штатов Аме-
рики.
Демократическое свободолюбие Смоллета, было, однако, до-
статочно умеренно. Как большинство английских просветителей „
Смоллет — враг крайностей. Он умеет дорожить британскими бур-
440
жуазными свободами при всей их ограниченности; героическое рес-
публиканство на античный лад увлекает его не больше,чем самодо-
вольный консерватизм. В «Перегрине Пикле» он обдуманно про-
тивопоставляет якобиту Джолтеру столь же комическую фигуру
республиканца-доктора, с нескрываемой иронией говоря о том,что
«узы личных симпатий были слишком слабы, чтобы овладеть серд-
цем этого республиканца, чья любовь к обществу целиком погло-
тила интерес к отдельным лицам».
«История атома», так же как и «Слезы Шотландии» и «Ода к не-
зависимости», стоят особняком в творчестве Смоллета. В целом в
его сочинениях преобладает, как и у Фильдинга, частный, бы-
товой элемент.
Подобно Дефо и Фильдингу, Смоллет обращается к традициям
плутовского жанра, перерабатывая и обновляя их в соответствии
с требованиями просветительского реализма. На первом этапе
развития творчества Смоллета связь его с плутовским романом
выступает особенно заметно. Как показывают самые названия его-
первых романов, оба они — «Приключения Родерика Рэндома»
и «Приключения Перегрина Пикля» — представляют собой исто-
рию пестрых и разнообразных похождений героя, в одиночку
скитающегося по большим дорогам жизни. Родерик Рэндом, с дет-
ства вынужденный своими силами пробивать себе дорогу, успе-
вает еще в молодости перепробовать множество профессий; мы ви-
дим его то аптекарским помощником,то корабельным хирургом,то
лакеем, то наемным солдатом, то профессиональным охотником за
богатым** невестами. Столь же пестра приключениями и жизнь
Перегрина Пикля. Ему, как и Родерику Рэнд ому, также суждено
испытать бесчисленное множество житейских авантюр: трагикоми-
ческие трактирные ссоры и случайные любовные интрижки, до-
машние передряги и великосветские скандалы, долги, тюремное
заключение и тяжелый труд — прежде чем достичь спасительной
благополучной развязки.
Но, будучи построены по традиционной авантюрно-плутовской
сюжетной схеме, унаследованной от испанских пикаресок, смол-
летовские романы-«приключения» неизменно тяготеют к превраще-
нию в просветительский роман воспитания и нравов. Жизненные
испытания формируют характер человека; в конце «Приключений
Родерика Рэндома» дон Родриго, отец героя, благословляет бога
за ниспосланные Родерику злоключения, «которые... несомненно
расширяют ум, улучшают сердце, закаляют организм и подготов-
ляют молодого человека к исполнению долга и к наслаждению
жизнью гораздо лучше, чем любое воспитание». Интерес к «годам
учения» и «годам странствия» героев (по позднейшей терминоло-
гии Гёте) лежит в основе большинства романов Смоллета.
Уже в предисловии к «Приключениям Родерика Рэндома» Смол-
лет, признавая себя в долгу у Лесажа, вступает тем не менее с
автором «Жиль Блаза» в интересную полемику, защищая принципы
более развитого реализма. Он хочет упорядочить содержание ро-
мана, освободив его от всех «необычных», экстравагантных и экзо-
441
тических ситуаций, и, в отличие от Лесажа, внести в изображение
жизни больше горечи и злости.
«Злоключения Жиль Блаза, —пишет Смоллет, —по большей
части таковы, что вызывают скорее смех, чем сострадание; он сам
смеется над ними; и его переходы от бедствия к счастью или, по
крайней мере, довольству настолько внезапны, что читатель не
успевает пожалеть его, а сам он —изведать горя. Такое ведение
действия, по моему мнению, не только отклоняется от правдопо-
добия, но не дает пищи тому благородному негодованию, которое
должно было бы воодушевлять читателя против низменных и по-
рочных склонностей света. Я хотел изобразить скромное достоин-
ство в борьбе со всеми трудностями, которые могут стать уделом
одинокого сироты как благодаря недостатку опыта, так и благодаря
себялюбию, зависти, злобе и подлому равнодушию человечества».
Немногим позже, в «Приключениях Перегрина Пикля», Смол-
лету предстояло во имя этих же принципов просветительского
реализма зло осмеять эпигонов фламандской школы. Глава LXII
романа язвительно повествует о посещении Пиклем и его спутни-
ками мастерской антверпенского «живописца, где они застали ни-
щего, позировавшего для картины, и художника, срисовывавшего
огромную вошь, которая ползла у нищего по плечу».
Художественное творчество самого Смоллета,однако, не вполне
отвечало его эстетической теории; задачи, намеченные им в пре-
дисловии к «Родерику Рэндому», были разрешены в его произве-
дениях лишь частично.
Один из самых поздних английских просветителей, Смоллет
'разделяет уже далеко не все иллюзии своих предшественников^
Скептические сомнения, порожденные самой жизнью, разъедают
изнутри его просветительскую веру в абстрактное всемогущество
Природы и Разума. Враг всякого (в том числе даже и просвети-
тельского) «энтузиазма», Смоллет уже довольно скептически отно-
сится к «человеческой природе». Проверяя оптимистические теории
раннего Просвещения реальным историческим опытом середины
XVIII века, он склонен пессимистически признать пороки бур-
жуазного индивида —беспринципность, себялюбие, жадность —
универсальными «естественными» атрибутами «человеческой при-
роды» вообще.
Любопытен выпад Смоллета против шефтсберианской фило-
софии «оптимизма» в «Приключениях Перегрина Пикля», где герой
иронически рассказывает «о некоем ученом и остроумном джентль-
мене, который взялся опровергнуть существование природного
зла и не потребовал никаких иных data для обоснования своих
доказательств, кроме признания, что «все существующее пре-
красно».
Пессимизм мизантропа-«философа» Кэдуоледера, твердо убеж-
денного в том, что «представители рода человеческого по-
всюду одинаковы, что здравый смысл и честность встречаешь
неизмеримо реже, чем безумие и порок, и что жизнь в лучшем
случае —пустяк» («Перегрин Пикль»), и цинизм Перегрина, по-
442
видимому, несколько импонируют самому Смоллету. Эпизод, в
котором Перегрин Пикль, подобно будущему «Пигмалиону» Бер-
нарда Шоу, берет на себя роль «перевоспитателя» нищенки-под-
ростка (глава LXXXVII), более важен для характеристики про-
светительских взглядов романиста, чем можно предполагать;
Эксперимент, производимый Пиклем над «человеческой природой»,
на первых порах, по видимости, удается: вчерашняя дикарка с
успехом занимает свое место в «светском» обществе. Но перевоспи-
тание оказывается —увы! —неглубоким. «Природа» берет свое;
в изящной светской лэди пробуждается недавняя бродяжка; «вос-
питательный» эксперимент заканчивается неудачей.
Смоллет, как видно, уже не питает иллюзий относительно все-
могущества воспитания и просвещения. Он склонен усомниться и в
способности человека управлять своей судьбой и обстоятельствами.
Творчество его уже лишено той жизнерадостно-оптимистической
гармоничности, которая была характерна для его старшего со-
временника Фильдинга.
Подобно Фильдингу, Смоллет критикует уже не только пере-
житки феодального варварства, но и новые прозаические пороки
«цивилизованного» буржуазного развитая, хотя бы и в очень отвле-
ченном понимании. Всеобщее «плутовство и эгоизм человечества»
(формула, не раз повторяющаяся в «Родерике Рэндоме») всего
более повинны в злоключениях смоллетовских героев. Да и сами
его «герои», в сущности, столь же мало героичны, как и окружаю-
щая их среда. И Родерик Рэндом и Перегрин Пикль изображаются
Смоллетом в весьма прозаическом свете. Родерик Рэндом, при-
званный, по Смоллету, олицетворять своей особой «скромное
достоинство», не только прозаически благоразумен, но даже тру-
соват. В опасности он «теряет голову от страха», в гневе — стра-
дает кровотечением из носа, в отчаянии —выражает желание стать
медведем, а в любовной тоске —оказывается вынужденным «при-
бегнуть к бутылке». Он не слишком обременен моральными прави-
лами и из жертвы чужого мошенничества всегда готов превратить-
ся, в свою очередь, в беззастенчивого плута. И Родерик Рэндом
и Перегрин Пикль, не говоря уже о Фердинанде Фатоме, —не
Только «искатели приключений», но авантюристы в самом букваль-
ном смысле слова, хотя автор и возлагает на них функции «поло-
жительных героев».
Абстрактные представления о неотъемлемых положительных
атрибутах «человеческой природы» уже не удовлетворяют Смоллета.
Рт прекрасных абстракций он обращается к повседневной
рестрой текучей жизни, словно стремясь проверить человека по
зго делам и поступкам, как бы мелки и прозаичны они ни были.
Смоллет исполнен живейшего интереса ко всем формам част-
ной практической деятельности людей, но она воспроизводится
р его романах в виде отдельных разобщенных и замкнутых в себе
Эпизодов, как хаотическая и-беспорядочная стихия. Натуралисти-
ческие тенденции,в большей или меньшей степени присущие всему
английскому направлению просветительского реализма, нигде не
• л 443
проявляются с такой определенностью, как в творчестве Смоллета.
При всей их принадлежности к комическому жанру, романы Смол-
лета уже не могли бы претендовать, подобно романам Фильдинга,
на звание «комических эпопей»: слишком раздробленной, дисгар-
моничной и случайной представляется в них жизнь.
Широкий общественный фон присутствует в большинстве его
романов,но он лишь отражается в зеркале отдельных раздроблен-
ных эпизодов. Многие из них поражают своей сатирической силой;
трудно забыть картины из жизни английского военного флота («Ро-
дерик Рэндом»), страшную историю проститутки мисс Вильяме
(там же), тюремные сцены в «Родерике Рэндоме» и «Перегрине
Пикле».
«Морская тема», подсказанная писателю самой жизнью, —
ведь поколение Смоллета было живым свидетелем того, как закла-
дывались основы колониального могущества Англии, — получила
в его романах необычайно смелую трактовку. Незабываемо
первое знакомство Родерика Рэндома с судовым лазаретом,
где в глубоком трюме «около пятидесяти несчастных больных
висели рядами в такой тесноте, что на каждого, с его постелью,
приходилось не более 14 дюймов пространства, — лишенные
дневного света и свежего воздуха, вдыхая отвратительную
атмосферу ядовитых испарений, исходивших из их же экс-
крементов и больных тел, пожираемые насекомыми, плодив-
шимися в окружающей грязи». Впрочем, по приказанию капитана,
главный врач быстро «освобождает» переполненный лазарет, объяв-
ляя больных матросов симулянтами и притворщиками. «Было бы
тягостно и неприятно описывать судьбу каждого несчастного,
пострадавшего от бесчеловечности и невежества капитана и врача...
Одни испустили дух в присутствии своих инспекторов; другие, по-
сланные на работу, промучились несколько дней среди своих то-
варищей, а затем бесцеремонно отправились на тот свет. В общем,
количество больных было сведено до десятка, и изобретатели этой
меры поздравляли себя с услугами, которые они оказали королю
и отечеству».
После «Приключений Родерика Рэндома» становится понятно,
что заставляло в те времена даже такого консервативного совре-
менника Смоллета, как Сэмюэль Джонсон, находить, что англий-
ский корабль — хуже тюрьмы. Варварская вербовка во флот; це-
лая система легальных и нелегальных издевательств над матросами;
бездарность военно-морского командования, представленного либо
грубыми самодурами, вроде капитана Окома, либо изнеженными
фатами, вроде капитана Уиффля,— все это было изображено Смол-
летом с такой беспощадной правдивостью, что буржуазное обще-
ственное мнение Англии долго не могло простить ему морских эпи-
зодов «Родерика Рэндома».
Все эти сатирические разоблачительные сцены входят в твор-
чество Смоллета на правах отдельных эпизодов. Романам Смоллета
чужда рационалистически упорядоченная композиция, присущая
лучшим произведениям Фильдинга или Ричардсона. Построение
444
«Приключений Родерика Рэндома» и «Приключений Перегрина Пик-
ля» кажется хаотическим по сравнению с современной им «Исто-
рией Тома Джонса, найденыша». Недоверие ко всякой рационалис-
тической предвзятости придает, повидимому, частному бытовому
факту, анекдоту, действительному или вымышленному красочному
житейскому случаю гораздо больше самостоятельной ценности в
глазах Смоллета, чем в глазах других английских романистов зре-
лого Просвещения.
Отдельные эпизоды романов Смоллета зачастую очень слабо
связаны друг с другом; многие главы «Родерика Рэндома» и, в
особенности, «Перегрина Пикля» могли бы легко обменяться ме-
стами, почти не нарушив общего хода действия, — операция, кото-
рую было бы невозможно произвести, например, над «Историей
Тома Джонса, найденыша». Зато любой достоверный жизненный
документ, заинтересовавший писателя, любой реальный факт,
проверенный на его личном опыте, мог легко и непринужденно
расположиться в смоллетовском романе. Композиция у Смоллета
настолько свободна, что он смог, например, без труда ввести в
текст «Приключений Перегрина Пикля» объемистые «мемуары
знатной лэди», в которой современники узнавали тогдашнюю свет-
скую «знаменитость», лэди Вейн; мемуары, повидимому, действи-
тельно принадлежали ее перу.
Раздробленность сказывается и в изображении человеческих
характеров в большинстве романов Смоллета. Веселая снисходи-
тельность Фильдинга, охотно прощавшего людям их житейские
прегрешения и слабости, если они искупались искренней чело-
вечностью и сердечной добротой, сменяется у Смоллета более скеп-
тическим и ироническим взглядом на вещи. Фильдинг, отнюдь не
примитивный в своих этических критериях, все же твердо знал,
что в мире существуют добрые и злые люди, и мог безошибочно
отличить последних от первых. Смоллет уже менее уверен в воз-
можности этих непогрешимых оценок. Люди могут быть хуже или
: лучше, от случая к случаю, смотря по обстоятельствам. И самому
|Смоллету и его читателям трудно было бы ответить на вопрос, добр
|Или зол Родерик Рэндом, добр или зол Перегрин Пикль.
| Герои Смоллета, таким образом, утрачивают ту прочную, за-
ранее предустановленную моральную основу характера, какой,
|ютя бы и в скрытом виде, обладали персонажи «комических эпо-
Йей» Фильдинга; нравственный облик их становится более раз-
дробленным и неопределенным. Перегрин Пикль может служить в
Itôm отношении особенно наглядным примером. Образ Пикля рас-
падается на множество мелких и мельчайших деталей, из которых
каждая в отдельности точно отражает какой-то кусочек бытовой
Юействительнорти, но которые, в совокупности, не дают вполне це-
лостного ее отражения. Кажется, что автор «Приключений Пере-
грина Пикля» сам не вполне уверен в том, как именно следует отне-
рись к его главному персонажу, похождения которого он описывает
I такой откровенностью. Разоблачая во множестве конкрет-
рх эпизодов фатовство, себялюбие и грубость Пикля, Смоллет
I 445
в то же время оставляет за читателем право, при желании сочув-
ствовать этому «герою».
Эта двусмысленность морального облика смоллетовских пер-
сонажей составляет переходное, связующее звено между внутрен-
ней гармоничностью характеров Фильдинга и более сложной пси-
хологической диалектикой Стерна. Смоллет еще придерживается
в своих ранних произведениях того же общепросветительского
принципа, по которому построена «История Тома Джонса, найде-
ныша»; и Родерик Рэндом, и Перегрин Пикль, и Фердинанд Фатом,
испытав все соблазны реальной жизни, выходят морально
очищенными и закаленными из горнила житейского опыта. И в
Рэндоме, и в Пикле, и в Фатоме побеждает их лучшее человеческое
«я». Но это моральное торжество «человеческой природы», неизмен-
но фигурирующее в развязках первых романов Смоллета, уже ме-
нее убедительно, чем в «комических эпопеях» Фильдинга; слишком
плохо согласуется отвлеченная «добродетель» его героев с грязной
практикой их житейского существования, столь трезво изображае-
мой автором.
Комизм Смоллета более груб и желчен, чем жизнерадостный
комизм Фильдинга. Английская критика не без основания говорит
о «свирепости» Смоллета. Автор «Родерика Рэндома» и «Перегрина
Пикля» охотно прибегает к сатирическому гротеску, шаржируя
облик действительности. В небольшой басне-аллегории, предпо-
сланной «Родерику Рэндому», повествуется о том, как некий моло-
дой художник изобразил на полотне беседу медведя, совы, обезья-
ны и осла, в которых зрители не замедлили узнать самих себя.
Басня эта очень характерна, в сущности, для всего стиля Смоллета.
Большинство персонажей его первых романов — причудли-
вые гротескные «монстры». Одни отличаются прямым телесным и
нравственным уродством, другие — моральными и физическими
идиосинкразиями. Смоллет гораздо охотнее, чем Фильдинг, об-
ращается к карикатуре, превращая ее нередко в самоцель. Порт-
реты большинства его героев подчеркнуто карикатурны. Хирург
Краб, хозяин Рэндома, «насчитывал около пяти футов в вышину
и десять футов —в окружности живота; лицо его было обширно,
как полная луна, и по цвету напоминало шелковицу; его нос, похо-
жий на рожок для пороха, раздулся до чудовищных размеров и
был весь усеян карбункулами; а его маленькие серые глазки отра-
жали свет таким косвенным образом, что в то время, как он смотрел
в упор вам в лицо, вы могли вообразить, что он любуется пряжками
ваших башмаков». Капитан Уизель, в том же романе, высту-
пает «в обличий маленького тощего существа... с длинным CMopj
щенным лицом, очень похожим на павианью морду, в верхней
части которого выглядывает пара маленьких серых глазок... Р°"
стом он был около пяти футов и трех дюймов, из которых шест-
надцать дюймов приходилось на его лицо и длинную костлявую
шею: его бедра были около шести дюймов длиной; икры, похожие
на веретена или барабанные палочки, достигали двух с половиной
футов, а остальное приходилось на тело, которое напомнило мне
446
(пишет Рэндом) о протяженности вне материи; так что, в общем,
он походил на выпрямившегося кузнечика или паука».
Многие эпизоды романов Смоллета обязаны своим комическим
эффектом грубоватому «обыгрыванию» физических недостатков ге-
роев: деревянная нога Джека Хэтчуэя и слепота на один глаз ком-
модора Траниона играют немалую роль в шутовских сценках
«Перегрина Пикля».
Смолллет показывает не обобщенный образ «естественного1
человека», а моряков, аптекарей, врачей, военных, трактирщи-
ков, литераторов, судейских, купцов и т. д. При этом сами
профессиональные особенности и привычки его героев по боль-
шей части также изображаются им как курьезные гротескные
чудачества.
Никто из предшествующих английских романистов XVIII века,
конечно, не пользовался жаргоном так широко, как Смоллет. Его
моряки обладают во всех случаях жизни неистощимым запасом
непереводимых морских словечек; его купец, Гамалиэль Пикль
старший, объясняется в любви по всем правилам коммерческой
корреспонденции.
Самые прославленные комические эпизоды первых романов
Смоллета обусловлены чаще всего именно этими физическими и
моральными «странностями» его героев. Эксцентричная внешность
провинциалов Рэндома и Страпа подает повод к шумному уличному
скандалу при их первом появлении в Лондоне. Неспособность моря-
ка Траниона привыкнуть к «сухопутным» обычаям доходит до того,
что, отправляясь в церковь на собственную свадьбу, он направляет
«курс» своей лошади по всем правилам кораблевождения — ил
конечно, попадает впросак. Маниакальная преданность класси-
ческой древности заставляет доктора в «Перегрине Пикле» уго-
стить своих знакомых поразительно несъедобным обедом, приготов-
ленным по рецептам античной кулинарии. У карикатурного
политикана Феррета («Приключения сэра Ланселота Гривза»)
даже демагогия превращается в комическую привычку.
/ В самых фамилиях персонажей как бы кристаллизуется их
Эксцентрическое «амплуа». Перед нами учитель Синтакс («синтак-
сис»), аптекари Пошен («лекарство») и Лэвмент («промывательное»),
лейтенант Хэтчуэй («люк»), капитан Оком («конопать»), сквайр
Гоки («остолоп») и сквайр Тикет («заросли»), офицер Гантлет
(«перчатка»), художник Пеллет («палитра»), поэт Мэтефор («мета-
фора») и т. д.
Даже фамилии главных героев определенным образом ограни-
чивают сферу их деятельности: фамилия «Рэндом» (английское
fыражение at random — наугад, наобум) как бы предполагает
заранее, что ее носителю суждено быть игралищем случая; фамилия
Шикль» по своему смысловому значению предполагает героя-по-
ûecy, которому придется не раз побывать в неприятных пере-
делках.
В отличие от Фильдинга, который обычно с особым удоволь-
ствием выясняет скрытые мотивы поведения своих героев, Смоллет
А47
очень часто воздерживается от объяснения странностей своих пер-
сонажей. Непоколебимая преданность Пайпса Перегрину Пиклю,
в сущности, столь же «иррациональна», как и непонятная «npotHBo-
естественная» ненависть, которую питает к этому герою его соб-
ственная мать, миссис Гамалиэль Пикль.
Воздерживаясь от дидактических абстракций, Смоллет гораздо
более заинтересован в этих романах действием, как таковым, чем
его психологической мотивировкой; и «Приключения Родерика
Рэндома» и «Приключения Перегрина Пикля» полны движения и со-
бытий. При всем этом в'грубоватом комизме Смоллета, столь род-
ственном, по видимости, испанским пикарескам и французскому
«комическому роману», скрывалось немало просветительской серьез-
ности и даже чувствительности.
Подобно Фильдингу, Смоллет дополняет Лесажа Серванте-
сом. Сервантесозская тема играет ив его творчестве значительную
роль, постепенно развиваясь и нарастая от «Родерика Рэндома»
к «Гемфри Клинкеру». Через романы Смоллета проходит длинная
вереница чудаков-оригиналов, нелепая внешность и поступки кото-
рых сочетаются с внутренней человечностью и благородством.
Особенно любопытен с этой точки зрения образ коммодора Трани-
она в «Перегрине Пикле».Изображая коммодора в начале книги лишь
как нелепого грубияна и забулдыгу, Смоллет постепенно «очелове-
чивает» и усложняет его характер. На первых порах комический
эффект этого образа вытекает преимущественно из несоответствия
между поведением Траниона и привычными законами общежития
и здравого смысла (знаменитые эпизоды бракосочетания Траниона
и его первой брачной ночи, грубые шутовские проделки в «крепости»
и т. д.). Транион смешон потому, что он — нелеп и «неразумен».
В дальнейшем, однако, центр тяжести постепенно перемещается
на противоречие между внешней грубостью" и внутренней добротой
Траниона, и сама комическая трактовка образа коммодора стано-
вится более вдумчивой и мягкой. Расставаясь со старым моряком,
читатель находит его не только смешным, но и трогательным. За-
бавная надгробная надпись на могиле коммодора полна глубокого
и серьезного пафоса.
Здесь покоится
На глубине девяти футов
Остов
Хаузера Траниона, эсквайра,
Бывшего командующего эскадрой
На службе его величества;
Который повернул круто к ветру в пять часов
пополудни октября 10-го,
Имея от роду
Семьдесят девять лет.
Пушки его были всегда заряжены
И такелаж в полном порядке,
И он никогда не показывал кормы неприятелю,
Разве только, когда брал его на буксир;
Но,
Когда снаряды его иссякли,
448
Все фитили были сожжены
И надводная часть разбита,
Он затонул
Под тяжким грузом Смерти.
Однако
Его поднимут со дна
В Великий День,
С обновленными снастями
И исправным кузовом,
И, дав залп из всех орудий,
Он пустит ко дну
Своего врага.
Транион-чудак оказывается настоящим человеком.
Следующие два романа — «Приключения графа Фердинанда
Фатома» и «Приключения сэра Ланселота Гривза» образуют
новый, переходный этап в творчестве Смоллета. Трещинка, про-
ступавшая уже и ранее на поверхности смоллетовского «просве-
тительства», теперь становится глубже и заметней. И «Фердинанд
Фатом» и «Ланселот Гривз», каждый по-своему, свидетельствуют
о внутреннем кризисе просветительского реализма Смоллета.
Характерно, что в каждом из этих произведений Смоллет при-
ближается к одному из тех новых художественных течений, которые,
начиная со второй половины XVIII века, вступили в литератур-
ную оппозицию к просветительскому реализму середины столе-
тия. «Приключения графа Фердинанда Фатома» предвосхищают
уже отчасти будущий «готический роман», «Приключения сэра
Ланселота Гривза» близки к сентиментализму. Это, конечно, не
могло объясняться простым влиянием литературной «моды».
В какой бы спешке и погоне за сенсацией ни писались эти — по су-
ществу, очень слабые — романы СМоллета, в их новых особенно-
стях скагавалось, очевидно, сознательное или бессознательное
тяготение автора к пересмотру принципов просветительского pea-
i-лизма под тем же углом зрения, под каким пересматривали их анг-
лийские сентименталисты и предромантики.
£* В «Приключениях графа Фердинанда Фатома» традиционная
Ьсхема плутовского романа получает трагическое переосмысле-
ние. Жизнь начинает казаться по-новому серьезной, запутанной
|»и романтически сложной. Авантюрист Фатом выступает уже не в
^комической, а в серьезной роли «рокового» злодея. Во многих
^эпизодах романа Смоллет пытается, подобно будущим мастерам
^готического» жанра, играть на воображении читателя, поражая
гего таинственными и страшными картинами. Такова, в особенности,
-'история мнимо-умершей Монимии-Серафины, возвращенной к
дкизни заклинаниями своего возлюбленного.
3 Поиски новых путей заметны и в «Приключениях сэра Лансело-
•та Гривза». «Донкихотский» протест против несправедливости обще-
ственных порядков Англии, звучавший уже в первых романах Смол-
лета, выражается здесь с гораздо большей взволнованностью и
полнотой. Этот роман Смоллета посвящен той же теме «Дон Ки-
хота в Англии», которая тремя десятилетиями раньше подала повод
-^ Англ. литература 449
к созданию одноименной сатирической комедии Фильдинга. На
этот раз, однако, бессмертный герой Сервантеса натурализуется
на английской почве и предстает перед читателем в преображенном
романтическом облике молодого баронета сэра Ланселота Гривза,.
решившего не расставаться с боевым рыцарским вооружением до
тех пор, пока он не искоренит мечом и копьем всех злоупотребле-
ний и беззаконий в Англии XVIII века.
Как и Сервантес, Смоллет заставляет своего героя расплачи-
ваться за наивное нежелание считаться с законами «нормальной»
действительности; но вместе с тем история борьбы сэра Ланселота
за восстановление попранной справедливости дает Смоллету воз-
можность,—подобно автору «Дон Кихота», — подвергнуть сатири-
ческому осуждению, в свою очередь, и самую эту «нормальную» дей-
ствительность. /
Сюжет «Приключений сэра Ланселота Гривза» примитивен,
образ главного действующего лица подчеркнуто условен; но многие
сцены этого романа могут быть поставлены по своей сатирической
резкости рядом с лучшими эпизодами «Родерика Рэндома». Замеча-
тельно сатирическое описание парламентских выборов, в которых
уже нетрудно уловить мотивы будущей «Истории атома». Оба сопер-
ничающих кандидата на место в парламенте — и сэр Валентин Куик-
сет (торий), и м-р Айзек Вандерпельфт (виг) — изображены r
настолько непривлекательном, комическом виде, что легко почув-
ствовать, как мало доверия питает Смоллет к совершенствам анг-
лийской парламентской системы. Английская юстиция представле-
на в романе злым сатирическим образом судьи Гоббля, самая фами-
лия которого («живоглот») по-смоллетовски красноречива. Большое
впечатление производят тюремные сцены, разоблачающие изде-
вательства и произвол, жертвами которых становятся и взрослые,
и дети, и преступники, и ни в чем неповинные люди, стянутые в.
безжалостный механизм буржуазного правосудия. Именно в этих
эпизодах проявляется особенно живо необычная для прежнего
Смоллета чувствительность.
«О, если такое подлое пресмыкающееся будет безнаказанно му-
чить людей, если такой презренный негодяй будет властен вершить
столь бесчеловечные и тиранические дела', то чего стоит закон?
Где же наша знаменитая конституция, свобода, права подданных^
хваленая гуманность британской нации?»— восклицает герой Смол-
лета, возмущенный произволом судьи. Гоббля.
Сентиментальный критерий «доброго сердца» приобретает особое
значение в этом романе Смоллета. Злодеяния судьи Гоббля ока-
зываются «не столько следствием необразованного ума, сколько
ядовитым порождением злобного сердца». И напротив,
безрассудный Ланселот Гривз с его полуманиакальными
чудачествами становится «всерьез» положительным героем ро-
мана, ибо он обладает истинно добрым сердцем. Подобно Фильдин-
гу — создателю «донкихотских» образов пастора Адамса и Тома
Джонса — Смоллет, как видно, невольно вынужден, под давле-
нием самой жизни, взять под сомнение моральную непогрешимость
450
буржуазного «здравого смысла». Объективно автор «Приключений
Ланселота Гривза» уже приближается к сентименталистам с их
противопоставлением непосредственного чувства сухому и трез-
вому рассудку.
Особенно любопытны черты подражания Стерну, заметные в
«Ланселоте Гривзе». Можно подумать, что «Тристрам Шенди», пер-
вые тома которого уже снискали шумный успех двумя годами
раньше, послужил для Смоллета прецедентом1 в искусстве
«игры» людьми и событиями. Характерное название шестнадца-
той главы «Ланселота Гривза», — «которую, надеемся, читатель
найдет приятной смесью веселости и безумия, смысла и бессмыс-
лицы», ■*— выражает, в сущности, весь дух этого стерниански
причудливого романа, всерьез повествующего о подвигах новоявлен-
ного средневекового рыцаря, совершаемых среди бела дня в про-
свещенной Англии.
Сближение с сентиментализмом, наметившееся уже в «При-
ключениях; сэра Ланселота Гривза», впервые стало вполне оче-
видным в последнем, предсмертном романе Смоллета. «Путешест-
вие Гемфри Клинкера» представляет самостоятельный, третий и
последний, период в развитии творчества Смоллета.
Об источниках этого романа писалось немало; критика, в част*
ности, не без основания ссылалась на шутливый «Новый путево-
дитель по Бату» Анстея, откуда Смоллет действительно
заимствовал, повидимому, некоторые ситуации, характеристики и да-
же собственные имена нескольких героев. В целом, однако, «Путе-
шествие Гемфри Клинкера», может быть, более «самобытно», чем
любое предшествующее произведение Смоллета.
В сюжете романа еще сохранились следы привычной для Смол-
лета «авантюрной» традиции. «Путешествие Гемфри Клинкера»
построено, как история дорожных приключений старого оригинала
Мэтью Брэмбля, путешествующего для поправки здоровья по
английским и шотландским курортам в сопровождении сестры —
старой девы, молоденькой племянницы, племянника и других
домочадцев.
\ Но вместе с тем «Путешествие Гемфри Клинкера» меньше всего
йможет быть названо «романом приключений». То, что происходит
р его героями, занимает Смоллета гораздо меньше, чем то, как вос-
принимают они происходящее. Знаменательно, что во вступлении
1к своему роману он ссылается, как на произведение аналогичного
|канра, на «Сентиментальное путешествие» Стерна. Действительно,
(«Путешествие Гемфри Клинкера» также в своем роде «сентимен-
тальное путешествие».
! С этим новым для Смоллета интересом к внутренней, психо-
логической жизни героев связано и его неожиданное обращение к
Необычной в его творчестве эпистолярной форме. «Путешествие
1'Гемфри Клинкера» написано в виде романа в письмах. Одни и те
jjgKe события вызывают самые разнородные реакции со стороны столь
^различных участников, как юная Лидия Мельфорд и ее сварливая
|д:етка, старый ворчун Брэмбль и его непоседа-племянник, только
[29* 451
что покинувший стены Оксфорда. Любовное увлечение Лидии
переплетается с хозяйственными и матримониальными планами ее
тетушки, брюзгливые бюллетени о здоровье Мэтью Брэмбля — с за-
дорной болтовней молодого Джерри Мельфорда. Жизнь, показанная
сквозь призму различных характеров и темпераментов, оказы-
вается гораздо более противоречивой и сложной, чем в прежних
романах Смоллета, «Один и тот же предмет может быть прекрасным
в одном отношении и отвратительным в другом», — замечает Мэтью
Брэмбль, формулируя, в сущности, «мораль» всей книги.
И в самом отношении писателя к людям сказывается на этот
раз гораздо больше терпимости и мягкости, чем это бывало раньше.
Грешки и слабости его героев (брюзжание Мэтью Брэм 5ля и се-
бялюбие его сестры Табиты, наивность Лидии Мельфорд и занос-
чивость ее брата) разоблачаются Смоллетом не с прежним сухим,
желчным сарказмом, а с теплым и снисходительным юмором. Ка-
жется, что эксцентричность семейства Брэмбль не только смешна,
но очень дорога Смоллету, ибо в ней непосредственно и искренно
проявляется подлинная, живая, индивидуальная «человеческая
природа» его героев.
Среди персонажей «Путешествия Гемфри Клинкера» нет ни
одного, который не был бы чудаком в своем роде. Чудачества се-
мейства Брэмбль неисчислимы. Джерри Мельфорд вызывает на
дуэль совершенно незнакомого человека лишь потому, что его
зовут Вильсоном, а под эт й фамилией Мельфорду известен поклон-
ник его сестры. Гемфри Клинкер, приняв случайное восклицание
купающегося Мэтью Брэмбля за вопль о помощи, насильно «спа-
сает» и, несмотря на все протесты, вытаскивает его за ухо с мел-
кого места на сушу. Горничная Винифред Дженкинс, взявшись
вести решающие переговоры с поклонником Лидии, забывает самое
главное — его фамилию.
Самый язык, на котором изъясняются герои Смоллета, не менее
удивителен, чем их поступки. В письмах Табиты Брэмбль и Вини-
фред Дженкинс обычный прозаический разговорный английский
язык подвергается непереводимым чудодейственным метаморфо-
зам: наслегшик (heir) превращается в зайца (hare), душа (soul) в
подметку (sole), а Библия (bible) —в счет за пироги (pye-bill)!
Не последним в этой веренице чудаков оказывается и сам автор.
Он на мгновение показывается читателям во вступлении романа
в маскарадном обличий валлийского пастора Джонатана Дэст-
вича, торгующегося с издателем по поводу издания переписки
семейства Брэмбль, а затем исчезает за кулисами, чтобы неожидан-
но появиться собственной персоной среди действующих лиц своей
книги. В письме из Лондона Джерри Мельфорд рассказывает о том,
как ему случилось в прошлое воскресенье отобедать у извест-
ного литератора С, в котором нельзя не узнать самого Смол-
лета.
И не сказалось ли «чудачество» автора в самом выборе на-
звания романа, озаглавленного, подобно «Тристраму Шенди» Стер-
на, по имени героя, появляющегося перед читателем лишь в сере-
452
дине книги и играющего в ней фактически довольно второстепенную
роль?
Кажущаяся легкомысленная беззаботность не мешает юмору
Смоллета оставаться, в сущности, очень серьезным. В желчных
филиппиках Мэтью Брэмбля сказывается неизменная оппозиция
Смоллета к общественным порядкам Англии. Но писателя зани-
мают теперь уже не только политические злоупотребления; по-
добно сентименталистам, Смоллет ставит под сомнение и социаль-
ные и экономические формы буржуазного прогресса. В «Родерике
Рэндоме» и «Перегрине Пикле» богатство само по себе не только
не вызывало в Смоллете этических сомнений, но, напротив, ка-
залось естественной целью человеческих стремлений и необходимым
залогом действительного счастья. В «Путешествии Гемфри Клин-
кера» Смоллет берет под сомнение «законность» и «естественность»
наживы. Нападки Мэтью Брэмбля на «всеобщий поток роскоши,
затопивший всю нацию и увлекший все на своем пути»^ очень
близки к обычным суждениям сентименталистов о пагубности
богатства и роскоши.
Коммерческое процветание буржуазной Англии становится в
«Гемфри Клинкере» предметом язвительной сатиры. «Чиновники
и управляющие из Индии, обремененные богатствами ограбленных
провинций; нивесть как разбогатевшие плантаторы, рабовла-
дельцы, торгаши с наших американских плантаций; агенты, интен-
данты и поставщики, разжиревшие за две войны на крови народа;
ростовщики, маклеры и всякого рода дельцы... вот состав так
называемого светского общества в Бате», — пишет Мэтью
Брэмбль.
Лондон кажется Мэтью Брэмблю «уродливо разросшимся чу-
довищем, которое, как распухшая от водянки голова,.лишит тело
д конечности питания и поддержки». Вместе со своим героем Смол-
лет с горечью пишет о том, как изменилось к 70-м годам
XVIII века лицо английской провинции. Обезлюдевшие деревни,
исчезновение самостоятельных мелких фермеров, рост нищеты, пре-
ступности и смертности в народе —так рисуются в «Путешествии
Гемфри Клинкера» печальные результаты буржуазного прогресса
|Англии, вступившей в период промышленного переворота.
^Подобно большинству сентименталистов, Смоллет противо-
поставляет этому реальному миру хищничества и разложения поэ-
тическую идиллию. Скромная усадьба в валлийской глуши, куда
Развращаются после своей вылазки в буржуазную действительность
Клены семейства Брэмбль, играет в «Путешествии Гемфри Клин-
Шра», в сущности, ту же роль, что идиллический Кларан, проти-
Щстоящий развратному Парижу в «Новой Элоизе» Руссо, а позд-
î$fefe в XIX веке,— веселый Дингли-Делл м-ра Уардля, уютное
|?|$$бежище героев «Пиквикского клуба».
|\^'Щтношение Смоллета к природе становится теперь по-новому
ШрЦйональным. Словечко «romantic», ранее очень редкое у Смол-
;|^?а, то и дело встречается на страницах «Путешествия Гемфри
Црйнкера» в применении к озерам, ущельям и рощам. Лирически
I:-'.-- 453
«прочувствованные» пейзажи и прежде всего, конечно, дикие и
живописные пейзажи родной Шотландии являются неотъемлемой
частью последнего романа Смоллета.
Но, при всей близости «Путешествия Гемфри Клинкера» к сен-
тиментализму, Смоллет попрежнему сохраняет в своих взглядах .
достаточно просветительской трезвости. Приближаясь к сентимен-
талистам в их критике буржуазного прогресса, он разделяет
далеко не все их иллюзии. Констатируя распад прежних, патриар-
хдльных форм хозяйства и жизни, он не мечтает о возврате к прош-
лому. Его чувствительность не переходит ни в мистику, ни в ир-
рационализм. Автор «Путешествия Гемфри Клинкера» остается
все тем же противником всяческой поповщины, каким он был и
раньше, когда говорил, что кальвинизм и католичество отличаются
друг от друга точно так. же, как трагедия от комедии, и что досто-
почтенная англиканская церковь Представляет собой чисто поли-
тическое учреждение. Изображая своего Гемфри Клинкера сторон-
ником английского методизма —этой «религии сердца»,—он
мягко, но недвусмысленно подсмеивается над его проповедническим
экстазом и попрежнему противопоставляет, устами Мэтью Брэмбля,
«свет разума» всяческому религиозному «энтузиазму».
Смоллет, как и Фильдинг, оказал огромное влияние на развитие
английской литературы; именно Фильдинга и Смоллета назвал
Вальтер Скотт двумя «отцами романа» в Англии. Английские пи-
сатели-реалисты, учившиеся у Фильдинга, учились, вместе с этим,
и у Смоллета.
Уже в первые десятилетия XIX века Смоллет находит биографа
и преданного ценителя в лице Скотта, который сравнивал Смоллета
с Рубенсом. В критико-биографической статье о Смоллете для
серии «Английских романистов» Вальтер Скотт не только восхи-
щается «неподражаемыми» образами смоллетовских моряков и,
в особенности, «самым приятным из всех его сочинений», «восхи-
тительным» «Путешествием Гемфри Клинкера», но даже склонен
во многом отдать Смоллету предпочтение перед Фильдингом. Пред-
ставляется несомненным, что именно своему шотландскому собра-
ту был обязан Вальтер Скотт той своеобразной жанрово-бытовой,
комической струей, которая проходит сквозь все его исторические
романы. Комические бытовые персонажи Скотта — Николь Джер-
ви, Питер Пиблс и множество других — состоят в потомственном
родстве с «юмористами» Смоллета.
Многим был обязан Смоллету, как и всему просветительско-
му реализму XVIII века, Байрон, ссылавшийся на «Родерика Рэн-
дома» и «Перегрина Пикля» в оправдание реалистической смелости
своего «Дон Жуана»,
В середине XIX века влияние Смоллета на английскую лите-
ратуру становится особенно заметным. Оба виднейших предста-
вителя английского классического буржуазного реализма, Дик-
кенс и Теккерей, очень многое заимствуют у Смоллета. В желчной
иронии Теккерея звучат отголоски смоллетовской сатиры, и самое
«обыгрывание» людей-марионеток, столь частое у Теккерея-са-
454
тгирика, напоминает приемы Смоллета, охотно ограничивавшего
своих героев определенным комическим «амплуа».
Диккенс относился к Смоллету с особенной любовью. В одной
щ начальных глав «Давида Копперфильда», которой хочется при-
дать автобиографическое значение, встречаются теплые воспомина-
ния о романах Смоллета. «Целый месяц я лелеял в своей душе образ
Родерика Рэндома», —'рассказывает Давид Копперфильд, вспо-
миная о своем безрадостном раннем детстве.
Большинство ранних романов Диккенса по самому своему за-
мыслу очень близко напоминают романы Смоллета. К «Оливеру
Твисту» или «Николаю Никльби» можно без всяких изменений при-
ложить слова Смоллета о борьбе «скромного достоинства» с «себя-
любием, завистью, злобой и подлым равнодушием человечества»,
какими тот охарактеризовал когда-то общий замысел своего «Роде-
рика Рэндома». В лице незабываемых простодушных чудаков Дик-
кенса, кажется, воскресают к новой жизни комические персонажи
Смоллета, столь же гротескно-нелепые, как и сто лет назад, но
показанные сквозь призму нового, более мягкого и лирически-
теплого юмора. Капитан Кэттль из «Домби и сын» и коммодор
Транион, мистер Пиквик и Мэтью Брэмбль — сродни друг
Другу.
За пределами Англии Смоллет пользовался сравнительно мень-
шей популярностью.
Из двух произведений Смоллета, изданных при его жизни во
французском переводе, ни «ПерегринПикль», ни «Родерик Рэндом»,
изданные, кстати сказать, под именем Фильдинга, не имели во
Франции большого успеха.
Несколько более радушно было встречено творчество Смоллета
в Германии. Все его романы были уже в XVIII веке переведены на
немецкий язык; лучшие из них — «Родерик Рэндом», «Перегрин
Пикль» и «Гемфри Клинкер»— успели до конца столетия выдержать
то нескольку изданий.
В России Смоллет также стал известен еще в XVI11 веке. В 1788 г.
появились в русском переводе (с французского) «Похождения
Родрика Рандома», сочинение Г. Фильдинга (!). В том же году
вышла без указания автора «Веселая книга, или шалости челове-
ческие» (перевод с французского Грибовского), представлявшая со-
бой не что иное, как вольную переделку французского перевода
«Перегрина Пикля». Немногим позже, в 1789 г., появилось «Путеше-
ствие Гунфрия Клинкера, сочинение г. Смоллета» (перевод с не^
тецкого Ивана Захарова).
В XIX веке Смоллет продолжал пользоваться популярностью
у русского читателя. «Смоллет, описавший морские нравы, дал
нам такие из меди литые фигуры, по которым хорошо поймет каж-
дый, какого закала английская раса», —писал Ф. И. Буслаеву
А. Ф. Писемский (4. ноября 1877 г.).
Двухтомное издание «Перегрина Пикля» в новом переводе
вышло в советское время в издательстве «Academia».
455
2
Английский реалистический роман середины XVIII века, до-
стигший своего расцвета в творчестве Ричардсона, Фильдинга и
Смоллета, представлен также сочинениями многочисленных второ-
степенных писателей. Некоторые из них разрабатывают жанр са-
тирического романа; таков, например, Фрэнсис Ковентри (Fran-
cis Coventry? — 1759?),автор «Истории Помпея Малого, или жизни
и приключений комнатной собачки» (The History of Pompey the
Little: or The Life and Adventures of a Lap-Dog, 1751) и Чарльз
Джонстон (Charles Johnstone, 1719?— 1800?), автор «Хризаля,
или приключений гинеи» (Chrysal, or The Adventures of a Guinea,
1760—1765) — сатирической истории английской политической
жизни времен Семилетней войны, — предвосхитивший отчасти
Смоллета как автора «Истории атома».
Большинство английских романистов середины XVIII века
культивирует жанр бытового романа. Сара Фильдинг (Sarah Fiel-
ding, 1710—1768), сестра знаменитого романиста, подражая своему
брату, перерабатывает в просветительском духе традиции авантюр-
но-плутовского романа в «Приключениях Давида Симпля, по-
вествующих о его странствованиях по Лондону и Вестминстеру в
поисках истинного друга» (The Adventures of David Simple, etc.,.
2 тт. — 1744; 3-й том— 1752) и создает своеобразный «роман воспи-
тания» в «Гувернантке» (The Governess, 1749).
Немалой популярностью пользовалось у современников твор-
чество Шарлотты Леннокс (Charlotte Lennox, 1720—1804). Осо-
бенный успех имел ее роман «Дон Кихот-девица» (The Female
Quixote, 1752), снискавший похвалы Фильдинга и Сэмюэля Джон-
сона. На примере своей героини, восторженной мечтательницы,
воспитанной в уединении и судящей о жизни по вымыслам своих
любимых романистов — Скюдери и ее подражателей — Леннокс
не без остроумия высмеивает «возвышенные» сентиментальные
иллюзии, противопоставляя им трезвую прозу действитель-
ности.
Среди второстепенных представителей бытового реалистическо-
го романа зрелого Просвещения выделяется своим талантом Фрэн-
сис Берни (Frances Burney, 1752—1840), в замужестве д'Арблз»
(d'Arblay). Дочь музыканта, имевшего доступ в кружок Сэмюэля
Джонсона, она рано приобщилась к литературе. Ее первый роман
«Эвелина, или выход в свет молодой лэди» (Evelina, or the history
of ayonug lady's entrance into the world) появился в 1778 г. За ним.
последовали «Цецилия, или записки наследницы (Cecilia, or Memoirs.
of an Heiress, 1782) и другие романы. Успех первых произведений
Берни был огромен; Сэмэюль Джонсон громогласно восхищался
«Эвелиной». В 1786 г. писательница была назначена фрейлиной при
дворе королевы Шарлотты, жены Георга III; история ее придвор-
ной жизни рассказана в посмертных «Дневниках и письмах» (Diary
and Letters, 1842—1846), послуживших поводом для известной-
статьи о писательнице Маколея, ее восторженного ценителя..
456
Творчество Верни отмечает известный перелом в истории анг-
лийского реалистического романа. Унаследовав реалистические
традиции просветительского романа, она в совершенстве владеет
искусством живого изображения повседневного быта и нравов и
даром тонкого психологического анализа. Недаром в предисловии
к «Эвелине» она называет себя ученицей Ричардсона, Фильдинга
и Джонсона. Но жанр реалистического романа утрачивает в ее
сочинениях широту и разносторонность, присущую ему в твор-
честве просветителей. Просветительский гуманистический пафос,
злой сатирический гротеск, юмор, бесстрашно проникающий во
все уголки жизни, — все это исчезает из романов Берни. Кругозор
романистки ограничивается рамками комнатного, салонного мирка,
где правила «хорошего тона» играют едва ли не большую роль,
чем законы «человеческой природы». Творчеством Берни в англий-
ской литературе открывается история буржуазного семейного ро-
мана в собственном, узком смысле этого слова.
•
Глава 4
СЭМЮЭЛЬ ДЖОНСОН И ЭССЕИСТЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ:
XVIГI ВЕКА
1
Оттесненный на задний план литературной жизни в связи с
расцветом реалистического романа, жанр «эссея» был, однако, ши-
роко и разнообразно представлен в многочисленных журналах се-
редины XVIII века. Английские литературоведы называют
ВО-е годы XVIII века «вторым великим десятилетием» в истории
английского «эссея», считая первым — годы издания «Болтуна»,.
«Зрителя» и других журналов Аддисона и Стиля.
Многие крупные писатели этого времени, наряду с другими
(рсанрами, уделяли внимание журнальному «эссею». Фильдинг отдал
iiy дань в «Бойце», «Истинном патриоте», «Журнале якобита» и
Ковент-г'ардеиском журнале», Гольдсмит — в своей «Пчеле».
I Но самым видным из эссеистов, пришедших на смену Аддисону
I Стилю, был Джонсон.
I Литературная деятельность Сэмюэля Джонсона (Samuel John-
Ifl, 1709—1784) была крайне многообразна. Сын обанкротившегося
Цовициального книготорговца, рано вынужденный обратиться
писательству, как к единственному источнику существо-
!ния («надо быть дураком, чтобы писать не ради денег», — гова-
рал он впоследствии), Джонсон испробовал свои силы чуть ли
-во всех литературных жанрах того времени. Ему довелось быть
Переводчиком, и стихотворцем, и драматургом, и биографом, и
•итиком, и лексикографом, и публицистом, — и снискать себе
местность в большинстве этих областей.
■■] Как ни значительны бесспорные заслуги Джонсона перед анг-
лийской литературой, с точки зрения стороннего, наблюдателя они.
45Т
представляются, однако, не вполне соразмеримыми с тем колос-
сальным престижем, который на протяжении двуххтолетий окру-
жает его имя в Англии. Сделавшись еще при жизни предметом
настоящего литературного культа, он и поныне остается у себя
на родине наиболее популярным и чтимым из всех критиков, каких
знала английская литература. «Поколение» или «век Джонсона»
»(ГЬе age of Johnson) стали нарицательным наименованием для
одного из самых цветущих периодов литературной истории
Англии.
Этой популярностью Джонсон обязан не только конкретному
содержанию своих литературных трудов, но отчасти и своеобра-
зию своей личности. Среднему современному английскому читателю
Джонсон-человек известен едва ли не лучше, чем Джонсон-лите-
ратор.
Автору «Расселаса». посчастливилось найти в лице своего млад-
шего современника и горячего поклонника Джемса Босвеля (James
Boswell, 1740—1795) редкостного биографа. Босвелевская «Жизнь
Сэмюэля Джонсона» (The life of Samuel Johnson, etc., 1791), к ко-
торой примыкает вышедший несколько ранее «Дневник путешест-
вия на Гебриды» (The Journal of a Tour to the Hebrides, 1785), пред-
ставляет собой исключительный по живости и исчерпывающей
подробности образец биографии. Босвель одним из первых перенес в
разработку биографического жанра лучшие традиции английской
реалистической повествовательной литературы XVIII века. Не-
устанно занося в особый дневник малейшие подробности своих встреч
и бесед с Джонсоном за все время их двадцатилетнего знакомства,
собрав целый свод писем, воспоминаний современников и других
документов, относящихся к «Джонсониане», Босвель получил воз-
можность воссоздать на страницах своей книги необычайно жиз-
ненный и колоритный образ Джонсона-писателя и Джонсона-че-
ловека со всеми его взглядами, привычками и странностями.
Противоречие, доходящее до парадокса, — стихия Джонсона.
Просветительская вера в спасительность науки и образования
сочетается в нем с крайней религиозностью, сочувствие беднякам
и ненависть к рабству — с проповедью строжайшей социальной
«субординации». Джонсону принэдлежит знаменитое «Письмо лор-
ду Честерфильду», с которого история литературных нравов Англии
ведет начало освобождения литературы от покровительства знат-
ных меценатов. Но стремление к независимости своего литератур-
ного труда, которым продиктовано это негодующее письмо-памфлет,
не помешало Джонсону, приверженцу павшего дома Стюартов,
принять денежную пенсию от «ганноверского» короля Георга III
и верой и правдой служить своему новому «покровителю». Кажет-
ся, что Джонсону, каким его изображает Босвель, доставляет
особое наслаждение эта нарочитая «непоследовательность» пове-
дения и мысли.
Джонсон придерживается очень трезвых взглядов на вещи.
Недаром признает он, что Мандевиль «открыл ему глаза на реаль-
ную жизнь». Он знает, что такое нищета, голод, безработица, и зло
458 .
полемизирует с шефтсберианцами, благодушно рассуждающими
об особых преимуществах «отсутствия богатств».
Подобно своим современникам Фильдингу и Смоллету, он весьма
скептически относится к «свободам» и «патриотизму» буржуазной
Англии. «Когда мясник заявляет вам, что его сердце обливается
кровью за родину, он не испытывает, в действительности, ни
малейшего неприятного чувства», — замечает он в беседе с Бо-
свелем.
Но, прекрасно отдавая себе отчет в действительной цене, которую
платят народы за буржуазный прогресс, Джонсон все же приемлет
£го полностью и без оговорок. Ему «трудно представить себе более
невинное занятие, чем наживать деньги». И Свифт и Руссо — пер-
вые критики буржуазной «цивилизации» — вызывают в нем него-
дование. Его гнев успокаивается лишь предположением, что автор
«Общественного договора» «знает, что говорит вздор, и смеется над
изумленно взирающим на него миром».
Житейский здравый смысл Джонсона оказывается достаточным
,для того, чтобы предохранить его от субъективно-идеалистической
философии Беркли (он шутя доказывает Босвелю реальность мате-
рии, топая ногой о землю), но недостаточным для того, чтобы спасти
его от суеверных мыслей о загробном мире, отравивших ему жизнь.
Короче говоря, Джонсон выступает во всей своей многообразной
деятельности как типичный представитель противоречивой «золо-
той середины» просветительской мысли Англии XVIII века.
Уже это придавало ему особое обаяние в глазах его буржуазных
потомков, возведших Джонсона, по словам новейшего исследователя
Бэйли, на степень «национального учреждения». Джонсон пред-
ставлялся как бы живым воплощением духа английского практи-
цизма и здравомыслия, «нелюбви к теории» и недоверия к полити-
ческим «бредням».
Личные особенности Джонсона еще усиливали его обаяние.
Герой биографии Босвеля и оригинал известного портрета Рей-
нольдса вошел в сознание нескольких поколений английских чи-
тателей, вместе с незабываемым дядей Тоби и мистером Пиквиком,
.как один из тех чудаков-«юмористов», которыми так богата анг-
лийская литература. Важность моралиста и ученого сочеталась в
нем с почти ребяческой непосредственностью; жесткость в отно-
шении к людям — с искренней нежностью к калекам и неудачни-
кам, к детям и животным; компромиссность взглядов — с величай-
шей полемической страстностью в споре. Все в нем — его туч-
ная, грузная фигура и крайняя близорукость, неуклюжая походка
и странности разговора, чудовищный аппетит и неряшливость
костюма — было парадоксально.
Первые литературные опыты Джонсона давно преданы забве-
нию. Его классическая трагедия «Ирена» (Irene, 1749), не имевшая
успеха даже в постановке Гаррика, забыта так же, как забыты и
«сго стихотворные подражания Ювеналу — «Лондон» (London, 1738)
и «Суетность человеческих желаний» (The Vanity of Human Wishes,
Î749), хотя первое встретило когда-то одобрение самого Попа.
459
Наибольший интерес в беллетристике Джонсона представляет
относящаяся к 1759 г. повесть «Расселас, принц абиссинский»*
(The Prince of Abissinia. A Tale; в более поздних изданиях —
RasselaSj Prince of Abissinia), которую, по преданию, Джонсон
написал за одну неделю, чтобы оплатить расходы по похоронам
своей матери. Написанный в типичном для XVIII века жанре фи-
лософско-дидактической повести, «Расселас» интересен как наиболее
живое и полное выражение взглядов Джонсона на «человече-
скую природу» и общество.
Этой повестью завершался целый цикл аналогичных по замы-
слу «эссееб» ДжонЬона, разбросанных по страницам его журна-
лов. Еще раньше — в «Гамете и Рашиде», в «Купце Нурэдине»,
в особенности в «Сегеде, властителе Эфиопии, и его стремлении к
счастью» и в других произведениях — Джонсон обращался для раз-
решения общефилософских проблем к тому же условному роду
«восточной повести», к которому в Англии до него прибегал Адди-
сон, а во Франции — Вольтер.
История абиссинского принца Расселаса, который вместе с
сестрой и двумя приближенными покинул «Счастливую долину»
своей родины и отправился странствовать по свету, чтобы познать-
смысл жизни и найти путь к счастью, дает автору повод подробнее
развить любимую мысль о «суетности человеческих желаний».
Счастье и гармония не даны человеку; нет на свете ни одного по-
ложения, которое не было бы омрачено своими невзгодами. Мо-
нарху и подданному, воину и ученому, семьянину и отшельнику —
равно чуждо истинное счастье. Любой поступок, точно так же,
как и воздержание от него, грозит человеку неизбежными опасно-
стями. Таков отрезвляющий вывод, к которому приходят Расселас
и его приближенные в результате наблюдений над жизнью. Умуд-
ренный опытом абиссинский принц добровольно возвращается к по-
кою и бездействию «Счастливой долины», откуда бежал когда-тог.
увлеченный мечтой о деятельности и счастье.
Современники охотно .сближали «Расселаса» с вышедшим почти
одновременно вольтеровским «Кандидом»; сам Джонсон не отрицал
сходства обеих повестей. «Расселас», однако, по самой своей на-
правленности принципиально отличается от «Кандида». Мысль
о «неустроенности» мира лишена у Джонсона той революцион-
ной окраски, которую она получила у его французского современ-
ника Вольтера. Автор «Расселаса» менее всего думает обличать
существующие порядки. Он попросту называет вещи своими име-
нами, чтобы избавить людей от ненужных и наивных иллюзий..
С его точки зрения, и мир и человек — не так уж хороши, но и не
так плохи, как можно подумать. «Каждый человек должен
принимать существование на тех условиях, на каких оно ему дано»..
Так Джонсон, в соответствии с общим духом английского Просве-
щения, становится на точку зрения «золотой середины» между
всепримиряющим философским «оптимизмом», с одной сто-
роны, и революционно-критической общественной мыслью — с
Другой.
460
У современникоз Джонсон был известен прежде всего как
-«великий лексикограф». Его «Словарь английского языка»
<А Dictionary of the English language, 1755), составление которого
заняло несколько лет, был, по тому времени, действительно гран-
диозным начинанием. Джонсон с гордостью заявлял, что выполнил
единолично задачу, над которой многие десятилетия трудилась
вся Французская Академия.
Среди своих современников Джонсон одним из первых прихо-
дит к мысли о безостановочном развитии языка. Есть основания
думать, что, приступая к составлению «Словаря», Джонсон не был
еще чужд стремления к нормативному «упорядочению» английского
языка, который, "по его словам, он «застал обильным без порядка
и энергичным без правил». Из работы над «Словарем» он выносит,
однако, новое для лингвистики XVII—XVIII веков убеждение
в том, что язык представяет собой живой организм, развитие кото-
рого не может быть остановлено никакими «правилами». В преди-
словии к «Словарю» он пишет: «Язык — лишь орудие науки, слова
же — лишь знаки идей... Надо помнить, что пока наш язык еще
живет и изменяется... слова ежечасно меняют свои отношения, и
определить их в словаре так же трудно, как с точностью зарисовать
очертания рощи по ее отражению вводе во время бури». Высказывая
ряд соображений о влиянии развития цивилизации, науки, тор-
говых связей и т. д. на эволюцию языка, Джонсон предвидит
время, когда английский язык XVIII века станет для последующих
поколений столь же чуждым и непонятным, каким стал для его
современников английский язык Чосера.
У своих современников Джонсон-критик — «великий хан лите-
ратуры», как называл его Смоллет, —пользовался почти непрере-
каемым авторитетом. Помимо бесчисленных устных критических
оценок, сохраненных для потомства Босвелем, особый интерес
лредставляют комментарии и предисловие Джонсона к предпри-
нятому им изданию собрания сочинений Шекспира (1765), а также
«Биографии английских поэтов» (The lives of the most eminent
English Poets, 1781; под назв. Prefaces to the Works of the
English Poets, 1779— 1781) — серия критико-биографических
статей к собранию сочинений виднейших английских поэтов
XVII—XVIII веков, начиная с Каули и кончая Литльтоном.
Отношение Джонсона к Шекспиру характерно для второго,
зрелого этапа развития английского Просвещения, когда эстети-
ческие нормы классицизма уступают место новым принципам про-
светительского реализма. Если Поп, тесно связанный с классициз-
мом, покровительственно «извинял» прегрешения Шекспира про-
тив эстетики классицизма тем, что «он писал для народа» и лишь
поздно подпал под облагораживающее влияние двора и знати, то
Джонсон по-новому ставит вопрос о художественных вольностях
Шекспира. Непререкаемость эстетики классицизма, как и всяких
эстетических «правил» вообще, берется Джонсоном под сомнение.
Неоспоримо, пишет он, что шекспировская «практика противоре-
чит правилам критики; но от критики всегда открыта апелляция
46
к природе». Нормативный классицистский критерий художествен-
ности заменяется, таким образом, новым критерием, непосред-
ственно соотносящим искусство с жизнью. В этой новой интерпре-
тации все, что классицисты считали «недостатками» Шекспираг
превращается в особые достоинства. Возражая Вольтеру, удивляв-
шемуся, что англичане продолжают терпеть на сцене Шекспира-
даже после того, как их глазам предстала «правильная» трагедия
в лице аддисоновского «Катона», Джонсон отдает Шекспиру безу-
словное предпочтение перед английским классицизмом. «В «бес-
численных красотах» аддисоновской трагедии, по словам Джонсона,
«мы не видим ничего, что знакомило бы нас с человеческими чувст-
вами или человеческими действиями;... но «Отелло»—могучее и жи-
вое порождение гениальной наблюдательности».
Смешение комического с трагическим, нарушение единства места,,
времени и действия — все эти особенности пьес Шекспира,,
вменявшиеся ему в вину теоретиками классицизма, оправдываются
Джонсоном, ибо, по его мнению, Шекспир лишь следует здесь самой
жизни. Полемизируя с классицистами по вопросу о трех единствах,.
Джонсон категорически отвергает соображения о необходимости
ограничения места и времени действия во имя сценического прав-
дойодобия. В отличие от своих противников, он настаивает на услов-
ности всякого театрального зрелища. Зритель, переносящийся
в воображении в древнюю Грецию или Рим и переживающий за
3—4 часа действие, охватывающее целые сутки, с такой же легкостью
может следить за спектаклем, действие которого переносится с
места на место и охватывает долгие годы. Эта полемика Джонсона
с эстетической теорией классицизма оказала значительное влияние
на Стендаля, повторившего многие аргументы Джонсона в своем
«Расине и Шекспире».
Скептическое отношение к классицизму дает себя знать и в
статьях об английских поэтах. Разбирая творчество Попа, Прайора
и других поэтов, связанных с классицизмом, Джонсон неоднократ-
но иронизирует по поводу искусственности антично-мифологи-
ческого элемента в их творчестве. То, что было жизненно у древ^
них, в новой поэзии — подражательно и мертво. Поэт-классицист,
утверждает Джонсон в статье о Прайоре, «говорит не как человек
от мира сего». «Внимание невольно отвлекается, — пишет он в
статье «Гэй», — от новых историй о Венере, Диане и Минерве».
В статье «Аддисон» Джонсон, попрежнему весьма холодно от-
зываясь о «Катоне», широко цитирует злой критический разбор
этой трагедии Деннисом, известным критиком начала века, рев-
ностным противником Попа.
Наконец, в статье о Попе Джонсон вступает в прямую полемику
е учением классицизма о «руководящей страсти» как основе чело-
веческого характера. «Человеческие харак!еры далеко не постояй-
ны; люди изменчивы в зависимости от перемены места, фортуны,
знакомств; тот, кто одно время был любителем наслаждения, ока-
зывается в другое время любителем денег». С этим связан и обра-
щенный к Мильтону упрек в том, что «он знал человеческую природу
462
лишь в целом и никогда не изучал ни оттенков характера, ни-
сплетения содружественных или смятения противоречивых страг
стей».
Джонсон был едва ли не первым крупным английским критиком,.,
отдавшим должное английскому просветительскому реализму,,
успехи которого он приветствует еще в своем Журнале «Рассеян-
ный». Он высоко ценит творчество Ричардсона, которому отдает
предпочтение перед Фильдингом, Гольдсмита, чей «Векфильдский.
священник» увидел свет лишь благодаря поддержке Джонсона, m
их менее крупных современников — Шарлотты Леннокс, Фанни
Берни и других.
В соответствии с практикой английского просветительского
романа, Джонсон настаивает на значении индивидуального, част-
ного элемента в искусстве и жизни.*«Задача биографа, — пишет он
в „Рассеянном", — ввести читателей в „домашнюю интимность"
и „мелкие детали повседневной жизни"». Даже «Одиссея» нравится1
ему потому, что в ней преобладает «домашняя» тематика. Портрет
знакомой * собаки,—заявляет он полушутя, полусерьезно,—для
него интересней всех аллегорий на свете.
Джонсон, однако, не порывает полностью с классицизмом. Пог,
лемика Джонсона с Попом не помешала молодым английским ро-
мантикам «озерной школы» полемизировать с ним самим, как
с одним из столпов классицизма. Джонсон, действительно, не толь-
ко разделяет с представителями классицизма преклонение перед
античностью, но сохраняет и в самом своем критическом методе
весьма существенные черты классицистского рационализма.
«Опыт о критике» Попа недаром представляется ему недосягаемым
шедевром.
Взгляды Джонсона на литературу в целом гораздо менее исто-
ричны, чем его воззрения в области лингвистики. Даже там, где он
не ссылается непосредственно на авторитет аристотелевой «Поэ-
тики», он подходит к оценке литературных явлений с точки зрения
определенных априорных норм, не задаваясь вопросом о внутрен-
ней закономерности творческого развития писателя. Для* его кри-
тических статей, входящих в биографии английских поэтов, ха-
рактерен наставительный тон; писатели, подобно ученикам, полу-
чают от критика отметки «за поведение и успехи». Любопытно
предъявляемое им Шекспиру обвинение в недостаточной «нрав-
ственности» его произведений.
Знаменательно также отношение Джонсона к Мильтону.
Не будучи в состоянии отрицать талант автора «Потерянного рая»,.
Джонсон-торий, апостол «субординации», все же не в силах про-
стить поэту английской революции его политического «фанатизма».
Уже современная ему литература во многом опережает эсте-
тику Джонсона. В частности, значение сентиментализма как нового-
литературного течения остается для него непонятным. Отдавая
должное Юнгу, он, однако, поручает другому написание статьи
о нем для «Биографий поэтов». Справедливо отмечая «оригиналь-
ность» Томсона, он сопровождает эту похвалу характерным упре-
463:
ком в «отсутствии метода» в произведениях этого поэта. К
другим поэтам-сентименталистам Джонсон относится еще бо-
лее сухо: творчеству Коллинса и Шенстона он посвящает всего
несколько скупых страниц; разбор же творчества Грея, особенно
антипатичного Джонсону, открывается характерным заявлением:
«Признаюсь, что его поэзию я созерцаю с меньшим удовольствием,
чем его жизнь». Значение поэтического новаторства Грея скрыто
от Джонсона. Он лишь в виде упрека замечает по поводу сделанных
Греем переводов из скандинавской и валлийской поэзии, что «его
язык непохож на язык других поэтов». И, наконец, самую отри-
цательную оценку вйзывает у Джонсона творчество Стерна, ко-
торого он уже в 1776 г. объявляет навсегда вышедшим из моды.
Проявления предромантизма в английской литературе ' его
времени еще более чужды Джонсону. Так, он безоговорочно отри-
цает с самого начала «спора» об «Оссиане» не только подлинность,
но и малейшее художественное значение макферсоновской поддел-
ки. С точки зрения его рассудочной и трезвой просветительской
.эстетики, «Оссиан», исполненный обаяния для молодого Гёте,
Байрона и Пушкина, стоит вообще за пределами литературы.
Джонсона возмущают именно те особенности «Оссиана»,
которые вносили новое в литературу: бурная эмоциональность,
призрачность очертаний, туманная неясность колорита. Характе-
рен отзыв, приводимый Босвелем: «Напрасно будем мы искать
Iucidus ordo (ясного порядка) там, где нет ни предмета, ни цели, ни
плана, ни морали, пес certa recurrit imago (и не встречается ни
одного определенного образа)».
Вся деятельность Джонсона-критика основана на стремлении
низвести вопросы эстетики на почву простого житейского здра-
вого смысла. Он сознательно стремится поставить себя на уровень
рядового читателя, «неиспорченного литературными предрассуд-
ками» и чуждого «изощренной утонченности и ученого догма-
тизма». В этом будничном здравомыслии его эстетико-теоретических
взглядов заключаются и, сила и слабость Джонсона. Апелляция
к з равому смыслу могла помочь ему вести борьбу с мертвыми
традициями классицизма и оценить по достоинству реализм Про-
свещения; но она была бессильна облегчить ему понимание новых
литературных явлений его времени, выходивших за пределы
рассудочной просветительской эстетики XVIII века.
В своей журналистике, —в «Рассеянном»-(The Rambler, 1750 —
1752), «Искателе приключений» (The Adventurer, 1753—1754) и
«Досужем» (The Idler,1758—1760)—;Джонсон следует испытанной ли-
тературной традиции, восходящей ко временам Аддисона и Стиля.
Жанр «эссея», однако, несколько изменяет у него свой прежний
облик. «Синкретический» «эссей» Аддисона и Стиля, в котором со-
вмещались разнородные черты, присущие и роману, и очерку, и
статье, —самостоятельное развитие которых оставалось еще делом
будущего,—ко времени Джонсона стал уже лишь одним из многих
жанров пррсветительской литературы. «Эссей» как бы теряет отны-
не свою былую многозначность, расщепляясь на более или менее
464
отчетливо обособленные очерки-статьи повествовательно-новел-
листического, хроникального, морально-дидактического порядка.
Джонсон посвящает себя по преимуществу последнему роду. В его
«эссеях» сравнительно редки живые зарисовки характеров и нравов,
могущие сравниться со знаменитыми очерками о сэре Роджере де
Коверли. Он не претендует на соперничество с Аддисоном и Сти-
лем и в юмористическом собеседовании с читателем. Обсуждение
вопросов практической морали интересует его гораздо больше. Ссы-
лаясь в одном из выпусков «Рассеянного» на замечания читателей
об излишней сухости и серьезности его произведений, Джонсон
не считает нужным опровергать их.
Именно здесь сложилась специфическая литературная манера
Джонсона, долгое время вызывавшая восхищение его поклонников.
В «эссеях» Джонсона особенно заметна присущая ему «величавость»
слога, изобилующего массивными, медлительными периодами,
редкостными многосложными терминами, аналогиями и амплифи-
кациями, подавшими Оливеру Гольдсмиту повод шутливо заметить,
что если бы Джонсон стал писать о маленьких рыбках, он заставил
бы их говорить подобно китам.
2
Уже при жизни Джонсона в современной ему периодике в раз-
витии жанра «эссея» наметилось, однако, несколько иное напра-
вление.
Журналы «Свет» (The World, 1753—1756) и «Знаток» (The Con-
noisseur, 1754—1756) стремятся освободить «эссей» от педантиче-
ского морализирования, присущего журналистским опытам Джон-
сона, и от всяких остатков схоластики. С этим светско-раз-
влекательным их характером связан, по всей вероятности, и успех
этих журналов у публики. В то время как тираж джонсоновского
«Рассеянного» не превышал 500 экземпляров, «Свет» расходился
вутысячах экземпляров.
ХИздатели «Знатока» — будущий драматург Джордж Кольман
старший и Боннель Торнтон (Bonnell Thornton),—выступая от
имени воображаемого мистера Тауна (Town —город), предупреж-
дают читателей, что не собираются «продавать в розницу клочки
морали» и «нарушать обычные способы выражения ради введения
более звучного слова с латинским окончанием». Подобно своим
предшественникам, они задаются целью воспитывать своих чита-
телей, но они намерены заставить людей «вести себя лучше» не
с помощью проповедей, а с помощью смеха.
В программе «Света», издававшегося драматургом Эдуардом
Муром, отталкивание от просветительского морализирования ска-
залось еще более резко. По словам издателя, журнал этот должен
характеризоваться не рассуждениями и проповедями, а остроумием
и иронией.
В числе сотрудников« Света» видное место занимали аристокра-
тические литераторы-дилетанты — родоначальник «готического
30 Англ. литература 4оО
романа» ГорэсУолполь и известный политический деятель XVIII
века граф Честерфильд (Philip Dormer Stanhope, earl of Chester-
field, 1694—1773), вошедший в историю английской литературы
также и своими письмами (особенно любопытны письма Честер-
фильда к сыну — настоящий свод весьма утонченной и циничной
аристократической морали).
Юмористические «эссеи» «Света» и «Знатока» сохраняли не-
которую занимательность даже и для англичан начала XIX века.
Сохранилось, в частности, немало ранних рисунков Теккерея,
иллюстрирующих помещенные в этих журналах очерки и показы-
вающих, что будущий автор «Ярмарки тщеславия» был их прилеж-
ным читателем.
Из более поздних английских журналов XVIII века, на страни-
цах которых продолжал свое существование нравоописательный
и нравоучительный «эссей», следует отметить выходившее в Эдин-
бурге «Зеркало» (The Mirror, 1779—1780) и пришедшего ему на
смену «Праздношатающегося» (The Lounger, 1785—1787). Оба эти
журнала издавались кружком литераторов-любителей, группиро-
вавшихся вокруг Генри Мэккензи, известного романиста сенти-
ментальной школы, которому Вальтер Скотт дал лестное прозвище
«шотландского Аддисона».
•
Глава 5
АНГЛИЙСКАЯ ДРАМА XVIII ВЕКА
1
Просветители XVIII века стремились завоевать сцену, но это
удалось лишь одной их части. Из двух течений просветительства
только апологеты буржуазии добились своего утверждения в те-
атре. Демократическое крыло просветителей, критиковавшее бур-
жуазию и создаваемый ею строй жизни, было насильственно вытес-
нено из области драматического искусства.
В стране, создавшей Свифта, были все предпосылки для воз-
никновения социально насыщенной обличительной драматургии.
На протяжении первой трети XVIII века она начала развиваться,
как об этом свидетельствует творчество Гэя и Фильдинга. Но гос-
подствующие классы, уже со времени Возрождения знавшие, ка-
кую большую общественную силу представляет собой театр, сде-
лали все возможное, чтобы оградить себя от нападок со сцены.
Введение театральной цензуры в конце 30-х годов XVIII века при-
вело к изгнанию социально-политической тематики из драматур-
гии. Критически настроенным писателям пришлось ограничиться
жанрами поэзии и романа,как это можно видеть на примере Гольд-
смита, в комедиях которого нет ни малейшего отголоска того обли-
чительного пафоса, который звучит в «Покинутой деревне» и в
«Векфильдском священнике».
Это не значит, что драматургия XVIII века была совершенно
лишена черт критики. Но осмеивать пороки аристократической
466
среды стало традицией еще в период Реставрации, а пороки горо-
жан осуждались лишьзатем,чтобы еще больше восславить буржуаз-
ную добродетель.
Ряд драматических жанров был унаследованXVIII веком от
литературы Реставрации,—и в первую очередь трагедия
в стиле классицизма. В период Реставрации классицизм не одер-
жал еще полной победы. Его господство в английской трагедии
утверждается в первой четверти XVIII века, одновременно с его
расцветом в поэзии, в творчестве Попа. Классическая трагедия
XVIII века формировалась под влиянием образцов английского
и французского классицизма предшествующего столетия —Драй-
дена, Корнеля и Расина. Однако среди довольно многочисленных
драматургов-классицистов XVIII века лишь немногие заслужили
право на место в истории английской литературы.
Одним из этих немногих был Джон Деннис (JohnDennis, 1657—
1734). Впервые ему удалось привлечь внимание публики трагедией
«Утверждение свободы» (Liberty Asserted, февр. 1703—1704 *),
написанной с цепью пропаганды демагогических лозунгов партии
вигов. Следующая его пьеса, «Аппий и Виргиния» (Appius and
Virginia, февр. 1708—1709*), была обработкой известного расска-
за Тита Ливия, и, наконец, после длительного перерыва в драма-
тургическом творчестве, появилась его последняя пьеса—«Враг
своей родины, или роковое злопамятство» (The Invader of his
Country: or, The Fatal Resentment, 1719*).
Денниса можно считать зачинателем классической трагедии
нового типа, в которой тема любви оттеснена нравственно-этиче-
скими и политическими проблемами. Его трагедия «Утверждение
свободы», имела успех не в силу каких-либо художественных до-
стоинств, а благодаря отдельным патриотическим и либеральным
стихам, вложенным в уста персонажей. Трагедия «Враг своей ро-
дины», сюжетом которой является история Кориолана, была злобо-
дневной политической пьесой, направленной против якобитской
реакции. Деннис проводил в ней параллель между Кориоланом
д сыном Якова 11, так называемым «старым претендентом». Пьеса
дает любопытный материал для сравнения с шекспировским «Ко-
риоланом», поскольку у Денниса этот сюжет. обработан в духе
поэтики классицизма. Введение общественных мотивов в клас-
сическую трагедию, стремление превратить ее в рупор прогрес-
сивных социальных взглядов представляет наиболее ориги-
нальную черту драматургии Денниса, который в этом отношении
был непосредственным предшественником Аддисона.
Джозеф Аддисон выступил в 1713 г. с трагедией «Катон» (Cato),
которая имела совершенно исключительный успех и в истории
английской драмы XVIII века явилась высшей точкой развития
трагедии классицизма. Подобно Деннису, автор «Катона» вы-
двигает на первый план общественные мотивы.
Пролог трагедии, написанный Попом, объявляет, что цель ее —«
...вызвать пламя чувств спартанских
И слезы римские из глаз британских.
30* 467
Сюжетом трагедии являются последние дни римского респу-
бликанца Марка Порция Катона, осажденного Юлием Цезарем
в Утике. Преданный прежними сторонниками—сенатором Семпро-
нием и нумидийцем Сифаксом — Катон сохраняет, однако, под-
держку нумидийского принца Юбы. Убедившись в бесполезно-
сти дальнейшего сопротивления Цезарю, Катон кончает самоубий-
ством, чтобы не сдаться на милость тирана-победителя.
Гражданственность — господствующая черта Катона. Судьба
родины для него дороже личного благополучия. Недаром один из
окружающих замечает, что Катон, «не ливший слез о сыне, за-
плакал, когда Рим погиб». Сам Катон, обращаясь к близким, го-
ворит:
Пусть
Потеря личная вас не тревожит.
О Риме плачьте! Мира властелин,
Империи глава, героев мать,
Богов услада, деспотов смиритель,
Народам в дар свободу приносивший —
Не существует более наш Рим.
О Родина! Свобода! Добродетель!
Демагогическая декламация о свободе в духе вигов, которых
поддерживал Аддисон, снискала трагедии исключительно большой
успех. Пьеса была заострена против политических противников
автора, но тории аплодировали «Катону» не менее рьяно, чем виги.
Трагедия Аддисона насквозь пронизана рационализом, который
сказывается не только в речах и поступках главного героя, но и в
действиях остальных персонажей. Она лишена динамики, рито-
рична; в сюжете ее мало драматического напряжения. Вводя
гражданские мотивы, Аддисон стремился подчинить трагедию
общим задачам просветительской литературы. Его произведение
обошло все европейские сцены. В 1715 г. трагедия появилась в
итальянском переводе А. М. Сальвини; во Франции появились
переводы и переделки, сделанные Дешаном (1715), Дюбо (1716),
Гийемаром (1767), Данмартеном (1789) и Шерон де ла Брюйером
(1789); в Германии сюжет Аддисона был обработан Готтшедом в
его «Умирающем Катоне» (1731); наконец, появился поль-
ский «Катон» Ходкевича (1809).
Влияние аддисоновской трагедии, однако, не измеряется одним
лишь числом переводов и переделок. Аддисон утвердил жанр граж-
данской трагедии, который получил большое распространение в
просветительской литературе Западной Европы, в особенности
во Франции. Вольтер считал Аддисона первым англичанином, напи-
савшим разумную трагедию, а характер Катона — «одним из со-
вершеннейших драматических характеров». Превознося в своем
«Рассуждении о трагедии» (1730) Аддисона, Вольтер утверждает
необходимость создания просветительской трагедии по ее англий-
скому образцу. Трагедия Вольтера «Брут», которой предпослано
«Рассуждение», положила начало этому жанру во Франции.
468
Еще до появления «Катона» была поставлена «Несчастная мать»
(The Distrest Mother, март 1711 — 1712 *) Амброза Филипса (Amb-
rose Philips, 1675—1749) — переделка «Андромахи» Расина. Ри-
чард Стиль, рекомендуя вниманию зрителей эту пьесу, писал в
прологе к ней, что автор соединил:
Французов правильность с британским пылом.
Вслед за трагедией Филипса и «Катоном» на английской сцене
появилось большое число классических трагедий. Это были передел-
ки пьес французских классицистов, обработки античных трагедий
и многочисленные произведения на сюжеты античной истории. Том-
сон, вскоре после окончания своей знаменитой поэмы «Времена
года», создает классические трагедии «Софонизба» (The Tragedy
of Sophonisba, февр. 1729—1730 *) и «Агамемнон» (Agamemnon,
1738 *). В первой из них он, под несомненным влиянием Аддисона,
изображает героиню не любящей женщиной, как обычно тракто-
вали ее другие драматурги (например, Ли в одноименной пьесе),
а патриоткой, стремящейся к спасению Карфагена.
В дальнейшем Томсон обращается к средневековой тематике
и создает трагедии «Эдуард и Элеонора» (Edward and Eleonora,
1739) и «Танкред и Сигизмунда» (Tancred and Sigismunda, март
1744 — 1745*). Хотя сюжеты этих пьес обработаны по канонам
классицизма, но в них намечается тенденция к более свободному
изображению поведения и страстей персонажей. Последней и
самой неудачной из пьес Томсона был «Кориолан» (Coriolanus,
янв. 1748—1749*). Недостатки этой пьесы особенно очевидны
при невольно напрашивающемся сравнении с шекспировской
трагедией на тот же сюжет.
Из последователей Аддисона в области трагедии следует отме-
тить еще Сэмюэля Джонсона, автора трагедии «Ирена» (Irene,
февр. 1749 *), написанной по всем правилам классицизма. Это —
образец сугубо рационалистической манеры, исключающей прав-
дивее изображение живых страстей.
В то время как Аддисон и его последователи работали над
утверждением канонов классицизма, другая группа драматургов
продолжала традиции патетической трагедии, восходящие к XVII
веку, к творчеству Отвея и Ли.
Наиболее значительным представителем этого жанра был Ни-
колас Роу (Nicholas Rowe, 1674— 1718) . Ему, между прочим,
принадлежит честь именоваться первым биографом Шекспи-
ра, сочинения которого он издал в 1709 г., снабдив их жизне-
описанием великого драматурга. В отличие от классицистов,
создававших произведения, полные риторики, Роу, продолжая
традиции героической трагедии XVII века, стремится к динамич-
ности действия, насыщенного патетикой и бурными страстями.
Он чуждается рационализма как в изображении характеров, так
и в композиционной структуре своих произведений.
В предисловии к своей первой пьесе «Честолюбивая мачеха»
(The Ambitious Step-Mother, 1700 *) Роу сам указывает на Отвея
469
как на образец, которому он стремился подражать. Восток с его
экзотикой, хитросплетение придворных интриг, бурные страсти
героев, — все это было изображено в «Честолюбивой мачехе» с
яркостью, взволновавшей публику. В своей следующей пьесе,
«Тамерлан» (Tamerlane, 1701 *), Роу не ограничился изображе-
нием личных конфликтов, а использовал исторический сюжет для
политической аллегории. Тамерлан, выведенный им в качестве
воплощения всех добродетелей, должен был служить символиче-
ским изображением Вильгельма III, а коварный и злобный Бая-
зет — подобием Людовика XIV.
«Прекрасная грешница» (The Fair Penitent, 1703 *) была по-
пыткой Роу уйти из сферы возвышенного в обыденную среду. Сю-
жет пьесы заимствован из «Рокового приданого» Мэссинджера.
В «Прекрасной^грешнице» Альтамонт женится на дочери Шольто,
Калисте, имевшей ранее любовника, неверного Лотарио, ко-
торого она продолжает любить. Друг Альтамонта Горацио рас-
крывает тайну ее девичьей связи,и разоблаченная «грешница» кон-
чает самоубийством вместе со своим отцом. Отличающаяся боль-
шой поэтичностью речи, пьеса эта интересна как одна из ранних
попыток создания бытовой трагедии. Роу шел в этом отношении уже
не за Отвеем, как в своих героико-патетических трагедиях, а
за драматургом XVII века Бенксом. Бытовой элемент
проявляется здесь, правда, в меньшей степени —так же, как и в
«Улиссе» (Ulysses, 1705 *), и других трагедиях Роу. Хотя свое
следующее произведение, «Трагедию Джен Шор» (The Tragedy of Jane
Shore, февр. 1713—1714 *), сам автор характеризовал как «написан-
ное в подражание шекспировскому стилю», тем не менее оно, в
действительности, было подражанием тому же Бенксу, как и по-
следняя пьеса Роу — «Трагедия лэди Джен Грей» (The Tragedy of
Lady Jane Grey, 1715 *).
Введение бытового элемента и сентиментальная патетика
делают Роу непосредственным предшественником мещанской дра-
мы XVIII века. Сходную роль сыграло в развитии английской
драматургии и драматическое творчество Эдуарда Юнга, автора
трагедий «Бузирис» (Busiris, март 1718— 1719 *) и «Месть» (The
Revenge, 1721 *).
Сравнительная стабильность общественных отношений в Анг-
лии XVIII века оказалась препятствием для возникновения под-
линно трагических произведений; с другой стороны, она создала
благоприятную почву для развития комедии. И действительно в
то время на каждую поставленную на сцене трагедию приходилось
три-четыре комедии.
Как и в серьезном жанре, драматурги XVIII века начали здесь
с того, что было оставлено в наследие их предшественниками. Ре-
ставрация создала комедию нравов, которая с любованием изоб-
ражала распущенность аристократии, сменившую моральный ри-
горизм пуританской революции. Но буржуа оставались по своем}
470
складу пуританами даже после того, как надели парики и расшитые
камзолы. Как только свершилась «славная революция», они по-
чувствовали свою силу и потребовали искоренения безнравствен-
ности на сцене. Придворный врач короля Вильгельма, Ричард Блек-
мор (Richard Blackmore,? — 1729), в 1695 г. в предисловии к
своей поэме «Принц Артур» (Prince Arthur) убеждал в необходи-
мости «возвращения муз к прежнему их достоинству и врожденно-
му призванию — служить красоте и очищению нравов». В 1700 г.
в «Сатире на остроумие» (Satire on Wit) он предложил ввест
нравственную цензуру на произведения драматургии. С еще боль-
шей решительностью, с пылом библейского пророка, выступил бого-
слов Джереми Колльер, выпустивший в 1698 г. «Краткий обзор
безнравственности и нечестивости английской сцены», где тре-
бовал нравственного очищения драматического искусства.
Поддержка, которую общественное мнение оказало Колльеру,
вынудила Драйдена публично покаяться в своих литературных
грехах. Ванбру и Фаркер, сделав соответствующие выводы из
выступления маститого богослова, стали вводить нравоучитель-
ный элемент в свои комедии. Но по всему своему складу они оста-
вались типичными представителями духа Реставрации, и не им
суждено было создать новую драматургию. Выполнение' этой за-
дачи взяли на себя просветители, деятельно принявшиеся за
создание бытовой нравоучительной комедии.
В 1701 г. Ричард Стиль, тогда еще молодой гвардейский капи-
тан, написал и поставил на сцене комедию «Похороны, или печаль
по моде» (The Funeral; Or, Grief à-la-mode). Приятель Конгрива
и Ванбру, дуэлянт и светский бездельник, Стиль только недавно
покаялся в своих грехах, написав благочестивый трактат «Христи-
анский герой» (The Christian Hero, 1701). Комедия его также имела
целью обличить порок и восславить добродетель. Герой пьесы лорд
Брумптон заснул летаргическим сном, а его семья и друзья сочли
его умершим. Когда он пробуждается, преданный Траста советует
Wy не раскрывать своего «воскресения» и посмотреть, как будут
реагировать на его мнимую смерть близкие и друзья. Следуя этому
совету, Брумптон обнаруживает лицемерие своей молодой жены
и добродетель лорда Харди, своего сына от первого брака, ко-
торого он раньше по злому наущению лишил наследства.
Не менее подчеркнуто нравоучительна и следующая комедия,
«Любовник-лгун» (The Lying Lover, 1703 *), сюжет которой заим-
ствован из «Лгуна» Корнеля. В предисловии Стиль прямо пишет
о том, что он стремится создать комедию,которая «не была бы не-
достойным развлечением в христианском обществе». Главный пер-
сонаж комедии Буквит ведет двойную игру с двумя светскими де-
вицами, пьянствует и даже оказывается способным на убийство
Друга; но в пятом акте, где автор совершенно отклоняется от своего
французского источника, Буквит, уже находясь в тюрьме, горячо
кается в своих грехах.В отличие от предшествовавших драматургов,
Делавших основной упор на осмеянии пороков, Стиль стремится
прежде всего пробудить у зрителей жалость и сочувствие, что де-
471
лает это произведение одним из первых образцов сентиментальной
комедии. Много сентиментальных моментов и в комедии «Нежный
муж» (The Tender Husband, 1705 *). Фабула ее построена на том,
что муж, желая проверить верность своей жены, подсылает к ней
свою любовницу, переодетую мужчиной, которая начинает уха-
живать за ней. В создании этого произведения с очень запутанным
действием Стилю помогал Аддисон, доля участия которого, одна-
ко, была невелика.
Но самой сентиментальндй была последняя комедия Стиля —
«Совестливые влюбленные» (The Conscious Lovers, 1722 *), напи-
санная уже в конце его литературной деятельности. Насквозь «доб-
родетельная», эта пьеса совершенно лишена сальной грубости,
столь частой в комедиях того времени. Среди персонажей имеются
смешные чудаки,но ни одного порочного человека. Герой комедии,
молодой Бевиль, выполняя волю отца, должен жениться на дочери
Силенда, Люцинде. Но он любит Индиану, по отношению к которой
ведет себя благородно, не пытаясь обмануть девушку, как посту-
пали обычно герои комедий Реставрации. Действие начи-
нает принимать такой оборот, что зритель невольно готовится к
печальному концу, но все завершается благополучно, ибо Индиана,
происхождение которой до сих пор было тайной, оказывается про-
павшей дочерью Силенда, и Бевиль женится на ней. Добродетель
Бевиля и Индианы проявляется во всем их поведении и речах, со-
вершенно лишенных той фривольности, которой и сам Стиль не
избегал подчас в своих предыдущих комедиях. Пьеса полна по-
учительных сентенций, облеченных в афористическую форму.
Аддисон, следуя примеру своего друга, также создал одну
нравоучительную бытовую комедию «Барабанщик» (The Drummer,
март 1715-1716 *), построенную на весьма забавной интриге. За лэди
Трюмен, молодой вдовой, ухаживает щеголь-вольнодумец, все
вольнодумство которого испаряется от страха перед привидением
барабанщика («привидение» было проделкой его соперника Фанто-
ма). Но и сам шутник испуган еще больше, когда на сцене
появляется муж лэди Трюмен, которого ошибочно считали
убитым.
Большую роль в развитии и утверждении на сцене нравоучи-
тельной бытовой комедии сыграл актер и драматург Колли Сиббер
(Colley Cibber, 1671 — 1757). Сын скульптора, он по окончании
школы поступил на сцену, рано женился и, испытывая большую
нужду в средствах, решил прибавить к заработку актера доход дра-
матурга. Многие его произведения были только переделкой чужих
пьес. Таковы «Ричард III» и «Король Иоанн», заимствованные у
Шекспира, «Химена», переделанная из «Сида» Корнеля, и обработ-
ка его же «Цинны» («Заговор Цинны»). Сиббер усердно трудился
также над переделками Мольера и комедиографов Реставрации.
Всего он написал и списал около двадцати пяти пьес, из которых
лишь незначительная доля оригинальна. Однако Сиббер был не
лишен дарования, и безжалостные насмешки Попа, сделавшего его
героем «Дунсиады», не всегда справедливы.
472
Сиббер был одним из первых драматургов, внесших нравоучи-
тельный элемент в комедию XVIII века. В своей ранней пьесе
«Последняя уловка люови» (Love's Last Shift, 1696 *) он изображает
любящую жену, которая покинута мужем и встречает его
снова после десятилетней разлуки. Неузнанная им, она снова
завоевывает его сердце и делается его любовницей. В конце она
открывается ему, и он решает вернуться к ней. Эта комедия —ха-
рактерный образец приспособления к различным вкусам публики.
Любители Уичерли и Конгрива получали здесь такое же удовлет-
ворение, как и сторонники моральной драматургии. Один критик
очень удачно назвал подобные пьесы «нравственно-безнравствен-
ными», так как морально-нравоучительной концовке в них пред-
шествует достаточно увлекательное изображение порока. Супру-
жеские ссоры, измены и примирение служат также темой «Небреж-
ного мужа» (The Careless Husband, 1704 *), «Последней ставки жены»
(The Lady's Last Stake, 1707 *), «Раздраженного мужа» (The Pro-
vok'd Husband, янв. 1727—1728 *) и других комедий Сиббера.
В «Неприсягнувшем священнике» (The Non-Juror, 1717 *) Сиб-
бер обратился к политической сатире, воспользовавшись для
этой цели «Тартюфом» Мольера. Предметом сатирического
изображения является иезуит Вульф, ханжа и лицемер,
пытающийся соблазнить жену сэра Джона Вудвиля, которая ра-
зоблачает все его проделки. Злободневными в этой комедии были
нападки на партию ториев, поддерживавшую религиозную реак-
цию. Но в основном Сиббер был драматургом одного сюжета, ко-
торый он многократно варьировал. В центре его внимания — про-
блема брака; вечный его сюжет — разлад и примирение супругов.
Морализаторство Сиббера не столь искренно, как у Стиля.
Он менее чувствителен и менее сентиментален, чем автор «Совестли-
вых любовников». В нем проглядывает рационалист, заинтересо-
ванный не столько в том, чтобы вызвать чувство жалости у
зрителя, сколько в анализе поведения своих героев.
Сиббер пользовался изрядным успехом у своих современников.
Дажй Поп, вообще враждебно относившийся к Сибберу, отзывался
с похвалой о «Небрежном муже». И, наконец, сам Вольтер хва-
лил эту пьесу в своих «Философских письмах».
Нравоучительная бытовая комедия, однако, не до конца выте-
снила комедию нравов, созданную в годы Реставрации. Продолжа-
телем этого жанра в его типичных формах была актриса Сюзан-
на Сентливр (Susanna Centlivre, 1667?—1723), бойкая авантюрист-
ка, достойная преемница Афры Бен, Мэнли и других писательниц
Реставрации. Сохранившиеся биографические данные изобилуют
сведениями о ее мужьях и поклонниках. Каталог их завершается
именем Джозефа Сентливра, повара королевы Анны, с которым она
обвенчалась в 1706 г. Начав с переделок чужих пьес, она написала
затем десятка два оригинальных произведений.
После нескольких мало удачных пьес, Сентливр впервые стяжа-
ла успех комедией «Игрок» (The Gamester, янв. 1704—1705 *),
осмеивавшей модное тогда увлечение азартными карточными играми.
473
Заимствовав сюжет из одноименного произведения французского
драматурга Реньяра, она ввела в него ряд сентиментальных моти-
вов комедий Стиля и Сиббера. В том же году предприимчивая пи-
сательница написала комедию «Игорный стол» (The Basset-Table),
подобного же содержания, с той лишь разницей, что в ней игро-
ком является женщина, лэди Ревеллер, которую ее добродетельный
поклонник лорд Уорти излечивает от этого порока.
Почувствовав, однако, что ее настоящим призванием является
комедия нравов, Сентливр отказалась от попыток следовать за
Стилем и Сиббером и вернулась к традициям комедийной интриги
времен Реставрации. Комедией интриги был «Хлопотун» (The Busie
Body, 1709 *), одна из наиболее удачных ее пьес, построенная на
двух линиях действия. Сэр Джордж Эйри хочет жениться на Ми-
ранде, опекаемой скупцом Фрэнсисом Грип. Сын Грипа, Чарльз,
любит Изабинду. И та и другая пара влюбленных наталкивается
на многочисленные препятствия. Положение усложняется вмеша-
тельством добродушного, но неловкого хлопотуна Марплота, по-
стоянно расстраивающего самые хитроумные планы молодых людей,
которые в конце концов все же соединяются со своими возлюблен-
ными.
Если в «Хлопотуне» Сентливр опиралась на классические образ-
цы Мольера и Драйдена, то в комедии «Чудо: женщина хранит
тайну» (The Wonder: A Woman Keeps a Secret, 1714 *) она пользует-
ся испанскими источниками. Героиня пьесы Виоланта прячет в
своей комнате Изабеллу и сохраняет тайну, несмотря на бешеную
ревность своего возлюбленного дона Феликса, который подозре-
вает, что она скрывает у себя мужчину. На этой канве разверты-
вается сложнейшая интрига в духе испанской комедии.
Драматургическая деятельность Сентливр завершилась коме-
дией интриги «Уловка»(The Artifice, 1722 *), построенной на тра-
диционных препятствиях, узнаваниях и ряде забавных положений.
Комедии Сентливр представляют собой любопытные- картины
аристократических нравов XVIII века. Этим комедиям недостает
глубины в изображении характеров, но они отличаются мастерским
построением интриги, а неровности языка искупаются блескомшуток
и смелостью острот.
3
Жизнь— шутка; так предполагал я;
Что это так, теперь узнал я.
Так писал в составленной самому себе эпитафии весельчак
Джон Гэй, одна из наиболее колоритных фигур в английской лите-
ратуре первой половины XVIII века.
Друг Попа, Свифта, Арбетнота и Болинброка, Гэй не уступал
им в остроумии, но выделялся среди них своим добродушием и без-
злобностью. Недаром Вольтер говорил, что «Свифтом восхищается,
а Гэя любит», недаром и Поп, чье самолюбие так легко ссорило его
с людьми, всегда с похвалой отзывался о добродушной веселости
474
Гэя. Чрезвычайно популярный у своих современников, он был в
сущности писателем среднего дарования, спутником, светившим
отраженным сиянием Попа и Свифта — двух великих светил, во-
круг которых проходила его орбита. Он был сатириком, как и его
великие друзья, но его насмешкам нехватало ни той личной нена-
висти, которая питала автора «Дунсиады», ни того «благородного
негодования», которое вдохновляло создателя «Путешествия Гул-
ливера». Забавный это был сатирик: его шутки создавали ему боль-
ше друзей, чем врагов. «Рожденный бичевать и веселить свой век», —
как писал о нем Поп, он создал сатиры и нравоучительные
басни, комедии и пасторали. Современники восхищались ими, позд-
нейшие поколения их забыли. Но одно из его произведений пережи-
ло свой век; это —«Опера нищих», принесшая автору наибольшую
славу среди современников и обеспечившая память о нем в
потомстве.
Дадн Гэй (John Gay, 1685—1732) рано лишился родителей.
Сироту отдали в ученики к торговцу шелком. Таким образом он
из провинции попал в Лондон. Но ремесло не понравилось ему, и
хозяин отпустил его. Что он делал в ближайшие за этим годы —
неизвестно. В 1708 г. появилась его первая поэма «Вино» (Wine) —
сухое творение, написанное белым стихом и лишенное тех весе-
лящих качеств, которые свойственны предмету, избранному поэ-
том. Ни славы, ни денег поэма не принесла, но зато Гэй стал авто-
ром и попал в среду литературной братии. В 1713 г. он напечатал
поэму «Сельские удовольствия» (Rural Sports) с посвящением Попу,
который приблизил его к себе и ввел к круг своих друзей. Отныне
и до конца жизни Гэй вращается в кружке «Мартина Скриблеру-
са», выступает заодно с Попом, Свифтом и Арбетнотом, участвует
в их остроумных собеседованиях и литературных проделках, за-
седает вместе с ними в кофейнях, и их враги становятся его
врагами.
Судьба Гэя сложилась так, чтобы оправдать тот «конечный
вывод мудрости земной», к которому он пришел в своей эпитафии.
Он шутил с жизнью, но и жизнь изрядно подшутила над ним. По-
добно многим писателям того времени, он стремился к высокому
изложению в свете и к политической карьере, искал знатных по-
кровителей, но ни герцогиня Монмаутская, чьим секретарем он
был, ни лорд Кларендон, которого он сопровождал с посольством
в Ганновер, не открыли ему пути к выгодным синекурам.
Литература принесла ему немалые заработки. Случай сделал
его обладателем акций; цена этих бумаг повысилась, и Гэй, не
слушая предостережений Свифта и Попа, вложил все свое состоя-
ние в акции Компании Южных Морей. Сначала все как будто под-
тверждало правильность этого шага; курс акций головокружи-
тельно повышался, принося огромный доход; но в один прекрас-
ный день предприятие лопнуло, и в руках Гэя остались ничего
не стоящие бумажки. Так подшутила над Гэем биржевая фортуна.
Но литература выручила его, и под конец жизни он снова стал
состоятельным человеком.
475
Поп открыл ему его настоящее призвание — бурлеск. Подра-
жая «Похищению локона», он написал «герой-комическую» поэму
«Веер» (The Fan, 1714). Когда затем один критик превознес «Па-
сторали» Амброза Филипса, забыв при этом даже упомянуть пасто-
рали Попа, последний не только сам ответил своему литератур-
ному сопернику, но подстрекнул ответить и Гэя. Так появились
шесть пасторальных поэм «Неделя пастуха» (The Shepherd's Week,
1714), выходящих по своему значению за пределы пародии, ибо
они являются сознательной попыткой создания реалистической
пасторали. «Мои пастушки, — писал Гэй, — не играют беззабот-
но на свирели, а доят коров, увязывают снопы и загоняют свиней в
хлев, чтобы они не разбегались. Мой пастух собирает букет только
таких цветов, которые растут на наших полях, он спит не под тенью
мирт, а у изгороди, и, наконец, он не защищает храбро свои стада
от волков, потому что в наших краях они не водятся». Несмотря
на некоторую архаичность стиля (явное подражание Спенсеру),
это были картины подлинной сельской жизни того времени.
В 1716 г. появляется поэма «Тривия, или искусство ходить по
улицам Лондона» (Trivia, or the Art of walking the Streets of Lon-
don) — яркое реалистическое изображение городской жизни того
времени, написанное под влиянием стихов Свифта.
Затем Гэй пишет многочисленные поэтические послания своим
друзьям. Наиболее значительное из них — «Привет вернувшемуся
из Греции», адресованное Попу по окончании им перевода «Илиа-
ды». В 1727 г. Гэй печатает свои забавные и остроумные «Басни»
(Fables), вторая серия которых была опубликована после его смер-
ти, в 1738 г.
Наибольшего успеха Гэй достиг, однако, не в области поэзии,
а в драматургии, завоевав славу самого популярного автора коме-
дий своего времени. Если в поэзии Гэй начал с пасторальных мо-
тивов, то в драматургии он сразу начал с сатиры на городские нра-
вы. Его первая комедия, «Могоки» (The Mohocks, 1712), была
злободневной сатирой на банды великосветских хлыщей, бесчин-
ствовавших на улицах Лондона. В «Горожанке из Бата» (The Wife
of Bath, 1713 *), к величайшему негодованию поклонников Чосера,
он вывел автора «Кентерберийских рассказов» в виде светского щего-
ля, ловко одурачивающего простодушную и наивную горожанку.
«Как это называется» (The What D'ye Call It, февр. 1714—1715 *)
совмещает патетическую любовную драму с осмеянием возвышенно-
го стиля трагедии, причем объектами пародии являются Шекспир,
Драйден, Отвей, Роу, Аддисон и Амброз Филипс. Затем, в сотруд-
ничестве с Попом и Арбетнотом, Гэй пишет «Три часа спустя после
свадьбы» (Three Hours after Marriage, янв. 1616—1717 *) — сатиру
против определенных личностей, имевших несчастье поссориться
с кружком Попа. За этим следуют драматическая пастораль Гэя
«Диона» (Dione, 1720), не увидевшая огней рампы, и его единствен-
ная трагедия «Пленники» (The Captives, янв. 1723—1724 *),
удержавшаяся на сцене Дрюри-Лейнского театра всего одну
неделю.
476
Когда Гэй предложил этому театру свою «Оперу нищих» (The Beg-
gars'Opera), дирекция отказалась поставить ее, но нашелся дально-
видный антрепренер, Рич, который принял пьесу к постановке.Успех
«Оперы нищих» (янв. 1727—1728*) был необыкновенным. Недаром
современники острили, что Гэй стал богатым, а антрепренер Рич —
веселым (игра слов, основанная на том, что фамилия Гэя (Gay)
по-английски значит «веселый», а Рич (Rich) —«богатый»). Поп
пишет о фуроре, произведенном «Оперой нищих»: «Ничего подоб-
ного ее грандиозному успеху никогда не было, он был совершенно
невероятным... Софокл и Эврипид имели меньше поклонников и
пользовались меньшей славой. Ее ставили в Лондоне 63 дня под-
ряд и возобновили в следующем сезоне с неменьшим успехом. Она
прошла по всем большим городам Англии, во многих местах она
шла по 30 раз, в Бате — 40 раз, в Бристоле — 50 и т. д. Она про-
никла в Уэльс, Шотландию и Ирландию, где выдержала 24 спек-
такля... Дамы наносили на веера любимые песенки из оперы, вдо-
мах ими украшали экраны. Актриса, игравшая Полли и до этого
совершенно неизвестная, сразу стала любимицей всего города».
Идею этого произведения Гэю подал Свифт, а отдельными де-
талями он обязан другим членам своего кружка. Автор «Путе-
шествий Гулливера» заметил однажды, что «забавно получилось
бы, если бы изобразить ньюгейтскую пастораль». Гэй .подхватил
идею и создал «Оперу нищих».
Красавица Полли, дочь торговца крадеными вещами, тайно,
против воли родителей, выходит замуж за обворожительного бан-
дита Макхита. Узнав об этом, отец Полли, Пичум, решает изба-
виться от него. Зная слабость Макхита к женскому полу, он
подговаривает компанию девиц легкого поведения, которые задержи-
вают женолюбивого красавца в кабачке до тех пор, пока Пичум
не приводит полицейских; те арестуют его и отводят в тюрьму.
Здесь к нему является Люси, дочь шерифа, покинутая им ради
Полли. Она устраивает ему сцену ревности. Не успевают они по-
мириться, как в тюрьму приходит Полли, бросающаяся Макхиту
на шею со словами: «Где мой дорогой муж?» Макхит оказывается
между двух огней, ибо каждая из его «жен» узнает о существовании
соперницы. Когда, под конец, его ожидает казнь, появляются еще
«^етыре жены, и каждая с ребенком». Но «так как опера должна
иметь счастливый конец», то автор избавляет своего героя от смерти.
Пьеса изображает уголовный мир в теснейшей связи с пред-
ставителями закона. Примером этого являются отношения
Пичума и шерифа Локита, связанных рядом взаимных обяза-
тельств. Нищий, играющий роль «Пролога», говорит в конце пьесы,
обращаясь к публике: «На протяжении всей пьесы вы могли за-
метить такое сходство нравов в жизни высшего света и подонков,
что трудно определить, подражают ли светские джентльмены
джентльменам с большой дороги или джентльмены с -большой до-
роги—светским джентльменам». В этих словах — ключ к социаль-
ному значению пьесы. Она представляет сатиру на политику вер-
хушки господствующего класса. Читая «Оперу нищих*,насыщен-
477
ную сарказмами по адресу сильных мира сего, не трудно догадать-
ся, что Свифту Гэй был обязан не только идеей «Ньюгейтской па-
сторали», но и всей социальной направленностью этого произведения.
Нападки на премьер-министра Уолполя начинаются сразу
с поднятием занавеса. Пичум поет:
Чужую профессию рады
Все люди всегда очернить,
Им забавы другой и не надо,
Лишь бы только друг друга хулить.
Законник попов всех ругает,
Попы отвечают, скуля,
И министр великий считает
Честным себя, как и я.
Вся сила последних двух строк в том, что поет их скупщик
краденого. Публика XVIII века сразу понимала, куда метят стре-
лы сатиры Гэя, когда жена Пичума хвалила своего любимца—вора
Робина из Бэгшота, он же Боб Бути, он же Боб Блеф; слишком уж
напоминали все эти прозвища имя Роберта Уолполя. Объект cap-
казмов, Уолполь, присутствовал на премьере «Оперы нищих»,
но делал вид, что все эти остроты его не касаются. Он глазом не
моргнул, когда Пичум острил по поводу себя и Локита, что они
«подобно великим государственным деятелям, покровительствуют
тем, кто предает своих друзей», а когда Локит спел свою пе-
сенку —
Коль бичуешь порок,
Будь умен себе впрок,
Не задень при дворе никого,—
Взятки станешь бранить,
Каждый будет вопить,
Что ты метишь наверно в него, —
то этот наглейший из взяточников, который когда-либо был ми-
нистром, встал и, покрывая весь зал мощью своего густого голоса,
потребовал повторения песенки, чем вызвал бурю аплодисментов.
Огромный успех «Оперы нищих» у современников объясняет-
ся прежде всего смелостью и остротой нападок на коррупцию,
царившую в верхушке буржуазно-аристократического общества.
С другой стороны, разоблачение связи между преступным миром
и полицией не утеряло своей остроты в капиталистических стра-
нах и в XX веке, о чем свидетельствуют успех «Оперы нищих»
Брехта и французского кинофильма с модернизированным сюже-
том произведения Гэя.
Удачной была и изобретенная Гэем сценическая форма спек-
такля. В начале XVIII века очень большую популярность при-
обрела опера. Итальянские певцы пользовались исключительным
успехом. Просветители, и в особенности Аддисон, боролись против
засилия итальянской оперы, вытеснявшей со сцены национальную
драматургию. Причиной этого был аристократический характер
оперного искусства, отсутствие в нем дидактического элемента.
478
Зная любовь публики к вокальному искусству и музыке, Гэй ввел
в свою комедию большое количество музыкальных номеров. Тексты
исполнялись на мотивы популярных в то время песен и романсов.
Эффект получался необыкновенный в силу того, что текст Гэя раз-
рушал привычные смысловые ассоциации, связанные с тем или
иным мотивом. Так, например, слова «Коль бичуешь порок» испол-
нялись на мотив сентиментальной любовной песенки, начинавшей-
ся словами «Как счастливы мы», а вступительная песня Пичума
была положена на музыку меланхоличного романса «Старая жен-
щина в сером».
Музыкальные номера органически вплетены Гэем в ткань его
произведения. В результате получилось произведение нового жан-
ра — музыкальная комедия, или балладная опера (ballad-opera),
как именуют этот вид англичане. Впрочем, такое обозначение не
покрывает всех жанровых особенностей «Оперы нищих». В ней
сочетались элементы пяти сценических жанров: злободневной са-
тиры, фарса, пародии, сентиментальной комедии и оперы. Сатири-
ческие и пародийные элементы, в соответствии с целями .автора,
доминируют в «Опере нищих», определяя остальные. Это очевидно
в вокальных номерах, ибо почти все песенки носят пародийный или
сатирический характер. Сентиментальные моменты сдобрены боль-
шой дозой иронии, способствующей сохранению комедийного
колорита на протяжении всего произведения.
Вдохновленный удачей «Оперы нищих», Гэй написал ее продол-
жение— музыкальную комедию «Полли» (Polly, 1729). Очевидно
в отместку за успех «Оперы нищих», правительство запретило
постановку «Полли», хотя социальная сатира в этом произведении
уступает место мелодраматическому и авантюрному действию.
Но комедия была напечатана и распродана с большой прибылью для
автора. Здесь избежавший казни Макхит сослан в Вест-Индию.
Верная ему] Полли пересекает в поисках его океан, но воры крадут
у нее деньги; лишенная средств, она поступает в служанки к мисте-
ру Дукату, затем бежит от него и, переодетая в мужское платье,
продолжает поиски своего возлюбленного. Когда после многих
приключений действие подходит к концу, Макхит уже мертв, а
олли готовится стать женой индейского принца Коувауки.
В некоторых мотивах «Полли» звучит осуждение колониальной
политики Англии, заставляющее снова вспомнить о связи Гэя со
Свифтом. Гэй изображает самыми мрачными красками разбога-
тевших колониальных торговцев и плантаторов, отдавая все свои
симпатии дикарям-туземцам. Впрочем, в этом противопоставлении
скрывался, повидимому, и другой, аллегорический смысл: Гэй
хотел уподобить пиратов и мистера Дуката своим политическим
противникам-вигам, а благородный дикарь Коувауки и его не
менее благородный отец Покитоки должны были символизировать
добродетели ториев. Но аллегория получилась неудачной. Притом
авантюрный и мелодраматический элементы пьесы затемнили ее.
К тому же новому жанру принадлежит и комическая опера .
Гэя «Ахиллес» (Achilles, февр. 1732—1733 *), которая была поставлена
479-
?
на сцене через два месяца после смерти автора. Это — комиче-
ская обработка мифа о том, как Ахиллес скрывался на Скиросе,
переодетый в женское платье. Здесь имеются обычные для Гэя зло-
бодневные политические намеки, но все дело не в них, а в комиче-
ской обработке античного сюжета: античные герои Ахиллес, Аякс,
Одиссей и другие ведут себя, как люди XVIII века.
В последние годы жизни Гэй создал еще три произведения, уви-
девшие свет уже после его смерти и не прибавившие ничего к его
славе; это — пастораль «Ацис и Галатея» (Acis and Galatea, 1731 *),
комедия «Расстроенная жена» (The Distress'd Wife, март 1733—
1734*) и фарс «Репетиция в Готаме» (The Rehearsal at Goat-
ham, 1754*).
Успех «Оперьгнищих» породил множество подражаний. Появи-
лись многочисленные комические оперы: «Деревенская опера»
Чарльза Джонсона (февр. 1728—1729 *), «Патрон, или опера полити-
ческих деятелей» Томаса Оделя (1729 *), «Свадьба нищих» Чарльза
Кофи (1729*), «Опера квакера» Томаса Уокера (1728), «Опера
дураков» Тони Эстона (1731) и еще много других в том же роде.
Творчество Гэя чрезвычайно способствовало развитию сатири-
ческой и пародийной драматургии. В числе его последователей
оказался и молодой Генри Фильдинг, который за десять лет ра-
боты для театра (1727—1737) создал двадцать пять произведений,
принадлежащих к различным видам комедийного жанра. Творчест-
во Фильдинга-драматурга чрезвычайно разнообразно. Одну груп-
пу его произведений составляют комедии нравов — «Любовь в
различных масках» (Love in several Masques, февр. 1727—1728 *),
«Студент-щеголь» (The Temple Beau, янв. 1729—1730 *), «Политикан
из кофейни» (The Coffee-House Politician; первоначальное название
«Rape upon Rape», 1730 *), «Старые развратники» (The Old De-
bauchees, 1732 *), «Всеобщий любезник» (The Universal Gallant,
февр. 1734—1735*), «Свадьба» (The Wedding Day, февр. 1742—1743*)
и посмертная комедия «Отцы, или Добродушный человек» (The
Fathers: or The Good Natur'd Man, напечатана в 1778). Во всех
этих произведениях Фильдинг выступает как продолжатель ко-
медии периода Реставрации, но использует ее традиции для
критики развращенности аристократического общества. Влияние
новой, сентиментальной комедии на Фильдинга было незначитель-
ным и сказалось разве только в пьесе «Современный муж» (The
Modern Husband, февр. 1731 —1732 *). Фильдинг любил шутку,
смех, сатиру. Он не чуждался и грубого комизма фарса, элементы
которого встречаются в его комедиях. Его фарс «Писатели писем,
или новый способ удержать жену дома» (The Letter-Writers: Or,
a New Way to Keep A Wife at Home, март 1730—1731 *) заслу-
женно считается одним из лучших фарсов XVIII века.
Но если ни Стиль, ни Сиббер не могли увлечь Фильдинга за
собой, то комедийное творчество Гэя открыло перед ним новые перс-
пективы. То, что Фильдинг оказался в числе последователей Гэя,
было закономерно. Для всякого, знакомого с творчеством зрелого
Фильдинга, Фильдинга-романиста, совершенно очевидна идейная
480
близость его к Свифту. Гэи, который был, в сущности, чем-то вроде
сценического рупора Свифта, послужил соединительным звеном
между Свифтом и Фильдингом-драматургом. Свифтовская идея
«Ньюгейтской пасторали», осуществленная Гэем в его «Опере ни-
щих», оказала несомненное влияние на всю концепцию «Джонатана
Уайльда Великого» и, в особенности, на заключительные сцены,
где ньюгейтская тюрьма является аллегорией политической жизни
Англии. Отголоски «Ньюгейтской пасторали» можно найти и в
«Амелии».
Влияние Свифта и его кружка, проявляется в забавнейшей из
драматических пародий Фильдинга — «Трагедии трагедий, или
жизни и смерти Великого Мальчика с Пальчик» (The Tragedy of
Tragedies: or, the Life and Death of Tom Thumb the Great, 1730 *).
Сказка о мальчике с пальчик используется здесь для злободнев-
ных сатирических выпадов политического характера.
Смешение жанров, произведенное Гэем, пришлось Фильдингу
по вкусу. В подражание «Опере нищих» он создает «Валлийскую
оперу» (The Welsh Opera, 1731 *), переименованную им впослед-
ствии в «Оперу Грэб-стрит» (The Grub-Street Opera). Вслед за этим
он пишет ряд других балладных опер — «Лотерея» (The Lottery,
янв. 1731—1732*), «Горничная-интриганка» (The Intriguing Chamber-
maid, янв. 1733—1734 *), «Старик, наученный разуму» (An Old Man
Taught Wisdom, янв. 1734—1735 *), продолжением которой является
«Мисс Люси в городе» (Miss Lucy in Town, 1742 *). Кроме того,
Фильдинг еще в 1732 г. написал балладную оперу на сюжет молье-
ровской комедии «Лекарь поневоле» (The Mock Doctor). Как и
«Опера» Гэя, все это, в сущности, — комедии с элементами фар-
са и пародии, включающие вокально-музыкальные номера.
Фильдинг — наиболее крупный представитель жанра баллад-
ной оперы после Гэя. От Гэя же Фильдинг воспринял и приемы со-
циально-политической сатиры в комедии, которые он впоследствии
развил и усовершенствовал.
К числу балладных опер формально принадлежит и «Дон
Кихот в Англии» (Don Quixote in England, 1734 *); пьеса эта, одна-
ко, вернее может быть охарактеризована как сатирическая коме-
дия. Очень тонко имитируя манеру Сервантеса, Фильдинг изоб-
ражает Дон Кихота и Санчо Пансу, оказавшихся в обстановке
Англии XVIII века. Обилие чисто комических ситуаций, выте-
кающих из своеобразия характеров Рыцаря Печального Образа
и его толстого оруженосца, не заслоняет, однако, те сильные
элементы социальной сатиры, которые есть в комедии. «Тюрьмы, —
говорит Дон Кихот, — во всех странах предназначены только
для бедняков, а не для знати. Когда бедняк украдет у знатного
джентльмена пять шиллингов, то его сажают в тюрьму, а джентль-
мен может ограбить тысячу бедняков, и его оставят в покое».
«Жаль, — говорит он далее, — что богатства не соответствуют
природным данным. Платон очень мудро установил, что дети долж-
ны получать воспитание по своим способностям, а не по происхож-
дению. Помещики должны были бы засевать поля, через которые
31 Англ. литература 481
они скачут, топча посевы. Санчо, когда я вижу джентльмена, ко-
торый сам правит лошадьми, я жалею, что пропадает такой хороший
кучер, который кому-нибудь пригодился бы. Человек, тратящий
все свои дни на охоту за куропатками и фазанами, мог бы послужить,
своей стране, идя за плугом. А когда я вижу какого-нибудь про-
нырливого и жуликоватого лорда, я сожалею о том, какой превос-
ходный адвокат пропадает без толку».
Еще более заострена сатира в комедии «Пасквин» (Pasquia,
март, 1735—1736*), формально принадлежащей к жанру сцениче-
ских пародий. Фильдинг создал ряд произведений в этом роде, из ко-
рых наиболее значительны «Трагедия трагедий» и «Ковент-гарден-
ская трагедия» (The Covent-Garden Tragedy, 1732 *). Во всех этих
произведениях дреобладала, однако, литературная сатира, но в
«Пасквине» Фильдинг пользуется формой комедии-пародии
для целей социально-политической сатиры. По определению ав-
тора, «Пасквин» — это «драматическая сатира на современность
в форме репетиции двух пьес, а именно комедии, называющейся
«Выборы», и трагедии, озаглавленной «Жизнь и смерть Здравого
смысла». Комедия смело разоблачает продажность, определявшую
исход парламентских выборов и носившую цинично-откровенный
характер в правление Уолполя. Замечательны комические образы
кандидатов. Двор представлен вигами — лордом Плейс (фамилия
которого в переводе означает — «выгодная должность») и полков-
ником Промис (т. е. «обещание»). Тории из «Сельской партии»
представлены сэром Генри Фокс-Чейс (т. е. «охота на лисиц») и
сквайром Танкард (т. е. «пивная кружка»). Трагедия «Жизнь и
смерть Здравого смысла», репетирующаяся одновременно с коме-
дией «Выборы», написана в аллегорической форме. Здесь жрец
солнца Файрбренд (т. е. «подстрекатель»), лорд Лоу (т. е. «закон»)
и лорд Физик (т.е. «медицина») вступают в заговор против королевы
Здравый смысл. Другая королева, Игноранс (невежество), втор-
гается в страну, и заговорщики присоединяются к ней. Здравый
смысл убивают, и в стране воцаряется Невежество. Мораль этой
пьесы носит типично просветительский характер.
«Исторический календарь на 1736 год» (The Historical Register
for the Year 1736, 1737), представляет вершину социально-поли-
тической сатиры Фильдинга в драматургии. Эта пьеса, как и преды-
дущая, изображает репетицию в театре. Она состоит из ряда само-
стоятельных эпизодов. Вначале автор пьесы, Медли, объясняет
актерам, что «пьеса не из тех, которые подчинены определенным
правилам». Цель автора — «высмеять порочные и глупые нравы
современности». В первой сцене репетируемой пьесы действие
происходит «на острове Корсика». Пять политиков сидят за сто-
лом и толкуют о дипломатических вопросах. Наконец, один из
них предлагает: «К чорту иностранные дела. Давайте перейдем к
деньгам». Все радостно поддерживают его. Но автор, наблюдающий
репетицию, недоволен актерами. «Джентльмены, повторите это
место снова. Главное, хватайте деньги как можно быстрей, —
не забывайте,что вы изображаете настоящих политических деятелей».
482
Следующий эпизод изображает аукцион. Продаются «редкие вещи»:
♦остаток политической честности», который покупают за пять фун-
тов стерлингов; «небольшая доля патриотизма», не находящая себе
покупателя; «чистая совесть, принадлежавшая некогда судье, а за-
тем епископу» и «протекции при дворе». Последние покупаются
нарасхват.
Далее Фильдинг разоблачает истинную природу буржуазного
«патриотизма». На сцене появляются четыре «патриота», провоз-
глашающих лозунги: первый—«Да процветает Корсика», вто-
рой — «Свобода и процветание», третий — «За процветание тор-
говли», четвертый — «Да, за торговлю, за торговлю, — особенно
за процветание моей лавки». Патриоты обсуждают вопрос о войне.
Один из них высказывается по этому поводу следующим образом:
«Послушайте, джентльмены, моя лавка—мое отечество, и я всегда
измеряю процветание последнего состоянием дел первой. Поэтому
я не могу согласиться с вами, что война не принесет никакой поль-
зы. Напротив, я считаю ее единственным условием процветания
моей родины. Ибо я торгую саблями и потому стою за войну».
В конце сцены появляется Квидам, изображающий премьер-министра
Уолполя, который подкупает всех четверых патриотов. После
этого Квидам уходит со сцены, за ним, приплясывая, следуют пат-
риоты. Автор поясняет смысл «пантомимы» следующим образом:
«Сэр, каждый из этих патриотов имеет дыру в кармане. Скрипач
Квидам знает это и заставляет их плясать, пока все деньги не вы-
падут; тогда он подбирает их. Таким образом, он не теряет и полуш-
ки от своих щедрот, и даже, наоборот, попивает винцо задаром,
а бедный народ, —увы!—оплачивает весь счет из своего кармана».
Пьеса была запрещена и, чтобы положить конец сатирическим
нападкам со сцены, правительство ввело театральную цензуру
( 1737). Тем самым был положен предел развитию жанра социально-
политической сатиры в комедии.
Фарс, граничивший в творчестве Фильдинга с политической
сатирой, становится отныне невинным «развлекательным» жанром.
В творчестве Сэмюэля Фута (Samuel Foote), Артура Мэрфи (Arthur
Murphy) и других подражателей Фильдинга фарс утрачивает
былую политическую остроту, хотя и сохраняет известную зло-
бодневность. Фут, например, высмеял методистов в своем «Несо-
вершеннолетнем» (The Minor, 1760 *).
Судьбу фарса разделила и «балладная опера», получившая столь
блестящее развитие в творчестве Гэя и Фильдинга. После закона
1737 г. о театральной цензуре этот жанр также вынужденно «осво-
бождается» от политико-сатирического содержания, превращаясь
в безобидные «бурлетты» (burlettas) или «музыкальные развлече-
ния» (musical entertainments).
Одним из самых популярных представителей этого жанра был
во второй половине XVIII века Исаак Бикерстаф (Isaac Bicker-
staff), которому принадлежит, между прочим, музыкальное перело-
жение «Памелы» Ричардсона под названием «Девушка с мельницы»
(The Maid of the Mill, янв. 1764—1765 *).
31* 483
Фильдинг-драматург, таким образом, не имел настоящих про-
должателей. В драматургии его особенно ценна именно ее социаль-
ная насыщенность, острота и смелость критики господствующих
классов и продажного правительства. Однако в художественном
(отношении драматургия Фильдинга далека от совершенства и не
]может сравниться с его романами. Она была, в сущности, подготов-
кой к чему-то более значительному, ученическим периодом. Филь-
динг начал как продолжатель Конгрива и комедии времен Рестав-
рации, но уже вскоре почувствовал, что рамки комедии нравов из
великосветской жязни для него узки. Впоследствии это получило
осознанное выражение в «Томе Джонсе», где Фильдинг писал:
«Ванбру и Конгрив писали с натуры; но тот, кто их копирует,
изобразит нынешний век так же превратно, как сделал бы это Гогарт,
если бы вздумал написать раут в одеждах Тициана или Ван-Дей-
ка. Словом, подражание здесь неуместно. Картина должна быть
списана прямо с натуры»
Эго объясняет нам, почему Фильдинг от жанра комедии нравов
стал переходить к балладной опере и к пародийной сатирической
комедии. Они могли вместить более широкое содержание, нежели
комедия нравов; они давали возможность приблизиться к совре-
менной жизни, изображение которой Фильдинг считал главной
задачей драматургии. Он понимал необходимость создания новых
драматических жанров. Недаром он так пренебрежительно отно-
сился к правилам. Идя по пути, проторенному Гэем, он с еще боль-
шей смелостью ломал установившиеся жанровые формы. Но едва
ли он создал бы новые. Последние драматические произведения
Фильдинга, при всей их социальной насыщенности и остроте, гре-
шат неопределенностью формы, отсутствием крепкого драматическо-
го костяка — подлинного сюжета, который скреплял бы в единое
целое разнородные элементы сатиры. Они превращаются в цепь
отдельных, условно скрепленных сатирических эпизодов. Драмати-
ческая форма начинает уступать место эпической. Так закономерно
подготовлялся переход Фильдинга от драматургии к роману еще
тогда, когда он продолжал писать пьесы. >
Опыт драматургической деятельности не пропал для Фильдин-
га даром. В своем лучшем романе, «История Тома Джонса, най-
деныша», он добился органического слияния эпических и драма-
тических элементов в повествовательной форме.
В поисках новых жанров, наиболее приспособленных для отра-
жения современной действительности, Фильдинг, в бытность ди-
ректором Геймаркетского театра, оказывал всяческое покровитель-
ство нарождающееся буржуазной драме. В частности, он оказал
большую поддержку своему другу Лилло, который явился созда-
телем английской буржуазной драмы XVIII века.
4
Истоки жанра буржуазной драмы мы находим еще в драматур-
гии эпохи Возрождения, где наиболее выдающимися образцами
его были анонимный «Арден из Февершама» и «Женщина, убитая
484
добротой» Т. Гейвуда. Дальнейшее развитие этого жанра в XVII ве-
ке, однако, приостановилось. И все же уже в литературе периода
Реставрации появляются элементы, содействовавшие нарождению
буржуазной драмы. Такими элементами, появившимися в твор-
честве Отвея, Бенкса и некоторых других писателей, были сенти-
ментальная патетика и обращение к сюжетам из английской исто-
рии, обычное в драматургии Возрождения, но редкое в период
Реставрации. Наметился также сдвиг в выборе героев, в качестве
которых начали фигурировать уже не только царственные особы.
Но эти и подобные им формальные моменты не принесли бы ника-
ких плодов, если бы в XVIII веке не создалась соответствующая
обстановка, вызвавшая к жизни жанр буржуазной трагедии. Те же
социальные причины, которые породили буржуазный роман, об-
условили появление буржуазной драмы.
Родоначальником буржуазной драмы XVIII века был Джордж
Лилло (George Lillo, 1693—1739). Голландец по национальности,
он родился и получил воспитание в Лондоне. Преуспевая в своей
коммерческой деятельности (он был ювелиром), Лилло посвящал
досуги литературным занятиям. Драматическое наследие Лилло
состоит из восьми произведений. Это — опера «Сильвия, или сель-
ские похороны» (Silvia; or, The Country Burial, 1730 *), трагедии
«Лондонский купец, или история Джорджа Барнвеля» (The Lon-
don Merchant: or, The History of George Barnwell, 1731 *), «Христи-
анский герой» (The Christian Hero, янв. 1734—1735 *), «Роковое лю-
бопытство» (Fatal Curiosity, 1736 *), «Марина» (Marina, обработка
шекспировского «Перикла», 1738 *) и посмертные «Эльмерик, или
торжество справедливости» (Elmerick: or, Justice Triumphant, февр.
1739—1740 *), «Британия и Батавия» (Britannia and Batavia, 1740)
и переделка «Ардена из Февершама» ( 1759 *)« Только два из этих
произведений — «Лондонский купец» и «Роковое любопытство»—
принадлежат к новому жанру, остальные представляют собой
либо переделки старых пьес, либо малозначительные драмы,
лишенные тех черт новаторства, которые обеспечили Лилло скром-
ное, но прочное место в истории литературы.
j «Лондонскому купцу» Лилло предпослал посвящение, являю-
щееся манифестом новой буржуазной драмы. Прежде всего Лилло
ополчается против сословных ограничений, присущих предшествую-
щей драматургии, которая выводила в трагедиях только лиц высше-
го ранга. «Трагедия, — пишет он, — нисколько не потеряет своего
достоинства, будучи приспособленной к условиям жизни большин-
ства людей; ее величественность возрастет пропорционально ши-
роте ее влияния и пропорционально числу людей, подвергающихся
этому влиянию. Если бы монархи и т. д. одни только и были подвер-
жены несчастьям, проистекающим от грехов или слабостей их
самих или людей окружающих, то тогда было бы правильно огра-
ничить изображение характеров в трагедии только людьми выс-
шего ранга; но так как очевидно обратное, то самым разум-
ным будет дозировать лекарство в соответствии с характером
болезни».
485
Дело, однако, заключается не только в выборе сюжета из бур-
жуазного быта и героев из буржуазной среды, но и в утверждении
буржуазного взгляда на жизнь. Трагедия должна, по мысли Лилло,
стать рупором нравственных идей буржуазии. «Пьесы, основанные
на моральных рассказах из частной жизни, — пишет он, —могут
быть особенно полезны тем, что непреодолимо будут убеждать умы
в необходимости напрягать все душевные способности и силы для
того, чтобы задушить порок в самом его основании». Такова та
программа, в соответствии с которой Лилло создал свои две бур-
жуазные трагедии, «сознавая (как он писал) новизну своей попытки».
В «Лондонском купце» представлена судьба молодого буржуа
Джорджа Барнвеля. Страсть к куртизанке Мильвуд заставляет
Барнвеля забыть о всех правилах добропорядочной жизни и тол-
кает его на пугь преступления. Его нравственное падение доходит
до того, что он убивает из-за денег старика-дядю, который заменял
ему рано умершего отца. Посаженный в тюрьму, Барнвель раскаи-
вается во всех своих преступлениях. В отличие от своей соучаст-
ницы Мильвуд, которая идет на эшафот нераскаявшейся, Барнвель
принимает казнь как справедливое возмездие. В противополож-
ность сбившемуся с пути истинного Барнвелю, Лилло выводит
другого молодого человека, Трюмена (т. е. «зерного»), выполняю-
щего все заветы буржуазной добродетели, которым его поучает
купец Торогуд (в переводе — «всецело порядочный»). Порочной и
циничной Мильвуд противопоставлен образ чистой и добродетель-
ной Марии, дочери Торогуда. Она любит Барнвеля, и его падение
является для нее страшным ударом. Но Трюмен выражает надежду,
что это не будет иметь для нее губительных последствий, ибо,
как он говорит, «время и размышление излечивают все». Беседы
купца Торогуда, поучающего Трюмена, раскрывают перед зрителем
полную программу жизни в соответствии с буржуазными идеалами.
Пьеса имела большой успех у публики и была встречена одоб-
рением литераторов, в том числе уже старого Попа и еще молодого
Фильдинга. Как образец нового жанра она была принята с энтузиаз-
мом в просветительских кругах Франции и Германии. Руссо и Дидро
отзывались о ней с великой похвалой. Последний даже сравни-
вал ее с произведениями Софокла и Еврипида, а Мармонтель про-
водил параллель между Расином и Лилло. Пьеса получила при-
знание таких корифеев как Лессинг, Гёте и Шиллер. Лессинг взял
«Лондонского купца» в качестве образца при создании «Мисс Сары
Сампсон».
«Роковое любопытство» Лилло появилось на сцене театра Филь-
динга, причем пролог был написан будущим автором «Тома Джон-
са». Обращаясь к публике, Фильдинг предупреждает ее:
Здесь страсть в клочки не будет рвать герои,
Тираны войск не поведут на бой,—
Герои взяты здесь из сферы низкой;
Страданья их примите к сердцу близко,
Сочувствие пусть встретит добродетель,—
Она живет не только в высшем свете.
Впрочем, темой трагедии является не столько торжество до-
бродетели, сколько наказание порока. Герои трагедии, старик
Вильмот и его жена Агнеса, впали в бедность. Сын их, уехавший в
Индию, давно не подавал вестей о себе, и они считают его умершим.
Но молодой Вильмот неожиданно возвращается. Он посещает свою
.возлюбленную, Шарлотту, а затем, изменив внешность, отправляет-
ся в родительский дом, выдает себя за случайного путника и просит
устроить его на ночлег. Принятый родителями, не узнавшими его,
он дает матери на сохранение шкатулку с драгоценностями. Обни-
щавшие старики решают убить путника, чтобы завладеть этим со-
кровищем. Как только они свершают преступление, друзья моло-
дого Вильмота являются поздравить его с приездом. Когда старик
Вильмот узнает кого он убил, его охватывает раскаяние. Он уби-
вает свою жену, а затем и самого себя.
Пьеса принадлежит к типу трагедий рока. Она породила боль-
шое количество подражаний как в Англии, так и на континенте.
По стопам Лилло пошел ряд драматургов. Появилась «Роковая ложь»
Джона Хьюита (Fatal Falsehood: or Distressed Innocence, by John
Hewitt, февр. 1733—1734*), «Печальная свадьба, или любовь —
целительница всех горестей» Томаса Кука (The Mournful Nupti-
als, or Love the Cure of all Woes, by Thomas Cooke, 1739 ) и некото-
рые другие.
Но единственным драматургом, снискавшим успех в этом жанре
шосле Лилло, был Эдуард Мур (Edward Moore, 1712 -1757). Сын
сектантского проповедника, Мур занимался вначале коммерческой
деятельностью, но, в отличие от Лилло, ему не повезло, и он оста-
вил коммерцию. Первого успеха в литературе он добился своими
«Баснями для прекрасного пола» (Fables for the Female Sex, 1744);
затем, обратившись к драматургии, он написал комедии «Найденыш»
<The Foundling, февр. 1747—1748*), «Жиль Блаз» (Gil Bias,
1751 *) и трагедию «Игрок» (The Gamester, 1753 *). Герой
трагедии Беверли одержим страстью к игре в карты. Потеряв все
деньги, он похищает драгоценности своей жены,- но проигрывает
;и их. Большую роль в разорении Беверли играет его мнимый друг,
щэоходимец Стакли, обманывающий его и злоупотребляющий его
доверием. Махинации Стакли становятся известны Льюсону, воз-
любленному сестры Беверли, Шарлотты. Чтобы воспрепятствовать
разоблачению своих темных дел, Стакли подговаривает своего
помощника Бейтса убить Льюсона. Тем временем вконец разорен-
ный Беверли принимает яд, чтобы избежать позора. За несколько
минут до смерти он узнает о том, что по одному завещанию ему ос-
тавлена большая сумма денег. Что касается Льюсона, которого Бейтс
должен был убить, то он оказывается в живых и может жениться
.на Шарлотте.
Трагедия Мура изобилует яркими мелодраматическими положе-
ниями, по временам, правда, несколько искусственными. Как и
« произведениях Лилло, над героем тяготеет фатальная обречен-
ность. Подобно пьесам Лилло, «Игрок» обошел в XVIII веке почти
see европейские сцены. Заслуживает упоминания,что Дидро в
487
1760 г. перевел «Игрока» на французский язык (перевод был опуб-
ликован в 1819 г.).
Произведения Лилло и Мура, являющиеся высшей точкой в
развитии английской буржуазной драмы XVIII века, не отличают-
ся большими художественными достоинствами.
Английская драма этого периода не создала произведений такой
силы, как «Эмилия Галотти» и «Коварство и любовь». Это нельзя,
конечно, объяснить просто меньшей одаренностью Лилло и Мура
по сравнению с Лессингом и Шиллером. Причины здесь лежат го-
раздо глубже. Английская мещанская трагедия ограничивала себя
изображением буржуазного быта и, рассматривая нравственно-эти-
ческие проблемы, не возвысилась до социальной проблематики.
То обстоятельство, что английская буржуазия уже стала «скром-
ной, но признанной частью господствующего класса», определила
отсутствие социальной остроты в английской буржуазной драме
XVIII века. Характерно поэтому, что в ней нет изображения кон-
фликта между аристократией и буржуазией, который обусловил тра-
гический пафос таких произведений, как «Коварство и любовь».
Утратив народность, присущую английской драматургии времен
Возрождения, драма XVIII века приобрела все черты буржуазной
ограниченности. Ее сюжеты, герои, конфликты и моральные проб-
лемы были строго ограничены чисто буржуазной средой. С художест-
венной точки зрения это лишало Лилло и Мура возможности создать
значительный трагический конфликт. Подлинной трагедии у них.
не получилось. Во-первых, судьба героев Мура и Лилло не могла
вызвать ни страха, ни сострадания. Во-вторых, трагическая обре-
ченность этих героев не отвечала закономерности жизни
в буржуазном обществе. Пороки и преступления приводят
Барнвеля, Вильмота и Беверли к гибели, но уже современники той
эпохи отлично знали, что в буржуазном обществе порок не непре-
менно ведет к гибели. Уже Фильдинг доказывал, что в этом обще-
стве добродетель вовсе не получает награды, и наоборот, как пра-
вило, в нем торжествует порок («Джозеф Эндрьюс», «Джонатан
Уайльд»). Если бы Барнвель, Вильмот, Беверли избежали разобла-
чения, то они могли бы избегнуть наказания и остаться нераскаян-
ными грешниками, ибо раскаиваются они только после
разоблачения, когда кара за их преступления неминуема.
Таким образом, разоблачение вины героя становится важнейшим
элементом действия, в отличие от ренессансной трагедии, где ни Ри-
чард III, ни Макбет, ни другие, подобные им, герои не опасаются
разоблачения, так как они и не скрывают своих преступных дей-
ствий; им угрожает не разоблачение, а возмездие.
Большую роль в английской буржуазной драме XVIII века
играет рок. Повидимому, наличие мотива рока и заставило
Дидро сравнить Лилло с античными драматургами. В трагедиях
Лилло и Мура рок — это та сила, которая несет кару нарушителям
буржуазных норм. Иными словами, в их трагедиях рок есть идеали-
зированное представление о буржуазном правопорядке, карающем*
всякие отклонения от принятых этим обществом правил жизни. Но
488
в том то и дело, что в самом этом правопорядке была фальшь, кото-
рую чувствовали передовые английские просветители. «Рок» Лилла
и Мура действовал только тогда, когда преступные герои были либо
полностью разоблачены, либо стояли перед неизбежностью сво-
его разоблачения.
Мотив трагической вины в прсизведениях Лилло и Мура чужд
подлинной трагической возвышенности. Трагической виной Барн-
веля является его сладострастие. Как он сам говорит: «Что с блуда
началось, окончится то — кровью». Виной Вильмота и его жены
является их корыстолюбие. Наконец, вина Беверли—страсть
к азартной игре. Как ничтожны ипсшлы мелкие страстишки, обу-
ревающие этих героев! Но других мотивов у них и не может быть.
В этом отношении они — типичные представители мещанской
среды.
Столь же мало возвышенного в положительных образах Лилло
и Мура. Добродетельные персонажи этих драматургов воплощают
буржуазное самодовольство наподобие Торогуда и Трюмена.
Возможность создания героев такого масштаба, как Гамлет, Лир,
Отелло, и даже таких, как Карл Моор и Фердинанд фон Вальтер,
для английской буржуазной драмы XVIII века была исключена
не потому, что среди англичан не нашлось в это время ни Шекспира,,
ни Шиллера, но в силу того, что по самой своей природе, по причи-
не сложившихся тогда условий, английская буржуазия не могла
дать содержание для величественных, имеющих общечеловече-
ское значение трагедий.
5
Во второй половине XVIII века преобладающее значение в
драматургии сохраняется за комедией. Но в пределах этого дра-
матического вида с гораздо большей резкостью,чем в первой поло-
вине столетия, обозначается борьба между двумя направлениями —
комедией сентиментальной и «веселой комедией» (определение Гольд-
смита), которую иногда именуют также «чистой» комедией. Сен-
тиментальные комедии были многочисленнее, но наивысшая
художественность во второй половина XVIII века была до-
стигнута представителями «веселой комедии».
В чем заключалось различие между этими двумя направлениями?
Журнальные статьи той эпохи, прологи и предисловия к пьесам,
наконец, сами пьесы показывают, что спор шел о социальных функ-
циях комедии. Сторонники «чистой» комедии, выступавшие как
продолжатели Конгрива и комедии времен Реставрации, утверж-
дали, что цель комедии — развлекать и забавлять. Сторонники
сентиментальной комедии, продолжавшие новаторскую тенденцию
Стиля и Сиббера, видели назначение комедии в том, чтобы поучать .
и наставлять на путь добродетели. ~
Однако, когда приверженцы «чистой» комедии говорили о не-
обходимости развлекать и забавлять зрителя, то они не ограничи-
вали этим все назначение комедии. Они не только заботились о со-
хранении специфики жанра, его комедийной природы, которая у
48&
^сентименталистов искажалась и затушевывалась введением пате-
тики и слезливости. Смех был для них средством критики отрица-
тельных явлений действительности. Поэтому представители так
называемой «чистой» комедии сливаются с тем направлением
просветительской литературы, в котором преобладало крити-
ческое отношение к действительности (Свифт, Фильдинг, Смоллет).
Но в произведениях комедиографов этой школы, как правило,
отсутствовало утверждение положительных идеалов просветитель-
ства. Зато именно эта сторона выделялась в сентиментальной ко-
медии. Сравнительная слабость критических элементов искупалась
до известной степени прогрессивностью идей, которые утверждала
^сентиментальная комедия.
Одним из виднейших представителей «веселой комедии» был
Оливер Гольдсмит, обосновавший принципы своей драматурги-
ческой эстетики в «Опыте о театре, или сравнении веселой и
.сентиментальной комедии» (An Essay on the Theatre, or a Com-
parison between the Laughing and Sentimental Comedy, 1772).
; В своем учении о «веселой комедии» Гольдсмит исходит из традиций
комедии Возрождения. Комедия должна изображать человеческую
природу и быть при этом обязательно веселой, вызывая добродуш-
ный смех публики. Образцом для Гольдсмита служат комедии
Шекспира и отчасти Бена Джонсона, у которого он заимствует,
в известной мере, метод изображения одной преобладающей
странности (humour). В выборе комедийных ситуаций Гольдсмит
руководствуется стремлением к изображению положительных или
во всяком случае не безнравственных характеров.
В комедии «Добродушный» (The Good-Natur'd Man, 1768 *)
Гольдсмит выводит в качестве героя молодого человека Хо-
нивуда, наивно верящего во всеобщую доброту, что приводит
его ко всякого рода забавным злоключениям. От печальных послед-
ствий наивного добродушия спасает Хонивуда заботливое
вмешательство мисс Ричленд, на которой он и женится. Вто-
рую линию действия, напоминающую романтические комедии
Шзкспира, образует история Леонтина, посланного отцом во Фран-
цию, чтобы привезти оттуда сестру, воспитывавшуюся там. Леон-
тин едет и возвращается домой с другой девушкой, Оливией,
в которую он влюблен и которую выдает за сестру. Переплетение
этих двух сюжетных линий создает забавные комические ослож-
нения, но вся атмосфера произведения совершенно иная, чем в ко-
медиях нравов. Идя навстречу вкусам публики, Гольдсмит вся-
чески сглаживал острые углы. При издании пьесы он выкинул
даже имевшиеся в первом сценическом варианте сатирические
эпизоды, казавшиеся современникам слишком «низменными», как
он сам говорит в предисловии к комедии. Вся пьеса проникнута тем
духом гуманности, всеобщего благоволения и сердечной доброты,
■который позволяет узнать автора «Векфильдского священника».
Недаром сентименталист Кемберленд, уловивший близкие ему
настроения, с большой похвалой отзывался о пьесе Гольд-
смита.
490
Шедевром Гольдсмита была его вторая комедия, «Она смиряется,
«чтобы победить, или ошибки одной ночи» (She Stoops to Conquer: or
the Mistakes of a Night, 1773 *), сюжет которой был подсказан
.Гольдсмиту одним комическим приключением его юности. Герой
пьесы молодой мистер Марло едет в поместье Хардкасля, к дочери
которого он должен посвататься. Тони Лемкин, пасынок Хардка-
сля, гуляка и шутник, решив позабавиться, указывает Марло на
дом своего отчима как на гостиницу. Молодой человек заезжает
туда и ведет себя как требовательный постоялец. Здесь он встре-
чается со своей невестой, мисс Хардкасль, но чрезвычайно сму-
щается в ее присутствии, не зная, как себя вести со светской де-
вушкой. Он говорит о себе, что хотя и не чуждался света, но слиш-
ком много отдавался наукам, чтобы усвоить светское обращение.
Мисс Хардкасль, убедившись в робости жениха, решает восполь-
зоваться его ошибочным представлением о том, что дом ее отца,
:это — гостиница. Она переодевается горничной, и тут оказывается,
что молодой джентльмен, от робости не смевший поднять глаза
на свзтскую барышню, неожиданно становится весьма предпри-
имчивым. Победив робость своего жениха, мисс Хардкасль по-
коряет его сердце. Но для этого ей пришлось принять
обличие девушки из низшей социальной среды. В этом
смысл названия комедии — героиня «смиряется, чтобы победить»
робость Марло. Так, обыграв в комедийном плане ситуацию «Па-
мелы» Ричардсона, Гольдсмит создал чрезвычайно веселую пьесу.
Зго — комедия нравов средних слоев общества, одно из наиболее
ярких реалистических произведений английской драматургии XVI11
века. В жанровом отношении —в пределах драмы —это- явление,
параллельное романам Ричардсона, Фильдинга и самого Гольд-
смита.
Эта комедия под названием «Ночь ошибок» с успехом идет в
течение нескольких лет на советской сцене.
Среди других представителей «веселой комедии» заслуживает
упоминания Джордж Кольман старший (George Colman, 1732—
1794). Его первая пьеса «Полли Хоником» (Polly Honeycombe,
1760 *), — история комических причуд мещаночки, начитавшейся
сентиментальных романов, — предвосхитила некоторые мотивы
♦«Соперников» Шеридана. В «Ревнивой жене» (The Jealous Wife,
1761 *) Кольман обработал для сцены. «Тома Джонса» Фильдинга,
а в «Тайном браке» (The Clandestine Marriage, 1766 *), написанном
совместно с Гарриком, воспользовался некоторыми мотивами
знаменитой серии гравюр Гогарта «Модный брак».
Наиболее выдающимся сатириком в просветительской дра-
матургии был Ричард Бринсли Шеридан (Richard Brinsley She-
ridan, 1751—1816). Сын актера и третьестепенной писательницы,
юн прожил очень бурную, романтическую молодость. Познако-
мившись с певицей Элизой Липли, он тайно обвенчался с ней.
Положение Элизы как актрисы делало ее объектом довольно бесце-
ремонных исканий светских поклонников, и молодой Шеридан был
вынужден дважды драться на дуэли.
491
С середины 70-х годов он создает свои комедии: «Соперники»
(The Rivals, 1775 *), «Дуэнья» (The Duenna, 1775 *), «День
святого Патрика» (St. Patrick's Day, 1775 *), «Поездка в Скарборо»
(A Trip to Scarborough, 1777 *), «Школа злословия» (The School
for Scandal 1777 *), вышедшая тотчас же в Дублине так называе-
мым «пиратским изданием», «Критик» (The Critic, 1779 *). После
этого он еще раз вернулся к драматургии в 1799 г., написав мело-
драму «Пизарро» (Pizarro). Отойдя от самостоятельного творчества,,
он еще долго сохранял связь с театром в качестве пайщика, а
затем и владельца Дрюри-Лейнского театра.
Став сторонником вигов, Шеридан принимал активное участие
в политической жизни и, будучи одним из наиболее красноречив
вых ораторов этой партии, сделал блестящую политическую карьеру:
был помощником министра иностранных дел, затем се-
кретарем казначейства и, наконец, казначеем адмиралтейства.
Наиболее значительным эпизодом политической карьеры Шерида-
на было его выступление против генерал-губернатора Индии Уоррена
Гастингса, обвинявшегося в чудовищных финансовых злоупотреб-
лениях и жестокостях. Обвинительные речи Шеридана против
Уоррена Гастингса, произнесенные в 1787—1788 гг., считаются и
по настоящее время одним из классических образцов английского
ораторского искусства.
Во вторую половину жизни Шеридана постигло два больших
удара. В 1792 г. скончалась его жена, а в 1804 г. сгорел принадле-
жавший ему Дрюри-Лейнский театр. Шеридан, однако, не
утратил присущей ему веселости и бодрости. Рассказывают, что
когда горел театр, он сидел в кофейне напротив пылающего зда-
ния и, попивая из бокала, говорил знакомым: «Надеюсь, никто не
воспретит мне пить вино, сидя у моего огонька». Пожар подорвал^
материальное положение Шеридана, который отныне и до конца,
дней своих испытывал нужду. В последние годы жизни его
все чаще видели за тем занятием, которому он предавался во
время пожара театра.
Шеридану было двадцать два года, когда появилась на сцене
его первая комедия «Соперники». Этим произведением молодой
автор сразу же поставил себя в ряды сторонников «чистой» комедии.
Действие, строящееся на двух параллельных интригах, разыгры-
вается в Бате. У Джулии, девушки ровного и спокойного характера,
ревнивый и недоверчивый возлюбленный Фокленд. Другая
героиня, Лидия, полна романтических причуд; она зачитывает-
ся романами «Награды постоянства», «Роковое совпадение»,
«Ошибки сердца», «Следы чувствительности», а также «Гемфри
Клинкером» и «Перегрином Пиклем» Смоллета и «Сентиментальным
путешествием» Стерна. За ней ухаживает капитан Абсолют. Чтобы
понравиться романтической Лидии, он выдает себя за поручика
Беверли. Любительницу сентиментальных романов привлекает
именно низкое общественное положение «голяка Беверли», как
называет его тетушка Лидии, миссис Малапроп. В противополож-
ность своей возлюбленной, капитан Абсолют — достаточно трез-
492
вый и даже несколько расчетливый молодой человек, тщательно
взвешивающий все свои шансы.
Сравнительно легко улаживаются отношения между Джулией
и Фок лен дом. Гораздо сложнее складывается дело у Лидии и ка-
питана. Когда, наконец, Лидия узнает, что ее официальный жених
и тайный возлюбленный—одно и то же лицо, она, к великому удивле-
нию всех, решительно отказывается от брака с ним. Не может же
она «согласиться на глупые приготовления к свадьбе и с глупым
видом пойти в церковь, посреди гостей и родственников, и слышать,
как глупый пономарь станет три раза выкрикивать в народе, что
девица Лидия такая-то вступает в брак... Это ужасно, ужасно. По-
терять все мои мечты, и тихую ночь, и луну, помощницу тайного бег-
ства, и дорожный экипаж четверкой... и миленькие статейки в газе-
тах о моем побеге». Однако в конце комедии она так же, как и Джу-
лия, соединяется со своим возлюбленным.
Из комических характеров в этой комедии особенно удались
Шеридану два: Боб Акр, трус, вынужденный драться на дуэли —
комическая ситуация, исключительно остроумно разработанная
автором, — и тетка Лидии, миссис Малапроп (т. е. «невпопад»).
Особенностью этой смешной, претенциозной дамы является не-
уместное употребление сложных и иностранных слов, хотя сама
она склонна смеяться над грамматическими ошибками и непра-
вильным произношением других. Вместо «эпитета» она говорит
«эпитафия», вместо «стереть из памяти» (obliterate) — «сделать
неграмотным» (illiterate) и т. д. Подобными несуразностями полна
вся ее речь. Неправильное словоупотребление, забавно осмеянное
Шериданом, стало с тех пор в Англии, а впоследствии и в других
странах, обозначаться термином «малапропизм».
Двухактный фарс «День святого Патрика» построен на комиче-
ских ситуациях, возникающих в результате попыток молодого
лейтенанта О'Коннора пробраться переодетым в дом своей воз-
любленной, которой ее отец запретил с ним видеться. Как и ожи-
дает зритель с самого начала, стремления О'Коннора, после не-
скольких забавных неудач, увенчиваются успехом.
Созданием «Дуэньи» Шеридан отдал дань всеобщему увлече-
нию «балладными операми». Заимствовав отдельные элементы
фабулы у Уичерли, Мольера, Сентливр и из испанских комедий,
он создал яркое комедийное произведение, затмившее во вторую
половину XVIII века даже «Оперу нищих».
«Поездка в Скарборо» была переделкой комедии Ванбру «Не-
исправимый» — переделкой, значительно превосходившей оригинал.
В 1777 г., когда Шеридану было 26 лет, он создал свою лучшую
комедию — «Школа злословия». Это—высшее художественное до-
стижение английской драматургии XVIII века и одна из лучших
английских комедий вообще.
Пожилой и весьма положительный сэр Питер Тизль имел не-
осторожность жениться на молодой девушке, взятой им из бед-
ной семьи. Попав в светское общество, лэди Тизль начинает под-
даваться его развращающему влиянию. Перенимая аристократи-
493
ческие замашки светских дам, она становится непомерно расто-
чительной. Подвергается искушениям и самая ее супружеская
верность.
Другую линию сюжета составляет история двух братьев —
Джозефа и Чарльза Сэрфейс, характер которых отчасти напоми-
нает Блайф^ля и Тома Джонса. Как и Фильдинг в «Томе Джонсе»,
Шеридан подчеркивает, что внешние признаки поведения еще от-
нюдь не дают основания для правильной оценки людей. Если судить
по поверхности —кстати, самая фамилия братьев в переводе озна-
чает именно «поверхность» (surface), —то Джозеф —порядочный
молодой человек, бережливый, скромный и добродетельный. На
самом же деле это —бессердечный, лицемерный эгоист. Чарльз,
напротив, сначала кажется распущенным повесой. Растратив
все свое состояние, он делает огромные долги, чтобы удовлетворять
свою наклонность к разгульной жизни. Свет осуждает его, и в
особенности его порицает «добродетельный» старший брат. На
самом же деле Чарльз оказывается, в сущности, глубоко честным
и порядочным человеком, исполненным доброты и отзывчи-
вости.
Истинный характер обоих братьев обнаруживается в отноше-
нии к их дяде, сэру Оливеру Сэрфейсу. Сэр Оливер, давно поки-
нувший родину, после многих лет отсутствия возвращается раз-
богатевшим, но хранит свое имя в секрете, желая узнать подлин-
ный характер племянников, прежде чем составить завещание и
выбрать себе наследника. Сэр Оливер является к Чарльзу под име-
нем Премиума. Нуждающийся в деньгах повеса продает ему портре-
ты всех своих предков, но ни за какие деньги не желает расстаться
с портретом своего дяди Оливера, которому, как он говорит, он
многим обязан. К Джозефу сэр Оливер, назвавшись именем Стен-
ли, является в качестве нуждающегося просителя. Джозеф, со
всей присущей ему изысканностью в манерах и любезностью, отка-
зывает в помощи. Когда заходит разговор о сэре Оливере, то Джо-
зеф, проявляя самую черную неблагодарность, отзывается о своем,
дяде как о скупце, хотя на самом деле обязан ему очень многим.
Естественно, что впоследствии сэр Оливер делает своим наследни-
ком беспутного, но доброго и сердечного Чарльза, осуждая лице-
мера Джозефа.
Образ Джозефа является наиболее значительным в комедии.
Это — английский Тартюф. Хотя произведение Шеридана усту-
пает в социальной остроте и смелости бессмертной комедии Моль-
ера, тем не менее оно является великолепным разоблачением хан-
жества и Подлости. Здесь обличается не религиозное ханжество
клерикальных святош, а то нравственное лицемерие, тот «cant»,
который стал специфической отличительной чертой господствую-
щих классов тогдашней Англии.
Характер Джозефа показан на фоне светского общества того
времени. Фон этот представлен салоном лэди Снирвель, изобра-
женным с изумительной сатирической красочностью. Это и есть
«школа злословия». Каждый из посетителей гостиной лэди Снир-
494
вель, включая и хозяйку, выставляет себя блюстителем нравствен-
ности, добродетели, хорошего вкуса и тона. В этих качествах они
утверждают себя не собственным поведением, а осуждением по-
ведения других. Они кричат о недостатках окружающих для того,
чтобы никто не обращал внимания на их собственные. Они злы,
завистливы, развращены и уродливы, но приписывают эти каче-
ства другим, притом по большей части без всяких оснований.
В своей комедии Шеридан создал бессмертную характеристику
лицемерия тогдашнего английского буржуазно-аристократическо-
го общества. Недаром автор «Чайльд Гарольда» любил старика ■
Шеридана, с которым он часто встречался за кулисами Дрюри-
Лейнского театра. Именно люди, подобные лэди Снирвель, миссис
Кендор, Бекбайту, Кребтри и Джозефу Сэрфейсу, травили и из-
гнали из Англии великих поэтов Байрона и Шелли, которых
господствующая верхушка осудила за «безнравственность».
Эстетические взгляды Шеридана очень хорошо обнаруживаются
в его последней комедии «Критик», целиком посвященной вопро-
сам театра и поэтики драмы. Комедия принадлежит к жанру
пьес-репетиций. Здесь мистер Денгль, выражающий, пови-
димому, точку зрения автора, придерживается шекспировского-
взгляда, что «театр должен быть зеркалом природы, а актеры из-
влечением и краткой хроникой эпохи»; его жена, напротив, стоит-
за театр нравоучительный. Мистер Денгль смеется над современ-
ными сентиментальными пьесами. Он открывает рукопись новой
пьесы и наталкивается на ремарку: «Разражается слезами и ухо-
дит». «Что это, — спрашивает он, —трагедия?» Но ему объясняют,,
что это сентиментальная комедия, «заимствованная с французско-
го» — намек на французскую слезливую комедию, влияние ко-
торой стало ощутительным в Англии во вторую половину
XVIII века.
Худшей чертой современного театра, по мнению мистера Денг-
ля, является «щепетильность публики». Он сожалеет, что даже Ван-
бру и Конгрив подвергаются теперь исправлениям со стороны
мелких кропателей. Присутствующий при этом разговоре язви-
тельный критик Снир остроумно замечает, что «жеманность в этом
отношении подобна стыдливости куртизанки, которая прибавляет
себе румян по мере того, как теряет скромность». Снир смеется над
идеей искоренения пороков посредством изображения на сцене
кающихся грешников, что со времени Лилло стало девизом сенти-
ментального направления просветительской драматургии. Он рас-
сказывает о новой комедии «Исправившийся взломщик»: «Здесь по-
средством одного только юмора грабежи со взломом представлены
в таком смешном свете, что, если пьеса удержится на сцене со-
ответствующее время, то я не сомневаюсь, что к концу сезона зам-
ки и задвижки станут совершенно ненужными». Снир иронизирует
по адресу мещанской драматургии, рассказывая о своем друге,
«открывшем, что нелепости и недостатки света являются сюжетами,
недостойными комической музы», и решившемся, вместо этого,
«инсценировать уголовный кодекс».
4Q5*
Насмешкам Шеридана подвергаются также итальянские опер-
ные актеры, столь любимые аристократической публикой; забавно
высмеивается сентиментальный драматург Кемберленд, изобра-
женный в качестве сэра Фретфул Плэйджиари, что в переводе
означает «раздражительный плагиатор». Наконец, во втором и
третьем актах, изображающих репетицию исторической трагедии
некоего Пуффа, пародируется предромантическая драматургия
второй половины XVIII века.
В 1799 г., после большого перерыва в драматургическом твор-
честве, Шеридан поставил на сцене мелодраму «Пизарро», пере-
работку «Испанцев в Перу» Коцебу. Эта пьеса показывает, что
в последние годы жизни сам Шеридан подвергся некоторому
влиянию новой, предромантической драматургии. В этой обла-
сти, однако, он не создал и не мог создать ничего оригинального,
ибо был всецело человеком XVIII века, одним из последних пред-
ставителей сатирической и обличительной литературы просвети-
тельства.
Наиболее значительным представителем сентиментальной коме-
дии был Ричард Кемберленд (Richard Cumberland, 1732—1811).
Воспитанник Кембриджского университета, он провел много лет
на дипломатической службе, а затем занимал ряд постов в госу-
дарственном аппарате. На протяжении своей долгой жизни он
пробовал силы в различных родах литературы. Он писал романы,
оперы, трагедии, комедии, стихи и эпос, а под конец, видимо вдох-
новленный примером Руссо, написал подробнейшую автобиогра-
фию, поразившую читателей своей не всегда приличной откровен-
ностью.
Первая сентиментальная комедия Кемберленда «Братья» (The
Brothers, 1769 *) отличается чрезвычайной искусственностью сю-
жета. Группа путешественников спасается от кораблекрушения у
берегов Корнуолла. Среди них Виолетта, странная, таинственная
дама, оказывающаяся впоследствии женой Бельфильда старшего,
и молодой человек, младший брат Бельфильда. Старший из двух
братьев —негодяй. Он не только бросил Виолетту, но теперь уха-
живает за Софией, невестой своего брата, которого он всячески
порочит. В конце пьесы Бельфильд старший раскаивается во всех
своих дурных поступках и мирится с Виолеттой, а Бельфильд млад-
ший благополучно женится на своей возлюбленной.
Триумфом сентиментальной драматургии была комедия Кем-
берленда «Индеец» (The West Indian, 1771*). В своих мемуарах
автор охарактеризовал побуждения, заставившие его написать
это произведение: «Мне пришло в голову, что было бы оригинально
и обнаружило бы вместе с тем мою любовь к человечеству, если бы
я вывел характеры лиц, которых обычно изображали на сцене как
предмет насмешек и оскорблений, представив их в таком свете,
чтобы примирить общество с ними и их примирить с обществом.
Тогда я стал присматриваться к обществу с целью обнаружения тех,
кто были жертвами его национальных, сословных или религиозных
предрассудков, короче, тех страдальцев, которые нуждались в
496
защитнике. Из них я замыслил выбрать и создать героев для моих
будущих драм, и решил постараться очертить их в таком выгодном
виде, чтобы побудить зрителей смотреть на них с жалостью и от-
носиться к ним с уважением».
Цель автора соответствовала гуманистическому духу сентимен-
тализма. В соответствии с этим он вьподит героя — Белькура, по-
длинное дитя природы, неискушенное цивилизацией. Тропический
климат его родины, Вест-Индии, способствовал развитию бурной
страстности его натуры. Как настоящий «естественный человек»,
он лишен эгоизма, чужд неискренности и обладает инстинктивным
благородстьом.
В пьесе много мелодраматических событий; Белькур. в конце
концов, оказывается пропавшим сыном купца Стоквеля. Роль зло-
дейки играет богатая ханжа лэди Распорт, которая владеет иму-
ществом, на самом деле принадлежащим семейству капитана Дэдли.
Добродетельная девушка Луиза Дэдли едва не становится жертвой
сводни, но судьба выручает ее. Собственность возвращается к за-
конным владельцам, и Луиза выходит замуж за Белькура.
Большой новинкой в пьесе был образ ирландца О'Флаерти.
До того английская литература знала в основном лишь шовинисти-
чески одностороннее изображение ирландцев. Кемберленд изобра-
зил эту фигуру с большой симпатией. В его ирландце также есть
черты «естественного человека», представлена ые с добродушным
юмором. Майор О'Флаерти вспыльчив, но добр, простоват, но
по-своему умен.
В комедии «Светский любовник» (The Fashionable Lover,
1772 *) героиня Августа Обри бежит из дома своего опекуна, дурно
обращающегося с ней, и чуть не делается жертвой светского лове-
ласа лорда Аббервиля. Ее спасает от всех бед дворецкий лорда —
шотландец Колин Маклеод, главный добродетельный герой пьесы.
За этой комедией последовали «Раздражительный человек» (The
Choleric Man, 1774 *), «Побочный сын» (The Natural Son, 1784 *),
«Школа вдов» (The School for Widows, 1789 *) и ряд дру-
гих комедий, в которых Кемберленд подчас отклонялся от
сентиментализма ради создания подлинно комических ситуаций.
Но в комедии «Еврей» (The Jew, 1794 *) он вернулся к настрое-
ниям, вдохновлявшим его во время создания «Индейца». В слож-
ной и запутанной интриге пьесы еврею Шеве отводится роль доб-
рого гения, выводящего из затруднений и спасающего от бед добро-
детельных молодых героев и героинь.
Радикализм Кемберленда был прямым продолжением лучших
традиций просветительства, но как писателю ему нехватало мас-
терства и подлинного чутья действительности. Поэтому, при всех
его добрых намерениях, при всей положительности взглядов, ко-
торые он проповедывал, пьесы его отличались искусственностью
построения и неубедительностью образов. Проистекало это от
крайней степени идеализации, к которой он прибегал,^желая вы-
ставить своих положительных героев в наивыгоднейшем осве-
щении.
**» Англ. литература ***
Видным представителем сентиментального направления бьш
также Гью Келли (Hugh Kelly, 173Э —1777). Его первой и самой,
популярной комедией была «Ложная щепетильность» (False De-
licacy, 1768 *). Под влиянием Дидро и французской буржуаз-
ной комедии Келли написал затем комедию «Краткий совет»
(A word to the wise, 1770 *), посвященную проблеме взаимо-
отношений родителей и детей, но уже в двух следующих комедиях,
«Школа жен» (The School for Wives, 1773 *) и «Роман одного часа»
(The Romance of an Hour, 1774 *), он отклоняется в сторону тради-
ционной комедии нравов.
К сентиментальному направлению принадлежало также твор-
чество Фредерика Рейнольдса (Frederick Reynolds), переде-
лавшего в драму «Вертера» ( 1785*) и написавшего несколько сенти-
ментальных комедий.
Можно привести еще ряд имен авторов, но обилие их, так же
как и количество написанных ими пьес, свидетельствует только
о распространенности этого драматического вида, а не о каких-
либо его выдающихся художественных достоинствах. Совершенно
очевидно, что наибольшие художественные победы были достигну-
ты в области «веселой» или «чистой» комедии.
Чем объясняется эта победа «веселой» комедии над комедией сен-
тиментальной? Почему Шеридан как художник выше Кемберленда?'
Как и во многих подобных случаях превосходство здесь вытекает
не столько из индивидуальной одаренности, сколько из того, что
личное дарование художника позволило ему избрать объективна
более правильный путь.
Прогрессивность положительных идеалов просветительства бес-
спорна. Однако в этих идеалах было много иллюзорного, тогда как
критические элементы просветительской идеологии были объектив-
но неизмеримо реальнее. Утверждение положительных идеалов
было поэтому художественно менее убедительным, чем критика
существовавших общественных отношений.«Племянник Рамо» Дидро
оказался художественно значительней его «Побочного сына» и «Отца
семейства». По той же причине и Шеридан, как художник-реалист,,
оказался неизмеримо выше Кемберленда.
6
Предромантическое движение, возникающее в литературе вто-
рой половины XVIII века, охватывает не только поэзию и роман,
но проникает также и в область драматургии и театра. Важным
признаком намечавшегося позолота в литературе, осуществленного
впоследствии романтиками, было «возрождение» Шекспира на
сцене. Во времена Реставрации Шекспира знали главным образом
по переделкам Лрайдена, Тейта и т. д.
Данные о репе туаре показывают, что пьесы Шекспира всегда
занимали почетное место в театре. Но особенно сильно возрос инте-
рес к драматургии Шекспира в середине XVIII века. Если в Дрю-
ри-Лейнском театре, одном из двух ведущих театров Лондона
498
в XV111 веке (вторым был Ковент-Гарденский), в сезон 1708 —1709 гг.
из 38 трагедий ставились 13 шекспировских (включая переделки);
в сезон 17 8—17 9 гг. из 72 — 14; в сезон 1728 —1729 гг. из 61 — 17,-
в сезон 1738—1739 гг. из 58—22, то в сезон 1748—1749 гг. коли-
чество шекспировских трагедий (включая переделки) составляло
больше половины трагедийного репертуара театра — 44 из £6 по-
ставленных трагедий.
Руководителем театра Дрюри-Лейн был известный актер-
Давид Гаррик (David Garrick, 17 7—1779),осуществивший реформу
театрального искусства в XVIII веке. Трагедия классицизма и
героическая трагедия по самому характеру требовали от актера
прежде всего умения декламировать. Этот декламационный и па-
тетический стиль игры преобладал на английской сцене до появ-
ления Гаррика. Гаррик явился преобразователем сцены и актер-
ской игры в духе реализма, утвердившегося в XVIII веке во всех
областях искусства. Ему принадлежит заслуга создания п осве-
тительского реализма в сценическом искусстве XVIII века. Не-
даром, именно исходя из практики Гаррика иеготр\ппы, Дидро
разработал в «Парадоксе об актере» свою теорию актерской игры:
Из литературных свидетельствам стерстве Гаррика напомним зна-
менитый эпизод в «Томе Джонсе» Фильдинга, где описывается,
как Партридж смотрел великого актера в роли Гамлета и ( ыл по-
ражен реализмом его исполнения. Именно Гаррику принадлежала
заслуга возрождения Шекспира на сцене. При этом нельзя, одна-
ко, не отметить,что Шекспир Гаррика не был еще подлинным Шек-
спиром, ибо он переделывал его, приспособляя к эстетическим
канонам трагедии своего времени. Но даже и такой,несколько при-
глаженный, Шекспир открыл новые горизонты перед драматур-
гами.
Наиболее значительным представителем предромантической дра-
мы был Джон Хом (John Home, 1722—1808), участник якобит-
ского восстания 1745 г., затем священник, лишенный сана за
написание трагедии «Дуглас» (Douglas). Гаррик отказался поста-
вить эту трагедию в своем театре; она была впервые представлена
в Эдинбурге в 1756 г. и лишь в следующем году попала на сцену
Ковент-Гарденского театра в Лондоне, где вызвала сенсацию. Сю-
жет пьесы резко отличается от стандартов просветительской драмы
XVIII века. Героиня трагедии лэди Рандольф знакомится с юным
Дугласом, в котором узнает своего давно пропавшего сына. Ее
частые встречи с юношей вызывают ревность мужа, лорда Рандоль-
фа; он убивает Дугласа.
Стр.мление автора заключалось в том, чтобы возродить на сцене
изображение больших и роковых страстей и мрач! ых, кровавых:
событий. Влияние «Дугласа» сказалось позднее в трагедии «Пер-
си» (Percy, 1777 *) Ганны Mop (Hannah More, 1745 — 1833).
Связь .Хома с предромантической литературой проявляется в:
трагедии «Роковое открытие» (The Fatal Discovery, 1769 *),.
сюжет которой был навеян «Оссианом» Макферсона. В «Роковом
открытии» гэльский вождь Катул обещал свою дочь Ривайну в-
32* 49^
жены королю пиктов Дурстану. Но она любит принца морвен-
ского. Ронана. Чтобы сломить ее сопротивление, ей сообщают, что
возлюбленный ее умер. Однако брат Ривайны, Конан, разоблачает
эту ложь. Тогда Дурстан решает изменнически захватить любимую
девушку. В схватке, которая затем происходит, гибнут Конан и
Ронан, а сама Ривайна кончает самоубийством.
Любопытно отметить, что постановщики пьесы не решились
порвать со сценическими традициями своего времени. Вместо вос-
создания древней кельтской Британии, они дали на сцене привычную
обстановку классической трагедии. Древние гэлы фигурирова-
ли на сцене в придворных костюмах XVIII века, а местом действия
был «античный дворец». Однако даже и в таком виде трагедия была
воспринята как явление нового стиля.
После Хома появился ряд драматических обработок оссианов-
ских мотивов, из которых отметим «Пленников» Делапа (The
Captives, by Delap, 1785 *), «Комдлу» лэди Беррель (Comala,
by Lady Burrell, 1733) и анонимную пантомиму «Оскар и Маль-
вина» (Oscar and Malvina, 1791 *).
К концу века предромантические мелодрамы и трагедии «кош-
маров и ужаса» прочно утверждаются на английской сцене. Пер-
вая «готическая» трагедия —« Гау.нственная мать» ( The Mysterious
Mother, 1763), написанная Горэсом Уолполем, не попала на сцену,
но оказала немалое влияние на развитие английской драмы, вы-
звав ряд подражаний.
Наряду с оригинальными мелодрамами и трагедиями, примером
которых может служить нашумевший «Приз зак замка» (The Castle
Spectre, 1797 *) Мэтью Грегори Льюиса, появляются инсценировки
известных «готических» романов. Особенно много их у третьесте-
пенного драматурга Бодина (Baaden), переделавшего в пьесу «Фон-
тенвильский лес» ( 17Э4 *) «Роман в лесу» Анны Радклиф, и в «Италь-
янского монаха» (17Э7 *) —ее роман «Итальянец». Он же переделал
в пьесу под названием «Аврелио и Миранда» ( 1798 *) известный
роман Льюиса «Монах». «Калеб Вильяме» Годвина был поставлен
на сцене Кольманом младшим под названием «Железный сундук»
(The Iron Chest, 1796 *). Но появление этих пьес, как показывают
даты, уже относится к периоду романтической литературы.
ОТ ДЕЛ III
СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
ВВЕДЕНИЕ
Сентиментализм —явление общеевропейское. В одних стра-
нах раньше, в других позже, под разными названиями сентимен-
тализм обособляется внутри просветительской литературы, как
новое литературное направление, и к концу XVIII века становится
господствующим течением, представляя собой новый этап европей-
ского Просвещения —этап, непосредственно предшествующий
французской буржуазной революции 1789 г.
Сентиментализм —продолжение политической и литератур-
ной борьбы третьего сословия с основами феодализма. Но сентимен-
тализм развивается в период, когда народные массы начинают
оказывать все более заметное влияние на характер этой борьбы.
Поэтому критика существующего порядка у сентименталистов на-
чинает обращаться не только против феодальных, но и против
буржуазных идеалов. Появление сентиментализма знаменует на-
чало расслоения третьего сослоеия.
Сентименталисты уже смутно ощущают противоречия, свой-
ственные возникающей в недрах феодального общества капитали-
стической формации. Поэтому, продолжая и углубляя антифео-
дальные устремления всего Просвещения, они в то же время берут
под сомнение и оптимистическое представление ранних просве-
тителей о буржуазном прогрессе и самый просветительский рацио-
нализм. Только человек, живущий прежде всего чувством, может,
по мнению сентименталистов, проникнуться искренним сострада-
нием к несчастиям народных масс, стонущих под двойным гнетом
отживающих феодальных и нарождающихся буржуазных отношений.
Однако, по сравнению с предшествующим этапом Просвещения,
новый этап, представленный сентиментализмом, оказывается про-
грессивным не во всех отношениях. Даже во Франции, где после-
довательная смена отдельных этапов Просвещения непосредственно*
выражала нарастание идейной подготовки буржуазно-демократи-
ческой революции, значительный шаг вперед, который сделал Рус-
со по сравнению с Дидро, был в то же время связан с патриархаль-
но-реакционной утопичностью в общественных взглядах и с из-
вестным отходом от материализма энциклопедистов. В Германии,,
где еще не создалась революционная ситуация, переход от Лес-
синга к «штюрмерству» тем более не был всесторонним прогрессом,
и Лессинг ЕО многом был прав в своей полемике против «бурных
гениев».
50*.
В Англии, где революционная ситуация осталась уже позади,
роль сентиментализма была еще более противоречивой. Английский
сентиментализм имеет ряд особенностей, вытекающих из истори-
ческого развития Англии. В то время как во всемирно-историческом
масштабе победа буржуазной революции была еще впереди, в самой
Англии эта революция уже произошла и завершилась компромиссом
между буржуазией и дворянством. Назревающая революция на
континенте, освобождение Америки от английской зависимости
внушают лучшим умам Англии надежду на возможность более со-
вершенного социального устройства, но отсутствие непосредствен-
ной революционной ситуации в самой Англии определяет сравни-
тельную умеренность политических выводов английского сентимен-
тализма.
У Руссо защита цельного и сильного чувства, настоящей чело-
веческой страсти, связана с освобождением человека от всяких со-
словных ограничений и предрассудков. Воспарение в неземные
сферы у Юнга или прихотливая смена вполне земных, но мелких
и раздробленных настроений у Стерна не связаны в такой мере с
политическим радикализмом. От сентиментального сочувствия
Стерна несчастному узнику до разрушения Бастилии еще далеко,
«о в дальнейшем развитии английского сентиментализма, за шесть
лет до начала французской буржуазной революции 1789 г., Кау-
пер уже призывает разрушить Бастилию. Лишь под влиянием
французской революции английский руссоизм в лице Годвина до-
ходит до крайних политических выводов.
Отставая в политическом радикализме от аналогичных евро-
пейских течений, английский сентиментализм уделяет зато гораз-
до больше внимания социальному вопросу, обострению имуще-
ственного неравенства и другим последствиям быстрого развития
английского капитализма после революции. Социальная природа
английского сентиментализма в достаточной степени сложна. В
нем находили свое выражение и филантропическое сочувствие
.представителей высших классов беднякам, не слишком далекое
от вегетарианской проповеди гуманного отношения к животным,
и чисто буржуазное требование заменить аристократического
героя честным и благородным предпринимателем. Но наиболее
значительные явления английского сентиментализма связаны с ши-
роким массовым протестом против пауперизации деревни и экспро-
приации мелких ремесленников.
Характеризуя основные черты капиталистического строя в
•статье «О диалектическом и и:торическом материализме», товарищ
Сталин пишет: «Наряду с капиталистической собственностью на
средства произвэдства существует и имеет на первое время ши-
рокое распространение частная собственность освобожденных от
>крепо:тной зависимости крестьянина и ремесленника на средства
производства, основанная на личном труде»1. Голос свободного
крестьянина-йомена, уже свободного от феодальной «дисциплины
Сталин, Вопросы ленинизма, изд. 11-е, стр. 556.
502
палки» и еще не подпавшего под действие капиталистической «дис-
циплины голода», слышен в английской литературе на протяжении
нескольких веков. Однако в течение всего этого времени в поло-
жении йоменов происходит постепенное ухудшение, завершившее-
ся их полным уни ^тожением к концу XVIII века. Отражение этого
процесса можно проследить в английской сентиментальной литера-
туре от Томсона до Крабба и от Гольдсмита до Мэккензи и
Годвина.
Так как английское Просвещение развивается после буржуазной
революции, в условиях более быстрого, чем в континентальной
Европе, роста капитализма, все оно в целом носит более «сентимен-
тальный» характер, и сам сентиментализм возникает в Англии рань-
ше, чем на континенте. Сентиментализм и предромантизм очень
своеобразно переплетаются в творчестве английских писателей
XVIII века с просветительскими традициями. Тем не менее, воз-
можно и необходимо отграничить английский сентиментализм как
от сентиментальных элементов раннего Просвещения, так и от пред-
романтических явлений в литературе второй половиныXVIII века.
Несмотря на значительную роль чувствительности в произведениях
Ричардсона, его творчество все же относится к области просвети-
тельского реалистического романа. С другой стороны, при всей
связи «готических романов» Радклиф с традициями сентимента-
лизма, они относятся все же к так называемому предроман-
тизму.
В буржуазной критике сильно стремление представить весь
английский сентиментализм как предромантизм или ранний этап
романтизма. Эго ведет к отрыву сентиментализма от общих устрем-
лений и задач Просвещения и к недооценке реалистических черт
самого сентиментализма, ибо эстетика сентиментализма содержит
элементы, из которых в XIX веке развился не только романтизм,
но и реализм.
Многие черты сентиментализма являются лишь развитием и
углублением некоторых существенных сторон всего Просвещения
в целом. Борьба просветителей с аристократической культурой
основывалась на защите прав и интересов личности, на противо-
поставлении нравственных чувств аристократической испорчен-
ности, на демократизации тематики и освобождении литературы
ют стеснительных правил классицизма. Все это было продолжено
сентиментализмом.
В английской литературе особенно ясно выступает связь сенти-
ментализма с предшествующими этапами Просвещения.
С философской стороны существенной предпосылкой сентимен-
тализма был сенсуализм Локка, в особенности в той трактовке,
какую он получил впоследствии у Юма. Эволюция просветитель-
ского реализма от Фильдинга и Смоллета к Стерну и Мэккензи
проходит целиком в пределах сенсуалистической философии, но
интерес художника постепенно передвигается от изображения внеш-
них, чувственно воспринимаемых явлений к анализу внутренней,
психологической реакции субъекта на действительность. Сентимен-
503
та листам и, в частности, Стерну особенно близок «стыдливый мате-
риализм» Юма с его скептическим сомнением в безусловных пра-
вах разума. Но Стерн многое черпает и из Локка. Локк, например,
стараясь все категории вывести из ощущения, принужден
дать субъективный критерий времени, определяя единицу продолжи-
тельности как «расстояние между появлением двух идей в нашей
душе». Стерн ловит Локка на слове и растягивает описание рожде-
ния Тристрама на несколько книг.
Многое сентименталисты восприняли у Шефтсбери. Если Локк,
вслед за Гоббсом, считал основой человеческого поведения лишь
внешние впечатления и те выводы, которые делает из них разум,
то Шефтсбери кладет в основу поведения внутреннее, моральное
чувство, которое в то же время является и чувством красоты. Эта
апелляция к природе, к инстинкту, к безошибочной нравственно-
сти чувства становится в дальнейшем одним из краеугольных камней
сентиментализма. Шефтсбери, одним из первых, начинает предпо-
читать дикий, нетронутый воздействием человека пейзаж искусст-
венно распланированному саду. У него можно найти даже проти-
вопоставление землепашества, как естественного занятия, горному
делу, как кощунственному покушению на тайны земных недр.
Впрочем и сентименталисты и романтики развивали лишь отдель-
ные стороны мировоззрения Шефтсбери. Шефтсбери резко отличает-
ся от сентименталистов и своим оптимистическим представлением
о всеобщей гармонии, искупающей частные несчастия общим бла-
гом, и своим недоверием ко всяческому «энтузиазму».
В дальнейшем развитии эстетической теории многие ученики
Шефтсбери, исходя в основном из его учения, направляются в сто-
рону сентиментализма. В 1735 г. Генри Брук, известный больше
своим позднейшим романом «Знатный простак», опубликовал нечто
вроде эстетического трактата в стихах, под названием «Всеобщая
красота», Он исходит из идеи Шефтсбери о всеобщей гармонии,
но делает заметный шаг в сторону руссоизма. Он утверждает, что
мировая гармония, «всеобщая красота» нарушена существованием
человека. Чтобы достичь гармонии, человеку надо учиться у
природы, у животных. Птицы, пчелы, муравьи счастливее людей
и могли бы дать им уроки нравственного поведения.
С произведением Брука сходна поэма Марка Эйкенсайда «Усла-
ды воображения» (1744). Вслед за Шефтсбери Эйкенсайд принимает
платоновскую идею единства добра и красоты. «Истина и добро —
одно, и красота пребывает в них, и они в ней», — говорится в поэ-
ме. Эйкенсайд воспевает красоту человеческих чувств, «прекрасные
слезы, проливающиеся из-за чужого горя». Поэма напоминдет
одноименное произведение Аддисона, и не только по названию,
но и по основным понятиям, — прекрасного, возвышенного и уди-
вительного, которые она трактует. Хотя Эйкенсайд придает боль-
ше значения «удивительному», подчеркивая свойственную чело-
веку жажду необычного, он еще тесно связан с классицизмом; он —
большой поклонник античности и ставит своей целью «настроить
на аттические темы британскую лиру».
504
Гораздо дальше ушел от эстетики классицизма Эдмунд Берк
в своей работе «Философское исследование о происхождении наших
понятий прекрасного и возвышенног » (Philosophical Enquiry into
the Origin of our Ideas of the Sublime and the Beautiful, 1757^
ценимой Лессингом и повлиявшей на Канта. Берк рассматривает
прекрасное и возвышенное, как два противоположных понятия, и
уделяет особое внимание второму из них. Возвышенное вызывает
удивление, наибольшая же степень этого удивления — ужас.
Берк подробно останавливается на обстоятельствах, способствую-
щих созданию чувства ужаса. Он возражает Локку, считавшему,,
что в природе ночного мрака нет ничего страшного и что страх тем-
ноты возникает у человека благодаря ассоциациям, созданным рас-
сказами нянек и т. д. Берк думает, что в самой природе мрака, как
и всякой неясности, содержится нечто, воздействующее на вообра-
жение. Отсюда он делает выводы, относящиеся к искусству: «Тем-
ные, смутные, неопределенные образы имеют больше власти над.
воображением и создают бэльшие страсти, чем образы более ясные
и определенные». Берк подтверждает это примерами из описания
ада и Сатаны у Мильтона. В этом вопросе борьба с рациона листа-
ческой ясностью классицизма сближает Берка не только с сенти-
ментальными (Юнг), но и с предромантическими тенденциями.
Знаменательно, что почти одновременно с этой эстетической рабо-
той Берк опубликовал анонимно политический памфлет руссоист-
ского характера под названием «Защита естественного общества
или рассмотрение нищеты и зла, вытекающих для человечества
из различного рода искусственных обществ» (A Vindication of
Natural society, etc., 17^6).
Для сентиментализма характерен поворот от светской филосо-
фии к некоторым течениям неофициальной религии, развивавшимся
в то время в народной среде. Английская философия XVI11 века
в основном представляла собой деистический материализм. Мате-
риалистическое учение в Англии, говорит Энгельс, «объявило себя
философией, которая как раз подходит для ученых и образованных
людей, в противовес религии, которая достаточно хорсша для не-
образованной огромной народной массы, включая сюда и буржуа-
зию». Благодаря этому «у последователей Гоббса — Болинброка,
Шефтсбери и пр. — новая, деистическая форма материализма оста-
валась аристократическим учением для избранных» *. Отворачи-
ваясь от материалистической философии как аристократического
учения, сентименталисты стараются проникнуться воззрениями
Народной массы, но разделяют и ее предрассудки, в частности, ее
религиозность. Здесь вновь сказывается противоречивое развитие
идеологии, представляющее прогресс в одном отношении и регресс
j& другом. Так, в частности, проникнутый религиозным духом ро-
ман Гольдсмита оказывается ближе к народней жизни, чем «обыг-
рывающий» всевозможные системы светской философии роман.
Стерна.
L
L 1Маркс и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 2, стр. 299.
505:.
Характерная черта возникающих в XVIII веке в низах обще-
ства религиозных движений — резко отрицательная оценка соц т-
аль ой действительности. Один из предшественников методизма,
Вильям Лоу, говорит: «Мир, в котором мы живем, находится в бес-
порядочном, неправильном состоянии и проклят из-за человека.
Эго только пустыня, состояние тьмы, долина скорби, где порок и
безумие, сновидения и тени разнообразно услаждают, возбуждают
и отравляют короткие, несчастные жизни людей».
Та же мысль лзжит в основе «Ночных дум» Юнга. Отталкиваясь
от «Опыта о человеке» Попа, где человек рассматривается только
как конечное существо, с точки зрения его земных целей, Юнг вос-
певает «бессмертного человека», потому что в земной жизни не на-
ходит ничего, достойного восхищения. Желая избавить людей от
страха смерти, он убеждает человека, что, теряя жизнь, он не
слишком много теряет. Человек, лишенный бессмертия, хуже жи-
вотного, ибо животное не грабит и не судит своих братьев. Человек,
рассматриваемый только с точки зрения его порочной земной жиз-
ни, — это «чудовище, поношение неба, черное непроницаемое
облако, висящее над прекрасным лицом природы». Если же он доб-
родетелен, то на земле он — несчастнейшее существо, ибо в этом
мире добродетель никогда не вознагра-вдается. Только смерть
может покончить с несчастиями одних и пороками других; эти
бед>i, одолевавшие человека, будут прикованы, как побежденные
пленники, к триумфальной колеснице смерти.
Нетрудно заметить, что в этих положениях Юнга, как и в про-
изведениях других авторов на ту же тему, в форме «благочестивых»
размышлений о бессмертии проявляется довольно резкая критика
существующего положения вещей и тех страданий, которые при-
ходится выносить большинству человечества.
Сходная мысль, открыто направленная против оптимистиче-
ской философии раннего Просвещения, содержится и у Гольдсмита
в знаменитой тюремной проповеди векфильдского викария Примроза:
«Да, друзья мои, мы должны чувствовать себя несчастными. Ни-
какими усилиями утонченного воображения нельзя заставить себя
позабыть об естественных потребностях человека; нельзя утолить
мук разбитого сердца. Пускай философы, лежа на мягких подушках,
уверяют, что все это можно победить. Увы, чего стоят са-
мые усилия противостоять таким впечатлениям. Смерть — пустя-
ки в сравнении с ними, у всякого достанет силы умереть; но стра-
дания ужасны, и вот чего человек не в силах выносить. Для нас,
друзья, и дол-кно быть особенно драгоценно обещание блаженства
на небесах; если бы только в этой жизни ждали мы себбнаграды,
то что может быть ужаснее». При всей радикальности подобных
высказываний они ведут, в конце концов, к религиозному прими-
рению с несчастием, и это притупляет их критическое острие.
Из массовых религиозных движений ближе всего к сентимента-
лизму стоит методизм, который его основатель Джон Уэсли (John
Wesley, 1703—1791) назвал «религией сердца». Религиозное движе-
ние, известное под названием методизма, считало основой христиан-
.506
ской религии не догматы и обряды, а непосредственное религиоз-
ное чувство и личное общение с богом. Методизм возник в Англии
еще в 30-х годах XVIII века, но получил особенное распростране-
ние в годы промышленного переворота; к началу 80-х годов Уэсли
насчитывал свыше 40 000 последователей. Методистская проповедь,
включавшая элементы известной социальной критики (обличение
роскоши, неравенства, и т. д.), в эти годы находила отклик в народе.
В пров шц 1альных городах, в деревнях, в горняцких поселках
методистские проповедники легко находили слушателей, которые,
измученные нуждой и непосильным трудом, жадно ловили иллю-
зорное религиозное «утешение».
Чувствительность — основной элемент методистского учения.
«Давайте разуму делать все, что он может делать, употребляйте
<е:о в пределах его способностей, — говорит Уэсли, — но вместе
с тем сознайте, что он совершенно неспособен дать вам ни веру, ни
надежду, ни любовь, ни истинную добродетель, ни существенное
счастье».
Лидеры методизма, Джон и Чарльз Уэсли, не только сами
сочиняли гимны, но и были хорошо знакомы с п:эзией сентимен-
тализма. Чарльз Уэсли переписал от руки «Ночные думы» Юн-
га и ставил их наравне со священным писанием. Джон Уэсли
издал «Ночные думы» в сокращенном видев своей «Библиотеке для
верующих», так же как и роман Брука «Знатный простак». Мето-
дизм оказал влияние на «Размышления среди могил» Джемса
Гарви и на поэзию Каупера.
С 30-х по 50-е годы лирика является ведущим и почти един-
ственным жанром сентиментализма. Эго связано с присущей сен-
тиментализму субъективностью, которая легче может блть выражена
в лирической форме. Гргй в одном из писем говорит: «Истинный
лирический стиль со всеми его взлетами воображения, украшени-
ями и возвышенностью выражения и гармонией звуков по своей
природе выше всех других стилей». «Перейти от лирики к эпосу
все равно, что спуститься от поэзии почти к прозе». Лишь со второй
половины века сентиментализм в лице Гольдсмита, Стерна, Брука,
Мэккэнзи захватывает также прозу и становится, таким образом,
преобладающ ш направлением в литературе.
В поэши сентиментализма господствуют две важнейшие темы —
тема природы и тема смерти. Преобладание одной из них давало
"иногда основание относить ряд поэтов к особой школе (например,
«кладбищенской поэзии»), но фактически обе темы, дополняясь
.некоторыми другими мотивами, переплетаются между собой в твор-
честве почти каждого крупного поэта этого периода. Общий смысл
обеих тем заключается в том, что существующая цивилизация рас-
сматривается как некое преходящее, и притом неестественное,
•явление; поэт стремится уйти от этой цивилизации. В теме при-
роды отрешение от текущей житейской суеты выражено
менее сильно, чем в теме смерти, но все же его легко обнаружить.
Томсон в предисловии к «Временам года» говорит, что все поэты
«страстно любили уединение. Дикая, романтическая сельская мест-
507
ность была им отрадой. И они, казалось, никогда не были более
счастливы, чем когда, затерянные в безлюдных полях, далеко от
мелочного делового мира, имели досуг размышлять и воспевать дела
природы». Типичный герой сентиментализма — отшельник, или
просто одинокий «любитель природы» (подзаголовок псэмы.
Уортона «Энтузиаст»), нередко оказывающийся поэтом, как в
известной элегии Грея или «Менестреле» Битти (герой Битти,
поэт Эдвин, — простой крестьянский юноша, выросший в горах).
Тема природы выводит поэта за пределы «двора и города», где
рекомендовал черпать темы Буало, и приводит его к изображению
трудовой жизни крестьян, — людей, живущих в согласии с при-
родой. Противопоставление деревни городу проходит через всю
поэзию сентиментализма, отчеканиваясь, наконец, в сжатой фор-
муле Каупера: «Бог создал природу, человек создал город».
Тема деревенской жизни связана и с нарастающим протестом про-
тив бедственного положения крестьян; благодаря этому тема при-
роды и сельской жизни постепенно наполняется реалистическим
и политическим содержанием. Это реалистическое переосмысление
пасторального жанра, унаследованного еще от поэзии классицизма,
осуществляется вполне лишь у Крабба и Бернса.
Сходные явления следует отметить и в английской живописи.
Можно проследить определенную эволюцию английского пейзажа,
от проникнутых еще классическим аллегоризмом пейзажей Виль-
сона к типично английскому, нежному и меланхоличному пейзажу
Генсборо и далее к реалистическим картинам деревенсксй жизни
Морленда.
Тема смерти представляет собой крайнее выражение меланхо-
лических настроений сентиментальной поэзии XVIII века. Подобно-
тому, как в развитии темы природы был использован старый жанр
пасторали, в развитии темы смерти использовался жанр элегии..
Но теперь элегия уже не славила «добродетели» знатного покой-
ника — она превратилась в философское стихотворение на тему
о бренности земного бытия.
Возрождая пастораль, сентименталисты, минуя классицизм,,
обращаются к традициям Спенсера; возрождая элегию, они, также
минуя классицизм, обращаются к лирике Мильтона.. Сентимента^
лизм не создал произведений, равных по мощи творчеству этих
великих поэтов. Титанизм Мильтона, богоборческий образ Сатаны
был возрожден только в революционном романтизме Байрона". Сенти-
ментализм принимал, главным образом, меланхолическую лирику
раннего Мильтона. Но все же наследство Спенсера,-НШекспира,
Мильтона служило для сентименталистов опорой в борьбе с аб-
страктной сухостью поэтики классицизма, в борьбе за приближе-
ние к реальней жизни. В дальнейшем, с развитием предроман-
тизма, внимание поэтов и критиков переносится на фантастический
элемент реализма Возрождения, причем фантастическое уже на-
чинает отделяться от реального.
Английская проза в первой половине XVIII века почти не
затронута влиянием сентиментализма, если не считать редких
508
исключений вроде «Размышлений среди могил» Джемса Га рви,
связанных с «кладбищенской» поэзией Парне ля, Блэра, Юнга,
которых он цитирует.
С 1756 г. начинает печататься «Жизнь и мнения Дч<она Бенк-
ля» (Life and opinions of John Buncle) Амори—произведение,
по своему стилю предвосхищающее прозу Стерна. «Гристрам Шен-
ди» Стерна выходит в свет с 1760 по 1767 г. Гольдсмит пишет «Век-
фильдского священника» в 1762 г. и выпускает его в свет в 1766 г.
С 1764 по 1770 г. Брук печатает свой роман «Знатный простак».
Мэккензи начинает писать «Человека чувств » в то же время, когда
Стерн пишет «Сентиментальное путешествие». Таким образом,
расцвет сентиментального романа относится в основном к 60-м
годам.
Как обычно бывает, наиболее крупные представители направ-
ления не укладываются в рамки литературной школы, ибо пере-
растают ее, ставят все вопросы шире и глубже, чем писатели более
мелкие и более верные школе. Чтобы определить Мэккензи, до-
статочно сказать, что он сентименталист. Но такое сложное явле-
ние, как Стерн, никак нельзя определить одним этим словом. Гольд-
смит и Стерн — не только сентименталисты, хотя бы уже потому,
что они — крупнейшие юмористы, 'родолжающие традиции юмо-
ристического реалистического романа первой половины XVIII ве-
ка. В то время как Мэккензи всегда и абсолютно серьезен, Гольд-
см т и Стерн легко переходяг от чувствительности к смеху, и их
юмор нередко основан на понимании ограниченности идеалов
сентиментализма. Гольдсмит показывает, как люди с чувствитель-
ным и добрым сердцем попадают впросак, когда пытаются дей-
ствовать в мире, основанном на лжи и корысти; они оказываются
непрактичными чудаками и вызывают у читателя улыбку, не ли-
шенную сочувствия. У Стерна смешное и чувствительное встречают-
ся в еще бэлее тонких сочетаниях. Каждый из героев Стерна, как
и сам автор, одновременно несет в себе черты пылкого Дон Кихота
и трезвого Санчо Пансы.
Сентиментализм приводит к известной «лиризации» прозы, к
большему выражению лишости автора. Но и здесь Гольдсмит и
Стерн не доходят до того релятивизма, который характерен для
менее крупных представителей школы. Мэккензи говорит в «Чело-
веке чувств »: «Хотя я не согласен с некоторыми мудрыми людьми,
утверждающими, что существование предметов зависит от мысли,
все же я убе кден, что она немало влияет на их внешний вид. Опти-
ческий аппарат некоторых умов устроен так скверно, что бросает
тень на любую картину, отражающуюся в нем». Ему вторит Брук.
«Мир для человзка, — говорится в романе Брука, — вполне со-
ответствует его темпераменту и характеру. Дух является созда-
телем и своих радостей и своих невзгод. Зимние тучи не существуют
Для веселой души, так же как летний солнечный свет не может про-
никнуть в унылую душу».
В противоположность этим писателям Стерн, делая материа-
листические выводы из сенсуалистических предпосылок, всегда
50Э
подчеркивает зависимость настроения от внешних обстоятельств^
Стерн, а тем более Гольдсмит, сохраняют очень многое из реали-
стического наследства Фильдинга, Ричардсона и Смоллета и кос
в чем даже обогащают это наследство.
Реалистический элемент в творчестве Гольдсмита и Стерна
высоко оценивал Гёте, который говорил Эккерману: «Я за многое
должен благодарить греков и французов; я бесконечно обязан
Шекспиру, Стерну и Гольдсмиту».
Глава I
ГОЛЬДСМИТ И ДРУГИЕ РОМАНИСТЫ
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
I
Оливер Гольдсмит (Oliver Goldsmith, 1728—1774) родился в-
ирландской деревне Паллас (графство Лонгфорд) в семье сель-
ского священника, вскоре переселившейся в дру!ую ирландскую
деревушку — Лиссой, с которой у Гольдсмита связаны лучшие
воспоминания детства, отразившиеся в его произведениях. Там,
под руководством сельского учителя, Гольдсмит начал свое обра-
зование. Однако, благодаря непоседливому и своенравному ха-
рактеру будущего писателя, его «годы учения» всегда стихийно
превращались в «годы странствий».
В 1744 г. Гольдсмит поступил в дублинский Тринити-колледж.
Он учился на казенный счет, и положение его было много хуже,
чем у своекоштных студентов. Избитый педагогом за устройство
студенческой пирушки, Гольдсмит бежал из колледжа. В 1749 г,
он все же получил аттестат зрелости.
Затем он несколько раз пытался изучать юриспруденцию и
медицину то в Эдинбурге, то в Лондоне, но каждый раз, иногда
не успев даже доехать до места обучения, проигрывал в карты все
свои деньги. Впрочем, злоключения не тревожили Гольдсмита.
«Он проводит целый день в постройке воздушного замка для завт-
рашнего дня или в сочинении элегии о вчерашнем», —так сказал
о нем впоследствии Теккерей в известнтых лекциях об английских
юмористах.
В 1754 г. Гольдсмит отправился было в Голландию, чтобы
слушать знаменитых лейденских профессоров, но быстро очутился
без средств и пустился в длинное путешествие пешком через Фланд-
рию, Францию, Германию, Швейцарию, Италию. Пропитание он
добывал себе игрой на флейте и выступлениями на диспутах п
университетах и монастырях. В это же время он набросал первый
эскиз своей будущей поэмы «Путешественник».
В Англию Гольдсмит вернулся в 1756 г. и долго не мог найти
постоянного заработка: он был и бродячим комедиантом, и по-
мощником аптекаря, и, наконец, поступил корректором в типогра-
510
фию Сэмюэля Ричардсона. Здесь он снова заинтересовался лите-
ратурой и написал трагедию, которую представил Ричардсону,
но, не полушв одобрения, уничтожил в рукописи.
Вжоре Гольдсмит завязал сношения с книгоиздателем Гриф-
фитсом и с апреля 1757 г. стал писать критические статьи для его
журнала «Ежемесячное обозрение» (i he Monthly Review). В следую-
щем году из печати вышли переведенные Гольдсмитом с француз-
ского мемуары Жана Мартейля («Мемуары протестанта, осужденного
на галера за свои религиозные убеждения»). Наконец, появи-
лась и первая самостоятельная брошюра Гольдсмита — «Иссле-
дование о современном состоянии словесных наук в Европе» (An
Enquiry into the Present State of Polite Learning in Europe, 1759).
Осенью того же — 1758 — года Гольдсмит предпринял изда-
ние еженедельного сатирического листка «Шела» (lhe Bee; вышло»
лишь восемь номеров). Статьи Гольдсмит писал не только для своей.
«Пшль!», H(f и для ряда других журналов. Все эти статьи вышли
отдельной книгой в 1765 г.
В течение 1760—1761 гг. Гольдсмит печатает в газете «Об-
щественные ведомости» (Public Ledger) свои «Китайские письма»,,
которые выпускает в 1762 г. отдельной книгой под названием
«Гражданин мира, или письма китайского философа, прокисаю-
щего в Лонц< не. своим друзьям на Востоке» (ihe Citizen of
the World, etc.). В этот период Гольдсмит познакомился с тогдаш-
ним законодагелем литературного вкуса, критиком Сэмюэлем
Джонсоном, который сразу же оценил его талант.
На письменном столе Гольдсмита уже лежали рукописи его
знаменитого «Векфильдского священника» и поэмы «Путешествен-
ник», когда автор их был посажен в долговую тюрьму. Аванс,
полученный за роман, выручил Гольдсмита, но издатель еще не-
сколько лет медлил с опубликованием книги. Только успех «Пу-
тешественника» (i he Traveller, выпел в дек. 1764 г., но датирован
1765) побудил, наконец, издателя выпустить и «Векфильдского
священника» (ihe Vicar of Wakefield, 1766).
я,ттГольдсмит очутился на вершине славы. Он стал почетным чле-
ном «Литературного клуба», куда входили его близкие друзья —
Сэмюэль Джонсон, публицист Берк, художник Рейнольде и др.
В 1768 г. Гольдсмит пишет свою первую комедию «Добродуш-
ный человек» (The Good-natur'd Man). В 1770г. выходит его извест-
ная поэма «Покинутая деревня» (1 he Deserted Village), а в 1773 г.—
вторая комедия «Она смиряется, чтобы победить, или ошибки одной
ночи» (She Stoops to Conquer, etc.). Кроме того, перу Гольдсмита
принадлежат биографии известного щеголя и дэнди Ричарда Нэша,
поэта Парнеля, философа и политика Болинброка, книги по исто-
рии Англии и Рима, «История земли и одушевленной природы»
(An History of the Earth and Animated Nature, 1774) и многие дру-
гие произведения — плоды профессиональной литературной работы*
Гольдсмит умер 4 апреля 1774 г. Латинская эпитафия, написан-
ная Джонсоном, так характеризует писателя: «Псэт, натуралист,
историк, он едва ли оставил какой-либо род литературы незатро-
;нутым и украшал все, что затрагивал; возбуждая то улыбки, то
слезы, он управлял нашими чувствами, но как кроткий власти-
тель; по духу возвышенный, приятный, гибкий, по стилю увле-
кательный, серьезный, ясный».
Гольд:миг вошел в мировую литературу как автор романа
«Векфильдский священник». Но чтобы понять ообенности Гольд-
смига-романиста, необходимо ознакомиться с другими сторонами
его творчества.
Уже первая работа Гольдсмита, «Исследование о современном
состоянии словесных наук в Европе», дает интересный материал
для характеристики мировоззрения автора. В этом произведении,
как впоследствии в «Гражданине мира» и в «Пугешественнике»,
Гольдсмит сравнивает состояние, культуры в различных странах.
В одних культура еще не развилась, в других — уже клонится
к упадку. Лишь во Франции и в Англии автор видит жизнь и на-
дежду.
Интересно мнение Гольдсмита о французских писателях. На
первое место он ставит Вольтера, Монтескье и Руссо. О Руссо
он говорит: «Руссо из Женевы, отъявленныл человеконенавистник
или, точнее говоря, философ, разъяренный на одну половину
человечества за то, что она неизбежно делает другую половину
несчастной. Такие чувства обычно являются результатом очень
доброго сердца и малого опыта». При всей отрицательности этой
характеристики, в ней сквозит немало сочувствия, тем более, что
сам Гольдсмит, изображая борьбу между порывами доброго сердца
и уроками опыта, склоняется обычно в своем творчестве на сторону
сердца. Характерно, что энциклопедисты д'Аламбер и Дидро упо-
минаются им лишь в последнюю очередь, и само издание «Энци-
клопедии» Гольдсмит рассматривает как признак литературного
упадка.
Переходя к английской литературе, Гольдсмит отмечает одну
из самых характерных черт тогдашней литературной жизни —
превращение писателя в работника для рынка. Английская ари-
стократия потеряла интерес к литературе, говорит он; поэта за-
менил жокей. Теперешний патрон литераторов — книгоиздатель,
и это вряд ли лучше для писателя: «его известность распростра-
няется только среди купцов, которые ценят его не за тонкость
сочинений, но за количество, которое он вырабатывает в заданное
время». Поэт мало отличается от наборщика.
Несколько позже, в «Гражданине мира», Гольдсмит отмечает,
однако, и положительную сторону этого изменения в судьбе писа-
теля. «Он может теперь отказаться от приглашения на обед, не
боя:ь навлечь на себя нерасположение своего патрона, или голо-
дать, оставаясь дома. Даже беседуя с принцами, он может сохра-
нять теперь сознание своего превосходства». Он не имеет «другого
патрона, кроме публики, а публика, рассматриваемая в массе,—
хороший и великодушный властитель».
,,> Пэ своей манере произведения Гольдсмита-эссеиста вырастают
из традиций периодических изданий Стиля и Аддисона, но обо-
512
гащены опытом их французского последователя Мариво. «Пчела»
Гольдсмита во многом напоминает «Французского зрителя»,
«Нищего философа» и доугие издания Мариво. Оттуда Гольдсмит
заимствовал ряд мотивов и даже целые произведения. Так, из «Ни-
щего философа» он почти дословно перевел «Приключения бродя-
чего комедианта» ( 1760). Но так как Гольдсмит сам испытал в свое
время приключения бродячего комедианта, он смог ожившь заим-
ствованный рассказ реальными подробностями из английского
быта.
Влияние Мариво-эссеиста на Гольдсмита не ограничивается
отдельными заимствованиями; Мариво близок ему по настроению.
В одном из листков «Французского зрителя» Мариво пишет: «Как
печально видеть кого-нибудь страдающим, если ты не в состоянии
ему помочь и если получил от природы чувствительную душу, ко-
торая проникается всеми огорчениями несчастных». Это изречение
настолько совпало с настроением Гольдсмита, что через 30 лет в
«П шле» он повторил его почти буквально в одном из лучших своих
отрывков — изображении ночного города и бездомной девушки,
брошенной своим соблазнителем. Этот образ был тем зерном, из
которого спустя десять лет вырос один из самых патетических эпи-
зодов «Покинутой деревни».
Одновременно с излияниями чувствительного сердца, испол-
ненного сочувствия страдающей половине человечества и негодо-
вания против другой, порочной его половины, Гольдсмит пишет
иронические произведения, продиктованные охлаждающим опы-
том. В этом отношении интересен написанный в духе Мандевиля
рассказ «Азем» о том, как отшельник-мизантроп попадает в
устроенный Аллахом мир, где нет порока, и как он бежит оттуда,
ибо отсутствие пороков уничтожило стимулы для развития куль-
туры и вообще умственной жизни. Люди там добродетельны от
природы, им не приходится задумываться над своими поступками,
но они вообще разучаются мыслить; они не огпсаются друг друга,
но поэтому не чувствуют и надобности объединиться.
Из журнальной работы Гольдсмита выросло лишь одно боль-
шое произведение — «Гражданин мира». Образец этого жанра, как
и многих жанров XVIII века, имелся уже в «Зрителе», — в одном
из писем, сочиненных Стилем по мысли, поданной Свифтом (27 мая
1711). Но широкий успех этот жанр завоевал лишь с появлением
непревзойденных «Персидских писем» Монтескье (1721). Они-то
и послужили образцом для Гольдсмита.
Как и во всех произведениях этого жанра, Гольдсмит исполь-
зует юмор относительности. Он описывает английскую жгзнь
сквогь восприятие жителя Востока. Лиен Чи удивляется, слыша,
Щк человек, сидящий в долговой тюрьме, восхваляет английскую
свободу. Наблюдая великолепный выезд знатного лорда, Лиен Чи
предполагает, что видит весьма достойного и заслуженного чело-
века, и с изумлением узнает, что лишь отдаленные предки лорда
были героями и государственными людьми, но после того, как один
из них женился на кухарке, а та изменила ему с конюхом, все
*** Англ. литература 513
последующие поколения интересовались только хорошей кухней
и хорошей конюшней.
Свободный от иллюзий европейцев, Лиен Чи сразу замечает
все, что не бросается в глаза англичанам: он видит, что семилетняя
война Англии с Францией ведется в сущности из-за канадских
мехов, что избирательная борьба идет между сторонниками при-
возного джина и отечественного брэнди и т. д. Лиен Чи недаром
называет себя гражданином мира: он объездил много стран, постиг
относительность всех национальных обычаев, и ему смешны лишь
«безрассудство, невежество и порок» в любой стране.
Китайское происхождение своего героя Гольдсмит использует
для введения китайских историй, притч и сказок, в которых под
прозрачным экзотическим покровом высмеивается та же англий-
ская жизнь. Такова, например, остроумная сказка о принце, ко-
торый вместо государственных дел занимался коллекционирова-
нием мышей и готов был отдать полцарства за белую мышь с зе-
леными глазами. Некоторые из этих сказок перекликаются с мо-
тивами вольтерова «Задига» (история китайской матроны).
Сравнивая восточную и европейскую жизнь, Лиен Чи предла-
гает ввести в Англии некоторые «китайские» обычаи— например,
штатную должность льстеца. С сарказмом, напоминающим Свифта,
Гольдсмит высказывает предположение, что английские льстецы
воспримут обычай одного из восточных народов употреблять вместо
водки мочу подвыпивших знатных людей, ибо эти льстецы считают
восхитительным все, что исходит от знатных.
Сравнивая английскую жизнь с французской, Гольдсмит от-
дает предпочтение государственному устройству Англии перед
французским деспотизмом. Но он уже замечает симптомы надви-
гающейся революции во Франции. «Дух свободы вошел в королев-
ство», — говорит Гольдсмит. Если у французов «будут еще хоть
три слабых монарха на троне... страна безусловно станет снова
свободной». Предсказание Гольдсмита исполнилось, но для этого
оказалось достаточно и одного «слабого монарха».
Свободный жанр дружеских писем позволяет Гольдсмиту уде-
лять много места рассуждениям на общие темы. Так, он касается,
не называя имен, спора Руссо с энциклопедистами о пользе и
вреде наук. Гольдсмит старается примирить обе точки зрения,
утверждая, что науки вредны первобытному обществу и полезны
цивилизованному. Но в общем он все же примыкает к противни-
кам Руссо, утверждая, что развитие роскоши и, как следствие
его, развитие наук ведут к улучшению нравов; у цивилизованного
человека много пороков, у дикаря — мало, но зато его пороки
во много раз ужаснее и грубее. Впоследствии, в «Покинутой де-
ревне», Гольдсмиг стал на иную точку зрения относительно влия-
ния роскоши на нравы и значительно приблизился к Руссо.
Впрочем, и в «Гражданине мира» встречаются высказывания,
очень напоминающие Руссо. Таково, например, начало пятна-
дцатого письма: «Человек был рожден, чтобы жить в невинности
и простоте, но он отошел от природы; он был рожден, чтобы разде-
514
лять небесные блага, но он монополизировал их». Однако отсюда
делается лишь тот вывод, что человек не должен употреблять
в пищу животных.
Хотя «Гражданин мира» состоит из весьма разнообразных и
мало связанных друг с другом писем, сквозь всю книгу проходит
несколько характеров, которые могли бы сделать честь любому
роману или пьесе. Таков прежде всего щеголь и пустомеля мистер
Тиббс, — прообраз Лофти из комедии «Добродушный человек»,—
а также постоянный спутник китайского философа, Человек в чер-
ном, образ отчасти автобиографический,—пергый набросок излюб-
ленного Гольдсмитом типа великодушного чудака.
Сам Гольдсмит придавал особое значение своим поэтическим
опытам. Среди мелких стихотворений Гольдсмита выделяется за-
мечательная песня обманутой девушки из «Векфильдского свя-
щенника» и баллада об Эдвине и Анджелине из этого же романа.
Но большая часть его стихотворений носит не лирический, а юмо-
ристический характер. Таковы «Возмездия» (Retaliations, 1774) и
«Дичь» (The Haunch of venison, 1776,), посвященные описанию
дружеских пиров, а также шуточные «элегии», в которых Гольд-
смит пародирует льстивые элегии на смерть знатного лица, рас-
пространенные в литературе классицизма.
Первая поэма Гольдсмита, «Путешественник», произвела боль-
шое впечатление на современников. Джонсон находил, что такой
прекрасной поэмы не появлялось со времен Попа. По своим сти-
листическим признакам эта поэма, написанная «героическими дву-
стишиями» и построенная по строгому плану, не выходит за рамки
классицизма. Томсон.в одном из писем высказал мнение, что для
поэта было бы весьма интересной задачей нарисовать «поэтиче-
ский ландшафт отдельных стран, смешанный с моральными наблю-
дениями над их характером и народами». «Поэтический ландшафт»,
однако, почти отсутствует в «Путешественнике», всецело уступая
место «моральным наблюдениям». Образцом для Гольдсмита ско-
рее послужило стихотворное «Письмо из Италии лорду Галифак-
су» Аддисона, которое сам Гольдсмит включил в сборник «Красоты
английской поэзии» (The Beauties of English Poesy, 1767), находя, что
«мало поэм делают больше чести английскому гению, чем эта,
В ней чувствуется склонность к политическому мышлению, что
было ново в нашей поэзии в то время».
Новое, что внес Гольдсмит в этот жанр,—усиление лиричег
ского элемента. Автор превращается в лирического героя поэмы.
Взобравшись на вершины Альп, он смотрит на страны, рассти-
лающиеся перед ним; мы сочувствуем его тоске по родине, мы слу-
шаем его рассуждения о недостатках строя различных государств;
мы сострадаем путнику, не знающему, где преклонить голову.
«Путешественник» Гольдсмита — отдаленный предок «Чайльд
Гарольда».
Целью Гольдсмита в этой поэме было показать, что в «каждом
государстве господствует свой принцип благоденствия и что этот
принцип везде может быть доведен до вредной крайности». Вторая
33* ' 515
половина этой задачи выполнена гораздо убедительнее и по суще-
ству является основной темой поэмы. Герой «радуется каждому
благу, которым небо наделяет человека, но в мире чаще преобла-
дают вздохи, и нас одэлзваэт печаль при виде того, как невелико
сокровище человеческого блаженства». Кроме природных благ,
важнейшими из приобретенных являются, по Гольдсмиту, тор-
говля, довольство, честь, бэгагство и свобода. Каждая из стран —
Италия, Шззйцария, Франция, Голландия и Англия, — обладает
одним из этих благ за счет остальных.
Италия жила полной жизнью, пока процветала ее торговля,
и пришла в упадок, когда торговля «направила свои паруса» к
другим берегам. Шззйцарии свойственно скромное и ограниченное
довольство, но жители ее не знают более высоких радостей. «Им
неизвестны те силы, которые зажигают душу огнем, захватывают
каждый нерв и вибрируют во всем теле. Их ровная жизнь — толь-
ко тлеющзе пламя, не глсшое нуждол, не раздуваемое силь-
ным желанием». В противоположность грубым нравам швейцарцев
во Франции царит утонченность, ибо над всем господствует прин-
цип чести; но он же приводит к пустому тщеславию и показной
роскоши. Голландцы выше всего ценят богатство, оно «наделяет
их удобств ши, изобилием, изяществом и искусствами. Но всмот-
ритесь в них ближе, вы увидите хитрость и обман; все, даже сама
свобода, здесь продается... нуждающийся продает ее, а богатый
покупает». Наконец, Англия—страна свободы, которая также
имеет свои дурные стороны. «Эта независимость, которую британ-
цы оценивают слишком высоко, отдаляет человека от человека и
разрешает общественные связи». Долг, любовь и честь перестают
властвовать над людьми. «Когда я вижу, как шайка бандитов усло-
вилась звать свободой собственную свободу, как любой самодур-
судья создает новый карательный устав, как законы угнетают бед-
няков, а богатые распоряжаются законами...—тогда во мне по-
дымаются страх, жалость, справедливость, гнев; и эти чувства уби-
вают сдержанность и обнажают мое переполненное сердце».
В заключении пзэмы Гольдсмит утешает себя и читателя тем, что
от королей и законов не зависит внутренний мир человека, — его
тихие семейные радости, его разум, вера и совесть, — и он сове-
тует замкнуться в этом мирке при любом строе лшзни и любом
о разе прав ;ения. 'т
Ш Некоторые мотивы и образы последней части «Путешествен-
ника», изображающей Ачглию, получили полное развитие в дру-
гой поэме Гольдсмита, «Пэкинутая деревня», написанной восемь
лет спустя. «Пжинутая деоевня»— гораздо менее рационалисти-
ческое произведение, чем «Путешественник». З^есь больше непо-
средственного чувства и больше реально пережитого.
&* «Покинутая деревня» — однозременно идиллия и элегия/Идил-
лически описано прошлое этой деревни, ее быт, ее люди. Особенно
удачна жанрова i ка >тинка деревенского трактира: лакированные
часы, ряд сверкающих, но разбитых чашек на камине; ящик, ночью
служащий постелью, а днем комодом, и посетители — деревенские
516
«государственные люди», которые глубокомысленно разглаголь-
ствуют и пускают в оборот новости, «более старые, чем их пиво».
Изображение всего этою проникнуто элегическим чувством, ибо
такой деревни уже не существует. Описав вечерние увеселения,
поселян, Гольдсмит восклицает:
Вот прежние твои утехи, мирный край!
Но где они? Где вы, луга, цветущий рай?
Где игры поселян, весельем оживленных?..
Где пышность и краса полей одушевленных?..
...Все тихо! Есе мертво! замольли песней клики,
Лишь цапли в пустыре пронзите/ьные крики,
Лишь чибиса в г/уши печальный редкий стонг
Лишь тихий вдалеке звонков овечьих звон
Повременно сие молчанье натушпст.
Но где твои сыны, о край утех, б/уждают?
Увы! отчуждены от родины своей!
Перевод В.'А.г Жуковского,
Знатный лорд захватил половину всей деревенской пашни для
своего парка, своих лошадей и собак; «сыны богатства» делят меж-
ду собой общинные земли, и крестьянину некуда выгнать скот.
Народ бежит в города. Там ждут его новые несчастья; большинство
переселяется в Америку. С разрушением деревегь страну покидаю^
и «сельские добродетели», а вместе с ними улетает поэзия. «Плохо
живется стране... где богатства накопляются, а люди приходят
в упадок».
«Для XVIII века, — пишет Маркс в «Капитале», — не было
еще в такой степени ясно, как для XIX, что национальное бо-
гатство тождественно с народней бедностью. Отсюда энергичней-
шая полемика в экономической литературе того времени относи-
тельно «inclosure of commons» г (огораживания общественных зе-
мель). Гольдсмит не хочет национальною бо1атстЕа, сснсЕанного
на народней бедности. В предислсЕИи к (Пскигутсй деревне» он
говорит: «Сожалея об обезлодении страны, я восстаю против воз-
растания роскеши; и здесь я также сжидаю нападок со стороны
современных политиков. За прешедшие ДЕадцать или тридцать
лет стало модой рассматривать роскешь как одно из величайших
национальных преимуществ, а все мнения древних философов
по этому предмету считать ошибочными. Однако я должен остаться
решительным сторонником древних в этом вопросе и продолжаю
думать, что для государства пагубна рескешь, которая породила
столько пороков и разрушила столько королевств».
Изображение жизни разоренной и бедствующей деревни было
продолжено и усилено в псэмах Каупера и Крабба.
В области драматургии Гольдсмит проявляет большей консер-
ватизм. Он настаивает на строгом разделении трагедии и комедии
ft- все промежуточные формы считает «ублюдками». Однако в
^Гражданине мира» Гольдсмит дает очень резкую характеристику
1 M а р к с и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 794.
517
традиционной «высокой трагедии»: «С каким возмущением слушаю
я, как жалуются на несчастья и трудности герои трагедии, чьи
наибольшие бедствия основаны на высокомерии и гордости! Самые
жестокие их страдания — лишь удовольствия в сравнении с тем,
что безропотно сносят каждый день многие бедняки».
Однако, трагедии, изображающей жизнь бедняков, не суще-
ствовало, а делавшиеся в то время попытки избрать в герои дра-
матического произведения скромного, добродетельного буржуа не
встречали у Гольдсмита никакого сочувствия. В статье о сентимен-
тальной комедии Гольдсмиг очень остроумно объясняет, почему
жанр, который Дидро называл «серьезным», не производит глу-
бокого впечатления. Одного человека, присутствовавшего на
представлении сентиментальной комедии, спросили, как может он
оставаться равнодушным. Он ответил: «Что ж, поскольку герой
всего лишь торговец, мне безразлично, будет ли он выброшен
из своей конторы на Фишстритхилл; ведь у него останется еще
достаточно средств, чтобы открыть лавочку в Сент-Джайльсе».
Такой герой, по мнению Гольдсмита, гораздо более пригоден для
осмеяния.
Свои комедии Гольдсмит сознательно противопоставляет «слез-
ливой комедии», возвращаясь к Мольеру и английскому комедий-
ному жанру времен Реставрации \ Обе комедии Гольдсмита —
и «Добродушный человек» и «Она смиряется, чтобы победить» —
подверглись нападкам за «грубость» и контраст с «благородством»
чувств «слезливой» комедии. Горэс Уолполь отнес заглавие «Она
смиряется, чтобы победить» к музе Гольдсмита. «Да, она это де-
лает,—заявил Уолполь — ...она запачкана до колен и притащи-
лась, думается мне, с Сзугваркского рынка».
Но «грубость» Гольдсмита была лишь откровенным и непри-
нужденным весельем. Вэ время господства слезливой и серьезной
комедии Гольдсмит сохранил блестящий реалистический комизм
интриги и характеров', который возродили впоследствии Шеридан
и Бомарше.
Лучшее произведение Гольдсмита, «Взкфильдский священник»,
завершает ряд замечательных английских романов XVIII века.
Реалистический роман постепенно освобождался от нанизывачия
азантюрных эпизодов, свойственного еще Дефо, Фильдингу и Смол-
лету; действие все более сосредоточивалось вокруг судьбы несколь-
ких лиц, обычно связанных семейными отношениями. «Векфильд-
ский священник» — дальнейший шаг в этом направлении, даже
по сравнению с Ричардсоном. В повествование включено только то,
что связано с судьбой дружной семьи викария Примроза. Через
историю этой семь ï показаны все остальные отношения в обществе.
«Семья, которую он изображает, — говорит о Гольдсмите Гёте в
iПоэзии и правде», — стоит на одной из низших ступеней граж-
данского благополучия и в то же время соприкасается с высшими;
1 Драматургия Гольдсмита рассмотрена выше, в главе «Английская драма
XVIII века».
518
ее тесный круг, суживающийся еще больше, но ходу естественной
и гражданской жизни захватывает и большой свет; этот маленький
челн плывет по широко движущимся волнам английской жизни,
и в радости, и в горе он может ожидать вреда или помощи от гро-
мадного флота, плавающего по этому морю».
Надо сказать, что вред маленькому семейству от «большого
света» изображен у Гольдсмита убедительнее, чем помощь. Ни в
одном из английских романов того времени не показана так ясно
вся безграничность власти помещика над любой небогатой семьей
в округе. Молодой сквайр Торнхилл соблазняет одну из дочерей
викдрия, похищает другую, отбивает невесту у его сына, бросает
в тюрьму самого викария за долги; туда же попадает и сын вика-
рия, пытавшийся вызвать Торнхилла на дуэль. Правда, благород-
ный дядюшка Торнхилла исправляет все беды и наказывает зло-
дея, но читатель видит в этой концовке скорее добродушное жела-
ние автора устроить все к общему удовольствию, чем подлинное
знание жизни. Сюжетные «трюки», имеющие целью подготовить
эту счастливую развязку, — самое неправдоподобное в ро-
мане.
В одной из глав романа Гольдсмит вкладывает в уста векфильд-
ского священника наиболее четкую формулировку своих полити-
ческих взглядов. Викарий начинает свою речь с того, что он стоит
за полное, действительное равенство всех людей. «Таково мое
мнение, и так же думали в старину добрые люди, которых за это
прозвали «уравнителями». Они пытались образовать из своей сре-
ды целую общину, в которой все были бы равны. Но — увы! Это
им не удалось; потому что между ними иные были сильнее, иные
хитрее, и вот эти-то сели нашею остальным». При таком положении
дел «весь вопрос сводится к тому, что если нельзя обойтись без
повелителя, то где лучше иметь его: в своем ли доме, или в одной
деревне со мной, или где-нибудь подальше, например в столице?»
Монархию, в которой есть только один и притом далекий от народа
тиран, Гольдсмит предпочитает республике, благоприятной для
массы мелких тиранов, и ссылается на примеры Голландии, Ве-
неции, Генуи, «где бедняками управляет закон, а законом управ-
ляют богачи». Что делать богатому с излишками своего состояния?
«Обыкновенно он покупает на них власть». Поэтому Гольдсмит
боится допустить к участию в голосовании неимущих, так как их
голоса могут быть куплены богачами.
В этой критике буржуазной демократии Гольдсмит проявляет
большую проницательность, но кончает утопией. Он возлагает все
свои надежды на среднее сословие. «Это сословие приходится как
раз посередине между крупными богачами и бедной чернью. Люди,
принадлежащие к нему, настолько обеспечены, что не нуждаются
^прихлебательстве у знатного соседа, но в то же время не достатг чно
богаты, чтобы стать тиранами. Вот в этом-то среднем сословии и
процветают обыкновенно все искусства, науки и добродетели дан-
ного общества, в нем же сохраняются и традиции истинной сво-
боды; и этот класс может называться собственно народом».
519
Идеалам Гольдсмита отвечало бы сословие независимого кре-
стьянства (йоменов), но оно исчезает в Англии во второй половине
XVIII века. Связь творчества Гольдсмита, особенно «Покинутой
деревни», с этим процессом ликвидации независимости йоменов не-
сомненна.
В «Векфильдском священнике» патриархальная чистота сель-
ских нравов противопоставлена испорченности города и большого
света. Гольдсмит говорит про своего героя в предисловии: «В наше
время чрезмерной роскоши и утонченности нравов может ли такой
тип понравиться публике? Охотники до великосветской жизни
с пренебрежением отвернутся от его скромного домашнего очага
на лоне сельской простоты».
Однако и сам Гольдсмит подсмеивается над патриархаль-
ной ограниченностью этого «скромного домашнего очага». Всех
членов семьи Примроза он наделяет разнообразными комическими
черточками. Любовно обрисованный характер самого викария Прим-
роза— вариант уже знакомого нам по Фильдингу и Смоллету типа
прекраснодушного чудака — лучшее в романе Гольдсмита. Когда
ему сообщают, что он разорен, и советуют поэтому быть поскромнее,
он, наоборот, ведет себя еще более независимо, ибо «от потери со-
стояния гордость достойного человека только увеличивается».
Он неспособен подозревать других в коварных замыслах и потому
так легко попадает впросак. Он считается мудрым человеком толь-
ко в узком семейном кругу, но и здесь весь его авторитет и все
его увещания не могут победить смешного тщеславия жены и
дочерей. При всей симпатии Гольдсмита к прекрасным качествам
своего героя, реалистическое чувство заставляет его вносить иро-
нические мотивы в трактовку Примроза. Благодаря этой добродуш-
ной иронии, «нравственный и христианский» роман Гольдсмита,
как отмечает Гёте, лишен «ханжества и педантизма».
Но в романе сказалась философия пассивной покорности судьбе
и благочестивых упований на провидение. Потому роман Гольд-
смита произвел столь различное впечатление на двух великих
людей—Гёте и Белинского.
Гёте — создателю образов Германа и Доротеи, Гретхен и Лот-
ты, Филимона и Бавкиды — была близка патриархальная непод-
вижность героев «Векфильдского священника». «Упомянутое про-
изведение, — говорит он, — произвело на меня большое впечат-
ление, в котором я сам не мог дать себе отчета, но в сущности я
чувс вовал себя в согласии с тем ироническим складом мыслей,
который возвышается над предметами, над счастьем и несчастьем,
добром и злом, жизн1 ю и смертью и таким образом достигает обла-
дания истинно поэтическим миром» («Поэзия и правда»).
И как раз за это свойство роман Гольдсмита не понравился
Белинскому. Революционный демократ Белинский не мог удовле-
твориться смиренными героями Гольдсмита. В статье о «Векфильд-
ском священнике» (1847) Белинский писал: «Теперь предстоит на-
добность в человеке трезвом, бодром, деятельном, который бы
смотрел на вещи прямо и любил бы землю, жилище наше и наших
520
потомков на долгое время... Трудно даже решить, отчего больше
проигрывает общество: от злобы ли злых людей, или от равноду-
шия, тупости, неповоротливости... людей, по природе добрых, ко-
торые ни рыба, ни мясо» Л аковы по сути своей и милые чудаки Гольд-
смита. «Люди, воспитанные в школе векфильдского священни-
ка,— говорит Белинский, — принадлежат или к ничтожным су-
ществам, или к существам, вредным своим учением, отчужденным
от всего здорового и действительного. Исчислим главнейшие их
свойства: леность и беспечность при всяком действительном труде;
погружение мысли в фантастические занятия, крайне благоприятные
ленивой натуре; удивительное равнодушие ко всякому порядку
общественному — благому и тягостному; довольство собственной
особой, вложенное от природы, а не купленное заслугами, не
вытекающее' из благородного сознания достоинств; оптимисти-
ческое воззрение на мир, которое крайне покровительствует апа-
тии, производит застой и противодействует каждому успеху; пас-
сивная жизнь или прозябание, доверенность к слепой судьбе и
недоверенность к разумному движению человечества, неумение смот-
реть на предметы прямо, выводить из них необходимые следствия,
анализировать их истинные основания, и пр. и пр. Многие из этих
свойств обнаруживаются почти в каждой главе гольдсмитова
творения».
Поэтому Белинский считает, что «Векфильдским священником»
можно только любоваться, как «поэтической картиной прошедшего
времени, воспроизведением отживших идеалов блаженства».
Таковы важнейшие произведения Гольдсмита. Всем им свой-
ственны некоторые общие черты, которыми определяется весьма
своеобразное место Гольдсмита в развитии английской и европей-
ской литературы.
Гольдсмит вошел в литературу, когда французское Просвеще-
ние, развившись под влиянием английских образцов, само стало
оказывать обратное, революционизирующее воздействие на анг-
лийскую культуру. Гольдсмит в ряде областей стал проводником
этого влияния. Правда, в основном он примыкает к раннему фран-
цузскому Просвещению Вольтера, Монтескье, Мариво.
Особенным уважением у Гольдсмита пользуется Вольтер. Он
пишет «Мемуары о жизни Вольтера» (Memoirs of M. de Voltaire,
1761), рецензирует его пьесу «Китайская сирота», пишет пролог
к его «Скифам», дает восторженную оценку Вольтеру в одном из
писем «Гражданина мира» и упрекает своего друга Рейиольдса
за то, что тот позволил себе нарисовать карикатуру на Вольтера.
В то же время во многих случаях, в особенности к концу своего
творческого пути, Гольдсмит становится на точку зрения Руссо,
Таким образом Гольдсмит занимает как бы промежуточное поло-
жение между Вольтером и Руссо.
В своем отношении к английскому Просвещению Гольдсмит
также достаточно противоречив. С одной стороны, во многих мотивах
своего творчества он возвращается к традициям Аддисона и всерьез
считает «августовским веком» английской литературы век коро-
521
левы Анны. С другой стороны, Гольдсмит предвосхищает некоторые
идеи радикальных английских просветителей эпохи французской
революции. По сразнению с Фильдингом и Смоллетом Гольдсмит
резче критикует произвол высших классов и уделяет больше вни-
мания страданиям народных масс, что делает его предшественни-
ком Вильяма Годвина.
Многих современников шокировало то, что в «Векфильдском
священнике» столько внимания уделяется бедственному положе-
нию заключенных. Биограф Гольдсмита Форстер правильно за-
мечает, что при всем сходстве викария Примроза с пастором Адам-
сом Фильдинга, в седельной сумке пастора Адамса, где он возил
свои неизданные проповеди, не нашлось бы места для знаменитой
тюремной проповеди Примроза.
Эстетические воззрения Гольдсмита очень противоречивы. Друг
Джонсона, он часто выступает как охранитель старых литератур-
ных канонов. С другой стороны, он высказывается за создание
новой литературы, свободной от преклонения перед авторитетами
прошлого. Надо все больше новых произведений, говорит Гольд-
смит в «Гражданине мира», ибо важнее объяснить читателю на-
стоящее, чем прошлое. Старые произведения похожи на драгоцен-
ные медали, хранящиеся в коллекции, новые — это размен-
ная монета, без которой нельзя обойтись. «Сокровищам наших
предков принадлежит наше уважение, и мы хвалимся этим; сокро-
вищам современных гениев принадлежит наше сердце, хотя мы
краснеем, признаваясь в этом».
В своем поэтическом творчестве Гольдсмит сохраняет логи-
ческую стройность и ясность классицизма. Он возвращается в поэ-
мах к «героическим двустишиям» Попа. Оценивая по двадцати-
балльной системе разных писателей, — их гений, познания, суж-
дение и стихосложение, — Гольдсмит ставит гений Шекспира
выше гения Попа, их стихосложение оценивает одинаково, но за
превосходство в познаниях и суждении Пэп все же получает суммар-
ную отметку 70, а Шекспир — только 66. Однако, издавая «Кра-
соты английской поэзии», Гольдсмит включает в них и хвалит,
главным образом, такие произведения Попа, которые ценились
даже одним из крайних представителей сентиментализма — Джо-
зефом Уортоном ( юслание Элоизы к Абеляру, «Похищение локо-
на»). При этом, наряду с произведениями Попа, Гольдсмит счи-
тает «лучшим украшением всего сборника» «Ночные мысли» Юнга,
одобряет «Ночной отрывок о смерти» Парнеля и «Элегию» Грея.
Своеобразен и характер гольдсмитовского юмора. Ему чужды
и желчная сатира Свифта и задорный комизм Фильдинга
и Смоллета. Юмор у Гольдсмита вытекает, как и у Стерна, из
кон грае а между заветами доброго, чувствительного сердца и
трезвыми законами жизни; он вырастает из столкновения «шефтс-
берианского» прекраснодушия с «мандевилевским» цинизмом.
Гольдсмит говорит про себя: «Я научился из книг быть бескорыст-
ным и великодушным, прежде чем опыт внушил мне необходи-
мость быть осторожным».
522
Один из первых героев Гольдсмита — Человек в черном
(«Гражданин мира») — так рассказывает о полученном им воспи-
тании: «Нам говорили, что всеобщая благожелательность была тем,
что впервые скрепляло общество, нас учили рассматривать все
нужды человечества, как наши собственные, созерцать «боже-
ственный лик человека» с уважением... Словом, мы были в совер-
шенстве обучены отдавать тысячи, прежде чем научились более
необходимой способности добыть хотя бы фартинг». Комизм по-
ложения Человека в черном заключается в том, что он старается
изображать опытного человека, научившегося осторожности, но
природное великодушие и непрактичность все время его подводят.
Человек в черном — прототип большинства позднейших героев
Гольдсмита, хотя их общие черты вариируют в связи с характером
жанра. В комедии «Добродушный человек» этот тип взят главным
образом с комической стороны; в «Покинутой деревне» (священ-
ник)— в трогательном плане; в «Векфильдском священнике» со-
чуштвие и смех распределены более или менее равномерно, "идет
ли речь о Mэзесе, обменявшем лошадь на гросс зеленых очков, или
об его отце, который взялся исправить ошибку сына, но потерпел
еще большую неудачу.
Герои Гольдсмита напоминают чудаков Стерна не только своей
непрактичностью. Единобрачие священника —такой же «конек»
Примроза, как фортификации — «конек» дяди Тоби. Увлечение
идеей единобрачия доходит у Примроза до того, что он заранее
заказывает надпись на будущую могилу своей жены с указа-
нием, что она была его единственной женой, и вешает эту надпись
у камина.
Но все же Гольдсмит слишком сочувствует своим героям, чтобы
позволить себе ту степень гротеска, которая характерна для юмора
Стерна. Он, как и Ричардсон, осуждает манеру Стерна за «без-
нравственность и дерзость».
о
ж-
Из второстепенных прозаиков, связанных с сентиментализмом,
следует упомянуть Брука и Мэккензи.
Генои Б)ук(Непгу Brooke, 1703—1783) дебютировал в 1735 г.
поэмой «Всеобщая красота» (Universal Beauty). Он является также
автором трагедии «Густав Ваза» (Gustivus Vasa, etc., 1739). Основ-
ное произведение Брука — роман «Знатный простак, или история
Генри Морленда» (The Fool of Quality; or the History of Henry,
Earl of Moreland, 1761—1770). Второй его роман — «Джульетта
Гренвиль» (Juliet Grenville, 1774) — не имел успеха.
«Знатный простак» — один из первых педагогических романов
в Англии — создан не без влияния появившегося за три года до это-
го «Эмиля» Руссо. В романе противопоставлены два типа воспи-
тания: ложное аристократическое и «естественное». Брук счи*
тает, что основой нравственного поведения должен быть не эгоисти-
ческий расчет, а способность к бескорыстному служению обществу.
523
Роман оригинален по своему построению. Действие все вре-
мя перебивается вставными эпизодами и авторскими отступлениями.
в которых с радикально-демократической точки зрения обсуждают-
ся самые различные вопросы общественной жизни. В предисловии
Брук обращается к Безрассудству (Folly). Он призывает безумие
осенить его и вдохновить на труд. Брук считает, что большинство
известных в истории героев прославились тем, что причинили людям
много вреда, и лишь безрассудный Дон Кихот был настоящим
героем, ибо всегда желал людям только добра. 1 аким образом,
Брук сознательно формулирует то, что у многих английских рома-
нистов XVIИ века было не вполне осознанной симпатией к обра-
зам донкихотского типа, выражающим одновременно и протест
против действительности, и практическое бессилие этого про-
теста.
«Знатный простак» в сокращенном виде был издан главою мето-
дистов Джоном Уэсли; в XIX веке его переиздал Чарльз Кингсли.
Генри Мэккензи (Henry Mackenzie, 1745—1831) известен как
автор трех романов: «Человек чувства» (The Man of Feeling, опуб-
ликован анонимно в 1771 г.), «Человек света» (The Man of the
World, 1773) и «Юлия де Рубикье» (Julia de Roubigné, 1777). Мэк-
кензи был также автором «моральных рассказов» с нравоучитель-
ными заглавиями — «Действие религии на чувствительные души»,
«Неспособность преступного удовольствия доставлять счастье»
и т. д. Кроме того, он написал пьесу «Тунисский принц» (The prince
of Tunis, 1773) и был издателем двух журналов — «Зеркало» (Mir-
ror, 1779—1780) и «Праздношатающийся» (Lounger, 1785—1787).
Мэккензи один из первых заметил и оценил Бернса, который в свою
очередь был поклонником прозы Мэккензи.
В романе «Человек чувства» «жизнь и переживания человека»
изображаются «с более, чем обычной чувствительностью». Автор
рассказывает в предисловии, что к нему попала рукопись неиз-
вестного автора, которая, конечно, растрогала бы его, если бы под
ней стояла подпись Ричардсона или Мармонтеля. Рукопись доста-
лась ему якобы не вполне сохранившейся: роман начинается с
девятой главы, и в дальнейшем повествование нарушается про-
пуском отдельных глав. По существу «Человек чувства» — не
роман, а собрание эпизодов, объединенных личностью главного
героя, Гарли. Как выражается сам автор, это «рассказы о малень-
ких приключениях, в которых могут вполне развернуться настрое-
ния человека, достаточно разумного, чтобы судшь, и еще более
горячего, чтобы чувствовать».
Большую часть романа занимают приключения героя в Лондо-
не, куда он приехал, чтобы хлопотать о своем имуществе, но где
он занимается чужими делами в ущерб своим. Гарли посещает
Бедлам и выслушивает здесь трогательную историю сумасшедшей
девушки: у нее был бедный жених, который уехал, чтобы заработать
деньги, и п°гиб, а родные захотели немедленно выдать ее за-
муж за нелюбимого, но богатого человека, и, в результате, она
оказалась в сумасшедшем доме. Гарли посещает публичный дом
524
и выслушивает не менее трогательную историю девушки, которую
соблазнил светский кутила и, бросив, толкнул на путь проституции.
Больше всего внимания уделяет автор истории арендатора
Эдвард:а, которого преследования помещика довели до разорения.
Пэмещик добивался, чтобы сына Эдвардса завербовали в солдаты,
хотя у него есть маленькие дети. Старик Эдварде вызвался заменить
своего сына и отправился в Индию. Здесь он, однако, оказался не
на своем месте; он слишком мягко относился к туземцам. Он даже
помог бежать из тюрьмы заключенному индусу. За это Эдвардса
избивают, прогоняют со службы, и он находит приют у индусов.
«Вы англичанин, но Вэликий Дух дал вам индийское сердце», —
говорит ему спасенный им индус. Возвратившись в Англию,
Эдварде застает своих внуков бездомными сиротами. Школа, в
которой ушлись дети со всей округи, снесена по приказанию по-
мещика. В разговоре Эдвардса с Гарли осуждаются методы бри-
танского владычества в Индии.
История самого Гарли занимает в книге небольшое место. Его
хлопоты у лондонского «значительного лица» не увенчались успе-
хом, и он возвращается в родную провинцию, где живет любимая
им девушка, мисс Уолтон. Ее голос подобен свирели, ее бледность
соответствует «задумчивой нежности» ее души. Гарли слишком
беден, чтобы решиться открыть ей свою любовь. Испытывая муки
ревности при появлении богатого соперника, он избегает вся-
ких радостей и ищет уединения среди могил. Наконец, чувствуя
приближение смерти, он признается в любви мисс Уолтон, при-
шедшей его навестить. После этого признания мисс Уолтон на-
ходят в обмороке, а Гарли—мертвым.
В следующем романе, «Человек света», Мэккензи изображает,
в противоположность «Человеку чувства», эгоистичного, корыст-
ного и легкомысленного героя. Он пытается соблазнить девушку,
не зная, что она его незаконная дочь. Нравам английского выс-
шего общества противопоставляется жизнь ирокезов, среди кото-
рых проводит некоторое время один из персонажей романа. При
расставании туземцы говорят ему, что он возвращается к людям,
продающим свою привязанность за деньги. Герой, пересекая гра-
ницу, отделяющую цивилизованный мир от нецивилизованного,
задумывается над этими словами: «Его воображение рисовало на
одной стороне обман, лицемерие и подлые низости, в то время как
на другой стороне, казалось, господствовали честь, истина и перво-
бытное благородство души».
В «Юлии де Рубинье» Мэккензи хотел создать «роман без зло-
дея», в котором гибель основных персонажен зависела бы только
от доведенного до крайности чувства. Бедный учитель Савильон
влюбляется в свою воспитанницу Юлию, но считает себя не в праве
домогаться ее взаимности и уезжает, а Юлия выходит замуж за
барона де Монтобана. Возвращение Савильона, свидание, рев-
ность барона приводят к трагической развязке.
Сама Юлия — типичная героиня сентиментального романа.
Она—страстная любительница природы: «Когда я говорю о моем
525
родном ручье или о моем родном холме, я говорю о друзьях, вос-
поминания о которых согревают мое сердце». Один из персонажей
романа, негр Ямбу, подобно ирокезам в «Человеке света»,
являет пример «первобытного благородства души» и дает автору
повод для проповеди против рабства негров.
Во всех трех романах Мэккензи намечается связь с теориями
и творчеством Руссо, а также с наследием английской сентимен-
тальной поэзии, отчасти с Ричардсоном, Гольдсмитом и Стерном,
хотя последнего Мэккензи осуждал за чрезмерную фривольность
тона. В свою очередь, «Человек чувств::» оказал влияние на более
позднего английского руссоиста, Вильяма Годвина, который напи-
сал роман «Флитвуд, или новый человек чувства», отчасти про-
никнутый уже романтическими тенденциями.
Творчество Мэккензи — промежуточное звено между Гольд-
смитом и Годвином.
Глава 2
СТЕРН
Сентиментализм Стерна исключительно своеобразен. Автор «Три-
страма Шенди» и «Сентиментального путешествия» далек и от
пламенного плебейского демократизма Руссо, и от неистовой вос-
торженности немецких «бурных гениев», и от мягкого юмора Гольд-
смита.
Лоренс Стерн (Laurence Sterne, 1713—1768) родился в небога-
той семье английского пехотного офицера, прапорщика Роджера
Стерна. В краткой автобиографии, написанной незадолго до смер-
ти, Стерн набросал немногими штрихами безрадостную картину
своего детства, проведенного в скитаниях по казармам, где рожда-
лись и один за другим умирали, не вынося лишений кочевой, не-
устроенной жизни, его многочисленные младшие братья и сестры.
Смерть отца поставила 18-летнего Стерна в тяжелое положе-
ние. Он не без труда получил возможность окончить Кембридж-
ский университет (1737) и вынужден был войти в долги, чтобы
оплатить последний год обучения. Покинув университет, он по-
спешил принять духовное звание,—шаг, вызванный, конечно,
не религиозным рвением, но трезвой практической необходи-
мостью; церковная карьера казалась молодому Стерну наиболее
удобным и доступным источником средств к существованию. Бла-
годаря поддержке дяди, Жака Стерна, занимавшего довольно вид-
ный пост среди Йоркского духовенства, ему удалось уже в 1738 г..
получить самостоятельный приход в Саттоне (Sutton-in-the-
Forest), деревушке близ Йорка. Здесь, в качестве скромного сель-
ского викария, Лоренсу Стерну предстояло провести свыше
двадцати лет.
Впрочем, уже в начале 40-х годов он сам поспешил на-
рушить свое уединение вылазкой в политическую жизнь. В hj-
526
чале 40-х годов, когда вигское правительство Роберта Уолполя:
стояло накануне своего падения, подготовленного многими годами;
внутрипарламентской борьбы, Йоркские виги, как и их столич-
ные единомышленники, собирали все силы для того,^ чтобы про-
тивостоять антиправительственной оппозиции. В Йорке была
создана вигская газета, призванная поддерживать уолгюлевское
министерство в противовес местному оппозиционному органу, то-
рийск му «Йоркскому курьеру» (The York Courant). Главным со-
трудником нового «Йоркского газетчика» (The York Gazetteer) стал
молодой Лоренс Стерн. В течение целого года (1741—1742), пока
решалась судьба уолполевского министерства, он неутомимо ра-
ботал на новом для него журнально-политическом поприще.
Немногие сохранившиеся до нашего времени документы — от-
дельные разрозненные номера «Йоркского газетчика», памфлет
Стерна «Вопросы в ответ на вопросы» (Query upon Query, 1741),
а также, косвенно, комплекты «Йоркского курьера», —свидетель-
ствуют о том, что будущий писатель проявлял немало рвения при
исполнении своей миссии, не брезгуя никакими средствами для
посрамления своих политических противников.
Отдельные отголоски политической полемики этого времени
сохранились в позднейшем художественном творчестве Стерна.
Историки литературы узнают в гротескном образе педанта-док-
тора Слопа, -якобита и католика, сыгравшего столь трагикомиче-
скую роль в истории Тристрама Шенди, карикатуру на действи-
тельного политического противника молодого Стерна, Йоркского■
доктора Джона Бартона, поддерживавшего торийскую оппозицию
в 1741 г.
Политическое рвение молодого Стерна, однако, не было,—
да и не могло быть, — ни продолжительным, ни особенно глубо-
ким. Принадлежа к противоположному политическому лагерю,
чем его старший современник, тогда уже известный писатель, Генри
Фильдинг, Лоренс Стерн вынес из своего опыта политической дея-
тельности, в сущности, почти те же уроки. 27 июля 1742 г., после
падения министерства Уолполя и поражения Йоркских вигов на
парламентских выборах, на страницах торийского «Йоркского
курьера», с которым столько месяцев вел ожесточенную бумажную
войну Лоренс Стерн, появилось следующее удивительное письмо,
адресованное в редакцию:
«Сэр, судя по некоторым недавним назначениям, я вижу, что,
может быть, уместно переменить позиции, а потому прошу Вас
, известить публику, что я искренне прошу прощения за бранные
статьи в «Газетчике», которые я писал во время последних выборов
по Йоркскому графству, и что я сердечно поздравляю м-ра Фскса
с его избранием.
«Tempora mutantur et nos mutamur in illis». (Времена меняются,
и мы меняемся вместе с ними.) Остаюсь, сэр, Вашим кающимся
другом и слугою.
Л. С».
527
Буржуазные биографы Стерна рассматривают обычно это вы-
ступление будущего писателя в контексте его личной биографии.
А между тем история политической деятельности молодого Стерна
далеко небезразлична для понимания всего его творчества.
Стерн, точно так же, как в свое время Дефо, а позднее Фильдинг
и Смоллет, рано утратил доверие к британской политической кух-
не. Его приобретенный на практике скептицизм не приближается
к свифтианскому негодованию, как у Фильдинга или Смоллета, но
служит ему, во всяком случае, прочной гарантией от увлечения
иллюзиями насчет совершенства английской конституции.
Уже в эту пору в мировоззрении Стерна, очевидно, подготовля-
лось разочарование в самых принципах просветительской идео-
логии, сделавшее впоследствии его творчество едва ли не самым
выразительным памятником внутреннего кризиса английского
просветительского реализма. Назревало сомнение в практической
действенности идеального Разума просветителей, в эффективно-
сти рационалистически-абстрактных схем совершенствования обще-
ства и людей; крепло высказанное позднее в «Сентиментальном пу-
тешествии» убеждение в том, что человек чаще всего «напрасно
тревожит себя, доверяя исход своих смятений одному лишь рас-
судку»; росла уверенность в насущном праве человека на свободное
проявление своей индивидуальности, хотя бы даже вразрез с ве-
лениями здравого смысла и с правилами респектабельной морали.
Все это, впрочем, заходило не слишком далеко. Сентиментальный
юмор Стерна, при всей его дерзости, скользил по поверхности
английской общественной жизни.
Пасторские обязанности Стерна оставляли ему достаточно досу-
га для литературных занятий. Писать он начал, повидимому,
нескоро, но рано окружил себя целым обществом друзей-книг.
Рабле, Сервантес и Свифт, средневековые фабльо и новеллы Воз-
рождения, «Опыты» Монтэня и бертоновская «Анатомия мелан-
холии», — все они перечитывались так часто, что вошли в плоть
и кровь его художественного творчества. Оно невелико по объему;
литературная слава Стерна зиждется, в сущности, всего лишь на
двух — притом незаконченных — произведениях. Эго — «Жизнь
и мнения Тристрама Шзнди» (The Life and Opinions of Tristram
Shandy, Gentleman, 1760—1767) и «Сентиментальное путешествие
Йорика no Франции и Италии» (A Sentimental Journey, etc., 1768).
Кроме того, литературное наследство Стерна включает в себя
сборник его церковных проповедей — «Проповеди м-ра Йорика»
(The Sermons of Mr. Yorick, 1760—1769) и неоднократно пополняв
шиеся собрания его писем.
Опубликование «Тристрама Шенди» произвело коренной пере-
лом в жизни Стерна. Пзрвоначально лондонские издатели отказа-
лись от печатания этой странной книги безвестного прозинциального
пастора, и Стерну пришлось издать первые два тома своего романа в
Йорке; скоро, однако, оригинальность его произведения обратила
на него всеобщее внимание, и издание следующих томов «Тристра-
528
ма Шенди» (тт. III—IX) было перенесено в Лондон. Необычайный
роман и его автор стали на время злобой дня. Приехав в столицу,
Стерн оказался на вершине славы. Скоро его известность распро-
странилась и на континент. Заграничное путешествие, предпри-
нятое Стерном в 1762 г., дало ему возможность познакомиться с
цветом тогдашней передовой французской интеллигенции. Он по-
лучил доступ в кружок Гольбаха, где завязал знакомство с Дидро
и другими энциклопедистами.
Выпустив девятый том «Гристрама Шенди», Стерн приостано-
вил работу над этим романом. Но ему не удалось закончить и но-
вого, начатого теперь произведения. Он успел опубликовать лишь
первый том «Сентиментального путешествия по Франции и Италии»;
«итальянская» часть его, обещанная заглавием, осталась ненапи-
санной. Силы Стерна уже давно были подорваны; последнее за-
граничное путешествие, вопреки его надеждам, не смогло укре-
пить расшатанного здоровья писателя. В марте 1768 г. он умер в
Лондоне.
Сенсационный успех произведений Стерна был во многом свя-
зан с тем, что их автор подошел к изображению жизни по-новому,—
совершенно иначе, чем это детали его предшественники, реалисты-
просветители. Книги Стерна, казалось, принадлежали к хорошо
знакомым, упрочившим за собой права литературного гражданства
жанрам; первая была романом, вторая — путешествием; но вместе
с тем обе они были чем-то новым, поразительно непохожим на все
известные до тех пор английской читающей публике романы и
путешествия XVIII вжа.
«Тристрам Шенди» может, конечно, рассматриваться как нра-
воописательный семейно-бытовой роман; при небольшом усилии
воображения можно представить себе историю семейства Шенди,
написанную в духе «Тома Джонса» или «Перегрина Пикля». И все
же читатель не мог не заметить, что она была написана Стерном
не только совершенно иначе, чем предшествовавшие ей просвети-
тельские бытовые романы, но даже, более тоге, в виде пародии
на них. Новым было уже само название романа. Дефо, Фильдинг,
Смоллет называли обычно свои произведения историями жизни
или приключений своих героев; Стерн демонстративно назвал свою
книгу «Жизнью и мнениями Тристрама Шенди» и предпослал пер-
вому тому греческий эпиграф: «Людей смущают не самые вещи, а
мнения о вещах», заранее предсказывавший, что автор будет го-
ворить не о приключениях и действиях, но о мнениях людей. Уже
с первых томов читатели с удивлением замечали, что имя Тристра-
ма Шэнди, главного героя, служит Стерну не более как удобным
предлогом, под прикрытием которого он может беседовать с ними
о чем угодно и сколько угодно, — но меньше всего о судьбе Трис-
трама Шзнди, едва достигшего на протяжении всего девятитомного
романа пятилетнего возраста.
«Сентиментальное путешествие» было еще более явной пародией
На просветительский жанр путешествий, —в частности, на «Пу-
тешествие по Франции и Италии» Смоллета. Именно Смоллета
^4 Англ. литература. 5^J
изобразил Стерн в злой карикатуре «ученого мужа Смельфунгусаь
самое прозвище которого (to smell — нюхать, fungus — плесень)
должно вызвать у читателя впечатление чего-то затхлого. Уже в
начале своей книги Стерн юмористически противопоставляет «пу-
тешественникам праздным», «путешественникам любопытным», «пу-
тешественникам тщеславным», «путешественникам по необходи-
мости», «просто путешественникам» и всем другим родам и видам
путешественников себя самого как «путешественника сентименталь-
ного». Сентиментальный путешественник не интересуется цифрами
и фактами из жизни стран, которые он проезжает; он не зани-
мается обдуманным изучением местных обычаев и нравов, не
обращает особого внимания ни на пейзажи, ни на погоду и
не заботится о точности и подробности своих путевых записей.
«Сентиментальное путешествие» — это дневник воображения и
чувства, где важно и значительно не то, что узнал или сделал че-
ловек, а то, что он пережил и перечувствовал, хотя бы по самому
ничтожному поводу. Именно эта книга Стерна ввела в широкое
обращение словечко «сентиментальный», хотя оно и было известно
в Англии уже раньше .j
Столь же необычным литературным явлением были для того
времени и письма Стерна, опубликованные вскоре после его смер-
ти, — письма, беззастенчиво выставлявшие на суд публики самые
интимные чувства автора (переписка с «Элизой»), письма, которые
с величайшей непосредственностью и живостью трактовали обо
всем и ни о чем, перескакивали с одного предмета на другой и на
каждом шагу шокировали буржуазную благопристойность.
Переходя от творчества Дефо, Ричардсона, Фильдинга, Смоллета,
Гольдсмита к творчеству Стерна, читатель испытывал чувство фан-
тастического путешественника, попавшего в мир четвертого
измерения. Переместился центр тяжести, изменился угол зрения,
знакомые и правильные соотношения вещей приняли новый и
удивительно любопытный вид.
Схему «человек и мир», лежавшую в основе всего просвети-
тельского романа XVIII века, Стерн варьирует по-новому. В его
творчестве она формулируется иначе: «Я—и мир».
Субъективное сознание становится исходным пунктом его
творчества. Отправляясь в странствие по неведомому миру, Стерн,—
а вместе с ним и его читатели, — открывают, как новые
Робинзоны, уже не флору и фауну необитаемого острова, но свои,
новые, весьма необычайные законы пространства и времени, ло-
гики и поведения.
В этой новой робинзонаде годы могут длиться меньше, чем ми-
нуты; следствие может служить причиной, а причина — след-
ствием. Это — царство парадокса, двусмысленности, недомолвок
и загадок, Что сказать о романе, герой которого рождается на
свет на протяжении нескольких томов и вплоть до девятого и по-
следнего тома не успевает сменить детского платьица на мужские
штаны? Что сказать о романе, где нарочно перепутано чередование
глав и порядок страниц, где посвящение может оказаться посредине
530
тома, где печатные страницы чередуются с зачерненной бумагой,
где сам типографский шрифт, кажется, вступает в заговор с авто-
ром, чтобы одурачить, запутать, сбить с толку читателя?
В довершение всего, автор «Тристрама Шенди» и «Сентимен-
тального путешествия» не довольствуется обычной скромной ролью
объективного наблюдателя и изобразителя жизни; он не только
вступает в непринужденную беседу с читателем, как делал до него
еще Фильдинг, но вводит себя самого в число своих героев. В «Три-
страме Шенди» ^ Стерн появляется перед читателями в лице сель-
ского пастора Йорика, а в дальнейшем выпускает уже прямо от
имени этого Йорика и свои проповеди, и «Сентиментальное путе-
шествие». Трудно было бы выбрать более интригующий и многозна-
чительный псевдоним. В имени Йорика, датского придворного шута,
с черепом которого беседовал шекспировский Гамлет, как бы во-
площаются крайние противоречия жизни; в звуке этого имени
звенят бубенцы шутовского колпака, но в то же время от него веет
холодом могилы, уравнивающей шутов и королей. Йорик-Стерн
с нескрываемым наслаждением обыгрывает трагикомическую дву-
смысленность своего псевдонима. *Но в этой ошеломляющей игре
авторского произвола скрывается определенный организующий
принцип. В причудах Йорика-Стерна, как и в безумии шекспиров-
ского Гамлета, есть свой метод.
Стерн разделяет с другими сентименталистами XVIII века их
недоверие к просветительскому культу разума. Его творчество,
по-своему, заставляет вспомнить слова Ленина: «Й Беркли и Дидро
вышли из Локка»г. В произведениях автора «Тристрама Шенди»
и «Сентиментального путешествия» сказывается в своеобразной
форме тот же кризис буржуазной просветительской мысли, что и в
развитии английской философской мысли от Локка к Беркли
и Юму. Веселость Стерна по самому своему происхождению очень
отлична от жизнерадостного оптимизма ранних просветителей.
В его отношении к коренным проблемам Просвещения — к вопросам
о суверенности разума и о природной добродетели людей — чув-
ствуется скептическая горечь, напоминающая Юма.
В «Исследовании человеческого разумения» Юм остроумно рас-
суждает относительно свободы и необходимости в области нрав-
ственной жизни человека. Можно, конечно, ожидать, что честный
и состоятельный человек, придя в гости к приятелю, не зарежет
его для того, чтобы украсть у него серебряную чернильницу. Но
ручаться за это все-таки невозможно. «Поэтому я изменю свое пред-
2сложение и скажу, что мой друг не положит руку в огонь и не
удет держать ее там до полного'сожжения; уж это, думается мне,
я могу предсказать с такой же достоверностью, как тот факт, что
если мой друг выбросится из окна и не встретит препятствия, он ни
на минуту не останется в висячем положении в воздухе». А с дру-
гой стороны «человек, оставивший в полдень свой наполненный
золотом кошелек на мостовой Черинг-Кросса, может с таким же
1 Ленин. Соч., т. XIII, стр. ЮЗ.
34* 531
основанием ожидать, что кошелек этот улетит словно перышко,
как того, что он будет найден нетронутым через час». Так единственно
достоверными оказываются, увы, лишь те наши суждения о «че-
ловеческой природе», которые основаны на признании всевластия
эгоистического, частного интереса.
Та же мысль—то иносказательно, то открыто — постоянно
появляется на страницах произведений Стерна. Именно она лежит
в основе той знаменитой проповеди Йорика о злоупотреблениях
совестью, которой Стерн придавал такое значение, что сперва ввел
ее в текст «Тристрама Шенди» (т. II, гл. XVII), а потом включил в
собрание своих проповедей. Йорик-Стерн начинает с критического
анализа того, на чем останавливались когда-то, как на последнем
достижении нравственной философии, ранние просветители-опти-
мисты, — с представления о всемогуществе человеческой совести
или, иными словами, с того самого врожденного нравственного
чувства, которому приписывали такое спасительное значение мора-
листы-шефтсберианцы. Стерн, призвав себе на помощь реальную
жизненную практику, приходит к выводу о полной несостоятель-
ности этого представления. Он готов согласиться с тем, что мета-
физические рассуждения о могуществе совести или нравственного
чувства выглядят очень убедительно в сфере рационалистической
абстракции.
«Если бы мы были уверены, что личный интерес никогда не
принимает участия в решении дела, — и что страсть никогда не
занимает судейского места и не произносит приговора вместо ра-
зума... тогда, конечно,... для суждения о греховности или невин-
ности человека в общем нельзя было бы найти лучшего критерия,
чем его отношение к самому себе». Именно этого-то, однако, и не
бывает в действительной жизни. Разум, в теории столь всемогущий
и беспристрастный, постоянно находится во власти эгоистических
интересов и страстей, и между совестью или нравственным чув-
ством людей и их практической деятельностью разверзается про-
пасть. Развратник, себялюбец, жадный вымогатель спокойно спит
в своей постели. «Что может смутить его совесть? — Совесть на-
дежно окопалась за буквой закона; она сидит там, неуязвимая,
защищенная со всех сторон укреплениями из прецедентов и офи-
циальных документов; — никакие проповеди не выгонят ее из-
под этого прикрытия».
Я вправе,— рассуждает Йорик-Стерн, — полагаться на своего
ближнего лишь до тех пор, пока его частный интерес не противо-
речит моему. Я могу доверить своему банкиру и врачу свое со-
стояние и даже самую жизнь, поскольку я полагаю, что деловой
успех этих людей зависит от их добросовестности, и что они не
могут повредить мне, не повредив самим себе. «Но предположим
обратное, а именно, что их интересы на этот раз противоположны
моим; что возникнут обстоятельства, при которых один может, не
запятнав своей репутации, присвоить мое имущество... а другой
может отправить меня на тот свет и приобрести состояние благода-
ря моей смерти, не опорочив ни себя, ни своего искусства; —как
532
могу я, в этом случае, положиться на них? о религии, сильней-
шем из всех мотивов, не может быть речи; интерес, Дру-
гой могущественнейший мотив, резко враждебен мне;— что\ке
могу я бросить на чашку весов, чтобы уравновесить этот соблазн?
Увы! у меня нет ничего, ничего, что не было бы легче мыльного
пузыря — я должен стать в зависимость от их чести, или какого-
нибудь другого столь же капризного принципа. — Хороша пору-
ка за две величайшие ценности: — за мою собственность и меня
самого».
Кажется, ничто не доставляет Стерну такого наслаждения, как
обыгрывание этого противоречия между прекраснодушными теория-
ми и грязно-эгоистической практикой буржуазного общества.
Именно в этом столкновении противоположностей рождается злой
стернианский юмор. Прославленная история встречи с монахом в
Калэ («Сентиментальное путешествие») или рассказ о нищем
и двух горожанках (там же) показывают, что псевдо-«естественная»
доброта человека покоится, в действительности, на эгоистическом
основании. Присутствие очаровательной дамы невольно вынуждает
Йорика стать «добрым» к монаху, недавно столь грубо им отверг-
нутому. Ссылка нищего на вымышленные комплименты господ де
Сантерр заставляет польщенных горожанок, только что отказав-
ших ему в милостыне, спорить о том, которая из них даст ему 12 су.
Как восхищались и современники^ и потомство тем эпизодом
«Сентиментального путешествия», где Йорик,случайно услышав за-
ученную жалобу запертого в клетке скворца: «мне не вырваться»,
«мне не вырваться», обращается с гневными словами обличения к
Рабству—«горькой микстуре» народов, прославляет Свободу и
рисует в своем воображении образ узника, чахнущего за тюремной
решеткой! Наконец, пишет Йорик, «я разразился слезами, потря-
сенный картиной заточения, которую нарисовала моя фантазия».
Что это — бескорыстное сочувствие ближнему, ненависть к раб-
ству, любовь к свободе? Быть может; но Стерн не забывает упо-
мянуть, что он неприятно озабочен отсутствием паспорта, и что
перспектива попасть в Бастилию кажется ему в данный момент
весьма реальной.
Так «высокое» и «низкое» сознание, в изображении Стерна,
не только сосуществуют, но неуловимо и противоречиво переходят
друг в друга. Благородные порывы и мелочные эгоистические за-
боты могут меняться местами. Коренной вопрос, волновавший
всех мыслителей XVIII века, — вопрос о том, действительно ли
человек «добр» от природы,— ставится Стерном в зависимость от
обстоятельств, причем эта власть обстоятельств над человеком
выступает у него в виде силы гораздо менее очевидной, гораздо
более скрытой и «хитрой», чем это бывало у большинства его пред-
шественников, реалистов-просветителей.
Для Стерна-художника не существует слишком мелких, не-
важных слов, жестов, поступков, мыслей; нет мелочи, которая не
могла бы иной раз оказаться решающим фактором человеческой
судьбы. Все мгновенное, индивидуальное, преходящее приковы-
533
вает к себе его внимание; минутами, а не годами исчисляет он
жизнь, В «Тристраме Шенди» он с тщательностью летописца по-
вествует о том, как именно бросился на постель Шенди-старший,
и посвящает целую главу «Сентиментального путешествия» по-
жатию руки гризетки. Он уверяет, что знает десять тысяч, — нет,
десять тысяч раз десять тысяч способов уронить шляпу, и изобра-
жает с графической точностью, как именно взмахнул своей тро-
стью капрал Трим, говоря о преимуществах холостяцкой жизни.
Кто знает, может быть, именно в этих почти неуловимых мелочах
скрывается ключ к разгадке человеческого поведения и харак-
тера?
Человек, каким он предстает глазам Стерна-художника, —
это человек из плоти и крови, существо чувственное и материальное
даже в своей эмоциональной и духовной жизни. Если Стерн и
иронизирует над крайностями французских «физикалистов», —
представителей механического материализма, рассматривающих
человека как машину,—то, конечно, не с точки зрения ортодок-
сальной христианской морали.
Стерну претит всякая рационалистическая абстрактность в
понимании и изображении человека и жизни. Серьезность (gra-
vity) внушает ему «непобедимое отвращение». В образе Вальтера
Шенди, отца Тристрама, он создает злую карикатуру на отвле-
ченно-рационалистическое мышление. Вальтер Шенди мнит себя
философом; рассудок служит ему единственным руководителем в
жизни; у него всегда готовы законы, нормы и правила на все житей-
ские случаи. Но он остается беспомощным и трагикомическим пе-
дантом. Педагогическая «деятельность» Вальтера Шенди может
служить примером той иронии, с какою Стерн относится к «строго
логическому» мышлению своего героя-рационалиста.
Вот образец логических упражнений, которые заготовляет
для своего сына Шенди-старший:
«Белый медведь? Прекрасно. Видел ли я белого медведя? Мог
ли я его видеть? Увижу ли я его когда-нибудь? Следует ли мне его
увидеть? Смогу ли я его увидеть?
Что сказал бы я, увидев белого медведя? Что, если я никогда
не увижу белого медведя?
Если я никогда не видал, не могу, не должен и не буду видеть
белого медведя живьем, то не видал ли я его шкуры? Не вид \я ли
я изображения или описания белого медведя? Не видел ли я его
во сне?
Случилось ли когда-нибудь моему отцу, матери, дяде, тетке,
братьям или сестрам видеть белого медведя? Что бы они дали, чтобы
его увидеть? Как бы они вели себя? Как бы вел себя белый мед-
ведь? Дикий ли он? ручной? страшный? шершавый? гладкий?
Стоит ли видеть белого медведя? Не грешно ли это? Лучше
ли он, чем черный медведь?»
Так шутовски «обыгрывает» Стерн тот самый непогрешимый и
всеобъемлющий в своей любознательности человеческий Разум*
перед которым преклонялись просветители.
534
Универсальная, повсюду одинаковая «человеческая природа»,
руководимая отвлеченными законами Разума, уже не внушает
Стерну того благоговейного и безусловного уважения, которое
окружало ее в мировоззрении просветителей. С его точки зрения,
истинная человечность — индивидуальна и неповторима. Чтобы
быть действительно человечным, надо отклониться в ту или другую
сторону от общей, теоретически-предустановленной, «разумной»
нормы «человеческой природы». Индивидуальному началу Стерн
склонен придавать и в жизни, и в морали, и в искусстве гораздо
большее значение, чем рационально-типическому началу, преобла-
давшему в творчестве просветителей.
Именно с этим связана доктрина «шендизма». Герои «Тристрама
Шенди» — братья^ Вальтер и Тоби Шенди, доктор Слоп, капрал
Трим, пастор Йорик, — обязаны своей значительностью раз-
нообразным отклонениям от рациональной, «общечеловеческой»
нормы здравого смысла. Каждый из них до известной степени
анормален, каждый из них — маниак на свой лад. Доктрина шен-
дизма, исповедуемая героями Стерна, так же как и самим их соз-
дателем, требует, чтобы каждый человек обладал своим «коньком»
(hobby-horse), капризом, чудачеством, прихотью, манией, чем-
нибудь, что делало бы его неповторимым, непохожим на других,—
и, тем самым, самим собою. Примечательно, что самое имя «Шенди»
образовано, как указывают исследователи, от встречающегося в
йоркширском диалекте слова «shan» или «shandy», означающего че-
ловека «без царя в голове».
Эта «шендистская» теория «конька» была очень противоречива по
своим художественным результатам. В известных пределах она
была, казалось, настоящим откровением, ибо йозволяла худож-
нику, заглянув в самые потайные, самые сокровенные уголки че-
ловеческой психики, обнаружить именно то, что отличает данную
человеческую индивидуальность от всех остальных. Но, став на
почву этой теории, художник неизбежно должен был, сознательно
или невольно, отречься от многих важнейших достижений пред-
шествующего просветительского реализма. И действительно, Стер-
ну уже не свойственно стремление к изображению широкой пано-
рамы общественной жизни, столь характерное, например, для
Фильдинга и Смоллета ; а его сатира, став может быть, более сар-
кастически-язвительной, приобретает вместе с тем более камерный,
случайный и частный характер. Целостная картина мира, создав-
шаяся в творчестве реалистов-просветителей, раздробляется в со-
чинениях Стерна на бесчисленное множество мелких осколков,
как отражение в разбитом зеркале.
Однако при всем своем психологическом эгоцентризме Стерн
остается реалистом. Подобно Юму, он мог бы сказать о себе, что
все его сомнения в познаваемости реального мира покидают его,
едва лишь он выходит за порог своего кабинета. Более того, самая
прелесть «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия»
заключается в контрасте между массивной и весомой реальностью
Жизни и легкостью, с какою «обыгрывает» ее Йорик-Стерн.
535
В отличие от своих предшественников, реалистов-просветителей,
Стерн вводит в литературу своего времени новое понятие «настрое-
ния». Кропотливая тщательность ричардсоновского психологиче-
ского анализа возрождается в творчестве Стерна на новой основе;
речь идет уже не о логическом анализе того или иного чувства или
страсти, а о мгновенном воспроизведении мимолетных настрое-
ний, переживаний, причуд. Стерна привлекают неожиданность и
противоречивость мгновенных и капризных взаимопереходов, от-
тенков, переливов. В соответствии с этим человеческие характеры
утрачивают в изображении Стерна определенность, выпуклость
и цельность, отличавшие их в романах Ричардсона или Фильдин-
га. Ярко освещая минутные причуды и чудаческие странности своих
героев, Стерн оставляет в тени типические, существенные стороны
их характеров. «Конек» и, по выражению самого Стерна, «заблу-
ждения сердца» — вот, в сущности, содержание его характеров.
Недаром демонстративно замечает он в одном из своих писем,
что «в портрете скорее оставит без внимания голову человека, чем
его конек».
И, наконец, в соответствии с общей, производимой им переоценкой
ценностей Просвещения, существенно меняется сама эмоциональ-
ная атмосфера романов Стерна по сравнению с романами его пред-
шественников. Спокойный философский оптимизм просветителей,
основанный на глубоком доверии к «природе» человека, уступает
место эпикурейству, уже слегка тронутому скептицизмом. Истин-
ная прелесть жизни, с точки зрения «шендизма», заключается в
возможности превратить — хотя бы на время — серьезное «дело»
существования в легкую и веселую игру. «Vive la bagatelle!» (да
здравствует пустяк!), — восклицает шендист-Стерн.
Педант Вальтер Шенди оказывается для Стерна интересным
и занимательным «шендистским» героем именно потому, что само
невозмутимое глубокомыслие, с каким он рассуждает о магическом
влиянии имен на человеческие судьбы, об условиях роста носов
и о других столь же «философических» предметах, служит ему
верным «коньком», на котором он скачет сквозь дебри метафизики.
Серьезные «проблемы» Вальтера Шенди интересны для Стерна
именно потому, что это — чистейшие пустяки.
Но истинно-«шендистским» героем романа Стерна является, ко-
нечно, любимец автора, дядя Тоби. Дядя Тоби во многом сродни
предшественникам и современникам — фильдинговскому пастору
Адамсу, смоллетовским Траниону и Брэмблю, гольдсмитовскому
доктору Примрозу. В нем также воскресает донкихотская смесь
наивных причуд с благородной человечностью. Раненный при осаде
Намюра (сколько десятков раз слышит об этой осаде читатель
«Тристрама Шенди»!), Тоби Шенди, выйдя в отставку, обзаводится
своим «коньком»: вместе с преданным капралом Тримом он возво-
дит и разрушает фортификации и крепости, разыгрывает по всем
правилам военного искусства осады и сражения, — и все это на
маленькой лужайке у себя в саду! Надо обладать истинно детским
простодушием, чтобы всерьез найти в этой игре смысл всей жизни;
536
но простодушие Тоби Шенди во сто раз милее Стерну, чем холодный
здравый смысл. Самый безрассудный из всех героев «1ристрама
Шенди», дядя Гоби оказывается вместе с этим, — ас точки зрения
Стерна именно поэтому, — самым незлобивым и человечным. Ему
чужд фанатизм доктора Слопа, педантическая черствость Валь-
тера Шенди, эгоистическая житейская опытность вдовушки Вад-
мен. Звуки «Лиллибулеро» — песенки, которую он насвистывает
во всех трудных случаях жизни, — раздаются в Шенди-холле вся-
кий раз, когда дядя 1оби встречается с педантством, жестокостью
или фальшью. Его доброта может показаться ребячливой, наив-
ной, как бы буквально доказывая, что он мухи не обидит, он выпу-
скает на свободу даже пойманную было надоевшую ему муху, со-
провождая ее словами: «Лети, дурочка! мир, конечно, достаточно
велик, чтобы в нем нашлось.место для нас обоих». Но именно он,
неразумный, простодушный дядя 1оби, великодушно приходит на
помощь умирающему в нищете и одиночестве офицеру Лефевру,
именно он воспитывает и выводит в люди его осиротевшего сына.
Вслед за Сервантесом, на которого он постоянно ссылается в
своем романе, Стерн, как видно, хочет доказать, что трезвое бла-
горазумие вовсе не является залогом истинного благородства.
Он идет даже дальше, создавая в лице несчастной покинутой Ма-
рии, крестьянской девушки, сошедшей с ума от любви, поэтический
образ безумия, исторгавший слезы у целых поколений читателей.
«Сентиментальность» Стерна имеет, однако, свои пределы. Он
знает, — хотя говорит об этом, может быть, и не без иронии, — что
сама «природа своей неоспоримой властью установила известные
пределы, чтобы ограничивать недовольство человека», а потому
всегда умеет во-время осадить своего «конька» на крутом повороте
сентиментальной риторики и заботливо сводит свой «торговый ба-
ланс чувств» так, чтобы не остаться в долгу у житейского здравого
смысла. В сентиментальном юморе Стерна за взлетом чувствительно-
го воображения неизменно следует возвращение к реальной
житейской прозе.
Чувствительность Стерна лишена того воинствующего, бунтар-
ского значения, которое она имеет в творчестве Руссо. Стерн может
пролить слезу умиления над поселянкой, покинутой жестоким
любовником, или помечтать, как счастливы были бы люди, если бы
все они любили друг друга так, как любил своего покойного осла
случайно встреченный им путник. Но все это не мешает ему в конце
концов по-эпикурейски наслаждаться жизнью такою, какова она
есть. Возвращение из заоблачных высей сентиментального экста-
за в реальный, чувственный мир не лишено для него, повидимому,
известной приятности. Сам он ценит свой сентиментальный юмор
именно не как средство борьбы, но как средство примирения с жиз-
ненными невзгодами. Как ни подсмеивается он иной раз над обще-
ственным строем Англии, в глубине души он находит, что
«в Англии все сидят так, чтобы каждому было удобно», и меньше все-
го думает о том, чтобы насмешкой или сентиментальной проповедью
разрушать существующие порядки. Единственное, что он действи-
537
тельно осмеливается разрушать, — это существовавшие до него
литературные обычаи и празила.
Эстетика Стерна вытекает из «шендистского» отношения к жизни.
Автор «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путешествия»
умеет оседлать своего «конька» не хуже любого из своих героев.
Читатель обязан увидеть мир таким, каким видит его Стерн, а не
таким прочным, устойчивым и нормальным, каким представляется
он глазам общечеловеческого «здравого смысла». Идеальный чита-
тель Стерна —это «человек, чье великодушное сердце готово пере-
дать бразды его воображения в руки автора,—который готов
радоваться неизвестно чему и все равно отчего»* «Если бы я думал,
что вы способны составить малейшее суждение и правдоподобное
предположение о том, что появится на следующей странице, —
я вырвал бы ее из моей книги», — восклицает автор «Тристрама
Шенди». Он демонстративно отрекается от всех логических правил
и норм. «Почему я упоминаю об этом? — Спросите мое перо,—
оно управляет мною, — а не я им». Зато—иронически заявляет
Стерн — он уверен, что из всех возможных способов сочинения
книги его способ — «самый религиозный», «ибо я начинаю с того,
что пишу первую фразу, и полагаюсь на господа бога насчет
второй».
Стерн необычайно широко использует в своем искусстве «ирра-
циональный» принцип ассоциации идей и подчиняет логически
продуманное повествование парадоксально-неожиданным отсту-
плениям; именно они-то, утверждает Стерн, и составляют «сол-
нечный свет,— жизнь, душу чтения». В главе XI тома VI «Три-
страма Шенди» он даже дает курьезное графическое изображение
своего метода повествования в виде необычайно причудливых
линий, сплошь в завитках, острых углах и спиралях. Стерн не
только умышленно задерживает повествование неожиданными
и произвольными экскурсами и отступлениями; он заставляет его
двигаться в обратном порядке, и, посвящая читателя в свои труд-
ности, признается, что уже отстал от самого себя на 364 дня.
В противоположность строго последовательному, ясному и
логическому повествованию реалистов-просветителей, Стерн куль-
тивирует нарочито фрагментарную форму изложения. «Сентимен-
тальное путешествие», например, демонстративно начинается ех
abrupto, с середины разговора, начало котооого так и остается
неизвестным читателю, и заканчивается так же неожиданно, обры-
ваясь на полуслове скабрезного анекдота.
Язык Стерна по-новому гибок и эмоционален по сравнению с
языком его предшественников. Для него важно не только общее
значение, но и все тончайшие оттенки слова, и сказанное прямо
для него представляется нередко гораздо менее важным, чем то.
что остается недосказанным, подразумевающимся между строк.
Его фразы строятся и сочетаются друг с другом необычайно сво-
бодно, поражая читателя то прихотливой запутанностью, то не
ожиданным лаконизмом. Ни одним знаком препинания Стерн не
пользуется так охотно, как тире, позволяющим ему произвольно
538
сочетать и разделять самые различные предложения, наперекор
синтаксическим догмам.
Историческое значение и ценность борьбы Стерна с принципами
просветительского реализма XVIII века заключались прежде всего
в том, что она подготовляла путь новым художественным тече-
ниям— романтизму и классическому реализму XIX века. Твор-
чество Стерна было в этом смысле необходимым и важным звеном
в историческом развитии европейской литературы. Стернианская
форма изложения позволяла писателю выразить в искусстве го-
раздо более сложное представление о мире, его вечном движении
и противоречиях, чем то, какое было доступно просветительскому
реализму. Но вместе с этим стернианство неизбежно предполагало
известную искусственную нарочитость творчества, оглядку на
самого себя, переходившую порою в прямое самолюбование и
в капризную «игру» искусством.
Стерн стоял особняком в английской литературе своего вре-
мени и не создал у себя на родине сколько-нибудь значительной
школы. Для английской буржуазной критики и для буржуазных
читательских кругов он представлялся слишком дерзко-«амораль-
ным». Более передовые умы, со своей стороны, с трудом мирились
с искусственностью Стерна. Байрон пренебрежительно заметил,
что Стерн предпочитал «хныкать над мертвым ослом, вместо того,
чтобы помочь живой матери». Теккерей, отдавая должное таланту
Стерна, назвал его, однако, в своих лекциях об английских юмо-
ристах «литературной проституткой», вызвав горячее одобрение
Шарлотты Бронте, другой представительницы английского клас-
сического реализма.
В сущности, быть может, противники Стерна в английской ли-
тературе незаметно испытывали на себе его влияние. Так, например,
критика справедливо отмечала элементы стернианства в «Дон
Жуане» Байрона, да и сам автор «Ярмарки тщеславия» многое
воспринял, повидимому, у Стерна. Но в английской литературе
«стернианство» проявлялось, во всяком случае, преимущественно
в скрытой форме, и говорить с полной определенностью о прямом
подражании Стерну можно, быть может, лишь по отношению к
некоторым сентименталистам (Генри Брук) и романтикам (Чарльз
Лэм, Бульвер-Литтон и др.).
Зато творчество Стерна оказало могучее воздействие на европей-
ских писателей нескольких поколений.
Во Франции, где он стал популярен еще со времени своего пу-
тешествия по этой стране, его высоко ценил Вольтер, называвший
Стерна «вторым английским Рабле» («первым английским Рабле»
для Вольтера был Свифт). Можно говорить о несомненном влиянии
Стерна на Дидро. Автор «Жака-фаталиста» явно подражает внеш-
ней разорванности «Тристрама Шенди» и «Сентиментального путе-
шествия». Само начало этого романа Дидро кажется всецело «стер-
нианским», так же как и его причудливая композиция. Еще более
глубоко сказалось, возможно, влияние Стерна в знаменитом «Пле-
мяннике Рамо». Во всяком случае, у Стерна автор «Племянника
539
Рамо» уже мог найти, —хотя и в менее развитом виде, —то про-
тиворечие «высокого» и «низкого» сознания, в диалектическом рас-
крытии которого Гегель видел основное достоинство этого шедевра
Дидро. В дальнейшем явные черты «стернианства» дают себя знать
в творчестве французских романтиков. У Ксавье де Местра («Пу-
тешествие вокруг моей комнаты»), Шарля Нодье, Жюля Жанена
они заметны в особенности наглядно.
Любопытным памятником «стернианства» во французско-швей-
царской литературе является творчество Р. Тёпфера, интересного
тем, что его «Библиотека моего дяди» оказала влияние на «Детство
и отрочество» Толстого.
В Германии Стерн также рано получил признание; его ценил
Лессинг; Гёте восхищался им, хотя, однако, умел относиться к
нему критически.«Ни в чем не является он образцом, но все пред-
восхищает и пробуждает»,—заметил Гёте об авторе «Аристра-
ма Шенди». Зато немецкие романтики сделали Стерна своим ку-
миром. Уже предтеча немецкого романтизма Жан-Поль Рихтер,
так же, как его менее известный предшественник, юморист Гиппель,
обращаются к Стерну как к своему учителю. В Германии времен
романтизма, где в силу специфических исторических условий раз-
решение насущных общественных проблем переносилось из сферы
практической борьбы в область абстрактно-спекулятивного мышле-
ния, где разрыв между действительностью и идеальным царством
эстетической видимости представлялся особенно непреодолимым,
Стерн с его разорванностью мысли и чувства и причудливой игрой
воображения должен был казаться особенно понятным и близким.
Черты «стернианства» дают себя знать и в «Люцинде» Фр. Шлегеля,
и в «Годви» Брентано, и в ироническом замысле гофмановского
«Кота Мурра». Даже Гейне, при всем его критическом отношении
к романтизму, унаследовал от немецких романтиков это преклоне-
ние перед Стерном, которому он посвятил блестящие, хотя и пре-
увеличенно восторженные страницы в своей «Романтической школе».
В России Стерн стал известен с конца XVIII века. Русские
читатели познакомились с ним сперва по «Сентиментальному пу-
тешествию», вышедшему в русском переводе в 1793 г. под любо-
пытным и пространным заглавием: «Путешествие Стерново по
Франции и Италии, под именем Йорика, содержащее в себе не-
обыкновенные, любопытные и весьма трогающие приключения,
многие критические рассуждения и замечания, изображающие
истинное свойство и дух французского народа, нежные чувствова-
ния, тонкие и острые изречения, нравственные и философские
мысли, основанные на совершенном познании человеческого сердца,
с приобщением дружеских писем Йорика к Элоизе и Элоизы к
Йорику». Насколько можно судить по некоторым пунктам этого
заглавия, интерес к Стерну был обязан своим возникновением
политическим событиям французской буржуазной революции:
в «Сентиментальном путешествии» современники 1793 г. хотели
найти объяснение причин, вызвавших к жизни революцию во
Франции. Второе русское издание «Сентиментального путешествия»
540
вышло в 1803 г. под заглавием «Чувственное путешествие Стерна
во Францию».
В начале XIX века на русский язык был переведен не только
«Тристрам Шенди» (перевод Кайсарова, СПБ., 1804—1807), но,—что
указывает, очевидно, на большой интерес к этому писателю, —
даже его проповеди («Нравоучительные речи и некоторые нрав-
ственные мнения Лаврентия Стерна», перевод с французского Петра
Чичагова, М., 1801).
В таяние Стерна сказалось отчасти в знаменитом «Путешествии
из Петербурга в Москву» Радищева. Из более поздних русских
писателей, находившихся под непосредственным влиянием Стерна,
надо указать, помимо Карамзина и его сентиментальной школы,
Вельтмана, романы которого представляют одно из самых колорит-
ных проявлений «стернианства» в русской литературе XIX века.
Позднее Стерна высоко ценил Лев Толстой, который в молодости
увлекался им настолько, что даже пробовал переводить «Сенти-
ментальное путешествие» на русский язык.
Глава\ 3
СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ
1
Развитие сентиментализма в английской литературе XVIII века
раньше всего сказывается в поэзии. Рассудочно-моралистическое
направление английского классицизма, особенно ярко представ-
ленное в творчестве Попа, сменяется уже во второй четверти
XVIII века поэзией, основанной на чувстве и потому лирической
по преимуществу. Протест против буржуазной действительности,
лишенный в Англии революционной остроты, принимает форму
ухода в мир интимных, внутренних переживаний человеческой
души, в уединение и лирическое созериание. Поэты-сентимента-
листы, согласно определению А. Н. Веселовского, — «мирные
энтузиасты чувствительности, ограниченные стенками своего серд-
ца». Природа, сентиментальная дружба и любовь родственных душ.
простые радости семейной жизни, картины патриархального
существования, не затронутого разложением буржуазной циви-
лизации, — таковы основные темы английской сентиментальной
поэзии.
Поотивопоставление природы и города, патриархальной сель-
ской идиллии и морального разложения господствующих классов,
представителей «городской» цивилизации, является первой фор-
мой сентиментальной критики буржуазного общества. Из Англии,
где впервые обнаружились противоречия нового буржуазного строя.
это поотивопоставление распространилось по всем европейским
литературам XVIII века и в теориях Руссо, накануне француз-
54!
ской буржуазной революции, получило наиболее яркое, подлинно
революционное выражение.
На ранних стадиях английской сентиментальной поэзии дерев-
ня и «счастливая» жизнь патриархального «поселянина» изоб-
ражаются исключительно в идиллических тонах, в соответствии
с сентиментально-демократическими симпатиями поэтов нового
направления (Гомсон, Грей и др.). Лишь во второй половине XVIII
века, в связи с надвигающимся промышленным переворотом и
общим обострением социальных противоречий, сельская тема теряет
свой идиллический характер, и сентиментальная поэзия раскры-
вает подлинно реалистические картины обнищания и моральной
деградации английской деревни (Гольдсмит, Каупер, Крабб).
Описательные поэмы Томсона и его школы представляют пер-
вый этап развития английской сентиментальной поэзии, еще свя-
занной с классической традицией объективным отношением к теме
и моралистической дидактикой.
На втором этапе (Юнг, Грей, Коллинс и др.) лирический субъек-
тивизм вступает в свои права. Он проявляется в господстве эле-
гических настроений, в сентиментальной меланхолии, свидетель-
ствующей о душевном неблагополучии, вызванном конфликтом с
буржуазной действительностью. Чувствительная душа сознает
свое одиночество в этом мире холодного эгоизма и корыстолюби-
вых материальных интересов; она погружается в тихую грусть,
культивирует слезы как признак душевного волнения, мечтает
о смерти. Так возникает «кладбищенская лирика» 40—50-х годов
XVIII века.
Последний этап сентиментальной поэзии (Гольдсмит, Каупер,
Крабб) характеризуется углублением мотивов социальной кри-
тики и реалистическими тенденциями в развитии описательного
жанра. Однако в общем составе английской литературы последней
трети XVIII века это направление оттесняется гораздо более ши-
роким «предромантическим» движением, непосредственно подготов-
ляющим победу романтизма в начале XIX века.
2
Джемс Томсон (James Thomson, 1700—1748), шотландец по
происхождению, сын сельского пастора, воспитанный в деревен-
ском уединении, потом — студент богословия Эдинбургского уни-
верситета, один из завсегдатаев литературных кружков шотланд-
ской столицы, прибыл в Лондон в 1725 г. как провинциал с не-
сколько архаическими литературными симпатиями, мечтая сни-
скать здесь поэтическую славу. Его первая поэма «Зима» (Win-
ter, 1726), с трудом нашедшая издателя, имела неожиданный успех;
за ней последовали «Лето» (Summer, 1727), «Весна» (Spring, 1728)
и «Осень» (Autumn), объединенные и переработанные в новом изда-
нии под общим заглавием «Времена года» (The Seasons, 1730).
Томсон становится своим человеком в литературных кругах
Лондона, дружит с Попом, пользуется покровительством меценат-
542
ствующего вельможи Литльтона, одного из вождей парламентской
оппозиции против министерства Уолполя. Он пишет патриоти-
ческую поэму «Свобода» (Liberty, 1735—1736, 5ч.) и ряд трагедий в
классическом стиле, которые пользовались в свое время некоторым
успехом благодаря содержавшимся в них актуальным политическим
намекам. Повидимому, он является автором английской националь-
ной песни «Rule, Britannia!» («Правь, Британия, правь морями,
британцы никогда не будут рабами»). Из позднейших произведе-
ний Томсона литературное значение сохранила лишь аллегори-
ческая поэма «Замок безделья» (The Castle of Indolence, 1748),
написанная в подражание Спенсеру.
«Времена года» Томсона принадлежат к жанру описательно-
дидактической поэзии, для которой образцом в английской лите-
ратуре послужили «Георгики» Вергилия. Новым в трактовке
этого жанра у Томсона является исключительно большое место,
которое он уделяет описаниям природы. В «Весне» описывается
постепенное пробуждение природы —таяние снега, появление пер-
вой травы и цветов, пение птиц и их любовные радости, пробуж-
дение любви в душе человека. «Лето» состоит из описания летнего
дня от восхода солнца до наступления ночи. В «Зиме» изображается
приближение холодов. «Осень» не имеет определенного плана.
Всюду у Томсона нить описания постоянно прерывается повест-
вовательными эпизодами и дидактическими рассуждениями, и даже
вводятся самостоятельные вставные новеллы с сентиментальным
любовным сюжетом. Такова, например, история Селадона и Аме-
лии, — девушки, на глазах своего милого убитой молнией во вре-
мя летней грозы. Эти вставные эпизоды, связывающие описатель-
ную поэзию Томсона с традицией пасторали и ее сентиментальным
любовным сюжетом, пользовались особой популярностью у чув-
ствительных читателей XVIII века.
Изображение природы у Томсона в основном еще остается в
рамках классической эстетики, следуя принципу типизации и
обобщения, сформулированному для изобразительных искусств
современником Томсона, художником Рейнольдсом: «Красота и
величие искусства состоят, по моему мнению, исключительно
в способности подниматься над единичными формами, местными
обычаями, частностями и деталями всякого рода». Томсон стре-
мится дать в своих описаниях объективную картину природы,
общие очертания предметов и окружающую их атмосферу света
и тени, красок и звуков, но избегает субъективной лирической
окраски пейзажа, характерной для более поздних сентимента-
листов. Картины природы Томсона совершенно лишены «мест-
ного колорита»: он ни разу, например, не изображает харак-
терный ландшафт столь хорошо ему знакомых шотландских гор.
Любимой темой его описания является английский пейзаж: мир-
ные долины, рощи и луга, ручьи и реки, оживляющие ландшафт,
пасущиеся стада, разбросанные селения. Такое описание нередко
ограничивается простым называнием предметов и перечислением
их типических признаков: «О небо! какой чудесный вид откры-
543
вается кругом — горы и долины, леса, луга, башни и^сверкакь
щие города и позлащенные реки, покуда весь широкий горизонт
не утонет в отдаленной дымке».
В таких же типических аспектах является Томсону жизнь жи-
вотных и людей, связанная с жизнью природы: весенние песни
птиц и их осенний перелет, охота и рыбная ловля, картины сель-
ской жизни, чередующиеся в соответствии с временами года. Вес-
ной он изображает пахаря и сеятеля за работой, летом — мытье
и стрижку овец, осенью — жатву, заканчивающуюся веселой пи-
рушкой, зимой — крестьянский ужин и сельские забавы или пе-
чальную судьбу запоздалого путника, заблудившегося в снежную
вьюгу. Сентиментальный демокоатизм Томсона находит выражение
не в критике существующих общественных отношений, а в идеале
уединенной и созерцательной жизни, вдали от корыстного и сует-
ного «света», в «спокойном убежище» на лоне природы; таким убе-
жищем ему представляется патриархальная идиллия деревенской
жизни, счастливой в своей ограниченности.
Религиозная философия Томсона проникнута оптимизмом. Не
пооьрая с официальной религией, Томсон от философского деизма
XVIII века отходит в сторону эмоционально окрашенного панте-
изма, который в красоте и творческом изобилии самой природы,
«великой прародительницы», видит проявление божества, как «ми-
ровой души» и «источника всякого существования». Поэма Том-
сона заканчивается восторженным «гимном» творцу (A Hymn),
незримо присутствующему в «таинственном круговороте» вре-
мен года. В русской поэзии этот гимн известен в переводе Жуков-
ского (1808). В стилистическом отношении «Воемена года»
ппеггставляют существенный этап в развитии английской поэзии
XVIII века. Поавда, Томсон еще не освободился целиком от
условного поэтического языка школы Попа, но он следует за
Мильтоном в употреблении белого стиха, и эта новая, более
свободная метрическая фоома дает ему возможность освободить
поэтическую мысль от однообразной симметричности рифмован-
ных двустиший английских кляссицистоя.
Новый жанр описательно-дидактической поэмы не был цели-
ком созданием Томсона. Тему поиооды затронут уже Поп в услов-
но идеализованной фооме «Пастооалей» П709); его английская
пастораль «Виндзорский лес» (1713) уже обнаруживает более сво-
бодные еоомы описательного жаноа. Джон Филипс (John Phi;
lips, 1676—1709). подражатель Мильтона, выступил с поэмой
в белых стихах «Сидр» (The Cyder, 1708), написанной по образцу
«Георгию) Вергилия. Одновременно с юношей Томсоном поэму
о зиме начал писать его доуг и наставник, шотландский пастор
Риккальтоун (Robert Riccaltoun); его «Зимний день» (A Win-
ter's Day), написанный в 1726 г., но оставшийся незамеченным.
был известен Томсону в рукописи и, по его признанию, послужил
ему обпазцом. Независимо от Томсона возникла и описательная
поэма «Гоонгаоский холм» (Orongar Hill. 172^) художника и поэта
Джона Дайера (John Dyer, 1700?—1758). Дайер пользуется размером
544
юношеских поэм Мильтона, четырехударным рифмованным стихом
его «Il Penseroso» и подражает его лирическому стилю; черты субъ-
ективного лиризма, созерцательного раздумья и меланхолии при-
ближают его к позднейшей элегической школе. Он изображает живо-
писный горный пейзаж, открывающийся путнику с одинокой вер-
шины, и один из первых вводит в литературу XVIИ века поэзию
развалин, поросших «мхом и травами», ныне ставших «сумрачным
обиталищем ворона».
В дальнейшем описательная поэма развивается но образцу
«Времен года» Томсона, усваивая его обобщенную форму ланд-
шафтной живописи и, в еще большей степени, его отвлеченный
дидактический морализм, развернутые в свободной композицион-
ной рамке белых стихов. В числе наиболее известных в свое время
подражаний Томсону мы находим «Прогулку» (The Excursion,
1728) его друга, шотландца Маллета (David Mallet), «Охоту» (The
Chace, 1735) провинциального помещика Соммервиля (Will So-
merville), «Услады воображения» (The Pleasures of Imagination,
1744) врача Эйкенсайда (Mark Akenside, 1721—1770), «Искусство
сохранения здоровья» (The Art of Preserving Health, 1744) другого
приятеля Томсона, шотландца Армстронга (John Armstrong), «Анг-
лийский сад» (The English Garden, написана в 1757) Мэйсона (Wil-
liam Mason), друга и издателя Грея, «Руно» (The Fleece, 1757) Джона
Дайера и др. В большинстве названных поэм поучительный эле-
мент вытесняет художественное описание и дидактика граничит
с характерным для поэзии XVIII века типом философ-
ской и ученой поэзии, начало которому было положено Попом
в его «Опыте о человеке» ( 1733—1734). Своеобразным завершением
этого жанра научной поэзии является поэтическое творчество деда
Чарльза Дарвина, Эразма Дарвина (Erasmus Darwin, 1731 — 1802),
известного естествоиспытателя, автора описательных поэм «Бо-
танический сад» (The Botanic Garden, 1789—1791) и «Храм природы»
(The Temple of Nature, 1803), где он излагает учение о развитии
природы, в некоторых своих чертах предвосхищающее биологи-
ческий эволюционизм его знаменитого внука.
Поэма Томсона имела большой успех и за пределами Англии.
Во Франции, где он стал известен в переводе еще в конце 50-х
годов XVIII века, ему подражал Сен-Ламбер в своих «Временах
года» (1769). В конце XVIII века ученую описательно-дидактичес-
кую поэзию представляет трудолюбивый и плодовитый аббат Де-
лиль, «парнасский муравей», по меткому определению Пушкина,
автор ботанической поэмы «Сады» (1782).
В Германии описательно-дидактическая поэма Броккеса за-
рождается независимо от английских влияний, и даже «Альпы»
Галлера (1728), написанные почти одновременно с «Временами
года», повидимому, возникли независимо от них. Но в 1745 г.
Броккес переводит поэму Томсона на немецкий язык, а в 1749 г.
появляется «Весна» Клейста, подражание одноименной поэме
Томсона. Дальнейшее развитие описательной поэмы в Германии
было прервано резко полемическим выступлением Лессинга в эсте-
35 Англ. литература 545
тическом трактате «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии»
(1766), в котором немецкий критик осуждает описательную поэзию
как незаконную попытку состязаться с живописью средствами поэ-
зии. Для Лессинга, как передового идеолога немецкого Просве-
щения, описательная поэзия равносильна пассивному воспроизве-
дению действительности.
В русскую литературу описательная поэзия проникла преиму-
щественно в более позднем варианте, подсказанном влиянием не
Томсона, а Делиля (А. Ф. Воейков, «Сады Делиля», 1814—1816,
и др.). Из немногочисленных произведений, примыкающих к анг-
лийской традиции, можно отметить «Весну» Вас. Петрова и опи-
сательную поэму С. Боброва «Таврида» (1798).
Последнее произведение Томсона, поэма «Замок безделья»,
подражающая Спенсеру, гораздо последовательнее отражает но-
вые художественные тенденции сентиментализма. В поэме изоб-
ражен фантастический замок, обитатели которого бежали от сует-
ного «света» с его корыстью и стяжательством, и предаются со-
зерцательному безделью, очарованные песней Архимага, злого
кудесника, соблазнившего их покинуть трудовую жизнь, «Лучшие
из людей всегда любили отдохновение и не хотели вмешиваться
в грязную жизненную борьбу»,—так проповедует Архимаг.
«Какое печальное безумие — копить богатство, теряя для этого
краткие дни жизни». «Истинная добродетель — это отдых мысли,
чистое неземное спокойствие, не знающее бурь, недоступное для
бурного вихря честолюбия, для тех страстей, которые обезобра-
живают этот мир». Волшебный замок окружен идеальным сенти-
ментальным пейзажем — сонными рощами и тихими долинами,
цветниками, полями маков, навевающими дремоту, лугами, по-
крытыми зеленью; кругом, просачиваясь по солнечным прогали-
нам, играют бесчисленные ручейки, убаюкивающие своим шопо-
том. «То была страна усыпительных грез и сновидений». Среди
обитателей замка Томсон изображает своих ближайших друзей;
его собственный стихотворный портрет присочинен его покрови-
телем Литльтоном.
Во второй песне против Архимага выступает Рыцарь Промыш-
ленности и Искусства, аллегорический образ труда и цивилизации;
рожденный в древнем мире, он ныне избрал своей родиной «сво-
бодную» Британию. Он побеждает Архимага и освобождает его
пленников. Морально-дидактическая идея поэмы очевидна. Но
художественно наиболее убедительны поэтические картины пер-
вой песни, прославляюшие созерцательное уединение чувствитель-
ных душ, погруженных в свой внутренний мир. В этом смысле
«Замок безделья» в сентиментальной форме предвосхищает романти-
ческий индивидуализм с его «искусственными эдемами», в которых
поэт ищет спасения от буржуазной действительности (как, на-
пример, «Калиф Ватек» Бекфорда или «Хан Кубла» Коль-
риджа).
Поэма Томсона написана спенсеровой строфой. Аллегорический
сюжет заимствован из описания дворца Морфея в «Королеве фей».
546
Томсон пользуется архаизмами языка и стиля Спенсера, чтобы
придать своему произведению своеобразный романтический ко-
лорит.
С начала XVIII века подражания Спенсеру получают все более
и более широкое распространение в английской сентиментальной
поэзии, как признак оппозиции классицистским вкусам. Поэты
XVIII века увлекаются поэтической фантастикой Спенсера, му-
зыкально-ритмическими возможностями его строфы, романтической
прелестью его старинного языка. Между 1700—1775 гг. насчиты-
вается более 50 таких подражаний.
Рядом с дидактической аллегорией, получившей распростране-
ние задолго до поэмы Томсоиа, возникает реалистическая паро-
дия, которая пользуется приемами Спенсера для изображения
«низких», бытовых сюжетов. Начало этому направлению положил
уже классицист Поп, создавший серию пародий на старинных анг-
лийских поэтов, в частности — на Спенсера (отрывок «Аллея» г
написан в 1705, напечатан в 1727).
Наиболее значительным произведением этой группы является
«Сельская учительница» Шенстона (The School-Mistress, 1742),
Вильям Шенстон (William Shenstone, 1714—1763), автор сенти-
ментальных элегий, по собственному признанию, подражал Спен-
серу «в его языке, в простоте, в манере описания и в своеобразной
нежности чувства». Он описывает* деревенскую школу и учитель*
ницу — старую деву, скромную, бедную и трогательную, несмотря
на свой смешной педантизм и провинциальную старомод-
ность.
Такая идиллия из жизни «маленького человека» была во
вкусе поэзии того времени с ее сентиментально-демократическими
симпатиями. За «Сельской учительницей» вскоре последовали ано-
нимный «Сельский пастор» (The Country Parson, 1758) и «Приход-
ский писарь» (The Parish Clerk, 1768) Вернона ♦William Ver-
non). Образ деревенской учительницы появляется снова в «По-
кинутой деревне» Гольдсмита (1770) и в деревенских очерках
Крабба («Приходские списки», 1807, и др.). К традиции Шенстона
примыкают и позднейшие крестьянские идиллии шотландских на-
родных поэтов конца XVIII века, написанные также спенсеровой
строфой — «Крестьянский очаг» (1773) Фергюсона и «Субботний
вечер поселянина» (написан в 1785) Бернса.
Во второй половине XVIII века из многочисленных подражате-
лей Спенсера должен быть отмечен Битти (James Beattie, 1735—1803).
Его поэма «Менестрель» (The Minstrel, etc., 1771, т. 2—1774), харак-
терная для предромантических веяний последней трети XVIII века,
изображает воспитание юноши-поэта, который вырастает в сель-
ском уединении, в сентиментальном общении с цриродой, питаю-
щей его высокое вдохновение и душевную меланхолию. Неодно-
кратно пользуются спенсеровой строфой и романтики — Байрон
в «Чайльд Гарольде», Ките — в «Кануне святой Агнесы» и др., Шел-
ли— в «Адонаисе».
35*
547
3
Подобно Томсону, Эдуард Юнг (Edward Young, 1683—1765)
занимает переходное положение в английской поэзии своего
времени. Ранние его произведения всецело примыкают к класси-
цизму. Его трагедии «By3npHC»(Busiris, 1719), «Месть» (The Revenge,
1721) и др. отклоняются от образцов французского классицизма в сто-
рону патетической декламации и нагромождения ужасов, подсказан-
ных неумелым подражанием возвышенному у Шекспира. Его мораль-
ные сатиры на пороки «света»—«Всеобщая страсть» (The Univer-
sal Passion, 1725—1728) — предшествуют сатирам Попа и подобно им
опираются на образцы Горация и Буало. Напыщенные патриотиче-
ские оды Юнга, которые должны были снискать ему покровитель-
ство официальных кругов, — «К Океану» (Ocean, 1728), «Владыче-
ство морей» (Imperium Pelagi, 1730) и др., — не имели успеха.
Потерпев неудачу на литературном, научном и политическом
поприще, Юнг в 45-летнем возрасте становится пастором.
Литературная слава Юнга основана на религиозно-дидакти-
ческой поэме, написанной в старости, — «Жалоба, или Ночные
думы» (The Complaint: Or, Night-Thoughts, etc., 1742—1745). Содер-
жание поэмы — скорбь о бренности жизни, думы о смерти в бессон-
ную ночь, вызывающие отчаяние, которое побеждается мыслью
о бессмертии души. Реторические жалобы и страстная аргумента-
ция в защиту идеи бессмертия против неверующих и деистов со-
ставляют содержание девяти книг этой поэмы.
Дидактические тенденции поэзии Юнга роднят его с моралисти-
ческим направлением школы Попа. Но если Поп проповедует свет-
скую мораль, основанную на рационалистической философии
деизма и облеченную в изящную классицистскую форму, — мораль
не только поучительную, но и развлекательную, то Юнг выступает
с нравственной серьезностью и тяжеловесностью религиозного
учителя, с реторическим пафосом морального обличителя, призы-
вающего к покаянию. Он сознательно противопоставляет свою
поэму «Опыту о человеке», как самому типичному выражению
просветительского оптимизма и вольнодумства, с которым он бо-
рется. «Бессмертие несомненно, несмотря на все, что проповеды-
вал какой-нибудь Бейль, и что думал какой-нибудь Вольтер!» —
восклицает он в своей поэме.
Объектом обличительной проповеди Юнга является молодой
вольнодумец, выведенный под именем Лоренцо, — представитель
модного светского «остроумия» и свободомыслия. «Остроумию»
(Wit) Юнг противопоставляет религиозную «мудрость» (Wisdom),
философии деистов — учение Евангелия. «Лоренцо, отрекись от
этого черного братства; отрекись от Сент-Эвремона и читай апо-
стола Павла!» Это обличение «вольнодумства» светского общества
принимает характер демократической сатиры, направленной про-
тив паразитического существования дворянской верхушки, против
многочисленных «Лоренцо нашего века», которым другие страны
548
света «посылают свои ароматы, соусы, и песни, и платья, и понятия
о жизни, сотканные на чужеземных станках».
Аргументация Юнга в защиту бессмертия исходит из пессими-
стической оценки человеческой жизни, обреченной на страдание
и смерть. Неудовлетворенность человека существующим есть залог
бессмертия души. Если счастье на земле — конечная цель на-
шего существования, то животные, лишенные мысли о том, что
все проходит, счастливее человека, наделенного разумом и предви-
дением будущего, — так иронизирует Юнг над оптимизмом про-
светителей. «О, дайте мне безграничное блаженство! Смертные
радости недостойны бессмертной души!» «О, дайте вечность мне,
или уничтожьте мысль!».
Оригинальность поэмы Юнга и ее историческое значение свя-
заны с напряженным эмоциональным пафосом его поэтической
проповеди, придающим его белым стихам выразительность драма-
тической речи. Изящный и холодный рационализм Попа и его
школы сменяется в поэзии Юнга страстной реторикой. «Ты нахо-
дишь, что душа моя слишком взволнована и горяча? Разве страсти
души — язычники? Разве только разум у человека получил кре-
щенье? Только он имеет право касаться священных предметов?
О, быть бы мне еще более горячим!..». Аргументация Юнга
обращена к чувству; это оно подсказывает ему меланхолические
и мрачные образы его поэмы. Так создается аллегория Ночи, «пе-
пельно-серой богини, со своего эбенового трона протягивающей
свинцовый скипетр над дремлющей вселенной», «великой праро-
дительницы природы, старшей, чем день, и обреченной пережить
преходящее солнце». Колокольный звон в полночь звучит, как «по-
хоронный звон прошедших часов». Картина кладбища напоминает
о близкой и неизбежной смерти. «Это — меланхолические своды
создания, долина погребения, печальный сумрак кипарисов, стра-
на видений и бесплотных теней. Все, все на земле — только тень,
все по ту сторону жизни — реальность!». Поэт в ночном уедине-
нии предается меланхолическому раздумью и созерцанию. В поэме
Юнга уже намечен весь репертуар поэтических образов, который
станет в дальнейшем необходимой принадлежностью так называе-
мой «кладбищенской лирики».
«Ночные думы» имели огромное влияние на литературу всех
стран Европы. Среди многочисленных переводов наиболее известны
немецкий прозаический перевод Эберта (1751—1752), выдержавший
множество изданий и снабженный (в изд. 1760—1771 гг.) обширным
комментарием переводчика, а также французская прозаическая
переработка Летурнера ( 1769), в свою очередь послужившая источ-
ником для ряда других переводов. Влияние Юнга было особенно
значительно в Германии, где ему подражали Клопшток и Гердер.
В России Юнг нашел читателей и последователей в масонском
обществе Новикова, среди друзей молодого Карамзина; который
сам испытал его воздействие. Все важнейшие произведения Юнга
были переведены на русский язык в период с 1778 по 1812 г. Луч-
ший русский перевод Юнга принадлежит А. Кутузову (1785) и
540
переиздавался неоднократно; он сделан в прозе и сопровождается
обширным комментарием, опирающимся на Эберта («Плач, или
ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии Эдуарда Юн-
га»). Более поздний стихотворный перевод С. Глинки «Юнговы
Ночи» (1803—1806) имеет источником Летурнера.
Английская «кладбищенская поэзия» не является целиком со-
зданием Юнга. Сам Юнг уже в молодые годы написал
пойму «Последний день» (A Poem on the Last Day, 1713), прошедшую
в то время незамеченной. Тему «Ночных дум» предвосхищает «Ночной
отрывок о смерти» классициста Парнеля (Thomas Parnell, 1679—
1718, Night Piece on Death, 1718, напечатана в 1722 г.). Одновременно
с Юнгом выступает Роберт Блэр (Robert Blair, 1699—1746), шотланд-
ский пастор, автор небольшой поэмы «Могила» (The Grave, 1743).
Блэр хочет «изобразить мрачные ужасы могилы». Он ведет своего чи-
тателя под сумрачные своды полуразвалившейся церкви, показы-
вает ему мраморные гробницы, пугает привидениями, которые
появляются на кладбище в полночь, при свете луны. Он говорит
о жестокости смерти, поражающей всех людей без различия со-
стояния — кровавых деспотов и их рабов, стяжателей среди не-
нужного им богатства, развратника посреди его наслаждений.
Весь мир представляется поэту огромным кладбищем. Еще более
широкой известностью пользовались на протяжении всего XVIII
века написанные прозой «Размышления среди могил» (Meditations
among the Tombs, 1748) Джемса Гарви (James Hervey, 1714—1758).
Гарви был известен и во Франции в переводе Летурнера (1771).
Однако самое законченное выражение так называемая «кладби-
щенская лирика» получила в «Элегии, написанной на сельском
кладбище» наиболее значительного из поэтов английского сенти-
ментализма — Грея,
Томас Грей (Thomas Gray, 1716—1771) происходил из состоя-
тельной лондонской купеческой семьи. В аристократическом кол-
ледже в Итоне и в Кембриджском университете он получил хоро-
шее классическое образование, переводил античных авторов и
обнаружил свое поэтическое дарование прекрасными латинскими
стихами. Подружившись еще в колледже с молодым аристократом
Горэсом Уолполем, сыном известного английского министра, он
сопровождал своего друга в его путешествии по Европе, посетив
с ним вместе Париж, Швейцарию и Италию (1739—1743). Пись-
ма его с дороги свидетельствуют о новых для английского Просве-
щения вкусах. Грея восхищает готическая архитектура Реймского
собора, его «удивительная красота и легкость» и живописные кра-
соты альпийского пейзажа. «Здесь каждая пропасть, каждый по-
ток, каждый утес полон религии и поэзии». «Не требуется особенно
фантастического воображения, чтобы видеть здесь призраки при
свете дня».
По возвращении в Англию Грей снова поселился в Кембрид-
же, где провел почти всю свою жизнь в ученых занятиях. Человек
нелюдимого, меланхолического характера, он избегал большого
общества, общаясь лишь с узким кругом друзей и единомышлен-
550
ников. Он посвящал свои досуги классической литературе, увле-
кался средневековым зодчеством, которому посвятил ученое иссле-
дование — «О нормандском зодчестве» (On Norman Architecture,
1754). С конца 50-х годов он начинает уделять особое внимание
средневековой поэзии. В течение трех лет он работает в библиотеке
Британского музея, занимается англо-саксонским языком, интересу-
ется «Эддой» и древнеисландским и приветствует «Оссиана» Макферсо-
на как кельтский народный эпос. Он собирает обширные материалы
по истории английской литературы с древнейших времен, кото-
рая, по его плану, должна была заключать обширное введение, охва-
тывающее все средневековые литературы романского Запада —
провансальскую, старофранцузскую, итальянскую. Из последней
оц знал и любил не только поэтов Возрождения, в особенности —
Ариосто и Тассо, но также мало известных его современникам
Петрарку и Данте. Из английских поэтов Грей особенно ценил
Мильтона. Элегические мотивы раннего творчества Мильтона (поэ-
ма «Il Penseroso») имели сильнейшее влияние на его собственное
творчество.
Незадолго до смерти Грей передал собранные им материалы
по средневековой литературе Томасу Уортону, который исполь-
зовал их для своей «Истории английской поэзии» (1774—
1781).
В 60-х годах Грей совершил несколько путешествий по Англии.
Он побывал в горной Шотландии и в «озерном крае» на севере Анг-
лии, в местах, впоследствии воспетых Вордсвортом. Его дневники
и письма этого времени полны восторженных лирических описа-
ний красоты и величия живописного горного ландшафта. Грей
противопоставляет дикие красоты гор искусственным украшениям
современных парков, занимающим воображение «ваших поэтов,
художников, садовников и пасторов», которые никогда не видали
горного пейзажа, полного «красоты и ужаса».
Поэтическое наследие Грея ограничивается небольшим числом
лирических стихотворений, несколькими одами, написанными в
разное время, двумя-тремя стихотворениями других жанров и
знаменитой «Элегией», составившей его славу.
Оды Грея соединяют современное, сентиментальное восприятие
действительности с поэтическими реминисценциями античности.
Подражание античным образцам особенно заметно в позднейших
«пиндарических» одах, насыщенных аллегориями и мифологиче-
ской образностью. С этим приподнятым стилем впоследствии
полемизировал Вордсворт в предисловии к «Лирическим балла-
дам», требуя приближения поэтического языка к простоте разго-
ворной речи.
Юношеские оды Грея проникнуты лирически-созерцательным
настроением и сентиментальной меланхолией. Ода, носившая ра-
нее по преимуществу гражданский характер, служит поэту-
сентименталисту для выражения интимных личных чувств — оди-
ночества, тоски, меланхолической рефлексии о смысле жизни. Ода
«К Весне» (Ode on the Spring, 1748) на фоне условного пейзажа
551
весенней природы — прохладных зефиров, распространяющих цве-
точное благоухание, и «безыскусственной песни аттического певца»
(соловья)—изображает одинокого юношу-поэта, погруженного в
меланхолическое раздумье; под сенью старого развесистого дуба,
на берегу ручья, поросшего тростником, он размышляет о суетно-
сти человеческой жизни. Эта тема получает дальнейшее развитие
в наиболее известной оде молодого.Грея «На отдаленный вид Итон-
ского колледжа» (Ode on a Distant Prospect of Eton College, 1747).
Детство с его счастливым неведением, подобное блаженному пер-
вобытному состоянию человечества, поэт противопоставляет стра-
даниям, ожидающим человека в последующей жизни — борьбе
страстей, бедности и заботам, горю и отчаянию. «Каждому — свои
страдания», —заключает поэт, — все мы люди, все мы одинаково
«осуждены стонать», и мысль о будущем только разрушила бы
счастье неведения. «Итак, довольно: где неведение — счастье,
там неразумно быть мудрецом».
Оды, написанные Греем в 50-х годах, значительно отличаются
от его ранних од и по содержанию и по стилю. Они посвящены
большим философско-историческим темам, соединяют торжествен-
ный лирический пафос с аллегорической трактовкой сюжета и
пользуются высоким поэтическим языком и сложной строфической
композицией греческой «пиндарической» оды. В оде «Шествие поэ-
зии» (The Progress of Poesy, 1759) Грей изображает зарождение
поэзии, ее всепобеждающую силу и облагораживающее воздей-
ствие на человеческое общество. Он следит за ее победным путем
от первобытных,.диких народов в Грецию, где она достигает вьк>
шего расцвета, в Рим и, наконец, в Англию Шекспира и Мильтона,
выступающую наследницей античного искусства и политической
свободы древности, ее породившей. Восторженные стихи, кото-
рые поэт посвящает древней Греции, как родине возвышенного
искусства и героических воспоминаний, предвосхищают «филэл-.
линизм» английских революционных романтиков — Байрона и
Шелли. «Леса, качающиеся над дельфийскими кручами, острова,
венчающие глубины Эгейского моря, поля, орошаемые прохлад-
ным Илиссом, или те, где янтарные волны Мэандра ползут, изви-
ваясь, по медленным лабиринтам, как тоскует ваше мелодическое
эхо, молчаливое и отвечающее только голосу отчаяния!» Не без
влияния Грея создается пиндарическая ода Шелли («Эллада») и
аналогичные более поздние опыты Суинберна.
Другая ода, «Бард» (The Bard, 1757), представляет аллегори-
ческое пророчество о будущих судьбах Англии, вложенное в уста
старого кельтского барда, изгнанного из своей родины английским
королем Эдуардом I, завоевателем Уэльса.
Последние оды Грея, написанные в 60-х годах (напечатанные
в 1768 г.), были попыткой поэтического освоения образцов древне-
скандинавской и кельтской поэзии; они первоначально предназна-
чались самим автором служить иллюстрациями для его истории
средневековой литературы. Ода «Роковые сестры» (The Fatal
Sisters) является образцом поэзии исландских скальдов: это — песнь
552
валькирий перед битвой, ткущих кровавый саван обреченным ге-
роям. «Буря начинает стихать, торопитесь; готовьте адский станок,
потоки стрел железным градом уже звенят в потемневшем возду-
хе». «Поездка Одина» (The Descent of Odin) представляет поэти-
ческое переложение одной из песен стихотворной «Эдды»,
содержащей разговор между Одином и Хэль, властительни-
цей подземного царства, куда Один спускается, чтобы узнать
о судьбе, ожидающей богов. Оба отрывка переведены Греем не
прямо с исландского, а по латинскому переводу известного скан-
динавского ученого Бартолина (Bartholinus, 1689). Незаконченны-
ми остались отрывки «Торжество Оуэна» (The Triumphs of Owen),
«Смерть Хоэля» (The Death of Hoël) и другие опыты переложения7
древневаллийских эпических песен.
Из мелких стихотворений Грея заслуживает внимания сонет
на смерть его друга Веста (1742, напечатан в 1775 г.). Возрожде-
ние сонета в поэзии английских сентименталистов связано с влия-
нием Мильтона. Сонеты писали друг Грея Мэйсон, критик Томас
Уортон, поэт Томас Эдварде (Thomas Edwards), автор пятидесяти
сонетов, написанных по образцу Мильтона.
Наиболее выдающимся произведением английской сентимен-
тальной поэзии является «Элегия, написанная на сельском клад-
бище» (Elegy written in a country churchyard, 1751). По своему
содержанию «Элегия» связана с ранними одами Грея: она была
начата, повидимому, одновременно с ними и закончена не позже
1749—1750 гг. Основная тема «Элегии» заключается в противо-
поставлении добродетельной и счастливой жизни скромного посе-
лянина пустоте и лживости жизни богатых и знатных. Эта дидак-
тическая тема, характерная для сентиментально-демократических
симпатий новой школы, дается в художественном преломлении
«кладбищенской поэзии».
Элегия открывается поэтической картиной наступающей но-
чи ,-*- вечерний благовест, усталый поселянин, возвращающийся
в свое жилище, темнота и молчание ночи, нарушаемые только
жужжанием пролетевшего жука и сонными перезвонами колоколь-
чиков засыпающего стада или жалобами совы, гнездящейся в раз-
рушенной башне. Поэт находится на кладбище в лунную ночь и вспо-
минает «праотцев села», покоящихся под сенью ив и вязов, в своих
«узких кельях». Смерть равно ожидает всех: торжественные по-
хороны и пышные могилы не спасут никого от ее власти. «Пути
славы ведут только к могиле». Поэтому знатные в своей «гордости» не
должны презирать мирный труд поселянина. Среди умерших поселян
воображение поэта рисует людей высокого природного гения, остав-
шихся незамеченными, как жемчужина на дне моря или цветок,
распустившийся в пустыне. Среди них мог быть «какой-нибудь де-
ревенский Гэмпден, который боролся против местного угнетателя,
какой-нибудь немой, не прославленный Мильтон или Кромвель,
не обагренный кровью своей родины». Бедность помешала им проя-
вить свои способности и прославиться, но вместе с тем она поставила
границы и их порокам и преступлениям. Отсюда идеал про-
553
стого, патриархального существования, сентиментальная сельская
идиллия, противопоставленная суетному «свету».
Скрываясь от мирских погибельных смятений,
Без страха и надежд, в долине жизни сей,
^ Не зная горестей, не зная наслаждений,
Они беспечно шли тропинкою своей.
(Перевод В. Л. Жуковского)
Такой идеал Грей рисует в конце своей «Элегии», представляя
себе, как «седовласый поселянин» станет когда-нибудь рассказы-
вать прохожему о нем самом, когда он будет покоиться на сельском
кладбище рядом с безымянными могилами своих бедных одно-
сельчан.
«Элегия» Грея дает окончательное лирическое оформление
мотивам «кладбищенской поэзии», в это время уже в значительной
степени сложившейся. Как и все «кладбищенские поэты» середины
XVIII века, Грей испытал сильнейшее влияние юношеской поэмы
Мильтона «II Penseroso», заключающей уже полный репертуар
поэтических мотивов позднейшей сентиментальной элегии. В
этой поэме появляется и знаменитая аллегория Меланхолии,
скромной монахини в «траурном покрывале», «взоры которой бесе-
дуют с небесами»—образ, воспроизведенный уже Попом в его
послании Элоизы к Абеляру.
Весьма близки к Грею некоторые элегии Шенстона, автора
«Сельской учительницы», впервые собранные в посмертном собра-
нии его сочинений (Works in verse and prose, 1764), но написанные,
по крайней мере частично, уже в 40-х годах и опубликованные в
различных антологиях этого времени. В своих элегиях Шен-
стон воспевает сельское уединение, простую жизнь вдали от бо-
гатства и роскоши, сентиментальную дружбу и любовь, предается
грустным размышлениям, вызванным смертью близких, воспомина-
ниями о прошлом счастье, вечерним одиночеством. Задача элегии,
писал Шенстон в предисловии к своим стихотворениям, заключает-
ся в изображении частных добродетелей в противоположность
добродетелям общественным, которые являются темой эпопеи и
трагедии. Областью элегии является «задумчивое созерцание»,
она показывает «невинность и простоту в сельской жизни».
«Элегия» Грея обязана своей популярностью именно тому,
что дала художественно законченное выражение мотивам и тен-
денциям сентиментальной лирики своего времени. «Элегия» была
широко известна и за пределами Англии. Среди французских пере-
водчиков Грея должны быть названы Мари-Жозеф Шенье (1803)
и молодой Шатобриан ( 1796), из итальянцев — Уго Фосколо
(1798), который вдохновлялся примером Грея в своих «Кладби-
щах» (1806). Первые романтические элегии Ламартина (в сборнике
«Поэтические размышления»), например, «Уединение» или «Озеро»,
примыкают к английской медитативной элегии и вдохновляются
образцом «Элегии» Грея.
В русской поэзии «Сельское кладбище» известно в замечатель-
ных переводах Жуковского: из них первая редакция (1801) осталась
554
в рукописи, второй перевод, наиболее близкий подлиннику, откры-
вает новый сентиментально-романтический этап русской поэзии
(1801), третий сделан гекзаметрами, характерными для поздней
манеры Жуковского (1839).
Среди поэтов, современных Грею, особого внимания заслужи-
вает Вильям Коллинс (William Collins, 1721—1759), выступивший
впервые со сборником «Восточных эклог» (Persian Eclogues and
Odes, 1742; переиздан в 1757 г. как Oriental Eclogues), в которых
классицистская пастораль перенесена в обстановку условного
Востока. В его «Одах на описательные и аллегорические темы»
(Odes on several descriptive and allegorical subjects, 1746, датированы
1747) лирическая меланхолия сочетается с восторженным эллиниз-
мом, напоминающим античные оды Грея. Подобно Грею, Коллинс
вводит в английскую поэзию сложные музыкальные строфы, постро-
енные по греческому образцу. Он также любит мифологические оли-
цетворения и аллегории. Простота (Ode to Simplicity) является поэту
как скромная и целомудренная дева в «аттическом одеянии». Мелан-
холия, с глазами, устремленными в небо, бледная и вдохновенная, в
лесном одиночестве изливает свою душу в задумчивой песне (The
Passions). Свобода, вдохновлявшая спартанских юношей к героиз-
му и доблести и воспетая Алкеем, после падения Рима возрождает-
ся в Италии, создает здесь бессмертные произведения искусства
и, наконец, находит приют на берегах Альбиона (Ode to Liberty).
Ода «К Вечеру» (Ode to Evening) написана без рифм, английским
вариантом «сапфической строфы», по образцу Мильтона.Характерный
сентиментальный пейзаж — задумчивый вечер, шопот ручьев,
колокольный звон отдаленной церкви, потонувший в тумане, тя-
желый полет летучей мыши в молчаливом воздухе—вставлен в
рамки аллегории Вечера, целомудренной богини, слушающей пес-
ню поэта на «сельской свирели».
В «Похоронной песне из Цимбелина» (Dirge in Cymbeline) вы-
ступают подсказанные Шекспиром элементы романтической фан-
тастики, которыми Коллинс любит украшать картины природы.
На могиле Фиделио будут расти весенние цветы, будут собираться
юноши и девушки. В вечерние часы зяблик прилетит на могилу,
чтобы украсить ее мхом и цветами. Покоя спящего не нарушат плачу-
щее привидение, или ведьма, или ночные полчища гномов: только
феи появятся на лугах и окропят могилу жемчужной росой. Ана-
логичные мотивы повторяются в известном стихотворении «На
смерть храбрых» (How Sleep the Brave, 1746).
Использование фольклорной фантастики, характерное для Кол-
линса, получило развитие и обоснование в его последней «Оде о
народных суевериях горной Шотландии» (An Ode on the Popular
Superstitions of the Highlands of Scotland, etc.), написанной в 1749 г.,
но опубликованной впервые в 1788 г. Провожая друга,
уезжающего на север, поэт знакомит его с поэтическими поверьями
и преданиями шотландских горцев, передает рассказы о феях, эль-
фах, привидениях, легенды героического прошлого, советует ему
прислушиваться к старинным песням, которые распевались когда-то
555
«древними руническими бардами». Эти простые темы, подска-
занные «сельской верой», должны вдохновить поэта, как они когда-то
вдохновляли Спенсера, Шекспира в «Макбете» или итальянца
Тассо. Вместе со своим другом поэт мечтает посетить «романти-
ческую» Шотландию и в ее дикой природе и исторических воспоми-
наниях найти новое вдохновение. Эта мечта Коллинса осталась
неосуществленной.
Ранняя смерть поэта была вызвана душевной болезнью. При
жизни его известность ограничивалась узким кругом любителей
поэзии. Впоследствии, в период романтизма, который он предвос-
хитил отдельными мотивами своего творчества/ и в особенности
в конце XIX века, он получил запоздалое признание.
Рядом с этими поэтами в 40—50-х годах может быть названо
большое число второстепенных сентиментальных лириков, произве-
дения которых заполнили многочисленные лирические антологии
середины XVIII века, в особенности—популярные сборники
Додслея (Dodsley, Miscellanies, тт. I— VI, 1748—1758) и его про-
должателя Перча (Pearch, тт. VII—X, 1768—1770).
4
В 70—80-х годах XVIII века английская сентиментальная поэ-
зия претерпевает существенные изменения. Она наполняется
более актуальным социальным содержанием, отражая углубляю-
щиеся противоречия буржуазного общества. Идиллическое изоб-
ражение мирной сельской жизни — обычная тема описательной
поэзии —сменяется реалистическими картинами деградации анг-
лийской деревни этого времени, разорения и пауперизации трудя-
щихся; моралистическая дидактика описательной поэмы становится
орудием гуманистической проповеди, социального обличения, об-
щественной сатиры. Такая критика буржуазного общества еще
не изжила сентиментально-моралистических иллюзий, она мечтает
о возвращении к идиллии патриархального прошлого, но она уже
научилась острому наблюдению социальной действительности.
Эта последняя стадия сентиментальной поэзии представлена име-
нами Гольдсмита, Каупера и Крабба.
«Покинутая деревня» (1770) Гольдсмита—первое произве-
дение нового направления. Здесь сельская идиллия «скромного
счастья», «невинности и довольства», отодвинута в невозвратное
прошлое, и изображение деревни проникнуто глубокой элегич-
ностью. В настоящем поэт видит только нищету крестьянина, при-
несенного в жертву корыстолюбию и роскоши господствующих
классов. Отсюда грозное предостережение поэта-демократа, обра-
щенное к власть имущим: «Горе той стране, где накопляется богат-
ство, а люди исчезают; князья и владыки могут благоденствовать
или погибнуть; они были созданы и могут быть созданы вновь одним
дуновением; но крепкое крестьянство, гордость страны, однажды
разрушенное, ничем не может быть заменено».
556
Эти общественные мотивы получают дальнейшее развитие в
творчестве Каупера и Крабба.
Вильям Каупер или Купер (William Cowper, 1731—1800) про-
исходил из дворянской чиновничьей семьи. Он родился в Лондоне
и получил юридическое образование, но его служебная карьера
была прервана рано проявившимися признаками тяжелой мелан-
холии, перешедшей в острое душевное заболевание (1763). Кризисы
душевной болезни повторялись и в дальнейшем, заставив Каупера
совершенно отказаться от службы и покинуть Лондон.
С этого времени он подпадает под влияние методизма. Он посе-
ляется в местечке Ольней, в семье методистского пастора Унвина.
Жизнь его протекает уединенно, в полудеревенской обстановке,
почти без книг, в занятиях огородничеством и ручным трудом, в
общении с немногими друзьями и постоянных религиозных «упраж-
нениях», заполняющих все его досуги. Вместе с пастором Нью-
тоном, одним из руководителей методистов, он издает сборник
духовных стихов — «Ольнейские гимны» (Olney Hymns, 1779), —
замечательный по своей простоте, искренности и глубокой эмоцио-
нальности.
Каупер становится известным как поэт уже на склоне лет.
Лучшие его стихотворения написаны в 1780—1784 гг. За этот ко-
роткий период, когда здоровье его, казалось, восстановилось,
написаны его стихотворные сатиры (двухтомный сборник Poems,
1782—1785), поэма «Задача» (The Task, 1785) и большое число сти-
хотворений. Одновременно он работает над переводом «Илиады»
Гомера. Этот перевод, напечатанный в 1791 г., сделан мильтонов-
ским белым стихом. В противоположность жеманному изяществу
Попа, Каупер, по собственному признанию, стремится передать
«простоту» и «естественнность» Гомера, его «абсолютную точ-
ность» в описаниях природы и человеческой жизни.
После этого светлого творческого промежутка в жизни Каупера
припадки религиозной меланхолии начинают повторяться все
чаще/и последние годы поэта омрачены тяжелой душевной болезнью.
Центральное место в поэтическом наследии Каупера занимает
описательная поэма «Задача». Поэма эта написана белыми стиха-
ми и сохраняет традиционную свободную композицию описатель-
ного жанра. Она содержит картины природы и сельской жизни,
показанные с точки зрения «неслужащего джентльмена», как
называет себя автор, живущего «на покое» в своем загородном до-
мике, вдали от суеты большого города, и занимающегося садовод-
ством и огородничеством — «с друзьями, книгами, садом и, может
быть, пером» («friends, books, a garden, and perhaps his pen»).
Прогулка с подругой в летний день сменяется изображе-
нием зимнего вечера, в комнате с закрытыми ставнями, перед заж-
женным камином, у лампы, за чашкой чая, в уютном уединении,
прерываемом звуком почтового рога и появлением почтальона,
как вестника из «шумного мира», покинутого добровольным отшель-
ником. «Приятно смотреть на этот мир из уединенного убежища,
видеть издали волнения великого Вавилона, не чувствуя близости
557
толпы, слышать ее рев на безопасном расстоянии, откуда замирающие
звуки' ложатся как легкий шопот, не оскорбляя слуха».
Сцены интимной домашней жизни чередуются с жанровыми кар-
тинками исключительной точности и подробности. Дровосек, с
трубкой в зубах, сопровождаемый собакой, отправляется в зимнее
утро на работу в лес. Возчик в высоких сапогах тяжело ступает
по снегу рядом с нагруженной телегой. Как все поэты-сентимента-
листы, Каупер охотно заимствует идиллические мотивы из жизни
животных. Он описывает ручного зайца, «невинного товарища
моего мирного дома», воробьев, прилетающих зимой клевать зерно
на птичнике, белку в лесу, испуганную проходящим путником.
Идиллия домашнего уюта и удовлетворенности скромной до-
лей сочетается в поэзии Каупера с резко обличительной социальной
сатирой, направленной против современного буржуазного обще-
ства и «города», как носителя ложной цивилизации и морального
разложения. «Бог создал природу, человек создал город», —за-
являет поэт, варьируя известное изречение Руссо.
Уже первые сатиры Каупера полны обличительного пафоса.
Он обличает роскошь, распущенность, разврат, жажду почестей
и славы, охватившие высшие классы английского общества, он
обличает алчность богачей, обрекающую на голодную смерть мил-
лионы людей; под тяжестью налогов труд населения становится
бесполезным. Каупер обличает монархов, с детства окруженных
лестью, воображающих, что «люди сделаны для королей», и ради
пустой славы уничтожающих человечество в истребительных вой-
нах; он нападает на министров, генералов, «патриотов, любящих
хорошие места». Его сатира превращается в страстную обличитель-
ную проповедь.
В «Задаче» эти мотивы социального обличения получают даль-
нейшее развитие. «Я устал от зла и несправедливостей, наполня-
ющих землю, — заявляет поэт. — Узы братства разорваны среди
людей, они распадаются как лен при прикосновении огня». При-
чину всеобщего распада Каупер и здесь видит в изобилии и роско-
ши городской жизни, «съедающей богатство народа».
В религиозно-моральных обличениях Каупера скрывается очень
актуальное социально-политическое содержание. В его творчестве
сказалось с особенной силой стихийное недовольство народных
масс, которое в эти годы создало почву для расцвета методистского
движения в Англии. Но как и сам народ, которому он так сочув-
ствует, Каупер не может разобраться в причинах надвигающегося
общественного кризиса. Поэтому против социальных болезней
своего времени он не имеет никаких средств, кроме проповеди мо-
рального возрождения и мечты о патриархальной идиллии «домаш-
него счастья».
К лучшим произведениям Каупера относится «Веселая история
Джона Гильпина» (The Diverting History of John Gilpin, 1783)
комическая баллада, рассказывающая о том, как герой, владелец
галантерейной лавки в Лондоне и капитан городской милиции,
не справившись с лошадью своего друга суконщика, проехался
558
из Лондона в деревню Уош и обратно, так и не попав в трактир
в Эдмонтоне, лежавший по середине его пути, где он предполагал
отпраздновать годовщину своей свадьбы. Этот реалистический юмор
приближает Каупера к Бернсу, которому свойственна такая же
трактовка фольклора (например, в его знаменитой комической
балладе «Тэм О'Шентер»).
Значение Каупера в истории английской поэзии определяется
реалистическими тенденциями его творчества, введением «домаш-
ней», бытовой, тематики как в описательную поэзию, так и в область
интимной лирики. В этом, как и в своем стремлении к простоте и
точности поэтического языка, он является непосредственным пред-
шественником Вордсворта.
Вместе с Вордсвортом Каупер оказал немаловажное влияние
и на поэзию французских романтиков, ту поэзию обыденного, ко-
торую проповедывал молодой Сент-Бев. Об этом свидетельствует
сочувственная статья, которую знаменитый французский критик
посвятил английскому поэту.
Социально-обличительная тематика Каупера нашла непосред-
ственное продолжение в творчестве Крабба, который, как поэт-реа-
лист, окончательно порывает с сентиментально-идиллическим направ-
лением описательной поэзии XVIII века.
5
Джордж Крабб (George Crabbe, 1754—1832) родился в местечке
Альдборо, на западном побережье Англии, в семье мелкого тамо-
женного служащего. Население Альдборо состояло из, бедных
рыбаков и кормилось контрабандой; с детства поэта окружали кар-
тины беспросветной нищеты. По окончании городской школы
молодой Крабб служил лекарским помощником, а потом пытался
самостоятельно заниматься врачебной практикой в Альдборо.
Неудачи в этой профессии, бедность, неудовлетворенность окру-
жающим толкнули его на героическое решение — перебраться в
Лондон и попытать счастья в литературной работе (1780).
Жизнь Крабба в Лондоне в качестве «чердачного поэта» едва не
кончилась трагически, как на десять лет раньше такая же попытка
Чаттертона. От голодной смерти его спасло участие Эдмунда Берка,
который, заинтересовавшись присланными ему стихами Крабба,
угадал в нем дарование, пригласил к себе молодого поэта и оказал
ему денежную помощь и моральную поддержку. Благодаря Берку
Крабб познакомился с видными литературными и общественными
деятелями того времени — с критиком Джонсоном, художником
Рейнольдсом, министром Фоксом. Найден был издатель, напеча-
тавший поэму Крабба «Библиотека» (The Library, 1781),
имевшую успех в литературных кругах. Вторая поэма—«Деревня*
(The Village, 1783) определила направление творчества Крабба,
как поэта реалистического и социального, и создала его литератур-
ную славу.
559
Однако Крабб не стал профессиональным литератором. По
совету Берка, он решил сделаться пастором и получил приход
в провинции. Таким образом, Крабб надолго ушел из литературы.
Лишь в 1807 г. он снова выступил с поэмой «Приходские списки»
(The Parish Register, в сборнике Poems), за которой погледовали
поэмы и стихотворные повести «Местечко» (The Borough, 1810),
«Повести в стихах» (Tales in Verses, 1812) и «Повести усадьбы»
(Tales of the Hall, 1819).
Хотя Крабб стоял в стороне от новых литературных направле-
ний, связанных с романтизмом, он от времени до времени покидал
свое провинциальное уединение и появлялся в литературных и
политических салонах Лондона, окруженный неизменным уваже-
нием, как последний современник Джонсона и Берка. Вальтер Скотт
поддерживал с ним дружеские отношения, а Байрон в своей поле-
мике против реакционного романтизма ставил его на первое место
среди современных английских поэтов.
Описательная поэзия Крабба в значительной степени связана
с теми картинами нищеты и страдания, которые окружали моло-
дого поэта на его родине в Альдборо. Крабб выступает как «поэт
бедных», но, в противоположность сентиментально-идиллическому
изображению деревенской жизни в поэзии XVIII века, он продол-
жает и углубляет разоблачительные реалистические тенденции, уже
наметившиеся в поэзии Гольдсмита и Каупера. Его поэма «Дерев-
ня» начинается с резких нападок на поэтов-идилликов, воспеваю-
щих счастливую жизнь «поселян». «Петь о цастухах —это легкая
задача», — заявляет поэт; но, следуя примеру Вергилия, совре-
менные поэты забывают о «природе и правде». Крабб хочет изоб-
разить «деревенскую жизнь со всеми ее заботами», «истинную кар-
тину жизни бедняка». Он описывает тяжелый труд крестьянина,
который его предшественники изображали в столь поэтических
чертах. «Пойди и посмотри, как народ поднимается на работу с
рассветом, имея впереди бесконечный день работы, погляди на
поселян, трудящихся под яростными лучами июльского солнца,
в тот час, когда колени дрожат и жилы в висках бьются от жары;
проследи, как они идут домой по болотистым лужам, впивая всеми
открытыми порами вечернюю росу, и согласись, наконец, с тем;
что эти рабы твои терпят от работы наверно не меньше, чем ты
от излишеств». Крабб развенчивает традиционную идиллическую
картину мирного воскресного отдыха «поселянина», противопо-
ставляя ей изображение пьяной драки, пустых сплетен и рас-
пада семьи. Он ведет читателя в работный дом, последнее убежище
обездоленных. «Этот дом с поломанной дверью, едва держащейся
в глиняной стене, есть последний приют наших обедневших прихо-
жан. Там, где удушливый воздух дымно колышется в тесных комна-
тах и унылый вой колеса раздается целые дни, живут дети, ни-
когда не знавшие ласки родителей, старцы, никогда не испытавшие
ласки своих детей, разведенные жены, невенчанные матери, бес-
приютные вдовы, на слезы которых никто не обращает внимания,
дряхлые старики и старухи, всего боящиеся, как дети; калеки,
560
уроды и (самая счастливая часть обитателей) идиоты с раскрытыми
ртами и веселые безумцы».
Даже природа в изображении Крабба теряет свою идилличе-
скую привлекательность: суровая скудость морского побережья,
знакомого поэту с детства, перекликается с безотрадными карти-
нами человеческой нищеты. «Сперва идет вересковая поляна, кое-
где поросшая чахлым кустарником, где соседние бедняки берут
торф для своих печей; далее тянется длинная полоса горячего
песка; по ней жидкий хлеб шевелит полузасохшими колосьями.
Колючие сорные травы, на зло усилиям и работам, рвутся из-под
земли и врываются в бледно-полинялую рожь».
Крабб подчиняет описательный жанр новой задаче реалисти-
ческого изображения социальной действительности. Однако реа-
листические возможности Крабба ограничены узостью его обще-
ственного мировоззрения: он только устанавливает факты, не
умея вскрыть их социальные корни, и в борьбе с социальным злом
ограничивается морально-филантропическою проповедью, харак-
терной для «просвещенного» пастора.
В поэме «Местечко» круг социальных наблюдений Крабба не-
сколько расширяется. «Местечко» снова переносит нас в приморский
поселок, напоминающий Альдборо. Поэт описывает провинциаль-
ную жизнь, церкви и проповедников-сектантов, парламентские
выборы, развлечения светской публики, приехавшей на морские
купанья; он изображает различные профессии и их типичных пред-
ставителей — священников, адвокатов, врачей, актеров бродячего
театра. Последние главы поэмы посвящены городской богадельне
и нищенству, больнице, тюрьме. Крабб выступает здесь как поэт
бедных и обездоленных, как обличитель социальных язв буржуаз-
ного общества. Целая серия портретов и рассказов иллюстрирует
несчастную судьбу деклассированных бедняков — жертв обще-
ственного строя или собственной вины. Эти правдивые повести
Крабб противопоставляет вымыслам модных романистов, удив-
ляясь, что «книги, обещавшие рассказать нам многое про жизнь,
так мало показывают нам, как мы живем на самом деле». Он смеет-
ся над романтическими страданиями героев «готических романов»,
сознательно противопоставляя им несчастья и горести простых
людей.
Так описательная поэма превращается у Крабба в стихотвор-
ную повесть, где типические характеры раскрываются в суровой
борьбе за существование, на которую обречены в буржуазном обще-
стве «простые люди» деревни и города, по преимуществу изображае-
мые Краббом. Поэма «Приходские списки» является первым опы-
том в этом направлении. Ее тема — повести простой человеческой
Жизни, встающие в воспоминаниях сельского пастора, когда он
перелистывает церковную книгу истекшего года, где он регистри-
ровал рождения, браки и смерти своих прихожан, «простые анна-
лы бедняков его прихода».
.Стихотворные рассказы, вошедшие в позднейшие «Повести»
Крабба, не связаны единым обрамлением. В «Повестях усадьбы
"^ Англ. литература 561
он снова делает попытку объединить отдельные повести, бытовые
картины и социально-психологические портреты общей повествова-
тельной рамкой. В своих рассказах Крабб>, по собственному за-
явлению (предисловие к «Повестям»), стремится к «правде приро-
ды», «к точному изображению индивидуальностей и правдивому
воспроизведению обстановки». Он говорит, что его поэзия обращает-
ся скорее «к здравому смыслу и трезвому суждению читателей,
чем к их фантазии и воображению», что это — «поэзия без атмо-
сферы». Своим учителем он считает Чосера, автора «Кентерберий-
ских рассказов», манеру которого он называет «грубой, точной и
мелочной, но вместе с тем производящей сильное впечатление».
Он ссылается и на «Сатиры» Попа, которого хвалит за актуаль^
ность тем и «обнаженность» описаний.
«Повести» Крабба, раскрывающие трагическое в конфликтах
обыденной жизни, проникнуты глубоким сочувствием к челове-
ческому страданию. Красавица Люси, дочь богатого мельника,
уступает своей любви к бедному моряку; отец выгоняет ее из дома,,
ее Вильям погибает во время кораблекрушения, она скитается ни-
щенкой^ младенцем на руках. Не менее жестокая судьба постигает*
другую девушку, Фиби Даусон, «гордость Левинской ярмарки»;
которая «выбрала себе любовника за его быстрые глаза, за горячие
речи и лживые слова, обещающие любовь». Правда, он должен был
браком «загладить неосторожность юности», но вместе с браком,
прошла любовь, и любящая женщина осталась во власти грубого,
и жестокого мужа. В одной из повестей храбрый Джордж Флетчер,.
матрос, побывавший на всех морях, отдавал своему брату Исааку
все свои заработки, но, когда он калекой возвращается в родной:
дом, надеясь на помощь брата, его боевые рассказы уже не возбуж-
дают прежнего внимания; от дыма его трубки кружится голова
у хозяйки дома, а детям запрещают слушать его грубые речи; era
плохо кормят, попрекают и выгоняют умирать на чердак.
Судьбе бедняков противопоставляются примеры бесчеловечной;
скупости или стяжательства богачей. Один из лучших социальных
портретов, созданных Краббом, — подкидыш Ричард Мондей,
воспитанный в работном доме; хитростью и упорством он наживает
крупное состояние и умирает как богатый помещик, «сэр Ричард
Мондей из Мондейплейс», оставляя своим согражданам в завеща-
нии доход в два фунта для раздачи бедным, «жалкий ничтожный
дар, достойно показывающий всей общине, как хорошо помнил
покойник ее хлеб и ее щелчки». В другом рассказе разбогатевшая
Дина отвергает своего жениха, моряка Руперта, вернувшегося
бедняком из далекого плавания, в которое он отправился, чтобы
накопить денег для свадьбы. В то время как Руперт живет в тя-
желой нужде, лицемерно-благочестивая старая дева черствеет
душой среди своих бесполезных богатств.
Как видно из приведенных примеров, социальная тема в трак-
товке Крабба не имеет революционной остроты, сочувствие бедным
и страдающим переносится в область моральных отношений. Но
вместе с тем реалистическое искусство поэта направлено на обли-
562
чение корысти и эгоизма, царящего в собственническом обществе,
а его симпатии всецело на стороне «униженных и оскорбленных»,
сохранивших в своей бедности подлинную человечность.
В английской поэзии времен романтизма Крабб занимает со-
вершенно обособленное положение. В XIX веке новое социальное,
содержание его поэзии имело некоторое влияние на социальную-
тематику Томаса Гуда, Елизаветы Баррет-Броунинг, даже Тенни-
сона (крестьянская идиллия «Энох Арден»). Однако более глубокое
развитие социальные темы, выдвинутые Краббом, получат не в.
поэзии XIX века, в основном продолжающей в Англии традицию
романтизма, а в более широкой и вместительной форме социально-
го романа у Диккенса и его школы.
В России интерес к поэзии Крабба связан с общественным дви-
жением 50—60-х годов XIX века. Большую статью английскому
поэту посвятил Дружинин («Современник», 1855—1856), рекомендо-
вавший русскому читателю его произведения как образцы «реально-
го направления в словесности нашего времени». Статья Дружинина
содержит подробные пересказы большинства произведений Крабба
и подстрочные прозаические переводы ряда характерных отрыв-
ков. Через Дружинина с Краббом познакомился и Некрасов.
Как указал К. И. Чуковский, «Забытая деревня» Некрасова (1856)
подсказана одним из рассказов в «Приходских списках» (похороны
помещицы, никогда не приезжавшей в свое именье); а стихотворе-
ние «Свадьба» ( 1855) является вольным пересказом повести о Фибю
Даусон из той же поэмы. «Приходские списки» в те. же годы перевел-
Дм. Мин («Русский Вестник», 1856—1857).
36*
ОТДЕЛ IV
ПРЕДРОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Глава 1
ПРЕДРОМАНТИЗМ
i
Термин предромантизм (франц. — préromantisme, нем. — Vor-
romantik) употребляется в истории литературы для обозначения
совокупности литературных явлений второй половины XVIII ве-
ка, предшествующих романтизму и в значительной мере предвосхи-
щающих его основные тенденции.
Романтизм, как указывает Маркс, был первой реакцией «про-
тив французской революции и связанного с нею просветитель-
ства» 1. Французская буржуазная революция 1789 г. раскры-
ла противоречия нового, буржуазного общества. Она показала,
что царство разума, возвещенное великими просветителями XVI11 ве-
ка, на самом деле является царством частной собственности и
эксплоатации и тем самым вызвала общий кризис просветитель-
ской идеологии, выражением которого и явилась романтическая
реакция начала XIX века. Но эта реакция подготовлялась уже
в годы, непосредственно предшествовавшие французской буржуаз-
ной революции, в недрах самого просветительского движения.
Классической страной «предромантизма» является Англия
XVIII века. Проделав еще в XVII веке буржуазную революцию, за-
кончившуюся в 1689 г. знаменитым политическим компромиссом
между капитализирующимся дворянством и торгово-промышленной
буржуазией, Англия уже в XVIII веке испытала противоречия
буржуазного развития, а во второй половине XVIII века вступи-
ла в полосу промышленного переворота, обострившего эти про-
тиворечия до крайней степени. Поэтому именно в Англии, раньше
чем в других европейских странах, наступает кризис просве-
тительского мировоззрения. Здесь во второй половине XVIII ве-
ка отчетливо выступают новые литературные тенденции, которые
мы объединяем под названием «предромантизма».
Английский предромантизм, в свою очередь, оказал сильней-
шее влияние на другие европейские литературы. Это влияние было
особенно значительным в Германии, где литературное движение
МарксиЭнгельс, Соч., т. XXIV, стр. 34.
564
60—70-х годов, подготовившее расцвет немецкой национальной
литературы, в лице Клопштока, Гердера, молодого Гёте и поэтов
периода «бури и натиска» опирается на пример английского пред-
романтизма.
Выходя за пределы литературы буржуазно-дворянского общества,
предромантики провозглашают поэзию универсальным дарованием,
присущим всем народам и векам и всем общественным классам.
Однако широкие демократические симпатии, характерные для
всех европейских литератур накануне французской буржуазной
революции, не принимают в буржуазной Англии революционного
направления и ограничиваются областью эстетических споров и
творческих попыток расширить сферу искусства, опираясь на воз-
рождение национальной старины.
2
Эстетика классицизма, господствовавшая в Англии, как и в
других европейских странах, в начале XVIII века, исходила цз
идеала прекрасного, основанного на разуме и одинакового для всех
времен и народов. Воплощением этого идеала является античное
искусство, которое служит неизменным каноническим образцом
для всякого «разумного» искусства вообще.
Новые предромантические тенденции проявляются первоначально
не в принципиальном пересмотре основ рационалистической
просветительской эстетики, а в появлении новых художественных
понятий и ценностей внутри обширной области «прекрасного»,
фактически уничтожающих исключительность старого понимания
красоты. К числу таких новых эстетических понятий относится
«живописное», «готическое», «романтическое». .
Слово «живописное» (picturesque) впервые отмечено англий-
скими лексикографами в одной статье Стиля ( 1705). Во второй по-
ловине XVIII века оно получает широкое распространение в при-
менении к «живописным» картинам природы.
В «Наблюдениях, относящихся преимущественно к живописной
красоте» (Observations relative chiefly to Picturesque Beauty, 1787—
<1798), Вильям Гильпин (William Gilpin, 1724—1804) рассматривает
пейзаж, как картину, живописность которой определяется осве-
щением, контрастами света и тени, разнообразием красок. Горы
живописны в отдалении, как силуэты; красота и бесформенность
их склонов увеличивает впечатление живописности. Сумерки, ту-
рманы, облака, разная степень прозрачности атмосферы — все это
живописные эффекты. «Живописность» не совпадает с идеалом
нравственно-прекрасного: так, живописно кораблекрушение, жи-
вописны развалины, как картины отчаяния и разрушения. «Наблю-
дения» Гильпина имели большой успех, были переведены на фран-
цузский и немецкий языки и даже вызвали остроумную пародию,
в свою очередь пользовавшуюся известной популярностью (William
Combe, The Tour of Dr. Syntax in Search of the Picturesque, 1812).
Они создали новый литературный жанр «живописных путешествий»,
565
описывающих красоты природы, послуживший предпосылкой, меж-
ду прочим, и для «Чайльд-Гарольда» Байрона.
Новую эстетику «живописного» теоретически обосновал Прайс
{Sir Uvedale Price, 1747—1829) в своем «Опыте о живописном по
сравнению с прекрасным» (An Essay on the Picturesque as compared
with... the Beautiful, т. I, 1794). Живописностью, по мнению Прайса,
могут обладать предметы, не подходящие под законы классической
красоты: цвета и формы, расположенные без симметрии и порядка,
памятники прошлого, носящие следы разрушения. Греческий храм
прекрасен, но, как развалина, он становится живописным, когда
нарушена правильность линий и камни его поросли мхом.
В переносном смысле понятие «живописности» употребляется
и по отношению к поэзии. Уже Ричард Хёрд, поклонник «рыцар-
ского» средневековья, говорит о живописности в применении к
Спенсеру и Шекспиру (1762). Шотландский профессор Гью Блэр
(Hugh Blair, 1718—1800) вводит понятие «живописного стиля»
в свои лекции по реторике и литературе (Lectures on Rhetoric and
Belles Lettres, 1783). Под влиянием этой традиции английской эсте-
тики конца XVIII века находится и немецкий романтик Август
Шлегель, который в своих лекциях о драме (1809—1811) опреде-
ляет различие классического и романтического искусства как
«скульптурного» и «живописного» (das Plastische — das Pittoreske).
Понятие «живописной красоты» в английской предроманти-
ческой эстетике связано с новым чувством природы, которое нашло
выражение в описательной поэзии Томсона и его школы, в англий-
ской пейзажной живописи XVIII века и в новых принципах садо-
водства, распространившихся из Англии. Взамен геометрической
и архитектурной планировки французских дворцовых садов с их
прямыми дорожками, сходящимися к одному центру, подстрижен-
ными деревьями, античными статуями и фонтанами (Версаль Людо-
вика XIV), английский парк является «подражанием природе» и
развертывает «живописные» ландшафты как картины, требующие
отдаленной перспективы и эффектного освещения. Основной прин-
цип английского парка — борьба с геометрической планировкой
сада, с прямой линией, как выражением рационалистической эсте-
тики классицизма. Дорожки английского парка обязательно изви-
листы, ручьи стекают каскадами, извиваясь среди холмов и долин,
неподрезанные деревья растут свободно, расположенные живопис-
ными группами, вместо подстриженных газонов — цветущие луга
или лесные прогалины. В различных местах парка расположены
уединенные скамейки или беседки, откуда открывается живопис-
ный пейзаж, искусственные гроты и развалины, античная урна или
обелиск с сентиментальной надписью, посвященной Дружбе или
Меланхолии, или памяти друга. К числу наиболее известных
английских парков этого рода относится парк Лисауз (Leasowes)
в имении поэта Шенстона, описанный в приложении к собранию его
стихотворений. Шенстон и Уолполь являются авторами обширных
сочинений о садоводстве (W. Shenstone, Unconnected Thoughts on
Gardening, 1764; H. Walpole, On Modern Gardening, 1770), с ко-
5бб
торым связана и книга Прайса. Еще раньше поэт Мэйсон посвя-
тил этой теме свою описательную поэму «Английский сад». Из
Англии новый тип садов распространился в конце XVIII века на
всю Европу. Примером может служить Павловский парк в ок-
рестностях Ленинграда.
Другое типичное понятие предромантической эстетики обо-
значается словом «романтический» (romantic). Слово это в XVIII ве-
ке еще не связано с каким-либо определенным литературным
направлением. Оно происходит от слова «romance» (роман), обо-
значавшего средневековые рыцарские романы. В его значение
входит первоначально все «романтическое»: «романтические» при-
ключения, «романтические» чувства, «романтическая» обстанов-
ка действия (отдаленные страны и далекое прошлое), характерные
для рыцарских романов. Просветительская критика придавала
этому понятию отрицательный оттенок: «романтическое» означало
неразумное, противоречащее жизненной правде и житейской прак-
тике, невероятное и фантастическое. Переоценка этого понятия
свидетельствует о признании необычайного, таинственного, чу-
десного необходимым элементом «истинной поэзии». Уже Томсон
говорит о «романтических очертаниях облаков», напоминающих
«фантастический сон на яву», о том, как одинокий любовник бежит
от людей «в мерцающую сень и сочувственный мрак» леса, где «тем-
ные тени романтически нависли над низвергающимся потоком»,
юн восхищается «романтическими видами Каледонии» (Шотландии).
В середине XVIII века мрачный, меланхолический горный ланд-
шафт, крутые утесы, бурные потоки, развалины средневековых
замков и т. п. являются необходимыми элементами «романтическо-
го» пейзажа. Новое словоупотребление из Англии проникает во
Францию и в Германию. Именно в Германии в 1798—1800 г.г. слово
««романтический» впервые становится лозунгом литературной шко-
лы, противопоставившей просветительскому классицизму возрож-
дение национальной традиции «романтического» средневековья.
.В самой Англии романтики никогда не обозначали себя этим тер-
мином; Байрон и его современники впервые узнали о борьбе клас-
сиков и романтиков из сочинений мадам де Сталь и ее учителя
Августа Шлегеля.
Особенно широкое употребление в английской предроманти-
ческой критике получает слово «готический» (gothic). В эпоху
Просвещения «готический» — синоним «варварского» (у Шефтсбе-
ри — «barbarous or gothic»). В более широком смысле этим словом
«обозначается все, что связано с «варварским веком» и его «предрас-
судками»; говоря словами просветителя Шефтсбери — все «лож-
ное, чудовищное, готическое, совершенно невозможное в природе
м возникшее из убогого наследия рыцарства». Отсюда употребле-
ние слова «готический» для обозначения одного из стилей средне-
шековой архитектуры, как искусства «варварского», в противополож-
ность классическому. Аддисон, сравнивая римский Пантеон с го-
тическим собором («Зритель», № 160), не упустил случая сказать,
*лто последний, будучи в несколько раз больше первого, произво-
567
дит гораздо менее величественное впечатление благодаря своему
«мелочному» стилю.
Письма Грея из Франции и Италии и его исследование о «Нор-
мандском зодчестве» свидетельствуют о коренном изменении худо*
жественных вкусов. Близкие Грею братья Уортоны посвящают
готической архитектуре восторженные страницы, Томас Уортон —
в книге о Спенсере (1754), Джозеф Уортон—в своей критике Попа
(1756).
Как принципиальный поклонник готической архитектуры вы-
ступает друг Грея, аристократ Горэс Уолполь. Следуя причудам
своего времени, он превращает помещичий дом своего имения Стро-
бери-Хилл (Strawberry-Hill) в готический замок с часовней,
круглой башней, готической галлереей, столовой, построенной по
образцу монастырской трапезной, винтовыми лестницами, цвет-
ными стеклами в окнах, скульптурными каминами, резными потол^-
ками, старинной мебелью и средневековым оружием, собранным в
«рыцарском зале». Иллюстрированное описание этого замка, впо-
следствии изданное Уолполем и вошедшее в собрание его сочине-
ний (The Works of Horatio Walpole, Earl of Orford, 1798, перЕые
5 тт.), немало способствовало распространению вкуса к готической
архитектуре.
В то же время слово «готический» переносится и в литературу*
Уже Поп сравнивает творчество Шекспира с «готическим» собором.
Хёрд, поклонник поэзии «рыцарского века», применяет это сравне-
ние к «готической» поэме Спенсера, оправдывая ее своеобразные
красоты особенностями «готического» стиля (1762). Его противог
доставление «готического» и «классического», как двух принципов
искусства, предвосхищает будущее деление поэзии на романтиче-
скую и классическую. Уолполь пишет «гртическую повесть» «Заи-
мок Отранто», первый опыт в новом жанре впоследствии столь
популярного «готического романа».
Перелом в эстетических принципах XVIII века сказался наибо-
лее заметно в споре об «оригинальности» поэтического творчества.
Еще Аддисон в критических статьях «Зрителя» (№ 160) говорит
о двух типах гения: природный гений рождается без помощи искус-
ства и обучения, искусственный гений воспитывается правилами.
Существенными признаками первого Аддисон считает «горячее и
живое воображение, величие и смелость», «благородную дикость
и некоторую экстравагантность». К категории «природных гениев»
Аддисон причисляет Гомера, Пиндара и Шекспира.
Развернутой декларацией новой эстетики справедливо считает-
ся брошюра поэта Юнга, автора «Ночных дум»,—«Размышления
об оригинальном творчестве. Письмо к автору Грандисона» (Conjec-
tures on original Composition. In a letter to the Author of Sir
Charles Grandison, 1759). Существуют произведения, подражающие
природе, говорит Юнг, и произведения, подражающие другим
авторам. Оригинальное произведение подобно растению, органиче-
ски развивающемуся «из живого корня гения»; подражательное —
представляет собою ремесленное изделие, созданное искус-
568
ством и прилежанием из ранее существовавшего материала. Ориги-
нальное творчество — удел гения, для которого недостаточно разу-
ма и учености, правил и примеров. Гений отличается от разума, как.
волшебник от хорошего строителя; он творит невидимыми средствами
там, где этот последний употребляет обычные орудия. Гений может
нарушать правила, «ибо правила — только костыли, необходимая
помощь больному, но препона для здорового». «Все совершенное и
исключительное лежит в стороне от проторенных путей. Чтобы его
достигнуть, необходимы отступления и исключения».
Обвиняя современную ему английскую литературу в подража-
тельности, Юнг видит причину упадка оригинальности в рабском
следовании древним. У древних необходимо учиться их методуг
а не подражать их произведениям. «Чем меньше мы списываем
с древних, тем более мы становимся на них похожи». Так поступал
Шекспир, величайший для К}нга образец оригинального гения-
«Шекспир давал нам Шекспира, большего не мог бы дать и самый
знаменитый из древних писателей. Шекспир не потомок древних,
а брат их; равный им при всех своих ошибках». Шекспир был че-
ловеком неученым, но «кто знает, если бы он больше читал, он,
может быть, думал бы меньше». «Он изучал книгу природы и кни-
гу человечества». Бен Джонсон был ученее Шекспира, но, несмот-
ря на свою ученость, он остался подражателем. Типичным «под-
ражателем» Юнг считает Попа, которому он ставит в вину рабскую
зависимость от древних, тем более непростительную, что в лице
Мильтона английская поэзия уже имела оригинального эпического
поэта, равного Гомеру и Вергилию.
Таким образом, «Размышления» Юнга соединяют утверждение
новой эстетики с критической переоценкой современной и класси-
ческой английской литературы.
Эстетические теории Юнга имели большое влияние и за преде-
лами самой Англии; его учение об оригинальном творчестве №
природном гении подхватили и развили Гаман, Гердер и поэты
«бури и натиска».
3
Английская поэзия и поэтическая критика середины XVIII ве-
ка развиваются под знаком «возрождения» великих национальных
классиков — Спенсера, Мильтона и Шекспира — ив борьбе про-
тив авторитета Попа.
Правда, говорить о «возрождении» Спенсера, Мильтона, Шек-
спира в английской литературе XVIII века можно лишь с суще-
ственными оговорками: эти поэты никогда полностью не забывались.
Но рационалистическая поэтика английского Просвещения нахо-
дила в них бесчисленные художественные недостатки, свойственные
^варварскому веку», и только поэты-сентименталисты стали искать
опоры в этой национальной традиции.
Из трех великих поэтов английского Возрождения менее всех бьш
известен современникам Попа Спенсер. Для суждений классицистов:.
о Спенсере характерен отзыв молодого Аддисона в стихотворном
569>
послании «О великих английских поэтах» (An account of the grea-
test English Poets, 1694). Поэма Спенсера, по мнению Аддисона,
могла нравиться «варварскому веку, который, будучи необразо-
ванным и грубым, следовал за поэтом всюду, куда вела его фанта-
зия». Но наш «разумный век» уже не находит удовольствия в этой
«таинственной повести»; нам надоели «длинные аллегории», в ко-
торых «слишком ясно видна скучная мораль», «оружие и боевые
кони, битвы и поединки, преследуемые девушки и прекрасные
рыцари». Позднее Аддисон признавался, что он написал эти сти-
хи, не прочтя Спенсера. Тем более характерен его отзыв своим рас-
судочным отрицанием поэтической «фантазии» Спенсера, которая
впоследствии особенно пленяла английских романтиков. Не менее
решительное осуждение классицистов встречает спенсеровская
строфа, которая кажется им «утомительной» и однообразной.
Наиболее ярким выражением переоценки Спенсера в середине
XVIII века явилась книга Томаса Уортона «Замечания о ко-
,ролеве фей» (Observations on the Faërie Queene, 1754). Книга
:эта направлена против эстетического рационализма Попа и его
опколы; она выдвигает поэзию «воображения» против поэзии рас-
судочных «правил». Очарование поэмы Спенсера, по мнению Уор-
тона, лежит «за пределами искусства». «Читая ее, критик не удов-
летворен, но читатель чувствует восхищение». Напротив,
в современной поэзии «воображение уступило место правильности,
^возвышенные описания — нежности чувства, величественные об-
разы—остроумию и эпиграмме». «Сатира, убивающая возвышен-
ное, перенесена к нам из Франции. Музы развратились при дворе;
светская жизнь, повседневный быт сделались их единственной
темой».
Хотя Уортон все еще считает необходимым оправдывать «ошиб-
ки» Спенсера указанием на «готическое варварство» его века, одна-
ко в то же время он считает невозможным судить о произведениях
^искусства прошлого с точки зрения «правил» современного искус-
ства, «которые, как нас учили, являются единственным критерием
совершенства», и все его симпатии лежат на стороне Спенсера, на-
рушающего эти правила.
Ко времени появления книги Уортона «возрождение Спенсера»
*(the Spenserian revival) в английской сентиментальной поэзии уже
вызвало целый поток подражаний.
Мильтон гораздо менее, чем Спенсер, мог в начале XVIII века
считаться «забытым» поэтом. Когда Аддисон выступил в «Зрителе»
с серией статей о «Потерянном рае» (1712), он ссылался на общее
мнение, признающее эту поэму «благороднейшим творением гения
на нашем языке». Новизна его точки зрения заключалась лишь
в рассмотрении творения Мильтона «по законам эпической поэзии» г
в желании доказать, что «это произведение не беднее «Илиады» и
♦«Энеиды» красотами, существенными для этого поэтического
жанра».
Влияние Мильтона на сентиментальную поэзию XVIII века
лишь в слабой степени восходит к «Потерянному раю». Револю-
570
ционный пафос и пуританский дух поэмы Мильтона были чужды
поэтам-сентименталистам. Гораздо значительнее было влияние
юношеских поэм Мильтона, в особенности «Il Penseroso», на форми-
рование сентиментальной оды и элегии Грея, Коллинса, Уортонов
и многочисленных представителей так называемой «кладбищенской
.поэзии». Джозеф Уортон констатирует в 1756 г., что «маленькие
лоэмы Мильтона лишь совсем недавно удостоились должного внима-
ния». Томас Уортон в 1754 г. выступает с критическим изданием
«Мелких стихотворений» Мильтона.
Особое место в развитии предромантической критики занимает
проблема Шекспира. Театр Шекспира в эпоху Просвещения не-
изменно сохранял свою широкую популярность у английской
публики. Во второй половине XVIII века, в связи с ростом чита-
тельского интереса к Шекспиру, появляются все более многочис-
ленные филологические исследования, посвященные критике
текста его пьес, вопросам авторства и хронологии. В оживленной
полемике по этим вопросам участвовали Стивене,— ученый соре-
дактор Джонсона, — его противник Мэлон и знаменитый филолог
Ритсон (Joseph Richardson, псевдоним Ritson, 1752—1803).
Для эстетических теорий предромантизма переоценка Шекспира
имела решающее значение. Шекспир, который «без образования»,
не зная «правил искусства», силою своего «природного гения» соз-
давал произведения замечательные, хотя и переполненные всевоз-
можных «ошибок» против «хорошего вкуса», становится класси-
ческим примером «оригинального гения», примером, который ста^
вит под сомнение самую необходимость для гения общеобязательных
«правил». В этом смысле проблема Шекспира поставлена Юнгом
в его «Размышлении об оригинальном творчестве» и получает даль-
нейшее развитие в Германии, в критических высказываниях Гер-
дера, молодого Гёте и «бурных гениев». Только в период романтиз-
ма возникает вопрос об искусстве Шекспира, как об особой форме
.художественного мастерства, не менее высокого и сознательного,
чем искусство древних. В Германии вопрос' этот был поставлен Ав-
густом Шлегелем в его статьях о Шекспире и «Лекциях по истории
драмы», в Англии—романтиком Кольриджем, который развивает
идеи Шлегеля в своих «Лекциях о Шекспире» (читались в 1818).
С новой оценкой поэтических памятников национального прош-
лого связано и новое понимание классической древности. Гомер,
которого Поп в своем переводе приспособлял к вкусам английского
классицизма, казался ему воплощением неизменных законов пре-
красного, основанных на разуме. Уже Аддисон, однако, ставит
Гомера, вместе с Шекспиром, в число «природных гениев», и вслед
за тем Юнг рассматривает его в том же контексте, как пример «ори-
гинального творчества».
Эти мысли развивает Роберт Вуд в «Опыте об оригинальном ге-
нии и творениях Гомера» (Robert Wood. Essay on the Original
Genius and Writings of Homer, 1768). Вуд посетил развалины Трои,
■чтобы понять своеобразие Гомера в связи с обстановкой,
<в которой слагалось его творчество и которую он изображает
571
в своих поэмах. Героический век Гомера пленяет его своей вар-
варской простотой и патриархальной примитивностью, «столь не-
похожей на утонченные формы современной жизни». Гомер, в
представлении Вуда, — простой народный певец, подобный сред-
невековым менестрелям.
Книга Вуда, переведенная на большинство европейских язы-
ков, сыграла существенную роль в том новом понимании героиче-
ского эпоса, как -народного творчества, которое складывается
в предромантической критике. Особенно значительно было влияние
Вуда на Гердера и молодого Гёте. Вуд и Гердер подготовили ре-
шительный переворот в гомеровском вопросе и в изучении народ-
ной эпической традиции, ознаменованный в конце XVIII века по-
явлением книги немецкого ученого Ф. Вольфа «Введение к Гомеру»
(Prolegomena ad Homerum, 1796), в которой «Илиада» рассматри-
вается как свод безымянных народных песен греческих рапсодов.
Интересно отметить, что сходный метод рассмотрения был при-
менен в те же годы к библейской поэзии. Роберт Лоут (Robert
Lowth) в ученой латинской диссертации «Освященной поэзии евреев»
(De Sacra Poes'a Hebraeorum, 1753) рассматривает Ветхий завет
как поэтический памятник и сравнивает его с гомеровским эпосом.
4
Выдающуюся роль в формировании эстетических теорий и
критических оценок предромантизма сыграла литературная дея-
тельность братьев Джозефа и Томаса Уортонов (Joseph Warton,
1722—1800; Thomas Warton, 1728—1790), стоявших в центре ли*
тературного кружка, к которому примыкали Грей, Коллинс, Пер-
си и др. Как поэты, ученые и литературные критики, братья Уор-
тоны находятся в оппозиции к классицистским вкусам английского
Просвещения. Они—поклонники Мильтона, Спенсера, Шекспира,
знатоки и любители старинной английской и западноевропейской
поэзии, готической архитектуры и национальных древностей.
В литературу они вступают как поэты — Джозеф Уортон со сбор-
ником «Оды на различные описательные и аллегорические темы»
(Odes en various Subjects, 1746), Томас Уортон — с поэмой «Услады
меланхолии» (The Pleasures of Melancholy, 1747). Их поэтическое
творчество не оригинально, оно является плодом начитанности и
вкуса, отдельными стихами напоминая то английских классических
поэтов, в особенности—молодого Мильтона (Il Penseroso), то
современных сентиментальных лириков — Томсона, Грея и Кол-
линса.
Интересно вступление Джозефа Уортона к своим «Одам», где
он объявляет войну господствующему «дидактическому» направ-
лению английской поэзии, установившейся «моде морализировать
в стихах», и выступает в защиту «творчества и воображения» как
«основных способностей поэта». В его юношеской поэме «Энтузиаст
или любитель природы» (The Enthusiast, or Lover of Nature), на-
писанной белыми стихами, имеются восторженные строки, посвя-
572
щенные Шекспиру: фантазия вскормила младенца-поэта в лесной
пещере на берегах Эвона, питая его диким медом и напевая ему
чудесные песни. «Что значат стихи искусного Аддисона, холодные
в своей правильности, по сравнению с простой и дикой соловьиной
песней Шекспира?».
Ряд стихотворений на средневековые темы отражает увлечение
Томаса Уортона «романтическим» прошлым Англии («Крестовый
поход», «Могила короля Артура» и др.). Описание средневекового
замка, где валлийские барды вовремя пира поют королю Генриху II
о смерти Артура (в поэме «Могила короля Артура»), напоминает
по своей романтической декоративности аналогичные картины в
поэмах Скотта.
Гораздо значительнее было влияние Уортонов в области лите-
ратурной критики. Книга Джозефа Уортона «Опыт о гении Попа
и о его сочинениях» (Essay on the genius and writings of Pope, т. I,
1756; т. II, 1782) положила начало переоценке поэзии английского
классицизма. Уортон ставит Попа ниже Спенсера, Мильтона и
Шекспира, объявляя его поэтом «второго ранга». «Ясность мысли
и острота понимания, —по мнению Уортона, — недостаточны
для того, чтобы создать поэта; самые основательные наблюдения
над человеческой жизнью, выраженные с величайшим изяществом
и краткостью, это—мораль, а не поэзия». «Только творческое и
пламенное воображение, acer spiritus et vis («острый дух и сила»),
могут дать поэту восторженный и необычайный характер». «Остро-
умие и сатира преходящи и погибнут, только природа и страсть буду г
существовать вечно». Творчество Попа носит по преимуществу
«дидактический, моральный и сатирический характер —и уже по
одному этому не принадлежит к наиболее поэтичному виду поэзии».
Поп воспроизводил искусственные, однообразные светские манеры
и нравы, и потому постепенно сделался «самым правильным, глад-
ким и точным поэтом на свете». Свой поэтический энтузиазм он
сдерживал и душил. Он стал, таким образом, как Буало во Франции,
«великим поэтом разума», первым среди «моральных стихотвор-
цев». Уортон ведет борьбу против эстетического рационализма,
образцы которого импортируются из Франции, против «модного
философического, геометрического и систематического духа, рас-
пространившегося из наук на изящную литературу, который, обра-
щаясь исключительно к разуму, ослабил и разрушил чувство и
заставил поэтов писать скорее из головы, чем от сердца».
Прославленным образцам французского классического вкуса
Уортон противопоставляет «неправильные», с точки зрения этих
вкусов, но более поэтичные творения англичан: «Гофолии» Ра-
сина— «Короля Лира» Шекспира, «Генриаде» Вольтера— «По-
терянный рай» Мильтона. «Страшные прелести Шекспира, в особен-
ности в сценах магии и волшебства»,его «готическое очарование»,
по словам Уортона, сильнее волнуют воображение, чем про-
изведения классической литературы. «Волшебники Ариосто, Тассо
-и Спенсера обладают более могущественными чарами, чем Апол-
лоний, Сенека или Лукан». «С какими страшными образами мы
573
встречаемся в Эдде! Руническая поэзия ими изобилует». С со-
чувствием перечисляет Уортон и новаторские произведения совре-
менной музы — «Замок Безделья» Томсона, готический роман
Уолполя «Замок Отранто» и «волнующую оду» Грея — «Поездка
Одина».
Книга Уортона знаменует решительный поворот в развитии анг-
лийской поэзии и поэтической критики. Еще Байрон, выступая
в 1818 г. против реакционных романтиков, в защиту Попа и поэзии
английского Просвещения, датирует этот поворот с выступления
Уортонов против Попа.
Томас Уортон, комментатор Спенсера и издатель юношеских
произведений Мильтона, по своим интересам — скорее ученый,
чем критик. В течение ряда лет он работает над обширным трудом,,
посвященным «Истории английской поэзии начиная с XII века» (His-
tory of English Poetry, etc, 3 тома, 1774—1781, незаконченный IVтом
в посмертном издании 1790 г.). Выступая пионером в области изуче-
ния средневековой литературы, Уортон, несмотря на многочислен-
ные увлечения и ошибки, обнаружил исключительную для своего*
времени осведомленность. Вступительная глава «О происхождении
романтической поэзии в Европе» охватывает все европейские
литературы средневековья. Уортон пытается объяснить происхож-
дение средневековой романтики влиянием арабской поэзии, смешав-
шейся с проникшей с севера поэзией скандинавских скальдов.
Эта теория встретила еще при жизни автора ряд справедливых
возражений со стороны Перси, Ритсона и других знатоков западно-
европейского средневековья. Тем не менее, книга Уортона, богатая
историческим материалом и поэтическими примерами, сыграла
существенную роль в поэтическом возрождении средневековья.
Одновременно с Уортонами с новой оценкой средневековой
литературы и искусства выступает Ричард Хёрд (Richard Hurd,
1720—1808). Его «Письма о рыцарстве и средневековых романах»
(Letters on Chivalry and Romance, 1762) — одна из наиболее влия-
тельных книг предромантизма. Задача ее — показать «преимуще-
ство «готических» нравов и вымыслов для целей поэзии по сравне-
нию с классическими». Хёрд сравнивает рыцарское средневековье
с героическим веком в изображении Гомера: великанов и волшеб-
ников рыцарского романа — с циклопами, Цирцеей и Калипсо,
средневековых менестрелей — с греческими аэдами, турниры —
с олимпийскими играми, подвиги Ланселота и Амадиса —с Герак-
лом и Тезеем, убивающим чудовища. Преимущество, по его мнению,
везде на стороне «феодальных времен» с «их более высокой куртуаз-
ностью и более возвышенным и торжественным характером их
суеверий». Хёрд превозносит «Королеву фей» Спенсера; рассмат-
ривая эту «готическую поэму», он обнаруживает в ней художествен-
ное единство, напоминающее по своему характеру готическую по-
стройку. Подобно Уортонам, Хёрд выступает с резкими нападками
против современной английской критики, усвоившей художествен-
ные вкусы и оценки французского классицизма.
574
В противовес предромантическому направлению критик Сэ-
мюэль Джонсон и поэт Гольдсмит продолжали отстаивать класси-
цистскую эстетику Просвещения. «Удивительно, — писал Гольд-
смит, — что после всего, сделанного Драйденом, Аддисоном и
Попом, чтобы улучшить наш родной язык и придать ему гармо-
ничность, их последователи употребляют столько усилий для воз-
вращения его к первоначальному варварству».
На протяжении 60—70-х годов «возрождение средневековья»*
становится мощным фактором развития английской литературы.
За это время вышли в свет все наиболее значительные произведения
английского предромантизма—«Оссиан» Макферсона (.1760—1765),.
«Памятники старинной английской поэзии» Перси (1765), «Замок
Отранто» Уолполя (1765), «рунические оды» Грея (1768) и, нако-
нец, с некоторым опозданием, посмертное издание сочинений Чат-
тертона (1777).
Влияние средневековой литературы на предромантиков за-
труднялось тем, что национальная традиция во всех странах Запад-
ной Европы была прервана, в большей или меньшей степени,
возрождением классической древности в эпоху гуманизма и бур-
жуазного Просвещения. Величайшие памятники старинного на-
родного творчества и средневековой поэзии — «Песнь о Роланде»,
«Нибелунги», лирика трубадуров и миннезингеров и др. —суще-
ствовали лишь в немногочисленных средневековых рукописях и
были впервые изданы лишь в конце XVIII и начале XIX века.
В Англии, в частности, знакомство предромантической критики
со средневековьем в течение долгого времени шло через посред-
ство таких поэтов Возрождения, как Ариосто, Тассо, Спенсер, Шек-
спир. «Кентерберийские рассказы» Чосера только в конце
70-х годов стали доступны читателям в критическом издании Тёрвита i
(Thomas T^rwhitt, 1730—1785), замечательного знатока старин-
ной английской поэзии.
Интересом к древнейшему национальному прошлому Англии и?
к истокам ее поэзии объясняется обращение предромантиков
к скандинавским и кельтским поэтическим древностям. Начало ♦
широкого знакомства с древнескандинавской литературой свя-
зано с появлением французской книги Поля Маллэ «Введение в
историю Дании» (Paul Mallet, Introduction à l'histoire du Dane-
mark, 1755) и приложения к ней — «Памятников мифологии и поэ-
зии кельтов, в частности — древних скандинавов» (Monuments de lai
poésie et de la mythologie des Celtes et particulièrement des Scan-
dinaves, 1756). Английский перевод их принадлежит Перси
(1770), который исправил ряд исторических погрешностей Маллэ и,
в частности, указал на неправильность отождествления кельтоз
и скандинавов.
Мрачному и таинственному величию, которое, по представле-
нию предромантиков, было присуще северной поэзии», подражают
«рунические оды» Грея, Мэйсона и др. Перси в 1763 г. опубликовал
•«Пять отрывков рунической поэзии», — прозаический перевод
песен исландских скальдов.
57&.
Значительно менее доступны английским поэтам были памят-
ники древней кельтской поэзии. Грей, изображая в своей оде «Бард»
валлийского народного певца, тщательно избегает какой-либо
исторической конкретизации этого образа. Мэйсон в драматической
поэме «Карактак» (Caractacus, 1759) из древней истории Брита-
нии впадает в распространенную ошибку смешения кельтской и
германской мифологий.
Некоторые материалы о современном кельтском фольклоре
горной Шотландии стали проникать в английскую литературу
с середины XVIII века. Народные песни на гэльском языке были со-
браны миссионером Фаркером и опубликованы в английском пе-
реводе Александром Макдональдом (1761). В предисловии автор
указывал на существование у шотландских горцев большого числа
нодобных эпических песен, исчезающих вследствие борьбы анг-
лийского правительства с остатками национальной независимости
горной Шотландии. Эта публикация была, повидимому, известна
Макферсону и побудила его заинтересоваться памятниками кельт-
ского фольклора.
5
Джемс Макферсон (James Macpherson, 1736—1796) был урожен-
цем горной Шотландии, скромным учителем и начинающим лите-
ратором. Его патриотическая поэма «Шотландский горец» (The High-
lander, 1758) прошла незамеченной. Подобно другим шотландским
патриотам, он собирал старинные народные песни на гэльском
языке и рукописи, содержавшие фольклорные материалы. В 1759 г.
он познакомился с известным шотландским писателем Джоном Хо-
мом, почитателем шотландской национальной старины. Хом, не
знавший гэльского языка, просил Макферсона познакомить его
с поэзией горцев. Через Хома Макферсон познакомился с выдаю-
щимися литераторами Шотландии — философом Юмом, историком
Робгртсоном, профессором реторики Блэром. По настоянию этих
друзей, Макферсон согласился издать анонимно сборник английских
«переводов» собранных им гэльских песен, сделанных ритмической
прозой: «Отрывки старинных стихотворений, собранных в гор-
ной Шотландии и переведенных с гэльского языка» (Fragments
of Ancient Poetry collected in the Highlands of Scotland and trans-
lated from the Gaelic or Erse Language, 1760).
Успех издания окрылил Макферсона. На средства своих шот-
ландских покровителей он совершил путешествие в горную Шот-
ландию в поисках шотландской национальной эпопеи, фрагментами
которой, согласно предположению романтически настроенного Блэ-
ра, являлись напечатанные ранее поэтические отрывки. Резуль-
татом этой поездки была новая публикация Макферсона «Фингал»
■ (Fingal, 1762), «старинная эпическая поэма в шести книгах, сочи-
ненная Оссианом, сыном Фингала, и переведенная с гэльского язы-
ка Джемсом Макферсоном». В следующем году появилась вторая
поэма — «Темора» (Гетога, 1763). Наконец, вместе с ранее опуб-
ликованными отрывками о5е поэмы были объединены в «Сочине-
.576
ниях Оссиана, сына Фингала» (The Works of Ossian, the Son of
Fingal, 1765), «переведенных с гэльского языка Джемсом Макфер-
соном». Изданию было предпослано обширнейшее ученое преди-
словие проф. Блэра, который объявлял Оссиана Гомером северных
народов, создателем эпических поэм, соперничающих с «Илиадой»
и «Одиссеей» и сохранившихся в устной народной традиции шот-
ландских горцев с III века н. э. (времени предполагаемой жизни
Фингала и Оссиана).
Песни, которые Макферсон приписывает кельтскому барду
Оссиану, воспевают Фингала, властителя Шотландии, «страны
Морвэн. Фингал — храбрый витязь, непобедимый в боях, с бла-
городной и нежной душой. В своем замке Сельма он пирует, окру-
женный дружинниками, пьет вино из «раковин» и слушает песни
бардов, из которых самый знаменитый — его сын Оссиан. В песнях
описываются битвы, в которых участвовали Фингал и его витязи.
Так, он воюет против норвежцев, совершающих набег на Ирлан-
дию. Ирландский король Кухулин вступает в бой со Свараном,
королем Лохлина (Норвегии), не дождавшись прихода своего союз-
ника Фингала. Он терпит поражение, но подоспевший Фингал по-
беждает Сварана и отпускает врага своего без выкупа. Таково со-
держание поэмы «Фингал».
Главной причиной успеха «Оссиана» у современников Макфер-
сона была сентиментально-меланхолическая окраска этого произ-
ведения. «Приятна радость печали!» — восклицает поэт. Герои
Оссиана, подобно людям XVIII века, обильно проливают слезы.
Могила, как в «кладбищенской поэзии», является любимой лири-
ческой темой. «Тесна теперь твоя обитель. Тремя шагами я измеряю
твою могилу, ты, когда-то великий и славный! Четыре камня, по-
крытые мхом,—вот вся память о тебе». Элегические воспоминания
€ прошлом являются главным источником вдохновения Оссиана.
Он один пережил своих соратников. Одинокий, он бродит среди
развалин, в которых завывает ветер. Он играет на арфе, и перед
ним в тумане проносятся тени героев.
Большую роль в поэмах Оссиана, как в сентиментальной поэзии
XVIII века, играют описания природы. Это — величественный и
меланхолический пейзаж горной Шотландии, «открытый» предро-
мантизмом: утесы, поросшие мхом; шумящие водопады и пенистые
горные потоки; шум прибоя у прибрежных скал; ветер, свистящий
в степных просторах, поросших вереском или репейником; тума-
ны, колеблемые ветром на вершинах гор; луна, которая смотрит
сквозь туман или сквозь проносящиеся ночные тучи. Характерно
обилие сумеречных ландшафтов, призрачность и неясность очер-
таний предметов, окутанных туманной дымкой. В тумане проно-
сятся тени умерших героев; они появляются в лунных лучах, мчат-
ся в ветре, сливаются с облаками. Все это — дань Макферсона не
столько кельтскому фольклору, сколько «готической» романтике
конца XVIII века.
Огромным успехом у современников пользовались поэтические
олицетворения природных стихий, неоднократно встречающиеся
^i Англ. литература 577
в оссиановской поэзии — обращение к солнцу, к вечерней звезде:.
«Звезда наступающей ночи! Ясен свет твой на западе! Ты взды-
маешь златокудрую голову из-за тучи; величаво ступаешь ты па
холмам. Что ты видишь в долине? Буйные ветры стихли. Глуха
доноАггся шум потока. Грозные волны взбегают на дальний утес.
На слабых крыльях вылетают ночные мошки; их жужжанье парит
над полями. Что видишь ты, ясный светоч? Но ты, улыбнувшись,,
уходишь. Радостно встречают тебя волны, омывая твои светлые
кудри».
Повествовательная сторона в поэмах Оссиана отступает перед
широким разливом лирической стихии. Ход рассказа часто не-
ясен, чему способствуют лирическая отрывочность и недосказанность.
По своей лирической композиции песни Оссиана предвосхищают
новый тип лирической поэмы, который разовьется полностью в
эпоху романтизма в «Кристабели» Кольриджа и восточных поэмах
Байрона.
Появление «Оссиана», рекомендованного читателю в качестве
«северного Гомера», взволновало общественное мнение всей Евро-
пы. В вопросе о подлинности опубликованных Макферсоном поэм
образовалось два лагеря. В числе поклонников «Оссиана», убеж-
денных в его подлинности и народности, были все сторонни-
ки нового литературного направления, почитатели непосредствен-
ной, «природной» поэзии и романтической старины, для которых
песни «каледонского барда» служили новым доказательством уни-
версальности присущего всем народам поэтического гения и era
независимости от уровня цивилизации. Грей, один из первых от-
кликнувшийся на появление этих песен, писал друзьям, что он «по-
ражен, приведен в экстаз их бесконечной красотой, полной при-
родного вдохновения и благородной, дикой фантазии». Он не ве-
рит, чтобы современный поэт мог сочинить подобные произведе-
ния. Напротив, резко отрицательно отнесся к Макферсону Сэмю-
эль Джонсон. «Полагаю, — заявил он, — что эти поэмы никогда
не существовали в иной форме, кроме той, которую придал им
Макферсон». Впрочем, Джонсон не высоко ценил и искусство са-
мого Макферсона. На предложенный ему вопрос, считает ли ом
возможным, чтобы какой-нибудь современный автор мог сочинить
подобное произведение, он ответил иронически: «Думаю, что мно-
гие мужчины, многие женщины и даже дети могли бы, если бы
только захотели». В то же время Джонсон потребовал, чтобы Мак-
ферсон предъявил гэльские подлинники своих поэм. Макферсон
принял вызов, но до конца своей жизни оттягивал публикацию
«оригиналов», а напечатанные после его смерти в 1807 г. гэльские
тексты его поэм оказались явной фальсификацией.
Тем временем возникла полемика между шотландскими сторон-
никами Макферсона и ирландскими учеными кельтологами, кото-
рые доказывали, что шотландец Фингал на самом деле — герой
ирландских эпических песен, Финн Мак-Кумхайль, перенесенный
Макферсоном в вымышленную обстановку и среду. Макферсон,
как шотландский патриот, с негодованием отвергал ирландские
578
связи своего Фингала. Уже после смерти Макферсона шотландский
критик Малькольм Лэйнг (Malcolm Laing) в своих «Замечаниях об
Оссиане» (Notes and Illustrations to Ossian, 1805) обнаружил в анг-
лийском тексте Макферсона многочисленные заимствования из Биб-
лии, Гомера, Мильтона и современных сентиментальных поэтов:.
Наконец, предпринятые специальным комитетом « Шотландского*
общества» попытки обнаружить среди песен шотландских горцев
утерянные оригиналы опубликованных Макферсоном «переводов»
также не увенчались успехом, хотя комитет и констатировал в
своем «Донесении» (Report of the Committee of the Highland So-
ciety, etc. 1805) наличие в современном гэльском фольклоре обшир-
ной эпической традиции, связанной с именами героев оссиановского
цикла.
Кельтологические исследования XIX века постепенно-внесли
ясность в проблему «Оссиана» Макферсона. Оказалось, что в Ир-
ландии и Шотландии существует обширная эпическая традиция,
связанная с именами героев Оссиана, родиной которой является
Ирландия. Эта традиция засвидетельствована в большом числе
рукописных записей, ирландских—с XII века!,, шотландских —
с XVI века, а также в современном гэльском фольклоре, в корот-
ких балладах и прозаических сагах. Фингал Макферсона—эта
Финн Мак-Кумхайль (Finn Mac Cumhail) из Лейнстера в Ирлан-
дии; его дружина называлась фианами (fians). Его сын, пебец
Ойсин (Oisin), и внук Оскар, а также ряд других героев Макфер-
сона, хорошо известны эпической традиции, но шотландская обста^
новка поэм — королевство Морвэн и замок Сельма — являются вы-
мыслом «переводчика». Ирландские источники относят Финна к
III веку н. э., но никогда не объединяют его с Кухулином, эпи-
ческий цикл которого древнее, чем сказания о Финне.
Из традиции кельтского народного эпоса Макферсон заимство-
вал имена своих героев и отдельные незначительные сюжетные под-
робности. Из этого материала он создал свои эпические поэмы в
соответствии с теми представлениями, которые составила себе
предромантическая критика о народном творчестве кельтско-гер-
майского «севера». Гомер и Библия (в особенности—ритмическая
проза «псалмов»), воспринятые как произведения старинной на-
родной поэзии, послужили основным источником эпического стиля
Макферсона, вместе с отдельными стилистическими оборотами,
подхваченными из кельтской фольклорной традиции. Макферсону
не удалось развернуть широкое эпическое повествование; заду-
манные им героические эпопеи превратились в сентиментальные
лирические поэмы, где внешнее действие служит лишь поводом,
для раскрытия душевных переживаний. Этим объясняется небы-
валый успех подделки Макферсона: в его «Оссиане» предроманти-
ческая литература воссоздала забытое национальное прошлое,.,
«готическую» старину, по своему образу и подобию.
. Успех Макферсона был наименее продолжительным в самой:
Англии. Здесь «Оссиан» завершает развитие сентиментальной поэ-
зии; уже с появлением сборника Перси (1765) для романтической.
37* 579N
поэзии открылись более глубокие и подлинные источники возрож-
дения народной поэзии и национальной старины. Английские ро-
мантики отнеслись к «Оссиану» критически. Вордсворт говорит о
«неестественности» оссиановской поэзии, об отсутствии ясности и
простоты в картинах природы, изображенных Макферсоном. Валь-
тер Скотт, который в детстве увлекался «Оссианом», впоследствии
обвинял его в сентиментализации простых и грубых нравов ста-
рины. Фингал, по словам Скотта, соединяет храбрость Ахилла с
воспитанностью и тонкими чувствами Грандисона. Наиболее силь-
ным было влияние «Оссиана» на молодого Байрона. Он переводит
«Оссиана» стихами, в его юношеской лирике развалины Ньюстэда
и картины горной Шотландии овеяны оссиановскими настроениями.
За пределами Англии во всех европейских странах проходит
волна увлечения поэзией «Оссиана». Французские переводы —
прозаический Летурнера (1777) и основанный на нем стихотворный
Баур-Лормиана (Poésies gaéliques, 1801) — немало способство-
вали общеевропейской славе «Оссиана». Под влиянием «Оссиана»
сложилась романтическая проза Шатобриана. «Арфа Морвэна, —
писал молодой Ламартин,—эмблема моего сердца».
В России среди поклонников и подражателей «Оссиана» должны
быть названы Державин, Карамзин, Жуковский, молодой Пушкин
и многие другие. На оссианэвский сюжет написана трагедия Озе-
рова «Фингал» (1809), примыкающая к длинному ряду «оссиани-
ческих драм», широко представленных в западноевропейской пред-
романтической литературе. Полный русский прозаический перевод
«Оссиана» Ермилия Кострова ( 1792) сделан с французского перевода
Летурнера.
Особенно значительно было влияние «Оссиана» в Германии,
где к числу его почитателей принадлежали Клопшток, Гердер,
молодой Гёте и «бурные гении». Из «Оссиана» Клопшток черпает
свои представления о древнейшей германской поэзии, и кельт-
ский бард Оссиан подсказывает ему идею возрождения националь-
ного искусства германских «бардов». Оссиан рассматривается как
народный певец, охотно сопоставляется с Гомером, но произведения
«северного Гомера» еще более примитивны и непосредственны, еще
ближе к природе. «Шотландец Оссиан — более великий поэт, чем
иониец Гомер», — заявляет Фосс. Гердер сравнивает приемы твор-
чества Оссиана с народными песнями («Об Оссиане и песнях древ-
них народов», 1773). Оссиан, несомненно, повлиял на его концеп-
цию народного творчества. Гердер мечтает посетить Каледонию,
чтобы услышать песни Оссиана в обстановке горной природы се-
вера, из уст дикого и свободного народа. Молодой Гёте переводит
«Песни Сельмы» и вставляет в своего «Вертера» большой отрывок из
этого перевода. Меланхолическое разочарование Вертера питается
чтением «Оссиана». «Оссиан вытеснил в моем сердце Гомера», —-
пишет Вертер своему другу. Несомненно влияние этого чтения и на
лирическую прозу самого Гёте. Однако и в Германии обращение
к подлинным истокам народной поэзии, открытым Гердером и моло-
дым Гёте вслед за Перси, кладет конец господству оссианической моды.
580
6
Гораздо более значительное влияние на все дальнейшее раз-
витие английской поэзии имела публикация Перси «Памятники ста-
ринной английской поэзии, состоящие из старых героических баллад,
песен и других произведений наших ранних поэтов (главным обра-
зом, лирических), вместе с немногими более позднего времени»
(Reliques of Ancient English Poetry, etc., 1765).
Томас Перси (Thomas Percy, 1729—1811), — сельский священ-
ник, а впоследствии епископ, был известен как знаток и любитель
поэтической старины, в частности, как переводчик образцов «ру-
нической гоэзии» (Five Pieces of Runic Poetry, 1763) и «Памятников»
Маллэ (Northern Antiquities, 1770). Его «Памятники» содержали
большое число старинных английских народных баллад, а кроме
того—образцы лирических жанров старой английской поэзии, в осо-
бенности елизаветинского времени, и несколько современных стихо-
творений, «присутствие которых», по словам самого Перси, должно
было «искупить грубость более устарелых стихотворений».
Перси включил в свое издание три исследования, посвящен-
ные старинным английским менестрелям (On the ancient minstrels
in England), происхождению английского театра (On the Ori-
gin of the English Stage) и средневековым стихотворным рыцар-
ским романам (On the ancient Metrical Romances), а также
комментарии к отдельным стихотворениям. Статья о менестре-
лях содержит обширный историко-бытовой материал о средне-
вековых странствующих певцах, которых Перси считает авторами
«большинства старинных героических баллад», тогда как более
обширные рыцарские романы были созданы профессиональными
«писателями», в большинстве случаев — монахами. Перси дает
обширный и очень полный список таких средневековых стихотвор-
ных романов, тогда еще существовавших только в рукописных тек-
стах. В статье, им посвященной, он полемизирует с Уортоном по
вопросу о происхождении средневековой рыцарской поэзии, отри-
цая ее зависимость от арабских источников и возводя ее целиком
к поэзии германского севера.
Но Перси — не только ученый исследователь; он выступает
прежде всего как горячий поклонник старинной английской поэ-
зии, обнаруживая в ней «приятную простоту и безыскусственные
прелести, которые, согласно мнению достаточно компетентных кри-
тиков, компенсируют отсутствие более возвышенных красот и,
если не ослепляют воображение, то часто трогают сердце».
Собрание Перси содержало лучшие и впоследствии наиболее
известные образцы всех основных жанров английской народной
баллады: баллады исторические, в большинстве посвященные по-
граничным усобицам между англичанами и шотландцами (обе
редакции «Охоты на Чивиоте», «Битва при Оттерберне» и др.),
баллады разбойничьи, характерные своим социальным протестом
против феодального гнета (из цикла «Робин Гуд» и др.), нако-
нец, — многочисленные романические баллады, с обычными те-
5S1
мами социального неравенства, разлуки любящих, любовною со-
перничества, похищения и преследования («Лорд Томас и прекрас-
ная Зллинор», «Юный Уотерс», «Рыцарь и дочь пастуха» и др.),
чаще всего с трагической развязкой, иногда с тем элементом па-
радных суеверий и фантастики (например, «Дух милого Вильяма»),
который в XVIII веке считался необходимой принадлежностью
^балладного творчества.
Все эти баллады Перси собрал не из устной народно-поэтической
традиции, как позднее Вальтер Скотт, а из старых рукописных
записей и печатных листовок (broadsides). Главным его источником
/послужил случайно найденный им старинный рукописный сборник
XVII века (около 1650 г.), на который он неоднократно ссылается.
Эта «Рукопись Перси» (Percy Folio Manuscript) в настоящее время
опубликована полностью и считается одним из наиболее ценных
.памятников истории английского фольклора.
Перси не первый заинтересовался английскими народными бал-
ладами. Еще в начале XVIII века Аддисон в «Зрителе» (1711) по-
святил статью старинной балладе «Охота на Чивиоте». Он находит
в ней чувства, «необычайно естественные и поэтические» и ту «вели-
чественную простоту, которой мы восхищаемся у лучших античных
писателей». Но интерес Аддисона к народному творчеству не встре-
тил сочувствия среди других английских просветителей. Его статья
вызвала резкие возражения, в частности, со стороны Джонсона,
з<оторый пародировал модное впоследствии увлечение «простотой»
балладного стиля («Рассеянный», № 177) и в «Охоте на Чивиоте»
находил «холодную и безжизненную тупость».
Тем временем появилось несколько публикаций старинных бал-
ладных текстов, из которых наиболее значительные до Перси —
анонимное английское «Собрание старых баллад» (Old English
Ballads, 1723—1727) и ряд шотландских сборников баллад и песен,
традиционных и оригинальных, Джемса Уотсона (1706—1710),
Рамзея (Allan Ramsay. Evergreen, 1724; Tea-Table Miscellany,
т. I, 1724), В. Томсона (Orpheus Caledonicus, 1726—1733) и др.
Появляются и первые подражания и подделки, свидетельствую-
щие о поэтическом усвоении балладной традиции и приспособлении
^е к современным поэтическим вкусам. К числу наиболее ранних
литературных подделок XVIII века относится баллада «Гарди-
кнут» (Hardyknut, 1719), представляющая по своей героической
теме (борьба шотландцев против скандинавских завоевателей)
некоторое сходство с «Охотой на Чивиоте», но с налетом романти-
ческой таинственности, подсказанной средневековыми рыцарскими
романами, —«первое стихотворение, выученное мною наизусть, —
как писал Вальтер Скотт, — последнее, которое я забуду». Автором
этой анонимной баллады, как впоследствии выяснилось, явилась
малоизвестная писательница лэди Уордлоу (Lady Elisabeth
Wardlaw). В 1724 г. была напечатана, также анонимно, бал-
-лада «Дух Маргариты» (Margaret's Ghost), сентиментальная пере-
елка баллады «Дух милого Вильяма» (Sweet William's Ghost),
в которой призрак мертвого жениха заменяется ночным появлением
умершей возлюбленной. Авторство баллады присвоил себе друг
Гомсона Давид Маллет, включивший ее в 1759 г. в собрание
своих сочинений. В 1739 г. классицист Ричард Гловер (Richard
Glover, 1712—1785) снискал успех балладой «Дух адмирала Хозьера»
((Admiral Hosier's Ghost), в которой призрак несчастного англий-
ского адмирала оплакивает судьбу вверенной ему эскадры, погиб-
шей от голода и болезней в тропических морях. Лирические эле-
менты народной баллады, ее диалогическую форму и музыкальный
припев использовал шотландец Вильям Гамильтон (William Ha-
milton of Bangour) в романической балладе о девушке, оплакиваю-
щей своего возлюбленного, убитого на берегах Ярроу (The Braes
o'Yarrow, 1754). При этом он пользуется народным источником
и пытается воспроизвести народный шотландский диалект. Чисто
сентиментальный характер имеет известная баллада Гольдсмита
«Пустынник» (The Hermit), вошедшая в его роман «Векфильдский
священник».
Все эти ранние подражания балладам включены Перси в его
•сборник. Помимо этого, в ряде случаев он переделывает и допол-
няет старинные тексты своей рукописи, приспособляя их к вкусу
современного сентиментального читателя. Перси не скрывает своего
«отношения к оригиналам. В предисловии он сообщает, что
нередко старинные копии баллад, рукописные или печатные, настоль-
ко неполны и испорчены, что, добросовестно воспроизведенные,
они представили бы «непонятную бессмыслицу», тогда как «при
небольших изменениях и добавлениях неожиданно выступал пре-
краснейший и чрезвычайно интересный смысл». Следуя этому прин-
ципу, Перси вносит в старинные баллады черты чувствительности^
и новые псевдоромантические подробности. Такое обращение с
оригиналом, граничащее с многочисленными подделками и подража-
ниями этого времени, вполне соответствует общему духу предроман-
тизма.
Свободное обращение Перси со значительной частью опублико-
ванных в его сборнике «памятников старинной английской поэзии»
вызвало ожесточенные нападки со стороны ученого филолога Рит-
сона, известного исследователя Шекспира и знатока старинной
английской поэзии. Ритсон сам выступил с рядом публикаций
английских народных песен и баллад, из которых наибольший
интерес представляет его издание баллад и песен о Робине Гуде,
«знаменитом английском мятежнике» (Robin Hood: a Collection
of all the ancient Poems, Songs and Ballads now extant relative
to the Celebrated English Outlaw, 1795). Ритсон был демократом
по своим политическим убеждениям, энтузиастом французской
революции. В Робине Гуде он видел человека, «который в варварский
век под гнетом тирании обнаружил дух свободы и независимости,
чем и заслужил любовь простого народа, в защиту которого
он выступал». Ритсон обвинял Перси в подделках и даже отрицал
существование его знаменитой рукописи. Издания Ритсона филоло-
гически безупречны, но оказали гораздо менее значительное влия-
5М
ние на развитие английской поэзии, чем публикации его против-
ника, не всегда одинаково точные, но именно потому более близ-
кие литературной современности.
Для английской поэзии XIX века, в особенности для ее роман-
тических течений, сборник Перси имел огромное значение. «Я
не думаю, — писал Вордсворт, — что существует хотя бы один со-
временный поэт, который не гордился бы тем, что и он многим обя-
зан сборнику Перси». Вальтер Скотт вспоминает о своем первом
знакомстве с балладами Перси, как о самом сильном поэтическом
впечатлении своих детских лет. Возрождение старинной народной
баллады надолго определило развитие английской поэзии: бал-
лады Саути и Вальтера Скотта, «Старый моряк» Кольриджа и
«La belle Dame Sans merci» Китса, значительная часть творчества
Теннисона и прерафаэлитов непосредственно связаны с этим воз-
рождением, начало которому положило собрание Перси.
В Германии сборник Перси был принят восторженно Гердером
и «бурными гениями». Он способствовал возрождению интереса к
народной поэзии. Гердер в своем собрании «Народных песен» ( 1778—
1779) сознательно выступает как «немецкий Перси». Бюргер пере-
водит ряд английских баллад (Graf Walter, Der Kônig und der
Abt и др.). В своей «Леноре» он заимствует сюжет «мертвого же-
ниха» из баллады «Дух милого Вильяма». Молодой Гёте записывает
а Эльзасе старинные народные баллады и посылает их своему учи-
телю Гердеру (1771). Его подражания немецкой народной поэзии
кладут начало возрождению народной песни в немецкой лирике,
не менее существенному для ее развития в период от Гёте до Гейне,
чем возрождение баллады для английской поэзии XIX века.
7
На рубеже романтизма стоит трагический образ молодого поэта?
Чаттертона.
Томас Чаттертон (Thomas Chatterton, 1752—1770) родился в
Бристоле, старинном торговом городе, сохранившем в своих средне-
вековых постройках великолепные памятники «готического» прош-
лого. Чаттертон происходил из бедной мещанской семьи; его пред-
ки более ста лет служили могильщиками на кладбище церкви свя-
той Марии, Редклифф (Saint Mary Redcliff), представляющей один
из лучших памятников английской готики. Детство Чаттертона
связано с этой церковью. Он получил начальное образование в:
городском училище для бедных, потом был отдан на службу писцом,
к бристольскому адвокату Ламберту. Бедность, унижения, одно-
образный труд заставили поэтическую натуру мальчика искать,
выхода в мире романтических вымыслов. Он рано обнаружил по-
вышенный интерес к окружавшим его памятникам средневековья.
В подвалах церкви был найден сундук со старинными рукопи-
сями, часть которых, за ненужностью, попала в семью Чаттерто-
нов. По иллюминованным буквам этих пергаментов мальчик Чат-
тертон научился читать. У него был талант к рисованию. В кла-
584
довой, где хранился заветный сундук, он устроил себе мастерскую
и стал копировать на обрезках пергамента гербы, иллюминованные
буквы, изображать фантастические постройки в готическом стиле,
рыцарские замки, средневековые каменные гробницы и т. п. Одно-
временно он писал стихи и сочинял документы на вымышленном
староанглийском языке, подражая немногочисленным знакомым ему
образцам. Те товарищи и старшие, которым он показывал свои
произведения, доверчиво принимали его подделки за средневеко-
вые подлинники.
Постепенно детская игра превращается в сложный поэтиче-
ский вымысел, целиком заполняющий воображение юного поэта.
В своих мечтах Чаттертон воссоздает жизнь старого Бристоля,
делая его центром культурной жизни Англии XV века. Он пере-
носит себя в это поэтическое прошлое, но в более счастливые жиз-
ненные обстоятельства. Автором сочиненных им стихов является
вымышленный священник и поэт Томас Роули (Thomas Rowley),
воспитанник кармелитов, монастырь которых когда-то находился
на месте школы для бедных, где учился сам Чаттертон. Роули обу-
чается всем наукам и искусствам своего времени и, в противо-
положность Чаттертону, с юношеских лет находит друга и покрови-
теля в богатом бристольском купце Вильяме Каннинге (William
Canynge). Имя Каннинга было известно Чаттертону по могильной
плите в церкви святой Марии: он превращает своего любимого
героя в идеального государственного деятеля, патриота, «отца го-
рода», просвещенного мецената, покровителя наук и искусств.
В его «красном доме», который существовал и во времена Чаттер-
тона, разыгрываются драматические «интерлюдии», сочиненные
Роули. В качестве бургомистра Бристоля Каннинг принимает
деятельное участие в постройке церкви святой Марии Редклифф
(1432). По его поручению Роули собирает художественные памят-
ники старины. Каннинг женат на прекрасной и добродетельной
Иоанне Хэтуей (Johanne Hathwaie). После ее смерти король Ген-
рих VI подыскивает ему другую жену, но Каннинг, верный своей
первой любви, уходит в монастырь. Здесь он умирает, и Роули
пишет биографию своего знаменитого друга.
Так создается ненаписанный исторический роман, который
является предпосылкой обширного цикла стихотворений на сред-
невековом английском языке, приписанныхЧаттертоном поэту Роули
и связанных в большинстве случаев с воображаемым прошлым Бри-
столя. Из них наиболее ранний опыт Чаттертона—эклога «Эллинор
и Джуга» (Elinoure and Jug?), написанная старинной строфой Чо-
сера («rime royale») и изображающая разговор двух девушек,
которые оплакивают своих возлюбленных, погибших в междоусоб-
ной войне Ланкастера и Иорка. В «Бристольской трагедии» (Bri-
stowe Tragédie) в стиле старинной баллады описывается казнь бри-
стольского патриота, рыцаря Чарльза Боудина, сторонника лан-
кастерской династии, поднявшего восстание против «узурпатора»,
короля Эдуарда IV из династии Иорков. Герой поэмы «Турнир»-
(The Tournament) сэр Симон де Буртон побеждает всех своих сопер-
535-
пиков, в том числе таинственного «неизвестного рыцаря», предва-
рительно дав обет в случае победы построить церковь в честь девы
ЛИарии, своей покровительницы. По объяснению Чаттертона, на
месте этой более древней церкви 1294 г. впоследствии была воз-
двигнута церковь святой Марии Редклифф. В интерлюдии «Парла-
мент духов» (The Parliament of Spirits), написанной в подражание
-«Парламенту птиц» Чосера и «представленной монахами кармели-
тами в большом доме мастера Каннинга в день освящения церкви
святой Марии», выступают духи великих строителей прошлого,
начиная с библейского Нимврода, вызванные из могил волшебницей,
•королевой Мэб. Все они должны признать, что новая церковь —
самое прекрасное строение в мире, и воздают хвалу ее создателю,
мастеру Каннингу.
Трагедия «Элла» (Ella) является подражанием Шекспиру. Театр
Шекспира представляется Чаттертону театром сильных страстей.
Его герой, англосакс Элла, властитель Бристоля, в день свадьбы
должен покинуть Берту, свою любимую жену, чтобы отразить на-
бег датчан. Во время его отсутствия Кельмонд, влюбленный в Бер-
ту, похищает ее. Ночью в лесу, пользуясь одиночеством, Кельмонд
делает попытку обольстить Берту и победить ее сопротивление.
Берту спасают датчане, разбитые Эллой и скрывающиеся в лесу.
Кельмонд убит, Элла, узнав о похищении Берты, кончает жизнь
самоубийством, Берта умирает над его трупом.
Злодей Кельмонд в своей преступной страсти напоминает позд-
нейших героев «готического романа». Отнесение исторической
трагедии в «шекспировском» стиле к XV веку было одним из ха-
рактерных для Чаттертона анахронизмов.
В «Битве при Гастингсе» (Battle of Hastings) Чаттертон пы-
тается создать национальную героическую эпопею. Он приписывает
авторство своей поэмы англо-саксонскому монаху Турготу, оче-
видцу событий; Роули выступает лишь как переводчик англо-сак-
сонского памятника. Поэма сохранилась в двух редакциях, и обе
остались незаконченными: для «готической» эпопеи Чаттертону
недоставало образцов.
Свои литературные подделки Чаттертон очень рано стал пока-
зывать своим согражданам и нашел среди них доверчивых,
но мало образованных покровителей. По случаю постройки в Бри-
столе нового моста он напечатал в местном журнале «извлеченное
из старой рукописи» описание освящения старого моста XV века
!{On the Mayors First Passing on the Old Bridge) и тем обратил на
себя внимание местных любителей старины. Богатому буржуа
Бургуму он изготовил родословную, возводящую его к рыцарям
я к временам Вильгельма Завоевателя. Хирургу Вильяму Баррету,
знатоку бристольской старины, работавшему над историей родного
города, он продал серию документов, касающихся бристольских
построек, прежде всего — церкви '" святой Марии Редклифф;
м поэтические произведения, связанные с ними.
Но скупые подачки и поощрения невежественных «покровите-
лей» не могли помочь Чаттертону освободиться от материально
.546
зависимого положения, выйти в люди и достигнуть поэтической сла-
вы, о которой он мечтал. Тогда он решил обратиться за покрови-
тельством к Горэсу Уолполю, известному в качестве знатока и це-
нителя старины. В «Анекдотах о живописи» (Anecdotes of Painting,
1762—1763) Уолполя было высказано предположение, что не фламан-
дец Ван-Эйк, а какой-нибудь неизвестный английский художник был
изобретателем станковой живописи (масляных красок). В 1769 г.
Чаттертон переслал Уолполю трактат Роули «Возникновение жи-
вописи в Англии» (The Ryse of Peyncteyne in Englande), где в ка-
честве такого изобретателя выступал художник и поэт Джон,
аббат кармелитского монастыря в Бристоле. Вторая посылка содер-
жала столь же апокрифическую «Историю английских художни-
ков», за которой последовали образцы стихотворений Роули.
Уолполь первоначально отнесся с большим интересом и дове-
рием к документам, сообщенным ему неизвестным бристольским
антикварием, каковым он, повидимому, считал Чаттертона. Но
когда этот последний откровенно написал ему о своем материальном
положении и попросил помощи, Уолполь стал испытывать сомне-
ния, показал присланные ему рукописи Грею и Мэйсону, которые
тотчас же признали их поддельными, и отослал их обратно Чат-
тертону, с «отеческим» советом заниматься своим ремеслом.
Чаттертон решил попытать счастья самостоятельно. Завязав
связи с лондонскими издателями, он в апреле 1770 г. отправился
в столицу в надежде найти литературный заработок. Здесь он
впал в крайнюю бедность и, не желая нищенствовать, 24 августа
1770 г. покончил с собою. Ему было в это время неполных
18 лет.
Вскоре после смерш молодого поэта слава о его необычайном
даровании и трагической судьбе распространилась в литературных
кругах Лондона. Уолполю пришлось в специальной брошюре
•оправдываться в своем жестоком поступке, стоившем жизни гени-
альному юноше. В 1777 г. Тёрвит, издатель Чосера, собрал и на-
печатал стихотворения Чаттертона, приписанные Роули (Poems
supposed to have been written at Bristol by Thomas Rowley and
others in the 15-th century), сопроводив их статьей, в которой
он с полной убедительностью доказывал подложность этих про-
изведений.
Однако еще Томас Уортон в своей «Истории английской поэзии»
посвящает специальную главу «поэмам, приписываемым Роули».
Вскоре после этого Герберт Крофт (Sir Herbert Croft) совершил
паломничество в Бристоль, на родину Чаттертона, и из рассказов
его родных и друзей составил полуроманическую биографию мо-
лодого поэта, озаглавленную «Любовь и безумие, правдивая повесть
в письмах» (Love and Madness, a Story too true, in a series of Letters,
«6etc, 178C). Ее дополнила через несколько лет более достоверная
биография, написанная Грегори (G. Gregory. The Life of Thomas
Chatterton, with Criticisms on his Genius and Writings, 1789).
В числе позднейших издателей сочиненийЧаттертона следует отметить
поэта Саути (1803).
■5S7
Английские романтики высоко ценили Чаттертона, «чудесного
мальчика, бессонную душу, погибшую в своей гордости», как писал
о нем Вордсворт, и видели в нем своего ближайшего предшествен-
ника. Его удивительное дарование и трагическая судьба нашли
отражение в стихотворениях Вордсворта (Resolution and Indepen-
dence), Кольриджа (Monody on the death of Chatterton), Китса,
посвятившего его памяти своего «Эндимиона», Шелли, вспоминав-
шего о нем в «Адонаисе», Данте Г. Россетти (Five English Poets).
Французский романтик Альфред де Виньи изобразил его судьбу
в одном из эпизодов романа «Стелло» (1832) и в трагедии «Смерть
Чаттертона» (1835), показывающей трагическое столкновение поэ-
та-романтика с буржуазным обществом.
Вопрос об авторстве стихотворений Роули со времен Тёрвита
может считаться окончательно решенным. Язык этих стихотворе-
ний с лингвистической точки зрения является совершенным анахро-
низмом. Исследования позднейших филологов объяснили метод
работы Чаттертона: на основании существовавших в его время сло-
варей к Чосеру (Bailey, Kersey и др.) он составил свой собственный:
словарь для перевода с современного английского языка на сред-
невековый, которым он пользовался при сочинении своих поэм.
Словарь этот был полон ошибок, соответствовавших уровню тог-
дашней науки и недостаточным знаниям самого Чаттертона. Диа-
лект Бристоля, содержащий ряд архаизмов, в значительной степе-
ни облегчал Чаттертону понимание средневековых текстов, но»
вместе с тем являлся новым источником заблуждений.
Прямое влияние Чаттертона на романтическую поэзию XIX
века было незначительно, но он во многих отношениях предвосхи-
тил ее метод. Его стихи, как впоследствии стихотворения Коль-
риджа, Китса или прерафаэлитов, пользуются методом стилизации
для выражения романтического восприятия жизни современного
поэта. Его ненаписанный роман о Роули и Каннинге и картины
Бристоля XV века напоминают позднейшие исторические романы
Вальтера Скотта, развертывающие вымышленную романическую
фабулу в обстановке событий и быта старой Англии.
•
Глава 2
«ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН»
1
Одним из самых оригинальных и значительных проявлений
предромантизма в английской литературе XVIII века был так на-
зываемый «готический роман» (the Gothic Novel или the Gothic
Romance), известный также в истории литературы под именем
«черного романа» (le roman noir) или «романа ужасов» (the Tale
°f Terror). Уолполь, Радклиф, Бекфорд, Льюис и множество других
Оолее забытых писателей второй половины XVIII века были его
представителями.
583
Как и другие современные ему предромантические явления,
«готический роман» представлял своеобразную реакцию на просве-
тительство XVIII века. Начиная с Уолполя и кончая Льюисом,
творчество создателей «готического романа» может не без основа-
ния рассматриваться как форма скрытой полемики с принципами
просветительского реализма, установленного творчеством Ричард-
сона, Фильдинга и др. В этой полемике принимают участие пред-
ставители различных общественных кругов. В истории «готического
романа» нельзя не обнаружить заметных различий между аристо-
кратической оппозицией к просветительству, представленной твор-
чеством Уолполя или Бекфорда, и гораздо более умеренной демо-
кратической критикой Просвещения в творчестве Анны Радклиф
или Клары Рив. Эти различия сознаются, до известной степени,
и самими создателями «готического романа». Уолполь презритель-
но отзывается о Кларе Рив, Бекфорд пародирует Анну Радклиф,
а те, в свою очередь, стремятся освободить «готический роман» от
«крайностей», свойственных творчеству Уолполя и Бекфорда.
В причудливых узорах таинственных и драматических исто-
рий, рассказанных в «Замке Отранто», «Удольфских тайнах», «Мо-
нахе», «Итальянце» и т. д., вырисовывалась новая концепция жиз-
ни и искусства, очень отличная от просветительской. Внешние
признаки, служащие обычно основанием для классификации ро-
манов «готической школы», — обращение к средневековой
«готике», фантастические и таинственные сюжеты, тяготение к ме-
лодраматическим эффектам, к мрачному и трагическому колориту,
все это было связано с новым взглядом на жизнь и на искусство,
возникавшим в процессе переоценки философских и эстетических
ценностей буржуазного просветительства.
Разрыв между идеальными построениями просветителей и реаль-
ной практикой буржуазной Англии сказывался уже в творчестве
поздних просветителей, современников промышленного переворота
и его ближайших исторических последствий. По мере того как
прежняя мануфактурно-земледельческая Англия уступала место
новой, капиталистической Англии, делалось более и более
очевидным, что действительная жизнь ускользает в своем движении
как от велений просветительского разума, так и от требований
«человеческой природы».
По сравнению с прежними, добуржуазными историческими
формами классового угнетения и неравенства, «неестественность»
и «неразумность» которых была очевидна для просветителей, клас-
совые противоречия буржуазного общества носили гораздо более
мистифицированный, скрытый характер. Действительное нера-
венство проявлялось в форме видимого равенства, величайшее по-
рабощение — в форме величайшей видимой свободы. Будучи, в
действительности, эпохой «наиболее развитых общественных... свя-
зей» \ капиталистическая эпоха порождала иллюзорное представ-
ление о буржуазном обществе, как о простом механическом соеди-
1 Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр." 174
589
нении бесчисленного множества атомистически разобщенных, обосо-
бленных ) индивидов. Общественная сущность человека как бы
отчуждалась от него самого. По словам Маркса и Энгельса, «со-
циальная сила, т. е. умноженная производительная сила, возни-
кающая благодаря обусловленному разделением труда сотрудни-
честву различных индивидов, вследствие того, что само сотрудни-
чество возникает не добровольно, а стихийно,,—эта социальная
сила представляется этим индивидам не как их собственная объе-
диненная сила, но как некая чуждая, вне их стоящая сила, о про-
исхождении и целях которой они ничего не знают, которою, сле-
довательно, они уже не могут овладеть, которая, напротив, должна
пройти свой особенный, не зависящий от воли и поведения людей,
а даже эту волю и это поведение направляющий, ряд фаз и ступе-
ней развития»г.
Просветительский разум, при свете которого меркла «ложная
мудрость» религиозных суеверий и феодально-сословных предрас-
судков, становился втупик перед тайной буржуазного общества,
устроенного, по видимости, в соответствии с самыми «естествен-
ными» и «разумными» законами самой природы, а между тем, в дей-
ствительности, столь противоестественного и враждебного человеку.
Нарастало ощущение трагической беспомощности простого
человеческого здравого смысла перед лицом жизненных загадок.
Общественное зло, которое легко обнаруживалось ранее в совер-
шенно конкретных, разумно постижимых формах, приобрело теперь
таинственно безличный, стихийный, «сверхчеловеческий» характер-
Ответственность за феодальное варварство и религиозное мракобе-
сие можно было безошибочно возложить на «великих мира сего»-
и князей церкви; но где найти реальных виновников нарождав-
шегося хаоса буржуазных общественных отношений? Оставалось
лишь повторить вслед за шекспировским Гамлетом: «Есть многое-
на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам».
Таковы были исходные предпосылки возникновения и развития
«готического романа». Они сказались отчасти уже в творчестве
поздних английских просветителей. Своеобразным предвосхище-
нием романов «готической школы» представляются, например, смол-
летовские «Приключения графа Фердинанда Фатома», появившие-
ся еще в 1753 г., за двенадцать лет до первого «готического рома-
на»— уолполевского «Замка Отранто». Исходя из традиционной
схемы авантюрно-плутовского романа, лежавшей в основе боль-
шинства просветительских реалистических романов в Англии, Смол-
лет придает ей, однако, по-новому трагический характер. Авантю-
рист Фатом—уже не прежний веселый искатель приключений, а
черный и опасный злодей, опутывающий окружающих роковыми
сетями преступных интриг. Смоллет сгущает мрачные краски по-
вествования, вплетая в него таинственные и страшные мотивы, и
обыгрывает неожиданные мелодраматические эффекты.не хуже позд-
нейших мастеров «готической школы».
1Маркс и Энгельс, Соч., т. IV, стр. 24—25.
590.
Аналогичное явление представлял собою и роман Джона Мура.
(John Moore, 1729—1802) ^«Зелуко: различные виды человеческой,
природы, заимствованные из отечественной и иностранной жизни,
и нравов» (Zeluco. Various Views of Human Nature, taken from Life
and Manners, Foreign and Domestic, 1786). По духу своего творче-
ства Мур еще целиком принадлежит Просвещению. В его дидакти-
ческом, нравоописательном романе нет ни одного эпизода, ни одной,
черты характера, которые не были бы предназначены для доказа-
тельства заранее предустановленного благоразумного тезиса. Но,,
как и в «Фердинанде Фатоме», тема «порока» получает в «Зелуко»-
по-новому мрачное, почти трагическое освещение. Зелуко—зло-
дей иных, гораздо более «сверхчеловеческих» масштабов, чем.
все Блайфили и даже Ловласы предшествующей просветительской
литературы. Его жизнь—сплошная цепь преступлений. Он раз-
бивает сердце разоренной им матери, истязает своих рабов, опу-
тывает дьявольскими интригами доверившихся ему друзей, жес-
токо тиранит свою добродетельную жену, взводя на нее ложное
обвинение в кровосмесительной связи с ее братом, убивает в при-
падке ярости собственного ребенка и, наконец, погибает в страш-
ных мучениях. В романе нет ни фантастических чудес, ни роковых
тайн; но проблема зла и преступления уже приобретает у Мура
мелодраматическую напряженность и гиперболичность, характер-
ные для «готической школы». Знаменательно, что Байрон в допол-
нительном предисловии к «Чайльд-Гарольду», написанном в 1813 г.,
заметил, что, по первоначальному замыслу, герой его поэмы дол-
жен был оказаться «опоэтизированным Зелуко».
И, наконец, просветительский реализм уже вплотную граничит
с «готикой» в романах Вильяма Годвина (1756—1836), последнего
великого просветителя и первого романтика в английской ли-
тературе конца XVIII—начала XIX века.
Но, хотя черты «готики» и проступали, под влиянием внутрен-
него кризиса просветительства, даже в творчестве самих писателей
позднего Просвещения, «готическая школа» с самого ее возникно-
вения вступает в более или менее определенную оппозицию к про-
светительскому реализму. Уже Горэс Уолполь в письме к своей
французской приятельнице г-же Дюдеффан, близкой к кружку
энциклопедистов, демонстративно заявляет о своем разрыве в
«Замке Отранто» с принципами просветительской эстетики: «Я
написал свою книгу не для нынешнего века, который не выносит
ничего, кроме холодного рассудка... я предоставил полную свободу
своему воображению, пока не воспламенился вызванными им обра-
зами и чувствами. Я написал ее вопреки правилам, критикам и
философам; и она, мне кажется, только выиграла от этого».
На смену прежней бытовой, нравоописательной тематике в.
творчестве романистов «готической школы» появляются новые
темы, «освобожденные» от житейского правдоподобия, фантасти-
ческие и необычайные, овеянные исторической и географической
экзотикой. Знакомую Англию XVIII века сменяет средневековая
Италия, Испания, Франция, иногда даже, — как, например,.
591
;в «Ватеке» Бекфорда, — далекий Восток. Обычные средние англи-
чане XVIII века — Томы Джонсы и Софии Уэстерн, Родерики Рэн-
домы и Страпы — вытесняются новыми героями исключительных
пороков и достоинств, чудовищными злодеями, доблестными рыца-
рями, благородными героинями небывалой невинности и красоты.
Меняется в целом само представление о ценностях искусства и
критериях художественности. Стремление к разумной ясности и
простоте, заставлявшее Дефо, Ричардсона, Фильдинга, Смоллета
изгонять из своих просветительских романов все преувеличенное,
неправдоподобное, «экстравагантное», фантастическое, отвергает-
ся, уступая место прямо противоположной тенденции. Роман пе-
рестает быть зеркалом жизни, честно и правдиво отражающим ее
повседневную прозу. Он получает даже, в соответствии с этим, новое
обозначение: вместо прежнего жанрового термина «novel» (роман),
ведущего начало от реалистической новеллы Возрождения, писа-
тели «готической школы» прибегают обычно к термину «romance»
.(роман), восходящему к средневековым куртуазно-рыцарским^
романам.
Всем своим творчеством романисты «готической школы» убежда-
ют читателей в непостижимой сложности жизни, в независимости
ее тайных и роковых законов от человеческого желания и воли.
«Романтическая ирония» XIX века отдаленно предвосхищается
в сюжетах большинства романов «готической школы»: человек
в своем жалком ослеплении идет к гибели, думая, что преследует
счастье; обманчивый мираж исчезает, едва лишь к нему протя-
гивается рука. Даже естественные страсти и стремления человека,
в которых просветители видели залог его совершенствования, ока-
зываются роковым оружием, обращающимся против своих обла-
дателей. Страшные пропасти роковых соблазнов и искушений угро-
жают ему; смерть, притаившись, поджидает его посреди жизни;
и ничто человеческое,—ни силы рассудка, ни упорство доброде-
тели,— не может защитить его от неведомой и коварной судьбы.
Особое значение приобретает в произведениях «готической
школы» трагическая тема кровосмесительной любви и противо-
естественной ненависти, как бы символизирующая роковую запу-
танность и извращенность всех жизненных отношений. Тема эга
фигурирует, прямо или косвенно, в большинстве произведений
«готической школы». В «Замке Отранто» Уолполя Манфред домо-
гается руки невесты своего сына и убивает собственную дочь.
В «Романе в лесу» Анны Радклиф братоубийца маркиз де Монтальт
преследует кровосмесительной страстью свою племянницу Аде-
лину. В «Итальянце» Радклиф монах Скедони — другой братоубий-
ца — узнает свою дочь в девушке, которую собирается убить.
В «Монахе» Льюиса герой убивает мать, насилует и убивает сестру.
Все эти «ужасы» «готического романа» рассчитаны, не только
на то, чтобы потрясти воображение читателя. В них заключается
своеобразная философия жизни, противоположная просветитель-
скому гуманизму XVIII века. Но и чисто декоративная, внешняя
сторона искусства действительно приобретает у писателей «готи.-
.592
ческой школы» огромное, совершенно несвойственное ей раньше, в
творчестве реалистов-просветителей, значение. Критики поныне
спорят о том, кто является истинным героем уолполевского «Зам-
ка Отранто», — сам ли замок, или люди, его населяющие. Выраба-
тываются новые приемы повествования, призванные неопределен-
ными намеками, смутными внушениями возбуждать трепетное лю-
бопытство читателя, пробуждать в нем неясные догадки и предчув-
ствия, заставлять его устремляться по ложному следу с тем, чтобы
после долгих блужданий в лабиринте неведомого он вновь ока-
зался перед лицом неразрешенной тайны. Если в произведениях
«готической школы» есть своя мораль, то это, прежде всего, мораль
смирения перед тайнами жизни.
Эти общие тенденции «готического романа» проявляются по-
разному в творчестве каждого его представителя. Внутри «готи-
ческой школы» можно различить по крайней мере два направления.
У Анны Радклиф, Клары Рив и многих других писательниц раз-
рыв с просветительским реализмом осуществляется лишь частично,
компромиссным путем; у Уолполя, Бекфорда и других оппозиция
к просветительству получает с самого начала более резко выражен-
ный, непримиримый характер.
2
Жанр «готического романа», как и сам этот термин, восходит
к творчеству Горэса Уолполя (Horace Walpole, 1717—1797), авто-
ра знаменитого в свое время «Замка Отранто» (The Castle of Otran-
to, 1765).
Уолполь — одна из самых колоритных фигур английской лите-
ратуры XVIII века. Сын известного вигского министра сэра Робер-
та Уолполя, он рано приобщился к Политике, с самого совершен-
нолетия почти бессменно состоял членом парламента и пользовался
доходами нескольких выгодных государственных должностей-
синекур, пока, уже в старости, не унаследовал титул графа Орфор-
да. Политическая деятельность была, однако, лишь номинальным
призванием Горэса Уолполя. В своей частной жизни он был настоя-
щим воплощением одного из тех «джентльменов-дилетантов», для
которых писал когда-то свои изящные философские сочинения Шефтс-
бери. Он интересовался всем понемногу: искусством, поэзией,
историей, археологией, естественными науками; собирал коллек-
ции скульптуры, старинного оружия, монет, раковин; написал
несколько работ по истории живописи, где, впрочем, весьма пре-
небрежительно отнесся к великому художнику Англии
XVI11 века — Гогарту; предпринял попытку исторической реаби-
литации Ричарда III и оставил обширное собрание дневников и
писем к друзьям, к которым в молодости принадлежал поэт Грей,
. а позднее — г-жа Дюдеффан и др. Это собрание представляет
ценный материал для изучения английской культуры и нравов се-
редины XVIII века.
38 Англ. литература 593
Одним из многочисленных дилетантских «коньков» Уолполя
было его увлечение готической архитектурой, входившей «в моду*
в 50-х годах XVIII века. Начиная с 1750 г., в письмах Уолполя
то и дело мелькают упоминания о том, как много времени и средств
отнимает у него очередной каприз — превращение в готический
замок загородной виллы в Стробери-Хилле. Необычайная архитек-
турная новинка оказалась настоящим «пряничным замком», где
беспорядочно смешивались средневековые архитектурные стили
разных времен и родов. Местность вокруг «замка» была также со-
ответственным образом стилизована, и даже коровы, которые пас-
лись на соседней лужайке, были подобраны по цвету в тон пей-
зажа. По ироническому замечанию Сельвина, современника Уолполяг
Стробери-Хилл напоминал скорее «катакомбы или, в лучшем слу-
чае, музей, чем жилой дом, а сам хозяин «замка» казался одной
из наиболее удачно сохранившихся мумий во всей коллекции».
Возникновение единственного романа Уолполя тесно связано
с историей Стробери-Хилла. Уолполь выпустил его анонимно, в
небольшом количестве экземпляров, отпечатанных в собственной
любительской типографии в Стробери-Хилле. В предисловии к этому
первому изданию автор, скрываясь под маской мифического «пе-
реводчика» В. Маршала, рекомендовал читателям свой роман, как
перевод старинной первопечатной итальянской книги, принадле-
жавшей перу средневекового итальянского летописца Онуфрио
Муральто, каноника церкви св. Николая в Отранто. Секрет автор-
ства был раскрыт в предисловии ко второму изданию романа.
К «Замку Отранто» примыкает написанная в том же предроман-
тическом духе трагедия «Таинственная мать» (1768), посвященная
обычной для «готического жанра» теме кровосмешения. Трагедия
эта, шокировавшая своим сюжетом даже горячих поклонников
«готики», не имела успеха* Зато «Замок Отранто» вызвал сен-
сацию.
Читателю XX века трудно представить себе впечатление, кото-
рое должна была произвести книга Уолполя на людей 60-х годов
XVIII века, воспитанных на Ричардсоне и Фильдинге и привыкших
находить на страницах романа разумное и поучительное изобра-
жение обычной, общеизвестной английской жизни, быта и нравов.
Здесь же все было ново и необыкновенно, все выходило за пределы
нормального житейского опыта: и средневековая «готическая» об-
становка, и фантастическая сверхъестественность действия, и тра-
гически-мрачный тон всего повествования.
На глазах читателей сбывалось таинственное предсказание,
обещавшее, что замок Отранто останется в руках его теперешних
властителей до тех пор, пока его законный владелец не вырастет
настолько, что уже не сможет помещаться долее в его стенах. Все
загадочные события, ошеломлявшие читателя с первых стра-
ниц книги, оказывались связанными с этим роковым пророчеством.
Тоном, не допускавшим сомнений, автор рассказывал о том, как
гигантский шлем, украшенный черными перьями, упав с неба,
594
раздавил насмерть Конрада, наследника замка Отранто, в самый
день его свадьбы; как портрет деда принца Манфреда, владельца
замка Отранто, с тяжелым вздохом вышел из рамы и удалился из
комнаты; как слуги замка увидели сперва ногу, а потом и руку ко-
лоссального призрака, закованного в броню; как упали три капли
крови из носа мраморной статуи Альфонсо Доброго, прежнего вла-
дельца замка Отранто; как страшный посланец могилы — скелет,
одетый в монашескую рясу, — явился предостеречь благородного
маркиза де Виченца от женитьбы на Матильде, дочери Манфреда;
как, наконец, переполнилась мера преступлений Манфреда и его
предков, злодейски узурпировавших власть в Отрантском княже-
стве, и тогда, во исполнение пророчества, рухнули стены замка
Отранто, и гигантский призрак Альфонсо Доброго, убитого дедом
Манфреда, встал из развалин и, провозгласив своим наследником
юного Теодора, еще недавно считавшегося простым поселянином,
вознесся к небу в лунном сиянии.
Уолполь пытается хотя бы частично примирить всю.эту фан-
тастику с требованиями здравого смысла. В предисловии к первому
изданию «Замка Отранто», написанном от лица «переводчика»,
Уолполь признает, что книга «нуждается в оправдании», даже если
рассматривать ее исключительно как «предмет развлечения», и
старается объяснить ее сверхъестественное содержание объектив-
ными историческими причинами: «Чудеса, видения, волшебство,
сны и другие сверхъестественные явления изгнаны теперь даже из
романов. Дело обстояло иначе тогда, когда писал наш автор, а тем
более тогда, когда, предположительно, имела место описанная им
история. Вера во всевозможные чудеса была в эти темные века
настолько непоколебима, что писатель, который опустил бы всякое
упоминание о них, исказил бы нравы того времени. Он не обязан
верить в них сам, но он должен показать, что его действующие лица
в них верят». С той же, чуть заметной иронией Уолполь замечает,
что ему было бы приятней, если бы автор «исходил в своем замысле
из более полезной морали, чем та, что грехи отцов караются в детях
до третьего и четвертого колена». Уолполь остается, в сущности,
аристократическим вольнодумцем-скептиком, которому равно чуж-
да и «полезная мораль» буржуазного просветительства, и наивные
суеверия средневековья; разница лишь в том, что последние, как
ему кажется, дают искусству более поэтический и оригинальный
материал.
Впрочем, в самой разработке своего фантастического материала
Уолполь еще далеко не свободен от рационалистических принципов
просветительства. Самый стиль его повествования — сухой, сдер-
жанный и логически ясный, без единого лишнего образа или срав-
нения, кажется унаследованным от просветителей. Вальтер Скотт
находил, что по манере письма Уолполь — в противоположность
более поэтической Анне Радклиф — принадлежит к числу таких
«решительно прозаических писателей», как Фильдинг, Ричардсон
и Смоллет. По замечанию Скотта, сверхъестественные чудеса
Уолполя обрисованы слишком четко и ясно и залиты слишком
38* 595
ярким солнечным светом, чтобы заставить поверить в них чита-
теля.
Да и сам Уолполь, при всей антипатии к «правилам, критикам
и философам», как видно, находит не лишним освятить свой нова-
торский литературный эксперимент авторитетом реалистической
эстетики; недаром утверждает он в предисловии ко второму изда-
нию, что природа и Шекспир служили ему образцами в трактовке
его фантастической темы. Ссылка на Шекспира, полемически за-
остренная против Вольтера, связана, преимущественно, с попыткой
Уолполя сочетать трагический сюжет романа с комическими ввод-
ными мотивами, представленными, главным образом, «низшими»
персонажами книги — трусливыми и бестолковыми слугами, легко-
мысленной и болтливой горничной Бианкой и т. д. В предисловии
ко второму изданию Уолполь говорит, что хотел «слить воедино
два рода романов — старинный и новый». И действительно, вы-
двигая на авансцену своего повествования героические события ры-
царских времен, он сохраняет на заднем плане комические быто-
вые сцены, словно заимствованные из романов Фильдинга или
Смоллета.
Порывая с просветительским реализмом, Уолполь, таким обра-
зом, сохранил все же в своем творчестве отдельные его черты. После
же Уолполя английский «готический роман» надолго занял еще бо-
лее компромиссную позицию по отношению к рационалистической;
эстетике Просвещения.
Очень характерно в этом отношении творчество Клары Рив
(Clara Reeve, 1729—1807), одной из ближайших продолжательниц
Уолполя. Свой первый и наиболее значительный роман, носив-
ший первоначально название «Защитник добродетели. Готическая
история» (The Champion of Virtue. A Gothic Story, 1777) и переиздан-
ный годом позже под заглавием «Старый английский барон»
(The Old English Baron), сама Клара Рив называла «литературным
отпрыском» «Замка Отранто».
Однако, признавая себя в долгу у Уолполя, писательница спе-
шит оговориться в предисловии к своей книге, что считает его
метод использования сверхъестественных мотивов неприемлемым
и нехудожественным. Ошибка Уолполя, по ее мнению, заключает-
ся в том, что сверхъестественные пружины его романа «действуют
настолько энергично, что разрушают тот самый эффект, который
они призваны создать». В своем «Старом английском бароне» Кла-
ра Рив стремится поэтому рграничить фантастический элемент пре-
делами хотя бы условного «правдоподобия».
Действие романа — относящееся к XV веку, ко времени Ген-
риха VI — не свободно от вмешательства сверхъестественных сил.
Эдмунд, сын и наследник предательски убитого лорда Ловеля, по-
лучает отнятое у него наследство лишь после того, как призрак
его отца дает понять своим появлением, что не все благополучно в
старом замке. Но роль фантастики сведена до минимума; при же-
лании, она поддается рационалистическому объяснению; и вместо
грандиозной фантастической катастрофы «Замка Отранто» «готи-
596
ческая история» Клары Рив оканчивается полюбовной компромисс-
ной сделкой, причем феодальный тиран-узурпатор высчитывает
издержки, понесенные им по воспитанию законного наследника,
с деловитостью, которая сделала бы честь любому английскому
коммерсанту XVIII века.
«Готический роман» Клары Рив, в сущности, еще очень бли-
зок, — «за вычетом» условной средневековой декорации и слабо
развитого фантастического элемента, — к реалистическому нрзво-
описательному роману школы Ричардсона. Аналогичные попытки
примирения предромантической «готики» с благоразумной чувст-
вительностью представлены творчеством сестер Софии и Гарриет
Ли (Sophia Lee, 1750—1824; Harriet Lee, 1757—1851), Шарлотты
Смит (Charlotte Turner Smith, 1749—1806) и других английских
романисток 70—80-х годов XVIII века.
В своем «Убежище» (The Recess, 1783—1785) София Ли,вдохно-
вляясь отчасти ранним английским образцом «исторического»
жанра — «Лонгсвордом, графом Сольсбери» (Longsword, Earl of
Salisbury, 1762), приписываемым ирландскому пастору Леланду
(Leland), а главным образом романами Прево, создает «исторический»
роман из английской жизни XVI века. Героини романа, сестры-бли-
знецы, оказываются плодом тайного брака Марии Стюарт с герцогом
Норфольком; одна из них, в свою очередь, становится втайне женой
Лейстера, другая — невестой Эссекса. Исторические события ели-
заветинских времен служат лишь фоном, на котором развертывается
личная драма Матильды и Элеоноры.
За «Убежищем» последовал написанный обеими сестрами сборник
«Кентерберийские рассказы» (The Canterbury Tales, 1797—1805),
темы которых навеяны, очевидно, отдаленным воспоминанием
о Чосере, где реалистические нравоописательные семейно-бытовые
рассказы еще мирно уживались рядом с мелодраматическими новел-
лами предромантического типа. Одна из последних — «Крютнер,
рассказ немца» — послужила источником байроновского «Вернера».
В романах Шарлотты Смит — «Эммелина, сирота из замка»
(Emmeline, the Orphan of the Castle, 1788), «Этелинда, или отшель-
ница озера» (Ethelinde, or the Recluse of the Lake, 1790), «Старый
помещичий дом» (Ihe Old Manor-House, 1793) и др. —также сов-
мещались черты чувствительного семейно-бытового романа и
«готического романа» тайн и ужасов.
Но классическим образцом компромиссной трактовки «готиче-
ского романа» в духе просветительского «здравого смысла» было
творчество знаменитой Анны Радклиф, «великой очаровательницы»,
как любила называть ее тогдашняя критика.
3
Жизнь Анны Радклиф (Ann Radcliffe, 1764—1823), урожден-
ной Уорд (Ward), была, повидимому, небогата событиями и известна
исследователям лишь в самых общих чертах. Дочь торговца, она
получила некоторое образование, возможно, в той самой школе,
597
которую содержали сестры Ли, авторы «Кентерберийских расска-
зов», и вышла замуж за журналиста Вильяма Радклифа, ставшего
впоследствии владельцем и редактором «Английской хроники»
(The English Chronicle). По преданию, будущая романистка начала
писать от нечего делать, чтобы занять одинокие вечера. Первый
плод ее творчества не отличался большими достоинствами и не обра-
тил на себя внимания публики. Это был «исторический» роман «Зам-
ки Этлин и Данбэйн» ( 1 he Castles of Athlyn and Dunbayne, 1789).
За ним последовали «Сицилианский роман» (A Sicilian Romance,
1790), обративший на себя внимание читателей и критики, «Роман
в лесу» (The Romance of the Forest, 1791), завоевавший Анне Рад-
клиф широкую известность, и, наконец, ее знаменитые шедевры:
«Удольфские тайны» (The Mysteries of Udolpho, 1794)и «Итальянец»
(The Italian, 1797). Кроме того, Анне Радклиф принадлежит издан-,
ная в 1795 г. книга путевых заметок «Путешествие по Голландии
и Германии» (A Journey... through Holland, and... Germany) и вы-
шедший посмертным изданием в 1826 г. роман «Гастон де Блонд-
виль» (Gaston de Blondeville, etc.), мало характерный для ее твор-
чества и не имевший особого успеха.
Современники Радклиф объясняли по-своему ее молчание в
последние годы жизни; говорили, что «ужасы» ее романов оказали
роковое влияние на рассудок писательницы, и что Анна Радклиф
сошла с ума, потрясенная созданиями собственного воображения.
Предание это, решительно опровергавшееся родными писатель-
ницы, повидимому, не имело под собой реального основания;
оно интересно, однако, для характеристики того впечатления, ка-
кое производили когда-то ее романы.
Позднейший продолжатель Анны Радклиф, романтик Чарльз
Роберт Мэ1ьюрин (Maturin), может быть, лучше, чем кто-либо, вы-
разил это впечатление. «Ее романы, — писал Мэтьюрин, — полны
неотразимого и опасного очарования; они способны пробудить свое-
образное меланхолическое безумие в отдающейся им душе...
Ее замки и аббатства, ее горы и долины всегда окрашены последними
лучами заходящего солнца или первыми отблесками восходящего
месяца; ее музыка сливается с журчанием ручья, в темных волнах
которого отражается мерцание вечерней звезды; шпили ее башенок
всегда посеребрены лунным светом, а чащи ее лесов озаряются толь-
ко бледными вспышками молнии; сумеречная тень лежит на ее
изображении нравственного, так же как и физического, мира».
Романы Анны Радклиф были многим обязаны ее непосредствен-
ным предшественникам — Горэсу Уолполю, Кларе Рив, Ш флотте
Смит и другим писателям «готической школы»; кроме того, Анна
Радклиф, может быть, шире, чем кто бы то ни было из них, исполь-
зовала опыт европейского сентиментализма. Влияние Руссо ска-
зывается в большей или меньшей степени во всех ее зрелых
произведениях, и «Ра:бойники» Шиллера недаром принадлежали —
наравне с «Макбетом» Шекспира — к числу ее любимых пьес.
Проблематика большинства романов Радклиф очень тесно свя-
зана с демократическими идеями сентименталистов. Отголоски
598
«Новой Элоизы» звучат и в «Романе в лесу», в описании мирной
швейцарской общины, где находит приют измученная преследова-
ниями Аделина, и в «Удольфских тайнах» в изображении счаст-
ливого сельского уединения семейства Сент-Оберов, и в идилли-
ческих начальных эпизодах «Итальянца», повествующих о скромной
трудовой жизни Эллены и ее тетки на вилле Альберти. Роковое
крушение этой счастливой гармонии патриархальных отношений и
составляет исходный пункт «Удольфских тайн» и «Итальянца».
Радклиф не раз случалось обращаться к теме губительного
влияния искусственных соблазнов, порождаемых условиями «ци-
вилизованного» общества, на характеры не дурных «от природы»
людей. В «Романе в лесу» Ла Мотт, увлеченный водоворотом свет-
ской жизни, проигрывает все свое состояние и постепенно невольно
опускается до грабежа, сводничества и т. д., мучительно сознавая
сам бесчестность своих поступков. В «Удольфских тайнах» Валан-
кур, попав в Париж, подобно Сен-Пре, становится жертвой велико-
светских искушений, забывает о своей прежней чистой любви и
с трудом, ценою тяжких угрызений совести, возвращает себе преж-
нее нравственное равновесие и душевный покой.
Но обычно, — и в этом существенное отличие «готического ро-
мана» Анны Радклиф от романа сентименталистов XVIII века, —
это сопоставление двух миров отвлечено у нее от социальных, быто-
вых и психологических условий и приобретает фантастический
характер. Место реального современного общественного фона зани-
мает условная романтическая декорация — средневековая Шот-
ландия в «Замках Этлин и Данбэйн», «готическая» Италия в «Си-
цилианском романе», Франция и Швейцария XVII века в «Романе
в лесу», Франция и Италия времен Возрождения в «Удольфских
тайнах». Живых, сложных и внутренне противоречивых людей
«Векфильдского священника», «Новой Элоизы» и «Вертера» заме-
няют персонажи, очень близко напоминающие, в большинстве
своем, те самые «образцы ангельского совершенства или дьяволь-
ской испорченности», какие Фильдинг еще недавно стремился из-
гнать из литературы. Зато действие во всех его сложных и напряжен-
ных драматических перипетиях, с его роковыми тайнами, томитель-
ными паузами, обманчивыми недоразумениями и неожиданными
развязками, становится главным, центральным моментом книги;
о нем более всего заботится автор; к нему приковано все внимание
читателя.
Это преобладание сюжетного момента в повествовании связано
в творчестве Радклиф с теми общими установками, которые
она разделяет с другими представителями «готического романа».
Она также стремится воплотить в своем творчестве более или менее
смутно ощущаемую «неблагополучность» жизни. И у нее, как и
у Уолполя, Бекфорда и Льюиса, выдвигается на первый план по-
вествования тайная игра стихийных, роковых жизненных сил, под-
чиняющих себе человека с его рассудком, волей и чувствами.
Мотив, иронически «обыгрывазшийся» впоследствии Текке-
реем, любившим повторять, что нет дома, где не был бы спрятан
599
свой «скелет», принимается Анной Радклиф почти буквально. Под
тонкой оболочкой кажущегося благополучия и покоя скрываются/
в ее изображении, роковые тайны, гибельные опасности, страш-
ные глубины неведомого.
Но злой «рок» выступает в романах Радклиф в гораздо более
рациональном, разумно постижимом виде, чем в фантастических
произведениях Уолполя или Бекфорда. Сверхъестественные силы
низводятся у нее до своей более прозаической, реальной основы.
Эмилия Сент-Обер в «Удольфских тайнах» не имеет, в сущности,
иных врагов, кроме эгоистической, тщеславной и вздорной тетки
и мужа ее, синьора Монтони, скрывающего, под видом романти-.
ческого злодея, замыслы заурядного хищника^авантюриста. Пре-^
следования, жертвами которых становятся Эллена и Вивальди,*
герои «Итальянца», объясняются, в конце концов, столь же реальч
ными причинами, прежде всего — нежеланием аристократически»
тщеславной маркизы Вивальди видеть сына женатым на девушке
неизвестного происхождения, своим трудом зарабатывающей хлеб.
Даже сам демонический «итальянец» — монах Скедони, — и тот
оказывается не более как честолюбивым интриганом, страсти ко-
торого преследуют вполне земные цели. В этом смысле Анна Рад-
клиф еще сохраняет в своих произведениях известную преемствен-
ную связь с творчеством английских реалистов-просветителей,
создателей бытового реалистического романа.
Характерно, что Анна Радклиф, — в отличие, например, от
М. Г. Льюиса, — неизменно отодвигает назад, в далекое прошлое,
подлинно трагические эпизоды своих романов, перенося их в «пред-
историю» самого действия. В настоящем же царят более справед-
ливые законы судьбы: добродетель, пройдя сквозь подобающие
испытания, неизменно торжествует, а порок оказывается должным
образом посрамленным. Видимое могущество рокового, стихийного
«зла» становится, таким образом, в трактовке писательницы, едва
ли не иллюзорным, а сам трагический колорит ее романов — обман-
чивым. Романы Радклиф недаром завершаются неизменно традицион-
ными счастливыми концами, столь не похожими на трагические
финалы «Замка Отранто», «Ватека» или «Монаха». Разрушенная
было в начале романа идиллическая гармония неизменно восстав
навливается в упроченном виде в конце его. В самом этом постоян*
ном обращении к счастливым развязкам сказывается характерное
для Радклиф стремление к компромиссному разрешению проблемы
человека и судьбы, восходящее, в конечном счете, к привычному
оптимизму английского просветительского романа.
Известная связь с просветительством сказывается и в другой
оригинальной особенности романов Анны Радклиф. Ничто, может
быть, в такой мере не отличает ее от других писателей «готической
школы», как нарочитое и последовательное стремление к рациона-
листическому, «естественному» объяснению всех и всяческих «сверх-
естественных» моментов, поражающих воображение читателя в
ее романах. Она не допускает даже той «правдоподобной» фантастики,
которую разрешала себе Клара Рив, позволявшая, как-никак;
600
«настоящему» призраку появляться на страницах своего «Старого
английского барона». У Анны Радклиф нет призрака, который
не оказался бы либо существом из плоти и крови, либо созданием
человеческих рук; нет ни одного «сверхъестественного» зву-
ка или шороха, который не получил бы материального
объяснения, ни одного «мистического» совпадения, которое не ока-
залось бы разумно постижимым и естественным. В замке Удольфо
глазам Эмилии Сент-Обер представляется ужасное зрелище:
в уединенном зале, за черным покрывалом, она видит полуразло-
жившийся, кишащий червями труп, — но «труп» этот оказывается,
в конце концов, лишь тонко сделанной восковой имитацией, ко-
торой обзавелся в качестве «memento mori» один из прежних вла-
дельцев замка. Молодого Винченцио Вивальди, узника римской
инквизиции, посещает по ночам в тюремной камере таинственный
призрак, не видимый часовым и сторожам и волшебным образом
проникающий сквозь запертые двери, железные решетки и камен-
ные стены, — но «призрак» оказывается некем иным, как служа-
щим самой инквизиции, проникающим в камеру сквозь потайную
дверь.
Но хотя реальная житейская проза и сохраняет еще свои права
в творчестве Радклиф, удельный вес ее резко падает по сравнению
с романами Ричардсона или Фильдинга. Это сказывается не только
в необычайности сюжетов, но и в трактовке характеров в романах
Радклиф. Бытовые типические персонажи, каких можно было встре-
тить в каждом реалистическом романе середины XVIII века, ото-
двигаются в ее произведениях на задний план, уступая место на аван-
сцене героям исключительных достоинств или исключительных
пороков, возвышающимся над уровнем повседневности. Служанка
Аннета из «Удольфских тайн» могла бы поменяться ролями с м-сс
Гонор из «Тома Джонса»; г-же Монтони, тетке Эмилии Сент-Обер,
нашлось бы место среди родных Клариссы Гарло или Софии Уэ-
стерн; но свирепый кондотьер Монтони и Скедони, коварный монах-
исповедник,— образы нового порядка, чуждые просветительскому
роману в его классических формах.
Герои Анны Радклиф и, особенно, ее любимые героини, живут,
кажется, одними нервами, прислушиваясь к каждому шороху,
ловя каждое. дуновение ветерка, всюду чувствуя — не разумом,
а интуицией, инстинктом, — присутствие неведомых, таинствен-
ных сил. Природа, окружающая ее героев, интересует Анну Рад-
клиф именно в этой связи, не только как живописный декоративный
«романтический» фон, но и как среда, находящаяся в непре-
станном взаимодействии с внутренним миром ее персонажей.
Душевный покой Эмилии Сент-Обер в начале «Удольфских тайн» не-
отделим от мирных идиллических пейзажей «Долины»; а в централь-
ных эпизодах «Итальянца» уединенный берег Адриатики, где мор-
ские волны глухо разбиваются день и ночь о прибрежные скалы,
не только живописно оттеняет, но и поясняет внутреннюю борьбу
и смятение, растущие в душе Эллены и Скедони.
Характеры, создаваемые Радклиф, сами по себе довольно плос-
601
костны и прямолинейны; но в манере их изображения она уже
предвосхищает, хотя бы частично, позднейших романтиков.Она умеет
выразительными штрихами, исполненными тайного смысла наме-
ками создлъ вокруг своих героев атмосферу таинственной недоска-
занности и придать им, в представлении читателей, «романтическую»
сложность и глубину, которые — в ее собственных романах —
остаются чаще всего иллюзорными. Монтони и Скедони оказывают-
ся на деле гораздо проще, чем кажутся; но у позднейших роман-
тиков, отдаленных учеников и последователей Анны Радклиф, этой
видимой усложненности и «загадочности» характеров предстояло
быть воспринятой и развитой всерьез.
Образ Скедони, самого «романтического» из всех героев Рад-
клиф, созданный, как предполагают некоторые исследователи, не
без влияния демонического «Монаха» Льюиса, может служить
образцом ее манеры изображения характеров. «Облик его произво-
дил поразительное впечатление... Он был высокого роста, члены
его, при крайней худобе, были огромны и уродливы, и когда он шел,
закутавшись в черные одежды своего ордена, в нем было что-то
страшное, что-то почти сверхчеловеческое. Его клобук, бросавший
тень на свинцовую бледность лица, усиливал его суровость и при-
давал большим унылым глазам выражение, вызывающее ужас.
Это было, повидимому, не уныние чувствительного и раненого сердца,
но уныние характера, угрюмого и свирепого. В лице его было
что-то необычайно странное, не легко поддававшееся определению.
В нем запечатлелись следы многих страстей, заставивших, казалось,
застыть в неподвижности черты, не оживлявшиеся ими более.
Привычная угрюмость и суровость царили в глубоких морщинах
его лица; а глаза его были столь проницательны, что, казалось,
с одного взгляда проникали в сердца людей и читали их самые со-
кровенные мысли; немногие могли бы выдержать взгляд этих глаз
или встретиться с ними дважды».
Еще Вальтер Скотт, приведя этот характерный образец сти-
ля Радклиф, указывал ряд необычайно близких параллелей из
описания байроновского Гяура и Корсара в доказательство влия-
ния, оказанного создательницей «Удольфских тайн» и «Итальянца»
на творчество великого английского поэта-романтика. И действи-
тельно, прямое или косвенное влияние романов Радклиф на поэзию
и повествовательную прозу английского романтизма было огромно.
Черты его проявляются по-разному, но с равной силой, у Мэтью-
рина, ближайшего продолжателя Анны Радклиф в литературе ро-
мантизма, у Байрона, Кольриджа и Саути, наконец, у самого
Скотта.
4
Еще до выступления Анны Радклиф на литературное поприще
в английскую литературу вошел писатель, творчество которого,
хронологически предшествуя ее романам, стояло, однако, в дей-
ствительности, гораздо ближе к позднейшему романтизму и может
602
поэтому рассматриваться как более поздняя историческая ступень
в развитии «готического жанра». Этим писателем был Бекфорд.
Вильям Бекфорд (William Beckford, 1760—1844), как и Горэс
Уолполь, не был профессиональным писателем. Тринадцатилетним
мальчиком он унаследовал от отца — лорд-мэра Лондона — огром-
ное состояние, позволившее ему посвятить всю свою жизнь по-
искам наслаждений. Бекфорд много путешествовал по Европе,
особенно по Италии, Испании и Португалии, где построил даже,
близЦинтры, целый дворец, о котором Байрон вспоминает в первой
песне «Чайльд-Гарольда». Памятником этих странствий был путе-
вой дневник «Сны, мысли на яву и происшествия» (Dreams, Waking
Thoughts, and Incidents, 1783), где Бекфорд, по мнению исследо-
вателей, предвосхитил отчасти «Паломничество Чайльд-Гарольда».
У себя на родине Бекфорд прославился прежде всего как вла-
делец знаменитого поместья Фонтхилл (Fonthill), не имевшего
себе равных в Англии. Роскошь Фонтхилла вошла в пословицу.
Для Бекфорда это поместье было — в гораздо более крупных мас-
штабах—такой же дорогой аристократической причудой, как Стро-
бери-Хилл для Горэса Уолполя. Как и Уолполь, он охотно «обыг-
рывал» ее в своем творчестве: если замысел «Замка Отранто» был
навеян «готикой» Стробери-Хилла, то Бекфорд, по его собственному
уверению, вдохновлялся в изображении адских подземных дворцов
Эблиса в «Ватеке» воспоминанием о «египетском зале» Фонтхилла.
Большинство произведений Бекфорда было написано не столь-
ко для посторонных читателей, сколько для самого автора и тесного
круга его близких друзей. Его ранние «Биографические записки
о замечательных живописцах» (Biographical Memoirs of Extraor-
dinary Painters, 1780) были шуточно-пародийным «каталогом» кар-
тинной галлереи в Фонтхилле. В качестве литературной шутки-
мистификации были задуманы и позднейшие «романы» Бекфорда:
«Искусство современного романа, или изящная энтузиастка, ро-
ман-рапсодия» (Modern Novel Writing, or the Elegant Enthusiast...
a Rhapsodical Romance, 1796) и «Аземия, описательный и сентимен-
тальный роман, перемешанный со стихами» (Azemia, a Descriptive
and Sentimental Novel. Interspersed with Pieces of Poetry, 1797),
пародировавшие романы Анны Радклиф и ее подражательниц.
Из многочисленных дилетантских литературных опытов Бек-
форда в историю литературы прочно вошла лишь одна небольшая
книга под названием «Ватек. Арабская повесть» (Vathek. An
Arabian Tale, 1786). Судьба этой книги сама по себе очень харак-
терна: будучи написана Бекфордом по-французски, она, может
быть, не скоро стала бы известна английской публике, если бы
один из приятелей автора не опубликовал ее, без ведома послед-
него, в английском переводе и не попытался присвоить себе ее
авторства. Текст, ставший таким образом достоянием читателей,
не был окончательно доработан Бекфордом; вставные «Эпизоды
из Ватека» (The Episodes of Vathek), оставшиеся в рукописи, были
впервые опубликованы лишь в 1912 г. Тесно связанный по всему
своему духу с предромантическим течением, «Ватек», однако, пред-
603
ставлял собой не «готический роман» в узком смысле слова, а, может
быть, еще более экзотическую «восточную повесть».
Интерес к Востоку зародился в Англии уже с начала XVIII
века. В 1704—1717 гг. в Англии вышел первый перевод, с француз-
ского издания Галлана, знаменитых арабских сказок «Тысяча и
одна ночь». За ними последовал целый поток то переводных, то —
чаще всего — подражательных «турецких», «персидских», «китай-
ских», «монгольских», «татарских» и даже «перувианских» сказок.
Английское Просвещение охотно использовало этот вкус к
восточной «экзотике» в своих целях. Уже Аддисон и Стиль, а вслед
'за ними Сэмюэль Джонсон, Гольдсмит и многие другие, подобна
своим французским современникам—Монтескье, Вольтеру и Дид-
ро — обращаются к жанру экзотической «восточной повести»^
«Ватек» Бекфорда сохраняет известную связь с этим просветитель-
ским литературно-философским жанром.
Правда, восточная экзотика, игравшая чисто служебную, услов-
ную роль в отвлеченных морально-философских аллегориях его,
предшественников, приобретает у Бекфорда совершенно новое
самодовлеющее значение. Автор «Ватека» с явным наслаждением
и с истинным мастерством обыгрывает «восточный» колорит своей
повести. Он тщательно выписывает все экзотические декоративные
подробности восточного быта и нравов и тонко и последовательно,
стилизует всю свою повесть в духе подлинной «арабской сказки».
И все же было бы ошибочно предположить, будто «Ватек» —
не более, как случайный эскиз на полях «Тысячи и одной ночи»,
фантастическая арабеска, причудливая, и изящная, но лишенная
серьезного философского смысла. В самом замысле «Ватека» нельзя
не заметить скрытого философского «подтекста», и, в частности,
известной аналогии с философской концепцией джонсоновского
«Расселаса, принца абиссинского».
В знаменитой повести Джонсона, может быть, ярче, чем у кого-
либо из его современников, воплотилась тема, характерная для
зрелого английского Просвещения: тема разрыва между челове-
ческим стремлением к счастью и реальными возможностями его
осуществления. Джонсон трактует эту тему в духе своеобразного
стоицизма. Полное, безраздельное счастье, находит он, вообще
не дано человеку; но в исполнении своего практического долга,
своих ближайших житейских обязанностей люди обретают един-*
ственное возможное на земле, ограниченное и неполное счастье»
Бекфорд заново переосмысляет концепцию Джонсона, придавая
ей всецело пессимистический характер.
В «Расселасе» Бекфорду пришелся более всего по душе не трез-
вый здравый смысл, заставлявший Джонсона спокойно принимать/
в конце концов, жизнь такою, какая она есть, но та ирония, с ка-
кою им показаны противоречия между человеческими порывами
и их осуществлением. Эта ирония, усугубленная, возведенная в
своеобразный философский принцип, определила замысел «Ватека».
В образе калифа Ватека Бекфорд как бы воплощает в романтиче-
ской, гиперболически-конденсированной форме, все те чув-
604
ственные и интеллектуальные права и потребности, какие фило-
софия Просвещения признавала за каждым «естественным» чело-
веком. Ватек полон неутолимой жажды наслаждений. В его пяти
дворцах собрано все, что может пленить каждое из пяти чувств
человека. Вместе с неукротимой чувственностью Ватек одарен так-
же пытливым и дерзким умом. Он хочет разгадать скрытые законы
судьбы и мироздания. Полный уверенности в том, что «пламя его
духа превосходит силу его глаз, и он сумеет по звездам определить
свою судьбу», он строит гигантскую башню «из дерзкой жажды про-
никнуть в тайны неба». Он мечтает покорить весь мир своей власти,,
и ему уже кажется, «что мертвая материя послушна его желаниям».
Так с первых же страниц вплетаются фаустовские мотивы в
сказочную повесть о калифе Ватеке. Подобно Фаусту, Ватек встре-
чает своего Мефистофеля. Чудовищно-уродливый чужеземец —
Гяур — обещает открыть калифу врата подземного дворца,
где покоятся волшебные талисманы и сокровища древнего царя
Сулеймана. Богатство, могущество, познание—все это будет дано
Ватеку, стоит лишь ему «отказаться от Магомета и предаться си-
лам преисподней». Калиф принимает все условия. Он попирает
все законы человечности, чтобы удовлетворить свое эгоистическое
тщеславие. По требованию кровожадного Гяура он бросает в без-
донную пропасть пятьдесят детей своих военачальников и визирей.
Вместе со своей матерью, жестокой султаншей Каратис, он совер-
шает чудовищные жертвоприношения, чтобы умилостивить под-
земные силы.
Но стремления В^тека с роковой неизбежностью обращаются
против него самого. Преследуя обманчивое счастье, калиф, не по-
дозревая того, с каждым шагом приближается к собственной гибели.
Искуситель Гяур сдержал свое коварное обещание; перед Ватеком
и его свитой растворяются, наконец, врата подземного царства Эб-
лиса. Путники вступают в зал, где «на огненном шаре восседал
могущественный грозный Эблис. У него было лицо молодого чело-
века лет двадцати, но благородные и правильные черты этого лица
казались увядшими от нечистых испарений. Отчаяние и гордость
выражались в его больших глазах... В своей нежной, но почернев-
шей от молнии руке держал он железный скипетр, заставлявший
трепетать чудовище Уранбад, афритов и все силы бездны». Эблис
приветствует пришельцев, но его «голос, более нежный, чем можно
было предположить, вносит черное отчаяние в их души». С трепе-
том замечают они, что все обитатели подземного царства — даже
самые древние, до-адамовские цари, в которых сохранилось «лишь
настолько жизни, чтобы сознавать свое жалкое состояние», —дер-
жат правую руку на сердце и что на их лицах написано страдание.
Скоро разрешается страшная загадка: сквозь хрустальную грудь
царя Сулеймана они видят, как горит в неугасимом пламени его
сердце, а голос, исходящий из сгнившего рта царя, говорит им
о его безысходной муке.
Все, о чем мечтал калиф Ватек на земле — богатство, могуще-
ство, познание—даровано теперь ему и его спутникам, — но на-
605
прасно. «Все двери открывались при их приближении, дивы падали
на колени к их ногам, целые склады богатых сокровищ представ-
лялись их глазам; но в них не было больше ни любопытства, ни
тщеславия, ни жадности. Они бродили из комнаты в комнату, из
залы в залу, из одной аллеи в другую по бесконечному множеству
корридоров и галлерей без границ и конца, освещенных одинаковым
мертвенным светом, убранных с одинаковым грустным великоле-
пием и наполненных людьми, ищущими покоя и облегчения, но
ищущими их напрасно, ибо повсюду носили они с собой свое серд-
це, терзаемое пламенем... И в страхе ждали они минуты, которая
сделает их подобными этим существам».
Наконец, свершается судьба Ватека. Пламя охватывает его.
сердце, и он «утрачивает драгоценный дар небес — надежду»
Не в силах отнять руку от своего пламенеющего сердца, он «скры-
вается в проклятой толпе, чтобы бродить там в вечности своего
отчаяния».
«Таково было и таково должно быть наказание за разнузданные
страсти и за дикие дела. Таковой будет кара за слепое любопыт-
ство, которое хочет преступить границы, поставленные создателем
человеческому знанию; и за честолюбие, которое, добиваясь знаний,
доступных лишь более чистым существам, доходит до бессмыслен-
ной гордости и не видит, что удел человеческих существ — лишь
в смирении и незнании». Этим выводом заканчивает Бекфордсвою
повесть. Человек не кажется ему, как просветителям, полноправ-
ным вершителем судеб, прекрасным творением природы, создан-
ным для свободы и счастья. Не восхищения, а презрительной жа-
лости достоин он в глазах автора «Ватека», «ибо не только в добром,
но и в злом, что делает человек — он одинаково является лишь ору-
дием в руках неведомого».
Темные и страшные силы правят судьбами людей в повести Бек-
форда; и разум и чувства человека слепы и беспомощны перед
лицом непознаваемого, но всемогущего и стихийно манящего зла,
разлитого в мире.
Бекфорд — первый представитель английского «готического
романа», введший в литературу тему «сатанизма», которой пред-
стояло развиться в дальнейшем у Льюиса, Мэтьюрина, Байрона,
Лермонтова, Виньи.
Антипросветительская «мораль» «Ватека» облечена в очень слож-
ную романтическую форму. При всей генетической связи «Ватека»
с просветительскими философскими «восточными повестями» XVI11
века, он бесконечно отличается по своему духу и по самому худо-
жественному колориту и от аддисоновского «Видения Мирзы», и от
джонсоновского «Расселаса», и от всех им подобных произведений.
Просветительская аллегория, рассудочно-сухая и четкая, усту-
пает место романтической символике с ее сложным сплетением
противоречивых и причудливых образов и мотивов. История кали-
фа Ватека начинается, как легкая забавная сказка, а завершается
грандиозным трагическим финалом. Да и в ходе самой повести
смешное и страшное оказываются неразрывно связанными друг с
606
другом, как, например, в описании султанши Каратис и ее без-
образных прислужниц, или в эпизоде, где Ватек и его приближен-
ные в диком неистовстве пинками выгоняют из города свернувше-
гося клубком Гяура, пока не останавливаются, объятые ужасом,
на краю разверзшейся пропасти.
Фантастический гротеск служит одним из основных художе-
ственных средств Бекфорда. Триада «истины», «добра» и «красоты»,
лежавшая в основе просветительской эстетики, для него уже недей-
ствительна. Его пленяет именно то, что стоит на грани прекрасного
и отвратительного. К сладострастию его героев примешивается при-
вкус садизма, и сцены любви Ватека к юной Нуронигар тесно пе-
реплетаются с историей чудовищных таинств, свершаемых на клад-
бище, где султанша Каратис угощает вампиров-«гулов» свежими
трупами, в то время как ее уродливые служанки предаются своим
любовным утехам с мертвецами, вышедшими из могил.
Внешняя декоративность и изощренность формы приобретают
для Бекфорда несвойственное им ранее в литературе XVIII века
значение, заставляющее вспомнить об отдаленных продолжателях
Бекфорда — декадентах XIX века.
Наибольшего совершенства Бекфорд достигает в трагически-
мрачной фантастике. Ему впервые удалось придать «ужасам» «го-
тического» жанра то поэтическое величие и грандиозность, которых
им еще нехватало в немного наивной и топорной трактовке Горэса
Уолполя.
Творчество Бекфорда сыграло большую роль в развитии анг-
лийского романтизма. Особенно заметное влияние оказало оно
на Байрона, называвшего себя (в письме Роджерсу от 3 марта
1818 г ) «горячим поклонником» «Ватека». Байрон обязан Бекфорду
не только гаремами, минаретами и «голубыми бабочками Хорасана»
своих восточных поэм, но и гораздо более существенными чертами
своего творчества. С автором «Ватека» его сближает трагическая
трактовка темы человеческих возможностей, связанная с романти-
ческой переоценкой ценностей просветительства. Мрачные образы
байроновских героев, отщепенцев, терзаемых бесплодными воспо-
минаниями о прошлых страстях, — Гяура, Лары, — сродни тра-
гическим образам «Ватека». Мотивы «сатанизма», играющие столь
важную роль в творчестве Байрона, также, возможно, восходят
отчасти к повести Бекфорда. В образе Люцифера и падших ангелов
«Неба и земли» оживает, быть может, не только мильтоновский
Сатана, но и бекфордовский Эблис.
Наконец, эпикурейская «философия наслаждения» вместе с
трагическим сознанием ее внутренней несостоятельности, столь
характерные для Бекфорда/ не могли не быть близки Байрону,
автору «Дон Жуана» и «Сарданапала». Именно на это указывают
посвященные Бекфорду строфы первой песни «Чайльд-Гарольда».
5
«Сатанинские» мотивы творчества Бекфорда получают непо-
средственное продолжение в творчестве последнего видного пред-
607
ставителя английского предромантического «готического романа» —
М. Г. Льюиса.
Мэтью Грегори Льюис (Matthew Gregory Lewis, 1775—1818)
родился в семье видного правительственного чиновника, владельца
обширных плантаций на Ямайке. Он довольно рано приобщился
к политической жизни; занимал дипломатические посты за гра-
ницей и был членом парламента. Известность Льюиса основана,
однако, исключительно на его литературной деятельности.
Увлечение литературой зародилось в нем рано и еще более укре-
пилось в результате многочисленных заграничных поездок, рас*
ширивших круг его литературных интересов. В Париже, которы|
он посетил шестнадцатилетним мальчиком в 1792 г., он виде$
на сцене революционных театров бесчисленные антиклерикальны^
мелодрамы того времени, из которых «Монастырские жертвы*]
Монвеля произвели на него, повидимому, наибольшее впечатление!
Там же он мог прочитать в рукописи «Монахиню» Дидро, а, с дру|
гой стороны, вышедшего еще до революции «Влюбленного дьяво!
ла» Казотта, где, — как впоследствии у самого Льюиса, — чув^
ственно-эротические мотивы переплетались с «сатанинской»;
фантастикой. В Германии он познакомился с литературой «бу«^
ри и натиска». «Песни народов» Гердера и баллады Бюргера и Гё-j
те, а, может быть, и фрагмент «Фауста», «Разбойники», «Коварство
и любовь» и «Духовидец» Шиллера, романы Гейнзе, «Народные
сказки» Музеуса, а вперемежку с ними мелодрамы Коцебу и сен-
сационные романы и повести бесчисленных ныне забытых немецких
писателей конца XVIII века, вроде Вейта Вебера или Шписа,—
стали для него настоящим откровением. Все это — и даже в не-
достаточно переработанном виде—вошло в первую и наиболее про-
славленную книгу Льюиса, в его роман «Монах» (The Monk), вышед-
ший (точнзя дата его появления остается спорной) в 1795 или 1796 г.
По словам самого Льюиса, его «Монах» был задуман под не-
посредственным впечатлением «Удольфских тайн» Анны Радклиф.
Тем не менее, в этом романе, как и во всем позднейшем творчестве,
он существенно расходится с обычным направлением «готических
романов».
Льюис, как и Бекфорд, «освобождает» «готический роман» от
тех рационалистических черт, какие он сохранял еще в творчестве
Клары Рив, Анны Радклиф и их подражательниц. Он не только
не заботится о «разумном» и «естественном» объяснении своих фан-
тастических ужасов, но, напротив, стремится именно к тому, чтобы
заставить читателей блуждать с замирающим сердцем в лабиринте
темных и сверхъестественных сил и страстей.
Эпиграф, заимствованный у Горация, сразу вводил читателей
в фантастическую атмосферу «Монаха»:
Somnia, terror es magi cos, miracula, sagas
Nocturnos lémures, portentaque.
(Сны, колдовские ужасы, чудеса, волшебные предсказания, ноч-
ные призраки).
608
По заявлению Льюиса, он заимствовал сюжетную схему своего
романа в одном из номеров аддисоновского «Опекуна», где была
рассказана поучительная история магометанского аскета-отшель-
ника Сантона Барсисы. Проведя сто лет в добродетельном умерщ-
влении плоти, он был введен, однако, в столь пагубное искушение
красотой юной царевны, что изнасиловал и убил ее, а для сокрытия
преступления вступил в гибельный союз с дьяволом.
Но хотя судьба монаха Амброзио и совпадает, в'общих чертах,
■с судьбой Сантона Барсисы, по существу роман Льюиса, может
быть, еще более далек от своего дидактического просветительского
первоисточника, чем ^«Ватек» Бекфорда от предшествовавших ему
философских «восточных повестей» XVIII века. Сами понятия
греха и преступления получают у Льюиса новое, совершенно не-
возможное ранее в литературе Просвещения толкование. Вместо
того, чтобы рассматриваться в качестве разумно постижимых яв-
лений,/ порожденных пороками общественного устройства, среды,
воспитания и т. д., й подлежащих осуждению и устранению, пре-
ступление и грех становятся у Льюиса лишь формой проявления
непостижимого вездесущего Зла, властно подчиняющего себе людей
вопреки их воле и сознанию. Трагическая судьба монаха Амбро-
зио, — как й судьба бекфордовского Ватека, — призвана, оче-
видно, отразить беспомощность и ничтожность человека перед
лицом неведомых ему тайных и страшных сатанинских сил, правя-
щих вселенной.
Амброзио, доминиканский монах-проповедник, пользуется ре-
путацией святого, «божьего человека», и сам искренно верит в свою
добродетель. А между тем, сам того не сознавая, он стоит уже на
краю гибели. В молодом послушнике Розарио, к которому его
уже ранее тайно влекла неведомая сила, он неожиданно обнаружи-
вает влюбленную в него женщину Матильду и оказывается не в
силах противостоять ее чарам.
Отныне участь Амброзио решена. Матильда, в образе которой
скрывается в действительности не кто иной, как злой дух, посланец
ада, разжигает плотские страсти монаха и обращает его помыслы
к одной из его прихожанок, юной и чистой Антонии. Терзаемый
вожделением, Амброзио прибегает к помощи Матильды, чтобы
овладеть своей жертвой. Так подготовляется сделка недавнего
«святого» с адскими силами. После магических обрядов и заклина-
ний перед Амброзио предстает сам Сатана, который у Льюиса,
как и злой дух Эблис у Бекфорда, появляется в поэтическом облике
прекрасного юноши; в лице его «сквозила таинственная меланхолия,
которая, изобличая в нем падшего ангела, вызывала тайный страх».
С помощью полученной от Сатаны волшебной серебряной па-1
лочки, открывающей все запертые двери, Амброзио проникает в
додо своей жертвы и убивает мать Антонии, пытавшуюся спасти
свою дочь. Затем, настигнув Антонию в подземельях монастыря,
ой цасилует и убивает ее.
Схваченный инквизицией, Амброзио перед лйцок казни сно-
ва зовет на полЬщЕ адские силы. С трудом, запинаясь и путаясь
-*У Англ. литература 609
в словах, читает он нужные заклинания, и Сатана вновь пред-
стает перед ним, но на этот раз в своем настоящем чудовищно^
виде. Амброзио молит спасти его от инквизиции и покупает свободу
ценой своей души.
Но, как и в «Ватеке», эта кажущаяся победа героя оказывается?
трагически обманчивой. Ночью в пустынных горах Сьерра Морены?
Амброзио узнает от своего ужасного «спасителя» истинный смысл
их сделки. Мрнах спасен от инквизиции; но этим исчерпываются
условия договора; часы жизни Амброзио сочтены. В довершение
всего торжествующий Сатана раскрывает монаху вдвойне чудовищ-
ный смысл его преступлений: мать Антонии была и его матерью; изна-
силованная и убитая им Антония была его сестрой. Напрасно пы-
тается Амброзио молить небо о прощении; вонзив свои когти в тон^
зуру монаха, Сатана низвергается вместе с ним со скалы и сбраЦ
сывает его в бездну. |
С этой основной сюжетной линией романа переплетается дру|
гая, не менее фантастическая. Это — история Раймонда и АгнесыЯ
разлученных жестокими родственниками девушки. Согласив^
шись бежать со своим возлюбленным, Агнеса решает воспользо4|
ваться местным поверьем об «окровавленной монахине», призравд
которой в определенный день и час проходит, якобы, через ворота]
замка; переодевшись так, чтобы походить на это привидение, онах]
надеется обмануть бдительность замковой стражи. 1
В условленный ночной час к Раймонду, ожидающему близ задн
ка, приближается женская фигура в окровавленной монашеской
рясе; уверенный в том, что это его Агнеса, он с восторгом кля-
нется ей в любви и спешит увлечь ее в карету. Беглецы несутся
вскачь; начинается гроза; странное смятение закрадывается в душу-
Раймонда... Но внезапно карета опрокидывается, он теряет со-
знание, а придя в себя, уже не находит своей спутницы. Раймонд
теряется в догадках; но страшная тайна вскоре раскрывается..
Следующей же ночью, как только пробило час, дверь, ведущая в
комнату юноши, растворяется, и на пороге появляется его ночная
спутница в той же окровавленной монашеской рясе, с тем же не-
подвижным взглядом. Она приближается к постели Раймонда, to
он с ужасом замечает, что лицо ее — мертвенное лицо трупа. На-
прасно пытается он бежать, звать на помощь; силы изменяют ему..
Страшная гостья заключает его в свои ледяные объятия и, целуя
его, повторяет ему слова его роковой любовной клятвы. Часы»
бьют два, и ужасный призрак окровавленной монахини, кото-
рый, — как теперь понижает Раймонд, — он похитил из замка,
вместо своей Агнесы, исчезает из комнаты; но каждую ночь он
возвращается снова, и только чудодейственная помощь таинствен-
ного незнакомца, который оказывается не кем иным, как Вечным
Жидом, освобождает Раймонда.
Между тем родным Агнесы удается клеветой очернить Раймонда
в ее глазах. В отчаянии она постригается в монастырь и лишь тогда,
когда монашеский обет уже произнесен, узнает о своей ошибке-
Влюбленные украдкой встречаются в ограде монастыря; снова.
610
подготовляется побег Агнесы; но роковой случай открывает монаху
Амброзио ее любовную связь с Раймондом. По приговору цер-
ковного суда Агнеса вместе со сеоим новорожденным ребенком на-
веки заточена в монастырский склеп; и только возмущенный народ,
узнав о преступлениях за монастырскими стенами, разгромив мо-
настырь, возвращает ей свободу.
Творчество М. Г. Льюиса относится к последнему этапу разви-
тия предромантического «готического романа» в Англии. В нем
завершаются, достигнув крайнего выражения, тенденции, прояв-
ляющиеся с большей или меньшей определенностью у предшествен-
ников Льюиса — УолполЗ, Радклиф, Бшфорда и др.; но вместе с
этим в нем сказывается с величайшей наглядностью внутренний
кризис «готической школы». Окончательно порывая с просвети-
тельством (родственные Просвещению мотивы, связанные с крити-
кой церковной тирании и т. п., играют, конечно, в творчестве Льюи-
са весьма подчиненную роль), автор «Монаха» не обладает ни исто-
рическим опытом, ни общественным и философским кругозором
позднейшего подлинного романтизма, которые могли бы позво-
лить ему наполнить действительно значительным содержанием его
роман ужасов, романтически сложный по видимости, но довольно
плоский по существу. Сенсационные эффекты «готического романа»
превращаются у Льюиса, более чем у кого-либо из его непосред-
ственных предшественников, в самоцель. Он обыгрывает «ужасы»
ради «ужасов», упивается своей почти патологической эротикой,,
от которой веет могильным тлением, поражает воображение чита-
теля все новыми противоестественными картинами, пока оно, пре-
сытившись, уже не отказывается поражаться чем бы то ни было.
Байрон,—сам многим обязанный «готическому роману», не
скрывавший своего восхищения Бекфордом и Уолполем, которого
он называл автором первого романа (romance) и последней траге-
дии в английской литературе, — очевидно, чувствовал эту внутрен-
нюю эпигонскую пустоту творчества Льюиса, когда писал о нем
в насмешливых строфах «Английских бардов и шотландских обог
зревателей»:
А ты, о Льюис, о поэт гробов!..
Парнас кладбищем сделать ты готов.
Ведь в кипарис уж лавр твой превратился;
Ты в царстве Аполлона подрядился
В могильщики...
Не стал бы жить с тобой сам Сатана,
Так бездн твоих ужасна глубина.
(Перевод С, Ильина)
Успех «Монаха» был в значительной степени успехом скандала.
Генеральный прокурор возбудил против Льюиса преследование,
мотивированное «безнравственностью» его книги; молодому автору
пришлось выбросить из следующего издания «Монаха» наиболее*
«соблазнительные» эротические страницы.
Большой успех имела также первая пьеса Льюиса «Призрак-
замка» (1797*), выдержавшая 60 представлений на сцене Дрюри-
39* . 611,
Лейнского театра. Это была Мелодрама, посвященная обычной «го-
тической» теме насилия и кровосмешения. «Рассказывали,—писал
сам Льюис в предисловии к «Призраку замка»,—что если бы м-р
Шеридан не посоветовал мне ограничиться одним призраком, я
вывел бы на сцену целый полк привидений».
Из позднейших произведений Льюиса для истории литературы
представляют интерес его переводы и переделки, познакомившие
«английского зрителя с немецкой драматургией конца XVIII века,
à частности, переделанная им из «Коварства и любви» пьеса «Мй-
Ййстр» (The Minister, 1797), поставленная в 1803 г. на лондонской
♦Сцене йод названием «Дочь арфиста» (Harper's Daughter). В раз-
.йитйи английской романтической поэзии известную роль сыграли
т&кжеего сборники—«Страшные повести» (Tales of Terror, 1799, 1801)
ift Шолшебные йовести» (Tales of Wonder, 1801), состоявшие частью
Ш оригинальных произведений, частью из переводов, — главным
образом, с немецкого. Так, в «Волшебные повести» вошли льюисов*
ские переводы баллад Гёте, а также несколько баллад из гердеров-.
сйого сборника «Голоса народов». В «Волшебных повестях» принял
Счастие молодой Вальтер Скотт, опубликовавший там, наряду с
Лереводами из Бюргера и Гете, несколько оригинальных баллад, ô
*?6û числе знаменитую «Иванову ночь» (в переводе Жуковского —
•«Замок Смальгольм»).
Ни одно из предромантических явлений английской литерату-
ра XVIII века не приобрело такой широкой популярности, как
^готический роман». Эта популярность простиралась далеко за
лрёделы Англии. Успех «готического романа» во Франции, в Гер-
мании, в России был огромен. К произведениям Уолполя, Льюиса
|й особенно Радклиф, с жадностью переводившейся на все языки, при-
соединялось множество подражаний, нередко — прямых подделок,
ложно приписывавшихся тому или другому известному романисту
•«готической школы», чаще всего той же Радклиф. Европа начала
XIX века зачитывалась романами Дюкре-Дюмениля и других
.подобных писателей, вдохновленными английской «готической шко-
лой», и с замиранием сердца следила за представлениями мелодрам
Пиксерекура, Дк^канжа и др., нередко прямо заимствованных из
«готических романов».
Большинство романтиков XIX века испытало на себе, прямо
?или косвенно, влияние «готического романа». Достаточно назвать
«имена Кольриджа, Мэтьюрина, Шелли, Байрона и Скотта, Виньи,
Нодье и Гюго, Гофмана и По, чтобы убедиться в том, какой широ-
кий резонанс имел «готический роман» в литературе романтизма.
Определить литературно-историческое значение английского
«готического романа» можно лишь исходя из всей перспективы
дальнейшего развития европейской литературы. Сами по себе ро-
манисты «готической школы» достигли сравнительно немногого:
«Историзм» их представляется наивным и детским по сравнению
с историзмом Скотта. Декоративная живописность их «готического»
й экзотического колорита кажется, в большинстве случаев, жаркой
бутафорией рядом с поэзией Байрона и Гюго. Их Демонические и
é\2
«сверхчеловеческие^ герои превращаются чуть ли нс в мар#онет<эдг
при сравнении с титаническими образами того же Байрона щгщ
Виньи. И, наконец, самые «ужасы» их романов бледнеют и меркнул
перед игрой фантазии Эдгара По или Бодлера.
Но, создав и завершив немногое, романисты «готической школы#
многое начали и подготовили своим творчеством, и наследие их, быть
может, не очень значительное по своей' самодовлеющей ценности,
становится исторически важным и существенным, если рассматри-
вать его как необходимую подготовительную студень в развитии1
европейского романтизма. Более того, не только романтики, но
даже и классические реалисты XIX века восприняли в своем твор-
честве, в переработанном и видоизмененном виде, многие черты «го-
тического романа». Реализм Бальзака и Диккенса hç. может быть
понят до конца, если не учесть скрывающихся в нем элементов реа-
листически переосмысленной романтическрй «готики».
Глава 3
БЛЕЙК
Творчество Блейка представляет собой однр из самых ориги-
нальных явлений в литературе английского предромантизма.
Романтически сложное, полное мистической и темной символики,
оно проникнуто в целом воинствующе-гуманистическим, бунтарским
пафосом, редким у английских предромантиков XVIII века. Завер-
шая в своих раннцх произведениях демократические традиции
поэзии Гольдсмита и Каупера, Блейк предвещает в то же вреда
отчасти творчество революционных романтиков XIX века.
Вильям Блейк (William Blake, 1757—1827) родился в семье тср-
говца. С детских лет он отличался мистически настроенным вообра-
жением; по его уверению, ему не раз приходилось видеть бога и
ангелов, сидящих на деревьях. Очень рано Блейк начинает увле-
каться живописью. С 14 лет он работает учеником у гравера Безайра.
В 1778 г. Блейк поступает в Королевскую Академию, но, восстав^
против академических уз, бросает все и начинает зарабатывать-
на жизнь, гравируя иллюстрации к различным книгам. В 1783 г.
он выпускает свой первый сборник «Поэтические очерки» (Poetical.
Sketches). Не найдя издателя для своих дальнейших произведений,,
Блейк сам гравирует на меди не только иллюстрации к своим кни-
гам, но и все тексты, таким образом выступая одновременно в ка-
честве поэта, художника и типографа. Это позволило ему быть со-
вершенно независимым от рыночных вкусов. Так он напечатал сна-
чала свои «Песни невинности» (Songs of Innocence, 1789), а за ними
серию так называемых «Пророческих книг»: «Книга Тель» (The Book
of Thel, 1789), «Свадьба неба и ада» (The Marriage of Heaven and
Hell, 1790), «Французская революция» (The French Revolution,
1791), «Видения дочерей Альбиона» (Visions of the Daughters of.
Albion, 1793). В 1794 г. выходят в свет лирико-философские «Пес-
613*
гни опыта» (Songs of Experience), за которыми следуют новые «Проро-
ческие книги»: «Европа» (Europe a Prophecy, 1794), «Книга Юрай-
зена» (The First Book of Urizen, 1794), «Песня Jloca» (The Song
of Los, 1795), «Иерусалим» (Jerusalem, etc. 1804) и «Мильтон» (Mil-
ton, 1804).
В то же время Блейк продолжает работать в качестве иллюстра-
тора; он создает замечательные гравюры для «Божественной ко-
медии» Данте, рисунки к «Могил?» Блэра и «Ночным думам» Юнга.
Кроме того, Блейк пишет большую акварельную картину, изоб-
ражающую всех паломников чосеровских «Кентерберийских рас-
сказов». Презирая колористов венецианской и фламандской школы,
Блейк-художник образцом для себя считает искусство Микель-
Анджело и Дюрера, которых он ценит за их выразительную и чет-
кую линию.
Несмотря на эту героическую работу, Блейк, отстаивавший свою
творческую независимость, жил в бедности. Он радостно привет-
ствовал французскую буржуазную революцию, откликнувшись
на нее взволнованной поэмой, в которой оправдывал насильствен-
ное ниспровержение тирании («Французская революция»). Не
случайно в годы революции Блейк общается с вождями английской
демократии — Годвином и Томасом Пэйном.
С самого начала, однако, демократические настроения поэта
облекаются не в те одежды, которые носило искусство французского
третьего сословия, готовившегося к революции. Если художники
французского третьего сословия свободны от религиозной идеоло-
гии и оглядываются на античные образцы гражданской доблести,
то Блейк своей бунтарской поэзией воскрешает библейский язык
английской революции. Поэт с готовностью подхватывает религиоз-
ные мотивы республиканской героики Мильтона. «Все равны перед
лицом господа»,—пишет Блейк в поэме «Эдуард III». В грозной
«Военной песне», обращаясь к солдатам свободы, поэт говорит о
«стрелах всемогущего бога», которые поразят врагов.
Мильтону Блейк обязан также тягой к нагромождению титани-
ческих образов, которые чаще всего подчеркивают абсолютную не-
победимость восстающего героя. В «Самсоне», характеризуя своего
героя, освободителя Израиля, поэт пишет: «Он казался горой, его
чело уходило под облака». Мысли Самсона подобны грозовым ту-
чам, десять тысяч копий ложатся перед ним, как летняя трава.
Но, выступая учеником Мильтона, Блейк в то же время был со-
вершенно свободен от влияния традиционной пуританской эти-
ки. Именно это позволило ему в тех же «Поэтических очерках», пер-
вым в XVIII веке, припасть к роднику непревзойденной елизаве-
тинской лирики. Некоторые песни поэта, подчас почти фольклор-
ные в своей основе, а иногда играющие изящными олицетворениями
в духе поэзии английского Возрождения, бесспорно являются ли-
рическими шедеврами XVIII века. С елизаветинцами Блейка сбли-
жает ключом бьющая жизнерадостность и настоящая упоенность
чувственным бытием: прекрасными дарами всех времен года, их
запахами и красками, любовью и простыми сельскими забавами.
«14
По своему значению для истории поэзии лирические сборники
Блейка и его «Пророческие книги» несравнимы; первые принадлежат
к лучшим достижениям английской лирики, вторые осуждены
навеки остаться образцом причудливого сочетания подлинной ге-
ниальности и гротескной нелепости.
Первый сборник «Поэтические очерки», куда вошли юноше-
ские стихи поэта, только отчасти предвещает будущего Блейка —
крупного новатора. В то же время уже здесь многое отличает Блей-
ка от других демократических поэтов, связанных с лечением сен-
тиментализма. У поэта нет и следа элегичности Гольдсмита и Кау-
пера, оплакивающих гибель патриархальных устоев. Блейк с са-
мого начала выступает в качестве последовательного утописта,
оптимистически взирающего на ближайшее будущее человеческого
общества. Он считает, что Англия должна выступить в авангарде
борьбы за освобождение человечества. Смешивая это будущее с
настоящим, он постоянно называет Англию «страной свободы».
Драматическая поэма «Эдуард III», включенная в сборник, кон-
чается видением, в котором Англия несет свободу всему остальному
миру: «Свобода будет стоять на скалах Альбиона, окидывая взором
своих голубых глаз зеленый океан».
То, что едва намечено в «Поэтических очерках», с полной силой
звучит в следующем и лучшем сборнике Блейка «Песни невин-
ности». Блейковский оптимизм, связанный с утопическими убежде-
ниями поэта, принимает здесь очень своеобразную форму. Желая
как можно более полно благословить все сущее, Блейк отказы-
вается от какой бы то ни было рассудочности в отношении к
действительности. Если просветители приводят все на суд критиче-
ского разума, то утопист Блейк преклоняется перед бессознатель-
ностью ребенка. Название книги — «Песни невинности» — под-
черкивает этот основной ее смысл. Беспечно резвящийся ребенок
выступает здесь в качестве образца для современного человечества
и символа его будущности. «Мое имя — радость»,—говорит ребенок
в одном из стихотворений сборника.
Блейк далек от действительности капиталистической Англии.
Стихотворение «Святой четверг» рисует идиллическую картину
Лондона:
Куда идут ряды детей, умытых, чистых, ясных,'
В нарядных платьях — голубых, зеленых, синих,
красных?
Седые дядьки впереди. Толпа течет под своды
Святого Павла, в мирный храм, как мощной Темзы воды.
Какое множество детей — твоих цветов, столица!
Сияют ярко в полутьме их радостные лица.
Стоит в соборе смутный шум, невинный гул ягнят,
Рученки подняты в мольбе, и голоса звенят...
(Перевод С. Я. Маршака)
Ребенок, лишенный эгоизма и недоверчивого разума, является
не только героем «Песен невинности», но, так сказать, и творцом
их. В борьбе с рационалистической поэтикой классицизма Блейк
прибегает к помощи детского фольклора. Некоторые стихотворения,
615
црлные нежно заклинающих повторов, представляют собой настоя-
щие колыбельные песни, другие точно воспроизводят ритм «счи-
тало чек», третьи являются песенными имитациями детской речи..
Недаром «Вступление», открывающее сборник, изображает поэта,
играющего на свирели по указке смеющегося ребенка.
В «Песнях невинности» Блейк развивает утопическую натур-
философию. Ç природе Блейка нет никакой борьбы, все держится
на взаимопомощи и сострадании. «Зло» из нее почти изъято. Она
оглашается нежным блеянием ягнят и пением птиц. Всячески
подчеркивая христианскую кротость природы, Блейк и тут не сбли-
жается с элегистами — Юнгом и Греем, ибо природа погружена
у него в вечное ликование. Если воплощением освобожденного че-
ловечества является смеющееся дитя, то символом кроткого лико-
вания природы выступает резвящийся ягненок. Ликование эта
достигает высшего подъема в замечательной «Песне смеха», где.'
смеются зеленые леса, луг, холмы, кузнечики и пестрые птицы.
Утопический оптимизм Блейка приводит его к созданию жанра
своеобразной пасторали, изображающей трогательное содружество»'
человечества-ребенка и освобожденной природы. Жаворонки и
дрозды поют под звон колоколов, а в «Песне смеха» веселые девоч-*
ки — Мэри, Сюзанна и Эмилия — смеются вместе с холмами и/
ручьями. Блейк дает даже мистическое объяснение этому родству,
символом которого для поэта является Христос, выступающий
в двух образах — агнца и младенца в яслях. То, что человечество»
сродни кроткой природе, подчеркивают и все сравнения в «Песнях
невинности»: «сестры и братья — как птицы в гнезде»; волосьв
одного из блейковских героев «курчавятся, как спина ягненка».
Оптимизм Блейка, не имеющий достаточной опоры в конкрет-
но-исторической действительности, уже в «Песнях невинности»-
получает отчасти религиозное звучание. Поэт, однако, резко враж-
дебен официальной церкви и её культу. В «Песнях невинности»
бог, как в религии первоначального христианства, —это бог сла-
бых и кротких. Недаром так часто в этих песнях повторяется мотив,
небесного покровительства. Бог выступает то в образе нежного;
отца, то в образе пастуха, зорко охраняющего беззащитных овец.
В стихотворении «Мальчик найден» бог за руку выводит из болота',
ребенка, заблудившегося в тумане. В стихотворении «Сон» свет-'
ляк, посланный богом, показывает дорогу бедному муравью..
В сущности, блейковский бог — это лишь олицетворение «мило-
сердия, жалости, мира и любви», которому поклоняется поэт.
Этика Блейка находит свое лучшее выражение в его первом
«пророческом» произведении — «Книга Тель». Альтруизм оказы-
вается здесь основным законом жизни. Ничто не живет только для
себя. Даже смерть есть альтруистический акт, ибо из смерти одного*
существа возникает жизнь других. В «Книге Тель» все сущее спле-
тено цепью взаимных жертв и услуг. Ландыш своим дыханием пи-
тает невинного ягненка, облако, умирая, т. е. дождем проливаясь
на землю, утоляет жажду цветов, даже разлагающееся тело кор-
мит собой червей, над которыми тоже — божье благословение-
ею
«Песни невинности» вышли в первый год французской револю-
ций. Следующие произведения Блейка являются откликом на со-
бытия во Франции. Поэт готов видеть во французской революции
движение, ведущее к полной эмансипации человечества. В эти
годы Блейк расстается с безудержным оптимизмом «Песен невин-
ности»; человечество, как он убеждается, не только не живет в
детском единении с природой, но, наоборот, все естественное в нем
задавлено тысячами религиозных и моральных запретов. Поэт
начинает догадываться, что собственнические отношения буржуаз-
ного общества враждебны свободному развитию индивидуально-
сти. Революция, с точки зрения Блейка, и должна прежде всего
раскрепостить природу в человеке, подавленную и повсюду пресле-
дуемую. В грандиозных символических образах пророческих книг
жизнь предстает как извечная борьба, исполненная титанического'
напряжения.
Основным содержанием «Пророческих книг» («Свадьба неба и
ада», «Французская революция», «Америка» и др.), вышедших
вслед за «Песнями невинности», является философия своеобразно-
го пантеизма. Защищая попранную в буржуазном обществе есте-
ственность, Блейк объявляет ее священной. Блейковский пан-
теизм сродни натурфилософии Возрождения. Вместе ç тем, он непо-
средственно предвещает ту защиту природы, с которой в будущем
выступят Шелли и отчасти Байрон.
Пантеизм «Пророческих книг» имеет глубоко гуманистический
смысл. «Природа без человека бесплодна», — говорит Блейк. Под-
линным воплощением божественности объявляется человек. «Все
божества обитают в человеческой груди»,—восклицает Блейк.-
В блейковской философии сильны также антиинтеллектуалистские
мотивы. В своих мистических стихотворениях Блейк издевается
над свободомыслием и рационализмом просветителей: «Смейтесь,
смейтесь, Вольтер и Руссо! Напрасны все ваши насмешки! Вы бро-
саете песок на ветер, а ветер относит его обратно, и каждая песчин-
ка становится драгоценным камнем, отливающим божественными
лучами... Атомы Демокрита и световые частицы Ньютона— пески,
на берегу Чермногоморя, где так ярко блистают палатки Израиля».
С точки зрения поэта, разум совершенно подчинен господствую-
щей морали и отравлен аскетической проповедью официальной
религии; единственным прибежищем духовности сейчас является
человеческое тело со всеми пятью чувствами.
Именно потому, что в человеческом теле больше духовности,
чем в скованном традицией разуме, Блейк поет гимны чувственным
желаниям и потребностям. Практическим выводом из его пантеизма,
в пророческих книгах является проповедь свободной любви, сопро-
вождающаяся ожесточенной критикой лицемерной буржуазной мо-
рали. Настоящий смысл блейковской наполовину мистической
реабилитации мира чувственности—борьба за гармонически разви-
вающуюся человеческую индивидуальность. Однако философия
Блейка, защищающего беспредельную «свободу желания», иногда;
граничит с анархическим отрицанием всякой морали. В своем без-
617;
удержном индивидуализме он прославляет плотское чувственное
наслаждение, как наивысшую ценность жизни, и становится чуть
ли не апостолом священного культа эротики. Недаром в XX веке
английская декадентская литература неожиданно выдвинула «уче-
ников» Блейка, — на него ссылается, например, Д. Г. Лоренс.
Если пантеизм «Пророческих книг» имеет в общем бунтарский
смысл, то в тех же произведениях проявляются и тенденции мисти-
чески-спиритуалистического порядка. Как ни славит Блейк рас-
кованную естественность, он по существу остается связанным с
религиозной концепцией «грехопадения», хотя дает ему совершенно»
своеобразное толкование. Мир, пребывающий во времени и про-
странстве, не является для поэта подлинной действительностью.
Этому миру предшествовало состояние, при котором не было тира-;
нии всего физического. Человек теперь угнетен не только косной-
моралью, сковывающей все его чувства, но и самой «изменчи-
востью» материального бытия. Вот почему картина революции,:
в некоторых «Пророческих книгах» Блейка близка к тому, чтобы;
превратиться в патетическое повествование об освобождении че-;
ловечества от пут времени и смерти, о переходе в мир, находят
щийся по ту сторону материальности.
В «Книге Те ль» мистический «голос скорби», исходящий из
раскрытой могилы, возвещает освобождение человека от оков ма-
териальной чувственности.
Почему слух не может закрыться
Для собственной гибели?.
Или блистающий глаз
Для отравы улыбки?
Зачем заклеймен наш язык
Медом от каждого ветра?
Зачем слух, этот водоворот,
Свирепо в себя вбирающий сеть мирозданий?
Зачем ноздри, широко вдыхающие
Ужас, дрожащие, ноздри испуганные?
Зачем узда щекочущая
На пламенном юноше?
Зачем низкая эта завеса— ?
Тело на ложе наших желаний?
(Перевод К. Д. Бальмонта)
По внешней форме «Пророческие книги» Блейка представляют
собой явление, которое не имело ни предшественников, ни продол-
жения в английской литературе. В пророческих книгах, написан-
ных белыми стихами «уитменовского» ритма, чувствуется прежде
всего влияние величавого стиля и титанических образов Библии, в
которой Блейк с ранних пор заимствовал средства для борьбы
против античных пристрастий классицизма. Но, что особенно
своеобразно, поэт, не довольствуясь библейской и кельтской
мифологией и отказываясь от реалистического изображения
действительности, сам выступает в качестве создателя не только
новой мистической космогонии, но и соответствующей ей мифо-
логической системы.
SIS
Для «Пророческих книг» характерно также настойчивое стрем-
ление поэта превращать конкретные предметы и названия в услов-
ные символы абстрактных и космических сил. Так, например,
в блейковском контексте «Альбион» — не поэтическое название
Англии, а обозначение всего «падшего человечества», угнетаемого
религией и лживой моралью, имена революционных деятелей в
«Америке» и названия английских провинций в «Иерусалиме» тоже
превращены в мифические образы и не имеют никакого отношения
к реальным лицам и местностям.
«Пророческие книги» Блейка трудны для понимания, настолько
«зашифровано» их содержание, облеченное в романтически мистифи-
цированную форму темных, сложных и причудливых образов,
созданных воображением поэта.
Главный сюжет «Пророческих книг» в какой-то мере является
отражением основного события XVIII века — французской буржуаз-
ной революции. Сюжет этот заключается в борьбе между двумя
антагонистическими героями блейковскои мифологии: Юраизеном
и Орком. Юрайзен—это бог существующего порядка, устанавли-
вающий различные законы и запреты; он наделен той завистью,
которую греки в своих мифах приписывали богам Олимпа. Объявив
всю природу греховной, он лишает человечество бескорыстных
радостей и наслаждений. Орк, напоминающий Прометея античного
мифа, является другом человечества и природы, пребывающих в
рабстве. Жертвуя собой, он восстает против грозного тирана с тем,
чтобы разорвать все путы, сковывающие священную естественность.
Замысел «Пророческих книг» отчасти предвещает основной мотив
«Раскованного Прометея» Шелли и байроновских мистерий. Юпитер
Шелли и Иегова Байрона, подобно блейковскому Юрайзену, яв-
ляются врагами человечества; тираноборческий конфликт обле-
кается всеми тремя поэтами в одинаково космическую форму.
Наиболее значительной из «Пророческих книг» является «Свадьба
неба и ада». Здесь, еще не прибегая к помощи собственной мифоло-
гии, но смело переосмысляя традиционные образы христианской
религии, поэт начинает свою борьбу против официальной мо-
рали.
В «пословицах ада» проявляется не только постоянное у Блей-
.ка прославление естественного желания, но и огромное уважение
ко всему индивидуальному и своеобразному. Поэт борется с обез-
личивающими тенденциями буржуазного общества, освящаемыми
пуританской религией и моралью. Вот некоторые из этих пословиц:
«благоразумие — богатая и уродливая старая дева, за которой уха-
живает бессилие»; «дорога излишеств ведет ко дворцу мудрости»;
«гот, кто желает, но не действует, распространяет заразу»; «лучше
убить ребенка в колыбели, чем таить несвершенное желание»; «гор-
дость павлина — слава господа»; «похоть козла — щедрость гос-
пода»; «гнев льва — мудрость господа»; «нагота женщины— творе-
ние господа»; «один закон для льва и вола является угнетением»;
«тюрьмы выстроены из камней закона, публичные дома — из кир-
пичей религии»; «тигры гнева более мудры, чем клячи поучения».
619
Любопытны также те «пророческие» произведения, в которых
блейковский мифологический сюжет развивается параллельно щше-
ствовашда о конкретных исторических событиях. Переплетение
мифологического с историческим иногда порождает чрезвычайно»
причудливые образы. В поэме «Французская революция» парижский,
архиепископ превращается в чешуйчатое чудовище, предстающее
в клубах адского дыма и пламени. В патетической «Песне свободы»,
описывая борьбу между грозным Юрайзеном и пламенным Оркозд,
Блейк обращается с революционным призывом к народам всегс*
мира. В пророческой поэме «Америка», отражающей события анг-
ло-американской войны, непосредственными слугами Юраизедф
оказываются король и его министры. Ангелы тринадцати восстав-
ших провинций порывают с этим грозным тираном. Орк рорду-,
щевляет освободителя Америки.
Настроения, которые в «Пророческих книгах» порождают поддав
хаотические нагромождения мифологических образов и гротеск-
ных аллегорий, в «Песнях опыта» кристаллизуются лаконическщ^
и четкими строфами философской лирики. Своеобразие «Песещ
опыта» в том, что поэт в них постоянно возвращается к те-:
мам своей второй лирической книги, совершенно иначе их осмысд^Яп
Даже название этой книги противопоставляет ее «Песням невдн-
ности». Блейк совершенно расстается здесь с прежним идилличе-
ским оптимизмом. Но как раз эта, опытом завоеванная трезвость,
взгляда на мир сообщает подчас протестующий, бунтарский характер
философским размышлениям поэта.
Если в «Песнях невинности» земля предстает пастушеской Ар-
кадией, то первое же стихотворение «Песен опыта» рисует ее окд-
мелевшей, погруженной в страшную тьму, с «сединой отчаяния
в волосах». Если в первых лирических книгах поэт, ослепленцый
утопическим оптимизмом, не замечал противоречий современно-,
го ему общественного порядка, то теперь они обнажены. Капита-
листическая Англия выступает как страна трагических контра-
стов. В стихотворении «Лондон» Блейк пишет, что на лице каждого?
прохожего — следы слабости и печали. Вздох несчастного солдату
стекает кровью по стенам дворца, проклятия юной проститутку
грязнят; слезу новорожденного ребенка.
В «Песнях невинности» дети являлись героями безоблачрыхз
пасторалей и наглядным примером единения между человечеством
и природой. В «Песнях опыта» они изображаются Блейком как объек-
ты жесточайшей эксплоатации. Трагическое положение «цветов
Лондона» для поэта является самым страшным доказательством,
тех общественных несправедливостей, которые существуют у цего
на родине. В стихотворении «Святой четверг», полемически направ-
ленном против одноименного в «Песнях невинности», Блейк ç не-
годованием говорит о том, что в богатой стране дети живут в нище-
те и голоде. Они отлучены от природы, им никогда не светит солн-
це, и самые песни их похожи на плач.
Природа в «Песнях опыта» тоже оказывается под властью зла.
В знаменитом стихотворении «Тигр» хищник является настоящим
€20
воплощением этого зла — зла, наделенного стальным сердцем
.мускулами.
Тигр, о тигр — огонь горящий
В глубине полночной чащи,
Чьей бессмертною рукой
Создан страшный образ твой?
В небесах или в глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился древле он?
Чьей рукою был пленен?
Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?
Он ли сталь твою ковал?
Где твой гневный мозг пылал?
Кто впервые сжал клещами
Адский сплав, метавший пламя?
Испытал ли наслажденье,
Завершив свое творенье,
Твой создатель? Кто же он?
Им ли агнец сотворен?
(Перевод С. Я. Маршака)
Полемика с настроением «Песен невинности» становится для
поэта настолько важной, что он создает >канр философских прит-
чей, в которых сталкивает две враждебных точки зрения — без-
удержного оптимизма и трезвого пессимизма. Победа всегда остает-
ся за последним. В одном из стихотворений Блейка ангел поет о
том, что мир спасут милосердие и жалость; но дьявол, проклинаю-
щий мир, уверяет, что милосердие и жалость не только не могут
•быть средством спасения, но сами являются порождением нищеты
и горя.
Основная тема «Песен опыта» непосредственно сближает их с
«Пророческими книгами» Блейка. И здесь трагическое положение
человечества поэт объясняет тем, что религия и мораль зажимают
;в железные тиски все естественные чувства.
Особенно страшным гонениям подвергается священная для
Блейка любовь. На нее надеты кандалы, ее прячут от дневного
•света. В символическом стихотворении «Сад любви» священники
в черных одеяниях обвивают колючим терновником все радости и
желания. Уподобляясь пламенному герою своих пророческих
книг — Орку, Блейк в «Песнях опыта» прославляет свободную
любовь и беспрекословное подчинение желанию.
С «Пророческими книгами» «Песни опыта» непосредственно свя
.зывает и то, что они целиком направлены против официальной
религии. Церковь проповедует необходимость смирения в мире,
где властвует волчий эгоизм; обещая всем блаженство в раю, она
-благословляет отвратительную нищету на земле. В «Песйях не-
винности» Блейк и сам выдвигал идеал овечьей кротости. Теперь
бунтарские настроения поэта заставляют его яростно обрушиться
на эти лицемерные проповеди. Для поэта см ирние — ядовитый
621
цветок, взращенный церковью. Оно освящает существующие отнсг-
шения, заставляет человека подавлять свою индивидуальность.
Обезличивающей кротости поэт противопоставляет священный гнев*
«Песни опыта» противоположны «Песням невинности» не только
по трагическому своему содержанию, но и формально. Если «Пес-
ни невинности» подражают жизнерадостной напевности детского
фольклора, то в «Песнях опыта» преобладает жанр философских
размышлений, в которых все подчинено ходу острой критической
мысли.
«Пророческие книги» Блейка, созданные после «Песен опыта»,,
не знаменуют собой нового этапа в его творчестве, ибо целиком щь
священы старой теме попранной естественности. Эти книги eiifëj
более переполнены хаотическими аллегориями и гротескными соз^
даниями неистового блейковского мифотворчества. ,!
Особняком стоит замечательная в своем роде поэма «Вечное!
евангелие» (The Everlasting Gospfcl, 1818). Это произведение перё«|
кликается со «Свадьбой неба и ада». Не прибегая здесь к помощ^
гротескных образов своей мифологии, Блейк, как и в «Свадьба
неба и ада», по-своему толкует традиционные представления хри^;
стианской религии. В этой поэме Христос из воплощения кротости
и покорности превращается в настоящего бунтаря, носителя свя-
щенного гнева, прославляемого в «Песнях опыта». «Тот, кто любит
своих врагов, предает друзей своих», — гласит один из его заветов*
Блейковский Христос проклинает книжников и фарисеев, растапты-
вая в прах лицемерие. Общаясь с бедными и бездомными, он напа-
дает на жестоких правителей. Он полон презрения к священникам,
которые воспевают своего неправедного бога. В коротеньком эпи-
логе Блейк иронически заявляет: «Я знаю, что этот Христос
не годится ни для англичанина, ни для еврея».
В последних поэмах —«Мильтон» и «Иерусалим» — и в стихах
того же периода Блейк отказывается от былого бунтарства. На сме
ну пламенному и беспощадному Орку приходит Мильтон, который
изображен Блейком не как революционер, а как «борец в области
духа». В поэме «Иерусалим» Блейк прямо заявляет, что Вавилов
современного порядка будет разрушен не мечами, а успехами про-
роческого искусства и науки. В стихотворении «Серый моназр*
Блейк пишет: «Только молитва отшельника и слеза вдовы могут*
освободить мир».
При жизни Блейк, как поэт, был известен немногим. Даже ро-
мантические новаторы—Кольриджи Вордсворт— не поняли истин-
ного значения его творчества, хотя Вордсворт называл стихи Блейка
«произведениями больного гения». Первыми почитателями Блейка в
Англии оказались прерафаэлиты — Россетти и Суинберн.^ Позднее
Блейка высоко ценил ирландский поэт Йитс, издавший полное
собрание его сочинений. Разумеется, прерафаэлиты, как и декаден-
ты «конца века», интересовались прежде всего мистической струей,
в блейковском творчестве, забывая об его общем бунтарском и де-
мократическом смысле.
€22
Глава 4
БЕРНС
В творчестве Бернса — последнего и едва ли не самого заме-
чательного английского поэта XVI11 века — в последний раз
отразились во всем своем блеске лучшие гуманистические прин-
ципы «века Просвещения». Но поэзия Бернса выходит за пределы
Просвещения. Народный поэт, современник французской рево-
люции, Берне создал произведения, исполненные такой револю-
ционной страстности, какая была чужда большинству английских
просветителей. Своею пылкой непримиримостью и воинствующим
гуманистическим пафосом творчество Бернса уже в XVIII веке
предвосхищает лучшие особенности английского революционной^
романтизма XIX века.
Роберт Берне (Robert Burns, 1759—1796) родился в семье бед-
ного шотландского фермера. Вильям Берне, отец поэта, всю свою
жизнь то на одном скудном клочке земли, то на другом борол-
ся с призраком нищеты и умер, сломленный этой неравной борь^
бой, оставив нищую семью и имущество под описью. Все же он стре-
мился дать сыновьям хотя бы начатки образования и в складчину
с соседями нанял им учителя. «К 10 или 12 годам, — говорит
Берне, — я был решительно знатоком существительных, глаголов
и междометий». Но знатоку грамматики приходилось также помо-
гать отцу во всех полевых работах. Учиться он мог лишь после
долгого изнурительного трудового дня. Свою юность поэт впослед-
ствии описывал, как «безрадостное прозябание отшельника в со-
единении с неустанным трудом каторжника на галерах». Это непо-
сильное напряжение подорвало здоровье поэта и положило начало^
недугам, которые в тридцать семь лет свели его в могилу.
После смерти отца в 1784 г. Роберт Берне стал самостоятельным
арендатором в Мосджиле. Три первые года пребывания здесь были,
пожалуй, наиболее плодотворными в творческом отношении, у Уже
в самых ранних из своих многочисленных сатир поэт насмехался
над реакционным шотландским духовенством, которое держало в
трепете и подчинении значительную часть отсталого крестьянства.
По рукам односельчан ходили его стихотворения, высмеивавшие
местных проповедников. Эти сатиры и многочисленные любовные
увлечения поэта, открыто нарушавшие неписаные законы пури-
танской морали, привели к тому, что Бернса не раз пытались
поставить к своеобразному «позорному столбу» (cutty stool)—осо-
бому месту, отведенному в пресвитерианской церкви для публич-
ного покаяния «согрешивших». Не раз он был темой громовых про-
поведей. Как бы отвечая на них, Берне пишет дерзкое стихотворение
«Привет поэта своей незаконнорожденной дочери» (1784).
Возлюбленной поэта стала Джин Армор, его будущая жена^,
но отец не захотел отдать ее за бедного арендатора. Подавленный
разрывом с Джин и упорными неудачами всех своих хозяйствен-
ных начинаний, Берне задумал отправиться на остров Ямайку,
где можно было получить место бухгалтера на плантациях. Чтобы
£23.
собрать деньги на проезд, поэт решил издать произведения своей
«сельской музы». Так появился знаменитый сборник «Стихотворе-
ния преимущественно на шотландском диалекте» (Poems chiefly
in the Scottish Dialect, .1786).
К первому периоду бернсовского творчества относятся: <фкон
Ячменное Зерно» (John Barleycorn, 1782), «Субботний вечер Посе-
лянина» (The Cotter's Saturday Night, 1785), «Веселые нйщйе»
<The Jolly Beggars, 1785), «Молитва святого Вилли» (Holy WjUiiei
Prayer), «Святая ярмарка» (The Holy Fair, 1786), «Две собаки» (ТЙе
Twa Dogs, 1787) и др.1 r
«Стихотворения преимущественно на шотландском диалекЩ
произвели сенсацию. Бернсу предложили приехать в Эдинбущ
чтобы подготовить второе издание. Поэт-фермер стал вхож в дом!
эдинбургской аристократии, профессоров и адвокатов. 1
Но Берне не обманывался насчет своей славы. «Чаша славы,^—|
писал он, — не вызывает во мне опьянения. Новизна на $реЩ\
привлекает внимание людей; именно ей обязан я всей теперешней
шумихой; но я уже предвижу то недалекое будущее, коГда волна
популярности, вознесшая меня на высоту, которой я, быть может*,
и недостоин, молча и быстро отхлынет, остабив меня на песке,
предоставляя мне возможность вернуться в прежнее низкое поло-
жение» (Письмо пастору Лоури, 5 февраля 1787 г.).
Знатные друзья расточали Бернсу похвалы; он отвечал им
напоминанием о своем предшественнике Фергюсоне, которому «про-
свещенный» Эдинбург дал умереть с голоду. Часть своего гонорара
он потратил на то, чтобы воздвигнуть памятник на заброшенной
могиле Фергюсона.
Став «львом» эдинбургского сезона, Берне держался с большим
достоинством. Отвечая одной светской охотнице за знаменито-
стями, он писал, что готов принять ее приглашение, если она пригла-
сит также и ученую свинью с Гроссмаркетской ярмарки.
И/действительно, высокие покровители Бернса, восхищавшиеся
его стихами, рассматривали его лишь как диковинку. С их точки
зрения место акцизного чиновника должно было стать блестящей
реализацией самых заветных мечтаний поэта. Берне предпочел
вернуться к своим прежним фермерским занятиям. «Счастливейший
удел, — писал он с горечью, — если б только он давал пропи-
тание».
Но работой на бесплодной земле Берне не мог прокормить
свою увеличивавшуюся семью. Поэтому, как ни чуждо было ему
это занятие, ему все же пришлось стать акцизным чиновником.
«И вот кому мир не нашел лучшего занятия, — пишет Карлейль;ч—
как ссориться с контрабандистами и виноделами, исчислять тамо-
женные пошлины на сало и обмерять пивные боченки. В таких
трудах печально растрачивался этот мощный дух». . , г
Служебйой «карьере» йоэта явно) помещала его плебейский не-
примиримость и открытое сочувствие французской революции.
1 При перечислении отдельных поэм Еернса указан год написания.
624
Когда в 1792 г. с помощью Бернса был захвачен контрабандистский
бриг и имущество его продавалось с аукциона, Берне купил пушки
и послал их в дар французскому Конвенту. Пушки были задержаны
в Дувре, а поэт немедленно взят под подозрение своим начальством.
Учинено было даже специальное расследование его политических
убеждений. Бернсу, встревоженному за будущность своей семьи,
пришлось написать несколько заверений в благонадежности, но
это унижение оставило на нем тяжелые следы.
Хотя почти все его время съедала утомительная работа тамо-
женника, Берне и теперь не расстался с творчеством. Именно в эти
годы была создана значительная часть его лирических песен.
Еще в Эдинбурге Берне познакомился с неким Джемсом Джон-
соном, который задумал издавать сборники под названием «Шот-
ландский музыкальный музей» (The Scot's Musical Museum, 6 vols.,
1787—1803). В этих сборниках Берне напечатал много своих соб-
ственных произведений и переработанных им народных песен.
Некоторые из книг «Шотландского музыкального музея» вышли
с предисловием поэта. Всю эту работу Берне делал совершенно без-
возмездно, руководимый подлинной любовью к искусству своей
родины. «В некоторых наших старых балладах, — писал он еще
в дневниках 1784 г.,—я нахожу благородную возвышенность-
чарующую нежность, которые отличают творения подлинных ма
стеров; и мне всегда больно было думать, что эти славные старые
певцы — певцы, обязанные всем лишь природному гению и сумев-
шие описать подвиги героев, муки разочарования и томление любви
такими правдивыми словами, —что певцы эти и самые имена их...
навеки погребены в забвении.
О славные и безвестные творцы! так сильно чувствовавшие, так
звонко певшие! Последний и ничтожнейший из свиты Муз,—который,
хотя и уступает вам во всем, все же хочет подражать вам
и на своих слабых крыльях стремится за вами, — бедный и без-
вестный сельский поэт воздает эту дань вашей памяти!».
С 1792 г. поэт стал также принимать активное участие в сбор-
никах «Шотландские мелодии и песни» (A Select Collection of Ori-
ginal Scottish Airs., 5 vols., 1793—1818), которые издавал музыкант-
любитель Джордж Томсон.
Но целиком отдаться творчеству Бернсу так и не удалось. До
конца жизни он занимался им между делом. Беспросветная нужда
отравила его последние дни. За неделю до смерти гениальный певец
шотландского народа едва не попал в долговую тюрьму.
-^ Во второй период бернсовского творчества (после 1787), кроме
многочисленных лирических песен, были созданы «Тэм о'Шентер»
(Tarn o'Shanter, 1790), «Честная бедность» (For AThat and A'That,
/795), «Ода, посвященная памяти м-сс Освальд» (Ode, sacred to
the Memory of Mrs. Oswald, 1789).
При всем своем своеобразии творчество Бернса все же было
подготовлено предшествующим развитием шотландской поэзии.
В XVIII веке шотландский язык окончательно перестал быть
языком национальным, заняв скромное положение диалекта, на
40 Англ. литература
625
котором говорило, главным образом, крестьянство в селах, далеки^
от городских центров. Книги на шотландском языке не появлялись!
уже с конца XVI века. Языком церкви, литературы и всей обществ
венFой жизни был английский.
Однако в то же время, в особенности после слияния шотланд-
ского и английского парламентов в 1707 г., возникает патриоти-
ческая литература, которая старается воскресить для жизни в искус-
стве «простонародный» говор. Родоначальником этой литературы
на диалекте был Аллан Рамзей (Allan Ramsay, 1686—1758). Крити-
ка пресвитерианского аскетизма делает его предшественником
Бернса. Рамзей также способствовал пробуждению интереса к
шотландской фольклорной песне, издав сборник под названием
«The Evergreen» (1724).
За Рамзеем во многом следует Роберт Фергюсон (Robert Fer-
gusson, 1750—1774). В стихах, полных необузданного юмора и зо|к
кого реализма, Фергюсон изображает вольные нравы обитателей
Эдинбурга, переживающего период бурной ломки патриархальны^
устоев. <|;
Поэзия Бернса многим обязана Рамзею и Фергюсону. Но в -Щ
развитии сказались и многие другие влияния. Берне тесно связаЦ
с поэзией английского сентиментализма. Он хорошо знаком с про$
изведениями Томсона, Шенстона, Грея и Гольдсмита. Ему близок
жизнерадостный дух реалистических романов Фильдинга, на ко$
торые он не раз ссылается в своих письмах. Но всего теснее -0)|
связан с народной поэзией, расцвет которой в Шотландии пришелсЙ
на XV—XVI века. Одной из настольных его книг были «Старые щ
современные шотландские песни», изданные Хёрдом в 1771 'Щ
Часть бернсовских стихотворений написана на литературном;
английском языке. Именно в них особенно ясно ощущается ег$
связанность с сентиментализмом. Большинство этих стихотворец
ний принадлежит к жанру* элегий и философских размышлений^!
ибо Берне, — правда, в меньшей мере, чем Рамзей и ФергюсоЯ$
остался верен представлению о том, что диалект не годится дл4
«высокой» темы* Другие произведения Бернса написаны на- англий^
ском языке, с небольшой примесью слов, взятых из шотландскохф
гоЁора. Этот принцип определяет, например, лексику идиллвд
«Субботний вечер поселянина». Диалект господствует лишь в лири^
ческих песнях поэта. Й
С первого взгляда может показаться, что бернсовская поэзй*
отличается крайней двойственностью. Действительно, страстный
поклонник французской революции в очень многих стихотворениях
открыто заявляет о своей верности изгнанной династии Стюартов»
Якобинское и якобитское причудливо переплетаются. Берне про-
славляет феодальных борцов против английского владычества —
Роберта Брюса и Вильяма Уоллеса, с ненавистью пишет об унии
1707 г., которая отдала Шотландию в руки вигов, сочувственно отзы-
вается о якобитских восстаниях 1715—1716 и 1745—1746 гг. («Бен-
нокберн», «Прощай» и др.). На самом деле, однако, эти якобитские
заявления представляют собой лишь форму, в которую обле-
626
кается демократический патриотизм поэта. Будучи чужд феодаль-
но-реставраторских тенденций, Берне, вместе с тем, мечтает об
освобождении Шотландии от власти «английского золота». В этой
патриотической героике поэзии Бернса сказались настроения шот-
ландского крестьянства, разоряемого английским, капитализмом.
Не следует забывать, например, что якобитское восстание 1745—
1746 гг. было поддержано крестьянами горных кланов.
Роберт Брюс, Вильям Уоллес и другие герои бурной истории
Шотландии выступают в берксовской поэзии в качестве борцов
за свободную и демократическую Шотландию. Очень часто стихи,
где поэт, пользуясь мотивами народных песен, восхваляет Стюартов,
превращаются в гимны той свободе, которую несла с собой фрак-
цузска я революция.
Якобитство в идеологии Бернса было наносным. На самом деле
во всем его творчестве с особенной силой звучат основные лозунги
революционного движения третьего сословия. В «Двух собаках»
Берне сатирически описывает жизнь богатых сквайров, к услугам
которых — лакеи, коляски и туго набитые кошельки. Он возму-
щается тем, что даже дворянская челядь живет лучше бедных и
трудолюбивых арендаторов. В «Честной бедности» поэт издевается
над легкостью, с которой король раздает титулы и производит
герцогов, рыцарей и маркизов.
Берне, однако, выходит за пределы буржуазно-демократической
идеологии. Он подвергает ожесточенной критике не только все пе-
режитки сословного общества, но и власть денежного мешка. Пле-
бейским презрением к богатым дышит «Ода, посвященная памяти
м-сс Освальд». Эта ода, по словам Карлейля, была бы уместна
в устах эсхиловых фурий. Берне улюлюканьем и свистом прово-
жает в могилу жену богатого лондонского купца и радуется тому,
что, по крайней мере, в аду ей не помогут ее «десять тысяч
блестящих фунтов в год».
В своих лучших произведениях поэт поднимается до критики
всего буржуазно-дворянского общества и его государственности.
Необычайной силы бунтарство Бернса достигает в его шедевре «Ве-
селые нищие». Солдат в красных лохмотьях, любвеобильная мар-
китантка, старая воровка и поэт-бродяга, все они для Бернса —
не «преступный мир», а прежде всего люди, свободные от уз соб-
ственности. Компания, собравшаяся осенним вечером в кабачке
Пузи Нэнси, повторяет припев, в котором возникают грозные очер-
тания наоодного бунта:
Дрянь все — кому закон по вкусу.
Свобода — светлый праздник нам.
Суды полезны только трусу,
А церковь — выгодна попам.
(Перевод Т. Л. Щепкиной-Куперник)
Ненавистью Бернса к сословному обществу и буржуазной диви-1
лизации объясняются руссоистские мотивы его творчества» УТц*
тулу, рангу, почетной должности и богатству он противопоставляет
40* 627
все полученное человеком от самой природы: светлый разум, силь-
ные и ловкие руки, веселый нрав. Так в бернсовской поэзии воз-
никает настоящий культ «естественного человека», ничем не обя-
занного неправедным общественным отношениям. Можно десятка-
ми создавать носителей разных высоких званий, но никто, кроме
самой природы, не сможет сотворить обыкновенного честного парня.
Вот этот хлыщ — природный лорд.
Ему должны мы кланяться,
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!
При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах, —
Бревно останется бревном
И в орденах и в лентах!
Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым!
(Перевод С. Я. Маршака)
В «Честной бедности» и в других песнях Берне лишь подхваты-
вает живущую в фольклоре мечту об обществе, где человека на
будут заслонять деньги и титулы. Поэтому от французской рево-
люции он ждал того, чего она по самой природе своей дать m
могла. Ведь уже первые избирательные законы во Франции по-
казали, что права людей ставятся в зависимость от размера их соб*
ственности. Берне же мечтал о демократии подлинной и народной,
о. такой форме общественного устройства, при которой человеку
будет воздаваться по его способностям и умению.
Берне тяготеет к идеализации сельской простоты и умеренности.
Семейные, дружеские и прочие связи между людьми могут по-на-
стоящему процветать только в обстановке благородной бедности.
«Честная бедность» — мотив очень устойчивый в поэзии Бернса.
Этой бедности поэт противопоставляет роскошь, развращающую
людей и искажающую все естественные отношения.ув сатире «Две
собаки», живописуя семейные радости бедных арендаторов, кото-
рые отдыхают в кругу своих верных жен и веселых детей, Берне
с* насмешкой говорит о скучной ж^зни богатых и светских людей,
сохнущих от безделья.
Настоящим гимном этой священной простоте является идиллия
«Субботний вечер поселянина». Патриархальная семья скромного
фермера изображается образцом человечности и нежности. Вер-
нувшегося с поля хозяина радостно встречают дети. В скромном
домике царят чистота и веселый уют. Взрослая дочь фермера скромно
краснеет, когда появляется ее благонравный жених. Трапеза за
столом, на котором стоят простые и здоровые блюда «родной Скот-
тии», превращается у Бернса почти в патетическое зрелище. Со-
бравшиеся благочестиво прислушиваются к голосу (отца, читающего
Библию..
628
Этот руссоизм Бернса являлся прежде всего своеобразной поле*
микой против того черного пессимизма в отношении к крестьян-
ству^ который имеется хотя бы в поэмах Крабба. Если Крабб в
своей поэме «Деревня» (1783) и в других произведениях, выступ
пая предшественником европейских натуралистов, видел в пред-
ставителях английского крестьянства людей, потерявших человече-
ский облик и окончательно развращенных влиянием промышленного
переворота, то Берне показывал живые силы народа, способ-
ные противостоять растлению. Краббовскому пессимизму, застав-
лявшему этого поэта рисовать лишь картины моральной, умствен-
ной и физической деградации, противостоит у Бернса бунтарская
жизнерадостность шотландского фольклора.
Характерна в этом отношении баллада о «Джоне Ячменное Зерно».
Раз три восточные царя
Решили заодно
Дать клятву, что погибнет Джон
Ячменное Зерно.
Но вот настала вновь весна,
С теплом дожди пошли,
И Джон, на удивленье всем,
Вдруг встал из-под земли.
Да! Джон Ячменное Зерно
Герой отважный был:
Кто кровь отведает его,
В том вспыхнет смелый пыл!
Так возгласим за Джона тост,
И пусть из рода в род
Навек в Шотландии его
Потомство процветет!
(Перевод Т, Л. Щепкиной-Куперник)
Берне горячо берет под защиту индивидуальные права лично-
сти. Это особенно ясно чувствуется в постоянном споре поэта с идео-
логией шотландского кальвинизма, на борьбу с которым Берне
высылал самые различные жанры — о г насмешливой эпиграммы
до беспощадной сатиры.
Именно в Шотландии протестантская церковь показала себя
особенно нетерпимой и мелочно-жестокой. Она превратила молитву
в настоящий аскетический искус, проповедь — в проклятья зем-
ному счастью. В шотландских церквах священники изощрялись
в изображении ужасов ада, козней сатаны. Вот против этого-то
кальвинистского фанатизма, против развенчания природы и челове-
ка восстает народный поэт Берне, непосредственно связанный с
шотландским фольклором, в котором религиозному мракобесию
противопоставлена здоровая жизнерадостность.
Так в поэзии Бернса возник жанр пародийно сатирических
произведений, где безжалостно «снижаются» герои кальвинистских
проповедей. Сатану, который, по кальвинистскому учению, без-»
62'
раздельно правит всем миром чувственности, Берне, пользуясь
приемами народных сказок, называл «старым рогачом», «старым
Ником» и т. д. («Обращение к дьяволу», «Гэм о'Шентер», «Поэма
о жизни»). Больше того, из воплощения титанической силы сатана
превращается в бедное создание, достойное всякой жалости, ибо
ему приходится исполнять весьма неприятные работы. В стихо-
творении «Смерть и доктор Хорнбук» точно так же «снижен» образ
смерти, бомбардируемой пилюлями некоего доблестного врача.
- Самым замечательным произведением в этом роде является берн-
совская поэма «Гэм о'Шентер», — лукаво задорный ответ шотланд-
ского народа на мрачную доктрину кальвинизма. Поэма любопыт-
на тем, что в ней «дискредитируются» и мифологические элементы;
имеющиеся в фольклоре. «Гэм о'Шентер» начинается картиной э
духе Рамзея и Фергюсона, изображающей веселую попойку в
одном из кабачков старого Эйра. Возвращаясь домой, подвыпивший
Тэм о'Шентер проезжает мимо Аллоуэя, пользующегося дурной'
славой в народе, и оказывается свидетелем настоящего бесовского
шабаша. Но сатана, ведьмы и привидения трактованы Бернсом как.
порождение пьяной фантазии героя. Кроме того, автор вводит в
описание множество нарочито комических и весьма прозаических
подробностей, которые лишают эти существа грозной силы. Под
музыку, которой управляет сам сатана, ведьмы танцуют шотланд-
скую джигу. Столкновение героя с «нечистой силой» кончается
только тем, что его кобыле отрывают хвост. Все мифоло-
гическое в этой поэме почти уничтожено натиском столь характерного
для Бэрнса раблезианства. Тэм о'Шентер, попавший в самую гу-
щу адского веселья, вместо того, чтобы растеряться, принимается,
разглядывать молоденькую ведьму, которая кажется ему милее
других.
\/Главная черта сатир Бернса в том, что человек в них всегда вы-
ходит победителем из столкновения с различными «сверхличныщ
силами». Здесь Берне использует фольклор совершенно иначе, чещ
консервативные романтики Кольридж и Саути, в чьих произвел
дениях, созданных на материале народного творчества, все мифо^
логические пережитки трактуются всерьез. <|
Столь же враждебен был народный поэт кальвинистским приед
ципам воздержания и умеренности. В сатирах «Молитва святого;
Вилли», «Святая ярмарка», «Послание пастору Мак-М^зу» он до?!
казатт, что народу совершенно чужд человеконенавистнически^
фанатизм. В «Святой ярмарке» в разгар гневных проповедей назцЩ
чаются свидания. «В «Молитве святого Вилли» дан пародийны^
образ лицемерного священника, который благодарит бога за тол
что.тот сделал его своим высоким избранником, наделив чистотой
и святостью. Далее святой Вилли обрушивается на деревенских;
грешников, любителей выпить и поспорить с проповедникам^
Предавая анафеме чувственность, герой Бернса вынужден, однако
сознаться, что и его не однажды ввели во искушение плотские
соблазны. «Молитва святого Вилли» особенно характерна для Бер^п
са потому, что в ней сатира на одного конкретного представителе
630
духовенства перерастает в великолепную критику самого суще-
ства кальвинистской религии.
Приветствуя свободную игру естественных влечений, Берне,
вместе с тем, далек от эгоистического эпикурейства. Бернсовским
героям, умеющим наслаждаться, совершенно не нужна развращаю-
щая роскошь; им не нужны ни пышные одеяния, ни столы, устав-
ленные яствами. Неистовые любовники и веселые пьяницы Бернса
необыкновенно человечны, они всех призывают следовать своему
примеру. Поэт ведет борьбу за «наслаждение для всех». Особенно
заметно это в «Веселых нищих». Герои этой кантаты, — казалось
бы, в конец потерявшие человеческий облик, затравленные буржуаз-
ным обществом, — настойчиво цепляются за свое маленькое счастье,
упорно хотят получить свою долю бесплатных радостей. Сквозь
их лохмотья просвечивают грязные тела, но, вопреки всему, в ка-
бачке Пузи Нэнси то и дело раздаются звуки поцелуев. И безру-
кий солдат-инвалид с деревянной ногой, и старая воровка, муж ко-
торой погиб на виселице, и бродячий музыкант-горбун, — все
они поют громкие гимны наслаждению.
О тесной связи Бернса с шотландским фольклором особенно
ясно свидетельствуют его лирические песни. Иногда поэт сочиняет
новые слова на старые мелодии, бытующие в сельской среде,
иногда перерабатывает старые песни, изменяя в них лишь отдель-
ные фразы, строчки и строфы. Чаще же всего бернсовская песня,
даже являясь совершенно самостоятельной, вырастает из фоль-
клорного припева.
Любимые жанры поэта — дружеские послания, заздравные
песни, веселые «застольные» свидетельствуют о том, что он выхо-
дит за пределы камерной лирики. Стихи Бернса, какова бы ни была
их тема, исполнены духом народного коллективизма.
В лирике Бернса проявляется подлинный гуманизм, свойствен-
ный народной поэзии. Глубоким чувством любви к человечеству
должен был обладать поэт, который писал: «Если бы я мог... я осу-
шил бы все слезы на всех глазах» (письмо Хиллу от 2 марта 1790 г.).
Многочисленные любовные песенки Бернса, которые высоко ценил
Гёте, всем своим духом враждебны отношениям буржуазного обще-
ства. Берне в своих песнях защищает высоко гуманистический
принцип свободного чувства, не продающегося за деньги. Он и
здесь следует за фольклором. Ибо в народной поэзии немало рас-
сказов о враждебной людям силе денег. Народная поэзия дает
отпор этой «извращающей силе», восстанавливая человеческую лич-
ность в ее правах.
Едва ли не основным мотивом бернсовской лирики является
противопоставление подлинного человеческого чувства стяжатель-
ским инстинктам. Поэт все время повествует о двух соперниках —
любви и деньгах, провозглашая заздравные гимны в честь пер-
вой. Так, доярка Бетти не хочет выходить замуж за Джона, пото-
му что тот «слишком занят своим богатством»; вернувшись домой,
солдат не жалеет, что у него нет ни гроша в кармане: с любовью
можно прожить и без денег; подруга угольщика, отвергая богача,
631
сулящего ей золотые горы, прямо говорит ему, что она «обменивает
любовь только на любовь» (Loove for loove is the bargain for me)^
Презирая богатство, состоящее из звонких монет, Берне славит
богатство естественно-человеческих возможностей. Один из берн*
совских героев «богат прекрасной любовью». В программном сти-
хотворении «Доволен немногим» герой заявляет, что его карман-
ные деньги — веселье и добрый нрав.
Так как подлинный герой Бернса никогда не оглядывается на.
то, что лежит вне чувства, то в лирических песнях поэта crpacTv
побеждает деньги и почти всегда достигает желанной цели. Ее
всегда благословляет как бы сама природа, со всех сторон обету*
пающая любовников. На положении комических героев оказы-
ваются все, кто почему-либо не хочет признать верховную власть,
этой непобедимой страсти.
Песни Бернса изобилуют типично фольклорными «параллелизм
мами», в которых эмоциональная жизнь человека сравнивается
с тем, что происходит в природе. Берне, в отличие от поэзии анг-
лийского классицизма, отворачивается от буржуазной цивилизации*.
Шотландский пейзаж оказывается единственным фоном его лири-
ческих стихотворений и единственным арсеналом метафор. «Она
стройна как молодой ясень, растущий между буквиц», «ее дыха^
ние — аромат жимолости»; «она порхает по берегам Эрна, как птш;
ца в кустах терновника». Иногда, как в народной поэзии, песни
Бернса держатся на одном распространенном сравнении. Так, ъ
песне «Берега Дуна» дан образ сорванной розы, символизирующий
девушку, обманутую любовником.
Берне, однако, чужд позднейшей романтической натурфилософ
фии, в которой растения и животные почти уравнены в правах с*
человеком. Для поэта именно человек является настоящим венцом
творения. Его лирические песни прежде всего — прямая речь
большого чувства, а не пейзажные описания, как это часто бываея
в поэзии XIX и XX веков.. В песнях Бернса ландшафт играет рощ
фона, но никогда не превращается в основного героя. Именно поэ*
тому песни Бернса полны точными названиями и реалистичес1#
очерченными пейзажными подробностями, не расплывающимией:
в тумане мистической натурфилософии. В «Водах Афтона» поэту
поручает горлинке, черному дрозду, хохлатой луговке охранять*
сладкий сон своей милой. :
Никогда не впадая в романтическое обожествление природы/
Берне живо ощущает свою связанность с самыми незаметными об№*
тателями зеленого царства. Поэт жалеет маргаритку, подрезан*
ную сохой, сочувствует полевой мыши, гнездо которой он случайно
разрушил.
Берне оказал значительное влияние на дальнейшее развитие
английской поэзии. В частности, ему многим обязаны некоторые
романтики. Влияние Бернса чувствуется в стихах Вордсворта,
изображавшего идеализированный быт самостоятельного англий-
ского крестьянина. Бернсовский культ любви и наслаждения про-
должает жить в лирике Байрона. Из неанглийских поэтов под [w^
632
сомненным влиянием шотландского барда находился Фреилиграт
и мастер народной песни Беранже.
По воспоминаниям Лафарга, Берне принадежал к числу лю-
бимейших поэтов Маркса, которому «доставляло большое удоволь-
ствие чтение вслух его дочерьми сатир шотландского поэта или
пение романсов на текст любовных стихотворений Бернса».
- В России первые переводы из Бернса появились еще в конце
XVIII века. В XIX веке русского читателя знакомили с Бернсом
Костомаров и Михайлов.
В советское время Бернса удачно переводили Э. Багрицкий,
С. Я. Маршак и Т. Л. Щепкина-Куперник.
УКАЗАТЕЛЬ
Август, II, 263.
Адам де л а Галь, I, 228.
Адам Ускский, I, 179.
Аддисон, Джозеф, I, 223, 299; II, 67,
105, 200, 262, 278, 285, 287, 288,
289, 290, 291, 296, 313, 316—330,
331, 397, 412, 457, 460, 462, 464,
465, 466, 467—468, 469, 472, 476,
478, 504, 512, 515, 521, 567, 568,
569, 570, 571, 575, 582г 604.
Аламанни, Луиджи, I, 303.
Алкуин, I, 28, 32—33, 46.
Альберт из Экса, I, 235.
Альдгельм, I, 28—29.
Альфиери, Витторио, II, 247.
Альфред Великий, I, 8, 11, 43, 44—49,
52, 78.
Амис и Амиль, I, 92.
Амори, Томас, II, 509.
Англичанину II, 319.
Андреини Джамбаттиста, II, 188.
Анна, королева Англии, II, 275, 290,
315, 318, 363, 385, 522.
Ансельм, философ, реалист-платоник,
гч I, 58, 81.
Аполлоний, II, 573.
Арбетнот, Джон, II, 367, 383—387,
474, 475.
Арден из Февершама, I, 271, 350,
351; II, 484, 485.
Арди, Александр, II, 236.
Аретино, Пьетро, I, 360.
Ариосто, Лодовико, I, 273, 277, 304,
310, 313, 314, 327, 355; II, 10,
21, 27, 240, 551, 573, 575.
Аристотель, I, 277, 288; II, 184, 305—
306, 326, 327, 344.
Аристофан, II, 82, 422, 433.
Армстронг, Джон, II, 545.
Артур, легендарный король Англии,
I, 6, 61, 62, 71, 75, 85, 86,
122, 124, 233, 236—241, 330;
II, 187.
Ассер, биограф Альфреда Вел., I, 45,
46, 59.
Ателярд из Вата, I, 58.
Багрицкий, Э., II, 633.
Байрон, Джордж Гордон, I, 130, 168,
232, 313, 315; II, 187, 200, 249,
314, 316, 434, 454, 464, 495, 508,
539, 547, 552, 560, 566, 574, 578,
580, 591, 598, 602, 603, 606, 607>
611, 612, 613, 617, 619, 632.
Бакстер, Ричард, II, 153—154.
Баллады народные шотландские, I,
218—233.
Бальзак, Онорэ, II, 398, 404, 613,
Банделло, Маттео, I, 277, 352; II, 27.
Барбор, Джон, I, 171, 173—176, 199,
201, 220.
Барклай, I, 300.
Бартолин, Тома, II, 553.
Баульс, Вильям Л., II, 314.
Баур-Лормиан, II, 580.
Бевис Гемптонский, I, 76, 88, 91;
Бегун по свету, I, 85.
Беда Достопочтенный, I, 5, 26, 2%
30—31, 33, 34, 35, 48, 59, 60, 61,86,
Бейкер Эрнест, II, 251.
Бейль, Джон, I, 269, 318, 319, 323, 330;'
Бейль, Пьер, II, 293, 548. -'.;
Бекфорд, Вильям, II, 546, 588, 589,
592, 593, 599, 600, 602—607, 608,
609, 611.
Белинский, В. Г.,II,69,70,190,520,52b'
Белое знамя, II, 438.
Бельфоре, Франсуа де, II, 41.
Бен, Афра, II, 220, 222, 234, 251, 252,
256—261, 262, 341, 473.
Бенкс, Джон, II, 470, 485.
Бентам, Джереми, II, 294, 296.
Бентли, Ричард, II, 309, 356, 357, 382.
Бенуа де Сент-Мор, I, 71, 72, 73, 74,
153 195.
Беовульф, I, 8, 12, 15, 16, 17—23, 36, 86.
Бербедж, Джемс, I, 336, 337, 338.
Бербедж, Ричард, II, 9, 10, 24, 41.
Берк, Эдмунд, II, 505, 511, 559, 560.
Беркли, Джордж, II, 281, 283, 308,
459, 531.
Бернарден де Сен-Пьер, Жак Анри,.
II, 353.
634
*•
Берн-Джонс, Эдуард, сэр, I, 241.
Берни, Фанни, II, 407, 456—457, 463.
Берне, Роберт, I, 170, 176, 201, 206,
217, 218, 315; II, 65, 278, 434,
436, 508, 524, 547, 559, 623—633.
Беррель, леди, II, 500.
Бертлет, I, 140.
Бертон, Роберт, I, 267, 297—299; II,
157, 238, 528.
Беруль, Беро, I, 75.
Бетлер, Сэмюэль, II, 213, 218, 220,
224, 225—231, 241, 307.
Бетлер, Сэмюэль, автор «Ируон», II,
383.
Беттертон, Томас, II, 8, 10, 41,
67, 233, 237.
Бикерстаф, Исаак, II, 483.
Бион, автор греческих идиллий, I, 311.
Битва при Брунанбурге, I, 25—26.
Битва при Финнсбурге, I, 23, 36.
Битва при Мальдоне, I, 25.
Битти, Джемс, II, 508, 547.
Блейбтрей, Карл, II, 11.
Блейк, Вильям, II, 613—622.
Блекмор, Ричард, II, 471.
Блондель, менестрель Ричарда 1ХI, 76.
Блоунт, Чарльз, II, 217.
Блэр, Роберт, II, 200, 509, 550, 614.
Блэр, Гью, II, 567, 576, 577.
Бобров, С. С, II, 546.
Богатство и здоровье, I, 256.
Бодин, Джемс, II, 500.
Бодлер, Шарль, II, 613.
Бодмер, Якоб, II, 326, 330.
Боец, II, 412, 457.
Бокаччо, Джованни, I, 129, 130, 140,
142, 147, 149, 150, 152, 153, 154,
155, 159, 160,161, 164, 165, 166,
182, 191, 195, 196, 197, 269, 277,
330, 354; II, 87, 109, 238.
Болдуин, I, 305.
Болинброк, Генри Сент-Джон, ви-
конт, II, 273, 285, 290—291,
293, 301, 302, 311, 315, 318, 362,
363,400,402,409, 434, 474, 505,511.
Болл Джон, I, 97, 98, 118.
Болтун, II, 319, 320—322, 327, 328,
329, 361, 362, 457.
Болтунья, II, 328.
Бомарше (Карон), II, 420, 518.
Бомонт, Фрэнсис, I, 266, 269; II, 10,
65, 107, 110—118, 218, 222, 233.
Борн, Бертран де^ I, 76.
Боррон, Роберт де 1, 71, 74.
Босвель, Джемс, II, 291, 458, 459,
461, 464.
Боуэр, Вальтер, I, 224.
Бофор, Генрих, епископ Винчестер-
ский, I, 180.
Боэций, Аниций Манлий, Ï, 46, 47,
142, 152, 167, 182, 201, 203.
Боярдо, Маттео, I, 304.
Брайан, Фрэнсис, I, 305.
Браун, Джон, II, 389.
Браччолини, Поджо, I, 180.
Брейтингер, Иоганн-Якоб, II, 330.
Брентано, Клеменс, II, 540.
Брехт, Берт, II, 478.
Британец у II, 437.
Броккес, Бартольд-Генрих, II, 545.
Бром из Суффолка, I, 247.
Бронте, Шарлотта, II, 539.
Броун, Томас, II, 156—158, 159.
Брук, Артур, II, 35.
Брук, Генри, II, 504, 507, 509, 523—
524, 539.
Брум, Ричард, II, 118.
Бруни, Леонардо, I, 179.
Бруио, Джордано, I, 273, 352, 364.
Брюзга, II, 328.
Буало-Депрео, Николя, II, 302, 303,
306, 307, 315, 327, 508, 548, 573.
Букингем, Джордж Вилье, герцог,
II, 215, 218, 241, 251.
Бульвер-Литтон, Эдуард Джордж,
лорд, II, 539.
Бург, Бенедикт, I, 195.
Бут, Джон, I, 108.
Бутс, Бартон, II, 318.
Бьют, Джон Стюарт, лорд, II, 437,
440.
Бэкон, Делия, II, 11, 12.
Бэкон, Роджер, I, 68-69, 356.
Бэкон, Фрэнсис, I, 265, 266, 267, 271,
286, 289—296, 297, 330; II, 10,
11, 12,36,57, 63, 64, 65, 87, 92,
147, 155, 217, 285,320, 326, 327,
357.
Бэньян,'Джон, I, 117, 122; II, 161, 162,
163, 201—210, 213, 218, 219, 220,
222, 279, 341, 342, 343, 344, 404.
Бюргер, Готфрид-Август, I, 232; II,
584, 608, 612.
Каганты I, 66.
Вальдере, I, 24.
Ванбру, Джон, И, 254—256, 471,
484, 493, 495.
Вас, I, 62, 71—72, 73, 86.
Вате ли, II, 50.
Вебстер, Джон, I, 266; II, 8, 100, 108,
118, 119, 124—126, 128, 134, 137.
Веджио, Маффео, I, 213, 214.
Векфильдский сборнику 1, 247, 250.
Вельтман, А. Ф., II, 541.
Вен, Генри старший, II, 145.
Вентадорн, Бернар де, I, 76.
Вергилий Марон, I, 22, 27, 73, 142,
149, 150,151, 153,164,212,213,214,
311, 313; II, 7, 173, 198, 219, 237,
302, 306, 316, 321, 326,544,560,
569.
635
Вердер, Карл, II, 40, 41.
Вернон, Вильям, II, 547.
Веррас, I, 286.
Веселовский, Александр Ник., II,
541.
Веселовский Алексей Ник., II, 201.
Вида, Джироламо, II, 303.
Видаль, Раймон, I, 76.
Видсид, I, 9, 11—12.
Виклиф, Джон, I, 67, 99, 101—102,
103, 107, 136, 156, 183, 184, 190.
Виланд, Кристоф-Мартин, II, 67, 68,
407.
Вильгельм Завоеватель, I, 55, 170,
259.
Вильгельм III, король Англии, II,
272, 281, 331, 355, 358, 470, 471.
Вильон, Франсуа, I, 141.
Вильсон, Джон, II, 86.
Вильсон, Довер, II, 70.
Вильсон, Томас, I, 276.
Вильям Мальмсберийский, I, 59, 62,
70, 78.
Вильям из Палермо, I, 124.
Винфрид-Бонифаций, I, 29.
Винцент из Бовэ, I, 194, 235.
Виньи, Альфред де, II, 201, 588, 606,
612, 613.
Вирекер, Нигель, I, 67.
Вис, Иоганн-Рудольф, II, 353.
Во, Томас, I, 305.
Воген, Генри, II, 163, 168.
Воейков, А. Ф., II, 546.
Вольтер, Франсуа Мари Аруз, I, 44;
II, 68, 230, 253, 260, 280, 288,
291, 294, 305, 307, 311, 312, 318,
323, 344, 361, 368, 372, 374, 376,
379, 383, 407, 437, 460, 462, 468,
473, 512, 514, 521, 539, 548, 573,
596, 604, 617.
Вольф, Фридрих-Август, II, 572.
Вордсворт, Вильям, I, 198; II, 168,
200, 306, 314, 551, 559, 580, 584,
588, 622, 632.
Ворчун, II, 328.
Воскресение, мистерия, I, 243.
Всеобщий Зритель, II, 328.
Всякий человек, моралите, I, 255.
Вуд, Вильям, II, 365, 366.
Вуд, Роберт, II, 571—572.
Вульфстан, англо-саксонский пропо-
ведник, I, 51.
I ай из Варвика, I, 76, 91-92.
Гапмар, Жеффрсй, I, 70, 71, 73, 91.
Гаклуйт, Ричард, I, 265; II, 340.
Галилей, Галилео, II, 176, 177.
Галифакс, Чарльз Монтегью, лорд,
И, 313.
Галлер, Альбрехт, II, 545.
Гальфрид Англичанин, I, 65.
636
Гальфрид Винчестерский, I, 62
Гальфрид Монмаутский, I, 60* 61-La*
70, 71, 237, 328. ' ™
Гаман, Иоганн-Георг, II, 569.
Гамильтон, Вильям, II, 583.
Гарви, Джемс, II, 507, 509 550
Гарли, Роберт, граф Оксфорд и*
301, 315, 332-333, 362, 363/364'
367, 387. ' °°4*
Гарри Слепой, I, 172; 175, 199—201
Гаррик, Дэвид, II, 11, 67, 279, 436*
437, 459, 491, 499. °*
Гаррингтон, Джемс, I, 286; П 149-1
150. '
Гартли, Дэвид, II, 285.
Гартлиб, Сэмюэль, II, 147—148.
Гаскойнь, Джордж, I, 121, 266, 308
327, 330, 347; II, 21.
Гастингс, Уоррен, II, 274, 492
Гауэр, Джон, I, 53, 99, 110, 111,'ln
130-140, 145, 167, 198, 202, 2Й
Гвин, Нелли, II, 215, 224, 237, 245*
Гегель, Георг-Вильгельм-Фридрих, И
268, 540. г
Гейвуд, Джон, I, 319—322, 323, I, 326*
II, 165. 5
Гейвуд, Томас, I, 271; II, 33, Щ
105—108, 485. '
Гейне, Генрих, II, 434, 540.
Гейнзе, Иоганн-Якоб-Вильгельм, IÙ
608.
Геллерт, Христиан-Фюрхтеготт, IL
407.
Гельвеций, Клод Адриан, II, 283;
295. '
Гемфри, герцог Глостер, I, 180, ЛШ
Генрисон, Роберт, I, 202—206, 208^
216.
Генрих Гентингдонский, I, 59, 60^
62, 70. • ,^
Генрих II Плантагенет, король Ащ.
глии, I, 62, 63, 70,71, 72,74, 76*
85, 92, 226. ■;
Генсло, Филипп, I, 337, 338, 352J,
II, 72, 73, 100, 105, 106. ■"/...
Гент, Ли, II, 256.
Георг I, король Англии, II, 323, ЗбЗг
Георг III, король Англии, II, 390*
440. Д
Гербель, Н. В., II, 69. ':*£
Герберт, Джордж, II, 159, 163, Ifffc
Герберт, Эдуард, лорд Шербери, "►
156, 167. -
Гердер, Иоганн-Готфрид, I, 44, 22к>>
II, 327, 549, 564, 569, 571; 572>
580, 584, 608.
Геррик, Роберт, II, 170. \Л.~а>
Гёте, Вольфганг,Ч, 267, 379; П,40,6»г
327, 376, 405, 407, 434, 464, 48Ц
510, 518, 520, 540, 564, 571, 5ТЛ
580, 608, 612, 631.
Ги из Понтье, I, 62.
Гильдас, I, 60.
Гильдон, Чарльз, II, 342, 353.
Гильом Триполитанский, I, 235.
Гильпин, Вильям, II, 565.
Гиппель, Теодор-Готлиб, II, 540.
Гиральд Камбрийский, I, 65.
Гловер, Ричард, II, 583.
Гнафеус, I, 324.
Гоббс, Томас, II, 148—149, 155—
156, 214, 215—216, 217, 222, 285,
302, 322, 359, 504, 505.
Говард, сэр Роберт, II, 234, 237.
Гогарт, Вильям, II, 56, 60, 230, 276,
308, 429, 484, 491, 593.
Гоголь, Н. В., I, 45; II, 435.
Годвин, Вильям, II, 283, 284, 382,
500, 502, 503, 522, 526, 591, 614.
Годин, Джон, II, 144, 145.
Голиншед, Рафаэль, I, 265, 286, 341,
376; II, 31, 47.
Гольбах, Поль Генрих Дитрих, ба-
' рон, II, 283, 529.
Гольдони, Карло, II, 408.
Гольдсмит, Оливер, II, 100, 2*56,
316, 325, 328, 367, 390, 406, 457,
463, 465, 466, 489,490—491,503,
505, 506, 507, 509, 510—523, 526,
530, 536, 542, 547, 556, 560, 575,
583, 604, 613, 615, 626.
Гомер, I, 150, 153, 313; II, 95, 173,
179, 198, 219, 237, 303, 309, 326,
407, 434, 557, 568, 569, 571, 572,
574, 577, 578, 579, 580.
Гонгора, Луис, II, 166.
Гораций Флакк, I, 22, 27, 142, 303;
И, 7, 79, 292, 301, 302, 303, 312,
321, 548, 608.
Горький, А. М., I, 229, 358; II, 349,
435.
Госпожа Сирии, I, 94, 251.
Госсон, Стивен, 'I, 308, 340.
Готшед,.Иоганн-Кристоф, II, 330,468.
Готфрид из Витербо, I, 53, 139.
Готфрид Страсбургский, I, 75.
Гофман, Э. Т. А. , II, 540, 612.
Гранье, Робер, I, 349.
Грегори, Г., И, 587.
Грей, Томас, II, 65, 464, 507, 522, 542,
550—555, 568, 571, 572, 575, 578,
587, 593, 616, 626.
Григорий I, папа римский, I, 46, 47.
Гримм, Фридрих-Мельхиор, барон, II,
280.
Грин, Роберт, I, 140, 228, 266, 308,
310, 342, 343—344, 351, 353—
358, 359, 361, 362, 363, 370; II,
9, 14, 15,. 21, 58, 100.
Гросин, Вильям, I, 274, 275, 278, 280.
Гросстет, Роберт, I, 68, 100.
Грэб-стритский журнал, II, 329.
Гуд, Томас, II, 563.
Гукер, Ричард, I, 260; II, 158.
Гумилев, Н. С, I, 229, 233.
Гутберт, ученик Беды, I, 30.
Гуттен, Ульрих фон, I, 269.
Гью Ротеландский, I, 74.
Гэй, Джон, II, 274, 278, 367, 383,385,
387, 410, 462, 466, 474—480, 481,
483, 484.
Гюго, Виктор, II, 201, 612.
Давенант, Вильям, II, 231—233, 234,
237.
Дайер, Джон, II, 544—545.
Дайер, Джордж, I, 216.
Дайер, Эдуард, I, 308.
Д'Аламбер, Жан Ле Рон, II, 512.
Дамблон (литературовед), II, 11.
Даниэль, Сэмюэль, I, 267, 300, 306;
II, 10, 17, 118.
Данкур, Флоран, II, 255.
Данте, Алигьери, I, 76, 78, 129, 130,
140, 142, 145, 146, 149, 150, 151,
152, 160, 162, 165, 168, 169, 282,
313; II, 181,551, 614.
Дарвин, Эразм, II, 545.
Дарес, I, 72, 153.
Дары человека, англо-саксонская ди-
дактическая поэма, I, 43.
Дауден, Эдуард, II, 65.
Двор любви, I, 198, 202.
Дегилевилл, Гильом, I, 117.
Действо об Адаме, I, 243.
Де Квинси, Томас, I, 241;. II, 309.
Деккер, Томас, I, 121, 266, 271, 351;
II, 72, 73, 74, 99—105, 108, ПО,
132, 133.
Делап, Джон, II, 500.
Делиль, Жак, II, 545, 546.
Делоней, Томас, I, 271; II, 99, 101,
108—110.
Деметрий Халькондил I, 274.
Денем, Джон, II, 171, 175.
Деннис, Джон, II, 462, 467.
Державин, Г. Р., II, 580.
Дефо, Даниэль, I, 360; II, 104, 161,
210, 260, 261, 277, 279, 289, 290,
291, 292, 311, 317, 328, 330—354,
382, 390, 397, 401, 414, 415, 420,
441, 518, 528, 529, 530, 577.
Дешан, Эсташ, I, 141.
Деяния Сакса Герварда, I, 10, 78.
Джентльменский -журнал, II, 277,
329.
Джеффрис, Джордж, судья, II, 153.
Джонс, Иниго, II, 78, 79, 95, 137.
Джонсон, Бен, I, 131, 140, 223, 225,
265, 271, 276, 337, 351, 378;
II, 8, 9, 10, 11, 12, 26, 63, 66, 71 -
94, 95, 98, 100, 105, 106, 115, 127,
637
130, 133, 158, 162, 165, 166, 168,
169, 180, 220, 222, 232, 233, 243,
244, 253, 490, 569.
Джонсон, Джемс, II, 625.
Джонсон, Ричард, II, ПО.
Джонсон, Сэмюэль, I, 298; II, 45, 6?,
158, 164, 227, 229, 231, 245,
247, 248, 264, 277, 279, 291,
309, 390, 395, 406, 444, 456, 457—
465, 469, 511, 515, 522, 559, 560,
575, 578, 582, 604.
Джонсон, Чарльз, II, 480.
Джонстон, Чарльз, II, 456.
Дивер, Прентан, I, 351.
Дидро, Дени, I, 291; II, 260, 271, 280,
281, 283, 293, 323, 397, 398, 399,
407, 434, 486, 487, 488, 498, 499,
501, 512, 518, 529, 531, 539, 540,
604, 608.
Диккенс, Чарльз, II, 94, 104, 325,
328, 382, 420, 434, 435, 454, 455,
563, 613.
Диктис, I, 72.
Диодати, Чарльз, II, 10.
Добролюбов, Н. А., II, 48, 70, 292.
Додвэль, Генри младший, II, 285.
Додслей, Роберт, II, 556.
Дольче, Лодовико, I, 330.
Донн, Джон, II, 158, 159, 163, 164,
165—167, 168, 169, 170.
Досужий, II, 464.
Драйден, Джон, I, 131, 168, 315; II,
57, 67, 87, 94, 163, 164, 175,
181, 186, 188, 218, 220, 221, 222,
234, 235—245, 246, 248, 258, 329,
357,467,471, 474, 476,498,575.
Драйтон, Майкль, I, 121, 225, 266, 306;
II, 100, 158.
Дрозд и соловей, I, 83, 84.
Дружинин, А. В., II, 563.
Дрэммонд, Вильям, II, 66, 72, 78, 92.
Дуглас, Гевин, I, 206, 212—216.
Дунбар, Вильям, 1,202, 207—212, 216.
Дух, Воля и Разум, моралите, I, 254.
Дю Барта, Гильом де Саллюст, I, 277;
II, 163, 188.
Дю-Белле, Иоахим, I, 307, 310.
Дю Деффан, г-жа, II, 591, 593.
Дюканж, Виктор Анри Жозеф Браэн,
II, 612.
Дюкре-Дюмениль, Франсуа Гийом, II,
612.
Дюсис, Жан Франсуа, II, 68, 69.
Сврипид, I, 288, 330; II, 486.
Евсевий, I, 29.
Ежемесячное Обозрение, II, 511.
Елизавета, королева Англии, I, 254,
260, 263, 270, 273, 289, 305, 307,
312, 314, 318, 320, 324, 327, 328,
329, 330, 333, 334, 335, 338, 34(3
341, 348, 349, 365, 366, 370; И
31, 72. J
Л\ак де Зитри, I, 235.
Жалоба монаха, I, 81.
Жалоба Петра Пахаря, I, 118, 12
Жанен, Жюль, II, 540.
Жан де Бургонь, I, 235.
Жемчужина, I, 124, 128—129.
Женщина из Аухтермухти, I, Щщ
Жеффрей, автор действа о св. Ека^
рине, I, 242.
Жуковский В. А., I, 233; II, 245,
544, 554, 555, 580, 612.
Журнал, II, 333.
Журнал Якобита, II, 412, 457../Ц
Од и против, II, 330.
Замок Стойкости, моралите, I, 25
254.
Зеркало, II, 466. Ц
Зерцало правителей, I, 305—ЗС6; 11,471
Знаток, II, 465—466. 1
Зритель (Аддисона и Стиля), II, 31^-41
328, 329, 412, 457, 513, 567.
Зритель (Крылова), II, 330.-
кшоркский газетчик, II, 527.
Йоркский курьер, II, 527.
Иосиф Аримафейский, I, 124.
Исидор Севильский, I, 30, 50, 139,
Искатель приключений, II, 464,
Исследователь, II, 262, 363.
Истинный патриот, II, 412, 457,
Исход, I, 36.
Йитс, Вильям Бетлер, II, 622,
Кабэ, Этьен, I, 286.
Казамьян, Л., II, 229, 434.
Казотт, Жак, II, 608.
Кальвин, Жан, II, 151.
Кальдерон де ла Барка, Педро, III
219, 234.
Кампанелла, Томазо, I, 286.
Кампе, Иоахим-Генрих, II, 353
Кант, Иммануил, II, 505. J
Карамзин, Н. М., II, 69, 408, 5411
549, 580. Щ
Карл Великий, I, 44, 46, 61, 124, 21$
236.
Карл I Стюарт, король Англии, 11,67;А
130, 137, 141, 143, 144, 153, 169,
170, 172, 173, 185.
Карл II Стюарт, король Англии, Иц
144, 155, 171, 172, 174, 175, 213,«
215, 221, 226, 232, 236, 238, 248,)
256, 261, 262. *
638
Карлейль, Томас, II, 382, 436, 624,
627.
Карпини, Плано, I, 235.
Кастельветро, Лодовико, I, - 308.
Кастильоне, Бальдессар, I, 277, 311.
Каули, Авраам, II, 173—174, 175,
234, 315, 357, 461.
Каупер, Вильям, II, 314, 316, 502,
507, 508, 517, 542, 556, 557—559,
560, 613, 615.
Квинтилиан, Марк Фабий, I, 276.
Кедворт, Ральф, II, 216.
Кейв, Эдуард, II, 329.
Келли, Гью, II, 498.
Кемберленд, Ричард, философ, 11,217.
Кемберленд, Ричард, драматург
XVIII в., II, 490, 496—498.
Кембль, Джон Филипп, II, 67.
Кемп, Вильям, II, 9, 109.
Кеолфрид, I, 28.
Керкмен,- Фрэнсис, II, 256.
Керью, Томас, II, 168—169.
Кетчер, Н. X., II, 69.
Кид, Томас, 1,266,342,343, 349—351,
353, 361, 365, 367, 370; II, 12,
14, 41, 61, 63, 82, 83, 115, 120.
Киллигрью, Томас, II, 233—234.
Киллигрью, сэр Вильям, II, 234.
Киллигрью, Генри, II, 234.
Кин, Эдмунд, II, 38, 246.
Кингсли, Чарльз, I, 78; II, 524.
Киплинг, Редьярд, I, 233.
Ките, Джон, I, 168, 313, 315; II, 99,
245, 547, 584.
Клавдиан, Клавдий, I, 142, 151.
Кларёндон, Эдуард Хайд, граф, II,
223—224.
Клейст, Генрих фон, II, 545.
Кливленд, Джон, II, 170.
Клиффорд, Мартин, II, 241.
Клопшток, Фридрих-Готлиб, I, 223;
II, 201, 549, 564, 580.
Книга Бытия, I, 35.
Книжица английской политики, 1,183.
Ковент-гарденский журнал, II, 412,
428, 431, 433, 457.
Ковентри, Фрэнсис, II, 456.
Коканская страна, I, 94.
Колет, Джон, I, 275, 276, 278, 280, 323.
Коллинс, Антони, II, 285.
Коллинс, Вильям, II, 464, 542, 555—
556, 571, 572.
Колльер, Джереми, И, 254, 255, 319.
471.
Колонне, Гвидо делле, I, 153, 190, 195.
Кольман, Джордж старший, II, 465,
491.
Кольридж, Сэмюэль Тэйлор, I, 232,
233; И, 20, 51, 99, 158, 200, 314,
403, 546, 571, 578, 584, 588, 602,
612, 622, 630.
Ком, Вильям, II, 565.
Конгрив, Вильям, II, 137, 250, 251,—
253, 254, 256, 387, 471, 473, 484,
495.
Кондель, Генри, II, 13, 14.
Корнель, Пьер, II, 174, 220, 221,286,
467, 471, 472.
Король жизни, моралите, I, 253.
Король Горн, I, 88—89.
Кофи, Чарльз, II, 480.
Кошелек, II, 330.
Крабб, Джордж, II, 316, 503, 508,
517, 542, 547, 556, 557, 559—
563, 629.
Краули, Роберт, I, 121.
Краун, Джон, II, 234, 249.
Кретьен де Труа, I, 74, 76.
Критик на 1718 год, II, 328.
Кромвель, Оливер, II, 142, 144, 146,.
147, 148, 149, 172, 174, 186, 213,
214, 227, 231, 232, 234, 235, 238,
239, 276, 372, 430.
Крофт, Герберт, II, 587.
Круза, пастор, II, 311.
Крэшо, Ричард, II, 163, 167—168,
173.
Кукушка и соловей или «Книга купи-
дона», I, 198, 202.
Купер, Фенимор, II, 353.
Кутанс, Андре де, I, 77.
Кэдмон, I, 8, 33—35, 37.
Кэкстон, Вильям, I, 140, 181, 187,
190, 236, 323.
Кэмден, Вильям, I, 225.
Кэнгрейв, Джон, I, 184—185.
Кюневульф, I, 14, 23, 37—39, 40, 41.
Лайамон, I, 71, 85, 86, 87, 125, 173.
Ла Кальпренед, Готье де Кост де,
I, 246, 257.
Ламартин, Альфонс де, II, 201, 554„
580.
Лангбейн, Джерард, II, 223.
Ланкло, Нинон де, 11,-401!
Ланфранк, архиепископ Кентербе-
рийский, I, 58.
Лаптон, Томас, I, 317.
Ласарильо с Тормеса, II, 409.
Лафайет, г-жа де, II, 246, 401.
Лафарг, Поль, II, 434.
Лафонтен, Жан, I, 163; II, 174, 297,
316.
Левее, II, 22.
Легг, Томас, I, 330, 376.
Легенда об Андрее, I, 39.
Легенда о Гутлаке, I, 40.
Лейбниц, Готфрид-Вильгельм, II, 312,
Леланд, Томас, II, 597.
639
Ленгленд, Вильям, I, 94, 99, ЮЗ,
106—122, 130, 131, 135, 146,
156, 167, 218, 220.
Пении, В. И., II, 267, 268—269, 273,
281, 283, 531.
Леннокс, Шарлотта, II, 456, 463.
Лермонтов, М. Ю., I, 172; II, 606,
Лесаж, Алэн Рене, II, 349, 420, 437,
441, 442, 448.
Лессинг, Готтгольд-Эфраим, II, 68,
198, 280, 288, 304, 312, 313, 314,
316, 392, 434, 486, 488, 501, 505,
540, 545, 546.
Леттоу, Джон, I, 182.
Летурнер, Пьер, II, 549, 550, 580.
Ли, Гарриет, II, 597.
Ли, Натаниэль, II, 246, 469.
Ли, София, II, 597.
Лидгейт, Джон, I, 93, 117, 187, 188,
191—198, 205, 212, 306, 328.
Лили, Вильям, I, 275.
Лили, Джон, I, 266, 269,271,277,309,
327, 342, 343, 344—349, 351,
352, 353, 354, 357, 360, 361; II,
9,34,65,219.
Лилло, Джордж, II, 248, 485—489, 495.
Лильберн, Джон, II, 142, 145—146.
Линдсей, Давид, I, 215, 301, 317.
Линдсей, Дж., II, 203.
Линэкр, Томас, I, 274, 278, 280.
Лир,анонимн. дошексп. пьеса, 11,47.
Литературно-критическое обозрение,
II, 437.
Литльтон, сэр Томас, II, 409, 410, 542,
546.
Литльтон, Эдуард, II, 461.
Ловлас, Ричард, II, 169—170.
Лодж, Томас, I, 269, 310, 340, 342,
351, 354, 355, 358—359, 360,
361, 363; II, 9, 28.
Лозинский, М. Л., II, 71.
Локк, Джон, II, 151, 161, 273, 280—
283, 293, 295, 320, 322, 347, 390,
400, 402, 415, 503, 504, 531.
Ломоносов, М. В., II, 312.
Лонгфелло, Генри Уодсуорт, I, 42, 48.
Лондонская газета, II, 319.
Лопе де Вега, II, 87.
Лоран де Премьефэ, I, 197.
Лоренс, Герберт, II, 11.
Лоренс Дергемский, I, 62.
Лоренс, Д. Г., II, 618.
Лоррис, Гильом де, I, 148, 155.
Лоут, Роберт, II, 572.
Лукан, I, 142, 150, 363; II, 573.
Лукреций Кар, I, 22.
Лукулл, Луций Луциний, II, 263.
Львов, П. Ю. II, 408.
Льюис, М. Г., II, 500, 588, 589, 592,
599, 600, 602, 606, 607-612.
Льюк, сэр Сэмюэль, II, 225.
Лэйнг, Малькольм, II, 579.
Лэм, Чарльз, I, 315; II, 99, 125 159
250, 256, 328, 336, 352, 353,' 539*
Лэндор, Уолтер Сэведж, II, 187, 189,
200.
Лэси, Джон, II, 234, 241.
]У1азуччо, Гвардатто, I, 163.
Макдональд, Александр, II, 576.,
Макиавелли, Никколо, I, 369, 370, 37i
Маколей, Д., II, 112.
Маколей, Томас Бэбингтон, II, 203.
218, 223, 323, 389, 456.
Макропедиус, I, 324.
Макферсон, Джемс, I, 223; II, 499,
551, 575, 576—58.0.
Малерб, Франсуа де, II, 220.
Маллет, Дэвид, II, 291, 545, 583.
Маллэ, Поль, II, 575, 581.
Мальборо, Джон Черчилль, герцог,
II, 261, 317, 318, 362, 385.
Мальбранш, Николя де, II, 293.
Малькольм III, король Шотландии,
I, 170.-
Мандевиль, Бернард, II, 292, 296—
301, 311, 322, 335, 374, 400, 413,
417, 418, 432, 458, 513.
Маннинг, Роберт, I, 91, 100. ^
Мансион, I, 181. vj
Мантовано, Баггиста, I, 311. )
Man, Вальтер, I, 63—65, 66, 99. !
Марвель, Эндрью, II, 171—173, 186\
Мариан, Скот, I, 59.
Мариво, Пьер Карле де Шамблэн,
II, 399, 513, 521.
Марино, Джамбаттиста, II, 166.
Мария Французская, I, 71, 75.
Мария, жена Вильгельма Ц1, И, 281, ,»
Маркс, Карл, 1,69, 96, 261, 262, 291—
292; II, 101, 143, 150, 151, 154,,
155, 162, 198—199, 221, 269,?
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, ?
277, 285, 288, 289, 293, 300, 333, г
343, 345—346, 348, 353, 358, 418,
422, 434, 517, 564, 589.
Марло, Кристофер, I, 265, 266, 276,
305, 308, 314, 315, 319, 324, 330,
342, 343, 344, 350, 351, 353, 354,
355, 350, 357, 360, 361, 362—379;
II, 12, 14, 29, 33, 35, 50, 53, 61,
62, 63, 66, 82, 95, 100, 158, 192,
199, 200, 237.
Мармонтель, Жан Франсуа, II, 486,
524.
Маро, Клеман, I, 311/
Марстон, Джон, I, 266; Н, 39, 73,
74, 76, 95, 118, 120.
Маршак, С. Я., II, 71, 615, 621,628,;633.
Матвей Парижский, I, 242.
Машо, Гильом, I, 141, 148, 151, 155.
640
Медичи, Лоренцо, I, 274.
Мен, Жан де, I, 141, 148, 188.
Менандр, II, 253.
Мерее, Фрэнсис, II, 13, 14, 72.
Местр, Ксавье де, II, 540.
Мидльтон, Томас, II, 100, 105, 111,
118, 126—129, 130, 252.
Мильтон, Джон, I, 123, 168, 198, 271,
298, 305, 315, 353, 379; II, 145,
147, 153, 159, 161, 162, 163, 171,
172, 173, 175-201, 209, 213, 219,
220, 221, 222, 223, 236, 305, 306,
311, 326, 327, 402, 462, 463, 505,
508, 544, 545, 551, 552, 553, 554,
555,569,570, 572, 573, 574, 614,622.
Минтурно, Аптонио, I, 308.
Мирандоло, Пико делла, I, 275, 280,
288, 310.
Мольер (Жан Батист Поклен), II, 56,
61, 105, 131, 221, 222, 236, 250,
251, 252, 253, 255, 306, 420, 422,
435, 472, 473, 474, 493, 494, 518.
Мондей, Антони, I, 229.
Монмаут Джемс Скотт, герцог, II, 331.
Монтегью, лэди Мэри Уортли, II, 413.
Монтемайор, Хорхе, I, 308.
Монтескье, Шарль, II, 280, 293, 512,
513, 521, 604.
Монтэнь, Мишель, I, 273, 277, 292,
297; II, 39, 87, 238, 263, 293, 327,
528.
Мор, Ганна, II, 499.
Мор, Генри, II, 216—217.
Мор, Томас, I, 265, 266, 269, 270,271,
272, 273, 274, 276, 278—287,
288, 295, 296, 317, 319; II, 62, 88,
147, 165.
Мореплаватель, I, 15.
Моррис, Вильям, I, 168, 241.
Москвитянин у I, 329.
Мудрость, I, 25.
Музей, греч. поэт, II, 95.
Музеус, Иоганн-Карл-Август, II, 608.
Мул без узды, I, 125.
Мур, Джон, II, 591.
Мур, Эдуард, II, 222, 465, 487—489.
Мур, Томас, II, 316.
Мэйр, Джон, I, 225.
Мэйсон, Вильям, II, 545, 553, 567,
575, 576, 587.
Мэккензи, Генри, II, 466, 503, 507,
509, 523—526.
Мэлон, Эдмунд, II, 67, 571.
Мэлори, Томас, I, 125, 182, 187, 236—
241.
Мэнли, Мери де ла Ривьер, II, 261—
262, 473.
Мэрфи, Артур, II, 483.
Мэссинджер, Филипп, I, 266; II, 100,
111, ИЗ, 117, 118, 119, 129—
133, 252.
41 Англ. литература
Мэтьюрим, Чарльз, II, 598, 602, 606,
612.
Паогеоргос, I, 324.
На празднике в Пиблсе, анонимы, шотл.
поэма XV в., I, 217.
Невиль, Генри, II, 341.
Некам, Александр, I, 65.
Некрасов, Н. А., II, 69, 563.
Ненний, I, 60, 61.
Никколо, Никколи, I, 179.
Нищий философ, II, 513.
Новая риторика Лаврентия Саон-
ского, I, 182.
Новиков, Н. И., II, 201, 280, 549.
Нодье, Шарль, II, 540, 612.
Норт, сэр Томас, I, 277.
Нортбрук, Джон, I, 340.
Нортон, Томас, I, 266, 328, 329, 359;
II, 47.
Нравственная поэма, I, 79.
Ньютон, Исаак, II, 218, 366, 617.
Нэш, Томас, I, 84, 266,. 269, 304, 308,
342, 343, 344, 351, 353, 354, 356,
357, 359—361, 362, 363, 367; II,
14, 24, 31, 105, 108, 127.
Нэш (литературовед), II, 248.
\J0O3peHue, II, 333.
Об освобождении королем Эдмундом от
датчан в 942 г. ряда городов,1,2$.
Овербери, Томас, I, 299; II, 105, 158,
226.
Овидий, Назон, 1,22,139, 142, 150,155,
182, 277, 363; II, 7, 8, 9, 15, 74,
237, 306, 316.
Оде ль, Томас, II, 480.
Оккам, Вильям, I, 101.
Окклив, Томас, I, 103, 187—191,
192, 198, 199.
О короновании короля Эдуарда в
Бате в 973 г., I, 26.
Олпфант (литературовед), II, 113.
Опекун, II, 319.
Орм, I, 79.
Орозий, Павел, I, 47, 52.
Оррсрп, Роджер, Бойль, виконт, II,
237, 256.
Осведомитель, II, 328.
О смерти короля Эдуарда исповед-
ника, I, 26.
Отвей, Томас, II, 246—249, 469,476,
485.
Охота v Чивиотских холмов, шотл.
баллада, I, 222—223; И, 326.
Парнель, Томас, И, 387, 509, 511,
522, 550.
Партридж, Джон, предсказатель, II,
3(51.
641
Пастернак, Б. Л., II, 71.
Пастон Джон, I, 186, 226.
Патрици, Франческо, I, 287.
Пейн, Томас, II, 614.
Пейнтер, Вильям, I, 277, 344.
Пейре Оверньский, I, 76.
Пепис, Сэмюэль, II, 224—225, 226.
Первей, Джон, I, 102.
Перри, Т. С, II, 434.
Перро, Шарль, II, 327, 356.
Перси, Томас, I, 233; II, 572, 574, 575,
579, 580, 581—584.
Персии Флакк, I, 303.
Перч (издатель), II, 556.
Песнь кукушки у I, 84.
Песнь о Нибелунгах, I, 24.
Песнь о Роланде у I, 70.
Песнь песней у I, 81.
Песня о битве при Льюисе, I, 87.
Песня о Гавелоке, I, 89—91.
Петр Альфонс, I, 138, 194.
Петр I, русский император, II, 224.
Петрарка, Франческо, I, 130, 142,
148, 149, 150, 191, 273, 302, 303,
304, 307, 310; II, 87, 187, 551.
Петров, В. П., II, 546.
Петти, Вильям, I, 344.
Пикеринг, Джон, I, 331.
Пикколомини, Эней Сильвий, I, 180.
Пикок, Реджинальд, I, 183—184, 233.
Пиксерекур, Ренэ Шарль Жильбер де,
II, 612.
Пиль, Джордж, I, 266, 342, 344, 351,
352—353, 354, 358, 360, 363; II, 14,
243.
Пиндар, II, 326, 568.
Писемский, А. Ф. II, 455.
Питт, Вильям старший; II, 409, 440.
Пифагор, II, 184.
Плавт, Тит Макций, I, 324, 325, 326,
348; II, 7, 20, 82, 236.
Платон, I, 63, 267, 277, 282, 287, 310,
311; II, 184, 293, 326, 329.
Плач о преследовании монахов при
Эдуарде II, I, 26.
Плиний старший, I, 30, 274, 346, 348.
Плутарх, I, 267, 277, 287, 341, 359;
II, 8, 39, 319.
По, Эдгар Аллан, II, 612, 613.
Повесть о Парисе и Вене, I, 236.
Повесть о Феликсе и Филомене, II, 23.
Полициано, Анджело, I, 274.
Поп, Александр, I, 168; И, 8, 67,
161, 175, 223, 235, 245, 285, 287,
289, 290, 291, 301—314, 315, 316,
317, 320, 321, 329, 331, 353, 366,
367, 383, 384, 385, 387, 397, 412,
459, 461, 462, 463, 467, 474, 475,
476, 477, 486, 506, 515, 522, 541,
544, 545, 547, 548, 549, 554, 557,
562, 568, 569, 573, 574, 575.
Поповский, Н. Н., II, 312 Ч
Попугай, II, 328. ' ■
Послание супруга, I, 13.
Поэма о Вульфе, I, 14. •
Правила для отшельников, Цу go
Праздношатающийся, II, 4(56.
Прайор, Мэтью, II, 230, 307, 314^-316
462. Щ; '
Прайс, Ювдейль, II, 566, 567.
Прево, Антуан Франсуа, II, 330, 399
407, 597.
Престон, Томас, I, 331.
Принн, Вильям, II, 159—160.
Пристли, Джозеф, II, 283, 284, 28$
Псевдо-Аристотель, I, 190, 195. Ж
Псевдо-Каллисфен, I, 52. щ
Публичный вестник, II, 389. щ
Путешествия сэра Джона Мандевищ
I, 234—236. Щ
Пушкин, А. С, I, 233; II, 37, 56, 61,7H
201, 206, 396, 408, 435, 545, 5Щ
Пчела, II, 457, 511, 513. К
Рабле, Франсуа, I, 67, 269, 297, ЗЩ
372; II, 24, 87, 88, 184, 194, 2Я
372, 377, 378, 379, 422, 433, 5Ж
539. ■
Равенскрофт, Эдуард, II, 233. ■
Радищев, А. Н., II, 201, 280, Г)Д
Радклиф, Анна, II, 500, 503, 58И
589, 592, 593, 595, 597—602, 60И
608, 611, 612. I
Развалины, I, 16. I
Развлекатель, II, 328. I
Разговоры художников, II, 330. I
Разумные хулительницы, II, ЗЗи
Райт, Томас, II, 341—342. I
Раймер, Томас, II, 45, 222, 223. I
Ральф Ройстер Дойстер, I, 325; II, 21
Рамзей, Аллан, II, 582, 626, 631
Рапсодия, II, 329. I
Расин, Жан, II, 247, 324, 401, 4б1
469, 486, 573. 1
Рассеянный, II, 369, 463, 464, 461
Рассказ пахаря, I, 112. Щ
Растель, Джон, I, 317, 320, 323, 321
Реджинальд Кентерберийский, I, 6м
Редфорд, Джон, I, 317. 1
Рейнольде Фредерик, II, 498. 'I
Реньяр, Жан Франсуа, II, 474. |
Ретленд, Роджер Мэннерс, лорд, U.lty
Рив, Клара, II, 589, 593, 596—597,
598, 601, 608.
Риккальтоун, Роберт, II, 544. |
Римские деяния, I, 53, 139, 189.
Ритсон, Джозеф, I, 226; II, 571,574,583^
Рихтер, Жан Поль, II, 540.
Ричард Львиное Сердце, король Анг-
лии, I, 65, 76, 9, 225.
Ричард II, король Англии, I, 143. 153,
166, 177, 245, 306.
642
Ричардсон, Сэмюэль, II, 169, 222,
257, 279, 285, 287, 288, 289,
328, 388, 390—408, 412, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 433, 437, 444,
456, 457, 463, 491, 503, 510, 511,
518, 523, 524, 526, 530, 536, 589,
592, 594, 595, 601.
Робин Гуд, I, 78, 220, 224, 225—229,
353, 358; 11,8, 19, 23, 26, 28, 29,
79, 101, 103, 581.
Роджерс, Оуэн, I, 121.
Ролей, Вальтер, I, 265, 296, 313, 314,
363, 364, 365; II, 11, 78, 95, 340.
Ролей, Вальтер (шекспировед), II, 65,
199.
Ролл, Ричард, I, 82, 99, 100.
Роман о Лисе, I, 93, 141, 182, 198.
Роман о Розе, I, 117, 129, 137, 141,
142, 146, 148, 151, 152, 155, 194.
Ронсар, Пьер, I, 307.
Россетти, Данте Габриэль, I, 241; II,
588, 622.
Роу, Николас, II, 8, 11, 67, 73, 248.
249, 469—470, 476.
Роули, Вильям, II, 100, 111, 118, 133.
Роули, Томас, II, 585, 586, 587, 588.
Роулинсоновские фрагменты, I, 84.
Рочестер, Джон Вильмот, граф, II,
201, 215, 217, 251, 323.
Рочфорд, лорд, I, 305.
Руссо, Жан Жак, II, 192, 193, 280,
• 281, 299, 300, 308, 344, 347, 352,
353, 354, 374, 377, 405, 407, 453,
459, 486, 496, 501, 502, 512, 514,
521, 523, 526, 537, 541, 558, 598,
617.
ч^айкс (литературовед), II, 113.
Саккетти, Франко, I, 163.
Саксон Грамматик, II, 41.
Саллюстий, Гай Крисп, II, 106.
Салтыков M. Е. (Щедрин), II, 383.
Салутати, Колуччо, I, 180.
Сандерсон, II, 157.
Саннадзаро, Якопо, I, 309.
Саутгемптон, Генри Райотслп, граф,
I, 363, 364; II, 9-10, 15, 18, 24,
25, 39.
Саутерм, Томас, II, 249, 261.
CavTii, Роберт, I, 232, 233; II, 241, 584,
587, 602, 630.
Свадьба Джоки и Джинни, I, 217.
Свет, И, 465—466.
Светоний Транквил, Гай, II, 75 .
Свинья Кокльби, I, 216.
Свифт, Джонатан, II, 152, 155, 157,
161, 210, 230, 261, 262, 264, 274,
276, 277, 278, 285, 288, 289, 290,
291, 292, 301, 310, 317, 319, 323,
333, 338, 354—383, 384, 385,
386, 387, 400, 410, 417, 422, 423,
41*
428, 440, 459, 466, 474, 475, 476,
477, 478, 479, 481, 490, 513, 514,
522, 528, 539.
Севинье, г-жа де, II, 401.
Седли, сэр Чарльз, II, 215, 251—252.
Секлинг, Джон, II, 169.
Сели (письма), I, 186.
Сельден, Джон, II, 144—145,
Селькирк, Александр, I, 34Ô, 341,
Семь визирей, I, 94. /
Семь римских мудрецов, I, 92.
Сенека, Луций Эней, I, 277, 327,
328, 330, 349, 350, 378; II, 7,
87, 573.
Сен Ламбер, Жан Франсуа, маркиз
де, II, 545.
Сен Реаль, Сезар Ришар де, II, 247,
248.
Сент Бев, Шарль Огюстэн, II, 559~ï.
Сентливр, Сюзанна, II, 473—474, 493.
Сент Эвремон, Шарль де, II, 174, 548.
Сервантес, Мигэль де, I, 167, 313; II,
87, 114, 117, 219, 227, 228, 264,
325, 379, 422, 425, 437, 448, 450г
481, 528, 537.
Серрей, Генри Говард, граф, I, 214,.
266, 269, 271, 300, 302, 303-305,.
307, 310; II, 199, 200.
Сессоли, Яков де, I, 190.
Сетования Деора, I, 9, 12, 14.
Сетования жены, I, 13—14.
Сиббер, Коллил II, 310, 319, 329,.
472—473, 474, 480, 489.
Сидней, Альджернон, II, 214—215.
Сидней, Филипп, I, 130, 223, 225, 266,
269, 271, 273, 300,307 — 310, 331,
339, 342, 353, 364; II, 9, 64, 65г
82, 220, 401.
Сильвестр, I, 277.
Символ Веры Петра Пахаря, I, 119,
120, 121, 122, 156.
Симеон Дерхемский, I, 59.
Скалигер, Юлий Цезарь, I, 308.
Скаррон, Поль, II, 226, 297, 307.
Скельтон, Джон, I, 121, 266, 271,
300-301, 312, 317; II, 220. .
Сколокер, Антони, II, 63.
Скотт, £эр Вальтер, 1, 92, 170, 17 \Т
172, J76, 201, 206, 223, 227, 232,
233, 241; II, 225, 231, 245, 249.
316, 341, 347, 352, 353, 392, 454,
466, 560, 573,^580., 582, 584, 588,.
595, 602, 612. "■-
Скотт, Дуне, I, 101; II, 310.
Скюдери, м-ль де, II, 220, 234,. 226",
237, 246, 257, 456.
Славные победы Генриха Vr I,- 330..
Smectymnuus, II, 153.
Смесь, II, 329.
Смит, Адам, II, 281.
Смит, Шарлотта, II, 597, 5.98..
Смоллет, Тобайас, II, 256, 262, 276,
277, 278, 279, 280, 285, 289, 325,
328, 333, 353, 382, 388, 390, 401,
420, 435—455, 456, 459, 461, 490,
492, 503, 510, 518, 520, 522, 528,
529, 530, 535, 590, 592, 595.
Смутное царствование короля Иоанна,
I, 331.
Снеддинг (литературовед), II, 113.
Сова и соловей у I, 82.
Сократ, II, 322.
Соммервиль, Вильям, II, 545.
Софокл, I, 288; II, 329, 486.
Спенсер, Эдмунд, I, 121, 168, 240, 241,
265, 266, 269, 271, 273, 276,
300, 307, 308, 309, 310—315, 328,
330, 354; II, 9, 47, 64, 163, 164,
173, 181, 199, 228, 240, 305, 306,
307, 401, 476, 508, 546, 547, 556,
566, 568, 569, 570, 572, 573, 574,
575.
Спор инструментов плотника, I, 83.
Спор души с телом, I, 42, 82.
Спрат, Томас, II, 241.
Сталин И. В., I, 105; II, 502.
Сталь, г-жа де, II, 567.
Стау, I, 225.
Стаций, I, 75, 139, 142, 150, 196.
Стендаль, II, 68, 434, 462.
Стерн, Лоренс, I, 298; II, 277, 325,
387, 390, 406, 407, 422, 446, 451,
452, 464, 492, 502, 503, 504,
505, 507, 509, 510, 522, 523,
526—541.
Стивен, Лесли, II, 300, 307, 366.
Стивене, Джордж, I, 67, 571.
Стил, Джон, I, 325, 326.
Стиль, Ричард, II, 41, 262, 278, 285,
289, 290, 291, 296, 316—330,
341, 361, 367, 397, 412, 457, 464,
465, 469, 471—472, 473, 474, 480,
489, 512, 513, 565, 604.
Стимелиус, I, 324.
Стопор (письма), I, 186.
Странник, I, 15.
Строганов, А. Г., II, 201.
Строу, Джек, I, 98, 144.
Стэббс, Филипп, I, 340.
Стюарт, Яков, «Старый претендент»,
И, 323.
Стюарт, Чарльз Эдуард, «Молодой
Претендент», II, 411.
Судьбы человека, англосаксонская ди-
дактич. поэма, I, 43.
Суинберн, Альджернон Чарльз, I,
241; II, 99, 117, 552, 622.
Сумароков, А. П., II, 69.
Суфлер, И, 329.
Сципион, II, 263.
Сэквиль, Томас, II, 266, 305, 306, 328,
329; II, 47.
644
Сэр Говейн и зеленый рьшапь т ^
124-128, 129, 130. Ч Р ' 1'
Сэр Патрик Спенс, шотл. баллада 1
1 айлер, У от, I, 97, 98, 134, 13
167.
Тассо, Торкватто, I, 273, 277,
313; II, 87, 240, 551,556,573,5?
Татвин, I, 28, 29.
Таунлийский сборник, I, 247, àjjj^':
Тацит, Публий Корнелий, II, 75, 4Ж>:,
Твэн, Марк, I, 241. 1Ц
Тейт, Наум, II, 64, 68, 233, 49$|
Теккерей, Вильям Мейкпис, II, 205я
310, 325, 328, 363, 367, 382, 420$
434, 454, 466, 510, 539, 599.]
Темпль, сэр Вильям, II, 262—264,
355, 356, 357, 358.
Теннисон, Альфред, лорд, I, 62, 233»
241; II, 563, 584.
Теобальд, Льюис, II, 45, 67, 310, 329.
Тёпфер, Рудольф, II, 540.
Тёрвит, Томас, II, 168; II, 575, 587,
588.
Теренций, Публий, I, 324, 326; II, 82,
253.
Тернер, Кирилл, II, 118, 119, 120—
124, 128, 134, 137.
Терпение, I, 124, 129, 130.
Тик, Людвиг, I, 306.
Тиндаль, Вильям I, 261.
Тиндаль, II, 311, 312/
Тиитофт, Джон, граф Вустерскпп, I,
180.'
Тит Ливии, II, 17.
Толанд, Джон, II, 283—284, 311, 312.
Толстой, А. Н., I, 231, 233.
Толстой, Л. Н., I, 52; II, 540, 541..
Томас Арундел, I, 179.
Томас из Британии, I, 179.
Томас из Кента, I, 75.
Томас Рифмач, I, 172.
Томсои, В., И, 582.
Томсон, Джемс, I, 313, 315; II, 200,
306, 463, 469, 503, -507, 515,
543-547, 548, 566, 567, 572,
574, 626;
Томсон, Джордж, II, 625.
Торнтон, Боннель (издатель), II, 465J
Торп, Томас, II, 17, 18.
Тоттелевский сборник, I, 305.
Трактат о представлении мираклей,
h 245. ^
Тристан, и Изольда, I, 75, 92.
Трутень, II, 330.
Тэйлор, Джереми, II, 153.
Тэм, Ипполит, II, 367, 413.
Тэтем, Джон, II, 234.
Тюрлин, Генрих фон, I, 126.
Уаиет, Томас, I, 168, 266, 269, 271,
302—303, 307, 310.
Уайльд, Оскар, I, 233; II, 251.
Угольщик Ральф, анонимн. шотл.
* поэма XV в., I, 216.
Уинстенли, Джерард, II, 147.
Уинтоуп, Эндрью, I, 224.
Уитер, Джордж, II, 170—171.
Упчерли, Вильям, II, 137, 250, 251 —
253, 254, 255, 256, 473, 493.
Укрощение одной строптивой, II, 21.
Уланд, Людвиг, I, 73.
Уокер, Вильям, II, 261, 480.
Уоллер, Эдмунд, II, 174—175, 186,
306,
Уолполь, Герзс, II, 466, 500,518, 566,
568, 574, 575, 587, 588, 589, 591,
59, 593—596, 598, 599, 600, 603,
611, 612.
Уолполь, сэр Роберт, II, 276, 277, 288,
301, 364, 366, 409, 410, 411, 416,
438, 478, 482, 483, 527, 543, 593.
Уолтон, Исаак, II, 156, 158—159.
Уорбертон, Вильям, II, 312.
Уордлоу, Элизабет, II, 582.
Уорнер, Вильям, I, 225.
Уортон, Джозеф, II, 314, 396, 508,
522, 568, 571, 572—574.
Уортон, Томас, I, 139, 241; II, 200,
551, 553, 568, 570, 571, 572-574,
587.
Уотсон, Джемс, II, 582.
Уоттон, Вильям, II, 356, 382.
Уоттон, Генри, II, 158, 159.
Уэсли, Джон, II, 506—507, 524.
Уэсли, Чарльз, II, 507.
Уэтстон, Джордж, I, 331, 344.
фабиан, Роберт, I, 376.
Фан ден Фондель, Иост, II, 188.
Фаркер, Джордж, II, 254—256, 471.
Феликс, I, 28.
Феникс, I, 41.
Фентон, Джефри, I, 344.
Феокрит, 1, 311; II, 302, 306.
Фергюсон, Роберт, I, 217; II, 547,
625, 626, 630.
Феррент, Ричард, I, 336.
Феррерс, Джордж, I, 305.
Ферфакс, Томас, генерал, II, 171, 187.
Физиолог, I, 40.
Филипс, Амброз, II, 401, 469, 476.
Филипс, Джон (1631—1706), племян-
ник Мильтона, II, 223.
Филипс, Джон (1676—1709), II, 544.
Филипс, Эдуард, II, 223.
Фильд, Натаниэль, II, 111, 118.
Фильдинг, Генри, II, 169, 210, 222,
256, 262, 276, 277, 278, 279, 280,
285, 288, 289, 291, 293, 296, 314,
325, 328, 329, 333, 353, 367, 382,
388, 390, 394, 397, 401, 402, 403,
404, 408—435, 436, 437, 438, 440,
441, 444, 445, 446, 447, 448,
450, 454, 455, 456, 457, 459,
463, 466, 480—484, 486, 488, 490,
491, 494, 499, 503, 510, 518, 520,
522, 527, 528, 529, 530, 531, 535,
536, 589, 592, 594, 595, 599, 601.
626.
Фильдинг, Сара, II, 411, 456.
Фильмер, Роберт, II, 214, 263.
Фитц-Стефен, Вильям, I, 243.
Фпчино, Марсилио, I, 275, 310, 31К
Флетчер, Джайльс, II, .111, 163.
Флетчер, Джон, I, 266, 271; II, 10, 14,
107, 110—118, 218, 222, 233, 236,
240, 243, 244, 246, 251.
Флетчер, Финеас, II, 111, 163.
Флоренс Вустерский, I, 59.
Флорио, Джон, I, 277; II, 8.
Флуар и Бланшефлер, I, 92.
Фокс, Джон, I, 260.
Фокс, Ральф, II, 345, 414.
Фонтенель, Бернар ле Бовье де, И,
356, 357.
Форд, Джон, I, 266, 298; II, 100, 118,
119, 133—137.
Форстер, Джон, II, 522.
Фортескыо, Джон, I, 185—186, 233.
Фосколо, Уго, II, 554.
Фосс, Иоганн-Генрих, II, 580.
Франс, Анатоль, II, 383.
Французский зритель, II, 513.
Фруассар, >Кан, I, 97, 141.
Фруд (литературовед), И, 202.
Фрэнсис, сэр Филипп («Юниус»), П.
389 390.
Фуллер, Томас, II, II, 12, 66, 80.
156, 158, 159.
Фут, Сэмюэль, II, 483.
у\ед, Ричард, II, 256.
Хеминдж, Джон, II, 13, 14.
Хёрд, Ричард, II, 566, 568, 574, 626.
Хетчесон, Фрэнсис, II, 295.
Хетчинсоп, Люси, II, 223.
Хилл, Аарон, II, 329.
Холл, Джозеф, II, 153.
Хом, Джон, II, 499-500, 576.
Христина Пизанская, I, 188, 189,199.
Хухон, I, 171, 172, 173.
Хыоз, Томас, I, 330.
Хэзлит, Вильям, II, 24, 38, 256, 328,
401.
Цвткж илист, 1,198-199,202; 11,238.
Цензор, II, 329.
Церковь христова на лугу, I, 217.
645
Цицерон, Марк Туллий, I, 152, 276;
II, 7, 321, 326.
Чайльд, Ф., I, 233.
Чапмен, Джордж, I, 266, 277, 351,
363, 364, J71, 377; II, 10, 39, 75,
76, 82, 95—99, 309.
Чаттертон, Томас, II 559, 584—588.
Человечество у моралите, I, 254—255.
Чернышевский, Н. Г., I, 45; II, 435.
Черчьярд, Томас, I, 121, 306.
Честерфильд, Филипп Дормер Стэн-
хоп, граф, II, 291, 409, 410, 458,
466.
Четль, Генри, II, 229, 351; II, 14, 100.
Чик, Джон, I, 288, 307.
Чинтио, Джиральди, I, 277, 331, 357;
II, 44, 45.
Чистота, I, 124, 129.
Чосер, Джефри, I, 46, 68, 73, 75, 93, 94,
100, 103, 105, 106, ПО, 111, 117,
120, 124, 129, 130, 131, 132, 138,
139, 140—169, 170, 182, 187, 188,
189, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 209, 212, 218, 219,
245, 249, 300, 302, 304, 308,
311, 313, 314, 320, 321, 322, 353,
354, 358; II, 17, 113, 155, 157, 222,
238, 305, 461, 476, 562, 585, 586,
587, 588, 597, 614.
Чуковский, К. И., II, 563.
Ша
1атобриан, Франсуа Ренэ, виконт
де, II, 554, 580.
Шекспир, Вильям, I, 53, 73, 84, 93, 140,
154, 166, 168, 173, 218, 223, 225,
229, 235, 247, 249, 261, 262, 265,
266, 267, 269, 270, 271, 272, 273,
276, 277, 283, 286, 289, 298, 305,
307, 315, 319, 326, 329, 331, 342,
350, 354, 358, 359, 362, 363, 366,
370, 377, 378, 379; II, 7—71, 73,
74, 75, 80, 81, 82, 87, 88, 94, 99,
100, 103, 105, 108, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 134, 136, 159, 160, 165, 173,
174, 179, 180, 194, 199, 200, 218,
219, 222, 223, 233, 236, 240, 242,
243, 244, 246, 249, 305, 306, 307,
310, 318, 326, 327, 329, 422, 461,
462, 463, 469, 472, 476, 485, 489,
490, 498, 499, 508, 510, 522, 531,
548, 552, 555, 556, 566, 568, 569,
571, 572, 573, 575, 586, 596,
598.
Шелли, Перси Биши I, 308, 313,
315; II, 187, 189. 190, 200, 495,
547, 552, 588, 612, 617, 619.
Шенстон, Вильям, II, 464, 547, 554,
566, 626.
Шенье, Мари Жозеф, II, 554.
Шеппард, Сэмюэль, II, 75.
Шептун, II, 328.
Шеридан, Ричард Бринсли, IL 22?
251, 256, 274, 491-496, 498
518, 612. /
Шерли, Томас, I, 267, 375; II, ц|
118, 137—138, 251. Щ
Шефтсбери, Антони Эшли Купер, грасй
II, 67, 267, 290, 292-296, 29§
299, 300, 301, 302, 415, 417, 504/
505, 567, 593. "и
Шиллер Фридрих ,11, 247, 392, 425^
434, 486, 488, 489, 598, 608. *
Шиллингфсрд, Джон, I, 186.
Шипулинский, Ф., II, П.
Шлегель А. В., II, 49, 566,567,571.
Шлегель Фридрих, II, 540.
Шнабель, Людвиг, II, 353.
Шоу, Бернард, II, 442.
Шрюсберийские фрагменты, I, 243.
Шэдуэль, Томас, II, 86, 233, 235, 251,
255.
Щепкина-Куперник, Т. Л., II, 71*;
627, 629, 633.
С/берт, Иоганн-Арнольд, II, 549, 550.
Эвелин, Джон, II, 224—225.
Эверард, II, 147.
Эдварде, Ричард, I, 331.
Эдварде, Томас, II, 553.
Эдда, I, 13, 14.
Эджуорт, Мария, II, 407.
Эдмер Кентерберийский, I, 59.
Эдуард III, король Англии, I, 122;
128, 141, 143, 144, 153, 154, 173>;
Эзоп, II, 297. J
Эйкенсайд, Марк, II, 200, 504, 54Щ
Эккехарт, I, 24. Щ
Эксетерский кодекс, I, 8, 13, 14, 15, Щ
Элиот, Томас, I, 287—288. â
Элиот, Т. С, II, 164, 245. |
Эльфрик, I, 48, 49—51. Щ
Энгельс, Фридрих, I, 5, 171, 258^*
259, 260, 266, 299; II, 58, Щ
103, 141, 142, 143, 149, 151, 15^
221, 260, 268, 271—272, 275, 276',
286, 293, 302, 344, 402—403, 419,
505.
Эндрью из Уинтоуна, I, 172, 173, 176.
Эпикур, И, 263. ■ ■
Эразм Роттердамский, I, 273, 274,■
275, 276, 278, 280, 297, 317, 321,
364; II, 62, 87, 194, 228, 238, 315,
377.
Эрль, Джон, I, 299; II, 226.
Эссекс, Роберт, Девере, граф, I, 363,
' 364, II, 31, 39.
Эстон Тони, II, 480.
646
Эсшер, Джемс, II, 153.
Этеридж, сэр Джордж, II, 251, 252;
253, 255, 323.
Эшем, Роджер, I, 240, 276—277.
Щчзепал, Дециму с Юниус, I, 142:
II, 396, 459.
Ю.чеик, Гай Веттий Аквилпи, I, 22.
Ючол, Николас, 324, 325.
Юм, Дэвид, II, 282, 283, 320, 390, 400,
503, 504, 531, 535, 576.
Юнг, Эдуард, II, 200, 367, 405, 463,
470, 502, 505, 506, 509, 522, 542,
548—550, 568, 569, 571, 614, 616.
/Вков I Шотландский, I, 147, 201—
202, 216, 217.
Яков I Стюарт, король Англии, II,
52, 75, 76, 78, 89, 113, 137, 145,165.
Яков II Стюарт, король Англии, II,
214, 215, 221, 233, 236, 238, 248,
254, 261, 281, 315, 331, 355.
Ямвлих, I, 52.
CONTENTS
Second Part
LITERATURE OF THE RENAISSANCE
SECTION IV. SHAKESPEARE AND HIS CONTEMPORARIES
Pages-
Chapter 1. Shakespeare. By M. M. Morosov 7
1. His life and work (p. 7). 2. Poems and sonnets (p. 16). 3. First pe-
riod—comedies and histories (p. 19). 4. Second period — tragedies
(p. 40). 5. Third period — romances (p. 57). 6. General characteri-
stics (p. 60). 7. Shakespeare's heritage in later days (p. 66).
Chapter 2. Ben Jonson. By M. D. Zabludovsky 71
1. His life (p. 71). 2. His art (p. 80).
Chapter 3. Chapman. By E. J. Dombrovskaya 94
Chapter 4. Dekker--Heywood — Deloney. By M. M. Morosov ... 99
1. Dekker (p. 99). 2. Heywood (p. 105). 3. Deloney (p. 108).
Chapter 5. Beaumont and Fletcher. By A. A. Anixt 110
Chapter 6. The last phase in the development of the Renaissance
drama. By A. A. Elistratova 118
1. General characteristics (p. 118). 2. Marston (p. 120). 3. Tourneur
(p. 120). 4. Webster (p. 124). 5. Middleton (p. 126). 6. Massinger
(p. 129). 7. Ford (p. 133). 8. Shirley (137).
Third Part
LITERATURE IN THE DAYS OF CROMWELL
Introduction. By A. A. Anixt 141
I. Historical background (p. 141). 2. The press and the pamphlets
(p. 143). 3. Puritans. Writers on theology (p. 160). 4. Materia-
lism and theism in the philosophy of the XVII century—Hobbes,
Herbert of Sherbury (154). 5. «The eccentrics» — Browne,
Fuller, Walton (156). 6. Heroism of the puritans in the days
of Cromwell (159). 7. Conclusion (161).
Chapter 1. Poetry in the middle of the XVII century. By
Д. A. Anixt 162
649
Chapter 2. Milton, By A. A. Anixt 175
1. His life (p. 175). 2. First period. The poems, «Comus» etc. (p. 179).
3. Second period. Revolutionary pamphlets and poetry (p. 181).
4. Third period. «Paradise Lost». «Paradise Regained». «Samson
Agonistes» (p. 187). 5. General characteristics (p. 198).
Chapter 3. Bunyan. By A. A. Anixt 201
Fourth Part
RESTORATION LITERATURE
Introduction. By A. A. Anixt 213
Chapter 1. Anti-puritan satirical verse. By A. A. Elistratova . . . 225
Chapter 2. Restoration drama. By A. K. Djivelegov 231
1. General characteristics (p. 231). 2. Dryden (p. 235). 3. Ot-
way, Lee and others (p. 246). 4. Restoration comedy (p. 249).
Chapter 3. Restoration prose. By A. A. Elistratova 256
Fifth Part
THE AGE OF ENLIGHTENMENT
Introduction. By A. A. Elistratova 267
SECTION I. EARLY XVIII CENTURY LITERATURE
Introduction. By A. A. Elistratova 290
Chapter 1. Shaftesbury and Mandeville. By A. A. Elistratova ... 292
Chapter 2. Pope. By A. A. Elistratova 301
Chapter 3. Prior. By A. A. Elistratova - 314
Chapter 4. Addison and Steele. By A. A. Elistratova 316
Chapter 5. Defoe. By A. A. Elistratova 330
1. His life (p. 330). 2. «Robinson Crusoe» (p. 340;. 3. «Moll
Flanders» and other novels (p. 348). 4. Defoe's heritage in
later days (p. 352).
Chapter 6. Swift. By M. D. Zabludovtky 354
1. His life (p. 354). 2. His general attitude (p. 368). 3. Charac-
teristics of his realism and satire (p. 377). 4. Swift's heritage
in later days (p. 382).
Chapter 7. Arbuthnot. By M. D. Zabludovsky 383
SECTION II. LATER XVIII CENTURY LITERATURE
Introduction. By A. A. Elistratova 388
Chapter 1. Richardson. By A. A. Elistratova 390
Chapter 2. Fielding. By A. A. Elistratova 408
1. His life (p. ,408). 2. «Jonathan Wild the Great» (p. 414).
3. Fielding's «comic epics»: «Joseph Andrews», «Tom Jones»
(p. 418). 4. Later work: «Amelia» (p. 427). 5. Fielding's heri-
tage (p. 434).
Chapter 3. Smollett and the realistic novel of the «enlightenment»
in the second half of the century. By A. A. Elistratova . . . 435
1. Smollett (p. 435). 2. The realistic novel in the second half
of the century (p. 456).
650
Chapter 4. Samuel Johnson and the essav in the second half of the
century. By A. A. Elistratova . / 457
1. Samuel Johnson (p. A57). 2. The essayists of the second half
of the century (p. 465).
Chapter 5. English drama in the XVIII century. By A. A. Anixt. 466
1. General outline; Classical tragedy: Dennis, Addison and others
(p. 466) 2. Moralizing didactic comedy: Steele, Addison,
Colley Cibber and §tssan Centlivre (p. 470). 3. Dramatic sa-
tire: Gay and Fielding (p. 474). 4. Family drama: Lillo and
Ed. Moore (p. 484). 4. The «gay comedy» (Goldsmith, Sheri-
dan and others) versus the sentimental comedy (p. 489). 6. Pre-
romantic drama. Garrick and the Shakespearean revival (p. 498).
SECTION III. SENTIMENTALISM
Introduction. By B. A. Kuzmin 501
Chapter 1. Goldsmith and the minor novelists of the sentimental
school. By B. A. Kuzmin 510
I.' Goldsmith (p. 510). 2. Brooke and Mackenzie (p. 523).
Chapter 2. Sterne. By A. A. Elistratova 526
Chapter 3. The poetry of sentimentalism. By V. M. Shirmunsky. 541
1. General characteristics (p. 541). 2. Thomson, Shenstone and
others (p. 542). 3. Young, Gray, Collins and others (p. 548),
4. Cowper (p. 556). 5. Crabbe (p. 559).
SECTION IV. PRE-ROMANTIC TENDENCIES IN XVIII CENTURY LITERATURE
Chapter 1. Pre-romanticism. By V. M. Shirmunsky 564
1. General characteristics (p. 564). 2. The esthetic theory of Eng-
lish pre-romanticism (p. 565). 3. Spenser, Shakespeare and
Milton revived (p. 569). 4. The Whartons. «The mediaeval re-
vival». Interest in folk-lore (p. 572). 5. Macpherson's«Ossian»
(p. 576). 6. Percy's «Reliques» (p. 581). 7. Chatterton (p. 584).
Chapter 2. The «gothic novel». By A. A. Elbtratova 588
1. General characteristics (p. 588). 2, H. Walpole (p. 593). 3. Ann
Radcliffe (p. 597). 4. William Beckford (p. 602). 5. M. G. Le-
wis (p. 607).
Chapter 3. Blake. By M. N. Gutner . . . . • 613
Chapter 4. Burns, By M. N. Gutner 623
Index
634
ОГЛАВЛЕНИЕ
Часть вт о рая
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
ОТДЕЛ IV. ШЕКСПИР, ЕГО СОВРЕМЕННИКИ И ПРОДОЛЖАТЕЛИ
Стр.
Глава 1. Шекспир (M. М. Морозов) 7
1. Жизнь и деятельность (стр. 7). 2. Поэмы и сонеты (стр. 16).
3. Первый период творчества — комедии и хроники (стр. 19).
4. Второй период — трагедии (стр. 40). 5. Третий период --
романтические драмы (стр. 57). 6. Общая характеристика
творчества. 7. Судьба шекспировского наследия (стр. 66)
Глава 2. Бен Джонсон (М. Д. Заблудовский) 71
1. Жизнь и деятельность (стр. 71). 2. Характеристика творче-
ства (стр. 80)
Глава 3. Чапмеп (Е. Я. Домбровская) .• 94
Глава 4. Деккер — Гейвуд —Делоней (М. М. Морозов). . ■ . . . 90
1. Деккер (стр. 99). 2. Гейвуд (105). 3. Делоней (стр. 108)
Глава 5. Бомонт и Флетчер (А. А. Аникст) ПО
Глава 6. Последний этап в развитии драмы Возрождения (А. А. Ели-
стратова) 118
1
Общая характеристика (стр. 118). 2. Марстон (стр. 120). 3. Тер-
нер (стр. 120). 4. Вебстер (стр. 124). 5. Мидльтон (стр. 126).
(1 Мэссинджер(стр. 129). 7. Форд (стр. 133). 8. Шерли(стр. 137)
Часть третья
ЛИТЕРАТУРА АНГЛИЙСКОЙ БУРЖУАЗНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Введение (А. А. Аникст) 141
1. Историческая характеристика (стр. 141). 2. Пресса и публици-
стика (стр. 143). 3. Пуританство. Богословская литература
(стр. 150). 4. Материализм и деизм в философии XVII века -
Гоббс, Герберт Шербери (стр. 154). 5. «Эксцентрики» — Броун,
Фуллер, Уолтон (стр. 156). 6. Героический характер пуритан-
ства времен буржуазной революции (стр. 159). 7. Заключение
(стр. 161).
Глава 1. Поэзия середины XVII века (А. А. Аникст) 162
Глава 2. Мильтон (А. А. Аникст) 175
1. Жизнь и деятельность (стр. 175). 2. Первый период творчества -
поэмы, «Комус» и др. (стр. 179). 3. Второй период — револю-
653
ционная публицистика и поэзия (стр. 181). 4. Третий период —
«Потерянный рай», «Возвращенный рай», «Самсон-борец»
(стр. 187). 5. Общая характеристика творчества (198).
Глава 3. Бэньян (А. А. Ани кет) . . !20î
Часть четвертая
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА РЕСТАВРАЦИИ
Введение (А. А. Ани кет) 213:
Глава 1. Сатирическая антипуританская поэзия времен Реставрации
(А. А. Елистратова) 225
Глава 2. Театр и драма периода Реставрации (А. К. Дживглегов) 231
1. Общая характеристика (стр. 231). 2. Драйден (стр. 235).
3. Отвей, Ли и др. (стр. 246). 4. Комедия времен Реставрации
<стр. 249).
Глава 3. Прозаическая литература времен Реставрации (А. А. Ели-
стратова)
Часть пятм я
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Введение (А. А. Елистратова) . 267
ОТДЕЛ I. ЛИТЕРАТУРА РАННЕГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Вступление (А. А. Елистратова) 29Ç
Глава 1. Шефтсбери и Мандевиль (А. А. Елистратова) 29$
Глава 2. Поп (А. А. Елистратова) 3(К'
Глава 3. Прайор (А. А. Елистратова; 31$
Глава 4. Адцисон и Стиль (А. А. Елистратова) ЗЩ
Глава 5.vДефо (А. А. Елистратова) 330
1. Жизнь и деятельность Дефо (стр. 330). 2. «Робинзон Крузо»
(стр. 340). 3. «Молль Флэндерс» и другие романы Дефо (стр. 348)
Судьба литературного наследия Дефо (стр. 352).
Глава 6. Свифт (М. Д. Заблудовский) 354-
1. Жизнь и деятельность Свифта (стр. 354). 2. Мировоззрение
Свифта (стр. 368). 3. Художественные особенности реалистиче-
ской сатиры Свифта (стр. 377). 4. Судьба литературного на-
следия Свифта (стр. 382). Д
Глава 7. Арбетнот (М. Д. Заблудовскил) 38,3?
ОТДЕЛ II. ЛИТЕРАТУРА ЗРЕЛОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ J
Вступление (А. А. Елистратова) 2É&
Глава 1. Ричардсон (А. А. Елижратова) 3§0
Глава 2. Фильдинг (А. А. Елистратова) fP&
1; Жизнь и деятельность Фильдинга (стр. 408). 2. «Джонатан. "Щ
Уайльд Великий» (стр. 414). 3. «Комический эпос» Фильдинга: '•' s
«Джозеф Эндрьюс», «Том Джонс» (стр. 418). 4. Последний ж
период творчества: «Амелия» (стр. 427). 5. Судьба литератур? ;ff
ного наследия Фильдинга (стр. 434). v
Глава 3. Смоллет и просветительский реалистический роман второй
половины XVIII века (А. А. Елистратова) 43?"
654 •$.
Стр-
1. Смоллет (стр. 435). 2. Просветительский реалистический ро-
ман второй половины XVIII века (стр. 456).
Глава 4. Сэмюэль Джонсон и эссеисты второй половины XVIII века
(А. А. Елистратова) 457
1. Сэмюэль Джонсон (стр. 457). 2. Эссеисты второй половины
XVIII века (стр. 465).
Глава 5. Английская драма XVIII века (Л. Л. Ани кет) . ..... 466-
1. Вступление. Классическая трагедия: Деннис, Аддисон и др.
(стр. 466). 2. Нравоучительная комедия Стиля, Аддисона, Сиб-
бера и Сентливр (стр. 470). 3. Сатирическая драматургия Гэя
и Фильдинга (стр. 474). 4. Буржуазная драма Лилло и Му-
ра (стр. 484). 5. Борьба «веселой» (Гольдсмит, Шеридан и др.)
и «сентиментальной» комедии (стр. 489). б. 11редромантическое
течение в английской драматургии. Гаррик и «возрождение»
Шекспира (стр. 498).
ОТДЕЛ III. СЕНТИМЕНТАЛИЗМ
Введение (Б. А. Кузьмин) . 501
Глава 1. Гольдсмит и другие романисты сентиментальной школы
(Б. А. Кузьмин) 510
1. Гольдсмит (стр. 510). 2. Второстепенные романисты сентимен-
тальной школы: Брук и Мэккензи (Стр. 523).
Глава 2. Стерн (А. А. Елистратова) 526
Глава 3. Сентиментальная поэзия (В. М. Жирмунский) 541
1. Общая характеристика (стр. 541). 2. Томсон, Шенстон и др.
(стр. 542). 3. Юнг, Грей Коллинсидр. (стр. 548). 4. Каупер
(стр. 556). 6. Крабб (стр. 559).
ОТДЕЛ IV. ПРЕДРОМАНТИЧЕСКИЕ ТЕЧЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА
Глава 1. Предромантизм (В. М. Жирмунский) 564
1. Общая характеристика (стр. 564). 2. Эстетика английского
предромантизма (стр. 565). 3. «Возрождение» Спенсера, Шек-
спира и Мильтона (стр. 569). 4. Братья Уортомы. «Возрождение
средневековья». Интерес к фольклору (стр. 572). 5. Макфер-
сон (стр. 576). 6. Перси и его «Памятники старинной англий-
ской поэзии» (стр. 581). 7. Чаттертон (стр. 584).
Глава 2. «Готический р.оман» (А. А. Елистратова) 588
1.г Общая характеристика (стр. 588). 2. Уолполь и др. (стр. 593).
3. Радклиф.(стр. 597).4. Бекфорд (стр. 602). 5. Льюис (стр. 607).
Глава 3. Блейк (M. Н. Гутнер) 613
Глава 4. Берне (М. Н. Гутнер) 623
Печатается по постановлению
Редакционно-издательское о совета
АН СССР за J\? 2157
Редактор издательства Е. И, Кингисепп
А16632. Подписано к печати 14/IV 1945 г.
Печ. л. 41. Уч.-изд. л. 51. Тираж 4000 экз.
Заказ 2699. Цена 41 руб., переплет 4 руб.
1-я Образцовая типография треста
«Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР.
Москва, Валовая, 28.
ОСНОВНЫЕ ОПЕЧАТКИ
Стра-
ница
63
67
81
108
108
135
145
194
199
206
226
339
384
385
582
637
Строка
11 снизу
1 сверху
15 снизу
16—15 сн.
10 снизу
1 сверху
15—16 св.
5 снизу
8 сверху
16—17 сн.
8 снизу
6 сверху
11 снизу
4 сверху
1—2 сн.
21 сверху
II столб.
Напечатано
Скалигер
Бомонти Флетчер
Sufflam inandus
«мещанской драмы»
XVII века
(Thomas Deloney,
1543*—1600),
сердце, Аннабеллы
(Henry Vane, 1586—1654)
фугурально
оргаческим
«Странник из Буньяна»
«героически-комической»
1922
<|>svSoaoia rcoaitr/a
Гveil asvatov
пере-елка
Данте, Алигьери
Следует читать
Сколокер
Бомонт и Флетчер
Sufflaminandus
«мещанской драмы»
XVIII века
(Thomas Deloney,
15437-1600),
сердце Аннабеллы
(Henry Vane, 1589—1654)
фигурально
органическим
«Странник (из Буньяна)»
«герой-комической»
1722
феоЗоХо^а rcoXiTixvj
Twbi osavrôv
переделка
Данте Алигьери
* По недосмотру выпал также вопросительный знак, обозначающий
неустановленные точно годы рождения следующих авторов: стр. 120,
15 строка сверху— Марстон; стр. 126, 3—2 снизу — Мидльтон; стр. 133,
18 сверху —Форд; стр. 167, 9—8 снизу —Крэшо; стр. 168, 8 снизу —
Керью; стр. 296, 6 снизу — Мандевиль; стр. 330, 15 вверху— Дефо;
стр. 469, 2—3 сверху —Филипс; стр. 523, ГЗ^снязу — Брук. -
Англ» литература / ч •