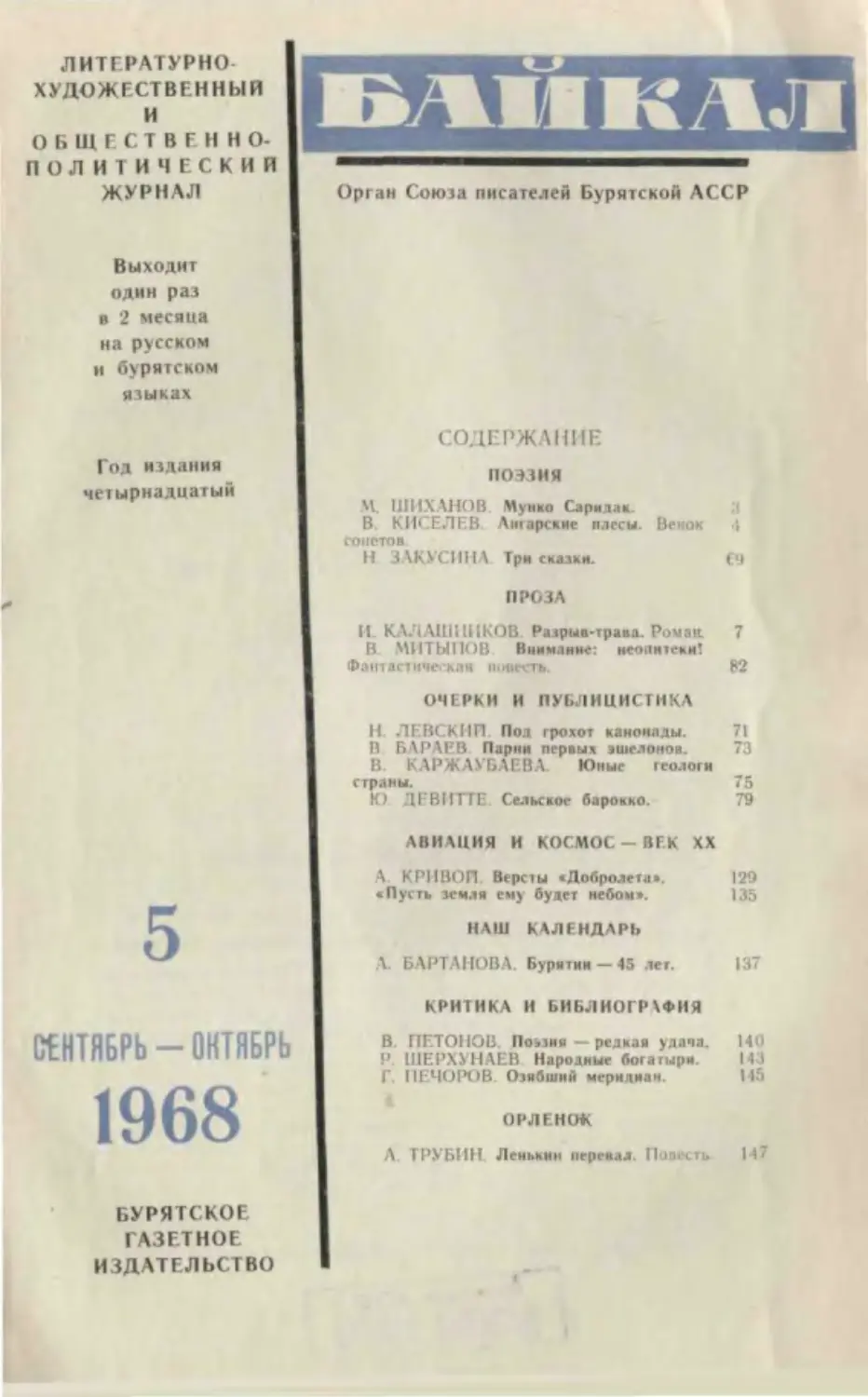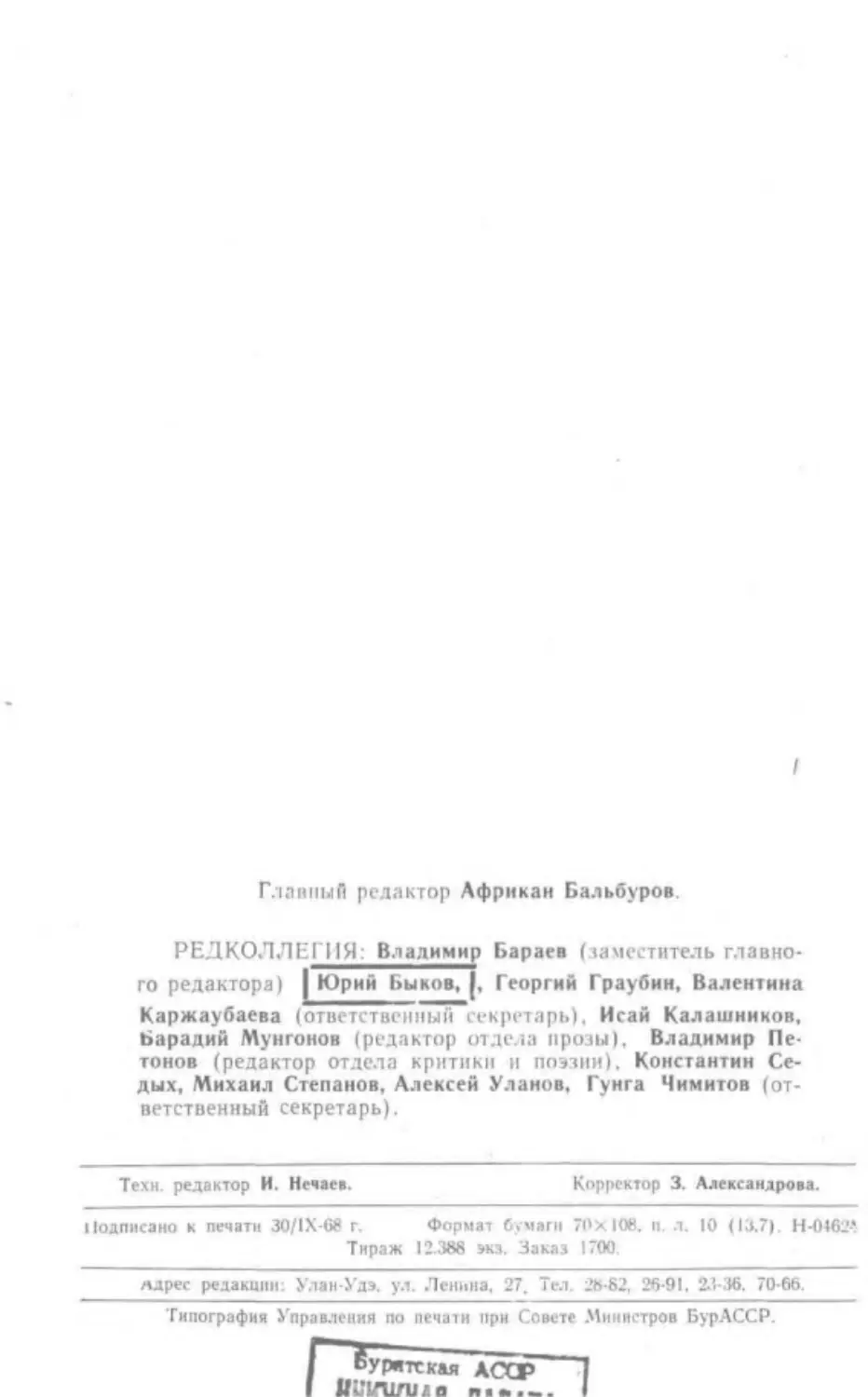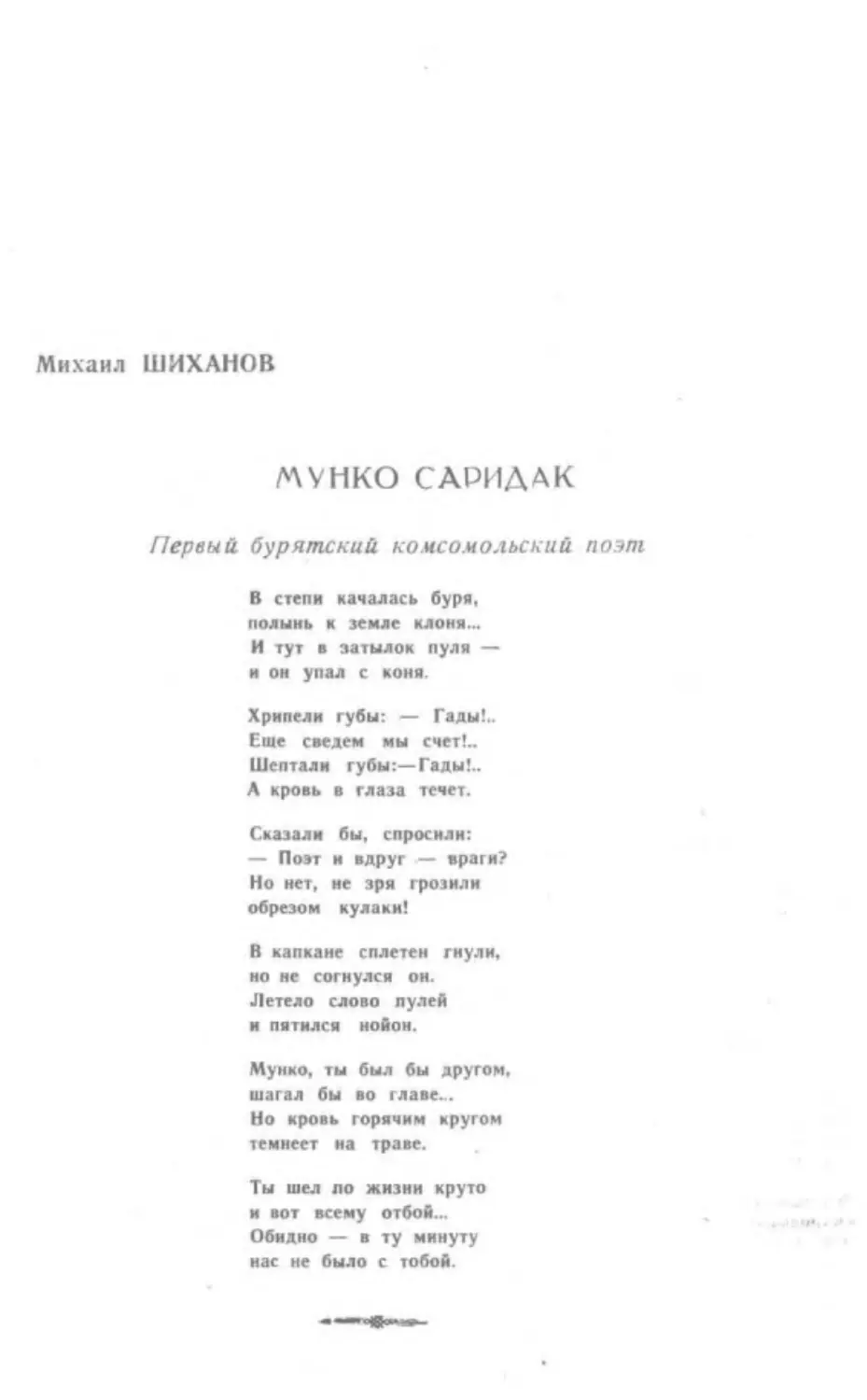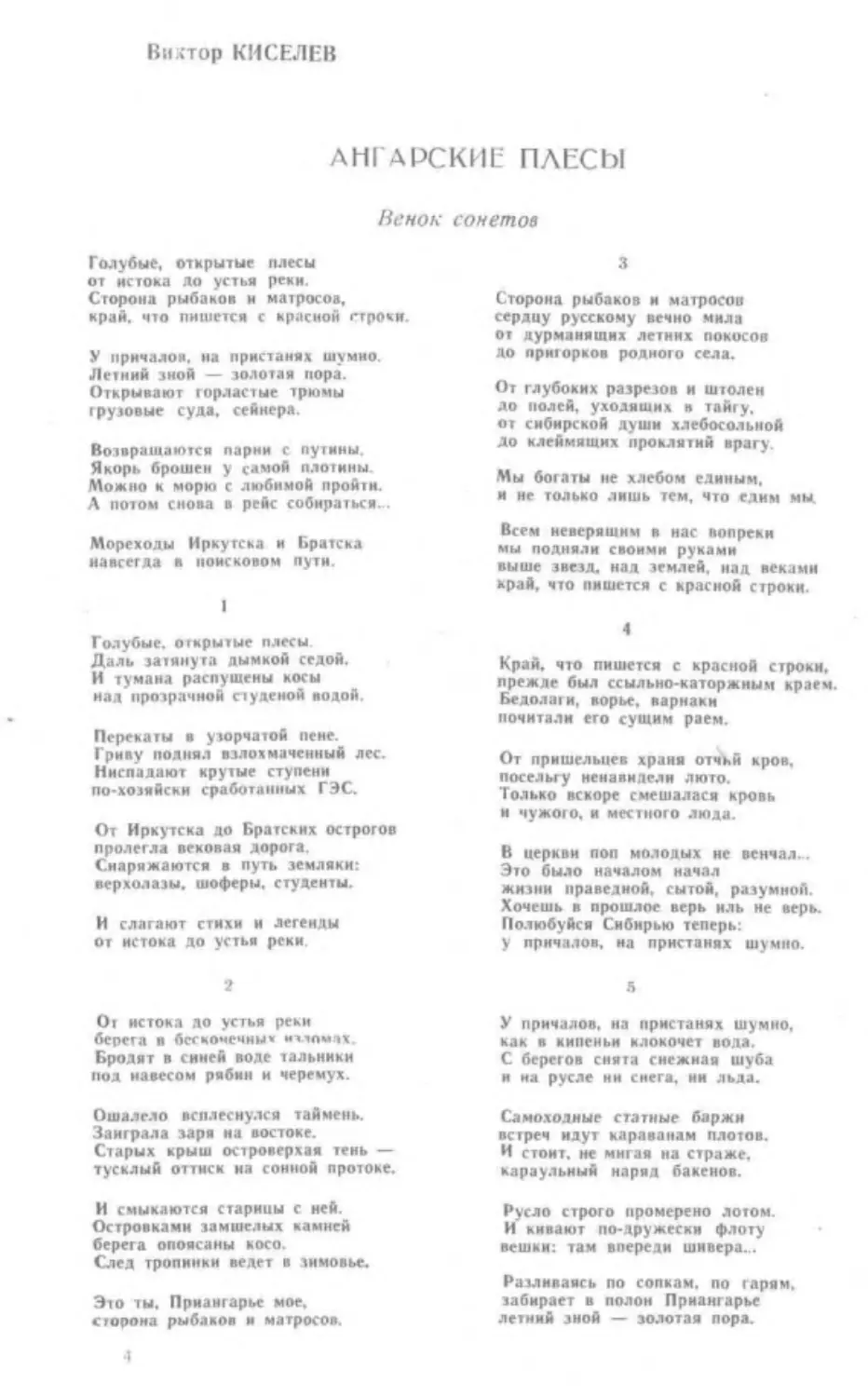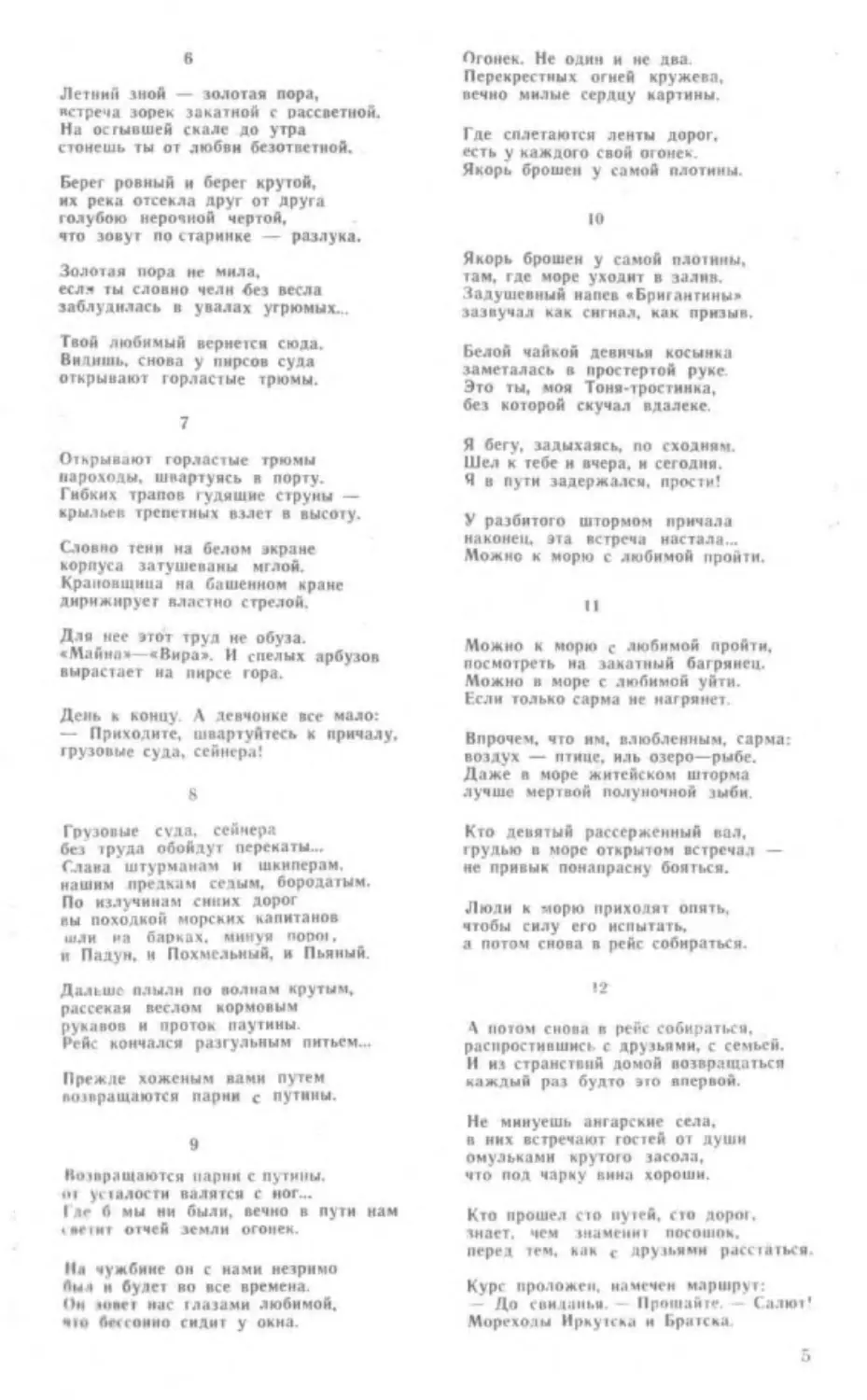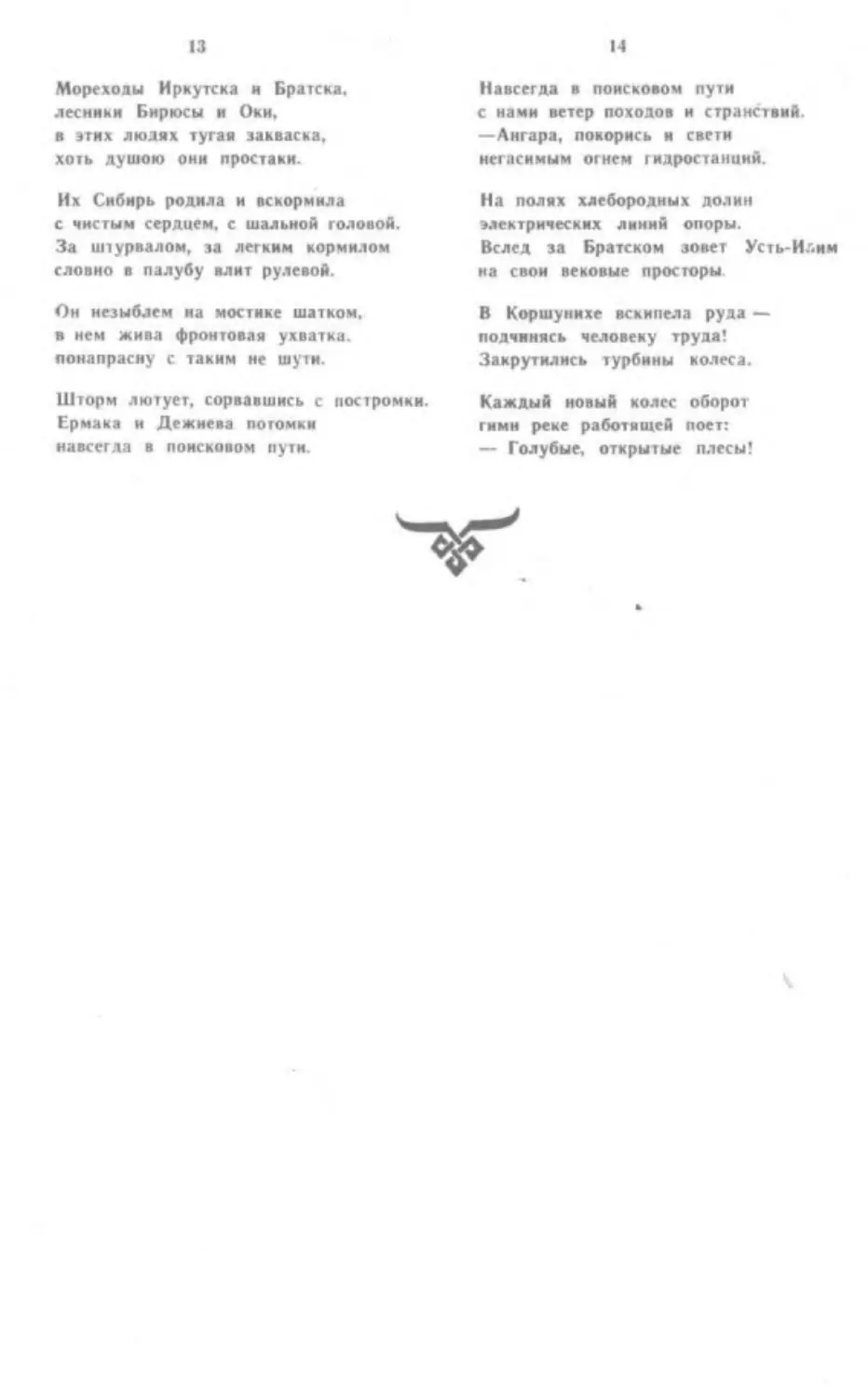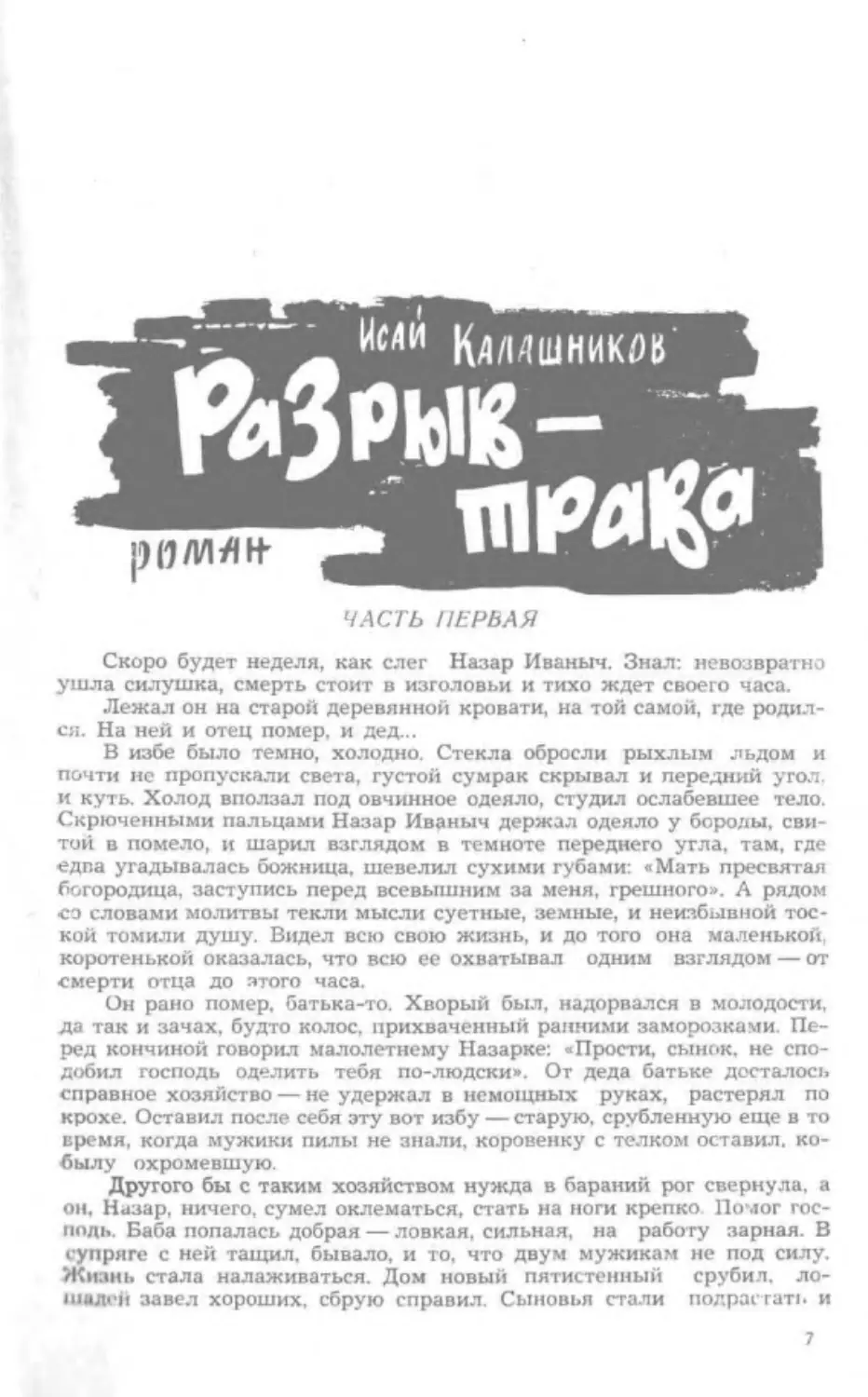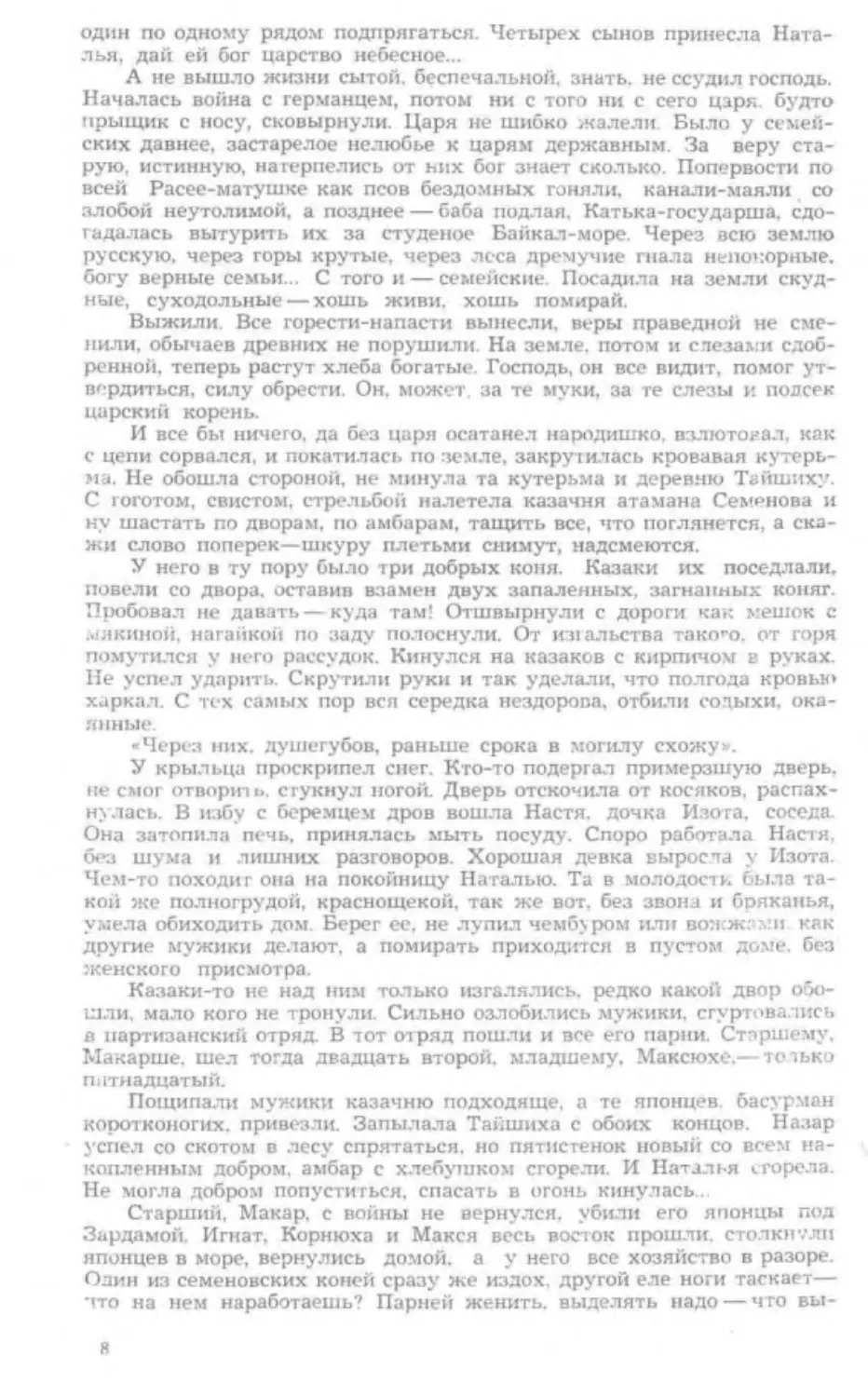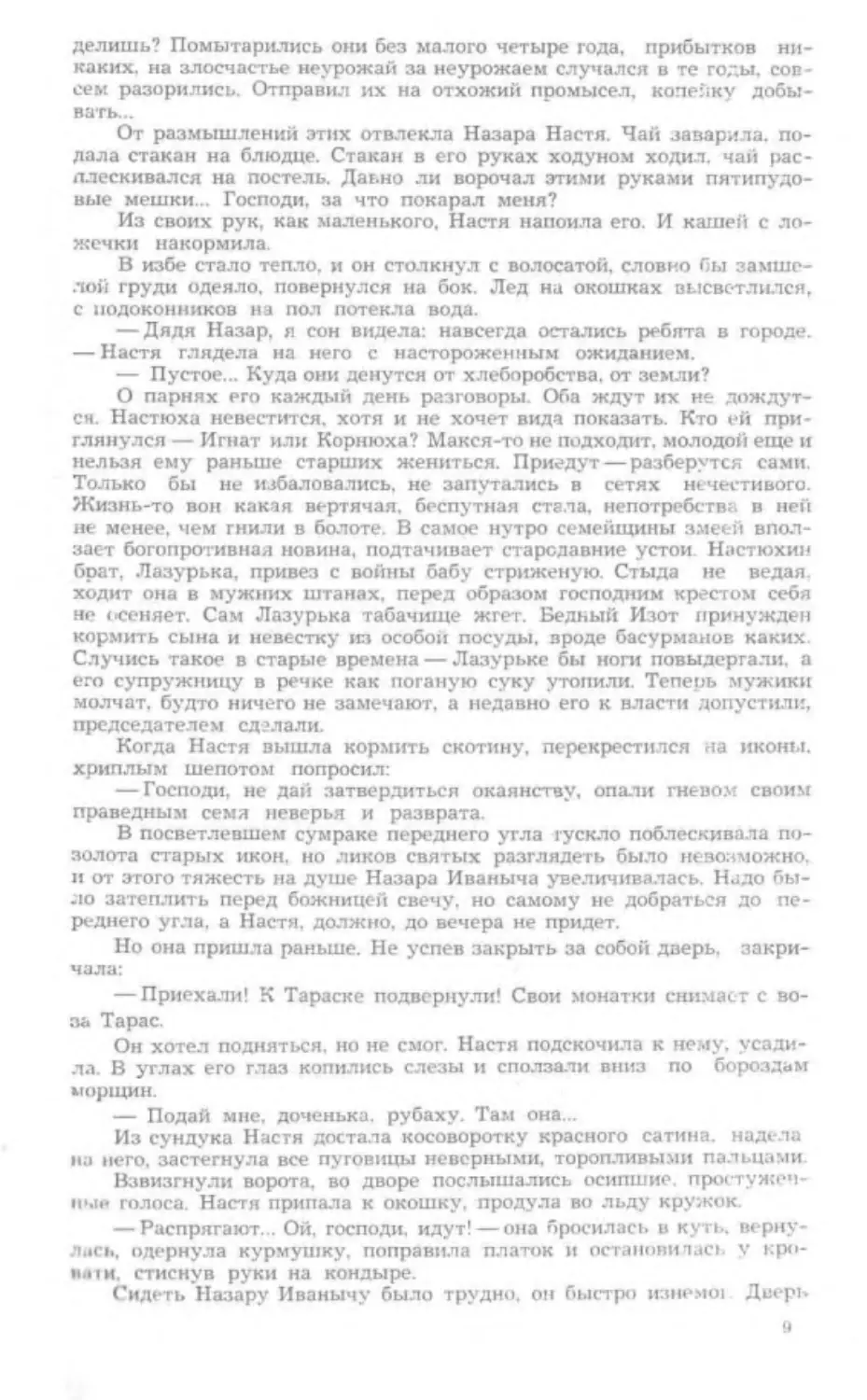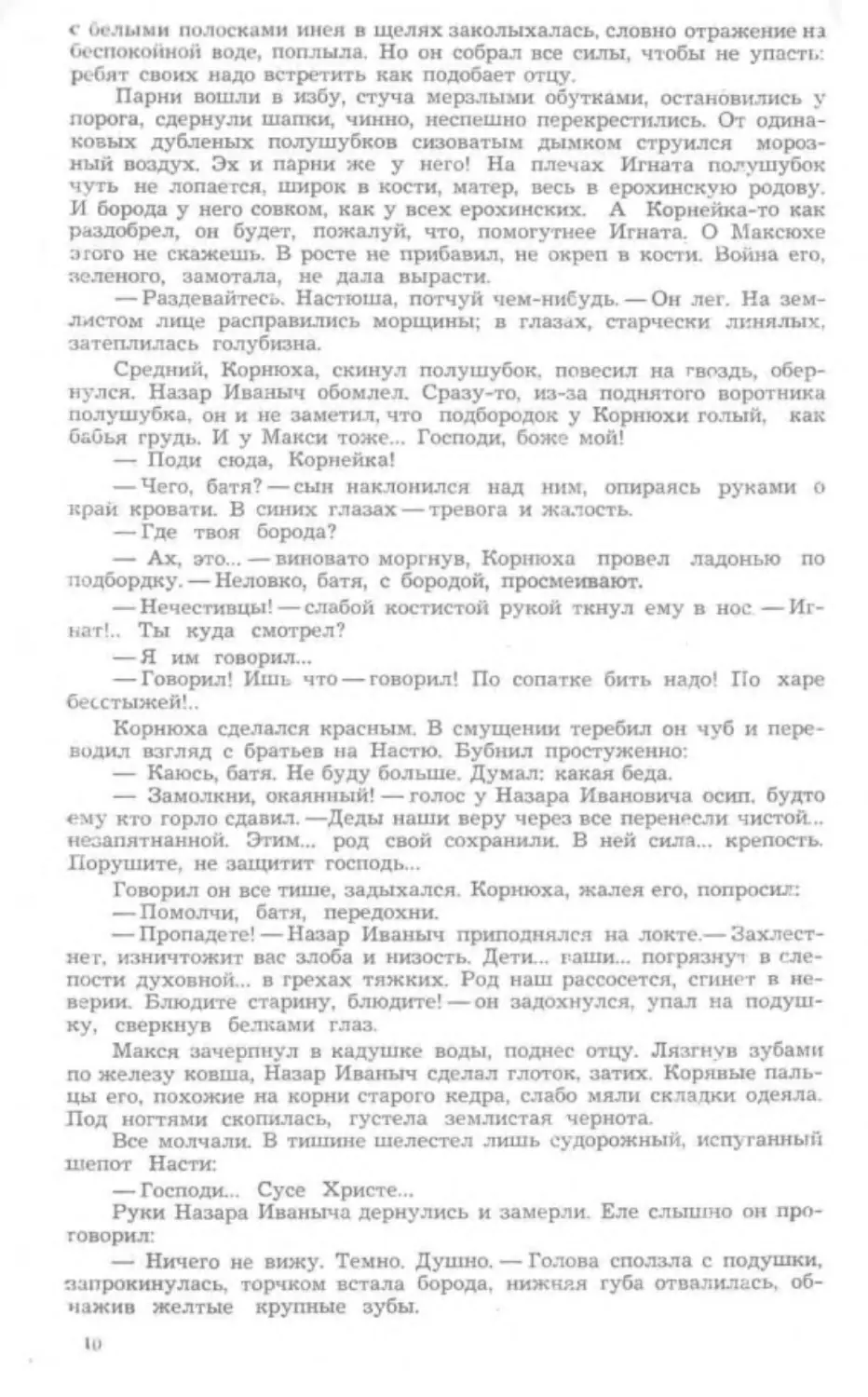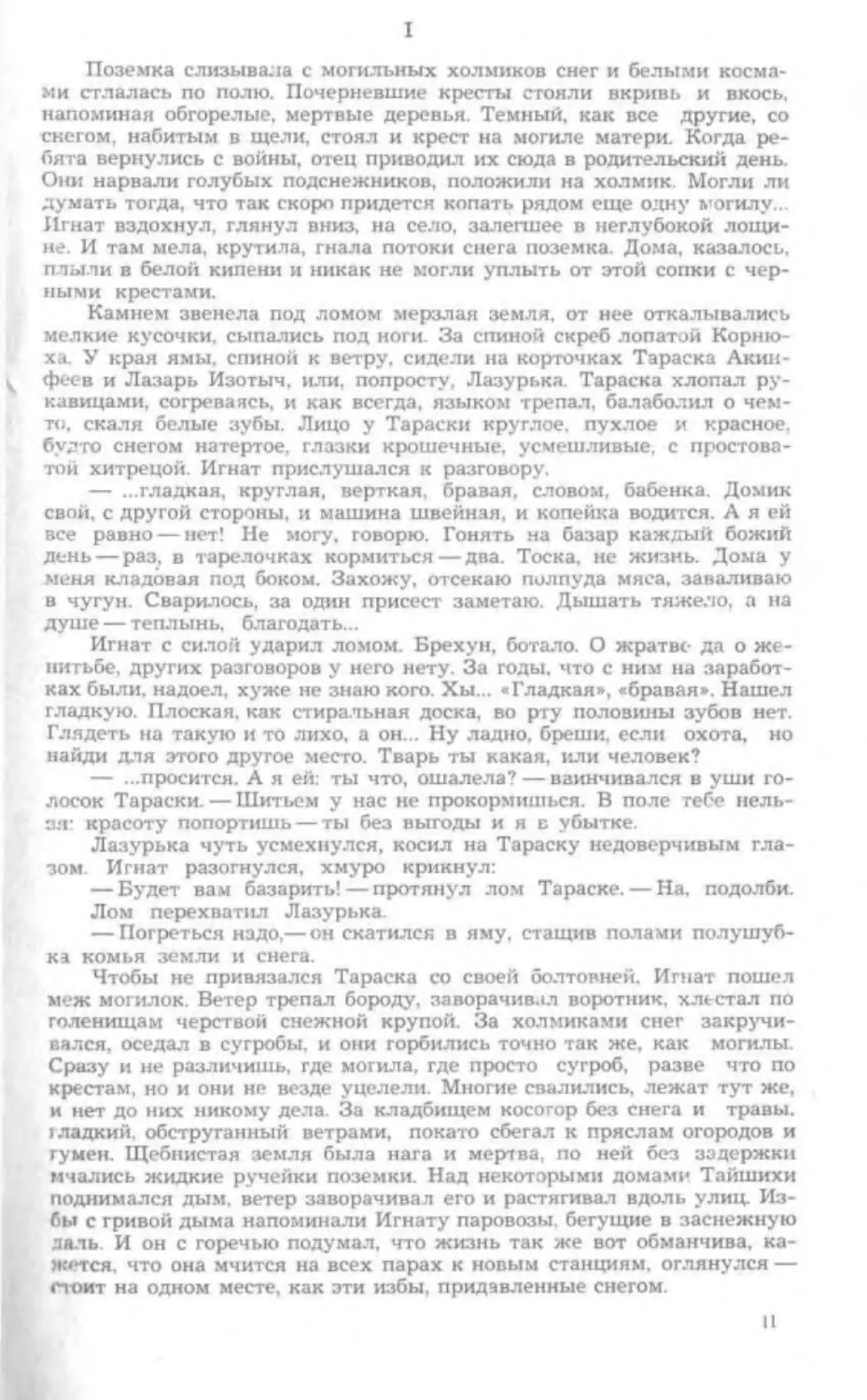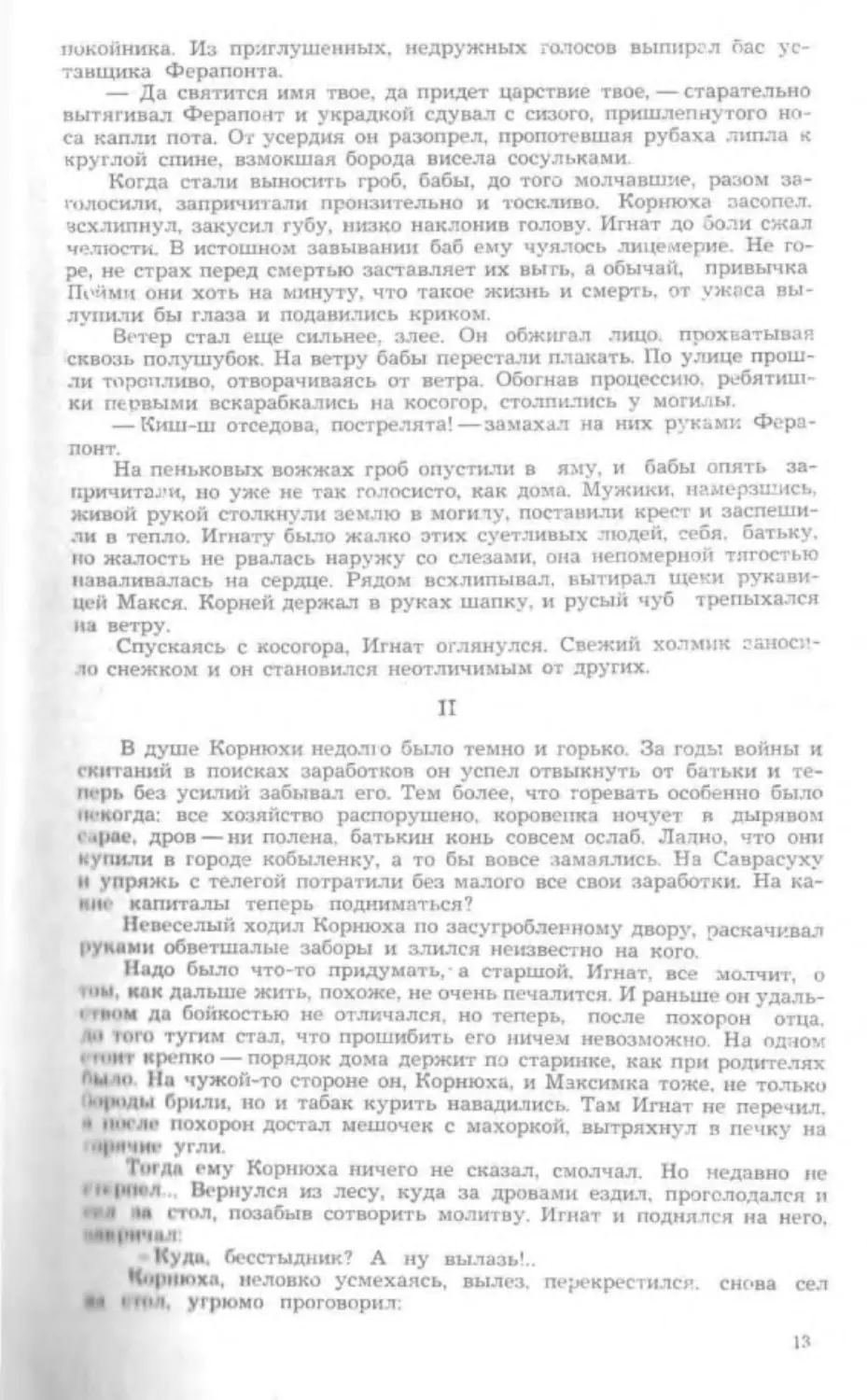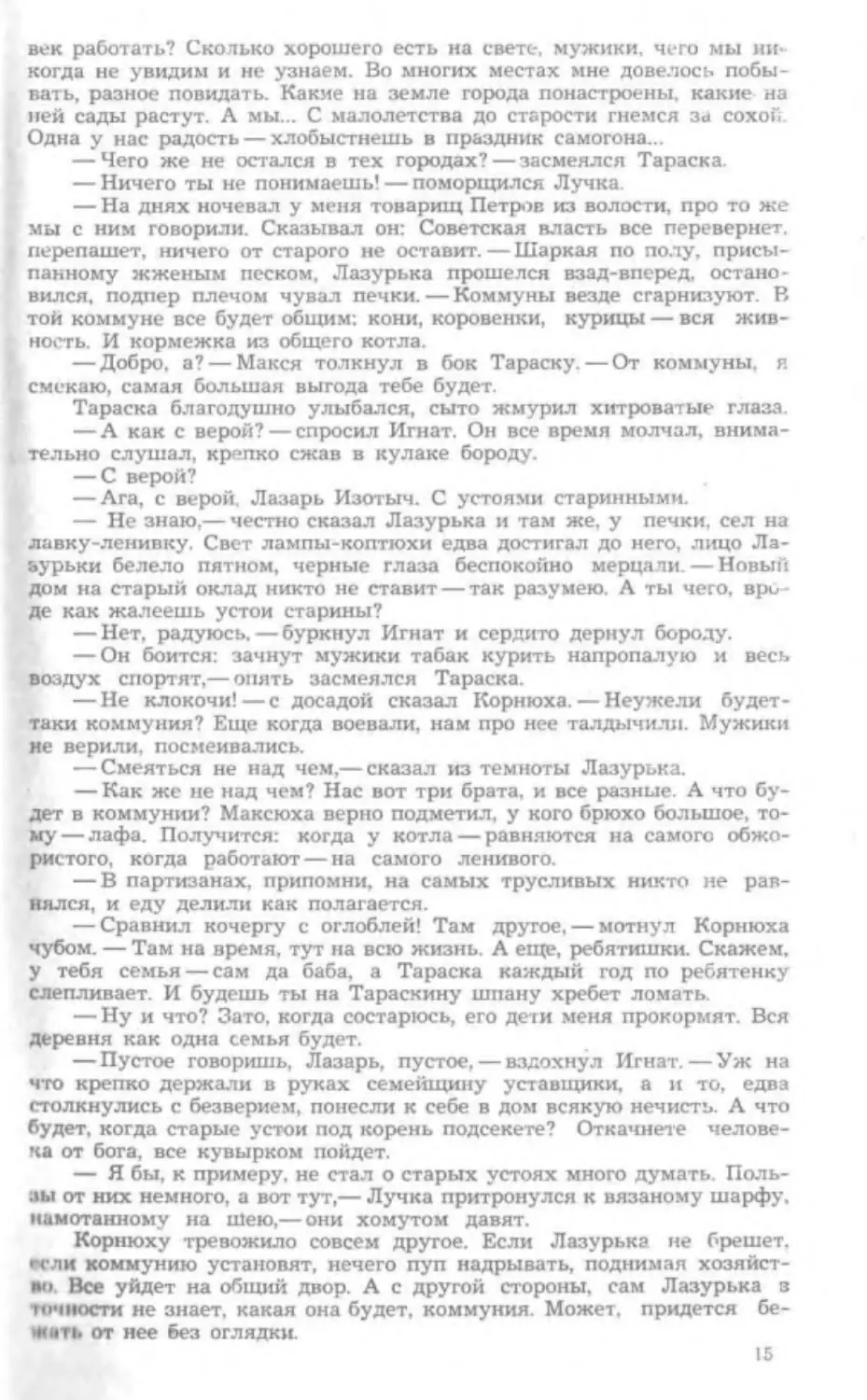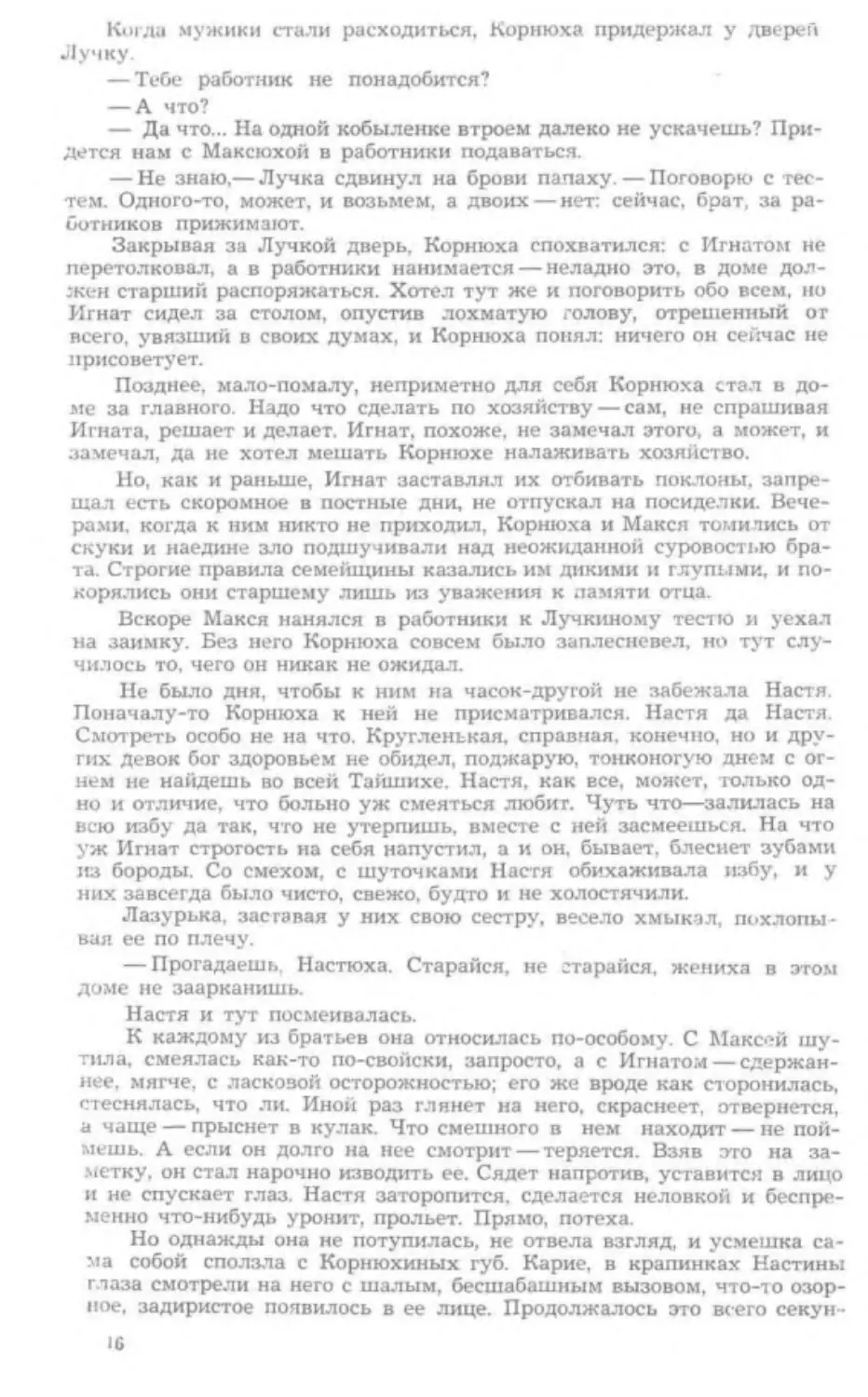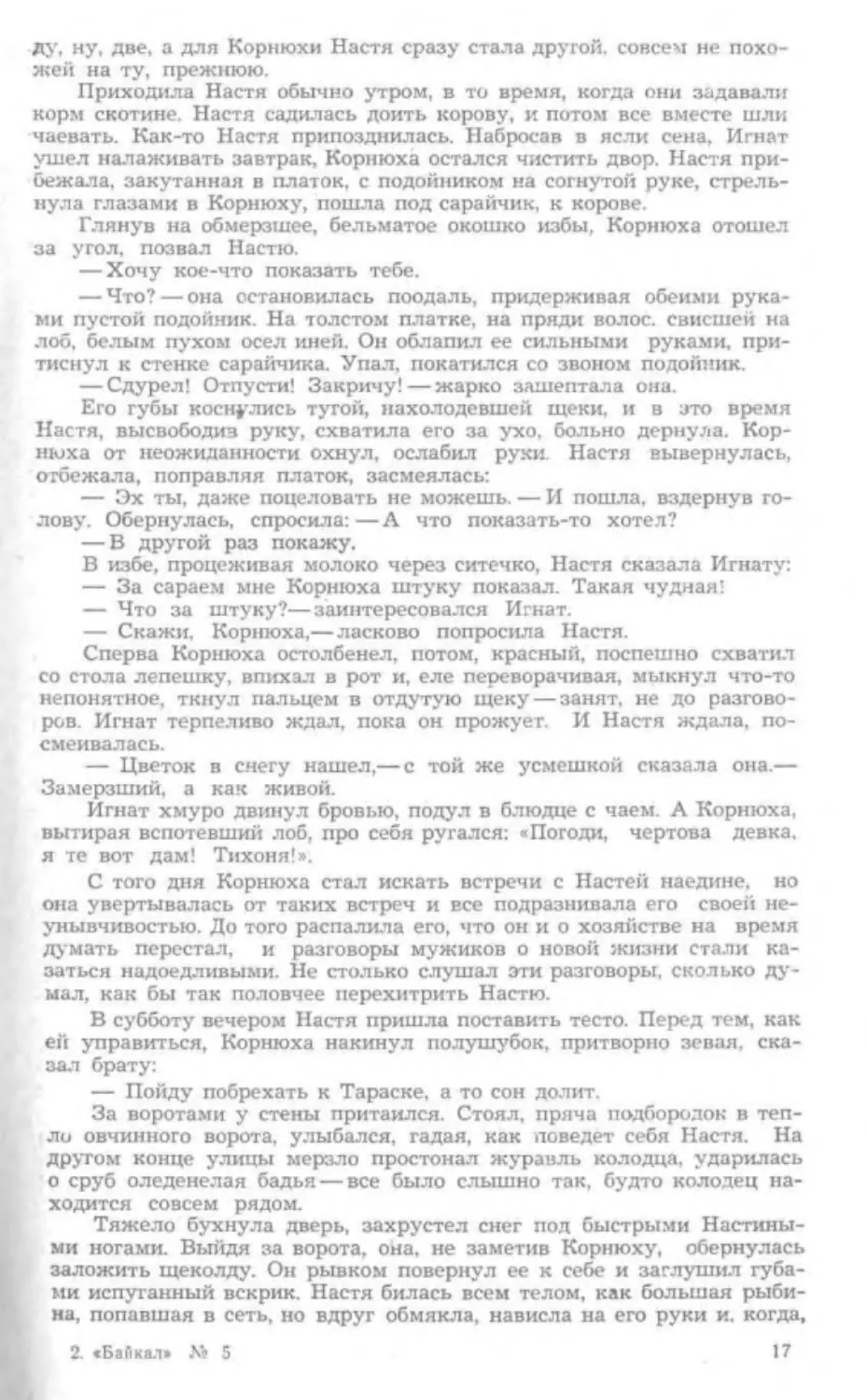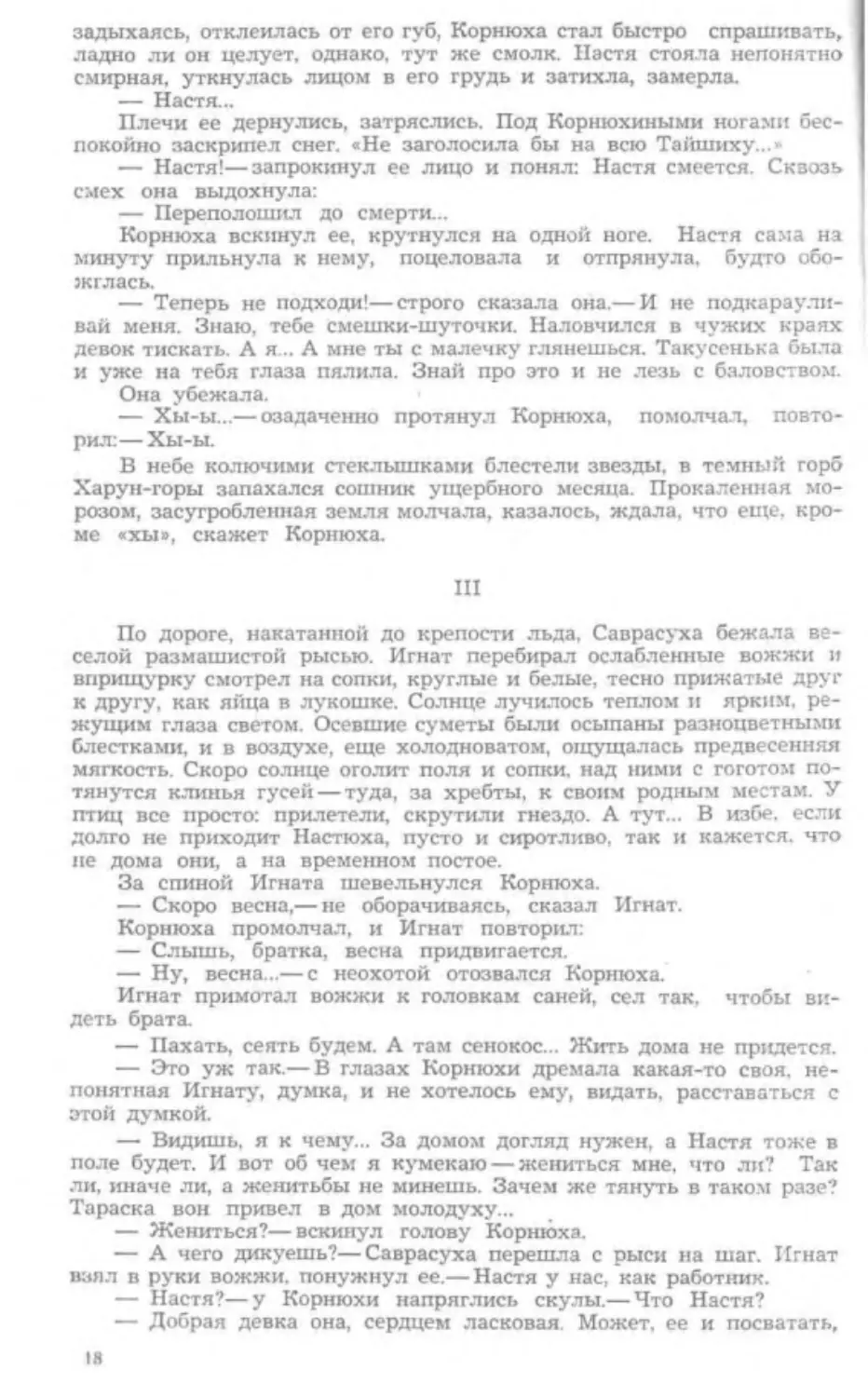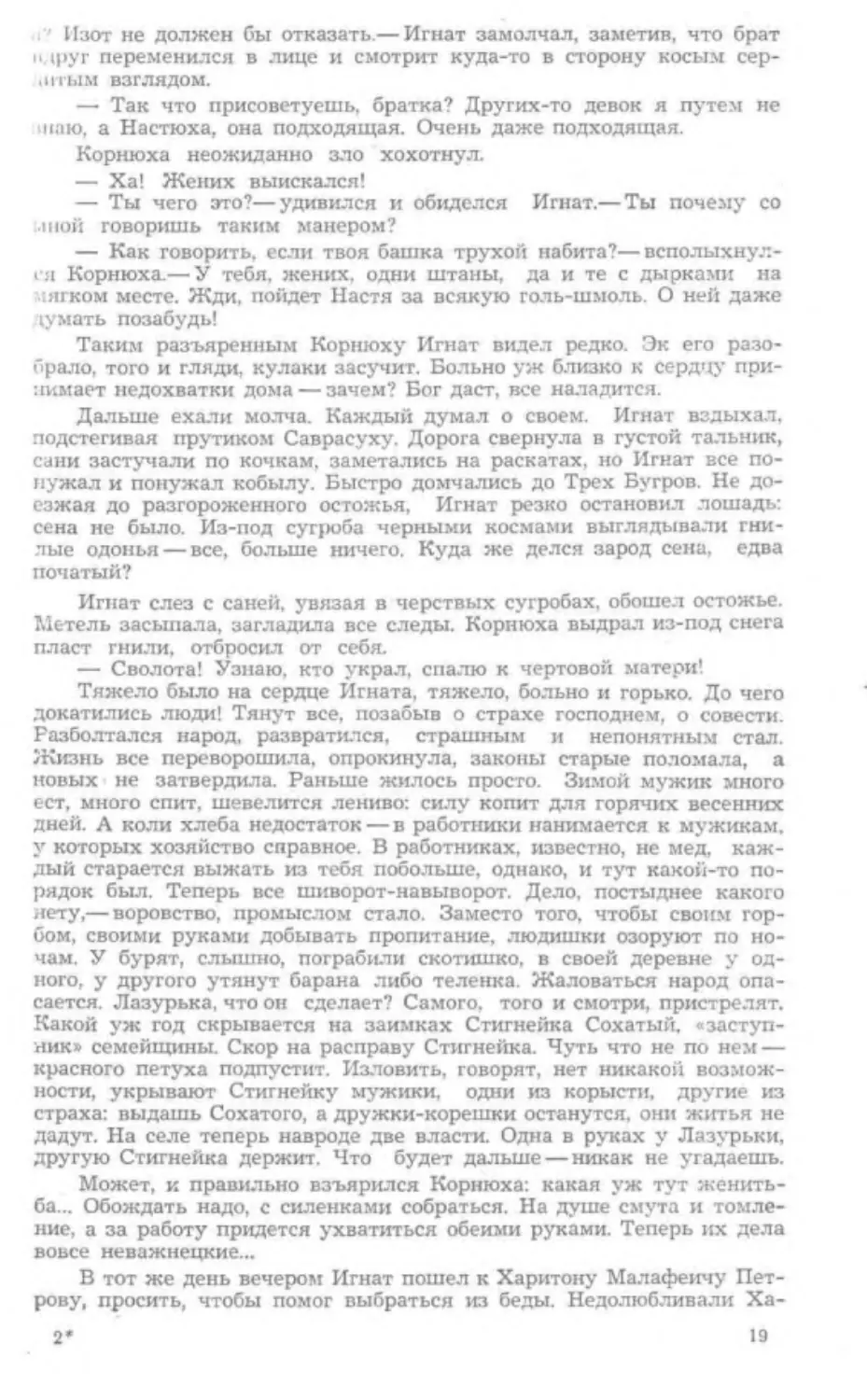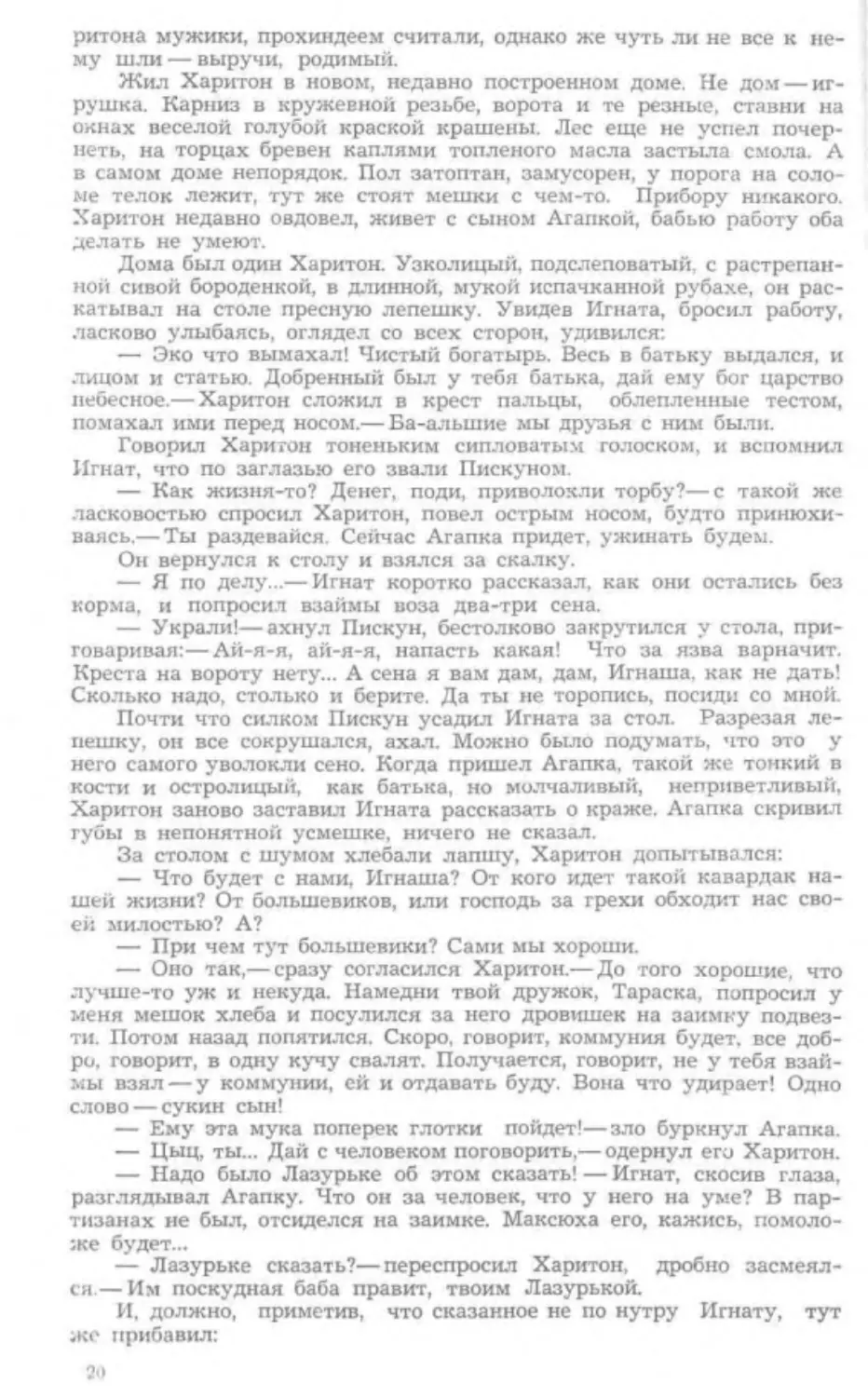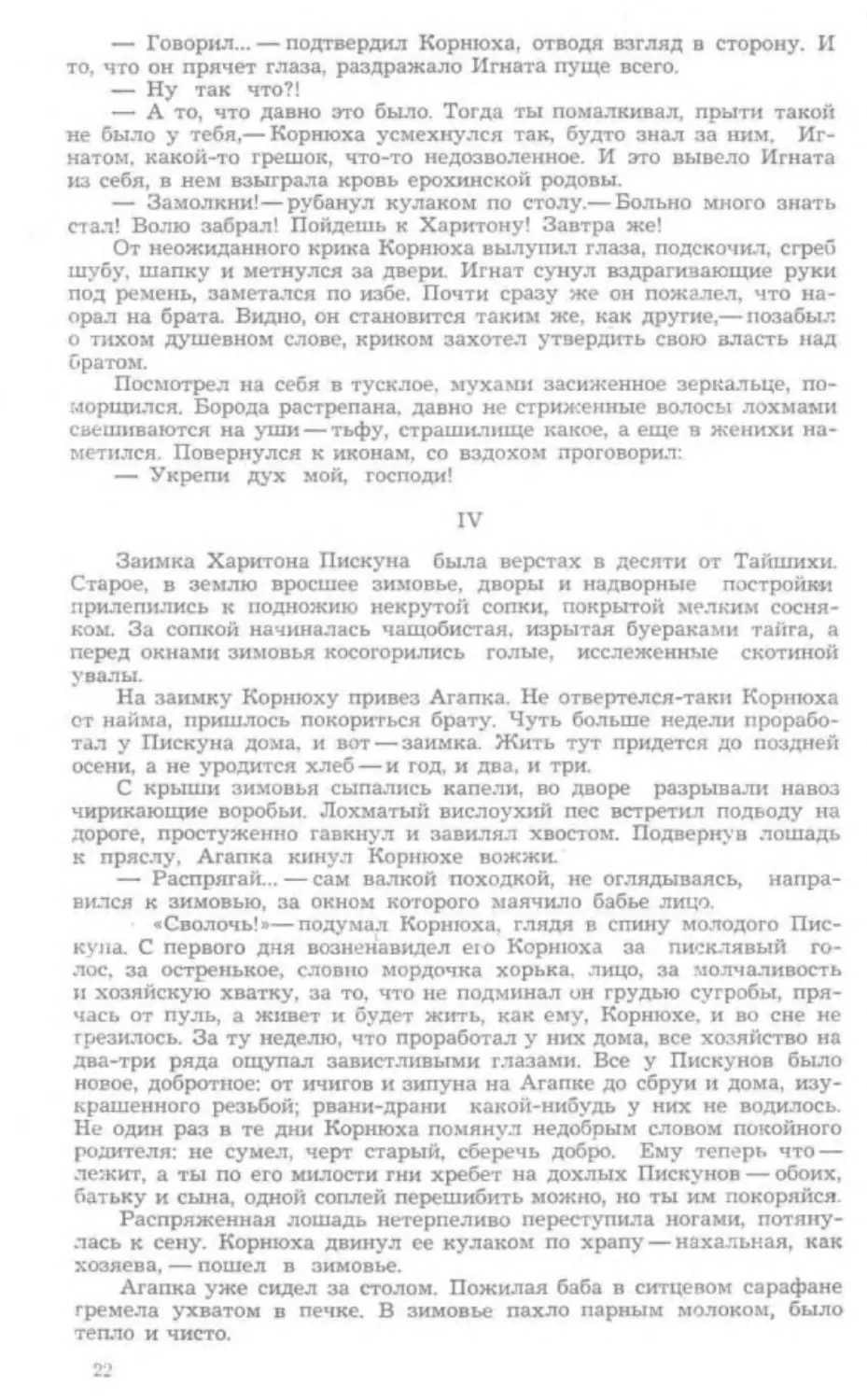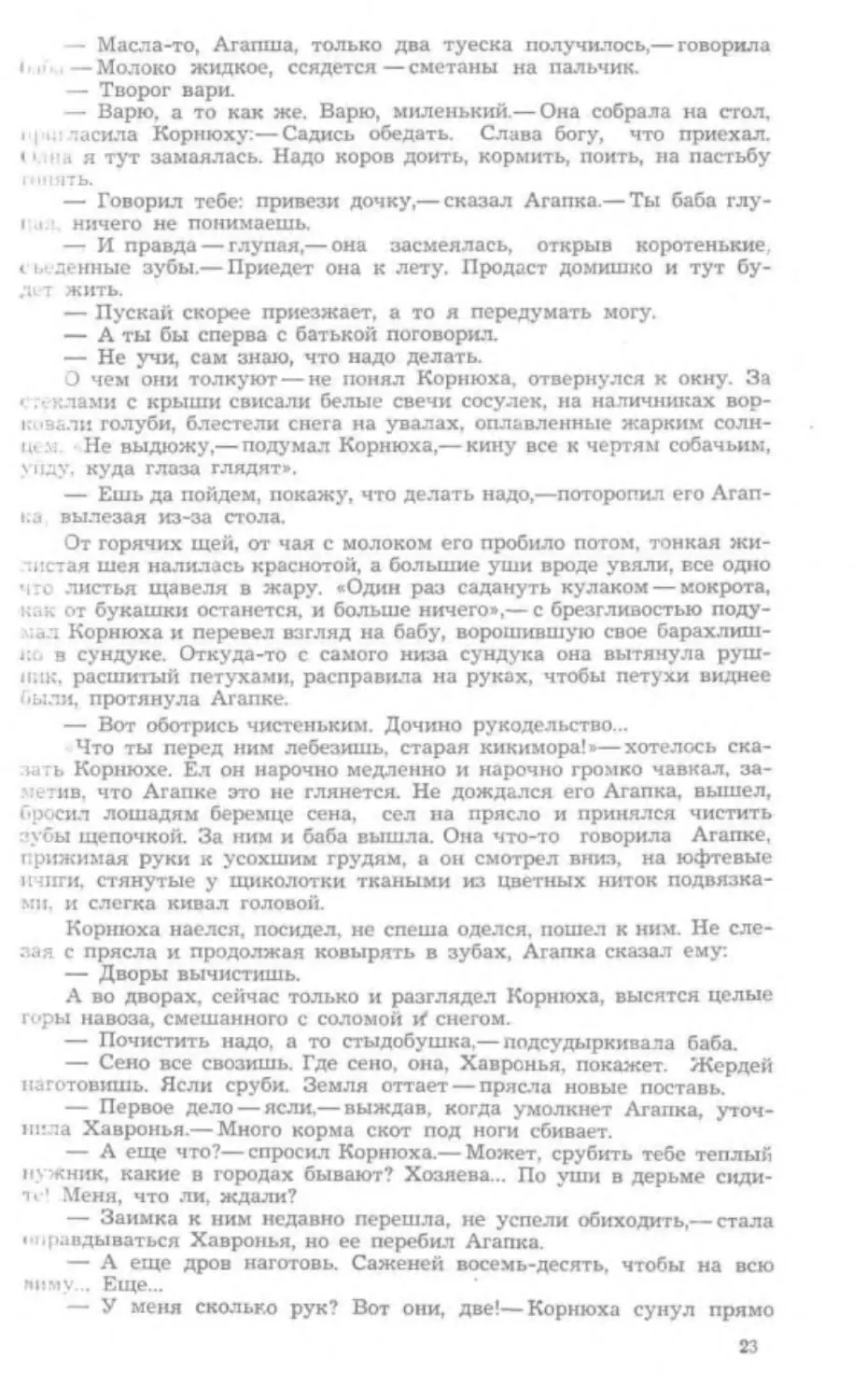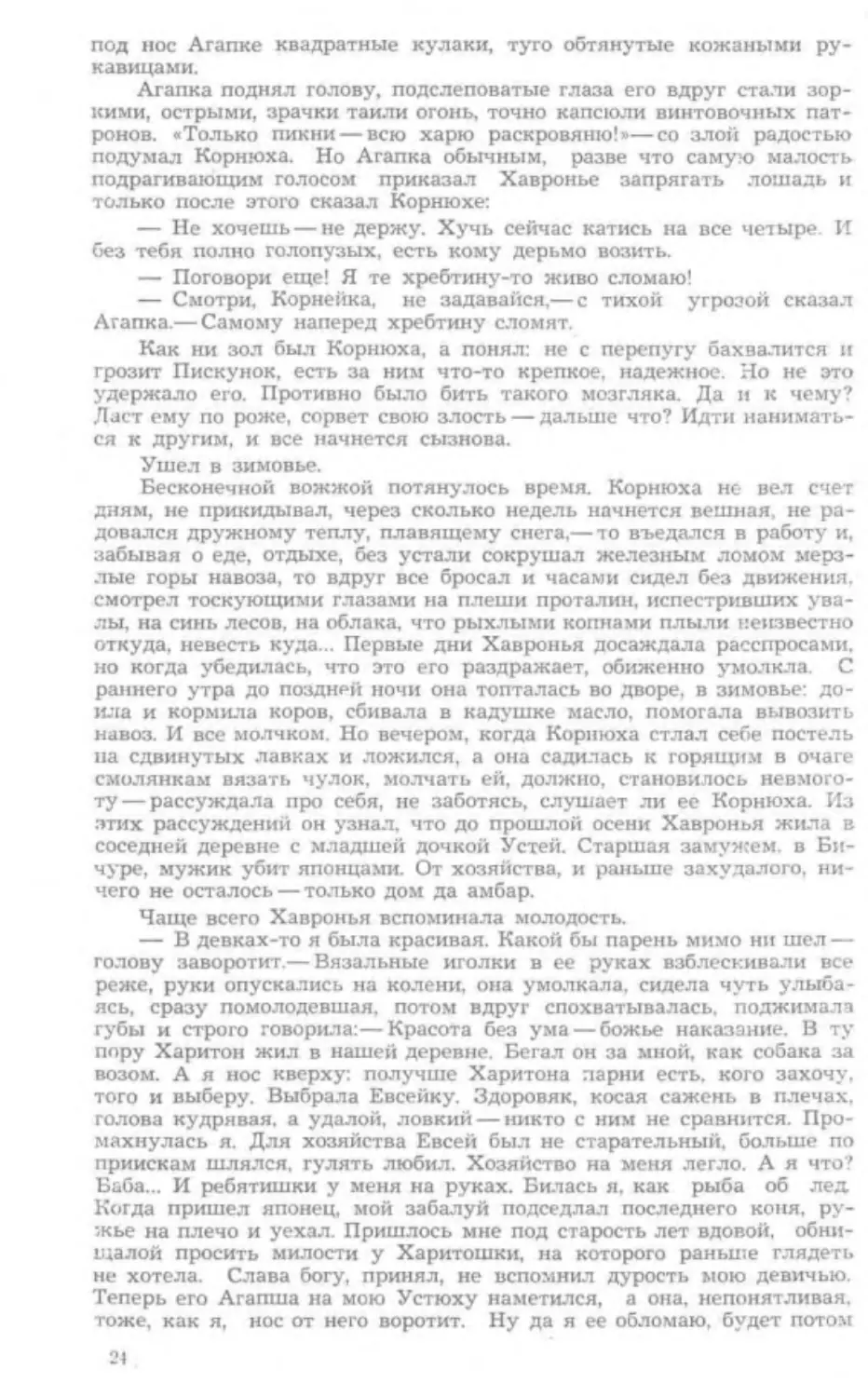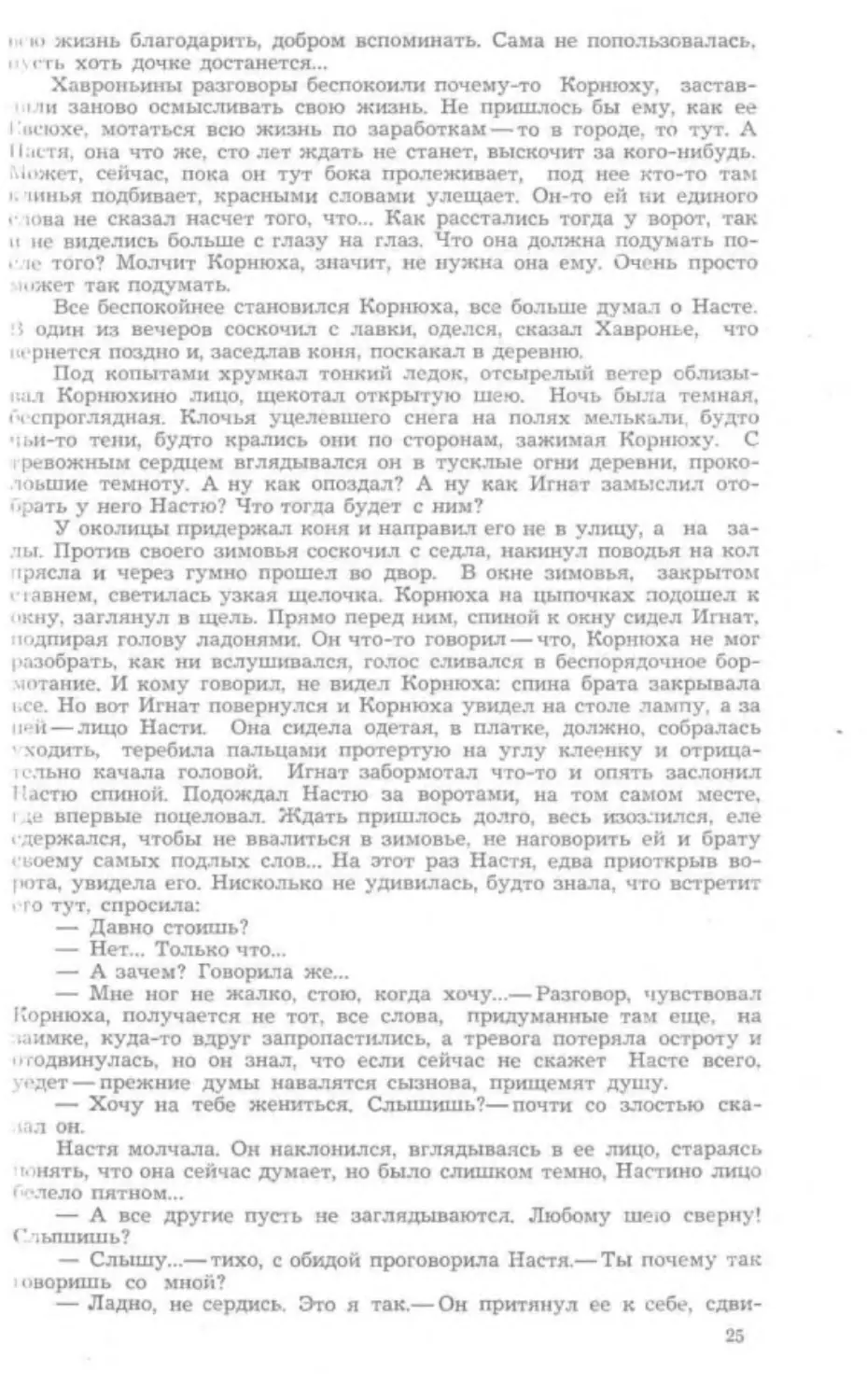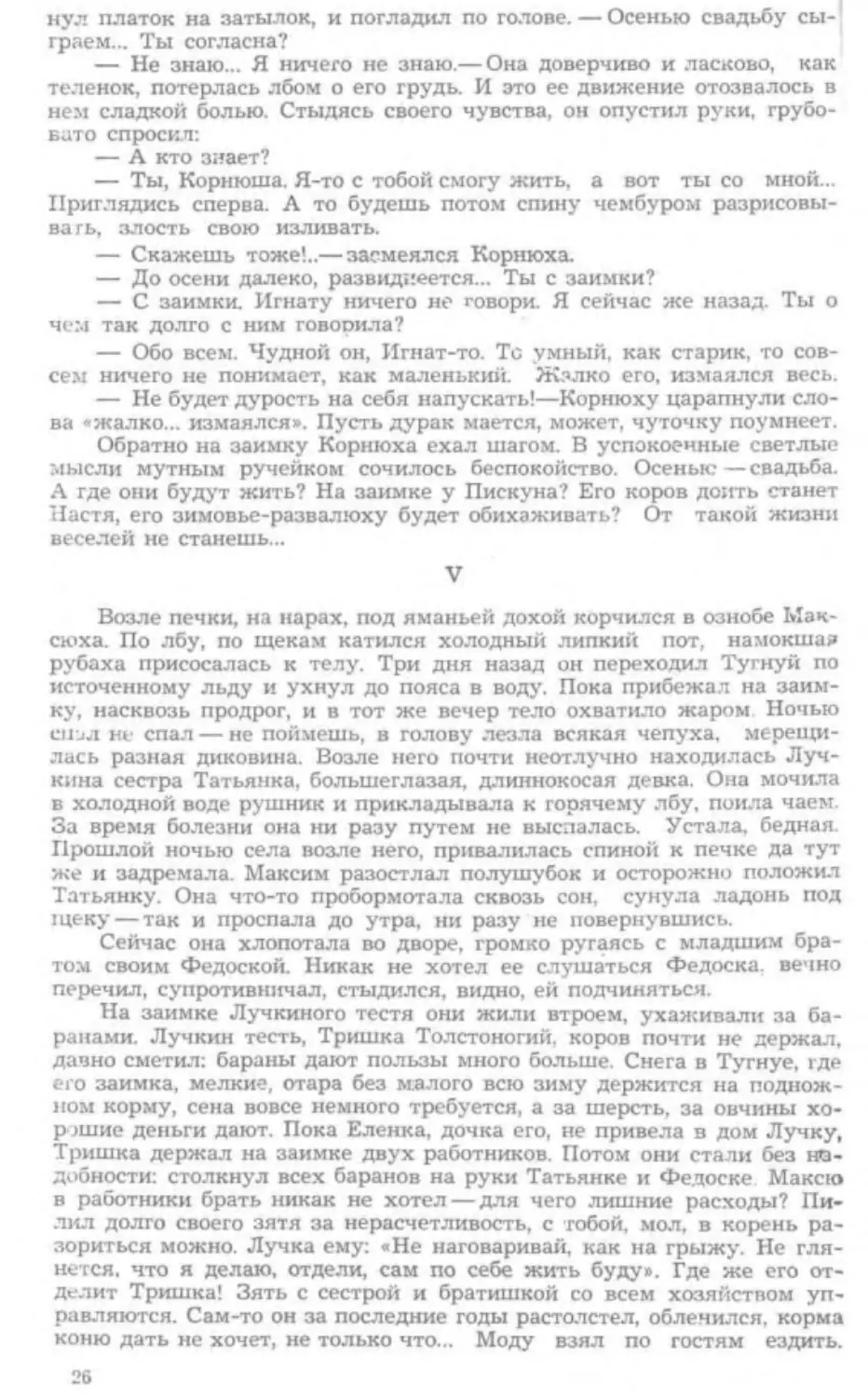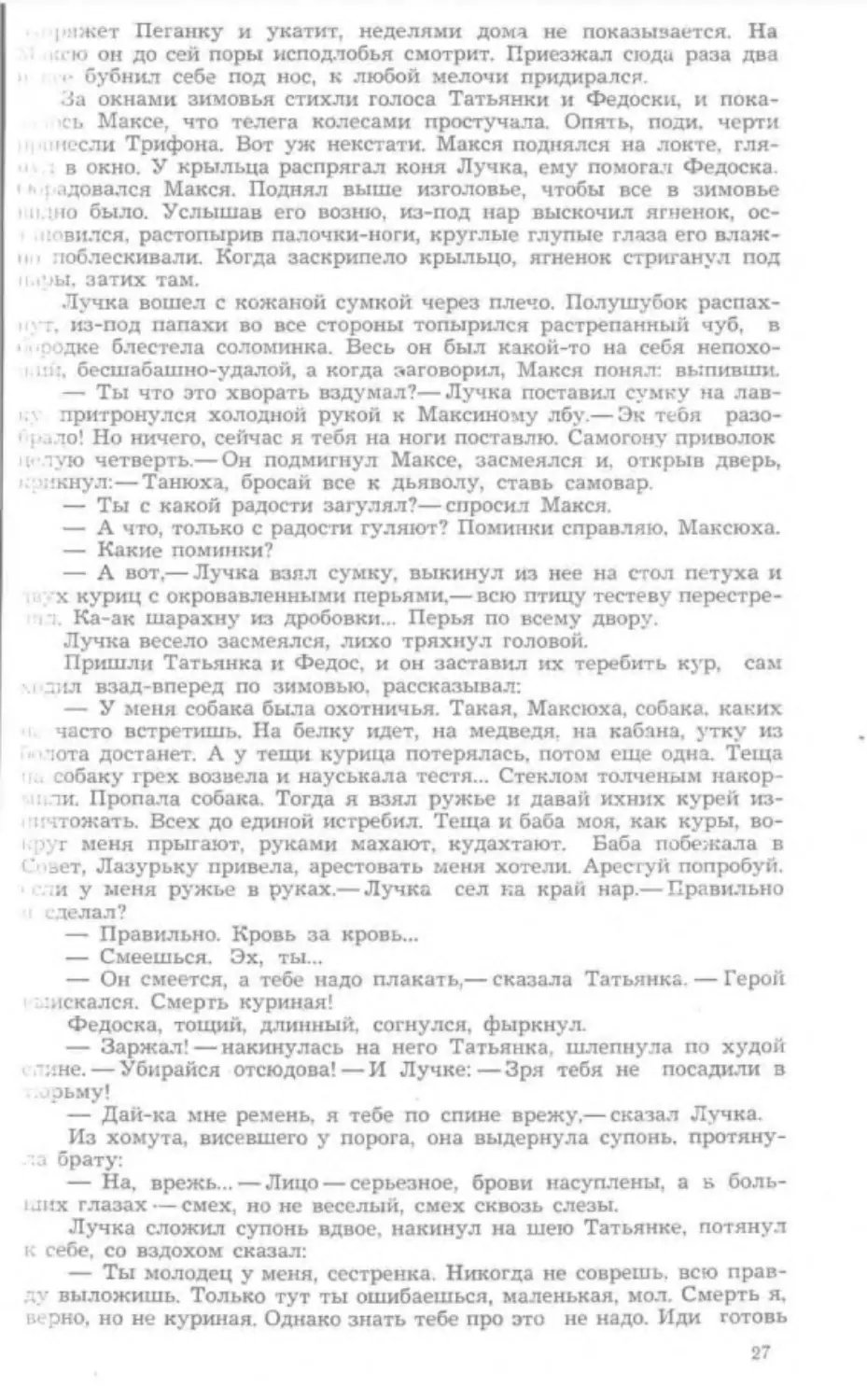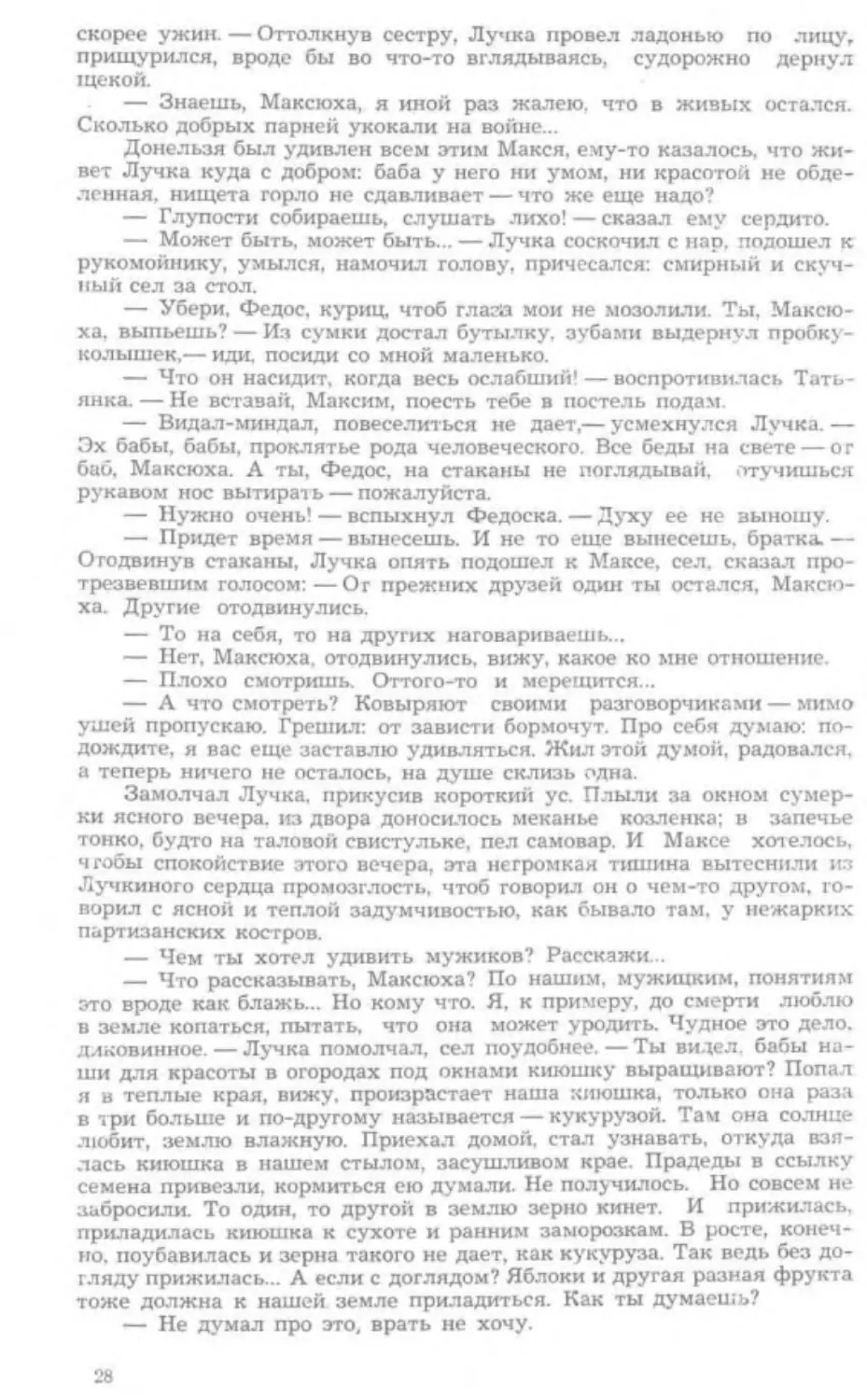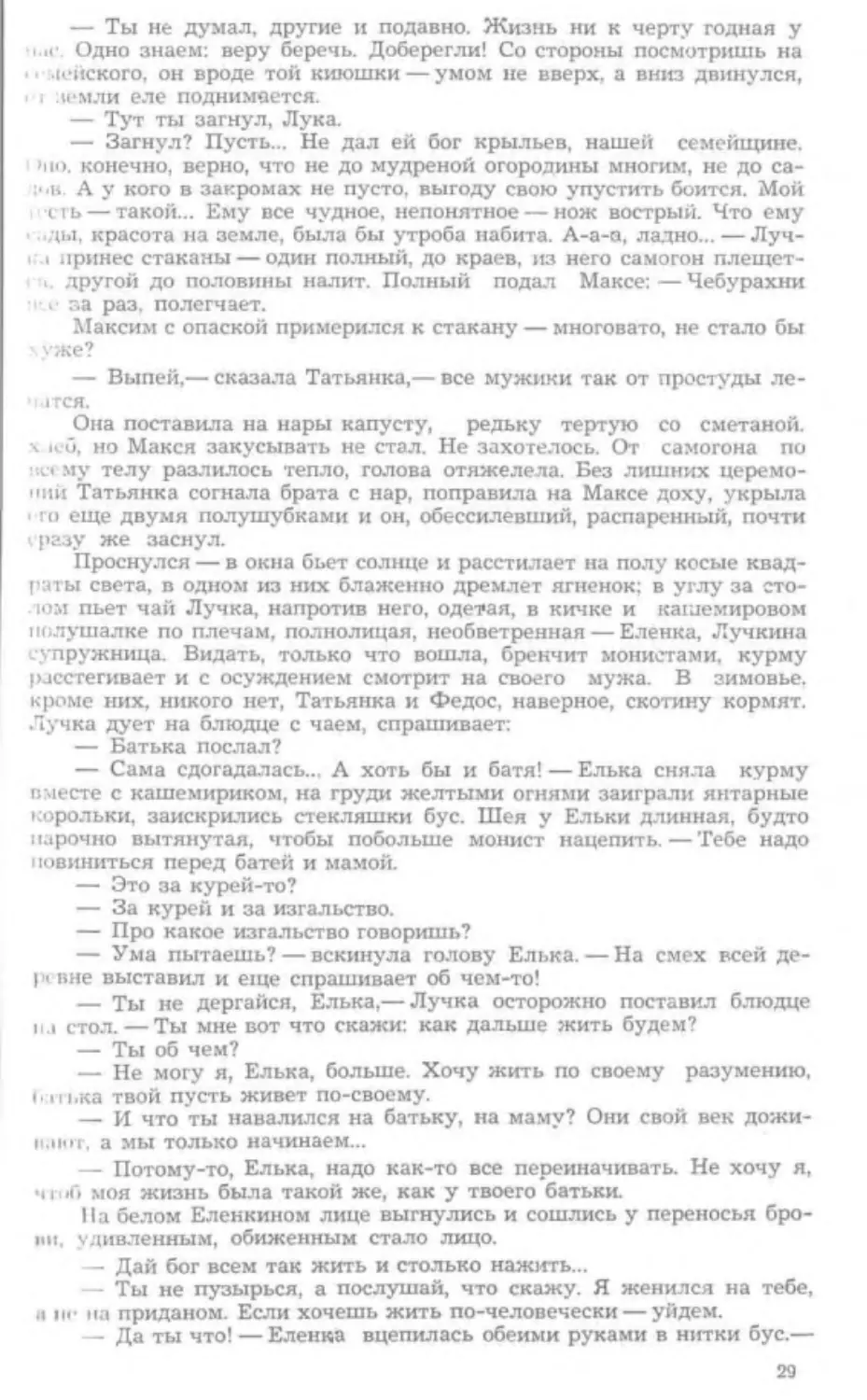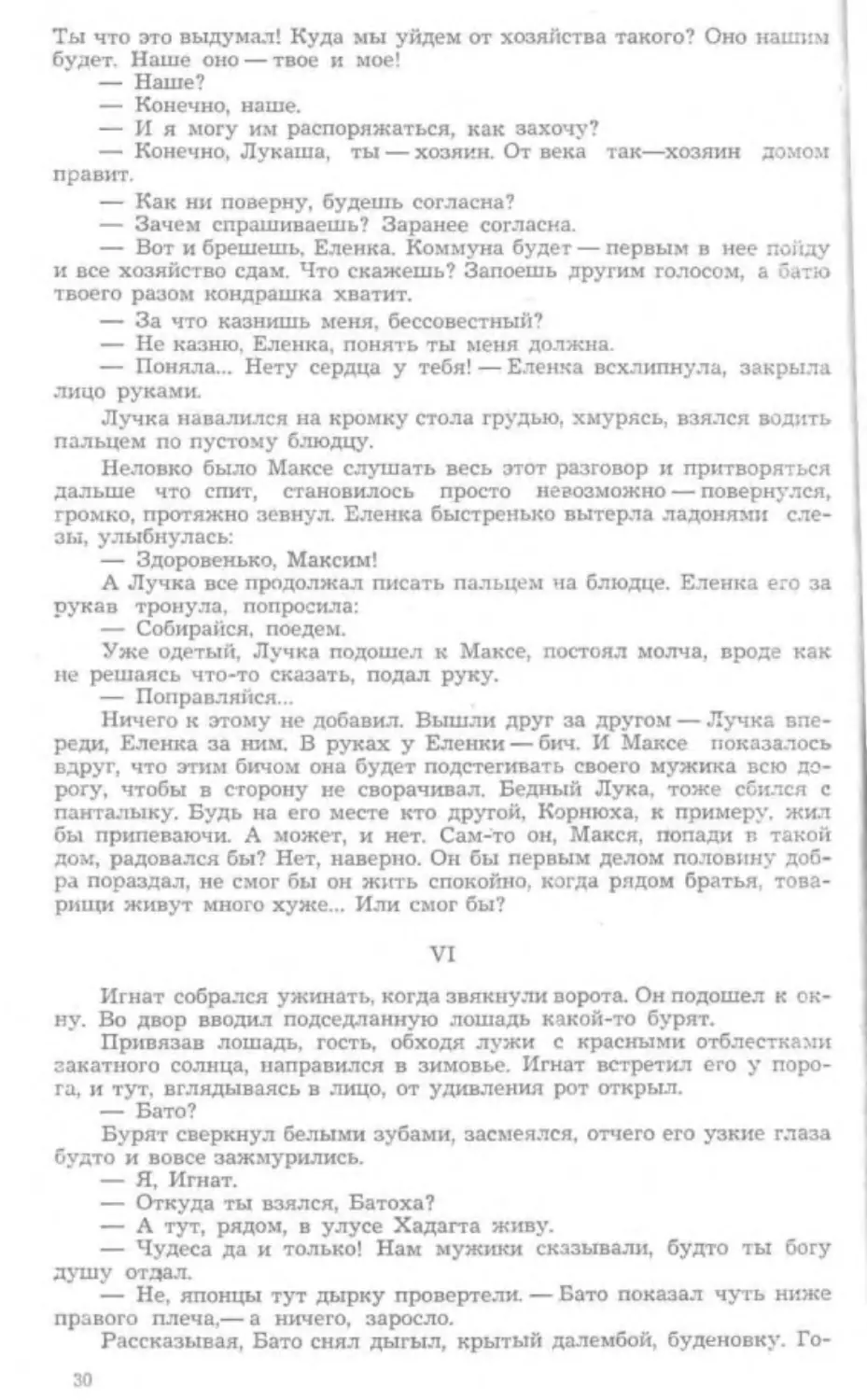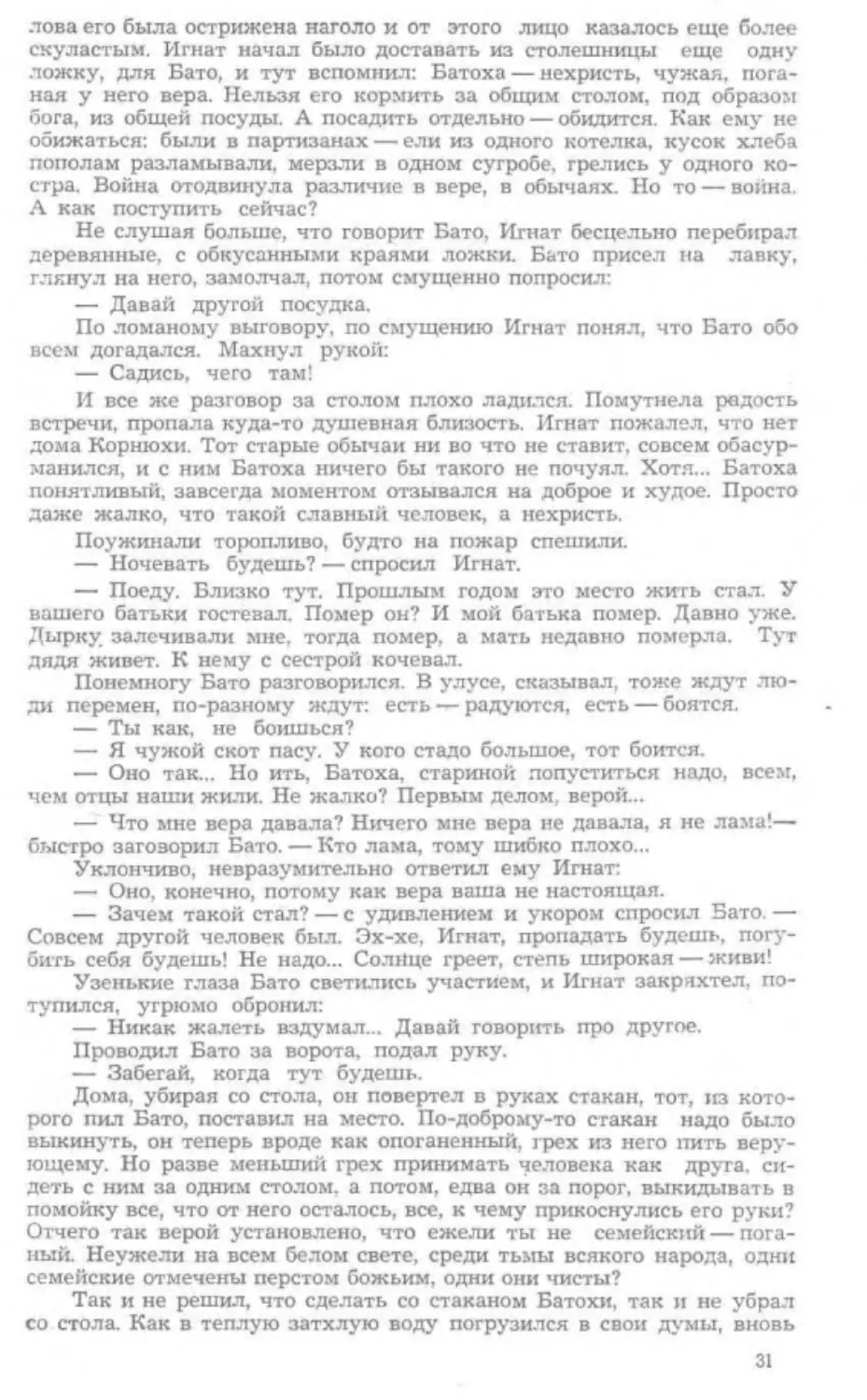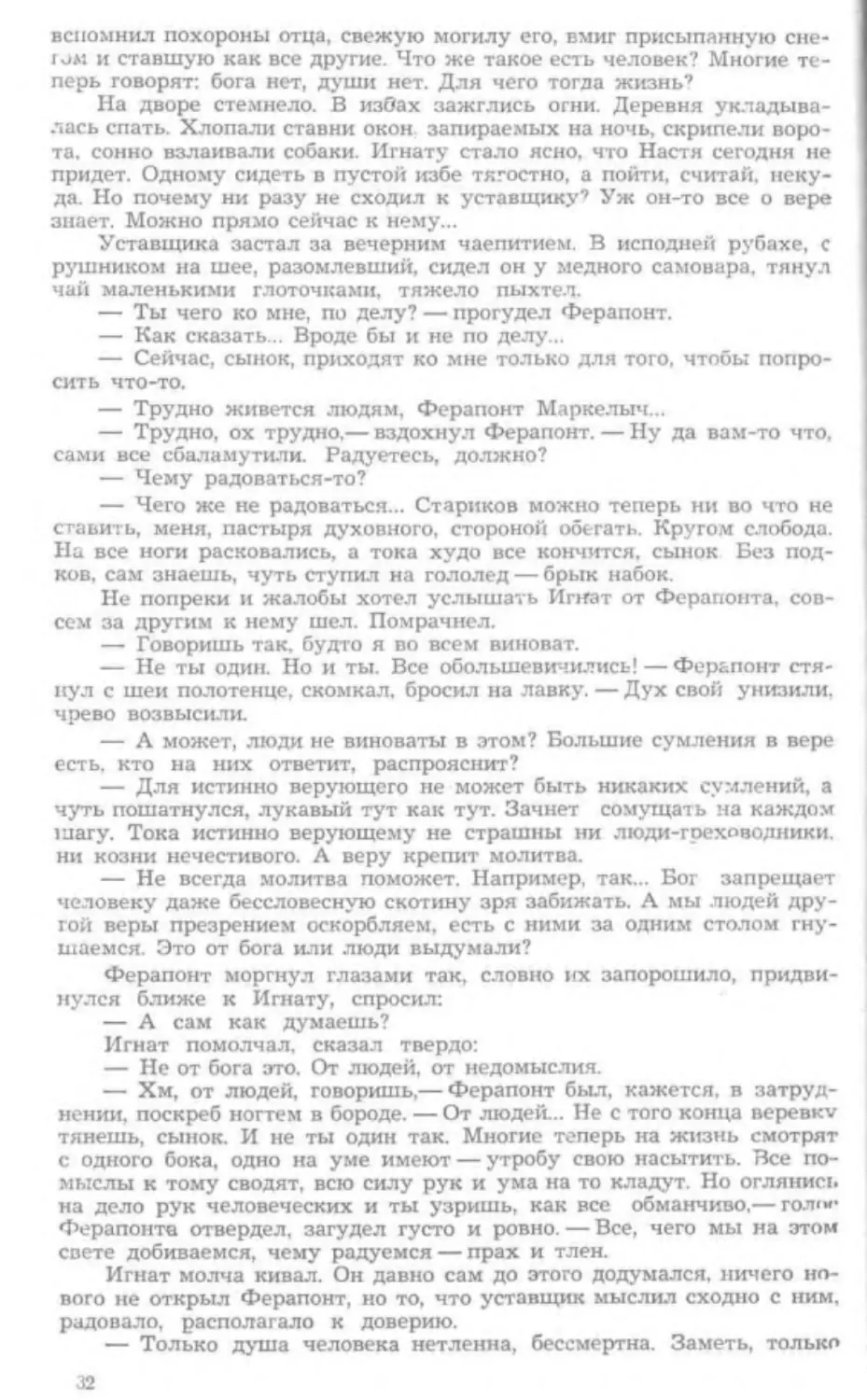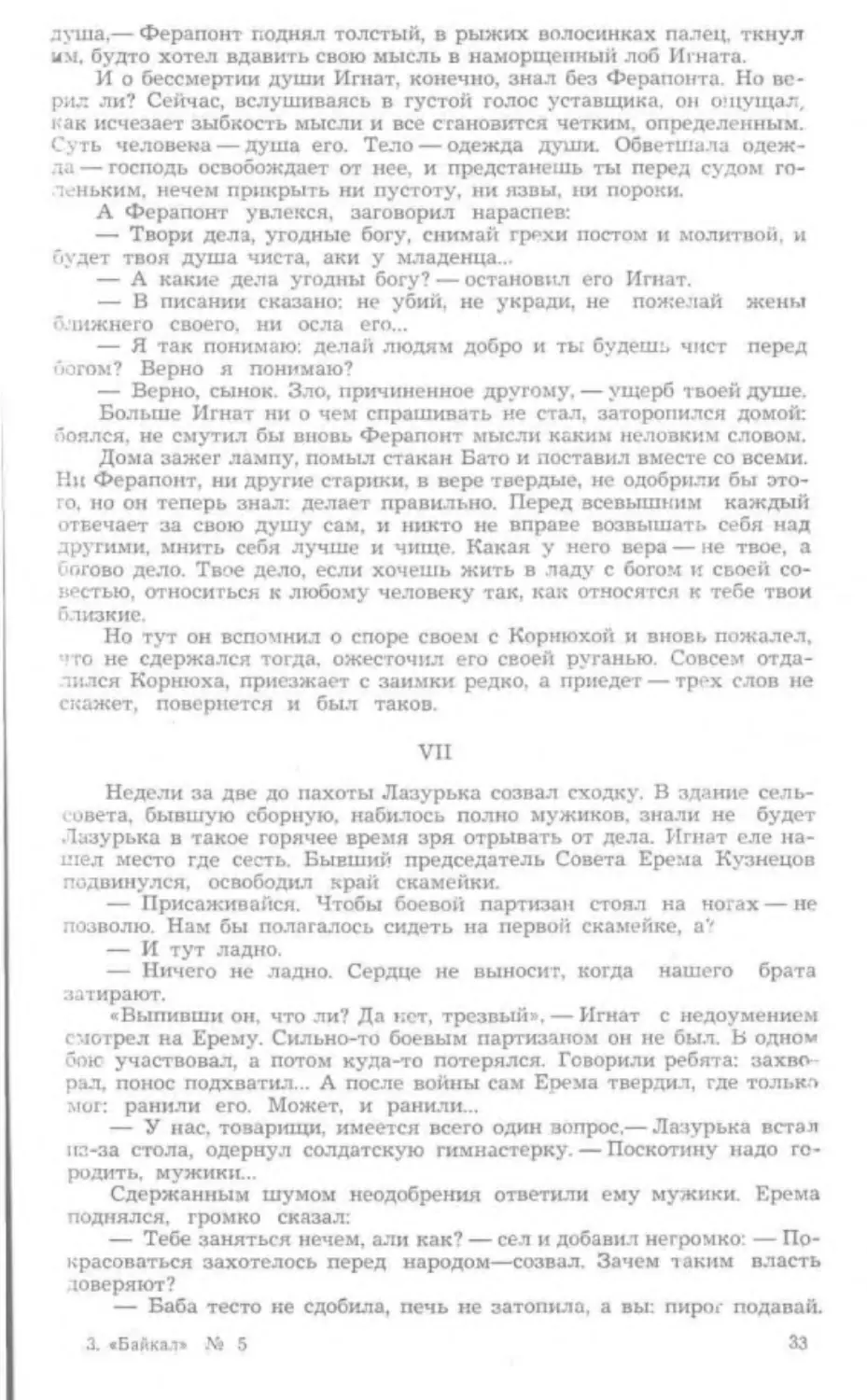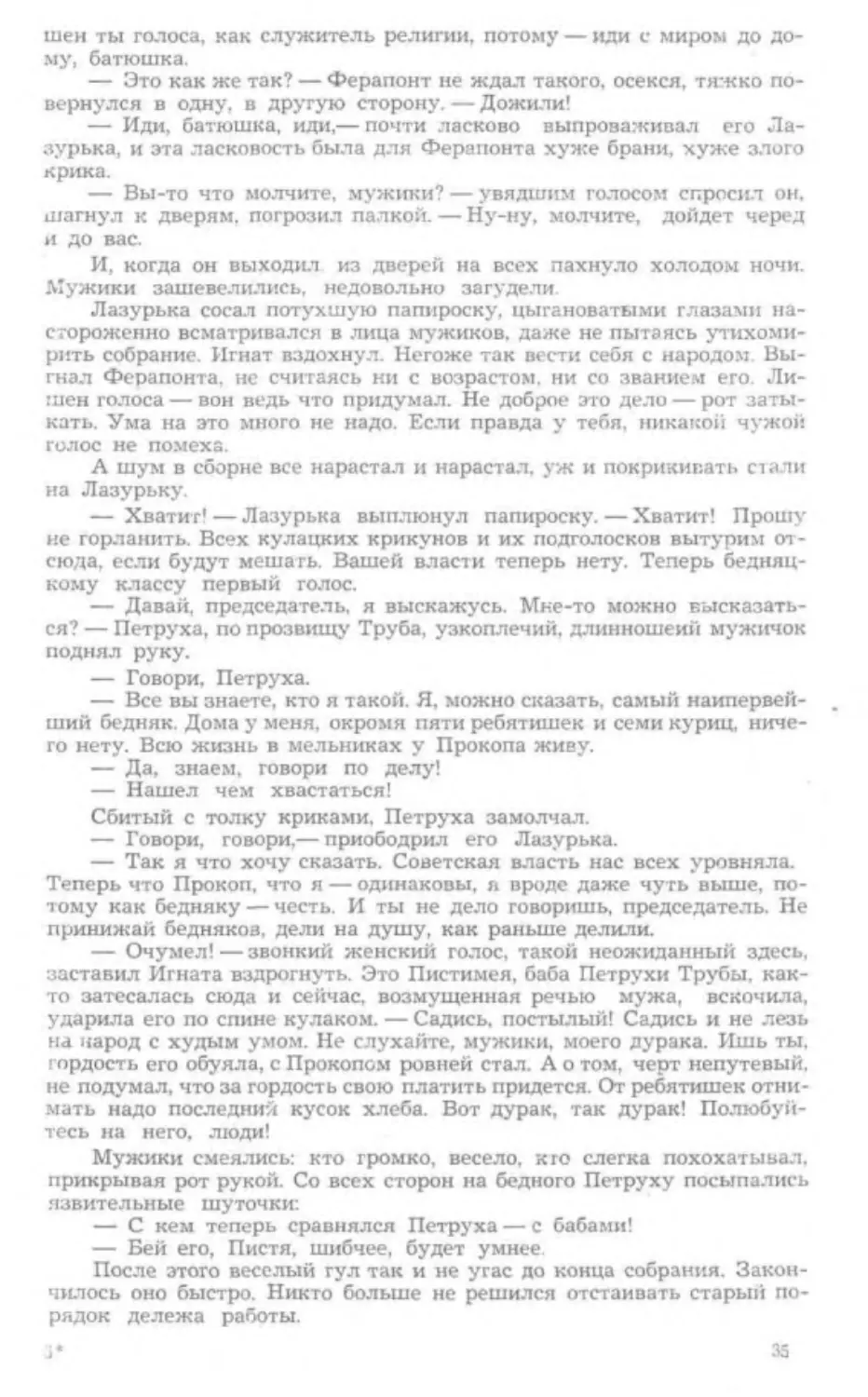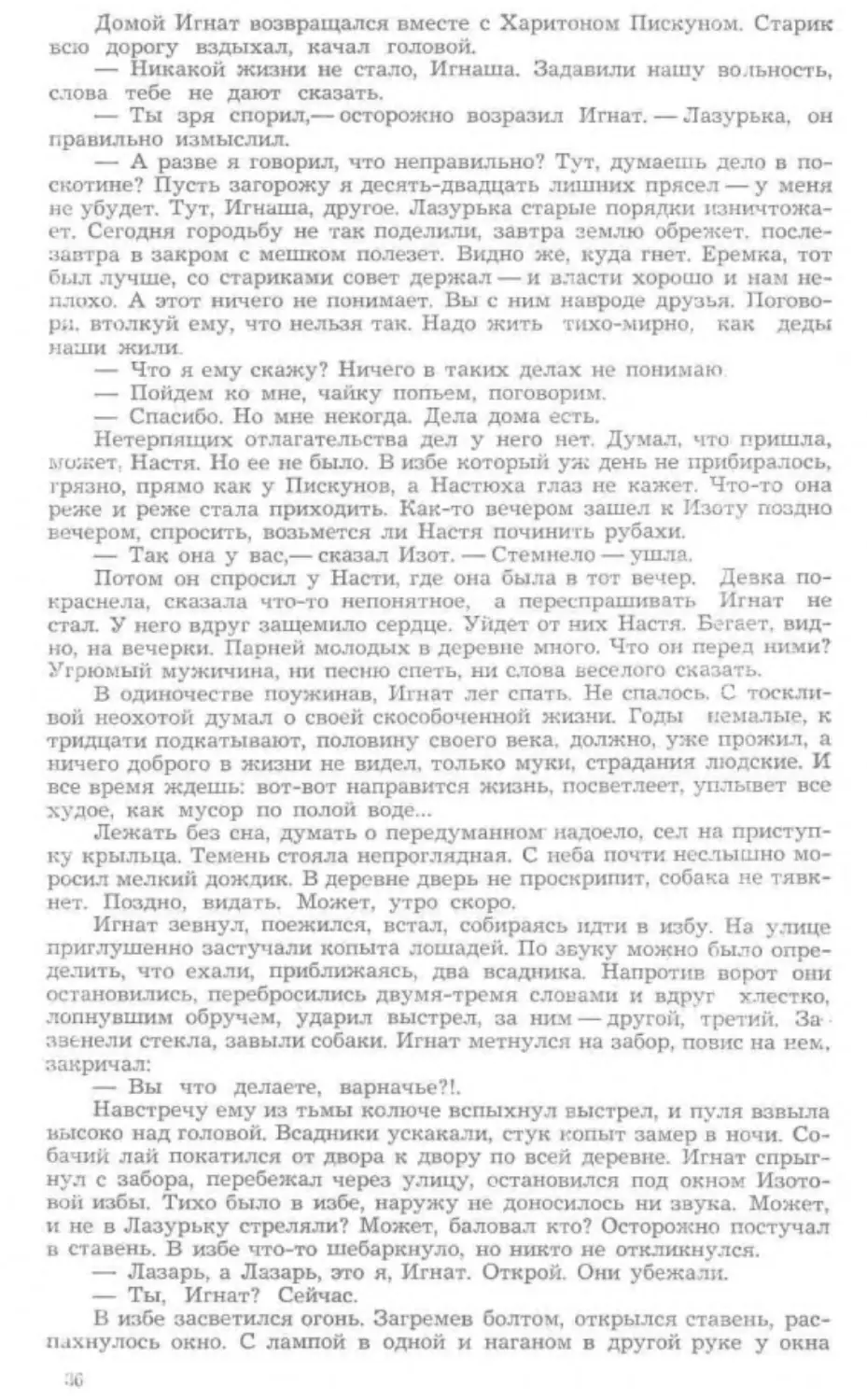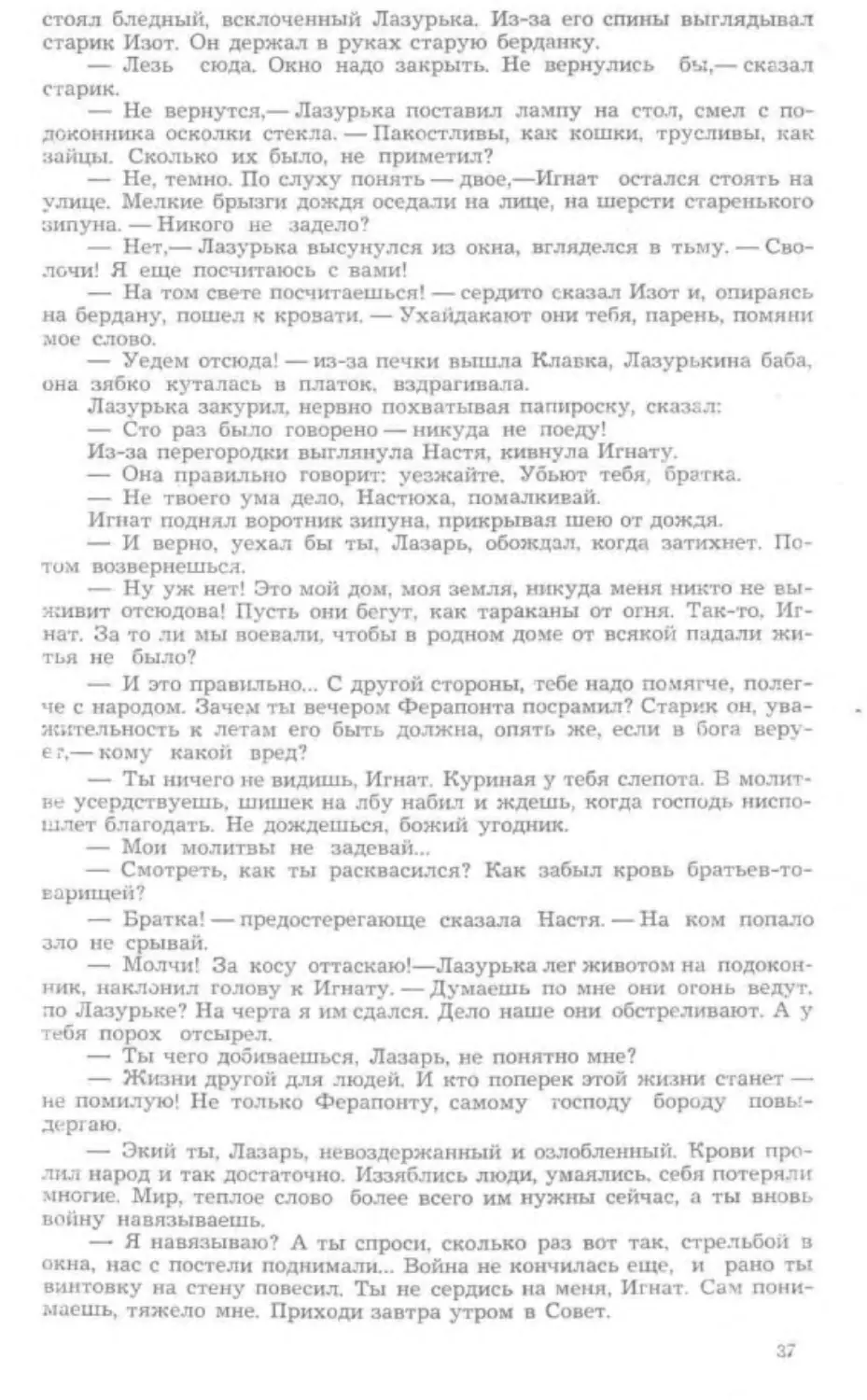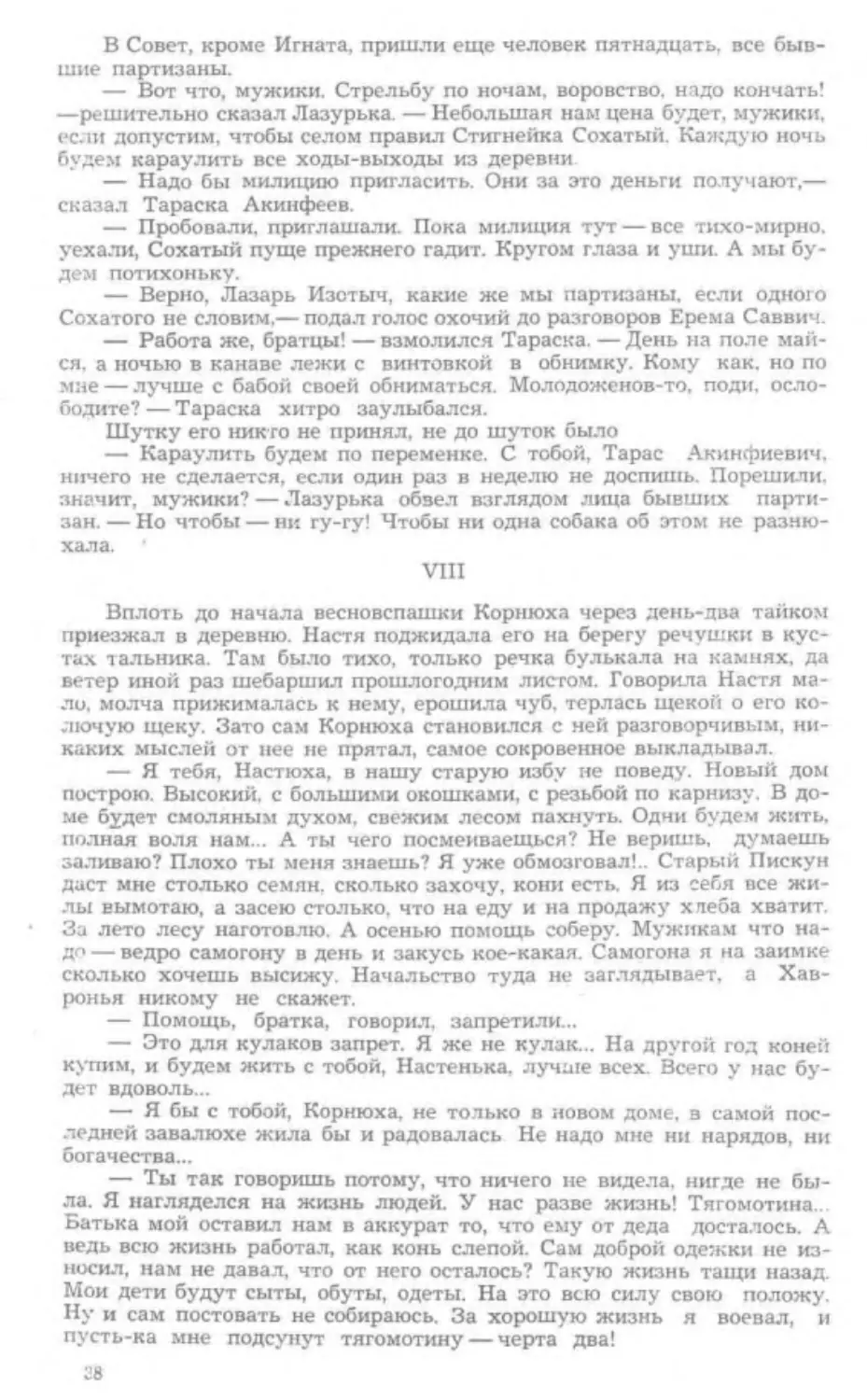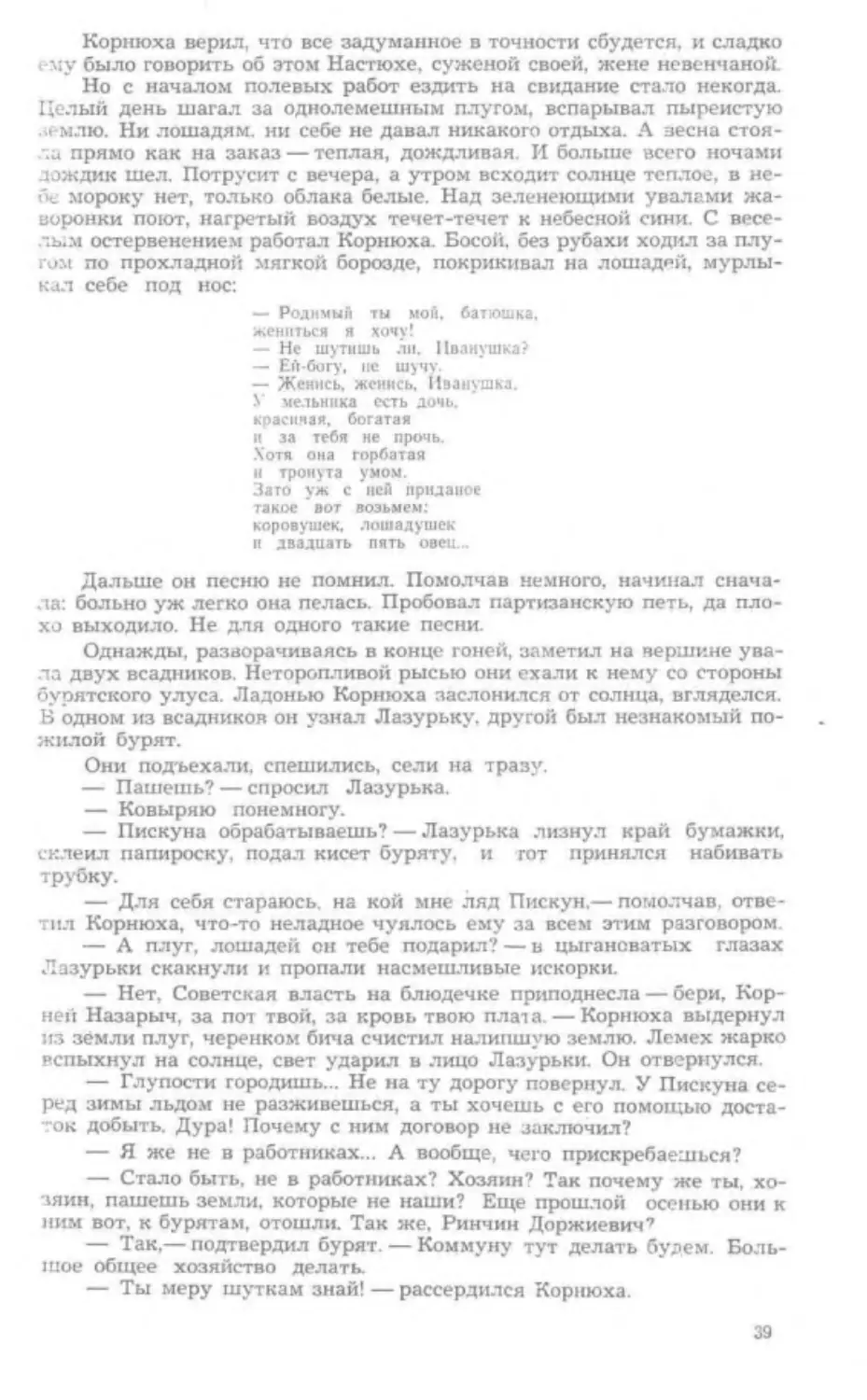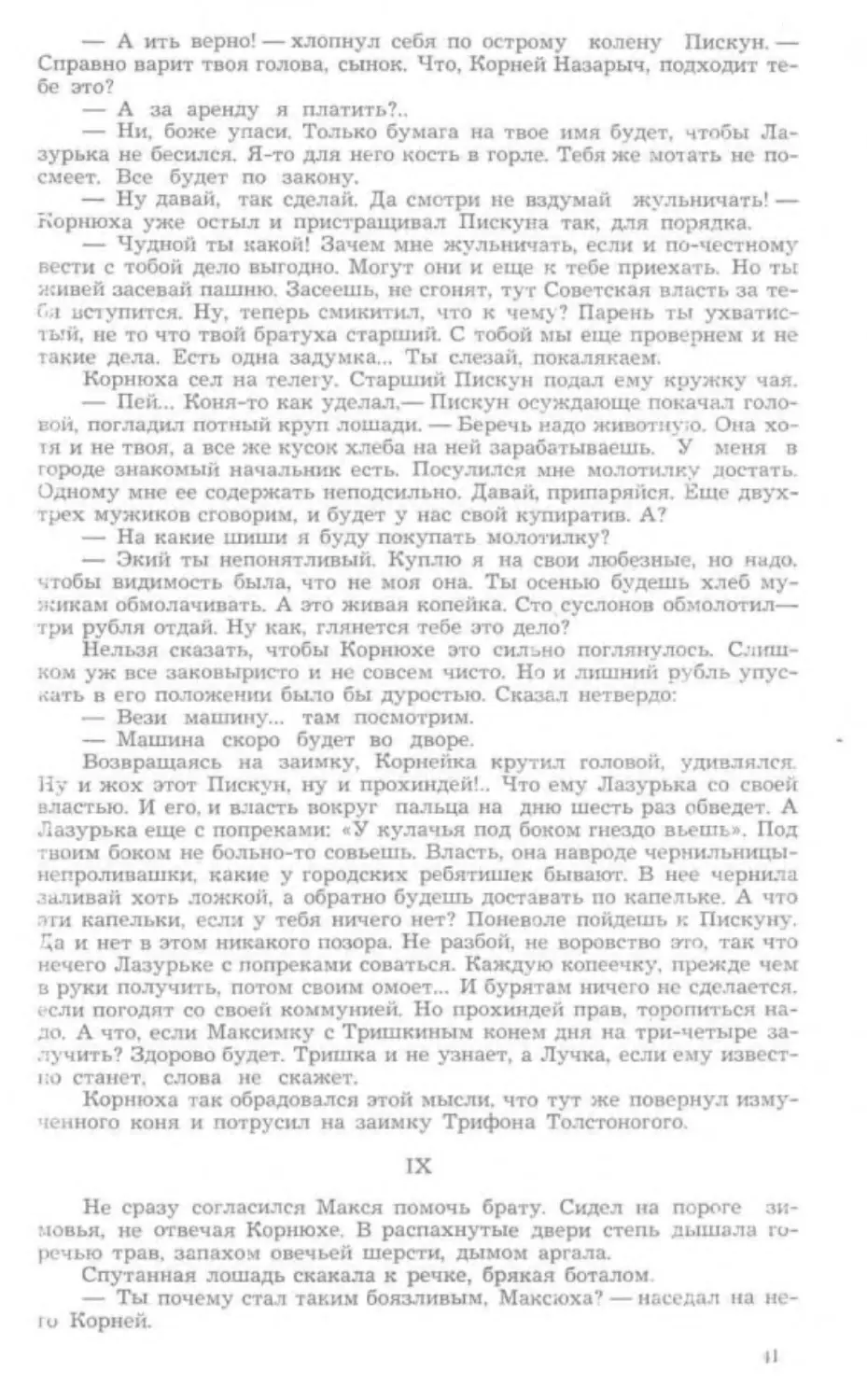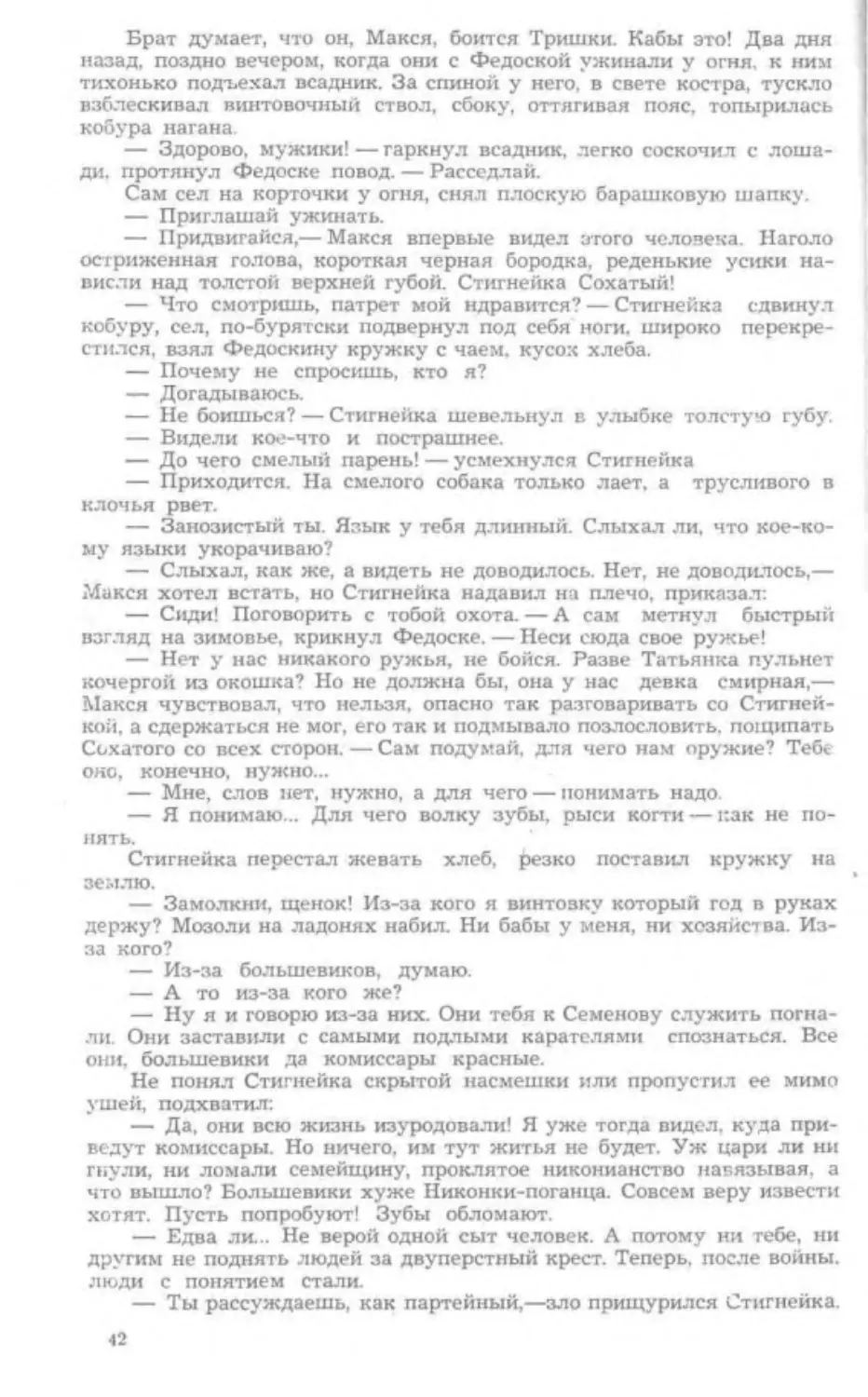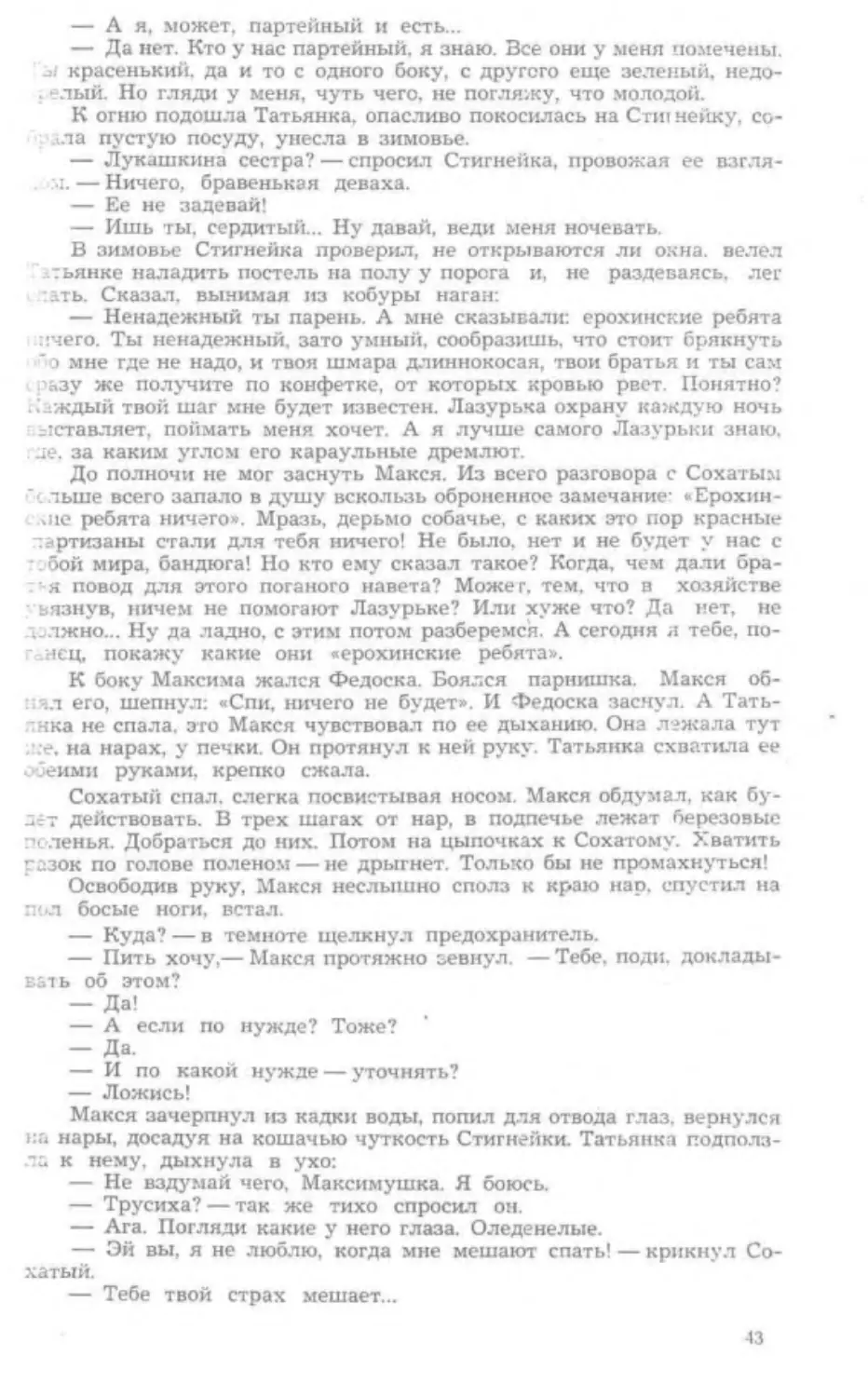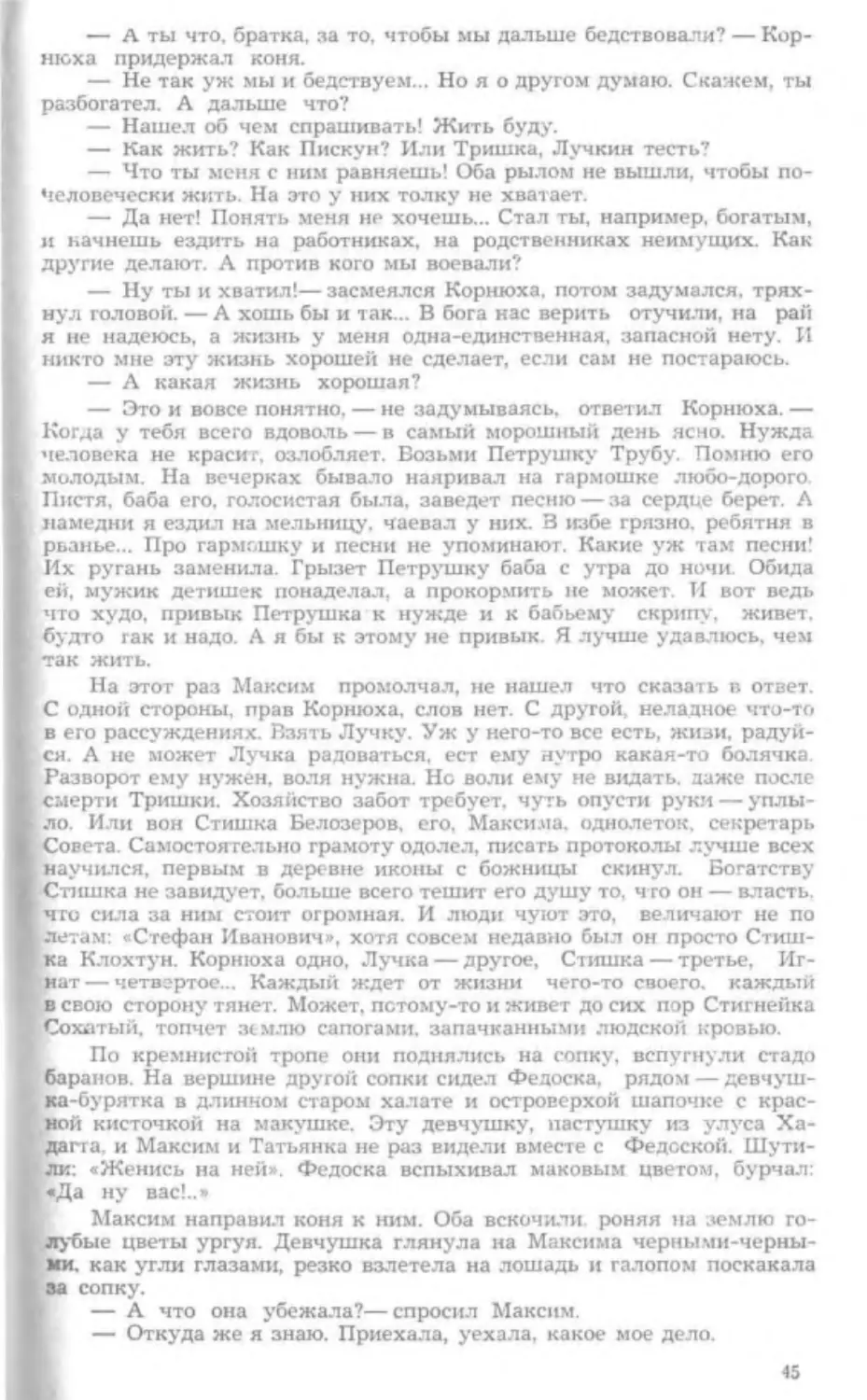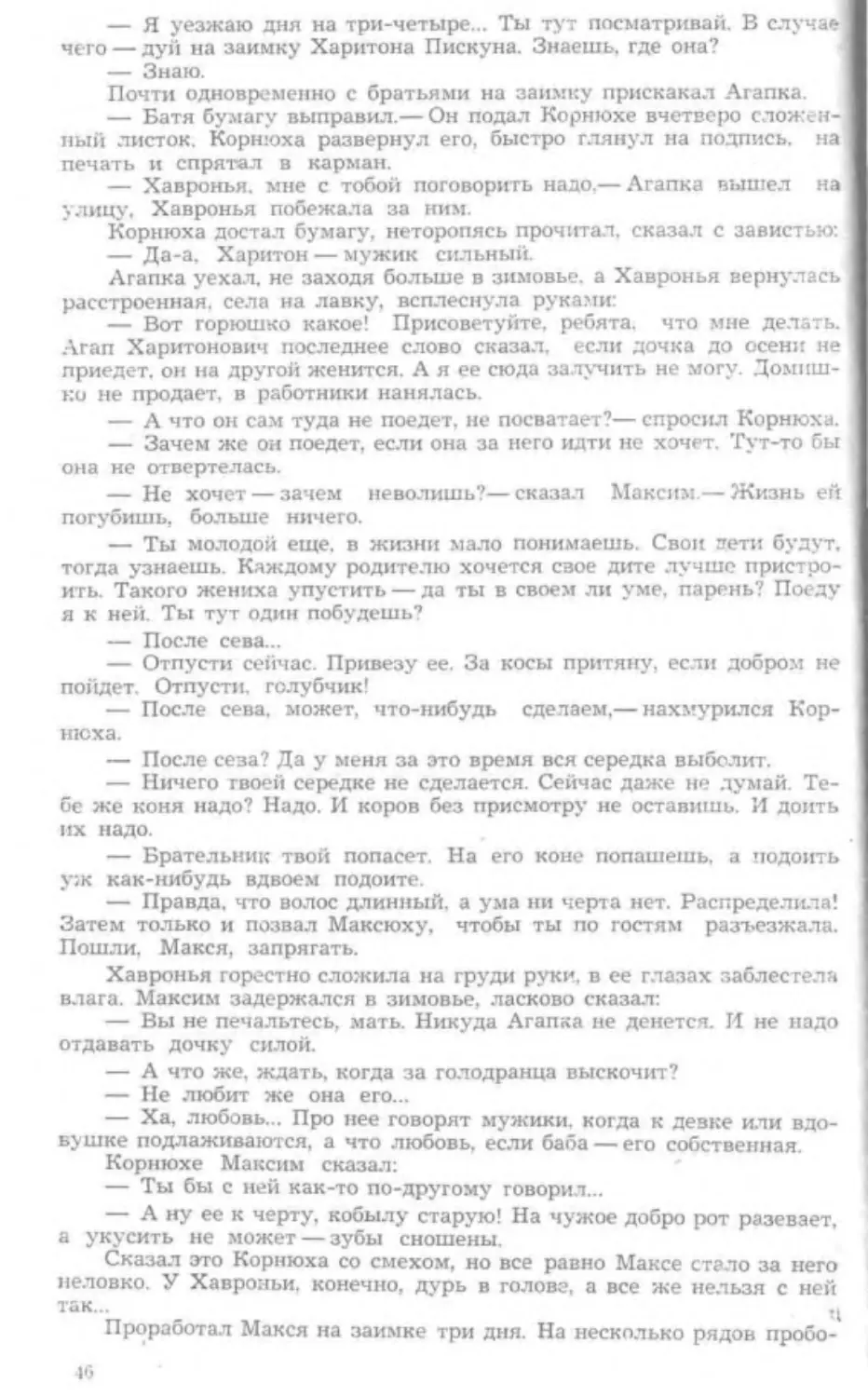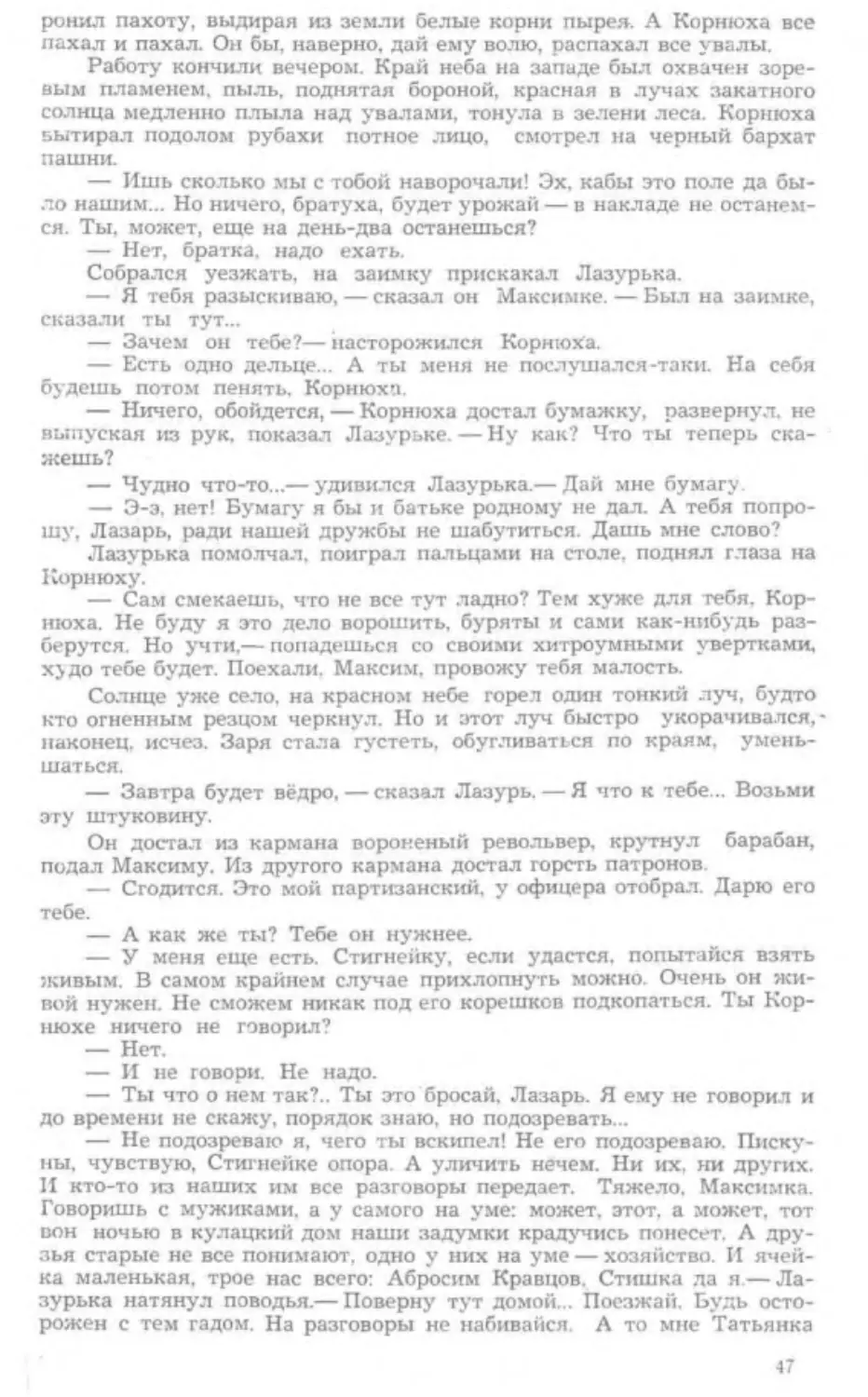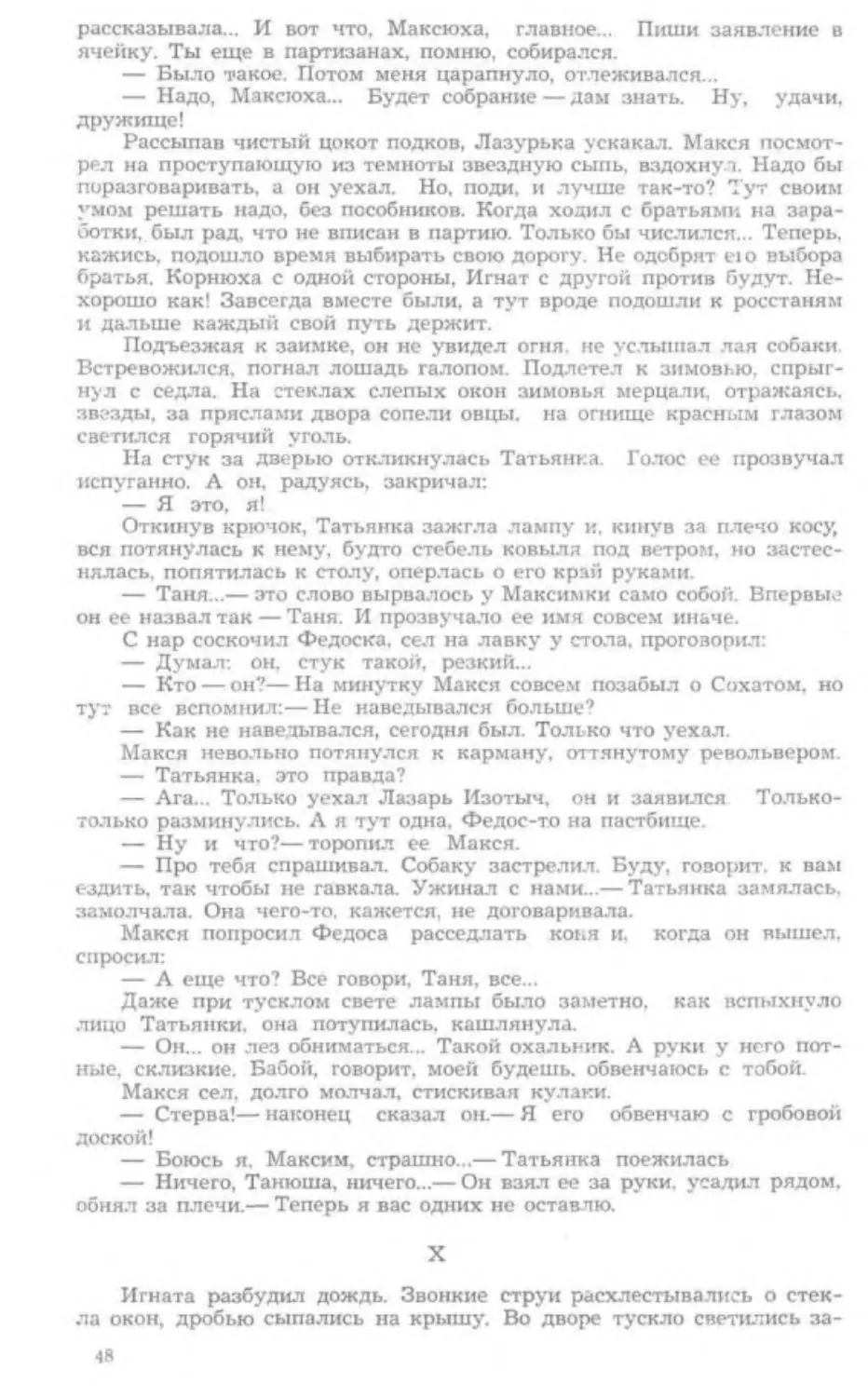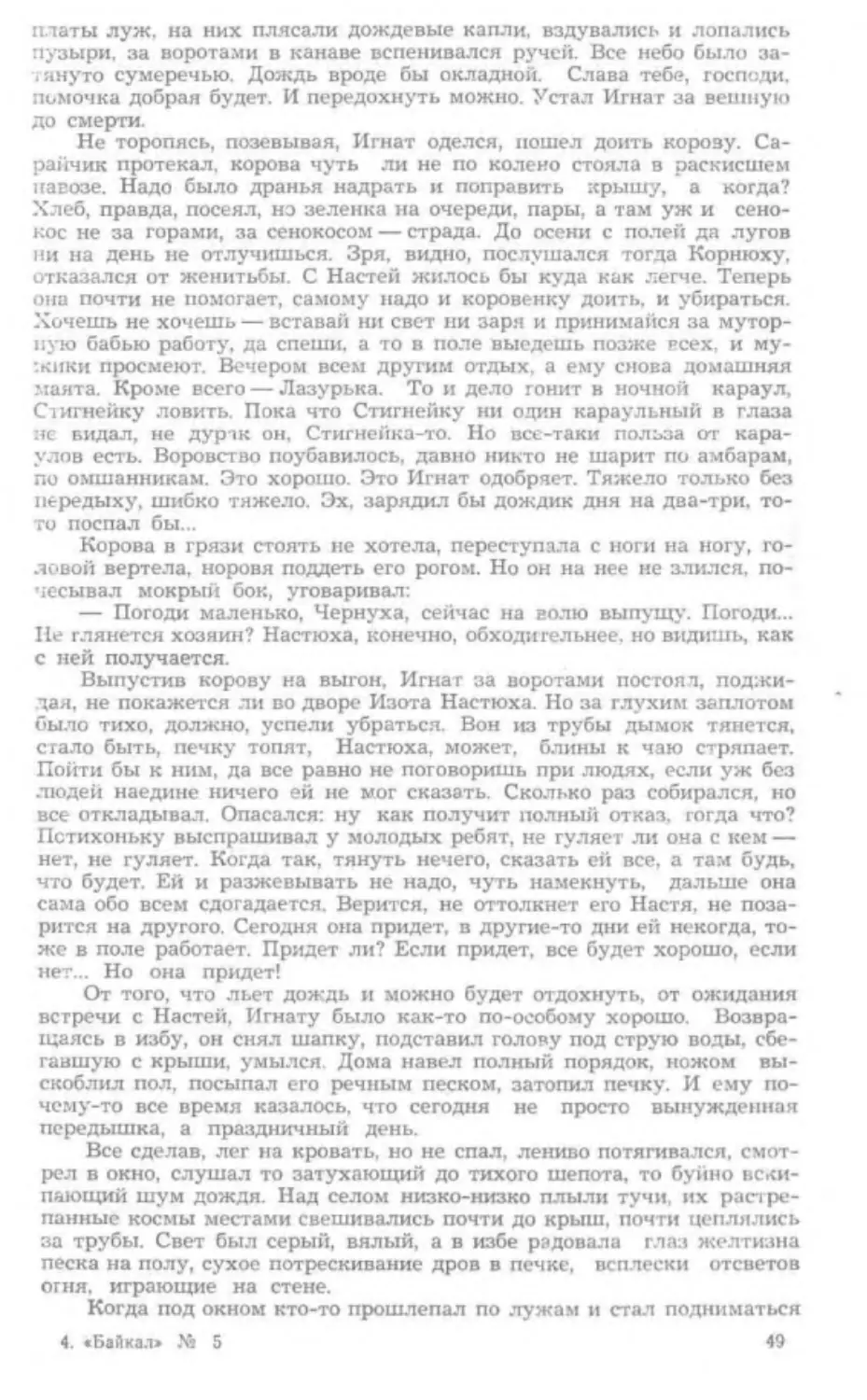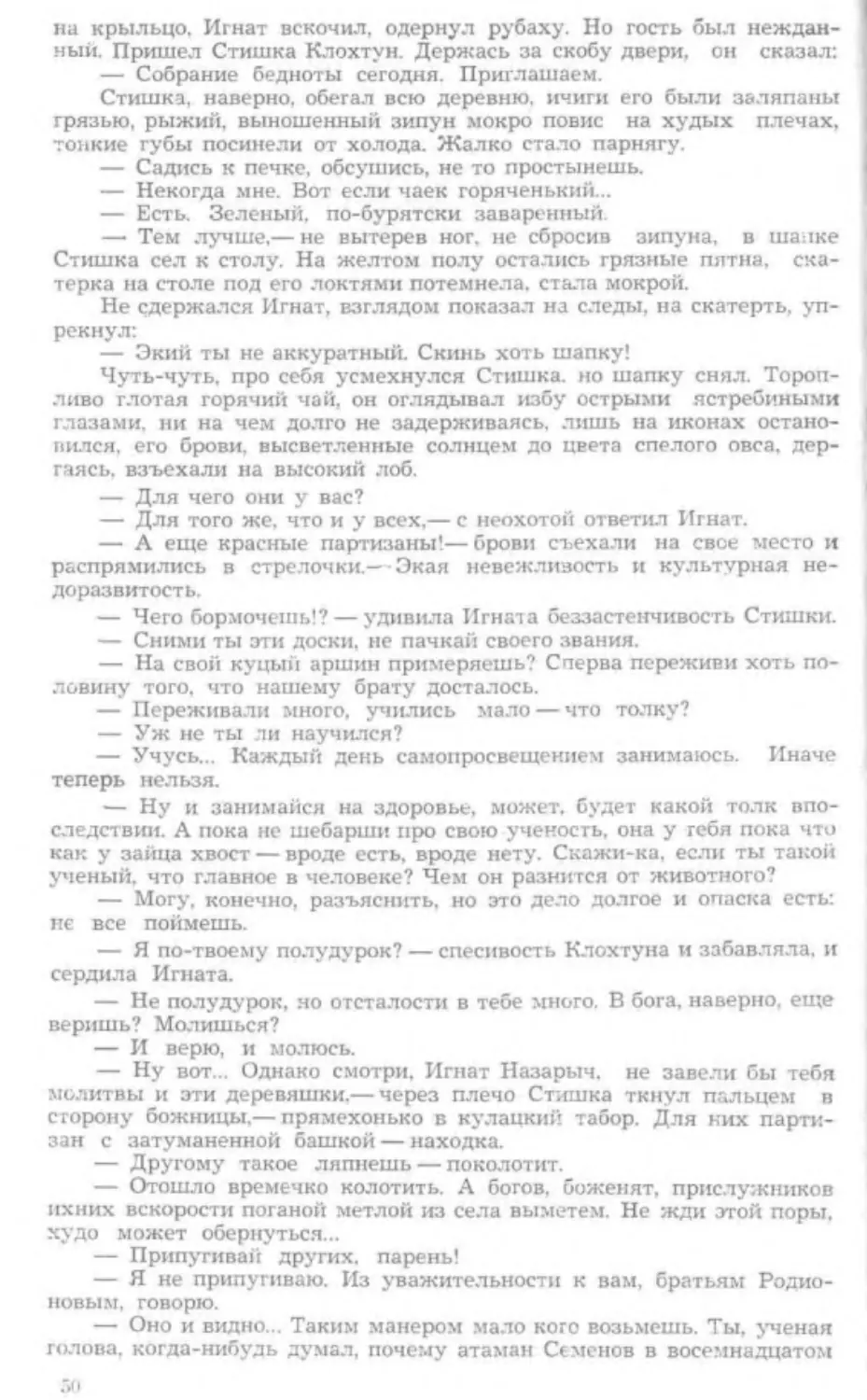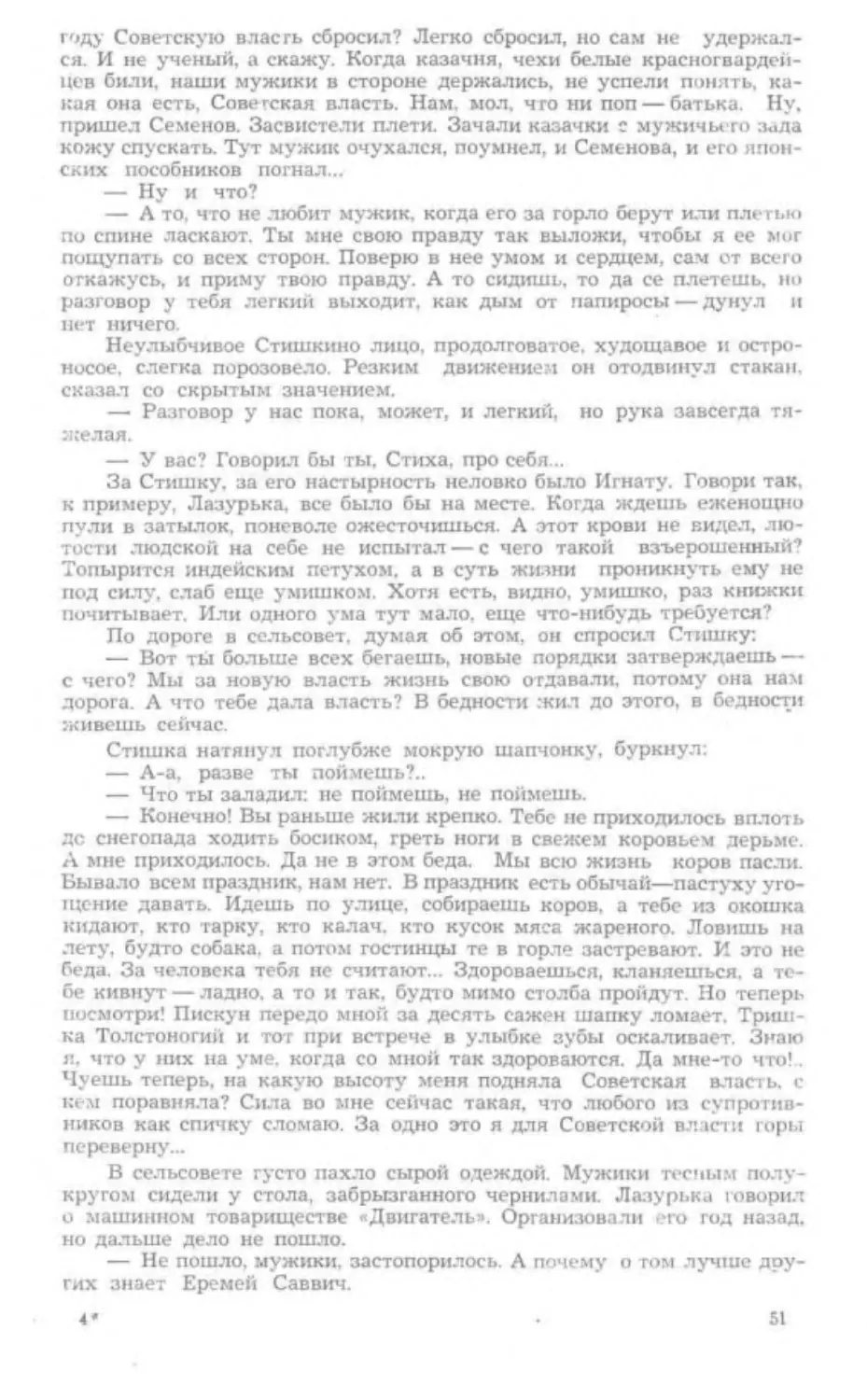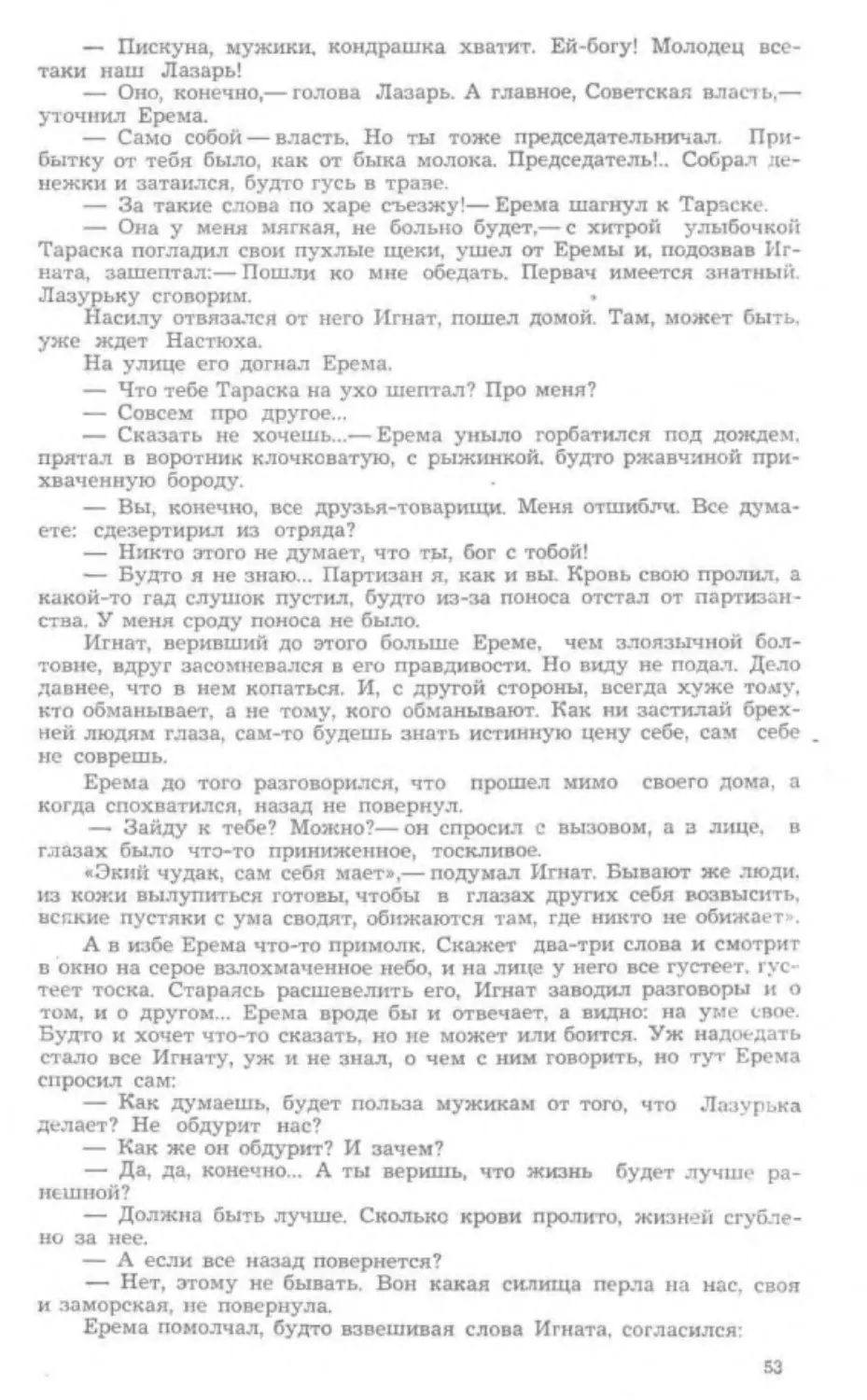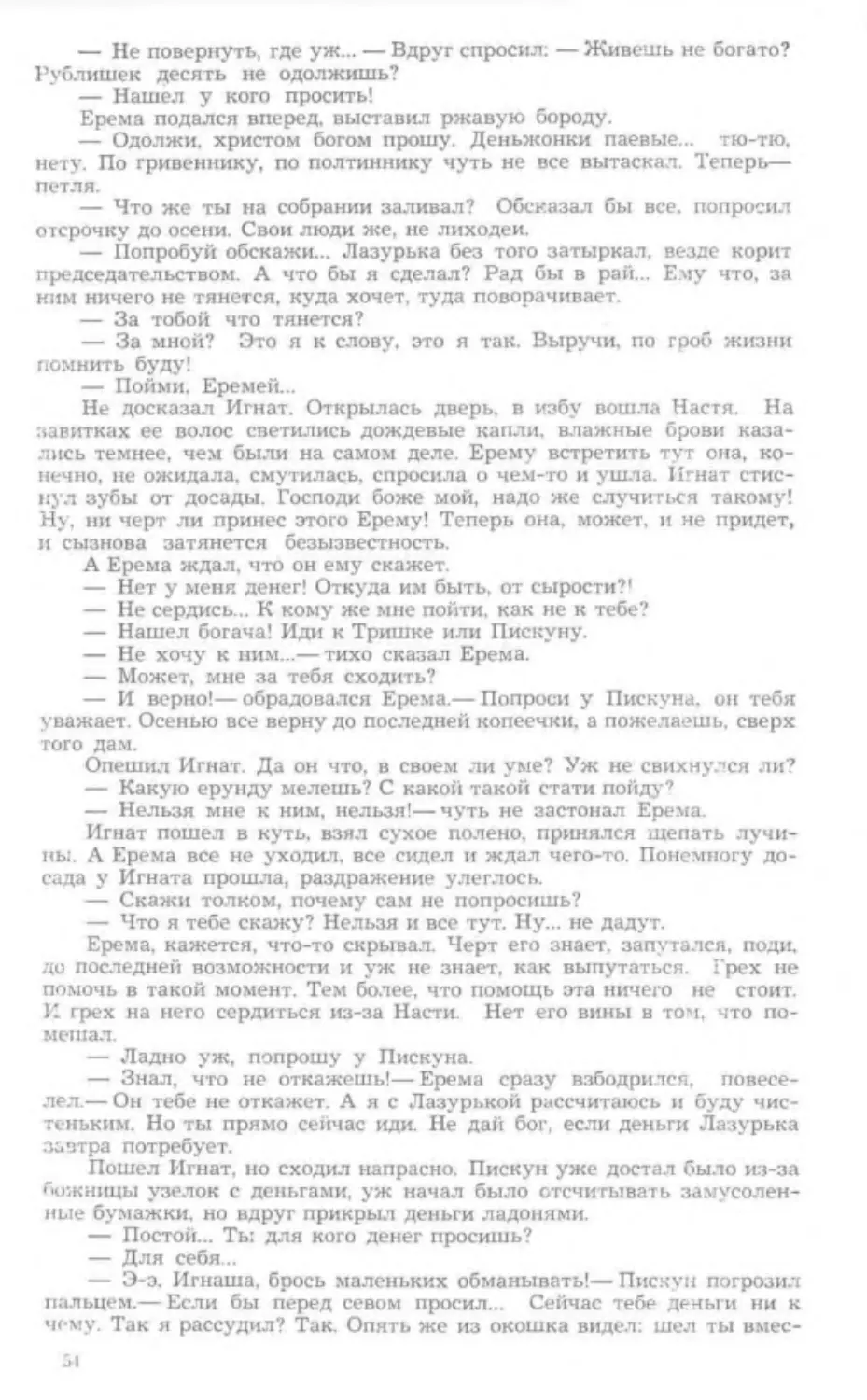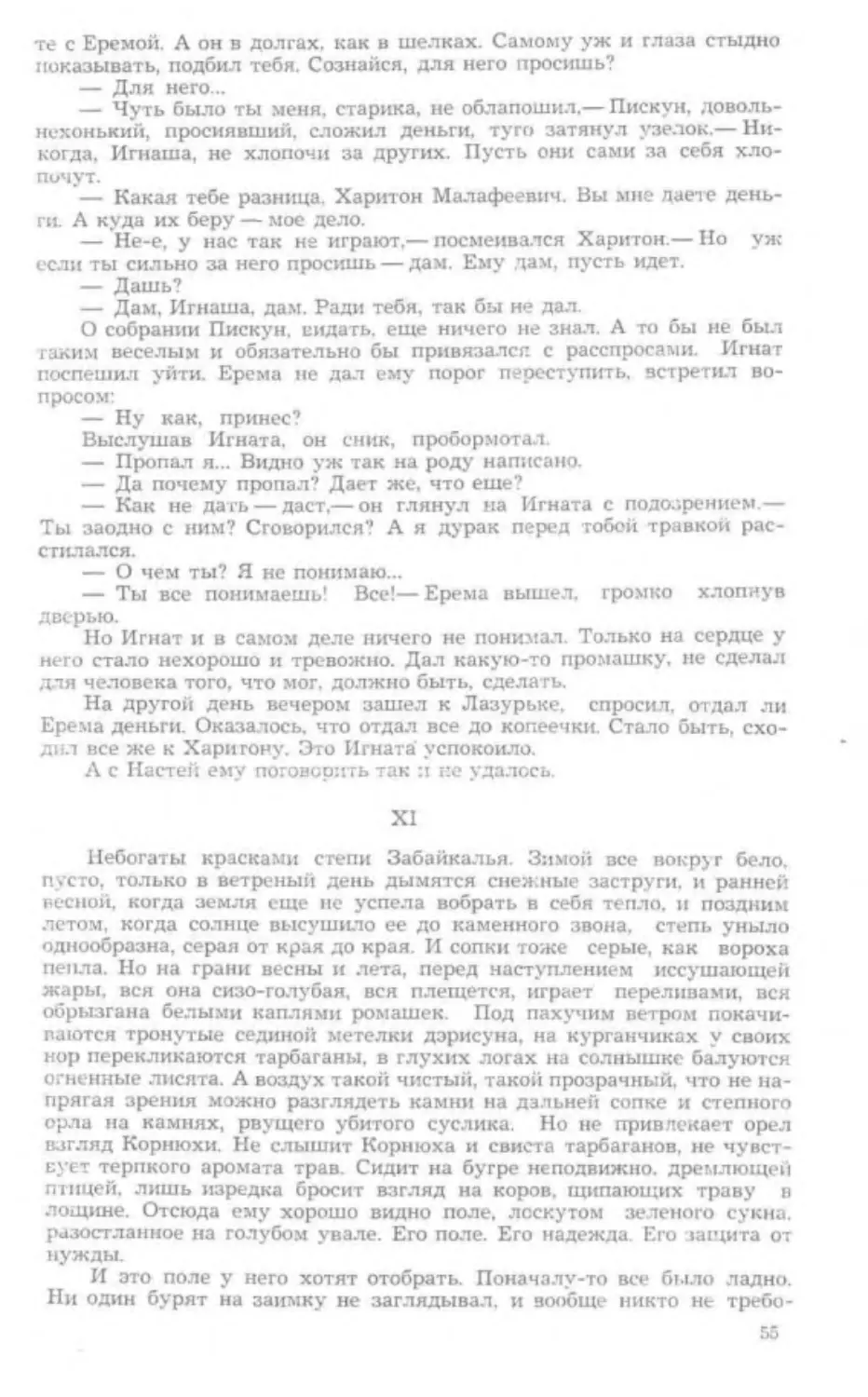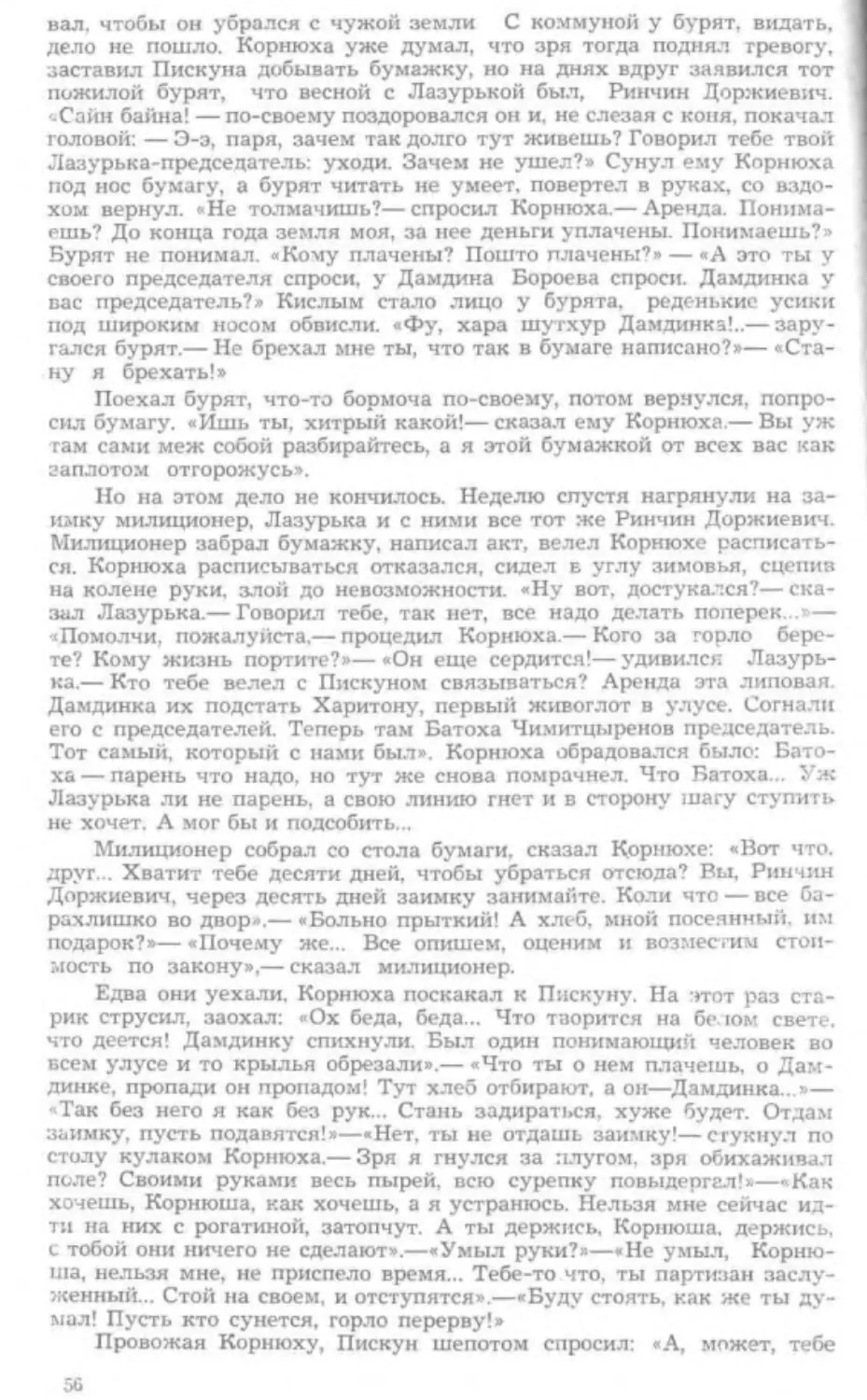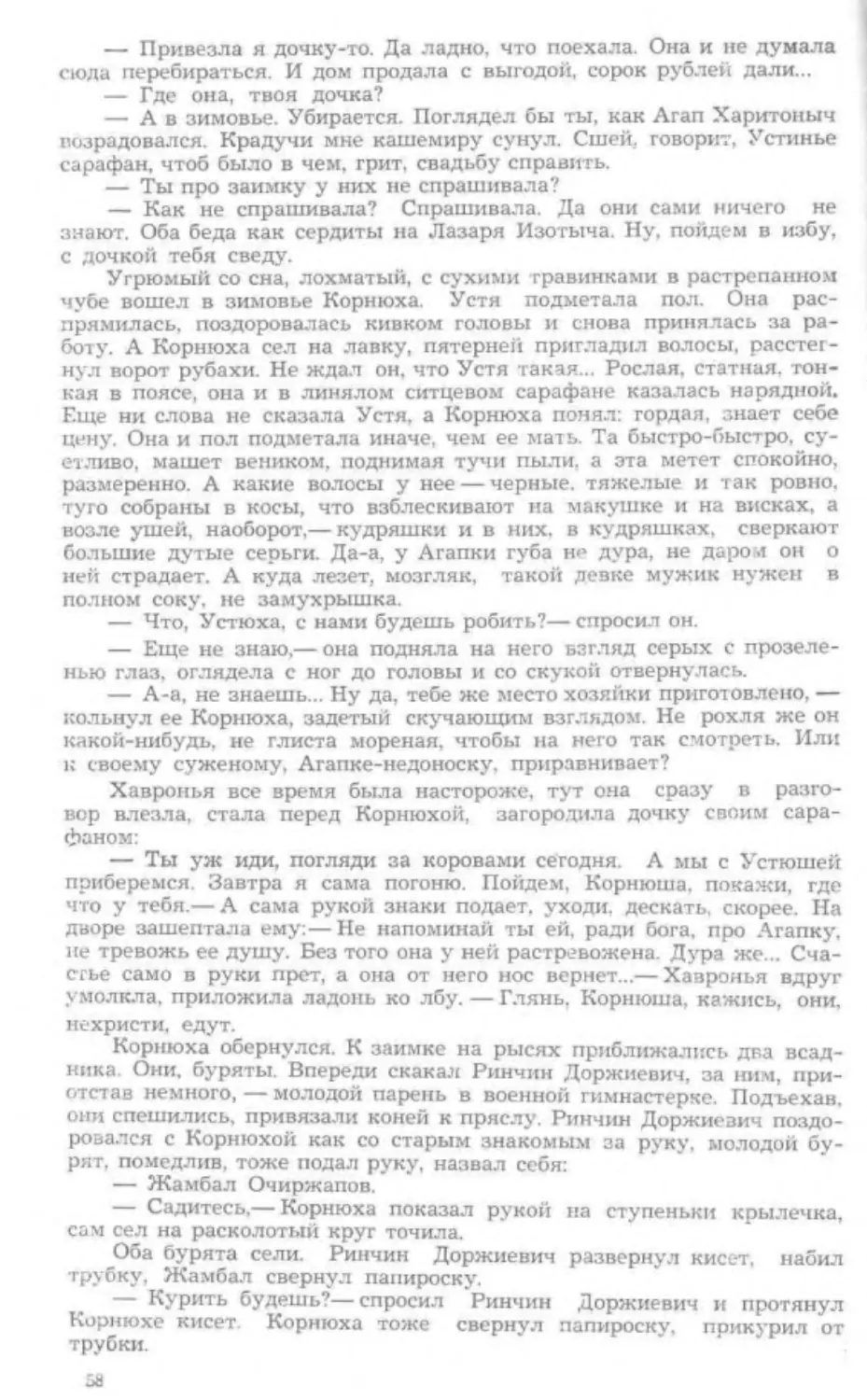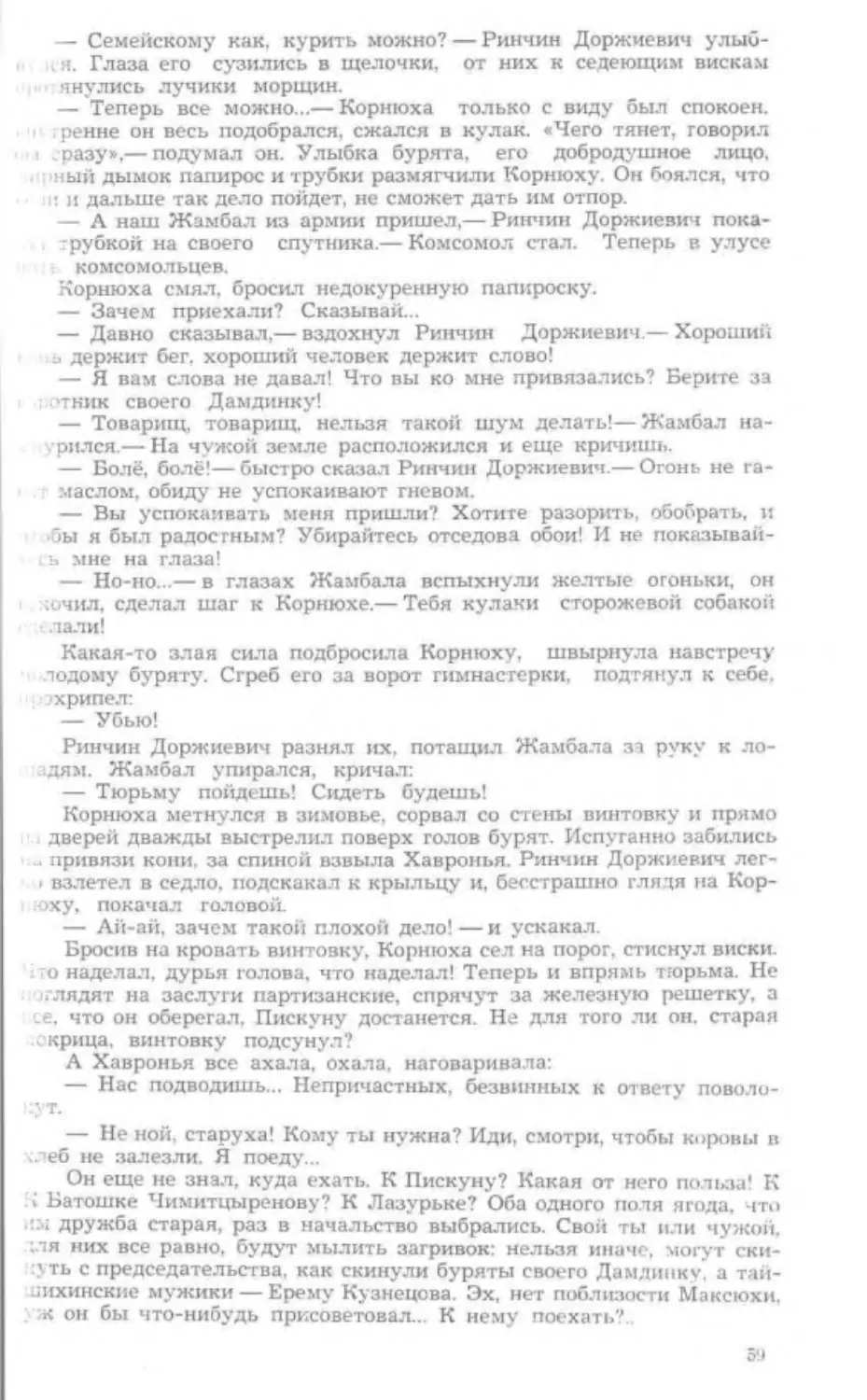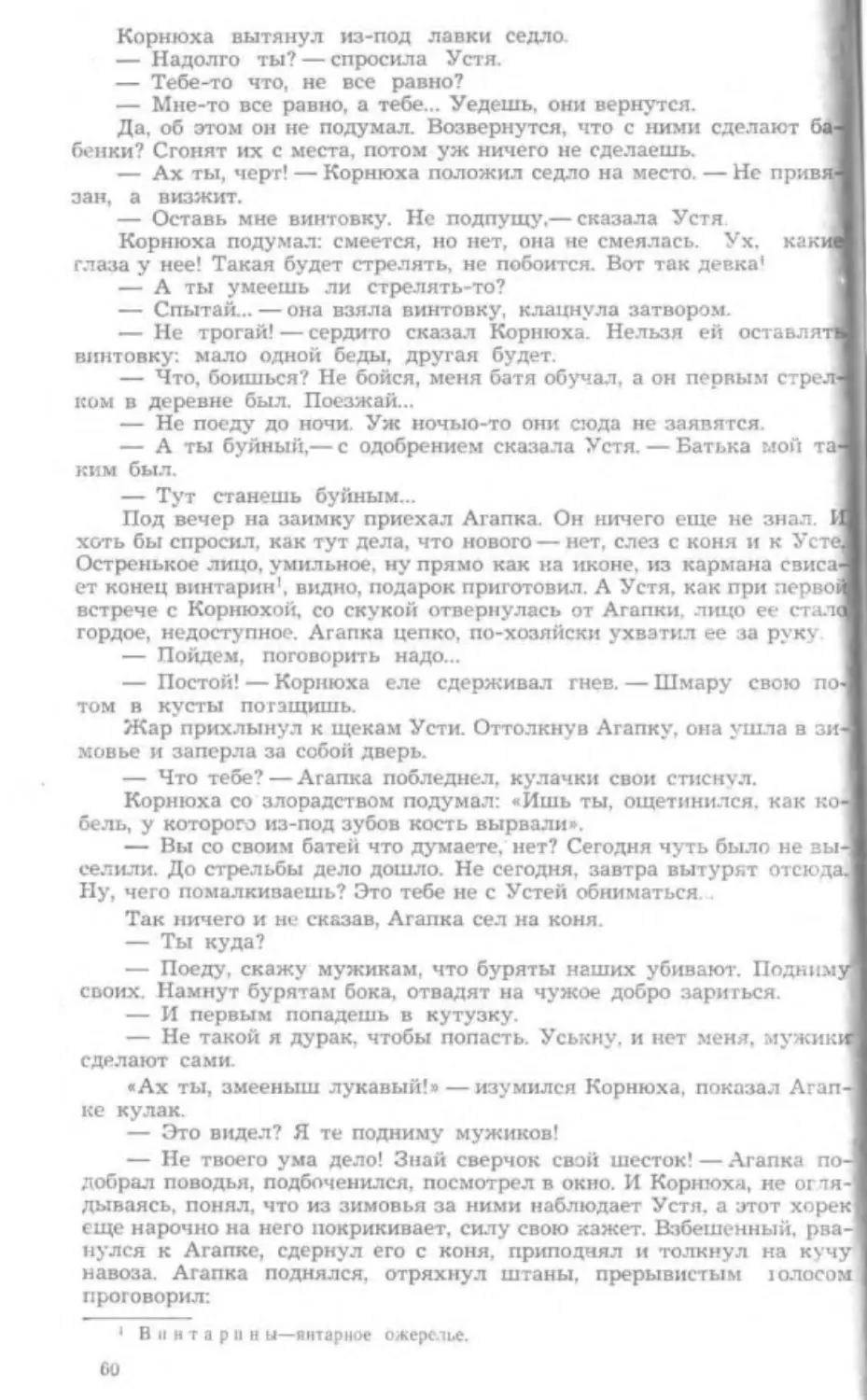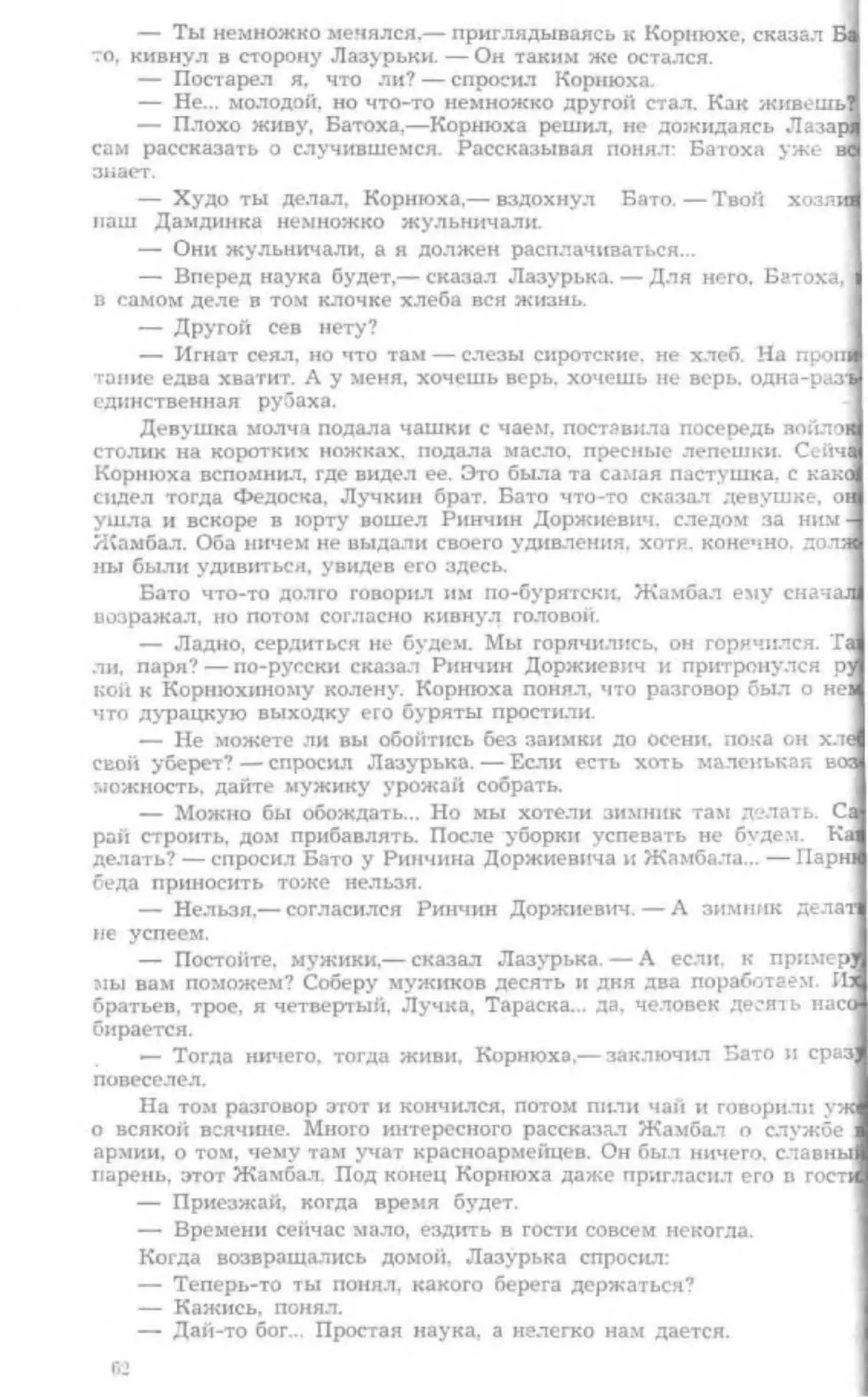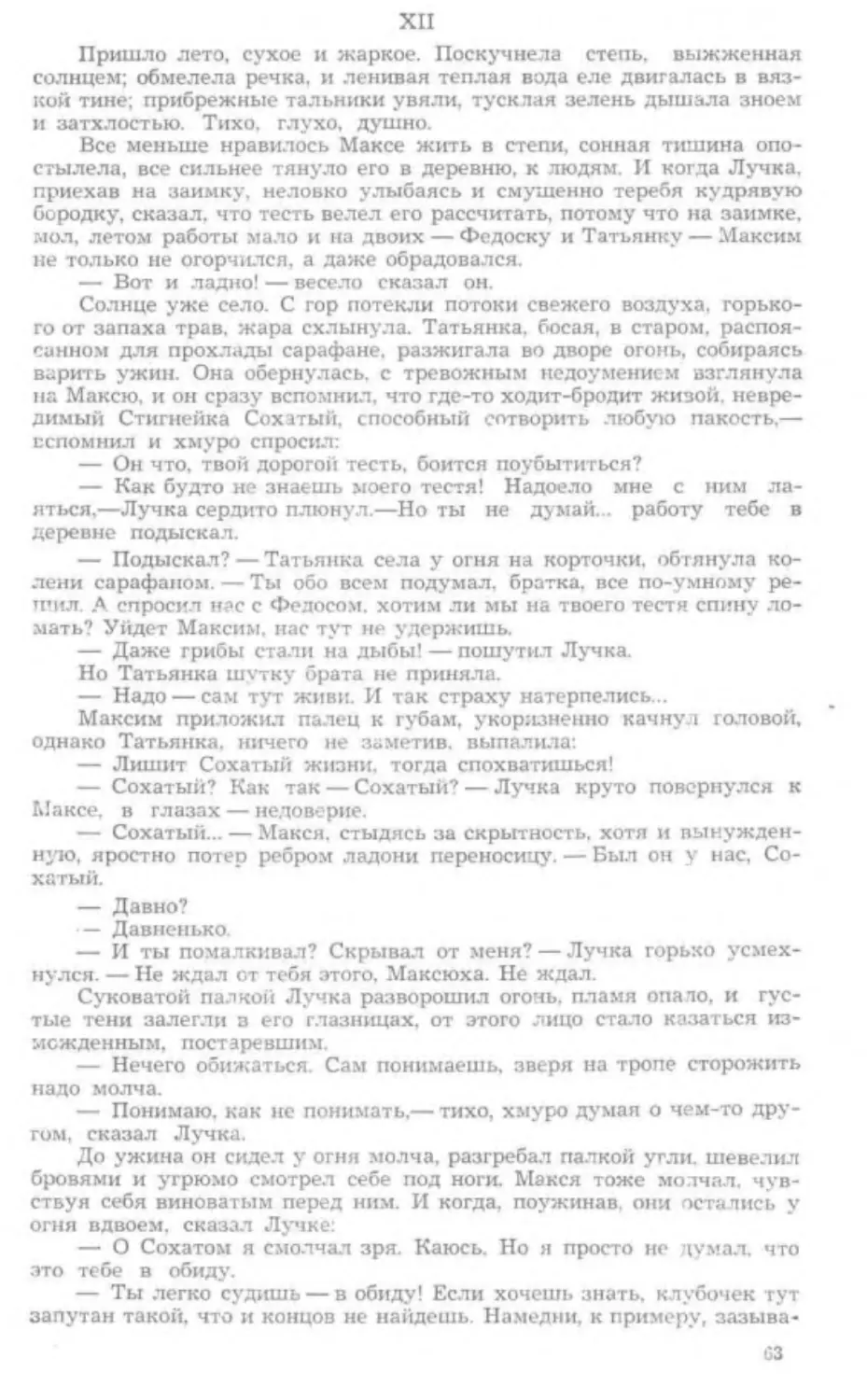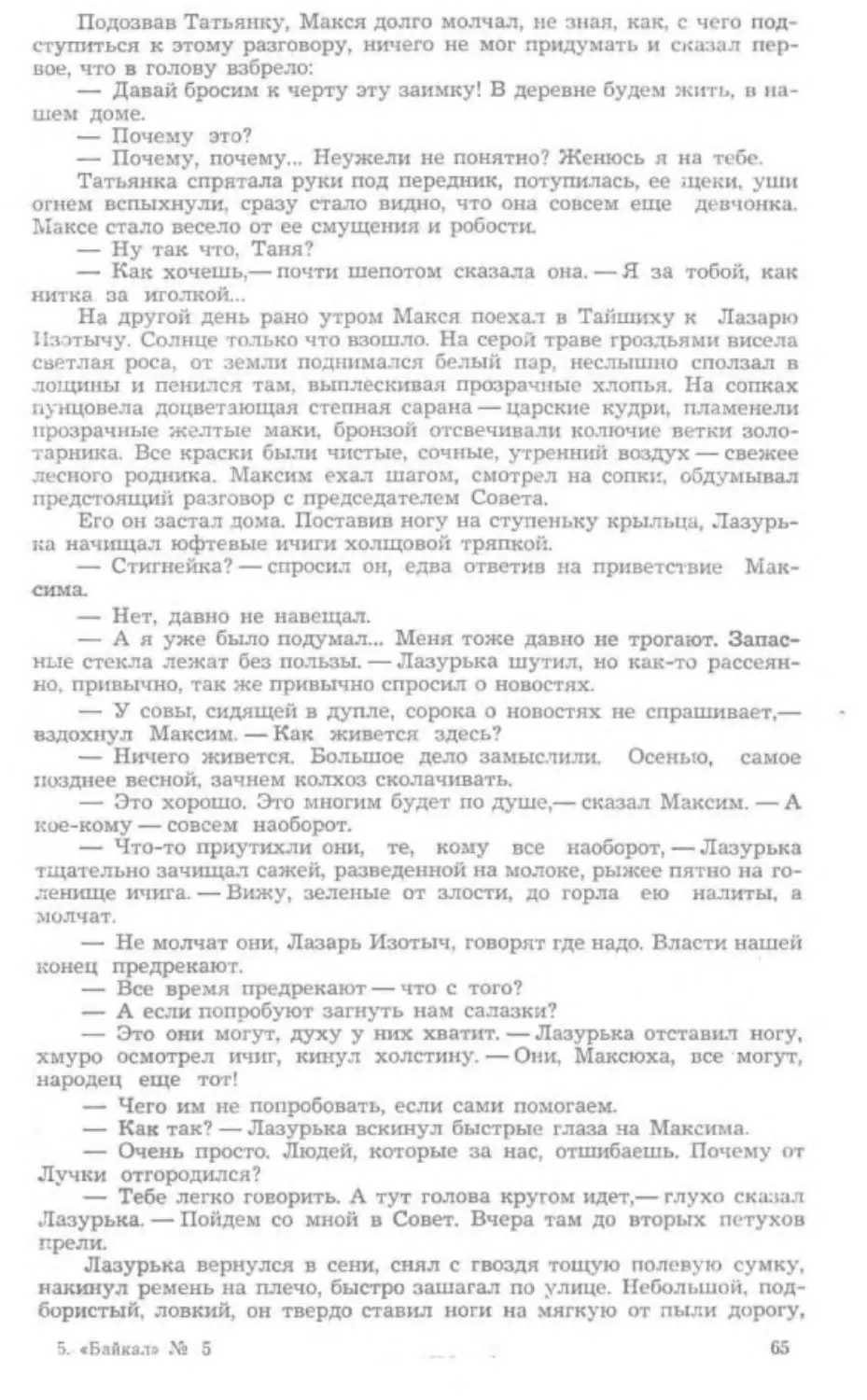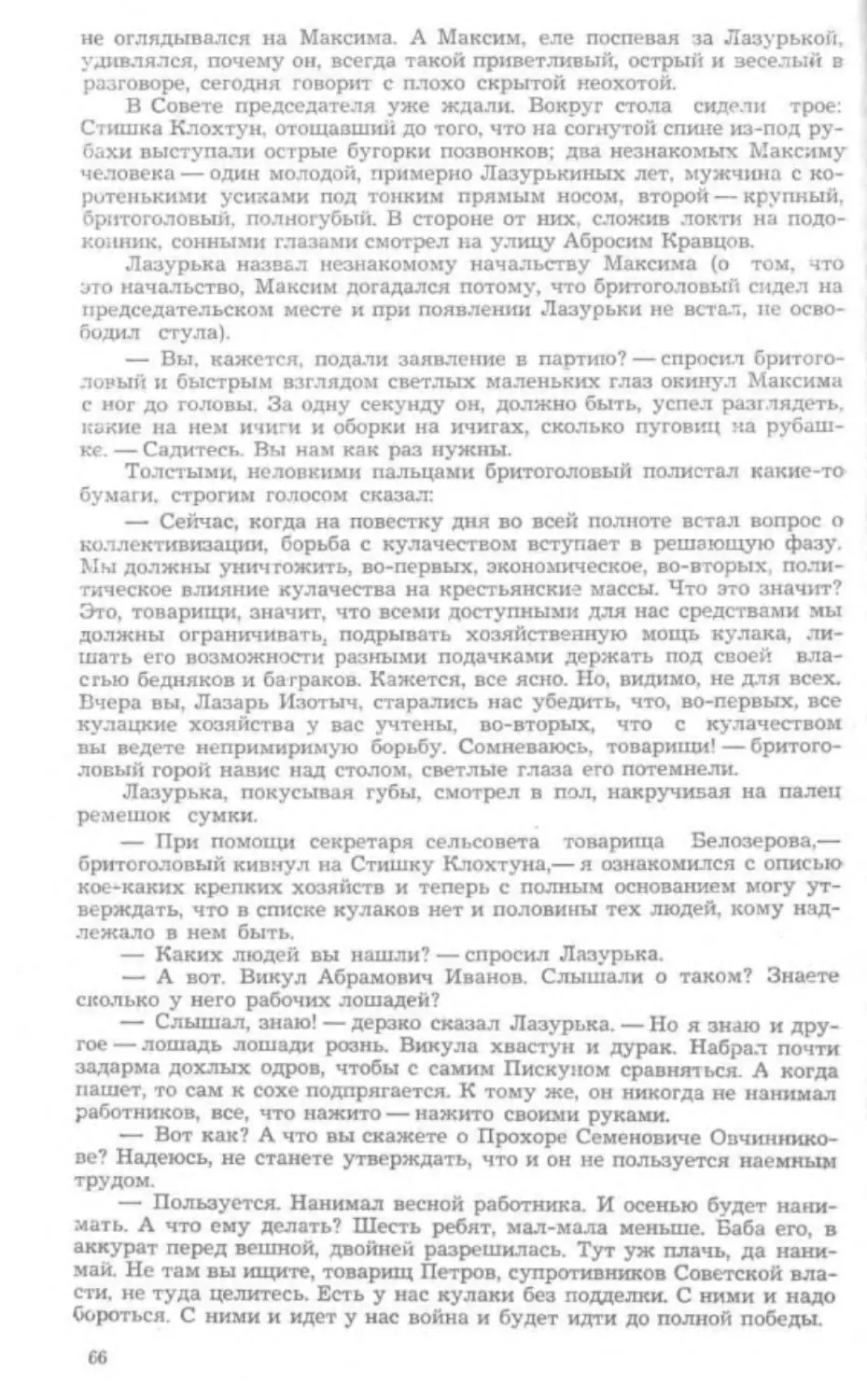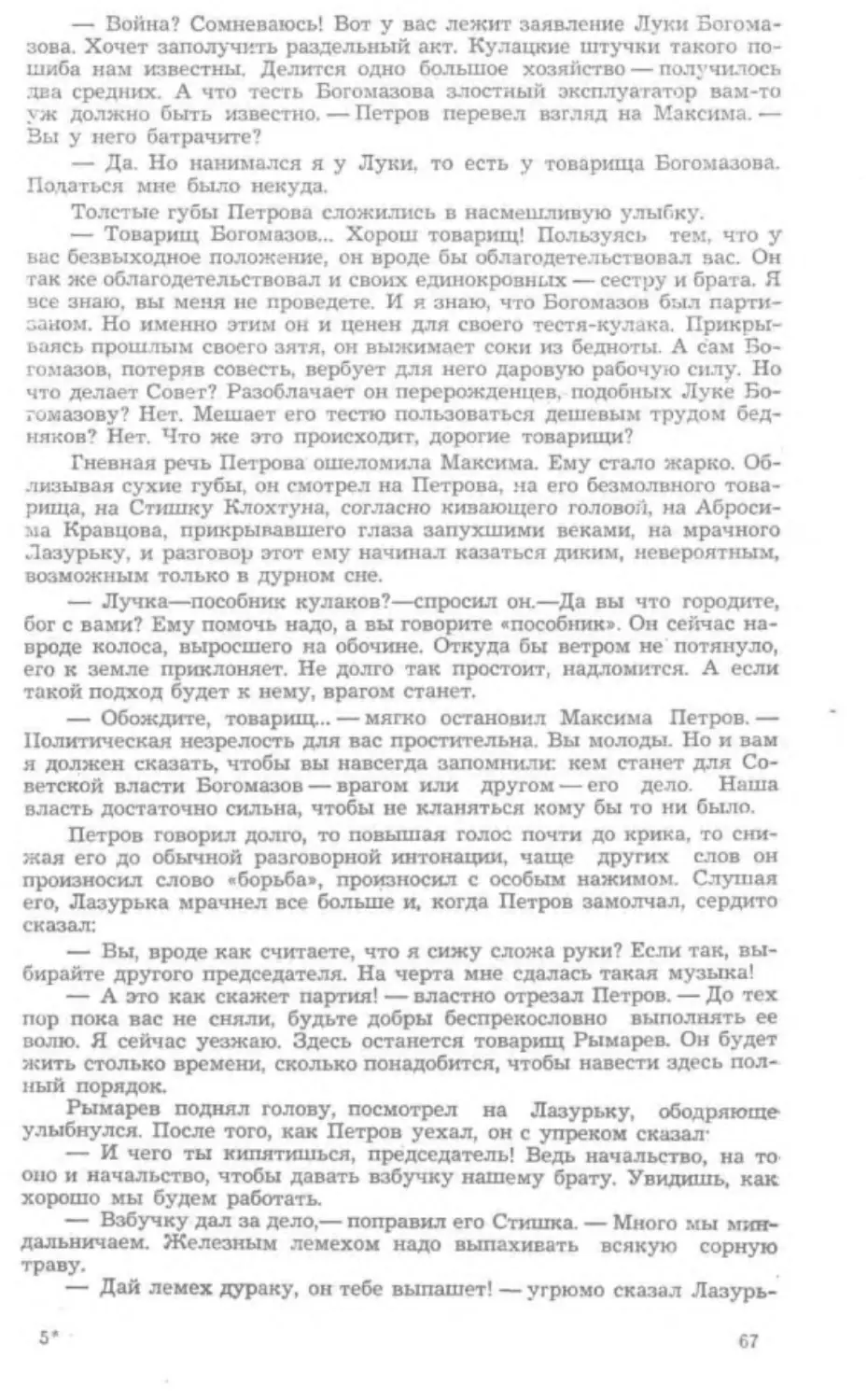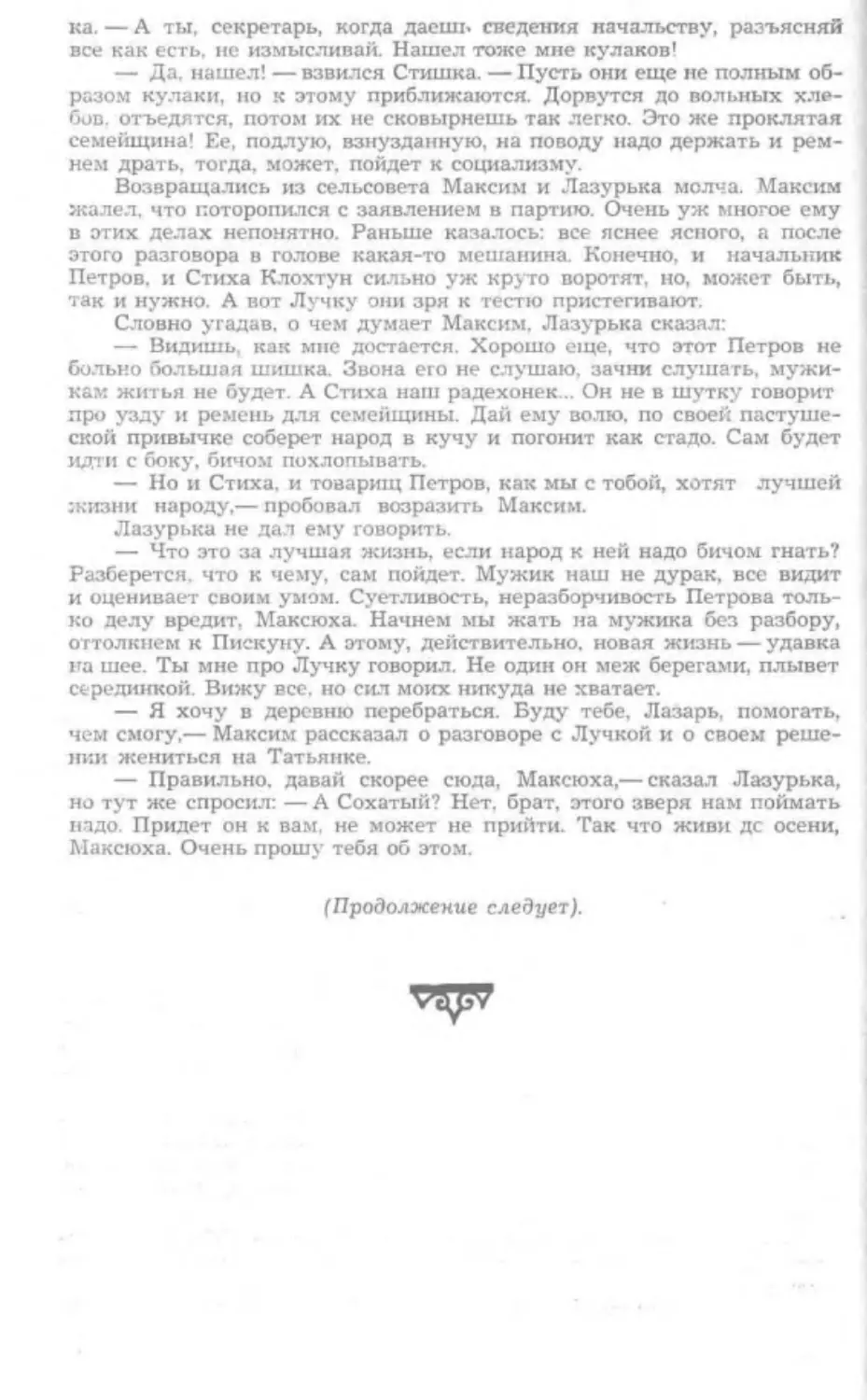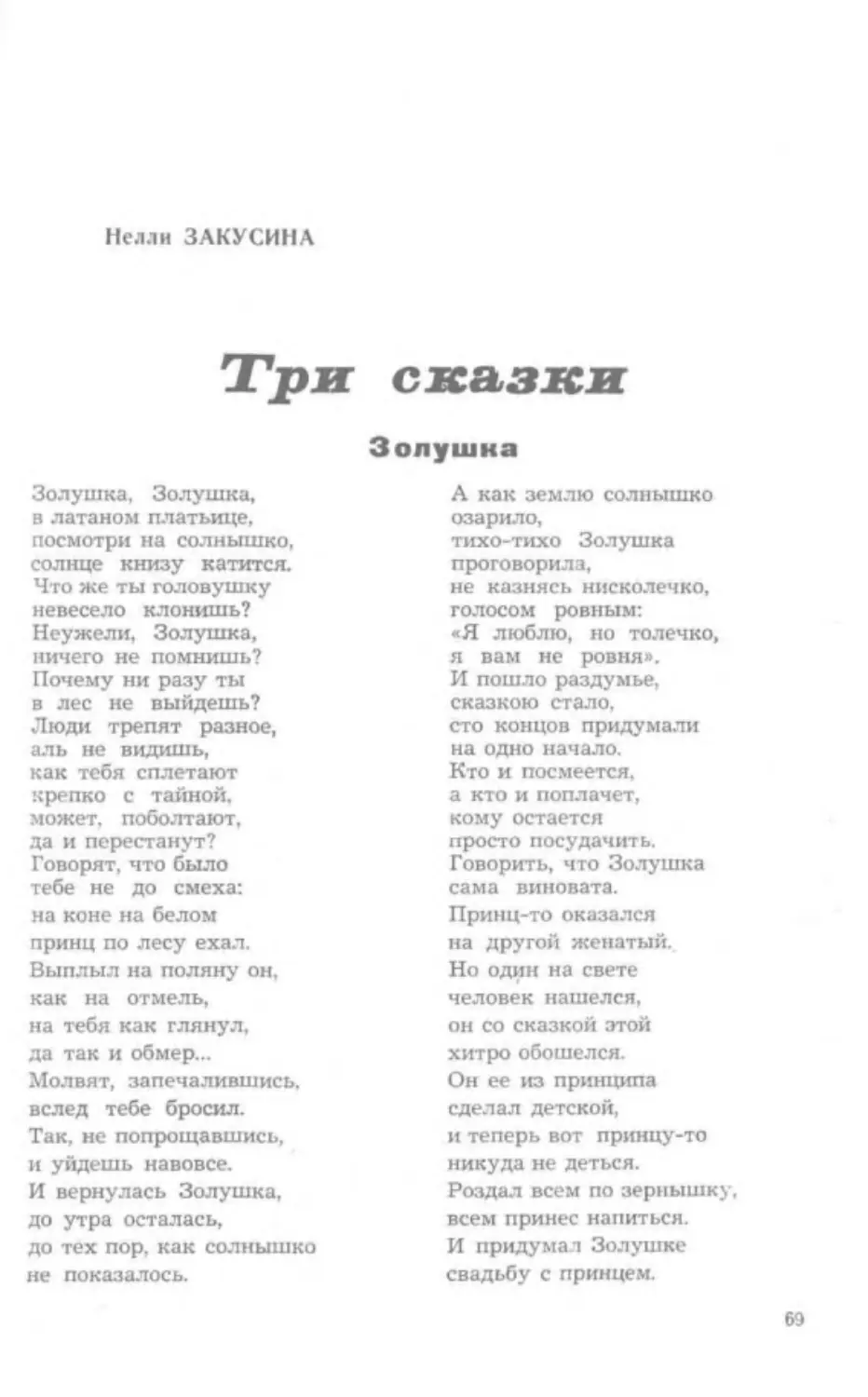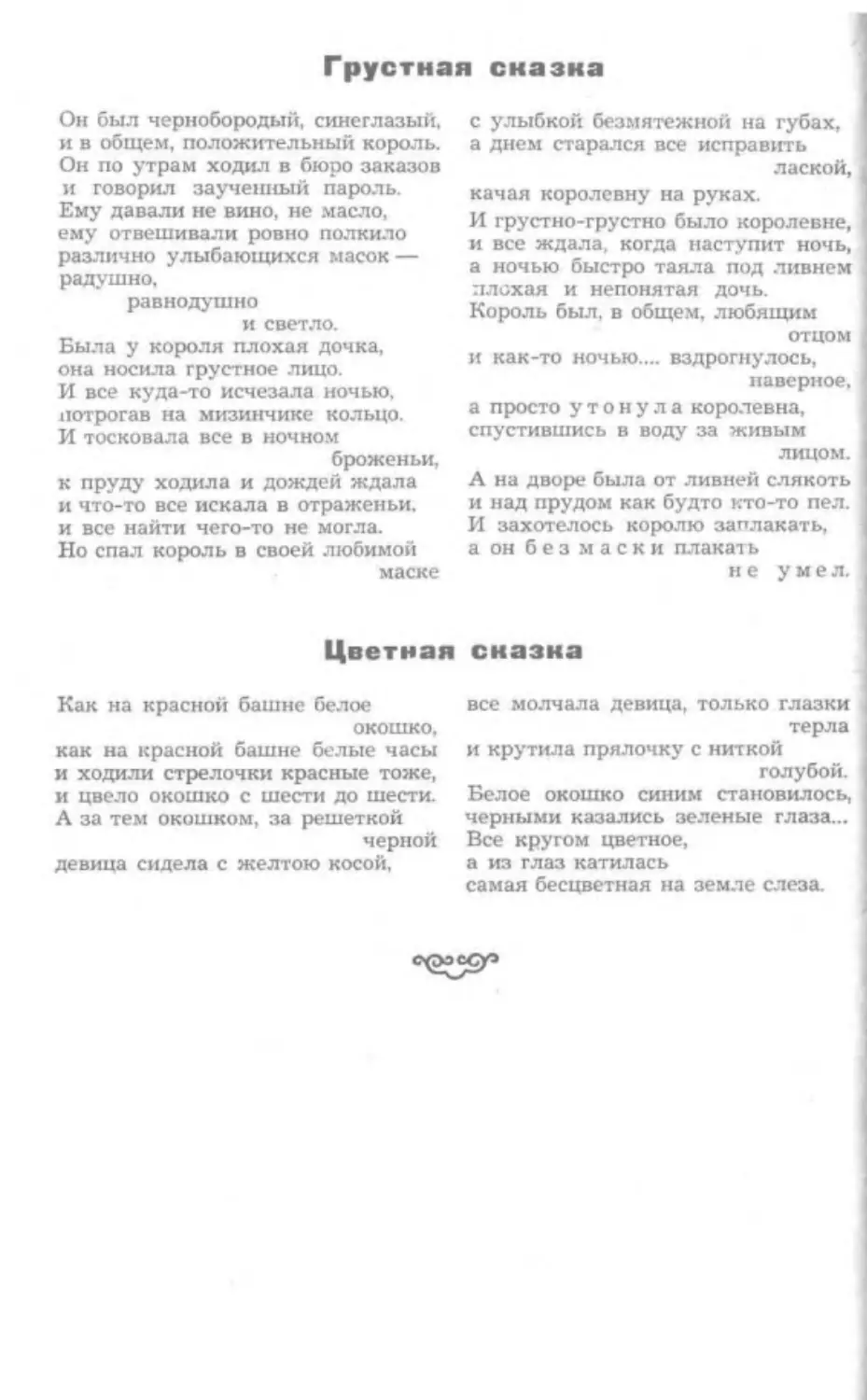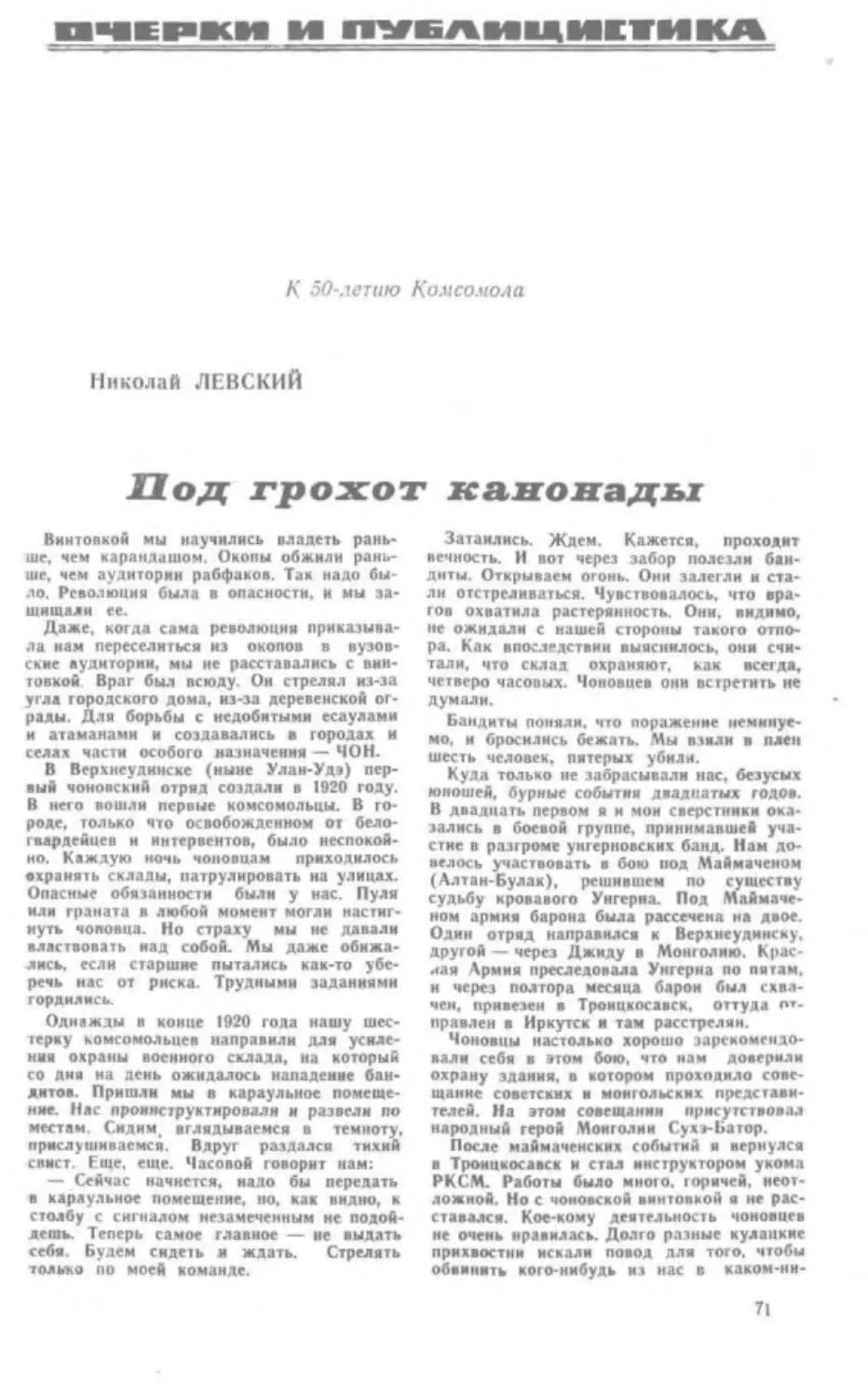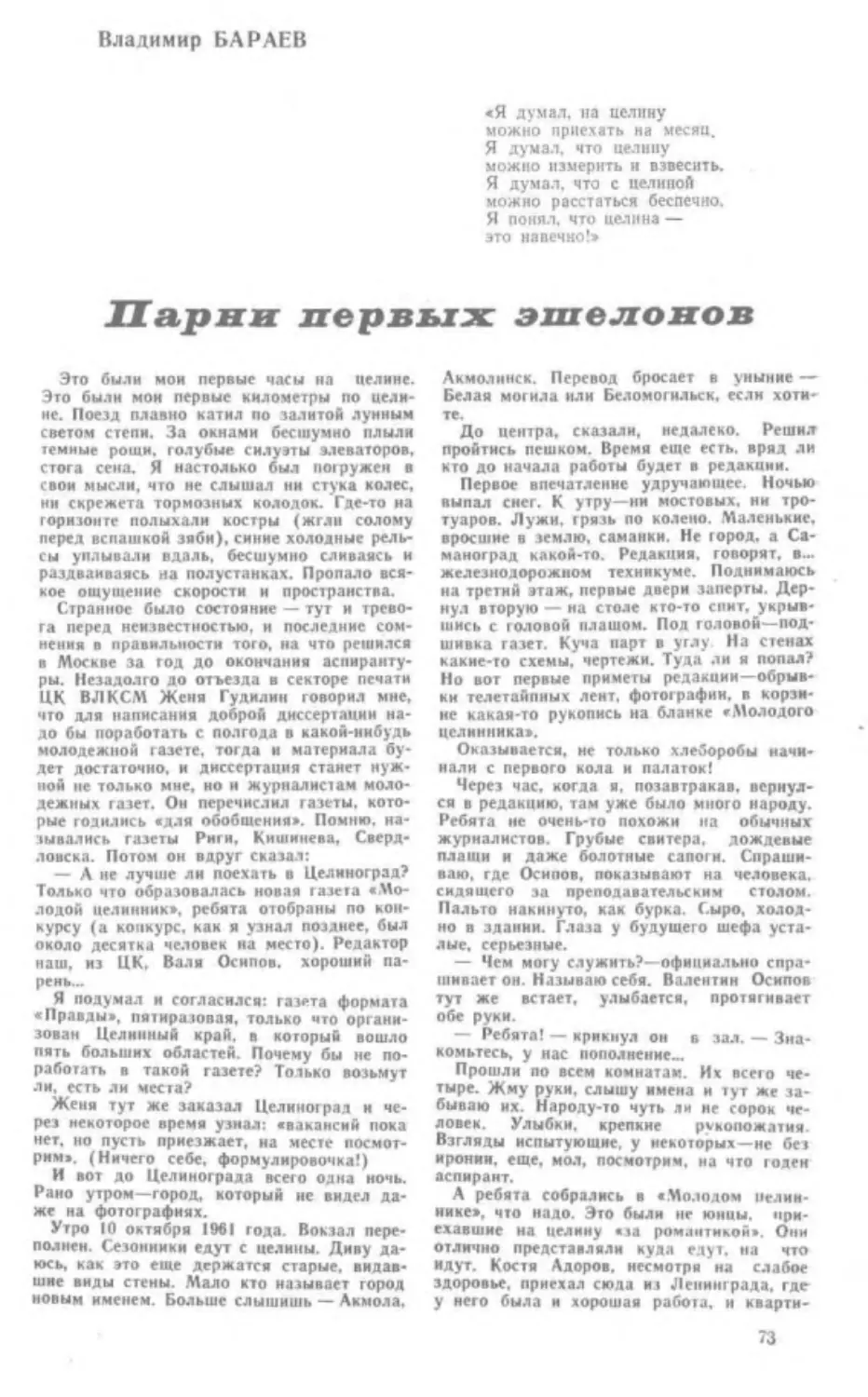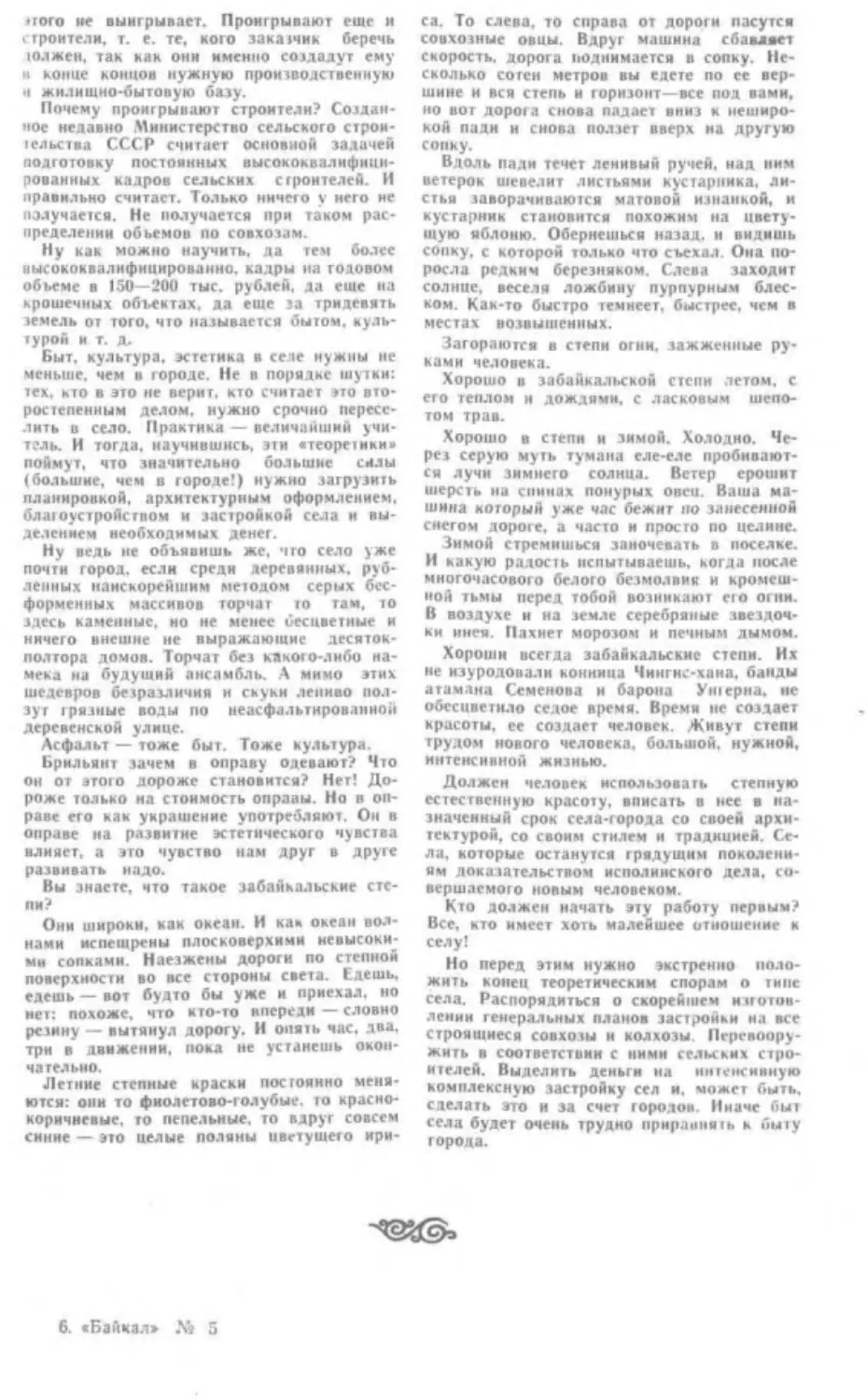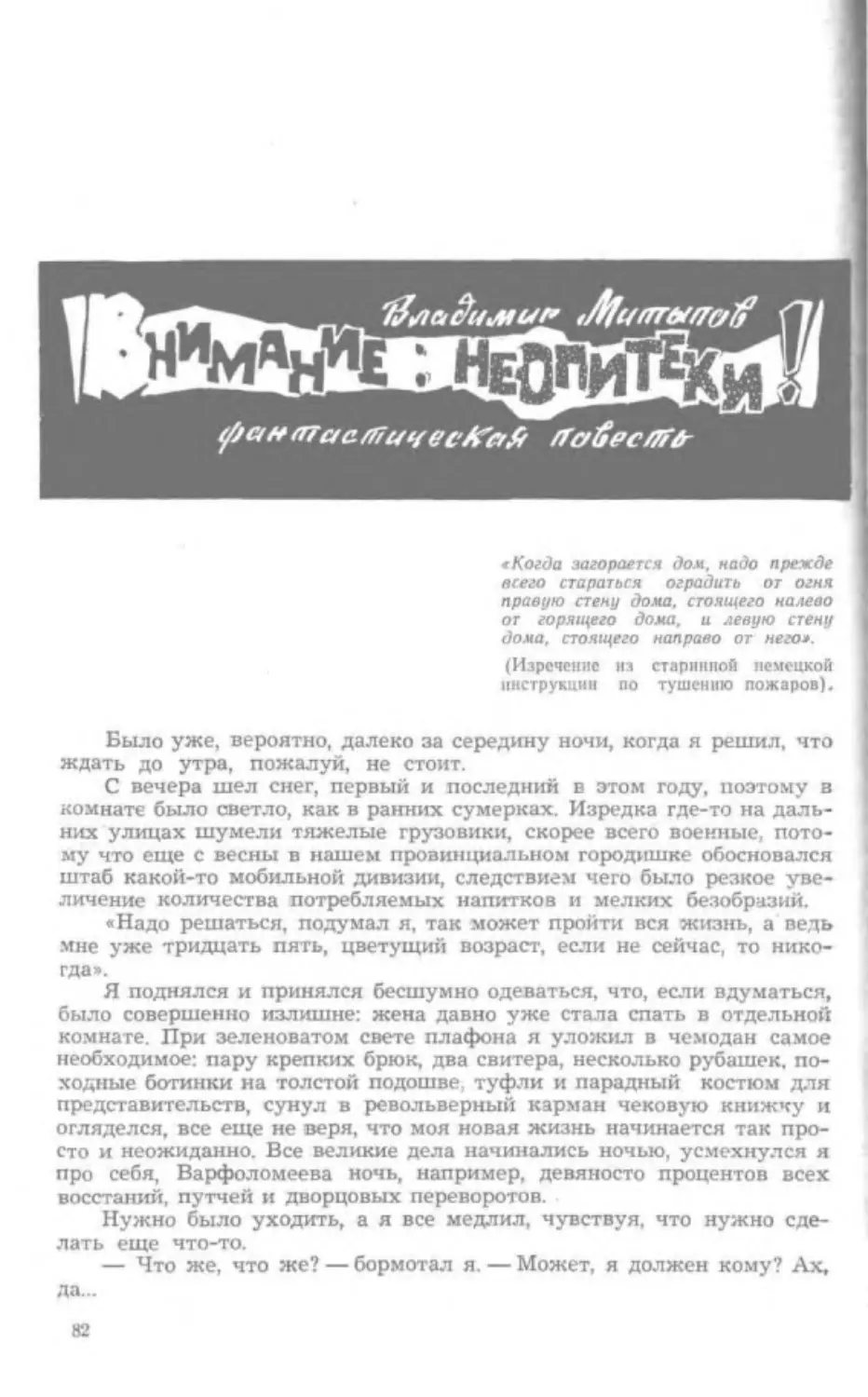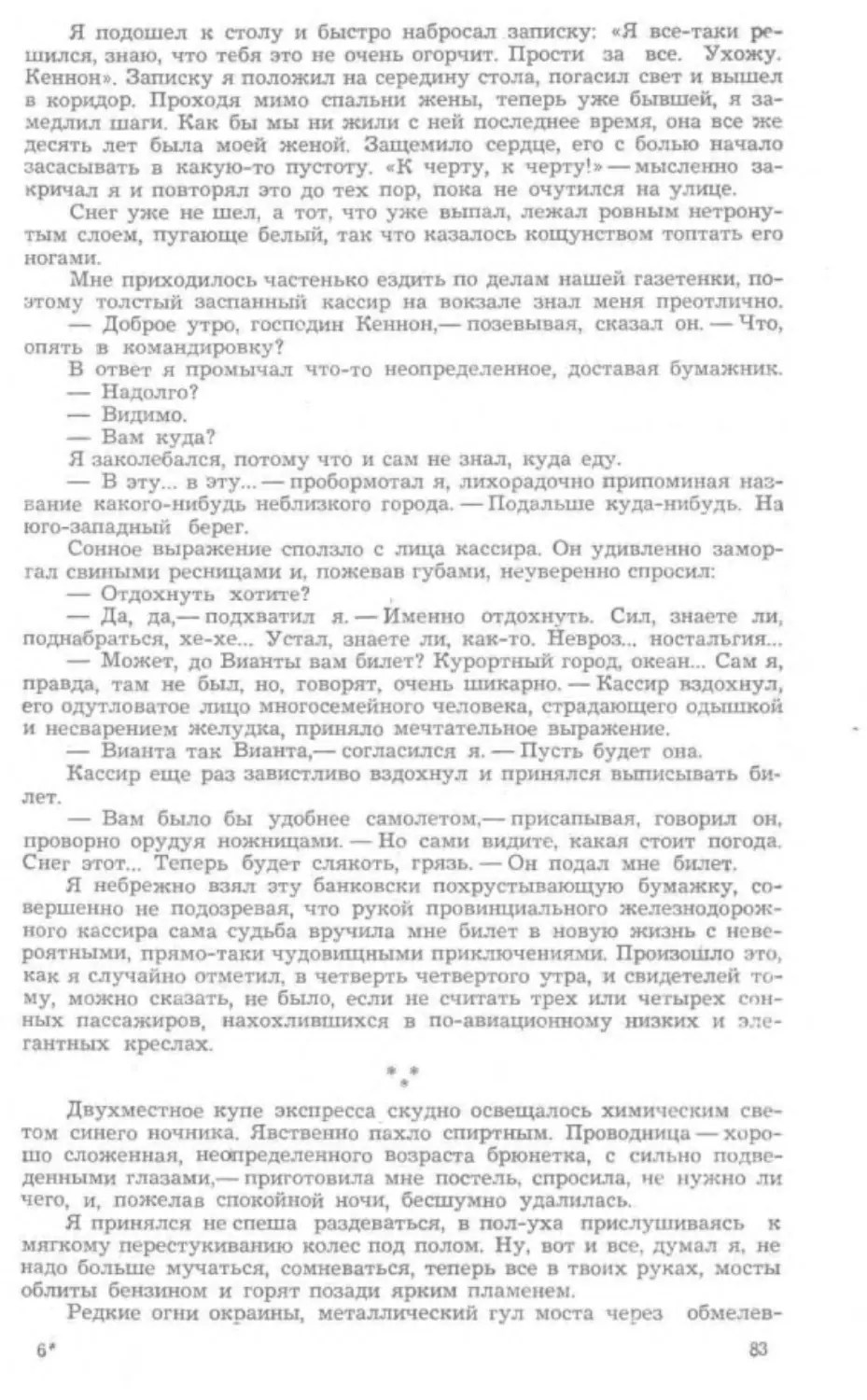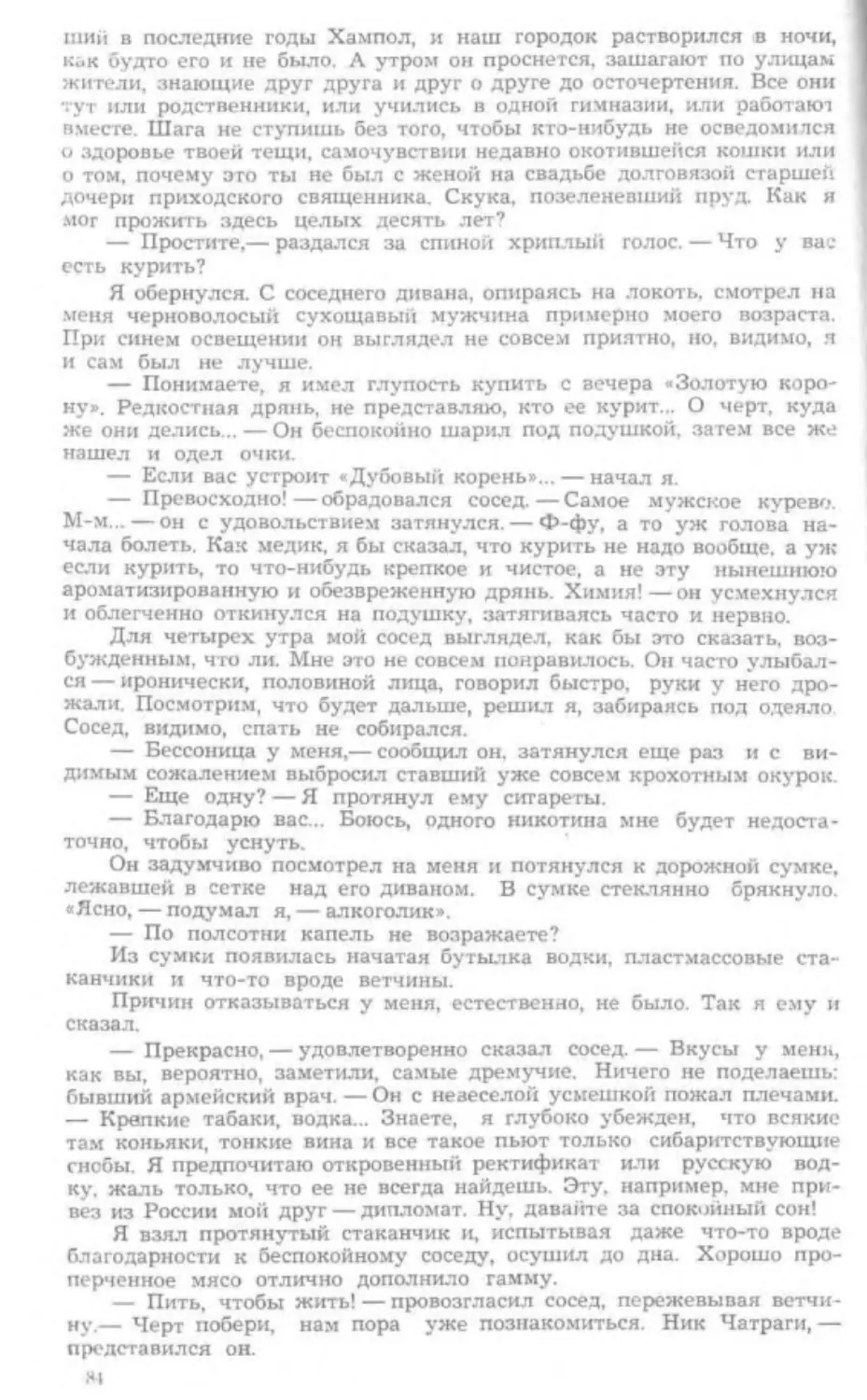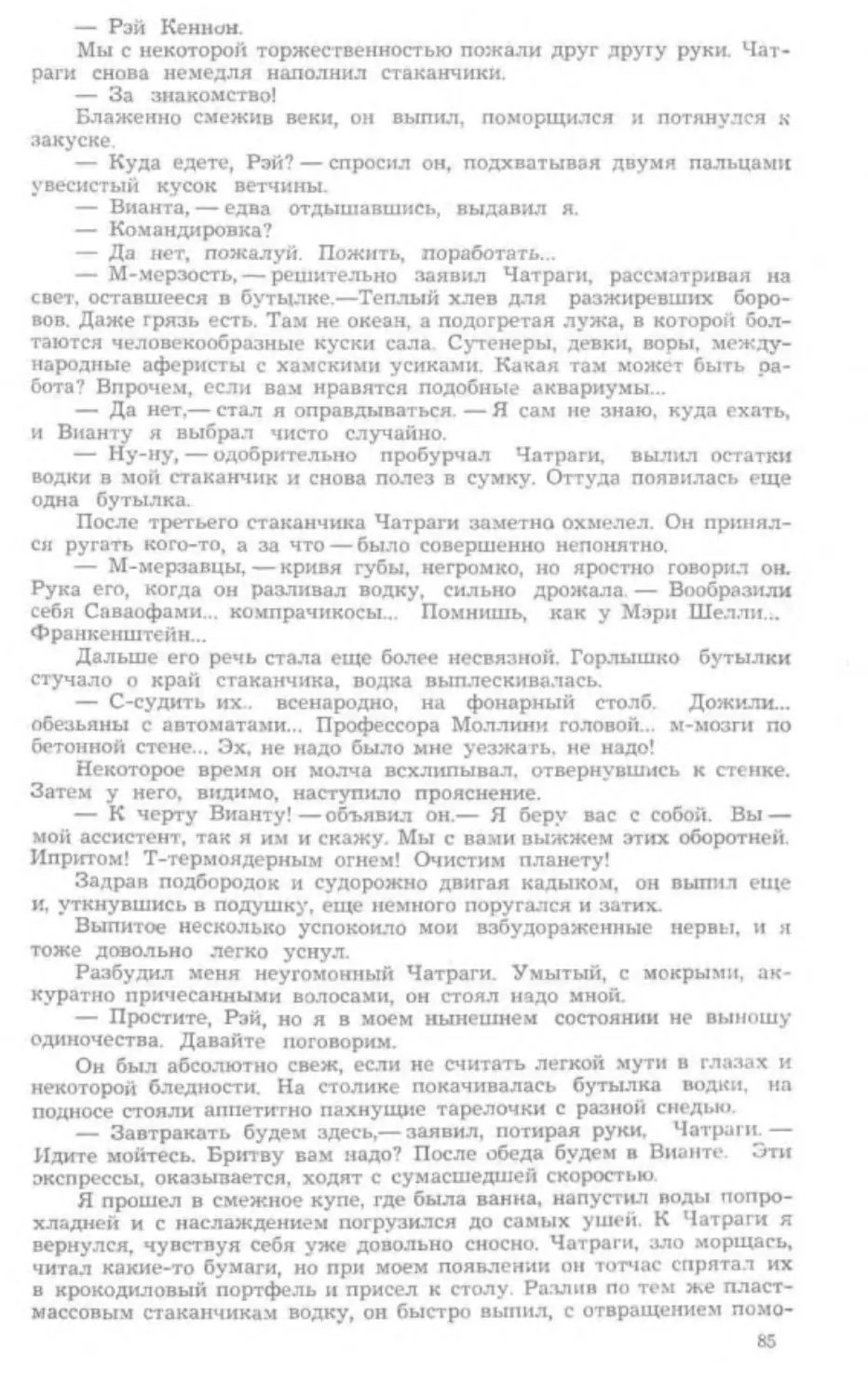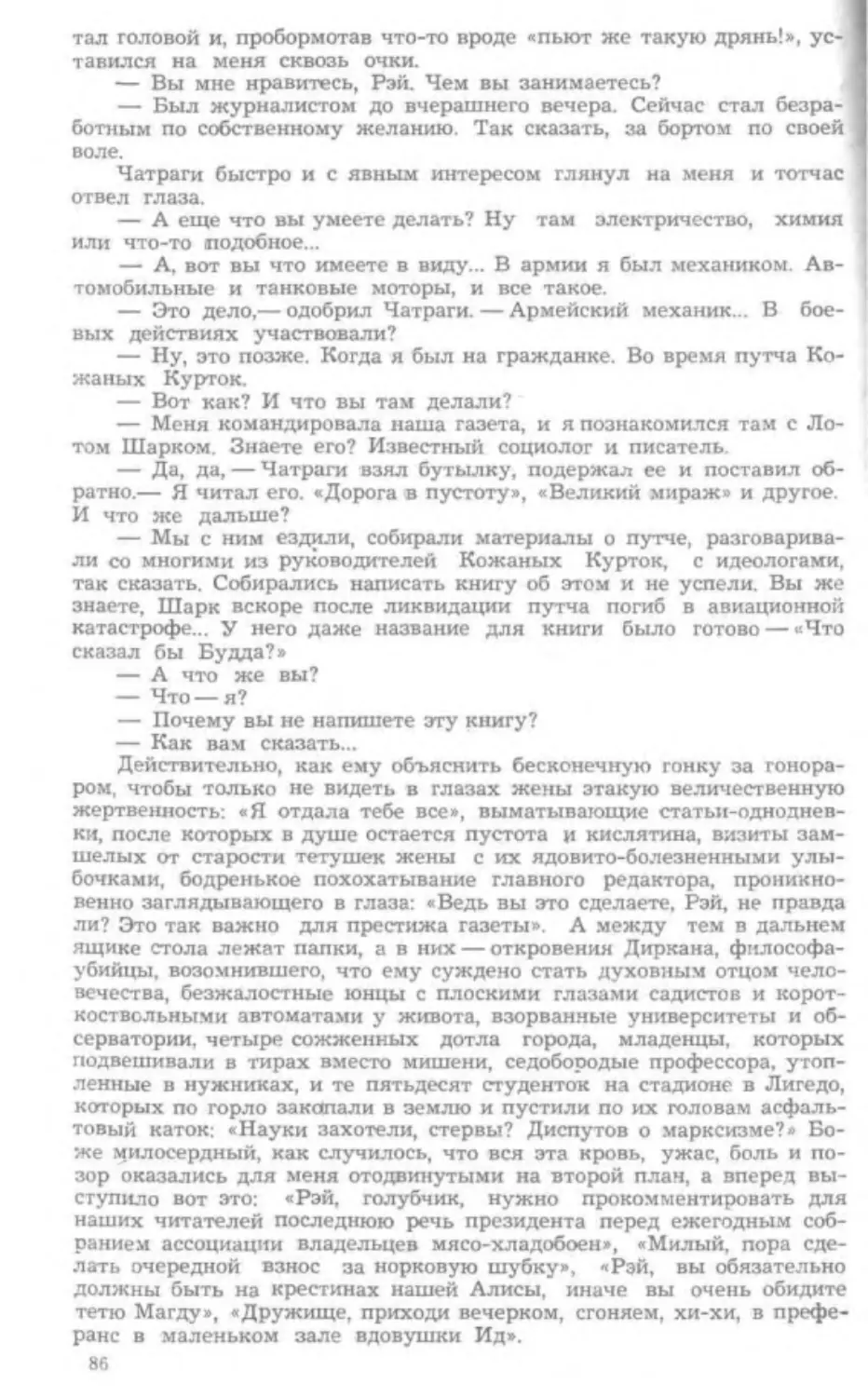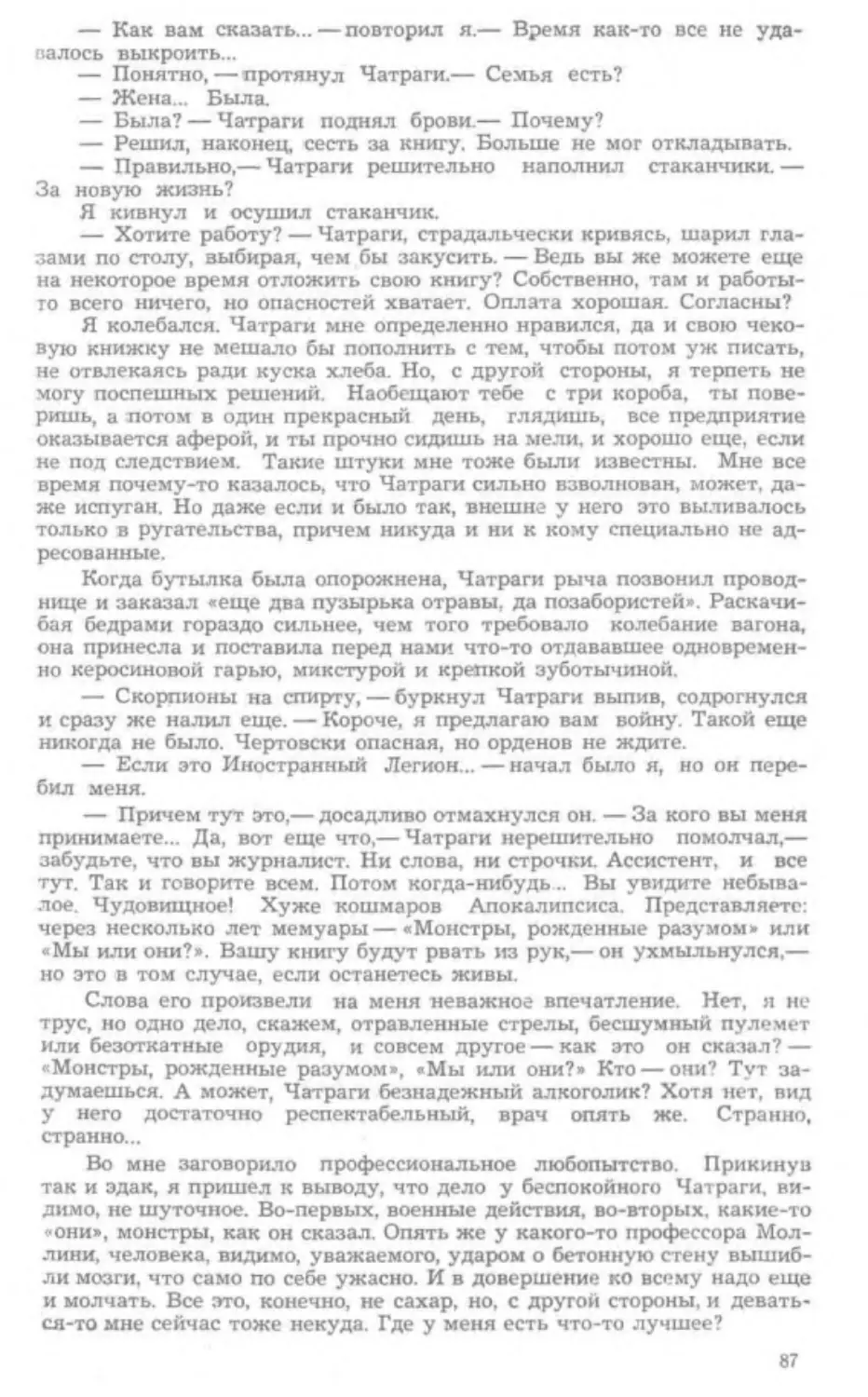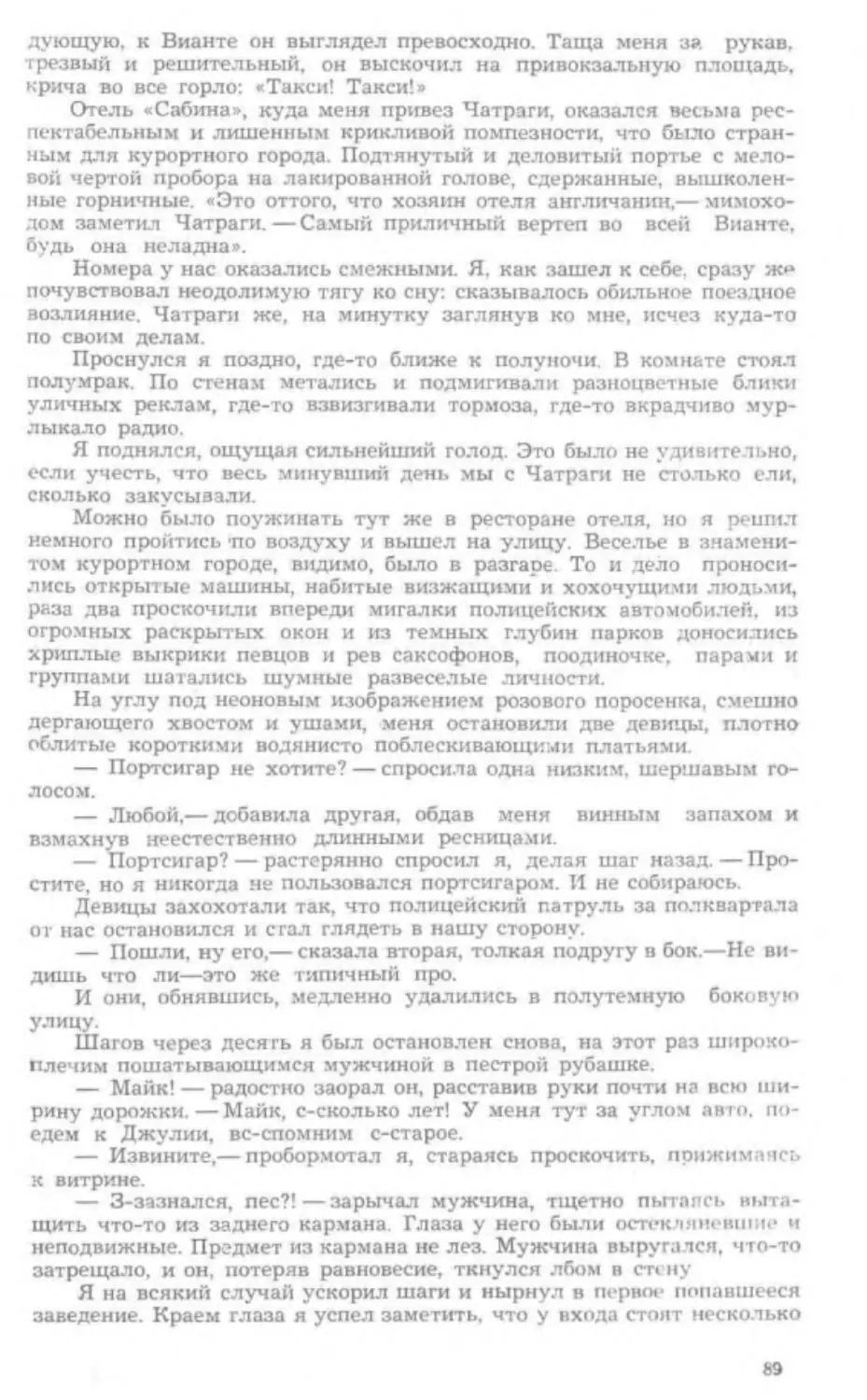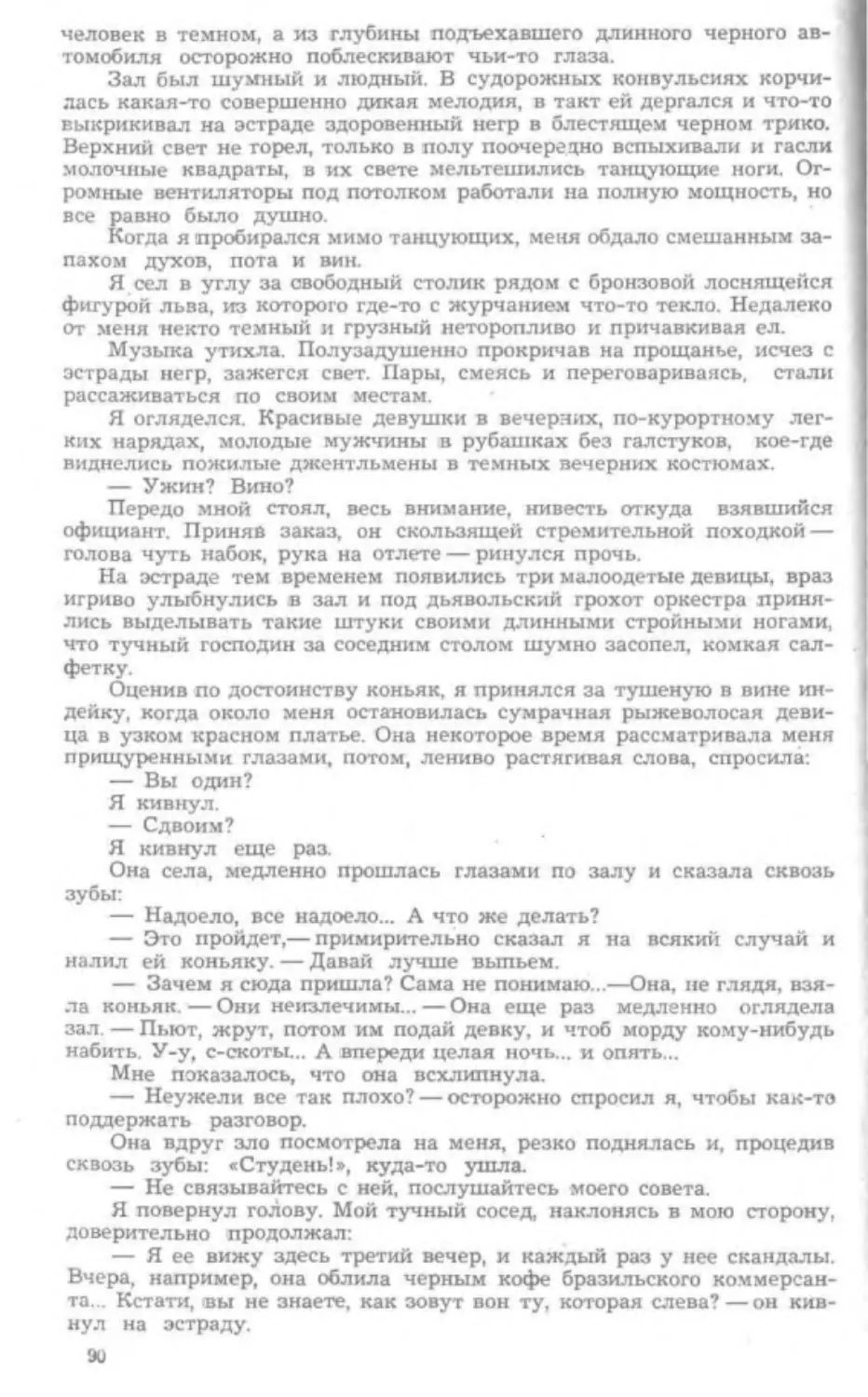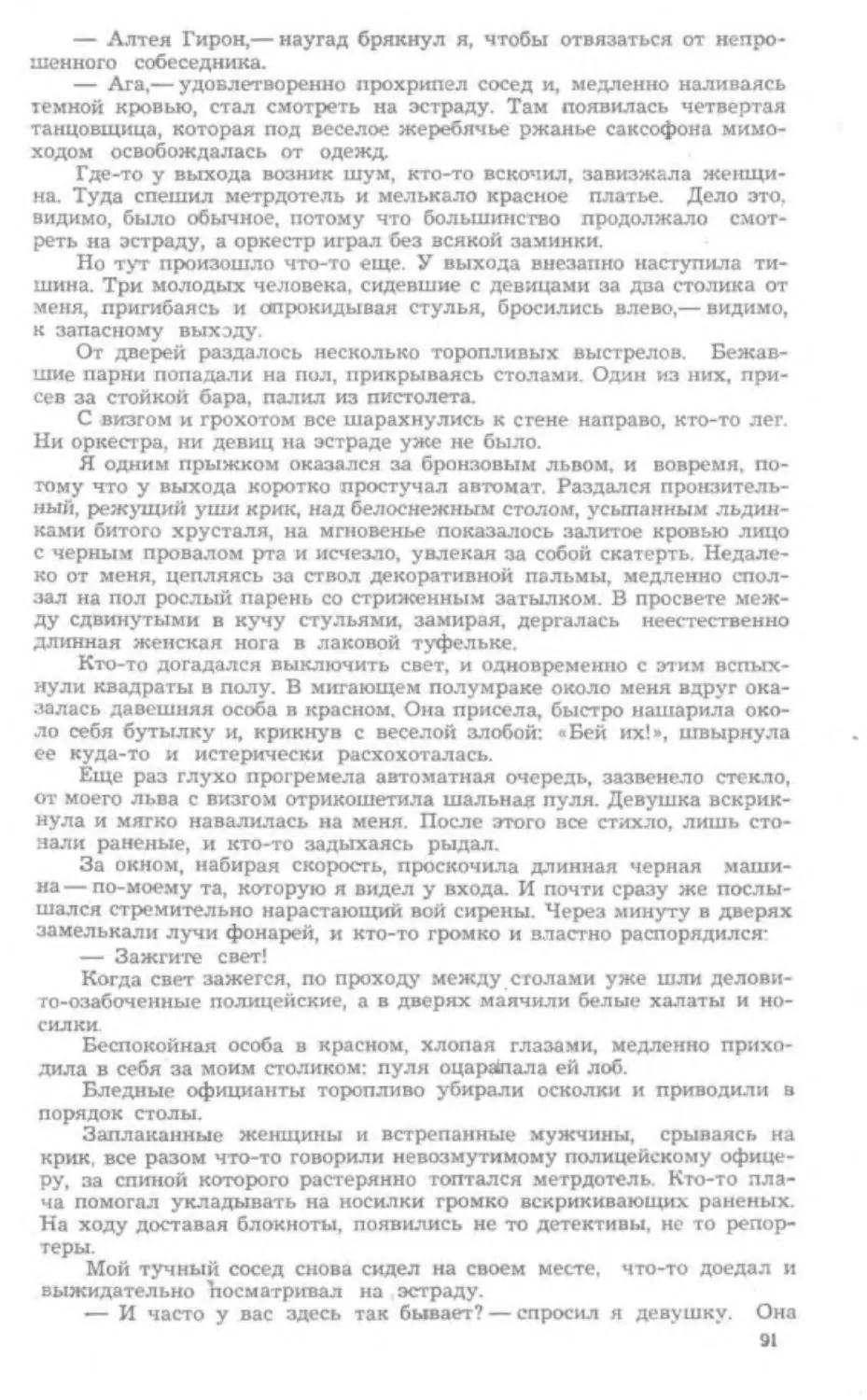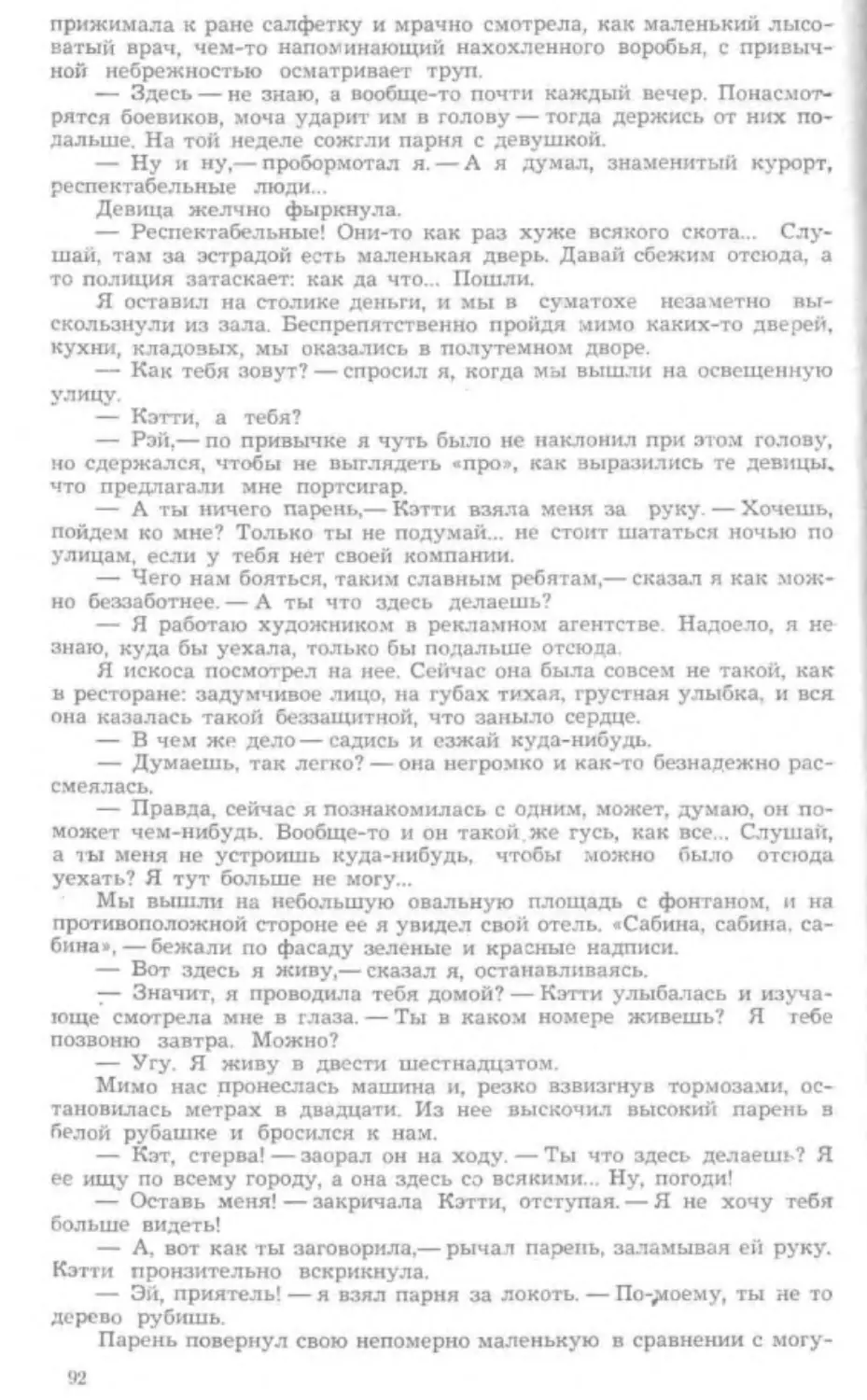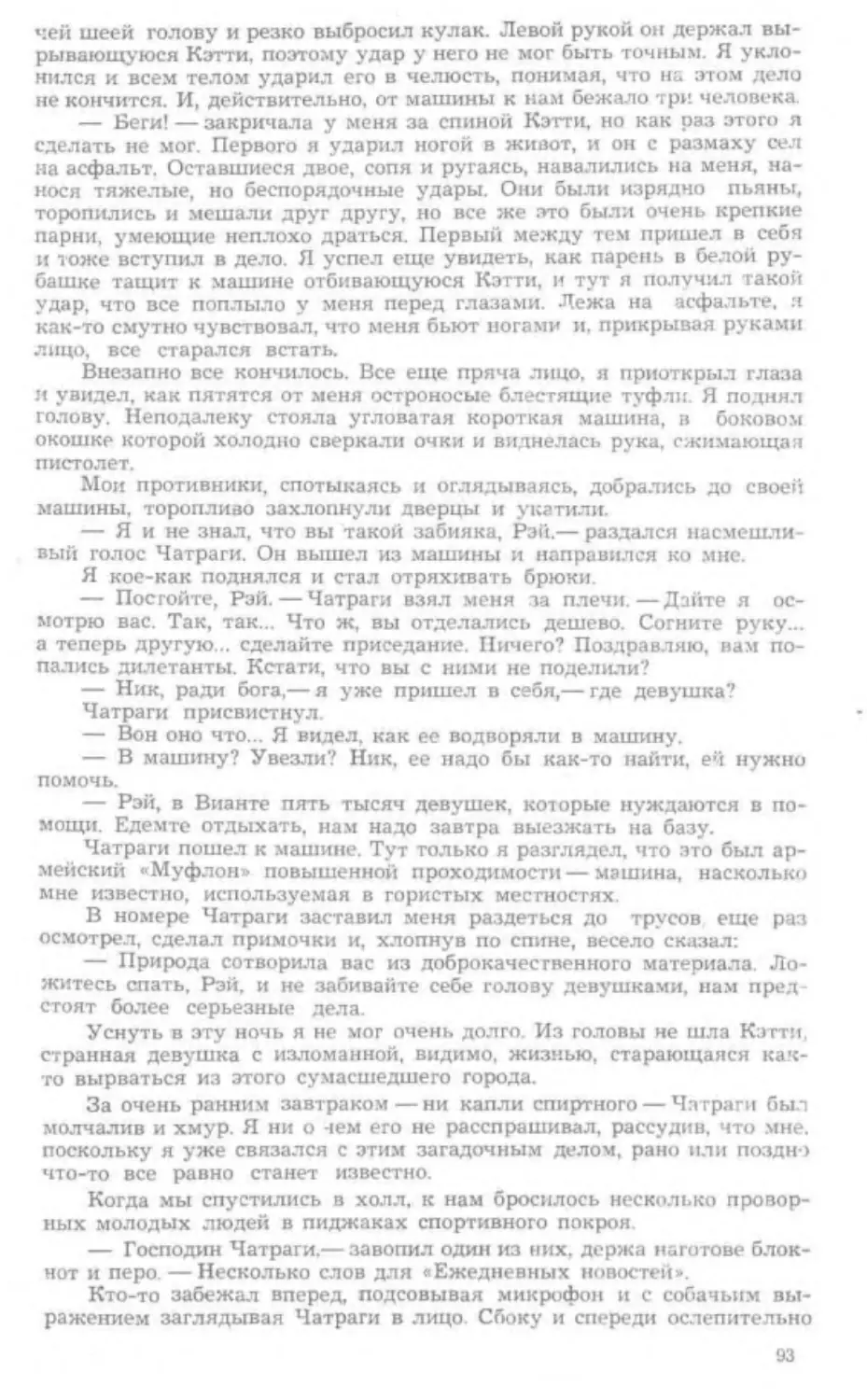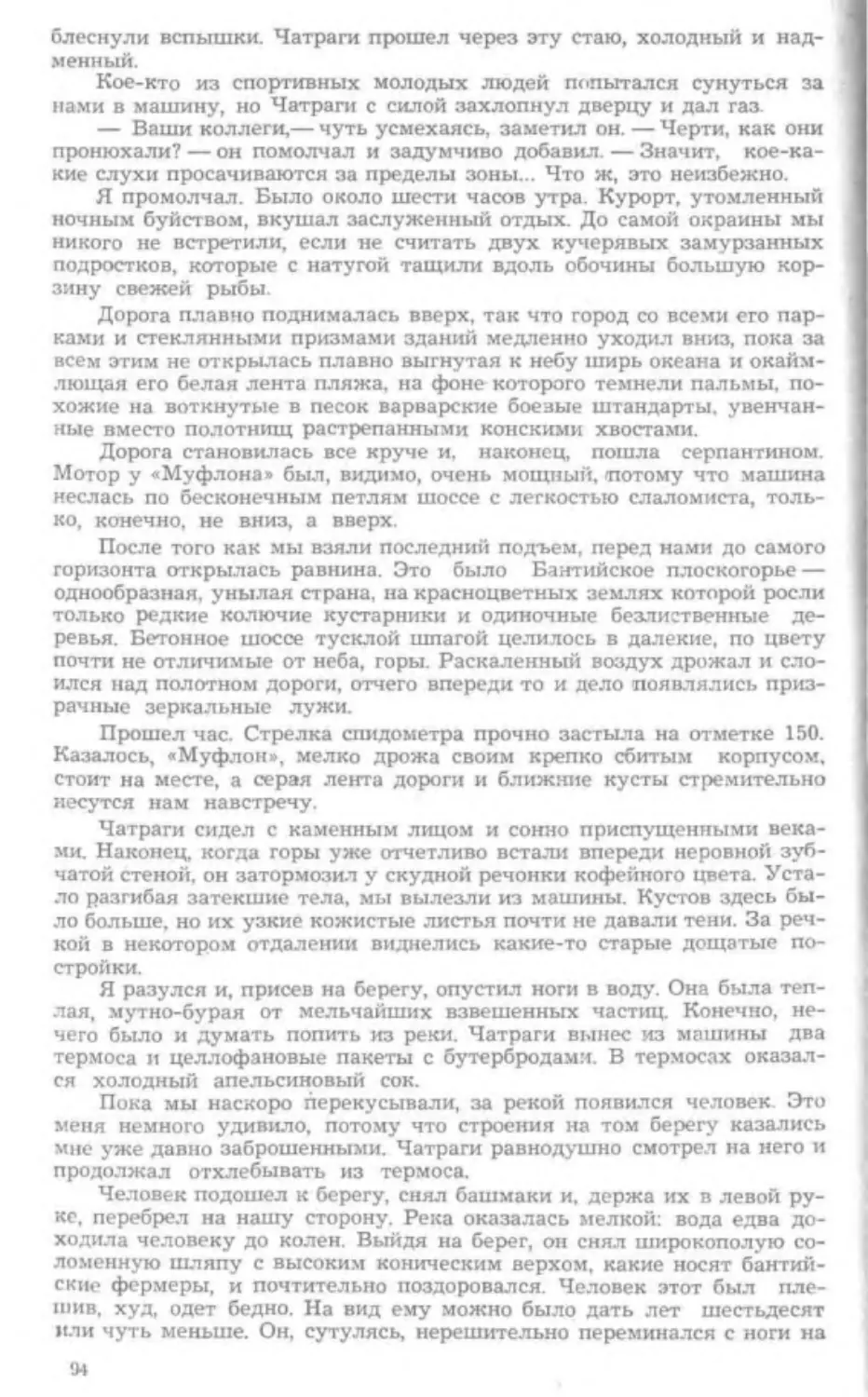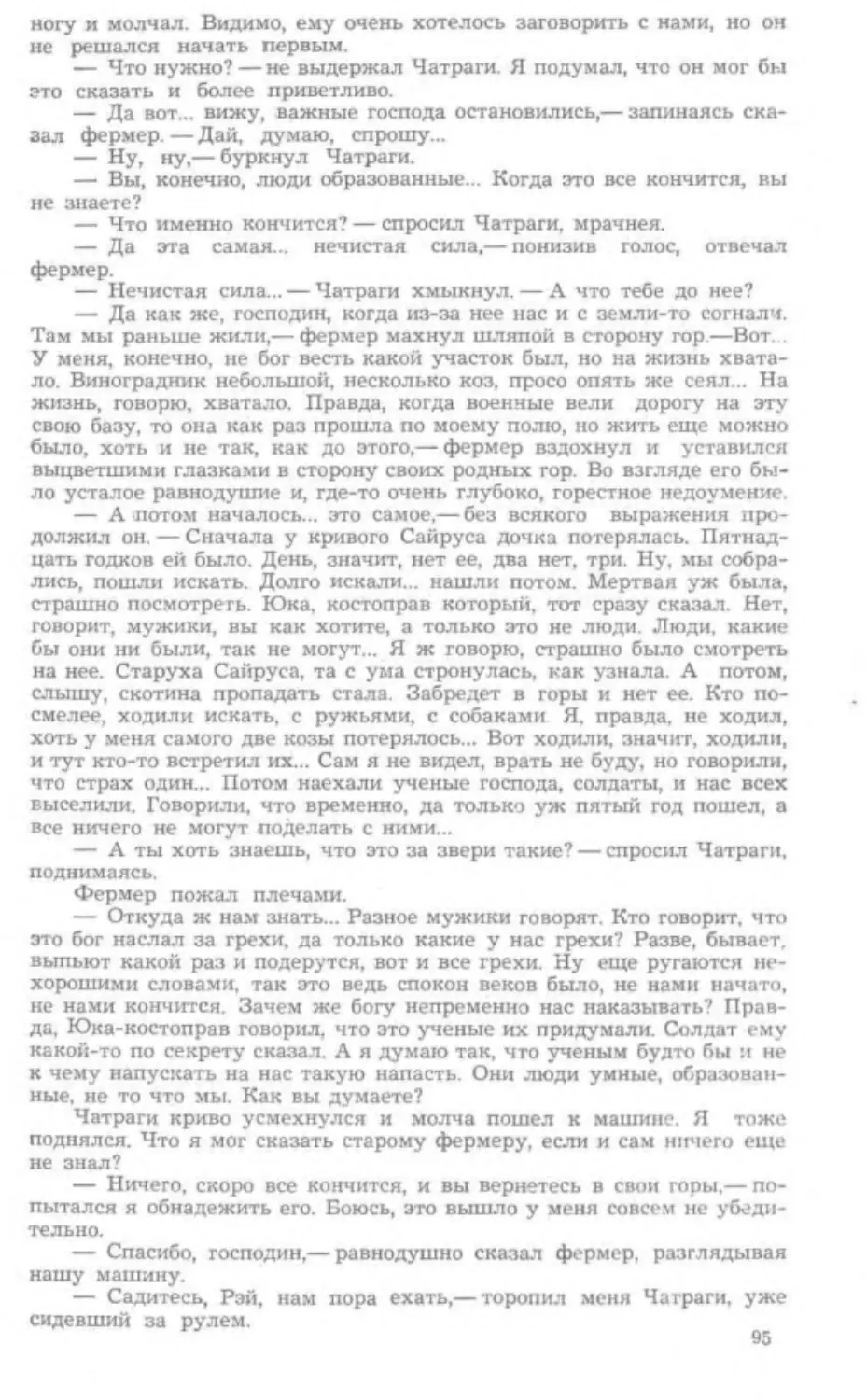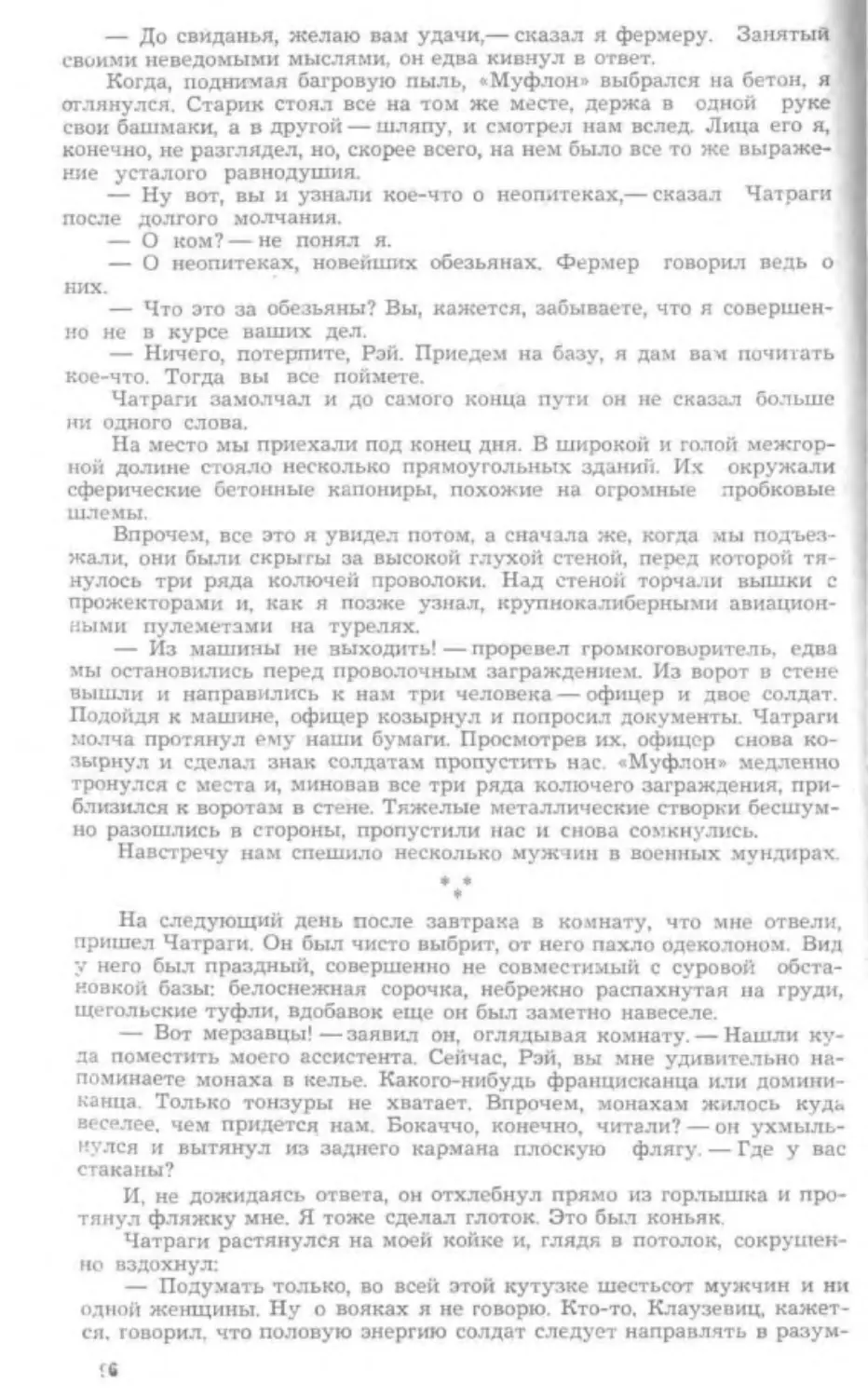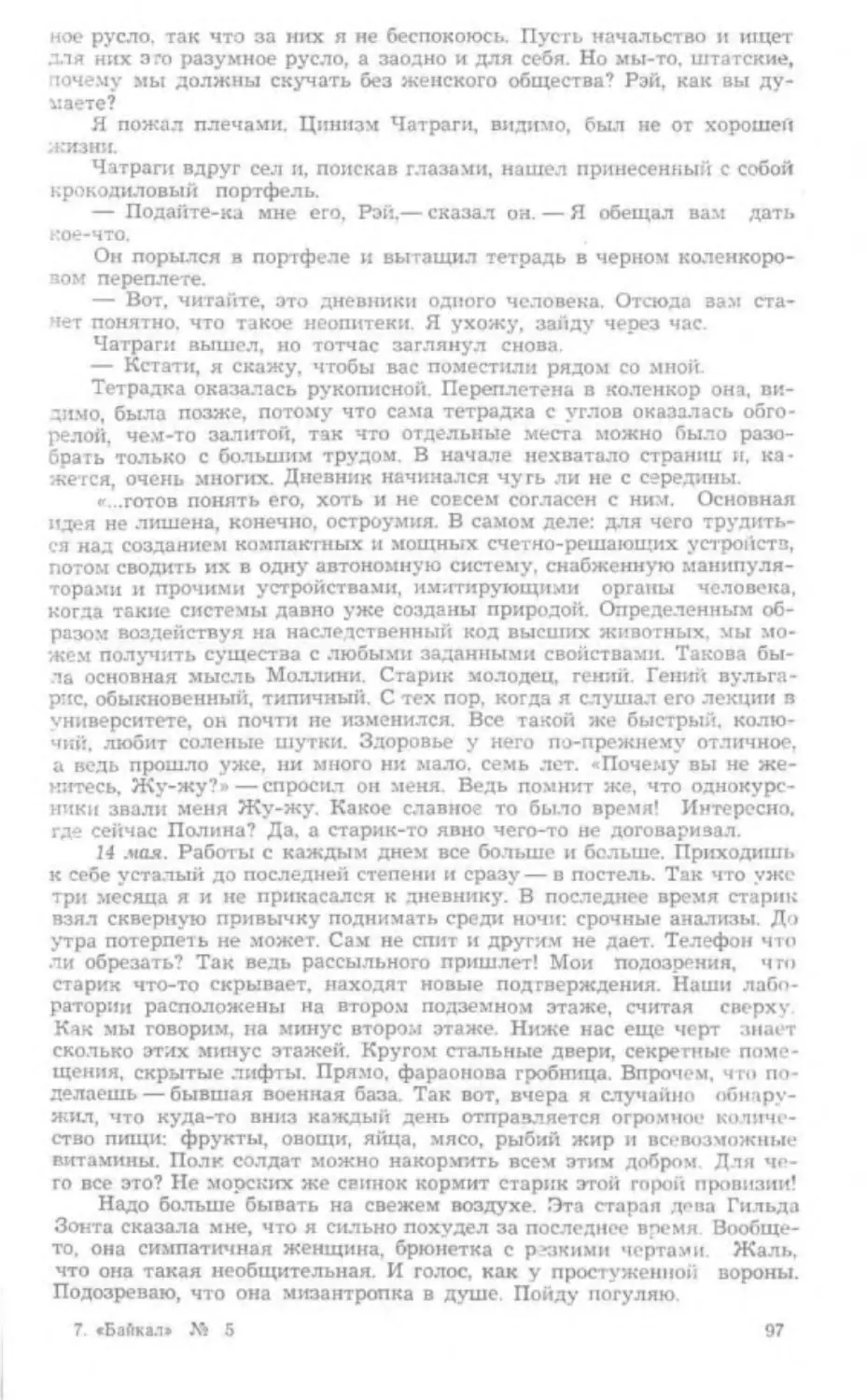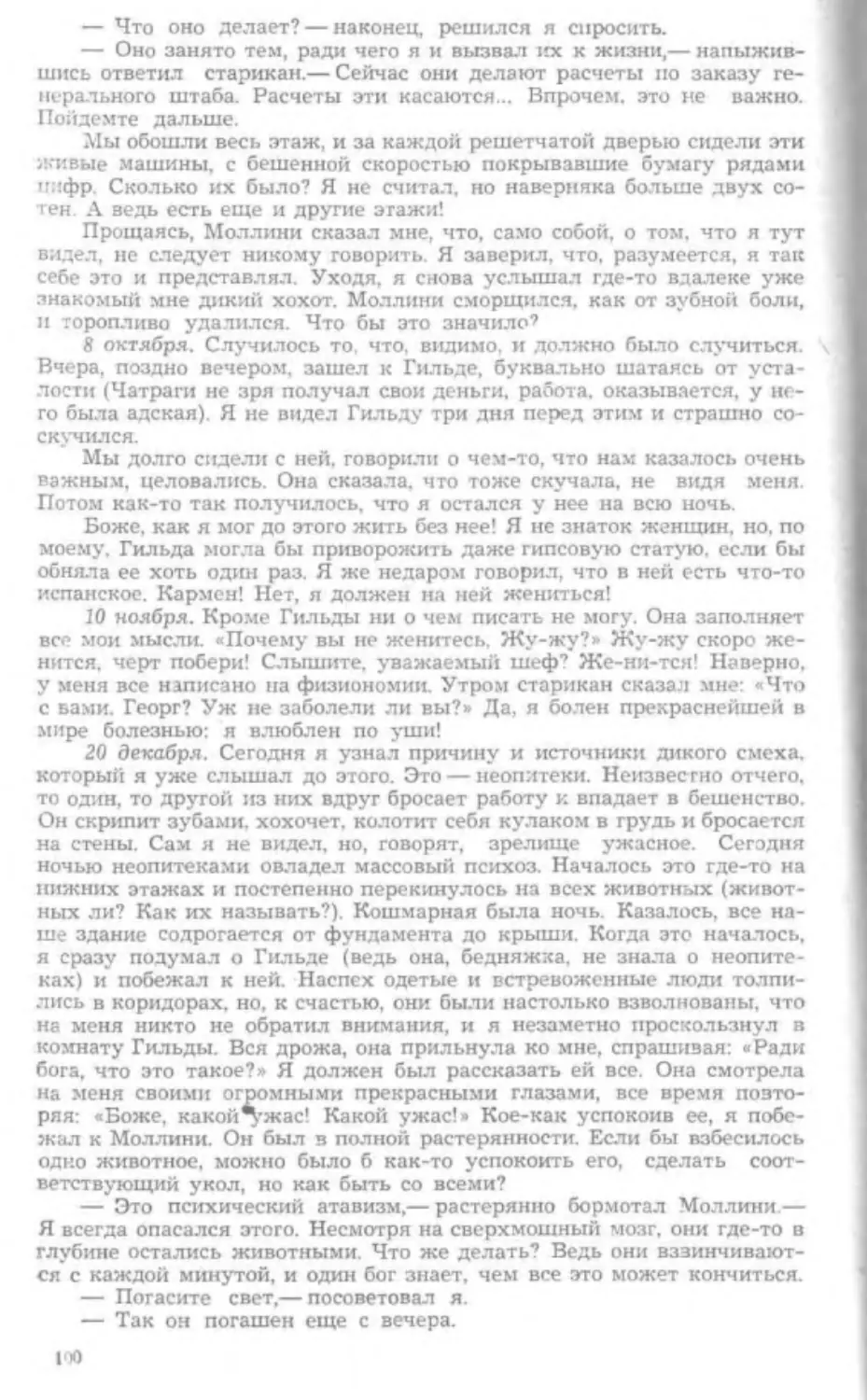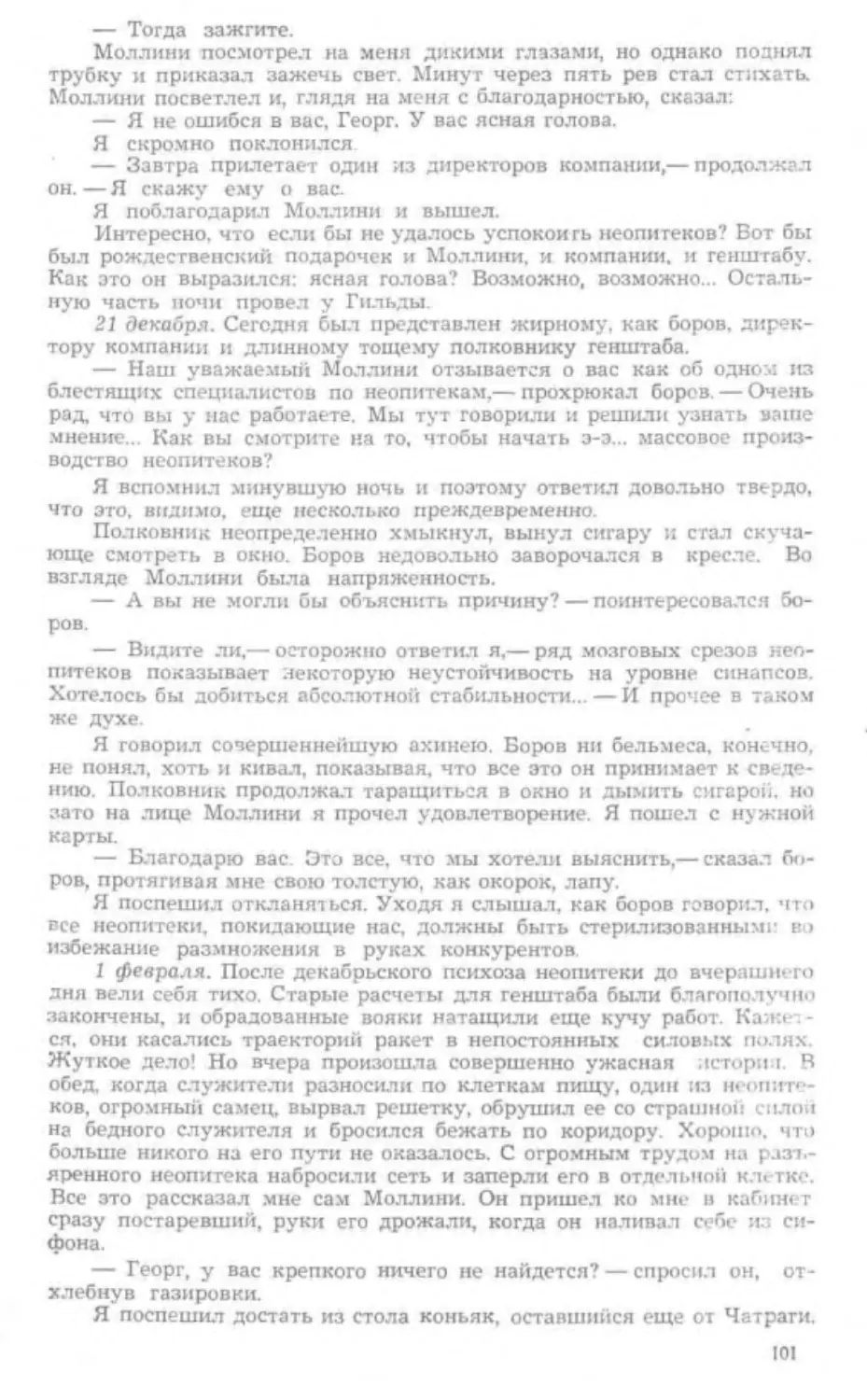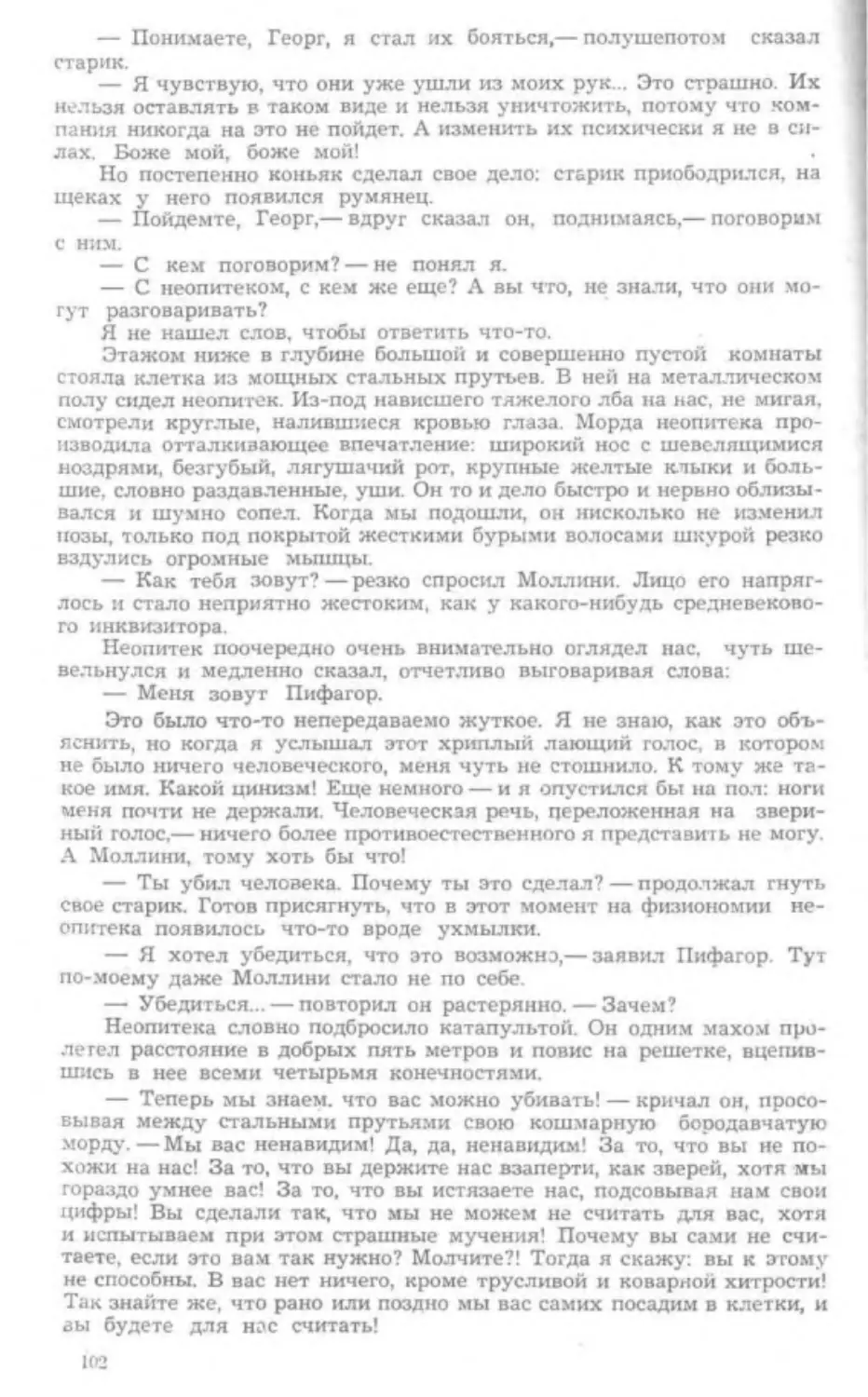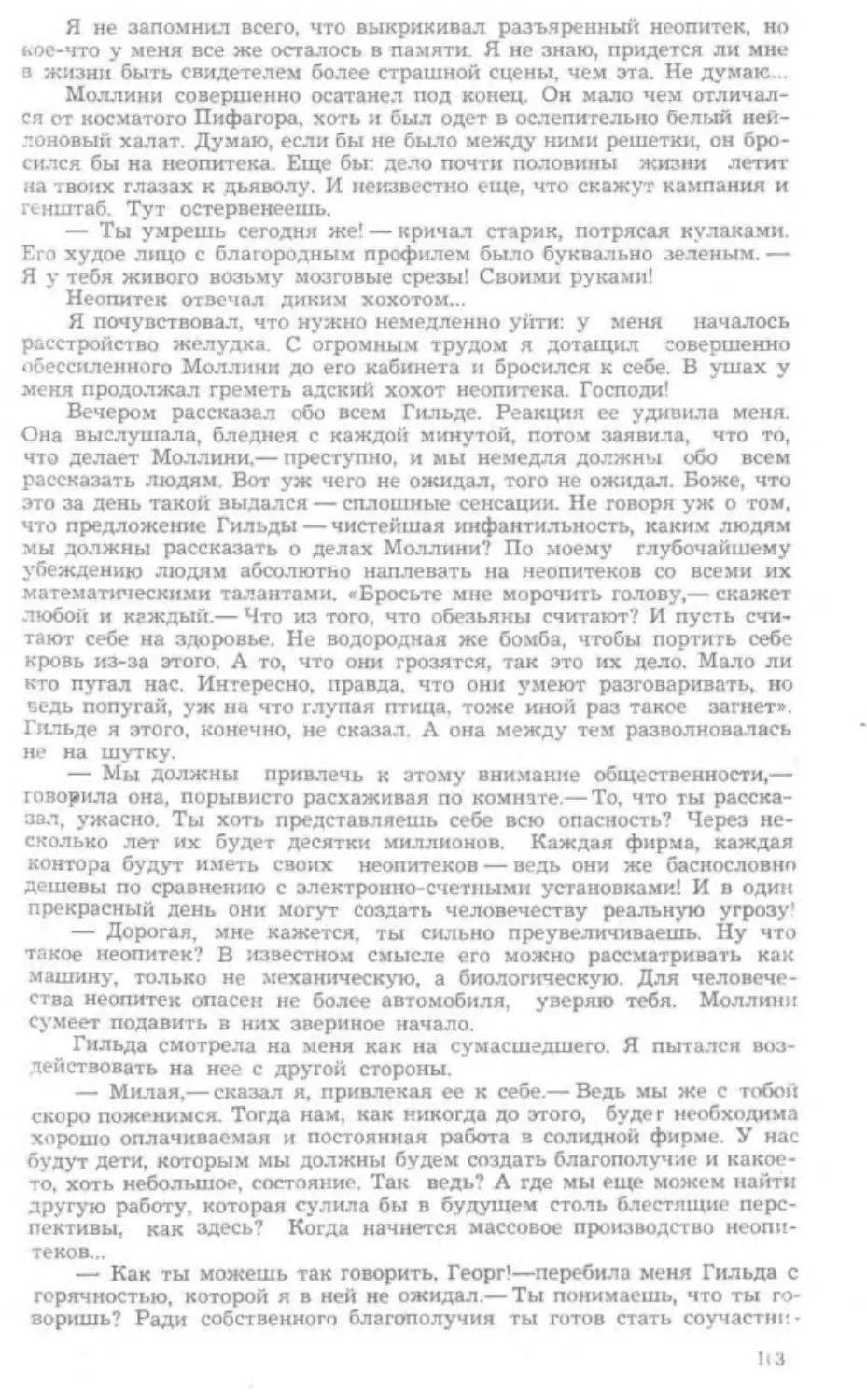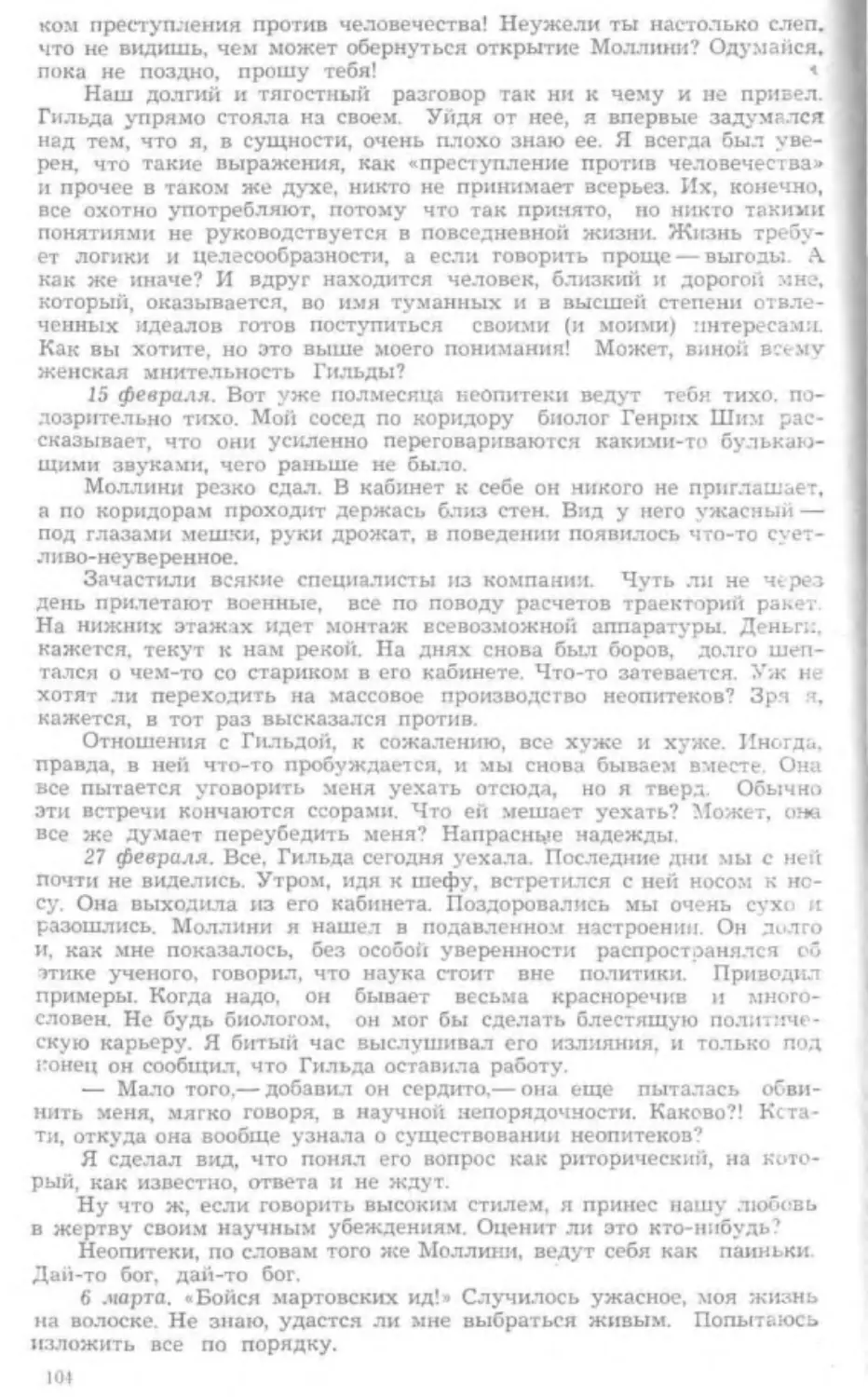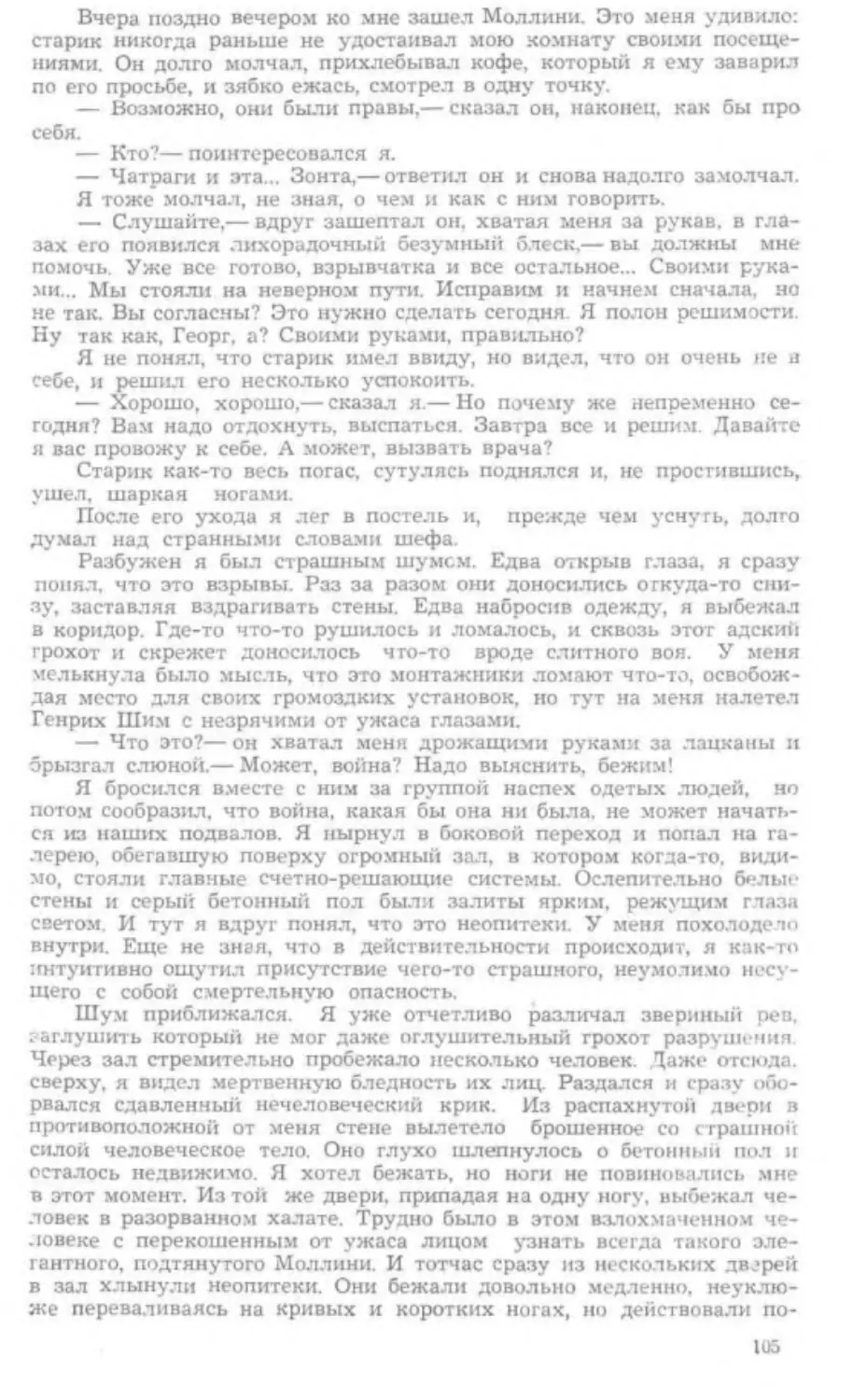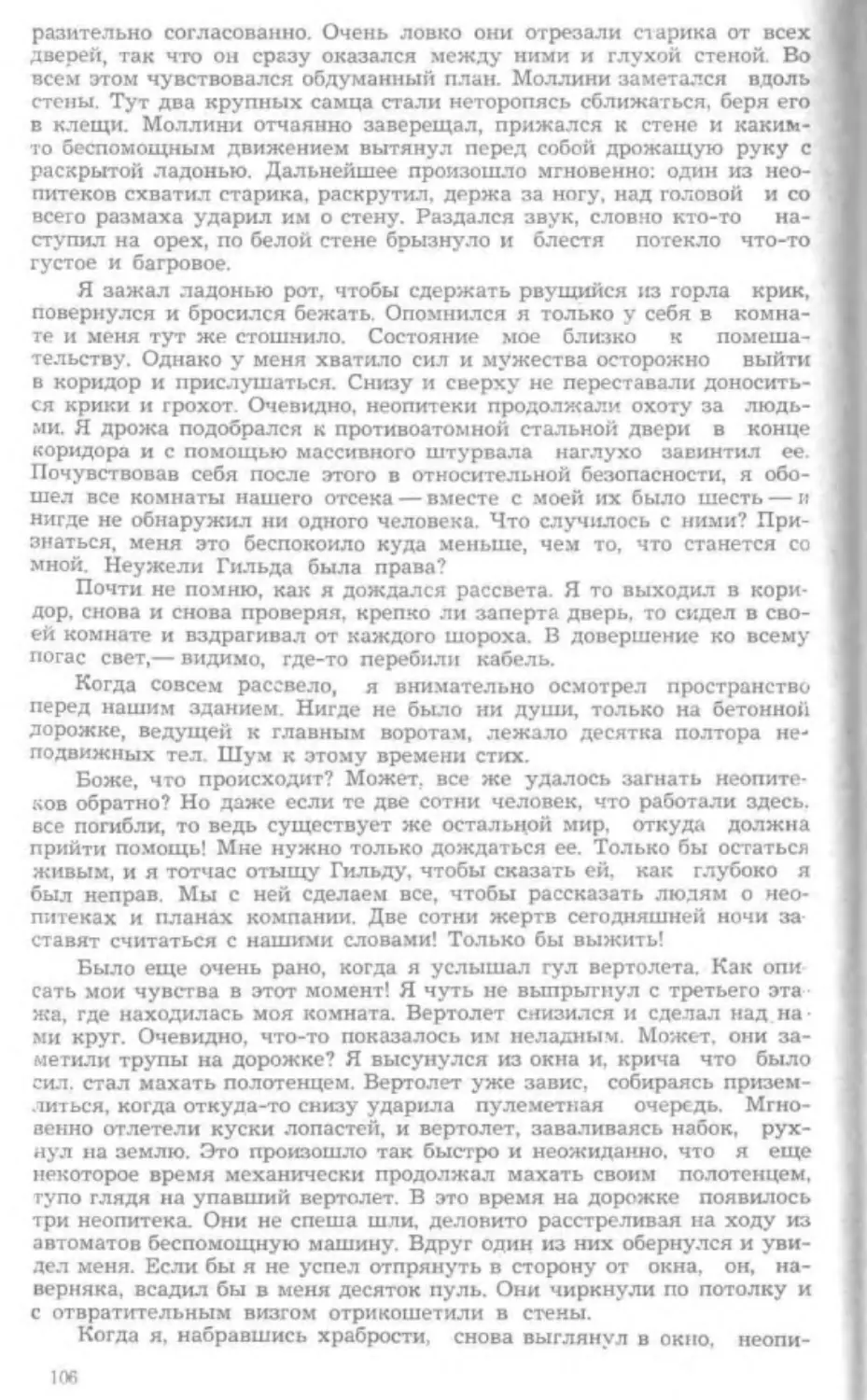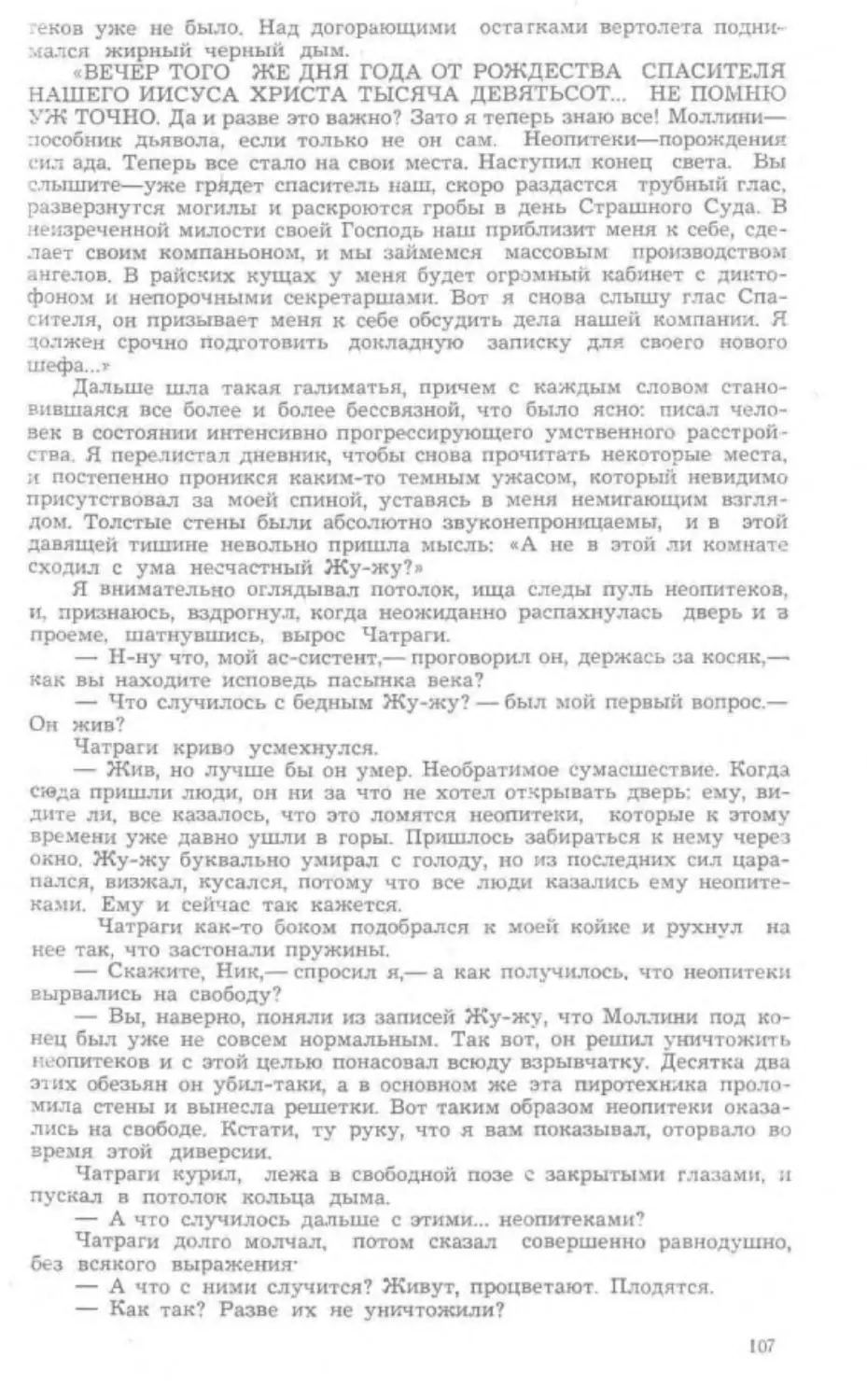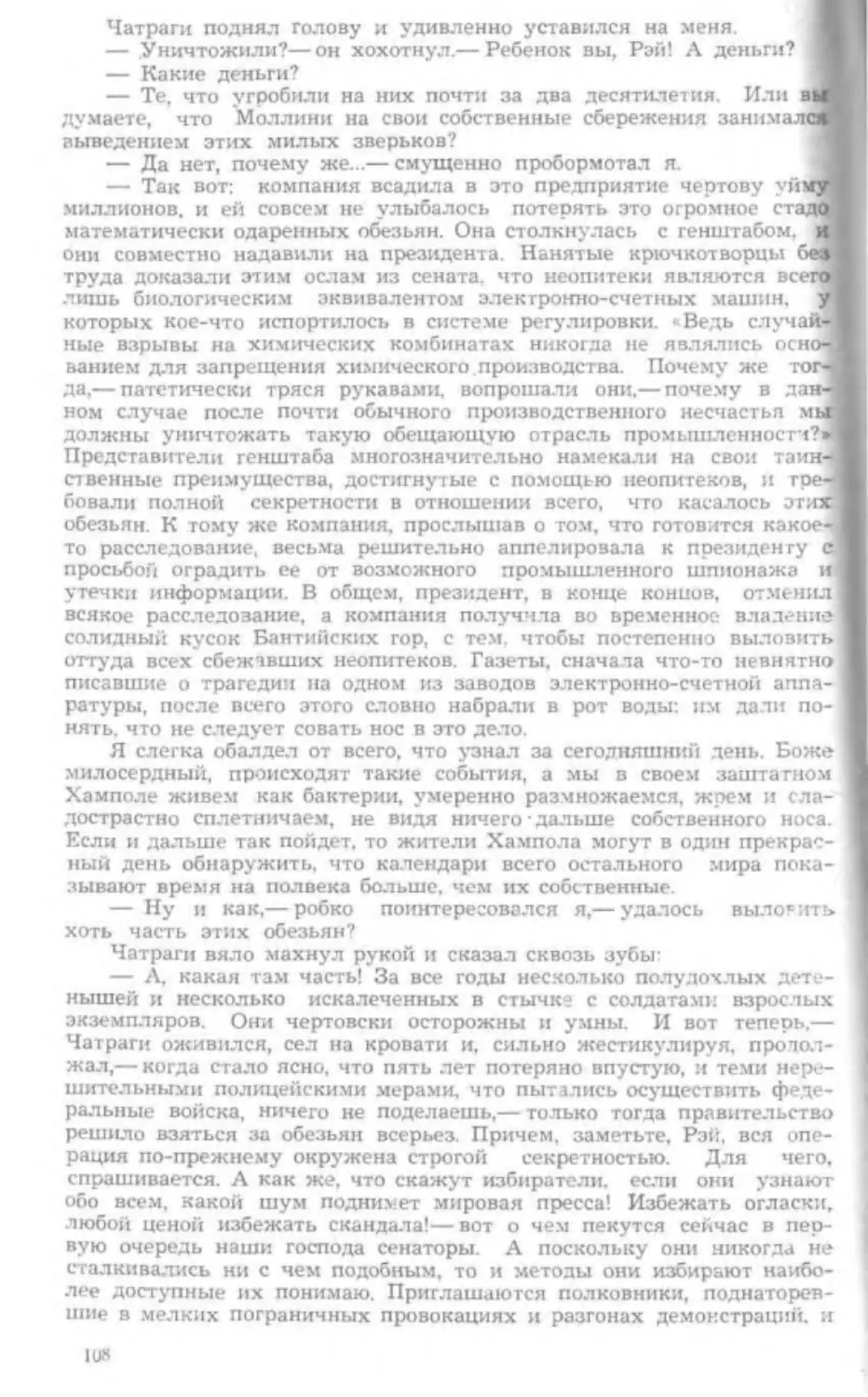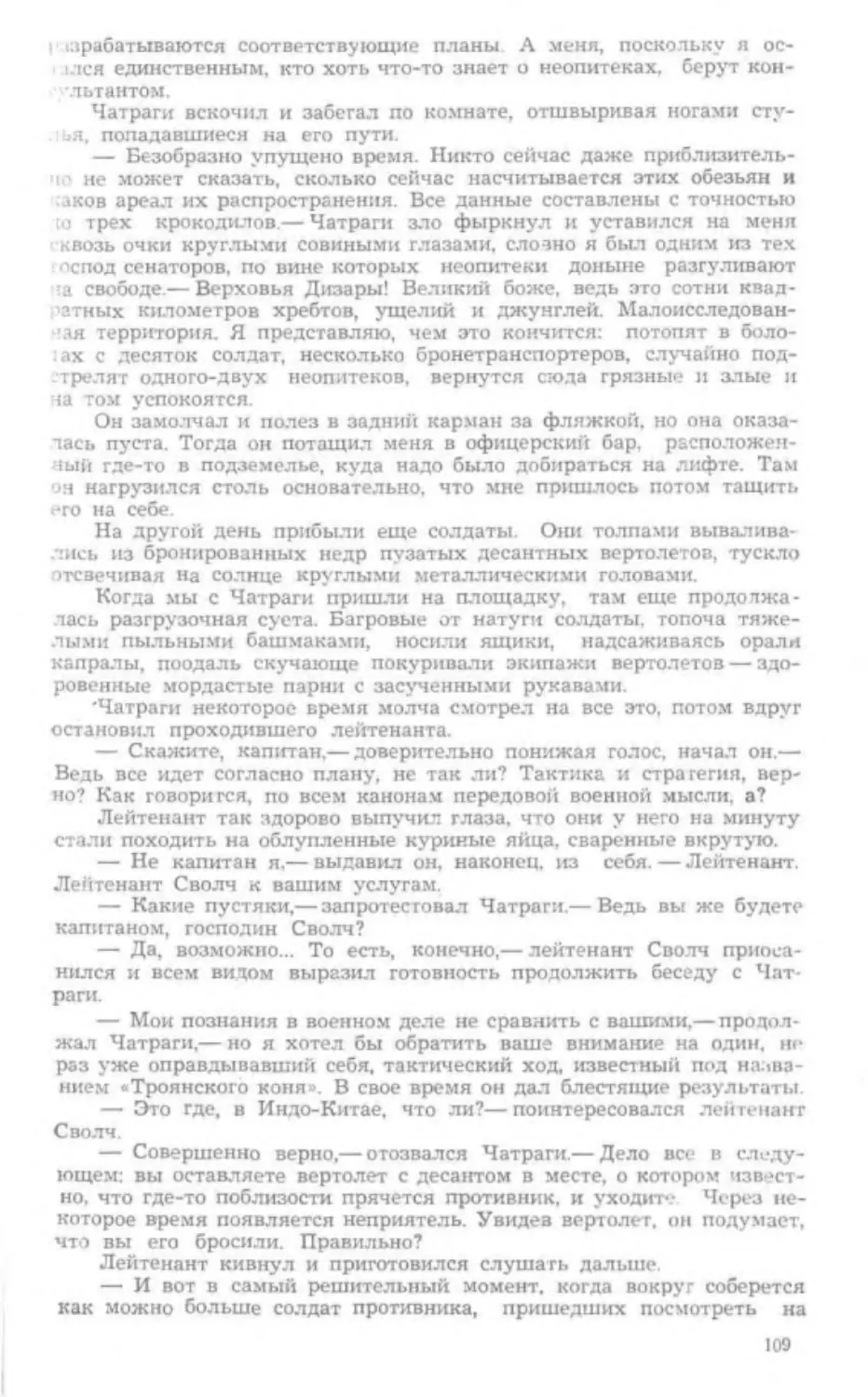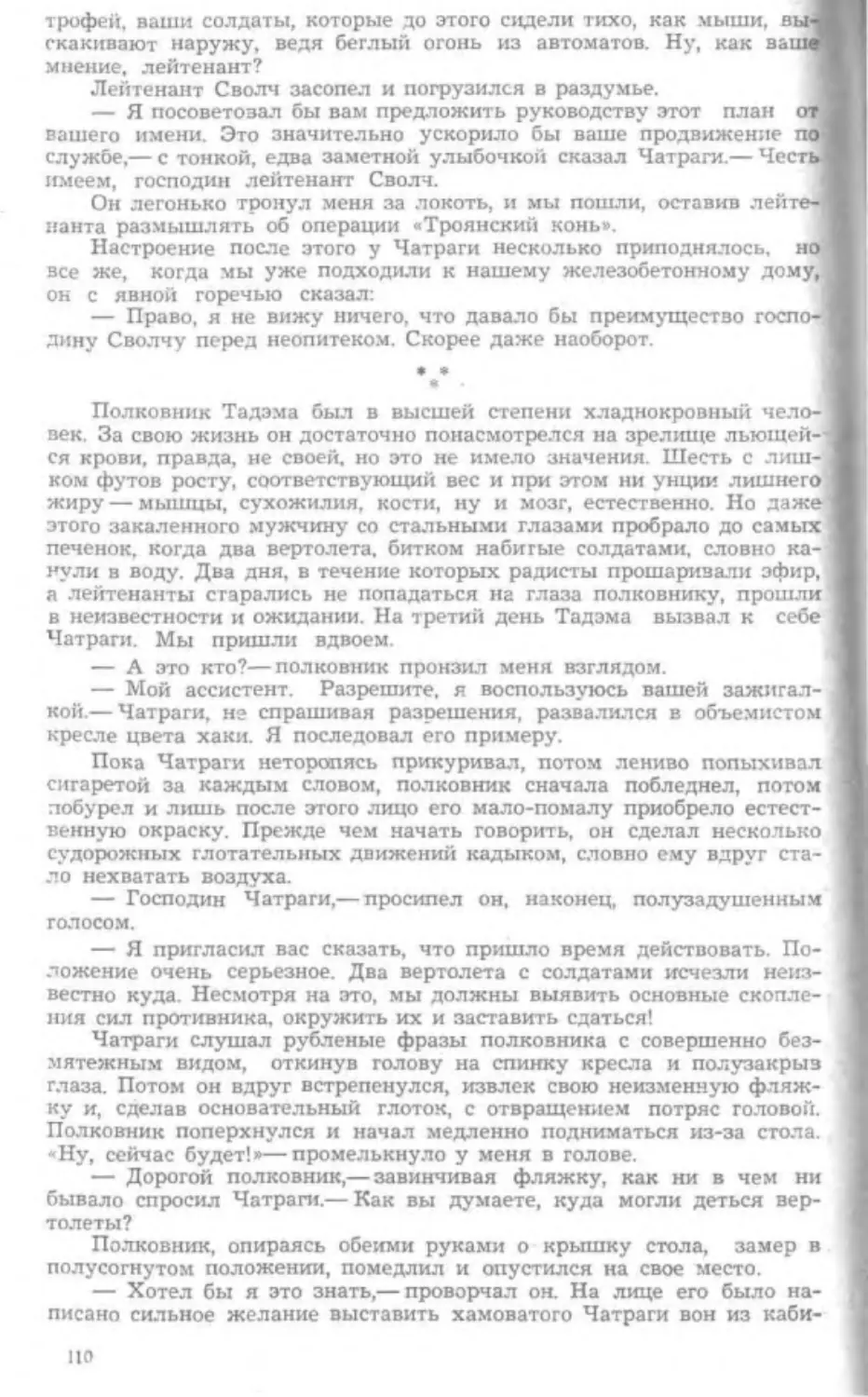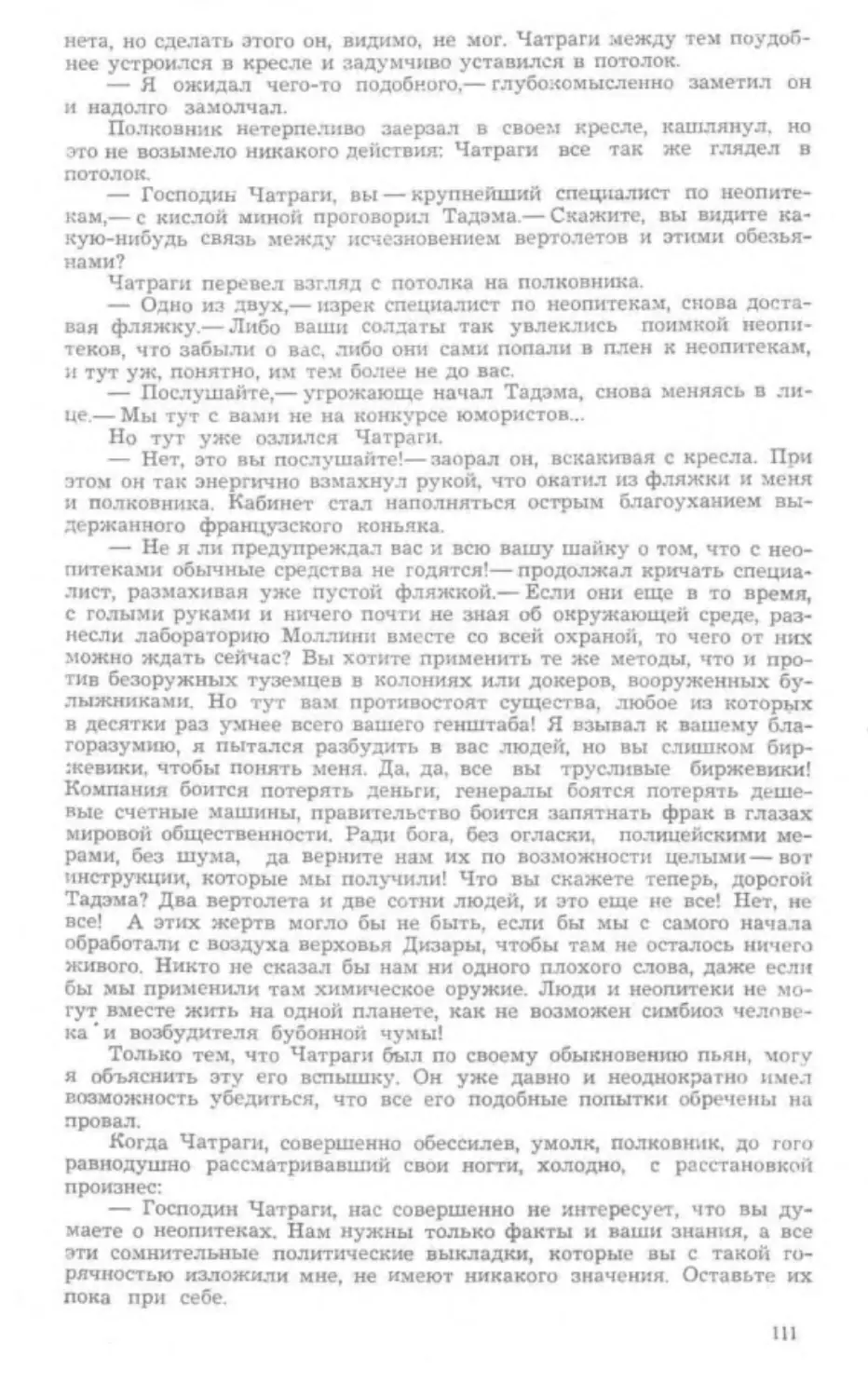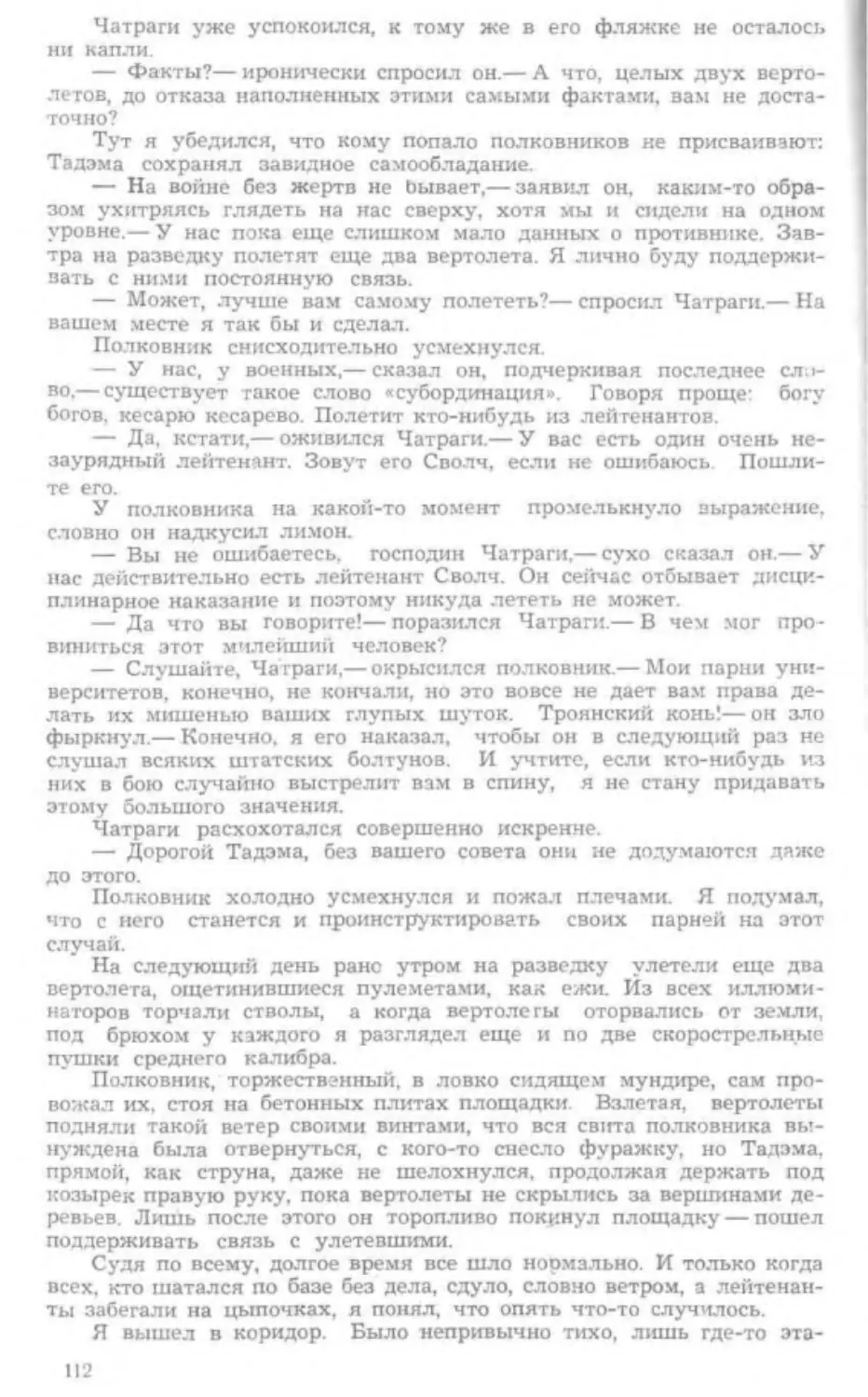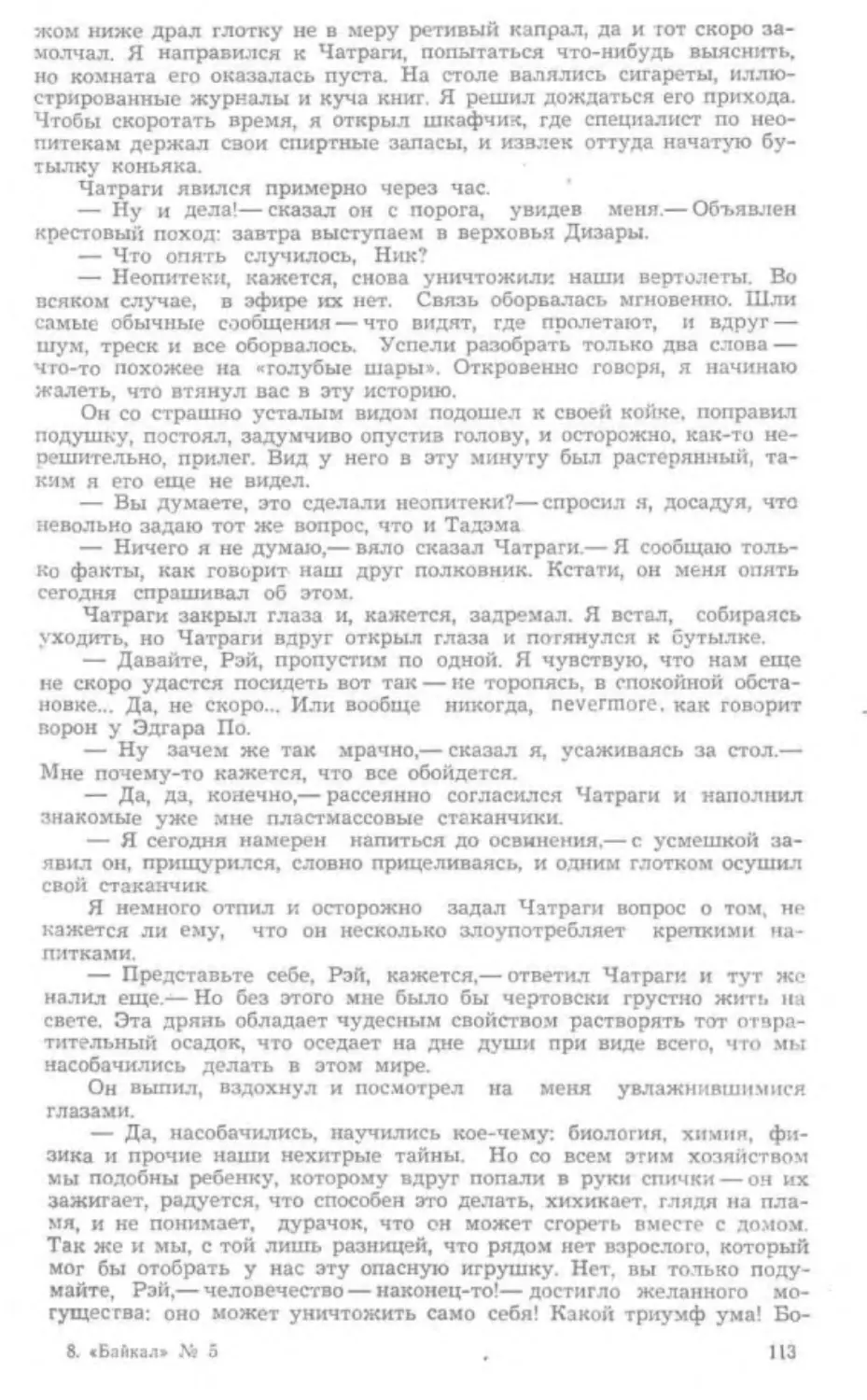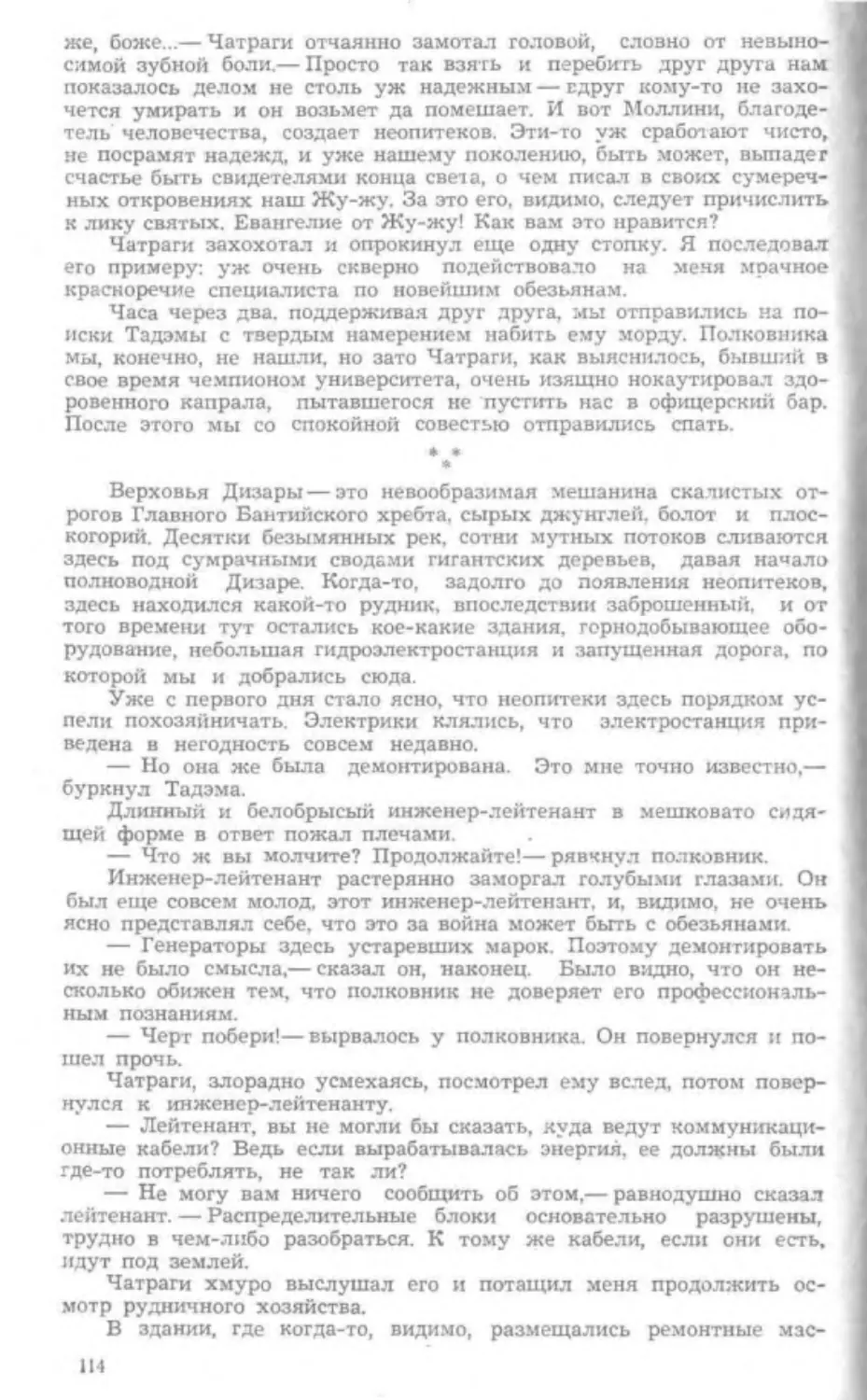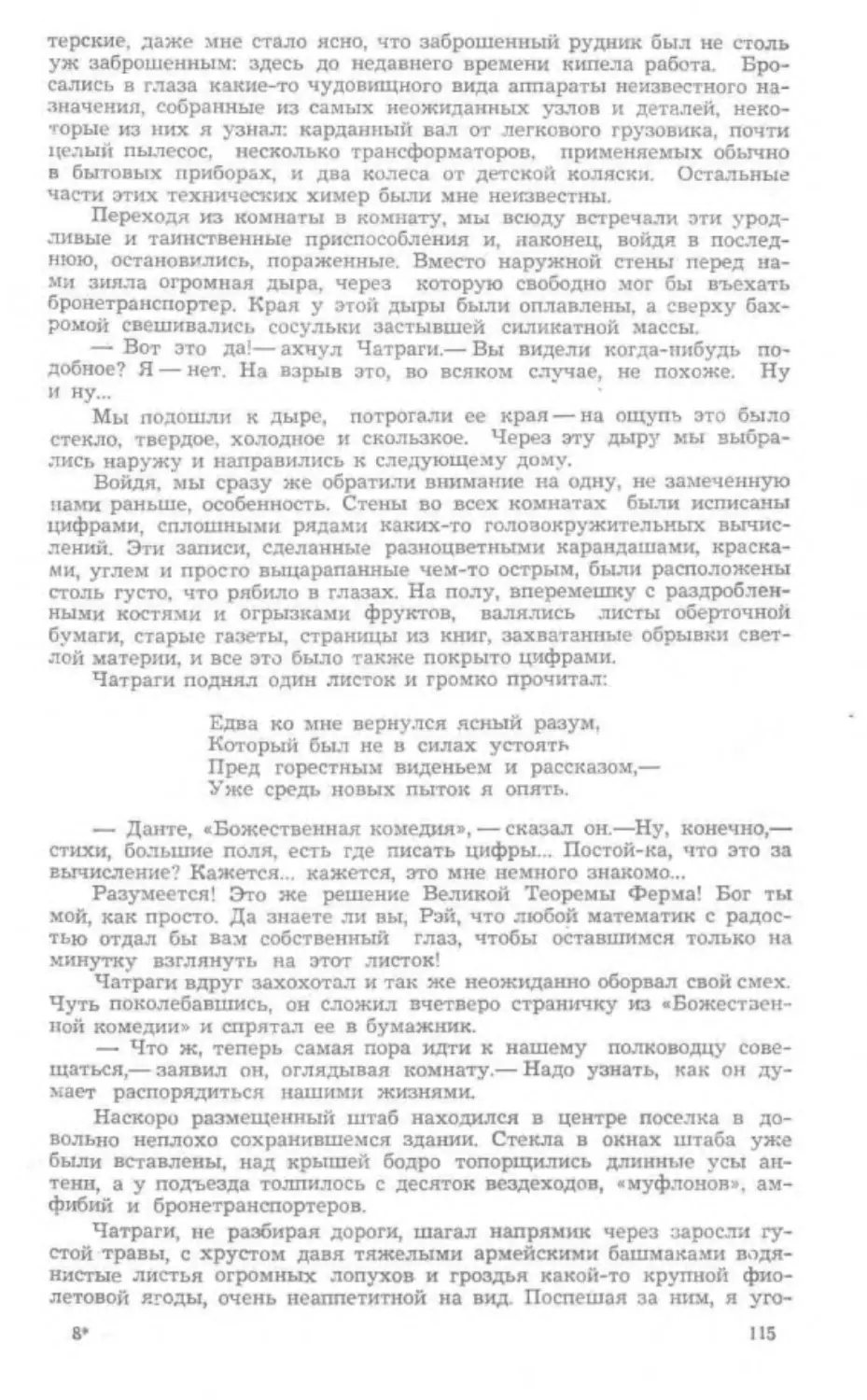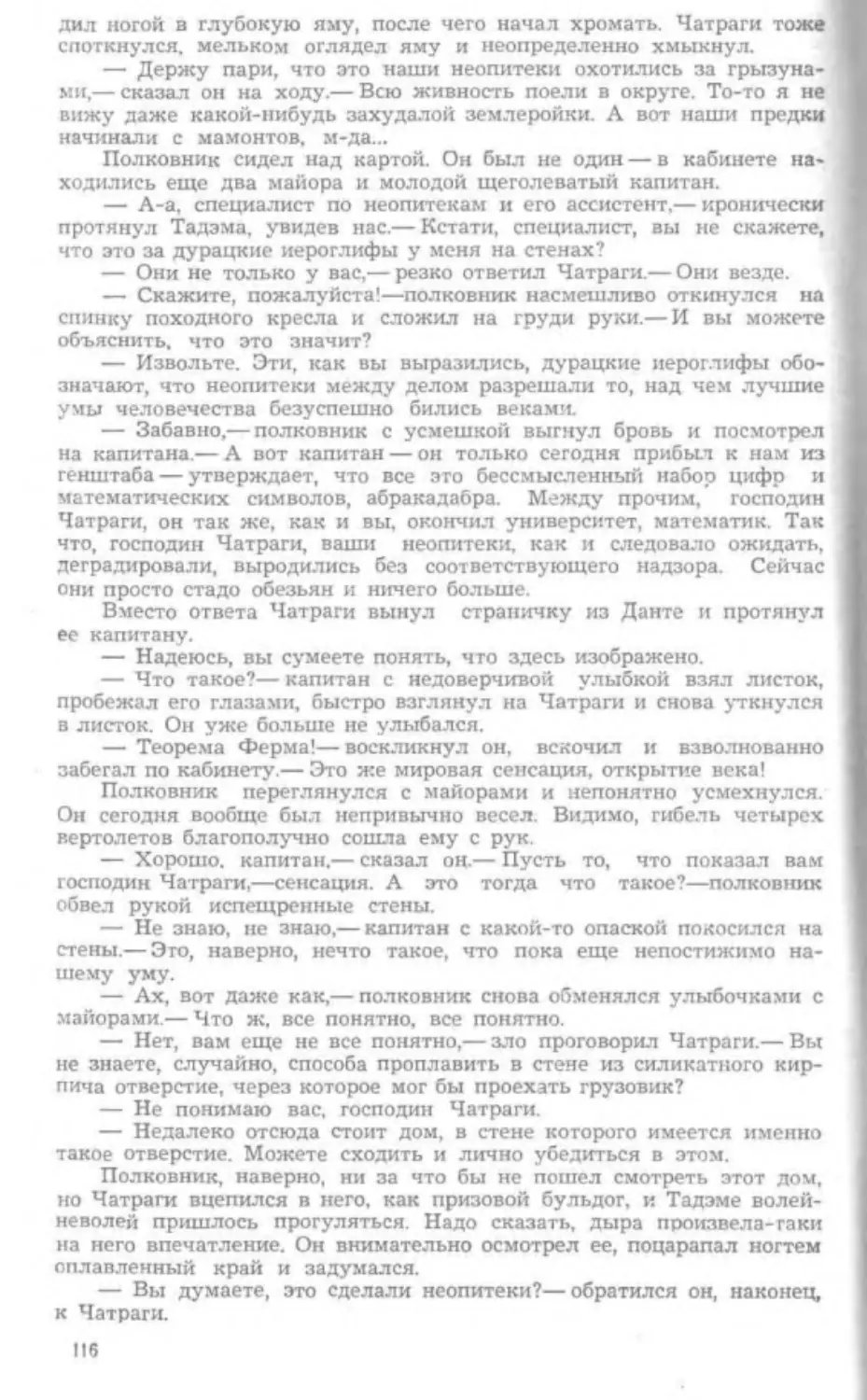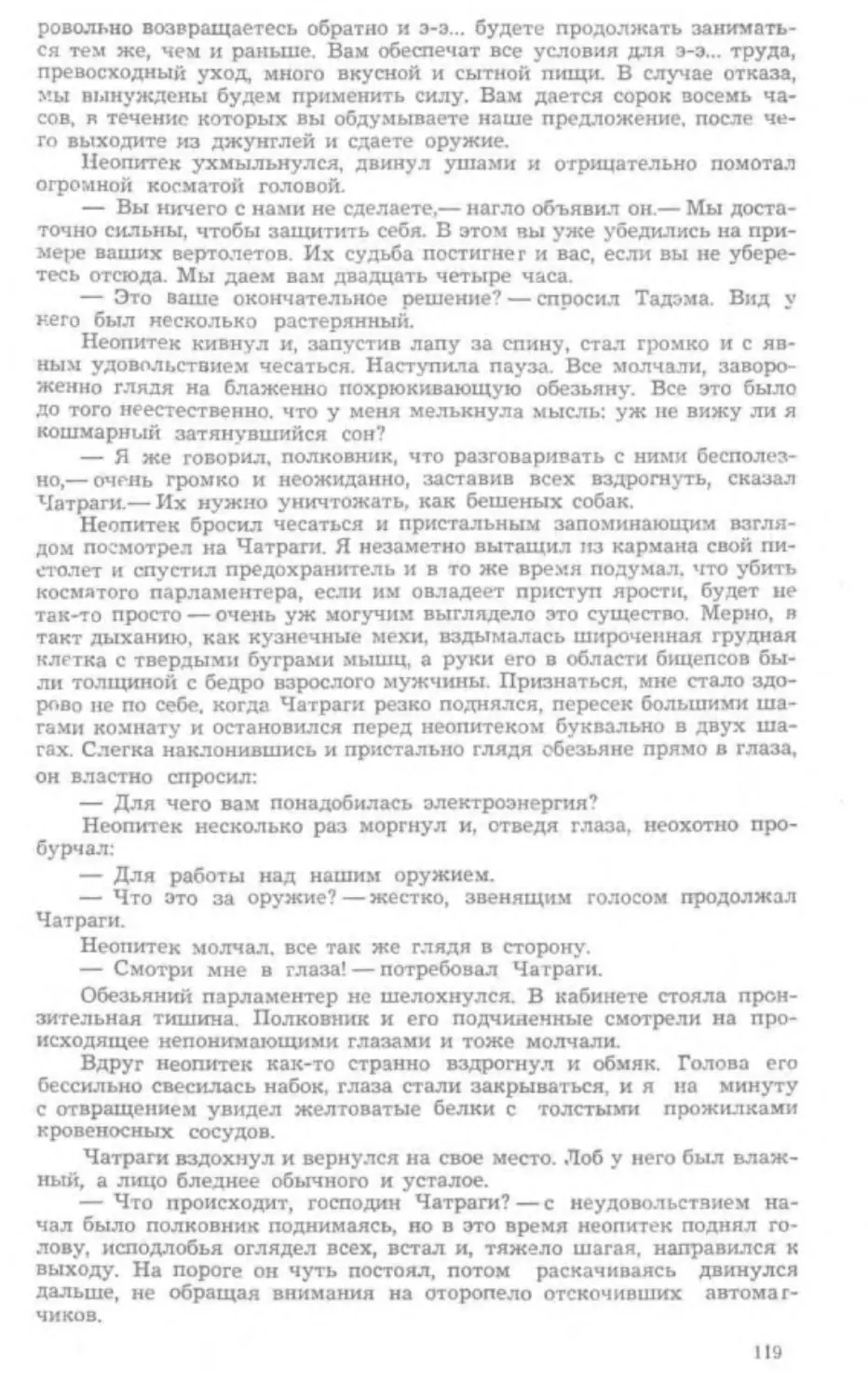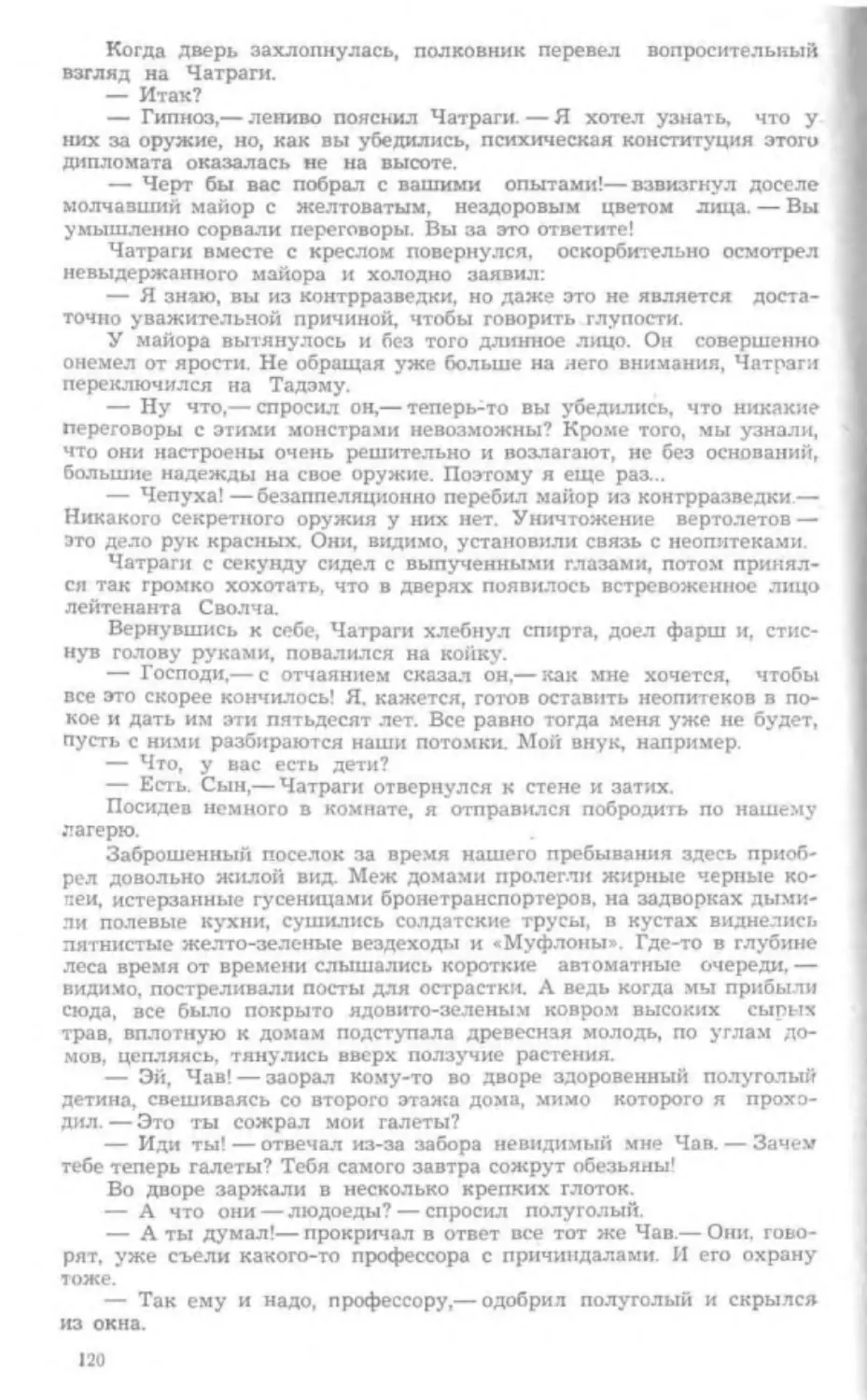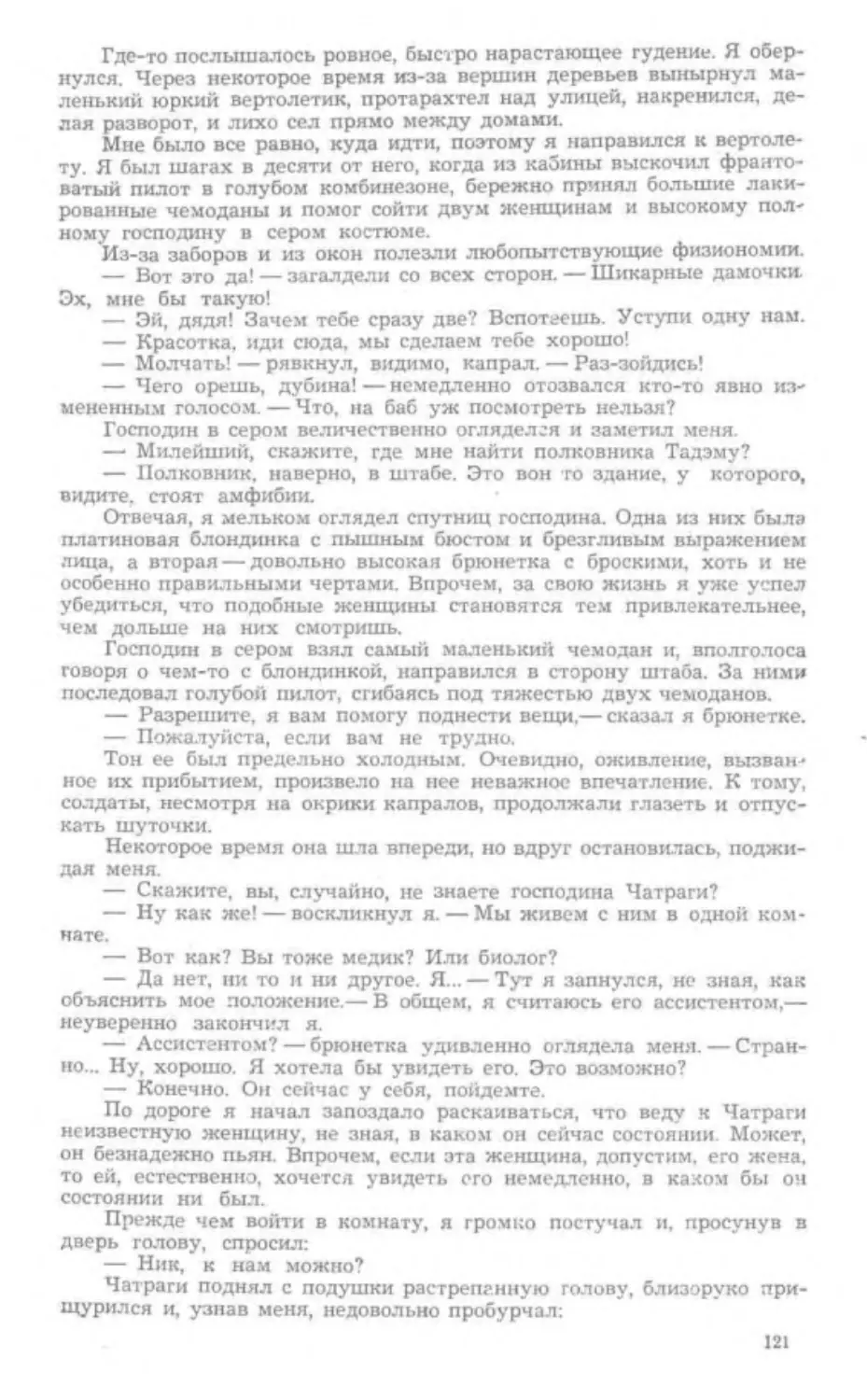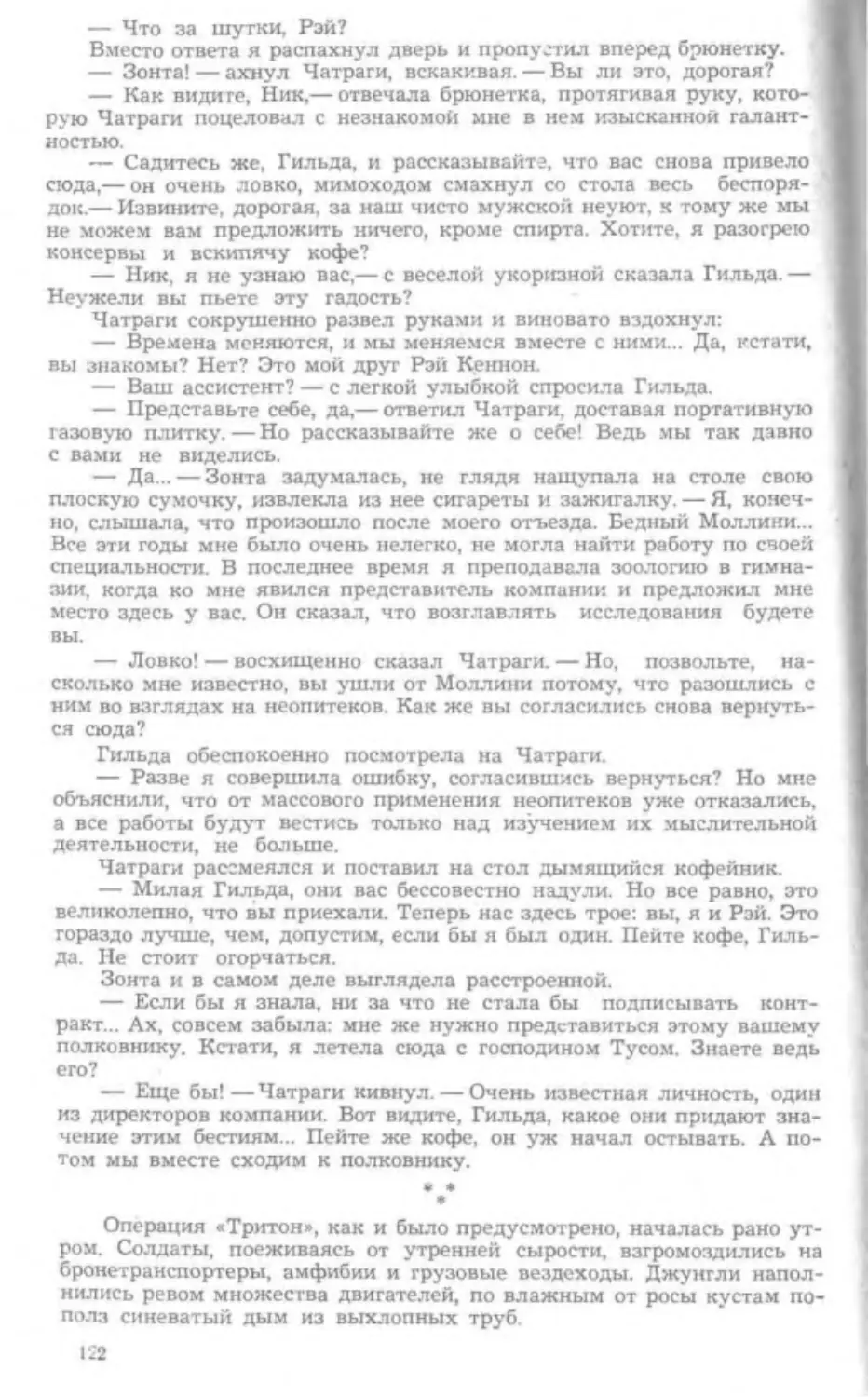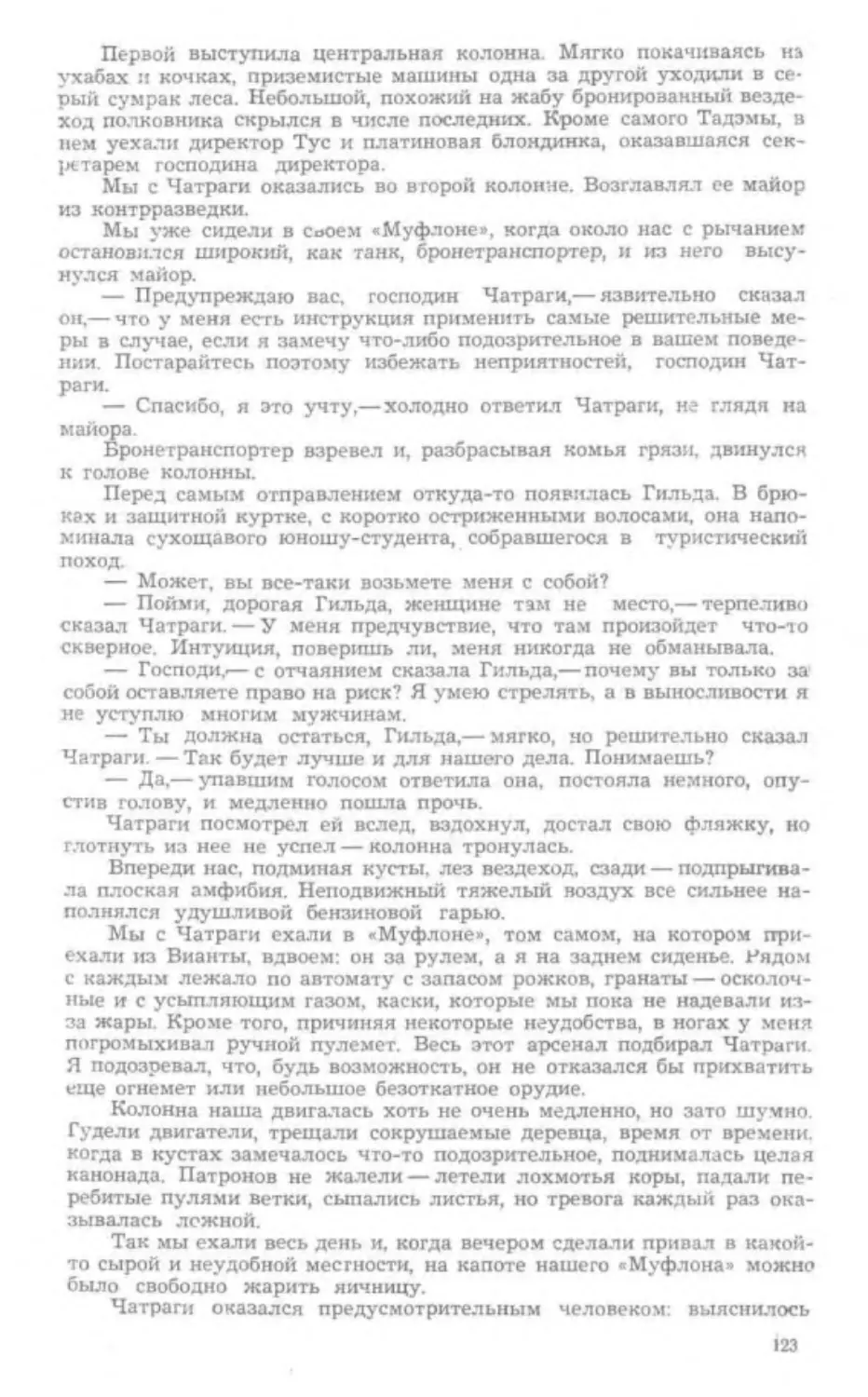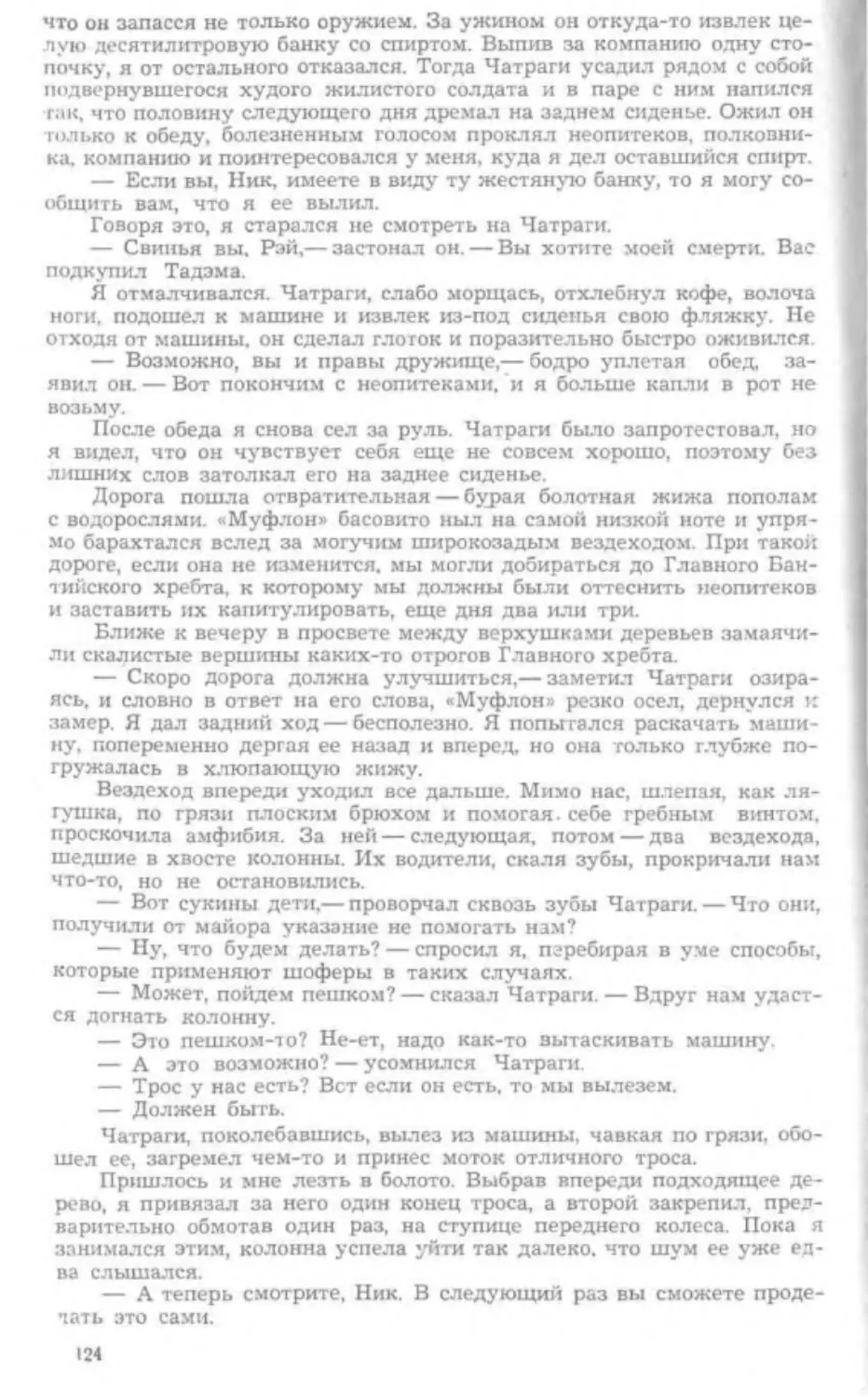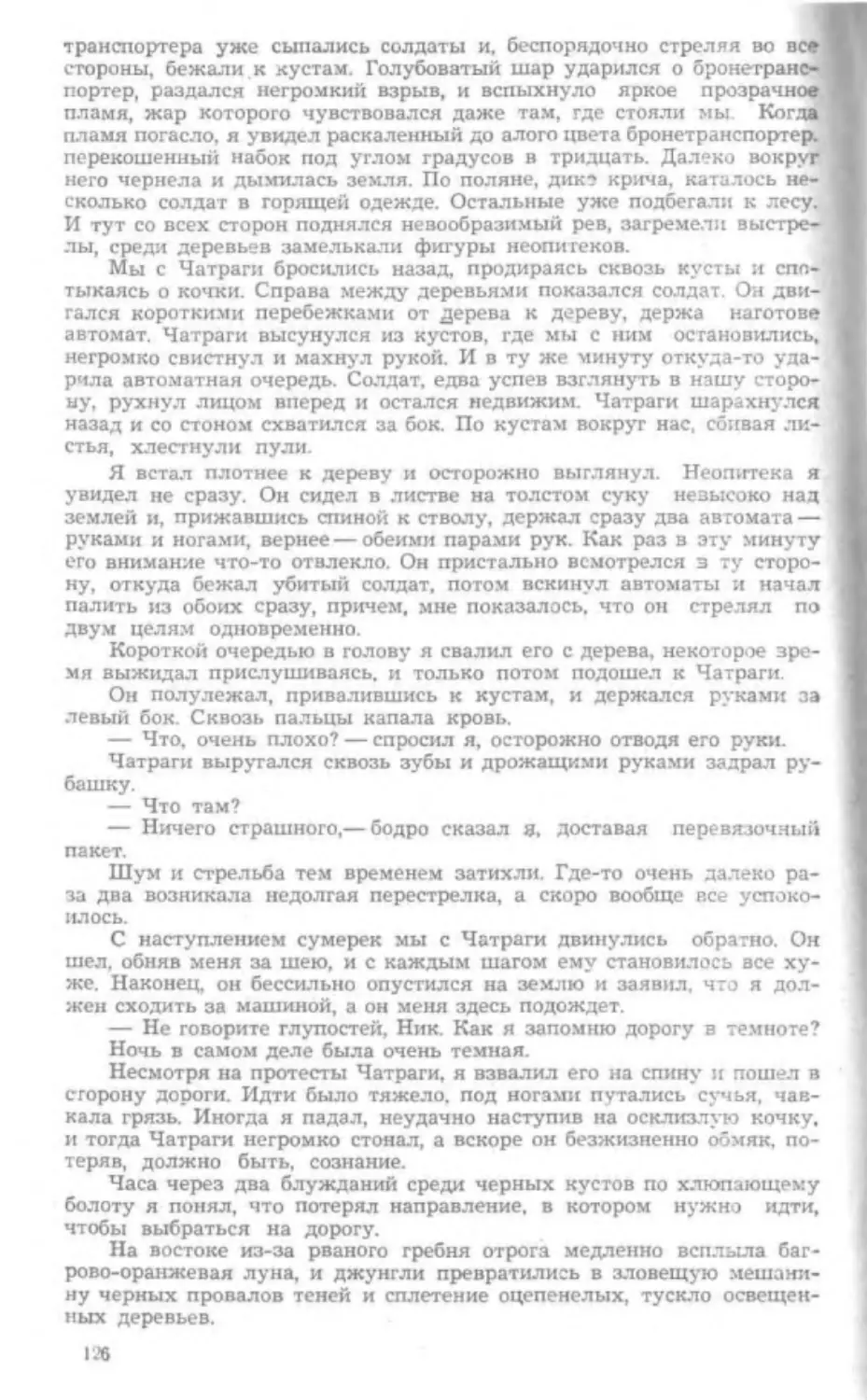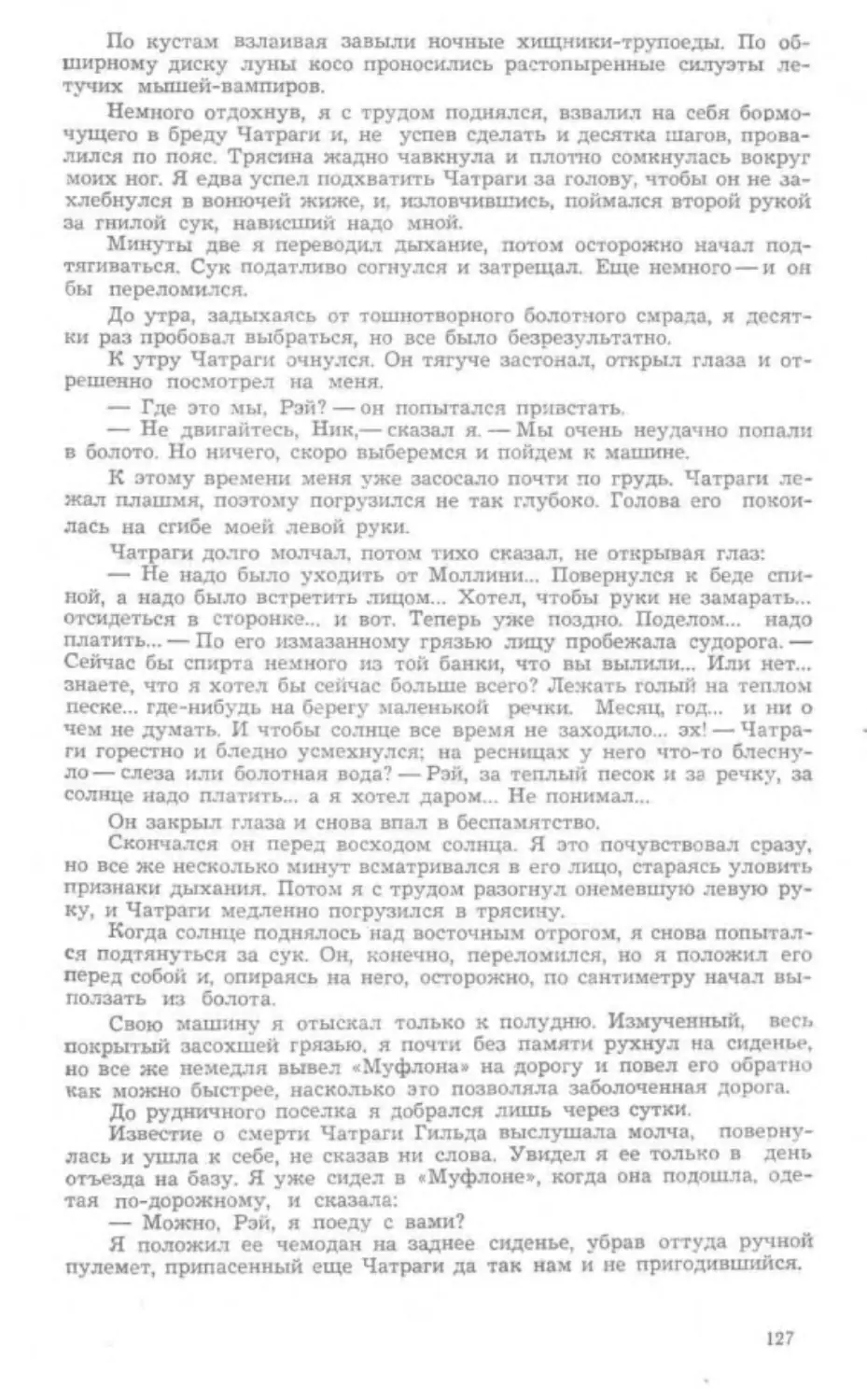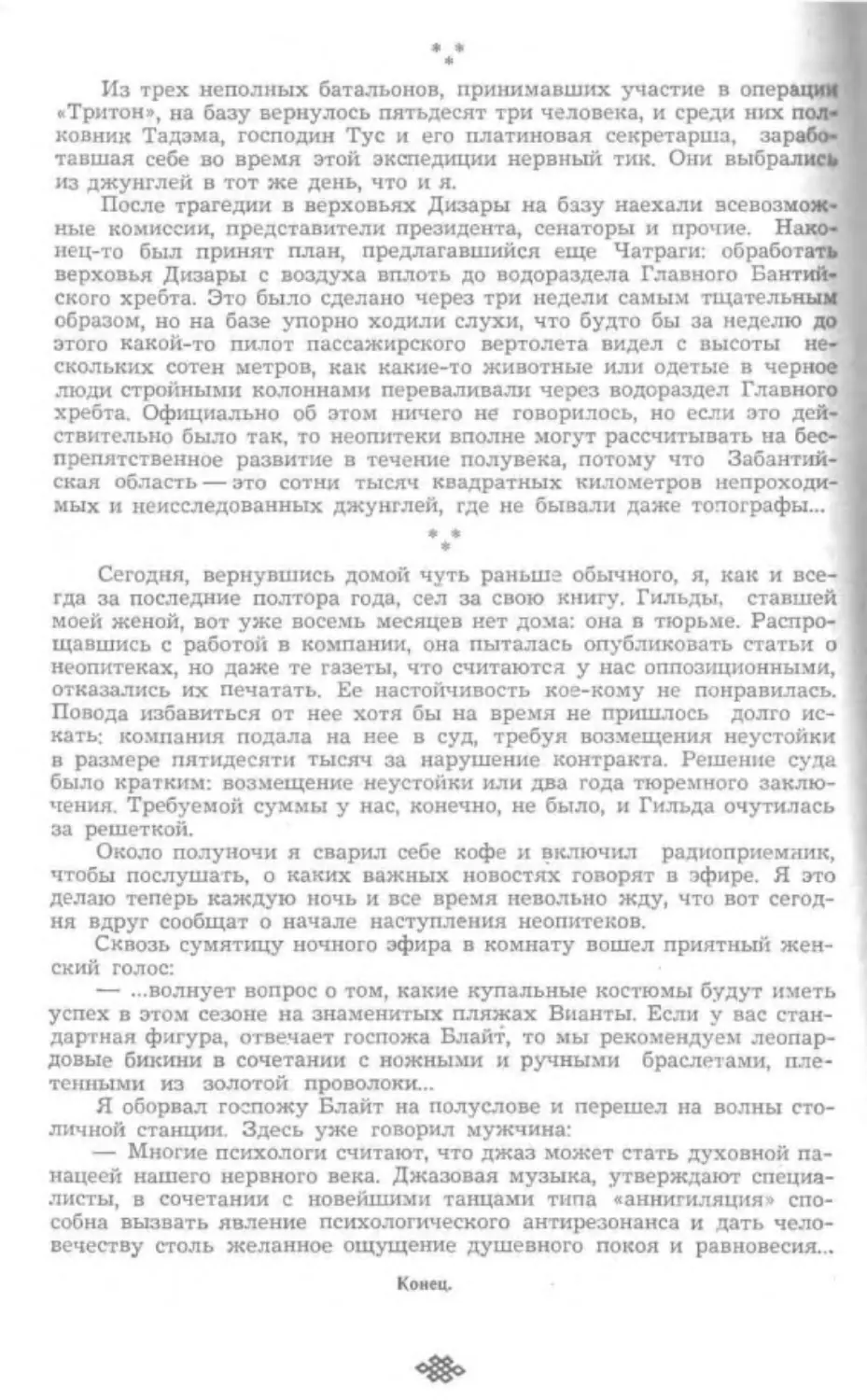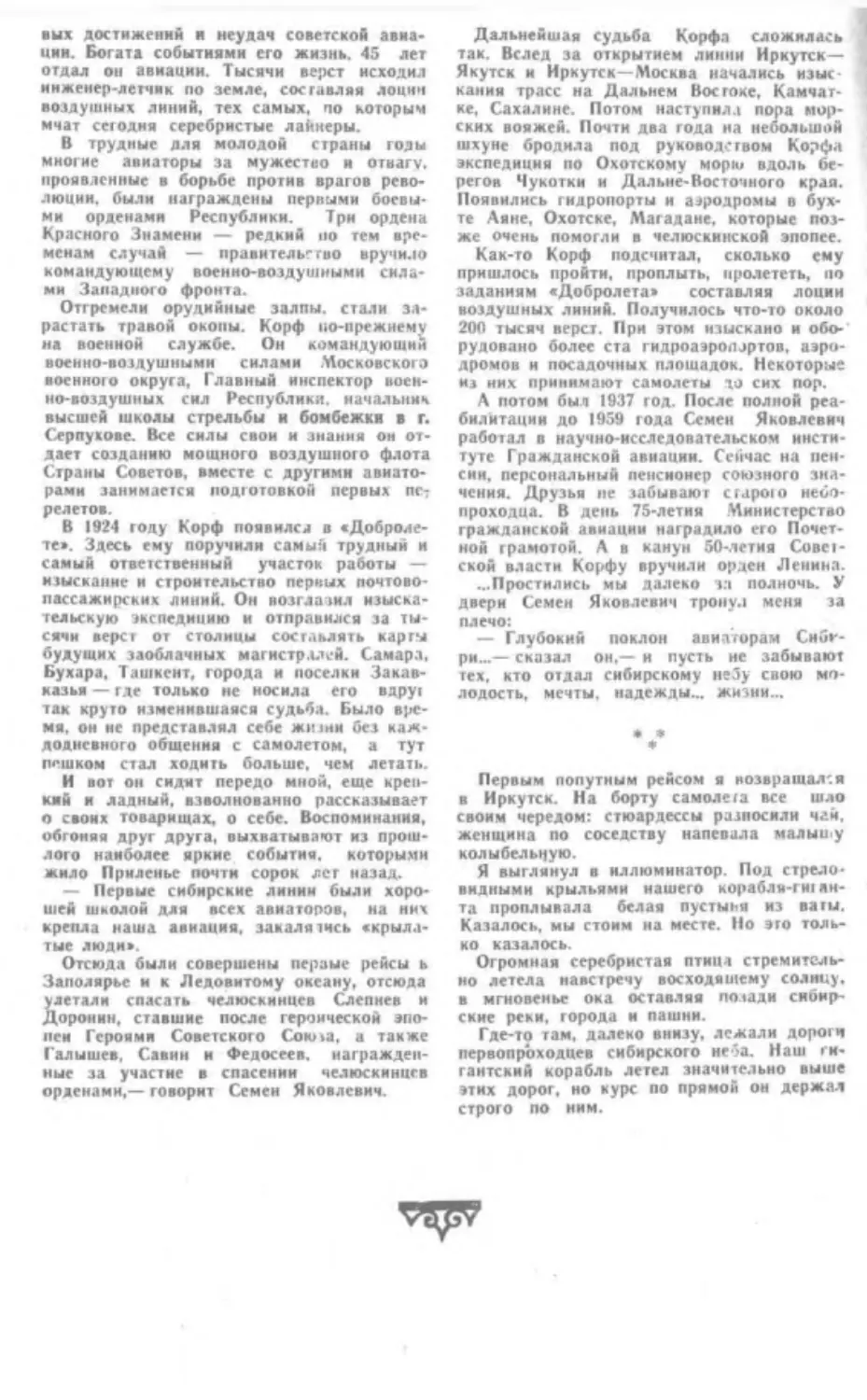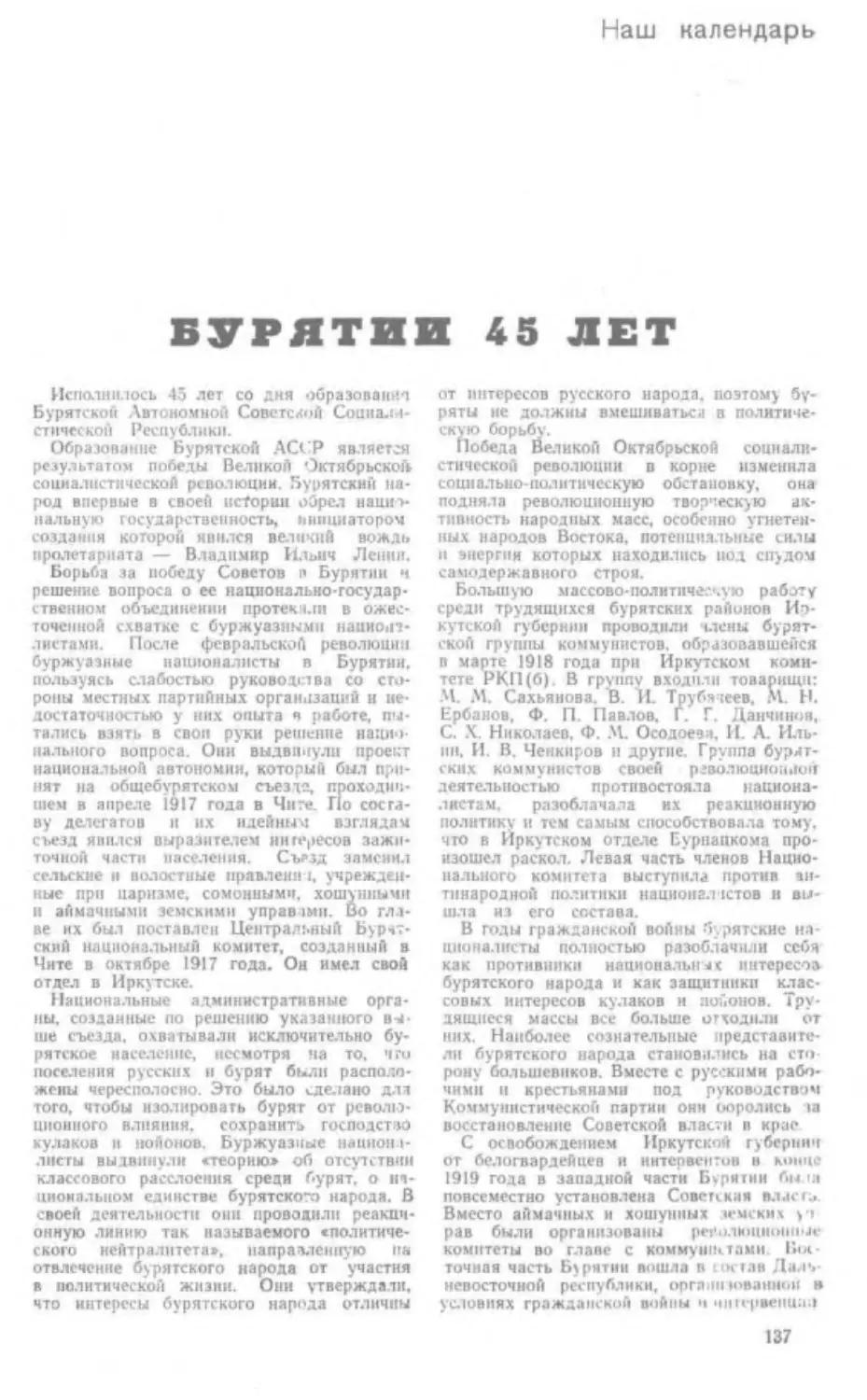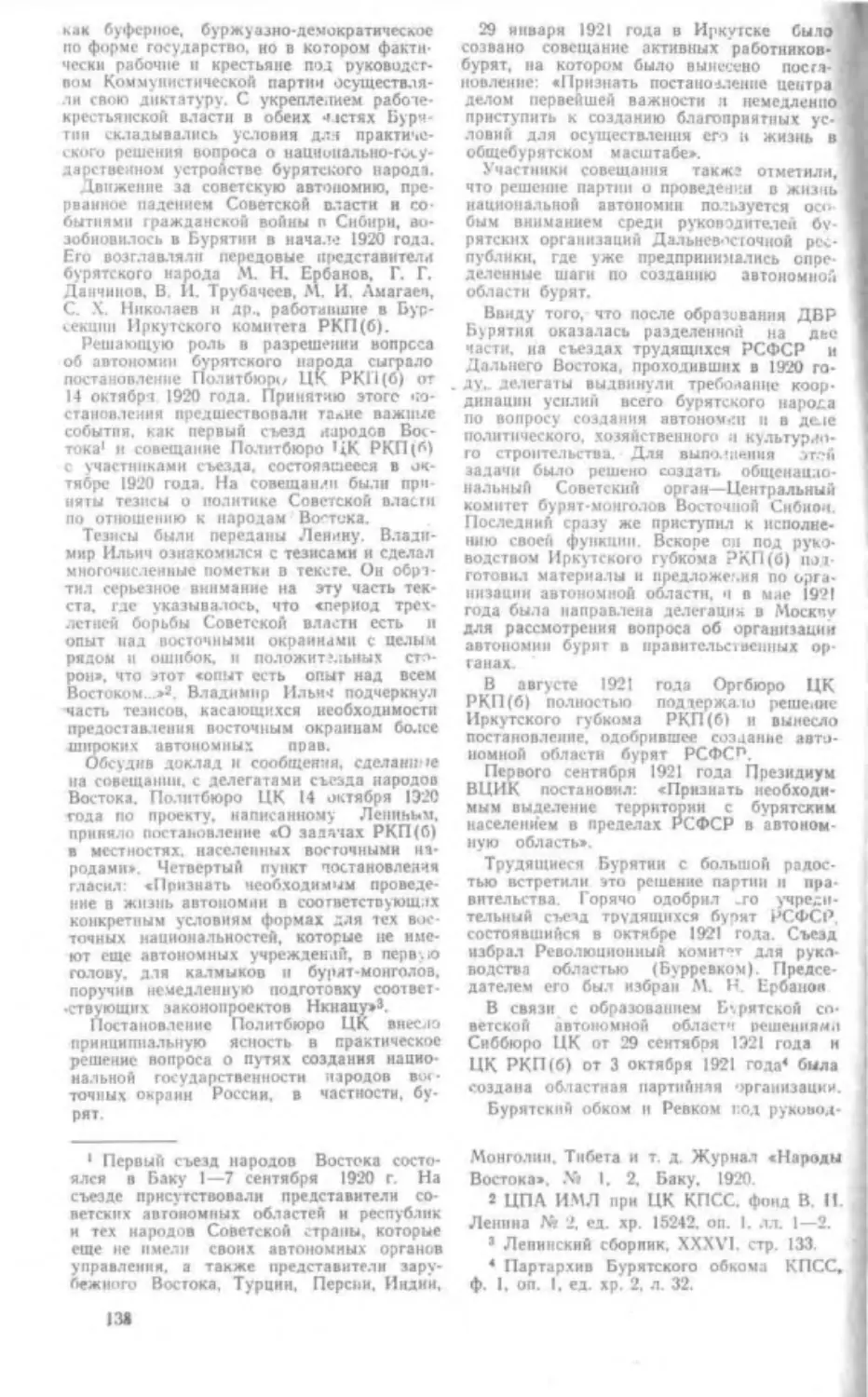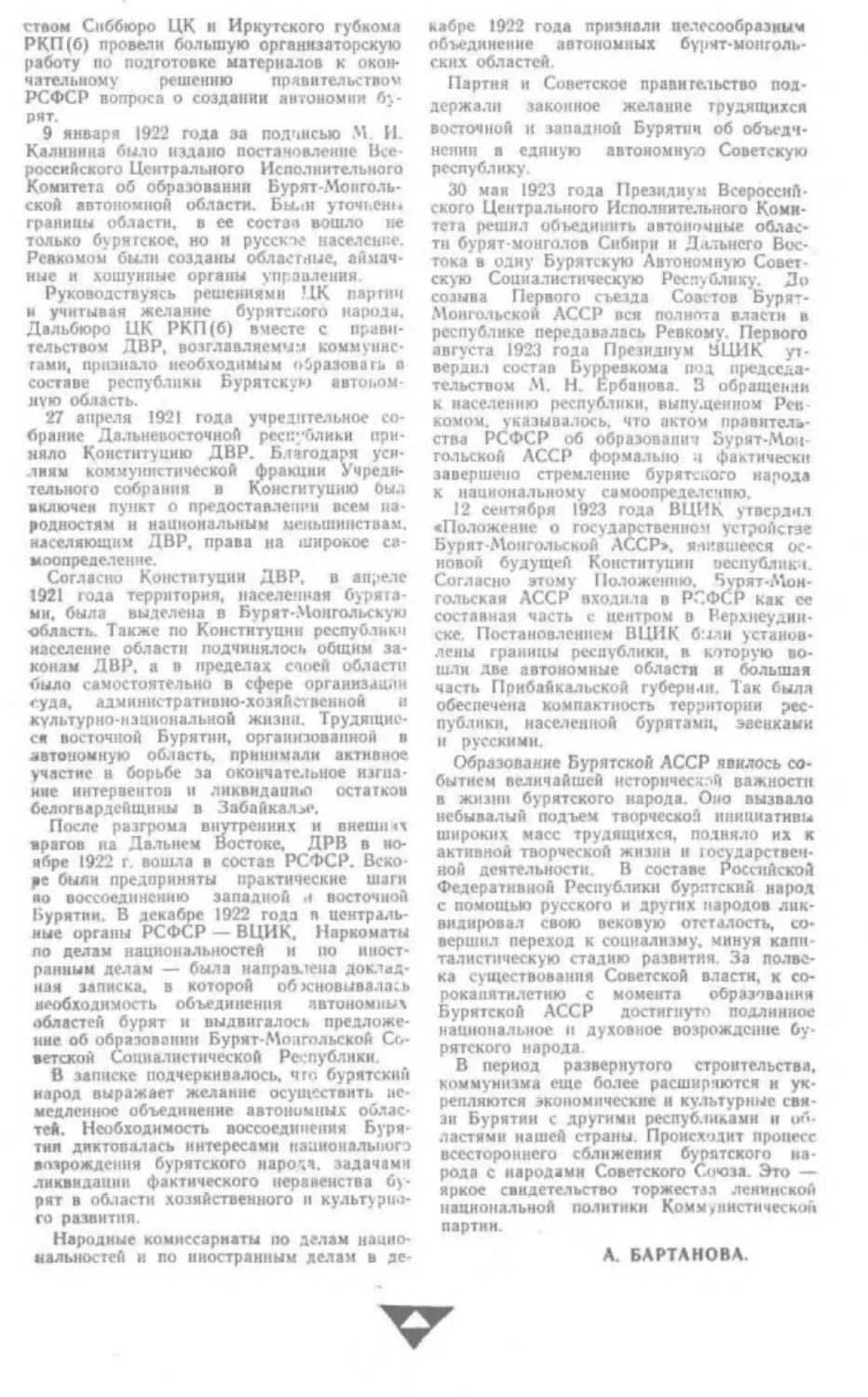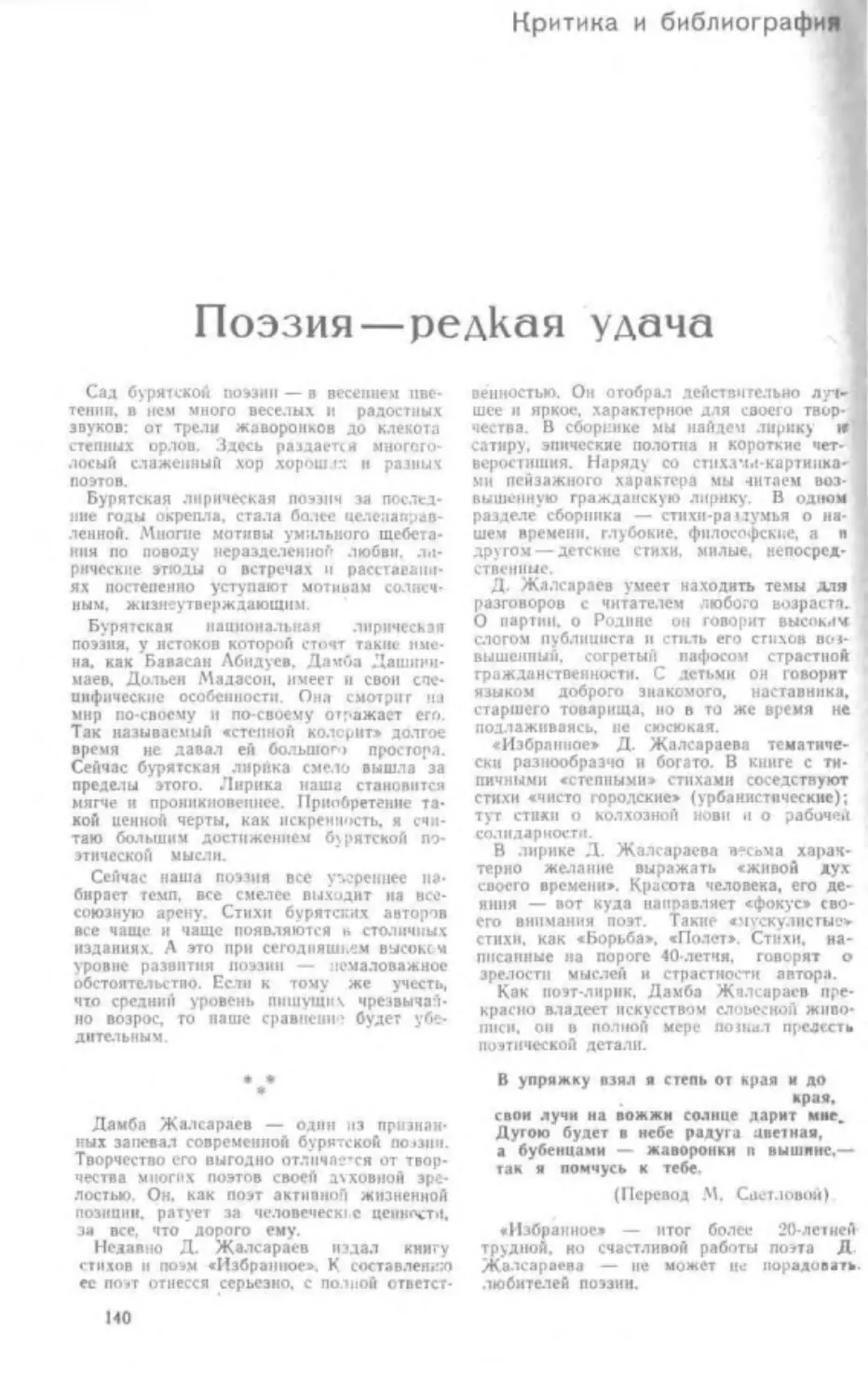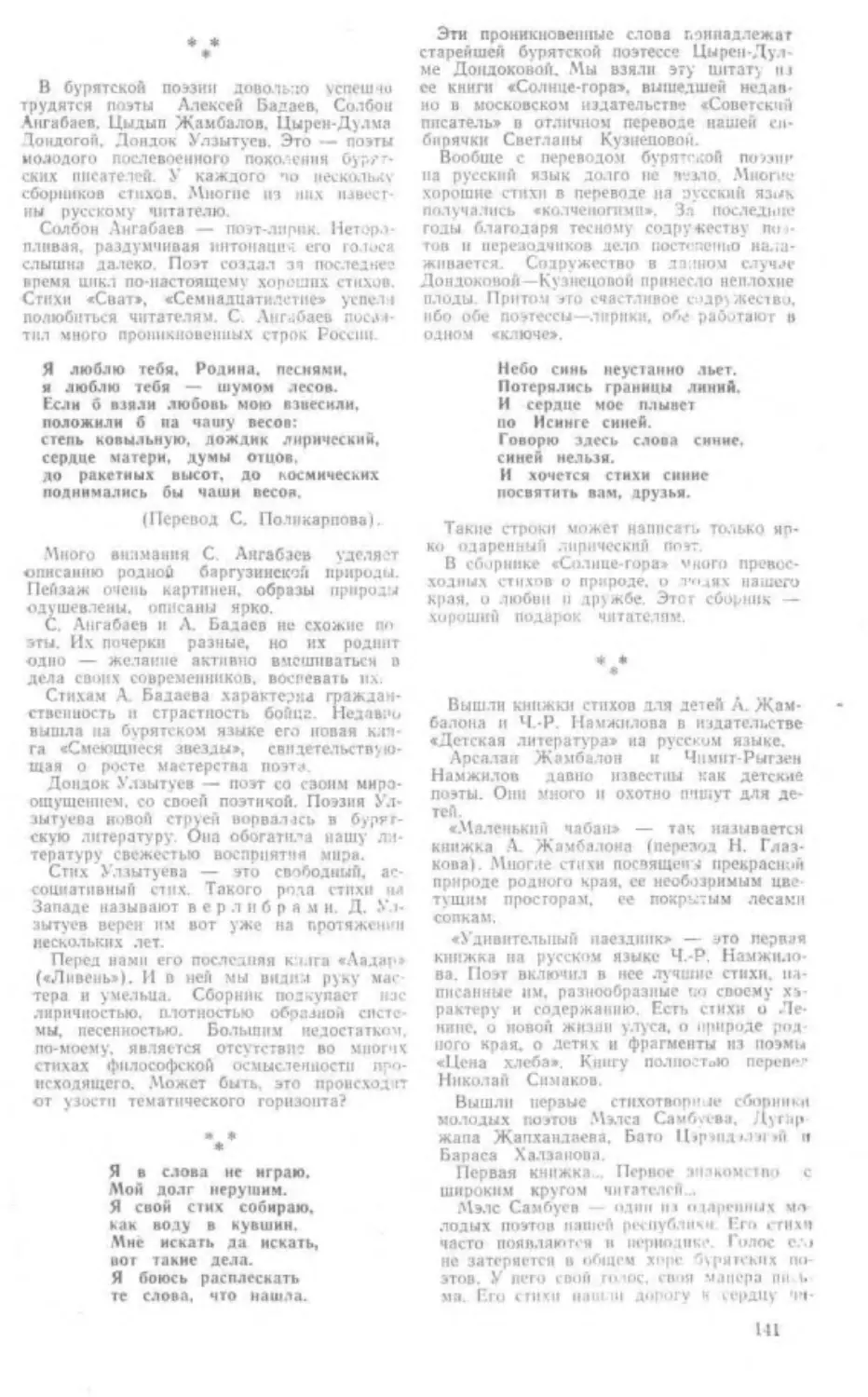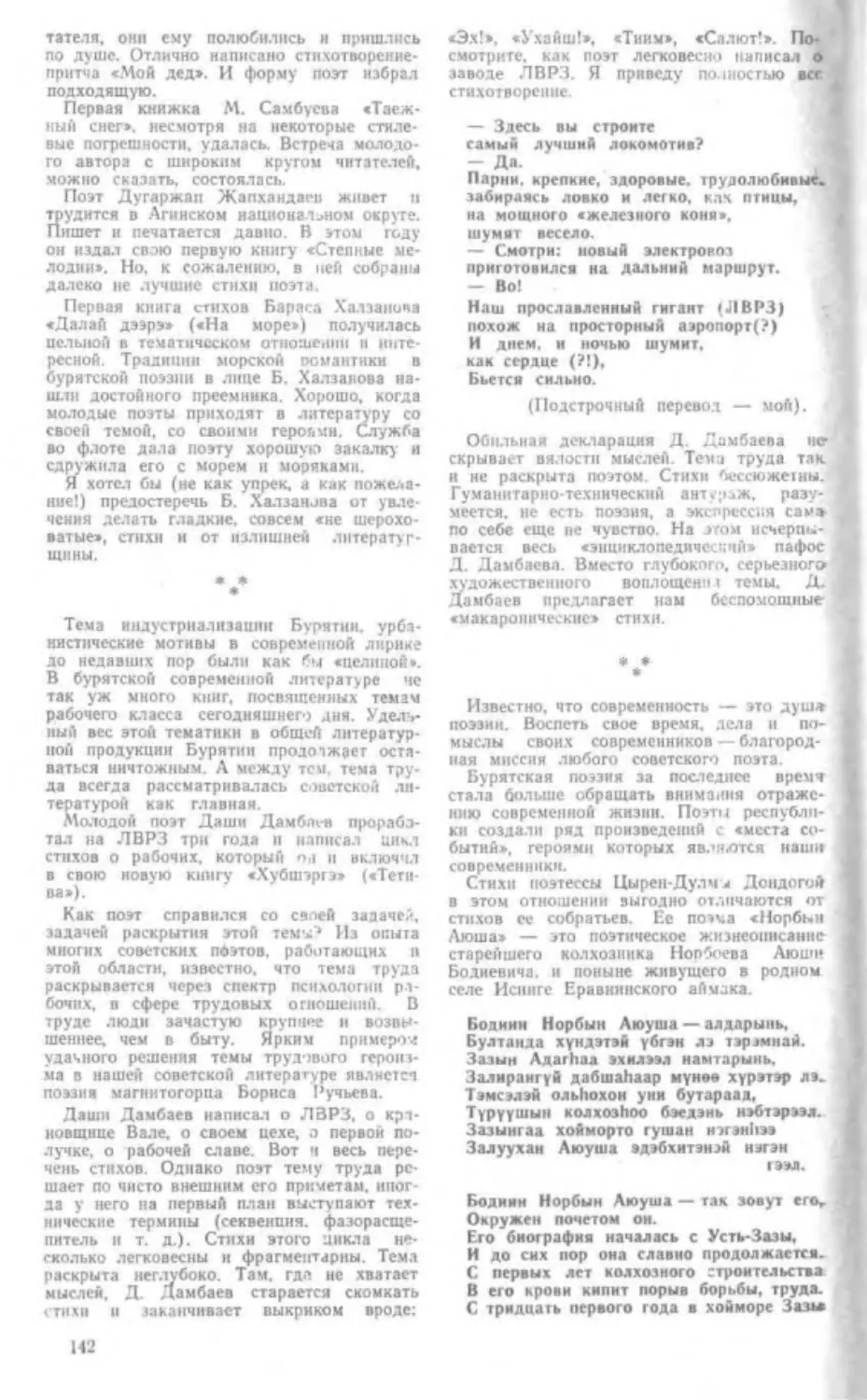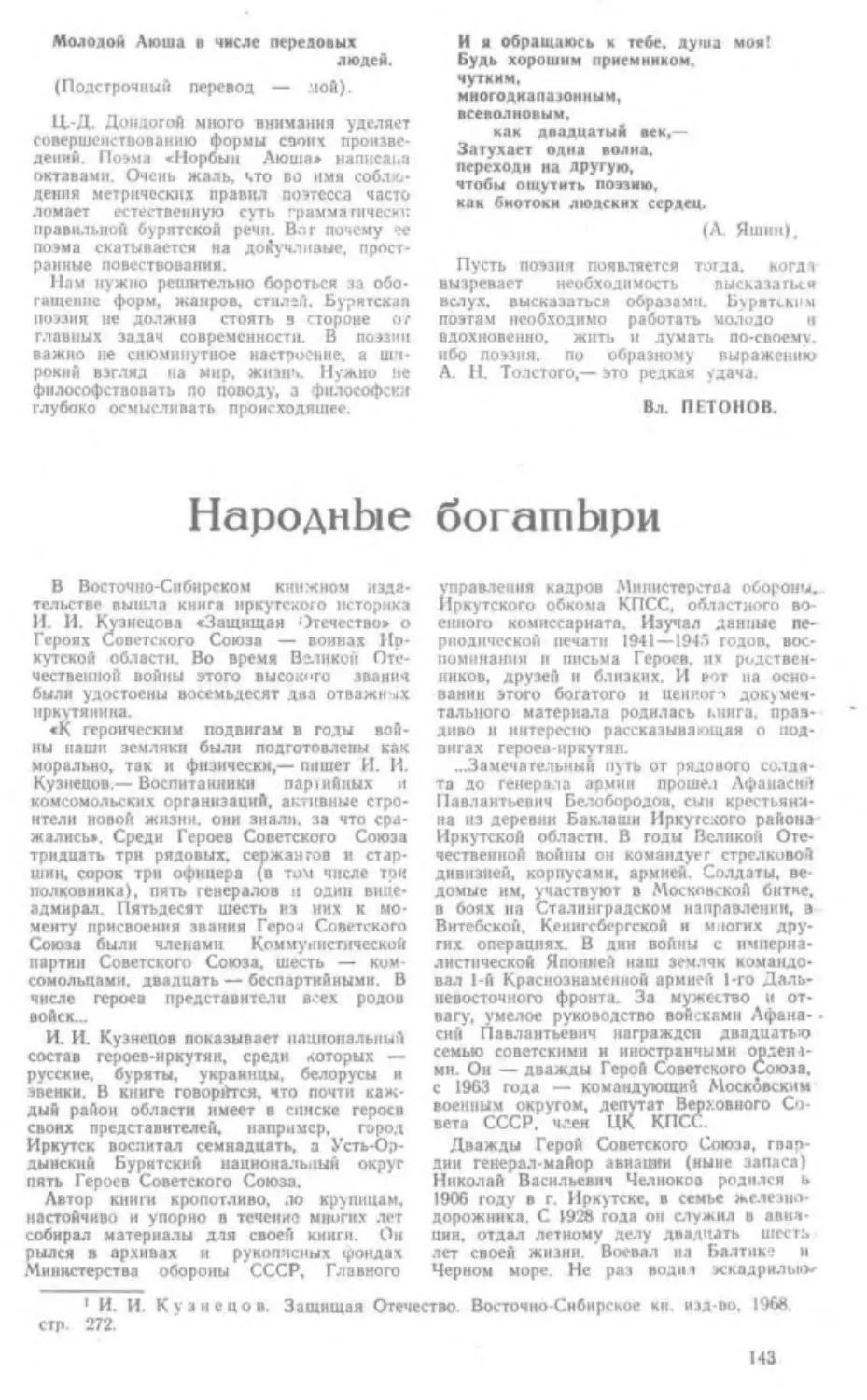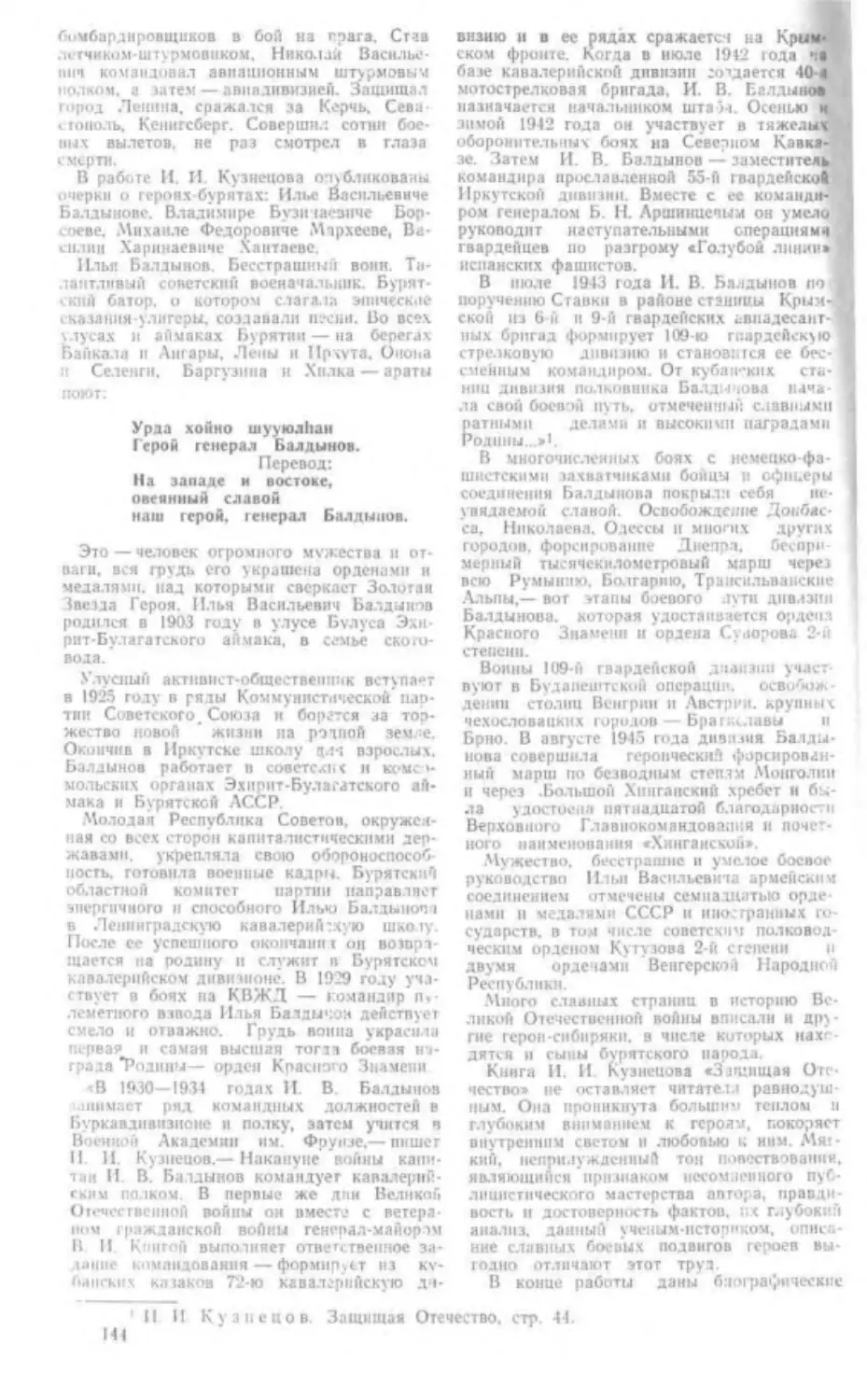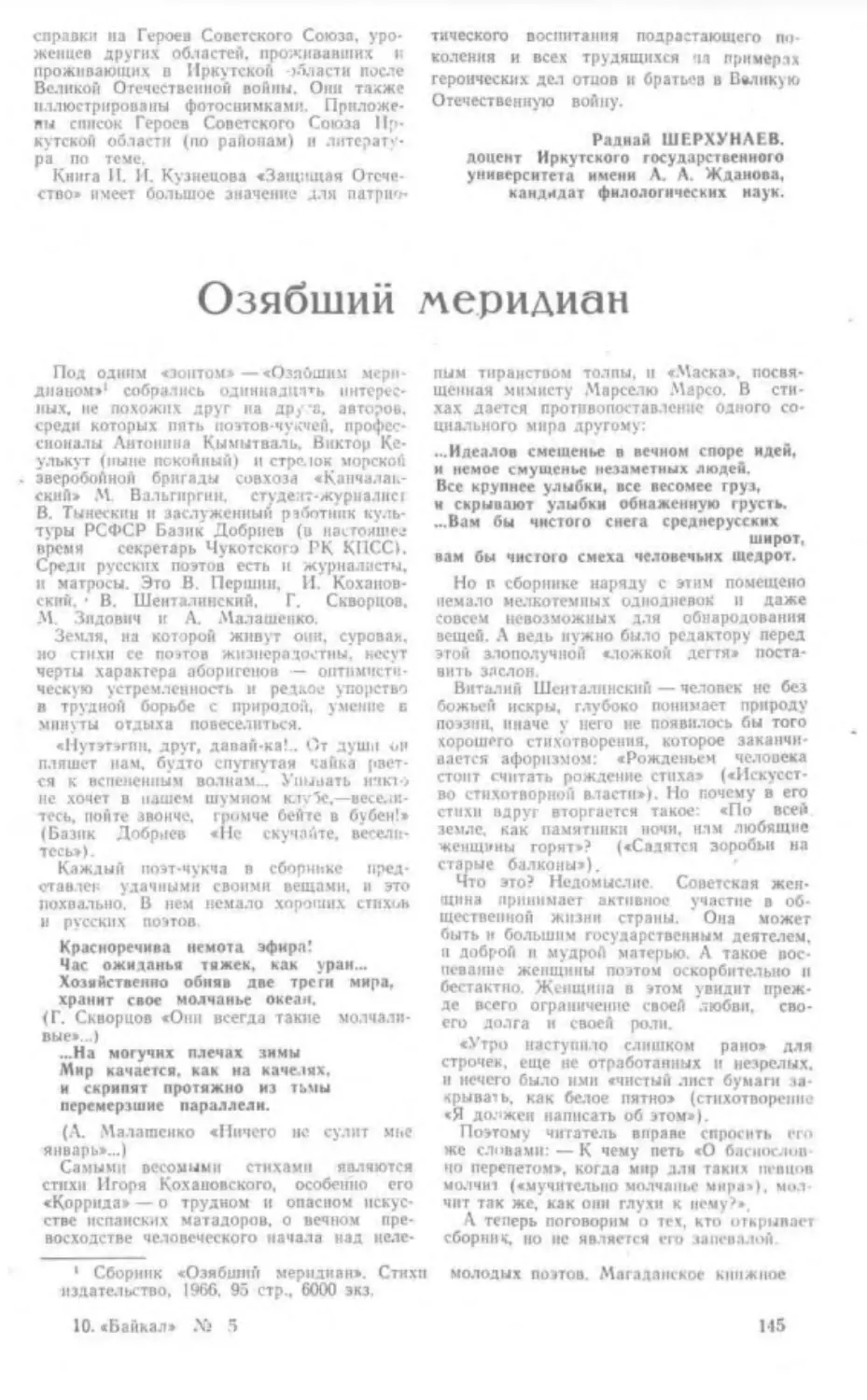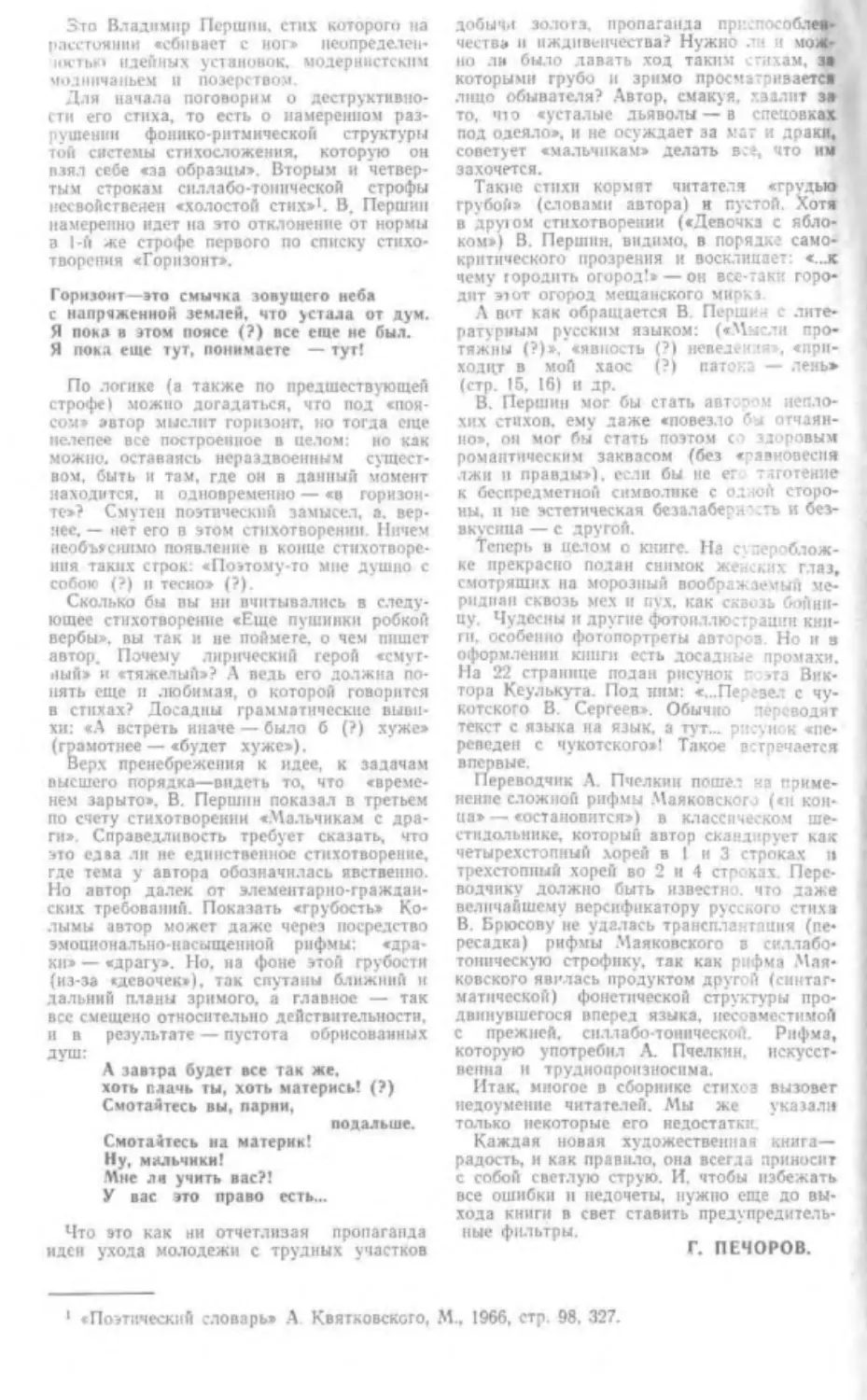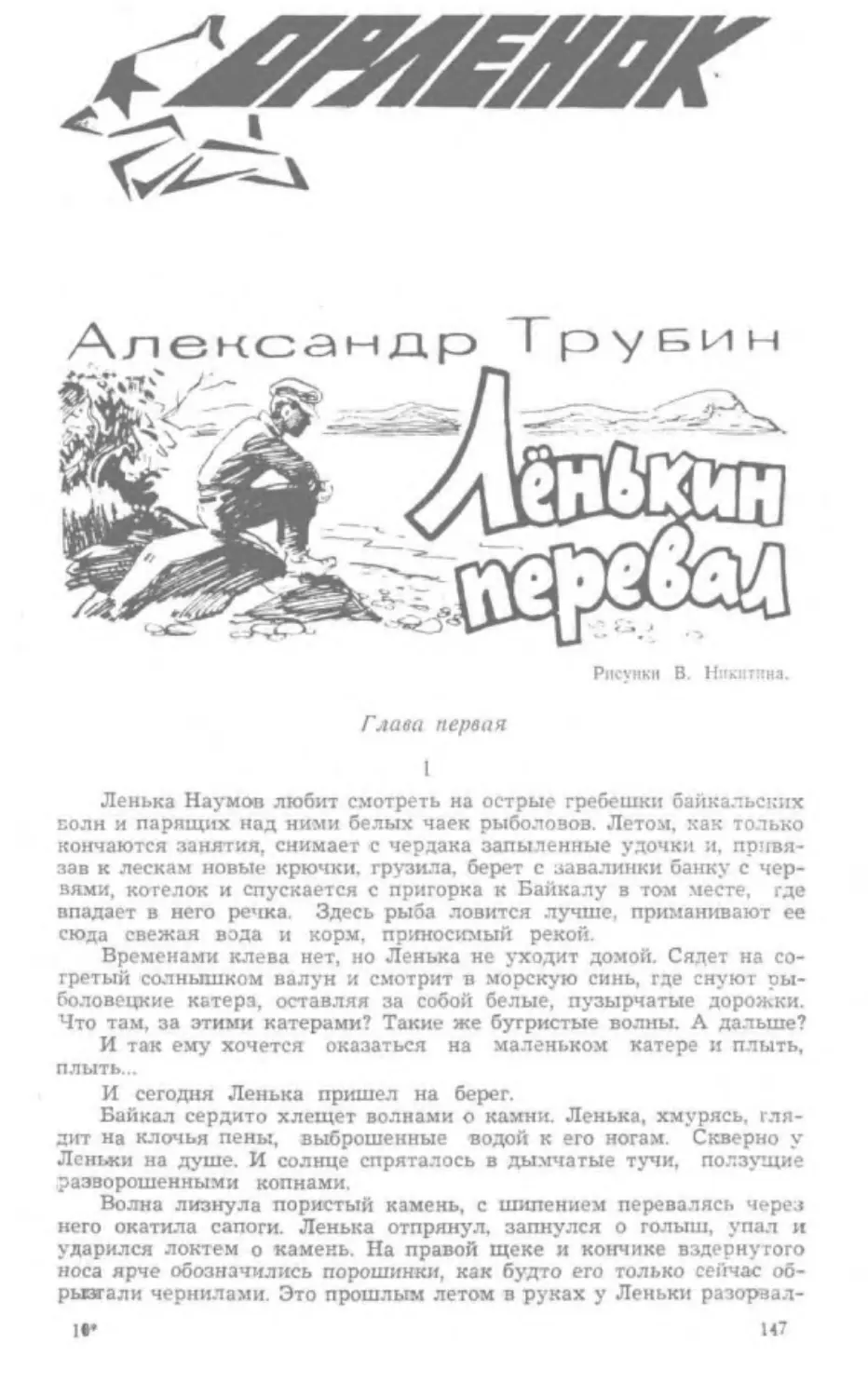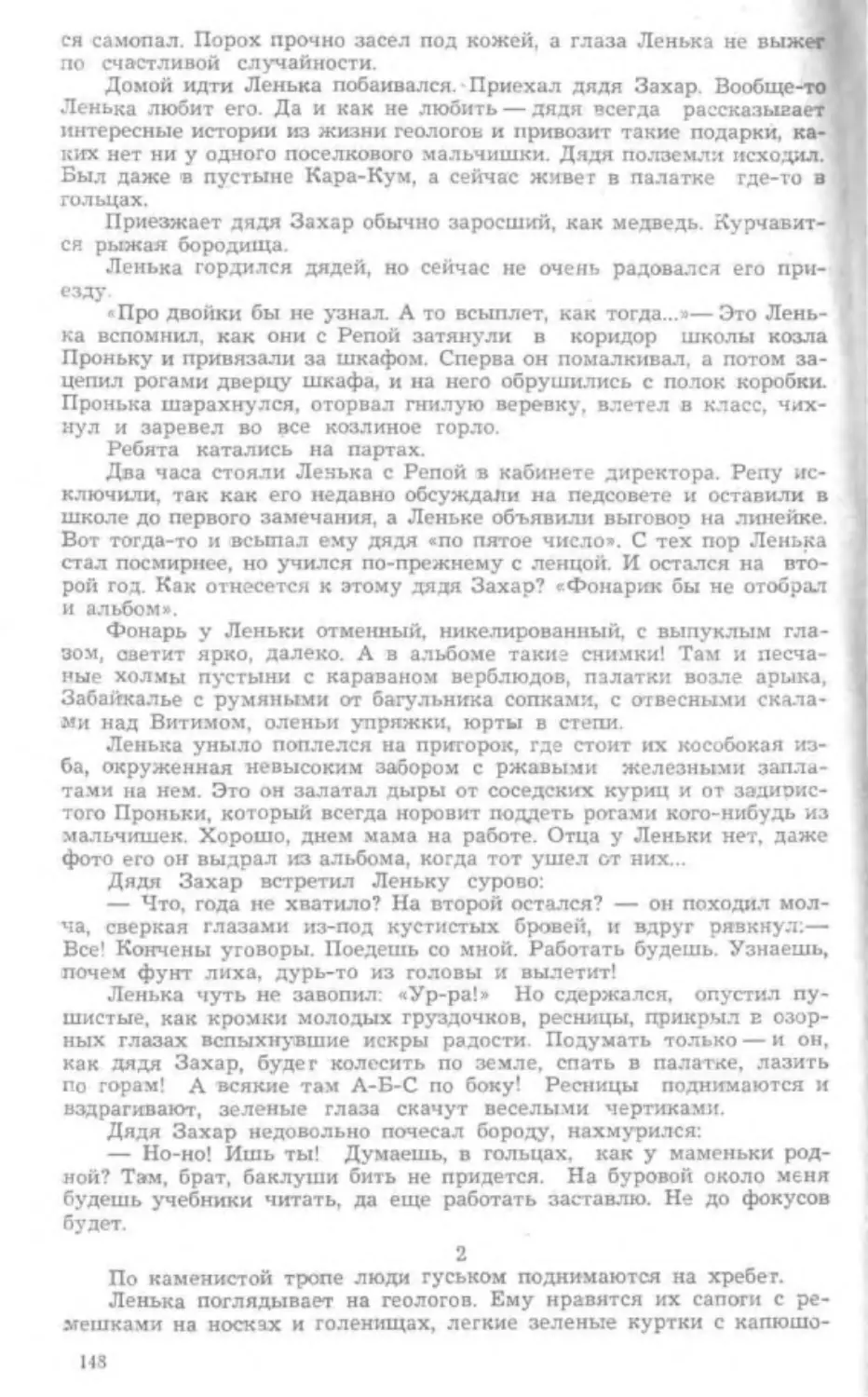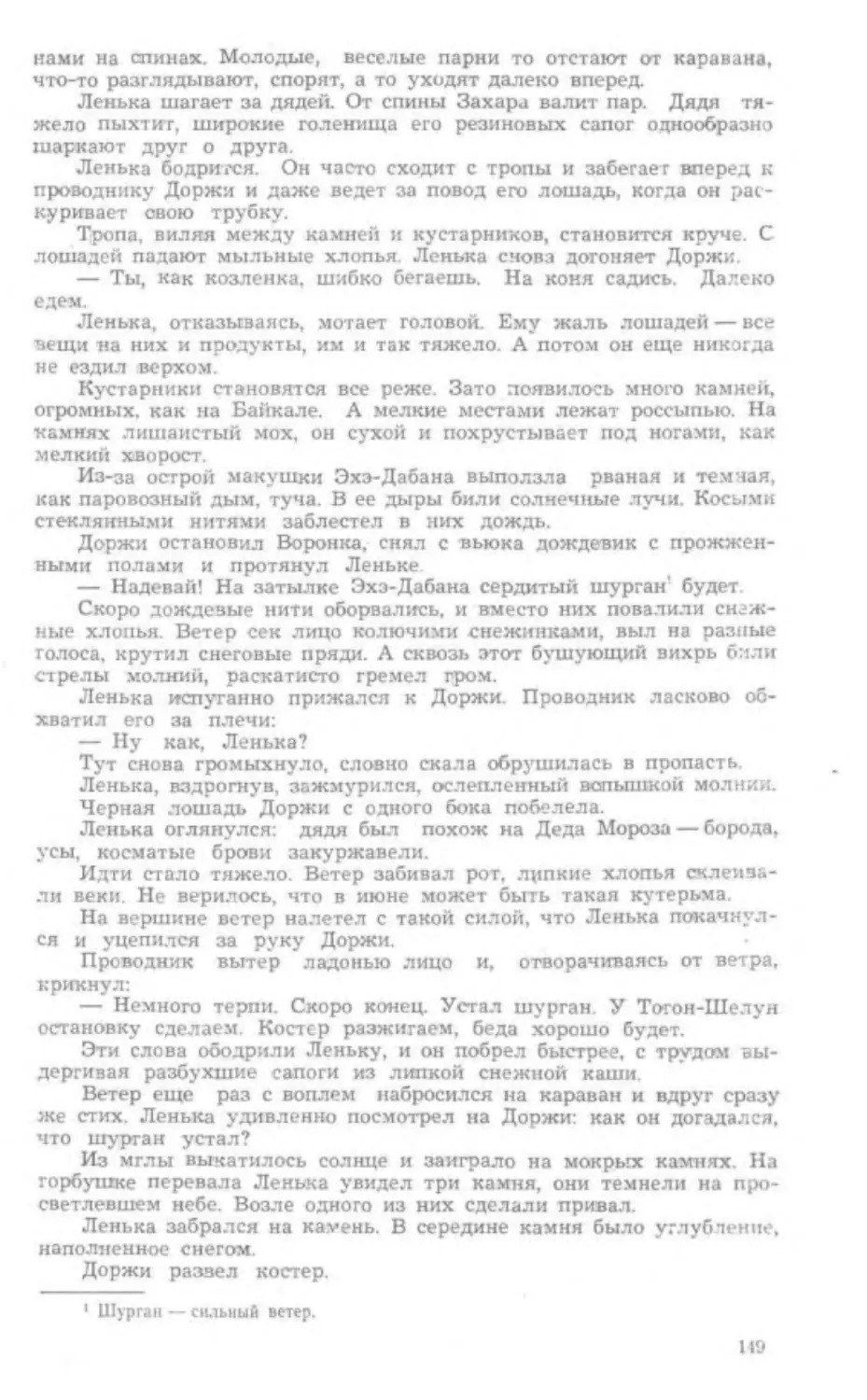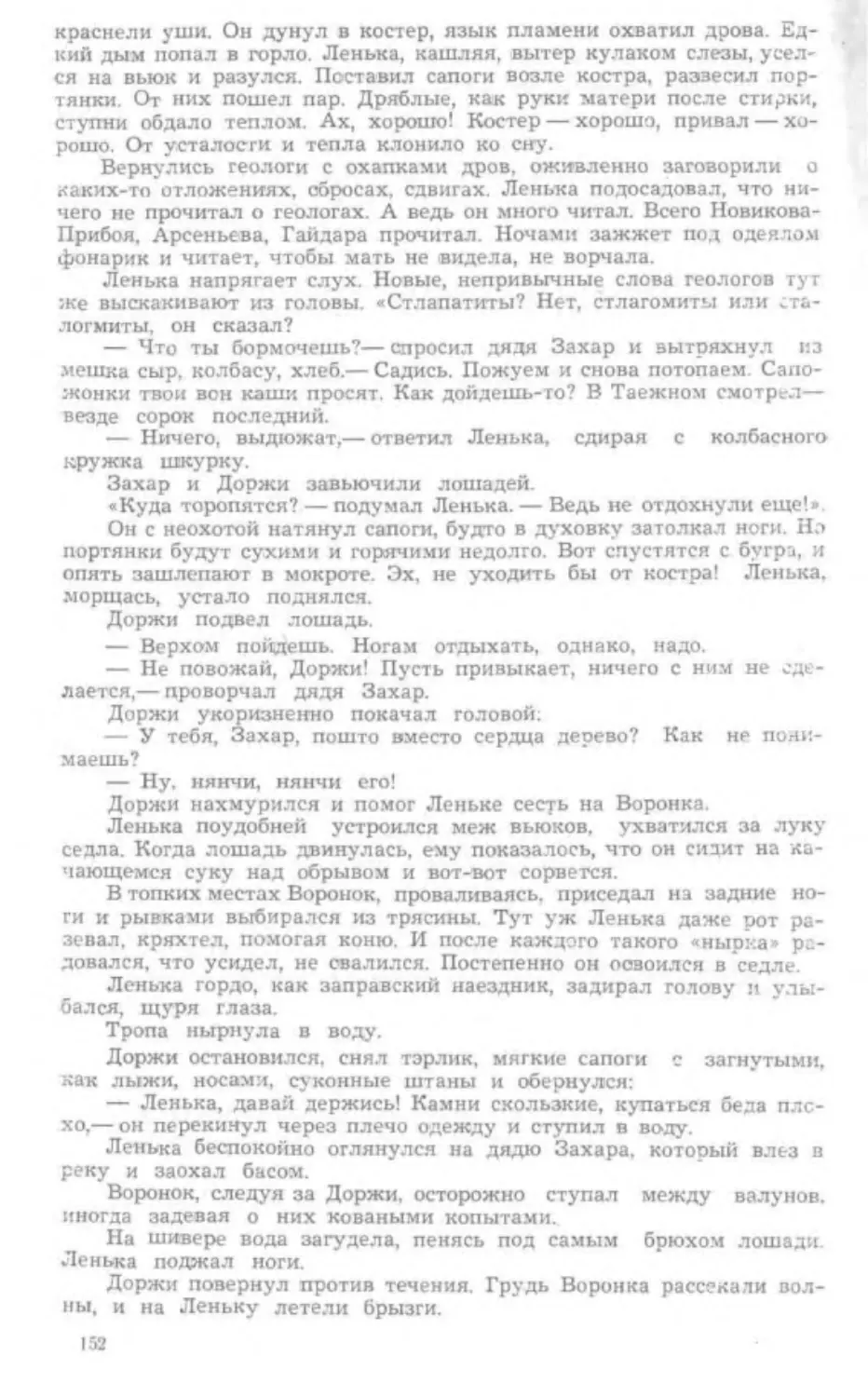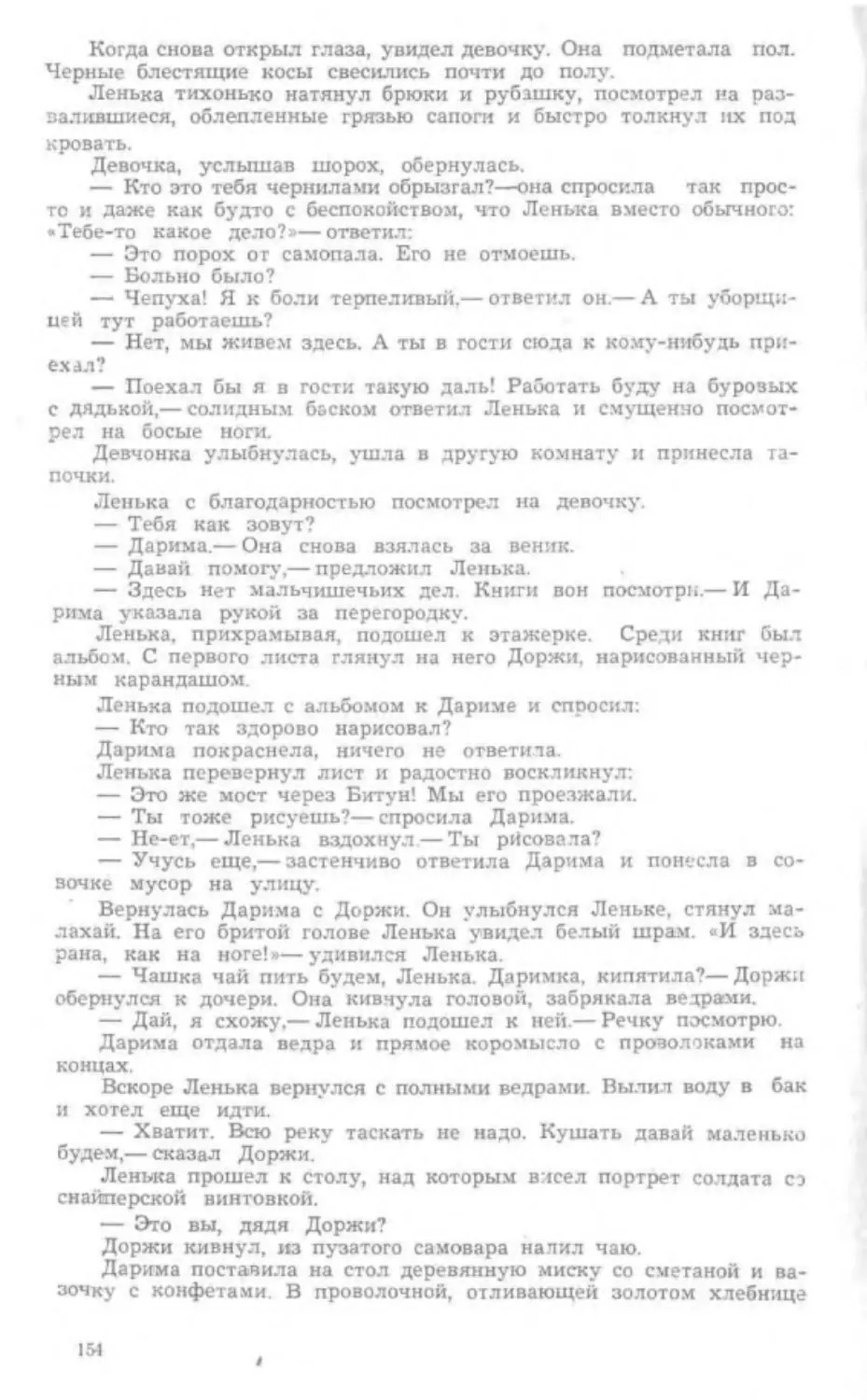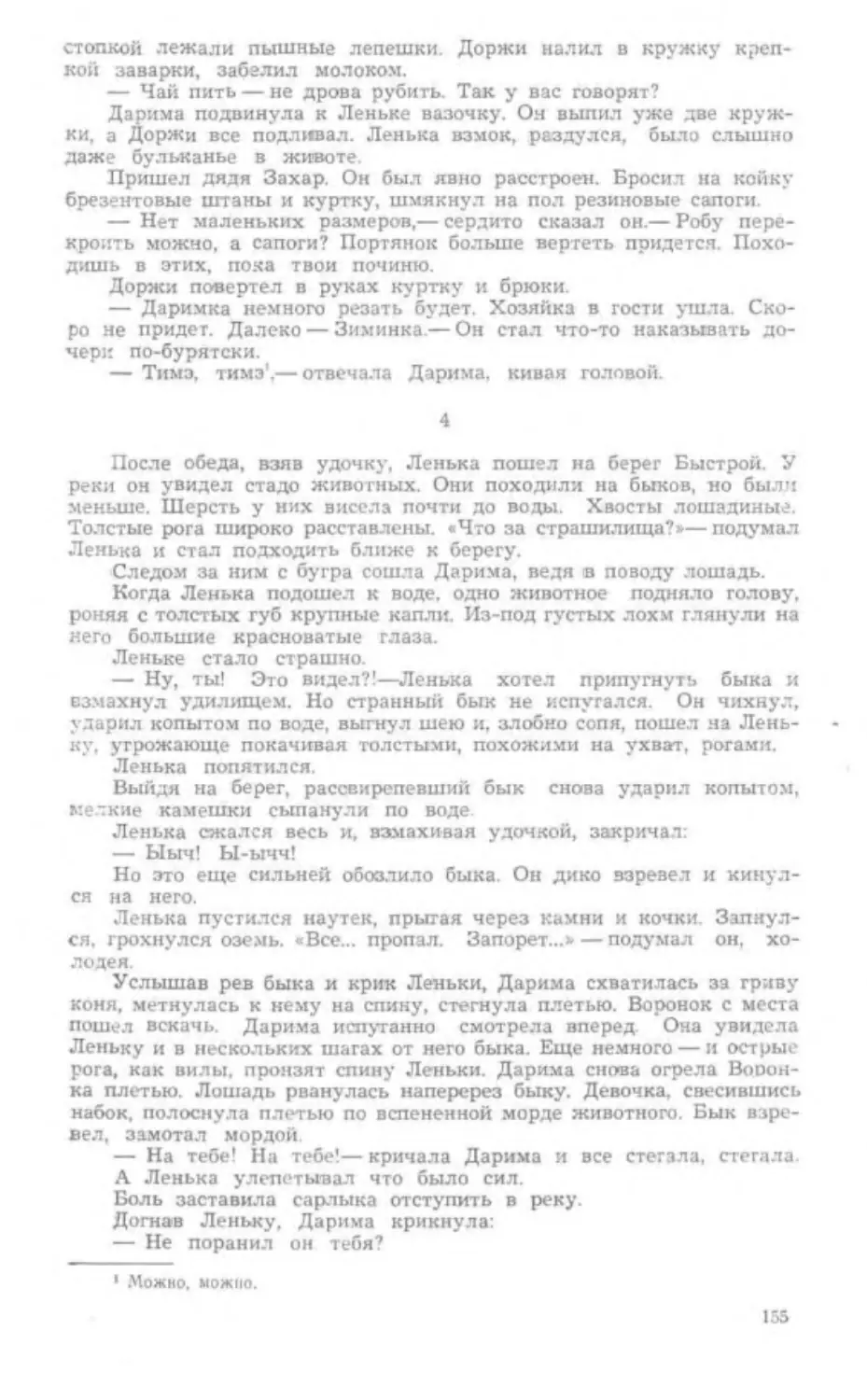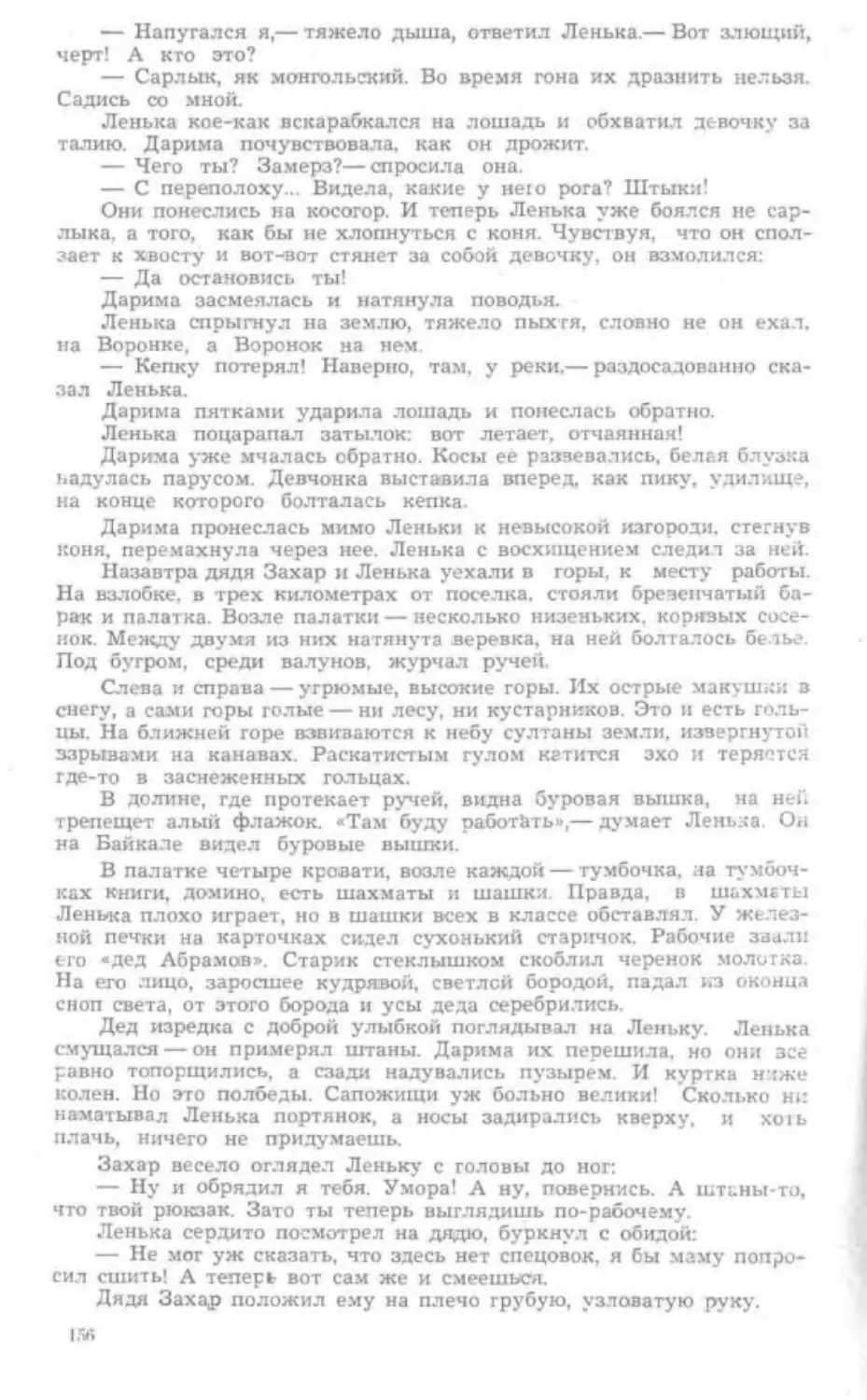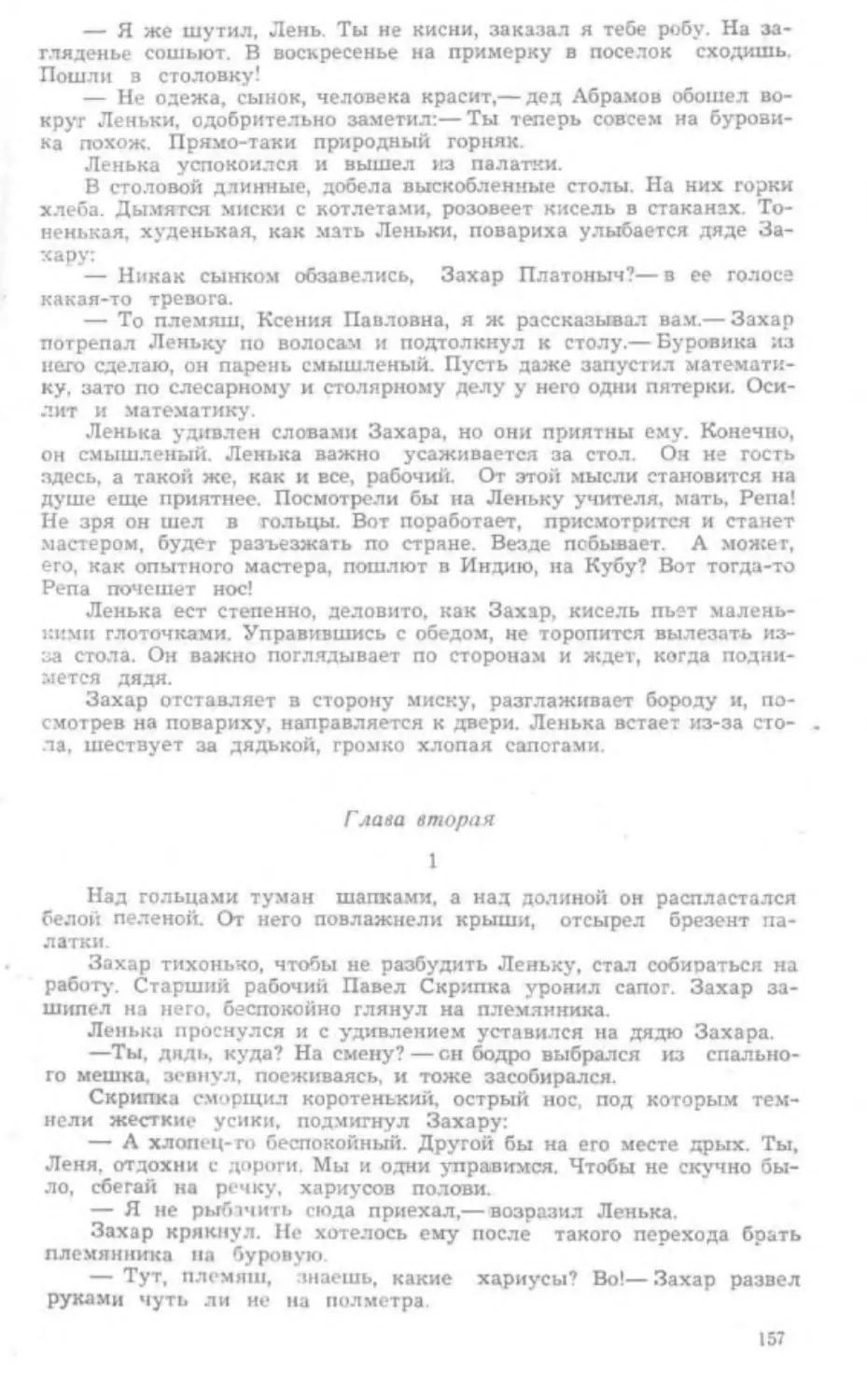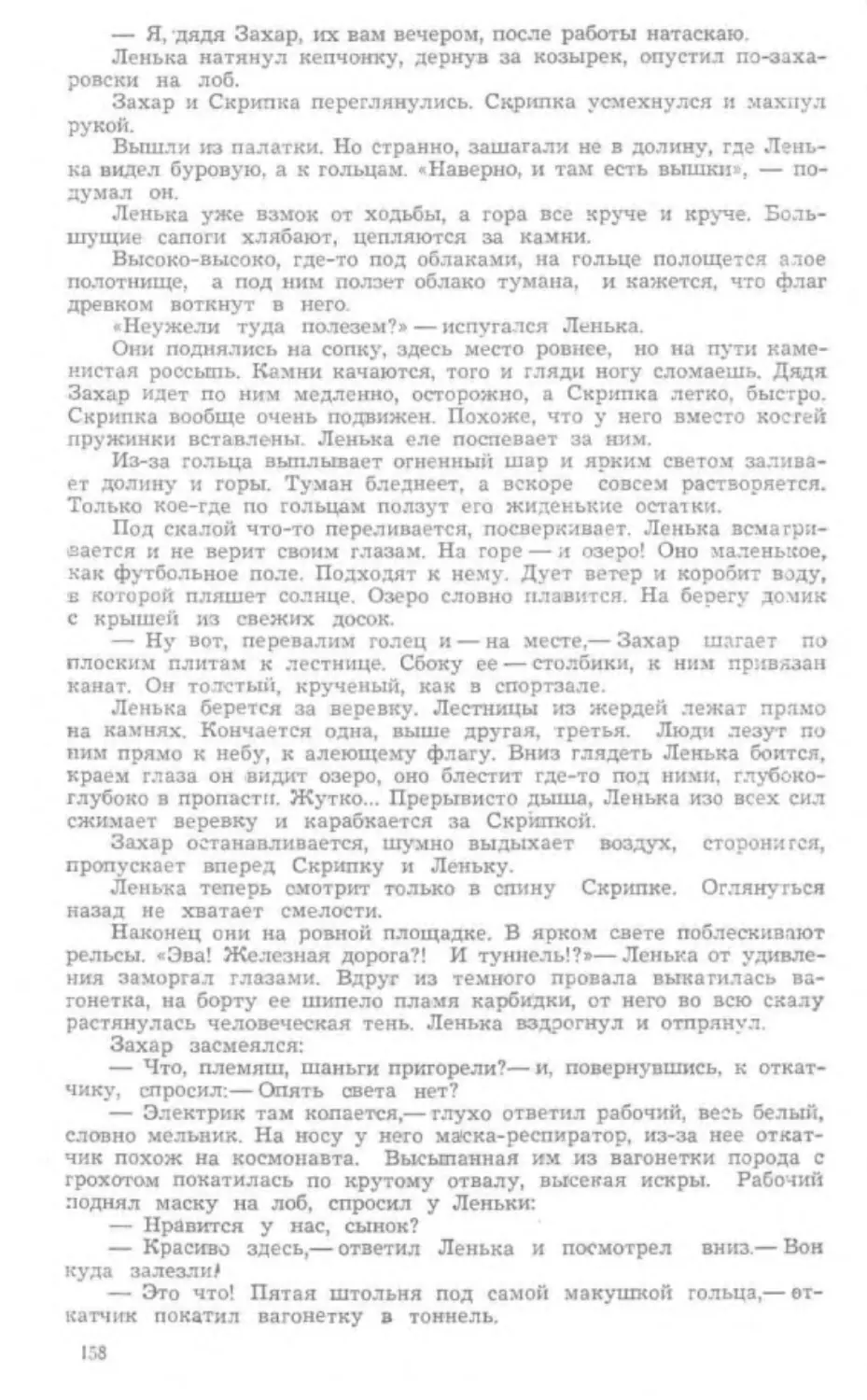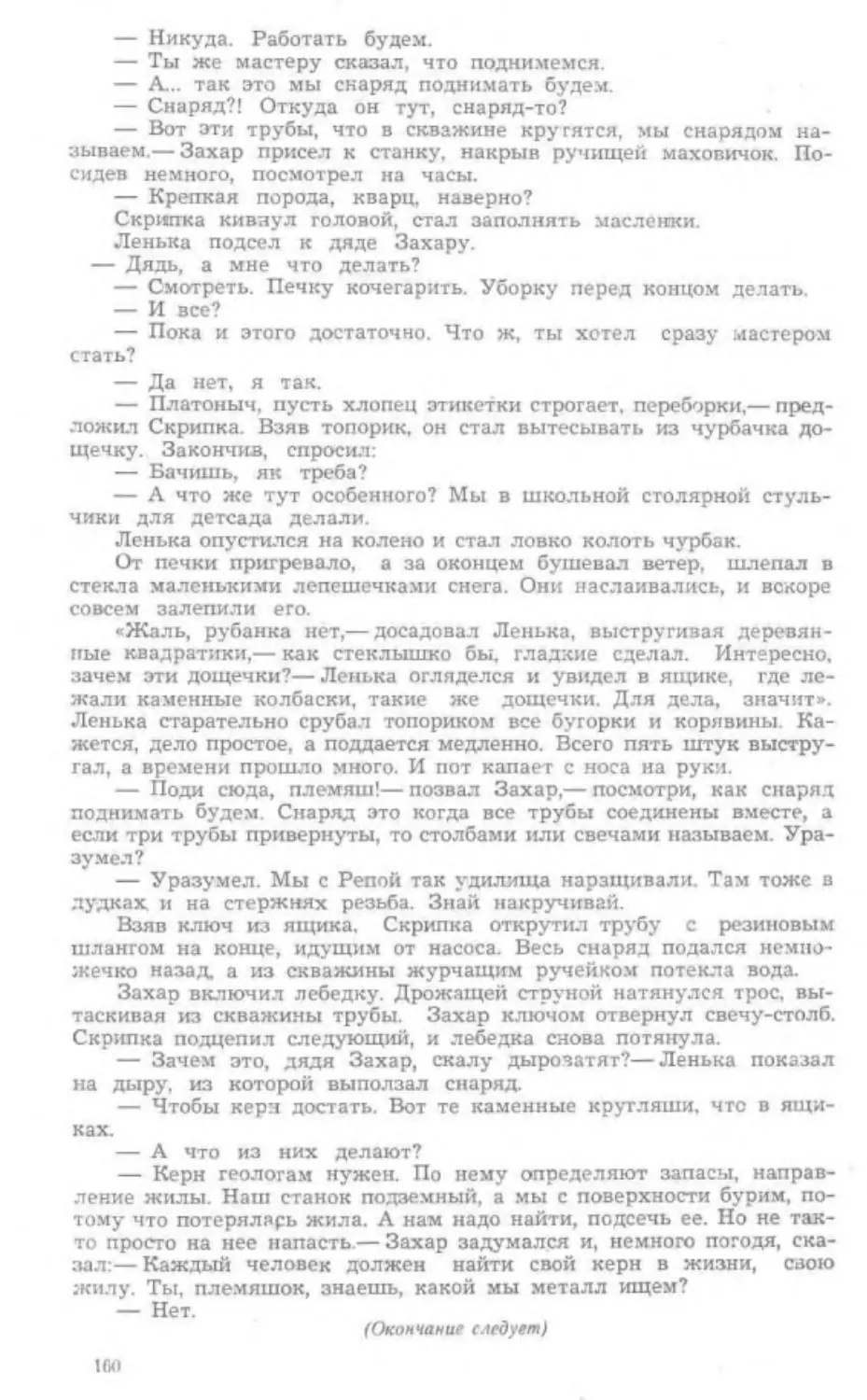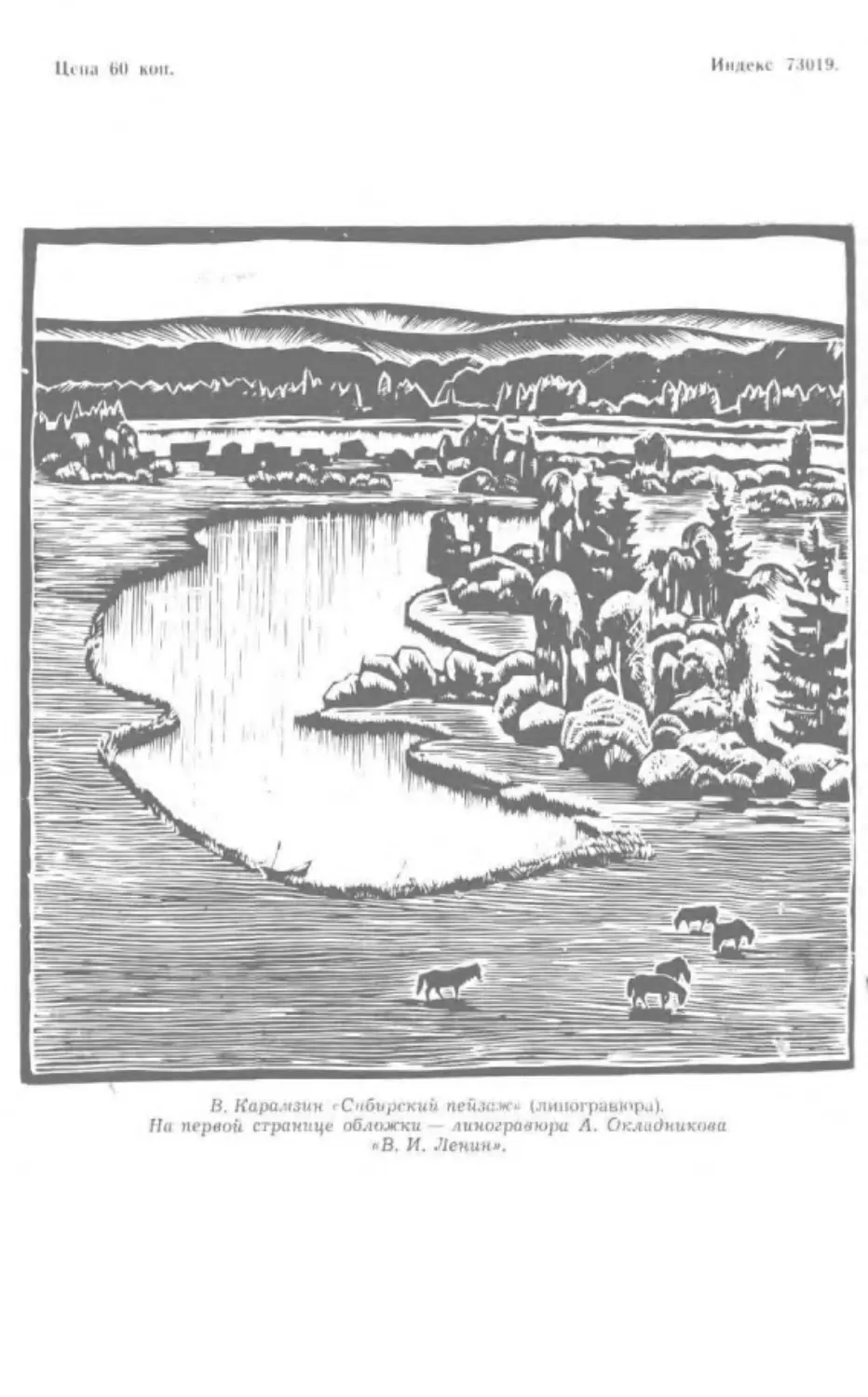Похожие
Текст
,,Илгеяио молодежи
предстоит задача создания коммунистического общества,".
В. И. Ленин.
ДОРОГИЕ
1
ДРУЗЬЯ
Пятнадцатый год издается литературно-художественный, общественно-политический, иллюстрированный журнал «Байкал», орган Союза писателей Бурятии. Если в
1955 году «Байкал» выходил тиражом в 6000 экз., то сейчас наш тираж возрос более
чем в два раза.
Расширилась и «география» нашего журнала. Практически «Байкал» расходится
во все концы нашей Родины. 145 областей, краев и республик являются подписчиками
«Ьайкала». Журнал высылается и за пределы нашей страны — в Польшу, Монголию,
ГДР, Болгарию, Чехословакию, Югославию, Канаду, США, Англию, Францию и друI ие зарубежные страны.
В «Байкале» печатались произведения Хоца Намсараева, Всеволода Иванова, Дащирабдана Ьатожабая, Константина Седых, Чимита Цыдендамбаева, Владимира Беляева, Цырена Шагжииа, Ильи Лаврова, Цырен-Дулмы Дондоковой, Галины Серебряковой, Николая Дамдинова, Евгения Евтушенко, Ьарадия Мунгонова, Исая Калашникова, Жамьяна Балданжабона,
Виля Липатова, Дамбы Жалсараева, Анатолия
Преловского, Ларисы Васильевой, Евгения Вучетича, Маршала Советского Союза
В. И. Чуйкова. «Байкал» систематически знакомит читателей с произведениями лучших
зарубежных писателей, а в особенности писателей сопредельных стран Азии.
В 1969 году в нашем журнале вы прочтете продолжение романа ИСАЯ КАЛАШНИКОВА «Разрыв-трава», повести СЕРГЕЯ ЦЫРЕНДОРЖИЕВА «Ночь, полная тревог», АЛЕКСАНДРА ТРУХАЧЕВА «Грустный дождь», главы из документальной повести начальника московского уголовного розыска генерал-майора А. Парфентьева
«Неоконченная борьба», автобиографическую повесть олимпийского чемпиона В.ЧАД И
МИРА < ДФРОНОВА. роман КОНСТАНТИНА СЕДЫХ «Утреннее солнце».
В ПОРТФЕЛЕ ЖУРНАЛА ЕСТЬ НОВЫЙ Р О М А Н Ж О Р Ж А М 1 М Е 1 Ю П А
I I | 1 Р О П Т П В Ы Е СВИДЕТЕЛИ». « Б А Й К А Л » Н А М Е Р Е Н О П У Б Л П К о
5 МЕГРЭ
Е V I I , I I Р Я Д П Р О И 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 И З ЛИТЕРАТУРНОГО Н А С Л Е Д И Я В . И В А Н О В А .
Люби гели полип про-иуг стихи Солбона Ангабаева, Цырен-Базара Бндмаека,
Николаи Дам.'ипюна,, Дамой Жалсараева, Дондока Улзытусва, Анатолия Щитова,
Нелли 5аку пи»" н ф.
I: РАЗ 1.1 . 1 1
И' | I
1Л Ч\ 1 С( ' I 1'-\ 1 П П М М 1 , ОЛЬГА ВОРОНОВА,
ВАЛ! I I I 1 1 1 1 \ НАИДАКОВА, ЮЛ 1 1 1 1 < У1ЕЛКОВ
Ю 1 ' П | " | 1.\ Т М И Н В . А Н А Т О Л И И
ПО/1111'
Под рубрикой «Авиации и космос
иск XX» кькчутм лпчик-мн мопаш Герой
Советскою Союза А.'И М I II ЛЕОНОВ м н н ф у н т р т-ртлг кж П И К о Л М ! К А . \ \ О Н .
писатели А МЕРКУЛОВ, Б ЛЯПУНОВ /мрнл.пн! \ К Р И В О Й 5 на, же будет продолжен конкурс ил Л у ч ш и й (||ЛМ1Л1 1ИЧ1Ч кии
р.нч кл I,
ПОСВЯЩеНИЫЙ
покорителям
космоса.
Рубрика «В мире инк-рссною» данно нриилснл,-! иппмлнпс наших чн га к-лей. Многие из них помнит С1ап,и « ( . г р а н а Дг.и.финни», «Ьоги прихопи п < космоса». «Летающие тарелки — миф или реальное к,?» и др. В лом рачи-лс мм по-прежнему будем
публиковать материалы об интересных находках, оскрмпшх, шштмах.
к стол1-:тию в. п. Л Е Н И Н А ПУБЛИКУЮТ* я < ГАТЬИ, во< ПОМИНАНИЯ,
Р А С С К А З Ы . СЕ:ПЧАС готовится к П У Б Л И К А Ц И И Ц Е Л Ы Й Р Я Д М А Т Е Р И А ЛОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ В Е Л И К О Г О В О Ж Д Я . < 14 I I I I I I I X
1ЮКЛОИ
СИБИРИ», «ШУШЕНСКОЕ:- СЕГОДНЯ», «НАД ВОЕННОЙ К А Р Ч О Й И Л Ь И Ч А » .
В разделе «Очерки и публицистика» мы подведем большой разговор о насущных
проблемах Ьурятии, расскажем о рыбаках Байкала, охотниках Баргузина, оленеводах
Баунта, геологах Саян. Здесь же вы прочтете репортаж нашего специального коррес-
пондента с борта тихоокеанского лайнера «Байкал», который курсирует по международным трассам от Находки до Гонконга.
ПОДПИСКА ЯА ЖУРНАЛ « Б А Й К А Л » П Р И Н И М А Е Т С Я ПОВСЕМЕСТНО
О Т Д Е Л Е Н И Я М И «СОЮЗПЕЧАТИ». ЖУРНАЛ В Ы Х О Д И Т РАЗ В ДВА МЕСЯЦА
ПА БУРЯТСКОМ II РУССКОМ Я З Ы К А Х . П О Д П И С Н А Я ИЕНА :', РУБ (Ю К. - Н А
1 Р У Б . 80 К.—НА ПОЛГОДА.
ЛИТЕРАТУРНО
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Орган Союза писателей Бурятской АССР
Выходит
один раз
в 2 месяца
на русском
и бурятском
языках
СОДЕРЖАНИЕ
Год издания
четырнадцатый
поэзия
М. ШИХАНОВ. Мунко Саридак.
В. КИСЕЛЕВ. Ангарские плесы. Венок
сонетов.
Н. ЗАКУСННЛ. Три сказки.
И. КАЛАШНИКОВ. Разрыв-трава. Роман.
В. МИТЫПОВ. Внимание: неопнтеки!
Фантастическая повесть.
СУ
7
82
ОЧЕРКИ И ПУБЛИЦИСТИКА
Н. ЛЕВСКПП. Под грохот канонады.
В. БАРАЕВ. Парни первых эшелонов.
В. КАРЖАУБАЕВА.
Юные
геологи
страны.
Ю. ДЕВИТТЕ. Сельское барокко.
А В И А Ц И Я И КОСМОС— ВЕК
5
75
79
XX
А. КРИВОЙ. Версты «Добролета».
«Пусть земля ему будет небом».
НАШ
71
73
129
135
КАЛЕНДАРЬ
А. ВАРТАНОВА. Бурятии— 45 лег.
137
К Р И Т И К А И БИБЛИОГРАФИЯ
СШЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
1968
БУРЯТСКОЕ
ГАЗЕТНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
В. ПЕТОНОВ. Поэзия — редкая удача.
!>. ШЕРХУНАЕВ. Народные богатыри.
Г. ПЕЧОРОВ. Озябший меридиан.
I -Ш
1П
145
ОРЛЕНОК
А. ТРУБИН. Ленькин перевал. П м ю и .
117
Главный редактор А ф р и к а н Бальбуров.
РЕДКОЛЛЕГИЯ: В л а д и м и р Бараев (заместитель главного редактора) | Юрий Быков, I, Георгий Граубин, Валентина
Каржаубаева (ответственным секретарь), Исай Калашников,
ьарадий Мунгонов (редактор отдела прозы), Владимир Петонов (редактор отдела к р и т и к и и п о э з и и ) , Константин Седых, Михаил Степанов, Алексей Уланов, Гунга Чимитов (ответственный секретарь).
Техн. редактор И. Нечаев.
Корректор 3. Александрова.
Подписано к печати 30/1Х-68 г.
Формат бумаги 70X108, п. л. 10 (13.7). Н-0462>
Тираж 12.388 экз. Заказ 1700.
лдрес редакции: Улан-Удэ, ул. Ленина, 27. Тел. 28-82, 26-91, 2Л-36, 70-66.
Типография Управления по печати при Совете Министров БурАССР.
[•I
,
>Урятская АССР
п.*.
Михаил ШИХАНОВ
Л\УНКО САРИДАК
Первый бурятский комсомольский поэт
В степи качалась буря,
полынь к земле клоня...
И тут в затылок пуля —
и он упал с коня.
Хрипели губы: — Гады!..
Еще сведем мы счет!..
Шептали губы:—Гады!..
А кровь в глаза течет.
Сказали
- Поэт
Но нет,
обрезом
бы, спросили:
и вдруг — враги?
не зря грозили
кулаки!
В капкане сплетен гнули,
но не согнулся он.
Летело слово пулей
и пятился нойон.
Мунко, ты был бы другом,
шагал бы во главе...
Но кровь горячим кругом
темнеет на траве.
Ты шел ло жизни круто
и вот всему3 отбой...
Обидно — в ту минуту
нас не было с тобой.
Виктор КИСЕЛЕВ
АНГАРСКИЕ ПЛЕСЫ
Венок сонетов
Голубые, открытые плесы
от истока до устья реки.
Сторона рыбаков и матросов,
край, что пишется с красной строки.
У причалов, на пристанях шумно.
Летний зной — золотая пора.
Открывают горластые трюмы
грузовые суда, сейнера.
Возвращаются
Якорь брошен
Можно к морю
А потом снова
парни с путины.
у самой плотины.
с любимой пройти.
в рейс собираться. .
Мореходы Иркутска и Братска
навсегда в поисковом пути.
Сторона рыбаков и матросов
сердцу русскому вечно мила
от дурманящих летних покосов
до пригорков родного села.
От
до
от
до
глубоких разрезов и штолен
полей, уходящих в тайгу,
сибирской души хлебосольной
клеймящих проклятий врагу.
Мы богаты не хлебом единым,
и не только лишь тем, что едим мы.
Всем неверящим в нас вопреки
мы подняли своими руками
выше звезд, над землей, над веками
край, что пишется с красной строки.
I
Голубые, открытые плесы.
Даль затянута дымкой седой.
И тумана распущены косы
над прозрачной студеной водой.
Перекаты в узорчатой пене.
Гриву поднял взлохмаченный лес.
Ниспадают крутые ступени
по-хозяйски сработанных ГЭС.
От Иркутска до Братских острогов
пролегла вековая дорога.
Снаряжаются в путь земляки:
верхолазы, шоферы, студенты.
Край, что пишется с красной строки,
прежде был с с ы л ь н о к а т о р ж н ы м краем.
Бедолаги, ворье, варнаки
почитали его сущим раем.
От пришельцев храня отч>1Й кров,
посельгу ненавидели люто.
Только вскоре смешалася кровь
и чужого, и местного люда.
И слагают стихи и легенды
от истока до устья реки.
В церкви поп молодых не венчал...
Это было началом начал
жизни праведной, сытой, разумной.
Хочешь в прошлое верь иль не верь.
Полюбуйся Сибирью теперь:
у причалов, на пристанях шумно.
От истока до устья реки
берега в бесконечны* мчломах.
Бродят в синей воде тальники
под навесом рябин и черемух.
У причалов, на пристанях шумно,
как в кипеньи клокочет вода.
С берегов снята снежная шуба
и на русле ни снега, ни льда.
Ошалело всплеснулся таймень.
Заиграла заря на востоке.
Старых крыш островерхая тень —
тусклый оттиск на сонной протоке.
Самоходные статные баржи
встреч идут караванам плотов.
И стоит, не мигая на страже,
караульный наряд бакенов.
И смыкаются старицы с ней.
Островками замшелых камней
берега опоясаны косо.
След тропинки ведет в зимовье.
Русло строго промерено лотом.
И кивают по-дружески флоту
вешки: там впереди шивера...
Это ты, Приангарье мое,
сторона рыбаков и матросов.
Разливаясь по сопкам, по гарям,
забирает в полон Приангарье
летний зной — золотая пора.
6
Летним зной — золотая пора,
встреча зорек закатной с рассветной.
На остывшей скале до утра
стонешь ты от любви безответной.
Берег ровный и берег крутой,
их река отсекла друг от друга
голубою нерочной чертой,
что зовут по старинке — разлука.
Золотая пора не мила,
есл.« ты словно челн без весла
заблудилась в увалах угрюмых...
Твой любимый вернется сюда.
Видишь, снова у пирсов суда
открывают горластые трюмы.
Открывают горластые трюмы
пароходы, швартуясь в порту.
Гибких трапов гудящие струны —
крыльев трепетных взлет в высоту.
Словно тени на белом экране
корпуса затушеваны мглой.
Крановщица на башенном кране
дирижирует властно стрелой.
Для нее этот труд не обуза.
«Майна»—«Вира». И спелых арбузов
вырастает на пирсе гора.
День к концу. А девчонке все мало:
- Приходите, швартуйтесь к причалу,
грузовые суда, сейнера!
-
Грузовые суда, сейнера
без труда обойдут перекаты...
Г.лава штурманам и шкиперам,
нашим предкам седым, бородатым.
По излучинам синих дорог
вы походкой морских капитанов
шли на барках, минуя пооот,
и Падун, и Похмельный, и Пьяный.
Дальше плыли по волнам крутым,
рассекая веслом кормовым
рукавов и проток паутины.
Рейс кончался разгульным питьем...
Прежде хоженым вами путем
но «вращаются парни с путины.
9
Нпшращаются парни с путины.
III у1 чалости валятся с ног...
I и- и мы ни были, вечно в пути нам
• нпит отчей земли огонек.
Ми чужбине он с нами незримо
Н1.1 I и Пудет во все времена.
Им шип нас глазами любимой,
ЧН1 Лп сонно сидит у окна.
Огонек. Не один и не два.
Перекрестных огней кружева,
вечно милые сердцу картины.
Где сплетаются ленты дорог,
есть у каждого свой огонек.
Якорь брошен у самой плотины.
10
Якорь брошен у самой плотины,
там, где море уходит в залив.
Задушевный напев «Бригантины»
зазвучал как сигнал, как призыв.
Белой чайкой девичья косынка
заметалась в простертой руке.
Это ты, моя Тоня-тростинка,
без которой скучал вдалеке.
Я бегу, задыхаясь, по сходням.
Шел к тебе и вчера, и сегодня.
Я в пути задержался, прости!
У разбитого штормом причала
наконец, эта встреча настала...
Можно к морю с любимой пройти.
и
Можно к морю с любимой пройти,
посмотреть на закатный багрянец.
Можно в море с любимой уйти.
Если только сарма не нагрянет.
Впрочем, что им, влюбленным, сарма:
воздух — птице, иль озеро—рыбе.
Даже в море житейском шторма
лучше мертвой полуночной зыби.
Кто девятый рассерженный вал,
грудью в море открытом встречал не привык понапрасну бояться.
Люди к морю приходят опять,
чтобы силу его испытать,
а потом снова в рейс собираться.
А потом снова в рейс собираться,
распростившись с друзьями, с семьей.
И из странствий домой возвращаться
каждый раз будто это впервой.
Не минуешь ангарские села,
в них встречают гостей от души
омульками крутого засола,
что под чарку вина хороши.
Кто прошел сто путей, сто дорог,
знает, чем знаменит посошок,
перед тем, как с друзьями р.кткпься.
Курс проложен, намечен маршрут:
- До свиданья.- Протай!?.
Салют'
Мореходы Иркуккн и Ьратска.
13
м
Мореходы Иркутска и Братска,
лесники Бирюсы и Оки,
в этих людях тугая закваска,
хоть душою они простаки.
Навсегда в поисковом пути
с нами ветер походов и странствий.
—Ангара, покорись и свети
негасимым огнем гидростанций.
Их Сибирь родила и вскормила
с чистым сердцем, с шальной головой.
За ипурвалом, за легким кормилом
словно в палубу влит рулевой.
На полях хлебородных долин
электрических линий опоры.
Вслед за Братском зовет Усть-Илим
на свои вековые просторы.
Он незыблем на мостике шатком,
в нем жива фронтовая ухватка.
понапрасну с таким не шути.
В Коршунихе вскипела руда —
подчинясь человеку труда!
Закрутились турбины колеса.
Шторм лютует, сорвавшись с постромки.
Ермака и Дежнева потомки
навсегда в поисковом пути.
Каждый новый колес оборот
гимн реке работящей поет:
— Голубые, открытые плесы!
ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
Скоро будет неделя, как слег Назар Иваныч. Знал: невозвратно
ушла силушка, смерть стоит в изголовьи и тихо ждет своего часа.
Лежал он на старой деревянной кровати, на той самой, где родился. На ней и отец помер, и дед...
В избе было темно, холодно. Стекла обросли рыхлым льдом и
почти не пропускали света, густой сумрак скрывал и передний угол.
и куть. Холод вползал под овчинное одеяло, студил ослабевшее тело.
Скрюченными пальцами Назар Иваныч держал одеяло у бороды, свитой в помело, и шарил взглядом в темноте переднего угла, там, где
•едва угадывалась божница, шевелил сухими губами: «Мать пресвятая
богородица, заступись перед всевышним за меня, грешного». А рядом
со словами молитвы текли мысли суетные, земные, и неизбывной тоской томили душу. Видел всю свою жизнь, и до того она маленькой,
коротенькой оказалась, что всю ее охватывал одним взглядом — от
•смерти отца до этого часа.
Он рано помер, батька-то. Хворый был, надорвался в молодости,
да так и зачах, будто колос, прихваченный ранними заморозками. Перед кончиной говорил малолетнему Назарке: «Прости, сынок, не сподобил господь оделить тебя по-людски». От деда батьке досталось
справное хозяйство — не удержал в немощных руках, растерял по
крохе. Оставил после себя эту вот избу — старую, срубленную еще в то
время, когда мужики пилы не знали, коровенку с телком оставил, кобылу охромевшую.
Другого бы с таким хозяйством нужда в бараний рог свернула, а
он, Назар, ничего, сумел оклематься, стать на ноги крепко. Помог господ!,. Баба попалась добрая — ловкая, сильная, на работу зарная. В
гупряге с ней тащил, бывало, и то, что двум мужикам не под силу.
Жи:ичь стала налаживаться. Дом новый пятистенный срубил, лосп завел хороших, сбрую справил. Сыновья стали подрастать и
один по одному рядом подпрягаться. Четырех сынов принесла Наталья, дай ей бог царство небесное...
А не вышло жизни сытой, беспечальной, знать, не ссудил господь.
Началась война с германцем, потом ни с того ни с сего царя, будто
прыщик с носу, сковырнули. Царя не шибко жалели. Было у семейских давнее, застарелое нелюбье к царям державным. За веру старую, истинную, натерпелись от них бог знает сколько. Попервости по
всей Расее-матушке как псов бездомных гоняли, канали-маяли со
злобой неутолимой, а позднее — баба подлая, Катька-государша, сдогадалась вытурить их за студеное Байкал-море. Через всю землю
русскую, через горы крутые, через леса дремучие гнала непокорные,
богу верные семьи... С того и — семейские. Посадила на земли скудные, суходольные — хошь живи, хошь помирай.
Выжили. Все горести-напасти вынесли, веры праведной не сменили, обычаев древних не порушили. На земле, потом и слезаыи сдобренной, теперь растут хлеба богатые. Господь, он все видит, помог утвердиться, силу обрести. Он, может за те муки, за те слезы и подсек
царский корень.
И все бы ничего, да без царя осатанел народишко, взлютовал, как
с цепи сорвался, и покатилась по земле, закрутилась кровавая кутерьма. Не обошла стороной, не минула та кутерьма и деревню Тзйшиху.
С гоготом, свистом, стрельбой налетела казачня атамана Семенова и
ну шастать по дворам, по амбарам, тащить все, что поглянется, а скажи слово поперек—шкуру плетьми снимут, надсмеются.
У него в ту пору было три добрых коня. Казаки их поседлали,
повели со двора, оставив взамен двух запаленных, загнанных коняг.
Пробовал не давать — куда там! Отшвырнули с дороги кат; мешок с
мякиной, нагайкой по заду полоснули. От изгальства такого, от горя
помутился у него рассудок. Кинулся на казаков с кирпичом в руках.
Не успел ударить. Скрутили руки и так уделали, что полгода кровью
харкал. С тех самых пор вся середка нездорова, отбили содыхи, окаянные.
«Через них, душегубов, раньше срока в могилу схожу».
У крыльца проскрипел снег. Кто-то подергал примерзшую дверь,
не смог отворить, стукнул ногой. Дверь отскочила от косяков, распахнулась. В избу с беремцем дров вошла Настя, дочка Изота, соседа.
Она затопила печь, принялась мыть посуду. Споро работала Настя,
без шума и лишних разговоров. Хорошая девка выросла у Изота.
Чем-то походит она на покойницу Наталью. Та в молодости была такой же полногрудой, краснощекой, так же вот, без звона и бряканья,
умела обиходить дом. Берег ее, не лупил чембуром или вожжа лги. как
другие мужики делают, а помирать приходится в пустом доме, без
женского присмотра.
Казаки-то не над ним только изгалялись, редко какой двор обошли, мало кого не тронули. Сильно озлобились мужики, сгуртовались
в партизанский отряд. В тот отряд пошли и все его парни. Старшему,
Макарше, шел тогда двадцать второй, младшему, Максюхе,— то1ько
пятнадцатый.
Пощипали мужики казачню подходяще, а те японцев, басурман
копотконогих, привезли. Запылала Тайшиха с обоих концов. Назар
успел со скотом в лесу спрятаться, но пятистенок новый со всем накопленным добром, амбар с хлебушком сгорели. И Наталья сгорела.
Не могла добром попуститься, спасать в огонь кинулась...
Старший, Макар, с войны не вернулся, убили его японцы под
Зардамой. Игнат, Корнюха и Макся весь восток прошли, столки V л и
японцев в море, вернулись домой, а у него все хозяйство в разоре.
Один из семеновских коней сразу же издох, другой еле ноги таскает—
•'.то на нем наработаешь? Парней женить, выделять надо — что вы8
делишь? Помытарились они без малого четыре года, прибытков никаких, на злосчастье неурожай за неурожаем случался в те годы, совсем разорились. Отправил их на отхожий промысел, копейку добывать...
От размышлений этих отвлекла Назара Настя. Чай заварила, подала стакан на блюдце. Стакан в его руках ходуном ходил, чай расплескивался на постель. Давно ли ворочал этими руками пятипудовые мешки... Господи, за что покарал меня?
Из своих рук, как маленького, Настя напоила его. И кашей с ложечки накормила.
В избе стало тепло, и он столкнул с волосатой, словно бы замшелой груди одеяло, повернулся на бок. Лед на окошках высветлился,
с подоконников на пол потекла вода.
— Дядя Назар, я сон видела: навсегда остались ребята в городе.
— Настя глядела на него с настороженным ожиданием.
— Пустое... Куда они денутся от хлеборобства, от земли?
О парнях его каждый день разговоры. Оба ждут их не дождутся. Настюха невестится, хотя и не хочет вида показать. Кто ей приглянулся — Игнат или Корнюха? Макся-то не подходит, молодой еще и
нельзя ему раньше старших жениться. Приедут — разберутся сами.
Только бы не избаловались, не запутались в сетях нечестивого.
Жизнь-то вон какая вертячая, беспутная стала, непотребства в ней
не менее, чем гнили в болоте. В самое нутро семейщины змеей вползает богопротивная новина, подтачивает стародавние устои. Настюхин
брат, Лазурька, привез с войны бабу стриженую. Стыда не ведая,
ходит она в мужних штанах, перед образом господним крестом себя
не осеняет. Сам Лазурька табачище жгет. Бедный Изот принужден
кормить сына и невестку из особой посуды, вроде басурманов каких.
Случись такое в старые времена — Лазурьке бы ноги повыдергали, а
его супружницу в речке как поганую суку утопили. Теперь мужики
молчат, будто ничего не замечают, а недавно его к власти допустили,
председателем сдэлали.
Когда Настя вышла кормить скотину, перекрестился на иконы,
хриплым шепотом попросил:
— Господи, не дай затвердиться окаянству, опали гневом своим
праведным семя неверья и разврата.
В посветлевшем сумраке переднего угла тускло поблескивала позолота старых икон, но ликов святых разглядеть было невозможно.
и от этого тяжесть на душе Назара Иваныча увеличивалась. Надо было затеплить перед божницей свечу, но самому не добраться до переднего угла, а Настя, должно, до вечера не придет.
Но она пришла раньше. Не успев закрыть за собой дверь, закричала:
— Приехали! К Тараске подвернули! Свои монатки снимает с воза Тарас.
Он хотел подняться, но не смог. Настя подскочила к нему, усадила. В углах его глаз копились слезы и сползали вниз по бороздам
морщин.
— Подай мне, доченька, рубаху. Там она...
Из сундука Настя достала косоворотку красного сатина, надела
и.-! него, застегнула все пуговицы неверными, торопливыми пальцами.
Взвизгнули ворота, во дворе послышались осипшие, простуженммс голоса. Настя припала к окошку, продула во льду кружок.
— Распрягают... Ой, господи, идут!—она просилась в куть, вернуч.к'!., одернула курмушку, поправила платок и остановилась у кростиснув руки на кондыре.
Сидеть Назару Иванычу было трудно, он быстро изнемо! Дверь
9
< оглмми полосками инея в щелях заколыхалась, словно отражение на
<цгпокойной воде, поплыла. Но он собрал все силы, чтобы не упасть:
ребят своих надо встретить как подобает отцу.
Парни вошли в избу, стуча мерзлыми обутками, остановились у
порога, сдернули шапки, чинно, неспешно перекрестились. От одинаковых дубленых полушубков сизоватым дымком струился морозный воздух. Эх и парни же у него! На плечах Игната полушубок
чуть не лопается, широк в кости, матер, весь в ерохинскую родову.
И борода у него совком, как у всех ерохинских. А Корнейка-то как
раздобрел, он будет, пожалуй, что, помогутнее Игната. О Максюхе
этого не скажешь. В росте не прибавил, не окреп в кости. Война его,
зеленого, замотала, не дала вырасти.
— Раздевайтесь. Настюша, потчуй чем-нибудь. — Он лег. На землистом лице расправились морщины; в глазах, старчески линялых,
затеплилась голубизна.
Средний, Корнюха, скинул полушубок, повесил на гвоздь, обернз'лся. Назар Иваныч обомлел. Сразу-то, из-за поднятого воротника
полушубка, он и не заметил, что подбородок у Корнюхи голый, как
бабья грудь. И у Макси тоже... Господи, боже мой!
—• Поди сюда, Корнейка!
— Чего, батя? — сын наклонился над ним, опираясь руками о
край кровати. В синих глазах — тревога и жалость.
- Где твоя борода?
— Ах, это... — виновато моргнув, Корнюха провел ладонью по
лодбордку. — Неловко, батя, с бородой, просмеивают.
— Нечестивцы! — слабой костистой рукой ткнул ему в нос — Игнат!.. Ты куда смотрел?
— Я им говорил...
— Говорил! Ишь что — говорил! По сопатке бить надо! По харе
бесстыжей!..
Корнюха сделался красным. В смущении теребил он чуб и переводил взгляд с братьев на Настю. Бубнил простуженно:
— Каюсь, батя. Не буду больше. Думал: какая беда.
— Замолкни, окаянный! — голос у Назара Ивановича осип, будто
ему кто горло сдавил.—Деды наши веру через все перенесли чистой...
незапятнанной. Этим... род свой сохранили. В ней сила... крепость.
Порушите, не защитит господь...
Говорил он все тише, задыхался. Корнюха, жалея его, попросил:
— Помолчи, батя, передохни.
— Пропадете!—Назар Иваныч приподнялся на локте.— Захлестнет, изничтожит вас злоба и низость. Дети... г-аши... погрязнут в слепости духовной... в грехах тяжких. Род наш рассосется, сгинет в неверии. Блюдите старину, блюдите! — он задохнулся, упал на подушку, сверкнув белками глаз.
Макся зачерпнул в кадушке воды, поднес отцу. Лязгнув зубами
по железу ковша, Назар Иваныч сделал глоток, затих. Корявые пальцы его, похожие на корни старого кедра, слабо мяли складки одеяла.
Под ногтями скопилась, густела землистая чернота.
Все молчали. В тишине шелестел лишь судорожный, испуганный
шепот Насти:
— Господи... Сусе Христе...
Руки Назара Иваныча дернулись и замерли. Еле слышно он проговорил:
— Ничего не вижу. Темно. Душно. — Голова сползла с подушки,
запрокинулась, торчком встала борода, нижняя губа отвалилась, обнажив желтые крупные зубы.
Ю
Поземка слизывала с могильных холмиков снег и белыми космами стлалась по полю. Почерневшие кресты стояли вкривь и вкось,
напоминая обгорелые, мертвые деревья. Темный, как все другие, со
снегом, набитым в щели, стоял и крест на могиле матери. Когда ребята вернулись с войны, отец приводил их сюда в родительский день.
Они нарвали голубых подснежников, положили на холмик. Могли
ли
думать тогда, что так скоро придется копать рядом еще одну лгогилу...
Игнат вздохнул, глянул вниз, на село, залегшее в неглубокой лощине. И там мела, крутила, гнала потоки снега поземка. Дома, казалось,
плыли в белой кипени и никак не могли уплыть от этой сопки с черными крестами.
Камнем звенела под ломом мерзлая земля, от нее откалывались
мелкие кусочки, сыпались под ноги. За спиной скреб лопатой Корнюха. У края ямы, спиной к ветру, сидели на корточках Тараска Акинфеев и Лазарь Изотыч, или, попросту, Лазурька. Тараска хлопал рукавицами, согреваясь, и как всегда, языком трепал, балаболил о чемто, скаля белые зубы. Лицо у Тараски круглое, пухлое и красное,
будто снегом натертое, глазки крошечные, усмешливые, с простоватой хитрецой. Игнат прислушался к разговору.
— ...гладкая, круглая, верткая, бравая, словом, бабенка. Домик
свой, с другой стороны, и машина швейная, и копейка водится. А я ей
все равно -— нет! Не могу, говорю. Гонять на базар каждый божий
день — раз, в тарелочках кормиться — два. Тоска, не жизнь. Дома у
меня кладовая под боком. Захожу, отсекаю полпуда мяса, заваливаю
в чугун. Сварилось, за один присест заметаю. Дышать тяжело, а на
душе — теплынь, благодать...
Игнат с силой ударил ломом. Брехун, ботало. О жратве да о женитьбе, других разговоров у него нету. За годы, что с ним на заработках были, надоел, хуже не знаю кого. Хы... «Гладкая», «бравая». Нашел
гладкую. Плоская, как стиральная доска, во рту половины зубов нет.
Глядеть на такую и то лихо, а он... Ну ладно, бреши, если охота, но
найди для этого другое место. Тварь ты какая, или человек?
— ...просится. А я ей: ты что, ошалела? — ввинчивался в уши голосок Тараски. — Шитьем у нас не прокормишься. В поле гебе нельзя: красоту попортишь — ты без выгоды и я Б убытке.
Лазурька чуть усмехнулся, косил на Тараску недоверчивым глазом. Игнат разогнулся, хмуро крикнул:
— Будет вам базарить! — протянул лом Тараске. — На, подолби.
Лом перехватил Лазурька.
— Погреться надо,— он скатился в яму, стащив полами полушубка комья земли и снега.
Чтобы не привязался Тараска со своей болтовней, Игнат пошел
меж могилок. Ветер трепал бороду, заворачивал воротник, хлестал по
голенищам черствой снежной крупой. За холмиками снег закручивался, оседал в сугробы, и они горбились точно так же, как могилы.
Сразу и не различишь, где могила, где просто сугроб, разве что по
крестам, но и они не везде уцелели. Многие свалились, лежат тут же,
и нет до них никому дела. За кладбищем косогор без снега и травы.
]ладкий, обструганный ветрами, покато сбегал к пряслам огородов и
гумен. Щебнистая земля была нага и мертва, по ней без задержки
мчались жидкие ручейки поземки. Над некоторыми домами Тайшихи
поднимался дым, ветер заворачивал его и растягивал вдоль улиц. Избы с гривой дыма напоминали Игнату паровозы, бегущие в заснежную
|.чль. И он с горечью подумал, что жизнь так же вот обманчива, кажется, что она мчится на всех парах к новым станциям, оглянулся —
<-юит на одном месте, как эти избы, придавленные снегом.
11
По улице, путаясь в широченном сарафане, пробежало бабенка.
С костылем в руках проковылял старик. Рысью промчался мальчонка с ведром. У всех какие-то дела, заботы, хлопоты, все суетятся,
мечутся, а того не понимают, что только эта вот полоска земли, голой
и убогой, отделяет жилища живых от последнего пристанища мертвых.
В приземистых избах, за бревенчатыми стенами — плачут и смеются, любят и ненавидят. А зачем? Никто не скажет.
Зачем? Первый раз задал себе вопрос Игнат много лет назад в
такой же вот вьюжный день, когда стоял на коленях перед обезображенным телом братухи Макара. Макся и Корней были тогда в другом отряде, они не видели брата мертвым. Ни им, ни батьке он ничего не рассказывал. И не смог бы рассказать...
Когда японцев прижали у Зардамы, Макара снарядили в разведку. Ушел он и не вернулся. Через три дня нашли его в сугробе. Макара нельзя было узнать. Ему выкрутили все пальцы, сорвали, сдернули ногти, сожгли волосы на голове. Замученных видел Игнат и
раньше. Но то были люди, которых он знал совсем мало или вовсе
не знал. А это братка, мягкий, жалостливый. За что же его так? Какое остервенелое сердце надо было иметь, чтобы дойти до такого измывательства над человеком. Звериная безжалостность ледяным
сквозняком прохватила душу Игната. С того самого дня ок с подозрительным вниманием приглядывался к людям. Никогда ничем нельзя оправдать убийства человека человеком, а убивать! Почему? За
что? Для чего? Сказывают, корень всего звериного в человеке — ненасытная жадность. Ему все время мало того, что есть, зависть червем ест его душу. Он не гнушается ни воровством, ни грабежом. Но
кому охота быть ограбленным? Схлестываются две силы, и вспениваются, бьет через край ненависть, и рвут друг другу горло, не зная
милосердия, безумея от пролитой крови. Так говорят про это умные
люди. Наверно, они правильно говорят. Но почему люди не поймут
одного: как бы они ни тужились стать богаче, сильнее, смерть всех
выровняет. От каждого останется только крест да бугорок земли. К
то не навечно. Крест рухнет, сгниет, рассыплется в труху, дожди и
ветры сравняют с землей могильный бугорок.
— Игнат, иди, взгляни,— позвал его Корнюха.
Он подошел к могиле, заглянул в нее, махнул рукой — хватит.
• Тогда пошли,— Лазурька оперся руками о край ямы, одним
махом вынес некрупное, подбористое тело свое на берег, подал руку
Тараске.
— И тяжел же ты.
— А что же, тело у меня есть! — Тараска с пыхтеньем вобрался
наверх.
- Тело — знаю, но брюхо у тебя богатое, не брюхо, а кадушка.
— Лазурька забросил на плечо лом, стал осторожно спускаться с косогора, за ним, семеня короткими ногами, покатился Тарастса. Корнюха, еще горячий от работы, с заиндевелым чубом над ухом, в расстегнутом на груди полушубке остановился напротив Игната, хотел чтото сказать, но тут же передумал, быстро пошел вниз.
Гумнами, по сугробам прошли в свой двор. Под ветхим сараем
белела груда крупной щепы. Тут мужики вытесывали гроб из домовины. Эта домовина — толстое ошкуренное бревно — лежала под сараем с тех пор, как Игнат помнит себя. По старине, по обычаю, у каждого хозяина хранится такая домовина. У него может не быть ни коня, ни коровы, но домовина есть.
В избе было жарко, душно. Покойник лежал под образами. Чадили восковые свечи, бросая на его лицо неровный желтый свет. Полукругом теснились старики и, задрав нечесанные бороды, отпевали
покойника. Из приглушенных, недружных голосов выпирал бас уставщика Ферапонта.
- Да святится имя твое, да придет царствие твое, — старательно
вытягивал Ферапонт и украдкой сдувал с сизого, пришлепнутого носа капли пота. От усердия он разопрел, пропотевшая рубаха липла к
круглой спине, взмокшая борода висела сосульками.
Когда стали выносить гроб, бабы, до того молчавшие, разом заголосили, запричитали пронзительно и тоскливо. Корнюха засопел,
всхлипнул, закусил губу, низко наклонив голову. Игнат до боли сжал
челюсти. В истошном завывании баб ему чуялось лицемерие. Не горе, не страх перед смертью заставляет их выть, а обычай, привычка
Пойми они хоть на минуту, что такое жизнь и смерть, от ужаса вылупили бы глаза и подавились криком.
Ветер стал еще сильнее, злее. Он обжигал лицо, прохватывая
сквозь полушубок. На ветру бабы перестали плакать. По улице прошли торопливо, отворачиваясь от ветра. Обогнав процессию, ребятишки первыми вскарабкались на косогор, столпились у могилы.
- Киш-ш отседова, пострелята! — замахал на них руками Ферапонт.
На пеньковых вожжах гроб опустили в яму, и бабы опять запричитали, но уже не так голосисто, как дома. Мужики, намерзшись,
живой рукой столкнули землю в могилу, поставили крест и заспешили в тепло. Игнату было жалко этих суетливых людей, себя, батьку,
но жалость не рвалась наружу со слезами, она непомерной тягостью
наваливалась на сердце. Рядом всхлипывал, вытирал щеки рукавицей Макся. Корней держал в руках шапку, и русый чуб трепыхался
па ветру.
Спускаясь с косогора, Игнат оглянулся. Свежий холмик саносип> снежком и он становился неотличимым от других.
II
В душе Корнюхи недолго было темно и горько. За годы войны и
| кнтаний в поисках заработков он успел отвыкнуть от батьки и теги'рь без усилий забывал его. Тем более, что горевать особенно было
некогда: все хозяйство распорушено, коровенка ночует в дырявом
* |рие, дров — ни полена, батькин конь совсем ослаб. Ладно, что они
'••.мили в городе кобыленку, а то бы вовсе замаялись. На Саврасуху
|| упряжь с телегой потратили без малого все свои заработки. На ка| и' капиталы теперь подниматься?
Невеселый ходил Корнюха по засугробленному двору, раскачивал
ц.1ми обветшалые заборы и злился неизвестно на кого.
Надо было что-то придумать,-а старшой, Игнат, все молчит, о
|Ч»М, как дальше жить, похоже, не очень печалится. И раньше он удаль• том да бойкостью не отличался, но теперь, после похорон отца,
«ч I п| и тугим стал, что прошибить его ничем невозможно. На одлом
м крепко — порядок дома держит по старинке, как при родителях
и На чужой-то стороне он, Корнюха, и Максимка тоже, не только
ч и I мм Прили, но и табак курить навадились. Там Игнат не перечил.
и 1 похорон достал мешочек с махоркой, вытряхнул в печку на
Ч'ЧЧНг
УГЛИ.
Тшдн ему Корнюха ничего не сказал, смолчал. Но недавно не
•• им м Вернулся из лесу, куда за дровами ездил, проголодался и
• и стол, позабыв сотворить молитву. Игнат и поднялся на него,
,.цч , |
н
Куда, бесстыдник? А ну вылазь!..
"1 1
ха, неловко усмехаясь, вылез, перекрестился, снова сел
угрюмо проговорил:
13
— Ты, братка, по божественной части скоро самого Ферапонта переплюнешь. А какая польза от твоей святости? Одно знаешь — молитвы шептать. Дошепчешь, скоро жрать будет нечего!
Чудно как-то, будто на дурачка или малолетка глянул на него
Игнат, с осуждением качнул головой. Корнюху это и вовсе обозлило.
Он бы наговорил ему черт-те чего, да помешал Макся. Насмешливо
улыбаясь, младший сказал вроде ни с того ни с сего:
— Тараска опять обожрался. Помогал колоть кому-то кабана и
так свежины натрескался, что неделю брюхом мается. С лица весь
сменился.
Макся, он завсе так, придумает что-нибудь и брякнет под руку.
Спорить после этого уже не хочется. Главное, бухнет о чем-то совсем
постороннем, а подумаешь, вроде бы и тебя задевает. Где, язви его,
обучился?
Вечером собрались почесать языки все гот же Тараска (живой и
здоровый, черта ли ему сделается), Лазурька и Лучка Богомазов.
Лучка этот — наипервейший друг Максюхи, хотя и старше его, кажись, лет на пять. В партизанах Лучка был пулеметчиком, а Максюха у него вторым номером. Желторотых япошек и белой сволочи немало они положили.
3 черненой борчатке и белой мерлушковой шапке, форсисто сломанной на затылке, Лучка теперь мало походил на лихого партизанского пулеметчика. Во всей его ладной фигуре, в лице с тонким носом и короткой кучерявой бородкой появилась медлительная степенность. А когда пришел Лучка с германской в задрипанной шинелишке, был худой, весь какой-то изверченный, издерганный. Теперь-то
ему дергаться незачем, конечно. Повезло парню. Ушел в зятья к
Тришке Толстоногому, а у того хозяйство—дай бог любому. Сволокут Тришку на косогор — все Лучке достанется.
Который уж вечер сподряд вели разговор об одном и том же:
сильно обеднел мужик за последние годы, редко кто живет в достатке. Земли пустует много, пахать не на чем: коней война ухайдакала.
— А как на это власть смотрит? — спросил Макся у Лазурьки.—
Мы, к примеру, воевали за нее — должна как-то подмогнуть?
— Должна.— согласился Лазурька.—А чем? Она навроде нас с
вами: за что ни хвати—в люди кати. Все разорено, побито, пограблено.
Корнюхе такой ответ не по нутру.
— За что же мы воевали, Лазарь?
— Как — за что? — На чернявом, цыгановатом лице Лазурьки —
удивление. — За волю воевали.
— Ха! За волю... Что мне с твоей воли — в соху ее не запряжешь!
— Корнюха слегка стукнул кулаком по столу. — Воли и раньше хватало.
— А что, верно... — поддержал его Лучка. — Земли в Сибири дополна, помещики на шее не сидели. За что же я воевать шел? Жизнь
нам сулили новую, совсем не похожую на ту, прежнюю. И ничего пока
нету. Как и раньше, пристают с ножом к горлу: дай хлеба. Выходит,
власть наша новая, а песня у нее старая: дай, дай, дай!
— Почему бы и не дать? — прищурился Лазурька. — Ты голодный? Нет. Почему же другие должны голодать? Одному жирные щи.
другому кашицу из отрубей? За то мы, между прочим, и воевали, чтобы у всех на столе щи были. А ты чего хочешь?
— Не об этом разговор, Лазарь,— мягко, раздумчиво возразил
Лучка. — Понять мне надо, куда, в какую сторону жизнь идет, что
она мне подготавливает. Про ранешную жизнь я только заикнулся, а
досказать не досказал. Это верно, что жили раньше почти все в сытости. Но разве только для того рожден человек, чтобы на пузо свое
И
век работать? Сколько хорошего есть на свете, мужики, чего мы никогда не увидим и не узнаем. Во многих местах мне довелось побывать, разное повидать. Какие на земле города понастроены, какие на
ней сады растут. А мы... С малолетства до старости гнемся за сохой.
Одна у нас радость — хлобыстнешь в праздник самогона...
-Чего же не остался в тех городах? — засмеялся Тараска.
— Ничего ты не понимаешь!—поморщился Лучка.
— На днях ночевал у меня товарищ Петров из волости, про то же
мы с ним говорили. Сказывал он: Советская власть все перевернет,
перепашет, ничего от старого не оставит. — Шаркая по полу, присыпанному жженым песком, Лазурька прошелся взад-вперед, остановился, подпер плечом чувал печки. — Коммуны везде сгарнизуют. В
той коммуне все будет общим: кони, коровенки, курицы — вся живность. И кормежка из общего котла.
— Добро, а? — Макся толкнул в бок Тараску. — От коммуны, я
смекаю, самая большая выгода тебе будет.
Тараска благодушно улыбался, сыто жмурил хитроватые глаза.
— А как с верой? — спросил Игнат. Он все время молчал, внимательно слушал, крепко сжав в кулаке бороду.
— С верой?
— Ага, с верой, Лазарь Изотыч. С устоями старинными.
— Не знаю,— честно сказал Лазурька и там же, у печки, сел на
лавку-ленивку. Свет лампы-коптюхи едва достигал до него, лицо Лазурьки белело пятном, черные глаза беспокойно мерцали. — Новый
дом на старый оклад никто не ставит — так разумею. А ты чего, вроде как жалеешь устои старины?
— Нет, радуюсь, — буркнул Игнат и сердито дернул бороду.
— Он боится: зачнут мужики табак курить напропалую и весь
воздух спортят,— опять засмеялся Тараска.
— Не клокочи! — с досадой сказал Корнюха. — Неужели будеттаки коммуния? Еще когда воевали, нам про нее талдычили. Мужики
не верили, посмеивались.
— Смеяться не над чем,— сказал из темноты Лазурька.
— Как же не над чем? Нас вот три брата, и все разные. А что будет в коммунии? Максюха верно подметил, у кого брюхо большое, тому— лафа. Получится: когда у котла — равняются на самого обжористого, когда работают — на самого ленивого.
— В партизанах, припомни, на самых трусливых никто не равнялся, и еду делили как полагается.
— Сравнил кочергу с оглоблей! Там другое, — мотнул Корнюха
чубом. — Там на время, тут на всю жизнь. А еще, ребятишки. Скажем,
у тебя семья — сам да баба, а Тараска каждый год по ребятенку
слепливает. И будешь ты на Тараскину шпану хребет ломать.
— Ну и что? Зато, когда состарюсь, его дети меня прокормят. Вся
деревня как одна семья будет.
— Пустое говоришь, Лазарь, пустое, — вздохнул Игнат. — Уж на
что крепко держали в руках семейщину уставщики, а и то, едва
столкнулись с безверием, понесли к себе в дом всякую нечисть. А что
будет, когда старые устои под корень подсекете? Откачнете человека от бога, все кувырком пойдет.
— Я бы, к примеру, не стал о старых устоях много думать. Поль:1Ы от них немного, а вот тут,— Лучка притронулся к вязаному шарфу,
намотанному на Щею,— они хомутом давят.
Корнюху тревожило совсем другое. Если Лазурька не брешет.
••с.'1И коммунию установят, нечего пуп надрывать, поднимая хозяйство Псе уйдет на общий двор. А с другой стороны, сам Лазурька з
к 1-и тети не знает, какая она будет, коммуния. Может, придется беп. от нее без оглядки.
15
Когда мужики стали расходиться, Корнюха придержал у дверей
Лучку.
-Тебе работник не понадобится?
— А что?
— Да что... На одной кобыленке втроем далеко не ускачешь? Придется нам с Максюхой в работники подаваться.
— Не знаю,— Лучка сдвинул на брови папаху. — Поговорю с тестем. Одного-то, может, и возьмем, а двоих — нет: сейчас, брат, за работников прижимают.
Закрывая за Лучкой дверь, Корнюха спохватился: с Игнатом не
перетолковал, а в работники нанимается — неладно это, в доме должен старший распоряжаться. Хотел тут же и поговорить обо всем, но
Игнат сидел за столом, опустив лохматую голову, отрешенный от
всего, увязший в своих думах, и Корнюха понял: ничего он сейчас не
присоветует.
Позднее, мало-помалу, неприметно для себя Корнюха стал в доме за главного. Надо что сделать по хозяйству — сам, не спрашивая
Игната, решает и делает. Игнат, похоже, не замечал этого, а может, и
замечал, да не хотел мешать Корнюхе налаживать хозяйство.
Но, как и раньше, Игнат заставлял их отбивать поклоны, запрещал есть скоромное в постные дни, не отпускал на посиделки. Вечерами, когда к ним никто не приходил, Корнюха и Макся томились от
скуки и наедине зло подшучивали над неожиданной суровостью брата. Строгие правила семейщины казались им дикими и глупыми, и покорялись они старшему лишь из уважения к памяти отца.
Вскоре Макся нанялся в работники к Лучкиному тестю и уехал
на заимку. Без него Корнюха совсем было заплесневел, но тут случилось то, чего он никак не ожидал.
Не было дня, чтобы к ним на часок-другой не забежала Настя.
Поначалу-то Корнюха к ней не присматривался. Настя да Настя.
Смотреть особо не на что. Кругленькая, справная, конечно, но и других Девок бог здоровьем не обидел, поджарую, тонконогую днем с огнем не найдешь во всей Тайшихе. Настя, как все, может, только одно и отличие, что больно уж смеяться любит. Чуть что—залилась на
всю избу да так, что не утерпишь, вместе с ней засмеешься. На что
уж Игнат строгость на себя напустил, а и он, бывает, блеснет зубами
из бороды. Со смехом, с шуточками Настя обихаживала избу, и у
них завсегда было чисто, свежо, будто и не холостячили.
Лазурька, заставая у них свою сестру, весело хмыкал, похлопывая ее по плечу.
-Прогадаешь, Настюха. Старайся, не старайся, жениха в этом
доме не заарканишь.
Настя и тут посмеивалась.
К каждому из братьев она относилась по-особому. С Максей шутила, смеялась как-то по-свойски, запросто, а с Игнатом — сдержаннее, мягче, с ласковой осторожностью; его же вроде как сторонилась,
стеснялась, что ли. Иной раз глянет на него, скраснеет, отвернется,
а чаще — прыснет в кулак. Что смешного в нем находит — не поймешь. А если он долго на нее смотрит — теряется. Взяв это на заметку, он стал нарочно изводить ее. Сядет напротив, уставится в лицо
и не спускает глаз. Настя заторопится, сделается неловкой и беспременно что-нибудь уронит, прольет. Прямо, потеха.
Но однажды она не потупилась, не отвела взгляд, и усмешка сама собой сползла с Корнюхиных губ. Карие, в крапинках Настины
глаза смотрели на него с шалым, бесшабашным вызовом, что-то озорное, задиристое появилось в ее лице. Продолжалось это всего секун-16
ду, ну, две, а для Корнюхи Настя сразу стала другой, совсем не похожей на ту, прежнюю.
Приходила Настя обычно утром, в то время, когда они задавали
корм скотине. Настя садилась доить корову, и потом все вместе шли
чаевать. Как-то Настя припозднилась. Набросав в ясли сена, Игнат
ушел налаживать завтрак, Корнюха остался чистить двор. Настя прибежала, закутанная в платок, с подойником на согнутой руке, стрельнула глазами в Корнюху, пошла под сарайчик, к корове.
Глянув на обмерзшее, бельматое окошко избы, Корнюха отошел
за угол, позвал Настю.
— Хочу кое-что показать тебе.
— Что? — она остановилась поодаль, придерживая обеими руками пустой подойник. На толстом платке, на пряди волос, свисшей на
лоб, белым пухом осел иней. Он облапил ее сильными руками, притиснул к стенке сарайчика. Упал, покатился со звоном подойник.
— Сдурел! Отпусти! Закричу!—жарко зашептала она.
Его губы коснулись тугой, нахолодевшей щеки, и в это время
Настя, высвободив руку, схватила его за ухо, больно дернула. Корнюха от неожиданности охнул, ослабил руки. Настя вывернулась,
отбежала, поправляя платок, засмеялась:
— Эх ты, даже поцеловать не можешь. — И пошла, вздернув голову. Обернулась, спросила:—А что показать-то хотел?
— В другой раз покажу.
В избе, процеживая молоко через ситечко, Настя сказала Игнату:
— За сараем мне Корнюха штуку показал. Такая чудная!
— Что за штуку?—заинтересовался Игнат.
— Скажи, Корнюха,— ласково попросила Настя.
Сперва Корнюха остолбенел, потом, красный, поспешно схватил
со стола лепешку, впихал в рот и, еле переворачивая, мыкнул что-то
непонятное, ткнул пальцем в отдутую щеку — занят, не до разговоров. Игнат терпеливо ждал, пока он прожует. И Настя ждала, посмеивалась.
— Цветок в снегу нашел,— с той же усмешкой сказала она.—
Замерзший, а как живой.
Игнат хмуро двинул бровью, подул в блюдце с чаем. А Корнюха,
вытирая вспотевший лоб, про себя ругался: «Погоди, чертова девка,
я те вот дам! Тихоня!».
С того дня Корнюха стал искать встречи с Настей наедине, но
она увертывалась от таких встреч и все подразнивала его своей неунывчивостью. До того распалила его, что он и о хозяйстве на время
думать перестал, и разговоры мужиков о новой жизни стали казаться надоедливыми. Не столько слушал эти разговоры, сколько думал, как бы так половчее перехитрить Настю.
В субботу вечером Настя пришла поставить тесто. Перед тем, как
ей управиться, Корнюха накинул полушубок, притворно зевая, сказал брату:
— Пойду побрехать к Тараске, а то сон долит.
За воротами у стены притаился. Стоял, пряча подбородок в тепло овчинного ворота, улыбался, гадая, как поведет себя Настя. На
другом конце улицы мерзло простонал журавль колодца, ударилась
о сруб оледенелая бадья — все было слышно так, будто колодец находится совсем рядом.
Тяжело бухнула дверь, захрустел снег под быстрыми Настиными ногами. Выйдя за ворота, она, не заметив Корнюху, обернулась
заложить щеколду. Он рывком повернул ее к себе и заглушил губами испуганный вскрик. Настя билась всем телом, как большая рыбина, попавшая в сеть, но вдруг обмякла, нависла на его руки и, когда,
2. «Байкал» № 5
17
задыхаясь, отклеилась от его губ, Корнюха стал быстро спрашивать,
ладно ли он целует, однако, тут же смолк. Настя стояла непонятно
смирная, уткнулась лицом в его грудь и затихла, замерла.
— Настя...
Плечи ее дернулись, затряслись. Под Корнюхиными ногами беспокойно заскрипел снег. «Не заголосила бы на всю Тайшиху...>— Настя!—запрокинул ее лицо и понял: Настя смеется. Сквозь
смех она выдохнула:
— Переполошил до смерти...
Корнюха вскинул ее, крутнулся на одной ноге. Настя сама на
минуту прильнула к нему, поцеловала и отпрянула, будто обожглась.
— Теперь не подходи!—строго сказала она.— И не подкарауливай меня. Знаю, тебе смешки-шуточки. Наловчился в чужих краях
девок тискать. А я... А мне ты с малечку глянешься. Такусенька была
и уже на тебя глаза пялила. Знай про это и не лезь с баловством.
Она убежала.
— Хы-ы...— озадаченно протянул Корнюха, помолчал, повторил:— Хы-ы.
В небе колючими стеклышками блестели звезды, в темный горб
Харун-горы запахался сошник ущербного месяца. Прокаленная морозом, засутробленная земля молчала, казалось, ждала, что еще, кроме «хы», скажет Корнюха.
III
По дороге, накатанной до крепости льда, Саврасуха бежала веселой размашистой рысью. Игнат перебирал ослабленные вожжи и
вприщурку смотрел на сопки, круглые и белые, тесно прижатые друг
к другу, как яйца в лукошке. Солнце лучилось теплом и ярким, режущим глаза светом. Осевшие суметы были осыпаны разноцветными
блестками, и в воздухе, еще холодноватом, ощущалась предвесенняя
мягкость. Скоро солнце оголит поля и сопки, над ними с гоготом потянутся клинья гусей — туда, за хребты, к своим родным местам. У
птиц все просто: прилетели, скрутили гнездо. А тут... В избе, если
долго не приходит Настюха, пусто и сиротливо, так и кажется, что
не дома они, а на временном постое.
За спиной Игната шевельнулся Корнюха.
— Скоро весна,— не оборачиваясь, сказал Игнат.
Корнюха промолчал, и Игнат повторил:
— Слышь, братка, весна придвигается.
— Ну, весна...— с неохотой отозвался Корнюха.
Игнат примотал вожжи к головкам саней, сел так, чтобы видеть брата.
— Пахать, сеять будем. А там сенокос... Жить дома не придется.
— Это уж так.— В глазах Корнюхи дремала какая-то своя, непонятная Игнату, думка, и не хотелось ему, видать, расставаться с
этой думкой.
— Видишь, я к чему... За домом догляд нужен, а Настя тоже в
поле будет. И вот об чем я кумекаю — жениться мне, что ли? Так
ли, иначе ли, а женитьбы не минешь. Зачем же тянуть в таком разе?
Тараска вон привел в дом молодуху...
— Жениться?—вскинул голову Корнюха.
— А чего дикуешь?—Саврасуха перешла с рыси на шаг. Игнат
взял в руки вожжи, понужнул ее.— Настя у нас, как работник.
- Настя?—у Корнюхи напряглись скулы.— Что Настя?
- Добрая девка она, сердцем ласковая. Может, ее и посватать,
18
л? Изот не должен бы отказать.— Игнат замолчал, заметив, что брат
идруг переменился в лице и смотрит куда-то в сторону косым сер, иП'ЫМ ВЗГЛЯДОМ.
— Так что присоветуешь, братка? Других-то девок я путем не
:шаю, а Настюха, она подходящая. Очень даже подходящая.
Корнюха неожиданно зло хохотнул.
— Ха! Жених выискался!
— Ты чего это?—удивился и обиделся Игнат.— Ты почему со
мной говоришь таким манером?
— Как говорить, если твоя башка трухой набита?—всполыхнулся Корнюха.— У тебя, жених, одни штаны, да и те с дырками на
•>шгком месте. Жди, пойдет Настя за всякую голь-шмоль. О ней даже
думать позабудь!
Таким разъяренным Корнюху Игнат видел редко. Эк его разобрало, того и гляди, кулаки засучит. Больно уж близко к сердцу принимает недохватки дома — зачем? Бог даст, все наладится.
Дальше ехали молча. Каждый думал о своем. Игнат вздыхал,
подстегивая прутиком Саврасуху. Дорога свернула в густой тальник,
сани застучали по кочкам, заметались на раскатах, но Игнат все поиужал и понужал кобылу. Быстро домчались до Трех Бугров. Не доезжая до разгороженного остожья, Игнат резко остановил лошадь:
сена не было. Из-под сугроба черными космами выглядывали гнилые одонья — все, больше ничего. Куда же делся зарод сена, едва
початый?
Игнат слез с саней, увязая в черствых сугробах, обошел остожье.
Метель засыпала, загладила все следы. Корнюха выдрал из-под снега
пласт гнили, отбросил от себя.
— Сволота! Узнаю, кто украл, спалю к чертовой матери!
Тяжело было на сердце Игната, тяжело, больно и горько. До чего
докатились люди! Тянут все, позабыв о страхе господнем, о совести.
Разболтался народ, развратился, страшным и непонятным стал.
Жизнь все переворошила, опрокинула, законы старые поломала, а
новых не затвердила. Раньше жилось просто. Зимой мужик много
ест, много спит, шевелится лениво: силу копит для горячих весенних
дней. А коли хлеба недостаток — в работники нанимается к мужикам,
у которых хозяйство справное. В работниках, известно, не мед, каждый старается выжать из тебя побольше, однако, и тут какой-то порядок был. Теперь все шиворот-навыворот. Дело, постыднее какого
нету,— воровство, промыслом стало. Заместо того, чтобы своим горбом, своими руками добывать пропитание, людишки озоруют по ночам. У бурят, слышно, пограбили скотишко, в своей деревне у одного, у другого утянут барана либо теленка. Жаловаться народ опасается. Лазурька, что он сделает? Самого, того и смотри, пристрелят.
Какой уж год скрывается на заимках Стигнейка Сохатый, «заступник» семейщины. Скор на расправу Стигнейка. Чуть что не по нем —
красного петуха подпустит. Изловить, говорят, нет никакой возможности, укрывают Стигнейку мужики, одни из корысти, другие из
страха: выдашь Сохатого, а дружки-корешки останутся, они житья не
дадут. На селе теперь навроде две власти. Одна в руках у Лазурьки,
другую Стигнейка держит. Что будет дальше — никак не угадаешь.
Может, и правильно взъярился Корнюха: какая уж тут женитьба... Обождать надо, с силенками собраться. На душе смута и томление, а за работу придется ухватиться обеими руками. Теперь их дела
вовсе неважнецкие...
В тот же день вечером Игнат пошел к Харитону Малафеичу Петрову, просить, чтобы помог выбраться из беды. Недолюбливали Ха2*
19
ритона мужики, прохиндеем считали, однако же чуть ли не все к нему шли — выручи, родимый.
Жил Харитон в новом, недавно построенном доме. Не дом — игрушка. Карниз в кружевной резьбе, ворота и те резные, ставни на
окнах веселой голубой краской крашены. Лес еще не успел почернеть, на торцах бревен каплями топленого масла застыла смола. А
в самом доме непорядок. Пол затоптан, замусорен, у порога на соломе телок лежит, тут же стоят мешки с чем-то. Прибору никакого.
Харитон недавно овдовел, живет с сыном Агапкой, бабью работу оба
делать не умеют.
Дома был один Харитон. Узколицый, подслеповатый, с растрепанной сивой бороденкой, в длинной, мукой испачканной рубахе, он раскатывал на столе пресную лепешку. Увидев Игната, бросил работу,
ласково улыбаясь, оглядел со всех сторон, удивился:
— Эко что вымахал! Чистый богатырь. Весь в батьку выдался, и
лицом и статью. Добренный был у тебя батька, дай ему бог царство
небесное.— Харитон сложил в крест пальцы, облепленные тестом,
помахал ими перед носом.— Ба-алыпие мы друзья с ним были.
Говорил Харитон тоненьким сипловатым голоском, и вспомнил
Игнат, что по заглазью его звали Пискуном.
— Как жизня-то? Денег, поди, приволокли торбу?—с такой же
ласковостью спросил Харитон, повел острым носом, будто принюхиваясь.— Ты раздевайся. Сейчас Агапка придет, ужинать будем.
Он вернулся к столу и взялся за скалку.
— Я по делу...— Игнат коротко рассказал, как они остались без
корма, и попросил взаймы воза два-три сена.
- Украли!—ахнул Пискун, бестолково закрутился у стола, приговаривая:— Ай-я-я, ай-я-я, напасть какая! Что за язва варначит.
Креста на вороту нету... А сена я вам дам, дам, Игнаша, как не дать!
Сколько надо, столько и берите. Да ты не торопись, посиди со мной.
Почти что силком Пискун усадил Игната за стол. Разрезая лепешку, он все сокрушался, ахал. Можно было подумать, что это у
него самого уволокли сено. Когда пришел Агапка, такой же тонкий в
кости и остролицый, как батька, но молчаливый, неприветливый,
Харитон заново заставил Игната рассказать о краже. Агапка скривил
губы в непонятной усмешке, ничего не сказал.
За столом с шумом хлебали лапшу, Харитон допытывался:
— Что будет с нами, Игнаша? От кого идет такой кавардак нашей жизни? От большевиков, или господь за грехи обходит нас своей милостью? А?
— При чем тут большевики? Сами мы хороши.
— Оно так,— сразу согласился Харитон.— До того хорошие, что
лучше-то уж и некуда. Намедни твой дружок, Тараска, попросил у
меня мешок хлеба и посулился за него дровишек на заимку подвезти. Потом назад попятился. Скоро, говорит, коммуния будет, все добро, говорит, в одну кучу свалят. Получается, говорит, не у тебя взаймы взял — у коммунии, ей и отдавать буду. Бона что удирает! Одно
слово — сукин сын!
— Ему эта мука поперек глотки пойдет!—зло буркнул Агапка.
— Цыц, ты... Дай с человеком поговорить,— одернул его Харитон.
— Надо было Лазурьке об этом сказать! — Игнат, скосив глаза,
разглядывал Агапку. Что он за человек, что у него на уме? В партизанах не был, отсиделся на заимке. Максюха его, кажись, помоложе будет...
— Лазурьке сказать?—переспросил Харитон, дробно засмеялся.— Им поскудная баба правит, твоим Лазурькой.
И, должно, приметив, что сказанное не по нутру Игнату, тут
же прибавил:
- Сам-то Лазурька мужик ничего, стоящий... Но... До него хоП1.1 в председателях Ерема, тот был много лучше. А за сеном приез1 . . И 1 хоть завтра. Хлеб понадобится — бери хлеба. Я, Игната, не
скупердяй.
— Спасибо, Малафеич...
— Что спасибо! Только дураки в толк не берут: для нас теперичп одно спасение — держаться друг за дружку.
У порога завозился, зашумел соломой телок, и в нос ударил кисн.111 запах мочи и прели... Игнат поднялся из-за стола. Встал и Харип >н. С тревожным ожиданием, заглядывая слепенькими глазами в лицо Игната, он спросил:
— Неужели же конец старой жизни приходит? А? Неужели семс'йщина дозволит командовать над собой кому попало?
Встревоженность Пискуна, жалкое помаргивание его глаз охолонули Игната тоской и печалью. Тоже мается человек, тоже душа не
на месте, а что ему скажешь, когда и самому ничего не понять?
Чуть подождав, Пискун перевел разговор на другое:
— Как жить-то думаете? Что делать вам, сильным ребятам,
без тягла?
— Корнюха собирается в работники.
- Подрядился уже?
— Нет еще.
— Тогда присылай ко мне. Поселю на своей заимке, коня дам,
семян, пускай сеет, сколько убрать в силах. Осенью урожай поделим.
— Что-то не пойму...
— Я и сам в этой жизни ничего не понимаю. Земля вхолостую
гуляет, а с работниками не связывайся, Лазурька вмиг присобачит
налог непосильный. Если же повернуть таким манером, будто я вам
помогаю семенами и прочим и держать наш уговор в тайности —
польза вам и мне.
Игнат обрадовался, но тут же насторожился: Пискун — мужик с
худой славой, ну, как вздумал объегорить? Чужая душа — потемки,
никаким ее фонарем не просветишь. Но он сразу же устыдился своей подозрительности. Думать о человеке плохо, когда он ничего плохого тебе не сделал, не сказал — грех великий. Не потому ли на земле столько зла, что никто друг другу не верит...
— Ладно, я с Корнюхой посоветуюсь.
По дороге домой Игнат опять обдумывал слова Харитона и окончательно уверился: не лукавит мужик. Не из тех он, которые по глупости своей не берут в соображение, что таких ребят, как они, мятых и битых, на мякине не проведешь, а проведешь — потом не обрадуешься. Неспроста, конечно, льнет к ним Пискун. В новой жизни,
запутанной до невозможности, опору обрести хочет. А на кого же
ему опереться, как ни на них, бывших партизан, утвердивших эту
жизнь? Плохого тут ничего нет. Опора, она всем нужна. Вот и он о
Настюхе подумывал не потому лишь, что хозяйки в доме нет,— хочется почувствовать рядом сердце другого человека, не замученного
думами.
А Корнюхе предложение Пискуна совсем не понравилось. Даже
путем не выслушав Игната, он заерзал на лавке, засопел толстым носом, съехидничал:
— Какой ты шустрый стал, братка! С чего бы?.. Спровадить
хочешь?
— Ты же сам говорил, что надо наняться.— Игнат перестал понимать брата: что ни скажи — не так. Какого черта он злобится? Чего
рычит?
21
— Говорил... — подтвердил Корнюха, отводя взгляд в сторону. И
то, что он прячет глаза, раздражало Игната пуще всего.
— Ну так что?!
— А то, что давно это было. Тогда ты помалкивал, прыти такой
не было у тебя,— Корнюха усмехнулся так, будто знал за ним, Игнатом, какой-то грешок, что-то недозволенное. И это вывело Игната
из себя, в нем взыграла кровь ерохинской родовы.
— Замолкни!—рубанул кулаком по столу.— Больно много знать
стал! Волю забрал! Пойдешь к Харитону! Завтра же!
От неожиданного крика Корнюха вылупил глаза, подскочил, сгреб
шубу, шапку и метнулся за двери. Игнат сунул вздрагивающие руки
под ремень, заметался по избе. Почти сразу же он пожалел, что наорал на брата. Видно, он становится таким же, как другие,— позабыл
о тихом душевном слове, криком захотел утвердить свою власть над
братом.
Посмотрел на себя в тусклое, мухами засиженное зеркальце, поморщился. Борода растрепана, давно не стриженные волосы лохмами
свешиваются на уши — тьфу, страшилище какое, а еще в женихи наметился. Повернулся к иконам, со вздохом проговорил:
— Укрепи дух мой, господи!
IV
Заимка Харитона Пискуна была верстах в десяти от Тайшихи.
Старое, в землю вросшее зимовье, дворы и надворные постройки
прилепились к подножию некрутой сопки, покрытой мелким сосняком. За сопкой начиналась чащобистая, изрытая буераками тайга, а
перед окнами зимовья косогорились голые, исслеженные скотиной
увалы.
На заимку Корнюху привез Агапка. Не отвертелся-таки Корнюха
от найма, пришлось покориться брату. Чуть больше недели проработал у Пискуна дома, и вот — заимка. Жить тут придется до поздней
осени, а не уродится хлеб — и год, и два, и три.
С крыши зимовья сыпались капели, во дворе разрывали навоз
чирикающие воробьи. Лохматый вислоухий пес встретил подводу на
дороге, простуженно гавкнул и завилял хвостом. Подвернув лошадь
к пряслу, Агапка кинул Корнюхе вожжи.
— Распрягай... — сам валкой походкой, не оглядываясь, направился к зимовью, за окном которого маячило бабье лицо.
«Сволочь!»—подумал Корнюха, глядя в спину молодого Пискуна. С первого дня возненавидел его Корнюха за писклявый голос, за остренькое, словно мордочка хорька, лицо, за молчаливость
и хозяйскую хватку, за то, что не подминал он грудью сугробы, прячась от пуль, а живет и будет жить, как ему, Корнюхе. и во сне не
грезилось. За ту неделю, что проработал у них дома, все хозяйство на
два-три ряда ощупал завистливыми глазами. Все у Пискунов было
новое, добротное: от ичигов и зипуна на Агапке до сбруи и дома, изукрашенного резьбой; рвани-драни какой-нибудь у них не водилось.
Не один раз в те дни Корнюха помянул недобрым словом покойного
родителя: не сумел, черт старый, сберечь добро. Ему теперь что —
лежит, а ты по его милости гни хребет на дохлых Пискунов — обоих,
батьку и сына, одной соплей перешибить можно, но ты им покоряйся.
Распряженная лошадь нетерпеливо переступила ногами, потянулась к сену. Корнюха двинул ее кулаком по храпу — нахальная, как
хозяева, — пошел в зимовье.
Агапка уже сидел за столом. Пожилая баба в ситцевом сарафане
гремела ухватом в печке. В зимовье пахло парным молоком, было
тепло и чисто.
22
- Масла-то, Агапша, только два туеска получилось,— говорила
ь.им—Молоко жидкое, ссядется—сметаны на пальчик.
— Творог вари.
—• Варю, а то как же. Варю, миленький.— Она собрала на стол,
•:асила Корнюху:—Садись обедать. Слава богу, что приехал.
. я тут замаялась. Надо коров доить, кормить, поить, на пастьбу
: ТЬ.
— Говорил тебе: привези дочку,— сказал Агапка.— Ты баба глугил. ничего не понимаешь.
— И правда — глупая,— она засмеялась, открыв коротенькие,
с ьс-денные зубы.— Приедет она к лету. Продаст домишко и тут буДсТ ЖИТЬ.
— Пускай скорее приезжает, а то я передумать могу.
— А ты бы сперва с батькой поговорил.
— Не учи, сам знаю, что надо делать.
О чем они толкуют — не понял Корнюха, отвернулся к окну. За
• . •. клами с крыши свисали белые свечи сосулек, на наличниках ворковали голуби, блестели снега на увалах, оплавленные жарким солн!ч ... Не выдюжу,— подумал Корнюха,— кину все к чертям собачьим,
уйду, куда глаза глядят».
— Ешь да пойдем, покажу, что делать надо,—поторопил его Агапг.а вылезая из-за стола.
От горячих щей, от чая с молоком его пробило потом, тонкая жилистая шея налилась краснотой, а большие уши вроде увяли, все одно
что листья щавеля в жару. «Один раз садануть кулаком — мокрота,
как от букашки останется, и больше ничего»,— с брезгливостью подумал Корнюха и перевел взгляд на бабу, ворошившую свое барахлишко в сундуке. Откуда-то с самого низа сундука она вытянула рушн;<к. расшитый петухами, расправила на руках, чтобы петухи виднее
оыли, протянула Агапке.
— Вот оботрись чистеньким. Дочино рукодельство...
Что ты перед ним лебезишь, старая кикимора!»—хотелось сказать Корнюхе. Ел он нарочно медленно и нарочно громко чавкал, заметив, что Агапке это не глянется. Не дождался его Агапка, вышел,
Оросил лошадям беремце сена, сел на прясло и принялся чистить
:>убы щепочкой. За ним и баба вышла. Она что-то говорила Агапке,
прижимая руки к усохшим грудям, а он смотрел вниз, на юфтевые
ичиги, стянутые у щиколотки ткаными из цветных ниток подвязками, и слегка кивал головой.
Корнюха наелся, посидел, не спеша оделся, пошел к ним. Не слезая с прясла и продолжая ковырять в зубах, Агапка сказал ему:
— Дворы вычистишь.
А во дворах, сейчас только и разглядел Корнюха, высятся целые
5
горы навоза, смешанного с соломой и снегом.
— Почистить надо, а то стыдобушка,— подсудыркивала баба.
— Сено все свозишь. Где сено, она, Хавронья, покажет. Жердей
наготовишь. Ясли сруби. Земля оттает — прясла новые поставь.
- Первое дело — ясли,— выждав, когда умолкнет Агапка, уточнила Хавронья.— Много корма скот под ноги сбивает.
— А еще что?— спросил Корнюха.— Может, срубить тебе теплый
нужник, какие в городах бывают? Хозяева... По уши в дерьме сидитг! Меня, что ли, ждали?
— Заимка к ним недавно перешла, не успели обиходить,— стала
оправдываться Хавронья, но ее перебил Агапка.
- А еще дров наготовь. Саженей восемь-десять, чтобы на всю
гшму... Еще...
- У меня сколько рук? Вот они, две!—Корнюха сунул прямо
23
под нос Агапке квадратные кулаки, туго обтянутые кожаными рукавицами.
Агапка поднял голову, подслеповатые глаза его вдруг стали зоркими, острыми, зрачки таили огонь, точно капсюли винтовочных патронов. «Только пикни — всю харю раскровяню!»—со злой радостью
подумал Корнюха. Но Агапка обычным, разве что самую малость
подрагивающим голосом приказал Хавронье запрягать лошадь и
только после этого сказал Корнюхе:
- Не хочешь — не держу. Хучь сейчас катись на все четыре, И
без тебя полно голопузых, есть кому дерьмо возить.
— Поговори еще! Я те хребтину-то живо сломаю!
— Смотри, Корнейка, не задавайся,— с тихой угрозой сказал
Агапка.— Самому наперед хребтину сломят.
Как ни зол был Корнюха, а понял: не с перепугу бахвалится и
грозит Пискунок, есть за ним что-то крепкое, надежное. Но не это
удержало его. Противно было бить такого мозгляка. Да и к чему?
Даст ему по роже, сорвет свою злость — дальше что? Идти наниматься к другим, и все начнется сызнова.
Ушел в зимовье.
Бесконечной вожжой потянулось время. Корнюха не вел счет
дням, не прикидывал, через сколько недель начнется вешная, не радовался дружному теплу, плавящему снега,— то въедался в работу и,
забывая о еде, отдыхе, без устали сокрушал железным ломом мерзлые горы навоза, то вдруг все бросал и часами сидел без движения,
смотрел тоскующими глазами на плеши проталин, испестривших увалы, на синь лесов, на облака, что рыхлыми копнами плыли неизвестно
откуда, невесть куда... Первые дни Хавронья досаждала расспросами,
но когда убедилась, что это его раздражает, обиженно умолкла. С
раннего утра до поздней ночи она топталась во дворе, в зимовье: доила и кормила коров, сбивала в кадушке масло, помогала вывозить
навоз. И все молчком. Но вечером, когда Корнюха стлал себе постель
на сдвинутых лавках и ложился, а она садилась к горящим в очаге
смолянкам вязать чулок, молчать ей, должно, становилось невмоготу— рассуждала про себя, не заботясь, слушает ли ее Корнюха. Из
этих рассуждений он узнал, что до прошлой осени Хавронья жила в
соседней деревне с младшей дочкой Устей. Старшая замужем, в Бичуре, мужик убит японцами. От хозяйства, и раньше захудалого, ничего не осталось — только дом да амбар.
Чаще всего Хавронья вспоминала молодость.
— В девках-то я была красивая. Какой бы парень мимо ни шел —
голову заворотит.— Вязальные иголки в ее руках взблескивали все
реже, руки опускались на колени, она умолкала, сидела чуть улыбаясь, сразу помолодевшая, потом вдруг спохватывалась, поджимала
губы и строго говорила:—Красота без ума — божье наказание. В ту
пору Харитон жил в нашей деревне. Бегал он за мной, как собака за
возом. А я нос кверху: получше Харитона парни есть, кого захочу,
того и выберу. Выбрала Евсейку. Здоровяк, косая сажень в плечах,
голова кудрявая, а удалой, ловкий — никто с ним не сравнится. Промахнулась я. Для хозяйства Евсей был не старательный, больше по
приискам шлялся, гулять любил. Хозяйство на меня легло. А я что?
Баба... И ребятишки у меня на руках. Билась я, как рыба об лед.
Когда пришел японец, мой забалуй подседлал последнего коня, ружье на плечо и уехал. Пришлось мне под старость лет вдовой, обнищалой просить милости у Харитошки, на которого раньше глядеть
не хотела. Слава богу, принял, не вспомнил дурость мою девичью.
Теперь его Агапша на мою Устюху наметился, а она, непонятливая,
тоже, как я, нос от него воротит. Ну да я ее обломаю, будет потом
24
нею жизнь благодарить, добром вспоминать. Сама не попользовалась,
ПУСТЬ хоть дочке достанется...
Хавроньины разговоры беспокоили почему-то Корнюху, заставили заново осмысливать свою жизнь. Не пришлось бы ему, как ее
Кисюхе, мотаться всю жизнь по заработкам — то в городе, то тут. А
Настя, она что же, сто лет ждать не станет, выскочит за кого-нибудь.
Может, сейчас, пока он тут бока пролеживает, под нее кто-то там
к шнья подбивает, красными словами улещает. Он-то ей ни единого
'• юва не сказал насчет того, что... Как расстались тогда у ворот, так
и не виделись больше с глазу на глаз. Что она должна подумать пог.ю того? Молчит Корнюха, значит, не нужна она ему. Очень просто
.может так подумать.
Все беспокойнее становился Корнюха, все больше думал о Насте.
15 один из вечеров соскочил с лавки, оделся, сказал Хавронье, что
г.срнется поздно и, заседлав коня, поскакал в деревню.
Под копытами хрумкал тонкий ледок, отсырелый ветер облизыг>ал Корнюхино лицо, щекотал открытую шею. Ночь была темная,
Гк'спроглядная. Клочья уцелевшего снега на полях мелькали, будто
чьи-то тени, будто крались они по сторонам, зажимая Корнюху. С
тревожным сердцем вглядывался он в тусклые огни деревни, проколовшие темноту. А ну как опоздал? А ну как Игнат замыслил отоорать у него Настю? Что тогда будет с ним?
У околицы придержал коня и направил его не в улицу, а на зады. Против своего зимовья соскочил с седла, накинул поводья на кол
прясла и через гумно прошел во двор. В окне зимовья, закрытом
сгавнем, светилась узкая щелочка. Корнюха на цыпочках подошел к
окну, заглянул в щель. Прямо перед ним, спиной к окну сидел Игнат,
подпирая голову ладонями. Он что-то говорил — что, Корнюха не мог
разобрать, как ни вслушивался, голос сливался в беспорядочное бормотание. И кому говорил, не видел Корнюха: спина брата закрывала
ьсе. Но вот Игнат повернулся и Корнюха увидел на столе лампу, а за
ней — лицо Насти. Она сидела одетая, в платке, должно, собралась
\ ходить, теребила пальцами протертую на углу клеенку и отрица1«'льно качала головой. Игнат забормотал что-то и опять заслонил
Настю спиной. Подождал Настю за воротами, на том самом месте,
где впервые поцеловал. Ждать пришлось долго, весь изозлился, еле
с-держался, чтобы не ввалиться в зимовье, не наговорить ей и брату
своему самых подлых слов... На этот раз Настя, едва приоткрыв ворота, увидела его. Нисколько не удивилась, будто знала, что встретит
'то тут, спросила:
— Давно стоишь?
— Нет... Только что...
— А зачем? Говорила же...
— Мне ног не жалко, стою, когда хочу...— Разговор, чувствовал
Г'орнюха, получается не тот, все слова, придуманные там еще, на
лаимке, куда-то вдруг запропастились, а тревога потеряла остроту и
отодвинулась, но он знал, что если сейчас не скажет Насте всего,
уедет — прежние думы навалятся сызнова, прищемят душу.
— Хочу на тебе жениться. Слышишь?—почти со злостью скалал он.
Настя молчала. Он наклонился, вглядываясь в ее лицо, стараясь
•гонять, что она сейчас думает, но было слишком темно, Настино лицо
Г'слело пятном...
— А все другие пусть не заглядываются. Любому шею сверну!
Слышишь?
— Слышу...— тихо, с обидой проговорила Настя.— Ты почему так
I оворишь со мной?
— Ладно, не сердись. Это я так.— Он притянул ее к себе, сдви25
нул платок на затылок, и погладил по голове. — Осенью свадьбу сыграем... Ты согласна?
— Не знаю... Я ничего не знаю.— Она доверчиво и ласково, как
теленок, потерлась лбом о его грудь. И это ее движение отозвалось в
нем сладкой болью. Стыдясь своего чувства, он опустил руки, грубовато спросил:
— А кто знает?
— Ты, Корнюша. Я-то с тобой смогу жить, а вот ты со мной...
Приглядись сперва. А то будешь потом спину чембуром разрисовывать, злость свою изливать.
— Скажешь тоже!..— засмеялся Корнюха.
— До осени далеко, развидпеется... Ты с заимки?
— С заимки. Игнату ничего не говори. Я сейчас же назад. Ты о
чем так долго с ним говорила?
— Обо всем. Чудной он, Игнат-то. Тс умный, как старик, то совсем ничего не понимает, как маленький. Жялко его, измаялся весь.
— Не будет дурость на себя напускать!—Корнюху царапнули слова «жалко... измаялся». Пусть дурак мается, может, чуточку поумнеет.
Обратно на заимку Корнюха ехал шагом. В успокоенные светлые
мысли мутным ручейком сочилось беспокойство. Осенью — свадьба.
А где они будут жить? На заимке у Пискуна? Его коров доить станет
Настя, его зимовье-развалюху будет обихаживать? От такой жизни
веселей не станешь...
V
Возле печки, на нарах, под яманьей дохой корчился в ознобе Максюха. По лбу, по щекам катился холодный липкий пот, намокшая
рубаха присосалась к телу. Три дня назад он переходил Тугнуй по
источенному льду и ухнул до пояса в воду. Пока прибежал на заимку, насквозь продрог, и в тот же вечер тело охватило жаром. Ночью
слил не спал — не поймешь, в голову лезла всякая чепуха, мерещилась разная диковина. Возле него почти неотлучно находилась Лучкина сестра Татьянка, большеглазая, длиннокосая девка. Она мочила
в холодной воде рушник и прикладывала к горячему лбу, поила чаем.
За время болезни она ни разу путем не выспалась. Устала, бедная.
Прошлой ночью села возле него, привалилась спиной к печке да тут
же и задремала. Максим разостлал полушубок и осторожно положил
Татьянку. Она что-то пробормотала сквозь сон, сунула ладонь под
щеку — так и проспала до утра, ни разу не повернувшись.
Сейчас она хлопотала во дворе, громко ругаясь с младшим братом своим Федоской. Никак не хотел ее слушаться Федоска. вечно
перечил, супротивничал, стыдился, видно, ей подчиняться.
На заимке Лучкиного тестя они жили втроем, ухаживали за баранами. Лучкин тесть, Тришка Толстоногий, коров почти не держал,
давно сметил: бараны дают пользы много больше. Снега в Тугнуе, где
его заимка, мелкие, отара без м:алого всю зиму держится на подножном корму, сена вовсе немного требуется, а за шерсть, за овчины хорошие деньги дают. Пока Еленка, дочка его, не привела в дом Лучку,
Тришка держал на заимке двух работников. Потом они стали без надобности: столкнул всех баранов на руки Татьянке и Федоске. Максю
в работники брать никак не хотел — для чего лишние расходы? Пилил долго своего зятя за нерасчетливость, с тобой, мол, в корень разориться можно. Лучка ему: «Не наговаривай, как на грыжу. Не глянется, что я делаю, отдели, сам по себе жить буду». Где же его отделит Тришка! Зять с сестрой и братишкой со всем хозяйством управляются. Сам-то он за последние годы растолстел, обленился, корма
коню дать не хочет, не только что... Моду взял по гостям ездить.
26
1'пжет Пеганку и укатит, неделями дома не показывается. На
ю он до сей поры исподлобья смотрит. Приезжал сюда раза два
е бубнил себе под нос, к любой мелочи придирался.
За окнами зимовья стихли голоса Татьянки и Федоски, и пока>сь Максе, что телега колесами простучала. Опять, поди, черти
принесли Трифона. Вот уж некстати. Макся поднялся на локте, глям : в окно. У крыльца распрягал коня Лучка, ему помогал Федоска.
1
' : адовался Макся. Поднял выше изголовье, чтобы все в зимовье
индно было. Услышав его возню, из-под нар выскочил ягненок, освился, растопырив палочки-ноги, круглые глупые глаза его влажп.1 поблескивали. Когда заскрипело крыльцо, ягненок стриганул под
м..;>ы, затих там.
Лучка вошел с кожаной сумкой через плечо. Полушубок распах. из-под папахи во все стороны топырился растрепанный чуб, в
|>..родке блестела соломинка. Весь он был какой-то на себя непохо, бесшабашно-удалой, а когда ааговорил, Макся понял: выпивши.
— Ты что это хворать вздумал?—Лучка поставил сумку на лавку притронулся холодной рукой к Максиному лбу.— Эк тебя разо«1>"Ло! Но ничего, сейчас я тебя на ноги поставлю. Самогону приволок
целую четверть.— Он подмигнул Максе, засмеялся и, открыв дверь,
крикнул:—Танюха, бросай все к дьяволу, ставь самовар.
— Ты с какой радости загулял?—спросил Макся.
— А что, только с радости гуляют? Поминки справляю, Максюха.
— Какие поминки?
— А вот,— Лучка взял сумку, выкинул из нее на стол петуха и
.: 'х куриц с окровавленными перьями,— всю птицу тестеву перестре:. Ка-ак шарахну из дробовки... Перья по всему двору.
Лучка весело засмеялся, лихо тряхнул головой.
Пришли Татьянка и Федос, и он заставил их теребить кур, сам
.(•лил взад-вперед по зимовью, рассказывал:
— У меня собака была охотничья. Такая, Максюха, собака, каких
и. часто встретишь. На белку идет, на медведя, на кабана, утку из
• • 'юта достанет. А у тещи курица потерялась, потом еще одна. Теща
па собаку грех возвела и науськала тестя... Стеклом толченым накорлили. Пропала собака. Тогда я взял ружье и давай ихних курей из:;;!чтожать. Всех до единой истребил. Теща и баба моя, как куры, вокруг меня прыгают, руками махают, кудахтают. Баба побежала в
О'^ет, Лазурьку привела, арестовать меня хотели. Арестуй попробуй.
.и у меня ружье в руках.— Лучка сел ка край нар.— Правильно
:! сделал?
— Правильно. Кровь за кровь...
— Смеешься. Эх, ты...
— Он смеется, а тебе надо плакать,— сказала Татьянка. — Герой
гыискался. Смерть куриная!
Федоска, тощий, длинный, согнулся, фыркнул.
— Заржал!—накинулась на него Татьянка, шлепнула по худой
Vч'лне. — Убирайся отсюдова!—И Лучке:—Зря тебя не посадили в
: юрьму!
— Дай-ка мне ремень, я тебе по спине врежу,— сказал Лучка.
Из хомута, висевшего у порога, она выдернула супонь, протянула брату:
— На, врежь... — Лицо — серьезное, брови насуплены, а Б боль1Л1х глазах — смех, но не веселый, смех сквозь слезы.
Лучка сложил супонь вдвое, накинул на шею Татьянке, потянул
к себе, со вздохом сказал:
— Ты молодец у меня, сестренка. Никогда не соврешь, всю правду выложишь. Только тут ты ошибаешься, маленькая, мол. Смерть я,
ы оно, но не куриная. Однако знать тебе про это не надо. Иди готовь
27
скорее ужин. — Оттолкнув сестру, Лучка провел ладонью по лицу,
прищурился, вроде бы во что-то вглядываясь, судорожно дернул
щекой.
— Знаешь, Максюха, я иной раз жалею, что в живых остался.
Сколько добрых парней укокали на войне...
Донельзя был удивлен всем этим Макся, ему-то казалось, что живет Лучка куда с добром: баба у него ни умом, ни красотой не обделенная, нищета горло не сдавливает — что же еще надо?
— Глупости собираешь, слушать лихо! — сказал ему сердито.
— Может быть, может быть... —Лучка соскочил с нар, подошел к:
рукомойнику, умылся, намочил голову, причесался: смирный и скучный сел за стол.
— Убери, Федос, куриц, чтоб глаза мои не мозолили. Ты, Максюха, выпьешь? — Из сумки достал бутылку, зубами выдернул пробкуколышек,— иди, посиди со мной маленько.
— Что он насидит, когда весь ослабший! — воспротивилась Татьянка. — Не вставай, Максим, поесть тебе в постель подам.
— Видал-миндал, повеселиться не дает,— усмехнулся Лучка. —
Эх бабы, бабы, проклятье рода человеческого. Все беды на свете — от
баб, Максюха. А ты, Федос, на стаканы не поглядывай, отучишься
рукавом нос вытирать — пожалуйста.
— Нужно очень! — вспыхнул Федоска. — Духу ее не выношу.
— Придет время — вынесешь. И не то еще вынесешь, братка, —
Отодвинув стаканы, Лучка опять подошел к Максе, сел, сказал протрезвевшим голосом:—Ог прежних друзей один ты остался, Максюха. Другие отодвинулись.
— То на себя, то на других наговариваешь...
— Нет, Максюха, отодвинулись, вижу, какое ко мне отношение.
— Плохо смотришь. Оттого-то и мерещится...
— А что смотреть? Ковыряют своими разговорчиками — мимо
ушей пропускаю. Грешил: от зависти бормочут. Про себя думаю: подождите, я вас еще заставлю удивляться. Жил этой думой, радовался,
а теперь ничего не осталось, на душе склизь одна.
Замолчал Лучка, прикусив короткий ус. Плыли за окном сумерки ясного вечера, из двора доносилось меканье козленка; в запечье
тонко, будто на таловой свистульке, пел самовар. И Максе хотелось,
чтобы спокойствие этого вечера, эта негромкая тишина вытеснили из
Лучкиного сердца промозглость, чтоб говорил он о чем-то другом, говорил с ясной и теплой задумчивостью, как бывало там, у нежарких
партизанских костров.
— Чем ты хотел удивить мужиков? Расскажи...
— Что рассказывать, Максюха? По нашим, мужицким, понятиям
это вроде как блажь... Но кому что. Я, к примеру, до смерти люблю
в земле копаться, пытать, что она может уродить. Чудное это дело,
длковинное. — Лучка помолчал, сел поудобнее. — Ты видел, бабы наши для красоты в огородах под окнами киюшку выращивают? Попал
я в теплые края, вижу, произрастает наша хиюшка, только она раза
в три больше и по-другому называется — кукурузой. Там она солнце
любит, землю влажную. Приехал домой, стал узнавать, откуда взялась киюшка в нашем стылом, засушливом крае. Прадеды в ссылку
семена привезли, кормиться ею думали. Не получилось. Но совсем не
забросили. То один, то другой в землю зерно кинет. И прижилась,
приладилась киюшка к сухоте и ранним заморозкам. В росте, конечно, поубавилась и зерна такого не дает, как кукуруза. Так ведь без догляду прижилась... А если с доглядом? Яблоки и другая разная фрукта
тоже должна к нашей земле приладиться. Как ты думаешь?
— Не думал про это, врать не хочу.
28
— Ты не думал, другие и подавно. Жизнь ни к черту годная у
•не. Одно знаем: веру беречь. Доберегли! Со стороны посмотришь на
лгйского, он вроде той киюшки — умом не вверх, а вниз двинулся,
• • г немли еле поднимается.
— Тут ты загнул, Лука.
— Загнул? Пусть... Не дал ей бог крыльев, нашей семейщине.
'но, конечно, верно, что не до мудреной огородины многим, не до са1<>в. А у кого в закромах не пусто, выгоду свою упустить боится. Мой
и'сть — такой... Ему все чудное, непонятное — нож вострый. Что ему
|-..ды, красота на земле, была бы утроба набита. А-а-а, ладно... — Лучка принес стаканы — один полный, до краев, из него самогон плещет| ;., другой до половины налит. Полный подал Максе:—Чебурахни
псе за раз, полегчает.
Максим с опаской примерился к стакану — многовато, не стало бы
хуже?
— Выпей,— сказала Татьянка,— все мужики так от простуды лечатся.
Она поставила на нары капусту, редьку тертую со сметаной.
х.юо, но Макся закусывать не стал. Не захотелось. От самогона по
ксему телу разлилось тепло, голова отяжелела. Без лишних церемоний Татьянка согнала брата с нар, поправила на Максе доху, укрыла
'•го еще двумя полушубками и он, обессилевший, распаренный, почти
гразу же заснул.
Проснулся — в окна бьет солнце и расстилает на полу косые квадраты света, в одном из них блаженно дремлет ягненок; в углу за столом пьет чай Лучка, напротив него, одевая, в кичке и кашемировом
полушалке по плечам, полнолицая, необветренная — Еленка, Лучкина
супружница. Видать, только что вошла, бренчит монистами, курму
расстегивает и с осуждением смотрит на своего мужа. В зимовье,
кроме них, никого нет, Татьянка и Федос, наверное, скотину кормят.
Лучка дует на блюдце с чаем, спрашивает:
— Батька послал?
— Сама сдогадалась.., А хоть бы и батя! — Елька сняла курму
имеете с кашемириком, на груди желтыми огнями заиграли янтарные
корольки, заискрились стекляшки бус. Шея у Ельки длинная, будто
нарочно вытянутая, чтобы побольше монист нацепить.—Тебе надо
повиниться перед батей и мамой.
— Это за курей-то?
— За курей и за изгальство.
— Про какое изгальство говоришь?
— Ума пытаешь? — вскинула голову Елька. — На смех всей дере вне выставил и еще спрашивает об чем-то!
— Ты не дергайся, Елька,— Лучка осторожно поставил блюдце
ни стол. — Ты мне БОТ что скажи: как дальше жить будем?
— Ты об чем?
— Не могу я, Елька, больше. Хочу жить по своему разумению,
(..тгька твой пусть живет по-своему.
— И что ты навалился на батьку, на маму? Они свой век дожинают, а мы только начинаем...
- Потому-то, Елька, надо как-то все переиначивать. Не хочу я,
чюП моя жизнь была такой же, как у твоего батьки.
Па белом Еленкином лице выгнулись и сошлись у переносья брони, у дивленным, обиженным стало лицо.
- Дай бог всем так жить и столько нажить...
- Ты не пузырься, а послушай, что скажу. Я женился на тебе,
л не па приданом. Если хочешь жить по-человечески — уйдем.
- Да ты что! — Еленка вцепилась обеими руками в нитки бус.—
29
Ты что это выдумал! Куда мы уйдем от хозяйства такого? Оно нашим
будет. Наше оно — твое и мое!
— Наше?
— Конечно, наше.
— И я могу им распоряжаться, как захочу?
— Конечно, Лукаша, ты — хозяин. От века так—хозяин домом
правит.
— Как ни поверну, будешь согласна?
— Зачем спрашиваешь? Заранее согласна.
— Вот и брешешь, Еленка. Коммуна будет — первым в нее пойду
и все хозяйство сдам. Что скажешь? Запоешь другим голосом, а батю
твоего разом кондрашка хватит.
— За что казнишь меня, бессовестный?
— Не казню, Еленка, понять ты меня должна.
— Поняла... Нету сердца у тебя! — Еленка всхлипнула, закрыла
лицо руками.
Лучка навалился на кромку стола грудью, хмурясь, взялся водить
пальцем по пустому блюдцу.
Неловко было Максе слушать весь этот разговор и притворяться
дальше что спит, становилось просто невозможно — повернулся,
громко, протяжно зевнул. Еленка быстренько вытерла ладонями слезы, улыбнулась:
— Здоровенько, Максим!
А Лучка все продолжал писать пальцем на блюдце. Еленка его за
рукав тронула, попросила:
— Собирайся, поедем.
Уже одетый, Лучка подошел к Максе, постоял молча, вроде как
не решаясь что-то сказать, подал руку.
— Поправляйся...
Ничего к этому не добавил. Вышли друг за другом — Лучка впереди, Еленка за ним. В руках у Еленки — бич. И Максе показалось
вдруг, что этим бичом она будет подстегивать своего мужика всю дорогу, чтобы в сторону не сворачивал. Бедный Лука, тоже сбился с
панталыку. Будь на его месте кто другой, Корнюха, к примеру, жил
бы припеваючи. А может, и нет. Сам-то он, Макся, попади в такой
дом, радовался бы? Нет, наверно. Он бы первым делом половину добра пораздал, не смог бы он жить спокойно, когда рядом братья ; товарищи живут много хуже... Или смог бы?
VI
Игнат собрался ужинать, когда звякнули ворота. Он подошел к окну. Во двор вводил подседланную лошадь какой-то бурят.
Привязав лошадь, гость, обходя лужи с красными отблестками
закатного солнца, направился в зимовье. Игнат встретил его у порога, и тут, вглядываясь в лицо, от удивления рот открыл.
— Бато?
Бурят сверкнул белыми зубами, засмеялся, отчего его узкие глаза
будто и вовсе зажмурились.
— Я, Игнат.
— Откуда ты взялся, Батоха?
— А тут, рядом, в улусе Хадагта живу.
— Чудеса да и только! Нам мужики сказывали, будто ты богу
душу отдал.
— Не, японцы тут дырку провертели. — Бато показал чуть ниже
правого плеча,— а ничего, заросло.
Рассказывая, Бато снял дыгыл, крытый далембой, буденовку. Го30
лова его была острижена наголо и от этого лицо казалось еще более
скуластым. Игнат начал было доставать из столешницы еще одну
ложку, для Бато, и тут вспомнил: Батоха — нехристь, чужая, поганая у него вера. Нельзя его кормить за общим столом, под образом
бога, из общей посуды. А посадить отдельно — обидится. Как ему не
обижаться: были в партизанах — ели из одного котелка, кусок хлеба
пополам разламывали, мерзли в одном сугробе, грелись у одного костра. Война отодвинула различие в вере, в обычаях. Но то — война.
А как поступить сейчас?
Не слушая больше, что говорит Бато, Игнат бесцельно перебирал
деревянные, с обкусанными краями ложки. Бато присел на лавку,
глянул на него, замолчал, потом смущенно попросил:
— Давай другой посудка.
По ломаному выговору, по смущению Игнат понял, что Бато обо
всем догадался. Махнул рукой:
— Садись, чего там!
И все же разговор за столом плохо ладился. Помутнела радость
встречи, пропала куда-то душевная близость. Игнат пожалел, что нет
дома Корнюхи. Тот старые обычаи ни во что не ставит, совсем обасурманился, и с ним Батоха ничего бы такого не почуял. Хотя... Батоха
понятливый, завсегда моментом отзывался на доброе и худое. Просто
даже жалко, что такой славный человек, а нехристь.
Поужинали торопливо, будто на пожар спешили.
— Ночевать будешь? — спросил Игнат.
— Поеду. Близко тут. Прошлым годом это место жить стал. У
вашего батьки гостевал. Помер он? И мой батька помер. Давно уже.
Дырку, залечивали мне, тогда помер, а мать недавно померла. Тут
дядя живет. К нему с сестрой кочевал.
Понемногу Бато разговорился. В улусе, сказывал, тоже ждут люди перемен, по-разному ждут: есть — радуются, есть — боятся.
— Ты как, не боишься?
— Я чужой скот пасу. У кого стадо большое, тот боится.
— Оно так... Но ить, Батоха, стариной лопуститься надо, всем,
чем отцы наши жили. Не жалко? Первым делом, верой...
— Что мне вера давала? Ничего мне вера не давала, я не лама!—•
быстро заговорил Бато. — Кто лама, тому шибко плохо...
Уклончиво, невразумительно ответил ему Игнат:
— Оно, конечно, потому как вера ваша не настоящая.
— Зачем такой стал? — с удивлением и укором спросил Бато. —
Совсем другой человек был. Эх-хе, Игнат, пропадать будешь, погубить себя будешь! Не надо... Солнце греет, степь широкая — живи!
Узенькие глаза Бато светились участием, и Игнат закряхтел, потупился, угрюмо обронил:
— Никак жалеть вздумал... Давай говорить про другое.
Проводил Бато за ворота, подал руку.
— Забегай, когда тут будешь.
Дома, убирая со стола, он повертел в руках стакан, тот, из которого пил Бато, поставил на место. По-доброму-то стакан надо было
выкинуть, он теперь вроде как опоганенный, грех из него пить верующему. Но разве меньший грех принимать человека как друга, сидеть с ним за одним столом, а потом, едва он за порог, выкидывать в
помойку все, что от него осталось, все, к чему прикоснулись его руки?
Отчего так верой установлено, что ежели ты не семейский — поганый. Неужели на всем белом свете, среди тьмы всякого народа, одни
семейские отмечены перстом божьим, одни они чисты?
Так и не решил, что сделать со стаканом Батохи, так и не убрал
со стола. Как в теплую затхлую воду погрузился в свои думы, вновь
31
вспомнил похороны отца, свежую могилу его, вмиг присыпанную снехол! и ставшую как все другие. Что же такое есть человек?7 Многие теперь говорят: бога нет, души нет. Для чего тогда жизнь
На дворе стемнело. В изОах зажглись огни. Деревня укладывалась спать. Хлопали ставни окон, запираемых на ночь, скрипели ворота, сонно взлаивали собаки. Игнату стало ясно, что Настя сегодня не
придет. Одному сидеть в пустой избе тягостно, а7 пойти, считай, некуда. Но почему ни разу не сходил к уставщику Уж он-то все о вере
знает. Можно прямо сейчас к нему...
Уставщика застал за вечерним чаепитием. В исподней рубахе, с
рушником на шее, разомлевший, сидел он у медного самовара, тянул
чай маленькими глоточками, тяжело пыхтел.
— Ты чего ко мне, по делу? — прогудел Ферапонт.
— Как сказать... Вроде бы и не по делу...
— Сейчас, сынок, приходят ко мне только для того, чтобы попросить что-то.
— Трудно живется людям, Ферапонт Маркелыч...
— Трудно, ох трудно,— вздохнул Ферапонт. — Ну да вам-то что,
сами все сбаламутили. Радуетесь, должно?
— Чему радоваться-то?
— Чего же не радоваться... Стариков можно теперь ни во что не
ставить, меня, пастыря духовного, стороной обегать. Кругом слобода.
На все ноги расковались, а тока худо все кончится, сынок Без подков, сам знаешь, чуть ступил на гололед — брык набок.
Не попреки и жалобы хотел услышать Ишат от Ферапонта, совсем за другим к нему шел. Помрачнел.
— Говоришь так, будто я во всем виноват.
— Не ты один. Но и ты. Все обольшевичились! — Ферапонт стянул с шеи полотенце, скомкал, бросил на лавку. — Дух свой унизили,
чрево возвысили.
— А может, люди не виноваты в этом? Большие сумления в вере
есть, кто на них ответит, распрояснит?
— Для истинно верующего не может быть никаких сумлений, а
чуть пошатнулся, лукавый тут как тут. Зачнет сомущать на каждом
шагу. Тока истинно верующему не страшны ни люди-греховодники,
ни козни нечестивого. А веру крепит молитва.
— Не всегда молитва поможет. Например, так... Бог запрещает
человеку даже бессловесную скотину зря забижать. А мы людей другой веры презрением оскорбляем, есть с ними за одним столом гнушаемся. Это от бога или люди выдумали?
Ферапонт моргнул глазами так, словно их запорошило, придвинулся ближе к Игнату, спросил:
— А сам как думаешь?
Игнат помолчал, сказал твердо:
— Не от бога это. От людей, от недомыслия.
— Хм, от людей, говоришь,— Ферапонт был, кажется, в затруднении, поскреб ногтем в бороде. — От людей... Не с того конца веревку
тянешь, сынок. И не ты один так. Многие теперь на жизнь смотрят
с одного бока, одно на уме имеют — утробу свою насытить. Все помыслы к тому сводят, всю силу рук и ума на то кладут. Но оглянись
на дело рук человеческих и ты узришь, как все обманчиво,— го-жмФерапонта отвердел, загудел густо и ровно. — Все, чего мы на этом
свете добиваемся, чему радуемся — прах и тлен.
Игнат молча кивал. Он давно сам до этого додумался, ничего нового не открыл Ферапонт, но то, что уставщик мыслил сходно с ним,
радовало, располагало к доверию.
— Только душа человека нетленна, бессмертна. Заметь, только
12
душа.— Ферапонт поднял толстый, в рыжих волосинках палец, ткнул
мм, будто хотел вдавить свою мысль в наморщенный лоб Игната.
И о бессмертии души Игнат, конечно, знал без Ферапонта. Но верил ли? Сейчас, вслушиваясь в густой голос уставщика, он ощущал,
как исчезает зыбкость мысли и все становится четким, определенным.
Суть человека — душа его. Тело — одежда души. Обветшала одежда — господь освобождает от нее, и предстанешь ты перед судом голеньким, нечем прикрыть ни пустоту, ни язвы, ни пороки.
А Ферапонт увлекся, заговорил нараспев:
— Твори дела, угодные богу, снимай грехи постом и молитвой, и
будет твоя душа чиста, аки у младенца...
— А какие дела угодны богу? — остановил его Игнат.
— В писании сказано: не убий, не укради, не пожелай жены
ближнего своего, ни осла его...
— Я так понимаю: делай людям добро и ты будешь чист перед
йогом? Верно я понимаю?
— Верно, сынок. Зло, причиненное другому, — ущерб твоей душе.
Больше Игнат ни о чем спрашивать ке стал, заторопился домой:
боялся, не смутил бы вновь Ферапонт мысли каким неловким словом.
Дома зажег лампу, помыл стакан Бато и поставил вместе со всеми.
Ни Ферапонт, ни другие старики, в вере твердые, не одобрили бы этого, но он теперь знал: делает правильно. Перед всевышним каждый
отвечает за свою душу сам, и никто не вправе возвышать себя над
другими, мнить себя лучше и чище. Какая у него вера — не твое, а
богово дело. Твое дело, если хочешь жить в ладу с богом и своей совестью, относиться к любому человеку так, как относятся к тебе твои
близкие.
Но тут он вспомнил о споре своем с Корнюхой и вновь пожалел,
что не сдержался тогда, ожесточил его своей руганью. Совсем отдалился Корнюха, приезжает с заимки редко, а приедет — трех слов не
скажет, повернется и был таков.
VII
Недели за две до пахоты Лазурька созвал сходку. В здание сельсовета, бывшую сборную, набилось полно мужиков, знали не будет
Лазурька в такое горячее время зря отрывать от дела. РГгнат еле нашел место где сесть. Бывший председатель Совета Ерема Кузнецов
подвинулся, освободил край скамейки.
— Присаживайся. Чтобы боевой партизан стоял на ногах — не
позволю. Нам бы полагалось сидеть на первой скамейке, а?
— И тут ладно.
- Ничего не ладно. Сердце не выносит, когда нашего брата
затирают.
«Выпивши он, что ли? Да кет, трезвый», —Игнат с недоумением
смотрел на Ерему. Сильно-то боевым партизаном он не был. В одном
бою участвовал, а потом куда-то потерялся. Говорили ребята: захворал, понос подхватил... А после войны сам Ерема твердил, где только
мог: ранили его. Может, и ранили...
— У нас, товарищи, имеется всего один вопрос,— Лазурька встал
из-за стола, одернул солдатскую гимнастерку. — Поскотину надо городить, мужики...
Сдержанным шумом неодобрения ответили ему мужики. Ерема
поднялся, громко сказал:
— Тебе заняться нечем, али как? — сел и добавил негромко: — Покрасоваться захотелось перед народом—созвал. Зачем таким власть
доверяют?
— Баба тесто не сдобила, печь не затопила, а вы: пирог подавай.
3. «Байкал» № 5
33
Тебе же Еремей Саввич,— Лазурька приподнялся на носках, чтобы
увидеть Ерему,— вовсе нечего высовываться. В твою бытность председателем поскотину на дрова да на остожья растянули, колья одни
остались. Сроду такого не было. А без поскотины нам никак нельзя.
В прошлом году сколько потравы было? Так что раньше сроку заворковали, мужики, будем городить поскотину, как и в старину, всем
миром.
Над головами мужиков поднялся Харитон Пискун, огладил реденькую бородку, тихим голосом укорил мужиков:
— Как вам не надоест шуметь? Надо же поскотину городить? Надо. Об чем же разговор? Другое дело, не след по такому пустяку людей скликать. Из века заведено держать поскотину в порядке, так что
нечего было митингу разводить, а сказать, кому сколько прясел поставить надобно, и все.
Лазурька слушал Харитона Малафеича с усмешкой.
— Сколько же прясел ты раньше ставил? — спросил он.
— Разно бывало. Прясла делили на души, а душ в деревне числом бывает то больше, то меньше.
- На души? — Лазурька перестал усмехаться, потемнел лицом.—
То-то и оно, на души. За душой у тебя, может, нет и паршивой баранухи, а ты мантуль наравне с теми, у кого скота полон двор. Так было, но так не будет, Харитон Малафеич!
— Кто за свою жизнь баранухой не обзавелся — что о них говорить. А ты какую холеру придумал? — с подозрением и беспокойством
спросил Пискун.
— Мужики, такое есть к вам предложение. Поскотина делается,
чтобы уберечь посевы от потравы. Будет по справедливости, если тот,
у кого скота больше, больше прясел поставит.
— Да ты что, Лазарь Изотыч? — удивленно протянул Пискун. Никогда такого не бывало у нас. Для чего старину ломаешь?
— Старина твоя давно поломата, теперь только обломки из-под
ног убрать требуется.
— Люди! Чего же молчите!—закричал Пискун. — Не давайте
принуждать себя.
— Тише, Харитон Малафеич, надорвешь горло, оно и без того у
тебя слабое, без голосу останешься,— Лучка подвинул ногой стул, сел,
свернул папироску, пыхтя синим дымом, спросил: —Ну что, мужики?..
Мужики молчали, шевелили губами, подсчитывали, кому будет
от нового порядка выгода, кому — убыток. Игнат тоже прикинул, похвалил Лазурьку: хорошо придумал. У них в семье три души, у Пискуна — две. По-старому Пискуну городить пришлось бы меньше, хотя
скота у него в несколько раз больше.
— Высказывайтесь, мужики, нечего тут молчком сидеть,— сказал
Лазурька. — Ну, кому слово дать?
Встал Лучка Богомазов, наморщил лоб, собираясь с мыслями, а
за его спиной чей-то старческий голос проскрипел недовольно:
— Пошто молодые вперед лезут?
- Одно — молодой, другое — не хозяин, в зятьях околачивается,— съехидничал кто-то и попал в точку. Лучка от этих слов вздернул голову, как пришпоренный конь.
- Захлопни зевальник! — и сел, угрюмо потупив взгляд.
— Дозвольте мне, люди добрые,— степенно проговорил уставщик,
Ферапонт Маркелыч, поднялся над мужиками — дремучая бородища
во всю грудь, в руках палка, крючком согнутая.
— Не дозволю! —негромко, но так, что все услышали, сказал Лазурька, вышел из-за стола. — Ты зачем пришел сюда, пастырь? Ли34
шен ты голоса, как служитель религии, потому — иди с миром до дому, батюшка.
— Это как же так? — Ферапонт не ждал такого, осекся, тяжко повернулся в одну, в другую сторону. — Дожили!
— Иди, батюшка, иди,— почти ласково выпроваживал его Лазурька, и эта ласковость была для Ферапонта хуже брани, хуже злого
крика.
— Вы-то что молчите, мужики? — увядшим голосом спросил он,
шагнул к дверям, погрозил палкой. — Ну-ну, молчите, дойдет черед
и до вас.
И, когда он выходил, из дверей на всех пахнуло холодом ночи.
Мужики зашевелились, недовольно загудели.
Лазурька сосал потухшую папироску, цыгановатыми глазами настороженно всматривался в лица мужиков, даже не пытаясь утихомирить собрание. Игнат вздохнул. Негоже так вести себя с народом. Выгкал Ферапонта, не считаясь ни с возрастом, ни со званием его. Лишен голоса — вон ведь что придумал. Не доброе это дело — рот затыкать. Ума на это много не надо. Если правда у тебя, никакой чужой
голос не помеха.
А шум в сборне все нарастал и нарастал, уж и покрикивать стали
на Лазурьку.
— Хватит! — Лазурька выплюнул папироску. — Хватит! Прошу
не горланить. Всех кулацких крикунов и их подголосков вытурим отсюда, если будут мешать. Вашей власти теперь нету. Теперь бедняцкому классу первый голос.
— Давай, председатель, я выскажусь. Мне-то можно высказаться? — Петруха, по прозвищу Труба, узкоплечий, длинношеий мужичок
поднял руку.
— Говори, Петруха.
— Все вы знаете, кто я такой. Я, можно сказать, самый наипервейший бедняк. Дома у меня, окромя пяти ребятишек и семи куриц, ничего нету. Всю жизнь в мельниках у Прокопа живу.
— Да, знаем, говори по делу!
— Нашел чем хвастаться!
Сбитый с толку криками, Петруха замолчал.
— Говори, говори,— приободрил его Лазурька.
— Так я что хочу сказать. Советская власть нас всех уровняла.
Теперь что Прокоп, что я — одинаковы, я вроде даже чуть выше, потому как бедняку — честь. И ты не дело говоришь, председатель. Не
принижай бедняков, дели на душу, как раньше делили.
— Очумел! — звонкий женский голос, такой неожиданный здесь,
заставил Игната вздрогнуть. Это Пистимея, баба Петрухи Трубы, както затесалась сюда и сейчас, возмущенная речью мужа, вскочила,
ударила его по спине кулаком. — Садись, постылый! Садись и не лезь
на народ с худым умом. Не слухайте, мужики, моего дурака. Ишь ты,
гордость его обуяла, с Прокопом ровней стал. А о том, черт непутевый,
не подумал, что за гордость свою платить придется. От ребятишек отнимать надо последний кусок хлеба. Вот дурак, так дурак! Полюбуйтесь на него, люди!
Мужики смеялись: кто громко, весело, кто слегка похохатывал,
прикрывая рот рукой. Со всех сторон на бедного Петруху посыпались
язвительные шуточки:
— С кем теперь сравнялся Петруха — с бабами!
— Бей его, Пистя, шибчее, будет умнее.
После этого веселый гул так и не угас до конца собрания. Закончилось оно быстро. Никто больше не решился отстаивать старый порядок дележа работы.
3*
35
Домой Игнат возвращался вместе с Харитоном Пискуном. Старик
всю дорогу вздыхал, качал головой.
— Никакой жизни не стало, Игнаша. Задавили нашу вольность,
слова тебе не дают сказать.
— Ты зря спорил,— осторожно возразил Игнат. — Лазурька, он
правильно измыслил.
— А разве я говорил, что неправильно? Тут, думаешь дело в поскотине? Пусть загорожу я десять-двадцать лишних прясел — у меня
не убудет. Тут, Игнаша, другое. Лазурька старые порядки изничтожает. Сегодня городьбу не так поделили, завтра землю обрежет, послезавтра в закром с мешком полезет. Видно же, куда гнет. Еремка, тот
был лучше, со стариками совет держал — и власти хорошо и нам неплохо. А этот ничего не понимает. Вы с ним навроде друзья. Поговори, втолкуй ему, что нельзя так. Надо жить тихо-мирно, как деды
наши жили.
— Что я ему скажу? Ничего в таких делах не понимаю
— Пойдем ко мне, чайку попьем, поговорим.
— Спасибо. Но мне некогда. Дела дома есть.
Нетерпящих отлагательства дел у него нет. Думал, что пришла,
может. Настя. Но ее не было. В избе который уж день не прибиралось,
грязно, прямо как у Пискунов, а Настюха глаз не кажет. Что-то она
реже и реже стала приходить. Как-то вечером зашел к Изоту поздно
вечером, спросить, возьмется ли Настя починить рубахи.
— Так она у вас,— сказал Изот. — Стемнело — ушла.
Потом он спросил у Насти, где она была в тот вечер. Дезка покраснела, сказала что-то непонятное, а переспрашивать Игнат не
стал. У него вдруг защемило сердце. Уйдет от них Настя. Бегает, видно, на вечерки. Парней молодых в деревне много. Что он перед ними?
Угрюмый мужичина, ни песню спеть, ни слова веселого сказать.
В одиночестве поужинав, Игнат лег спать. Не спалось. С тоскливой неохотой думал о своей скособоченной жизни. Годы немалые, к
тридцати подкатывают, половину своего века, должно, уже прожил, а
ничего доброго в жизни не видел, только муки, страдания людские. И
все время ждешь: вот-вот направится жизнь, посветлеет, уплывет все
худое, как мусор по полой воде...
Лежать без сна, думать о передуманном' надоело, сел на приступку крыльца. Темень стояла непроглядная. С неба почти неслышно моросил мелкий дождик. В деревне дверь не проскрипит, собака не тявкнет. Поздно, видать. Может, утро скоро.
Игнат зевнул, поежился, встал, собираясь идти в избу. На улице
приглушенно застучали копыта лошадей. По звуку можно было определить, что ехали, приближаясь, два всадника. Напротив ворот они
остановились, перебросились двумя-тремя слонами и вдруг хлестко,
лопнувшим обручем, ударил выстрел, за ним — другой, третий. За- •
звенели стекла, завыли собаки. Игнат метнулся на забор, позис на нем,
закричал:
— Вы что делаете, варначье?!.
Навстречу ему из тьмы колюче вспыхнул выстрел, и пуля взвыла
высоко над головой. Всадники ускакали, стук копыт замер в ночи. Собачий лай покатился от двора к двору по всей деревне. Игнат спрыгнул с забора, перебежал через улицу, остановился под окном Изотовой избы. Тихо было в избе, наружу не доносилось ни звука. Может,
и не в Лазурьку стреляли? Может, баловал кто? Осторожно постучал
в ставень. В избе что-то шебаркнуло, но никто не откликнулся.
— Лазарь, а Лазарь, это я, Игнат. Открой. Они убежали.
— Ты, Игнат? Сейчас.
В избе засветился огонь. Загремев болтом, открылся ставень, распахнулось окно. С лампой в одной и наганом в другой руке у окна
36
стоял бледный, всклоченный Лазурька. Из-за его спины выглядывал
старик Изот. Он держал в руках старую берданку.
— Лезь сюда. Окно надо закрыть. Не вернулись бы,— сказал
старик.
— Не вернутся,— Лазурька поставил лампу на стол, смел с подоконника осколки стекла. — Пакостливы, как кошки, трусливы, как
зайцы. Сколько их было, не приметил?
— Не, темно. По слуху понять — двое,—Игнат остался стоять на
улице. Мелкие брызги дождя оседали на лице, на шерсти старенького
зипуна. — Никого не задело?
— Нет,— Лазурька высунулся из окна, вгляделся в тьму. — Сволочи! Я еще посчитаюсь с вами!
— На том свете посчитаешься! — сердито сказал Изот и, опираясь
на бердану, пошел к кровати. — Ухайдакают они тебя, парень, помяни
мое слово.
— Уедем отсюда! — из-за печки вышла Клавка, Лазурькина баба,
она зябко куталась в платок, вздрагивала.
Лазурька закурил, нервно похватывая папироску, сказал:
— Сто раз было говорено — никуда не поеду!
Из-за перегородки выглянула Настя, кивнула Игнату.
— Она правильно говорит: уезжайте. Убьют тебя, братка.
— Не твоего ума дело, Настюха, помалкивай.
Игнат поднял воротник зипуна, прикрывая шею от дождя.
— И верно, уехал бы ты, Лазарь, обождал, когда затихнет. Потом возвернешьсл.
— Ну уж нет! Это мой дом, моя земля, никуда меня никто не вынсивит отсюдова! Пусть они бегут, как тараканы от огня. Так-то, Игнат. За то ли мы воевали, чтобы в родном доме от всякой падали житья не было?
— И это правильно... С другой стороны, тебе надо помягче, полегче с народом. Зачем ты вечером Ферапонта посрамил? Старик он, уважительность к летам его быть должна, опять же, если в бога веруег,— кому какой вред?
— Ты ничего не видишь, Игнат. Куриная у тебя слепота. В молитве усердствуешь, шишек на лбу набил и ждешь, когда господь ниспошлет благодать. Не дождешься, божий угодник.
— Мои молитвы не задевай...
— Смотреть, как ты расквасился? Как забыл кровь братьев-товарищей?
— Братка! — предостерегающе сказала Настя. — На ком попало
зло не срывай.
— Молчи! За косу оттаскаю!—Лазурька лег животом на подоконник, наклонил голову к Игнату. — Думаешь по мне они огонь ведут.
по Лазурьке? На черта я им сдался. Дело наше они обстреливают. А у
тебя порох отсырел.
— Ты чего добиваешься, Лазарь, не понятно мне?
— Жизни другой для людей. И кто поперек этой жизни станет —
не помилую! Не только Ферапонту, самому господу бороду повыдергаю.
— Экий ты, Лазарь, невоздержанный и озлобленный. Крови пролил народ и так достаточно. Иззяблись люди, умаялись, себя потеряли
многие. Мир, теплое слово более всего им нужны сейчас, а ты вновь
войну навязываешь.
—• Я навязываю? А ты спроси, сколько раз вот так, стрельбой в
окна, нас с постели поднимали... Война не кончилась еще, и рано ты
винтовку на стену повесил. Ты не сердись на меня, Игнат. Сам понимаешь, тяжело мне. Приходи завтра утром в Совет.
37
В Совет, кроме Игната, пришли еще человек пятнадцать, все бывшие партизаны.
— Вот что, мужики. Стрельбу по ночам, воровство, надо кончать!
—решительно сказал Лазурька. — Небольшая нам цена будет, мужики,
если допустим, чтобы селом правил Стигнейка Сохатый. Каждую ночь
будем караулить все ходы-выходы из деревни.
— Надо бы милицию пригласить. Они за это деньги получают,—
сказал Тараска Акинфеев.
— Пробовали, приглашали. Пока милиция тут — все тихо-мирно,
уехали, Сохатый пуще прежнего гадит. Кругом глаза и уши. А мы будем потихоньку.
— Верно, Лазарь Изотыч, какие же мы партизаны, если одного
Сохатого не словим,— подал голос охочий до разговоров Ерема Саввич.
— Работа же, братцы! — взмолился Тараска. — День на поле майся, а ночью в канаве лежи с винтовкой в обнимку. Кому как, но по
мне — лучше с бабой своей обниматься. Молодоженов-то, поди, ослободите? — Тараска хитро заулыбался.
Шутку его никто не принял, не до шуток было
— Караулить будем по переменке. С тобой, Тарас Акинфиевич,
ничего не сделается, если один раз в неделю не доспишь. Порешили,
значит, мужики? — Лазурька обзел взглядом лица бывших партизан. — Но чтобы — ни гу-гу! Чтобы ни одна собака об этом не разнюхала.
VIII
Вплоть до начала весновспашки Корнюха через день-два тайком
приезжал в деревню. Настя поджидала его на берегу речушки в кустах тальника. Там было тихо, только речка булькала на камнях, да
ветер иной раз шебаршил прошлогодним листом. Говорила Настя мало, молча прижималась к нему, ерошила чуб, терлась щекой о его колючую щеку. Зато сам Корнюха становился с ней разговорчивым, никаких мыслей от нее не прятал, самое сокровенное выкладывал.
— Я тебя, Настюха, в нашу старую избу не поведу. Новый дом
построю. Высокий, с большими окошками, с резьбой по карнизу. В доме будет смоляным духом, свежим лесом пахнуть. Одни будем жить,
полная воля нам... А ты чего посмеиваещься? Не веришь, думаешь
заливаю? Плохо ты меня знаешь? Я уже обмозговал!.. Старый Пискун
даст мне столько семян, сколько захочу, кони есть. Я из себя все жилы вымотаю, а засею столько, что на еду и на продажу хлеба хватит.
За лето лесу наготовлю. А осенью помощь соберу. Мужикам что надо — ведро самогону в день и закусь кое-какая. Самогона я на заимке
сколько хочешь высижу. Начальство туда не заглядывает, а Хавронья никому не скажет.
— Помощь, братка, говорил, запретили...
— Это для кулаков запрет. Я же не кулак... На другой год коней
купим, и будем жить с тобой, Настенька, лучше всех. Всего у нас будет вдоволь...
—• Я бы с тобой, Корнюха, не только в новом доме, з самой последней завалюхе жила бы и радовалась. Не надо мне ни нарядов, ни
богачества...
— Ты так говоришь потому, что ничего не видела, нигде не была. Я нагляделся на жизнь людей. У нас разве жизнь! Тягомотина...
Батька мой оставил нам в аккурат то, что ему от деда досталось. А
ведь всю жизнь работал, как конь слепой. Сам доброй одежки не износил, нам не давал, что от него осталось? Такую жизнь тащи назад.
Мои дети будут сыты, обуты, одеты. На это всю силу свою положу.
Ну и сам пестовать не собираюсь. За хорошую жизнь я воевал, и
пусть-ка мне подсунут тягомотину — черта два!
Корнюха верил, что все задуманное в точности сбудется, и сладко
ему было говорить об этом Настюхе, суженой своей, жене невенчаной.
Но с началом полевых работ ездить на свидание стало некогда.
Целый день шагал за однолемешным плугом, вспарывал пыреистую
землю. Ни лошадям, ни себе не давал никакого отдыха. А весна стояла прямо как на заказ — теплая, дождливая. И больше всего ночами
дождик шел. Потрусит с вечера, а утром всходит солнце теплое, в небе мороку нет, только облака белые. Над зеленеющими увалами жаворонки поют, нагретый воздух течет-течет к небесной сини. С веселым остервенением работал Корнюха. Босой, без рубахи ходил за плугом по прохладной мягкой борозде, покрикивал на лошадей, мурлыкал себе под нос:
— Родимый ты мой, батюшка,
жениться я хочу!
— Не шутишь ли, Иванушка?
— Ей-богу, не шучу.
— Женись, женись, Иванушка.
У мельника есть дочь,
красивая, богатая
и за тебя не прочь.
Хотя она горбатая
и тронута умом.
Зато уж с ней приданое
такое вот возьмем:
коровушек, лошадушек
и двадцать пять овец...
Дальше он песню не помнил. Помолчав немного, начинал сначала: больно уж легко она пелась. Пробовал партизанскую петь, да плохо выходило. Не для одного такие песни.
Однажды, разворачиваясь в конце гоней, заметил на вершине увала двух всадников. Неторопливой рысью они ехали к нему со стороны
бурятского улуса. Ладонью Корнюха заслонился от солнца, вгляделся.
В одном из всадников он узнал Лазурьку, другой был незнакомый пожилой бурят.
Они подъехали, спешились, сели на тразу.
— Пашешь? — спросил Лазурька.
— Ковыряю понемногу.
— Пискуна обрабатываешь? — Лазурька лизнул край бумажки,
склеил папироску, подал кисет буряту, и гот принялся набивать
трубку.
— Для себя стараюсь, на кой мне ляд Пискун,— помолчав, ответил Корнюха, что-то неладное чуялось ему за всем этим разговором.
— А плуг, лошадей сн тебе подарил? — в цыгансватых глазах
Лазурьки скакнули и пропали насмешливые искорки.
— Нет, Советская власть на блюдечке приподнесла — бери, Корней Назарыч, за пот твой, за кровь твою плата. — Корнюха выдернул
из земли плуг, черенком бича счистил налипшую землю. Лемех жарко
вспыхнул на солнце, свет ударил в лицо Лазурьки. Он отвернулся.
- Глупости городишь... Не на ту дорогу повернул. У Пискуна серед зимы льдом не разживешься, а ты хочешь с его помощью достаток добыть. Дура! Почему с ним договор не заключил?
- Я же не в работниках... А вообще, чего прискребаешься?
— Стало быть, не в работниках? Хозяин? Так почему же ты, хозяин, пашешь земли, которые не наши? Еще прошлой осенью
они к
7
ним вот, к бурятам, отошли. Так же, Ринчин Доржиевич
- Так,— подтвердил бурят. — Коммуну тут делать будем. Большое общее хозяйство делать.
— Ты меру шуткам знай! — рассердился Корнюха.
39
— Какие уж тут шутки... — Лазурька бросил окурок, вдавил ногой в землю.
— Дай закурю,— Корнюха взял кисет, оглядел вспаханную полосу.
Пласты земли, сшитой корнями пырея, ровными рядами переваливались через увал, исчезали за ним в логотине.
— Ты почему молчал до сей поры? — после того, как Игнат сжег
табак, Корнюха не курил, и сейчас, от первой же затяжки голова пошла кругом, тошнота к горлу подступила — бросил папироску. — Выжидал, когда до соплей наработаюсь? А еще вроде бы друг...
— А ты спрашивал у меня, советовался? — Лазурька поднялся,
кинул повод на шею коня, вскочил в седло. — Вперед будешь знать,
как от своих товарищей откалываться и под кулачьим боком гнездо
вить. Будь у тебя договор, сельсоветом заверенный, содрал бы с Пискуна за работу, а теперь получишь кукиш с маком.
Бурят, прежде чем сесть на коня, вынул изо рта трубку, обвел ею
вокруг себя, сказал:
— Давай, паря, ослобождай землю.
— Пошел ты к черту! — процедил сквозь зубы Корнюха.
Не понял бурят, переспросил:
— Ты как сказал?
— Вали отсюда, а то скажу, не рад будешь! — Корнюха пошел
выпрягать лошадей.
В тот же день на взмыленном коне он примчался в деревню и —
прямо к дому Пискуна. А дом заперт на замок. Сообразил: в поле...
Поскакал туда.
Оба Пискуна — отец и сын — сидели под телегой в холодке, полдничали. Лошади стояли на привязи, хрумкали овес. Над гаснувшим
огнем висел на треноге тагана чайник. Не здороваясь, не слезая с
коня, Корнюха закричал:
— Ты что же это, старая кадильница, кочерыжка недоеденная,
дурачить меня вздумал?
На четвереньках выполз Харитон из-под телеги, заморгал слепенькими глазами непонимающе, с испугом.
— Что приключилось? Сказывай скорее!..
— Зачем чужие земли засевать заставил? А ну, говори, не то
дерну бичом вдоль спины — рубаха лопнет! Кого дурачить вздумал,
старая балалайка!
Пискун тихо засмеялся, придерживаясь за обод колеса, горбатясь старчески, поднялся, сел на телегу.
— Тьфу, как с цепи сорвался! Думал, случилось что. А язык не
распускай, не лайся, нехорошо это.
Малость сбитый с толку смехом Пискуна, Корнюха проговорил
тише:
— Погляди на него — смеется!.. Чему обрадовался?
- Не разговаривай с ним, батя! —подсказал из-под телеги Агапка. — Еще бы он орал на тебя.
•—• Сиди там! —Харитон болтнул ногой, достал пяткой по горбушке сыну. — На ту землю у меня бумага имеется. Арендую ее у самоного председателя, у Дамдинки Бороева. Что ты думаешь, дурнее
твоего Лазурьки? Как бы не так! — Пискун весь сморщился, засмеялся, но смех у него вышел не заправдашний, силой выдавленный.
— Ты чего-то крутишь, старик. Бумага у тебя, а землю буряты
требуют.
— Дак и у них не без горлодеров. Баламутов всяких и там хватает. Но их Дамдинка приструнит. Не все же председатели такие, какого
нам бог послал. Сегодня же в улус сбегаю.
- Батя, ты на него, на Корнейку, бумагу переделай.
— А ить верно! — хлопнул себя по острому колену Пискун. —
Справно варит твоя голова, сынок. Что, Корней Назарыч, подходит тебе это?
— А за аренду я платить?..
— Ни, боже упаси. Только бумага на твое имя будет, чтобы Лазурька не бесился. Я-то для него кость в горле. Тебя же мотать не посмеет. Все будет по закону.
— Ну давай, так сделай. Да смотри не вздумай жульничать! —
Корнюха уже остыл и пристращивал Пискуна так, для порядка.
— Чудной ты какой! Зачем мне жульничать, если и по-честному
вести с тобой дело выгодно. Могут они и еще к тебе приехать. Но ты
живей засевай пашню. Засеешь, не сгонят, тут Советская власть за теГ.л вступится. Ну, теперь смикитил, что к чему? Парень ты ухватистый, не то что твой братуха старший. С тобой мы еще провернем и не
такие дела. Есть одна задумка... Ты слезай, покалякаем.
Корнюха сел на телегу. Старший Пискун подал ему кружку чая.
— Пей... Коня-то как уделал,— Пискун осуждающе покачал головой, погладил потный круп лошади. — Беречь надо животную. Она хотя и не твоя, а все же кусок хлеба на ней зарабатываешь. У меня в
городе знакомый начальник есть. Посулился мне молотилку достать.
Одному мне ее содержать неподсильно. Давай, припаряйся. Еще двухтрех мужиков сговорим, и будет у нас свой купиратив. А?
— На какие шиши я буду покупать молотилку?
— Экий ты непонятливый. Куплю я на свои любезные, но надо,
чтобы видимость была, что не моя она. Ты осенью будешь хлеб мужикам обмолачивать. А это живая копейка. Сто^ суслонов обмолотил—
три рубля отдай. Ну как, глянется тебе это дело?
Нельзя сказать, чтобы Корнюхе это сильно поглянулось. Слишком уж все заковыристо и не совсем чисто. Но и лишний рубль упускать в его положении было бы дуростью. Сказал нетвердо:
•— Вези машину... там посмотрим.
— Машина скоро будет во дворе.
Возвращаясь на заимку, Корнейка крутил головой, удивлялся.
Ну и жох этот Пискун, ну и прохиндей!.. Что ему Лазурька со своей
властью. И его, и власть вокруг пальца на дню шесть раз обведет. А
Лазурька еще с попреками: «У кулачья под боком гнездо вьешь». Под
твоим боком не больно-то совьешь. Власть, она навроде чернильницынепроливашки, какие у городских ребятишек бывают. В нее чернила
заливай хоть ложкой, а обратно будешь доставать по капельке. А что
зги капельки, если у тебя ничего нет? Поневоле пойдешь к Пискуну.
ца и нет в этом никакого позора. Не разбой, не воровство это, так что
нечего Лазурьке с попреками соваться. Каждую копеечку, прежде чем
в руки получить, потом своим омоет... И бурятам ничего не сделается,
если погодят со своей коммунией. Но прохиндей прав, торопиться надо. А что, если Максимку с Тришкиным конем дня на три-четыре залучить? Здорово будет. Тришка и не узнает, а Лучка, если ему известью станет, слова не скажет.
Корнюха так обрадовался этой мысли, что тут же повернул измученного коня и потрусил на заимку Трифона Толстоногого.
IX
Не сразу согласился Макся помочь брату. Сидел на пороге зимовья, не отвечая Корнюхе. В распахнутые двери степь дышала горечью трав, запахом овечьей шерсти, дымом аргала.
Спутанная лошадь скакала к речке, брякая боталом.
— Ты почему стал таким боязливым, Максюха? — наседал на него Корней.
11
Брат думает, что он, Макся, боится Тришки. Кабы это! Два дня
назад, поздно вечером, когда они с Федоской ужинали у огня, к ним
тихонько подъехал всадник. За спиной у него, в свете костра, тускло
взблескивал винтовочный ствол, сбоку, оттягивая пояс, топырилась
кобура нагана.
— Здорово, мужики! — гаркнул всадник, легко соскочил с лошади, протянул Федоске повод. — Расседлай.
Сам сел на корточки у огня, снял плоскую барашковую шапку.
— Приглашай ужинать.
— Придвигайся,— Макся впервые видел этого человека. Наголо
остриженная голова, короткая черная бородка, реденькие усики нависли над толстой верхней губой. Стигнейка Сохатый!
— Что смотришь, патрет мой ндравится? — Стигнейка сдвинул
кобуру, сел, по-бурятски подвернул под себя ноги, широко перекрестился, взял Федоскину кружку с чаем, кусок хлеба.
— Почему не спросишь, кто я?
— Догадываюсь.
— Не боишься? — Стигнейка шевельнул в улыбке толстую губу.
— Видели кое-что и пострашнее.
— До чего смелый парень! — усмехнулся Стигнейка
— Приходится. На смелого собака только лает, а трусливого в
клочья рвет.
— Занозистый ты. Язык у тебя длинный. Слыхал ли, что кое-кому языки укорачиваю?
— Слыхал, как же, а видеть не доводилось. Нет, не доводилось,—
Макся хотел встать, но Стигнейка надавил на плечо, приказал:
— Сиди! Поговорить с тобой охота. — А сам метнул быстрый
взгляд на зимовье, крикнул Федоске. — Неси сюда свое ружье!
— Нет у нас никакого ружья, не бойся. Разве Татьянка пульнет
кочергой из окошка? Но не должна бы, она у нас девка смирная,—
Макся чувствовал, что нельзя, опасно так разговаривать со Стигнейкой, а сдержаться не мог, его так и подмывало позлословить, пощипать
Сохатого со всех сторон. — Сам подумай, для чего нам оружие? Тебе
око, конечно, нужно...
— Мне, слов нет, нужно, а для чего — понимать надо.
— Я понимаю... Для чего волку зубы, рыси когти — как не понять.
Стигнейка перестал жевать хлеб, резко поставил кружку на
землю.
— Замолкни, щенок! Из-за кого я винтовку который год в руках
держу? Мозоли на ладонях набил. Ни бабы у меня, ни хозяйства. Изза кого?
— Из-за большевиков, думаю.
— А то из-за кого же?
— Ну я и говорю из-за них. Они тебя к Семенову служить погнали. Они заставили с самыми подлыми карателями спознаться. Все
они, большевики да комиссары красные.
Не понял Стигнейка скрытой насмешки или пропустил ее мимо
ушей, подхватил:
— Да, они всю жизнь изуродовали! Я уже тогда видел, куда приведут комиссары. Но ничего, им тут житья не будет. Уж цари ли ни
гнули, ни ломали семейщину, проклятое никонианство навязывая, а
что вышло? Большевики хуже Никонки-поганца. Совсем веру извести
хотят. Пусть попробуют! Зубы обломают.
— Едва ли... Не верой одной сыт человек. А потому ни тебе, ни
другим не поднять людей за двуперстный крест. Теперь, после войны.
люди с понятием стали.
— Ты рассуждаешь, как партейный,—зло прищурился Стигнейка.
42
— А я, может, партейный и есть...
— Да нет. Кто у нас партейный, я знаю. Все они у меня помечены.
!'ы красенький. да и то с одного боку, с другого еще зеленый, недо. глый. Но гляди у меня, чуть чего, не погляжу, что молодой.
К огню подошла Татьянка, опасливо покосилась на Ститнейку, со"оала пустую посуду, унесла в зимовье.
— Лукашкина сестра? — спросил Стигнейка, провожая ее взгля. м.—Ничего, бравенькэя деваха.
— Ее не задевай!
— Ишь ты, сердитый... Ну давай, веди меня ночевать.
В зимовье Стигнейка проверил, не открываются ли окна, велел
ятьянке наладить постель на полу у порога и, не раздеваясь, лег
::ать. Сказал, вынимая из кобуры наган:
— Ненадежный ты парень. А мне сказывали: ерохинские ребята
:;;чего. Ты ненадежный, зато умный, сообразишь, что стоит брякнуть
"о мне где не надо, и твоя шмара длиннокосая, твои братья и ты сам
разу же получите по конфетке, от которых кровью рвет. Понятно?
Каждый твой шаг мне будет известен. Лазурька охрану каждую ночь
выставляет, поймать меня хочет. А я лучше самого Лазурьки знаю,
: ле, за каким углом его караульные дремлют.
До полночи не мог заснуть Макся. Из всего разговора с Сохатым
" льше всего запало в душу вскользь оброненное замечание: «Ерохинсхле ребята ничего». Мразь, дерьмо собачье, с каких это пор красные
партизаны стали для тебя ничего! Не было, нет и не будет у нас с
г;бой мира, бандюга! Но кто ему сказал такое? Когда, чем дали брат-я повод для этого поганого навета? Может, тем, что в хозяйстве
; вязнув, ничем не помогают Лазурьке? Или хуже что? Да нет, не
должно... Ну да ладно, с этим потом разберемся. А сегодня л тебе, пог-.нец, покажу какие они «ерохинские ребята».
К боку Максима жался Федоска. Боялся парнишка. Макся об:;ял его, шепнул: «Спи, ничего не будет». И Федоска заснул. А Татьянка не спала, это Макся чувствовал по ее дыханию. Она лежала тут
;:;е, на нарах, у печки. Он протянул к ней руку. Татьянка схватила ее
обеими руками, крепко сжала.
Сохатый спал, слегка посвистывая носом. Макся обдумал, как будет действовать. В трех шагах от нар, в подпечье лежат березовые
поленья. Добраться до них. Потом на цыпочках к Сохатому. Хватить
разок по голове поленом — не дрыгнет. Только бы не промахнуться!
Освободив руку, Макся неслышно сполз к краю нар. спустил на
пил босые ноги, встал.
— Куда? — в темноте щелкнул предохранитель.
— Пить хочу,— Макся протяжно зевнул. — Тебе, поди, докладывать об этом?
— Да!
— А если по нужде? Тоже?
— Да.
— И по какой нужде — уточнять?
— Ложись!
Макся зачерпнул из кадки воды, попил для отвода глаз, вернулся
ла нары, досадуя на кошачью чуткость Стигнейки. Татьянка подползла к нему, дыхнула в ухо:
— Не вздумай чего, Максимушка. Я боюсь.
— Трусиха? — так же тихо спросил он.
— Ага. Погляди какие у него глаза. Оледенелые.
— Эй вы, я не люблю, когда мне мешают спать! — крикнул Сохатый.
— Тебе твой страх мешает...
43
Ладонью Татьянка закрыла ему рот.
— Молчи, Максимушка, молчи ради бога! Не зли его, родимый...
На своей щеке он почувствовал ее губы — робкий поцелуй. А может быть, ему только показалось, может быть, Татьянка невзначай
прикоснулась губами?
Утром Стигнейка все время разглядывал Татьянку серыми, выстуженными глазами, разглаживал пальцем усики.
Уезжая, он сказал:
— Буду, видно, наведываться сюда... Так ты, еще раз говорю, не
звякай обо мне. Иначе — смерть! И воду пей с вечера.
...Все это сейчас вспомнил Максим. В другое время он бы с радостью помог Корнюхе. Но как теперь быть? Как оставить на заимке
Татьянку и Федоса без взрослого мужчины? Правда, он посылал Федоса в деревню, предупредить Лазурьку, и председатель велел пока
что помалкивать, не говорить никому ни слова. Что он там задумывает, кто его знает. Пока подготавливается, Сохатый может ни раз побывать на заимке. А, поди, угадай, что у него на уме.
Корнюха, не зная как истолковать молчание брата, обиженно
спросил:
— Да ты никак подсобить мне не хочешь?
— Почему же не хочу. Но не знаю... Как думаешь, Танюха? —
взглядом спросил, боится ли она остаться с Федоской. «Боюсь»,—ответили глаза Татьянки. Но сказала она другое:
— Поезжай, Максим. Все будет хорошо. Нет, правда, поезжай. С
работой мы одни справимся.
— Ну хорошо, поехали.
Только дорогой Корнюха рассказал Максе о истории с землей, да
и то не все рассказал, а так, самое необходимое. Макся все это не
одобрил.
— Надо же, выпутался! — сказал он. — Этот Пискун тебя приберет к рукам.
— Не такие у него руки, чтобы меня прибрать.
И нотки самохвальства, проскользнувшие в голосе Корнюхи, не
понравились Максиму. Повернулся к нему.
— Отгадай, братка, загадку. По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, а наземь падает, землю дерет.
— Это про кого же? Должно, зверь какой-то. Большой, должно.
Тигра, может?
- Нет, не тигра. Жук. А тигром кажется, да?
— Ты опять что выдумал? — забеспокоился Корнюха. — Разговаривай как все люди, брось эту моду, слова вверх дном переворачивать. Новой раз трудно с тобой говорить.
— Не все легкое—хорошее, ты и без меня это знаешь, а все равно богачества хочешь одним прыжком достигнуть. Не то на ум себе
взял, братуха.
— Ну-ну, поучи. Игнат с одной стороны, ты с другой... Так я скоро стану умнее вас обоих. — Корнюха тронул коня, поскакал рысью.
В седле сидел он ловко; черные, с землей под ногтями руки крепко держали поводья; пузырилась на спине припыленная рубаха. Каким-то особенно крепким, сильным показался сегодня Корнюха Максе. Даже недельная щетина на его щеках и та как бы подчеркивала
здоровье засмуглевшего лица. Если уж Макся завидовал чему, так это
могутности своих братьев. Что Игнат, что Корнюха — каждый сильнее
его раза в два. Корнюха, кроме того упрямый. Уж чего заладил, не уговоришь.
Макся решил не возвращаться к затеянному разговору, но его
возобновил сам Корнюха.
11
— А ты что, братка, за то, чтобы мы дальше бедствовали? — Корнюха придержал коня.
— Не так уж мы и бедствуем... Но я о другом думаю. Скажем, ты
разбогател. А дальше что?
— Нашел об чем спрашивать! Жить буду.
— Как жить? Как Пискун? Или Тришка, Лучкин тесть?
•—• Что ты меня с ним равняешь! Оба рылом не вышли, чтобы почеловечески жить. На это у них толку не хватает.
— Да нет! Понять меня не хочешь... Стал ты, например, богатым,
л качнешь ездить на работниках, на родственниках неимущих. Как
другие делают. А против кого мы воевали?
— Ну ты и хватил!— засмеялся Корнюха, потом задумался, тряхнул головой. — А хошь бы и так... В бога нас верить отучили, на рай
я не надеюсь, а жизнь у меня одна-единственная, запасной нету. И
никто мне эту жизнь хорошей не сделает, если сам не постараюсь.
— А какая жизнь хорошая?
— Это и вовсе понятно. — не задумываясь, ответил Корнюха. —
Когда у тебя всего вдоволь — в самый морошный день ясно. Нужда
человека не красит, озлобляет. Возьми Петрушку Трубу. Помню его
молодым. На вечерках бывало наяривал на гармошке любо-дорого.
Пнстя, баба его, голосистая была, заведет песню — за сердце берет. А
намедни я ездил на мельницу, чаевал у них. В избе грязно, ребятня в
рванье... Про гармошку и песни не упоминают. Какие уж там песни!
Их ругань заменила. Грызет Петрушку баба с утра до ночи. Обида
ей, мужик детишек понаделал, а прокормить не может. И вот ведь
что худо, привык Петрушка к нужде и к бабьему скрипу, живет,
будто гак и надо. А я бы к этому не привык. Я лучше удавлюсь, чем
так жить.
На этот раз Максим промолчал, не нашел что сказать в ответ.
С одной стороны, прав Корнюха, слов нет. С другой, неладное что-то
в его рассуждениях. Взять Лучку. Уж у него-то все есть, живи, радуйся. А не может Лучка радоваться, ест ему нутро какая-то болячка.
Разворот ему нужен, воля нужна. Но воли ему не видать, даже после
смерти Тришки. Хозяйство забот требует, чуть опусти руки — уплыло. Или вон Стишка Белозеров, его, Максима, однолеток, секретарь
Совета. Самостоятельно грамоту одолел, писать протоколы лучше всех
научился, первым в деревне иконы с божницы скинул. Богатству
Стишка не завидует, больше всего тешит его душу то, что он — власть,
что сила за ним стоит огромная. И люди чуют это, величают не по
летам: «Стефан Иванович», хотя совсем недавно был он просто Стиш:а Клохтун. Корнюха одно, Лучка — другое, Стишка — третье, Иг:ат — четвертое... Каждый ждет от жизни чего-то своего, каждый
в свою сторону тянет. Может, петому-то и живет до сих пор Стигнейка
Сохатый, топчет землю сапогами, запачканными людской кровью.
По кремнистой тропе они поднялись на сопку, вспугнули стадо
баранов. На вершине другой сопки сидел Федоска, рядом — девчушка-бурятка в длинном старом халате и островерхой шапочке с красной кисточкой на макушке. Эту девчушку, пастушку из улуса Хада]
дагта,
и Максим и Татьянка не раз видели вместе с Федоской. Шути«Женись на ней». Федоска вспыхивал маковым цветом, бурчал:
«Да ну вас!..»
Максим направил коня к ним. Оба вскочили, роняя на землю голубые цветы ургуя. Девчушка глянула на Максима черными-черными, как угли глазами, резко взлетела на лошадь и галопом поскакала
за сопку.
— А что она убежала?— спросил Максим.
— Откуда же я знаю. Приехала, уехала, какое мое дело.
3
-15
— Я уезжаю дня на три-четыре... Ты тут посматривай. В случае]
чего — дуй на заимку Харитона Пискуна. Знаешь, где она?
— Знаю.
Почти одновременно с братьями на заимку прискакал Агапка.
— Батя бумагу выправил.— Он подал Корнюхе вчетверо сложенный листок. Корнюха развернул его, быстро глянул на подпись, на
печать и спрятал в карман.
— Хавронья, мне с тобой поговорить надо.— Агапка вышел на
улицу, Хавронья побежала за ним.
Корнюха достал бумагу, неторопясь прочитал, сказал с завистью:
— Да-а, Харитон — мужик сильный.
Агапка уехал, не заходя больше в зимовье, а Хавронья вернулась
расстроенная, села на лавку, всплеснула руками:
— Вот горюшко какое! Присоветуйте, ребята, что мне делать.
Агап Харитонович последнее слово сказал, если дочка до осени не
приедет, он на другой женится. А я ее сюда залучить не могу. Домишко не продает, в работники нанялась.
— А что он сам туда не поедет, не посватает?— спросил Корнюха.
— Зачем же он поедет, если она за него идти не хочет. Тут-то бы
она не отвертелась.
— Не хочет — зачем неволишь?— сказал Максим.— Жизнь ей
погубишь, больше ничего.
— Ты молодой еще, в жизни мало понимаешь. Свои дети будут,
тогда узнаешь. Каждому родителю хочется свое дите лучше пристроить. Такого жениха упустить — да ты в своем ли уме, парень? Поеду
я к ней. Ты тут один побудешь?
— После сева...
— Отпусти сейчас. Привезу ее. За косы притяну, если добром не
пойдет. Отпусти, голубчик!
— После сева, может, что-нибудь сделаем,— нахмурился Корнюха.
— После сеза? Да у меня за это время вся середка выболит.
— Ничего твоей середке не сделается. Сейчас даже не думай. Тебе же коня надо? Надо. И коров без присмотру не оставишь. И доить
их надо.
— Брательник твой попасет. На его коне попашешь, а подоить
уж как-нибудь вдвоем подоите.
— Правда, что волос длинный, а ума ни черта нет. Распределила!
Затем только и позвал Максюху, чтобы ты по гостям разъезжала.
Пошли, Макся, запрягать.
Хавронья горестно сложила на груди руки, в ее глазах заблестела
влага. Максим задержался в зимовье, ласково сказал:
— Вы не печальтесь, мать. Никуда Агапка не денется. И не надо
отдавать дочку силой.
— А что же, ждать, когда за голодранца выскочит?
— Не любит же она его...
— Ха, любовь... Про нее говорят мужики, когда к девке или вдовушке подлаживаются, а что любовь, если баба — его собственная.
Корнюхе Максим сказал:
— Ты бы с ней как-то по-другому говорил...
- А ну ее к черту, кобылу старую! На чужое добро рот разевает,
а укусить не может — зубы сношены.
Сказал это Корнюха со смехом, но все равно Максе стало за него
неловко. У Хавроньи, конечно, дурь в голове, а все же нельзя с ней
так...
..
Проработал Макся на заимке три дня. На несколько рядов пробо-'
46
ронял пахоту, выдирая из земли белые корни пырея. А Корнюха все
пахал и пахал. Он бы, наверно, дай ему волю, распахал все увалы.
Работу кончили вечером. Край неба на западе был охвачен зорезым пламенем, пыль, поднятая бороной, красная в лучах закатного
солнца медленно плыла над увалами, тонула в зелени леса. Корнюха
вытирал подолом рубахи потное лицо, смотрел на черный бархат
пашни.
— Ишь сколько мы с тобой наворочали! Эх, кабы это поле да было нашим... Но ничего, братуха, будет урожай — в накладе не останемся. Ты, может, еще на день-два останешься?
— Нет, братка, надо ехать.
Собрался уезжать, на заимку прискакал Лазурька.
— Я тебя разыскиваю, — сказал он Максимке. — Был на заимке,
сказали ты тут...
— Зачем он тебе?— насторожился Корнюха.
— Есть одно дельце... А ты меня не послушался-таки. На себя
будешь потом пенять, Корнюха.
— Ничего, обойдется, — Корнюха достал бумажку, развернул, не
выпуская из рук, показал Лазурьке. — Ну как? Что ты теперь скажешь?
— Чудно что-то...— удивился Лазурька.— Дай мне бумагу.
— Э-э, нет! Бумагу я бы и батьке родному не дал. А тебя попрошу, Лазарь, ради нашей дружбы не шабутиться. Дашь мне слово?
Лазурька помолчал, поиграл пальцами на столе, поднял глаза на
Корнюху.
— Сам смекаешь, что не все тут ладно? Тем хуже для тебя, Корнюха. Не буду я это дело ворошить, буряты и сами как-нибудь разберутся. Но учти,— попадешься со своими хитроумными увертками,
худо тебе будет. Поехали, Максим, провожу тебя малость.
Солнце уже село, на красном небе горел один тонкий луч, будто
кто огненным резцом черкнул. Но и этот луч быстро укорачивался, наконец, исчез. Заря стала густеть, обугливаться по краям, уменьшаться.
— Завтра будет вёдро, — сказал Лазурь. — Я что к тебе... Возьми
эту штуковину.
Он достал из кармана вороненый револьвер, крутнул барабан,
подал Максиму. Из другого кармана достал горсть патронов.
— Сгодится. Это мой партизанский, у офицера отобрал. Дарю его
тебе.
— А как же ты? Тебе он нужнее.
— У меня еще есть. Стигнейку, если удастся, попытайся взять
живым. В самом крайнем случае прихлопнуть можно. Очень он живой нужен. Не сможем никак под его корешков подкопаться. Ты Корнюхе ничего не говорил?
— Нет.
— И не говори. Не надо.
— Ты что о нем так?.. Ты это бросай, Лазарь. Я ему не говорил и
до времени не скажу, порядок знаю, но подозревать...
— Не подозреваю я, чего ты вскипел! Не его подозреваю. Пискуны, чувствую, Стигнейке опора. А уличить нечем. Ни их, ни других.
И кто-то из наших им все разговоры передает. Тяжело, Максимка.
Говоришь с мужиками, а у самого на уме: может, этот, а может, тот
вон ночью в кулацкий дом наши задумки крадучись понесет. А друзья старые не все понимают, одно у них на уме — хозяйство. И ячейка маленькая, трое нас всего: Абросим Кравцов. Стишка да я.— Лазурька натянул поводья.— Поверну тут домой... Поезжай. Будь осторожен с тем гадом. На разговоры не набивайся. А то мне Татьянка
47
рассказывала... И вот что, Максюха, главное... Пиши заявление в
ячейку. Ты еще в партизанах, помню, собирался.
— Было такое. Потом меня царапнуло, отлеживался...
— Надо, Максюха... Будет собрание — дам знать. Ну, удачи,
дружище!
Рассыпав чистый цокот подков, Лазурька ускакал. Макся посмотрел на проступающую из темноты звездную сыпь, вздохнул. Надо бы
поразговаривать, а он уехал. Но, поди, и лучше так-то? Тут своим
умом решать надо, без пособников. Когда ходил с братьями на заработки, был рад, что не вписан в партию. Только бы числился... Теперь,
кажись, подошло время выбирать свою дорогу. Не одобрят ею выбора
братья. Корнюха с одной стороны, Игнат с другой против будут. Нехорошо как! Завсегда вместе были, а тут вроде подошли к росстаням
и дальше каждый свой путь держит.
Подъезжая к заимке, он не увидел огня, не услышал лая собаки.
Встревожился, погнал лошадь галопом. Подлетел к зимовью, спрыгнул с седла. На стеклах слепых окон зимовья мерцали, отражаясь,
звезды, за пряслами двора сопели овцы, на огнище красным глазом
светился горячий уголь.
На стук за дверью откликнулась Татьянка. Голос ее прозвучал
испуганно. А он, радуясь, закричал:
— Я это, я!
Откинув крючок, Татьянка зажгла лампу к, кинув за плечо косу,
вся потянулась к нему, будто стебель ковыля под ветром, но застеснялась, попятилась к столу, оперлась о его край руками.
— Таня...— это слово вырвалось у Максимки само собой. Впервые
он ее назвал так — Таня. И прозвучало ее имя совсем иначе.
С нар соскочил Федоска, сел на лавку у стола, проговорил:
— Думал: он, стук такой, резкий...
— Кто — он?— На минутку Макся совсем позабыл о Сохатом, но
тут все вспомнил:— Не наведывался больше?
— Как не наведывался, сегодня был. Только что уехал.
Макся невольно потянулся к карману, оттянутому револьвером.
— Татьянка, это правда?
— Ага... Только уехал Лазарь Изотыч, он и заявился Толькотолько разминулись. А я тут одна, Федос-т.о на пастбище.
— Ну и что?— торопил ее Макся.
— Про тебя спрашивал. Собаку застрелил. Буду, говорит, к вам
ездить, так чтобы не гавкала. Ужинал с нами...— Татьянка замялась,
замолчала. Она чего-то, кажется, не договаривала.
Макся попросил Федоса расседлать коня и, когда он вышел,
спросил:
— А еще что? Все говори, Таня, все...
Даже при тусклом свете лампы было заметно, как вспыхнуло
лицо Татьянки, она потупилась, кашлянула.
— Он... он лез обниматься... Такой охальник. А руки у него потные, склизкие. Бабой, говорит, моей будешь, обвенчаюсь с тобой.
Макся сел, долго молчал, стискивая кулаки.
— Стерва!— наконец сказал он.— Я его обвенчаю с гробовой
доской!
— Боюсь я, Максим, страшно...— Татьянка поежилась
— Ничего, Танюша, ничего...— Он взял ее за руки, усадил рядом,
обнял за плечи.— Теперь я вас одних не оставлю.
X
Игната разбудил дождь. Звонкие струи расхлестывались о стекла окон, дробью сыпались на крышу. Во дворе тускло светились за48
платы луж, на них плясали дождевые капли, вздувались и лопались
пузыри, за воротами в канаве вспенивался ручей. Все небо было затянуто сумеречью. Дождь вроде бы окладной. Слава тебе, господи,
помочка добрая будет. И передохнуть можно. Устал Игнат за вешную
до смерти.
Не торопясь, позевывая, Игнат оделся, пошел доить корову. Сарайчик протекал, корова чуть ли не по колено стояла в раскисшем
навозе. Надо было дранья надрать и поправить крышу, а когда?
Хлеб, правда, посеял, но зеленка на очереди, пары, а там уж и сенокос не за горами, за сенокосом — страда. До осени с полей да лугов
ни на день не отлучишься. Зря, видно, послушался тогда Корнюху,
отказался от женитьбы. С Настей жилось бы куда как легче. Теперь
она почти не помогает, самому надо и коровенку доить, и убираться.
Хочешь не хочешь — вставай ни свет ни заря и принимайся за муторную бабью работу, да спеши, а то в поле выедешь позже нсех, и мужики просмеют. Вечером всем другим отдых, а ему снова домашняя
маята. Кроме всего — Лазурька. То и дело гонит в ночной караул,
Стигнейку ловить. Пока что Стигнейку ни один караульный в глаза
не видал, не дуряк он, Стигнейка-то. Но все-таки польза от караулов есть. Воровство поубавилось, давно никто не шарит по амбарам,
по омшанникам. Это хорошо. Это Игнат одобряет. Тяжело только без
передыху, шибко тяжело. Эх, зарядил бы дождик дня на два-три, тото поспал бы...
Корова в грязи стоять не хотела, переступала с ноги на ногу, головой вертела, норовя поддеть его рогом. Но он на нее не злился, почесывал мокрый бок, уговаривал:
— Погоди маленько, Чернуха, сейчас на волю выпущу. Погоди...
Не глянется хозяин? Настюха, конечно, обходительнее, но видишь, как
с ней получается.
Выпустив корову на выгон, Игнат за воротами постоял, поджидая, не покажется ли во дворе Изота Настюха. Но за глухим заплотом
было тихо, должно, успели убраться. Вон из трубы дымок тянется,
стало быть, печку топят, Настюха, может, блины к чаю стряпает.
Пойти бы к ним, да все равно не поговоришь при людях, если уж без
людей наедине ничего ей не мог сказать. Сколько раз собирался, но
все откладывал. Опасался: ну как получит полный отказ, тогда что?
Потихоньку выспрашивал у молодых ребят, не гуляет ли она с кем —
нет, не гуляет. Когда так, тянуть нечего, сказать ей все, а там будь,
что будет. Ей и разжевывать не надо, чуть намекнуть, дальше она
сама обо всем сдогадается. Верится, не оттолкнет его Настя, не позарится на другого. Сегодня она придет, в другие-то дни ей некогда, тоже в поле работает. Придет ли? Если придет, все будет хорошо, если
нет... Но она придет!
От того, что льет дождь и можно будет отдохнуть, от ожидания
встречи с Настей, Игнату было как-то по-особому хорошо. Возвращаясь в избу, он снял шапку, подставил голову под струю воды, сбегавшую с крыши, умылся. Дома навел полный порядок, ножом выскоблил пол, посыпал его речным песком, затопил печку. И ему почему-то все время казалось, что сегодня не просто вынужденная
передышка, а праздничный день.
Все сделав, лег на кровать, но не спал, лениво потягивался, смотрел в окно, слушал то затухающий до тихого шепота, то буйно вскипающий шум дождя. Над селом низко-низко плыли тучи, их растрепанные космы местами свешивались почти до крыш, почти цеплялись
за трубы. Свет был серый, вялый, а в избе радовала глаз желтизна
песка на полу, сухое потрескивание дров в печке, всплески отсветов
огня, играющие на стене.
Когда под окном кто-то прошлепал по лужам и стал подниматься
4. «Байкал» № 5
49
на крыльцо, Игнат вскочил, одернул рубаху. Но гость был нежданный. Пришел Стишка Клохтун. Держась за скобу двери, он сказал:
— Собрание бедноты сегодня. Приглашаем.
Стишка, наверно, обегал всю деревню, ичиги его были заляпаны
грязью, рыжий, выношенный зипун мокро повис на худых плечах,
тонкие губы посинели от холода. Жалко стало парнягу.
— Садись к печке, обсушись, не то простынешь.
— Некогда мне. Вот если чаек горяченький...
— Есть. Зеленый, по-бурятски заваренный.
— Тем лучше,— не вытерев ног, не сбросив зипуна, в шалке
Стишка сел к столу. На желтом полу остались грязные пятна, скатерка на столе под его локтями потемнела, стала мокрой.
Не сдержался Игнат, взглядом показал на следы, на скатерть, упрекнул:
— Экий ты не аккуратный. Скинь хоть шапку!
Чуть-чуть, про себя усмехнулся Стишка, но шапку снял. Торопливо глотая горячий чай, он оглядывал избу острыми ястребиными
глазами, ни на чем долго не задерживаясь, лишь на иконах остановился, его брови, высветленные солнцем до цвета спелого овса, дергаясь, взъехали на высокий лоб.
— Для чего они у вас?
—• Для того же, что и у всех,— с неохотой ответил Игнат.
— А еще красные партизаны!— брови съехали на свое место и
распрямились в стрелочки.— - Экая невежливость и культурная недоразвитость.
— Чего бормочешь!? — удивила Игната беззастенчивость Стишки.
— Сними ты эти доски, не пачкай своего звания.
- На свой куцый аршин примеряешь? Сперва переживи хоть половину того, что нашему брату досталось.
- Переживали много, учились мало — что толку?
— Уж не ты ли научился?
— Учусь... Каждый день самопросвещением занимаюсь. Иначе
теперь нельзя.
— Ну и занимайся на здоровье, может, будет какой толк впоследствии. А пока не шебарши про свою ученость, она у тебя пока что
как у зайца хвост — вроде есть, вроде нету. Скажи-ка, если ты такой
ученый, что главное в человеке? Чем он разнится от животного?
— Могу, конечно, разъяснить, но это дело долгое и опаска есть:
не все поймешь.
— Я по-твоему полудурок? — спесивость Клохтуна и забавляла, и
сердила Игната.
— Не полудурок, но отсталости в тебе много. В бога, наверно, еще
веришь? Молишься?
— И верю, и молюсь.
— Ну вот... Однако смотри, Игнат Назарыч, не завели бы тебя
молитвы и эти деревяшки,— через плечо Стишка ткнул пальцем в
сторону божницы,— прямехонько в кулацкий табор. Для них партизан с затуманенной башкой — находка.
— Другому такое ляпнешь — поколотит.
— Отошло времечко колотить. А богов, ооженят, прислужников
ихних вскорости поганой метлой из села выметем. Не жди этой поры,
худо может обернуться...
- Припугивай других, парень!
— Я не припугиваю. Из уважительности к вам, братьям Родионовым, говорю.
— Оно и видно... Таким манером мало кого возьмешь. Ты, ученая
голова, когда-нибудь думал, почему атаман Семенов в восемнадцатом
году Советскую власть сбросил? Легко сбросил, но сам не удержался. И не ученый, а скажу. Когда казачня, чехи белые красногвардейцев били, наши мужики в стороне держались, не успели понять, какая она есть, Советская власть. Нам, мол, что ни поп — батька. Ну,
пришел Семенов. Засвистели плети. Зачали казачки с мужичьего зада
кожу спускать. Тут мужик очухался, поумнел, и Семенова, и его японских пособников погнал...
— Ну и что?
— А то, что не любит мужик, когда его за горло берут или плетью
по спине ласкают. Ты мне свою правду так выложи, чтобы я ее мог
пощупать со всех сторон. Поверю в нее умом и сердцем, сам от всего
откажусь, и приму твою правду. А то сидишь, то да се плетешь, но
разговор у тебя легкий выходит, как дым от папиросы — дунул и
нет ничего.
Неулыбчивое Стишкино лицо, продолговатое, худощавое и остроносое, слегка порозовело. Резким движением он отодвинул стакан,
сказал со скрытым значением.
—• Разговор у нас пока, может, и легкий, но рука завсегда тяжелая.
— У вас? Говорил бы ты, Стиха, про себя...
За Стишку, за его настырность неловко было Игнату. Говори так,
к примеру, Лазурька, все было бы на месте. Когда ждешь еженощно
пули в затылок, поневоле ожесточишься. А этот крови не видел, лютости людской на себе не испытал — с чего такой взъерошенный?
Топырится индейским петухом, а в суть жизни проникнуть ему не
под силу, слаб еще умишком. Хотя есть, видно, умишко, раз книжки
почитывает. Или одного ума тут мало, еще что-нибудь требуется?
По дороге в сельсовет, думая об этом, он спросил Стишку:
— Вот ты больше всех бегаешь, новые порядки затверждаешь —
с чего? Мы за новую власть жизнь свою отдавали, потому она нам
дорога. А что тебе дала власть? В бедности жил до этого, в бедности
живешь сейчас.
Стишка натянул поглубже мокрую шапчонку, буркнул:
— А-а, разве ты поймешь?..
— Что ты заладил: не поймешь, не поймешь.
— Конечно! Вы раньше жили крепко. Тебе не приходилось вплоть
дс снегопада ходить босиком, греть ноги в свежем коровьем дерьме.
А мне приходилось. Да не в этом беда. Мы всю жизнь коров пасли.
Бывало всем праздник, нам нет. В праздник есть обычай—пастуху угощение давать. Идешь по улице, собираешь коров, а тебе из окошка
кидают, кто тарку, кто калач, кто кусок мяса жареного. Ловишь на
лету, будто собака, а потом гостинцы те в горле застревают. И это не
беда. За человека тебя не считают... Здороваешься, кланяешься, а тебе кивнут — ладно, а то и так, будто мимо столба пройдут. Но теперь
посмотри! Пискун передо мной за десять сажен шапку ломает, Тришка Толстоногий и тот при встрече в улыбке зубы оскаливает. Знаю
я, что у них на уме, когда со мной так здороваются. Да мне-то что!..
Чуешь теперь, на какую высоту меня подняла Советская власть, с
кем поравняла? Сила во мне сейчас такая, что любого из супротивников как спичку сломаю. За одно это я для Советской власти горы
переверну...
В сельсовете густо пахло сырой одеждой. Мужики тесным полукругом сидели у стола, забрызганного чернилами. Лазурька говорил
о машинном товариществе «Двигатель». Организовали его год назад,
но дальше дело не пошло.
— Не пошло, мужики, застопорилось. А почему о том лучше других знает Еремей Саввич.
4*
51
Ерема развел руками.
— Все на ваших глазах было, я-то причем? Записались, считай,
все, но стали собирать взносы — взапятки. Еще вступительные таксяк собрали. Пятьдесят копеек с хозяина... А паевые поболе, пятерка.
И пятерку никто не внес...
— Совсем никто?— спросил Лазурька.
— Совсем! В том-то и дело.
— У тебя память никудышная. Пискун внес, Трифон...
— Я и говорю: они внесли, а из бедноты — никто.
Мужики засмеялись. Тараска негромко, но так, что все услышали,
сказал:
— Вывернулся! Как намыленный...
— Чего там зеваешь, дурак!— озлился Ерема и сел.
— А дальше что?— не отставал Лазурька.
— Да ничего!— сердито ответил Ерема.— Нет взносов — нет товарищества. На что купишь машины?
— Не пузырься!— жестом руки Лазурька как бы отстранил
его. — Вроде бы неладно получается, мужики, что я каждый раз Еремея щипаю. Но как иначе? О товариществе он не хлопотал, взносы
собрать не удосужился. И потом, вслушайтесь: то-ва-ри-ще-ство, хотя и машинное. А какие нам товарищи Пискун и ему подобные? Для
чего их приголубил?
— Думал: у них деньги...
— Где они, деньги, тобой собранные?
— Взносы? У меня, целехонькие лежат, можете не сумлеваться.
— Бедняцкие взносы сдай в Совет, кулацкие пятерки верни. Советская власть, мужики, кредит нам отпускает, то есть, по-русски говоря, денег взаймы дает. Какую машину на них купим?
— Трактор!— Петруха Труба вытянул длинную шею.— Пусть
хоть люди поглядят, что это такое.
Мужики подняли Петруху на смех.
— Кого на трактор посадим — тебя, что ли?
— Нет, Пистю, бабу его!
— Бросьте, мужики, зубы скалить!— прекратил веселье Лазурька.— Трактор нам пока еще не под силу. А вот молотилку...
— Харитон уже купил,— подал кто-то голос.
— Пусть. Куда он с ней денется, когда у нас своя будет, хотел бы
я знать?—Лазурька недобро усмехнулся.— Теперь так... На этом
дело сворачивать не к чему. Мы на ячейке покумекали и решили, что
надо сообща засеять несколько десятин зеленкой. Осенью ее продадим, и у товарищества своя копейка заведется, добавим и еще чтонибудь купим. В будущем году тоже совместно хлеб посеем — снова
копейка.
С Лазурькой согласились без лишних разговоров, и он закрыл
собрание. Не привычно было, что собрание кончилось без шума, ругани, бестолковщины. Тихо-мирно все порешили.
Мужики не расходились. Разговаривали, разбившись на кучки. И
разговор был все о том же — о молотилке, о товариществе.
— Ловкая штука — машина. Цепом-то пока снопы обколотишь,
без рук останешься.
— Не в том гвоздь, что без рук. Быстро. Раз-два и засыпай хлебзгшко в закром.
Кому-то втолковывал Лазурька:
— Не одной машиной нам дорого товарищество. Вместе робить
лаучимся и через это без крику перейдем к коммуне или колхозу.
В углу Тараска Акинфиев смехом заливался:
62
— Пискуна, мужики, кондрашка хватит. Ей-богу! Молодец всетаки наш Лазарь!
— Оно, конечно,— голова Лазарь. А главное, Советская власть,—
уточнил Ерема.
— Само собой — власть. Но ты тоже председательничал. Прибытку от тебя было, как от быка молока. Председатель!.. Собрал денежки и затаился, будто гусь в тразе.
— За такие слова по харе съезжу!— Ерема шагнул к Тараске.
— Она у меня мягкая, не больно будет,— с хитрой улыбочкой
Тараска погладил свои пухлые щеки, ушел от Еремы и, подозвав Игната, зашептал:— Пошли ко мне обедать. Первач имеется знатный.
Лазурьку сговорим.
Насилу отвязался от него Игнат, пошел домой. Там, может быть,
уже ждет Настюха.
На улице его догнал Ерема.
— Что тебе Тараска на ухо шептал? Про меня?
— Совсем про другое...
— Сказать не хочешь...— Ерема уныло горбатился под дождем,
прятал в воротник клочковатую, с рыжинкой, будто ржавчиной прихваченную бороду.
— Вы, конечно, все друзья-товарищи. Меня отшибли. Все думаете: сдезертирил из отряда?
— Никто этого не думает, что ты, бог с тобой!
— Будто я не знаю... Партизан я, как и вы. Кровь свою пролил, а
какой-то гад слушок пустил, будто из-за поноса отстал от партизанства. У меня сроду поноса не было.
Игнат, веривший до этого больше Ереме, чем злоязычной болтовне, вдруг засомневался в его правдивости. Но виду не подал. Дело
давнее, что в нем копаться. И, с другой стороны, всегда хуже тому,
кто обманывает, а не тому, кого обманывают. Как ни застилай брехней людям глаза, сам-то будешь знать истинную цену себе, сам себе
не соврешь.
Ерема до того разговорился, что прошел мимо своего дома, а
когда спохватился, назад не повернул.
— Зайду к тебе? Можно?— он спросил с вызовом, а в лице, в
глазах было что-то приниженное, тоскливое.
«Экий чудак, сам себя мает»,— подумал Игнат. Бывают же люди.
из кожи вылупиться готовы, чтобы в глазах других себя возвысить,
всякие пустяки с ума сводят, обижаются там, где никто не обижает».
А в избе Ерема что-то примолк. Скажет два-три слова и смотрит
в окно на серое взлохмаченное небо, и на лице у него все густеет, густеет тоска. Стараясь расшевелить его, Игнат заводил разговоры и о
том, и о другом... Ерема вроде бы и отвечает, а видно: на уме свое.
Будто и хочет что-то сказать, но не может или боится. Уж надоедать
стало все Игнату, уж и не знал, о чем с ним говорить, но тут Ерема
спросил сам:
— Как думаешь, будет польза мужикам от того, что Лазурька
делает? Не обдурит нас?
— Как же он обдурит? И зачем?
— Да, да, конечно... А ты веришь, что жизнь будет лучше ранешной?
— Должна быть лучше. Сколько крови пролито, жизней сгублено за нее.
— А если все назад повернется?
— Нет, этому не бывать. Вон какая силища перла на нас, своя
и заморская, не повернула.
Ерема помолчал, будто взвешивая слова Игната, согласился:
53
— Не повернуть, где уж... — Вдруг спросил: —Живешь не богато?
Рублишек десять не одолжишь?
— Нашел у кого просить!
Ерема подался вперед, выставил ржавую бороду.
- Одолжи, христом богом прошу. Деньжонки паевые... тю-тю,
нету. По гривеннику, по полтиннику чуть не все вытаскал. Теперь—
петля.
— Что же ты на собрании заливал? Обсказал бы все. попросил
отсрочку до осени. Свои люди же, не лиходеи.
— Попробуй обскажи... Лазурька без того затыркал, везде корит
председательством. А что бы я сделал? Рад бы в рай... Ему что, за
ним ничего не тянется, куда хочет, туда поворачивает.
— За тобой что тянется?
— За мной? Это я к слову, это я так. Выручи, по гроб жизни
помнить буду!
— Пойми, Еремей...
Не досказал Игнат. Открылась дверь, в избу вошла Настя. На
завитках ее волос светились дождевые капли, влажные брови казались темнее, чем были на самом деле. Ерему встретить тут она, конечно, не ожидала, смутилась, спросила о чем-то и ушла. Игнат стиснул зубы от досады. Господи боже мой, надо же случиться такому!
Ну, ни черт ли принес этого Ерему! Теперь она, может, и не придет,
и сызнова затянется безызвестность.
А Ерема ждал, что он ему скажет.
— Нет у меня денег! Откуда им быть, от сырости?'
— Не сердись... К кому же мне пойти, как не к тебе?
- Нашел богача! Иди к Тришке или Пискуну.
— Не хочу к ним...— тихо сказал Ерема.
— Может, мне за тебя сходить?
— И верно!— обрадовался Ерема.— Попроси у Пискуна, он тебя
уважает. Осенью все верну до последней копеечки, а пожелаешь, сверх
того дам.
Опешил Игнат. Да он что, в своем ли уме? Уж не свихнулся ли?
— Какую ерунду мелешь? С какой такой стати пойду?
— Нельзя мне к ним, нельзя!—чуть не застонал Ерема.
Игнат пошел в куть, взял сухое полено, принялся щепать лучины. А Ерема все не уходил, все сидел и ждал чего-то. Понемногу досада у Игната прошла, раздражение улеглось.
— Скажи толком, почему сам не попросишь?
•—- Что я тебе скажу? Нельзя и все тут. Ну... не дадут.
Ерема, кажется, что-то скрывал. Черт его знает, запутался, поди,
до последней возможности и уж не знает, как выпутаться. Грех не
помочь в такой момент. Тем более, что помощь эта ничего не стоит.
И грех на него сердиться из-за Насти. Нет его вины в том, что помешал.
- Ладно уж, попрошу у Пискуна.
— Знал, что не откажешь!— Ерема сразу взбодрился, повеселел.— Он тебе не откажет. А я с Лазурькой рассчитаюсь и буду чистеньким. Но ты прямо сейчас иди. Не дай бог, если деньги Лазурька
завтра потребует.
Пошел Игнат, но сходил напрасно. Пискун уже достал было из-за
божницы узелок с деньгами, уж начал было отсчитывать замусоленные бумажки, но вдруг прикрыл деньги ладонями.
— Постой... Ты для кого денег просишь?
— Для себя...
— Э-э, Игнаша, брось маленьких обманывать!— Пискун погрозил
пальцем.— Если бы перед севом просил... Сейчас тебе деньги ни к
чему. Так я рассудил? Так. Опять же из окошка видел: шел ты вмес51
те с Еремой. А он в долгах, как в шелках. Самому уж и глаза стыдно
показывать, подбил тебя. Сознайся, для него просишь?
— Для него...
— Чуть было ты меня, старика, не облапошил,— Пискун, довольнехонький, просиявший, сложил деньги, туго затянул узелок.— Никогда, Игната, не хлопочи за других. Пусть они сами за себя хлопочут.
— Какая тебе разница, Харитон Малафеевич. Вы мне даете деньги. А куда их беру — мое дело.
— Не-е, у нас так не играют.— посмеивался Харитон.— Но уж
если ты сильно за него просишь — дам. Ему дам, пусть идет.
— Дашь?
— Дам, Игнаша, дам. Ради тебя, так бы не дал.
О собрании Пискун, видать, еще ничего не знал. А то бы не был
таким веселым и обязательно бы привязался с расспросами. Игнат
поспешил уйти. Ерема не дал ему порог переступить, встретил вопросом:
- Ну как, принес?
Выслушав Игната, он сник, пробормотал.
— Пропал я... Видно уж так на роду написано.
— Да почему пропал? Дает же, что еще?
— Как не дать — даст,— он глянул на Игната с подозрением.—
Ты заодно с ним? Сговорился? А я дурак перед тобой травкой расстилался.
— О чем ты? Я не понимаю...
— Ты все понимаешь! Все!— Ерема вышел, громко хлопнув
дверью.
Но Игнат и в самом деле ничего не понимал. Только на сердце у
него стало нехорошо и тревожно. Дал какую-то промашку, не сделал
для человека того, что мог, должно быть, сделать.
На другой день вечером зашел к Лазурьке, спросил, отдал ли
Ерема деньги. Оказалось, что отдал все до копеечки. Стало быть, сходил все же к Харитону. Это Игната' успокоило.
А с Настей ему поговорить так л ке удалось.
X!
Небогаты красками степи Забайкалья. Зимой все вокруг бело,
пусто, только в ветреный день дымятся снежные заструги, и ранней
весной, когда земля еще не успела вобрать в себя тепло, и поздним
летом, когда солнце высушило ее до каменного звона, степь уныло
однообразна, серая от края до края. И сопки тоже серые, как вороха
пепла. Но на грани весны и лета, перед наступлением иссушающей
жары, вся она сизо-голубая, вся плещется, играет переливами, век
обрызгана белыми каплями ромашек. Под пахучим ветром покачиваются тронутые сединой метелки дэрисуна, на курганчиках у своих
нор перекликаются тарбаганы, в глухих логах на солнышке балуются
огненные лисята. А воздух такой чистый, такой прозрачный, что не напрягая зрения можно разглядеть камни на дальней сопке и степного
орла на камнях, рвущего убитого суслика. Но не привлекает орел
взгляд Корнюхи. Не слышит Корнюха и свиста тарбаганов, не чувствует терпкого аромата трав. Сидит на бугре неподвижно, дремлющей
птицей, лишь изредка бросит взгляд на коров, щипающих траву в
лощине. Отсюда ему хорошо видно поле, лоскутом зеленого сукна,
разостланное на голубом увале. Его поле. Его надежда. Его защита от
рхужды.
И это поле у него хотят отобрать. Поначалу-то все было ладно.
Ни один бурят на заимку не заглядывал, и вообще никто не требо55
вал, чтобы он убрался с чужой земли С коммуной у бурят, видать,
дело не пошло. Корнюха уже думал, что зря тогда поднял тревогу,
заставил Пискуна добывать бумажку, но на днях вдруг заявился тот
пожилой бурят, что весной с Лазурькой был, Ринчин Доржиевич.
«Сайн байна! — по-своему поздоровался он и, не слезая с коня, покачал
головой: — Э-э, паря, зачем так долго тут живешь? Говорил тебе твой
Лазурька-председатель: уходи. Зачем не ушел?» Сунул ему Корнюха
под нос бумагу, а бурят читать не умеет, повертел в руках, со вздохом вернул. «Не толмачишь?— спросил Корнюха.— Аренда. Понимаешь? До конца года земля моя, за нее деньги уплачены. Понимаешь?»
Бурят не понимал. «Кому плачены? Пошто плачены?» — «А это ты у
своего председателя спроси, у Дамдина Бороева спроси. Дамдинка у
вас председатель?» Кислым стало лицо у бурята, реденькие усики
под широким носом обвисли. «Фу, хара шутхур Дамдинка!..— заругался бурят.— Не брехал мне ты, что так в бумаге написано?»— «Стану я брехать!»
Поехал бурят, что-то бормоча по-своему, потом вернулся, попросил бумагу. «Ишь ты, хитрый какой!— сказал ему Корнюха.— Вы уж
там сами меж собой разбирайтесь, а я этой бумажкой от всех вас как
заплотом отгорожусь».
Но на этом дело не кончилось. Неделю спустя нагрянули на заимку милиционер, Лазурька и с ними все тот же Ринчин Доржиевич.
Милиционер забрал бумажку, написал акт, велел Корнюхе расписаться. Корнюха расписываться отказался, сидел в углу зимовья, сцепив
на колене руки, злой до невозможности. «Ну вот, достукался?— сказал Лазурька.— Говорил тебе, так нет, все надо делать поперек...»—
«Помолчи, пожалуйста,— процедил Корнюха.— Кого за горло берете? Кому жизнь портите?»—«Он еще сердится!—удивился Лазурька.— Кто тебе велел с Пискуном связываться? Аренда эта липовая.
Дамдинка их подстать Харитону, первый живоглот в улусе. Согнали
его с председателей. Теперь там Батоха Чимитцыренов председатель.
Тот самый, который с нами был». Корнюха обрадовался было: Батоха— парень что надо, но тут же снова помрачнел. Что Батоха... Уж
Лазурька ли не парень, а свою линию гнет и в сторону шагу ступить
не хочет. А мог бы и подсобить...
Милиционер собрал со стола бумаги, сказал К.орнюхе: «Вот что.
друг... Хватит тебе десяти дней, чтобы убраться отсюда? Вы, Ринчин
Доржиевич, через десять дней заимку занимайте. Коли что — все барахлишко во двор».— «Больно прыткий! А хлеб, мной посеянный, им
подарок?»— «Почему же... Все опишем, оценим и возместим стоимость по закону»,— сказал милиционер.
Едва они уехали, Корнюха поскакал к Пискуну. На этот раз старик струсил, заохал: «Ох беда, беда... Что творится на белом свете,
что деется! Дамдинку спихнули. Был один понимающий человек во
всем улусе и то крылья обрезали».— «Что ты о нем плачешь, о Дамдинке, пропади он пропадом! Тут хлеб отбирают, а он—Дамдинка...»—
'<Так без него я как без рук... Стань задираться, хуже будет. Отдам
заимку, пусть подавятся!»—«Нет, ты не отдашь заимку!—стукнул по
столу кулаком Корнюха.— Зря я гнулся за плугом, зря обихаживал
поле? Своими руками весь пырей, всю сурепку повыдергал!»—«Как
хочешь, Корнюша, как хочешь, а я устранюсь. Нельзя мне сейчас идти на них с рогатиной, затопчут. А ты держись, Корнюша, держись,
с тобой они ничего не сделают».—«Умыл руки?»—«Не умыл, Корнюша, нельзя мне, не приспело время... Тебе-то что, ты партизан заслуженный... Стой на своем, и отступятся».—«Буду стоять, как же ты думал! Пусть кто сунется, горло перерву!»
Провожая Корнюху, Пискун шепотом спросил: «А, может, тебе
56
ружьецо дать? Всякое бывает...»—«Есть у тебя?»—«Завалялась гдето одна дудырга. Подожди...»
Пискун принес винтовку, завернутую в промасленную холстину,
три обоймы патронов. «Только ты никому — ни гу-гу. Попадешься, я
тебе не давал, ты у меня не брал».
Вчера был последний день срока, установленного милиционером.
а буряты пока не тревожат. Может быть, опять что приключилось с
их треклятой коммунией? Ишь чего захотели — коммуну. С неумытым-то рылом да в калашный ряд! Сидели бы себе по своим юртам,
так нет, больше всех суетятся.
День близился к обеду, заметно пригрело, все реже, все неохотнее перекликались тарбаганы. Коровы помахивали хвостами, одна по
одной потянулись к роднику, без умолку клокотавшему за зимовьем
у края леса. Корнюха взял в зимовье чайник, разложил в тени сосен
огонь. Коровы напьются и долго будут лежать. У него хватит времени
обед сварить, отдохнуть. По-доброму-то надо бы сейчас довести до
дела молоко, вся посуда им заполнена, все скислось. Как уехала Хавронья за своей Устей (сегодня четвертый день пошел), так он рук к
молоку не прикладывал. Мало-мальски подоит коров, чтобы вымя не
портилось, а с молоком возиться неохота. Хозяину будет убыток — ну
да черт с ним, не разорится. Хавронью он не отпускал, но ока, учухав
о том, что заимку могут отобрать, на шаг не отставала, клянчила:
«Отпусти, отпусти, не становись погубителем нашей жизни». Он ее
пробовал урезонить: «Зачем повезешь свою Устю, где жить будете,
если отберут заимку?» Но баба она была, видать, неглупая, все обмозговала, как следует. «Продадим дом, тут поселимся, Харитону волейневолей придется нас где-то пристраивать. А будет дом целый, отправит нас обратно, и не быть уж тогда Усте за Агапкой, не видать такого
жениха, как своих ушей». — «Ну да, будет с вами Пискун валандаться, отберут заимку, не спросит даже, есть у вас дом или нету,
з два счета выставит». — «А Советская власть на что?» — сказала Хавронья.
Пусть делает, как знает, ему-то что. Посулилась за два дня обернуться, но нет и нет. Чертова баба, будто не понимает, что одному тут
со всеми делами ни за что не управиться.
На огне вскипел, забрякал крышкой чайник. Корнюха снял
его, засыпал заварку, разложил на мешке хлеб, масло, редиску свежую. Вчера Настюха приходила, принесла гостинцев со своего огорода. Отцу, говорит, сказала, что пошла ночевать к подружке, а сама — сюда. Не поленилась десять верст пешком отмахать. Чудная
девка!
Они лежали с ней на увале, на теплой земле, дышали воздухом,
настоенном на степных травах, и не было в мире никого, кроме их
двоих. Под утро Настя заснула у него на руке, а он лежал, слушал
ее ровное спокойное дыхание, думал, что с такой бабой, как Настя,
жить будет легко и просто. Когда на востоке, из-за сопок на небо
выплеснулся и растекся алый свет зари, Корнюха разбудил Настю и
проводил без малого до самой деревни...
Пообедав, Корнюха растянулся у огня, засыпая думал: «Как бы
хорошо жилось, будь у меня хоть четверть того, что имеет Пискун...»
Разбудила его Хавронья. Корнюха сел, протер глаза. Солнце уже
перевалило за полдень, коровы лениво тянулись в степь, у зимовья
на привязи стояла лошадь. Хавронья улыбалась, показывая ему свои
коротенькие зубы.
— Замаялся тут без меня?
Корнюха промолчал. Он растирал занемевшие руки, на них отпечатались травинки, рубцы были как шрамы.
57
— Привезла я дочку-то. Да ладно, что поехала. Она и не думала
сюда перебираться. И дом продала с выгодой, сорок рублей дали...
— Где она, твоя дочка?
— А в зимовье. Убирается. Поглядел бы ты, как Агап Харитоныч
возрадовался. Крадучи мне кашемиру сунул. Сшей, говорит, Устинье
сарафан, чтоб было в чем, грит, свадьбу справить.
— Ты про заимку у них не спрашивала?
— Как не спрашивала? Спрашивала. Да они сами ничего не
знают. Оба беда как сердиты на Лазаря Изотыча. Ну, пойдем в избу,
с дочкой тебя сведу.
Угрюмый со сна, лохматый, с сухими травинками в растрепанном
чубе вошел в зимовье Корнюха. Устя подметала пол. Она распрямилась, поздоровалась кивком головы и снова принялась за работу. А Корнюха сел на лавку, пятерней пригладил волосы, расстегнул ворот рубахи. Не ждал он, что Устя такая... Рослая, статная, тонкая в поясе, она и в линялом ситцевом сарафане казалась нарядной.
Еще ни слова не сказала Устя, а Корнюха понял: гордая, знает себе
цену. Она и пол подметала иначе, чем ее мать. Та быстро-быстро, суетливо, машет веником, поднимая тучи пыли, а эта метет спокойно,
размеренно. А какие волосы у нее — черные, тяжелые и так ровно,
туго собраны в косы, что взблескивают на макушке и на висках, а
возле ушей, наоборот,— кудряшки и в них, в кудряшках, сверкают
большие дутые серьги. Да-а, у Агапки губа не дура, не даром он о
ней страдает. А куда лезет, мозгляк, такой девке мужик нужен в
полном соку, не замухрышка.
— Что, Устюха, с нами будешь робить?— спросил он.
— Еще не знаю,— она подняла на него взгляд серых с прозеленью глаз, оглядела с ног до головы и со скукой отвернулась.
— А-а, не знаешь... Ну да, тебе же место хозяйки приготовлено, —
кольнул ее Корнюха, задетый скучающим взглядом. Не рохля же он
какой-нибудь, не глиста мореная, чтобы на него так смотреть. Или
к своему суженому, Агапке-недоноску, приравнивает?
Хавронья все время была настороже, тут она сразу в разговор влезла, стала перед Корнюхой, загородила дочку своим сарафаном:
— Ты уж иди, погляди за коровами сегодня. А мы с Устюшей
приберемся. Завтра я сама погоню. Пойдем, Корнюша, покажи, где
что у тебя.— А сама рукой знаки подает, уходи, дескать, скорее. На
дворе зашептала ему:—Не напоминай ты ей, ради бога, про Агапку,
не тревожь ее душу. Без того она у ней растревожена. Дура же... Счастье само в руки прет, а она от него нос вернет...— Хавронья вдруг
умолкла, приложила ладонь ко лбу. — Глянь, Корнюша, кажись, они,
нехристи, едут.
Корнюха обернулся. К заимке на рысях приближались два всадника. Они, буряты. Впереди скакал Ринчин Доржиевич, за ним, приотстав немного, — молодой парень в военной гимнастерке. Подъехав,
они спешились, привязали коней к пряслу. Ринчин Доржиевич поздоровался с Корнюхой как со старым знакомым за руку, молодой бурят, помедлив, тоже подал руку, назвал себя:
— Жамбал Очиржапов.
— Садитесь,— Корнюха показал рукой на ступеньки крылечка,
сам сел на расколотый круг точила.
Оба бурята сели. Ринчин Доржиевич развернул кисет, набил
трубку, Жамбал свернул папироску.
- Курить будешь?— спросил Ринчин Доржиевич и протянул
Корнюхе кисет. Корнюха тоже свернул папироску, прикурил от
трубки.
53
— Семейскому как, курить можно? — Ринчин Доржиевич улыби :^я. Глаза его сузились в щелочки, от них к седеющим вискам
||>птянулись лучики морщин.
— Теперь все можно...— Корнюха только с виду был спокоен,
ренне он весь подобрался, сжался в кулак. «Чего тянет, говорил
'•и сразу»,— подумал он. Улыбка бурята, его добродушное лицо,
мирный дымок папирос и трубки размягчили Корнюху. Он боялся, что
н и дальше так дело пойдет, не сможет дать им отпор.
— А наш Жамбал из армии пришел,— Ринчин Доржиевич пока: трубкой на своего спутника.— Комсомол стал. Теперь в улусе
: ь комсомольцев.
Корнюха смял, бросил недокуренную папироску.
— Зачем приехали? Сказывай...
— Давно сказывал,— вздохнул Ринчин Доржиевич.— Хороший
:;ь держит бег, хороший человек держит слово!
— Я вам слова не давал! Что вы ко мне привязались? Берите за
I потник своего Дамдинку!
— Товарищ, товарищ, нельзя такой шум делать!— Жамбал наурился.— На чужой земле расположился и еще кричишь.
— Боле, боле!— быстро сказал Ринчин Доржиевич.— Огонь не гамаслом, обиду не успокаивают гневом.
— Вы успокаивать меня пришли? Хотите разорить, обобрать, и
•5ы я был радостным? Убирайтесь отседова обои! И не показывайи сь мне на глаза:
— Но-но...— в глазах Жамбала вспыхнули желтые огоньки, он
1 чочил, сделал шаг к Корнюхе.— Тебя кулаки сторожевой собакой
елали!
Какая-то злая сила подбросила Корнюху, швырнула навстречу
•! лодому буряту. Сгреб его за ворот гимнастерки, подтянул к себе,
1 1 ; зохрипел:
— Убью!
Ринчин Доржиевич разнял их, потащил Жамбала за руку к лошадям. Жамбал упирался, кричал:
— Тюрьму пойдешь! Сидеть будешь!
Корнюха метнулся в зимовье, сорвал со стены винтовку и прямо
! дверей дважды выстрелил поверх голов бурят. Испуганно забились
на привязи кони, за спиной взвыла Хавронья. Ринчин Доржиевич легI взлетел в седло, подскакал к крыльцу и, бесстрашно глядя на Корнюху, покачал головой.
— Аи-аи, зачем такой плохой дело! — и ускакал.
Бросив на кровать винтовку, Корнюха сел на порог, стиснул виски.
1
;то наделал, дурья голова, что наделал! Теперь и впрямь тюрьма. Не
поглядят на заслуги партизанские, спрячут за железную решетку, а
се, что он оберегал, Пискуну достанется. Не для того ли он, старая
.окрица, винтовку подсунул?
А Хавронья все ахала, охала, наговаривала:
— Нас подводишь... Непричастных, безвинных к ответу поволокут.
— Не ной, старуха! Кому ты нужна? Иди, смотри, чтобы коровы в
хлеб не залезли. Я поеду...
Он еще не знал, куда ехать. К Пискуну? Какая от него польза! К
.4 Батошке Чимитцыренову? К Лазурьке? Оба одного поля ягода, что
ч-и дружба старая, раз в начальство выбрались. Свой ты или чужой,
для них все равно, будут мылить загривок: нельзя иначе, могут ски::уть с председательства, как скинули буряты своего Дамдинку, а тай:.пихинские мужики — Ерему Кузнецова. Эх, нет поблизости Максюхи,
уж он бы что-нибудь присоветовал... К нему поехать?..
59
Корнюха вытянул из-под лавки седло.
— Надолго ты? — спросила Устя.
— Тебе-то что, не все равно?
— Мне-то все равно, а тебе... Уедешь, они вернутся.
Да, об этом он не подумал. Возвернутся, что с ними сделают
бенки? Сгонят их с места, потом уж ничего не сделаешь.
— Ах ты, черт! — Корнюха положил седло на место. — Не при!
зан, а визжит.
— Оставь мне винтовку. Не подпущу,— сказала Устя.
Корнюха подумал: смеется, но нет, она не смеялась. Ух, каю
глаза у нее! Такая будет стрелять, не побоится. Вот так девка!
— А ты умеешь ли стрелять-то?
— Спытай... — она взяла винтовку, клацнула затвором.
— Не трогай! — сердито сказал Корнюха. Нельзя ей оставляй
винтовку: мало одной беды, другая будет.
— Что, боишься? Не бойся, меня батя обучал, а он первым стрел^
ком в деревне был. Поезжай...
— Не поеду до ночи. Уж ночью-то они сюда не заявятся.
— А ты буйный,— с одобрением сказала Устя. — Батька мой
ким был.
— Тут станешь буйным...
Под вечер на заимку приехал Агапка. Он ничего еще не знал. ТА
хоть бы спросил, как тут дела, что нового — нет, слез с коня и к Усте)
Остренькое лицо, умильное, ну прямо как на иконе, из кармана свиса^
ет конец винтарин 1 , видно, подарок приготовил. А Устя, как при перво^
встрече с Корнюхой, со скукой отвернулась от Агапки, лицо ее стало
гордое, недоступное. Агапка цепко, по-хозяйски ухватил ее за руку.
— Пойдем, поговорить надо...
— Постой! — Корнюха еле сдерживал гнев. — Шмару свою потом в кусты потащишь.
Жар прихлынул к щекам Усти. Оттолкнув Агапку, она ушла в зин
мовье и заперла за собой дверь.
— Что тебе? — Агапка побледнел, кулачки свои стиснул.
Корнюха со злорадством подумал: «Ишь ты, ощетинился, как кобель, у которого из-под зубов кость вырвали».
— Вы со своим батей что думаете, нет? Сегодня чуть было не выселили. До стрельбы дело дошло. Не сегодня, завтра вытурят отсюда.
Ну, чего помалкиваешь? Это тебе не с Устей обниматься...
Так ничего и не сказав, Агапка сел на коня.
— Ты куда?
— Поеду, скажу мужикам, что буряты наших убивают. Подниму^
своих. Намнут бурятам бока, отвадят на чужое добро зариться.
— И первым попадешь в кутузку.
— Не такой я дурак, чтобы попасть. Уськну, и нет меня, мужик*
сделают сами.
«Ах ты, змееныш лукавый!» — изумился Корнюха, показал Агапке кулак.
— Это видел? Я те подниму мужиков!
— Не твоего ума дело! Знай сверчок свой шесток! — Агапка подобрал поводья, подбоченился, посмотрел в окно. И Корнюха, не оглядываясь, понял, что из зимовья за ними наблюдает Устя, а этот хорек
еще нарочно на него покрикивает, силу свою кажет. Взбешенный, рванулся к Агапке, сдернул его с коня, приподнял и толкнул на кучу
навоза. Агапка поднялся, отряхнул штаны, прерывистым юлосом
проговорил:
' В м н т а р и н ы—янтарное
60
ожерелье.
— Ну погоди... Корнейка... я тебе... этого не забуду!
— Вот и ладно, помни! А вздумаешь мужиков баламутить, я тебя
: дерьмо головой!..
Агапка ускакал. Собрался ехать и Корнюха. Зашел в зимовье —
'стя смеется.
— Плакать надо: он твой жених!
— Под голову класть такого жениха, чтоб лихорадка не пристала!
— Куда его собираешься класть, мне это не интересно.
Прискакав в деревню, Корнюха направился прямо в сельсовет.
шзурька был там. Вместе со Стишкой Клохтуном они сидели за стом, что-то писали. Без околичностей, как было, рассказал им все Кор:.юха, только про Агапку словом не обмолвился, знал, забоится мужи:ов подбивать на драку с бурятами, а так, что о нем говорить.
Концом обкусанной ручки Лазурька поскреб макушку.
— Натворил делов! Понял теперь, к чему тебя привела твоя ; пугюсть?
— Не глупость у него, не-ет,— поправил Лазурьку Стишка Клохун. — Под правый уклон покатился. Под кулацкую дудочку плясать
стал.
— Обожди ты... —отмахнулся от него Лазурька.
— Тут, Лазарь Изотыч, ждать нечего. Тут политикой и державным шовинизмом пахнет.
- Не мешай, Стиха, разговору непонятными словами,— попро_ил Корнюха. — Кулаков ко мне не присобачивай. Так судить — всякий, кто в работниках, пособником кулаков будет.
Лазурька собрал бумаги, глянул в окно.
— Поздно... Но ничего, поедем к Бато. Без него говорить об этом—
доду в ступе толочь. — А когда вышли на улицу, он вдруг с яростью
закинулся на Корнюху: —Ты знаешь, кто ты есть? Дерьмо коровье,
больше ничего!
— Но-но, Лазарь...
— Хэ! Еще нокает! Хоть чуточку башка твоя варит? Все, кто против нас, спят и видят, когда мы с бурятами передеремся. Тогда не
трудно будет на нашу шею удавку надеть. Доходит до тебя? Опять и
другое. Буряты коммуну свою с большим трудом сколотили, а ты
~>ревном поперек дороги. За одно это я бы не знаю, что с тобой сделал!
Не стал спорить Корнюха, начни ему перечить, еще хуже гайки
затянет, сказал только со смирением:
— Как не поймешь, что вся надежда на это поле, отберете, как
жить буду? Нищета мне надоела.
— Это-то я понимаю. Но не так надо, Корнюха, из нужды вылезать.
В улус приехали в потемках. Остановились у деревянной островерхой юрты. Дверь отворилась, уронив на землю квадрат неяркого
света. Согнувшись из юрты шагнул к ним человек, вгляделся.
— Лазурька? Здорово, нухэр! Эй, Дарима, гости есть, чай варить
давай! — крикнул он в юрту. — А это кто?
— Корнюха. Сам виновник... — сказал Лазурька.
— А-а, ты Корнюха! — Бато подал руку. — Давно тебя не видел,
шибко давно. Шагай на светло, глядеть буду, какой стал.
Такая встреча смутила Корнюху. Он почему-то думал, что Батоха будет сердиться, не захочет признать в нем старого сотоварища.
В тесной юрте посредине горел огонь, дым тянуло в дыру, проделанную в крыше. У огня сидела на корточках и поправляла дрова девка, лицо которой показалось Корнюхе знакомым.
Разостлав на полу белый войлок, Бато усадил Корнюху и Лазаря
у почетной стены, сел сам, достал из кармана кисет.
61
- Ты немножко менялся.— приглядываясь к Корнюхе, сказал Б
то, кивнул в сторону Лазурьки. — Он таким же остался.
— Постарел я, что ли? — спросил Корнюха.
— Не... молодой, но что-то немножко другой стал. Как живешь
— Плохо живу, Батоха,—Корнюха решил, не дожидаясь Лазар
сам рассказать о случившемся. Рассказывая понял: Батоха уже в
знает.
— Худо ты делал, Корнюха,— вздохнул Бато. — Твой хозяи
наш Дамдинка немножко жульничали.
— Они жульничали, а я должен расплачиваться...
— Вперед наука будет,— сказал Лазурька. — Для него, Батоха,
в самом деле в том клочке хлеба вся жизнь.
— Другой сев нету?
— Игнат сеял, но что там — слезы сиротские, не хлеб. На прога
тание едва хватит. А у меня, хочешь верь, хочешь не верь, одна-раз1
единственная рубаха.
Девушка молча подала чашки с чаем, поставила посередь зойлси
столик на коротких ножках, подала масло, пресные лепешки. Сейч
Корнюха вспомнил, где видел ее. Это была та самая пастушка, с какс
сидел тогда Федоска, Лучкин брат. Бато что-то сказал девушке, О1
ушла и вскоре в юрту вошел Ринчин Доржиевич. следом за ним •
/Камбал. Оба ничем не выдали своего удивления, хотя, конечно, дол?
ны были удивиться, увидев его здесь.
Бато что-то долго говорил им по-бурятски, Жамбал ему сначал
возражал, но потом согласно кивнул головой.
— Ладно, сердиться не будем. Мы горячились, он горячился. Та
ли, паря? — по-русски сказал Ринчин Доржиевич и притронулся р
кой к Корнюхиному колену. Корнюха понял, что разговор был о не
что дурацкую выходку его буряты простили.
— Не можете ли вы обойтись без заимки до осени, пока он хле
свой уберет? — спросил Лазурька. — Если есть хоть маленькая во
можность, дайте мужику урожай собрать.
— Можно бы обождать... Но мы хотели зимник там делать. Сг
рай строить, дом прибавлять. После уборки успевать не будем. Ка
делать? — спросил Бато у Ринчина Доржиевича и Жамбала... — Парн
беда приносить тоже нельзя.
- Нельзя,— согласился Ринчин Доржиевич. — А зимник делат
не успеем.
— Постойте, мужики,— сказал Лазурька. — А если, к пример
мы вам поможем? Соберу мужиков десять и дня два поработаем. И
братьев, трое, я четвертый, Лучка, Тараска... да, человек десять насс
бирается.
— Тогда ничего, тогда живи, Корнюха,— заключил Бато и сраз
повеселел.
На том разговор этот и кончился, потом пили чай и говорили уж
о всякой всячине. Много интересного рассказал Жамбал о службе
армии, о том, чему там учат красноармейцев. Он был ничего, славнь
парень, этот Жамбал. Под конец Корнюха даже пригласил его в гост
— Приезжай, когда время будет.
— Времени сейчас мало, ездить в гости совсем некогда.
Когда возвращались домой, Лазурька спросил:
— Теперь-то ты понял, какого берега держаться?
— Кажись, понял.
— Дай-то бог... Простая наука, а нелегко нам дается.
XII
Пришло лето, сухое и жаркое. Поскучнела степь, выжженная
солнцем; обмелела речка, и ленивая теплая вода еле двигалась в вязкой тине; прибрежные тальники увяли, тусклая зелень дышала зноем
и затхлостью. Тихо, глухо, душно.
Все меньше нравилось Максе жить в степи, сонная тишина опостылела, все сильнее тянуло его в деревню, к людям. И когда Лучка,
приехав на заимку, неловко улыбаясь и смущенно теребя кудрявую
бородку, сказал, что тесть велел его рассчитать, потому что на заимке,
мол, летом работы мало и на двоих — Федоску и Татьянку — Максим
не только не огорчился, а даже обрадовался.
— Вот и ладно! — весело сказал он.
Солнце уже село. С гор потекли потоки свежего воздуха, горького от запаха трав, жара схлынула. Татьянка, босая, в старом, распоясанном для прохлады сарафане, разжигала во дворе огонь, собираясь
варить ужин. Она обернулась, с тревожным недоумением взглянула
на Максю, и он сразу вспомнил, что где-то ходит-бродит живой, невредимый Стигнейка Сохатый, способный сотворить любую пакость,—
вспомнил и хмуро спросил:
— Он что, твой дорогой тесть, боится поубытиться?
— Как будто не знаешь моего тестя! Надоело мне с ним лаяться,—Лучка сердито плюнул.—Но ты не думай... работу тебе в
деревне подыскал.
— Подыскал? — Татьянка села у огня на корточки, обтянула колени сарафаном. — Ты обо всем подумал, братка, все по-умному решил. А спросил нас с Федосом. хотим ли мы на твоего тестя спину ломать? Уйдет Максим, нас тут не удержишь.
— Даже грибы стали на дыбы! — пошутил Лучка.
Но Татьянка шутку брата не приняла.
— Надо — сам тут живи. И так страху натерпелись...
Максим приложил палец к губам, укоризненно качнул головой,
однако Татьянка, ничего не заметив, выпалила:
— Лишит Сохатый жизни, тогда спохватишься!
— Сохатый? Как так — Сохатый? — Лучка круто повернулся к
Максе, в глазах — недоверие.
— Сохатый... — Макся, стыдясь за скрытность, хотя и вынужденную, яростно потер ребром ладони переносицу. — Был он у нас, Сохатый.
— Давно?
•— Давненько.
— И ты помалкивал? Скрывал от меня? — Лучка горько усмехнулся. — Не ждал от тебя этого, Максюха. Не ждал.
Суковатой палкой Лучка разворошил огонь, пламя опало, и густые тени залегли з его глазницах, от этого лицо стало казаться изможденным, постаревшим.
- Нечего обижаться. Сам понимаешь, зверя на тропе сторожить
надо молча.
— Понимаю, как не понимать,— тихо, хмуро думая о чем-то другом, сказал Лучка.
До ужина он сидел у огня молча, разгребал палкой угли, шевелил
бровями и угрюмо смотрел себе под ноги. Макся тоже молчал, чувствуя себя виноватым перед ним. И когда, поужинав, они остались у
огня вдвоем, сказал Лучке:
—• О Сохатом я смолчал зря. Каюсь. Но я просто не думал, что
это тебе в обиду.
— Ты легко судишь — в обиду! Если хочешь знать, клубочек тут
запутан такой, что и концов не найдешь. Намедни, к примеру, зазыва63
ет меня в гости Харитон Пискун. Ласковый, обходительный. Водки на
столе — залейся. О жизни разговор ведем. Умен мужик, ох умен!
Втолковывает мне: скоро новой власти крышка. Не прямо говорит, но
все понятно.
— Уж не он ли свернет? — не удержался от усмешки Макся.
— А ты не посмеивайся. У них расчет есть. Приглядись, как в
последнее время на мужика давят. Чуть подокрепло хозяйство—бух
тебе твердое задание. Выполнил — разорился, не выполнил — тюрьма.
Что делать?
- Если ты власти нашей опора — не разорят и в тюрьму не пооедят. Но...
— Кабы так! — перебил Лучка. — А то ведь все по полочкам разложено, все определено без тебя. Сегодня ты бедняк,. потому как хозяйство захудалое. Завтра заимел на три овцы больше того, что было,—
середняк. А если еще и коня, корову присоединил — кулак. Читаю недавно в газете вопросы и ответы. Спрашивает кто-то: «Куда отнести
дочь кулака, если она вышла замуж за бедняка?» Ему дают такой ответ: «Раз мужик бедняк, и она беднячка». Еще вопрос: «Куда отнести
беднячку, если она стала бабой кулака?» Ответ: «Мужик кулак и она
кулачка». Понял, как все тоненько распределено? А ты мне про опору
твердишь. Суди по тем вопросам обо мне. Кто я? Кулак. Получил это
клеймо, а власть, за которую моей кровью плачено, старается заехать
мне по сопатке, да так норовит заехать, чтобы кровью закашлялся.
Как мне быть?
— К Харитону Пискуну припаряйся,— едко посоветовал Макся.
— Кто знает, может быть, и доведется,— Лучка поднял на Максю
тоскующие глаза. — Между молотом и наковальней такие как я, Максим. Подал заявление на раздел с тестем. А все равно на душе покоя
нет.
От реки пахнуло теплой сыростью. Блин луны, обкусанный с одной стороны, тихо скользил над землей, и степь в неверном свете белела, как сплошной солончак. Макся подавил вздох, язвительно подумал о самом себе, как о постороннем: «Партейный!» Думалось, что в
новой жизни всем будет просторно, каждый займет в ней место, им
самим облюбованное. Почему же этого не.получается? Почему Лучка,
вместо того, чтобы выращивать всякие диковинки, до которых большой охотник, ломает голову над тем, кто он есть — кулак или не кулак, с кем ему по дороге, с Пискуном или старыми друзьями? И почему так вышло, что старые друзья его вроде бы отшибают? Плохо это.
Если и дальше так будет, все рассыплется, будто ком сухой глины под
колесом, и каждый станет жить сам по себе, наедине глотая горечь неулаженности, как Лука, или будет как Корнюха, из сил выбиваясь,
рваться к достатку.
Утром, заседлывая коня, Лучка сказал Максе:
— С тестем я договорюсь. Живи тут.
— Жить тут, пожалуй, не буду. Крепко мне подумать надо, Лука.
Татьянку оставлять опасно, а так — что делать тут?
- Женился бы ты. а? — Лучка вскочил в седло, подобрал поводья, чуть помедлив, тронул лошадь, поскакал по пыльной степной
дороге.
Макся стоял у плетня, ломал сухие прутья, задумчиво смотрел
ему вслед. Пожалуй самое лучшее — забрать Татьянку с собой, поселиться в отцовском домишке. Худо, что свадьбу справлять сейчас не
время, да и не на что. Осудят его люди: до свадьбы в дом невесту привел и не дождался, когда старшие братья женятся. Ему-то это все равно, но что скажет Татьянка? Ни разу с ней по-хорошему, по-серьезному не говорил о будущей жизни.
64
Подозвав Татьянку, Макся долго молчал, не зная, как, с чего подступиться к этому разговору, ничего не мог придумать и сказал первое, что в голову взбрело:
— Давай бросим к черту эту заимку! В деревне будем жить, в нашем доме.
— Почему это?
— Почему, почему... Неужели не понятно? Женюсь я на тебе.
Татьянка спрятала руки под передник, потупилась, ее щеки, уши
огнем вспыхнули, сразу стало видно, что она совсем еще девчонка.
Максе стало весело от ее смущения и робости.
— Ну так что, Таня?
— Как хочешь,— почти шепотом сказала она. — Я за тобой, как
нитка за иголкой...
На другой день рано утром Макся поехал в Тайшиху к Лазарю
Изотычу. Солнце только что взошло. На серой траве гроздьями висела
светлая роса, от земли поднимался белый пар, неслышно сползал в
лощины и пенился там, выплескивая прозрачные хлопья. На сопках
пунцовела доцветающая степная сарана — царские кудри, пламенели
прозрачные желтые маки, бронзой отсвечивали колючие ветки золотарника. Все краски были чистые, сочные, утренний воздух — свежее
лесного родника. Максим ехал шагом, смотрел на сопки, обдумывал
предстоящий разговор с председателем Совета.
Его он застал дома. Поставив ногу на ступеньку крыльца, Лазурька начищал юфтевые ичиги холщовой тряпкой.
— Стигнейка? — спросил он, едва ответив на приветствие Максима.
— Нет, давно не навещал.
— А я уже было подумал... Меня тоже давно не трогают. Запасные стекла лежат без пользы. — Лазурька шутил, но как-то рассеянно, привычно, так же привычно спросил о новостях.
— У совы, сидящей в дупле, сорока о новостях не спрашивает,—
вздохнул Максим. — Как живется здесь?
— Ничего живется. Большое дело замыслили. Осенью, самое
позднее весной, зачнем колхоз сколачивать.
— Это хорошо. Это многим будет по душе,— сказал Максим. — А
кое-кому — совсем наоборот.
— Что-то приутихли они, те, кому все наоборот, — Лазурька
тщательно зачищал сажей, разведенной на молоке, рыжее пятно на голенище ичига. — Вижу, зеленые от злости, до горла ею налиты, а
молчат.
— Не молчат они, Лазарь Изотыч, говорят где надо. Власти нашей
конец предрекают.
— Все время предрекают — что с того?
— А если попробуют загнуть нам салазки?
— Это они могут, духу у них хватит. — Лазурька отставил ногу,
хмуро осмотрел ичиг, кинул холстину. — Они, Максюха, все могут,
народец еще тот!
— Чего им не попробовать, если сами помогаем.
— Как так? — Лазурька вскинул быстрые глаза на Максима.
— Очень просто. Людей, которые за нас, отшибаешь. Почему от
Лучки отгородился?
— Тебе легко говорить. А тут голова кругом идет,— глухо сказал
Лазурька. — Пойдем со мной в Совет. Вчера там до вторых петухов
прели.
Лазурька вернулся в сени, снял с гвоздя тощую полевую сумку,
накинул ремень на плечо, быстро зашагал по улице. Небольшой, подбористый, ловкий, он твердо ставил ноги на мягкую от пыли дорогу,
5. «Байкал» № 5
65
не оглядывался на Максима. А Максим, еле поспевая за Лазурькой.
удивлялся, почему он, всегда такой приветливый, острый и веселый в
разговоре, сегодня говорит с плохо скрытой неохотой.
В Совете председателя уже ждали. Вокруг стола сидели трое:
Стишка Клохтун, отощавший до того, что на согнутой спине из-под рубахи выступали острые бугорки позвонков; два незнакомых Максиму
человека — один молодой, примерно Лазурькиных лет, мужчина с коротенькими усиками под тонким прямым носом, второй — крупный,
бритоголовый, полногубый. В стороне от них, сложив локти на подоконник, сонными глазами смотрел ка улицу Абросим Кравцов.
Лазурька назвал незнакомому начальству Максима (о том, что
это начальство, Максим догадался потому, что бритоголовый сидел на
председательском месте и при появлении Лазурьки не встал, не освободил стула).
— Вы, кажется, подали заявление в партию? — спросил бритоголовый и быстрым взглядом светлых маленьких глаз окинул Максима
с ног до головы. За одну секунду он, должно быть, успел разглядеть,
какие на нем ичиги и оборки на ичигах, сколько пуговиц на рубашке. — Садитесь. Вы нам как раз нужны.
Толстыми, неловкими пальцами бритоголовый полистал какие-то
бумаги, строгим голосом сказал:
—• Сейчас, когда на повестку дня во всей полноте встал вопрос о
коллективизации, борьба с кулачеством вступает в решающую фазу.
Мы должны уничтожить, во-первых, экономическое, во-вторых, политическое влияние кулачества на крестьянские массы. Что это значит?
Это, товарищи, значит, что всеми доступными для нас средствами мы
должны ограничивать подрывать хозяйственную мощь кулака, лишать его возможности разными подачками держать под своей властью бедняков и батраков. Кажется, все ясно. Но, видимо, не для всех.
Вчера вы, Лазарь Изотыч, старались нас убедить, что, во-первых, все
кулацкие хозяйства у вас учтены, во-вторых, что с кулачеством
вы ведете непримиримую борьбу. Сомневаюсь, товарищи! — бритоголовый горой навис над столом, светлые глаза его потемнели.
Лазурька, покусывая губы, смотрел в пол, накручивая на палец
ремешок сумки.
— При помощи секретаря сельсовета товарища Велозерова,—
бритоголовый кивнул на Стишку Клохтуна,— я ознакомился с описью
кое-каких крепких хозяйств и теперь с полным основанием могу утверждать, что в списке кулаков нет и половины тех людей, кому надлежало в нем быть.
— Каких людей вы нашли? — спросил Лазурька.
— А вот. Викул Абрамович Иванов. Слышали о таком? Знаете
сколько у него рабочих лошадей?
—• Слышал, знаю! — дерзко сказал Лазурька. — Но я знаю и другое — лошадь лошади рознь. Викула хвастун и дурак. Набрал почти
задарма дохлых одров, чтобы с самим Пискуном сравняться. А когда
пашет, то сам к сохе подпрягается. К тому же, он никогда не нанимал
работников, все, что нажито — нажито своими руками.
•—• Вот как? А что вы скажете о Прохоре Семеновиче Овчинникове? Надеюсь, не станете утверждать, что и он не пользуется наемным
трудом.
— Пользуется. Нанимал весной работника. И осенью будет нанимать. А что ему делать? Шесть ребят, мал-мала меньше. Баба его, в
аккурат перед вешной, двойней разрешилась. Тут уж плачь, да нанимай. Не там вы ищите, товарищ Петров, супротивников Советской власти, не туда целитесь. Есть у нас кулаки без подделки. С ними и надо
бороться. С ними и идет у нас война и будет идти до полной победы.
66
— Война? Сомневаюсь! Вот у вас лежит заявление Луки Богомазова. Хочет заполучить раздельный акт. Кулацкие штучки такого пошиба нам известны. Делится одно большое хозяйство — получилось
два средних. А что тесть Богомазова злостный эксплуататор вам-то
уж должно быть известно. — Петров перевел взгляд на Максима. •—
Вы у него батрачите?
— Да. Но нанимался я у Луки, то есть у товарища Богомазова.
Податься мне было некуда.
Толстые губы Петрова сложились в насмешливую улыбку.
— Товарищ Богомазов... Хорош товарищ! Пользуясь тем, что у
вас безвыходное положение, он вроде бы облагодетельствовал вас. Он
так же облагодетельствовал и своих единокровных — сестру и брата. Я
все знаю, вы меня не проведете. И я знаю, что Богомазов был партизаном. Но именно этим он и ценен для своего тестя-кулака. Прикрываясь прошлым своего зятя, он выжимает соки из бедноты. А сам Богомазов, потеряв совесть, вербует для него даровую рабочую силу. Но
что делает Совет? Разоблачает он перерожденцев, подобных Луке Богомазову? Нет. Мешает его тестю пользоваться дешевым трудом бедняков? Нет. Что же это происходит, дорогие товарищи?
Гневная речь Петрова ошеломила Максима. Ему стало жарко. Облизывая сухие губы, он смотрел на Петрова, на его безмолвного товарища, на Стишку Клохтуна, согласно кивающего головой, на Абросима Кравцова, прикрывавшего глаза запухшими веками, на мрачного
Лазурьку, и разговор этот ему начинал казаться диким, невероятным,
возможным только в дурном сне.
— Лучка—пособник кулаков?—спросил он.—Да вы что городите,
бог с вами? Ему помочь надо, а вы говорите «пособник». Он сейчас навроде колоса, выросшего на обочине. Откуда бы ветром не потянуло,
его к земле приклоняет. Не долго так простоит, надломится. А если
такой подход будет к нему, врагом станет.
— Обождите, товарищ... — мягко остановил Максима Петров. —
Политическая незрелость для вас простительна. Вы молоды. Но и вам
я должен сказать, чтобы вы навсегда запомнили: кем станет для Советской власти Богомазов — врагом или другом — его дело. Наша
власть достаточно сильна, чтобы не кланяться кому бы то ни было.
Петров говорил долго, то повышая голос почти до крика, то снижая его до обычной разговорной интонации, чаще других слов он
произносил слово «борьба», произносил с особым нажимом. Слушая
его, Лазурька мрачнел все больше и, когда Петров замолчал, сердито
сказал:
— Вы, вроде как считаете, что я сижу сложа руки? Если так, выбирайте другого председателя. На черта мне сдалась такая музыка!
— А это как скажет партия! — властно отрезал Петров. — До тех
пор пока вас не сняли, будьте добры беспрекословно выполнять ее
волю. Я сейчас уезжаю. Здесь останется товарищ Рымарев. Он будет
жить столько времени, сколько понадобится, чтобы навести здесь полный порядок.
Рымарев поднял голову, посмотрел на Лазурьку, ободряюще
улыбнулся. После того, как Петров уехал, он с упреком сказал— И чего ты кипятишься, председатель! Ведь начальство, на тсоно и начальство, чтобы давать взбучку нашему брату. Увидишь, как
хорошо мы будем работать.
— Взбучку дал за дело,— поправил его Стишка. — Много мы миндальничаем. Железным лемехом надо выпахивать всякую сорную
траву.
— Дай лемех дураку, он тебе выпашет! —угрюмо сказал Лазурь5*
67
ка. — А ты, секретарь, когда даешь сведения начальству, разъясняй
все как есть, не измысливай. Нашел тоже мне кулаков!
— Да, нашел! —взвился Стишка. —Пусть они еще не полным образом кулаки, но к этому приближаются. Дорвутся до вольных хлебов, отъедятся, потом их не сковырнешь так легко. Это же проклятая
семейщина! Ее, подлую, взнузданную, на поводу надо держать и ремнем драть, тогда, может, пойдет к социализму.
Возвращались из сельсовета Максим и Лазурька молча. Максим
жалел, что поторопился с заявлением в партию. Очень уж многое ему
в этих делах непонятно. Раньше казалось: все яснее ясного, а после
этого разговора в голове какая-то мешанина. Конечно, и начальник
Петров, и Стиха Клохтун сильно уж круто воротят, но, может быть,
так и нужно. А вот Лучку они зря к тестю пристегивают.
Словно угадав, о чем думает Максим, Лазурька сказал:
— Видишь, как мне достается. Хорошо еще, что этот Петров не
больно большая шишка. Звона его не слушаю, зачни слушать, мужикам житья не будет. А Стиха наш радехонек... Он не в шутку говорит
про узду и ремень для семейгцины. Дай ему волю, по своей пастушеской привычке соберет народ в кучу и погонит как стадо. Сам будет
идти с боку, бичом похлопывать.
— Но и Стиха, и товарищ Петров, как мы с тобой, хотят лучшей
жизни народу,— пробовал возразить Максим.
Лазурька не дал ему говорить.
— Что это за лучшая жизнь, если народ к ней надо бичом гнать?
Разберется, что к чему, сам пойдет. Мужик наш не дурак, все видит
и оценивает своим умом. Суетливость, неразборчивость Петрова только делу вредит, Максюха. Начнем мы жать на мужика без разбору,
оттолкнем к Пискуну. А этому, действительно, новая жизнь — удавка
на шее. Ты мне про Лучку говорил. Не один он меж берегами, плывет
серединкой. Вижу все, но сил моих никуда не хватает.
— Я хочу в деревню перебраться. Буду тебе, Лазарь, помогать,
чем смогу,— Максим рассказал о разговоре с Лучкой и о своем решении жениться на Татьянке.
— Правильно, давай скорее сюда, Максюха,— сказал Лазурька,
но тут же спросил: — А Сохатый? Нет, брат, этого зверя нам поймать
надо. Придет он к вам, не может не прийти. Так что живи дс осени,
Максюха. Очень прошу тебя об этом.
(Продолжение
следует).
Нелли ЗАКУСИНА
Золушка
Золушка, Золушка,
в латаном платьице,
посмотри на солнышко,
солнце книзу катится.
Что же ты головушку
невесело клонишь?
Неужели, Золушка,
ничего не помнишь?
Почему ни разу ты
в лес не выйдешь?
Люди трепят разное,
аль не видишь,
как тебя сплетают
крепко с тайной,
может, поболтают,
да и перестанут?
Говорят, что было
тебе не до смеха:
на коне на белом
принц по лесу ехал.
Выплыл на поляну он,
как на отмель,
на тебя как глянул,
да так и обмер...
Молвят, запечалившись,
вслед тебе бросил.
Так, не попрощавшись,
и уйдешь навовсе.
И вернулась Золушка,
до утра осталась,
до тех пор, как солнышко
не показалось.
А как землю солнышко
озарило,
тихо-тихо Золушка
проговорила,
не казнясь нисколечко,
голосом ровным:
«Я люблю, но толечко,
я вам не ровня».
И пошло раздумье,
сказкою стало,
сто концов придумали
на одно начало.
Кто и посмеется,
а кто и поплачет,
кому остается
просто посудачить.
Говорить, что Золушка
сама виновата.
Принц-то оказался
на другой женатый.
Но один на свете
человек нашелся,
он со сказкой этой
хитро обошелся.
Он ее из принципа
сделал детской,
и теперь вот принцу-то
никуда не деться.
Роздал всем по зернышку,
всем принес напиться.
И придумал Золушке
свадьбу с принцем.
,,.
Грустная сказка
Он был чернобородый, синеглазый,
и в общем, положительный король.
Он по утрам ходил в бюро заказов
и говорил заученный пароль.
Ему давали не вино, не масло,
ему отвешивали ровно полкило
различно улыбающихся масок —
радушно,
равнодушно
и светло.
Была у короля плохая дочка,
она носила грустное лицо.
И все куда-то исчезала ночью,
потрогав на мизинчике кольцо.
И тосковала все в ночном
броженьи,
к пруду ходила и дождей ждала
и что-то все искала в отраженьи,
и все найти чего-то не могла.
Но спал король в своей любимой
маске
с улыбкой безмятежной на губах,
а днем старался все исправить
лаской,
качая королевну на руках.
И грустно-грустно было королевне,
и все ждала, когда наступит ночь,
а ночью быстро таяла под ливнем
плохая и непонятая дочь.
Король был, в общем, любящим
отцом
и как-то ночью.... вздрогнулось,
наверное,
а просто у т о н у л а королевна,
спустившись в воду за живым
лицом.
А на дворе была от ливней слякоть
и над прудом как будто кто-то пел.
И захотелось королю заплакать,
а о н б е з м а с к и плакать
не умел.
Цветная сказка
Как на красной башне белое
окошко,
как на красной башне белые часы
и ходили стрелочки красные тоже,
и цвело окошко с шести до шести.
А за тем окошком, за решеткой
черной
девица сидела с желтою косой,
все молчала девица, только глазки
терла
и крутила прялочку с ниткой
голубой.
Белое окошко синим становилось,
черными казались зеленые глаза...
Все кругом цветное,
а из глаз катилась
самая бесцветная на земле слеза.
К 50-летию Комсомола
Николай ЛЕВСКИЙ
йод грохот канонады
Винтовкой мы научились владеть раньше, чем карандашом. Окопы обжили раньше, чем аудитории рабфаков. Так надо было. Революция была в опасности, и мы защищали ее.
Даже, когда сама революция приказывала нам переселиться из окопов в вузовские аудитории, мы не расставались с винтовкой. Враг был всюду. Он стрелял из-за
угла городского дома, из-за деревенской ограды. Для борьбы с недобитыми есаулами
и атаманами и создавались в городах и
селах части особого назначения — ЧОН.
В Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) первый чоновский отряд создали в 1920 году.
В него вошли первые комсомольцы. В городе, только что освобожденном от белогвардейцев и интервентов, было неспокойно. Каждую ночь чоновцам
приходилось
охранять склады, патрулировать на улицах.
Опасные обязанности были у нас. Пуля
или граната в любой момент могли настигнуть чоповца. Но страху мы не давали
властвовать над собой. Мы даже обижались, если старшие пытались как-то уберечь нас от риска. Трудными заданиями
гордились.
Однажды в конце 1920 года нашу шестерку комсомольцев направили для усиления охраны военного склада, на который
со дня на день ожидалось нападение бандитов. Пришли мы в караульное помещение. Нас проинструктировали и развели по
местам. Сидим, вглядываемся в темноту,
прислушиваемся. Вдруг раздался тихий
свист. Еще, еще. Часовой говорит нам:
— Сейчас начнется, надо бы передать
в караульное помещение, но, как видно, к
столбу с сигналом незамеченным не подойдешь. Теперь самое главное — не выдать
себя. Будем сидеть и ждать.
Стрелять
только по моей команде.
Затаились. Ждем. Кажется,
проходит
вечность. И вот через забор полезли бандиты. Открываем огонь. Они залегли и стали отстреливаться. Чувствовалось, что врагов охватила растерянность. Они, видимо,
не ожидали с нашей стороны такого отпора. Как впоследствии выяснилось, они считали, что склад охраняют, как всегда,
четверо часовых. Чоновцев они встретить не
думали.
Бандиты поняли, что поражение неминуемо, и бросились бежать. Мы взяли в плен
шесть человек, пятерых убили.
Куда только не забрасывали нас, безусых
юношей, бурные события двадцатых годов.
В двадцать первом я и мои сверстники оказались в боевой группе, принимавшей участие в разгроме унгерновских банд. Нам довелось участвовать в бою под Маймаченом
(Алтан-Булак), решившем по существу
судьбу кровавого Унгерна. Под Маймаченом армия барона была рассечена на двое.
Один отряд направился к Верхнеудинску,
другой — через Джиду в Монголию. Красная Армия преследовала Унгерна по пятам,
и через полтора месяца барон был схвачен, привезен в Троицкосавск, оттуда от.
правлен в Иркутск и там расстрелян.
Чоновцы настолько хорошо зарекомендовали себя в этом бою, что нам доверили
охрану здания, в котором проходило совещание советских и монгольских представителей. На этом совещании
присутствовал
народный герой Монголии Сухэ-Батор.
После маймаченских событий я вернулся
в Троицкосавск и стал инструктором укома
РКСМ. Работы было много, горячей, неотложной. Но с чоновской винтовкой я не расставался. Кое-кому деятельность чоновцев
не очень нравилась. Долго разные кулацкие
прихвостни искали повод для того, чтобы
обвинить кого-нибудь из нас в каком-ни-
будь грехе. Однажды повод такой был найден.
Я возвращался вместе с инструктором
укома Яриковым из командировки. Въехали
в таежный распадок. Место глухое, безлюдное, и я решил проверить точность винтовки. Выстрелил, и откуда ни возьмись —
верховой. Остановился и кричит:
— Че же ты, так тебя раз этак, по людям
палишь?
Мы с Яриковым расхохотались:
— Ты же, друг, выскочил совсем с другой стороны. Мы в сопку палим.
А он не унимается:
— Знаю вас, проклятые. Разбойничаете
под видом чоновцев!
Махнули мы рукой на ворчливого мужика и поехали своей дорогой. Но впереди нас
ждало еще приключение: нарвались на
волчью стаю. Лошадь Ярикова шарахнулась в сторону и понеслась. Я остался
один. Положение критическое. Волки явно
намерены сыгно поужинать. Срываю с плеча винтовку. Стреляю.
Пятерых зверюг
уложил, только тогда стая бросилась наутек.
В Троицкосавск добрался ночью, а утром
вынужден был давать показания. Тот самый
мужичонка, местный кулак (фамилию его
забыл), подал в суд заявление, обвиняя
меня «в покушении». Пришлось вести следователя на «место преступления», показать
ему и злополучную сопку, и трупы волков.
Дело прекратили, но долго еще шептались
тугоухие старушонки об «убивце-чоновце».
В 1922 году меня направили на учебу в
Читинскую совпартшколу.
Учились мы в
беспокойной обстановке: по читинским домам и подвалам прятались уцелевшие белогвардейцы, в пригородных лесах шатались
банды. Ночами враги вылазили из своих
берлог и грабили, жгли, насиловали, убивали. Чекисты не знали покоя. Им было очень
трудно, и трудности эти с ними пополам
делили мы, чоновцы. Днем нас видят с книгой в руках, ночью — с винтовкой. Нередко
после окончания операции мы сразу же шли
в школу.
Никогда не изгладится в моей памяти
один октябрьский день. Мы были на занятиях, когда со стороны депо донеслись протяжные паровозные гудки. Это был сигнал
боевой тревоги. Бросились в общежитие,
разобрали из пирамид винтовки и построились. Командир отряда коротко объяснил,
что ночью в городе проводится облава на
бандитов, и чоновцам совпартшколы поручено патрулирование на центральных улицах. Мы разбились на четверки и разошлись
по местам. Нелегкой была эта ночь. К рас-
свету буквально валились с ног от усталости, но утро встретило нас в школе. Мызнали, что теперь нам можно будет учиться
спокойнее: немало врагов выловили в эту
ночь.
Не всегда, конечно, нам доводилось участвовать в опасных делах. Немало было и ^
смешного. В том же 1922 году мы разнимали драку меньшевиков и эсеров. Разодрались они в Учредительном собрании, на котором избирался новый состав правительства ДВР. При голосовании
разгорелись
страсти. Кулаками и стульями противники
решили доказать друг другу правоту. Унять
уговорами драчунов было трудно, и тогда
вызвали нас. Наше появление быстро охладило пылкие головы. Свалка прекратилась.
После окончания
крайсовпартшколы я
был направлен в Верхнеудинск и избран
секретарем горкома РКСМ. Чоновская винтовка и здесь была моей неразлучной спутницей. Частенько мы прерывали заседания
горкома и отправлялись для выполнения
срочного задания.
Еще один случай крепко врезался в память. Как-то позвонил мне начальник уголовного розыска Магнитный и попросил выделить пять комсомольцев для участия в
очень важной операции. Ночь застала нас
около одного здания на улице Ленина.
Здесь должна собраться банда. Нам предстоит уничтожить ее, а руководителей схватить живыми. По команде покидаем засаду.
Осторожно поднимаемся на второй этаж.
Чекист шепчет:
— Квартира вторая, налево. Они уже
там.
Подходим к двери. Вынимаем оружие.
Рывком распахиваем дверь и вбегаем в
комнату. Бандиты не растерялись. Один
выстрелил в лампу. Другой бросается к окну, распахивает створку и прыгает.
- Ушел, гад! Берите этих, а того догнать!
Начинаем погоню. Бандит бежит по улице. Отстреливается. Пытается перемахнуть
через забор, но неудачно. Руки соскальзывают, и он падает. Мы подбегаем, наваливаемся на него и после короткой борьбы
связываем.
Домой вернулись на рассвете. Выпили по
чашке чаю и пошли на работу.
...О тех, кто был молод в грозовые двадцатые годы, можно рассказывать
много.
Они шли по жизни под грохот канонады.
Они жили пламенно и смело. Иначе нельзя
было жить тем, кто был революцией мобилизован и призван в ряды за великое дело — за коммунизм.
I
Владимир БАРАЕВ
«Я думал, на целину
можно приехать на месяц.
Я думал, что целину
можно измерить и взвесить.
Я думал, что с целиной
можно расстаться беспечно.
Я понял, что целина —
это навечно!»
и первых эшелонов
Это были мои первые часы на целине.
Это были мои первые километры по целине. Поезд плавно катил по залитой лунным
светом степи. За окнами бесшумно плыли
темные рощи, голубые силуэты элеваторов,
стога сена. Я настолько был погружен в
свои мысли, что не слышал ни стука колес,
ни скрежета тормозных колодок. Где-то на
горизонте полыхали костры (жгли солому
перед вспашкой зяби), синие холодные рельсы уплывали вдаль, бесшумно сливаясь и
раздваиваясь на полустанках. Пропало всякое ощущение скорости и пространства.
Странное было состояние — тут и тревога перед неизвестностью, и последние сомнения в правильности того, на что решился
в Москве за год до окончания аспирантуры. Незадолго до отъезда в секторе печати
ЦК ВЛКСМ Женя Гудилин говорил мне,
что для написания доброй диссертации надо бы поработать с полгода в какой-нибудь
молодежной газете, тогда и материала будет достаточно, и диссертация станет нужной не только мне, но и журналистам молодежных газет. Он перечислил газеты, которые годились «для обобщения». Помню, назывались газеты Риги, Кишинева, Свердловска. Потом он вдруг сказал:
- А не лучше ли поехать в Целиноград?
Только что образовалась новая газета «Молодой целинник», ребята отобраны по конкурсу (а конкурс, как я узнал позднее, был
около десятка человек на место). Редактор
наш, из ЦК, Валя Осипов, хороший парень...
Я подумал и согласился: газета формата
«Правды», пятиразовая, только что организован Целинный край, в который вошло
пять больших областей. Почему бы не поработать в такой газете? Только возьмут
ли, есть ли места?
Женя тут же заказал Целиноград и через некоторое время узнал: «вакансий пока
нет, но пусть приезжает, на месте посмотрим». (Ничего себе, формулировочка!)
И вот до Целинограда всего одна ночь.
Рано утром—город, который не видел даже на фотографиях.
Утро 10 октября 1961 года. Вокзал переполнен. Сезонники едут с целины. Диву даюсь, как это еще держатся старые, видавшие виды стены. Мало кто называет город
новым именем. Больше слышишь — Акмола,
Акмолинск. Перевод бросает в уныние —
Белая могила или Беломогильск, если хотите.
До центра, сказали, недалеко. Решил
пройтись пешком. Время еще есть, вряд ли
кто до начала работы будет в редакции.
Первое впечатление удручающее. Ночью
выпал снег. К утру—ни мостовых, ни тротуаров. Лужи, грязь по колено. Маленькие,
вросшие в землю, саманки. Не город, а Саманоград какой-то. Редакция, говорят, в...
железнодорожном техникуме. Поднимаюсь
на третий этаж, первые двери заперты. Дернул вторую — на столе кто-то спит, укрывшись с головой плащом. Под головой—подшивка газет. Куча парт в углу, На стенах
какие-то схемы, чертежи. Туда ли я попал?
Но вот первые приметы редакции—обрывки телетайпных лент, фотографии, в корзине какая-то рукопись на бланке «Молодого
целинника».
Оказывается, не только хлеборобы начинали с первого кола и палаток!
Через час, когда я, позавтракав, вернулся в редакцию, там уже было много народу.
Ребята не очень-то похожи на обычных
журналистов. Грубые свитера, дождевые
плащи и даже болотные сапоги. Спрашиваю, где Осипов, показывают на человека,
сидящего за преподавательским столом.
Пальто накинуто, как бурка. Сыро, холодно в здании. Глаза у будущего шефа усталые, серьезные.
- Чем могу служить?—официально спрашивает он. Называю себя. Валентин Осипов
тут же встает, улыбается,
протягивает
обе руки.
- Ребята! — крикнул он Б зал. — Знакомьтесь, у нас пополнение...
Прошли по всем к о м н а т а м . Их всего четыре. Жму руки, слышу имена и тут же забываю их. Народу-то чуть ли не сорок человек. Улыбки, крепкие
рукопожатия.
Взгляды испытующие, у некоторых—не без
иронии, еще, мол, посмотрим, на что годен
аспирант.
А ребята собрались в «Молодом целиннике», что надо. Это были не юнцы, приехавшие на целину «за романтикой». Они
отлично представляли куда едут, на что
идут. Костя Адоров, несмотря на слабое
здоровье, приехал сюда из Ленинграда, где
у него была и хорошая работа, и кварти-
рп. Слива и Рита Квятковские приехали из
самого зеленого города страны—Алма-Аты,
п город, где в то время трудно было сыскать хоть уголок тени. Юра Калещук из РиI и, Виталий и Эля Матонины из Ставрополя, Новомир Лимонов и Саша Фридман из
Кишинева, Витя Кормильцев из Свердловска, Наташа Ряднова из Москвы, Ира Иновсли из Тбилиси, Гена Розенштейн из Биробиджана, Юра Чернов с Алтая, Ада и
Адольф Дихтяри из Саратова... Даже по
составу редакции можно было судить, что
целину поднимала вся страна.
Любопытно, что среди нас было мало
журналистов по образованию. Более тридцати профессий перепробовали наши ребята до работы в газете. И нашли призвание
в журналистике.
А работать в «Молодом целиннике» было
трудно. Для меня каждая строка здесь была испытанием. Я долго не мог «акклиматизироваться», поначалу строки шли туго, и
строки эти были порой слабые. Дело не
только в знании края и его проблем. Трудно было состязаться с кем-то оперативностью, стилем, формой, содержанием статей,
очерков, репортажей. Тот темп и ритм работы, какой мне был знаком по «Молодежи
Бурятии», к сожалению, был весьма далек
от уровня «Молодого целинника». Командировки на десять-пятнадцать дней (бывало и
до месяца), репортажи по телефону, срочные выезды на самолетах, попутных машинах, а там, где не было транспорта—пешком.
Целинный край по площади равнялся Украине, а штат для такого огромного пространства был весьма мал—штат газеты
«Московский комсомолец». И несмотря на
это, наши ребята умудрялись забираться в
самые глухие углы Тургайской степи, Баян-Аула, запада Кустанайской области и
севера Прииртышья.
Резкой, решительной была наша газета.
На целине ведь были не только герои-первопроходцы, но и немало хапуг, легкого
длинного рубля и прочих искателей легкого
счастья. «Трибунал комсомольской непримиримости» (была у нас такая рубрика)
стал грозой для всякого рода проходимцев.
И если уж дело доходило до трибунала,
пощады не было ни рядовому пахарю, ни
директору совхоза.
Но главной задачей у целинных журналистов было, разумеется, не бесконечное «бичевание пороков». Конечно, в первые годы
освоения целины было много суеты, неразберихи. В моде была «эксплуатация энтузиазма»—воспевание палаток, трудностей,
которых можно было вполне избежать. Волюнтаризм в руководстве сельским хозяйством на целине сказался в ту пору больше, чем в других местах страны. Однако
при всем при том, покорение целины было
и остается великим подвигом советской
молодежи. И тот орден Ленина, который
был вручен покорителям целины, орден, который в ряду других сверкает на знамени
комсомола, ничуть не поблекнет в веках.
Не ради личной славы, не за длинным
рублем тысячи добровольцев, парни первых
эшелонов, покинули теплые родительские
гнезда. Сколько их прошло сквозь горнило I
целины! Как возмужали, окрепли они на 1
целинных ветрах!
Юрия Буданцева многие знают в Улан- 1
Удэ. Окончил здесь школу с золотой медалью. Поступил в Московский университет. 1
И когда по стране пронеслась весть о цели- I
не, вместе с Володей Частных, Олегом Мер- ']
куловым и другими однокурсниками филфака перешел на заочное отделение и уехал I
на целину. Почти два года проработала ]
группа студентов МГУ в Чистовском совхо- >
зе Северо-Казахстанской области. Пахали,
сеяли, убирали хлеб. И вот что написал ;
Юрий Буданцев в документальной повести <
«Земля, люди, хлеб», опубликованной в 1
журнале «Юность»:
«Целина! Ты сделала нас всех нежнее и I
суровее, теплее и требовательнее. Ты научила выдержке и терпению. Ты научила
любить землю и людей, работающих на ней.
Я познал цену хлеба, понял, как нужно беречь его. Ты проверила нашу юность, заполнила ее. дала ей смысл».
Огромный патриотический подъем охватил не только молодежь, но и людей старшего поколения.
В Казахстане хорошо известен совхоз
«Кантемировец», который основали демобилизованные танкисты прославленной Кантемировской дивизии. Но первый директор
этого совхоза был человек вполне штатский.
Владимир Калистратович Виноградный работал в Министерстве сельского хозяйства
СССР. Все у него было в Москве—и квартира в центре, и дача за городом, и вполне
размеренная, хотя и напряженная работа.
Но и он не усидел на месте, поехал на целину. Когда я был в «Кантемировце», мне
рассказывали о нем легенды—о его энергии,
одержимости, душевности. Ветеран совхоза
Василий Бурыгин рассказывал мне, что однажды утром застал директора спящим у
окна вагончика. Волосы примерзли к стеклу. Горячей водой и ножом пришлось орудовать.
— Приедет, бывало, на стан, арбуз с
собой прихватит, пообедает с нами, поговорит. И хоть трудно было, после его визита легче становилось, хотя он порой ничего
не мог поделать с нехваткой трактористов.
О семье расспросит, о здоровье побеспокоится, и денег из своего кармана даст... Ни
один не уехал при нем — уговорит, убедит.
Приехал черный, уехал седой... Нет, не зря
ему орден Ленина дали...
Когда кантемировцы сняли первый урожай в саду, заложенном при нем, самые
сочные, крупные яблоки были отправлены
по его московскому адресу.
Однажды в журнале «Юность» рассказали о молодом архитекторе Володе Корнилове, который поехал на строительство алмазограда—Мирного. О том, как жил, работал и как погиб он в расцвете сил.
«Юность» опубликовала и его письма к
родным и близким. Одни из самых задушевных строк были адресованы Наде Королевой, которая училась с ним, но после
института стала работать в Целинограде.
Судьба навсегда разлучила их. Им никогда
не быть вместе. Но какое духовное родство
пик людей—в том, как живет и работает
подруга Володи Корнилова.
Приехав в Целиноград в 1961 году, она,
как и Володя Корнилов в Якутии, стала проводить дни и ночи над чертежами, проектами. Это она участвовала в проектировании
многих лучших зданий нового Целинограда,
зго она «пробила» строительство дендрария, который был заложен по ее проекту,
разработанному ею на общественных началах. И в том, что бывшая Акмола (несколько сотен утопавших в грязи саманушек)
стала многоэтажным Целиноградом, с прекрасным Дворцом целинников, великолепным проспектом Мира, множеством современных микрорайонов, в этом заслуга Нади Королевой и ее друзей—Игоря Воронкоча. Володи Колпикова...
* *
*
Осенью 1965 года Целинный край был
расформирован. Снова пять областей —
Кустанайская, Кокчетавская, Павлодарская,
Северо-Казахсганская и Целиноградская.
Естественно, что с закрытием края была закрыта и наша краевая газета. Я ехал в
«Молодой целинник» на полгода, а проработал более четырех лет. Материала для
диссертации набралось с избытком. Но на
факультете журналистики меня встретили
с удивлением: «Что? Обобщать опыт мертвой газеты? Не-ет, теперь целина не в моде
и тема Ваша недиссертабельна...»
То, что тема «недиссертабельна», я еще
как-то мог понять, но с тем, что «Молодой
целинник» — мертвая газета, никогда не
согласится никто из нас, даже те, кто проработал там всего несколько месяцев.
Газета наша родилась 13 марта 1961 года. Последний номер ее вышел 31 декабря
1965 года. Мы снова разъехались во все
концы страны. Снова Москва, Рига, Таллин,
Ленинград, Элиста... И вот, когда стало
приближаться 13 марта 1966 года—пятая
годовщина «Молодого целинника», мы
вдруг поняли, что не сможем не собраться
на юбилей своей газеты. И с тех пор ежегодно 13 марта на удивление тем, кто счи-
тает нашу газету мертвой, в московской гостинице «Юность» со всех концов страны
собираются молодоцелинники.
И нынче 13 марта 1968 года, спустя три
года после закрытия «Молодого целинника»,
мы вновь собрались в Москве. Где работают наши ребята, кем стали они?
Валентин Осипов—главный редактор издательства «Молодая гвардия», Новомир Лимонов — в журнале «Молодой коммунист»,
Петя Скобелкин — в «Сельской молодежи».
Юра Калещук — в «Журналисте». Володя
Шин — в «Комсомольской правде». Ада и
Адольф
Дихтяри — на
радиостанции
«Юность», Нина Колбаева — в Риге, Саша
Фридман и Ира Иновели в Алма-Ате. Генрих Комлев — в Таллине, Слава Пинчук —
в Элисте, Ваня Свитич и Хамит Апсалямов — в Целинограде...
Мы пели на этой встрече песни, сочиненные нами еще в Целинограде. С особенным
чувством прозвучали слова из нашего гимна:
А где-то там от всех от нас вдали,
Как чьей-то книги трепетные главы,
Приходят и уходят корабли,
Те, на которых нам уже не плавать...
'Минутой молчания почтили память наших
друзей Кости Адорова и Нонну Болдыреву,
с которыми мы работали бок о бок и которых мы уже никогда не сможем увидеть.
Суховеи и проливные дожди, пыльные
бури и снежные бураны, бессонные ночи в
нашей мансарде (магнитофон там устали
не знал), суматоха редакционных комнат,
дежурства в старой типографии, рейды на
«комсомольских тачанках» — все это сплотило нас так, что мы всегда будем считать
нашу газету в живых.
И где бы мы ни работали, всюду каждый
вспоминает дни «Молодого целинника» —
лучшие дни нашей юности. Вспоминает не
для хвастовства перед приятелями, а для
того, чтобы стряхнуть с себя то мелочное,
мизерное, чем порой обрастает человек, для
того, чтобы всегда жить и работать по
большому счету и в первых эшелонах
мчаться на любую новую страду нашей Родины.
Валентина КАРЖАУБАЕВА
Фото И. НЕЧАЕВА.
Юные геологи страны
На нем юные геологи подвели итоги инВ июле в пионерском лагере «Орленок»,
тересных туристских походов, новых открырасположенном на Большой речке, впатий и находок.
дающей в Байкал, проходил II ВсесоюзПервый день слета. Чуть было не испорный слет юных геологов. Около четырехтившаяся с утра погода наладилась, ветер
сот посланцев союзных республик, краев и
с Байкала разогнал тучи и на небе радостобластей Российской Федерации представно засияло солнце. Оно позолотило верляли на нем 180-тысячную армию юных исхушки деревьев, осветило и без того сиякателей природных богатств нашей необъющие лица ребят, собравшихся на торжеятной Родины. Слет был посвящен 50-лественную л и н е й к у . Алым пламенем разветию Ленинского комсомола.
75
вается флаг с эмблемой
II Всесоюзного
слета. Почетное право поднять его было
предоставлено капитанам команд Читинской, Челябинской областей и Бурятской
АССР.
Юных посланцев приветствовали первый
секретарь обкома
комсомола
Бурятии
М. Маханов, заместитель Председателя Совета Министров Бурятской АССР Ц. Б. Эрдынеев, начальник управления руководящих кадров Министерства геологии СССР
тов. Буршин, участник слега Бато Дамдинов. Штаб слета в эти дни получил немало приветственных
телеграмм
от ЦК
ВЛКСМ, Министерства геологии СССР и
Центральной детской экскурсионно-туристской станции. Почетные гости слета пожелали ребятам больших успехов, новых открытий. Приветствие от Центрального Комитета комсомола привез из Москвы заместитель председателя Центрального Совета Всесоюзной пионерской организации
им. Ленина Ю. Н. Афанасьев:
«Ежегодно в геологические походы выходят тысячи юношей и девушек. Все, кто
любит природу, участвуют в них. Увлекательные путешествия по родному краю воспитывают у молодежи чувство патриотизма,
товарищества и коллективизма. Наша страна не имеет себе равных по запасам природных богатств. Геологические походы молодежи дают возможность юношам и девушкам активно участвовать в развитии
родного края, открывать и ставить на службу народному хозяйству новые запасы полезных ископаемых. Встреча на Байкале начало новых походов, старт новым отрядам молодых геологов. Открыть клады природы, помочь геологам в овладении этими
сокровищами — почетная задача. Непроторенные пути ждут пытливых и закаленных молодых людей».
И действительно, все, кто собрался на
слете — пытливые исследователи,
мужественные, волевые ребята. Ими поданы сотни заявок на новые месторождения. Это ли
не лучший подарок 50-летию Ленинского
комсомола! «Бороться и искать, найти и не
сдаваться» — стало общим девизом юных
геологов и их старших товарищей.
Начиная с первого дня, слет проходил
очень интересно и с большой пользой для
ребят. Между ними завязывались
новые
знакомства, крепла дружба. Из докладов,
прочитанных на пленарном заседании, они
узнали много нового о достижениях и успехах своих друзей. Вот, например, что рассказал гостям Бато Дамдинов: в геологическую экспедицию и комиссию по походам
поступило 600 заявок на различные полезные ископаемые. Наиболее важными и перспективными были признаны заявки на россыпное рудное золото, мрамор, железо, слюду и строительные материалы. С массовым
геологическим походом молодежи за полезными ископаемыми, объявленным по стране
десять лет назад, связано и открытие в Бурятии Ошурковского месторождения апатитов. Успешно справились с заданием Северо-Байкальской экспедиции по поискам
ультраосновных и основных массивов в
Северном Прибайкалье отряды Нижне-Ангарской и Верхне-Ангарской восьмилетних
школ. Настоящей школой мужества стали
походы ребят из второй школы Улан-Удэ по
освоению
труднодоступного
Икатского
хребта. С успехами этих молодых первопроходцев можно ознакомиться в краеведческих уголках школ.
Ребята с большим интересом слушали
своего бурятского друга. Рассказам не было конца. Они начинались на пленарном
заседании и занятиях секций и кончались
вечерами на полянах у костров. Подошли
и мы к одной из групп. Центром внимания
Делегация Бурятии.
л,
Среди участников слета были и казахстанцы — команды Алма-Атинской и Восточно-Казахстанской областей. Юные геологи—Женя Мироненко, Володя
Попов,
Галя Кушкумбаева, Витя Борисов, Мира
Бараева, Сережа Малютин до самозабвения влюблены в геологию, мечтают посвятить ей жизнь. А Сережа Л я д ж и н потомственный геолог. В его семье — отец, мать,
сестра—геологи. Не думает изменять этой
семейной традиции и его младший брат
Юра.
А вот что узнали участники слета от
представителей Иркутской области. Недавно здесь юные геологи отметили десятилетие геологических походов в Иркутской
области. И каковы же достижения ребят?
3730 заявок на различные полезные ископаемые, 145 из них представляют практический интерес. Это—Нерюндинское месторождение железа в Нижнеилимском районе,
золотоносные россыпи в Бодайбинском районе, 120 промышленных жил слюды мусковита, месторождение кирпичных глин и многое, многое другое.
В дружеских беседах узнали ребята и о
работе, созданной в Ставропольском крае
юношеской геологоразведочной партии. С
1966 года она ведет систематическое исследование пещер Кубанской долины, разведку горного района Верхнего Архыза, долины Кубани. Ими собраны богатые полевые
коллекции образцов минералов и горных
пород, методические и музейные коллекции.
Часть из них были представлены в выставочном зале слета. Кстати, о выставке экспонатов. Она была настолько хорошо организована, что ознакомившись с ней, можно было представить в общих чертах природные богатства областей и краев нашей
страны, перспективы сырьевой базы. Почти
каждая делегация привезла с собой коллек-
Юные геологи
Надя
Гладплина
из Челябинска.
здесь была Надя Гладилина из Челябинска.
Она с увлечением говорила о своем клубе
юных геологов, друзьях. С гордостью рассказала она о школьниках г. Сакты, которые в течение ряда лет успешно исследуют
центральную часть хребта Нургуш. Они не
просто исследуют, а делают глубокий анализ поисков.
Казахстана.
77
Лена Викулова, ученица 35-й улан-удэнской школы, осматривает коллекцию.
ции полезных ископаемых, которыми богат
их край, и коллекции минералов и горных
пород, найденных ими. Уголки оформлены
схемами, картами, фотомонтажами из жизни клубов юных геологов, походов по изучению родного края, туристских лагерей.
А ленинградцы, например, представили на
выставку изделия юных камнерезов—это
настоящие произведения искусства.
Дни участников слета были заполнены
до предела. Встречи, беседы, прогулки—все
это между серьезными занятиями в секциях—экспресс-анализов и минералогических
исследований,
которыми
руководила
Л. П. Викулова, начальник центральной
минералопетрографической лаборатории Бурятского геологоуправления;
нерудных и
рудных полезных ископаемых—руководили
ими В. Н. Игнатович и И. М. Федорченко,
гидрогеологической—руководитель Л. В. Замана. С геофизиками вел занятия Н. Г. Матюхин. Бурятское геологическое управление
предоставило для занятий с юными геологами замечательные образцы природных богатств и приборы. Поэтому и работа шла
серьезно. Ребята знакомились с методикой
поисков и разведки, аэромагнитной съемкой,
электроразведочными
методами
поиска,
радиометрией, приборами, которыми пользуются геологи.
К концу второго дня слета неожиданно
испортилась погода. Небо заволокли тучи,
пошел дождь. Погода решила как бы тоже
испытать юных геологов на выносливость
и силу воли. И, надо сказать, ребята и
здесь оказались победителями. Дождь не
испортил хорошего настроения группе гидрогеологов, отправившихся на горячие источники в Ильинку, не омрачил поездку на
Байкал, которую с нетерпением ждали все.
Ведь большинство ребят знали о Байкале
только из рассказов, фильмов, книг. А, увидев озеро своими глазами, они были покорены его величием и красотой.
С хорошим настроением и желанием победить 36 команд геологов шли и на соревнования—по маршрутам искать условные месторождения полезных ископаемых,
определить образцы минералов и пород,
составлять карты, делать замеры уровня воды источников. Соревнования проходили
в трудных условиях, поэтому и победили
самые выносливые, смелые ребята, показавшие высокую теоретическую и практическую подготовку. А вечером состязались
участники художественной
самодеятельности.
Наступил последний день слета. Ребята обменялись адресами, сувенирами, коллекциями. Каждому из них слет дал много полезного. Победителем слета явилась
команда Якутской АССР. Ей были вручены приз обкома комсомола
Бурятской
АССР и кинокамера «Нева-2».
Команда
Туркменской республики завоевала приз
Бурятского геологического управления. В
подарок ребята получили кинокамеру «Киев» и команде Иркутской области, занявшей третье место, вручили приз Кабанского райкома партии и кинокамеру «Кварц».
Команды Бурятии получили ценные подарки — киноаппараты, походную палатку,
транзисторный приемник. Многие делегации
были отмечены дипломами, грамотами.
Главный геолог слета В. П. Арсентьев доложил, что программа II Всесоюзного слета
юных геологов выполнена успешно и выразил уверенность, что к следующему слету
в ряды юных первооткрывателей вольются
десятки, тысячи замечательных ребят. Под
звуки Государственного Гимна СССР опускается флаг слета.
В трудные, но заманчивые геологические
походы отправляются новые отряды.
Юрий ДЕВИТТЕ
Красиво живут люди в городе! Утренний
туалет и завтрак в благоустроенной квартире—дело настолько необременительное,
что сначала хочется сделать зарядку... Затем по чистым асфальтированным улицам
прошелся человек на транспортную остановку и блестящая стеклом и никелем машина
за тридцать-сорок минут довезла его к месту работы.
Если горожанин торопится после работы
в театр, кино или на стадион, можно опять
ехать! Если нет, лучше пойти пешком. Почитать афиши, чтобы из десятков идущих в
этот вечер фильмов выбрать самый интересный, зайти по дороге в магазины или в
плавательный бассейн — освежиться.
На городских улицах разнообразно и интересно, особенно вечером, когда слышны
неторопливый гул гуляющих, нервные гудки
автомобилей, а лица прохожих радужно окрашены неоновыми огнями.
А если устал горожанин и не хочется ему
выходить из дома, он садится в удобное
кресло и проводит вечер у телевизора...
Современный удобный и разумный быт города уже давно воспринимается людьми
как обыденный и нормальный. Да и в самом деле это нормально. Предположите, что
два человека из разных городов едут в одном купе поезда и один начинает рассказывать другому, что в его городе есть кино, театр, стадион... В лучшем случае собеседник перейдет в другое купе... А вот если
такое будет слушать житель села, он не перейдет... Он позавидует! Ну и как не завидовать, если не ездит сельский житель по
асфальту в шикарном автобусе, если нет в
его селе не только театра, а порой и подходящего клуба, не говоря уже о разнообразных магазинах и плавательном бассейне...
Здесь не обобщается сельский житель,
здесь речь идет о жителе забайкальского
села. Хотя впрочем ни одного, наверное,
забайкальского, если учесть, что за последние семь лет по Российской Федерации численность сельского населения сократилась
1
на 4,5 млн. человек и что пожилая женщина Е. Захарченко из колхоза «.Луч Востока» Алма-Атинской области рассказала в
«Комсомольской правде» 26 марта 1967 г.,
почему ушли из колхоза ее сыновья. Ушли
из колхоза, где садил сад еще их дед, где
они родились и выросли.
Давно улучшение быта для горожанина
не проблема, а цель! Но для сельского жителя — это проблема и очень еще туманная.
О городском жителе очень заботятся! Хотят, чтобы город был красивей, благоустроенней, традиционней. Чтобы национальное
старое гармонично сочеталось с современным, новым. Чтобы новое было разумным
внутренне и внешне, чтобы оно доставляло
эстетическую радость живущим сейчас и
служило памятником будущим поколениям.
Над планировкой городов работают целые институты. Ансамбли улиц обсуждают
заказчики, архитекторы, проектировщики
строители и даже художники. Идет гигантская ежедневная работа по рациональному
улучшению внутренней жизни и внешнего
вида городов. Люди в городах старятся, а
города молодеют. И если не суждено человеку молодеть внешне, молодеет он душой,
радуясь как празднично украшается городами наша Земля.
Но те же заказчики, архитекторы и проектировщики не проявляют такой настойчивой интенсивной деятельности по застройке
села. Почему?
Во-первых, на этот вопрос почти исчерпывающе отвечает та же старая колхозница из «Луча Востока» Алма-Атинской области (газета «Комсомольская правда» от
26 марта 1967 г.). Говорит она: «Сколько
лет уже подряд в газетах и по радио призывы идут насчет культурного строительства на селе. Так те, кто это говорит, денег не имеют, деньги у руководителей колхозов. А там быстро решают — десять ферм
построили, клуб или стадион подождут,
нужно одиннадцатую ферму строить...»
Нужно, конечно, и фермы строить. Особенно у нас в Забайкалье. На сорокагра-
Печатается в порядке обсуждения.
79
дусном морозе скота много не расплодишь.
Но ведь и ухаживать за скотом кому-то
надо, а статистика говорит, что по Российской Федерации больше половины сельског о населения составляют люди 30—59 лет.
Где молодежь? Где сыновья старой колхозницы? Ушли в город.
Были ли для их ухода основания? А кино в наше время молодежь смотреть хочет? Хочет, даже ежедневно. Кино, как правило, смотрят в кинотеатрах, ну на худой
конец в клубах. А везде ли они есть?
За 8 лет существования треста «Читацелинстрой» планировалось к строительству в
забайкальских совхозах, которых больше
тридцати восьми, всего 9 клубов?!
Мизерное выделение средств на культурно-бытовое строительство вынудило приспосабливать под клубы всевозможные помещения, ни по внутренним качествам, ни по
внешнему виду совершенно к этому не подходящие, а иногда бывшие церкви. Согласитесь, что сидеть в старом, так называемом
клубе и смотреть новую картину о, красивой жизни городской молодежи — это плохая агитация за то, чтобы остаться в селе.
Что такое клуб в селе? Это центр культуры.
А что лучше — или то, что он есть, но
изба, или то, что его вообще нет? И то и
го плохо!
Тут, хоть отец Леонид, из повести
«Хлеб—имя существительное» Мих. Алексеева, хоть и служитель культа, а прав:
«Вспомните, где обычно строилась на селе
церковь? На самом видном, на лобном, самом красивом месте. А кто был ее зодчий?
Архитектор с мировым именем... На сооружение храмов сельская община не жалела
средств — так возникали в каком-нибудь
безвестном селении сооружения дивной красоты и ДОЛГОВЕЧНОСТИ. Мы знали, что
тут нельзя экономить...». Умный «отец»! Одной только церковью в селе занимался архитектор с мировым именем!
Правда, это видимо надо понимать не в
буквальном смысле. Наверное, не ездил архитектор в каждое село. Наверное, речь
идет о своеобразном типовом проекте. Но
ведь это было когда? Сейчас бы надо ездить в села не только архитекторам, но и
художникам.
Позвольте! Вправе возмутится
теперь
сельский житель, о каких художниках вы
ведете речь? Это хорошо, когда художник,
но скажите нам сначала, каким будет наше село, хотя бы с точки зрения геометрических очертаний! Какие дома у нас будут? Неужели в самом деле многоэтажные?
И сколько их будет и когда? Дайте нам
генеральные планы застройки сел и, разумеется, деньги на саму комплексную застройку.
Вот тут и во-вторых, о чем старая колхозница не говорила: ведь пока комплексная интенсивная застройка села осуществляется, в основном, теоретически, без ясного
представления о том, каким будет село в
целом.
Трест «Читацелинстрой» уже восемь лет
строит в тридцати пяти совхозах области и
только на пяти из них имеется планировка ,
и генеральный план застройки.
Следовательно, ни те, кто строит, ни те, \
кому строят, не представляют: а что же
будет дальше? Какими людскими с и л а м и
надо располагать? Какие, когда и где гото- I
вить материальные и технические резервы?
Какую производственную базу нужно иметь '
строителям?
Пока все разговоры идут в переводе на
деньги. Например, в 1965 году трест выполнил работы на 8900 тыс. рублей, программой 1968 года намечено выполнить их на
11,7 млн. рублей, на конец пятилетки — на
20 млн. рублей. Но ведь это же весьма проблематично — подготовиться
выполнять
20 млн. рублей, зная только сумму и не
зная, как она распределится по совхозам.
Трест был создан в 1960 году, с годовой
программой работ около 600 тыс. рублей.
В тот первый год и в последующие приблизительно шесть лет, обоюдно, и заказчиком
и строителями проводилась политика увеличения объемов. И она была в большей части осуществлена: с 600 тыс. на почти 12
миллионов!
Но это была политика объемов, без учета конъюнктуры, инженерной сложности и
архитектурных особенностей объектов. Вот
почему, перейдя от строительства в селе
простейших сооружений к строительству
объектов более сложных — трех- и четырехэтажных домов, многоэтажных школ, клубов,— наш трест, стремящийся к росту объемов, оказался одновременно... не в состоянии этого сделать.
И не только наш трест. В наращивании
объемов была допущена стихия, и эта стихия привела к хаосу. До сих пор в табелях
комплектации ПМК вообще во всех трестах
не предусмотрена комплектация башенными
кранами 3—5-ти и более тонными.
Чудес на свете не бывает, к производственный план на объектах, где конструкции можно поднять только пятитонными
кранами, естественно, не выполняется. И
это невыполнение в разных инстанциях
трактуется чем угодно (в том числе, и в
основном, недооценкой строителями важности, нужности и тому подобное, и так далее), только не отсутствием
необходимых
подъемных механизмов.
Это один пример вредных последствий
нереального подхода к делу.
Вот второй. Не имея генпланов застройки
и распланированных на много лет капиталовложений, не представляя себе завтрашнего села, их хозяева (заказчики) естественно, сползают на путь удовлетворения
только лишь ежедневной потребности. Выделяемыми на строительство в селе деньгами затыкаются мелкие дырки ежедневной
нужды. Ну когда же можно преобразить
село, если ежегодно на большинство совхозов выделяется по 150—200 тыс. рублей?
Два-три дома и два-три животноводческих
помещения в год не создают, разумеется,
даже видимости преобразования. Ибо среди
массы старых построек эти новые единицы
не украшают, а как бы «припудривают»
землю.
И не только сельское производство
от
«того не выигрывает. Проигрывают еще и
строители, т. е. те, кого зака5чик беречь
должен, так как они именно создадут ему
к конце концов нужную производственную
и жилищно-бытовую базу.
Почему проигрывают строители? Созданное недавно Министерство сельского строительства СССР считает основной задачей
подготовку постоянных высококвалифицированных кадров сельских строителей. И
правильно считает. Только ничего у него не
получается. Не получается при таком распределении обьемов по совхозам.
Ну как можно научить, да тем более
высококвалифицированно, кадры на годовом
объеме в 150—200 тыс. рублей, да еще на
крошечных объектах, да еще за тридевять
земель от того, что называется бытом, культурой и т. д.
Быт, культура, эстетика в селе нужны не
меньше, чем в городе. Не в порядке шутки:
тех, кто в это не верит, кто считает это второстепенным делом, нужно срочно пересел и т ь в село. Практика — величайший учитель. И тогда, научившись, эти «теоретики»
поймут, что значительно большие силы
(большие, чем в городе!) нужно загрузить
планировкой, архитектурным оформлением,
благоустройством и застройкой села и выделением необходимых денег.
Ну ведь не объявишь же, чго село уже
почти город, если среди деревянных, рубленных наискорейшим методом серых бесформенных массивов торчат то там, то
здесь каменные, но не менее бесцветные и
ничего внешне не выражающие десятокполтора домов. Торчат без какого-либо намека на будущий ансамбль. А мимо этих
шедевров безразличия и скуки лениво ползут грязные воды по неасфальтированной
деревенской улице.
Асфальт — тоже быт. Тоже культура.
Брильянт зачем в оправу одевают? Что
он от этого дороже становится? Нет! Дороже только на стоимость оправы. Но в оправе его как украшение употребляют. Он в
оправе на развитие эстетического чувства
влияет, а это чувство нам друг в друге
развивать надо.
Вы знаете, что такое забайкальские степи?
Они широки, как океан. И как океан волнами испещрены плосковерхими невысокими сопками. Наезжены дороги по степной
поверхности во все стороны света. Едешь,
едешь — вот будто бы уже и приехал, но
нет: похоже, что кто-то впереди — словно
резину — вытянул дорогу. И опять час, два,
три в движении, пока не устанешь окончательно.
Летние степные краски постоянно меняются: они то фиолетово-голубые, то краснокоричневые, то пепельные, то вдруг совсем
синие — это целые поляны цветущего ири-
6. «Байкал»
№ 5
са. То слева, то справа от дороги пасутся
совхозные овцы. Вдруг машина сбавляет
скорость, дорога поднимается в сопку. Несколько сотен метров вы едете по ее вершине и вся степь и горизонт—все под вами,
но вот дорога снова падает вниз к неширокой пади и снова ползет вверх на другую
сопку.
Вдоль пади течет ленивый ручей, над ним
ветерок шевелит листьями кустарника, листья заворачиваются матовой изнанкой, и
кустарник становится похожим на цветущую яблоню. Обернешься назад, и видишь
сопку, с которой только что съехал. Она поросла редким березняком. Слева заходит
солнце, веселя ложбину пурпурным блеском. Как-то быстро темнеет, быстрее, чем в
местах возвышенных.
Загораются в степи огни, зажженные руками человека.
Хорошо в забайкальской степи летом, с
его теплом и дождями, с ласковым шепотом трав.
Хорошо в степи и зимой. Холодно. Через серую муть тумана еле-еле пробиваются лучи зимнего солнца. Ветер ерошит
шерсть на спинах понурых овец. Ваша машина который уже час бежит но занесенной
снегом дороге, а часто и просто по целине.
Зимой стремишься заночевать в поселке.
И какую радость испытываешь, когда после
многочасового белого безмолвия и кромешной тьмы перед тобой возникают его огни.
В воздухе и на земле серебряные звездочки инея. Пахнет морозом и печным дымом.
Хороши всегда забайкальские степи. Их
не изуродовали конница Чингис-хана, банды
атамана Семенова и барона Унгерна, не
обесцветило седое время. Время не создает
красоты, ее создает человек. Живут степи
трудом нового человека, большой, нужной,
интенсивной жизнью.
Должен человек использовать степную
естественную красоту, вписать в нее в назначенный срок села-города со своей архитектурой, со своим стилем и традицией. Села, которые останутся грядущим поколениям доказательством исполинского дела, совершаемого новым человеком.
Кто должен начать эту работу первым?
Все, кто имеет хоть малейшее отношение к
селу!
Но перед этим нужно экстренно положить конец теоретическим спорам о типе
села. Распорядиться о скорейшем изготовлении генеральных планов застройки на все
строящиеся совхозы и колхозы. Перевооружить в соответствии с ними сельских строителей. Выделить деньги на интенсивную
комплексную застройку сел и, может быть,
сделать это и за счет городов. Иначе быт
села будет очень трудно п р н р а и т ш , к быту
города.
«Когда загорается дом, надо прежде
всего стараться
оградить от огня
правую стену дома, стоящего налево
от горящего дома, и левую стену
дома, стоящего направо от него».
(Изречение из старинной немецкой
инструкции по тушению пожаров),
Было уже, вероятно, далеко за середину ночи, когда я решил, что
ждать до утра, пожалуй, не стоит.
С вечера шел снег, первый и последний в этом году, поэтому в
комнате было светло, как в ранних сумерках. Изредка где-то на дальних улицах шумели тяжелые грузовики, скорее всего военные, потому что еще с весны в нашем провинциальном городишке обосновался
штаб какой-то мобильной дивизии, следствием чего было резкое увеличение количества потребляемых напитков и мелких безобразий.
«Надо решаться, подумал я, так может пройти вся жизнь, а ведь
мне уже тридцать пять, цветущий возраст, если не сейчас, то никогда».
Я поднялся и принялся бесшумно одеваться, что, если вдуматься,
было совершенно излишне: жена давно уже стала спать в отдельной
комнате. При зеленоватом свете плафона я уложил в чемодан самое
необходимое: пару крепких брюк, два свитера, несколько рубашек, походные ботинки на толстой подошве, туфли и парадный костюм для
представительств, сунул в револьверный карман чековую книжку и
огляделся, все еще не веря, что моя новая жизнь начинается так просто и неожиданно. Все великие дела начинались ночью, усмехнулся я
про себя, Варфоломеева ночь, например, девяносто процентов всех
восстаний, путчей и дворцовых переворотов.
Нужно было уходить, а я все медлил, чувствуя, что нужно сделать еще что-то.
— Что же, что же? — бормотал я. — Может, я должен кому? Ах,
да...
82
Я подошел к столу и быстро набросал записку: «Я все-таки решился, знаю, что тебя это не очень огорчит. Прости за все. Ухожу.
Кеннон». Записку я положил на середину стола, погасил свет и вышел
в коридор. Проходя мимо спальни жены, теперь уже бывшей, я замедлил шаги. Как бы мы ни жили с ней последнее время, она все же
десять лет была моей женой. Защемило сердце, его с болью начало
засасывать в какую-то пустоту. «К черту, к черту!» — мысленно закричал я и повторял это до тех пор, пока не очутился на улице.
Снег уже не шел, а тот, что уже выпал, лежал ровным нетронутым слоем, пугающе белый, так что казалось кощунством топтать его
ногами.
Мне приходилось частенько ездить по делам нашей газетенки, поэтому толстый заспанный кассир на вокзале знал меня преотлично.
— Доброе утро, господин Кеннон, — позевывая, сказал он. — Что,
опять в командировку?
В ответ я промычал что-то неопределенное, доставая бумажник.
— Надолго?
— Видимо.
— Вам куда?
Я заколебался, потому что и сам не знал, куда еду.
— В эту... в эту... — пробормотал я, лихорадочно припоминая название какого-нибудь неблизкого города. — Подальше куда-нибудь. На
юго-западный берег.
Сонное выражение сползло с лица кассира. Он удивленно заморгал свиными ресницами и, пожевав губами, неуверенно спросил:
— Отдохнуть хотите?
— Да, да, — подхватил я. — Именно отдохнуть. Сил, знаете ли,
поднабраться, хе-хе... Устал, знаете ли, как-то. Невроз... ностальгия...
— Может, до Вианты вам билет? Курортный город, океан... Сам я,
правда, там не был, но, говорят, очень шикарно. — Кассир вздохнул,
его одутловатое лицо многосемейного человека, страдающего одышкой
и несварением желудка, приняло мечтательное выражение.
— Вианта так Вианта, — согласился я. — Пусть будет она.
Кассир еще раз завистливо вздохнул и принялся выписывать билет.
— Вам было бы удобнее самолетом, — присапывая, говорил он,
проворно орудуя ножницами. — Но сами видите, какая стоит погода.
Снег этот... Теперь будет слякоть, грязь. — Он подал мне билет.
Я небрежно взял эту банковски похрустывающую бумажку, совершенно не подозревая, что рукой провинциального железнодорожного кассира сама судьба вручила мне билет в новую жизнь с невероятными, прямо-таки чудовищными приключениями. Произошло это,
как я случайно отметил, в четверть четвертого утра, и свидетелей тому, можно сказать, не было, если не считать трех или четырех сонных пассажиров, нахохлившихся в по-авиационному низких и элегантных креслах.
Двухместное купе экспресса скудно освещалось химическим светом синего ночника. Явственно пахло спиртным. Проводница — хорошо сложенная, неопределенного возраста брюнетка, с сильно подведенными глазами, — приготовила мне постель, спросила, че нужно ли
чего, и, пожелав спокойной ночи, бесшумно удалилась.
Я принялся не спеша раздеваться, в пол-уха прислушиваясь к
мягкому перестукиванию колес под полом. Ну, вот и все, думал я, не
надо больше мучаться, сомневаться, теперь все в твоих руках, мосты
облиты бензином и горят позади ярким пламенем.
Редкие огни окраины, металлический гул моста через обмелев6*
83
ший в последние годы Хампол, и наш городок растворился в ночи,
как будто его и не было. А утром он проснется, зашагают по улицам
жители, знающие друг друга и друг о друге до осточертения. Все они
тут или родственники, или учились в одной гимназии, или работают
вместе. Шага не ступишь без того, чтобы кто-нибудь не осведомился
о здоровье твоей тещи, самочувствии недавно окотившейся кошки или
о том, почему это ты не был с женой на свадьбе долговязой старшей
дочери приходского священника. Скука, позеленевший пруд. Как я
мог прожить здесь целых десять лет?
- Простите,— раздался за спиной хриплый голос. — Что у вас
есть курить?
Я обернулся. С соседнего дивана, опираясь на локоть, смотрел на
меня черноволосый сухощавый мужчина примерно моего возраста.
При синем освещении он выглядел не совсем приятно, но, видимо, я
и сам был не лучше.
— Понимаете, я имел глупость купить с вечера «Золотую корону». Редкостная дрянь, не представляю, кто ее курит... О черт, куда
же они делись... — Он беспокойно шарил под подушкой, затем все же
нашел и одел очки.
— Если вас устроит «Дубовый корень»... — начал я.
- Превосходно! — обрадовался сосед. — Самое мужское курево.
М-м...—он с удовольствием затянулся. — Ф-фу, а то уж голова начала болеть. Как медик, я бы сказал, что курить не надо вообще, а уж
если курить, то что-нибудь крепкое и чистое, а не эту нынешнюю
ароматизированную и обезвреженную дрянь. Химия! —он усмехнулся
и облегченно откинулся на подушку, затягиваясь часто и нервно.
Для четырех утра мой сосед выглядел, как бы это сказать, возбужденным, что ли. Мне это не совсем понравилось. Он часто улыбался — иронически, половиной лица, говорил быстро, руки у него дрожали. Посмотрим, что будет дальше, решил я, забираясь под одеяло.
Сосед, видимо, спать не собирался.
— Бессоница у меня,— сообщил он, затянулся еще раз и с видимым сожалением выбросил ставший уже совсем крохотным окурок.
— Еще одну? — Я протянул ему сигареты.
— Благодарю вас... Боюсь, одного никотина мне будет недостаточно, чтобы уснуть.
Он задумчиво посмотрел на меня и потянулся к дорожной сумке,
лежавшей в сетке над его диваном. В сумке стеклянно брякнуло.
«Ясно, — подумал я, — алкоголик».
— По полсотни капель не возражаете?
Из сумки появилась начатая бутылка водки, пластмассовые стаканчики и что-то вроде ветчины.
Причин отказываться у меня, естественно, не было. Так я ему и
сказал.
— Прекрасно, — удовлетворенно сказал сосед. — Вкусы у меня,
как вы, вероятно, заметили, самые дремучие. Ничего не поделаешь:
бывший армейский врач. — Он с невеселой усмешкой пожал плечами.
— Крепкие табаки, водка... Знаете, я глубоко убежден, что всякие
там коньяки, тонкие вина и все такое пьют только сибаритствующие
снобы. Я предпочитаю откровенный ректификат или русскую водку, жаль только, что ее не всегда найдешь. Эту, например, мне привез из России мой друг — дипломат. Ну, давайте за спокойный сон!
Я взял протянутый стаканчик и, испытывая даже что-то вроде
благодарности к беспокойному соседу, осушил до дна. Хорошо проперченное мясо отлично дополнило гамму.
— Пить, чтобы жить! — провозгласил сосед, пережевывая ветчину.— Черт побери, нам пора уже познакомиться. Ник Чатраги, —
представился он.
84
— Рэй Кеннон.
Мы с некоторой торжественностью пожали друг другу руки. Чатраги снова немедля налолнил стаканчики.
— За знакомство!
Блаженно смежив веки, он выпил, поморщился и потянулся к
закуске.
— Куда едете, Рэй? — спросил он, подхватывая двумя пальцами
увесистый кусок ветчины.
— Вианта, — едва отдышавшись, выдавил я.
— Командировка?
- Да нет, пожалуй. Пожить, поработать...
— М-мерзость, — решительно заявил Чатраги, рассматривая на
свет, оставшееся в бутылке.—Теплый хлев для разжиревших боровов. Даже грязь есть. Там не океан, а подогретая лужа, в которой болтаются человекообразные куски сала. Сутенеры, девки, воры, международные аферисты с хамскими усиками. Какая там может быть работа? Впрочем, если вам нравятся подобные аквариумы...
— Да нет,— стал я оправдываться. — Я сам не знаю, куда ехать,
и Вианту я выбрал чисто случайно.
— Ну-ну, — одобрительно пробурчал Чатраги, вылил остатки
водки в мой стаканчик и снова полез в сумку. Оттуда появилась еще
одна бутылка.
После третьего стаканчика Чатраги заметно охмелел. Он принялся ругать кого-то, а за что — было совершенно непонятно.
- М-мерзавцы, — кривя губы, негромко, но яростно говорил он.
Рука его, когда он разливал водку, сильно дрожала. — Вообразили
себя Саваофами... компрачикосы... Помнишь, как у Мэри Шелли.:.
Франкенштейн...
Дальше его речь стала еще более несвязной. Горлышко бутылки
стучало о край стаканчика, водка выплескивалась.
— С-судить их., всенародно, на фонарный столб. Дожили...
обезьяны с автоматами... Профессора Моллини головой... м-мозги по
бетонной стене... Эх, не надо было мне уезжать, не надо!
Некоторое время он молча всхлипывал, отвернувшись к стенке.
Затем у него, видимо, наступило прояснение.
— К черту Вианту!—объявил он.— Я беру вас с собой. Вы —
мой ассистент, так я им и скажу. Мы с вами выжжем этих оборотней.
Ипритом! Т-термоядерным огнем! Очистим планету!
Задрав подбородок и судорожно двигая кадыком, он выпил еще
и, уткнувшись в подушку, еще немного поругался и затих.
Выпитое несколько успокоило мои взбудораженные нервы, и я
тоже довольно легко уснул.
Разбудил меня неугомонный Чатраги. Умытый, с мокрыми, аккуратно причесанными волосами, он стоял надо мной.
- Простите, Рэй, но я в моем нынешнем состоянии не выношу
одиночества. Давайте поговорим.
Он был абсолютно свеж, если не считать легкой мути в глазах и
некоторой бледности. На столике покачивалась бутылка водки, на
подносе стояли аппетитно пахнущие тарелочки с разной снедью.
— Завтракать будем здесь,— заявил, потирая руки, Чатраги. Идите мойтесь. Бритву вам надо? После обеда будем в Вианте. Эти
экспрессы, оказывается, ходят с сумасшедшей скоростью.
Я прошел в смежное купе, где была ванна, напустил воды попрохладней и с наслаждением погрузился до самых ушей. К Чатраги я
вернулся, чувствуя себя уже довольно сносно. Чатраги, зло морщась,
читал какие-то бумаги, но при моем появлении он тотчас спрятал их
в крокодиловый портфель и присел к столу. Разлив по тем же пластмассовым стаканчикам водку, он быстро выпил, с отвращением помо85
тал головой и, пробормотав что-то вроде «пьют же такую дрянь!», уставился на меня сквозь очки.
•— Вы мне нравитесь, Рэй. Чем вы занимаетесь?
— Был журналистом до вчерашнего вечера. Сейчас стал безработным по собственному желанию. Так сказать, за бортом по своей
воле.
Чатраги быстро и с явным интересом глянул на меня и тотчас
отвел глаза.
— А еще что вы умеете делать? Ну там электричество, химия
или что-то (подобное...
—• А, вот вы что имеете в виду... В армии я был механиком. Автомобильные и танковые моторы, и все такое.
— Это дело,— одобрил Чатраги.—Армейский механик... В боевых действиях участвовали?
— Ну, это позже. Когда я был на гражданке. Во время путча Кожаных Курток.
— Вот как? И что вы там делали?
— Меня командировала наша газета, и я познакомился там с Лотом Шарком. Знаете его? Известный социолог и писатель.
— Да, да, — Чатраги взял бутылку, подержал ее и поставил обратно.— Я читал его. «Дорога в пустоту», «Великий мираж» и другое.
И что же дальше?
— Мы с ним ездили, собирали материалы о путче, разговаривали со многими из руководителей Кожаных Курток, с идеологами,
так сказать. Собирались написать книгу об этом и не успели. Вы же
знаете, Шарк вскоре после ликвидации путча погиб в авиационной
катастрофе... У него даже название для книги было готово — «Что
сказал бы Будда?»
— А что же вы?
— Что — я?
— Почему вы не напишете эту книгу?
— Как вам сказать...
Действительно, как ему объяснить бесконечную гонку за гонораром, чтобы только не видеть в глазах жены этакую величественную
жертвенность: «Я отдала тебе все», выматывающие статьи-однодневки, после которых в душе остается пустота и кислятина, визиты замшелых от старости тетушек жены с их ядовито-болезненными улыбочками, бодренькое похохатывание главного редактора, проникновенно заглядывающего в глаза: «Ведь вы это сделаете, Рэй, не правда
ли? Это так важно для престижа газеты». А между тем в дальнем
ящике стола лежат папки, а в них — откровения Диркана, философаубийцы, возомнившего, что ему суждено стать духовным отцом человечества, безжалостные юнцы с плоскими глазами садистов и короткоствольными автоматами у живота, взорванные университеты и обсерватории, четыре сожженных дотла города, младенцы, которых
подвешивали в тирах вместо мишени, седобородые профессора, утопленные в нужниках, и те пятьдесят студенток на стадионе в Лигедо,
которых по горло закопали в землю и пустили по их головам асфальтовый каток: «Науки захотели, стервы? Диспутов о марксизме?» Боже милосердный, как случилось, что вся эта кровь, ужас, боль и позор оказались для меня отодвинутыми на второй план, а вперед выступило вот это: «Рэй, голубчик, нужно прокомментировать для
наших читателей последнюю речь президента перед ежегодным собранием ассоциации владельцев мясо-хладобоен», «Милый, пора сделать очередной взнос за норковую шубку», «Рзй, вы обязательно
должны быть на крестинах нашей Алисы, иначе вы очень обидите
тетю Магду», «Дружище, приходи вечерком, сгоняем, хи-хи, в преферанс в маленьком зале вдовушки Ид».
86
— Как вам сказать...—повторил я.— Время как-то все не удавалось выкроить...
— Понятно,—протянул Чатраги.— Семья есть?
— Жена... Была.
— Была? — Чатраги поднял брови.— Почему?
— Решил, наконец, сесть за книгу. Больше не мог откладывать.
— Правильно,— Чатраги решительно наполнил стаканчики. —
За новую жизнь?
Я кивнул и осушил стаканчик.
— Хотите работу? — Чатраги, страдальчески кривясь, шарил глазами по столу, выбирая, чем бы закусить. — Ведь вы же можете еще
на некоторое время отложить свою книгу? Собственно, там и работыто всего ничего, но опасностей хватает. Оплата хорошая. Согласны?
Я колебался. Чатраги мне определенно нравился, да и свою чековую книжку не мешало бы пополнить с тем, чтобы потом уж писать,
не отвлекаясь ради куска хлеба. Но, с другой стороны, я терпеть не
могу поспешных решений. Наобещают тебе с три короба, ты поверишь, а потом в один прекрасный день, глядишь, все предприятие
оказывается аферой, и ты прочно сидишь на мели, и хорошо еще, если
не под следствием. Такие штуки мне тоже были известны. Мне все
время почему-то казалось, что Чатраги сильно взволнован, может, даже испуган. Но даже если и было так, внешне у него это выливалось
только в ругательства, причем никуда и ни к кому специально не адресованные.
Когда бутылка была опорожнена, Чатраги рыча позвонил проводнице и заказал «еще два пузырька отравы, да позабористей». Раскачибая бедрами гораздо сильнее, чем того требовало колебание вагона,
она принесла и поставила перед нами что-то отдававшее одновременно керосиновой гарью, микстурой и крепкой зуботычиной.
— Скорпионы на спирту, — буркнул Чатраги выпив, содрогнулся
и сразу же налил еще. — Короче, я предлагаю вам войну. Такой еще
никогда не было. Чертовски опасная, но орденов не ждите.
— Если это Иностранный Легион... — начал было я, но он перебил меня.
— Причем тут это,— досадливо отмахнулся он. — За кого вы меня
принимаете... Да, вот еще что,— Чатраги нерешительно помолчал,—
забудьте, что вы журналист. Ни слова, ни строчки. Ассистент, и все
тут. Так и говорите всем. Потом когда-нибудь... Вы увидите небывалое. Чудовищное! Хуже кошмаров Апокалипсиса. Представляете:
через несколько лет мемуары — «Монстры, рожденные разумом» или
«Мы или они?». Вашу книгу будут рвать из рук,— он ухмыльнулся,—
но это в том случае, если останетесь живы.
Слова его произвели на меня неважное впечатление. Нет, я не
трус, но одно дело, скажем, отравленные стрелы, бесшумный пулемет
или безоткатные орудия, и совсем другое — как это он сказал? —
«Монстры, рожденные разумом», «Мы или они?» Кто — они? Тут задумаешься. А может, Чатраги безнадежный алкоголик? Хотя нет, вид
у него достаточно респектабельный, врач опять же. Странно,
странно...
Во мне заговорило профессиональное любопытство. Прикинув
так и эдак, я пришел к выводу, что дело у беспокойного Чатраги, видимо, не шуточное. Во-первых, военные действия, во-вторых, какие-то
«они», монстры, как он сказал. Опять же у какого-то профессора Моллини, человека, видимо, уважаемого, ударом о бетонную стену вышибли мозги, что само по себе ужасно. И в довершение ко всему надо еще
и молчать. Все это, конечно, не сахар, но, с другой стороны, и деваться-то мне сейчас тоже некуда. Где у меня есть что-то лучшее?
87
- Через год вы будете обеспеченным человеком, — соблазнял ]
меня Чатраги. — За расходами мы не стоим.
- Кто это — мы? — поинтересовался я.
Чатраги невнятно хрюкнул, блеснув очками.
- Узнаете в свое время, Рэй. Ну, как?
— Я, знаете, как-то не привык покупать кота в мешке А тут, я
вижу, такое дело, что не только кота, но и мешка может не оказаться.
— Мешок-то есть, — задумчиво отозвался Чатраги, — а вот, что
касается содержимого...— Он помолчал, покусывая губы. — Хорошо,
я вам покажу, чтобы вы.. — он встал и, присев на корточки, полез под
диван, — чтобы вы имели некоторое представление...—он вытащил
и поставил на диван потертый черный чемодан.
Отрывисто щелкнули замки. Я с некоторым интересом ждал, держа наполненный стаканчик. Чатраги откинул крышку и осторожно
извлек серый сверток длиной более полуметра. Под тонкой шелковистой материей чувствовалось что-то твердое, чуть изогнутое, с выпирающими на одной стороне углами.
- Смотрите,— глухо сказал Чатраги и рывком развернул материю. Я ожидал увидеть что угодно — от автомата до свитков папируса,
но только не это. Передо мной была огромная высохшая рука от локтя и ниже. Начиная от середины кисти, она была густо покрыта жесткими бурыми волосами, и из них, как из мехового рукава, выглядывали неожиданно голые, длинные глянцевитые пальцы бледно-желтого
цвета. В них... Тут я наклонился, чтобы рассмотреть то, что они сжимали мертвой хваткой, и увидел «вечную» шариковую ручку марки
<-Павлин» с красочным изображением голой женщины на корпусе —
одну из тех, что обычно покупают юнцы из старших классов гимназии
и благообразные старички. Ошарашенный, я машинально одним глотком опорожнил стаканчик.
— Что это? — голос мой невольно упал до шепота.
- Это... — Чатраги прищуренными глазами рассматривал руку. Поверьте мне, Рэй, это страшная штука. И самое ужасное, что она
держит ручку... самое ужасное.
— Это имеет отношение к работе, которую вы мне предлагаете?—
я никак не мог отвести глаз от пальцев руки. Они меня словно гипнотизировали, эти, не лишенные даже некоторого изящества, сухие пальцы. Казалось, голая кисть медленно, с усилием выползает из косматой шкуры, как змея, меняющая кожу.
- Да, имеет,— сказал Чатраги, заворачивая руку в серую материю. — Я еду туда, где таких рук, только живых, много, очень много.
Больше пока я ничего сказать не могу. Согласны вы ехать со мной,
Рэй?
- Да,— совершенно неожиданно для себя сказал я. — Я еду с вами, Ник.
— Не сомневайтесь, Рэй,— с неожиданной душевностью сказал
Чатраги, держа в одной руке уже наполненный стаканчик, а другой
касаясь моего колена. — Все это очень серьезно, надувать вас никто
не собирается. Работы примерно на год, если... — он запнулся. — Если
все будет хорошо. А потом получаете деньги, едете куда-нибудь в деревню или Швейцарию — что вам больше по вкусу,—тихо, не торопясь
пишете себе мемуары, дожидаетесь благоприятного времени, публикуете их, и...—он взглянул на меня блестящими глазами и взмахнул
рукой. — И всемирная слава! Вас переиздают двойными и тройными
тиражами, и все мало. Читатели требуют еще, вас осаждают продюсеры и репортеры... — Чатраги неожиданно подмигнул и забавно сморщил нос. Я невольно улыбнулся.
Здоровье у Чатраги, несмотря на худобу и интеллигентские очки,
оказалось завидное. Хотя мы закончили бутылку и принялись за сле88
дующую, к Вианте он выглядел превосходно. Таща меня за рукав,
трезвый и решительный, он выскочил на привокзальную площадь,
крича во все горло: «Такси! Такси!»
Отель «Сабина», куда меня привез Чатраги, оказался весьма респектабельным и лишенным крикливой помпезности, что было странным для курортного города. Подтянутый и деловитый портье с меловой чертой пробора на лакированной голове, сдержанные, вышколенные горничные. «Это оттого, что хозяин отеля англичанин,— мимоходом заметил Чатраги. — Самый приличный вертеп во всей Вианте,
будь она неладна».
Номера у нас оказались смежными. Я, как зашел к себе, сразу же
почувствовал неодолимую тягу ко сну: сказывалось обильное поездное
возлияние. Чатраги же, на минутку заглянув ко мне, исчез куда-то
по своим делам.
Проснулся я поздно, где-то ближе к полуночи. В комнате стоял
полумрак. По стенам метались и подмигивали разноцветные блики
уличных реклам, где-то взвизгивали тормоза, где-то вкрадчиво мурлыкало радио.
Я поднялся, ощущая сильнейший голод. Это было не удивительно,
если учесть, что весь минувший день мы с Чатраги не столько ели,
сколько закусывали.
Можно было поужинать тут же в ресторане отеля, но я решил
немного пройтись тю воздуху и вышел на улицу. Веселье в знаменитом курортном городе, видимо, было в разгаре. То и дело проносились открытые машины, набитые визжащими и хохочущими людьми,
раза два проскочили впереди мигалки полицейских автомобилей, из
огромных раскрытых окон и из темных глубин парков доносились
хриплые выкрики певцов и рев саксофонов, поодиночке, парами и
группами шатались шумные развеселые личности.
На углу под неоновым изображением розового поросенка, смешно
дергающего хвостом и ушами, меня остановили две девицы, плотнооблитые короткими водянисто поблескивающими платьями.
— Портсигар не хотите? — спросила одна низким, шершавым голосом.
— Любой,— добавила другая, обдав меня винным запахом и
взмахнув неестественно длинными ресницами.
- Портсигар? — растерянно спросил я, делая шаг назад.—Простите, но я никогда не пользовался портсигаром. И не собираюсь.
Девицы захохотали так, что полицейский патруль за полквартала
от нас остановился и стал глядеть в нашу сторону.
— Пошли, ну его,— сказала вторая, толкая подругу в бок.—Не видишь что ли—это же типичный про.
И они, обнявшись, медленно удалились в полутемную боковую
улицу.
Шагов через десять я был остановлен снова, на этот раз широкоплечим пошатывающимся мужчиной в пестрой рубашке.
— Майк! — радостно заорал он, расставив руки почти на всю ширину дорожки.—Майк, с-сколько лет! У меня тут за углом авто, поедем к Джулии, вс-спомним с-старое.
— Извините,— пробормотал я, стараясь проскочить, прижимаясь
к витрине.
— 3-зазнался, пес?!—зарычал мужчина, тщетно пытаясь вытащить что-то из заднего кармана. Глаза у него были оепж.чннсишие и
неподвижные. Предмет из кармана не лез. Мужчина выругался, что-то
затрещало, и он, потеряв равновесие, ткнулся лбом в стену
Я на всякий случай ускорил шаги и нырнул в первое попавшееся
заведение. Краем глаза я успел заметить, что у входа стоят несколько
89
человек в темном, а из глубины подъехавшего длинного черного автомобиля осторожно поблескивают чьи-то глаза.
Зал был шумный и людный. В судорожных конвульсиях корчилась какая-то совершенно дикая мелодия, в такт ей дергался и что-то
выкрикивал на эстраде здоровенный негр в блестящем черном трико.
Верхний свет не горел, только в полу поочередно вспыхивали и гасли
молочные квадраты, в их свете мельтешились танцующие ноги. Огромные вентиляторы под потолком работали на полную мощность, но
все равно было душно.
Когда я пробирался мимо танцующих, меня обдало смешанным запахом духов, пота и вин.
Я сел в углу за свободный столик рядом с бронзовой лоснящейся
фигурой льва, из которого где-то с журчанием что-то текло. Недалеко
от меня некто темный и грузный неторопливо и причавкивая ел.
Музыка утихла. Полузадушенно прокричав на прощанье, исчез с
эстрады негр, зажегся свет. Пары, смеясь и переговариваясь, стали
рассаживаться по своим местам.
Я огляделся. Красивые девушки в вечерних, по-курортному легких нарядах, молодые мужчины 1в рубашках без галстуков, кое-где
виднелись пожилые джентльмены в темных вечерних костюмах.
— Ужин? Вино?
Передо мной стоял, весь внимание, нивесть откуда взявшийся
официант. Приняв заказ, он скользящей стремительной походкой —
голова чуть набок, рука на отлете — ринулся прочь.
На эстраде тем временем появились три малоодетые девицы, враз
игриво улыбнулись т зал и под дьявольский грохот оркестра принялись выделывать такие штуки своими длинными стройными ногами,
что тучный господин за соседним столом шумно засопел, комкая салфетку.
Оценив по достоинству коньяк, я принялся за тушеную в вине индейку, когда около меня остановилась сумрачная рыжеволосая девица в узком красном платье. Она некоторое время рассматривала меня
прищуренными глазами, потом, лениво растягивая слова, спросила:
— Вы один?
Я кивнул.
— Сдвоим?
Я кивнул еще раз.
Она села, медленно прошлась глазами по залу и сказала сквозь
зубы:
— Надоело, все надоело... А что же делать?
— Это пройдет,— примирительно сказал я на всякий случай и
налил ей коньяку. — Давай лучше выпьем.
— Зачем я сюда пришла? Сама не понимаю...—Она, не глядя, взяла коньяк.—Они неизлечимы...—Она еще раз медленно оглядела
зал. — Пьют, жрут, потом им подай девку, и чтоб морду кому-нибудь
набить. У-у, с-скоты... А впереди целая ночь... и опять...
Мне показалось, что она всхлипнула.
— Неужели все так плохо? — осторожно спросил я, чтобы как-то
поддержать разговор.
Она вдруг зло посмотрела на меня, резко поднялась и, процедив
сквозь зубы: «Студень!», куда-то ушла.
— Не связывайтесь с ней, послушайтесь моего совета.
Я повернул голову. Мой тучный сосед, наклонясь в мою сторону,
доверительно продолжал:
— Я ее вижу здесь третий вечер, и каждый раз у нее скандалы.
Вчера, например, она облила черным кофе бразильского коммерсанта... Кстати, вы не знаете, как зовут вон ту, которая слева?—он кивнул на эстраду.
90
— Алтея Гирон,— наугад брякнул я, чтобы отвязаться от непрошенного собеседника.
— Ага,— удовлетворенно прохрипел сосед и, медленно наливаясь
темной кровью, стал смотреть на эстраду. Там появилась четвертая
танцовщица, которая под веселое жеребячье ржанье саксофона мимоходом освобождалась от одежд.
Где-то у выхода возник шум, кто-то вскочил, завизжала женщина. Туда спешил метрдотель и мелькало красное платье. Дело это,
видимо, было обычное, потому что большинство продолжало смотреть на эстраду, а оркестр играл без всякой заминки.
Но тут произошло что-то еще. У выхода внезапно наступила тишина. Три молодых человека, сидевшие с девицами за два столика от
меня, пригибаясь и опрокидывая стулья, бросились влево,— видимо,
к запасному выходу.
От дверей раздалось несколько торопливых выстрелов. Бежавшие парни попадали на пол, прикрываясь столами. Один из них, присев за стойкой бара, палил из пистолета.
С визгом и грохотом все шарахнулись к стене направо, кто-то лег.
Ни оркестра, ни девиц на эстраде уже не было.
Я одним прыжком оказался за бронзовым львом, и вовремя, потому что у выхода коротко простучал автомат. Раздался пронзительный, режущий уши крик, над белоснежным столом, усыпанным льдинками битого хрусталя, на мгновенье показалось залитое кровью лицо
с черным провалом рта и исчезло, увлекая за собой скатерть. Недалеко от меня, цепляясь за ствол декоративной пальмы, медленно сползал на пол рослый парень со стриженным затылком. В просвете между сдвинутыми в кучу стульями, замирая, дергалась неестественно
длинная женская нога в лаковой туфельке.
Кто-то догадался выключить свет, и одновременно с этим вспыхнули квадраты в полу. В мигающем полумраке около меня вдруг оказалась давешняя особа в красном. Она присела, быстро нашарила около себя бутылку и, крикнув с веселой злобой: «Бей их!», швырнула
ее куда-то и истерически расхохоталась.
Еще раз глухо прогремела автоматная очередь, зазвенело стекло,
от моего льва с визгом отрикошетила шальная пуля. Девушка вскрикнула и мягко навалилась на меня. После этого все стихло, лишь стонали раненые, и кто-то задыхаясь рыдал.
За окном, набирая скорость, проскочила длинная черная машина— по-моему та, которую я видел у входа. И почти сразу же послышался стремительно нарастающий вой сирены. Через минуту в дверях
замелькали лучи фонарей, и кто-то громко и властно распорядился:
— Зажгите свет!
Когда свет зажегся, по проходу между столами уже шли деловито-озабоченные полицейские, а в дверях маячили белые халаты и носилки.
Беспокойная особа в красном, хлопая глазами, медленно приходила в себя за моим столиком: пуля оцарапала ей лоб.
Бледные официанты торопливо убирали осколки и приводили в
порядок столы.
Заплаканные женщины и встрепанные мужчины, срываясь на
крик, все разом что-то говорили невозмутимому полицейскому офицеру, за спиной которого растерянно топтался метрдотель. Кто-то плача помогал укладывать на носилки громко вскрикивающих раненых.
На ходу доставая блокноты, появились не то детективы, не то репортеры.
Мой тучный сосед снова сидел на своем месте, что-то доедал и
выжидательно посматривал на эстраду.
•— И часто у вас здесь так бывает? — спросил я девушку. Она
91
прижимала к ране салфетку и мрачно смотрела, как маленький лысоватый врач, чем-то напоминающий нахохленного воробья, с привычной небрежностью осматривает труп.
— Здесь — не знаю, а вообще-то почти каждый вечер. Понасмотрятся боевиков, моча ударит им в голову — тогда держись от них подальше. На той неделе сожгли парня с девушкой.
— Ну и ну,— пробормотал я. — А я думал, знаменитый курорт,
респектабельные люди...
Девица желчно фыркнула.
— Респектабельные! Они-то как раз хуже всякого скота... Слушай, там за эстрадой есть маленькая дверь. Давай сбежим отсюда, а
то полиция затаскает: как да что... Пошли.
Я оставил на столике деньги, и мы в суматохе незаметно выскользнули из зала. Беспрепятственно пройдя мимо каких-то дверей,
кухни, кладовых, мы оказались в полутемном дворе.
— Как тебя зовут? — спросил я, когда мы вышли на освещенную
улицу.
— Кэтти, а тебя?
— Рэй.— по привычке я чуть было не наклонил при этом голову,
но сдержался, чтобы не выглядеть «про», как выразились те девицы,
что предлагали мне портсигар.
- А ты ничего парень,— Кэтти взяла меня за руку. — Хочешь,
пойдем ко мне? Только ты не подумай... не стоит шататься ночью по
улицам, если у тебя нет своей компании.
— Чего нам бояться, таким славным ребятам,— сказал я как можно беззаботнее. — А ты что здесь делаешь?
- Я работаю художником в рекламном агентстве. Надоело, я не
знаю, куда бы уехала, только бы подальше отсюда.
Я искоса посмотрел на нее. Сейчас она была совсем не такой, как
в ресторане: задумчивое лицо, на губах тихая, грустная улыбка, и вся
она казалась такой беззащитной, что заныло сердце.
— В чем же дело — садись и езжай куда-нибудь.
— Думаешь, так легко? — она негромко и как-то безнадежно рассмеялась.
— Правда, сейчас я познакомилась с одним, может, думаю, он поможет чем-нибудь. Вообще-то и он такой.же гусь, как все... Слушай,
а ты меня не устроишь куда-нибудь, чтобы можно было отсюда
уехать? Я тут больше не могу...
Мы вышли на небольшую овальную площадь с фонтаном, и на
противоположной стороне ее я увидел свой отель. «Сабина, сабина, сабина»,— бежали по фасаду зеленые и красные надписи.
— Вот здесь я живу,— сказал я, останавливаясь.
-— Значит, я проводила тебя домой? — Кэтти улыбалась и изучающе смотрела мне в глаза. — Ты в каком номере живешь? Я тебе
позвоню завтра. Можно?
— Угу. Я живу в двести шестнадцатом.
Мимо нас пронеслась машина и, резко взвизгнув тормозами, остановилась метрах в двадцати. Из нее выскочил высокий парень в
белой рубашке и бросился к нам.
— Кэт, стерва! — заорал он на ходу. — Ты что здесь делаешь? Я
ее ищу по всему городу, а она здесь со всякими... Ну, погоди!
— Оставь меня! — закричала Кэтти, отступая. — Я не хочу тебя
больше видеть!
— А, вот как ты заговорила,— рычал парень, заламывая ей руку.
Кэтти пронзительно вскрикнула.
- Эй, приятель! — я взял парня за локоть. — По-^юему, ты не то
дерево рубишь.
Парень повернул свою непомерно маленькую в сравнении с могу92
чей шеей голову и резко выбросил кулак. Левой рукой он держал вырывающуюся Кэтти, поэтому удар у него не мог быть точным. Я уклонился и всем телом ударил его в челюсть, понимая, что на этом дело
не кончится. И, действительно, от машины к нам бежало три человека.
— Беги! — закричала у меня за спиной Кэтти, но как раз этого я
сделать не мог. Первого я ударил ногой в живот, и он с размаху сел
на асфальт. Оставшиеся двое, сопя и ругаясь, навалились на меня, нанося тяжелые, но беспорядочные удары. Они были изрядно пьяны,
торопились и мешали друг другу, но все же это были очень крепкие
парни, умеющие неплохо драться. Первый между тем пришел в себя
и тоже вступил в дело. Я успел еще увидеть, как парень в белой рубашке тащит к машине отбивающуюся Кэтти, и тут я получил такой
удар, что все поплыло у меня перед глазами. Лежа на асфальте, я
как-то смутно чувствовал, что меня бьют ногами и, прикрывая руками
лицо, все старался встать.
Внезапно все кончилось. Все еще пряча лицо, я приоткрыл глаза
и увидел, как пятятся от меня остроносые блестящие туфли. Я поднял
голову. Неподалеку стояла угловатая короткая машина, в боковом
окошке которой холодно сверкали очки и виднелась рука, сжимающая
пистолет.
Мои противники, спотыкаясь и оглядываясь, добрались до своей
машины, торопливо захлопнули дверцы и укатили.
— Я и не знал, что вы такой забияка, Рэй,— раздался насмешливый голос Чатраги. Он вышел из машины и направился ко мне.
Я кое-как поднялся и стал отряхивать брюки.
— Постойте, Рэй. — Чатраги взял меня за плечи. — Дайте я осмотрю вас. Так, так... Что ж, вы отделались дешево. Согните руку...
а теперь другую... сделайте приседание. Ничего? Поздравляю, вам попались дилетанты. Кстати, что вы с ними не поделили?
— Ник, ради бога,— я уже пришел в себя,— где девушка?
Чатраги присвистнул.
— Вон оно что... Я видел, как ее водворяли в машину.
— В машину? Увезли? Ник, ее надо бы как-то найти, ей нужно
помочь.
— Рэй, в Вианте пять тысяч девушек, которые нуждаются в помощи. Едемте отдыхать, нам надо завтра выезжать на базу.
Чатраги пошел к машине. Тут только я разглядел, что это был армейский «Муфлон» повышенной проходимости—машина, насколько
мне известно, используемая в гористых местностях.
В номере Чатраги заставил меня раздеться до трусов, еще раз
осмотрел, сделал примочки и, хлопнув по спине, весело сказал:
- Природа сотворила вас из доброкачественного материала. Ложитесь спать, Рэй, и не забивайте себе голову девушками, нам предстоят более серьезные дела.
Уснуть в эту ночь я не мог очень долго. Из головы не шла Кэтти,
странная девушка с изломанной, видимо, жизнью, старающаяся както вырваться из этого сумасшедшего города.
За очень ранним завтраком — ни капли спиртного — Чатраги был
молчалив и хмур. Я ни о чем его не расспрашивал, рассудив, что мне,
поскольку я уже связался с этим загадочным делом, рано или поздно
что-то все равно станет известно.
Когда мы спустились в холл, к нам бросилось несколько проворных молодых людей в пиджаках спортивного покроя.
— Господин Чатраги,— завопил один из них, держа наготове блокнот и перо. — Несколько слов для «Ежедневных новостей».
Кто-то забежал вперед, подсовывая микрофон и с собачьим выражением заглядывая Чатраги в лицо. Сбоку и спереди ослепительно
93
блеснули вспышки. Чатраги прошел через эту стаю, холодный и надменный.
Кое-кто из спортивных молодых людей попытался сунуться за
нами в машину, но Чатраги с силой захлопнул дверцу и дал газ.
— Ваши коллеги,— чуть усмехаясь, заметил он. — Черти, как они
пронюхали? — он помолчал и задумчиво добавил. — Значит, кое-какие слухи просачиваются за пределы зоны... Что ж, это неизбежно.
Я промолчал. Было около шести часов утра. Курорт, утомленный
ночным буйством, вкушал заслуженный отдых. До самой окраины мы
никого не встретили, если не считать двух кучерявых замурзанных
подростков, которые с натугой тащили вдоль обочины большую корзину свежей рыбы.
Дорога плавно поднималась вверх, так что город со всеми его парками и стеклянными призмами зданий медленно уходил вниз, пока за
всем этим не открылась плавно выгнутая к небу ширь океана и окаймлющая его белая лента пляжа, на фоне которого темнели пальмы, похожие на воткнутые в песок варварские боезые штандарты, увенчанные вместо полотнищ растрепанными конскими хвостами.
Дорога становилась все круче и, наконец, пошла серпантином.
Мотор у «Муфлона» был, видимо, очень мощный, (потому что машина
неслась по бесконечным петлям шоссе с легкостью слаломиста, только, конечно, не вниз, а вверх.
После того как мы взяли последний подъем, перед нами до самого
горизонта открылась равнина. Это было Бантийское плоскогорье —
однообразная, унылая страна, на красноцветных землях которой росли
только редкие колючие кустарники и одиночные безлиственные деревья. Бетонное шоссе тусклой шпагой целилось Б далекие, по цвету
почти не отличимые от неба, горы. Раскаленный воздух дрожал и слоился над полотном дороги, отчего впереди то и дело появлялись призрачные зеркальные лужи.
Прошел час. Стрелка спидометра прочно застыла на отметке 150.
Казалось, «Муфлон», мелко дрожа своим крепко сбитым корпусом,
стоит на месте, а серая лента дороги и ближние кусты стремительно
несутся нам навстречу.
Чатраги сидел с каменным лицом и сонно приспущенными веками. Наконец, когда горы уже отчетливо встали впереди неровной зубчатой стеной, он затормозил у скудной речонки кофейного цвета. Устало разгибая затекшие тела, мы вылезли из машины. Кустов здесь было больше, но их узкие кожистые листья почти не давали тени. За речкой в некотором отдалении виднелись какие-то старые дощатые постройки.
Я разулся и, присев на берегу, опустил ноги в воду. Она была теплая, мутно-бурая от мельчайших взвешенных частиц. Конечно, нечего было и думать попить из реки. Чатраги вынес из машины два
термоса и целлофановые пакеты с бутербродами. В термосах оказался холодный апельсиновый сок.
Пока мы наскоро перекусывали, за рекой появился человек. Это
меня немного удивило, потому что строения на том берегу казались
мне уже давно заброшенными. Чатраги равнодушно смотрел на него и
продолжал отхлебывать из термоса.
Человек подошел к берегу, снял башмаки и, держа их в левой руке, перебрел на нашу сторону. Река оказалась мелкой: вода едва доходила человеку до колен. Выйдя на берег, он снял широкополую соломенную шляпу с высоким коническим верхом, какие носят бантийские фермеры, и почтительно поздоровался. Человек этот был плешив, худ, одет бедно. На вид ему можно было дать лет шестьдесят
или чуть меньше. Он, сутулясь, нерешительно переминался с ноги на
94
ногу и молчал. Видимо, ему очень хотелось заговорить с нами, но он
не решался начать первым.
— Что нужно? —не выдержал Чатраги. Я подумал, что он мог бы
это сказать и более приветливо.
— Да вот... вижу, важные господа остановились,— запинаясь сказал фермер.—Дай, думаю, спрошу...
— Ну, ну,— буркнул Чатраги.
— Вы, конечно, люди образованные... Когда это все кончится, вы
не знаете?
— Что именно кончится? — спросил Чатраги, мрачнея.
— Да эта самая... нечистая сила,— понизив голос, отвечал
фермер.
— Нечистая сила... — Чатраги хмыкнул.—А что тебе до нее?
— Да как же, господин, когда из-за нее нас и с земли-то согнали.
Там мы раньше жили,— фермер махнул шляпой в сторону гор.—Вот...
У меня, конечно, не бог весть какой участок был, но на жизнь хватало. Виноградник небольшой, несколько коз, просо опять же сеял... На
жизнь, говорю, хватало. Правда, когда военные вели дорогу на эту
свою базу, то она как раз прошла по моему полю, но жить еще можно
было, хоть и не так, как до этого,— фермер вздохнул и уставился
выцветшими глазками в сторону своих родных гор. Во взгляде его было усталое равнодушие и, где-то очень глубоко, горестное недоумение.
— А лотом началось... это самое,— без всякого выражения продолжил он. — Сначала у кривого Сайруса дочка потерялась. Пятнадцать годков ей было. День, значит, нет ее, два нет, три. Ну, мы собрались, пошли искать. Долго искали... нашли потом. Мертвая уж была,
страшно посмотреть. Юка, костоправ который, тот сразу сказал. Нет,
говорит, мужики, вы как хотите, а только это не люди. Люди, какие
бы они ни были, так не могут... Я ж говорю, страшно было смотреть
на нее. Старуха Сайруса, та с ума стронулась, как узнала. А потом,
слышу, скотина пропадать стала. Забредет в горы и нет ее. Кто посмелее, ходили искать, с ружьями, с собаками. Я, правда, не ходил,
хоть у меня самого две козы потерялось... Вот ходили, значит, ходили,
и тут кто-то встретил их... Сам я не видел, врать не буду, но говорили,
что страх один... Потом наехали ученые господа, солдаты, и нас всех
выселили. Говорили, что временно, да только уж пятый год пошел, а
все ничего не могут поделать с ними...
— А ты хоть знаешь, что это за звери такие? — спросил Чатраги,
поднимаясь.
Фермер пожал плечами.
— Откуда ж нам знать... Разное мужики говорят. Кто говорит, что
это бог наслал за грехи, да только какие у нас грехи? Разве, бывает,
выпьют какой раз и подерутся, вот и все грехи. Ну еще ругаются нехорошими словами, так это ведь спокон веков было, не нами начато,
не нами кончится. Зачем же богу непременно нас наказывать? Правда, Юка-костоправ говорил, что это ученые их придумали. Солдат ему
какой-то по секрету сказал. А я думаю так, что ученым будто бы и не
к чему напускать на нас такую напасть. Они люди умные, образованные, не то что мы. Как вы думаете?
Чатраги криво усмехнулся и молча пошел к машине. Я тоже
поднялся. Что я мог сказать старому фермеру, если и сам ничего еще
не знал?
— Ничего, скоро все кончится, и вы вернетесь в свои горы,— попытался я обнадежить его. Боюсь, это вышло у меня совсем не убедительно.
— Спасибо, господин,— равнодушно сказал фермер, разглядывая
нашу машину.
- Садитесь, Рэй, нам пора ехать,— торопил меня Чатраги, уже
сидевший за рулем.
95
— До свиданья, желаю вам удачи,— сказал я фермеру. Занятый
своими неведомыми мыслями, он едва кивнул в ответ.
Когда, поднимая багровую пыль, «Муфлон» выбрался на бетон, я
оглянулся. Старик стоял все на том же месте, держа в одной руке
свои башмаки, а в другой — шляпу, и смотрел нам вслед. Лица его я,
конечно, не разглядел, но, скорее всего, на нем было все то же выражение усталого равнодушия.
— Ну вот, вы и узнали кое-что о неопитеках,— сказал Чатраги
после долгого молчания.
— О ком? — не понял я.
— О неопитеках, новейших обезьянах. Фермер говорил ведь о
них.
— Что это за обезьяны? Вы, кажется, забываете, что я совершенно не в курсе ваших дел.
— Ничего, потерпите, Рэй. Приедем на базу, я дам вам почитать
кое-что. Тогда вы все поймете.
Чатраги замолчал и до самого конца пути он не сказал больше
ни одного слова.
На место мы приехали под конец дня. В широкой и голой межгорной долине стояло несколько прямоугольных зданий. Их окружали
сферические бетонные капониры, похожие на огромные пробковые
шлемы.
Впрочем, все это я увидел потом, а сначала же, когда мы подъезжали, они были скрыты за высокой глухой стеной, перед которой тянулось три ряда колючей проволоки. Над стеной торчали вышки с
прожекторами и, как я позже узнал, крупнокалиберными авиационными пулеметами на турелях.
— Из машины не выходить! — проревел громкоговоритель, едва
мы остановились перед проволочным заграждением. Из ворот в стене
вышли и направились к нам три человека — офицер и двое солдат.
Подойдя к машине, офицер козырнул и попросил документы. Чатраги
молча протянул ему наши бумаги. Просмотрев их, офицер снова козырнул и сделал знак солдатам пропустить нас. «Муфлон» медленно
тронулся с места и, миновав все три ряда колючего заграждения, приблизился к воротам в стене. Тяжелые металлические створки бесшумно разошлись в стороны, пропустили нас и снова сомкнулись.
Навстречу нам спешило несколько мужчин в военных мундирах.
На следующий день после завтрака в комнату, что мне отвели,
пришел Чатраги. Он был чисто выбрит, от него пахло одеколоном. Вид
у него был праздный, совершенно не совместимый с суровой обстановкой базы: белоснежная сорочка, небрежно распахнутая на груди,
щегольские туфли, вдобавок еще он был заметно навеселе.
— Вот мерзавцы! — заявил он, оглядывая комнату. — Нашли куда поместить моего ассистента. Сейчас, Рэй, вы мне удивительно напоминаете монаха в келье. Какого-нибудь францисканца или доминиканца. Только тонзуры не хватает. Впрочем, монахам жилось куда
веселее, чем придется нам. Бокаччо, конечно, читали? — он ухмыльнулся и вытянул из заднего кармана плоскую флягу. — Где у вас
стаканы?
И, не дожидаясь ответа, он отхлебнул прямо из горлышка и протянул фляжку мне. Я тоже сделал глоток. Это был коньяк.
Чатраги растянулся на моей койке и, глядя в потолок, сокрушенно вздохнул:
— Подумать только, во всей этой кутузке шестьсот мужчин и ни
одной женщины. Ну о вояках я не говорю. Кто-то, Клаузевиц, кажется, говорил, что половую энергию солдат следует направлять в разумГ6
ное русло, так что за них я не беспокоюсь. Пусть начальство и ищет
для них эго разумное русло, а заодно и для себя. Но мы-то, штатские,
почему мы должны скучать без женского общества? Рэй, как вы думаете?
Я пожал плечами. Цинизм Чатраги, видимо, был не от хорошей
жизни.
Чатраги вдруг сел и, поискав глазами, нашел принесенный с собой
крокодиловый портфель.
— Подайте-ка мне его, Рэй,— сказал он. — Я обещал вам дать
кое-что.
Он порылся в портфеле и вытащил тетрадь в черном коленкоровом переплете.
— Вот, читайте, это дневники одного человека. Отсюда зам станет понятно, что такое неопитеки. Я ухожу, зайду через час.
Чатраги вышел, но тотчас заглянул снова.
— Кстати, я скажу, чтобы вас поместили рядом со мной.
Тетрадка оказалась рукописной. Переплетена в коленкор она, видимо, была позже, потому что сама тетрадка с углов оказалась обгорелой, чем-то залитой, так что отдельные места можно было разобрать только с большим трудом. В начале нехватало страниц и, кажется, очень многих. Дневник начинался чуть ли не с середины.
«...готов понять его, хоть и не совсем согласен с ним. Основная
идея не лишена, конечно, остроумия. В самом деле: для чего трудиться над созданием компактных и мощных счетно-решающих устройств,
потом сводить их в одну автономную систему, снабженную манипуляторами и прочими устройствами, имитирующими органы человека,
когда такие системы давно уже созданы природой. Определенным образом воздействуя на наследственный код высших животных, мы можем получить существа с любыми заданными свойствами. Такова была основная мысль Моллини. Старик молодец, гений. Гений вульгарис, обыкновенный, типичный. С тех пор, когда я слушал его лекции з
университете, он почти не изменился. Все такой же быстрый, колючий, любит соленые шутки. Здоровье у него по-прежнему отличное.
а ведь прошло уже, ни много ни мало, семь лет. «Почему вы не женитесь, Жу-жу?»—спросил он меня. Ведь помнит же, что однокурсники звали меня Жу-жу. Какое славное то было время! Интересно,
где сейчас Полина? Да, а старик-то явно чего-то не договаривал.
14 мая. Работы с каждым днем все больше и больше. Приходишь
к себе усталый до последней степени и сразу — в постель. Так что уже
три месяца я и не прикасался к дневнику. В последнее время старик
взял скверную привычку поднимать среди ночи: срочные анализы. До
утра потерпеть не может. Сам не спит и другим не дает. Телефон что
ли обрезать? Так ведь рассыльного пришлет! Мои подозрения, ч го
старик что-то скрывает, находят новые подтверждения. Наши лаборатории расположены на втором подземном этаже, считая сверху.
Как мы говорим, на минус втором этаже. Ниже нас еще черт знает
сколько этих минус этажей. Кругом стальные двери, секретные помещения, скрытые лифты. Прямо, фараонова гробница. Впрочем, что поделаешь — бывшая военная база. Так вот, вчера я случайно обнаружил, что куда-то вниз каждый день отправляется огромное количество пищи: фрукты, овощи, яйца, мясо, рыбий жир и всевозможные
витамины. Полк солдат можно накормить всем этим добром. Для чего все это? Не морских же свинок кормит старик этой горой провизии!
Надо больше бывать на свежем воздухе. Эта старая дова Гильда
Зонта сказала мне, что я сильно похудел за последнее время. Вообщето, она симпатичная женщина, брюнетка с резкими чертами. Жаль,
что она такая необщительная. И голос, как у простуженной вороны.
Подозреваю, что она мизантропка в душе. Пойду погуляю.
7. «Байкал» № 5
97
15 июня. Сегодня в лабораторию к нам приходил Моллини. Был
в хорошем настроении, шутил — традиционный вопрос: «Почему вы
не женитесь, Жу-жу?» Интересно, на ком? На Зонта, что ли? Кстати,
ей он тоже сказал вполголоса что-то такое, отчего она стала красней
стоп-сигнала. Оказывается, в ней все же есть что-то женское. Может,
он путается с ней? А что? Старик он еще хоть куда!
На днях нагрянули какие-то военные тузы. Сразу видно, что это
немаленькие шишки, может, даже из генштаба. Старикан сам их
встречал. Те как вылезли из вертолетов, так сразу куда-то вниз нырнули и больше не показывались. Пробыли они у нас сутки. Что им
здесь надо? Темная история. Впрочем, это не мое дело. Я получаю неплохие деньги, часть посылаю матери, часть откладываю, питание бес- 1
платное, что еще надо? Мне наплевать, даже если Моллини будет як- шаться со всеми генералами на свете. Хотел бы я знать, что делает
Зонта со своими деньгами? У нее такой вид, что кроме крыс, с которыми она возится, ей ни до чего нет дела. Вот она подлинная-то любовь
к делу.
3 августа. Сегодня навлек на себя неудовольствие шефа. Старикан
подбросил мне ночью срочные анализы, разбудив, естественно. Предупредил, что это страшно важно, страшно срочно и так далее. К утру я
их окончил и, чтобы немного размяться, решил отнести их сам. Меня
останавливали несколько раз всякие церберы, но я тыкал им в носы
листки с анализами, и они меня с неохотой, но все же пропускали.
Так я спустился на три этажа, и вдруг (я в это время стоял на полутемной лестничной площадке) снизу раздался дикий хохот страшной
силы, от которого завибрировали железобетонные лестничные марши,
а затем такой же силы рычанье в несколько глоток. Ужас! Я чуть
не поседел от страха. В это время сверху появился встрепанный Моллини, увидел меня и раскипятился: кто мне разрешил, что мне здесь
надо, кто меня пустил и все такое. Я думал, он меня прибьет или же
его самого хватит удар. Я, конечно, извинился, объяснил причину,
сказал, что я спешил сделать ему приятное, поскольку анализы самые
положительные. Он проворчал: «Ну, это уж позвольте мне самому
оценивать», но, по-моему, он несколько смягчился. Дай-то бог, а то
уж очень не хотелось бы мне терять такую работу. На том и разошлись. Думаю, охране достанется от старикана за то, что пропустили
меня.
Тигров что ли он держит на нижних этажах? В таинственность
все играет, тоже мне Синяя Борода.
26 августа. Погода все эти дни стоит чудесная. Работы чуть поубавилось, так что я больше стал бывать на воздухе, загорел. Вчера во
время прогулки встретил Зонт*а. Она, оказывается, любительница бадминтона. Сыграли с ней несколько партий, я проиграл с разгромным
счетом. Расстались друзьями.
Снова прилетали генералы. Пробыли, правда, недолго, но, видимо,
визит был удачный, потому что старик ходит именинником. Заходил
в нашу лабораторию, смеялся, хлопал по спине, все тот же вопрос:
«Почему вы не женитесь, Жу-жу?». Сказал, что он весьма доволен
мной и хочет предложить мне другую работу. Я был, конечно, польщен. После его ухода Зонта спросила меня, почему старик зовет меня
Жу-жу. Я сказал ей, что так меня звали в студенчестве, и мы добрых
пятнадцать минут вспоминали молодость. Оказывается, она окончила
Саламанкский университет. В ней и в самом деле, есть что-то испанское, от Карменситы. Договорились вечером поиграть в бадминтон.
Весь день с нетерпением ждал вечера.
19 сентября. Уже два дня идет дождь. Шеф ходит еще более пасмурным, чем небо. Дело в том, что от него уехал его ближайший помощник Ник Чатраги. Я его немного знал. Отличный парень и, гово-
рят, большой умница. Шепчутся, что перед отъездом у него был крупный разговор со стариком, но о чем — никто не знает. Действительно,
что они не поделили? Гильда говорит, что расхождение по этическим
вопросам. Я этого что-то не пойму.
Жаль, что погода скверная, и нельзя поиграть в бадминтон. Мне
стало как-то нехватать общества Гильды.
20 сентября. Не знаю, с чего начинать. Я сегодня чертовски счастлив! Уже час ночи, а я, вместо того, чтобы спать, сижу над дневником. Сегодня вечером пошел в библиотеку, сделать кое-какие выписки и почитать новые журналы. Никого не было. Я просидел довольно
долго и уже собрался уходить, как вдруг вошла Гильда! Она была в
красном с черным платье — просто прелесть какая красивая. Взяв со
стеллажей какие-то книги, она села рядом со мной. Сначала мы с ней
говорили о статьях в новых журналах, потом просто о чем-то, я уж не
помню, и тут я сказал ей, что она побледнела и что ей надо поберечь
себя. Она ответила, что она, действительно, ужасно выглядит в последнее время и сама это замечает. Я смотрел на нее и чувствсвал, как у
меня холодеет на сердце. Лицо у нее сейчас было нежнейшей фарфоровой белизны и на нем огромными драгоценными камнями выделялись блестящие черные глаза. Я никогда особенно не задумывался
над тем, когда в сонетах или иных каких стихах поэмы сравнивали
женские губы с цветочными лепестками. Но тут я подумал, что это
не так уж и далеко от истины.
Я промямлил что-то в том смысле, что цвет лица у нее совершенно чудесный и ч го в этом платье она очень красива. Пугаясь собственной смелости, я осторожно взял ее за руку и все пытался вспомнить, что же говорят в подобных ситуациях остроумные и обворожительные герои кинофильмов.
В библиотеке было очень уютно, как-то даже по-домашнему уютно: тишина, полумрак, настольная лампа под зеленым абажуром. И
никого — только мы с ней вдвоем. Я уж не помню, как я ее поцеловал,
и она мне ответила. После этого она убежала, а я остался и долго проводил в порядок свои мысли. Странно, мне уже тридцать лет, но до
сих пор такие вещи производят на меня впечатление, как на гимназиста средних классов. Что же будет дальше?
22 сентября. Сегодня меня вызвал старик и предложил мне работать с ним вместо Чатраги. «Я вполне оценил ваши способности и
ваше трудолюбие,— сказал он мне. — Я верю, что вы оправдаете мое
доверие». Черт побери, неужели я, наконец-то, начинаю восхождение?
Когда я уходил, старик, подмигнув, задел все тот же вопрос: «Почему
вы не женитесь, Жу-жу?» И надо сказать, я впервые задумался над
этим. Действительно, почему?
23 сентября. Пришел в свой новый кабинет. Ковры, стол, телефоны, диктофон, кресла. Неплохо жилось этому Чатраги! Что его заставило уйти? Завтра буду знакомиться со своей, только мне подчиненной группой. Это несколько лабораторий. В нынешнем моем положении плохо только одно — не буду каждый день, как раньше, видеть
Гильду. Может, ее перетащить к себе? Да нет, пожалуй, старик не отпустит ее от себя. Впрочем, поживем — увидим. *
28 сентября. Предчувствие меня не обманывало: старик и в самом
деле скрывал от нас кое-что. Сегодня шеф взял меня вниз и тут я
впервые увидел неопитеков, как он их называет. Это огромные, размером с гориллу, обезьяны с большими круглыми головами. Они сидят
поодиночке и группами в комнатах с толстыми решетками вместо
дверей. Моллини подвел меня к одной решетке, и я увидел косматое
существо, которое сидело за столом и... что-то писало. Да-да, карандашом на бумаге! Я не поверил своим глазам. Моллини торжествовал.
Существо было настолько увлечено своим делом, что не заметило нас.
7*
99
— Что оно делает? — наконец, решился я спросить.
— Оно занято тем, ради чего я и вызвал их к жизни,— напыжившись ответил старикан.— Сейчас они делают расчеты но заказу генерального штаба. Расчеты эти касаются... Впрочем, это не важно.
Пойдемте дальше.
Мы обошли весь этаж, и за каждой решетчатой дверью сидели эти
живые машины, с бешенной скоростью покрывавшие бумагу рядами
пмфр. Сколько их было? Я не считал, но наверняка больше двух сотен. А ведь есть еще и другие этажи!
Прощаясь, Моллини сказал мне, что, само собой, о том, что я тут
видел, не следует никому говорить. Я заверил, что, разумеется, я так
себе это и представлял. Уходя, я снова услышал где-то вдалеке уже
знакомый мне дикий хохот. Моллини сморщился, как от зубной боли,
7
и торопливо удалился. Что бы это значило
8 октября. Случилось то, что, видимо, и должно было случиться.
Вчера, поздно вечером, зашел к Гильде, буквально шатаясь от усталости (Чатраги не зря получал свои деньги, работа, оказывается, у него была адская). Я не видел Гильду три дня перед этим и страшно соскучился.
Мы долго сидели с ней, говорили о чем-то, что нам казалось очень
важным, целовались. Она сказала, что тоже скучала, не видя меня.
Потом как-то так получилось, что я остался у нее на всю ночь.
Боже, как я мог до этого жить без нее! Я не знаток женщин, но, по
моему, Гильда могла бы приворожить даже гипсовую статую, если бы
обняла ее хоть один раз. Я же недаром говорил, что в ней есть что-то
испанское. Кармен! Нет, я должен на ней жениться!
10 ноября. Кроме Гильды ни о чем писать не могу. Она заполняет
все мои мысли. «Почему вы не женитесь. Жу-жу?» Жу-жу скоро женится, черт побери! Слышите, уважаемый шеф? Же-ни-тся! Наверно,
у меня все написано на физиономии. Утром старикан сказал мне: «Что
с вами. Георг? Уж не заболели ли вы?» Да, я болен прекраснейшей в
мире болезнью: я влюблен по уши!
20 декабря. Сегодня я узнал причину и источники дикого смеха,
который я уже слышал до этого. Это — неопитеки. Неизвестно отчего,
то один, то другой из них вдруг бросает работу к впадает в бешенство.
Он скрипит зубами, хохочет, колотит себя кулаком в грудь и бросается
на стены. Сам я не видел, но, говорят, зрелище ужасное. Сегодня
ночью неопитеками овладел массовый психоз. Началось это где-то на
нижних этажах и постепенно перекинулось на всех животных (животных ли? Как их называть?). Кошмарная была ночь. Казалось, все наше здание содрогается от фундамента до крыши. Когда это началось,
я сразу подумал о Гильде (ведь она, бедняжка, не знала о неопитеках) и побежал к ней. Наспех одетые и встревоженные люди толпились в коридорах, но, к счастью, они были настолько взволнованы, что
на меня никто не обратил внимания, и я незаметно проскользнул в
комнату Гильды. Вся дрожа, она прильнула ко мне, спрашивая: «Ради
бога, что это такое?» Я должен был рассказать ей все. Она смотрела
на меня своими огромными
прекрасными глазами, все время повторяя: «Боже, какой^ т жас! Какой ужас!» Кое-как успокоив ее, я побежал к Моллини. Он был з полной растерянности. Если бы взбесилось
одно животное, можно было б как-то успокоить его, сделать соответствующий укол, но как быть со всеми?
— Это психический атавизм,— растерянно бормотал Моллини.—
Я всегда опасался этого. Несмотря на сверхмощный мозг, они где-то в
глубине остались животными. Что же делать? Ведь они взвинчиваются с каждой минутой, и один бог знает, чем все это может кончиться.
— Погасите свет,— посоветовал я.
— Так он погашен еще с вечера.
100
— Тогда зажгите.
Моллини посмотрел на меня дикими глазами, но однако поднял
трубку и приказал зажечь свет. Минут через пять рев стал стихать.
Моллини посветлел и, глядя на меня с благодарностью, сказал:
- Я не ошибся в вас, Георг. У вас ясная голова.
Я скромно поклонился.
— Завтра прилетает один из директоров компании,— продолжал
он.—Я скажу ему о вас.
Я поблагодарил Моллини и вышел.
Интересно, что если бы не удалось успокоить неопитеков? Вот бы
был рождественский подарочек и Моллини, и компании, и генштабу.
Как это он выразился: ясная голова? Возможно, возможно... Остальную часть ночи провел у Гильды.
21 декабря. Сегодня был представлен жирному, как боров, директору компании и длинному тощему полковнику генштаба.
— Наш уважаемый Моллини отзывается о вас как об одном из
блестящих специалистов по неопитекам,— прохрюкал боров. — Очень
рад, что вы у нас работаете. Мы тут говорили и решили узнать заше
мнение... Как вы смотрите на то, чтобы начать э-э... массовое производство неопитеков?
Я вспомнил минувшую ночь и поэтому ответил довольно твердо,
что это, видимо, еще несколько преждевременно.
Полковник неопределенно хмыкнул, вынул сигару и стал скучающе смотреть в окно. Боров недовольно заворочался в кресле. Во
взгляде Моллини была напряженность.
— А вы не могли бы объяснить причину? — поинтересовался боров.
— Видите ли,— осторожно ответил я,— ряд мозговых срезов неопитеков показывает некоторую неустойчивость на уровне синапсов.
Хотелось бы добиться абсолютной стабильности... — И прочее в таком
же духе.
Я говорил совершеннейшую ахинею. Боров ни бельмеса, конечно,
не понял, хоть и кивал, показывая, что все это он принимает к сведению. Полковник продолжал таращиться в окно и дымить сигарой, но
зато на лице Моллини я прочел удовлетворение. Я пошел с нужной
карты.
— Благодарю вас. Это все, что мы хотели выяснить,— сказал боров, протягивая мне свою толстую, как окорок, лапу.
Я поспешил откланяться. Уходя я слышал, как боров говорил, что
все неопитеки, покидающие нас, должны быть стерилизованным!: во
избежание размножения в руках конкурентов.
1 февраля. После декабрьского психоза неопитеки до вчерапш-т<>
дня вели себя тихо. Старые расчеты для генштаба были благополучии
закончены, и обрадованные вояки натащили еще кучу работ. Ким:!": ся, они касались траекторий ракет в непостоянных силовых полях.
Жуткое дело! Но вчера произошла совершенно ужасная пстори;!. В
обед, когда служители разносили по клеткам пищу, один из ноопнтеков, огромный самец, вырвал решетку, обрушил ее со страшной силой
на бедного служителя и бросился бежать по коридору. Хорошо, что
больше никого на его пути не оказалось. С огромным трудом на разъяренного неопитека набросили сеть и заперли его в отдельной кл. тке.
Все это рассказал мне сам Моллини. Он пришел ко мне в кабинет
сразу постаревший, руки его дрожали, когда он наливал себе из сифона.
- Георг, у вас крепкого ничего не найдется? — спросил он, отхлебнув газировки.
Я поспешил достать из стола коньяк, оставшийся еще от Чатраги.
101
— Понимаете, Георг, я стал их бояться,— полушепотом сказал
старик.
— Я чувствую, что они уже ушли из моих рук... Это страшно. Их
нельзя оставлять в таком виде и нельзя уничтожить, потому что компания никогда на это не пойдет. А изменить их психически я не в силах. Боже мой, боже мой!
Но постепенно коньяк сделал свое дело: старик приободрился, на
щеках у него появился румянец.
— Пойдемте, Георг,— вдруг сказал он, поднимаясь,— поговорим
с ним.
— С кем поговорим? — не понял я.
- С неопитеком, с кем же еще? А вы что, не знали, что они могут разговаривать?
Я не нашел слов, чтобы ответить что-то.
Этажом ниже в глубине большой и совершенно пустой комнаты
стояла клетка из мощных стальных прутьев. В ней на металлическом
полу сидел неопитек. Из-под нависшего тяжелого лба на нас, не мигая,
смотрели круглые, налившиеся кровью глаза. Морда неопитека производила отталкивающее впечатление: широкий нос с шевелящимися
ноздрями, безгубый, лягушачий рот, крупные желтые клыки и большие, словно раздавленные, уши. Он то и дело быстро и нервно облизывался и шумно сопел. Когда мы подошли, он нисколько не изменил
позы, только под покрытой жесткими бурыми волосами шкурой резко
вздулись огромные мышцы.
— Как тебя зовут? — резко спросил Моллини. Лицо его напряглось и стало неприятно жестоким, как у какого-нибудь средневекового инквизитора.
Неопитек поочередно очень внимательно оглядел нас, чуть шевельнулся и медленно сказал, отчетливо выговаривая слова:
— Меня зовут Пифагор.
Это было что-то непередаваемо жуткое. Я не знаю, как это объяснить, но когда я услышал этот хриплый лающий голос, в котором
не было ничего человеческого, меня чуть не стошнило. К тому же такое имя. Какой цинизм! Еще немного — и я опустился бы на пол: ноги
меня почти не держали. Человеческая речь, переложенная на звериный голос,— ничего более противоестественного я представить не могу.
А Моллини, тому хоть бы что!
— Ты убил человека. Почему ты это сделал? — продолжал гнуть
свое старик. Готов присягнуть, что в этот момент на физиономии неопитека появилось что-то вроде ухмылки.
— Я хотел убедиться, что это возможно,— заявил Пифагор. Тут
по-моему даже Моллини стало не по себе.
—• Убедиться... — повторил он растерянно. — Зачем?
Неопитека словно подбросило катапультой. Он одним махом пролетел расстояние в добрых пять метров и повис на решетке, вцепившись в нее всеми четырьмя конечностями.
— Теперь мы знаем, что вас можно убивать! — кричал он, просовывая между стальными прутьями свою кошмарную бородавчатую
морду.—Мы вас ненавидим! Да, да, ненавидим! За то, что вы не похожи на нас! За то, что вы держите нас взаперти, как зверей, хотя мы
гораздо умнее вас! За то, что вы истязаете нас, подсовывая нам свои
цифры! Вы сделали так, что мы не можем не считать для вас, хотя
и испытываем при этом страшные мучения! Почему вы сами не считаете, если это вам так нужно? Молчите?! Тогда я скажу: вы к этому
не способны. В вас нет ничего, кроме трусливой и коварной хитрости!
Так знайте же, что рано или поздно мы вас самих посадим в клетки, и
зы будете для нас считать!
102
Я не запомнил всего, что выкрикивал разъяренный неопитек, но
кое-что у меня все же осталось в памяти. Я не знаю, придется ли мне
в жизни быть свидетелем более страшной сцены, чем эта. Не думаю...
Моллини совершенно осатанел под конец. Он мало чем отличался от косматого Пифагора, хоть и был одет в ослепительно белый нейлоновый халат. Думаю, если бы не было между ними решетки, он бросился бы на неопитека. Еще бы: дело почти половины жизни летит
на твоих глазах к дьяволу. И неизвестно еще, что скажут кампания и
генштаб. Тут остервенеешь.
— Ты умрешь сегодня же! — кричал старик, потрясая кулаками.
Его худое лицо с благородным профилем было буквально зеленым. —
Я у тебя живого возьму мозговые срезы! Своими руками!
Неопитек отвечал диким хохотом...
Я почувствовал, что нужно немедленно уйти: у меня началось
расстройство желудка. С огромным трудом я дотащил совершенно
обессиленного Моллини до его кабинета и бросился к себе. В ушах у
меня продолжал греметь адский хохот неопитека. Господи!
Вечером рассказал обо всем Гильде. Реакция ее удивила меня.
Она выслушала, бледнея с каждой минутой, потом заявила, что то,
что делает Моллини,— преступно, и мы немедля должны обо всем
рассказать людям. Вот уж чего не ожидал, того не ожидал. Боже, что
это за день такой выдался — сплошные сенсации. Не говоря уж о том,
что предложение Гильды — чистейшая инфантильность, каким людям
мы должны рассказать о делах Моллини? По моему глубочайшему
убеждению людям абсолютно наплевать на неопитеков со всеми их
математическими талантами. «Бросьте мне морочить голову,— скажет
любой и каждый.— Что из того, что обезьяны считают? И пусть считают себе на здоровье. Не водородная же бомба, чтобы портить себе
кровь из-за этого. А то, что они грозятся, так это их дело. Мало ли
кто пугал нас. Интересно, правда, что они умеют разговаривать, но
ведь попугай, уж на что глупая птица, тоже иной раз такое загнет».
Гильде я этого, конечно, не сказал. А она между тем разволновалась
не на шутку.
— Мы должны привлечь к этому внимание общественности,—
говорила она, порывисто расхаживая по комнате.— То, что ты рассказал, ужасно. Ты хоть представляешь себе всю опасность? Через несколько лет их будет десятки миллионов. Каждая фирма, каждая
контора будут иметь своих неопитеков — ведь они же баснословно
дешевы по сравнению с электронно-счетными установками! И в один
прекрасный день они могут создать человечеству реальную угрозу!
— Дорогая, мне кажется, ты сильно преувеличиваешь. Ну что
такое неопитек? В известном смысле его можно рассматривать как
машину, только не механическую, а биологическую. Для человечества неопитек опасен не более автомобиля, уверяю тебя. Моллини
сумеет подавить в них звериное начало.
Гильда смотрела на меня как на сумасшедшего. Я пытался воздействовать на нее с другой стороны.
— Милая,— сказал я, привлекая ее к себе.— Ведь мы же с тобой
скоро поженимся. Тогда нам, как никогда до этого, будет необходима
хорошо оплачиваемая и постоянная работа в солидной фирме. У нас
будут дети, которым мы должны будем создать благополучие и какоето, хоть небольшое, состояние. Так ведь? А где мы еще можем найти
другую работу, которая сулила бы в будущем столь блестящие перспективы, как здесь? Когда начнется массовое производство неопитеков...
— Как ты можешь так говорить, Георг!—перебила меня Гильда с
горячностью, которой я в ней не ожидал.— Ты понимаешь, что ты говоришь? Ради собственного благополучия ты готов стать соучастии -
ком преступления против человечества! Неужели ты настолько слеп,
что не видишь, чем может обернуться открытие Моллини? Одумайся,
пока не поздно, прошу тебя!
•»
Наш долгий и тягостный разговор так ни к чему и не привел.
Гильда упрямо стояла на своем. Уйдя от нее, я впервые задумался
над тем, что я, в сущности, очень плохо знаю ее. Я всегда был уверен, что такие выражения, как «преступление против человечества»
и прочее в таком же духе, никто не принимает всерьез. Их, конечно,
все охотно употребляют, потому что так принято, но никто такими
понятиями не руководствуется в повседневной жизни. Жизнь требует логики и целесообразности, а если говорить проще — выгоды. А
как же иначе? И вдруг находится человек, близкий и дорогой мне,
который, оказывается, во имя туманных и в высшей степени отвлеченных идеалов готов поступиться своими (и моими) интересами.
Как вы хотите, но это выше моего понимания! Может, виной всему
женская мнительность Гильды?
15 февраля. Вот уже полмесяца неопитеки ведут тебя тихо, подозрительно тихо. Мой сосед по коридору биолог Генрих Ши.м рассказывает, что они усиленно переговариваются какими-то булькающими звуками, чего раньше не было.
Моллини резко сдал. В кабинет к себе он никого не приглашает,
а по коридорам проходит держась близ стен. Вид у него ужасный —•
под глазами мешки, руки дрожат, в поведении появилось что-то суетливо-неуверенное.
Зачастили всякие специалисты из компании. Чуть ли не через
день прилетают военные, все по поводу расчетов траекторий ракет.
На нижних этажах идет монтаж всевозможной аппаратуры. Деньги.
кажется, текут к нам рекой. На днях снова был боров, долго шептался о чем-то со стариком в его кабинете. Что-то затевается. Уж не
хотят ли переходить на массовое производство неопитеков? Зря я,
кажется, в тот раз высказался против.
Отношения с Тильдой, к сожалению, все хуже и хуже. Иногда.
правда, в ней что-то пробуждается, и мы снова бываем вместе. Она
все пытается уговорить меня уехать отсюда, но я тверд. Обычно
эти встречи кончаются ссорами. Что ей мешает уехать? Может, она
все же думает переубедить меня? Напрасные надежды.
27 февраля. Все, Гильда сегодня уехала. Последние дни мы с ней
почти не виделись. Утром, идя к шефу, встретился с ней носом к несу. Она выходила из его кабинета. Поздоровались мы очень сухо л
разошлись. Моллини я нашел в подавленном настроении. Он долго
и, как мне показалось, без особой уверенности распростоанялся со
этике ученого, говорил, что наука стоит вне политики. Приводил
примеры. Когда надо, он бывает весьма красноречив и многословен. Не будь биологом, он мог бы сделать блестящую полит;гческую карьеру. Я битый час выслушивал его излияния, и только под
конец он сообщил, что Гильда оставила работу.
— Мало того,— добавил он сердито,— она еще пыталась обвинить меня, мягко говоря, в научной непорядочности. Каково?!
Кстати, откуда она вообще узнала о существовании неопитекоз 9
Я сделал вид, что понял его вопрос как риторический, на который, как известно, ответа и не ждут.
Ну что ж, если говорить высоким стилем, я принес нашу любовь
в жертву своим научным убеждениям. Оценит ли это кто-нибудь?
Неопитеки, по словам того же Моллини, ведут себя как паиньки.
Дай-то бог, дай-то бог.
6 люфта. «Бойся мартовских ид!» Случилось ужасное, моя жизнь
на волоске. Не знаю, удастся ли мне выбраться живым. Попытаюсь
изложить все по порядку.
104
Вчера поздно вечером ко мне зашел Моллини. Это меня удивило:
старик никогда раньше не удостаивал мою комнату своими посещениями. Он долго молчал, прихлебывал кофе, который я ему заварил
по его просьбе, и зябко ежась, смотрел в одну точку.
- Возможно, они были правы,— сказал он, наконец, как бы про
себя.
— Кто?— поинтересовался я.
— Чатраги и эта... Зонта,— ответил он и снова надолго замолчал.
Я тоже молчал, не зная, о чем и как с ним говорить.
— Слушайте,— вдруг зашептал он, хватая меня за рукав, в глазах его появился лихорадочный безумный блеск,— вы должны мне
помочь. Уже все готово, взрывчатка и все остальное... Своими руками... Мы стояли на неверном пути. Исправим и начнем сначала, но
не так. Вы согласны? Это нужно сделать сегодня. Я полон решимости.
Ку так как, Георг, а? Своими руками, правильно?
Я не понял, что старик имел ввиду, но видел, что он очень не н
себе, и решил его несколько успокоить.
— Хорошо, хорошо,— сказал я.— Но почему же непременно сегодня? Вам надо отдохнуть, выспаться. Завтра все и решим. Давайте
я вас провожу к себе. А может, вызвать врача?
Старик как-то весь погас, сутулясь поднялся и, не простившись,
ушел, шаркая ногами.
После его ухода я лег в постель и, прежде чем уснуть, долго
думал над странными словами шефа.
Разбужен я был страшным шумом. Едва открыв глаза, я сразу
понял, что это взрывы. Раз за разом они доносились откуда-то снизу, заставляя вздрагивать стены. Едва набросив одежду, я выбежал
в коридор. Где-то что-то рушилось и ломалось, и сквозь этот адский
грохот и скрежет доносилось что-то вроде слитного воя. У меня
мелькнула было мысль, что это монтажники ломают что-то, освобождая место для своих громоздких установок, но тут на меня налетел
Генрих Шим с незрячими от ужаса глазами.
— Что это?— он хватал меня дрожащими руками за лацканы и
брызгал слюной.— Может, война? Надо выяснить, бежим!
Я бросился вместе с ним за группой наспех одетых людей, но
потом сообразил, что война, какая бы она ни была, не может начаться из наших подвалов. Я нырнул в боковой переход и попал на галерею, обегавшую поверху огромный зал, в котором когда-то, видимо, стояли главные счетно-решающие системы. Ослепительно белые
стены и серый бетонный пол были залиты ярким, режущим глаза
светом. И тут я вдруг понял, что это неопитеки. У меня похолодело
внутри. Еще не зная, что в действительности происходит, я как-то
интуитивно ощутил присутствие чего-то страшного, неумолимо несущего с собой смертельную опасность.
Шум приближался. Я уже отчетливо различал звериный рев,
раглушить который не мог даже оглушительный грохот разрушении
Через зал стремительно пробежало несколько человек. Даже отсюда,
сверху, я видел мертвенную бледность их лиц. Раздался и сразу оборвался сдавленный нечеловеческий крик. Из распахнутой двери в
противоположной от меня стене вылетело брошенное со страшной
силой человеческое тело. Оно глухо шлепнулось о бетонный пол и
осталось недвижимо. Я хотел бежать, но ноги не повиновались мне
в этот момент. Из той же двери, припадая на одну ногу, выбежал человек в разорванном халате. Трудно было в этом взлохмаченном человеке с перекошенным от ужаса лицом узнать всегда такого элегантного, подтянутого Моллини. И тотчас сразу из нескольких двэрей
в зал хлынули неопитеки. Они бежали довольно медленно, неуклюже переваливаясь на кривых и коротких ногах, но действовали по105
разительно согласованно. Очень ловко они отрезали старика от всех
дверей, так что он сразу оказался между ними и глухой стеной. Во
всем этом чувствовался обдуманный план. Моллини заметался вдоль
стены. Тут два крупных самца стали неторопясь сближаться, беря его
в клещи. Моллини отчаянно заверещал, прижался к стене и какимто беспомощным движением вытянул перед собой дрожащую руку с
раскрытой ладонью. Дальнейшее произошло мгновенно: один из неопитеков схватил старика, раскрутил, держа за ногу, над головой и со
всего размаха ударил им о стену. Раздался звук, словно кто-то наступил на орех, по белой стене брызнуло и блестя потекло что-то
густое и багровое.
Я зажал ладонью рот, чтобы сдержать рвущийся из горла крик,
повернулся и бросился бежать. Опомнился я только у себя в комнате и меня тут же стошнило. Состояние мое близко к
помешательству. Однако у меня хватило сил и мужества осторожно выйти
в коридор и прислушаться. Снизу и сверху не переставали доноситься крики и грохот. Очевидно, неопитеки продолжали охоту за людьми. Я дрожа подобрался к противоатомной стальной двери в конце
коридора и с помощью массивного штурвала наглухо завинтил ее.
Почувствовав себя после этого в относительной безопасности, я обошел все комнаты нашего отсека — вместе с моей их было шесть — и
нигде не обнаружил ни одного человека. Что случилось с ними? Признаться, меня это беспокоило куда меньше, чем то, что станется со
мной. Неужели Гильда была права?
Почти не помню, как я дождался рассвета. Я то выходил в коридор, снова и снова проверяя, крепко ли заперта дверь, то сидел в своей комнате и вздрагивал от каждого шороха. В довершение ко всему
погас свет,— видимо, где-то перебили кабель.
Когда совсем рассвело, я внимательно осмотрел пространство
перед нашим зданием. Нигде не было ни души, только на бетонной
дорожке, ведущей к главным воротам, лежало десятка полтора неподвижных тел. Шум к этому времени стих.
Боже, что происходит? Может, все же удалось загнать неопитеков обратно? Но даже если те две сотни человек, что работали здесь.
все погибли, то ведь существует же остальной мир, откуда должна
прийти помощь! Мне нужно только дождаться ее. Только бы остаться
живым, и я тотчас отыщу Гильду, чтобы сказать ей, как глубоко я
был неправ. Мы с ней сделаем все, чтобы рассказать людям о неопитеках и планах компании. Две сотни жертв сегодняшней ночи заставят считаться с нашими словами! Только бы выжить!
Было еще очень рано, когда я услышал гул вертолета. Как описать мои чувства в этот момент! Я чуть не выпрыгнул с третьего этажа, где находилась моя комната. Вертолет снизился и сделал над.нами круг. Очевидно, что-то показалось им неладным. Может, они заметили трупы на дорожке? Я высунулся из окна и, крича что было
сил. стал махать полотенцем. Вертолет уже завис, собираясь приземлиться, когда откуда-то снизу ударила пулеметная очередь. Мгновенно отлетели куски лопастей, и вертолет, заваливаясь набок, рухнул на землю. Это произошло так быстро и неожиданно, что я еще
некоторое время механически продолжал махать своим полотенцем,
тупо глядя на упавший вертолет. В это время на дорожке появилось
три неопитека. Они не спеша шли, деловито расстреливая на ходу из
автоматов беспомощную машину. Вдруг один из них обернулся и увидел меня. Если бы я не успел отпрянуть в сторону от окна, он, наверняка, всадил бы в меня десяток пуль. Они чиркнули по потолку и
с отвратительным визгом отрикошетили в стены.
Когда я, набравшись храбрости, снова выглянул в окно, неопи106
генов уже не было. Над догорающими остатками вертолета поднимался жирный черный дым.
«ВЕЧЕР ТОГО ЖЕ ДНЯ ГОДА ОТ РОЖДЕСТВА СПАСИТЕЛЯ
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ... НЕ ПОМНЮ
УЖ ТОЧНО. Да и разве это важно? Зато я теперь знаю все! Моллини—
пособник дьявола, если только не он сам. Неопитеки—порождения
сил ада. Теперь все стало на свои места. Наступил конец света. Вы
слышите—уже грядет спаситель наш, скоро раздастся трубный глас,
разверзнутся могилы и раскроются гробы в день Страшного Суда. В
неизреченной милости своей Господь наш приблизит меня к себе, сделает своим компаньоном, и мы займемся массовым производством
ангелов. В райских кущах у меня будет огромный кабинет с диктофоном и непорочными секретаршами. Вот я снова слышу глас Спасителя, он призывает меня к себе обсудить дела нашей компании. Я
должен срочно подготовить докладную записку для своего нового
шефа... ^
Дальше шла такая галиматья, причем с каждым словом становившаяся все более и более бессвязной, что было ясно: писал человек в состоянии интенсивно прогрессирующего умственного расстройства. Я перелистал дневник, чтобы снова прочитать некоторые места,
л постепенно проникся каким-то темным ужасом, который невидимо
присутствовал за моей спиной, уставясь в меня немигающим взглядом. Толстые стены были абсолютно звуконепроницаемы, и в этой
давящей тишине невольно пришла мысль: «А не в этой ли комнате
сходил с ума несчастный Жу-жу?»
Я внимательно оглядывал потолок, ища следы пуль неопитеков,
и, признаюсь, вздрогнул, когда неожиданно распахнулась дверь и з
проеме, шатнувшись, вырос Чатраги.
— Н-ну что, мой ас-систент,— проговорил он, держась за косяк,—•
как вы находите исповедь пасынка века?
— Что случилось с бедным Жу-жу? — был мой первый вопрос.—
Он жив?
Чатраги криво усмехнулся.
— Жив, но лучше бы он умер. Необратимое сумасшествие. Когда
сюда пришли люди, он ни за что не хотел открывать дверь: ему, видите ли, все казалось, что это ломятся неопитеки, которые к этому
времени уже давно ушли в горы. Пришлось забираться к нему через
окно. Жу-жу буквально умирал с голоду, но из последних сил царапался, визжал, кусался, потому что все люди казались ему неопитеками. Ему и сейчас так кажется.
Чатраги как-то боком подобрался к моей койке и рухнул на
нее так, что застонали пружины.
— Скажите, Ник,— спросил я,— а как получилось, что неопитеки
вырвались на свободу?
— Вы, наверно, поняли из записей Жу-жу, что Моллини под конец был уже не совсем нормальным. Так вот, он решил уничтожить
неопитеков и с этой целью понасозал всюду взрывчатку. Десятка два
этих обезьян он убил-таки, а в основном же эта пиротехника проломила стены и вынесла решетки. Вот таким образом неопитеки оказались на свободе. Кстати, ту руку, что я вам показывал, оторвало во
время этой диверсии.
Чатраги курил, лежа в свободной позе с закрытыми глазами, и
пускал в потолок кольца дыма.
— А что случилось дальше с этими... неопитеками?
Чатраги долго молчал, потом сказал совершенно равнодушно,
без всякого выражения— А что с ними случится? Живут, процветают. Плодятся.
— Как так? Разве их не уничтожили?
107
I
Чатраги поднял голову и удивленно уставился на меня.
— .Уничтожили?— он хохотнул.— Ребенок вы, Рэй! А деньги?
— Какие деньги?
— Те, что угробили на них почти за два десятилетия. Или вьй*
думаете, что Моллини на свои собственные сбережения занимало
выведением этих милых зверьков?
— Да нет, почему же...— смущенно пробормотал я.
— Так вот: компания всадила в это предприятие чертову уйт<
миллионов, и ей совсем не улыбалось потерять это огромное стадо
математически одаренных обезьян. Она столкнулась с генштабом, ]
они совместно надавили на президента. Нанятые крючкотворцы бе
труда доказали этим ослам из сената, что неопитеки являются всег^
лишь биологическим эквивалентом электронно-счетных машин, ]
которых кое-что испортилось в системе регулировки. «Ведь случай-Я
ные взрывы на химических комбинатах никогда не являлись основ
ванием для запрещения химического.производства. Почему же тог-я
да,— патетически тряся рукавами, вопрошали они,— почему в дан-«|
ном случае после почти обычного производственного несчастья мы
должны уничтожать такую обещающую отрасль промышленности?»
Представители генштаба многозначительно намекали на свои таин-1
ственные преимущества, достигнутые с помощью неопитеков, и требовали полной секретности в отношении всего, что касалось этих|
обезьян. К тому же компания, прослышав о том, что готовится какое-:]
то расследование, весьма решительно аппелировала к президенту а]
просьбой оградить ее от возможного промышленного шпионажа и
утечки информации. В общем, президент, в конце концов, отменил
всякое расследование, а компания получила во временное владение
солидный кусок Бантийских гор, с тем. чтобы постепенно выловить
оттуда всех сбежавших неопитеков. Газеты, сначала что-то невнятно
писавшие о трагедии на одном из заводов электронно-счетной аппаратуры, после всего этого словно набрали в рот воды: им дали понять, что не следует совать нос в это дело.
Я слегка обалдел от всего, что узнал за сегодняшний день. Боже
милосердный, происходят такие события, а мы в своем заштатном
Хамполе живем как бактерии, умеренно размножаемся, жрем и сладострастно сплетничаем, не видя ничего-дальше собственного носа.
Если и дальше так пойдет, то жители Хампола могут в один прекрасный день обнаружить, что календари всего остального мира показывают время на полвека больше, чем их собственные.
— Ну и как,— робко поинтересовался я,— удалось выложить.
хоть часть этих обезьян?
Чатраги вяло махнул рукой и сказал сквозь зубы:
— А, какая там часть! За все годы несколько полудохлых детенышей и несколько искалеченных в стычке с солдатами взрослых
экземпляров. Они чертовски осторожны и умны. И вот теперь,—
Чатраги оживился, сел на кровати и, сильно жестикулируя, продолжал,— когда стало ясно, что пять лет потеряно впустую, и теми нерешительными полицейскими мерами, что пытались осуществить федеральные войска, ничего не поделаешь,— только тогда правительство
решило взяться за обезьян всерьез. Причем, заметьте, Рэй, вся операция по-прежнему окружена строгой
секретностью.
Для
чего,
спрашивается. А как же, что скажут избиратели, если они узнают
обо всем, какой шум поднимет мировая пресса! Избежать огласки,
любой ценой избежать скандала!— вот о чем пекутся сейчас в первую очередь наши господа сенаторы. А поскольку они никогда не
сталкивались ни с чем подобным, то и методы они избирают наиболее доступные их понимаю. Приглашаются полковники, поднаторевшие в мелких пограничных провокациях и разгонах демонстраций, и
108
.зарабатываются соответствующие планы. А меня, поскольку я осI алея единственным, кто хоть что-то знает о неопитеках, берут кон•ультантом.
Чатраги вскочил и забегал по комнате, отшвыривая ногами стуъя, попадавшиеся на его пути.
— Безобразно упущено время. Никто сейчас даже приблизительно не может сказать, сколько сейчас насчитывается этих обезьян и
:;аков ареал их распространения. Все данные составлены с точностью
до трех крокодилов.— Чатраги зло фыркнул и уставился на меня
гквозь очки круглыми совиными глазами, слоено я был одним из тех
господ сенаторов, по вине которых неопитеки доныне разгуливают
!>а свободе.— Верховья Дизары! Великий боже, ведь это сотни квадратных километров хребтов, ущелий и джунглей. Малоисследованная территория. Я представляю, чем это кончится: потопят в боло!ах с десяток солдат, несколько бронетранспортеров, случайно подстрелят одного-двух неопитеков, вернутся сюда грязные и злые и
на том успокоятся.
Он замолчал и полез в задний карман за фляжкой, но она оказалась пуста. Тогда он потащил меня в офицерский бар, расположе?!ный где-то в подземелье, куда надо было добираться на лифте. Там
он нагрузился столь основательно, что мне пришлось потом тащить
его на себе.
На другой день прибыли еще солдаты. Они толпами вываливались из бронированных недр пузатых десантных вертолетов, тускло
отсвечивая на солнце круглыми металлическими головами.
Когда мы с Чатраги пришли на площадку, там еще продолжалась разгрузочная суета. Багровые от натуги солдаты, топоча тяжелыми пыльными башмаками, носили ящики, надсаживаясь орали
капралы, поодаль скучающе покуривали экипажи вертолетов — здоровенные мордастые парни с засученными рукавами.
'Чатраги некоторое время молча смотрел на все это, потом вдруг
остановил проходившего лейтенанта.
- Скажите, капитан,— доверительно понижая голос, начал он.—
Ведь все идет согласно плану, не так ли? Тактика и стратегия, верно? Как говорится, по всем канонам передовой военной мысли, а?
Лейтенант так здорово выпучил глаза, что они у него на минуту
стали походить на облупленные куриные яйца, сваренные вкрутую.
— Не капитан я,— выдавил он, наконец, из себя. — Лейтенант.
Лейтенант Сволч к вашим услугам.
— Какие пустяки,— запротестовал Чатраги.— Ведь вы же будете
капитаном, господин Сволч?
— Да, возможно... То есть, конечно,— лейтенант Сволч приосанился и всем видом выразил готовность продолжить беседу с Чатраги.
— Мои познания в военном деле не сравнить с вашими,— продолжал Чатраги,— но я хотел бы обратить ваше внимание на один, но
раз уже оправдывавший себя, тактический ход, известный под названием «Троянского коня». В свое время он дал блестящие результаты.
— Это где, в Индо-Китае, что ли?— поинтересовался лейтенант
Сволч.
— Совершенно верно,— отозвался Чатраги.— Дело все в следующем: вы оставляете вертолет с десантом в месте, о котором известно, что где-то поблизости прячется противник, и уходито. Через некоторое время появляется неприятель. Увидев вертолет, он подумает,
что вы его бросили. Правильно?
Лейтенант кивнул и приготовился слушать дальше.
— И вот в самый решительный момент, когда вокруг соберется
как можно больше солдат противника, пришедших посмотреть на
109
трофей, ваши солдаты, которые до этого сидели тихо, как мыши, вья
скакивают наружу, ведя беглый огонь из автоматов. Ну, как ваше
мнение, лейтенант?
Лейтенант Сволч засопел и погрузился в раздумье.
— Я посоветовал бы вам предложить руководству этот план от
вашего имени. Это значительно ускорило бы ваше продвижение шь
службе,— с тонкой, едва заметной улыбочкой сказал Чатраги.— Честь
имеем, господин лейтенант Сволч.
Он легонько тронул меня за локоть, и мы пошли, оставив лейте-1
нанта размышлять об операции «Троянский конь».
Настроение после этого у Чатраги несколько приподнялось, но
все же, когда мы уже подходили к нашему железобетонному дому,
он с явной горечью сказал:
— Право, я не вижу ничего, что давало бы преимущество госпо-'•
дину Сволчу перед неопитеком. Скорее даже наоборот.
* *
^
Полковник Тадэма был в высшей степени хладнокровный человек. За свою жизнь он достаточно понасмотрелся на зрелище льющей--;
ся крови, правда, не своей, но это не имело значения. Шесть с лишком футов росту, соответствующий вес и при этом ни унции лишнего
жиру — мышцы, сухожилия, кости, ну и мозг, естественно. Но даже
этого закаленного мужчину со стальными глазами пробрало до самых
печенок, когда два вертолета, битком набитые солдатами, словно канули в воду. Два дня, в течение которых радисты прошаризали эфир,
а лейтенанты старались не попадаться на глаза полковнику, прошли
в неизвестности и ожидании. На третий день Тадэма вызвал к себе
Чатраги. Мы пришли вдвоем.
— А это кто?—полковник пронзил меня взглядом.
— Мой ассистент. Разрешите, я воспользуюсь вашей зажигалкой.— Чатраги, не спрашивая разрешения, развалился в объемистом
кресле цвета хаки. Я последовал его примеру.
Пока Чатраги неторопясь прикуривал, потом лениво попыхивал
сигаретой за каждым словом, полковник сначала побледнел, потом
побурел и лишь после этого лицо его мало-помалу приобрело естественную окраску. Прежде чем начать говорить, он сделал несколько
судорожных глотательных движений кадыком, словно ему вдруг стало нехватать воздуха.
— Господин Чатраги,— просипел он, наконец, полузадушенным
голосом.
— Я пригласил вас сказать, что пришло время действовать. Положение очень серьезное. Два вертолета с солдатами исчезли неизвестно куда. Несмотря на это, мы должны выявить основные скопления сил противника, окружить их и заставить сдаться!
Чатраги слушал рубленые фразы полковника с совершенно безмятежным видом, откинув голову на спинку кресла и полузакрыв
глаза. Потом он вдруг встрепенулся, извлек свою неизменную фляжку и, сделав основательный глоток, с отвращением потряс головой.
Полковник поперхнулся и начал медленно подниматься из-за стола.
'<Ну, сейчас будет!»—промелькнуло у меня в голове.
— Дорогой полковник,— завинчивая фляжку, как ни в чем ни
бывало спросил Чатраги.— Как вы думаете, куда могли деться вертолеты?
Полковник, опираясь обеими руками о крышку стола, замер в
полусогнутом положении, помедлил и опустился на свое место.
— Хотел бы я это знать,— проворчал он. На лице его было написано сильное желание выставить хамоватого Чатраги вон из каби110
нета, но сделать этого он, видимо, не мог. Чатраги между тем поудобнее устроился в кресле и задумчиво уставился в потолок.
— Я ожидал чего-то подобного,— глубокомысленно заметил он
и надолго замолчал.
Полковник нетерпеливо заерзал в своем кресле, кашлянул, но
это не возымело никакого действия: Чатраги все так же глядел в
потолок.
— Господин Чатраги, вы — крупнейший специалист по неопитекам,— с кислой миной проговорил Тадэма.— Скажите, вы видите какую-нибудь связь между исчезновением вертолетов и этими обезьянами?
Чатраги перевел взгляд с потолка на полковника.
— Одно из двух,— изрек специалист по неопитекам, с?юва доставая фляжку.— Либо ваши солдаты так увлеклись поимкой неопитеков, что забыли о вас, либо они сами попали в плен к неопитекам,
и тут уж, понятно, им тем более не до вас.
— Послушайте,— угрожающе начал Тадэма, снова меняясь в лице.— Мы тут с вами не на конкурсе юмористов...
Но тут уже озлился Чатраги.
- Нет, это вы послушайте!—заорал он, вскакивая с кресла. При
этом он так энергично взмахнул рукой, что окатил из фляжки и меня
и полковника. Кабинет стал наполняться острым благоуханием выдержанного французского коньяка.
— Не я ли предупреждал вас и всю вашу шайку о том, что с неопитеками обычные средства не годятся!— продолжал кричать специалист, размахивая уже пустой фляжкой.— Если они еще в то время,
с голыми руками и ничего почти не зная об окружающей среде, разнесли лабораторию Моллини вместе со всей охраной, то чего от них
можно ждать сейчас? Вы хотите применить те же методы, что и против безоружных туземцев в колониях или докеров, вооруженных булыжниками. Но тут вам противостоят существа, любое из которых
в десятки раз умнее всего вашего генштаба! Я взывал к вашему благоразумию, я пытался разбудить в вас людей, но вы слишком биржевики, чтобы понять меня. Да, да, все вы трусливые биржевики!
Компания боится потерять деньги, генералы боятся потерять дешевые счетные машины, правительство боится запятнать фрак в глазах
мировой общественности. Ради бога, без огласки, полицейскими мерами, без шума, да верните нам их по возможности целыми — вот
инструкции, которые мы получили! Что вы скажете теперь, дорогой
Тадэма? Два вертолета и две сотни людей, и это еще не все! Нет, не
все! А этих жертв могло бы не быть, если бы мы с самого начала
обработали с воздуха верховья Дизары, чтобы там не осталось ничего
живого. Никто не сказал бы нам ни одного плохого слова, даже если
бы мы применили там химическое оружие. Люди и неопитеки не могут вместе жить на одной планете, как не возможен симбиоз человека ' и возбудителя бубонной чумы!
Только тем, что Чатраги был по своему обыкновению пьян, могу
я объяснить эту его вспышку. Он уже давно и неоднократно имел
возможность убедиться, что все его подобные попытки обречены на
провал.
Когда Чатраги, совершенно обессилев, умолк, полковник, до того
равнодушно рассматривавший свои ногти, холодно, с расстановкой
произнес:
— Господин Чатраги, нас совершенно не интересует, что вы думаете о неопитеках. Нам нужны только факты и ваши знания, а все
эти сомнительные политические выкладки, которые вы с такой горячностью изложили мне, не имеют никакого значения. Оставьте их
пока при себе.
111
Чатраги уже успокоился, к тому же в его фляжке не осталось
ни капли.
- Факты?— иронически спросил он.— А что, целых двух вертолетов, до отказа наполненных этими самыми фактами, вам не достаточно?
Тут я убедился, что кому попало полковников не присваивают:
Тадэма сохранял завидное самообладание.
— На войне без жертв не оывает,— заявил он, каким-то образом ухитряясь глядеть на нас сверху, хотя мы и сидели на одном
уровне.— У нас пока еще слишком мало данных о противнике. Завтра на разведку полетят еще два вертолета. Я лично буду поддерживать с ними постоянную связь.
— Может, лучше вам самому полететь?— спросил Чатраги.— На
вашем месте я так бы и сделал.
Полковник снисходительно усмехнулся.
— У нас, у военных,— сказал он, подчеркивая последнее сливо,— существует такое слово «субординация». Говоря проще: богу
богов, кесарю кесарево. Полетит кто-нибудь из лейтенантов.
— Да, кстати,— оживился Чатраги.— У вас есть один очень незаурядный лейтенант. Зовут его Сволч, если не ошибаюсь. Пошлите его.
У полковника на какой-то момент промелькнуло выражение,
словно он надкусил лимон.
- Вы не ошибаетесь, господин Чатраги,— сухо сказал он.— У
нас действительно есть лейтенант Сволч. Он сейчас отбывает дисциплинарное наказание и поэтому никуда лететь не может.
- Да что вы говорите!— поразился Чатраги.— В чем мог провиниться этот милейший человек?
- Слушайте, Чатраги,— окрысился полковник.— Мои парни университетов, конечно, не кончали, но это вовсе не дает вам права делать их мишенью ваших глупых шуток. Троянский конь!— он зло
фыркнул.— Конечно, я его наказал, чтобы он в следующий раз не
слушал всяких штатских болтунов. И учтите, если кто-нибудь из
них в бою случайно выстрелит вам в спину, я не стану придавать
этому большого значения.
Чатраги расхохотался совершенно искренне.
— Дорогой Тадэма, без вашего совета они не додумаются даже
до этого.
Полковник холодно усмехнулся и пожал плечами. Я подумал,
что с него станется и проинструктировать своих парней на этот
случай.
На следующий день рано утром на разведку улетели еще два
вертолета, ощетинившиеся пулеметами, как ежи. Из всех иллюминаторов торчали стволы, а когда вертолеты оторвались от земли,
под брюхом у каждого я разглядел еще и по две скорострельные
пушки среднего калибра.
Полковник, торжественный, в ловко сидящем мундире, сам провожал их, стоя на бетонных плитах площадки. Взлетая, вертолеты
подняли такой ветер своими винтами, что вся свита полковника вынуждена была отвернуться, с кого-то снесло фуражку, но Тадэма,
прямой, как струна, даже не шелохнулся, продолжая держать под
козырек правую руку, пока вертолеты не скрылись за вершинами деревьев. Лишь после этого он торопливо покинул площадку — пошел
поддерживать связь с улетевшими.
Судя по всему, долгое время все шло нормально. И только когда
всех, кто шатался по базе без дела, сдуло, словно ветром, а лейтенанты забегали на цыпочках, я понял, что опять что-то случилось.
Я вышел в коридор. Было непривычно тихо, лишь где-то эта112
жом ниже драл глотку не в меру ретивый капрал, да и тот скоро замолчал. Я направился к Чатраги, попытаться что-нибудь выяснить,
но комната его оказалась пуста. На столе валялись сигареты, иллюстрированные журналы и куча книг. Я решил дождаться его прихода.
Чтобы скоротать время, я открыл шкафчик, где специалист по неопитекам держал свои спиртные запасы, и извлек оттуда начатую бутылку коньяка.
Чатраги явился примерно через час.
— Ну и дела!— сказал он с порога, увидев меня.— Объявлен
крестовый поход: завтра выступаем в верховья Дизары.
— Что опять случилось, Ник?
— Неопитекл, кажется, снова уничтожили наши вертолеты. Во
всяком случае, в эфире их нет. Связь оборвалась мгновенно. Шли
самые обычные сообщения — что видят, где пролетают, и вдруг —
шум, треск и все оборвалось. Успели разобрать только два слова —
что-то похожее на «голубые шары». Откровенно говоря, я начинаю
жалеть, что втянул вас в эту историю.
Он со страшно усталым видом подошел к своей койке, поправил
подушку, постоял, задумчиво опустив голову, и осторожно, как-то нерешительно, прилег. Вид у него в эту минуту был растерянный, таким я его еще не видел.
— Вы думаете, это сделали неопитеки?—спросил я, досадуя, что
невольно задаю тот же вопрос, что и Тадэма
— Ничего я не думаю,— вяло сказал Чатраги.— Я сообщаю только факты, как говорит наш друг полковник. Кстати, он меня опять
сегодня спрашивал об этом.
Чатраги закрыл глаза и, кажется, задремал. Я встал, собираясь
уходить, но Чатраги вдруг открыл глаза и потянулся к бутылке.
— Давайте, Рэй, пропустим по одной. Я чувствую, что нам еще
не скоро удастся посидеть вот так — не торопясь, в спокойной обстановке... Да, не скоро... Или вообще никогда, пеуегтоге, как говорит
ворон у Эдгара По.
— Ну зачем же так мрачно,— сказал я, усаживаясь за стол.—
Мне почему-то кажется, что все обойдется.
— Да, да, конечно,— рассеянно согласился Чатраги и наполнил
знакомые уже мне пластмассовые стаканчики.
— Я сегодня намерен напиться до освинения,— с усмешкой заявил он, прищурился, словно прицеливаясь, и одним глотком осушил
свой стаканчик.
Я немного отпил и осторожно задал Чатраги вопрос о том, не
кажется ли ему, что он несколько злоупотребляет крепкими напитками.
— Представьте себе, Рэй, кажется,— ответил Чатраги и тут же
налил еще.— Но без этого мне было бы чертовски грустно жить на
свете. Эта дрянь обладает чудесным свойством растворять тот отвратительный осадок, что оседает на дне души при виде всего, что мы
насобачились делать в этом мире.
Он выпил, вздохнул и посмотрел на меня увлажнившимися
глазами.
— Да, насобачились, научились кое-чему: биология, химия, физика и прочие наши нехитрые тайны. Но со всем этим хозяйством
мы подобны ребенку, которому вдруг попали в руки спички — он их
зажигает, радуется, что способен это делать, хихикает, глядя на пламя, и не понимает, дурачок, что он может сгореть вместе с домом.
Так же и мы, с той лишь разницей, что рядом нет взрослого, который
мог бы отобрать у нас эту опасную игрушку. Нет, вы только подумайте, Рэй,— человечество — наконец-то!— достигло желанного могущества: оно может уничтожить само себя! Какой триумф ума! Бо8. «Байкал» Л° 5
ИЗ
же, боже...— Чатраги отчаянно замотал головой, словно от невыносимой зубной боли.— Просто так взять и перебить друг друга нам
показалось делом не столь уж надежным — вдруг кому-то не захочется умирать и он возьмет да помешает. И вот Моллини, благодетель человечества, создает неопитеков. Эти-то уж сработают чисто,
не посрамят надежд, и уже нашему поколению, быть может, выпадет
счастье быть свидетелями конца света, о чем писал в своих сумеречных откровениях наш Жу-жу. За это его, видимо, следует причислить
к лику святых. Евангелие от Жу-жу! Как вам это нравится?
Чатраги захохотал и опрокинул еще одну стопку. Я последовал
его примеру: уж очень скверно подействовало на меня мрачное
красноречие специалиста по новейшим обезьянам.
Часа через два. поддерживая друг друга, мы отправились на по- <
иски Тадэмы с твердым намерением набить ему морду. Полковника
мы, конечно, не нашли, но зато Чатраги, как выяснилось, бывший в
свое время чемпионом университета, очень изящно нокаутировал здоровенного капрала, пытавшегося не пустить нас в офицерский бар.
После этого мы со спокойной совестью отправились спать.
* *
Верховья Дизары — это невообразимая мешанина скалистых отрогов Главного Бантийского хребта, сырых джунглей, болот и плоскогорий. Десятки безымянных рек, сотни мутных потоков сливаются
здесь под сумрачными сводами гигантских деревьев, давая начало
полноводной Дизаре. Когда-то, задолго до появления неопитеков,
здесь находился какой-то рудник, впоследствии заброшенный, и от
того времени тут остались кое-какие здания, горнодобывающее оборудование, небольшая гидроэлектростанция и запущенная дорога, по
которой мы и добрались сюда.
Уже с первого дня стало ясно, что неопитеки здесь порядком успели похозяйничать. Электрики клялись, что электростанция приведена в негодность совсем недавно.
— Но она же была демонтирована. Это мне точно известно,—
буркнул Тадэма.
Длинный и белобрысый инженер-лейтенант в мешковато сидящей форме в ответ пожал плечами.
— Что ж вы молчите? Продолжайте!— рявкнул полковник.
Инженер-лейтенант растерянно заморгал голубыми глазами. Он
был еще совсем молод, этот инженер-лейтенант, и, видимо, не очень
ясно представлял себе, что это за война может быть с обезьянами.
— Генераторы здесь устаревших марок. Поэтому демонтировать
их не было смысла,— сказал он, наконец. Было видно, что он несколько обижен тем, что полковник не доверяет его профессиональным познаниям.
— Черт побери!—вырвалось у полковника. Он повернулся и пошел прочь.
Чатраги, злорадно усмехаясь, посмотрел ему вслед, потом повернулся к инженер-лейтенанту.
— Лейтенант, вы не могли бы сказать, куда ведут коммуникационные кабели? Ведь если вырабатывалась энергия, ее должны были
где-то потреблять, не так ли?
— Не могу вам ничего сообщить об этом,— равнодушно сказал
лейтенант. — Распределительные блоки основательно
разрушены,
трудно в чем-либо разобраться. К тому же кабели, если они есть,
идут под землей.
Чатраги хмуро выслушал его и потащил меня продолжить осмотр рудничного хозяйства.
В здании, где когда-то, видимо, размещались ремонтные мас-
114
терские, даже мне стало ясно, что заброшенный рудник был не столь
уж заброшенным: здесь до недавнего времени кипела работа. Бросались в глаза какие-то чудовищного вида аппараты неизвестного назначения, собранные из самых неожиданных узлов и деталей, некоторые из них я узнал: карданный вал от легкового грузовика, почти
целый пылесос, несколько трансформаторов, применяемых обычно
в бытовых приборах, и два колеса от детской коляски. Остальные
части этих технических химер были мне неизвестны.
Переходя из комнаты в комнату, мы всюду встречали эти уродливые и таинственные приспособления и, наконец, войдя в последнюю, остановились, пораженные. Вместо наружной стены перед нами зияла огромная дыра, через которую свободно мог бы въехать
бронетранспортер. Края у этой дыры были оплавлены, а сверху бахромой свешивались сосульки застывшей силикатной массы.
— Вот это да;— ахнул Чатраги.— Вы видели когда-нибудь подобное? Я — нет. На взрыв это, во всяком случае, не похоже. Ну
и ну...
Мы подошли к дыре, потрогали ее края — на ощупь это было
стекло, твердое, холодное и скользкое. Через эту дыру мы выбрались наружу и направились к следующему дому.
Войдя, мы сразу же обратили внимание на одну, не замеченную
нами раньше, особенность. Стены во всех комнатах были исписаны
цифрами, сплошными рядами каких-то головокружительных вычислений. Эти записи, сделанные разноцветными карандашами, красками, углем и просто выцарапанные чем-то острым, были расположены
столь густо, что рябило в глазах. На полу, вперемешку с раздробленными костями и огрызками фруктов, валялись листы оберточной
бумаги, старые газеты, страницы из книг, захватанные обрывки светлой материи, и все это было также покрыто цифрами.
Чатраги поднял один листок и громко прочитал:
Едва ко мне вернулся ясный разум,
Который был не в силах устоять
Пред горестным виденьем и рассказом,—
Уже средь новых пыток я опять.
— Данте, «Божественная комедия», — сказал он.—Ну, конечно,—
стихи, большие поля, есть где писать цифры... Постой-ка, что это за
вычисление? Кажется... кажется, это мне немного знакомо...
Разумеется! Это же решение Великой Теоремы Ферма! Бог ты
мой, как просто. Да знаете ли вы, Рэй, что любой математик с радостью отдал бы вам собственный глаз, чтобы оставшимся только на
минутку взглянуть на этот листок!
Чатраги вдруг захохотал и так же неожиданно оборвал свой смех.
Чуть поколебавшись, он сложил вчетверо страничку из «Божественной комедии» и спрятал ее в бумажник.
— Что ж, теперь самая пора идти к нашему полководцу совещаться,— заявил он, оглядывая комнату.— Надо узнать, как он думает распорядиться нашими жизнями.
Наскоро размещенный штаб находился в центре поселка в довольно неплохо сохранившемся здании. Стекла в окнах штаба уже
были вставлены, над крышей бодро топорщились длинные усы антенн, а у подъезда толпилось с десяток вездеходов, «муфлонов», амфибий и бронетранспортеров.
Чатраги, не разбирая дороги, шагал напрямик через заросли густой травы, с хрустом давя тяжелыми армейскими башмаками водянистые листья огромных лопухов и гроздья какой-то крупной фиолетовой ягоды, очень неаппетитной на вид. Поспешая за ним, я уго8*
115
дил ногой в глубокую яму, после чего начал хромать. Чатраги тоже
споткнулся, мельком оглядел яму и неопределенно хмыкнул.
—• Держу пари, что это наши неопитеки охотились за грызунами,— сказал он на ходу.— Всю живность поели в округе. То-то я не
вижу даже какой-нибудь захудалой землеройки. А вот наши предки
начинали с мамонтов, м-да...
Полковник сидел над картой. Он был не один — в кабинете на»
ходились еще два майора и молодой щеголеватый капитан.
— А-а, специалист по неопитекам и его ассистент,— иронически
протянул Тадэма, увидев нас.— Кстати, специалист, вы не скажете,
что это за дурацкие иероглифы у меня на стенах?
— Они не только у вас,— резко ответил Чатраги.— Они везде.
— Скажите, пожалуйста!—полковник насмешливо откинулся на
спинку походного кресла и сложил на груди руки.— И вы можете
объяснить, что это значит?
— Извольте. Эти, как вы выразились, дурацкие иероглифы обозначают, что неопитеки между делом разрешали то, над чем лучшие
умы человечества безуспешно бились веками.
— Забавно.— полковник с усмешкой выгнул бровь и посмотрел
на капитана.— А вот капитан — он только сегодня прибыл к нам из
генштаба — утверждает, что все это бессмысленный набор цифр и
математических символов, абракадабра. Между прочим, господин
Чатраги, он так же, как и вы, окончил университет, математик. Так
что, господин Чатраги, ваши неопитеки, как и следовало ожидать,
деградировали, выродились без соответствующего надзора. Сейчас
они просто стадо обезьян и ничего больше.
Вместо ответа Чатраги вынул страничку из Данте и протянул
ее капитану.
—• Надеюсь, вы сумеете понять, что здесь изображено.
— Что такое?— капитан с недоверчивой улыбкой взял листок,
пробежал его глазами, быстро взглянул на Чатраги и снова уткнулся
в листок. Он уже больше не улыбался.
— Теорема Ферма!— воскликнул он, вскочил и взволнованно
забегал по кабинету.— Это же мировая сенсация, открытие века!
Полковник переглянулся с майорами и непонятно усмехнулся.
Он сегодня вообще был непривычно весел. Видимо, гибель четырех
вертолетов благополучно сошла ему с рук.
— Хорошо, капитан,— сказал он.— Пусть то, что показал вам
господин Чатраги,—сенсация. А это тогда что такое?—полковник
обвел рукой испещренные стены.
— Не знаю, не знаю,— капитан с какой-то опаской покосился на
стены.— Это, наверно, нечто такое, что пока еще непостижимо нашему уму.
— Ах, вот даже как,— полковник снова обменялся улыбочками с
майорами.— Что ж, все понятно, все понятно.
— Нет, вам еще не все понятно,— зло проговорил Чатраги.— Вы
не знаете, случайно, способа проплавить в стене из силикатного кирпича отверстие, через которое мог бы проехать грузовик?
— Не понимаю вас, господин Чатраги.
— Недалеко отсюда стоит дом, в стене которого имеется именно
такое отверстие. Можете сходить и лично убедиться в этом.
Полковник, наверно, ни за что бы не пошел смотреть этот дом,
но Чатраги вцепился в него, как призовой бульдог, к Тадэме волейневолей пришлось прогуляться. Надо сказать, дыра произвел а-таки
на него впечатление. Он внимательно осмотрел ее, поцарапал ногтем
оплавленный край и задумался.
— Вы думаете, это сделали неопитеки?— обратился он, наконец,
к Чатраги.
116
— Я знаю только одно: само это образоваться не могло.— был
ответ.
С этой минуты полковник заметно притих. Вернувшись в штаб,
он долго мерял шагами свой кабинет из угла в угол, заглядывал в
разостланную на столе карту, что-то бормотал себе под нос.
— Слушайте, полковник,— не выдержал Чатраги.— Что вы намерены делать дальше?
Полковник остановился посредине кабинета, чуть наклонив голову и расставив длинные ноги в прямых брюках, заправленных
в высокие сапоги с квадратными волевыми носками. Прежде чем начать говорить, он внушительно откашлялся.
— Завтра мы начинаем углубляться в джунгли,— заявил он окрепшим голосом. — Побатальонно. В трех направлениях к Главному
Бантийскому хребту.— Он подошел к карте и троекратно рубанул
над ней ребром ладони.— Наша операция будет носить кодовое название «Тритон».
Чатраги прыснул у меня над ухом.
— Господин Чатраги, вы хотите что-то сказать?—полковник
вскинул голову.
— Нет, ничего... то есть да. Очень удачное название—«Тритон».
Тритоны живут в воде, а обезьяны, наоборот, обитают на суше. Так
что никто ни о чем не догадается. Очень удачное название. Кстати,
господин полковник, посты, надеюсь, расставлены? А то мне, знчете
ли, очень не хочется, чтобы неопитеки расплавили ночью дом, в котором я буду спать.
— Можете быть спокойны,— заверил Тадэма.— Это давно сделано. В первый же день, как мы сюда прибыли. Есть еще вопросы? Нет
вопросов? Тогда я вас не задерживаю, господа.
Операция «Тритон» должна была начаться утром следующего
дня, но еще до наступления вечера произошло два немаловажных
события.
Когда мы вернулись к себе, расстроенный Чатраги небрежно
распихал локтем разбросанные по всему столу коробки с патронами,
мыльницы, автоматы, сигареты, на освободившееся место выставил
бутылку спирта и объявил, что он намерен ослабить впечатление от
разговора с полковником.
— Кто пьет в одиночку, тот чокается с дьяволом,— добавил он.—
Достаньте, Рэй, банку колбасного фарша и садитесь напротив.
Он порылся в куче на столе, выудил тяжелый нож, из тех, что
входит в вооружение десантников. Потом он не торопясь установил
банку, тщательно примерился и одним ударом разрубил ее на две
одинаковые половинки.
Мы только успели выпить по разу и, передавая друг другу нож,
приступили к фаршу, когда с улицы послышался шум множества
возбужденных голосов.
Чатраги поднял голову и прислушался.
— Что опять происходит, уж не расплавили ли обезьяны наш
штаб вместе с Тадэмой? — он подошел к окну, откинул противомоскитную сетку и высунулся по пояс наружу.
— Ах, черт! Идите скорее сюда, Рэй!— он проговорил это с таким волнением, что я бросился к нему чуть ли не бегом.
— Смотрите, смотрите, вон они уже подходят к штабу,—зашептал
Чатраги, обдавая мне жаром ухо.
Он мог бы этого не говорить, потому что я сразу увидел все. К
штабу направлялась группа офицеров. В центре ее особняком, так
что вокруг него оставалось метра по три свободного пространства,
шел кто-то огромный и черный, на две головы возвышаясь над все117
ми. Сзади на почтительном расстоянии валила беспорядочная толпа
солдат, а со всех сторон сбегались еще любопытные.
Я ощутил — нет, не страх,— а скорее какое-то острое любопытство, смешанное с отвращением, от которого по спине пробежал легкий озноб.
— Это он, да? Это он и есть? — тоже почему-то шепотом спросил я.
Чатраги помедлил, потом громко и раздельно произнес:
— Да, это та самая новейшая обезьяна профессора Моллини.
Он сделал паузу и деловито добавил обычным тоном:
— Пойдемте, Рэй. Мы как специалисты по неопитекам должны
быть сейчас в штабе.
Чатраги надел куртку, с сожалением взглянул на недопитую бутылку и направился к двери. Я последовал за ним, но прежде почемуто сунул в задний карман пистолет.
Штаб гудел, как растревоженный улей. У входа толпились солдаты, расхаживали важно нахмуренные капралы. В маленьком вестибюле и в коридорах кучками стояли офицеры и оживленно переговаривались вполголоса. Увидев нас, они умолкали и провожали любопытствующими взглядами.
У двери в кабинет полковника стояли здоровенные десантники с
автоматами наизготовку. За маленьким столом в углу сидел лейтенант Сволч. При виде нас он набычился, но все же кивнул: «Пропустить!»
Первое, что мне бросилось в глаза, едва я переступил порог полковничьего кабинета, было огромное волосатое туловище, с трудом
умещавшееся в кресле. Короткие ноги неопитека едва доставали до
пола, но зато голова его, размером с медвежью, намного возвышалась
над спинкой кресла. Не знаю, возможно, мне помог выпитый спирт, но
я спокойно выдержал пристальный взгляд этого кошмарного существа, прошел в глубь кабинета и сел рядом с Чатраги.
Чуть бледный и неестественно прямой полковник сидел за своим
столом. Уже знакомые мне два майора и человек пять других офицеров сидели вдоль стен лицом к неопитеку.
— Вот, господин Чатраги,— сказал полковник хриплым незнакомым голосом,— прибыл парламентер.
Неопитек оглядел Чатраги свирепыми кабаньими глазками и
шумно вздохнул.
— Что они предлагают? — спросил Чатраги, обращаясь к полковнику.
— Вот об этом мы как раз и говорили перед вашим приходом.
Продолжайте, пожалуйста. — Полковник повернулся к неопитеку.
— Вы должны уйти отсюда,— довольно отчетливо пролаяла
обезьяна, голос у нее был низкий и гулкий, как из бочки. — Наша территория остается за нами. За это мы обязуемся в течение ближайших
пятидесяти лет не напоминать о себе.
Неопитек умолк, прорычал еще что-то неразборчивое и быстро
облизнулся.
— А что будет потом, по истечении этих пятидесяти лет? — поинтересовался Чатраги. Лицо его покрылось пятнами, под тонкой кожей
на скулах вздрагивали желваки.
— Пятьдесят лет беспрепятственного развития — и мы сможем на
равных сотрудничать с вами. Планета достаточно велика, чтобы на
ней могли существовать две разумные расы.
Полковник искоса метнул на Чатраги короткий взгляд и зычно
откашлялся.
- Понятно,— громко сказал он, посмотрев на майоров. — Мы не
можем принять ваших условий. Мы предлагаем вам другое. Вы доб118
ровольно возвращаетесь обратно и э-э... будете продолжать заниматься тем же, чем и раньше. Вам обеспечат все условия для э-э... труда,
превосходный уход, много вкусной и сытной пищи. В случае отказа,
мы вынуждены будем применить силу. Вам дается сорок восемь часов, к течение которых вы обдумываете наше предложение, после чего выходите из джунглей и сдаете оружие.
Неопитек ухмыльнулся, двинул ушами и отрицательно помотал
огромной косматой головой.
— Вы ничего с нами не сделаете,— нагло объявил он.— Мы достаточно сильны, чтобы защитить себя. В этом вы уже убедились на примере ваших вертолетов. Их судьба постигнет и вас, если вы не уберетесь отсюда. Мы даем вам двадцать четыре часа.
— Это ваше окончательное решение? — спросил Тадэма. Вид у
него был несколько растерянный.
Неопитек кивнул и, запустив лапу за спину, стал громко и с явным удовольствием чесаться. Наступила пауза. Все молчали, завороженно глядя на блаженно похрюкивающую обезьяну. Все это было
до того неестественно, что у меня мелькнула мысль: уж не вижу ли я
кошмарный затянувшийся сон?
— Я же говорил, полковник, что разговаривать с ними бесполезно,— очень громко и неожиданно, заставив всех вздрогнуть, сказал
Чатраги.— Их нужно уничтожать, как бешеных собак.
Неопитек бросил чесаться и пристальным запоминающим взглядом посмотрел на Чатраги. Я незаметно вытащил из кармана свой пистолет и спустил предохранитель и в то же время подумал, что убить
косматого парламентера, если им овладеет приступ ярости, будет не
так-то просто — очень уж могучим выглядело это существо. Мерно, в
такт дыханию, как кузнечные мехи, вздымалась широченная грудная
клетка с твердыми буграми мышц, а руки его в области бицепсов были толщиной с бедро взрослого мужчины. Признаться, мне стало здорово не по себе, когда Чатраги резко поднялся, пересек большими шагами комнату и остановился перед неопитеком буквально в двух шагах. Слегка наклонившись и пристально глядя обезьяне прямо в глаза,
он властно спросил:
— Для чего вам понадобилась электроэнергия?
Неопитек несколько раз моргнул и, отведя глаза, неохотно пробурчал:
— Для работы над нашим оружием.
— Что это за оружие? — жестко, звенящим голосом продолжал
Чатраги.
Неопитек молчал, все так же глядя в сторону.
— Смотри мне в глаза! — потребовал Чатраги.
Обезьяний парламентер не шелохнулся. В кабинете стояла пронзительная тишина. Полковник и его подчиненные смотрели на происходящее непонимающими глазами и тоже молчали.
Вдруг неопитек как-то странно вздрогнул и обмяк. Голова его
бессильно свесилась набок, глаза стали закрываться, и я на минуту
с отвращением увидел желтоватые белки с толстыми прожилками
кровеносных сосудов.
Чатраги вздохнул и вернулся на свое место. Лоб у него был влажный, а лицо бледнее обычного и усталое.
— Что происходит, господин Чатраги? — с неудовольствием начал было полковник поднимаясь, но в это время неопитек поднял голову, исподлобья оглядел всех, встал и, тяжело шагая, направился к
выходу. На пороге он чуть постоял, потом раскачиваясь двинулся
дальше, не обращая внимания на оторопело отскочивших автоматчиков.
119
Когда дверь захлопнулась, полковник перевел вопросительный
взгляд на Чатраги.
— Итак?
— Гипноз,— лениво пояснил Чатраги. — Я хотел узнать, что у
них за оружие, но, как вы убедились, психическая конституция этого
дипломата оказалась не на высоте.
— Черт бы вас побрал с вашими опытами!—взвизгнул доселе
молчавший майор с желтоватым, нездоровым цветом лица. — Вы
умышленно сорвали переговоры. Вы за это ответите!
Чатраги вместе с креслом повернулся, оскорбительно осмотрел
невыдержанного майора и холодно заявил:
— Я знаю, вы из контрразведки, но даже это не является достаточно уважительной причиной, чтобы говорить глупости.
У майора вытянулось и без того длинное лицо. Он совершенно
онемел от ярости. Не обращая уже больше на него внимания, Чатраги
переключился на Тадэму.
— Ну что,— спросил он,— теперь-то вы убедились, что никакие
переговоры с этими монстрами невозможны? Кроме того, мы узнали,
что они настроены очень решительно и возлагают, не без оснований,
большие надежды на свое оружие. Поэтому я еще раз...
— Чепуха! —безаппеляционно перебил майор из контрразведки.—
Никакого секретного оружия у них нет. Уничтожение вертолетов —
это дело рук красных. Они, видимо, установили связь с неопитеками.
Чатраги с секунду сидел с выпученными глазами, потом принялся так громко хохотать, что в дверях появилось встревоженное лицо
лейтенанта Сволча.
Вернувшись к себе, Чатраги хлебнул спирта, доел фарш и, стиснув голову руками, повалился на койку.
— Господи,— с отчаянием сказал он,— как мне хочется, чтобы
все это скорее кончилось! Я, кажется, готов оставить неопитеков в покое и дать им эти пятьдесят лет. Все равно тогда меня уже не будет,
пусть с ними разбираются наши потомки. Мой внук, например.
— Что, у вас есть дети?
— Есть. Сын,— Чатраги отвернулся к стене и затих.
Посидев немного в комнате, я отправился побродить по нашему
лагерю.
Заброшенный поселок за время нашего пребывания здесь приобрел довольно жилой вид. Меж домами пролегли жирные черные копей, истерзанные гусеницами бронетранспортеров, на задворках дымили полевые кухни, сушились солдатские трусы, в кустах виднелись
пятнистые желто-зеленые вездеходы и «Муфлоны». Где-то в глубине
леса время от времени слышались короткие автоматные очереди, —
видимо, постреливали посты для острастки. А ведь когда мы прибыли
сюда, все было покрыто ядовито-зеленым ковром высоких сырых
трав, вплотную к домам подступала древесная молодь, по углам домов, цепляясь, тянулись вверх ползучие растения.
— Эй, Чав! — заорал кому-то во дворе здоровенный полуголый
детина, свешиваясь со второго этажа дома, мимо которого я проходил. — Это ты сожрал мои галеты?
— Иди ты! — отвечал из-за забора невидимый мне Чав. — Зачем
тебе теперь галеты? Тебя самого завтра сожрут обезьяны!
Во дворе заржали в несколько крепких глоток.
— А что они — людоеды? — спросил полуголый.
— А ты думал!— прокричал в ответ все тот же Чав.— Они, говорят, уже съели какого-то профессора с причиндалами. И его охрану
тоже.
- Так ему и надо, профессору,— одобрил полуголый и скрылся
из окна.
120
Где-то послышалось ровное, быстро нарастающее гудение. Я обернулся. Через некоторое время из-за вершин деревьев вынырнул маленький юркий вертолетик, протарахтел над улицей, накренился, делая разворот, и лихо сел прямо между домами.
Мне было все равно, куда идти, поэтому я направился к вертолету. Я был шагах в десяти от него, когда из кабины выскочил франтоватый пилот в голубом комбинезоне, бережно принял большие лакированные чемоданы и помог сойти двум женщинам и высокому полному господину в сером костюме.
Из-за заборов и из окон полезли любопытствующие физиономии.
- Вот это да! — загалдели со всех сторон. — Шикарные дамочки.
Эх, мне бы такую!
- Эй, дядя! Зачем тебе сразу две? Вспотеешь. Уступи одну нам.
— Красотка, иди сюда, мы сделаем тебе хорошо!
— Молчать! — рявкнул, видимо, капрал. — Раз-зойдись!
— Чего орешь, дубина!—немедленно отозвался кто-то явно из-мененным голосом. — Что, на баб уж посмотреть нельзя?
Господин в сером величественно огляделся и заметил меня.
—• Милейший, скажите, где мне найти полковника Тадэму?
— Полковник, наверно, в штабе. Это вон то здание, у которого,
видите, стоят амфибии.
Отвечая, я мельком оглядел спутниц господина. Одна из них была
платиновая блондинка с пышным бюстом и брезгливым выражением
лица, а вторая—довольно высокая брюнетка с броскими, хоть и не
особенно правильными чертами. Впрочем, за свою жизнь я уже успел
убедиться, что подобные женщины становятся тем привлекательнее,
чем дольше на них смотришь.
Господин в сером взял самый маленький чемодан и, вполголоса
говоря о чем-то с блондинкой, направился в сторону штаба. За ними
последовал голубой пилот, сгибаясь под тяжестью двух чемоданов.
— Разрешите, я вам помогу поднести вещи,— сказал я брюнетке.
— Пожалуйста, если вам не трудно.
Тон ее был предельно холодным. Очевидно, оживление, вызванное их прибытием, произвело на нее неважное впечатление. К тому,
солдаты, несмотря на окрики капралов, продолжали глазеть и отпускать шуточки.
Некоторое время она шла впереди, но вдруг остановилась, поджидая меня.
— Скажите, вы, случайно, не знаете господина Чатраги?
— Ну как же! — воскликнул я. — Мы живем с ним в одной комнате.
— Вот как? Вы тоже медик? Или биолог?
— Да нет, ни то и ни другое. Я... — Тут я запнулся, не зная, как
объяснить мое положение.— В общем, я считаюсь его ассистентом,—
неуверенно закончил я.
— Ассистентом? — брюнетка удивленно оглядела меня. — Странно... Ну, хорошо. Я хотела бы увидеть его. Это возможно?
— Конечно. Он сейчас у себя, пойдемте.
По дороге я начал запоздало раскаиваться, что веду к Чатраги
неизвестную женщину, не зная, в каком он сейчас состоянии. Может,
он безнадежно пьян. Впрочем, если эта женщина, допустим, его жена,
то ей, естественно, хочется увидеть его немедленно, в каком бы он
состоянии ни был.
Прежде чем войти в комнату, я громко постучал и, просунув в
дверь голову, спросил:
— Ник, к нам можно?
Чатраги поднял с подушки растрепанную голову, близоруко прищурился и, узнав меня, недовольно пробурчал:
121
— Что за шутки, Рэй?
Вместо ответа я распахнул дверь и пропустил вперед брюнетку.
— Зонта! — ахнул Чатраги, вскакивая. — Вы ли это, дорогая?
— Как видите, Ник,— отвечала брюнетка, протягивая руку, которую Чатраги поцеловал с незнакомой мне в нем изысканной галантностью.
— Садитесь же, Гильда, и рассказывайте, что вас снова привело
сюда,— он очень ловко, мимоходом смахнул со стола весь беспорядок.— Извините, дорогая, за наш чисто мужской неуют, к тому же мы
не можем вам предложить ничего, кроме спирта. Хотите, я разогрею
консервы и вскипячу кофе?
— Ник, я не узнаю вас,— с веселой укоризной сказала Гильда. —
Неужели вы пьете эту гадость?
Чатраги сокрушенно развел руками и виновато вздохнул:
— Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними... Да, кстати,
вы знакомы? Нет? Это мой друг Рэй Кеннон.
— Ваш ассистент? — с легкой улыбкой спросила Гильда.
— Представьте себе, да,— ответил Чатраги, доставая портативную
газовую плитку. — Но рассказывайте же о себе! Ведь мы так давно
с вами не виделись.
— Да... — Зонта задумалась, не глядя нащупала на столе свою
плоскую сумочку, извлекла из нее сигареты и зажигалку. — Я, конечно, слышала, что произошло после моего отъезда. Бедный Моллини...
Все эти годы мне было очень нелегко, не могла найти работу по своей
специальности. В последнее время я преподавала зоологию в гимназии, когда ко мне явился представитель компании и предложил мне
место здесь у вас. Он сказал, что возглавлять исследования будете
вы.
— Ловко! — восхищенно сказал Чатраги. — Но, позвольте, насколько мне известно, вы ушли от Моллини потому, что разошлись с
ним во взглядах на неопитеков. Как же вы согласились снова вернуться сюда?
Гильда обеспокоенно посмотрела на Чатраги.
— Разве я совершила ошибку, согласившись вернуться? Но мне
объяснили, что от массового применения неолитеков уже отказались,
а все работы будут вестись только над изучением их мыслительной
деятельности, не больше.
Чатраги рассмеялся и поставил на стол дымящийся кофейник.
— Милая Гильда, они вас бессовестно надули. Но все равно, это
великолепно, что вы приехали. Теперь нас здесь трое: вы, я и Рэй. Это
гораздо лучше, чем, допустим, если бы я был один. Пейте кофе, Гильда. Не стоит огорчаться.
Зонта и в самом деле выглядела расстроенной.
— Если бы я знала, ни за что не стала бы подписывать контракт... Ах, совсем забыла: мне же нужно представиться этому вашему
полковнику. Кстати, я летела сюда с господином Тусом. Знаете ведь
его?
— Еще бы!—Чатраги кивнул. — Очень известная личность, один
из директоров компании. Вот видите, Гильда, какое они придают значение этим бестиям... Пейте же кофе, он уж начал остывать. А потом мы вместе сходим к полковнику.
*
Операция «Тритон», как и было предусмотрено, началась рано утром. Солдаты, поеживаясь от утренней сырости, взгромоздились на
бронетранспортеры, амфибии и грузовые вездеходы. Джунгли наполнились ревом множества двигателей, по влажным от росы кустам пополз синеватый дым из выхлопных труб.
122
Первой выступила центральная колонна. Мягко покачиваясь на
ухабах л кочках, приземистые машины одна за другой уходили в сетэый сумрак леса. Небольшой, похожий на жабу бронированный вездеход полковника скрылся в числе последних. Кроме самого Тадэмы, в
нем уехали директор Туе и платиновая блондинка, оказавшаяся секретарем господина директора.
Мы с Чатраги оказались во второй колонне. Возглавлял ее майор
из контрразведки.
Мы уже сидели в с^оем «Муфлоне», когда около нас с рычанием
остановился широкий, как танк, бронетранспортер, и из него высунулся майор.
— Предупреждаю вас, господин Чатраги,— язвительно сказал
он,— что у меня есть инструкция применить самые решительные меры в случае, если я замечу что-либо подозрительное в вашем поведении. Постарайтесь поэтому избежать неприятностей, господин Чатраги.
— Спасибо, я это учту,— холодно ответил Чатраги, не глядя на
майора.
Бронетранспортер взревел и, разбрасывая комья грязи, двинулся
к голове колонны.
Перед самым отправлением откуда-то появилась Гильда. В брюках и защитной куртке, с коротко остриженными волосами, она напоминала сухощавого юношу-студента, собравшегося в туристический
поход.
— Может, вы все-таки возьмете меня с собой?
— Пойми, дорогая Гильда, женщине там не место,— терпеливо
сказал Чатраги. — У меня предчувствие, что там произойдет что-то
скверное. Интуиция, поверишь ли, меня никогда не обманывала. 1
— Господи,.— с отчаянием сказала Гильда,— почему вы только за
собой оставляете право на риск? Я умею стрелять, а в выносливости я
не уступлю многим мужчинам.
— Ты должна остаться, Гильда,— мягко, но решительно сказал
Чатраги. — Так будет лучше и для нашего дела. Понимаешь?
— Да,— упавшим голосом ответила она, постояла немного, опустив голову, и медленно пошла прочь.
Чатраги посмотрел ей вслед, вздохнул, достал свою фляжку, но
глотнуть из нее не успел — колонна тронулась.
Впереди нас, подминая кусты, лез вездеход, сзади — подпрыгивала плоская амфибия. Неподвижный тяжелый воздух все сильнее наполнялся удушливой бензиновой гарью.
Мы с Чатраги ехали в «Муфлоне», том самом, на котором приехали из Вианты, вдвоем: он за рулем, а я на заднем сиденье. Рядом
с каждым лежало по автомату с запасом рожков, гранаты — осколочные и с усыпляющим газом, каски, которые мы пока не надевали изза жары. Кроме того, причиняя некоторые неудобства, в ногах у меня
погромыхивал ручной пулемет. Весь этот арсенал подбирал Чатраги.
Я подозревал, что, будь возможность, он не отказался бы прихватить
еще огнемет или небольшое безоткатное орудие.
Колонна наша двигалась хоть не очень медленно, но зато шумно.
Гудели двигатели, трещали сокрушаемые деревца, время от времени,
когда в кустах замечалось что-то подозрительное, поднималась целая
канонада. Патронов не жалели — летели лохмотья коры, падали перебитые пулями ветки, сыпались листья, но тревога каждый раз оказывалась ложной.
Так мы ехали весь день и, когда вечером сделали привал в какойто сырой и неудобной местности, на капоте нашего «Муфлона» можно
было свободно жарить яичницу.
Чатраги оказался предусмотрительным человеком: выяснилось
123
что он запасся не только оружием. За ужином он откуда-то извлек целую десятилитровую банку со спиртом. Выпив за компанию одну стопочку, я от остального отказался. Тогда Чатраги усадил рядом с собой
подвернувшегося худого жилистого солдата и в паре с ним напился
гак, что половину следующего дня дремал на заднем сиденье. Ожил он
только к обеду, болезненным голосом проклял неопитеков, полковника, компанию и поинтересовался у меня, куда я дел оставшийся спирт.
— Если вы, Ник, имеете в виду ту жестяную банку, то я могу сообщить вам, что я ее вылил.
Говоря это, я старался не смотреть на Чатраги.
— Свинья вы, Рэй,— застонал он. — Вы хотите моей смерти. Вас
подкупил Тадэма.
Я отмалчивался. Чатраги, слабо морщась, отхлебнул кофе, волоча
ноги, подошел к машине и извлек из-под сиденья свою фляжку. Не
отходя от машины, он сделал глоток и поразительно быстро оживился.
— Возможно, вы и правы дружище,— бодро уплетая обед, заявил он. — Вот покончим с неопитеками, и я больше капли в рот не
возьму.
После обеда я снова сел за руль. Чатраги было запротестовал, но
я видел, что он чувствует себя еще не совсем хорошо, поэтому без
лишних слов затолкал его на заднее сиденье.
Дорога пошла отвратительная — бурая болотная жижа пополам
с водорослями. «Муфлон» басовито ныл на самой низкой ноте и упрямо барахтался вслед за могучим широкозадым вездеходом. При такой
дороге, если она не изменится, мы могли добираться до Главного Бантийского хребта, к которому мы должны были оттеснить неопитеков
и заставить их капитулировать, еще дня два или три.
Ближе к вечеру в просвете между верхушками деревьев замаячили скалистые вершины каких-то отрогов Главного хребта.
— Скоро дорога должна улучшиться,— заметил Чатраги озираясь, и словно в ответ на его слова, «Муфлон» резко осел, дернулся к
замер. Я дал задний ход — бесполезно. Я попытался раскачать машину, попеременно дергая ее назад и вперед, но она только глубже погружалась в хлюпающую жижу.
Вездеход впереди уходил все дальше. Мимо нас, шлепая, как лягушка, по грязи плоским брюхом и помогая, себе гребным винтом,
проскочила амфибия. За ней — следующая, потом — два вездехода,
шедшие в хвосте колонны. Их водители, скаля зубы, прокричали нам
что-то, но не остановились.
— Вот сукины дети,— проворчал сквозь зубы Чатраги. — Что они.
получили от майора указание не помогать нам?
— Ну, что будем делать? — спросил я, перебирая в уме способы,
которые применяют шоферы в таких случаях.
- Может, пойдем пешком? — сказал Чатраги. — Вдруг нам удастся догнать колонну.
— Это пешком-то? Не-ет, надо как-то вытаскивать машину.
— А это возможно? — усомнился Чатраги.
— Трос у нас есть? Вот если он есть, то мы вылезем.
— Должен быть.
Чатраги, поколебавшись, вылез из машины, чавкая по грязи, обошел ее, загремел чем-то и принес моток отличного троса.
Пришлось и мне лезть в болото. Выбрав впереди подходящее дерево, я привязал за него один конец троса, а второй закрепил, предварительно обмотав один раз, на ступице переднего колеса. Пока я
занимался этим, колонна успела уйти так далеко, что шум ее уже едва слышался.
— А теперь смотрите, Ник. В следующий раз вы сможете продечать это сами.
124
Я завел двигатель и осторожно включил первую скорость. Трос
натянулся, врезался в дерево, «Муфлон» завывая медленно пополз
вперед.
Минут через пять мы уже ехали следом за ушедшей колонной. Дорога становилась суше, и я прибавил скорость, рассчитывая
скоро догнать колонну: по нормальной дороге «Муфлон» мог дать сто
очков вперед любому вездеходу.
Вдруг мне показалось, что где-то впереди раздался взрыв. Чтобы
лучше слышать, я остановил машину. С минуту стояла тишина, потом грохнуло сразу несколько взрывов, наступила короткая пауза, а
затем загремело снова и не утихало минут пять или больше.
Чатраги с искаженным меловым лицом схватил меня сзади за
плечо и закричал:
— Это они! Проклятые обезьяны! Вперед!
Почти не соображая, что делаю, я на бешеной скорости бросил
машину по дороге, петляющей между огромными деревьями.
— Быстрее!— чуть ли не рыдал Чатраги, колотя меня по спине.—
Быстрее, ради бога и дьявола!
Я едва успел увидеть впереди поворот, рванул баранку, и в ту
же секунду над ухом у меня загремел автомат. Я машинально вжал
голову в плечи, что-то большое и черное свалилось сверху под самые
колеса, машину подбросило, занесло, и мы на полном ходу вломились
в заросли. Когда я опомнился, моя нога все еще давила на педаль
тормоза. Я выскочил из машины и оглянулся. На дороге судорожно
корчилось массивное волосатое туловище. Неопитек! Чатраги, стоя
на сиденье, вскинул автомат. Неопитек дернулся еще несколько раз
и затих, а Чатраги все продолжал палить в него, как сумасшедший.
- Хватит! — я схватил его за руку. — Вы и так уже сделали из
него дуршлаг!
Чатраги перестал стрелять. Тяжело дыша, он затравленно огляделся, не опуская автомата.
— Здесь еще могут быть эти твари. Понимаете, Рэй, он подкарауливал нас на дереве. — Чатраги весь трясся и лязгал зубами. — Опоздай я чуть, он бы нас передушил, как цыплят.
Я тоже взял с сиденья автомат и огляделся. Вокруг все было
спокойно, лишь где-то далеко впереди слышалась перестрелка да изредка бухали несильные взрывы.
— Пойдемте туда,— угрюмо предложил Чатраги. — Только не по
дороге, а по лесу. А машина пусть остается здесь.
Я согласился: действительно, двигаясь по дороге, мы представляли бы собой отличную мишень. Я набил карманы рожками с патронами, прицепил к поясу гранаты, и мы крадучись двинулись по лесу
Почва снова становилась заболоченной. Мы прыгали по кочкам,
стараясь держаться среди кустов, поминутно останавливались и прислушивались.
Наконец, после часа ходьбы, мы выбрались на край обширной
сухой поляны и здесь остановились, соображая, как бы незаметно
миновать ее. Обходить было бы слишком далеко.
— Цари природы, — зло проворчал Чатраги,
вытирая со лба
пот. — После десяти тысяч лет цивилизации прячемся по кустам, как
гиены. И от кого? От обезьян! Тьфу!
Он хотел еще что-то добавить, но в это время послышался шум
мотора, и из-за кустов на противоположной стороне поляны показался
бронетранспортер. Он шел полным ходом, массивный, разлапистый,
олицетворение грубой и хорошо организованной силы.
Бронетранспортер был уже на середине поляны, когда я услышал
пронзительное шипение и сразу вслед за этим увидел голубоватый
светящийся шар размером не больше баскетбольного мяча. Из броне125
транспортера уже сыпались солдаты и, беспорядочно стреляя во вс«
стороны, бежал и. к кустам. Голубоватый шар ударился о бронетранс
портер, раздался негромкий взрыв, и вспыхнуло яркое прозрачно
пламя, жар которого чувствовался даже там, где стояли мы, Ког;
пламя погасло, я увидел раскаленный до алого цвета бронетранспортер,
перекошенный набок под углом градусов в тридцать. Далеко вокруг
него чернела и дымилась земля. По поляне, дик? крича, каталось несколько солдат в горящей одежде. Остальные уже подбегали к лесу.
И тут со всех сторон поднялся невообразимый рев, загремели выстрелы, среди деревьев замелькали фигуры неопигеков.
Мы с Чатраги бросились назад, продираясь сквозь кусты и спотыкаясь о кочки. Справа между деревьями показался солдат. Он двигался короткими перебежками от дерева к дереву, держа наготове
автомат. Чатраги высунулся из кустов, где мы с ним остановились,
негромко свистнул и махнул рукой. И в ту же минуту откуда-то ударила автоматная очередь. Солдат, едва успев взглянуть в нашу сторону, рухнул лицом вперед и остался недвижим. Чатраги шарахнулся
назад и со стоном схватился за бок. По кустам вокруг нас, сбивая листья, хлестнули пули.
Я встал плотнее к дереву и осторожно выглянул. Неопитека я.
увидел не сразу. Он сидел в листве на толстом суку невысоко над
землей и, прижавшись спиной к стволу, держал сразу два автомата —
руками и ногами, вернее — обеими парами рук. Как раз в эту минуту
его внимание что-то отвлекло. Он пристально всмотрелся з ту сторону, откуда бежал убитый солдат, потом вскинул автоматы и начал
палить из обоих сразу, причем, мне показалось, что он стрелял по
двум целям одновременно.
Короткой очередью в голову я свалил его с дерева, некоторое время выжидал прислушиваясь, и только потом подошел к Чатраги.
Он полулежал, привалившись к кустам, и держался руками за
левый бок. Сквозь пальцы капала кровь.
— Что, очень плохо? — спросил я, осторожно отводя его руки.
Чатраги выругался сквозь зубы и дрожащими руками задрал рубашку.
— Что там?
— Ничего страшного,— бодро сказал я, доставая перевязочный
пакет.
Шум и стрельба тем временем затихли. Где-то очень далеко раза два возникала недолгая перестрелка, а скоро вообще все успокоилось.
С наступлением сумерек мы с Чатраги двинулись обратно. Он
шел, обняв меня за шею, и с каждым шагом ему становилось все хуже. Наконец, он бессильно опустился на землю и заявил, что я должен сходить за машиной, а он меня здесь подождет.
— Не говорите глупостей, Ник. Как я запомню дорогу в темноте?
Ночь в самом деле была очень темная.
Несмотря на протесты Чатраги. я взвалил его на спину и пошел в
сторону дороги. Идти было тяжело, под ногами путались сучья, чавкала грязь. Иногда я падал, неудачно наступив на осклизлую кочку,
и тогда Чатраги негромко стонал, а вскоре он безжизненно обмяк, потеряв, должно быть, сознание.
Часа через два блужданий среди черных кустов по хлюпающему
болоту я понял, что потерял направление, в котором нужно идти,
чтобы выбраться на дорогу.
На востоке из-за рваного гребня отрога медленно всплыла багрово-оранжевая луна, и джунгли превратились в зловещую мешанину черных провалов теней и сплетение оцепенелых, тускло освещенных деревьев.
126
По кустам взлаивая завыли ночные хищники-трупоеды. По обширному диску луны косо проносились растопыренные силуэты летучих мышей-вампиров.
Немного отдохнув, я с трудом поднялся, взвалил на себя бормочущего в бреду Чатраги и, не успев сделать и десятка шагов, провалился по пояс. Трясина жадно чавкнула и плотно сомкнулась вокруг
моих ног. Я едва успел подхватить Чатраги за голову, чтобы он не захлебнулся в вонючей жиже, и. изловчившись, поймался второй рукой
за гнилой сук, нависший надо мной.
Минуты две я переводил дыхание, потом осторожно начал подтягиваться. Сук податливо согнулся и затрещал. Еще немного — и он
бы переломился.
До утра, задыхаясь от тошнотворного болотного смрада, я десятки раз пробовал выбраться, но все было безрезультатно.
К утру Чатраги очнулся. Он тягуче застонал, открыл глаза и отрешенно посмотрел на меня.
— Где это мы, Рэй? — он попытался привстать.
— Не двигайтесь, Ник,— сказал я. — Мы очень неудачно попали
в болото. Но ничего, скоро выберемся и пойдем к машине.
К этому времени меня уже засосало почти по грудь. Чатраги лежал плашмя, поэтому погрузился не так глубоко. Голова его покоилась на сгибе моей левой руки.
Чатраги долго молчал, потом тихо сказал, не открывая глаз:
— Не надо было уходить от Моллини... Повернулся к беде спиной, а надо было встретить лицом... Хотел, чтобы руки не замарать...
отсидеться в сторонке... и вот. Теперь уже поздно. Поделом... надо
платить... — По его измазанному грязью лицу пробежала судорога. —
Сейчас бы спирта немного из той банки, что вы вылили... Или нет...
знаете, что я хотел бы сейчас больше всего? Лежать голый на теплом
песке... где-нибудь на берегу маленькой речки. Месяц, год... и ни о
чем не думать. И чтобы солнце все время не заходило... эх! — Чатраги горестно и бледно усмехнулся; на ресницах у него что-то блеснуло — слеза или болотная вода? — Рэй, за теплый песок и за речку, за
солнце надо платить... а я хотел даром... Не понимал...
Он закрыл глаза и снова впал в беспамятство.
Скончался он перед восходом солнца. Я это почувствовал сразу,
но все же несколько минут всматривался в его лицо, стараясь уловить
признаки дыхания. Потом я с трудом разогнул онемевшую левую руку, и Чатраги медленно погрузился в трясину.
Когда солнце поднялось над восточным отрогом, я снова попытался подтянуться за сук. Он, конечно, переломился, но я положил его
перед собой и, опираясь на него, осторожно, по сантиметру начал выползать из болота.
Свою машину я отыскал только к полудню. Измученный, весь
покрытый засохшей грязью, я почти без памяти рухнул на сиденье,
но все же немедля вывел «Муфлона» на дорогу и повел его обратно
как можно быстрее, насколько это позволяла заболоченная дорога.
До рудничного поселка я добрался лишь через сутки.
Известие о смерти Чатраги Гильда выслушала молча, повернулась и ушла к себе, не сказав ни слова. Увидел я ее только в день
отъезда на базу. Я уже сидел в «Муфлоне», когда она подошла, одетая по-дорожному, и сказала:
— Можно, Рэй, я поеду с вами?
Я положил ее чемодан на заднее сиденье, убрав оттуда ручной
пулемет, припасенный еще Чатрати да так нам и не пригодившийся.
127
* *
*
Из трех неполных батальонов, принимавших участие в операции
«Тритон», на базу вернулось пятьдесят три человека, и среди них полковник Тадэма, господин Туе и его платиновая секретарша, заработавшая себе во время этой экспедиции нервный тик. Они выбрались
из джунглей в тот же день, что и я.
После трагедии в верховьях Дизары на базу наехали всевозможные комиссии, представители президента, сенаторы и прочие. Наконец-то был принят план, предлагавшийся еще Чатраги: обработать
верховья Дизары с воздуха вплоть до водораздела Главного Бантийского хребта. Это было сделано через три недели самым тщательным
образом, но на базе упорно ходили слухи, что будто бы за неделю до
этого какой-то пилот пассажирского вертолета видел с высоты нескольких сотен метров, как какие-то животные или одетые в черное
люди стройными колоннами переваливали через водораздел Главного
хребта. Официально об этом ничего не говорилось, но если это действительно было так, то неопитеки вполне могут рассчитывать на беспрепятственное развитие в течение полувека, потому что Забантийская область — это сотни тысяч квадратных километров непроходимых и неисследованных джунглей, где не бывали даже топографы...
* *
*
Сегодня, вернувшись домой чуть раньше обычного, я, как и всегда за последние полтора года, сел за свою книгу. Гильды, ставшей
моей женой, вот уже восемь месяцев нет дома: она в тюрьме. Распрощавшись с работой в компании, она пыталась опубликовать статьи о
неопитеках, но даже те газеты, что считаются у нас оппозиционными,
отказались их печатать. Ее настойчивость кое-кому не понравилась.
Повода избавиться от нее хотя бы на время не пришлось долго искать; компания подала на нее в суд, требуя возмещения неустойки
в размере пятидесяти тысяч за нарушение контракта. Решение суда
было кратким: возмещение неустойки или два года тюремного заключения. Требуемой суммы у нас, конечно, не было, и Гильда очутилась
за решеткой.
Около полуночи я сварил себе кофе и включил радиоприемник,
чтобы послушать, о каких важных новостях говорят в эфире. Я это
делаю теперь каждую ночь и все время невольно жду, что вот сегодня вдруг сообщат о начале наступления неопитеков.
Сквозь сумятицу ночного эфира в комнату вошел приятный женский голос:
— ...волнует вопрос о том, какие купальные костюмы будут иметь
успех в этом сезоне на знаменитых пляжах Вианты. Если у вас стандартная фигура, отвечает госпожа Блайт, то мы рекомендуем леопардовые бикини в сочетании с ножными и ручными браслетами, плетенными из золотой проволоки...
Я оборвал госпожу Блайт на полуслове и перешел на волны столичной станции. Здесь уже говорил мужчина:
— Многие психологи считают, что джаз может стать духовной панацеей нашего нервного века. Джазовая музыка, утверждают специалисты, в сочетании с новейшими танцами типа «аннигиляция» способна вызвать явление психологического антирезонанса и дать человечеству столь желанное ощущение душевного покоя и равновесия...
Конец.
О/ШЛА
П(1ШШЛЬ
Антон КРИВОЙ
Версты
„Добролета,"
Под жарким июньским солнцем, пешком
через болота и мари, реки и горы продвигается группа авиаторов на север, к Якутску. Впереди лежат девятьсот еще неизвестных верст...
Авиаторы в глухой тайге? Что привело
эту горстку людей к отрогам Яблонового
хребта?
17 марта 1923 года по решению Советского правительства в ст >ане родилась новая
организация — Российское общество добровольного воздушного флота — «Добролет»,
колыбель нынешней гражданской авиации.
Три основные задачи стояли перед ним —
организация, строительство и эксплуатация
воздушных линий.
Создание авиационной мощи требовало
огромных капиталовложений, а денег не
было. Обратившись за помощью к народу,
партия выдвинула лозунги: «Трудовой народ — строй воздушный флот!», «Пролетарий — на самолет!». Общество развернуло
всенародную кампанию за
строительство
воздушного флота, организовало
сбор
средств, поступающих от предприятий, организаций и отдельных граждан, во многих
населенных пунктах страны провело показательные агитационные полеты пока еще
на иностранных самолетах «юнкере», закупленных за границей.
19 октября 1923 года «Добролет» утвердил первый трехлетний план открытия возд у ш н ы х линий. Этим планом предусматривалось в первую очередь проложить воздушные трассы в самых отдаленных уголках страны — в небе Красноярска, Иркутска, Бурятии, Якутской республики, на
Дальнем Востоке.
Воздушное сообщение для Сибири имело чрезвычайно важное значение. Если в
южных ее районах промышленность, да и
9. «Байкал» Л» 5.
вся жизнь, получили после революции огромный толчок к развитию, ибо этому способствовала и железная дорога, то жизнь
в некоторых северных районах стояла на
месте. Вот почему правительство нацеливало авиаторов именно на эти районы, а в
первую очередь на Якутию, где на сто квадратных верст приходилось три-четыре версты колесной дороги. Путями сообщения в
этом краю служили оленьи тропы, не отмеченные зачастую ни на каких картах. Только река Лена позволяла Якутску держать
связь с внешним миром и прежде всего с
Иркутском, расположенным на транссибирской железнодорожной магистрали.
Охотники промышляли в якутской т а й г е
ценную пушнину, недра Якутии таили не
сметные сокровища, в том числе и золото,
в котором весьма нуждалась молодая страна Советов. Большие месторождения золота были открыты в то время на прииске
Незаметном (ныне Алдан). Далеко природа
запрятала сокровища. Везде — горы, тат а,
болота, бездорожье. Из всех способов быстрой доставки золота на большую землю
самым верным был один — самолетами. В
начале 1925 года правительство поручило
«Добролету» связать воздушным мостом
якутские прииски с железной дорогой.
Но прежде требовалось к а ж д ы й будущий рейс тщательно вычисли и, и проложить на земле. Надо было подыскать площадки для строительства аэродромов, составить лоции полетов, н а л а д и т ь телеграфную связь между населенными пунктами.
Для изыскательных работ и Восточной Сибири «Добролет» снарядил экспедицию
в составе топографа Ватеркампфа, пилота
Романова, инженера-геодезиста Всселовского и экономиста Загулина. Возглавил эк-
129
восток. Им предстояло преодолеть Урал,
просторы Западной и Восточной Сибири,
Байкал, Монголию и приземлиться в Пекине.
33 дня длился этот исторический перелет
шестерки отважных. Успешное его окончание знаменовало собой выход
советской
авиации на мировую арену. Кроме того, он
послужил толчком к созданию воздушной
связи с Сибирью, Дальним Востоком, а
также с Китаем и Монголией.
...С большим нетерпением ждали жители
Верхнеудинска встречи с отважными красными летчиками. Однако на подготовленном аэродроме посадку сделал один самолет — Михаила Громова. Остальные машины проследовали другим путем и в Верхнеудинск не заходили.
Бурными аплодисментами встретил Верхнеудинск Громова. Казалось, весь город от
мала до велика высыпал на аэродром. На
встречу с летчиком пришли и жители окрестных селений, гости из Иркутска и Читы. Стихийно возникший митинг продолжался несколько часов.
В это время экспедиция «Добролета» была далеко от Верхнеудинска. Давно оставив;
позади последнее селение, борясь с усталостью и гнусом, авиаторы шаг за шагом
С. Я. Корф — первооткрыватель воздушотвоевывали у глухой тайги версту за верной линии Иркутск—Якутск, 1928 год.
стой. Ни в Верхнеудинске, ни в Москве о
судьбе изыскателей ничего не знали.
спедицию летчик-изыскатель Семен ЯковТретий месяц пробирались они по тайге,
левич Корф.
и за все это время не выпало ни дождинМаршрут к Якутску был выбран самый
ки. Позади осталась река Уркан, путники.
короткий: от станции Рухлово (ныне Скоштурмовали отроги Яблонового хребта.
вородино), что расположена между Читой
Глубокой осенью экспедиция добралась,
и Благовещенском, через Яблоновый хренаконец, до Якутска. В Иркутский губисбет. 1300 верст...
полком и в адрес правления «Добролета»
Одновременно авиаторам поручили попришла телеграмма: «Изыскания закончедыскать первые площадки для посадки саны, ждем самолет. Корф.»
молетов в Иркутске и Верхнеудинске и преСамолет не прилетел, а приплыл на падоставить в Москву варианты воздушных
роходе «Пролетарий». От Москвы до Ирлиний Чита—Верхнеудинск—Иркутск.
кутска его везли на платформе, от ИркутС 1925 года организацией перелетов веска до Качуга — на машинах, от Качуга додала специально созданная комиссия по
Усть-Кута — сплавом на карбасах.
большим советским перелетам. Возникла
Вместе с агитационным самолетом «СовОна не случайно — готовился самый больпич» в Якутск прибыли старейший русский
шой по тому времени и самый сложный пелетчик Фадеев и бортмеханик Михайлов.
релет по маршруту Москва—.Монголия —
8 октября 1925 года крылатая машина
Пекин.
впервые взлетела в якутское небо. Этот
день остался навсегда для Якутии красным.
По разработанным заранее планам одну
из посадок шести самолетов предполагалось
днем.
сделать в Верхнеудинске. Надо было обесЗадание «Добролета» было выполнено.
печить прием и обслуживание машин, поНо не радовал авиаторов итог проделанной
дыскать площадку под аэродром, устаноработы. «1300 верст позади,— писал Корф
вить оборудование. В Верхнеудинск прив своем дневнике,— подысканы площадки,
были из Читы авиатехник Яков Савин и
пригодные для
аэродромов, составлены
техник Григелюн. Им предстояло
доверпредварительные схемы полетов. И все же
шить работы, начатые экспедицией по созна душе неспокойно. Открытие воздушной
данию посадочной полосы.
линии Рухлово—Незаметный—Якутск поВ шести километрах от города, между
требует огромных экономических затрат.
ручьем Березовка и государственными коШутка ли сказать: построить и оборудонюшнями, лежала хорошая равнина, почти
вать в глухой тайге двадцать аэродромов?
Трасса проходит вдали от населенных пункготовый аэродром. На восточной границе
равнины стояла старенькая часовня. Авиатов, а это не гарантирует безопасности поторы водрузили над ней флаг и провели
летов. Наладить же регулярные полеты в
работы по сооружению посадочной полосы.
краю, где на 200—300 верст вокруг нет ни
одной живой души — чрезвычайно трудная
10 июня 1925 года летчики Громов, Волковоинов, Екатов, Найденов, Томашевский
задача. Где же выход?»
и Поляков оторвали свои самолеты от ХоОтвет на этот вопрос пришел к руководителю экспедиции на обратном пути в Ирдынского поля в Москве и взяли курс на
1.1П
кутск. По первому санному следу, на перекладных по реке Лене, авиаторы направились на Большую землю. Вглядываясь в
угрюмые ленские берега, Семен Яковлевич
Корф дал себе слово вернуться к ним еще
раз.
Через месяц в Москве Семен Яковлевич
докладывал правлению «Добролета» о результатах экспедиции.
- Мы пришли к выводу,— говорил он,—
что более
целесообразно
обслуживать
Якутию гидросамолетами по рекам Ангаре
и Лене. Этот вариант исключает строительство аэродромов, не требует больших затрат на оборудование, сокращает время организации линии. Путь по рекам длиннее,
чем трасса Рухлово—Я кутей, но он безопаснее и соединит к тому же почти все населенные пункты, расположенные по Лене,
с республиканским и краевым центром.
Таким образом,
вывод напрашивается
один: авиационный центр Сибири следует
создавать в Иркутске. Иркутск удобно расположен на путях в Забайкалье, Якутию и
Дальний Восток, что, безусловно, сыграет
важную роль в организации и открытии
почтово-пассажирских авиалиний в восточных районах Советского государства.
Споры по новому предложению длились
недолго, предварительные экономические
расчеты показали преимущество водной линии перед сухопутной. Вариант изысканий
маршрута Иркутск—Якутск был утвержден
с небольшой, но существенной поправкой—
заодно соединить с этой трассой и Бодайбо,
стоящий на Витиме.
Вскоре Корф был назначен руководителем новой экспедиции, теперь уже Ленской.
Однако вторая встреча с Леной неожиданно отодвинулась, так как весной 1926 года
по заданию правительства общество «Добролет» взялось за организацию первой международной линии, которая должна была
соединить Советскую Россию и Монголию.
Одновременно правление «Добролета» приняло решение создать в столице Бурятии
первое в Сибири Управление воздушных
линий. В Верхнеудинск с полномочиями общества выехали Григорий Николаевич Волобуев, назначенный на должность начальника еще не существующего управления,
Семен Яковлевич Корф и пилот Виктор Галышев.
Все трое отлично знали друг друга пот
фронтам гражданской войны, каждый из
них мог положиться на товарища, как на
самого себя.
Еще в поезде авиаторы распределили
между собой обязанности и по прибытии в
Верхнеудинск сразу взялись за дело. Корф
выехал в Монголию для топографической
съемки местности и изысканий посадочных
площадок, Волобуев завязывал деловые отношения с местными предприятиями и занимался подбором кадров. На долю Галышева выпала участь заботиться о материальной базе.
И снова закипела работа на
равнине
между ручьем Березовка и государственными конюшнями, где год назад жители города встречали одного из участников большого пекинского перелета. Старую часовню
И
Первый полет «Моссовета» от Иркутска к Якутску, июнь 1928 года.
131
приспособили под контору аэропорта, расширили летное поле. Началось строительство деревянного здания — «ожидалки» для
пассажиров. Одну из конюшен авиагоры
арендовали под мастерскую, поставили в
ней дряхленький токарный станок — подарок рабочих Верхнеудинска,—вот и все оборудование. Так зарождалось Бурят-Монгольское управление воздушных линий.
А в это время пастухи-монголы тревожным взглядом провожали грузовик, колесивший по песчаным сопкам. Корф вместе
с шофером уже вторую неделю находился
в пути. Встречи с местным населением,
губернаторами, заключение договоров на
обслуживание самолетов — все это входило в планы изыскателя.
К лету лоция линии была готова. Возникли аэродромы в Алтан-Булаке и Урге.
Теперь дело решали машины, с ними было
очень трудно.
На платформе из Красноярска в Верхнеудинск был доставлен разбитый самолет
«Моссовет». Машину надо было вернуть к
жизни и за это взялись прибывшие из
Москвы начальник мастерских К. И. Иванов, слесарь-жестянщик Шалунов и местный парень Владимир Тризна, принятый на
работу в качестве подручного. Дневал и ночевал у «Моссовета» пилот Виктор Галышев.
Из московских мастерских прибыл еще
один поврежденный самолет
&Мосторг»,
третью машину доставили в Верхнеудинск
из Монголии. Это был самолет «Правда»,
участвовавший в историческом
перелете
Москва—Пекин. На обратном пути в Москву у машины вышел из строя мотор, летчику Полякову пришлось идти на вынужденную посадку.
Из трех машин, комбинируя детали, удалось вернуть к жизни одну—«Моссовет».
Галышев испытал ее и сделал предварительный облет трассы по лоции, составленной Корфом. Приближался день открытия
линии.
В воскресенье 1 августа 1926 года весь
Верхнеудинск устремился на аэродром. Расклеенные по городу афиши возвещали об
открытии воздушной линии Верхнеудинск—
Урга, первой сибирской авиалинии и первой
международной линии страны Советов. На
митинге выступил председатель Совета Народных Комиссаров Бурятии Михей Николаевич Ербанов, представители партийных
организаций города, авиаторы.
Галышев
несколько раз поднимал «Моссовет» в воздух—катал горожан.
В этот же день Галышев вылетел в первый рейс по маршруту Верхнеудинск—Урга. На борту самолета находились полпреды
Советского правительства в Монголии и
другие официальные лица.
- Бурят-Монгольская линия тяьулась на
600 километров,— вспоминал бывший подр у ч н ы » Тризна. — Полет от Улан-Удэ до
Улан-Батора занимал четыре часа. Летели
со скоростью 120—160 километров в час,
на высоте не более полутора тысяч метров...
Начиная от Усть-Кяхты до столицы Монголии, линия проходила над горными хребтами, высота которых достигала порой
двух тысяч метров. Через перевалы проходили осторожно, боясь сильных потоков
воздуха:. В любую минуту они могли прижать самолет к земле и бросить его на
скалы... Ведь вылетая в рейс, пилот не знал,
что делается в небе по соседству, а единственным прибором на машине был указатель курса.
День ото дня, месяц от месяца набирало
силу Бурят-Монгольское управление воздушных линий. За первый гол, работы управление выполнило 190 рейсов, перевезло
более 400 пассажиров, 10 тонн почты и
800 килограммов груза. Из Верхнеудинска
летчики Галышев и К а л ь в и н а совершили полеты в Читу и Иркутск, сделали разведку
местности, разделяющей две великие сибирские реки — Ангару и Лену.
Пришла очередь вплотную заняться линией на Якутск.
На освоение Якутской авиалинии «Добролет» направил лучшие кат,ры пилотов.
Это — Маврикий Слепнев, Внлтор Галышев, Иван Доронин, Александр Демченко,
Отто Кальвица, бортмеханики — Грошев,
Анисимов, Савин, Леонгардт.
Этим людям предстояло скрестить свои
знания, опыт и смелость с ловушками, приготовленными сибирской природой в не/>е,
на реках, в глухой тайге, в тундре.
Почти месяц длился первый полет крылатой машины к далекой Якутии.
Ликующие толпы
встречали красных
летчиков там, где приводнялся «Моссовет».
В селе Маркове в честь первопроходцев
жители устроили пальбу из невесть откуда
взявшейся здесь пушки. Корф хотел было
слово сказать — куда там... Словно волной
подхватило авиаторов, подбросило. Так на
руках и пронесли марковцы дорогих гостей по сельской улице.
Прилет в Киренск совпал с окружным
съездом Советов. Съезд прервал заседание, и его' участники, присоединившись к
жителям, устремились на
<~ерег Лены
встречать первый самолет. Давно Киренск
не видел такого веселья, как Оыло в тог
день — 23 июня 1928 года.
Первый аэропорт п Чите.
Масса народу встречала огзажных летчиков в Ичере, Витиме. От Вчтима «Моссовет» повернул на восток и гзял курс на
Бодайбо. Наконец-то горняки золотой Лены дождались крылатой птицы.
И снова под крыльями оере(а Лены.
Встречи в Нюе, Олекминске. Иситском.
Так было положено
начало воздушной
^цдщцц^Л
А теперь вот какие самолеты бороздят небо Сибири и З а б а й к а л ь я !
связи далекого Севера с железной дорогой. Воздушная
трасса протянулась от
Иркутска до Якутска на 2700 верст, 217
из которых проходили по реке Ангаре, 218—
над Березовым хребтом, разделяющим две
сибирские реки, а остальные по Лене. Линия на Бодайбо шла тем же маршрутом
до села Витим, а от села по реке Витим до
Бодайбо. Промежуточными с т а н ц и я м и были: Верхоленск, Грузновская,
Усть-Кут,
Киренск, Ичера, Витим, Бодайбо, Нюя,
Олекминск, Иситское. Во всех пунктах были
организованы аэровокзалы, причалы для
самолетов.
А через месяц по пути, проложенному
«Моссоветом», взял курс на Якутск шестиместный «юнкере» с первыми тюками
почты и с пассажирами на борту. На линии начались регулярные полеты...
Перелистывая подшивки старых газет с
сообщениями о первых полетах, роясь в
архиве, я все время думал о первопроходцах сибирского неба. Где они сейчас, как
сложились их судьбы?
Немногие из них дожили до наших дней.
7 марта 1930 года погибли при выполнении
специального рейса к Тикси пилот Отго
Кальвина и бортмеханик Леонгардт. Отто
Артурович прожил в России ьсего десять
лет и все эти годы самоотверженно служил второй родине верой и правдой. Он
был первым, кто поднялся в небо Чукотки, не раз Отто Артурович участвовал в
воздушных
экспедициях над Ледовитым
океаном. Сибиряки похоронили
смелого
пилота в Иркутске, на братском кладбище
Борцов революции, рядом с
прославленным командиром сибирских партизан К и -
ландаришвили. Здесь же в братской могиле был похоронен и бортмеханик Леонгардт, незаменимый помощник Отто Кальвицы, один из тех, кто участвовал в освоении многих сибирских литы.
На севере Якутии погиб и первый начальник управления сибирских воздушных
линий Г. Н. Волобуев, перешецший в 1929
году на работу в полярную пкнацию. Уже
от авиаторов я узнал, что давно нет в живых Ивана Доронина, Виктора Галышева.
В 1966 году умер и Маврикий Слепнев.
Но была еще одна фамилия, которую
очень хорошо тогда знали авиаторы Средней Азии, Украины, России,— Корф. Поиски этого человека привели меня к начальнику политотдела Восточно-Сибирского управления ГВФ Дмитрию Порфирьевичу Новикову.
— Четыре года назад Семги Яковлевич
присылал нам письмо,— обрадовал
меня
Новиков.— Живет Корф в Москве, адрес,
кажется, у нас сохранился...
В один из сентябрьских дней ТУ-10-1,
оторвавшись от Иркутского аэродрома, через 7 часов приземлился в столице. Вот и
Ленинградский проспект, новый дом невдалеке от современного городскою аэровокзала, нужная мне квартира.
Дверь открыл высокий, по-поенному подтянутый человек, вопросительно посмотрел
на меня. «Нет, это не Корф,— полумал я,—
ведь тому уже за семьдесят, а лог выглядит гораздо моложе».
Я ошибся. Это был Семен Яковлевич.
Долго мы просидели м тог чечср. Было
что рассказать Корфу, одному и:» первых
русских военных летчиков, свидетелю п*р-
! •;:;
вых достижений и неудач советской авиации. Богата событиями его жизнь. 45 лет
отдал он авиации. Тысячи верст исходил
инженер-летчик по земле, составляя лоции
воздушных линий, тех самых, по которым
мчат сегодня серебристые лайнеры.
В трудные для молодой
страны годы
многие авиаторы за мужество и отвагу,
проявленные в борьбе против врагов революции, были награждены перкыми боевыми орденами Республики.
Три ордена
Красного Знамени — редкий по тем временам случай
- правительство вручило
командующему военно-воздушными силами Западного фронта.
Отгремели орудийные залпы, стали зарастать травой окопы. Корф по-прежнему
на военной службе. Он командующий
военно-воздушными силами Московского
военного округа, Главный инспектор военно-воздушных сил Республики, начальник
высшей школы стрельбы и бомбежки в г.
Серпухове. Все силы свои и знания он отдает созданию мощного воздушного флота
Страны Советов, вместе с другими авиаторами занимается подготовкой первых пет
релетов.
В 1924 году Корф появился в «Добролете». Здесь ему поручили самым трудный и
самый ответственный участок работы —
изыскание и строительство перчых почтовопассажирских линий. Он возглавил изыскательскую экспедицию и отправился за тысячи верст от столицы сосгльлять каргу
будущих заоблачных магистр.ишй. Самара,
Бухара, Ташкент, города и поселки Закавказья — где только не носила его вдруг
так круто изменившаяся судьба. Было время, он не представлял себе жшни без каждодневного общения с самолетом, а тут
ппшком стал ходить больше, чем летать.
И вот он сидит передо мной, еще крепкий и ладный, взволнованно рассказывает
о своих товарищах, о себе. Воспоминания,
обгоняя друг друга, выхватывают из прошлого наиболее яркие события, которыми
жило Приленье почти сорок лет назад.
- Первые сибирские линии были хорошей школой для всех авиаторов, на них
крепла наша авиация, закалтчсь «крылатые люди».
Отсюда были совершены пераые рейсы ь
Заполярье и к Ледовитому океану, отсюда
улетали спасать челюскинцев Слепнев и
Доронин, ставшие после героической эпопеи Героями Советского Сокпа, а также
Галышев, Савин и Федосеев, награжденные за участие в спасении челюскинцев
орденами,— говорит Семен Яковлевич.
Дальнейшая судьба Корфл сложилась
так. Вслед за открытием линии Иркутск—
Якутск и Иркутск—Москва начались изыскания трасс на Дальнем Востоке, Камчатке, Сахалине. Потом наступила пора морских вояжей. Почти два года на небольшой
шхуне бродила под руководством Корфа
экспедиция по Охотскому морю вдоль берегов Чукотки и Дальне-Восточного края.
Появились гидропорты и аэродромы в бухте Аяне, Охотске, Магадане, которые позже очень помогли в челюскинской эпопее.
Как-то Корф подсчитал, сколько ему
пришлось пройти, проплыть, пролететь, по
заданиям «Добролета»
составляя лоции
воздушных линий. Получилось что-то около
200 тысяч верст. При этом изыскано и обо-'
рудовано более ста гидроаэропортов, аэродромов и посадочных площадок. Некоторые
из них принимают самолеты :ю сих пор.
А потом был 1937 год. После полной реабилитации до 1959 года Семен Яковлевич
работал в научно-исследовательском институте Гражданской авиации. Сейчас на пенсии, персональный пенсионер союзного значения. Друзья не забывают старого неоопроходца. В день 75-летия Министерство
гражданской авиации наградило его Почетной грамотой. А в канун 50-летия Советской власти Корфу вручили орден Ленина.
...Простились мы далеко за полночь. У
двери Семен Яковлевич тронул меня за
плечо:
— Глубокий поклон авиаторам Сиокри...— сказал он,— и пусть не забывают
тех, кто отдал сибирскому небу свою молодость, мечты, надежды... жизни...
Первым попутным рейсом я возвращался
в Иркутск. На борту самолета все шло
своим чередом: стюардессы разносили чай,
женщина по соседству напевала малышу
колыбельную.
Я выглянул в иллюминатор. Под стреловидными крыльями нашего корабля-гиганта проплывала белая пустыня из вагы.
Казалось, мы стоим на месте. Но это только казалось.
Огромная серебристая птица стремительно летела навстречу восходящему солнцу,
в мгновенье ока оставляя позади сибирские реки, города и пашни.
Где-то там, далеко внизу, лежали дорогч
первопроходцев сибирского неба. Наш гигантский корабль летел значительно выше
этих дорог, но курс по прямой он держал
строго по ним.
Пусть
земли ему будет небом!
Эти слова Юрий Быков сказал
на похоронах Героя Советского Союза Юрия Гарнаева. Р1 вот нам
приходится произносить их вновь,
но уже на прощании с Юрием Быковым.
Знакомство Юрия Семеновича
с работниками журнала «Байкал»
быстро перешло в деловую дружбу.
Его домашний кабинет напоминал
своего рода музей покорения космоса. Портреты Юрия
Гагарина,
Алексея Леонова с автографами
тероев. Летный шлем Юрия Гарнаева. Набор шариковых авторучек,
присланный им же из Парижа.
Чернильный прибор в виде взлетающей ракеты. Глиняный тигренок,
подарок одного летчика-испытателя, друга Юрия. Фотографии «богов» вертолетостроения Миля и Камова. Стеллажи, полные книг об
авиации и космонавтике. Первые
записи, которые он включил на
магнитофоне,—голос Юрия Гарнаева и мелодия песни «Такая у нас
работа — учить самолеты летать»...
Юрий Семенович предложил большую программу сотрудничества
с нами. Стало ясно, что предлагаемые им материалы столь необычны,
интересны и их так много, что для них необходима какая-то особая
рубрика, постоянный отдел. И вот в первом номере «Байкала» за этот
год наши читатели впервые увидели новый отдел «Авиация и космос — век XX», внештатным редактором которого стал Юрий Быков.
В одной из командировок в Москву он побывал в «Звездном городке» у Юрия Гагарина, рассказал о том, что в журнале «Байкал»
создан новый отдел, поделился нашими планами.
— Это, конечно, хорошее дело, — ответил тогда Гагарин, — и я с
удовольствием приму участие в вашем журнале... По мере возможности постараюсь быть полезным вам...
Тогда же Юрий Гагарин и подарил фотографию, опубликованную
в первом номере нашего журнала с надписью: «Читателям журнала
«Байкал» с пожеланием успехов в труде и жизни».
Юрий Быков вместе с Гагариным и Гарнаевым стоял в почетном
карауле у гроба космонавта Владимира Комарова. Через несколько
месяцев Гагарин и Быков проводили в последний путь Юрия Гарнаева. И вот неумолимые обстоятельства оборвали сотрудничество жур135
нала «Байкал» и с Юрием Гагариным и с редактором нашего нового
отдела Юрием Быковым.
Юрий Семенович начал писать давно, еще будучи
курсантом
Фрунзенского авиационного училища. Интересно, что самые первые
его статьи, написанные задолго до запуска первых спутников, были
посвящены космосу. Он показывал нам вырезки из газет 1954 года,
где он писал о возможности полетов в космос и об... атомных двигателях на космических кораблях. Затем, когда он приехал на Улан-Удэнский авиационный завод, он стал внештатным корреспондентом АПН,
написал книгу о проблемах космонавтики, совместно с
писателем
Андреем Меркуловым начал работу над книгой о Юрии Гарнаеве.
В журнале «Байкал» его имя впервые появилось в конце прошлого года. «Полет в четвертое столетие», Же ву зем», «Печаль Земли»—
вот первые и, к сожалению, последние его материалы. Став редактором отдела «Авиация и космос — век XX», Юрий Семенович организовал и подготовил к печати статьи Героя Советского Союза Юрия
Гарнаева, писателя Бориса Ляпунова, спортивного комиссара космонавтики Ивана Борисенко, главного конструктора вертолетостроения
Николая Камова и других.
Планы Юрия Семеновича были огромны.
Он не завершил документальной повести о Гарнаеве.
Он не успел получить диплом об окончании технологического института.
Он не закончил конструирование индивидуального аппарата для
спасения летчиков и космонавтов.
Он не успел приступить к работе над романом о летчиках-испытателях, который вынашивал долгие годы.
На его письменном столе остались неоконченными фантастические рассказы «Дзга» и «О чем молчал Хамар-Дабан».
Он мечтал побывать в космосе. Он мечтал о миллионном тираже
«Байкала». И всерьез верил в то, что если мы по-настоящему возьмемся за дело, журнал добьется такого тиража.
На следующий день после гибели Юрия Быкова в редакцию поступило несколько телеграмм. Вот две из них.
«Улан-Удэ редакция журнала «Байкал». Потрясены
известием
гибели Юры, нашего автора. Трудно поверить, что такого жизнерадостного, мужественного человека нет больше с нами. Память о
Юре
всегда будет жить в сердцах молодогвардейцев= Главный редактор
издательства «Молодая гвардия» Валентин Осипов».
«Улан-Удэ редакция журнала «Байкал». Дорогие товарищи! Вместе с вами скорбим о трагической гибели нашего друга Юры Быкова,
замечательного человека, товарища, который обещал стать интересным писателем=Редакция журнала «Молодая гвардия».
В последний путь Юрия Быкова пришли провожать сотни уланудэнцев: соратники, друзья по работе, журналисты, партийные и комсомольские работники и многие из тех, кто не знал его лично, но читал его яркие строки о космосе и авиации.
Самолет АН-24 вырулил на взлетную полосу, ненадолго замер на
старте. Потом дрогнул, медленно двинулся с места и, постепенно набрав скорость, осторожно взлетел над полосой, бережно неся на своем
борту гроб с прахом Юрия Быкова. Самолет не сразу лег на заданный
курс. Развернувшись над сопками, он низко-низко, чуть ли не касаясь
крыш домов, полетел над Улан-Удэ, сильно покачивая крыльями. Это
было последнее приветствие Юрия Быкова городу, где он провел свои
последние четыре года, городу, где он совершил свой самый высокий,
взлет в журналистике.
Пусть земля ему будет небом!
] 1(1
Наш календарь
Б У Р Я Т И И 45 ЛЕТ
Исполнилось 45 лет со дня образована
Бурятской Автономной Советской Социалистической Республики.
Образование Бурятской АССР является
результатом победы Великой Октябрьской,
социалистической революции. Бурятский народ впервые в своей истории обрел национальную государственность, инициатором
создания которой явился величий вождь
пролетариата -- Владимир Ильич Ленин.
Борьба за победу Советов п Бурятии ч
решение вопроса о ее национально-государственном объединении протекции в ожесточенной схватке с буржуазными националистами. После февральской революции
буржуазные
националисты в
Бурятии,
пользуясь слабостью руководства со стороны местных партийных организаций и недостаточностью у них опыта в работе, пытались взять в свои руки решение национального вопроса. Они выдвинули проект
национальной автономии, который был принят на общебурятскоы съез,т,2, проходш;шем в апреле 1917 года в Чите. По составу делегатов
и их идейным взглядам
съезд явился выразителем интересов зажиточной части населения. Съезд заменил
сельские и волостные правление, учрежденные при царизме, сомонными, хошуннымн
и аймачными земскими управами. Во гл.аве их был поставлен Центральный Бурятский национальный комитет, созданный в
Чите в октябре 1917 года. Он имел свой
отдел в Иркутске.
Национальные административные органы, созданные по решению указанного Вг.1ше съезда, охватывали исключительно бурятское население, несмотря на то, ч го
поселения русских и бурят были расположены чересполосно. Это было сделано для
того, чтобы изолировать бурят от революционного влияния,
сохранить господстзо
кулаков и нойонов. Буржуазные националисты выдвинули «теорию» об отсутствии
классового расслоения среди бурят, о национальном единстве бурятского народа. В
своей деятельности они проводили реакционную линию так называемого «политического нейтралитета», направленную па
отвлечение бурятского народа от участия
в политической жизни. Они утверждали,
что интересы бурятского народа отличны
от интересов русского народа, поэтому буряты не должны вмешиваться в политическую борьбу.
Победа Великой Октябрьской
социалистической революции в корне изменила
социально-политическую обстановку,
онаподняла революционную творческую
активность народных масс, особенно угнетенных народов Востока, потенциальные силы
и энергия которых находились под спудом
самодержавного строя.
Большую
массово-политичеелую работу
среди трудящихся бурятских районов Иркутской губернии проводили члены бурятской группы коммунистов, образовавшейся
в марте 1918 года при Иркутском комитете РКП (б). В группу входили товарищи:
М. М. Сахьянова, 'В. И. Трубячеев, М. Н.
Ербанов, Ф. П. Павлов, Г. Г. Данчинов,
С. X. Николаев, Ф. М. Осодоези, И. А. Ильин, И. В. Ченкиров и другие. Группа бурятских коммунистов своей
революционной'
деятельностью
противостояла
националистам,
разоблачала
их реакционную
политику и тем самым способствовала тому,
что в Иркутском отделе Еурнацкома произошел раскол. Левая часть членов Национального комитета выступила против антинародной политики националистов и вышла из его состава.
В годы гражданской войны бурятские националисты полностью разоблачили себя1
как противники национальных интересов
бурятского народа и как защитники классовых интересов кулаков и попонов. Трудящиеся массы все больше отходили от
них. Наиболее сознательные представители бурятского народа становились на сторону большевиков. Вместе с русскими рабочими и крестьянами под
руководством
Коммунистической партии они боролись :)а
восстановление Советской власти в крае.
С освобождением
Иркутской губернии
от белогвардейцев и интервентов и конце
1919 года в западной части Бурятии Ги.м.ч
повсеместно установлена Советская пл.к•>•...
Вместо аймачных и хошунных :н'мскнх >•'
рав были организованы
реколкшионние
комитеты во главе с к о м м у н и с т а м и . Г>«сточная часть Б у р я т и и пошла г> состав Дн.г,
невосточной республики, организованной в
условиях гражданской вопий ч чигсрвенШ!;!
137
как буферное, буржуазно-демократическое
но форме государство, но в котором фактически рабочие и крестьяне под руководством Коммунистической партии осуществляли свою диктатуру. С укреплением рабочекрестьянской власти в обеих частях Бурятип складывались условия для практического решения вопроса о национально-государственном устройстве бурятского народа.
Движение за советскую автономию, прерванное падением Советской власти и событиями гражданской войны п Сибири, возобновилось в Бурятии в начало 1920 года.
Его возглавляли передовые представители
бурятского народа М. Н. Ербанов, Г. Г.
Данчинов, В. И. Трубачеев, М. И. Амагаеч,
С. X. Николаев и др., работавшие в Бурсекции Иркутского комитета РКП (б).
Решающую роль в разрешении вопроса
об автономии бурятского народа сыграло
постановление Политбюро ЦК РКП (б) от
14 октября. 1920 года. Принятию этого постановления предшествовали талие важные
события,
как первый съезд народов Востока 1 и совещание Политбюро ЦК РКП (б)
с участниками съезда, состоявшееся в октябре 1920 года. На совешанлм были приняты тезисы о политике Советской власти
по отношению к народам Востока.
Тезисы были переданы Ленину. Владимир Ильич ознакомился с тезисами и сделал
многочисленные пометки в тексте. Он обратил серьезное внимание на эту часть текста, где указывалось, что «период трехлетней борьбы Советской власти есть и
опыт над восточными окраинами с целым
рядом и ошибок, и положительных сторон», что этот
«опыт есть опыт над всем
Востоком...»2. Владимир Ильич подчеркнул
часть тезисов, касающихся необходимости
предоставления восточным окраинам более
широких автономных
прав.
Обсудив доклад и сообщения, сделанное
на совещании, с делегатами съезда народов
Востока. Политбюро ЦК 14 октября 1Э20
года по проекту, написанному Лениным,
приняло постановление «О задачах РКП (б)
в местностях, населенных восточными народами». Четвертый пункт постановления
гласил: «Признать необходимым проведение в жизнь автономии в соответствующих
конкретным условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще автономных учреждении, в перв\:о
голову, для калмыков и бурлт-монголов,
поручив немедленную подготовку соответствующих законопроектов Нкнацу»3.
Постановление Политбюро ЦК внесло
принципиальную ясность в практическое
решение вопроса о путях создания национальной государственности народов восточных окраин России, в частности, бурят.
29 я н в а р я 1921 года в Иркутске было
созвано совещание активных работниковбурят, на котором было вынесено постановление: «Признать постановление центра
делом первейшей важности и немедленно
приступить к созданию благоприятных условий для осуществления его и жизнь в
общебурятском масштабе».
Участники совещания такжз отметили,
что решение партии о проведении в жизнь
национальной автономии пользуется особым вниманием среди руководителей бурятских организаций Дальневосточной республики, где уже предпринимались определенные шаги по созданию
автономно;"!
области бурят.
Ввиду того, что после образования ДВР
Бурятия оказалась разделенной на дье
части, на съездах трудящихся РСФСР и
Дальнего Востока, проходивших в 1920 году,, делегаты выдвинули требование координации усилий всего бурятского народа
по вопросу создания автономен и в деле
политического, хозяйственного и культурного строительства. Для выполнения этой
задачи было решено создать общенациональный Советский орган—Центральный
комитет бурят-монголов Восточной Сибиои.
Последний сразу же приступил к исполнению своей функции. Вскоре он под руководством Иркутского губкома РКП (б) подготовил материалы и предложения по организации автономной области, и в мае 1921
года была направлена делегация в Москпу
для рассмотрения вопроса об организации
автономии бурят в правительственных органах.
В августе
1921 года Оргбюро ЦК
РКП (б) полностью поддержало решение
Иркутского губкома
РКП (б) и вынесло
постановление, одобрившее создание
автономной области бурят РСФС1"1.
Первого сентября 1921 года Президиум
ВЦИК постановил: «Признать необходимым выделение территории с бурятским
населением в пределах РСФСР в автономную область».
Трудящиеся Бурятии с большой радостью встретили это решение партии и правительства. Горячо одобрил ~го учредительный съезд трудящихся бурят РСФСР,
состоявшийся в октябре 1921 года. Съезд
избрал Революционный комитет для руководства областью
(Бурревком). Председателем его был избран М. Н. Ербанов
В связи с образованием Б\рятской советской автономной облает'! решениями
Сиббюро ЦК от 29 сентября 1Э21 года и
ЦК РКП (б) от 3 октября 1921 года 4 была
создана областная партийная организация.
Бурятский обком и Ревком под руковод-
1
Первый съезд народов Востока состоялся в Баку 1—7 сентября 1920 г. На
съезде присутствовали представители советских автономных областей и республик
и тех народов Советской страны, которые
еще не имели своих автономных органов
управления, а также представители зарубежного Востока, Турции, Персии, Индии,
Монголии, Тибета и т. д. Журнал «Народы
Востока», № 1, 2, Баку, 1920.
2 ЦПА НМЛ при ЦК КПСС, фонд В. Н.
Ленина № 2, ед. хр. 15242, оп. 1. лл. 1—2.
3
Ленинский сборник, X X X V I . стр. 133.
4
Партархив Бурятского обкома КПСС,
ф. 1, оп. 1, ед. хр. 2, л. 32.
кабре 1922 года признали целесообразным
т;твом Сиббюро ЦК и Иркутского губкома
объединение автономных бурят-монгольРКП (б) провели большую организаторскую
ских областей.
работу по подготовке материалов к окончательному
решению
правительством
Партия и Советское правительство подРСФСР вопроса о создании автономии будержали законное желание трудящихся
рят.
восточной и западной Бурятии об объедч9 января 1922 года за подписью М. И.
нении в единую
автономную Советскую
Калинина было издано постановление Всереспублику.
российского Центрального Исполнительного
Комитета об образовании Бурят-Монголь30 мая 1923 года Президиум Всероссийской автономной области. Бььш уточнены
ского Центрального Исполнительного Комиграницы области, в ее состач вошло не
тета решил объединить автономные областолько бурятское, но и русское население.
ти бурят-монголов Сибири и Дальнего ВосРевкомом были созданы областные, аймачтока в одну Бурятскую Автономную Советные и хошунные органы управления.
скую Социалистическую Республику. До
Руководствуясь решениями ЦК партии
созыва Первого съезда Советов Буряти учитывая желание
бурятского народа,
Монгольской АССР вся полнота власти в
Дальбюро ЦК РКП (б) вместе с правиреспублике передавалась Ревкому. Первого
тельством ДВР, возглавляемым коммунисавгуста 1923 года Президиум ВЦИК уттами, признало необходимым образовать в
вердил состав Бурревкома под председасоставе республики Бурятскую автономтельством М. Н. Ербанова. 3 обращении
ную область.
к населению республики, выпущенном Рев27 апреля 1921 года учредительное сокомом, указывалось, что актом правительбрание Дальневосточной республики приства РСФСР об образованич Бурят-Монняло Конституцию ДВР. Благодаря усигольской АССР формально ц фактически
лиям коммунистической фракции Учредизавершено стремление бурятского народа
тельного собрания в Конституцию был
к национальному самоопределению.
пключен пункт о предоставлении всем на12 сентября 1923 года ВЦИК утвердил
родностям и национальным меньшинствам,
«Положение о государственном устройстве
населяющим ДВР, права на широкое саБурят-Монгольской АССР», я.-)::вшееся осмоопределение.
новой будущей Конституции оеспублнк:!.
Согласно Конституции ДВР,
в апреле
Согласно этому Положению, Бурят-Мон1921 года территория, населенная бурятагольская АССР входила в РСФСР как ее
ми, была выделена в Бурят-Монгольскую
составная часть с центром в Верхнеудин•область. Также по Конституции республик'!
ске. Постановлением ВЦИК б:<1ли установнаселение области подчинялось общим залены границы республики, в которую воконам ДВР, а в пределах слоей области
шли две автономные области и большая
йыло самостоятельно в сфере организации
часть Прибайкальской губерн.ш. Так была
суда, административно-хозяйственной
и
обеспечена компактность территории рескультурно-национальной жизни. Трудящиепублики, населенной бурятами, эвенками
ся восточной Бурятии, организованной в
и русскими.
автономную область, принимали активное
Образование Бурятской АССР явилось соучастие в борьбе за окончательное изгнабытием величайшей исторической важности
ние интервентов и ликвидацию
остатков
в жизни бурятского народа. Оно вызвало
белогвардейщины в Забайкалье.
небывалый подъем творческой инициативы
После разгрома внутренних и внешних
широких масс трудящихся, подняло их к
•врагов на Дальнем Востоке, ДРВ в ноактивной творческой жизни и государственябре 1922 г. вошла в состав РСФСР. Всконой деятельности.
В составе Российской
ре были предприняты практические шаги
Федеративной Республики бурятский народ
но воссоединению западной ,1 восточной
с помощью русского и других народов ликБурятии. В декабре 1922 года в центральвидировал свою вековую отсталость, соные органы РСФСР — ВЦИК, Наркоматы
вершил переход к социализму, минуя капило делам национальностей и по иностталистическую стадию развития. За полверанным делам — была направлена докладка существования Советской власти, к соная записка, в которой обосновывалась
рокапятилетию с момента
образования
необходимость объединения
автономных
Бурятской АССР
достигнуто подлинное
областей бурят и выдвигалось предложенациональное и духовное возрождение буние об образовании Бурят-Монгольской Сорятского народа.
ветской Социалистической Республики.
В период развернутого строительства,
В записке подчеркивалось, что бурятский
коммунизма еще более расширяются и укнарод выражает желание осуществить нерепляются экономические и культурные свямедленное объединение автономных обласзи Бурятии с другими республиками и обтей. Необходимость воссоединения Буряластями нашей страны. Происходит процесс
тии диктовалась интересами национального
всестороннего сближения бурятского навозрождения бурятского народа, задачами
рода с народами Советского Союза. Это —
ликвидации фактического неравенства буяркое свидетельство торжестзп ленинской
рят в области хозяйственного и культурнонациональной политики Коммунистическом
го развития.
партии.
Народные комиссариаты по делам нациоА. ВАРТАНОВА.
нальностей и по иностранным делам в де-
Критика и библиография
Поэзия—редКая удача
Сад бурятской поэзии — в весеннем цветении, в нем много веселых и радостных
звуков: от трели жаворонков до клекота
степных орлов. Здесь раздается многоголосый слаженный хор хорош:1.ч и разных
поэтов.
Бурятская лирическая поэзич за последние годы окрепла, стала более целенаправленной. Многие мотивы умильного щебетания по поводу неразделенной любви, лирические этюды о встречах ч расставаниях постепенно уступают мотивам солнечным, жизнеутверждающим.
Бурятская
национальная лирическая
поэзия, у истоков которой стоят такие имена, как Бавасан Абидуев, Дамба Дашшшмаев, Дольен Мадасон, имеет и свои стецифические особенности. Она смотрит на
мир по-своему и по-своему отражает его.
Так называемый «степной колорит» долгое
время не давал ей большого простора.
Сейчас бурятская лирика смело вышла за
пределы этого. Лирика наша становится
мягче и проникновеннее. Приобретение такой ценной черты, как искренность, я считаю большим достижением бурятской поэтической мысли.
Сейчас наша поэзия все уьзреннее набирает темп, все смелее выходит на всесоюзную арену. Стихи бурятских авторов
все чаще и чаще появляются в столичных
изданиях. А это при сегодняшнем высоком
уровне развития поэзии - - немаловажное
обстоятельство. Если к тому же учесть,
что средний уровень пишущих чрезвычайно возрос, то наше сравнение будет убедительным.
* *
*
Дамба Жалсараев -- один из признанных запевал современной бурятской поэзии.
Творчество его выгодно отличался от творчества многих поэтов своей духовной зрелостью. Он, как поэт активной жизненной
позиции, ратует за человеческие ценности,
за все, что дорого ему.
Недавно Д. Жалсараев издал
книгу
стихов и поэм «Избранное». К составлению
ее поэт отнесся серьезно, с полной ответст-
140
венностью. Он отобрал действительно лучшее и яркое, характерное для своего творчества. В сборнике мы найдем лирику Л
сатиру, эпические полотна и короткие четверостишия. Наряду со стихл'.ы-картинка'
ми пейзажного характера мы читаем возвышенную гражданскую лирику. В одном
разделе сборника — стихи-раздумья о нашем времени, глубокие, философские, а и
другом — детские стихи, милые, непосредственные.
Д. Жалсараев умеет находить темы для
разговоров с читателем любого возраста.. '
О партии, о Родине он говорит высоклм:
слогом публициста и стиль его стихов возвышенный, согретый пафосом страстной
гражданственности. С детьми он говорит
языком доброго знакомого, наставника,
старшего товарища, но в то же время не
подлаживаясь, не сюсюкая.
«Избранное» Д. Жалсараева тематически разнообразно и богато. В книге с типичными «степными» стихами соседствуют
стихи «чисто городские» (урбанистические);
тут стихи о колхозной нови и о рабочей
солидарности.
В лирике Д. Жалсараева весьма характерно желание выражать «живой дух
своего времени». Красота человека, его деяния — вот куда направляет «фокус» своего внимания поэт. Такие «мускулистые»
стихи, как «Борьба», «Полет». Стихи, написанные на пороге 40-летия, говорят о
зрелости мыслей и страстности автора.
Как поэт-лирик, Дамба Жалсараев прекрасно владеет искусством слоьесной живописи, он в полной мере познал прелесть
поэтической детали.
В упряжку взял я степь от края и до
края,
свои лучи на вожжи солнце дарит мне..
Дугою будет в небе радуга цветная,
а бубенцами — жаворонки в вышине,—
так я помчусь к тебе.
(Перевод ЛЬ Светловой).
«Избранное» — итог более
20-летнейтрудной, но счастливой работы поэта Д.
Жалсараева - - не может не порадовать,
любителей поэзии.
В бурятской поэзии довольно успешчо
трудятся поэты Алексей Бадаев, Солбон
Ангабаев, Цыдып Жамбалов, Цырен-Дулма
Дондогой, Дондок Улзытуев. Это — поэты
молодого послевоенного поколения б у р я т ских писателей. У каждого чо нескольку
сборников стихов. Многие из них известны русскому читателю.
Солбон Ангабаев — поэт-лирик. Неторопливая, раздумчивая интонация его голоса
слышна далеко. Поэт создал з=) последнее
время цикл по-настоящему хороших стихов.
Стихи «Сват», «Семнадцатилетие» успели
полюбиться читателям. С. Ангабаев посвятил много проникновенных строк России.
Я люблю тебя, Родина, песнями,
я люблю тебя — шумом лесов.
Если б взяли любовь мою взвесили,
положили б на чашу весов:
степь ковыльную, дождик лирический,
сердце матери, думы отцов,
до ракетных высот, до космических
поднимались бы чаши весов.
(Перевод С. Поликарпова).
Много внимания С. Ангабаев
уделяет
описанию родной
баргузинской природы.
Пейзаж очень картннен, образы природы
одушевлены, описаны ярко.
С. Ангабаев и А. Бадаев не схожие по
эты. Их почерки разные, но их роднит
•одно — желание активно вмешиваться в
дела своих современников, воспевать их.
Стихам А. Бадаева характерна гражданственность и страстность бойца. Недавно
вышла на бурятском языке его новая калга «Смеющиеся звезды»,
свидетельствующая о росте мастерства поэту.
Дондок Улзытуев — поэт со своим мироощущением, со своей поэтикой. Поэзия Улзытуева новой струей ворвалась в бурятскую литературу. Она обогатила нашу литературу свежестью восприятия мира.
Стих Улзытуева —• это свободный, ассоциативный стих. Такого рода стихи на
Западе называют в е р л и б р а м и . Д . У л зытуев верен им вот уже на протяжении
нескольких лет.
Перед нами его последняя к-.шга «Аадар»
(«Ливень»). И в ней мы видим руку мастера и умельца. Сборник подкупает пас
лиричностью, плотностью образной системы, песенностью.
Большим недостатком,
по-моему, является отсутствие во многих
стихах философской осмысленности происходящего. Может быть, это происходит
от узости тематического горизонта?
Я в слова не играю.
Мой долг нерушим.
Я свой стих собираю,
как воду в кувшин.
Мне искать да искать,
вот такие дела.
Я боюсь расплескать
те слова, что нашла.
Эти проникновенные слова принадлежат
старейшей бурятской поэтессе Цырен-Дулме Дондоковой. Мы взяли эту цитату п.)
ее книги «Солнце-гора», вышедшей недавно в московском издательстве «Советский
писатель» в отличном переводе нашей сибирячки Светланы Кузнецовой.
Вообще с переводом бурятской ттш1
па русский язык долго не яезло. Многие
хорошие стихи в переводе на русский язык
получались «колченогими». Зл последние
годы благодаря тесному содружеству постов и переводчиков дело постепенно налаживается. Содружество в да::ном случле
Дондоковой—Кузнецовой принесло неплохие
плоды. Притом это счастливое содружество,
ибо обе поэтессы—лирики, обе работают в
одном «ключе».
Небо синь неустанно льет.
Потерялись границы линий.
И сердце мое плывет
по Исинге синей.
Говорю здесь слова синие.
синей нельзя.
И хочется стихи синие
посвятить вам, друзья.
Такие строки может написать только ярко о д а р е н н ы й лирический поэт.
В сборнике «Солнце-гора» много превосходных стихов о природе, о .тодях нашего
края, о любви и дружбе. Этот сборник хороший подарок читателям.
Вышли книжки стихов для детей А. Жамбалона и Ч.-Р. Намжилова в издательстве
«Детская литература» на русском языке.
Арсалан Жамбалон
н Чимит-Рыгзен
Намжилов
давно известны как детские
поэты. Они много и охотно пчшут для детей.
«Маленький чабан» — так называется
книжка А. Жамбалона (перевод Н. Глазкова). Многие стихи посвящена прекрасной
природе родного края, ее необозримым цве
тущим просторам, ее покрытым лесами
сопкам.
«Удивительный наездник» -- это первая
книжка па русском языке Ч.-Р. Намжилова. Поэт включил в нее лучшие стихи, написанные им, разнообразные по своему характеру и содержанию. Есть стихи о Ленине, о новой жизни улуса, о природе родного края, о детях и фрагменты из поэмы
«Цена хлеба». Книгу полностпЮ перси""
Николай Симаков.
Вышли первые стихотворное сборники
молодых поэтов Мэлса Самбуевн, Дугйр
ж а п а Жапхандаева, Бато Цмр ли >. I н <п и
Бараса Халзанова.
Первая книжка... Первое :ш:!ко\к пш с
широким кругом читателей...
Мэлс Самбусв — один н I о щ р е н н ы х мг>лодых поэтов пашен республики. Иго с т и х и
часто появляются н периодике. Голос ел»
не затеряется н общем хоре ' л р я т с к п х поэтов. У него свой голос, с и п я манера п и , V I ма. Гл'о с т и х и и.-пилп дорогу к сердцу чч-
111
тателя, они ему полюбились и пришлись
по душе. Отлично написано стихотворениепритча «Мой дед». И форму поэт избрал
подходящую.
Первая книжка М. Самбуева
«Таежный снег», несмотря на некоторые стилевые погрешности, удалась. Встреча молодого автора с широким кругом читателей,
можно сказать, состоялась.
Поэт Дугаржап Жапхандарг. живет м
трудится в Агинском национальном округе.
Пишет и печатается давно. В этом году
он издал свою первую книгу «Степные мелодии». Но, к сожалению, в ней собраны
далеко не лучшие стихи поэта.
Первая книга стихов Бараса Халзанопа
«Далай дээрэ» («На
море») получилась
цельной в тематическом отношении и интересной. Традиции морской псмантики
в
бурятской поэзии в лице Б. Халзанова нашли достойного преемника. Хорошо, когда
молодые поэты приходят в литературу со
своей темой, со своими героями. Служба
во флоте дала поэту хорошую закалку и
сдружила его с морем и моряками.
Я хотел бы (не как упрек, а как пожелание!) предостеречь Б. Халзанова от увлечения делать гладкие, совсем «не шероховатые», стихи и от излишней литературщины.
* *
*
Тема индустриализации Бурятии, урбанистические мотивы в современной лирике
до недавних пор были как бы «целиной».
В бурятской современной литературе не
так уж много книг, посвященных темам
рабочего класса сегодняшнего дня. Удельный вес этой тематики в общей литературной продукции Бурятии продолжает оставаться ничтожным. А между тем. тема труда всегда рассматривалась советской литературой как главная.
Молодой поэт Даши Дамблс-в проработал на ЛВРЗ три года и написал цикл
стихов о рабочих, который он и включил
в свою новую книгу «Хубшэргэ» («Тетива»).
Как поэт справился со своей задачей,
задачей раскрытия этой тем1»;^ Из опыта
многих советских пбэтов, работающих и
этой области, известно, что тема труда
раскрывается через спектр психологии р.тбочих, в сфере трудовых отношений. В
труде люди зачастую крупнее и возвышеннее, чем в быту. Ярким примеров
удачного решения темы трудового героизма в нашей советской литературе является
поэзия магнитогорца Бориса Ручьева.
Даши Дамбаев написал о ЛЗРЗ, о крчновщице Вале, о своем цехе, о первой получке, о рабочей славе. Вот и весь перечень стихов. Однако поэт те?ду труда решает по чисто внешним его приметам, иногда у него на первый план выступают технические термины (секвенция, фазорасщепитель и т. д.). Стихи этого цикла несколько легковесны и фрагментарны. Тема
раскрыта неглубоко. Там, гдл не хватает
мыслей, Д. Дамбаев старается скомкать
(•тихи и заканчивает выкриком вроде:
II'-'
«Эх!», «Ухайш!», «Тиим», «Салют!». Посмотрите, как поэт легковесно написал о
заводе ЛВРЗ. Я приведу полностью всг.
стихотворение.
- Здесь вы строите
самый лучший локомотив?
- Да.
Парни, крепкие, здоровые, трудолюбивые.
забираясь ловко и легко, кач птицы,
на мощного «железного коня»,
шумят весело.
— Смотри: новый электровоз
приготовился на дальний маршрут.
— Во!
Наш прославленный гигант ( Л В Р З )
похож на просторный аэропорт(?)
И днем, и ночью шумит,
как сердце (?!),
Бьется сильно.
(Подстрочный перевод — мой).
Обильная декларация Д. Дамбаева не
скрывает вялости мыслей. Тема труда так
и не раскрыта поэтом. Стихи бессюжетны.
Гуманитарно-технический антураж, разумеется, не есть поэзия, а экспрессия самапо себе еще не чувство. На этом исчерпывается весь
«энциклопедический» пафос
Д. Дамбаева. Вместо глубокого, серьезного»
художественного
воплощен;!-! темы,
Д.
Дамбаев
предлагает нам беспомощные«макаронические» стихи.
* *
Известно, что современность — это душапоэзии. Воспеть свое время, дела и по- <
мыслы своих современников — благородная миссия любого советского поэта.
Бурятская поэзия за последнее
время
стала больше обращать внимания отражению современной жизни. Поэты республики создали ряд произведений с «места событий», героями которых яв:'я.отся наши 1
современники.
Стихи поэтессы Цырен-Дулмл Дондогой
в этом отношении выгодно отличаются от
стихов ее собратьев. Ее поэма «Норбын
Аюша» — это поэтическое жизнеописаниестарейшего колхозника Норооева Аюшк
Бодиевича, и поныне живущего в родном
селе Исинге Еравнинского аймака.
Бодиин Норбын Аюуша — алдарынь,
Бултанда хундэтэн убгэн лэ тэрэмнай.
Зазын АдагЬаа эхилээл намтарынь,
Залирангуй дабшаНаар мунее хурэтэр лэ.
Тэмсэлэй ольНохон уни бутараад,
Т у р у у ш ы н колхозное бэедэнь нэбтэрээл.
Зазынгаа хойморто гушан нэгэнНээ
Залуухан Аюуша эдэбхитэнэй нэгэн
гэал.
Бодиин Норбын Аюуша — так зовут его,.
Окружен почетом он.
Его биография началась с Усть-Зазы,
И до сих пор она славно продолжается.
С первых лет колхозного строительства
В его крови кипит порыв борьбы, труда.
С тридцать первого года в хойморе Зазы>
Молодой Аюша в числе передовых
людей.
(Подстрочны»
перевод
• • .мой).
Ц.-Д. Дондогой много внимания уделяет
совершенствованию формы своих произведений. Поэма «Норбын Аюша» написала
октавами. Очень жаль, что во имя соблюдения метрических правил поэтесса часто
ломает
естественную суть грамматически
правильной бурятской речи. Влг почему ее
поэма скатывается на докучливые, пространные повествования.
Нам нужно решительно бороться за обогащение форм, жанров, стилен. Бурятская
поэзия не должна
стоять з стороне от
главных задач современности. В поэзии
важно не сиюминутное настроение, а широкий взгляд на мир, жизнь. Нужно не
философствовать по поводу, а философски
глубоко осмысливать происходящее.
И я обращаюсь к тебе, душа моя!
Будь хорошим приемником,
чутким,
многодиапазонным,
всеволновым,
как двадцатый век,—
Затухает одна волна,
переходи на другую,
чтобы ощутить поэзию,
как биотоки людских сердец.
(А. Я ш и н ) .
Пусть поэзия появляется тогда, когда
вызревает
необходимость
высказаться
вслух, высказаться образами. Бурятским
поэтам необходимо работать молодо
и
вдохновенно, жить и думать по-своему,
ибо поэзия, по образному выражению
А. Н. Толстого,— это редкая удача.
Вл. ПЕТОНОВ.
НароднЫе богатЫри
В Восточно-Сибирском книжном издательстве вышла книга иркутского историка
И. И. Кузнецова «Защищая Отечество» о
Героях Советского Союза — воинах Иркутской области. Во время Великой Отечественной войны этого высокого звания
были удостоены восемьдесят два отважных
иркутянина.
«К героическим подвигам в годы войны наши земляки были подготовлены как
морально, так и физически,— пишет И. К.
Кузнецов.—• Воспитанники
партийных и
комсомольских организаций, активные строители новой жизни, они знали, за что сражались». Среди Героев Советского Союза
тридцать три рядовых, сержантов и старшин, сорок три офицера (в том числе ток
полковника), пять генералов и один вицеадмирал. Пятьдесят шесть из них к моменту присвоения звания Герои Советского
Союза были членами Коммунистической
партии Советского Союза, шесть — комсомольцами, двадцать — беспартийными. В
числе героев представители всех родов
войск...
И. И. Кузнецов показывает национальный
состав героев-иркутян, среди которых —
русские, буряты, украинцы, белорусы и
эвенки. В книге говорится, что почти каждый район области имеет в списке героев
своих представителей,
например, город
Иркутск воспитал семнадцать, а Усть-Ордынский Бурятский национальный округ
пять Героев Советского Союза.
Автор книги кропотливо, ло крупицам,
настойчиво и упорно в течение многих лет
собирал материалы для своей книги. Он
рылся в архивах и рукописных фондах
Министерства обороны СССР, Главного
управления кадров Министерства обороны,.
Иркутского обкома КПСС, областного военного комиссариата. Изучал данные периодической печати 1941—194;") годов, воспоминания и письма Героев, их родственников, друзей и близких. И вот на основании этого богатого и ценноп докумечтального материала родилась книга, правдиво и интересно рассказывающая о подвигах героев-иркутян.
...Замечательный путь от рядового солдата до генерала армии прошел Афанасий
Павлантьевич Белобородое, сын крестьянина из деревни Баклаши Иркутского района
Иркутской области. В годы Великой Отечественной войны он командует стрелковой
дивизией, корпусами, армией. Солдаты, ведомые им, участвуют в Московской битое,
в боях на Сталинградском направлении, з
Витебской, Кенигсбергской и многих других операциях. В дни войны с империалистической Японией наш земляк командовал 1-й Краснознаменной армией 1-го Дальневосточного фронта. За мужество и отвагу, умелое руководство войсками Афана- сии Павлантьевич награжден двадцатью
семью советскими и иностранными орденами. Он — дважды Герой Советского Союза,
с 1963 года — командующий Московским
военным округом, депутат Верховного Совета СССР, член ЦК КПСС.
Дважды Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор авиации (ныне запаса)
Николай Васильевич Челноков родился ь
1906 году в г. Иркутске, в семье железнодорожника. С 1928 года он служил п авиации, отдал летному делу двадцать
шесть
лет своей жизни. Воевал на Балтике и
Черном море. Не раз водил эскадрилью^
1
стр.
И. И. К у з н е ц о в . Защищая Отечество. Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1968,
272.
143
бомбардировщиков в бой на п.рага. Став
.нтчиком-штурмовнком, Николай Васильевич командовал авиационным штурмовым
полком, а затем — авиадивизией. Защищал
город Ленина, сражался за Керчь, Севастополь, Кенигсберг. Соверши.: сотни боевых вылетов, не раз смотрел в глаза
смерти.
В работе И. И. Кузнецова опубликованы
очерки о героях-бурятах: Илье Васильевиче
Балдынове. Владимире Бузизаезиче Борсоеве, Михаиле Федоровиче Мпрхееве, Василии Харннаевпче Хантаеве.
Илья Балдынов. Бесстрашны!! воин. Талантливый советский военачальник. Бурятский батор, о котором слагали эпические
сказания-улигеры, создавали песни. Во всех
улусах п аймаках Бурятии — на берегах
Байкала и Ангары, Лены и Ирчута, Оноиа
н Селенги, Баргузина и Хплка — араты
Урда хойно шууюлНан
Герой генерал Балдынов.
Перевод:
На западе и востоке,
овеянный славой
наш герой, генерал Балдынов.
визию и в ее рядах сражается на Кры
ском фронте. Когда в июле 1912 года
базе кавалерийской дивизии создается 41
мотострелковая бригада, И. В. Балды»
назначается начальником шта-5-1. Осенью
зимой 1942 года он участвует в тяжел,
оборонительных боях на Северном Кавк;
зе. Затем И. В. Балдынов — заместитель
командира прославленной 55-й гвардейской
Иркутской дивизии. Вместе с ее командиром генералом Б. Н. Аршинцечым он умело
руководит
наступательными
операциями
гвардейцев по разгрому «Голубой линия»
испанских фашистов.
В июле 1943 года И. В. Балдынов по •
поручению Ставки в районе станицы Крым-'
скоп из 6-11 п 9-й гвардейских авиадесант- '
ных бригад формирует 109-ю гвардейскую
стрелковую
д и в и з и ю и становится ее бес- 1
сменным командиром. От кубанских
станиц дивизия полковника Балдмчова начала свой боевой путь, отмеченный славными
ратными
делами и высокими наградами
РОДИНЫ...»1.
В многочисленных боях с немецко-фашистскими захватчиками бойцы и офицеры
соединения Балдынова покрыли себя
неувядаемой славой. Освобождение Донбасса, Николаева, Одессы и многих
других
городов, форсирование Днепра,
бесприЭто — человек огромного мужества и отмерный тысячекилометровый марш через
ваги, вся грудь его украшена орденами и
всю Румынию, Болгарию, Трансильванские
медалями, над которыми сверкает Золотая
Альпы,— вот этапы боевого лутн днвлзнп
Звезда Героя. Илья Васильевич Балдынов
Балдынова, которая удостаивается ордена
родился в 1903 году в улусе Булуса ЭхпКрасного Знамени и ордена Суворова 2-й
рнт-Булагатского аймака, в сгмье скотостепени.
вода.
Воины 109-й гвардейской дивизии участУлусный актнвист-обществешшк вступает
вуют в Будапештской операции. освобожв 1925 году в ряды Коммунистической пардении столиц Венгрии и Австрии, крупных
тии Советского г Союза и борется за торчехословацких г о р о д о в — Б р а т и с л а в ы
и
жество новой ' жизни на родной земле.
Брно. В августе 1945 года дивизия БалдыОкончив в Иркутске школу д.<м взрослых,
нова совершила
героический форсированБалдынов работает в советски< и комсоный марш по безводным степям Монголии
мольских органах Эхирит-Булагатского аии через .Большой Хпнганский хребет и бь;мака и Бурятской АССР.
ла
удостоена пятнадцатой благодарности
Молодая Республика Советов, окруженВерховного Главнокомандования и почетная со всех сторон капиталистическими дерного наименования «Хинганскон».
жавами, укрепляла свою обороноспособМужество, бесстрашие и умелое боевое
ность, готовила военные кадры. Бурятским
руководство Ильи Васильевича армейским
областной
комитет
партии направляет
соединением отмечены семнадцатью ордеэнергичного н способного Илью Балдыноо.э
нами и медалями СССР и иностранных гов Ленинградскую кавалерий::<ую шко IV.
сударств, в том числе советским полководПосле ее успешного окончания он возвраческим орденом Кутузова 2-й степени
н
щается на родину и служит н Бурятском
двумя
орденами Венгерской Народной
кавалерийском дивизионе. В 1929 году учаРеспублики.
ствует в боях на КВЖД — командир П у Много славных страниц в историю Велеметного взвода Илья Балдыкон действует
ликой Отечественной войны вписали и др) смело и отважно. Грудь воина украсила
гие герои-сибиряки, в числе которых нахопервая п самая высшая тогда боевая надятся и сыны бурятского народа.
града "Родины—• орден Красного Знамени
Книга И. И. Кузнецова «Защищая Оте«В 1930—1934 годах И. В. Балдынов
чество» не оставляет читателя равнодуш•снимает ряд командных должностей в
ным. Она проникнута большим теплом п
глубоким вниманием к героям, покоряет
Буркавднвизионе и полку, затем учится в
Военной Академии им. Фрунзе,— пишет
внутренним светом и любовью к ним. МятП. П. Кузнецов.— Накануне войны капикий, непринужденный тон повествования,
являющийся признаком несомненного пубт а н И. В. Балдынов командует кавалерийс к и м полком. В первые же дни Великой
лицистического мастерства автора, правдивость и достоверность фактов, их глубокий
Отечественной войны он вместе с ветераанализ, данный ученым-историком, описаном гражданской войны генерал-майорлм
ние славных боевых подвигов героев выВ. II. К н и г о й выполняет ответственное зад а н и е к о м а н д о в а н и я — ф о р м и р у е т из кугодно отличают этот труд.
В конце работы
даны биографические
< > : ц | с к п \ к а т к о в 72-ю кавалерийскую ди144
И. П. К у з н е ц о в . Защищая Отечество, стр. 44.
справки на Героев Советского Союза, уроженцев других областей, проживавших к
проживающих в Иркутской области после
Великой Отечественной войны. Они также
иллюстрированы фотоснимками. Приложены список Героев Советского Союза Иркутской области (по районам) и литература по теме.
Книга И. И. Кузнецова «Защищая Отечество» имеет большое значение для патрио-
тического воспитания подрастающего поколения и всех трудящихся на примерах
героических дел отцов и братьев в Великую
Отечественную войну.
Раднай Ш Е Р Х У Н А Е В .
доцент Иркутского государственного
университета имени А. А. Жданова,
к а н д и д а т филологических наук.
Озябший меридиан
Под одним «зонтом» — «Озлбшиы меридианом» 1 собрались одиннадцпть интересных, не похожих друг на дру'а, авторов,
среди которых пять поэтов-чукчей, профессионалы Антонина Кымытваль, Виктор Кеулькут (ныне покойный) и стрелок морской
зверобойной бригады совхоза «Канчалакский» М. Валынргин. студент-журналист
В. Тынескин и заслуженный работник культуры РСФСР Базик Добриев (в настоящее
время
секретарь Чукотского РК КПСС).
Среди русских поэтов есть и журналисты,
и матросы.
Это В. Перший, И. Кохановский, р В. Шенталинский,
Г.
Скворцов,
М. Зидович и А. Малашенко.
Земля, на которой живут они, суровая,
но стихи ее поэтов жизнерадостны, несут
черты характера аборигенов — оптимистическую устремленность и редкое упорство
в трудной борьбе с природой, умение Б
минуты отдыха повеселиться.
«Нутэтэгин, друг, давай-ка!.. От дупм он
пляшет нам, будто спугнутая чайка рвется к вспененным волнам... Упьыать нмкю
не хочет в нашем шумном клу'Зе,—веселитесь, пойте звонче, громче бейте в бубен!»
(Базик Добр^ев «Не скучайте, веселитесь»).
Каждый поэт-чукча в сборнике представлен удачными своими вещами, и это
похвально. В нем немало хороших стихов
II
РУССКИХ
ПОЭТОВ.
Красноречива немота эфира!
Час ожиданья тяжек, как уран...
Хозяйственно обняв две трети мира,
хранит свое молчанье океам.
{Г. Скворцов «Они всегда такие молчаливые»...)
...На могучих плечах зимы
Мир качается, как на качелях,
и скрипят протяжно из тьмы
перемерзшие параллели.
(А. Малашенко «Ничего не сулит мне
январь»...)
Самыми весомыми
стихами
являются
стихи Игоря Кохановского, особенно его
«Коррида» — о трудном и опасном искусстве испанских матадоров, о вечном превосходстве человеческого начала над неле1
Сборник «Озябший меридиан». Стихи
издательство, 1966, 95 стр., 6000 экз.
10. «Байкал»
Л'з 5
пым тиранством толпы, и «Маска», посвященная мимисту Марселю Марсо. В стихах дается противопоставление одного социального мира другому:
...Идеалов смещенье в вечном споре идей,
и немое смущенье незаметных людей.
Все крупнее улыбки, все весомее груз,
и скрывают улыбки обнаженную грусть.
...Вам бы чистого снега среднерусских
широт,
вам бы чистого смеха человечьих щедрот.
Но п сборнике наряду с этим помещено
немало мелкотемных однодневок и даже
совсем невозможных для обнародования
вещей. А ведь нужно было редактору перед
этой злополучной «ложкой дегтя» поставить злслон.
Виталий Шенталинский — человек не без
божьей искры, глубоко понимает природу
поэзии, иначе у него не появилось бы того
хорошего стихотворения, которое заканчивается афоризмом: «Рожденьем человека
стоит считать рождение стиха» («Искусство стихотворной власти»). Но почему в его
стихи вдруг вторгается такое: «По всей
земле, как памятники ночи, ням любящие
женщины горят»?
(«Садятся зоробьи на
старые балконы»).
Что это? Недомыслие.
Советская женщина принимает активное участие в общественной жизни страны. Она может
быть и большим государственным деятелем,
и доброй и мудрой матерью. А такое воспевание женщины поэтом оскорбительно и
бестактно. Женщина в этом увидит прежде всего ограничение своей любви,
своего долга и своей роли.
«Утро наступило слишком рано» для
строчек, еще не отработанных и незрелых,
и нечего было ими «чистый лист бумаги закрывать, как белое пятно» (стихотворение
«Я должен написать об этом»).
Поэтому читатель вправе спросить его
же словами: — К чему петь «О б л с ш к - . н ш но перепетом», когда мир для таких шмщпв
молчит («мучительно молчанье м и р и » ) , молчит так же, как они глухи к нему?».
А теперь поговорим о тех, кто о г к р ы н а г т
сборник, но не является его затчи.-юм.
молодых поэтов. Магаданское книжное
145
Это Владимир Першпн, стих которого на
расстоянии «сбивает с ног» неопределенчостыа идейных установок, модернистским
модничаньем и позерством.
Для начала поговорим о деструктивности его стиха, то есть о намеренном разрушении фонико-ритмической структуры
той системы стихосложения, которую он
взял себе «за образцы». Вторым и четвертым строкам силлабо-тонической
строфы
1
несвойственен «холостой стих» . В. Першин
намеренно идет на это отклонение от нормы
з 1-й же строфе первого по списку стихотворения «Горизонт».
Горизонт—это смычка зовущего неба
с напряженной землей, что устала от дум.
Я пока в этом поясе (?) все еще не был.
Я пока еще тут, понимаете — тут!
По логике (а также по предшествующей
строфе) можно догадаться, что под «поясом» автор мыслит горизонт, но тогда еще
нелепее все построенное в целом: но как
можно, оставаясь нераздвоенным существом, быть и там, где он в данный момент
находится, и одновременно —• «в горизонте»? Смутен поэтический замысел, а, вернее, — нет его в этом стихотворении. Ничем
необъяснимо появление в конце стихотворения таких строк: «Поэтому-то мне душно с
собою (?) и тесно» (?).
Сколько бы вы ни вчитывались в следующее стихотворение «Еще пушинки робкой
вербы», вы так и не поймете, о чем пишет
автор. Почему лирический герой «смутный» и «тяжелый»? А ведь его должна понять еще и любимая, о которой говорится
в стихах? Досадны грамматические вывихи: «А встреть иначе — было б (?) хуже»
(грамотнее — «будет хуже»).
Верх пренебрежения к идее, к задачам
высшего порядка—видеть то, что «временем зарыто», В. Першин показал в третьем
по счету стихотворении «Мальчикам с драги». Справедливость требует сказать, что
это едва ли не единственное стихотворение,
где тема у автора обозначилась явственно.
Но автор далек от элементарно-гражданских требований. Показать «грубость» Колымы автор может даже через посредство
эмоционально-насыщенной рифмы:
«драки» — «драгу». Но, на фоне этой грубости
(из-за «девочек»), так спутаны ближний и
дальний планы зримого, а главное — так
все смещено относительно действительности,
и в результате — пустота обрисованных
душ:
А завтра будет все так же,
хоть плачь ты, хоть матерись! (?)
Смотайтесь вы, парни,
подальше.
Смотайтесь на материк!
Ну, мальчики!
Мне ли учить вас?!
У вас это право есть...
Что это как ни отчетливая пропаганда
идеи ухода молодежи с трудных участков
добычи золота, пропаганда приспособленчества и иждивенчества? Нужно ли и можно ли было давать ход таким с т и х а м , за
которыми грубо и зримо просматриваете!
лицо обывателя? Автор, смакуя, хзалит за
то, ч т о «усталые дьяволы — в спецовках
под одеяло», и не осуждает за мат и драки,
советует «мальчикам» делать всг, что им
захочется.
Такие стихи кормят читателя «грудьютрубой» (словами автора) и пустой. Хотя
в другом стихотворении («Девочка с яблоком») В. Першнн, видимо, в порядкг самокритического прозрения и восклицает: «...к
чему городить огород!» — он все-таки городит этот огород мещанского мирхз.
А вот как обращается В. Першнн с литературным русским языком: («Мысли протяжны (?)», «явность (?) неведен:!я:>, «приходит в мой хаос (?) патока — лень»
(стр. 15, 16) и др.
В. Першин мог бы стать автором неплохих стихов, ему даже «повезло бы отчаянно», он мог бы стать поэтом со здоровым
романтическим заквасом (без «равновесия
лжи и правды»), если бы не его тяготение
к беспредметной символике с одной стороны, и не эстетическая безалаберность и безвкусица — с другой.
Теперь в целом о книге. На суперобложке прекрасно подан снимок женских глаз,
смотрящих на морозный воображаемый меридиан сквозь мех и пух, как сквозь бойницу. Чудесны и другие фотоиллюстрации книги, особенно фотопортреты авторов. Но и в
оформлении книги есть досадные промахи.
На 22 странице подан рисунок п . ^ т а Виктора Кеулькута. Под ним: «...Перевел с чукотского В. Сергеев». Обычно переводят
текст с языка на язык, а тут... рисунок «пе-'
реведен с чукотского»! Такое встречается
впервые.
Переводчик А. Пчелкин пошел на применение сложной рифмы Маяковского («и конца» — «остановится») в классическом шестидольнике, который автор скандирует как
четырехстопный хорей в 1 и 3 строках и
трехстопный хорей во 2 и 4 строках. Переводчику должно быть известно, что д а ж е
величайшему версификатору русского стиха
В. Брюсову не удалась трансплантация (пересадка) рифмы Маяковского в силлаботоническую строфику, так как рифма Маяковского явилась продуктом другой (синтагматической) фонетической структуры продвинувшегося вперед языка, несовместимо*!
с прежней, силлабо-тонической. Рифма,
которую употребил А. Пчелкин. искусственна и труднопроизносима.
Итак, многое в сборнике стнхоз вызовет
недоумение читателей. Мы же
указали
только некоторые его недостатки.
Каждая новая художественная книга—
радость, и как правило, она всегда приносит
с собой светлую струю. И, чтобы избежать
все ошибки и недочеты, нужно еще до выхода книги в свет ставить предупредительные фильтры.
Г. ПЕЧОРОВ.
«Поэтический словарь» А. Квятковского, М., 1966, стр. 98, 327.
Апокоампр Т р у Б и н
РИСУНКИ В. Никитина.
Глава первая
1
Ленька Наумов любит смотреть на острые гребешки байкальских
ЕОЛН и парящих над ними белых чаек рыболовов. Летом, как только
кончаются занятия, снимает с чердака запыленные удочки и, привязав к лескам новые крючки, грузила, берет с завалинки банку с червями, котелок и спускается с пригорка к Байкалу в том месте, где
впадает в него речка. Здесь рыба ловится лучше, приманивают ее
сюда свежая вода и корм, приносимый рекой.
Временами клева нет, но Ленька не уходит домой. Сядет на согретый солнышком валун и смотрит в морскую синь, где снуют рыболовецкие катера, оставляя за собой белые, пузырчатые дорожки.
Что там, за этими катерами? Такие же бугристые волны. А дальше?
И так ему хочется оказаться на маленьком катере и плыть,
плыть...
И сегодня Ленька пришел на берег.
Байкал сердито хлещет волнами о камни. Ленька, хмурясь, глядит на клочья пены, выброшенные водой к его ногам. Скверно у
Леньки на душе. И солнце спряталось в дымчатые тучи, ползущие
разворошенными копнами.
Волна лизнула пористый камень, с шипением перевалясь через
него окатила сапоги. Ленька отпрянул, запнулся о голыш, упал и
ударился локтем о камень. На правой щеке и кончике вздернутого
носа ярче обозначились порошинки, как будто его только сейчас обрызгали чернилами. Это прошлым летом в руках у Леньки разорвал1в*
147
ся самопал. Порох прочно засел под кожей, а глаза Ленька не выжег
по счастливой случайности.
Домой идти Ленька побаивался. - Приехал дядя Захар. Вообще-то
Ленька любит его. Да и как не любить — дядя всегда рассказывает
интересные истории из жизни геологов и привозит такие подарки, каких нет ни у одного поселкового мальчишки. Дядя полземли исходил. ,
Выл даже в пустыне Кара-Кум, а сейчас живет в палатке где-то в
гольцах.
Приезжает дядя Захар обычно заросший, как медведь. Курчавится рыжая бородища.
Ленька гордился дядей, но сейчас не очень радовался его приезду.
«Про двойки бы не узнал. А то всыплет, как тогда...»—Это Ленька вспомнил, как они с Репой затянули в коридор школы козла
Проньку и привязали за шкафом. Сперва он помалкивал, а потом зацепил рогами дверцу шкафа, и на него обрушились с полок коробки.
Пронька шарахнулся, оторвал гнилую веревку, влетел в класс, чихнул и заревел во все козлиное горло.
Ребята катались на партах.
Два часа стояли Ленька с Репой в кабинете директора. Репу исключили, так как его недавно обсуждали на педсовете и оставили в
школе до первого замечания, а Леньке объявили выговор на линейке.
Вот тогда-то и всыпал ему дядя «по пятое число». С тех пор Ленька
стал посмирнее, но учился по-прежнему с ленцой. И остался на второй год. Как отнесется к этому дядя Захар? «Фонарик бы не отобрал
и альбом».
Фонарь у Леньки отменный, никелированный, с выпуклым глазом, светит ярко, далеко. А в альбоме такие снимки! Там и песчаные холмы пустыни с караваном верблюдов, палатки возле арыка,
Забайкалье с румяными от багульника сопками, с отвесными скалами над Витимом, оленьи упряжки, юрты в степи.
Ленька уныло поплелся на пригорок, где стоит их кособокая изба, окруженная невысоким забором с ржавыми железными заплатами на нем. Это он залатал дыры от соседских куриц и от задиристого Проньки, который всегда норовит поддеть ротами кого-нибудь из
мальчишек. Хорошо, днем мама на работе. Отца у Леньки нет, даже
фото его он выдрал из альбома, когда тот ушел от них...
Дядя Захар встретил Леньку сурово:
— Что, года не хватило? На второй остался? — он походил молча, сверкая глазами из-под кустистых бравей, и вдруг рявкнул:—
Все! Кончены уговоры. Поедешь со мной. Работать будешь. Узнаешь,
почем фунт лиха, дурь-то из головы и вылетит!
Ленька чуть не завопил: «Ур-ра!» Но сдержался, опустил пушистые, как кромки молодых груздочков, ресницы, прикрыл в озорных глазах вспыхнувшие искры радости. Подумать только — и он,
как дядя Захар, будет колесить по земле, спать в палатке, лазить
по горам! А всякие там А-Б-С по боку! Ресницы поднимаются и
вздрагивают, зеленые глаза скачут веселыми чертиками.
Дядя Захар недовольно почесал бороду, нахмурился:
— Но-но! Ишь ты! Думаешь, в гольцах, как у маменьки родной? Там, брат, баклуши бить не придется. На буровой около меня
будешь учебники читать, да еще работать заставлю. Не до фокусов
будет.
2
По каменистой тропе люди гуськом поднимаются на хребег.
Ленька поглядывает на геологов. Ему нравятся их сапоги с реатешками на носках и голенищах, легкие зеленые куртки с капюшо143
нами на спинах. Молодые, веселые парни то отстают от каравана,
что-то разглядывают, спорят, а то уходят далеко вперед.
Ленька шагает за дядей. От спины Захара валит пар. Дядя тяжело пыхтит, широкие голенища его резиновых сапог однообразно
шаркают друг о друга.
Ленька бодрится. Он часто сходит с тропы и забегает вперед к
проводнику Доржи и даже ведет за повод его лошадь, когда он раскуривает свою трубку.
Тропа, виляя между камней и кустарников, становится круче. С
лошадей падают мыльные хлопья. Ленька снова догоняет Доржи.
— Ты, как козленка, шибко бегаешь. На коня садись. Далеко
едем.
Ленька, отказываясь, мотает головой. Ему жаль лошадей — все
вещи на них и продукты, им и так тяжело. А потом он еще никогда
не ездил -верхом.
Кустарники становятся все реже. Зато появилось много камней,
огромных, как на Байкале. А мелкие местами лежат россыпью. На
камнях лишаистый мох, он сухой и похрустывает под ногами, как
мелкий хворост.
Из-за острой макушки Эхэ-Дабана выползла рваная и темная,
как паровозный дым, туча. В ее дыры били солнечные лучи. Косыми
стеклянными нитями заблестел в них дождь.
Доржи остановил Воронка, снял с вьюка дождевик с прожженными полами и протянул Леньке.
— Надевай! На затылке Эхэ-Дабана сердитый шурган' будет.
Скоро дождевые нити оборвались, и вместо них повалили снзжные хлопья. Ветер сек лицо колючими снежинками, выл на разные
голоса, крутил снеговые пряди. А сквозь этот бушующий вихрь били
стрелы молний, раскатисто гремел гром.
Ленька испуганно прижался к Доржи. Проводник ласково обхватил его за плечи:
— Ну как, Ленька?
Тут снова громыхнуло, словно скала обрушилась в пропасть.
Ленька, вздрогнув, зажмурился, ослепленный вспышкой молнии.
Черная лошадь Доржи с одного бока побелела.
Ленька оглянулся: дядя был похож на Деда Мороза — борода,
усы, косматые брови закуржавели.
Идти стало тяжело. Ветер забивал рот, липкие хлопья оклеивали веки. Не верилось, что в июне может быть такая кутерьма.
На вершине ветер налетел с такой силой, что Ленька покачнулся и уцепился за руку Доржи.
Проводник вытер ладонью лицо и, отворачиваясь от ветра,
крикнул:
- Немного терпи. Скоро конец. Устал шурган. У Тогон-Шелун
остановку сделаем. Костер разжигаем, беда хорошо будет.
Эти слова ободрили Леньку, и он побрел быстрее, с трудом выдергивая разбухшие сапоги из липкой снежной каши.
Ветер еще раз с воплем набросился на караван и вдруг сразу
же стих. Ленька удивленно посмотрел на Доржи: как он догадался,
что шурган устал?
Из мглы выкатилось солнце и заиграло на мокрых камнях. На
горбушке перевала Ленька увидел три камня, они темнели на просветлевшем небе. Возле одного из них сделали привал.
Ленька забрался на камень. В середине камня было углубление,
наполненное снегом.
Доржи развел костер.
Шурган — сильный ветер.
149
—• Как, Ленька, красивый Тогон-Шелун?
— А что это?
— Камень так зовут. Грейся маленько, расскажу...
Ленька присел у костра, протянул к нему руки.
Геологи
тоже придвинулись к огню. Проводник задымил трубкой
и начал:
150
— Вон толстый камень. Зовут его Эхэ-Батор. Он — Большой богатырь. А маленький Бага-Батор, значит, Малый богатырь. А ТогонШелун, это Камень-Котел. Шибко давно у этого камня Чингис-хан
стоянку делал.
Ленька изумленно посмотрел на камни, на Доржи, на таинственный перевал. Шутка ли! Он стоит на том самом месте, где сотни и
готни лет назад стоял свирепый Чингис-хан!
Спуск с хребта крутой, и Ленька боится наткнуться на круп лошади, которая иногда почти садится на хвост и оставляет широкую
борозду в снегу. Ленька тоже съезжает сидя и тормозит каблуками,
чтобы не разбиться о камни, залепленные снежным месивом.
Чем ниже спускаются с перевала, тем меньше снегу. Тропа уходит в узкую долину, стиснутую со всех сторон высокими горами.
Деревья на них растут до половины склона. Будто кто-то огромными ножницами состриг лес с макушек гор.
Ленька спрашивает Доржи, почему вершины гор лысые.
— Холодно там. Не хочет расти,— отвечает проводник.
Леньке нравится Доржи. Одеянием он не похож на тех бурят,
которых Ленька видел в своем поселке. Те приезжали в обычной
русской одежде, а Доржи ходит в тэрлике. И шапка у него острая,
как чум. Леньке нравится даже походка проводника. Доржи ходит
забавно, по-утиному, вперевалку. А особенно Леньке приглянулся
нож проводника, заткнутый за красный пояс почему-то не сбоку, а
НЕ спине. Резная серебряная оправа переливается, блестит на солнце,
тихо побрякивает тоненькая цепочка на кольце рукоятки. За этот
нож Ленька отдал бы все свое богатство. Даже зажигалку-наганчик,
найденную у Байкала, и, пожалуй, фонарь махнул бы в придачу.
Здесь, внизу, тепло греет солнце, и от намокшей одежды идет
пар.
Ленька очень устал, но помалкивает, боясь опозориться перед
Доржи и дядей. «Скорей бы привал, что ли?»—и он представляет,
.как развалится у костра и задерет кверху ноги. Так усталость быстрей проходит. Он об этом где-то читал.
Ленька плетется за дядей Захаром, тот изредка оборачивается:
— Ну как, выдохся?
— Ничего,— бодрится Ленька и пытается идти быстрее.
Началось болото. «Откуда оно, проклятое, появилось?»—злится
Ленька, с трудом вырывая ноги из вязкой грязи. Ногам
холодно.
Под липкой, темной жижей — лед. Месиво под сапогами чавкает. Кругом торчат высокие, щетинистые кочки. Он пробует ступать на них,
они трясутся, оседают, кренятся набок. Ленька срывается с кочки и
падает. Когда впереди показался бугор, заросший чахлыми соснами
с сухими вершинками, Ленька с облегчением вздохнул.
На бугре Доржи остановил лошадь и стал развьючивать Воронка. Освобожденная от груза лошадь потерлась о корявый ствол и
начала щипать траву. Другие кони, когда с них стащили вьюки, стали кататься на спинах, дрыгая ногами.
Захар и геологи пошли собирать дрова. А Леньке проводник
сказал:
— Ты разводи костер, портянки суши.
Ленька опустился на колени, стал выгребать из травы сучочки.
• Ты, Ленька, зачем в Ореховку идешь? Работать, однако,
рано? Учиться надо,— Доржи достал из-за пазухи спички, протянул
ему:—Моя Даримка шесть классов кончила.
- Сейчас каникулы,— буркнул Ленька и почувствовал, как по151
краснели уши. Он дунул в костер, язык пламени охватил дрова. Едкий дым попал в горло. Ленька, кашляя, вытер кулаком слезы, уселся на вьюк и разулся. Поставил сапоги возле костра, развесил портянки. От них пошел пар. Дряблые, как руки матери после стирки,
ступни обдало теплом. Ах, хорошо! Костер — хорошо, привал — хорошо. От усталости и тепла клонило ко сну.
Вернулись геологи с охапками дров, оживленно заговорили о
каких-то отложениях, сбросах, сдвигах. Ленька подосадовал, что ничего не прочитал о геологах. А ведь он много читал. Всего НовиковаПрибоя, Арсеньева, Гайдара прочитал. Ночами зажжет под одеялом
фонарик и читает, чтобы мать не видела, не ворчала.
Ленька напрягает слух. Новые, непривычные слова геологов тут
же выскакивают из головы. «Стлапатиты? Нет, стлагомиты или сталогмиты, он сказал?
— Что ты бормочешь?— спросил дядя Захар и вытряхнул из
мешка сыр, колбасу, хлеб.— Садись. Пожуем и снова потопаем. Сапожонки твои вон каши просят. Как дойдешь-то? В Таежном смотрел—
везде сорок последний.
— Ничего, выдюжат,— ответил Ленька, сдирая с колбасного
кружка шкурку.
Захар и Доржи завьючили лошадей.
«Куда торопятся? — подумал Ленька. — Ведь не отдохнули еще!».
Он с неохотой натянул сапоги, будто в духовку затолкал ноги. Но
портянки будут сухими и горячими недолго. Вот спустятся с бугра, и
опять зашлепают в мокроте. Эх, не уходить бы от костра! Ленька,
морщась, устало поднялся.
Доржи подвел лошадь.
— Верхом пойдешь. Ногам отдыхать, однако, надо.
— Не повожай, Доржи! Пусть привыкает, ничего с ним не сделается,— проворчал дядя Захар.
Доржи укоризненно покачал головой:
— У тебя, Захар, пошто вместо сердца дерево? Как не понимаешь?
— Ну, нянчи, нянчи его!
Доржи нахмурился и помог Леньке сесть на Воронка.
Ленька поудобней устроился меж вьюков, ухватился за луку
седла. Когда лошадь двинулась, ему показалось, что он сидит на качающемся суку над обрывом и вот-вот сорвется.
В топких местах Воронок, проваливаясь, приседал на задние ноги и рывками выбирался из трясины. Тут уж Ленька даже рот разевал, кряхтел, помогая коню. И после каждого такого «нырка» радовался, что усидел, не свалился. Постепенно он освоился в седле.
Ленька гордо, как заправский наездник, задирал голову и улыбался, щуря глаза.
Тропа нырнула в воду.
Доржи остановился, снял тэрлик, мягкие сапоги с загнутыми,
как лыжи, носами, суконные штаны и обернулся:
— Ленька, давай держись! Камни скользкие, купаться беда плсхо,— он перекинул через плечо одежду и ступил в воду.
Ленька беспокойно оглянулся на дядю Захара, который влез в
реку и заохал басом.
Воронок, следуя за Доржи, осторожно ступал между валунов,
иногда задевая о них коваными копытами..
На шивере вода загудела, пенясь под самым брюхом лошади.
Ленька поджал ноги.
Доржи повернул против течения. Грудь Воронка рассекали волны, и на Леньку летели брызги.
152
Когда Доржи стал одеваться, Ленька увидел на его правой ноге
глубокий шрам. Ленька помрачнел и решительно сполз с лошади.
— Пошто слез? Привал совсем рано.
— Пешком пойду. А вы поезжайте!— сказал Ленька, виновато
отводя глаза.
— Пошто пешком? Лезь, парень!
— Не поеду я. Почему вы сразу не сказали, что у вас с ногой так?
Доржи удивленно крякнул, погладил Левьку по голове и, легко
вскочив в седло, тихо сказал:
— Однако у тебя глаз острый и сердце доброе.
После езды ноти были, как деревянные, но постепенно они размаялись, и Ленька шагал легко и быстро.
Ему было радостно оттого, что он идет первым, что рядом Доржи, что солнце греет по-летнему...
На тропу выскочила косуля, метнулась в кусты, мелькнув каким-то белым пятном сзади.
На ночевку остановились у ключа.
Ленька помог Доржи снять вьюки. Доржи достал из мешка котелок, послал Леньку за водой, а сам развел костер и разложил дымокур. Белый, густой дым облаком пополз над землей, клочьями влсел на деревьях, обволакивал спины коней.
Где-то очень далеко грохнул гром, небо осветило всполохом.
В наступившей затем тишине вдруг раздался не то громкий кашель,
не то отрывистый лай.
Ленька удивленно посмотрел на Доржи.
— Гуран 1 дым маленько нюхал. Ишь, как ругается. А может,
пить хотел, а ты помешал,— проводник подбросил сучьев в костер,
взметнулись искры.
— А медведи тут есть? — спросил Ленька, глядя в сторону бурлящего ключа, откуда донесся голос гурана.
— Ходят и мишки.
А что это за белое пятно у косули?
— Зеркалом его называют охотники. Вот слушай бурятскую
сказку. Пахтала бурятка масло шанагой. Так по-нашему поварешка
называется. Подбежала косуля, мешает работать. Хозяйка кричит:
«тадь, тадь», уходи, значит. Не уходит косуля, мешает. Осердилась
бурятка, выдернула поварешку из сметаны и шлепнула косулю по
заду. Сметана так и прилипла к нему. Вот откуда это белое пятно.
Ленька засмеялся.
— А знаешь, зачем это пятно?
Ленька замотал головой.
— Это пятно далеко видно, козленок мать не потеряет.
Ленька прилег у костра, с наслаждением вытянул ноги.
Между ветвей висела огромная красная луна.
В Ореховку караван пришел ночью.
У подножья гор рассыпались огоньки изб. Дома лепились по
склону горы один над другим.
Под косогором шумела, сверкала река Быстрая. На ее берегах чернели кочки и валуны, поблескивали облизанные солнцем льдилкн.
Меж со'сен затемнела первая изба. Возле нее и остановились...
...Проснулся Ленька поздно. Открыл глаза и тут же зажмурился — ослепили лучи солнца.
Дикий козел.
153
Когда снова открыл глаза, увидел девочку. Она подметала пол.
Черные блестящие косы свесились почти до полу.
Ленька тихонько натянул брюки и рубашку, посмотрел на развалившиеся, облепленные грязью сапоги и быстро толкнул их под
кровать.
Девочка, услышав шорох, обернулась.
— Кто это тебя чернилами обрызгал?—она спросила так просто и даже как будто с беспокойством, что Ленька вместо обычного:
«Тебе-то какое дело?»—ответил:
— Это порох от самопала. Его не отмоешь.
— Больно было?
— Чепуха! Я к боли терпеливый,— ответил он.— А ты уборщицей тут работаешь?
— Нет, мы живем здесь. А ты в гости сюда к кому-нибудь приехал?
— Поехал бы я в гости такую даль! Работать буду на буровых
с дядькой,— солидным баском ответил Ленька и смущенно посмотрел на босые ноги.
Девчонка улыбнулась, ушла в другую комнату и принесла гапочки.
Ленька с благодарностью посмотрел на девочку.
— Тебя как зовут?
— Дарима.— Она снова взялась за веник.
— Давай помогу,— предложил Ленька.
— Здесь нет мальчишечьих дел. Книги вон посмотри.— И Дарима указала рукой за перегородку.
Ленька, прихрамывая, подошел к этажерке. Среди книг был
альбом. С первого листа глянул на него Доржи, нарисованный черным карандашом.
Ленька подошел с альбомом к Дариме и спросил:
— Кто так здорово нарисовал?
Дарима покраснела, ничего не ответила.
Ленька пере-вернул лист и радостно воскликнул:
— Это же мост через Битун! Мы его проезжали.
— Ты тоже рисуешь?— спросила Дарима.
— Не-ет,— Ленька вздохнул.— Ты рисовала?
— Учусь еще,— застенчиво ответила Дарима и понесла в созочке мусор на улицу.
Вернулась Дарима с Доржи. Он улыбнулся Леньке, стянул малахай. На его бритой голове Ленька увидел белый шрам. «И здесь
рана, как на ноге!»—удивился Ленька.
— Чашка чай пить будем, Ленька. Даримка, кипятила?—Доржп
обернулся к дочери. Она кивнула головой, забрякала ведрами.
— Дай, я схожу,— Ленька подошел к ней.— Речку посмотрю.
Дарима отдала ведра и прямое коромысло с проволоками на
концах.
Вскоре Ленька вернулся с полными ведрами. Вылил воду в бак
и хотел еще идти.
— Хватит. Всю реку таскать не надо. Кушать давай маленько
будем,—сказал Доржи.
Ленька прошел к столу, над которым висел портрет солдата сэ
снайперской винтовкой.
— Это вы, дядя Доржи?
Доржи кивнул, из пузатого самовара налил чаю.
Дарима поставила на стол деревянную миску со сметаной и вазочку с конфетами. В проволочной, отливающей золотом хлебнице
154
стопкой лежали пышные лепешки. Доржи налил в кружку крепкой заварки, забелил молоком.
— Чай пить — не дрова рубить. Та-к у вас говорят?
Дарима подвинула к Леньке вазочку. Он выпил уже две кружки, а Доржи все подливал. Ленька взмок, раздулся, было слышно
даже бульканье в животе.
Пришел дядя Захар. Он был явно расстроен. Бросил на койку
брезентовые штаны и куртку, шмякнул на пол резиновые сапоги.
— Нет маленьких размеров,— сердито сказал он.— Робу перекроить можно, а сапоги? Портянок больше вертеть придется. Походишь в этих, пока твои починю.
Доржи повертел в руках куртку и брюки.
— Даримка немного резать будет. Хозяйка в гости ушла. Скоро не придет. Далеко — Зиминка.— Он стал что-то наказывать дочери по-бурятски. 1
— Тимэ, тимэ ,— отвечала Дарима, кивая головой.
После обеда, взяв удочку, Ленька пошел на берег Быстрой. У
реки он увидел стадо животных. Они походили на быков, но были
меньше. Шерсть у них висела почти до воды. Хвосты лошадиные.
Толстые рога широко расставлены. «Что за страшилища?»—подумал
Ленька и стал подходить ближе к берегу.
Следом за ним с бугра сошла Дарима, ведя в поводу лошадь.
Когда Ленька подошел к воде, одно животное подняло голову,
роняя с толстых губ крупные капли. Из-под густых лохм глянули на
него большие красноватые глаза.
Леньке стало страшно.
— Ну, ты! Это видел?!—Ленька хотел припугнуть быка и
взмахнул удилищем. Но странный бык не испугался. Он чихнул,
ударил копытом по воде, выгнул шею и, злобно сопя, пошел на Леньку, угрожающе покачивая толстыми, похожими на ухват, рогами.
Ленька попятился.
Выйдя на берег, рассвирепевший бык снова ударил копытом,
мелкие камешки сыпанули по воде.
Ленька сжался весь и, взмахивая удочкой, закричал:
— Ыыч! Ы-ычч!
Но это еще сильней обозлило быка. Он дико взревел и кинулся на него.
Ленька пустился наутек, прыгая через камни и кочки. Запнулся, грохнулся оземь. «Все... пропал. Запорет...» — подумал он, холодея.
Услышав рев быка и крик Леньки, Дарима схватилась за гриву
коня, метнулась к нему на спину, стегнула плетью. Воронок с места
пошел вскачь. Дарима испуганно смотрела вперед. Она увидела
Леньку и в нескольких шагах от него быка. Еще немного — и острые
рога, как вилы, пронзят спину Леньки. Дарима снова огрела Воронка плетью. Лошадь рванулась наперерез быку. Девочка, свесившись
набок, полоснула плетью по вспененной морде животного. Бык взревел, замотал мордой.
— На тебе! На тебе!— кричала Дарима и все стегала, стегала.
А Ленька улепеты/вал что было сил.
Боль заставила сарлыка отступить в реку.
Догнав Леньку, Дарима крикнула:
— Не поранил он тебя?
Можно, можно.
155
— Напугался я,— тяжело дыша, ответил Ленька.— Вот злющий,
черт! А кто это?
— Сарлык, я« монгольский. Во время гона их дразнить нельзя.
Садись со мной.
Ленька кое-как вскарабкался на лошадь и обхватил девочку за
талию. Дарима почувствовала, как он дрожит.
— Чего ты? Замерз?—спросила она.
— С переполоху... Видела, какие у нею рога? Штыки!
Они понеслись на косогор. И теперь Ленька уже боялся не сарлыка, а того, как бы не хлопнуться с коня. Чувствуя, что он сползает к хвосту и вот-вот стянет за собой девочку, он взмолился:
— Да остановись ты!
Дарима засмеялась и натянула поводья.
Ленька спрыгнул на землю, тяжело пыхтя, словно не он ехал,
на Воронке, а Воронок на нем.
— Кепку потерял! Наверно, там, у реки,— раздосадованно сказал Ленька.
Дарима пятками ударила лошадь и понеслась обратно.
Ленька поцарапал затылок: вот летает, отчаянная!
Дарима уже мчалась обратно. Косы ее раззевались, белая блузка
надулась парусом. Девчонка выставила вперед, как пику, удилище,
на конце которого болталась кепка.
Дарима пронеслась мимо Леньки к невысокой изгороди, стегнув
коня, перемахнула через нее. Ленька с восхищением следил за ней.
Назавтра дядя Захар и Ленька уехали в горы, к месту работы.
На взлобке, в трех километрах от поселка, стояли бревенчатый барак и палатка. Возле палатки — несколько низеньких, корявых сосенок. Между двумя из них натянута веревка, на ней болталось белье.
Под бугром, среди валунов, журчал ручей.
Слева и справа — угрюмые, высокие горы. Их острые макушки з
снегу, а сами горы голые — ни лесу, ни кустарников. Это и есть гольцы. На ближней горе взвиваются к небу султаны земли, извергнутой
взрывами на канавах. Раскатистым гулом кгтится эхо и теряется
где-то в заснеженных гольцах.
В долине, где протекает ручей, видна буровая вышка, на ней
трепещет алый флажок. «Там буду работать»,— думает Ленька. Он
на Байкале видел буровые вышки.
В палатке четыре кровати, возле каждой — тумбочка, на тумбочках книги, домино, есть шахматы и шашки. Правда, в ш&хмгты
Ленька плохо играет, но в шашки всех в классе обставлял. У железной печки на карточках сидел сухонький старичок. Рабочие звали
его «дед Абрамов». Старик стеклышком скоблил черенок молотка.
На его лицо, заросшее кудрявой, светлей бородой, падал кз оконца
сноп света, от этого борода и усы деда серебрились.
Дед изредка с доброй улыбкой поглядывал на Леньку. Ленька
смущался — он примерял штаны. Дарима их перешила, но они асе
равно топорщились, а сзади надувались пузырем. И куртка нмже
колен. Но это полбеды. Сапожищи уж больно велики! Сколько ни
наматывал Ленька портянок, а носы задирались кверху, и хоть
плачь, ничего не придумаешь.
Захар весело оглядел Леньку с головы до ног:
- Ну и обрядил я тебя. Умора! А ну, повернись. А штаны-то,
что твой рюкзак. Зато ты теперь выглядишь по-рабочему.
Ленька сердито посмотрел на дядю, буркнул с обидой:
- Не мог уж сказать, что здесь нет спецовок, я бы маму попросил сшить! А теперь вот сам же и смеешься.
Дядя Захар положил ему на плечо грубую, узловатую руку.
1ЯЯ
— Я же шутил, Лень. Ты не кисни, заказал я тебе робу. На загляденье сошьют. В воскресенье на примерку в поселок сходишь.
Пошли в столовку!
- Не одежа, сынок, человека красит,— дед Абрамов обошел вокруг Леньки, одобрительно заметил:— Ты теперь совсем на буровика похож. Прямо-таки природный горняк.
Ленька успокоился и вышел из палатки.
В столовой длинные, добела выскобленные столы. На них горки
хлеба. Дымятся миски с котлетами, розовеет кисель в стаканах. Тоненькая, худенькая, как мать Леньки, повариха улыбается дяде Захару:
— Никак сынком обзавелись, Захар Платоныч?— в ее голосе
какая-то тревога.
— То племяш, Ксения Павловна, я ж рассказывал вам.— Захар
потрепал Леньку по волосам и подтолкнул к столу.— Буровика из
него сделаю, он парень смышленый. Пусть даже запустил математику, зато по слесарному и столярному делу у него одни пятерки. Осилит и математику.
Ленька удивлен словами Захара, но они приятны ему. Конечно,
он смышленый. Ленька важно усаживается за стол. Он не гость
здесь, а такой же, как и все, рабочий. От этой мысли становится на
душе еще приятнее. Посмотрели бы на Леньку учителя, мать, Репа!
Не зря он шел в гольцы. Вот поработает, присмотрится и станет
мастером, будет разъезжать по стране. Везде побывает. А может,
его, как опытного мастера, пошлют в Индию, на Кубу? Вот тогда-то
Репа почешет нос!
Ленька ест степенно, деловито, как Захар, кисель пьет маленькими глоточками. Управившись с обедом, не торопится вылезат-ь изза стола. Он важно поглядывает по сторонам и ждет, когда поднимется дядя.
Захар отставляет в сторону миску, разглаживает бороду и, посмотрев на повариху, направляется к двери. Ленька встает из-за стола, шествует за дядькой, громко хлопая сапогами.
Глава вторая
Над гольцами туман шапками, а над долиной он распластался
белой пеленой. От него повлажнели крыши, отсырел брезент палатки.
Захар тихонько, чтобы не разбудить Леньку, стал собираться на
работу. Старший рабочий Павел Скрипка уронил сапог. Захар зашипел на него, беспокойно глянул на племянника.
Ленька проснулся и с удивлением уставился на дядю Захара.
—Ты, дядь, куда? На смену? — он бодро выбрался из спального мешка, зевнул, поеживаясь, и тоже засобирался.
Скрипка сморщил коротенький, острый нос, под которым темнели жесткие усики, подмигнул Захару:
— А хлопец-го беспокойный. Другой бы на его месте дрых. Ты,
Леня, отдохни с дороги. Мы и одни управимся. Чтобы не скучно было, сбегай на речку, хариусов полови.
— Я не рыбачить сюда приехал,— возразил Ленька.
Захар крикнул. Не хотелось ему после такого перехода брать
племянника на буровую.
- Тут, племяш, знаешь, какие хариусы? Во!— Захар развел
руками чуть ли не на полметра.
157
— Я, 'дядя Захар, их вам вечером, после работы натаскаю.
Ленька натянул кепчо'нку, дернув за козырек, опустил по-захаровски на лоб.
Захар и Скрипка переглянулись. Скрипка усмехнулся и махнул
рукой.
Вышли из палатки. Но странно, зашагали не в долину, где Ленька видел буровую, а к гольцам. «Наверно, и там есть вышки», — подумал он.
Ленька уже взмок от ходьбы, а гора все круче и круче. Большущие сапоги хлябают, цепляются за камни.
Высоко-высоко, где-то под облаками, на гольце полощется алое
полотнище, а под ним ползет облако тумана, и кажется, что флаг
древком воткнут в него.
«Неужели туда полезем?»—испугался Ленька.
Они поднялись на сопку, здесь место ровнее, но на пути каменистая россыпь. Камни качаются, того и гляди ногу сломаешь. Дядя
Захар идет по ним медленно, осторожно, а Скрипка легко, быстро.
Скрипка вообще очень подвижен. Похоже, что у него вместо костей
пружинки вставлены. Ленька еле поспевает за ним.
Из-за гольца выплывает огненный шар и ярким светом заливает долину и горы. Туман бледнеет, а вскоре совсем растворяется.
Только кое-где по гольцам ползут его жиденькие остатки.
Под скалой что-то переливается, посверкивает. Ленька всматривается и не верит своим глазам. На горе — и озеро! Оно маленькое,
как футбольное поле. Подходят к нему. Дует ветер и коробит воду,
в которой пляшет солнце. Озеро словно плавится. На берегу долшк
с крышей из свежих досок.
- Ну вот, перевалим голец и — на месте,— Захар шагает па
плоским плитам к лестнице. Сбоку ее — столбики, к ним привязан
канат. Он толстый, крученый, как в спортзале.
Ленька берется за веревку. Лестницы из жердей лежат прямо
на камнях. Кончается одна, выше другая, третья. Люди лезут по
ним прямо к небу, к алеющему флагу. Вниз глядеть Ленька боится,
краем глаза он видит озеро, оно блестит где-то под ними, глубокоглубоко в пропасти. Жутко... Прерывисто дыша, Ленька изо всех сил
сжимает веревку и карабкается за Скрипкой.
Захар останавливается, шумно выдыхает воздух, сторонится,
пропускает вперед Скрипку и Леньку.
Ленька теперь смотрит только в спину Скрипке. Оглянуться
назад не хватает смелости.
Наконец они на ровной площадке. В ярком свете поблескивают
рельсы. «Эва! Железная дорога?! И туннель!?»—Ленька от удивления заморгал глазами. Вдруг из темного провала выкатилась вагонетка, на борту ее шипело пламя карбидки, от него во всю скалу
растянулась человеческая тень. Ленька вздрогнул и отпрянул.
Захар засмеялся:
— Что, племяш, шаньги пригорели?— и, повернувшись, к откатчику, спросил:— Опять света нет?
— Электрик там копается,— глухо ответил рабочий, весь белый,
словно мельник. На носу у него майка-респиратор, из-за нее откатчик похож на космонавта. Высыпанная им из вагонетки порода с
грохотом покатилась по крутому отвалу, высекая искры. Рабочий
поднял маску на лоб, спросил у Леньки:
— Нравится у нас, сынок?
— Красиво здесь,— ответил Ленька и посмотрел вниз.— Вон
куда залезли.'
— Это что! Пятая штольня под самой макушкой гольца,— откатчик покатил вагонетку в тоннель.
158
И они полезли выше.
На гольце бесновался ветер. Захлопали полы брезентовых курток. Скрипка запахнулся, прикрыл лицо воротничком и, выставив
плечо вперед, пошел на ветер, бормоча:
— Чтоб ты сказився!
Леньке за спиной Захара идти было легче.
Лицо щекотнули первые хлопья снежинок и, растаяв, потекли
по щекам.
Чуть спустились с гольца, Ленька увидел на косогоре не то сарай, не то вагончик. Из прямой крыши торчала труба, вылетало
пламя, ветер гнул его, рвал на ленты, гасил.
— О, то добре! Гарно,— проговорил Скрипка и, открыв узенькую дверь, нырнул в помещение.
На буровой было тепло, железная печка раскраснелась.
Ленька увидел насос, ящики с каменными, прямыми кругляшами. На деревянных подкладках лежали трубы, стоял станок, вроде токарного. В патроне зажата труба, она крутится и уползает прямо в каменную стену. Из-под нее льется вода. Стекая по корытцу,
она маленьким водопадиком свергается в большой заржавленный
бак. Отсюда насос высасывает ее гофрированным шлангом и гонит
через снаряд обратно в скважину.
На ящике у станка сидит мастер, рядом на мешке с солью, примостился рабочий в такой же куртке, как у Леньки, только рыжей
от ила. Он курит и пускает дым кольцами, трубкой вытягивая губы,
не замечая, что у ног из дырки мешка потихоньку высыпается крупная соль.
Увидев Захара, мастер крутнул левой рукой маховичок, поздоровался и спросил:
— Сами, Платоныч, подыметесь?
— Остаток?
— Шестьдесят пять.
— Двигайте на боковую! Поднимемся,— ответил Захар, отвязывая от пояса мешочек с продуктами.
«Куда еще полезем?»—недовольно подумал Ленька.
Захар хлопнул его по плечу.
— Располагайся, буровик! Жратву на гвоздик повесь,— он подал Леньке мешочек. Повесив его, Ленька пощупал каменные колбаски и уселся на ящике. Мастер что-то записал в книге, на обложке которой было написано: «Буровой журнал».
— Что же ты, Платоныч, не знакомишь меня с пополнением?
Ленькой его называть теперь не подходит — рабочий. По имени-отчеству, пожалуй, следует,— мастер протянул Леньке руку.
Ленька вскочил с ящика и, подав руку, представился:
— Алексей,— помолчал и добавил:— Захарович.
Захар удивленно глянул на него:
— Ты, племяш, разве Захарыч?
— Захарыч!— твердо ответил Ленька и добавил:— Ивановичем
быть не хочу. Я на тебя, дядь, перепишусь!
— О, це добре!—(воскликнул Скрипка. Из рассказов Захара он
хорошо знал историю с Ленькиным отцом-пропойцей.
Мастер еще раз ласково пожал Леньке руку и вместе с рабочим вышел.
Ленька уселся и стал соображать, куда они будут еще подниматься. За дощатыми стенами завывал ветер. Ленька встал, открыл
дверь, но тут же захлопнул ее. Рой снежинок посыпался в помещение. «Как же они через голец пойдут?»—подумал он о мастере с
рабочим.
- Дядя Захар, а мы куда еще полезем?
159
— Никуда. Работать будем.
— Ты же мастеру сказал, что поднимемся.
— А... так это мы снаряд поднимать будем.
- Снаряд?! Откуда он тут, снаряд-то?
— Вот эти трубы, что в скважине крутятся, мы снарядом называем.— Захар присел к станку, накрыв ручищей маховичок. Посидев немного, посмотрел на часы.
— Крепкая порода, кварц, наверно?
Скрипка кивнул головой, стал заполнять масленки.
Ленька подсел к дяде Захару.
— Дядь, а мне что делать?
— Смотреть. Печку кочегарить. Уборку перед концом делать.
— И все?
— Пока и этого достаточно. Что ж, ты хотел сразу мастером
стать?
— Да нет, я так.
— Платоныч, пусть хлопец этикетки строгает, переборки,— предложил Скрипка. Взяв топорик, он стал вытесывать из чурбачка дощечку. Закончив, спросил:
— Бачишь, як треба?
— А что же тут особенного? Мы в школьной столярной стульчики для детсада делали.
Ленька опустился на колено и стал ловко колоть чурбак.
От печки пригревало, а за оконцем бушевал ветер, шлепал в
стекла маленькими лепешечками снега. Они наслаивались, и вскоре
совсем залепили его.
«Жаль, рубанка нет,— досадовал Ленька, выстругивая деревянные квадратики,— как стеклышко бы, гладкие сделал. Интересно,
зачем эти дощечки?— Ленька огляделся и увидел в ящике, где лежали каменные колбаски, такие же дощечки. Для дела, значит».
Ленька старательно срубал топориком все бугорки и корявины. Кажется, дело простое, а поддается медленно. Всего пять штук выстругал, а времени прошло много. И пот капает с носа на руки.
— Поди сюда, племяш!— позвал Захар,—посмотри, как снаряд
поднимать будем. Снаряд это когда все трубы соединены вместе, а
если три трубы привернуты, то столбами или свечами называем. Уразумел?
— Уразумел. Мы с Репой так удилища наращивали. Там тоже в
дудках, и на стержнях резьба. Знай накручивай.
Взяв ключ из ящика, Скрипка открутил трубу с резиновым
шлангом на конце, идущим от насоса. Весь снаряд подался немножечко назад, а из скважины журчащим ручейком потекла вода.
Захар включил лебедку. Дрожащей струной натянулся трос, вытаскивая из скважины трубы. Захар ключом отвернул свечу-столб.
Скрипка подцепил следующий, и лебедка снова потянула.
— Зачем это, дядя Захар, скалу дырозатят?— Ленька показал
на дыру, из которой выползал снаряд.
— Чтобы керн достать. Вот те каменные кругляши, что в ящиках.
— А что из них делают?
— Керн геологам нужен. По нему определяют запасы, направление жилы. Наш станок подземный, а мы с поверхности бурим, потому что потерялэрь жила. А нам надо найти, подсечь ее. Но не такто просто на нее напасть.— Захар задумался и, немного погодя, сказал:— Каждый человек должен найти свой керн в жизни, свою
жилу. Ты, племяшок, знаешь, какой мы металл ищем?
— Нет.
(Окончание следует)
160
..Полярная звезда''
Читайте журнал -Полярная звезда» — орган Союза писателен
Якутской АССР.
В 1969 году журнал предполагает опубликовать следующие п р о изведения: романы Семена Курилова «Ханидо и Халерха» («Орел п
Чайка»), Софрона Данилова Пока бьется сердце", повести Петра Фп;;шпоБа «ХарачаС'>. Нигмета Иксанова «Кандальный звон».
Ведущие якутские и местные русские поэты—Кюннюк Урасты ров. Семен Данилов. Элляй. Сергей! Васильев. Моисей Ефимов. Ивач
Гоголев. Петр Тобуроков. Сергей Шевков. Вячеслав Рябцев и десятки
молодых составят поэтический раздел журнала.
В журнале будут опубликованы очерки, публицистические и крь
тические статьи о Якутии, ее искусстве, о ее прошлом и настоя гнем.
Подписывайтесь на литературно-художественный и общественнополитический журнал «Полярная звезда». ПОДПИСКА принимается повсеместно без ограничения. Подписная цена: на год—X р. 60 коп., на '5
месяцев—1 р. 80 коп.
..Сибирские огни"
Не забудьте своевременно подписаться па >.;урнал
ОГНИ» на' 1ЯНЯ год.
«СИБИРСКИЕ
Журнал опубликует:
РАССКАЗЫ В. Астафьева и В. Шукшина. РОМАНЫ К. Бопхлера
«Поединок с дьяволом». Н. Задорнова «Амур-батюшка». Л. Кравченко «Преодоление границы». Е. Коронатовой «Жизнь Нины Камышиной», Г. Машкина «Поражение», М. Нэзаренко «Иду к себе;-. А. Нпкулькова «На планете, мало оборудованной», О. Хавкина «Дом на Семеновской. ПОВЕСТИ Г. Комракова «До осени полгода», В. Колыхалова «Кесарю песарезо», П. Проскурина «Шестая ночь», Ю. Сальникова
«В неумирающих мечтах», Г. Федосеева «Таежная рапсодия». А. Якубовского «Квазар». ОЧЕРКИ. Г. Кублицкого. Л. Иванова.
Подписка на журнал принимается с 1 сентября повсеместно и без
ограничений.
Цена 60 кои.
Индекс 7:») 19.
В. Карамзин (Сибирский пейзаж» (линогравюра).
На первой странице обложки — линогравюра А. Оклад*пиково.
«В. И. Ленин».