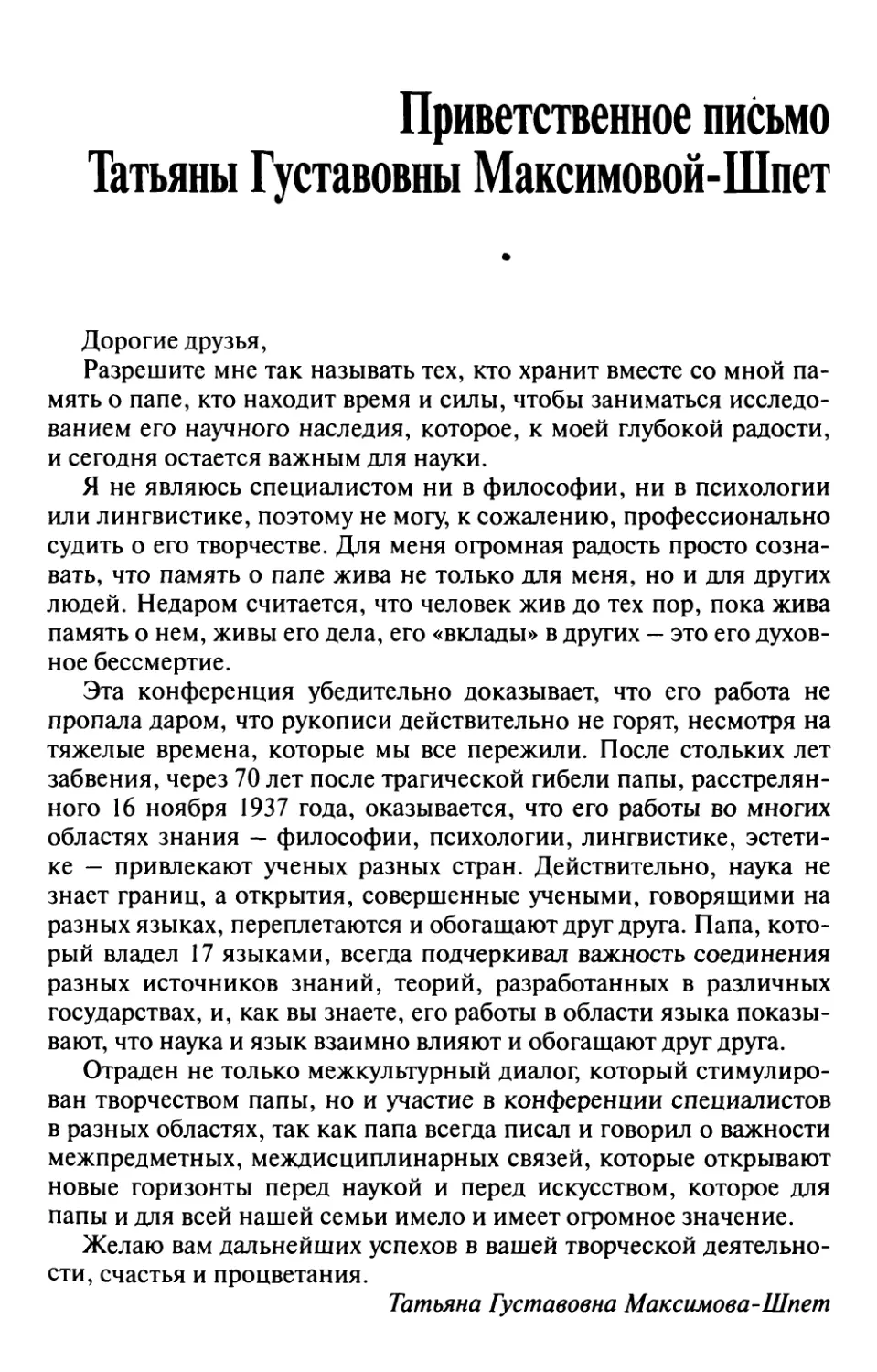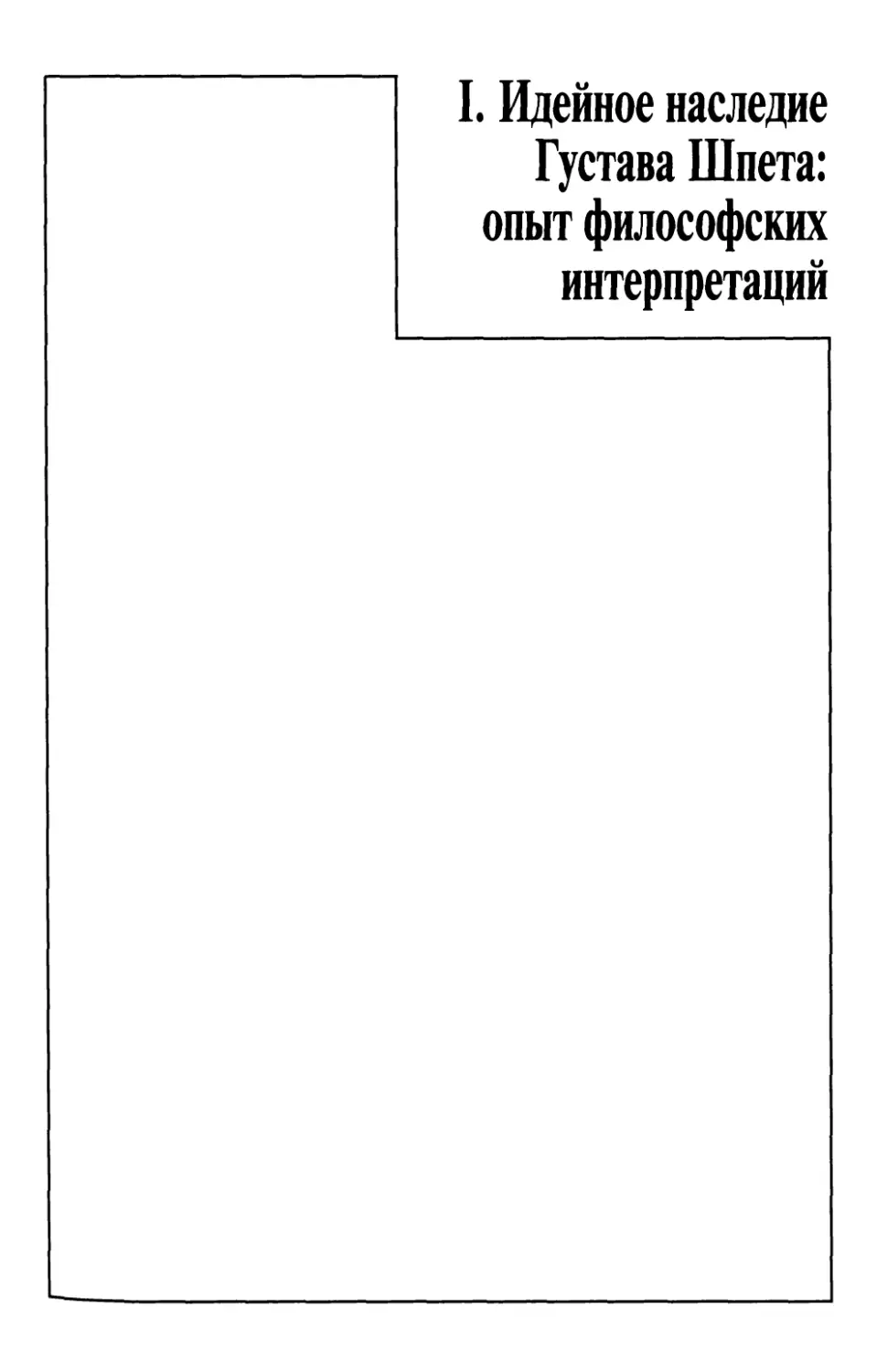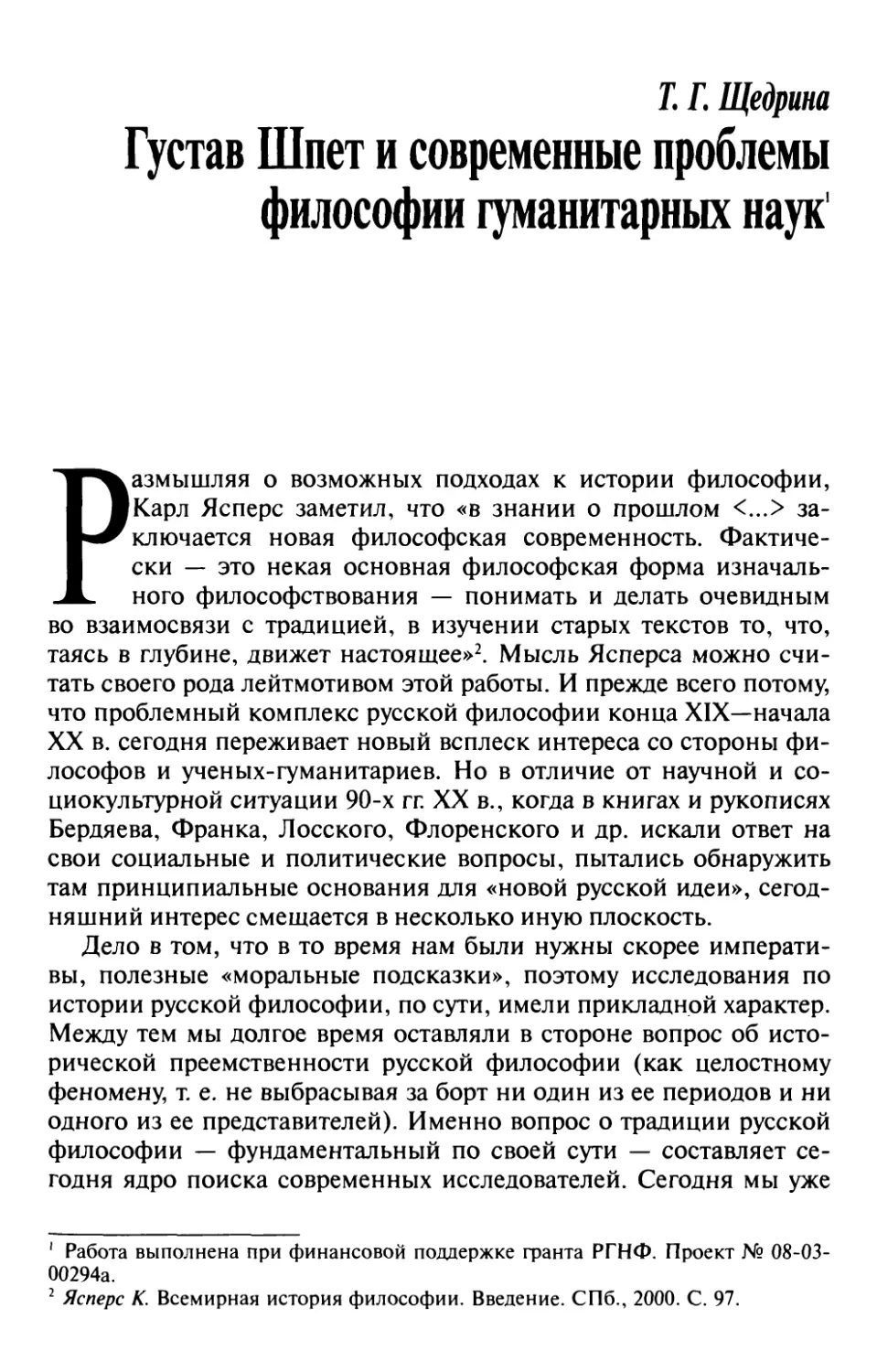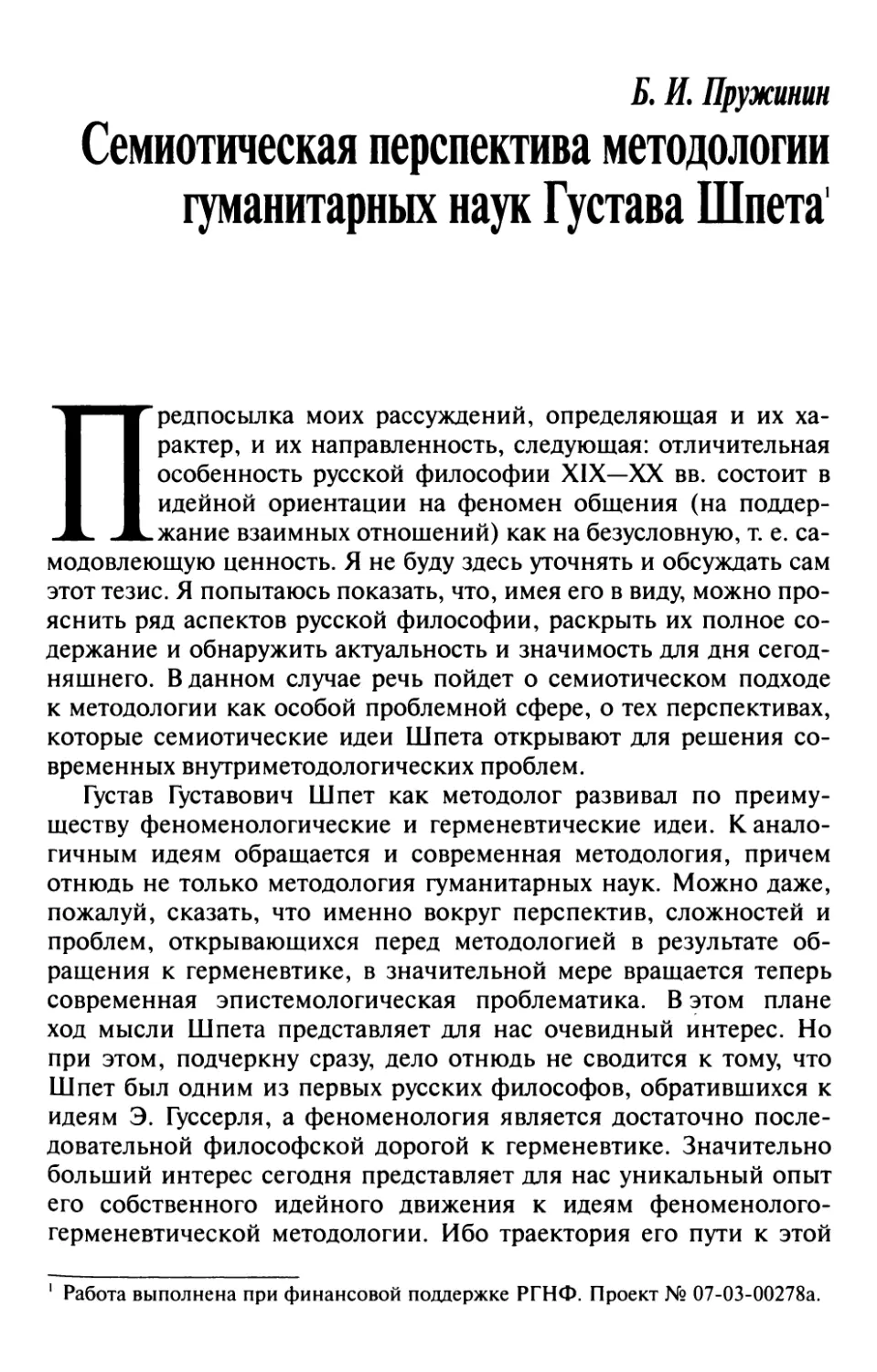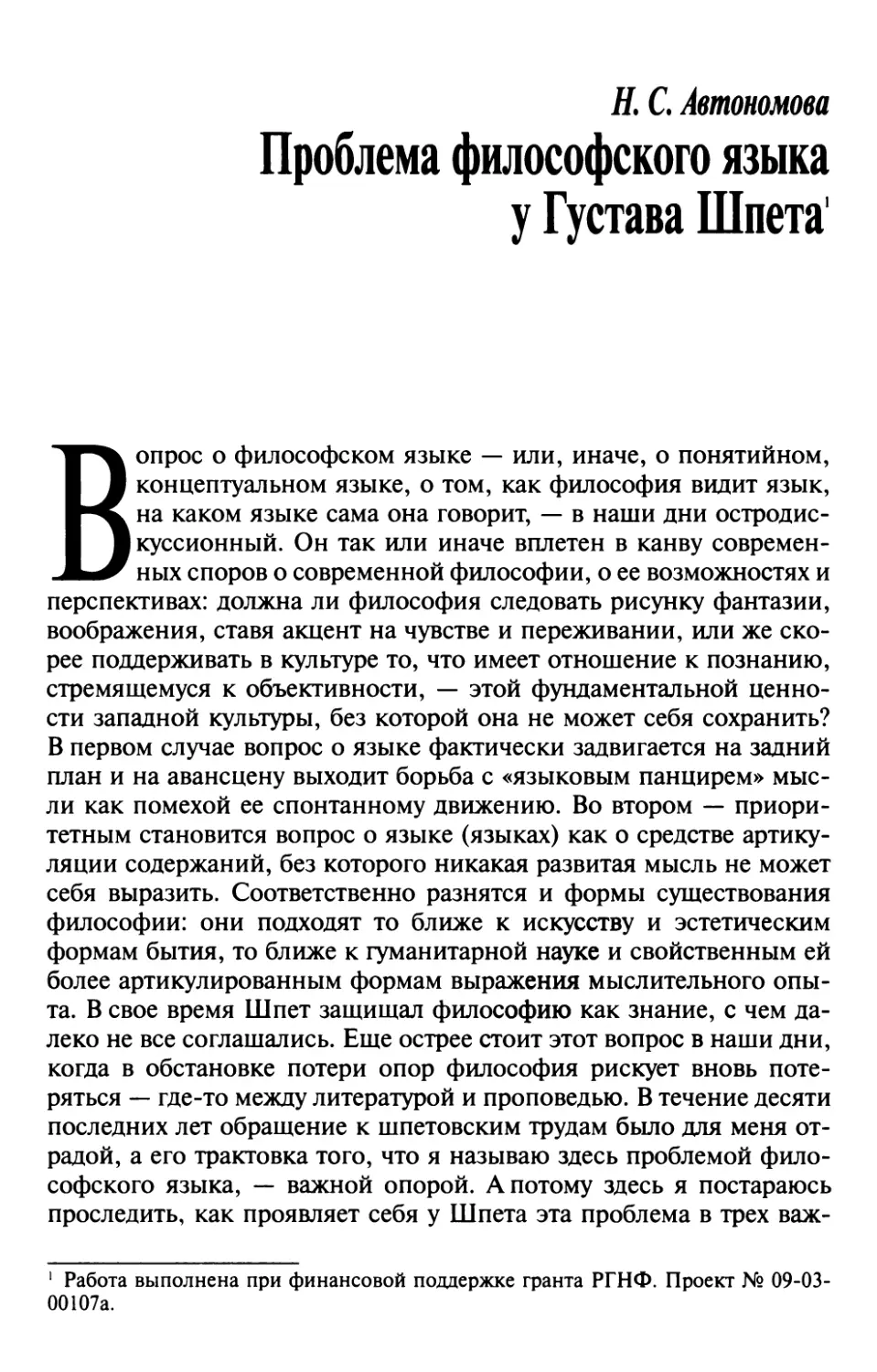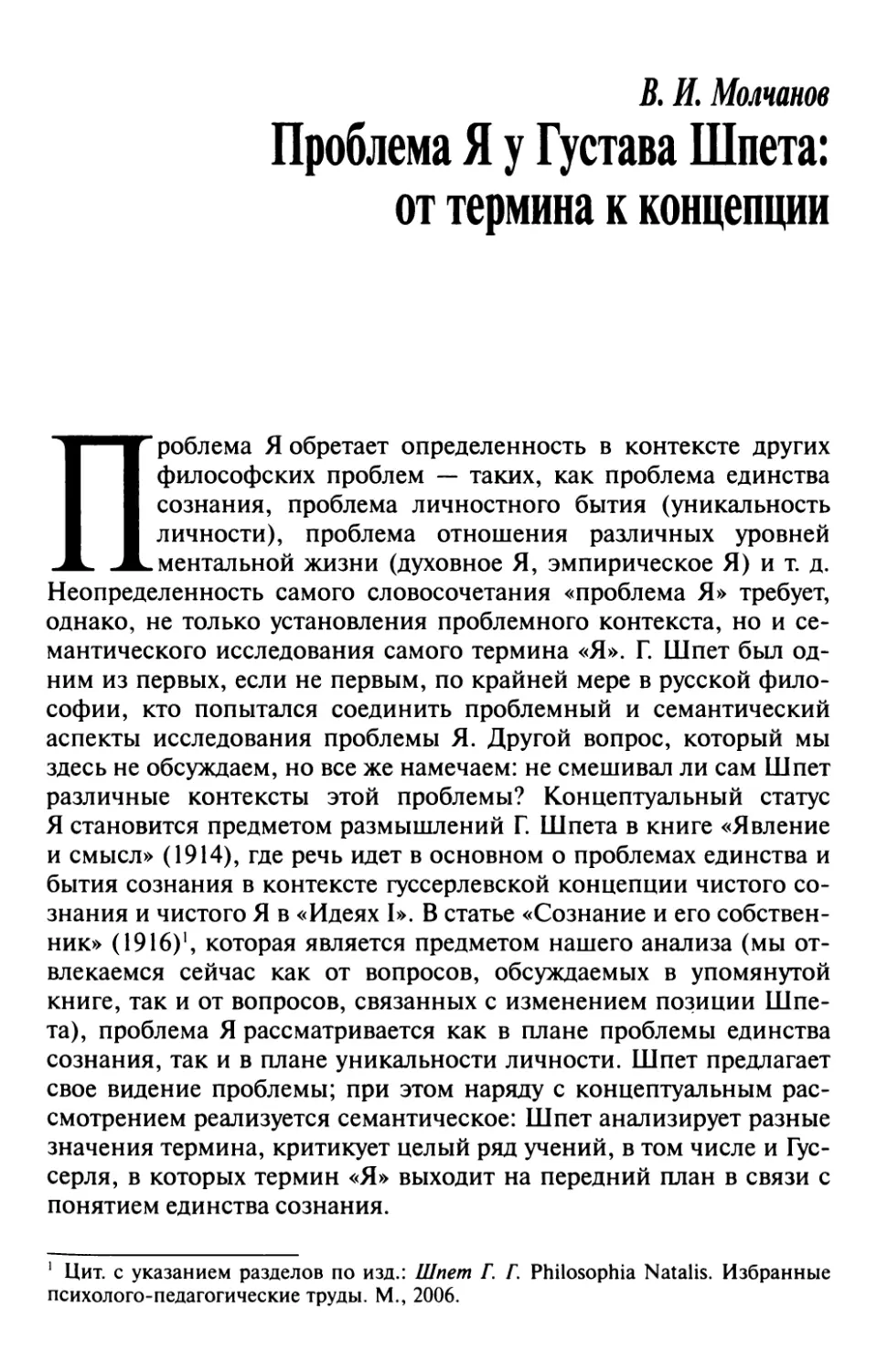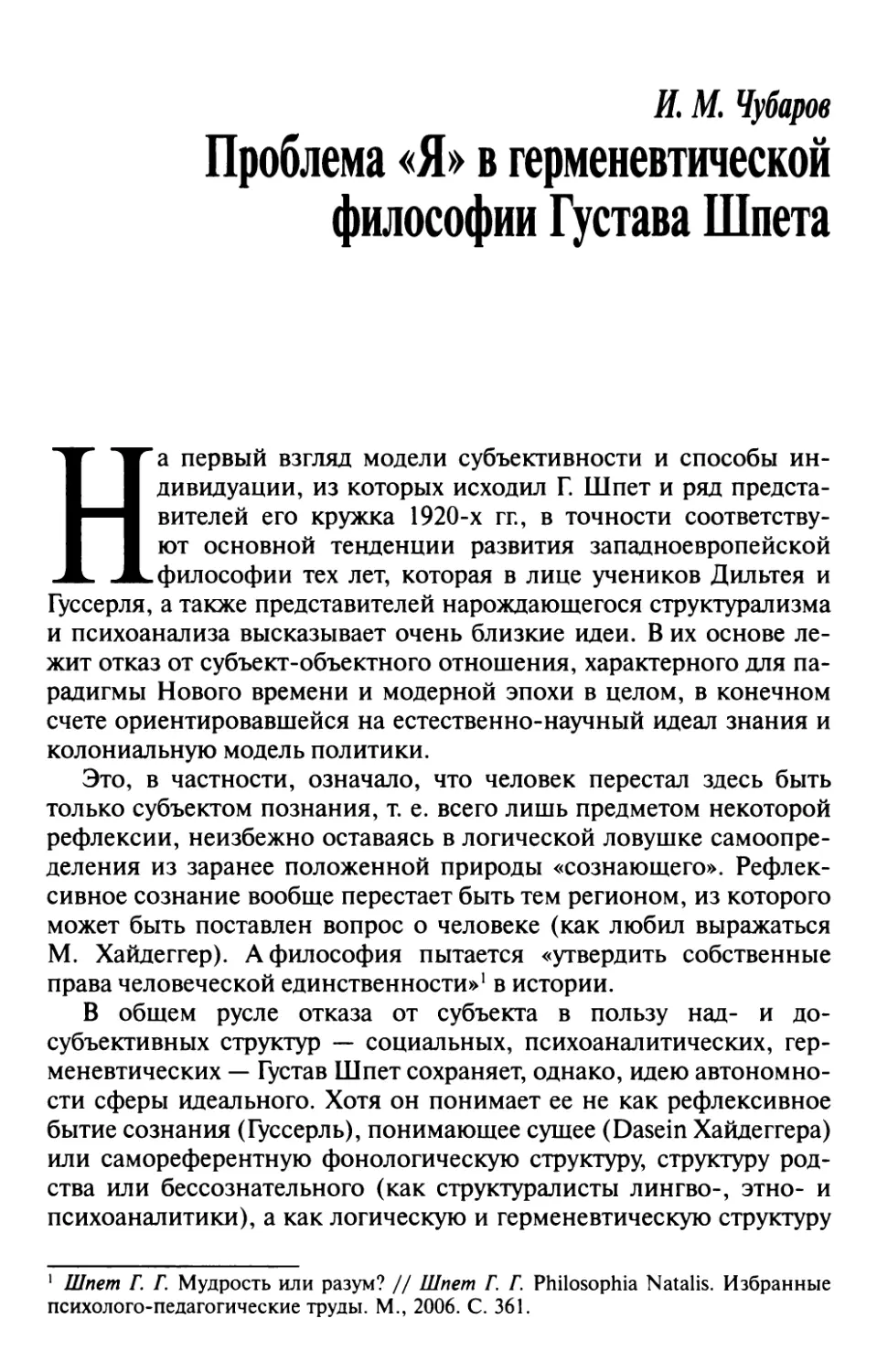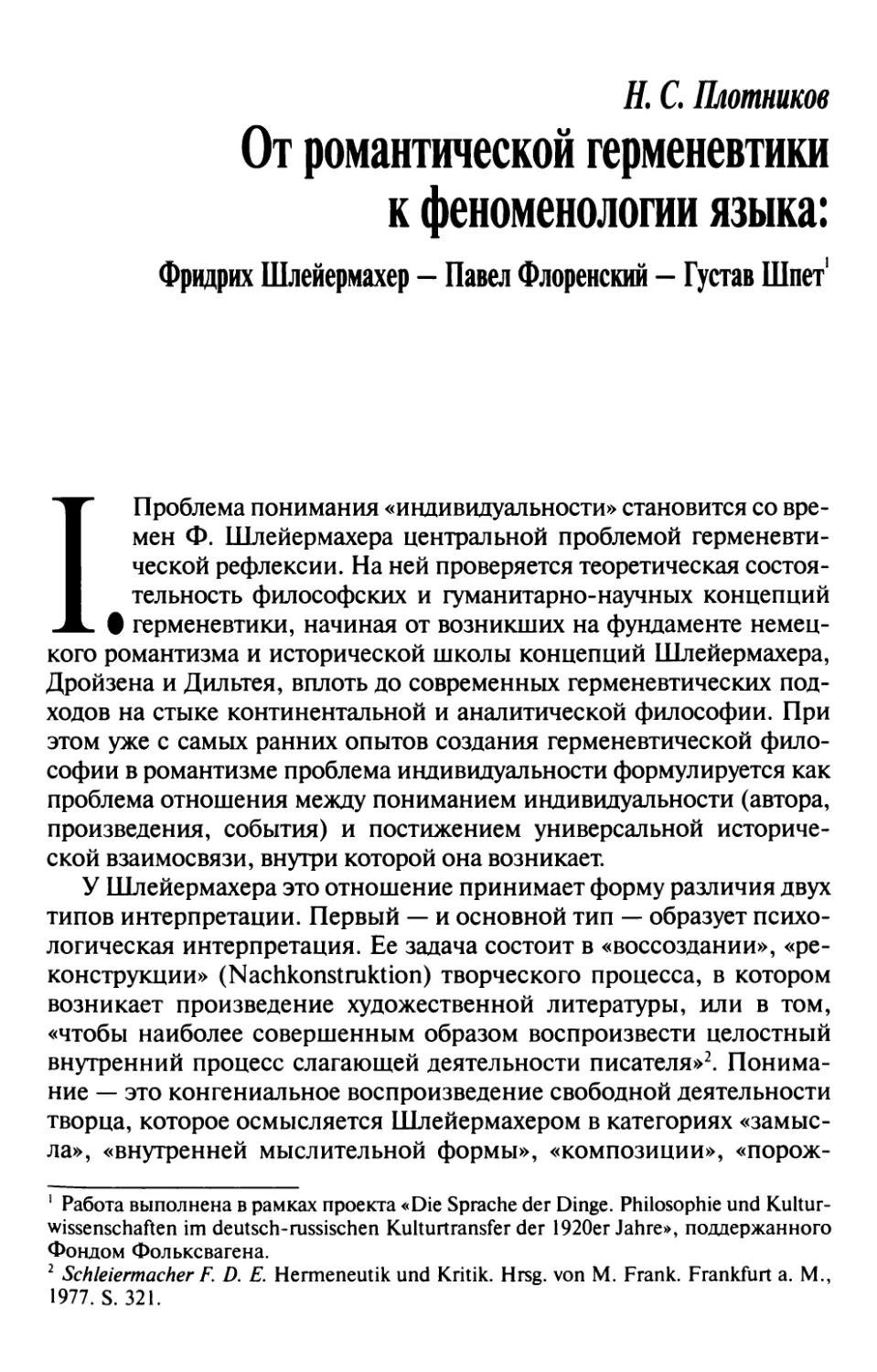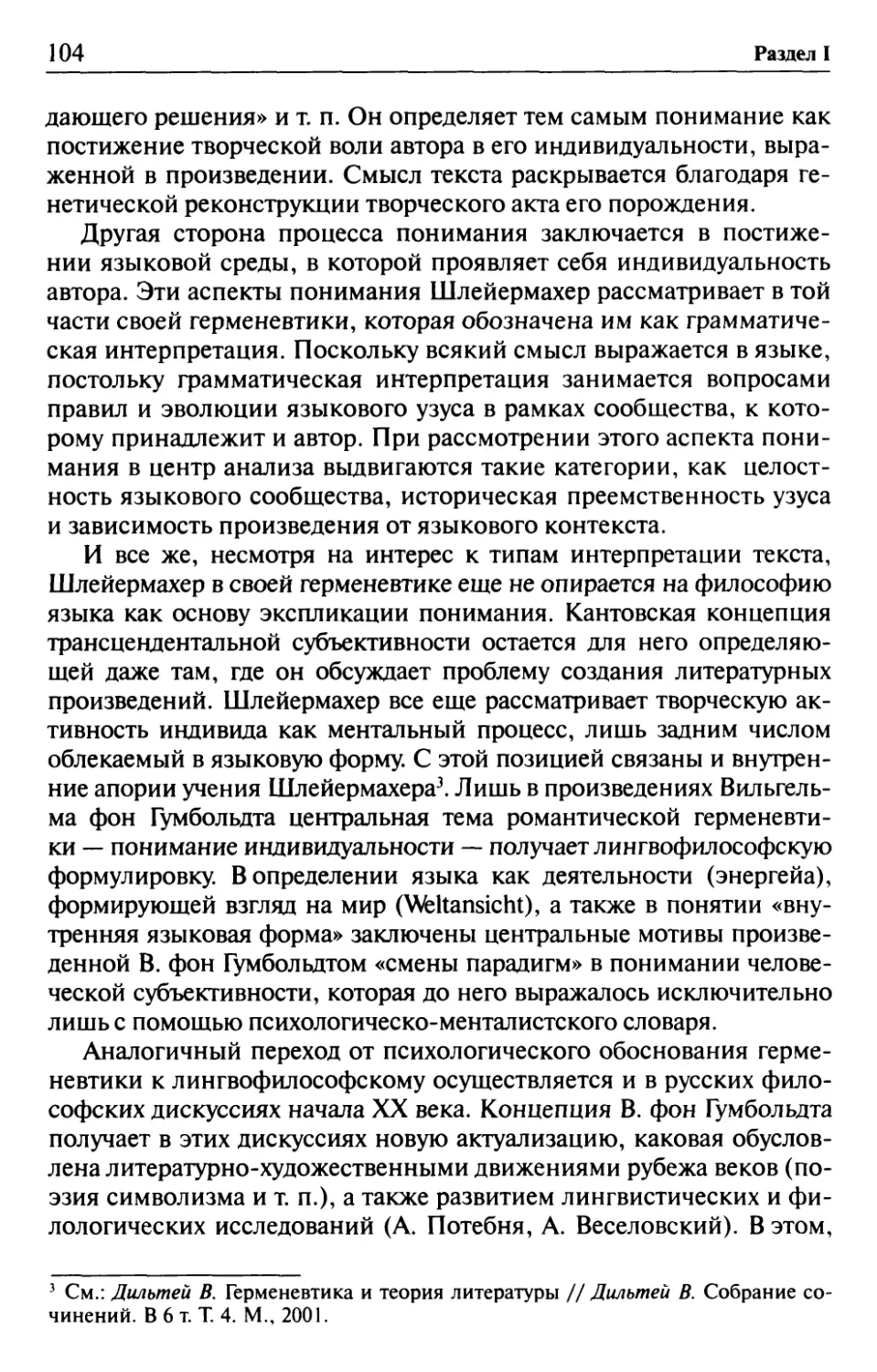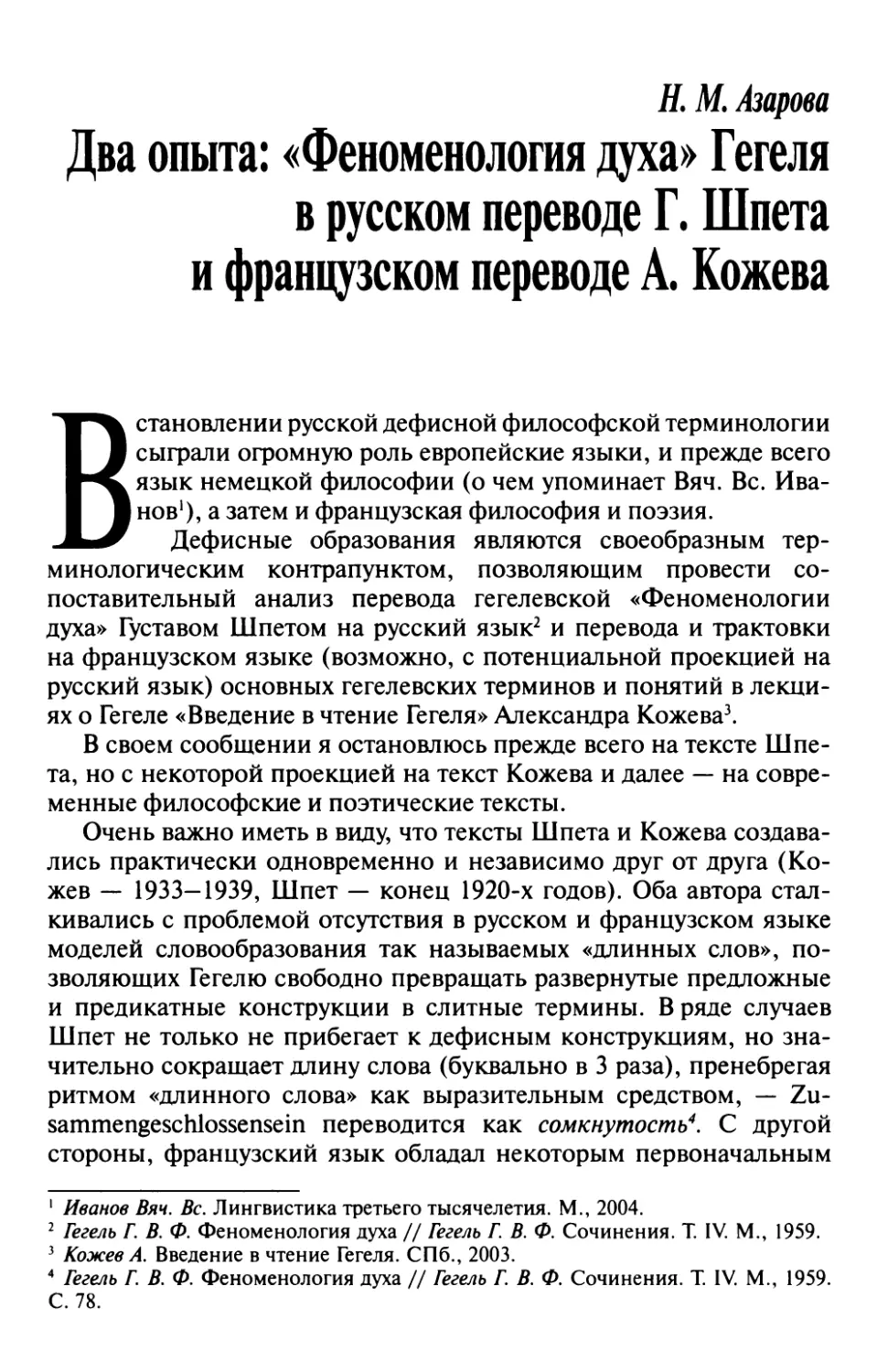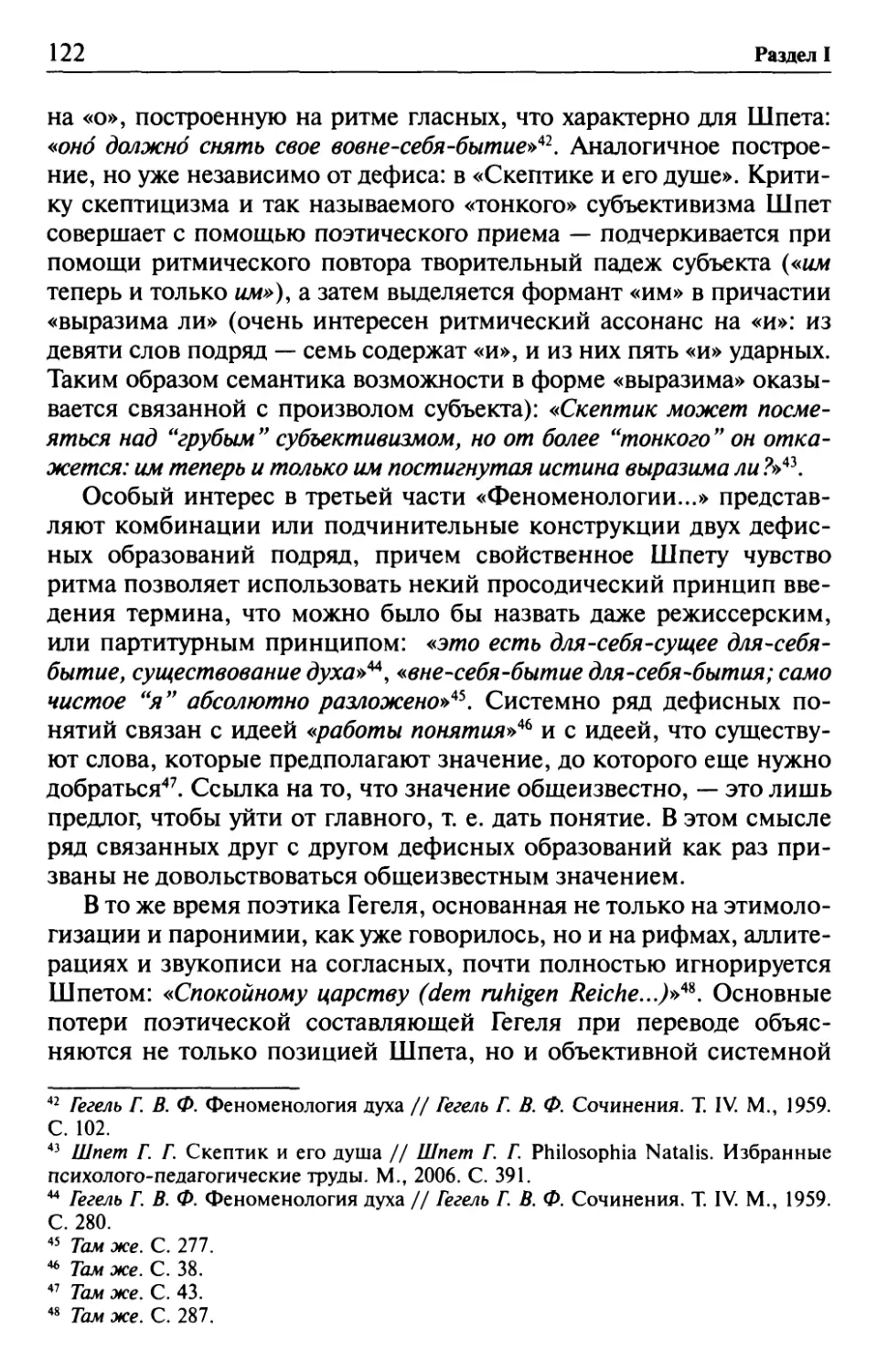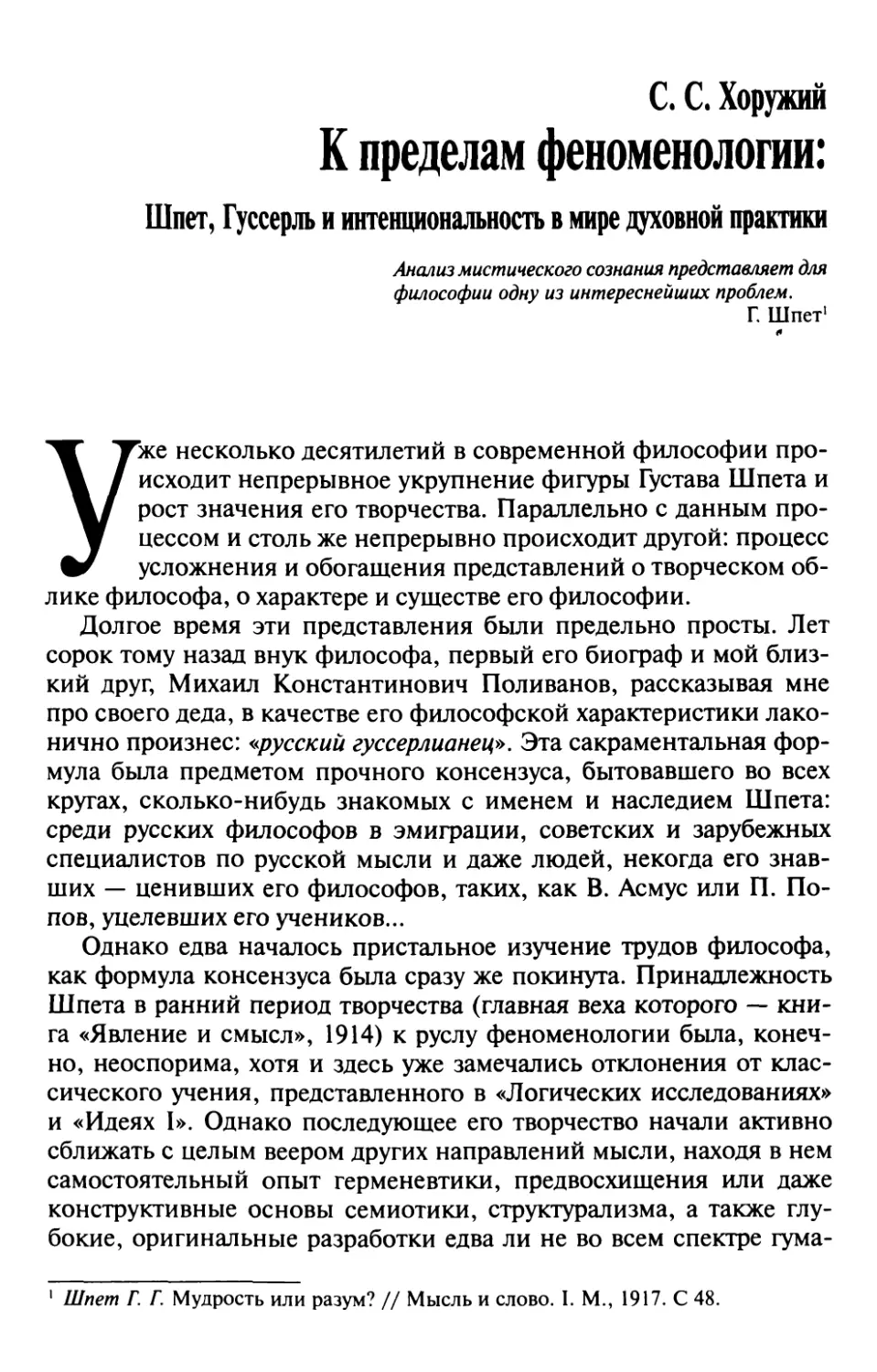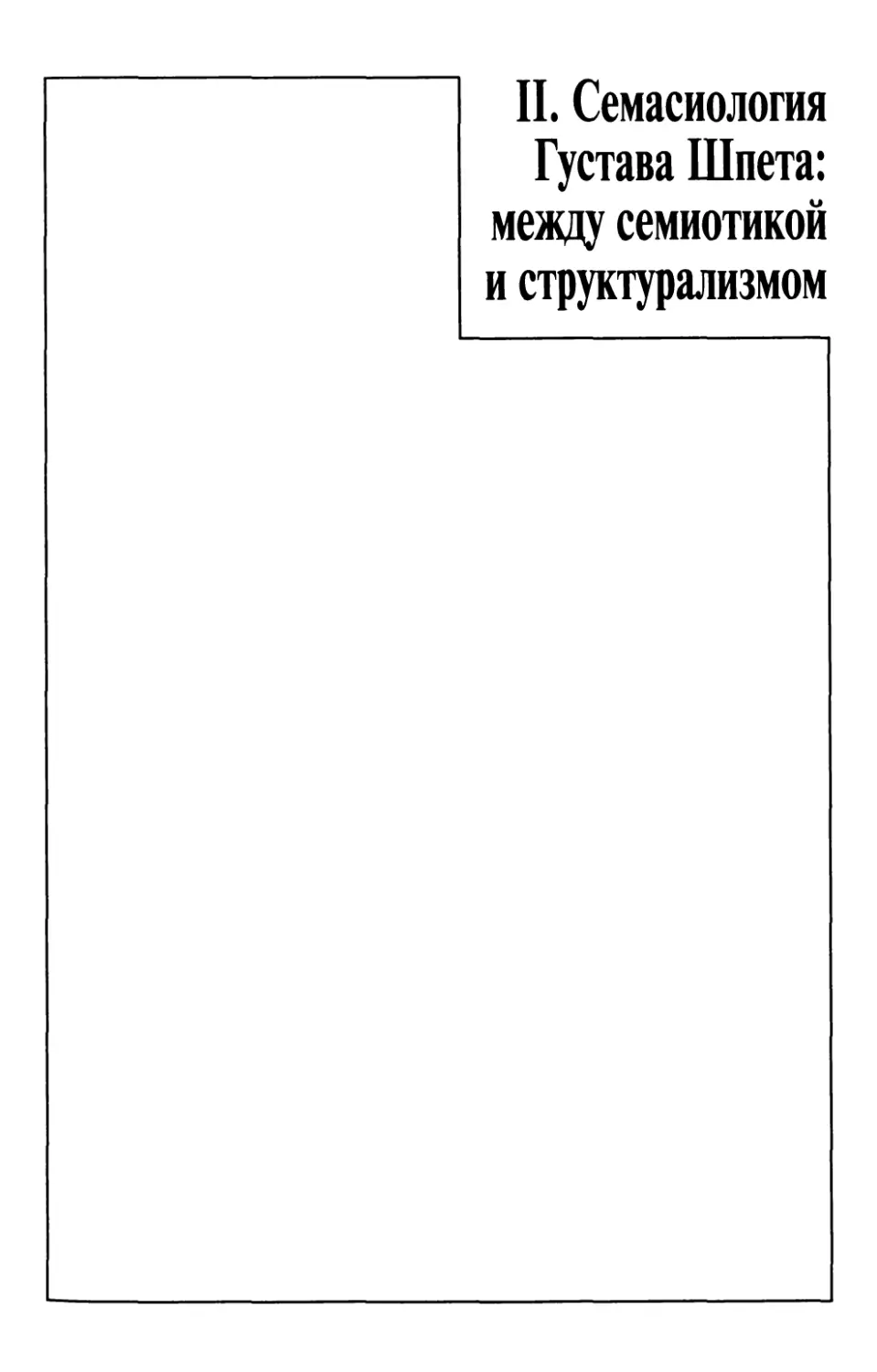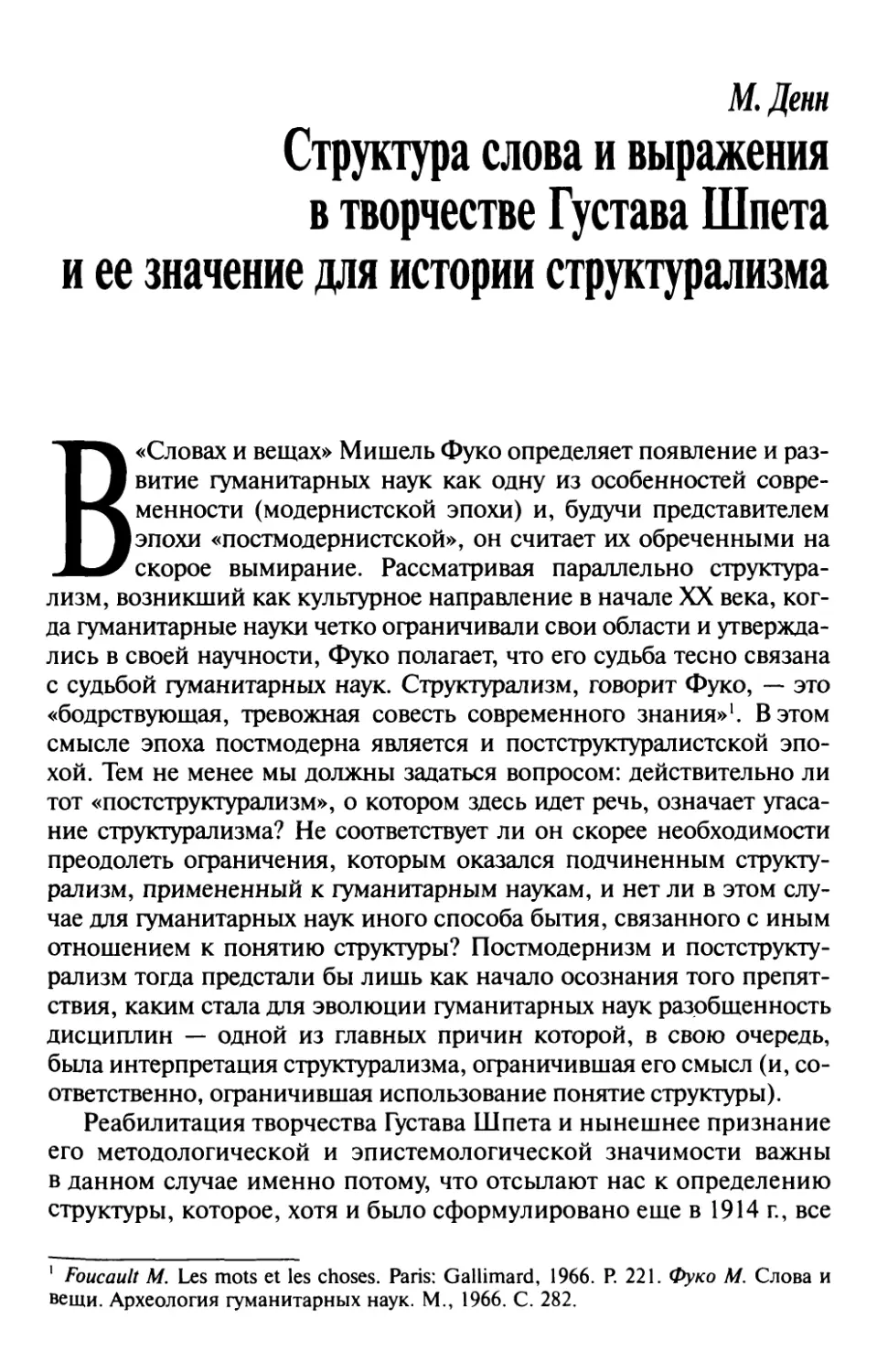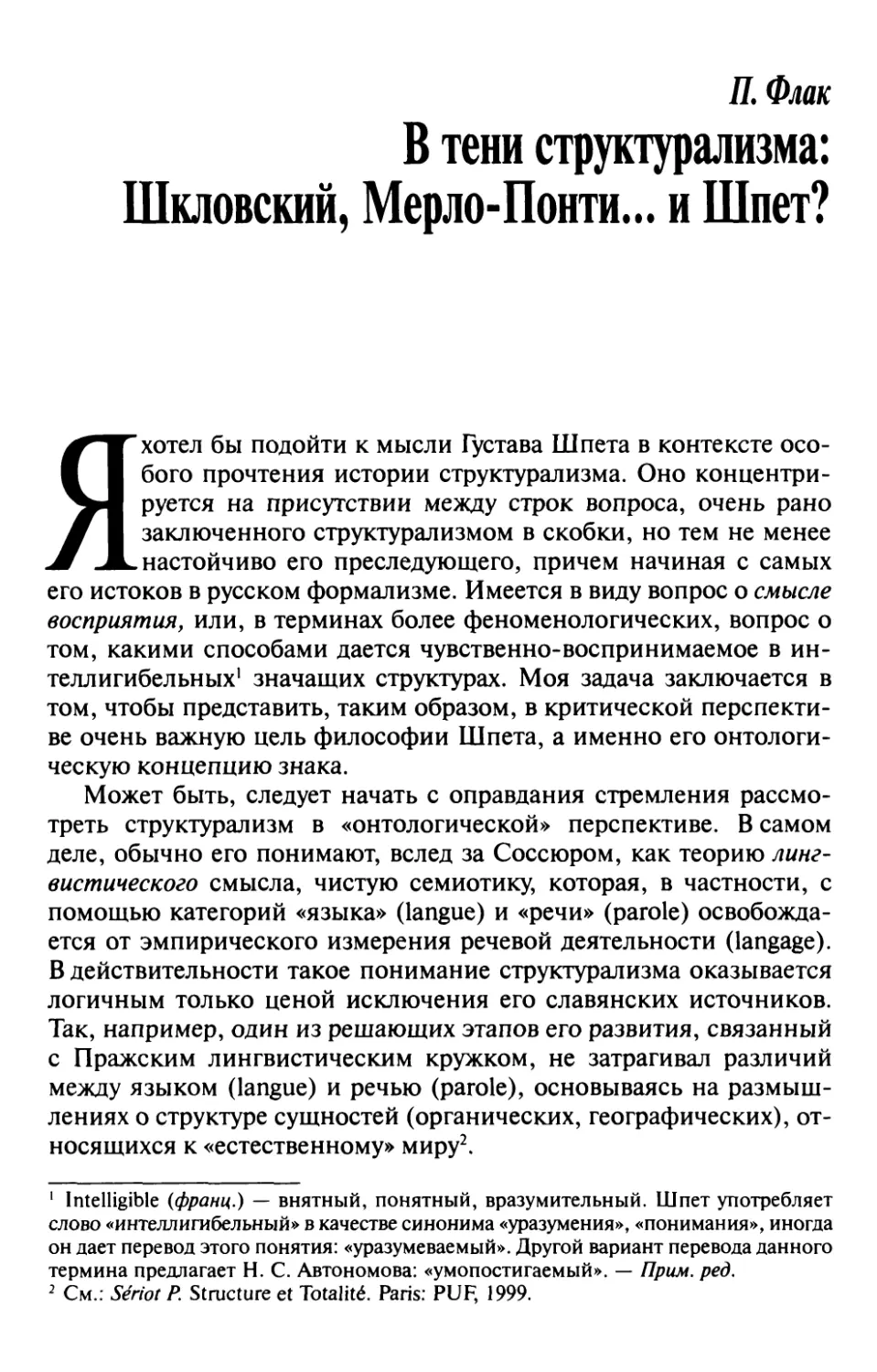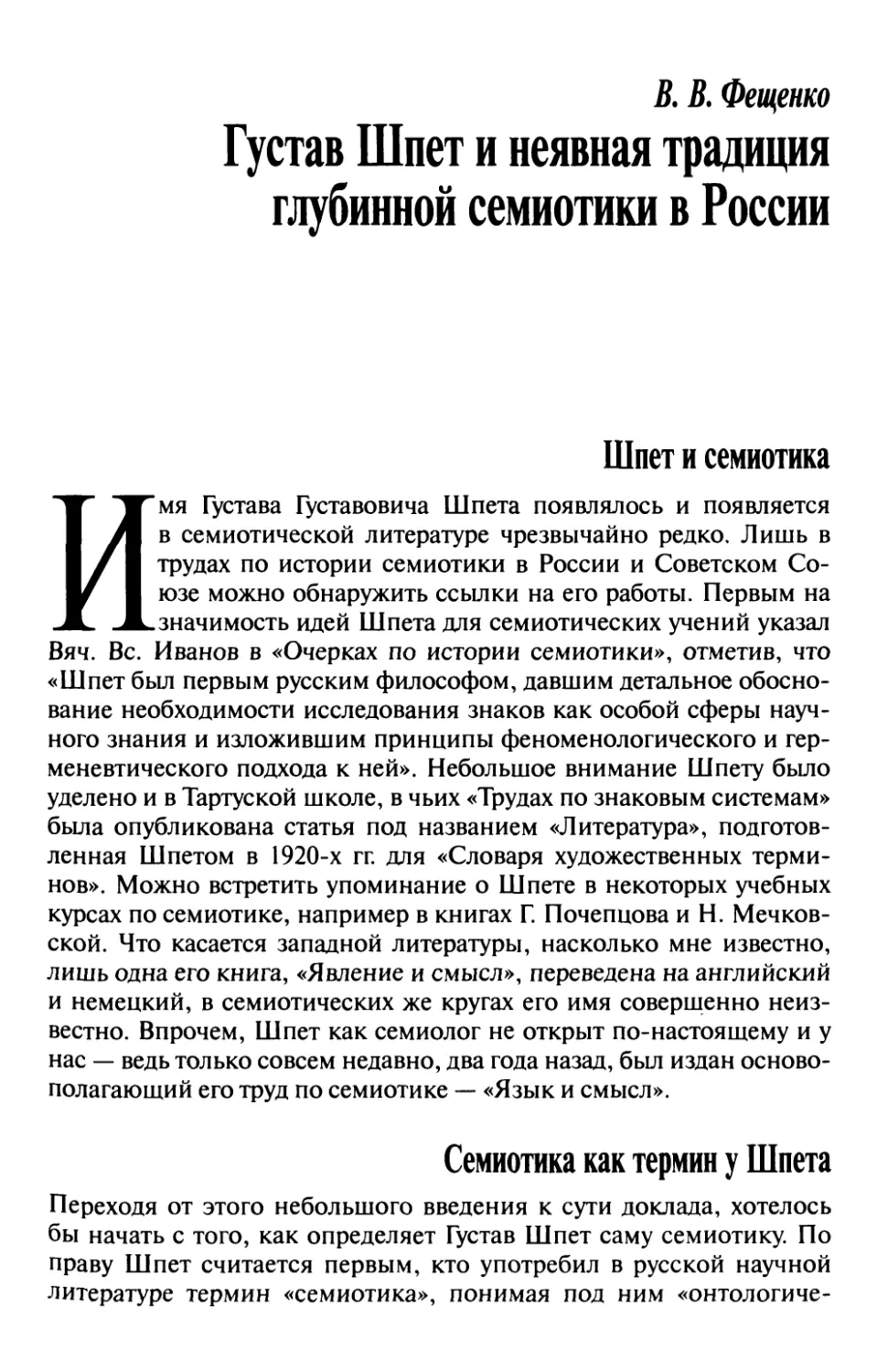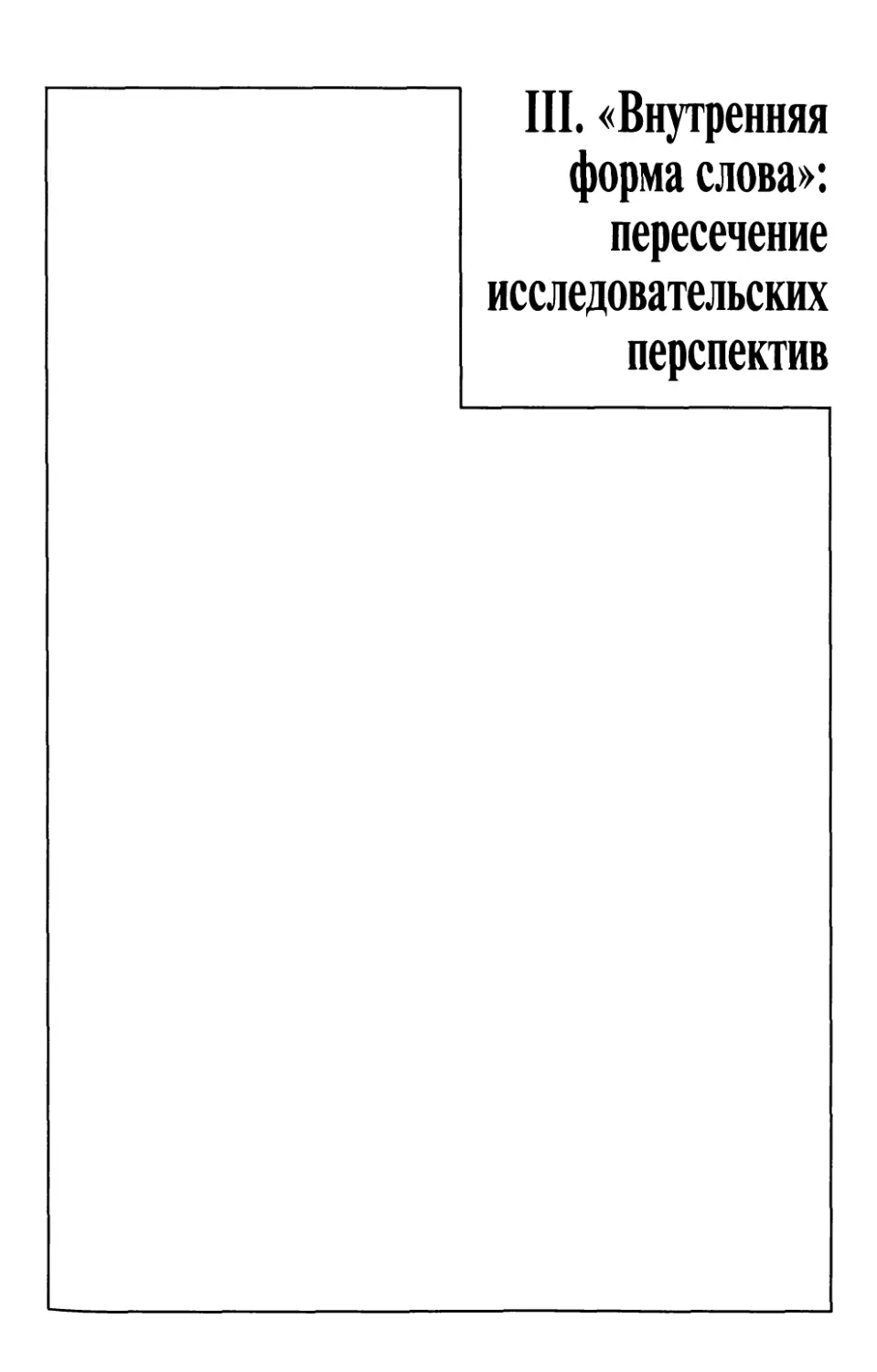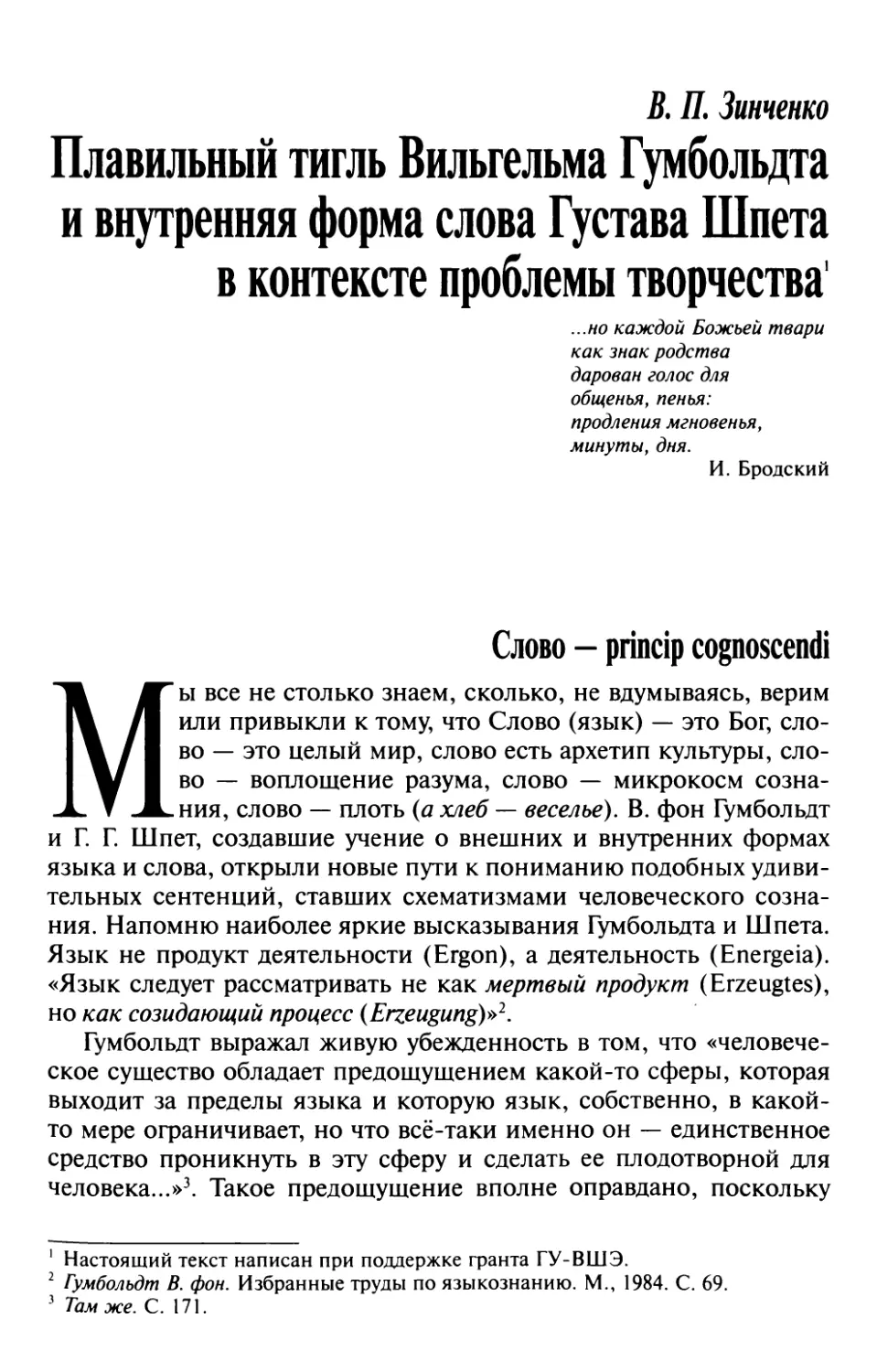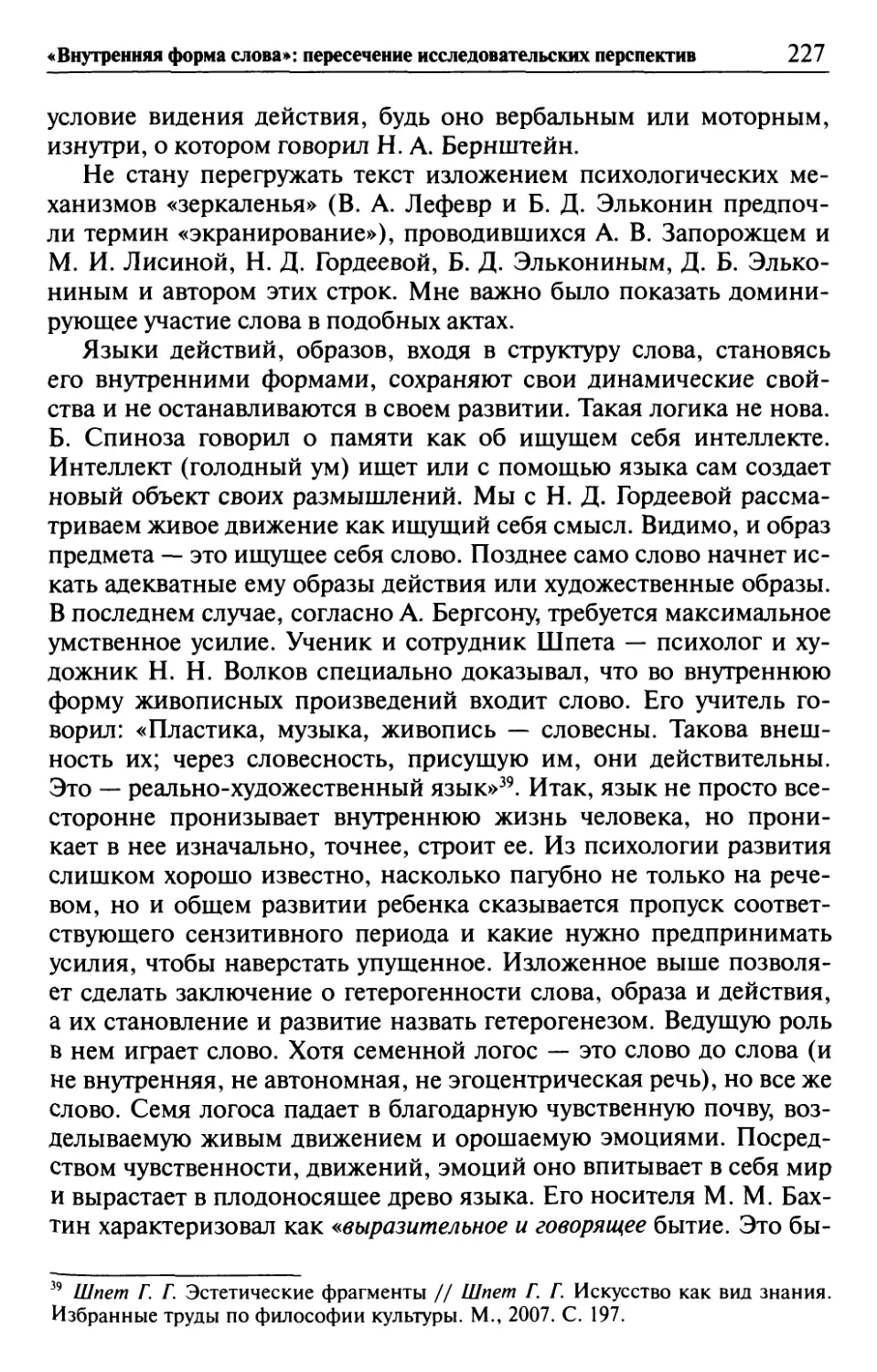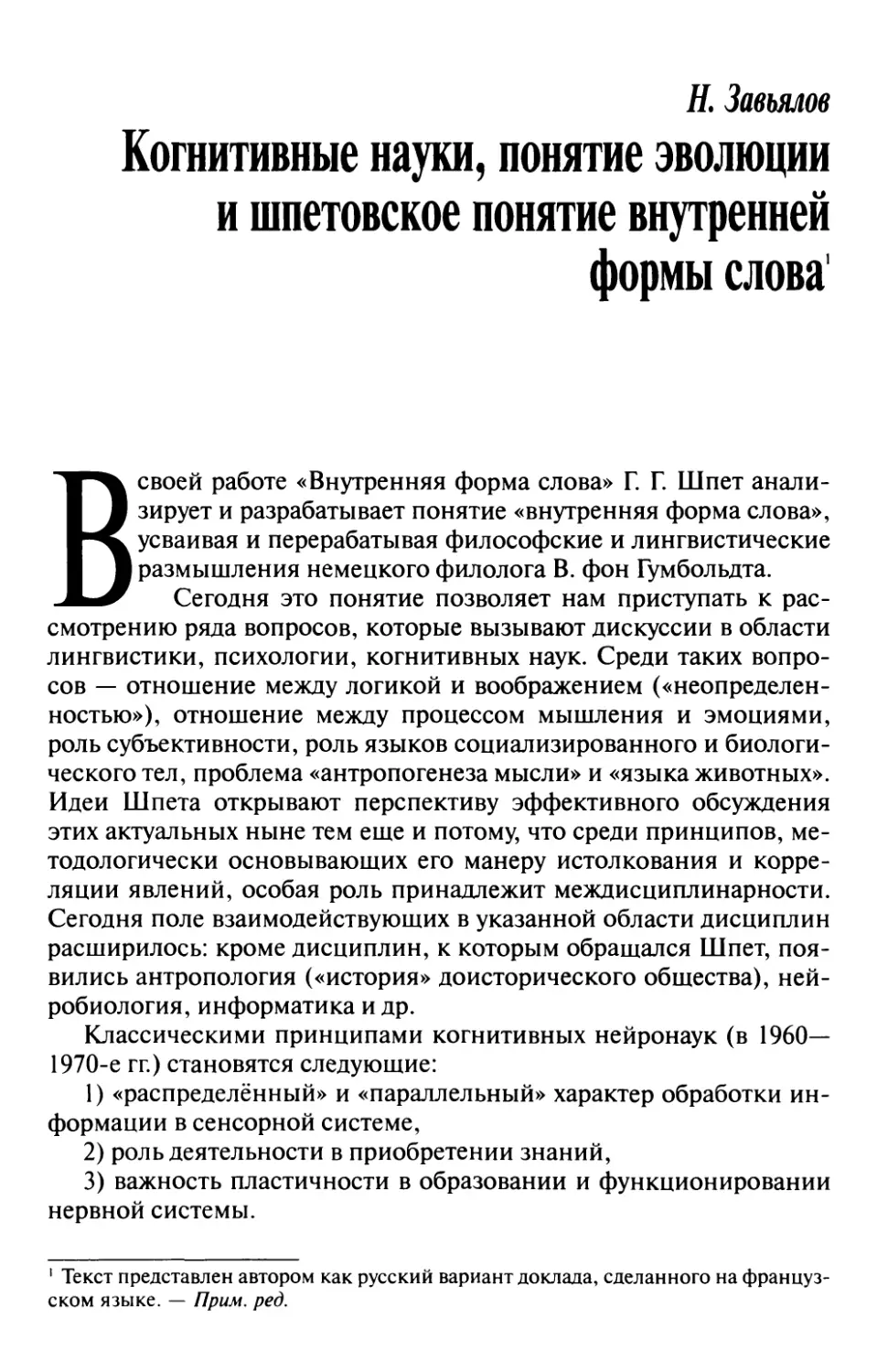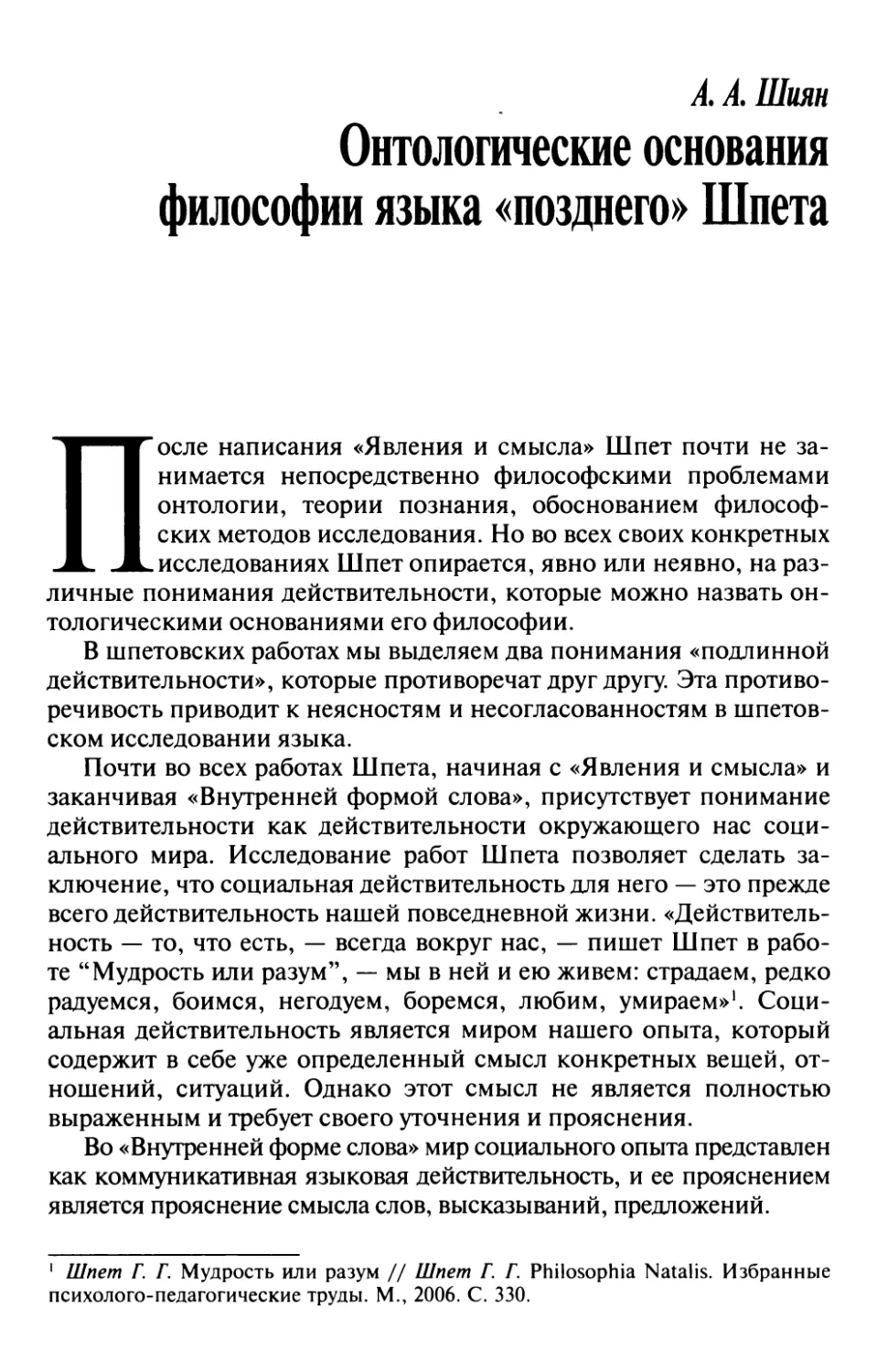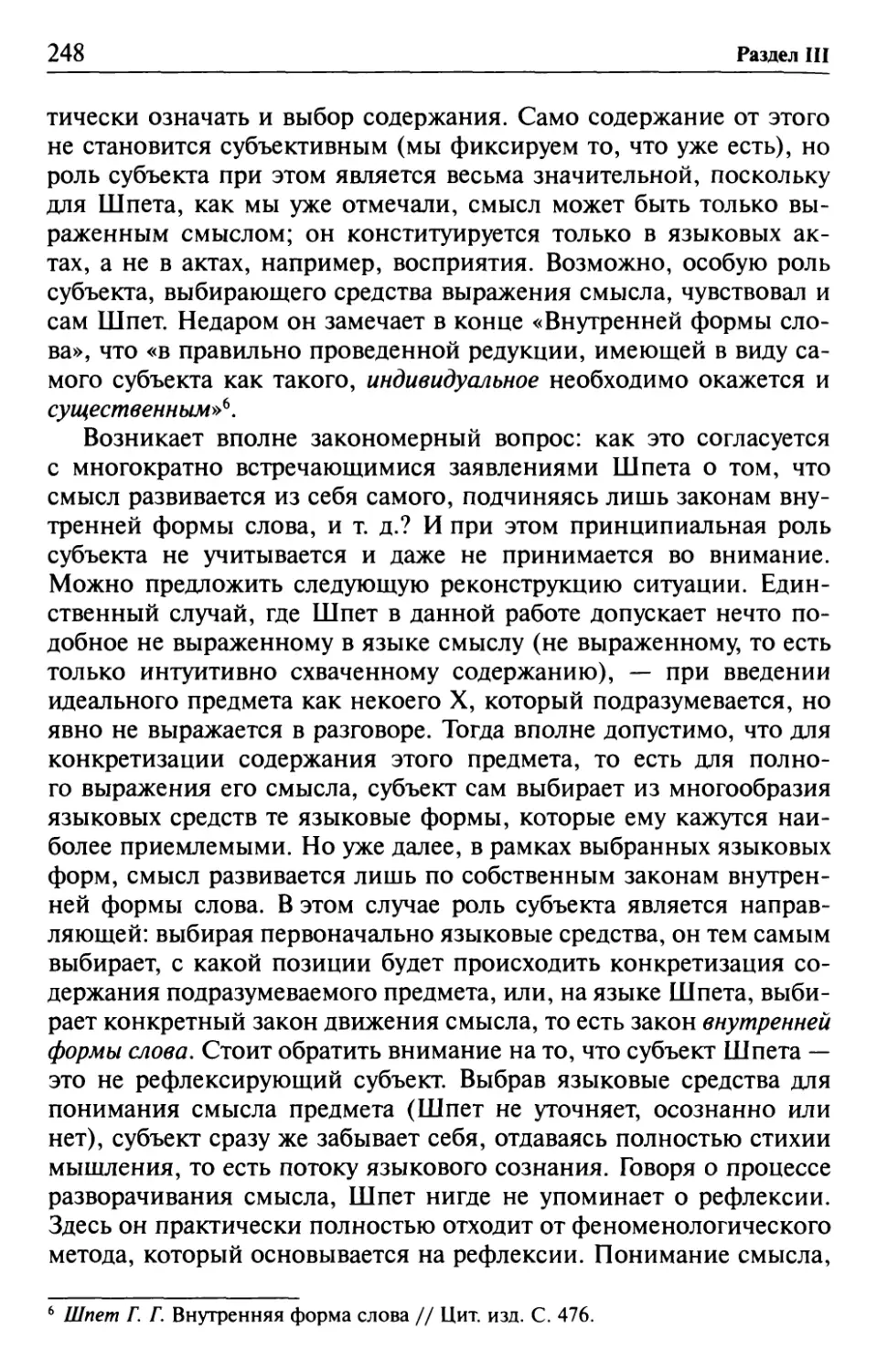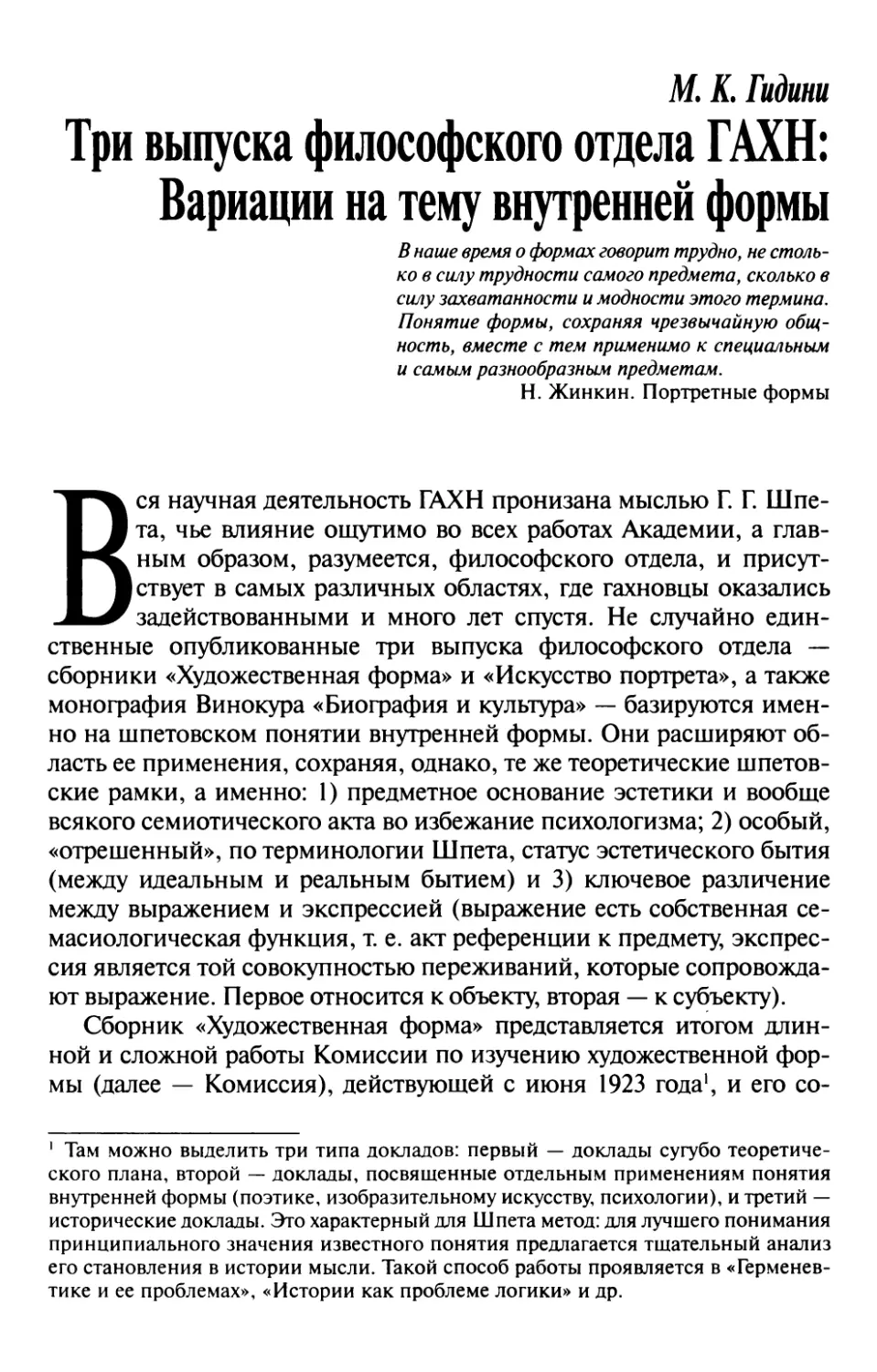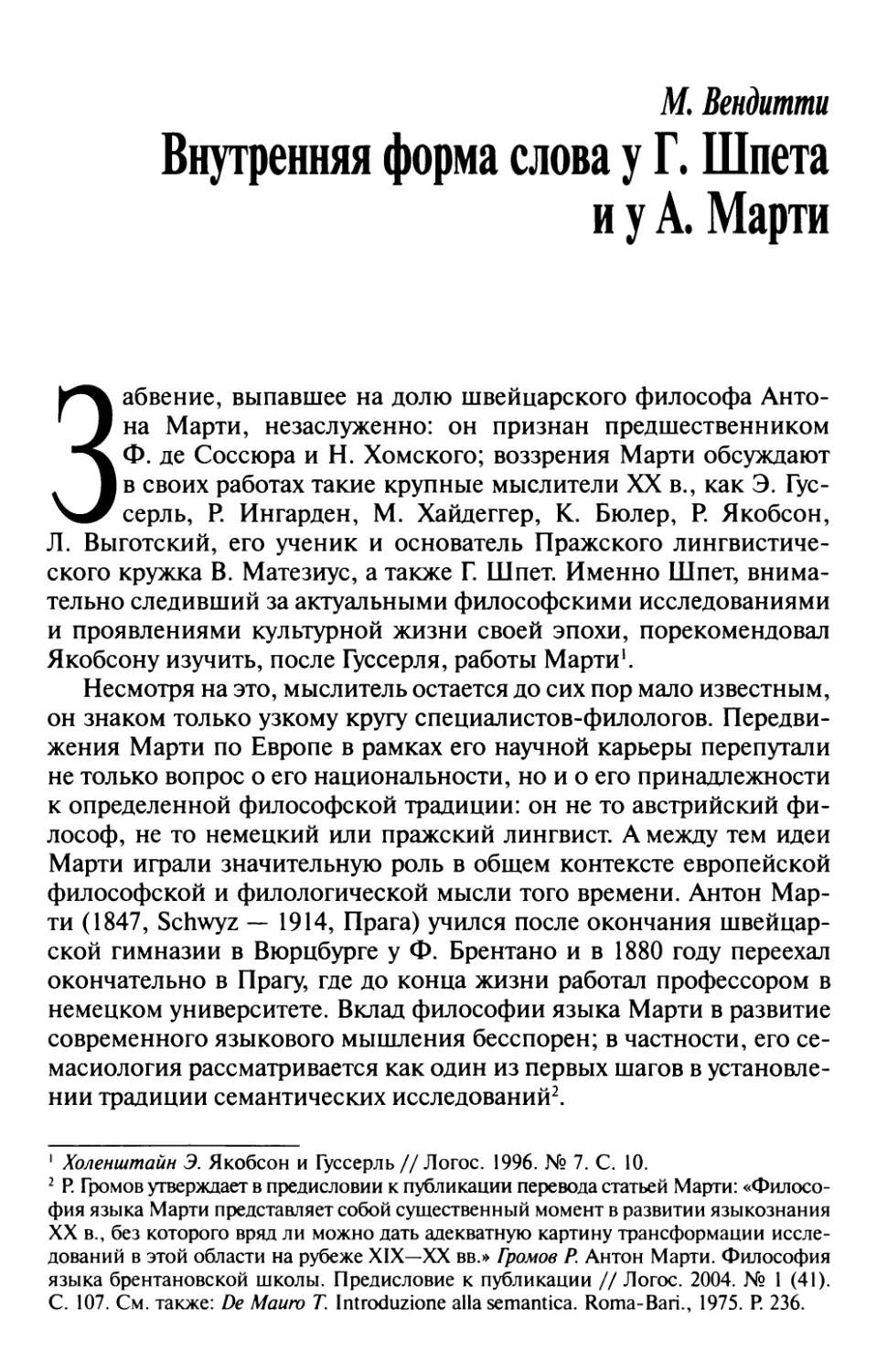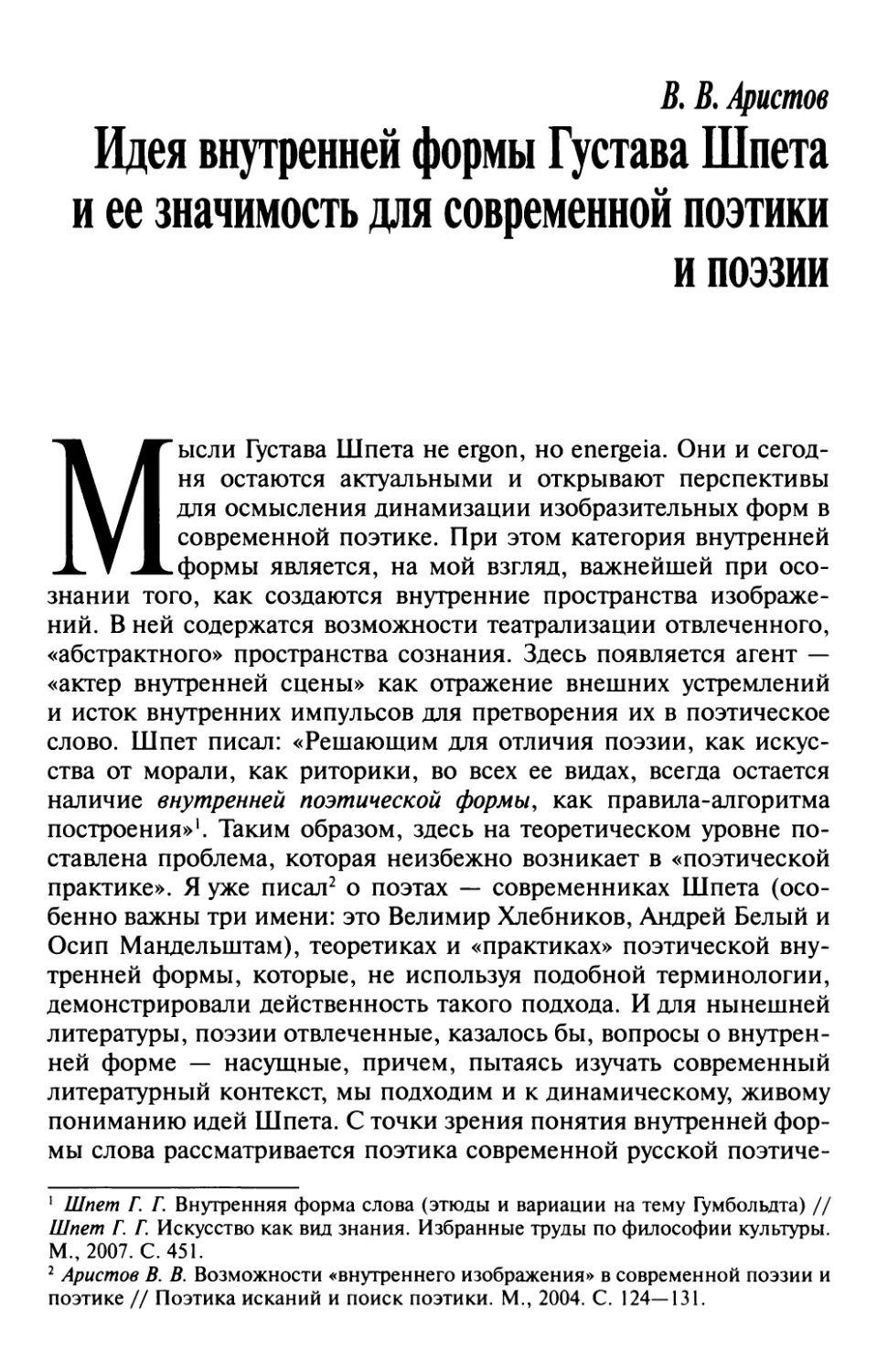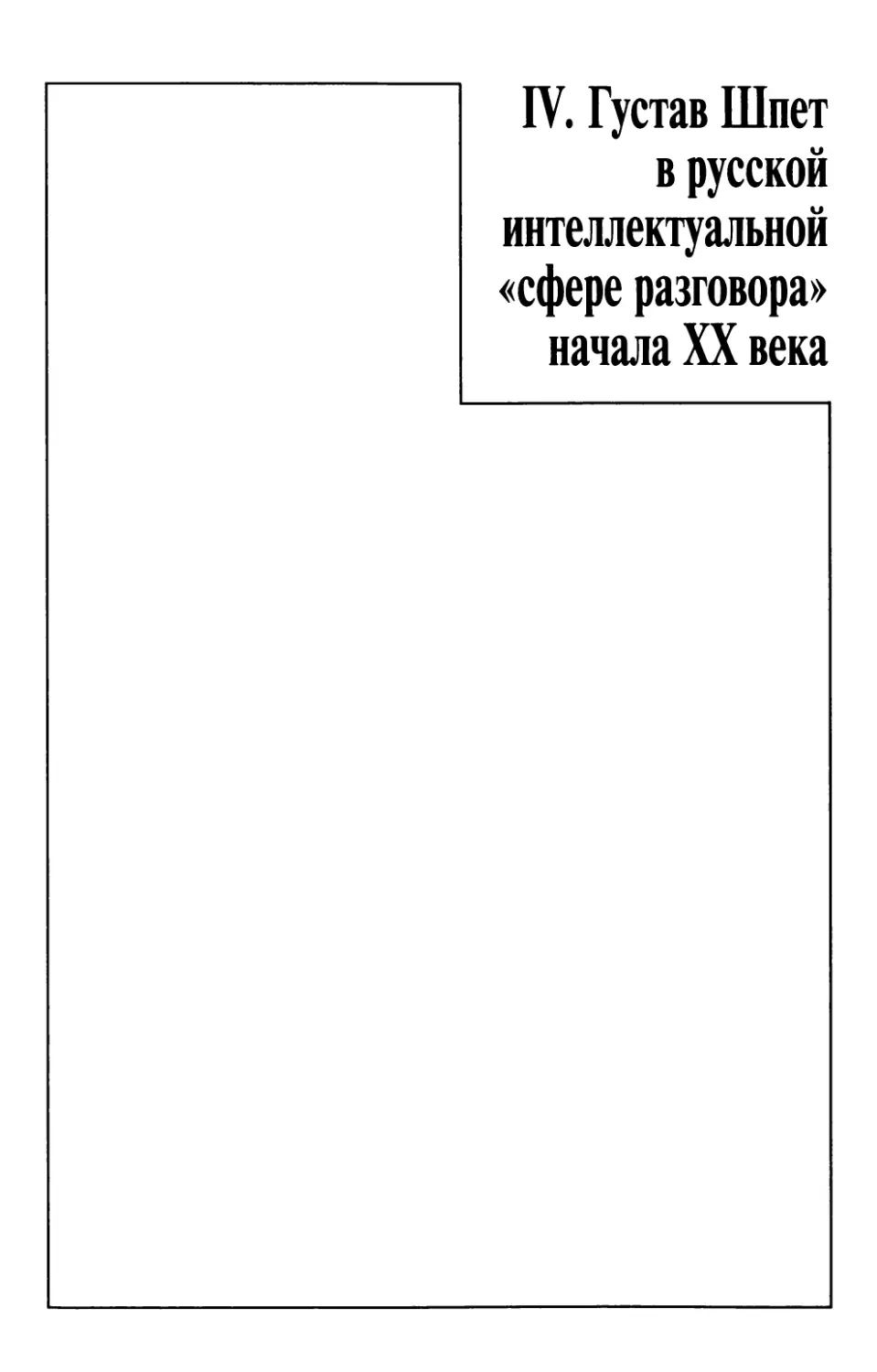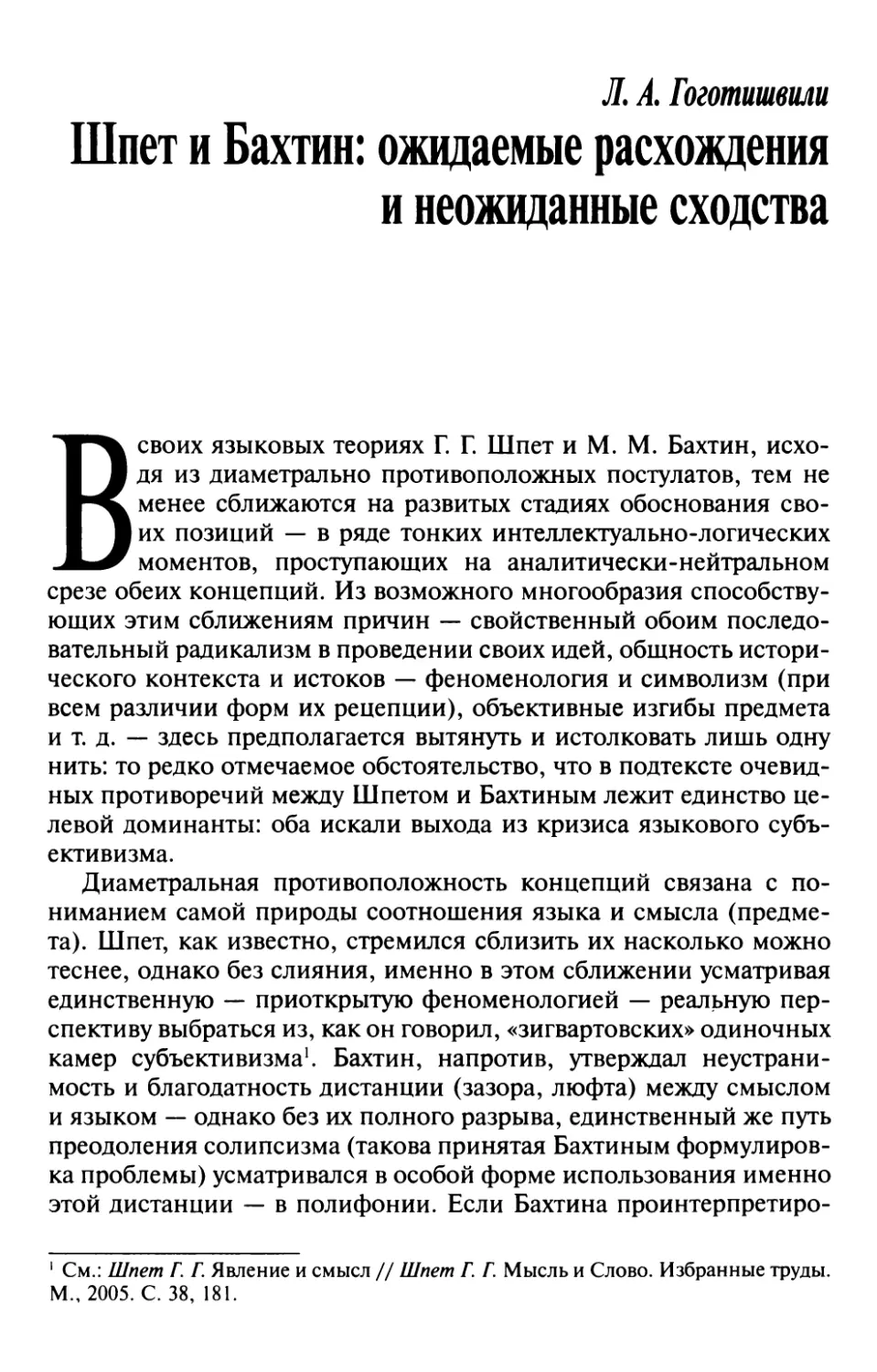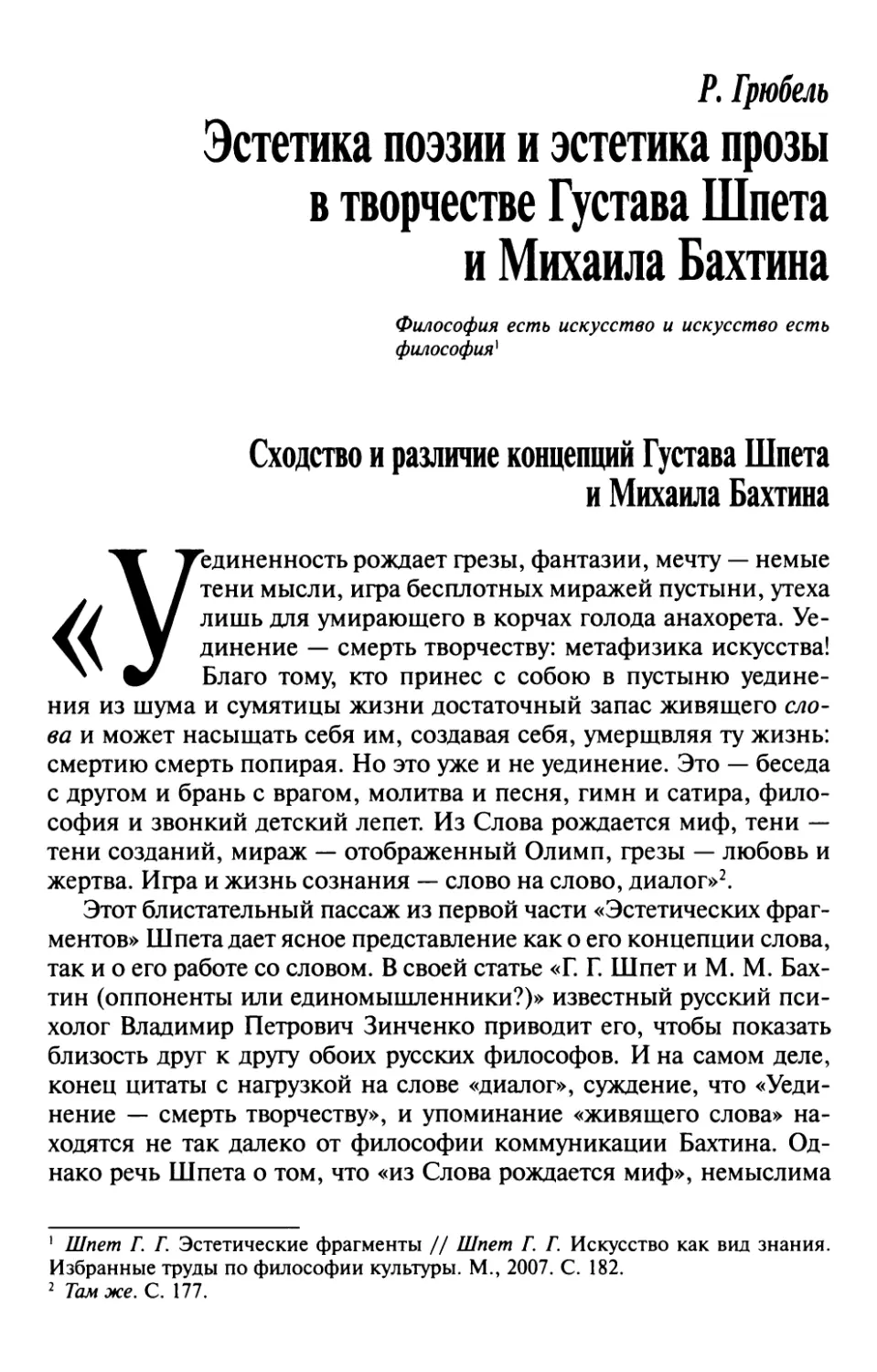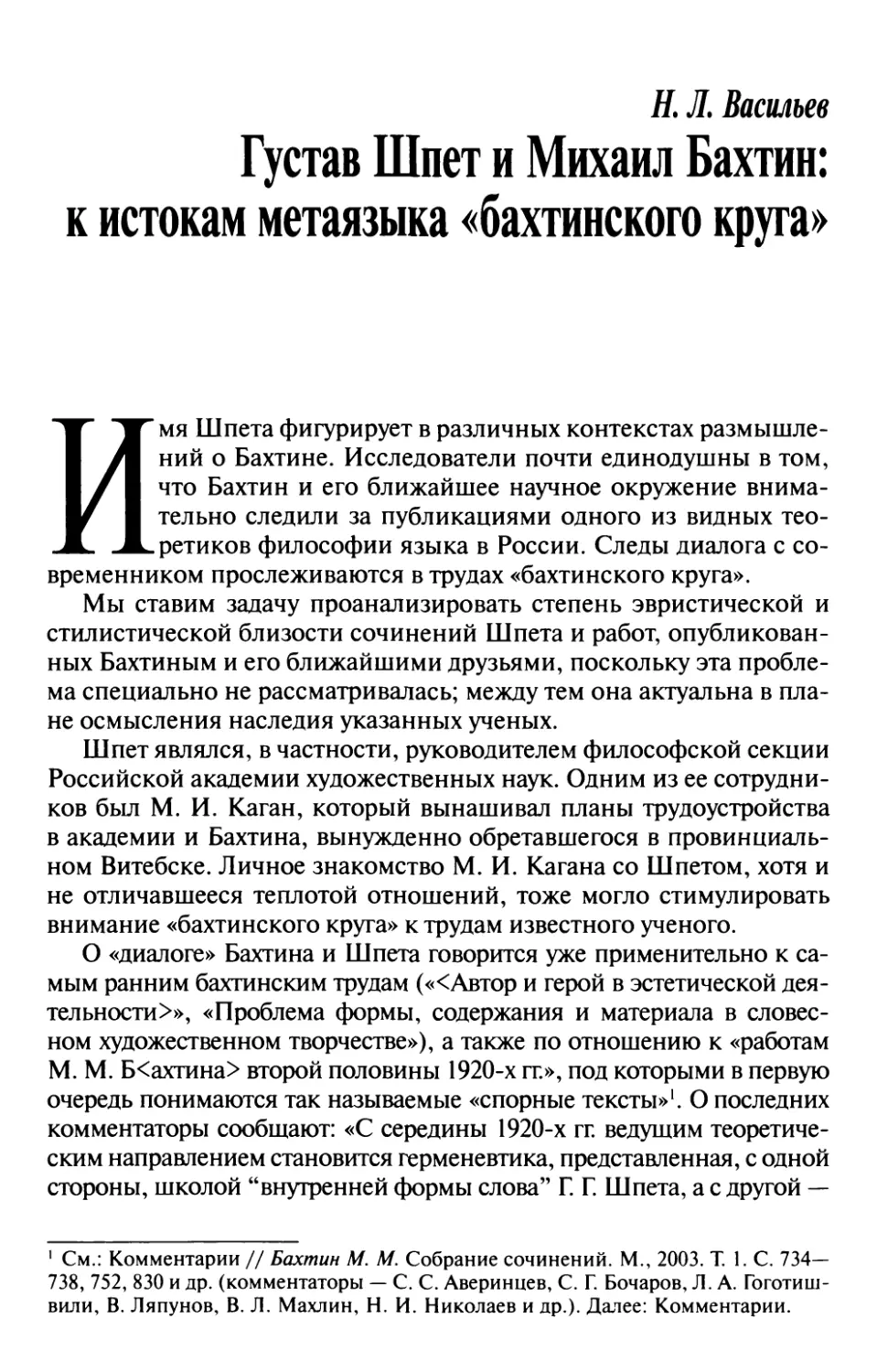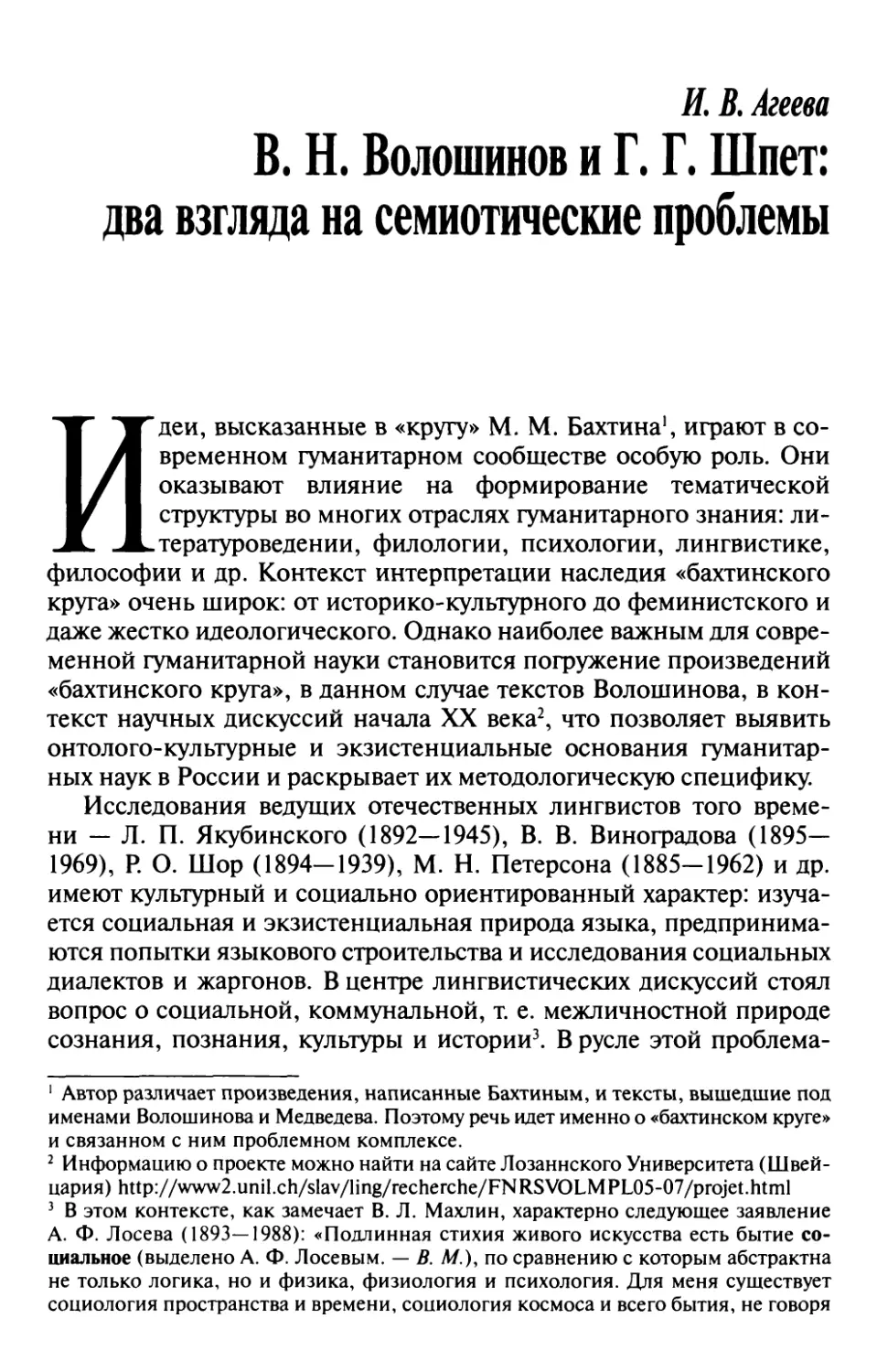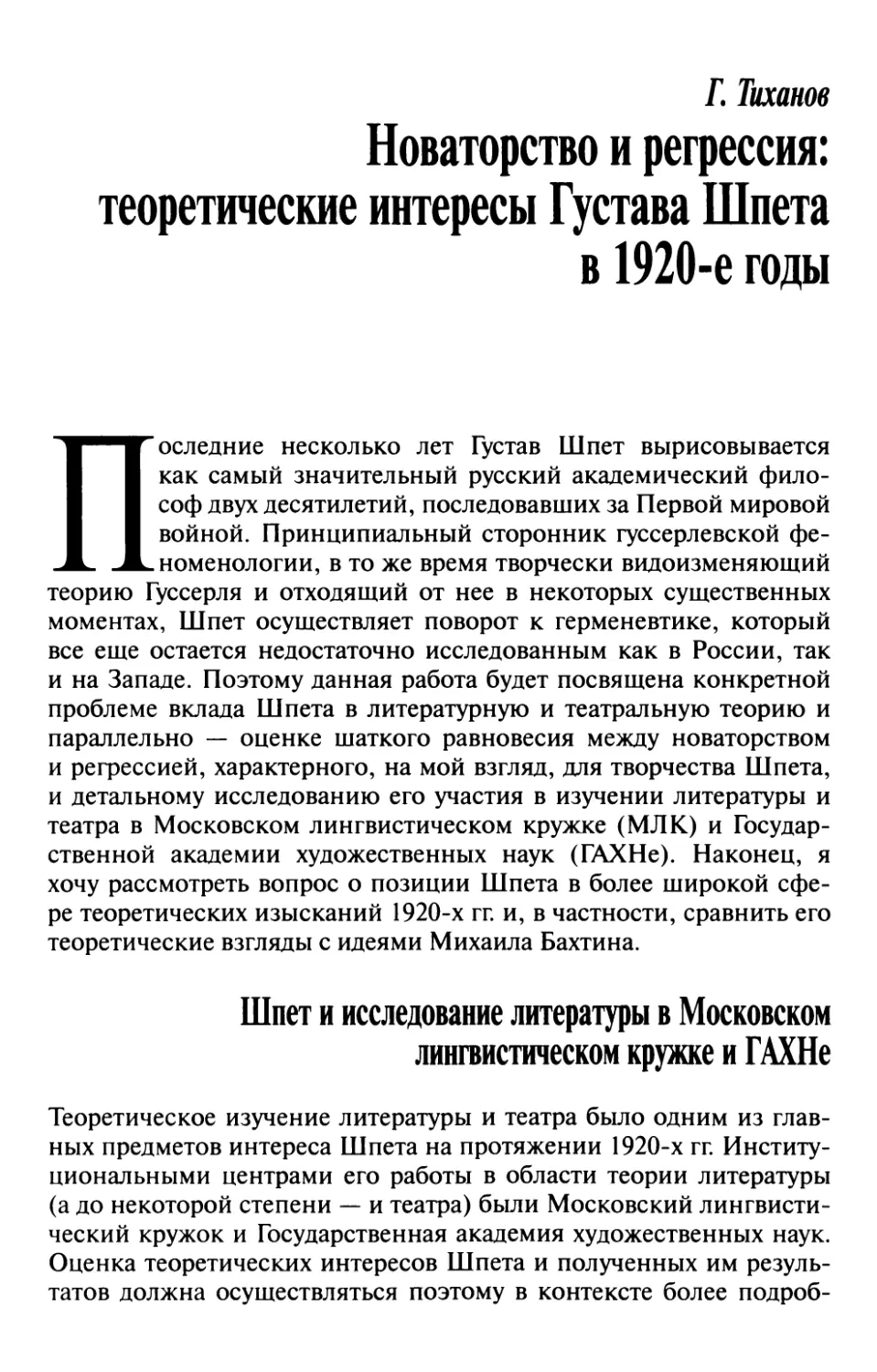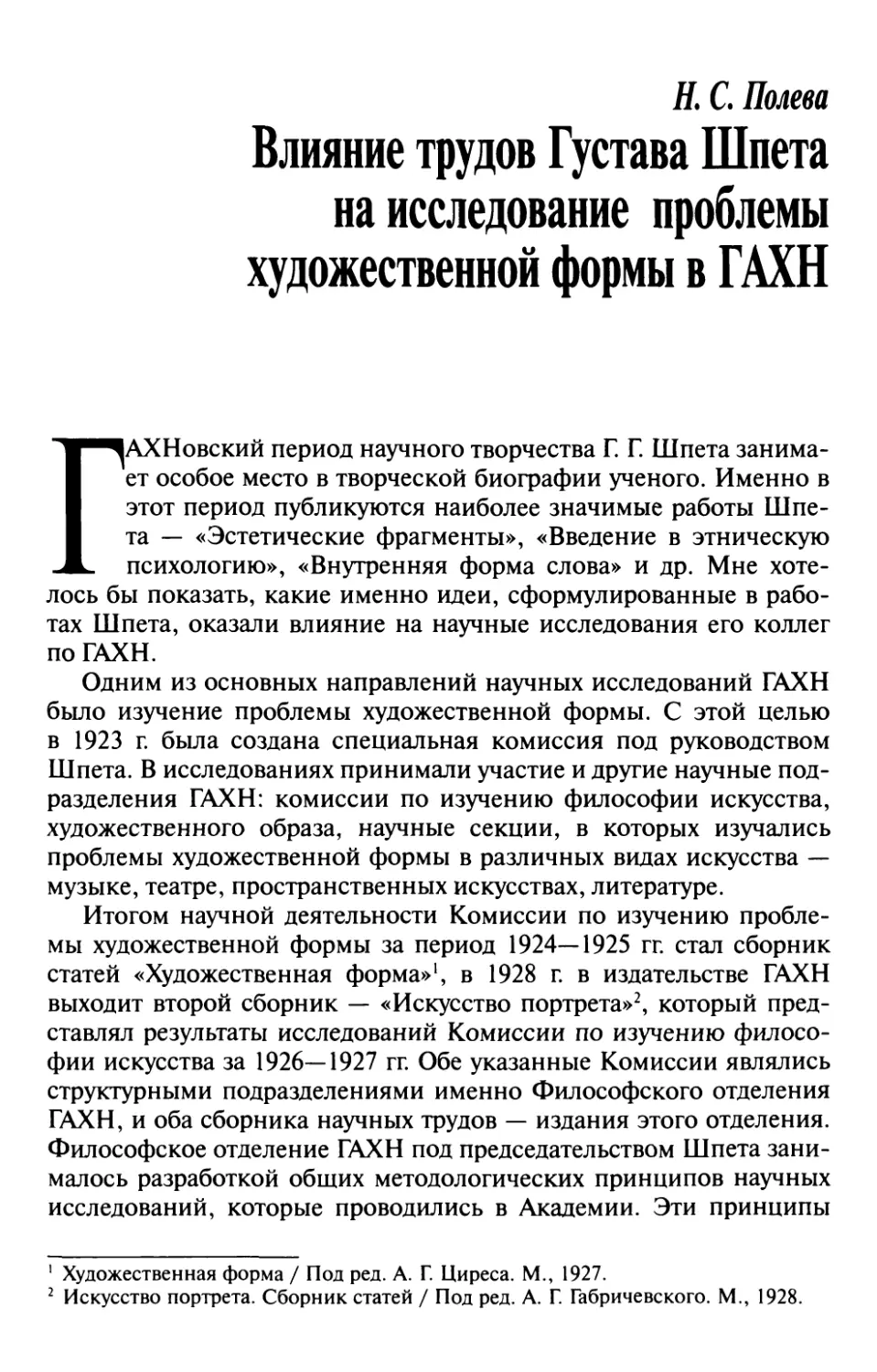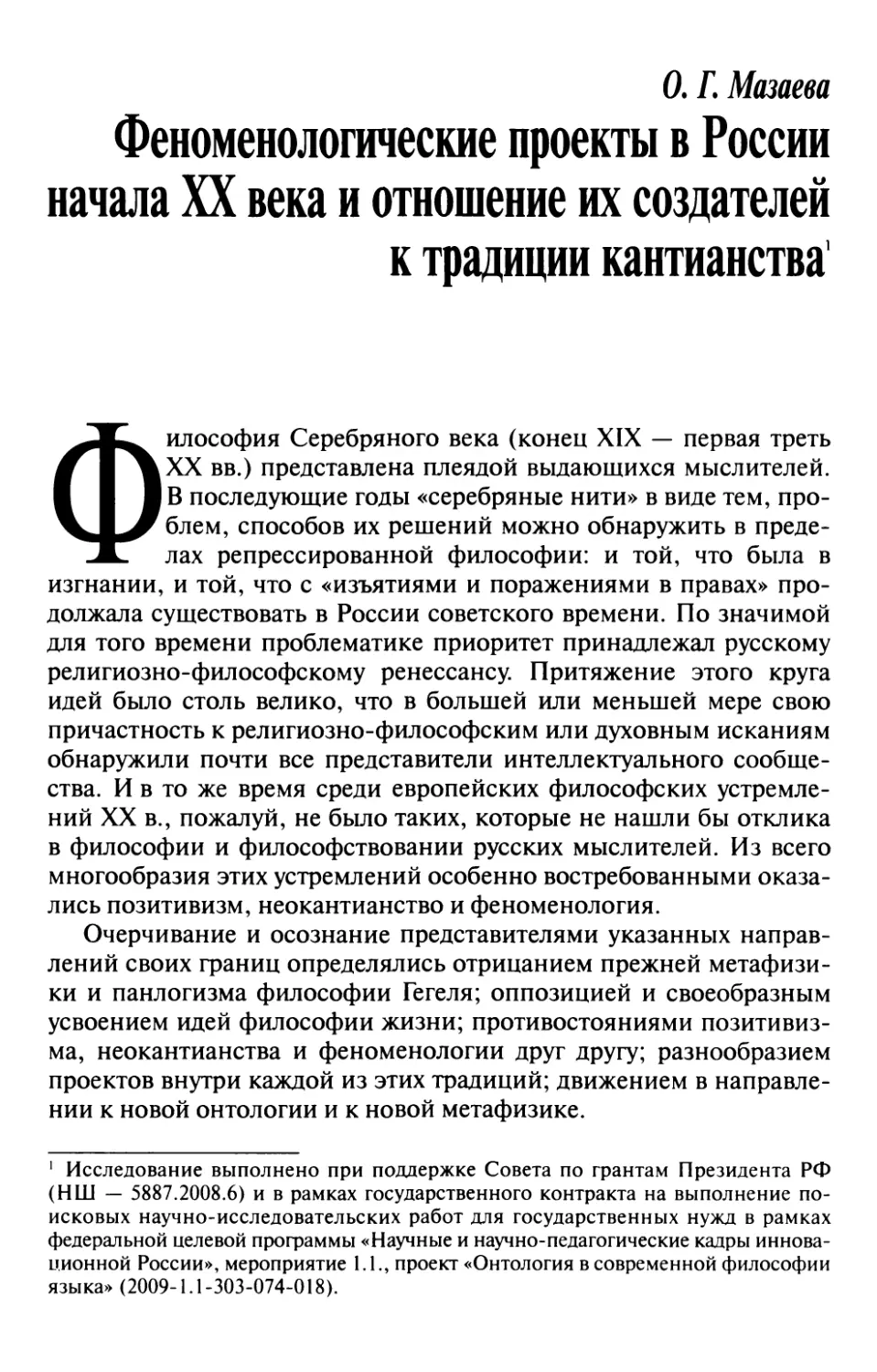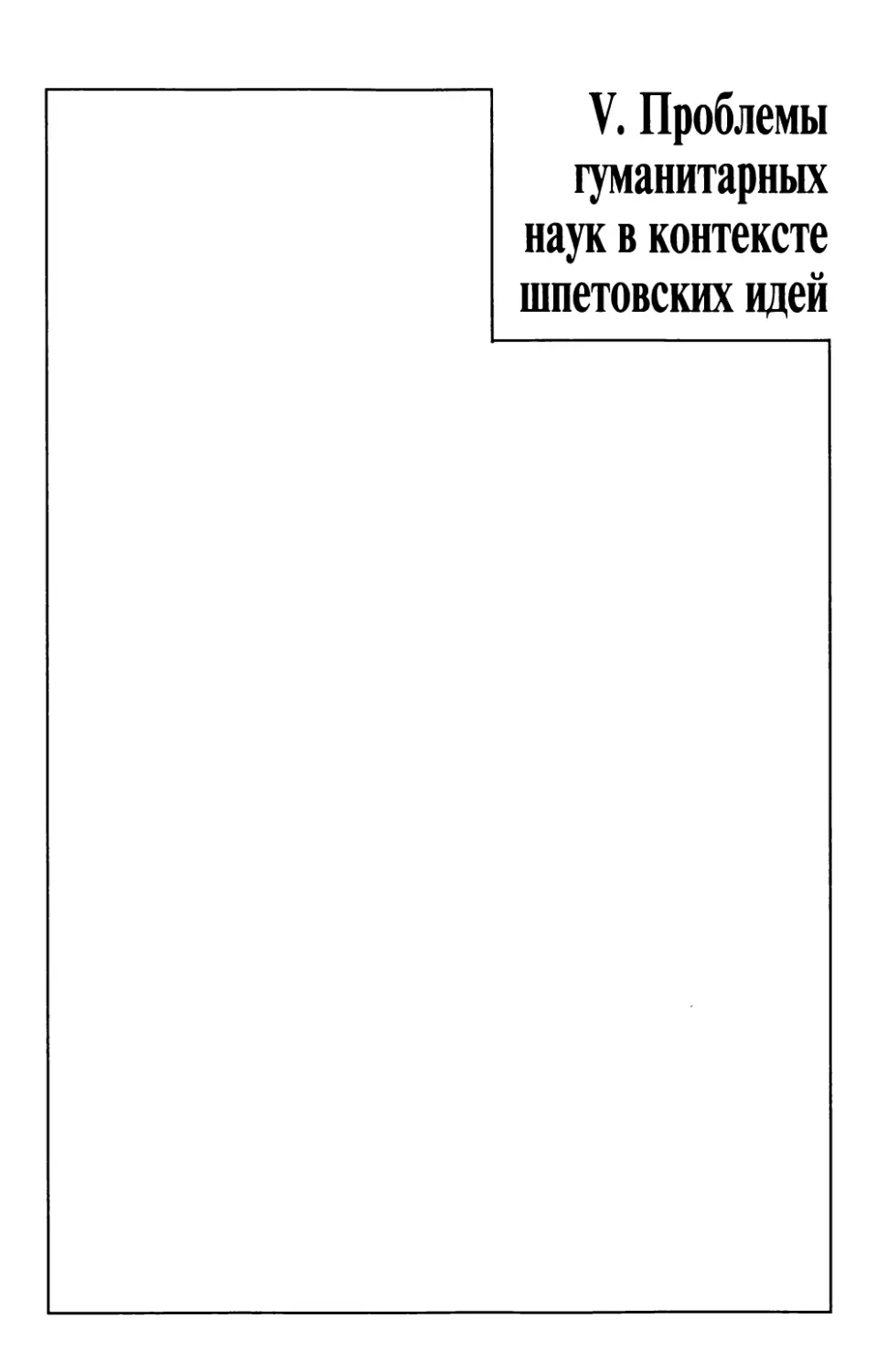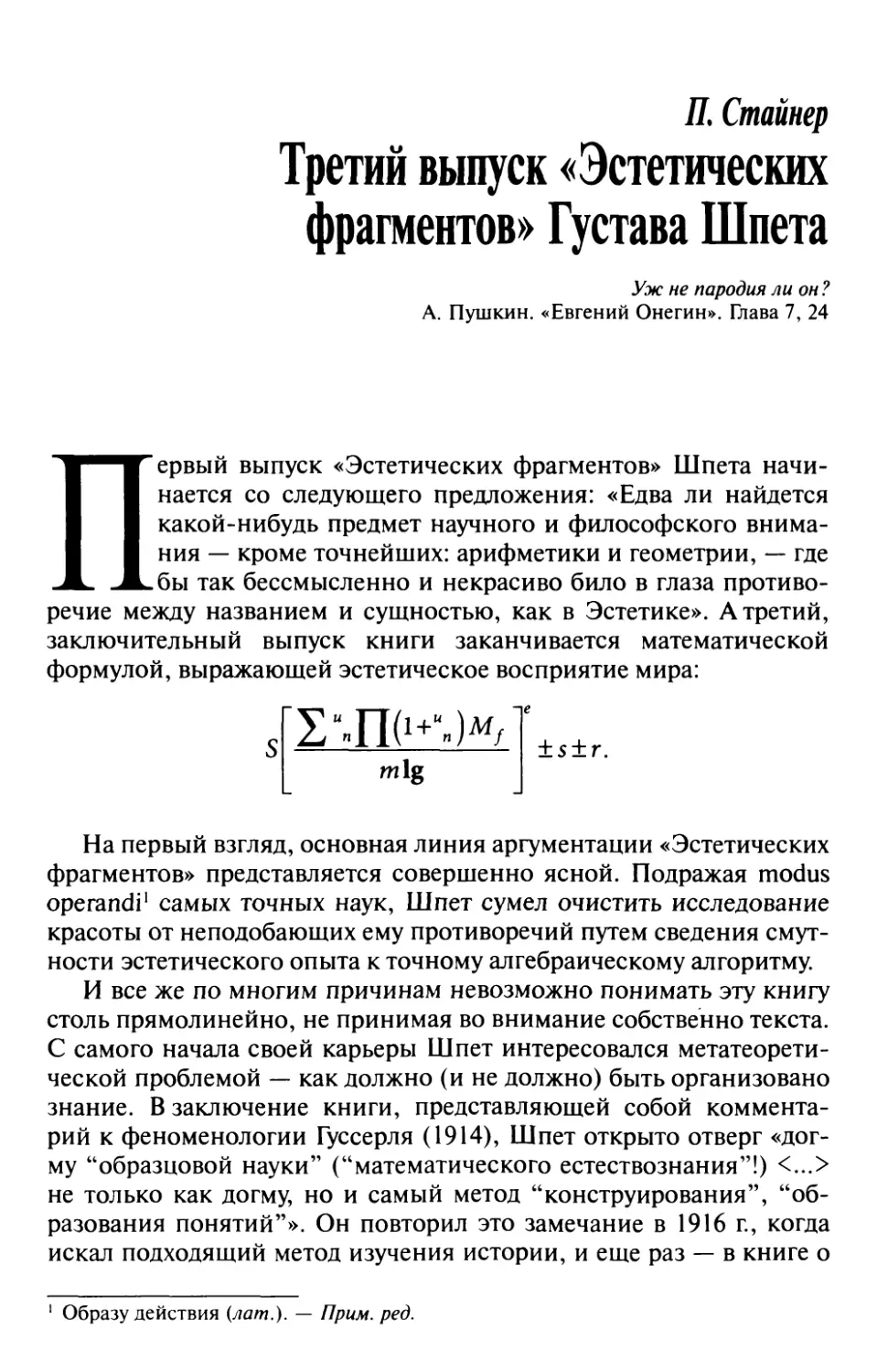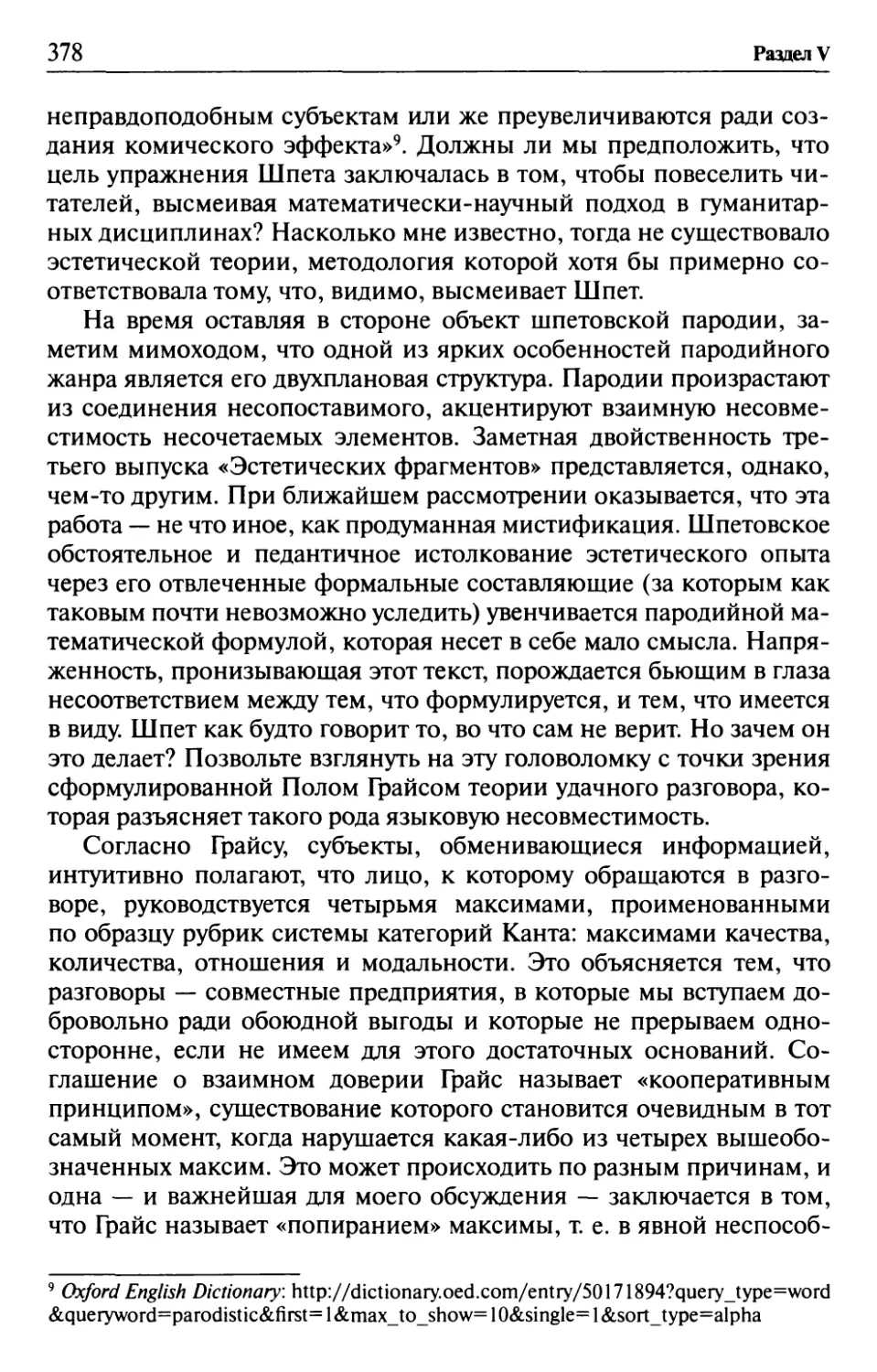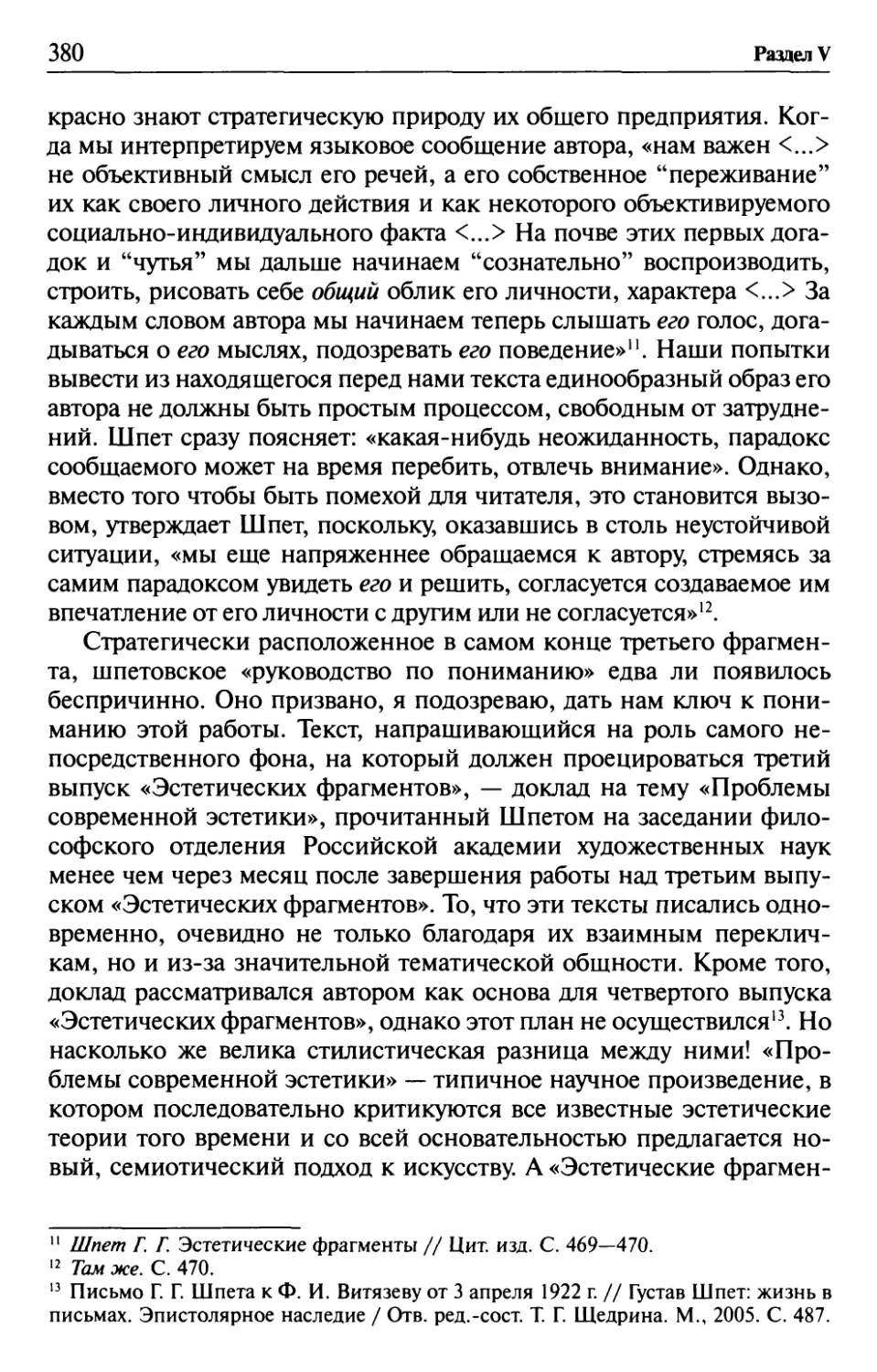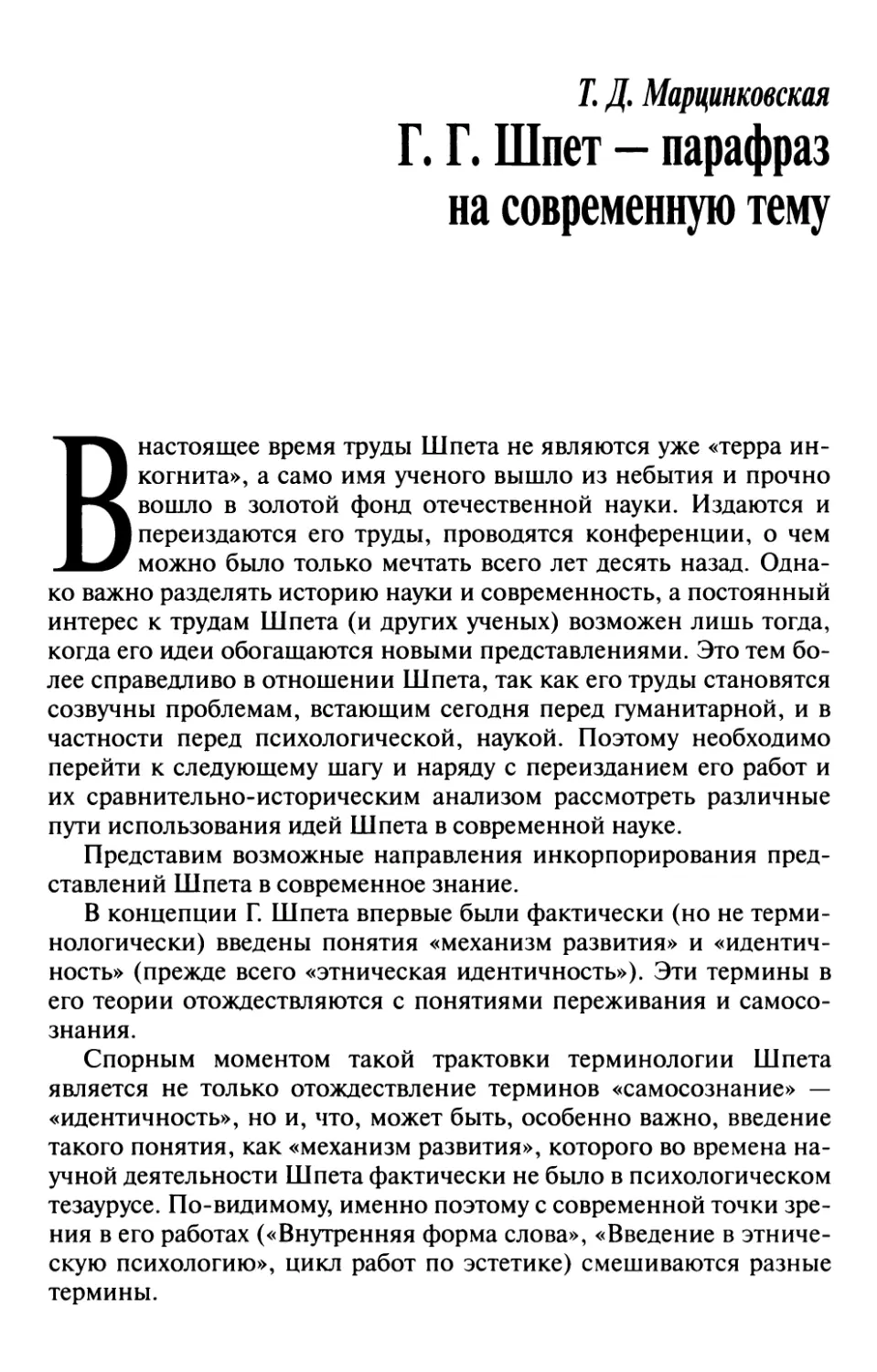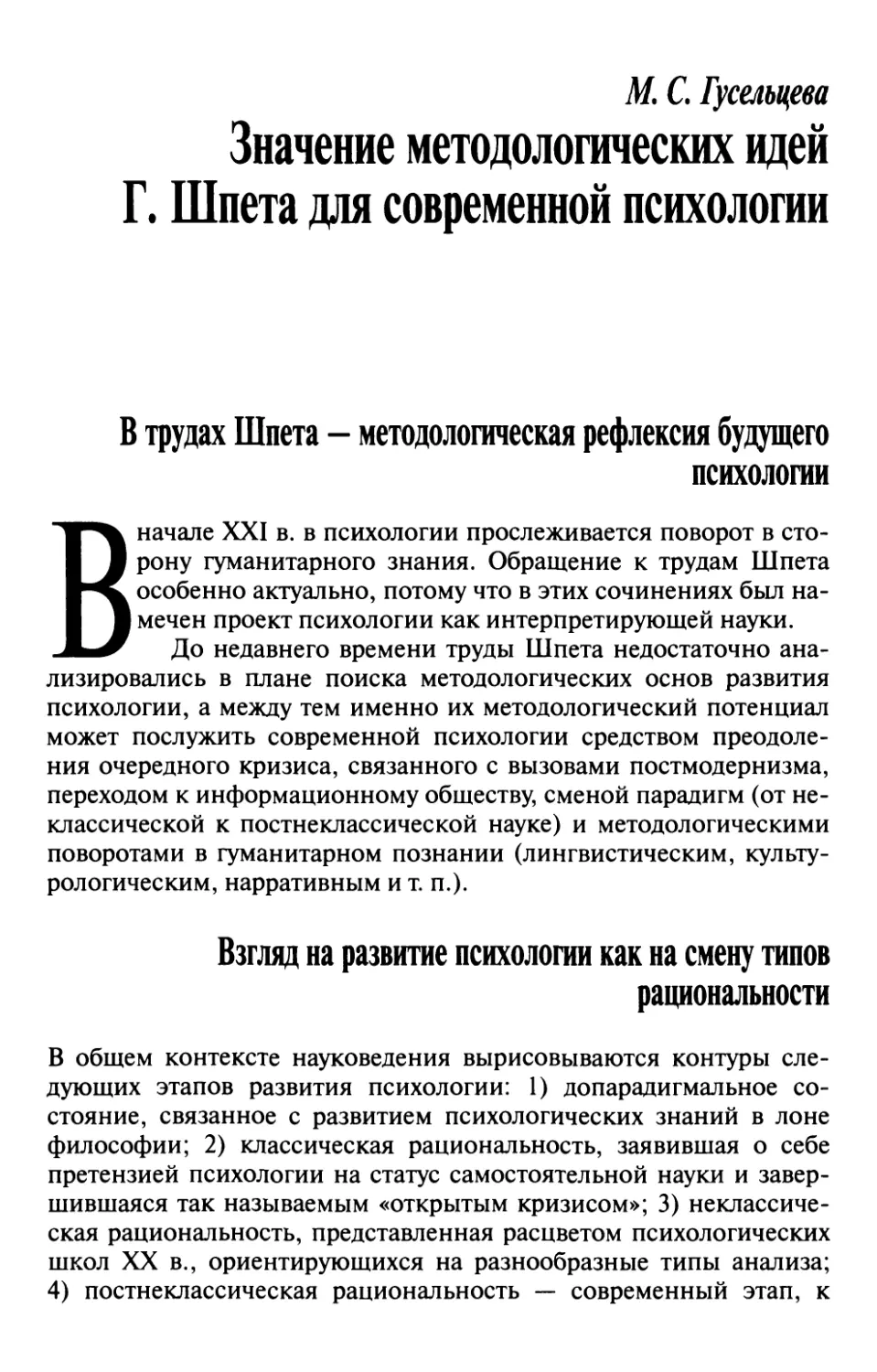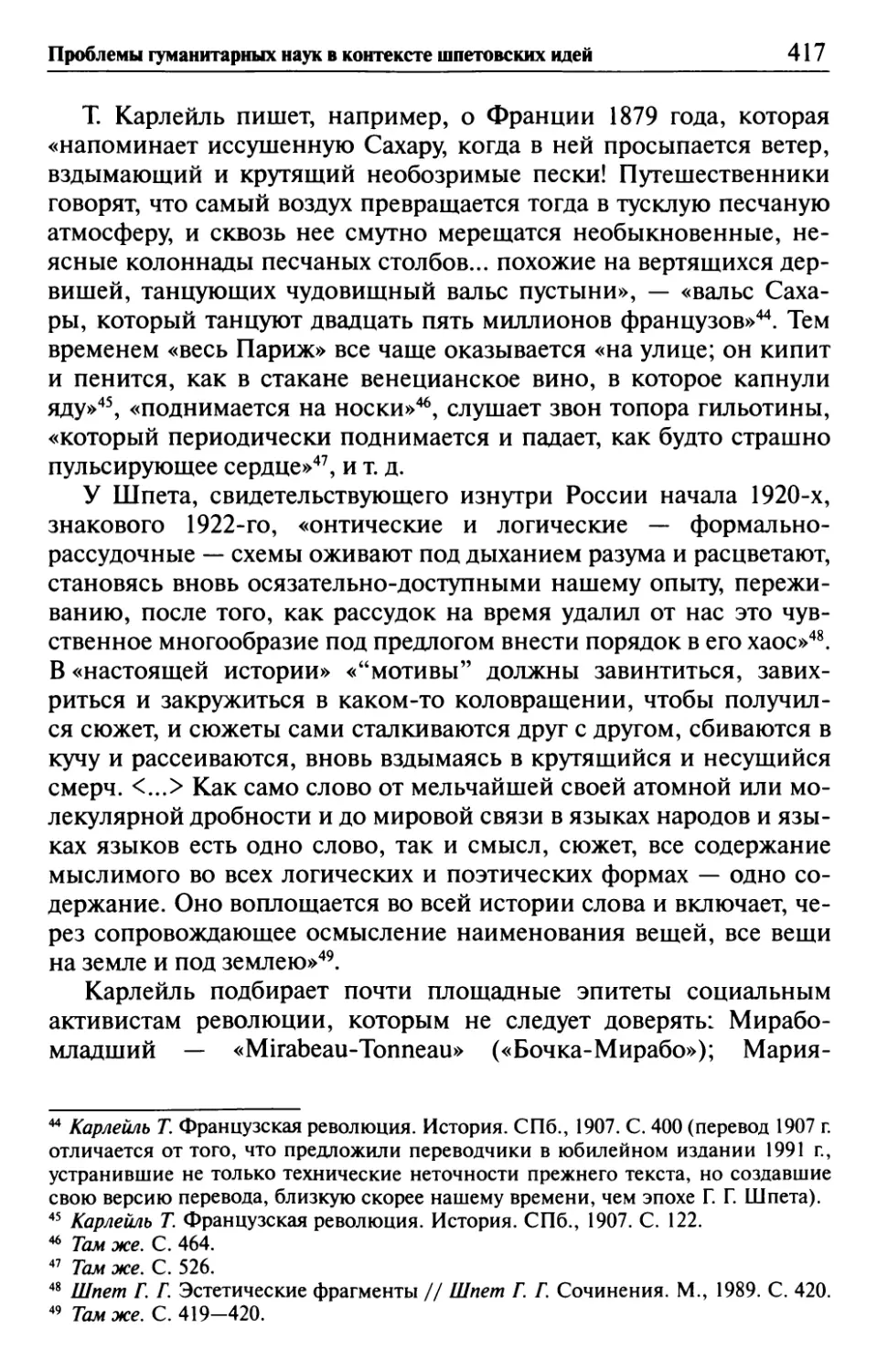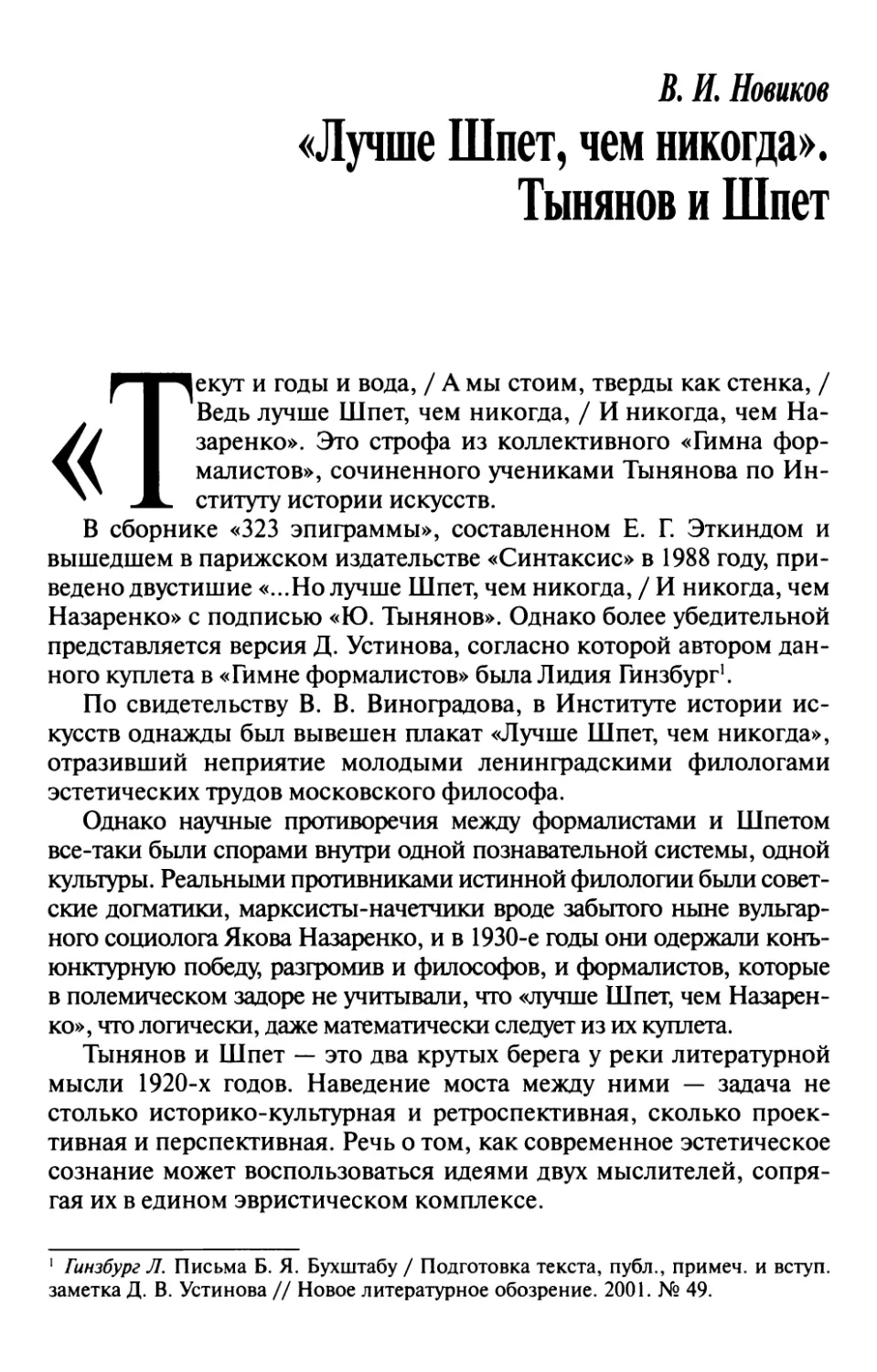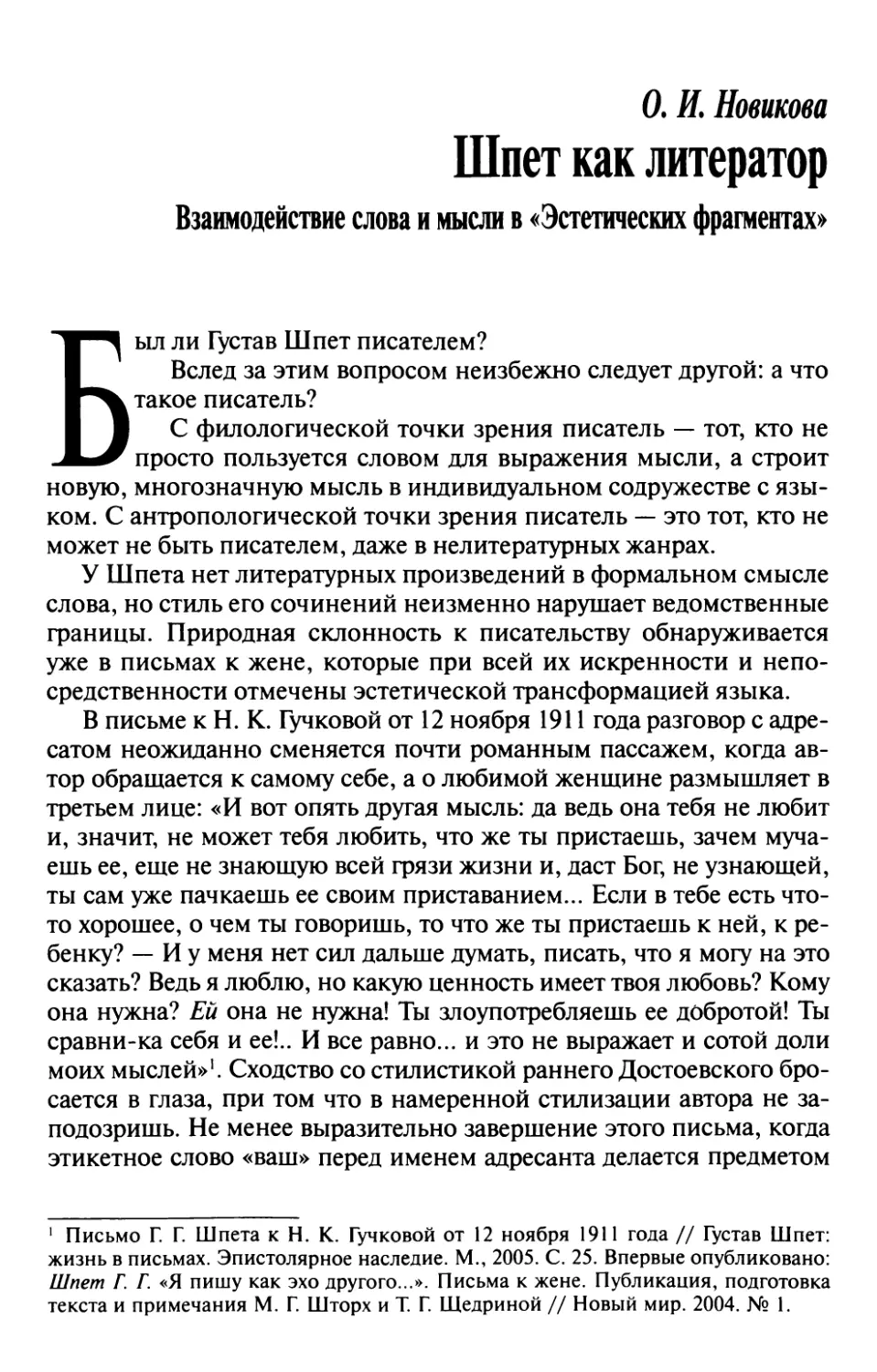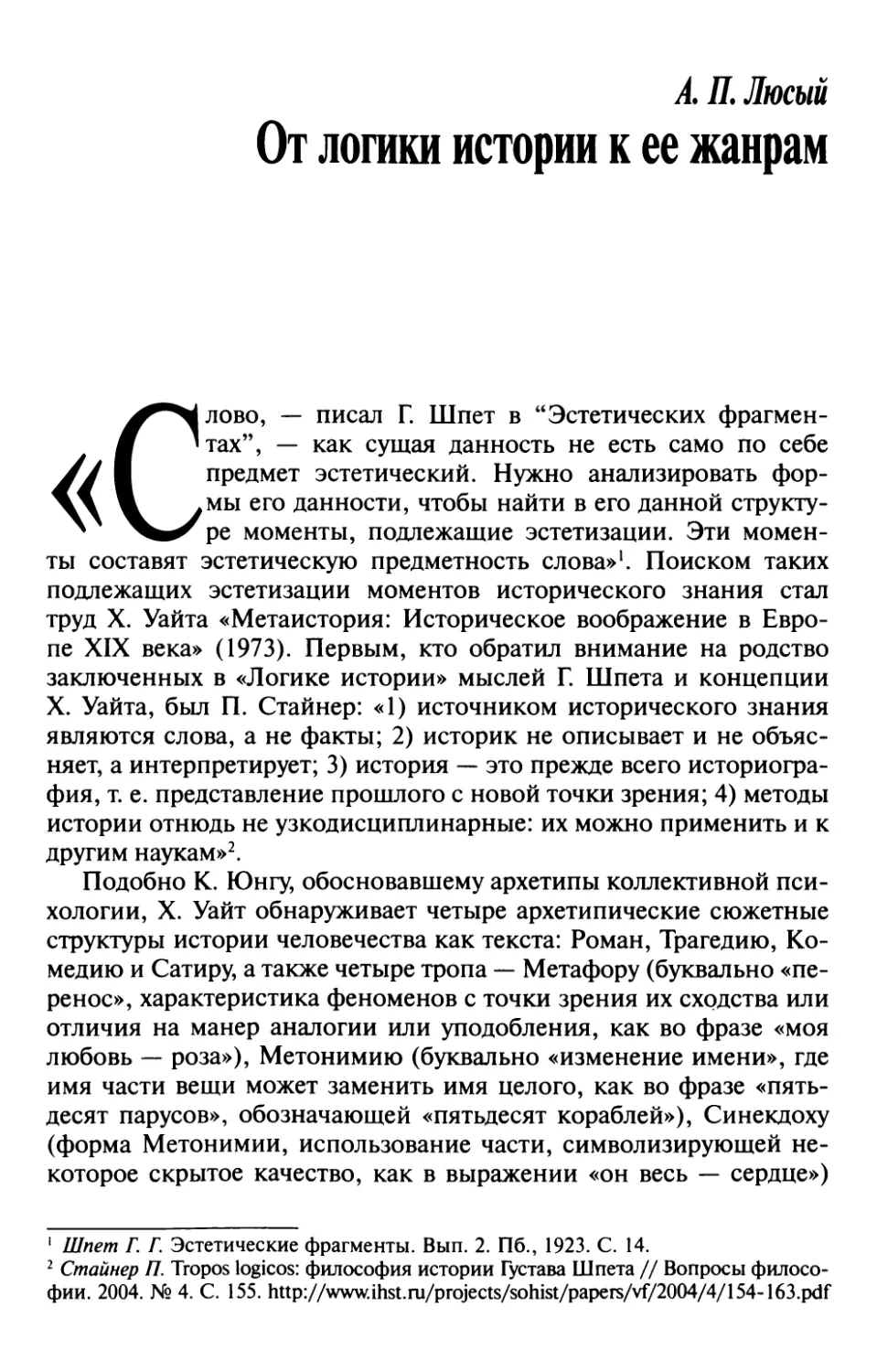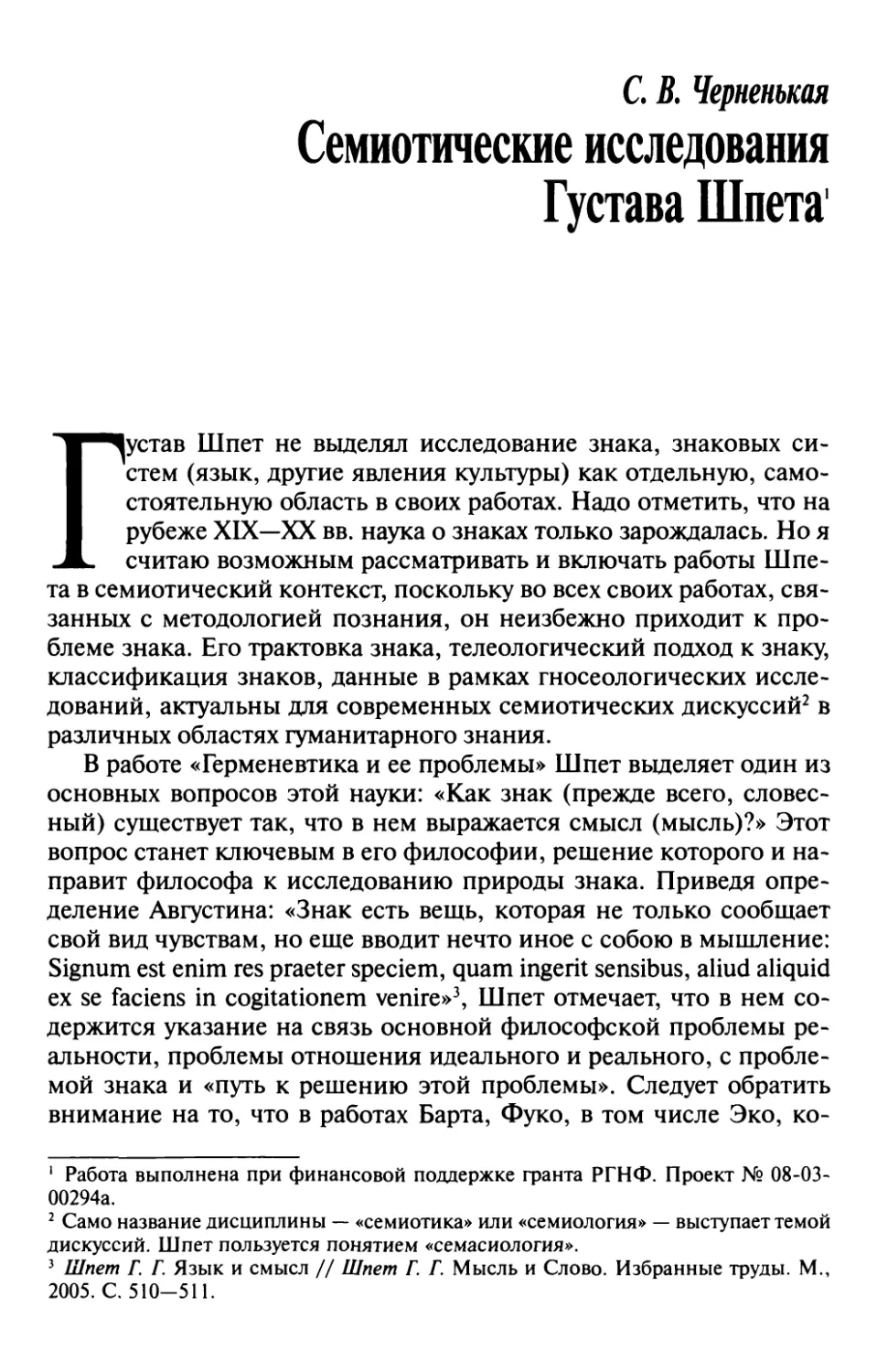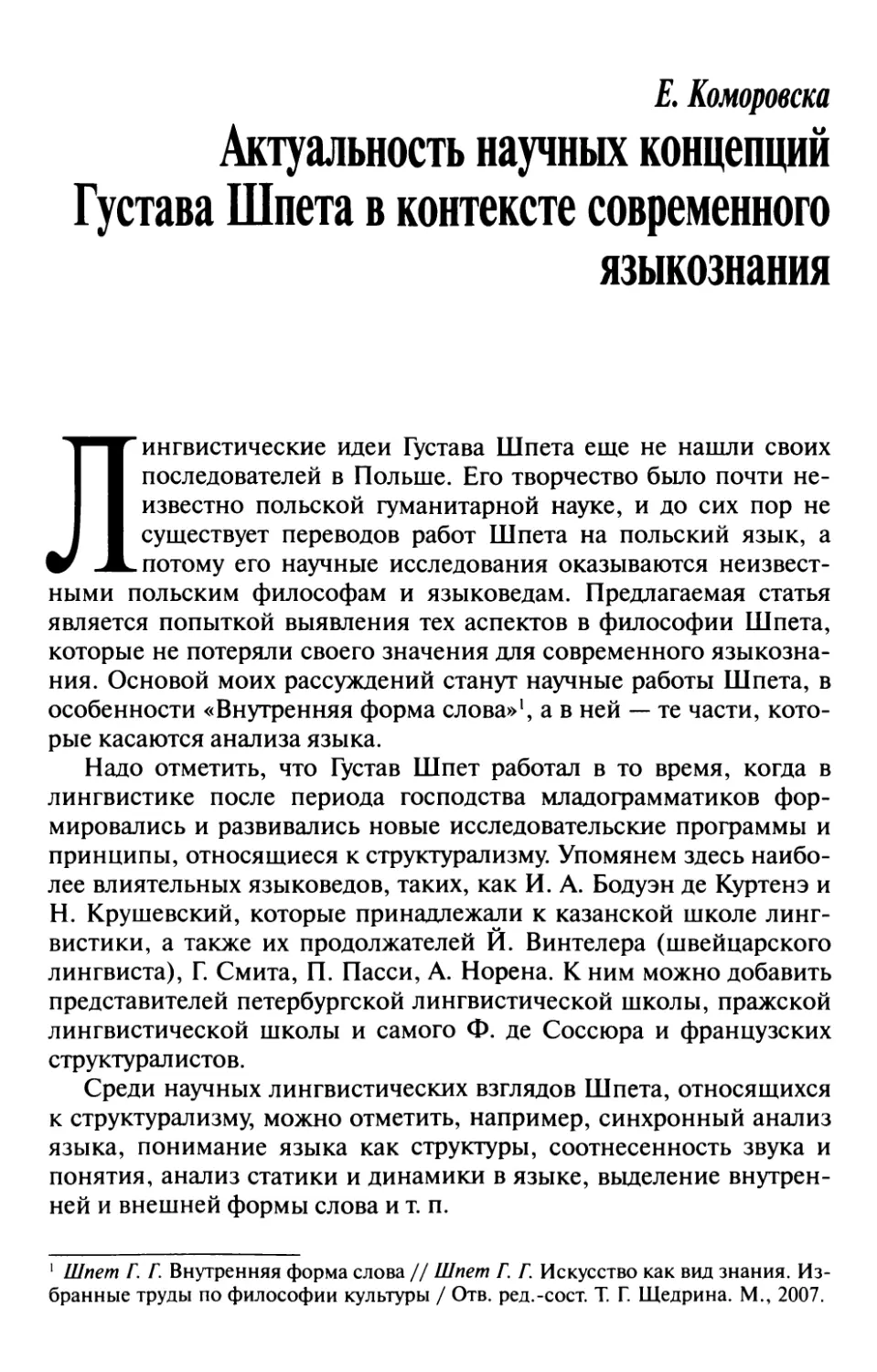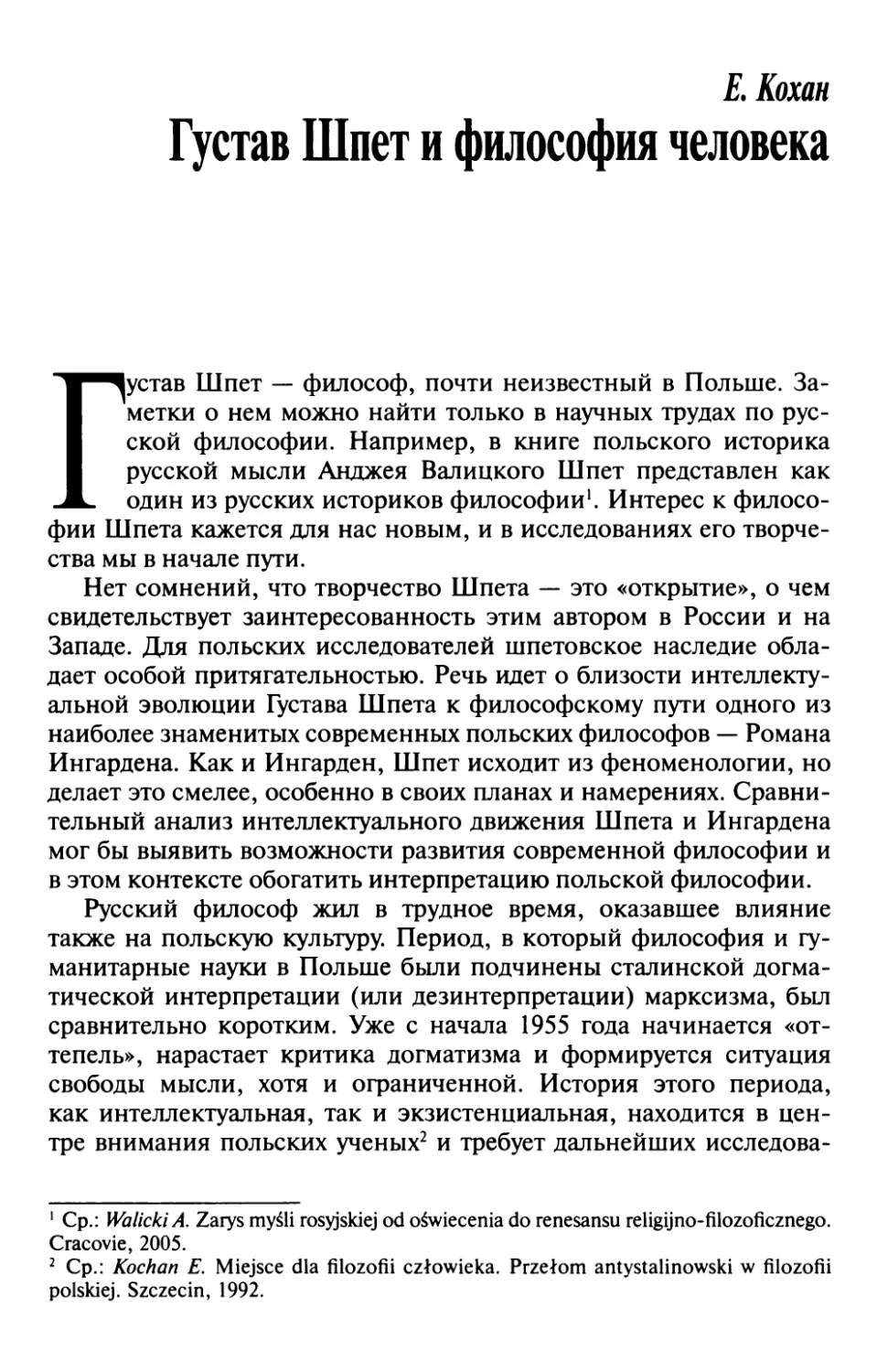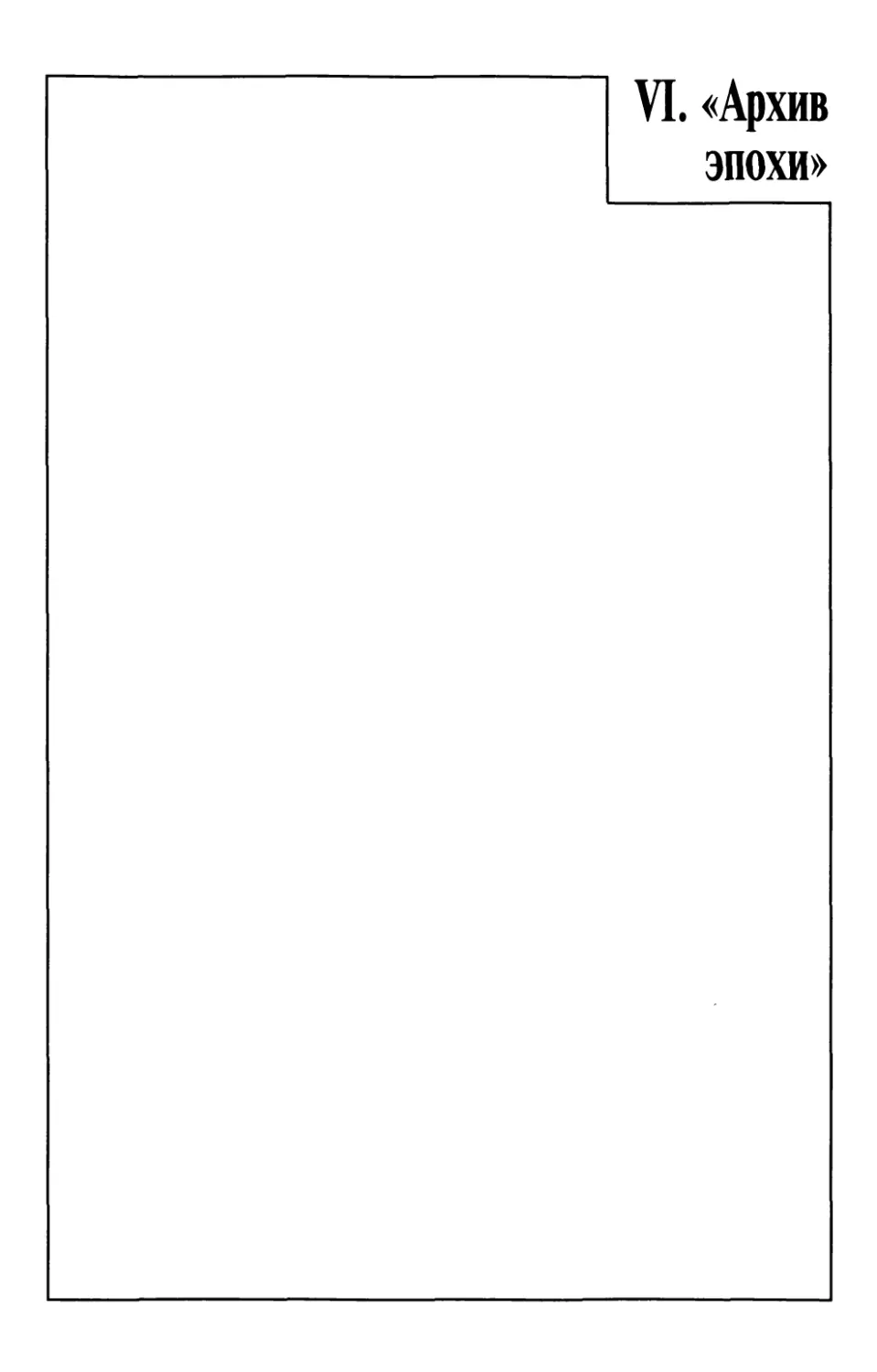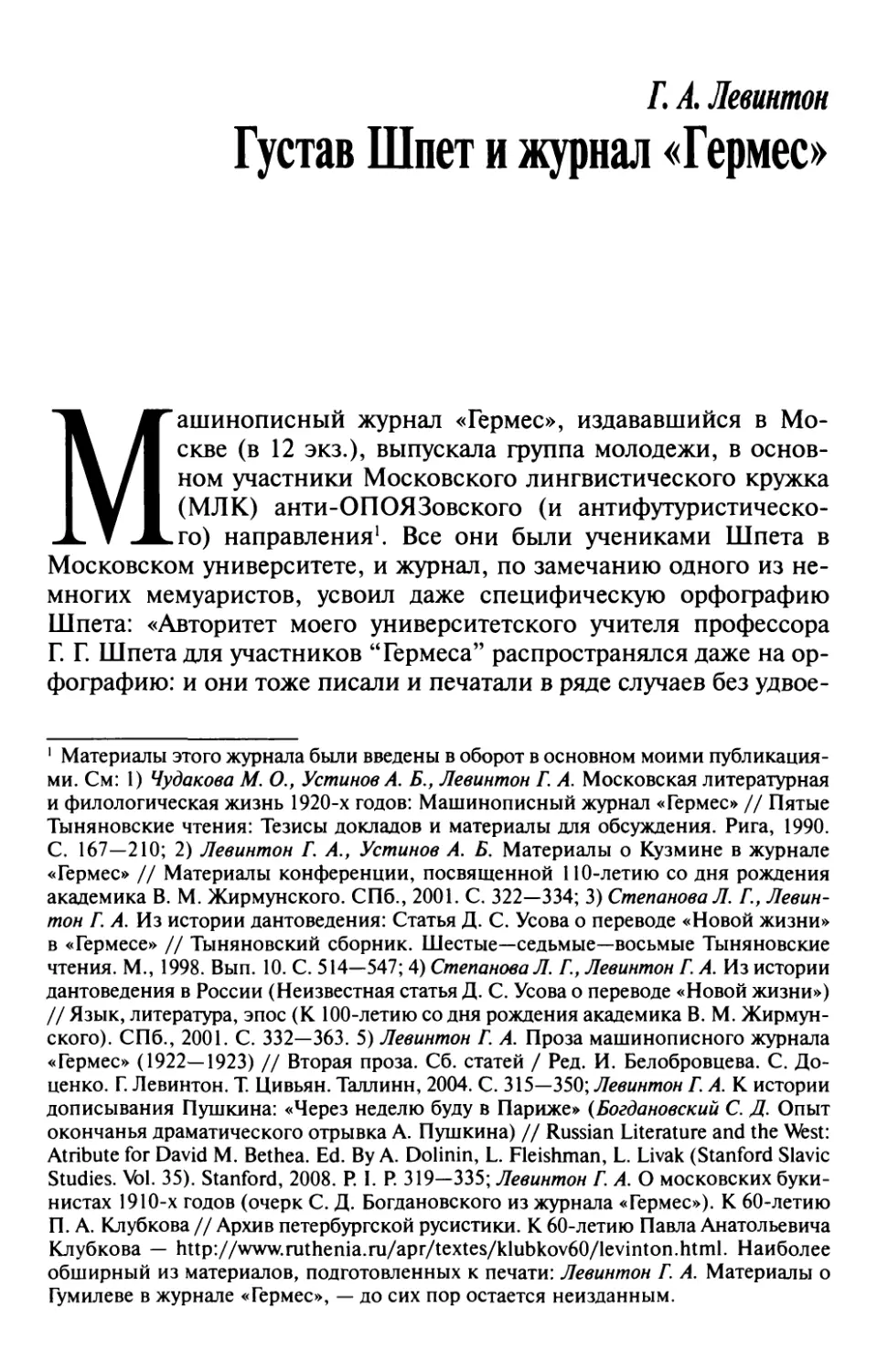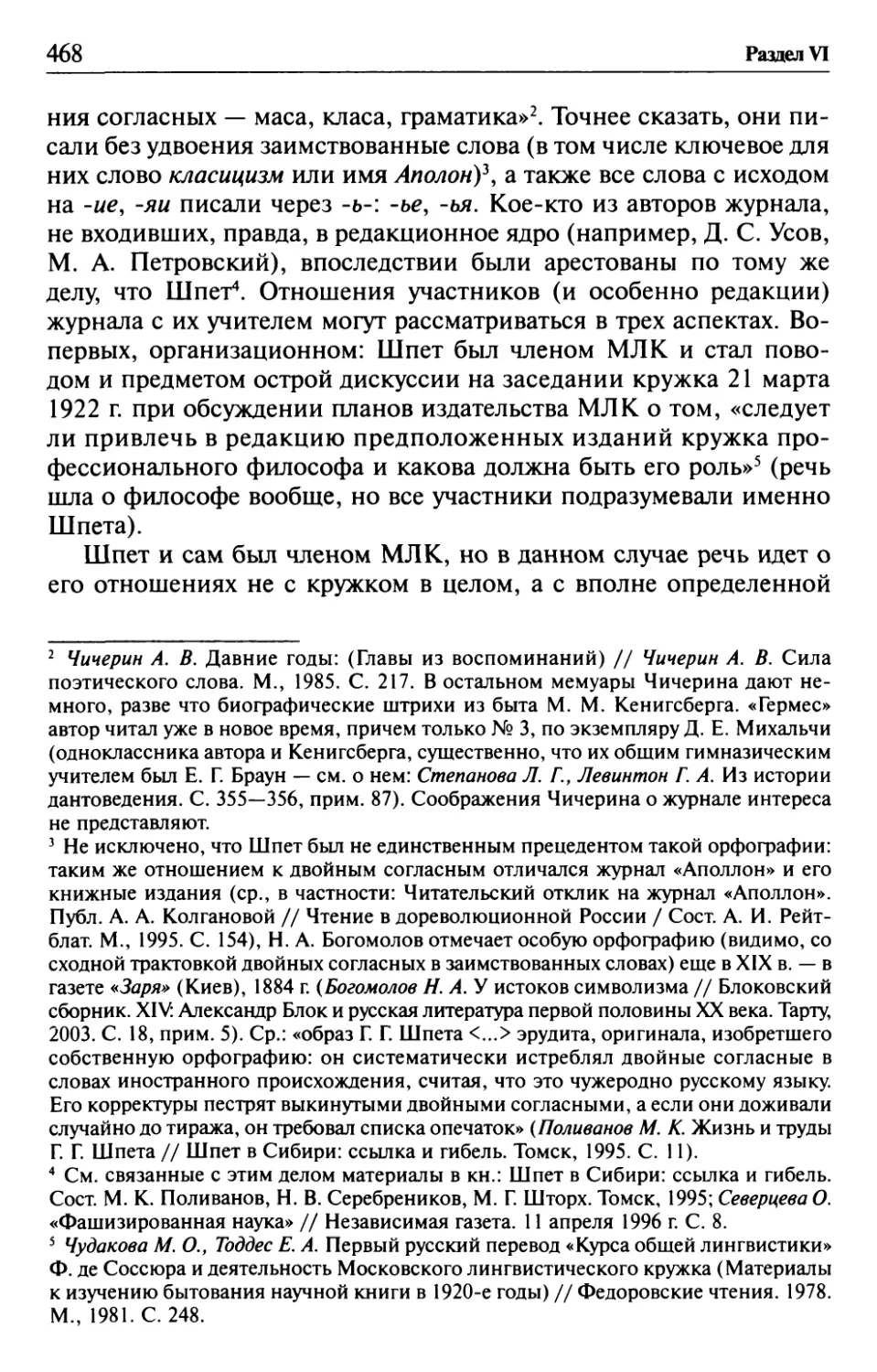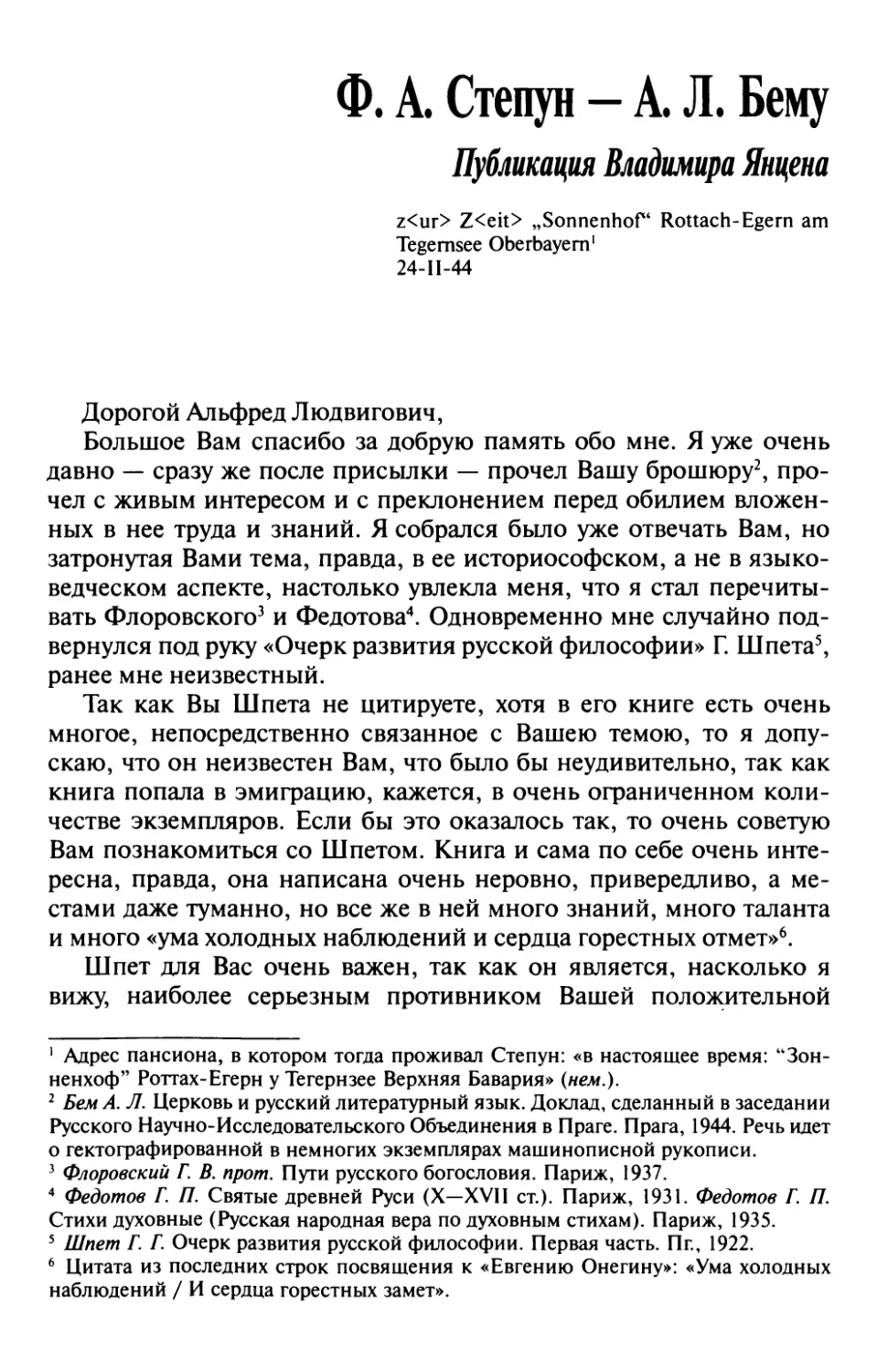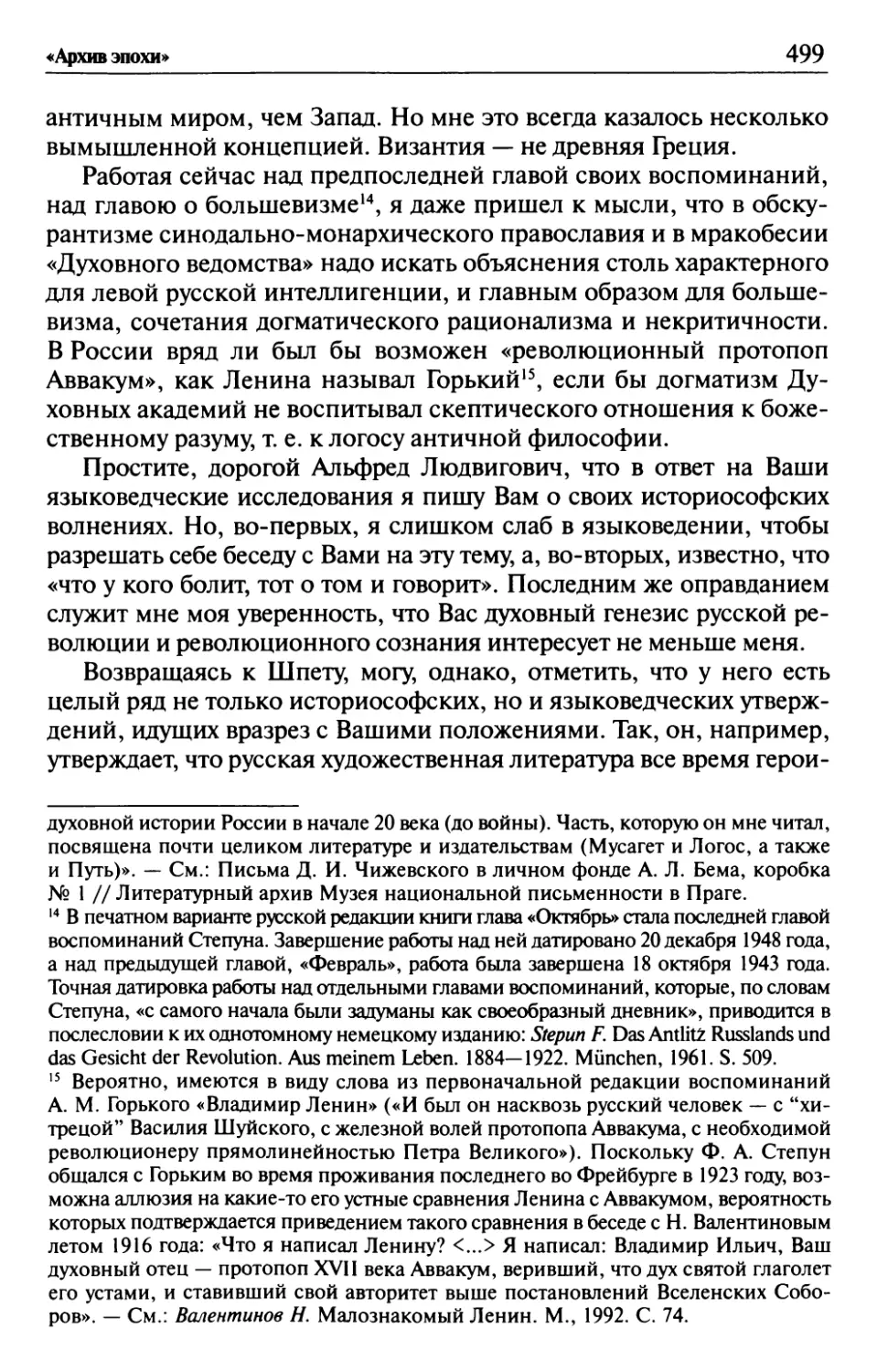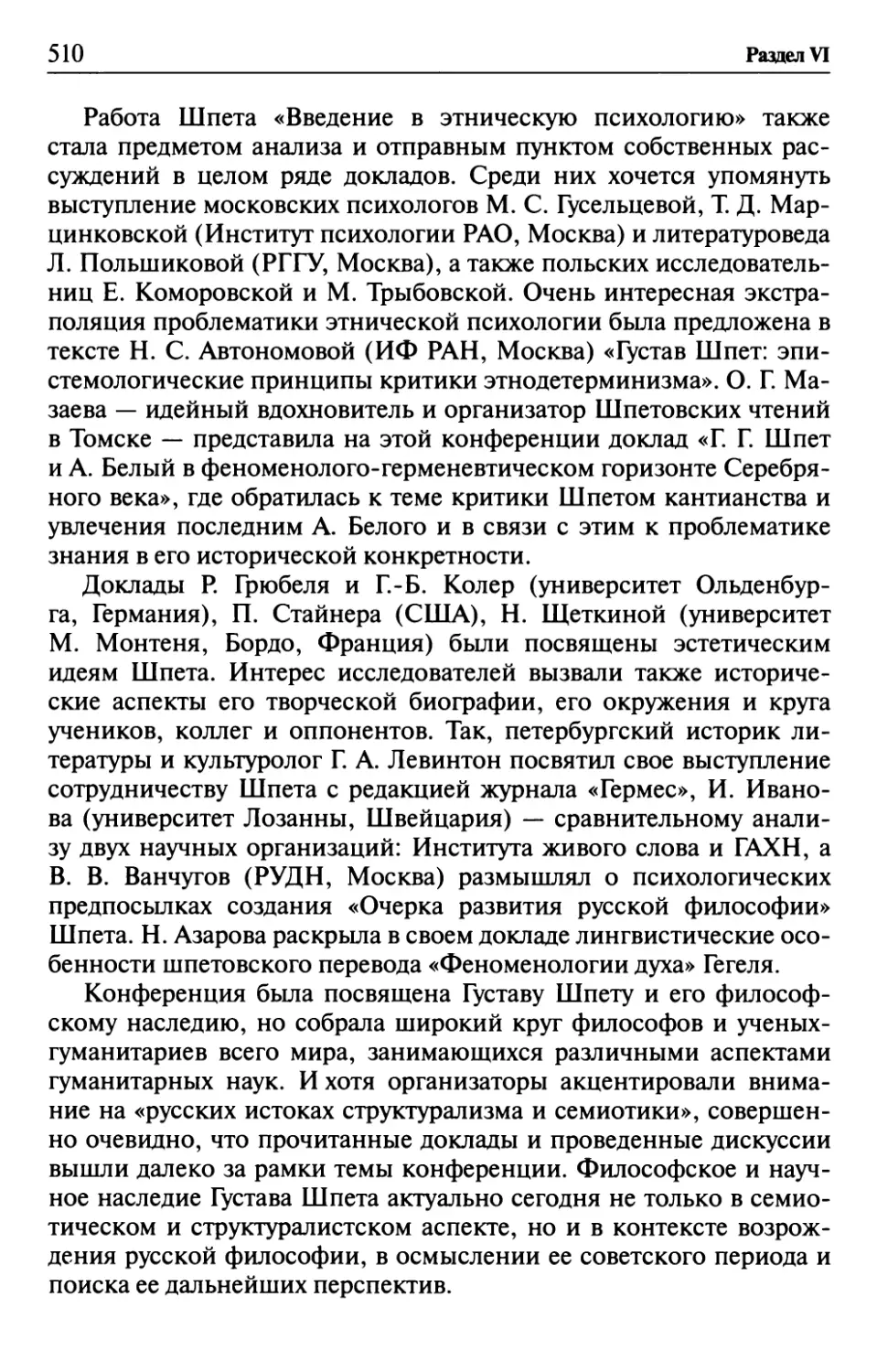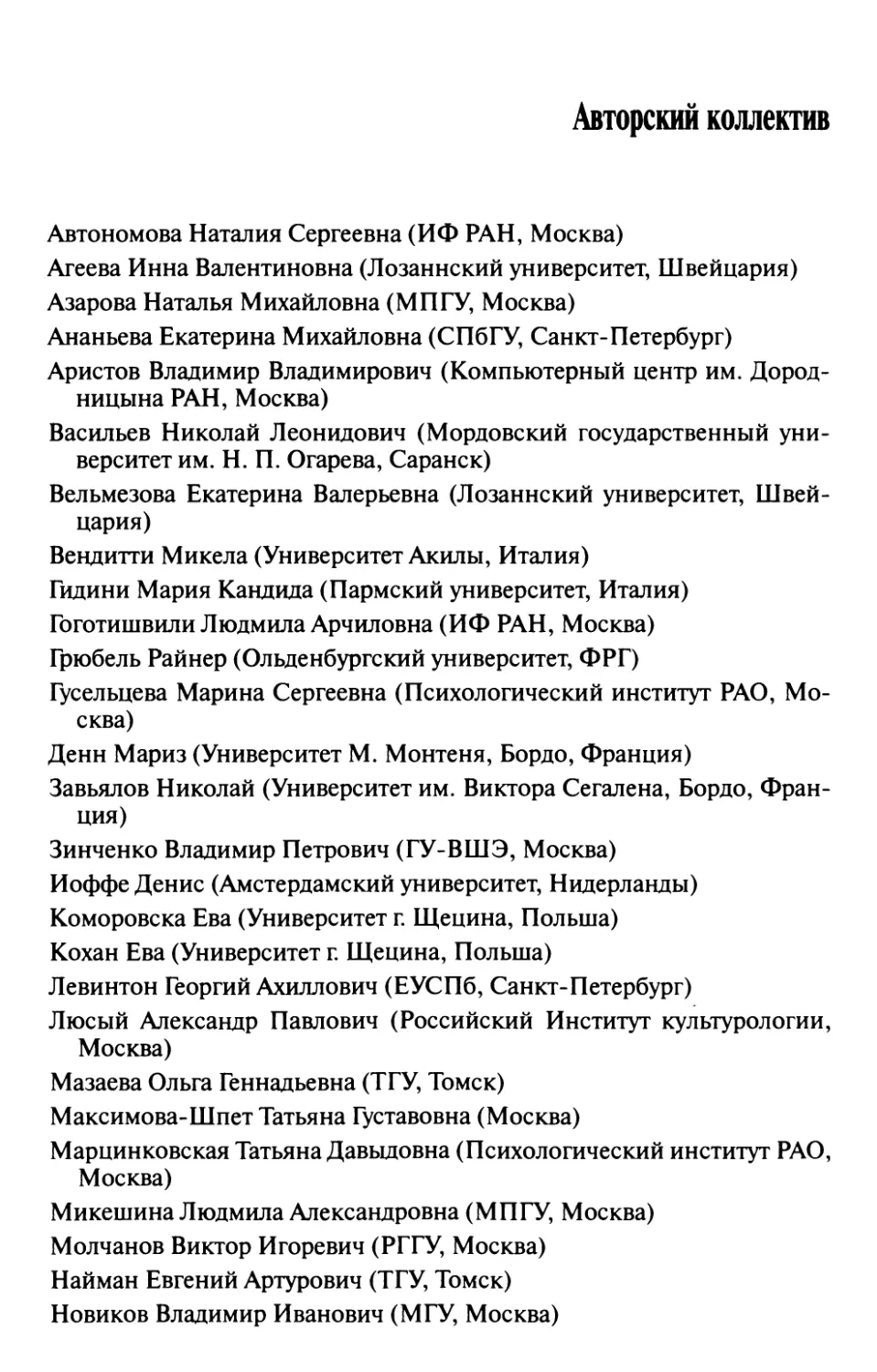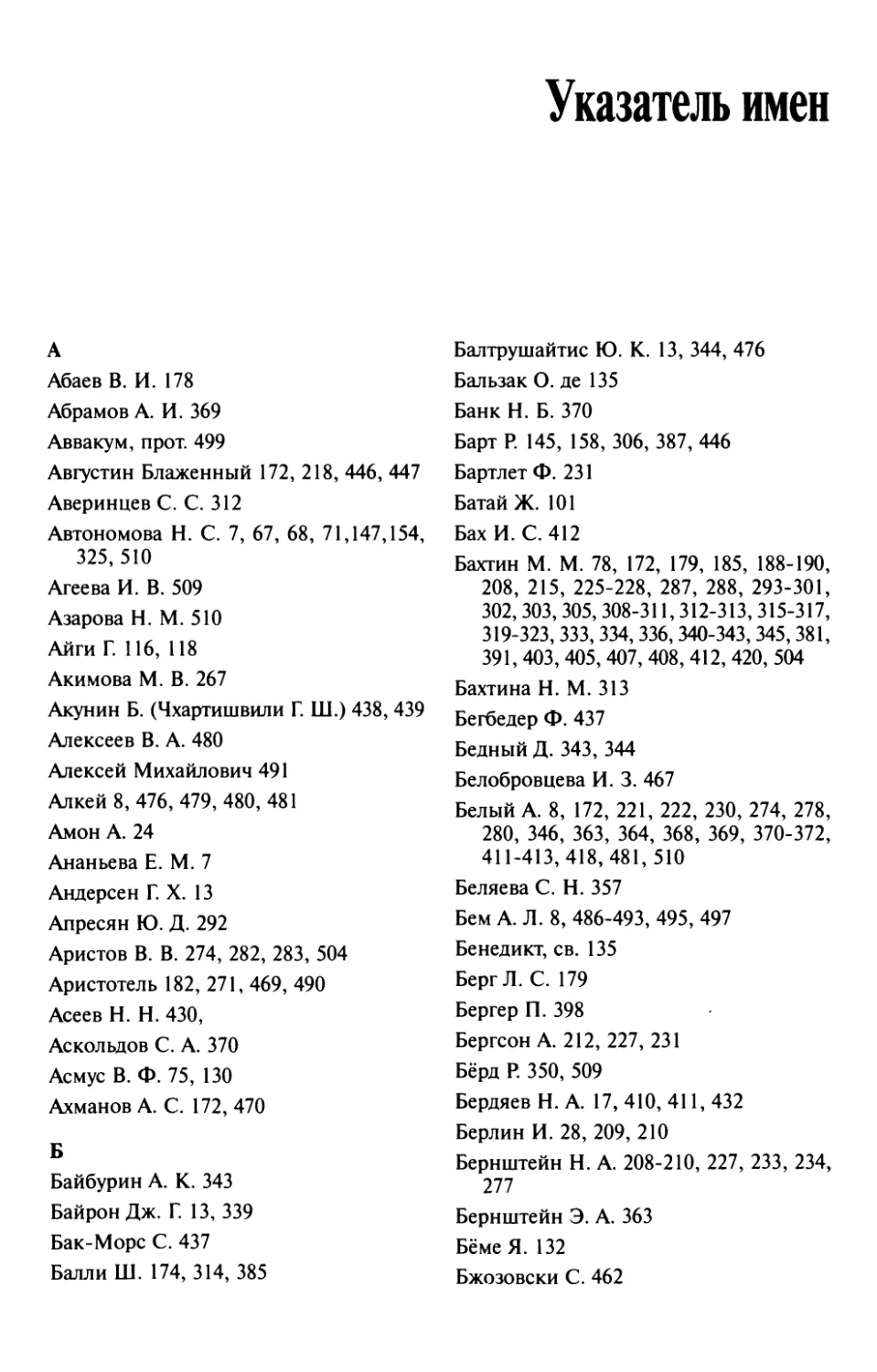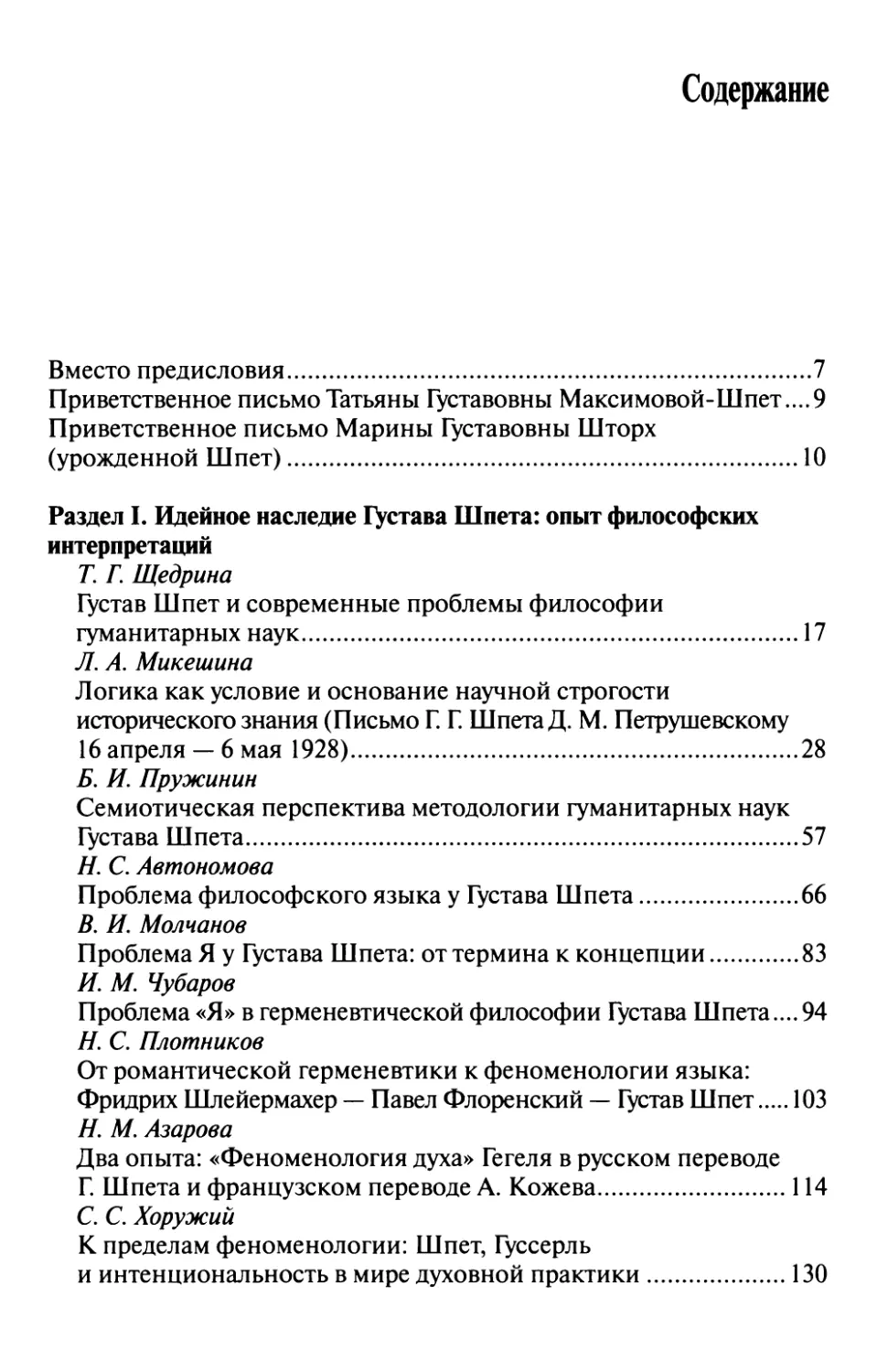Теги: философия духа метафизика духовной жизни философские науки философия
ISBN: 978-5-8243-1367-3
Год: 2010
Текст
Густав Шпет
и его философское
наследие
У истоков семиотики
и структурализма
( ι
Москва
РОССПЭН
2010
Редакционная коллегия тома:
М. Денн, В. А. Лекторский, Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина
Научный редактор Т. Г. Щедрина
Художник П. П. Ефремов
Густав Шпет и его философское наследие: у истоков
семиотики и структурализма : коллективная монография. — М. :
Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010. —
527 с. — (Humanitas).
ISBN 978-5-8243-1367-3
Коллективная монография является результатом и
продолжением работы Международной конференции (Бордо, 2007),
посвященной русскому философу начала XX века Густаву Густавовичу Шпету.
Специалисты в области философской эпистемологии, истории
философии, психологии, лингвистики, филологии рассмотрели идеи
Г. Г. Шпета и показали их актуальность для современной философии
и гуманитарных наук. Публикуемые архивные и мемуарные
материалы позволяют восстановить интеллектуальный вклад Шпета в
развитие философской и научной мысли.
Книга предназначена для философов, ученых-гуманитариев, а
также для всех интересующихся историей русской философии и
методологией гуманитарных наук.
ISBN 978-5-8243-1367-3
© Левит С. Я., составление серии, 2010
© Коллектив авторов, 2010
© Российская политическая
энциклопедия, 2010
К 130-летию
Густава Густавовича Шпета
Вместо предисловия
Эта книга, посвященная 130-летию Густава Шпета (7
апреля 2009 года), является результатом и продолжением работы
Международной конференции (Бордо, Франция, 2007),
проведенной в память о трагической кончине философа (16 ноября
1937 года). Однако тематика нашей коллективной монографии
далеко не ограничивается пределами понятия «сборник материалов».
Научные и философские идеи Шпета достаточно хорошо известны в
широких кругах философов и ученых-гуманитариев, но сегодня они
все чаще включаются в современные научные контексты, обретая в них
новое философско-методологическое звучание. Многочисленные
обращения к шпетовскому творчеству ведущих российских и зарубежных
философов, ученых, деятелей культуры — подтверждение
продуктивности его философских идей и методологических поисков.
В книге продолжается заданное докладами конференции
обсуждение семиотики и структурализма. И это не столько «ретро-интерес»,
сколько попытка их актуализации, позволяющая «увидеть нестыковки
внутри уже написанной истории познания»1. Выявление этих точек
интеллектуального напряжения в истории позволяет актуализировать
области знания, незаслуженно вытесненные на периферию научного
сознания современными философско-гуманитарными экспериментами
с хаосом, аффектами, эмоциями, энергиями. Возвращение к
структурализму и семиотике (в данном случае в шпетовском их варианте) для
современных ученых-гуманитариев - это продуктивный путь из
постмодернистских тупиков, выход к научности гуманитарного знания.
В основании книги - доклады участников конференции. Однако
редакторы-составители не стремились в точности воспроизвести
«пошаговую» структуру этого научного события2. Мы хотели представить
основные тематические линии современной философии и гуманитарной
науки, где идеи Шпета продуктивны. Поэтому круг авторов был расширен, а
формирование разделов осуществлялось по проблемному принципу.
В первом разделе, «Идейное наследие Шпета: опыт философских
интерпретаций», представлены работы авторов, рассматривающих
1 Лвтономова Н. С. Открытая структура: Якобсон — Бахтин - Лотман — Гаспаров.
М., 2009. С. 7.
2 Структуру конференции воспроизводит французский вариант книги: Gustave
Chpet et son héritage aux sources russes du structuralisme et de la sémiotique. M. Dennes
(éd) // Slavica occitania. 2008. № 26. См. также проблемный обзор конференции,
написанный Е. М. Ананьевой для журнала «Вопросы философии» (2008. № 8) и
воспроизведенный в настоящем издании.
8
Вместо предисловия
идеи Шпета в контексте направлений современной философии —
эпистемологии социальных и гуманитарных наук, феноменологии, синер-
гийной антропологии, герменевтики, философии филологии и, если
так можно выразиться, «философии стиля». Во втором разделе,
«Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом»,
обсуждается важнейшая проблема современной гуманитарной науки: как
возможно «истинное», «объективное» знание о действительности
социальной и культурно-исторической. Возвращение к шпетовской
трактовке структуры слова и выражения, рассмотрение его концептуальных
установок в контексте традиций «имяславия», «глубинной семиотики»,
идей Н. Марра, В. Шкловского, М. Мерло-Понти позволяют
сегодня содержательно обсуждать перспективы методологии гуманитарных
наук. В этом плане — в плане дискуссий о тенденциях методологии
гуманитарных наук - особое значение приобретает третий раздел,
содержащий размышления феноменологов, психологов, лингвистов,
литературоведов о наиболее продуктивном сегодня шпетовском
понятии «внутренняя форма слова». «Густав Шпет в русской
интеллектуальной "сфере разговора" начала XX века» — тема четвертого раздела.
«Собеседниками» Шпета — и в интеллектуальном, и в
экзистенциальном планах — здесь стали М. М. Бахтин, В. Н. Волошинов, А.
Белый, Ф. Степун, Б. В. Яковенко, а также сотрудники Государственной
академии художественных наук: Г. О. Винокур, А. Г. Габричевский,
А. А. Губер, Н. И. Жинкин, Б. В. Шапошников, А. Г. Цирес и др. В
пятом разделе обсуждаются попытки «перевода» идейного и языкового
слоя шпетовских произведений на язык современных гуманитарных
сфер знания: психологии, лингвистики, философской антропологии,
литературоведения. Наконец в разделе «Архив эпохи» представлены
интересные и актуальные сегодня рукописные находки - шпетов-
ские переводы Алкея, сделанные для журнала «Гермес» и вошедшие
в «Эстетические фрагменты», и отклик Ф. А. Степуна на шпетовский
«Очерк развития русской философии» в письме к А. Л. Бему.
Внутри всех разделов, как увидит читатель, со-существуют разные
позиции и мнения (иногда весьма спорные и уязвимые). Это
разнообразие, к примеру, выражается даже в разном написании термина
«я»: мы вполне сознательно оставили его в авторской редакции. Все
это, на наш взгляд, естественно для живой, развивающейся науки.
В общем контексте обсуждения эффективности идей Шпета эти
разные позиции помогают зафиксировать зачастую те точки, которые
выявляют проблемы и нуждаются в дальнейшем исследовании. Книга
открывает панораму современной философии и гуманитарной науки,
где Шпет оказывается нашим «заслуженным собеседником».
Коллектив, работавший над монографией, выражает особую
благодарность Ирине Олеговне Щедриной за участие в подготовке
рукописи к публикации.
Приветственное письмо
Татьяны Густавовны Максимовой-Шпет
Дорогие друзья,
Разрешите мне так называть тех, кто хранит вместе со мной
память о папе, кто находит время и силы, чтобы заниматься
исследованием его научного наследия, которое, к моей глубокой радости,
и сегодня остается важным для науки.
Я не являюсь специалистом ни в философии, ни в психологии
или лингвистике, поэтому не могу, к сожалению, профессионально
судить о его творчестве. Для меня огромная радость просто
сознавать, что память о папе жива не только для меня, но и для других
людей. Недаром считается, что человек жив до тех пор, пока жива
память о нем, живы его дела, его «вклады» в других — это его
духовное бессмертие.
Эта конференция убедительно доказывает, что его работа не
пропала даром, что рукописи действительно не горят, несмотря на
тяжелые времена, которые мы все пережили. После стольких лет
забвения, через 70 лет после трагической гибели папы,
расстрелянного 16 ноября 1937 года, оказывается, что его работы во многих
областях знания - философии, психологии, лингвистике,
эстетике — привлекают ученых разных стран. Действительно, наука не
знает границ, а открытия, совершенные учеными, говорящими на
разных языках, переплетаются и обогащают друг друга. Папа,
который владел 17 языками, всегда подчеркивал важность соединения
разных источников знаний, теорий, разработанных в различных
государствах, и, как вы знаете, его работы в области языка
показывают, что наука и язык взаимно влияют и обогащают друг друга.
Отраден не только межкультурный диалог, который
стимулирован творчеством папы, но и участие в конференции специалистов
в разных областях, так как папа всегда писал и говорил о важности
межпредметных, междисциплинарных связей, которые открывают
новые горизонты перед наукой и перед искусством, которое для
папы и для всей нашей семьи имело и имеет огромное значение.
Желаю вам дальнейших успехов в вашей творческой
деятельности, счастья и процветания.
Татьяна Густавовна Максимова-Шпет
Приветственное письмо
Марины Густавовны Шторх
(урожденной Шпет)
Дорогие коллеги, мне очень жаль, что я лично не присутствую
сегодня среди вас. Во всяком случае, я очень благодарна всем
присутствующим, а в особенности организаторам этой конференции,
за память и интерес к работам моего отца. Сердечно благодарю вас
за это. Сами понимаете, что никакого доклада у меня быть не
может. Я не ученый и в научных вопросах не очень разбираюсь,
поэтому я хотела просто рассказать немного о своем отце, имя которого
восстанавливается из пепла. Я много работала в архивах, поэтому
могу кое-что прояснить из многочисленных легенд о нем.
Прежде всего хочу уточнить две вещи. 1) До сих пор путают дату
смерти Шпета (он расстрелян 16 ноября 1937 года в Томске, а не
умер в 1940 году, как прислали в первом свидетельстве о смерти).
Его никуда после ареста 27 октября из Томска не увозили. Но
известно нам это стало только в 1989 году. 2) Хочу также уточнить
путаницу с его происхождением и фамилией. Фамилия его Шпет, и
большинство людей, и русских и иностранцев, думают, что эта
фамилия — немецкого происхождения. Нет, она славянского
происхождения. Мать его была настоящая полька, родилась под
Краковом. Шпет с матерью жил в Киеве, окончил Киевский университет,
а потом уехал в Москву. Он сам считал себя русским, хотя
прекрасно знал и польский и украинский язык и очень их любил и ценил.
А доказательством его польского (славянского происхождения)
служит запись у Даля: «Шпетить — корить обиняками, колоть
намеками», что, кстати, очень типично для папиного характера, и
приведена цитата из Державина: «Он при всех не устыдился меня шпетить».
Биография его еще не написана по-настоящему. Первую
попытку сделал его старший внук М. К. Поливанов, ныне покойный. Это
была попытка, сделанная им по рассказам друзей и учеников
Шпета. Сам он видел деда только в четырехлетнем возрасте.
Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет) 11
Детство Шпета было достаточно тяжелое, отец его не известен.
Он воспитывался своей матерью, женщиной очень интересной,
твердой, всеми уважаемой. Ей много раз предлагали мужчины
сердце и руку и предлагали усыновить ребенка, но она гордо
отказывалась от всего, пока дело не дошло до университета, так как
оказалось, что в университет он поступить не может. А она всегда
настаивала на самом лучшем образовании, поэтому и отдала его в
классическую гимназию. Родные также предлагали ей усыновить
ребенка, и вот, когда надо было поступать в университет, она
согласилась, и мальчика усыновил старший брат его матери.
Сегодня мы собрались через семьдесят лет, как его не стало, и
я бы хотела вот что рассказать. После того как мы узнали
приговор Шпета: «десять лет без права переписки», мы долго больше
ничего не могли узнать о нем. Впервые точные данные о его судьбе
мы узнали только в 1989 году, после раскрытия наших, так сказать,
«тайных» архивов. Мы с моим племянником М. К. Поливановым
поехали в Томск, присутствовали при открытии мемориальной
доски, установленной на доме, где он жил в ссылке. На заседаниях
Вольного гуманитарного семинара, посвященного памяти отца, с
докладом выступали М. К. Поливанов и томичи, которые
оказались очень неплохо знакомыми с творчеством Шпета, хотя,
конечно, односторонне, так как в то время каждая его книжка была
редкостью.
На следующий день мы пошли в КГБ, получили все документы
архивные и тщательно их переписали. Читали прямо в
оригинале. В общем, стало ясно, что дела никакого не было, все было
выдумано, подписи все (в том числе и Шпета) были фальшивыми на
бумагах. Да и современные сотрудники органов КГБ этого не
отрицали. И тут в Томске, где мы встретили удивительно теплый и
понимающий прием, было постановлено выпустить книгу о
пребывании Шпета в Сибири и систематически проводить Шпетов-
ские чтения. К сожалению, мой племянник умер, не дождавшись
выхода книги «Шпет в Сибири: ссылка и гибель». Я, собственно,
тогда поняла, что я должна продолжить начатое им дело, и
занялась архивами. Разбирала что могла, тем более что посторонний
человек не может его разобрать, надо привыкнуть. Я думала, что
авось найдется человек, который заинтересуется, захочет сделать
что-то большее о Шпете. Хотя исследователи (в частности Митю-
шин) уже к тому времени кое-что сделали. Они работали в архиве
ОР РГБ, куда наша семья сдала почти все его рукописи. Отдельные
исследования проводились за границей, проводились
конференции. Я занялась разбором рукописей домашнего архива и руко-
12 Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет)
писей, хранящихся в ОР РГБ. Дело в том, что в библиотеку были
сданы более-менее атрибутированные рукописи. А дома мы все эти
годы каждый листок с папиным почерком складывали в сундучок,
и этих разрозненных черновиков оказалось очень много. И среди
них были отрывки каких-то статей и планов его книг и еще кое-
что. Это, конечно, требовало огромной работы, и мне это было
не под силу. Неожиданно появилась молодая исследовательница
Т. Г. Щедрина, увлеклась Шпетом и достигла в расшифровке
рукописей таких высот, каких мне и не снилось. Она может разобрать
любой черновой листок, где почерк во сто раз хуже, чем его
обычный. А это тем более важно, потому что, к сожалению,
большинство его работ не окончены. Это относится и к «Внутренней форме
слова», и к «Истории как проблеме логики», и к «Очерку развития
русской философии».
После разгрома ГАХНа, где отец работал, он имел возможность
заниматься философией, поскольку университет уже был для него
закрыт. После 1929 года ему запретили заниматься философией
вообще, разрешили только — художественными переводами, так как
он знал почти все европейские языки.
С раннего детства я помню закрытую дверь в кабинет папы и
слова мамы: «Тише, громко не говорите, мешаете папе работать» —
это днем. Утром мы слышим те же слова, только вместо работы —
«Папа спит». Действительно, больше всего я помню папу за
письменным столом. Он работал ночью и поздно вставал.
Мы, во всяком случае я, побаивались папы. Хотя он никогда на
нас не кричал и, как мне казалось, мало занимался нашим
воспитанием. Но потом я поняла, что это было не так. Папа не вмешивался
ни в какие мелочи быта и нашей жизни, но умел одним словом или
насмешкой поставить все на место, одобрял или нет, интересовался
нашими друзьями, чтением. Часто не прямо, а через маму. Когда я
немного подросла, то любое слово папы имело большое значение
для меня. Уж спорить с ним никогда не приходило в голову.
Помню, как мучительно было подходить к телефону, когда
звонили ему. Папа требовал, чтобы все всегда спрашивали: «А кто его
просит, я сейчас узнаю, дома ли он», потом провинившимся
голосом говорить, что, оказывается, он ушел.
Но если нам нужна была какая-нибудь книжка или не
получалась задачка, к папе всегда можно было обратиться, и он с
удовольствием помогал. Иногда даже «слишком». Например,
попросишь книжку по какому-нибудь вопросу, а он даст несколько книг.
Конечно, это относилось уже к старшим классам. Хорошо помню,
как он нам всем, включая маму, читал «Евгения Онегина», коммен-
Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет) 13
тируя почти каждое слово. Это было очень интересно, хотя к
этому времени мы много раз читали и многое знали наизусть, но все
равно было очень интересно. Читал папа и свои собственные
переводы Байрона и Шекспира. Папа очень хорошо читал стихи и не
любил актерского чтения.
В своем кабинете папа не позволял ничего трогать и
переставлять, особенно на письменном столе, который был завален
всякими бумагами и отдельными листочками. На письменном столе
стояли бюст Платона (посередине), Данте, бронзовый кабан (копия
флорентийского кабана, описанного у Андерсена в одноименной
сказке), несколько фотографий старших сестер в рамках, большая
фотография мамы с новорожденным Сережей, а наши кое-какие
без рамок. Под толщенным стеклом формата открытки лежала
фотография Гуссерля с дарственной надписью, несколько пепельниц,
маленькая старинная чернильница, которой папа не пользовался,
и стаканчик с ручками и карандашами. Тогда уже появились
самописки с золотым пером, которыми снабжал папу его друг Юргис
Балтрушайтис.
У папы были удивительно красивые руки, легкая походка и
невыразительные черты лица, но это почти не замечалось за
необыкновенной подвижностью лица. Казалось, двигался каждый
мельчайший мускул, да еще выразительный, глубокий взгляд. Также
почти непрерывно менялось выражение лица - от очень
серьезного до веселого и даже хитроватого. А шутил папа очень много, и не
всегда сразу угадаешь, шутка это или нет.
В первую зиму его ссылки я жила с отцом в Сибири. Для меня
особенно ценно и важно то отношение, которое появилось между
нами в этот период. Правда, большая часть наших разговоров
бывала в иронических и шутливых тонах, но это была чисто внешняя
форма, нам так было легче сказать что-нибудь и очень серьезное и
глубокое. Только позднее я поняла, что была недостаточно
открыта с отцом в то время, и очень об этом сожалею. И ему, по-моему,
тоже не хватало моей открытости. Как-то в ссылке отец сказал мне:
«Я столько переводил, я столько занимался Шекспиром. Скоро уже
кончается эта работа, и я начну получать за нее гонорары. Я так
надеялся, что я смогу вернуться к моим старым философским
работам, закончить их. Тем более что для этой работы мне даже не надо
книг. У меня все в голове». Сейчас все его работы публикуются,
незаконченные — восстанавливаются по его собственным записям.
Ведь многие его «вторые части» выходили отдельными выпусками
или остались в архиве в виде подготовленных к публикации
материалов. Но кое-что было совершенно в разрозненном виде.
14 Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх (урожденной Шпет)
Постепенно имя Шпета стало выходить из небытия, и это
происходило благодаря тем людям, которые им интересуются. Мне
удалось расшифровать письма, которые были напечатаны в
«Началах», в книге «Шпет в Сибири» и др. Увлекшись работой с
рукописями и в архивах, мы с Татьяной Щедриной ездили в Киев, в
Петербург, изучали там некоторые рукописи отца, к сожалению, в
недостаточном объеме. Сейчас здоровье (главным образом плохое
зрение) не позволяет мне заниматься полюбившимся делом, о чем
я очень сожалею, потому что я очень увлеклась этой работой,
поняла ее интерес и значение. Я сожалею, что занималась этим не всю
жизнь. Эта работа может продолжаться. Эта работа еще на многие-
многие годы. А сейчас Татьяна одна продолжает эту работу.
Я еще раз благодарю всех присутствующих и отсутствующих
исследователей творчества Шпета, очень сожалею, что я не с вами, и
надеюсь, что со временем его имя зазвучит во весь голос.
Марина Густавовна Шторх
(урожденная Шпет)
I. Идейное наследие
Густава Шпета:
опыт философских
интерпретаций
Т. Г. Щедрина
Густав Шпет и современные проблемы
философии гуманитарных наук
Размышляя о возможных подходах к истории философии,
Карл Ясперс заметил, что «в знании о прошлом <...>
заключается новая философская современность.
Фактически — это некая основная философская форма
изначального философствования — понимать и делать очевидным
во взаимосвязи с традицией, в изучении старых текстов то, что,
таясь в глубине, движет настоящее»2. Мысль Ясперса можно
считать своего рода лейтмотивом этой работы. И прежде всего потому,
что проблемный комплекс русской философии конца XIX—начала
XX в. сегодня переживает новый всплеск интереса со стороны
философов и ученых-гуманитариев. Но в отличие от научной и
социокультурной ситуации 90-х гг. XX в., когда в книгах и рукописях
Бердяева, Франка, Лосского, Флоренского и др. искали ответ на
свои социальные и политические вопросы, пытались обнаружить
там принципиальные основания для «новой русской идеи»,
сегодняшний интерес смещается в несколько иную плоскость.
Дело в том, что в то время нам были нужны скорее
императивы, полезные «моральные подсказки», поэтому исследования по
истории русской философии, по сути, имели прикладной характер.
Между тем мы долгое время оставляли в стороне вопрос об
исторической преемственности русской философии (как целостному
феномену, т. е. не выбрасывая за борт ни один из ее периодов и ни
одного из ее представителей). Именно вопрос о традиции русской
философии — фундаментальный по своей сути — составляет
сегодня ядро поиска современных исследователей. Сегодня мы уже
' Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 08-03-
00294а.
2 Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб., 2000. С. 97.
18
Раздел I
в полной мере осознаем, что для творческого продолжения
русской философской традиции необходимо не «поспешное
утоление духовного голода»3, но, как считает П. П. Гайденко,
«проблемный анализ творчества русских мыслителей, <...> который мог бы
дать нам ключ к решению сегодняшних вопросов, возникающих в
сфере онтологии, теории познания, логики, философии науки,
социологии и психологии»4. Проблемный подход предполагает, что
содержательное единство философской традиции заключается не
в концептуальной однородности, но в особом способе
рассмотрения философской действительности — в ее целостности и полноте.
Конструирование какой-либо одной магистральной линии ведет к
утере многообразия русской философии. Если мы сегодня идем по
этому пути, то именно наше движение и есть наша историческая
преемственность русской традиции — традиции «положительной
философии».
Наиболее четко эту традицию сформулировал Густав Густавович
Шпет — «русский европеец», «философ-рационалист». Шпет
определял положительную философию как «единое, внутренно
связанное, цельное и конкретное знание о действительности». Он писал:
«Возьмем только наше и самое ближайшее: кто станет отрицать,
что философские учения П. Юркевича, Вл. Соловьева, кн. С.
Трубецкого, Л. Лопатина входят именно в традицию положительной
философии, идущую, как я указывал, от Платона? И мы видим, что
Юркевич понимал философию как полное и целостное знание, —
философия для него, как целостное мировоззрение, — дело не
человека, а человечества; Соловьев начинает с критики отвлеченной
философии и уже в "Философских началах цельного знания" дает
настоящую конкретно-историческую философию; кн. Трубецкой
называет свое учение "конкретным идеализмом"; система
Лопатина есть "система конкретного спиритуализма"...»5.
Преемственность традиции положительной философии просматривается при
анализе общих философских принципов Шпета, которые
выражаются в характере постановки трех основных проблем: 1) проблемы
смысла и соответствующего акта постижения смысла; 2) проблемы
социального, исторически данного бытия как проблемы культуры;
3) проблемы логики как науки о слове. Каждая из этих проблем
получает развитие, как в его опубликованных трудах, так и в архиве.
3 Янцен В. В. Письма русских мыслителей в базельском архиве Фрица Либа.
С. 229.
4 Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М, 2002. С. 12.
5 Шпет Г. Г. Философия и история // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М, 2005. С. 199.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 19
Интерес к идеям Шпета в широких кругах современных
философов и ученых-гуманитариев есть показатель того, что мы, наконец,
действительно восстанавливаем преемственность русской
философской традиции.
Актуальность философского опыта Шпета связана с тем, что в
нем соединялись вещи, казалось бы, не очень совместимые.
Творческий философский поиск Шпета — целостное единство
экзистенциальных устремлений и научно-философского профессионализма;
западной логической культуры и удивительной, внешне
неуловимой интонации русского философского опыта мышления,
выраженной во внутреннем мире разговора, в личном общении русских
философов и ученых. Поэтому ключ к современному разговору с
Густавом Шпетом — в проблемной интерпретации не только
опубликованных им самим работ, но и его рукописного наследия. Здесь мы
вступаем в область архива, что значительно расширяет
направленность исследовательского поиска. Именно архивные,
дополнительные на первый взгляд, материалы могут стать существенными при
интерпретации его философских идей. Дело в том, что в этих
материалах находит свое рациональное выражение вариативное поле
возможных смыслов, результирующихся в философский текст (как
правило, опубликованный), в котором объективируется лишь одна
идейная линия из множества, реально оформливающихся (термин
Шпета) в процессе коммуникации, в непосредственном общении,
где идеи рождаются. И эти возможности могут стать реальностью
именно благодаря архивному исследованию. Поэтому архив
раскрывает дополнительные возможности интерпретационной работы
в том коммуникативном поле, где общение имеет самоценное
значение. Архивный массив становится своего рода коммуникативным
контекстом, в котором идейное содержание философского поиска
приобретает проблемный характер, а философские идеи получают
новое прочтение. Погружение в архив дает нам возможность
окунуться в другую реальность, сохраняющую для нас —
несовременников исследуемой эпохи — и тематические предпочтения, и
способы размышления, и возникающее в общении понимание тех или
иных философских проблем, и смысловые оттенки понятийных
образований, которые исчезли сегодня.
Сегодня сложилось несколько проблемных сфер, где идеи
Густава Шпета реально могут и уже участвуют в дискуссиях: это область
философской эпистемологии, истории философии и истории
науки, эстетики и культурологии, культурно-исторической
психологии и философии языка. И эти сферы выявляются сегодня, исходя
из нового социального запроса — запроса на рационалистические
20
Раздел I
научно-философские программы, и из исследования рукописных
текстов Шпета, благодаря которым мы получили возможность
открывать для себя и Шпета, и непрочитанные страницы русской
философии и гуманитарной науки. Поэтому, на мой взгляд,
перспективно осуществить анализ идейной насыщенности его
рукописных текстов, включая их одновременно и в коммуникативную
реальность шпетовского времени (в его сферу
интеллектуального общения), и в контекст современных научных и философских
исследований. Тем самым нам открываются возможности самых
неожиданных поворотов в интерпретации текстов Шпета, новые
горизонты «разговора» с ним, позволяющие эксплицировать
эпистемологическую сферу русского интеллектуального общения
начала XX в. Более того, осмысление идейного содержания этих
текстов в контексте современных эпистемологических исследований
способствует актуализации тех идей Шпета, которые реально не
были услышаны его современниками, выбравшими иной путь
решения научных и философских проблем.
***
В контексте современных проблем эпистемологии и философии
науки интересна рукопись Шпета «Конспект лекций по истории
наук», в которой содержится своего рода проект истории
методологического самосознания науки. Шпет рассматривает историю
науки именно в философско-методологическом аспекте. Он
формулирует свою мысль следующим образом. Если для ученого
история науки загружена открытиями, конкретными исчислениями,
организационными работами, то философ может рассмотреть
исторический опыт науки в методологическом аспекте, т. е.
зафиксировать устойчивые понятийные структуры в постоянно
меняющихся представлениях ученых о методе, границах научного знания,
природе самой науки. По сути, речь идет не о внешних масштабах
научного познания как абсолютных стандартах, прилагающихся
к реальности науки, но о его внутренних формах, в которых
заключен единый исторический опыт преемственного сохранения и
обогащения знания. Иначе говоря, смысл философского анализа
истории научного знания Шпет видит в осмыслении
исторического опыта методологического сознания науки, в обращении к
исследованию научной мысли как «структуры актов научного сознания
(в их диалектическом и осуществленном движении)».
Именно по этой причине Шпет возвращается в античность, к
истокам формирования основных исследовательских стратегий
философско-методологического характера. Такой способ поста-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 21
новки проблемы оказывается во многом созвучным с
неокантианскими исследовательскими устремлениями рассмотрения истории
науки как методологии. Но здесь мы обнаруживаем и особенности
шпетовского подхода. Прежде всего, Шпет не столь
формалистичен, как неокантианцы. Он берет науку шире, стремится
проследить преемственную связь содержательных оснований науки, видя
в них формы тех онтологических допущений, на которые
опирается наука. Он пытается не только зафиксировать исторически
изменчивый фон научных открытий, но и схватить в этом
изменчивом мире науки те основания, которые остаются неизменными
при любых исторических условиях. А именно, он демонстрирует,
что история научного сознания не есть лишь цепь исторически
меняющихся оснований, но пытается найти внутри этих
оснований преемственность. Он показывает, что проблема
дифференциации (различения) оснований научного исследования —
проблема историческая по своей сути. Шпет ищет в истории науки
не столько дополнительный для последующего конструирования
эмпирический материал, свидетельствующий об относительности
всех критериев и границ научного знания, сколько демонстрирует
реальное единство проблемных ситуаций, с которыми
сталкивается философ-методолог при исследовании процесса становления
знания.
И здесь, на мой взгляд, открывается еще один важный и
актуальный ракурс для современных исследований в области
эпистемологического анализа истории науки. Шпет фактически выходит на
проблему рациональности научного знания, задающую тональность
философским дискуссиям второй половины XX в. Уже в своей
ранней работе «Явление и смысл» он показывает, что классификация
наук по методу — неокантианский ход мысли — существенно
ограничивает возможности различения и спецификации научных
областей. Шпет выступает против такого дуализма. Смысл философско-
методологического исследования науки он видит в том, чтобы
«подвести всеобщий фундамент под всю громаду современного
знания», «указать ему его собственные корни, источник, начала, <...>
вскрыть единый смысл и единую интимную идею за всем
многообразием проявлений и порывов творческого духа в его полном и
действительном самоосуществлении»6. Думаю, что эта мысль Шпета
приобретает особое значение именно сегодня. Дело в том, что Шпет
фактически пытается избежать крайних позиций. Он пытается со-
6 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
М., 2005. С. 39.
22
Раздел I
хранить единство научного знания как идеал рациональности, но в то
же время ищет пути возвращения осмысленности в саму науку, пути
ее освобождения от излишней абстрактности и формалистичности.
Постулирование исторической преемственности
эпистемологического опыта вовсе не означает для Шпета реального единства решения
какой-либо научной проблемы. Его волнует вопрос о том, как
возможно интуитивное усмотрение, схватывание, фиксация единства в
постоянно меняющейся и, следовательно, релятивизирующейся
реальности научного знания. Историческое единство научного знания
предполагает философское осмысление дифференциации
предметных областей науки. Обращение к конкретно-исторической
ситуации и фиксация исторической «разности» методов, оснований, типов
знания — это своего рода методологическая возможность для
определенного концептуального истолкования связи, существующей между
уровнем методологической рефлексии над социокультурными
аспектами знания и историзацией методологического сознания науки.
Вот поэтому-то для современной эпистемологии интересно
проследить ход мысли Шпета, понять, как ему удается пройти между
крайними точками (абсолютизации и релятивизации) и сохранить
саму идею исторического единства научного знания.
Методологическая интерпретация истории научного сознания, предложенная
Шпетом, меняет ракурс исследовательской позиции, предполагая
осмысление форм структурной организации знания. Эти формы
предстают не как внеисторичные структуры, но как своего рода
исторические константы, воплощающие когнитивный слой
знания, кристаллизовавшийся в ходе осуществления научного опыта.
***
Методологическое значение в плане развития такого
перспективного научного направления, как культурно-историческая
психология, имеет рукопись Шпета «Искусство как вид знания». Дело
в том, что традиция культурно-исторического подхода,
связанная с именем Л. С. Выготского, довольно широка и таит в себе
множество интерпретаций. «Психологи говорят о культурно-
исторической психологии то как о науке будущего, как о цели и
мечте, то как о науке прошлого, то как о становящейся науке, что
характерно для любой живой науки»7. Культурно-исторический
принцип ориентирует ученых-гуманитариев в достаточно широком
7 Зинченко В. П., Мещеряков Б. Г., Рубцов В. В., Марголис А. А. Вступительное
слово. К авторам и читателям журнала // Культурно-историческая психология. 2005.
№ 1.С. 4.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 23
исследовательском диапазоне. В нем могут работать и те, кто
реконструирует сегодня культурную историю психологической
науки, и те, кто занимается анализом основных понятий, с помощью
которых психологи в разные эпохи осмысливали изменения
психики, ее культурно-историческую эволюцию.
Методологический подход Шпета можно интерпретировать как
стремление к рационализации феноменов искусства, причем к
рационализации конкретно-исторической. Особое значение здесь
приобретает трактовка искусства как особого вида знания,
поскольку оно может быть не только объективировано в словесной
форме, но через него и в нем знание дается как «само бытие»,
причем «бытие как такое, культурное бытие»8.
Именно придание искусству как знанию онтологического
статуса и обусловливает тот вопрос, который задает Шпет в самом начале
статьи и обозначает его как ключевую методологическую проблему:
«В каком смысле искусство является видом знания?». Это
означает, фактически, что Шпет ищет аспект, в котором искусство
является формой знания. Он обращается к искусству как культурно-
историческому феномену, выполняющему определенные функции.
Вопрос «в каком смысле...?» может быть интерпретирован как
вопрос о культурном контексте: «в каких условиях искусство
функционирует в культуре как вид знания?». Поэтому Шпет обращается к
анализу проблематики, которая впоследствии образовала, в той или
иной мере, тематическую сферу культурно-исторической
психологии9. Шпет очерчивает поле исследований, предполагающих
постановку вопроса о культурных детерминантах, смысле, значении,
словесном творчестве, т. е. того объективированного культурного слоя,
в котором человек становится человеком. И при этом он отчетливо
понимает, что искусство, наука, философия, литература
функционируют в культуре как специфические феномены. Когда мы задаем
вопрос о смысле любого из этих феноменов, это означает, что мы
выстраиваем некоторую структуру социального мира, — мира
культуры, — с учетом конкретного контекста их функционирования.
Вот почему я полагаю, что на текст шпетовского доклада можно
посмотреть и как на само явление культуры, как на определенный
этап в развитии понятий, с помощью которых человек осмыслива-
8 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2006. С. 130.
9Л. С. Выготский — родоначальник культурно-исторической психологии — слушал
в свое время лекции Шпета, подхватил его философские идеи о смысле, значении,
слове как архетипе культуры и развил их уже применительно к психологической
проблематике в «Психологии искусства» и в «Мышлении и речи».
24
Раздел I
ет свой духовный, интеллектуальный, культурный опыт. И в этом
случае мы просто должны воспринимать этот текст Шпета не сам
по себе, но в контексте его опубликованных трудов, в контексте его
культурно-исторической концепции, которая конкретизируется и
уточняется благодаря существованию архива эпохи.
***
Наконец, архив Густава Шпета открывает нам еще одну грань
его профессиональных интересов, связанную с исследованием
социально-политической реальности. Я имею в виду рукопись
«Социализм и гуманизм». Доклад Шпета «Социализм и гуманизм»
заметно отличается от основных политических сочинений русских
философов, прежде всего, своей теоретико-методологической
направленностью. Дело в том, что Шпет был одним из немногих
русских философов, которые пытались не просто выразить свои мысли
в социально-философской публицистике. Его установка на научно-
исследовательскую работу со словами-понятиями, метод их
герменевтической интерпретации, предполагающий выявление всех
смысловых слоев того или иного научного феномена, выраженного
в слове, — вот тот потенциал, который может быть сегодня
востребован в различных сферах социально-гуманитарного знания.
В докладе содержится попытка герменевтического анализа
понятий «социализм» и «гуманизм». Шпет выбирает не генетический
метод их исследования, предполагающий поиск эволюционирующего
«зародыша» понятийной структуры, и даже не исторический,
последовательно раскрывающий содержание того или иного события-
факта в его историческом развитии10. Для герменевтического
анализа, каким его представлял Шпет, необходим метод типизирующий,
т. е. рассматривающий феномены социализма и гуманизма как
конкретные типы философско-исторического сознания.
Можно сказать, что это была одна из первых реальных попыток научно-
философского исследования политических феноменов. Именно этот
научно-философский опыт Шпета приобретает особое звучание в
контексте современной исследовательской работы в области
политологии, политической социологии, политической психологии и др.
10 Вместе с тем, подчеркну, что Шпету принципиально важна установка на
историческую обусловленность понятий. Именно по этой причине он выявляет около
пятидесяти исторически существующих понятий социализма в поисках
необходимого (единственного, однозначного) для его постановки проблемы. Он обращается
к научно-политическому опыту французского социолога Амона, осуществлявшего
такой методологический ход. Его работы были переведены на русский язык другом
Шпета, А. Боровым, занимавшимся, как известно, проблемами анархизма.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 25
Конечно, возникает вопрос о принципиальных основаниях
такого герменевтического анализа. Этот вопрос задавал себе Шпет,
поскольку действительность, в которой он жил и работал,
противопоставляла эти понятия настолько, что трудно было обнаружить
сферу, где они могли бы быть сопоставимы. Поэтому Шпет
переносит эти понятия в новый план, или, говоря современным нам
языком, ставит эти понятия в новый контекст, в контекст
конкретной исторической ситуации кануна 1917 г., требующей выработки
новых социально-политических идеалов.
Вот почему я думаю, что особое значение для современных
исследователей приобретает обоснование Шпетом своего выбора
понятий для сравнительно-типологического анализа,
демонстрирующее структурные и методологические приоритеты социально-
гуманитарной науки того времени. Шпет исходит из реальной
ситуации. Он выступает накануне революции, когда со всех
сторон — на улице и в столичных кулуарах, на философских и
религиозных собраниях, в выступлениях политических лидеров ведущих
российских партий и думских отчетах — раздавались слова
«социализм» и «гуманизм» как центральные понятия для выражения
жизненных и политических идеалов.
Действительно, в центре внимания Шпета стоит проблема
выработки внутриполитического идеала. И его способ постановки этой
проблемы, основанный на реальной политической ситуации
России до 1917 г., не потерял своей научной и политической
значимости ни для современных политологов, ни для политиков (тем более,
как показывают последние исследования политологов, наблюдается
тенденция к сближению политиков с академическими кругами
политологов). Вот как Шпет сам говорит об этом: «Действительное
содержание нашего дня — буря, <...> движение элементарных сил,
стихий народного духа, в котором и из которого рождается теперь новая
Россия. Мыв водовороте этих стихий, но можем ли мы примириться
с тем, чтобы наше культурное сознание было также вовлечено в этот
водоворот, и погибло в нем? Поэтому, какими бы далекими от
злобы дня ни казались нам вопросы идеала, их своевременно поднять
и своевременно отдать себе в них ясный отчет. Нужно знать, куда, к
чему, и зачем мы идем? И нужно идти, иначе стихии поглотят нас!
Вопрос, который я поставил перед вами, есть вопрос именно
идеалов, и как такой он сейчас в особенности своевременен»11. Каковы
возможные социально-политические идеалы российского обще-
11 Шпет Г. Г. Социализм и гуманизм // Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое
единство русской философии. М., 2008. С. 236.
26
Раздел I
ства? Шпет ищет ответ на этот вопрос, обосновывая при этом
необходимость культурных оснований фажданского общества. Он ставит
проблему формирования российского культурно-исторического
сознания, и его носителя-репрезентанта (в России — интеллигенции,
на Западе — «четвертого сословия»). Следовательно, Шпет видит
дальнейший путь России как культурной державы, прежде всего, в
формировании особого слоя интеллектуалов, или, если вспомнить
Пушкина, то можно назвать этот социальный слой
«аристократией таланта». Этот слой общества действительно не имеет никакой
привязки к материальным благам, а только творит духовную
историю, без которой немыслимо никакое уважающее себя фажданское
общество. И именно такая постановка проблемы приводит Шпета
к мысли, что политики не господа, а слуги, слуги, которые могут и
должны иметь очень широкое образование для развития культуры
народа, которому они служат.
Идеи Шпета заставляют нас сегодня задуматься о культурных
основаниях фажданского общества — не о правовых, а именно о
культурных, — о самосознании той или иной социальной
общности. Мы видим, что и сегодня, как и почти 90 лет назад, в центре
внимания российских ученых, философов и политиков тот же
проблемный комплекс, связанный с решением вопросов о
самоидентификации России, о культурных основаниях фажданского
общества, а также о конвенциональных основаниях политико-правовых
проблем. Хотя за последние десять лет этот проблемный комплекс
немножко стушевался, отодвинулся, так сказать, на периферию
политического сознания, и вызывает сегодня не такой шквал
мнений и разбросанность оценок экспертов, как это было пятнадцать
лет назад. И все же я думаю, что и сегодня эти вопросы не потеряли
своей значимости. И от ответа на них зависит не только внутренняя
жизнь России, но и ее внешняя ориентированность. Поэтому нам
важно вернуться к этим вопросам и посмотреть на них не только из
положения сегодняшней ситуации, но и из исторического
прошлого. И доклад Шпета во многом позволяет нам это сделать сегодня.
И еще. Доклад Шпета — это исторический опыт выработки
нового политического языка на понятийном уровне. Это наполнение
смыслом слов, которые уже никто в тот момент конвенционально
не поддерживал. Шпет пытается решить эту проблему на уровне
коммуникации, и его доклад обращен к собеседникам из
философской сферы разговора того времени. Именно философы и есть, по
мнению Шпета, те люди, которые должны были задуматься и
выработать жизнеспособные социально-политические идеалы. Эти
вопросы реально стоят сегодня и перед нами — русскими филосо-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 27
фами, учеными, политологами, социологами. Я здесь подчеркиваю
слово «русскими», а не «российскими», потому что речь в данном
случае идет не о государственной принадлежности, а об языковой
и культурной общности.
И в этом контексте становится очевидной еще одна проблема,
которую мы пока еще в полной мере не осознали. Архивное
наследие Шпета важно для нас не только как наше интеллектуальное
достояние. В его рукописях (письмах, дневниковых записях,
набросках работ) содержится уникальный опыт экзистенциального
переживания трагического пути России XX в. Этот опыт нам еще
предстоит философски осмыслить, и во многом это становится
возможным благодаря сохранившимся архивам. Вот почему мы
сегодня просто вынуждены реконструировать архивное наследие
русских мыслителей, если мы хотим по-настоящему понять и освоить
ту русскую философскую традицию, с которой говорим из своего
времени.
Л. А. Микешина
Логика как условие и основание научной
строгости исторического знания1
(Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому 16 апреля - 6 мая 1928)
Переписка Г. Г. Шпета и Д. М. Петрушевского в
концентрированном виде представляет малоисследованную тему
«Русские философы и историки о методологии и логике
исторической науки». К их идеям в полной мере относится
мысль И. Берлина: «Все когда-либо высказанные
философами основные идеи, взгляды, теории и догадки остаются
актуальными по сей день. Они живут особой, трансисторической жизнью»2.
Сегодня у нашего нового поколения, по сути, не формируются
навыки диалектического и логического анализа познания, и
прежде всего потому, что предельно идеологизированная
методология диалектического материализма, выродившаяся в обязательно
материалистические, вульгарные формы повсеместного, часто
непрофессионального преподавания, теперь отброшена как
«устаревший» схоластический подход. Утрачивается идущая «из глубины
веков» культура размышления над знанием и познанием,
включавшая логико-методологический диалектический анализ, как раз то,
чем блестяще владел Шпет, оставивший нам исследования,
сочетающие классические идеи и творческое их переосмысление и
обогащение, в частности в области логики истории и теории познания.
Как методолог гуманитарного знания, Шпет более всего
занимался исторической наукой. Следует принять во внимание, что эти
же и другие идеи развивались в ранних работах Шпета по логике
и методологии истории, в частности в «Философии и истории»
(1916), «Истории как проблеме логики» (1916)3 и «Истории как
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ΡΓΗΦ. Проект № 09-03-
00107а.
2 Разговоры с сэром И. Берлиным. Избранные главы // Слово/Word, 2007. № 56.
http://magazines. russ. ru/slovo/2007/56/dzh4. html
3 См.: Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и
методологические исследования. Материалы. В двух частях. Археогр. работа Л. В. Федоровой,
И. М. Чубарова. М., 2002.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 29
предмете логики» (1917—1922)4, «Герменевтике и ее проблемах»
(19185). О фундаментальных замыслах философа говорит также
«План III и IV томов "Истории как проблемы логики"», впервые
реконструированный в 2004 г. Т. Г. Щедриной по рукописи из
семейного архива6. Очевидно, что эта тема не оставляла его
десятилетиями, что и проявилось, в частности, в письме историку
Д. М. Петрушевскому по поводу его книги «Очерки из
экономической истории средневековой Европы» (1928). Наибольший интерес
Шпета вызвало введение «О некоторых логических проблемах
современной исторической науки». Письмо написано в период
начинающейся в нашей стране борьбы с «буржуазной идеологией в
истории» и стало важной духовной и идейной поддержкой
Петрушевскому, на которого уже обрушилась эта «кампания». К счастью,
это письмо и ответ на него не потерялись и не забыты благодаря
публикациям и комментариям А. А. Митюшина и Т. Г. Щедриной7.
Переписка вводит в самый центр проблем методологии истории и
социально-гуманитарного знания в целом, широко обсуждавшихся
русскими историками и философами в конце XIX—начале XX века,
до установления господства марксизма в этих сферах знания.
Д. М. Петрушевский (1863—1942) — крупнейший медиевист,
специалист по средневековой Англии, занимавший кафедры в
Варшаве, Петербурге, Москве, где он был директором РАНИОН8. Но
в дальнейшем, даже будучи академиком, он был отстранен от
педагогической деятельности как «сознательный антимарксист», по
выражению А. И. Данилова, историка-марксиста и крупного
чиновника, — главного идеологического критика трудов и идей Пе-
трушевского. Петрушевский был достойным собеседником,
размышлявшим над методологией исторической науки, прекрасно
знавшим идеи позитивизма, неокантианцев и М. Вебера.
Через это общение философа и историка — двух крупнейших
российских методологов исторического и социального знания начала
XX в. — просматриваются богатейшие возможности развития логи-
4 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005.
5 Впервые опубликована в 1990 г.
6 См.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной
биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 341—353.
7 См.: Письмо Г. Г. Шпета к Д. M Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 //
Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 449—458. Далее
в тексте: «Письмо».
8 РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов
общественных наук.
30
Раздел I
ки и методологии социально-исторического, гуманитарного знания.
Вместе с тем уже присутствуют и угрозы. Причины «прерванного
полета» — полное замещение «единственно верным учением»,
изничтожение самими историками и философами каких-либо следов
осмысления богатейших подходов, начиная от ранкенианства,
позитивизма, неокантианства, веберианства и других существовавших к
тому времени методологий. На целый век в этой области отвергнут
сам принцип диалога и тем более синтеза различных
методологических практик. Но вот восстановлен ли сегодня? К какой
методологии и философии может обратиться современная историческая
наука с ее российскими традициями XX в.? Уже в 1970-е гг. А. Я. Гу-
ревич, сам испытавший немало в советское время, писал, что Пе-
трушевский — вьщающийся русский историк — «в последних своих
работах в конце 1920-х гг., с редким мужеством, если вспомнить
идеологическую обстановку того времени, высказывал новые для нашей
историографии взгляды, опираясь на идеи Риккерта, Макса Вебера
и всего неокантианского течения, которое в XX в. явилось наиболее
продуктивным для теории и практики исторической науки»9.
Шпет еще в 1916 году в своей диссертации исследовал труды
многих крупнейших философов и историков Европы и цитировал
«лучшего представителя нашей исторической науки» Д. М. Петрушевско-
го. Для Шпета особую значимость представляла статья «Тенденции
современной исторической науки», в которой Петрушевский ставил
задачи для логики и методологии истории. «Начавшаяся в самое
последнее время энергичная работа философско-критического
пересмотра основных исторических (социологических) понятий, в
значительной мере вызванная<...> спорами материалистов и идеологов и
обещающая очень ценные результаты для общественной философии
и науки <...> успела уже поколебать немало общепризнанных
воззрений и давно утвердившихся в исторической науке рубрик, схем и
классификаций, показав всю их, в лучшем случае, поверхностность
и наивную (в философском смысле) субъективность, и поставила ряд
вопросов там, где до сих пор царила догматическая уверенность и
определенность»10. Следует отметить, что Петрушевский
неоднократно излагал методологические проблемы исторического знания (в том
числе проблему соотношения истории и социологии) в статьях11, ко-
9 Гуревич А. Я. История историка. М., 2004. С. 43.
10 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 39—40.
11 См. статьи Петрушевского: «К вопросу о логическом стиле исторической
науки», где, по выражению Н. И. Кареева, содержится полемика с риккертианством,
«Феодализм и современная историческая наука» и др.
Идейное наследие 1>става Шпета: опыт философских интерпретаций 31
торые становились введением в собственно исторические
исследования. В частности, статья «Задачи и методы науки всеобщей истории»
была помещена в книгу «Очерки из экономической истории
средневековой Европы» (1928), с идеями которой и ознакомился Шпет12.
Петрушевский счастлив общаться со Шпетом как
собеседником и сразу же благодарит за «интереснейшие соображения», «за
букет глубоких и тонких мыслей», желает ему «заложить
непререкаемые основы логики исторического, так необходимой всем
нам». «Истинную радость» от письма Шпета он получил и «по
контрасту с тем площадным бормотанием, которое <...> не
преминуло сделать центром внимания и <...> "Очерки"13, усматривая в
них бомбу, начиненную антимарксистскими удушливыми газами,
и не подозревая того, что автор во время писания "Очерков"
совершенно забыл о существовании марксизма»14. Историк в полной
мере понимает, что «на этом беспросветно унылом фоне
духовного запустения и одичания» важнейшую роль играют шпетовские
«глубокие строки и заключенные в них ростки богатого развития
нашей науки и культуры». Через восемьдесят лет мы с горечью
можем сказать, что ни идеи Петрушевского, ни идеи Шпета до сих
пор не проросли у историков или эпистемологов исторического
знания. И не только из-за пресса одной методологии-идеологии,
но и из-за отсутствующей логико-методологической культуры и
невежества — как пренебрежения богатейшим опытом в этой
области. Когда Шпет пишет в «Письме» историку, что он стремится
«воспользоваться <его> методологически образцовой работою», —
это дорогого стоит: за плечами у философа уже опубликованная
«История как проблема логики. Часть I», рукописные материалы
ко второй части (в том числе, история герменевтики с
богатейшими идеями и результатами), но ему интересна работа и
методологические размышления историка. Перед нами идеальный и чуть ли
не единственный случай намечавшегося диалога и сотрудничества
философа и историка, который будет грубо и трагически разрушен
в последующие годы.
12 Из положительных отзывов на эту книгу Н. И. Кареева в его рукописи «Основы
русской социологии» (1930), 5-я глава которой недавно по архивным документам
опубликована В. П. Золотаревым в Интернете. Особый интерес к ней проявил
также историк русской литературы Д. И. Шаховской. См. его письма И. М. Гревсу //
Философский век. Альманах 26. История идей в России: исследования и материалы.
СПб., 2004. С. 149-150.
13 Имеется в виду книга Д. М. Петрушевского «Очерки из экономической истории
средневековой Европы».
14 Письмо Д. М. Петрушевского Г. Г. Шпету от 14 мая 1928 года // Густав Шпет:
жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 459.
32
Раздел I
Главная идея «Письма» — специфика исторической науки, ее
методологии и философии, особенности соотношения общей логики и
логики исторического знания.
И сегодня мы можем опираться на одно из определений, данных
Шпетом: «Методология не есть дело удобства или приятности, она
диктуется особенностями, внутренне присущими предмету, как
такому, и потому она не есть дело опыта или навыка
соответствующего представителя науки, а есть в себе законченная система, которая
в силу этого сама становится наукой sui generis. Это не список
правил, а внугренно связанный органон, служащий не лицам, а
научному предмету в его изначальных и принципиальных основаниях. И в
таком виде методология есть одна из философских основных наук.
В противоположность методам исследования, она говорит о методах
изложения или изображения»15. При этом «правила как нормы
предписываются не "субъектом", а самим предметом. Именно из его анализа
раскрывается правило его поведения. Поэтому и логика, если и
выставляет какое-либо правило, то только как закон самого предмета»16.
В «Письме» Шпета все темы значимы и сегодня. Важно и то, что
их выделил сам философ, он их выбрал для общения с историком, и
я буду следовать им как путеводной нити в лабиринте проблем,
особенно важных для выявления специфики социально-исторического,
вообще гуманитарного знания. При этом считаю необходимым хотя
бы отчасти привлечь наработанный еще до «Письма» обширный
материал самого исследования истории как проблемы или
предмета логики. Темы, которые излагает Шпет в «Письме»: логические
и методологические особенности объяснения, сходство и различие
типов объяснений; важный и новый, специфический для
исторической науки подход к пониманию соотношения общего и
единичного, не совпадающий с традиционным формально-логическим;
корректное и специфическое понимание индивидуального в
истории, фактичность, объективность исторического знания,
различия между историком, филологом, естественником. По-прежнему
философский интерес представляют отношение Шпета к
неокантианской методологии истории, его спор с Риккертом и Вебером,
обсуждение взглядов Риккерта и проблема ценностей. «Письмо»
посвящено вопросу, который актуален и сегодня, восемьдесят лет
спустя, — специфике социально-гуманитарных наук, включая
историю, их отличию от естествознания.
15 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 73.
16 Там же. С. 83.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 33
Проблема объяснения в истории. Прежде всего рассмотрим,
собственно, логико-методологические проблемы объяснения, как они
рассматриваются в «Письме» Шпетом. Почему общеизвестная
проблема объяснения существенна для исторической науки и ее
идеологии и ей отводится в «Письме» специальное место, как особо
значимой? Как представляется, это прежде всего связано с
необходимостью выяснения статуса исторического знания. При анализе
собственно логических и методологических особенностей
объяснения оно предстает как дедуктивный процесс. Однако для
философа важно напомнить, что следует различать два плана: изложение,
«когда из готовой теории или гипотезы, сведенных в формулу так
называемого закона, делаются частные выводы», и исследование,
которое ведет к теории и закону, но уже с помощью индукции, и
потому оно «принципиально гипотетично». Таким образом, Шпет
выявляет такой важный факт для любого познания, как
одновременность присутствия и взаимодействия обоих методов,
подчеркивая необходимый характер знания на этапе изложения-дедукции
и гипотетический на этапе исследования — индуктивного, лишь
вероятного обобщения-теории (гипотезы). Мысль о том, что
знание и в естественных науках, как индуктивное обобщение фактов,
всегда лишь вероятно-гипотетическое, часто не осознается
исследователем и сегодня (обобщаются факты\), но, например,
современным немецким эволюционным эпистемологом Г. Фолмером,
имеющим много последователей, концепция научного познания
разрабатывается именно как «гипотетический реализм»17.
Продолжая обсуждать в «Письме» проблему гипотезы в науке, Шпет
отмечает, что возможность превратить гипотезу в теорию — это скорее
спекулятивный интерес «натуралиста» к методологии и
метафизике, чем желание преодолеть гипотетический и вероятный характер
полученного знания. «Практически естествознание вполне
удовлетворяется теоретической вероятностью», ценность и степень
которой в конце концов определяются практикой, возможностью
технического приложения выводов науки.
«Принципиально иначе обстоит дело в исторической науке, —
отмечает Шпет. — Ее объяснение также индивидуально, как и
объясняемый факт, и в том же смысле индивидуально. Это есть
переход от некоторой части к конкретному целому, а не к отвлеченной
теории». У натуралиста интерес к факту — как проверка теории, у
техника — теория интересна как проверка факта. И только в
исторической науке «восстанавливается факт как factum, в его полной
17 Фолмер Г. Эволюционная теория познания. М., 1998. С. 53—56.
34
Раздел I
индивидуальности. Здесь нет гипотезы в е<стественнонауч>ном
смысле термина, нет и индукции в таком же смысле, т. е.
вероятного заключения к общей причине через наблюдение повторяющихся
ее действий <...> Причина устанавливается так же, как факт данный
и абсолютный <...> («так было\»), — и это — независимо от того,
отражает историческое изложение аналитический интерпретативныи
путь исследователя или оно ведется синтетически, как изображение
во временной последовательности»18. Логически «догадка о
причине» имеет иную природу, «она не становится теорией, а остается
констат<ирован>ием факта»19, оправдание которого не в практике,
а в интерпретации и критике источника, свидетельства. Если же у
историка, по аналогии с естественником, возникает желание
«изобразить историческую причинность в виде общих положений и
формул», то это приводит его к «установлению сентенций
морального, а не научного типа», в то время как «действительное
жизненное значение истории в ее культурно-образовательной ценности».
Выяснение специфики объяснения в историческом знании в
отличие от естествознания предполагает, по Шпету, выявление
разных типов объяснения, определяющих характер той или иной науки.
В «Письме» он показывает это различие на причинном объяснении и
именно в том случае, когда учитывается присутствие/отсутствие
влияния фактора времени. В естественных науках время
«полностью обратимо, и всякий процесс в нем также обратим и
"относителен". На этом основаны так называемые предвидения и все
вычисления, для которых безразлично "вперед" и "назад", — вопрос
знака соответствующего математического действия. Система
вселенной разрешается в систему уравнений»20.
Здесь следует вспомнить еще одно тонкое наблюдение Шпета:
«Глубокий философский корень риккертовского отрицания лежит в
его кантовском понимании причинности, — оно признает только ту
причинность, которая связывается с феноменалистическим
истолкованием необходимой временной связи: все, что сверх этого,
относится к "свободе", но не как абсолютной причинности, а как области
морали и ценностей»21. Именно особое понимание причинности —
только в ее временной последовательности, в ее соотношении со
свободой, понимаемой как произвол и неупорядоченность (точка
18 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 452—453.
19 Там же. С. 453.
20 Там же. С. 451.
21 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 96.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 35
зрения, близкая О. Конту и его последователям), — привело
неокантианцев к отрицанию объяснения, выявления причинности в
идеографических науках, в том числе истории. С другой стороны,
безусловно, в истории, как отмечает Шпет в «Письме», «каждая причина
и каждое действие — таковы только в данных единственных
конкретных условиях». Ни при каких условиях время в истории не обратимо,
«и поэтому всякий совершившийся в нем процесс абсолютен».
«Вперед» и «назад» во времени «имеют для историка абсолютное
значение, никаких вычислительных уравнений здесь не может быть <...>
Вот почему причинное объяснение в истории должно обозначать
нечто совершенно иное, чем в естествознании. И если иногда
указывают на сходство объяснений в обеих науках, то... имеют в виду случаи,
когда натуралист применяет к своему предмету исторический метод
объяснения»22. Это имеет место не только в науках, где присутствует
развитие, эволюция, как в биологии, палеонтологии, геологии и т. п.,
но даже в химии, когда «обратное» разложение веществ оказывается
невозможным, реально необратимым, что, по сути дела, приводит к
«исторической точке зрения». Подмеченная Шпетом особенность —
перенос метода из исторической (гуманитарной) науки в
естественную — имеет место и, более того, становится необходимым при
написании истории данной науки. Он особо отмечает это в «Письме»:
«Сами естественные науки приобретают подлинно образовательное
значение, — а не узкоутилитарное, — когда они вводятся
исторически, в связи с историей общей культуры, и когда в современном
результате своем они также представляются и преподаются как
продукты общего развития человеческой мысли и энергии»23. Следует
подчеркнуть, что сегодня в философии науки и эпистемологии
дисциплина «история науки» рассматривается как гуманитарная.
Отметим еще один значимый тип объяснения в исторической
науке — объяснение через обращение к закону, рассматриваемое
Шпетом в «Истории как проблеме логики» (1916), задолго до
«Письма» (1928), в различных проявлениях в естественных и исторических
науках. Эта проблема привлекала внимание логиков и философов в
течение всего XX в., однако идеи Шпета не были известны.
Проблема объяснения в истории была обстоятельно исследована только в
1948 году, когда американский философ-аналитик немецкого
происхождения К. Гемпель опубликовал «Исследования в области логики
объяснения», где были рассмотрены также историческое объяснение
22 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 451—452.
23 Там же. С. 453.
36
Раздел I
и роль законов, получившие общее признание и сегодня. Его более
ранняя статья «Функции общих законов в истории» (1942) имела
следующее начало: «Достаточно широко распространено мнение,
что история, в отличие от так называемых физических наук,
занимается скорее описанием конкретных явлений прошлого, чем поиском
общих законов, которые могут управлять этими событиями.
Вероятно, эту точку зрения нельзя отрицать в качестве характеристики
того типа проблем, которым в основном интересуются некоторые
историки. Но она, конечно, неприемлема в качестве утверждения
о теоретической функции общих законов в научном историческом
исследовании. <...> Мы попытаемся обосновать эту точку зрения,
подробно показав, что общие законы имеют достаточно
аналогичные функции в истории и в естественных науках, что они образуют
неотъемлемый инструмент исторического исследования, и что они
даже составляют общее основание различных процедур, которые
часто рассматриваются как специфические для социальных наук в
отличие от естественных»24. Гемпель исследует и описывает
проблему, пользуясь термином «универсальная эмпирическая гипотеза как
общий закон», принимает использование причинно-следственной
терминологии, анализирует тип причинного объяснения, не считая
его единственно возможным (что мы видим уже у Шпета). Главным
и общепризнанным, хотя и порождающим дискуссии результатом
исследования Гемпеля стало обоснование объяснения как
дедуктивного вывода из законов и построение дедуктивно-номологической
модели «охватывающих законов» в истории, которая позже
дополнится вероятностно-статистической моделью. Все это раскрывает
особенности объяснения в исторической науке. При этом Гемпель
признает уникальность не только социальных и исторических
событий, но и каждого отдельного явления, например, в физических,
психологических и социальных науках, уникальных потому, что они
во всех своих действиях не повторяются25.
Шпет понимал и исследовал проблему объяснения в истории с
помощью закона, в отличие от Гемпеля — в контексте обширного
историко-философского материала. Прежде всего он утверждал,
что «исторические теории суть не менее теории, чем теории
физики или биологии, какие бы свои особенности не имели эти теории
и науки»26. Противоречие между единичным и неповторяющимся
24 Гемпель К. Г. Логика объяснения. М., 1998. С. 16.
25 Там же. С. 98-99.
26 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 64.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 37
характером исторических явлений и, с другой стороны,
закономерностью явлений природы, проистекающей именно из повторения
их, как это отмечают неокантианцы, только кажущееся и
возникает в результате произвольного отождествления теоретического и
«подчиненного закону». Шпет различал также «законоустанавли-
вающую» и объяснительную науки, полагая, что «история может
не быть наукой законоустанавливающей и тем не менее она есть
наука объяснительная у т. е. наука, логической задачей которой
является установление объяснительных теорий»21. Таким образом,
«неправильно думать, будто наука истории ограничивает свои задачи
только пониманием и интерпретацией» и не выполняет
логического требования — объяснения и составления теории, что
противоречит как факту, так и логике. Замечу, что интерпретация в
истории также привлекала внимание Гемпеля, он не считал ее чем-то
снижающим статус этой науки, однако не разрабатывал ее
специальное логическое обоснование. В то же время Шпет развернул
исследование проблемы интерпретации в полной мере при анализе
истории герменевтики (которую Гемпель как аналитик не
принимает во внимание).
В отличие от Гемпеля Шпет различает закон как логическую
необходимость, не приписывая необходимости объектам, но
признавая необходимость нашего суждения об их отношениях.
Необходимость, содержащаяся в объектах, может быть и причинным
отношением, т. е. мы устанавливаем законы как «постоянные
необходимые логические отношения между объектами, исходя из
анализа причинных связей между ними»28. Однако «понятие
причинного отношения не есть понятие родовое по отношению к закону»,
нахождение закона не должно отождествляться с установлением
причинной связи между объектами, можно выявить единственную
причинную связь. В свою очередь причины могут действовать
необходимо, но не закономерно. Еще один аспект, отсутствующий
у Гемпеля: причинность, мыслимая во времени, предполагает, что
получаемое следствие-действие носит вариативный характер,
изменяясь со временем. Поскольку лежащее в основе закона всякое
логическое отношение вневременно, то такая причинность стоит
вне формул, выражающих логическое отношение, следовательно, в
форме закона выражена быть не может. «Понятия причинной
необходимости и закона только частично совпадают»29.
Там же. С. 65.
Там же. С. 604.
Там же.
38
Раздел I
Продолжая исследовать категорию закона в «Истории как
проблеме логики», Шпет приходит к выводу, что научные законы
совершенно строго устанавливаются только в области механической
причинности, где они могут быть выражены количественно. Здесь
«закон есть математическое выражение логически общего в
отношениях между объектами изучаемого предмета». Но названия закона
мы встречаем и во всех других науках, в частности психологии,
социологии, органических науках, где также стремятся к
математическому его выражению. Но если «математический метод
устанавливает логические отношения, то эти отношения должны быть вне
времени и пространства», независимо от них, т. е. предмет
рассмотрения — абстрактный объект.
Разумеется, строго установленный, математически выраженный
закон — это идеал, который в своем полном виде не может
присутствовать в исторической науке, где преобладают случайные,
неповторимые, индивидуальные события, что особенно подчеркивают
неокантианцы. Шпет это знает и поэтому специально ставит и
исследует проблему соотношения закона (как необходимости) и
свободы в историческом познании. Ему непонятно существующее в
материализме и позитивизме, в частности у Конта,
противопоставление этих категорий и «без всякого анализа» отождествление
свободы с произволом, случайностью, «капризами фортуны». Он
уточняет, что свободе противостоит не закон, а необходимость и следует
рассмотреть вопрос: «распределятся ли области свободы и
необходимости, как разные миры, или просто окажется, что существует и
свободная причинность, творческая, или введено будет новое
понятие целесообразности — все равно то или иное решение должно
предшествовать решению о законах и истории»30. Совсем не
обязательно отождествлять объяснение с установлением законов, на чем
настаивал Конт, в этом нет логической необходимости. Достаточно
часто прибегают к объяснению отдельных явлений через простое
указание их причины, которая может носить творческий характер.
Но для Конта, как и для его последователей, настоящая наука
обязательно должна выявить исторические законы, чтобы предотвратить
произвол, под которым он понимает допущение свободы или
творческой причинности. И далее Шпет отмечает очень важную
особенность французского мыслителя: «В своей борьбе против
вмешательства провидения в ход истории или против произвола Конт доходит
до крайности, гипостазируя само понятие закона, как будто это есть
30 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 606.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 39
нечто находящееся вне явлений и ими управляющее»31 и цитирует
его, сопровождая вопросительными знаками: «всякое явление есть
просто следствие порядка, которое вытекает (?) из естественных
законов^)». Естественные законы рассматриваются как причины,
преклонение перед необходимостью доходит до абсурда. Особенно
важна эта шпетовская критика идей Конта потому, что позитивизм все
еще был широко представлен в конце XIX — начале XX вв. в работах
российских историков, социологов, гуманитариев в целом.
Наконец, еще одна важная мысль Шпета о законах и объяснении
через закон в исторической науке: неприемлемы «попытки выдать
за исторические законы просто результат статистического анализа
социальных явлений», придав им форму математического
выражения закона, осуществляя на их основе предвидение. В
действительности это «практические регулятивы», а не логические обобщения,
расширения теоретических положений, это лишь некоторое среднее,
которое используется чисто эмпирически в данном исследовании32.
Таково наряду с логическим и эпистемологическое видение
Шпетом различия природы объяснения в гуманитарном
(историческом) и естественно-научном знании. Таков его логико-
методологический анализ причинного объяснения и объяснения
через закон, их соотношения, уточнение самой категории закона и
специфики этих проблем в исторической науке. Очевидно, что
намного раньше обратившись к данной проблематике, лишь
упомянутой в «Письме», Шпет раскрыл богатый спектр аспектов и
оттенков в изучении специфической логики объяснения исторического
знания, в том числе с помощью закона.
Понятие общего и соотношение общего и единичного в
исторической науке. Следующая тема, присутствующая в «Письме»: важный
и в ряде случаев новый подход к соотношению общего и
единичного, во многом не исчерпывающийся традиционным
формальнологическим определением и предполагающий критическое
осмысление этой проблемы, как и темы типического в споре ç Риккертом
и Вебером. В этом случае вновь проявляется также и творческая
особенность мышления Шпета — уточнять и расширять
положения классической логики в применении к историческому, в целом
гуманитарному знанию, где присутствует человек.
Очевидно, что этот круг вопросов, выбранных Шпетом для
обсуждения в переписке с историком, также значим для понимания
природы и особенностей исторического научного знания, где про-
31 Там же. С. 590.
32 Там же. С. 606.
40
Раздел I
явление общего и единичного приобретает оттенки, не фиксируемые
непосредственно в классической логике, а также в естествознании.
Прежде всего, философ обращает внимание на корректность
использования понятий «единичное», «общее», «частное»,
«индивидуальное», поскольку часто ученые не придают этому особого значения,
но, как выясняется, с этим связано само понимание природы
исторического, социального знания в отличие от естествознания. Кроме
того, возникает необходимость уточнения не только применения, но
и значения самого круга и варьирования этих понятий. Проблема тем
более актуальна, что она тесно связана с методологическими идеями
неокантианства и М. Вебера, широко обсуждаемыми среди
историков в конце XIX — начале XX в., в том числе и Петрушевским, и, как
представляется, не потерявшими значения и сегодня. Потому Шпет
и включает рассмотрение проблемы в контекст дискуссии с Риккер-
том, что немецкий философ «противопоставляет общему единичное
и генерализирующему методу индивидуализирующий». Как следует
из «Письма», «"общий" и "общее" имеют много значений. Среди них
есть одно, мимо которого Риккерт не должен был бы пройти.
Условно — и, может быть, не очень удачно — я здесь говорю по-русски об
"общном", или, столь же условно, по-латыни: communis в отличие
от generalis. Не входя в анализ этого понятия, укажу только
примеры: общее ("общное") происхождение, общее ("общное") владение,
общая родина, общее подданство, общий вход, и т. д. не трудно
видеть, что такое "общное" по самому существу своему, как предмет,
есть именно индивидуальное, и притом такое, с каким история имеет
дело на каждом шагу»33. Итак, отмечается многозначность понятия
«общее», принципиальное различие, хорошо фиксируемое в латыни,
но не в словах русского языка, а также видение определенных форм
«общного» как индивидуального — своеобразная диалектика. Это
существенное добавление к традиционному пониманию общего.
Шпет показывает также, что традиционное в логике
противопоставление «общего» и «единичного» неточное и недостаточное
прежде всего потому, что «одно и то же понятие считается то
родовым, то видовым, в зависимости от его соотнесенности».
«Точное противопоставление знает только пару: общее — частное, т. е.,
в сущности, оно есть указание некоторой степени: более или менее
общее, а "единичному" противостоит "множественное" и
"повторяющееся". Единичное как индивидуальное в этот ряд не должно
входить, и истолкование его в смысле последней ступени ряда, как
33 Письмо Г Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года// Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 455.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 41
minimum общности (по объему) и maximum признаков — своего
рода "абсолютное" единичное — произвольно. Сама
традиционная логика, например, в учении о предложениях находит
возможным единичное предложение (типа: Сократ — человек) принимать
как общее»34. Существенна и другая мысль Шпета — не только для
спора с неокантианской методологией, но и для логики вообще, —
о том, что «индивидуальное нужно вовсе вывести из упомянутого
ряда и анализировать как самостоятельный предмет, а не только
как продукт индивидуализирующего метода, в связи с этим —
удостовериться, что и другой край ряда — не maximum объемной
общности и minimum содержания, — как бы абсолютное общее, — а
также выпадающая из ряда, взятая из другого плана, категория.
<...> Просто мы выходим здесь в иной логический план»35. Он
подчеркивает, что считает бесспорной заслугой неокантианцев то, что
они «вернулись к признанию индивидуального характера за
историческим предметом, и что <...> старались показать логическую
специфичность исторических наук»36. Однако Шпет считает, что
«они не преодолели до конца натурализм», и причина тому —
опора на «кантианство, знающее только теорию познания
"математического естествознания"», соответственно «индивидуальное для
них, прежде всего, единичное, т. е. логически — противоположное
множественному и повторяющемуся, а познавательно — предмет
непосредственного восприятия или как бы восприятия»37.
Эти тонкие критические наблюдения философа значимы не
только для уточнения понятий, но и для понимания особенности
индивидуального характера исторического предмета, прежде всего потому,
что объект естественных наук — «вещественное» в любой части, при
любом делении сохраняет свойства целого (как масло, песок и т. п.),
тогда как исторический предмет либо неделим, либо не сохраняет
качеств целого, и это логически и методологически важно. Второй
значимый момент — «характер познаваемого предмета. Исторический
предмет в непосредственном восприятии и в созерцании никогда не
дается. Это — предмет, принципиально данный только в
свидетельствах (the evidence): документе, памятнике, акте, показании и т. д.»38.
Шпет, таким образом, реализует методологически очень важное
требование, предъявляемое неокантианцам, — «логика исторического
предмета требует прежде всего точного онтологического анализа этого
34 Там же. С. 454.
35 Там же.
36 Там же. С. 450.
37 Там же.
38 Там же.
42
Раздел I
предмета», тогда как они, противопоставляя общему единичное и
генерализирующему методу индивидуализирующий, единичное
понимают традиционно неточно, как это принимают в естествознании39.
Несомненный интерес для методологии исторического,
гуманитарного знания вообще имеют идеи Шпета о типологии и
«идеальном типе». Размышляя над «Письмом», хочу напомнить, что Шпет,
как методолог гуманитарного знания, обращался в те же годы к
проблеме общего и типологии в ходе рассмотрения логической
природы эмпирического Я в работе «Сознание и его собственник»
(1916)40. Он отмечал, что, изучая конкретную и единичную вещь, мы
смотрим на нее как на «экземпляр», т. е. как на нечто «безличное»,
и переходим к еще более обезличивающим обобщениям. Я
выделяется среди конкретных вещей тем, что оно не допускает
образования общих понятий, выходящих за пределы единичного объема. По
Шпету, аристотелевская логика как логика объема, рода и вида, на
которой основана теория образования понятий через «обобщение»,
оказывается здесь явно недостаточной, так как имеет дело только с
рассудочным мышлением, рассматривает формальное
соотношение между объемом и содержанием понятий, между видом и родом,
а всякая «единичность» и тем более единственность Я — это
просто «анархический элемент», подрывающий ее устои. Он полагал,
что если к отождествлению отвлеченно-общего с «существенным»
нет никаких оснований, кроме отрицания индивидуально-общего,
то следует помнить, что «объем» понятия может сжиматься в идею,
преодолевая как пространственную протяженность, так и
временную длительность. Соответственно в теоретическом рассуждении
каждая личность или Я также может поддаваться такой
трансформации в «идею». Это делается каждый раз, когда для единичного
устанавливают типическое, как в случаях, например, идеала, всеобщего
образца нравственного поведения или воплощения в поэтический
образ. Следовательно, возможен своего рода «идеальный коррелят»,
выражающий сущность эмпирического Я, действительно, реально
существующего и не являющегося «вещью», обезличенным
«экземпляром» традиционного логического «обобщения». И вновь Шпет
существенно уточняет и дополняет классическую аристотелевскую
логику, которая, предельно обобщая и абстрагируясь, не учитывает
39 Как указывает В. П. Золотарев, Н. И. Кареев еще до неокантианцев ввел две
категории наук: номологические (изучающие законы) и феноменологические
(описывающие факты). См.: Кареев Н. И. Основные вопросы философии истории.
Т. 1-2. М., 1883. Т. 1.С. 106.
40 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. М., 2007. С. 268, 274.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 43
содержательные особенности предмета философского или
гуманитарного знания, где присутствует человек, наделенный сознанием.
В «Письме» он продолжает развивать идеи типологии в
контексте исторического знания в отличие от естественного и в связи с
концепцией «идеального типа» М. Вебера, которая сегодня не
только применяется, но и продолжает критически обсуждаться.
«Сказать, что такое общее есть "идеальный тип", значит, по-моему,
также сказать недостаточно. Например, мысленная "модель", которую
строит физик, как так называемую вспомогательную гипотезу, есть
также "идеальный тип", однако это — "модель" отвлеченная и для
историка не может служить методологическим образцом; какой-
нибудь единственный экземпляр, — это — более конкретно, —
ископаемого животного может для натуралиста быть "типом", однако и
это не "тип" историка или социолога»41. Как известно, идея М.
Вебера о необходимости такой абстракции, как «идеальный тип»,
оказала существенное влияние на развитие истории и социологии
XX в. наряду с понятием Маркса «общественно-экономическая
формация». «ОЭФ», как менее абстрактное понятие, выделяет и
фиксирует конкретные формации по социологическим и
экономическим признакам, что и создало предпосылки для их полной онто-
логизации в советской науке, философии и идеологии.
Понятие «идеальный тип» Вебер разрабатывал и применял
именно как абстрактное методологическое средство исследования
социальных и историко-культурных феноменов, которое не имеет
прообразов в эмпирической действительности и не должно онто-
логизироваться для подтверждения или опровержения, тем более
что одно и то же общество может одновременно содержать в своей
структуре разные типы и виды социальных отношений. Вебер
специально оговаривал, что «грань между идеальным типом и
действительностью» не должна стираться, и следует помнить, что это
понятие «конструируется» и может успешно выполнять эвристическую
функцию. Вместе с тем он осознавал, что «возникает осложнение,
так как понятие "типического" сразу же вводит ложную
натуралистическую идею, согласно которой цель социальных наук есть
сведение элементов действительности к "законам"»; и необходимо
понимать, «что идеально-типическую конструкцию развития, с одной
стороны, и историю — с другой, следует строго разделять»42.
41 Письмо Г Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 455.
42 Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально политического
познания // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 402—403. См. также: Петрушев-
ский Д. М. Очерки из экономической истории средневековой Европы. С. 26—40.
44
Раздел I
Шпет положительно рассматривает эти идеи, однако при его
требовании тщательного логического анализа он неудовлетворен,
поскольку «М. Вебер указывает в понятии "типа", так сказать,
место соответствующей проблематики, но не раскрывает ее»43.
И Шпет прав в том смысле, что немецкий социолог не дает
необходимого, собственно логического анализа введенного им понятия
«идеальный тип», ограничиваясь, скорее, эпистемологической и
методологической, достаточно общей характеристикой. Это
определяет значимость работы Шпета, который раскрывает логику
общего в своих работах и в «Письме», рассматривая проблему «типа»
как фундаментальную, что уже отчасти я стремилась показать
выше, поскольку этот анализ имеет значение не только в связи с
«общим типом Вебера», но в целом с особенностями
исторического, вообще гуманитарного знания.
Вместе с тем философ осознает, что «логики "типа" вообще мы
еще не имеем», и полагает, что эта проблема, в частности, тесно
связана с понятием структуры. Так в «Письме» вводится тема структуры
в понимании исторического процесса, «и первая методологическая
задача наша в том и состоит, чтобы выяснить структуру
соответствующего предмета». «Структурность предмета обозначает, прежде
всего, конкретность, т. е. самостоятельную, не отвлеченную
природу этого предмета. Каждая его часть только до тех пор сохраняет
в изучении свое предметное значение, пока она рассматривается как
член в строении целого, выполняющий свою специфическую и
относительно самостоятельную функцию»44. Рассматривается
определенная «иерархия» системы: элемент структуры, или «структурный
член», есть некоторое «общное» по отношению к составляющим его
элементам (индивидуальным ячейкам), которые также структурны. С
этой позиции, по Шпету, можно также указать на особенность
предмета истории: «Изменение структуры — что и есть исторический
процесс, "развитие" и т. п. — совершается через усиление и, так
сказать, выпячивание одного члена, ослабление другого, поглощение
функций соседнего <...> Поскольку здесь речь идет о реальном
историческом процессе, все привычные в естествознании понятия: причины,
фактора, условий и пр., должны быть применительно к новому понятию
предмета наново анализированы и, где нужно, модифицированы в своем
смысле (курсив мой. — Л. Л/.)45». Такой подход позволяет «составить
43 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 453—454.
44 Там же. 455.
45 Там же.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 45
некоторую историческую модель или конкретный исторический тип,
где показана соответствующая идеальная — хотя бы в исторической
действительности не имевшая ни одного exemplum — полнота. <...>
Этот тип может быть сфантазирован (у Вебера — сконструирован. —
Л.М.), его методологическая ценность остается реальной»46.
Исследуя «историю» как проблему и предмет логики, еще до
«Письма» многократно обращаясь к проблеме общего во всей его
многозначности, Шпет прежде всего отмечает, что нет строгости в
применении логики и авторы часто не различают общее и
абстрактное, часть и целое, вид и род, т. е. допускают непосредственные
логические ошибки. Шпет понимает, что во многом это связано со
сложностью различения всех тонкостей и особенностей этих
понятий и их соотнесения в исторических и методологических текстах.
Но особое место занимает проблема индивидуального, с которой
во многом связано определение научного статуса исторического
знания. Известна точка зрения «логического нигилизма», когда «за
историей отрицается право на значение и ценность науки», так как
она изучает только индивидуальное. Аргументы сторонников этой
позиции состоят в том, что наука объединяет изучаемые объекты в
роды, виды, примыкает к другим наукам, и эта система завершается
философией. Истории нет в этом ряду наук, «потому что в ней нет
основного признака всякой науки: субординации, познание фактов
<...> приводится только к координации, и история сама поэтому не
может быть системой. Поскольку науки представляют собой
некоторые системы понятий, они всегда говорят о родовом; история,
напротив, об индивидуальном, — в этом уже заключается указание на
ее вненаучное положение, так как "наука об индивидуальном" есть
просто противоречивое соединение слов, contradictio in adjecto»47.
История имеет дело не с тем, что существует всегда, а с тем,
что «совершается однажды и исчезает, да и это знает только
наполовину, так как индивидуальное в конце концов
неисчерпаемо». Если история пишет об эпохах, царствованиях, жизни
государств, то «здесь речь идет о том "общем", о котором мы говорим
в субъективном значении "общего знания", знания вообще, а не
об общем как объективном понятии. Такие понятия, как "эпоха"
и "событие", не есть понятие общего и частного, а есть указание
на отношение целого и части»48. Не согласившись с позицией Шо-
46 Там же. С. 456.
47 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 595.
48 Там же.
46
Раздел I
пенгауэра, который отрицает историю как науку потому, что она не
может быть системной, Шпет поясняет: «...если объектом истории
является индивидуальное и она не может устанавливать законы,
то одно из двух, либо история — не наука, либо она решительно не
похожа на другие науки, устанавливающие законы... подведение
исторических объяснений под законы биологии, или психологии,
или социологии лишает всякого смысла самостоятельное
существование истории как науки и в лучшем случае оставляет за нею
только вспомогательную роль собирательницы материала для этих
действительных наук»49. Такой подход, по Шпету, идет главным
образом от Конта, последователи которого требовали для истории
«установления простых физиологических законов», а поскольку
«история обнаруживает последовательность слоев и отложений,
они должны быть изучены, как изучаются геологические
формации». И недаром некоторые историки утверждали, что позитивизм
вообще уничтожает историю как науку.
С другой стороны, как показал Шпет, существовали «аргументы»
и со стороны материализма, который тяготеет к установлению
законов, отождествляя общие понятия с абстрактными. Однако, «не
отрицая конкретного характера предмета истории, материализм не
считает нужным поставить в зависимость от него и способ обработки
исторических понятий», что так важно для науки. И опять философ
подчеркивает: все дело в том, что мы имеем дело с многозначностью
общего — «общее выступает то в значении конкретного общего, то в
значении типически общего, то, наконец, в значении общего в смысле
ценности». Однако исследователи рассматривают общее независимо
от реального значения термина в контексте, только какродовое, и через
него стремятся выйти к установлению закона в исторической науке.
К богатейшему «набору» признаков специфики исторической
науки Шпет добавляет в «Письме» также различия между
историком, филологом, естественником. Если, по Узенеру (Usener),
«филолог — пионер историка», то для Шпета «"историк — дважды
филолог". Ибо историк, прочитав филологически памятник, вновь
подвергает его своей критике и своей интерпретации. Вещи (realia)
филолога для историка все еще только знаки, слова, символы:
"призвание варягов", "убийство Цезаря", "смерть Карла Великого" —
для него знаки, требующие расшифровки и скрывающие за собою
особую историческую ens reale: социальные группы, партии,
отношения, организации, и т. д. Для натуралиста такая интерпретация
49 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 596.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 47
лишена смысла, для него и "единичное" — не знак, а сама вещь:
комета есть комета, а не примета, чума есть чума, а не выражение
чей-то воли и пр. Интерпретирующий натуралист скоро стал бы
мифотворцем. — Но историк не ограничивается
интерпретацией, он, подобно натуралисту, ищет причинных объяснений. Однако
нужно установить степень этого подобия»50. Это подобие внешнее
и весьма отдаленное, «сам натуралист часто уподобляется
историку». Различия слишком велики, онтологическая предпосылка идей
натуралиста — представление о Вселенной как о замкнутой
системе действия материальных сил; мир историка — это система «не
замкнутая, а развертывающаяся. Здесь нет отвлеченных причин и
действий; каждая причина и каждое действие — таковы только в
данных единственных конкретных условиях». Это «реальная
единичность», определяющая необратимое историческое время как
«порядок в смене одной конкретной полноты другою».
Особое место в «Письме» занимает тема ценностей: как в
понимании Риккерта, так и в возражении и собственной точке зрения Шпета,
который считает, что позиция неокантианца двойственна (от
кантианства и от Лотце). Напомню, что немецкий философ, врач и
естествоиспытатель Лотце использует понятие ценности как философскую
категорию. Для него платоновские идеи обладают ценностью, и сам
он полагал, что ценности идеальны по своей природе, не
существуют, но значимы, сверхчувственный мир идей предстает как мир
ценностей. Внешний мир — это бесчисленные материальные явления
«самодеятельного духа», которые обретают смысл, значение,
внутреннюю ценность только в силу «законов собственной его сущности». Он
видел «близкое сродство между внутренноценящим разумом и
художественной фантазией <...> Обе эти высшие способности — великое
сокровище нашего внутреннего бытия», они существенно отличны от
науки, и «нравственные начала каждой эпохи всегда одобрялись духом
иначе, нежели истины положительного знания: в них высказывалось
живое чувство внутренней оценки»51. На примере «Оснований
практической философии», где рассматриваются ее принципы,
«основоположения деятельности», свобода воли, осуществление этических
идей, индивидуальная жизнь, общество и государство, можно видеть,
что для исследования этих, как бы мы сегодня сказали — социально-
гуманитарных, проблем Лотце широко применяет категории, вклю-
50 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 450—451.
51 Лотце L Микрокозм. Ч. 1-3. М., 1866-1867. Ч. 1. С. 308, 309; Лотце Г. Основания
практической философии. СПб., 1872.
48
Раздел I
чающие различные ценностные смыслы. Это формы деятельности,
обладающие «непосредственно ясною и абсолютною ценностью»,
«безусловно ценная цель», «принцип удовольствия», «нравственное
достоинство», «само в себе благо», «ценности/неценности», «верное
измерение интереса», и другие. Обсуждая вопрос о способе
существования ценностей, он пишет, что «ни ценности, ни неценности,
которая была бы присуща какой-нибудь вещи в себе, вовсе не существует;
и та, и другая существует лишь в виде удовольствия или
неудовольствия, которое испытывает обладающий чувствительностью дух»;
«никакой такой ценности в вещах и в их условиях не имеется»,
«непосредственным приговором нашего чувства устанавливается определенная
градация этих ценностей». И тут же им утверждается нечто другое,
позволяющее предположить признание объективных предпосылок
ценностей: с помощью наслаждающегося духа «ценность, заготовленная
в вещах, вызывается к действительному существованию»; «дух,
испытывающий удовольствие, все-таки не из себя самого производит
отличительные характеры различных чувств удовольствия»52. Очевидно,
что главные идеи Лотце близки Шпету, они должны «вывести из
субъективизма», и, главное, здесь понятие ценности — «вопрос особого
бытия идеального предмета».
Не рассматривая всех аспектов обсуждения проблемы у Риккер-
та, отмечу, что признание самостоятельного мира ценностей — это,
как мне представляется, метафорически выраженное стремление
понять, утвердить объективную (внесубъектную) природу
ценностей, способ выражения его независимости от обыденной
оценивающей деятельности субъекта, зависящей, в частности, от
воспитания, вкуса, привычек, недостатка информации. Ценности — это
феномены, сущность которых состоит в значимости, а не
фактичности; они явлены в культуре, ее благах, где осела, окристаллизо-
валась множественность ценностей. Соответственно, философия
как теория ценностей исходным пунктом должна иметь не
оценивающего индивидуального субъекта, но действительные объекты —
многообразие ценностей в благах культуры. Выявляется особая роль
исторической науки, изучающей процесс кристаллизации
ценностей в благах культуры, и, лишь исследуя исторический материал,
философия сможет подойти к миру ценностей. Утверждая, что
философия истории имеет дело именно с ценностями, исходя из
логики истории, Риккерт дает своего рода типологию ценностей в этой
области знания: «Это ценности, на которых зиждутся формы и
нормы эмпирического исторического познания; во-вторых, это ценно-
Лотце Г. Основания практической философии. С. 9.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 49
сти, которые в качестве принципов исторически существенного
материала конституируют саму историю; и в-третьих, наконец, — это
ценности, которые постепенно реализуются в процессе истории»53.
Метод отнесения к ценности выражает сущность истории, но
в таком случае возникает проблема «научной строгости» этой
области знания. Риккерт не сомневается, что история может быть так
же «научна», как и естествознание, но лишь при соблюдении ряда
условий, позволяющих ученому избежать Харибды «пожирающего
индивидуальность генерализирующего метода» и Сциллы
«ненаучных оценок». Во-первых, теоретическое отнесение к ценности,
осуществляемое трансцендентальным субъектом, следует отделять от
практической оценки, даваемой индивидуальным субъектом. В
своей логической сущности это два принципиально отличных акта, и,
если история имеет дело с ценностями, поскольку многие объекты
рассматриваются как блага, она не является все же оценивающей
наукой. «Отнесение к ценностям остается в области установления
фактов, оценка же выходит из нее»54. Во-вторых, вслед за А. Рилем он
признает, что «один и тот же исторический факт, в зависимости от
различной связи, в которой его рассматривает историк,
приобретает очень различный акцент, хотя объективная ценность его остается
той же самой»55. В-третьих, индивидуализирующая история,
пользующаяся методом отнесения к ценности, также должна
заниматься исследованием причинных связей, хотя бы для изображения
индивидуальных причинных отношений, но методический принцип
выбора существенного и определения причинных связей в истории
зависит в полной мере от ценностей56. Наконец, в-четвертых,
благодаря всеобщности культурных ценностей «уничтожается произвол
53 Риккерт Г. О понятии философии // Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998.
С. 202-203.
54 Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. С. 94. См. также Риккерт Г.
Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое введение в
исторические науки. СПб., 1997. С. 294.
55 Там же. С. 95.
56 Там же. С. 97. См. также комментарий Т. Г. Щедриной: «Риккерт перенес идею
долженствования в область теоретического разума, рассматривая истину не как
"сущее", отображаемое в человеческом познании, а как "ценность", которая имеет
своей "экзистенциальной" предпосылкой утверждающую и "признающую" волю.
Что касается Г. Лотце, то исходным понятием его аксиологии является понятие
"значимости" (Geltung). Риккерт дает ему субъективистическую интерпретацию, как
бы "заменяя" им платоновский онтологизм и реализм в понимании идеи. Однако,
по верному замечанию Г. Шпета, данное понятие может вывести из субъективизма,
указывая лишь на "особое бытие идеального предмета", как это было, например,
у Гуссерля». — Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005.
Комментарии. С. 675.
50
Раздел I
исторического образования понятий», т. е. именно эта всеобщность
является основанием объективности. Таким образом, Риккерт
предложил плодотворный подход к изучению методологии наук о
культуре, истории в частности, с учетом их ценностной природы, а также
фундаментальных проблем значения (значимости), смысла,
понимания и истолкования57. Представляется, что в этих рассуждениях,
часто расцениваемых как отрицание причинных зависимостей,
находит свое отражение реальное соотношение когнитивного
(суждение факта) и ценностно-нормативного в любом процессе познания.
За идеалистическими представлениями о «трансцендентных
всеобщих ценностях», «абсолютных нормах» и оценках стоит
реальный факт существования в культуре идеалов и норм научно-
познавательной деятельности, ее предпосылок и оснований. Имея
культурно-историческую природу, они предстают затем в сознании
как некие до- и внеопытные, внесоциальные сущности, т. е.
априорные и трансцендентные по терминологии и представлениям
Канта и неокантианцев. Неокантианцами ставится и по-своему
исследуется также вопрос о необходимости дополнения причинно-
познавательного подхода ценностно-нормативным, определяющим,
соответствуют ли имеющиеся представления идеалам и нормам,
которые для них имеют абсолютный, вечный характер. В эти идеалы и
нормы (трансцендентные ценности) они включают вслед за Кантом
не только этические и эстетические, но и логические суждения,
которые должны быть подвергнуты соответствующим оценкам. Позже,
как известно, логические оценки перестанут рассматриваться как
имеющие отношение к ценностям, и «восстановление» их в этих
правах произойдет лишь в наше время, когда будет осознано, что логико-
методологические нормативы, принципы и идеалы (т. е. логические
оценки в широком смысле) имеют свои социокультурные
основания, существуют и функционируют в познании лишь в единстве с
философско-мировоззренческими предпосылками и идеалами.
Какова позиция Шпета, изложенная кратко в «Письме»?
Обсуждается вопрос об историческом субъективизме, методологическое
признание которого не кажется неизбежным. Безусловно, полагает
философ, «историк, изучая определенную эпоху или какой-нибудь
исторический институт, в своем целом — полный и завершенный, в
разные эпохи самого изучения выдвигает на первый план своего
изложения разные моменты того целого, в зависимости от интересов
57 Следует отметить, что из отечественных историков высокую оценку идеям
неокантианства в этой области, а также М. Веберу еще в советское время дал А. Я. Гуревич.
См. Гуревич Л. Я. История историка. М., 2004. С. 110—112.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 51
собственной эпохи <...> Правда, я и это не называл бы
"субъективизмом", а, скорее, историческим релативизмом, но, может быть, это
вопрос только терминологии»58. Однако это вопрос не только
терминологии — проблема историзма как релятивизма широко обсуждалась,
особенно в эти годы, в Германии. По К. Манхейму, исследующему
историзм («Историзм», 1924), он не является модой или
«искусственным изобретением». Это органически сформировавшееся
мировоззрение, которое лежит в основе современной науки и научной
методологии, а также логики, эпистемологии и онтологии. Манхейм
полагает, что само становление историзма связано с идеей эволюции
(Э. Трельч), однако простая регистрация факта изменения,
«мобильности» обычаев, религий, институтов еще не раскрывает сути
историзма. Базируясь на таком представлении, мы приходим только к какой-
либо из форм релятивизма, но не историзма как основополагающего
и унифицирующего принципа. Именно историзм в его
методологически зрелой форме обеспечивает, по Манхейму, научное, объективно
истинное познание, предотвращая ошибки вульгарного релятивизма.
Манхейм предлагает свое объяснение существующему в
философии отождествлению историзма и релятивизма, которое мне
представляется вполне убедительным. Он исходит из того, что «идея
стойкой идентичности, вечного тождества и априорного характера
формальных категорий Разума составляет суть философии
Просвещения; ей историзм угрожает уже самим своим появлением»59.
«Идеал вековечного тождественного Разума» — это руководящий
принцип эпистемологии, выстроенной post factum, на основе
методологии «точных» наук. Именно такой «сконструированный
статический Разум» допускает формальные структуры и твердые
правила, «утопию надвременной системы стандартов и ценностей».
Таким образом, релятивизм возникает из-за несоответствия между
новым пониманием структуры познания, учитывающим
«прагматические, внетеоретические устремления человека», и еще не
овладевшей этим пониманием теорией познания. Но если в качестве
исходной взять «динамическую область истории», то возникает
совершенно другая по своим принципам теория познания60, кото-
58 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 457.
59 Мангейм К. Очерки социологии знания. Теория познания — мировоззрение —
историзм. М., 1998. С. 125-126.
60 Там же. С. 125—129. Манхейм особенно настаивал на том, что «только историзм,
который занят поиском правды самой истории и который стремится к тому, чтобы
выяснить связь между фактом и ценностью, может иметь подлинный интерес к
проблеме истории и социологии мысли». Там же. С. 137.
52
Раздел I
рую и стремится разработать Манхейм. Однако нельзя сказать, что
эти вопросы были им решены в полной мере, поэтому к ним вновь
и вновь возвращаются, тем более что сегодня актуализировались
проблемы методологии социального и гуманитарного знания.
В «Истории как проблеме логики» Шпет обратил внимание еще
на одну идею Риккерта — о том, что «формулы» прогресса, или
его «законы», также суть «формулы ценности»', само понятие
прогресса есть понятие ценности, «точнее говоря, понятие о
возрастании либо уменьшении ценности, и поэтому о прогрессе можно
говорить лишь тогда, когда уже предварительно имеется критерий
ценности»61. Шпет не согласен с этим, полагая, что понятие
прогресса связывается с ценностями только при кантианских
предпосылках, по постулатам практического разума, а не по законам
природы. В действительности «ничего нет противоречивого в
идее "прогресса", устанавливаемого не по "критериям ценности",
<...> допуская измерения имманентного, внутреннего порядка,
где критерием является непосредственное сравнение каждых двух
последующих моментов; в таком случае легко обойтись даже без
"идеала". <...> Раскрытие, актуализация всякой потенции может
рассматриваться как прогресс, и такой процесс можно изображать
физически или метафизически, исторически или философско-
исторически, обходясь без всяких "ценностей", которые всегда
останутся для объяснения внешним привнесением»62.
Уже во второй части «Истории как проблемы логики», в
заключении главы, посвященной Риккерту, Шпет делает окончательные
выводы по поводу его концепции ценностей. «Его теория
индивидуализирования логически несостоятельна и основывается на
смешении ряда элементарных логических понятий, — доказывает ли
он, что "отнесение к ценности" заменяет в истории теорию? <...>
Риккерт не показал, почему отнесение к ценности исключает
теоретическое познание истории, хотя бы даже индивидуализирование
оказалось необходимым методом истории. Остается таким образом
единственная возможность: может быть, предмет истории,
изучаемый в его однократности, исключает возможность теории?»63.
Шпет не может с этим согласиться, и в «Письме» он реализует
другой подход, обращаясь к сути дела — фактичности и
объективности исторического знания. «Всякий исторический факт, как fac-
61 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. М., 2002. С. 97.
62 Там же.
63 Там же. С. 992.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 53
tum, как временная заполненность, потому именно и
существует объективно, в реальном прошлом, как цельная и завершенная
в себе часть исторической действительности, потому и существует
<...> абсолютно, что он осуществлен. Не так, как природа, которая
не осуществляется, а просто существует (для не-теологического
мышления); в ее замкнутой системе все меняется и чередуется,
приходит и становится вновь; в ней есть только преходящее, и
возможности ее — так же бесконечны, как условно ее и их время»64.
Итак, прежде всего, что же устойчиво и не носит
«субъективистского» характера в исторической науке, на что исследователь
может опереться как на объективный факт? По Шпету, это «реальное
в истории — (уже) осуществленное; преходящее становится
предметом истории как прошедшее», и притом в единственной
возможности и в свое единственное время.
Шпет убежден, что и ценности как «интерес» могут иметь
объективные основания: «Интерес историка как интерес его эпохи,
понятно, относителен, но если "интерес" может входить в
историческую науку как методологический принцип, как pnncipium
методологического отбора или как идея, то нельзя ли тот
"интерес", который строго соответствовал бы "интересу" самой
изучаемой и излагаемой эпохи, эпохи данного factum, счесть интересом
"абсолютным"?»65. Эта позиция принципиальна для Шпета:
историческая наука имеет дело с объективно обоснованными ценностями,
которые не сводятся к произвольному предпочтению и интересу.
Это интерес самой изучаемой эпохи, интерес времени
устанавливаемого факта. Именно поэтому он не видит «логических (не
психологических или социально-психологических) оснований к тому,
чтобы современный историк в изложении, скажем, древней истории не
мог стать на точку зрения или видеть ее в аспекте "интереса"» той
или иной эпохи и времени, тем более уже исследованного и
обоснованного известными учеными — например, Нибуром, Момм-
зеном, Буркхардом, Эд. Мейером. Итак, «нет логической
невозможности интерпретировать изучаемое прошлое и в свете абсолютно
(объективно) историческом, т. е. в свете "интереса" самой
изучаемой эпохи». Шпет не имеет в виду обычный «презентизм» — то, что
«историк должен смотреть глазами той эпохи», «притвориться» ее
современником, — но полагает возможным «логическое конечное
завершение той методологической работы интерпретации, с которой
64 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Густав
Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 457.
65 Там же.
54
Раздел I
историк начинает свое дело. Его конечная задача тогда была бы
интерпретацией установленного им факта в свете основного
"интереса" времени этого факта <...> раскрытием конечного исторического
смысла эпохи. <...> Все осуществленное содержание эпохи, таким
образом, разместилось бы вокруг основного "интереса", "смысла",
"идеи" по своим, — не "категориям", в отличие от естествознания,
и не "ценностям", в отличие от Риккерта, а по своим
специфицированным формам реализации исторического содержания»66.
Итак, ценности и интересы имеют право на существование внутри
истории как науки, сохраняя ее статус, если они основаны на такой
реальности, как «уже осуществленное», произошедшее, как интересы
времени и самой эпохи, а не узкосубъективные предпочтения
исследователя. Философ стремится найти условия, при которых интересы
могут быть вписаны в науку, логически (методологически)
исследованы, не помешают выявлению и формулированию законов, что
позволяет не выводить историческую науку из сферы генерализирующего,
номологического знания. Вместе с тем Шпет отмечает, что
«возникает новый методологический вопрос: где окончится задача собственно
истории как эмпирической науки, и где начнется философия
истории и как установить систему названных форм? Но это
действительно новый вопрос, формально же, во всяком случае, историк кончит,
как начал: интерпретацией. И в этом его коренное отличие от
натуралиста, чего Риккерт все-таки не увидел, а между тем, отсюда-то и
вытекает все своеобразие исторической науки»67.
И в «Письме», и в предыдущих работах по исторической науке
одна из главных задач Шпета, не потерявших актуальности и
сегодня, — выявить специфику естественных и гуманитарных —
исторических, филологических и других наук, прежде всего формулируя
логические и методологические различия. Эту позицию он
обосновывает тем, что «методология, исходя из принципиального
признания "плюрализма" наук и их методов, должна в своих интересах
требовать такого же плюрализма "теорий познания". Самой
роковой ошибкой для логики является спешное перенесение
методологической характеристики одной науки на другую. Не "теория
познания", а теории познания — вот что нужно методологии. "Теории
познания" в этом смысле суть прежде всего теории методов
исследования, с помощью которых предмет из предмета "исследования"
превращается в предмет познания. "Теории познания" суть тео-
66 Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 года // Указ.
соч. С. 458.
67 Там же.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 55
рии наблюдения, самонаблюдения, эксперимента, истолкования
и т. п.»68. Обращение Шпета к герменевтике и ее истории вызвано
не только глубоким интересом к этой проблеме и написанием ее
истории — до сих пор единственной в нашей стране, но и
уверенностью в том, что герменевтика является «своей теорией
познания» для истории, в таком качестве ее и необходимо разрабатывать.
Она — связующее звено между учением о методах исторического
исследования и методах изложения (основные понятия
герменевтики — сообщение и понимание). На этой почве философ и
разрабатывал специальную историческую герменевтику и специальную
логику исторической науки. А если верно, как утверждал Шпет, что
история — основа всех эмпирических наук, то герменевтика в
качестве теории познания может лечь в основу их всех69.
Эта идея Шпета о специальных «теориях познания»,
соответствующих той или иной науке или типам наук, принципиальна,
так как не принимает упрощенный вариант позитивистской идеи
«единства наук», опирается на логические и методологические
особенности исторических, вообще социально-гуманитарных наук,
спор о чем продолжается и сегодня. Этот подход не был известен
по работам Шпета даже отечественным методологам и философам
науки, но сама идея понята современными эпистемологами в
разных странах и успешно реализовалась во второй половине XX в.
Так, в конце XX в. на двадцатом конгрессе философов (1998) о
научном знании размышляли многие участники и в самых различных
контекстах, общая эпистемология (теория познания) вовсе не была
в центре внимания. Большинство секций, заседаний обществ,
симпозиумов этого направления обсуждали проблемы специальных
эпистемологии, таких, как социальная, религиозная,
феминистическая, моральная. Успех имели обсуждения, посвященные
проблематике эволюционной, а также «натурализованной», по Куайну,
эпистемологии. Секрет успеха, на мой взгляд, в том, что
исследования в области «эволюционной эпистемологии» имеют имидж
«научности», поскольку вписывают эпистемологию в
психологическое, т. е. естественно-научное, знание, а также благодаря давнему
стремлению американского аналитика противостоять
«культурному релятивизму» с помощью программы психологически
интерпретированного эмпиризма. Проблема истины — одна из главных
в теории познания — была представлена также в самых различ-
68 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды М., 2005. С. 247.
69 Там же.
56
Раздел I
ных ее аспектах и контекстах. Это истина и религия, когерентная
теория истины, истина в литературе, истина в социальном знании,
аппроксимация истины, образование и истина, ценность истины,
трансформация «свободы как истины» в «истину как свободу»,
истина и постмодернизм и другие. Очевидно, что собственно
гносеологическая аналитика истины сменилась экзистенциальной и
научно-методологической.
Подводя итог, отмечу, что глубина исследования данных
проблем, логическое и обстоятельное историко-философское
обоснование самого анализа, зрелый методологический анализ природы
исторических, в целом социально-гуманитарных наук в отличие
от естествознания делают исследования Шпета, к сожалению, до
сих пор не ставшие в полной мере достоянием современной
отечественной и зарубежной эпистемологии и философии науки,
серьезным вкладом в философию и методологию этой сферы знания.
Осуществлено дальнейшее развитие самой логики и ее
понятий в сочетании с общегносеологическими и методологическими
аспектами, в контексте исторического знания. Развитие
осуществлялось как уточнение их содержания, функций и применения в
гуманитарном знании, в процессе применения метода историзма, а
также в споре с неокантианцами и позитивистами.
По существу, Шпет обосновывает важный для социально-
гуманитарных наук методологический принцип — внимательное
и точное, профессиональное соблюдение канонов логики и
эпистемологии как условие и основание его научной строгости.
Такой подход к исследованию социальных и гуманитарных наук
мне представляется эвристическим — строгие требования логики,
как общей, так и специфицированной и уточненной для
предмета науки, выверенные методологические принципы исследования
безусловно могут стать общими критериями научности социально-
гуманитарных дисциплин, где невозможны приемы верификации,
формализации, математизации, существующие в естествознании.
Сам Шпет так прямо вопрос не ставил, но это следует из всех его
работ по истории как проблеме и предмете логики, также и из
«Письма» известному российскому историку.
Б. И. Пружиним
Семиотическая перспектива методологии
гуманитарных наук Густава Шпета
Предпосылка моих рассуждений, определяющая и их
характер, и их направленность, следующая: отличительная
особенность русской философии XIX—XX вв. состоит в
идейной ориентации на феномен общения (на
поддержание взаимных отношений) как на безусловную, т. е.
самодовлеющую ценность. Я не буду здесь уточнять и обсуждать сам
этот тезис. Я попытаюсь показать, что, имея его в виду, можно
прояснить ряд аспектов русской философии, раскрыть их полное
содержание и обнаружить актуальность и значимость для дня
сегодняшнего. В данном случае речь пойдет о семиотическом подходе
к методологии как особой проблемной сфере, о тех перспективах,
которые семиотические идеи Шпета открывают для решения
современных внутри методологических проблем.
Густав Густавович Шпет как методолог развивал по
преимуществу феноменологические и герменевтические идеи. К
аналогичным идеям обращается и современная методология, причем
отнюдь не только методология гуманитарных наук. Можно даже,
пожалуй, сказать, что именно вокруг перспектив, сложностей и
проблем, открывающихся перед методологией в результате
обращения к герменевтике, в значительной мере вращается теперь
современная эпистемологическая проблематика. В этом плане
ход мысли Шпета представляет для нас очевидный интерес. Но
при этом, подчеркну сразу, дело отнюдь не сводится к тому, что
Шпет был одним из первых русских философов, обратившихся к
идеям Э. Гуссерля, а феноменология является достаточно
последовательной философской дорогой к герменевтике. Значительно
больший интерес сегодня представляет для нас уникальный опыт
его собственного идейного движения к идеям феноменолого-
герменевтической методологии. Ибо траектория его пути к этой
1 Работа выполнена при финансовой поддержке ΡΓΗΦ. Проект № 07-03-00278а.
58
Раздел I
методологии отлична от достаточно хорошо известных ныне
идейных траекторий.
Во-первых, он, как известно, не принимал позитивистскую и
неокантианскую философию науки, и, соответственно, его
методологические идеи не имеют прямого отношения к нынешнему
постпозитивизму и попыткам последнего ассимилировать идеи
герменевтики. Во-вторых, его осмысление феноменологии имело
ряд весьма интересных с современной точки зрения особенностей.
И опять-таки дело не только в том, что Шпет, в силу, так сказать,
объективных причин, не находился внутри этих мощных
интеллектуальных традиций. Дело, на мой взгляд, прежде всего в том, что
Шпет, будучи по своему профессионализму вполне европейским
философом, тем не менее был ориентирован в своем творчестве
тематическим строем русского философского сообщества. В
частности, рассматривал познание в неразрывной связи с контекстом
общения. И я попытаюсь здесь указать хотя бы на некоторые пункты,
где ориентированные таким образом методологические идеи Шпета
несут в себе возможность новых перспектив в исследовании
современных методологических проблем, позволяя по-новому
посмотреть на возникшую в современной методологии ситуацию. В чем,
замечу, современная философско-методологическая рефлексия над
наукой остро нуждается. Об одной из таких перспектив, связанной
с его идеей «исторической семасиологии», я буду говорить ниже.
Философско-методологические исследования науки сегодня
прямо вышли к тем проблемам, которые до середины XX в.
обсуждались в основном в области методологии гуманитарных наук,
или, как их называл В. Дильтей, наук о духе. При этом историза-
ция и гуманитаризация современной методологии ныне не
просто расширяются, захватывая все новые ее разделы, они как
бы интенсифицируются; они пошли, так сказать, вглубь
методологии — на уровень положительного исследования научно-
познавательной деятельности средствами самой науки. Еще не так
давно верхом радикализма казалось обращение философов науки
к концептуальному аппарату социологии и социальной
психологии, а сегодня стали привычными обращения к
концептуальному аппарату и методам наук откровенно гуманитарных. В
основу историко-методологического анализа науки кладутся теперь
концептуальные подходы, вроде этнометодологии, социальной
эпистемологии и пр., на фоне которых работы «классических»
постпозитивистов (Т. Куна, даже П. Фейерабенда, не говоря уж об
И. Лакатоше) выглядят как нечто вполне традиционное.
Нынешние методологические исследования науки зачастую вообще пред-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 59
ставляют как один из вариантов литературоведения. Я отнюдь не
противник также и такого подхода к методологическим проблемам
науки, когда научное знание рассматривается как тип литературы,
но очевидно, что наука, даже гуманитарная, нуждается в
самосознании, более четко и общезначимо ориентирующем
познавательную деятельность ученых.
В контексте господствующих ныне исследований науки в
методологии сформировался такой ее образ, в рамках которого все
научное знание, без различий по предмету и методу, предстает
социально и культурно относительным и исторически изменчивым.
Именно таким образом, через отнесение к историческим
контекстам, преодолевается здесь, во-первых, известное различие между
естественными и гуманитарными науками, т. е. достигается
единство научного знания по методу, каковым и предстает
герменевтика. А само гуманитарное знание, во-вторых, все более «гумани-
таризируется», изживая вместе со своими комплексами научной
неполноценности и всякое уважение к традиционным стандартам
объективности. При этом стали поговаривать даже о том, что
теперь именно гуманитарное знание следует рассматривать как
образец и стандарт для точного естествознания.
Это движение к методологическому единству научного познания
через его историко-культурную релятивизацию сталкивается с рядом
весьма серьезных проблем. Дело в том, что в рамках такого рода
методологии все функционирующие в науке представления о
действительности, вне зависимости от их эпистемологического статуса, предстают
как, в общем, равноправные проекции самых различных
социокультурных контекстов научно-познавательной деятельности на
природную и социальную действительность. При этом из рассуждений
методологов практически полностью исчезают такие понятия, как истина
и объективность. Возникает ощущение, что методологи уже готовы
обсуждать взамен проблемы истины проблему «научной правды»,
которая, разумеется, у каждой интерпретации своя.
Однако дело в том, что наука есть сфера деятельности людей,
ориентирующихся на рационально обоснованные стандарты. Так
по крайней мере ее осознают те, кто эту деятельность
осуществляет. Если познание в таком обосновании не нуждается, то это точно
не научное познание и, скорее всего, не познание вообще. С другой
стороны, если философские конструкции не пытаются даже
рационально обосновывать общеобязательность ориентиров познания,
то эти конструкции, во всяком случае, не являются
методологически значимыми. Коль скоро речь идет о философском осмыслении
науки, которое претендует на роль методологии, то оно должно вы-
60
Раздел I
поднять (прямо или косвенно) какие-то методологические,
ориентирующие познание функции, фиксирующие условия истинности
знания. Между тем тенденции к культурно-исторической
релятивизации знания ведут к фактическому отказу от этих функций,
т. е. предполагают уход методологии из плана долженствования в
план описания науки. Что и приводит современную методологию
в тупики релятивизма. Многообразие внешних контекстов
оборачивается произволом в выборе детерминант познания. Для
философской методологии это фактически означает либо
самоликвидацию (ибо вообще отпадает необходимость противопоставлять в
познавательном плане науку и, скажем, миф), либо ориентацию на
поиск способов как-то ограничить релятивизацию знания к
социокультурным контекстам. В последнем случае сегодня
предпринимаются не очень удачные попытки апеллировать к весьма широко
понятым социально-прагматическим соображениям, которыми
общество ориентирует науку (очень напоминающим «общественно-
историческую практику» у К. Маркса — вот почему, в частности,
в советской эпистемологии так безболезненно были усвоены идеи
Т. Куна). Но в любом случае такая методология фактически
компенсирует отсутствие четкости в определении стандартов
научности произвольной локализацией и прагматизацией социальных и
культурных требований к науке.
В контексте этой проблемной ситуации как раз и
представляет весьма большой интерес шпетовская версия теоретико-
познавательной проблематики феноменологии, и, в частности,
в данном случае — один из пунктов этой версии, связанный, так
сказать, с идентификацией методологии, с определением ее места
в познании и определением сферы ее компетенции. Шпет уделял
этому вопросу достаточно большое внимание. Но в наиболее
концентрированной форме его отношение к методологическим
проблемам нашло выражение в статье «История как предмет логики»
(1922). В данном случае важно, как формировалось это отношение.
Шпет пришел к идее герменевтической методологии, прямо
опираясь на идеи, высказанные Гуссерлем, в частности в «Логических
исследованиях» и «Идеях I». Но его книга «Явление и смысл» — это
не пересказ Гуссерля в просветительских целях, это творческое
изложение, причем под волновавшую его историческую тематику и с
достаточно сильным сдвигом акцентов в сторону социальности. Шпет
акцентирует важные, с его точки зрения, положения
феноменологии. И, в частности, он акцентирует также и то, что, на мой взгляд,
принципиально важно для нашей темы — он акцентирует, так
сказать, «уважительное» отношение к «жизненному миру» ученого, к
Идейное наследие ГУстава Шпета: опыт философских интерпретаций 61
реалиям его научно-познавательной практики, к тому, что реально
делает ученый, на что ученый реально ориентируется, что он
считает важным в познании. И, как это ни парадоксально, это «уважение»
обусловлено именно экзистенциальной нагруженностью идеи
общения в русской философии как философии «положительной».
Именно это «уважение» к позиции людей, реально творящих науку (на
чем я настаиваю как на действенном факторе идейного
становления Шпета-методолога), делает понятным то, как он позиционирует
себя по отношению к явно представленным тогда, в начале
прошлого века, методологическим течениям — неокантианству и
эмпиризму (в основном в его классическом варианте).
Шпет в целом критически относился к этим течениям. В том
числе и по отмеченному выше параметру. Конечно, абсолютно
неверным было бы упрекать неокантианство (и его марбургскую
школу, в особенности) в «неуважительном» отношении к науке
вообще. Равно как и методологический эмпиризм во всех его формах.
Речь о другом. И в случае неокантианства, и в случае позитивизма
«уважение» к науке не исключало того, что реальность научно-
познавательной практики ученого представлялась лишь как объект
критического анализа и, в конечном счете, реконструкции. С точки
зрения этих течений, наивные взгляды ученых на их собственную
деятельность следовало преодолевать, для чего и разрабатывались
критико-рефлексивные методологические программы
преобразования (очищения) науки. Для Шпета же методология — это, по
своей сути, «уяснение методов»2, т. е. постижение их сущности
через анализ реальной практики ученого.
Опираясь на такое понимание методологии, Шпет прежде
всего отводит конструктивистский, по сути, тезис (явно
неокантианский) о примате метода, «т. е. убеждение, что сам предмет науки
логически конструируется методом». Но он не принимает в этом
вопросе и позицию эмпиризма, полагающего, что методы
науки задаются исключительно особенностями эмпирически данной
предметной области исследований. И не принимает ее прежде
всего в силу откровенного психологизма этой позиции. Чтобы его
преодолеть, Шпет и обращается к феноменологии. Его привлекала
провозглашенная Гуссерлем возможность возвращения к непсихо-
логизированному опыту, т.е. возможность, с одной стороны,
возвращения к «самим вещам» (как оппозиция неокантианству) и, с
другой, обещанная Гуссерлем возможность обращения к опыту как
непосредственному усмотрению сути вещей.
2 Шпет Г. Г. Что такое методология наук // ОР РГБ. Ф. 718. К. 22. Ед. хр. 14.
62
Раздел I
Позиция Шпета по отношению к эмпиризму в трактовке метода
удерживается здесь тем, что логика для него не есть эмпирическое
обобщение научной практики, что она, «будучи наукой о науках, не
есть эмпирическая наука о них»3. Тем самым он сохраняет за логикой
право на методологическое предписание (на план долженствования).
Если все же «верно убеждение логики, — подчеркивает Шпет, — что
во всякой науке столько науки, сколько в ней логики, то логика
должна лежать в основе методологических научных построений, а не
быть системой обобщений из данных научного развития»4. Эта
оценка роли логики не возвращает его к неокантианству; она означает,
что научный метод, сообразовываясь с предметностью, с «самой
вещью», данной в интуиции, не теряет своей логической природы и
связанных с этой природой познавательных функций.
Но здесь Шпет сталкивается с той самой проблемой, которая в
несколько ином виде стоит перед современной нам методологией:
какими культурными задачами формируются логические
структуры познания, ориентированные на предмет? И, соответственно,
под каким углом зрения должно развертываться методологическое
осмысление этих структур и путей их формирования? Иными
словами, в контексте трактовки Шпетом роли логики в научном
познании, с одной стороны, а с другой стороны, в контексте его
феноменологической трактовки опыта перед ним, естественно, возник
вопрос: что является «методологически существенным» в научном
освоении предметности? На что ориентируется логика,
«приспосабливаясь» к предмету? Или чем ограничена конструирующая,
социокультурная по своей природе деятельность субъекта познания?
Как попытался ответить на этот вопрос Шпет? Феноменология
рассматривает язык в качестве одной из вещей. И такой способ онто-
логизации языка ведет, в ходе исследования реальных
познавательных актов, к разработке сверхсложных концепций промежуточных
сетей знаков. В начале XX в. это стимулировало создание
семиотических концепций (Пирс, Соссюр). К концу XX в. эта тенденция
«превратила» весь мир в знаково-символическую систему и
полностью закрыла возможность возвращения именно к тому, к чему так
настойчиво призывал вернуться Гуссерль, — к «самим вещам».
Шпет, исходя в целом из идей Гуссерля, тем не менее
рассматривал язык не как вещь среди вещей и не как промежуточный знак,
указывающий на мир определенным образом и тем самым заслоня-
3 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. Отв. ред. и сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 213.
4 Там же. С. 213.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 63
ющий этот мир вещей, но как условие (далеко не психологическое
только) общения. Для Шпета важно, что постижение самих вещей,
предполагающее их умозрение, в научном познании должно быть
выражено для другого и обосновано для другого. Иными словами,
постигнутое нами знание о вещи должно быть выражено и может
быть усвоено только с помощью знака-слова (по Шпету, слова-
понятия). В решении этой познавательной задачи, в выражении и
обосновании знания обнаруживают себя реальные познавательные
усилия человека, реальная деятельность ученых, реальная история
науки. Представленное в языке знание должно рассматриваться
философией как система знаков, укорененных в исторически
подвижной социокультурной среде и, конечно же, заслоняющих
обозначаемую ими вещь, но при этом имеющих смысловое ядро, до
которого необходимо добраться в движении к самой вещи. Ибо цель
выражения и обоснования знания — общение и понимание. Вот эту
задачу, по Шпету, решает историческая семасиология, пытающаяся
вскрыть все смысловые слои знака-слова (которое принципиально
есть отношение знака-значения). И, решая эту задачу, семасиология
входит как важнейшая составляющая также и в методологию науки.
Таким образом, Шпет фактически выявляет принципиально
важный сегодня аспект научно-познавательной деятельности,
релевантный разработке методологии. Опираясь на
феноменологические процедуры, но учитывая, в отличие от Гуссерля,
«социальность», т. е. ориентированность познания на общение, Шпет видит
то, что способно направлять процессы логического
структурирования знания. Он не может принять пустую форму мысли (чистую
логику) в качестве принципа, системообразующего знание, но не
может принять в этом качестве и неоформленный поток опыта
(переживаемое содержание). И задается вопросом:
«Действительно ли мы стоим перед дилеммой: познавать только идеальное, а в
действительности только жить?»5. Преодолевая эту альтернативу,
он ищет посредствующее звено. При этом повторяю — он реалист
в понимании науки. Он пытается найти тот реальный план
(контекст, если угодно) познавательной деятельности, где процессы
открытия и обоснования знания соотносятся друг с другом в
выполнении некой необходимой (сущностной, существенной для
познания) познавательной функции. И эту функцию он определил
как план «выражения» или «изложения» (сегодня он бы, наверное,
сказал: «коммуникативный аспект познания»).
5 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. С. 219.
64
Раздел I
Именно к этому плану познавательной деятельности и обращена
прежде всего методология, именно в нем и «располагается» она по
Шпету: «Всякое изложение сопровождается более или менее ясным
сознанием путей и средств осуществления науки, а иногда и
обсуждением. Методология есть "собрание" таких анализов, в свою
очередь, приведенных в систему»6. Шпет имеет здесь в виду тот этап
познавательной деятельности, когда ученый ориентируется не столько
на истинность логически организованных систем знания и не
столько на образные, в значительной мере личностно-психологические
формы представления предметного мира, сколько, и прежде всего,
на «интеллигибельную интуицию», ориентированную потребностью
изложить, выразить, словесно представить и сделать понятным для
другого то, что исследователь наполовину обосновал как истину,
наполовину почувствовал как реально существующую сущность. «Ни
чувственный опыт, — констатирует Шпет, — ни рассудок, ни опыт в
оковах рассудка, нам жизненного и полного не дают. Но сквозь
пестроту чувственной данности, сквозь порядок интеллектуальной
интуиции, пробиваемся мы к живой душе всего сущего, ухватывая ее
в своеобразной, — позволю себе назвать это — интеллигибельной —
интуиции, обнажающей не только слова и понятия, но самые вещи,
и дающей уразуметь подлинное в его подлинности, цельное в его
цельности, и полное в его полноте»7.
Естественно, такая трактовка «предмета» методологии
обязывает Шпета указать на посредствующее звено между логикой и
опытом — на некую реальность существования знания с вполне
объективированными структурами. Мне кажется, он именно это имеет
в виду, когда говорит о «внутренней форме слова» в более поздних
своих работах. Несложно проследить, что понятие «внутренняя
форма слова» появляется в методологических работах Шпета, как
правило, тогда, когда он так или иначе указывает на неявную
логичность всего нашего мышления. Мы можем рассуждать
совершенно неупорядоченно, мы можем развертывать наши мысли
непоследовательно, мы можем что-то опускать, но за всем за этим,
как внутренний фон, как внутреннее основание наших
рассуждений, стоят логические формы. Однако именно «стоят за»,
образуют фон. Ибо, когда мы начинаем выстраивать наше мышление по
всем требованиям логики, мышление как познание заканчивается.
В процессе же познания, в динамике осмысления слово опирается
6 Шпет Г. Г. Что такое методология наук // ОР РГБ. Ф. 718. К. 22. Ед. хр. 14.
7 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
М., 2005. С. 39.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 65
на внутреннюю форму, позволяющую соотносить предметность и
логичность с целью изложения. Вот здесь, по Шпету, и
формируются методологические процедуры. Именно в этой области Шпет
и говорит о методе как таковом — о сфере приложения
герменевтики.
Герменевтика у Шпета не относится к процессу добывания
знания, она — не о поисках истины. Она — об «изложении». Так Шпет
выделяет ту область, где работают методологические процедуры.
И применительно к этой области он рассуждает на
методологические темы — о значении, о соотношении предметных областей
различных наук и прочем. А проблематику методологического
обсуждения задает здесь вопрос о средствах, позволяющих «различить
номинативную функцию слова, resp. номинальную предметность
слова, и функцию семасиологическую, resp. смысловую
предметность». Последняя и интересует методолога, ибо через нее
познание, погруженное в социально-исторический контекст общения
и в ходе этого общения, прорывается к «самой вещи». При этом
историзм у Шпета не перерастает в методологический релятивизм,
ибо «историческая семасиология», снимая слой за слоем
исторические наслоения с языка науки, движется к смысловому ядру слова,
т. е., преодолевая его неупорядоченную множественность
значений, ведет нас не в дурную бесконечность многообразия историко-
культурных контекстов, но к «самой вещи».
Мне кажется, эти выводы из прочтения шпетовской
гуманитарной методологии весьма значимы для современной философско-
методологической рефлексии над наукой. Они естественным
образом вписываются в современные эпистемологические
дискуссии, задавая в них нерелятивистскую перспективу. По Шпету,
само понятие методологии меняется. Методология уже не рисует
один-единственный путь, по которому можно и должно
познавать предмет. Здесь как раз допускается плюрализм возможностей
и подходов. Нормирование остается в области выражения. А сама
методология уже лишается того абстрактного методологизма,
против которого выступал Гадамер, но сохраняет функцию
внутреннего ориентира для ученого в процессе его познавательной работы.
Такое понимание методологии имеет очевидный смысл для
гуманитарной науки, именно как науки. Ибо в этом случае методология
опирается на реальную историю познания, на исторический анализ
науки, на ее смысловой анализ, ориентирующий ученого в
историческом хаосе; методология задает ему ориентацию на внутреннюю
форму самого научного исследования как на должное.
H. С. Автономова
Проблема философского языка
у Густава Шпета'
Вопрос о философском языке — или, иначе, о понятийном,
концептуальном языке, о том, как философия видит язык,
на каком языке сама она говорит, — в наши дни
остродискуссионный. Он так или иначе вплетен в канву
современных споров о современной философии, о ее возможностях и
перспективах: должна ли философия следовать рисунку фантазии,
воображения, ставя акцент на чувстве и переживании, или же
скорее поддерживать в культуре то, что имеет отношение к познанию,
стремящемуся к объективности, — этой фундаментальной
ценности западной культуры, без которой она не может себя сохранить?
В первом случае вопрос о языке фактически задвигается на задний
план и на авансцену выходит борьба с «языковым панцирем»
мысли как помехой ее спонтанному движению. Во втором —
приоритетным становится вопрос о языке (языках) как о средстве
артикуляции содержаний, без которого никакая развитая мысль не может
себя выразить. Соответственно разнятся и формы существования
философии: они подходят то ближе к искусству и эстетическим
формам бытия, то ближе к гуманитарной науке и свойственным ей
более артикулированным формам выражения мыслительного
опыта. В свое время Шпет защищал философию как знание, с чем
далеко не все соглашались. Еще острее стоит этот вопрос в наши дни,
когда в обстановке потери опор философия рискует вновь
потеряться — где-то между литературой и проповедью. В течение десяти
последних лет обращение к шпетовским трудам было для меня
отрадой, а его трактовка того, что я называю здесь проблемой
философского языка, — важной опорой. А потому здесь я постараюсь
проследить, как проявляет себя у Шпета эта проблема в трех важ-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта ΡΓΗΦ. Проект № 09-03-
00107а.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 67
ных для меня аспектах: в истории философии, взятой в культурном
контексте эпохи; в анализе опорных понятий социальных и
гуманитарных дисциплин; наконец, в практиках перевода как особой,
привилегированной формы бытия мысли в культуре. Все эти
проблемные блоки сообщаются друг с другом и подпитывают друг
друга в общем русле тематики языка и языкового бытия культуры.
Проблема философского языка в истории русской философии. Речь
об этом идет прежде всего в «Очерке развития русской философии»2.
И при жизни Шпета, и в наши дни рецепция этого труда всегда была
неоднозначной, особенно в том, что касалось его критики
утилитаризма и морализации в русской интеллектуальной культуре, с одной
стороны, и неразработанности того, что мы сейчас можем назвать
концептуальными языками, с другой. Как известно, созданию этой
работы предшествовал проект 15-томной хрестоматии по истории
русской философии3. От реализации проекта хрестоматии пришлось
отказаться, и Шпет принялся за «Очерк», включив в него огромный
материал, который отчасти остался в виде нерасшифрованных
отсылок. В связи с подготовкой книги «Познание и перевод. Опыты
философии языка»4 мне довелось поднять и вновь проанализировать
целый ряд исторических источников, с которыми работал Шпет при
написании «Очерка»; на мой взгляд, они не только подтверждают
общую линию шпетовской аргументации, но подчас дают материал для
еще более заостренного взгляда на вещи — не ради критики как
таковой, но ради будущего русской культуры. Можно только сожалеть
о том, что этот проект не воплотился в жизнь: если бы эмпирические
источники шпетовских концептуализации были предъявлены
читателю в развернутом и систематизированном виде, то и вопросов
относительно его реконструкций и интерпретаций было бы меньше.
«Каковы бы ни были качества моей работы, — писал Шпет об
«Очерке», — хотя бы частично она оправдывается количеством
захваченного мною материала. Все-таки в этом отношении моя работа остается
первою. Лишь после нее мне ли или кому другому можно будет пу-
2 Далее по тексту — «Очерк».
3 Речь идет о проекте большого коллективного труда под общей редакцией Г. Шпета.
См.: Щедрина Т. Г. Комментарии // Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное
наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 680. Подбор фрагментов из
текстов (с XVIII в. по текущий момент) должен был дать читателю материал для
ответов на вопросы: существует ли «русская философия»? в чем она заключается?
как западная философия служит для разработки ее собственных проблем? как
развертывается самостоятельное творчество в области философской мысли? И т. д.
Именно эти вопросы были затем поставлены и в «Очерке».
4 См.: Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты философии языка. М., 2008.
68
Раздел I
скаться в более скрытые глубины и "контекста", и самого
философского русского слова»5. Эти глубины (исторический контекст и
философское слово: и то и другое трактуется, заметим, не экстенсивно,
а интенсивно, не вширь, а вглубь) являют нам двуединый ориентир
шпетовского подхода к истории русской философии. Первое —
постановка в нужный контекст: именно она определяет историчность
или неисторичность наших подходов и суждений, причем
ближайшим контекстом исследований в данном случае Шпет
считает исследование образования, просвещения, науки в философско-
историческом свете6. Второе — то, что как раз и интересует нас здесь
прежде всего: русское «философское слово», или, иначе, русский
концептуальный язык. За этим скромным упоминанием — огромная
по значимости программа. Затрудненное, периодами противоречивое
становление «русского философского языка», по Шпету, выступает
как горизонт, в котором и происходит развитие русской философии7.
Именно с наличием или отсутствием, развитостью или
неразработанностью базовых концептуальных языков Шпет связывает
начальные условия формирования философской мысли — и на
Западе, и в России. Метафорически говоря, Россия предстает в «Очерке»
как страна без «отчества», сирота в европейской семье: европейцы
были вписаны в контекст культурного преемства начиная с
античности, тогда как в России древнеболгарский язык, на который
некогда переводилось Священное писание, не был языком большой
культурной традиции, а потому нас от этого наследия уводил. Хотя
нас и крестили по-гречески, «язык нам дали болгарский. Что мог
принести с собой язык народа, лишенного культурных традиций,
5 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина.
М., 2008. С. 44.
6 Шпет хотел дополнить уже начертанные траектории мысли историей литературы
и историей духа. «Если бы не необходимость писать другие вещи, после русской
философии написал бы очерк русской культуры и духа русского, проследил, как
понимали у нас Пушкина и как к нему относились, и это на фоне всей нашей
умственной и художественной жизни — по дороге философской теории накопляются
материалы, и это очень увлекательно — я бы и больше собрал, если бы не боялся
отвлечься еще больше, чем отвлекаюсь все время». Ранее: «дух наш определяется не
Петром и Пушкиным, а отношением к ним». Густав Шпет: жизнь в письмах. С. 360.
Как видим, Шпет здесь, в частности, ставит вопрос о рецепции как важнейшем
показателе зрелости культуры: в этом он намного опережает современную ему мысль
о культуре и познании (философию и методологию науки).
7 Выступая на Всемирном философском конгрессе в Бостоне в 1998 г. с докладом
на тему «Создание и (пере)создание русского философского языка», я столкнулась
с весьма неоднозначным восприятием моего тезиса о необходимости развития
русского концептуального языка; утешало то, что на этом пути я оказалась
попутчицей Шпета.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 69
литературы, истории?»8. И эта понятийная, концептуальная
неразработанность языка сказывалась в русской культуре еще долго,
покуда литературный опыт Жуковского и творчество Пушкина9 не
смогли в конце концов покончить с «болгарским туманом». Тут
возникает целый комплекс вопросов. Прежде всего, немалое
количество исследователей несогласны с таким мнением: Россия не только
не была отрезана от античного наследия, но, напротив, могла
воспринять его и более непосредственно, и более интенсивно, нежели
латинизированный Запад (а если чего и не восприняла, то тем лучше
для нее). Однако, подчеркивает Шпет, в положительной части
своего тезиса эти люди принимают желаемое за действительное. Другая
сторона дела — то, что в наши дни могло бы быть названо
отсутствием должной политкорректное™, и нам стоит иметь это в виду.
Разве не все языки равны? Ведь на каждом возможна, например,
прекрасная лирическая поэзия. Однако, заметим, не на каждом языке
возможен философский трактат: для того чтобы такая возможность
появилась, нужно время и терпеливые, целенаправленные усилия.
Сейчас ситуацию нехватки концептуальных средств и насущную
необходимость быстрого развития концептуальных языков так или
иначе переживают бывшие республики Советской России, ныне
образовавшие отдельные государства, а также бывшие страны
«народной демократии», давно или совсем недавно вошедшие в новую,
расширенную Европу. И потому повсюду этот языковой вопрос —
не есть удел прошлого, но острый сюжет настоящего. Что же
касается древнеболгарского, то он не только не был для русского
человека живым, развивающимся языком («русская мысль, оторвавшись
от источника, беспомощно барахталась в буквенных сетях
"болгарского" перевода»), но со временем — в ситуации разрыва между
русским как языком обыденного общения и языком церковных
преданий и святоотеческих писаний — становился все более непонятным,
причем привычка к буквализму в чтении подчас приводила к
закреплению субстанциалистских привычек в понимании метафор и ино-
8 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. С. 55.
9 Интерпретация творчества Пушкина у Шпета в ряде моментов подчеркнуто
полемична и заслуживает отдельного анализа. Замечу, что шпетовская трактовка
как нельзя более актуальна, особенно на фоне недавнего юбилея, когда Пушкин
попал в водоворот эпидемии разнообразных идеологизации — в частности, как
выразитель определенных религиозных настроений и как гласитель мистических
тайн народного духа. Шпет трактует Пушкина как «случайность», а отношение к
Пушкину (Писарев: зачем нам Пушкин? Какая от него польза?), напротив, как
неслучайность, как закономерность, дающую возможность поиска констант в
развитии русской культуры. См.: Письма Г. Г. Шпета к Н. И. Игнатовой (1921) //
Густав Шпет: жизнь в письмах. С. 355—356, 358—360.
70
Раздел I
сказаний. Весь этот комплекс социально-культурных, социально-
психологических, концептуально-языковых обстоятельств, вместе
взятых, и был преградой на путях российского «просвещения»10.
Наконец, вот еще что. В России периоды относительной открытости к
Западу и относительной самозамкнутости чередовались; однако
очевидно, что даже петровская эпоха, положившая открытость Западу
во главу угла и начавшая политику интенсивных переводов в самых
разных областях, не смогла преодолеть ситуацию
неразработанности языка. Какого языка? Шпет говорит — «литературного языка»11,
однако это требует уточнения: речь, по сути, идет о концептуальном
языке, о различных концептуальных языках, о нехватке научной
терминологии (или же о «недостатке слов в изображении терминов»),
но также и об отсутствии соответствующих потребностей у читателя.
При этом, как мы видим, вопрос о языках античной
культуры был для Шпета не проходным, а магистральным. Эту линию
«Очерка» поддерживают и другие его тексты. Так, в одном из
писем он развертывает целую программу образования, основанного
на уяснении опорной роли латинского и греческого языков — в
познании своих собственных языков и своего культурного
наследия, а также в связи с этим на преимуществах филологии (наряду
с математикой) среди других дисциплин12. Латынь и греческий вы-
10 Насчет его отношения к свету: «Ложь — плоха не сама по себе, а потому, что она
(1) источник, (2) последствие неясности. <...> Всякий уход в темноту и есть грех.
<...> Воскресенье из мертвых = всего освещение». Письмо Г. Шпета к Н. Игнатовой
от 11 февраля 1921 года // Густав Шпет: жизнь в письмах. С. 353.
11 Ср.: «Россия не вышла еще из того состояния, когда у народа нет своего
литературного языка»; «неразработанность русского литературного языка» (курсив
мой. — Η. Α.). Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. С. 65, 63. Понятие
«литературный язык» укоренено в российской терминологической традиции;
например, во Франции lettres — любая словесность, при всей развитости в этой культуре
того, что мы называем «художественной литературой».
12 «...все науки, все знания делятся на две группы: одни науки основываются на
математике, другие — на языкознании (на филологии). Кто овладеет достаточно
математикой и филологией, может потом прочесть любую книгу и приступить к
изучению любого вопроса. Вместе с тем, обе эти науки таковы, что, по крайней
мере, начала их трудно, иногда невозможно пройти без школы и учителя. Потому-
то, обе эти науки и должны составлять основу всего среднего общего образования.
История, география, физика и др. — только добавочный материал, сообщающий
полезные сведения, но такие, которые легко и потом узнать, раз есть у человека
научные основания и умение обращаться со знанием». См.: Письмо Г. Шпета к дочери
Леноре от 16 декабря 1919 г. // Густав Шпет: жизнь в письмах. С. 290. Далее Шпет
объясняет дочери, зачем нужно изучать языки, прежде всего — классические,
латинский и греческий: они нужны для того, чтобы с их помощью выработать приемы
для изучения любого языка. Ведь «кто знает язык, тому все доступно: и жизнь, и
поэзия, и искусство, и мысль того народа, чей язык он знает». Там же. С. 291.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 71
ступают как «ключ ко всем живым языкам», а также как путь — к
знакомству не только «с культурой (искусством, мыслью, знанием,
философией, поэзией, общественной жизнью, религией) греков
и римлян», но тем самым — с тем, что «лежит в основе всей нашей
культуры»^. Таким образом, при этом речь здесь идет не столько о
языке как таковом, но о том, что опосредованное языком владение
культурным и мыслительным наследием позволяет применять
новые концептуальные средства к собственным российским
проблемам, о том, чтобы говорить своим голосом, в своей тональности,
не фальцетом, не форсируя, не грассируя, не срываясь на
мистический шепот о софийно-несказанном. У Пушкина, подчеркивает
Шпет, это получилось. Пушкин, напомню, не списывал своих
затруднений на счет исторически сложившихся языковых и
культурных дефицитов, самостоятельно боролся с тем, что он называл
отсутствием «метафизического языка» (то есть понятийного языка
абстракций), призывая к тому же своих друзей и
единомышленников. Где и как вырабатывается этот арсенал культурных, этот
кладезь мыслительных средств? Для Пушкина полем выработки этих
культурных мыслительных средств были собственные сочинения,
дружеская переписка, переводы14.
Вызревание культурной потребности в рефлексии и создание
русского концептуального языка — это, по Шпету, фактически
двуединый процесс. Если европейская культура оттачивала свои
рефлексивные ходы на материале становящихся наук и самой
философии, то в русской культуре ближайшими доступными, но не
заемными предметами рефлексии оказались литература и язык.
После того как в России возникла своя литература (непрагматичная,
неморалистичная и неутилитарная), потребовалось рефлексивное
осознание и уяснение этого творчества, а это было прямым
побуждением к развитию философии. В России именно материал
литературы и языка был той почвой, на которой могла строить и
вырабатывать себя рефлексия. Создание русского метафизического языка
дало шанс будущей рефлексии, помогло чувствам и состояниям
становиться артикулированной мыслью. Осознавая себя как нечто
самоценное, литература в русской культуре (особенно романтическая
литература XIX в.) дала шанс для выхода за собственные пределы и
тем самым подтолкнула к развитию мысли. Этимологически слово
«рефлексия» предполагает движение через загиб и возврат на свои
13 Там же.
14 Об этом см., в частности: Автономова Н. С. Познание и перевод. Опыты
философии языка. М., 2008. С. 519-521.
72
Раздел I
следы. Сообразно с этой этимологией Шпет так и употребляет это
понятие: «рефлексия на что-то» (это управление для нас сейчас
утрачено, мы говорим «рефлексия о чем-то» или реже —
«рефлексия чего-то»). Рефлексия предполагает умение мыслить свободно и
вместе с тем дисциплинированно — возвращаясь на уже сделанные
ходы мысли, проверяя их обоснованность. В более общем
философском плане можно сказать, что рефлексия для Шпета влечет за
собой тему отношения к другому в процессе выработки своего.
Вообще свое не есть нечто «собственное» и субстанциональное (эта
тематика есть и у Деррида): оно не изначально, не дано нам по праву
рождения, это — результат работы, которая не имеет конца, причем
каждое поколение эту работу переделывает. Фактически у Шпета
именно тема вызревания в культуре рефлексии одновременно с
выработкой «метафизического языка» показывает возможность
разрешения парадокса: как выработать свое, не отказавшись от общего,
оставшись в пространстве общезначимого, а это актуальный вопрос
для всех современных поисков идентичности.
Тем самым история реализует изящный культурный парадокс:
«романтизм» меняет место в культуре — из чувства он становится
философской задачей, требующей рассеять сумерки спонтанных
переживаний: «Критика как чувство переходила в мысль. Сама
рефлексия входила в состав спонтанного обнаружения русского
духа»15. Сентиментализм Карамзина, пишет Шпет, гласил о
новом — о полновластии человеческих чувств, однако его новшества
еще нужно было «прикрепить к своему дичку»; Жуковский уже
поставлял новые культурные принципы, правда, пока еще «не
одомашнивая» их, и только у Пушкина «русская стихия становилась
<...> идеей, а русская идея была его стихией»16. Эти пассажи тоже
читаются в наши дни с не столь уж редким непониманием. Однако
здесь мы не видим ни отказа от морали, ни пренебрежения
эстетическим, но прежде всего осознание фундаментальной
значимости для мысли и для культуры познавательной, самоосознающей,
рефлексивной составляющей, которая (по крайней мере в Европе)
и становится ее стержнем.
Другая плоскость, в которой перед нами предстают
проблемы интеллектуальных языков, — это функционирование социально-
гуманитарного знания. Некогда я вышла в эту плоскость,
рассматривая формы и процессы идентификации, самоопределения
коллективных сущностей, как они запечатлены в проблематике
15 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. С. 326.
16 Там же. С. 329.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философе»« интерпретаций 73
современных социальных и гуманитарных дисциплин. Исходной
задачей для меня был анализ феномена «этнодетерминизма» или,
иначе, перехода от прежних социальных объяснений общества,
культуры, сознания, души и др. к объяснению их этническими и
национальными факторами и обстоятельствами. В поисках
философского ключа к этим явлениям современной российской
культуры я обратилась некогда к работам Шпета, и прежде всего — к
«Введению в этническую психологию». В них (в другую эпоху и на
другом, хотя и смежном материале) исследовались сходные
механизмы функционирования сознания, порождавшие явления,
которые выше были названы «этнодетерминистскими»; они лежат в
основе разного рода идеологизации. Одним из эффективных
путей противостояния этим многообразным идеологизациям был
для Шпета анализ того, что он называл ошибками понимания и
выражения смысла, связанными прежде всего с понятийной
омонимией. Речь идет о расчленении совмещенных и тем самым
спутанных, «превращенных» значений таких важных для
социального и гуманитарного познания слов и понятий, как «субъект», «я»,
«народ», «дух», «душа» и др. Так, одним и тем же словом «я» могут
одновременно (или последовательно) обозначаться вещь среди
вещей окружающего нас мира; психофизическое я, которое
реагирует на раздражения, исходящие из среды; я как душа, как некая
определенность человеческих сил и состояний и др. Все эти
значения должны быть расчленены — в контекстах их употребления и в
принципе — так сказать, на уровне словаря понятийной лексики.
Проводимый Шпетом анализ понятий философского языка и
языков социальных и гуманитарных дисциплин не является ни
узко-логическим, ни узко-лингвистическим. В наши дни то, что
предполагает и осуществляет Шпет, можно было бы, наверное,
назвать изучением философских или социально-гуманитарных нар-
ративов на уровне смыслового содержания их составляющих или
же особым модусом изучения философских дискурсов, при
котором в центре внимания оказываются контекстуальные вариации
смыслов, в принципе приводящие к образованию различных
философских понятий. Шпет говорил в подобных случаях о
синонимии и чаще — об омонимии. Некоторые исследователи (например,
В. Молчанов17) считают неуместным использование в подобных
случаях самого термина «омонимия», подчеркивая, что
лексическая омонимия (существование слов, тождественных по форме и
различных по смыслу: ср. ключ как «бьющий из земли источник
17 См.: наст изд. С. 84—85.
74
Раздел I
воды» и «металлический стержень особой формы для отпирания
и запирания замка») не есть омонимия понятийная. Однако
несомненно, что в данном случае шпетовское понятие омонимии не
тождественно обычному лексическому значению этого слова: оно
представляется более широким и потому применимым и
различным философским смыслам, зафиксированным общей
лексической формой. Вряд ли здесь плодотворен спор о словах: как бы мы
ни называли само явление неразличения существенных аспектов
смысла, сколько бы ни размышляли над вопросом о границе между
оттенками общего смысла и принципиально различными
смыслами, представленными общей материальной формой, в любом
случае очевидно, что последствия таких понятийных смешений для
интерпретации чужой мысли и формулирования своей могут быть
тяжелыми и трудноисправимыми. А потому дифференциацию
понятий, схваченных одинаковыми лексическими формами,
следует, полагаю, считать необходимой составной частью социально-
гуманитарного исследования того или иного предмета. В подобном
опыте разведения понятий, очевидно, заложен большой
положительный заряд возможностей для борьбы с идеологизацией общих
понятий, которая слишком легко происходит при бесконтрольном
скольжении смыслов.
Например, для изучения исторических предметов,
принципиально важный момент — наличие разных значений у термина
«общий». Здесь Шпет вычленяет те планы значений слова «общий»,
которые соответствуют в немецком словоупотреблении словам
Gemeinschaft и Gesellschaft, а в латинском соответственно communis
(по-русски «общный») в отличие от generalis (по-русски «общий»),
отмечая, что даже Риккерт, много размышлявший о специфике
гуманитарного познания, неправомерно оставил этот важный вопрос
в стороне. Понятие общности так или иначе относимо ко многим
историческим предметам, в частности тем, что связаны с
происхождением, владением, подданством и др. Во всех этих случаях
«общное», по сути, выступает как индивидуальное18. Задача
исследователя — систематически выявлять структуру этих особенных
предметов гуманитарного познания, учитывая, что используемые
при этом понятия не подчиняются логическому правилу об
обратном соотношении объема и содержания; структура этих предметов
есть, прежде всего, — конкретность, в которой каждая
составляющая предстает как часть в строении целого.
18 Письмо Г Г. Шпета к Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 г. // Густав
Шпет: жизнь в письмах. С. 455.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 75
Такие исследования понятий не остаются лишь в сфере языка:
они идут от языка к мысли и ко всей культурной ткани. Как
подчеркивал некогда В. Ф. Асмус относительно Шпета, язык для него
(как и для героя одной из его книг — Гумбольдта) выступает как
основное, опорное явление в сложной системе культуры, как
«прототип, образец и аналог» культурных и социальных процессов19.
И это вполне соответствует общему повороту внимания «всей
науки и всей философии к языку», при том, что язык является «одной
из фундаментальнейших тем и задач современной научной и
философской мысли» и, в частности, источником тем, важнейших для
лингвистики, логики, истории и других дисциплин.
Отдельная тема, которую можно в этой связи лишь наметить, —
концептуальная взаимосвязь между некоторыми
методологическими тезисами Шпета и некоторыми концептуальными разработками
Якобсона, Трубецкого, других представителей пражского
структурализма. Она проявляется прежде всего в трактовке идей структуры
и целостности у Романа Якобсона. Как видно по сохранившимся
письмам, Якобсон, знакомый со Шпетом еще со времен
Московского лингвистического кружка, глубоко уважал Шпета, читал его
работы, следил за публикациями, стремился вовлечь его в
сотрудничество. В частности, он предпринимал попытки включить
Шпета в работу вновь организованного в Праге и просуществовавшего с
конца 1920-х по конец 1930-х гг. журнала «Славянское обозрение»20.
Обычно западные исследователи локализуют понятие
структуры у Якобсона и Трубецкого где-то на полпути между структурой
и целостностью, связывая неопределенность статуса этого
понятия с пережитками романтической идеологии, не позволившей
Якобсону и Трубецкому быть последовательно научными в своих
трактовках структуры. Думаю, что подход к этому вопросу
Шпета (а тем самым, в силу очевидного концептуального влияния,
отчасти и Якобсона) имеет своей основой, так сказать, не
романтическую идеологию, но иную (не собственно аналитическую, не
соссюровскую) методологию. Структура для Шпета — не
абстрактная модель, произвольно определяемая лишь «точкой зрения»
исследователя, но конкретное построение. Она лежит не в области
статики, но в области динамики, не в плоскости воспроизводства
логических связей, но в плоскости смены состояний целого; она
19 Асмус В. Ф. Философия языка Вильгельма Гумбольдта и интерпретации
проф. Г. Г. Шпета // Вестник коммунистической академии. Кн. XXIII. 1927.
С. 250-265.
20 См. Письма Р. О. Якобсона к Г. Г. Шпету // Густав Шпет: жизнь в письмах.
С. 502-506.
76
Раздел I
предполагает не собственно логические изменения
(преобразования, трансформации), но скорее определенную динамику целого,
осуществляемую через особые соотношения частей между собой и
частей с целым. Отмечу, что вопрос об изменении структуры Шпет,
в отличие от условной догмы структурализма, всегда считал
вполне законным и даже необходимым при изучении структур.
«Изменение структуры — что и есть исторический процесс, "развитие",
и т. п. — совершается через усиление и, так сказать, выпячивание
одного члена, ослабление другого, поглощение функций соседнего
и т. д., в результате чего меняется целое, переходя из одного
состояния в другое. Поскольку здесь речь идет о реальном историческом
процессе, все привычные в естествознании понятия: причины,
фактора, условий и пр., должны быть применительно к новому
понятию предмета наново анализированы и, где нужно,
модифицированы в своем смысле»21. В работах Якобсона 1920-х гг. и более
позднего периода структура тоже предполагает аспект
исторических изменений, что не соответствует более поздним (или
параллельным — абстрактно-логическим) догмам статического
структурализма. Тем самым и Шпет, и Якобсон имеют дело с тем, что
мы могли бы назвать «открытой структурой», которая фактически
лежит в основе пражского структурализма, весьма отличного от
других подходов статического структурализма,
абсолютизировавшего замкнутые структуры. Это лишний раз подкрепляет мысль
о воздействии на Якобсона не только идеи целого, высказанной в
«Логических исследованиях» Гуссерля, но и собственного подхода
Шпета к проблеме структуры как неразрывно связанной с
моментами динамики и изменения. Для нас здесь принципиально важно,
что структура у Шпета — динамичная, но вовсе не неопределенная:
она есть, она должна изучаться, так как без определения структуры
научного предмета его познание вообще невозможно.
Во всех этих операциях Шпет выступает как историк, как
филолог, но прежде всего — как философ, который видит
взаимодействия всех этих дисциплин. Шпета открыто признает опору
гуманитарного познания на филологию, его, если угодно, неустранимый
филологический акцент. Шпету случалось цитировать немецкого
филолога Германа Узенера: филолог — тот, кто идет впереди
историка («филолог — пионер историка», или, иначе говоря, он первым
селится в той неисследованной стране, куда потом приходит
историк), но при том историк — «дважды филолог». Ведь прочитав тот
21 Письмо Г. Г. Шпета к Д. М. Петрушевскому от 16 апреля — 6 мая 1928 г. // Густав
Шпет: жизнь в письмах. С. 455.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 77
или иной текст «филологически», историк подвергает его
вторичной интерпретации, трактует те или иные реальные факты (будь
то «призвание варягов», «убийство Цезаря» или «смерть Карла
Великого») как «знаки, слова, символы», требующие расшифровки,
определения тех или иных реальных сущностей, а за ними —
социальных групп, социальных отношений, организаций и т. д. В
познавательном смысле для нас прежде всего важно то, что исторический
предмет никогда не дается нам в непосредственном восприятии:
он представлен лишь в свидетельствах — документах, памятниках,
актах, показаниях и т. д. А потому в историческую науку (а также в
другие гуманитарные науки, сопряженные с историей)
неустранимо входит вопрос о значениях тех или иных социальных и
гуманитарных фактов и явлений22. По Шпету, это семасиологический, или,
можно сказать, семиотический аспект знания о человеке.
Наконец, третий аспект рассмотрения — перевод и проблема
философского языка. В шпетовские времена проблема перевода еще не
приобрела той широты, которые она имеет в наши дни. Однако у
Шпета намечены все важнейшие моменты тех превращений этой
проблематики, которые ознаменовали собой нашу современность,
и прежде всего — основания для переосмысления роли языка в
механизмах мысли. Отношение к проблеме перевода определяется
Шпетом и в истории философии, и в современном
функционировании этого вида практики и познания. Как известно, у Шпета
был огромный переводческий и редакторский опыт23.
Последующая, развертывавшаяся на протяжении всего XX в. цепочка
переосмыслений языковой проблематики постепенно выдвигала в
философии на первый план понимание, диалог, коммуникацию и,
наконец, перевод. В наши дни проблема перевода — как
концептуального ресурса понимания, как опорного механизма культуры и
познания — становится первостепенно значимой областью для
современной философии и методологии науки, не говоря уже о более
широкой сфере истории культуры и познания. Однако это превра-
22 Там же. С. 450.
23 Укажу только основные его переводы: это «Основные положения теории
познания» Эйслера, «Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания»
Риккерта, «Современные идеи о детях» Бине, «Описательная психология» Дильтея
(пер. с нем. Е. Д. Зайцевой, под ред. Г. Г. Шпета), «Феноменология духа» Гегеля.
Шпет был соредактором (вместе с А. А. Смирновым) первого издания полного
собрания сочинений Шекспира (1936—1941). Редактировал роман «Анна Каренина»
в переводе на английский язык. На протяжении последних лет Шпет занимался
художественными переводами, работая с издательствами «Академия», «ГИХЛ»,
«Детгиз», «Молодая гвардия» (см. об этом: Густав Шпет: жизнь в письмах. С. 716).
После ареста и ссылки его имя было вычеркнуто и надолго забыто.
78
Раздел I
щение не проходит гладко и беспроблемно. Чем дальше, тем
больше набирают силу явления, которые я назвала бы идеологиями
непереводимости — уже не как отдельные философские построения,
встречавшиеся и раньше, но как общие позиции. Эти идеологии
пытаются представить себя как адекватную форму осмысления
современных практик перевода и мысли о переводе. Эти концепции,
ставящие во главу угла непереводимость, предполагают акцент на
сложностях перевода (которые и правда существуют, и даже в
избытке), на принципиальной недоступности «референтов», а в этой
связи — на якобы отсутствии «оригиналов», с которыми можно
было бы сверять переводы, и, стало быть, о равноправии всех
переводов, функционально определяемых вовсе не оригиналом, но
лишь потребностями той или иной эпохи. Такая установка, замечу,
полностью аналогична последовательному познавательному
релятивизму в философии и методологии науки.
Однако шпетовский анализ истории и современных практик
перевода таких тенденций не поддерживает. Шпет писал о переводах,
о тех, кто делал переводы, сам много переводил и редактировал.
Так, например, «Очерк» насыщен свидетельствами усилий
переводчиков прошлого, а также тех историков и филологов, которые
собрали для нас материал о том, как шли эти культурные
процессы, с какими трудностями они сталкивались. Он кропотливо
собирал информацию о том, кто, что, когда, при каких обстоятельствах,
в рамках каких организационных структур и как переводил,
ссылался на работы по истории перевода в рамках истории культуры и
познания. Пусть казалось, что проходили века: см. например,
выразительные свидетельства о переводах Платона в России XVIII и
XIX вв. Переводили плохо, тяжеловесно, увязая в словах, чураясь
смыслов, но разве можно перевести это лучше, когда у нас не было
концептуального языка24, не было слов, способных противостоять
24 Примеры переводов Платона — яркое тому свидетельство. Так, В. Н. Карпов,
переводчик Платона в XIX в., критически пишет о своих предшественниках, Пахо-
мове и Сидоровском, переводчиках Платона в XVIII в.: они выражались «слишком
педантски, без нужды облекая мысль философа в славянские формы», и яснее
видели и выдерживали «значение слов, нежели мысли», однако, отмечает Шпет,
и сам Карпов от ненужных славянизмов еще не избавился, да, спрашивается, «с
тогдашним русским языком можно ли было сделать что-нибудь удачнее?».
Огромной проблемой было и отсутствие просвещенного читателя, который бы имел вкус
и потребность в чтении. Даже когда, казалось бы, переводили много, читать все
равно было некому: «Отпечатанные экземпляры кучами валялись в типографии и
на складах, сбывались под макулатуру или сжигались. Читателя не было. Но — что,
может быть, было еще важнее — языка не было». Шпет Г. Г. Очерк развития русской
философии. I. С. 65, 64.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 79
тяжеловесным славянизмам? Сделать удавалось, казалось, очень
мало, «недостаток слов в изображении терминов» приводил
переводчиков XVIII в. в отчаяние; однако то, что все же получалось,
становилось национальным достоянием, потому что давало
возможность формулировать мысли, вести дискуссии, читать и
переводить наследие мировой философской мысли. Процесс
выработки философского языка, становления концептуальных языков в
разных областях познания, был трудным и нелинейным.
Шпет не только изучал чужие переводы, но и делал свои,
причем в поздний период творчества переводческое творчество в
философии выходит для него на первый план. В предисловии «От
переводчика» к «Феноменологии духа» Гегеля25 лаконично
представлен целый ряд филологических, исторических, философских
вопросов перевода. Стилистическая манера Гегеля, отмечает Шпет,
сложна для перевода: его письмо причудливо, его синтаксис
подчас небрежен, его повторяющиеся местоимения далеко не всегда
доступны недвусмысленной расшифровке, при том что в этот уже
осложненный язык вторгаются то пласты тяжеловесной
архаической лексики, то яркие афоризмы почти публицистической
риторики. Но самые серьезные затруднения все же возникали по поводу
вопросов собственно терминологических. Прежде всего, возникала
сложность в достижении единства в ткани словесного выражения:
проблема заключалась в том, что путешествие духа, его
восхождение по ступеням предполагали, с одной стороны, сохранение раз
избранных терминов, а с другой — необходимость как-то отметить,
что речь идет уже о новом этапе и новых смыслах. Таким образом,
в ткань переводческой работы вторгался вопрос об интерпретации
и комментарии, об их месте и об их уместности. Разумеется,
перевод — не комментарий: он требует не пространных объяснений, а
нахождения соответствующих адекватных терминов.
Целый ряд трудностей при переводе «Феноменологии духа»
заключался, как отмечает Шпет, в том, что Гегель фактически
отказывался от латинской и греческой терминологии и стремился
употреблять только онемеченные термины: то есть термины обыденного
языка или же им самим изобретенные термины, которые постепенно
теряли свой искусственный вид и входили в общелитературное
употребление. Причем эта тенденция характеризует не только
«Феноменологию духа», но и другие гегелевские работы. Еще одна сложность
заключается в том, что Гегель использует систематически (то есть как
25 <Шпет Г. Г.> От переводчика // Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 1959.
С. XLVI-XLVIII.
80
Раздел I
термины) те слова, которые, строго говоря, терминами не являются:
но это значит, что они тоже требуют единообразной, согласованной
передачи. «Так как ничего похожего в развитии русского
философской терминологии не было, а для нас остается более привычной и
более понятной латинская терминология, то было бы простым
педантизмом изобретать русифицированную терминологию
параллельно немецкой гегелевской или вводить ломаные русские слова
там, где традиция не укрепилась или вовсе молчит»26. Разумеется, не
пользоваться терминами чужих языков, уже приобретшими права
гражданства, было бы нелепым пуризмом, так что если какие-то
термины явочным порядком уже закрепились в концептуальном
языке, значит, нужно было скорее всего их оставить. Правильнее
сказать, что у нас нет прочной традиции или согласованного единства
в употреблении подобных терминов. Что же касается утверждения
о том, что «ничего похожего в развитии русской философской
терминологии не было», то тут все же требуется уточнение, не столько
для Шпета, сколько для читателя: в нашей истории перевода были,
например, опыты Тредиаковского или Кантемира — как часть
общекультурного потока явной или подспудной выработки русского
«метафизического» языка. Попытки строить русифицирующую
терминологию делались в русской культуре с самого начала (я, разумеется,
говорю, не об анекдотических опытах Шишкова и его сторонников),
другое дело, что в истории мысли лишь небольшая часть этих усилий
закрепилась реальными результатами и вошла в язык, тогда как
преобладающая тенденция к латинизации терминологии осталась
господствующей на протяжении веков, причем за последние двадцать
лет постсоветской эпохи бурных переводов эта тенденция приобрела
едва ли не катастрофический размах. В любом случае главное, на что
остается здесь уповать, — это рефлексивное отношение переводчика
к собственной работе и предельная ответственность его перед
читателем, выражающаяся в осознании и экспликации принципов
подхода и осуществления своих принципов в действии. Переводческие
принципы не возникают по внешнему побуждению, но рождаются в
связи с осознаваемыми культурными потребностями.
Все рассмотренное выше имело отношение к философскому
(концептуальному, понятийному, интеллектуальному) языку в трех
планах — историко-культурном, понятийно-функциональном и
переводческом. Это были различные срезы бытия
философского языка: его возникновение (в истории), его функционирование
26 <Шпет Г. Г.> От переводчика // Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 1959.
С. LVII.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 81
(в концептуальных языках социального гуманитарного познания и
философии), его преобразования (в переводах). Однако ведь
наряду с этими объективными формами философский язык
существовал для Шпета и в субъективном модусе: как язык, которым
пользовался он сам, вырабатывая его для собственного употребления.
Философский язык самого Шпета — интересный предмет будущих
исследований. Обращаясь к тому, с чего мы начали, к «Очерку», мы
сразу же замечаем в этом тексте много интересного именно с точки
зрения специфики шпетовского философского языка. В самом деле,
эта книга — вполне академическая по способу ввода и
функционирования эмпирического материала и концептуальных схем, но
вместе с тем в ней присутствуют также и элементы публицистики,
и элементы художественной прозы. Так, Шпет не смягчает острых
эмоций (слабая, робкая мысль предстает, например, как
«колеблющиеся шаги рахитика, неуверенного в себе и не уверенного, что
ему позволяется ступить именно так, а не иначе», как «каракули по
разлинованной бумаге»), он позволяет себе яркие стилистические
вольности (прогресс в философии — это «колючая тема», «свою
задачу сузил и сгустил», «вокруг меня кипела и грохотала революция»
и др.), хлесткие портретные характеристики и др. Как соотносятся
эти функциональные пласты и уровни словесной выполненности
мысли — вопрос, не имеющий заранее очевидного ответа.
Работа над «Очерком» шла в эпоху «войны и революции», в
период хозяйственной разрухи и духовного разброда. Казалось бы, в
такое время было бы вполне уместно обратить всю силу страсти на
защиту философии как мировоззрения, как некоей высшей формы
идеологии. Однако Шпет, как уже отмечалось, делает нечто иное:
он защищает философию как знание, как творение духа,
неподвластного ни правительственным указам, ни религиозным
проповедям; он описывает становление русской философии в модусе
автономной спонтанности и одновременно вызревающей
потребности в рефлексии. В наши дни тезис о философии как знании
может показаться безнадежной архаикой — особенно тем, у кого
на слуху тезис догматического марксизма о научной философии.
И тем более это может показаться архаикой тем, для кого в наши
дни образ философии — это облако с размытыми краями, для кого
бытие философских предметов подчеркнуто расщеплено, никакой
определенности в этой области нет и быть не должно, для кого
литература выступает как сама философия, а философия — как
свободная литературная фиксация порождений нашей фантазии и
воображения. А потому больной для эпохи Шпета вопрос о том, что
являет собой философия и какой она должна бы быть, не менее,
82
Раздел I
если не более актуален и в наши дни, когда философия теряет себя
как способ внятной постановки вопросов, нацеленных на
постижение истины в разных сферах человеческого бытия.
Таким образом, тезис Шпета о философии как знании — не
архаика. Поле смыслов этого тезиса для Шпета включает, конечно,
гуссерлевскую установку на философию как строгую науку, однако
следованием феноменологическим ориентирам дело здесь вовсе не
ограничивается. Знание, о котором говорит Шпет, это не
рассудочная пропись: оно является плодом свободного творчества и
одновременно — рефлексивной направленности на те или иные
предметы, значимые в становлении той или иной культуры. Знание
не может существовать, не опираясь на концептуальные языки,
неустанно культивируемые и разрабатываемые, — не только ради
систематизации достигнутого и сбережения узнанного, но и для
разметки возможных путей к новому. Исход этой проблемной
ситуации не предрешен: какой быть философии в том или ином
историческом контексте, во многом решает сама культура и ее
носители. В финале одного из разделов «Очерка» звучит мысль о том, что
к философии как знанию нам еще только предстоит идти: это —
будущее русской культуры, это ее перспектива. Когда в 1922 г. Шпет
остался в России, отказавшись эмигрировать, он, по всей
видимости, воспринимал свое будущее как возможность выполнения этой
сверхзадачи, как шанс продолжить это движение. Однако в
течение долгих шестидесяти лет продвижение в этом направлении — в
сторону общекультурной выработки рефлексии и необходимых для
ее осуществления концептуальных языков — было ограничено: не
потому, что в философии ничего не делалось, но потому, что
этому движению в культуре мешало абсолютное преобладание
концептуальных рамок догматического марксизма. А потому сейчас, в
постсоветский период, Шпет стал для нас в каком-то смысле даже
более актуальным мыслителем, нежели он был в течение
предшествующих шестидесяти лет. Все говорят: нет пророка в своем
отечестве. И кто знает, какие еще ресурсы мы можем в своем наследии
обнаружить? Ведь, по сути, через Шпета мы получаем доступ к
небывалому для Европы опыту — условно говоря, опыту Гуссерля, не
проведенного путями Хайдеггера со всеми его соскальзываниями в
мистическое и невыразимое. Кто знает, может быть, эти наши
«запаздывания» принесут заряд положительной аналитики, уже
исчерпанный на иных путях? И тогда наш опыт не только нам
пригодится.
В. И. Молчанов
Проблема Я у Густава Шпета:
от термина к концепции
Проблема Я обретает определенность в контексте других
философских проблем — таких, как проблема единства
сознания, проблема личностного бытия (уникальность
личности), проблема отношения различных уровней
ментальной жизни (духовное Я, эмпирическое Я) и т. д.
Неопределенность самого словосочетания «проблема Я» требует,
однако, не только установления проблемного контекста, но и
семантического исследования самого термина «Я». Г. Шпет был
одним из первых, если не первым, по крайней мере в русской
философии, кто попытался соединить проблемный и семантический
аспекты исследования проблемы Я. Другой вопрос, который мы
здесь не обсуждаем, но все же намечаем: не смешивал ли сам Шпет
различные контексты этой проблемы? Концептуальный статус
Я становится предметом размышлений Г. Шпета в книге «Явление
и смысл» (1914), где речь идет в основном о проблемах единства и
бытия сознания в контексте гуссерлевской концепции чистого
сознания и чистого Я в «Идеях I». В статье «Сознание и его
собственник» (1916)1, которая является предметом нашего анализа (мы
отвлекаемся сейчас как от вопросов, обсуждаемых в упомянутой
книге, так и от вопросов, связанных с изменением позиции
Шпета), проблема Я рассматривается как в плане проблемы единства
сознания, так и в плане уникальности личности. Шпет предлагает
свое видение проблемы; при этом наряду с концептуальным
рассмотрением реализуется семантическое: Шпет анализирует разные
значения термина, критикует целый ряд учений, в том числе и
Гуссерля, в которых термин «Я» выходит на передний план в связи с
понятием единства сознания.
1 Цит. с указанием разделов по изд.: Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006.
84
Раздел I
Заявленные здесь методологические установки2 суть
следующие: 1. Отказ от теорий и обращение к непосредственному опыту.
2. Выбор в качестве исходного пункта рассмотрения понятия
омонимии. 3. Проведение различия между эмпирическим и идеальным
Я. Согласуются ли эти установки друг с другом и насколько каждая
из них находит свою реализацию в тексте Шпета.
Основное методологическое различие — между опытом и
теорией — Шпет заимствует, не ссылаясь на источник, у Гуссерля,
пытаясь реализовать гуссерлевский метод беспредпосылочности
при рассмотрении проблемы Я. «Отстранение теорий» становится
у Шпета и основным принципом критики различных теорий «Я».
Речь у него идет, в первую очередь, не о выявлении определенных
противоречий или недостатков рассматриваемых теорий, но
именно об обнаружении их теоретического статуса, что препятствует
введению «Я» как результата непосредственного опыта. Иными
словами, теория ставится под подозрение уже потому, что она —
теория.
Отказ от всех теорий ставит перед Шпетом проблему начала,
проблему исходной экспликации проблемы, которая, по его
замыслу, не должна быть соотнесена с какой-либо философской
теорией. Начиная статью в критическом ключе и пытаясь определить
источник ошибок в понимании «Я», Шпет тем не менее выбирает
исходный пункт, связанный с определенной теорией, однако не
философской, но лингвистической. Такой своеобразный
позитивизм требует ключевого понятия, которое выбирается совсем не
случайно и которое неявно подготавливает определенный вывод об
истинном значении «Я», вывод, который на самом деле является
интуитивной предпосылкой рассуждений Шпета.
В качестве исходного пункта рассмотрения выбирается
лингвистический и логический аспект проблемы Я, и это должно
обеспечить, по замыслу Шпета, строгость философского
рассмотрения. Исходным моментом экспликации проблемы «Я» выступает
у Шпета утверждение, что наше мышление «нередко попадает в
беду» из-за языка, а точнее, из-за омонимии, которая, по его
выражению, «таится, как в засаде». Среди ошибок, связанных с
омонимией, Шпет особо выделяет стремление искать их общее значение
и общий источник. «Психологически или лингвистически, —
пишет Шпет, — может быть, такой вопрос не лишен интереса, но
логически он парадоксален. <...> Омонимы не должны быть обоб-
2 Хотя она носит «дискретный» характер и имеет подзаголовок «заметки», число
которых 34.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 85
щаемы, а должны быть различаемы и детерминируемы; значение
каждого имени должно строго отграничиваться; значение, на
которое мы обращаем внимание, должно быть выделено и строго
фиксировано» (1, 264). К таким прописным истинам Шпет добавляет
весьма спорный тезис: «К числу омонимов, играющих видную роль
в философских теориях, относится термин "я"3» (1, 264).
Здесь возникает ряд вопросов, первый из которых касается
«беды» и «засады». Разумеется, омонимия в естественном языке
может создать трудности, но только в общении или при передаче
знаний, сведений, информации. Обычно она легко распознается
благодаря контексту, и, как бы ни понимать «мышление», вряд ли
омонимия может служить причиной его бед. Вопрос состоит в том,
зачем потребовалось Шпету такое чрезмерно сильное
утверждение, да еще в качестве исходного пункта? Ответ на него выявляет
указанную предпосылку: омонимия предполагает, что мы должны
выбрать значение слова, соответствующее контексту, а в случае «Я»
нужно выбрать такое его значение, которое соответствовало бы
данности в опыте. Иначе говоря, рассуждение об омонимии
термина предполагает, что можно выбрать его истинное значение.
Здесь возникает следующий вопрос: возможна ли вообще
терминологическая омонимия? Может ли термин как таковой быть
омонимом? Тождественны ли омонимия и различие в значениях
термина? Если бы это было так, то тогда любой философский
термин обладал бы омонимией, которая была бы тождественна его
истории. Различие значений терминов зависит от их
интерпретации, и различие этих интерпретаций существенно отличается все
же от строгого различия значений такого омонима, как, например,
«коса». Как бы ни различались (в различных учениях) значения
таких терминов, как «бытие», «сознание», «реальность»,
«трансцендентальный» и т. д., в том числе и «Я», их вряд ли можно считать
омонимами, ибо разные значения каждого из этих терминов
относятся к одной и той же контекстуальной сфере, в отличие от
«сельскохозяйственного инструмента» и «заплетенных волос».
Что касается поисков общего значения и общего источника,
то вопрос состоит в том, можно ли вообще «обобщать» омонимы.
Вряд ли в этом могут быть повинны лингвисты; вряд ли также
возможно отождествлять попытки определения общих
философских понятий (как бы к этому ни относиться) с обобщением
омонимов.
3 В цитатах Шпета сохранен его способ выделения на письме различных аспектов
соответствующей проблематики. — Прим. ред.
86
Раздел I
Кроме выделения вышеуказанных установок, в
методологическом плане следует констатировать немаловажное упущение
как раз лингвистического характера при постановке вопроса о Я у
Шпета, которое в определенной мере облегчает ему поиски
«абсолютного значения термина "я"» (8, 275). Речь идет об отсутствии
различия между Я как местоимением и Я как существительным.
Само по себе это лингвистическое различие не может стать
исходной точкой философского анализа, однако это различие
может указать на различие типов опыта, выраженного различными
языковыми средствами. «Я» как местоимение выражает, как
правило, непосредственный опыт, однако не опыт Я, но скорее опыт
действия и опыт прямой или косвенной коммуникации: я иду, я
вижу, я полагаю и т. д. «Я» как существительное выражает скорее
опосредствованный опыт, его структуру или субстантивацию: мое
я, человеческое я, трансцендентальное я, «я как социальная вещь»
и т. д. Вопрос как раз в том, возможен ли вообще
непосредственный опыт таких Я, не являются ли эти Я полезными или вредными
фикциями, опыт которых может быть только опытом фикций? Из
перечисленных Я только последнее не является для Шпета
фикцией. Благодаря чему оно получает иной статус?
Причисляя «Я» к числу омонимов, Шпет утверждает, что
«принятый способ различения значений этого слова (теперь "я" — это
не термин, но слово. — В. М.) состоит в мнимо-последовательном
переходе от некоторого общего к более специальному его
значению» (1, 264): от «Я» как вещи «среди вещей окружающего нас
мира» к психофизическому «Я», т. е. к психофизическому
организму, реагирующему на раздражения, исходящие из среды, а затем к
«Я» как душе, как «носителю душевных состояний человека».
«Легко видеть, — пишет Шпет, — аналогию этих значений, состоящую
в ограничении сферы я через расширение противопоставляемой
ему "среды"» (1, 265). Слово «среда» Шпет ставит уже в кавычки,
видимо, не решаясь соотносить с «душой» — т. е. с третьим
выделенным значением «Я» — некоторую среду. Если можно говорить о
среде «социальной вещи» и организма, то вряд ли можно говорить
о «среде души». Хотя Шпет пишет о «принятом способе
различений» и употребляет безличные выражения: «говорят», «переходят»,
«приписывают», — легко увидеть, что этот переход от вещеобраз-
ного «Я» к «Я» как потоку психического бытия был предложен
Гуссерлем в Логических исследованиях, в тексте, который Шпет не мог
не знать.
У Гуссерля речь идет не о поисках общего значения омонима, но
о различии уровней опыта одного и того же преобразующего себя
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 87
сознания. Гуссерль фиксирует различные установки, в рамках
которых «Я» может принимать различные значения. Первая из этих
установок — обыденная: «Я в смысле обыденной речи есть
эмпирический предмет — собственное Я, так же как чужое и всякое Я,
точно так же как любая физическая вещь, как дом или дерево и
т. п. Научный подход может затем весьма сильно изменить понятие
Я, но если он избегает фикций, тогда Я остается индивидуальным
вещеобразным предметом, который, как и все такие предметы, не
имеет феноменально никакого иного единства, чем то, какое
придается ему посредством согласованных феноменальных свойств,
единство, получающее основание в собственном содержательном
составе этих свойств»4. Очевидно, что именно это рассуждение
Гуссерля послужило для Шпета основой содержательного
рассмотрения проблемы Я: по Шпету, Я — это прежде всего индивидуальный
предмет, а все «абстрактные» значения Я — «субъект», «личность»,
«душа» — дают нам не подлинное, но «поддельное Я», т. е. фикцию.
Однако Шпет не последовал далее за гуссерлевскими
рассуждениями. Для Гуссерля «эмпирическое Я» как вещеобразный предмет
лишь исходный пункт восхождения к «феноменологическому Я»
как потоку переживаний. Обсуждая проблему единства сознания,
Гуссерль констатирует, что само по себе отнесение переживаний
к одному переживающему сознанию не устанавливает ничего
феноменологического. Иными словами, само единство сознания не
дано нам в обыденной установке. Эмпирическое Я как
индивидуальный предмет как раз исключается в феноменологической
установке, для того чтобы единство сознания могло явить себя не как
предмет, но как переплетение и сцепление переживаний.
Для Шпета, однако, ключевыми словами при определении
Я остаются «предмет» и «вещь». При этом ведущим
становится не дескриптивно-феноменологический, но семантическо-
лингвистический способ рассмотрения, который дополняется
затем социально-функциональным. Шпет полагает, что то или иное
употребление термина, в данном случае «Я», может быть оправдано
или не оправдано. Первые три значения «Я», составляющие этапы
вышеуказанного перехода («мнимого»), еще могут быть оправданы,
по Шпету, так как здесь «Я» противопоставляется «среде».
Оправдано также значение «Я» как «духа», ибо «дух», по Шпету, есть
«конкретный предмет, и при этом значении я прежнее
противопоставление я и среды сохраняется, как сохраняется за я значение
4 Гуссерль Э. Логические исследования / Пер. с нем. В. И. Молчанова. Т. II. Ч. 1.
М., 2001. С. 329.
88
Раздел I
некоторого источника самочинного действования» (1, 265). Другие
же значения «Я», согласно Шпету, (самосознание как «Я»
сознания, родовое Я, трансцендентальное Я и т. д.) имеют
несамостоятельное, «абстрактивное», как выражается Шпет, значение, «смысл
которого уясняется только на почве известных теоретических
предпосылок философского субъективизма» (1, 265). Критическая
направленность и цель статьи сближают Шпета уже не с Гуссерлем,
но с Хайдеггером в его постановке вопроса о человеческом бытии
как экзистенции и выборе в качестве исходного пункта аналитики
человеческого существования непонятийной, дотеоретической
повседневности. Существуют и другие точки схождения, например
герменевтика, однако здесь мы это не рассматриваем.
Ставя под сомнение «личность», «душу» и «субъекта» в
качестве адекватных значений Я, Шпет все же считает возможным
классифицировать эти значения «Я» по признаку «эмпирические»
/ «идеальные предметы»: «В целом все значения термина "я"
имеют в виду или сферу эмпирического предмета, как личность, душа
и подобное, или идеального, как "субъект", родовое (в логическом
смысле) или общее я и т. п.» (2, 265). Слову «предмет» придается,
таким образом, значение родового признака, видовой признак
сомнительных «эмпирических Я» — противоположность среде (и в
этом их определенная оправданность, по Шпету), видовой признак
этих сомнительных «идеальных Я», и прежде всего «субъекта» (и
этому нет никаких оправданий!), — противоположность «объекту».
Если эти понятия действительно «образуются» таким образом,
полагает Шпет, то «по дороге от одного понятия к другому совершена
подмена, которая исключает возможность названной корреляции»
(2, 265), т. е. корреляции эмпирического и идеального «Я», или, как
сокращает Шпет, «вещи» и «идеи».
Нетрудно увидеть при этом, что само различие между
эмпирическим и идеальным Я (считать их предметами или нет — другой
вопрос) не принадлежит непосредственному опыту, но является
вполне традиционным и «теоретическим». Кроме того, следует отметить,
что указанным образом понятия Я, души, личности и субъекта не
формируются ни логически, ни исторически. При этом понятие
среды, выбранное в качестве общего для «эмпирических Я»
соотносительного понятия, не становится в статье предметом анализа. Оно
заимствовано Шпетом вовсе не из биологии или социологии;
соотнесение личности и среды — это весьма популярная тема в русском
общественно-политическом литературном пространстве.
Путеводной нитью раскрытия действительной корреляции
между эмпирическим и идеальным Я является у Шпета определение
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 89
Я как социальной вещи, уникальной и незаменимой. Для Шпета
Я — это уникум; сходство разных Я только в том, что они
неодинаковы (см. 3, 267). «Эмпирическое я есть всегда "вещь" конкретная
и единственная, так что определение ее заменяется простым
указанием. Всякая попытка описания этой вещи исходит из уже
готового признания ее эмпирического бытия или факта ее присутствия
в действительном мире. <...> Для точного указания нужной нам
"вещи" <...> необходимо также прямо назвать ее социальную и
историческую единственность, т. е. мы просто возвращаемся к
собственному имени, одно название которого указывает уже на
присутствие описываемого я. И единственно, чем мы, по-видимому,
можем еще заменить собственное имя, есть указательное
местоимение: этот, тот» (3, 265—266).
Таким образом, Я как личное местоимение («я изорвался, я
износился» — 1, 264) превращается в существительное (я как
социальная вещь), а затем в указательное местоимение: «этот, тот».
Единственности и уникальности «Я» соответствует
единственность обстановки и среды того или иного «Я». По Шпету,
совокупность нарицательных имен, характеризующих «единственность
обстановки и условий», есть только длинная формула собственного
имени.
Отвлекаясь от вопроса, может ли какая-нибудь совокупность
нарицательных имен выразить имя собственное, обратим
внимание на саму постановку вопроса у Шпета. Речь идет о том, чтобы
определить «Я» как вещь, имеющую собственное имя. Однако
имена разных «вещей» могут быть одними и теми же; фамилию
«Иванов» могут носить разные люди, и Шпет приводит такие примеры,
не называя, правда, это омонимией. Чтобы отделить одно «Я» от
другого, носящего то же имя, необходимо указать «единственность
обстановки». Однако это вряд ли осуществимо, и Шпет осознает
эти затруднения.
Шпет пишет: «Но я настаиваю именно на том, что всякое я есть
"собственное"» (3, 266). Иными словами, всякое Я есть необоб-
щаемое, в отличие от неодушевленных вещей. «Мы можем давать
собственные имена и другим конкретным и единичным вещам»,
утверждает Шпет, но Я выделяется из среды других конкретных
вещей тем, что «только я заменяется в качестве синонима
собственных имен» (3, 267). «Уже грамматика отмечает, что местоимение
я относится собственно к одушевленным предметам и
преимущественно к лицам», — констатирует Шпет и продолжает: «Логика,
имеющая в виду смысл и содержание высказываемого, может
резче подчеркнуть, что местоимение я ставится только вместо имени
90
Раздел I
собственного лица или "личности"» (3, 267). Отсутствие различия
между Я как существительным и Я как местоимением становится
здесь наиболее отчетливым. Шпет пишет о «всяком Я», о
выделении Я из других вещей, но апеллирует при этом к Я как
местоимению.
Зачислив «Я» в разряд вещей, Шпет пытается теперь
определить его специфический признак, и хотя он подвергает далее
критике традиционную логику, которая не позволяет находить идею
единичного, само рассуждение Шпета о специфике «Я», о
выделении «Я» из «среды других вещей» движется в рамках логики
родо-видовых определений. Отличие самого выделения Я из
среды Шпет видит в том, что другие вещи могут рассматриваться как
экземпляр. Дружок как «собака вообще», но «Я» — это уникум, и
когда мы говорим о «душе», о «человеке» и «других научных
обобщенных предметах», то мы уже говорим не о «Я».
Выявляя «Я» из других вещей по способу выделения из среды и
апеллируя к грамматике, Шпет волей-неволей сближает значения
слов «Я», «лицо» и «личность». При этом значения слов «личность»
и «душа» сначала заносятся в один разряд («в целом все значения
термина "я" имеют в виду или сферу эмпирического предмета, как
личность, душа и подобное» (2, 265)), а затем противопоставляются
(Я ставится только вместо «лица» или «личности, а «душа»
попадает в разряд «научных обобщенных предметов»).
Борьба с субъективизмом оборачивается у Шпета
объективизмом: Я — это предмет, постоянно подчеркивает Шпет, единичный
предмет, который обладает «тем не менее» эйдосом и единством.
Традиционная логика, по Шпету, мешает видеть эйдос, или идею,
Я; с ее помощью можно было бы получить «своего рода общее
понятие Наполеона, Сократа и пр., где опять-таки была бы
уничтожена индивидуальность и личность» (4, 269).
Обобщению традиционной логики Шпет противопоставляет
типизацию. Если логика допускает возможность сжатия объема до
идеи, «преодолевая пространственную протяженность вещей, то
нельзя отрицать возможности такого же "сжимания в идею"
временной длительности каждой вещи. Каждая личность или я
поддается такой трансформации в идею» (4, 269). Тем самым Шпету не
удается, так сказать, избавиться от личности, ибо в конце концов
«личность» и «Я» оказываются синонимами.
Оставляя в стороне теоретические вопросы логики и
оправданность умозаключения Шпета: «если сжимается пространство, то
можно сжать и время», обратим внимание прежде всего, что Шпет
дважды, в первом случае, неявно, а во втором — явно, отождествля-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 91
ет «Я» и «личность» (в первом случае еще и «индивидуальность»).
Последнее особенно важно, ибо Шпет пытается определить
типическое именно индивидуального: «Как нет ровно ничего нелепого
в том, — пишет Шпет, — чтобы, например, в Николае Станкевиче
или Оливере Кромвеле видеть и социальное явление (т. е.
конкретное), и идею (этого конкретного), так и нет нелепости наряду с
реальным эмпирическим я, Станкевичем, поднять вопрос о его идее»
(3, 269).
Установить для одного и единственного типическое — такая
задача представляется парадоксальной в контексте проблемы Я и
проблемы сознания в целом. Если предположить, что речь идет о
гуссерлевском созерцании сущностей и о возможности созерцания
индивидуальной сущности, то нужно при этом иметь в виду
непосредственный характер «категориального созерцания». Такое
созерцание не распространяется на личности всех времен и народов,
а также на каждое Я в качестве социальной вещи. Однако Шпет
как раз и хочет вывести проблему Я за пределы учений о сознании
и представить ее как социальную проблему. Связующим звеном
между уникальностью личности, или Я, и ее типическим является
характеристика, которую совершенно справедливо дает Шпет
социальной вещи, т. е. социологическому индивиду, но совершенно
несправедливо — личности, или Я: предназначенность и
незаменимость. По существу, это эвфемизмы для строго определенной
функциональности. «Свобода» — как вторая и противоположная
характеристика социальной вещи — дополняет «предназначенность»,
которую индивид добровольно принимает. Только тогда
предназначенность и свобода могут сосуществовать в одном и том же Я.
Однако не объединение этих моментов, утверждает Шпет, но «только
своеобразная интерпретация всего этого единства» «делает я, имре-
ка, абсолютно единственным» (7, 273). «Интерпретация есть
обнаружение смысла, — пишет Шпет, — истолкование, как раскрытие
уразумения, т. е. тот выход в третье измерение, о котором шла речь
выше» (7, 273). Речь шла о преодолении двумерности традиционной
логики, и теперь оказывается, что своеобразие этой интерпретации
состоит в следующей констатации: «я <...> вплетается как "член"
в некоторое "собрание", в котором он занимает свое, только ему
предназначенное и никем не заменимое место» (7, 273).
Шпет не указывает при этом субъекта интерпретации, и если
субъект — запрещенное слово, значит, оно принадлежит тому, кто
интерпретирует, кто предназначает, кто отделяет свое место от
чужого. Если это само Я, сам имрек, который интерпретирует и
понимает предназначенность своего места в мире, то тогда этот им-
92
Раздел I
рек, или это Я, не может быть предметом, но интерпретирующей
инстанцией, как бы ее ни называть: «субъект»,
«трансцендентальная субъективность» или «действенно-историческое сознание».
Еще один выход к социальной проблематике из контекста
проблемы сознания Шпет осуществляет через понятие единства
сознания. Если Я — это предмет, то, как и любой предмет, он должен
быть носителем известного содержания и сообщать ему единство.
По Шпету, такими содержаниями являются переживания:
«Единство переживаний есть во многих отношениях
удовлетворительная характеристика я как эмпирического единства, или, говорят
также, единство сознания» (5, 270). Подвергая критике различные
теории познания и сознания (эту критику мы здесь не
рассматриваем), Шпет неоднократно возвращается к мысли о
необратимости суждения «я есмь единство сознания». Иначе говоря, не
всякое единство сознания принадлежит Я. Здесь и возникает вопрос
о собственнике сознания, о «ничьем» сознании, который
побуждает Шпета обратиться к понятию соборного сознания и к
соответствующим статьям В. С. Соловьева и С. Н. Трубецкого. Признавая
правомерность постановки вопроса у Соловьева о ничьем
сознании в сравнении с чьими-то кафтаном и калошами, Шпет тем не
менее не принимает соловьевской установки на потерю Я для
постижения истины. «Чье», по Шпету, социальная категория, и когда
мы спрашиваем о сущности сознания, то не имеет смысла относить
его к какому-либо Я или субъекту. Об этом говорит также и
наличие коллективного сознания, «участие в соборных отношениях»,
примеры которых приводит Шпет. Однако, с точки зрения Шпета,
нельзя утверждать, что типическое индивидуального в каком-либо
отношении может предначертать нам отношения и «типически»
коллективного. И хотя имрек — носитель не только личного, но
«общного» сознания, он всегда различает, по Шпету, где он «сам» за
себя, где за свою общину. Комментируя известные слова С. Н.
Трубецкого («я по поводу всего держу собор со всеми»), Шпет
замечает: «Хитро не "собор со всеми" держать, а себя найти мимо собора,
найти себя в своей, имярековой свободе, а не соборной» (34, 310).
Утверждая уникальность Я в соборных отношениях и определяя
Я как незаменимое единство предназначенности и свободы, Шпет
предлагает своего рода социальную утопию, где каждый индивид
свободно определял бы свое уникальное место в социуме и,
осознавая себя в качестве индивидуальной, неповторимой социальной
вещи, не осознавал бы в себе ничего, кроме социальных
отношений. Ибо не только Я — социальная вещь, но и другие вещи, по
Шпету, даже неодушевленные — социальны: «Мы даже иной дей-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 93
ствительности, кроме социальной, и не знаем: Сириус, Вега и
отдаленнейшие звезды и туманности для нас также суть социальные
объекты» (23, 297). В свое время Герман Коген, к школе которого
принадлежал и критикуемый Шпетом Наторп, пытался пересадить
звезды в учебник астрономии; Шпет пошел дальше, впрочем, по
пути «социологии знания», перенося звездное небо уже в учебник
социологии.
Путь к «социально-точечной» соборности был
осуществлен Шпетом в основном за счет замены дескриптивно-
феноменологического рассмотрения проблемы Я семантическим
исследованием, предпосылкой которого является выбор
«абсолютного значения термина "я"» (8, 275). Правомерность самого
словосочетания «абсолютное значение термина» вызывает серьезные
сомнения и противоречит смыслу слова «термин», какое бы из
значений термина «Я» ни считать абсолютным. Серьезные сомнения
вызывает и попытка определения Я через предмет, а также и
сознание в целом считать предметом. По крайней мере это
расходится с феноменологической установкой: рассматривать сознание не
только как совокупность данностей, или содержаний, имеющих
единство, но и как акты придания значения, предметность
которых была поставлена в феноменологии под вопрос. Попытка
описать данность в опыте при отказе от всех «теорий» не получила у
Шпета необходимого дополнения в установке на описание самого
опыта и в тематизации необходимой корреляции опыта и данности
в опыте.
И. М. Чубарое
Проблема «Я» в герменевтической
философии Густава Шпета
На первый взгляд модели субъективности и способы ин-
дивидуации, из которых исходил Г. Шпет и ряд
представителей его кружка 1920-х гг., в точности
соответствуют основной тенденции развития западноевропейской
философии тех лет, которая в лице учеников Дильтея и
Гуссерля, а также представителей нарождающегося структурализма
и психоанализа высказывает очень близкие идеи. В их основе
лежит отказ от субъект-объектного отношения, характерного для
парадигмы Нового времени и модерной эпохи в целом, в конечном
счете ориентировавшейся на естественно-научный идеал знания и
колониальную модель политики.
Это, в частности, означало, что человек перестал здесь быть
только субъектом познания, т. е. всего лишь предметом некоторой
рефлексии, неизбежно оставаясь в логической ловушке
самоопределения из заранее положенной природы «сознающего».
Рефлексивное сознание вообще перестает быть тем регионом, из которого
может быть поставлен вопрос о человеке (как любил выражаться
М. Хайдеггер). А философия пытается «утвердить собственные
права человеческой единственности»1 в истории.
В общем русле отказа от субъекта в пользу над- и до-
субъективных структур — социальных, психоаналитических,
герменевтических — Густав Шпет сохраняет, однако, идею
автономности сферы идеального. Хотя он понимает ее не как рефлексивное
бытие сознания (Гуссерль), понимающее сущее (Dasein Хайдеггера)
или самореферентную фонологическую структуру, структуру
родства или бессознательного (как структуралисты лингво-, этно- и
психоаналитики), а как логическую и герменевтическую структуру
1 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 361.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 95
слова как знака, позволяющую этому последнему выражать смысл
обозначаемых им положений вещей.
Целью философии в его понимании оказывается не просто
стремление сделать понятным языковое выражение для другого
(что естественным образом достигается приведением говоримого
к общепринятому словарю значений), но и отношение к
называемым вещам и положениям дел в европейской культуре
(понимаемой, разумеется, экстерриториально). Это прежде всего касается
региона идеальных предметов, находящихся в ведении науки,
искусства и общественной мысли. Этот регион, собственно, и
очерчивает область того, где должен быть реализован «смысл»,
отличаемый Шпетом от «значения». То есть смысл предметов и положений
вещей как не только названных, но и познанных в своих
существенных социальных связях. Разумеется, подобный ход мысли не
был чужд ориентации на некий общественный идеал и предполагал
определенное происхождение самого этого «смысла».
Размещая идеальное на уровне слова, а не каких-то «чистых
мыслей» и «чистых предметов», Шпет переносит сюда известный
феноменологический «принцип всех принципов»2, когда пишет,
что ничто не может быть помыслено, не будучи выражено в слове.
Таким образом он сохраняет на новом уровне связь с гуссерлиан-
ством. Путь понимания, по Шпету, — это путь от слова-знака к
значению. Ему же он придает и характер первичного оригинального
мыслительного акта. Для него это и есть работа «сознания». Но это
не простое переназывание и разыгрывание на другой сцене театра
гуссерлевских различий — само отношение знака и значения Шпет
понимает как «социальное»: «как бы мы ни определяли значение
и как бы мы ни объясняли названный переход»3. А это означает,
что важнейшим здесь является момент выражения смысла в слове,
способный обеспечить его понимание другим человеком. Здесь
понимание оказывается не источником выражения-интерпретации,
а, напротив, его следствием. Мы объясняем что-либо, когда
именно не понимаем или не поняты другим человеком (людьми), как
2 «То, что каждое первично образующее данность созерцание (originär gebende
Anschauung) есть правомерный источник познания, то, что все, что нам
представляет себя в "интуиции" первично (так сказать, в своей живой действительности),
следует просто принять так, как оно себя дает, однако только в границах, в которых
оно себя здесь дает, [в этом] не может нас сбить с толку никакая мыслимая теория».
Husserl E. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie.
Erstes Buch. Hua. Bd. Ill (I), Dordrecht: Kluwer, 1995. S. 51.
3 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 282.
96
Раздел I
поясняет Шпет. Поэтому-то никакое «я» (ни индивидуальное, ни
коллективное) не может быть субъектом соответствующего
герменевтического акта в качестве творца респективного ему смысла,
так как в противном случае в качестве индивидуального
изобретения этого первого он не был бы понятным другому «субъекту».
Индивид (реальный исторический имрек) только воспринимает уже
запечатленные в словах смыслы и пытается их транслировать далее
доступными ему средствами выражения (прежде всего словами).
Его «творчество»4, следовательно, состоит не в создании
соответствующих смыслов, а в подборе подходящих средств для их
выражения, в споре и диалоге с аналогичными усилиями других людей.
Итак, для Шпета смысл слов — это не только значение
соответствующих знаков языка. Он различает смысл и значение в том плане,
что значение лишь указывает на предмет — обозначает его, а смысл
предполагает понимание его социальной цели. «Предмет, — пишет
Шпет в статье 1916 г. «Философия и история», — в своем
логическом значении есть только неопределенный "носитель"
многообразного содержания, связанного в один узел в некотором его
осмысливающем центральном ядре... Необходимо выделить в многообразии
его содержания, прежде всего, типы отношений, которые мы
эмпирически характеризуем как отношения культурные, правовые,
религиозные...»5. В «Сознании и его собственнике» (тот же 1916 г.) он
уточняет эту мысль в применении к проблеме «я». Мыслимая
общность «я» как предмета определяется здесь не через сознание в его
единстве, во всяком случае не только через отношения сознания.
«Я» — это живой человек (имрек), определяемый из отношений к
другому «я». В этом смысле «я» — это «социальный предмет».
Сходство с так называемыми «действительными предметами» не
должно нас смущать, считает Шпет, так как они, так же как и «духовные
предметы», опосредованы для сознания языком и его логическими
формами. И Шпет заключает: «...оставим в стороне различие
органического и неорганического, — все это предметы прежде всего
социальные: продукты труда, культуры, мены, купли и продажи, и пр., и пр.»6.
Эта очевидная и даже тривиальная идея не получила, по
мнению Шпета, логичного продумывания и последовательного
применения ни в истории философии, ни в истории герменевтики.
4 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. С. 243.
5 Шпет Г. Г. Философия и история // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 196.
6 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник// Шпет Г. Г. Philosophia Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 297.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 97
И критика Шпетом представителей философе ко-исторического
знания исходит в основном из этого соображения, хотя само оно
подробно им не анализируется. Формы имеемых в виду смысловых
генезисов Шпет практически не исследует. Его интересует только
открытие нового основания гуманитарной науки, которое он
усматривает в истории ее философского осмысления. Ее логикой
выступает у него диалектика, носящая «существенно
герменевтический характер»7.
Характерная цитата из III тома «Истории как проблемы логики»:
«Философия в целом по своему методу есть герменевтическая
философия. — Такова принципиальная транскрипция того, что дает
сущный анализ конкретно воплощенного в истории и
историческом. Но путь изложения мной выбран обратный: от принципов к
этому конкретно осуществляемому. И только раскрытие этих
принципов и путь этот как следует оправдает, и смысл исторического
раскроет не в частности, а вообще»8.
Но, поставив так вопрос, Шпет не предполагает только
структурного изучения соответствующих отношений, обращаясь к
отношениям герменевтического сознания с его предметом — словом.
Собственно под структурой он понимает структуру интенциональ-
ности сознания, целиком перенесенную в сферу слова в его
преимущественно семиотической и семантической функции. То есть
Шпет рассматривает слово как знак в его отнесении к значению и
надеется через рефлексию на их квазиинтенциональное (или, как
он говорит, «респективное») отношение как отношение
понимания выяснить, как нечто становится понятным и осмысленным,
т. е. реконструировать процесс смыслообразования на уровне
языкового выражения, но как бы в обратной перемотке — от знака к
значению и смыслу, а не наоборот.
Считая (подобно Лакану) вопрос о происхождении языка
праздным, Шпет исходит из того, что субъективного автора, будь то «бог»
метафизики, картезианское «ego cogito», гегелевский
«абсолютный дух» или кантовский «трансцендентальный субъект», у языка
быть не может. Это лишь результат исторической практики, кото-
7 Там же. С. 275. С. 351-353.
8 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. С. 509.
Ср.: аналогичные уточнения П. Рикером взгляда Хайдеггера на герменевтику:
«Онтология понимания, непосредственно вырабатываемая Хайдеггером, совершающим
внезапный, резкий поворот, когда на место изучения способа познания ставится
изучение способа существования, могла бы быть для нас, действующих в обход
и постепенно, лишь горизонтом, то есть скорее целью, чем фактом». Конфликт
интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2002. С. 52. И далее: С. 61, 315, 542.
98
Раздел I
рая должна рассматриваться в формах уже упомянутых отношений
труда и обмена. Эта идея предопределила и его интерпретацию
проблемы субъекта сознания, или «я», которая нас больше всего
интересует, и учение об отношении знака и значения, через которое, в
частности, он и представляет проблематику субъективности.
Итак, Шпет не считает понятие «субъект» необходимой
логической формой герменевтического отношения к реальности,
признавая ее только предметом исследования, причем предметом
социальным, требующим логической реконструкции во всех своих
социальных связях и отношениях и исторической динамике.
Поэтому неверно было бы приписывать Шпету следование
идее лейбницевско-ницшевской историзованной монадологии с
ее изначальным волевым динамизмом доиндивидуальной,
сверхиндивидуальной или даже, как у Вл. Соловьева и С. Трубецкого,
«коллективной» субъективности. Ибо это ход с неизбежностью
имплицировал бы системное требование согласования и примирения
воль других субъектов в форме какой-нибудь «субстанции»9.
В ряде своих работ 1910-х гг. Шпет доказывает, что проблема «я»
не имеет ничего общего с понятием субъекта, который может быть
не только коллективным, но и партикулярным. Но дело не только
в этом. Шпет считает, что само понятие «субъект познания» — это
только незаметное перенесение в онтологию вместе с
логическими формами форм эмпирических. Понятия ego cogito, кантовского
трансцендентального субъекта, фихтеанского «Я» и даже гуссер-
левского «чистого я» как центра отнесения интенциональных
актов сознания стоят для него в этом смысле в одном ряду. И здесь
он полностью совпадает с критикой феноменологии Делёзом10. Так
9 Ср. Heidegger M. Nietzsche. H. Paris: Gallimard, 1971. P. 370: «Требование системы
коренится в самом основании сущности, понятой... как воля».
10 «То, что явно присутствовало у Канта, присутствует и у Гуссерля: неспособность
их философии порвать с формой общезначимого смысла. Какая судьба уготована
такой философии, которая полностью отдает себе отчет, что не отвечала бы своему
названию, если, хотя бы условно, не порывала с конкретными содержаниями и
модальностями doxa [мнения], но, тем не менее, продолжает говорить о сущностях
(то есть формах) и с легкостью возводит в ранг трансцендентального простой
эмпирический опыт в образе мысли, объявленной «врожденной» При этом в ней не
только измерение сигнификации дается уже готовым при смысле, понимаемом как
общий предикат; и не только измерение денотации уже задается в предполагаемом
отношении смысла со всяким определяемым и индивидуализированным объектом.
В ней имеется еще целое измерение манифестации, которое — в позиции
трансцендентального субъекта — сохраняет личностную форму, то есть форму личностного
сознания и субъективной самотождественности, и которое, нимало не смущаясь,
выводит трансцендентальное из характеристик эмпирического». Делёз Ж. Логика
смысла. М.: Екатеринбург, 1998. С. 136.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 99
же как и Делёз в «Логике смысла», Шпет отмечает, что понятие
«трансцендентальное я» получено у Канта и Гуссерля по аналогии с
я эмпирическим, а не в первичном интуитивном усмотрении,
требующем «указания первичной данности»11. То есть кантианство и
феноменология, по Шпету, идут здесь в обход собственных
критических ограничений и «принципа всех принципов».
Кстати, шпетовские «смыслы» как внутренние формы слова
могут быть с известными оговорками рассмотрены как делёзовские
доиндивидуальные сингулярности.
Понимание Шпетом сингулярного смысла находится по ту
сторону коллективного и личного. Не будучи ни образом, ни
чувством, ни представлением, ни вещью, они конституируют все
эти индивидуальные образования. Но в отличие от Делёза Шпет
писал не о «доиндивидуальных сингулярностях», а о «надинди-
видуальном бытии»12. То есть усматривал свои «сингулярности-
индивидуальности» в области событий реально-исторических и
таким образом достигал нужной трансцендентальной отрешенности
без каких-либо условно-методических процедур. Его индивиды —
это реальные люди как члены коллектива; они надиндивидуальны
в качестве реально принадлежащих обществу и немыслимых вне
его истории как истории труда, обмена и культуры.
Смысл Шпет, так же как и Делёз, понимал как событие-глагол,
а не свойство-предикат. Так, сингулярным смыслом секиры в
«Явлении и смысле» оказывается выраженное глаголом событие
«рубить»13. При этом Шпет исходит из широкого понимание
предикативности, т. е. не как свойства или атрибута некоей субстанции,
а как утверждаемого события, выражаемого всегда в глагольной
форме14. Но в отличие от Делёза способ организации смыслов-
сингулярностей у Шпета не структурный. Как мы уже писали,
несмотря на его известные структурные манифестации во 2-й книге
Эстетических фрагментов, единственная структура, которую знал
Шпет, — это структура интенциональности сознания. Ее он и
перенес на слово. Для структур бессознательного, несмотря на
признание относительных прав алогического, у Шпета в его логике места
не нашлось. В этом он ученик Гуссерля.
11 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. // Шпет Г. Г. Philosophie Natalis.
Избранные психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 297. Ср. С. 299.
12 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. С. 288.
13 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
С 161-163.
14 Шпет Г. Г. История как предмет логики. Цит. изд. С. 232.
100
Раздел I
Хотя Шпет не решается (кстати, подобно Сартру, которого за
это критиковал Делёз в «Логике смысла»15) отказаться от идеи
сознания как среды при анализе смыслового генезиса16, сам этот
концепт «сознания» он понимает принципиально иначе, чем в
феноменологической философии. А именно как явление историческое
и социальное, подключаясь здесь к традиции историзма,
заложенной в философии Нового времени рядом интуиции Лейбница,
развитых применительно к пониманию истории Вико, Хладениусом,
Гердером и др.17 Историчность здесь понимается Шпетом не как
конечность человеческого бытия и знания (Хайдеггер), а как
обусловленность этого последнего историей осмысления мира и его
строительством на разумных основаниях.
Полагая здесь «я» не субъектом, а предметом сознания
(трансцендентным последнему в этом смысле), Шпет определяет его не
через предицируемое родо-видовой логикой общее свойство быть
«единством сознания», а, напротив, через отличие от других
подобных «единств», что только и может оправдать его существенное
определение как «unicum». Этому различию не противоречит
усматриваемая Шпетом коллективность «я», ибо переход от «я» к «ты»
и «мы» он предлагает понимать не как суммирование, а как
умножение, не отменяющее помянутую уникальность и свободу. Сама
уникальность этого «я» может быть понята в отличии от других «я»
как столь же свободных целей-предназначенностей социального
целого18.
Таким образом, свою уникальность «я» у Шпета получает не из
операции признания тождественного себе господского сознания,
как у Гегеля, замешанного на убийстве равных и установлении
рабско-господского неравенства, а через ницшевско-делёзовский
различающий повтор, как осознание себя определенным через
других «имреков», границы свободы которых одной стороной есть
и твои границы, как гарантии твоего «свободного» в них
индивидуального существования.
«Собрание», которое имеет в виду Шпет, двигаясь здесь дальше
Ницше и Делёза, способно преодолеть «эти пределы, т. е.
пределы каждого имрека, что уничтожает раздельность,
дистрибутивность, — другими словами, что приводит к абсолютной свободе:
15 Делёз Ж. Логика смысла. Серия 14—15. С. 144 и др.
16 Ср. концовку «Сознания и его собственника»: «Во всяком случае, все это —
проблемы прежде всего принципиального анализа самого чистого сознания в его
сущности». Цит. изд. С. 310.
17 Статья 1916 г. «Философия и история». Цит. изд. С. 196.
18 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник. Цит. изд. С. 305.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 101
«здесь я освобождается от предназначенности, оно может не быть
самим собой»19. Это неожиданное расширение опыта общности
совершенно не характерно для западного мышления, для которого
даже желание определяется через запрет. «Свобода» шпетовского
субъекта внутри «собрания» представляет собой такой вид
становления, который не предполагался ни Сартром, ни Батаем, ни Делё-
зом, ни Левинасом. Это становление «собранием» или «советом»,
если хотите (но не «собором»). Эта идея демонстрирует пустотность
субъекта, свободного из самого себя, не противопоставляя ей при
этом и никакой новой индивидуалистической модели (например,
ницшевского типа — «сверхчеловека» или любующегося своей
раздвоенностью делёзианского «шизофреника»)20.
Сразу за этим фрагментом, в 30-м параграфе статьи Шпет
противопоставляет идее примордиальной редукции, которая только
прикрывает традиционные отождествления сознания с «душой» и
«духом», цитату из Тараса Шевченко: «Як умру, то поховайте мене
на могши, серед степу широкого, на ВкраУш милш»21.
Радостное принятие смерти, самоотречение — подлинное
становление другим, без того, чтобы подчиниться очередному
привлекательному субъективному тождеству (даже и различенному в
себе), — существенный мотив русской разночинной культуры, к
которой принадлежал Шпет.
***
Рождение слова, интерпретирующего или
расшифровывающего реальность в ее разумных формах, которые наличествуют в ней
наряду с неразумными, было главной путеводной идеей Шпета.
И в реализации этой идеи он оставил много пронзительных
страниц, искрящихся смыслом. Так, например, идея отвращения к себе
из статьи «Мудрость или разум?»22, безусловно, выводит Шпета из
общества скучных «профессоров-методологов», не способных
произнести живого, рискованного слова; идея «всеблагой смерти» из
19 Там же.
20 Ср: «Идеально — тут социальная тема, разрешению которой больше всего
препятствий поставил именно субъективизм, так как вместо перехода к анализу смысла
идеального я, идеального имрека, как сознаваемого, он переходил к Я прописному,
владыке, законодателю и собственнику всяческого сознания и всего сознаваемого».
Там же. С. 303.
21 Там же. С. 305.
22 Шпет Т. Т. Мудрость или разум // Шпет T. T. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. С. 364.
102
Раздел I
«Эстетических фрагментов» и много других парадоксальных на
взгляд философа-обывателя мыслительных метафор23.
В этом Шпет наиболее похож на Делёза, который позднее от-
рефлексировал сами эти философские стили или мыслительные
стратегии. В отличие от индивидуалистической иронии с позиций
найденного еще в начале Нового времени буржуазного субъекта,
Шпет демонстрирует нам настоящий философский юмор, хотя сам
не смеется. И даже осуждает веселость. Его смех — сухой, смех от
созерцания истины, которая, однако, не представляет собой
ничего веселого. Хотя в другом смысле он радостный, ибо разрушает
иллюзии и сокрушает престолы.
23 Ср.: «Как много мы приобретали бы, если бы нас не обманывали мнимою
действительностью глубин задушевных, а только бы всегда вовне проявляли,
выражали, вели себя, как ведут любящие <...>. Вся она, душа, вовне, мягким
воздушным покровом облекает "нас". Но зато и удары, которые наносятся ей, —
морщины и шрамы на внешнем нашем лике. Вся душа есть внешность.
Человек живет, пока у него есть внешность. И личность есть внешность. Проблема
бессмертия была бы разрешена, если бы была решена проблема бессмертного
овнешнения». Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения.
М., 1989. С. 363-364.
H. С. Плотников
От романтической герменевтики
к феноменологии языка:
Фридрих Шлейермахер - Павел Флоренский - Густав Шлет1
I Проблема понимания «индивидуальности» становится со
времен Ф. Шлейермахера центральной проблемой
герменевтической рефлексии. На ней проверяется теоретическая
состоятельность философских и гуманитарно-научных концепций
φ герменевтики, начиная от возникших на фундаменте
немецкого романтизма и исторической школы концепций Шлейермахера,
Дройзена и Дильтея, вплоть до современных герменевтических
подходов на стыке континентальной и аналитической философии. При
этом уже с самых ранних опытов создания герменевтической
философии в романтизме проблема индивидуальности формулируется как
проблема отношения между пониманием индивидуальности (автора,
произведения, события) и постижением универсальной
исторической взаимосвязи, внутри которой она возникает.
У Шлейермахера это отношение принимает форму различия двух
типов интерпретации. Первый — и основной тип — образует
психологическая интерпретация. Ее задача состоит в «воссоздании»,
«реконструкции» (Nachkonstruktion) творческого процесса, в котором
возникает произведение художественной литературы, или в том,
«чтобы наиболее совершенным образом воспроизвести целостный
внутренний процесс слагающей деятельности писателя»2.
Понимание — это конгениальное воспроизведение свободной деятельности
творца, которое осмысляется Шлейермахером в категориях
«замысла», «внутренней мыслительной формы», «композиции», «порож-
1 Работа выполнена в рамках проекта «Die Sprache der Dinge. Philosophie und
Kulturwissenschaften im deutsch-russischen Kulturtransfer der 1920er Jahre», поддержанного
Фондом Фольксвагена.
2 Schleiermacher F. D. E. Hermeneutik und Kritik. Hrsg. von M. Frank. Frankfurt а. М.,
1977. S. 321.
104
Раздел I
дающего решения» и т. п. Он определяет тем самым понимание как
постижение творческой воли автора в его индивидуальности,
выраженной в произведении. Смысл текста раскрывается благодаря
генетической реконструкции творческого акта его порождения.
Другая сторона процесса понимания заключается в
постижении языковой среды, в которой проявляет себя индивидуальность
автора. Эти аспекты понимания Шлейермахер рассматривает в той
части своей герменевтики, которая обозначена им как
грамматическая интерпретация. Поскольку всякий смысл выражается в языке,
постольку грамматическая интерпретация занимается вопросами
правил и эволюции языкового узуса в рамках сообщества, к
которому принадлежит и автор. При рассмотрении этого аспекта
понимания в центр анализа выдвигаются такие категории, как
целостность языкового сообщества, историческая преемственность узуса
и зависимость произведения от языкового контекста.
И все же, несмотря на интерес к типам интерпретации текста,
Шлейермахер в своей герменевтике еще не опирается на философию
языка как основу экспликации понимания. Кантовская концепция
трансцендентальной субъективности остается для него
определяющей даже там, где он обсуждает проблему создания литературных
произведений. Шлейермахер все еще рассматривает творческую
активность индивида как ментальный процесс, лишь задним числом
облекаемый в языковую форму. С этой позицией связаны и
внутренние апории учения Шлейермахера3. Лишь в произведениях
Вильгельма фон Гумбольдта центральная тема романтической
герменевтики — понимание индивидуальности — получает лингвофилософскую
формулировку. В определении языка как деятельности (энергейа),
формирующей взгляд на мир (Wfeltansicht), a также в понятии
«внутренняя языковая форма» заключены центральные мотивы
произведенной В. фон Гумбольдтом «смены парадигм» в понимании
человеческой субъективности, которая до него выражалось исключительно
лишь с помощью психологическо-менталистского словаря.
Аналогичный переход от психологического обоснования
герменевтики к лингвофилософскому осуществляется и в русских
философских дискуссиях начала XX века. Концепция В. фон Гумбольдта
получает в этих дискуссиях новую актуализацию, каковая
обусловлена литературно-художественными движениями рубежа
веков(поэзия символизма и т. п.), а также развитием лингвистических и
филологических исследований (А. Потебня, А. Веселовский). В этом,
3 См.: Дилыпей В. Герменевтика и теория литературы // Дильтеи В. Собрание
сочинений. В 6 т. Т. 4. М., 2001.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 105
хронологически весьма кратком, периоде расцвета гуманитарно-
научных дискуссий рефлексия по поводу культурообразующей
функции языка трансформируется уже в отчетливый «linguistic
turn». В больших и малых дискуссионных сообществах, часто между
собой пересекающихся, возникает целый спектр лингвофилософ-
ских концепций, рассматривающих «слово» (в том широком
значении «отдельного слова», «речи», «дискурса», которое этот концепт
имеет в русском языке) как принцип конституирования отношения
человека к миру. Достаточно упомянуть в этой связи дискуссии в
Московском лингвистическом кружке, ОПОЯЗе,
Государственной Академии художественных наук, равно как и полемики по
поводу имяславия. Наибольшее развитие лингвофилософские
концепции получают в эстетической и религиозной сфере. И как раз
на этом дискуссионном поле — в понимании слова как
центральной философской проблемы — сталкиваются между собой два
альтернативных понимания философии: религиозно-философское и
научно-философское. Павел Флоренский и Густав Шпет являются
экспонентами этих двух конкурирующих направлений4.
Сравнение их взглядов на роль языка в культурном опыте
позволяет наиболее четко обнаружить различия двух указанных
направлений в философии языка, при том что круг обсуждаемых ими
вопросов и источников их философской рефлексии языка
оказывается весьма однородным. Эта однородность касается не
только общего проблемного поля дискуссии, в котором складываются
концепции обоих мыслителей. Для обоих является существенной
апелляция к гумбольдтианской идее «внутренней формы языка»,
а также понимание слова как «организма» в противоположность
конвенционалистским теориям языка. Их объединяет, далее,
критика атомистического понимания языка и рассмотрения
отдельного слова как базовой конструкции. Кроме того, оба рассматривают
теорию символа как необходимую составную часть лингвофило-
софской рефлексии. Наконец — и это существенно для нашего
анализа — оба проявляют весьма большую заинтересованность
проблемой понимания индивидуального и его выражения в языке, с
той лишь разницей, что Флоренский интересуется этой проблемой
в богословской перспективе, тогда как Шпет обращается к этой
4 Ср. в этой связи суждения Шпета в одном из примечаний в книге «Явление и
смысл», где он противопоставляет свое понимание философии как «о-правда-ния»
мира разумом религиозному отрицанию разума у Флоренского: Шпет Г. Г. Явление
и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы. М., 1914. С. 212—213.
Об этом подробнее: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской
Философии. М., 2008. С 70-88.
106
Раздел I
проблеме в контексте феноменологическо-герменевтического
обоснования гуманитарных наук и разработки свей концепции
философии культуры.
II. Выделяя проблему понимания индивидуальности из
контекста лингвофилософских взглядов Флоренского, мы отдаем
себе отчет в том, что это идет отчасти вразрез с его философской
самоинтерпретацией. У Флоренского рефлексия по поводу языка
вовлечена в решение сугубо богословской проблемы, а именно в
формулировку его собственной позиции в споре о почитании
имени Бога. Поэтому руководящей нитью его размышлений является
вопрос о постижении божественного смысла имени. В контекст
этой проблемы включаются также и вопросы смысла
человеческого имени в таинстве крещения, причем акт именования
интерпретируется Флоренским как предопределение судьбы отдельного
человека, формируемое комплексом религиозных и языковых
традиций, сконцентрированных в имени собственном.
Данные вопросы будут оставлены за рамками рассмотрения,
равно как и вопрос о теоретической состоятельности построений
Флоренского с точки зрения богословского дискурса. Поскольку,
однако, сам Флоренский охотно прибегает в своих текстах к линг-
вофилософским аргументам и явным образом связывает свои
построения с герменевтическими позициями, постольку
рассмотрение его взглядов сугубо в контексте герменевтического вопроса о
смысле индивидуальности является оправданным.
В качестве общей характеристики лингвофилософской
концепции Флоренского можно использовать его термин «анти-
номизм», который означает одновременно как обнаружение
многочисленных «антиномий» (логических противоречий) при
изучении языка, так и позицию «анти-номизма», т. е.
отрицание рассуждения о языке по рациональным правилам (законам).
В своих описаниях языка как органического целою Флоренский
приводит свидетельства в пользу обоих взглядов на язык,
постоянно подчеркивая, что это органическое целое может быть
рассмотрено только как совокупность антиномий, а также что
сущность языка непостижима с помощью рациональных средств
лингвистики и философии языка.
Основную антиномию языка, с которой связаны все
остальные, Флоренский определяет как антиномию произведения и
деятельности, ergon и energeia, трансформируя тем самым основную
мысль философии языка В. фон Гумбольдта. Трансформация
заключается здесь в том, что Флоренский интерпретирует оба
аспекта языка — статическую структуру (ergon) и речевую деятельность
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 107
(energeia) — как неустранимые моменты понимания языка, тогда
как Гумбольдт утверждает, что понимание языка как деятельности
приходит на смену прежнему пониманию языка как статичного
продукта, т. е. не устанавливает в их отношении никакой
антиномии. Другое его отличие от Гумбольдта, на которого он постоянно
ссылается, заключается в том, что Флоренский рассматривает
деятельность (energeia) исключительно как индивидуальный речевой
акт, каковому он противопоставляет внешнюю структуру языка в
качестве прочного общезначимого элемента, тогда как Гумбольдт
определяет energeia как раз как всеобщий и инвариантный
принцип существования языка.
Эту антиномию «импрессионизма» и «монументальности»5,
индивидуального и всеобщего в языке, подвижности значений в
индивидуальном языковом употреблении и инвариантной структуры,
Флоренский рассматривает не как противоречие, требующее
разрешения (как Кант рассматривал свои антиномии чистого разума),
а как неустранимую характеристику языка, только и
обеспечивающую его равновесие и функционирование6. (В качестве
контрпримеров, свидетельствующих о разрушении языка при изолировании
лишь одного из элементов, Флоренский приводит
формализованный язык, а также полное устранение упорядоченности языка в
футуристической поэзии7.) Данную основную антиномию он
усматривает уже в базовом элементе языка — в слове. Правда,
последнее он определяет в соответствии с тогдашними
лингвистическими принципами как единство трех элементов, или трихотомию8.
В структуре слова различаются: фонема, т. е. физическая звуковая
форма, морфема, т. е. грамматическое строение слова (которое
Флоренский не различает с логическим строением) или общее
понятие9, а также семема, каковую можно интерпретировать как ин-
5 Флоренский П. Л. Мысль и язык // Флоренский П. А. Собрание сочинений. В 2 т.
Т. 2. М., 1990. С. 201.
6 «Точнее сказать, именно противоречивостию этою, в ее предельной остроте, и
возможен язык». Там же. С. 163.
7 «Всем предыдущим утверждена мысль о двойственной природе языка. Язык анти-
номичен. Ему присущи два взаимоисключающие уклона, два противоположные
стремления. Однако эти две живущие в нем души — не просто две, а — пара,
пребывающая в сопряжении, сизигия, они, своим противоречием, язык осуществляют;
вне их — нет языка. Мы убедились в этом, проследив попытки диссоциировать
полярно-сопряженную антиномию языка и, диссоциировав, представить в чистоте
либо тезис, либо антитезис: ни тот, ни другой, поскольку они в самом деле
освобождаются взаимно, не дают языка». Там же. С. 200.
8 Там же. С. 234.
9 Там же. С. 234 и ел.
108
Раздел I
дивидуальную сигнификативную интенцию говорящего при
употреблении слова10.
Вместе с тем Флоренский использует для экспликации сущности
языка и свою антиномическую схему, которая заключается в
противопоставлении внешней и внутренней формы слова. Первые два
элемента лингвистической структуры слова он относит к внешней
форме, тогда как семему — к внутренней форме слова. Тем самым
воспроизводится изначальная антиномия языка: внешняя форма —
это принцип единства, постоянства и всеобщности в языке,
внутренняя форма характеризует индивидуальное употребление языка
и представляет собой «личное мое проявление»11. (В скобках
заметим, что и здесь Флоренский предпринимает видоизменение
терминов Гумбольдта, на которого он ссылается: внутренняя языковая
форма по Гумбольдту — как раз не индивидуальное проявление, а
генетический принцип конструкции языка. То, что Флоренский
называет внутренней формой слова, соответствует скорее соссюров-
ской «parole» — т. е. индивидуальной речевой перформации.)
В этой связи возникает естественный вопрос: каким образом
сосуществуют оба члена антиномии в конкретном речевом акте? Ведь
процессы коммуникации и возможность понимания других людей
наглядно демонстрируют возможность преодоления антиномии.
Флоренский и сам замечает, что простым «с одной стороны, с другой
стороны» не дается никакого решения проблемы: антиномия
должна быть если и не преодолена (это, по Флоренскому, невозможно),
то хотя бы внутренне опосредствована. Но такого рода
опосредствование антиномии выводит за пределы языка — в область
магического. Вернее, уже в том факте, что самая элементарная речевая
практика повседневно осуществляет опосредствование этой антиномии
внутренней и внешней формы слова, Флоренский видит указание
на магическую природу языка12. Уже понимание произнесенного
слова означает «внутреннее соприкосновение с предметом слова»13,
он требует «вживания в именуемое» и «мистического постижения»14.
Но эта магическая сила воздействия слова на сущее дает о себе знать
10 «Каждый из нас придает пластичной семеме слова свое, сообразное потребности
данного случая значение; у каждого коренное значение связывается с неуловимыми,
но весьма существенными духовными обертонами, сознание каждого слова пускает
свои воздушные корни». Флоренский П. Л. Мысль и язык // Указ. соч. С. 251.
11 Там же. С. 237. По поводу индивидуального употребления слова см.: Там же.
С. 234.
12 Там же. С. 252 и ел.
13 Там же. С. 212.
14 Там же.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 109
не только в повседневном общении и понимании, но и в научном
освоении мира. Концентраты магической силы Флоренский
обнаруживает в «синтетических словах»15, которые наиболее полно являют
магическую природу языка. К таким «синтетическим словам»
относятся научные «термины», функционирующие в качестве
инструментов научного подчинения природы и господства над ней (здесь
вспоминается критика Хайдеггером технизированной науки).
Однако высшей формой «синтетических слов» являются имена
собственные16, представляющие собой «творческие формулы личности»17.
При рассмотрении последних проблема понимания
индивидуальности вновь возникает на горизонте размышлений Флоренского,
поскольку именно в сочетании «формульности» и «личности» и
заключалось бы решение вопроса о том, каким образом может быть выражено
в языке и понято индивидуальное. Однако поиск решения этой
проблемы в текстах Флоренского оказывается безрезультатным. Его
рассуждения снова и снова повторяют тезис об антиномизме, каковой
оказывается в итоге лишь псевдорешением, не дающим понять, каким
образом возможно взаимопроникновение всеобщего и
индивидуального: «Слово, порождение всего нашего существа в его целостности,
есть действительно отображение человека, и если основу слова
образует отображение человека, и если основу слова образует отображение
сущности народной и, более того, сущности всего человечества, то, по
разъясненной ранее антиномичности слова, именно это самое
отображение человечества делается отображением моей именно
индивидуальности, и даже в данную минуту и в данном ее состоянии»18.
Эта невозможность найти положительное решение проблемы и
выйти за пределы антиномизма, каковой лишь нейтрализуется указанием на
магическую природу языка, объясняется тем, что Флоренский, несмотря
на всю свою критику кантианства, по существу, разделяет кантовское
психологистическое понимание языка. Индивидуальность выступает
в рамках этой модели лишь как ситуативная психологическая
прибавка к формальной структуре и может выразиться в языке лишь
экспрессивно — как индивидуально окрашенные способы словоупотребления,
как ситуативные особенности речи, индивидуально подразумеваемые
коннотации и т. д. Как может индивидуальность выразить себя в языке
трансситуативно, т. е. независимо от случайных речевых ситуаций, —
вопрос в рамках данной модели неразрешимый. Индивидуальность об-
15 Там же. С. 207.
16 Там же. С. 224; ср. С. 265.
17 Там же. С. 226.
18 Там же. С. 270-271.
110
Раздел I
наруживает себя лишь на субъектной стороне языка в виде внутренней
формы слова, имеющей индивидуально-психологический характер.
Проявиться в объективной внешней форме она не может.
Данный результат обусловлен тем обстоятельством, что в рамках
данной модели Флоренского отсутствует какое-либо представление об
опосредствовании членов антиномии, которое позволило бы выявить
отношение индивидуальности и всеобщей структуры языка. Иными
словами, в концепции Флоренского отсутствует позитивная
разработка понятия «смысл», каковой и был бы тем недостающим звеном
в определении отношения всеобщего и индивидуального, что делает
возможным объективацию индивидуальных интенций носителя
языка и понимание их. Вместо этого Флоренский не устает подчеркивать
тождество обоих членов антиномии (как в вышеприведенной цитате),
которое и нельзя охарактеризовать иначе, как «магическое».
III. Напротив, в философской концепции Г. Г. Шпета «понимание
смысла» является ключевым вопросом его феноменологии языка и
культуры19, поскольку с феноменологической точки зрения предметы
изначального опыта являются в первую очередь как единицы
смысла, конституируемого сознанием. Так называемые «вещи
физического мира» выделяются лишь посредством абстракции из взаимосвязи
культурного опыта, в которой и осуществляется первоначальная
данность вещей. Поэтому руководящей нитью феноменологии языка,
представленной в работе Шпета «Эстетические фрагменты» (1922—
1923)20, становится анализ структуры смысла, а также структуры актов
сознания, ему коррелятивных. Именно на этом пути анализа
структуры смысла становится возможным, по Шпету, разрешение проблемы
Шлейермахера и преодоление психологизма в герменевтике21.
Структуру слова Шпет анализирует в соответствии с узусом
тогдашней дискуссии в первую очередь, не просто как отдельное
слово, а как осмысленную речь. Он толкует «слово» изначально как
«сообщение», передающее смысл и претендующее на понимание. С
этой точки зрения в слове могут быть различаемы два аспекта: что
сообщается (смысл) и как нечто сообщается (например, экспрессия
сообщающего субъекта). Соответственно и воспринимается слово в
19 О феноменологических основаниях концепции культуры у Шпета см.: HaardtA.
Husserl in Rußland. Kunst- und Sprachphänomenologie bei Gustav Spet und Aleksej
Losev. München, 1993.
20 Новое издание см. в кн.: Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные
труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. См. также:
Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 470—657.
21 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 328-333.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 111
этих двух направлениях. Выражение, представляющее собой
психическое проявление говорящего, постигается «симпатическим
пониманием» (или просто «симпатией» в смысле сопереживания), тогда
как смысл сообщения открывается «уразумению». При этом лишь
вторая форма понимания (уразумение) может рассматриваться как
культурно значимый факт. Симпатическое понимание
психического индивидуума — это еще природный факт, поскольку в
постижении экспрессии не достигается никакого приращения смысла.
Но экспрессия может стать и культурно значимым фактом, если
ее формы трансформируются в языковые формы артикуляции
смысла, подобно тому как такая трансформация и объективация
осуществляются в языке поэзии. (Выражение гнева — это еще не культурный
факт, а эмоциональное проявление естественного индивидуума, но
«фигуративность» — это форма поэтического языка эмоций.)
Структура слова как объективированного выражения смысла
составляет основной предмет описания в феноменологии языка,
наброски которой даны Шпетом в «Эстетических фрагментах». Как
феноменолог, Шпет различает слои и аспекты данности, в которой
является идеальный предмет (идея, смысл) сознанию, причем
сознание он рассматривает не как совокупность психических
функций, а как единство интенциональных актов, направленных на
ноэматический смысл предмета. На первой стадии описания
выделяются «внешние формы слова» — фонемы и морфемы,
конституирующие слова как членораздельный звук. Слово превращается из
акустического комплекса в организованную единицу языка,
выполняющую номинативную функцию. Иначе говоря, слова в их
элементарной языковой функции суть «имена», с помощью которых
мы именуем вещи в мире. Они, конечно, тоже являются
инструментами коммуникации, но еще не становятся носителями смысла.
Имя для Шпета, в противоположность Флоренскому и другим
философам имени, — лишь рудиментарная форма языка. Оно — лишь
метка вещей, но не носитель смысла. Данное различие между
словом как членораздельным звуком и словом как выражением смысла
Шпет фиксирует в понятийной связке «лексис—логос».
Первое проявление смысла Шпет находит на следующем уровне
структуры слова — уровне «логической предикации», которая
составляет область «логических форм» (понятий, суждений). Здесь
слово выступает в «предикативной функции», функции
приписывания или отрицания предикатов. Этот слой структуры является
базовым по причине того, что смысл всегда обнаруживается в логических
формах (т. е. доступных определению понятиях и суждениях), а не
помимо них. Но он и не сводится к совокупности логических форм.
112
Раздел I
Соответствие логическим формам образуют «поэтические
формы». Они представляют собой аналогию
терминологическому языку логики и могут быть на этом основании причислены к
«поэтической логике» или поэтике. Соответственно этому статусу
логических и поэтических форм в структуре слова Шпет различает
два основных типа предикации — «слово-термин» и «слово-образ»,
причем эти типы не составляют противоположности, а скорее
находятся в отношении фундирования: логические формы
образуют базис, на котором складываются поэтические формы. В целом
же оба типа конституируют в совокупности формальный остов
выраженного в языке смысла, который Шпет называет вслед за
В. фон Гумбольдтом «внутренней формой слова».
От этого формального остова смысла, или «внутренней формы»,
следует отличать слой структуры слова, конституирующий язык
как осмысленное целое — смысл как таковой. Смысл — это идея
вещи, о которой нечто сообщается, в ее отношении к самой сущей
вещи. Точнее говоря, смысл и есть это отношение вещи в ее онти-
ческой форме (как предмета обозначения) к вещи как идеальному
предмету (как предмету уразумения). Причем смысл, по
убеждению Шпета, имеет объективный характер, независимый от
отдельных актов сознания, в которых он осуществляется.
Каким же образом на основании различенных элементов
структуры слова может быть решен вопрос о возможности понимания
индивидуальности? Ответ на этот вопрос предполагает, что
индивидуальность может быть выражена в языке как «осмысленная» структура.
Субъективность говорящего проявляется в экспрессии. Мы
можем постичь ее с помощью «симпатического понимания», но при
этом мы постигаем не смысл высказываний говорящего, но
некое психическое единство, которое в структуре смысла никак не
обнаруживается. Напротив, чтобы перейти от симпатического
(психологического) понимания индивида к уразумению
индивидуальности его смыслополагании, мы должны рассмотреть лицо
как идеальный предмет нашего понимания, который и
становится носителем смысла. Иначе говоря, необходимо воздержаться от
«личного» отношения к «лицу», чтобы уразуметь его как
воплощение смысла. «Личность есть слово и требует своего понимания.
Она имеет свои чувственные, онтические, логические и
поэтические формы»22, в которых она объективируется как исторический и
22 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.,
2007. С. 286.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 113
культурный факт и тем самым становится доступной в своей
индивидуальности нашему пониманию.
Из этого Шпет выводит парадоксальный тезис, что возможно
образование идеи индивидуума23. Этот тезис перечеркивает
традиционную логическую теории абстракции, согласно которой идея
определяется как результат обобщения некоего класса
индивидуумов. Шпет, напротив, понимает идею в смысле «типического»,
обнаруживающегося в отношениях отдельных проявлений и
творений индивидуума к целому его социокультурного бытия.
«Лицо субъекта выступает как некоторого рода репрезентант,
представитель, "иллюстрация", знак общего смыслового содержания,
слово (в его широчайшем символическом смысле архетипа всякого
социально-культурного явления) со своим смыслом. (Цезарь — знак,
"слово", символ и репрезентант цезаризма, Ленин — коммунизма,
и т. п.) Если субъект, как такое слово, в своем смысле, изучается по
продуктам своего творчества, то такое изучение есть изучение
объективного содержания, смысла соответствующей продукции»24.
Хотя этот тезис Шпета о необходимости «логики
типического» и остался, судя по опубликованным текстам и материалам из
его архива, лишь на стадии наброска, тем не менее можно
утверждать, что он заключает в себе новый подход к концепции
понимания индивидуальности, преодолевающий границы психологизма и
рассматривающий индивидуальность как социокультурно
артикулированный «смысл». Этот подход Шпета ориентирует
философскую мысль на разработку герменевтической логики25 и связывает
проблему понимания индивидуальности с проблемой уразумения
самой реальности культуры, и в первую очередь языка. Разработка
этого направления — в аспекте понимания языка и языковой
коммуникации — и по сей день остается важной задачей,
унаследованной от герменевтических дискуссий XX столетия о принципах и
основаниях наук о культуре.
23 Впрочем, возможность идеи индивидуального допускает уже Гуссерль. Ср.
Husserl Ε. Die Konstitution der geistigen Welt. Hamburg, 1984 (Text nach Husserliana.
Bd. IV). Шпет, критикуя Гуссерля в статье «Сознание и его собственник» за идею
универсального «я», игнорирует присущий трансцендентальному субъекту характер
индивидуальности. Оба феноменолога, немецкий и русский, движутся в
направлении создания логики индивидуальности.
24 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.,
2007. С. 486.
25 Ср.: Rodi F. Hermeneutische Logik im Umfeld der Phänomenologie // Rodi F.
Erkenntnis des Erkannten. Zur Hermeneutik des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt а. М.,
1990. S. 147-167.
H. M. Азарова
Два опыта: «Феноменология духа» Гегеля
в русском переводе Г. Шпета
и французском переводе А. Кожева
В становлении русской дефисной философской терминологии
сыграли огромную роль европейские языки, и прежде всего
язык немецкой философии (о чем упоминает Вяч. Вс.
Иванов1), а затем и французская философия и поэзия.
Дефисные образования являются своеобразным
терминологическим контрапунктом, позволяющим провести
сопоставительный анализ перевода гегелевской «Феноменологии
духа» Густавом Шпетом на русский язык2 и перевода и трактовки
на французском языке (возможно, с потенциальной проекцией на
русский язык) основных гегелевских терминов и понятий в
лекциях о Гегеле «Введение в чтение Гегеля» Александра Кожева3.
В своем сообщении я остановлюсь прежде всего на тексте
Шпета, но с некоторой проекцией на текст Кожева и далее — на
современные философские и поэтические тексты.
Очень важно иметь в виду, что тексты Шпета и Кожева
создавались практически одновременно и независимо друг от друга (Ко-
жев — 1933-1939, Шпет — конец 1920-х годов). Оба автора
сталкивались с проблемой отсутствия в русском и французском языке
моделей словообразования так называемых «длинных слов»,
позволяющих Гегелю свободно превращать развернутые предложные
и предикатные конструкции в слитные термины. В ряде случаев
Шпет не только не прибегает к дефисным конструкциям, но
значительно сокращает длину слова (буквально в 3 раза), пренебрегая
ритмом «длинного слова» как выразительным средством, —
Zusammengeschlossensein переводится как сомкнутость4. С другой
стороны, французский язык обладал некоторым первоначальным
1 Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. М., 2004.
2 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
3 Кожев Л. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003.
4 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 78.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 115
преимуществом, благодаря наличию развитой системы дефисных
образований, позволявшей, например, подобные трактовки: «"Das
absolute Wissen" — это Человек-обладающий-абсолютным-Знанием
(ГНотте-possédant-le-Savoir-absolu5), так же как
"Selbstbewußtsein" — это Человек-себя-сознающий (ГНотте-Conscient-de-soi6)»\
Важно, что в русском языке изначально дефис соотносился в
сознании говорящих с проблемой предельного-непредельного, в
частности — во временном аспекте. Сочетания предлогов со словами разных
частей речи в обстоятельственном значении писались через дефис:
«съ-этихъ-поръ», «въ-самомъ-деле», «въ-последствии» и прочие.
Философские тексты XX в. значительно чаще используют те дефисные
образования, которые язык уже перестал осмыслять как нормативные.
Однако благодаря распространенности этих образований в
философских текстах они начинают осознаваться говорящими как
нормативные именно для философского дискурса. Так, модель с дефисным
написанием не уже в начале XX в. воспринималась как нормативная для
философских текстов. Поэтому Шпет свободно ею пользуется,
переводя, например, слитное nichtersheienden как не-являющемся8, а также:
не-моральное9, момент не-покоя10. Однако сложные отрицательные
термины не подвергаются дефисной обработке: «нерезультат ее действо-
вания (ihr Nichtgetanhaben)»x\ а не «не-результат-ее-действования».
Количественно в переводе Кожева дефисных терминов на
порядок больше, чем в шпетовском. Требование точности в научно-
философском тексте заставляет Шпета производить строгий отбор
по признаку «дефисный / недефисный». В этом отборе он прежде
всего ориентируется на свое определение «понятия» (Begriff), которое
противопоставляет «концепту». Экстраполируем шпетовское
отношение к «концепту» на перевод Кожева. Представляется возможным
утверждать, что выбор дефиса в переводах терминов «das Ansichsein»
как «VÉtre-en-soi» («в-себе-Бытие» у Кожева) и «в-себе-бытие» у
Шпета и, соответственно, невыбор в случае «die Sichselbstgleitigkeit» как
«Végalité-avec-soi-même» («равенство-самому-себе»)12 и «равенство
самому себе» позволяет представить экспликативные термины Кожева как
5 KojèveA. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 321.
6 ibidem. P. 321.
7 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 401.
8 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 87.
9 Там же. С. 328.
10 Там же. С. 378.
11 Там же. С. 165.
12 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 10, 11.
116
Раздел I
наращивающие семантический объем и реализующие максимально
возможное количество валентностей, то есть именно то, что Шпет
подразумевал под «концептом». Говоря о соотношении концепта и
понятия у Шпета (это различие очень трудно передать по-французски),
его любви к понятию и нелюбви к концепту, интересно выяснить
словоупотребление самого слова понятие. Действительно, Шпет, переводя
Гегеля, говорит, что абсолютный дух — «самое возвышенное понятие»,
т. е. понятие — это нечто, что — не переставая быть научным, может
тем не менее быть возвышенным. Можно сравнить с поэтическим
высказыванием Геннадия Айги «чудо понятия "падаетлист"», в котором
понятие объявляется чудом. Совершенно ясно, что слово концепт в
русском языке не может вступать в подобные отношения, т. е. мы не
можем сказать «чудо концепта», но мы не можем и сказать
«возвышенный концепт». Сочетаемость слова концепт ограничена генитивом
(концепт войны, концепт счастья и т. д.). С точки зрения динамики
понятия Кожев стремится при помощи дефиса ликвидировать
оппозицию статики и динамики, динамизировать концепт внутри самого
развернутого дефисноготермина: «Человек-в-Мире»13 («Homme-dans-le-
Monde»XA) или «Творческим-становлением-посредством-негации («Devoir-
créateur-qui-procède-par-négation»{5)»{b.
Для Шпета внутри понятия нет «после» и «сейчас», понятие
обретает динамику только в системе (понятие «понимаемое» у Шпета
«живет и движется»11), но дефис позволяет соотнести единичные
понятия друг с другом, образуя своеобразную дефисную
подсистему внутри общей гегелевской терминологической системы. Таким
образом, дефис у Шпета является не только
словообразовательным, но и динамическим (синтаксическим) средством, хотя
характер динамики существенно иной, чем у Кожева.
Шпет ставит перед собой задачу уточняющего перевода. Такой
перевод в ряде случаев требует и комментариев переводчика. Если
принять во внимание различие в подходе к переводу поэтического
и философского текста, несмотря на их типологическую близость и
непротиворечивость, то видно, что перевод поэтического текста в
начале-середине XX в. стремится быть конгениальным оригиналу.
Переводчик философского текста испытывает определенный страх
перед возможностью произвола, поэтому Шпет избегает в боль-
13 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 402.
14 Kojève A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 322.
15 Ibidem. P. 328.
16 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 410.
17 Шпет Г. Г. Мудрость или разум // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 350.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 117
шинстве случаев поиска эквивалентов гегелевской этимологизации
и поэтизмов во имя идеи создания строгого научного термина.
В комментариях мы видим оценочные выражения Шпета —
«игра слов», «произвольная этимология»; Шпет в идиостиле Гегеля
почти не одобряет, считает необязательной этимологизацию.
Оценку Шпета «произвольная» [этимологизация] можно воспринимать
как оппозицию «ненаучной», в то время как гегелевскому понятию
науки не противоречит поэтическая этимологизация. Шпет не идет
на поводу у напрашивающихся из контекста окказиональных
образований. Так, Гегель прямо выводит Eigensinn из der eigene Sinn, что
могло быть по-русски буквально передано окказиональным «соб-
ственносмыслие» или более современным и не ломающим
языковые нормы дефисным «собственно-смысл», однако Шпет
предпочитает не связанные, но нормативные слова — «собственный смысл»
и «своенравие»™. Шпетовское отношение к поэтической
этимологизации распространяется и на паронимию; Шпет в основном не
стремится переводить паронимию, она в лучшем случае дается по-
немецки в скобках: «я замечаю (ich werde gewahr)»19.
Примеров, когда Шпет не следует принципу выводимости одного
слова из другого, очень много. Zweifel и Verzweiflung как «сомнение» и
«отчаяние», vielfache — einfache как «многообразное» и «простое», то же
с отказом от дефиса — Gewissen-Sichselbstwissen как «совесть», «чистое
знание себя самого»™. Подобный отказ от поэтической выводимости
одного термина из другого во имя мыслимой адекватности
отдельного слова (отказ от связанности во имя строгой раздельности) может
ликвидировать движение мысли в слове: «оно, так сказать, только
устремляется к мышлению (geht... an das Denken hin) и есть
благоговение (Andacht)»21. У Гегеля движение к мышлению, подчеркнутое
троекратным предлогом «an», приводит к результату «Andacht»
(благоговение как сосредоточенность-в-мышлении), а у Шпета декларируется
устремление, но оно приводит однозначно к «благоговению».
Возможно, обращение Шпета к переводу именно
«Феноменологии духа» связано с притягательностью заглавия самого
произведения. Хотя в тексте произведения Гегеля, как отмечает Мотро-
шилова22, слово «феноменология» практически не появляется, но
18 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV М., 1959. С. 106.
19 Там же. С. 65.
20 Там же. С. 44, 108,351.
21 Там же. С. 116.
22 Мотрошилова Н. В. «Феномен», «явление», «гештальт»: терминологические и
содержательные проблемы «Феноменологии духа» Гегеля в соотнесении с
философией Канта. 2006. Рукопись.
118
Раздел I
для Шпета благодаря именно гуссерлевской трактовке
«Феноменологии духа» это слово так или иначе имплицируется при переводе
любого термина, любого понятия.
Для Шпета характерно стремление писать нормативным
литературным языком, не прибегая к средствам выразительности, которые
могут восприниматься как неузуальные. Действительно, в 1930-е гг.
дефисное написание «в-себе» и с одновременной субстантивацией,
типа «это-в-себе», воспринималось бы как ненормативное,
однако было бы выразительным и понятным термином. Подобные
конструкции становятся нормативными и широко употребительными в
русском философском дискурсе значительно позже — в самом конце
XX в. Много аналогов находим и в поэтическом тексте (И: прах-Себя-
для-Бури: (ЗАПИСЬ Flambeaux éteints du monde ... Nerval)23). Кантов-
ская «вещь в себе» и даже, в интерпретации Соловьева, «вещь сама по
себе»24 традиционно писалась раздельно. Но сейчас, после процесса
дефисизации философского текста, встречается и дефисное
написание «вещь-в-себе», хотя оно не является философски оправданным.
Термин «для-себя-бытие» в написании через дефис уже
существовал к моменту перевода, во всяком случае у Лосева, например, он
встречается одновременно со Шпетом и независимо от него:
«ставшее и для-себя-бытие»25. Однако Лосев, как и Шпет, осознает
непривычность сложного предложного дефисного образования в русском
философском тексте: «Гегель... одно выражение, которое имеет для
нас большую ценность, несмотря на свое внешнее неудобство»26.
Основным средством субстантивации предложно-местоименных
конструкций у Шпета является не дефис, а кавычки («оно само не
есть для себя это "в себе"»21), что ставит такого рода образования
в один ряд с обычной субстантивацией прилагательных, т. е.
«внутреннее вещей»2* (das Innere).
Важно отметить, что образование и необразование при помощи
дефиса прямо зависит от лексических составляющих.
Подавляющее большинство дефисных образований Шпета содержит
возвратные местоимения себя, себе или местоимения сам, самый. Интерес-
23 Лиги Г. Отмеченная зима. Париж, 1982. С. 425.
24 Мотрошилова Н. В. «Феномен», «явление», «гештальт»: терминологические и
содержательные проблемы «Феноменологии духа» Гегеля в соотнесении с философией
Канта. 2006. Рукопись. С. 206.
25 Лосев А. Ф. Самое само. Сочинения. М., 1999. С. 548.
26 Там же. С. 556.
27 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. M., I959.
С. 122.
28 Там же. С. 78.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 119
но, что именно эти местоимения принадлежат к разряду наименее
описанных в русской грамматике. Местоимение «себя» не просто
вывернуто внутрь, то есть кореферентно субъекту, но из-за
неполной парадигмы (отсутствие именительного падежа) оно наименее
персональное и наименее одушевленное (по сравнению с любыми
падежными формами личных местоимений, даже третьего лица),
то есть, формально-логически уравнивающее вещь и человека, оно
не просто внеперсонально, но в сочетании с местоимением «сам»
представляется почти «обездушевленным». Можно предположить
неслучайность того, с какой легкостью себя-себе входят в состав
сложного термина. Во всяком случае подобные образования
встречаются очень часто практически у всех русских философов первой
половины XX в. (Лосев, Франк, Друскин). Более того, эти
местоимения могут не единично входить в состав более крупных
комплексов. Обратим внимание на определенные закономерности: в том
отрезке текста, где присутствуют подобные длинные образования,
можно найти их в расчлененном виде (по кускам), но уже в виде
предикатов (или оно есть в себе и для себя), а с другой стороны,
небольшой отрезок текста крайне насыщен различными формами
себя, в-себе-сущее, для-себя-бытие, в-своем-для-себя-бытии и т. д.
Кавычки являются основным маркером субстантивации, то
есть даже присутствующий дефис в предложном понятии «в-себе»
оценивается как недостаточно надежное средство субстантивации:
«рука должна выражать в-себе/-бытие] индивидуальности <... > то,
стало быть, рука выразит это "в-себе"»29. Дефисные образования
«вовне-себя»30 и «внутри-себя» созданы по той же модели, что и
«в-себе», т. е. в кавычках.
В нетерминологических или неявно-терминологических
конструкциях более всего заметно различие в принципе связывания-
и-раздельности у Шпета и Кожева: слитное гегелевское имя и
предикат («Sichselbstgleichkeit» и «sichselbstgleichen») y Шпета раздельно,
а у Кожева — дефисно: равенство-себе-самому, себе-самому-равное.
Похоже, что для дефисных образований Кожева почти не
существует лексических ограничений и нерелевантна разница между
термином и нетермином.· «Бытие-для-Человека («VÈtre-pour-Γ Homme»)
есть Бытие-раскрытое-Понятием ("l'Ètre-révélé-par-le-Concept")»
или «le Concept(-éternel)-situé-dans-le-Temps»^ {«Понятие (-венное)-
находящееся-во-Времени»).
29 Там же. С. 168.
30 Там же. С. 100.
31 KojèveA. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 392, 342.
120
Раздел I
Для Шпета избыточен дефис в таких конструкциях, как
равенство с самим собой32. В ряду в-себе-бытия, для-себя-бытия, равенство
с самим собой — последнее дается без дефиса. Можно
предположить, что при инверсии такая конструкция писалась бы с дефисом:
с-самим-собой-равенство. В целом Шпет избегает дефиса, если
понятие выступает в роли предиката: «в-себе-сущим лишь как бытием
для другого»3*.
Неубедительно для него также дефисное соединение
существительного и определения. Дефисное у Гегеля («in der reinen-Bewegung
des Denkens»), у Шпета — раздельное: «в чистом движении мышления»34.
Напротив, для Кожева или системы-после-Кожева раздельные
соединения существительного и определения Гегеля типа «das ruhende Sein»
(у Шпета очевидно раздельное покоящееся бытие35) обладают явным
потенциалом связывания по модели «покоящееся-бытие»: «налинное-
бытие/existence-empirique/(Dasein)», или «в действительном-Времени
/dans le Temps-objectivement-réel/или во временной-Действительности
/dans la Réalité-objective-temporelle/, т. е. в Истории»36.
Однако похоже, что в последней трети русского текста Шпет как
будто «свыкается» с неизбежностью дефисов и начинает свободнее
включать в дефисные образования более широкий круг лексики (по
преимуществу все же абстрактные существительные): «для-себя-
становление», «в-себе-знанимость» и даже субстантивированные
прилагательные, попадающие в поле «себя»: «в-себе-устойчивое»31.
В конце книги появляются также образования с личными, а не
только возвратными местоимениями: «оба эти момента в-себе-бытия
и для-него-бытия», «моего для-меня-бытия»3%:, что у Кожева
чрезвычайно плотно, даже «Selbst, Самость/ Moi-personnel/, личное Я»39.
Шпет в ряде случаев считает нужным достраивать гегелевские
термины, актуализируя эллипсис, в особенности если это касается
термина «бытие». Самым ярким примером этого является перевод
термина в-себе-бытия, который у Гегеля звучит в двух вариантах —
(Ansich) в-себе и (Ansichsein) в-себе-бытие. Очень важно, что
критерий строгости понятия заставляет Шпета перевести Ansich не как
32 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 31.
33 Там же. С. 355.
34 Там же. С. 108.
35 Там же. С. 133.
36 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 406, 403.
37 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 266, 277, 312.
38 Там же. С. 268, 188.
39 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 408.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 121
в-себе, а как в-себе[-бытие]. Похоже, Шпет не доверяет
субстантивации, отсутствие существительного мыслится им как
недостаточная категориальная определенность. С другой стороны,
системный подход типа шпетовского заставляет создавать равносложные
термины таким образом, что термин «в-себе» как будто хромает на
одну ногу, в нем недостает одного слова по сравнению с «в-себе-
сущее», «в-себе-бытие» и т. д.
В следующем примере Шпет дважды достраивает термины
бытия, имплицированные в немецком тексте, — один раз со скобками,
другой раз — без: «бытие как всеобщее бытие или [бытие] в модусе
понятия... мы видим его как понятие, которое <...> погружено в него
свободно от него и есть простое понятие»*0. Любопытен контекст
говорения о бытии: «мы видим его как понятие», то есть ориентация
прежде всего на письменный текст заставляет достраивать
эллипсисы именно с целью «увидеть» понятие буквально, то есть особенно
важна графика (дефисы, квадратные скобки, кавычки, курсивы).
Возможно, именно стремление или осознание
терминологического параллелизма конструкций заставляет Шпета достраивать термин,
даже дефисный, при помощи квадратных скобок. Но не менее
важно, что Шпет, обладая развитым чувством ритма и рифмы, особенно
ассонансной, возможно, иногда достраивая при помощи
квадратных скобок термин, сосредотачивается на ритмически параллельной
структуре. Например: «будто познавание может довольствоваться
этим-в-се6е'[-бытием]»41 (здесь и далее знак ударения мой. — Н. Л.).
Сам термин, данный в этой форме — «этим-в-гс6е[-бытием]», —
представляет собой строчку трехстопного дактиля с внутренней
рифмой эпим-бытием, таким образом, что в-себе попадает в центр
ритмически организованной строчки, между двумя рифмами, и как бы
выталкивается наружу, что на письме подчеркивается еще и
курсивом; падеж не является настолько значимым, и внутри такой строчки
в-себе воспринимается как термин. Шпет преодолевает собственные
уточняющие квадратные скобки. В результате конфликта между
метрической организацией высказывания и единством вводимого
термина в-себе возникает эффект колеблющегося среднего,
являющегося одновременно частью ритмической структуры и разрушающим ее
элементом (этим-в-себе-бытием тождественно в-себе).
Говоря о ритмической организации дефисных конструкций,
можно также обратить внимание на конструкцию с явным ассонансом
40 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 137.
41 Гам же. С. 10.
122
Раздел I
на «о», построенную на ритме гласных, что характерно для Шпета:
«оно должно снять свое вовне-себя-бытие»42. Аналогичное
построение, но уже независимо от дефиса: в «Скептике и его душе».
Критику скептицизма и так называемого «тонкого» субъективизма Шпет
совершает с помощью поэтического приема — подчеркивается при
помощи ритмического повтора творительный падеж субъекта («им
теперь и только им»), а затем выделяется формант «им» в причастии
«выразима ли» (очень интересен ритмический ассонанс на «и»: из
девяти слов подряд — семь содержат «и», и из них пять «и» ударных.
Таким образом семантика возможности в форме «выразима»
оказывается связанной с произволом субъекта): «Скептик может
посмеяться над "грубым" субъективизмом, но от более "тонкого" он
откажется: им теперь и только им постигнутая истина выразима ли ?»43.
Особый интерес в третьей части «Феноменологии...»
представляют комбинации или подчинительные конструкции двух дефис-
ных образований подряд, причем свойственное Шпету чувство
ритма позволяет использовать некий просодический принцип
введения термина, что можно было бы назвать даже режиссерским,
или партитурным принципом: «это есть для-себя-сущее для-себя-
бытие, существование духа»*4, «вне-себя-бытие для-себя-бытия; само
чистое "я" абсолютно разложено»45. Системно ряд дефисных
понятий связан с идеей «работы понятия»4** и с идеей, что
существуют слова, которые предполагают значение, до которого еще нужно
добраться47. Ссылка на то, что значение общеизвестно, — это лишь
предлог, чтобы уйти от главного, т. е. дать понятие. В этом смысле
ряд связанных друг с другом дефисных образований как раз
призваны не довольствоваться общеизвестным значением.
В то же время поэтика Гегеля, основанная не только на
этимологизации и паронимии, как уже говорилось, но и на рифмах,
аллитерациях и звукописи на согласных, почти полностью игнорируется
Шпетом: «Спокойному царству (dem ruhigen Reiche...)»4*. Основные
потери поэтической составляющей Гегеля при переводе
объясняются не только позицией Шпета, но и объективной системной
42 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV М., 1959.
С. 102.
43 Шпет Г. Г. Скептик и его душа // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 391.
44 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 280.
45 Там же. С. 277.
46 Там же. С. 38.
47 Там же. С. 43.
48 Там же. С. 287.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 123
сложностью текста. В развитии термина важно не только то, что в
русском языке не отражена выводимость «Erscheinung» из «Shein» (y
Шпета «явления» из «видимости»), но и то, что последующее слово
бытие (Sein) рифмуется с видимостью (Shein)49. Следование
системным связям на русском языке, в противовес идее отдельного слово-
понятия, превратило бы текст Гегеля в поэтико-философский.
Однако в тексте Шпета, даже на небольших отрезках, есть свои
примеры суггестивности: «Но на деле, так как и то и другое сами
суть всеобщее или сущность, то оба они существенны»™. Количество
и связи слов в оригинале и переводе могут точно соответствовать,
однако возможно возникновение новых связей в русском языке.
Так, разорванное немецкое «das ansichseiende Wesen» превращается
в связанную и почти тавтологическую «в-себе-сущую сущность»51.
В тексте Шпета образуются устойчивые фоносемантические
связи между словами «вещь», «все», «всеобщее», «вообще»,
«сущее»: «среда, которую можно назвать вещностью вообще или чистой
сущностью»52, «в-себе-всеобщему»53, «Ибо в-себе[-бытие] или
всеобщий результат отношения рассудка к "внутреннему" вещей есть
различение того, что не подлежит различению»54.
В какой-то степени, несмотря на разность семантики, при
многократном повторении в-себе-всеобщее звучит как тавтологическое
сочетание. Следующая цитата — это один из немногих примеров,
где Шпет пишет через дефис то, что у Гегеля отдельно и не
субстантивировано как отдельное понятие: «от него различается его в-себе-
всеобщее или основание как сила»55 («von diesem wird sein an sich
Allgemeines, oder der Grund, als die Kraft unterschieden»)5*3.
Комплексы всеобщее и в себе-сущее практически идентичны по
составу согласных, что могло бы дать развитие новой философской или
философско-поэтической мысли: «Эта игра сил есть поэтому
развившееся негативное; но истина его есть положительное, т. е. всеобщее,
в-себе-сущий предмет»51. Шпет допускает естественную паронимию
только тогда, когда она не вредит нормативности отдельного слово-
понятия, однако благодаря возможностям русского языка всеобщее
49 Там же. С. 77.
50 Там же. С. 60.
51 Там же. С. 122.
52 Там же. С. 61.
53 Там же. С. 58.
54 Там же. С. 95.
55 Там же. С. 84.
56 Hegel G. W. F. Bd. 3. С. 125.
57 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 78.
124
Раздел I
является не только паронимом в себе-сущее, но на фоне
взаимодействия этих двух образований, одно из которых является дефисным,
и неизбежно возникающего общего значения имплицированно
присутствует и классическая вещь в себе, и это достигается чисто фоносе-
мантическими средствами. В немецком языке этого не происходит, не
образуются связи между das Allgemeine и der Ansichseiende. Кроме того,
для русского языка чрезвычайно актуально совпадение идеи
сущности и существования: «другая устойчиво существующая сущность»™.
На более широких отрезках текста происходит совмещение двух па-
ронимических полей: сущности-существования и вещъ-все-всеобщее-
вообще-сущее: «различие <... > принято во всеобщее, но тем самым
[принято] и устойчивое существование моментов <... > как равнодушных и
в-себе-сущих существенностей»\ «Одноименное сознание,
отталкивающееся от себя самого, становится для себя в-себе-сущей стихией»59. Во
втором примере ритмически организованная строчка «одноименное
сознание, отталкивающееся от» — это ямб, а вторая часть написана
дольником. Кроме того, идея становления подчеркнута пароними-
чески, в конструкции «себя самого, становится для себя в-себе-сущей
стихией» при помощи звукописи, сближением слов «становится» и
«стихией». Интересно, что по-немецки в данном случае звукопись
отсутствует, а «стихия» у Гегеля — это «Element». Звукопись, основанная
на сочетании «ст» (одна из немногих любимых шпетовских
комбинаций согласных), поддерживается рядом других интересных фоносе-
мантических построений: «движения <... > в <... > стихии его инобытия
суть струи света; в то же время они в своей простоте суть его для-себя-
становление»60. Если написать эти строчки в стихотворной форме,
возникает подчеркнутый понятийно-звуковой параллелизм:
стихии суть струи света
в своей простоте суть для-себя-становление
Идея становления, таким образом, в русском языке связана
с идеей света, но и с идеей существования (суть), что,
безусловно, обыгрывается и в поэзии и формирует устойчивый русский
поэтико-философский концепт.
Стремясь к точности, Шпет уходит от поэтики Гегеля, прежде
всего метафорической, этимологической и паронимической, то
58 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV М., 1959.
С. 73.
59 Там же. С. 82, 107.
60 Там же. С. 370.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 125
есть от тех или иных вариантов произвольного сближения слов или
намеренной звукописи, но приходит к иному типу все равно
поэтически организованной речи, прежде всего ритмически
ассонансной, которая обладает своими средствами обращения с понятием,
его создания или обособления.
В триаде: для-себя-бытие, бытие для другого, бытие для чего-то
иного («Тем самым отпадает последнее «поскольку», отделявшее для-
себя-бытие от бытия для другого <...> он <предмет > есть для себя,
поскольку он есть для другого, и есть для другого, поскольку он есть для
себя <... > с бытием для чего-то иного»61) только первый член пишется
через дефис. Здесь можно указать две причины. Первая — дефис-
ные конструкции предпочтительнее включают себя, чем другие
местоимения, а вторая — к дефисному написанию тяготеют
инвертированные конструкции, т. е. можно предположить в определенном
контексте дефисное написание для-другого-бытие или для-иного-
бытие, не забывая о том, что само слово другой, обладая семантикой
различения-разделения, в системе Шпета скорее всего логически
ограничено в образовании связных конструкций. Следующий
пример показывает, что возможен дефис не только в варианте в-себе-
бытие, но и в варианте для-некоторого-иного-бытие, но, возможно,
дефисная смелость Шпета объясняется здесь тем, что и в немецком
языке в этом случае используется дефисная конструкция Für-ein-
Anderes-Sein: «если <...> называется <...> предметом — то, что есть
он как предмет или что есть он для некоторого "иного", то ясно, что
в-себе-бытие и для-некоторого-иного-бытие есть одно и то же»62.
Отметим, что Шпет отказывается от больших букв внутри дефисных
образований, с другой стороны он, субстантивируя «иное» при
помощи кавычек, тем не менее не может использовать этот прием
внутри дефисного образования, в результате чего статус имени теряется.
У Кожева63 из-за предпочтения больших букв подобных потерь не
происходит («des Selbstbewußtseins» — «de l'Être-pour-soi»64).
С точки зрения современного текста, особенно современной
поэзии, графический образ текста Шпета современен (понятия
пишутся без больших букв), однако экспрессивность
существительного, начинающегося с предлога, теряется — Fürsichseiendes:
«становится благодаря этому для себя самого некоторым для-себя-сущим»65.
61 Там же. С. 68.
62 Там же. С. 93.
63 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 20.
64 Там же. С. 20.
65 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 105.
126
Раздел I
Альтернативный союз или у Шпета никогда не включается в
состав длинного понятия, он всегда разрывает высказывание на два
самостоятельных дефисных образования и дается в отличие от де-
фисных частей обычным шрифтом, а не курсивом: «...в-себе-бытия
или для-нас-бытия...»66 («desAnsich — oder Fürunsseins»).
Для Кожева, напротив, характерно то, что можно назвать
альтернативными дефисными конструкциями, помещающими союз
в ткань самого концепта: «"Savoir-ou-une-connaissance de soi" /
"Знание-или-сознание-себя"/»61.
Но и сочинительные термины могут разбиваться Шпетом: «...эта
самость стала в-себе- и для-себя-сущим...»6*. В немецком тексте Ап-
undßrsichseiende (буквально в-и-для-себя-сущее), но Шпет
сохраняет «и» как показатель дискретности, избегая настолько длинных
слов, как в-себе-и-для-себя-сущее. Таким образом, курсивом у
Шпета даны лишь сегменты «строгих» понятий, а союз «и» некурсивом
разрывает понятие надвое. У Кожева же «сочинение»
непосредственно входит в концепт: «Человека-Желания-и-Действия ("ГНот-
me-du-Désir-et-de-ГAction "69)»Ί0.
Наличие дефисных образований у самого Гегеля говорит о том,
что этот способ слово-образования (образования понятий) не
противоречит его мышлению, а их незначительное количество
объясняется лишь возможностью слитного написания в немецком языке.
Так, Fürsichseiende (для-себя-сущее) пишется слитно, a Für-ein-Ande-
res-Sein — через дефис из-за фонических ограничений в немецком
языке. В любом случае Гегель предпочел бы слитность (и дефисность
как вид слитности в оппозиции к отдельности), однако Шпет иногда
трактует и дефисное как отдельное (Für-ein-Anderes-Sein — как бытие
для иного)71. Интересно, что два схожих дефисных образования
Гегеля Шпет интерпретирует по-разному. Одно через дефис: Für-Anderes-
Sein как для-иного-бытие, а другое, Für-ein-Anderes-Sein, — как бытие
для чего-то иного: «единство для-себя-бытия и бытия для чего-то
иного <... > но для себя-бытие и для-иного-бытие есть точно так же само
содержание»12. Точнее было бы передать и во втором случае дефисное
66 Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 49.
67 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 406.
68 Гегель Г В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV. M., I959.
С. 236.
69 Kojève A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 397.
70 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 494-495.
71 Гегель Г В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г. В. Ф. Сочинения. Т. IV. М., 1959.
С. 73.
72 Там же. С. 72.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 127
образование Гегеля дефисом же на русском языке: для-чего-то-иного-
бытие; при этом любопытную позицию занимает частица — то, и так
(нормативно) пишущаяся через дефис. Семантика подобных частиц
при попадании в центр дефисного образования обособляется
благодаря усилению экспрессивности дефисов с двух сторон. Переводчик
мог быть смущен ненормативностью в русском языке подобных де-
фисных образований (хотя в немецком языке они не более
нормативны) или малым количеством дефисов у Гегеля. Действительно,
текст с дефисами, помимо свойств концептуализации,
приобретает дополнительное свойство пересегментации и снятия оппозиции
дискретности-континуальности.
В отличие от Шпета кожевское употребление гегелевских
терминов является не уточняющим, а экспликативным, а эта экспликация
превращается далее в развертывание, связывание и продолжение.
Таким образом, заранее можно предположить, что количество слов
будет больше, чем в языке оригинала: «das Seiendes — l'entité-qui-
existe-comme-un-être-donné — сущее»11. При этом если Шпет старается
точно соблюсти количественный показатель и квадратные скобки
являются маркерами отступлений от принципа количественного
соответствия, то Кожев не просто наращивает термин — он у него
как бы «обрастает», но его задача выражается в снятии словесной
оппозиции дискретности и континуальности, так что слово может
выступать и самостоятельно, и в составе некоего нерасчлененного
комплекса. Таким образом, не просто расширяется семантический
объем, но и ставится вопрос о границах слов, возникает некое
гиперслово («Бытие-само-раскрывающееся-себе-самому-в-полноте-
своей-реальности C4'Être-révéléAui-même-à-lui-même-dans-la-totalité-
de-sa-réalité"74)»lb, вообще в идеале весь текст стремится к разбиению
на эти ритмические гиперслова. Такой подход, выявляя максимум
возможных валентностей слова без строгой иерархии
обязательности возникающих связей, неизбежно превращает понятие в то, что
во второй половине XX в. подразумевалось под концептом.
Интересно, что эта линия Кожева одержала абсолютную победу, и
если мы посмотрим тексты о Гегеле уже нашего времени, например
издание 2006 года с предисловием К. А. Сергеева и Я. А. Слинина, то
мы видим, что гегелевское «Bewußtsein» переводится как «бытие-как-
сознание», причем интересно, что вступительная статья предшествует
шпетовскому переводу, в то время как у Шпета такого словообразо-
73 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб,, 2003. С. 11.
74 KojèveA. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 323.
75 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 404.
128
Раздел I
вания не было. Попутно отметим, что дефисные конструкции из двух
существительных с «как» в центре — это одна из продуктивнейших
моделей современных философских и литературных текстов. Далее
те же авторы спокойно приписывают Лейбницу дефисное написание
«субъекта-как-сознания»1Ь, не акцентируя внимание на том, что этот
шаг смелой грамматической феноменологизации (термин мой. — H.A.)
и снятия дискретности присущ именно второй половине XX в. и
меняет восприятие классических терминов. То есть происходит то, что
можно было бы назвать дефисизацией сознания. Современный
философ чаще всего не рефлексирует над своим употреблением дефиса,
оно ему просто кажется удобным (комфортным).
С другой стороны, снятие дискретности и континуальности
приводит к приданию самостоятельного смысла и большей семанти-
зации предлогов, чем это было в классической грамматике. В
предисловии — быть-со-знанием и стремиться к тому, чтобы быть
само-со-знанием. Конечно, такие конструкции у Шпета были
невозможны, хотя в некоторых вариантах модель обособления префикса в
философском термине в 30-е гг. XX в. уже была довольно широко
распространена: «До-предметная структура имени», «Вне-научность»77.
При двукратном или более повторении префикса пред- его
значение так или иначе обособляется, получает некоторую семантическую
самостоятельность: «...будучи представлен как предмет...»7*. Вообще,
тенденция к наделению префиксов (предлогов) семантической
самостоятельностью — одна из основных грамматических тенденций
философских текстов второй половины XX в., которая повлияла и на
некоторые типы поэтических текстов. Следующим шагом будет написание
через дефис, более жестко обособляющее предлог-префикс пред- и в то
же время устанавливающее тесные семантические связи между
словами «пред-ставлен» и «пред-мет». Этот шаг непременно сделает Кожев.
Для Шпета менее важны экспрессивность предлога и предлог в
потенции как имя и как понятие, чем для Кожева: «если историческое
Настоящее со-определено Прошлым, то только понятым Прошлым...
(иcar si Présent historique est co-déterminé par le Passé"79)»m.
Обособление предлога у Шпета достигается суггестивностью, но не дефисом.
Модель современного философского текста в любом случае при
повторении корня обособляет корень, пользуясь дефисом, например:
76 Сергеев К.А., Слинин Я.А. «Феноменология духа» Гегеля как наука об опыте
сознания // Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. СПб., 2006. С. XXVI.
77 Лосев Л. Ф. Самое само. Сочинения. М., 1999. С. 46, 1016.
78 Гегель Г В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV М., 1959. С. 363.
79 Kojève A. Introduction à la lecture de Hegel. Paris: Gallimard, 1976. P. 404.
80 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб., 2003. С. 503.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 129
само-овладение, само-сознание, само-познание, само-достоверность.
Такому тексту недостаточно нахождения всех этих слов рядом.
Действительно, если подобные слова находятся в коротком сегменте
текста, то так или иначе происходит обособление элемента «само-»,
и это было бы подходом Шпета (как и в примере с «предметом»). Но
в современном тексте все равно ставится дефис. Можно утверждать,
что эта модель стала нормативной для конца XX в.
В современном крайнем дефисном варианте перевод
Шпета «сознание отличает от себя нечто, с чем оно в то же время
соотносится»^ писался бы как «со-знание от-личает от себя нечто,
с чем оно в то же время со-от-носится». Современная мысль
выделила бы в самом слове со-от-носится и идею «от» (от-личия), и
идею «со-», так же как высказывание «для некоторого сознания есть
знание»*2 тоже тяготеет к обособлению «со-» в слове «сознание».
Но и в этюде «Скептик и его душа» — собственном шпетовском
тексте — мы с удивлением находим обособление со- : «в роли со-
значения, как психологического тона»*3. Этот феномен объясняется тем,
что подобные конструкции не имеют терминологического значения.
Акцентируя значимость обособления и семантизации предлога-
префикса со-, нельзя забывать о том, что его эквивалент,
латинское и романское con-, входит в само слово «концепт» (кон-цепт),
т. е. акцент делается на максимальном связывании, со-отношении.
Именно концептуализация «со-» практически императивно
присутствует во многих философских текстах второй половины XX —
начала XXI вв. Например, Сартр в интерпретации В. Подороги звучит
так: «качество коммуникации, со-общаемости и метаморфоз вещей»*4.
Таким образом, можно утверждать, что возрастание дефисных
образований на протяжении всего XX в. было неизбежно связано с
изменением характера философской и поэтической мысли. Однако
именно шпетовский перевод Гегеля, поддержанный восприятием,
толкованием, интерпретацией и параллельными гегелевским
терминами и понятиями в русской философской литературе 20—30-х гг.
XX в., сыграл в этом языковом процессе роль триггера, а дефисные
интерпретации Кожева представляют собой отражение уже
следующего этапа, получившего развитие на русской почве значительно
позже — в последней четверти XX — начале XXI в.
81 Гегель Г В. Ф. Феноменология духа // Гегель Г В. Ф. Сочинения. Т. IV. М, 1959.
С. 46-47.
82 Там же. С. 47.
83 Шпет Г. Г Скептик и его душа // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 397.
84 Подорога В. А. Мимесис. М., 2006. С. 51.
С. С. Хоружий
К пределам феноменологии:
Шпет, Гуссерль и интенциональность в мире духовной практики
Анализ мистического сознания представляет для
философии одну из интереснейших проблем.
Г. Шпет1
Уже несколько десятилетий в современной философии
происходит непрерывное укрупнение фигуры Густава Шпета и
рост значения его творчества. Параллельно с данным
процессом и столь же непрерывно происходит другой: процесс
усложнения и обогащения представлений о творческом
облике философа, о характере и существе его философии.
Долгое время эти представления были предельно просты. Лет
сорок тому назад внук философа, первый его биограф и мой
близкий друг, Михаил Константинович Поливанов, рассказывая мне
про своего деда, в качестве его философской характеристики
лаконично произнес: «русский гуссерлианец». Эта сакраментальная
формула была предметом прочного консензуса, бытовавшего во всех
кругах, сколько-нибудь знакомых с именем и наследием Шпета:
среди русских философов в эмиграции, советских и зарубежных
специалистов по русской мысли и даже людей, некогда его
знавших — ценивших его философов, таких, как В. Асмус или П.
Попов, уцелевших его учеников...
Однако едва началось пристальное изучение трудов философа,
как формула консензуса была сразу же покинута. Принадлежность
Шпета в ранний период творчества (главная веха которого —
книга «Явление и смысл», 1914) к руслу феноменологии была,
конечно, неоспорима, хотя и здесь уже замечались отклонения от
классического учения, представленного в «Логических исследованиях»
и «Идеях I». Однако последующее его творчество начали активно
сближать с целым веером других направлений мысли, находя в нем
самостоятельный опыт герменевтики, предвосхищения или даже
конструктивные основы семиотики, структурализма, а также
глубокие, оригинальные разработки едва ли не во всем спектре гума-
1 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. I. M., 1917. С 48.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 131
нитарных наук — в логике, философии языка, психологии, эстетике
и т. д. Новая стадия в формировании рецепции мысли Шпета
оказалась стадией embarras de richesse, когда разнообразие тематики и
идейного содержания его исследований, плюрализм их ведущих
установок и тенденций развития привели к отсутствию какого-либо
единства в восприятии этой мысли. В этот период в литературе
соседствовали разные и далеко расходящиеся оценки философии
Шпета; ее существо и главное содержание видели в
феноменологии, герменевтике, логике, психологии, лингвистике... Но сегодня
эта стадия уже миновала. Путь к новому консензусу, к зрелой
рецепции мысли Шпета наметился, когда появилось понимание того,
что главный вклад этой мысли нельзя вместить в рамки какого-то
одного из направлений или дисциплин гуманитарной науки.
Феномен Шпета — еще один большой индивидуальный
проект синтеза гуманитарного знания, какие рождались в его время,
в первой половине XX в. Можно вспомнить в этой связи
проекты П. Флоренского, Э. Кассирера, Н. Марра, «раннего» А. Лосева
и др. Поздней они оказались отодвинуты в тень структуралистским
проектом, и такой «суд истории» нельзя считать вполне
справедливым: в них имелись и элементы, не сводимые к структуралистской
парадигме и философски более глубокие. В основе проекта
Шпета — эпистемологическое ядро, которое сформировал он сам,
дополнив феноменологическую установку герменевтической
установкой, узрение — уразумением (ср.: «К умозрению привлекается
уразумение»2; «Философии мало увидеть "эйдос" в рефлексии на
сознание, нужно еще его понимать, что достигается в акте его
установления (суждения)»3). Две когнитивные парадигмы образовали
гибкое сочетание, в котором, в зависимости от сферы применения,
на первый план могла выходить та или другая из них: в дескрипции
феноменов сознания — феноменологическая установка, в
дескрипции социальных феноменов (преобладавшей в позднем творчестве
мыслителя) — герменевтическая установка. При этом если первая
из них в своей основе могла быть только гуссерлианской, то вторая
была оригинальной и строилась самим Шпетом на базе проделанной
им капитальной реконструкции герменевтического дискурса.
Очевидны высокие эвристические и универсалистские потенции
подобной эпистемологической и методологической парадигмы. И в свете
трагической биографии мыслителя нельзя не признать, что он
удивительно далеко успел продвинуться в воплощении этих потенций.
2 Шпет Г. Г. Работа по философии (1914-1915) // Начала. 1992. № 1. С. 35.
3 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. I. M., 1917. С 57.
132
Раздел I
Нет сомнений, что гуманитарный проект Шпета в силу своей
глобальной природы должен был охватить и религиозное бытие,
феномены религиозного опыта. Однако в советскую эпоху
философ не мог открыто ставить такую задачу, и тем более не мог
основательно заниматься ее решением. Имелись и другие факторы,
отдалявшие мысль Шпета от религиозной проблематики: во-первых,
настороженно-негативное отношение Гуссерля к поверхностным
сближениям и даже сливаниям, которые могли делаться и делались
между «переживанием» (Erlebnis) как концептом феноменологии и
как реалией религиозной сферы; во-вторых, сложный,
противоречивый характер личных религиозных позиций мыслителя, его
отношения к христианству и Христу (след этих его коллизий —
антихристианские выпады в программной статье «Мудрость или разум?»). И тем
не менее у нас есть ясное свидетельство самого Шпета, что он
сознавал и принимал логику глобальности, заложенную в
феноменологической парадигме, и в силу этой логики считал должным включить и
религиозный опыт в орбиту феноменологической дескрипции. 14
декабря 1913 г. он пишет Гуссерлю: «Феноменология является основой
не только теоретических наук (логических, онтологических, даже
эмпирических), но также и основой любого практического и
аксиологического знания в наиболее широком смысле и, более того, основой
"жизни" и "философской жизни" в целом. <...> Разве в рамках
феноменологической установки мы не собираемся описывать и
анализировать также и переживания (Erlebnisse), подобные переживаниям
св. Терезы или Я. Бёме, или разговоры св. Фомы с Богом?»4 Вскоре
он развернет собственный герменевтико-феноменологический
проект, формируя его основу так, чтобы возможности дескрипции
распространились на новые, социокультурные сферы бытия, чтобы круг
охвата реальности, круг доступных для анализа проблем
максимально расширился — но уж никоим образом не сузился. Поэтому хоть
он и не занимался задачей, поставленной в письме, но наверняка и
не думал, что ее надо снять; и мы сегодня можем считать дескрипцию
религиозного опыта на базе герменевтико-феноменологической
парадигмы одним из намечавшихся заданий проекта Шпета.
Выполнению этого задания и посвящен мой текст.
***
Религиозный опыт — обширная и чрезвычайно гетерогенная сфера.
Подавляющей частью она содержит смешанный опыт, в котором
элемент собственно религиозный, т. е. актуализующий отноше-
4 Письмо Г. Шпета к Э. Гуссерлю от 14.XII.1913 //Логос. 1996. № 7. С. 125.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 133
ние человека к онтологически Иному, сращен с различными
сопутствующими, смежными видами опыта — опытом социальным,
эмоциональным и др. Но в этом, говоря по Джеймсу,
многообразии религиозного опыта есть выделенный род — квинтэссенциаль-
ный и аутентичный религиозный опыт, специально очищаемый от
всех инородных примесей: и это — опыт, культивируемый в
духовных практиках. Именно он и будет рассматриваться нами. Более
конкретно, мы будем опираться на современную реконструкцию
опыта исихазма (мистико-аскетической практики Православия),
проделанную в моих работах, и главным образом в книге «К
феноменологии аскезы» (М., 1998).
Согласно этой реконструкции, исихастская практика (и всякая
духовная практика) не только обладает определенным методом, но
имеет и собственный органон («внутренний органон»), т. е. полный
канон правил организации, проверки и истолкования опыта;
наряду с его описанием представлено было также полное описание
структур этого опыта в рамках современной научной методологии
(«внешний органон»). На данной основе мы не просто установим,
что «в рамках феноменологической установки» (правда, с ее
определенным обобщением) возможно «описывать и анализировать» иси-
хастский опыт. Как выяснится, имеет место нечто большее: сам этот
опыт, будучи методичным и отрефлектированным изначально, «в
себе», в своей собственной, имманентной организации
чрезвычайно близок к структуре феноменологического (интенционального)
опыта, включая в себя стадии редукции, интенционального
всматривания и, в некоторой обобщенной форме, ноэзиса —
разумеется, описываемые в аскетическом дискурсе, далеком от
философского. Тем самым в своей внутренней организации, «внутреннем
органоне», исихастский опыт (и — шире — опыт духовных практик)
имманентно, хотя и имплицитно, феноменологичен. Уже и сам для
себя этот опыт представляет себя как феноменологический, интен-
циональный опыт; и это является еще одним веским фактом,
говорящим об универсальности феноменологической парадигмы, о том,
что «интенциональность — существенный признак сознания»5.
Коптская редукция. Для европейского рационализма, к
которому гордо относил себя Густав Шпет, одной из давних мишеней
насмешек и враждебной иронии служило отшельническое
монашество, аскеза отцов-пустынников. В них видели высшее выражение,
символ асоциальное™ и обскурантизма, воинствующий вызов
идеалам знания и культуры. Современная рецепция аскетизма убеди-
5 Шпет Г. Г. Мудрость или разум? // Мысль и слово. I. M., 1917. С 46.
134
Раздел I
тельно раскрыла, однако, что в раннем монашестве (которое
первоначально возникло в египетском, коптском христианстве) уход в
пустыню, анахоретство было эффективным, а то и прямо
необходимым средством, с помощью которого созидались иное знание и
иная культура. К этому мы добавим конкретный тезис: в
построении опыта духовной практики, направленного к онтологической
трансформации человека, уход в пустыню служит начальной
ступенью, которая и по назначению, и по содержанию аналогична
стадии феноменологической редукции в интенциональном опыте.
Редукция осуществляет конституцию новой когнитивной
перспективы, в которой горизонт сознания ограничен миром
субъектного опыта. Именно это же осуществляется и в уходе в пустыню.
В обоих случаях перед нами — радикальный жест
(самоограничения и, в этом смысле, аскетический акт; Шпет не раз говорит об
«аскетике» разума (как позднее Фуко будет говорить о философии
как аскезе). Цель этого акта ограничения (отсечения, взятия в
скобки и т. п.) — убрать, исключить из поля зрения и восприятия все
лишнее, что мешает концентрации на главной, сугубо внутренней
задаче. В феноменологии редукция конституирует мир сознания
как мир субъектного опыта, способный к дальнейшему
препарированию, которое осуществляют следующие стадии интенциональ-
ного акта. В духовной практике уход в пустыню конституирует мир
сознания как мир аскетического опыта, аскетической традиции,
способный к дальнейшей трансформации, которая будет
выстраиваться как лестница духовно-антропологического восхождения с
помощью «внутреннего органона», предоставляемого традицией.
Разумеется, бегство из мира не ограничивается внешним
уходом — непрерывно продолжаясь, оно интериоризуется, переходит из
внешнего во внутренний мир и там развивается в установку
сознания, которая может рассматриваться как специфическая
разновидность феноменологической редукции: в данном случае мир
субъектного опыта конституирован как мир аскетического опыта, который
отличен от мира опыта произвольного субъекта за счет предикатов,
отражающих его религиозную природу, и совпадает с «Миром
Традиции». Данная установка раскрывается посредством специальных
аскетических категорий (таких, как apotage (отвержение,
отрешенность), amerimnia (оставление забот), hesychia (уединенный покой)
и др.), а также особого жанра «апофтегм», кратких историй,
научающих аскетическому «взятию в скобки». Типичные описания этой
«коптской редукции» ясно показывают ее сущностное совпадение
с феноменологической редукцией. Ср.: подвижник начинает путь
аскезы, «прервав все связи с земным, сложив с себя всякое попече-
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 135
ние, всего совлекшись, нагой...» (не есть ли сознание в редукции —
«нагое сознание»?); «первое дело безмолвия — предварительное
сложение с себя попечения о всех делах, и благовидных, и неразумных»6,
и т. п. Еще одна формула «коптской редукции» — девиз,
услышанный свыше, согласно одной из апофтегм, аввой Арсением: «Убегай,
скрывайся, храни молчание» (лат. fuge, late, tace), — стала самой
популярной из всех, получив удивительную жизнь в западной культуре.
Ее делает своим девизом Люсьен де Рюбампре, герой романов
Бальзака, а затем, позаимствовав у Бальзака, — Джеймс Джойс.
Формирование описанной установки сознания, как во
внешних, так и во внутренних ее аспектах, можно относить к раннему,
преимущественно коптскому исихазму IV—VI вв.
Синайская интенционалъностъ. По выполнении редукции
феноменологическое сознание проводит непосредственно акт интенци-
онального всматривания, в котором развертывается в работе сама
интенциональность как таковая. При этом она развертывается не
как отдельное свойство сознания, но как определенный модус
сознания, объединяющий в себе весь основной арсенал интенцио-
нальных концептов: Abzielen, Erfassen, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit,
u.s.w. В этом модусе осуществляются пристальная нацеленность на
интенциональный предмет и устойчивое держание предмета в
фокусе интенционального зрения. Исихастское же сознание после
выполнения начальных стадий «аскетической редукции» также
развертывает специальный модус — модус трезвения, в котором
осуществляется точно такая же активность (однако не с произвольным
интенциональным предметом, а с весьма специальным: им служит
целостный энергийный образ человеческого существа). Трезвение
(nepsis) — установка бдительной собранности сознания,
являющая собой полный аналог интенциональности и разделяющая все
ее ключевые свойства, начиная с преодоления в ней
Аристотелевой оппозиции пассивности и активности (напомним, что данное
свойство интенциональности утверждается Гуссерлем в поздней
ее трактовке, после «Логических исследований»; в частности, оно
разбирается в 4-м из «Картезианских размышлений»)7. Это — чи-
6 Лреп. Иоанн Лествичник. Лествица 2,1; 27,46. Сергиев Посад, 1894. С. 28, 238.
7 Можно заметить, что понятие интенциональности имеет связи и с западной
монашеской традицией. Еще в монастырском уставе св. Бенедикта (VI в.) монаху
вменяется установка intentio, концентрации внимания на читаемом тексте. Отсюда
в «Лестнице монахов» Гвиго Второго Картузианца (XII в.), западном аналоге
«Лестницы» Иоанна Синаита, intentio выступает как принадлежность первой ступени,
lectio, лестницы духовного восхождения, имеющей вид: Lectio — Meditatio —
Oratio — Contemplatio.
136
Раздел I
сто исихастский концепт, который традиция создала и выдвинула
в центр своего «внутреннего органона» в период так называемого
синайского исихазма VII—X вв., когда главными ее очагами
служили монастыри на горе Синай. Именно в нем исихазм достигает
своего максимального сближения с феноменологией. Подобно ин-
тенциональности, трезвение выступает центром концептуального
комплекса, описывающего — но теперь в аскетическом
дискурсе! — особый модус сознания, в котором осуществляется событие
интеллектуального узрения.
Главные элементы модуса трезвения суть: внимание (членимое
на ряд видов: внимание ума, сердца, внимание к себе и др.), память
(также членимая — памятование о Боге, память смертная, память о
грехах своих...8), самонаблюдение, различение (diacrisis), хранение
или стража ума и — отдельно — сердца, бодрствование,
бдительность, «внутрь-пребывание» (особый род интроспекции, термин
преп. Феофана Затворника), сердечное безмолвие (hesychia),
чистота сердца. В этом многообразии можно выделить порождающее
ядро из трех элементов: трезвение — внимание (prosoche) — стража
(phylake), которым обеспечивается главное назначение модуса —
прецизионно сфокусировать сознание на множестве всех энергий
человека и сохранять, воспроизводить определенный строй этих
энергий, требуемый для духовного восхождения. Практически все
компоненты модуса трезвения и все протекающие в нем процессы
имеют прямые соответствия в модусе интенциональности
феноменологического сознания. Основные вехи этого соответствия-
изоморфизма двух модусов установлены в книге «К
феноменологии аскезы», но полная его дескрипция — особая и масштабная
проблема, решение которой остается будущему.
Наряду с данным соответствием сопоставление
феноменологического и исихастского сознаний должно учитывать и их
фундаментальное различие, вызванное мистической природой
последнего. Строение исихастского сознания не может исчерпываться
сферой трезвения, поскольку исихастская практика, в отличие от
интенционального акта, — предельная практика, процесс,
восходящий к границе горизонта сознания и опыта. Согласно
«внутреннему органону» исихастского опыта, на центральных этапах этого
восходящего процесса сознание имеет своим ядром прочное
сочетание двух базисных элементов, внимания и молитвы. При этом
«внимание» здесь понимается обобщенно, как модус трезвения,
8 Подчеркнем, что все предметы памятования — внутри горизонта, определенного
«аскетической редукцией», они суть прямые содержания аскетического опыта.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 137
«молитва» же имеет специальную форму так называемой
«непрестанной молитвы». Из этих элементов второй — главный, именно
им обеспечивается восходящий характер процесса, его
продвижение к пределам опыта; тогда как первый — служебный, дело его —
создать «пространство молитвы» и его охранять от любых
вторжений, помех. В свете этой картины наше сопоставление может стать
полным. В диаде «внимание + молитва» (что то же «модус трезве-
ния + молитва»), образующей основу исихастского сознания,
второй, главный элемент не имеет отношения к феноменологии: дело
молитвы — не ее область, как заявили бы и Гуссерль, и Шпет, и мы
с ними согласимся. Однако же первый элемент, играющий в иси-
хастском органоне огромную роль, практически идентичен ин-
тенциональному сознанию. А кроме того, и полная картина
malgré tout тоже сохраняет известное соответствие с феноменологией:
ибо интенциональное сознание и интенциональный акт тоже, если
угодно, служебны — они служат постижению интенционального
предмета, который есть, вообще говоря, некая внешняя данность,
отнюдь не творимая самим сознанием.
Афонский ноэзис. Высшее состояние (телос), к которому
направляется исихастская практика, носит название обожение (theosis) и
означает актуальную онтологическую трансформацию
человеческого существа, его претворение в иной образ бытия,
представляемое как совершенное соединение всех энергий человека с
энергией, принадлежащей этому иному образу бытия. Предполагается,
однако, что в пределах существования возможны лишь начатки
этого бытийного претворения, подступы к нему. Как фиксирует
«внутренний органон», высшие ступени исихастского опыта
(бывшие в центре внимания зрелого поздневизантийского исихазма, с
главным очагом на Святой горе Афон) актуально достигают таких
начатков. Здесь опыт духовной практики — уже специфически
мистический опыт, в котором начинают меняться фундаментальные
предикаты способа существования человека. По согласным
свидетельствам всех духовных традиций, в первую очередь радикальным
изменениям подвергаются восприятия, перцептивные
модальности: у человека формируются новые перцепции, которые в иси-
хазме называются «умными чувствами». Как формирование этих
перцепций, так и другие происходящие изменения носят характер
глобальной трансформации человеческого существа к новому,
холистическому устроению, в котором снимаются, преодолеваются
разделения и различия между уровнями организации человека: все
человеческое существо становится единым целым, все энергии
которого составляют единство, соединяющееся с энергией иного он-
138
Раздел I
тологического горизонта (действием этой энергии и
осуществляется онтологическая трансформация). Холистическую организацию
обретает и сознание. Структуры «внимания» и «молитвы», бывшие
относительно раздельными, сближаются и срастаются воедино,
пространство сознания целиком превращается в «пространство
молитвы» — и, следовательно, присутствие интенционального
сознания в исихастской практике утрачивается. В отличие от начальных
ступеней практики (которые осваивал ранний исихазм), в отличие
от центральной стадии (на которой концентрировался исихазм
синайский) высшие ступени практики, которыми занят афонский
исихазм эпохи Исихастского возрождения, не имеют близости к
феноменологическому сознанию9.
Но этот негативный вывод еще не исчерпывает тему «Исихазм и
феноменология». Именно на высших своих ступенях исихастское
сознание и опыт становятся мистическими par excellence —
становятся такими сознанием и опытом, анализ которых Густав Шпет
назвал «интереснейшей философской проблемой». Как мы
покажем сейчас, в рамках феноменологии возможно все же отыскать
путь к пониманию подобного опыта.
Сознание на высших ступенях духовной практики —
чрезвычайно экзотический феномен, к которому проблематично уже
само применение термина «сознание». На этих ступенях
человек начинает трансформироваться в «тело без органов», функции
и активности которого более принадлежат всему целому, нежели
его отдельным частям. Однако, по самому определению
практики, также и на этих ступенях главное содержание его активности
остается тем же: человек актуализует свою устремленность к мета-
антропологическому Телосу практики, энергийному претворению
в иной образ бытия. На подступах к Телосу энергии человека уже
собраны воедино и встреча энергий разного бытийного статуса
достигнута; завершающая же задача заключается в осуществлении
всецелой направленности человеческих энергий на инобытийную
энергию. Предполагается, таким образом, что холистический ан-
9 Из нашего описания видно, что есть определенное соответствие между ступенями
исихастской практики и этапами истории исихастской традиции: ранние этапы
истории соответствуют (т. е. преимущественно посвящены) низшим ступеням
практики, средние — средним, поздние и зрелые — высшим. Исторический и
антропологический процессы оказываются параллельны, соотносимы, что
подтверждает проводимую мною аналогию: диада «духовная традиция (т. е. сообщество
адептов некоторой духовной практики) — духовная практика (т. е. проходимый
индивидуально процесс)» есть аналог биосистемы «вид — особь». В рамках этой
аналогии найденное соответствие есть аналог биогенетического закона: онтогенез
повторяет филогенез.
Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских интерпретаций 139
самбль всех энергий человека, рождающийся в практике на базе
сознания, сохраняет ключевой предикат сознания — способность
направленности, нацеленности на предмет, т. е. не что иное, как
интенциональность. Но теперь это уже не предикат сознания, а
предикат трансформированной, холистической
антропологической реальности: новая, холистическая интенциональность.
Так открывается возможность интерпретировать высшие
ступени исихастской практики также на основе феноменологической
(интенциональной) парадигмы. Возможность состоит в
обобщении этой парадигмы. Примем, по определению, что способность
направленности на предмет, присущая холистической
антропологической реальности, формирующейся на подступах к мета-
антропологическому Телосу, есть обобщенная форма интенцио-
нальности — холистическая интенциональность. (Заметим, что
с равным правом эта способность может рассматриваться и как
обобщенная форма исихастского трезвения, «холистическое трез-
вение»; а поскольку интенциональная нацеленность на предмет
есть активность интеллектуального (у)зрения, то эта же
способность может рассматриваться еще и как «холистическое зрение».
Здесь проявляется фундаментальное родство когнитивных
парадигм, принадлежащих трем разным культурам:
феноменологической парадигмы интенциональности — исихастской парадигмы
трезвения — древнегреческой парадигмы умного зрения.) Тогда
назначение и содержание высших ступеней исихастского опыта
могут трактоваться как «холистический интенциональный акт», в
котором интенциональным предметом служит энергия иного
образа бытия (подчеркнем: мета-эмпирический, инобытийный
«предмет»! — что говорит о радикальности и, в известной мере,
дискуссионное™ делаемого обобщения).
Данный вывод может быть уточнен: как нетрудно увидеть, эти
высшие ступени правильней связывать не с интенциональным
актом как таковым, но с его заключительной, ноэтической фазой.
Исихастское сознание строго телеологично, и хотя каждая ступень
исихастской Лестницы имеет свое назначение, однако носителем
всей полноты смысла духовного процесса предполагается
исключительно Телос, «конец-смысл». Поэтому на финальных ступенях
практики, подводящих к Телосу, соединяются и суммируются все
продуцируемые в практике смысловые содержания, совершается
проницание всей суммы опыта финальным смыслом — что
передается феноменологическим понятием Sinngebung и отвечает фазе
ноэзиса. И опять-таки, с учетом того, что на этих ступенях
совершается холистическое претворение антропологической реально-
140
Раздел I
сти, здесь также следует говорить лишь о «холистическом ноэзисе».
Как известно, в исихазме высшие ступени опыта уже не
причисляются к «практике» (praxis) и носят особое название «феории», или
же «созерцания». В этих терминах вывод наш означает, что иси-
хастская «феория» может интерпретироваться как обобщенная,
холистическая форма ноэзиса.
Итак, в аспекте сопоставления с феноменологической
парадигмой и в терминах этой парадигмы афонский и византийский иси-
хазм XIII—XIV вв. был преимущественно сосредоточен на ноэти-
ческой (а следовательно, и ноэматической) фазе опыта. При этом в
опыте высших ступеней исихастской практики (или, точнее,
феории) надо усматривать не обычный, а обобщенный, холистический
ноэзис, осуществляемый не сознанием (или не только сознанием),
а холистически трансформирующейся антропологической
реальностью.
Общий смысл нашего рассмотрения вполне очевиден. Анализ,
даже не самый тщательный, обнаруживает обширные и глубокие
соответствия, совпадения между феноменологической парадигмой
опыта и структурами опыта в духовной практике — ближайшим
образом в исихазме. Проделанный анализ был крайне далек от
полноты, и выявленный репертуар сближений было бы нетрудно
дополнить. Но самое примечательное и важное в другом. Как мы
убеждаемся, феноменологический (интенциональный) строй —
естественный строй если и не религиозного сознания вообще, то
по крайней мере квинтэссенциально и аутентично религиозного
сознания — сознания в духовной практике. Лапидарно выражаясь,
феноменология есть естественный язык духовной практики.
С этим наверняка согласился бы Мишель Фуко, который в свои
последние годы усиленно сближал философию с духовной
практикой. И наше исследование, и его финальный вывод близки и
родственны всему направлению «практик себя». Но гораздо трудней
сказать, как бы отнесся к ним Густав Шпет!
И. Семасиология
Густава Шпета:
между семиотикой
и структурализмом
M. Денн
Структура слова и выражения
в творчестве Густава Шпета
и ее значение для истории структурализма
В «Словах и вещах» Мишель Фуко определяет появление и
развитие гуманитарных наук как одну из особенностей
современности (модернистской эпохи) и, будучи представителем
эпохи «постмодернистской», он считает их обреченными на
скорое вымирание. Рассматривая параллельно
структурализм, возникший как культурное направление в начале XX века,
когда гуманитарные науки четко ограничивали свои области и
утверждались в своей научности, Фуко полагает, что его судьба тесно связана
с судьбой гуманитарных наук. Структурализм, говорит Фуко, — это
«бодрствующая, тревожная совесть современного знания»1. В этом
смысле эпоха постмодерна является и постструктуралистской
эпохой. Тем не менее мы должны задаться вопросом: действительно ли
тот «постструктурализм», о котором здесь идет речь, означает
угасание структурализма? Не соответствует ли он скорее необходимости
преодолеть ограничения, которым оказался подчиненным
структурализм, примененный к гуманитарным наукам, и нет ли в этом
случае для гуманитарных наук иного способа бытия, связанного с иным
отношением к понятию структуры? Постмодернизм и
постструктурализм тогда предстали бы лишь как начало осознания того
препятствия, каким стала для эволюции гуманитарных наук разобщенность
дисциплин — одной из главных причин которой, в свою очередь,
была интерпретация структурализма, ограничившая его смысл (и,
соответственно, ограничившая использование понятие структуры).
Реабилитация творчества Густава Шпета и нынешнее признание
его методологической и эпистемологической значимости важны
в данном случае именно потому, что отсылают нас к определению
структуры, которое, хотя и было сформулировано еще в 1914 г., все
1 Foucault M. Les mots et les choses. Paris: Gallimard, 1966. P. 221. Фуко M. Слова и
вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1966. С. 282.
144
Раздел II
же не было воспринято в полноте его значения. Исторические
обстоятельства способствовали только неприятию, а потом и
забвению в концепции структуры того, что имело онтологическое
значение, — структура должна восприниматься в своей динамичной
внутренней форме скорее как архетипическая модель конституи-
рования реальности, чем как побуждение к поискам в каждой из
областей знания структур, свойственных этой области, пригодных
лишь для классификации и организации данного материала.
Ведь речь идет именно об этом. Критика, которой можно
подвергать гуманитарные науки, их эволюцию и ограниченность
результатов, связана с фактом их изначальной закрытости, утверждавшейся
как критерий научности. Такая закрытость уже влекла за собой (даже
независимо от исторических событий в России, которые
способствовали этому процессу) отход от философской основы, обеспечившей
фундаментальную постановку вопроса о понятии структуры,
изначально призванного служить не разделению областей знания, но их
общей укорененности в процессе мышления. Функция этого
понятия внутри каждой области должна была заключаться в создании
нового, в обогащении материала и в расширении, благодаря этому
локальному обогащению, горизонтов культуры в целом.
Можно привести два показательных примера отхода от этой
первоначальной направленности понятия структуры —
показательных потому, что они находятся у истока структуралистского
течения, каким оно сформировалось в модернистскую эпоху.
Прежде всего, это пример структурной лингвистики Ф. де Сос-
сюра. Здесь перед нами типичный пример науки, которая с самых
истоков обеспечивает свое существование и развитие, четко
ограничивая свой объект. Вернемся к тексту курса лекций де Соссюра2,
ибо нас не могут удовлетворить интерпретации, выделяющие лишь
некоторые его формулировки, вырванные из контекста.
Методологический подход основателя структурной лингвистики здесь четко
объяснен, и то, что составляет его сущность, может быть сегодня
ясно определено в свете высказанной критики по поводу
присущих гуманитарным наукам явлений застоя, а также «статичного
структурализма». Приоритет любой исследовательской точки
зрения признается только в той мере, насколько эта «точка зрения»
позволяет выделить изучаемый объект3, но она абсолютно не при-
2 Saussure F. de. Cours de linguistique générale. Paris: Payoyt, 1969.
3 Ibidem. P. 23. Сосеюр Φ. de. Курс общей лингвистики / Пер. с франц. А. М.
Сухотина, перер. А. А. Холодовичем // Сосеюр Ф. де. Труды по языкознанию. М., 1977.
С. 46.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 145
нимается в расчет в плане ее участия в способе конституирования
реальности. Язык как объект есть целое, замкнутое в себе,
система знаков, отсылающих к представлениям, и то, что говорится о
функционировании этих знаков, их способе выражать
представления, — это только анализ априори утвержденного материала,
никак не затрагивающий конституирующего язык вмешательства
субъекта. Как ни странно это для нас сегодня, эта лингвистика
определяет как «внутреннее»4 то, что описывается,
классифицируется, анализируется, организуется внутри замкнутой области и не
позволяет видеть никакого собственно активного элемента
конституирования. Вопреки возможным предположениям, введение
диахронии ничего не добавляет, и динамический фактор,
возникающий как следствие учета эволюции языка, лишь обозначен, но не
может быть установлено никакой связи с конститутивной базовой
структурой реальности. Словом, мы могли бы сказать, что с Сос-
сюром лингвистика в своем стремлении к научности полностью
отделилась от философии и тем самым оказалась лишенной
некоторых знаний, обусловленных фундаментальной рефлексией об
отношениях между языком и реальностью, о способах бытия
субъекта посредством языка и относительно реальности. Пришлось ждать
60—70-х годов прошлого века, чтобы применение структурализма в
литературоведении открыло некоторые другие возможности.
Процитирую один короткий отрывок из «Изнанки знаков» Же-
рара Женетта. «Анализировать знак, расчленять его на составные
элементы, с одной стороны, означающее, с другой —
означаемое, — эта деятельность, которая для Соссюра была чистой
техникой, методологической рутиной, для Барта становится орудием
своеобразной аскезы и залогом спасения»5. Но семиология обогнала
структурализм, и семиолог, пишет Женетт, «ставит "своей
моральной целью <как говорит Барт о критике> <...> воссоздание правил
и условий выработки этого смысла"»6. Правда, в завершение этого
примера мы могли бы еще сослаться на вклад Якобсона и
Трубецкого, а затем на пражский структурализм. Патрик Серио посвятил
ему убедительные страницы7. И далее, еще две цитаты позволят нам
понять, что несмотря на все различия, которые можно отметить,
4 Ibid. R 40. Рус. пер.: С. 61.
5 Genette G. Figures I. Paris: Seuil, 1966. P. 200. См.: Женетт Ж. Работы по поэтике.
Фигуры. Т. 1 / Пер. под ред. С. Зенкина. М., 1998. С. 202.
6 Ibidem. P. 200; Там же. С. 202.
7 Sériot P. L'origine contradictoire de la notion du système: la genèse naturaliste du
structuralisme pragois // L'école de Prague: l'apport épistémologique. Cahiers de L'ILSL.
1994. № 5. P. 19-58.
146
Раздел II
мы не вышли за пределы уже затронутого контекста. «Для пражан
структура есть исходная данность, свойство реального объекта»8.
«Для Якобсона и Трубецкого язык есть онтологически
структурированный объект»9. Конечно, как мы знаем10, Якобсон принес с собой
нечто из наследия Густава Шпета, но мы увидим, что это наследие
уже трансформировалось: структура находится в объекте, уже
конституированном, но не в акте продуцирования смысла.
Другой пример, столь же значимый, как пример Соссюра, ибо
столь же основополагающий, — Леви-Стросс. В ту же эпоху,
когда Женетт писал о Соссюре, то есть в 60—е годы XX столетия,
Леви-Стросс высказал мнение об ограниченном характере
использования структур в гуманитарных науках. Он пишет:
«Структуры являют себя только при наблюдении извне. Однако такое
наблюдение никогда не может уловить процессы, которые суть
не аналитические объекты, а особый способ переживания
темпоральное™ субъектом», и, упомянув о неизбежном характере ин-
тердисциплинарности, он добавляет, что «науки о человеке имеют
свое соотношение неопределенностей»11. Леви-Стросс знал, о чем
он говорит. Применив структурный анализ в изучении
родственных отношений в первобытном обществе, он действительно
обнаружил значащие элементы, которые, будучи соотнесены,
позволили установить связи и вывести инварианты, но структуры,
таким образом выявленные, только обнаруживали уже
совершившийся процесс конституирования. В рамках данного материала
они позволяли выявить действенный характер системы значений,
но — Леви-Стросс сам это признает — таким образом
выявленные структуры не открывали никакого доступа к процессу
конституирования. Продуцировался некий смысл, и внутри данного
материала можно было обнаружить элементы, свидетельствующие
об этом продуцировании, но в силу замкнутости, изначального
«ограждения» поля исследования, не могло быть установлено
никакого отношения между выявленными таким образом структу-
8 Sériot P. L'origine contradictoire de la notion du système: la genèse naturaliste du
structuralisme pragois // Ibidem. C. 50.
9 Там же.
10 См. в связи с этим: Dennes M. L'influence de Husserl en Russie au début du XXe siècle
et les émigrés russes de Prague // Jakobson entre l'Est et l'Ouest, 1915—1939 (F. Gadet,
P. Sériot éd.) // Cahiers de l'ILSL. № 9. 1997. P. 47-69; Dennes M. L'école russe de
phénoménologie et son influence sur le Cercle linguistique de Prague // Prague entre
l'Est et l'Ouest. L'émigration russe en Tchécoslovaquie. 1920—1938 (M. Burda éd.). Paris:
L'Harmattan, 2001. P. 32-63.
11 Lévi-Strauss С Les limites de la notion de structure en ethnologie // Sens et usage du
mot structure. Paris: Mouton, 1962. P. 44—45.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 147
рами и тем, что могло бы быть базовой структурой любого акта
конституирования. Неоструктуралисты сами отметили эту лакуну
и, стремясь акцентировать процесс, попытались что-то сказать об
этом продуцировании смысла. Но они еще слишком зависели от
методологических привычек структурализма и потому не смогли
избежать негативных последствий чрезмерной изолированности
дисциплин, а также игнорирования участия субъекта при
анализе объекта (последнее, кстати, в противоположность тому, что уже
отчасти сделано в строгих науках). Именно в этом пространстве
продолжали двигаться, несмотря на всю их гениальность (следует
это отметить!), Делёз и Гваттари, Деррида, Фуко. Исторически-
временное измерение вновь было введено, но идея структуры,
по-прежнему мыслившейся как система из двух элементов, или,
по словам Манфреда Франка, как «система пар, составленных из
значения и выражения»12, когда на нее ссылались, не могла
передать продуцирование становления. В лучшем случае, она могла
овладеть всей охватываемой реальностью, представляя ее как
«совокупность дифференциальных игр» и вводя, как у Деррида, идею
постоянной «де-портации» смысла вне всякого центра, но сама-то
«децентрация», «бесконечная игра различий» ускользала от
постижения13. Шла работа над «интенсивностями, становлениями,
переходами» (Делёз и Гваттари)14, «социальная» машина крутилась,
двигалась вперед, распадалась; во всяком случае, дело не стояло
на месте! Сами субъекты были вовлечены в этот процесс,
двигались колесики машины, подчинявшиеся движению, которое они
не производили. Деррида углубился в суть различий, присущих
процессам письма, а следовательно, конституирования, и вывел
философскую проблему «истоков историчности»15, то есть
«производства смысла». Но это направление, становясь философским
и постепенно отдавая приоритет работе «на полях», признанию
«остатка» (restance)16, поискам «дополнительности»17 и,
соответственно, обращению к герменевтике текстов, смещалось в сторону
12 Franck M. Qu'est-ce que le néo-structuralisme ? — de Saussure à Lévi-Strauss, à Foucault
et à Lacan. Paris: Cerf, 1989. P. 27.
13 Там же. С. 65.
14 Deleuze-Guattari. L'Anti-Oedipe. Paris: Les éditions de Minuit, 1972. P. 25.
15 «Письмо открывает нам саму область истории как исторического становления
<...>. Таким образом, наука о письме должна была бы искать свой предмет где-то
в самих корнях научности. История письма должна была бы обернуться к началу
историчности». DerridaJ. De la grammatologie. Paris: Les éditions de Minuit, 1967. P. 43.
Деррида Ж. О грамматологии / Пер. H. С. Автономовой. М., 2000. С. 144, 145.
16 Franck M. Op. cit. P. 29.
17 Там же. С. 66.
148
Раздел II
литературы и теряло изначальную научную перспективу18.
Несмотря на это, философ, вслед за лингвистом и этнологом, понимал
существующую трудность применения структуры к
внутреннему процессу, относящемуся к продуцированию темпоральное™.
Вероятно, это было связано с тем фактом, что философия даже в
эпоху постструктурализма не сумела освободиться от
специфического способа осмысления структуры, от того, что Фуко называл
«эпистемой» современности (модернистской эпохи). Однако была
открыта брешь, и сильно ангажированная критика понятия
структуры19 ясно указывала, что нужно выйти за пределы гуманитарных
наук в том виде, как они до сих пор формировались, и искать вне
их методологические инструменты, позволяющие заложить более
основательный фундамент для их развития во взаимной
открытости и взаимодополнительности. Строгие науки (логика,
математика), а также физика, биология представляли примеры, когда более
открытое и более обобщенное использование структуры давало
возможность достичь результатов, которым могла бы
препятствовать излишняя изолированность дисциплин20. Тем не менее речь
идет вовсе не о том, чтобы свести тем самым гуманитарные
науки к строгим, но о том, чтобы поставить вопрос: не может ли быть
другого подхода к понятию структуры, который, в связи с
конституирующей деятельностью, позволил бы по-новому ориентировать
гуманитарные науки?
Значение, которое обретает признание творчества Густава Шпе-
та сегодня, в эпоху, когда когнитивные науки развиваются полным
ходом, не случайность. Оно связано с ожиданиями научной среды.
И именно возвращаясь к оригинальному определению структуры,
которое дал этот философ, к тому, как он сам его использовал, мы
сможем понять, как такое открытие, остававшееся забытым в тече-
18 Ср.: «Нео-структурализм радикализирует и переворачивает в философской
перспективе этнолингвистический структурализм, который ему предшествовал и,
кстати, считал себя скорее методологией гуманитарных наук, чем философским
движением». Franck M. Op. cit. P. 24.
19 См. об этом: Derrida J. Positions. Paris: Les éditions de Minuit, 1972. P. 39.
«Различия суть следствия трансформаций, и с этой точки зрения тема разнесения
несовместима со статическим, синхроническим, таксономическим, внеисторическим
и т. д. мотивом концепта структуры. Но само собой этот мотив не единственный в
определении структуры, и продуцирование различений, разнесение, не антиструк-
турально: им продуцируются систематические и упорядоченные трансформации,
способные до определенной степени предоставить место для структуральной науки».
Деррида Ж. Позиции / Пер. В. В. Бибихина. Киев, 1996.
20 См., например, «материнские структуры» у Бурбаки или групповые структуры,
используемые Лоренцем. Об этом см.: Piaget J. Le structuralisme. Paris: PUF, 1968.
Coll. Que sais-je ?, chap. II: «Les structures mathématiques et logiques». P. 17—32.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 149
ние всего периода развития структурализма, способно сегодня
помочь обновлению статуса гуманитарных наук.
Густав Шпет, однако, был не единственным и не первым, кто
ставил вопрос о структуре конституирующей деятельности. Эдмунд
Гуссерль уже в своих первых работах об арифметике и понятии
числа применил индуктивный подход, который сам по себе
свидетельствовал о его поисках структуры конституирующего акта и
раскрылся во всей полноте в «Логических исследованиях», а в
итоге привел в «Идеях I» к формулированию ноэтико-ноэматической
структуры интенционального сознания21. Мартин Хайдеггер,
которому пришлось, со своей стороны, критиковать еще слишком
психологизирующую ориентацию своего учителя, все же будет
опираться на проводимое Гуссерлем отличие между «чувственной
интуицией» и «категориальной интуицией», чтобы выдвинуть
фактичность Dasein, чья онтико-онтологическая структура полагается
как присущая бытию-в-мире и, следовательно, как основа всякого
акта понимания и знания22.
Именно в этом интеллектуальном горизонте представляется
важным рассматривать мысль Густава Шпета, поскольку именно
в рамках критического представления феноменологии Гуссерля
в работе 1914 года «Явление и смысл»23 Шпет впервые
сформулировал то, что должно стать постоянным базисом его мысли и
методологической основой всех его дальнейших исследований. Как
и Хайдеггер, Густав Шпет будет искать истинную сущность
феноменологии, придавая ей более онтологическую направленность.
Однако эта онтологизация будет осуществляться без выхода за
21 Здесь мы можем сослаться на статью: Biemel M. W. Les phases décisives dans le
développement de la philosophie de Husserl // Cahiers de Royaumont. Philosophie. № III.
1959. В ней ясно подчеркнуто первоначальное намерение Гуссерля: «Действительно
фундаментальным <...> является понятие производства, а также понятие рефлексии
и, наконец, метод, который состоит в том, чтобы выявить сущность вещи,
возвращаясь к истоку ее значения в сознании и к описанию этого истока. <...> Что
существуют структуры, которые должны производиться в мысли, чтобы существовать,
которые, следовательно, существуют только по мере того, как производятся, то
есть по мере того, как осуществляются некоторые ментальные процессы,— такова
собственно in nuce сама идея конституирования, и именно пытаясь уловить
сущность числа, Гуссерль с ней столкнулся». С. 39—40.
22 См., в частности, Heidegger M. Mein Weg in die Phänomenologie // Zur Sache des
Denkens. M. Neimeyer. Tübingen, 1969. Trad, fran.: Mon Chemin dans la
phénoménologie // Questions IV. Paris: Gallimard, 1976. P. 161 — 167. См. также: Séminaires de
Zähringen. Ibid. P. 313-315.
23 Шпет Г. Г. Явление и смысл. Феноменология как основная наука и ее проблемы //
Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.,
2005. С. 35-190.
150
Раздел II
пределы концептуальных рамок феноменологии Гуссерля, но за
счет выдвижения на первый план определенных ее аспектов. Если
Хайдеггер должен был перенести свой интерес на категориальную
интуицию, как ее представил Гуссерль в шестом логическом
исследовании, и показать, как интенциональность, будучи
«структурой самого психического»24, может позволить обойти области, уже
охваченные науками, и подступиться, таким образом, к первичным
структурам бытия-здесь, основополагающим для любой формы
научности, то Густав Шпет, со своей стороны, сохранил, если можно
так сказать, большую верность духу гуссерлевской феноменологии.
Так же, как должен был сделать Хайдеггер, Шпет выдвигал на
первый план интуицию вещи или состояния вещи, презентификация
которой находилась вне различия «субъект-объект», но он
оставлял для себя возможность осмыслять отношение этой интуиции к
акту познания, используя, уточняя, корректируя некоторые
элементы феноменологии Гуссерля. Если «чистое Я» было
отброшено как слишком абстрактное, то понятия интенциональных актов,
«ноэтико-ноэматической» структуры, «модификации
нейтральности», напротив, получили приоритет, используясь в новом
контексте, где вопрошание герменевтического характера о сущности
феноменологии открывало возможность интеллектуального
постижения тесной связи различных типов интуиции, и через них —
различных элементов базовой структуры, выявление которой было
функцией феноменологического описания. Гениальное
открытие Густава Шпета заключалось в том, что благодаря
герменевтическому подходу он снова объединил в одном и том же движении
мысли то, что соответствовало в действительности восприятию
чувственного объекта и видению сущности25. Он соотнес эти
элементы, укорененные в когнитивной деятельности субъекта, с тем,
что было дано для их обозначения в отдельном языке. Его заслуга и
в том, что он провел четкое различие, которого не было у Гуссерля,
между смыслом (Sinn) и значением (Bedeutung): «значение»
указывает на семантическое содержание, уже фиксированное в данном
языке, а носителем «смысла» является ноэтико-ноэматическая
структура интенционального акта, которая удерживает данные
чувственной интуиции, чтобы интегрировать их, в качестве примера,
24 Heidegger M. Prolégomènes à l'histoire du concept de temps. Trad. A. Boutot. Paris:
Gallimard, 2006. P. 64.
25 У Гуссерля это соответствовало также уже упомянутому различию между
«чувственной интуицией» и «категориальной интуицией», «основным отличиям»
(«Логические исследования». VI, 6) или же «собственным значениям» и «структурированным
значениям» («Логические исследования». IV, 14).
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 151
в глобальное, энтелехическое видение («сверхчувственную»
интуицию), свидетельствующее и об этом факте, и — на «параллельном»
уровне — о деятельности субъекта. Если сравнить эту
тройственную структуру (значение, смысл, энтелехия) с установленным Сос-
сюром простым различением между означающим и означаемым,
можно сказать, что Густав Шпет еще до структурализма мыслил
структуру более сложной: означаемое, рассматриваемое в живом
отношении к акту его конституирования, включало в себя
элементы, которые обеспечивали этот динамизм. Отсюда следовало
выявление структуры, имевшей не только логическое, но и
онтологическое значение, которая, будучи присущей любому акту
выражения, позволяла обосновать все науки, базирующиеся на
обращении к общему языку, — науки о духе, или гуманитарные науки.
Более того, базовая структура, таким образом выявленная, могла
быть применена к любой системе знаков, то есть она имела архе-
типическое значение для семиологии и могла прилагаться также к
строгим наукам и к миру культуры в целом.
Как я упомянула вначале, открытие структуры слова и
выражения, сделанное Густавом Шпетом в 1914 году, может служить
направляющей линией в понимании всего его творчества.
Практически во всех работах Шпета и во всех намеченных им перспективах
проявляется обоснованное стремление подчеркнуть важность его
открытия, а именно тот факт, что отношение смысла к значению,
схваченное в энтелехическом аспекте, несет функцию
конституирующей деятельности. Учет выявленного им динамизма базовой
структуры гарантирует, по его мнению, максимальную научность,
поскольку деятельность субъекта является элементом,
участвующим в эволюции каждой области знания. Отсюда не вытекает, что
нужно игнорировать различия между областями знания — каждая
из них имеет свой собственный объект; но это означает следующее:
то, что говорится об этом объекте, всегда требует учета
деятельности субъекта и тем самым отсылает к тому, на чем основаны
одновременно каждая отдельная наука и открытость каждой из них к
области культуры в целом.
Будь то в области чистой философии, логики и философии
языка, лингвистики или собственно герменевтики, в области теории
литературы, эстетики или театра, Шпет до конца своей
профессиональной деятельности не прекращает «реконструировать» историю
мысли, выявляя с очевидностью необходимость прийти к
формулированию базовой логической структуры, конституирующей
реальность и служащей фундаментом гуманитарных наук. В этом
смысле его переход от чистой философии к философии языка,
152
Раздел II
произошедший в течение двадцатых годов, отчасти под влиянием
внешних событий, не означал отказа от первой — его следует
рассматривать скорее как следствие, вытекающее из самой природы
рефлексии Шпета, которая с самого начала развивалась в
горизонте отношения между бытием и мыслью, поддерживаемого
посредством языка.
После «Явления и смысла» (и даже параллельно написанию
этой работы, если посмотреть с точки зрения собственно
исследовательской деятельности Шпета) в исследованиях русского
философа проявляется все более заметный интерес к истории. За этим
интересом, вызывающим у него стремление организовать всю свою
работу в целом в этой перспективе, неизменно стоит забота о
разработке истории мысли, которая, на основе анализа достижений
разных личностей и постоянно отталкиваясь от уже достигнутого
знания, прокладывает путь для собственного подхода,
подводящего к пониманию способа конституирования соответствующих
областей знания. Даже в его «Очерке развития русской философии»,
хотя направляющую линию определить нелегко, она все же есть и
заключается в стремлении раскрыть все посылки (религиозные,
политические, эмпирические, метафизические), которые мешали
мысли в России развиваться по пути чистой философии.
В «Истории как проблеме логики» (1916) отсылки к
политической, социальной, экономической истории только вторичны
(большое отличие от марксизма!). Это прежде всего и главным
образом история мысли: история событий мысли, которая постепенно
освобождается от всевозможных обстоятельств, препятствующих
ее свободному движению, и таким образом постепенно
открывает доступ к тому, на чем основывается ее собственное
функционирование, ее собственное проявление в языке. Уже в «Явлении и
смысле» Шпет эскизно обрисовал историю философии, которая в
ее позитивной форме приводит к гуссерлевской феноменологии и
к необходимости принимать ее в расчет ввиду открытия и
прогресса мысли.
В остальном, будь то в области логики, герменевтики или
философии языка, исторические описания, предпринятые Шпетом,
отнюдь не являются отдельными, обособленными. Либо по
цитируемым авторам, либо по рассматриваемым эпохам, но
главным образом в силу общей исследовательской перспективы и
постоянной отсылки к базовой структуре, которая служит логико-
эвристическим фундаментом мышления, разные исторические
маршруты, пройденные Шпетом, пересекаются и могут
рассматриваться в их совокупности как объемная история мысли — генеало-
Семасиология Г>става Шпета: между семиотикой и структурализмом 153
гия, развертывающаяся на основе единственной настоящей
проблемы: проблемы логики конституирования культурного мира.
Наконец, следовало бы остановиться особо на работе Густава
Шпета, посвященной внутренней форме слова, и на его
критическом подходе к мысли В. фон Гумбольдта26. Многочисленные
сообщения, которые будут посвящены этому вопросу на
коллоквиуме, станут ответом на эту необходимость. Здесь стоит подчеркнуть
только одну вещь, непосредственно связанную с только что
сказанным, и это замечание послужит нам заключением. В самом деле,
именно в этом сочинении 1927 года (одном из двух последних,
опубликованных прижизненно) индуктивный подход, используемый
Гуссерлем для того, чтобы подойти изнутри к проблематике кон-
ституирования, был применен Густавом Шпетом к материалу
лингвистики. Проведя различие между морфологией и синтаксисом
как приоритетными областями «чистой лингвистики», после того
как они четко дифференцированы путем строгого разграничения
их содержания, то есть их материала и форм его использования,
Шпет снова рассматривает эти формы под видом «функций». Это
позволяет ему выявить (прежде всего в рамках синтаксиса, а затем
перенося метод на уже данные объективные сущности, которыми
являются «слова», т.е. на уровень морфологии) способы
реализации в каждой из этих областей троичной структуры слова и
выражения. Здесь перед нами типичный пример возможного
использования открытия 1914 года. Применение его к лингвистике, то есть
к науке, имеющей объектом именно язык, может служить
архетипом для общей методологии гуманитарных наук, которая, как и в
случае строгих наук, имела бы в виду при изучении
рассматриваемого материала влияние вмешательства познающего субъекта (vs
наблюдателя). За ним могло бы последовать подобное
переосмысление каждой науки в ее отношениях с другими областями знания
и открытости к ним. Это способствовало бы развитию
гуманитарных наук на основе нового структурного принципа, направляя их
на общий путь эволюции со строгими науками и открывая таким
образом, через практику реальной интердисциплинарности,
перспективы будущего развития культуры.
Перевод с франц. Н. В. Кисловой
26 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на тему Гумбольдта //
Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды. М.,
2007. Французский перевод: Chpet G. La forme interne du mot. Études et variations sur
des thèmes de Humboldt. Trad. N. ZavialofT. Paris: Kimé, 2007.
П. Флак
В тени структурализма:
Шкловский, Мерло-Понти... и Шпет?
Я хотел бы подойти к мысли Густава Шпета в контексте
особого прочтения истории структурализма. Оно
концентрируется на присутствии между строк вопроса, очень рано
заключенного структурализмом в скобки, но тем не менее
настойчиво его преследующего, причем начиная с самых
его истоков в русском формализме. Имеется в виду вопрос о смысле
восприятия, или, в терминах более феноменологических, вопрос о
том, какими способами дается чувственно-воспринимаемое в
интеллигибельных1 значащих структурах. Моя задача заключается в
том, чтобы представить, таким образом, в критической
перспективе очень важную цель философии Шпета, а именно его
онтологическую концепцию знака.
Может быть, следует начать с оправдания стремления
рассмотреть структурализм в «онтологической» перспективе. В самом
деле, обычно его понимают, вслед за Соссюром, как теорию
лингвистического смысла, чистую семиотику, которая, в частности, с
помощью категорий «языка» (langue) и «речи» (parole)
освобождается от эмпирического измерения речевой деятельности (langage).
В действительности такое понимание структурализма оказывается
логичным только ценой исключения его славянских источников.
Так, например, один из решающих этапов его развития, связанный
с Пражским лингвистическим кружком, не затрагивал различий
между языком (langue) и речью (parole), основываясь на
размышлениях о структуре сущностей (органических, географических),
относящихся к «естественному» миру2.
1 Intelligible (франц.) — внятный, понятный, вразумительный. Шпет употребляет
слово «интеллигибельный» в качестве синонима «уразумения», «понимания», иногда
он дает перевод этого понятия: «уразумеваемый». Другой вариант перевода данного
термина предлагает Н. С. Автономова: «умопостигаемый». — Прим. ред.
2 См.: SérioîP. Structure et Totalité. Paris: PUF, 1999.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 155
Надо также признать, что структуралистов не перестал волновать
вопрос отношения языка к реальности. В структурализме
присутствует интуиция смысла предлингвистического, более
фундаментального — смысла фактов и вещей, выражение которого в принципе
должно быть задачей языка. Конечно, французские структуралисты
занимают скептическую позицию относительно возможности
выявить присутствие этого смысла: по их мнению, при попытках языка
его артикулировать он всегда ускользает. Но этот факт вовсе не
свидетельствует об отсутствии онтологических целей в их теориях и
указывает скорее на то, что вопросы о смысле восприятия и модусах его
присутствия живут в них парадоксально-проблематичной жизнью.
Здесь я могу себе позволить привести только некоторые примеры
постановки онтологических вопросов, волнующих структурализм.
Чтобы ограничить слишком широкое поле проблемы, которая перед
нами открывается, я буду рассматривать ее в рамках, заданных
траекторией движения понятия остранение (от русского формализма к
структурализму). Такой подход, как мне кажется, оправдан,
поскольку остранение представляет собой узел интересующей нас проблемы.
По своему определению, как создание нового восприятия
реальности путем нарушения нашего привычного отношения к ней,
остранение ставит именно проблему артикулирования и данности самого
воспринимаемого смысла. Таким образом, изменения этого понятия
служат индикатором состояния вопроса о воспринимаемом смысле
в разные моменты развития формализма и структурализма.
Остранение, как его представляет Шкловский в работе
«Искусство как прием», вырисовывается как экзистенциальное
понятие. Как первичная функция искусства, оно направляет нас к
самой конкретности. Более того, по Шкловскому, жизнь становится
по-настоящему насыщенной только в силу этого воздействия на
сознание благодаря остранению. Цитируя Толстого, он уточняет:
«Если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, то
эта жизнь как бы не была»3. В действительности Шкловский
постулирует настоящий примат воспринимаемого: телос остранения
есть конкретно переживаемое видение эстетического опыта,
которое онтологически превосходит призрачное и автоматизированное
узнавание опыта обыденного и предшествует ему.
Более детальное исследование подтверждает онтологическую
значимость понятия «остранение». В самом деле, цель Шкловско-
3 Chklovski V. L'art comme procédé // Theorie de la prose (trad. G. Verret). Lausanne:
L'Age d'homme, 1973. P. 16. Шкловский В. Б. Искусство как прием // Шкловский В. Б.
О теории прозы. М., 1925. С. 7-20.
156
Раздел II
го — установить специфичность эстетического опыта и отделить
его от обыденного опыта. Однако сама теория остранения не
допускает этого раскола, поскольку обыденность здесь появляется
только как опыт, производный и обесцененный, нуждающийся в
эстетической конверсии, чтобы по-настоящему обрести статус опыта4.
Поэтому остранение представляется единственным источником
нашего нового опыта в отношении вещей, который только оно и
способно выявить для сознания. Отнюдь не сводясь к простому
процессу дезавтоматизации, который вновь и вновь
актуализирует всегда одни и те же предопределенные восприятия, остранение
развертывает эти восприятия в их собственном смысле и способно
динамично преображать наш опыт эмпирического мира.
Такой анализ наводит на мысль о существовании тесной связи
между эстетикой и онтологией в теории формализма. Он
позволяет предположить идею «онтоэстетики», то есть теории, которая
утверждает, что эстетический опыт презентирует и схватывает
эмпирические объекты в их воспринимаемом смысле. В эстетическом
опыте чувственно воспринимаемое артикулируется согласно своим
собственным структурам, оно дается здесь, так сказать, в своей
материальной умопостигаемости. Думается, именно эту концепцию
мы находим в утверждении формалистов (при всей его антиномич-
ности), что в искусстве форма и содержание подобны, так как
форма есть содержание, и наоборот. Вопрос воспринимаемого смысла,
таким образом, здесь поставлен ясно.
И все же следует уточнить один существенный нюанс:
Шкловский не принимает в расчет «онтологическую» силу искусства,
которую, как кажется, утверждает остранение. С его точки зрения,
искусство и его приемы — не более чем техника, состоящая в том,
чтобы механически воспроизводить реальность, которая
автоматически стирается и всегда остается неизменной вне простой
психологической игры автоматизации и остранения нашего восприятия.
Поэтому преувеличением было бы говорить об обнаружении
присутствия вещей в эстетическом опыте. Предугадываемый
онтологический потенциал остранения остается нереализованным, оно
ограничивается уровнем достаточно наивной психологии;
впрочем, на этом основании оно подвергалось справедливой критике.
Остранение вновь появляется у Якобсона, где оно интегрируется
в более специфическую лингвистическую модель. Оно принимает
вид поэтической или экспрессивной функции, то есть одной из ше-
4 См.: Crawford L. Viktor Shklovskij: DifTerance in Defamiliarisation // Comparative
Literature. 1984. Vol. 36. № 3. P. 209-219.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 157
сти функций речи в знаменитой модели, предложенной в
«Лингвистике и поэтике». Оно здесь определяется как «та функция, которая,
усиливая осязаемость знаков, углубляет дихотомию между знаками и
объектами»5. Концептуальное влияние остранения опознается здесь
потому, что поэтическая функция направлена на восприятие — она
влияет на осязаемость знака — и что она вызывает нарушение
привычного отношения к объектам. Естественно, она представляет
также отличия, самое фундаментальное из которых заключается в том,
что остраняющий эффект действует теперь внутри самого языка. Он
действует через и на знак, а не прямо на восприятие вещей.
Это новое представление об остранении основывается в
особенности на двух предпосылках. Прежде всего, оно является
результатом не отдельных приемов, а того, что Тынянов и Якобсон называют
«доминантой», то есть иерархически-системного напряжения между
языковыми и дискурсивными элементами. Затем, у Якобсона язык
понимается как специфический медиум, обладающий собственной
феноменальностью, которая обусловливает его функционирование и
артикуляцию и делает его отличимым от реальности, им обозначаемой.
Итак, исключается представление о языке чисто референциальном,
способном действовать как зеркало или как окно, открытое
непосредственно на вещи. Язык может отсылать к объектам, только опосредуя
их и захватывая их прежде всего в собственные пучки знаков6.
Таким образом, поэтическая функция должна мыслиться как
внутренняя игра языка, движение его семиотических структур и
его значений. По мнению Якобсона, это не противоречит тому, что
она влияет на наше восприятие чувственной реальности. В самом
деле, усиление осязаемости знака, которое производит поэтическая
функция, имеет целью углубление антиномии между знаком и
объектом. Как говорит Якобсон, «причина, в силу которой эта
антиномия существенна, состоит в том, что без этого противоречия не
было бы подвижности ни понятий, ни знаков, и вдобавок
автоматизировалось бы отношение между понятием и знаком. Исчезла бы
активность, и сознание реальности было бы стерто»1.
5 Jakobson R. Linguistics and Poetics // Sebeok Th. Style in Language. Cambridge: M.I.T.
Press, 1971.
6 Элмар Холенштайн резюмирует так: «Когда мы хотим объяснить, к чему
относятся выражения "утренняя звезда" и "вечерняя звезда", нам не остается другого
решения, кроме как прибегнуть к еще одному описанию <...>, например "звезда,
которую римляне называли Венерой"». Holenstein Ε. Roman Jakobsons
phänomenologischer Strukturalismus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975. P. 94.
7 Jakobson R. What is Poetry? // Language in Literature. K. Pomorska et S. Rudy (éds).
Londres-Cambridge Mass.: Belknap Press, 1987. P. 750.
158
Раздел II
Поэтическая функция — понятие более логичное, чем остра-
нение. Она уточняет его способ действования в языке, который у
Шкловского только подразумевался, и решает, согласно
собственной логике формализма, большинство проблем, поднятых остра-
нением. Однако с точки зрения вопроса о воспринимаемом смысле
проблема просто обходится.
Да, Якобсон убеждает, что из поэтической активности языка
вытекает, в принципе, данность эмпирических вещей в их
смыслах. Но мы не можем разделять его оптимизм. В его модели только
вариация знаков и понятий действует на связь «знак—объект» и на
восприятие; объект никогда не схватывается иначе, как согласно
его возможным детерминациям в языке. Чтобы обеспечить контакт
с эмпирической реальностью, язык в действительности
подчиняется бесконечной игре знаков, которая, по правде говоря, лишь без
конца снова и снова улавливает реальность в своих собственных
значениях. Идея данности воспринимаемого смысла, таким
образом, снова зависает: поэтическая функция не полагает
эмпирических объектов в соответствии с их воспринимаемым смыслом,
напротив: она полностью их опосредует в лингвистическом смысле и
удерживает их таким образом на дистанции. Психологическая
редукция остранения у Шкловского здесь превращается в редукцию
лингвистическую.
Неспособность поэтической функции распространиться за
пределы языка признается и оценивается более радикально во
французском структурализме. В самом деле, здесь даже в более общем
плане отвергается возможность присутствия, или данности,
объекта в его воспринимаемом смысле. Для структуралистов это
присутствие всегда опосредовано и отсрочено посредством смысла
лингвистического порядка8. Но при этом следует иметь в виду, что
французские структуралисты усвоили лингвистику Якобсона, не
принимая в расчет ее истоков в русском формализме. Поскольку
же остранение основывается изначально на теории восприятия, а
этот аспект оказался отодвинут на периферию, стоит задаться
вопросом, действительно ли позиция Якобсона и ее радикализация
французскими структуралистами доводят остранение до самого
логичного завершения, какое только возможно.
8 Мы здесь находим даже (например, в понятии «текст» у Барта) мысль о том, что
язык не должен означать что-либо вне самого себя: «Текст практикует бесконечное
отступление от означаемого, он расширителен, его поле есть поле означающего;
означающее следует представлять не как "первую часть смысла", его материальное
преддверие, но, напротив, как его последствие». Barthes R. De l'œuvre au texte //
Barthes R. Œuvres complètes. T. IL Paris: Seuil, 1994.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 159
Следует отметить, в частности применительно к Якобсону, что
остранению еще недостает подлинно философских рамок; его
онтологические следствия еще по-настоящему не изучены. Так,
Якобсон, по-видимому, понимает воспринимаемый объект,
согласно традиции западной метафизики (и феноменологии Гуссерля),
просто как чистое присутствие для себя. Смысл реального объекта
есть полнота детерминации, единство сущности. Но если это так (а
условный оборот здесь обязателен, поскольку эти вопросы прямо
не затрагиваются Якобсоном), то мы, вполне вероятно, имеем дело
с источником неспособности языка высказать реальность. В самом
деле, есть несовместимость между способом бытия объекта,
который тождествен полному присутствию и полной детерминации его
сущности, и способом бытия знака, который по определению
вызывает отсрочку (différance) этого присутствия, «антиномию»
между знаком и объектом, как говорит Якобсон.
Говорить об отсрочке здесь небезвинно. Я думаю, что слабость,
заключенная в структурной лингвистике Якобсона, которая
делает ее неспособной оправдать свою связь с воспринимаемым
объектом, сравнима с проблемой знака, которую Деррида вьщвигает на
первый план в «Логических исследованиях» Гуссерля. Для
Якобсона, как для Гуссерля, объект есть чистое присутствие для себя: его
воспринимаемый смысл независим от структурирования знаком,
он есть чистое, неопосредованное выражение сознания для него
самого. Критика Деррида показала несостоятельность этого
анализа и, отвергнув «метафизику присутствия», подкрепила
семиотический и антисубстанциалистский подход структуралистов. Итак,
приписывая остранению назначение презентифицировать вещи,
мы действительно оказываемся в тупике, как видно также и после
собственно философского анализа.
Существует, однако, другая критика феноменологии Гуссерля,
которая дает совсем иной ответ на проблемы присутствия объекта
и воспринимаемого смысла. Это критика Мерло-Понти («Видимое
и невидимое»). В то время как Деррида радикально критикует идею
присутствия, Мерло-Понти стремится исследовать модальности
частичного, неполного присутствия. У Мерло-Понти есть идея,
почерпнутая у Хайдеггера, что бытие и проявляется, и одновременно
скрывается: первоначальная данность отмечена отсутствием,
объект, на который нацелено восприятие, никогда не присутствует в
полноте его детерминаций. Исходя из этого способ бытия объекта
идентичен способу бытия знака, и становится снова возможным
мыслить контакт, связь языка со смыслом воспринимаемого. Это
тем более верно, что для Мерло-Понти наши чувственные воспри-
160
Раздел II
ятия сами информируются понимаемым знаком; иными словами,
они структурированы и отмечены трансцендентностью, причем
на самом уровне чувственного. Ив Тьерри, видный интерпретатор
Мерло-Понти, резюмирует это следующим образом: «Чувственно
данное <...> не есть нечто принадлежащее иному порядку, нежели
интеллигибельное, оно есть стихия, в которой интеллигибельность
может иметь место: <...> феномены, являющиеся его самой
прямой конкретизацией, скрывают некую интеллигибельность; а она
есть не что иное, как проявляющаяся реальность внутреннего
продуцирования и организации этих феноменов»9.
Разумеется, еще многое можно было бы сказать о самой этой
мысли Мерло-Понти, о ее отношениях со структурализмом и
феноменологическими учениями Гуссерля и Хайдеггера, и особенно
о тех возможностях, которые она предоставляет в отношении как
остранения, так и смысла восприятия. Здесь, однако, мы можем
лишь упомянуть об этой мысли и указать на открываемый ею
горизонт. Этот горизонт позволяет представить преодоление
психологических, а затем лингвистических ограничений остранения у
Шкловского и у Якобсона. Действительно, мысль Мерло-Понти, кажется,
предлагает философские рамки, в которых онто-эстетические
последствия остранения проявляются в полную силу; она поистине
воздает должное идее воспринимаемого смысла, доступного в
опыте, который по определению должен быть эстетическим. Два
элемента, открывающие путь для этой возможности: это хайдеггеров-
ская критика объекта как полноты детерминации и весьма близкая
Шпету мысль о том, что чувственное восприятие обладает
собственной интеллигибельностью, что она всегда уже является
структурированием и артикуляцией некоего конкретного смысла.
Творчество Шпета включается в обрисованное здесь движение
к философскому пониманию воспринимаемого смысла на двух
основаниях. С одной стороны, одна из его центральных тем —
смысл конкретного опыта: проблема, по-видимому, тождественная
проблеме воспринимаемого смысла. В работе «Явление и смысл»
Шпет старается описать его в его единстве — как
интеллигибельную и чувственную одновременно структуру нашего отношения
к миру. Однако его рефлексия не относится непосредственно к
смыслу воспринимаемого, но скорее к «логике конституирования
исторического и культурного мира»10. Его интересует именно мир,
9 Thierry Y. Du Corps parlant. Bruxelles: Ousia, 1984. P. 136.
10 Dennes M. Le Renouveau de l'herméneutique à travers la reprise en compte de l'œuvre
de Gustav Chpet // Chroniques slaves. № 2. 2006. P. 177.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 161
предстающий как опытное поле смысла. Итак, проблема
воспринимаемого смысла, несомненно, включена в его мысль, но
вторичным образом.
С другой стороны, Шпет был ключевым собеседником
Якобсона, повлияв, например, на его рецепцию Гуссерля. Таким образом,
он сыграл историческую роль поставщика философской базы для
пражского структурализма. На этом основании можно надеяться
найти у Шпета дополнительные разъяснения о философских
задачах теории Якобсона, в частности об истоках ее слабости в
отношении воспринимаемого смысла.
Размышления Шпета о смысле конкретной данности
начинаются с критики очень важного гуссерлевского понятия данности
смысла интенциональным сознанием, Sinngebung. По Шпету,
Гуссерль в «Идеях...» не дает никакого объяснения этой способности
сознания11. Между тем для него исключается, под страхом впасть
в заблуждение кантовского идеализма, рассмотрение этой
способности просто как силы трансцендентального субъективного
сознания. Значит, следует искать источник смысла в чем-то другом — в
опыте. Этот источник Шпет видит в существовании
«интеллигибельной» интуиции, схватывающей то, что Шпет называет
энтелехией объекта, «внутренний смысл», согласно которому объект
конкретно конституируется для сознания, в значащем единстве его
множественных видимостей.
Высказывая эту мысль об интеллигибельной интуиции и ее
корреляте — «внутреннем смысле», или энтелехии, Шпет вместе с тем
утверждает, что некоторые объекты для адекватного их восприятия
требуют, чтобы их имели в виду и схватывали как «знаки». В
некоторых местах «Явления и смысла» Шпет доходит до утверждения,
что всякий объект предстает также и прежде всего как знак. Ин-
тенциональное сознание, следовательно, сразу помещается в
конкретный горизонт смысла, изначально данного интеллигибельной
интуицией. Другими словами, Шпет постулирует здесь истинную
логику самого опыта. Кажется, мы очень близки к идее Мерло-
Понти о систематическом сорасчленении чувственно данного
умопостигаемым. Но к этой кажущейся аналогии следует отнестись с
осторожностью.
«Внутренний смысл» понимается Шпетом в «Явлении и смысле»
телеологически и функционально, как это подразумевает его выбор
термина «энтелехия». Вследствие этого ему трудно оправдать
расширение интеллигибельной интуиции на объекты, которые не детерми-
См.: HaardtA. Husserl in Rußland. München: Wilhelm Fink Verlag, 1993. R 100 ss.
162
Раздел II
нируются по отношению ни к какому функциональному горизонту,
например на объекты мира физики. Каков внутренний смысл этих
объектов, какова их собственная логика? Чтобы ответить на эти
вопросы, надо было бы постулировать телеологию физического мира,
т. е. предлагать спекулятивно-радикальное решение. Шпет
колеблется в том, что касается расширения интеллигибельной интуиции,
и поэтому иерархия трех интуиции — эйдетической, эмпирической
и интеллигибельной — представляет для него трудность.
В самом деле, с одной стороны, Шпет рассматривает
интеллигибельную интуицию данного как единственную первоначальную;
эйдетическая и эмпирическая интуиции являются производными и в
определенном смысле абстрактными. Но для этого взгляда, как мы
видели, представляет угрозу телеологическая концепция смысла, не
позволяющая осознать смысл нефункциональных объектов, то есть
объектов, смысл которых дан только в восприятии. С другой
стороны, Шпет, как кажется, подходит к мысли,, что все эти интуиции
имеют статус первоначальности и каждая поставляет некий «слой»
конкретно пережитого опыта, который, таким образом,
принимается адекватно, синтезируясь в акте, схватывающем их все вместе. Если
мы выбираем эту интерпретацию, куда менее оригинальную, мы
сразу возвращаемся к гуссерлевской проблеме смысла
воспринимаемого, поскольку в этом случае физический объект дается чувственной
интуицией в полной детерминированности, не опосредованной
знаком. Мы знаем, что этой концепции угрожает дамоклов меч Деррида.
Шпет, мне думается, отдавал приоритет идее
интеллигибельной интуиции как единственного первоначального акта данности.
Именно эта идея лежит в основе его последующих исследований
и объясняет, в частности, его попытку в более ограниченных
рамках философии языка заново определить проблематичную
концепцию «энтелехии» не в телеологических терминах, но с позиций
гумбольдтовского понятия «внутренней формы». По этому поводу
можно задаться вопросом, позволяет ли введение этого понятия
снять дилемму, связанную с чисто воспринимаемым смыслом,
поднятую его функциональным подходом к смыслу. Действительно,
«внутренняя форма» определяет смысл как структурное отношение
между чувственным внешним и интеллигибельным внутренним,
что применимо даже к физическим объектам. Любой объект, таким
образом, может обладать «первоначально базовой структурой»12,
12 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 353. Описание отсылает к
словам, не к объектам.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 163
значащей и конкретной, данной в интеллигибельной интуиции
или в герменевтическом акте.
Эта перспектива, более близкая к Мерло-Понти, является
многообещающей, но она гипотетична, поскольку Шпет применяет
свое понятие внутренней формы только к словам, а не к
физическим объектам. Вдобавок она, по-видимому, страдает еще одним
недостатком. В самом деле, Шпет понимает герменевтический акт
как дающий адекватность, то есть схватывающий объект в полноте
его детерминаций. Между тем, здесь, вероятно, заключено
противоречие, поскольку обращение к интерпретации, необходимость в
герменевтическом акте по определению имплицирует
неполноту смысла, недетерминированность. Если объект дан изначально
только сквозь призму означающей структуры, может ли он
представать в полном присутствии? Не является ли он все так же знаком
чего-то другого, того, что как раз здесь не присутствует, что дано
только производным образом, неполно, неадекватно? Если,
подобно Шпету, который утверждает «позитивность» своей философии,
мы хотим понимать объект как полноту детерминации, а
интеллигибельную интуицию объекта — как адекватность, тогда, видимо,
герменевтический акт должен утратить свою почву, ибо он никогда
не достигает объекта, который, как сказал бы Деррида, всегда
отсрочен в своем присутствии. Другими словами, Шпет
представляется очень уязвимым для скептической релятивистской критики.
В итоге позиция Шпета по вопросу смысла восприятия
амбивалентна, он как бы останавливается на полпути. С одной
стороны, он проблематизирует вопрос о смысле опыта и открывает
философские возможности для структурного и конкретного кон-
ституирования этого смысла, которые смог непосредственно
применить к языку Якобсон и которые получили косвенный отклик
у Мерло-Понти. С другой стороны, он не критикует
метафизическую идею объекта как полноты детерминации и, следовательно,
не приходит к удовлетворительной концепции смысла
воспринимаемого (вопрос этот, надо напомнить, интересует его лишь
косвенно). Последний пункт особенно очевиден в силу ограничений
его герменевтического подхода. В самом деле, его понимание
является дохайдеггеровским, и он не вступает на путь герменевтики
фактичности. Это отсутствие интереса к вещам в их
материальности проявляется также в его эстетике. Действительно, далекий от
того, чтобы принимать модернистские идеи, защищаемые, к
примеру, формалистами, он привязан к символистской эстетике. Для
него эстетическая работа происходит в области знака, символа, ее
предмет — игра между логическим смыслом и выразительностью,
164
Раздел II
а не чувственная «материя». В связи с этим он дистанцируется от
экзистенциального видения остранения и его онто-эстетического
измерения.
В заключение, поскольку мысль Шпета является дохайдегге-
ровской и доструктуралистскои, следует прежде всего подчеркнуть
его вклад в обрисованное здесь движение к философскому
пониманию смысла воспринимаемого. Сам по себе факт существования
его творчества служит подтверждением и иллюстрацией логики и
исторического развития этого движения в тени структурализма. Во
всяком случае, он ясно указывает, что разъяснение вопроса о
смысле воспринимаемого требует двойного подхода,
феноменологического и структуралистского, и что роль Шпета, находящегося на
пересечении этих двух движений, очень важна. Это стало бы еще
яснее, если бы в дополнение к вопросу о присутствии, на котором
я сконцентрировался, выдвинуть также на первый план
значимость для логичной концепции воспринимаемого смысла двух тем,
которые были затронуты лишь между строк. Это, с одной стороны,
развитие структурно-систематического понимания смысла в
формализме (понимания, которое сильно отличается от соссюровского
в том, что оно дает основание понятию «система», элементы
которой составляют не просто оппозиции, то есть имеют не только
собственно негативное значение). С другой стороны — это развитие
у Хайдеггера и особенно у Мерло-Понти концепции восприятия
как «эстетической» по существу, в смысле греческого «aisthesis»,
первичной открытости к миру. Первый пункт позволил бы
подчеркнуть историческую важность позиции Шпета. Второй показал бы
ее относительность, но вместе с тем позволил бы лучше осознать
сложную эволюцию выработки когерентной концепции
воспринимаемого смысла.
Перевод с франц. Н. В. Кисловои
В. В. Фещенко
Густав Шпет и неявная традиция
глубинной семиотики в России
Шпет и семиотика
Имя Густава Густавовича Шпета появлялось и появляется
в семиотической литературе чрезвычайно редко. Лишь в
трудах по истории семиотики в России и Советском
Союзе можно обнаружить ссылки на его работы. Первым на
значимость идей Шпета для семиотических учений указал
Вяч. Вс. Иванов в «Очерках по истории семиотики», отметив, что
«Шпет был первым русским философом, давшим детальное
обоснование необходимости исследования знаков как особой сферы
научного знания и изложившим принципы феноменологического и
герменевтического подхода к ней». Небольшое внимание Шпету было
уделено и в Тартуской школе, в чьих «Трудах по знаковым системам»
была опубликована статья под названием «Литература»,
подготовленная Шпетом в 1920-х гг. для «Словаря художественных
терминов». Можно встретить упоминание о Шпете в некоторых учебных
курсах по семиотике, например в книгах Г. Почепцова и Н. Мечков-
ской. Что касается западной литературы, насколько мне известно,
лишь одна его книга, «Явление и смысл», переведена на английский
и немецкий, в семиотических же кругах его имя совершенно
неизвестно. Впрочем, Шпет как семиолог не открыт по-настоящему и у
нас — ведь только совсем недавно, два года назад, был издан
основополагающий его труд по семиотике — «Язык и смысл».
Семиотика как термин у Шпета
Переходя от этого небольшого введения к сути доклада, хотелось
бы начать с того, как определяет Густав Шпет саму семиотику. По
праву Шпет считается первым, кто употребил в русской научной
литературе термин «семиотика», понимая под ним «онтологиче-
166
Раздел II
ское учение о знаках вообще». Сразу же хочу обратить внимание на
этот атрибут — «онтологическое», который еще возникнет по ходу
доклада в специальном контексте.
Впервые слово «семиотика» появляется у Г. Шпета в 1916 г., в
первом томе его незавершенного труда «История как проблема
логики». Рассуждая о том, как осуществляется историческое
познание, он пишет: «Историческое познание никогда не является
познанием чувственным или рассудочным или познанием
внешнего, или внутреннего опыта, а всегда есть познание,
предполагающее уразумение или интерпретацию как средство уразумения.
Такого рода познание можно условиться назвать семиотическим
познанием»х. В той же самой работе он приравнивает семиотику к
характерике и там же поднимает вопрос о «семиотическом разуме»,
впрочем, на данном этапе не разъясняя этого понятия.
Чуть позже, в 1920-х гг., Шпет пишет работу «Язык и смысл», в
которой прослеживает истоки семиотической мысли и
закладывает основы новой семиотики, которую обозначает теперь как «науку о
понимании знаков». Сделаю акцент на этом моменте: для Шпета
семиотика — не наука о знаках или знаковых системах, а учение о
ПОНИМАНИИ знаков. «Нужно вдуматься, — пишет он, — в самый факт
социально-исторического, нужно обнаружить, что самое социально-
историческое есть понимаемый знак и дается нам как знак. У знака
вообще и социально-исторического, как такого, одна принципиально-
онтологическая природа»2. Уже из этих замечаний видно, что
семиотику Шпет трактует в широком социально-историческом аспекте.
Источником любого исторического познания является слово, а слово
«является тем знаком, от которого историк приходит к своему
предмету с его специфическим содержанием, составляющим значение или
смысл этого знака»3. Из этих утверждений следует, что Шпет понимает
семиотику как дисциплину, в ведение которой входит весь круг
гуманитарных, или социально-исторических, в его терминологии, знаний.
Характерно, что, как правило, раскрывая какие-либо
семиотические понятия, Шпет не обходится без обращения к смежным
дисциплинам, таким, как герменевтика и феноменология. Фактически
он даже не определяет особых контуров, или границ, семиотики,
поэтому, например, переходы от обсуждения семиотики к обсуждению
герменевтики у него совершенно свободны, подчас даже откровенно
1 Шпет Г. Г. История как проблема логики. Критические и методологические
исследования. Материалы. В двух частях. М., 2002. С. 287.
2 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 476.
3 Почепцов Г. Г. Русская семиотика. М.: Киев, 2001. С. 205.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 167
неотчетливы. Надо сказать, что это объясняется двумя причинами:
во-первых, это характерная особенность всей так называемой
«русской теории» 1910—1930-х гг., больше озабоченной новыми идеями,
чем стройностью изложения теорий, и, во-вторых, сам научный стиль
Шпета, его философский почерк при всей его как будто бы строгости
(Шпет считается едва ли не самым строгим русским мыслителем), на
самом деле довольно эфемерен и зыбок. Его мысль течет сначала
вроде бы достаточно планомерно, но потом вдруг отклоняется в сторону,
разбивается на какие-то смежные рассуждения. Поэтому его
терминологический аппарат постоянно колеблется. Так, к примеру, само
понятие «семиотический» у него свободно заменяется то тут, то там
понятиями «семасиологический», «сигнативный», «сигнификацион-
ный» и даже «семантический», без явного различия в значениях.
Однако справедливости ради нужно заметить, что в то время
семиотический лексикон еще не был достаточно разработан и общепринят.
Семиотические понятия по Шпету
Так или иначе, в учении Шпета мы находим определение
практически всех понятий современной семиотики.
Прежде всего, проблема, которая его интересует, — это
проблема предмета и формы. Обладает тот или иной предмет
«семиотическими качествами» или не обладает — это первый вопрос Шпета.
Всякий предмет, утверждает он, может быть «существенно
семантическим» (resp. семиотическим)4, т. е. всякой точке его
логического слоя может найтись своя соответствующая точка в его
онтологической природе. «"Знаку" коррелятивно "значение". Нужно
показать, — пишет Шпет, — в чем состоит эта корреляция»5. Знак
выступает как термин отношения, сам в то же время являясь
некоторым предметом, вещью.
Всякая ли вещь является или может быть знаком? Что
делает вещь знаком, т. е. что есть то, в силу чего вещь, вступает в
корреляцию с тем, что мы называем значением? Это вопросы,
которые решает Шпет. Знак исследуется как предмет формально-
онтологогического характера. Заголовки подразделов в книге
«Язык и смысл» сами по себе вырисовывают понятийный аппарат
шпетовской семиотики: «Знак как субъект отношения», «Знак как
предмет действительного мира», «Знак как отношение», «Знак-
4 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 492.
5 Там же. С. 512.
168
Раздел II
значение как отношение sui generis и его система», «Разделение
знаков, «Знаки в атрибутивной действительности» и т. д.
Между тем посредством понятия знака Шпет стремится
добиться ответа на главные свои вопросы: что такое понятие, что
такое слово и что такое смысл? При этом понятие «понятия»,
составляющее главный предмет семиотики Шпета, осмысляется не
просто как логическая категория. Логическая форма понятия для
него лишь остов самого понятия. Большее внимание он уделяет
накладывающимся на логику «внутренним формам», которые
опосредуют процесс понимания. В этом смысле, конечно, шпетовский
семиотико-герменевтическии метод исследует по преимуществу
природу гуманитарных понятий.
От структуры знака к структуре смысла:
динамическая модель Шпета
Из всего обилия семиотических идей Шпета мне
представляется главной его оригинальная концепция знака и смысла, которая
в своей сущности отличается от прочих современных Шпету
концепций — Пирса, Соссюра, Фреге, Бюлера или Огдена-Ричардса.
Начинает свои размышления Шпет с относительно
общепринятых постулатов. Так, знак рассматривается им как имеющий
содержание и значение. Значение так же коррелятивно знаку, как
содержание форме. Но здесь же Шпетом отмечается особое
онтологическое положение знака среди других предметов,
«проистекающее из того, что знак сам по себе есть некоторый предмет со
своим особенным содержанием и что он в то же время есть знак
другого предметного содержания»6.
В чем состоит корреляция между знаком и значением, между
формой и содержанием? На философском языке Шпет формулирует
проблему так: «Специфичность знака, как субъекта отношения, нужно
видеть в том, что по отстранении его данного чувственного бытия,
например, физического, он не в новых формах того же порядка бытия, а
в формах идеального бытия приводит нас к другому термину
отношения, к корреляту»7. В языке семиотики эта проблема проецируется на
вопрос о сложной структуре знака как субъекта отношения8.
6 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 478.
7 Там же. С. 518.
8 Там же. С. 519.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 169
Категория отношения, как мне кажется, является опорным
пунктом в шпетовской концепции знака. Онтологическое
положение знака мыслится Шпетом в том, что он не только субъект
отношения, которому соотносительно значение, но он сам также
есть некоторое отношение, предполагающее свои термины9. Что
подчеркивает Шпет, различая понятия «субъект отношения» и
«отношение как таковое»? Субъект отношения — категория
статическая, в то время как само отношение — динамическая категория.
«Отношение» значит в шпетовском смысле «процесс отнесения».
Именно на этом процессуальном значении категории отношения
настаивает Шпет. Если знак как субъект отношения описывается
своими внешними формами, то знак как отношение само по себе
описуем посредством присущих ему «внутренних форм».
Различение внешних и внутренних форм в дальнейшем Шпет
разовьет в отдельной работе «Внутренняя форма слова», но здесь,
в семиотическом контексте, это различение важно для объяснения
структуры знака. Внутренние формы определяются как формы
самого отношения, тогда как внешние формы, называемые Шпетом
иначе, как «формы сочетания», относятся к эмпирическому,
материальному плану знака. Проецируя на структуру знака, эту схему
уже нельзя изобразить в виде диадичной модели Соссюра или три-
адичной модели Фреге, Пирса и Бюлера. Модель Шпета
принципиально динамична и требует для своей иллюстрации не статично-
геометричных, а динамичных форм визуализаций.
Почему динамика? Потому что внешняя форма знака —
финальна, но любой знак есть средство к осуществлению цели, к
осуществлению идеи, а значит, от статичного восприятия внешней
формы мы переходим всегда к установлению отношения цели и
средства как действия некоторого субъекта. «От восприятия
внешней формы финальности я перехожу к отношению осуществления
идеи к ней самой»10. А этот процесс уже динамичен, так как
подразумевает движение от замысла к воплощению. Динамичность
слова Шпет иллюстрирует на простейшем примере построения
слов и высказываний. «"Часть" слова движется и движет к
"целому слову", последнее — к "связи", например, суждения или более
обширного высказывания, это — еще дальше и экстенсивнее и т. д.
Часть влечет к целому, "вещь" — к "отношению", отношение — к
отношению высшего порядка; и в каких бы категориях —
логических, грамматических или метафизических — мы ни выражали
9 Там же. С. 520.
10 Там же. С. 553-554.
170
Раздел II
эту существенную особенность слова, всегда налицо динамизм и
движение»11.
Слово как знак, соотносимый со значением, становится
понятием. «В этом качестве знак не является уже средством для
осуществления мысли... он является самой мыслью, понятием, идеей,
содержанием»12. Значение, осуществленное в знаке, становится
смыслом. Если по своим внешним формам знак расчленяется в качестве
средства, по своим внутренним формам — в качестве осуществления.
Для всех остальных теорий знака знак — лишь средство. Шпет вводит
категорию в процесс семиозиса — категорию целесообразности.
Переход от знака к значению, сообразующийся с определенной целью,
с идеей целого, и осуществляемый внутренними формами, и
называется им «пониманием» как динамическим осуществлением смысла.
Глубинная семиотика: третья традиция
Если считать, что семиотические учения Соссюра и Пирса
являются двумя магистральными традициями в современной семиотике,
учение Густава Шпета может быть признано третьей, неявной
традицией, «мерцающей в толще истории». Почему это именно
традиция, я скажу чуть ниже, но, если говорить о шпетовской семиотике
как таковой, ее отличие от пирсовской и соссюровской мне
видится в постулировании внутреннего пространства в структуре знака и
в целесообразности семиотического процесса.
Для Соссюра знак произволен, и отношение между означающим и
означаемым описывается в статичной категории значимости (valeur).
Он допускает наличие связи между звуковым образом и понятием, но
специфическая природа этой связи как таковой его не интересует.
Пирс идет несколько дальше и вводит понятие «интерпретан-
ты», т. е. некоторый момент субъективности семиозиса. Знак для
Пирса — это нечто, означающее что-либо для кого-нибудь. Схема
коммуникации выглядит для Пирса так, что определенный знак
адресуется кому-либо, чтобы создать в уме этого другого
идентичный знак. Здесь также отсутствует внимание к тому, как именно
осуществляется отношение между знаком и значением.
Именно понятие внутренней формы в изложении Шпета дает
возможность анализировать глубинное измерение знака. Не случайно
концепция внутренней формы выводится Шпетом на материале ана-
11 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 584.
12 Там же. С. 554.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 171
лиза эстетических форм: ведь поэтический язык в отличие от языка
прагматического (научного или обыденного) на первый план
выдвигает не прагматические цели, а «свои собственные внутренние цели
саморазвития». Как иначе понять феномен автокоммуникации в
художественном семиозисе, как не через целеполагающую структуру знаков?
Шпета больше всего интересует творческий момент в
семиозисе. Во всяком словесном творчестве, научно-понятийном или
художественно-образном, пишет Шпет, имеет место планомерное
выполнение некоторого замысла. Здесь значимой оказывается
именно внутренняя форма — как правило образования понятия (в науке)
или образа (в искусстве). «Это правило есть не что иное, как прием,
метод и принцип отбора, — закон и основа словесно-логического
творчества в целях выражения, сообщения, передачи смысла»13.
Можно говорить о внутренней форме понятия, или «внутренней
логической форме», и о внутренней форме образа, или
«внутренней поэтической форме». Совокупность таких «правил», законов
комбинирования словесно-логических единиц (понятий, образов),
Шпет называет «словесно-логическими алгоритмами». «Такого рода
алгоритмы суть также формы образования понятий, и,
следовательно, диалектики самого смысла, динамические законы его развития,
творческие внутренние формы, руководящие понимающим
усмотрением смысла в планомерном отборе элементов, но
допускающие свободу в установлении той или иной планомерности <...>»м.
Внутренние формы как алгоритмы, т. е. «формы методологического
осуществления, способны раскрыть соответствующую организацию
"смысла" в его конкретном диалектическом процессе»15.
Таким образом, обогащение семиотической теории понятием
внутренней формы было связано с поиском семиотических
инструментов в анализе форм творческого присутствия человека в языке.
Глубинно-семиотический подход, основателем которого выступает
Шпет, ставит во главу семиотического процесса самого человека.
В соссюрианской и пирсианской семиотике мир знаков априори
признается внешним по отношению к личности. Шпетовская
семиотика человекомерна, или «целемерна», в его собственных
терминах. Объектом ее изучения является совокупность внутренне
обусловленных знаков, которые производит и воспринимает
человек в коммуникативном и творческом процессе. Из плоскости яв-
13 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М, 2007. С. 401.
14 Там же. С. 419.
15 Там же. С. 437.
172
Раздел II
ленной дискурсивности шпетовский семиотический анализ как бы
ныряет вглубь, уходя к корням и источникам смыслопорождения,
получая возможность рассмотрения его динамики. Таким образом,
русская глубинная семиотика по Шпету предстает как отдельный
вектор семиотической традиции, существенно отличный от
европейских семиотик по Пирсу и Соссюру.
Остается рассмотреть, что же представляет собой шпетовская
линия в семиотике как ТРАДИЦИЯ.
На каких учениях основывается сам Шпет? Если не учитывать
Платона, на которого он опирается в общефилософском плане,
необходимо назвать прежде всего Блаженного Августина.
Рассуждения Августина о знаке как сущности, отличной от вещи, составляют
основу рассуждений самого Шпета. Кроме того, несомненное
влияние на Шпета произвели мысли Августина о «внутреннем человеке»
и различении «внешне звучащих слов» и «внутренне звучащей
истины». Близкие моменты в своем семиотическом подходе Шпет
находит также у Лейбница, Вольфа, Гумбольдта, Марти и Потебни.
Проблески глубинно-семиотической традиции возникали в
концепциях современников Шпета и тех, с кем он
непосредственно общался и работал. Андрей Белый должен быть назван здесь в
первую очередь. Русская философия имени, которая во многом
была не близка шпетовскому рационализму, в семиотических
аспектах обнаруживала много общего; особенно это относится к
П. Флоренскому. Отблески данной традиции видны также в
теоретических работах В. Кандинского о принципе «внутренней
необходимости» и Вяч. Иванова — о формах зиждущих и формах
созижденных. В некоторой своей части эта линия прочерчивается
в работах Л. Выготского, М. Бахтина и В. Волошинова. Из тех, на
кого Шпет оказал уже прямое влияние, можно назвать В.
Виноградова (на ранних этапах его мысли), Н. Жинкина, А. Габричевского,
Н. Волкова и А. Ахманова.
По историческим обстоятельствам прямая наследственность
шпетовского направления обрывается на рубеже 1930—1940-х гг.
Особую тему и особый интерес представляет собой дальнейшее
развитие глубинно-семиотических подходов. Под дальнейшим я
понимаю не только развитие шпетовских семиотических идей,
скажем, в послевоенной отечественной семиотике (на мой взгляд,
следов шпетовского влияния здесь крайне мало), но и актуализацию
его учения в современных и будущих филологических штудиях. Но
на данный момент лично для меня эта тема пока под большим
вопросительным знаком, и целью этого сообщения была скорее
ретроспекция шпетовского начала в семиотике.
Ε. Β. Велтезова
Семантика vs. семиотика
Густава Шпета и Николая Марра
(к постановке проблемы)1
Несмотря на сложный характер как внутри-, так и
внешнеполитической ситуации в СССР в 1920—1930-е гг., это
время в истории советских гуманитарных наук было
необычайно «полифоничным»: часто не совпадающие, а иногда
и противоположные мнения могли высказываться в
работах не только разных исследователей, но и одного и то же ученого.
Кроме того, разные взгляды могли сосуществовать в это время и на
проблемы, осознанные научным сообществом как таковые и
детально изучаемые уже в более позднюю эпоху; при этом часто речь шла
о проблемах, которые впоследствии будут иметь большое значение
для развития гуманитарных наук в целом. В этой статье мы
проанализируем теории Густава Шпета и Николая Марра в свете развития
дисциплины, «золотой век» которой в Советском Союзе пришелся
на 1960—1980-е гг.: речь идет о семиотике. Об огромном значении
теорий Шпета для эволюции семиотических идей в СССР уже
писали2; иногда о нем говорилось даже как о первом исследователе,
употребившем в России слово семиотика3. Роль Н. Я. Марра в
эволюции семиотики в России на первый взгляд кажется менее
очевидной4. Мы постараемся показать, что недооценивать ее тоже нельзя5.
1 Благодарю Татьяну Щедрину за ценные замечания, использованные мной в
работе над темой.
2 См. Почепцов Г. Г. История русской семиотики. М., 1998. С. 179—193; Зинчен-
ко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета. М., 2000. СИ; Щедрина Т. Г. Густав Шпет:
путь философа // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 7—32;
С 23-30 и т. д.
3 См.: Почепцов Г. Г. Цит. соч. С. 180 (впрочем, это замечание заслуживает
отдельного анализа).
4 Тем не менее можно сослаться на книгу В. В. Иванова «Очерки по истории
семиотики в СССР» (М., 1976), где в позитивном аспекте упоминаются многие открытия
и идеи Марра и его школы.
5 Семантическая составляющая марристской лингвистики рассматривалась нами в
книге: Velmezova Ε. Les lois du sens: la sémantique marriste. Berne, Peter Lang. 2007.
174
Раздел II
Сегодня само понятие семиотика может иметь несколько
интерпретаций. Ограничимся здесь указанием на два следующих аспекта
семиотического знания: 1) семиотика как дисциплина,
изучающая знаки, их структуру, типологию (типологии), классификацию
(классификации) и взаимодействие; 2) семиотика как диалог наук,
предполагающий некоторые закономерности и соответствия между
разными отраслями знания. В каком-то смысле речь идет о мета-
науке, приближающейся тем самым к философии. Эти два аспекта
семиотического знания, отражаемые тем или иным образом в
работах Марра и Шпета, и будут в центре нашего внимания.
Сразу подчеркнем: семиотические идеи Шпета и Марра были
тесно связаны с размышлениями этих исследователей,
носящими семантический характер. Почему семантика была так важна для
Шпета? Прежде всего, Шпет не принимал идею о том, что
внутренняя форма языка (см. лингвистическую доктрину В. фон
Гумбольдта6) может служить основой лингвистического и философского
исследования: он отдавал себе отчет в том, что язык как феномен (как
целое) не может быть основой исследования. Поэтому самим
принципом и основной единицей семиотического анализа становится
для Шпета слово — слово как «некоторая последняя, далее
неразложимая, часть языка, элемент речи»7. В то же время речь для
Шпета идет об отдельном слове, обладающем единственным смыслом в
каждом отдельном контексте. В этой связи необходимо вспомнить
о том, что Шпет был одним из первых отечественных
исследователей, эксплицитно разграничивших смысл и значение слова8. Если
значение слова существует вне контекста, отражаясь в словарях,
смысл слова можно определить как значение, реализуемое в
конкретной речевой ситуации9. Отношение между словом и его смыс-
6 См. в этой связи работу: Dennes M. De la «structure du mot» à la «forme interne» chez
Gustav Spet // Revue germanique internationale. 2006. № 3. P. 77—92.
7 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 470-657; С. 569.
8 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 248-469; С. 267.
9 В истории идей в целом одним из первых лингвистов, установивших это
разграничение, был Г. Пауль. Теория семантических изменений Пауля (см., начиная со
второго издания [1886], его книгу «Prinzipien der Sprachgeschichte». 3 Aufl., Halle,
1898) строилась на оппозиции usuelle / okkasionelle Bedeutung: таким образом, он
противопоставлял значения слов, существующие вне контекста, и значения,
конкретизированные в речи. В различных формах подобное разграничение появится
затем в работах многих исследователей — достаточно упомянуть хотя бы Ш. Балл и
(Bally СИ. Précis de stylistique; Esquisse d'une méthode fondée sur l'étude du français
moderne. Genève, 1905. P. 21 et 47), Ж. Вандриеса (valeur actuelle vs. valeur singulière)
(Vendryes J. Le Langage. Introduction linguistique à l'histoire. Avec un nouvel appendice
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 175
лом (vs. его значением) стало для Шпета основой, определявшей его
последующие размышления: дело в том, что слово Шпет употреблял
и в значении речи в целом, языка (как письменного, так и устного).
Поэтому отношение «слово — смысл» в работах Шпета может быть
интерпретировано и как отношение «слово (язык, речь) — смысл»10.
Что же касается важности семантических идей для эволюции мар-
ристской лингвистики, сам Марр противопоставлял свою «новую
теорию языка» «буржуазной», «формальной» лингвистике11 (прежде
всего младограмматикам) по нескольким параметрам. Один из этих
параметров был связан с необходимостью изучать прежде всего
семантическую (а не «формальную») составляющую языка. Однако,
сам того, возможно, не осознавая, Марр вторил младограмматикам
в том, что пытался, во-первых, сформулировать (семантические)
законы и, во-вторых, применить их к диахронии: к истории языка и, в
меньшей степени, конкретных языков12.
Обратимся теперь к проблеме семиотического знания как
такового в контексте исследований Шпета и Марра. Что касается
общих проблем знака, ни Марр, ни марристы этим не
интересовались. Шпет, напротив, посвятил этим проблемам
многочисленные страницы своих работ; уже в этом проявляется различие,
связанное со вкладом Шпета и Марра в развитие семиотики. Не имея
bibliographique. Paris, 1939. P. 206), Л. С. Выготского (смысл vs. значение)
(Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1934. Глава 7 и особенно С. 305—308), и т. д. (об
этой дихотомии см. также: Velmezova Ε. Les lois du sens: la sémantique marriste //
Op. cit. P. 89). Что касается Шпета, проблема трансформации полисемии в моно-
семию ставилась им и в других работах — например, в «Эстетических фрагментах»,
ср.: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры, М., 2007. С. 173—287 и т. д.
10 См. также: Shchedrina T., Velmezova Ε. Charles Bally et Gustav Shpet en conversation
intellectuelle: reconstruire les archives de l'époque // Cahiers de l'ILSL. 2008. № 24.
P. 237-251.
" Mapp H. Я. Избранные работы. Т. I—V. M.-Л., T. I. С 219, 222 и далее; см. также:
Velmezova E. Les lois du sens: la sémantique marriste. Op. cit. P. 322.
12 Разумеется, Марр был далеко не первым исследователем, заинтересовавшимся
проблематикой семантических законов в диахронии: достаточно упомянуть одного
из самых известных младограмматиков, Г. Пауля, или обучавшегося у
младограмматиков М. Бреаля (начиная с его работ, написанных в 1860—1880 гг., не говоря уже
о его известной книге «Essai de sémantique» [Science des significations], Paris, 1897),
как и многих других исследователей (о диахронической семантике до-марристского
периода см., например, Velmezova E. Les lois du sens: la sémantique marriste // Op. cit.
P. 76—99). Подчеркну, правда, что Шпет критически относился к лингвистам,
пытавшимся сформулировать семантические законы в диахронии: по его мнению,
вещи и их представления в них часто смешивались со значениями соответствующих
слов и историю вещи принимали за историю значения (Шпет Г. Г. Эстетические
фрагменты. Цит. изд. С. 241).
176
Раздел II
возможности проанализировать теорию знака Шпета во всей ее
полноте, ограничимся здесь указанием на несколько ее аспектов,
кажущихся нам наиболее важными. Шпет интересовался прежде
всего структурой знака (чему во многом было посвящено его
исследование «Язык и смысл»): как он писал, «теория слова как знака
есть задача формальной онтологии или учения о предмете, в отделе
семиотики»^.
Шпет разграничивал семантический {семасиологический) анализ,
предполагающий изучение отношений между знаком и
значением, и изучение семиотических качеств знака14. Семиотика
определялась Шпетом как формальное, онтологическое изучение знака, в
отличие от «материального» изучения видов знаков, определяемых
«сигнификационным содержанием»'5. В то же время Шпет во
многом подходил к изучению знака в свете проблемы его понимания
(и его интерпретации) в психологическом и социальном аспектах.
В этом смысле, по терминологии самого Шпета, ему было
интереснее изучать отношения семантические, чем семиотические. Сама
идея герменевтики появляется у Шпета одновременно с желанием
понять, какую роль слово может играть как знак сообщения16. Шпе-
товская семиотика не может быть редуцирована до вербальной,
потому что, как полагал Шпет, неверно было бы приписывать слову
качества знака в целом.
Помимо размышлений над общими свойствами знаков, Шпет
разрабатывал классификацию (типологию) знаков, различая два их
типа: знаки как субъекты отношений, или признаки, и знаки как
самостоятельные отношения, или знаки как таковые: «С одной
стороны, от знака, как действительной вещи, мы переходим к другой
действительной вещи, а с другой стороны, от знака, как
действительной вещи, мы переходим к не-действительному, или
идеальному. В первом случае знак, — даже как термин отношения, — все
же выступает в качестве признака чего-нибудь действительного; во
втором случае знак имеет значение»*1. Таким образом, идеи
семантического характера очевидно присутствуют в семиотических (в
современном смысле слова) размышлениях Шпета.
13 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Цит. изд. С. 208.
14 Шпет Г. Г. Язык и смысл. Цит. изд. С. 478.
15 Там же. С. 477, 659. Именно стремление Шпета сформулировать
методологические принципы, которые были бы свойственны всем областям знания, привело
его к необходимости развивать герменевтические исследования, к чему мы еще
вернемся.
10 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы. Цит. изд. С. 249.
17 Шпет Г. Г. Язык и смысл. Цит. изд. С. 559.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 177
Наконец, для Шпета была важна и роль контекста в
интерпретации знаков: знак (в том числе и знак вербальный) не может
существовать для него вне контекста, и наиболее очевидно Шпет
пишет об этом в «Эстетических фрагментах»18. Используя
терминологию Ф. де Соссюра, можно было бы сказать, что значимость
[valeur] языкового элемента определяется для Шпета не только его
местом в системе языка, но также в значительной степени и
специфической ситуацией речи. Таким образом, мы снова возвращаемся
к оппозиции «значение vs. смысл» (отражающей дихотомию «язык
vs. речь»), введенной Шпетом.
Второй аспект семиотического знания, на который мы обратим
здесь внимание, связан с пониманием семиотики как синтеза (или
диалога) наук. Что касается Марра, то к этому аспекту
исследований ученого приводит интерес к семантике. В работах Марра
можно выделить шесть семантических законов19. При этом либо
большинство из них могло быть так или иначе переформулировано для
применения и в других областях знания, либо же Марр пытался
«доказывать» эти законы, опираясь на факты, взятые не только из
лингвистики. Приведем хотя бы один пример20: доказательства для
своего «закона функционального переноса» (который еще и
сегодня упоминается в некоторых книгах по общей семиотике21) Марр
искал в археологии. Речь в «законе функционального переноса»
шла о переносе названия одного объекта на другой, играющий в
обществе на новом этапе его эволюции ту же роль, что и первый:
например, название «собака» было перенесено на лошадь, так как в
какой-то момент лошадь стала выполнять в обществе ту же функцию
транспортного средства, что и собака22, и т. д. В 1930—1940-е гг.
советские археологи часто писали о находках, которые, как им
казалось, подтверждали этот закон: когда, например, находили
останки лошадей, захороненных в масках собак (что и должно было
подтверждать перенос названия «собака» на лошадь), и т. д. Таким
образом, для Марра слово становилось важным инструментом в
18 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Цит. изд. С. 577; см. также: Шпет Г. Г. Язык
и смысл. Цит. изд. С. 577, 654 и т. д.
19 Подробнее об этом см.: Velmezova Ε. Les lois du sens: la sémantique marriste.
20 Анализ с этой точки зрения некоторых других семантических законов,
сформулированных Марром, представлен в статье: Вельмезова Е. В. Законы семантики vs.
законы семиотики в «новом учении о языке» Н. Я. Марра // Сборник докладов
участников конференции «Современная семиотика в приложении к гуманитарным
наукам» (М., 30 августа — 1 сентября 2007 г.), М., 2008.
21 См., например: Степанов Ю. С. Семиотика. М., 1971. С. 139.
22 Марр Н. Я. Цит. соч. Т. I. С. 240 и ел. Подробнее см.: Velmezova Ε. Les lois du sens:
la sémantique marriste. Op. cit. P. 237—248.
178
Раздел II
изучении отдаленных эпох в развитии человечества, таким же
надежным, как и объекты материальной культуры23.
Размышления, предполагавшие взаимообогащение различных
областей знания, не чужды были и Шпету24. В исследовании
«История как предмет логики» (1917) Шпет пишет следующее: «История
как наука знает только один источник познания — слово25. Слово
является формой, под которой историк находит содержание
действительности, подлежащее его научному ведению, и слово является
тем знаком, от которого историк приходит к своему предмету с его
специфическим содержанием, составляющим значение или смысл
этого знака. <...> История как наука имеет дело со словом как
знаком, который интересует историка прежде всего, и даже почти
исключительно, со стороны своего значения, т.е. со стороны того,
о нем слово сообщает. Оно сообщает историку о разного рода
социальных событиях, отношениях, состояниях, переменах и т. д.»26.
В целом интерес Шпета к понимаемой таким образом
семиотической проблематике в значительной степени объяснялся его
стремлением превратить историю в строгую, объективную науку27. И даже
если Шпет противопоставлял семиотику семантике в современном
смысле этих слов, можно в очередной раз подчеркнуть, что его
семиотические размышления были глубоко «семантичными»,
связанными с размышлениями о значении слова как единицы языка.
23 Конечно, и это положение не было новым в истории идей: достаточно
упомянуть в качестве хотя бы одного из примеров школу «Слов и вещей» [Wörter und
Sachen], представители которой устанавливали связи между «словами» и «вещами»
в истории развития человечества, и т. д. Позднее эта идея была развита в работах
B. И. Абаева (одного из самых известных учеников Марра), в его теории
идеологической семантики (Абаев В. И. Язык как идеология и язык как техника // Язык
и мышление. 1934. Т. II. С. 33—54; Абаев В. И. Понятие идеосемантики // Язык и
мышление. 1948. Т. XI. С. 13-28 и др.).
24 Подчеркнем здесь, что попытки обнаружить параллелизм между работами Шпета,
посвященными историческим проблемам, с одной стороны, и, с другой,
размышлениями других исследователей об особом характере исторического знания, уже
предпринимались. См., например: Стайнер П. Tropos logicos: философия истории
Густава Шпета // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 154—163.
25 Напомним, что слово для Шпета могло означать и язык (см. выше). — Прим. Е. В.
26 Шпет Г. Г. История как предмет логики // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. Цит. изд. С. 212-247; С. 227, 235.
27 См. также: Почепцов Г. Г. Цит. изд. С. 189. По мнению Т. Г. Щедриной,
подход Шпета к семиотическому анализу существенно отличался от более поздних
структурно-семиотических исследований, «не учитывавших в полной мере
проблему исторической динамики осуществления слова как знака». Щедрина Т. Г. Густав
Шпет: путь философа // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005.
C. 28—29; курсив мой. — Е. В.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 179
Что же позволяло исследователям 1920—1930-х гг. настаивать на
важности междисциплинарных связей, предвосхищая тем самым
будущие семиотические исследования? Чтобы ответить на этот
вопрос — по крайней мере в отношении марризма, — обратимся к
семантическому закону скрещения, сформулированному Марром.
Процесс скрещения, по Марру, предполагал «соединение двух
равнозначащих слов различных социальных группировок, впоследствии
племен, чтобы их сумма, при известности хотя бы одного из
слагаемых каждой стороны, была обоюдопонятна для обеих сторон,
вовлеченных в общение единством хозяйства и из него нарастающей
общественности»28. Получается, что, по Марру, языки развиваются
конвергентно, от исходного множества к единому языку будущего.
Сформулированный таким образом, закон скрещения находит
параллели и в советском биологическом дискурсе 1920—1930-х гг., прежде
всего в теории номогенеза Л. С. Берга29. Похожие схемы появлялись в
то время и в других областях знания30, и все соответствующие теории
имели по меньшей мере одну общую черту: у них не было прямых
доказательств — в позитивистском смысле этого слова. Однако одно
из косвенных доказательств состояло в возможности переноса
соответствующих эволюционистских моделей из одной области знания в
другую. В целом же отказ от оппозиции «материя — дух» имел важное
методологическое значение для исследователей в области
гуманитарных наук в 1920—1930-е гг. И тот факт, что в течение последних лет
жизни Марр постоянно находился в поиске универсальных законов,
которые были бы применимы как к естественным, так и к
гуманитарным наукам, позволяет считать его одним из предшественников
современной семиотики. Что же касается Шпета, то к необходимости
разработки герменевтики, «которую он считал основополагающим
методом исследования проблем гуманитарных наук»31, его приводило
«стремление <...> к формированию общих для всех наук (и
естественных, и гуманитарных) методологических принципов»32.
28 Марр Н. Я. Цит. соч. Т. II. С. 101; подробнее об этом см.: Velmezova Ε. Les lois du
sens: la sémantique marriste. Op. cit. P. 212—216.
29 См. БергЛ. С. Номогенез, или эволюция на основе закономерностей. СПб., 1922.
30 См. об этом, например: Velmezova Ε. О. M. Frejdenberg à la recherche d'une «science
intégrale» // Cahiers de l'ILSL. 2003. № 14. Ρ 265-280 ; Вельмезова Е. В. Михаил
Бахтин, Николай Марр и парадигма «целостной науки» // Proceedings of the XII
International Bakhtin Conference. M. Lähteenmäki, H. DufVa, S. Leppänen, P. Vans
(éds.). Juväskylä, Finland, 2006. С. 62—70; Velmezova Ε. Les lois du sens: la sémantique
marriste. Op. cit. Partie III.
31 Щедрина Г. Г. Густав Шпет: путь философа // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды. М., 2005. С. 21.
32 Там же.
180
Раздел II
В заключение еще раз подчеркнем: именно интерес Шпета и
Марра к изучению значений (смыслов) слов и приводил их в
значительной степени к семиотическому знанию — в современном
смысле этого слова. Но если работы Марра интересны сегодня
прежде всего намечающимся в них подходом к идее «синтеза наук», то
Шпет, которому идея междисциплинарного синтеза также была
близка, много писал и о знаках как таковых. Уже в этом смысле
теоретическое наследие Шпета кажется гораздо более богатым, чем
марристские теории.
Можно ли говорить о взаимовлиянии идей Шпета и Марра?
Скорее всего, нет. Насколько нам известно, ни Шпет, ни Марр в
своих работах друг на друга не ссылаются, но главное даже не в
отсутствии прямых ссылок. Марр и марризм в целом, с его
направленностью в «доисторию», не должны были особенно интересовать
Шпета. Что же касается Марра, отличавшегося необыкновенной
лингвистической (и научной вообще) «дальнозоркостью», он мог
не обращать внимания на многих исследователей своей эпохи:
часто, говоря о современной ему лингвистике, Марр ссылался на
работы, написанные во второй половине XIX в. И параллелизм, и
различие между семиотическими идеями/концепциями Шпета
и Марра определялись, кажется, самим контекстом эпохи 1920—
1930-х гг. «Полифоничный» характер этого времени не исключал и
наличия общего интеллектуального фона, характерного для
эволюции гуманитарных наук в Советском Союзе.
Г. Л. Тульчинский
Густав Шпет и новые перспективы
гуманитарной парадигмы
(Текст как интонированное бытие, или Инорациональность семиотики)
В данном тексте я опираюсь на корпус текстов Г. Шпета, известные
мне работы исследователей шпетовского наследия, прежде всего —
М. К. Гидини1, В. П. Зинченко2, а также ряд своих предыдущих
публикаций3.
Динамика гуманитарной методологии и Шпет
В наши дни стали очевидными две главные тенденции
динамики гуманитарной методологии последних двух столетий.
Во-первых, от натуралистическо-позитивистской
доминанты к феноменологии и далее — через герменевтику,
экзистенциализм, фрейдизм и постструктурализм — к
вызреванию персонологической и постперсонологической доминанты. Эта
тенденция развивалась, во-вторых, на фоне глубокого и
длительного смещения акцентов осмысления действительности: от установки
на постижение истинно сущего (онтология и теория познания) к
установке на рациональное преобразование сущего в соответствии
с познанными законами его развития и далее — к потенцированию
реальности, выявлению новых ее возможностей. Иначе говоря,
выражаясь в модальных терминах, от сущего к должному и далее — к
возможному.
Суть этой динамики вытекает из самого содержания
гуманитарного знания, в котором можно выделить несколько уровней: (1) внеш-
1 Гидини Λ/. К. Слово и реальность. К вопросу о реконструкции философии языка
Густава Шпета // Г. Шпет / Comprehension. Вторые Шпетовские чтения. Томск, 1997.
2 Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета. (Возвращение из изгнания). М.,
2000.
3 См, например: Тульчинский Г. Л. Постчеловеческая персонология. Новые
перспективы свободы и рациональности. СПб., 2002.
182
Раздел II
ний его уровень (слой) — «социальный» — связан с рассмотрением
условий (от кормящего ландшафта и экономики до политического
менеджмента и права) существования и развития специфических
способов жизни конкретного общества, фактически — инфраструктуры
конкретных культур; (2) «культурологический» — рассмотрение
конкретных культур и субкультур как систем порождения, сохранения и
трансляции социального опыта, как инфраструктур, обеспечивающих
формирование и развитие определенных типов личности; (3)
«антропологический» — условия существования человека как такового,
сохранения психосоматической целостности; (4) «персонологиче-
ский» — выявление форм, условий и гарантий формирования,
развития и сосуществования личностей, носителей различных идентично-
стей — как инфраструктур свободы и ответственности; (5) «духовный»
уровень свободы как добытийного и внебытийного условия бытия, его
реализации. При этом важно, что уровни (1)—(4) не являются
самодостаточными. Системообразующий фактор, суть, ядро гуманитарное™
образует свобода — бытие в возможности (дюнамис Аристотеля). Если
она и небытие, «дыра в бытии» (Ж.-П. Сартр), то подобна согласно
даосской метафоре дырке в ступице колеса, без которой невозможно
вращение колеса. Свобода — источник творения новой реальности,
откровения новых миров. Единственным пока носителем свободы
является человек — существо, наделенное способностью к трансценди-
рованию в иное. Проявлением этой способности и является сознание,
разум — все то, что обычно связывается с интеллектуальной,
духовной деятельностью. Носителем свободы и духовного опыта сознания
является не просто человек, а личность, границы которой (временные
и пространственные) определяются и задаются именно границами
свободы как ответственности, т. е. вменяемости. Психосоматической
основой личности до сих пор преимущественно является человек как
представитель определенного биологического вида.
Ограничение одним или только несколькими другими
уровнями, без рассмотрения условий и гарантий реализации свободы,
не только несостоятельно, но и опасно: экономикоцентризмом в
ущерб культуре; кулыуроцентризмом, чреватым национализмом
и шовинизмом; лозунгом «Все во имя человека, все для блага
человека!», оправдывающим самые страшные и кровавые злодеяния;
индивидуализмом. За человеком — существом, в общем-то,
амбивалентным, — надо видеть главное, носителем чего он довольно
часто выступает, — свободу. Покушение на свободу всегда так или
иначе оказывается покушением на бытие, ничтожит его.
Серьезной заслугой постмодернизма является демонстрация
несостоятельности и тупика культуроцентризма, раскулыуривание совре-
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 183
менной культуры, перенасыщенной культурой, в которой сама
культура становится предметом игрового манипулирования. В тупик ведет
и самоценность человека. Современные телесные практики в науке,
медицине, искусстве, игра с телом в обыденном опыте открывают
несущественность антропоморфности, человеческого. Можно сказать,
что современная культура расчеловечивает, открывая важность
постчеловечности, позволяя за тремя соснами увидеть лес и путь в нем.
Любопытные процессы произошли и происходят в мировой
правовой культуре и практике. Если еще в начале XX столетия право
было озабочено соблюдением неких норм социальной жизни в
экономической, политической сферах преимущественно, то во второй
половине столетия вопросами правовой экспертизы стали
нарушения прав национально-этнического плана (оценка Холокоста
Нюрнбергским процессом, переоценка армянского геноцида, создание
Гаагского трибунала по преступлениям в бывшей Югославии, а затем
и трибунала по преступлениям, совершенным во время гражданской
войны в Руанде). Суть этой динамики в том, что неотъемлемые права
человека приобретают наднациональную юридическую значимость.
Речь идет именно о, похоже, необратимой динамике. От
экономики, политики право в мировом масштабе шагнуло в обеспечение
гарантий национально-этнической культуры. Однако, похоже,
назревает следующий шаг — к сердцевине гуманитарное™. Речь идет
отнюдь не только о гарантиях свободы вероисповедания и прочей
культурной идентичности. Это гарантии предыдущих уровней. Речь идет
о свободе доличностного уровня. Яркий пример — проблемы
использования генной инженерии, клонирования, переоценки абортов. Все
они связаны с правовой защитой еще не сформированной личности,
некоей возможности личности. Поскольку право, закон —
формализованная часть нормативно-ценностного содержания культуры,
нравственности, фиксирующая в «сухом остатке» закрепляемые
нормы социальной жизни, то общая динамика гуманитарной культуры
за последнюю сотню лет становится тем более очевидной.
Настала пора четкого различения понятий гуманизма и
гуманитарное™, включая в последнюю и постчеловеческую пер-
сонологию. Гуманизму, похоже, место рядом с экономизмом и
национализмом — формами ограниченной гуманитарное™. Гума-
нитарность же предстает персонологией свободного духа.
Перспектива — постчеловеческая персонология. И если гуманитаристика —
наука, то это Geistwissenschaften. В буквальном смысле.
При этом важно, что проявления духовного универсальны и
едины — в силу своей постчеловечности. В этой перспективе
несколько неожиданно открывается возможность гуманитарных наук.
184
Раздел II
Условием science является единство природы, дающее основание
универсальности открываемых научных законов. Возможность
гуманитарного знания основана на единстве и универсальности духа.
Другой разговор, что единый и универсальный дух проявляется
через конкретную личность, занимающую конкретную и уникальную
позицию в мире. Но, впрочем, и в science единый и целостный мир
открывается в каких-то приближениях, с каких-то позиций
исследования, экспериментирования, средств наблюдения, измерения и т. д.
Постижение человеком мира — попытки конечного существа
понять бесконечное. Поэтому оно всегда герменевтично, всегда
интерпретация, всегда осуществляется с какой-то позиции, точки
зрения. Гуманитарность неизбывна с точки зрения личностной,
базовых ценностей какой-то культуры или субкультуры и т. д.
Поэтому тем более оказывается важным согласование (гармонизация,
оптимизация) различных позиций и критериев. А это, в свою
очередь, возможно только при условии признания абсолютного и вне-
бытийного критерия — свободы и условий ее реализации.
Эту динамику прекрасно чувствовал, выражал, предвидел Шпет.
Показательна сама эволюция его взглядов. От гуссерлианства к
герменевтическим (включая этнопсихологию) факторам смысло-
образования и осмысления (уразумения), при особой роли
личностного самосознания — главного источника, средства и
результата осмысления. На мой взгляд, интересно было бы сопоставить путь
Шпета с эволюцией Хайдеггера: от феноменологии к философии
человеческого бытия (Dasein) и способам его выражения в языке
(«язык — дом бытия»). Но Хайдеггер остановился перед этим, тогда
как Шпет раскрыл основные механизмы построения этого «дома».
«Глубокая» семиотика
В последнее время нередки суждения о «кризисе» семиотики
(семиологии). Например, И. П. Смирнов говорит об утрате ею
человеческого измерения, скатывании в физикализм, естественно-научный
подход4. Это, может быть, и справедливо, если ограничиваться
двумя традициями теории знаков: семиотикой, восходящей к алгебре
отношений Ч. С. Пирса и американскому прагматизму, и
семиологией, восходящей к Ф. де Соссюру и французскому структурализму.
4 Смирнов И. П. Самозванство, или Ролевая революция // Место печати. Журнал
интерпретационного искусства. № 13. М., 2001. С. 33—58.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 185
Существует, однако, еще одна традиция, восходящая к
В. фон Гумбольдту, В. Вундту, К. Фосслеру, А. Марти, которая
активно разрабатывалась Шпетом, М. Бахтиным, В. Налимовым,
которая оказала влияние на Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, их
последователей. Эта традиция ранее мною была названа «глубокой
семиотикой» (deep semiotics), поскольку она дополняет
семантическое, синтаксическое и прагматическое рассмотрение знаков еще
одним измерением — персонологическим, включающим сознание
личности как источник, процесс и результат смыслообразования.
Исходным является различение в любом элементе культуры,
рассматриваемом как знак, двух сторон: означаемого, т. е. содержания
той деятельности, того опыта, с которым связан и к которому
отсылает данный знак, и означающего — собственно материальной
формы знака, с помощью которой он выполняет свою знаковую
функцию. В структуре означаемого, в свою очередь, можно вычленить два
основных компонента: во-первых, социальное значение и, во-вторых,
личностный смысл, значение этого социального значения для
конкретной личности. Люди общаются ради смыслов. Но возможно это
только при двух условиях: наличии материальной формы знака и
инварианта социального осмысления — социального значения.
В социальном значении можно вычленить также два аспекта:
предметное значение — предметное содержание опыта, и
функциональное социальное значение — собственно содержание
социальной деятельности. В принципе, различение предметного и
функционального социального значения соответствует различению объема
и содержания понятия — эти логические характеристики являются
точным концептуальным выражением данного различения.
В личностном смысле также можно вычленить два аспекта:
оценочное отношение личности к данному значению и переживание
этого отношения, непосредственный опыт ощущений и восприятий.
В представленной модели прохождение описанного выше ряда
сверху вниз демонстрирует процесс усвоения социального опыта,
его субъективацию (распредмечивание, понимание). Прохождение
же этого ряда снизу вверх — объективацию (опредмечивание,
воплощение) опыта. Компоненты смысловой структуры предстают также
уровнями осмысления: идентификацией, референцией,
интерпретацией, оценкой и эмпатией (сопереживанием, вчувствованием).
Шпет настаивал на различении понимания как остановки,
схватывания готовых смыслов в «плоских» рассудочных формах, и
уразумения как процесса осмысления в живых понятиях,
направленного вглубь, на выявление и воссоздание разумного содержания
бытия.
186
Раздел II
Внутренняя форма как идея воплощения разумного замысла
Уразумение, согласно Шпету, — это усилие, работа постижения
разумного замысла и его воплощения. Бытие предстает не просто
как данность (Dasein), а как текст, воплощенная игра сил и
замыслов, как интонированная и мотивированная реальность, как
постоянное движение живых смыслов.
Знак, текст, язык, понимаемые Шпетом как «слово», связаны не
только и не столько с коммуникацией (трансляцией готовых
смыслов), сколько с процессом образования смысла. Слово у Шпета
предстает буквально логосом во всей его многозначности — от
античности до Евангелия от Иоанна: законом, правилом, разумом. Любой
предмет предстает как знак, используемый в том особом духовном
бытии, каковым является культура. Вещи не автономны и
«абсолютно натуральны». Они всегда даны в контексте их использования. Они
не обозначаются словом, не под-разумеваются, а постигаются
разумом — разумеются. Это означает постичь и выразить жизнь вещи,
единство и многообразие ее отношений («все есть отношение» —
Г. Ж), выражаемых, оформляемых в определенных структурах.
В этом плане особую роль играет учение Шпета о внутренней
форме слова. Она предстает у Шпета как собственно предмет — сущность,
идея воплощения разумного замысла, как метод его реализации.
Показательно сравнить эти представления со «скрытым схематизмом»
вещей Ф. Бэкона, «сделанностью» вещи В. Шкловского. В обыденном
сознании этот синтез синкретичен — мы (особенно дети) постигаем
мир в определенных идеях. В научном сознании этот синкретизм
разводится на описания, оценки и алгоритмы реализации.
Согласно систематизации М. К. Гидини5, для шпетовской
модели внутренней формы характерны:
(i) Индивидность, а не общность. В своем курсе логики Шпет
говорил об индивидных понятиях как общих не в силу
единичности (и тем — исчерпанности) их объема, а в силу историчности
любого индивида (например, Цезарь до Рубикона и после). Но таковы
все исторические понятия — они выражают последовательность
существований, способов образования, программ порождения.
В этом плане полноты индукции нет и быть не может. История (в
отличие от естествознания) развивается за счет все большей
индивидуализации, а не обобщения.
5 Гидини М. К. Слово и реальность. К вопросу о реконструкции философии языка
Густава Шпета // Г. Шпет / Comprehension. Вторые Шпетовские чтения. Томск,
1997.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 187
(ii) Целостность. Она выражает отношение не рода и вида,
элемента и множества, а части и целого. Каждая часть внутренней формы
соотносится с целым. Само по себе слово смыслом не обладает — полнота
целостности смысла обусловлена целостностью конкретной культуры.
(Ш) Более того, она — органичное целое, «живое понятие».
Сами формы живут, растут, осуществляются. Бытие с этой точки
зрения — sui generis идей, а не бытие вещей. Внутренние формы и
есть предметность бытия.
(iv) Динамичность: внутренняя форма — процесс воплощения,
осуществления, созидания этой предметности.
В этом плане герменевтика у Шпета предстает эффективным
инструментом познания, пригодным для адекватного постижения
объективной предметности, достаточно прочным основанием философии
как науки. Это представляется особенно важным сейчас, на фоне
постмодернистского ослабления претензии гуманитарных наук на истину.
Более того, такой подход открывает недостаточность идеи
рациональности, восходящей к античной идее «техне» — искусного
искусственного преобразования реальности. Она дополняется идеей
рациональности, восходящей к античному «космос» — разумной
гармоничной целостности мира. Причем «техничная»
рациональность не противостоит «космичной», а предстает путем, средством
ее постижения. Дао-истина открывается как Дао-путь в
гармоничной целостности и ответственности за эту гармонию. В этой связи
становится ясным переходный, промежуточный характер
постмодернизма и деконструктивизма, остановившихся перед
индивидуальностью и холистичностью смысловых структур, довольно остро
выразивших шок от их текучести. Необходим следующий шаг —
как реализация индивидуальности, полноты и целостности,
органичности, процессуальной динамики смысловых структур. Это шаг
в духе «глубокой семиотики», и его делает Шпет.
«Лента Мёбиуса» бытия, или
Иррациональность свободы и ответственности
Как пишет М. К. Гидини, необходимо допущение чего-то, некоего
«избытка», который не просто «меон», а то, что стимулирует
постоянную динамику, превращение, движение, самовыявление
смыслов6. Речь идет о некоем потенциале, который можно выразить и
6 Гидини М. К. Слово и реальность. К вопросу о реконструкции философии языка
Густава Шпета // Г. Шпет / Comprehension. Вторые Шпетовские чтения. Томск, 1997.
188
Раздел II
который, следовательно, уже в каком-то смысле существует. В духе
отмеченной выше динамики гуманитарной парадигмы можно
сказать — то, что потенцирует, «овозможнивает» бытие, приводит его
в движение. Другими словами, речь о свободе и ее носителе,
«чувствилище» — сознании личности.
У Шпета личность — «не голая биологическая особь или
психофизиологическая индивидуальность, а социальный феномен,
фокус сосредоточения социально-культурных влияний,
конденсатор социальной и культурной энергии... Гомер, Данте, Шекспир,
Пушкин». Поэтому уразумение — не просто метод (герменевтика),
определенная техника. Реализация уразумения требует занятия
позиции. Повторяюсь, но это важно — смысл порождается
попытками конечного существа постичь бесконечное. Поэтому осмысление
и смыслообразование всегда осуществляются с какой-то
позиции — «в каком-то смысле».
Это не субъективность просто, а субъективность=объективность,
как отношение к объективному значению. И само это отношение
объективно — как часть социально-культурного процесса. А
поскольку «все есть отношение», то необходима точка, позиция
раскрытия отношений, сама включенная в эти отношения. Речь идет
о необходимости «точки сборки» целостного универсума. Такой
точкой сборки и выступает сознание личности — условие
формирования, выращивания смысловых структур, или, как говорил
В. В. Налимов, «распаковки смыслов»7 бесконечного универсума.
Как недавно написала Ю. Грязнова, человек — «пустой оператор»
порождения смыслов8.
Личность у Шпета — уникальность в контексте соборности,
«держания собора»9 с другими, нечто сродни «многодушию»
человека, описанному в «Степном волке» Г. Гессе. Сознание предстает
системой внутренних форм, а бытие — как со-бытие (М. Бахтин).
Личность, сознание — не статичная структура, а всегда процесс,
действие, поступок. Только уникальное глобально! Поэтому
поступок — суть процесс раскрытия полноты и целостности связей и
7 См.: Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и
смысловая архитектоника личности. М., 1989. Налимов В. В. Разбрасываю мысли.
8 пути и на перепутье. М., 2000.
8 Грязнова Ю. Б. Называя вещи своими именами (о «человеке» в СМД-мето-
дологии) // Человек.ш. Гуманитарный альманах. № 3. 2007. Антропология в России:
школы, концепции, люди. Новосибирск, 2007. С. 95—104.
9 Шпет Г. Г. Сознание и его собственник // Георгию Ивановичу Челпанову от
участников его семинариев в Киеве и Москве 1981 —1916 г. Статьи по философии
и психологии. М., 1916.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 189
отношений бытия — сопричастность этой целостности («участное
мышление» М. Бахтина). И — ответственность за реализацию
этого целого. Отсутствие позиции, отказ от нее — тоже позиция. У
человека нет алиби в бытии. Его вина абсолютна, заслуги —
относительны.
Разум, сознание вторичны по отношению к изначальной
ответственности, «не-алиби-в-бытии». Они суть мера и путь постижения
ответственности как укорененности в бытии. Расширение круга
знаний раскрывает все большие горизонты и глубины причинно-
следственных связей. Поэтому «техничная» рациональность —
средство и метод раскрытия рациональности «космичной». Истина
всегда откровенна и свободна. Мир всегда открывается человеку —
ученому, художнику, пророку — в некоей гармоничной
целостности связи причин и следствий. Мир открылся мне, моей заслуги в
этом нет, но он открылся мне, и я отвечаю за него.
У Шпета форма есть содержание, субъективное есть
объективное, внутреннее есть внешнее, интериоризация есть экстериори-
зация. «Внутреннее» — открытие в себе целостности мира.
«Внешнее» — реализация «внутреннего» в поступке. Их единство и есть
«органопроекция» (П. А. Флоренский)10.
Ситуация напоминает ленту Мёбиуса. В бытии внутреннее суть
внешнее и наоборот, а точка соединения ленты Мёбиуса бытия —
самосознание вменяемого (т. е. обладающего рациональной
мотивацией и ответственного) субъекта.
В этом плане, развивая одну из мыслей А. Кожева, можно
говорить о двух типах сознания (и личности). Во-первых, сознание,
остающееся только в этом мире, конформистское сознание, в духе
чеховской «Душечки», репродуцирующее определенную культуру.
Во-вторых, сознание, способное к выходу в иное, к трансценди-
рованию, к творчеству. При этом трансцендентное открывается не
как иномирное, а как иномерное, не как репродуцирование, а как
овозможнивание, потенцирование бытия.
Однако источник этого выхода — «вы-ращивание» (В. П. Зин-
ченко) смысла — суть вывернутая лента Мёбиуса культуры, «чужой
во мне»11. Факты упорно показывают, что вне культуры сознание не
возникает. Как писал В. фон Гумбольдт, культура есть место
возникновения и развития разума.
10 Флоренский П. А. Органопроекция //Декоративное искусство. 1969. № 12 (145).
С. 39-42.
11 Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета. (Возвращение из изгнания). М.,
2000.
190
Раздел II
Более того, если личность — позиция, площадка, «пустой
оператор», то откуда сама позиция, самосознание как точка сборки
свободы? Первична ответственность, которой нас «грузят» другие,
вырывая из причинно-следственных связей и замыкая эти связи на
нас самих. Это не само произошло, а именно я это сделал — сам.
Мог сделать или не сделать — сделал. Я оказался сам причиной
происшедшего. Это путь воспитания, это путь формирования
сознания и личности. Путь поступков и разъяснения их мотивации —
близкими, другими экспертами, самой личностью.
Самосознание Я — следствие ответственности, оно всегда после
поступков, не просто «социализации», а когда я овнешняю своих
чужих. Только тогда и возникает сознание, самосознание,
мотивация — не причина, а принятое объяснение поведения.
Самосознание суть дифференциация, интеграция, прорастание внутренних
форм культуры — собирание себя.
Свобода — инорациональность ответственности в гармоничном
целом мира. Источник всего разнообразия современного
единого мира (единого в своем разнообразии и разнообразного в своем
единстве) коренится в сердце души каждой уникальной личности.
И в этих глубинах бытия нет зла.
Ergo
В заключение несколько следствий и перспектив:
• Смысл есть предмет в его разумной мотивации,
потенциальной готовности быть.
• Объективный мир — вне и независимо от человека, но
существует он как со-бытие, как предметы в их разумной
мотивации, как система индивидов.
• Всякое познание суть осмысление — уразумение мотивации
воплощения, онтофании свободы.
• Познаваемы, таким образом, только личности и только
личностями. В этом плане Шпет принципиальный и глубокий
персонолог.
• Личность не статичная структура, а процесс и призвание.
Можно деградировать, а можно развиваться. И это выбор
личности и ее ответственность.
• Главное, центр личности — не ее явленная и фиксированная
идентичность, а «человек без свойств», способность
потенцирования — еще не явленная и не подлежащая
предсказанию.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 191
• В этом плане «распаковка смыслов» происходит спонтанно,
а «точка сборки» Я — поздняя рационализация.
• Взгляды и идеи Шпета оказываются чрезвычайно близкими
взглядам и идеям Бахтина12, Налимова13, не только
дополняющими, но и фундирующими их.
На этой основе, как представляется, открываются новые
перспективы семиотики, теории личности, сознания, антропологии,
такие, например, как преодоление платонизма (эссенциализма)
и номинализма в понимании личности и сознания, понимание
личностной индивидуализации как проекта. Задача современного
гуманитария не говорить о бытии — какое оно само по себе, и не
писать программы его преобразования, а раскрывать возможности
его потенцирования. В наше время, как говорил С. Билоу, главная
задача не борьба за свободу, а как пережить эту свободу, как жить с
нею дальше.
12 Бахтин M. M. К философии поступка // Философия и социология техники.
Ежегодник. 1984-1985. М., 1986.
13 См.: Налимов В. В. Спонтанность сознания: Вероятностная теория смыслов и
смысловая архитектоника личности. М., 1989. Налимов В. В. Разбрасываю мысли.
В пути и на перепутье. М., 2000.
Д. Иоффе
Густав Шпет, религия и проблема Знака:
имяславие vs. феноменология и семиология
(к первичной постановке вопроса)
Цель этой работы — интерпретация философских
воззрений Густава Шпета на природу слова и выявление связи
или оппозиции между шпетовской методологической
позицией и современной ему активной деятельностью
русских религиозных философов языка (П. А. Флоренский,
С. Н. Булгаков, А. Ф. Лосев)1. Я буду в основном опираться на
опубликованную в 1927 г. работу ученого «Внутренняя форма слова».
В соответствии с основными положениями своей философской
программы три видных русских религиозных философа-имяславца:
Булгаков, Флоренский, Лосев — выстраивали общие концепции
полагаемой ими теории языка и слова в теснейшем взаимодействии со
своими религиозными предрасположениями и предпочтениями.
Общественная дискуссия, связанная с имяславскими спорами,
проходившая в годы, непосредственно предшествующие русской
революции, оказала относительно «долгосрочное» и протяженное влияние
на многих русских религиозных деятелей и философов той поры.
Центральной доминантой лингвистической философии
указанных авторов было, несомненно, византийское исихастское наследие,
1 В целях экономии места здесь не приводится вся необходимая библиография
вопроса, в солидарность с высказыванием академика Шахматова, дошедшим до нас через
Романа Якобсона и Вяч. Be. Иванова, о том, что сноски надо давать либо все, либо
ни одной. Я адресую читателя к двум пространным недавним работам автора этих
строк (в совокупности их печатный объем превышает полторы сотни страниц), где
заинтересованный читатель сможет ознакомиться с десятками соответствующих
исследовательских работ, относящихся к библиографии освещаемой нами здесь тематики.
См.: Иоффе Д. Русская религиозная критика языка, семиотика и проблема имяславия
// Критика и семиотика (Novosibirsk State University and Moscow University for the
Humanities 'RGGU', Higher Education Support Program, Open Society Institute, Budapest).
\Ы. 11. 2007. P. 123—175; Иоффе Д. Пассивное противостояние диамату. Имяславие и
критическое неогумбольдтианство // Special Journal Issue (triple) of Russian Literature.
Ed. E. Dobrenko, D. Ioffe. Elsevier Science BV, Amsterdam, \Ы. LXIII. 2008.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 193
преломившееся в непростых судьбах русского имяславия,
зародившегося, как известно, на Афоне, в кельях православных монахов-
молчальников. Именно имяславская проблематика формировала
основные линии дискурсивной «обороны» и «наступления»,
формировала сам пафос проповеди, и по сию пору исходящий со
страниц «имя-центрических» писаний этих русских мыслителей.
Имяславие, его внутреннее послание, его по-новому
понимаемое Откровение было непосредственной причиной постройки
всего философского базиса у этих авторов, нового осмысления теории
«слов» и «имен» в связи с явлениями и предметами, этими
словами обозначаемыми. Скрытая полемика с тогда еще не полностью
оформившимся семиологическим учением де Соссюра проходила
у Булгакова, Флоренского и Лосева также под непосредственным
впечатлением от свежей имяславской истории.
Отождествляя знак «слова» и обозначаемую им «предметность
вещи», стирая сущностную границу между ними, русские филосо-
фы-имяславцы бросали, как кажется, скрытый вызов и
позитивистской лингвистике как таковой, и в тот момент еще не
обустроенной науке семиотике как ее самому передовому флагману. Труды
этих русских религиозных философов языка в скрытом виде
показывают, что последовательному семиологу, логичным образом
настаивающему на всеобъемлющей произвольности знака, на
основополагающем нетождестве знака и обозначаемого им предмета,
на неслитности означающего и означаемого, необходимо будет
также заявлять о себе в том числе как о жестком атеисте-безбожнике.
В соответствии с соссюровской семиотикой имя «Иисус»
может быть понято как совершенно случайное, ничем не
предопределенное именное обозначение какой-то нечеткой исторической
фикции. В соответствии с такой семиотической позицией этот же
человеческий субъект, казненный по приказу иудейского
прокуратора Понтия Пилата, мог совершенно свободно быть назван и
«неИисус». У Христа, если исходить из раннесемиотического догмата
произвольности имени (слова, знака и т. п.), могло быть бессчетное
количество совершенно иных имен, и при этом ничего в самой
сущности самого данного объекта (т. е. Иисуса Христа) не
изменилось бы. Иисуса ведь, таким образом, вполне законно могли бы
называть совершенно иным именем.
Если идти до конца в полагании тотальной произвольности
отношений знака и вещи, то имя Христа — лишь условная и как бы
сущностно-бессмысленная, легко изменяемая конвенция. С другой
стороны, исследователям, не связанным догматом Соссюра, будет
совершенно очевидно, что «Имя Иисус» несет в себе, даже помимо
194
Раздел II
энергийности, очень важное конкретно-семантическое языковое
поле-значение, говорящее, в частности, о «Спасении» (ивритское
«йешуа»). Тогда как, скажем, одно из ТАНАХически
табелированных имен Его Отца — это Иегова, т. е. «пре-сущий», «всегда
бывший». Явно видно, что исключить все эти имена, дав взамен какие-
то совершенно другие, никак нельзя. Ибо религиозная система в
таком случае попросту прекратит работать. Казус «Имени Божие-
го» русские философы-имяславцы мудро описали как
потенциальную, на наш взгляд, космологическую «черную дыру» будущей
науки семиотики, ввиду того, что религиозно-нейтральная семиология
не очень приспособлена, скажем, к изучению наследия Псевдо-
Дионисия Ареопагита, не способна дать адекватно-строгий анализ
вопросу существования и ритуального функционирования Имени
Божиего.
В контрасте со всем этим, на наш взгляд, выступает философия
языка Густава Шпета, разумно уклонившегося, кстати, от какого
бы то ни было рационально-научного объяснения генезиса и
функции Имени Бога.
Соответственно, вполне логично, что некоторые
исследователи отмечают известное родство Шпета и мировой семиотики.
Отмечают, например, некоторый мировоззренческий «параллелизм»
со, скажем, Романом Якобсоном. Густав Шпет, по моему мнению,
выступает в сфере философского и научного «непересечения» с
религиозными философами русского имяславия. На мой взгляд,
Густав Шпет, еще со времен своего гёттингенского университетского
ученичества у Гуссерля, тяготеет к европейскому сциентистскому
феноменологическому миру, довольно далекому от судеб русской
религиозной философии.
Шпет «пришел» к Гуссерлю через посредство определенного
отрицания Канта и некоторого «разборчивого» интереса к Гегелю
(чью монументальную «Феноменологию духа» он перевел
незадолго до своей смерти)2. Встречающиеся порою ссылки на тексты
Гуссерля, которые также обнаруживаются в работах, например, Лосева
2 Необходимо также отметить некоторую близость шпетовской феноменологии
языка по отношению к «Вюрцбургской школе», и в особенности к ее главной
фигуре — выдающемуся немецко-австрийскому психологу и лингвисту Карлу Бю-
леру (человеку одного жизненного поколения со Шпетом). В этой связи особенно
интересной в контексте имяславия и все того же Шпета может оказаться третья
глава фундаментальной книги Бюлера «Теории языка» — «Поле символов языка
и назывные слова». См.: Бюлер К. Теории языка. М., 2001. С. 136 и ел. Интересны
некоторые высказывания этого немецкого ученого, говорящие о невозможности
существования человеческого сознания, о невозможности самой мысли без ее
конкретного знакового обозначения.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 195
или Флоренского, никак не уменьшают главной и
принципиальной (доктринально-конфессиональной и теологической)
общефилософской, идеологической пропасти, которая, как мне кажется,
разделяет Гуссерля и, скажем, его русского ученика Шпета, с одной
стороны, и священников Флоренского и Булгакова — с другой.
О важных различиях в философских предпочтениях Шпета и
Флоренского есть сегодня также и специальные
исследовательские работы. В соответствии с этим довольно трудно полагать
какую-либо специальную концептуальную близость работы
Шпета и русских религиозных философов, в частности Флоренского,
его скрытого ученика Алексея Лосева или лосевского частичного
«вдохновителя» — Владимира Соловьева.
Важно отметить и концептуальное расхождение Шпета с По-
тебней, выражающееся, как это четко подметили в своем недавнем
монументальном труде, презентовавшем собрание работ
Бориса Ярхо, М. И. Шапир и его соратники, в «антипсихологическом»
подходе Шпета — в противовес концепции «внутренней формы
слова», основывающейся на зримости «образа», которую с Потеб-
ней разделял и О. Вальцель. Кажется, что разница между
упоминавшейся нами троицей русских имяславцев и Шпетом предельно
проста, ясна и не допускает разномыслия: все три поименованных
мыслителя были не просто людьми глубоко религиозными, но и с
чисто формальной стороны были священнослужителями:
протоиерей Сергий, священник Павел и монах Андроник (Лосев)
православного клира.
Шпет же, как известно, не только не был
священнослужителем, но и ни в коей мере не был также и религиозным философом.
Вот что пишет в этом отношении о Шпете известный
эмигрантский историк русской философии протоиерей Василий Зеньков-
ский, в целом довольно негативно относящийся к Шпету и его
работам: «...Шпету чужда теистическая интерпретация Абсолютного
как личного Бога. <...> ...и самая категория "Абсолюта" заранее им
отвергается из-за противопоставления "эмпирии" "вещам в себе".
У всех, кто признает "потустороннее бытие", Шпет находит
искание "не истины", а тех переживаний и чувств, которые связаны с
воображаемой потусторонностью, сверхразумностью и
сверхобычностью».
Шпет, будучи уважаемым и вполне признанным среди коллег
секулярным академическим автором, следует заметить, вообще не
так уж часто говорит о религии, даже там, где, казалось бы,
стоило о том по-настоящему поговорить, — например, в его огромном
диссертационном томе, посвященном философии мировой исто-
196
Раздел II
рии, непредставимой без теистических воззрений человечества.
Между русскими философами-имяславцами и Шпетом пролегает,
по моему глубокому убеждению, идеологическая и
конфессиональная пропасть, через которую довольно сложно будет перекинуть
смысловой мост в виде общего интереса, скажем, к творчеству По-
тебни или к творчеству Владимира Соловьева.
Как кажется, отличаются от имяславских философов
представления Шпета на природу символа и на природу слова. Признавая,
что слово — это своего рода «принцип и архетип культуры», Шпет
тем не менее, как можно предположить, не был полностью готов
разделить основные религиозные представления, скажем,
Флоренского на природу символа как бытия, превосходящего себя самое,
или Лосева с его идеями о «вещной» природе слова.
Совсем не удивительно в соответствии с этим, что Шпет
оказывается гораздо более заинтересован в науке о знаке и в осмыслении
природы знака как такового. Именно у Шпета, чуть ли не у
первого представителя русской науки XX в., в работе «История как
проблема логики» встречается и само слово «семиотика», отражавшее
интерес автора к онтологическому осмыслению вопроса знака в
самом общем контексте. У Шпета же, находящегося в авангарде
научного процесса того времени, в «Эстетических фрагментах»,
созданных в первой половине 1920-х гг., также встречаются и чуть ли
не самые ранние оперирования термином «структурность» в
анализе тех или иных культурных образований. Соответственно, можно
назвать Шпета пионером изучения культурного структурализма.
Видя в Шпете разработчика своеначального (во многом
альтернативного Потебне) «русского неогумбольдтианства», было бы
полезным обратиться к его знаменитой и влиятельной книге 1927
года «Внутренняя форма слова», посвященной ровно тому же, что
и книги Лосева и Булгакова, — философскому рассмотрению
общей природы и морфологии слова. Вопрос влияния Гумбольдта на
Шпета создает примечательный обманчивый казус, тогда как более
внимательные и проницательные читатели смогут довольно
быстро заметить, что Шпет отнюдь не идентичен, не смыкается и не
полностью сходен с анализируемым и осмысляемым им немецким
автором. Густав Шпет идет в большинстве вопросов как бы своим
собственным, автохтонным путем, уточняя, полемизируя и
всячески «открывая заново» основные, уже давно в науке известные, как
бы «хрестоматийные» положения штудий самого, им при всем при
том явно почитаемого, Гумбольдта.
Заметим также, что современное понимание «внутренней
формы слова» предполагает осмысление изначального, исходно-
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 197
этимологического и семантического процесса, напрямую
ответственного за возникновение всякого слова. В соответствии с этим
«внутреннюю форму слова» можно представить как
конденсированное изображение общего, основного «понятийного субстрата»
(или доминантного «концепта») этого слова. У нас здесь нет
возможности углубляться в освещение понятия «внутренняя форма»
(языка или слова) в историко-языковедческой перспективе.
Отметим, что для Шпета изначальное понятие «внутренней формы»
Нового времени берет свое начало у Гёте.
Шпет делает очень важную ремарку: «Подобно тому, как для
Гегеля "все сводилось" к тому, чтобы истинное понимать не как
субстанцию только, но в такой же мере и как субъект, для Гумбольдта
было величайшим откровением, что язык есть энергейа»2. Далее
Шпет поясняет вопрос о терминологических источниках
понятийного оперирования с «энергейей» (важнейшим концептом,
могущим быть релевантным и для русских ученых-имяславцев, на свой
манер говорящих об энергийносты, т. е. в противоположность
статичному и материальному «эргону» (слова и имени): «Весьма
возможно, что самый термин "энергейа" заимствован Гумбольдтом
у Гарриса — непосредственно или через Гердера». Шпет поясняет:
«Имею в виду: Harris J. Discourse on Music, painting and Poetry (1744,
были немецкие переводы 1756, 1780)»4.
Шпет пишет, что «язык есть как социальная вещь, есть как
психофизический процесс, но есть также и как идея. Язык можно
рассматривать не только как субстанцию, но и как субъект, не только
как вещь, как продукт, произведение, но и как производство, как
энергию»5. Этот «энергетический момент» крайне важен для нас в
деле уяснения какой-либо возможной (пусть и неинтенциональной)
переклички между Шпетом и русским философским имяславием,
представленным тремя ранее упоминавшимися авторами.
«Артикуляционное чувство, — пишет Шпет, — должно совпасть с сознанием
логического закона слова и в едином акте языковой интуиции
единого языкового сознания. И этой интерпретацией мы только
возвращаемся к основной общей идее Гумбольдта: язык есть не законченное
действие, ergon, а длящаяся действенность, eneigeia, т. е., как
разъясняет Гумбольдт, "вечно повторяющаяся работа духа, направленная на
то, чтобы сделать артикулированный звук способным к выражению
3 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 348.
4 Там же.
5 Там же. С. 349.
198
Раздел II
мысли". Это значит, — смысл может существовать в каких угодно
онтологических формах, но мыслится он необходимо в формах слова-
понятия, природа которых должна быть раскрыта, как природа
активного, образующего, энергийного, синтетического и единящего»6.
Как представляется, сам дискурс секвенций подобного рода с их
уклоном в онтологию, энергийностъ и некую «единящую
синтетичность» в принципе мог бы быть также востребован и русским имя-
славием, с его культом энергии и высшего Единого начала,
превознесением каких-то незримых субстанций, заключенных в словесной
форме. Можно привести разные примеры из книги Шпета, в которых
сочувственно пересказываются соответственные места из Гумбольдта:
«Язык есть деятельность, "энергия" (sic! — даже не "энергейя". —
Д. И.), постоянная работа духа, направленная на то, чтобы сделать
артикулированный звук способным к выражению мысли». Они
оказываются, в имяславском ключе, довольно значимы и релевантны.
Шпет готов заключить, что, «именуя вещи (хотя бы простым
указанием или условным звукосочетанием "это", "то", "там" и
т. д.), мы о них говорим, думаем, и нашу речь о них понимаем, т. е.
в своих словах видим смысл, которым вещи объективно связаны в
многообразные отношения и системы. Простое название вещей,
простое обозначение их, устанавливает для нас нерасторжимое
единство условного знака (с его системою) и (связующего вещи в
систему) понимаемого смысла этого знака»7. Шпет далее
поясняет важный для нас (в плане Лосева) контекст «вещи»: «Вообще
ведь само слово есть некоторая "вещь", имеющая свои онтические
формы, с им присущим особым содержанием, которое входит, как
смысл, в особые слова: слова-знаки о словах-вещах»8.
Весьма важно здесь, как нам кажется, отметить момент
отождествления «вещей» и «слов», как это проделывает Шпет, в акте
наименования, довольно близко к имяславскому способу
построения своей лингвистической философии. Шпет много говорит о
возможностях сращения понятия «внутренняя форма» и
онтологического статуса формы самого слова, его физического ядра.
«Основанием, — пишет Шпет, — для отожествления может служить
распространенное понимание логической истины как соответствия
мыслимого или высказываемого тому, что есть, т. е. предмету,
вещам и предметным отношениям»9.
6 Шпет Т. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 362—363.
7 Там же. С. 373.
8 Там же. С. 380.
9 Там же. С. 399.
Семасиология Густава Шпета: между семиотикой и структурализмом 199
Согласно Шпету, в относительной гармонии с гумбольдтовским
представлением, действительным содержанием языка «является, с
одной стороны, звук вообще, а с другой стороны, "совокупность
чувственных впечатлений и самостоятельных движений духа,
предшествующих образованию понятия с помощью языка"»10. Как ни
странно, но общий строй подобной мысли в таких цитатах
скорее сближает Шпета с русским философским имяславием,
нежели отдаляет и разнит. Для усиления этого довольно неожиданного
смыслового согласия с имяславским языковедением приведем еще
такую цитату, где Шпет намекает на некоторую неслучайность,
продуманность и отнюдь не условную (a propos де Соссюр) связь между
знаком слова и обозначаемым им предметом: «Даже обозначение
самого неясного "нечто" собственным именем ("— Адам!"),
независимо от возможного и сознаваемого смысла имени
("земной", "подобный" (?)), открывает собою начало смыслового
потока ("— Ева", "— не-Каин", "— не-дерево" и т. д.), поскольку
оно вместе с называнием есть также выражение некоторого
избирательного созерцания»11.
Общее же между Флоренским, а также Лосевым и
Булгаковым, с одной стороны, и Густавом Шпетом, с другой, может быть
постулировано в том, что все эти философы закрепляли именно
за «работой духа» процесс образования слов и их нисхождение в
мир. Повторяя еще раз, что внутренняя форма слова — это его
понятие, это понятийный процесс, или, как говорит Шпет, —
«закон» («...внутренняя словесно-логическая форма есть закон
самого образования понятия, т. е. некоторого движения или развития,
последовательную смену моментов которого мы называем
диалектическою сменою, отображающею развитие самого смысла»12).
Шпет неслучайно возвращается к Гумбольдту и к тому, что язык,
словотворчество как таковые, по его мнению, суть
непосредственные данники работы духа. «Гумбольдт, — по словам Шпета, —
близко подходит к смыслу такого определения <внутренней формы. —
Д.И.У, когда, изобразив язык как деятельность, энергию, называет
его также "работою духа", выполняемою некоторым "постоянным
и единообразным способом". Это постоянство и единообразие
обусловлено единством самой духовной силы, способной
различаться только внутри собственных границ, и направляющейся по цели
понимания. Устойчивое и единообразное в работе духа, направлен-
10 Там же. С. 404.
11 Там же. С. 412.
12 Там же. С. 417.
200
Раздел II
ной на то, чтобы довести артикулированный звук до выражения
мысли, и составляет форму языка»13. В другом месте Шпет пишет:
«Язык, оставаясь социальной вещью, <...> толкуется динамически,
как ενέργεια, но в совершенно специфическом смысле, главный
признак которого — в том, что ενέργεια, будучи его объективной
сущностью, есть и его имманентная и единая константа»14.
На этом финальном моменте мы бы хотели особо заострить
внимание. Гумбольдтовское, а в России — потебныанское, ибо пришло
в Россию посредством А. А. Потебни, понимание слова и языка как
некоего энергетического конструкта, с коим, в общем,
солидаризируется и Шпет, может быть в чем-то близким имяславскому
разговору о природе имени (Лосев и Булгаков) как об энергии par
excellence, где Имя Божие будет также квинтэссенциально важным по
отношению к процессу имяназывания, как и к языку в принципе.
Имя Божие, понимаемое как средоточие все этой же энергийности,
может являться в виде некоего изначального импульса, служащего
первопричинному процессу возникновения слов языка.
13 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 418.
14 Там же. С. 424.
III. «Внутренняя
форма слова»:
пересечение
исследовательских
перспектив
В. П. Зинченко
Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта
и внутренняя форма слова Густава Шпета
в контексте проблемы творчества
...но каждой Божьей твари
как знак родства
дарован голос для
общенья, пенья:
продления мгновенья,
минуты, дня.
И. Бродский
Слово - princip cognoscendi
Мы все не столько знаем, сколько, не вдумываясь, верим
или привыкли к тому, что Слово (язык) — это Бог,
слово — это целый мир, слово есть архетип культуры,
слово — воплощение разума, слово — микрокосм
сознания, слово — плоть (а хлеб — веселье). В. фон Гумбольдт
и Г. Г. Шпет, создавшие учение о внешних и внутренних формах
языка и слова, открыли новые пути к пониманию подобных
удивительных сентенций, ставших схематизмами человеческого
сознания. Напомню наиболее яркие высказывания Гумбольдта и Шпета.
Язык не продукт деятельности (Ergon), а деятельность (Energeia).
«Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes),
но как созидающий процесс (Erzeugung)»2.
Гумбольдт выражал живую убежденность в том, что
«человеческое существо обладает предощущением какой-то сферы, которая
выходит за пределы языка и которую язык, собственно, в какой-
то мере ограничивает, но что всё-таки именно он — единственное
средство проникнуть в эту сферу и сделать ее плодотворной для
человека...»3. Такое предощущение вполне оправдано, поскольку
1 Настоящий текст написан при поддержке гранта ГУ-ВШЭ.
2 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 69.
3 Там же. С. 171.
204
Раздел III
«Слово — универсально, как само сознание, и потому оно —
выражение и объективация, реальный, и не только условно признанный
репрезентат всего культурного духа человечества: человеческих
воззрений, понимания, знания, замыслов, энтузиазмов, волнений,
интересов и идеалов»4. Любое специфическое определение слова
включает его отношение к смыслу. Итак, слово (язык) — это
действительно целый мир; оно больше, чем средство, медиатор,
артефакт, знак, стимул, команда, сигнал и т. п. Вся в слове истина дана,
как, впрочем, и вся ложь. И при всем при том: За поверхностью
каждого слова таится бездонная мгла.
Шпет, отталкиваясь от идей Гумбольдта и все глубже проникая
во внутреннюю форму слова, пришел к заключению, что слово не
«третий» после чувственности и рассудка, а единственный
источник познания, объемлющий как познавательное целое остальные,
т. е. рассматривал слово как начало и principum cognoscendi.
Следовательно, и как начало, источник и принцип творчества,
поскольку, по словам Шпета, в самом языке должно быть свободное
законодательство, являющееся необходимым условием творческой
деятельности.
Настоящая работа представляет собой попытку понимания
сформулированного Шпетом принципа, на первый взгляд
противоречащего очевидной роли чувственности, образов, действий,
аффектов в познании и творчестве. Для решения поставленной
задачи мне придется сначала выйти за пределы проблематики внешней
и внутренней формы слова в их гумбольдтовско-шпетовской
трактовке и обратиться к этой обманчивой и провокативной
очевидности.
Известно, что мир, который человек не только учится читать,
но и действовать в нем, можно представить как гипертекст,
написанный на множестве языков. И. В. Гёте утверждал: «Природа
непрестанно говорит с нами и все-таки не выдает свои тайны».
Все же некоторые из языков, на которых «говорит» природа,
говорят нам подобные, тело и душа, в той или иной степени
знакомы и доступны человеку. Он овладевает языками тела, движений,
жестов (мимики, пантомимики, танца), ощущений и образов,
аффектов, эмоций (если верить Андрею Платонову, его
революционные герои мыслили исключительно накалом своих
воспаленных чувств). Добавим иконические, знаковые,
символические, вербальные языки. Говорят о метаязыках, языках глубинных
4 Шпет Г. Г. Литература // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды
по философии культуры. М., 2007. С. 165.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 205
семантических структур. Оставим любителям языки мозга и
экстрасенсорные языки. Перечисленные языки могут нести
перцептивные, предметные, операциональные, аффективные,
вербальные и концептуальные значения и смыслы. Ситуация напоминает
столпотворение языков в «правнучке вавилонской, в башне слов,
все время недостроенной» (И. Бродский). И тем не менее человек
создает картину, образ или образно-концептуальную модель мира,
точнее — множества миров. Предвосхищая дальнейшее, скажу,
что это, видимо, происходит не хаотически, а посредством
своего рода языкового пула, обволакивающего, обнимающего мир и
проникающего внутрь него. Участники пула обеспечивают
включение в такой образ всех мыслимых и немыслимых
перцептивных, операциональных, вербальных и прочих категорий. Так или
иначе, человек эффективно использует в поведении,
деятельности, мышлении, созерцании построенную им картину мира. Иное
дело, насколько он ее осознает и способен ли явить образ мира
в слове, в картине, в действии, в поступке, в схеме, в формуле и
т. д.? Некоторым это удается, но даже в этом случае они не могут
вразумительно рассказать, как они этого достигают. А. А.
Ухтомский когда-то сказал, что люди сначала научаются ходить, а
потом задумываются, как им это удалось. А если задумываются, то
останавливаются! То же с мышлением и творчеством. Э. Клапаред
в работе «Генезис гипотезы» заметил, что размышление
стремится запретить речь. Видимо, для того, чтобы уступить место
действий со словом действиям с предметами, с образами, со
знаками, символами, аффектами, наконец с самими же действиями.
То есть уступить место другим языкам, выступающим в качестве
средств не только коммуникации, но и интеллекта (в том числе у
животных и у детей — до того, как последние начали говорить).
Казалось бы, все очевидно, нужно дать дорогу невербальным или
довербальным формам языка и интеллекта, например сенсомо-
торным схемам (в смысле Ж. Пиаже).
Но как же тогда быть со столь решительно сформулированным
Шпетом положением о том, что именно слово есть principum co-
gnoscendi? Чтобы понять это, упростим задачу и выберем из
«вавилонского столпотворения языков» три: языки слов, действий и
образов. Здесь нам понадобятся понятия внешней и внутренней
формы не только применительно к слову, но также к действию и
образу. Начнем со слова.
206
Раздел III
Гетерогенность внутренних форм слова, действия и образа
Начиная с книги «Явление и смысл» (1914) и до конца своих дней,
Шпет развивал гумбольдтовское и собственное учение о
внутренней форме слова, оказавшейся не менее сложной по сравнению с
внешней. До сих пор остается загадкой, как ему это удалось.
Видимо, помогли энциклопедизм и знание семнадцати языков, которые
в его голове не вызывали столпотворения. Кажется даже, что Шпет
видел язык (слово) изнутри (у X. Ортеги-и-Гассета есть
посвященная И. В. Гете статья «Видение изнутри»). У него слово
действительно выступало как плоть, а не как воздушное ничто.
В слове есть предметные, называемые Шпетом онтическими
внутренние формы. Предметный остов в структуре слова — не
просто отражение, отпечаток существующей вещи или предметная
отнесенность слова. Предметный остов — это задание, оно
содержится в слове и должно быть реализовано, воплощено (ср. с более
поздней трактовкой Дж. Остина: слово как perfomativ).
Предметный остов, следовательно, активен, но он же является
«реципиентом»: через слово ему сообщается смысл.
Далее Шпет характеризует внутренние формы слова в
собственном смысле. Они вклиниваются между морфологическими
и онтическими формами. Это логические, в высшей степени
динамические формы, формы смыслового содержания, «целая толпа
движущихся в разные стороны смыслов» (ср. с пучками смысла,
торчащими из слов у О. Мандельштама), отыскивающих нужное
русло. В слове присутствует своя онтологика, отличная от
поверхностной формальной логики. Ж.-П. Вернан назвал бы ее
логикой без логоса, а Дж. Брунер — имплицитной логикой.
Внутренняя конструктивная форма делает слово глаголом, т. е. действием,
даже демиургом. Итак: «Логические формы суть внутренние
формы, как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого;
онтологические формы суть чистые формы сущего и возможного
содержания»5. В свою очередь «содержание» предмета есть
«внутреннее», прикрываемое его чистыми формами содержание,
которое, будучи внутренно-логически оформлено, и есть смысл.
Не буду далее вдаваться в описание синтаксических и
синтагматических внутренних форм слова. Имеется, например, игра
логических форм и форм выражения (синтагм). Морфема как звуковое
образование может до известной степени, «как лава, затвердеть и
5 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 224.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 207
сковать собою смысл, но он под ее поверхностью клокочет и
сохраняет свой пламень»6. Этот образ нам понадобится в дальнейшем.
Семасиологическое ядро слова покрыто слоями, или
одеждами, между которыми наблюдаются сложные взаимоотношения
и взаимодействия. Остановимся на этом подробнее в связи с тем,
что понятия «поверхностей», «одежд», «складок» играют важную
роль в размышлениях о внешнем и внутреннем у М. Фуко, Ж. Де-
лёза и др. представителей постмодернизма. Шпет в 1922 г. писал:
«Если представить себе углубление от фонетической поверхности
к семиотическому ядру слова как последовательное снимание
облегающих это ядро слоев или одежек, то синтаксический слой
облегает последующие причудливо вздымающимися складками,
особенности которых, тем не менее, от последующего строения всей
структуры не зависят и сами на нем не отражаются. Лишь
взаимное отношение этого синтаксического слоя и ближайшего
логического слоя дает сложный своеобразный рисунок, отражающий
на себе особенности строения названных складок. Или, если весь
процесс изображается как восхождение по ступеням, то
оказывается, что со ступени синтаксической нельзя просто перешагнуть
на логическую, а приходится перебираться с одной на другую по
особым, иногда причудливо переброшенным соединительным
мостам. Между формами синтаксическими и логическими
происходит, таким образом, как бы задержка движения мысли, иногда
приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка
понимания), но такая, на которую нельзя не обратить внимания»7. Анализ
Шпета тоньше, чем анализ Делёза, который понимал внутреннее
как оформленное посредством «удвоения», т. е. «интериоризации
внешнего». Само внутреннее как таковое, по Делёзу, «является
просто складчатостью внешнего, как если бы корабль был изгибанием
моря». Вместе с тем возникающая на каждый момент времени
конфигурация множества складок понимается Делёзом как
принципиально не окончательная — она оценивается как субъективная и
подлежащая изменению: «Эти складки удивительно изменчивы и,
более того, обладают различными ритмами, чьи вариации создают
несводимые виды субъективации»8. Таким образом, у Делёза
внешнее и внутреннее разделено плоскостями, представляющими собой
пространство их соприкосновения, сопряжения, отражения, взаи-
6 Там же. С. 215.
7 Там же. С. 227.
8 Складка // Постмодернизм. Новейший философский словарь. Минск, 2007.
С. 577.
208
Раздел HI
моналожения. В отличие от этого у Шпета, отказавшегося от
натуралистически понимаемой дихотомии внешнего и внутреннего,
между внешней и внутренней формами имеются
пространственные и временные зазоры и наводятся мосты для их взаимодействия
в общей структуре целого.
Близким Шпету и Делёзу был ход мыслей M. M. Бахтина,
который не только культуре, но и человеку отказывал во
внутренней суверенной территории: он весь и всегда на границе9. При
этом Бахтин подчеркивал гибкость границ, что напоминает те же
складки, о которых говорилось выше. Дж. Шоттер, развивая
положение Л. С. Выготского о том, что все высшие психические
функции являются интериоризированными отношениями социального
порядка, и привлекая для этого положение Бахтина о диалогизме
сознания, заключил: «"Внутренняя" жизнь человека не такая уж
частная и не такая уж внутренняя и тем более не упорядоченная и
логическая, как предполагалось»10. Идеи складок и мостов между
ними, равно как и идеи постоянного пересечения границ и
преодоления провалов между внешним и внутренним, конечно, весьма
существенны. Но, на мой взгляд, еще более плодотворным
является рассмотрение внешних и внутренних форм в структуре целого,
предпринятое Шпетом. Следует обратить внимание на то, что
внутренние формы слова, выявленные и детально описанные Шпетом,
можно рассматривать как глубинные семантические структуры,
постулированные в качестве врожденных Н. Хомским. Как станет
ясно из дальнейшего, это слишком сильное утверждение.
Сделаю паузу в описании внутренних форм слова и перейду к
языку действий. Вначале 1920-х гг. прошлого столетия будущий
создатель физиологии активности (психологической физиологии)
Н. А. Бернштейн (1896—1966) занялся изучением живого движения.
Серебряный век российской культуры, возможно, в предощущении
своей близкой кончины проявлял повышенный интерес к живому:
живое слово, живой символ, живое понятие, живое знание, живой
смысл, живая мысль, живая доминанта, живое произведение
искусства, живой образ, живая личность, живая душа были предметом
пристального внимания и исследования философов, ученых и
художников. В этом же ряду следует рассматривать замечательные
исследования Бернштейна. К середине XX в. пиетет к живому заметно
снизился, чему способствовали, как это ни странно, реальные успехи
9 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского. Киев, 1994. С. 186.
10 Шоттер Дж. M. M. Бахтин и Л. С. Выготский: Интериоризация как «феномен
границы» // Вопросы психологии. 1996. № 6. С. 115—116.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 209
в познании живого, сопровождающиеся иллюзиями, что его тайны
вот-вот будут раскрыты. Но живое по-прежнему упорно
сопротивляется концептуализации и представляет собой вызов науке. Целое, как
в свое время предупреждал Гете, не делится на части без остатка.
Живое движение не реакция, а акция; каждое движение
уникально, как отпечаток пальца; оно не повторяется, а порождается
и строится, поэтому упражнение есть повторение без повторения.
Ударное движение молотобойца — монолит, но такие движения,
наложенные одно на другое, похожи на паутину на ветру. В течение
нескольких десятилетий Бернштейн, изучая трудовые, спортивные
движения, движения скрипача, пианиста и т. д., проникал во
внутреннюю структуру (форму) живого движения и действия. Для
построения движения мало знать, как оно выглядит снаружи, нужно
увидеть (почувствовать) его изнутри. Это похоже на
артикуляционное чувство, описанное Гумбольдтом. Как Шпет увидел изнутри
слово, так Бернштейн увидел изнутри движение и действие. Хотя
Бернштейн не использовал понятия внешней и внутренней
формы, но по сути его модель является первой попыткой
проникновения во внутреннюю форму живого движения. В ней имеется место
для образа результата, для слова и символа, выступающих в роли
средств высшего уровня символических координации действия.
Последняя модель действия Бернштейна лежит в основе
практически всех современных моделей действия (performance).
Исследования развития движений были продолжены моим
учителем А. В. Запорожцем (1905—1981). Он ввел понятие «внутренней
картины» произвольного движения и действия и показал, что в эту
внутреннюю картину (форму) входят образ ситуации и образ
требуемых действий. Здесь уместно вспомнить и давние исследования
конструктивных действий дошкольников, выполненные А. Р. Лу-
рия, в которых была показана роль регулирующего их протекание
слова. Мы с Н. Д. Гордеевой разработали функциональную модель
предметного действия, которая является обобщением результатов
исследований Бернштейна, Запорожца и авторов модели.
Структура предметного действия в этой модели настолько наполнена
различными когнитивными и эмоционально-оценочными
компонентами (внутренними формами), что по сравнению с ними внешний,
собственно исполнительный, результирующий компонент
действия кажется исчезающе малым. Но это только кажется! Внешняя
форма действия тоже сложна и, по мысли Бернштейна, требует для
анализа и описания не метрических, а топологических категорий.
Но как бы ни была сложна внешняя форма действия с его многими
поверхностями и складками, оно не может образовать внутреннее
210
Раздел III
посредством удвоения и интериоризации внешнего. Внутренние
формы должны быть порождены и в определенной степени авто-
номизированы от внешнего. Только в этом случае они смогут
приобрести силы для порождения нового, собственного внешнего. Как
сказал поэт: Душу от внешних условий освободить я умею...
Представления Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца, Н. Д. Горде-
евой о внутренних формах действия соответствуют идеям Г. Г. Шпе-
та о внутренней форме слова, лежащей в основе сценического
действия актера. Только в этом случае (и еще в случае поэтического
творчества) Шпет включает в состав внутренних форм слова,
создаваемые актером, и образы — поэтом. В случае актера он называет
такие формы моторно-симпатическими, непосредственно
связывая образ с действием и словом. Я был поражен, встретив у Шпета
понятие живого движения и требования к его изучению. Возникло
впечатление, что эти слова были написаны Бернштейном или
Запорожцем. Последний до своего прихода в психологию был
актером в театре знаменитого украинского режиссера Леся Курбаса,
учившего актеров претворению, преображению своих движений в
сценический образ.
Несколько слов о языке образов. А. В. Запорожец, его
ученики и сотрудники (в их числе и я) много лет изучали формирование
зрительного образа и пришли к заключению, что в его внутреннюю
форму входят перцептивные движения и действия, которые
привели к его формированию. Входит и слово, посредством которого
возможны осмысление и актуализация образа. Другими словами,
в нее входит не только «предметный остов», но и действия по его
построению. Может быть, Запорожец во время своей актерской
работы тоже увидел образ (и аффект) изнутри, что и повлекло его в
психологию?
Разумеется, не только во внутреннюю форму слова входят
значения и смыслы. Предметные, перцептивные и операциональные
(моторные) значения и смыслы входят во внутренние формы
образа и действия. В них присутствуют и динамические, хотя и
имплицитные, но логические формы. Таким образом, мы приходим к
тому, что исследования Г. Г. Шпета, Н. А. Бернштейна и А. В.
Запорожца позволяют говорить об общности строения слова,
образа и действия. Все они имеют свои внешние и внутренние формы.
Это не простая аналогия, а сущностное сходство, так как каждое
из этих образований (орудий, инструментов, артефактов,
функциональных органов, языков и т. п.), выступающее в роли средства
поведения, деятельности, коммуникации, интеллекта, имеет в
своей внутренней форме два других. Действие содержит в себе слово
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 211
и образ; слово — действие и образ; образ — действие и слово. Они
обогащают, взаимопроникают и в известных пределах
взаимозаменяют друг друга. Они входят в состав других внутренних форм не
в первозданном, а в сокращенном, превращенном, возможно, и в
извращенном виде. Следовательно, слово, образ, действие не
независимы друг от друга. Разумеется, в пространстве языков,
которыми овладевает человек, слово играет особую роль. «Оно
допускает наиболее полный перевод с любой другой системы языков. Но
не обратно: нет такой другой системы языков, на которую можно
было бы перевести слово хотя бы с относительной адекватностью...
слово именно эмпирически наиболее совершенное
осуществление идеи всеобщего знака»11. Если слово, действие, образ, аффект
и необратимы (в смысле взаимного «буквального» перевода), то
как минимум они побратимы, то есть изначально родственны. Они
больше, чем знакомы, и не только узнают друг друга, но
общаются, взаимно опосредуют друг друга, обмениваются новостями и
посильно участвуют в построении Образа мира и человека в нем,
т. е. в познании, самопознании, деятельности, творчестве.
Поэтому если уж говорить, подобно Н. Хомскому, о врожденности
грамматических структур, то нужно быть последовательным и признать
врожденность структур действия и образа, что столь же
сомнительно. Каждая из структур может быть ядром и оболочкой, оболочкой
и выжимкой (ср. О. Мандельштам: «Зрительные формы
прорезаются, как зубы»).
Отвечают ли приведенные размышления о взаимодействии
внешних и внутренних форм слова, действия и образа воззрениям
Шпета? Отвечу его словами: «Чувственность и рассудок, как
равным образом, случайность и необходимость, — не противоречие, а
корреляты. Не то же ли в искусстве, в частности, в поэзии:
воображение и разум, индивидуальное и общее, "образ" и смысл, — не
противоречие, а корреляты. Внешняя и внутренняя формы не
противоречие и взаимно не требуют преодоления и устранения. Они
разделены лишь в абстракции, и не заключительный синтез нужен,
нужно изначальное признание единства структуры»12. Едва ли
сегодня нужно специально аргументировать, что сказанное Шпетом
относится к единствам структур чувствительности и движения,
образа и действия, аффекта и интеллекта, в которые входит и слово.
11 Шпет Г. Г. Литература // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды
по философии культуры. М., 2007. С. 165.
12 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 369—370.
212
Раздел III
Приведенные рассуждения отвечают и пониманию Шпетом
общих свойств структуры как таковой. Последнюю он понимает не
как морфологическое, а как функциональное образование. Если
воспользоваться термином А. А. Ухтомского, то структуры слова,
образа, действия нужно рассматривать как функциональные
органы индивида, как временное сочетание сил, способное
осуществить определенное достижение. Функциональные органы после
их образования существуют виртуально и наблюдаемы лишь в
исполнении, в работе. Шпет как бы поясняет эти положения
Ухтомского. Под структурой, например, слова Шпет разумеет не
«плоскостное» его расположение, а, напротив, органическое, вглубь:
«от чувственно воспринимаемого до формально-идеального
(эйдетического) предмета»13.
Вполне резонно поставить вопрос: зачем такая сложность и
какое отношение она имеет к провозглашенному принципу
познания? Шпет недвусмысленно отвечает на него. Он оставляет,
по причине вздорности, все теории происхождения мысли из
чувства, признавая, что все же именно чувственно данное является
поводом для мысли. Оно — трамплин, от которого мы
вскидываемся к «чистому предмету». Но это предмет — чистый от
чувственного содержания, но не чистый от словесного субстрата.
Причина в том, что, «оттолкнувшись от трамплина, мысль
должна преодолевать не только вещественное сопротивление, но и
им же пользоваться, как поддерживающей ее силой. Если бы она
потащила за собой весь свой вещный багаж, высоко она не
взлетела бы. Но так же и в абсолютной бесформенности, то есть без
целесообразного приспособления своей формы к среде, она
удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ, форма, облик,
идеальная плоть есть слово»14. Слово, идеальные внутренние
формы которого не только предметны, но и операциональны,
действенны. Не слишком жалуемый Шпетом А. Бергсон говорил, что
мысль может воспарить как угодно высоко, но, будучи брошена
на поле действия, она должна оказаться на ногах. Такую встречу
идеального и реального обеспечивают предметные (образные),
логические (операциональные) внутренние формы слова, в
которых воплощается мысль.
Итак, мы нашли глубинное сходство слова, образа и действия.
Его основой может быть пока не выявленное и неявное единство
13 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 208.
"Там же. С. 221-222.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 213
их смысла, который, согласно Шпету, укоренен в бытии. Слово,
образ и действие — это не только разные проекции мира-текста,
возникающие на пути к проникновению в смысл — смысл бытия.
Все вместе они подобны магическому кристаллу, отражающему
разные грани последнего.
Гетерогенез слова, действия и образа
Возникает вопрос: достаточно ли зафиксированное нами
глубинное сходство слова, образа и действия для «оправдания»
категоричного утверждения Шпета, что именно слово является началом
и источником познания (и даже сознания, которое он
характеризовал как слово: «Игра и жизнь сознания — слово на слово,
диалог»)? Как понять приведенное выше требование Шпета: нужно
изначальное признание единства структуры! В рассматриваемом
случае — единства структуры слова, образа и действия. Здесь
функционального и структурного сходства уже недостаточно. Для того
чтобы понять, что означает изначальное единство структур, нужно
прибегнуть к анализу их генезиса. Хотя сам Шпет неоднократно
выражал скептическое отношение к доказательствам, основанным
на данных о происхождении, генезисе чего-либо, мы все же
попытаемся поискать таковые.
Выскажу не менее категорическое суждение. У человека нет
«чистых» невербальных или довербальных языков коммуникации и
интеллекта, как нет и чисто вербальных форм этих актов (оставим
в стороне патологические и идеологические формы резонерства).
Человек при всем желании не может вернуться в свое довербальное
состояние, «в докультурное сырое бытие». И дело не в том, что его
период необычайно краток, и не в слабости нашей памяти, а в том,
что есть основания усомниться, существует ли такой докультурный
период вообще.
Гумбольдт возражал против того, чтобы помещать человечество
в какое-то воображаемое природное состояние. И действительно,
как бы далеко мы ни шли в глубь истории, мы нигде не найдем
человека без культуры, сознания и языка. А если найдем, то это будет
не человек. Не то же ли самое происходит с оценками
индивидуального развития человека? Ведь даже культурно-историческая
психология в лице Л. С. Выготского как бы продлевала
существование натуральных (непосредственных) психологических
функций ребенка на 1,5—2 года, что в масштабах человеческой истории
равно многим и многим тысячелетиям. Это не упрек Выготскому.
214
Раздел III
Аргументированно преодолеть вековые споры нативистов и
эмпириков ещё никому не удалось, хотя аргументы накапливаются.
Ученик Выготского — Запорожец в 1966 году на основании
исследований развития восприятия утверждал, что между низшими
и высшими функциями имеется много общего: «Закономерности
"интериоризации" или "вращивания", которые Л. С. Выготский
считал специфическими лишь для высших, опосредованных
психических процессов, своеобразно проявляются при формировании
непосредственных перцептивных процессов. Это, по-видимому,
свидетельствует об универсальном психологическом значении
данной закономерности»15. Общие положения Выготского, замечает
Запорожец, «имеют более широкое значение и могут быть
применены к низшим... процессам»16. Аналогичным образом, Г. К.
Середа отмечал, что в системе Выготского имеется достаточно
предпосылок, чтобы человеческая непроизвольная память (в отличие от
непроизвольной памяти, которая может быть у животных) могла
рассматриваться как высшая психическая функция, и в качестве
достаточного основания этого принимается ее опосредованность
речью17. Однако споры не утихают, и прежде всего по отношению к
такой «психической функции», какой является сама человеческая
речь и ее развитие в раннем возрасте. Выскажу свой
романтический (не по возрасту) взгляд на эту проблему.
Слово сопутствует человеку с момента рождения, и до того, как
проявиться во всей пышной красе (или уродстве) своих внешних
форм, оно проникает, если угодно — интериоризируется или ин-
троецируется, во внутренние формы движений, действий, образов,
аффектов ребенка. Для такого слова имеются названия: «живой
зародыш нескончаемых формаций» (Гумбольдт), «эмбрион
словесности» (Шпет), «невербальное внутреннее слово» (Мамардашвили).
О «семенном логосе» говорили античные философы. «Эмбрион
словесности», «семенной логос» — это точные наименования для
энергийной, активной, ищущей, порождающей внутренней
формы слова, которая не нашла еще (или потеряла) выражения в
имманентной ей внешней форме и остающейся до поры до времени
скрытой под поверхностью других языков: моторных, перцептив-
15 Запорожец А. В. Избранные психологические труды. В 2 т. М., 1986. С. 107—108.
16 Там же. С. 111.
17 Середа Г. К. К проблеме соотношения основных видов памяти в концепции
«деятельность—память—деятельность» // Вестник Харьковского университета.
Психология памяти и обучения. Харьков, 1979. Вып. 12. № 7. С. 6; Иванова Ε. Φ.,
Мажирина Е. С. Развитие непроизвольной памяти: повторение исследований
П. И. Зинченко // Культурно-историческая психология. 2008. № 1. С. 48—57.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 215
ных, знаково-символических и т. д. Если угодно, скрытой под
покровом детского «комплекса оживления», плача, гуления, лепета,
а потом — взрослого молчанья или «мычанья». О младенце
замечательно сказано О. Мандельштамом: Он опыт из лепета лепит /
И лепет из опыта пьет.
Проникновение слова в душу младенца — это таинство, как,
впрочем, и сама душа. M. M. Бахтин говорил, что душа — это дар
моего духа другому человеку. Мать дарит душу своему чаду от
избытка любви, великодушия; дарит вместе со словом и посредством
заботы и слова. Дар любви замечателен тем, что он не скудеет от
дарения, а прирастает у дарителя. Дар питается радостным и
благосклонным откликом принимающего, у которого полученный дар
также не остается неизменным: он растет, чтобы, в свою очередь,
быть подаренным другому. М. И. Лисина характеризовала
младенчество как золотой век общения — общения бескорыстного,
бесцельного, непреходящая ценность которого заключена в нем
самом. Это дознаковая и вместе с тем реально-символическая
деятельность, полная ощущаемого смысла. Ее смысл впоследствии
трансформируется в значащее ощущение, а затем в слово, в знание.
А. В. Запорожец, как бы подчеркивая реальность, вещественность
великодушного дара матери, ее любви и заботы, говорил о
«пилюлях любви», в которых особенно остро нуждается младенец.
Каждый, обратившись к своей душе, обнаруживает в ней
множество даров, в том числе и принесенных данайцами. Что делать,
как говорил И. Бродский, дары бывают и горестными:
...любви и злости торопливой
непоправимые дары.
Слово является важнейшим из даров. И. Бродский, стараясь
выговорить наболевшее на земле, это подтверждает:
... ибо душа, что набрала много,
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.
Принятие ребенком проникающего в его душу слова
происходит на уровне чувственного постижения, а не понимания. К. Юнг
назвал бы проникающее в душу слово автономным комплексом
души, который по мере своего созревания и развития приобретает
над его носителем тираническую силу и стремится наружу.
В отличие от того, как предмет в темноте одевается светом
молнии, слово начинает освещать его изнутри и лишь много позже,
216
Раздел III
будучи произнесенным, — снаружи. Прислушаемся к
размышлениям О. Мандельштама: «Словесное представление — сложный
комплекс явлений, связь, "система". Значимость слова можно
рассматривать, как свечу, горящую в бумажном фонаре, и обратно,
звуковое представление, так называемая фонема, может быть
помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом
фонаре»18, то есть слово и внутри, и вовне. Опрометчиво
рассматривать его только как внешний по отношению к индивиду сигнал
или даже как сигнал сигналов. Из студенческих лет помню: когда
мы спрашивали А. Р. Лурия, что такое вторая сигнальная система,
он отвечал, что это «бывшая речь».
Пора, наконец, поверить М. Волошину, говорившему, что
ребенок непризнанный гений средь буднично серых людей, которым,
видимо, морально тяжело признать детскую гениальность. Она
проявляется прежде всего в неправдоподобно быстром, можно
сказать — стремительном овладении главным достижением народного
духа — словом. Реконструируем основные вехи этого пути.
Именно вехи, а не этапы, так как многие события в человеческой жизни
происходят параллельно.
Улыбка, гуленье, лепет, плач, движение ручонки к предмету,
позже — эгоцентрическая речь выражают состояния ребенка,
которые улавливаются чутким взрослым. Первые, так называемые
невербальные средства коммуникации далеко не всегда преследуют
утилитарные цели; они бывают вполне бескорыстными,
похожими на описание у В. В. Розанова: «Жизнь в быстротечном времени
срывает с души нашей вздохи, полу-мысли, полу-чувства...
которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что
"сошли" прямо с души, без переработки, без цели, без
преднамерения, — без всего постороннего... Просто — "душа живет"..., то есть
жила, дохнула... С давнего времени мне эти "нечаянные
восклицания" почему-то нравились» («Смертное»). Итак, вехи:
Известно, что ухо младенца с первых недель жизни
выделяет фонемы родного языка и становится «глухим» к фонемам
других языков. Это свидетельство того, что атмосфера языка, в
которой оказался ребенок, для него не безразлична; она является
важнейшим условием его существования и развития. При
восприятии (ощущении —?) речи новорожденный активен. На третьей-
четвертой неделе жизни наблюдается слуховое сосредоточение или
ориентировка на голос разговаривающего с младенцем взрослого:
ребенок замолкает, становится неподвижным. Тогда же появляет-
Манделыитам О. Слово и культура. М., 1987. С. 66.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 217
ся и первая, человеческая улыбка. Многие авторы датируют ее
появление 21-м днем жизни. К. Н. Поливанова следующим образом
описывает ее появление: «Мать, чрезвычайно чувствительная к
состоянию младенца, всякий раз, наклоняясь к ребенку, ловит
выражение его лица и улыбается, в какой-то момент ее улыбка и улыбка
младенца совпадают, и происходит своеобразная амплификация
мимики двух людей. Фактически мы имеем пример удвоения
улыбки матери улыбкой ребенка, своеобразное воссоединение ситуации
общения, доверия, приятия (не важно, в какой терминологии этот
акт будет описан)»19. Автор возражает против трактовки улыбки
как знака, так как не видит здесь коммуникации в привычном
значении этого термина. Поливанова предпочитает рассматривать эту
ситуацию как создание психологического пространства, впервые
возникающего как общее и внезнаковое (или дознаковое): «Улыбка
не может быть понята как знак, поскольку сама становится смыс-
лообразующей наряду с другими элементами ситуации
взаимности... Применительно к этой ситуации трудно говорить об интерио-
ризации, об опосредствовании (орудием или знаком), можно — об
обнаружении собственной эмоции. Ребенок, улыбаясь матери,
открывает для себя собственное состояние. Мы здесь имеем дело с
особым синкретом, в котором субъективно слиты внешняя
ситуация общности и особое переживание этой общности»20.
Согласившись с этим описанием и его интерпретацией, предположим, что в
означенном пространстве начинается идентификация младенца и
рождается партнер полноценного общения.
Таким образом, очень рано воспринимаемая младенцем улыбка
и сопровождающие ее слова матери (вкупе с собственным
эмоциональным состоянием) из «звука пустого» становятся «ощущаемым
смыслом», а затем превращаются в «значащее ощущение» и
вызывают у младенца комплекс оживления. Младенец ждет слова и уже
в двухмесячном возрасте фиксирует свой взор преимущественно на
глазах и губах взрослого (Ф. Салапатек). Ждет его так же, как ждет
и ищет телесного контакта с матерью. Он впитывает (практически
с молоком матери) человеческое и человечное слово, и оно
становится «семенным логосом», который практически сразу начинает
прорастать. С. Травертен (1975) снимал на кинопленку поведение
пяти младенцев от одной недели до пяти месяцев жизни в двух
ситуациях: в присутствии матери и игрушки. Обнаружилось, что с
19 Поливанова К. Н. Периодизация детского развития: опыт понимания // Вопросы
психологии. 2004. № 1. С. 112.
20 Там же.
218
Раздел III
первых недель жизни мать вызывает у ребенка поведение, отличное
от поведения, вызываемого игрушкой, что, впрочем, вполне
естественно. Более естественно, что ребенок проявляет два разных
«интереса», два вида спонтанной активности по отношению к
игрушке и матери. Наибольшие отличия оказались в выражении лица,
в вокализациях и положениях рук ребенка в этих двух ситуациях.
А именно, у ребенка была выявлена другая динамика положения
рук, пальцев рук, а также губ, положения языка и речи матери
(слушает и вокализирует), чем в ответ на предмет (1975). Если угодно,
ребенок как бы причащается или вкушает материнское слово.
В качестве отклика на материнскую заботу и слова можно
рассматривать гуление младенца, наблюдаемое между 10-й и 12-й
неделями жизни. В возрасте примерно 4 месяцев младенец
переходит к лепету, хотя до 9 месяцев его лепет слабо связан с языком его
взрослого окружения. Затем из его лепета исчезают звуки, чуждые
языку окружающих. Начинаются попытки воспроизведения
воспринимаемых им звуков родной речи.
Постепенно отклики трансформируются в требования ребенка,
стремящегося воспроизводить состояния довольства и
комфорта. Интересна в этом смысле эволюция его плача,
наблюдавшаяся Е. В. Чудиновой. От полутора до трех месяцев плач спонтанен
и разнообразен. Начиная с трех месяцев мать выделяет несколько
видов (от трех до девяти) плача, который можно считать
«договорным». Слыша плач ребенка и подходя к нему, она уже знает, чего
ему недостает. В общем психологическом пространстве взрослого и
ребенка порождаются знаки, которые Поливанова назвала
элементами целостной ситуации «разговора». Ребенок всеми доступными
ему средствами требует «продления мгновенья, минуты, дня»21.
В качестве таких элементов выступают движение и жест
ребенка, направленные другим людям. Между 7-м и 12-м месяцами
такие жесты встречаются в четыре раза чаще, чем в первом
полугодии, и превосходят на одну треть число жестов, наблюдающихся у
детей на втором году жизни. А. Валлон назвал этот период
периодом «невоздержанной общительности»22.
Здесь мы вступили на знакомую почву. В совместной (Д. Б. Эль-
конин иногда говорил — в совокупной деятельности) взрослого и
ребенка последний порождает разнообразные знаки, понятные
взрослому. Это известно, по крайней мере, с бл. Августина (см.
«Исповедь»). Важно, что это возникает позже, чем бескорыстная
21 См. эпиграф.
22 ЭльконинД. Б. Детская психология. М, 1960. С. 75.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 219
ситуация общения, и возникает уже в построенном
психологическом пространстве общения, похожем на буберовское
пространство «Между Я—Ты». Мы с Д. Б. Элькониным, обсуждая первые
знаковые формы активности, и в шутку и всерьез относили их не
столько к коммуникации, сколько к управлению
окружающими младенца взрослыми. (У некоторых и с возрастом такая форма
деятельности остается единственной!) Плач, гуление, лепет,
улыбка или знаковое, складывающееся до исполнительного действия
движение, например, ручки младенца к предмету, адресованы
говорящему. Не уверен, так ли уж прав был Л. С. Выготский,
утверждавший, что младенец, впервые породивший знак, узнает об этом
последним. Журден тоже не сразу узнал, что он говорит прозой, но
ведь говорит же. Это особое знание, имеющее свое название:
знание до знания, являющееся необходимым условием приобретения
институционализированного знания и непременным компонентом
живого знания.
Следует обратить внимание на слово «порождение» (знака). Это
не отрицание интериоризации. Для того чтобы нечто вросло, его
вначале нужно вырастить. А. Н. Леонтьев говорил, что внутренний
план впервые рождается. Вращивание и выращивание идут рука об
руку, что и наблюдается уже на первом году жизни. Это положение
нельзя недооценивать. Порождение знака эквивалентно
порождению культуры, которая все превращает в знак, в текст. Ребенок в
свете этого положения является не просто потребителем культуры,
а соучастником ее создания. Такое соучастие облегчает понимание
речи взрослых, которое интенсивно развивается со второго
полугодия. Примечательны данные Г. Л. Розенгард-Пупко, специально
изучавшей условия, максимально содействующие пониманию речи.
Оказалось, что в ситуации удовлетворения потребности у
ребенка и ухода за ним можно добиться понимания слов, относящихся к
действиям с предметами, но невозможно организовать понимание
названия предметов. Ситуацией, наиболее способствующей
пониманию названий предметов, является зрительное восприятие и
рассматривание этих предметов23. Очевидны активность и
самодеятельность ребенка в произнесении первых слов, которое
начинается с конца первого года жизни. Это больше чем память, это
порождение. Если это и воспроизведение, на чем настаивал Гумбольдт, то
акцент должен быть поставлен на произведении. М. К. Мамардаш-
вили говорил об этом как о вое-произведении. Семенной логос делает
свою работу, итогом которой станет язык как культурное растение.
23 Там же. С. 89-90.
220
Раздел III
И здесь взрослый должен правильно оценивать степень своего
участия в такой работе. 30 лет тому назад мы с М. К. Мамардашвили,
анализируя работу индивида по построению движения и действия,
писали: «Высаживая семя в почву, мы ведь не пытаемся заменить
собой, своими рассуждениями ее волшебную органическую химию,
то есть представить продукт живой, hic et nunc, организации работы
звеном аналитической последовательности вывода. Вряд ли какой-
либо биолог сочтет такую работу эпифеноменом!»24 Движение,
образ, язык, равно как и психика в целом, не говоря уже о личности,
самостроятся, саморазвиваются. Конечно, это происходит в
социальной ситуации развития и благодаря ей, а нередко — вопреки. Но
какой бы она ни была, она должна быть.
Так или иначе, но, по словам Гумбольдта, человек внутренне
срастается с языком. Поэтому, например, «поэзия и философия
затрагивают самые глубины души человека»25. Такое срастание
обеспечивает удивительно точную координацию слова и движения
(мимики, жеста). В обыденной жизни для ее достижения не нужен
режиссер или дирижер. Слово не разъединяет природу и человека,
а, напротив, единит их: «Обозначение отдельных предметов
внутреннего и внешнего мира глубже проникает в чувственное
восприятие, фантазию, эмоции и, благодаря взаимодействию всех их,
в народный характер вообще, потому что здесь природа поистине
единится с человеком, вещественность, отчасти действительно
материальная, — с формирующим духом»26.
На мой взгляд, изложенного выше достаточно для заключения,
что у человека с самого раннего детства все языки становятся
вербальными, поскольку их оплодотворяет проникающее в их
внутреннюю форму слово. Внутри них оно созревает и растет.
Косвенным подтверждением этого является хорошо известный взрывной
характер начала детского говорения (М. Монтессори называла это
эксплозией детского языка), когда ребенок захлебывается в словах
и фрустрирует по поводу непонимающего взрослого. Потребность
ребенка в языке становится одной из самых сильных. В. Гумбольдт
характеризовал ее как душевное требование облечь и вынести в
звук все, что только воспринимается и ощущается. Значит, уже в
самом раннем детстве происходят два стремительно идущих и
противоположно направленных процесса — окультуривание натураль-
24 Зинченко В. П., Мамардашвили М. К. Проблема объективного метода в
психологии // Вопросы философии. 1977. № 7. С. 114
25 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 106.
26 Там же. С. 104.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 221
ных (в терминологии Л. С. Выготского) функций и натурализация
культурных (ср.: Иосиф Бродский — Скорость внутреннего
прогресса быстрее, нем скорость мира). Поэтому-то мы говорим о культуре
как о второй, а по сути надо бы говорить о первой природе
человека. Б. Паскаль оптимистически говорил, что «все можно сделать
естественным». Собственно, нечто подобное происходит в
развитии. Культура оестествляется, перестает быть искусственной. Иное
дело, что, забирая у природы порождающие силы, она становится
способной производить, порождать искусство. При всем желании
культура не может исчерпать природные силы. Поэтому О.
Мандельштам имел основание сказать, что «культура всегда больше
себя самой на докультурное сырое бытие».
Приведенные размышления позволяют иначе взглянуть на весь
ход духовного и психического развития ребенка. Слово
изначально становится не только важнейшим жизненным фактом, но и
актом, духовным и культурным. Это ставит под сомнение наличие
у ребенка не только «чистой» чувственности, но и наличие у него
натуральных, примитивных психических функций. О
«примитивности» А. Белый проницательно заметил: «Современные дикари —
не остатки примитивного человека, а дегенераты когда-то бывших
культур».
Развитие ребенка начинается с «верхнего до», с образования
духовного, символического слоя сознания, с «вершинной
психологии», с конгениальности младенца высшим проявлениям
человеческого духа, выражающимся в материнской любви к своему чаду.
Вот что об этой любви писал И. Бродский:
Это ты, горяча,
ошуюу одеснуюу
раковину ушную
мне творила, шепча.
Это тыу теребя
шторуу в сырую полость
рта вложила мне голос;
окликавший тебя.
«Глубинная психология» со всеми ее каверзами, внешними и
внутренними распрями, возникает в ходе развития много позже.
Философскую и психологическую аргументацию сказанному мы
находим у Шпета. Его мало заботили проблемы конечного
объяснения и поиска химерической первопричины духа. Он, как и
Гумбольдт, видел реальность духа как первично данного только в
222
Раздел III
объективном, культурно-историческом его проявлении: «Мы не
только знаем его по его проявлениям, но и на самом деле он есть
не иначе, как в своих проявлениях. Ограничивая сферу духа его
культурно-историческим бытием и деянием, мы не можем
выходить за пределы его действительного объективного, в истории
данного, бытия. Дух начинает быть и есть только в выражении, он есть
само выражение, — вот это внешнее, материальное выражение!»27
Настоящая выписка извлечена из статьи Шпета «Литература»
(1929 г.). Автор рассматривает ее как выражение и объективацию
народного духа. Но дух имеет и другие, более интимные формы
своего выражения, например в материнской любви. В 1920 г. Шпет
пишет своей ученице и другу Н. И. Игнатовой: «У меня есть статья
(я люблю ее больше других) «Сознание и его собственник», в ней
я силюсь доказать, что Я не может определять себя без помощи
другого, что в собственном существовании Я удостоверяется через
другого... И тут метафизика любви. Эмпирически мать
удостоверяет, что я родился, без нее я не был бы в этом «уверен», она только
знает это, как следует знает. Через любовь ко мне я удостоверюсь
в своем существе, это — второе рождение. И вот где Ужас:
почувствовать трепет своего бытия, и быть брошену в сомнения, в
неуверенность в нем, в бытии самой сущности. Себя. А сколько таких
проходит мимо нас: ненастоящих, иллюзорных! Ужас: сознавать
свою иллюзорность!»28
«Второе рождение» в младенчестве было сюжетом А. Белого
(«Котик Летаев»), Вяч. Иванова («Младенчество») и много позже —
предметом пристального внимания психоаналитиков: 3. Фрейд,
М. Кляйн, В. Биона, Д. Винникота, Э. Эриксона, Ж. Лакана и др.
«Второе рождение» (столь же символическое, как и любой акт
рождения), или начало идентификации, понимаемой в том смысле, в
каком этот термин используется в психоанализе, видимо,
происходит очень рано. Идентификация предшествует и готовит стадию
зеркала, начало которой Ж. Лакан датирует 6-месячным
возрастом. Она предшествует возникновению чувства базового доверия
(Э. Эриксон) и возникновению иллюзии омниопотентности—
всемогущества (Д. Винникот). Идентификация и сопровождающие
ее чувства строятся в пространстве «Между Я—Ты» (М. Бубер), и
в нем же, благодаря совокупному действию младенца со взрослым,
27 Шпет Г. Г. Литература // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды
по философии культуры. М., 2007. С. 170.
28 Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г.
Щедрина. М., 2005. С. 349-350.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 223
создается представление о себе. Ребенок начинает видеть себя в
другом, он удваивает себя благодаря другому, создает
символическое зеркало «Я» как инструмент идентификации. И пользуется им
до конца жизни.
В конце концов, не столь важно, какое из многочисленных
событий жизни младенца представляет собой точку схождения
природы и культуры. Существенно, что такая точка находится именно
в этом нежном возрасте, когда младенец, порождая знаки,
понятные взрослому, творит культуру.
Некоторые следствия гетерогенеза языков описания реальности
Ограничимся отрывочным и эскизным описанием развития
языка в течение первого года жизни ребенка. Дальнейшее его
развитие изучено психологами и лингвистами. Приведу лишь метафору
Гумбольдта, которая в одинаковой мере пригодна для описания
исторического и онтогенетического развития языка: «Если
можно позволить себе такое сравнение, язык возникает подобно тому,
как в физической природе кристалл примыкает к кристаллу.
Кристаллизация идет постепенно, но повинуясь единому закону...
Когда такая кристаллизация заканчивается, языки как бы достигают
зрелости»29. Эта метафора интересна тем, что она дает наглядное
представление о том, что в гранях слова-кристалла (независимо от
того, выступает оно в своей внешней или внутренней форме)
отражаются естественно, в превращенном виде, многие
перцептивные и операциональные категории. Мало того, согласно
Гумбольдту, «язык не просто переносит какую-то неопределенную массу
неопределенных элементов в нашу душу; он несет в себе ещё и то,
что предстает нам во всей совокупности бытия как форма»30.
Существенно также то, что эта форма не продукт абстрагирующего ума,
она имеет реальное бытие.
Когда же внутреннее слово «вынырнет» на поверхность,
найдя свою внешнюю форму, чтобы воплотиться в ней, оно сократит,
свернет и сохранит, но теперь в качестве своей внутренней формы
те внешние формы действия, образа, в создании которых оно
участвовало и в лоне которых оно само созревало и развивалось.
Например, предметный остов, входящий в структуру слова,
складывается благодаря ассимиляции последнего перцептивно-моторным
29 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 162.
30 Там же. С. 81.
224
Раздел III
опытом оперирования предметом. В структуре слова Шпет
находил место и образу (как sui generis внутренней поэтической форме)
между звукословом и логической формою. (Как самостоятельный
предмет изучения он поместил образ между «вещью» и «идеей»31,
т. е. там же, где П. А. Флоренский помещал символ.) Хотя слово и
придает образу и действию форму, важно, что между словом и ими
нет «крепостной зависимости», на чем настаивали не только
ученые — Г. Г. Шпет и Р. О. Якобсон, но и поэт — О. Э. Мандельштам.
Все они как бы предвидели трудности, по сути — невозможность
понимания поэзии великим мнемонистом Ш., у которого была
именно такая зависимость32.
Слово не только придает форму чувственности и движению; оно
объективирует их. Позволю себе привести важнейшие положения
Гумбольдта33, дав их в изложении Шпета: «Деятельность органов
чувств должна синтетически связываться с внутренним действием
духа, чтобы из этой связи выделилось представление, стало, — по
отношению к субъективной способности, — объектом, и, будучи
воспринято в качестве такового, вернулось в названную
субъективную способность. Представление, таким образом,
претворяется в объективную действительность, не лишаясь при этом своей
субъективности. Для этого необходим язык, так как именно в нем
духовное стремление прорывает себе путь через губы и возвращает
свой продукт к собственному уху. Без указанного, хотя бы и
молчаливого, но сопровождающегося содействием языка, претворения
в объективность, возвращающуюся к субъекту, было бы
невозможно образование понятия, а следовательно, и никакое мышление»34.
Речь идет не просто о мгновенном возвращении, но прежде всего
об отодвигании во времени решающих и исполнительных актов
по отношению к окружающей действительности, в том числе
удовлетворения собственных органических потребностей. Происходит
как бы удвоение и повторение явлений в зазоре длящегося опыта,
позволяющем сознательным существам обучаться, самообучаться
и эволюционировать. Образующиеся посредством слова в этом
зазоре ментальное пространство, сознание, психические интенцио-
нальные процессы (название не имеет значения) с самого начала
представляют собой не отношения к действительности, а отноше-
31 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 264.
32 Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. М., 1968. С. 35.
33 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 77—78.
34 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 333.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 225
ния в действительности. Другими словами, субъективность сама
входит в объективную реальность, является элементом ее
определения, а не располагается над ней в качестве воспаренного
фантома физических событий или эпифеномена. Субъективное не менее
объективно, чем так называемое объективное, говорил А. А.
Ухтомский. Соответственно, сознание с самого начала связано с
природными процессами, оно бытийно, со-бытийно и вместе с тем
рефлексивно и духовно. С этой точки зрения «пропасть»,
обнаруженная Выготским между словами и миром, оказывается мнимой,
во всяком случае ее нет изначально. Иное дело, что мы сами
вольны с помощью слов образовывать между ними пропасти,
громоздить барьеры, надолбы и рвы, а затем предпринимать неимоверные
усилия, чтобы с помощью тех же слов преодолевать созданные
препятствия.
Вернемся к повторению и удвоению опыта. Слово возвращается
к субъекту, напитавшись и наполнившись аффективным,
предметным и операциональным содержанием, превращенным в его
внутренние формы.
Есть «отодвигание и удвоение» другого рода — когда слово
обогащается в диалоге. Гумбольдт, как бы предвидя исследования
M. M. Бахтина о диалогизме и полифонии сознания, писал:
«Членораздельный звук льется из груди, чтобы пробудить в другой
личности отзвук, который возвратился бы снова к нам и был
воспринят нашим слухом. Человек тем самым делает открытие, что вокруг
него есть существа одинаковых с ним внутренних потребностей,
способные, стало быть, пойти навстречу разнообразным
волнующим его порывам. Поистине предощущение цельности и
стремление к ней возникают в нем вместе с чувством индивидуальности и
усиливаются в той же степени, в какой обостряется последняя, —
ведь каждая личность несет в себе всю человеческую природу,
только избравшую какой-то частный путь развития... Стремление к
цельности и семя негасимых порывов, заложенное в нас самим
понятием человечности, не дают ослабнуть убеждению, что отдельная
индивидуальность есть вообще лишь явление духовной сущности в
условиях ограниченного бытия»35.
Благодаря своей полноте и насыщенности слово содействует
экстериоризации образа, действия или их вместе, а возможно, и
овнешнению души. И тогда слово занимает место в их внутренней
форме (В. В. Розанов сказал: «В моей походке душа». И добавил:
«К сожалению, у меня преотвратительная походка»). Возвращение,
Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 64.
226
Раздел HI
объективация реальности есть формы субъективной
деятельности, создающие объект мышлению. И мышление, и объект следует
понимать в самом широком смысле этих слов. Художник в своем
произведении возвращает себе свой образ, а нам демонстрирует
способ и избыток своего видения. Подобное происходит с
движением, о чем давно писали выдающиеся театральные режиссеры.
А. Я. Таиров, обсуждая проблему взаимоотношений актера и
образа, решал ее, привлекая понятие «кинестетическое чувство»:
«Актер умеет себя видеть (без зеркала), слышать (без звука).
Поговорка — «не увидишь, как своих ушей» - для актера
недействительна. Должен видеть свои уши, себя, улыбку, движение, все, даже с
закрытыми глазами, — упражнять это — видеть себя в лесу, на
веранде, в комнате, на горе, в море, на снежной вершине — видеть, а
не представлять. Слышать свой голос, мелодику речи, интонации,
ритм, futre, pruno, crescendo и т. д.»36. Е. Шахматова, комментируя
теорию и практику Таирова, пишет: «Сверх-актер, пытающийся
осознать внешнее проявление эмоций, должен был это шестое, а
по Таирову, "кинестетическое чувство" — "контрольную и
диспетчерскую инстанцию", которая управляет отбором и степенью
проявления технических средств, развить в себе до
автоматизма. Поразительно совпадение этого принципа таировской
эстетики с мейерхольдовским "зеркаленьем". "Это кинестетическое
чувство, — цитирует автор историка Камерного театра К.
Державина, — уподобляется внутреннему зеркалу, в котором актер
видит форму своего движения"»37. В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров,
Л. С. Курбас, равно как и Г. Г. Шпет в своих работах о театре,
раскрывали механизм построения образа и его участия во внутренней
форме сценического действия, в котором, разумеется, участвовало
и слово. Примечательна характеристика такого участия в
пантомиме, которую дал Таиров: «Пантомима — это представление такого
масштаба, такого духовного обнажения, когда слова умирают и
взамен их рождается сценическое действие»38. Слово, конечно, не
умирает, оно наряду с образом становится внутренней формой
сценического действия.
«Кинестетическое чувство» А. Я. Таирова, «ощущение
порождающей активности» M. M. Бахтина сродни «артикуляционному
чувству» В. Гумбольдта, и все они представляют собой необходимое
36 Таиров А. Я. Записки режиссера. Статьи, беседы, письма. М., 1970. С. 56.
37 Шахматова Е. Режиссерский артистизм А. Таирова и традиции восточных
искусств в восточном театре // Метаморфозы артистизма. М., 1997. С. 147.
38 Таиров Л. Я. Записки режиссера. Статьи, беседы, письма. М., 1970. С. 91.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 227
условие видения действия, будь оно вербальным или моторным,
изнутри, о котором говорил Н. А. Бернштейн.
Не стану перегружать текст изложением психологических
механизмов «зеркаленья» (В. А. Лефевр и Б. Д. Эльконин
предпочли термин «экранирование»), проводившихся А. В. Запорожцем и
М. И. Лисиной, Н. Д. Гордеевой, Б. Д. Элькониным, Д. Б. Элько-
ниным и автором этих строк. Мне важно было показать
доминирующее участие слова в подобных актах.
Языки действий, образов, входя в структуру слова, становясь
его внутренними формами, сохраняют свои динамические
свойства и не останавливаются в своем развитии. Такая логика не нова.
Б. Спиноза говорил о памяти как об ищущем себя интеллекте.
Интеллект (голодный ум) ищет или с помощью языка сам создает
новый объект своих размышлений. Мы с Н. Д. Гордеевой
рассматриваем живое движение как ищущий себя смысл. Видимо, и образ
предмета — это ищущее себя слово. Позднее само слово начнет
искать адекватные ему образы действия или художественные образы.
В последнем случае, согласно А. Бергсону, требуется максимальное
умственное усилие. Ученик и сотрудник Шпета — психолог и
художник H. H. Волков специально доказывал, что во внутреннюю
форму живописных произведений входит слово. Его учитель
говорил: «Пластика, музыка, живопись — словесны. Такова
внешность их; через словесность, присущую им, они действительны.
Это — реально-художественный язык»39. Итак, язык не просто
всесторонне пронизывает внутреннюю жизнь человека, но
проникает в нее изначально, точнее, строит ее. Из психологии развития
слишком хорошо известно, насколько пагубно не только на
речевом, но и общем развитии ребенка сказывается пропуск
соответствующего сензитивного периода и какие нужно предпринимать
усилия, чтобы наверстать упущенное. Изложенное выше
позволяет сделать заключение о гетерогенности слова, образа и действия,
а их становление и развитие назвать гетерогенезом. Ведущую роль
в нем играет слово. Хотя семенной логос — это слово до слова (и
не внутренняя, не автономная, не эгоцентрическая речь), но все же
слово. Семя логоса падает в благодарную чувственную почву,
возделываемую живым движением и орошаемую эмоциями.
Посредством чувственности, движений, эмоций оно впитывает в себя мир
и вырастает в плодоносящее древо языка. Его носителя M. M.
Бахтин характеризовал как «выразительное и говорящее бытие. Это бы-
39 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 197.
228
Раздел III
тие никогда не совпадает с самим собою и поэтому неисчерпаемо в
своем смысле и значении»40. Основанием для такой оценки Бахтину
служили бездонность слова (если только она не заведомая ложь),
незавершенность диалога как единственно адекватной формы
словесного выражения подлинной человеческой жизни. Добавим к
этому незавершимость образа и открытость его миру, а также
неукротимость живого движения и действия, будь оно социальным или
предметным. Все это создает напряжение, побуждающее душевные
порывы, которые воплощаются в произведениях.
На этом закончим по необходимости отрывочную
аргументацию того, что слово есть главный принцип познания. Возможно,
Шпет не нуждался бы в ней, но мне она была нужна для лучшего
понимания его утверждения.
Разумеется, слово и главный принцип организации
человеческой деятельности. Не только человек овладевает словом, но и
слово овладевает им. В. Гумбольдт был прав, говоря, что «язык сильнее
нас». Это настолько верно, что слишком часто человек вместо того,
чтобы пользоваться словом как орудием, сам становится орудием
или органом языка. Хорошо, если таким органом становится поэт,
а не, например, щедринский органчик или чеховский чиновник, не
знавший, что значит встретившийся в тексте восклицательный знак.
Метафора «плавильного тигля»
Обратимся к метафоре плавильного тигля (melting pot) В.
Гумбольдта, которая может быть представлена как некоторое
виртуальное, но вполне функциональное пространство или образно-
концептуальная модель проблемной ситуации, в котором
переплавляются, смешиваются, разъединяются, вновь
соединяются и приобретают новые очертания внутренние формы слова,
образа и действия. В тигле «внутренний огонь, пламенея то больше, то
меньше, то ярче, то приглушенней, то живее, то медленней,
переливается в выражение каждой мысли и каждой рвущейся вовне
череды образов»41. Л. Витгенштейн, более чем 100 лет после
Гумбольдта, в письме Б. Расселу использовал ту же метафору: «Моя логика
вся в плавильном тигле (in the melting pot)». Позже он
комментировал ее: «Через полмесяца из расплавленной неопределенности
40 Бахтин M. M. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин M. M.
Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 8.
41 Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 105.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 229
выделяются очертания, совсем не похожие на то, что понимал под
логикой Рассел»42. Замечу, что в плавильном тигле Витгенштейна
переплавились в неопределенность, в некий, видимо,
плодотворный хаос именно логические формы. М. К. Мамардашвили говорил
о переплавке и кипении в «котле cogito»: «Без огня нет формы. Мы
ведь глине придаем форму только огнем».
Что же представляет собой реальность или «материя»,
находящаяся в этом «громокипящем кубке» (Ф. Тютчев), в недрах или в
ядре духа, где творится внешняя или наружная жизнь? Ответ
вытекает из изложенного выше: переплавляются внутренние формы
слова, действия и образа, находящиеся в тигле. Каждая из
рассмотренных форм может быть представлена как органическая
молекула, в которой образ, слово и дело связаны друг с другом
посредством омывающей их «кровеносной системы смысла» (метафора
Шпета). Образ, слово и действие входят в соответствующие
внутренние формы не названиями, а своими же собственными и, как
показывает экспериментальная психология, сложнейшими
структурами, хотя и свернутыми. Это уже не наблюдаемые, например,
сенсомоторные схемы, а моторные программы, подобные
«семенному логосу». Последний не только зародыш развития, но и
функциональный зародыш актуализации. Такие программы имеются в
сфере перцепции, моторики и речи. Замечу, в дарвиновской
трактовке выразительных движений, поз и мимики шла речь о том, что
переживания являются значениями «мышечных формул».
Прежде чем характеризовать моторные программы,
остановимся на аргументации Шпета по поводу того, почему именно
внутренним формам, а не так называемому содержанию следует
уделять главное внимание при эстетическом анализе поэзии и прозы,
что, на мой взгляд, имеет более общее значение и
непосредственно относится к анализу творчества. Замечу, что Л. С. Выготский,
слушавший лекции Шпета и работавший в его семинаре, в книге
«Психология искусства» и в других произведениях игнорировал
понятие «внутренняя форма» и в соответствии с эстетической
традицией разворачивал драму психологии искусства, основываясь на
понятиях формы и содержания. Он рассматривал художественное
творчество как преодоление содержания формой, что само по себе
чрезвычайно интересно. Но, согласно Шпету, всякое
«неопределенное содержание», от которого исходят, есть сложная структура
форм, из коих каждая имеет соотносительное «содержание».
Сказанное справедливо независимо от того, представлено ли «содер-
42 Бибихин В. В. Витгенштейн: смена аспекта. М., 2005. С. 29.
230
Раздел III
жание» вовне или внутри. Шпет настаивает на том, что внутренние
формы, руководимые реализуемой в слове идеей
прагматического, научного, поэтического сообщения об объективных вещах и
соотношениях, также объективны: «Внутренние формы вообще
суть объективные законы и алгоритмы осуществляемого смысла,
это — формы, погруженные в само культурное бытие и его
изнутри организующие»43. Значит, внутренние формы — это не
кокетливый ахматовскии сор, из которого растут стихи, не шевелящийся
хаос и не диффузное содержание. Иное дело, что они энергийны,
динамичны, подвергаются (под руководством идеи) декомпозиции
(если угодно — деконструкции) и композиции — претворению и
преображению.
Сказанное Шпетом о динамичности логических внутренних
форм слова относится и к внутренним формам образа и действия,
где есть своя логика и своя динамика, как минимум внутренняя
упорядоченность. Она постепенно вскрывается когнитивной
психологией и психологией действия. Онтологические внутренние
формы слова не только оплодотворяют онтические формы образа
и действия, но и кое-что заимствуют у них. Как показывают
исследования движения и действия, онтическое не обязательно дореф-
лексивное (это отдельная проблема, заслуживающая специального
изложения).
Вернемся к плавильному тиглю. В нем, конечно,
преодолевается содержание, но содержание уже оформленное, пусть и
распавшееся на отдельные фрагменты, осколки форм, но осколки,
омытые «кровеносной системой смысла», сами ставшие молекулами,
каплями, атомами смысла, его «материей». Их «рой превращается
в строй» (А. Белый), возникает новая форма, которую Шпет
называл формой форм. Его можно упрекнуть в избыточном логизме
трактовки творчества, но это следует воспринимать как реакцию
на распространенные и до наших дней иррациональные, вплоть до
мистических, его трактовки. Впрочем, он не отрицал его
спонтанности: «Начиная с момента выбора сюжета и до последнего
момента завершения творческой работы, стилизующая фантазия
действует спонтанно, однако, каждый шаг здесь есть вместе и рефлексия,
раскрывающая формальные и идеальные законы, методы,
внутренние формы и пр., усвоенного образца»44. Рефлексия в
контексте спонтанного творчества понимается Шпетом как особая санк-
43 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М, 2007. С. 489.
44 Там же. С. 497.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 231
ция — смысловая. Не только для психологии творчества, но и для
психологии в целом такое совмещение спонтанности и
рефлексивности беспрецедентно и освобождает науку от гнета
бессознательного. Это не так легко. Соблазн бессознательного слишком велик.
Например, представитель постструктурализма Ю. Кристева
помещает изобретенный ею «генотип слова» в якобы неподвластное
кодам и структурам бессознательное.
Как следует из изложенного, внутренние формы гетерогенны,
т. е. каждая из них не является «чистой культурой». Парадокс и
загадка состоят в том, как подобный гетерогенез, опирающийся на
множественные гетерогенные формы, в итоге, так сказать, на
выходе, дает «чистые культуры» — внешние формы, порождает,
«выплавляет» стиль. Стиль слова, живописи, скульптуры, танца,
мышления и мысли, стиль поведения, наконец.
За каждым произведением угадывается (или не угадывется)
богатое внутреннее содержание, богатство скрытых за ним
внутренних форм. Не случайно Леонардо да Винчи сказал о живописи, что
она есть «cosa mentale» — ментальная вещь, то есть она, по
определению, тоже гетерогенна. Сумеем ли мы увидеть в произведении
искусства его волшебную алхимию, сумеем ли проникнуть,
увидеть за его чистейшими формами «бахрому» их внутренних форм,
их смысл и значение? Это уже проблема нашей внутренней
культуры, вкуса, богатства или бедности нашей собственной
внутренней формы.
Викарные действия с не реализуемыми вовне моторными
программами
Мне осталось обсудить последний по очереди, но не по значимости
вопрос. С каким опытом психологии соотносятся представления о
внутренних формах слова, действия и образа? Казалось бы, прежде
всего понятие внутренней формы соответствует широко
используемому в философии и психологии понятию «схема». Примером
могут служить «схемное видение» (Декарт); «трансцендентальная
схема» как инструмент продуктивного воображения (Кант);
«динамическая схема» (А. Бергсон); «мнемическая схема» (Ф. Бартлет);
«сенсомоторная схема» (Ж. Пиаже). Общеупотребительными
стали термины «перцептивные», «оперативные», «концептуальные
схемы» и т. д. Шпет весьма скептически относился к рассудочному
схематизму Канта, так как рассудок он с самого начала понимает
как глухонемой и бессловесный. Шпет приводит и высказывание
232
Раздел III
самого Канта, который называет схематизм «некоторым скрытым
искусством в глубине человека»45. Мне кажется, что и психологи
вместе с философами и методологами схематизировали понятие
«схема»: оно стало чем-то вроде повисшего в пустоте
объяснительного принципа, «схематизма» психологического сознания, хотя это
понятие само нуждается в объяснении и конкретизации. По
мнению Шпета, понятие «внутренняя форма» Гумбольдт ввел как
оппозицию кантовскому понятию «схема».
Внутренняя словесно-логическая форма — не схема, не
формула, а закон самого образования живого понятия, т. е. закон
движения как развития, последовательную смену моментов которого
Шпет называет диалектической сменой. Такая смена отображает
развитие самого смысла: его преображение, даже пресуществление
(как воды в вино). Шпет умножает эпитеты. Внутренняя форма —
прием, способ, метод формирования слов-понятий. Не только.
Внутренняя форма — это отношение внешней сигнификативной
формы и предметной формы вещного содержания. Отношение, а не
условная связь, не рефлекс, не сигнал сигналов, не ассоциация.
Отношение, которое нужно понимать как движение и жизнь
внутренней формы, как развитие, осуществляющееся в способах
соотнесения сигнификата и предметной формы. Открывающиеся в языке
законы связаны друг с другом, но и согласованы и взаимодействуют
с законами созерцания, мышления, действия, чувствования. Эти
законы называются также живым комбинированием,
интеллектуальными алгоритмами-приемами и, наконец, характеризуются как
пути46. «Движение» и «путь» — это ключевые слова для
дальнейшего изложения (к ним можно лишь добавить «жизнь» и «истину»).
После конкретизации Шпетом понятия «внутренняя форма»
возвращение к понятию «схема», даже с указанием на ее
динамичность, едва ли целесообразно. Сказанное не означает, что нужно
игнорировать накопленное психологией позитивное содержание,
которое имеется, например, в понятии «сенсомоторная схема» и
ему подобных.
Если внутренняя форма есть движение и путь, попробуем
разобраться, какими средствами они осуществляются и
достигаются. Представим себе, что мы совершаем (проигрываем) некоторое
действие до действия, произносим слова во внутренней речи,
оперируем или манипулируем некоторым зрительным образом. Если
последнее представить трудно, то поверим, что это легко делают
45 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 433.
46 Там же. С. 418.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 233
дети-эйдетики и многие взрослые. При совершении таких
доступных самонаблюдению актов многократно регистрировались элек-
тромиограмма (в первых двух случаях) или движения глаз в случае
зрительного представливания47. Значит, то, что обычно называют
«внутренним действием» (исполнительным, речевым,
перцептивным, умственным) или «действием во внутреннем плане», — не
метафора, а действие, имеющее собственную доступную регистрации
эффекторику. Так называемое внутреннее оказывается внешним.
Регистрируемые движения интерпретируются двояко. Во-первых,
как приведение соответствующих систем (виртуальных
функциональных органов — в терминологии А. А. Ухтомского и Н. А. Берн-
штейна) в динамическое состояние готовности к выполнению
действий. Во-вторых, как викарное, т. е. замещающее оперирование,
манипулирование с реальными объектами и тем не менее дающее
вполне реальный, осязаемый результат. Викарные действия
должны обеспечиваться соответствующими, построенными ранее
моторными программами. Естественно, на совершение викарных
действий откликается не только периферия, но и соответствующие
области мозга, что давно и хорошо известно по многочисленным
записям ЭЭГ. А теперь представим себе (а скорее, поверим), что
подобные действия человек совершает в интервалах времени,
недоступных самонаблюдению, совершает с высокой скоростью и
продуктивностью. Иногда они недоступны даже самоощущению, т. е.
им не сопутствуют ощущения порождающей активности.
Данными об этом полна когнитивная психология, психология действия,
психология искусства, психология шахматной игры и т. п. В такие
«темные» для сознания мгновения совершаются многочисленные
преобразования знаково-символической и образной информации.
Для получения достоверных данных («откликов») о возможных
физиологических механизмах осуществления таких актов
недостаточна разрешающая способность методов психофизиологии и
нейропсихологии. С их помощью устанавливаются лишь факты
изменения активности тех или иных структур мозга. Зато достаточна
разрешающая способность психологических методов
микроструктурного и микродинамического анализа когнитивных и
исполнительных актов, дающих вполне достоверные и объективные
результаты48. Ограничусь двумя примерами.
47 Зинченко В. Я., Вергилес Н. Ю. Формирование зрительного образа. М., 1969;
Зинненко В. П. Живое время (и пространство) в течении философско-поэтической
мысли // Вопросы философии. 2005. № 5. С. 20—46.
48 Зинченко В. П. Порождение и метаморфозы смысла. От метафоры к метаформе //
Точки-Puncta. 2007. № 1. С. 80-115.
234
Раздел III
Первый — из сферы шахмат. Когда профессионального
шахматиста-гроссмейстера попросили запомнить фигуры и их
расположение, показав ему на 0,5 секунды сложную шахматную
позицию, он ответил: «Я не запомнил ни того, ни другого, но могу
сказать, что позиция белых слабее» (устное сообщение В. Б. Мал-
кина). Это хороший пример извлечения смысла ситуации без
кропотливого анализа значений. Нечто подобное, видимо, происходит
в сеансах одновременной игры на многих досках вслепую.
Второй — из сферы арифметических операций. Не буду
ссылаться на феноменальных «счетчиков» — они вне научной
интерпретации. Но есть, так сказать, профессиональные счетчики —
энтузиасты клубов и школ абака (от латинского abacus — разновидность
счета), распространенных в Японии. Абак — это внешнее средство
счета. Число на нем записывается в виде конфигурации бусинок.
В результате обучения абак становится внутренним (или
собственным) средством деятельности и работа на нем протекает во
внутреннем плане. Мастера абака оперируют числами со скоростью
5—10 в секунду. При умножении двух-, трехзначных чисел или
четырехзначного на двузначное число ответ дается в пределах пяти
секунд49. Еще более высокая скорость оперирования числами
получена в исследованиях кратковременной памяти50. При такой
скорости недостаточно времени для проговаривания чисел ни в громкой,
ни во внутренней речи. Попытки проговаривания во внутренней
речи резко снижают точность ответа. Аналогичные результаты
получаются при решении задач на манипулирование зрительными
формами (mental rotations). Значит, оперирование может
осуществляться с невербализированными программами слов, или с
^визуализированными программами знаков, образов, или, наконец, с
неактуализированными программами моторных действий,
выступающих носителями «невербального внутреннего слова».
Н. А. Бернштейн называл «словарь» двигательных блоков
(программ, схем) «депо» или «фонотекой», понимая корень слова «фон»
не как звук, а в буквальном смысле слова «фон». В зависимости от
задач моторные программы при своей реализации могут порождать
49 Hatano G. Commentary: Core domains of thought, innate constraints, and sociocultural
contexts // H. M. Wellman and K. Inagaki (Eds.), The Emergence of Core Domains of
Thought: Children's Reasoning About Physical, Psychological, and Biological Phenomena.
(San Francisco: Jossey-Bass). P. 71—78; Коул М. Переплетение филогенетической и
культурной истории в онтогенезе // Культурно-историческая психология. 2007. № 3.
50 Вучетин Г. Г., Зинченко В. П. Сканирование последовательно фиксируемых
следов в кратковременной зрительной памяти // Вопросы психологии. 1970. № 1.
С. 39-52.
« Внутренняя форма слова» : пересечение исследовательских перспектив 235
или действие, или образ, или слово. Здесь возникает много
вопросов, заслуживающих специального исследования и обсуждения.
Являются такие программы амодальными, полимодальными или
специфическими? Например, если в плавильном тигле внутренние
формы представлены специализированными моторными
программами, то возможно установление между ними отношений по типу
смыслового резонанса. Последний обеспечивает эффект языкового
пула, о котором говорилось выше.
Главная мысль состоит в том, что именно викарные действия,
совершаемые с не реализуемыми вовне моторными программами,
обеспечивают динамику внутренних форм, о которой постоянно
говорил Шпет. В соответствии с изложенной логикой рассуждения
нереализованные моторные программы, имеющие отношение к
образу или действию, тоже представляют собой невербальное
внутреннее слово. Все они вместе с внутренней формой слова per se
обеспечивают и работу плавильного тигля, в котором происходит
переплавка внутренних форм и порождение нового слова, нового
образа или нового действия, т. е. произведения, наполненного
(напоенного) своими внутренними формами (формами форм).
Родившееся произведение есть вызов нашей способности вчувствования,
понимания и интерпретации, способности «вглядываться в строки,
как в морщины задумчивости» (Р. М. Рильке). Остановлюсь на том
месте, с которого нужно начинать новый разговор о механизмах
(плохое слово) или о драме творчества.
H. Завьялов
Когнитивные науки, понятие эволюции
и шпетовское понятие внутренней
формы слова
В своей работе «Внутренняя форма слова» Г. Г. Шпет
анализирует и разрабатывает понятие «внутренняя форма слова»,
усваивая и перерабатывая философские и лингвистические
размышления немецкого филолога В. фон Гумбольдта.
Сегодня это понятие позволяет нам приступать к
рассмотрению ряда вопросов, которые вызывают дискуссии в области
лингвистики, психологии, когнитивных наук. Среди таких
вопросов — отношение между логикой и воображением
(«неопределенностью»), отношение между процессом мышления и эмоциями,
роль субъективности, роль языков социализированного и
биологического тел, проблема «антропогенеза мысли» и «языка животных».
Идеи Шпета открывают перспективу эффективного обсуждения
этих актуальных ныне тем еще и потому, что среди принципов,
методологически основывающих его манеру истолкования и
корреляции явлений, особая роль принадлежит междисциплинарности.
Сегодня поле взаимодействующих в указанной области дисциплин
расширилось: кроме дисциплин, к которым обращался Шпет,
появились антропология («история» доисторического общества), ней-
робиология, информатика и др.
Классическими принципами когнитивных нейронаук (в 1960—
1970-е гг.) становятся следующие:
1) «распределённый» и «параллельный» характер обработки
информации в сенсорной системе,
2) роль деятельности в приобретении знаний,
3) важность пластичности в образовании и функционировании
нервной системы.
1 Текст представлен автором как русский вариант доклада, сделанного на
французском языке. — Прим. ред.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 237
Шпет заявлял о том же в умозрительной форме, когда рассуждал
о связи «духовных» способностей (умственных, интеллектуальных)
и чувствительности (чувственного, эмоционального) у
действующего субъекта внутри социума. Термин «активное восприятие», о
котором идет речь во «Внутренней форме слова», превращается в рамках
современной лингвистики в «дистрибутивную предикативность»:
слова активно используются, когда человек познает вещи (объекты)
мира. Причем слова соответствуют не свойствам этих вещей (таково
объяснение Гумбольдта), но установлениям отношений между
свойствами этих вещей. По поводу третьего пункта: Шпет, конечно, не
говорит о пластичности в образовании и функционировании
нервной системы. Речь у него идет о сложной способности2 человека
актуализировать некоторые объективированные зависимости между
свойствами и некую логику, исходя из субъективного
психофизического поведения; или, напротив, субъективировать эти законы и эту
логику (внутреннюю форму) в конъюнктурных структурах
(исторических, лингвистических системах, внешних формах), из которых
именно вытекает конкретная внутренняя форма. Иными словами,
субъективность выступает здесь как своего рода формирующая сила,
которой не соответствует никакая внешняя форма. Имеются три
уровня корреляции, обосновывающие динамичность внутренней
формы слова в шпетовской семиотике. В данном случае речь идет об
общем принципе — порождении вариативности. Шпет заимствует
понятие внутренней формы у Гумбольдта, но объясняет его иначе:
безусловно, операции, связанные с внутренней формой слова,
происходят «в голове» говорящего субъекта, но все это не относится (как
у Гумбольдта и у Потебни) к психологической внутренней форме.
Первоначально когнитивные науки в трактовке отношений
познавательной способности и эмоций придерживались (под
влиянием структурализма) следующей теории: в структуре
индивидуума первенство отводится его внутренним ресурсам, а не влиянию
среды (это значит — мозговым ресурсам: нейронной и
эндокринной системам). Можно понять эти внутренние ресурсы как «дух»
(«Geist» у Гумбольдта), т. е. мышление, ментальную силу. Я
полагаю, что такую силу в свое время создал естественный отбор (у
Гумбольдта такого определения нет, хотя его понятие «geistig»3 не
то, что понятие «geistlich»4). Речь, однако, в данном случае не идет
2 Способность эта проявляется в формах мысли, речи, артистического, научного и
риторического (прагматического) творения и т. д.
3 Духовный; умственный (нем.). — Прим. ред.
4 Духовный, религиозный, церковный, богослужебный (нем.). — Прим. ред.
238
Раздел III
о внутренней силе, которую описывает Ламарк в рамках
трансформизма или эволюции (своего рода витализма); но речь не идет
еще и о роли среды, что, впрочем, Ламарк по-своему не отвергал.
Гумбольдт, вслед за А. Шлегелем, понимает язык как отражение
духа, который существует благодаря тому, что действует: «но
духовная деятельность имеет целью не только собственное возвышение,
этим путем она достигает и другой, внешней цели: возведение
научного здания миропонимания»5.
Шпет расценивал умственную деятельность как результат
языка «тел», находящихся в социальной среде; этот язык природных тел
(психофизических субъектов) обладает социальной значимостью.
Интересно, в частности, заметить, что в настоящее время в
исследовании психических, умственных состояний когнитивные нейронауки и
когнитивная психология сосредоточивают внимание на способах
выражения (экспрессии) мысли и эмоций Другому. Для Шпета
экспрессивность — центральное понятие, с помощью которого он
показывает, что познавать чувствительность Другого можно только тогда, когда
он выразит свое чувство (выражение здесь выступает как действенный
акт). Следовательно, если продолжить мысль Шпета, чувство, эмоция
есть семантическое содержание вербального выражения.
Идеи Шпета предвосхищают будущее. Конечно, он не
употребляет термины «нейронные карты» или «перечни запоминаемых
действий», хранящиеся в структурах головного мозга, он избегает
даже понятия «представление», поскольку он противник репре-
зентативизма. Шпет в своих рассуждениях, начиная с момента,
когда жизнь, так сказать, объявлена «живой», отвергает идею
абсолютного идеального образа, идею интериоризированных
когнитивных моделей (семантико-лингвистического характера),
идею совершенной модели-намерения, свойственной утопиям,
верованиям и идеологиям (и их мифам), или еще идею
универсальной схемы поведения. Для Шпета понятия и термины языка
конкретны, социально-материальны, они являются результатом
вербального (и невербального) общения между
социализированными субъектами (т. е. в моем понимании — социализированными
телами). Понятия и термины языка, с одной стороны, связаны со
внутренней формой (конкретной), которая является имманентной
использованию языков (лингвистических, языков жестов и т. д.), и
вместе с тем, с другой, они объективированы. Внутренняя форма
слова одновременно объективирована и субъективирована. Суще-
5 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 344.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 239
ственным является вопрос о процессах этого объективирования по
отношению к разным уровням (структурам) реальности, то есть,
в конечном счете, вопрос об особой внутренней силе,
объективирующейся в этих процессах. Внешние материальные формы
(форма сочетания, по Шпету) актуализируют эту внутреннюю форму в
качестве когнитивной (интеллектуальной) деятельности (научная
логика и поэтическая квазилогика), а также в качестве «сознания»,
«самоощущения», «эмоциональных переживаний»,
«пережитого», «ценностей» (к проявлению которых отсылает проблема
признания личности в рамках «этнической психологии»). Выражения
внутренних форм, как логических, так и поэтических, указывают
на присутствие субъекта в историческом времени и пространстве.
У Шпета «вербальное» перемещается из сферы чистого
«концептуализма» и чистой «естественности» (мы бы сейчас сказали: «чистой
генетики») в сферу конкретной социальности. Процесс
словообразования (и образования языка) Шпет объясняет посредством
вариативности смыслов культурных предметов. Культура, по Шпету, может
быть истолкована нами как своего рода среда, агент Эволюции.
Истолковывая Гумбольдта, Шпет выходит за рамки
классического структурализма, в частности, когда он предлагает идею, так
сказать, конъюнктурного структурализма: грамматические и
лексические формы и значения, продолжая развиваться в качестве
динамической системы, непрерывно порождают смысл. В
истолковании понятия внутренней формы Шпет, на мой взгляд,
руководствуется принципом вариативности, который встречается и в
научной литературе 1940-х годов (например, у российского ученого
И. И. Шмальгаузена), и сегодня в области биологии, нейробиоло-
гии, антропологии, этнологии.
В ходе более или менее стабилизированной
(среднестатистической) эволюционной динамики возникают некоторого рода
явления, которые вводят в игру отклонения, ответвления, разрывы,
степень и направление которых в эволюционном движении всего
живого придают значимость эффекту, так сказать, субъективности,
индивидуальности, воображения. Так, в конечном счете,
культурное приходит на смену биологическому, включая его, однако,
вполне реально в свои «истолковывающие» и преобразующие действия
(«история» доисторических времен говорит нам о существовании
нескольких видов человеческого рода).
В эволюционном движении параллельно с механизмами
наследственности существуют не только вредные или полезные
мутации определенных генов (из-за ошибок копирования или под
воздействием мутагенных агентов), существуют, кроме того, из-
240
Раздел III
менения на уровне проявления этих генов вовне. Речь идет о
механизмах, повышающих возможность появления наследственных
вариаций. Эти эпигенетические явления (в системе чтения
информации) являются не результатом изменений ДНК, но, в
зависимости от конкретных обстоятельств, следствиями случая или четко
установленных стимулов. Цвет некоторых мышат может меняться
в зависимости от питания матери и передаваться далее. Эти
эпигенетические явления, не изменяя последовательность генома, могут
привести к вариациям в экспрессии некоторых генов и к
изменениям функционирования генома. В качестве примера последствий
подобных вариаций можно назвать факт распространения гомини-
дов на поверхности всей Земли, что указывает на изменения в
экспрессии генов, отвечающих за прямохождение и развитость руки.
Это не генетическое изменение, а результат естественного отбора.
Здесь играет определенную роль среда. Но она действует не как
указано в положениях Ламарка, то есть на изменения характерных
черт взрослого человека, а на развитие зародыша, т. е. изменения
внешней среды приводят к вариациям на уровне экспрессии генов.
Следуя за Дарвином, синтетическая теория относила эти вариации
только к мутациям генов; сейчас теория «évo-dévo» (эволюция
развития) обращает внимание на реальное воздействие среды.
Таким образом, мы можем перенести идею порождения
вариаций в экспрессии генов в область культурной среды:
некоторые типы культурного поведения (не исключая здесь доли
случая) могут способствовать развитию и эволюции человека. У всех
живых существ объективируется внутренняя форма
употребляемых языков; внутренняя форма вербального языка предстает
как общая внутренняя форма всех языков человеческих (и
«нечеловеческих»). Но вербальный язык посредством внешних форм
придает иной смысл функциональным процессам, оперирующим в
этой внутренней форме на основе активного восприятия и
дистрибутивной предикативности информации. Об этом, на мой взгляд,
и говорит Шпет. В этой области функции и структуры не
являются неизменными. Здесь стоит говорить скорее о корреляции между
стабилизированными состояниями равновесия
(предполагающими ограничения, нормы, регулирование) и периодами изменений
(характеризующимися различными отклонениями, экзаптацией6,
6 В эволюционной биологии — процесс, посредством которого формы или
структуры, развившиеся в ходе эволюции, чтобы выполнять одну функцию,
кооптируются, чтобы обслуживать другие функции. Использование человеком языка для
говорения — хороший пример. — Прим. ред.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 241
творческими порывами, динамизмом). Эти соображения могут
быть сопоставлены с замечаниями Шпета об использовании
вербального языка, расцениваемого как поток, процесс и в то же
время как устойчивое состояние.
Это соотношение стабильного с нестабильным обнаруживается
и на уровне деятельности головного мозга. В случае специфического
синхронического употребления языка лингвистическим сообществом
или говорящим индивидуумом код состоит из внешних лексико-
грамматических и внутренних форм и, по мнению Шпета, никоим
образом не исключает вариативности форм и значений, передающей
влияние субъективности в образовании концептов, понятий и
терминов. В организации коры головного мозга можно выделить
неизменные элементы (доли, извилины и т. д.) и вариативные элементы на
молекулярном уровне (в системе нейронов). Активные процессы
обработки информации, идущие в головном мозгу, обнаруживают себя
на функциональном уровне — будь то процесс познания,
переживания, запоминания, поведения и т. д. Эти процессы служат
подосновой, обеспечивающей преобразование объективированных
внутренних процессов (а не готовых структур или моделей) в динамические
по своей сути внешние формы выражения (вплоть до символических
культурных объектов, которые динамичны и статичны
одновременно). Речь, например, беспрерывно рождает вариативность.
Шпет выходит за рамки классической логики и движется к
логике открытой, модальной, к логике возможного. Критикуя «рожи»
абстрактных субъектов, он, если продолжить его мысль,
«заставляет говорить» психофизического индивида (тело). Если следовать
шпетовской логике, то можно признать, что язык тела обладает
социальной значимостью. В отношениях между «телами» при
употреблении языка выделяется внутренняя форма слова (культурный
архетип), которая может быть интерпретирована как
объективированный продукт этого употребления, как творческая сила,
образующая форма, алгоритм (совокупность неопределенных программ).
Следовательно, внутренняя форма слова может быть
интерпретирована как процесс понимания объектов мира, оценивания
(эмоциональная мера этого понимания), запоминания и (чего нет у
Шпета!) реверсивной эффективности (возможности устранять
невыгодные формы адаптации). Эта внутренняя форма отсылает к
взаимодействию состояний «тел» и эмоциональных выражений
(телесные формы субъектов — «социальные объекты»),
реализуемых с помощью субъективации во внешние (языковые) формы
самого различного характера (символические области со
свойственными им кодами и более или менее закрытой логикой).
242
Раздел III
Гибкость языкового поведения зависит от
истолковывающего отношения, от некоего отрыва («отрешения») от реального, но
остается связанной конкретным и материальным образом с
«активным восприятием», с «дистрибутивной предикативностью» и с
«экспрессивностью» субъекта. Шпет отвергает идеи ментализма,
концептуализма, идею «духа», хранящегося «в голове». Речь у него,
говоря современным языком, могла бы идти о том, что мир явлен
нам постольку, поскольку мы воспринимаем его через множество
вариативных внутренних форм (в том числе посредством телесных
языков), передающих информацию. Информация эта, конкрети-
зируясь в «энергию», в формативную форму, порождающую форму,
соотносится с приспособительным (адаптивным)
взаимодействием, с активной социокультурной средой.
Человек обладает способностью обнаруживать изменения в
окружающей среде, одновременно оценивая их как приятные или
неприятные. Соответствующие позы (тела), связанные с
аспектами выражения (крики, мимика, вегетативно-нервные проявления
и т. д.), становятся знаками, показывающими сближение,
равнодушие или избегание. Эти знаки являются внутренними формами
одобрения (и в социальном, и в биологическом смыслах). В
частности, индивидуальное поэтическое воображение не «повторяет»
природу в силу той или другой степени выражения
предустановленного духа (как у Гумбольдта), а «конструирует» историческое
время, культурную память, что соответствует не только
сотрудничеству, но и разным стратегиям выживания.
В сфере лингвистики внутренняя форма (как объективация
распределенных, коллективных интеллектуальных способностей и
чувствительности, а не среднее арифметическое субъективаций)
имманентна социальному употреблению языка, научной или
артистической (поэтической) творческой способности, то есть
является продуктом межтелесных действий. Она участвует в образовании
знаний, сознания и своего собственного ощущения, учета
ценностей и памяти как формы выживания в культурном мире, в мире
знаков и вещей, в историческом времени и пространстве.
Этот механизм функционирования внутренней формы может
быть перенесен на уровень невербального языка, имеющего
биологические значения (размножение, питание, здоровье), в сферу
взаимодействующей «социальности» всех живых существ, что
позволяет выявить вариативность ограничений и культурного отбора.
Телесная интерактивность также имеет внутреннюю форму. А это
значит, что на уровне психофизического (в данном случае как
биологического) субъекта имеет место взаимодействие активно-
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 243
го восприятия и эпизодов памяти, производимых «двумя телами»
субъекта (социализованным и биологическим), язык которых
«обрабатывается» определенным способом на уровне полушарий
головного мозга в ситуациях и состояниях адаптации, производящей
вариативность.
Процесс физиологической «обработки» языка особенно
интересен на уровне функционирования зеркальных нейронов. Жесты,
вербальные или невербальные выражения «обрабатываются» как
элементы или последовательность элементов одними и теми же
структурами головного мозга (двигательная зона лобных долей).
Вербальное берет начало в языке жестов, в эмоциональном
выражении, в «языке» животных. Эта «обработка» языка передается на
уровне поведения через последовательность действий и
эмоциональных переживаний, вербальным и невербальным языком, а
также посредством культурной памяти.
À. A. Шиян
Онтологические основания
философии языка «позднего» Шпета
После написания «Явления и смысла» Шпет почти не
занимается непосредственно философскими проблемами
онтологии, теории познания, обоснованием
философских методов исследования. Но во всех своих конкретных
исследованиях Шпет опирается, явно или неявно, на
различные понимания действительности, которые можно назвать
онтологическими основаниями его философии.
В шпетовских работах мы выделяем два понимания «подлинной
действительности», которые противоречат друг другу. Эта
противоречивость приводит к неясностям и несогласованностям в шпетов-
ском исследовании языка.
Почти во всех работах Шпета, начиная с «Явления и смысла» и
заканчивая «Внутренней формой слова», присутствует понимание
действительности как действительности окружающего нас
социального мира. Исследование работ Шпета позволяет сделать
заключение, что социальная действительность для него — это прежде
всего действительность нашей повседневной жизни.
«Действительность — то, что есть, — всегда вокруг нас, — пишет Шпет в
работе "Мудрость или разум", — мы в ней и ею живем: страдаем, редко
радуемся, боимся, негодуем, боремся, любим, умираем»1.
Социальная действительность является миром нашего опыта, который
содержит в себе уже определенный смысл конкретных вещей,
отношений, ситуаций. Однако этот смысл не является полностью
выраженным и требует своего уточнения и прояснения.
Во «Внутренней форме слова» мир социального опыта представлен
как коммуникативная языковая действительность, и ее прояснением
является прояснение смысла слов, высказываний, предложений.
1 Шпет Г. Г. Мудрость или разум // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные
психолого-педагогические труды. М., 2006. С. 330.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 245
Обратим внимание на то, что в соответствии с
пониманием «подлинной действительности» как действительности
повседневной жизни каждое слово языка несет в себе смысл, то есть, по
Шпету, является понятием. Понятие «само имеет тенденцию, —
пишет Шпет, — хотя бы потенциально, покрывать все содержание
подразумеваемого под ним предмета. В таком случае, смыслом
является это содержание, раскрывающееся в словесной передаче
всегда только с большей или меньшей степенью исчерпанности и
до конца раскрывающееся лишь в некотором идеально-мыслимом
пределе»2. Смысл высказывания — это уже не смысл, который в
«Явлении и смысле» понимался как синоним сущности вещи,
неважно, является ли эта сущность статической — основным
свойством вещи или динамической — тем, как функционирует вещь.
Смысл во «Внутренней форме слова» определяется Шпетом как
содержание предмета. Под предметом он понимает некую общую
тему разговора, то, что имеется в виду в процессе коммуникации.
«Строго говоря, с точки зрения выражающего слова, — пишет
Шпет, — предмет есть лишь некоторое X, на которое
направляется или к которому приковывается наше внимание, некоторая
точка сосредоточения речи, всегда имеющаяся в виду при обсуждении
вещи того или иного вида бытия, как идеальная его форма, но,
следовательно, не уразумеваемая, а лишь подразумеваемая, как
единство уразумеваемого вещного содержания. Последнее-то и входит
в смысловое содержание речи, актом подразумевания никак не
конституируемое»3. Такое понимание предмета и смысла вполне
соответствует нашему опыту. Шпет исходит из ситуации
реального разговора, определяя предмет как точку сосредоточения речи.
В повседневной коммуникации мы редко говорим просто об
эмпирических вещах, но любой наш разговор имеет определенное
содержание и тему, или предмет. Смысл предмета речи, по Шпету, в
обычном разговоре не дан полностью, он должен быть уточнен и
развит в ходе дальнейшего его понимания.
Языковые формы, в которых устанавливается, выражается,
понимается, развивается смысл, Шпет называет внутренними
формами слова. То есть во внутренних формах слова смысл уже нам дан в
нашей повседневной коммуникативной ситуации, и одновременно
внутренние формы слова являются методом прояснения и
развития смысла предмета. Поскольку предмет принадлежит конкретно-
2 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 388.
3 Там же. С. 399-400.
246
Раздел III
му контексту повседневной коммуникации, то метод внутренней
формы слова можно считать методом прояснения и осмысления
повседневной действительности.
Внутренними формами слова Шпет также называет способ
образования понятий, учитывающий в отличие от формальной
логики конкретные ситуации, события, отношения. Онтологическим
основанием такого способа образования понятий также является
понимание действительности как действительности нашего опыта.
В соответствии с этим шпетовские внутренние формы слова не
обладают всеобщностью — в отличие от формы языка Гумбольдта, —
а всегда конкретны и определяются исходя из данной языковой
ситуации, из практического контекста употребления слов.
Подытоживая вышесказанное, попытаемся представить
ситуацию первичной данности действительности в нашем
коммуникативном опыте. В обыденной коммуникативной ситуации смысл
предмета речи дается во внутренних формах слова, однако не
является полностью выраженным и понятым. Для его установления и
уточнения требуется переход к специальной установке,
направленной на понимание смысла. Сам Шпет, специально не фиксируя
переход от установки обыденной речи к установке понимания
смысла, замечает в конце «Внутренней формы слова», что философия
доводит до сознания то, что уже известно из опыта4. Итак, исходя
из того, что говорится, мы направляем внимание на смысл
предмета, о котором идет речь.
Вышеизложенный подход к языку можно назвать
феноменологическим (в смысле Гуссерля), так как он основывается на нашем
опыте и не допускает использования различений, которые в нем не
даны (например, различие «эмпирическое и идеальное»). Это
означает, что нельзя исследовать язык в его отдельных функциях (в
номинативной функции, в функции значения и т. д.), так как,
переходя на язык Шпета, в нашем опыте нельзя обнаружить отдельно
внутренние и внешние языковые формы.
Однако во «Внутренней форме слова» и других работах
Шпета можно найти отдельное исследование внутренних и внешних
форм слова, различие идеального и эмпирического. За этим
стоят совершенно другие онтологические основания, для выявления
которых мы рассмотрим, как Шпет описывает движение смысла.
Говоря об особенностях этого движения, Шпет переходит на язык,
напоминающий гегелевский. «Противоречия, которыми полны
4 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 452.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 247
сами вещи и деяния, — пишет Шпет, — полностью наличествуют
в этом движении, живы в нем и одушевляют его к дальнейшему
движению самой непримиримостью своею <...> Само преодоление
противоречий насквозь динамично. Оно состоит в
интеллектуальном, дискурсивном творчестве, принимающем момент
интуитивного усмотрения сущности лишь за импульс, толчок, отправной
пункт для раскрытия противоречия, таящегося во всем
статически данном, и для планомерного отбора словесно-логических
средств, сообщающих не только о содержании процесса, но и о
его направлении и перспективах, его формах и траектории,
наконец, о законе осуществления»5. Описываемый метод внутренней
формы слова можно понимать как развитие понятия
интеллектуальной интуиции, о котором у Шпета шла речь уже в «Явлении и
смысле». Во «Внутренней форме слова» Шпет обращает внимание
на то, что интуиция неразрывно связана с дискурсивным
мышлением. Заостряя на этом внимание, Шпет вводит различие смысла
и сущности. Здесь Шпет выступает, в определенном смысле,
продолжателем «платонизма» Гуссерля. Там, где Гуссерль заканчивает,
достигнув цели — в усмотрении сущности, Шпет только
начинает процесс исследования развития смысла. Переходя на гуссер-
левский язык — интенции значения и осуществления значения,
можно сказать, что первоначальная интуиция сущности (интенция
значения) осуществляется не в актах созерцания или восприятия, а
в актах языкового выражения. Здесь важно отметить, что для
Шпета язык является не только словесным одеянием (как для Гуссерля),
в которое заключены наши мысли и вследствие этого
представляющим собой, в определенном смысле, неизбежное зло, но и самим
способом существования смысла и мыслей — тем, без чего они не
могут быть реализованы.
Однако при описании метода внутренней формы слова Шпет
постоянно повторяет, что развитие или движение смысла есть
объективный процесс самого смысла. Определение развития смысла
только законами внутренней формы слова означает, что он
определяется исходя из себя самого, из своей собственной логики, и
ограничен внешними формами языка. Шпет подчеркивает, что
субъект не имеет никакого отношения к содержательному развитию
смысла и его функция состоит лишь в выборе словесных средств
выражения смысла. Однако, если принять во внимание основную
идею «Внутренней формы слова» — о нерасторжимости
мышления (смысла) и языка, то выбор словесных средств может автома-
5 Там же. С. 411.
248
Раздел HI
тически означать и выбор содержания. Само содержание от этого
не становится субъективным (мы фиксируем то, что уже есть), но
роль субъекта при этом является весьма значительной, поскольку
для Шпета, как мы уже отмечали, смысл может быть только
выраженным смыслом; он конституируется только в языковых
актах, а не в актах, например, восприятия. Возможно, особую роль
субъекта, выбирающего средства выражения смысла, чувствовал и
сам Шпет. Недаром он замечает в конце «Внутренней формы
слова», что «в правильно проведенной редукции, имеющей в виду
самого субъекта как такого, индивидуальное необходимо окажется и
существенным»*.
Возникает вполне закономерный вопрос: как это согласуется
с многократно встречающимися заявлениями Шпета о том, что
смысл развивается из себя самого, подчиняясь лишь законам
внутренней формы слова, и т. д.? И при этом принципиальная роль
субъекта не учитывается и даже не принимается во внимание.
Можно предложить следующую реконструкцию ситуации.
Единственный случай, где Шпет в данной работе допускает нечто
подобное не выраженному в языке смыслу (не выраженному, то есть
только интуитивно схваченному содержанию), — при введении
идеального предмета как некоего X, который подразумевается, но
явно не выражается в разговоре. Тогда вполне допустимо, что для
конкретизации содержания этого предмета, то есть для
полного выражения его смысла, субъект сам выбирает из многообразия
языковых средств те языковые формы, которые ему кажутся
наиболее приемлемыми. Но уже далее, в рамках выбранных языковых
форм, смысл развивается лишь по собственным законам
внутренней формы слова. В этом случае роль субъекта является
направляющей: выбирая первоначально языковые средства, он тем самым
выбирает, с какой позиции будет происходить конкретизация
содержания подразумеваемого предмета, или, на языке Шпета,
выбирает конкретный закон движения смысла, то есть закон внутренней
формы слова. Стоит обратить внимание на то, что субъект Шпета —
это не рефлексирующий субъект. Выбрав языковые средства для
понимания смысла предмета (Шпет не уточняет, осознанно или
нет), субъект сразу же забывает себя, отдаваясь полностью стихии
мышления, то есть потоку языкового сознания. Говоря о процессе
разворачивания смысла, Шпет нигде не упоминает о рефлексии.
Здесь он практически полностью отходит от феноменологического
метода, который основывается на рефлексии. Понимание смысла,
6 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 476.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 249
по Шпету, протекает в творческих интуитивно-дискурсивных
актах. Именно это и может считаться конкретизацией метафоры
языка как потока. Если в рефлексии не соотносить движение смысла с
его начальным, пусть даже смутным восприятием, то его развитие
может увести очень далеко от исходной ситуации.
Здесь переосмысляется роль контекста в процессе установления
смысла предмета. Шпет подчеркивает, что смысл предмета
устанавливается, исходя из целей данного контекста, причем Шпет не
говорит, что цели определяет субъект. Но как иначе можно
осознанно выбирать средства, не ставя перед собой определенных
целей? Здесь мы хотим обратить внимание на следующее: целепола-
гающий контекст, благодаря которому становится понятым смысл,
накладывает на него определенные жесткие ограничения. Он уже
не может быть бесконечно развивающимся смыслом, поскольку,
исходя из реальной ситуации, цели ставятся конечные. «Смысл»
Шпета имеет единственную логику развития, но единственную
лишь в данном контексте, при данных начальных и граничных
условиях. Чуть-чуть измени эти условия, и развитие смысла
будет происходить иначе, но в любом случае оно будет конечным.
Шпет же, признавая ограничительную роль контекста и целей,
неоднократно, в разных выражениях говорит о бесконечном
процессе движения смысла. Но тогда абсолютно все равно, где мы
начали этот процесс, то есть контекст уже не играет никакой роли,
и бесконечное движение смысла сводит роль контекста и
субъекта к нулю. Опыт первичного восприятия слова уже не
учитывается в дальнейшем движении смысла. «Смысл» Шпета все больше
напоминает идеальную сущность, движущуюся в «абсолютном»
пространстве и времени (т. е. он не имеет отношения к реальному
историческому пространству и времени и тем более к сознанию-
времени), и заставляет вспомнить о «Явлении и смысле» — работе,
в которой впервые ярко проявился интерес философа к подобного
рода идеальному бытию.
Убеждение Шпета в том, что развитие смысла есть творческий
процесс, вполне согласуется с «абсолютным» движением смысла.
Если в связи с этим вспомнить, что Шпет разделяет гумбольдтов-
ское положение о языке как об энергии, особого рода духовной
деятельности, то станет ясно, что процесс развития
выраженного в слове смысла несет в себе конструирующие моменты. И здесь
Шпет, так же как и Гумбольдт, весьма близок к Канту. Шпет не
принимает кантовские идеи (непознаваемую вещь в себе,
разделение чувственности и рассудка, субъективизм и т. д.), но при этом
он никогда не критикует Канта за внесение деятельного, конструи-
250
Раздел III
рующего момента в познание, в результате чего создается сам
предмет. Именно понимание Шпетом языка как энергии, как
производства позволяет некоторым современным философам и психологам
отнести его, наряду с Выготским, Рубинштейном и др., к
основоположникам деятельностного подхода в психологии7.
Забвение контекста как изначальной данности и деятельност-
ная позиция в отношении языка приводят к мифологизации
смысла. Смысл интересует Шпета уже сам по себе и сам несет в себе
всю «подлинную действительность». Такое развитие смысла уже
не проясняет нашу действительность, а встраивает в нее области
самостоятельно движущегося смысла, не имеющие к ней
непосредственного отношения. Это доказывает, что метод внутренней
формы слова не соответствует своему предмету — действительности
жизни. Зато он вполне оправдан, если под действительностью
понимать совокупность эмпирических вещей, поскольку для
нахождения «подлинной действительности» необходим полный отрыв
от них. Как бы отвечая на подобные возражения, Шпет пытается
убедить нас, что движение смысла происходит в полном
соответствии с окружающим нас миром, поскольку смысл испытывает
постоянное принуждение со стороны предмета: «Под принуждением
со стороны самого предмета здесь следует разуметь не пассивное
отражение его статических формальных особенностей, а живую
диалектическую передачу действительного, как оно есть, с
определяющим его, именно как действительное, разумным. Поэтому-то в
сфере словесно-логических структур последним источником
творчества надо признать имманентное ему разумно-действительное, и
его конститутивные, а не только направляющие, законы»8. Однако
здесь просматривается вариант гегелевского тезиса о тождестве
бытия и мышления, который постулируется, но не основывается на
опыте.
Даже на тех страницах, где Шпет говорит о внутренней форме
как о новом методе образования понятий, который учитывает все
реальные противоречия вещей, событий, отношений и
рассматривает «восполнение неполноты понятий» как «путь воссоздания
полноты действительности», он ограничивается отвлеченными,
абстрактными рассуждениями, риторическими пассажами и не
поясняет, почему это относится к действительности нашей жизни.
7 См., например, Лекторский В. А. Немецкая философия и российская
гуманитарная мысль: С. Л. Рубинштейн и Г. Г. Шпет// Вопросы философии. 2001. № 10;
Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета. М., 2000.
8 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 419.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 251
Шпетовское противопоставление «подлинной», идеальной и
эмпирической действительности, имплицитно присутствующее во
«Внутренней форме слова», можно считать онтологическим
основанием разделения внешних и внутренних форм слова. Шпет
рассматривает их изолированно друг от друга, но иногда можно
встретить и утверждение, что мы сначала называем эмпирические вещи,
а лишь потом устанавливаем смысл сказанного. Фактически Шпет
здесь стоит на позиции, представленной в «Эстетических
фрагментах»: данность слова в номинативной функции обозначается как
чувственно-эмпирическая данность, которая не несет в себе
никакой семасиологической или смысловой функции9. Для Шпета это
означает, что не каждое слово является понятием, то есть несет в
себе смысл, к которому еще надо прийти. Понятие в данном
случае трактуется как сущность, пребывающая во вневременном
пространстве, никак не связанная с окружающим нас миром
эмпирических вещей.
Таким образом, в философии языка «позднего» Шпета можно
выявить два противоречащих друг другу онтологических
основания. С одной стороны, Шпет утверждает, что подлинной
реальностью для него обладает лишь реальность социальной повседневной
жизни. С другой стороны, почти во всех своих поздних работах
философ неуклонно стремится к идеальному бытию, к миру «чистых»
сущностей, который он противопоставляет эмпирической
действительности.
Мне представляется, что основания незаметного для самого
Шпета перехода к этой старой позиции (напомню: в «Явлении и
смысле» первичная данность вещи понимается как данность
эмпирического сознания, не дающая подлинного смысла) заключены в
самом стиле написания и построения работы. «Внутренняя форма
слова» представляет собой набор этюдов по различным областям
гуманитарного знания. Мы находим здесь вопросы языкознания,
эстетики, общей теории языка, наброски решения философских
проблем, в том числе и проблемы действительности. Но именно
здесь и заключается опасность. Сам не замечая того, Шпет
пытается дополнить теоретический подход ссылкой на наш повседневный
опыт и, наоборот, при описании коммуникативного опыта
пользуется абстракциями, допустимыми лишь в теоретическом подходе.
Нет ничего необычного в том, что Шпет рассматривает отдельно
внешние (морфологические и синтаксические) и внутренние фор-
9 См.: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 217.
252
Раздел III
мы. В теоретическом языкознании, например, вполне допустимо
различать номинативные и смысловые функции слова. Однако
Шпет при этом ссылается на наш опыт простого называния,
который, по его мнению, не несет в себе никакого смысла и является
чисто эмпирическим. Но тогда возникает вопрос: где в нашем
жизненном опыте встречается называние в чистом виде? Любое наше
называние осуществляется с конкретными намерениями и несет
в себе определенный смысл. Шпет не замечает, что он ссылается
не на реальный опыт нашей жизни, а на его научную абстракцию,
созданную искусственно. Вернее, ему не позволяет сделать это сам
стиль его работы, не предполагающий строгого разделения
позиции и ее рефлексии.
Какое же понимание действительности и языка преобладает в
работах Шпета «позднего» периода? На этот вопрос нельзя
ответить однозначно, однако анализ его произведений заставляет все
же склониться к мысли, что платоновское царство вечных идей
было руководящей нитью для всего творчества русского философа
и не позволило ему до конца провести иную, например
феноменологическую, установку по отношению к языку.
M. К. Мит
Три выпуска философского отдела ГАХН:
Вариации на тему внутренней формы
В наше время о формах говорит трудно, не
столько в силу трудности самого предмета, сколько в
силу захватанности и модности этого термина.
Понятие формы, сохраняя чрезвычайную
общность, вместе с тем применимо к специальным
и самым разнообразным предметам.
Н. Жинкин. Портретные формы
Вся научная деятельность ГАХН пронизана мыслью Г. Г.
Шпета, чье влияние ощутимо во всех работах Академии, а
главным образом, разумеется, философского отдела, и
присутствует в самых различных областях, где гахновцы оказались
задействованными и много лет спустя. Не случайно
единственные опубликованные три выпуска философского отдела —
сборники «Художественная форма» и «Искусство портрета», а также
монография Винокура «Биография и культура» — базируются
именно на шпетовском понятии внутренней формы. Они расширяют
область ее применения, сохраняя, однако, те же теоретические шпетов-
ские рамки, а именно: 1) предметное основание эстетики и вообще
всякого семиотического акта во избежание психологизма; 2) особый,
«отрешенный», по терминологии Шпета, статус эстетического бытия
(между идеальным и реальным бытием) и 3) ключевое различение
между выражением и экспрессией (выражение есть собственная
семасиологическая функция, т. е. акт референции к предмету,
экспрессия является той совокупностью переживаний, которые
сопровождают выражение. Первое относится к объекту, вторая — к субъекту).
Сборник «Художественная форма» представляется итогом
длинной и сложной работы Комиссии по изучению художественной
формы (далее — Комиссия), действующей с июня 1923 года1, и его со-
1 Там можно выделить три типа докладов: первый — доклады сугубо
теоретического плана, второй — доклады, посвященные отдельным применениям понятия
внутренней формы (поэтике, изобразительному искусству, психологии), и третий —
исторические доклады. Это характерный для Шпета метод: для лучшего понимания
принципиального значения известного понятия предлагается тщательный анализ
его становления в истории мысли. Такой способ работы проявляется в
«Герменевтике и ее проблемах», «Истории как проблеме логики» и др.
254
Раздел III
держание точно отражает план докладов, прочитанных в Комиссии.
Работа Комиссии проводилась в тесной связи с составлением словаря
художественной терминологии. Но особенно в этом кругу
планировалась реконструкция идеи внутренней формы, начиная с Гумбольдта,
Штейнталя, Потебни и Марта, в соответствии со шпетовским
методом, заключавшимся в теоретической, принципиальной работе в
рамках строгой исторической установки. На первом заседании
Комиссия поручила Шпету прочесть доклад о значениях термина «форма»,
который, таким образом, должен был служить отправной точкой для
всей последующей работы2. По-видимому, Шпет сознательно
открывает путь для других выступлений, ставя вопрос формы в самом
принципиальном его освещении и выделяя ключевую идею, на которой у
него строится вся реконструкция структуры слова и, следовательно,
каждого знака, — т. е. идею внутренней формы.
Можно сказать, что с того момента понятие внутренней формы
становится ядром теоретической деятельности ГАХН, развиваясь
в самых разных областях эстетических исследований. Благодаря
этой специфической, по сути, категории представители Академии
занимали свое особое, характерное место в панораме
гуманитарных наук двадцатых годов, в особенности в отношении к их
коррелятивному учреждению, Государственному институту истории
искусств (ГИИИ), где в основном работали формалисты.
Сборник «Художественная форма», под редакцией А. Г. Циреса и
с участием Н. И. Жинкина, Н. Н. Волкова, А. А. Губера и М. А.
Петровского, исходит из философского проникновения в
литературные и художественные вопросы в отличие от формалистов, которых
гахновцы обвиняли в ограничении анализа внешней формой, тогда
как нужно было уловить внутренние художественные формы в их
сложной системной организации. В предисловии к сборнику это
читается как целая программа: «В противоположность так
называемым формалистам типа "Опояза" художественная форма
понимается здесь как "внутренняя форма", тогда как формалисты обычно
ограничивают свои изыскания областью форм внешних. Вопрос
ставится шире и вскрывается на фоне взаимоотношения разных форм
между собой, например, форм логических, синтаксических,
мелодических, форм собственно поэтических, риторических и т. д.»3.
Для авторов сборника внешняя форма — чистая
материальность, вещь, и ее не надо смешивать с предметом. Разница между
2 См.: Протокол № 1 заседания Комиссии 26 июня 1923 года// ОР РГБ. Ф. 718. К. 21.
Ед. хр. 29; РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 14. Ед. хр. 7. Доклад Шпета состоялся 24 июля.
3 Художественная форма. Μ.: ΓΑΧΗ, 1927. С. 5.
« Внутренняя форма слова» : пересечение исследовательских перспектив 255
вещью (реальной) и предметом (идеальным, понятым не столько
в своем онтологическом качестве, а как формальное единство,
господствующее над эмпирическим многообразием) явно исходит
от Гуссерля («Логические исследования») и Шпета («Явление и
смысл» и «Эстетические фрагменты»).
В «Эстетических фрагментах»4 Шпет описывает предмет как
чистую заданность, как пункт сосредоточения интенциональности.
Вещь может осуществить номинативную функцию языка (процесс
указания собственных имен), но только самому предмету дана
семасиологическая предикативная функция.
Через предмет реальные вещи конденсируются и укрепляются
в единстве мыслительной формы, иначе они потерялись бы в
чистой номинации. Предметность вещи покоится на неких
инвариантных свойствах, являющихся ее сущностями, морфологическим
законом ее становления. Вот почему, согласно Шпету,
материальность как таковая недостижима в своей чистоте и, во всяком
случае, второстепенна, потому что первой сферой нашего понимания
неизбежно является культурная и социальная среда, через которую
мы воспринимаем и эмпирическую данность. Чистая
материальность, кроме того, пребывает вне конституирующей корреляции
субъекта-объекта, являющейся основной для
феноменологического отношения к действительности.
Николай Жинкин в первом очерке сборника «Проблема
эстетических форм» пытается феноменологически обосновать
противопоставление вещи и предмета, относя его к эстетической области и к
модальностям процесса символизации, т. е. к созданию
эстетического образа: «Формалисты, которые считают, что эстетическое
изучение должно ограничиться исследованием форм, ошибаются только в
одном, правда весьма существенном. Они изучают формы не в модусе
их подразумевания, не в модусе инактуального и нейтрального
смысла, т. е. не так, как они сознаются в эстетически-прекрасном, а только
как они есть в художественном произведении, как вещи, — в модусе
рассудочного полагания, поэтому их формально-онтологические
исследования не имеют ровно никакого отношения к эстетике»5.
Жинкин отталкивается от того, что можно считать четвертым
«Эстетическим фрагментом» Шпета, т. е. от «Проблем современной
эстетики»6, развивая его полемическую подоплеку. Жинкин утверж-
4 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 463.
5 Жинкин Н. И. Проблема эстетических форм // Художественная форма. Цит. изд.
С. 36.
6 Шпет Г. Г. Проблемы современной эстетики // Искусство. 1923. № 1. С. 43—78.
256
Раздел III
дает, что традиционное противопоставление «формы—содержания»,
рамками которого, в конечном счете, ограничиваются формалисты,
в современной эстетике заменялось другим — противопоставлением
предмета и переживания. Этим он вводит тему гуссерлианской
конституирующей интенциональности, также значимой и для Шпета,
поскольку она гарантирует референциальное прикрепление и
эстетического переживания, не сводя эстетический предмет к чистому
раздражителю. С точки зрения феноменологии, эстетический
предмет не подразумевает онтологической реальности, он предстает как
момент искусства, как модус, через который сознание становится
прозрачным для самого себя: эстетический предмет тогда является
ноэмой, в гуссерлевском смысле этого слова7.
«Эстетики никак не могут решить, куда отнести эстетическое.
Помещая его в области знания, не умеют отличить от логики и,
смешивая знание и сознание, начинают полагать высшую ступень
адекватного знания в искусстве, где происходит углубление в невыразимую
природу вещей. Помещая его в область чувства, хотя и начинают
отличать от логического знания, но не могут разобраться в неразумной
темноте эмоций и понять несомненную осмысленность эстетичного.
Помещая, наконец, в фантазию, как будто удачно решают и первый
и второй вопрос, но зато никак не могут отыскать спецификум
эстетического, т. к. воображение может быть не только эстетическим, но
и научным и т. д. Единственный выход, который остается, есть тот,
который мы избрали — анализировать само эстетическое сознание в
тех способах и формах, в каких оно действительно выражается»8.
Итак, благодаря тщательному анализу процессов символизации
(эмблема, аллегория и образ) Жинкин решительно включает
онтологический, предметный пафос общего подхода гахновцев в
строгие феноменологические рамки.
Общность образа отличается от общности идеи и типа. Образ —
это сфинкс, загадка, и осуществляется он через наглядность и
подразумевание. Эстетика вся в формах подразумевания, это
«наиболее сгущенная форма подразумевания», т. е. игра со значениями, их
подстановка и перестановка. В действительности образ заставляет
подразумевать (гуссерлианское meinen) бесконечное многое.
Жинкин, пожалуй, находит заветную специфику эстетики
именно в процессе подразумевания, где подразумеваемое представляет
7 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
М., 2005. С. 130-136.
8 Жинкин Н. И. Проблема эстетических форм // Художественная форма. Цит. изд.
С. 50.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 257
собой второй смысл какого-либо акта, оно дано вместе с актом, но
в «инактуальной» модификации9. Здесь и лежит разница между
«вещью» и «образом»: вещь ничего не подразумевает, она может только
подменять, указывать, как это бывает в эмблеме или аллегории.
Понятие «инактуальность» связано с непереходимостью
эстетических структур и образов. Оно описывает независимую
феноменологию прекрасного, которая, однако, не притупляет полностью
референциальности. Фигуральность образа представляется
непрерывным процессом, внутри которого никогда не угасает
напряжение между сознанием и миром, между идеальным и эмпирическим.
Это — образ, как он выражается в своей чувственной видимости, в
своей наглядности, но в то же время в своем нейтрализованном
существовании. Именно особое его бытие наполняет смыслом
эмпирическую материальность и творит новые конкретные пути смысла.
«Это значит, что образ — нейтрален, т. е. свободен от влияния
всего того как действительного, так и идеального, что, как
внешнее, могло бы его конституировать. Но это не значит, что в его по-
лагании полный произвол и случайность. Нет, он полагает по
закону: "да будет так"»10.
Таким образом, получается, что инактуальная эстетическая
область отнюдь не отрицает связи с реальностью, но, наоборот,
обогащает ее потенциальностью и онтологическим утверждением, или,
как в том же самом сборнике, в статье «Выражение и изображение
в поэзии», замечает М. А. Петровский, художественный символ
является одновременно и тавтологией и аллегорией, и в этом смысле
он по своей природе является антиномией. Он замкнут в себе, но в
то же время обладает центростремительной силой.
Однако иносказательность, неисчерпаемость символического
образа нельзя понимать абсолютно: «Символический образ есть замкнутая
смысловая сфера, не допускающая полного произвола в ее толковании.
Внутри этой сферы наличествуется смысловая неисчерпаемость, ана-
9 Подобная «инактуальная модификация», отрешение, о котором говорит Шпет в
«Проблемах современной эстетики», является эстетическим коррелятом
эйдетической редукции Гуссерля. Она решительно отличается от формалистского обнажения
вещи (некое отстранение ее прагматической функции). Она стремится к подлинной
сущности вещей, которой не может достичь непосредственное чувственное
восприятие: она дана в интенциональном отношении сознания к миру. Бесформенная
материальность (ύλη) превращается в интенциональную форму (μορφή) благодаря
оперативной деятельности сознания в его направленности на предметность. Исходя
из этих предпосылок, Жинкин также критикует и авангардное искусство, в частности
конструктивизм, которое отвергает предмет, подменяя его вещью и изделием.
10 Жинкин Н. И. Проблема эстетических форм // Художественная форма. Цит. изд.
С. 34.
258
Раздел III
логичная счислительной неисчерпаемости точек в замкнутом
геометрическом пространстве. Все эти потенциальные смыслы, тем самым,
имманентны своей сфере, т. е. образу. Они в образе, а не вне его (как в
простой аллегории) <...> и потом художественный символ говорит нам
о том, что в нем пребывает, а это значит, говорит о себе самом»11.
Тавтологический и аллегорический моменты сливаются, и нельзя упустить
из виду ни один из них. Иносказательность не отвергается, но
восстанавливается в непрерывном напряжении между потенциальными
и буквальными смыслами. Образ не отрицает, не преодолевает
реальность, но возвращает взгляду эту реальность с «усиленным» смыслом.
Итак, специфику поэтического слова надо относить к более
общей системе слова, а образ надо рассматривать на фоне термина
и понятия: то, что делают и Петровский и Губер в их анализе
процесса символизации: «Каждый троп имеет известную логическую
основу, которая так или иначе скрыта суппонированным
значением слова. Или иначе: связь поэтических формы (тропа) с
логической формой (суждением, resp. понятием) — существенна»12.
Губер рассматривает особый сдвиг, через который
реализуется поэтичность выражения, и пытается обосновать выдвигаемую
Жинкиным теорию поэтического предмета, исходя из внутренней
структуры такого объекта и временно абстрагируясь от сознания,
которое его принимает в своем горизонте.
«Специфически поэтический контекст имеет, казалось бы,
наименьшее отношение к изолированному слову-термину»13. Губер
исходит из гегелевского понятия эстетической идеи как воплощенной
идеальности и из традиционного статуса эстетики как особого
бытия, некоего посредника между идеальным и эмпирическим. Как
Жинкин, он видит сущность поэтического слова в подразумевании,
гуссерлевском логическом понятии (meinen), которое в
эстетической отрешенной области становится толчком для осуществления
фигуральности: «Основною особенностью поэтического контекста
является своеобразное подразумевание значения»14.
Итак, поэтический символ в основном понятие, созданное
контекстом и зависящее от конститутивной связи, от того
подразумевания, которое Губер описывает, ссылаясь на suppositio nominum
схоластики.
1 ' Петровский М. Л. Выражение и изображение в поэзии // Художественная форма.
Цит. изд. С. 80.
12 Губер Л. Л. Структура поэтического символа // Художественная форма. Цит. изд.
С. 135.
13 Там же. С. 127.
14 Там же.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 259
Именно через suppositio (для средневековой логики изучение
терминов через функцию, которую они играют в речи) развивается
процесс подразумевания15. Суппозиция — это смысл, как он
развивается в своем отношении к контексту; она осуществляется, когда один
термин вступает на место другого: sta pro aliquo, acceptio termini pro
aliquo de quo verificatur, согласно классическому определению
средневековых схоластиков16. Весь очерк Губера действительно указывает на
контекст как на сущность поэтичности, рассматривает его сеть
отношений как стержень «структуры художественного символа»,
порождая, таким образом, характерное для герменевтики короткое
замыкание между частью и целым, которое позволяет расширение ad
infinitum подразумеваемых значений образа и создание некоего
нового бытия, отрешенного, но не произвольного: «Образ первоначально
создается целым поэтическим контекстом, так или иначе
законченным. <...> С другой стороны, образ сознается не только как результат
поэтического контекста, но и как целое, над всеми тропами
господствующее и их в свое очередь оформляющее. Такую роль может
выполнять потому, что он, в свою очередь, является носителем
определенного смысла, который скрыт в данном образе, так или иначе им
суппонирован»17. Новый смысл просвечивает как тень основного.
Частный элемент приобретает смысл только благодаря целому, но, в
свою очередь, само целое обусловлено частными своими элементами:
«Образы-минимумы объединяются в более общее целое поэтическое
произведение, которое в свою очередь также может быть названо
образом»18. «Образ-минимум, как выше сказано, конструирует
фантастический предмет из суппонированых слов-значений. Этот
предмет уже отрешен, уже вне названия вещи hic et nunc и уже вне
идеальности слова-понятия, и тем самым он уже поэтичен. Но вместе с
тем понимание этого образа-минимума, а следовательно, его роли и
назначения в целом поэмы, приходит уже от целого»19.
15 Суппозиция представляется в тех же терминах и Жинкиным, в его докладе
«Проблема эстетических модификаций», прочитанном 26 января 1926 г. при Комиссии:
«Модификация прекрасного строится на основе суппозиции». См.: РГАЛИ. Ф. 941.
Ед. хр. 22. Л. 35.
16 Maritain J. Éléments de philosophie. II: L'ordre des concepts. I: Petite logique (logique
formelle). Paris: Pierre Téqui, 1933. С 76.
17 Губер Л. Л. Структура поэтического символа // Художественная форма. Цит. изд.
С 140.
18 Там же. С. 144.
19 Там же. С. 147. «Всякое слово — синсемантика». «Слово есть выход за пределы». Так
называются две главы фундаментальной работы о языке и смысле, которую Шпет
обрабатывал как раз в первые годы своей деятельности в ГАХН (1921—1925). Шпет Г. Г.
Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 582—583.
260
Раздел HI
Благодаря суппозиции, т. е. благодаря «замене первичного
значения слова», создается тот отрешенный контекст, при котором
образность может осуществиться. Перед нами развивается процесс,
который Шпет называет «алгоритмом», а также развертывается
движение внутренней формы, т. е. «некоторая операция подмены
и замены, которая имеет назначением вырвать слово-значение из
логического контекста, в котором понятие как таковое только и
может пребывать, и перенести в контекст поэтический»20.
В очерке «Что такое метафора» Николай Волков
вырабатывает теорию фигуральности, рассматривая типологии связей,
реализованных тропами. Он указывает на контекст как на основной
момент процесса символизации. Традиционная риторика не в
состоянии уловить богатство образа, потому что она окостенела в
логических отвлеченных схемах. Если, например, я говорю, что
синекдоха является отношением части и целого, или вида и рода, я
не разрешаю полностью загадку, поставленную поэтическим
выражением «кров» вместо «дома». Действительно, фраза «Я искал кров
для ночи» выражает нечто большее, чем нейтральное отношение
части и целого: при подмене «крова» «дверью» получается что-то
другое. В слове «кров» находится остаток смысла (желание защиты,
уюта...), который ускользает от чистой логико-формальной схемы.
Пытаясь объяснить связь метафорической мысли с логикой,
Волков опирается на критику Кроче против риторики как науки
и на его отвержение рационализма. Дело в том, однако, что
Кроче полностью сводит логику к рационализму, тогда как логика —
шире дилеммы «рациональное — иррациональное» и пребывает
там, где есть смысл. Логические формы — «дороги понимания»21,
и, в случае тропа, работают благодаря специфическому алгоритму:
назначению, т. е. установке вещи, представляющей для Волкова ее
внутреннее единство, внутреннюю форму. Ее можно достичь через
понимание, которое «побуждает нас переступать границы, втекать
в контекст и в нем развертываться все шире и шире, без границ»22.
Кроме формализма и нормативизма (который, правда,
критикуется меньше), другой мишенью для критики гахновцев
становится эстетика психологизма со своим постулатом вчувствования, где
эстетический предмет сводится к чистому раздражителю (Т. Липпс).
20 Губер Л. Л. Структура поэтического символа // Художественная форма. Цит. изд.
С. 150.
21 Волков Н. Н. Что такое метафора // Художественная форма. Цит. изд. С. 98. См.
шпетовское определение логических форм как путей становления внутренней
формы. Шпет Г. Г, Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 21.
22 Волков H. H. Что такое метафора // Художественная форма. Цит. изд. С. 113.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 261
Дело в том, что переживание связано с объектом только случайным
способом и не может быть разрешением вопроса эстетики, который
можно ставить только в рамки теории объекта и его выражения.
Вопрос в том, как форма выражает содержание, «выступает как
проблема интенционального, а не реального отношения»23. Образ указывает
не столько на предмет как таковой, сколько «на способ сознавания,
модус, как сознания и, соответственно, не на предмет, а на ноэму»24.
Шпет со своей школой разделяет антипсихологизм Гуссерля, но этим
отнюдь не отрицает роли психологии и переживания в эстетической
области. Я полагаю, что интерес Шпета к психологии обусловлен его
потребностью корректировки гуссерлевского гносеологизма через
обращение к учению Дильтея. Тем не менее Шпет всегда относился
к наследию Дильтея с известной осторожностью и многими
оговорками. Речь идет об описательной психологии, которая,
превращенная в науку о духе, представлялась как что-то большее в сравнении с
тем, что подразумевалось самим термином «психология».
У «позднего» Дильтея психология может использовать и
аналитический разлагающий метод естественных наук, и постулат
интроспекции как непосредственного схватывания своей и чужой души.
Преодолевая традиционную психологию, Дильтей вводит
«объективный» исторический метод и опирается на посредствующее
(семиотическое?) знание. Его концепция психологической науки развивается,
по мнению Шпета, от внешнего к внутреннему, чтобы проникнуть
даже в самые сокровенные тайники, до которых интроспекция не
доходит, хотя бы потому, что она не выразима, если не
объективируется в системе знаков25. Идея структуры и понимания
(герменевтическая деятельность, толкующая знаки и приводящая их к
структуре целого) превосходит психологическую сферу. Следуя за историей
как вечной объективацией духа, эта сфера становится у Дильтея (и
особенно у его ученика — Шпрангера) культурным контекстом
благодаря также понятию типа (Types of Men, так сам Шпрангер хотел
назвать английскую версию своей книги Lebensformen).
Естественно, что проблема переживания открывает вопрос «о
личности, индивидуальности как источнике творчества»26. Не
случайно в Комиссии велось много споров на темы, касавшиеся
психологизма и личности. Эти дискуссии были выражены в трех выпусках
23 Жинкин Н. И. Проблема эстетических форм // Художественная форма. Цит. изд.
С. 17.
24 Там же. С. 13.
25 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Т. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 382-396.
26 Там же. С. 382.
262
Раздел III
философского отделения. Как раз во второй половине 1920-х гг.
проблема личности становится особенно острым вопросом,
обсуждаемым на самых разных уровнях гуманитарной науки. Речь идет о
проблематике, которая в определенном смысле остается открытой,
как это видно из протоколов прений, которые велись после
докладов Комиссии. Проблема состоит в потребности подхода к
личности и индивидуальности не как к царству чистого эмпирического
психологизма, но как к предмету принципиального анализа.
С 1924 года план работ Комиссии расширяется,
распространяясь, например, и на пространственные искусства. Изучение
внутренней формы, таким образом, применяется также и к ним, где
в этой связи внимание исследователей сосредотачивается прежде
всего на проблеме образа и символа и их онтологического статуса.
И авторы сборника о портрете27 не удовлетворены
утверждением особого статуса изолированного эстетического факта и
размышляют о способах его отнесения к реальности. Если Б. В.
Шапошников исследует связь портрета с оригиналом, то А. Г. Цирес
в «Языке портретного изображения» ставит проблему портретной
герменевтики, анализируя методы художника для выражения
такой связи. Анализ проведен в строго шпетовских терминах
(эстетические формы изучены в их отличии от логических и
эмпирических, в их «отрешении», «изоляции»), однако здесь можно уловить
и влияние Зиммеля (размышления о видимом, о наглядности и
вопрос об отношениях живописи и психологии, тела и души). Свое
исследование о структуре портрета Цирес строит по модели
изучения Шпетом поэтического слова: «Портрет из изображения
личности становится изображением ее ноэматики, изображением мира
сквозь личность»28. Еще раз возвращается термин «ноэма»,
который, по Гуссерлю, был объективным аспектом переживания,
рассматриваемого, однако, в способах его выражения, в его данности.
Ссылку же на Зиммеля, еще раз, может быть,
опосредствованную Шпетом, можно усмотреть в подчеркивании видимых форм
как типичных для искусства, а также в отказе принимать во
внимание некую гипотетическую суть, которой живопись совершенно не
интересуется: Зиммель замечает, что если бы портрет проникал во
внутренний мир изображаемой личности, то он подменял бы
психологию и выходил бы за пределы искусства.
Во второй половине 1920-х гг. вопрос о личности встает с особой
остротой во время дискуссий внутри ГАХН, и не только там. Речь
Искусство портрета / Под ред. А. Г. Габричевского. М.: ГАХН, 1928.
Цирес Л.Г. Язык портретного изображения // Искусство портрета. Цит. изд. С. 91.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 263
идет о степени участия личности как таковой в семиотических и
эстетических процессах. Эта проблема становится особенно
актуальной в связи с растущим интересом к биографии в эти же годы.
Проблема биографии — и, следовательно, автора и его
отношения к произведению — поставлена Винокуром в 1924 г. в
материалах двух докладов: в одном, «Проблема литературной биографии»,
прочитанном на секции художественной словесности ГИИИ, и в
другом, представленном в ГАХНе под названием «Биография как
научная проблема».
В тот момент, когда многим казалось, что биография не может быть
подходящим предметом для литературоведения, вопрос об
индивидуальности, порождающей художественный текст, ставится на
обсуждение и в лагере формалистов. В 1925 году в Московском
лингвистическом кружке (МЛК) П. Г. Богатырев и Б. М. Томашевский говорят
именно о биографии, хотя к этому времени последний уже
опубликовал статью на эту тему в «Книге и революции» (1923. № 4. С. 6—9).
Проблема личности возникает и в исследовании
изобразительного искусства. Здесь ставится вопрос о портрете29, т. е. о той
специфической форме живописи, которая проистекает из
встречи двух индивидуальностей: художника и его модели, и, как
следствие, особым образом связана с биографией. Портрет становится
больным вопросом эпохи, потому что, как замечает Габричевский в
своей работе «Портрет как проблема изображения», он
представляется наглядным выражением структуры личности и находит свою
специфику во «внутреннем биографическом моменте».
Итак, биография и портрет тесно связаны и отвечают на
потребность эпохи снова открыть личное начало в искусстве, как и в жизни30.
Винокуру было важно поставить проблему биографии как
проблему специфической, независимой науки, с собственным
предметом изучения. Уже в докладе, предшествующем книге, он
отрицал психологическую природу биографии и призывал считать ее
культурно-историческим фактом, специфической сферой
творчества, содержание которой составляет нечто иное, чем просто
личная жизнь человека. Биография, таким образом, воспринимается
как форма творчества наряду с искусством, политикой, наукой и
философией. Такое понимание биографии как самообразования
отсылает нас к «Sichbilden» Lebenformen Шпрангера (Halle, 1925).
Замечу, что, по Шпету, идеи Шпрангера, продолжившего традиции
описательной психологии Дильтея, являются одной из вех исто-
29 Вероятно, под влиянием знаменательного очерка Зиммеля 1922 года.
30 Жинкин Н. И. Портретные формы // Там же. С. 7—52.
264
Раздел III
рии герменевтики. Этот ученик Дильтея считал личность неким
объективно-социальным предметом, который можно и должно
объективно познать не просто апелляцией к внутреннему опыту, а через
понимание, т. е. «процесс, в котором мы из знаков извне,
чувственно данных, познаем внутренне» — так звучит эта цитата из Дильтея,
приведенная самим Шпетом в «Герменевтике и ее проблемах»31.
В работе Винокура, таким образом, мы встречаем шпетовскую
потребность в очищении термина, обозначающего предмет речи, от
любых остатков психологизма. Психология не может основать науку
о духе. Винокур критикует Дильтея с гуссерлианских или шпетов-
ских (трудно точно сказать) позиций. Дильтей, по его мнению,
«упускает из виду предметную направленность сознания и считает
понимание чем-то если не идентичным, то во всяком случае родственным
интроспекции»32. Однако Винокур возвращается к его концепции
по крайней мере в других двух случаях. Во-первых, в понимании
жизни как «живой связи», в идее существования некоего целого,
объединяющего различные переживания и именем такого единства
гарантирующего понимание. Во-вторых, в призыве к истории
(всеохватывающее измерение человека для Дильтея, как и для Шпета
и Винокура). Таким образом, биография — это динамичная связь,
структура моментов, развертывающаяся в истории и не познаваемая
ни через психологические эксперименты, ни через интроспекцию.
История — та единая структура, синтез, сфера, внутри которой
развивается биография и благодаря которой мы можем ее изучать. Она,
как отмечает Шпет в своей работе «История как проблема логики»
(которую Винокур цитирует по этому поводу), — «та действительность,
которая нас окружает». Ссылаясь на Дильтея и Шпета, Винокур
усиливает полемику с формализмом. И это символично, поскольку как раз
в это время Тынянов разрабатывает свою концепцию исторической
эволюции33 как подлежащий обсуждению вопрос. Согласно Винокуру,
из-за отсутствия понятия внутренней формы (алгоритм,
позволяющий структуре варьировать без коренного преобразования ее членов)
формализм рассматривает не саму историю, а только ее траекторию, ее
движение, только формы становления изучаемого предмета.
Исторический процесс — форма, внутри которой
осуществляется становление предмета, однако уловить суть этого предмета
через отвлеченные эволюционные схемы невозможно. Если личная
31 Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 384.
32 Винокур Г. О. Биография и культура. Μ.: ΓΑΧΗ, 1927. С. 16.
33 Тынянов Ю. Н. О литературной эволюции (1927) // Поэтика. История литературы.
Кино. М., 1977. С. 270-281.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 265
жизнь, таким образом, есть осмысленное целое, наделенное
значением, если в этом смысле она отличается от быта, от фактов
(которые являются чистым материалом жизни), то она является историей
в форме переживания. Ее надо понимать структурно: как
сочленение форм, путем которых внешнее переходит во внутреннее, а
явление — в содержание. Это конкретный путь от наблюдения к
уразумению. Винокур, таким образом, предлагает феноменологический
анализ, не называя его определенно, но вводя его в историю
благодаря идеям Дильтея и Шпета (что проявляется и в
терминологическом выборе — например, шпетовское «уразумение», которое, как я
полагаю, является переводом Nachverständis Дильтея).
В этой концепции «внутреннее» и «внешнее» — это только
необходимые для анализа термины. Они называют тот же самый
предмет, иначе мы оказались бы не перед структурой, а перед
механизмом. Их надо понимать как два понятия формальной и
относительной природы: «...все внешнее есть ео ipso непременно и
внутреннее, потому, что здесь <в биографии. — М. К. Г.> внешнее
только знак внутреннего и вся биография вообще — только
внешнее выражение внутреннего»34.
«Личность» изучается лишь в динамичных формах ее развития. Но
«развитие» сильно отличается от «эволюции» (почти дарвиновской)
формалистов: это определенный род борьбы между разными
характеристиками и, соответственно, исключение одних в пользу других в
динамичном движении центростремительных и центробежных сил.
Развитие же — это некое аристотелевское «актуальное единство»,
определение которого у Винокура чисто шпетовское и, что
любопытно, лингвистическое: «Ведь с этой точки зрения развитие есть не что
иное, как синтаксис, в самом точном и даже буквальном значении
этого термина»35. Последовательность — развертывание личной
жизни — является, таким образом, не хронологической, а
синтаксической, где внутренняя форма имеет предицирующую роль. Напомню,
что, согласно Шпету, синтаксис — это ядро-носитель предметных
качеств слова, его данность36. Слово, как личность, является
относительным единством, структурой отношений, т. е. форм. Подобное
углубление в структуру, понимаемую и изучаемую как комплекс формальных
связей, подлежащий развертыванию, представляется не только
отличительной чертой общей деятельности гахновцев, но и одной из
наиболее актуальных для современной науки идей Густава Шпета.
34 Там же. С. 26.
35 Там же. С. 33.
36 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Цит. изд. С. 74.
M. Вендитти
Внутренняя форма слова у Г. Шпета
и у А. Марти
Забвение, выпавшее на долю швейцарского философа
Антона Марти, незаслуженно: он признан предшественником
Ф. де Соссюра и Н. Хомского; воззрения Марти обсуждают
в своих работах такие крупные мыслители XX в., как Э.
Гуссерль, Р. Ингарден, М. Хайдеггер, К. Бюлер, Р. Якобсон,
Л. Выготский, его ученик и основатель Пражского
лингвистического кружка В. Матезиус, а также Г. Шпет. Именно Шпет,
внимательно следивший за актуальными философскими исследованиями
и проявлениями культурной жизни своей эпохи, порекомендовал
Якобсону изучить, после Гуссерля, работы Марти1.
Несмотря на это, мыслитель остается до сих пор мало известным,
он знаком только узкому кругу специалистов-филологов.
Передвижения Марти по Европе в рамках его научной карьеры перепутали
не только вопрос о его национальности, но и о его принадлежности
к определенной философской традиции: он не то австрийский
философ, не то немецкий или пражский лингвист. А между тем идеи
Марти играли значительную роль в общем контексте европейской
философской и филологической мысли того времени. Антон
Марти (1847, Schwyz — 1914, Прага) учился после окончания
швейцарской гимназии в Вюрцбурге у Ф. Брентано и в 1880 году переехал
окончательно в Прагу, где до конца жизни работал профессором в
немецком университете. Вклад философии языка Марти в развитие
современного языкового мышления бесспорен; в частности, его
семасиология рассматривается как один из первых шагов в
установлении традиции семантических исследований2.
1 Холенштайн Э. Якобсон и Гуссерль//Логос. 1996. № 7. С. 10.
2 Р. Громов утверждает в предисловии к публикации перевода статьей Марти:
«Философия языка Марти представляет собой существенный момент в развитии языкознания
XX в., без которого вряд ли можно дать адекватную картину трансформации
исследований в этой области на рубеже XIX—XX вв.» Громов Р. Антон Марти. Философия
языка брентановской школы. Предисловие к публикации //Логос. 2004. № 1 (41).
С. 107. См. также: De Mauro T. Introduzione alla semantica. Roma-Bari., 1975. P. 236.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 267
В творчестве Шпета имя Марти упоминается неоднократно, а
его учение является объектом глубокого анализа и рассмотрения.
Показательно, что любимый ученик Шпета Максим Кенигсберг,
которому посвящена книга «Внутренняя форма слова», написал в
1923—1924 гг. статью под названием «Понятие внутренней формы у
Антона Марти и возможности дальнейшей интерпретации»3.
Ссылки Шпета на работы Марти встречаются часто, но они
неоднозначны: если в работе «Герменевтика и ее проблемы» (1918) Марти
является примером изящного анализа в области «семасиологии», то
в «Эстетических фрагментах» (1922—1923) его теория полностью
отвергнута4; тщательная теоретическая обработка концепций
Марти наблюдается в других работах Шпета 1920-х гг. В книге «Язык и
смысл» (1921—1925) Шпет подробно разбирает «всеобщую
семасиологию» Марти в контексте собственной философской системы;
кроме этой работы имя Марти встречается и в книге «Внутренняя
форма слова»5.
Цель данной работы — определить в самых общих чертах
философию языка Марти, а затем изложить шпетовскую интерпретацию
релевантной проблематики; в центре внимания — его книга «Язык
и смысл».
Философия языка Марти, одного из наиболее
последовательных учеников Брентано, опирается на описательную психологию:
внутренние и внешние психические состояния человека —
непосредственная и очевидная данность. В связи с этим эмпирический
метод описания психических явлений является для Марти
единственным способом исследования. В отличие от других учеников
Брентано (например, Гуссерля) Марти не принимает понятия «ин-
тенциональность»; он отрицает возможность всякого априорного
познания, исключая, таким образом, гносеологический подход к
изучению языка.
3 Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории
литературы / Под ред. М. В. Акимовой, И. А. Пильщикова, М. И. Шапира. М.,
2006. С. 634-635.
4 «Высшее достижение, до какого дошла принципиальная разработка вопросов
семасиологии, мы встречаем в вышедших в один год (1908) книгах Марти и Гомперца.
Из них первый поражает изяществом и тонкостью анализа». Шпет Г. Г.
Герменевтика и ее проблемы // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 411 ;
«в целом предполагаемое здесь учение о внутренней форме радикально отличается
от учения Марти». Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как
вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 233.
5 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на тему Гумбольдта //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 402, 407, 408, 462 и др.
268
Раздел III
Центральную роль в философских исследованиях Марти
играет семасиология (или семантика) — учение об основных
функциях языкового выражения. Психологическая постановка вопроса
определяет аргументацию Марти: если психологическая жизнь
составляет единственную данность, то ее законы управляют и языком
как, например, способом ассоциативной связи и аналогии6.
Благодаря пониманию звуков как условных знаков в языке проявляется
психическая жизнь. Язык — это функциональная телеологическая
система знаков, цель которой — интерсубъективное сообщение; но
Марти отрицает параллелизм мышления и языка: в
коммуникативном акте не все, что говорящий хочет высказать, выражается
словами. В качестве инструмента коммуникации язык является
функцией психической жизни, и главная задача семасиологии заключается
в определении, какие функции нуждаются в языке. «Язык — это
органон, который, как любой инструмент, может быть постигнут
из целей или задач, которые он должен выполнять, и поскольку
семасиология имеет его в виду в качестве средства выражения для
психических процессов в говорящем и соответствующего
управления чужой душевной жизнью, то она — чтобы подняться до уровня
общего рассмотрения — должна представить требования, которые,
говоря просто, предъявляет к языку такая цель сообщения»7.
Предвосхищая воззрения Соссюра, Марти различает
синхроническую и диахроническую перспективы в рассмотрении
вопроса о языке: с одной стороны, язык — это функциональная
структура, которая должна быть описана; с другой стороны, исторические
языки подлежат генетическому рассмотрению в поисках условий
их возникновения и развития. Размышляя о генезисе языка, Марти
утверждает, что язык возник совершенно без плана, без всякого
договора, в целях простой коммуникации между людьми, развиваясь
так в течение истории. В знаменитом предисловии к первому но-
6 «Все, что выражает язык, есть <...> психические отношения и их объекты. Кто
обладает правильным общим понятием о них, обозревает тем самым также все
семантические возможности, которые могут быть реализованы когда-либо в каком-либо
языке». Marty А. Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und
Sprachphilosophie. Bd. 1. Halle, 1908. Цит. по: Громов Р. Антон Марти. Философия языка
брентановской школы. Предисловие к публикации //Логос. 2004. № 1 (41). С. 128.
Здесь и далее книга Марти цитируется в русском переводе Р. Громова по изданию:
Громов Р. Антон Марти. Философия языка брентановской школы. Предисловие к
публикации //Логос. 2004. № 1 (41). С. 106—137. Марти А. Об отношении
грамматики и логики // Логос. 2004. № 1 (41). С. 138—168; Марти А. Что такое
философия? // Логос. 2004. № 1 (41). С. 169-185. - Прим. ред.
7 Цит. по: Громов Р. Антон Марти. Философия языка брентановской школы.
Предисловие к публикации //Логос. 2004. № 1 (41). С. 128.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 269
меру журнала «Слово и словесность», содержащем теоретическую
программу Пражского лингвистического кружка, авторы признают
заслугу Марти именно в том, что он внес идею телеологии и в
синхронические, и в диахронические трактовки функционирования
языка; однако они возражают против его утверждения, что в
развитии языка нет правила, нет плана (planlose Absicht)8.
Цель Марти — определение «общей грамматики»9 —
оказывается созвучной лейбницианскому проекту всеобщего языка. В
отличие от «чистой и априорной грамматики» Гуссерля, который
устанавливает априорную возможность обозначения в языке, Марти
указывает на два направления исследований: первое — описывать
общие семантические функции языков; второе — показывать, что
является общим в их употреблении. Этим призвана заниматься
общая семасиология, лежащая в основе философии языка.
Эти предварительные замечания проясняют семантическую
концепцию Марти, содержащуюся в его главной работе «Untersuchungen
zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie»
(«Исследования по основанию общей грамматики и философии
языка», 1908). Внешнюю и внутреннюю форму языка он
определяет в зависимости от источника их познания (чувственного
восприятия или внутреннего переживания). Внутренняя форма — это «то в
средствах выражения (Sprachmittel), что переживается "внутренне"»
и «опосредует» процесс понимания (Vermittlung des Verständnisses).
У Марти внутренняя форма дает не понимание, а его «преддверие»
(Vorhalle). Аргументация Марти отличается от гумбольдтовской
традиции введением двух типов внутренней формы: фигуральной и
конструктивной. Фигуральная внутренняя форма языка (figürliche innere
Sprachform) состоит из выражений, вызывающих ассоциативные
связи; данная форма связана с представлениями (иконичностью).
Однако для Марти фигуральная форма не есть смысл. Например,
некоторые синсемантические знаки, потерявшие свое первичное
значение, продолжают жить в языке как внутренние формы;
внутренняя форма — этимон, проливающий свет на историческое развитие
8 La semiotica nei paesi slavi / а с. di С. Prevignano. Milano, 1979. P. 160—161.
9 «Общая грамматика должна описать <...> не только общие всем языкам задачи,
общие базисные линии и особенности того, что подлежит выражению во всех
человеческих языках, или его повсеместно совпадающие категории, но также указать,
что общего можно увидеть в отношении метода, которым такие задачи повсеместно
удовлетворяются. И это не только не познаваемо a priori, но <...> вообще не
познаваемо через рассмотрение области значений». Цит. по: Громов Р. Антон Марти.
Философия языка брентановской школы. Предисловие к публикации // Логос.
2004. № 1 (41). С. 131.
270
Раздел III
языка. Там, где, несмотря на изменения в языковом употреблении,
еще проявляется первичное значение слова, мы имеем дело с
внутренней фигуральной формой. Универсальная функция внутренней
фигуральной формы состоит в том, чтобы быть посредником,
способствующим возникновению понимания в непосредственном
общении. Только благодаря наличию ассоциативной связи внутренних
форм происходит обогащение выразительных средств языка.
Конструктивная внутренняя форма (konstruktive innere
Sprachform) связана с синтаксисом; ни один язык не выражает
полностью и explicite того, что входит в намерение говорящего; данное
несовпадение различно в каждом языке. Конструктивная
внутренняя форма связана непосредственно не с выражением, но с его
интонационными конструкциями, благодаря которым слушателю
становится понятен его смысл.
Рассмотрим теперь, каким образом и в каком контексте Шпет
принимает семантическую теорию Марти. Книга «Язык и смысл» —
трактат о семиотике, задуманный как часть монументальной работы
«История как проблема логики»10. В этой работе Шпет посвящает
Марти несколько глав, постоянно опираясь на его аргументацию;
более того, указанием на важность его концепции заканчивается
весь трактат: «Марти не только развил свое учение <семасиологию>
с полнотой, до него небывалой, но, придавая в своей философии
языка этому учению центральное значение, он придал ему
наиболее законченный, последовательный и убедительный вид»11. В
основе шпетовской критики философии Марти лежит гуссерлевская
феноменология, но с учетом собственной философии языка. Как
главную предпосылку своей семиотики Шпет устанавливает
знаковую природу всякой сигнификации, которая дана через внутренние
формы. Они всеобщи, поскольку определяют отношения знака со
смыслом. Знак имеет, во-первых, «произвольный» характер
(«"Произвольность" знака в таком случае означает случайность не в смысле
механического сочетания действий, источники которых нам
неизвестны, а в смысле свободы выбора одного какого-либо средства из
ряда средств, одинаково пригодных для достижения данной цели»12;
во-вторых, знак принимает свое значение в структурной системе
отношений («Однако какое бы мы ни выбрали средство для данной
цели, раз оно выбрано, оно входит в некоторую систему отношений,
10 Щедрина Т. Г. Примечания к тексту Г. Г. Шпета «Язык и смысл» // Шпет Г. Г.
Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 657—659.
11 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 637.
12 Там же. С. 564-565.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 271
имеющую свою идеальную закономерность, так что и вновь
найденное средство, будучи включено в эту систему, характеризуется
некоторыми внутренними формами, необходимость которых уже есть
не простое постоянство, а необходимость по закону противоречия»13.
Таким образом, внутренние формы как объект семиотического
анализа Шпета наделены особыми чертами: «Внутренние формы, об
аподиктической необходимости которых здесь идет речь, присущи
знаку не в его качестве вещи, а в его качестве средства»14.
Из трех значений термина «слово»: 1. слово — речь, орудие
сообщения, язык; 2. слово — сообщение [parole]; 3. слово — элемент
речи, «отдельное» слово, Шпет сосредоточивает свое внимание
особенно на третьем; именно здесь проявляется первая заслуга
Марти. В рамках определения «отдельного» слова действует
приписываемое Аристотелю разделение на слова категорематические
и синкатегорематические, т. е. самостоятельные слова-имена, и
слова-части, значение которых зависит от их отношения к другим
словам: «В особенности здесь следует отметить А. Марти,
развившего в конце концов это разделение в целую принципиальную
систему»15. Кроме того, Марти вводит и новую терминологию,
которая указывает на новое направление исследований: «Дело не в
предикабельности или сопредикабельности, а в том, идет речь о
самостоятельном значении или вспомогательном (selbstbedeutenden
und mitbedeutenden Ausdrücke), об именах автосемантических [или]
синсемантических»16. Марти придает особое значение именно син-
семантическим выражениям. Но эти определения носят
грамматический характер, а вопрос о значении принадлежит сфере логики.
По Шпету, для слова существенно значение, а не наименование,
потому что существуют знаки-«значки» и знаки-«признаки»:
вопрос о смысле — чисто философский, и касается он всего, что
обладает значением. Понятие сигнификации обозначает «иметь
связь»; сам язык, пишет Шпет, «в целом, как и каждая его
составная часть, не случайно только, не "практически", а необходимо и
по существу, есть синсемантическое выражение»17.
13 Там же.
14 Там же.
15 Там же. С. 575.
16 Там же. С. 576. — В «Логических исследованиях» Гуссерля вопрос передвигается
на другой план, в сферу логики, где обе формы способствуют образованию
самостоятельного представления. Husserl Ε. Ricerche logic he. Prolegomeni a una logica pura.
Voll. I—II. / a c. di G. Piana. Milano, 1982. T. 2. (Гуссерль Э. Логические исследования.
T. II (1) / Пер. с нем. В. И. Молчанова. М., 2001.)
17 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 583.
272
Раздел HI
Логика — это область форм; «логическая оперативная роль
слова» состоит в строении внутренних форм, определяющих
семантические отношения. В этом контексте Шпет, признавая правильной
постановку вопроса Марти, не может принять ни генетической
перспективы, ни эмпирического и психологического подхода к
изучению области форм, поскольку они неизбежно ведут к
релятивизму. Учение Марти было подвергнуто Шпетом тщательной
критике. Главное заблуждение Марти, сводящее всю аргументацию
исключительно к экстенсивной стороне вопроса, состоит, с точки
зрения Шпета, в определении внутренней формы как
«внутреннего переживания». Из двухмерной перспективы Марти,
психологической и эмпирической, Шпет предлагает перейти в «третье
измерение», в область логики как формальной науки.
Апория соображений Марти о фигуральной внутренней форме
заключается в том, что если из нее можно вывести образ жизни и
культуры данного народа, то, следовательно, развитие языка
является строго планомерным. Однако Марти сам понимает, что такое
определение недостаточно, и вводит новый элемент, не связанный
с внутренним восприятием. Представления, сопровождающие
значение слова, либо производят «эстетическое удовольствие», либо
«опосредуют понимание». Последнее положение имеет
существенное значение, но, по Шпету, посредничество в понимании — это
главный признак внутренней формы, а не «внутреннего
восприятия». С другой стороны, представления не способствуют
пониманию, а, наоборот, мешают ему. Психологистическая установка
Марти отождествляет понятия и представления; главный же вопрос
заключается в том, что делает понятие «понятным», каким образом
слово связывается со значением и что такое «внутренняя форма».
Для понимания логического слова нужна предикативность,
«например "время сушит слезы" — не "образы" помогают понять это,
а идеальные отношения, утверждаемые предикатом»18.
Марти в очередной раз предоставляет, по мнению Шпета,
материал для рассмотрения вопроса, «сам не сознавая» этого: «нужно
только брать его высказывания не в психологистическом аспекте,
как он сам их употребляет, а в логическом»19. Дело в том, что
Марти сопоставляет внутреннюю форму с описательным
определением, вызывающим вспомогательное представление, которое
объясняет значение данного имени. По Шпету, это «поучительный»
пример: описательное определение действительно служит сред-
18 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Цит. изд. С. 644.
19 Там же. С. 645.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 273
ством понимания, но этой функции недостаточно для того, чтобы
представить его как логическую внутреннюю форму. Шпет
показывает, что в противоположность утверждениям Марти внутренняя
форма присутствует в языке «беспланно», независимо от того,
какие «описательные определения» субъект выбирает для выражения
и понимания мысли. Марти, таким образом, хотел «и логический
прием свести на психологическую почву, но на деле это только
значит, что и в основе эмпирических внутренних форм есть идеальная
подпочва»20. Игнорирование идеально-логических «регулятивов» в
анализе языкового значения характерно и для определения
Марти конструктивной внутренней формы. Как показал Шпет, Марти
нужно было постоянно вносить коррективы в его учение о
внутренней форме языка, поскольку оно было построено на
непрочной почве.
Опираясь на конструктивную критику учения Марти, Шпет
строит свою собственную «семасиологию» и в очередной раз
доказывает непосредственное практическое применение своих
философских концепций.
В итоге внутренняя форма слова определяется как «такое
отношение знака языка к его значению, которое имеет место там, где
мы пользуемся языком в познавательных целях»21. Образ понятия
вырисовывается Шпетом крайне фигуральным языком:
«Неподвижное, как тюремная решетка в своей чистой объемности, и
улетучивающееся, как эфир в своей чистой текучести содержания,
слово-понятие становится гибким и упругим орудием познания
через соотнесение объема к содержанию»22. Жизнь и динамичность
понятия — в суждении: «Его формы — живы и жизненны, они
переливаются одна в другую, и эта жизнь есть мысль. Как сказано,
мысль движется смыслом или значением. Понятия суть формы
мысли»23. Благодаря истолкованиям Шпета философские понятия
Марти наполнились новым смыслом и обогатились возможными
интерпретациями.
20 Там же. С. 647.
21 Там же. С. 651.
22 Там же.
23 Там же.
В. В. Аристов
Идея внутренней формы Густава Шпета
и ее значимость для современной поэтики
и поэзии
Мысли Густава Шпета не ergon, но energeia. Они и
сегодня остаются актуальными и открывают перспективы
для осмысления динамизации изобразительных форм в
современной поэтике. При этом категория внутренней
формы является, на мой взгляд, важнейшей при
осознании того, как создаются внутренние пространства
изображений. В ней содержатся возможности театрализации отвлеченного,
«абстрактного» пространства сознания. Здесь появляется агент —
«актер внутренней сцены» как отражение внешних устремлений
и исток внутренних импульсов для претворения их в поэтическое
слово. Шпет писал: «Решающим для отличия поэзии, как
искусства от морали, как риторики, во всех ее видах, всегда остается
наличие внутренней поэтической формы, как правила-алгоритма
построения»1. Таким образом, здесь на теоретическом уровне
поставлена проблема, которая неизбежно возникает в «поэтической
практике». Я уже писал2 о поэтах — современниках Шпета
(особенно важны три имени: это Велимир Хлебников, Андрей Белый и
Осип Мандельштам), теоретиках и «практиках» поэтической
внутренней формы, которые, не используя подобной терминологии,
демонстрировали действенность такого подхода. И для нынешней
литературы, поэзии отвлеченные, казалось бы, вопросы о
внутренней форме — насущные, причем, пытаясь изучать современный
литературный контекст, мы подходим и к динамическому, живому
пониманию идей Шпета. С точки зрения понятия внутренней
формы слова рассматривается поэтика современной русской поэтиче-
1 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта) //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 451.
2 Аристов В. В. Возможности «внутреннего изображения» в современной поэзии и
поэтике // Поэтика исканий и поиск поэтики. М, 2004. С. 124—131.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 275
ской школы метареализма (термин, введенный литературоведом и
философом Михаилом Эпштейном). Под таким углом освещается
и наше понятие «внутреннего пластического театра», который
может трактоваться как «словесно-логический алгоритм». Методы
работы Шпета — его интерес к «инвариантам внутренних форм»
относительно изменений субъективных образов — существенны и
для построения нашего понятия Idem-forma. Здесь важно
понимание синтеза по Шпету. Он стремился разграничить понятия,
соединяя их не «впрямую» (известно его недоверие к «традиционному
синтезу», он говорил: «Поэзия как "синтез" музыки и смысла есть
синтез паутины и меда»3), но динамически, при сохранении
суверенности каждого понятия. Самое важное — то, что внутренняя
форма определяет не сплав, а расплав сущностей, то есть их
пребывание в подвижном взаимодействии.
Выделим вначале некоторые положения шпетовской теории.
Понятие внутренней формы способно сделать динамичными и
самые общие категории, такие, как форма и содержание,
позволяя говорить о новом их взаимоотношении. Для современной
поэтики развитие моделей формы и содержания поэтического
произведения существенно (одна из возможных — известная
«модель» влажной губки-формы, из которой выжимается
содержание). Шпет пишет: «Форма <...> может быть сделана предметом
самостоятельного изучения, но реально она существует только в
своей материи. Со времени Канта стало популярным другое
толкование смысла понятия "форма", согласно которому между
формою и содержанием существует неотмыслимая корреляция.
Поэтому и Гумбольдт <...> тотчас же устанавливает
соответствующее звуковой форме содержание»*. Шпет дает такое разъяснение:
«Под формою следует разуметь не выделяемые в абстракции
шаблоны и схемы, а некоторый конкретный принцип, образующий
язык. Формы в этом смысле <...> могут быть лишь
формулированы наподобие правил математических действий, т. е. как
указание некоторой совокупности и последовательности приемов,
"методов" осуществления "энергии"»5. Шпет указывает, что
Гумбольдт для нахождения содержания должен взять язык в его
«органическом» целом. Но для этого «нужно, как говорит Гумбольдт,
3 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 183.
4 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта) //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 371.
5 Там же. С. 371.
276
Раздел III
выйти за границы языка, потому что в самом языке мы не найдем
неоформленной материи. <...> С двух сторон Гумбольдт
ограничивает языковые формы и, следовательно, указывает
возможную "условно безусловную" материю языка. С одной стороны,
это — звук вообще, с другой стороны, совокупность чувственных
впечатлений»6. Шпет критикует это положение: «С одного края
оказывается "звук", с другого "чистое мыслительное
содержание", — одно от другого безнадежно оторвано. <...> Поскольку
мы говорим о форме по отношению к так понимаемой материи,
мы можем толковать самое форму — формально, как некоторое
отношение между двумя терминами-пределами, или реально, как
языковую энергию, образующую языковой поток в некое
структурное единое целое»7.
Тем самым, обсуждая связь формы и содержания, Шпет вводит
и основные положения о внутренней форме. Важнейшее — то, что
найдено особое «место» ее в строении и действии слова. В
«Эстетических фрагментах» Шпет пишет: «Если признать
морфологические формы слова формами внешними, а онтические формы
называемых вещей условиться называть формами чистыми, то лежащие
между ними формы логические и будут формами внутренними»*.
Далее он подходит к поэтическим формам: «Назовем их, в
отличие от чисто логических, внутренними дифференциальными
формами языка. Они слагаются как бы в игре синтагм и логических форм
между собою. <...> Это — формы языка поэтические. Они суть
отношения к логической форме дифференциала, устанавливаемого
поэтом через приращение онтического значения синтагмы к
логической форме. Они — производные от логических форм»9. «В
противоположность внешним формам звукового сочетания,
поэтические формы также могут быть названы внутренними формами»10.
В книге «Внутренняя форма слова» Шпет поясняет: «В
поэтическом языке есть нечто свое <...> неразложимый в другие языковые
формы остаток, который в своих формальных качествах
составляет проблему формы самого поэтического языка. ...Эти формы
немыслимы <...> без отношения к общесловесным формам, внешним
и внутренним. <...> Направленность художественного творчества
на самого себя, а не на прагматические цели, только в том и состо-
6 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 372.
7 Там же. С. 374-375.
8 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Т. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 224.
9 Там же. С. 231.
10 Там же. С. 232.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 277
ит, что оно неизменно, как свою внутреннюю форму, имеет в виду
сами эти отношения»".
После определений Шпет говорит об образе (заметим попутно,
что конструктивные определения способны, быть может,
реабилитировать понятие «художественный образ», дискредитированное в
научном обиходе): «В структуру слова он ложится между звукосло-
вом и логической формою, но также и в отвлеченном анализе как
самостоятельный предмет изучения он помещается между "вещью"
и "идеей"»12. «Образ как внутреннюю форму поэтической речи и
как предмет "воображения", т. е. надчувственной деятельности
сознания, ни в коем случае недопустимо смешивать с "образами"
чувственного восприятия и представления, "образами"
зрительными, слуховыми, осязательными, моторными и т. п.»13. Далее следует
утверждение «инвариантности»: «Другое, еще более существенное
различие образа-формы и образа-картины — в том, что форма, раз
она создана, она существует одна для всякого ее воспринимающего.
<...> Представления же "картины", вызываемые у них этою
формою, у всех разные»14.
Миновав «чисто онтологический» уровень, где слово
инвариантно относительно различных восприятий, необходимо выйти к
внутренней чувственной поэтической реализации, с
«инвариантностью» относящейся именно к поэтической форме. Известна
неприязнь Шпета к «психологии художественного творчества»,
называемой им «научным пережитком». Но исследовательский опыт
«познания изнутри» психологов прямо связан с нашей тематикой.
Вот что говорит о внутренней технике актера В. П. Зинченко в
своей книге о Шпете, упоминая штудии А. Таирова (входившего в
сферу общения Шпета) и стремление Н. А. Бернштейна и А. В.
Запорожца увидеть движение «изнутри»: «А. В. Запорожец, его
ученики и сотрудники (в их числе и я) многие годы занимались
проблемой формирования зрительного образа и пришли к заключению, что
в его основании лежит движение, действие, слово. Можно сказать,
что они составляют его внутреннюю форму. <...> Здесь уместно
вспомнить, что А. В. Запорожец до своего ученичества у Л. С.
Выготского и Г. Г. Шпета был актером в театре знаменитого украин-
11 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта) //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 441.
12 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 264.
13 Там же. С. 269.
14 Там же. С. 269.
278
Раздел III
ского режиссера Леся Курбаса, учившего актеров преобразованию
своих движений в целях создания желаемого образа. Возможно,
именно актерский опыт позволил ему не только увидеть
внутреннюю картину исполнительского действия, но и увидеть изнутри
требуемый образ»15. Подойдя к обсуждению способов «театральной»
внутренней формы как инструмента в поэтической технике, надо
попытаться понять теоретические интересы самого Шпета. При
обсуждении установок Шпета исследовательница М. Вендитти
утверждает: «Если поэзия формируется в языке, то в театре
основная форма — это тело актера, которое является знаком, единицей
измерения театральной системы»16. Важно, какую «философскую
роль» отводит Шпет актеру на сцене, в чем смысл актерского
действия. Статья «Дифференциальные постановки театрального
представления» начинается знаменательными словами: «Автор и актер
первоначально — одно лицо. Кончив свои обязанности, автор в
качестве актера представляет зрителю свое произведение.
Выведение на сцену нескольких действующих лиц указывает на
возможность отделения актера от автора»17. И далее: «Последний <актер>
<...> имеет прав на толкование своей роли не меньше, чем
режиссер. Конфликт возможен и даже неизбежен»18. Заметим, что такие
идеи не кажутся чем-то отвлеченным для самого Густава
Шпета, — возможно, здесь скрыт вопрос о жизнетворчестве. В отличие
от многих философов Серебряного века Шпет пытался утвердить
философию в качестве строгой науки, в духе немецкой традиции.
Но создается впечатление, что стихийно он превышал это и,
будучи «артистом в душе» (по высказыванию Андрея Белого), выходил
за пределы чистой науки. Густав Шпет явил собой, может быть
неявно, тип человека-артиста (о проблеме человека-артиста говорит
Блок в статье «Крушение гуманизма») — редчайшее свойство для
философа. Он вошел и в реальный театральный мир, многие годы
жизни он находился внутри театральной среды (Брюсовский пер.,
17 — его последний домашний адрес, это тот дом, где жил В. И.
Качалов и другие известные артисты МХАТ). Неслучайным видится
15 Зинченко В. П. Мысль и Слово Густава Шпета (возвращение из изгнания). М,
2000. С. 74.
16 Вендитти М. Театр как коррелят поэзии // Г. Г. Шпет / Comprehensio. Вторые
шпетовские чтения. Творческое наследие Г. Г. Шпета и современные философские
проблемы. Томск, 1997. С. 218.
17 Шпет Г. Г. Дифференциация постановки театрального действия // Шпет Г. Г.
Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры. М., 2007.
С. 15.
18 Там же. С. 16.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 279
(хотя внешние обстоятельства хорошо известны — к началу 1930-х
Шпет был изгнан со всех постов) и его участие в создании проекта
Академии МХАТа им. Горького. Инициатива создания Академии
принадлежала Станиславскому (академия представлялась
возможной защитой от нападок РАЛ Па, и это начинание было
поддержано Горьким и Сталиным), но структуру ее пытался определить сам
Шпет. Она должна была состоять из двух частей: Академии
актерского мастерства (в другом варианте — Высшей театральной
школы) и Научно-исследовательского института. Шпет обосновывал
теоретически необходимость этого гипотетического и
уникального формирования, которое так и не реализовалось. Станиславский
во всех документах фигурирует как директор, но организационная
мысль принадлежит его заместителю, т. е. Густаву Шпету.
Интересная деталь «подтверждает» этот факт: в архивных документах музея
МХАТ19, посвященных проекту устава Академии, стоит большая
римская цифра I (помечающая номер документа). Рядом со словом
«устав» она выглядит отчасти похожей на букву Г, так что
читается: «Проект Г устава», что словно бы указывает на
главенствующую роль Густава Шпета в создании этого «виртуального проекта».
В перечислении кафедр Высшего учебного заведения первой (на
место значившейся Кафедры общественно-политических наук)
поставлена Кафедра внутренней техники и практики (это слово Шпет
вставил карандашом) театрального мастерства20. На второе место —
Кафедра внешней техники театрального мастерства. Не
отражается ли в этой последовательности приоритет для Шпета внутренних
форм? В Проекте указывается, что Научно-исследовательский
институт носит название «Институт театроведения» и
приравнивается по своему ученому положению к научно-исследовательским
институтам Академии наук СССР. Первым среди секторов
Института значится Сектор теории и психологии творчества актера.
Вторым — Сектор техники речи. В согласии со своими теоретическими
статьями Шпет отводит актеру центральное место (по-видимому,
это совпадало и с устремлениями Станиславского в те годы).
Сектор драматургии значится в конце списка, сектора режиссуры нет
вообще. В документах, посвященных проекту устава Академии,
рукой Шпета написано: «Особую роль в разработке педагогической
системы воспитания художника-актера призвано играть научно-
исследовательское отделение Академии»21. То есть создается впечат-
19 Музей МХАТ. K.-C. № 14690/ 1-4.
20 Музей МХАТ. K.-C. № 14688.
21 Музей МХАТ. К.-С. № 14690/ 1-4.
280
Раздел III
ление, что философ-теоретик пытался через практику актера
оказать (пусть косвенное) влияние на саму жизнь театра. Тем самым
он выступает как незримый режиссер (режиссер-философ — новая
фигура в театре), а актер в идеале сопрягает внутренние и
внешние формы. Подтверждением вывода о важности для Шпета
фигуры актера служат и «тезисы» в конце статьи «Театр как искусство»
(знаменательно, что если в более ранней статье
«Дифференциация...» он еще говорит о режиссере, то здесь уже нет): «2.
Художественный творец в театральном искусстве — актер. 3. Техническим
материалом в творчестве актера является он сам»22. (Было бы
интересно сопоставить фигуры Шпета и Булгакова — они были
хорошо знакомы, — опальных драматурга и философа, которые нашли
призрачное пристанище в 1930-х годах во МХАТе: один оставил
фантасмагорический «Театральный роман (записки покойника)»,
другой — проект теоретико-театральной утопии, которая нигде
не реализовалась.) Воплощение своих идей в многообразных
обличьях — вот, быть может, скрытая сверхзадача Шпета, который и
сам предстает «во многих лицах»: он философ, историк,
переводчик, теоретик театра (сам «отчасти вынужденно» участвовавший в
театральном процессе во взаимодействии с ведущими
режиссерами своего времени), исследователь различных литературных эпох,
организатор художественно-философских институтов —
достаточно назвать только ГАХН. Проникновение в жизнь в различных
формах показывает его неожиданно как мыслителя «энергийного»
свойства, а не создателя только отвлеченных доктрин.
Термин «внутренний пластический театр» (в определенном
соответствии со шпетовским пониманием внутренней поэтической
формы) используется мною для того, чтобы передать
усложнившуюся технику современной поэзии. В моем представлении
внутренняя поэтическая форма оснащается дополнительным «театральным
пространством». При этом «орудийность» (по Мандельштаму)
проявляется в признаках размеренного и размеченного «внутреннего
тела», где существенны не чувства, но ощущения (цельности,
переданной телесно), которые проявляются в драматургии лирического
выражения. Такой внутренний «атлетизм» сопоставим, вероятно, и
с элементами внутренней актерской техники (ср. с «фонетикой
стихий» Г. Гачева). Пластика и движение присущи «немому» действию
слова в глубине поэтической внутренней формы. Михаил Чехов и
Андрей Белый преподавали в 1920-е годы «эвритмию», то есть пла-
22 Шпет Г. Г. Театр как искусство // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 39.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 281
стическую трансформацию слова в сценическое движение. То, что
дано как внешнее в деятельности настоящего актера на сцене, во
внутреннем театре должно получить свое особое воплощение.
Ассоциация с другим видом искусства возникает и при
обсуждении визуальных цепей и рядов, внутренне-зримых образов.
Об этом говорил ученик Шпета Николай Жинкин. Данный
визуальный ряд — один из кодов «языка внутренней речи» Жинкина.
Приведем лишь одну важную цитату: «Во внутренней же речи
связи предметны, т. е. содержательны, а не формальны, и
конвенциональное правило составляется ad hoc, лишь на время, необходимое
для данной мыслительной операции. Как только мысль
переработана в форму натурального языка, кодовый, мыслительный прием
может быть забыт»23. Пояснением рядов визуальное™ может
служить введенное нами понятие «идеального кинематографа», т. е.
кинематографа внутренних картин, образов или даже идей,
ожидающих возможности «экстериоризироваться без посредников», т. е.
без создания материальных двойников, которые потом
заснимаются, как в традиционном методе кинематографа. При этом поэзия,
в частности (и в особенности поэзия метареализма — поэзия связи
различных уровней реальности), предполагает особую технику
перевода внутренних чувственных образов, в том числе визуальных,
во внешние проекции и обратно. Причем здесь часто не
предполагается предсуществующего ряда предметов или образов. Эти новые
предметы или сущности словно бы создаются в момент
творческого акта, при этом происходит «схватывание» отдаленных в
пространстве и во времени «вещей». Именно способ сопряжения их и
определяет неповторимый узор данного произведения.
Представления метареалистов о поэтическом языке отражены
отчасти в монографии О. И. Северской24. Отметим кратко
некоторые уровни взаимодействия с «внутренними формами». Появление
образа есть рождение нового пространства и мира из нерасчленен-
ной, но очерченной светящейся сущности. С. Соловьев пишет:
«Мир, утрачивая свои черты, сплываясь в некую неименуемость
(скорее состояние, чем вещество), становится неподвластным
дифференцированию слухом, зрением, мыслью»25. После
происходит первичное разделение на «до-слова». Мы ввели это понятие,
23 Жинкин Н. И. О кодовых переходах во внутренней речи // Жинкин Н. И. Язык —
речь — творчество. Избранные труды. М., 1998. С. 159.
24 Северская О. И. Язык поэтической школы. Идиолект, идиостиль, социолект. М.,
2007.
25 Цит. по: Северская О. И. Язык поэтической школы. Идиолект, идиостиль,
социолект. М., 2007.
282
Раздел III
означающее не оформленные, однако готовые к структурированию
фрагменты. В нашем эссе «Заметки о "мета..."» говорится: «На
таком уровне "до-слова" погружены еще в чувственное»26. Затем
происходит постепенный переход «до-слов» в более отчетливые
элементы. При этом «открывается дополнительное пространство
"внутренней формы", в котором парят горячие пластические
облака, готовые стать словесными сгустками»27. Это самый начальный
уровень, на котором проступают контуры поэтического слова, но
здесь от тончайшего воздействия может решительно измениться и
«поэтический результат» — это стадия неустойчивостей, наиболее
чуткая к движению в пластическом оформлении. У различных
авторов метареалистической школы имеются сходные высказывания,
а у Ивана Жданова есть стихотворение «До слова» с характерной
первой строкой: «Ты сцена и театр в пустующем театре». На этом
уровне проявленности изображения могут проступать уже
синтаксические и иные структуры. А. Парщиков пишет: «Смысловые
единицы только огибают ту воображаемую траекторию или объем,
которые представляют синтаксические образы»28. В чем-то сходно и
замечание А. Драгомощенко: «Декоративная решетка китайского
интерьера по сути своей неисчерпаема. <...> Орнамент состоит из
дыр, или из перехода от одной пустоты к другой»29.
Неизбежно возникают вопросы о «всеобщем поэтическом
языке», о поэтическом произведении, понимаемом как трансляция,
о переводе с этого неизвестного (поэтического) языка. Проблема
стихотворного перевода в обычном смысле также имеет прямое
отношение к предмету обсуждения. Примеры переводов с различных
языков в свете соотнесения со «всеобщим поэтическим языком»
и пластическим исполнением в языке, на который переводятся,
очень существенны. Переводы стихотворных отрывков способны
в сжатом виде показать, как работает представление о внутренней
поэтической форме, позволяющей создать представления над-
(под-)языка. Известно, что в 1920-е годы идеи всеобщего языка,
всеобщей грамматики обсуждались в ГАХН (о мыслях Гумбольдта
и Шпета о существовании глубинных межъязыковых структур
вербального мышления в последнее время говорили различные
авторы). Вот высказывание самого Шпета: «Словесно-логические,
26 Аристов В. В. Заметки о «мета» // Арион. 1987. № 4. С. 48—60.
27 Там же.
28 Цит. по: Северская О. И. Язык поэтической школы. Идиолект, идиостиль,
социолект. М., 2007.
29 Цит. по: Северская О. И. Язык поэтической школы. Идиолект, идиостиль,
социолект. М., 2007.
«Внутренняя форма слова»: пересечение исследовательских перспектив 283
внутренние формы, как формы форм, понимаемые как
алгоритмы, суть необходимые и постоянные законы "образования слов-
понятий", но само это образование, подчиняясь законам, как
принципам отбора, свободно в этом отборе и его путях, поскольку
вообще может быть свободен выбор средств к данной или
заданной цели. <...> В этом — действительный источник разнообразия
языков по типам, нациям, эпохам, группам и индивидам, при
полном действии и всеобщих словесно-логических законов, и общих
эмпирических грамматических тенденций всех этих отдельных
языков»30. В поэтике, использующей понятие внутренней формы,
поэтический перевод трактуется как интерпретация на этом языке.
В более практическом аспекте можно представить словарь
соответствий обычных слов и потенциальных пластических знаков,
которые содержит данное слово. Это уровень логической внутренней
формы. Словарь поэтических внутренних форм составить гораздо
сложнее, поскольку здесь огромное, индивидуальное для каждого
поэта сочетание потенциальных элементарных логических форм
(хотя можно представить пластические поэтические
«фразеологизмы», где даны простые возможные «пластические предложения» из
элементарных единиц). Обычный стихотворный перевод
понимается как словесное преобразование, при котором сохраняется
некоторое соотношение внутренних выразительных элементов, т. е.
существуют инварианты внутреннего языка, которые определяют
универсальность поэтического воздействия.
Проблема Idem-forma отчасти также связана с древней идеей
единого языка и состоит в том, чтобы понять, как уникальность
каждой отдельной вещи выражается в единстве через общность
самого понятия уникальности, выделить это «уникальное» в
качестве «общего знаменателя»31. Новый термин возник в результате
развития принципов поэтики поэтической школы метареализма,
но Idem-forma является и попыткой продвижения в современные
стихотворные теории понятия внутренней формы. По
представлениям Шпета (в нашей интерпретации), «синтезировать» не надо,
поскольку каждое из искусств обладает своей внутренней формой.
Театр, музыка, кинематограф и иные модели динамических
поэтических реализаций связаны между собой метонимически и
взаимным проникновением, при котором каждая сущность не теряет, а
30 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта) //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 420.
31 Аристов В. В. Idem-forma и границы миметического изображения в современной
поэзии. Цит. по: http://nlo.magazine.ru/poet/101.html
284
Раздел HI
приобретает от этой связи. Взаимопроникновение с сохранением
своей глубинной сущности — вот путь объединения. В этом
видится и соответствие принципу Idem-forma. Представление об Idem-
forma как методе художественного отождествления предполагает
«немиметические» возможности поэтического изображения (надо
преодолеть только «отражающие» и «подражающие» формы
искусства и выйти на уровень не разрушающего уникальное
отождествления). Соотношения смыслов «внутренней формы» и Idem-forma
в том, что в поэтике на основе Idem-forma отдельное не теряется
и не «синтезируется» с другим, но обретает новые черты, которые
реализуются во «всеобщем изобразительном пространстве».
Проблема Idem-forma состоит в том, чтобы сделать внутреннюю форму
внешней, причем ее выход вовне задает новый образ совпадений,
касается ли это литературных произведений или человеческих
отношений. В понимании Шпетом внутренней формы
подчеркивается ее универсальность, способность вмещать различные образы,
чувственные зрительные образы, возникающие у различных
людей, появляющиеся при восприятии одних и тех же
словосочетаний (что задается абстрагированной внутренней формой того или
иного сочетания или произведения). Idem-forma претендует
неявно на то, чтобы найти всеобщую форму «более высокого порядка».
Отдельные образы перестают быть областью интересов лишь
отдельного человека, множественность этих отдельных отпечатков,
подхваченная универсализмом внутренней формы, — вот
основная направленность и возможная ценность Idem-forma. В самом
широком смысле Idem-forma предполагает мир, переживаемый
изнутри каждого человека — «изнутри другого как изнутри себя».
Это сверхсистема, опирающаяся на незримую структуру всеобщего
языка (как поэтическая внутренняя форма находит опору в
логической внутренней форме), это структура, где каждый элемент
исключительно важен и поэтому не может быть исключен из мира.
IV. Густав Шпет
в русской
интеллектуальной
«сфере разговора»
начала XX века
Л. А. Гоготшивили
Шпет и Бахтин: ожидаемые расхождения
и неожиданные сходства
В своих языковых теориях Г. Г. Шпет и M. M. Бахтин,
исходя из диаметрально противоположных постулатов, тем не
менее сближаются на развитых стадиях обоснования
своих позиций — в ряде тонких интеллектуально-логических
моментов, проступающих на аналитически-нейтральном
срезе обеих концепций. Из возможного многообразия
способствующих этим сближениям причин — свойственный обоим
последовательный радикализм в проведении своих идей, общность
исторического контекста и истоков — феноменология и символизм (при
всем различии форм их рецепции), объективные изгибы предмета
и т. д. — здесь предполагается вытянуть и истолковать лишь одну
нить: то редко отмечаемое обстоятельство, что в подтексте
очевидных противоречий между Шпетом и Бахтиным лежит единство
целевой доминанты: оба искали выхода из кризиса языкового
субъективизма.
Диаметральная противоположность концепций связана с
пониманием самой природы соотношения языка и смысла
(предмета). Шпет, как известно, стремился сблизить их насколько можно
теснее, однако без слияния, именно в этом сближении усматривая
единственную — приоткрытую феноменологией — реальную
перспективу выбраться из, как он говорил, «зигвартовских» одиночных
камер субъективизма1. Бахтин, напротив, утверждал
неустранимость и благодатность дистанции (зазора, люфта) между смыслом
и языком — однако без их полного разрыва, единственный же путь
преодоления солипсизма (такова принятая Бахтиным
формулировка проблемы) усматривался в особой форме использования именно
этой дистанции — в полифонии. Если Бахтина проинтерпретиро-
1 См.: Шпет Г. Г. Явление и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды.
М., 2005. С. 38, 181.
288
Раздел IV
вать по-шпетовски — т. е. как автора многоэтажного здания из
внутренних и внешних форм, то, с некоторым обострением
формулировок, можно сказать: все внутренние формы бахтинского здания
мыслились — в отличие от Шпета — не как формы языка или
самой предметности, а как формы дословесного (или внесловесного)
модально-ценностного отношения к предмету.
Сближение оказывается возможным потому, что эта
фундаментальная развилка формировалась на общем феноменологическом
фоне — оба равно акцентировали наличие в высказывании
подразумеваемых смысловых пластов. С этой точки зрения, наиболее
органичным местом встречи Шпета и Бахтина на территории
современной лингвистики оказывается «пресуппозиция», т. е. имплицитно
содержащиеся в выражении глубинные смыслы, которые являются
предпосылками для полного понимания его внешней формы. Для
лингвистики пресуппозиция — относительно новое и еще не
устоявшееся понятие (при ее обсуждениях упоминаются работы, начиная
с 60-х годов XX века). Сама она часто связывается с «молчаливым
подразумеванием», а активизация аналитической мысли вокруг
пресуппозиции — с повышением ее интереса к феноменологии.
Разумеется, аналитика знала эту проблематику изначально (по Фреге,
модальность утверждения в логических высказываниях, как правило,
не маркируется ничем, кроме самой формы утвердительного
предложения, отходя тем самым в зону неэксплицируемого
подразумеваемого), но в эпоху бури и натиска аналитизма эта зона была отсечена
в пользу имеющих внешние формы пропозиций — последние
тщательно проверялись на способность самолично, без
подразумеваемого пласта адекватно коррелировать с предметом. По всей видимости,
вердикт был или будет вынесен отрицательный, во всяком случае
аналитика серьезно обратилась к проблеме подразумеваемого, в
которую и Шпет, и Бахтин «заранее» внесли свою лепту.
Начну со Шпета. С очевидной наглядностью шпетовская
установка на подразумеваемое просматривается уже в «Явлении и
смысле» — в его интерпретации энтелехии. Знаки, говорит здесь Шпет,
всегда выступают со своим внутренним интимным смыслом,
который мы «не видим, не слышим, не осязаем, а "знаем" все-таки»2.
Так, будучи направленными на слово «секира», данное нам
непосредственно, мы в тот же момент «знаем», не нуждаясь ни в каком
дополнительном интенциональном акте, нечто новое, внутренний
смысл, непосредственно не данный, — мы знаем, что секира
«рубит». Это — рассуждение о подразумевании и — одновременно — не
2 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Цит. изд. С. 169.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 289
что иное, как обращение горизонтальной аналитической
пропозиции — «секира рубит» — в вертикальную пресуппозицию. Этот акт
«вертикализации» есть акт образования (фиксации) самой сферы
подразумевания, поскольку энтелехия «рубит» помещается тем
самым между внешним словом и предметом. Идея «вертикализации»
предполагает наличие новых «глубинных» отношений значений,
благодаря чему, согласно Шпету, поддаются различению не только
«ряды» их (т. е. логическая горизонталь), но также «слои» (т. е.
вертикаль). Совмещение внешне данной горизонтали и
подразумеваемой вертикали создает новые «синсемантические отношения» —
дополнительные компоненты передаваемого языком смысла.
Очевидно, что подразумеваемое («внутренний смысл») вошло
в ядро шпетовской концепции, будучи впоследствии сущностно
сплетено с центральными темами, в том числе — с его версией
внутренних форм слова. Внутренняя форма, напомню, локализовалась
Шпетом между чувственно данными внешними формами речи
(синтаксическими, морфологическими, звуковыми) и
онтологическими (онтическими, «чистыми») формами предмета («самих
называемых вещей»). Этот промежуточный топос и ассоциирован со
сферой подразумеваемого. В противовес субъективистским и
релятивистским версиям ее заполнения Шпет структурировал и
подчинял эту сферу принципу единства объективного смысла
высказывания. Можно поэтому говорить, что шпетовские внутренние формы
мыслились как объективные типы языкового подразумевания,
ведущие — аналитический мотив — непосредственно к предмету.
Две главные среди выделяемых Шпетом внутренних форм —
логическая и поэтическая. Последняя, напомню, относится Шпетом
отнюдь не к специфически художественным, а к общеязыковым
явлениям — на том основании, что поэтическая форма — как и
логическая — является «необходимым членом словесной структуры»3.
Не в том дело, говорит Шпет, что научная речь имеет возможность
излагать «изящно» и «художественно», а в том, что научное
изложение не может обойтись без помощи творческого воображения в
построении гипотез, моделей, способов представления и т. п.
Взаимное отношение этих двух — логической и поэтической —
внутренних форм как разных типов объективного подразумевания
выдвинулось в эпицентр проблем, обсуждаемых Шпетом в связи
с языком (как по причине решающего значения этого отношения
для всей темы в целом, так и вследствие имманентной сложности
3 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 264.
290
Раздел IV
его самого). Версия Шпета была здесь предопределена исходным
постулативным толкованием внутренней логической формы: она
изначально вводилась как генетически обладающая — при всех
оговорках — непосредственной подчиненной корреляцией с самим
объективным предметом, как фундированная им. Это
положение — несущая конструкция шпетовской мысли и, одновременно,
основание и условие усматривавшегося им пути преодоления
одиночных камер субъективизма. По идее Шпета, внутреннее
логическое (подразумеваемое) крепче вяжет понимание, чем внешне-
композиционно логическое, тем более что первое «действует»
независимо от своей осознанности или неосознанности. Шпет
развивает это понимание до идеи сквозного фундирования. Все
другие внутренние и внешние формы языка, включая поэтическую,
так или иначе, теми или иными обходными, извилистыми путями
должны быть в конечном счете выводимы, по Шпету, именно к
этой решающей точке встречи предмета и языка. То, что не
выводимо к ней, ссылается Шпетом в резервацию субъективной
смысловой самозамкнутости, в «мучительный алогиста бред»4.
Схема сквозного фундирования лишь на вид проста и прозрачна.
С введением внутренней поэтической формы Шпет концептуально
взвинтил проблему. Здесь как минимум две тонкости. Первая — в
том, каким образом Шпет доказывает идею сквозного
фундирования, признавая и подчеркивая разность предметов логической и
поэтической форм: логическая опирается на объективно данную
познаваемую предметность, поэтическая — на воображаемую и фан-
тазируемую. Да, говорит Шпет, в поэтических формах может быть
достигнута «полная эмансипация» от существующих вещей, но
поскольку все фантазируемое всегда воображается именно в виде
предметности (это гуссерлевский феноменологический постулат),
постольку и оно находится в фундируемой зависимости от логических
форм — единственных, по Шпету, законнорожденных форм брачных
соприкосновений сознания с реальной предметностью. Только за
счет этой фундированное™ поэтическая — как и любая — речь
может быть понята другим, т. е. может обладать общезначимым
смыслом, преодолевая тем самым одиночные камеры психологизма.
Вторая изюминка темы в том, что поэтическая форма (в
отличие от других форм речи) одновременно фундируется, по Шпету, и
с другой стороны — со стороны языка с его автономным от логики,
«свободным законодательством», особыми семантическими и
синтаксическими соками которого вольно подпитывается поэтическая
4 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 222.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 291
форма. Конкретный поэтический смысл рождается, по Шпету,
только «в переплетении» внутренних логических и внешних
языковых форм, «нося на себе всегда печать обоих терминов»5. Отсюда
шпетовский вывод, что поэтическая форма способна «поправлять
контекст логики»6, в котором изначально «пришла» мысль.
Если вспомнить, что в свою очередь и логический дискурс также,
по Шпету, «не может обойтись» без помощи поэтической формы,
ситуация, казалось бы, подпадает под перекрестный круговой огонь
взаимозависимостей. Поэтическая форма фундирована как логической,
так и внешними формами языка, логическая в определенной
степени зависима от поэтической, а значит, опосредованно, и от внешних
форм языка. Мы вплотную подошли к заколдованному пространству
идей, что смысл есть язык, а сознание есть речь, что язык есть смысл
и сознание, а в пределе и само бытие. Не вторгаясь мимоходом в эту
минную зону, выскажу только относящийся непосредственно к
Шпету и имеющий аналитическую значимость тезис. А именно: все типы
подразумеваемого смысла, латентно содержащиеся в шпетовском
толковании соотношения логической и поэтической форм, следует,
видимо, понимать как имеющие общую совмещенную природу —
логико-семантическую, которая на деле и обеспечивает у Шпета
выход с двух сторон фундируемой поэтической формы из субъективных
одиночных камер к объективному предмету.
В самом деле: прямой логический тип подразумеваемого
смысла связан у Шпета с непосредственно семантическим глубинным
уровнем слов (в «секире» подразумевается «рубить» и наоборот).
Но то же утверждается Шпетом и для поэтической формы: внося
тропированное слово и с ним новую семему («типическую на
место логически характерной»), она инициирует вспыхивание в
подразумеваемом слое дополнительных «переносных» смыслов (тро-
пологический тип подразумевания), однако, как свидетельствуют
шпетовские анализы тропов, все обновления, вносимые тропом
в подразумеваемые слои смысла, понимаются не иначе, как те же
прямые — логико-семантические — валентности этого слова. Так,
пушкинскую метафору (анчар как часовой) активизирует, по
Шпету, стандартно-прямой в семантическом отношении глагол из тро-
пологически использованного слова: анчар стоит как часовой, а не
растет как дерево (Шпет говорит, что этого требует точность
образа, но фактически имеет в виду, что этого требуют вертикализован-
ные тропом семантические валентные связи).
5 Там же. С. 235.
6 Там же. С. 272.
292
Раздел IV
Не исключено, что в пределе Шпет мог мыслить возможным и
необходимым «вертикализировать» — поднять или спустить в
подразумеваемое — не только пропозиции и все другие типы логических
связей, но и все типы семантических отношений, все, например,
«семантические роли», т. е. валентности, глагола, сплетая тем самым
логику и семантику воедино именно в подразумеваемом, а не во внешне
данном пласте высказывания. Так что не сильным искажением мысли
Шпета будет понимание его внутренних логических форм как логико-
семантических. Во всяком случае, такое толкование подчеркнуло бы,
что шпетовские идеи могут быть поняты не только как оправдание
бодрой оптимистичное™ той своего рода филологии здравого
смысла или того филологического рационализма, который хладнокровно
трансформирует смысл поэтических высказываний в логические
дискурсивные пересказы, но и как предвестники современной —
аналитически ориентированной и привилегированной — лексической
семантики, акцентирующей внимание на подразумеваемых пластах
в значении отдельного слова. По мнению Ю. Д. Апресяна, схожему
здесь со шпетовской мыслью, разделение на пресуппозицию и ассер-
цию свойственно — в отличие от данного/нового или темы/ремы —
глубинным семантическим слоям именно отдельных лексем.
Сказанное отнюдь не значит, что за вертикалью Шпет проглядел
динамическую горизонталь: и последовательность развертывания
фразы, и контекстуальная зависимость значений, и связанность
части и целого обсуждаются Шпетом, более того — Шпет
динамизирует и сами внутренние формы, толкуя их как алгоритмы
развертывания смысла, вводя тем самым горизонтальное измерение в
сферу подразумеваемого и подключая ее к течению
феноменологического времени. Динамическая горизонтальная синсемантичность
свойственна, по Шпету, каждому слову. Шпет увидел возможность
вертикализации любых синтагм и, соответственно, возможность
трансформации всех без исключения горизонтальных смысловых
связей в дополнительные специфические слои подразумеваемого.
В целом можно, кажется, утверждать, что Шпет
целенаправленно и расслаивал на статичные типы, и — одновременно —
динамизировал подразумеваемое: в текучей динамике подразумеваемого
смысла все эти типы, в том числе логический и семантический,
могут взаимоналагаться и сливаться в новые дискретно-предметные
конфигурации. Поскольку движется и внешняя форма речи, мы
получили тем самым нечто вроде вертикально-слоистой, но
подвижной и меняющей конфигурацию слоев капсулы
подразумеваемого смысла, которую на себе, под или над собой несет прямая
семантика внешних форм языка.
Густав Шлет в русской юггеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 293
В предлагаемой формулировке — внутренняя
логико-семантическая форма явным или скрытым образом налична в поэтической
форме (как и в любой другой) и, соответственно, в каждой из
многих конфигураций типов (слоев) подразумеваемого — шпетовская
идея приобретает вид общелингвистической максимы. В самом деле:
трудно представить какой-либо, хотя бы и максимально
усложненный художественно-поэтический дискурс, в пресуппозиции
которого не лежала бы логическая форма имеемой в виду предметности,
пусть эта предметность и была бы самого что ни есть субъективного
свойства. Во всяком случае, в подразумеваемом пласте
архитектонических, диалогических и полифонических форм Бахтина, навскидку
представляющихся противоречащими шпетовской идее, так
понятая логическая форма, несомненно, содержится — как, несомненно,
содержится аналогичная идея и в теории Бахтина. Если бы не было
логического слоя, говорит Бахтин, передаваемое содержание
«выпало бы из всех связей опыта <...>, как выпадает содержание
состояния полного наркоза, о котором нечего вспомнить, нечего сказать»7.
Поэтическая форма, «лишенная всякой причастности возможному
единству познания, не просквоженная им и не узнанная изнутри,
стала бы просто изолированным состоянием беспамятства, о
котором можно узнать, что оно было, только post factum по протекшему
времени»8. Это звучит почти как цитата из Шпета.
Но все же именно «почти». Логико-семантические
пресуппозиции, по Бахтину, не единоличное и не всеспасающее основание
выхода высказывания к объективному смыслу. В частности, из
художественного произведения можно, говорит Бахтин, вьщелить
некие познавательно весомые и значимые суждения (например,
философско-исторические и социологические суждения Андрея
Болконского о войне), но, как бы ни были такие
эксплицированные суждения глубоки сами по себе, не их, по Бахтину,
непосредственно завершает художественная форма и потому не к ним в их
познавательно-логической изоляции она отнесена. Тут, вступает на
сцену главный бахтинский антагонист шпетовской логике —
оценка. При этом художественная сфера — лишь выразительная для
Бахтина иллюстрация. Описанная идея экстраполировалась им на
все без исключения типы высказывания: наряду с логическим в
подразумеваемом пласте каждого высказывания неотмысливаемо
7 Бахтин M. M. К вопросам методологии эстетики словесного творчества. I.
Проблема формы, содержания и материала в словесном художественном творчестве //
Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 1. М., 2003. С. 295.
8 Там же. С. 295.
294
Раздел IV
расположено, по Бахтину, оценочное. Это значит, что оценка
вводится Бахтиным, в отличие от Шпета, в органический, природный
состав любого объективного сообщения.
Здесь в наиболее суггестивной форме сказалось
упоминавшееся выше фундаментальное различие в понимании соотношения
смысла и языка — как максимально сближаемых или максимально
дистанцируемых. Если Шпет связывал многослойную зону
подразумеваемого преимущественно с логической семантикой языка, то
Бахтин настаивал на одновременном наличии с ними также и
несемантических, и в принципе несемантизируемых типов
подразумеваемого, среди которых центральное место вместе с оценкой, а
точнее — в качестве включающего ее родового понятия, занимает у
Бахтина, как известно, диалогический тип подразумевания.
Выставляя тезис, что акт концепирования слова диалогичен,
Бахтин имеет в виду, что в живом сознании при употреблении
любого слова понимание (вместе с его прямым значением)
схватывает не только логико-семантические слои
подразумеваемого, как у Шпета, но что одновременно с ними в каждом случае,
во-первых, дополнительно вспыхивает иное значение того же
слова в чужих устах, во-вторых, всплывают другие слова,
которые относились к тому же предмету чужими устами. Такие
пресуппозиции — не логико-семантической или ноэматической, а
аксиологически-модальной или, в широком смысле, ноэтиче-
ской природы. У Бахтина в подразумеваемом пласте
скрещиваются наряду с логико-семантическими слоями и ценностно-
смысловые позиции, в пределе — разные инстанции говорения
(разные «голоса»). Если генерализировать различие, Бахтин
вдувает в шпетовскую капсулу подразумеваемых смыслов, имеющую
логико-семантическую начинку, оценочную и диалогическую
атмосферу — несемантическую и недискретно-динамичную.
Шпет не проглядел случаи диалогического оттенка смысла, но
счел возможным в теоретическом контексте погасить их
значимость. В частности, стилизацию, широко обсуждавшуюся
формалистами и входящую в состав исходных понятий Бахтина, Шпет
определял как эффект «двойного сознания», которое может стать
предметом целенаправленного художественного обыгрывания и
привести к подлинному поэтическому «двоеречию». Однако эта
дорога была забракована Шпетом, искавшим «монолитного» стиля:
по его вердикту, она ведет к неизбежному двойничеству сознания,
к его распаду, в финале же — к недопустимому для Шпета
рассеиванию и расселению всеобщего объективного смысла по
субъективным одиночным камерам. Шпет не одинок в своих оценках.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 295
Диалогизм часто толкуется именно в таком — субъективистском,
размывающем всякую объективную референциальность — смысле,
в том числе и его бахтинская версия.
Вопрос тут действительно возникает: каким же образом Бахтин,
внося оценочность и диалогизм в несловесное подразумеваемое
словесных форм, неотмысливаемо присущее всякому
высказыванию, мыслил тем не менее возможность преодоления
солипсизма? В соответствии с общесимволической стратегией гасить огонь
огнем Бахтин искал преодоления субъективизма его же силами.
Можно выделить два этапа этой идеи: двуголосие и полифонию.
Двуголосие — это единая синтаксическая конструкция, в
которой при ее формальной принадлежности одному субъекту речи
звучат два разных голоса (имеются в виду не шаблоны прямой или
косвенной речи, а такие явления, как несобственно-прямая или
несобственно-косвенная речь, во внешней языковой форме
которых никаких маркеров разделения на голоса нет). Несмотря на
отсутствие между этими голосами какой-либо формальной языковой
границы — композиционной, семантической или синтаксической,
двуголосая конструкция несет, по Бахтину, «два разноречивых
смысла, два акцента». Приведу один из бахтинских примеров дву-
голосия (из «Крошки Доррит» Диккенса в переводе Энгельгардта):
«Мистер Тит Полип застегивался на все пуговицы и,
следовательно, был человеком с весом».
Шпет периода «Эстетических фрагментов» мог бы сказать, что
здесь синтаксис только мешает пониманию своими излишними
«складками» на теле логической формы, демонстрируя тем самым
свою идеальную ненужность, а может, и избыточность. Бахтин,
напротив, видит в данной синтаксической форме особое — несеманти-
зированное и потому недискретное — содержание, называя такие
случаи вслед за Лео Шпитцером «псевдообъективной мотивировкой». По
всем формальным признакам, говорит Бахтин, мотивировка
(следовательно) — авторская (автор с ней формально солидаризуется), «но
по существу мотивировка лежит в субъективном кругозоре
персонажей или общего мнения». В приведенном примере два полновесных
голоса: голос «ходячего мнения» со своим смыслом и экспрессией и
авторский голос со своим смыслом и экспрессией (иронией). Но дело
не просто в наличии двух голосов, а в их предикативном скрещении
и наслоении. У первого голоса один референт, у авторского — два: он
направлен и на мистера Тита Полипа, и на чужую речь об этом
мистере. Авторская ирония локализована во второй референции, она
относится не к мистеру Полипу, а к чужой речи (к голосу ходячего
мнения), к ее пресуппозициям (подразумеваемым в ней оценкам и
296
Раздел ГУ
«ходам» мысли). Хотя эта ирония никак во внешних формах языка не
выражена, не семантизирована, т. е. вспыхивает и локализуется при
понимании только в подразумеваемом диалогическом слое, она, по
Бахтину, тем не менее непосредственно входит в объективный (в шпе-
товском понимании) смысл сообщаемого. Если мы попробуем при
прочтении этой фразы снять наличие двух голосов и тем самым снять
иронию, то этот объективный компонент сообщения (отстраненная
проблематизация — иронизация — логики ходячего мнения)
исчезнет. У нас останутся, конечно, три логические формы: что «Мистер
Тит Полип застегивался на все пуговицы», что «Мистер Тит Полип
имел вес в обществе» и что между этими положениями имеется
логическая причинная связь. Но если мы именно эти логические формы
так и воспримем как непосредственно нам сообщаемое, то их сумма
не только не покроет всего действительного смысла переданного
сообщения, но исказит его. Исключив иронию из объективного
смысла этой фразы, мы окажемся, собственно говоря, перед
необходимостью понимать дело так, что это именно сам автор сообщает нам, что,
поскольку данный мистер застегивался на все пуговицы, постольку
он и имеет вес в обществе — в то время как очевидно, что автор «от
себя» сообщает нам об абсурдности такой логической мотивировки.
А скорее всего — генерализирую для отчетливости — сообщает о ее
ложности. Поскольку же отрицание — это объективно смысловой
логический элемент сообщения, получается, что логический момент
содержания (сообщаемое отрицание) выражен здесь через
лингвистически невидимую во внешней форме фразы, а только подразумеваемую
и при этом оценочную и несемантизированную предикацию.
Скрытые двуголосые конструкции, таким образом,
демонстрируют, по мысли Бахтина, что оценка может не иметь внешнего
выражения, полностью содержаться в подразумеваемой зоне, но при
этом неотмысливаемо входить в объективный смысл сообщения.
Однако это еще не означает, что данная фраза вышла за пределы
солипсизма: ведь здесь ироническая оценка автора, диалогически
опровергающая ходячее мнение, остается, как и само ходячее
мнение, субъективной.
Выход же из солипсизма Бахтин усматривал не в диалогизме как
таковом и не в двуголосых конструкциях, а в полифонии. Диало-
гизм и полифония у Бахтина, вопреки распространенному
пониманию, не синонимы, а антонимы. Бахтин отнюдь не возводил ди-
алогизм, а значит, экспрессивную и тематическую субъективность
речи, в идеал: сам по себе — стихийный или темный — диалогизм,
по бахтинской мысли, совпадающей здесь со Шпетом, может
привести к хаосу субъективного произвола, к дурной бесконечности
1>став Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 297
диалога, дезориентирующей и рассеивающей всякую предметную
отнесенность и референтную определенность, а значит, к субъекти-
визации смысла и солипсизму. Замысел полифонической
концепции как раз, по Бахтину, в том и состоял, что в утверждаемой
полифонической форме мыслилась сила к преодолению этого темного,
неотрефлектированного диалогизма, а вместе с ним и
субъективизма. Бахтин задумал полифонию как такую надстраиваемую им над
стихийно-универсальным языковым диалогизмом
«архитектоническую форму», которая — аналогично внутренней поэтической
форме Шпета — объективна в своей соотнесенности с предметностью.
Стратегия полифонии — в преодолении диалогического
субъективизма его же силами, то есть силами двуголосых конструкций,
которые сами по себе, как мы видели, в этом деле бессильны.
Какой же механизм преодоления предлагается в полифонической
идее? Полифония предполагает целенаправленную комбинаторику
нескольких (многих — без ограничения) двуголосых конструкций,
т. е. последовательное линейное чередование разных
доминирующих голосов в разных сополагаемых конструкциях с
одновременным вертикальным наслоением двуголосых смыслов этих
разнонаправленных конструкций. Такие конструкции преимущественно
строятся в полифонии без прямого авторского голоса — в них
участвуют голоса героев и рассказчика: тот голос, который
доминировал над другим в одной конструкции, ставится в подчинение этому
голосу в другой двуголосой конструкции. Доминирующую
позицию может занять голос любого героя, голоса героев могут
попеременно сменять друг друга в этой позиции, могут вступать в
двуголосые конструкции с новыми голосами и т. д. Проходя в идеале
полный круг, все значимые голоса романа, ценностно и
семантически отпредицировав друг друга и взаимонаслоившись в
подразумеваемом, воспринимаются тем самым полнозвучно и одновременно.
Это и создает, по Бахтину, эффект объективного изображения
события взаимоотношения этих голосов, т. е. выводит
полифонический роман из солипсистских рамок авторского сознания.
Утверждая, что «Достоевский преодолел солипсизм»9, Бахтин
объяснял ситуацию в том смысле, что субъективно-экспрессивное
сознание и речь «Достоевский оставил не за собою как автором,
а за своими героями, и не за одним, а за всеми»10. Вместо предме-
9 Бахтин M. M. Проблемы творчества Достоевского [1929] // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 6. М., 2002. С. 114.
10 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского [1963] // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 2. С. 71.
298
Раздел IV
та речи, субъективно оцениваемого сознающим и судящим о нем
«я», в полифонии предметом непосредственного изображения
становятся взаимоотношения этих сознающих и судящих «я», за
которыми — в качестве подразумеваемого референта второго
порядка — может просвечивать тематически единое референцируемое
событие как своего рода объективная предметность и как своего
рода шпетовская «внутренняя логическая форма».
Такая полифоническая объективность возможна, по Бахтину,
только в случае дистанцированного отношения к языку.
Полифонический автор говорит на языке, дистанцированном от своих уст,
фактически говорит даже не на языке, а сквозь или через язык,
сквозь и через чужие голоса. Смысл полифонического дискурса
вспыхивает и понимается в своей полноте не в самой
семантической ткани речи и не в логико-семантических (шпетовских) типах
подразумеваемого, а в подразумеваемых пластах несемантической
природы. В них каждый голос как бы зависает, его сохраняемый
сознанием след никогда полностью не стирается, поскольку
постоянно поддерживается ретенцией во все новых и новых двуголосых
комбинациях. Этот способный уходить в несемантизированное
подразумевание и задерживаться там полифонический смысл не
имеет в таких случаях статичной, устойчивой формы — его
невозможно схватить прямым семантическим называнием. То
расщепление единства сознания, которое усмотрел в двоеречии Шпет,
Бахтин трансформирует в расширение сознания, сохраняющего свое
единство, но преодолевающего свой солипсизм.
Мы видим, таким образом, что и в полифонии сохраняется шпе-
товский тезис о фундирующей роли логико-семантической
формы — но в модифицированном виде. Очевидно, что в полифонии
голоса могут значимо диалогически пересекаться только при условии
проведения через них единой логико-семантической формы смысла,
включая подразумеваемые. Другое дело, что в бахтинском контексте
эта шпетовская максима звучала бы иначе — примерно так:
полифонический смысл — несловесная форма, между ним и языком —
дистанция, их состав и строение не изоморфны, тем не менее
содержание воплотимо только через язык. Поскольку же определяющим
принципом развертывания языка является его фундированность на
внутренних и внешних логико-семантических формах, последние
сохраняют значимость для адекватной передачи и всех допускаемых
Бахтиным форм несловесного содержания. Утверждаемый Шпетом
принцип трансформируется из тезиса о непосредственном
сочленении смысла с предметностью в тезис о неизоморфно-коррелятивной
языковой воплощаемое™ любого типа предметного смысла.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 299
Полифонию Бахтин вводит и обосновывает в качестве такой
особой, надстраиваемой над языковым диалогизмом
«архитектонической художественной формы», которая — поскольку она
трактовалась как объективная в своей соотнесенности с
предметностью — могла бы быть понята как аналогичная внутренней
поэтической форме Шпета. Точнее — как должная быть поставленной
«рядом» со шпетовской поэтической формой в качестве
обособленной внутренней формы, характерной для определенного типа
романа. «Могла бы» — если бы не то обстоятельство, что Шпет не
признавал за романом как таковым ни своей особой, ни
поэтической вообще внутренней формы: Шпет расценивал роман как
комбинацию логической и риторической форм (как наслаивание
второй на первую, минуя поэтическую форму). Если дискуссию
вокруг объективно-смыслового или субъективного статуса «оценки/
экспрессии» рассматривать как первую и исходную точку спора
Бахтина со Шпетом, то вопрос о наличии или отсутствии у
романа художественной формы составляет его вторую и в определенном
смысле «финальную» точку.
В качестве коды выскажу предположение, что как шпетовские,
так и бахтинские типы «подразумевания» могут повлиять в своей
асимметричной совокупности на имеющуюся сегодня
аналитическую картину вопроса (в которой, в частности, различаются типы
и векторы пресуппозиции, пресуппозиции глубинной и
поверхностной структуры, логические пресуппозиции, прагматические
пресуппозиции и т. п.). Намечу лишь некоторые значимые в этом
отношении моменты.
***
Первый — констатирующий — момент: и Шпет, и Бахтин, утверждая
идею подразумеваемого, мыслили ее многосоставной и многослойной,
но акцентировали разные фрагменты этот состава. Шпет —
порождаемые логическими, семантическими и синтаксическими силами языка
типы подразумеваемого, Бахтин — внесемантические, в пределе
нелингвистические типы подразумеваемого, в частности экспрессивный
и диалогический тип (номенклатура в обоих случаях очевидно
богаче—я лишь, что называется, столблю место). Шпетовский и бахтин-
ский ракурсы, таким образом, не противоречивы, а комплементарны:
очевидно, что от их совмещения общая картина выигрывает.
Второй — констатирующий — момент: и Шпет, и Бахтин
настаивают на том, что при всей максимальной текучести и
трансформируемое™ подразумеваемых смыслов, при всей их окутанности
субъективными экспрессиями высказывание имеет тем не менее
300
Раздел IV
возможность выйти на адекватную соотнесенность со своим
предметом. Различие в стратегии не только не микширует в данном
случае единство самой цели, но укрепляет саму цель фиксированием
разных способов ее достижения.
Третий — контрастивно-сополагающий — момент: с точки
зрения производимой обоими реформы феноменологии (или ее
«оптической настройки»), теория Шпета может быть понята как
выдвижение ноэматики в некоторый ущерб ноэтике, теория
Бахтина — как выдвижение ноэтики в некоторый ущерб ноэматике.
Четвертый — конструктивно-сополагающий — момент:
выдвинутый Бахтиным тезис о возможности доминирования в
объективном смысле несемантических и в пределе несемантизируе-
мых пластов не отсекает (не может отсечь) основной идеи Шпета:
логико-семантическая форма слова во всех случаях остается неот-
мысливаемым условием понимания сообщения. Отличие бахтин-
ской идеи в другом — в том, что, понимаясь в качестве неотмыс-
ливаемого, но именно условия понимания, логико-семантическая
форма может при этом, по Бахтину, в само сообщение не входить,
редуцируясь до материального носителя или технического средства
передачи подразумеваемого сообщения и растворяя свои логико-
аналитичные формы в динамике скольжения несемантизируемых и
в этом отношении — нелогических типов подразумеваемых
смыслов. Шпет прав: логическая форма слова — условие понимания
высказывания. Бахтин тоже прав: будучи условием понимания
сообщения, логическая форма может в само сообщение не входить,
становясь техническим материальным носителем подразумеваемого
смысла. Взаимоперетекаемость типов и векторов подразумеваемого,
завихряющая движение скрытых пластов смысла вокруг внешней
формы высказывания, вплоть до преодоления ее непосредственной
семантико-логической значимости и порождения временных
виртуальных квази-предметностей, отражает одну из самых
существенных на сегодня общелингвистических тем: с одной стороны,
проблему выявления типологически различных способов склеивания
потока языкового смысла, с другой — вопрос о том, насколько в
этой взаимной переходности и переплавке смыслов остаются
устойчивыми дискретные семантические моменты внешних форм языка
и насколько остаются стабильными формы самой «предметности».
Пятый — конструктивно-сополагающий — момент: в
основании различия расставляемых Шпетом и Бахтиным акцентов при
рассмотрении сферы подразумевания лежит в том числе
принципиальное расхождение в оценке статуса «я» — как в сознании, так
и в языке. Не касаясь существа самой проблемы, можно тем не ме-
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 301
нее наметить имеющееся в виду проблемное поле очередным
контрастным сопоставлением Шпета и Бахтина на фоне современных
дискуссионных проблем: бахтинские идеи не только вписываются,
но обладают потенциально обогащающей силой для того
направления, которое получило в последнее время название «нарратоло-
гического поворота»; в свою очередь идеи Шпета, не
предполагающие маркированной значимости идеи наличия внутри целостного
высказывания всегда более чем одного «голоса» («точки зрения»
и т. д.), не просто вписываются, но обладают потенциально
обогащающей силой для того направления, которое получило в
последнее время название «когитологического поворота».
Шестой — концептуально-развертывающий и лишь вскользь
намечаемый здесь — момент: и Шпет, и Бахтин корректировали ин-
тенциональную теорию. К существенной особенности
подразумеваемого как такового относится, согласно обеим концепциям, то, что,
обязательно присутствуя, оно не обязательно становится предметом
непосредственно интенции речи, причем не только языкового акта,
но и акта мысли: говоря словами позднего Витгенштейна,
подразумеваемое не обязательно «думается», говоря словами Шпета, оно
понимается, не будучи непосредственно семантически данным во
внешней форме, говоря словами Бахтина, оно не обособляется в
акт, отдельный от конципирования словом предмета. Равно упредив
тему о наличии неинтенциональных актов и состояний языкового и
неязыкового сознания, Шпет и Бахтин и здесь разрабатывали
разные аспекты (те же, что и отмеченные в первом сопоставительном
моменте): Шпет — интенционально не высвеченные
подразумеваемые пласты семантического состава, Бахтин — несемантического и
несемантизуемого. Совмещение шпетовских и бахтинских выводов
может концептуально обогатить имеющиеся толкования проблемы
соотношения интенционального и неинтенционального
(осознаваемого и неосознаваемого, намеренного и ненамеренного,
задуманного и в действительности сказанного и т. п.).
И, наконец, седьмое: концептуальное напряжение между шпе-
товской и бахтинской теориями предвосхитило произошедшее
впоследствии кардинальное расхождение лингвистических учений
в вопросе о статусе ценностной компоненты сознания и языка (а с
ней коммуникативной, прагматической, модальной и т. п.). Вопрос
о соотношении шпетовской логико-семантической и бахтинской
диалогической внутренних форм, о первичности какой-либо одной
и, соответственно, фундированное™ другой, т. е. вопрос о наличии
или отсутствии иерархии в отношениях предметности и оценки, —
остается особой, отдельной темой с непредрешенным финалом.
Р. Грюбель
Эстетика поэзии и эстетика прозы
в творчестве Густава Шпета
и Михаила Бахтина
Философия есть искусство и искусство есть
философия^
Сходство и различие концепций Густава Шпета
и Михаила Бахтина
Уединенность рождает грезы, фантазии, мечту — немые
тени мысли, игра бесплотных миражей пустыни, утеха
лишь для умирающего в корчах голода анахорета.
Уединение — смерть творчеству: метафизика искусства!
Благо тому, кто принес с собою в пустыню
уединения из шума и сумятицы жизни достаточный запас живящего
слова и может насыщать себя им, создавая себя, умерщвляя ту жизнь:
смертию смерть попирая. Но это уже и не уединение. Это — беседа
с другом и брань с врагом, молитва и песня, гимн и сатира,
философия и звонкий детский лепет. Из Слова рождается миф, тени —
тени созданий, мираж — отображенный Олимп, грезы — любовь и
жертва. Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог»2.
Этот блистательный пассаж из первой части «Эстетических
фрагментов» Шпета дает ясное представление как о его концепции слова,
так и о его работе со словом. В своей статье «Г. Г. Шпет и M. M.
Бахтин (оппоненты или единомышленники?)» известный русский
психолог Владимир Петрович Зинченко приводит его, чтобы показать
близость друг к другу обоих русских философов. И на самом деле,
конец цитаты с нагрузкой на слове «диалог», суждение, что
«Уединение — смерть творчеству», и упоминание «живящего слова»
находятся не так далеко от философии коммуникации Бахтина.
Однако речь Шпета о том, что «из Слова рождается миф», немыслима
1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 182.
2 Там же. С. 177.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 303
в творчестве Бахтина, и его установка на «жизнь сознания» в тексте
Бахтина была бы сопровождена указанием на необходимость
другого, который дает сознанию мыслящего Я свое единственное место в
мире. В выражении «беседа с другом» Бахтин несомненно поставил
бы ударение на второй слог, и получилось бы «беседа с другим».
Однако в нашем контексте важно и то обстоятельство, что
своей сравнительной работой русский психолог ответил на замечания
Л. А. Гоготишвили в комментариях к пятому тому сочинений
Бахтина. Там на примере короткой, но основополагающей для его
последующего творчества бахтинской записи сороковых годов «К
философским основам гуманитарных наук» комментатор открывает скрытую
полемику Бахтина со Шпетом. Людмила Гоготишвили подчеркивает
разницу между философским мышлением Бахтина и Шпета. Она
акцентуирует эту разницу на примере роли предмета, или вещи, в
мышлении феноменолога и личности в философии культуры
Бахтина. Первое предложение в тексте Бахтина гласит: «Познание вещи
и познание личности»3. Нас здесь интересует союз «и» между
словом «вещь» и словом «личность» в тексте Бахтина. И в соответствии
с этим я полагаю, что мы можем рассматривать мышление Шпета и
его оппонента как дополняющие друг друга концепции философии и
литературы. Однако я не берусь анализировать здесь особенности их
мышления в целом, а только затронутых ими проблем эстетики. Мне
кажется, что их эстетические концепции дополняют друг друга.
Бросается в глаза то обстоятельство, что в основном, хотя Шпет
был на шестнадцать лет старше Бахтина, их эстетики развивались
приблизительно в одно и то же время: в первой половине 1920-х
годов. Кроме того, оба теоретика исходили из феноменологической
философии Гуссерля и из подробного знания герменевтики. Если,
несмотря на эти совпадения, их концепции и различаются
принципиально, то, по моему мнению, эти различия связаны с тем, что
первый главным образом направляет свое внимание на поэзию как
литературный вид и тип мышления, а другой — на прозу.
Поэзия, проза и театр как средства литературной коммуникации
и типы эстетического мышления
Перед тем как сравнивать эстетические концепции Шпета и
Бахтина, отмечу, что я рассматриваю поэзию, прозу и театр как самостоя-
3 Бахтин M. M. К философским основам гуманитарных наук // Бахтин M. M.
Собрание сочинений. В 7 т. Т. 5. М., 1996. С. 7.
304
Раздел IV
тельные и друг от друга принципиально отличающиеся средства
коммуникации, или, другими словами, как своеобразные
литературные «посредники» («медиа»). Сам Шпет, согласуясь с
Гумбольдтом, написал, что «рассматриваемые, как целое, поэзия и проза
суть, прежде всего, пути развития самой интеллектуальности»*.
Поэзия, т. е. искусство слова, отличается тем, что с помощью
воображения лирическое «я» размышляет как бы «из языка». Это
значит: в стихотворчестве говорящий использует, кроме
семантики, также и формальные качества языка, такие, как фонетика,
морфология, синтаксис и т. д. Так, в поэме Блока «Двенадцать» первые
стихи: «Черный вечер. / Белый снег. / Ветер, ветер! / На ногах не
стоит человек. / Ветер, ветер — / На всем Божьем свете!»5 не только
и даже не столько открывают оппозицию «черный — белый», как
именно эквивалентность между словами «вечер» — «ветер» —
«человек» и «свете». Таким образом конец времени связывается с
бурей культуры, т. е. с революцией и человеком, судьба которого
оказывается связанной с целым сотворенным Богом миром.
Совсем другие размышления в художественной прозе. При
помощи приема пробрасывания перспективы в измерениях времени,
места и личности в прозе создается миметический образ мира, т. е.
проза обращена к нашему каждодневному знанию и представлению
о человеке и мире. Стихотворение Блока мы условно можем
переложить следующим образом в начало прозаического текста: «Темным
вечером октябрьского дня 1917 года в городе Санкт-Петербург
человек вышел на улицу. В это время конец дня совпадал с концом
целой эры и судьба отдельного человека соответствовала ходу
всемирной истории. Чернота вечера сотворила живой контраст с белизной
падающего снега» и т. д. Вы сразу видите, что в прозе необходимо
употреблять намного больше слов для передачи той же самой
информации, чем в поэзии. Конечно, поэзия зачастую передает ту же
самую информацию гораздо богаче. И это только следствие нашего
неуклюжего перевода гениальных стихов Блока в прозу, но это
следует из самого факта прозаического перевода. В некоторых случаях
нарративный текст должен сказать больше, чем поэтический. Так,
например, он, вероятно, рассказал бы что-то о том, имеется ли в
виду положение, в котором снег падал уже в прошедшем времени,
или он падает в настоящем. Эта разница выходит из факта, что если
4 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 457.
5 Блок А. Двенадцать // Блок А. Полное собрание сочинений в двадцати томах. Т. 5.
М., 1999. С. 7.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 30S
время в поэзии расчленяет главным образом чувственную
поверхность текста, его ритм, то в прозе оно расчленяет рассказываемые
элементы фабулы и именно этим подчеркивает возможную
разницу между сюжетом и фабулой, между ordo artificialis и ordo naturalis.
Поэтому, я думаю, Бахтин часто говорит, что в событии бытия мир
не совпадает с самим собою, что человек не совпадает с самим
собою и даже событие не совпадает с самим собою.
В театре представление или перформация драмы подразумевает
семиотическую, телесную репрезентацию или инкорпорацию
драматического действия. Вследствие этой телесной репрезентации в
театре перед нами находятся параллельно две действительности —
актуальная, которая репрезентирует символическую, собственно
художественную действительность драматического действия. Во
времена Шпета и Бахтина в русской культуре существовали две
модели, выражающие отношения между обозначающей актерской
действительностью театрального аппарата и обозначаемой
действительностью художественного действия. Станиславский
предложил ассимиляцию актера к роли, т. е. изображающей к
изображаемой действительности, а Мейерхольд требовал ассимиляции
изображаемой действительности к изображающей.
Хочу также добавить, что большинство писателей, критиков,
литературоведов и философов склонны принимать, понимать и
излагать эстетические явления с помощью одной из описанных выше
моделей поэтического, прозаического или театрального средств
коммуникации. Так, Федор Достоевский, Василий Розанов и
Михаил Бахтин работали в основном прозаиками, а Александр Блок,
Роман Якобсон и Густав Шпет действовали как типичные «поэты».
Здесь я имею в виду не только способ их мышления, но и
стилистику их письма. Это показывает уже поэтический пассаж нашей
первой цитаты из «Эстетических фрагментов» Шпета.
Ядро поэтической концепции Густава Шпета -
внутренняя форма
Искусство есть познание, вид познания6
Включение понятия «внутренняя форма» в эстетику Густава Шпета
свидетельствует о том, что его концепция литературы согласуется
с эстетической моделью поэтического языка. Об этом, к примеру,
6 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 119.
306
Раздел IV
говорит подзаголовок книги Шпета «Внутренняя форма слова» —
«этюды и вариации на тему Гумбольдта». В Европе Нового времени
понятие «внутренняя форма» развивалось главным образом в
рамках романтического идеализма, а культура романтизма была
основана на концепции поэтического языка. И, как я пытался показать
на примере стихов Блока, этот язык сам работает через
сопоставления и соответствия.
В своем этюде «Искусство как вид знания» (1927) Густав Шпет
определяет многозначное понятие «внутренняя форма» как
сложное уравнение. В его изложении внутренняя форма устанавливает
нагружаемую связь между материальным носителем знака и
соответствующим ему ментальным, «логически оформленным»
значением: «Внутренние художественные формы = поэтического,
художественного смысла, т. е. сообщения, вызывающего
впечатление = отношение между логически оформленным и формами
экспрессивно-стилистическими (только NB! Возможный
носитель!), т. е. отношение между объективным и субъективным, шире
<между> оформленным и преобразованным знаком -* двоеречие!
Художественное без "впечатления"»7.
В этой формулировке исключительное значение имеет
обозначение внутренней формы как «пре-образованного знака». Во-
первых, это суждение указывает на то, что внутренняя форма
является знаком. Во-вторых, если мы переводим это выражение в
терминологию американского прагматиста Пирса, то внутренняя
форма оказывается интерпретантом (interprétant), который (как
значение) посредствует между носителем знака и его референтом.
Мысль о том, что в поэтическом знаке значение образует новый,
вторичный знак со вторичным значением, которая встречается на
полвека позже в трудах Ролана Барта и еще позже Юрия Лотмана,
Шпет намного точнее сформулировал в своей работе 1927 г.
В этом контексте показательно, что Шпет в дальнейшем пишет
о «фантазирующем творчестве», которое устанавливает единство
между «оригинально оформленным сюжетом и оригинальностью
самого оформляющего» и вносит в сознание «подчиненный его
единству и идеализирующий действительность <...> компонент»8.
Поэтому для Шпета поэтическое слово подразумевает и
философский реализм. И действие слова в поэме, по Шпету, является
«созиданием "образа" из ничего»9.
7 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Цит. изд. С. 126.
8 Там же. С. 127.
9 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 235.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 307
Хотя у нас нет времени, чтобы подробно высказаться о шпетов-
ской концепции художественной личности, мы должны заметить,
что в этом тексте он пишет о внутренней форме под заголовком
«Место абсолютного субъекта»10. Этот абсолютный субъект не
является ни предикатом, ни субъектом в узком смысле. Это —
единственный предикат «есть» в онтологическом кантовском смысле и
субъект только в смысле суппозиции: эмпирической суппозиции и
единственного и множественного.
Внутренняя форма сама становится источником
своеобразного познания, потому что целое формирует самое отношение,
и это отношение не имеет референта. Философ называет ее и
«quasi-логической»11, потому что она указывает на «переход», т. е.
на референциальную функцию без референции. Кстати, эта ре-
ференциальная функция без референции есть что-то совершенно
другое, чем известная автореференциальность, т. е.
главенствующая в современном эстетическом мышлении концепция. Именно
в этой референции без референциального объекта состоит
новизна концепции Шпета и для эстетики наших дней. Не случайно он
был единственным русским философом своего времени, который
серьезно занимался не только современным беспредметным
искусством, но и современной теорией литературы — русским
формализмом. Не удивляет поэтому и тот факт, что Шпет в согласии с
русским формализмом в тезисах 1924 г. говорит о том, что
«литературоведение как наука "о слове" сближается с лингвистикой,
которая и определяет проблематику литературоведения»12. И именно на
примере художественного слова Шпет определяет понятие
структуры как связь вглубь, а не в сторону, как в сложной,
комбинаторной, т. е. прозаической системе13. Проза — ars combinatoria. Поэзия
же — creatio ex lingua.
В рамках такого понимания эстетической концепции Шпету
удается и анализ стихотворения «Silentium» Тютчева. Хотя он
написал, что «Exempla sunt odiosa»14, его изложение стихотворения дает
нам своеобразное выражение его собственной философии. Об этом
говорит уже библейский тон его изречения:
10 Шпет Г. Г. Искусство как вид знания // Цит. изд. С. 126.
11 Там же. С. 127.
12 Шпет Г. Г. Тезисы доклада «О границах научного литературоведения» //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 682.
13 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 209.
14 Там же. С. 210.
308
Раздел IV
«Истинно, истинно, SILENTIUM — предмет последнего
видения, над-интеллектуального и над-интеллигибельного, вполне
реальное, ens realissimum. Silentium — верхний предел познания и
бытия. Их слияние — не метафизическое игрушечное (с немецкой
пружинкой внутри15) тожество бытия и познания, не тайна (секрет)
христианского полишинеля, а светлая радость, торжество света,
всеблагая смерть, всеблагая, т. е. которая ни за что не пощадит того,
что должно умереть, без всякой, следовательно, надежды на его
воскресенье, всеблагое испепеление всечеловеческой пошлости, тайна,
открытая, как лазурь и золото неба, всеискупительная поэзия»16.
Перед нами эстетическая религиозная философия, религия
духа, которая основана на глубоком понимании поэтического
слова. Я думаю, что в «Эстетических фрагментах» Шпета, как в
поэзии, стоит говорящий «я», который, чтобы быть распознаваемым
как «я» в мире, имеет только один голос и один язык. Философия
Шпета, следовательно, сосредоточена на самопознании и
самосознании философствующего «я». Его критика сознания с
позиций опыта осуществляется при условии, что опыт берется не в
абстрактной форме восприятия «вещи», но в полноте ее культурно-
социальных содержаний.
Михаил Гершензон охарактеризовал язык «Эстетических
фрагментов» следующим образом: «"Эстетические фрагменты" Густава
Густавовича Шпета не читал: написано не по-русски, а по
диалекту, которого не знаю; верно личный диалект Г. Г. Для собственного
употребления»17.
Ядро прозаической концепции Михаила Бахтина -
чужая точка зрения
Я — как субъект — никогда не совпадаю
с самим собою18
У раннего Бахтина не только искусство слова оторвано от
философии, но и обе эти сферы культуры оторваны от реальной жизни. Об
этом расстоянии свидетельствуют и содержание, и слог его прозы.
Первой и последней цитатам из работ Шпета я противопоставляю
пример дискурсивного прозаического письма из раннего текста Бах-
15 Кстати, это намек на диалектику Гегеля. — Прим. Р. Г.
16 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 236.
17 Гершензон Шестову. 04. 06. 1924. // Минувшее. Т. 6. 1988. С. 301.
18 Бахтин М. М. <Автор и герой в эстетической деятельности> // Бахтин М. М.
Собрание сочинений. В 7 т. Т. 1., М., 2003. С. 183.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 309
тина «К философии поступка». Установленному в этом эссе
смысловому разрыву между исторической действительностью бытия и
содержанием эстетического акта, между заданным и данным соответствует
целиком дискурсивный тип расчленяющего мышления и
писательства. Сложные слова: «изображение-описание» и «акт-деятельность»,
«бытие-событие» и «событие-бытие» или, в других местах,
конструкции родительного падежа, как «событие бытия», стремятся как бы к
спасению жертв этих актов познавательного расчленения:
«Общим моментом дискурсивного теоретического
мышления (естественно-научного и философского), исторического
изображения-описания и эстетической интуиции, важным для
нашей задачи, является следующее. Все названные деятельности
устанавливают принципиальный раскол между содержанием-смыслом
данного акта-деятельности и исторической действительностью его
бытия, его действительной единственной переживаемостью,
вследствие чего этот акт и теряет свою целостность и единство живого
становления и самоопределения. Истинно реален, причастен
единственному бытию-событию только этот акт в его целом, только он
жив, полностью <?> и безысходно есть — становится, свершается,
он действительный живой участник события-бытия; он приобщен
единственному единству свершающегося бытия, но эта
приобщенность не проникает в его содержательно-смысловую сторону,
которая претендует самоопределиться сполна и окончательно в
единстве той или другой смысловой области: науки, искусства, истории,
а эти объективированные области, помимо приобщающего их акта,
в своем смысле не реальны, как это было показано нами»19.
Если творчество Шпета имело своей целью перевести
философию в область точной науки, то ранний проект Бахтина
заключался в преодолении разрыва между культурой и жизнью. Чтобы
достичь своей цели, Бахтин в духе неокантианства отделяет не только
искусство от философии, но и художника от его создания, от героя.
Конфигурация «Я и Другой» и в еще большей мере
конфигурация «Я и Ты» и «Он/Она/Оно» и «Мы и Они» в бахтинской модели
человеческого действия соответствуют модели фокусировки точек
зрения в прозе. С этой установкой на прозу связано и бахтинское
открытие речевого центра в коммуникации, внимание к
ценностному профилю слова в речи и его тезис о причастности
действующего и говорящего как жизни, так и миру. Очень показательно, что
Бахтин, начиная с персонажа речи, скоро в собирательном терми-
19 Бахтин M. M. <К философии поступка> // Бахтин M. M. Собрание сочинений.
В 7 т. Т. 1. М.,2003. С. 7.
310
Раздел IV
не «хронотоп» выразил концепцию «слияния» времени и места как
дополнительных измерений «архитектоники» точек зрения.
И стоит задуматься о том, почему Бахтин, которому хотелось
изложить «Первую философию» без метафизики на основе этики
действия, так быстро перешел из области конкретного действия в
область эстетики. Между прочим, в творчестве Фридриха Шиллера
была похожая ситуация. Когда он разочаровался реальными
результатами Французской революции, т. е. террором, он написал свои
«Письма об эстетическом образовании». Ему казалось, что эстетика
облегчает прыжок из природной необходимости в царство свободы
без возврата в варварство. Вспомним и о том, что Бахтин и Шпет
писали свои трактаты по эстетике в похожей социальной ситуации.
Если Шиллер в «Письмах об эстетическом образовании»
рассуждает о том, что только красота в культуре дает человеку
возможность освободиться от необходимости, царящей в природе,
то Бахтин показывает в своих ранних текстах, что человеческое
Я без Другого не может получить ни внешний образ своего лица,
ни своей личности. В тексте «К философии поступка» Бахтин
анализирует стихотворение Пушкина «Разлука» в основном как
прозаический текст. Он аргументирует логически и определяет место
лирического «я» и лирического «ты» в прозаическом пространстве.
«В этой лирической пьесе два действующих лица: лирический
герой (объективированный автор) и она (Ризнич), а следовательно,
два ценностных контекста, две конкретные точки для соотнесения
к ним конкретных ценностных моментов бытия, при этом второй
контекст, не теряя своей самостоятельности, ценностно объемлет-
ся первым (ценностно утверждается им); и оба этих контекста в
свою очередь объемлются единым ценностно-утверждающим
эстетическим контекстом автора-художника, находящегося вне
архитектоники видения мира произведения (не автор-герой, член этой
архитектоники), и созерцателя»20.
А в анализе того же текста почти теми же словами — в эссе
«Автор и герой в эстетической деятельности» — Бахтин заменяет
неподходящий термин «действующее лицо» уже целиком
последовательно, хотя тоже не совсем подходящим нарратологическим термином
«герой»21. Замечу, что Роман Якобсон назвал «героя поэтического
языка» литературным приемом. И наоборот — в изложении
Бахтина герои стихотворения становятся его настоящими «приемами»!
20 Бахтин M. M. <К философии поступка> // Бахтин M. M. Собрание сочинений.
В 7 т. Т. 1., М., 2003. С. 60.
21 Там же. С. 71.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 311
Известная бахтинская «вненаходимость» рассказчика в
отношении героя не имеет места в поэзии, и именно поэтому сам Бахтин
позже, в статье «Слово в поэзии», определил поэзию как
одноголосое, недиалогическое искусство. И на самом деле, где в
стихотворении Лермонтова «Белеет парус одинокий» появляется второй голос
или голос другого?
Это не значит, что мы не принимаем фундаментальный вклад
Бахтина как в эстетику прозы, так и в философию коммуникации.
Но мы определяем его достижения как познания в области
прозаической коммуникации, т. е. такой коммуникации, в которой
действует больше чем один смысл, больше чем одна точка зрения,
больше чем один центр ценностей. Вот почему я думаю, что
Михаил Бахтин искал своих собственных героев — Рабле и Гоголя,
Достоевского и Томаса Манна — между прозаиков. И если он говорил
о таких авторах, как Гете и Пушкин, которые писали и поэзию, и
драмы, то он преимущественно занимался романом в стихах
«Евгений Онегин» или романом в прозе «Wilhelm Meister».
Основной вклад Бахтина в теорию культуры состоит в
изложении философии языка, которая основана на глубоком анализе
действия прозаического языка, в то время как Густав Шпет главным
образом изучал поэтический язык. На мой взгляд, философские и
эстетические концепции Бахтина и Шпета дополняют друг друга.
Этот феномен концептуальной взаимодополнительности особенно
интересен в современной ситуации, после «заката»
постмодернизма. Эстетические идеи Шпета и Бахтина интересны именно
потому, что Шпет показал самодостаточность как внутренней формы,
так и поэтического знака, а Бахтин указал на главенствующее
место ценности в контексте каждой прозаической коммуникации.
H. Л. Васильев
Густав Шпет и Михаил Бахтин:
к истокам метаязыка «бахтинского круга»
Имя Шпета фигурирует в различных контекстах
размышлений о Бахтине. Исследователи почти единодушны в том,
что Бахтин и его ближайшее научное окружение
внимательно следили за публикациями одного из видных
теоретиков философии языка в России. Следы диалога с
современником прослеживаются в трудах «бахтинского круга».
Мы ставим задачу проанализировать степень эвристической и
стилистической близости сочинений Шпета и работ,
опубликованных Бахтиным и его ближайшими друзьями, поскольку эта
проблема специально не рассматривалась; между тем она актуальна в
плане осмысления наследия указанных ученых.
Шпет являлся, в частности, руководителем философской секции
Российской академии художественных наук. Одним из ее
сотрудников был М. И. Каган, который вынашивал планы трудоустройства
в академии и Бахтина, вынужденно обретавшегося в
провинциальном Витебске. Личное знакомство М. И. Кагана со Шпетом, хотя и
не отличавшееся теплотой отношений, тоже могло стимулировать
внимание «бахтинского круга» к трудам известного ученого.
О «диалоге» Бахтина и Шпета говорится уже применительно к
самым ранним бахтинским трудам («<Автор и герой в эстетической
деятельности^, «Проблема формы, содержания и материала в
словесном художественном творчестве»), а также по отношению к «работам
М. М. Б<ахтина> второй половины 1920-х гг.», под которыми в первую
очередь понимаются так называемые «спорные тексты»1. О последних
комментаторы сообщают: «С середины 1920-х гг. ведущим
теоретическим направлением становится герменевтика, представленная, с одной
стороны, школой "внутренней формы слова" Г. Г. Шпета, а с другой —
1 См.: Комментарии // Бахтин М. М. Собрание сочинений. М., 2003. Т. 1. С. 734—
738, 752, 830 и др. (комментаторы — С. С. Аверинцев, С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготиш-
вили, В. Ляпунов, В. Л. Махлин, Н. И. Николаев и др.). Далее: Комментарии.
1>став Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 313
работами самого M. M. Б.»2. Более того, Шпет категорично
именуется заочным «оппонентом» Бахтина чуть ли не во всех направлениях
гуманитарной мысли, где пересекались интересы обоих ученых, даже
«прямым антиподом М.М.Б.»; при этом скрытая полемика со Шпетом
усматривается в бахтинских суждениях о работах В. В. Виноградова и
иных исследователей, разделявших шпетовские идеи3.
Однако в авторизованных работах Бахтина 1920-х гг. имя Шпе-
та вообще не фигурирует, что заставляет нас критично отнестись
к попыткам некоторых исследователей навязать представление о
каком-то чрезмерном внимании ученого к трудам философа.
Отмечалось, впрочем, наличие в архиве Бахтина конспектов ряда
«философско-лингвистических» книг, сделанных рукой его жены
и, предположительно, сестры — H. M. Бахтиной; среди них
представлена монография Шпета «Введение в этническую психологию»
(1927)4, законспектированная без какой-либо системы.
Бахтин не упоминает Шпета и в большинстве последующих
своих работ. Исключением является лишь исследование «Слово в
романе» (1934—1935): «Такое разрешение дилеммы в свое время
было предложено у нас со всею принципиальностью и
последовательностью Г. Г. Шпетом. Художественную прозу и ее предельное
осуществление — роман — он совершенно исключает из области
поэзии и относит к чисто риторическим формам» (с примечанием:
«Первоначально — в "Эстетических фрагментах", а наиболее же в
законченном виде в книге "Внутренняя форма слова". M., 1927»)5.
Бахтин подробно развивает свою мысль, полемизируя и с В. В.
Виноградовым, и с предшествующей «философией языка» вообще6.
При этом он использует термины поэзия, риторическое
образование, основанные на шпетовской дихотомии «поэтическое /
риторическое»; в сферу его словоупотребления включаются и другие
элементы философского метаязыка Шпета, например: «Конципи-
рование словом своего предмета — акт сложный <...>»7; «...в языке
не остается никаких нейтральных, "ничьих" слов и форм: он весь
оказывается расхищенным, пронизанным интенциями <...>»8.
2 Там же. С. 735-736.
3 Комментарии. Т. 1. С. 472, 481, 740, 748, 751-752, 762, 808, 848 и др.; Т. 5 (1996).
С. 388-393; Т. 6 (2002). С. 572, 641.
4 См.: Описание конспектов, предназначенных для использования в книге
«Проблемы творчества Достоевского» // Комментарии. Т. 2 (2000). С. 432, 654—655.
5 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 81.
6 Там же. С. 81-82.
7 Там же. С. 90.
8 Там же. С. 106.
314
Раздел IV
Обратимся к работам других представителей «бахтинского круга».
П. Н. Медведев в книге «Формальный метод в
литературоведении» (1928) пишет: «Итак, между языком как абстрактной системой
возможностей и между конкретною его действительностью
посредствует социальная оценка. <...> Эту посредническую роль
социальной оценки совершенно не понимают сторонники "внутренней
формы". <...> Отсюда нелепые попытки показать внутреннюю
форму в самом слове, в предложении, в периоде, вообще в языковой
конструкции, взятой независимо от высказывания и его конкретной
исторической ситуации» (с примечанием: «Поучительным примером
таких попыток является книга Г. Шпета "Внутренняя форма слова",
М, 1927 г. Стремление внести диалектику и историю не мешает ему
все же искать внутреннюю форму в языке и субстанциализовать ее в
нем. На идеалистической почве, впрочем, иначе и быть не может»)9.
Полемика с теорией «внутренней формы» содержится и в
проспекте книги В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка»: «В
настоящее время интерес к слову идет у нас по двум направлениям. <...>
Первое направление, пройдя через футуризм и осложнившись позити-
вистическими влияниями, исходящими от некоторых направлений
западноевропейского искусствоведения и лингвистики, образовало так
называемый формальный метод. Другое направление, сложившееся под
влиянием западноевропейской философской мысли — неокантианской,
но главным образом феноменологической (Гуссерль), — нашло свое
выражение в философии слова Густава Шпета, его учеников и
последователей»; «Социальная оценка формирует самое содержание значения
слова, т. е. конкретное определение, которое дает слово своему
предмету. Пресловутая "внутренняя форма слова" у большинства апологетов-
теоретиков является лишь искаженным и научно-непродуктивным
выражением для заложенной в слове социальной оценки»10.
В «Марксизме и философии языка» (1929) Шпет по числу ссылок
на его произведения занимает среди русских ученых одно из первых
мест, наряду с Н. Я. Марром, Р. О. Шор и А. М. Пешковским, хотя
заметно уступает в этом отношении именам западных лингвистов,
в частности К. Фосслера, Ф. де Соссюра, Ш. Балли. Во введении
В. Н. Волошинов пишет: «В самое последнее время как в Западной
Европе, так и у нас в СССР проблемы философии языка приобретают
необычайную остроту и принципиальность. <...> Идет оживленная
борьба вокруг "слова" и его систематического места, борьба, анало-
9 Медведев 77. Н. Формальный метод в литературоведении. М., 1993. С. 140.
10 См.: Личное дело В. Н. Волошинова / Публ. Н. А. Панькова //Диалог. Карнавал.
Хронотоп. 1995. № 2. С. 90, 98.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 315
гию которой можно найти только в средневековых спорах реализма,
номинализма и концептуализма. И действительно, традиции этих
философских направлений средневековья начинают до известной
степени оживляться в реализме феноменологов и концептуализме
неокантианцев», — в связи с чем ссылается на книги Шпета
«Эстетические фрагменты» и «Внутренняя форма слова»11. Вторично имя
Шпета всплывает в примечаниях автора, касающихся «направлений
философско-лингвистической мысли» (Ч. II. Гл. I): «Недавно вышла
очень острая и интересная книга Г. Шпета "Внутренняя форма слова
(этюды и вариации на тему Гумбольдта)". Он пытается восстановить
подлинного Гумбольдта из-под наслоений традиционного
истолкования (есть несколько традиций истолкования Гумбольдта). Концепция
Шпета, очень субъективная, лишний раз доказывает, насколько
сложен и противоречив Гумбольдт; вариации вышли очень свободными»;
«Термин "этническая психология" предложил Г. Шпет в замену
буквального перевода немецкого термина "Völkerpsychologie" —
"психология народов". Последний термин действительно совершенно
неудовлетворителен, и обозначение Г. Шпета представляется нам
весьма удачным. (См.: Шпет Г. Введение в этническую психологию.
М.: Гос. акад. худ. наук, 1927). В книге дана основательная критика
концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совершенно
неприемлемо»12. Наконец, В. Н. Волошинов полемизирует со Шпетом
в конце 2-й части книги, перекликаясь с П. Н. Медведевым: «В
русской литературе об оценке, как о созначении слова, говорит Г. Шпет.
Для него характерно резкое разделение предметного значения и
оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы
действительности. Такой разрыв между предметным значением и
оценкой совершенно недопустим и основан на том, что не замечаются
более глубокие функции оценки в речи. Предметное значение
формируется оценкой, ведь оценка определяет то, что данное предметное
значение вошло в кругозор говорящих — как в ближайший, так и в
более широкий социальный кругозор данной социальной группы»13.
Анализ бахтинских трудов и «спорных текстов» показывает
некоторую корреляцию их метаязыка (терминологии, фразеологии) с
исследованиями Шпета.
Так, поясняя мысль Бахтина «Элемент и изолированный
природный образ не имеют автора, и эстетическое созерцание их носит
11 Волошинов В. Н. Философия и социология гуманитарных наук. СПб., 1995.
С. 218-219.
12 Там же. С. 261-262.
13 Там же. С. 324.
316
Раздел IV
гибридный и пассивный характер» («<Автор и герой в эстетической
деятельности>»), комментаторы его наследия пишут: «Гибридный
<...> — термин, встречающийся у Вяч. Иванова <...> и в работах
Г. Г. Шпета преимущественно 1920-х гг.»14. Это касается и
употребления Бахтиным термина гибридное образование в более поздней
работе «Язык в художественной литературе», где он
полемизирует с В. В. Виноградовым15. Говорится и о преемственности в
использовании термина высказывание между Э. Гуссерлем, Шпетом,
Р. О. Якобсоном и Бахтиным16. Отмечается соотнесенность шпе-
товской формулы бытие отрешенное с метаязыком «бахтинского
круга» {отрешение, эстетическая изоляция), отразившимся в
заметке Л. В. Пумпянского «<Об отрешении>» (1919) и книге П. Н.
Медведева «Формальный метод в литературоведении»17.
Подчеркивается связь между категорией В. Соловьева и Шпета «ничье сознание»
и бахтинскими вариациями на эту тему, в частности в работе
«Проблема речевых жанров» (1953—1954)18. Вместе с тем указываются и
расхождения в метаязыке Шпета и Бахтина, например в
трактовке терминов смысл, речевое высказывание, преодоление (материала),
употребляемых последним не без влияния работ Б. Христиансена,
М. И. Кагана, Л. П. Якубинского, в существе концептов
эмоциональный тон (Шпет) и чувство словесной активности (Бахтин)19.
Дополним эти факты нашими наблюдениями.
Очень интересно, что Шпет, как и Бахтин в авторизованных
работах 1920—1930-х гг., крайне редко прибегает к использованию
марксистской терминологии и тем более не маскирует ею свои
идеи. Он упоминает, например, о Ленине, но совершенно
объективированным, отстраненным тоном: «Лицо субъекта выступает, как
некоторого рода репрезентант, представитель, "иллюстрация'4, знак
общего смыслового содержания, слово (в его широчайшем
символическом смысле архетипа всякого социально-культурного явления)
со своим смыслом (Цезарь — знак, "слово", символ и репрезентант
цезаризма, Ленин — коммунизма, и т. п.)»20. То же касается
идеологически нейтральной ссылки на Маркса: «Ср. к первому — анализ
14 Комментарии. Т. 1. С. 660.
15 Комментарии. Т. 5. С. 607.
16 Там же. С. 828-829.
17 Там же. С. 860-861.
18 Там же. С. 656.
19 Там же. Т. 1. С. 754, 829, 833-834, 862.
20 Шпет Г. Т. Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта) //
Шпет Т. Т. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 486.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 317
процесса труда, а ко второму — понятие фетишизма товара, в
первом томе "Капитала" К. Маркса <...>»21. Термин надстройка,
используемый В. Н. Волошиновым в «Марксизме и философии
языка» со всей идеологической определенностью, Шпет употребляет
только в переносном смысле, например: «Откуда почерпается
материал для всей надстройки эмоционального впечатления от
художественного произведения?»22. Еще реже встречаются у него термины
диалектика, диалектический, метафизический, мировоззрение и т. п.
На уровне научной методологии в творчестве Шпета можно
найти контексты, свидетельствующие об эвристической близости
к Бахтину (я не буду приводить цитаты Бахтина в силу их, на мой
взгляд, общеизвестности):
а) шпетовские формулировки, близкие работам «бахтинского круга»
по духу, стилистической и даже архитектонической (частая разрядка!23)
организации, например: «Личные, индивидуальные и коллективные
(школа, эпоха и т. п.) особенности эмоционального словоупотребления
запечатлеваются в объективных особенностях синтаксической
конструкции, интонации, мелодии и пр. Эти особенности в своей
совокупности создают объективно определимые манеры, жанры, стили»24; «Что
касается полноты и богатства выражения, то их обоснование вытекает
непосредственно из определения социальной вещи, как
осмысленного знака, и, в то же время, как средства (орудия труда и творчества)»25;
«Биологическое и психофизическое — сами приобретают социальный
смысл, и притом величайший социальный смысл. Все акты
биологической особи, известные под абстрактными названиями рефлексов,
реакций, импульсивных движений, оказываются социально
значимыми, как акты социального подражания, симпатии, интонации,
жестикуляции, мимики и т. д.»26; «Сама смерть, раз она фигурирует в качестве
аргумента, имеет разное значение применительно к
антропологическому индивиду и социальному субъекту: физическая смерть первого
еще не означает смерти его, как социального субъекта»27; «Есть особый
род изображения в области культурного, в частности художественного
творчества, который мы называли (стр. 494) стилизацией, и
рассмотрение смысла которого дает возможность еще с новой стороны и глубже
21 Там же. С. 469.
22 Там же. С. 446.
23 В данном издании разрядка и подчеркивание в цитатах заменены курсивом. —
Прим. ред.
24 Там же. С. 447.
25 Там же. С. 477.
26 Там же. С. 477.
27 Там же. С. 483.
318
Раздел IV
проникнуть в проблему, над которою мы стоим. Стилизация тем
отличается от простой подделки, что она не претендует на эмпирическую
подлинность вещи и ее временного контекста. Стилизация есть
процесс двойного сознания, двойственность которого не скрывается, а
тонко подчеркивается по мотивам специального эстетического интереса и
художественного задания»28;
б) контексты, в которых можно наблюдать как сходство, так и
различие в шпетовской и бахтинской трактовках тех или иных
явлений, например: «Существенно, однако, везде — социальное
намерение социального субъекта, о котором в естественной экспрессии
не говорится. Это намерение его состоит именно в том, чтобы
выразить (или скрыть) свое субъективное отношение к чему-либо»29;
«Уже простая конвенциональность, вносимая художником в их
Экспрессивные формы> изображение, есть их социализация.
Возникает вопрос: не лишаются ли эти формы вместе с тем и другой
своей черты — творческой субъективности* Пусть язык, как
социальная вещь, не только — осуществление идеи, но и объективация
социального субъекта, и пусть языковая экспрессия имеет своего
индивидуального или коллективного субъекта, — не мало ли
этого? Ведь существенно, что в нашем чувстве субъекта, "скрытого"
за своей экспрессией, в истолковании этого чувства, мы все же под
творческим субъектом понимаем не отвлеченный или "средний",
безличный объект индивидуальной и социальной психологии»30;
в) контрарные суждения ученых, например: «Я не спорю против
того, что творчество в сфере воображения может ставить себе
такую задачу, принимая ее за внутреннюю задачу самого творчества
(роман!), но я только утверждаю, что это — не задача поэтического
творчества»31.
Научный стиль Шпета по сравнению с бахтинским выглядит
более строгим и даже бескомпромиссным по отношению к
читателю. Например: «И всё это, с геометрически прогрессирующими
коэффициентами, приходится варьировать и повторять о
предложениях перцептивных, общих, и прочих более сложных по
построению и структуре, но, в конечном счете, непременно
базирующихся на номинации»32; «Если мы примем первый член дилеммы,
мы утверждаем права вещей, в их концептивной отображенности,
называться всячески, в том числе и "вещами", а если примем вто-
28 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 496.
29 Там же. С. 490.
30 Там же. С. 499-500.
31 Там же. С. 446.
32 Там же. С. 412.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 319
рой член, то те же права принадлежат конципируемой, что значит
здесь — нами конституируемой, феноменальности»*·(; «...ибо и
вообще фундирующее основание по отношению к фундируемому
только потенциально»^ \ «Без всякой натяжки можно уподобить такой
трансцензус тому гипостазированию чистого сознания, которое
создает из его критики догматическую метафизику»35.
С другой стороны, идиостиль Шпета при всем академизме
отличается яркой образной поэтикой, не характерной в такой же
степени для Бахтина. Например: «Для всего этого необходим язык, так
как именно в нем духовное стремление прорывает себе путь через
губы и возвращает свой продукт к собственному уху»36; «Слова
свободно текут из груди человека, и нет ни в какой пустыне орды, у
которой не было бы песен. Человек — поющее животное»37;
«Простое слово есть полный распустившийся цветок языка»38;
«Гумбольдт берет оба указанных им предела <...> как строго очерченные
грани, — как бы "верх" и "низ", — между которыми, как поршень
в насосе, работает формообразующее языковое начало. На деле,
материя языка функционирует в нем, как питательные соки — в
растении. Трудно точно установить, когда запредельная растению
влага превращается в его сок и когда она в его дыхании и
испарении выходит за пределы его форм»39; «Именно эта завлекающая
психология поддерживает и те гностические чисто рассудочные
учения, которые с настоящею мистикою ничего общего даже не
имеют, но нагнетают ее в свои рассудочно-схематические костяки,
разукрашенные фантастическою пестротою аллегорических,
символических, эмблематических тряпок»40; «Как сказано, созерцание
стоит перед чистою данностью — до сознания ее, как данности
воспринимаемой, фиктивной, галлюцинаторной или еще какой»41.
Есть, впрочем, интересные параллели в музыкальных
аналогиях метаязыка ученых. Шпет пишет в предисловии к своей
книге: «Если бы автор был вообще смелее, он, наверное, прибавил бы
к словам "этюды и вариации" еще один музыкальный термин: "и
фантазии"...»42; напомним, что Бахтин в известном исследовании
33 Там же. С 431.
34 Там же. С. 446.
35 Там же. С. 487.
36 Там же. С. 333.
37 Там же. С. 334.
38 Там же. С. 335.
39 Там же. С. 373-374.
40 Там же. С. 449.
41 Там же. С. 473.
42 Там же. С. 329.
320
Раздел IV
«Проблемы творчества Достоевского» (1929) тоже заимствует из
сферы музыкального искусства знаковое понятие полифония.
В работах Шпета и Бахтина можно найти общие для обоих
концепты: интенция, интенциональный, конципирование, конципировать,
самодовлеющий, философско-лингвистический, философия языка и др.
Есть переклички такого рода между Шпетом и В. Н. Волошиновым:
знак, живописный (стиль речи), концептуализм, линеарный/линейный
(стиль речи), техника (слова, речи). Но больше бросается в глаза
уникальность шпетовского терминологического инструментария,
кажется вовсе не отзывающегося эхом в работах «бахтинского круга»:
алгоритм, аналогон, антитетика, аперцепция, апрегензия,
виртуально, гностицизм, гностический, гомолог, гомология, гомологичный, двое-
речие, дистинкция, дистрибутивно, энергийный, индекс, квантифи-
цироваться, компонировать, конвенциональность, конвенциональный,
конверсия, конституировать, контрапозиция, концепт,
коррелятивный, модус, онтологика, отрешаемость, потенция, прагматическая
речь, предикативный, применение, продуцирующий (субъект), профе-
тические конструкции, регулятор, редукция, релятивизировать,
репрезентировать, самоэкспрессивность, самость, сочетательные формы,
сочлен, структурный, сублиминально, сублиминальный, тропированная
речь, условная речь, феноменальность, фидеизм, эвритмия, эквивока-
ция, экспликабельный, экспонибельное предложение, экспонибильность,
экспонирование, экспонировать, элиминация и т. п.
Научная проза Шпета отличается от публикаций «бахтинского
круга», за исключением трудов М. И. Кагана, и колоритным
многоязычием: немецкие, латинские, древнегреческие слова и
выражения встречаются у него почти на каждой странице. Интересно, что
некоторые употребляемые ученым латинские варваризмы {explicite,
implicite, minimum, NB, quasi-, sui generis) фигурируют в работах
Бахтина и его друзей43, хотя вряд ли это следует рассматривать как
непосредственное влияние Шпета. При этом если Бахтин и В. Н. Во-
лошинов активно используют варваризмы medium, par excellence, то
Шпет во «Внутренней форме слова», наоборот, отдает предпочтение
русским эквивалентам этих понятий: посредник', по преимуществу.
Несмотря на корреляцию научных интересов Шпета и Бахтина
(философия, психология, эстетика, филология и др.), а также
некоторую соотносительность их судеб (оба были репрессированы в
1930-х гг.), мы все же приходим к выводу, что не только в
методологическом, но и в метаязыковом отношениях они далеки друг от
43 См.: Васильев Н. Л. Заметки об авторстве «спорных текстов», вышедших из круга
М. М. Бахтина // Невельский сборник. Вып. 10. СПб., 2005. С. 71—80.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 3 21
друга. Первый выглядит «полифоничнее», смелее и интереснее в
плане выражения мыслей, использует самые различные языковые
ресурсы, нередко алгебраические символы и формулы,
употребляя их порой в игровом ключе. Лингвистическая оригинальность
Шпета выразилась даже в орфографии иноязычных слов: грама-
тика, интелектульный, кристал и т. д. В этом контексте написание
В. Н. Волошиновым в обоих изданиях «Марксизма и философии
языка» (1929, 1930) шпетовской фамилии с удвоенными
согласными (Шпетт) — казус, достойный внимания44, едва ли не шарж на
орфографическую «идиосинкразию» Шпета.
Не у всех представителей «бахтинского круга»
обнаруживаются ссылки на шпетовские труды45. Наиболее созвучной интересам
Бахтина и его друзей была книга Шпета «Внутренняя форма
слова». Стилистически ближе к нему М. И. Каган и В. Н. Волошинов,
который не только активно обозначил внимание к работам
современника, но и прибегал к полуозорным эпиграфам, хотя в этом мы
усматриваем влияние на него литературоведа Г. Е. Горбачева46.
Общее у Шпета и Бахтина, — что, вероятно, отчетливо
осознавал последний, — понимание роли философа как интерпретатора
всех гуманитарных и отчасти естественно-научных проблем. Оба
выступают в самых разных амплуа, касаясь даже тонких вопросов
физиологии и биологии47. Отличие в том, что Шпет оставил
замечательный труд по истории общественной мысли в России («Очерк
развития русской философии») и меньше известен как
литературовед, хотя претендовал на теоретическое лидерство в этом плане:
«Проблема принципиальных и методологических оснований
литературоведения — частная проблема философии и методологии
научного знания»48. О возможной творческой эволюции Шпета,
проживи он дольше, судить сложно. Бахтин же вынужденно
сублимировался в условиях советской идеологии как скрытый философ,
выражавший себя преимущественно в литературоведческих трудах.
44 См.: Васильев Н. Л. К научной биографии В. Н. Волошинова и текстологии книги
«Марксизм и философия языка» // Невельский сборник. Вып. 11. СПб., 2006. С. 79.
45 Ср.: Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории
русской литературы. М., 2000.
46 См.: Васильев Н. Л. В. Н. Волошинов: Биографический очерк// Волошинов В. Н.
Указ. соч. С. 12-13,20.
47 См., например: Шпет Г. Г. Память в экспериментальной психологии. Киев, 1905;
Канаев И. И. [Бахтин M. M.]. Современный витализм // Человек и природа. 1926.
№ 1. С. 33-42; № 2. С. 9-23.
48 См.: Тезисы доклада Г. Г. Шпета «О границах научного литературоведения» //
Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по философии культуры.
М., 2007. С. 683.
И. В. Агеева
В. Н. Волошинов и Г. Г. Шпет:
два взгляда на семиотические проблемы
Идеи, высказанные в «кругу» M. M. Бахтина1, играют в
современном гуманитарном сообществе особую роль. Они
оказывают влияние на формирование тематической
структуры во многих отраслях гуманитарного знания:
литературоведении, филологии, психологии, лингвистике,
философии и др. Контекст интерпретации наследия «бахтинского
круга» очень широк: от историко-культурного до феминистского и
даже жестко идеологического. Однако наиболее важным для
современной гуманитарной науки становится погружение произведений
«бахтинского круга», в данном случае текстов Волошинова, в
контекст научных дискуссий начала XX века2, что позволяет выявить
онтолого-культурные и экзистенциальные основания
гуманитарных наук в России и раскрывает их методологическую специфику.
Исследования ведущих отечественных лингвистов того
времени - Л. П. Якубинского (1892—1945), В. В. Виноградова (1895—
1969), Р. О. Шор (1894-1939), M. H. Петерсона (1885-1962) и др.
имеют культурный и социально ориентированный характер:
изучается социальная и экзистенциальная природа языка,
предпринимаются попытки языкового строительства и исследования социальных
диалектов и жаргонов. В центре лингвистических дискуссий стоял
вопрос о социальной, коммунальной, т. е. межличностной природе
сознания, познания, культуры и истории3. В русле этой проблема-
1 Автор различает произведения, написанные Бахтиным, и тексты, вышедшие под
именами Волошинова и Медведева. Поэтому речь идет именно о «бахтинском круге»
и связанном с ним проблемном комплексе.
2 Информацию о проекте можно найти на сайте Лозаннского Университета
(Швейцария) http://www2.unil.ch/slav/ling/recherche/FNRSVOLMPL05-07/projet.html
3 В этом контексте, как замечает В. Л. Махлин, характерно следующее заявление
А. Ф. Лосева (1893—1988): «Подлинная стихия живого искусства есть бытие
социальное (выделено А. Ф. Лосевым. — В. Λ/.), по сравнению с которым абстрактна
не только логика, но и физика, физиология и психология. Для меня существует
социология пространства и времени, социология космоса и всего бытия, не говоря
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 323
тики работал и В. Н. Волошинов. Об этом говорят его
произведения «По ту сторону социального» (1925), «Слово в жизни и слово в
поэзии» (1926), «Фрейдизм» (1927), «Что такое язык?» (1930),
«Конструкция высказывания» (1930), «Слово и его социальная функция»
(1930)4 и главным образом «Марксизм и философия языка», где он
предлагает исследовать язык как социальное явление.
Дискуссии между лингвистами не замыкались в рамки узкой
специальности, но велись на широком философском фоне, и этот
фон создавал большие возможности для обогащения
лингвистических исследований, с одной стороны, и развития философских
концепций — с другой. Вот почему мне показалось важным
провести сравнительный анализ лингвистических идей Волошинова и
философских идей Шпета5, в основании которых находится
семиотическая проблематика. Важно раскрыть реальный исторический
контекст, в котором «общались» идеи Волошинова и Шпета.
В «Марксизме и философии языка» Волошинов ссылается на
Шпета четыре раза. Он указывает на него как на 1) философа языка
немарксиста, написавшего «Эстетические фрагменты» и «Внутреннюю
форму слова»6; 2) автора «очень острой и интересной» книги о
Гумбольдте, дающего «очень свободные вариации» идей последнего7; 3)
критика концепции Вундта8 и как 4) ученого, разграничившего значение и
созначение слова. Волошинов находит удачным термин «этническая
психология», введенный Шпетом, но его отношение к идеям Шпета в
целом имеет скорее критический характер. Причину я вижу не столько
в сложности мысли и стиля Шпета, подход которого к слову и знаку
не строго лингвистический, а философско-методологический,
сколько в разности содержаний употребляемых Волошиновым и Шпетом
понятий («социальность», «знак», «слово», «социологический» и т. д.).
Поэтому в процессе анализа их семиотических концепций я буду
акцентировать внимание на терминологической основе.
уже о социологическом понимании истории». См.: Лосев А. Ф. Диалектика
художественной формы. М., 1927. С. 5. Цит. по: Махлин В. Л. Комментарии // Бахтин под
маской. Маска первая. Волошинов В. Н. Фрейдизм. М., 1993. С. 113.
4 Перу Волошинова принадлежат также «Новейшие течения лингвистической мысли
на Западе» (1928) и «О границах поэтики и лингвистики» (1930).
5 Я опираюсь на идеи Шпета, изложенные в «Эстетических фрагментах» (1922—
1923) и «Языке и смысле» (около 1922), который не был опубликован при жизни
автора и хранился в семейном архиве. См.: Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г.
Мысль и Слово. Избранные труды / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005.
6 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. Основные проблемы
социологического метода в науке о языке. Л., 1930. С. 10.
7 Там же. С. 50.
8 Там же. С. 51.
324
Раздел IV
Понятие «социальность» или «социологическое» является
одним из ключевых концептов в книге Волошинова. Оно
противопоставляется биологическому, физиологическому, природному.
Индивид рассматривается как «невыделимыи элемент окружающего
бытия», как «часть социального целого»: класса, нации,
исторической эпохи. Как утверждает Волошинов, «только эта социальная и
историческая локализация человека делает его реальным (выделено
Волошиновым. — И. А.) и определяет содержание его
жизненного и культурного творчества»9. При этом Волошинов не отрицает
важности и реальности «субъективно-психического», настаивая на
его вторичности по отношению к внешнему, социальному,
общественному. Человек рассматривается как целое, психика которого
пронизана социальностью, или, как говорит Волошинов, «сплошь
идеологична». Однако понятие «идеология» в концепции
Волошинова не имеет жесткой негативной окраски позднего советского
времени, оно становится выражением социальности, языка. Под
«идеологией», в общем смысле этого слова, Волошинов понимает
более или менее строгое оформление отношения к реальной
действительности (природной, социальной, политической). Он
употребляет этот термин в смысле, присущем романтизму, то есть как
синоним «мировоззрения» (Weltanschauung), системы идей,
мироощущения и мировосприятия. Идеологическая сфера в его
понимании не однородна. С этой точки зрения знаки различаются
(классифицируются) согласно сфере их социального
использования: они могут быть научными, художественными, религиозными,
моральными, правовыми и т. д. В такой интерпретации классовое
сознание теряет четкие очертания и становится выражением
интересов любой институционально оформленной социальной группы,
ее мировоззрения, норм, оценок, точек зрения, подходов и т. д.,
т. е. «официальной», или, говоря современным языком,
институционально оформленной стратегией. Она включает в себя
устойчивые и оформленные идеологические системы наук, искусств,
права и пр., которые «выкристаллизовываются» из «неофициальной»,
неоформившейся, «житейской идеологии». Последняя является
внутренней и внешней речью, сопровождающей поведение и
восприятие индивида. Психическое, таким образом, неразрывно
связано с внешним, социальным. Эта связь обеспечивается словом,
понимаемым не в узком лингвистическом, а в широком социальном
смысле, т. е. как «объективная среда», как «преломление социально-
экономической закономерности». Волошинов утверждает: «В осно-
9 Бахтин под маской. Маска первая. Волошинов В. Н. Фрейдизм. СП.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 325
ве психики лежат сложные социально-экономические образования, и
сама психика нуждается в особом идеологическом материале:
материале слова, значащего жеста и пр. Только в этом материале
субъективно психическое дано как объективный факт»10. В «Марксизме
и философии языка» Волошинов указывает на знаковый характер
слова и, следовательно, идеологии, сознания, психики.
Термин «социологический» далеко выходит за рамки
современного его понимания, как принадлежащего научной области
социологии. Волошинов употребляет его для обозначения сложной системы
взаимоотношений, взаимодействий индивидов, их «длительного»
знакового, словесного общения, имеющего организующий,
динамический, межиндивидуальный, коммуникативный характер. Все, что
выходит за рамки этого общения, становится, по мнению Волоши-
нова, асоциальным. «Социальность» неразрывно связана с
понятиями «идеология», «коллектив» или «социальная группа», «знак». По
аналогии с «идеологией», как утверждает Махлин, она может иметь
«два дискурсивных обертона <...> "официальный" и
"неофициальный", причем последний первичен»11. «Социологическое» может
рассматриваться как «ближайшее маленькое социальное событие» и
как «более широкие длительные и прочные социальные связи».
«Социальность» может пониматься как «событие общения, беседы между
людьми» и как коммуникативное сообщество, как «знаковый
коллектив», использующий одни и те же «знаки идеологического общения».
Основываясь на утверждении Волошинова, что
«человеческая мысль никогда не отражает только бытие объекта, который
она стремится познать, но вместе с ним <...> и бытие познающего
субъекта, его конкретное общественное бытие»12, я хочу
обратиться к реальности, в которой работал мыслитель, к «духу времени и
места»13, к пространству общения, как интеллектуального, так и
экзистенциального, т. е. включающего, помимо научных дискуссий,
еще и экзистенциальный14 разговор. Это позволяет мне проследить
10 Там же. С. ПО.
11 Махлин В. Л. Комментарии // Бахтин под маской. Маска первая. Волошинов В. Н.
Фрейдизм. С. 113.
12 Там же. С. 23.
13 Серио П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в
Центральной и Восточной Европе. 1920—30-е гг. / Авториз. пер. с франц. Н. С. Ав-
тономовой. М., 2001. С. 55.
14 По этому поводу хочется сослаться на свидетельство Б. В. Горнунга (1899—1976):
«Дело было не только в том, что многое проходило совершенно вне рамок каких
бы то ни было "организаций" (частные кружки были в этом смысле куда важнее),
но и в том, что многие из нас вовсе не занимались только наукою (да и науки-то
были разные — лингвистика, литературоведение, искусствоведение и эстетика,
326
Раздел IV
формирование идей Волошинова и реконструировать его
семиотические идеи, исходя из социокультурного контекста их создания, в
данном случае — на фоне семасиологии Шпета.
Дело в том, что в основании шпетовского поворота к
семиотической проблематике лежит все та же «социальность», понятая
через «общение», являющаяся краеугольным камнем в концепции
Волошинова. В процессе разработки общей семасиологии — или,
в понимании Шпета, науки о смыслах слов, — Шпет обращается
к проблеме знака как двупланового явления. Он утверждает, что
«знак сам по себе есть некоторый предмет со своим особенным
содержанием и <...> в то же время <...> знак другого предметного
содержания, т. е., что рядом с фактом его бытия мы констатируем его
формальную или формообразующую специфическую функцию»15.
Шпет различает два типа отношений, существующих внутри знака:
семиотическое, т. е. отношение знака как вещи, как предмета
действительного эмпирического мира, к его собственному особенному
содержанию, и «семантическое», или «семасиологическое», под
которым понимается отношение знака к предметно оформленному в
нем содержанию (значению). Именно последнее становится
предметом философского анализа Шпета, предварительно
рассматривающего знак как субъект отношения и как отношение.
Шпет замечает, что «всякий предмет, если не актуально, то
потенциально <...> в возможности есть знак»16. Знак дается как
чувственно воспринимаемая вещь, обладает определенным
содержанием и формой бытия (например, физического, социального
и пр.). Особенностью последнего является тот факт, что бытие
знака как вещи «отстраняется» и на его место выступает бытие
идеальное, «знак "значит" <...> своими формальными свойствами, а
не материальными»17. «Итак, — делает вывод Шпет, —
специфичность знака, как субъекта отношения в том, что по отстранении его
данного чувственного бытия, например физического, он не в
новых формах того же порядка бытия, а в формах идеального бытия
философия и история, даже теоретическая экономика). Главное в том, что многие,
занимаясь какой-либо наукою, в то же время писали стихи или прозу, работали в
театрах, были музыкантами (совмещая все это с "наукою")... Объединение
"научного", "наукообразного" и вовсе "ненаучного" было у нас очень органическим
<...>. (хотя прав на существование дилетантизма мы, следуя в этом все Шпету, не
признавали)». Горнунг Б. В. Воспоминания // Горнунг Б. В. Поход времени. Статьи и
эссе. М., 2001. С. 375. См. также концепцию «разговора» в кн.: Щедрина Т. Г. Архив
эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008.
15 Шпет Г. Г. Язык и смысл. Цит. изд. С. 478.
16 Там же. С. 516 (выделено Г. Ш.).
17 Там же. С. 517.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 327
приводит нас к другому термину отношения, к корреляту»18. Знак,
таким образом, является чувственно данным предметом с
идеальными «сигнификационными» функциями.
Помимо этого, как утверждает Шпет, знак «не только субъект
отношения, которому соотносительно значение, но он сам также есть
некоторое отношение»*9. Это иллюстрируется на примере слова,
предполагающего не только того, от кого оно исходит, но и того, к кому оно
обращается. Слово как Знак является отношением общения между
говорящими и выполняет семантические и синсемантические, а также
экспрессивные и дейктические функции. Оно является знаком «двух
порядков значений: объективного и субъективного, собственно
значения и сопровождающего его переживания <...> [в говорящем],
значения и "созначения", субъективной модификации значения, тона»20.
При этом можно согласиться с Т. Г. Щедриной — для Шпета важнее
«не субъективная (психологическая) интерпретация слов-знаков»,
указывающая на личность говорящего, «но поиск адекватных
способов передачи интерсубъективных смыслов, т. е. осуществление
объективной (как интерсубъективной), не зависящей от конкретного
носителя интерпретации информации, заключенной в знаках и
нацеленной на передачу самой идеи, мысли, заложенной в слове»21.
Слово понимается постольку, поскольку обладает смыслом (значением).
Шпет определяет понимание как «материальную сторону дискур-
сии», как интерсубъективный акт, предполагающий наличие
мировоззренческого и социокультурного контекста, «сферы содержания»
или «сферы разговора». В процессе понимания происходит переход
от знака к значению. Знак, таким образом, является «проводником от
идеального к реальному и обратно»22, ключом к пониманию
мышления и сознания23, имеющих словесную, дискурсивную природу.
Слово занимает центральное место в концепции Шпета,
объясняющего свой «интерес к знаку именно из-за того, что слово есть
знак»24. Оно определяется, во-первых, как совокупность «как устной,
18 Там же. С. 518.
19 Там же. С. 520 (выделено Г. Ш.)
20 Там же. С. 547.
21 Щедрина Т. Т. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной биографии
Густава Шпета. С. 228.
22 Шпет Г. Т. Язык и смысл. С. 521.
23 «Посредничество знака, как отношения, которое само есть не что иное, как
понимание, — пишет Шпет, — делает понятною и связь чувственно данного с его идеальными
формами, ибо теперь мы видим, что они так же не лишены интеллектуального
содержания, как не лишено восприятие действительности — чувственного. <...> Содержание
же в своей полноте — жизнь интеллекта и всего сознания». Там же. С. 522.
24 Там же. С. 539.
328
Раздел IV
так и письменной, речи, обозначая в то же время соответственно
некоторую способность или дар человека, в отличие от
"бессловесных" животных»25; как язык определенной группы людей
(например, «русское слово»), как «орудие сообщения и выражения мыслей,
чувств, знаний, приказаний, договоров и т. д.»26; во-вторых, как
«любой по смыслу законченный отрывок речи или просто "речь" <...>
как некоторое выражение или сообщение»27, состоящее не только
из связанных по смыслу отдельных слов, но и выражений, фраз,
высказываний, предложений и т. д.; в-третьих, как «отдельное слово»,
которое имеет «значение» и может состоять из двух или более слов
(«человек», «белый человек» и т. п.) или быть частью простого слова,
то есть основой, приставкой, окончанием и т. п.
Шпет понимает слово как «архетип культуры», как социально-
исторический факт. По его мнению, оно «правит» не только
мышлением и сознанием, но и «духом». Последний понимается, как
указывает Т. Г. Щедрина, в смысле, близком к современному
понятию ментальное™, то есть как «общий тип поведения,
свойственный и индивиду, и представителям определенной социальной
группы, в котором выражено их понимание мира в целом и их
собственного места в нем»28. Единство единичного «я» с общным «мы»
«определяется обоюдным актом признания. Личность
идентифицирует себя с той или иной общностью и общность проявляет свое
отношение <...> к конкретной личности»29.
Шпет «возвеличивает» слово, утверждает, что оно — тот общий
слой, который определяет истоки любого познания, что «<...>
слово есть principum cognoscendi нашего знания»30. Именно поэтому
отношение «знак-значение» анализируется Шпетом на примере
слова как знака, как сложной системы отношений.
Теперь обратим внимание на определенные точки
интеллектуального созвучия семиотических идеи Шпета и Волошинова. Вернемся
к анализу «Марксизма и философии языка». Понятие «слово» также
является одним из ключевых концептов Волошинова,
рассматривающего его как знак par excellence. Знак в его концепции, как и у Шпе-
25 Шпет Г. Г. Язык и смысл. С. 568.
26 Там же.
27 Там же.
28 Ле Гофф Ж. Можно ли считать представления и культуру надстройкой // Споры
о главном. Дискуссия о настоящем и будущем исторической науки вокруг
французской школы «Анналов». М., 1993. С. 9.
29 Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной биографии
Густава Шпета. С. 225.
30 Шпет Г. Г. Язык и смысл. С. 601.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 329
та, имеет двойственную природу: он является материальной вещью,
которая «отражает и преломляет нечто вне ее находящееся», т. е.
обладает значением, выходящим за пределы ее единичной данности.
Значение знака является «чистым отношением, функцией». В этом
смысле знак — идеальный, мыслимый продукт, образ. Волошинов
полагает, что он не только представляет, но и искажает
действительность, являясь «идеологическим» явлением. Волошинов
подчеркивает, что смысловая граница между материальной вещью и знаком
не стирается: любое физическое тело, орудие производства или
продукт потребления может быть воспринято как знак, не мешш своей
материальной сущности, не становясь знаком как таковым. И знак,
в свою очередь, не преобразуется в часть реальной (природной и
социальной) действительности, оставаясь по своей сути идеальным,
«идеологическим». «Таким образом, — пишет Волошинов, — рядом
с природными явлениями, предметами техники и продуктами
потребления существует особый мир — мир знаков (выделено
Волошиновым. — //.А)»31, мир «идеологии». Отождествление последней
с семиотической областью напоминает, по мнению М. С. Вебера32,
концепцию, распространенную в XVIII веке и свойственную работам
Кондильяка (1715—1780) и Дестюта де Траси (1754—1836),
связывающих материальное возникновение «идей» в процессе восприятия
конкретного смысла с их знаковым выражением.
Волошинов противопоставляет знак сигналу, который
понимается как себетождественное явление, как «внутренне
неподвижная, единичная вещь»: «он ничего не отражает и не преломляет, а
просто является техническим средством указания на тот или иной
предмет (определенный и неподвижный) или на то или иное
действие (также определенное и неподвижное!)»33. Сигнал лишен
идеологического значения. В отличие от гибкого и изменчивого знака,
который понимается, он лишь узнается34.
Как и Шпет, Волошинов обращает внимание не только на знак
сам по себе, но и на его коммуникативную природу, а следовательно,
и на процессы понимания знака. Оно определяется Волошиновым как
психическое усвоение внешнего знака, его воспроизведение в
индивидуальном сознании на материале внутреннего знака. Внешние и вну-
31 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 14.
32 Weber M. S. The Intersection: Marxism and Philosophy of Language. Diacritics 15.
1985. P. 95.
33 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 69.
34 В качестве примера сигнала Волошинов приводит нормативно тождественную
форму языковой системы Соссюра, которого он рассматривает как представителя
«абстрактного объективизма».
330
Раздел IV
тренние знаки неразрывно связаны друг с другом, находятся в
процессе постоянного взаимодействия и взаимопроникновения. Волошинов
пишет: «Всякий внешний идеологический знак, какого бы рода он ни
был, со всех сторон омывается внутренними знаками — сознанием. Из
этого моря внутренних знаков он рождается и в нем продолжает жить,
ибо жизнь внешнего знака — в обновляющемся процессе его
понимания, переживания, усвоения, т. е. во все новом и новом внедрении его
во внутренний контекст»35. Внешние и внутренние знаки, по мнению
Волошинова, — объективны и материальны. Они имеют социальную,
социологическую природу. Допуская, что «всякое идеологическое
явление в процессе своего создания проходит через психику как через
необходимую инстанцию»36, Волошинов утверждает, что оно
ориентировано на определенную «социальную аудиторию», определяется
«социальным кругозором» данной эпохи и данной социальной группы,
без знания которых понимание знака невозможно.
Психика и идеология, таким образом, неразрывно связаны друг
с другом, находятся в процессе постоянного «диалектического»
взаимодействия. И личность, ответственная за свои поступки,
является в концепции Волошинова социально-идеологическим
явлением. «Всякая мотивировка своего поступка, всякое осознание
себя, — пишет он, — есть подведение себя под какую-нибудь
социальную норму, социальную оценку, есть <...> обобществление
себя и своего поступка. Осознавая себя, я пытаюсь как бы
взглянуть на себя глазами другого человека, другого представителя моей
социальной группы, моего класса. Таким образом, самосознание в
конечном счете всегда приведет нас к классовому сознанию,
отражением и спецификацией которого оно и является во всех своих
основных, существенных моментах»37. Знак возникает на
«межиндивидуальной территории» в процессе взаимодействия индивидов,
является «материализацией», средой их общения.
Условия общения: социальная организация людей38 и ближайшая
ситуация их взаимодействия, главным образом словесного,
определяют содержание, форму и тему знака, которые рассматриваются
35 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 37.
36 Там же.
37 Бахтин под маской. Маска первая. Волошинов В. Н. Фрейдизм. С. 85—86.
38 Социальная организация индивидов обуславливается, по мнению Волошинова,
производственными отношениями и социально-политическим строем и имеет
иерархический характер. Следует отметить, что общество понимается им как группа
людей, говорящих на одном языке. Классовый характер общества проявляется в
«разнонаправленных социальных акцентах», которые выражаются в «каждом»
идеологическом знаке. Конкретных примеров такой социальной «многоакцентности» и
«внутренней диалектичности» знака Волошинов в своей работе не дает.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 3 31
Волошиновым на примере слова. Слово, по его мнению, является
«чистейшим и тончайшим медиумом социального общения» и
индивидуального сознания. Оно показательно, репрезентативно, имеет
четкую знаковую структуру В силу своей нейтральности слово может
выполнять любую идеологическую функцию (научную,
эстетическую, моральную и пр.) и, более того, быть материалом жизненного
общения39, в формах которого осуществляется «дух эпохи». Под
последним Волошинов понимает совокупность речевых выступлений,
сопровождающих устойчивое идеологическое творчество в
определенный период времени. Слово — «социально вездесущно» и потому
чрезвычайно важно. Волошинов не дает четкого определения слова,
как Шпет. В контексте его размышлений этот термин
употребляется как синоним языка, речи, высказывания, жизненной идеологии.
Слово понимается как речевая способность человека, как
внутренняя и внешняя речь, как способ общения, как речевое
взаимодействие, как сообщение, как законченное высказывание, как отдельное
слово, то есть в смысле, близком к пониманию слова Шпетом. Слово
у Волошинова имеет динамический, социально-исторический
характер. Оно является интерсубъективным явлением, «продуктом
взаимоотношений говорящего со слушающим»40, «отношением» в
формулировке Шпета. Как пишет Волошинов, «всякое слово выражает
"одного" в отношении к "другому". В слове я оформляю себя с точки
зрения другого, в конечном счете с точки зрения своего коллектива.
Слово — мост, перекинутый между мной и другим»41. Оно обладает
не только предметным значением, но и социальной оценкой.
***
Семиотические идеи Волошинова имеют, таким образом, ярко
выраженный социокультурный характер: знак, его значение,
природа, функции объясняются социальными факторами,
условиями и формами межиндивидуального взаимодействия. Шпет
также понимает знак как социальное явление, но его анализ носит
философско-методологический, герменевтический характер:
предметом его исследования становится отношение между знаком и его
значением, сложная система отношений внутри знака-слова.
Несмотря на различие в подходах и методах исследования,
семиотические идеи Волошинова и Шпета имеют точки сопри-
39 В понимании Волошинова «жизненное общение» совпадает с «общественной
психологией» Плеханова, на которого он ссылается.
40 Волошинов В. Н. Марксизм и философия языка. С. 87.
41 Там же.
332
Раздел IV
косновения и параллели. Основные положения, указывающие
на сходство, таковы: понимание слова как знака сообщения;
интерсубъективность слова, его социально-исторический характер;
указание на его динамический характер; антипсихологическая
трактовка функционирования слова. Все это позволяет сделать
вывод о существовании общего интеллектуального фона разработки
концепций Волошинова и Шпета, о принадлежности мыслителей
одному коммуникативному пространству, образованному
интеллектуальными и экзистенциальными дискуссиями, имевшими
место в 1920—1930 годы XX века в России. Вместе с тем замечу, что
семиотические идеи Волошинова, рассмотренные на фоне
семасиологических идей Шпета, приобретают сегодня особую
актуальность и требуют дальнейших лингвистических и философских
исследований.
Г. Тихонов
Новаторство и регрессия:
теоретические интересы Густава Шпета
в 1920-е годы
Последние несколько лет Густав Шпет вырисовывается
как самый значительный русский академический
философ двух десятилетий, последовавших за Первой мировой
войной. Принципиальный сторонник гуссерлевской
феноменологии, в то же время творчески видоизменяющий
теорию Гуссерля и отходящий от нее в некоторых существенных
моментах, Шпет осуществляет поворот к герменевтике, который
все еще остается недостаточно исследованным как в России, так
и на Западе. Поэтому данная работа будет посвящена конкретной
проблеме вклада Шпета в литературную и театральную теорию и
параллельно — оценке шаткого равновесия между новаторством
и регрессией, характерного, на мой взгляд, для творчества Шпета,
и детальному исследованию его участия в изучении литературы и
театра в Московском лингвистическом кружке (МЛК) и
Государственной академии художественных наук (ГАХНе). Наконец, я
хочу рассмотреть вопрос о позиции Шпета в более широкой
сфере теоретических изысканий 1920-х гг. и, в частности, сравнить его
теоретические взгляды с идеями Михаила Бахтина.
Шпет и исследование литературы в Московском
лингвистическом кружке и ГАХНе
Теоретическое изучение литературы и театра было одним из
главных предметов интереса Шпета на протяжении 1920-х гг.
Институциональными центрами его работы в области теории литературы
(а до некоторой степени — и театра) были Московский
лингвистический кружок и Государственная академия художественных наук.
Оценка теоретических интересов Шпета и полученных им
результатов должна осуществляться поэтому в контексте более подроб-
334
Раздел IV
ного рассмотрения его участия в этих двух институтах, чьи судьбы
переплелись после 1921 г.
Шпет был принят в Московский лингвистический кружок
(далее — Кружок) 14 марта 1920 г.1 после выступления с докладом
на тему «Эстетические моменты в структуре слова», в прениях
по которому участвовал Осип Брик2. Хотя после этого Шпет
посетил заседание Кружка лишь один раз (4 апреля 1920 г.), он
оказывал немалое влияние на его работу через своих молодых
учеников. В статье об истории Кружка, написанной в ноябре 1976 г. для
«Краткой литературной энциклопедии», но опубликованной лишь
двадцать лет спустя, Роман Якобсон отметил, что феноменология
языка Шпета наложила «явственный отпечаток» на его развитие «в
заключительную пору его жизни»3; в другом месте Якобсон
высоко оценил роль Шпета как «выдающегося философа гуссерлевской
школы»4, которого сам Гуссерль считал «одним из самых
замечательных студентов»5. (Якобсон также вспомнил, что Шпет побудил
его познакомиться с идеями Антона Марти.) После отъезда
Якобсона в Эстонию и затем в Прагу в 1920 г. влияние Шпета (и через
него ГАХНа) постепенно стало столь всепоглощающим, что в
конечном счете оно привело к расколу Кружка в середине 1922 г.6. На
последних этапах существования Кружка несколько его молодых
членов — Борис Горнунг, Буслаев, Жинкин — перешли в ГАХН,
где, как мы знаем, Шпет был избран вице-президентом в 1924 г.;
библиотека Кружка тоже была передана в ГАХН7.
Влияние Шпета на работу Кружка объяснялось, кроме прочего,
публикацией его «Эстетических фрагментов», три выпуска
которых оказались крайне важными для группы молодых ученых и
литераторов в Кружке и впоследствии в ГАХНе, хотя его влияние на
работу Кружка было заметно даже раньше. 4 апреля 1920 г. Шпет
принял участие в дискуссии о сюжете, в ходе которой он и Петр
Богатырев поддержали утверждение Винокура о существенно сло-
1 Формально Московский лингвистический кружок существовал с марта 1915 по
ноябрь 1924 г.
2 КрусановЛ. В. Русский авангард. 1907—1932. Исторический обзор. В 3 т. Т. 2. Ч. 1 //
Футуристическая революция. 1917—1921. М., 2003. С. 461.
3 Якобсон Р. Московский лингвистический кружок / Ред. М. И. Шапир // Philo-
logica. T. 3. № 5/7. 1996. С. 367.
4 Jacobson R. Retrospect // Jacobson R. Selected Writings. \Ы. 1. The Hague; P. 534.
5 Там же. С. 713.
6 Николаев H. Я. M. M. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история
1920-х годов // Бахтинский сборник. № 5. 2004. С. 228.
7 Toman J. The Magic of a Comon Language. Jacobson, Mathesius, Trubetzkoy, and the
Prague Linguistic Circle. Cambridge, 1995. P. 66.
Г>став Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 335
весной природе сюжета, выступив против мысли Осипа Брика,
полагавшего, что в живописи и скульптуре возможны сюжеты
несловесного характера8. Эта дискуссия дает раннее свидетельство веры
Шпета в язык, поскольку тот доставляет универсальный
семиотический код, который делает возможными процессы передачи и
выражения между различными знаковыми системами (такими, как
литература, живопись, скульптура и т. д.)9. Наконец, на заседании
Кружка 21 марта 1920 г. было предложено пригласить Шпета стать
членом редакционного совета литературной секции издательства
Кружка (в качестве философа, каковым он был). Эта идея после
долгих обсуждений не получила одобрения членов Кружка
(задуманное издательство тоже не материализовалось)10.
После публикации «Эстетических фрагментов» (написанных в
январе—феврале 1922 г., опубликованных в 1922—1923 гг.) влияние
Шпета на Московский лингвистический кружок стало наиболее
явственным. Я хочу выделить три особо важных момента. Начну
с того, что во втором выпуске «Эстетических фрагментов» Шпет
предложил, как уже отмечалось (пожалуй, наиболее убедительно
поздним Максимом Шапиром), первое русское определение
поэтики как грамматики: «Поэтика в широком смысле есть
грамматика поэтического языка и поэтической мысли»и. Это изначально
метафорическое употребление слова «грамматика» позднее, в конце
1950-х — начале 1960-х гг., было подхвачено Романом Якобсоном
в его известной программе исследования «Поэзии грамматики и
грамматики поэзии», где «грамматика», очищенная от шпетовской
отсылки к «поэтической мысли», эволюционировала из метафоры
в термин с отчетливым объемом и содержанием. Что важно, Шпет
8 Шапир М. И. Комментарии // Винокур Г. О. Филологические исследования:
Лингвистика и поэтика / Под ред. Т. Г. Винокур, М. И. Шапира. М., 1990. С. 299—300.
9 Наиболее полно это обрисовано в вышеупомянутой статье «Литература»,
написанной вчерне в середине 1920-х гг. для гахновского «Словаря художественных
терминов», но впервые опубликованной только в 1982 г. по несколько
отличному наброску, законченному в 1929 г.; первоначальный вариант был напечатан в
2005 г. Оба варианта обнаруживают сосуществование шпетовской интуиции языка
как всеобщей семиотической матрицы с его верой в значимость литературы как
«культурного (само)сознания народа», а по-другому — культурного сознания,
культурного самосознания, сознания народом своей народности. См.: Шпет Г. Г.
Литература // Словарь художественных терминов ГАХН / Под ред. И. М. Чубарова.
М., 2005. С. 258.
10 Тоддес Е., Чудакова М. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики»
Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка (Материалы
к изучению бытования научной книги в 1920-е годы) // Федоровские чтения 1978.
М., 1981. С. 240-241.
11 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 408.
336
Раздел IV
здесь впервые говорит о «поэтической» (а не просто эстетической)
«функции слова», тем самым предвещая позднейшее авторитетное
подчеркивание Якобсоном поэтической функции языка.
Вторым важным достижением Шпета в «Эстетических
фрагментах» является определение структуры слова и отличение его от
понятия системы; последнее применяется Шпетом главным образом
к речи в ее полноте (тогда как употребление слова «структура»
колеблется между указанием на отдельные слова или на целые серии
слов, причем граница между ними иногда становится неясной из-
за русского слова «слово», которое может означать и то, и другое).
Кроме того, во втором выпуске Шпет пишет: «Под структурою
слова разумеется не морфологическое, синтаксическое или
стилистическое построение, вообще не «плоскостное» его
расположение, а, напротив, органическое, вглубь: от чувственно
воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета, по
всем ступеням располагающихся между этими двумя терминами
отношений. Структура есть конкретное строение, отдельные части
которого могут меняться в «размере» и даже качестве, но ни одна
часть из целого in potentia не может быть устранена без разрушения
целого»12.
Система, с другой стороны, есть совокупность структур, в
которой каждая структура сохраняет собственную конкретность.
Биологический организм (пример Шпета) есть именно такая «система
структур», где каждая структура (кости, нервы, кровеносные сосуды
и т. д.) остается конкретной и отдельной. Это различение структуры
и системы было поддержано некоторыми лингвистами в 1920-х гг.,
особенно Виктором Виноградовым13, который подчеркивает в
рассуждении Шпета первенство понятия структуры (глубина) над
понятием системы (плоскость) и — расширительно —
парадигматического подхода над синтаксическим14. В этом контексте мы должны
упомянуть о знакомстве Шпета с «Cours de linguistique générale»
Соссюра. Я предполагаю, что Шпет узнал о тексте Соссюра
примерно в конце июня 1922 г., когда получил неопубликованный перевод
12 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 382.
13 Виноградов В. Из истории поэтики (20-е годы) // Известия АН СССР. Сер.
литературы и языка. Т. 34. № 3. 1975. С. 265.
14 Виноградов воспринял шпетовское различие между системой и структурой через
«Эстетические фрагменты» и благодаря личному общению с философом. См.:
Виноградов В. В. Из истории поэтики (20-е годы) // Известия АН СССР. Сер.
литературы и языка. 1975. Т. 34. № 3. С. 265. Впоследствии, в 1926 г., Виноградов по
приглашению Шпета выступил с двумя докладами в ГАХНе. См.: Николаев Н. И.
М. М. Бахтин, Невельская школа философии и культурная история 1920-х годов
// Бахтинский сборник. Вып. 5. М., 2004. С. 269.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 337
его первой части, сделанный Александром Роммом, еще одним
членом Московского лингвистического кружка15. Таким образом, у него
была возможность пересмотреть некоторые пассажи «Эстетических
фрагментов» до публикации книги в 1922—1923 гг., хотя на данном
этапе исследования это остается предположением16.
Наконец, следует признать, что «Эстетические фрагменты»
предвосхитили установку на поиски в научном дискурсе признаков
образности (и метафоричности), т. е. особенности, сближающей
научный и литературный дискурсы больше, чем принято было считать.
«Образность речи присуща не только "поэзии" <...> Это есть общее
свойство языка, присущее также и научному изложению»17. Это
положение ставило под вопрос уверенность Гуссерля в том, что
научный дискурс можно четко отграничить от повседневного дискурса,
и вело к подходу, который — хотя и не получил дальнейшего
развития у самого Шпета — был возвращен к жизни в 1970—1980-х гг.
(более подробно см. в работе Стайнера18, который упоминает в этом
контексте Деррида и Хейдена Уайта).
Но это положение также разъясняет, почему петроградские
формалисты (особенно Шкловский и Эйхенбаум) считали Шпета своим
полным антагонистом, а Якобсон обвинял его в недостаточной
последовательности. Несмотря на новаторское предположение о
различии между поэтической и эстетической функцией языка, Шпета
интересовала главным образом последняя. Он отказывал поэзии и
литературе вообще в особом положении единственных носителей
образности речи, дарованном им формалистами. И хотя и в
«Эстетических фрагментах», и во «Введении в этническую психологию»
15 Тоддес Е., Чудакова М. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики»
Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка (Материалы к
изучению бытования научной книги в 1920-е годы) // Федоровские чтения 1978. М.,
1981. С. 235. См. также: DeprettoC. Alexandre Romm (1898—1943), lecteur du Marxisme
et la philosophie du langage ( 1929) // Slavica Occitania. No 25. 2007. P. 399-416. См.
также: Reznik V. A Long Rendezvous: Aleksandr Romm's Unpublished Works on Ferdinand
de Saussure // The Slavonic and East European Review. Vol. 86. No 1. 2008. P. 1—25.
16 На мой взгляд, шпетовское понимание структуры было сформировано также
под влиянием Вильгельма Дильтея, писавшего о структурированной природе мира
культурных объективации. Как утверждает Николай Плотников, по мере
рецепции мысли Шпета это герменевтическое измерение было поглощено позднейшей
(влиятельной и более специальной) версией этой концепции, разработанной и
поддерживаемой структурализмом. Plotnikov N. Ein Kapitel aus der Geschichte des
Strukturbegriffs. Gustav Spet als Vermittler zwischen Phänomenologie, Hermeneutik und
Strukturalismus // Archiv für Begriffsgeschichte. 2006. № 48. S. 201.
17 Ulnem Г. Г. Эстетические фрагменты // Сочинения. M., 1989. С. 443.
18 Steiner P. Tropos Logicos: Gustav Shpet's Philosophy of History // Slavic Review. 2003.
Vol. 62. № 2. P. 343-358.
338
Раздел IV
Шпет решительно возражал против психологического истолкования
образа (выступая в этом отношении против Потебни)19, он тем не
менее старался объяснить, что образ находится между вещью и
представлением; он стремился разъяснить его отношения к внутренней
форме слова, к ее логическим и онтологическим измерениям.
И последнее, но тем не менее важное: он был восприимчив
также к субъективно-биографическим аспектам литературного
произведения, особо говорил о значимости голоса автора20. В конечном
счете — и здесь решающее различие между Шпетом и ранним
формализмом — литература не была, по его мнению, самодостаточной
системой, которая коренилась бы в собственно поэтической
функции языка; литература, с его точки зрения, даже с учетом его
семиотических наклонностей, является преимущественно просто одной
из областей творчества, предопределенной тем, что он называет
«эстетическим сознанием». Как феноменолог, Шпет главным
образом стремился понять, при каких условиях высказывание
становится объектом эстетического опыта. Этот вопрос неразрывно связан
с вопросом о смысле, который упрямо игнорировали
формалисты: «Как следует выразить данный смысл, чтобы восприятие его
было эстетическим?»21. Равным образом он предполагает внимание
к форме в ее необходимой связи с содержанием, что очевидно и в
«Эстетических фрагментах», и в позднейшей статье «Литература».
«Эстетические фрагменты» вдохновили некоторых
представителей более молодого поколения Московского лингвистического
кружка на поиски общности между мягкой (разжиженной)
версией формализма и более традиционной философской эстетикой, и
эта попытка вылилась в возникновение в ГАХНе так называемой
«формально-философской школы», которая достигла наибольших
результатов в исследованиях по искусству (особенно удачным был
том «Искусство портрета»), но оказалась гораздо менее
убедительной и оригинальной в теоретической интерпретации литературы.
Не удивительно, следовательно, что формалисты враждебно
встретили «Эстетические фрагменты» Шпета и работы его молодых
последователей, воспринятых как предатели формализма и первона-
19 Замечу, что такая позиция была близка Якобсону, о чем он говорит в одном из
писем к Шпету. См.: Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв.
ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 505-506.
20 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 464-471.
21 Там же. С. 448. Феноменологическая позиция Шпета была впоследствии
истолкована Дмитрием Лихачевым как свидетельство отсутствия интереса к
историческому изучению литературы. Лихачев Д. С. Очерки по философии художественного
творчества. СПб., 1996. С. 103—104.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 339
чального признания фундаментальной роли лингвистики, в Кружке
и в ГАХНе. 30 июня 1924 г. Эйхенбаум заметил в письме к Григорию
Винокуру (а Винокур весьма сочувствовал идеям Шпета, написал
одобрительную рецензию на «Эстетические фрагменты», открыто
признал влияние философа на собственное творчество22 и даже
сделал безуспешную попытку убедить Якобсона и Эйхенбаума
отбросить предвзятое отношение к нему): «В Шпета я не верю — это
пустое красноречие»23. Шкловский тоже относился к Шпету в высшей
степени скептически и иронически, что явствует из его реакции на
деятельность Шпета как переводчика поэзии уже позже, в 1934 г.24
Якобсон, признавая (как мы видели) заслуги Шпета как связующего
звена между гуссерлевской феноменологией и Московским
лингвистическим кружком, считал Шпета недостаточно последовательным
и неспособным полностью осознать не подлежащую обсуждению —
согласно Якобсону — основополагающую роль лингвистики.
Ценность «Эстетических фрагментов» является, таким образом,
двоякой. Во-первых, хотя в некоторых отношениях Шпет
предвосхитил важные результаты структурализма и семиотики, его книга
предлагает также наиболее философски аргументированную и
существенную, хотя иногда косвенную, полемику с формализмом,
которая предшествовала критике последнего со стороны Энгель-
гардта и Медведева25. Во-вторых, что более важно, книга содержит
позитивную программу изучения произведения словесности с
позиций феноменологической эстетики (несмотря на редкие
отступления Шпета от Гуссерля), соединенной с герменевтикой.
Особенно значимой здесь является концепция «внутренней
формы». Сформулированная первоначально в 1917 г. в статье «Мудрость
22 Винокур Г. О. Словарная автобиографическая заметка [1925—1926] //Винокур Г. О.
Введение в изучение филологических наук / Ред. С. И. Гиндин. М., 2000. С. 106.
23 Чудакова М., Тоддес Е. Наследие и путь Б. Эйхенбаума // Эйхенбаум Б. О
литературе. Работы разных лет / Под ред. О. Б. Эйхенбаум и Е. Тоддес. М.; 1987. С. 17.
24 В феврале 1934 г. в письме к Тынянову Шкловский иронизировал над
пояснительными примечаниями Шпета к его же переводу Байрона: «Шпет, кажется, к
Байрону на слово крокодил дал примечание, назвавши этого крокодила по-латыни».
Цит. по: Из переписки Ю. Тынянова и Б. Эйхенбаума с В. Шкловским. Публ.
О. Панченко // Вопросы литературы. 1984. № 12. С. 204. Очевидно, Шкловский
преследовал свои цели, но на этот раз он не преувеличивал и не выдумывал. См.
пояснение Шпета в кн.: Байрон Дж. Г. Мистерии / Пер. Г. Г. Шпета. М.-Л., 1933.
С. 406. Более подробно об отношении русских формалистов к Шпету см.: Tihanov G.
Gustav Shpet: Literature and Aesthetics from the Silver Age to the 1930s // Primerjalna
knpevnost. 2006. Vol. 29. № 2. P. 1-19.
25 «Эстетические фрагменты» Шпета упоминаются в работе Энгельгардта
«Формальный метод в истории литературы» (1925). См.: Энгельгардт Б. М. Избранные
труды / Ред. А. Б. Муратов. СПб., 1995. С. 80-89.
340
Раздел IV
или разум?», шпетовская концепция внутренней формы восходит к
философии языка Вильгельма фон Гумбольдта. Она получила
развитие в книге Шпета об истории и современном состоянии
герменевтики («Герменевтика и ее проблемы», завершена в 1918 г.) и
затем заняла центральное место в «Эстетических фрагментах» и во
«Введении в этническую психологию», не говоря уже о монографии
«Внутренняя форма слова» (1927). «Внутренняя форма»,
выражающая представление о глубинной семантической устойчивости и тем
самым задающая горизонт правдоподобной интерпретации, была
также важным теоретическим инструментом в исследованиях
молодых коллег Шпета по ГАХНу. В 1923 г. Шпет сделал в ГАХНе доклад
«Понятие внутренней формы у Вильгельма Гумбольдта», за которым
в 1924 г. последовали доклады Буслаева («Понятие внутренней
формы у Штейнталя и Потебни») и Кенигсберга («Понятие внутренней
формы у Антона Марта»). Движение в этом направлении
завершилось созданием коллективного труда ГАХНа «Художественная
форма» (1927), где ученики Шпета исследовали форму с эстетической
и семантической точек зрения. Равно далекий от марксизма и
формализма, этот труд был окончательным доказательством того, что
молодое поколение ученых имело мало оснований для стремления
или уважения к ним обоим, и эта позиция ставила их, их учителя и
сам ГАХН в очень трудное положение, поскольку сталинизм
постепенно захватывал в тиски умственную жизнь.
Наконец, рассматривая работы Шпета по эстетике и литературе
1920-х гг., мы должны также принять во внимание его обширные
заметки о романе (1924), свидетельство теоретических
предпочтений, отчетливо обнаруживающее различия между подходами
Шпета и Михаила Бахтина. Эти заметки, которые оставались
неопубликованными до 2007 г., были, вероятно, частью более обширной (и
тоже неопубликованной) работы под заглавием
«Литературоведение», анонсированной как один из текущих проектов ГАХНа26.
Шпет здесь опирается на авторов (в частности, на Гегеля, Эрви-
на Роде и Георга Лукача), которые впоследствии весьма ощутимо
присутствовали (явно или подспудно) в размышлениях Бахтина
о романе. Шпет (как и Бахтин) заимствует у Гегеля и Лукача
концептуальную рамку, в которой сопоставляются эпос и роман27. Но
26 См. комментарии Татьяны Щедриной к тексту «О границах научного
литературоведения (конспект доклада)». Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные
труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007. С. 507.
27 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман» // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М.,
2007. С. 57-58.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 341
если Бахтин отвергает схему Лукача и высвобождает из нее роман,
превращая его из неудачника литературной истории в
выдающийся écriture2*, выходящий за границы простого жанра, то Шпет
сохраняет верность старому противоположению и подтверждает роль
романа как «отрицательного» жанра. С точки зрения Шпета, роман
характеризуется чередой фатальных отсутствий. В нем отсутствуют
«композиция», «план» и, что важнее всего, — «внутренняя форма».
Позвольте напомнить, что, по Шпету, «внутренняя форма» служит
решающим доказательством способности искусства создавать
серьезные, не измышленные варианты реальности. Отсутствие
«внутренней формы» говорит, в широком смысле, о «надуманности»
произведения искусства. Таким образом, роман — не более чем
«деградация» эпоса29: эпос возводит к идее (в платоновском
смысле), тогда как «роман дает доксу <курсив мой. — Г. Г.>, и только»30.
Роман с его произвольными измышлениями есть результат распада
мифа31. Следовательно, он не имеет «в строгом смысле сюжета», но
имеет лишь «тему», которая есть не «конструкция идеи» (каковой на
самом деле должен быть сюжет), а просто «эмпирическая общность
мотива (она не обща, а общна)»32. Появившись позже не только
эпоса, но и греческой трагедии, роман не знает катастрофы, в нем
есть только неразрешенный конфликт, антиномия33. Параллельно
своей не слишком высокой оценке русской философии Шпет, на
мой взгляд, воспринимает русскую литературу в общем как
«роман», поскольку в ней не было, по его мнению, сознания эпической
реальности34. Даже «Войну и мир» он называет не эпопеей, а
ироническим и, следовательно, «романтическим» романом, причем
«романтический» — неодобрительная характеристика, приписываемая
всякому повествованию, в котором правит измышление. Тем самым
мы начинаем понимать, почему в «Эстетических фрагментах» и в
заметках о романе Шпет указывает на роман как на просто
«риторическую» форму: эпос повествует об «органическом воплощении
идеи», тогда как роман предлагает лишь «анализ возможностей»35,
рассказывает о множественности равноправных свободных воль и
28 письменный документ (фр.)
29 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман» // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. С. 63.
30 Там же. С. 66.
31 Ср.: Там же. С. 84.
32 Там же. С. 79.
33 Там же. С. 67.
34 Там же. С. 79.
35 Там же. С. 81.
342
Раздел IV
выборов, с которыми сталкивается индивид, лишившийся
эпического космоса. Роман — не об incarnatio36 (он лишь об inventio37 и
elocutio38)39, т. е. о мастерстве, благодаря которому выстраивается
и упорядочивается эфемерный приватный мир возможностей без
окончательного результата, путешествия без предназначения.
На этом фоне становится понятным крайнее недовольство
Бахтина шпетовским очернением романа. Бахтин тоже начинает с
посылки об отрицательности: роман не имеет собственного канона,
он не обладает постоянными характеристиками, которые создают
устойчивость и связность, отличающие большинство других
жанров. Однако он истолковывает отрицательность как силу: роман не
знает окостенения, его энергия самоорганизации и
самообновления безгранична, его изменчивость вбирает в себя и
перерабатывает огромные массы ранее преодоленных и оставленных «языков».
Словом, роман есть что угодно, но только не простая
«риторическая форма» в том уничижительном смысле, какой Шпет дает
этому термину в «Эстетических фрагментах», в заметках о романе и во
«Внутренней форме слова»40. По Шпету, роман ведет в тупик, он не
имеет перспективы: «При настоящем расцвете искусства роман
будущего не имеет»41. В отличие от поэзии, роман — жанр для масс,
он соответствует «моральным волнениям <...> среднего человека»42.
Бахтин, напротив, превозносит демократический заряд романа и
мечтает, как известно, о романизации литературы.
Путь назад, к эстетике: позиция Шпета в контексте 1920-х гг.
Сравнение бахтинского и шпетовского пониманий романа
погружает нас в самую суть вопроса о позиции Шпета в контексте
литературной теории в России 1920-х гг., времени, когда импульсы,
идущие от работ русских теоретиков, служили сигналами о новаторстве
в Европе и за ее пределами и прокладывали путь к становлению
36 воплощении (лат.)
37 изобретении (лат.)
38 красноречии (лат.)
39 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман» // Цит. изд.
40 Bakhtin M. M. Discourse in the Novel // Bakhtin M. M. The Dialogic Imagination. Four
Essays / Ed. M. Holquist; Trans. M. Holquist, С Emerson. Austin: University of Texas
Press. 1981. P. 268. См. также: Бахтин M. M. Слово в романе // Вопросы литературы
и эстетики. М., 1975 С. 81.
41 Шпет Г. Г. Заметки к статье «Роман» // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. С. 84.
42 Там же. С. 88.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 343
литературной теории как особой и автономной области (и способа)
исследования. Параллель с Бахтиным показывает, что несмотря на
ряд плодотворных результатов работа Шпета в области
литературной теории должна была восприниматься многими его
современниками как нечто лишенное силы и, пожалуй, запоздалое. Как
последователь Гуссерля и Гумбольдта, пытающийся синтезировать
феноменологию и герменевтику, Шпет, конечно, рассматривал
русскую философскую традицию как отсталую, не имеющую развитой
терминологии, нечленораздельную, а то и прямо «невегласную»43.
Однако в том, что касается теории литературы и театра (а не
философии), сам Шпет рассматривался многими как отсталый
мыслитель; его неогумбольдтианство, в противоположность радикализму
русских формалистов, снискало ему репутацию мыслителя, который
представил своей заслугой пусть запоздалое, но все же
состоявшееся появление на интеллектуальной сцене. Виноградов сообщает, что
молодые ревнители формализма в ленинградском Государственном
институте истории искусств вывесили плакат со словами «Лучше
Шпет, чем никогда», чтобы продемонстрировать свое
саркастическое и холодное отношение к Шпету44. Ирония не ускользала от
внимания тех, кто знал, что Шпет был последователем немецкой мысли,
а плакат намекал на созвучное немецкое spät («поздно») в немецкой
пословице «besser spät als nie» («лучше поздно, чем никогда»). Этот
каламбур даже стал частью коллективного «Гимна формалистов»:
Текут и годы и вода,
А мы стоим, тверды как стенка,
Ведь лучше Шпет, чем никогда,
И никогда, чем Назаренко45.
Демьян Бедный, если недавняя атрибуция заслуживает доверия,
выстрелил в Шпета соответствующим образом расширенным
вариантом того же каламбура:
43 См. раздел «Невегласие» в книге Г. Г. Шпета «Очерк развития русской
философии. Ч. 1»(Пг., 1922).
44 Виноградов В. В. Из истории поэтики (20-е годы) // Известия АН СССР. Серия
литературы и языка. Т. 34. № 3. 1975. С. 265.
45 Эта часть «Гимна» приводится в примечаниях Дениса Устинова. См.: Гинзбург Л.
Письма Б. Я. Бухштабу / Ред. Д. В. Устинов // Новое литературное обозрение. 2001.
№ 49. С. 357. Яков Назаренко писал о русской литературе XIX в. и был горячим
сторонником социологической школы в литературоведении. Более полный текст
«Гимна формалистов» см. в публикации Ксении Кумпан и Альбина Конечного в
сборнике: Natales grate numeras? Сборник статей к 60-летию Георгия Ахилловича
Левинтона. Ред. А. К. Байбурин, А. Л. Осповат. СПб., 2008. С. 266—294.
344
Раздел IV
Возьму я да как ахну по некоему
ГАХНу, где какой-то подозрительный
Шпет zu spät уличен был в пьянстве
И головотяпстве46.
Это ощущение запоздалости можно было бы объяснить
характером философского багажа Шпета и особой констелляцией
теоретических парадигм в советском литературоведении 1920-х гг.
Коренящиеся в феноменологии и в том варианте герменевтики и
философии языка, который основывался главным образом на
теориях мыслителей XIX столетия, и прежде всего Гумбольдта и Лаца-
руса, взгляды Шпета на литературу (и театр) вращались по
эстетической орбите, отказываясь вместить в себя задачи формального
подхода, устремленного к собственно литературному как
предполагаемому внутреннему качестве произведения словесности. В
советской литературной теории 1920-х гг. доминировали
социологический, формалистский и психоаналитический подходы, хотя
сохранялись и следы более традиционной исторической поэтики и
морфологии литературы. Творчество Шпета не принадлежало ни к
одной из этих парадигм; оно явственно руководствовалось
философскими интересами и призывало разве что вернуться к эстетике
как отчему дому литературоведения. Так что Шпет, вместе со
своими коллегами и учениками в ГАХНе, видимо, плыл против течения,
поскольку отрицал за литературной теорией право на
существование вне области эстетики и философии искусства. Можно даже
сказать, что Шпет хотел помешать неминуемому возникновению
современной литературной теории как автономной дисциплины,
пытался повернуть ее вспять, в русло эстетики и неогумбольдтиан-
ской философии языка. Эти устремления рассматривались многими
его современниками как регрессивные, охраняющие налаженную
традицию философствования о литературе и искусствах, которая
постепенно вытеснялась радикализмом формалистов (и, с другой
целью, марксистов). Роль Шпета, как выяснилось в предыдущем
разделе, заключалась в том, чтобы способствовать отходу от форма-
46 Эту эпиграмму приписывает Демьяну Бедному Александр Шевченко в статье
«Памятник донскому казаку на Арбате», опубликованной в журнале «Сербский
крест» (2007. № 3). Мне не удалось найти этот текст в доступных мне изданиях
поэтических произведений Демьяна Бедного. В 1930 г. пристрастие Шпета к
алкоголю было, очевидно, реакцией на резкую публичную кампанию против него.
Балтрушайтис посвятил Шпету стихотворение «Нетрезвому Шпету» (9 апреля
1930 г.). См.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной
биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 70.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 345
лизма и рассматривать центральный вопрос о форме с
феноменологической и герменевтической точки зрения, предполагающей
постановку вопроса о содержании и смысле текста для читателя.
Вместе с тем мы должны понимать, что предлагаемая Шпетом
дерадикализация (или деформализация) литературной теории и
сопутствующий ей возврат в лоно эстетики и философии искусства
были процессом, развивавшимся постепенно в течение 1920-х гг.
В «Эстетических фрагментах», где эта тенденция уже сильна и
выливается в несомненную полемику с формалистами, Шпет, как мы
видели, еще предвосхищает некоторые важные результаты в
области структуралистской литературной теории и семиотики. И только
во «Внутренней форме слова» эти новации, видимо, окончательно
отвергаются и Шпет приходит к пониманию литературы,
возвращающемуся к эстетике и философии языка и искусства, которые
все больше разрабатываются под влиянием интересов XIX столетия
(хотя Шпет и пытается модернизировать их с помощью Марти и
других).
И снова приходит на ум Бахтин как удобная отправная точка
координат в этой связи. В начале 1920-х гг. Шпет предпочитает
обсуждать произведение словесности в рамках эстетики; параллельно
и Бахтин рассматривает такие категории, как форма, автор, герой
и диалог, с точки зрения эстетики, а не из перспективы,
задаваемой собственно литературной теорией. Однако во второй
половине 1920-х гг. Шпет продолжает размышлять о литературе в рамках
эстетики и неогумбольдтианской философии языка, тогда как
теоретический дискурс Бахтина постепенно отрывается от эстетики и
развивается в направлении философии культуры. Именно с этой
точки зрения Бахтин разрабатывает в 1930-х гг. различные аспекты
теории жанра и исторической поэтики, т. е. две области, которые
остались чуждыми для Шпета, что обнаруживается из его записей
о романе. На протяжении 1930-х гг. Бахтин пишет как философ
культуры, а не как мыслитель, берущий свои задачи из эстетики.
Весь его концептуальный аппарат в это время находится под
благоприятным знаком больших повествований о внутренней динамике
культурной эволюции, надежным и мощным деятельным
элементом (и миниатюрным изображением) которой оказывается роман.
Если Шпет и Бахтин и имели какие-то общие взгляды, то они
заключались в отказе понимать литературную теорию как
автономную и самодостаточную область — и способ — исследования: Шпет
готовился идти назад, к эстетике, Бахтин отправлялся в
путешествие вперед, по плохо очерченной, но необычайно волнующей
территории культурной теории и философии культурных форм.
346
Раздел IV
Литературная теория Шпета, таким образом, вырисовывается
как сложная амальгама новаторства и регрессии, как
воодушевляющая смесь, воплощающая повороты интеллектуальной истории
к самому притягательному и дерзкому. В то же время вдвинутость
Шпета в эстетику и философию, а также отчетливое неверие в
историческую поэтику47 означали, что его исследования в
конечном счете характеризуются глубоким скепсисом по отношению
к самоутверждению современной литературной теории в конце
1910—начале 1920-х гг. Его понимание романа, как мы уже видели,
говорит о глубокой укорененности в художественной и
философской традиции, почти совершенно чуждой новым отправным
точкам в литературе, искусстве и теории, определяемым и питаемым
усилиями авангардизма. Эта регрессивная фундированность еще
более заметна в шпетовской теории театра, к которой мы теперь
обратимся.
Теория театра
После Октябрьской революции был учрежден Театральный отдел
Наркомпроса, который должен был регламентировать работу
театров по всей стране. При основании Театрального отдела в 1918 г.
он состоял из четырех секций, обеспечивающих управление,
надзор и исследования в областях истории театра, организации и
управления существующими театрами и цирками, репертуара и
театральной педагогики. Позже была создана еще одна секция,
отвечающая главным образом за вопросы теории, но потом она
прекратила свою деятельность и была вновь учреждена в начале
1921 г., когда ее единственными членами были назначены писатель
и критик Андрей Белый, философ Федор Степун и сам Шпет48.
Исполняя обязанности по содействию выработке театральной теории
и распространению ее результатов, Шпет опубликовал в 1921 г. в
высшей степени интересный и спорный небольшой текст о
процессе разделения труда в современном театре49. Исторически, до-
47 Ср. замечание Шпета: «"Историческая поэтика" — мнимая история, ее интересует
постоянное в переменном». Шпет Г. Г. О границах научного литературоведения
(конспект доклада) // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания. Избранные труды по
философии культуры. М., 2007. С. 47.
48 Юфит А. 3. Советский театр. Документы и материалы, 1917—1967. Русский
советский театр, 1917-1921. Л., 1968. С. 72.
49 Шпет Г. Г. Дифференциация постановки театрального представления //
Современная драматургия. 1991. № 5.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 347
казывает Шпет, драматург и актер были одним лицом, а первым
шагом в процессе дифференциации было отделение актера от
автора. Следующим шагом была утрата автором функции
постановщика пьесы: появились режиссер и художник. Наконец,
утверждает Шпет, наступило время, когда дело толкования смысла пьесы
должно быть вверено независимому лицу — ни автор, ни режиссер,
ни актер не должны иметь право предлагать собственные
интерпретации, которые в любом случае часто и совершенно естественно
противоречат одна другой. Герменевтическая функция, утверждает
Шпет, трудна; она требует особой техники, образования и
мастерства, которыми не всегда обладают актер и режиссер. Без
профессионального интерпретатора «разумный смысл пьесы»50 будет
утрачен, а актеры станут пытаться компенсировать его отсутствие
усилением материальных средств постановки51.
Размышления Шпета о процессе дифференциации
сценической постановки сравнивали с суждением Тынянова, высказанным
в статье «Иллюстрации» (1923): «Мы живем в век дифференциации
деятельностей»52. Это сравнение просто удивительно, если учесть тот
факт, что, совсем не в духе Тынянова, Шпет рассматривает процесс
дифференциации как инструмент открытия, по его выражению,
«разумного смысла пьесы». Помимо спорных идеологических
подтекстов этого настаивания на единственном интерпретаторе и,
продолжим эту мысль, единственной правильной интерпретации, здесь
содержится также доля скепсиса по отношению к авангардистскому
театру (ср. возражение против усиления материальных техник
спектакля), не противоречащего чуть более поздней шпетовской критике
футуризма и авангардизма в «Эстетических фрагментах».
Упреки Шпета в адрес авангардистского театра стали гораздо
более явными в его главной работе по теории театра, статье
«Театр как искусство», завершенной в сентябре 1922 г.
Опубликованная в декабре того же года в номере журнала «Мастерство театра»,
посвященном восьмой годовщине Камерного театра, где ей
предшествовала статья Таирова, работа Шпета свидетельствовала о
непростой попытке найти компромисс между двумя направлениями
авангардистской теории театра, но вместе с тем содержала и
критику последней. Шпет дистанцировался от радикального требования
50 Там же. С. 204.
51 Там же.
52 Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 318. Интерпретация,
ставящая в один ряд Шпета и Тынянова, предложена в комментариях С. В. Ста-
хорского к теории театра Шпета. См.: Из истории советской науки о театре. 20-е
годы / Под. ред. С. В. Стахорского. М., 1988. С. 218.
348
Раздел IV
Таирова, чтобы театр был полностью свободен от задачи
диалектического постижения мира, существующего вне искусства53; в то же
время он хотел возразить против утверждения, что театр и жизнь
должны быть совершенно нераздельны. Само заглавие статьи
Шпета — «Театр как искусство» — свидетельствовало о его
приверженности мысли, что театр был и остается искусством, при всем
уважении ко всякого рода активистским стремлениям (безотносительно
к их политическому происхождению) смешать жизнь и искусство
(Евреинов, Всеволодский-Гернгросс). В этой же статье Шпет
критикует тезис Вагнера о синтетической природе театра54, который
был подхвачен позднейшими теоретиками и утвердился как один
из краеугольных камней авангардистской практики перформанса
(Таиров, как известно, хотел переименовать свой Камерный театр
в «Синтетический театр», и эта идея полностью противоречила
теоретической платформе Шпета). Современница Шпета Любовь
Гуревич отметила, что в своей «театральной теории» Шпет не
следовал Вагнеру и авангардизму, а оставался в плену «paradoxe sur le
comédien» Дидро»; в отличие от Шпета Таиров, как она утверждает,
в «Записках режиссера» (1921) отверг «парадокс» Дидро55.
Важно, что неприятие Шпетом синтеза различных искусств,
которое весьма ощутимо присутствует и в «Эстетических
фрагментах», втянуло его в войну на несколько фронтов: оно
подразумевает не только критику авангардизма, но и косвенно — религиозного
понимания театра как продолжения и видоизменения церковного
ритуала, подхода, который появился на сцене театральной теории
благодаря работе Павла Флоренского «Храмовое действо как
синтез искусств» (1918).
В конечном счете в части, связанной с теорией театра,
карьера Шпета была ознаменована мучительным расхождением:
когда он писал о театре (в самом начале 1920-х гг.), он не работал в
театре; начав же в 1930-х гг. работать для сцены (как переводчик
53 Schmid H. Gustav Spets Theatertheorie im Kontext der historischen Avantgarde der
Künste // Balagan. Vol. 2. No 1. 1996. S. 12.
54 Шпет Г. Г. Театр как искусство // Густав Густавович Шпет. Архивные материалы.
2000. С. 112.
55 См.: Гуревич Л. Я. Творчество актера. О природе художественных переживаний
актера на сцене. Μ.: ΓΑΧΗ, 1927. С. 22—23. «Paradoxe sur le comédien» Д. Дидро
вышел в русском переводе (Дидро Д. Парадокс об актере. М.: Госиздат, 1922) в том
же году, что и статья Шпета «Театр как искусство». Цитируемая выше книга Любови
Гуревич была завершена в апреле 1926 г. и опубликована в конце того же года (хотя
на обложке был указан 1927 г.) как издание ГАХНа; до 1980-х гг. она оставалась,
насколько мне известно, единственным печатным откликом на работы Шпета по
теории театра.
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 349
и консультант), он перестал писать о театре. Так что эти два
потока — писание о театре и работа для театра — никогда не
сливались в его карьере. Еще одним бросающимся в глаза парадоксом
в театральных начинаниях Шпета — не удивительным, если
принять во внимание его теоретическую позицию, — был тот факт,
что, поддерживая тесные связи с двумя величайшими новаторами
в истории русского театра, Таировым и Мейерхольдом, он никогда
не участвовал в авангардистском театральном производстве.
Напротив, когда Мейрхольд решил поставить «Даму с камелиями»
Александра Дюма (премьера состоялась 19 марта 1934 г.), Шпет
не только перевел роман (в качестве сопереводчиков в
программке упомянуты жена Мейерхольда Зинаида Райх и Михаил Царев)56,
но и играл активную роль в руководстве репетициями, добившись,
по свидетельству одного из актеров, «чуда»: Мейерхольд — заядлый
театральный экспериментатор — поставил пьесу в реалистическом
духе57. Было вставлено несколько реплик, которые отсутствовали в
оригинале, и Мейерхольд переделал еще несколько текстов, чтобы
придать им современное звучание58, но в целом в пьесе
историческая правда взяла верх над авангардистскими экспериментами.
Заключение
Знание литературной и театральной теории Шпета позволяет нам
увидеть разносторонность его интеллектуальной жизни, особенно
в 1920-х гг., в тот период его творческого пути, который все
больше знаменовался, как мы выяснили, вынужденным
многообразием. Спасительная неустойчивость первого послереволюционного
десятилетия, все еще толерантного и способствующего творчеству,
вскоре была вытеснена климатом идеологического контроля и
подавления, брутальность которого не могла не наложить отпечатка
на позднейшую судьбу Шпета и его окончательную катастрофу.
Последний и в то же время самый последовательный и упорный
западник в истории русской мысли XX столетия был обречен в
1930-х гг. на все более маргинальное и бесплодное существование.
Шпет отказался от подпорок в виде марксизма и русской
религиозной философии, и его одинокая фигура резала глаз на советской
56 См.: Мейерхольд репетирует/ Ред. М. М. Ситковецкая. В 2 т. Т. 2. М., 1993. С. 55.
57 Mitiushin Л. A. Commentary [On Shpet's article "Theatre as Art"] // Soviet Studies in
Philosophy. 1989-1990. Vol. 28. № 3. P. 89.
58 Мейерхольд репетирует / Ред. M. M. Ситковецкая. Β 2 т. Т. 2. M., 1993. С. 55.
350
Раздел IV
интеллектуальной сцене. Он переживал бури истории в
нарастающей изоляции, сохраняя совершенное достоинство перед лицом
неотвратимой трагедии.
Участие в Московском лингвистическом кружке и ведущая роль
в ГАХНе вывели Шпета, как мы видели, на передний край
полемики вокруг формального метода. «Эстетические фрагменты»
предоставляют уникальную возможность увидеть динамику русской и
европейской эстетики и литературной теории того времени и
позволяют лучше понять переход от формализма к философской
эстетике, который группа молодых ученых, вдохновляемых Шпетом,
пыталась совершить в середине 1920-х гг. Теоретическая работа
Шпета в области литературы и театра характеризуется, как мы
выяснили, напряженным сосуществованием новаторства и регрессии.
Его движение назад к эстетике и неогумбольдтианской философии
языка, опирающееся на благотворное наличие устойчивой и
надежной «внутренней формы», бросило вызов новому радикальному
развитию литературной теории, начатому русскими формалистами.
В то же время Шпет предвосхитил некоторые идеи структурализма
и семиотики. Кроме того, сегодня остается живой и
многообещающей поразительная интуиция Шпета, признавшего образность и
метафоричность качеством не только литературного текста, но и
целого ряда других дискурсов (например, повседневного), и эта
интуиция, пусть мимолетная и оторванная от целого его идей, задает
направление движения через формалистские и структуралистские
моменты, стоящие между ним и нашими нынешними интересами,
и далее — за их пределы. Уже одно это делает Шпета нашим
современником59, даже если спасение большинства других его
теоретических идей сегодня может быть только задачей архивиста.
Перевод с англ. И. В. Борисовой
59 Некоторые идеи этой работы были впервые представлены в докладе, с которым
меня пригласили выступить в Чикагском университете (в марте 2007 г.). Я
благодарен Роберту Берду, Лине Стейнер, Дэвиду Уэлбери и их коллегам за гостеприимство
и полезное обсуждение. Благодарю также Мариз Денн, которая пригласила меня
выступить с переработанным вариантом доклада на конференции в Бордо (ноябрь
2007 г.).
Я. С. Полева
Влияние трудов Густава Шпета
на исследование проблемы
художественной формы в ГАХН
ГАХНовский период научного творчества Г. Г. Шпета
занимает особое место в творческой биографии ученого. Именно в
этот период публикуются наиболее значимые работы
Шпета — «Эстетические фрагменты», «Введение в этническую
психологию», «Внутренняя форма слова» и др. Мне
хотелось бы показать, какие именно идеи, сформулированные в
работах Шпета, оказали влияние на научные исследования его коллег
по ГАХН.
Одним из основных направлений научных исследований ГАХН
было изучение проблемы художественной формы. С этой целью
в 1923 г. была создана специальная комиссия под руководством
Шпета. В исследованиях принимали участие и другие научные
подразделения ГАХН: комиссии по изучению философии искусства,
художественного образа, научные секции, в которых изучались
проблемы художественной формы в различных видах искусства —
музыке, театре, пространственных искусствах, литературе.
Итогом научной деятельности Комиссии по изучению
проблемы художественной формы за период 1924—1925 гг. стал сборник
статей «Художественная форма»1, в 1928 г. в издательстве ГАХН
выходит второй сборник — «Искусство портрета»2, который
представлял результаты исследований Комиссии по изучению
философии искусства за 1926—1927 гг. Обе указанные Комиссии являлись
структурными подразделениями именно Философского отделения
ГАХН, и оба сборника научных трудов — издания этого отделения.
Философское отделение ГАХН под председательством Шпета
занималось разработкой общих методологических принципов научных
исследований, которые проводились в Академии. Эти принципы
1 Художественная форма / Под ред. А. Г. Циреса. М., 1927.
2 Искусство портрета. Сборник статей / Под ред. А. Г. Габричевского. М., 1928.
352
Раздел IV
получали практическое воплощение в конкретных
исследованиях искусствоведов, психологов, литературоведов и т. д. В качестве
основных методологических принципов, которые разрабатывались
Шпетом в его работах, можно выделить ориентацию на философию
как методологическую основу и междисциплинарный подход к
научным исследованиям. Так, в предисловии к сборнику
«Художественная форма» отмечалось, что особенностью работы Комиссии
по изучению проблемы художественной формы являлась попытка
осветить специальный литературоведческий и искусствоведческий
материал на основе философии, в свете философских понятий.
В свою очередь, сборник «Искусство портрета» декларировал
синтетический подход к пониманию задач теоретического
искусствознания, которым определялись задачи и методы работы Академии в
целом. Таким образом, сама постановка проблемы художественной
формы и подходы к ее изучению в ГАХН позволяют говорить о
влиянии работ Шпета в методологическом аспекте, что выразилось в
междисциплинарном характере исследований, проводимых в ГАХН,
и их ориентации на философию как методологическую основу.
В работе «Эстетические фрагменты» Г. Г. Шпет разрабатывает и
подробно описывает метод структурного анализа. Сам Шпет
называл свой метод аналитическим и разрабатывал его как метод
исследования элементов и составных частей структуры слова. При
этом сам термин «структура» он использовал в значении
именно культурного, духовного строения. Поскольку слово, согласно
Шпету, принцип культуры, архетип и прообраз всякой культурно-
социальной вещи, структура социальной вещи формально
гомологична структуре слова. Это положение создавало возможность
использования метода Шпета для анализа структуры выражения в
различных видах искусства, что и было реализовано как в работах
самого Шпета применительно к литературе и театру, так и в
научных докладах и статьях его коллег — ученых Академии. Поэтому
можно сказать, что второе направление влияния работ Шпета
связано с применением в научных исследованиях ученых ГАХН
самого метода структурного анализа слова. Интересно, что в 1925 г.
в творческих планах Шпета стояла задача исследования
элементов и составных частей структуры уже не художественного слова,
а предметной структуры в сфере изобразительных искусств, что он
предполагал осуществить на примере понятия «Ренессанс».
Наиболее трудным, по оценке Шпета, было определение самого этого
предмета, так как под ним подразумевался «любой предмет
изобразительного искусства, будь то живописный, архитектурный
или скульптурный памятник». Завершающим этапом намеченного
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 353
плана научной работы должна была стать верификация результатов
исследования и переход к анализу других исторических категорий
науки об искусстве, таких, как «Романтизм», «Реализм»,
«Классицизм» и т. п. К сожалению, эти творческие замыслы Шпета
остались не реализованными, как и многие другие.
Если ученики Г. Г. Шпета (Н. И. Жинкин, H. H. Волков, А. А.
Губер, А. Г. Цирес) непосредственно использовали метод своего
учителя в своих исследованиях художественной формы в произведениях
литературы, поэзии, живописи, то в отношении коллег Шпета по
ГАХН можно говорить о влиянии самой идеи структурности
выражения в различных видах искусства и об использовании алгоритма
структурного анализа художественных произведений. Так, А. Г.
Габричевский в своей оригинальной концепции художественного
предмета, которую, в отличие от Шпета, создает на материале
анализа пространственных искусств (живописи, скульптуры,
архитектуры), выделяет в его структуре внутреннюю форму как динамическое
сосредоточие и внешние чувственные формы, которые
воспроизводят строй внутренних форм. В работе «Портрет как проблема
изображения» А. Г. Габричевский на основе структурного анализа
живописного произведения выделяет в художественном портрете
изобразительные, конструктивные и экспрессивные формы,
рассматривает их взаимосвязь и функциональное взаимодействие, которое,
по его мнению, и составляет внутреннюю структуру образа.
Третье направление связано с влиянием учения Г. Г. Шпета о
внутренней форме. Здесь нам важно понять, что «внутренняя
форма художественного произведения» (или художественная форма)
и «внутренняя форма слова» — это разные понятия, что связано с
переводом понятия «внутренняя форма» в теории Шпета из
области философии языка в область философии культуры. Сложность
заключается в том, что Шпет не дает в своих работах четкого
определения художественной формы. В «Эстетических фрагментах»
он пишет об образе как своего рода внутренней художественно-
поэтической форме. То есть художественная форма — это
художественный образ. Во «Внутренней форме слова»3 — это приемы,
методы, пути, алгоритм создания художественного образа.
Поэтому, согласно теории Шпета, фантазия объектна и предметна, а
законы художественного творчества — это не законы
психофизической жизни человеческого субъекта, а формальные основания,
объективно-идеально направляющие творчество. Аналогично и в
3 Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. Этюды и вариации на темы Гумбольдта. М.,
1927.
354
Раздел IV
докладе «Искусство как вид знания» внутренняя форма трактуется
как «творческие пути, приемы, методы, — алгоритм!» и внутренние
художественные формы — как сущность художественного
творчества. В работе «Внутренняя форма слова» Шпет отмечает, что
восприятие произведения искусства, эмоциональное впечатление,
которое оно вызывает, — это сложный процесс, опосредованный
внутренней художественно-поэтической формой. Согласно этим
двум работам, художественная форма — это пути, приемы, методы,
алгоритм как художественного творчества, так и художественного
восприятия. Таким образом, внутренняя художественная форма в
теории Г. Г. Шпета — это и процесс, и результат.
В противоположность формалистам типа «ОПОЯЗа», которые
обычно ограничивали свои изыскания областью внешних форм,
художественная форма трактовалась учеными ГАХН именно как
внутренняя форма. Такой подход сформировался в Академии во
многом благодаря работам Г. Г. Шпета, его научным докладам и
публикациям.
Шпет обращает внимание на то, что образ-форма (как данное
художественное произведение) — одна для любого человека,
который ее воспринимает, «...для самого поэта та же, что для слушателя
или читателя, будь он Потебня, или иной профессор, или учитель
словесности, или просто недоучка. Представления же "картины",
вызываемые у них этой формою, у всех разные, и даже у каждого
из них о них разные в разные случаи их обращений к этой форме,
как разны у них и эстетические наслаждения этою формою»4.
Художественное произведение, как и слово, знак, оно значит, и это
значение объективно есть. Значение, как-то оформленное, — одно,
представлений — множество, хотя бы они и были об одном
предмете. Вместе с тем Шпет подчеркивал, что одно и то же
содержание, мысль могут быть выражены в разных образах-формах. Здесь
мы можем выделить несколько очень важных идей. Важных не
только для гуманитарной науки начала XX века, но и для
современной психологии искусства. Процесс восприятия художественного
произведения как процесс декодирования информации у каждого
воспринимающего происходит по-разному. В силу этой
субъективности восприятия интерпретация одного и того же произведения
искусства разная у разных людей, как и эмоциональное
впечатление, которое оно вызывает. Гибкость и вариативность
художественного восприятия связаны, с одной стороны, с гибкостью и дина-
4 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 269—270.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 355
мичностью внутренней формы художественного произведения, а
именно с образностью и символичностью произведения искусства.
Поэтому художественное произведение не только знак, но также
образ и символ. В силу этого в разных культурно-исторических и
социально-личностных контекстах его значение может быть
разным. С другой стороны, вариативность художественного
восприятия будет определяться личностными особенностями
воспринимающего. В своих работах Шпет лишь бегло касается вопроса о
значимости личностной переменной, индивидуальных
особенностей, социальной принадлежности и т. д. в восприятии
художественной формы, детально не разрабатывая его. В теоретических
исследованиях к этой проблеме обращаются Н. И. Жинкин
(«Портретные формы») и А. Г. Цирес, который в статье «Язык
портретного изображения» писал: «Различие в "понимании" портрета,
различие в создаваемых им образах есть вещь вполне законная. <...>
портрет <...> может быть понят и почувствован различно <...> он
должен стать источником творческого раскрытия портретного
образа в сознании зрителя. Он должен быть не только произведением
искусства, но и искусством произведения новых образов»5. Эскпе-
риментальным исследованием этого вопроса в ГАХН занимались
Психофизическая лаборатория (или Лаборатория
экспериментальной эстетики) и Комиссия по изучению театрального
зрителя. По плану работы лаборатории, разработанному Г. Г. Шпетом и
В. М. Экземплярским, проводились исследования типов
эстетических реакций, индивидуальных и возрастных различий в области
эстетического восприятия и т. д.
Остановимся на положении Шпета о возможных
различиях в выражениях одного и того же содержания в разных образах-
формах. То есть и здесь речь идет о разной интерпретации, но уже
не в контексте восприятия художественной формы, а в контексте
творческого процесса создания произведения искусства. Эта
вариативность интерпретации хорошо нам знакома при восприятии,
например, картин с одинаковым сюжетом, созданных разными
авторами или даже одним автором. Вспомним автопортреты
Рембрандта или Сезанна, «Руанский собор» Клода Моне, картины,
написанные разными авторами на один библейский сюжет, и т. д.
Сюжет, предметное содержание может быть одно, но образ,
внутренняя форма каждого полотна будет разной, как и
эмоциональное впечатление, которое она вызывает. Наиболее интересно это
5 Цирес Л. Г. Язык портретного изображения // Искусство портрета. Сборник
статей / Под ред. А. Г. Габричевского. М., 1928. С. 156.
356
Раздел IV
положение представлено в работах Шпета, посвященных театру, —
«Театр как искусство», «Дифференциация постановки
театрального представления». Следует отметить, что вообще тема «Шпет и
театр» — это особая тема, которая еще ждет своих исследователей.
Шпет был дружен с Таировым, Мейерхольдом, Станиславским, со
многими известными актерами (Качаловым и др.), принимал
активное участие в постановках спектаклей, являлся членом
художественного совета МХАТ, выступал с докладами перед театральными
труппами. Известно, что К. С. Станиславский консультировался с
Г. Г. Шпетом во время написания своей знаменитой книги «Работа
актера над собой». В 1932 г. по приглашению К. С. Станиславского
Шпет становится проректором создаваемой Академии высшего
актерского мастерства.
Именно театр как наиболее синтетическое искусство, по мысли
Шпета, предъявляет особые требования к единству и
согласованности интерпретаций со стороны автора, режиссера, актера,
художника и т.д. при создании спектакля. У каждого из них свое видение,
своя интерпретация, поэтому конфликт интерпретаций, как
отмечает Шпет, возможен и даже неизбежен. От согласованности этих
интерпретаций будет зависеть передача идейного смысла пьесы, ее
эмоциональное воздействие на зрителя и, в конечном итоге, успех-
неуспех постановки.
Всякую значительную пьесу и роль можно играть в разных
интерпретациях, и это будут разные образы, разные внутренние
формы. В работе «Дифференциация постановки театрального
представления» Шпет предлагал представить на одной сцене пять
вечеров подряд пять разных режиссерских, актерских и
художественных интерпретаций «идей» Гамлета. Этот замысел Шпета о
необходимости изучения особенностей интерпретации образа
Гамлета разными актерами позднее был реализован в ГАХН Б. М.
Тепловым в его работе о «семи Татьянах», где он анализирует
особенности создания оперного образа семью исполнительницами
партии Татьяны и шестью исполнителями партии Ленского в опере
П. И. Чайковского «Евгений Онегин» в Большом и Музыкальном
театрах. Эта работа являлась результатом совместных
исследований театральной секции ГАХН и Психофизической лаборатории
как попытка применения естественно-научных методов
исследования актерской игры. Изучением творчества актера, влияния его
личности на создаваемый сценический образ в театральной секции
занимались не только искусствоведы, но и психологи. В структуре
театральной секции была создана подсекция психологии
актерского (сценического) творчества. Исследовательская работа подсек-
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 357
ции велась в трех направлениях: во-первых, это разработка анкет
по психологии актерского и режиссерского творчества и обработка
материалов анкетирования (анкеты M. H. Ермоловой, М. А.
Чехова, А. Г. Коонен и других известных актеров). Особый интерес и
полемику вызвал вопрос о сценических чувствах актера, поэтому один
из вопросов «актерской» анкеты и был направлен на то, чтобы
выяснить, испытывает ли актер те же эмоции, которые он изображает
на сцене. Во-вторых, это разработка методов фиксации спектакля
и актерской игры. В качестве примера хотелось бы обратиться к
тематике докладов: Л. Я. Гуревич — «О природе художественного
переживания актера», «Психология актера»; О. А. Шор — «К
проблеме природы актерского творчества и возможности фиксации
спектакля», С. Н. Беляева — «Запись сценической игры»,
«Сравнительное описание актерского исполнения»; Б. М. Теплов —
«Выработка методов ритмического анализа видимой стороны актерского
исполнения» и др. Третье направление исследований — это
разработка методологических принципов изучения игры актера.
Именно в этой подсекции в 1928 г. свой доклад «К изучению психологии
творчество актера» читает Л. С. Выготский. Одновременно ученые
театральной секции занимались исследованием проблем
восприятия и воздействия театрального искусства на зрителя, которыми
занималась Комиссия по изучению зрителя.
В своих работах, посвященных литературно-поэтическому
творчеству и театру, Шпет показал связь личности творца (автора,
актера, художника, исполнителя) с создаваемой им художественной
формой. Этот подход также становится отличительной
особенностью исследований проблемы художественной формы в ГАХН.
Интересные исследования проводились театральной секцией
академии, музыкальной и литературной секциями, секцией
пространственных искусств, комиссией по изучению проблем философии
искусства и другими подразделениями ГАХН. В этом контексте мне
хотелось бы еще раз упомянуть сборник «Искусство портрета», где
на материале живописного искусства авторы статей (Н. И. Жин-
кин, А. Г. Габричевский, Б. В. Шапошников, А. Г. Цирес, Н. М. Та-
рабукин), несмотря на индивидуальные различия
исследовательских приемов, приходят в своих исследованиях к одинаковому
выводу, который становится центральной идеей сборника, — это
идея об автопортретности портрета. В работах, посвященных
анализу выражений в словесном и театральном искусствах, Г. Г. Шпет
связывал экспрессивные формы с субъективной, личностной
сферой (автором, актером-исполнителем). Авторы сборника
«Искусство портрета» выделяют и анализируют экспрессивные формы,
358
Раздел IV
характерные для искусства живописи. Именно эти экспрессивные
формы как «выражение» и «отображение» личности художника,
создавшего портрет, и рассматриваются в качестве
«автопортретного» компонента живописного образа. Исходя из этого мы можем
определить четвертое направление влияния работ Г. Г. Шпета — его
подход к анализу экспрессивных форм и экспрессии.
В качестве пятого момента можно выделить идею Шпета о
слове как универсальном знаке, прототипе всякого знака и выражения.
Понимание искусства как знака позволяло рассматривать
различные виды искусства как знаковые системы и называть их
«языками» — язык музыки, пластики, живописи. «Пластика, музыка,
живопись, — писал Шпет, — словесны. — Такова внешность их,
через словесность, присущую им, они действительны. Это реально-
художественный язык»6. Поэтому восприятие и понимание
произведения искусства — это проблема понимания и интерпретации
знаков, языка искусства. К этой проблеме обращаются в своих
статьях авторы сборника «Искусство портрета» Н. И. Жинкин, А. Г.
Габричевский, А. Г. Цирес, рассматривая составные части структуры
живописного произведения как знаки и живописный портрет в
целом как знак. Например, А. Г. Габричевский рассматривал
изображение как знак тех или иных внехудожественных содержаний,
конструкцию как знак той или иной идеи вещи, а экспрессию как знак
того или иного творческого субъекта и его отношения к миру идей и
вещей. В художественном произведении эти слои находятся в
некоторой своеобразной связи взаимного означивания, а сама эта связь
является знаком и выражением образа в целом. А. Г. Цирес в работе
«Язык портретного изображения», выделяя различные слои и
категории знаков в портрете, ставит проблему структуры портретного
изображения как проблему портретного языка, к которой
примыкает проблема восприятия — проблема видения и понимания
портретного содержания как проблема портретной герменевтики.
Интересно, что Г. Г. Шпет, выступая в прениях по докладу H. H. Волкова
«Язык живописного образа» в 1928 г., отмечал, что произведение
живописи не знак, но система знаков, не менее конвенциональных,
чем слово. Почти через 40 лет, в 1965 г., H. H. Волков возвращается
к идее своего учителя и развивает отдельные положения этого
доклада в фундаментальном труде «Цвет в живописи»7, где
рассматривает цвет как знак, как слово языка живописи.
6 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 197.
7 См.: Волков Н. Н. Цвет в живописи. М., 1984.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 3 59
И последнее, на чем хотелось бы остановиться, говоря о
влиянии работ Г. Г. Шпета, это идея культурно-исторической
детерминации. Истоки этого подхода — в работах Кавелина, Соловьева,
Лопатина и других выдающихся представителей российской
гуманитарной науки. Внимание к проблемам духовности, культуры
было характерной особенностью российской философской
школы, и ГАХН становится продолжателем ее традиций.
Значительную роль в развитии такого подхода в Академии сыграли и работы
Г. Г. Шпета. Шпет и его коллеги по ГАХН, в отличие от
представителей формальной школы, рассматривали художественную форму
не как замкнутую структуру, которая подчиняется своим
внутренним законам, но как контекстуально обусловленную культурой и
временем. Эта идея культурно-исторической детерминации также
являлась отличительной чертой того подхода к исследованию
проблемы художественной формы, который складывался в ГАХН под
влиянием традиций и работ Г. Г. Шпета.
В заключение, говоря о влиянии работ Г. Г Шпета на
исследования проблемы художественной формы в ГАХН, можно отметить,
что Шпет в своих научных публикациях и докладах выступает все-
таки больше как методолог, поэтому его влияние касалось общих
подходов к внутренней форме, знаку, искусству и культуре в целом.
Конгениальность ученых ГАХН как коллектива
единомышленников не исключала их расхождений в отдельных позициях и деталях,
о чем убедительно свидетельствуют бурные дискуссии и
разнообразие концепций, разрабатываемых учеными ГАХН. Таким образом,
закладывая фундаментальную методологическую основу будущей
науки, работы Шпета создавали широкое поле для дивергенции
различных теорий и концепций, что обеспечивало высокий
уровень креативности нарождающейся научной школы ГАХН периода
1920-х годов, ее богатый научно-творческий потенциал.
ГАХН являлась неотъемлемой составной частью и своеобразной
моделью того уникального культурного поля, которое сложилось
в России в начале XX в. и создавало особые стимулы для развития
научной и творческой деятельности. Одним из наиболее ярких
феноменов этого культурного поля было творчество Г. Г. Шпета,
влияние которого проявилось в формировании как «школы» Шпета,
так и ее оппонентного круга. Из оставшихся в живых после
репрессий коллег Г. Г. Шпета по Академии мало кому удалось в своих
последующих работах подняться на такую же высоту по уровню
оригинальности и креативности, как в период их научного творчества
в ГАХН.
0. Г. Мазаева
Феноменологические проекты в России
начала XX века и отношение их создателей
к традиции кантианства
Философия Серебряного века (конец XIX — первая треть
XX вв.) представлена плеядой выдающихся мыслителей.
В последующие годы «серебряные нити» в виде тем,
проблем, способов их решений можно обнаружить в
пределах репрессированной философии: и той, что была в
изгнании, и той, что с «изъятиями и поражениями в правах»
продолжала существовать в России советского времени. По значимой
для того времени проблематике приоритет принадлежал русскому
религиозно-философскому ренессансу. Притяжение этого круга
идей было столь велико, что в большей или меньшей мере свою
причастность к религиозно-философским или духовным исканиям
обнаружили почти все представители интеллектуального
сообщества. И в то же время среди европейских философских
устремлений XX в., пожалуй, не было таких, которые не нашли бы отклика
в философии и философствовании русских мыслителей. Из всего
многообразия этих устремлений особенно востребованными
оказались позитивизм, неокантианство и феноменология.
Очерчивание и осознание представителями указанных
направлений своих границ определялись отрицанием прежней
метафизики и панлогизма философии Гегеля; оппозицией и своеобразным
усвоением идей философии жизни; противостояниями
позитивизма, неокантианства и феноменологии друг другу; разнообразием
проектов внутри каждой из этих традиций; движением в
направлении к новой онтологии и к новой метафизике.
1 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ
(НШ — 5887.2008.6) и в рамках государственного контракта на выполнение
поисковых научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России», мероприятие 1.1., проект «Онтология в современной философии
языка» (2009-1.1-303-074-018).
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 3 61
В развитии европейского философского рационализма это
время можно обозначить как позитивистско-неокантианско-
феноменологический этап. Причем если в последней трети XIX в.
доминировали позитивистско-неокантианские, то в первой
трети XX в. — неокантианско-феноменологические взаимодействия
и противостояния. В философских произведениях этого периода
особое внимание уделялось проблемам философии и
методологии науки, проблемам предмета и метода как философии, так и
отдельных наук, исследованиям особенностей философского и
специально-научного знания. Об этом свидетельствуют не только
труды позитивистов, но также критика их идей русскими
философами, в частности В. В. Лесевичем, В. С. Соловьевым, Б. В.
Яковенко, Г. Г. Шпетом и другими2.
Эти проблемы обсуждают неокантианцы Баденской и Марбург-
ской школ, представители феноменологического движения,
которое начало формироваться вокруг Эдмунда Гуссерля в Геттингене.
Во всех философских центрах Германии живое участие в
исследовании и распространении этих идей принимали студенты и
диссертанты из России. Важный материал для размышлений дали им
непосредственное общение, переписка с коллегами, профессорами
Германии, философская публицистика тех лет (особенно русской
редакции международного журнала «Логос»).
Повышению философской образованности и активизации
философского творчества в России способствовали
переводы на русский язык статей, книг по актуальной философской и
историко-философской тематике, их издание, комментирование,
рецензирование. Философские доклады и рефераты для различных
аудиторий — выступления и дискуссии на заседаниях и журфиксах
в салонах меценатов, в домах профессоров, писателей, в
издательствах, редакциях журналов, в литературно-художественных и
философских объединениях: в Москве — Литературно-художественном
кружке (1899—1920), Религиозно-философском обществе памяти
2 См.: Лесевич В. В. Опыт критического исследования основоначал позитивизма.
СПб., 1877; Соловьев В. С. Критика отвлеченных начал // Соловьев В. С Сочинения.
В 2 т. Т. 1. М, 1988. С. 581—756; Соловьев В. С. Кризис западной философии
(против позитивизма) // Там же. С. 3—138; Яковенко Б. В. Позитивизм и философия //
Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 636—650; Шпет Г. Г. Мудрость
или разум? // Шпет Г. Г. Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические
труды / Отв. ред.-сост., коммент. Т. Г. Щедрина. М., 2006. С. 311—365; Шпет Г. Г.
Герберт Спенсер и его педагогические идеи // Там же. С. 49—90; Шпет Г. Г.
История как проблема логики. Критические и методологические исследования.
Материалы. В двух частях / Археогр. работа Л. В. Федоровой, И. М. Чубарова. М.,
2002. С. 41-52, 580-627.
362
Раздел IV
Владимира Соловьева (1905—1918), Обществе свободной
эстетики (1906—1917), в 1921—1929 гг. — в Российской академии
художественных наук (ΡΑΧΗ), именуемой с 1927 г. государственной
(ГАХН), и др.; в Петербурге, Петрограде — Философском
обществе при Императорском университете (1897—1922), Религиозно-
философском обществе ( 1907—1917), Санкт- Петербургском
философском собрании (1911—1914), Петроградской вольной
философской ассоциации (Вольфила, 1919—1924) и др.
Среди многочисленных философских текстов большой
интерес в России вызвали статьи и речи баденского неокантианца
В. Виндельбанда3, а также книги другого представителя этой
школы — Г. Риккерта. В своей работе «Введение в трансцендентальную
философию. Предмет познания» он писал, что «только в теории
познания можно найти основание для научной философии»4.
Перевод этой книги, выполненный Шпетом, вышел в Киеве (1904).
В предисловии к первому изданию (1892) Г. Риккерт благодарит
за свой переход к неокантианству В. Виндельбанда, оказавшего
решающее влияние на него как «на глубоко укоренившегося в
позитивизме студента»5. Нельзя не отметить также книгу Г. Риккерта
«Границы естественно-научного образования понятий»6.
Рецепция и развитие идей марбуржцев — Г. Когена, П. На-
торпа, Э. Кассирера — представлены в трудах русского
неокантианца Б. А. Фохта7, в материалах из архива Б. Л. Пастернака8, в
историко-философском исследовании Н. А. Дмитриевой (в разделе
«Литература»9 дан перечень переведенных на русский язык работ
марбургских неокантианцев).
Современные исследователи считают, что отечественная
традиция феноменологической философии в конце XIX в. представлена
статьями В. С. Соловьева. С. С. Хоружий отмечал, что «в рефлек-
3 См.: Виндельбанд В. Прелюдии / Пер. с нем. С. Л. Франка. СПб., 1904.
4 Риккерт Г. Введение в трансцендентальную философию. Предмет познания / Пер.
с нем. Г. Шпетта // Риккерт Г. Философия жизни. Киев, 1998. С. 18.
5 Там же. С. 15.
6 См.: Риккерт Г. Границы естественнонаучного образования понятий. Логическое
введение в исторические науки. СПб., 1997. — Первая часть этой книги вышла в
1896 г., вторая — в 1902-м (второе издание — 1913 г.) / Пер. с нем. А. М. Водена
(1903).
7 Фохт Б. А. Избранное (из философского наследия) / Сост., коммент. Н. А.
Дмитриевой. М., 2003.
8 Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки
Бориса Пастернака. Fleishman L., Harder Η.-В., Dorzweiler S. (eds.). Stanford, 1996.
T. I—II.
9 Дмитриева H. A. Русское неокантианство: «Марбург» в России. Историко-
философские очерки. М., 2007. С. 452—459.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 363
сии опытных оснований и самого философского акта,
проделываемой, в особенности, в "Теоретической философии", Соловьев
отчетливо выходит на позиции феноменологии»10. Большое
влияние на развитие феноменологии в России оказали лекции и труды
Э. Гуссерля — «Логические исследования»; «Философия как
строгая наука»; «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической
философии. Том I. Общее введение в чистую феноменологию»
(«Идеи I»)11. Шпет в своих трудах проработал и по-своему развил
идеи Э. Гуссерля.
В XX в. появляются разнообразные феноменологические
проекты. Если в трудах позитивистов и неокантианцев того времени
возобладали гносеологизм и методологизм, то феноменологи, по-
своему решая методологические и гносеологические проблемы,
проявляли склонность к метафизике. Это время «встречи»
феноменологии и герменевтики. Феноменолого-герменевтические
проекты Серебряного века формируются усилиями Г.
Шпета, А. Белого, а также имеющих отношение к неокантианско-
феноменологическому кругу идей «логосовцев» Б. Яковенко и
Ф. Степуна. Произведения этих авторов, созданные в первой
трети XX в., обнаруживают доминирование неокантианско-
феноменологических взаимодействий и противостояний. Каждый
из них или прошел через кантианский период в своем
философском развитии, или оставался в период своих
феноменологических штудий, хотя бы частично, приверженцем философских идей
И. Канта и неокантианцев.
Мотивировку и суть отношения к традиции кантианства
(важных в философском самоопределении названных философов)
невозможно раскрыть, не опираясь как на принципиальные
основания их позиций, так и на специфику формирующихся в то время
проектов: неокантианско-феноменологического (Яковенко) и
различающихся между собой феноменолого-герменевтических
(Шпета, Белого и Степуна). Причем для Шпета и Яковенко характерен
логико-гносеологический пафос, историко-философское и теоре-
10 Хоружий С. С. Наследие Владимира Соловьева сто лет спустя // Соловьевский
сборник. Материалы международной конференции «В. С. Соловьев и его
философское наследие». Москва. 28—30 августа 2000 г. М., 2001. С. 15.
11 Гуссерль Э. Логические исследования. Т. I / Пер. с нем. Э. А. Бернштейна, под
ред. С. Л. Франка. СПб., 1909; Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические
исследования. Т. II (1) / Пер. с нем. В. И. Молчанова. М., 2001; Гуссерль Э.
Философия как строгая наука // Логос. 1911. Кн. I. M., 2005. С. 1—56; Гуссерль Э. Идеи
к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. I. / Пер. с нем.
А. В. Михайлова. М., 1999.
364
Раздел IV
тическое рассмотрение разбираемых проблем (у Шпета
преимущественно логический, у Яковенко — гносеологический ракурс
мысли). Белому и Степуну присущи, условно говоря, эстетический
гнозис и практическое выражение герменевтического постижения
мира, которые у первого опираются на звуковое, а у второго — на
живописное начало. Теоретические рассуждения и историко-
философские экскурсы Белого и Степуна глубоки и интересны, но
в теоретико-философском плане не всегда самоценны.
Шпет свободно ориентировался в сложившейся к началу века
философской ситуации, отчетливо представлял силу и слабость
любой позиции. Белый подчеркивал готовность и умение Шпета
протыкать рапирой насквозь «любой философский фрак», не
исключая «фрейбургского фрака» самого Белого. Будучи
сторонником профессионализма и даже академизма в своем деле, Шпет не
раз советовал Белому оставить философию. Белый не внял
совету—до нас дошла его эссеистика, опыт неповторимого
«философствования».
Философия Шпета и Яковенко и философствование
Белого и Степуна (прежде всего их эстетический гнозис) — два
взаимодополняющих способа формирования и осуществления
феноменолого-герменевтических идей. Шпет дал теоретическую
разработку основных тем и проблем феноменологии и
герменевтики. Белый и Степун выступили выразителями уникальной
творческой реализации своих феноменолого-герменевтических
проектов, обнаруживая осознанную сопричастность именно такому
способу постижения мира. Их эстетический гнозис представлен
по-разному. Степун обладал удивительным герменевтическим
умением, которое связано со стремлением к визуализации образа,
практикой «портретирования»; для Белого особое значение имело
звукообразное начало в творчестве и герменевтическом
постижении мира.
Отличие позиции Шпета состоит в более резком, чем у Белого,
Степуна и Яковенко, отмежевании феноменологии от философии
Канта и неокантианцев. С 1912 года Шпет осваивал и разрабатывал
философские проблемы в русле феноменологии. Он дал
основательную критику кантианства, подробно разобрал идеи
представителей Баденской школы в ряде своих произведений, в частности в
работе 1916 года «История как проблема логики». Шпет признавал
ценность позитивизма и неокантианства, но считал эти традиции
«бесплодными» для достижения целостного, цельного и
конкретного философского знания. Для Шпета философия не монолог,
а драма взаимодействий — идей, традиций. Феноменологию он
Густав Шпет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 365
включал в положительную, а кантианство — в отрицательную
философскую традицию12. Основным недостатком кантианства
считал получение абстрактного и отвлеченного знания.
Противопоставляя традицию позитивной философии (от
Платона до Гуссерля) традиции негативной философии
(квинтэссенция ее — кантианство), он писал, что только от Платона — «явная
невозможность смешать философию с иными видами и типами
нашего знания! И тут самый надежный критерий положительной
философии... <...> Философское знание есть всегда и по существу
знание конкретное и цельное. <...> Но нельзя игнорировать и голосов
отрицательной философии, — "злодеев" ее драматического
действия, — иначе из развития философии пришлось бы выбросить
Протагора, Канта, Кондильяка, Спенсера и многих других <...>
как же отличить отрицательную философию? <...> Признак
отрицательной философии всегда — отвлеченность, это философия
отвлеченная. <...> Нередко она ставит новые проблемы и выделяет
новые стороны, — не следует только выдавать частное, частичное и
отвлеченное за полное и целостное: в этой подделке — зло
отрицательной философии»13.
Духовное единство положительной философии Шпет
связывал с преемством живого творческого движения мысли не только
в западной, но и в отечественной философии, имея в виду идеи
П. Д. Юркевича, В. С. Соловьева, Л. М. Лопатина, С. Н.
Трубецкого и других14.
И Шпет, и Яковенко выступали за рассмотрение «философии
как строгой науки», схожи их пафос отрицания психологизма и
философии как мировоззрения. Особенно явно это отразилось в
статьях Яковенко «О задачах философии в России» (1910) и «О
положении и задачах философии в России» (1915)15. Но если Шпет
был сторонником категорического различения и
противопоставления позиций феноменологии и кантианства, то Яковенко выступал
скорее за сближение феноменологии с марбургским
неокантианством. Его философское творчество опиралось, как верно заметил
А. А. Ермичев, на идеи и марбургских неокантианцев, и Гуссерля16.
12 Шпет Г. Г. Работа по философии. Публ. И. М. Чубарова // Логос. 1991. № 2.
С. 215-233.
13 Шпет Г. Г. Философия и история // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные
труды / Отв. ред.-сост., коммент. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 192—194.
14 Там же. С. 199.
15 Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 653—660, 711—739.
16 Ермичев А. А. О неокантианце Б. В. Яковенко и его месте в истории философии //
Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., С. 5—42.
366
Раздел IV
Яковенко (вслед за Г. Когеном, но в противовес А. Рилю) считал,
что наука должна быть осмыслена в ее трансцендентальное™,
выявленной феноменологическим методом, в наибольшей свободе от
психологизма17.
Степун (в данном случае как и Яковенко) исходил из
близости феноменологии и неокантианства18. Эта близость
обусловлена трансцендентализмом, который (по Степуну) придает всему
культурному творчеству характер необходимости и всезначимо-
сти. Именно на трансцендентализме, замечал он, «одинаково
сошлись как Виндельбанд, Риккерт и Ласк, так и Гуссерль, Коген и
Наторп»19. Трансцендентализм и метафизический символизм в самом
общем виде выступают у Степуна философскими основаниями
исследовательской практики портретирования. Если И. Кант
противопоставил феноменологию метафизике, то Степун считал, что
символическая метафизика и феноменология близки и дают
достаточный простор для портретирования. Его «упование» на
дескрипцию можно воспринять именно так. Описание весьма удобно для
такого деяния. Метафизический символизм для Степуна — это поиск
и образ новой метафизики, которая сродни художественному
произведению, «живет» интуицией, представлена в образах, является
логическим символом непонятного. Логически-символизирующая
философия, или метафизика, по Степуну, олицетворяет
эстетический гнозис, которому наиболее адекватны средства живописца.
Использование лексики живописца Степуном имеет не
метафорический, а методологический смысл. Метафизический символизм,
эстетический гнозис с необходимостью предполагают систему
взаимных отсылок. Так, рассуждая о живописном портрете
«фаустовской души», Степун указывал на ее музыкальную суть. Эта отсылка
к музыке или, в другом месте, своеобразное сопряжение
портретного и артистического начал помогают глубже раскрыть
символический смысл. Тяга к живописи и театру сказалась на практике и
осмыслении портретирования как опыта философского делания.
Методологема портретирования укоренена в арсенале
методологических средств Степуна. Портрет для него — первоосновный вид
творчества, дающий возможность позиционировать и исследовать
17 Яковенко Б. В. Мощь философии. СПб., 2000. С. 447, 454.
18 Позиция Ф. А. Степуна в отношении к кантианству и феноменологии рассмотрена
в статье: Мазаева О. Г. Об опыте портретирования в творчестве Ф. А. Степуна //
Четвертые шпетовские чтения. Творческое наследие Густава Густавовича Шпета в
контексте философских проблем формирования историко-культурного сознания
(междисциплинарный аспект). Томск, 2003. С. 531—537.
19 Степун Ф. Л. Сочинения / Сост., прим. В. К. Кантора. М., 2000. С. 90.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 367
разнообразные феномены. Форму познания, представленную в
сфере искусства портретом, Степун сопоставил с весьма близкими
этому эстетическому гнозису методами: «сингулярной идеирующей
абстракции» (Гуссерль) и «идеало-типинеского конструктивизма»
(М. Вебер), которые обеспечили, на его взгляд, единственно
правильный и научный путь постижения исторических феноменов20.
Здесь подчеркнута близость феноменологических и
неокантианских идей. Типологическое описание, «связывающее себя ныне, —
замечал Степун, — с методами феноменологической философии»21,
и типологическая конструкция Вебера — не абстракции, не
отвлеченные понятия (добытые методами индукции и обобщения,
заимствованными из естественных наук), а сгущение до предела
типических черт исследуемого явления, углубление в первоидею.
Свое понятие, например, революции Степун считал не
абстракцией, а типологическим описанием, раскрытием смысла
революции как некоего внутреннего события духа, так как бытие
революции состоит «в осмысливании, обессмысливании и
переосмысливании жизни. Революция <...> может иметь
положительный и отрицательный смысл, но она не может не иметь никакого
смысла. Для нее как события, имманентного судьбе человечества,
неимение никакого смысла было бы равносильно небытию». Здесь
же он замечал, что «феноменологическое описание предмета есть
не что иное, как научное портретирование его <курсив мой. —
О. М. >», а продолжая, подчеркивал, что описать
феноменологически каждую из структур коллективистического сознания (нация,
государство, война, эпоха и т. д.) — «значит найти логос каждого из
перечисленных феноменов, т. е. смысл каждого из перечисленных
явлений»22.
К феноменологическому описанию Степун относил и метод
«физиогномики», используемый О. Шпенглером. «В конце
концов, шпенглеровская физиогномика — артистическая практика
духовного портретирования»23. Он считал, что Шпенглер уловил
связь между историческим познанием и художественным
созерцанием, зафиксировал ее методологически в понятии физиогномика.
Этим методом «физиогномики», или феноменологического
описания, в последнее время, замечал Степун, бессознательно
пользовались многие, часто далекие по своему духу друг от друга ученые:
20 Степун Ф. А. Чаемая Россия / Сост. и послесловие А. А. Ермичева. СПб., 1999. С. 98.
21 Там же.
22 Там же. С. 99.
23 Степун Ф. А. Сочинения / Сост., прим. В. К. Кантора. М., 2000. С. 130.
368
Раздел IV
W. Sombart, G. Hermes, В. Groethuysen, И. И. Бунаков и другие24.
Задолго до Шпенглера, по Степуну, методом «физиогномики»
умело пользовался Вяч. Иванов, раскрывая, например, значимость
религиозного символизма для современного искусства и
современной культуры. Особое очарование «культур-философских»
построений и морфологических описаний Вяч. Иванова Степун
связывал с необычайной живостью, исповедническим изображением,
с освещением, идущим не извне, а внутренним освещением, со
своеобразной «светописью духовного озарения»25.
Неокантианские мотивы присутствовали у Степуна в анализе
ценностей, причем его аналитика ценностей отличалась от позиции
Виндельбанда и Риккерта. Степун пытался избежать свойственной
им узости гносеологизма и методологизма, имел достаточно
сильные допущения метафизического и феноменологического толка.
Он не стремился ради неокантианской правоверности пренебречь
другими философемами или их сопряжением. Когда
формировалась русская редакция журнала «Логос», Виндельбанд прозорливо
шутил: «Будьте осторожны, вы еще причалите у монахов» и
опасался, по словам Степуна, «что мы, его ученики, изменим идеям
критического кантианства»26. Кант для Степуна — воплощение
«логической совести» и — симптом разложения «чувства
подлинного бытия». Основанием подлинного бытия, по Степуну, являлась
мистическая глубина — корень его религиозно-философской
метафизики. Философствование Степуна фокусировано на исходных
метафизических, символически выраженных духовных началах, а
феноменология и критическое кантианство взяты им как
методологически адекватные задачам портретирования средства.
Об отношении Андрея Белого к Канту и неокантианству
свидетельствуют его труды: стихи, автобиографическая проза,
литературные произведения, философская публицистика и эссеистика,
архивные материалы27. В ранней юности А. Белый прочел
«Критику чистого разума» И. Канта. Составил проект
самообразования, по которому после изучения естественно-математических
24 Степун Ф. А. Чаемая Россия / Сост. и послесловие А. А. Ермичева. СПб., 1999.
С. 99 прим.
25 Степун Ф. Л. Портреты / Сост. и послесловие А. А. Ермичева. СПб., 1999. С. 20.
26 Степун Ф. А. Бывшее и несбывшееся. СПб., 1994. С. 136.
27 См.: Белый Л. Три способа Кантианского выведения позиции доктора Штейнера//
ОР РГБ. Ф. 25. Карт. 37. Ед. хр. 6; Белый А. Собрание сочинений. Рудольф Штейнер
и Гёте в мировоззрении современности (1916). Воспоминания о Штейнере / Общ.
ред. В. М. Пискунова; сост., коммент. и послесл. И. Н. Лагутиной. М., 2000; Белый А.
О смысле познания (1922). Минск, 1991.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 369
наук планировал поступить на философское отделение историко-
филологического факультета. Поступив в 1904 г., он понял, что его
философская образованность превышает те знания, которые он
мог бы получить там, и 19 сентября 1906 г. Белый написал
заявление об увольнении из университета.
Восприятие Канта — «странно двоится». Белый не может
обойтись в решении философских проблем без обращения к нему и в
то же время постоянно «воюет» с ним. В 1904 г. в «Весах»
появилась статья Белого «Критицизм и символизм. По поводу столетия
со дня смерти Канта»28. Пафос признательности доминирует в ней
(как и в случае первых откликов Белого на смерть А. А. Блока).
Здесь много позитивного о Канте и кантианстве, критицизму
отведено место между догматизмом и символизмом (главным
отличительным признаком последнего является мистицизм). Автор
ссылается на свое постижение Канта в духе А. Шопенгауэра,
вместе с тем в статье присутствует оригинальный взгляд на учение
Канта, свое понимание и критика позитивизма вообще,
энергетизма В. Оствальда в особенности; указание на параллелизм данных
метафизики и физики. В статье Белого содержится характеристика
дальнейших путей развития философии, того пути, который
выбирают символисты, называемые часто «декадентами»: «Мы, — писал
он, — "декаденты", <...> потому что отделились от цивилизации
без Бога, без откровения»29. Для Белого (как для Шпета и для всей
отечественной философии, идущей за В. С. Соловьевым)
установка на достижение конкретного, цельного знания аксиоматична, а
абстрактность, отвлеченность, логизм, схематизм, подмена целого
частью — знаки критики кантианства, присутствующие во многих
его работах.
К 1908—1909 гг. ироничное отношение Белого к кантианству
нарастало, что отразилось в стихотворном цикле
«Философическая грусть»: «Но "Критики" передо мной — / Их кожаные
переплеты... // Вдали — иного бытия / Звездоочитые убранства... // И,
вздрогнув, вспоминаю я / Об иллюзорности пространства»30. В
стихах «Премудрость», «Мой друг» дан шаржированный образ
неокантианца Б. А. Фохта: «"Жизнь, — шепчет он, остановясь / Средь
зеленеющих могилок, / Метафизическая связь / Трансценден-
28 Кант: pro et contra / Сост. А. И. Абрамов, В. А. Жучков, предисл. и коммент.
В. А. Жучкова. СПб., 2005. С. 555-564, 886.
29 Там же. С. 564.
30 Белый Л. Собрание сочинений. Стихотворения и поэмы / Общ. ред. В. М. Пи-
скунова; сост., предисл. В. М. Пискунова; коммент. С. И. Пискуновой, В. М. Пи-
скунова. М, 1994. С. 247.
370
Раздел IV
тальных предпосылок. // Развеется она как дым: / Она не жизнь,
а тень суждений..." / И клонится лицом своим / В лиловые кусты
сирени». Неокантианец Коген представлен здесь как «творец
сухих методологий»31; в стихотворении «Мефистофель» (1908) и в
варианте стихотворения «Искуситель» (1923) иронически
противопоставлены И. Кант и Г. Сковорода: «Оставьте // В этом
фолианте мы все утонем без следа!.. // Не говорите мне о Канте!!
/ Что Кант?.. Вот ...есть ...Сковорода, // Философ русский, а не
немец!!!»32. Белый считал, что он (как и все) должен бороться с
Кантом, усвоив его язык, терминологию, бороться с ним его же
оружием. Он писал: «...не сесть за детальное изучение Канта, <...> когда
сами термины Канта оказывались дипломатическим языком, на
котором общались различия всех направлений мыслительных, —
было почти неприлично»33.
Модуляции философских тем, навеянных Кантом и
неокантианцами, присутствуют у Белого в книге о Р. Штейнере и Гёте. Здесь
встречается множество апелляций к Канту. Красноречивы
названия параграфов: «Гёте и Кант», «Кантианство и "флейта"», «Кант
и Веданта» и т. д. В лекциях и работах 1920-х годов, в книге
«История души самосознающей» (1926—1931) внимание Белого к Канту
и кантианству предельное. Всю жизнь он «воюет» или «выясняет
отношения» с ним. Кант выступает у Белого в неожиданных, но
вполне убедительных амплуа. Он и «Кощей бессмертный» (в
неистребимости своей), и «Пиковая дама» (в загадочности своей), и
даже «Кенигсбергский китаец» (в перспективе «совместимости
несовместимого» /по В. Ф. Ходасевичу/, «атипичных синтезов» /по
Ф. А. Степуну/ или «судорожных обхватов непримиримостей» /
по С. Аскольдову/). В этом проявлялась уникальная способность
Белого творить новые конкретные смыслы. Страницы о Канте в
статьях и книгах Белого — это не только апология Канта (и даже
себя — Белого, что может быть отдельной темой), но и инвектива в
адрес Канта, точнее «запуганного Кантика», который «ужасно
разъял ся в чудовище многоголовое, может быть и обитавшее в недрах
полусознания Канта (оно все же из них вылезало!)...»34. Не касаясь
здесь антропософских соображений Белого, укажем на «разъявше-
гося» Канта, впадающего в грех логизма, забывшего о целостности
души, на Канта, способного затягивать «в ничто», т. е. в ту судьбу,
31 Там же. С. 245.
32 Белый Л. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. и сост. Т. Ю. Хмельницкой; прим.
Н. Б. Банк и Н. Г. Захаренко. М.: Л., 1966. С. 610, примеч. к стих. № 192.
33 Белый Л. Душа самосознающая / Сост. Э. И. Чистяковой. М., 1999. С. 174.
34 Там же. С. 181.
Густав Шлет в русской интеллектуальной «сфере разговора» начала XX века 371
которой со своей «метафизикой небытия» не избежал и сам Белый.
«Кант нашей недавней эпохи — разьявшийся Кант, — писал он, —
<...> стал "кантом" провала душевных пространств, окаймляющих
сверху — границу духовного мира, который в раскрытиях Канта есть
мир познавательных форм, окаймляющих снизу — границу
телесного мира <все выделено мной. — О. М>, который есть мир
содержания; в Канте оно — только чувственность; все же пространство
3-х душ (ощущающей, самосознающей, рассудочной) стало ничем:
пустотою, дырою; оказалось поставленным в месте провала души;
и пока молодой Гёте строил его <великолепное здание о трех
этажах. — О. М. > — до него еще Кант своей мыслью железною съел
почву здания Гете;— все здание Гете в разъятиях Канта — ничто:
пустота, мир иллюзий; <...> так вместо "души" появился продукт
лишь смешения функций рассудка и чувственности, относимой к
телесному миру; смешением биологии с логикой стала душа; в ней —
культура; в культуре история; Гётево здание в Канте — лишь
мыльный пузырь, многокрасочно переливающийся, чтобы лопнуть в
ничто»35.
В блестяще шаржированном изображении Канта присутствует
звуковое оформление восприятия Канта (в «барабанную
перепонку» ударяют представители «кантовой церкви», но не сам Кант; а
сам Кант с гениальным «косноязычием» и с особой скромностью
сел в тени своей третьей критики, чтоб никто не заметил его
«революционности»). «Все великие люди истекшего века, — читаем
далее, — <...> все они — вскрик: "Кризис, кризис — сознания,
жизни, культуры, души: кризис лика земли, лика мира!" <все выделено
мной — О. М>»36. Здесь даем только указание на смысловое
значение звукового оформления в выражении восприятия Белым Канта.
Обнаруживаемая в кантианстве тенденция к «ничто» ведет к
упразднению метафизики и онтологии старого типа.
Метафизический символизм Степуна (его портретное творчество) и Белого (в
звукообразном виде) являет собой «новую» метафизику. Причем
демонстрируются разные стороны метафизического символизма и
в его пределах представлены как бы разные полюса. Степун уходит
все далее в сторону религиозно-философской метафизики, к идеям
положительного всеединства, возможно, по линии от Соловьева к
Хомякову; Белый устремлен к «метафизике небытия».
Онтологический и лингвистический поворот в русской
философии начала XX в. можно связывать с интеллектуальными поис-
35 Там же. С. 182.
36 Там же. С. 190.
372
Раздел IV
ками Белого и Шпета. Движение от феноменологии к онтологии (в
случае Шпета — к социальной, в случае Белого — к
экзистенциальной) ставит перед ними герменевтическую проблему понимания
действительности. Проблема онтологии социальности,
историчности, т. е. «действительности, которая окружает нас»,
представлена Шпетом на ее разных уровнях: философском,
методологическом, научном. Онтология социальности у Шпета эксплицируется
через раскрытие ее смысла, через энтелехию, соотношение цели и
средства, организации; через характеристику вещи, свойства,
отношения; через знаковую природу социальности и соотношение
знака — значения — смысла. Отсюда выход к проблемам смысла
и языка, мысли и смысла, выход к онтологии языка и
герменевтическим проблемам. Экзистенциальная онтология А. Белого —
поиск путей адекватного, точнее сказать — аутентичного выражения
подлинного существования, и здесь язык, онтология языка
представлены и раскрываются по-своему. Оба пришли к философии
языка. У Шпета — анализ логических возможностей языка.
Главное у него — мысль, выраженная в слове, слово-понятие, «этюды и
вариации» на темы Гумбольдта. Тогда как у Белого — «симфонии»,
«глоссолалия», главное — поэтические возможности слова.
Проблема выразимости решалась им как проблема поэтической
данности, отсюда ритм, жест, импровизации на собственные темы в
поэме «Глоссолалия».
В связи с этим заслуживает внимания мысль Л. Силард о том,
что «факт продолжения неявной полемики между Г. Шпетом и
Вяч. Ивановым <а также, заметим, и А. Белым. — О. М.>
касательно предельности значений слова и вытекающих из этого
выводов о предмете и горизонтах герменевтики»37 должен стать
предметом специального анализа. Вероятно, речь здесь может идти
об ориентированности на однозначность смысла в герменевтике
Г. Шпета, с одной стороны, и о многозначности смысла в мифо-
символической герменевтике А. Белого и Вяч. Иванова, с другой.
Но это сюжет отдельного исследования.
Силард Л. Герметизм и герменевтика. СПб., 2002. С. 26.
V. Проблемы
гуманитарных
наук в контексте
шпетовских идей
П. Стайнер
Третий выпуск «Эстетических
фрагментов» Густава Шпета
Уж не пародия ли он ?
А. Пушкин. «Евгений Онегин». Глава 7, 24
Первый выпуск «Эстетических фрагментов» Шпета
начинается со следующего предложения: «Едва ли найдется
какой-нибудь предмет научного и философского
внимания — кроме точнейших: арифметики и геометрии, — где
бы так бессмысленно и некрасиво било в глаза
противоречие между названием и сущностью, как в Эстетике». А третий,
заключительный выпуск книги заканчивается математической
формулой, выражающей эстетическое восприятие мира:
Σ"»Π(1+"»Κ
m lg
\е
±s±r.
На первый взгляд, основная линия аргументации «Эстетических
фрагментов» представляется совершенно ясной. Подражая modus
operandi1 самых точных наук, Шпет сумел очистить исследование
красоты от неподобающих ему противоречий путем сведения
смутности эстетического опыта к точному алгебраическому алгоритму.
И все же по многим причинам невозможно понимать эту книгу
столь прямолинейно, не принимая во внимание собственно текста.
С самого начала своей карьеры Шпет интересовался метатеорети-
ческой проблемой — как должно (и не должно) быть организовано
знание. В заключение книги, представляющей собой
комментарий к феноменологии Гуссерля (1914), Шпет открыто отверг
«догму "образцовой науки" ("математического естествознания"!) <...>
не только как догму, но и самый метод "конструирования",
"образования понятий"». Он повторил это замечание в 1916 г., когда
искал подходящий метод изучения истории, и еще раз — в книге о
Образу действия {лот.). — Прим. ред.
376
РазделУ
герменевтике в 1918 г.2. Причина, по которой он высказал данное
замечание, вполне понятна. Культурные явления, никогда не
уставал повторять Шпет, суть знаки, наделенные значением, которое
невозможно понять только посредством умственного процесса
интерпретации. И поскольку в «Эстетических фрагментах» он
расширил эту семиотическую идею на сферу искусства, его решение
выразить эстетический процесс с помощью математической формулы
кажется, мягко говоря, странным.
Подозрение, что здесь что-то не так, усиливается по мере
исследования того, как Шпет приходит к своей числовой дроби. В
математике таким образом представляется пропорциональное отношение
между частью объекта и целым объектом: знаменатель описывает
число равных частей, на которые делится объект, а числитель —
число частей, указанных для конкретной дроби. Насколько формула
Шпета соответствует этому определению? Начнем с ее
знаменателя — «m», «1» и «g». Весьма пестрая группа! Первый символ, «m»,
обозначает «фонетически-морфологические строения», и эта категория
включает в себя различные грамматические и стилистические
дубликаты («саженей» — «сажен», «греческий язык» — «эллинская речь»),
архаизмы и диалектные выражения. Второй символ, «1», означает,
согласно терминологии Шпета, чистые «логические формы» слова,
которые являются коррелятами онтических форм в мире. Наконец, «g»
указывает на «чистый предмет», мыслимый нашим сознанием первее
бытия, наделенного каким-либо языковым смыслом.
Совершенно очевидно, что категории, отнесенные Шпетом
к знаменателю дроби, более чем разнородны. «Фонетически-
морфологические строения», обозначенные с помощью "m",
являются просто стилистическими явлениями, тогда как "1" и "g" —
логическими и эпистемическими. Кроме того, основание, по которому
все они определяются как знаменатель, представляется
совершенно произвольным. Если «m», с точки зрения Шпета, не имеет
«положительных эстетических качеств» и даже может «играть роль в
складывающемся эстетическом впечатлении отрицательную»71, а
«1» есть «понижающий фактор эстетического наслаждения»4, то
эстетический эффект «g» колеблется: «чистый предмет» может
восприниматься как «ничтожный», «серьезный» или каким-то другим
2 Шпет Г. Г. Явление и смысл // Мысль и Слово. Избранные труды. М., 2005. С. 178;
Шпет Г. Г. Философия и история: Речь// Вопросы философии и психологии. 1916.
Кн. 4. С. 427; Шпет Г. Г. Герменевтика и ее проблемы // Мысль и Слово. Избранные
труды. М., 2005. С. 404.
3 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения М., 1989. С. 439.
4 Там же. С. 442.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
377
положительным или отрицательным образом. Но безотносительно
к тому, соглашаемся ли мы с Шпетом относительно эстетической
ценности этих сущностей, трудно понять, почему он рассматривает
их как равные части, на которые должен быть разделен трехчастный
числитель эстетического восприятия слова.
Значения символов «и» и «М» в верхней части шпетовской
дроби представляются единообразными только в одном
отношении: их роль в эстетическом восприятии расценивается как
положительная. Но остаются многочисленные вопросы о конкретных
обозначениях. Как оказывается, «и» есть омоним, обозначающий
два совершенно разнородных явления. С одной стороны, оно
относится к «расчлененным формальным элементам этого
эстетического впечатления»5, проще говоря, к акустическому элементу
словесного искусства. С другой стороны, «и» символизирует также
«внутренние формы поэтической речи, прибавляемые к
некоторой логической единице» (представляемой, надо думать, цифрой
«I»6). И звуки, и образы суть конечные множества, включающие
η-элементов. Но если в первом случае предполагается сумма (о чем
свидетельствует заглавная «сигма»), то вторые — результат
умножения, т. е. произведение (что символизируется заглавной «П»).
Наконец, символом «М» в формуле Шпета обозначается
«содержание как эстетический фактор». И, «чтобы подчеркнуть наличность
"естественных" имманентных форм, "идейность" содержания,
выделенную как смысловое ядро из всего мыслимого содержания,
напишем: М^>7.
Надеюсь, моя краткая экзегеза и без долгих разговоров
показывает, что шпетовская формула эстетического восприятия весьма не
ортодоксальна: мы имеем дело с художественной игрой
математическими символами, лишенной всякой объяснительной
ценности. Автор сам не скрывает этого факта, поскольку называет этот
плод своего воображения «пародийным»8. И тем самым он лишь
уклоняется от следующего вопроса: что он при этом имеет в виду?
Произведенное путем соединения греческой приставки παρα-
(«помимо», «за» и т. д.) и существительного ώδή (ода, гимн), это
слово указывает на особый вид (первоначально) литературных
сочинений, «в которых характерный стиль и темы конкретного
автора или жанра высмеиваются путем отнесения к неподходящим или
5 Там же. С. 438.
6 Там же. С. 450.
7 Там же. С. 460-461.
8 Там же. С. 472.
378
Разделу
неправдоподобным субъектам или же преувеличиваются ради
создания комического эффекта»9. Должны ли мы предположить, что
цель упражнения Шпета заключалась в том, чтобы повеселить
читателей, высмеивая математически-научный подход в
гуманитарных дисциплинах? Насколько мне известно, тогда не существовало
эстетической теории, методология которой хотя бы примерно
соответствовала тому, что, видимо, высмеивает Шпет.
На время оставляя в стороне объект шпетовской пародии,
заметим мимоходом, что одной из ярких особенностей пародийного
жанра является его двухплановая структура. Пародии произрастают
из соединения несопоставимого, акцентируют взаимную
несовместимость несочетаемых элементов. Заметная двойственность
третьего выпуска «Эстетических фрагментов» представляется, однако,
чем-то другим. При ближайшем рассмотрении оказывается, что эта
работа — не что иное, как продуманная мистификация. Шпетовское
обстоятельное и педантичное истолкование эстетического опыта
через его отвлеченные формальные составляющие (за которым как
таковым почти невозможно уследить) увенчивается пародийной
математической формулой, которая несет в себе мало смысла.
Напряженность, пронизывающая этот текст, порождается бьющим в глаза
несоответствием между тем, что формулируется, и тем, что имеется
в виду. Шпет как будто говорит то, во что сам не верит. Но зачем он
это делает? Позвольте взглянуть на эту головоломку с точки зрения
сформулированной Полом Грайсом теории удачного разговора,
которая разъясняет такого рода языковую несовместимость.
Согласно Грайсу, субъекты, обменивающиеся информацией,
интуитивно полагают, что лицо, к которому обращаются в
разговоре, руководствуется четырьмя максимами, проименованными
по образцу рубрик системы категорий Канта: максимами качества,
количества, отношения и модальности. Это объясняется тем, что
разговоры — совместные предприятия, в которые мы вступаем
добровольно ради обоюдной выгоды и которые не прерываем
односторонне, если не имеем для этого достаточных оснований.
Соглашение о взаимном доверии Грайс называет «кооперативным
принципом», существование которого становится очевидным в тот
самый момент, когда нарушается какая-либо из четырех вышеобо-
значенных максим. Это может происходить по разным причинам, и
одна — и важнейшая для моего обсуждения — заключается в том,
что Грайс называет «попиранием» максимы, т. е. в явной неспособ-
9 Oxford English Dictionary: http://dictionary.oed.com/entry/50171894?query_type=word
&queryword=parodistic&first= l&max_to_show= 10&single= l&sort_type=alpha
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
379
ности говорящего следовать ей. В этом конкретном случае
слушающий знает, что собеседник мог следовать максиме, но не только
намеренно не сделал этого, но нарушил демонстративно, чтобы
избежать подозрения в намерении ввести в заблуждение. Это,
утверждает Грайс, приводит к «коммуникативной импликатуре», когда
слушатель пренебрегает явным смыслом сообщения и пытается вместо
этого вывести из него то, что в нем предполагается.
Если посмотреть на третью книгу «Эстетических фрагментов» с
этой точки зрения, то нетрудно видеть, что Шпет относится к
четырем упомянутым максимам более чем презрительно. Ясность
его изложения оставляет желать лучшего, и он не мог не понимать,
насколько неотчетливы некоторые его категории. То же самое
касается и совокупности сообщаемой информации. Фрагментиро-
ванность не ограничивается заглавием книги: прерывистое
изложение, зачастую лишенное всяких примеров, — скорее правило,
чем исключение. В довершение ко всему шпетовская
математическая формула эстетического восприятия — явно несостоятельная и
во многом противоречащая его известной эпистемологической
позиции — явственно игнорирует грайсовскую максиму качества.
Однако все же невозможно не заметить, что Шпет в конечном счете,
видимо, привержен кооперативному принципу, поскольку он явно
и нарочито игнорирует максиму качества, тем самым показывая
своей аудитории, что то, что говорится, не есть то, что имеется в
виду (и наоборот), и таким образом призывает читателей обратить
внимание на импликатуру речевого общения.
И как быть с этим? Модель Грайса, выверенная для относительно
простых коммуникативных ситуаций, представляется
неэффективной применительно к такой трудной и контрпозитивной работе, как
«Эстетические фрагменты» Шпета. Здесь требуется более широкое,
более комплексное понимание позиции автора. И сам текст при
внимательном изучении оказывается весьма поучительным в этом
отношении. Для того чтобы разъяснить, что я имею в виду, позвольте
в последний раз вернуться к шпетовской математической формуле,
с которой я начал. До сих пор я обращал внимание исключительно
на ее внутреннее ядро, оставляя в стороне то, что было «вынесено за
скобки», включая символ "S", обозначающий «восприятие
личности самого автора слова»10. Ведь обмен знаками, настаивает Шпет, не
есть просто акт пересаживания готового сообщения из одной головы
в другую. Напротив, он представляет собой интерактивный процесс,
происходящий между сознающими себя субъектами, которые пре-
Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 472.
380
РазделУ
красно знают стратегическую природу их общего предприятия.
Когда мы интерпретируем языковое сообщение автора, «нам важен <...>
не объективный смысл его речей, а его собственное "переживание"
их как своего личного действия и как некоторого объективируемого
социально-индивидуального факта <...> На почве этих первых
догадок и "чутья" мы дальше начинаем "сознательно" воспроизводить,
строить, рисовать себе общий облик его личности, характера <...> За
каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос,
догадываться о его мыслях, подозревать его поведение»11. Наши попытки
вывести из находящегося перед нами текста единообразный образ его
автора не должны быть простым процессом, свободным от
затруднений. Шпет сразу поясняет: «какая-нибудь неожиданность, парадокс
сообщаемого может на время перебить, отвлечь внимание». Однако,
вместо того чтобы быть помехой для читателя, это становится
вызовом, утверждает Шпет, поскольку, оказавшись в столь неустойчивой
ситуации, «мы еще напряженнее обращаемся к автору, стремясь за
самим парадоксом увидеть его и решить, согласуется создаваемое им
впечатление от его личности с другим или не согласуется»12.
Стратегически расположенное в самом конце третьего
фрагмента, шпетовское «руководство по пониманию» едва ли появилось
беспричинно. Оно призвано, я подозреваю, дать нам ключ к
пониманию этой работы. Текст, напрашивающийся на роль самого
непосредственного фона, на который должен проецироваться третий
выпуск «Эстетических фрагментов», — доклад на тему «Проблемы
современной эстетики», прочитанный Шпетом на заседании
философского отделения Российской академии художественных наук
менее чем через месяц после завершения работы над третьим
выпуском «Эстетических фрагментов». То, что эти тексты писались
одновременно, очевидно не только благодаря их взаимным
перекличкам, но и из-за значительной тематической общности. Кроме того,
доклад рассматривался автором как основа для четвертого выпуска
«Эстетических фрагментов», однако этот план не осуществился13. Но
насколько же велика стилистическая разница между ними!
«Проблемы современной эстетики» — типичное научное произведение, в
котором последовательно критикуются все известные эстетические
теории того времени и со всей основательностью предлагается
новый, семиотический подход к искусству. А «Эстетические фрагмен-
11 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 469—470.
12 Там же. С. 470.
13 Письмо Г. Г. Шпета к Ф. И. Витязеву от 3 апреля 1922 г. // Густав Шпет: жизнь в
письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 487.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
381
ты» — жуткий пророческий перформанс, настолько откровенно
несвоевременный, что вызывает когнитивный диссонанс в сознании
читателя. Возникает парадокс, и мы вынуждены решать нелегкую
задачу — пытаться совместить образ Шпета, вырисовывающийся в
«Проблемах современной эстетики», с тем, что создается благодаря
пародийно-математической формуле эстетического восприятия:
образ серьезного мыслителя, полностью погруженного в современную
немецкую философию, предлагающего новую парадигму
эстетики, — и образ автора эксцентричного текста, нарочито
попирающего самые основные принципы научного дискурса и предлагающего
алгоритм, который невозможно воспринимать всерьез.
Возможно ли привести эти два несовместимых образа Шпета к
правдоподобному единству? Возможно — и только благодаря
пародии, вышеупомянутая двухплановая структура которой и есть
сопоставление несопоставимого. Однако Шпет в третьем выпуске
«Эстетических фрагментов» дает этому жанру направление, выбивающееся
из приведенного определения. Если пародия обычно осуществляет
скрещивание работ двух разных авторов, то в случае Шпета такая
интерсубъективность, по-видимому, отсутствует. Объект этого
упражнения в пародии — не кто иной, как он сам: его собственный стиль
мышления. Третий выпуск «Эстетических фрагментов» в
гиперболической форме выражает все его идиосинкразии — склонность к
терминологическому буквоедству и стремление к предельной точности,
сращивая их с математическим подходом к культурным явлениям,
который автор не единожды объявлял совершенно негодным.
Если предположить, что третий выпуск «Эстетических
фрагментов» является самопародией, то позволительно спросить, в чем
заключался смысл этого драматического жеста. Эпиграф к моей
статье, взятый из 7-й главы «Евгения Онегина», указывает на один
правдоподобный ответ. Задавая знаменитый вопрос «Уж не
пародия ли он?», Пушкин предложил вторую (и совершенно
неожиданную) интерпретацию своего вымышленного героя..Допустить
ли, что Шпет, следуя этому гипотетическому указанию,
предлагает альтернативное понимание самого себя, которое в корне
отличается от его обычного публичного образа человека, смеющегося
над собой? Да, пожалуй. Но этот смех — совершенно особого рода.
На мой взгляд, этот смех — антипод карнавального смеха, которым
наслаждался Бахтин, того богохульного смеха, высмеивающего все
официозное, будь то религиозное или ученое, карнавального "risus
paschalis"14, для которого нет ничего святого. Подавленная улыбка
14 Пасхальный смех (лат.) — Прим. ред.
382
РазделУ
Шпета, с другой стороны, скорее нетелесная, интеллектуальная,
невеселая. Ближе всего она к "risus punis"15, высшему смеху, «смеху
смехов», как говорит Беккет, к «смеху, смеющемуся над смехом,
созерцанию, приветствованию самой высокой шутки, словом к
смеху, который смеется ... над тем, что несчастливо»16.
Но что же могло породить такой смех? Виталий Махлин в
пространном комментарии к политическому и культурному контексту,
обусловившему появление «Эстетических фрагментов», предлагает
интригующую перспективу. Он рисует тревожную картину
«распада связи времен» — пустоты, открывшейся в российской истории
между развеявшимся прошлым и еще не рожденным будущим, —
быстро исчезающего промежутка, отделяющего
послереволюционную и послесимволистскую Россию от быстро наступающей
советской России. Шпет остро осознавал преобразовательные
«возможности своего времени, своей культуры», пишет Махлин, и
поэтому он дал первой главе «Эстетических фрагментов» заглавие
«Качели», намекая на крайние точки («абсолютный верх —
абсолютный низ»17), между которыми она замерла. И «вь/разительная,
эксцентрическая <...> логика»18 первого выпуска «Эстетических
фрагментов», по мнению Махлина, выражает сознательную
реакцию Шпета на эту исключительную ситуацию.
Интуиция Махлина, на мой взгляд, может быть распространена
mutatis mutandis19 и на третий выпуск «Эстетических фрагментов».
Именно в момент глубочайшего кризиса, напоминает нам
небольшая монография Саймона Кричли о юморе, и рождается "risus pu-
rus". Ведь способность смеяться над собственной слабостью и силой
и есть предельный механизм, благодаря которому мы
уравновешиваем действие тех вездесущих центробежных сил, которые всегда
готовы разорвать нашу душу: упадочности и избыточности,
меланхолии и радости. Только эта улыбка, «высмеивающая обладание и
неимение, удовольствие и боль, высоту и мучительность
человеческого положения», может принести «воспарение и освобождение,
ясность утешения». «Мы улыбаемся и находим себя смешными, —
заключает Кричли. — Наше убожество — вот наше величие»20.
Перевод с англ. И. В. Борисовой
15 Чистый смех (лат.) — Прим. ред.
16 Beckett S. Watt. N.-Y, 1959. P. 48.
17 Махлин В. Л. Тайна филологов // Густав Шпет и современная философия
гуманитарного знания. М., 2006. С. 195.
18 Там же. С. 194.
19 С необходимыми изменениями (лат.) — Прим. ред.
20 Critchley S. On Humour. London, 2002. Rill.
Ε. Α. Найман
«Введение в этническую психологию»
Г. Г. Шпета в контексте современного
гуманитарного знания
Данные размышления посвящены анализу наименее
исследованного сочинения Шпета — «Введение в этническую
психологию». Действительно, в современном шпетоведе-
нии этой работе уделяется незаслуженно мало внимания.
Возможно, исследователей отталкивает незаконченный
вид работы, возможно, малоактуальным кажется ее критический
заряд, направленный на Штейнталя и Вундта, возможно, у
представителей какой-то одной отрасли гуманитарного знания
вызывает затруднения ее открытая междисциплинарность.
Предлагаемые размышления — попытка исправить ситуацию,
показав перспективы анализа идей Шпета в различных областях
современного гуманитарного знания. Основной тезис можно
сформулировать так: незаконченная работа Шпета «Введение в
этническую психологию» как никакая другая из его обширного
творческого наследия позволяет наиболее широко контекстуализировать
его идею в различных областях современного гуманитарного
знания. Для обоснования этого утверждения попытаемся, во-первых,
наметить общие контуры проекта такой контекстуализации, а
во-вторых, более подробно остановимся на разработке Шпетом
социолингвистической проблематики.
Прежде всего, вызывает несомненный интерес попытка
определения Шпетом предмета этнической психологии через
преодоление картезианской парадигмы в социальных науках вообще и в
1 Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ (НШ -
5887.2008.6) и в рамках государственного контракта на выполнение поисковых
научно-исследовательских работ для государственных нужд в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России», мероприятие 1.1., проект «Онтология в современной философии языка»
(2009-1.1-303-074-018).
384
РазделУ
антропологии в частности. Все противоречия определения
этнопсихологии, в сущности, кроются в проблеме дуализма между
духом и телом, обществом и индивидом, рациональным и
эмоциональным, фактом и процессом. Фундаментальные понятия
этнопсихологии, обсуждаемые в работе Шпета, — «коллективная
душа», «народный дух», «дух нации», — рассматриваются либо в
фокусе психологии, направленной на психологические механизмы
индивидуального сознания, либо в фокусе антропологии,
ориентированной на статичную систему значений, существующей
независимо от жизненного опыта.
Шпет пытается сблизить эти сферы на основе рассмотрения
«жизненного мира» членов общности. Главной единицей этого
«мира» является их переживание своей социально-исторической
судьбы в различных ее формах. Этнопсихология направлена на
выявление социальной типологии таких жизненных миров. И в этом
качестве она должна стать, по выражению Шпета, «социальной
характерологией». Интерпретация этих жизненных типов
возможна на основе их знаково-символических систем. Как пишет Шпет,
сфера этнической психологии связана с пониманием системы
знаков, интерпретации. Таким образом, Шпет преодолевает
картезианский дуализм в рамках этнопсихологии, поскольку
интерпретация значений понимается не структурно, а контекстуально
и ситуационно. Любой знак в этом случае становится явлением
многомерным, поскольку интерпретируется в самых разных
контекстах. Как пишет Шпет, «значение может оказаться не только
психологическим, но, например, также или только историческим,
<...> но при разных отправных пунктах интерпретации»2.
Шпет считает, что такие понятия, как «народ», «народность»,
«коллективный дух», выполняют символическую функцию и не
могут интерпретироваться буквально, с точки зрения их
предметного содержания. В этом смысле крайне интересна параллель идей
Шпета и идеи Эдварда Сепира о разделении референциального и
конденсационного символизма. Шпет пишет: «Определяющие
источники всякого конкретного содержания лежат в духовном
укладе, который предопределяет действия и переживания не только
индивида, но и всякой группы»3. Такие понятия, как «дух нации»,
«народный дух», «коллективная душа», для Шпета —
конденсационные символы, которые являются сжатой формой заместительно-
2 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Г. Сочинения. М.,
1989. С. 514.
3 Там же. С. 574.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей 385
го выражения эмоций и переживаний, связанных с историческим,
культурным и социальным контекстом. Эмоциональная нагружен-
ность и ассоциативность этих символов не позволяют
рассматривать их исключительно в денотативном аспекте. Фактически эти
понятия, сохраняя свои референциальные свойства, становятся
для общности заместительной формой выражения коллективных
переживаний.
Эти мысли русского философа необыкновенно близки идеям
Сепира (высказанным приблизительно в это же время) о развитии
референциальной символики из конденсационной, при котором
предметное содержание вырастает из эмоционально
насыщенного контекста. Только если источниками теоретических
размышлений Сепира были идеи 3. Фрейда о бессознательном символизме и
Б. Кроче о связи лингвистики и эстетики как общей науки о
выражении, то для Шпета наиболее вероятным источником является
теория «внутренней формы» слова Гумбольдта—Потебни и теория
«экспрессивного значения» Шарля Балли. Каждое из исследуемых
понятий этнопсихологии определяется его внутренней формой, а
значит, в своем образном потенциале является культурно и
социально обусловленным.
Исходя из теории «внутренней формы» слова фундаментальные
понятия этнопсихологии выглядят для Шпета, по сути,
метафорами, фигуративными выражениями. Он пишет: «Утверждения, что
то, или иное явление в жизни народа определяется "его духом",
психологически уже не имеют иного, кроме метафорического <...>
смысла»4. И в этом смысле Шпет вполне может пополнить ряды
философов, психологов и лингвистов, утверждавших
существование глобального метафорического структурирования понятийных
областей (от Дж. Вико, Ф. Ницше и до Дж. Лакоффа, М. Джонсона
и Ж. Деррида).
Полемика, которую ведет Шпет с классиками этнопсихологии,
очень близка полемике 1990-х гг. минувшего века в рамках
антропологии между «психологической антропологией» (наследницей
этнопсихологии) и новой, только зарождающейся в то время
дисциплиной — «культурной психологией». В основу «культурной
психологии» был положен анализ процесса понимания людьми
мира и самих себя. Один из ее основателей, Шведер, писал:
«Культурная психология касается изучения интенциональных миров,
функционирования личности в определенных интенциональных
мирах. Она исследует сохранение и поддержание особого интенци-
4 Там же. С. 479.
386
РазделУ
онального мира на уровне межличностных отношений. Культурная
психология — это изучение тех психосоматических,
социокультурных уровней реальности, в которых субъект и объект невозможно
отделить друг от друга»5. Мы видим, что «интенциональный мир»
становится предметом антропологического анализа. Культурная
психология во многом опиралась на понятие «жизненного мира»
Э. Гуссерля, понятие «габитуса» П. Бурдье и феноменологическую
психологию М. Мерло-Понти. Вполне вероятно, что такой
феноменологический проект был бы наиболее близок Шпету, окажись
он свидетелем развития этнопсихологии в XX столетии.
В своем «Введении...» Шпет во многом предвосхищает и
основной поток теоретических концепций интерпретативной
антропологии XX века, которая находилась в поиске смысла, а не закона.
Этническая психология для Шпета — наука не законоустанавлива-
ющая и не объяснительная. В рамках данного подхода «общность»
является символическим конструктом и определяется связью
культурных значений. Границы общности очерчиваются не социальной
структурой и институтами, а системой значений, присутствующей
в сознании ее членов. Отношение между членами общности
обусловлено не многообразием механических связей, а определенным
социальным дискурсом. Членство в общности связано не с
поведением индивидов, а с тем, что они думают о своем поведении.
Интерпретативная антропология имеет богатую традицию,
восходящую к Гердеру, Боасу и продолжающуюся в теориях Крёбера,
Лича, Гирца, Шнайдера, Сепира и Леви-Стросса. Представляется,
что Шпет с полным правом может занять в этой традиции вполне
достойное место, как и в традиции социологической мысли Т. Пар-
сонса6. Преемственность этих линий социологической и
антропологической мысли вполне очевидна во всех отношениях. Как
известно, Клиффорд Гирц был учеником Парсонса.
Не менее актуальны идеи Шпета и для современной
философской антропологии. Есть все основания считать, что он говорил об
изучении этничности как конструктивист, подчеркивая
необходимость исследования этого феномена в ракурсе различных
контекстуальных перспектив. Понятие «этничность» для Шпета является
релятивистским, что связано с его символическим определением.
И в этом смысле он определенно не вписывается в генеральную при-
5 Shweder R. Cultural Psychology — What is it? // Cultural Psychology: Essays on
Comparative Human Development. Cambridge., 1990. P. 3.
6 Особенно интересно сравнить концепцию Шпета с теорией социального действия
Парсонса, которая объединяла анализ социальной структуры, личности и культуры
как сферы символов и значений.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
387
мордиалистскую линию отечественной антропологии, выраженную
в позициях Широкогорова, а позднее — Бромлея и Гумилева.
Как отметил Вяч. Вс. Иванов в работе «История развития
семиотики в СССР» (1974), Густав Шпет предпринял первую
попытку семиотического анализа «этнической психологии». Шпет пишет:
«Если сообщение есть условие общения, то язык — условие всего
социального <...> в том числе этнической психологии. А если и само
языкознание нуждается в более твердом основании, то последнее
надо искать еще глубже, в чем-нибудь вроде "науки о сообщении"
вообще»7. С другой стороны, он утверждает, что предметом
этнопсихологии является область «вторичных значений», то есть
экспрессивных значений или коннотаций. Шпет указывает: «Этническая
психология имеет предметом второй порядок значений в анализе
выражения»8. Сфера коннотативных значений понимается Шпетом
как переживание своих выражений самим говорящим. Философа
серьезно волнует тот факт, что система «вторичных значений» до сих
пор не стала предметом научного анализа. Экспрессивное значение,
по его мнению, должно быть строго увязано с контекстом культуры
и социальной ситуации. И это было высказано задолго до
знаменитой программы Ролана Барта о разворачивании «коннотативной
семиотики» (которой, кстати, отказывал в научном статусе Ельмслев)
как основы любой программы исследования системы культуры!
Шпет настойчиво говорит о необходимости разделения двух
порядков означивания, которую впервые в качестве важнейшего
методологического принципа подчеркнул Луи Ельмслев только в
1960-е гг. Фактически Густав Шпет выступает против смешения двух
порядков значения, поскольку это приводит к искажению
предметного содержания этнопсихологии как науки. Проблема состоит в
том, что чтение коннотативных значений как денотативных фактов
приводит к появлению в качестве предмета научной дисциплины
таких понятий, как «дух нации», «коллективная душа» и т. д.
И, наконец, в своей работе Шпет дает достаточно сложную и
вполне современную социолингвистическую модель отношения
языка и общества, лингвистического и социального. Отсюда, на
мой взгляд, вытекает возможность рассматривать идеи Шпета в
контексте отечественной традиции социолингвистики начала XX в.
(Волошинова, Р. О. Шор, Поливанова, Жирмунского, Карцевского
и Селищева).
7 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Г. Г. Сочинения. М.,
1989. С. 525.
8 Там же. С. 566.
388
РазделУ
Именно на социолингвистическом аспекте работы Шпета
остановимся подробнее.
Самоопределение этнопсихологии выглядит для Шпета
проблематично, поскольку, с одной стороны, она ставит задачу
изучения надиндивидуальных форм, которые предопределяют языковую
деятельность человека, поскольку он принадлежит некоему
этническому единству и является членом языковой общности. И в этом
плане этнопсихология пытается уйти от данных индивидуальной
психологии (то есть от линии Гердера—Гумбольдта—Штейнталя). С
другой стороны, при решении этой задачи она все же опирается на
индивидуальный подход к языку и ищет индивидуального
субъекта и носителя языковой деятельности, именуемого «народным
духом». Для Шпета становится очевидным, что отрыв «коллективных
переживаний» от социальной основы ее существования в конечном
счете неминуемо ведет к изучению явлений индивидуальной
психики, прикрываемых понятиями «дух нации» или «коллективная
душа». Признавая основой этнической психологии «язык», Шпет
всячески критикует объяснение языкового факта в аспекте
глоттогоническом, то есть его интерпретации исходят из данных
индивидуальной психологии, как если бы языковой факт создавался
говорящим субъектом в традициях Гердера и Гумбольдта.
Позиция Шпета по отношению к языку, по-видимому,
соединяет в себе два представления: Э. Дюркгейма о языке как социальном
факте и Б. Малиновского о языке как форме социального
поведения. Оба положения не укладываются в традиционные для того
времени представления о языке как психофизиологическом
процессе. Кроме того, в выстраиваемой Шпетом модели понимания
языка можно обнаружить и следы бихевиоризма, с позиции
которого любое отношение (не только языковое) есть нечто
непосредственно содержащееся в тех реакциях, которые проявляют люди
в социальных ситуациях. Шпет, как и сторонники бихевиоризма,
полагает, что этническая психология должна изучать поведение, а
не индивидуальное сознание, которое в принципе невозможно
наблюдать. Однако нужно отметить, что бихевиоризм Шпета
неразрывно связан с понятием контекста культуры и ситуации, а язык
как форма поведения не сводится к абстрактному набору
потенциально возможных поведенческих актов.
Язык для Шпета — это то, что может сделать говорящий. Но
«может сделать» понимается в достаточно широком контексте: от
«может иметь в виду» до «может означать» и т. д. Между стимулом
и реакцией находится опосредующее звено — система
поведенческих значений (или «вторичных значений»), которая и дает воз-
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
389
можность уйти от индивидуально-психологического аспекта
языка. «Переживание свидетелем, — пишет Шпет, — происходящих
перед его глазами событий как непосредственный ряд реакций на
эти последние составляет второй порядок "значений"»9. Для
Шпета очевидно, что зафиксировать эту систему поведенческих
значений возможно только в контексте социального события.
Кроме того, выделение общих признаков подобных реакций
становится возможным исходя из их распределения по социальным
категориям: «Это общное мы составляем по признакам,
принадлежащим разным индивидам, но по отношению к данной сфере
событий — языковых, религиозных, политических. <...> Каждый из
них является репрезентантом всей реагирующей группы»10.
Поэтому индивидуальный язык (идеолект) Шпет предлагает
рассматривать как функцию групповой принадлежности.
Каждый индивид «отражает в себе коллективность самой
группы, так как с каждым членом ее он находится в более или менее
близком контакте, испытывает на себе его влияние, внушение,
подражает ему, сочувствует и т. п.»11. Употребление языковых
выражений индивидом становится маркером его, как говорит Шпет,
«коллективного типа», то есть социально-групповой принадлежности.
Поскольку этническая психология — наука типологическая12, то
ее общая задача заключается, во-первых, в выделении
определенных типов переживаний (а языковые переживания являются лишь
одним из таких типов); во-вторых, в создании внутри данного типа
коллективного переживания типологии групповых переживаний.
Таким образом, Шпет предлагает исследовать социальную
дифференциацию языковых переживаний. В границах этнической
психологии создается место для социологии языка, которая может быть
рассмотрена как часть этнопсихологии. Шпет фактически в рамках
интересующей его дисциплины формулирует задачи новой,
самостоятельной науки, которая впоследствии и получила название
«социолингвистика». Определяя в качестве важнейшей
корреляцию языковой вариативности и групповой принадлежности, Шпет
во многом предвосхищает наиболее влиятельные вариационист-
ские модели современной американской социолингвистики.
Практически Шпет формулирует задание для этнопсихологии:
изучение лингвистических процессов, в которых регулярно уча-
9 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Цит. изд. С. 564.
10 Там же.
1 ' Там же.
12 Там же. С. 573.
390
РазделУ
ствуют представители данной культуры. Этнопсихология, по
мнению Шпета, нуждается в такой концепции, где язык понимался бы
не как организм, а как социальный институт, глубоко связанный с
данной культурой, обществом и политическими отношениями на
каждом из его уровней.
Шпет формулирует одну из основных проблем этнопсихологии:
«как переживается язык как социальное явление данным народом в
данное время»13. Таким образом, русский философ предвосхищает
одно из наиболее влиятельных определений «языковой общности»
У. Лабова, говорящего о том, что языковая общность
определяется согласием оценочного поведения по отношению к
собственному языку. Американский лингвист предлагает изучать те способы,
которыми эти нормы осознаются, принимаются или отвергаются
языковой общностью.
Шпет стремится заострить внимание на языке как предмете
общественной озабоченности и контроля, пытаясь обратить
внимание на металингвистическую деятельность индивидов: «Стоит
вспомнить борьбу за свой язык в немецком ученом мире XVII века
или заботы о своем языке польского народа с конца XIX века,
украинцев — в настоящее время»14. В этом смысле Шпет одним из
первых привлекает серьезное внимание к материалу так называемой
«народной лингвистики» и является одним из теоретических
предшественников такой традиционной социолингвистической
тематики социолингвистических программ, как изучение языковых
оценок. Тем более интересно, что экспериментальное исследование
языковых оценок в современной лингвистической науке опирается
на способ экспериментального измерения коннотативных
значений, предложенный Чарльзом Осгудом в его методике
«семантического дифференциала».
Реконструкция понимания Шпетом взаимосвязи
лингвистического и социального, а также предмета этнопсихологии выглядит,
на мой взгляд, следующим образом. Предметом этнической
психологии является корреляция системы коннотативных значений
и системы поведенческих стратегий. Существует поведенческий
потенциал значений в виде набора «опций», который служит для
реализации выбора. Эти значимые вариации языковая система
предоставляет в распоряжение члена языковой общности. Конно-
тативные значения предоставляются говорящему его культурой, и
именно с их помощью общность символически закрепляет свою
13 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Цит. изд. С. 569.
14 Там же.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
391
этническую идентичность. Коннотации в качестве
прагматической информации находятся в состоянии постоянного изменения.
В связи с этим Шпет указывает, что этническая психология
нацелена не только на изучение языка, но и на смену представлений и
чувств, связанных со словом и его значением.
Любая функция языка, идеационная или межличностная,
предоставляет свой набор возможностей, из которого осуществляется
выбор того или иного языкового поведения. Таким образом,
между психическим состоянием и действием обнаруживается прочная
связь. Она может быть представлена в виде следующей цепочки:
«знаю» — «могу сделать» — «делаю, реализуя ту или иную конно-
тативную возможность». Предметом исследования
этнопсихологии становится коммуникативная компетенция, которая
захватывает запас значений, предоставляемый говорящему его культурой.
Именно на этом уровне мы можем видеть всю глубину
взаимопроникновения социального и лингвистического. Понимание этноса
исходя из некоего общего ядра коннотативных значений,
которыми определяется выбор поведенческих стратегий этой общности, —
главный теоретический вывод работы Шпета, который имеет
крайне современное звучание. Русский философ предвосхищает и идеи
британского социолингвистического функционализма М. Холли-
дэя, и «этнографию речи» Дэлла Хаймса, и «социальную
семиотику» Роберта Ходжа и Понтера Кресса, которая в основу кладет
понятие «полиакцентности» языкового знака, восходящее к идеям
М. Бахтина.
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод о том, что
позиция Шпета по отношению к языку и общности сочетает в себе
все основные и наиболее влиятельные методы и подходы,
используемые в социальных науках XX столетия, — феноменологию,
структурализм, функционализм, конструктивизм, семиотический
и дискурсивный анализ. В истории отечественной науки вряд ли
найдется фигура, которая может быть столь широко контекстуали-
зируема в рамках самых различных областей социогуманитарного
знания.
Т. Д. Марцинковская
Г. Г. Шпет - парафраз
на современную тему
В настоящее время труды Шпета не являются уже «терра ин-
когнита», а само имя ученого вышло из небытия и прочно
вошло в золотой фонд отечественной науки. Издаются и
переиздаются его труды, проводятся конференции, о чем
можно было только мечтать всего лет десять назад.
Однако важно разделять историю науки и современность, а постоянный
интерес к трудам Шпета (и других ученых) возможен лишь тогда,
когда его идеи обогащаются новыми представлениями. Это тем
более справедливо в отношении Шпета, так как его труды становятся
созвучны проблемам, встающим сегодня перед гуманитарной, и в
частности перед психологической, наукой. Поэтому необходимо
перейти к следующему шагу и наряду с переизданием его работ и
их сравнительно-историческим анализом рассмотреть различные
пути использования идей Шпета в современной науке.
Представим возможные направления инкорпорирования
представлений Шпета в современное знание.
В концепции Г. Шпета впервые были фактически (но не
терминологически) введены понятия «механизм развития» и
«идентичность» (прежде всего «этническая идентичность»). Эти термины в
его теории отождествляются с понятиями переживания и
самосознания.
Спорным моментом такой трактовки терминологии Шпета
является не только отождествление терминов «самосознание» —
«идентичность», но и, что, может быть, особенно важно, введение
такого понятия, как «механизм развития», которого во времена
научной деятельности Шпета фактически не было в психологическом
тезаурусе. По-видимому, именно поэтому с современной точки
зрения в его работах («Внутренняя форма слова», «Введение в
этническую психологию», цикл работ по эстетике) смешиваются разные
термины.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
393
Работу по этнической психологии Шпет начал с решения
вопроса, до настоящего времени остающегося значимым для
этнопсихологии, — что, собственно, является предметом этой науки
как психологической, а не культурологической или
этнографической дисциплины. Доказывая, что ее предмет раскрывается через
расшифровку и интерпретацию системы знаков, составляющих
содержание коллективного сознания данной нации, Шпет
отвергал такие устоявшиеся к тому времени ответы на этот вопрос,
как, например, язык или религия, вводя понятие переживания. Во
«Введении в этническую психологию» он говорит о том, что
национальное самосознание является особым переживанием,
характеризующим отношение человека к своему народу, подчеркивая, что
«культурное является объективно, но существующее сознательное
и бессознательное отношение к нему, переживание его значения и
является предметом психологии».
Таким образом, связь человека со своим этносом не
предопределена его национальной принадлежностью, цветом кожи или
разрезом глаз. Она определяется только личным выбором самого
человека, который считает (или не считает) своей ту культуру, в
которой он живет, язык, религию, сказки и исторические предания,
которые составляют ее основу. При этом сама возможность
такого выбора основана на том, что это не слияние младенца с
национальными мифами, сказками, религией, которые он впитывает «с
молоком матери», не архетипическое бессознательное, которое
составляет содержание самосознания людей во многих теориях, но
осознанный поступок человека по отношению к понятиям, нормам
и ценностям, которые отражают представления о правилах
поведения, этике, истории и искусстве большой группы людей (нации).
Именно поэтому Шпет говорит о том, что при отрицательных
переживаниях, при «возникновении отвержения субъект может
переменить свой народ, войти в состав и дух другого народа».
Фактически в данном случае речь идет о категоризации и
самокатегоризации, то есть первоначальном отнесении себя к
определенной группе и, впоследствии, отожествлении себя с ней путем
эмоционального принятия этой группы, то есть именно о том, что
и определяется в настоящее время понятием «идентичность».
Как бы продолжая данную мысль, современная психология
говорит о том, что такое принятие необходимо при формировании
любого вида идентичности — социальной, личностной,
профессиональной, даже соматической (необходимо принимать свой образ
тела). Главное — что подчеркивал в качестве такового еще Шпет, —
необходимость учета не только когнитивного (знаний о нормах,
394
РазделУ
ценностях, культуре нации, группы, профессии), но и
эмоционального плана. В субъективном отношении, а не объективном
значении заключается и сущность психологического изучения
проблемы, и возможность воздействия на процесс формирования любого
вида идентичности.
Важными с современной точки зрения здесь
представляются два момента. Во-первых, Шпет с самого начала говорил о двух
вариантах развития этнического самосознания — положительном
и отрицательном, основанных на двух разных видах
эмоционального отношения — принятии-отвержении. Это подчеркивает
близость понятия «национальное самосознание», которое
используется Шпетом, именно к понятию «национальная» или «этническая
идентичность». Сложно говорить об отрицательном самосознании,
но отрицательная идентичность является вполне узаконенным
понятием в современной науке.
Во-вторых — и это одно из значимых открытий Шпета, — он
впервые начал говорить не только о необходимости принятия
человеком своей национальной группы, но и о том, что для
нормального формирования чувства принадлежности к своей нации важно
и ответное принятие, положительное отношение группы к этому
человеку. То есть, как подчеркивают современные исследователи,
формирование этнической идентичности — это всегда акт
взаимного принятия. Это положение в полной мере можно отнести и к
другим видам идентичности. И социальная, и профессиональная
группы должны принять нового человека, который ее выбрал в
качестве группы идентичности, как своего.
Переходя к вопросу о механизме психического развития,
необходимо подчеркнуть, что он важен с нескольких точек зрения,
в том числе и при анализе процесса социализации. Процесс
вхождения человека в определенную социальную действительность
предполагает понимание особенностей этой действительности,
принятие ее норм и ценностей в качестве собственных идеалов и
установок. Однако в отличие от социальной адаптации
социализация, как и формирование социальной идентичности, предполагает
не только пассивное принятие определенных норм и правил
поведения, но и их активное использование. Таким образом,
социализация фактически является адекватной интериоризацией внешних
требований, превращением их в «субъективную реальность
индивида». Формирование именно этого аспекта социализации,
связанного с выработкой активной позиции, со стремлением
самоактуализироваться именно в этой действительности, несмотря ни на
какие препятствия, вызывает наибольшие сложности.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
395
В связи с этим встает важнейший вопрос о психологических
механизмах, которые способствуют переводу этих требований во
внутреннюю структуру личности. Концепция Шпета позволяет по-
новому рассмотреть процесс социализации, главным в котором
выступает именно инкультурация ребенка (или аккультурация
взрослого человека в новом обществе). Шпет неоднократно писал о том,
что развитие культурного самосознания подразумевает принятие
человеком культуры определенного общества и народа как своей
собственной, т. е. связано с интериоризацией продуктов данной
культуры и выработкой определенного эмоционального
отношения к различным элементам культуры. Именно эти переживания
направляют процесс социализации в нужное русло, интериоризи-
руя одни элементы культуры и отвергая другие.
Фактически именно переживание в этом случае выступает как
механизм, позволяющий интенсифицировать процесс интерна-
лизации норм, ценностей и эталонов, значимых для социального
(этнического) окружения человека. Именно переживание является
механизмом развития, переводя знания из внешнего, социального
плана во внутренний план самосознания и придавая им интенцио-
нальность. Однако сам Шпет при интерпретации понятия интер-
нализации использует понятие внутренней формы слова и\или
художественного произведения, хотя сама по себе она не может стать
причиной интернализации представлений и не обладает
энергетическим и интенциональным потенциалом. Однако, по мнению
Шпета, внутренняя форма облегчает этот процесс, способствуя
появлению эмоционального отношения к тем знаниям, которые
оформляет данная внутренняя форма.
Необходимо подчеркнуть, что отождествление внутренней
формы с эмоциональной сферой и механизмом развития не было
возможным в то время, потому что существенно отличалось само
понимание эмоциональной сферы, а проблема механизмов развития
до 3. Фрейда вообще не была осознана и структурирована в
психологии. Но, по сути, Шпет говорит именно о механизмах развития
и интернализации, так как внутренняя форма включает механизм
эмоционального обусловливания.
Связывая понимание искусства с понятием внутренней формы,
Шпет подчеркивает, что внутренняя форма передает не
абстрактное знание, но мировоззрение творца, которое вызывает
соответствующие переживания у зрителей. То есть искусство вызывает
именно общие эмоции, а внутренняя форма эмоционально
заражает состоянием художника его слушателей. Это эмоциональное
заражение и заставляет зрителей интериоризировать те понятия,
396
РазделУ
которые закодированы художником во внутренней форме его
произведения. Так как эти переживания бессознательны, они
способны вызывать эмоции слушателей тогда, когда разум мог бы их
отвергнуть. Поэтому внутренняя форма является идеальным
инструментом эмоционального обуславливания и/или заражения,
приводящего к интериоризации даже тех понятий, которые на
рациональном основании не были бы восприняты человеком.
Таким образом, можно сделать вывод, что Шпет, говоря о
механизме развития, фактически отождествляет понятие переживания
с понятием внутренней формы, благодаря которой становится
возможным эмоциональное обуславливание и/или заражение и ин-
тернализация понятий. Возможность соединения рационального и
эмоционального планов не только в понятии внутренней формы,
но и в понятии переживания, исследуется и в современной науке.
Так, в исследованиях, проводимых в нашей лаборатории, было
показано, что отличительной особенностью переживаний является
наличие в них двух аспектов — мотивационного (энергетического)
и когнитивного, что делает их уникальным механизмом развития
идентичности.
Концепция Г. Г. Шпета не только раскрывает механизмы
социализации человека, но и помогает преодолеть
натуралистическую позицию в психологии личности и найти для нее место между
субъектом и духовным миром. Шпетовская трактовка понятия
«человек» дает возможность соотнести внутреннее содержание,
присущее только личности, с миром культуры. Цикл эстетических работ
Шпета, с точки зрения современной психологии, важен не только
тем, что в нем по-новому ставятся вопросы творчества и
психологии искусства, сколько тем, что сама психология искусства
позволяет ответить на вопрос о влиянии культуры на самосознание
человека.
Для психологии личности здесь во многом заложен и ответ на
актуальный вопрос о взаимосвязи личностной и социальной
идентичности. Положение Г. Шпета о культуре как образующей
личности открывает пути для исследования процесса социализации
в современной изменчивой и неопределенной ситуации, которая
умножает точки бифуркации в развитии личности и дает
основания для появления множественности аспектов «Я» в разных
ситуациях и разных группах.
Шпет подчеркивал, что культура, и особенно искусство,
остается неизменной даже тогда, когда меняются быт, мировоззрение,
политические и структурные аспекты социальной ситуации
человека. Это постоянство и выделяет культуру как фактор, помогающий
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
397
«восстановить связь времен». Именно культура, эмоционально
воспринимаемая как единое целое, как часть социальной,
этнической и личностной идентичности, дает укорененность и
устойчивость, позволяя найти точки опоры в изменяющейся
действительности и восстановить утраченную целостность восприятия мира и
себя. Культура, в случае успешной инкультурации, эмоционально
воспринимается как единое целое. Так формируется одна из
важнейших составляющих структуры самосознания личности — «Я —
культурный человек».
Важный момент связан с тем, что включение в социальную
идентичность культуры как фактора стабилизации дает
возможность в меньшей степени использовать в качестве такого фактора
этническую идентичность, которая также дает укорененность и
уменьшает неопределенность настоящего и будущего. В
современной ситуации этот вопрос приобретает исключительную важность,
так как включение этнической идентичности как
стабилизационного фактора во многом становится причиной нетерпимости к
другим народам и социальным группам. Это доказывает и реальность
нашего времени, когда социальная нестабильность в
многонациональных государствах проявляется в обострении национальных
конфликтов. Возможно, межнациональные конфликты становятся
оборотной стороной тех процессов глобализации, которые
характерны сегодня и для Европы, и для мира в целом. Опасения
раствориться в мировой культуре, потеряв свою национальную
специфику, фрустрация потребности в этнической идентичности (особенно
в позитивной идентичности) усиливают недоверие к другим
народам, негативное отношение к ним. Как показывают исследования,
подобные конфликты особенно непримиримы, когда
формирование социальной идентичности начинает происходить
преимущественно на основе национальной составляющей идентичности, в
то время как доминирование культурной идентичности повышает
толерантность.
Таким образом, можно утверждать, что в концепции Шпета
была сделана попытка разработать одну из первых синергетиче-
ских теорий, в которой культура может рассматриваться как
фактор, структурирующий и выстраивающий процесс социализации и
становления социокультурной идентичности в кризисные периоды
Идеи Шпета о путях развития психологии приобретают новое
звучание в эпоху постмодернизма и конструкционизма. Эта
методология очень органично связывается с методологическими
построениями Шпета, с его стремлением к построению
междисциплинарных связей и его скептицизмом, его представлением о путях
398
РазделУ
развития науки, о роли коммуникации, кодировании и
декодировании информации и для познания человеком мира, и для
понимания им самого себя.
Говоря о «скептицизме и догматизме» Юма, Шпет, по сути,
хотел показать и сущность своих сомнений в, казалось бы,
незыблемых теориях и стремлениях к абсолютному знанию, которого, как
он был уверен, на самом деле не существует. Он считал, что
универсальных законов не бывает, что любые законы адекватны только
для конкретной реальности, сконструированной людьми для
объяснения и понимания того мира, в котором они живут. Этот образ
мира зависит и от исторического периода, и от социальной
ситуации, и от индивидуальных особенностей людей.
Современные теории, в частности концепции конструкциониз-
ма и социальных представлений, доказывают, что образ мира,
каким он нам предстает, зависит прежде всего от нашего сознания,
от нашей интенции, которая и определяет «поворот» калейдоскопа
и изменение картины мира. Многочисленные исследования,
проводимые в разных научных школах, показали многомерность этой
картины, в которой, как в гениальной инсталляции, уживаются и
дополняют друг друга различные представления, порожденные
разными видами бытия. Структура этой системы представлений,
являющейся важнейшим условием ее существования, изучалась не
только современными учеными (С. Московичи, К. Герген, П.
Бергер, Т. Лукман), но и Г. Шпетом.
Говоря о «жизненном мире» и развитии представлений о нем,
учитель Шпета Э. Гуссерль подчеркивал, что предмет — «есть», а
смысл — «значит». Эта позиция дает возможность соотнести
несколько пластов бытия, в том числе значение и смысл предмета
(что отсылает нас к современной психологии), а также значение
и представление, т. е. внутреннюю форму предмета (что отсылает
к Г. Г. Шпету). Однако если личностный опыт еще может быть
получен человеком в собственной индивидуальной деятельности, то
появление надличностных феноменов сознания невозможно без
общения с другими. Ведь именно в процессе коммуникации люди
передают друг другу как значения, так и свои смыслы, часто
бессознательно путая одно с другим.
Так как при понимании речи другого происходит как бы
воссоздание аналогичных, но не тождественных понятий, процесс
передачи информации основывается на обобщении и кодировании
информации, а затем ее декодировании реципиентом. Абсолютно
строй представлений и образов разных людей не совпадает,
поэтому, чем точнее мы поймем, что именно мы хотим сказать, какую
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
399
информацию передать другому, тем более правильную форму
найдем для своих мыслей и, таким образом, более адекватно
воздействуем на сознание другого человека, который сможет воссоздать
соответствующие нашим мыслям понятия. Не случайно поэтому
одним из центральных понятий для современной психологии
становится нарратив, отличительной особенностью которого является
его формирование в процессе социального взаимодействия.
Выстраивание нарративов можно рассматривать и как механизм
самоосмысления, и как механизм социализации. Формы нарративов,
закрепленные в культуре, становятся основанием для построения
человеком своих собственных жизненных историй, в какой-то
степени конструирования своей идентичности.
Поэтому естественно, что методологические положения, в
русле которых культура, информационное общение людей является
одной из ведущих образующих их самосознания, с
необходимостью отсылают нас к концепции Шпета, который одним из первых
поставил задачу анализа текста в процессе личностного общения,
восприятия произведений искусства, передачи информации. При
этом в его работах красной нитью прослеживается важная для
современной нарративной психологии мысль о взаимосвязи
«человек — текст». Именно Шпет начал выстраивать одну из первых в
России теорию герменевтики, которая помогает объяснить законы,
по которым формируются представления людей о
действительности и интерпретируется поступающая информация. Этот подход
действительно опередил время — недаром Зеньковский укорял
Шпета именно за такой недогматический подход, за попытку
оспорить утвержденные временем истины в период, когда поиск
абсолютной истины казался главной целью ученого.
В настоящее время эволюция научного знания рассматривается
как последовательная смена теорий, каждая из которых более
точна, чем предыдущие, но ни одна не представляет собой полное и
окончательное описание явлений, ни одна не несет абсолютную
истину. Поэтому наука в поисках ответов на кардинальные
вопросы должна выйти за пределы условных границ между
дисциплинами, используя те «языки», которые оказываются подходящими для
описания различных аспектов многоуровневой, взаимосвязанной
реальности. Научное мировоззрение Шпета абсолютно
соответствует именно такому подходу.
О попытках Шпета завязать межпредметные связи написано уже
немало. Он исходил из того, что будущее науки — именно в
межкультурном взаимодействии, на базе которого будет сформировано
новое понимание, новое качество и науки, и культуры, и жизни,
400
РазделУ
так как только межкультурные исследования позволят найти
всеобщие принципы, объясняющие закономерности не только научного
знания, но и всеобщего бытия. Этот принцип он реализовал в
работе ГАХН. Работа в академии привела его к выводу, что наиболее
продуктивно для разработки такого междисциплинарного подхода
искусство, так как именно в нем соединяется все то, что было
разорвано, разъединено в поисках отдельных объяснительных
принципов — как принципов естественных и гуманитарных наук, так и
житейских принципов. И в этом выборе доминирующей роли
искусства идеи Шпета также созвучны постмодернистским взглядам.
Оправдалось предвидение Шпета и в отношении
естественнонаучной методологии. Еще в начале XX в., когда психология
закономерно переживала период увлечения экспериментом,
естественно-научной парадигмой в исследовании психики, он
писал, что это направление таит в себе не только много
возможностей, но и подводные камни, связанные с тем, что не может быть
исследования психики человека без исследования его социальной
среды, культуры.
Специфика научного мышления Шпета проявилась в том, что
он смог показать новые перспективы, новые точки зрения, не
только объединяющие и систематизирующие уже открытые, известные
факты, но и проливающие на них свет с новых сторон, ставящие
новые задачи не только перед данными исследователями, но
открывающие дорогу и для ученых следующих поколений.
Говоря о роли переживаний, Шпет писал, что исследование
того, как определенный исторический факт или названное
значение переживаются субъектом или этносом в данный конкретный
момент, помогает понять не только содержание национального
сознания, но и саму историческую ситуацию, складывающуюся в
данный момент в обществе. С этой точки зрения интересно
проследить, чем вызван интерес к творчеству Шпета в наше время. А. Ти-
андер объяснял такой интерес к определенному творчеству тем,
что мысли и настроения автора становятся близкими, сливаются
с настроением данной эпохи, а потому эти произведения
позволяют людям лучше понять себя и свое время. При этом
определенные упоминания и цитирования того или иного великого человека
всплывают в тот момент, когда его переживания, состояния и дела
созвучны настоящему положению.
Чем же совпадают переживания двух эпох — рубежа XIX—XX вв.
и настоящего периода, на стыке XX—XXI вв.? Даже на первый
взгляд видна схожесть социальной ситуации — и в экономическом,
и в общественном, и даже в эмоциональном плане. Так, в конце
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
401
XIX века известный российский филолог Буслаев писал, что
взбудораженные великими реформами и переворотами, вековые идеи,
стремления и идеалы хотя и не перестали совершенно привлекать
людей, но потеряли в их глазах авторитет непреложности.
Однако не только социальная ситуация, но и научные
проблемы, волновавшие ученых того времени и настоящего,
перекликаются друг с другом. И интерес к работам Шпета основан именно
на том, что они становятся созвучны современным проблемам,
встающим перед психологической наукой, проблемам, которые на
долгие годы ушли из поля нашего зрения, но сейчас вновь встают и
перед наукой, и перед обществом в целом во всей своей сложности.
Символично, что на рубеже XX—XXI вв. вновь, как и столетие
назад, приобретает актуальность проблема смысла и сути культуры,
отличий природного и культурно-исторического бытия, границ и
способов влияния культуры на личность. И творчество Шпета,
которое является одной из ярких составляющих культурного поля
начала XX в., помогает восстановить «связь времен» и способствует
тем самым становлению нашей научной и, шире, социокультурной
идентичности.
M. С. Гусельцева
Значение методологических идей
Г. Шпета для современной психологии
В трудах Шпета - методологическая рефлексия будущего
психологии
Вначале XXI в. в психологии прослеживается поворот в
сторону гуманитарного знания. Обращение к трудам Шпета
особенно актуально, потому что в этих сочинениях был
намечен проект психологии как интерпретирующей науки.
До недавнего времени труды Шпета недостаточно
анализировались в плане поиска методологических основ развития
психологии, а между тем именно их методологический потенциал
может послужить современной психологии средством
преодоления очередного кризиса, связанного с вызовами постмодернизма,
переходом к информационному обществу, сменой парадигм (от
неклассической к постнеклассической науке) и методологическими
поворотами в гуманитарном познании (лингвистическим,
культурологическим, нарративным и т. п.).
Взгляд на развитие психологии как на смену типов
рациональности
В общем контексте науковедения вырисовываются контуры
следующих этапов развития психологии: 1) допарадигмальное
состояние, связанное с развитием психологических знаний в лоне
философии; 2) классическая рациональность, заявившая о себе
претензией психологии на статус самостоятельной науки и
завершившаяся так называемым «открытым кризисом»; 3)
неклассическая рациональность, представленная расцветом психологических
школ XX в., ориентирующихся на разнообразные типы анализа;
4) постнеклассическая рациональность — современный этап, к
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
403
особенностям которого относятся сверхрефлексивность, или
«критическое самоосмысление дисциплины» (К. Джерджен),
междисциплинарный дискурс, сетевой принцип организации знания и
герменевтическая ориентация исследований.
Заметим, что истоки постнеклассической рациональности
можно найти в работах российских гуманитариев начала XX в. В это
время в российской культуре происходил феномен, сам по себе
требующий объяснения, а именно — появление целого ряда ученых-
энциклопедистов, таких, как В. И. Вернадский, П. А. Флоренский,
А. Л. Чижевский, M. M. Бахтин и Шпет. В своих трудах эти ученые
реализовывали так называемый междисциплинарный дискурс,
являющийся одной из характеристик постнеклассической
рациональности (В. С. Стёпин1) и сделавшийся сегодня особенно
популярным в русле постмодернистской парадигмы. В этой связи Шпе-
та не следует рассматривать как одинокую фигуру в российской
культуре — он стоит в одном ряду с К. Д. Кавелиным, А. А. По-
тебней, петербургской школой историков-медиевистов,
возглавляемой И. М. Гревсом, M. M. Бахтиным и др., — иными словами,
с учеными, которые внесли свой вклад в разработку новой
исследовательской парадигмы, поворачивающей психологию лицом к
культуре. Однако особенно четко новая исследовательская
парадигма была отрефлексирована в трудах Шпета. Если Бахтин
разрабатывал методологию гуманитарного познания в целом, то Шпет
наметил гуманитарные перспективы конкретно для психологии.
Новая исследовательская парадигма была связана с идеей
«динамической полноты познания». Шпет показал, что «все многообразие
культуры получает в языке, как таковом, не только эвристический
образец, и не только эмпирический архетип, но принцип предмета
и метода»2, что методологической основой гуманитарных наук
выступает герменевтика.
Современные вызовы психологии и ответ на эти вызовы
в трудах Шпета
В современной методологии науки представлены три парадигмы —
синергетика (теория самоорганизации), постмодернизм и постне-
классическая рациональность. Эти парадигмы явились вызовами
1 См.: Стёпин В. С. Теоретическое знание. Структура, историческая эволюция. М.,
2000.
2 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996. С. 82.
404
РааделУ
для развития психологии. Несмотря на методологические
различия, есть общее, что сближает эти три парадигмы. Это —
ориентация на междисциплинарный дискурс, диалог концепций,
преодоление границ между разными сферами знания.
Разумеется, в трудах Шпета не было понятий «постнеклассиче-
ская рациональность», «синергетическая парадигма» или «мироси-
стемный анализ», но была рефлексия реальности динамического
размывания дисциплинарных границ. Психология в понимании Шпета
плавно перетекает в языкознание, языкознание — в историю
культуры и т. п. Границ как будто нет, но при этом дисциплинарная
специфика не исчезает. Например, когда мы изучаем такую культурно-
психологическую реальность, как язык, то невозможно расчленить
психологический, естественно-научный и социальный пласты
анализа — это разные углы рассмотрения изучаемого феномена. Так, в
социальном плане мы должны учитывать «постоянное давление
готового языка, традиции на творческое языковое сознание»3, с другой
стороны, речь в своем развитии ориентируется не только на
универсальные нормы, но и на ситуацию. Иными словами, Шпет не
разрывает гуманитарное познание (а психология в его понимании — часть
гуманитарного знания) на отдельные сферы культуры, а видит их в
качестве разных граней феномена духа. Причем постижение
целостности названного феномена становится возможным именно в
динамической взаимосвязи перетекающих друг в друга дисциплин.
Системообразующим основанием этой связи дисциплин
становится слово. Это центральное понятие труда Шпета
«Внутренняя форма слова» (1927). Слово для Шпета — это именно то, что
объединяет все гуманитарные науки, науки о духе, науки о
человеке. В этом контексте психология и история (и весь ряд смежных
наук) — это области знания, которые невозможно разделить, когда
речь идет, например, об изучении становления идентичности,
развития личности, ее переживаний и ментальное™ в целом.
Проблема соединения анализа уникального и универсального в
развитии психики становится у Шпета специфической проблемой
психологии. И решение этой проблемы (и развитие психологии в
качестве гуманитарной и объективной науки) упирается в
недостаточную разработанность ее методологических основ. Психология в
понимании Шпета — это не только эмпирическая (ранние стадии
ее развития), но и описательная наука. Именно «описание на
основе интерпретации» позволяет психологии обрести искомую
объективность. Поэтому методологические основы психологии про-
3 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996. С. 92.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовскнх идей
405
легают в области герменевтики как особой логики гуманитарного
знания (заметим, что так понимал герменевтику еще В. Дильтей).
Ранние работы Шпета и идеи интерпретирующей психологии
В ранних работах «История как проблема логики» и
«Герменевтика и ее проблемы» (начало работы над рукописью — 1918 г.)4 Шпет
пытался выяснить роль герменевтики в качестве методологии
гуманитарного знания. Здесь прослеживается определенное сближение
позиции Шпета с позицией Бахтина: не эмпирические факты, а
тексты служат источниками гуманитарного знания; на смену
разрыву объяснения и описания должна прийти интерпретация (что
позволяет преодолеть дилемму, т. е. дуализм Дильтея);
гуманитарные науки не замкнуты в своих дисциплинарных границах, залог
их эффективности — междисциплинарный дискурс.
В небольшой работе «Один путь психологии и куда он ведет» (1912)
Шпет дал методологическое обоснование культурно-аналитической
традиции в психологии, т. е. показал, как возможна психология в
качестве описательной и аналитической науки. Заметим, что эта работа
созвучна «Историческому смыслу психологического кризиса» Л. С.
Выготского, но в качестве выхода из кризиса в ней предлагается иная
исследовательская парадигма. Шпет исследовал методологическую
ситуацию, сложившуюся в современной ему психологии, и предложил
свой путь выхода из кризиса. Диагноз, поставленный науке Шпетом,
получил название «логизм в психологии». Как и его предшественник в
этой области, К. Д. Кавелин, Шпет не мыслил психологию вне
философского контекста. Разрыв с философией, делая из психологии науку
по естественному образцу, тем самым отделял ее от рефлексии
методологических оснований гуманитарного знания. Шпет подчеркивал, что
нельзя заменить собственно психологический анализ, в котором
важную роль играет рефлексивный компонент, самонаблюдение,
логическим рассуждением, потому что логические схемы не передают
«реальное отношение разных сторон живой душевной жизни».
Заметим, что методологические идеи Шпета разбросаны по
разным работам; специально разработкой методологических основ
психологии как таковой Шпет не занимался. Однако, опередив
4 По замыслу Шпета, это была одна работа — ее 1-я и 3-я части, — включающая
также недописанную 2-ю часть, посвященную методологическому анализу
неокантианства, позитивизма Дж. С. Милля, психологизма В.Вундта и Зигварта, а также
анализу методологии наук о духе Дильтея.
406
РазделУ
Выготского на четверть века, он подверг критике анализ по
элементам в психологии, противопоставив ему (не без влияния идей
Дильтея) целостность переживания. Далее, Шпет указал на
фрагментарность частных исследований в психологии, с одной
стороны, и на востребованность психологии историей и культурой,
обещающими вывести психологию в перспективный для осмысления
ее проблем, расширенный контекст, — с другой.
Путь преодоления кризиса в психологии Шпет усматривал в новой
исследовательской методологии, берущей начало в работах У. Джемса
и учении Дильтея. Главной психологической категорией Шпет считал
переживание, потому что в переживании дана изначальная связь
душевной жизни. Шпет критиковал распространенное мнение, что
описание «лишь предварительная ступень в научной работе», за которой
должно последовать объяснение, относя этот предрассудок на счет
традиции гносеологического рационализма. Им также был вьщелен
«ряд методологических предрассудков логики XIX века», не
утративших актуальности и по сей день. К таким предрассудкам Шпет
относил ориентацию наук на «математическое естествознание»,
стремление психологии сделаться «основной наукой», увлечение аналогиями
исторической и духовной жизни с жизнью органической5.
Методологической ошибкой психологии Шпет считал погоню
за поиском закономерностей и универсалий, поскольку
«необыкновенное богатство и разнообразие <...> конкретной душевной
жизни» требует особой методологии, а именно — психологии
описательной и аналитической6. Методы, адекватные
интерпретирующей психологии, — это сравнительный метод, описательно-
аналитический метод, идеальное моделирование, предполагающее
выделение типов. (Здесь прослеживается определенная перекличка
идей Шпета с идеями М. Вебера.)
Поздние работы Шпета и идеи, созвучные постмодернистской
и постнеклассической парадигмам
В работе «Внутренняя форма слова» (1927) Шпет доказывал, что
индивидуальность человека проявляется в его творчестве
(например, в поэзии). И психологический анализ может быть сочетанием
универсального и уникального. Субъект есть социальная реальность
(«социальная вещь»). «Всякая социальная вещь» есть одновременно
5 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996. С. 150.
6 Там же. С. 85.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
407
объективированная субъективность и субъективированная
объективность (первая — предмет истории, вторая — социальной
психологии). Психика объективируется в творческих и деятельностных
актах и тем самым становится культурой. А культура субъективируется
в переживаниях и становится психикой. Отсюда следует, что
психология — это не замкнутая наука об индивидуальном человеке, она
возможна лишь в диалоге с рядом смежных наук, с гуманитарным
познанием в целом. Невозможно понять человека, не выходя за
пределы его индивидуальности в сферы социума и культуры. Источник,
из которого мы можем почерпнуть знание о субъекте, заключается
в продуктах его творчества. Поэтому естественно-научные и
общепсихологические исследования человека абстрактны и этим
беспомощны. Раскрыть феномен развития личности мы можем лишь при
«культурно-социальном посредничестве»: «естественно-научное
изучение принципиально не знает субъекта как субъективность, а
знает как объект»7. (Здесь имеет место перекличка идей Шпета с идеями
M. M. Бахтина, полагавшего, что гуманитарные науки
рассматривают свой предмет как «текст» и постигают его диалогически.)
Субъект — не «психофизический индивид», а «социальный
феномен», «конденсатор социальной и культурной энергии»8.
Психология должна рассматривать субъекта «не в натуралистическом
отвлечении», а в процессах объективирования и субъективирования себя
(в культурных, художественных и внутренних формах).
Естественнонаучная психология изучает «психобиологического индивида»:
темперамент, задатки, характер, способности, а не целого человека,
которого можно прочесть как текст. То, что в естественно-научной
парадигме предстает как «реакции», «импульсы» и «рефлексы», в
культурно-аналитической есть экспрессия (всякое действие субъекта
несет социальный смысл; субъективность проявляется и
интерпретируется в интонации, манере, стиле). «Экспрессия —
действительный источник изучения субъекта как субъекта»9.
В работе «Введение в этническую психологию» (1927) Шпет, с
одной стороны, продолжил обсуждение методологических
оснований и предмета психологии, а с другой — создал проект этнической
психологии, особой области исследований, известной также под
названием «культурная психология» («cultural psychology»).
Поскольку этническую психологию Шпет сопоставлял, с одной
стороны, с психологией, а с другой — с науками о культуре, с
7 Там же. С. 231.
8 Там же. С. 227.
9 Там же. С. 242.
408
РазделУ
историей, этнологией и т. д., то в этой логике
междисциплинарный дискурс оказывался неизбежен. Постнеклассичность Шпета
проявилась также в его «герменевтической диалектике» внешнего
и внутреннего, в методе «интерпретирующей диалектики научных
понятий». Для Шпета, как и для Потебни, и для Бахтина, душа
объективируется в культуру и так постигается. Язык есть орудие
познания, и это понимание языка как инструмента и общей основы
есть корень единства и естественных, и гуманитарных наук. Язык
есть архетип и начало разных наук, он создает особые
модификации форм культурного познания (право, искусство и т. п.).
Внимание Шпета к тексту и языку сближает его с современными
поворотами гуманитарных наук и постмодернистской парадигмой. Шпет
выделил особые методологические установки — «натуралиста» и
«историка», «наблюдателя» и «читателя», но он полагал, что
герменевтическая установка должна быть присуща всякой науке.
«Постмодернизм» Шпета10 проявился в его исследовательском
стиле: в восприятии феноменологии посредством критики
феноменологии («Явление и смысл»), методологии Дильтея —
посредством критики Дильтея («Вильгельм Дильтей»); в идее ситуативно-
сти субъекта: в своих произведениях субъект «дан целиком», но это
«субъект данного момента». «В другом произведении он — другой,
и, в то же время, в обоих один, и т. д.»11.
Анализируя эволюцию той или иной дисциплины, Шпет
выделял в ней ряд этапов: 1) эмпирическое изучение отдельных фактов,
2) интуиция принципиальных основ и философских принципов, а
также кризис эмпирической науки, «когда специальное
исследование перерастает пределы своего эмпирически обобщенного
основания, отражающего уже преодоленную в науке ступень», 3)
после кризиса и неизбежного усиления рефлексии в науке наступает
творческий подъем и «создаются новые обобщения», уже
согласованные с философскими принципами. Шпет также полагал, что
недостатки всех объяснительных стратегий обнаруживаются в
игнорировании того, что факт — это «только отвлеченное
обобщение, а не сущая полнота»12. Одного объяснения фактов для науки
недостаточно. Поэтому логика эмпирических наук — это логика не
естествознания, а логика истории (гуманитарное мышление, опи-
10 Мы сейчас абстрагируемся от того факта, что постмодернистская парадигма
существует во множестве авторских интерпретаций (от Ю. Хабермаса до У. Эко),
нам важно отметить, что кредо конструктивного постмодернизма — не отрицание
традиции, а ее переосмысление, переинтерпретация.
11 Шпет Г. Г. Психология социального бытия. М.; Воронеж, 1996. С. 238.
12 Там же. С. 83.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей 409
рающееся на воображение и интерпретацию, отличается большей
широтой)13. Не только к культуре, но и к природе мы относимся
как к тексту («Эстетические фрагменты»). Эти идеи сегодня
сделались популярными в постмодернистской и постнеклассической
парадигмах. Семиотическая установка также отличала мышление
Шпета. И его справедливо считают предтечей развития семиотики.
Недостатки концепции этнической психологии Шпета связаны
с недоверием автора к генетическому анализу, которое следует
отнести на счет отсутствия у Шпета интереса к теме «созревания»
индивида и к биологии в целом. Здесь концепция Шпета должна быть
дополнена учением о генетическом методе Выготского, историко-
генетической концепцией Потебни.
В целом российская психология на рубеже XIX—XX вв. имела
два источника гуманитарного развития: обращение психологов к
историко-культурным исследованиям — с одной стороны, и
интерес историков культуры к психологическим исследованиям, с
другой. В начале XX в. отечественная психология обладала
достаточным интеллектуальным и методологическим потенциалом, чтобы
развиваться по гуманитарному пути. Сама логика развития науки
вела российскую психологию к категории «культура».
Исторический путь становления отечественной культурно-исторической
психологии может быть представлен работами Кавелина,
историко-генетическим подходом к психике Потебни, проектом
этнопсихологии Шпета, идеями позднего Челпанова,
обратившегося к осмысливающей этнографический опыт социальной
психологии, социально-генетической концепцией Выготского.
Но особенно ярко современные постнеклассические и
постмодернистские тенденции, связанные с изменением
исследовательской парадигмы, прослеживаются в методологических идеях
Шпета: в переходе от естественно-научной психологии — к
гуманитарной, от объективизма — к культурной аналитике (от
обобщения фактов — к их интерпретации), от позитивистского стиля
мышления — к герменевтическому.
13 См.: Митюшин Л. А. Творчество Шпета и проблема истолкования
действительности // Вопросы философии. 1988. № U.C. 93—104.
П. À. Олъхов
Стиль как modus vivendi Г. Г. Шпета
(некоторые наблюдения)1
...Стиль покоится на глубочайших твердынях
познания, на самом существе вещей, поскольку
нам дано его распознавать в зримых и осязаемых
образах
И.-В. Гёте
Эпистемологическая труднодоступность философских
исследований Г. Г. Шпета стала неким общим местом в
истории отечественного шпетоведения. Дело не только в том,
что эти исследования достались нам в незавершенном
виде — это руины, к которым прежде всего нет легкого
речевого доступа. «Философский архив»2 Г. Г. Шпета нельзя
осваивать с той стилистической непосредственностью, с которой
начинались исследования Н. А. Бердяева и В. С. Соловьева и во многом
из-за которой «состоялись не состоявшись» бахтиноведческие
изыскания 70—80-х и особенно 90-х годов прошлого столетия.
Задача стилистического распознания шпетовских работ не решается
неким отвлеченно-общим способом (посредством стилистических
уподоблений, сведением речевого стиля этого блестящего
мыслителя к стилистическим привычкам его современников и т. д.). Здесь
приходится иметь дело с конкретной целостностью и конкретной
обращенностью высказываний одного из самых осмотрительных и
подробных в речи русских мыслителей.
Впрочем, хорошо известны его лапидарные записи насчет
многочисленных стилизаций и попыток создавать искусственные стили
жизни и общения, которыми был переполнен его «архив эпохи»3: «От
нас теперь потребуется стиль. До сих пор мы только перенимали»4.
«Стиль может явиться после школы... стиль бывает только после шко-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 09-03-00107а.
2 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 423.
3 «Архив эпохи» — одна из самых, насколько могу судить, плодотворных
эпистемологических метафор, примененных в истории шпетоведения Т. Г. Щедриной. См.
например: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии.
М., 2008 («Вместо предисловия. Архив эпохи: проблема и концепт» и др.).
4 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 355.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
411
лы, а мы школы не проходили»5. Изъятые из контекста, «живого
словаря языка»6, эти записи могут показаться чуть ли не дидактическими
призывами — канунами новых стилистических синтезов. Увы, это
совсем не так. Предлагая позаботиться о стиле, Г. Г. Шпет исключает из
этой заботы какую-либо веру в сплачивающее метафизическое
начало стиля и отмечает его как некое возможное и каждый раз
конкретное содержательное условие «углубления в само внешнее»7 —
словесную реальность «всяческих реставраций и стилизаций»8.
Забота о конкретном
Для распознания содержательной стилистики Г. Г. Шпета
наиболее доступны, разумеется, «Эстетические фрагменты»9. Изданные в
1922 году, они уже самой датой своей публикации понуждают
насторожиться насчет бытовавшего тогда здравого смысла —
многочисленных попыток судить об эпохе с некоторой квазифилософской
точностью. Скажем, герменевтической удачей может показаться
здесь реплика Н. А. Бердяева: «В нашу тревожную, ищущую,
переходную, невоплощенную и незаконченную эпоху дух музыки
господствует над духом пластики»10. Н. А. Бердяев здесь будто бы
нисколько не оригинален в суждении и с некоторой афористичностью
повторяет то, о чем уже годами толкуют А. Белый и А. Блок, В.
Иванов и др.11, за которыми, в свою очередь, легко заметить
авторитетные суждения В. С. Соловьева, Ф. Ницше или А. Шопенгауэра.
5 Там же. С. 357.
6 Там же. С. 416.
7 Там же. С. 366.
8 Там же. С. 358.
9 См. например: Свасьян К. Л. Г. Г. Шпет // Растождествления. Режим доступа:
http://www.rvb.ru/swassjan/rastozhdest/17.htm. Ср.: Стайнер П. Tropos logicos:
философия истории Густава Шпета // Вопросы философии. 2004. № 4. С. 154—164.
10 Бердяев Н. Л. Смысл творчества. М., 1989. С. 459.
11 А. Белый пишет о «духе музыки, опочившем над хаосом» (Белый Л. Символизм
как миропонимание. М., 1994. С. 175), и о «музыке как невскрытом конверте с
содержанием нашей судьбы» (Там же. С. 307—308). Вяч. Иванов трактует «разрыв
Скрябина со всем музыкальным прошлым» как «музыкальный трансгуманизм,
долженствующий всякому правоверному гуманисту показаться даже не хаосом,
"родимым" и "звезду рождающим", а "безумья криком ужасным, потрясающим
душу", пэаном неистовства и разрушения» (Иванов Вяч. Родное и вселенское. М.,
1994. С. 109). У А. Блока: «Бороться с ужасами может лишь дух... А дух есть музыка.
Демон некогда повелел Сократу слушаться духа музыки. Всем телом, всем сердцем,
всем сознанием слушайте Революцию» (Блок Л. А. Интеллигенция и революция //
Блок Л. Л. Собрание сочинений. В 8 т. Т. VI. М.: Л., 1962. С. 19, 20).
412
РазделУ
Но не так уж и незыблемы позиции русских символистов12; и, что
важнее, Шпет является последовательным собеседником —
заинтересованным оппонентом и уверенным пересмешником
символистского способа философствования13. Никоим образом не
стилизуя символистические речевые практики, он явно противостоит их
«смысловой расплывчатости»14, высказываясь при этом на языке,
безусловно знакомом символистам, — говорит существенным
образом по-своему и свое — возражает смутной символистской «дис-
тинкции духов», абстрактным предположениям о непереводимой
музыкальности эпохи своим речевым modus vivendi15.
Прежде всего заметна «дразнящая» (по слову M. M. Бахтина16),
параонтологическая наглядность «Эстетических фрагментов». Уже
и лексические аллюзии, многократные отсылки к знакомому в
одних только заголовках17 вполне «производят впечатление». Однако
Шпету этого мало: фрагменты имеют музыкальный строй —
стилистически овеяны «духом» так часто обсуждаемого тогда
контрапункта, написаны как некий концерт — не то в pendant скрябинским
творениям, не то подобно Четвертому Бранденбургскому концерту
И. С. Баха. Allegro первой части — «Своевременные повторения»,
которые начинаются как «Miscellanea», будто бы звучанием
созерцательных флейт, скрипичными страстями и сухим звуком
рассудительного клавесина. Во второй, Andante, — «Своевременные
напоминания», где исходная живая, конкретная полнота темы
начинается как «Структура слова in usum aestheticae» и проводится с
содержательно-логической размеренностью; клавесин берет верх,
звуки флейт становятся «побочными» (ek parergon, как это нравит-
12 Белый, например, писал и о «магии слов» как средстве обуздания «потопа музыки»
(Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994. С. 66); Блок — о «человеке-
артисте», играющем жизнь в «насыщенной музыкой атмосфере» (Блок А. А.
Крушение гуманизма // Блок А. А. Собрание сочинений. В 8 т. Т. VI. М.: Л., 1962.
С. 115) и т. д.
п О символистическом философствовании см. например: Кондаков И. В., Корж Ю. В.
«Дух музыки» в философии русского символизма // Общественные науки и
современность. 1996. № 4. С. 152-162.
14 Кондаков И. В., Корж Ю. В. «Дух музыки» в философии русского символизма //
Общественные науки и современность. 1996. № 4. С. 153.
15 Так же обстоит дело и с отношением Шпета к формалистическим речевым
стратегиям, с их стилистическим соматизмом и машинальностью и т. д.
16 Бахтин M. M. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960—1970 гг. М., 2002. С. 253.
17 Например, «фрагменты» — историчное словцо основного заголовка, которое
семантически интенсивно переиначивается и онтологизируется в 1910—1920-е гг.;
явно напоминающее Ницше слово «своевременные» повторяется трижды в
подзаголовках и т. д.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
413
ся называть Шпету), и побочной становится скрипичная партия
(обсуждается тютчевский «Silentium»). Наконец, наступает Presto
третьей части, еще одних «Своевременных напоминаний», марше-
образных, конкретно-пародийных по отношению разом ко второй
и первой частям; Finis — своего рода аккорд Парсифаля, «общая
пародийно-математическая формула восприятия слова»18. Концерт
стилей в «бесстилевую эпоху» не может не быть концертом-скерцо,
рокайльно-математичным скерцо 1922 года...
От избытка возможностей, предоставляемых тем временем
для уточнения эстетико-музыкального впечатления от
«Эстетических фрагментов» Г. Г. Шпета, впору растеряться:
переслушать ли для этого еще симфонии А. Белого, перечесть ли «Федо-
на», предсмертные настояния «болтающему Сократу» («Сократ,
займись музыкой!»), или Вяч. Иванова, рассудившего о
контрапункте Достоевского, — или же прямо замедлить над
характеристиками «свободного общества» достоевских «бесов», в котором
Цицерону вырывают язык, Копернику выкалывают глаза и
Шекспира побивают каменьями?.. Г. Г. Шпет — фактический сверстник
социально-философского романа с его напряженной
антиутопической атмосферой; почему не обратить еще внимание на Евг.
Замятина или Олдоса Л. Хаксли, написавшего свой «Контрапункт»?
Заслуживает ли только этого стилистическое устроение речи
Шпета?
Ясность — одно из излюбленных слов-образов эпохи19. Г. Г. Шпет
сохраняет этот образ и добавляет к нему новый образно-смысловой
тон — придает некую образность слову-понятию «конкретное»,
которое употребляет порой с речитативной частотой. Уже в самом начале
«Эстетических фрагментов» встречаются реплики: «Искусство
насквозь конкретно — конкретно каждое воплощение его, каждый миг
его, каждое творческое мгновение. Это для дилетанта невыносимо: как
же со всем "познакомиться"?»20. «Искусство не есть жизнь и
философия не есть жизнь...»21. «Философия же — последняя, конечная в
задании и бесконечная в реальном осуществлении конкретность;
искусство — именно потому, что оно искусство, а не уже-бытие, творчество,
а не созданность — есть предпоследняя, но все же сквозная
конкретность. Философия может быть предпоследнею конкретностью, и тогда
она — искусство, а искусство, проницающее последнюю конкретность,
18 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 472.
19 Это слово интенсивно-пародийно «бытует» в романах-антиутопиях эпохи Шпета
(Евг. Замятина, О. Л. Хаксли и др.).
20 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 351.
21 Там же. С. 353.
414
РазделУ
есть уже философия»22. Всякая отвлеченная забота о стиле
отменяется — она несвоевременна и неуместна. «Наша история сейчас —
иллюзия. Наша быль — пепел»23. «Нет истинно-религиозного ни на что
эха»24, «и есть еще раздвоение, расщепленность, расплесканность»25.
Но «мы» не в силах не говорить о своем. Реальность «нашего»
стилистически конкретного бытования — последняя, словесная
реальность, или реальность историчного знака; — реальность «нашей»
речевой топографии — реальность «города» (курсив мой. — П. О.), который
«действителен только как знак, слово, культура; быль — история»26.
В этом жизненном, городском ландшафте немыслима
специальная, сосредоточенная забота о стиле, но и невозможно не помнить о
его присутствии. «Контрапунктом в басу» отзывается онтологичная
память о стиле — дает себя знать в рассуждениях Шпета об
«искреннем рождении нового Пана» — «возрождении Пана в городе»27.
Обетование нового стиля — разом Тютчев и Достоевский28, незавершимо-
конкретное прозаическое слово Достоевского и ориентированное на
последнюю, «паническую» конкретность слово Тютчева. Проблема
стиля — это, предварительно, проблема «бессмертного овнешнения»29
конкретного. С этим связаны шпетовские рассуждения о
предварительности речевой эстетики символизма: «Символизм — всегда
искусственный стиль, а не естественный, всегда стилизация»30. «Нужно
углубление в само внешнее, по правилу Леонардо: вглядываться в
22 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 353. Ср. с намерением Шпета
писать о конкретном в истории русской философии в «Очерке развития русской
философии» (части вторая-третья плана, реконструкция). Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо
другого...». Очерки интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 39 и др.
Слово «конкретное», разумеется, не является исключительным творчеством Шпета;
со всевозрастающей частотностью, отзываясь на европейские речефилософские
инициативы и по-своему оно бытует в русском философском языке ХЕХ — начала
XX вв.; но та стилистическая уверенность, с которой его привлекает к своим текстам
Шпет, сравнима разве что с тем, что происходит в «Предмете знания» С. Л. Франка
(«конкретное» у обоих — условие понимания «здесь и теперь», некий знак
понимания). О социально-эпистемологическом плане конкретного у С. Л. Франка см.:
Микешина Л. А. С. Л. Франк: проблемы методологии обществознания. Из истории
социальной эпистемологии (рукопись). О возможном конкретном утопизме у Шпета
см.: Кантор В. К Густав Шпет как историк русской философии // Шпет Г. Г. Очерк
развития русской философии. I. M., 2008. С. 31 и др.
23 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Т. Г. Сочинения. М., 1989. С. 370.
24 Там же. С. т.
25 Там же. С. 371.
26 Там же. С. 370.
27 Там же. С. 370.
28 Там же. С. 356.
29 Там же. С. 364.
30 Там же. С. 357.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
415
пыльные или покрытые плесенью стены, в облака, в ночные контуры
древесных ветвей, в тени, в изгибы и неровности поверхности любой
вещи, везде — миры и миры»31. В этой же связи: «нужно дойти до
собственного мастерства», до конкретной «софийности»32.
Внешнее усматривается из «города» и может показаться некоей
тайной завзятому «горожанину», живущему как ни в чем не бывало
в городских шумах, неравномерных и по-своему конкретных,
обжившему свою действительность как живую, звучащую
действительность «знаков, слов, культуры». Шпет -— не романтик. Он не
замирает апофатически (или «готически») перед этой тайной и нисколько
не избегает городской среды — не мистифицирует конкретное иное
и не пренебрегает ничьей сложностью. Пусть устраивает, по слову
О. Хаксли, «шутовской хоровод» утрат европейская интеллигенция,
насельница своих городских квартир и загородных особняков,
«желтых кромов»33. Пусть не наступила еще «смерть героя»34 и не
выяснилось еще, «полые» ли мы люди35, — для Шпета городской,
стилистический быт словесной реальности конкретен как пепел.
За фрагментами Allegro «Признаки и стили», «Распад и новое
рождение», «Эй, откликнись, кто идет?» следует, росо аросо,
Andante различений устройства слова (в некотором мыслимом единстве),
его номинативной и семасиологической предметности, протесты
против логики «понимания из происхождения» и заметки об
историчной наивности (схоластичности) редуктивного понимания
логики как формально-онтологической пропедевтики.
Hic Rhodus...
Трудно говорить о речевом стиле Г. Г. Шпета, не впадая при этом
в историографическое или «биографическое тряпичничество»36:
здесь многое может почудиться, вплоть до родосского стиля Мо-
лона, некогда знаменитого своей эклектической насыщенностью,
энергичными сменами долгих и кратких периодов (у Шпета — как
будто рефлективно-родосское сочетание рапсодичного
предуведомления и феноменологичного самоограничения с лаконично-
31 Там же. С. 366.
32 Там же. С. 376.
33 «Желтый кром», первый роман О. Хаксли, был издан годом раньше «Эстетических
фрагментов». Второй роман, «Шутовской хоровод» (Antic Hay), на год позже.
34 Р. Олдингтон публикует «Смерть героя» в 1929 г.
35 Роман Т. С. Элиота «Полые люди» будет издан в 1925 г.
36 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 431.
416
РазделУ
стью предметного рассуждения). Но есть, пожалуй, один
исторический стилист-«тряпичник», к которому Г. Г. Шпет не испытывает,
как ни удивительно, особой неприязни, — Sartor Resartus,
«заплатанный портной», — Томас Карлейль37.
Их роднит не только общая неприязнь к «рассудочно-головным
ублюдкам»38 — абстрактным «синтезам» и «всеединствам»,
метафизическим ли, позитивистским и т. п., порождаемым теми, кого Т.
Карлейль однажды назвал «class-of-cause-and-effect-speculators»^. И тот, и
другой высказываются с редкой стилистико-синтаксической
конкретностью и свободой. У Т. Карлейля, the best talker of England,
каким он предстал к середине позапрошлого века40, трудно отыскать
доминирующую фигуру стиля41; нет ее вовсе у Г. Г. Шпета, у
которого редки даже «иронические пузырьки» — есть самоочевидность
«пепельно-речевого» ландшафта, который перестал быть символом
чего бы то ни было. Стиль обоих поражает своей разрывностью42 и
вместе с тем продолжительными метафорическими модуляциями —
не формально-соматическими, не обращением к «разъятым телам»43,
а возобновлением раз за разом словесной реальности их «городов».
37 См. например: Шпет Г. Г. Герберт Спенсер и его педагогические идеи // Шпет Г. Г.
Philosophia Natalis. Избранные психолого-педагогические труды / Отв. ред.-сост.
Т. Г. Щедрина. М, 2006. С. 28—138. Ср.: Карлейль Т. Sartor Resartus. Жизнь и мысли герр
Тейфельсдрека. М, 1904. С. 81 и мн. др. (Карлейль, некий романтический антипод
Шпета, здесь настаивает, между прочим, на «приятности» и «полезности» биографии).
38 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 351.
39 Carlyle Т. On History / Critical and Miscellaneous Essays. Boston, 1857. P. 222. Cp.
о причинности как «винословности»: Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты //
Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 399 и др.
40 См., например: Гензель П. Томас Карлейль. СПб., 1903.
41 «Narrative is linear, action is solid» — один из известных карлейлевских афоризмов.
X. Уайт, решившись предположить, что Карлейль «ограничил научное и поэтическое
понимание мира Метафорическим модусом», оставляет это предположение в его
гипотетическом виде — кратко обосновывает его, обратившись к карлейлевским эссе
«Жизнь Джонсона Босуэла», «Об истории» и «О биографии», оставляя без внимания
крупные его сочинения, переписку с Гете и т. д., и, между прочим, указывая на то,
что «концепция истории Карлейля, как и его концепция философии, больше была
деятельной, чем созерцательной, была более энергичной и напористой в этическом
отношении, и, что неожиданно, она сильнее сопротивлялась ностальгическому
нарциссизму...». Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / Пер.
с англ. под ред. Е. Г. Трубиной и В. В. Харитонова. Екатеринбург, 2002. С. 178—179.
42 Неповторимый стиль Т. Карлейля поразил в свое время И. Тэна: Тэн И. Новейшая
английская литература в современных ее представителях. СПб., 1876. С. 164—165,
168 и др. О разрывности стиля Г. Г. Шпета см. например: Махлин В. Л. Второе
сознание: Подступы к гуманитарной эпистемологии. М., 2009. С. 462—463 и др.
43 Ср. о соматической онтологии фрагмента: Калинин И. История как искусство
членораздельности (исторический опыт и металитературная практика русских формалистов)
// НЛО. 2005. № 71. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/71/kalin5.html.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
417
Т. Карлейль пишет, например, о Франции 1879 года, которая
«напоминает иссушенную Сахару, когда в ней просыпается ветер,
вздымающий и крутящий необозримые пески! Путешественники
говорят, что самый воздух превращается тогда в тусклую песчаную
атмосферу, и сквозь нее смутно мерещатся необыкновенные,
неясные колоннады песчаных столбов... похожие на вертящихся
дервишей, танцующих чудовищный вальс пустыни», — «вальс
Сахары, который танцуют двадцать пять миллионов французов»44. Тем
временем «весь Париж» все чаще оказывается «на улице; он кипит
и пенится, как в стакане венецианское вино, в которое капнули
яду»45, «поднимается на носки»46, слушает звон топора гильотины,
«который периодически поднимается и падает, как будто страшно
пульсирующее сердце»47, и т. д.
У Шпета, свидетельствующего изнутри России начала 1920-х,
знакового 1922-го, «онтические и логические — формально-
рассудочные — схемы оживают под дыханием разума и расцветают,
становясь вновь осязательно-доступными нашему опыту,
переживанию, после того, как рассудок на время удалил от нас это
чувственное многообразие под предлогом внести порядок в его хаос»48.
В «настоящей истории» «"мотивы" должны завинтиться,
завихриться и закружиться в каком-то коловращении, чтобы
получился сюжет, и сюжеты сами сталкиваются друг с другом, сбиваются в
кучу и рассеиваются, вновь вздымаясь в крутящийся и несущийся
смерч. <...> Как само слово от мельчайшей своей атомной или
молекулярной дробности и до мировой связи в языках народов и
языках языков есть одно слово, так и смысл, сюжет, все содержание
мыслимого во всех логических и поэтических формах — одно
содержание. Оно воплощается во всей истории слова и включает,
через сопровождающее осмысление наименования вещей, все вещи
на земле и под землею»49.
Карлейль подбирает почти площадные эпитеты социальным
активистам революции, которым не следует доверять: Мирабо-
младший — «Mirabeau-Tonneau» («Бочка-Мирабо»); Мария-
44 Карлейль Т. Французская революция. История. СПб., 1907. С. 400 (перевод 1907 г.
отличается от того, что предложили переводчики в юбилейном издании 1991 г.,
устранившие не только технические неточности прежнего текста, но создавшие
свою версию перевода, близкую скорее нашему времени, чем эпохе Г. Г. Шпета).
45 Карлейль Т. Французская революция. История. СПб., 1907. С. 122.
46 Там же. С. 464.
47 Там же. С. 526.
48 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 420.
49 Там же. С. 419-420.
418
РазделУ
Антуанетта — «Фарфоровый сосуд»; Людовик XIV — «глиняный
сосуд», «король-хамелеон»; аббат Мори — «медноголовый» и др.
Шпет вполне в духе Карлейля и со свойственными ему самому
рефлексивными оговорками пишет об «узкогрудой верности»50,
«головах, в которых отверстие для проникновения идей забито прочною
втулкою»51, или еще о мыслителе «в виде какого-то глухонемого,
погруженного в "чистое" мышление, как в клубы табачного дыма»52, и др.
В тогдашней речевой российской повседневности
синтаксически пространная («карлейлевская») брань Шпета, должно быть,
казалась герменевтически изысканной, предназначенной, несмотря
ни на что, отнюдь не всем — пожалуй что и ненадолго — семиоцен-
тричным «горожанам» межвременья, вроде А. Белого. Такая брань
и на вороту не виснет: «Мечтать о связи "самой" вещи с идеальной
связью, и в особенности мечтать об этой связи так же, как о
"вещной", значило бы мечтать о том, чтобы курица снесла к Пасхе
математический эллипсоид и чтобы философствующий кавалер напялил
к этому празднику на свою голову математический цилиндр»53.
50 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 424.
51 Там же. С. 422.
52 Там же. С. 417. Шпетовские речевые поправки «времени и места», военно-
индустриальная лексика и т. п. хорошо заметны во фрагменте рассуждения об акте
понимания: «Акт понимания или разумения, акт восприятия и утверждения смысла
в концепте выступает как бы заключенным в оболочку концепции,
формальнологического установления (Setzung). Кто видит только оболочку, тот конципирует,
не понимая, для того мысль и как функция разума есть рассудочное стеснение, тот,
в самом деле, рассуждает, но не понимает. Естественно, все ему рисуется в его же
безнадежном положении рассудочной асфиксии. Ему можно только посоветовать
принять меры с к рассеянию окутывающих его асфиктических газов теории.
Немного разумного кислорода, и он оживет в естественном и непосредственном
понимании, если не будет насильственно отворачиваться от расстилающегося
перед ним смысла и не захочет насильственно уморить себя — уже из одного лишь
каприза. Акт Setzung пустой, без смысла внутри него, можно было бы сравнить с
выстрелом ружья, заряженного холостым патроном. В действительности нужно
взять гильзу, набить взрывчатым веществом, забить кусок свинца и только тогда
палить. Алогисты уверяют, что логика палит только холостыми патронами, что
слово — самое большее только пыж. Не из того ли их аргументация, что они, дорожа
переживаниями, дрожат за жизнь. Трусость, в том числе и мыслительная, часто
не видит действительной опасности. Логофобия изобретает алогические снаряды
для обстрела истины, не подозревая опасности, которою угрожает алогистам их
изобретение. Дело в том, что как только они его изобретут и как только обтянут
его оболочкою слова, чтобы послать для разрушения разума, они не могут утаить
секрета изобретения от себя и себя же прежде всего взорвут на воздух. Разум при
таких взрывах уже не раз присутствовал, для него это только иллюстрации к его
признанию силы слова. И алогист на что-нибудь нужен!..». Там же. С. 425—426.
53 Там же. С. 422.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
419
Долго ли мог прожить этакий протокарлейлевский пассаж?
Впрочем, Шпет ничуть не озабочен этим. Его интересует
«"сверхфилологическая" точность»54 речевого стиля, история смыслов,
которая нетождественна истории вещей, — неэвклидова история-
анамнесис, протекающая в атемпоральном, эпистемологически
пульсирующем кругу конкретных дескрипций, в виду «конкретно-
ноэматического ядра»55 — в «часы и годы "между"»56. В связи с этим,
собственно, и оказывается возможной виртуозная искренность
шпетовского стиля à la Carlyle — вплоть до буквенных или звуко-
символических забав всерьез.
Т. Карлейль, к примеру, охотно «остраняет» для этого буквы и
звуки французского лексикона, образующие имена или ключевые
реплики: пока Людовик XVI — король и величественна Мария-
Антуанетта, никто не смеет усомниться в их исключительном
достоинстве, и подданные многократно славят их: Vive le Roi! Vive la
Reine! Но величие сана оказывается недолговечным. В «Санкюло-
тизме» пробуждается сознание своей величественной мощи, а
королевская чета, между тем, вынуждена расставаться с роскошью
Версаля. «Vive le Roi! — гремит со всех сторон. Лишь из одной глотки
вырывается единичный возглас: le roi à Paris (короля в Париж!)»57.
Здесь замечательно и преобразование прописной R в строчную г, и
несобственно-прямая речь, и лексические повторы, и т. д.
Г. Г. Шпет находит возможной и другую забаву — с
древнегреческими лексемами, столетиями проникающими в русский язык:
«Чтобы понимать слово, нужно вставить его в известную сферу
разговора. Последняя окружается для говорящего известною
атмосферою его самочувствия и мироощущения. Воспринимающий речь
понимает ее, когда он вошел в соответствующую сферу, и он
симпатически понимает самого говорящего, когда он вошел в его
атмосферу, проник в его самочувствие и мироощущение»58.
54 Шпет Г. Г. <Письмо Сталину> // Творческое наследие Густава Густавовича Шпета
в контексте философских проблем формирования историко-культурного сознания.
Г. Г. Шпет / Comprehensio. Четвертые шпетовские чтения. Томск, 2003. С. 593. Ср.:
Тихонов Г. Многообразие поневоле, или Несхожие жизни Густава Шпета (пер. с
англ. Н. Мовниной) // НЛО. 2008. № 91.
Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nlo/2008/91/ti4.html
55 Ср.: Письма Эдмунда Гуссерля Густаву Шпету. Предисловие, перевод и
примечания В. И. Молчанова //Логос. 1992. № 2. С. 233—242. Режим доступа: http://
anthropology.rinet.ru/old/3/gusserl_spet.htm (особенно письмо от 15.03.1914).
56 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 422.
57 Карлейль Т. Французская революция. История. СПб., 1907. С. 192. (подчеркнуто
мной. - Я. О.).
58 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 428.
420
РазделУ
Замедление над стилем этой реплики дает возможность заметить,
что в динамически-игровое отношение приходит сразу несколько
историчных или текущих речевых смыслов. Шпет отмечает
курсивом греческие слова, которые использует в переносном смысле,
и сопоставляет («разыгрывает») как звуковые облики слов, их
непосредственную созвучность, так и их неявные греческие смыслы.
При этом «сфера», σωαίρα (эпич. σφαίρή) в первом своем значении
есть сфера конкретно-игровая, «мяч», и только во втором — «шар»59.
«Атмос», ατμός — «пар, испарение» имеет не только коннотацию
истечения, испарения, но чада, дыма, являясь в своем речевом
истоке как ατμίς, «дыхание»; в развитие переносного смысла ατμός,
между прочим, может становиться неким конкретным «духом»,
ατμοειδής — той «здоровой атмосферой», которая «складывается в
коллективе»60. Разумеется, нельзя не принять во внимание
образовательные или научно-модные смыслы всех этих слов. Так
происходит «сверхфилологическое» уточнение речевого стиля Г. Г. Шпета,
которому вполне возможно придать вид эпистемологической
метафоры, в этом или ином внешнем историографическом контексте61.
Возвратный порыв
Не отличаясь ни апофатичностью, ни целостностью, речевой стиль
Г. Г. Шпета избегает прежде всего метатеоретической
(«псевдофилософской») или общей риторической слаженности. Самозабвенному
риторико-теоретическому говорению, с его «мерой лживости»62, он
предпочитает скорее содержательно-стилистический кругозор —
«антистилизацию чужого стиля»63, стилистическое скитальчество
59 ВейсманАД. Греческо-русский словарь. Репринт 5-го издания 1899 г. М., 1991. Стб. 1217.
Для обозначения иных состояний шара (как некоторой завершенности, полноты, иной
предназначенности) существовали и εγκύκλιος, и έντορνος, μήλον, σόλος и т. д.
60 Там же. Стб. 217. См. также: Большой древнегреческий словарь. На основе
древнегреческо-русского словаря И. X. Дворецкого. Режим доступа: http://slovarus.
info/grk.php
61 В частности, Г. Г. Шпет знает о применении эпистемологической метафоры «сфера
разговора» А. Бэном в логических размышлениях. На плодотворность этой
замеченной Шпетом метафоры — применительно к шпетоведческнм исследованиям и для
архивной эпистемологии русской философии — обращает специальное внимание
Т. Г. Щедрина. См. например: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки
интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 10—17 и др.
62 Бахтин Л/. М. <Риторика, в меру своей лживости...> // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 5. Работы 1940 — начала 1960 гг. М., 1996. С. 63 и др.
63 Бахтин М. Л/. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин M. M. Собрание
сочинений. Т. 6. Проблемы поэтики Достоевского. Работы 1960—1970 гг. М., 2002. С. 219.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
421
и стилистико-эпистемологическую даль. «"Теория познания"
забывает часто, зачем мы садимся в ее вагон, и воображает, что наше
пребывание в ее более или менее комфортабельных купе и есть
собственно вся цель нашего познавательного путешествия.
Величайшая углубленность интуиции разума — не в том, что они якобы
доставляют нас в "новый" запредельный мир, а в том, что, проникнув
через все нагромождение онтических, логических, чувственных и
не-чувственных форм, они прямо ставят нас перед самой реальной
действительностью. Земля, на которой мы родились, и небо, под
которым мы были вскормлены, — не вся земля и не все небо.
Оправа, в которую нужно их вставить, меняет самое существо, смысл их,
действительность их. Цель и оправдание нашего путешествия — в
том, чтобы, вернувшись из него, принять свою действительность не
детски-иллюзорно, а мужественно-реально, т. е. с сознанием
ответственности за жизнь и поведение в ней. Боратынский написал:
Старательно мы наблюдаем свет,
Старательно людей мы наблюдаем
И чудеса постигнуть успеваем, —
Какой же плод науки долгих лет?
Что, наконец, подсмотрят очи зорки?
Что, наконец, поймет надменный ум
На высоте всех опытов и дум?
Что? Точный смысл народной поговорки.
Как странно, что эта мысль облечена в пессимистическое
выражение! Как будто здесь не указано на постижение величайшего
из уповаемых чудес! И не это ли надменность ума — считать такой
результат не стоящим усилий наблюдения зорких очей, опытов и
дум?.. И как должно быть отлично от этого мироощущение
человека, влекомого к своему храму за постижением коротенького
речения El, разгадка "точного смысла" которого обещала не
иллюзорные только радость и силу и к которой манила... реальная земная
красота земного бытия и разумная вера в постижение его смысла»64.
Не те ли это слова, с которыми в «утопической дали» мог бы
согласиться Уильям Асквит Фарнеби? Избравший, вопреки
утилитарно преобразившемуся «"новому" запредельному миру», впавшему
в вечность конкретного, — конкретную вечность возвращения?65
64 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
С. 420-421.
65 Хаксли О. Остров / Пер. с англ. С. Шик. СПб., 2000 (гл. XV).
В. И. Новиков
«Лучше Шпет, чем никогда».
Тынянов и Шпет
Текут и годы и вода, / А мы стоим, тверды как стенка, /
Ведь лучше Шпет, чем никогда, / И никогда, чем На-
заренко». Это строфа из коллективного «Гимна
формалистов», сочиненного учениками Тынянова по
Институту истории искусств.
В сборнике «323 эпиграммы», составленном Е. Г. Эткиндом и
вышедшем в парижском издательстве «Синтаксис» в 1988 году,
приведено двустишие «...Но лучше Шпет, чем никогда, / И никогда, чем
Назаренко» с подписью «Ю. Тынянов». Однако более убедительной
представляется версия Д. Устинова, согласно которой автором
данного куплета в «Гимне формалистов» была Лидия Гинзбург1.
По свидетельству В. В. Виноградова, в Институте истории
искусств однажды был вывешен плакат «Лучше Шпет, чем никогда»,
отразивший неприятие молодыми ленинградскими филологами
эстетических трудов московского философа.
Однако научные противоречия между формалистами и Шпетом
все-таки были спорами внутри одной познавательной системы, одной
культуры. Реальными противниками истинной филологии были
советские догматики, марксисты-начетчики вроде забытого ныне
вульгарного социолога Якова Назаренко, и в 1930-е годы они одержали
конъюнктурную победу, разгромив и философов, и формалистов, которые
в полемическом задоре не учитывали, что «лучше Шпет, чем
Назаренко», что логически, даже математически следует из их куплета.
Тынянов и Шпет — это два крутых берега у реки литературной
мысли 1920-х годов. Наведение моста между ними — задача не
столько историко-культурная и ретроспективная, сколько
проективная и перспективная. Речь о том, как современное эстетическое
сознание может воспользоваться идеями двух мыслителей,
сопрягая их в едином эвристическом комплексе.
1 Гинзбург Л. Письма Б. Я. Бухштабу / Подготовка текста, публ., примеч. и вступ.
заметка Д. В. Устинова // Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
423
Коснемся сначала эксплицитно выраженных противоречий
между опоязовской теорией и эстетикой Шпета.
Принципиальной установкой Тынянова и его единомышленников
был отказ от категории «образность». В предисловии к книге
«Проблема стиховой семантики», как отмечено А. П. Чудаковым2,
содержится скрытая полемика с «Эстетическими фрагментами» Шпета
именно в связи с недостаточной, по мнению Тынянова,
«специфичностью» понятия «образ». «Памятник, Пророк, Медный Всадник,
Евгений Онегин — образы; строфы, главы, предложения, "отдельные
слова" — также образы. Композиция в целом есть как бы образ развитой
explicite»3, — утверждается в «Эстетических фрагментах». Это
вызвало следующую реплику Тынянова в вышеупомянутом предисловии:
«Если образом в одинаковой мере являются и обычное, повседневное
разговорное выражение — и целая глава «Евгения Онегина», — то
возникает вопрос: в чем же специфичность поэтического образа?»4
Не менее важным пунктом разногласий было неприятие опоя-
зовцами философской рефлексии над литературным текстом: «Мы
обошлись без гейста немцев»5, — писал Тынянов Шкловскому в
1928 году. В самом способе транслитерации немецкого слова «Geist»
(«гейст», а не «гайст») есть оттенок иронии. Да, не любил Тынянов
слово «дух», избегал его — так же как слов «эстетика» и
«философия». Но значит ли это, что он не был причастен к духовной сфере?
Конечно, нет. За полемическим отрицанием «духовности»
может стоять глубокая одухотворенность мыслительного и
творческого процесса. Именно таков «случай Тынянова». Ольга Новикова
показала6, что, согласно тыняновским критериям литературности,
Шпет — писатель. Я попытаюсь посмотреть из шпетовского мира
на Тынянова и доказать, что Тынянов — философ. Sui generis,
разумеется. Речь о философичности тыняновской научной системы и
его художественного мира, его романов и новелл.
Тыняновская литературная теория — это нечто не вполне
тождественное понятию «доктрина ОПОЯЗа» или «русский формализм».
Тыняновский дискурс обладает определенной автономностью. Его
индивидуальные черты — персоналистичность, целостность и аксио-
матичность. Тынянов шел, двигался и развивался вместе со
Шкловским и Эйхенбаумом, отталкиваясь от традиционной научной рутины,
2 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 503 (комментарии).
3 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
М., 2007. С. 264.
4 Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 253.
5 Там же. С. 536.
6 См. наст. изд. С. 427—432.
424
РазделУ
но стратегически он был нацелен на созидание, на поиски
универсалий, на постижение общей истины. И в этом смысле он был гораздо
философичнее Шкловского или Эйхенбаума (для последнего, кстати,
философская эстетика Шпета была «пустым красноречием»).
Не прибегая к термину «эстетика», Тынянов успел выстроить
свою эстетическую систему. Опыт ее описания был предпринят
мной в теоретико-литературных главах монографии «Новое зрение.
Книга о Юрии Тынянове», которую мы в соавторстве с В.
Кавериным выпустили в 1988 году. Основные законы, открытые
Тыняновым, обозначены и в моей статье, адресованной французскому
читателю7. Приведу их в предельно кратком виде:
1. «Отталкивание» как основной двигатель литературной
эволюции.
2. Историческая смена «мотивированных» и
«немотивированных» художественных систем.
3. Динамическое взаимодействие материальных элементов
художественного произведения как подчинение одних
элементов другим.
4. Единство и теснота стихового ряда.
5. «Сукцессивность» стиха и «симультанность» прозы.
6. Исторически закономерное взаимодействие «центра» и
«периферии».
7. Распространение конструктивного принципа на более
широкую область.
8. Взаимодействие «литературного ряда» и «социального ряда».
Это не просто «набор» идей, здесь присутствует внутреннее
движение от анализа к синтезу, от отрицания к утверждению. Это
динамическая модель литературы как целого — и в то же время как части
искусства и как части мироздания. Тыняновская теория
философична: литература в ее свете предстает как вечный и неисчерпаемый
космос. Она объективно противостоит примитивному пессимизму и
эсхатологизму. Жизнь литературы не прекратится никогда,
поскольку новые писатели, стили и направления будут «отталкиваться» от
прежних, «мотивированные» и «немотивированные» системы будут
закономерно чередоваться, а «золотой фонд» искусства будет
непрерывно пополняться за счет «периферии». Художество не может быть
сломлено ни властью, ни «восстанием масс», поскольку оно не
обусловлено «социальным рядом», а взаимодействует с ним на равных.
Таков катарсис тыняновской эстетики, порой неожиданно
перекликающийся с пафосом «Эстетических фрагментов» Шпета.
7 Les lois naturelles de la littérature // Littérature. Octobre 1994. № 95. P. 65—74.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
425
Тынянов и Шпет приходят к сходным выводам в разговоре на
такую глобально-принципиальную тему, как «искусство и жизнь».
Шпет спорит с банально, по-декадентски понимаемой идеей жиз-
нетворчества: «Извращенный крик: жизнь — искусство! <...> Если
жизнь — искусство, то искусства нет»8. И приходит к следующему
утверждению: «Художественное произведение, вошедши как факт
в жизнь, уже не может не быть жизнью»9.
А теперь обратим внимание на первое из авторских
примечаний к «Проблеме стихотворного языка»: «Я, разумеется, не
возражаю против "связи литературы с жизнью". Я сомневаюсь только в
правильности постановки вопроса. Можно ли говорить "жизнь и
искусство", когда искусство есть тоже "жизнь"? Нужно ли искать
еще особой утилитарности "искусства", если мы не ищем
утилитарности "жизни"? Другое дело — своеобразие, внутренняя
закономерность искусства по сравнению с бытом, наукой etc. Сколько
недоразумений случалось с историками культуры оттого, что "вещь
искусства" они принимали за "вещь быта"!»10
Тынянов спорит с плоским детерминизмом, примитивной
каузальностью, подчиняющей искусство внеэстетической «жизни».
Шпет спорит с эстетством, с «декадентским» подчинением жизни
искусству. И приходят они к единому и здравому представлению:
искусство есть неотъемлемая и полноправная часть жизни,
обладающая при этом неповторимой спецификой.
Литературная теория Тынянова вдохновлялась
художественной практикой авангарда, творческим опытом Хлебникова. Шпет
в своих вкусах был более консервативен, а о футуризме отзывался
саркастически. Тем не менее ключевое для Тынянова понятие
«динамика» находит соответствие и в эстетической рефлексии Шпета.
Что дало основание Владимиру Фещенко апеллировать к Шпету в
разговоре о Хлебникове и новаторском искусстве XX в.: «Природа
авангардного текста такова, что без принципиально динамических
методов невозможно описать его структуру и статус. Как нельзя
кстати приходится здесь мысль Густава Шпета о том, что "'быть
словом' значит не стоять на месте, а двигаться, быть
принципиально началом динамическим"»11.
8 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
М, 2007. С. 181.
9 Там же. С. 181-182.
10 Тынянов Ю. И. Литературная эволюция. М., 2002. С. 146.
1 ' Фещенко В. Жизнетворчество и языкотворчество. Динамический взгляд на
творчество В. Хлебникова // Художественный текст как динамическая система. Материалы
международной научной конференции. Москва, май 2005. М., 2006.
426
РазделУ
Еще один принципиальный момент, сближающий Шпета и
Тынянова, — это последовательное стремление к познанию искусства
вне зависимости от особенностей его психологического
восприятия. «Искусство насквозь конкретно»12 — это положение Шпета
вполне согласуется с общим строем идей Тынянова, который
объективно тяготел к феноменологическому типу мышления.
Этот тип мышления проявился и в прозе Тынянова, где автора
интересует в первую очередь феноменология истории, ее
сущностная специфика, не сводимая к абстракциям и доктринам. Тынянов-
романист выстраивает художественное сравнение-сопоставление
двух веков, обнаруживая в обоих трагическую доминанту. «Горе от
ума у нас уже имеется», — писал Тынянов Шкловскому, имея в виду
извечную участь русского интеллигента — быть отвергнутым
властью и непонятым теми, в ком он ищет единомышленников.
Ситуация «горя от ума» была характерна и для судьбы Густава Шпета.
Опоязовцев неоднократно обвиняли в недостаточном внимании
к личностному фактору истории литературы. Но именно Тынянов
то и дело размышлял над проблемой «литературной личности» (его
термин), развернул своеобразную типологию литературных
индивидуальностей в романной форме: его Кюхля, Вазир-Мухтар,
Пушкин не просто копии своих реальных прототипов, но
универсальные типы творческих личностей.
«В целом личность автора выступает как аналогон слова.
Личность есть слово и требует своего понимания»13. Это образно-
гиперболическое суждение Шпета сегодня стоит учитывать для
продолжения опоязовской традиции.
«Надо отойти как бы на расстояние, чтобы выделить и оценить свое
эстетическое отношение к личности и ее типу. Ее индивидуальные
формы — типичны, и мы легко можем к личности отнести
эмоциональную реакцию, привычную для нас в отношении к
соответствующему типу»14, — сказано в «Эстетических фрагментах». Слово «легко»,
употребленное здесь философом, к сожалению, не нашло
подтверждения в практике литературоведения. Изучение типологии
художественных приемов так и не сомкнулось с исследованием типологии
авторских личностей. Но соединение этих двух линий — интересная задача
для науки наступившего столетия. Лучше поздно, чем никогда.
12 Шпет Г. Т. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
М., 2007. С. 180.
13 Там же. С. 286.
14 Там же. С. 287.
0. И. Новикова
Шпет как литератор
Взаимодействие слова и мысли в «Эстетических фрагментах»
Был ли Густав Шпет писателем?
Вслед за этим вопросом неизбежно следует другой: а что
такое писатель?
С филологической точки зрения писатель — тот, кто не
просто пользуется словом для выражения мысли, а строит
новую, многозначную мысль в индивидуальном содружестве с
языком. С антропологической точки зрения писатель — это тот, кто не
может не быть писателем, даже в нелитературных жанрах.
У Шпета нет литературных произведений в формальном смысле
слова, но стиль его сочинений неизменно нарушает ведомственные
границы. Природная склонность к писательству обнаруживается
уже в письмах к жене, которые при всей их искренности и
непосредственности отмечены эстетической трансформацией языка.
В письме к Н. К. Гучковой от 12 ноября 1911 года разговор с
адресатом неожиданно сменяется почти романным пассажем, когда
автор обращается к самому себе, а о любимой женщине размышляет в
третьем лице: «И вот опять другая мысль: да ведь она тебя не любит
и, значит, не может тебя любить, что же ты пристаешь, зачем
мучаешь ее, еще не знающую всей грязи жизни и, даст Бог, не узнающей,
ты сам уже пачкаешь ее своим приставанием... Если в тебе есть что-
то хорошее, о чем ты говоришь, то что же ты пристаешь к ней, к
ребенку? — И у меня нет сил дальше думать, писать, что я могу на это
сказать? Ведь я люблю, но какую ценность имеет твоя любовь? Кому
она нужна? Ей она не нужна! Ты злоупотребляешь ее добротой! Ты
сравни-ка себя и ее!.. И все равно... и это не выражает и сотой доли
моих мыслей»1. Сходство со стилистикой раннего Достоевского
бросается в глаза, при том что в намеренной стилизации автора не
заподозришь. Не менее выразительно завершение этого письма, когда
этикетное слово «ваш» перед именем адресанта делается предметом
1 Письмо Г. Г. Шпета к Н. К. Гучковой от 12 ноября 1911 года // Густав Шпет:
жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М., 2005. С. 25. Впервые опубликовано:
Шпет Г. Г. «Я пишу как эхо другого...». Письма к жене. Публикация, подготовка
текста и примечания М. Г. Шторх и Т. Г. Щедриной // Новый мир. 2004. № 1.
428
РазделУ
эмоциональной и даже поэтичной рефлексии: «До свидания! Ваш...
(нет, — почему Ваш? — ничей, никому не нужный!!!..) Г. Шпет»2.
Это тот случай, когда эпистолярный факт становится
«литературным фактом» (по Ю. Н. Тынянову), причем независимо от
намерения пишущего.
Литературность нередко вторгается и в строгий стиль «Очерка
развития русской философии»: «Эти строки пишутся, когда в
историческом отмщении косою рока снята вся с таким трудом возделывавшаяся
и едва всходившая культура. Почва обнажилась, и бесконечною
низиною разостлалось перед нашими глазами наше невежество»3.
Метафоры здесь традиционно-риторические, но свежий эмоциональный ток
придает им выразительность, а в слове «культура» обновляется его
исходное значение. И образность здесь не иллюстративна, она не просто
обслуживает мысль, но создает новую эмоциональную перспективу.
Недаром далее следует такой поворот: «От каких корней пойдут теперь
новые ростки, какие новые семена наша почва примет в себя?» В
ситуации 1922 года такая обращенность в будущее может показаться
неожиданной. Это ощущение открытости, незавершенности бытия
продиктовано не столько логикой, сколько складом словесного мышления.
Но более всего писательская натура Густава Шпета проявилась,
конечно, в «Эстетических фрагментах» — произведении пограничного
жанра. Эпитет «эстетический» в его названии, пожалуй, следует
понимать двояко. Это не только фрагменты «об эстетике» или «по эстетике»,
но и текст, обладающий самостоятельной эстетической структурой.
Метафорическая образность — системное свойство языка
«Эстетических фрагментов». Сравнения и метафоры основаны,
как правило, не на внешнем сходстве предметов и явлений, а на
эмоционально-психологическом их восприятии.
Принципиальные положения Шпета реализуются в метафорах, связанных с
любовью и рождением: «слова — не свивальники мысли, а ее плоть»4
(эффект усилен звуковым повтором). В полемических контекстах
появляются метафоры разврата: «словесного нецеломудрия», «грех
измены синтаксису и прелюбодеяния с логикой...»5.
Иногда метафоры образуют цепь: «она (морфема. — О.Н.) может
как лава затвердеть», «под окаменевшими морщинами морфемы»,
«морфема <...> — верхнее платье смысла»6. Метафоричность
часто создает эффект остранения — почти в духе футуризма: «живо-
2 Густав Шпет: жизнь в письмах // Цит. изд. С. 25.
3 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. M, 2008. С. 77.
4 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 397.
5 Там же. С. 405.
6 Там же. С. 389.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
429
писная поэзия родилась на заборе, там и место ей»7, «забывание —
кнут творчества, оно вздымает на дыбы фантазию»8.
В огрубленно-прозаизованной манере Шпет говорит о
легендарных фигурах и именах: «Фауст легенды не без успеха обделывал
свои делишки»9, «Данте <...> начал ловеласничать»10.
Шпет извлекает экспрессивный эффект из просторечия
(«напречься»11), из бранной лексики («ублюдок»12, — о синтезе
искусств), прибегает к окказионализмам («склубляется»13, «более или
менее хитростные теории»14), строит свежие оксюмороны:
«разумная непонятность лирики Тютчева»15, «надоедать бессмысленным
умам»16, «непонятная разумность трагики Достоевского»17.
Не чужда Шпету стихия словотворчества. Вслед за словом
«белиберда» появляются «белибердяи»: «Ирреальное "работает",
белиберда — высшая реальность. Белибердяи выдавали
теософические трудовые книжки художникам»18.
Церковный термин «зачало» (принятое в православной церкви
богослужебное деление текста Четвероевангелия, Деяний и
посланий святых апостолов) Шпет своевольно употребляет в значении
«начало»: «Зачалом Возрождения всегда было искусство»19.
Шпету как стилисту присуща «небрезгливость» (его словечко20)
в отношении к лексическим источникам. Вместе с тем он держит
высокий речевой стандарт, являет образец интеллигентской
рафинированности. Один из «шиболетов» в русской речевой культуре —
отношение к глаголу «довлеть».
Он с некоторых пор стал приобретать значение «тяготеть,
господствовать», чему сопротивлялись многие филологи, в частности
лексикограф Д. Н. Ушаков, давший в своем словаре
соответствующую запретительную помету. В правильном значении «быть
достаточным, удовлетворять» этот глагол сохранился только в
евангельской цитате «Довлеет дневи злоба его». Довольно любопытен
7 Там же. С. 355.
8 Там же. С. 360.
9 Там же. С. 377.
10 Там же. С. 378.
11 Там же. С. 450.
12 Там же. С. 349.
13 Там же. С. 418.
14 Там же. С. 422.
15 Там же. С. 356.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же. С. 362.
19 Там же. С. 368.
20 Там же. С. 401.
430
РазделУ
вопрос, кто из русских литераторов последним правильно
употребил злополучный глагол. Предполагалось, в частности, что это
Николай Асеев с его строкой «Стиху довлеет царское убранство»
(«Терцины другу» с посвящением Борису Пастернаку, 1913 год).
В «Эстетических фрагментах», однако, находим пример более
поздний по времени: «Смысл в образе не довлеет себе, как в понятии»21.
Все это окутывается творческим остроумием, самоиронией.
Некоторые образные конструкции граничат с пародийностью в прутков-
ском духе: «порода людей, завинчивающих свое глубокомыслие»22.
Философия немыслима без терминологичности и
космополитического культурного фундамента. Отсюда в «Эстетических
фрагментах» — «звонкие греческие слова»23, англицизмы, германизмы
etc. Для Шпета нет границы между родным и неродными языками.
«Фрагменты» — свободная литературная форма, но и у нее
складываются сюи каноны. Обычно фрагменты отделяются друг от друга
двойными пробелами или помечаются цифрами. У Шпета же —
замысловатая система рубрикаций с использованием римских и арабских
цифр, русских, греческих и латинских букв. Порой появляются
неожиданные, как бы избыточные заголовки: «Качели»24, цитата из
«Двенадцати» Блока: «Эй! Откликнись, кто идет?»25 — наряду с традиционно-
логичными: «Поэзия и философия»26, «Признаки и стили»27. Эта
рубрикация говорит о творческой свободе и непредсказуемости мысли.
Шпет относится к языку не просто как к сырью, к пассивному
материалу. Он вступает в диалог с языком, у которого такая же система
связей с реальностью, как и у автора. Как заметила Мариз Денн,
согласно эстетической системе Шпета: «...только лишь на базе уже
существующего мира, не могущего быть игнорируемым, так как именно
он является опорной точкой для самоопределения интенционального
сознания, появляется мир фантазии, мир художественного творчества.
В области же словотворчества это влечет за собой тот факт, что не
может существовать творения ex nihilo, что не может существовать языка,
в котором бы радикальным образом была бы разорвана связь с
реальностью и с уже существующими "значениями" слов»28. Это в полной мере
применимо и к «креативному» началу «Эстетических фрагментов».
21 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Цит. изд. С. 446.
22 Там же. С. 396.
23 Там же. С. 464.
24 Там же. С. 345.
25 Там же. С. 370.
26 Там же. С. 353.
27 Там же. С. 355.
28 Денн М. Эстетика Густава Шпета и критика русского футуризма. Рукопись.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
431
Проблема стилистической формы научного текста эксплицитно
отрефлектирована в «Эстетических фрагментах»: «Образность речи
присуща не только "поэзии" как художественной литературе. Это
есть общее свойство языка, присущее также и научному
изложению. Речь идет не о том, что в науке можно излагать "изящно",
"художественно" и т. п., а о научном изложении как таковом, которое
не может обойтись без помощи творческого воображения в
построении "наглядных" (?) гипотез, моделей, способов представления»29.
Далее следует условный пример об атомах и электронах.
Но та образность, которая пронизывает «Эстетические
фрагменты», — не иллюстративно-наглядного свойства. Шпет в своих
метафорических построениях явно «преизбыточествует»30, говоря его же
глаголом. И возникающий избыток — это избыток эмоциональный.
Единый смысл «Эстетических фрагментов» передается читателю
суггестивно, волной сердечного трепета. Логическое содержание
теряет прозрачность, в чем-то даже деформируется, но
эмоциональная «прибыль», может быть, ценнее простого понимания.
Любопытно сравнить метафорику Шпета с теоретико-
литературной и эстетической метафорикой Юрия Тынянова и
Виктора Шкловского, также стиравших границу между строго научной и
экспрессивно-литературной речью. Броские метафоры Тынянова в
целом «переводимы» на логизированный язык. «Пастернак бродит, и
его брожение задевает других... Он не только бродит, но он и бродило,
дрожжи»31, — говорится в статье «Перекресток». Метафора помогает
усвоить мысль о том, что внутренняя эволюция творчества
Пастернака значима для эволюции поэзии в целом, однако самодовлеющего
значения «дрожжи» не приобретают, и высказанная мысль, в
сущности, от них не зависит. То же у Шкловского: «Писатель не может быть
землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на
новую траву»32. Мысль о неизбежности перехода писателя к новому
материалу наглядно демонстрируется противопоставлением
землепашца и кочевника, но логически независима от этих образов.
Иное — у Шпета. В «Эстетических фрагментах» создана
напряженная эмоциональная атмосфера: «Это — высшая ступень
эстетического поэтического восхождения. Эстетическое сознание здесь
пламенеет на высшей ступени поэтического проникновения в смысл
сюжета (в содержание предмета), переплавляется в высшее поэти-
29 Там же. С. 443.
30 Там же. С. 345.
31 Тынянов Ю. Н. Литературная эволюция. М., 2002. С. 441.
32 Шкловский В. Zoo, или Письма не о любви // Шкловский В. Собрание сочинений.
ВЗт. Т. 1. М., 1973. С. 182.
432
РазделУ
ческое разумение»33. Стратегия автора — «напречь» (шпетовское
слово)34 читателя-собеседника, заставить его «пламенеть», доходя до
«высшего поэтического разумения». «Эстетические фрагменты» не
очень годятся для раздергивания на афористические цитаты. Весь
текст этого произведения являет собою и метафору
художественного творчества, и метафору эстетической деятельности
исследователя искусства. Такой синтез имеет право на отдельную нишу в общей
системе художественной литературы. Сплав слова, мысли и эмоции
(пушкинский союз «волшебных звуков, чувств и дум») — первейший
признак литературности, являющейся и в стихотворной, и в
прозаической речи, и в эссеистическом высказывании об искусстве.
Осмысливая духовно-творческий опыт Шпета, нельзя не
задуматься о соотношении художественной литературы и философии как
таковых. В «Очерке развития русской философии» есть следующий
важный пассаж: «Русская философия — по преимуществу
философствование. Поэтому ее темы редко бывают оригинальны, даже тон —
ей задан. Но у нее все же есть свой собственный (национальный)
тембр голоса, у нее есть свои особые психологические обертоны. Не в
решении, не в постановке своих проблем, тем более не в методе
раскрывается русская философия, а главным образом в психологической
атмосфере, окружающей и постановку вопросов, и решение их»35.
При этом Шпет негативно оценивает само понятие
«философствование», выступает против «извращенного смысла этой
формулы, подчиняющей знание примату переживания», заявляя, что
«философствовать надо отучиться»36.
Тем не менее «Эстетические фрагменты» можно считать
плодотворным и ценным опытом именно философствования на
эстетической почве. И «примат переживания» в разговоре о сущности
искусства едва ли стоит считать «извращением». Специфическая
«психологическая атмосфера», создаваемая при активнейшем участии
слова, есть ценность. Не принять ли как данность тот факт, что
русская философия неизбежно вторгается в сферу эстетики и в область
художественной словесности? Это, конечно, мешает таким ее
представителям, как В. Розанов, Н. Бердяев, Л. Шестов, Г. Шпет,
безоговорочно считаться «чистыми» философами, но делает их писателями.
33 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 411.
34 Там же. С. 450.
35 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. I. M., 2008. С. 75.
36 Там же.
А. П. Люсый
От логики истории к ее жанрам
Слово, — писал Г. Шпет в "Эстетических
фрагментах", — как сущая данность не есть само по себе
предмет эстетический. Нужно анализировать
формы его данности, чтобы найти в его данной
структуре моменты, подлежащие эстетизации. Эти
моменты составят эстетическую предметность слова»1. Поиском таких
подлежащих эстетизации моментов исторического знания стал
труд X. Уайта «Метаистория: Историческое воображение в
Европе XIX века» (1973). Первым, кто обратил внимание на родство
заключенных в «Логике истории» мыслей Г. Шпета и концепции
X. Уайта, был П. Стайнер: «1) источником исторического знания
являются слова, а не факты; 2) историк не описывает и не
объясняет, а интерпретирует; 3) история — это прежде всего
историография, т. е. представление прошлого с новой точки зрения; 4) методы
истории отнюдь не узкодисциплинарные: их можно применить и к
другим наукам»2.
Подобно К. Юнгу, обосновавшему архетипы коллективной
психологии, X. Уайт обнаруживает четыре архетипические сюжетные
структуры истории человечества как текста: Роман, Трагедию,
Комедию и Сатиру, а также четыре тропа — Метафору (буквально
«перенос», характеристика феноменов с точки зрения их сходства или
отличия на манер аналогии или уподобления, как во фразе «моя
любовь — роза»), Метонимию (буквально «изменение имени», где
имя части вещи может заменить имя целого, как во фразе
«пятьдесят парусов», обозначающей «пятьдесят кораблей»), Синекдоху
(форма Метонимии, использование части, символизирующей
некоторое скрытое качество, как в выражении «он весь — сердце»)
1 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Вып. 2. Пб., 1923. С. 14.
2 Стайнер П. Tropos logicos: философия истории Густава Шпета // Вопросы
философии. 2004. № 4. С. 155. http://www.ihst.rU/projects/sohist/papers/vf/2004/4/154-163.pdf
434
РазделУ
и Иронию (характеристика сущностей посредством отрицания на
фигуративном уровне того, что положительно утверждается на
буквальном). Ирония, Метонимия и Синекдоха — это типы
Метафоры. Они отличаются друг от друга по типу редукций или
интеграции, обусловленных на буквальном уровне своего значения, и по
типу прояснений на фигуративном уровне. Метафора по существу
репрезентативна, Метонимия — редукционистична, Синекдоха —
интегративна, Ирония — негативна. В самом языковом
употреблении мысль располагает возможными альтернативными
парадигмами объяснения: Метафора репрезентативна так же, как это можно
утверждать о Формизме, Метонимия редуктивна Механистичным
образом, а Синекдоха интегративна по типу Органицизма.
Метафора санкционирует «префигурацию опыта в объект-объектных
терминах», Метонимия — в терминах «часть—часть»,
Синекдоха—в терминах «объект—целое». Каждый троп предполагает
также культивирование особых языков (т. н. языковых протоколов) —
тождества (Метафора), внешности (Метонимия) и внутренней
сущности (Синекдоха).
X. Уайт полагает, что представление просветителей XVIII в.
о проблеме конструирования в вербальной модели мира
прошлого вряд ли могло выйти за рамки выбора, должен ли
имеющийся набор исторических событий быть выстроен в сюжете
Эпоса, Комедии или Трагедии. Основная просветительская
парадигма исторического сознания создавалась по типу Метонимии,
или причинно-следственных отношений, для чего использовались
также Метафорическая идентификация (именование объектов в
историческом поле) и Синекдохическая характеристика
индивидов с точки зрения родов и видов. Из всего этого создавался
сатирический по своему содержанию смысл. Просвещенческая мысль
обращалась к исполнимости Трагического преобразования
исторического процесса в сюжет. Но это с самого начала было
подорвано представлением о человеческой природе как о поле причинной
обусловленности. А это превращало любой потенциально
Трагический недостаток не в добродетель, а в порчу, в дальнейшем — в
порок. В результате историческая мысль, как и философский
литературный вкус века, приняла вид Сатиры, которая есть не что иное,
как «литературная» форма Иронии.
Величайшим теоретиком построения в истории сюжета,
выводящего за пределы Иронии, для Уайта, как и для Шпета, был
Гегель. Согласно Гегелю, содержание Трагического действия
тождественно действию истории. На основе только исторического
сознания, без добавления гипотез философской рефлексии, то есть
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
435
на основе объединения лишь эстетического взгляда и моральной
рефлексии над ним, можно, истолковывает Гегеля Уайт,
«преобразовать историю мира из Абсурдистского Эпоса
бессмысленного конфликта и борьбы в Трагическую Драму с особым этическим
смыслом»3. Комическое же действие нуждается в «разрешении» с
большей настоятельностью, чем Трагическое. Сущность
Комического видения должна быть найдена не в Сатирической рефлексии
контраста между тем, что есть, и тем, что должно быть, но скорее «в
бесконечной благожелательности и уверенности в своем
безусловном возвышении над собственным противоречием, а не
печальном и горестном его переживании»4. Отказываясь наделять Сатиру
статусом подлинно драматического жанра, Гегель видел в Комедии
антитез и иронии тоже. Переживаемая людьми ирония мысли,
чувства и существования должна быть преодолена интеграцией
сознания и бытия (чтобы смысл истории воспринимался и как факт
сознания, и как живая реальность).
Построение сюжета акта исторической драмы, любого
сегмента целого процесса должно быть построением Трагического типа,
в котором конфликт между бытием и сознанием разрешается как
возвышение самого сознания к более высокому осознанию его
собственной природы и, одновременно, природы бытия,
проявления закона. Но идеологический подтекст таким образом
сконструированной и преобразованной в сюжет истории остается
двусмысленным, поскольку в причинной системе не существует верного и
неверного, а есть просто причина и следствие, и в формальной
системе нет лучшего или худшего, а есть просто цель — формальная
связанность — и средства ее достижения.
Свой «формалистский» метод рассмотрения истории Уайт
демонстрирует, обращаясь к трудам классических европейских
историков XIX в. и философов истории.
Насколько применима метаисторическая система Уайта к иным
эпохам? Думается, тут небесполезно сопоставить ее с критической
концепцией спектакля Ги Дебора. Он набрасывает своеобразную
политэкономию времени, утверждая, что «время производства,
товарное время — это бесконечное накопление эквивалентных
интервалов»5, пишет о присвоении временной прибавочной
стоимости хозяевами общественного труда, овладевающими
необратимым временем всех живущих. Собственникам исторической при-
3 УайтХ. Метаистория. С. 138.
4 Там же. С. 122.
5 Дебор Г. Общество спектакля. М., 2001. С. 87.
436
РазделУ
бавочной стоимости принадлежит и познание, и использование
переживаемых событий. «В своем наиболее развитом секторе
сосредоточенный капитализм ориентируется на продажу "полностью
экипированных" блоков времени, каждый из которых
представляет собой единый унифицированный товар, включивший в себя
некоторое число различных товаров»6.
В то время как Эрих Фромм изображал общечеловеческую
деградацию как вырождение быть в иметь, создатель Ситуационного
Интернационала обнаружил повсеместное сползание иметь в
казаться, что знаменует «настоящую фазу тотального захвата
общественной жизни накопленными плодами экономики». Капитал на
той стадии накопления, на которой он превращается в образ,
становится спектаклем, захватывающим все сферы общественного
бытия. Задолго до появления понятия «виртуальная экономика»
Ги Дебор пришел к выводу, что спектакль — это деньги, на которые
мы только смотрим. Он «не просто слуга псевдопотребления, он
уже сам по себе есть псевдопотребление жизни». А от
псевдопотребления не так далеко до псевдомышления, примером которого, по
Ги Дебору, является структурализм: «...Апология спектакля
конституируется в мышление не-мысли, в патентованное забвение
исторической практики...»7.
В свое время победа буржуазии стала победой глубинного
исторического времени, так как последнее — постоянно, снизу
доверху преобразующее общество время экономического производства.
Буржуазия заставила признать и навязала обществу необратимое
историческое время, отказав при этом обществу в его
использовании: «История была, но ее больше нет». Класс владельцев
экономики, тесно связанный с экономической историей, подавляет
теперь всякую иную временную необратимость. Этот
господствующий класс специалистов по владению вещами связывает свою
участь с поддержанием овеществленной истории, с постоянством
ее новой неподвижности. Спектакль — это современная
социальная организация «паралича истории и памяти», искусство как его
составляющая становится общим языком социального
бездействия. Спектакль ставит своей целью заставить забыть историю в
культуре. Странно, почему какой-то невероятной новостью
стала позднейшая констатация Фрэнсисом Фукуямой либерально-
паралитического «конца истории» — после столь мозаично-
компактной картины ее разрушения. Новый союз теории с
6 Дебор Г. Общество спектакля. С. 88.
7 Там же. С. 105.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
437
практикой должен сообщаться на собственном языке отрицания,
быть не «нулевой степенью письма», но его оборачиванием, не
отрицанием стиля, а стилем отрицания. Артистичной экспроприации
времени Ги Дебор противопоставляет автономию места, которая
может «восстановить действительность странствия и жизни».
Торжеством спектакля, как его понимал Ги Дебор, стало
глобальное зрелище трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
«Акты террора в этот день не были вторжением "другого" —
варвара и носителя зла, но скорее произошли внутри общего и единовоз-
растного мира. Мы присутствуем при мутации нового, глобального
политического организма, и если мы, интеллектуалы, обладаем
какими-то возможностями как его мыслящий орган, то
реализовать их мы будем в тех дискурсах, которые не отделяют
академическую жизнь от жизни политической...»8. Происходит, как кажется,
рождение принципиально нового жанра мировой истории.
Отталкиваясь от «Логики истории» Г. Шпета и жанров истории
X. Уайта, я бы определил основной жанр современного состояния
человечества как постжитие в мире постбезопасности.
Художественное рождение его я вижу в романе Фредерика Бегбедера
«Windows in the World». «Конец света — это миг, когда сатира становится
реальностью, — с гегелевски-уайтовской выразительностью
утверждает писатель, фиксируя последние минуты жизни простого
американца и двух его маленьких сыновей, которые оказались в
ресторане "Windows in the World"? на вершине одной из башен Всемирного
торгового центра 11 сентября 2001 г., — когда метафоры
реализуются буквально, а карикатуристы чувствуют себя сопляками»9. С
героической самоотверженностью («Через два часа я умру — но,
быть может, я уже мертв») отец до последних минут, насколько это
было возможно, пытается сохранить для детей убежище из симуля-
кров, находя все новые аргументы для попытки убеждения их, что
это игрушечная атака, входящая в программу посещения ресторана.
Это происходит до тех пор, пока от пожара температура в здании не
становится невыносимой и он с одним оставшимся в живых сыном
не выбрасывается вниз со 106-го этажа.
«Структуры выходят на улицы <...> структурные сдвиги могут
объяснить социальные взрывы»10, — опровергает С. Жижек
антиструктуралистский лозунг на парижских стенах мая 1968 года, что
на улицы вышли отнюдь не структуры. Структуры выходят на ули-
8 Бак-Морс С. Глобальная публичная сфера? // Синий диван. 2002. № 1. С. 29.
9 Бегбедер Ф. Windows in the World. M., 2004. С. 76.
10 Жижек С. Ирак: История про чайник. М., 2005. С. 158.
438
РазделУ
цы в форме определенных жанров. Жанровая система культуры
в России распадается и устаревает с не меньшей скоростью, чем
ядерный потенциал страны. Поиски национальной идеи
сопровождаются пока так и не увенчавшимися успехом «поисками жанра».
Любопытнейший эпизод на фоне нынешней российской без-
жанровости — новый проект Б. Акунина «Жанры». Этот писатель
славен своей попыткой привить сюжетность и занимательность к
нашему постмодернистскому дичку, которым он ранее занимался
как литературовед Григорий Чхартишвили. В аннотации
утверждается, что проект представляет собой «попытку создания
своеобразного инсектариума жанровой литературы, каждый из пестрых видов
и подвидов которой будет представлен одним "классическим"
экземпляром». Это Набоков был писателем и собирателем бабочек —
в раздельности. Акунин же теперь через жанро-«окукливание»
перерождается в синтетичного писателя-энтомолога,
распространителя штучных насекомо-жанров. Теперь, если ориентироваться
на тиражи, в каждый дом может заползти или налететь эта насеко-
мая коллекция в составе «Детской книги» (с бабочкой на
переплете), «Шпионского романа» (с пауком), «Фантастики» (с жуком) и
так далее. Новый акунинский проект приобретает характер едва ли
не всероссийского ударного жанростроя. В нем участвуют обычно
взаимно конкурирующие крупнейшие издательства России.
Юрий Лотман полагал, что понятие «массовая литература»
подразумевает в качестве обязательной антитезы некоторую
вершинную культуру. Но где она сейчас, если именно носитель идеи
массовой литературы становится и законодателем жанров? Понятие
«массовая литература» касается не столько структуры того или
иного текста, сколько его социального функционирования в культуре.
Выступая в определенном отношении как средство разрушения
культуры, она одновременно может втягиваться в ее систему,
участвуя в строительстве новых структурных форм. Критики отнесли
ранние сочинения Акунина к жанру «викторианского» детектива.
Время действия в «Левиафане» — 1878 г., когда уютная буржуазная
цивилизация еще не столкнулась с катастрофическими
потрясениями XX в. Но представления читательской массы,
нуждающейся в групповом иллюзорном изживании недавних потрясений и
загнанных вовнутрь комплексов, сейчас сравнимы скорее с
читательскими ожиданиями 1920-х гг. Тогда популярность сюжетов о
Рокамболе и Фантомасе свидетельствовала об особой тяге
внутренне не устоявшейся в определенных формах массы к воссозданию
атмосферы тайны и приключения. И господствовавшая в СССР
идеология немедленно взяла на вооружение эту потребность, сведя
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
439
всю свою «научность», как заметил исследователь таких ситуаций
Н. Хренов, к элементарным беллетристическим ситуациям —
заговору, вредительству, разоблачению11. Сюжеты разоблачения
«преступников» и их «признаний» были необходимы, чтобы держать
массовое сознание в постоянном напряжении.
Какие предпосылки, в том числе и идеологические, таит
«жанровое» нашествие Фандориных и их бесчисленных мутаций в
ситуации нынешнего идейного вакуума общества? Остановка истории
ведет к бегству в историческую авантюру. «Жанрострой» Акунина
объективно представляет собой систему эстетического и
исторического исчезновения в «хронодыры» — примерно так же, как СНГ
стал формой полуцивилизованного демонтажа СССР. Жанровая
сверхзадача тут — смена читательских популяций, появление
массового «постчитателя» как потребителя не осмысленной
информации, а жанрово-сюжетной пустоты12.
Логико-эстетический дух Г. Шпета протестует против этого.
11 Хренов Н. А. Психология искусства: переходная эпоха. М., 2005. С. 253.
12 Люсый А. /7. Рыночный жанрострой // Литературная газета. 2005. № 23.
M. Трыбовска
Роман Ингарден и Густав Шпет
(антропологический контекст сопоставления)
Густав Шпет и Роман Ингарден были учениками Гуссерля. Их
объединяет исключение монадологии Гуссерля, являющейся
у него следствием трансцендентальной редукции. В данной
работе я хочу подробнее остановиться на этом вопросе.
Сознание составляет сущность «я». Жизнь сознания
состоит в интенциональном отношении к объектам: «Смысл
трансцендентальной редукции состоит в том, что она не может полагать
вначале как сущее ничего иного, кроме "эго" и того, что заключено
в нем самом, то есть вместе с ноэмато-ноэтическим содержанием»1.
Эта редукция обладает необычным смыслом, поскольку в ней «я»
конституирует мир, придавая ему смысл интерсубъективности.
Первый шаг такого конституирования мира, если следовать
Гуссерлю, — формирование «Другого» как «второго я» (как альтер эго).
Как это сделать в условиях релятивизации мира для сознания?
Вначале в моем сознании «Другой» воспринимается как
действительность телесная, как мое живое тело. «Выявление моего
редуцированного к собственной сфере живого тела уже отчасти знаменует
собой выявление собственной сущности объективного феномена
"Я как этот человек". Если я редуцирую других людей к моей
собственной сфере, я получаю заключенные в ее пределах тела, если
я редуцирую себя как человека, я получаю свое живое тело и свою
душу, или себя как психофизическое единство в нем»2. Эта
процедура распространяется на всех «Других», и таким образом создается
«Мы» как сообщество монад3. «Мы» располагает
интерсубъективным знанием. Интерсубъективность отдельных монад формирует-
1 Гуссерль Э. Картезианские размышления / Пер. Д. В. Скляднева. СПб., 1998. С. 92.
См. также: Husserl Ε. Medytacje kartezjanskie. Warszawa, 1982. P. 43.
2 Там же. С. 195.
3 Там же. С. 233.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
441
ся в «я», но как общность интерсубъективность конституируется
в каждой из них. Несмотря на эти объяснения Гуссерля, не всегда
очевидно, как добраться до другой личности как реального
субъекта. Шпет и Ингарден, ограничиваясь эйдетической редукцией,
очевидно, обходят проблему монады.
Роман Ингарден занимался главным образом проблемами
области онтологии, эпистемологии и аксиологии. Однако это не
означает, что он не уделял внимания философской антропологии как
таковой. Правда, им нигде не представлена однозначная, полная
философия человека, но тем не менее человек был в центре
исследований мыслителя. Ингарден оставил множество указаний,
позволяющих реконструировать его антропологию. Среди них важнее
всего его ссылки на феномен ответственности. Как
представляется, именно ответственность образует ту элементарную структуру, в
которой и берет свое начало антропологическая мысль Ингардена,
определяя тем самым свою цель.
Но ответственность возможна только тогда, когда выполнен ряд
условий, касающихся человека и внешней реальности. Прежде
всего, невозможно ставить вопрос об ответственности, не наделив
человека статусом субъекта (которого, скажем, лишен человек,
трактуемый Юмом как пучок впечатлений). У Ингардена представление
о человеке связано с понятием личности. Человек не является
личностью с самого начала своего существования. Личностью можно
стать, если человеку удается развить в себе личностные структуры.
Эти структуры находятся в «личностном я». Таким образом,
человек — творец самого себя при условии, что он совершает
свободные и ответственные поступки.
Ингарден различает «чистое я» и «личностное я». «Чистое я»
есть субъект познания, сознательное существо. Но корни «чистого
я» в «личностном я». Прежде всего, человек — существо не
изолированное, оно преодолевает свои границы, соотнося себя с чуждым
ему началом. Контакт с неизвестным, а именно с чем-то отличным
от «я», приводит его к овладению знанием и в то же время
обнаруживает характеризующие его моменты. Таким образом, «я»
подвержено постоянным изменениям, которые могут идти в двух
направлениях: «я» может обогащаться знанием своей структуры, но может
также уходить в себя, уклоняться от возможностей выхода вовне,
видения вещей, даже если это и противоречит его природе. Для
того чтобы другое существо было вполне познано, «чистое я»
должно открыться и войти с ним в контакт. Между «чистым я» —
познающим субъектом — и познаваемым существом должна произойти
некоторая «реакция» взаимодействия, состоящая в адаптации ког-
442
РазделУ
нитивного субъекта и создании условий для постижения иного
существа. Обретенное таким образом знание имеет два аспекта: оно
касается не только субъекта, познающего нечто вне себя как
«чистое я», — когнитивный процесс позволяет субъекту лучше познать
и себя, обрести определенные черты. «Чистое я» укоренено в
«личностном я», являющемся элементарным психическим основанием.
«Чистое я» создается на базе сферы психического, но оно играет
фундаментальную роль для этой сферы: будучи источником
сознательных действий, оно развивает сферу психического до уровня
сознательной личности. Однако «чистое я» не заполняет личность
целиком — его сознание ограничено когнитивной сферой.
«Личностное я» этим не ограничивается.
Второй тип деятельности наряду с когнитивной — это действия,
цель которых — реализация ценностей. Познание и деятельность
тесно переплетаются. «Личностное я» принимает решения и
испытывает их последствия, что и приводит нас к вопросу об
ответственности. Принимая решения, «действующее я» становится
нравственным субъектом. Нравственное же суждение возможно
только при некоторых условиях, а именно: «я» должно быть
наделено определенными ценностями. Речь идет прежде всего о
личностных ценностях, присутствие которых позволяет реализовать
потенциал человека быть самим собой и тем самым реализовать
нравственные ценности. Они являются, таким образом,
основанием нравственной жизни человека. Элементарные личностные
ценности суть сознание, свобода, сила психической натуры и
ответственность.
По Ингардену, сознание — это условие, позволяющее человеку
самому реализовать нравственные ценности. Сознание есть само по
себе ценность, поскольку именно благодаря ему субъект получает
знание о мире, которое затем становится условием деятельности в
широком смысле слова. Благодаря сознанию субъект может
управлять своими действиями, контролировать и организовывать их.
Свобода — вторая из личностных ценностей. Это условие
ответственности. Свобода личности на уровне ее действий и решений
означает, что они становятся ее собственными актами. Это значит,
что сам акт является результатом инициативы личности и что в
момент его осуществления он по меньшей мере остается
независимым от ситуации в мире. В чем же заключается эта независимость?
Ингарден объясняет: «Чтобы решение и поступок, из него
вытекающий, были независимы от окружения, личность должна обладать
в самой себе центром действия, позволяющим ей овладеть
инициативой, а также быть оснащенной аппаратами защиты, чтобы не ис-
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
443
пытывать помех в действии. Однако она должна быть
восприимчивой к вмешательству извне, в том смысле, что ее ответственность
вытекает именно из интенсивности ее отношений с реальностью,
и прежде всего с людьми. Итак, в своих свойствах и действиях она
должна быть открытой и восприимчивой и одновременно
защищенной и нечувствительной»4. Свобода сама по себе не является
нравственной ценностью, но она ценна и трудна для человека, так
как требует постоянных усилий, чтобы давать отпор враждебным
силам в человеке (такая ситуация имеет место в момент уклонения
от ответственности, подчинения давлению окружения). Свобода
настолько ценна, что во имя ее человек может отдать жизнь.
Внутренняя сила — еще одна личностная ценность, отмеченная
Ингарденом. Благодаря ей человек может переживать трудные
ситуации, оставаясь верным самому себе. Она свидетельствует о
характере человека. Однако ввиду того, что она может также
тормозить развитие его человечности, Ингарден не рассматривает ее как
нравственную ценность.
Наконец, последняя из личностных ценностей —
ответственность. Субъектом ответственности может быть только человек,
но при условии, что он — личность. При условии, что он обретает
центр, который играет роль решающего фактора, управляя его
жизнью и действиями. Это «я» не только должно быть ответственным,
то есть иметь к этому предрасположение, но также чувствовать
себя ответственным за свои поступки. Ответственность имеет
онтологические корни в человеческом существе, так как только
человек существует личностно. В отличие от вещи он не бессознателен,
не лишен сознания и воли, и потому есть существо значительное,
способное вести жизнь достойную, представляющую ценность. По
Ингардену, человек наделен нравственным началом — исходной
точкой его нравственного развития, с которым неразрывно
связан долг понимания того, что является его обязанностью. Человек
сталкивается с разными ситуациями, и, откликаясь на них, он
берет на себя ответственность за то, что входит в рамки его жизни.
Именно нравственные ценности составляют предмет его
попечения. Поэтому главный мотив его деятельности не только
самореализация, но также (или, может быть, прежде всего) бескорыстная
забота о благополучии других.
Следовательно, человек ответствен за мир, в котором он
живет, за все свои действия и за уклонение от них. Человек обретает
свою человечность, воплощая важнейшие ценности, что и при-
4 Ingarden R. Ksia2eczka о cztowieku. Cracovie, 2001. P. 85.
444
РазделУ
дает смысл его жизни. Тем самым мы обращаемся к
телеологическому аспекту человеческого существования. И, соответственно,
перед Ингарденом встает вопрос о ценности самой личности как
целостности, составляющей единство с телом. Ингарден находит
ответ, соединяя оба аспекта человеческого существования. С одной
стороны, он констатирует ценность личности, учитывая ценность
существа. С другой стороны, он исходит из мнения, что личность
обладает ценностью, поскольку она развивается в сторону
человечности, то есть посвящает свою жизнь важнейшим ценностям. При
этом, отмечает Ингарден, не нужно забывать, что такое
направление жизни человека возможно в силу присущих ему способностей.
Человек, полагает он, по своим первоосновам существо
аксиологическое. Очевидно, что человек не обязан следовать по
указанному пути. Он может конституировать самого себя своим
существованием. Он живет, выбирая то, что субъективно его удовлетворяет.
Он нисколько не ограничен. Но, по Ингардену, конституируемый
таким образом человек бессилен, так как не способен действовать
сам по себе. Это человек, не представляющий ценности. Но
человек может действовать, выходя за пределы своей личности, и
понимать, что существуют высшие ценности. Именно так он реализует
свое нравственное начало.
Согласно Ингардену, человек — существо «физико-психико-
духовной» конструкции. Благодаря телу он относительно
изолирован от мира. Тело составляет основу его целостности, обозначая
границу между внутренней и внешней сферами. Оно играет роль
посредника между человеком и миром. Благодаря ему человек
является существом, принадлежащим миру, и может влиять на то,
что его окружает. Мы ощущаем тело двояким образом. Во
внешнем опыте — когда мы приводим в действие органы чувств: зрение,
слух, осязание, обоняние, мы можем отделить свое тело от других.
Во внутреннем опыте мы чувствуем себя внутри нашего тела;
ощущение тела, находящегося среди других тел, исчезает.
Полная идентификация «Я» с телом невозможна, как и полное
их разделение. Исходя из этой констатации Ингарден полагает, что
важно установить отношение между телом и душой (личностью).
Через тело человек может узнать свою природу, поскольку его
состояния и способы поведения часто открывают структуру души и
ее состояние. Осознавая происходящее во внутреннем выражении,
человек обретает некоторое знание о самом себе и о своей душе,
вследствие чего он может влиять на свои качества. Тело открывает
двери души. Однако не стоит забывать, что душа также может
влиять на тело и на процессы, в нем происходящие. Бывают случаи,
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
445
когда тело ощущается как нечто совершенно независимое, когда
оно одерживает верх над душой и его невозможно подавить с
помощью акта воли.
Антропология Шпета отличается от концепции не только
Гуссерля, но и Ингардена. Ингарден, как было сказано выше, трактует
человека как существо аксиологическое, наделенное личностными
ценностями. И в этой трактовке можно заметить даже тенденцию к
их гипостазированию и к метафизике. На фоне философии
Ингардена шпетовская антропология представляется оригинальной
попыткой преодолеть метафизическую мысль. Шпет трактует
индивида как элемент общности, участвующий в ней благодаря языку,
знанию и культуре. Сознание есть коллективное сознание
определенной общности: «я» существует только в общности языка.
Поэтому «мое» и «общее» — одно и то же. Однако личное не исчезает. Это
не уникальный опыт, поскольку он всегда выражается средствами
коммуникации. Истинно личным является и тело (которое, будучи
недетерминированным, не может представлять объект
психологических исследований), и продукты деятельности человека,
подлежащие объективации в общности. Учитывая различия культур, эти
продукты отличаются между собой. Именно они обусловливают
различия между людьми, рассматриваемыми не в отдельности, но
в пределах коллективного тела с его общими способами
действовать, чувствовать и познавать. Вот почему Шпет предлагает
заменить индивидуальную психологию этнической. Вместо того чтобы
заниматься личным характером, нужно исследовать «социальную
характеристику». Это понятие, описывающее способ, каким
представляет себя коллектив. Вместе с тем необходимо особо
подчеркнуть тот факт, что Шпет посчитал бы неверной ту интерпретацию
его концепции, при которой может быть ограничена свобода
индивидуума в пользу целого.
Очевидно, что идеи Шпета могли бы стать продуктивным
контекстом для исследований творчества Ингардена, но для
этого необходимо ответить на вопросы о том, что такое «сознание»,
«свобода», «сила характера» и «ответственность» у Шпета. Мне
представляется, что анализ этих понятий открывает широкую
перспективу для дальнейших сопоставлений творчества Шпета и
Ингардена. Но такие исследования в Польше только начинаются.
Перевод с франц. Н. В. Кисловой
С. В. Черненькая
Семиотические исследования
Густава Шпета
Густав Шпет не выделял исследование знака, знаковых
систем (язык, другие явления культуры) как отдельную,
самостоятельную область в своих работах. Надо отметить, что на
рубеже XIX—XX вв. наука о знаках только зарождалась. Но я
считаю возможным рассматривать и включать работы
Шпета в семиотический контекст, поскольку во всех своих работах,
связанных с методологией познания, он неизбежно приходит к
проблеме знака. Его трактовка знака, телеологический подход к знаку,
классификация знаков, данные в рамках гносеологических
исследований, актуальны для современных семиотических дискуссий2 в
различных областях гуманитарного знания.
В работе «Герменевтика и ее проблемы» Шпет выделяет один из
основных вопросов этой науки: «Как знак (прежде всего,
словесный) существует так, что в нем выражается смысл (мысль)?» Этот
вопрос станет ключевым в его философии, решение которого и
направит философа к исследованию природы знака. Приведя
определение Августина: «Знак есть вещь, которая не только сообщает
свой вид чувствам, но еще вводит нечто иное с собою в мышление:
Signum est enim res praeter speciem, quam ingerit sensibus, aliud aliquid
ex se faciens in cogitationem venire»3, Шпет отмечает, что в нем
содержится указание на связь основной философской проблемы
реальности, проблемы отношения идеального и реального, с
проблемой знака и «путь к решению этой проблемы». Следует обратить
внимание на то, что в работах Барта, Фуко, в том числе Эко, ко-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ. Проект № 08-03-
00294а.
2 Само название дисциплины — «семиотика» или «семиология» — выступает темой
дискуссий. Шпет пользуется понятием «семасиология».
3 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 510-511.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
447
торый часто цитирует Августина, исследование знака, как правило,
начинается со знаменитого определения Пирса: знак есть «нечто,
что замещает собой нечто для кого-то в некотором отношении или
качестве»4, далее следуют определения Соссюра.
Августин отмечает двойственную природу знака, который
выступает одновременно и как предмет эмпирического, чувственно
постигаемого мира, и как идеальное, постигаемое в мышлении.
Но, выделяет Шпет, отношение между знаком и значением иное,
чем отношение между вещью и эйдосом. Раскрыть это отношение,
пишет он, — значит решить проблему знака. В современной
семиотике одним из основных понятий (вызывающим при этом
оживленные дискуссии) является понятие структуры. Следует отметить,
что предметом анализа Шпета выступают не знак как таковой и его
значение, а именно отношение между знаком и значением.
Понятие структуры в работах Шпета необходимо рассматривать в
рамках отдельного исследования, тем не менее можно привести одно
из определений: «Под структурою слова разумеется не
морфологическое, синтаксическое или стилистическое построение, вообще
не "плоскостное" его расположение, а, напротив, органическое,
вглубь: от чувственно воспринимаемого до формально-идеального
(эйдетического) предмета, по всем ступеням располагающихся
между этими двумя терминами отношений. Структура есть
конкретное строение, отдельные части которого могут меняться в
"размере" и даже качестве, но ни одна часть из целого in potentia не
может быть устранена без разрушения целого»5.
Чувственно воспринимаемое бытие знака оказывается ирреле-
вантно для сущности знака. «Его подлинное бытие, не как вещи
просто, а именно как знака, равносильно его небытию как такой
вещи. Всякая воспринимаемая вещь, как такая, есть эта вещь,
вообще "это", например, этот данный комплекс звуков, это данное
графическое изображение, этот кусок цветной тряпки, и т. п. Но
нетрудно убедиться, что значение имеет не этот комплекс звуков,
не этот именно кусок тряпки. Напротив, бытие этих звуков и
этого куска тряпки для знака со значением — несущественно; именно
этих воспринимаемых вещей в их функции знака как бы нет. Тем
самым, следовательно, если эта вещь вступает в присущее ей
отношение к чему-то другому, она сама себя как предмет данности
4 Пирс Ч. Grammatica Speculativa // Пирс Ч. Логические основания теории знаков.
СПб., 2000. С. 48.
5 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 209.
448
РазделУ
отстраняет»6. Специфической особенностью знака как термина
отношения Шпет выделяет то, что на место чувственного бытия
знака выступает идеальное: знак «значит» своими формальными
свойствами, а не материальными. «Специфичность знака, как субъекта
отношения, нужно видеть в том, что по отстранении его данного
чувственного бытия, например, физического, он не в новых
формах того же порядка бытия, а в формах идеального бытия приводит
нас к другому термину отношения, к корреляту»7. Таким образом, в
процессе раскрытия природы понимания знаку как субъекту
отношения соотносимо значение.
Сам знак Шпет рассматривает также как некоторое
отношение, предполагающее свои термины. Слово как универсальный
знак есть отношение общения, оно предполагает того, кто говорит,
и того, кто принимает сообщение, будучи в то же время
термином отношения, субъектом которого (другим термином) является
смысл (значение знака) сообщаемого. Выделяя знак как
отношение, отмечает Шпет, «мы глубже проникаем <...> в природу тех
обстоятельств, которые делают из знака проводник от идеального к
реальному и обратно»8. В современной семиотике эта особенность
знака в лучшем случае постулируется. Непонимание условий, при
которых знак выступает проводником от идеального к реальному
и обратно (а анализ их — в компетенции философии), приводит к
методологической невнятице. Следует заметить, что дискуссии
вокруг понятия «структура» вызваны определением этого понятия
либо как методологического принципа, позволяющего раскрыть
природу знака и коммуникативных процессов, либо как
онтологического основания, определяющего восприятие знака и
направляющего процесс коммуникации. «Переходя теперь от знака {как
формы} к коррелятивному ему значению, — пишет Шпет, — мы не
можем не перенести вместе с тем и тех терминов, которые
определяют его как отношение, а, следовательно, тем самым переход наш
к идеальному значению уже не пустой формальный переход, так
как в нем уже предопределены термины того содержания, которое
и составляет всю цель перехода от знака к значению (понимание).
<...> Все содержание как значение знака будет раскрываться, как
содержание, включенное в названные термины»9. Рассматривая
6 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 517.
7 Там же. С. 518.
8 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 521.
9 Там же. С. 522.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
449
слово-знак как отношение между сообщающим это слово А (один
термин отношения) и воспринимающим В (другой термин), Шпет
отмечает, что отношение знака к значению коррелируется этими
терминами. «Существенно, что как каждое такое сообщение, —
конкретно реализуемый, осуществляемый случай этого отношения
вообще, — так и все они, — как реально возможные, — движутся
в известной сфере содержания ("сфера разговора"), при выходе за
пределы которой сообщение перестало бы быть сообщением»10.
Таким образом, раскрывая природу понимания слова (знака),
мы выделяем отношение между говорящим и воспринимающим и
отношение между знаком и значением, второе отношение
«реализуется» в рамках первого. Понимание как переход от знака к
значению достигается между говорящим слово и воспринимающим,
если, выделяя отношение «знак (слово) — значение», они
«согласны» в его трактовке. Понимания нет, если трактовка отношения
осуществляется по-разному, «по-своему».
Отношение идеально, оно мыслится, но в эмпирической
действительности оно осуществляется, следовательно, выступает как
фактическое. Можно сравнить подход Шпета с подходом Соссюра,
который определил лингвистический знак как неразрывное
единство означающего и означаемого: «...лингвистический знак
объединяет не вещь и имя, но понятие и акустический образ (курсив
мой.-С.¥.)»п.
Шпет выделяет отношение реальное, когда терминами
выступают вещи или их свойства. Формы этих отношений всегда
внешние формы, доступные чувственному восприятию. Другой род
отношений — отношение, терминами которого выступают не
действительные вещи или свойства, а идеальные предметы или также
отношения: логическое отношение вида к виду, математические
отношения и т. д. Формы этих отношений Шпет определяет как
онтологические формы, требующие «особой установки сознания»12.
Терминами третьего рода отношений выступают, с одной стороны,
действительное, с другой, идеальное: отношение явления к
сущности, случайного к необходимому и т. д.; сюда же относится
отношение знака к значению. Отношение знака к значению отличается от
отношений второго рода. Один термин отношения (значение) дан
идеально, другой (знак), будучи действительным фактом, вступая
10 Там же. С. 523.
11 Соссюр Ф. Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
С. 99.
12 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Шпет Г. Г. Мысль и Слово. Избранные труды. М.,
2005. С. 528.
450
РазделУ
в отношение, теряет свою фактичность. Но и идеальный коррелят
факта, и само отношение, полагает Шпет, «имеют отношение» к
действительности: «В содержание такого отношения входит
содержание действительности, хотя оно и оформливается по законам
идеального предмета и идеального содержания»13. Формы этих
отношений Шпет определяет как внутренние.
Критерием различения форм внешних и внутренних
является различение форм интуиции (всякое отношение, подчеркивает
Шпет, по существу своему является идеальным): форм чувственной
интуиции и форм мышления, или интеллектуальной интуиции.
Шпет выделяет знаки-признаки, когда осуществляется переход от
одной действительной вещи к другой, и знаки, имеющие значение;
переход осуществляется в данном случае от действительного к
идеальному.
Сфера знака со значением, отмечает Шпет, есть сфера
социальной действительности. Рассматривая знак как отношение между
действительным и идеальным, он дает телеологическую трактовку
знака. Знак, с одной стороны, выступает как осуществление
(средство для осуществления) идеи (значения) во внешней форме, с
другой — как осуществление субъективной цели, действия некоторого
субъекта.
Наряду с телеологической трактовкой Шпет рассматривает знак
в рамках отношения «форма — содержание». Но уже в работах,
посвященных Гумбольдту, выделившему звуковую форму,
относящуюся к содержанию, и мышление, относящееся к форме, Шпет
отмечает, что такая дихотомия только затемняет анализ отношения
«мысль — слово». Мышление, пишет Шпет, оставаясь одним и тем
же по качеству, различается по предмету, на который оно
направлено. С различиями в деятельности мышления по его предметной
направленности Шпет связывает различия языковых форм. Язык
предстает не как «противопоставление отвлеченных понятий форм
и содержания», а как сложноструктурированная система форм.
«Содержание» в ней, отмечает Шпет, не должно рассматриваться
только как какая-то единая масса. Одни формы могут выступить
как содержание по отношению к другим формам, потому их
взаимоотношение и иерархия в системе раскрывают их действительную
роль и значение.
Выделяя слово как универсальный знак (в современной
семиотике такой подход определяется как лингвистический, его
связывают с именами Соссюра, Ельмслева, Якобсона), Шпет рассма-
13 Шпет Г. Г. Язык и смысл // Цит. изд. С. 529.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
451
тривает его также как субъект некоторого отношения и как само
отношение.
«Пока мы воспринимаем синтаксическую форму только в ее
чувственных признаках, мы имеем дело с формою внешнею.
Устанавливаем ли мы наличность определенного синтаксического
феномена по некоторому звуковому тожеству (сын-у, друг-у, стол-у...)
или по признанию в нем индекса закономерного
морфологического образования (сын-у, мор-ю, вод-е...), поскольку само тождество
или единство трактуются как моменты воспринимаемые, мы будем
говорить о внешних формах, независимо от того, как изъясняется
роль интеллектуального фактора в их образовании. Самый вопрос
об этих формах, как отношениях, сочетаниях, или качествах, даже
не есть вопрос науки о языке, а есть общий психологический
вопрос. Но лишь только мы в данных звуковых элементах или
комплексах, несмотря на различие самих дат (-у, -е, -и...), признаем
некоторое идеальное морфологическое единство, мы тем самым
признаем наличие в языке и некоторой синтаксической "нормы" (в
смысле, скажем, Фосслера), т. е. некоторой идеальной основы для
разнообразия исторических данных рассматриваемого языка. Если
мы, сверх того, признаем, что синтаксические формы языка, какие
бы эмпирические формы они ни принимали в разных языках, есть
необходимый момент в самой структуре языка, как такого, языка
вообще, и будем его рассматривать независимо от какого бы то ни
было чувственного индекса, в его идее, мы будем иметь дело не с
чем иным, как с идеальными синтаксическими формами»14.
Всякая внешняя форма, заключает Шпет, имеет свое идеальное
основание. Это формы «мыслимого, понимаемого, смысла, как он
передается, сообщается, изображается. Эти формы именно
составляют то, что делает сообщение условием общения. Их чувственные
знаки — не постоянные индексы или симптомы, а свободно
перестраивающиеся отношения элементов, сообразно выражаемым
отношениям, перестраивающиеся по законам, сознание которых
дает возможность улавливать, как характер этих перестроек, так и
отражений в них сообщаемого»15. Смысл синтаксических форм
исчерпывается функциями словесного упорядочения самой
передачи: со стороны объекта, о котором нечто сообщается, —
конструкция объективно-смысловая, со стороны целей («воздействие») и
мотивов (эмоционально-волевых) передающего субъекта — кон-
14 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 393.
15 Там же. С. 394.
452
РазделУ
струкция субъективно-экспрессивная («интонация»). В обоих
случаях, подчеркивает Шпет, к смыслу передаваемого синтаксическая
форма может иметь отношение лишь опосредованное —
формами самого передаваемого смысла и предмета, как «объекта», так и
«субъекта». «Поскольку эти последние формы суть формы не
самого бытия объекта, а формы сообщаемого об этом бытии, они суть
логические формы и внутренние»16.
В рамках семиотики теоретические дискуссии неизбежно (даже
если исследователи принципиально отделяют свои научные
искания от философии) соприкасаются с эпистемологическими
вопросами. Телеологический подход к знаку (слову), выделенный Шпе-
том, может получить (при условии знакомства с его работами не
только российских философов) развитие как в современной
эпистемологии, так и в семиотических исследованиях.
16 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд.
Ε. Коморовска
Актуальность научных концепций
Густава Шпета в контексте современного
языкознания
Лингвистические идеи Густава Шпета еще не нашли своих
последователей в Польше. Его творчество было почти
неизвестно польской гуманитарной науке, и до сих пор не
существует переводов работ Шпета на польский язык, а
потому его научные исследования оказываются
неизвестными польским философам и языковедам. Предлагаемая статья
является попыткой выявления тех аспектов в философии Шпета,
которые не потеряли своего значения для современного
языкознания. Основой моих рассуждений станут научные работы Шпета, в
особенности «Внутренняя форма слова»1, а в ней — те части,
которые касаются анализа языка.
Надо отметить, что Густав Шпет работал в то время, когда в
лингвистике после периода господства младограмматиков
формировались и развивались новые исследовательские программы и
принципы, относящиеся к структурализму. Упомянем здесь
наиболее влиятельных языковедов, таких, как И. А. Бодуэн де Куртенэ и
Н. Крушевский, которые принадлежали к казанской школе
лингвистики, а также их продолжателей Й. Винтелера (швейцарского
лингвиста), Г. Смита, П. Пасси, А. Норена. К ним можно добавить
представителей петербургской лингвистической школы, пражской
лингвистической школы и самого Ф. де Соссюра и французских
структуралистов.
Среди научных лингвистических взглядов Шпета, относящихся
к структурализму, можно отметить, например, синхронный анализ
языка, понимание языка как структуры, соотнесенность звука и
понятия, анализ статики и динамики в языке, выделение
внутренней и внешней формы слова и т. п.
1 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2007.
454
РазделУ
Шпет подчеркивает необходимость синхронного анализа языка
и неоднократно указывает на его структурный характер, даже
сравнивает его с огромной тканью, «где все части так переплетены, что,
какой бы из них мы ни коснулись, мы инстинктивно чувствуем,
что все же они находятся во взаимном согласовании и тут же
находятся перед нами»2. Шпет понимает, что каждый элемент в системе
определяется его отношением к другим и к целому.
Не менее важно, что Шпет указывает на соотнесенность звука
и понятия. «В слове всегда заключается двойное единство: звука и
понятия»*, — пишет Шпет. «Слово <...> необходимо есть звук,
сопряженный со смыслом (чувственный знак), и смысл,
запечатленный звуком (понимаемый смысл)»4. Шпет пишет, что «связь
звуковой формы с внутренними языковыми законами завершает
развитие языка, достигая высшего пункта в истинном и чистом
проникновении их друг в друга»5. В другом месте Шпет, развивая
свои научные взгляды, еще раз подчеркивает связь звука с
понятием, которое он интерпретирует как внутреннее чувство языка.
Он пишет: «В действительном человеческом языке различаются
два конститутивных принципа: внутреннее чувство языка (der
innere Sprachsinn), — под которым разумеется не какая-либо особая
сила, а вся духовная способность образования и употребления
(Gebrauch) языка, — и звук, поскольку он зависит от свойств органа и
покоится на том, что передается от поколения к поколению»6.
Структуралисты понимали статику как часть динамики, то есть
не было бы статики без динамики. Она, в каком-то смысле,
является устойчивым этапом в динамике развития языка. Такой подход к
статике и динамике, отражающий взгляды лингвистов, находим и у
Шпета: «Постоянное, устойчивое — относительно: по отношению
к смене и разнообразию как звуковой, так и идейной материи и, во
всяком случае, оно не неподвижно»7.
Шпет внимательно анализирует грамматические вопросы,
утверждая, что надо отграничить внешнюю плоскость языка (и
отнести к ней синтаксис) от внутренней формы слова, которая
включает в себя морфологию, понимаемую как словоизменение
(флексия) и словообразование. Шпет пишет: «В указанном разделении,
таким образом, мы не видим возражения против проводимого
2 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 335.
3 Там же. С. 335.
4 Там же. С. 424.
5 Там же. С. 340.
6 Там же. С. 343-344.
7 Там же. С. 418.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
455
нами различения морфологии и синтаксиса. Возможность такого
различения подтверждается, наконец, и разделением задач
морфологии: словоизменение и словообразование. <...> Синтаксис, в
своем плане, говорит: слово-вещь "учитель" есть подлежащее (ens
subiectum) в предложении: "учитель спит", "спит" — сказуемое»8.
Итак, морфология занимается формами и их понятиями, а
синтаксис — отношениями между ними в горизонтальном плане9.
Шпет часто подчеркивает разницу между теоретическим
обоснованием языка и субъективной его реализацией, вытекающей из
чувствительности, опыта, переживаний человека как реакции на
окружающую его среду. С этим вопросом связана шпетовская идея
социальной обусловленности языкового опыта, которая
перекликается, на мой взгляд, с мыслями ученых, представляющих
петербургскую лингвистическую школу. Для Шпета, как и для
лингвистов (особенно школы Щербы10), преимущественная ориентация
направлена на учет человеческого фактора в языке,
раскрывающегося сквозь призму социальности.
Творчество Шпета также перекликается с некоторыми
принципами пражской школы структурализма11, например с
функциональностью как целевым направлением языка. Язык — это
функциональная система, т. е. система средств выражения, которые служат
определенной цели. Все, что существует в языке (слово,
предложение, морфема и т. п.), существует благодаря тому, что имеет
определенную функцию. Шпет пишет: «Различие может состоять только
в средствах <языковых. — Э. К.>, и притом лишь в тех пределах,
какие допускаются достижением цели»12.
В контексте современных подходов к языку (прагмалингвисти-
ки и когнитивизма) некоторые идеи Шпета оказываются
остросовременными. Прагмалингвистика и когнитивное языкознание
8 Там же. С. 381-383.
9 Следует подчеркнуть, что в польской лингвистической литературе, если следовать
за различениями Шпета, до сих пор функционирует разделение грамматики на
внутреннюю (морфология — флексия и деривация) и внешнюю (синтаксис).
10 Кроме того, в школе Щербы изучалась проблема классификации членов
предложения и частей речи; она тоже была в центре лингвистических интересов Шпета.
11 Пражская школа лингвистического функционального структурализма была создана
в 1926 по инициативе В. Матезиуса и Р. О. Якобсона и просуществовала
организационно до начала 1950 гг. Пражский лингвистический кружок явился центром
деятельности Пражской школы, поистине интернациональной по своему составу.
Организатором и главой кружка был Вилем Матезиус (1882—1945). Ее
возникновение было подготовлено деятельностью Бодуэна де Куртенэ, Н. В. Крушевского,
Ф. де Соссюра, Л. В. Щербы и др.
12 Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 344.
456
РазделУ
делают акцент на гуманитарной составляющей в коммуникации,
поскольку в центре ее стоит человек с его богатством знаний,
переживаний, эмоций. Так и Шпет, рассуждая о социальной природе
языка, хочет тем не менее эту социальность «субъективировать»,
т. е. рассматривать коммуникативные процессы в зависимости от
внутреннего мира человека, являющегося одновременно членом
определенной социальной группы и общающегося с другими
людьми. Шпет вслед за Гумбольдтом считает, что поэтический язык в
целом служит цели непосредственного общения13. Выбор
определенных языковых средств в коммуникации позволяет ему выразить
мысль и повлиять на собеседника: «субъект может быть свободен в
выборе того или иного направления, способа модификации
изображаемой действительности»14. «Он свободен, далее, в отборе для них
словесного, и вообще изобразительного материала в каждом
индивидуальном случае»15. В этом, как я полагаю, и заключается прагма-
лигвистический подход к языку.
Понятия «значение» и «концепт», столь типичные, на мой
взгляд, для когнитивной методологии, также были рассмотрены
Шпетом. Значение — это не только определенный состав
понятийного содержания, но и определенный способ представления
содержания говорящим, т. е. концептуализация понятия. Шпет
ставит вопрос: «Если принять священную троицу
концептуализма, — слово — представление — вещь, то что же мы обозначаем
словом: концепт или самое вещь? Концепт посредствует, говорят,
и мы знаем вещь только через него»16. Вещи имеют право быть
названными по концепту. Шпет выделяет и объясняет метафору,
когда слово употребляется в переносном смысле (типичный предмет
анализа современных когнитивистов). Стремление к метафориза-
ции смысла присуще многим языкам, поскольку человек выражает
в звуке все, «что ощущает душа»17, внутренние глубины истинного
ощущения. В метафоре проявляется способность человеческого
ума найти семантические связи между элементами разных
понятийных структур.
Шпет касается в своих рассуждениях также и вопроса языковых
универсалий и культурных отличий между нациями. Он говорит
об «индивидуальном характере наций»18. Характер языка, его душа
13 Шпет Т. Т. Внутренняя форма слова // Цит. изд. С. 466.
14 Там же. С. 465.
15 Там же.
16 Там же. С. 430.
17 Там же. С. 462.
18 Там же. С. 338.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
457
вытекают из характера народа. От того, как народный дух
пользуется средствами для своего выражения, язык и получает свой особый
колорит и характер. Шпет пишет, что характер языка относится к
внутреннему содержанию языка в широком смысле
противоположения этого содержания чисто внешней форме19.
Я думаю, что намеченные здесь тематические пересечения
философско-лингвистических идей Шпета с проблемами
современных гуманитарных наук (прежде всего языкознания) требуют
дальнейших исследований.
19 Там же. С. 460.
Ε. Кохан
Густав Шпет и философия человека
Густав Шпет — философ, почти неизвестный в Польше.
Заметки о нем можно найти только в научных трудах по
русской философии. Например, в книге польского историка
русской мысли Анджея Валицкого Шпет представлен как
один из русских историков философии1. Интерес к
философии Шпета кажется для нас новым, и в исследованиях его
творчества мы в начале пути.
Нет сомнений, что творчество Шпета — это «открытие», о чем
свидетельствует заинтересованность этим автором в России и на
Западе. Для польских исследователей шпетовское наследие
обладает особой притягательностью. Речь идет о близости
интеллектуальной эволюции Густава Шпета к философскому пути одного из
наиболее знаменитых современных польских философов — Романа
Ингардена. Как и Ингарден, Шпет исходит из феноменологии, но
делает это смелее, особенно в своих планах и намерениях.
Сравнительный анализ интеллектуального движения Шпета и Ингардена
мог бы выявить возможности развития современной философии и
в этом контексте обогатить интерпретацию польской философии.
Русский философ жил в трудное время, оказавшее влияние
также на польскую культуру. Период, в который философия и
гуманитарные науки в Польше были подчинены сталинской
догматической интерпретации (или дезинтерпретации) марксизма, был
сравнительно коротким. Уже с начала 1955 года начинается
«оттепель», нарастает критика догматизма и формируется ситуация
свободы мысли, хотя и ограниченной. История этого периода,
как интеллектуальная, так и экзистенциальная, находится в
центре внимания польских ученых2 и требует дальнейших исследова-
1 Ср.: WalickiA. Zarys myéli rosyjskiej od oéwiecenia do renesansu religijno-filozoficznego.
Cracovie, 2005.
2 Ср.: Kochan E. Miejsce dla filozofii cztowieka. Przeiom antystalinowski w filozofii
polskiej. Szczecin, 1992.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
459
ний. Не могла оставаться изолированной и равнодушной к голосу
своего времени и философия Шпета. Такой тезис вполне
совпадает с его собственным мнением, когда он говорит, что человек и его
дело — это след, отозвавшийся в социальности, что можно его
понять лишь на фоне единства места и времени. Кажется, что
польский, в значительной степени «внешний» анализ той эпохи мог бы
облегчить анализ социального «фона» философии Шпета. С другой
стороны, знание концепции российского мыслителя расширяет
горизонт нашего понимания и русской философии в целом, и
социального «фона» русской интеллектуальной культуры. Это дает
возможность лучшего понимания специфики польской философии.
Между философией Шпета и польской историей идей
обнаруживаются весьма интересные параллели. Однако они не
исчерпываются только «этнической» перспективой. Важнее рассмотреть те
современные вопросы, гипотезы и проекты, где идеи Шпета не
потеряли своей актуальности и оригинальности.
Самый большой интерес современных исследователей вызывает
философия и теория языка Густава Шпета3. Действительно, эта
проблематика языка выходит на первый план уже в «Явлении и смысле»
(1914). Здесь Шпет ставит проблему социальной природы языкового
сознания, что позволяет ему впоследствии выйти из феноменологии
к лингвофилософской тематике4. Оригинальность шпетовской
постановки вопроса проявляется в его обращении к социальному
контексту функционирования языка. Благодаря высказанным в этой
книге идеям все дальнейшее творчество Шпета рассматривается
зачастую как самое оригинальное и самое важное среди всех других
его работ. На мой взгляд, оригинальность идей Шпета не
исчерпывается только этим произведением. Его творчество — это
динамичное целое, своего рода интеллектуальный «проект», который задает
исследовательские траектории и обогащается с каждым новым
произведением. В центре этого проекта находится человек и его деяние
(в том числе и его интеллектуальные поступки).
В работе «Явление и смысл», написанной по поводу «основной
науки» — феноменологии Гуссерля, Шпет рассматривает
основную проблему традиционной философской теории познания: про-
3 По этой тематике написано много научных статей, актуализирующих его идеи.
4 Замечу, что Ингарден уделяет этой проблематике меньше внимания, поскольку
предлагает погрузить языковую проблематику в контекст рефлексии над
литературным произведением. Проблема социальности языкового сознания, поставленная
Шпетом, не входит в сферу интересов польского философа. Ср.: WolenskiJ. Jçzyk //
Siownik pojçé filozoficznych Romana Ingardena / red. A. J. Nowak, L. Sosnowski. Cra-
covie, 2001. С 134.
460
РазделУ
блему связи знания и предмета, или, иначе говоря, проблему
соотношения факта и истины. Это предмет разногласия и спора между
номинализмом и реализмом. Шпет считает этот спор основным
для философской традиции вообще. В своей работе он
осуществляет своеобразную «деконструкцию»5 этой проблемы, сдвигая
точку зрения философии в сферу гуманитарных наук. Результатом
этой «деконструкции» является, на мой взгляд, «открытие» выхода
за пределы спора номинализма и реализма, т. е. за пределы кан-
товской антиномии чувственности—рассудка. Его мысль такова:
мы почерпаем знания о предмете непосредственно из
действительности, в интеллигибельной интуиции. Но познание этим не
ограничивается. Необходимо выразить то, что было познано на
опыте и в идее. Поэтому Шпет акцентирует внимание на «третьем
источнике познания» — слове, в котором заключено содержание
(смысл) познания.
Однако если полностью выйти за пределы кантовской
постановки вопроса, то возникает проблема «центра»
интеллигибельной интуиции. Это проблема «чистого Я», не зависящего от
временно-пространственных условий и ограничений, каким
подвергается субъект интеллигибельной интуиции. Шпет был уверен,
что такой центр существует, что существует трансцендентальный
источник смыслов и истины. Действительно, если признать язык
условием возможности всякого человеческого опыта, то он
должен иметь объективный характер. Именно в этой точке и
начинаются сложности. И философия познания становится
философией языка, т. е. в центр внимания философской проблематики
ставится анализ языка. Вот почему Шпета часто называют одним
из основоположников и инициаторов аналитического подхода в
философии.
Чтобы понять специфику шпетовского подхода, необходимо не
упускать из вида тот факт, что Шпет еще до знакомства с Гуссерлем
сконцентрировал свое внимание на проблеме исторического
сознания и познания. Переосмысление гуссерлевской
феноменологии открыло герменевтический характер этой проблемы. Выход из
феноменологической проблематики не означал для Шпета
преодоления ее. Феноменология остается «основной наукой» в том
смысле, что она описывает познавательные акты. Однако мне кажется,
5 Определение это употребляется здесь сознательно. Стратегия деконструкции
Ж. Деррида возникает также под влиянием феноменологии Гуссерля и является
своего рода «радикализацией феноменологии». Ср. Derrida J. L'écriture et la
difference. Paris, 1967. P. 189.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
461
что для Шпета важно не столько феноменологическое описание
само по себе, сколько познание культурных объективации
(«выражений») человека6.
Шпет ищет продуктивный подход к исследованию
исторического сознания, что объединяет его с выдающимися философами
своего времени: от Брентано и неокантианцев до Дильтея и
феноменологов. Шпет ищет выход из тупиков «психологизма» в учении
об историческом сознании и видит его в феноменологии. В
проблематике этнической психологии Шпет видит возможность
развития своих философских идей.
Критика общей психологии, предметом которой является
«субъект», базируется на том, что сознание имеет социальный характер
или лучше: коллективный. Индивид является «продуктом»
сообщества. «Сам индивид коллективен, и по составу, и как продукт
коллективного воздействия»7. Язык выражения и описания индивида,
говорит Шпет, является языком сообщества. Именно здесь Шпет
проницательно указывает на характерную слабость языка
психологии, сводящую объяснение сознания к материальной его
подоснове. Ведь психологический субъект в конечном счете это не только
«натуральный анатомо-физиологический аппарат», обогащенный
«эмоциями». По мнению Шпета, знания о человеке, выраженные
в таком языке, не имеют смысла, не описывают и не объясняют
сознания как существенной характеристики человека. «То, что мы
называли "реакциями" коллектива, его отношение к вещам и
людям, его "отклики" на жизнь и труд — уже беспредельная область
чувств, настроений, характеров, ибо вся социальная и этническая
психология в основном своем есть социальная характерология»*.
В этом высказывании содержится два важных пункта. Во-
первых, в нем определяется предмет новой дисциплины, которую
Шпет назвал этнической психологией, во-вторых, оно
раскрывает возможности для оригинальной трактовки социальности.
Этнопсихология, по мнению Шпета, должна заняться
отношением коллектива к условиям его существования, к вещам и людям, к
способам «экспрессии» (выражения) в действительности культурно-
социальных продуктов труда и творчества. Таким образом
выражается «дух» коллектива, его «душа» и характер. Познание отношений
и социальных форм должно служить познанию «духовных форм».
6 Ср.: Шпет Т. Г. Введение в этническую психологию // Шпет Т. Т. Сочинения.
М., 1989. С. 480.
7 Там же. С. 479.
8 Там же. С. 481.
462
РазделУ
Шпетовская трактовка понятия «коллектив» указывает на связь
его размышлений с развивающейся в то время в Европе и Америке, а
также и в России культурной антропологией. С точки зрения Шпета,
коллектив является организованным множеством, прежде всего
историческим, но также «конкретным» — исторический и конкретный
характер имеют «класс, союз, город, деревня». Это не абстрактное
«человечество» (в общефилософском его понимании), но «реальная
совокупность». Шпет рассуждает о том, что коллективные реакции
выражаются свойственным для данного коллектива способом.
«Каждый исторически образующийся коллектив, — народ, класс, союз,
город, деревня, и т. д., — по-своему воспринимает, воображает,
оценивает, любит и ненавидит объективно текущую обстановку, условия
своего бытия, само это бытие, — и именно в этом его отношении
ко всему, что объективно есть, выражается его "дух", или "душа",
или "характер", в реальном смысле»9. Шпет ищет такой «продукт
культурного творчества», анализ которого позволил бы выразить
проблематику этнической психологии наиболее глубоко и основательно.
Такими «методическими образцами» становятся для Шпета язык и
искусство. Произведение искусства понимается Шпетом как
выражение, структура которого содержит элементы субъективного и
объективного порядка (в том числе и труд)10. Наряду с языком искусство
воспринимается не как материальное воплощение духа, но как
культурная действительность, характеристика которой выходит за
пределы традиционной оппозиции. «Вся душа есть внешность, — пишет
Шпет, — человек живет, поскольку есть у него внешность»11.
Философия Шпета является последовательным
осуществлением интеллектуального проекта, «путем мысли»12, и надо признать,
что для философии и гуманитарных наук это был, говоря словами
философа, «непротоптанный путь»13. Сформулированные Шпетом
идеи и сегодня остаются актуальными для философии языка и
гуманитарных наук, развивающих тематику творчества и искусства.
В заключение хотелось бы вернуться к обозначенному в начале
вопросу о связи Шпета с советским марксизмом ленинской и ста-
9 Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию // Цит. изд. С. 479.
10 Понимание труда как творчества — это идея, известная в философии уже с
конца XIX в. В Польше известным сторонником этой концепции был Станислав
Бжозовски (1878-1911).
11 Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты // Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989.
С. 363-364.
12 См.: Щедрина Т. Г. Густав Шпет: путь философа // Шпет Г. Г. Мысль и Слово.
Избранные труды. М., 2005. С. 7—32.
13 Там же. С. 7.
Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
463
линской эпохи. Я убеждена, что постановка этих вопросов очень
важна и для понимания философии той эпохи, и для выработки
целостной характеристики Шпета, но мои возможности ответить
на них весьма ограниченны.
Я имею в виду возможность сравнения идей Шпета и марксизма
его эпохи. Французская исследовательница философии Шпета —
Мариз Денн, рассматривая его идеи социальной обусловленности
сознания (языка), подчеркивает, что эта точка зрения не может
сегодня рассматриваться как проявление политической
конъюнктуры, хотя бы по той простой причине, что она сформировалась
еще до революции14. Эта точка зрения кажется убедительной, хотя
проблема связи философии Шпета с русской интеллектуальной
традицией требует глубокого анализа15. Если следовать идее
самого Шпета, человек думает и говорит так и таким языком, каким
пользуются его современники. И в этом смысле Шпет — русский
мыслитель. Его идеи формировались под влиянием «духа времени
и места», а не под влиянием официальной идеологической
доктрины. Тем более, что в 1920-е гг. (когда Шпет работал наиболее
продуктивно) доктрина эта еще не приобрела системного характера.
Сегодня мы имеем возможность сравнивать философскую
точку зрения Шпета с «ленинской» философией. Прежде всего,
бросается в глаза разница между умеренным «реализмом» Шпета и
«теорией отражения» Ленина. Теория отражения, согласно которой
истинность знания заключается в адекватном «отражении»
объективной действительности, содержит, согласно Гуссерлю и Шпету,
«натуралистическую ошибку». Кроме того, «общественное
сознание» рассматривается в советском марксизме как отражение
условий материальной жизни общества, но внимание
сконцентрировано на характеристике общества, его классового состава. Шпет, как
я уже говорила, коллектив понимает по-другому — значительно
шире. Материальное бытие трактуется в марксизме как
общественный базис, т. е. «экономический строй общества на данном этапе
его развития»16. «Экономизм» тогдашнего марксизма, особенно как
14 Ср.: Dennes M. La place du corps et la critique de la psychologie classique dans
«L'introduction a la psychologie ethnique» de Gustav Chpet // Slavica occitania. Toulouse,
2004. № 18. P. 89-102.
15 О связи Г. Шпета с русской философской традицией «положительной
философии» см.: Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии.
М., 2008.
16 Stalin J. Marksizm a zagadnienia jçzykoznawstwa. W&rszawa, 1954. С. 5. См.: Сталин И.
Марксизм и вопросы языкознания. Относительно марксизма в языкознании //
Правда. М., 1950. 20 июня.
464
РазделУ
методологический постулат, является чуждым для Шпета. И еще,
о политической функции философии. В работе «Материализм и
эмпириокритицизм» Ленин показывал, что история философии —
это история двух великих «партий»: материализма и идеализма.
Материализм — это прогрессивный взгляд, связанный с
прогрессивными классами, а идеализм является «вражеской силой» для
прогресса. В этой борьбе нейтральная позиция невозможна,
«беспартийность» в философии — это фикция. Спецификой
сталинизма было то, что эту концепцию применяли в политической
практике и для расправы с активными политическими противниками в
период «обострения классовой борьбы». Шпету была чужда такая
общественно-политическая ориентация философии. Свою
профессиональную философскую деятельность он рассматривал как
«дело общественное»17.
И его отношение к своей философской деятельности является
для нас (имеющих опыт переживания философии как
политической доктрины) своего рода «методическим образцом» деполитиза-
ции интеллектуального пространства. Рефлектируя на собственный
опыт, мы сегодня можем иначе осознавать свое прошлое и видеть
перспективу дальнейшего интеллектуального пути. Возвращение
к истории позволяет нам сегодня сказать, что Густав Шпет —
теоретик языка и философ культуры и искусства — является
одновременно философом и теоретиком начала новой гуманитарной
рефлексии.
17 См.: Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной
биографии Густава Шпета, особенно глава «Выбор Густава Шпета: "Остаться, чтобы
действовать..."». М., 2004. С. 245. См. также: Густав Шпет: жизнь в письмах.
Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедрина. М., 2005. С. 97.
VI. «Архив
эпохи»
Г. А. Левинтон
Густав Шпет и журнал «Гермес»
Машинописный журнал «Гермес», издававшийся в
Москве (в 12 экз.), выпускала группа молодежи, в
основном участники Московского лингвистического кружка
(МЛК) анти-ОПОЯЗовского (и
антифутуристического) направления1. Все они были учениками Шпета в
Московском университете, и журнал, по замечанию одного из
немногих мемуаристов, усвоил даже специфическую орфографию
Шпета: «Авторитет моего университетского учителя профессора
Г. Г. Шпета для участников "Гермеса" распространялся даже на
орфографию: и они тоже писали и печатали в ряде случаев без удвое-
1 Материалы этого журнала были введены в оборот в основном моими
публикациями. См: 1) Чудакова М. О., Устинов А. Б., Левинтон Г. А. Московская литературная
и филологическая жизнь 1920-х годов: Машинописный журнал «Гермес» // Пятые
Тыняновские чтения: Тезисы докладов и материалы для обсуждения. Рига, 1990.
С. 167—210; 2) Левинтон Г. Α., Устинов А. Б. Материалы о Кузмине в журнале
«Гермес» // Материалы конференции, посвященной 110-летию со дня рождения
академика В. М. Жирмунского. СПб., 2001. С. 322—334; 3) Степанова Л. Г.,
Левинтон Г. А. Из истории дантоведения: Статья Д. С. Усова о переводе «Новой жизни»
в «Гермесе» // Тыняновский сборник. Шестые—седьмые—восьмые Тыняновские
чтения. М., 1998. Вып. 10. С. 514—547; 4) Степанова Л. Г., Левинтон Г. А. Из истории
дантоведения в России (Неизвестная статья Д. С. Усова о переводе «Новой жизни»)
// Язык, литература, эпос (К 100-летию со дня рождения академика В. М.
Жирмунского). СПб., 2001. С. 332—363. 5) Левинтон Г. А. Проза машинописного журнала
«Гермес» (1922—1923) // Вторая проза. Сб. статей / Ред. И. Белобровцева. С. До-
ценко. Г. Левинтон. Т. Цивьян. Таллинн, 2004. С. 315—350; Левинтон Г. А. К истории
дописывания Пушкина: «Через неделю буду в Париже» (Богдановский С. Д. Опыт
окончанья драматического отрывка А. Пушкина) // Russian Literature and the West:
Atribute for David M. Bethea. Ed. By A. Dolinin, L. Fleishman, L. Livak (Stanford Slavic
Studies. Vol. 35). Stanford, 2008. P. I. P. 319—335; Левинтон Г. А. О московских
букинистах 1910-х годов (очерк С. Д. Богдановского из журнала «Гермес»). К 60-летию
П. А. Клубкова // Архив петербургской русистики. К 60-летию Павла Анатольевича
Клубкова — http://www.ruthenia.ru/apr/textes/klubkov60/levinton.html. Наиболее
обширный из материалов, подготовленных к печати: Левинтон Г. А. Материалы о
Гумилеве в журнале «Гермес», — до сих пор остается неизданным.
468
Раздел VI
ния согласных — маса, класа, граматика»2. Точнее сказать, они
писали без удвоения заимствованные слова (в том числе ключевое для
них слово класицизм или имя Аполон)3, а также все слова с исходом
на -ие, -яи писали через -6-: -ье, -ья. Кое-кто из авторов журнала,
не входивших, правда, в редакционное ядро (например, Д. С. Усов,
М. А. Петровский), впоследствии были арестованы по тому же
делу, что Шпет4. Отношения участников (и особенно редакции)
журнала с их учителем могут рассматриваться в трех аспектах. Во-
первых, организационном: Шпет был членом МЛК и стал
поводом и предметом острой дискуссии на заседании кружка 21 марта
1922 г. при обсуждении планов издательства МЛК о том, «следует
ли привлечь в редакцию предположенных изданий кружка
профессионального философа и какова должна быть его роль»5 (речь
шла о философе вообще, но все участники подразумевали именно
Шпета).
Шпет и сам был членом МЛК, но в данном случае речь идет о
его отношениях не с кружком в целом, а с вполне определенной
2 Чичерин А. В. Давние годы: (Главы из воспоминаний) // Чичерин А. В. Сила
поэтического слова. М., 1985. С. 217. В остальном мемуары Чичерина дают
немного, разве что биографические штрихи из быта M. M. Кенигсберга. «Гермес»
автор читал уже в новое время, причем только № 3, по экземпляру Д. Е. Михальчи
(одноклассника автора и Кенигсберга, существенно, что их общим гимназическим
учителем был Е. Г. Браун — см. о нем: Степанова Л. Г., Левинтон Г. А. Из истории
дантоведения. С. 355—356, прим. 87). Соображения Чичерина о журнале интереса
не представляют.
3 Не исключено, что Шпет был не единственным прецедентом такой орфографии:
таким же отношением к двойным согласным отличался журнал «Аполлон» и его
книжные издания (ср., в частности: Читательский отклик на журнал «Аполлон».
Публ. А. А. Колгановой // Чтение в дореволюционной России / Сост. А. И. Рейт-
блат. М., 1995. С. 154), Н. А. Богомолов отмечает особую орфографию (видимо, со
сходной трактовкой двойных согласных в заимствованных словах) еще в XIX в. — в
газете «Заря» (Киев), 1884 г. (Богомолов Н. А. У истоков символизма // Блоковский
сборник. XIV: Александр Блок и русская литература первой половины XX века. Тарту,
2003. С. 18, прим. 5). Ср.: «образ Г. Г. Шпета <...> эрудита, оригинала, изобретшего
собственную орфографию: он систематически истреблял двойные согласные в
словах иностранного происхождения, считая, что это чужеродно русскому языку.
Его корректуры пестрят выкинутыми двойными согласными, а если они доживали
случайно до тиража, он требовал списка опечаток» (Поливанов М. К. Жизнь и труды
Г. Г. Шпета // Шпет в Сибири: ссылка и гибель. Томск, 1995. С. 11).
4 См. связанные с этим делом материалы в кн.: Шпет в Сибири: ссылка и гибель.
Сост. М. К. Поливанов, Н. В. Серебреников, М. Г. Шторх. Томск, 1995; Северцева О.
«Фашизированная наука» // Независимая газета. 11 апреля 1996 г. С. 8.
5 Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики»
Ф. де Соссюра и деятельность Московского лингвистического кружка (Материалы
к изучению бытования научной книги в 1920-е годы) // Федоровские чтения. 1978.
М., 1981. С. 248.
«Архив эпохи»
469
группой внутри него. М. О. Чудакова и Е. А. Тоддес, говоря о
довольно бурном заседании МЛ К 21 марта 1921 г., где обсуждались
планы собственного издательства кружка, и в частности вопрос:
«следует ли привлечь в редакцию <...> профессионального
философа», упоминают разделившиеся мнения: «Выступившие за
приглашение философа А. А. Буслаев, М. М. Кенигсберг, Б. В. Гор-
нунг (они выдвинули кандидатуру своего учителя Г. Г. Шпета,
состоявшего действительным членом МЛК) и возражавшие им
(принципиально, а не против самой кандидатуры) Η. Φ.
Яковлев, С. Я. Мазе, П. П. Свешников и А. И. Ромм». Вся первая
группа входила в редколлегию «Гермеса»6. Эпизод этот
интересен и специфическим соотношением собственных и
нарицательных имен: спор идет о «философе», но имеется в виду
именно Шпет, — ситуация, напоминающая средневековую, когда
«философ» (например, у Данте) значило «Аристотель»7.
6 Из документальных свидетельств, попавших в печать еще в советское время,
упомяну записку Бориса Горнунга к Шпету:
«Многоуважаемый Густав Густавович!
Несмотря на наши старания, не удалось достать ни второго экземпляра самого
де Соссюра, ни изложения Sechehaye <Имеется в виду: Sechehaye A. Les problèmes
de la langue à la lumière d'une théorie nouvelle // Revue philosophique de la France et de
l'étranger. 1917. T. 84. № 7>. На всякий случай передаю Вам через M. П. Якобсона
русский перевод первой части де Соссюра (рукопись А. И. Ромма). Б. Горнунг.
22. VI. 22». ЦГАЛИ. Ф. 1495. Оп. 1. Ед. хр. 32. Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Первый
русский перевод «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и деятельность
Московского лингвистического кружка. Указ. соч. С. 235.
7 Как явствует из протокола заседания 21 марта 1922 г., стоял вопрос об
организации специального издательства МЛК. Весьма существенным для судьбы
предприятия оказалось то обстоятельство, что члены кружка разошлись во мнениях
о том, какие именно серии следует учредить. В частности, возник спор о том,
нужны ли литературоведческая и стиховедческая серии. Голосованием эти серии
были утверждены; тем самым подтверждалось, что поэтика входит в сферу интересов
кружка. Кроме того, возник спор о том, следует ли привлечь в редакцию
предположенных изданий кружка профессионального философа и какова должна быть его
роль. И выступившие за приглашение философа, и возражавшие им были согласны
в том, что кружок подошел к пересмотру основ лингвистики и что обращение
к философии и философам нужно для такого пересмотра. Разногласия сводились
к тому, каково должно быть соотношение конкретной лингвистики и лингвистики
теоретической, в какой степени последняя должна ориентироваться на
философское знание. Голосование проводилось по весьма дипломатично
сформулированным вопросам и дало следующие результаты: «Необходимо ли вхождение философа
в редакцию? Не необходимо. Желательно ли вхождение философа в редакцию? Не
желательно. Допустимо ли вхождение философа в редакцию? Допустимо». Члены
кружка, возражавшие против привлечения философа, предпочитали, «чтобы
теоретические проблемы лингвистики разрешались лингвистами же» (Чудакова М. О.,
Тоддес Е. А. Первый русский перевод «Курса общей лингвистики» Ф. де Соссюра и
деятельность Московского лингвистического кружка. Указ. соч. С. 240—241.
470
Раздел VI
Суммируя словами M. И. Шапира8: «Эстетическая программа
"Гермеса" проповедовала и развивала мысль Г. Г. Шпета о
необходимости художественного "классицизма", понятого как "новый",
"духовный", словесный "реализм", то есть — в
противоположность "номинализму" — реализм "знака", во всей осознанной и
выраженной определенности его структуры. <...> Однако в своей
беллетристической практике, уже заметно расходясь со Шпетом в
конкретных критических оценках, например поэзии Ахматовой,
<...> авторы журнала выступали как "младшие акмеисты": их
"неоклассицизм" и "неореализм" на деле проявились в ориентации на
поэтику и стиль Кузмина, Ахматовой, Мандельштама и особенно
Гумилева»9.
Именно об этом круге филологов, которые к тому времени
почти в полном составе перешли в ГАХН, писал Р. О. Якобсон в
письме к H. H. Дурново: «В Москве молодежь вне университета, льнет
к академии художественных] наук, где в лингвистике господствует
шпетиальное направление (Мазе, Буслаев, Горнунг). Винокур
пытается сочетать шпетизм с марксизмом»10.
В вышедших трех номерах «Гермеса» Шпет не принимал
участия как теоретик. Его статья о Гумбольдте, прочитанная в ΡΑΧΗ в
ноябре 1923 г., предназначалась, по сообщению Б. В. Горнунга, для
второй, статейной части «Гермеса» № 4 (первая часть этого
номера была собрана, но не тиражирована), впоследствии она выросла в
книгу «Внутренняя форма слова» (М., 1927). По его же сообщению,
Шпет возглавил Научно-художественный совет, «образованный с
1 января 1924 г.», значительно расширенный по сравнению с
прежними составами редколлегии журнала. Не совсем понятно, как это
согласуется с другими событиями 1924 г., со временем окончания
первой части № 4 (под председательством Н. В. Волькенау), уже
после смерти M. M. Кенигсберга (30 июня 1924 г.).
Тем не менее влияние Шпета, о котором говорит М. И. Шапир,
в журнале вполне ощутимо. Перечислим прямые упоминания и
ссылки на Шпета в материалах «Гермеса»:
8 Шапир М. И. M. M. Кенигсберг и его феноменология стиха // Russian Linguistics.
1994. Vol. 18. № 1. С. 78.
9 В цитируемой ниже статье Кенигсберга «Искусство и истина» подряд идут ссылки
на Кузмина (как теоретика) и Шпета. Ср. об этом: Левинтон Г. Α., Устинов А. Б.
Материалы о Кузмине в журнале «Гермес». С. 326—327.
10 Письмо Якобсона Р. О. к Η. Η. Дурново. Конец 1925. Видимо, со слов
Жирмунского и С. Я. Мазе, которых он видел в Германии. См.: Letters and Other Materials
from the Moscow and Prague Linguistic Circles. Toman J. (ed.). Ann Arbor. 1994. P. 97
и прим. 59—60.
«Архив эпохи»
471
1) Полемизируя с Леонидом Гроссманом, который опирается на
Б. Кроне11, Б. В. Горнунг ссылается в основном на Гуссерля. Среди
прочего он упоминает:
«Эстетическое или феноменальное сознанье выделяется Штум-
фом, Гусерлем (гилетическое сознанье) и Шпетом (ср. Шпет.
Сознанье и его собственник, стр. 166). Противополагая
"феноменальному составу" "функциональную продуктивность", мы выделяем
другой вид сознанья — сознанье интенциональное или
функциональное (ibid). Наблюдающееся на протяженьи всей истории
философии неразделенье обоих видов или игнорированье одного из них
приводило к постоянным внутренним противоречьям в
онтологических системах»12.
2) В статье M. M. Кенигсберга «Искусство и истина (в защиту и
против реализма)»:
«Возникает возможность рассматривать искусство под углом
методологическим: как знание. <...> В применении к этому знанию
(особому видовому понятию его — фантазии), как и всякому
другому виду знания, может быть поставлена проблема об изложении и о
предмете знания. Об изложении не только в применении к
изобразительным средствам (хотя и здесь возникает и, быть может, с
полным основанием, требование кларизма10), но и к тому логическому
"каркасу"11, по которому располагается эстетическое знание»13.
К этим местам сделаны следующие примечания: «10 М. Кузмин.
О прекрасной ясности. Аполлон. 1910. № 1 <ошибка, надо: № 4. —
Г. Л.>»; «п "Сюжетовый каркас" — ср.: Г. Шпет. Эстетические
фрагменты. <Вып.> 1. <Пб., 1922> стр. 8»14.
Чуть ниже: «Символу противополагаем алегорию. На это про-
тивоположенье указывал еще Новалис: "Bild — nicht Allegorie,
nicht Symbol einen Fremden: Symbol von sich selbst"12. Я понимаю
этот фрагмент как различенье алегории, как знака чего-то
чуждого, и символа, как знака, обладающего собственной смысловой
структурой»15.
11 Горнунг Б. Некоторые замечания по методологии и методике науки о литературе
(поэтики). (По поводу статьи Л. П. Гроссмана «Метод и стиль» // Лирический круг.
М., 1922) // Гермес. № 1. С. 97-106.
12 Там же. С. 99-100, прим.
13 Кенигсберг М. М. Искусство и истина (в защиту и против реализма) // Гермес.
№ 2. С. 124.
14 Там же. С. 139, прим. 10, 11. Имеется в виду следующая фраза Шпета: «Чем
больше вдумываешься в идею поэтического творения, тем меньше от нее остается <...>
Остается один сюжетовый каркас, если и вызывающий какие-нибудь связанные с
эстетикой переживания, то разве только несносное чувство банальности».
15 Там же. С. 125.
472
Раздел VI
В примечаниях: «12Fragm. 178216. На различье алегории и
символа указал также и Г. Г. Шпет. Op. cit., стр. 35—36»17.
И еще: «В самое недавнее время было указано на иллюзионизм
как на характернейшую черту романтизма17*»18.
В примечаниях: «17Т. Шпет. Эстетические фрагменты. <Вып.> 1.
<Пб., 1922> стр. 62)19. Классическое искуство может быть искуством
реалистическим. Классическим искуством надлежит называть
искуство экспрессии — знак, обладающий содержаньем. Классическое
искуство есть искуство как знанье. Знанье имеет своим предметом
истину. Истина есть действительность. Истина искуства есть
эстетическая действительность». «18* Об истине и действительности см.
у Г. Г. Шпета. История как проблема логики, т. I. Введенье, а также
Э. Гусерль. Логические исследования, т. I. гл. II. Истинное искусство
есть искусство как знанье эстетической действительности. Только
искусство как знанье, искусство предметное и осмысленное, реальное и
положительное может быть названо искусством классическим»20.
3) В статье Б. Горнунга «Мысли П. А. Катенина об эстетике».
«Общие результаты строгой философии последних лет (работы
самого Гусерля, других философов школы Брентано, у нас в России —
16 Цит. по: Novalis, \brarbeiten zu verschiedenen Fragmentsammlungen. 1798. Fr. 185 (см.:
Werke. Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs. Hrsg. H. J. Mahl, R. H. Samuel.
1987. Bd. 2. S. 352). В известных мне переводах этого фрагмента нет, см.: Новалис.
Фрагменты в пер. Гр. Петникова. М., 1914; Новалис. Фрагменты / Пер. Г. Н. Петнико-
ва // Гейнрих фон Офтердинген. Фрагменты. Ученик в Саисе. СПб., 1995. С. 143—160.
Новалис. Фрагменты / Пер. А. С. Дмитриева // Литературные манифесты
западноевропейских романтиков / Под ред. А. С. Дмитриева. М., 1980. С. 94—107.
17 Шпет писал: «Символ — сопоставление порядка чувственного со сферою
мыслимого, идеи, идеальности, действительного опыта (переживания) со сферою
идеального, опыт осмысливающего. Искусство, в аспекте эстетики, существенно
между тем и другим. Ошибочно утверждение, будто символ устанавливается
непременно на основе "сходства". "Сходство" физического и духовного,
чувственного и идеального вообще весьма хитрая проблема, если под сходством понимать
"подобие", а не просто "схождение" — с двух безусловно не-подобных концов к
какому-то условно одному пункту. Символ и не алегория. Алегория — рассудочна,
"измышленна", плоско-конечна. Символ творчески-пророчествен и неисчерпаемо
бесконечен. Алегория теософична, символ — мистичен».
18 Кенигсберг M. M. Искусство и истина (в защиту и против реализма) // Гермес.
№2. С. 130.
19 «Романтический христианский реализм был иллюзионизм; он гипостазировал
"только идею", и этим обманывал себя; он объявлял внешность иллюзией и этим
обманывал других. Романтизм, — как и все христианство, не имел мужества
искренней лжи, какое было, например, у циников и Пирона, и спрятался за иронией.
Какая прозрачная анаграмма, и тем не менее христианский мир ее не разгадал.
Είρονεία = illusio, романтизм = иллюзионизм».
20 Кенигсберг Μ. Μ. Искусство и истина (в защиту и против реализма) // Гермес.
№2. С. 140 (прим. 17, 18).
«Архив эпохи»
473
труды Г. Г. Шпета и неизданные еще работы некоторых его
учеников) <...> заставляют очень критически относиться к тому, что часто
рассматривается как последнее и пока не вызывающие никаких
сомнений достиженья эстетики <sic! несогласование в числе. — Г. Л.>.
В частности это относится к итальянскому философу Бенедетго Кро-
че и немецкому ученому Карлу Фослеру, поставившему ряд
важнейших проблем, касающихся эстетических моментов в языке»21. И в
сноске к этому фрагменту: «Из новых работ по эстетике на русском языке
приходится отметить один лишь доклад Г. Г. Шпета "Эстетические
моменты в структуре слова", прочитанный в Московском
Лингвистическом Кружке в марте 1920. В книгоиздательстве "Колос" готовятся
его же "Эстетические фрагменты", кажется в четырех выпусках»22.
Статья помечена сентябрем 1922 г. — в более ранних статьях уже
есть ссылки на первый выпуск «Эстетических фрагментов».
4) В статье Б. Горнунга «Заметки о Слове и Поэзии».
«Ученье о символе, как основном моменте поэтического искусства,
не может быть не объединено с тем же учением о внутренней форме —
о поэтическом образе. В только что вышедших работах Г. Г. Шпета обе
стороны ученья получили свою синтетическую разработку»23.
«Но ведь не только в сфере всех видов рефлексии, но и в сфере
деятельности сознанья, направленной на предельную
конкретизацию в сфере "спонтанного творчества" — последние десятилетия
поставили au rebour культурный слой непосредственно
предшествующих поколений — следовательно перевернув его на ноги4 —
в своем устремленьи к Ренесансу (особенно ясны эти тенденции в
России5) — Возрожденью, в смысле исчерпывающего завершенья
прежних частичных культурных подъемов должны заслужить в
расценке эпох почетное место»24.
В примечаниях:
«4 Ср. у Г. Шпета, хотя и в ином смысле и даже контексте,
"на место смешного поставить веселое, на место нелепого —
умное, незабываемого Сезана — на место позабытого Гокусая"
(Эстетич<еские> фрагменты, I, стр. 37) — идет после слов "Но нам
теперь, сейчас, не реставрации нужны, а Ренессанс", стр. 37».
«5 И здесь мы не имеем права <видимо, перифраз слов Гумилева
о Готье, которые цитируются в этом же номере "Гермеса". — Г. Л>
не напомнить только что цитированного автора: "Мы — первые
21 Горнунг Б. В. Мысли П. А. Катенина об эстетике // Гермес. № 2. С. 163.
22 Там же. С. 164.
23 Горнунг Б. В. Заметки о Слове и Поэзии // Гермес. № 3. С. 202.
24 Там же. С. 215.
474
Раздел VI
низверженные — взносимся выше других, быть может, девятым и
последним валом европейски всемирной истории. Ныне мы
преображаемся, чтобы начать наконец, — надо верить, — свой первый
европейский Ренесанс. От нас теперь потребуется стиль (курсив
автора <и у Шпета, и в "Гермесе" — разрядка. — Г. Л.>) До сих пор мы
только перенимали" (Эстетич<еские> фрагменты, I, стр. 31 ел)».
5) В статье М. Кенигсберга «О "Двенадцати"».
«Про любовную тему "Двенадцати" вполне исчерпывающе
сказано: "Петька Катьку полюбил, — наше исконное старье, былье, бытье...
Дальше — Чичиковы, Хлестаковы, Смердяковы, Молчалины —
старый мир, старый быт" (Г. Шпет. Эстетические фрагменты. I, стр. 58)»25.
6) В рецензии Б. Горнунга на сборник «Научные известия». Сб.
2. Философия, литература, искусства. Академический центр Нар-
компроса. Госуд. изд-во. Москва, 1922.
«Готовившийся по крайней мере с 1919 года сборник "Научных
известий", посвященный вопросам философии и искусства (включая в
последнее понятье и искусство слова — литературу), наконец вышел
в свет. Едва ли можно разделить сетованья редакции о том, что "так
и не удалось привлечь авторов, стоящих на строго марксистской
точке зренья", — не потому, что пишущий эти строки не разделяет этой
строгой точки зренья, а потому, что ею полны и так все журналы
государственных и субсидируемых издательств, и если 2—3 года назад еще
была возможна подготовка официального сборника со страницами,
"открытыми для всех работников науки, независимо от их направ-
ленья", пожалуй ее больше уже нет тогда, когда философский
журнал ("Мысль") квалифицируется, как "проповедующий мракобесье"
(цитата)26. Тем не менее и в рецензируемом сборнике единственная
статья по истории русской литературы (в самом широком смысле,
конечно) носит заглавье "Русские пионеры научного социализма".
Отдел "Статьи и исследованья", обнимающий 124 страницы,
содержит настолько крупные работы, что касаться их содержанья в заметке
нет никакой возможности, почему мы и ограничимся их
перечисленьем: 1) Г. Г. ШПЕТ. История, как предмет логики, 2) П. П. БЛОН-
СКИЙ. К вопросу о методе истории философии; 3) П. С. ПОПОВ.
Ученье Эпикура об абсолютном пороге; 4) П. Н. САКУЛИН. Русские
пионеры научного социализма; 5) Б. Р. ВИППЕР. Генуэзцы в Москве;
6) М. И. КАГАН. Герман Коген (ум. 4IV. 1918).
Из этих работ наименее солидный характер носит статья
Б. Р. Виппера, информирующая о немногих произведеньях генуэз-
25 Кенигсберг М. М. О «Двенадцати» // Гермес. № 3.
26 Рецензия написана в конце 1922 года <приписано от руки. — Г. Л.>
«Архив эпохи»
475
ской живописи, находящихся в Москве (Карлоне, Строци). Статья
М. И. Кагана является попыткой вкратце познакомить с
философским и религиозно-философским наследьем Когена.
Статья Г. Г. Шпета должна будет иметь колосальное значенье для
философии истории, если за нею не последует изданье автором
большого труда, трактующего ту же тему, который явится завершеньем
работы, начатой его статьями в "Вопросах философии и
психологии" и книгой "История как проблема логики" (ч. 1. М. 1916). По
сравненью с вводной частью упомянутой книги настоящая статья
представляет значительное измененье взглядов автора в сторону
категорического признанья герменевтики и филологии
существенными основами исторической науки. Герменевтика должна выступить в
роли "своей (курсив автора) теории познанья для исторической
науки". А в результате принципиального анализа основных понятий
герменевтики (в первую голову понятий сообшенья и пониманья)
должна быть создана специальная историческая герменевтика. В случае
же, если из эмпирических наук, история может быть рассмотрена,
как типичная, в основу всех их должна лечь герменевтика. Развивая
мысль, высказанную филологом Г. Узенером (Der Philologie ist der
Pioner der Geschichtswissenschaft), Г. Г. Шпет, признавая за
филологией основополагающую роль для истории, самое последнюю считает
методологическим базисом всего эмпирического знанья.
Позволяя себе не касаться содержанья статей П. П. Блонского и
П. С. Попова, отметим большой фактический интерес объемистых
"Обзоров" В. М. Экземплярского (экспериментальная психология
и педагогика), Н. В. Самсонова (психология), А. А. Сидорова (ис-
кусствоведенье и история искусства) и Л. К. Ильинского (история
русской литературы).
Попавшая в "Обзоры" статья Вяч. Иванова "О новейших
теоретических исканьях в области художественного слова" должна быть
рассмотрена отдельно. Заслуживает также быть отмеченной рецензия
Р. О. Якобсона на брюсовскую "Науку о стихе". Известная пишущему
эти строки в рукописи (была прочитана в Московском
Лингвистическом Кружке в 1919 году), обстоятельная рецензия, резко
критикующая брюсовскую "Науку", почему-то появилась в печати в
несколько сокращенном и смягченном виде. Не разделяя многие основные
взгляды Р. О. Якобсона на явленье стиха, мы не можем все-таки не
пожалеть о тех урезках, которые обязаны, наверно, чьему-нибудь
альтруистическому чувству по отношенью к г. Брюсову.
Б.Г<орнунг>»27.
27 См.: «Гермес». № 3. С. 445-448.
476
Раздел VI
7) В коротком отзыве М. Кенигсберга на сборник «Мысль и
слово». II, 1. Философский ежегодник. Под ред. Г. Г. Шпета. М.,
1918-1921.
«Настоящий сборник разнообразен и весьма интересен по мате-
рьялу. На первом месте должна быть бесспорно поставлена статья
редактора "Скептик и его душа". Какой бы то ни было разбор статьи
выходит, понятно, за пределы заметки. Необходимо только отметить
большое значенье новой интерпретации скептицизма, отличной от
гусерлевой. Работы Д. Миртова и П. Попова ценны, как матерьялы по
истории русской культуры и философии в России. Две статьи
посвящены и вопросам искусства: 1. Ю. Балтрушайтис призывает к
жертвенному искусству. "Тема говорит сама за себя". 2. "Виденье поэта"
Гершензона, — мало вразумительно, местами элементарно ошибочно.
Надо удивляться тому, как редактор сборника решается наряду с
философскими и научными работами помещать статьи, подобные
гершензоновским. Ведь ответственность за них падает и на него.
К<енигсберг>»28.
***
Поскольку данная работа преследует прежде всего ознакомительные
цели: библиографии, публикации, фактографии, то не буду
перечислять упоминания Шпета в воспоминаниях Горнунга о Кузмине,
опубликованных М. О. Чудаковой, и в его же письмах к Кузмину,
опубликованных нами с А. Устиновым. Более информативны
воспоминания его младшего брата Л. В. Горнунга (как человек более
далекий от Шпета он, может быть, лучше его запомнил. Кроме того, его
воспоминания, в отличие от брата, специально посвящены Шпету)29.
Особенно впечатляющими являются, конечно, страницы,
описывающие смерть М. Кенигсберга и появление Шпета в доме Горнунга.
В этих воспоминаниях частично опубликованы и приводимые ниже
тексты Шпета в «Гермесе», перевод из Платона (полностью),
перевод из Алкея (частично: 12 из 32 строк, строки 1—8 и 29—32).
Нужно заметить, что всем авторам «Гермеса», как и вообще
узким кружкам, свойственно скрытое, т. е. раскавыченное,
цитирование «общеизвестных» (т. е. известных всему кружку) текстов.
Даже беглое листание параллельно «Эстетических фрагментов»
и «Гермеса» позволяет выловить подобные примеры. Так, в ста-
28 См.: «Гермес». № 3. С. 449.
29 ГорнунгЛ. В. Мои воспоминания о профессоре Густаве Густавовиче Шпете. Комм.
К. М. Поливанова // Шестые Тыняновские чтения. Тезисы докладов и материалы
для обсуждения. Рига; М., 1992. С. 172—185.
«Архив эпохи»
477
тье Б. Горнунга «Заметки о Слове и Поэзии» (№ 3) первый раздел
называется «После качелей» — ср. название первой главы
первого выпуска «Эстетических фрагментов», или, скажем,
словосочетание «трепетанье покрова»30 из шпетовских «Эстетических
фрагментов»31. Не сомневаюсь, однако, что человек, хорошо
помнящий тексты Шпета (именно тексты, а не только мысли), найдет
гораздо больше таких примеров.
Один такой пример могу привести из статьи М. И. Шапира32:
«Так, в программной статье Горнунга говорилось о том, что в
свете достижений феноменологической эстетики Г. Г. Шпета "рушатся
якобы научные теории, подпирающие устои российского
футуризма и созданные симпатизирующими ему учеными фольклористами
и диалектологами и т. д."33. Однако ссылки на Шпета в этом месте
нет, по крайней мере он не назван по имени, вместо этого сказано:
"Строго научные достижения эстетики последних лет проливают
свет на понятья эстетического объекта и эстетического восприятья
<...> в свете этих достижений рушатся якобы научные..."»34.
Идентификация Шапира несомненно верна, речь, конечно, идет о
работах Шпета. М. И. Шапир, кроме того, отождествил ряд «мотивных»,
теоретических цитат из статей Шпета в работах Кенигсберга35.
Нужно еще заметить, что часть группы «Гермеса»
участвовала позже в сборнике «Чет и Нечет» (уже типографском)36. Здесь
(с. 44—46) мы находим рецензию Г. О. Винокура на три выпуска
«Эстетических фрагментов»37.
Добавим другие материалы M. M. Кенигсберга: ср. введение
М. И. Шапира к публикации текста M. M. Кенигсберга «Анализ
понятия "стих"»: «Максим Максимович Кенигсберг [3(16).VII 1900 —
30.VI 1924] был, насколько можно понять, одним из наиболее
одаренных филологов своего поколения: если бы не скоропостижная
30 Горнунг Б. В. Заметки о Слове и Поэзии // Гермес. № 3. С. 201.
31 См. Шпет Г. Г. Эстетические фрагменты. Вып. 1. М., 1922. С. 62.
32 Шапир М. И. Материалы по истории лингвистической поэтики в России (конец
1910-х - начало 1920-х годов) // Изв. АН СССР. СЛЯ. 1991. Т. 50. № 1. С. 43-57.
См. С. 53, прим 13.
33 Шапир приводит цитату из статьи: Горнунг Б. В. Hermes // Гермес. № 1. С. 74. —
Прим. Г. Л.
34 В том же примечании Шапир объясняет сложившуюся у младших членов МЛ К
ассоциацию «Диалектологии» — даже в самом лингвистическом и эмпирическом
ее варианте — и ОПОЯЗовского формализма. — Прим. Г.Л.
35 См.: Шапир М. И. М. М. Кенигсберг и его феноменология стиха // Russian
Linguistics. 1994. Vol. 18. № 1. P. 100-101.
36 См.: Чет и Нечет: Альманах поэзии и критики. М.: Авторское издание, 1925.
37 Перепечатано в кн.: Винокур Г. О. Филологические исследования: Лингвистика
и поэтика. М., 1990. С. 87-88, комм. М. И. Шапира (С. 314-316).
478
Раздел VI
смерть на 24-м году жизни, он занял бы видное место среди
классиков нашей науки. Его талант по достоинству оценили многие
выдающиеся современники, в том числе Г. Г. Шпет и Г. О. Винокур —
оба они посвятили книги памяти молодого ученого38»39.
В «Предисловии» Б. Горнунга к публикации указанного текста
М. М. Кенигсберга также упоминается имя Шпета. «Кроме того, —
пишет Горнунг, — необходимо указать и на некоторую эволюцию
общих взглядов покойного со времени написания им статьи о стихе.
В последний год своей жизни M. M. окончательно примкнул к тому
пониманию синтаксиса, которое дано Г. Шпетом (Эстетические
фрагменты, II, стр. 52—64). Поэтому надо полагать, что им при
переработке статьи были бы соответствующим образом изменены все те
места, где говорится о синтагмах, как граматических формах, а в
связи с этим были бы иначе сформулированы и многие другие места»40.
Ссылается на работы Шпета несколько раз и сам Кенигсберг.
«Я могу, — пишет он, — обратиться к Б. М. Эйхенбауму с
тремя вопросами относительно его синтаксических формулировок.
Во<->первых: что подразумевает он под граматической формой?
<...> «Простая» граматическая форма может быть<,> таким обра-
зом<,> носителем самых сложных эстетических возможностей, так
как значительная часть эстетических форм в языке
располагаются <sic!> как раз по граматическим формам, в их отношении друг
к другу в пределах единой глосемы»41, и делает следующее
примечание: «Вопрос о соотношении «логических», «граматических» и
«внутренних» («эстетических», «поэтических» etc.) форм
трактуется в основном с точки зрения, высказанной в книге: Г. Шпет, Указ.
соч., [вып.] II, 52—70 (см. также примеч. 8, 34)»42. И далее:
«Употребляя уже не в первый раз термин «стихема», я считаю должным
38 См.: Шпет Г. Г. Внутренняя форма слова: (Этюды и вариации на темы
Гумбольдта), М., 1927. С. 5; Винокур Г. О. Биография и культура, М., 1927. С. 5. — Прим.
М. И. Шапира.
39 Шапир М. И. Предисловие к публикации текста M. M. Кенигсберга «Анализ
понятия "стих"» // Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 149. Ср. в примечаниях М. И.
Шапира к тексту M. M. Кенигсберга: «Орфография и пунктуация оригинала оставлены
почти в неприкосновенности — и для автора, и для редактора (Б. В. Горнунга) они
имели принципиальное значение. <...> ср.: Г. Шпет, Эстетические фрагменты,
Петербург 1923, [вып.] II, 119; а также: Обзор предложений по русской орфографии
(XVIII—XXвв.), Москва 1965, 165, 481]. О внимании Кенигсберга к эстетике и
семиотике орфографии можно отчасти судить по его рецензии на книгу В. Ирецкого
(Экран, 1922, № 18, 8)». Цит. по: Шапир М. И. Примечания к тексту M. M.
Кенигсберга// Philologica. 1994. Т. 1. № 1/2. С. 174.
40 Цит. соч. С. 150.
41 Цит. соч. С. 161.
42 Цит. соч. С. 161.
«Архив эпохи»
479
оговорить, что я под ним подразумеваю. Стихему я понимаю как
стиховую единицу, взятую в ее отношении к формам граматиче-
ским и словарным (т. е. лексемам, морфемам и синтагмам)43»44.
***
Перейдем к непосредственному участию Г. Г. Шпета в «Гермесе».
Единственным фактом такого реального участия остаются два
его стихотворных перевода с греческого45: Алкей
(Реконструкция), Bergk. I, по прозаическому пересказу Гимерия (Himerius. Or.
XVI10), с посвящением «Леноре»46, и двустишие Платона47.
Оба текста сопровождаются греческими оригиналами,
переписанными от руки. Почерк, которым переписан греческий текст,
сравнивала с рукописями Шпета, написанными по-гречески,
Т. Г. Щедрина. Она прислала копию его почерка и мне. Мы оба
решили, что это не его рука (собственно, оснований предполагать
здесь автограф не было)48.
I
Платон
В звезды глядишь, моя Звездочка, стать я хотел бы всем небом,
Всеми глазами его, только б глядеть на тебя.
Алкей
(Реконструкция)
Леноре
Когда Латона светлого отрока
Дала Зевесу, лирою звонкою
Снабдил отец родного сына,
Лентою отроку он златою
Чело украсил. В путь снарядил его,
43 Ср.: «Рядом с синтагмой, ноэмой и пр., нужно говорить о поэмах» (Г. Шпет, Указ.
соч., [вып.] II, 66). — Прим. M. М. Кенигсберга.
44 Цит. соч. С. 164, 182 (прим.).
45 Гермес. 1922. № 3. С. 89-91.
46 Шпет посвятил перевод своей дочери, Леноре Густавовне Шпет (1905—1976).
47 Как отмечено выше, оба текста (без оригиналов) опубликованы Л. В. Горнунгом
(Указ. соч. С. 178-179).
48 «Гермес» печатали и, соответственно, вписывали латинский и греческий шрифты,
видимо, члены редколлегии. Хотя как раз в таком случае мыслимо было допустить,
что автор (переводчик) мог бы предпочесть вписать текст собственноручно, во
избежание ошибок. Но это предположение не подтвердилось.
480
Раздел VI
И в колесницу лебедя дал ему, —
Шлет в Дельфы, к водам касталийским,
Элинам праведный суд и право
Вещать в наитьи. К гипербореям тот
В страну далекую, к северу дикому,
Взойдя на колесницу, правит.
Лебеди белые быстро мчатся.
Тогда дельфийцы, песенный гимн сложив,
Родной треножник хорами юношей
Обвив, взывают к богу-солнцу,
Светлому молятся Аполону
Весь год творил суд там бог, на севере,
И срок он вспомнил: время приблизилось
Треножникам звучать дельфийским.
Бог Аполон лебедей направил
Страну покинуть гиперборейскую.
Страда настала: лето и самая
Средина лета, зной пылает.
Прибыл бог солнечный, жатва зреет.
Звучит звончее лиры напевный звук,
А ей, как отзвук, — песнь соловьиная.
И стриж поет, звенят цикады, —
То не о доле их — глас их вещий,
То весть от бога, воли верховной знак.
Течет Касталья током серебряным;
Как Енипей, волной в волненьи
Страстном вздымается Кефис ярый49.
Как указала мне Т. Г. Щедрина, этот перевод из Алкея (4 строки
из него) Шпет цитирует в финале первого выпуска «Эстетических
фрагментов»50.
49 Предыдущие переводы см.: Античная поэзия в русских переводах XVIII—XX вв.
Библиографический указатель / Сост. Е. В. Свиясов. СПб., 1998. С. 13, 181. Для
фрагмента: Алкей D 1 ; В 1 ; PLF 307 указаны 2 перевода: Каппинский В. Владыка
Феб, великого Зевса сын... // Гермес. 1912. № 20. С. 521; Иванов Вяч. Когда родился
Феб-Аполлон, ему... // Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков.
Пер. Вяч. Иванова. М., 1914. С. 37 (см. С. 13, №№ 9—10). Для двустишия: Платон
Ρ 1; D 4; В 14 (АР VII 669), здесь же (С. 181 № 4821-4832) указано 11 переводов:
Вл. Соловьев, А. Майков, О. Головнин, П. Краснов (2 перевода), В. А. Алексеев,
Ф. Зелинский, Г. Ф. Церетели, Л. Блуменау, О. Румер, С. И. Соболевский, Н.
Чистякова.
50 См.: Щедрина Т. Г. Комментарии // Шпет Г. Г. Искусство как вид знания.
Избранные труды по философии культуры. М., 2007. С. 607—608.
«Архив эпохи»
481
Этот финал очень любопытен. Позволим себе кратко
прокомментировать его, выходя из рамок историко-научной темы.
Первая цитата в нем взята из А. Белого — 15-я главка поэмы
«Христос воскрес», почти до самого конца главки — опущены только 2
строки:
Исходит огромными розами
Прорастающий крест!
Две следующие цитаты — из «былины» А. К. Толстого «Змей
Тугарин». Первая — «портрет» Тугарина:
Глаза словно щели, растянутый рот,
Лицо налицо не похоже,
И выдались скулы углами вперед...
опущены 2 последние строки пятистрочной строфы:
И ахнул от ужаса русский народ:
Ой рожа, ой страшная рожа.
Слова «единый из вас», появляющиеся далее в прозаическом
тексте Шпета, — оттуда же:
И снова подымется русский народ,
И землю единый из вас соберет,
Но сам же над ней станет ханом!51
Далее идут строки, приведенные Шпетом:
...в тереме будет сидеть он своем,
Подобен кумиру средь храма,
И будет он спины вам бить батожьем,
А вы ему стукать да стукать челом...
(Опущена последняя строка: «Ой срама, ой горького срама»).
Наконец, последняя альтернатива обозначена цитатой из
Алкея в собственном переводе: Аполлон, получивший от Зевса лиру
(а не от Гермеса, как в гомеровском гимне) и лебедя в упряжку,
51 Не знаю, нужно ли в словах «единый из вас» (и у Толстого, и у Шпета) видеть цитату
«аминь глаголю вам, яко един от вас предаст Мя» (Мф 26:21; Мк 14:18; Ио 13:21).
482
Раздел VI
отправляется не в Дельфы, а к гипербореям, где целый год творит
суд.
Третий —
К гипербореям он
В страну далекую, к северу дикому,
Взойдя на колесницу, правит.
Лебеди белые быстро мчатся52.
Именно суд Аполлона Шпет выдвигает как третью возможность
для России наряду с чистой азиатчиной и ориентализированной
Русью («И вот, наглотавшись татарщины всласть, / Вы Русью ее
назовете» — А. К. Толстой)53.
Следующие ниже фотокопии были продемонстрированы на
докладе в Бордо. В каком-то смысле эта демонстрация была
вынужденной: когда на экран ничего не проецировали, на нем
горела красная надпись «Toshiba», как «Валтасаров пир» под редакцией
Вл. Соловьева.
52 Заметим, что лебеди появляются и в самой балладе А. К. Толстого:
И выпил Владимир — и разом кругом,
Как плеск лебединого стада,
Как летом из тучи ударивший гром,
Народ отвечает: «За князя мы пьем!
Ой ладо, ой ладушки ладо!
53 При той свободе вчитывания, которая роднит советскую критику 1930—1970-х гг.
с постмодернизмом и деконструкцией, здесь, на мой взгляд, можно было бы
усмотреть надежду на иностранную интервенцию (неужели греческую?).
«Архив эпохи»
483
484
Раздел VI
ы.
-to-
В. В. Янцен
Историософская концепция
«Очерка развития русской философии»
Г. Г. Шпета в письме Ф. А. Степуна
кА.Л.Бему(1944)
Переписка философа Федора Августовича Степуна (1884—
1965) с литературоведом Альфредом Людвиговичем Бе-
мом (1886—1945) не является для знатоков их биографий и
творчества новшеством: она давно известна пражским
исследователям Бема1, неоднократно цитировалась в
литературе2, и вскоре все письма Степуна Бему будут опубликованы в
сборнике международного Бохумского проекта, посвященного журналу
«Современные записки». К сожалению, ответные письма А. Л. Бема
погибли вместе с ранней частью личного архива Ф. А. Степуна во
время одного из воздушных налетов на Дрезден в начале 1945 года.
Отдельная публикация последнего письма Ф. А. Степуна из
этой переписки оправдывается тем, что в основной своей части
оно посвящено «Очерку развития русской философии» Г. Г. Шпета
и заполняет досадный пробел в реконструкциях философского
диалога между Степуном и Шпетом. Соглашаясь с плодотворностью
для истории русской философии эпистемологических метафор
«архив эпохи» и «сфера разговора», теоретически обоснованных и
практически применяемых в работах Т. Г. Щедриной3, хотелось бы
1 Прежде всего М. Магид, С. Магиду и М. Бубениковой.
2 Поляков Ф. «Я живу в двух культурах, русской и немецкой»: Письма Федора
Степуна к Бернту фон Гейзелеру //Диаспора. Новые материалы. Париж; СПб., 2002.
Вып. 3. С. 681—682; Поляков Ф. Заметки Федора Степуна о русском эллинизме (из
переписки с Альфредом Бемом) // A Century's Perspective: Essays on Russian
Literature in Honor of Olga Raevsky Hughes and Robert P. Hughes / Ed. by L. Fleishman,
H. McLean. Stanford, 2006. C. 454—456. За указание библиографических данных,
относящихся к публикуемому письму Степуна, выражаю признательность
немецкому литературоведу Манфреду Шрубе.
3 Щедрина Т. Г. «Я пишу как эхо другого...». Очерки интеллектуальной биографии
Густава Шпета. М., 2004. Щедрина Т. Г. Архив эпохи: тематическое единство русской
философии. М., 2008.
«Архив эпохи»
487
подчеркнуть, что это письмо как раз и является тем «камешком»
уже в значительной степени шпетоведением восстановленной4 и
исследователями творчества Ф. А. Степуна проанализированной
«мозаики» их духовных взаимосвязей5, который по воле случая в
ней до сих пор отсутствовал. Речь идет о положительном
восприятии Степуном ряда ключевых историософских идей Шпета. Эти же
идеи в несколько другом контексте уже затрагивались в моей статье
«Д. И. Чижевский, Е. Д. Шор и Г. Г. Шпет»6. Наличие нескольких
опубликованных в печати реконструкций «сферы разговора»
Степуна и Шпета освобождает меня от необходимости повторения их
выводов, давая возможность сконцентрироваться на иных темах.
Прежде всего несколько слов о характере отношений между
корреспондентами.
Познакомились они в 1925 году в связи с неудавшейся попыткой
А. Л. Бема наладить постоянное сотрудничество с «Современными
записками» (в журнале вышли две его небольших статьи и восемь
рецензий). Ф. А. Степун, которому статьи Бема посылались на
«экспертизу», всегда поддерживал их публикацию, а после личного
знакомства с Бемом в сентябре 1931 года даже предложил редакции
поручить Бему регулярные обзоры советской и эмигрантской
литературы. Предложение это редакцией принято не было. Но между
Степуном и Бемом с тех пор установились доверительные деловые
отношения: они постоянно обменивались оттисками статей,
информацией о повседневной жизни, творческих планах, общих зна-
4 См. особенно главу «Разговор пятый. Мысли о России: Федор Степун и Густав
Шпет» в книге Т. Г. Щедриной «Архив эпохи: тематическое единство русской
философии». С. 108—124, являющуюся ничем иным, как реконструкцией «сферы
разговора» Ф. А. Степуна и Г. Г. Шпета.
5 Всесторонний анализ основных историософских тем Шпета и откликов на них в
работах Степуна был осуществлен В. К. Кантором: Кантор В. К. Густав Шпет как
историк русской философии // Густав Шпет и современная философия
гуманитарного знания / Редколл. В. А. Лекторский, Л. А. Микешина, Б. И. Пружинин,
Т. Г. Щедрина. М, 2006. С. 269—301. Тем самым эта статья, наряду с упомянутыми
работами Т. Г. Щедриной, дает наилучший комментарий к публикуемому письму
Степуна.
6 Янцен В. В. Д. И. Чижевский, Е. Д. Шор и Г. Г. Шпет// Густав Шпет и современная
философия гуманитарного знания / Редколл. В. А. Лекторский, Л. А. Микешина,
Б. И. Пружинин, Т. Г Щедрина. М., 2006. С. 357—382. Приложение 1: Прокофьев П.
<Чижевский Д. И.> Густав Шпет. Очерки развития русской философии. Первая
часть. Петербург, 1922. Стр. XVI—350. Публикация В. Янцена// Там же. С. 385—389.
Приложение 2: <Чижевский Д. И.> Рецензия на Г. Шпета: Очерк истории русской
философии. Ч. I. СПб., 1922. Публикация В. Янцена// Там же. С. 390—402.
Приложение 3: Шор Е. Д. Письма Г. Г. Шпету и неизвестному парижскому корреспонденту.
Публикация В. Янцена / Там же. С. 403—412.
488
Раздел VI
комых, сообщениями о наиболее интересных новых публикациях в
области литературы, философии и богословия. Письма Степуна к
Бему ценны прежде всего автобиографическими
реминисценциями и информацией о хронологии его работы над воспоминаниями,
сокращенная русская редакция которых под названием «Бывшее и
несбывшееся» вышла в двух томах в 1956 году в Нью-Йорке.
Вероятно, последней присланной Степуну работой А. Л. Бема
и была гектографированная рукопись его доклада «Церковь и
русский литературный язык», послужившая поводом для написания
комментируемого письма Степуна. Но в интересующем нас шпе-
товедческом контексте эта работа Бема не играет почти никакой
роли: с одной стороны, она представляет собой довольно
популярный, компилятивный историко-языковедческий доклад7,
основной целью которого было продемонстрировать вклад православной
церкви и церковнославянского языка в формирование русского
литературного языка, с другой — из-за отсутствия писем Бема нам
неизвестны мотивы, по которым эта не совсем «профильная» для
Степуна работа была послана именно ему. Тем не менее она
сыграла роль своебразного катализатора, побудившего Степуна, при
всей его симпатии и к автору, и к православию, посоветовать Бему
познакомиться с историософской концепцией Г. Г. Шпета,
сформулированной в «Очерке развития русской философии».
Степун, слишком далекий от историко-языковедческих
проблем, интуитивно не разделяя оптимистической точки зрения
Бема, более интересовался «духовным генезисом русской
революции и революционного сознания» в связи с вопросом о
степени вины «догматического рационализма и некритичности»
синодально-монархического православия в возникновении
революционного сознания. И на этом проблемном фоне склонялся к
7 Приведем все же содержание этой работы Бема: 1. Дело свв. первоучителей
Кирилла и Мефодия. 2. Церковно-славянский язык в XI—XIV вв. и роль
Церкви в его оформлении в качестве языка литературного. 3. Архаизация
русского литературного языка в связи с усилением влияния югославянского
духовенства в конце XIV—нач. XV вв. 4. Перенесение центра духовной жизни на
северо-восток и роль Москвы в формировании русского литературного языка.
5. Влияние южно-русского духовенства в XVII в. на русский литературный язык.
6. Церковное пение и его значение для проникновения церковнославянизмов в
разговорный язык. 7. Язык богослужения и его место в теории трех стилей
Ломоносова. 8. Церковь и современный русский литературный язык. 9. Итоги.
Авторитетами, на которых А. Л. Бем в своем докладе ссылается и
фактический материал из работ которых использует, были Е. В. Петухов, Г. В. Фло-
ровский, A.A. Шахматов, В. М. Истрин, В. О. Ключевский, С. Ф. Платонов,
С. П. Обнорский, Л. А. Булаховский, В. Поржезинский, В. В. Виноградов,
Н. С. Тихонравов, Г. П. Федотов и Д. И. Чижевский.
«Архив эпохи»
489
признанию правоты историософской концепции Шпета. Во
всяком случае, в воспоминаниях Степуна работа А. Л. Бема никаких
следов не оставила. Аллюзия на основной ее мотив и даже
солидаризация с ним, правда, без упоминания имени Бема, встречается
только через много лет (1959) в его книге «Большевизм и
христианская экзистенция»8. Интересует его здесь и вопрос о
революционном сознании и степени ответственности за него православной
церкви9. В этой же работе впервые после письма Бему снова, но
на этот раз в критическом ключе («историко-философская колум-
биана», «приписали очень большое значение давно известному
факту») упоминается теория Шпета и Федотова о пагубности для
русской мысли принятия христианства от Византии на болгарско-
македонском наречии10.
8 «Несколько месяцев назад один из представителей советской религиозной
делегации делал доклад в институте славистики при Кельнском университете, тема
которого еще недавно была для Москвы невозможна: "Русский монастырь как
воспитатель русского народа". Докладчик повторил в своем изложении мнение,
которое высказывал отлученный от церкви Толстой. Ввиду таких по меньшей мере
независимых свидетельств вряд ли можно сомневаться, что настоящим
воспитателем простого русского люда действительно была церковь. Это подтверждается
большим числом верующих из народа в произведениях великих русских писателей
XIX и даже XX столетий, если даже не говорить о литературе более раннего
периода». Степун Ф. Л. Сочинения / Под ред. В. К. Кантора. М., 2000. С. 587. Последние
предложения являются почти дословным пересказом основных положений работы
А. Л. Бема.
9 «Русская революция и те большевицкие формы, в которые она вылилась,
имеют, конечно, очень много причин политических, географических,
экономических и социальных. В связи с моей темой меня интересует прежде вопрос,
не является ли одною из существенных причин победы большевиков не только
подчинение церкви государству, но и добровольное приятие ею на себя защиты
узкополитических, частично сословных и классовых интересов в ущерб
общерусской культурной и социальной жизни. Этот вопрос с средины прошлого
века тревожил многих близкик церкви людей. <...> Если бы синод сумел
отстоять свою самостоятельность по отношению к государству, если бы он не
допустил пленения церкви и взял бы под свою защиту назревшую тему духовной
и социально-политической свободы, то, быть может, церковь и смогла бы на
полпути встретиться со свободолюбивой интеллигенцией и тем уберечь ее от
религиозного мракобесия ленинизма. <...> Но разрешая себе это сопоставление,
необходимо знать и чувствовать, что большевизм отнюдь не является эманацией
древней Москвы, а ее имитацией (в Библии дьявол именуется Imitatur Dei»).
Там же. С. 602, 604.
10 «Эта способность жить в христианстве и говорить о нем имеет, естественно, свои
глубокие исторические корни. Мы найдем их объяснения в истории русской церкви,
на что впервые указал профессор Шпет (Москва), а позднее — эмигрировавший
Федотов. Теория обоих ученых — это, собственно говоря, разновидность философско-
исторической колумбианы. Они не сделали ничего иного, как приписали очень
большое значение давно известному факту, что Россия получила свое христианство
490
Раздел VI
Вряд ли Бем последовал совету Степуна обратиться к работе Шпе-
та: эта точка зрения не была нова, с ее упоминания он, собственно,
не от Рима, а от Византии и, следовательно, не на латинском языке, а на болгарско-
македонском диалекте, и придали ему далеко ведущий смысл. По мнению Федотова,
западное христианство было определено тем, что церковь училась молиться на том же
языке, который открывал для всех образованных людей философские и поэтические
работы классической древности. Федотов подчеркивает, что римско-католический
монах даже в темные столетия Средневековья "читал Вергилия, чтобы найти ключ
к священному языку церкви, читал римских историков, чтобы на них выработать
свой стиль. Стоило лишь, — пишет Федотов, — овладеть этим чудесным ключом —
латынью, чтобы им отворились все двери". Из этой, опосредованной общим языком,
встречи античности с христианством выросла мощная средневековая культура.
Совсем иначе обстояли дела в России. Величайшую из всех книг — Библию — Россия
получила на том языке, на котором более ничего не читалось. Отделенное языком
от античного мира и поэтому им не тронутое, ни разу не обеспокоенное, русское
христианство не нуждалось в защите. Поэтому не приросло к нему никакого
понятийного оформления веры, никакого учения и никакой апологии. Путь Запада к
высокой схоластике остался нехоженым. Аристотель на Востоке не играл никакой
роли». Там же. С. 588—589. Из этой цитаты становится очевидным, что проблема,
впервые затронутая Ф. А. Степуном в письме к А. Л. Бему, занимала его и более чем
через десятилетие. Но, как видим, формулировка ее приняла более обтекаемые и даже
несколько скептические тона. Что же случилось? Оказывается, в правильности теории
Шпета—Федотова он уже не был уверен, о чем свидетельствует письмо, с которым
он 13 июня 1959 года обратился к Д. И. Чижевскому после прочтения его немецкой
работы «Святая Русь. История русской мысли I (10—17 столетие)»: «Я несколько раз
вдумчиво читал 70 страницу, но до конца в ней все-таки не разобрался. То, что Вы,
как и Флоровский, называете загадкой, Федотов, как и Шпет, объясняет отсутствием
в России античного наследства, что он связывает с отсутствием латинского языка.
Эта тема Вами не затронута. Я в своей книжке придаю ей большое значение.
Полувозражения Флоровского в начале его "Путей", по-моему, не очень убедительны.
Убеждение, что мир во зле лежит, впервые появившееся в XII веке, проходит ведь
красной нитью через все дальнейшее развитие России, вплоть до "Крушения
кумиров" Франка. <...> В дальнейшем развитии этой темы Вы пишете, что для разрешения
этого кризиса культуры Россия обращается к какому-то иностранному врачу, но кто
этот врач, из текста неясно. — В результате этих поисков вне российской помощи
появляется представление святой Руси. Я опять-таки недоумеваю, как это случилось,
что искание помощи вне России привело в XV веке к теории Святой Руси. В
дальнейшем эта святая Русь определяется как идеал, но как нечто соотвествующее тогдашней
действительности. Но разве Святая Русь была когда-либо действительностью? Но
если бы она ею была, то она вряд ли была бы подушкою для духа. — Я уверен, что у
Вас на все это есть свои ответы, но написана вся эта страница с такой большой
передачей (думаю о велосипеде), что Ваше настоящее понимание остается даже для меня
неясным. Уяснить же мне это очень хотелось бы, чтобы избежать в моем
собственном мышлении каких-либо ошибок или каких-либо интуиции, не оправдываемых
фактами. Я же в первой главе моей книги определенно требую такого оправдания:
сначала-де правильность, лишь потом интуитивно добываемая правда». — Tschi II,
Heid. Hs. 3881. Abt. С / Kasten — St-Sz, Mappe 05—07. В письме от 13 июня 1959 года
Чижевский ответил на эти сомнения Степуна: «Что касается латинского языка, то он,
конечно, совершенно не нужен для развития культуры. Нужно было другое: создание
класса ученых, что в средние века было возможно только на почве какой-то академии
«Архив эпохи»
491
и начинает свою работу11. Но для него «не подлежало сомнению, что
через Византию установилась связь Руси с остальным культурным
миром, и Русь была втянута в общий поток европейского культурно-
исторического развития. Совершенно исключительное значение
при этом имело дело свв. первоучителей Кирилла и Мефодия. <...>
И если еще раздаются отдельные голоса, берущие под сомнение
самое дело Кирилла и Мефодия, которое, по их мнению, привело к
отрыву от классической культуры, то все же не приходится сейчас уже
ставить вопроса об оценке самого факта христианского просвещения
славян в его определяющем влиянии на его дальнейшие
исторические судьбы. Это стало настолько общепризнанным, что вошло во
всеобщий оборот науки»12.
или университета. Если бы члены такой группы хорошо знали греческий язык и
известную в Византии литературу, — и того было бы достаточно. Но этого не было,
и те образованные славяне (каких до 13-го века было немало; я вовсе не разделяю
ошибочного представления Федотова о незнании греческого языка; существование
культурных переводчиков вплоть до конца 13-го века это подтверждает), которые
учились только в Византии, возвращаясь домой, заставали "пустое место", т. е.
отсутствие местной хотя бы самой примитивной научной (вероятно, была бы возможна
главным образом богословская) традиции. Какова бы ни была Киевская Академия
(существовавшая к тому же только с начала 17-го века), из нее вышли в 18-м и до
половины 19-го века — сначала 75%, а в 19-м половина всех профессоров русских
университетов; если Вы отнимете иностранцев, то на долю русских (великороссов)
не останется почти никого! — Не помню, где я говорю об "иностранном враче". Но
ведь "иностранный врач" оказался нужен и в 14/15 вв. — византийский, и в 17-м —
украинско-латинский (переводы латинской литературы при Алексее Михайловиче
и Федоре Алексеевиче), греческий (через Никона) оказался "знахарем"! И в 18-м —
литература масонов, и в 19-м — богословие славянофилов, в котором гораздо больше
немецкой теологии, чем греческого святоотеческого богомыслия. А "теория" (если
только пару случайных фраз можно так назвать) "святой Руси" возникла именно на
почве "иностранной культуры": если все из заграницы, то от нас, "по крайней мере",
святость. Да вообще распространилось самое выражение "святая Русь" только
после раскола — именно в оппозиции к греческим "исправлениям"; и "светлую Русь"
Курбский превратил в "святую" также за границей, на Волыни, где, как мы знаем
из его частной переписки, процветало социнианство (именно среди бывших
православных дворян и князей). О том, что святая Русь была "действительностью", у меня
ничего нет (не нашел)! Или есть неясная фраза? Хотелось бы ее знать (страницу),
т. к. уже намекают на необходимость приготовлять новое издание». — Fedor Stepun
Papers, Gen Mss 172, Box 34, Folder 1172 // The Beinecke Rare Book and Manuscript
Library, Yale University Library, New Haven, Connecticut, USA.
11 «Как известно, некоторые ученые держатся того мнения, что принятие
христианства от Византии вредно отразилось на состоянии нашей образованности и имело
отрицательные последствия для нашего культурного развития. Такого мнения
держались, например, А. Н. Пыпин, О. Ф. Миллер и др.». Бем А. Л. Церковь и
русский литературный язык. Доклад, сделанный в заседании Русского Научно-
Исследовательского Объединения в Праге. Прага, 1944. С. 1, прим. 1.
12 Там же. С. 1—2.
492
Раздел VI
Однако Φ. А. Степуна эти аргументы, по-видимому, не
удовлетворили: он обратился с сообщением о докладе Бема, о своих впечатлениях
от прочтения «Очерка развития русской философии» Шпета и,
вероятно, о желании прочесть и другие его книги к своему другу, философу
и слависту Дмитрию Ивановичу Чижевскому (1894—1977)13. Работы
Шпета и Бема были хорошо знакомы Чижевскому, и его ответ Степу-
ну от 1 июля 1944 года содержит не только их критику, но и изложение
собственной историософской концепции: «Шпетовский Герцен у меня
есть, и я Вам его охотно с оказией пришлю. Но книга в совсем другом
стиле, чем "Очерки": Герцен рассмотрен как чистый философ, с
полным игнорированием всего "мировоззрительного" и всей личности
Герцена. Книга вышла полезная, но скучная. Между тем, как очерки —
книга интересная, но вредная: вредная прежде всего своей полной
ошибочностью! Это памфлет против советской философии, одетый в
форму истории русской мысли (почему вообще "мысли"? по содержанию
следовало бы назвать "бессмыслия") (или лучше "без-мыслия"). Бема
брошюра совсем плоха (главное незнанием материала). Но ее
устремление — доказательство христианской образованности древней Руси,
конечно, правильнее доказательства "невегласия" у Шпета. Старые
русские переводы отцов церкви — вовсе не из легких — вполне
осмысленны и содержательны! Ареопагитики переведены прекрасно (хотя и
не в России, а на Балканах). Может быть, и примитивные мысли старой
русской проповеди — вполне прозрачны и осмысленны. Почти нет hüz
сто философских тем, но их и не могло быть тогда в литературе на
неученом (не греческом и латинском языке). Еще более несправедливо
освещение философского обучения в Киеве и Москве в 17—18 вв. Здесь
Шпет просто блещет незнанием предмета: таким образом, его книга
сама — пример некритического (и неисторического) рационализма!
Значительно выше всего этого брюзжания соответственные страницы
в "Судьбах русского богословия" Флоровского. <...> История русской
философии у Шпета почему-то история проселочных дорог русской
мысли, а столбовые остаются без рассмотрения и даже без упоминания
(я, кстати, писал о книге в "Современных Записках" — не помню как,
но, во всяком случае, в этом же духе, — может быть, посмотрите
рецензию — тогда я писал, а Современные Записки печатали еще весьма
обстоятельные рецензии по 6—8 страниц петита)»14.
13 Довоенные и военные письма Степуна к Чижевскому в его личном архиве пока
не найдены, поэтому об их содержании можно судить только по ответным письмам
Чижевского.
14 Янцен В. Д. И. Чижевский, Е. Д. Шор и Г. Г. Шпет // Густав Шпет и современная
философия гуманитарного знания / Редколл. В. А. Лекторский, Л. А. Микешина,
Б. И. Пружинин, Т. Г. Щедрина. М., 2006. С. 364-365.
«Архив эпохи»
493
В комментарии к первой публикации этого письма Чижевского
я уже писал о том, что обе его рецензии на «Очерк» были написаны
совсем в ином — более сдержанном и объективном тоне. Но
оценки «невегласия», в конечном счете выводимого Шпетом из
принятия христианства от Византии на болгарско-македонском наречии,
и в письме, и в рецензиях Чижевского совпадали. Он прекрасно
понял, что за концепцией «невегласия» и критикой прошлого
русской мысли стоит скрытый вызов Шпета советской философии
(«памфлет»). Главным же объектом его критики было превращение
теоретической схемы («невегласие — усвоение результатов чужого
философского мышления — самостоятельное мышление») в
историческую, придание ей смысла периодизации истории русской
философии и как следствие — постоянное игнорирование или
недооценка философской и внефилософской «периферии»
(литературы и религиозной мысли), без которой именно в России нельзя
понять почвы и условий для возникновения профессиональной
философии, исследованием которой в основном ограничивался
Шпет. Тем самым, сравнивая и по глубине анализа, и по полноте
привлечения исторического материала заведомо несравнимые
работы Шпета и Бема, Чижевский солидаризируется с более слабой
работой Бема, поскольку исследовательская задача в ней была
поставлена верно: доказательство христианской образованности, а не
«невегласия» древней Руси.
Сила аргументации Чижевского состояла в том, что он
опирался на тщательное изучение источников древнерусской
письменности. Будучи к тому времени автором нескольких работ по истории
философии на Украине, книг о Г. С. Сковороде, о Гегеле в России,
заметки «"Жидовствующие" и гуситы», статей «Платон в древней
Руси», «Объем философского чтения в Киевской академии XVII—
XVIII вв.», «Ренессанс и украинская духовная жизнь» и других,
Чижевский, конечно, мог бы рассеять сомнения Степуна о
существовании в русском языке понятий, необходимых для переводов
Платона не только в XIX веке, но на гораздо более ранних стадиях
развития русского литературного языка. Но вопрос этот в их
переписке, очевидно, не ставился, а Степун не настолько хорошо знал
работы своего друга, чтобы использовать их в своем письме к Бему.
Примечательно, однако, что заключительные страницы статьи
«Платон в древней Руси» Чижевский посвящает именно тематике,
заинтересовавшей Степуна в «Очерке» Шпета:
«По поводу всех приведенных сопоставлений можно, пожалуй,
сделать замечание, что они-де показывают, что в древней Руси
было только очень поверхностное, неточное и неясное знакомство
494
Раздел VI
с Платоном, что учение Платона часто тенденциозно искажалось
с целью возвеличить Платона при помощи указания на мнимую
близость его учения к христианству или, наоборот, с целью
опровергнуть его, подчеркнув неприемлемые для христианства
моменты платонизма. Это замечание нужно признать в общем и целом
верным. Тем не менее и такое "поверхностное", "неясное" и
"неточное" знакомство с философией Платона представляется не
лишенным интереса фактом. Ведь обычные представления о
философской образованности древней Руси сводятся к утверждению о
том "невегласии", которое один из наиболее серьезных и
основательных исследователей истории русской философии15 объявил
основною чертою древне-русской философской культуры...
правильнее сказать, бескультурности... Как ни элементарны
разобранные нами в этом очерке сведения древнерусской литературы о
философии Платона, они весьма далеки от "невегласия".
Старинный читатель читал не так, как современный,
пробегающий глазами десятки страниц. Стационарное чтение помогало
отдельным мелким замечаниям и фразам прочно удерживаться в
памяти, и в уме читателя из нескольких мимолетных указаний
слагалась яркая и выпуклая картина.
Представление о Платоне, как мы то уже сказали, не было
детальным и глубоким, в частностях — иногда весьма важных — оно
было ошибочно. Но были известны отдельные учения Платона, в
том числе довольно существенные. Для самостоятельного
философствования, может быть, эти отдельные membra disjecta16 не
могли служить исходною точкою, но могли быть применены в том или
ином случае вместе с учениями отцов церкви и духовных
писателей в помощь главному источнику всех умствований древней Руси
о Боге, мире и человеке — Священному писанию.
Мы не хотим преувеличений, — в древней Руси не было
"философии" в таком смысле, как средневековая философия на
Западе — чистой, хотя бы и зависимой от богословия, теоретической
работы мысли. Но отрицать существование в древней Руси
некоторых философских сведений и прочного "мировоззрения",
отдельные пункты которого были не лишены философской окраски, нам
думается, нет никаких оснований.
Дальнейшее исследование должно разрешить, главным
образом, три задачи. Во-первых, необходимо осветить пути проникно-
15 Шпет Г. Г. Очерк истории русской философии. Том I. Петербург. 1923. Глава
1-я. — Прим. Д. И. Чижевского.
16 Membra disjecta — разрозненные части {лат.).
«Архив эпохи»
495
вения сведений о Платоне в древнюю Русь, — это значит, вскрыть
византийские (для периода, начиная с XVI века и в особенности
для Украины) и западно-европейские (иногда влиявшие через
польское посредство) источники сведений, сообщаемых о Платоне
в древне-русской литературе.
Во-вторых, необходимо к исследованию сообщаемого о
Платоне и других философах explicite17 присоединить обозрение всего
материала, так или иначе связанного с философиею Платона, но
без упоминания его имени. Идеи Платона имели такое прочное и
глубокое влияние на патристику, в частности, на такого
почитаемого в древней Руси писателя, как Псевдо-Дионисий-Ареопагит,
что такие посредственные влияния Платона несомненно окажутся
и более широкими и более глубокими, чем проанализированные
здесь прямые и непосредственные указания на Платона (также ведь
заимствованные почти исключительно из вторых рук).
Наконец, едва ли не наибольшего интереса заслуживает
исследование отражений идей Платона и его языческих и христианских
последователей в оригинальной литературе древней Руси, а затем
Московской Руси и Украины. В этом направлении еще ничего не
сделано. Указания на влияния Платона в оригинальной литературе
важны в первую очередь тем, что они не только поставят конкретно
вопрос о философской "образованности" древней Руси, но и, быть
может, покажут существование в ней определенной философской
культуры.
Непосредственным продолжением работы над Платоном
должно быть изучение всего философского "книжного репертуара"
древней Руси»18.
Хотя в одной из последних книг Чижевского — его «Истории
русской мысли» имя Шпета не упоминается, первые три
дополнения ко второму ее изданию («Русский язык», «Из истории
русской религии и церкви», «Пути науки»19) могут рассматриваться
как последний отклик на «Очерк развития русской философии»
Г. Г. Шпета, поскольку в них идет речь о русском литературном
языке на самых ранних стадиях его развития.
Рукописные автографы писем Ф. А. Степуна к А. Л. Бему
хранятся в личном фонде последнего при Литературном архиве
Музея национальной письменности в Праге под шифром 27/Gl/b 7.
17 Explicite — в развернутом виде (лат.).
18 Чижевский Д. Платон в древней Руси // Записки русского исторического
общества в Праге. Прага, 1930. Кн. 2. С. 71-81.
19 Tschizewskij D. Russische Geistesgeschichte. 2., erw. Auflage. München, 1974. S. 315—
330.
496
Раздел VI
Основная их часть, в том числе и публикуемое письмо, записана
под диктовку женой Ф. А. Степуна Натальей Николаевной по
старой орфографии, исправленной в публикации на современную.
В заключение отмечу примечательный факт из биографии
Степуна, связанный с именем Шпета: во время бомбардировки
Дрездена в начале 1945 года погибла вся личная библиотека Степуна,
но по какой-то счастливой случайности среди немногих уцелевших
книг сохранился и «Очерк развития русской философии»20.
Галлеf 4 сентября 2009 г.
20 7 августа 1946 года Степун писал Чижевскому: «В сущности я нахожусь в
совершенно безвыходном положении. Зимой я собираюсь объявить курс о России и
Европе как проблеме русской историософии. Из пальца его не высосешь, а книг
никаких. Нет ли у Вас хотя бы книги Зеньковского "Россия и Запад" или нечто в
этом роде? Нет ли хотя бы Масарика и двух томов Эренберга и Бубнова? У меня на
руках только "Пути русского богословия" Флоровского и "История русской
философии" Шпета». — Tschi II, Heid. Hs. 3881. Abt. С / Kasten — St-Sz, Mappe 05—07.
Φ. Α. Степун - Α. Л. Бему
Публикация Владимира Янцена
z<ur> Z<eit> „Sonnenhof" Rottach-Egern am
Tegernsee Oberbayern1
24-11-44
Дорогой Альфред Людвигович,
Большое Вам спасибо за добрую память обо мне. Я уже очень
давно — сразу же после присылки — прочел Вашу брошюру2,
прочел с живым интересом и с преклонением перед обилием
вложенных в нее труда и знаний. Я собрался было уже отвечать Вам, но
затронутая Вами тема, правда, в ее историософском, а не в
языковедческом аспекте, настолько увлекла меня, что я стал
перечитывать Флоровского3 и Федотова4. Одновременно мне случайно
подвернулся под руку «Очерк развития русской философии» Г. Шпета5,
ранее мне неизвестный.
Так как Вы Шпета не цитируете, хотя в его книге есть очень
многое, непосредственно связанное с Вашею темою, то я
допускаю, что он неизвестен Вам, что было бы неудивительно, так как
книга попала в эмиграцию, кажется, в очень ограниченном
количестве экземпляров. Если бы это оказалось так, то очень советую
Вам познакомиться со Шпетом. Книга и сама по себе очень
интересна, правда, она написана очень неровно, привередливо, а
местами даже туманно, но все же в ней много знаний, много таланта
и много «ума холодных наблюдений и сердца горестных отмет»6.
Шпет для Вас очень важен, так как он является, насколько я
вижу, наиболее серьезным противником Вашей положительной
1 Адрес пансиона, в котором тогда проживал Степун: «в настоящее время: "Зон-
ненхоф" Роттах-Егерн у Тегернзее Верхняя Бавария» (нем.).
2 Бем Л. JI. Церковь и русский литературный язык. Доклад, сделанный в заседании
Русского Научно-Исследовательского Объединения в Праге. Прага, 1944. Речь идет
о гектографированной в немногих экземплярах машинописной рукописи.
3 Флоровский Г. В. прот. Пути русского богословия. Париж, 1937.
4 Федотов Г. П. Святые древней Руси (X—XVII ст.). Париж, 1931. Федотов Г. П.
Стихи духовные (Русская народная вера по духовным стихам). Париж, 1935.
5 Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. Первая часть. Пг., 1922.
6 Цитата из последних строк посвящения к «Евгению Онегину»: «Ума холодных
наблюдений / И сердца горестных замет».
498
Раздел VI
оценки древне-славянского языка в развитии русской культуры.
Для него дело обстоит как раз наоборот. Предельно заостряя шпе-
товскую мысль, можно, пожалуй, сказать, что в факте принятия
Россией греческого христианства на болгарском наречии, он видит
корень всех недостатков русской культуры, а, <может> быть, и
злоключений нашей новейшей истории. Каким-то боком своей
историософской концепцией он явно соприкасается с Чаадаевым7.
Разница только в том, что для Шпета трагедия России заключается не в
отрыве от католичества, а в отрыве от античной традиции, которая
веками животворила католическую культуру на Западе. Мне
кажется, что в этой мысли много верного. В свое время, в давно
прошедшее блаженное время, московские греколюбы, сгруппировавшиеся
вокруг журнала «София»8 — Муратов9, Грифцов10, Нилендер11 и
Сергей Михайлович Соловьев12, настойчиво проповедовали мне в
редакции «Мусагета»13, что Россия через православие глубже связана с
7 Речь идет о чаадаевской концепции аномальности России, представленной в ряде
антитез западноевропейской культуре, и в частности католической традиции
христианства в первом из «Философических писем»: «Про нас можно сказать, что мы
составляем как бы исключение среди народов. Мы принадлежим к тем из них, которые как
бы не входят составной частью в род человеческий, а существуют лишь для того, чтобы
преподать великий урок миру». — См.: Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и
писем. М., 1991. Т. 1. С. 326. «В то время, когда среди борьбы между исполненным силы
варварством народов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание
современной цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за
нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии,
к предмету глубокого презрения этих народов». — См.: Там же. С. 331.
8 «София. Журнал искусства и литературы», основной целью которого было
сравнительное изучение древнерусского и западновропейского искусства и литературы,
издавался в Москве К. Ф. Некрасовым под редакцией П. П. Муратова в 1914 году.
Печатался журнал в Ярославле. Всего вышло 6 номеров.
9 Павел Павлович Муратов (1884—1950) — переводчик, публицист, критик, историк
искусства.
10 Борис Александрович Грифцов (1885—1950) — писатель, литературовед,
искусствовед.
11 Владимир Оттонович Нилендер (1883—1965) — поэт, переводчик, литературовед,
музейный работник.
12 Сергей Михайлович Соловьев (1885—1943) — поэт-символист, переводчик,
священник, племянник Владимира Соловьева.
13 «Мусагет» — московское издательство символистов, существовавшее с 1909 по
1917 год и специализировавшеесся на издании русской и переводной поэзии, а
также религиозно-философской литературы. Об издательстве, его сотрудниках
и изданиях см.: Степун Ф. Л. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. Гл. VII.
Судя по письму Д. И. Чижевского А. Л. Бему от 22 февраля 1943 года, Степун уже
закончил посвященную «Мусагету» седьмую главу своих воспоминаний: «Степун
был у меня в начале года два дня. Читал дальнейшие части своих воспоминаний
(первая напечатана в Современных Записках, в последнем их вышедшем номере).
Это очень интересная попытка дать в форме воспоминаний очерк литературной и
«Архив эпохи»
499
античным миром, чем Запад. Но мне это всегда казалось несколько
вымышленной концепцией. Византия — не древняя Греция.
Работая сейчас над предпоследней главой своих воспоминаний,
над главою о большевизме14, я даже пришел к мысли, что в
обскурантизме синодально-монархического православия и в мракобесии
«Духовного ведомства» надо искать объяснения столь характерного
для левой русской интеллигенции, и главным образом для
большевизма, сочетания догматического рационализма и некритичности.
В России вряд ли был бы возможен «революционный протопоп
Аввакум», как Ленина называл Горький15, если бы догматизм
Духовных академий не воспитывал скептического отношения к
божественному разуму, т. е. к логосу античной философии.
Простите, дорогой Альфред Людвигович, что в ответ на Ваши
языковедческие исследования я пишу Вам о своих историософских
волнениях. Но, во-первых, я слишком слаб в языковедении, чтобы
разрешать себе беседу с Вами на эту тему, а, во-вторых, известно, что
«что у кого болит, тот о том и говорит». Последним же оправданием
служит мне моя уверенность, что Вас духовный генезис русской
революции и революционного сознания интересует не меньше меня.
Возвращаясь к Шпету, могу, однако, отметить, что у него есть
целый ряд не только историософских, но и языковедческих
утверждений, идущих вразрез с Вашими положениями. Так, он, например,
утверждает, что русская художественная литература все время герои-
духовной истории России в начале 20 века (до войны). Часть, которую он мне читал,
посвящена почти целиком литературе и издательствам (Мусагет и Логос, а также
и Путь)». — См.: Письма Д. И. Чижевского в личном фонде А. Л. Бема, коробка
№ 1 // Литературный архив Музея национальной письменности в Праге.
14 В печатном варианте русской редакции книги глава «Октябрь» стала последней главой
воспоминаний Степуна. Завершение работы над ней датировано 20 декабря 1948 года,
а над предыдущей главой, «Февраль», работа была завершена 18 октября 1943 года.
Точная датировка работы над отдельными главами воспоминаний, которые, по словам
Степуна, «с самого начала были задуманы как своеобразный дневник», приводится в
послесловии к их однотомному немецкому изданию: Stepun F. Das Antlitz Russlands und
das Gesicht der Revolution. Aus meinem Leben. 1884—1922. München, 1961. S. 509.
15 Вероятно, имеются в виду слова из первоначальной редакции воспоминаний
А. М. Горького «Владимир Ленин» («И был он насквозь русский человек — с
"хитрецой" Василия Шуйского, с железной волей протопопа Аввакума, с необходимой
революционеру прямолинейностью Петра Великого»). Поскольку Ф. А. Степун
общался с Горьким во время проживания последнего во Фрейбурге в 1923 году,
возможна аллюзия на какие-то его устные сравнения Ленина с Аввакумом, вероятность
которых подтверждается приведением такого сравнения в беседе с Н. Валентиновым
летом 1916 года: «Что я написал Ленину? <...> Я написал: Владимир Ильич, Ваш
духовный отец — протопоп XVII века Аввакум, веривший, что дух святой глаголет
его устами, и ставивший свой авторитет выше постановлений Вселенских
Соборов». — См.: Валентинов Н. Малознакомый Ленин. М., 1992. С. 74.
500
Раздел VI
чески боролась с Кирилло-Мефодиевским наследием в языке и что
с появлением Пушкина навсегда рассеялся болгарский туман16, —
чему Вы, правда, противопоставляете утверждение, что после
известного упадка славянской стихии во второй половине 19-го века
поэзия символизма вновь обрела ключ к тайне славянского слова.
Все отмеченное Вами в этой связи у Ремизова, Замятина, Вяч.
Иванова, отца Павла Флоренского, Чехова и даже Бунина — весьма
интересно и своею новизною живо заинтересовало меня.
Утверждению Шпета, что для перевода Платона в России не
было достаточно разработанного языка (наш известный
переводчик Платона Карпов17 в этом отношении поддерживает Шпета,
утверждая, что с русско-славянским языком 18-го века переводить
Платона было нельзя)18, Вы противопоставляете идею платонизма,
т. е. идею двупланности русской речи. Получается весьма
интересная мысль, что, не имея в себе достаточной для передачи
философских глубин словесной энергии, русский язык приобрел,
благодаря своему происхождению от церковно-славянского языка, некую
специфическую самой структуре философичность.
В связи с этими размышлениями во мне поднялось еще очень
много мыслей, за порождение которых я приношу Вам свою
искреннюю благодарность.
Очень жаль, что, живя под боком друг у друга, нам не удается
видеться. Судя по отчетам в «Новом слове»19, у Вас в Праге все еще
теплится какая-то русская жизнь, а у нас в Дрездене ее мало. Есть
много милых людей, теплых отношений, но не получаешь никаких
16 Почти дословная цитата из «Очерка развития русской философии»: «Русская
художественная литература героически боролась с кирилло-мефодиевским наследием
в языке, и когда воссиял Пушкин, болгарский туман рассеялся навсегда». — См.
Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 38.
17 Василий Николаевич Карпов (1798—1867) — выпускник Киевской духовной
академии, профессор Петербургской духовной академии, автор перевода основных
сочинений Платона и оригинальных сочинений по введению в философию и логику.
18 Степун не случайно в своей свободной передаче приводит мнение Карпова —
именно в этом месте книги Шпета идет речь об отсутствии русского литературного
языка в период работы над русскими переводами Платона в XVIII веке: «В. Н.
Карпов, переводчик Платона в XIX веке, сам в своем слоге не освободившийся от
"словено-российского" стиля, в оправдание того, что переводчики Платона в
XVIII веке (Пахомов и Сидоровский) выражались "слишком педантски, без нужды
облекая мысль философа в славянские формы", и яснее видели и выдерживали
"значение слов, нежели мысли", — справедливо задается вопросом: "с тогдашним
русским языком можно ли было сделать что-нибудь удачнее?". В этом, думается
мне, вся суть. Россия не вышла еще из того состояния, когда у народа нет своего
литературного языка». — См. Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1989. С. 39.
19 «Новое слово» — русская пронацистская еженедельная газета, издававшаяся в
Берлине с 1933 по 1944 год под редакцией В. Деспотули.
«Архив эпохи»
501
творческих импульсов. В своей брошюре Вы упоминаете, между
прочим, Плетнева20, с которым я в свое время познакомился и
который остался у меня в памяти весьма интересным человеком. Где
он теперь и что делает? Рядом с ним туманится еще фигура
молодого писателя, имя которого забыл, но талантливый рассказ
которого «Суд Вареника» хорошо помню21. В Праге ли он и работает ли
дальше? Сейчас, невольно живя в каком-то духовном одиночестве,
так хочется переклички с людьми, на которых возлагал какие-то
надежды. От Бориса Валентиновича Яковенко22 получил
недавно две тонкие книжечки со статьями о Гегеле23. Удивляюсь, как он
удержался и как продолжает печататься. Из Парижа давно нету
известий, хотя и писал Зайцевым24 и Лихошерстову25, очень милому
человеку, которого Вы, вероятно, не знаете. Он служил в
«Последних новостях»26. Вы пишете, что несколько времени тому назад к
20 Ростислав Владимирович Плетнев (1902—1985) — славист, литературовед,
исследователь творчества Достоевского, выпускник и доктор Пражского университета (1932),
действительный член Международного общества имени Ф. М. Достоевского в Праге, с
1933 года — учитель сербского и латинского языков в различных гимназиях в Сербии,
после заключения в немецких и титовских лагерях эмигрировавший сначала в
Германию, а затем в Канаду. Со второй половины пятидесятых годов — профессор русской
литературы и славянских языков Монреальского и Макгильского университетов. Автор
«Истории русской литературы», а также лишь частично напечатанной большой работы
«Достоевский, Св. Писание и духовная литература», опубликованные части которой
были процитированы в докладе А. Л. Бема «Церковь и русский литературный язык».
21 Василий Георгиевич Федоров (1895—1959) — писатель, поэт, публицист, участник
литературных кружков молодых русских литераторов в Чехословакии «Далиборка»
и «Скит». Упоминаемый в письме рассказ был опубликован в 1930 году в
одноименном пражском сборнике рассказов В. Г. Федорова.
22 Борис Валентинович Яковенко (1884—1949) — философ, исследователь истории
русской и зарубежной философии, один из редакторов международного журнала по
философии культуры «Логос», (Москва, 1910—1914, Прага, 1925), главный редактор
журнала русской философии, литературоведения и культуры «Der russische Gedanke»
(1929—1931), автор исследования о гегельянстве в России (1938, 1940), знакомый
Степуна со времени их совместной учебы в Гейдельберге.
23 Речь идет скорее всего о переплетенных под отдельными обложками оттисках
статей Б. В. Яковенко о русском гегельянстве (например, «Aus der Geschichte der
russischen Philosophie. M. N. Katkow u. W. P. Botkin als Hegelianer» Prag, 1935 или «Ein
Beitrag zur Geschichte des Hegelianismus in Russland: Hegel und die Anfange des Slawo-
philentums /1839—1849/» Prag, 1935), так как его книга «Geschichte des Hegelianismus
in Russland», вышедшая первым изданием в Праге в 1938 году и переизданная там
же в 1940 году, представляла собой объемистый том (446 стр.).
24 Борис Константинович Зайцев (1881 — 1972) — писатель, переводчик, мемуарист.
25 Александр Александрович Лихошерстов (1874—1958) — полковник лейб-гвардии
Финляндского полка, возглавлявший Объединение бывших служащих этого полка
во Франции.
26 «Последние новости» — эмигрантская газета, выходившая в Париже с 1920 по
1940 год.
502
Раздел VI
Вам приехал из Парижа с некоторыми литературными планами
Б. П. Вышеславцев27. Видаете ли Вы его?
Мы сейчас живем в тишине и спокойствии у наших друзей в
Баварии, где пробудем еще недели две. К сожалению, мы отчасти
потому живем здесь, что в последнее время пошатнулось здоровье
Натальи Николаевны (сердце). Причин на то много, но поводом
послужила наша дрезденская жизнь. В нашей квартире живут
сейчас, кроме нас, семь человек. Все беженцы, последние трое
прибыли сравнительно недавно из Украины и привезли много
сведений о наших родных. Но тут надо было бы начинать новое и очень
страшное письмо. А потому кончаю.
Наталья Николаевна и я шлем Вам самые лучшие пожелания.
Бог даст, увидим Вашу работу в расширенном и прекрасно
напечатанном издании. Крепко жму Вашу руку.
Искренне Ваш Ф. Степун
27 Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954) — юрист, философ, публицист,
литературный критик, редактор парижского издательства YM CA- Press, соредактор
журнала «Путь», профессор Религиозно-Философской Академии и Православного
Богословского Института в Париже, в котором преподавал нравственное
богословие. В личном архиве А. Л. Бема сохранилось одно письмо Б. П. Вышеславцева за
1944 год.
Ε. Μ. Ананьева
Густав Шпет и его наследие.
У русских истоков структурализма
и семиотики
(научный обзор международной конференции)
Под аккомпанемент сообщений всех новостных каналов о
бастующей Франции в одном из университетских центров
Европы, в университете Бордо-3, состоялась в последней
декаде ноября конференция, посвященная творчеству Густава
Шпета в контексте русского структурализма. Это событие
собрало в Бордо специалистов самого разного профиля со всей
Европы и других континентов (участвовали представители 11 стран),
обещая главной интригой конференции проблему междисциплинарно-
сти, столь подобающую разносторонности интересов самого Шпета.
После официальных приветствий г. Сингаравелу
(президента университета им. Мишеля Монтеня, Бордо-3), г. Буно
(директора Дома наук о человеке Аквитании, MSHA) и г. Пружинина
(зам. главного редактора журнала «Вопросы философии», Москва)
были зачитаны обращения дочерей Густава Шпета, пожелания
успешной работы участникам конференции от Татьяны Густавовны
Максимовой и Марины Густавовны Шторх. В докладе М. Г. Шторх,
более двадцати лет занимающейся восстановлением научного
наследия своего отца, содержались важные архивные уточнения
экзистенциальной и интеллектуальной биографии Шпета. Эти
приветствия стали камертоном не только первого дня заседаний, но
и в значительной степени всей конференции. В этом же ключе
было построено выступление автора известного исследования о
психологических сюжетах в творчестве Шпета, академика РАО
В. П. Зинченко (ГУ-ВШЭ, Москва). Исследования, ведущиеся
сейчас в области психологии общения, и достойные дальнейшего
исследования параллели с ними, которые докладчик обнаружил в
произведениях Шпета, стали предметом яркого выступления, сре-
жессированного докладчиком практически как миниспектакль.
504
Раздел VI
В докладе председателя оргкомитета и организатора
конференции с французской стороны М. Денн анализируются исторические
истоки развития структурализма и семиотики и
актуализируются возможности дальнейшего исследования идей Шпета в общем
контексте европейского структурализма. Именно обращение
Шпета к понятию «структура», по мнению Денн, определяет интерес
и актуальность обращения к творчеству Шпета для современного
исследователя-гуманитария. Актуализации семиотической
проблематики в шпетовском наследии были посвящены доклады
Г. Л. Тульчинского (Государственный Университет культуры и
искусств, Санкт-Петербург), Е. В. Вельмезовой (Лозаннский
университет, Швейцария), В. В. Фещенко (Институт языкознания РАН,
Москва) и др.
Однако хочется сразу зафиксировать то впечатление, которое
родилось в моем восприятии в первый день и не покидало меня до
последнего дня конференции: не только существенность и
глубина научных обобщений, но и внимание к частному и конкретному
сделали этот научный симпозиум непохожим на рядовое научное
мероприятие и тем особенно интересным для слушателей и
участников, инспирированных к чтению и комментированию наследия
Шпета очень разными мотивами. Не покидало впечатление, что
каждый из выступавших хранил в душе некое очень личное
отношение к теме конференции. Именно экзистенциальной
насыщенностью запомнился, в частности, доклад В. В. Аристова
(Информационный центр Дородницына РАН, Москва) о сотрудничестве
Шпета с МХАТом и программе создания Академии МХАТа, где
бы изучение системы Станиславского дополнялось
исследованием и изучением психологии творчества и теории театра как вида
искусства. Никакое самое внимательное прочтение работ Шпета
этого периода его жизни — таких, как «Театр как искусство», — не
позволило бы обратным порядком, от теории, предположить
существование этих практических следствий, а рассказанные
московским исследователем факты определенно окрасили в новые
тона известный нам прежде текст. Или сообщение Н. Л. Васильева
(Мордовский госуниверситет, Саранск), посвященное сравнению
эстетических теорий Шпета и Бахтина, в котором вдруг зазвучали
совершенно иные ноты, когда исследователь завел разговор о
своем отце, принадлежавшем к кругу соратников и учеников Бахтина
в те годы невельской ссылки.
Однако обсуждение специфических тонкостей конкретных
гуманитарных наук каждый раз вызывало интерес практически всех
участников конференции. И этот всеобщий интерес объясняется не
«Архив эпохи»
505
только профессионализмом Шпета в области психологии,
лингвистики, литературоведения, но междисциплинарностью его
проблематики. Густав Шпет — это прежде всего философ-профессионал,
чья работа заключается, кроме всего прочего, в расширении
методологического горизонта ученых (в данном случае —
гуманитариев). Междисциплинарность Шпета позволяет интерпретировать его
интеллектуальное наследие в контексте проблем разных
гуманитарных наук, но ставит при этом перед нами сложную задачу: раскрыть
философский ракурс этой «междисциплинарное™», позволяющий
представить целостный образ мыслителя в контексте его эпохи.
Этой проблеме был посвящен доклад организатора
конференции с русской стороны, исследователя философско-
методологической проблематики Шпета, издателя и
комментатора его трудов Т. Г. Щедриной (МПГУ, Москва). Она обозначила
узловые пункты актуализации шпетовского идейного наследия в
контексте современных проблем гуманитарных наук. Ключ к
современному разговору с Густавом Шпетом Щедрина видит «в
проблемной интерпретации не только опубликованных им самим
работ, но и его рукописного наследия, что значительно расширяет
направленность исследовательского поиска. Именно архивные,
дополнительные на первый взгляд, материалы могут стать
существенными при интерпретации его философских идей». И этот,
герменевтический по своей сути, подход — не только продолжение
шпетовского методологического пути, но и способ актуализации
интеллектуального наследия русских философов начала XX в.
В этот день были представлены еще два доклада, лейтмотивом
которых стали размышления об онтологических основаниях и
методологических принципах философии Шпета. В первом из них,
прочитанном известным специалистом по русской философской традиции
С. С. Хоружим (ИФ РАН, Москва), слушателям была предложена
трактовка феноменологической философии, в частности
философии Шпета, сближающая ее с исихастскими практиками.
Продолжая хорошо известное читателям его монографии об антропологии
исихазма исследование и отчасти реконструкцию этих религиозных
практик, Хоружий высказал свой вердикт вполне категорично: «Как
мы убеждаемся, феноменологический (интенциональный) строй —
естественный строй если и не религиозного сознания вообще, то, по
крайней мере, квинтэссенциально и аутентично религиозного
сознания — сознания в духовной практике. Лапидарно выражаясь,
феноменология есть естественный язык духовной практики», —
предложив слушателям самим сделать следствия из подобной позиции и
сравнить их на предмет адекватности с позицией Шпета.
506
Раздел VI
Другой доклад, прочитанный Б. И. Пружининым, ведущим
специалистом в области философии и методологии науки (журнал
«Вопросы философии», Москва), был посвящен, говоря
формально, границам «гуманитарного образования понятий»
(перефразируя Риккерта), а содержательно затрагивал самый существенный
для философской концепции Шпета узел проблем — как
возможна «положительная философия», понимаемая как историческая
и гуманитарная, но тем не менее строгая наука. Применительно к
современным представлениям методологии науки эту проблему
можно представить в динамике: «Философско-методологические
исследования науки сегодня прямо вышли к тем проблемам,
которые до середины XX в. обсуждались в основном в области
методологии гуманитарных наук». «Вызовы» этого нового положения
состоят в том, что методология науки не может игнорировать
опасность релятивизации, когда, говоря словами Б. И. Пружинина,
«из рассуждений методологов практически полностью исчезают
такие понятия, как истина и объективность». Нужно ли пояснять,
насколько актуальна в этом контексте позиция,
сформулированная Шпетом в полемике с неокантианством и позитивизмом.
Позитивно формулируя позицию Шпета, Пружинин
характеризует ее как ориентированную на общение: «Шпет акцентирует тот
этап познавательной деятельности, когда ученый ориентируется
на "интеллигибельную интуицию", для того чтобы изложить,
выразить, словесно представить и сделать понятным для другого то,
что исследователь наполовину обосновал как истину,
наполовину почувствовал как реально существующую сущность». «При
этом историзм у Шпета не перерастает в методологический
релятивизм, — подытоживает свою позицию докладчик, — ибо
"историческая семасиология", снимая слой за слоем исторические
наслоения с языка науки, движется к смысловому ядру слова, т. е.,
преодолевая его неупорядоченную множественность значений,
ведет нас не в дурную бесконечность многообразия историко-
культурных контекстов, но к "самой вещи"».
Второй день конференции ознаменовался целым созвездием
интереснейших сообщений. Хорошо известная специалистам
работа Шпета «Сознание и его собственник» стала предметом
анализа ведущего отечественного специалиста по гуссерлианству
В. И. Молчанова (РГГУ, Москва). Просматривая сюжет из этой
работы об омонимии «Я» как причине ошибок в его
интерпретации он полагает, что не дескриптивно-феноменологический, но
семантическо-лингвистический способ рассмотрения становится
ведущим, дополняется затем социально-функциональным. В свя-
«Архив эпохи»
507
зи с этим промежуточным итогом речь идет именно о «подмене»:
в поисках доступа к уникальности «Я» Шпет подменяет понятие,
обремененное естественнонаучными корреляциями («Я»,
противопоставленное среде), понятием «Я» как феномена духовной
природы. Казалось бы, альтернативой выступает отсылка к социальной
реальности. Но «социальное» измерение «Я» не снимает, а скорее
запутывает противопоставление эмпирического и идеального «Я»,
справедливо замечает Молчанов. Шпет как раз и хочет вывести
проблему «Я» за пределы учений о сознании и представить ее как
социальную проблему — социальную в том смысле, что «никакой
иной действительности, кроме действительности социальной, мы
не знаем» — всякая иная есть результат интерпретации, но не род
непосредственного опыта. Резюме предложенного анализа таково:
«Путь к такой "точечной соборности" был осуществлен в основном
за счет замены дескриптивно-феноменологического рассмотрения
проблемы Я выбором "абсолютного значения термина Я", а также
методом анализа различных его значений, что вызывает серьезные
сомнения и противоречит смыслу слова "термин", какое бы из
значений термина "Я" ни считать абсолютным».
Свидетельством того, что проблема «индивидуального
всеобщего» не только находится в эпицентре философских,
лингвистических, логических исследований Шпета, но и
представляет заманчивый предмет для интерпретаций в контексте
современных дискуссий, стал доклад И. М. Чубарова (ИФ
РАН, Москва). Сравнивая идеи, высказанные Шпетом на фоне
формально-феноменологического горизонта и интенции
постструктурализма Ж. Делёза и Ф. Гваттари, докладчик справедливо
указал, что центральным моментом здесь выступает отказ обоих
философских стратегий «от опоры на репрезентативные модели
субъективности, онтологические и гносеологические подходы к
пониманию человека и общества». Чубаров склонен видеть скорее
различия в подходах, чем сближать позиции Шпета с теми, на чью
точку зрения он ссылается в «Сознании и его собственнике»,
полагая недоразумением расхожее мнение, что Шпет в этом вопросе —
сторонник «соборного сознания» и единомышленник Соловьева и
Трубецкого. Если конкретизировать содержательно позицию
Шпета, то речь идет о проблеме внутренней формы слова в ее
противопоставлении логической форме как внешней и безразличной к
уникальности содержания. Но там, где постструктурализм видит
структуры бессознательного, Шпет склонен усматривать
исторически и этически уникальное деяние, оформляемую в структуре
словообразования событийную природу языка. Обсуждая логику этой
508
Раздел VI
аргументации, докладчик не мог не затронуть проблему единства
сознания — в феноменологическом и лингвистическом плане.
Докладчик отстаивает позицию, существенно отличную от подхода
Молчанова — там, где Молчанов видит недостаток подхода Шпета,
Чубаров усматривает его достоинство. Нет и не может быть
единого — как единственно возможного — понимания «Я», поскольку
оно определяется горизонтами коммуникативной ситуации.
В случайно наметившейся или заранее предусмотренной
программой конференции полемике к этим двум докладам
тематически примыкало очень интересное сообщение А. А. Шиян (РГГУ,
Москва), поставившей задачу выявить онтологические основания
философии Шпета. К числу важнейших в этой связи терминов
относится понятие «социальной действительности».
«Исследование работ Шпета разных лет, — полагает докладчица, — позволяет
сделать заключение, что социальная действительность для него —
это прежде всего действительность нашей повседневной жизни».
В свою очередь, мир повседневности представляет
коммуникативную среду, в которой формируется наш повседневных опыт. К
этому же комплексу проблем Шиян причисляет и «внутреннюю форму
слова» в ее истолковании Шпетом: «Во внутренних формах слова
смысл уже нам дан в нашей повседневной коммуникативной
ситуации, и одновременно внутренние формы слова являются методом
прояснения и развития смысла предмета». Это означает, что нельзя
исследовать язык в его отдельных функциях (например, в
номинативной функции, в функции значения и т. д.), так как, переходя
на язык Шпета, в нашем опыте нельзя обнаружить отдельно
внутренние и внешние языковые формы». С другой стороны, в ряде
работ Шпета мы можем обнаружить, что различие внешней формы
и внутренней все-таки становится предметом специального
анализа. Но при этом необходимо учитывать, что «за этим стоят
совершенно другие онтологические основания», для выявления которых
необходимо проследить, как «Шпет описывает движение смысла».
Установив двойственность онтологических оснований философии
Шпета, автор доклада задается вопросом, «какое же понимание
действительности и языка преобладает в работах Шпета "позднего"
периода», и высказывает гипотезу, что «платоновское царство
вечных идей было руководящей нитью для всего творчества русского
философа и не позволило ему до конца провести иную, например
феноменологическую, установку по отношению к языку».
Философская «междисциплинарность» Шпета, представленная
в темах «внутренней формы слова» и «этнической психологии»,
задавала тональность последующих дней работы конференции.
«Архив эпохи»
509
Эти темы обсуждались с самых различных методологических
позиций и проблемных ракурсов. Тема «внутренней формы слова»
стала предметным полем в докладах филологов Л. А. Гоготишвили
(ИФ РАН, Москва), О. Новиковой (МГУ, Москва), Вл. Новикова
(МГУ, Москва), С. Чугунникова (университет Дижона, Франция),
историка психологии Н. С. Полевой (Институт психологии РАО,
Москва), историка русской философии и эстетики Р. Бёрда
(университет Чикаго, США), переводчика работ Шпета на
французский язык Н. Завьялова (Бордо, Франция) и специалиста в области
сравнительной литературы и интеллектуальной истории Г Тихано-
ва (Ланкастерский университет, Великобритания), а также
молодого исследователя творчества Шпета из Пражского университета
П. Флака. Два очень интересных доклада, посвященных этой же
теме, были представлены итальянскими славистами М. К. Гидини
и М. Вендитти и вызвали большой интерес слушателей и
неоднократные упоминания выступающих. Наконец, отталкиваясь от
методологических положений, сформулированных Шпетом в связи с
понятием «внутренняя форма слова», молодая исследовательница
из университета Лозанны И. В. Агеева показала возможность
выхода на прикладную проблематику — проблему перевода, в том числе
перевода основных терминов философии Шпета на французский
язык.
В известном смысле доклад Гоготишвили явился теоретическим
введением к проблемам более частного характера, которые
затронули другие докладчики, говорившие на эту тему. Она
представила очень интересную экспозицию современных лингвистических
воззрений на явление «пресуппозиции», т. е. имплицитно
содержащихся в выражении глубинных смыслов, которые трактуются как
предпосылки для понимания его внешней формы, и связала его
со шпетовской трактовкой «внутренней формы слова» как
энтелехии. Тот факт, что «внутренняя форма слова» локализовывалась
Шпетом «между чувственно данными внешними формами речи
(синтаксическими, морфологическими, звуковыми) и
онтологическими (онтическими, «чистыми») формами предмета («самих
называемых вещей»)», этот «промежуточный топос» позволил автору
доклада сблизить «внутреннюю форму слова» с «пресуппозицией»
и показать при этом, что Шпет предлагает оригинальный способ
истолкования ее: фигурально выражаясь, «вертикальный» вместо
«горизонтального» (фундированность всякой речи в поэтической
ипостаси как условие ее понятности, а не «последовательность
развертывания фразы, и контекстуальная зависимость значений, и
связанность части и целого»).
510
Раздел VI
Работа Шпета «Введение в этническую психологию» также
стала предметом анализа и отправным пунктом собственных
рассуждений в целом ряде докладов. Среди них хочется упомянуть
выступление московских психологов М. С. Гусельцевой, Т. Д. Мар-
цинковской (Институт психологии РАО, Москва) и литературоведа
Л. Полыииковой (РГГУ, Москва), а также польских
исследовательниц Е. Коморовской и М. Трыбовской. Очень интересная
экстраполяция проблематики этнической психологии была предложена в
тексте Н. С. Автономовой (ИФ РАН, Москва) «Густав Шпет:
эпистемологические принципы критики этнодетерминизма». О. Г. Ма-
заева — идейный вдохновитель и организатор Шпетовских чтений
в Томске — представила на этой конференции доклад «Г. Г. Шпет
и А. Белый в феноменолого-герменевтическом горизонте
Серебряного века», где обратилась к теме критики Шпетом кантианства и
увлечения последним А. Белого и в связи с этим к проблематике
знания в его исторической конкретности.
Доклады Р. Грюбеля и Г.-Б. Колер (университет Ольденбур-
га, Германия), П. Стайнера (США), Н. Щеткиной (университет
М. Монтеня, Бордо, Франция) были посвящены эстетическим
идеям Шпета. Интерес исследователей вызвали также
исторические аспекты его творческой биографии, его окружения и круга
учеников, коллег и оппонентов. Так, петербургский историк
литературы и культуролог Г. А. Левинтон посвятил свое выступление
сотрудничеству Шпета с редакцией журнала «Гермес», И.
Иванова (университет Лозанны, Швейцария) — сравнительному
анализу двух научных организаций: Института живого слова и ГАХН, а
В. В. Ванчугов (РУДН, Москва) размышлял о психологических
предпосылках создания «Очерка развития русской философии»
Шпета. Н. Азарова раскрыла в своем докладе лингвистические
особенности шпетовского перевода «Феноменологии духа» Гегеля.
Конференция была посвящена Густаву Шпету и его
философскому наследию, но собрала широкий круг философов и ученых-
гуманитариев всего мира, занимающихся различными аспектами
гуманитарных наук. И хотя организаторы акцентировали
внимание на «русских истоках структурализма и семиотики»,
совершенно очевидно, что прочитанные доклады и проведенные дискуссии
вышли далеко за рамки темы конференции. Философское и
научное наследие Густава Шпета актуально сегодня не только в
семиотическом и структуралистском аспекте, но и в контексте
возрождения русской философии, в осмыслении ее советского периода и
поиска ее дальнейших перспектив.
Авторский коллектив
Автономова Наталия Сергеевна (ИФ РАН, Москва)
Агеева Инна Валентиновна (Лозаннский университет, Швейцария)
Азарова Наталья Михайловна (МПГУ, Москва)
Ананьева Екатерина Михайловна (СПбГУ, Санкт-Петербург)
Аристов Владимир Владимирович (Компьютерный центр им.
Дородницына РАН, Москва)
Васильев Николай Леонидович (Мордовский государственный
университет им. Н. П. Огарева, Саранск)
Вельмезова Екатерина Валерьевна (Лозаннский университет,
Швейцария)
Вендитти Микела (Университет Акилы, Италия)
Гидини Мария Кандида (Пармский университет, Италия)
Гоготишвили Людмила Арчиловна (ИФ РАН, Москва)
Грюбель Райнер (Ольденбургский университет, ФРГ)
Гусельцева Марина Сергеевна (Психологический институт РАО,
Москва)
Денн Мариз (Университет М. Монтеня, Бордо, Франция)
Завьялов Николай (Университет им. Виктора Сегалена, Бордо,
Франция)
Зинченко Владимир Петрович (ГУ-ВШЭ, Москва)
Иоффе Денис (Амстердамский университет, Нидерланды)
Коморовска Ева (Университет г. Щецина, Польша)
Кохан Ева (Университет г. Щецина, Польша)
Левинтон Георгий Ахиллович (ЕУСПб, Санкт-Петербург)
Люсый Александр Павлович (Российский Институт культурологии,
Москва)
Мазаева Ольга Геннадьевна (ТГУ, Томск)
Максимова-Шпет Татьяна Густавовна (Москва)
Марцинковская Татьяна Давыдовна (Психологический институт РАО,
Москва)
Микешина Людмила Александровна (МПГУ, Москва)
Молчанов Виктор Игоревич (РГГУ, Москва)
Найман Евгений Артурович (ТГУ, Томск)
Новиков Владимир Иванович (МГУ, Москва)
512
Авторский коллектив
Новикова Ольга Ильинична (МГУ, Москва)
Ольхов Павел Анатольевич (БелГУ, Белгород)
Плотников Николай Сергеевич (Рурский университет, Бохум, ФРГ)
Полева Наталья Сергеевна (Психологический институт РАО, Москва)
Пружинин Борис Исаевич (ж. «Вопросы философии», Москва)
Стайнер Питер (Пенсильванский университет, США)
Тиханов Галин (Манчестерский университет, Великобритания)
Трыбовска Марта (Университет г. Щецина, Польша)
Тульчинский Григорий Львович (Государственный университет
культуры и искусств, Санкт-Петербург)
Фещенко Владимир Валентинович (Институт языкознания РАН,
Москва)
Флак Патрик (Пражский университет им. Карла IV, Прага, Чехия)
Хоружий Сергей Сергеевич (ИФ РАН, Москва)
Черненькая Светлана Васильевна (МГПУ, Москва)
Чубаров Игорь Михайлович (ИФ РАН, Москва)
Шиян Анна Александровна (РГГУ, Москва)
Шторх (урожд. Шпет) Марина Густавовна (Москва)
Щедрина Татьяна Геннадьевна (МПГУ, Москва)
Янцен Владимир Владимирович (Галле, ФРГ)
Указатель имен
Абаев В. И. 178
Абрамов А. И. 369
Аввакум, прот. 499
Августин Блаженный 172, 218, 446, 447
Аверинцев С. С. 312
Автономова Н. С. 7, 67, 68, 71,147,154,
325,510
Агеева И. В. 509
Азарова H. M. 510
АйгиГ. 116, 118
Акимова М. В. 267
Акунин Б. (Чхартишвили Г. Ш.) 438, 439
Алексеев В. А. 480
Алексей Михайлович 491
Алкей 8, 476, 479, 480, 481
Амон А. 24
Ананьева Е. М. 7
Андерсен Г. X. 13
Апресян Ю. Д. 292
Аристов В. В. 274, 282, 283, 504
Аристотель 182, 271, 469, 490
Асеев H. H. 430,
Аскольдов С. А. 370
Асмус В. Ф. 75, 130
АхмановА. С. 172,470
Б
Байбурин А. К. 343
Байрон Дж. Г. 13, 339
Бак-Морс С. 437
Балли Ш. 174, 314, 385
Балтрушайтис Ю. К. 13, 344, 476
Бальзак О. де 135
Банк Н. Б. 370
Барт Р. 145, 158,306,387,446
Бартлет Ф. 231
БатайЖ. 101
Бах И. С. 412
Бахтин M. M. 78, 172, 179, 185, 188-190,
208, 215, 225-228, 287, 288, 293-301,
302, 303, 305, 308-311,312-313, 315-317,
319-323,333, 334,336,340-343, 345,381,
391, 403, 405, 407, 408, 412, 420, 504
Бахтина H. M. 313
Бегбедер Ф. 437
Бедный Д. 343, 344
Белобровцева И. 3. 467
Белый А. 8, 172, 221, 222, 230, 274, 278,
280, 346, 363, 364, 368, 369, 370-372,
411-413,418,481,510
Беляева С. Н. 357
Бем А. Л. 8, 486-493, 495, 497
Бенедикт, св. 135
Берг Л. С. 179
Бергер П. 398
Бергсон А. 212, 227, 231
Бёрд Р. 350, 509
Бердяев Н. А. 17, 410, 411, 432
Берлин И. 28, 209, 210
Бернштейн Н. А. 208-210, 227, 233, 234,
277
Бернштейн Э. А. 363
БёмеЯ. 132
Бжозовски С. 462
514
Указагельимен
Бибихин В. В. 148, 229
БилоуС. 190
Бимель В. 149
Бине А. 77
Бион В. 222
Блок А. А. 278, 304-306, 369, 411, 412,
430, 468
Блонский П. П. 474, 475
БлуменауЛ. 480
Боас Ф. 386
Богатырев П. Г. 263, 334
Богдановский С. Д. 467
Богомолов Н. А. 468
Бодуэн де Куртенэ И. А. 453, 455
Боратынский Е. А. 421
Боровой А. А. 24
Боткин В. П. 501
Бочарове. Г. 312
Браун Е. Г. 468
Бреаль М. 175
Брентано Ф. 266, 267, 461, 472
Брик О. М. 334, 335
Бродский И. А. 203, 205, 215, 221
Бромлей Ю. В. 387
Брунер Д. 206
Брюсов В. Я. 475
Бубеникова М. 486
Бубер М. 322
Бубнов H. H. 496
Булаховский Л. А. 488
Булгаков М. А. 280
Булгакове Н. 192, 193, 195, 196, 199, 200
Бунаков И. И. 368
Бунин И. А. 500
Бурдье П. 386
Буркхард Я. 53
Буслаев Ф. И. 334, 340, 401, 469, 470
Бухштаб Б. Я. 343, 422
Бэкон Ф. 186
Бэн А. 420
Бюлер К. 168, 169, 194, 266
В
Вагнер Р. 348
Валентинов Н. В. 499
Валицкий А. 458
Валлон А. 218
Вальцель О. 195
Вандриес Ж. 174
ВанчуговВ. В. 510
Василий Шуйский 499
Васильев Н. Л. 320, 321, 504
Вебер М. 29, 30, 32, 38, 40, 43, 44, 45, 50,
329, 367, 406
Вейсман А. Д. 420
Вельмезова Е. М. 173, 175, 177, 179, 504
Вендитти М. 277, 509
Вергилес Н. Ю. 233
Вергилий 490
Вернадский В. И. 403
Вернан Ж.-П. 206
Веселовский А. Н. 104, 105
Вико Дж. 100, 385
Виндельбанд В. 362, 366, 368
Винникот Д. 222
Виноградов В. В. 172, 313, 316, 322, 336,
343, 422, 488
Винокур Г. О. 8, 253, 263-265, 334, 335,
339, 470, 476-478
Винокур Т. Г. 335
Винтелер Й. 453
Виппер Б. Р. 474
Витгенштейн Л.228, 229
Витязев Ф. И. 380
Владимир, князь 482
Воден А. М. 362
Волков H. H. 172, 227, 254, 260, 353, 358
Волошин М. А. 216
Волошинов В. Н. 8, 172, 314, 315, 317,
320-326, 328-332, 387
Волькенау Н. В. 470
Вольф X. фон 172
Всеволодский-Гернгросс В. Н. 348
Указатель имен
515
Вундт В. 185, 315, 323, 383, 405
Вучетич Г. Г. 234
Выготский Л. С. 22, 23, 172, 175, 185,
208, 213, 214, 219, 221, 225, 229, 250,
266, 277, 357, 405, 406, 409
Вышеславцев Б. П. 502
Г
Габричевский А. Г 8, 172, 262, 263, 351,
353, 355, 357, 358
Гадамер Г.-Г. 65
ГайденкоП. П. 18
ГаррисД. 197
Гаспаров М. Л. 7
Гачев Г. Д. 280
Гваттари Ф. 147, 507
Гвиго Второй Картузианец 135
Гегель Г. В. Ф. 77,79,100,114-129,194,197,
308, 340, 360, 434, 435, 493, 501, 510
Гейзелер Б. фон 486
Гемпель К. Г. 35-37
Гензель П. 416
Герген К. см. Джерджен К.
Гердер И. Г. 100, 197, 386, 388
Герцен А. И. 492
Гершензон М. О. 308, 476
Гессе Г 188
Гёте И. В. 197, 204, 206, 209, 311, 370,
371,410,416
Гидини М. К. 181, 186, 187, 509
Гимерий 479
Гиндин С. И. 339
Гинзбург Л. Я. 343,422
Гирц К. 386
Гоголь Н. В. 311
Гоготишвили Л. А. 303, 312, 509
Гокусай (Хокусай) К. 473
Головнин О., псевд. (Брандт Р. Ф.) 480
Гомер 188
Гомперц Г. 267
Горбачев Г. Е. 321
ГордееваН.Д. 209, 210, 227
Горнунг Б. В. 325, 326, 334, 469-472,
474-478
Горнунг Л. В. 476, 479
Горький А. М. 279, 499
Готье Т. 473
Грайс П. 378, 379
ГревсИ.М. 31,403
Грифцов Б. А. 498
Громов Р. А. 266, 268
Гроссман Л. П. 471
ГрюбельР. 510
Грязнова Ю. Б. 188
Губер А. А. 8, 254, 258-260, 353
Гумбольдт В. фон 75, 104, 105, 107, 108,
112, 153, 172, 174, 185, 189, 196-199,
203, 204, 209, 213, 214, 219, 221, 223-
226, 228, 232, 236-239, 242, 246, 249,
254, 267, 275, 276, 277, 282, 283, 304,
306, 315, 316, 323, 340, 343, 344, 353,
372, 385, 388, 450, 456, 470, 478
Гумилев Л. Н. 387
Гумилев Н. С. 467, 470, 473
Гуревич Л. Я. 348, 357
Гуревич А. Я. 30, 50
Гусельцева М. С. 510
Гуссерль Э. 13, 49, 57, 60-63, 76, 82-84,
86-88, 94, 95, 98, 99, 110, 113, 132, 135,
137, 146, 149, 150, 159, 160, 161, 194,
195, 246, 247, 255, 257, 261, 262, 266,
267, 269, 271, 303, 314, 316, 333, 334,
337, 339, 343, 361, 363, 365-367, 375,
386, 398, 419, 440, 441, 445, 459, 460,
463,471,472
Гучкова Н. К. 427
Д
Даль В. 10
Данилов А. И. 29
Данте Алигьери 13, 188, 429, 469
Дарвин Ч. Р. 240
Дворецкий И. X. 420
Дебор Г. 435-437
Декарт Р. 231
Делёз Ж. 98-102, 147, 207, 208, 507
516
Указатель имен
Денн М. 7, 146, 160, 174, 350,430,463, 504
Державин Г. 10
Державин К. Н. 226
Деррида Ж. 72, 147, 148, 159, 162, 163,
337, 385, 460
Деспотули В. 500
Дестют де Траси А. Л. К. 329
Джеймс У. 133,406
Джерджен К. (Герген) 398, 403
Джойс Д. 135
Джонсон М. 385
Дидро Д. 348
Диккенс Ч. 295
Дильтей В. 58, 77, 94, 103, 104, 261, 263-
265, 337, 405, 406, 408, 461
Дмитриев А. С. 472
Дмитриева Н. А. 362
Добренко Е. 192
Дорцвеллер С. 362
Достоевский Ф. М. 208, 297, 305, 311,
313, 320, 412-414, 420, 427, 429, 501
Доценко С. 467
Драгомощенко А. 282
Дройзен И. Г. 103
ДрускинС. Я. 119
Дурново H. H. 467
Дюма А. 349
Дюркгейм Э. 388
Ε
Евреинов Η. Η. 348
ЕльмслевЛ. 387,450
Ермичев А. А. 365, 367, 368
Ермолова M. H. 357
Ж
Жданов И. 282
Женетт Ж. 145, 146
Жижек С. 437
Жинкин Н. И. 8, 172, 253-259, 261, 263,
281,334,353,355,357,358
Жирмунский В. М. 387, 467, 470
Жуковский В. А. 69
Жучков В. А. 369
3
Завьяловы. 153,509
Зайцев Б. К. 501
Зайцева Е. Д. 77
Замятин Е. И. 413, 500
Запорожец А. В. 209, 210, 214, 215, 227,
277
Захаренко Н. Г. 370
Зелинский Φ. Φ. 480
Зенкин С. Н. 145
Зеньковский В. В. 195, 399, 496
Зигварт X. 405
Зиммель Г. 262, 263
Зинченко В. П. 22, 173, 181, 189, 220,
233, 234, 250, 277, 302, 503
Зинченко П. И. 214
Золотарев В. П. 31,42
И
Иванов Вяч. 172, 222, 316, 368, 372, 411,
413,475,480,500
Иванов Вяч. Вс. 114, 165, 173, 192, 387
Иванова Ε. Φ. 214
Иванова И. С. 510
Игнатова Н. И. 69, 70, 222
Ильинский Л. К. 475
Ингарден Р. 266, 440-445, 458, 459
Иоанн Лествичник 135
Иоанн Синаит 135
Иоффе Д. 192
Ирецкий В. Я. 478
Истрин В. М. 488
К
Кавелин К. Д. 359, 403, 405, 409
Каверин В. А. 424
Каган М. И. 312, 316, 320, 321, 474, 475
Калинин И. А. 416
КанаевИ. И. 321
Кандинский В. В. 172
Указатель имен
517
Кант И. 50, 98, 99, 107, 117, 118, 194, 231,
232, 249, 275, 363-366, 368-371, 378
Кантемир А. Д. 80
Кантор В. К. 366, 367, 414, 487, 489
Каплинский В. Я. 480
Карамзин H. M. 72
КареевН. И. 30, 31,42
Карл Великий 46
КарлейльТ. 416, 419
Карлоне Дж. Б. 475
Карпов В. Н. 78, 500
Карцевский С. И. 387
Кассирер Э. 131, 362
Катенин П. А. 472, 473
Катков M. H. 501
Качалов В. И. 278, 356
Кенигсберг M. M. 267, 340, 468-472,
474, 476-479
Клапаред Э. 205
Клубков П. А. 467
Ключевский В. О. 488
Кляйн М. 222
Коген Г. 93, 362, 366, 370, 474, 475
Кожев А. 114-116, 119, 120, 125-129, 189
Колганова А. А. 468
Колер Г.-Б. 510
Коморовска Е. 510
Кондаков И. В. 412
Кондильяк Э. Б. 329, 365
Конечный А. М. 343
Константин (Кирилл) Философ 488,
491
Конт О. 35, 38, 39, 46
Коонен А. Г. 357
Коперник Н. 413
КоржЮ. В. 412
Коул М. 234
Кохан Е. 458
Краснов П. 480
Кресс Г. 391
КрёберА. Л. 386
Кристева Ю. 231
Кромвель О. 91
КрочеБ. 260, 385, 471,473
Крусанов А. В. 334
Крушевский Н. В. 453, 455
Куайн У. О. ван 55
Кузмин М. А. 467, 470, 471, 476
Кумпан К. 343
Кун Т. 58, 60
КурбасЛ. С. 210, 226, 278
Курбский А. 491
Л
Лабов У. 390
Лагутина И. Н. 368
Лакан Ж. 97, 147, 222
Лакатош И. 58
Лакофф Дж. 385
Ламарк Ж. Б. 238, 240
Ласк Э. 366
Лацарус М. 344
Ле Гофф Ж. 328
Левинас Э. 101
Левинтон Г. А. 343, 467, 468, 470, 510
Леви-Стросс К. 146, 147, 386
Лейбниц Г. В. 100, 128, 172
Лекторский В. А. 250, 487, 492
Ленин В. И. 113, 316, 463, 464, 499
Леонардо да Винчи 231, 414
Леонтьев А. Н. 185,219
Лермонтов М. Ю. 311
Лесевич В. В. 361
Лефевр В. А. 227
ЛибФ. 18
Липпс Т. 260
Лисина М. И. 215
Лихачев Д. С. 338
Лихошерстов А. А. 501
Лич Э. 386
Лопатин Л. М. 18, 359, 365
Лоренц К. 148
518
Указатель имен
Лосев Α. Φ. 110, 118, 119, 128, 131, 192-
196, 198, 200, 322, 323
Лосский Н. О. 17
Лотман Ю. М. 306, 438
Лотце Г. 47-49
Лукач Г. 340, 341
Лукман Т. 398
ЛурияА. Р. 209, 216, 224
Людовик XIV 418
Людовик XVI 419
Люсый А. П. 439
Ляпунов В. 312
Мейерхольд В. Э. 226, 305, 349, 356
Мерло-Понти М. 8, 154, 159, 160, 161,
163, 164, 386
Мефодий (Солунский) 488, 491
Мечковская Н. Б. 165
Мещеряков Б. Г. 22
Микешина Л. А. 414, 487, 492
Миллер О. Ф. 491
Милль Дж. С. 405
Мирабо 417
Миртов Д. П. 476
Митюшин А. А. 11, 29, 349, 409
Михайлов А. В. 363
Михальчи Д. Е. 468
Мовнина Н. 419
Молон А. 415
Молчанов В. И. 73, 87, 271, 363, 419,
504, 506-508
Моммзен Т. 53
Моне К. 355
Монтессори М. 220
Мори, аббат 418
Московичи С. 398
Мотрошилова Н. В. 117, 118
Муратов А. Б. 339
Муратова П. П. 498
Η
Набоков В. В. 438
Назаренко Я. А. 343, 422
Налимов В. В. 185, 188, 190
Наполеон 90
Наторп П. 93, 362, 366
Некрасов К. Ф. 498
Нибур Б. Г. 53
Николаев Н. И. 312, 334, 336
Никон, патриарх 491
Нилендер В. О. 498
Ницше Ф. 98, 100, 385, 411, 412
Новалис (Гарденбергер Ф. фон) 471,
472
Новиков В. И. 509
M
Магид М. 486
Магид С. 486
Мажирина Е. С. 214
МазаеваО. Г. 366, 510
Мазе С. Я. 469, 470
Майков А. Н. 480
Максимова-Шпет Т. Г. 503
Малиновский Б. 388
Малкин В. Б. 234
Мамардашвили М. К. 214, 219-221, 229
Мангейм (Манхейм) К. 51, 52
Мандельштам О. Э. 206, 211, 215, 216,
221,224,274,280,470
Манн Т. 311
Марголис А. А. 22
Маритэн Ж. 259
Мария-Антуанетта 417-419
Маркс К. 43, 60, 316, 317
Марр Н. Я. 8, 131, 173-175, 177-180,
254,314
Марти А. 172, 185, 266-273, 334, 340, 345
Марцинковская Т. Д. 510
Масарик Т. Г. 496
Матезиус В. 266, 455
Махлин В. Л. 312, 322, 323, 325, 382,
416
Медведев П. Н. 314-316, 322, 339
Мейер Э. 53
Указатель имен
519
Новикова О. И. 423, 509
Норен А. 453
О
Обнорский С. П. 488
Огден С. К. 168
Олдингтон Р. 415
Ортега-и-Гассет X. 206
ОсгудЧ. 390
Осповат А. Л. 343
Оствальд В. 369
Остин Д. Ж. 206
Π
Панченко О. 339
Паньков Н. А. 314
Парсонс Т. 386
Парщиков А. 282
Паскаль Б. 221
Пасси П. 453
Пастернак Б. Л. 362, 430, 431
Пауль Г. 174, 175
Пахомов М. С. 78, 500
Петерсон M. H. 322
Петников Г. Н. 472
Петр I 499
Петровский М. А. 254, 257, 258, 468
Петрушевский Д. М. 28-31, 34, 35, 40,
43,44,47,51,53,74,76
Петухов Е. В. 488
Пешковский А. М. 314
Пиаже Ж. 148,205,231
Пильщиков И. А. 267
Пиррон 472
Пирс Ч. С. 62, 168-170, 172, 184, 306, 447
Писарев Д. И. 69
Пискунов В. М. 368, 369
Пискунова С. И. 369
Платон 13, 18, 78, 365, 476, 479, 480,
493-495, 500
Платонов А. Б. 204
Платонов С. Ф. 488
Плетнев Р. В. 501
Плеханов Г. В. 331
Плотников Н. С. 337
Подорога В. А. 129
Полева Н. С. 509
Поливанов Е. Д. 387
Поливанов К. М. 476
Поливанов М. К. 10, 11, 130, 468
Поливанова К. Н. 217, 218
Польшикова Л. 510
Поляков Ф. 486
Попов П. С. 120,474,476
Поржезинский В. К. 488
Потебня А. А. 104, 172, 195, 196, 200, 237,
254, 338, 340, 354, 385, 403, 408, 409
Почепцов Г. Г. 165, 166, 173, 178
Прокофьев П. см. Чижевский Д. И.
Протагор 365
Пружинин Б. И. 487, 492, 503, 506
Псевдо-Дионисий Ареопагит 194, 495
Пумпянский Л. В. 316, 321
Пушкин А. С. 26, 68-70, 72, 188, 310, 311,
375,381,467,500
ПыпинА. Н. 491
Ρ
Рабле Φ. 311
Райх 3. 349
Рассел Б. 228, 229
РейтблатА. И. 468
Рембрандт Р. ван 355
Ремизов А. М. 500
Рикер П. 97
Риккерт Г. 30, 32, 38, 40, 47-50, 52, 54,
74, 362, 366, 368, 506
Риль А. 49, 366
Рильке Р. М. 235
Ричарде И. А. 168
Роде Э. 340
Розанов В. В. 216, 225, 305, 432
Розенгард-Пупко Г. Л. 219
520
Указатель имен
Ромм А. И. 337, 469
Рубинштейн С. Л. 250
Рубцов В. В. 22
Румер О. Б. 480
С
Сакулин П. Н. 474
Салапатек Ф. 217
Самсонов Н. В. 475
Сартр Ж.-П. 100, 101, 129, 182
Сафо 480
Свасьян К. А. 411
Свешников П. П. 469
Свиясов Е. В. 480
СеверскаяО. И. 281, 282
Северцева О. С. 468
Сезанн П. 355, 473
Селищев А. М. 387
Сепир Э. 384-386
Сергеев К. А. 127, 128
Серебреников Н. В. 468
Середа Г. К. 214
СериоП. 145, 154,325
Сеше А. 469
Сидоров А. А. 475
Сидоровский И. И. 78, 500
СилардЛ. 372
Ситковецкая M. M. 349
Скляднев Д. В. 440
Сковорода Г. С. 370, 493
Скрябин А. Н. 411
СлининЯ. А. 127, 128
Смирнов А. А. 77
Смирнов И. П. 184
Смит Г. 453
Соболевский С. И. 480
Сократ 41, 90, 413
Соловьев В. С. 18, 92, 98, 195, 196, 316,
359, 361-363, 365, 369, 371, 410, 411,
480, 482, 507
Соловьев С. М. 498
Соловьев С. 281
Соссюр Ф. де 62, 144-146, 151, 154, 168-
170, 172, 177, 184, 193, 199, 266, 268,
314, 329, 335-337, 447, 449, 450, 453,
455, 468, 469, 498
Спенсер Г. 361,365, 416
Спиноза Б. 227
Стайнер П. 178, 337, 411, 433, 510
Сталин И. В. 419, 463
Станиславский К. С. 279, 356, 504
Станкевич Н. В. 91
Стахорский СВ. 347
Стейнер Л. 350
Степанов Ю. С. 177
Степанова Л. Г. 467, 468
Стёпин В. С. 403
Степун H. H. 496, 502
Степун Ф. А. 8, 346, 363, 364, 366, 367,
368, 370, 371, 486-493, 495-497
Строцци Дж. К. 475
Сухотин А. М. 144
Τ
Таиров А. Я. 229, 277, 348, 349, 356
Тарабукин Η. Μ. 357
Теплов Б. М. 356, 357
Тиандер А. 400
Тиханов Г. 339, 419, 509
Тихонравов Н. С. 488
Тоддес Е. А. 335, 337, 339, 468, 469
Толстой А. К. 481,482
Толстой Л. Н. 155,489
Томашевский Б. М. 263
Травертен С. 217
Тредиаковский В. К. 80
Трельч Э. 51
Трубецкой Н. С, князь 75, 145, 146, 334
Трубецкой С. Н., князь 18, 92, 98, 365, 507
Трубина Е. Г. 416
Трыбовска М. 510
Тульчинский Г. Л. 181, 504
Тынянов Ю. Н. 157, 264, 339, 347, 422-
426,428,431
Указатель имен
521
Тьерри И. 160
Тэн И. 416
Тютчев Ф. И. 229, 307, 414, 429
У
Уайт X. 337, 416, 433-435, 437
Узенер Г. 46, 76, 475
Усов Д. С. 343,467,468
Устинов Д. В. 422, 476
Устинов А. Б. 467, 470
Ухтомский А. А. 205, 212, 225, 233
Ушаков Д. Н. 429
Уэлбери Д. 350
Φ
Федор Алексеевич 491
Федоров В. Г. 501
Федорова Л. В. 28, 361
Федотов Г. П. 488-491, 497
Фейерабенд П. 58
Феофан Затворник, преп. 136
Фещенко В. В. 425, 504
Флак П. 509
Флейшман Л. 362, 467, 486
Флоренский П. А. 17, 103, 105-111, 131,
172, 188, 192, 193, 195, 196, 199, 224,
348, 403, 500
Флоровский Г. В. 488, 490, 492, 496, 497
Фол мер Г. 33
Фосслер К. 185, 314, 451, 473
Фохт Б. А. 362, 369
Франк М. 147
Франк С. Л. 17, 119, 148, 362, 363, 414,
490
Фреге Г. 168, 169, 288
Фрейд 3. 222, 385, 395
Фромм Э. 436
Фуко М. 134, 140, 143, 147, 148, 207, 446
Фукуяма Ф. 436
X
Хабермас Ю. 408
Хайдеггер М. 88, 94, 97, 98, 100, 109, 149,
150, 159, 160, 164, 184, 266
ХаймсД. 391
Хаксли О. Л. 413, 414, 421
Хардер X. Б. 362
Харитонов В. В. 416
Хладениус И. М. 100
Хлебников В. В. 274, 425
Хмельницкая Т. Ю. 370
Ходасевич В. Ф. 370
Ходж Р. 391
Холенштайн Э. 157, 266
Холквист М. 342
Холл идей М. 391
Холодович А. А. 144
ХомскийН. 208, 211,266
Хомяков А. С. 371
Хоружий С. С. 362, 363, 505
Хренов Н. А. 439
Христиансен Б. 316
Ц
Царев М. И. 349
Цезарь 46, 77, 113, 186,316
Церетели Г. Ф. 480
Цивьян Т. 467
Цирес А. Г. 8, 254, 262, 351, 353, 355,
357, 358
Цицерон 413
Ч
Чаадаев П. Я. 498
Чайковский П. И. 356
Челпанов Г. И. 188,409
Чехов А. П. 500
Чехов М. А. 280, 357
Чижевский А. Л. 403
Чижевский Д. И. 487, 488, 490, 492-496,
498, 499
Чистякова Н. 480
Чистякова Э. И. 370
Чичерин А. В. 468
522
Указатель имен
Чубаров И. М. 28, 335, 361, 365, 507, 508
Чугунников С. 509
Чудаков А. П. 423
Чудакова М. О. 335, 337, 339, 467-469,
476
ЧудиноваЕ. В. 218
Чхартишвили Г. Ш. 438
Ш
Шапир М. И. 195, 267, 334, 335, 470,
477, 478
Шапошников Б. В. 8, 262, 357
Шахматов А. А. 192, 488
Шахматова Е. 226
Шаховской Д. И. 31
Шведер Р. 385, 386
Шевченко А. 344
Шевченко Т. 101
Шекспир В. 13, 77, 188, 413
Шестов Л. И. 308, 432
Шик С. 421
Шиллер Ф. 310
Широкогоров С. М. 387
Шишков А. С. 80
Шиян А. А. 508
Шкловский В. Б. 8, 154-156, 158, 160,
186, 337, 339, 423, 424, 426, 431
Шлейермахер Ф. Д. Э. 103, 104, ПО
Шлегель А. 238
Шмальгаузен И. И. 238
Шнайдер Д. М. 386
Шопенгауэр А. 45, 46, 369, 411
Шор Е. Д. 487, 492
Шор О. А. 357
Шор Р. О. 314, 322, 387
Шоттер Д. 208
Шпенглер О. 367, 368
ШпетЛ. Г. 70,479
ШпетС. Г. 13
Шпитцер Л. 295
ШпрангерЭ. 261, 263
Шрубе М. 486
Штейнер Р. 368, 370
Штейнталь X. 254, 340, 383, 388
Шторх М. Г. 427, 468, 503
Штумпф К. 471
щ
Щедрина И. О. 8
Щедрина Т. Г. 12, 14, 25, 29, 49, 62, 67,
68, 105, ПО, 112, 113, 149, 173, 175,
178, 222, 270, 323, 326-328, 338, 340,
344, 361, 365, 380, 410, 414, 416, 420,
427, 453, 462-464, 479, 480, 486, 487,
492, 505
ЩербаЛ. В. 455
Щеткина-Роше Н. 510
Э
Эйслер Р. 77
Эйхенбаум Б. 337, 339, 424, 478
Эйхенбаум О. Б. 339
Экземплярский В. М. 355, 475
Эко У. 408, 446
Элиот Т. С. 415
Эльконин Б. Д. 227
Эльконин Д. Б. 218, 219, 227
Эмерсон К. 342
Энгельгардт Б. М. 295, 339
Эпикур 474
Эпштейн М. 275
Эренберг Г. 496
Эриксон Э. 222
Эткинд Е. Г. 422
Ю
Юм Д. 398,441
Юнг К. Г. 215, 433
Юркевич П. Д. 18,365
Юфит А. 3. 346
Я
Якобсон М. П. 469
Якобсон Р. О. 7, 75, 76, 145, 156-161,
163, 192, 194, 224, 266, 305, 310, 316,
334-339, 450, 455, 470, 475
Указатель имен
Яковенко Б. В. 8, 361, 363-366, 501
Яковлев Η. Φ. 469
Якубинский Л. П. 316, 322
Янцен В. В. 18, 487, 492, 497
Ярхо Б. И. 195, 267
Ясперс К. 17
В
Beckett S. 382
Bethea D. M. 467
BoutotA. 150
Burda M. 146
С
Crawford L. 156
Critchley S. 382
D
Depretto C. 337
Dolinin A. 467
Dufva H. 179
F
Frank M. 103
G
Gadet F. 146
Groethuysen B. 368
H
HaardtA. 110, 161
Hatano G. 234
Hermes G. 368
Hughes R. P. 486
I
Inagaki K. 234
L
Lähteenmäki M. 179
523
Leppänen S. 179
Livak L. 467
M
Mahl H. J. 472
Mauro T. de 266
McLean H. 486
N
Neimeyer M. 149
Nowak A. J. 459
Ρ
PianaG. 271
Pomorska K. 157
Prevignano C. 269
R
Raevsky Hughes O. 486
Reznik V. 337
RodiF. 113
Rudy S. 157
S
Samuel R. H. 472
Schmid H. 348
SebeokTh. 157
Sombart W. 368
Sosnowski L. 459
Τ
Toman J. 334, 470
V
\kris P. 179
\ferret G. 155
W
Vtellman H. M. 234
WDlenski J. 459
Содержание
Вместо предисловия 7
Приветственное письмо Татьяны Густавовны Максимовой-Шпет....9
Приветственное письмо Марины Густавовны Шторх
(урожденной Шпет) 10
Раздел I. Идейное наследие Густава Шпета: опыт философских
интерпретаций
Т. Г. Щедрина
Густав Шпет и современные проблемы философии
гуманитарных наук 17
Л. А. Микешина
Логика как условие и основание научной строгости
исторического знания (Письмо Г. Г. Шпета Д. М. Петрушевскому
16 апреля — 6 мая 1928) 28
Б. И. Пружиним
Семиотическая перспектива методологии гуманитарных наук
Густава Шпета 57
Н. С. Автономова
Проблема философского языка у Густава Шпета 66
B. И. Молчанов
Проблема Я у Густава Шпета: от термина к концепции 83
И. М. Чубарое
Проблема «Я» в герменевтической философии Густава Шпета.... 94
Я. С. Плотников
От романтической герменевтики к феноменологии языка:
Фридрих Шлейермахер — Павел Флоренский — Густав Шпет 103
H. M. Азарова
Два опыта: «Феноменология духа» Гегеля в русском переводе
Г. Шпета и французском переводе А. Кожева 114
C. С. Хоружий
К пределам феноменологии: Шпет, Гуссерль
и интенциональность в мире духовной практики 130
Содержание
525
Раздел П. Семасиология Густава Шпета: между семиотикой
и структурализмом
М. Денн
Структура слова и выражения в творчестве Густава Шпета
и ее значение для истории структурализма. Пер. К В. Кисловой.... 143
П. Флак
В тени структурализма: Шкловский, Мерло-Понти... и Шпет?
Пер. Н. В. Кисловой 154
В. В. Фещенко
Густав Шпет и неявная традиция глубинной семиотики
в России 165
Е. В. Велъмезова
Семантика vs. семиотика Густава Шпета и Николая Марра
(к постановке проблемы) 173
Г. Л. Тульчинский
Густав Шпет и новые перспективы гуманитарной парадигмы
(Текст как интонированное бытие, или Инорациональность
семиотики) 181
Д. Иоффе
Густав Шпет, религия и проблема Знака: имяславие vs.
феноменология и семиология (к первичной постановке
вопроса) 192
Раздел III. «Внутренняя форма слова»: пересечение
исследовательских перспектив
В. П. Зинченко
Плавильный тигль Вильгельма Гумбольдта и внутренняя
форма слова Густава Шпета в контексте проблемы творчества 203
Н. Завьялов
Когнитивные науки, понятие эволюции и шпетовское
понятие внутренней формы слова 236
A. А. Шиян
Онтологические основания философии языка «позднего»
Шпета 244
М. К. Гидини
Три выпуска философского отдела ГАХН: Вариации на тему
внутренней формы 253
М. Вендитши
Внутренняя форма слова у Г. Шпета и у А. Марти 266
B. В. Аристов
Идея внутренней формы Густава Шпета и ее значимость
для современной поэтики и поэзии 274
526 Содержание
Раздел IV. Густав Шпет в русской интеллектуальной
«сфере разговора» начала XX века
Л. А. Гоготишвили
Шпет и Бахтин: ожидаемые расхождения и неожиданные
сходства 287
Р. Грюбель
Эстетика поэзии и эстетика прозы в творчестве Густава
Шпета и Михаила Бахтина 302
Я. Л. Васильев
Густав Шпет и Михаил Бахтин: к истокам метаязыка
«бахтинского круга» 312
И. В. Агеева
В. Н. Волошинов и Г. Г. Шпет: два взгляда на семиотические
проблемы 322
Г. Тиханов
Новаторство и регрессия: теоретические интересы Густава
Шпета в 1920-е годы 333
Я С. Полева
Влияние трудов Густава Шпета на исследование проблемы
художественной формы в ГАХН 351
О. Г. Мазаева
Феноменологические проекты в России начала XX века
и отношение их создателей к традиции кантианства 360
Раздел V. Проблемы гуманитарных наук в контексте шпетовских идей
Я. Стайнер
Третий выпуск «Эстетических фрагментов» Густава Шпета.
Пер. И. В. Борисовой 375
Е. А. Наймам
«Введение в этническую психологию» Г. Г. Шпета в контексте
современного гуманитарного знания 383
Т. Д. Марцинковская
Г. Г Шпет — парафраз на современную тему 392
М. С. Гусельцева
Значение методологических идей Г. Шпета для современной
психологии 402
Я. А. Олъхов
Стиль как modus vivendi Г Г Шпета (некоторые наблюдения).... 410
В. И. Новиков
«Лучше Шпет, чем никогда». Тынянов и Шпет 422
Содержание
527
О. И. Новикова
Шпет как литератор. Взаимодействие слова и мысли
в «Эстетических фрагментах». Пер. И. В. Борисовой 427
A. И Люсый
От логики истории к ее жанрам 433
М. Трыбовска
Роман Ингарден и Густав Шпет (антропологический контекст
сопоставления). Пер. Н. В. Кисловой 440
С. В. Черненькая
Семиотические исследования Густава Шпета 446
Е. Коморовска
Актуальность научных концепций Густава Шпета в контексте
современного языкознания 453
Е. Кохан
Густав Шпет и философия человека 458
Раздел VI. «Архив эпохи»
Г. А. Левинпгон
Густав Шпет и журнал «Гермес» 467
B. В. Янцен
Историософская концепция «Очерка развития русской
философии» Г. Г. Шпета в письме Ф. А. Степуна
к А. Л. Бему (1944) 486
Ф. А. Степун — А. Л. Бему. Публикация Владимира Янцена 497
Е. М. Ананьева
Густав Шпет и его наследие.У русских истоков
структурализма и семиотики (научный обзор
международной конференции) 503
Авторский коллектив 511
Указатель имен. Составитель И. О. Щедрина 513
Научное издание
Humanitas
Густав Шпет и его философское наследие:
у истоков семиотики и структурализма
Коллективная монография