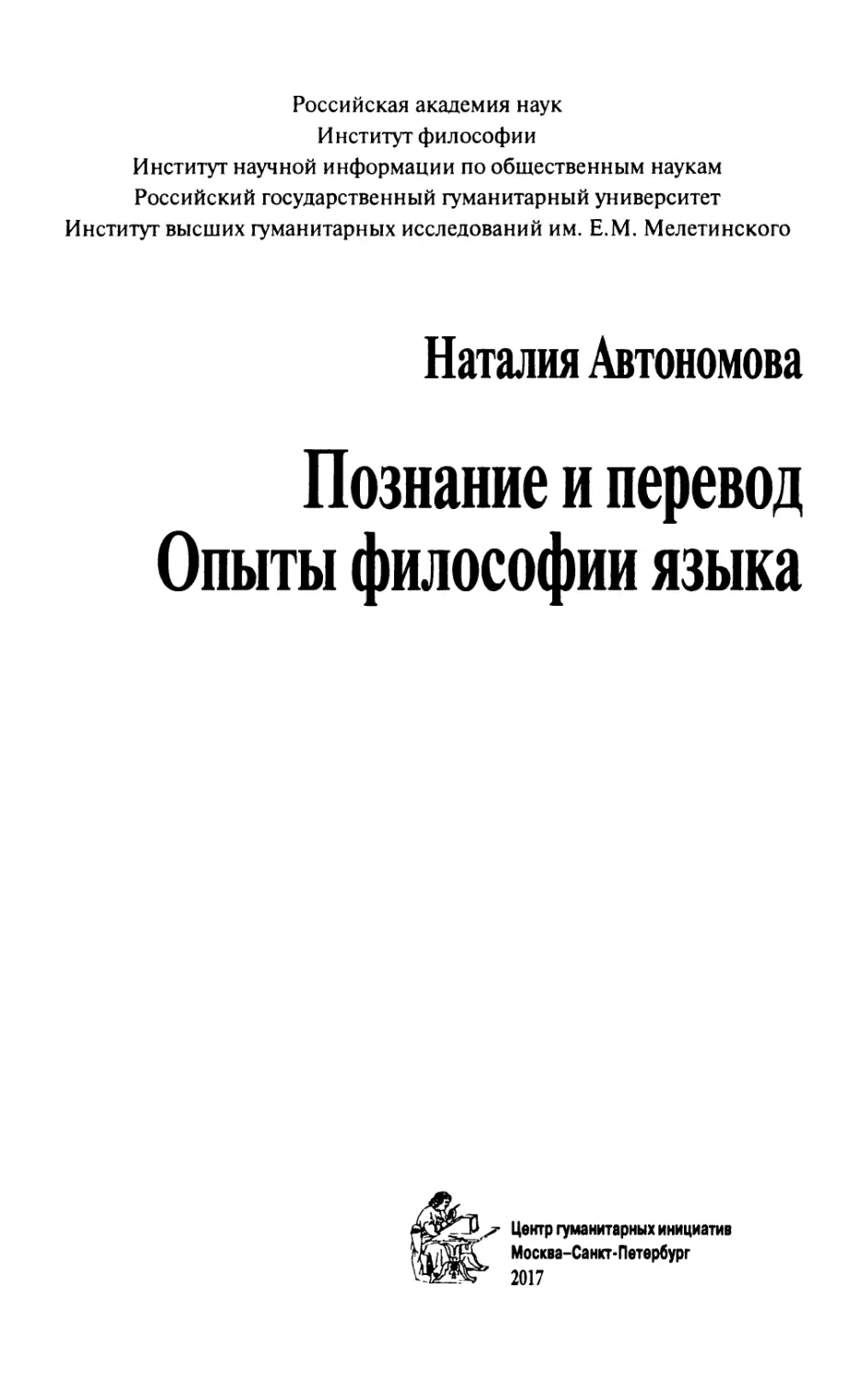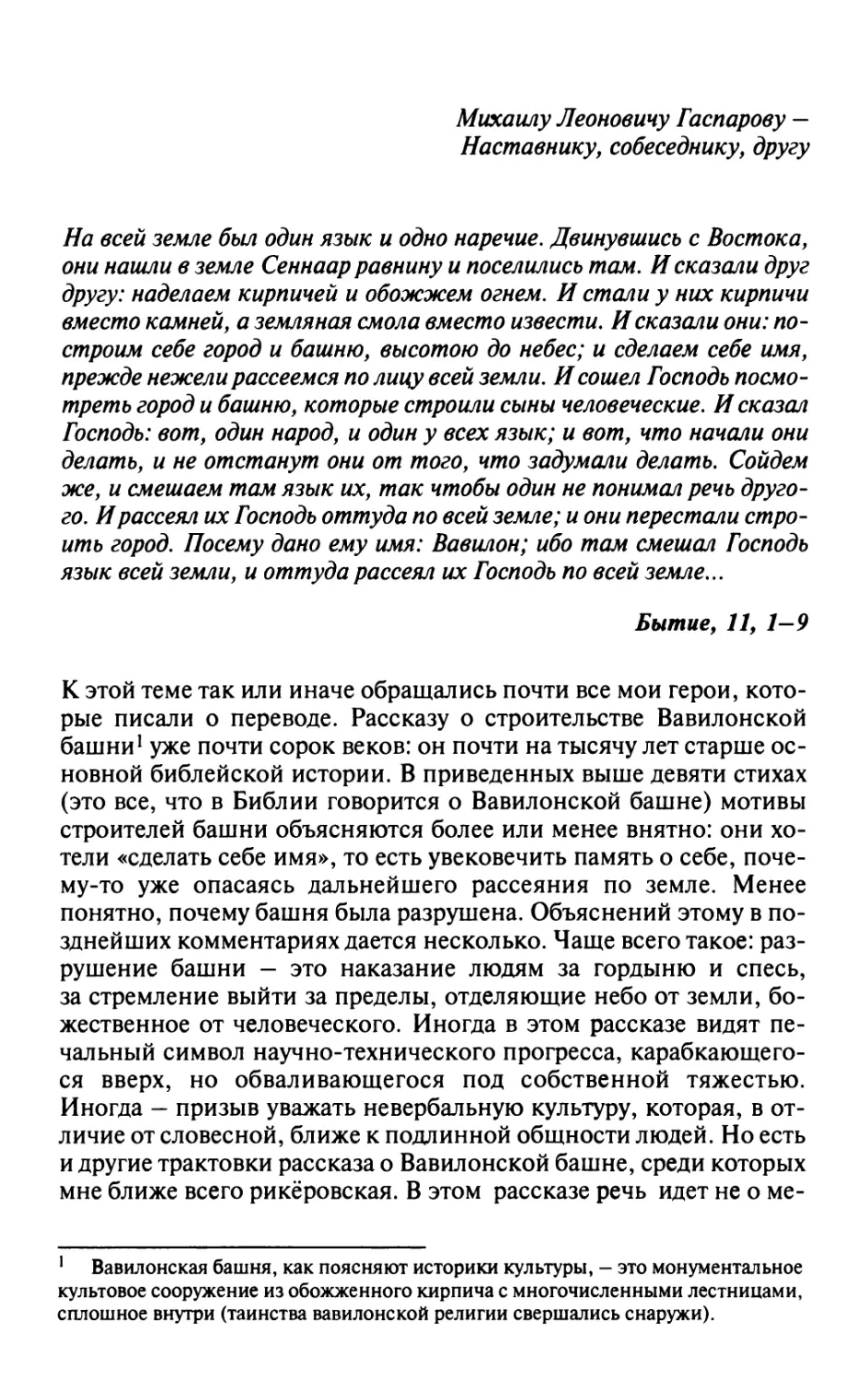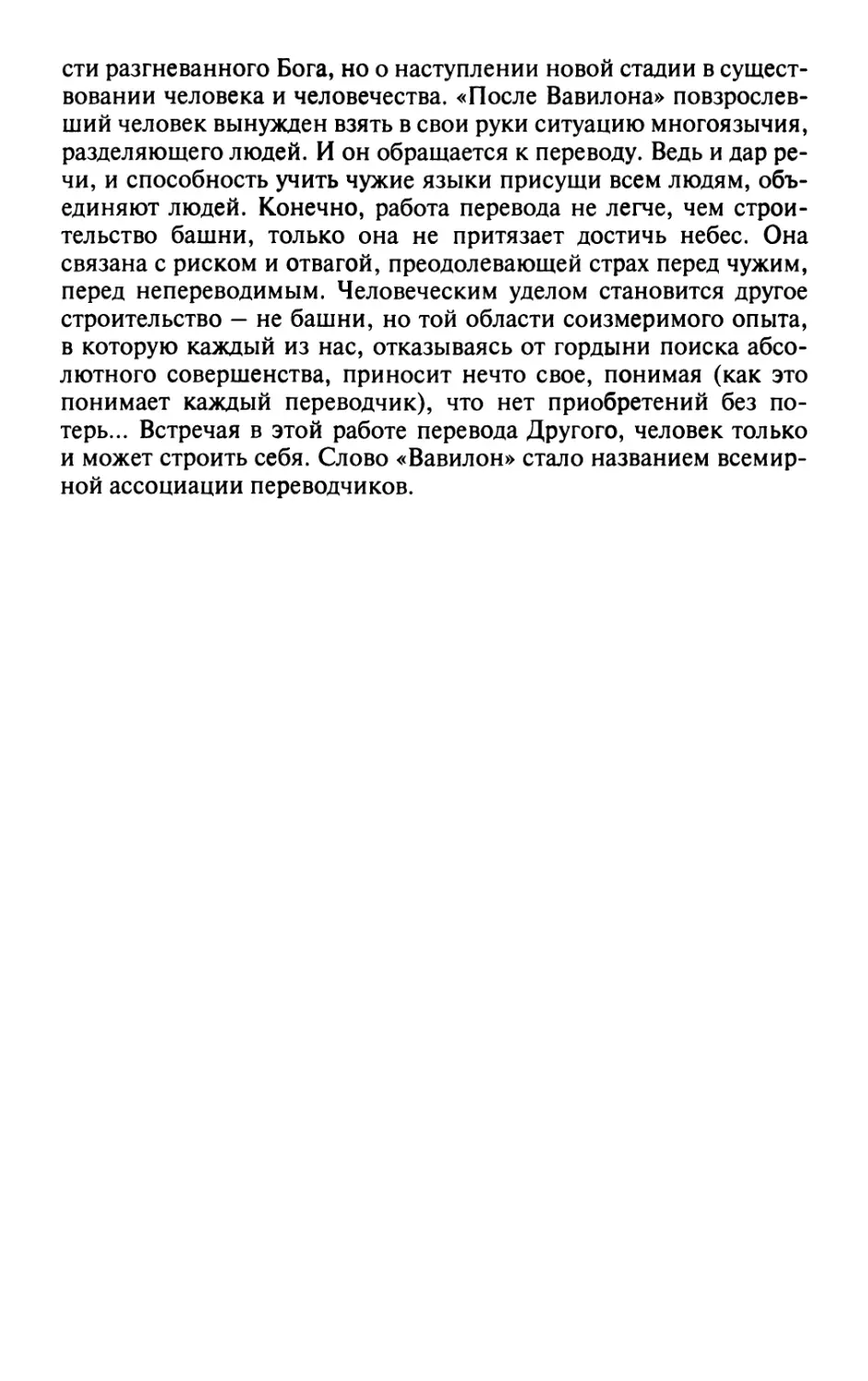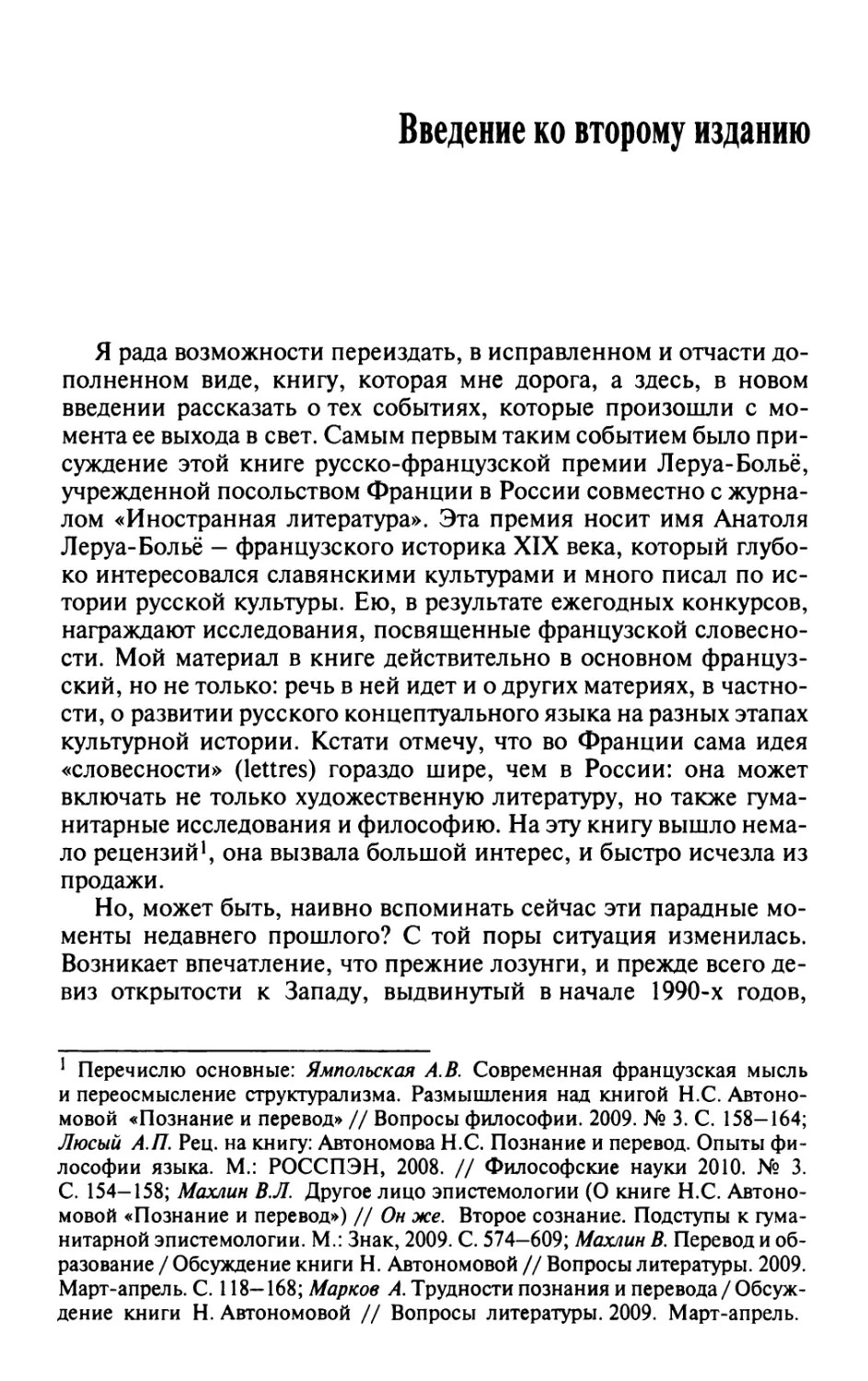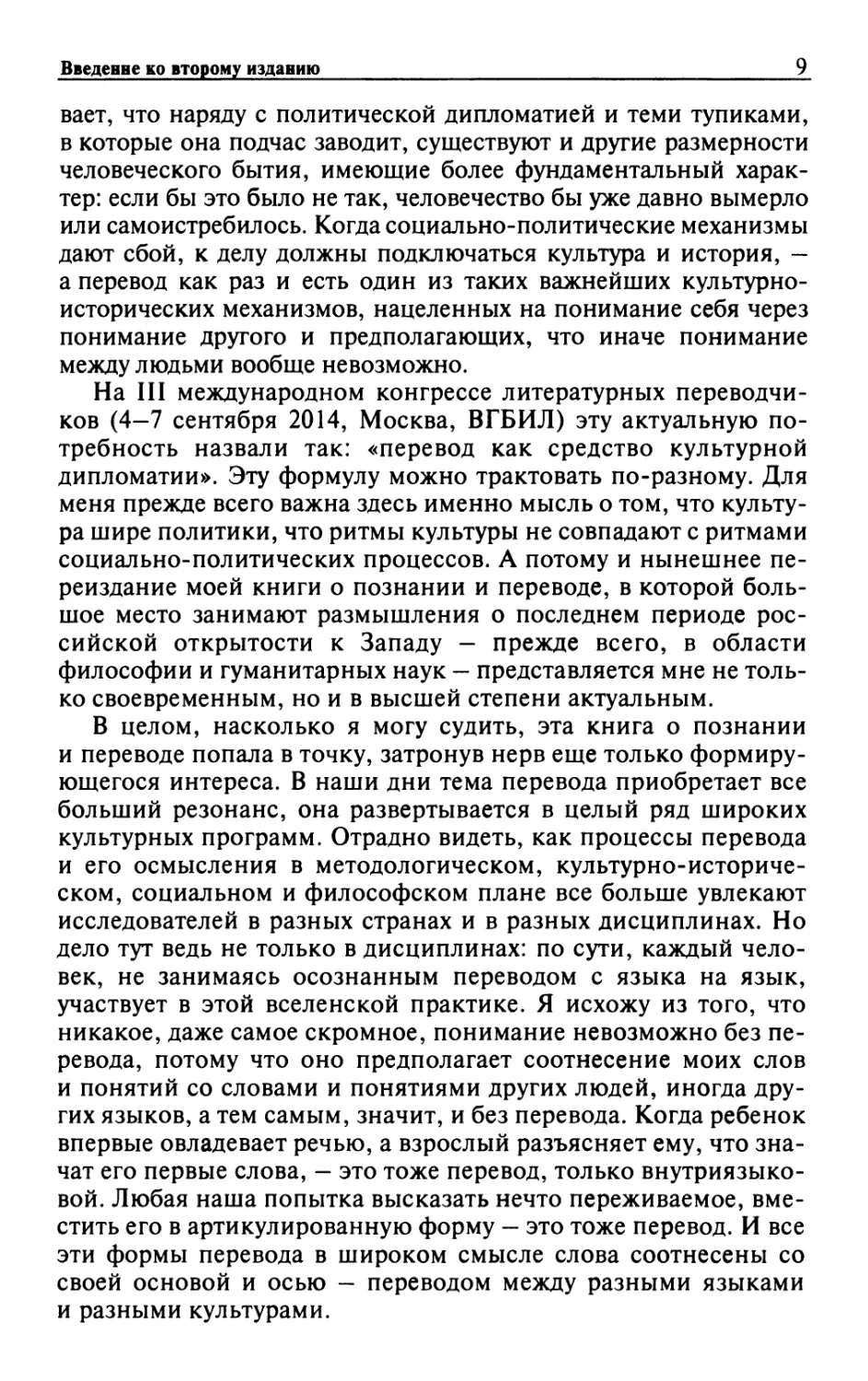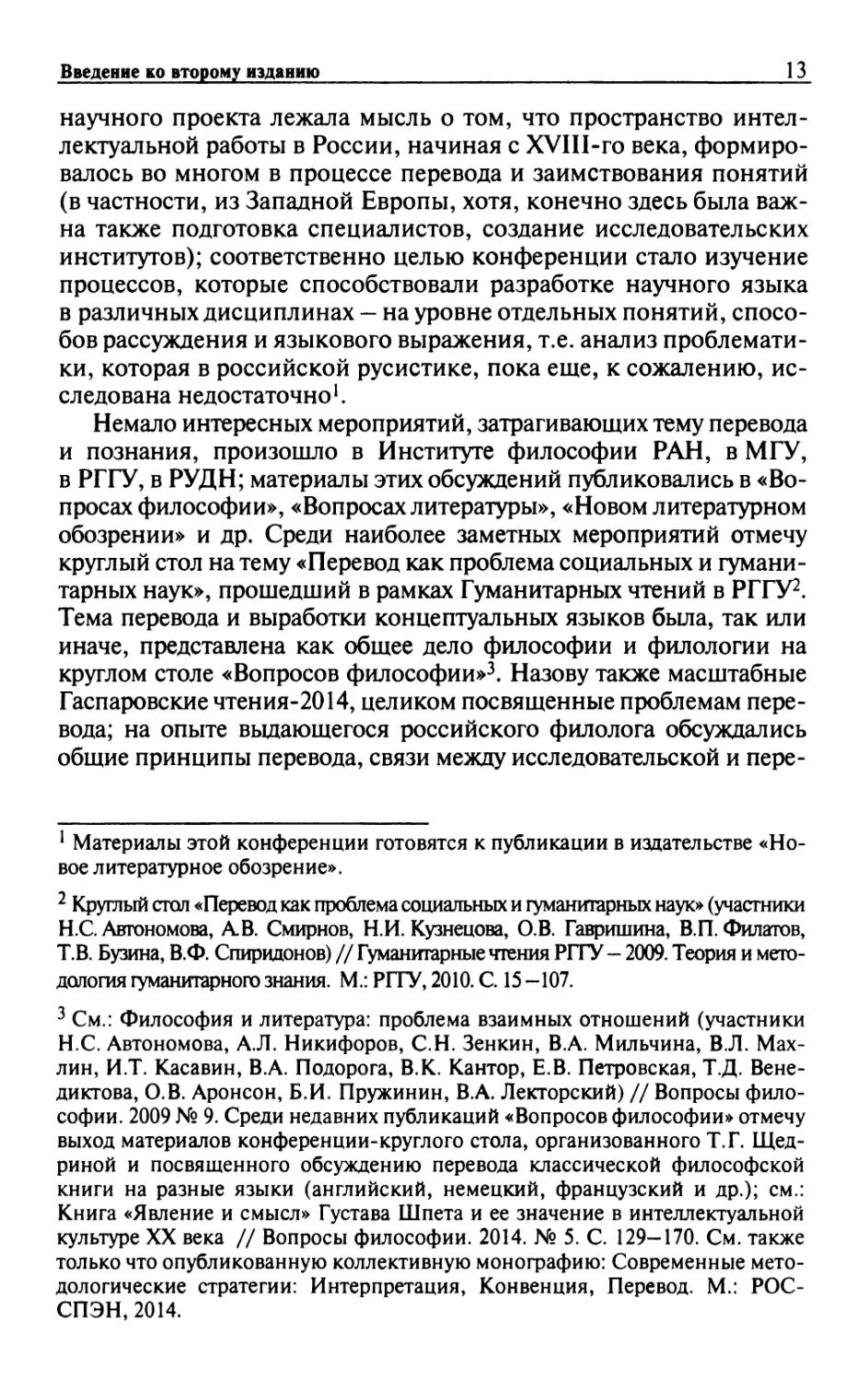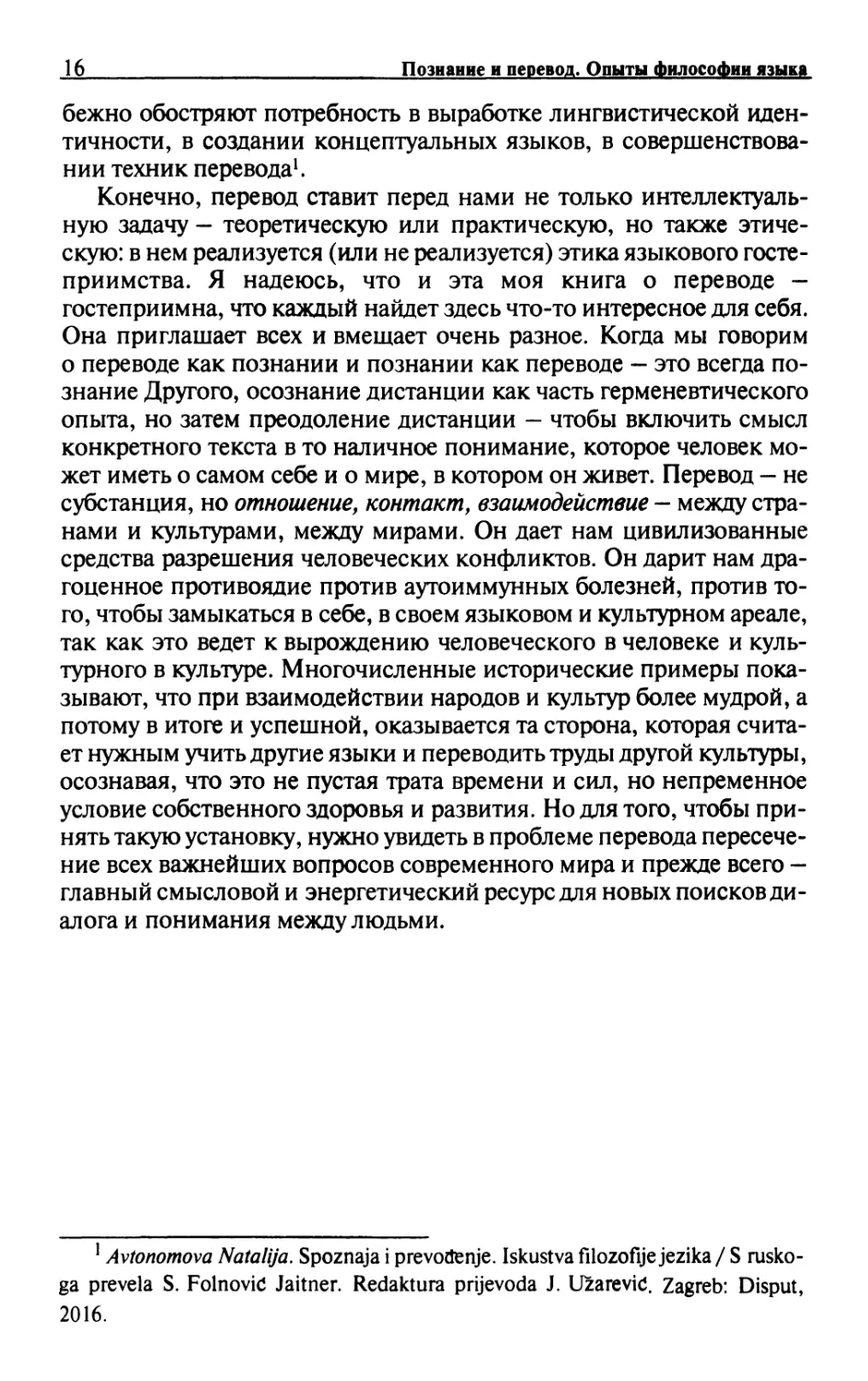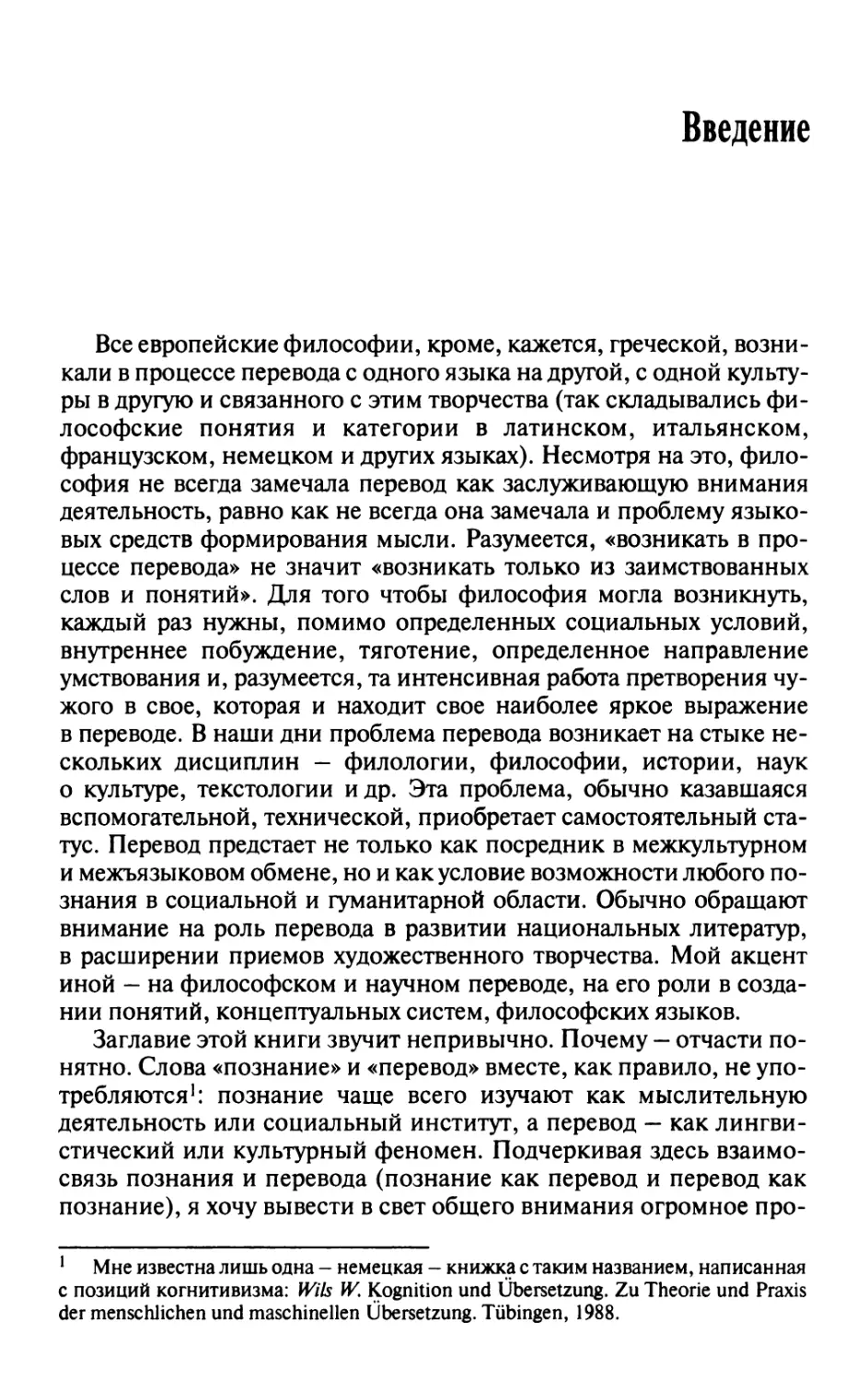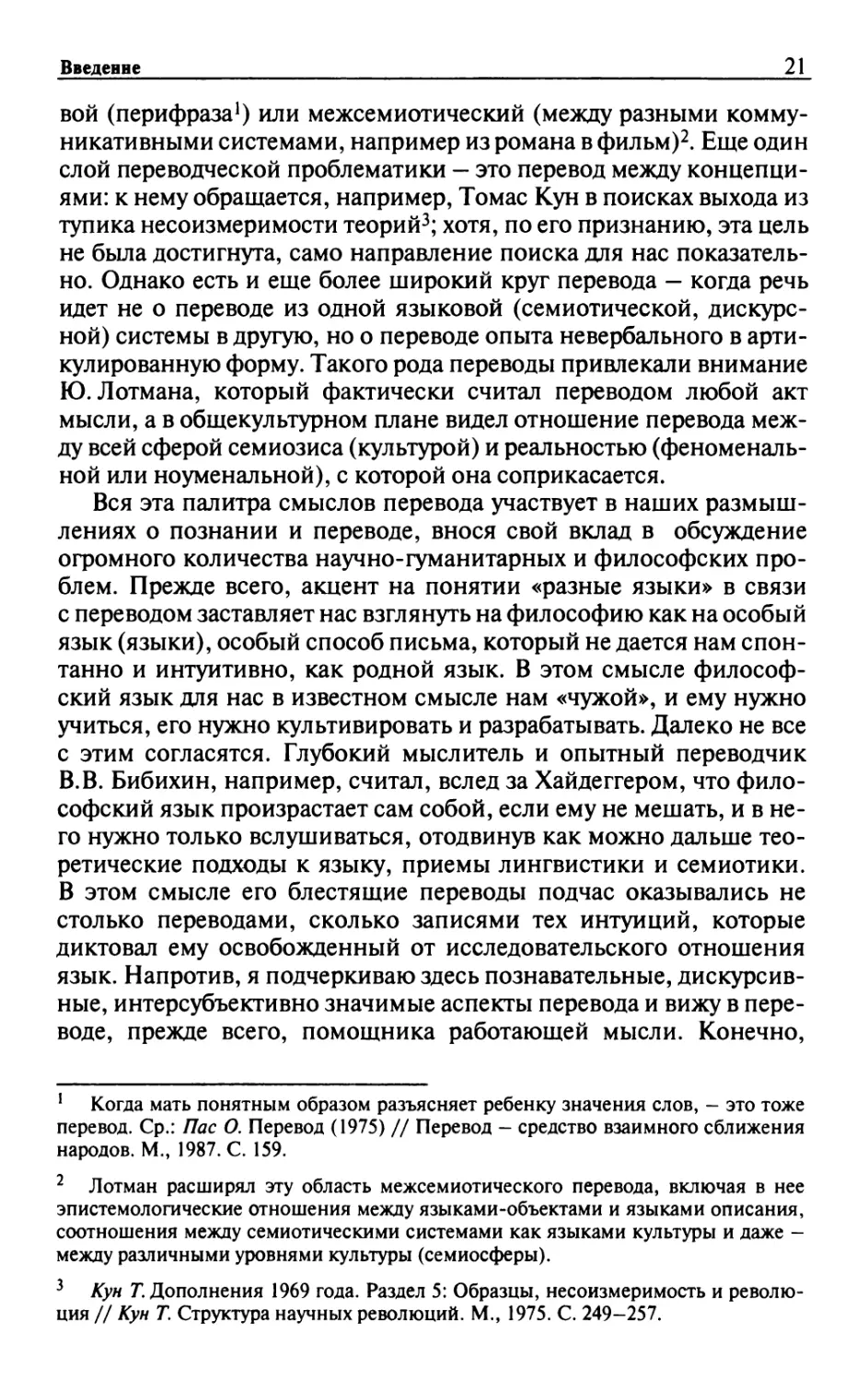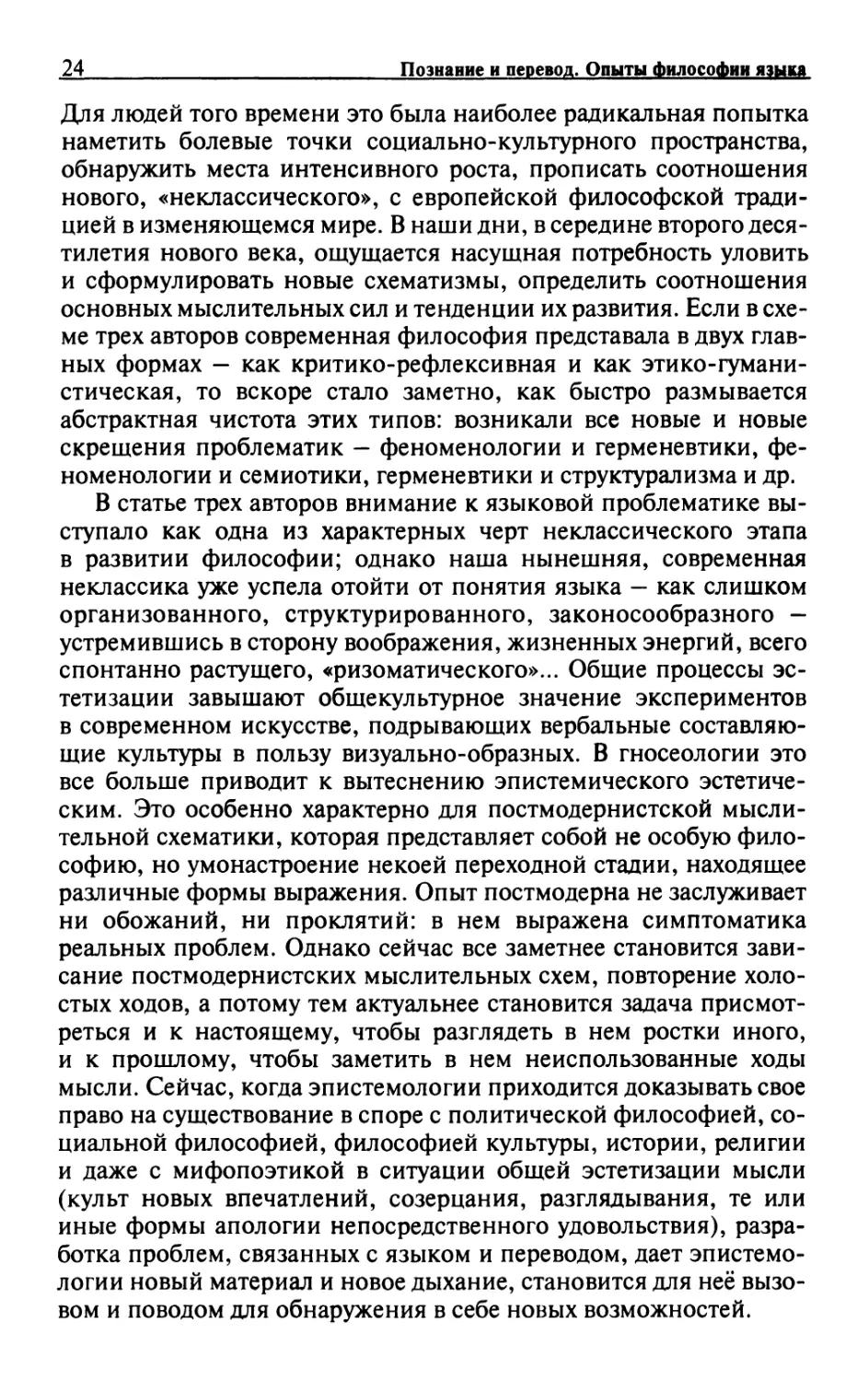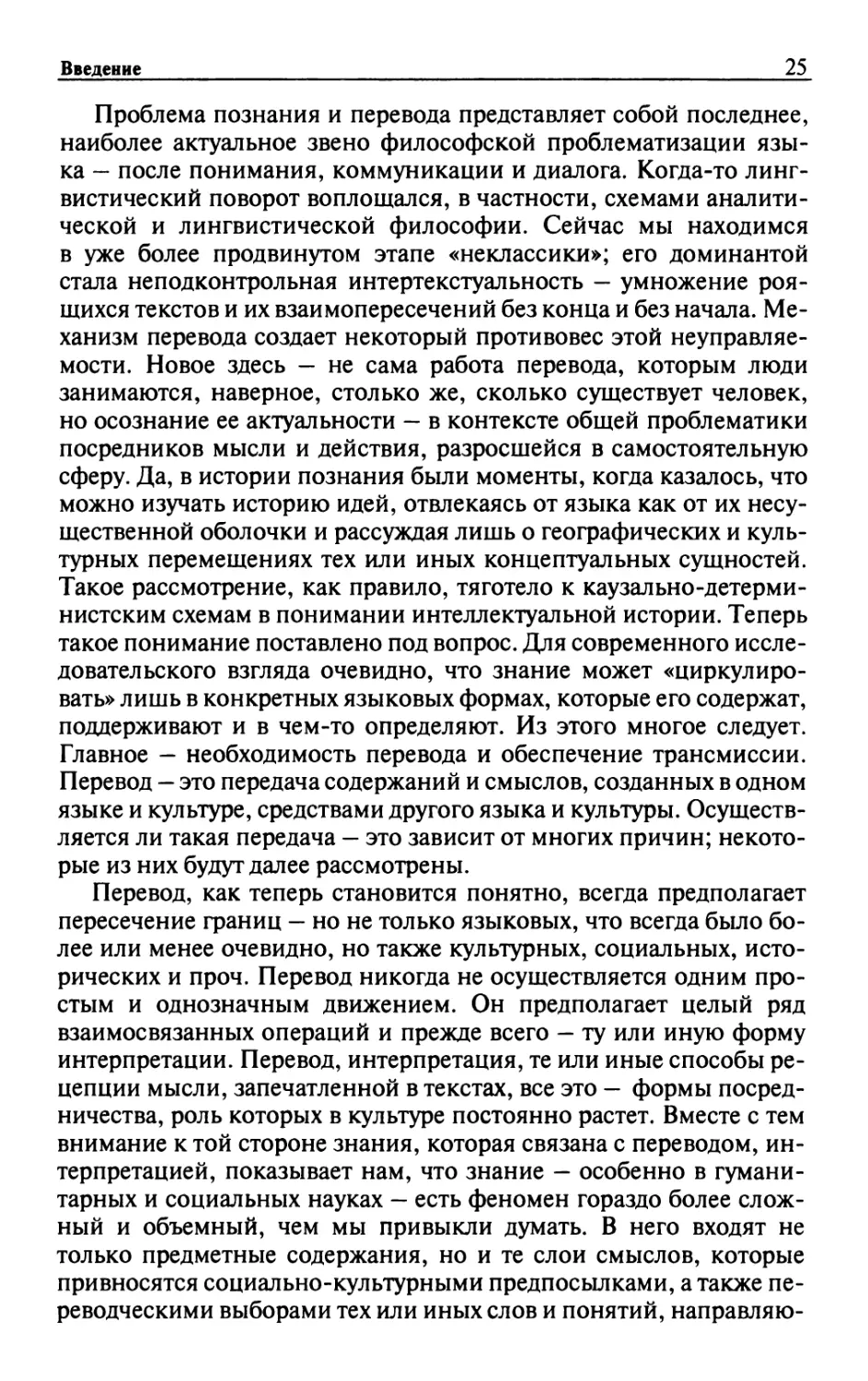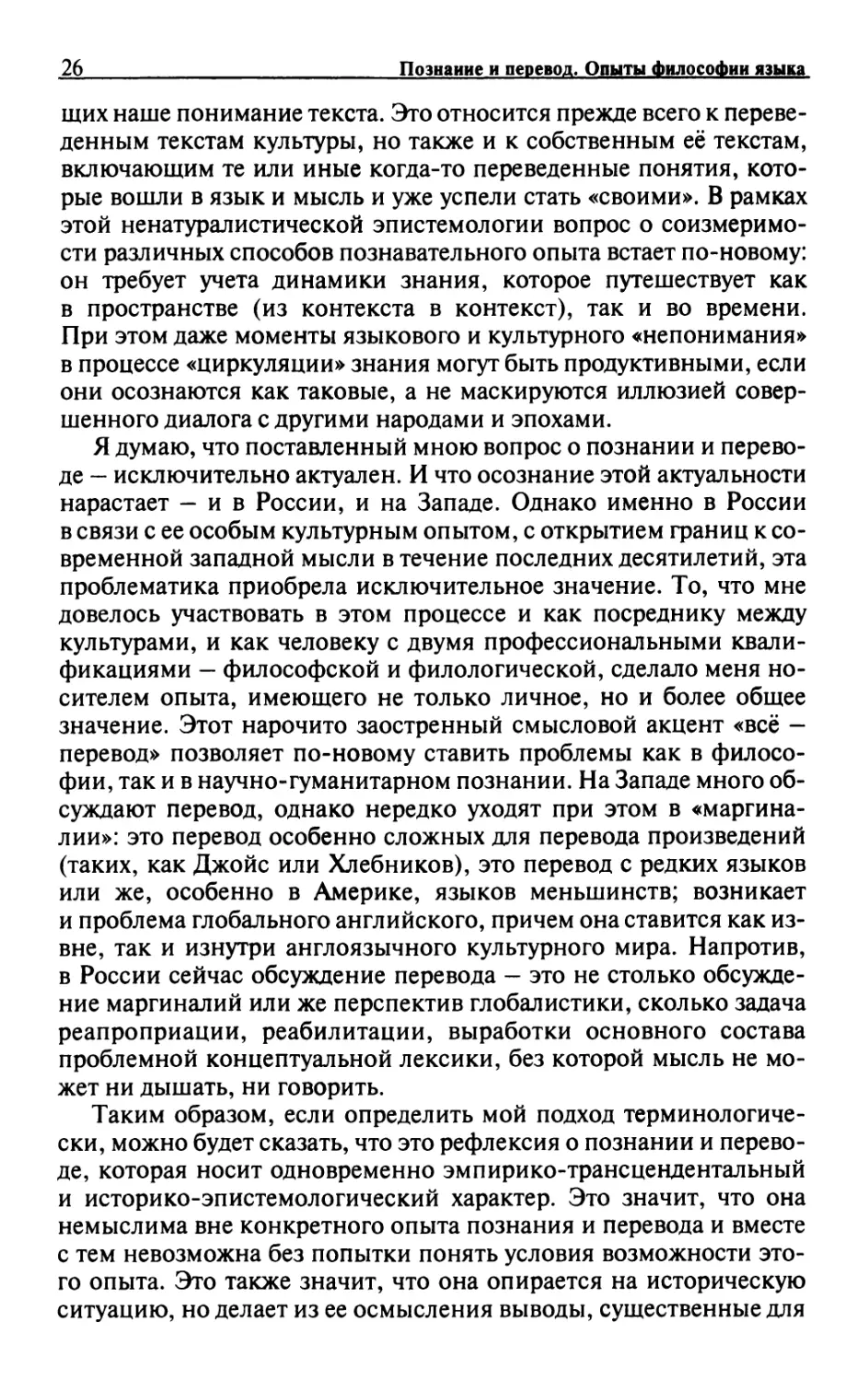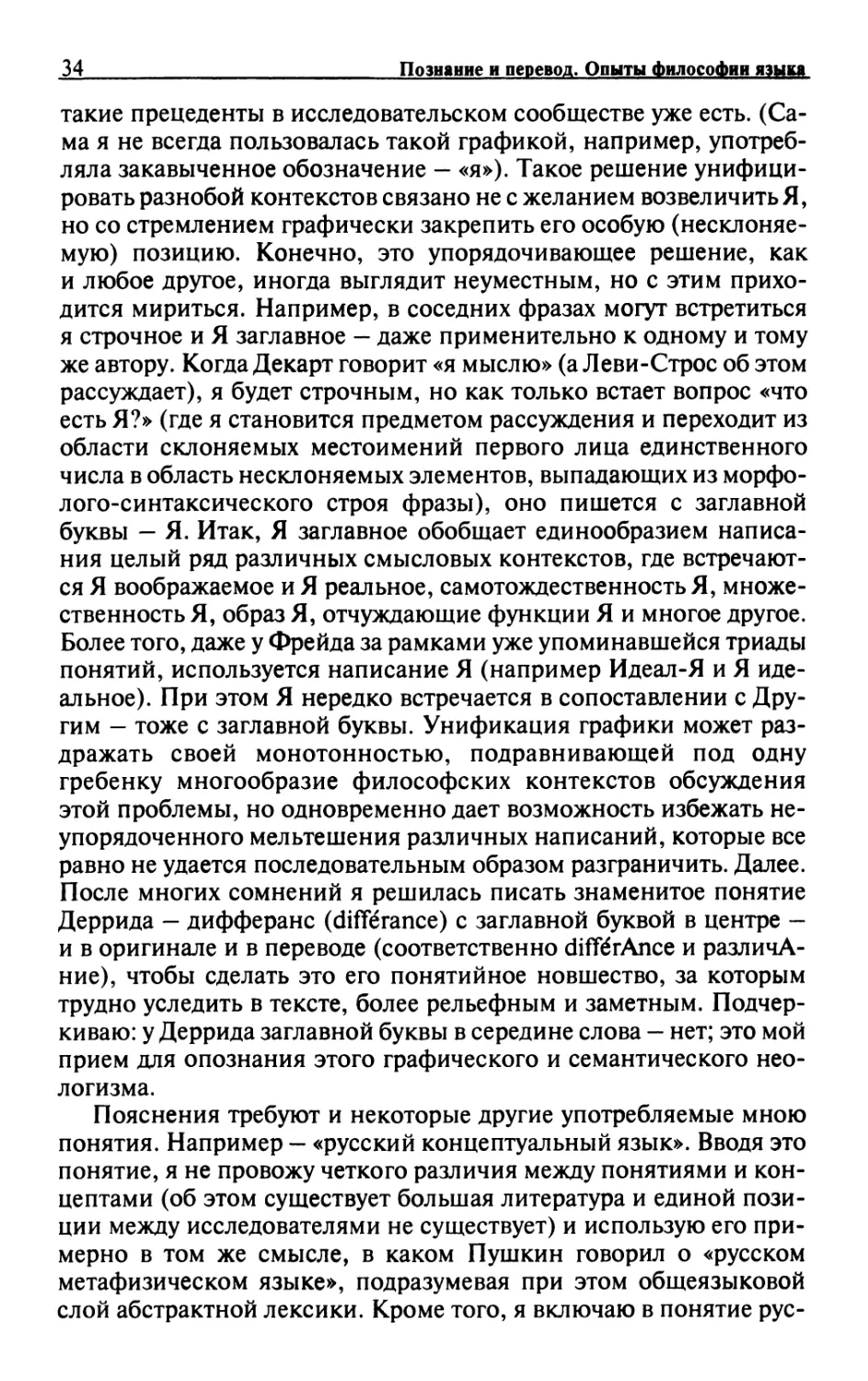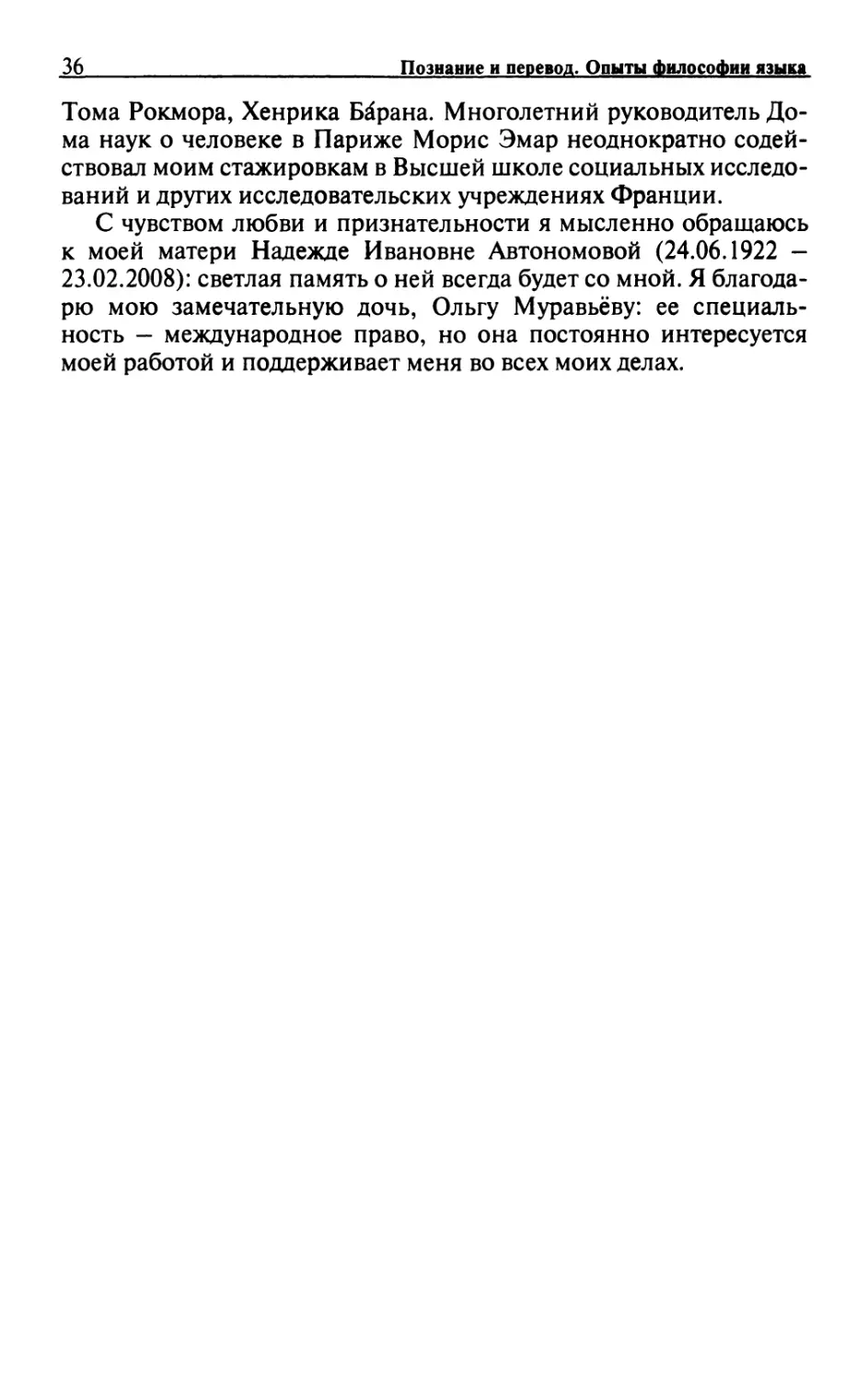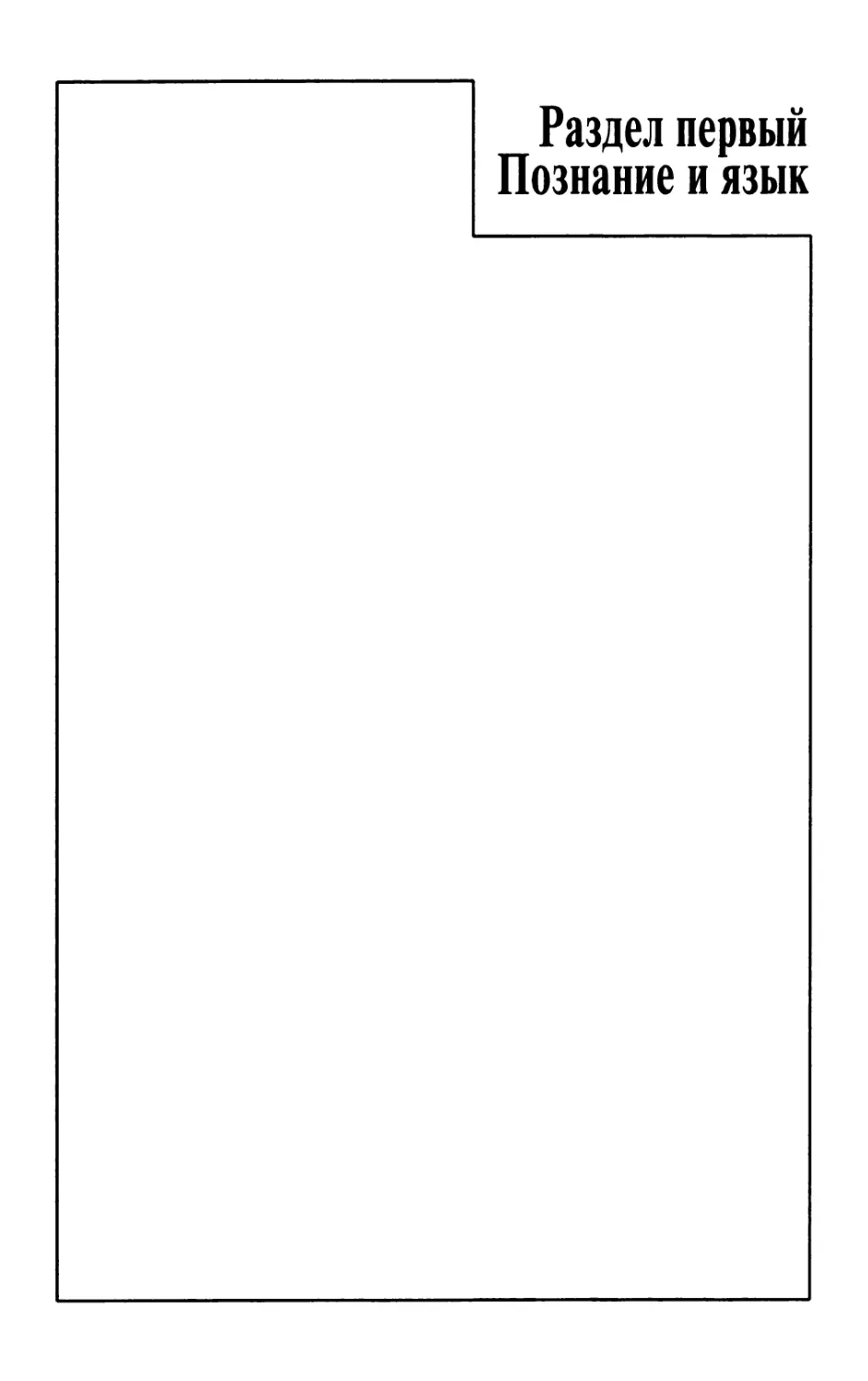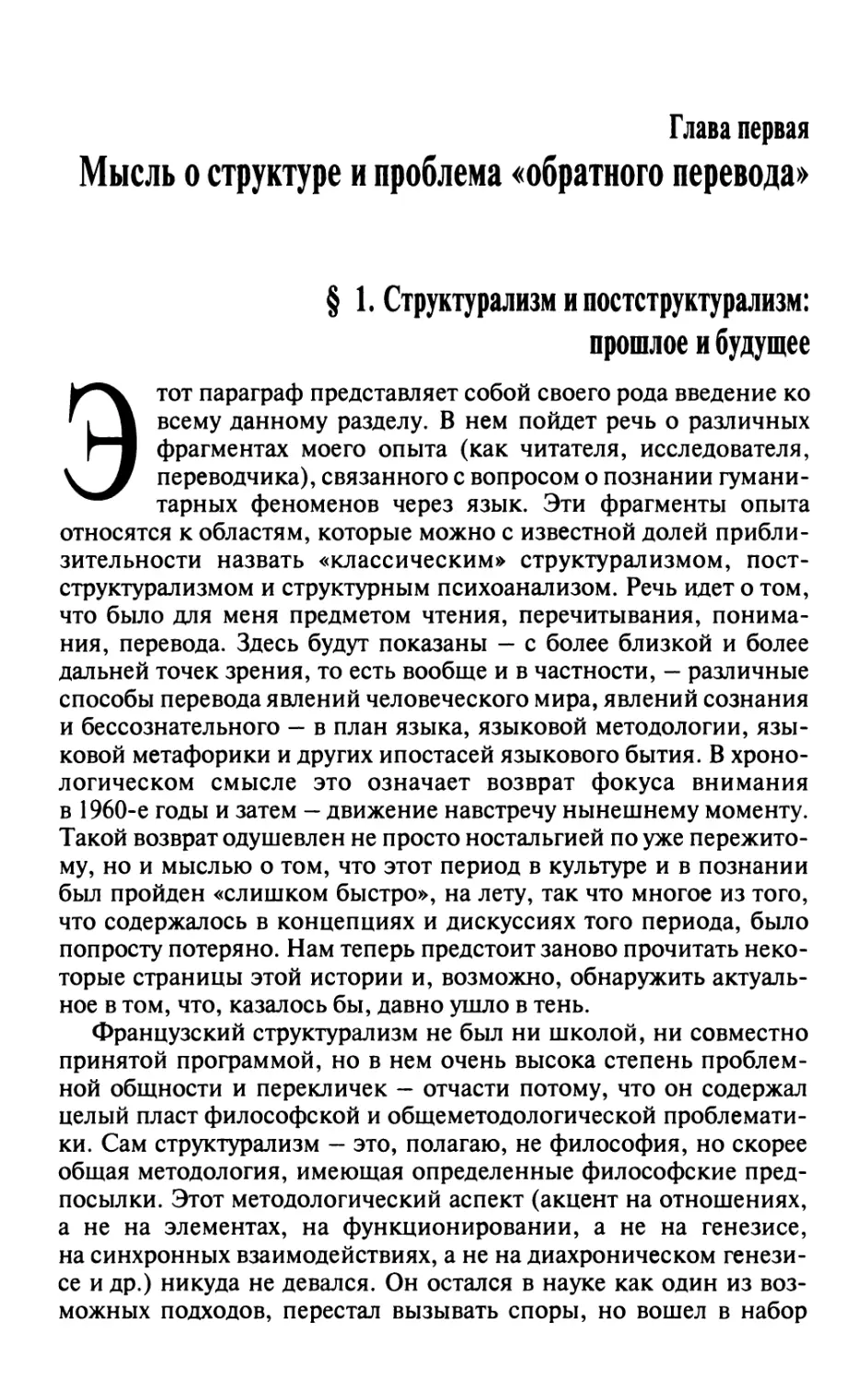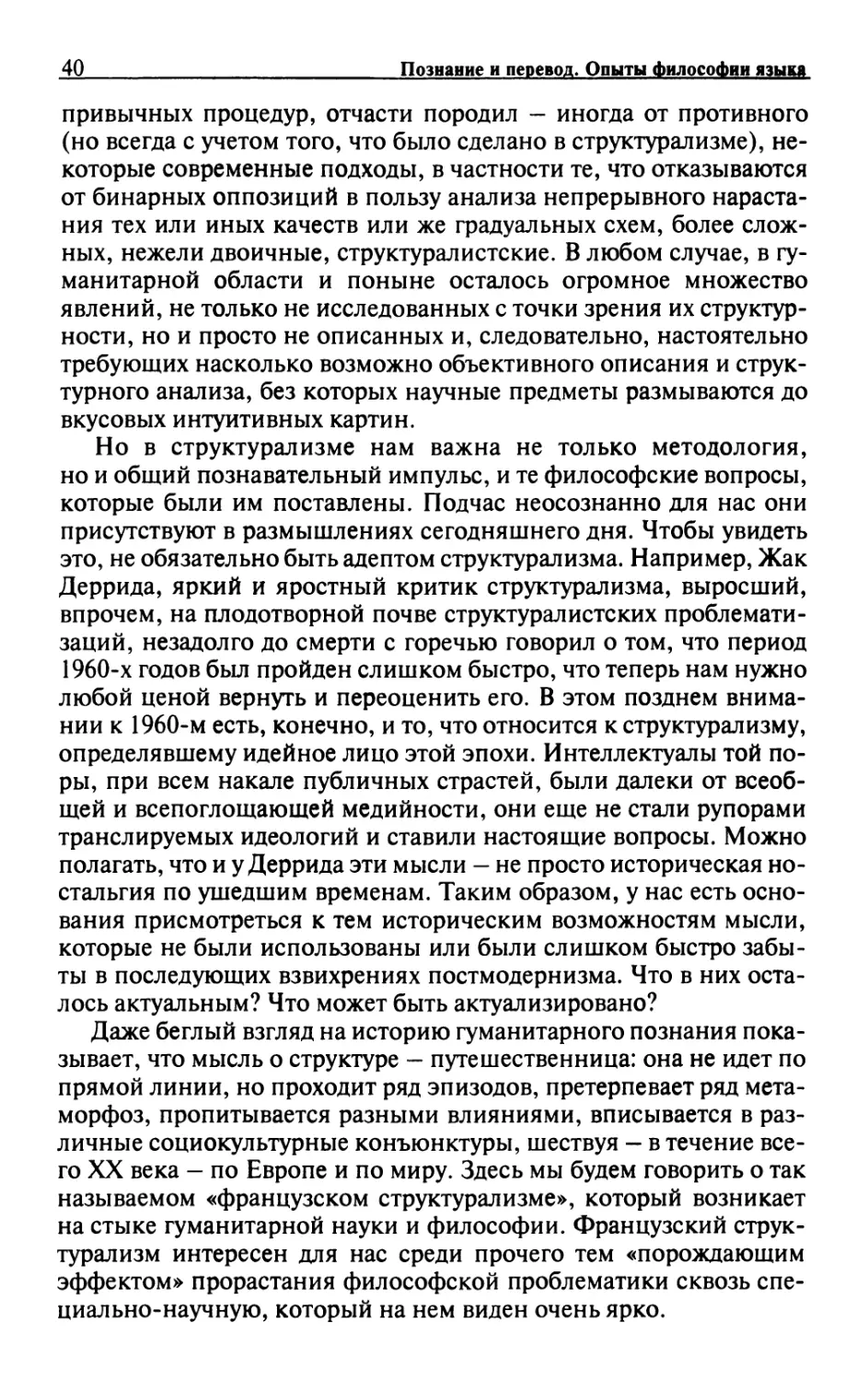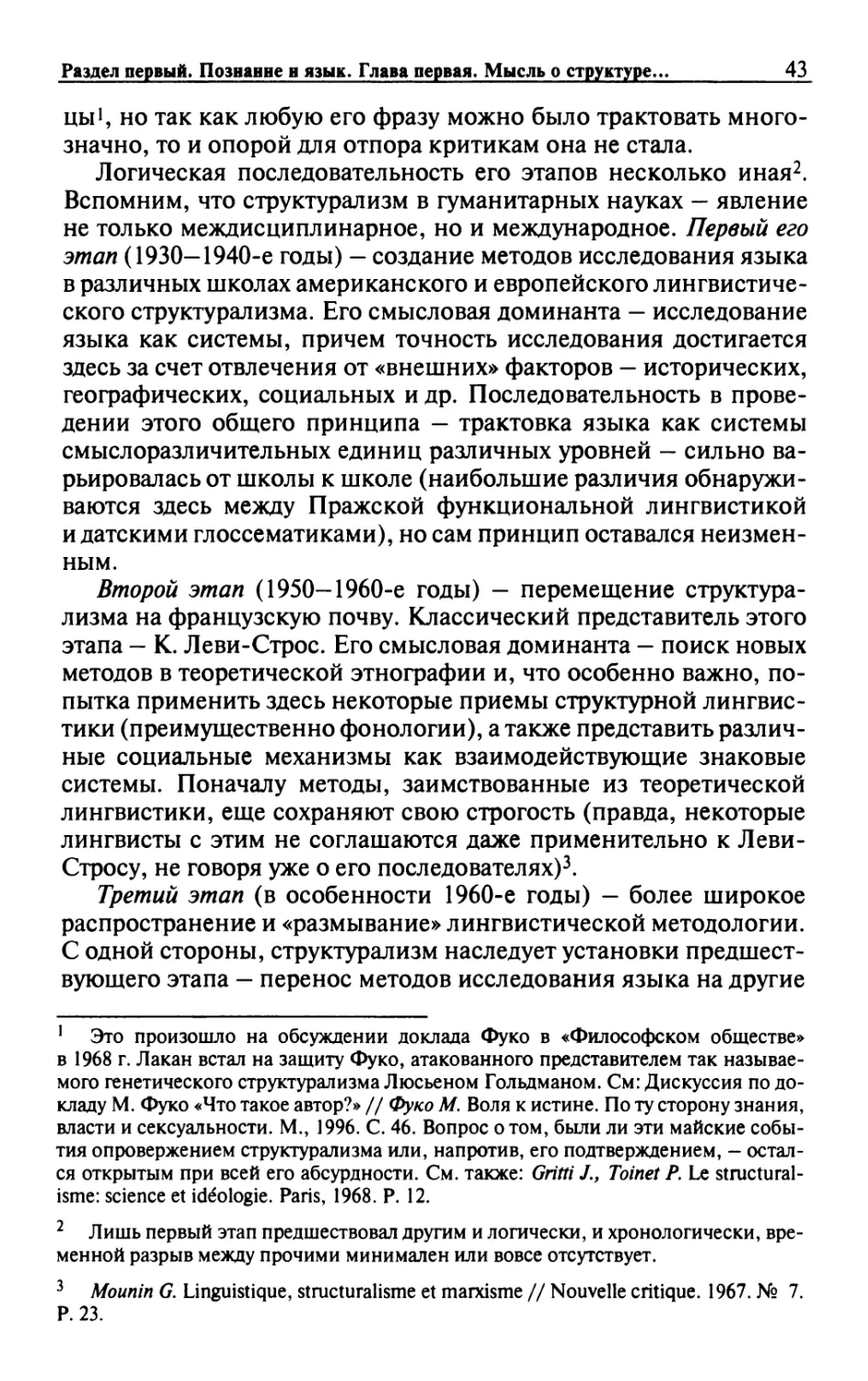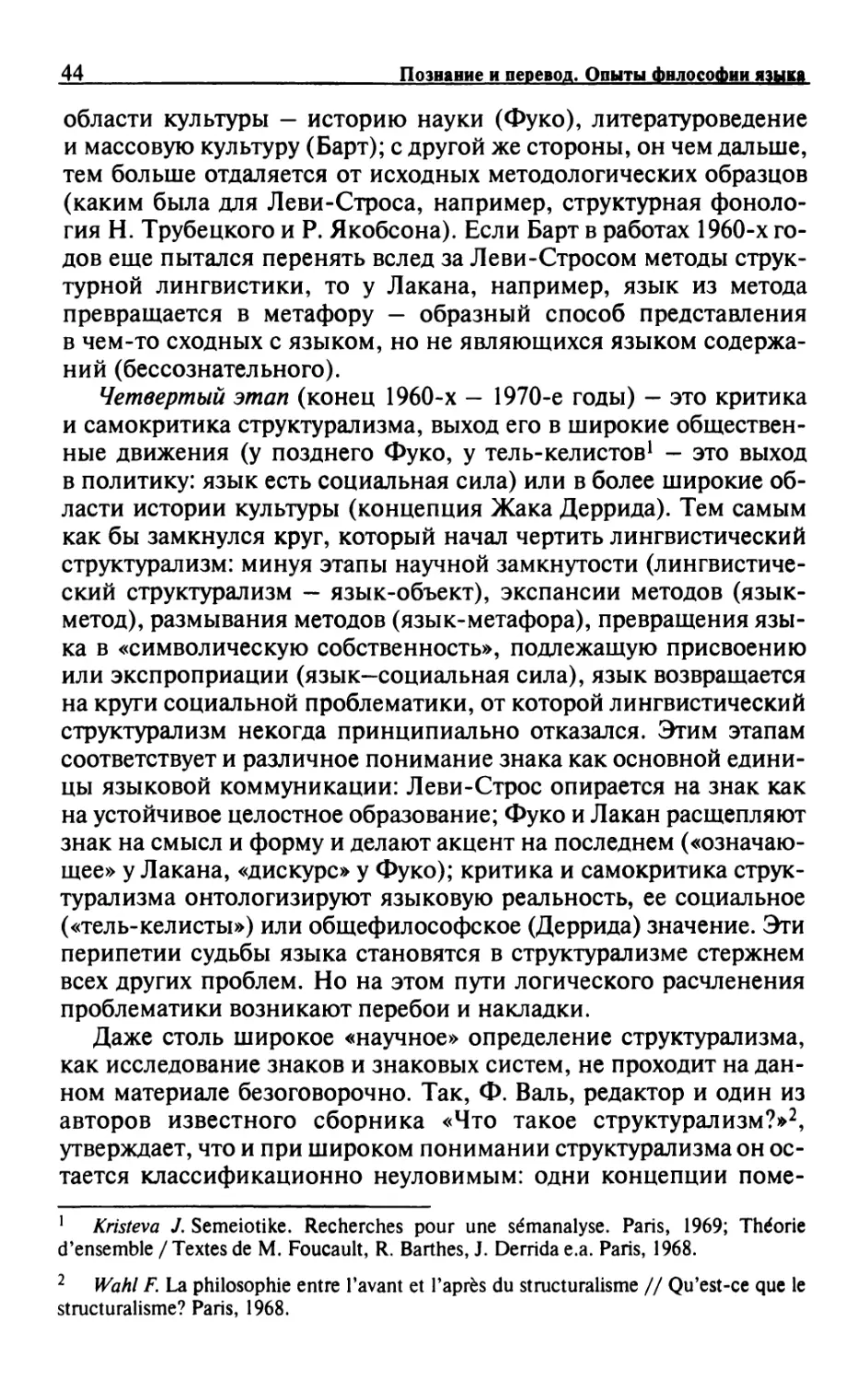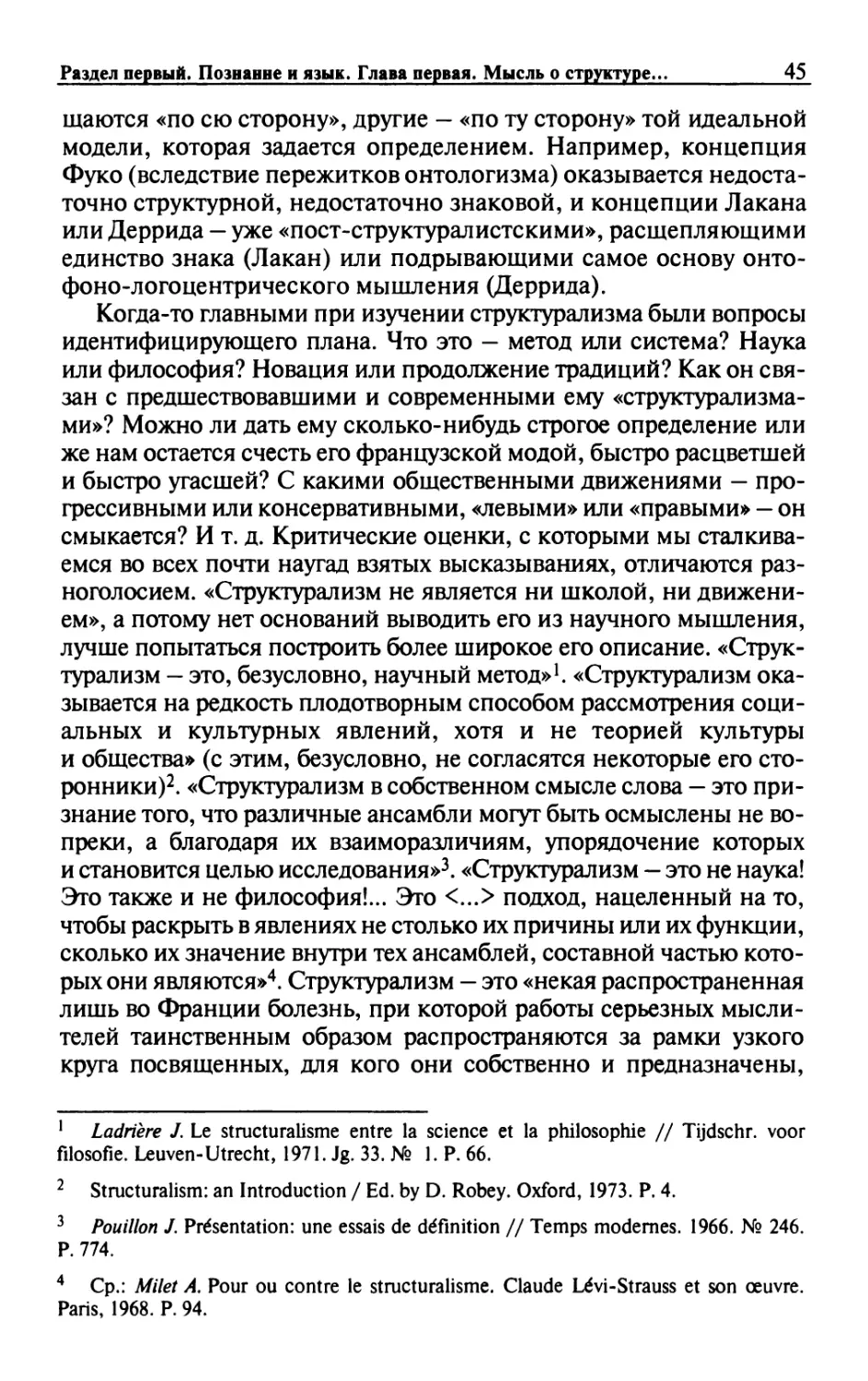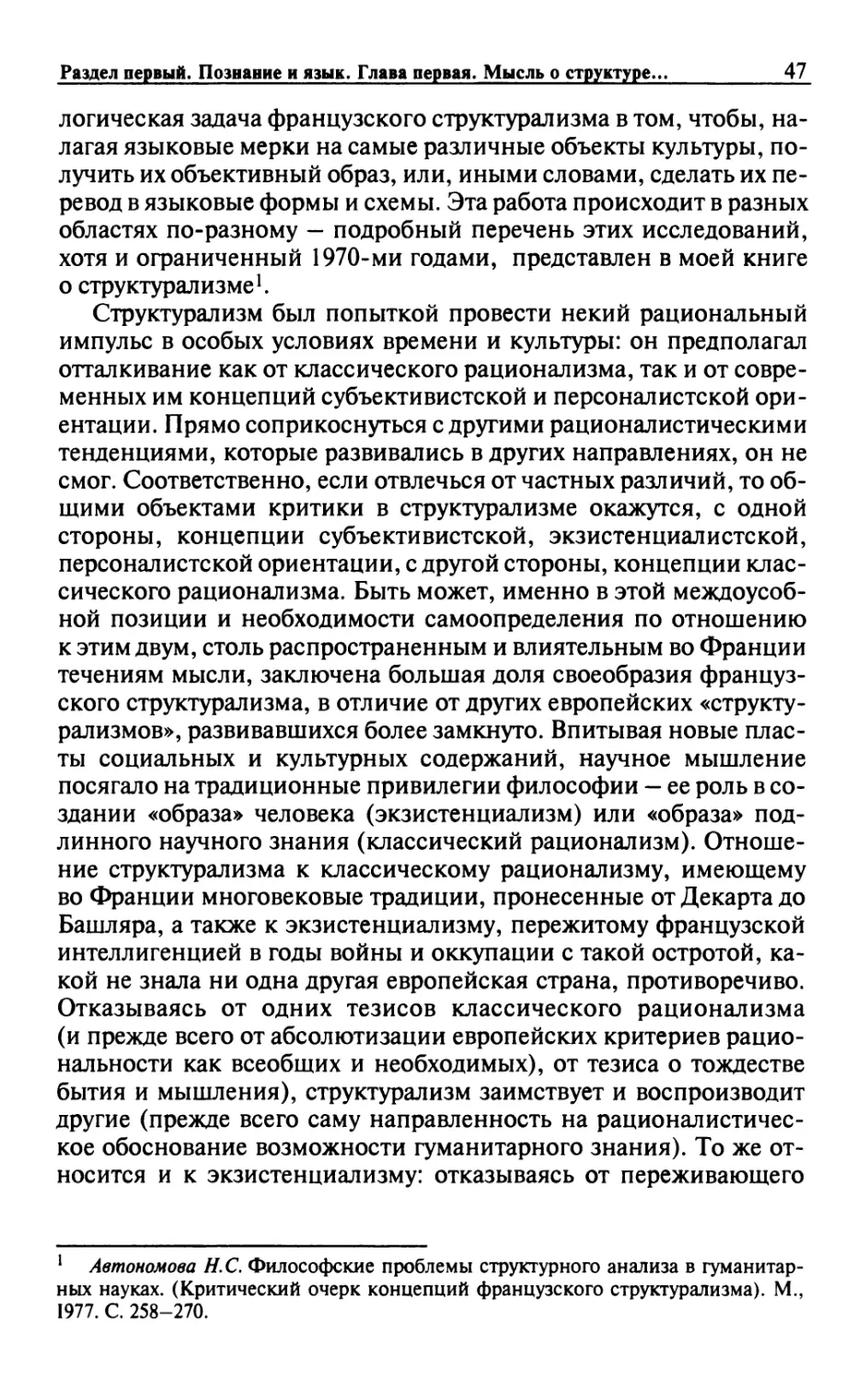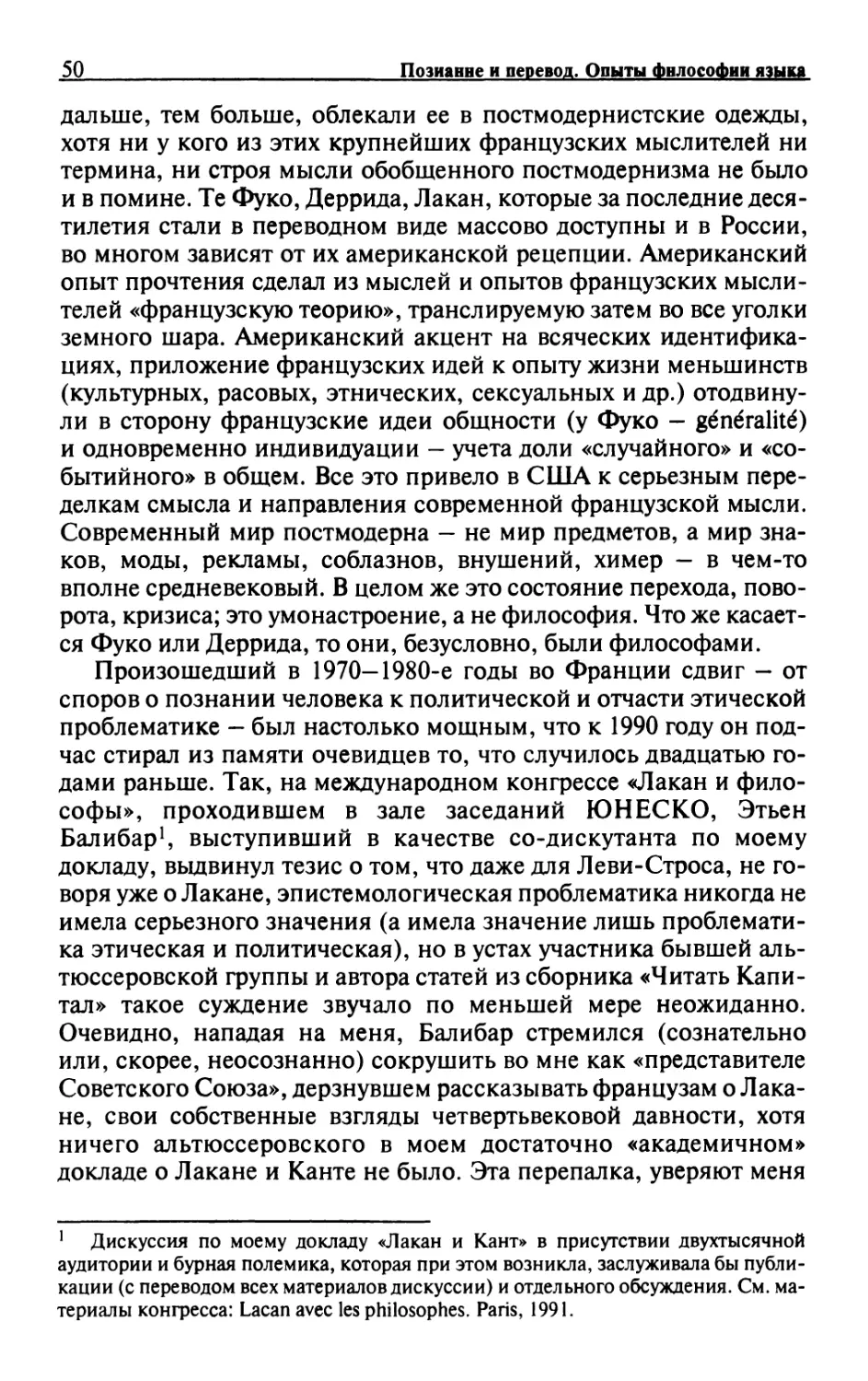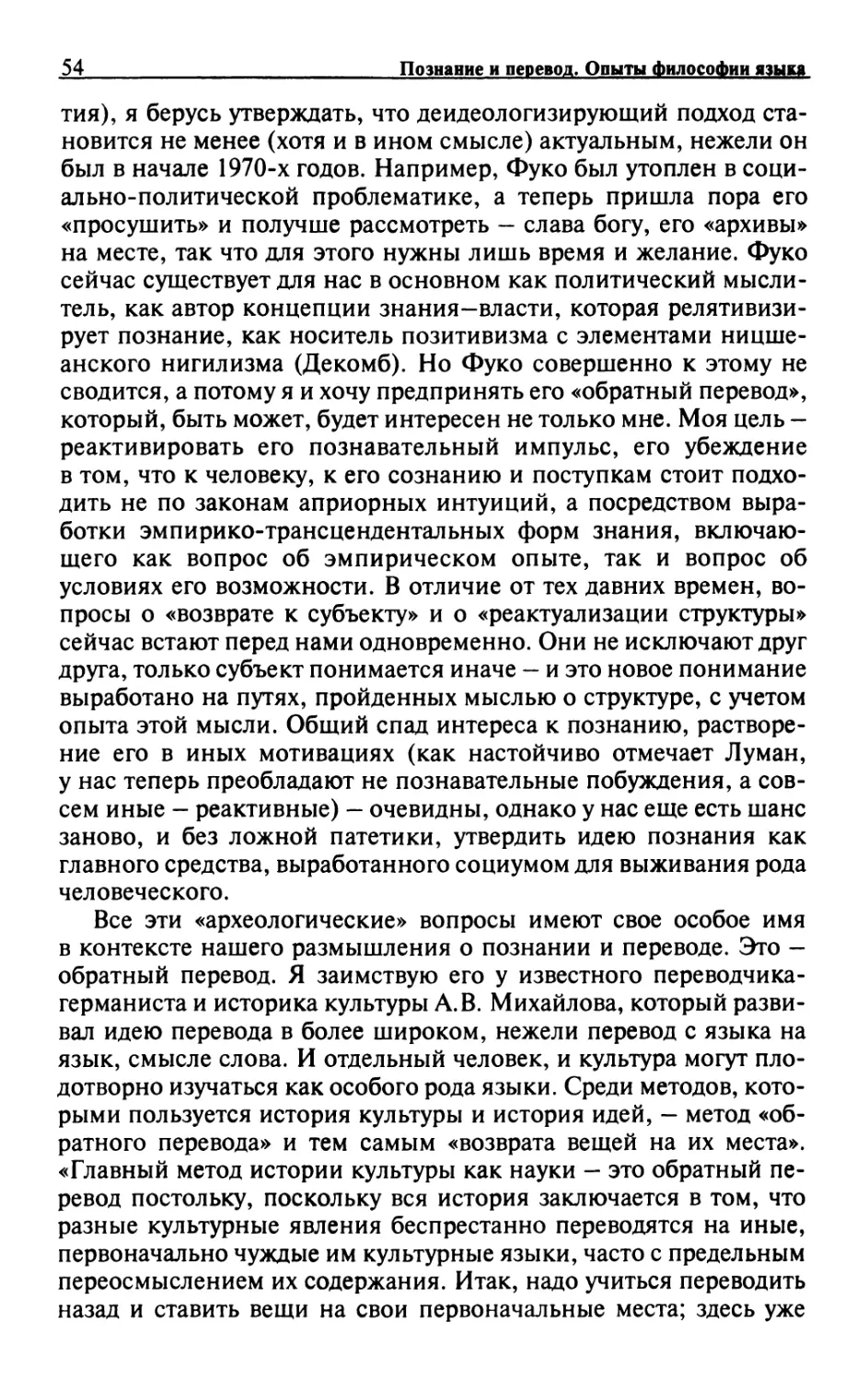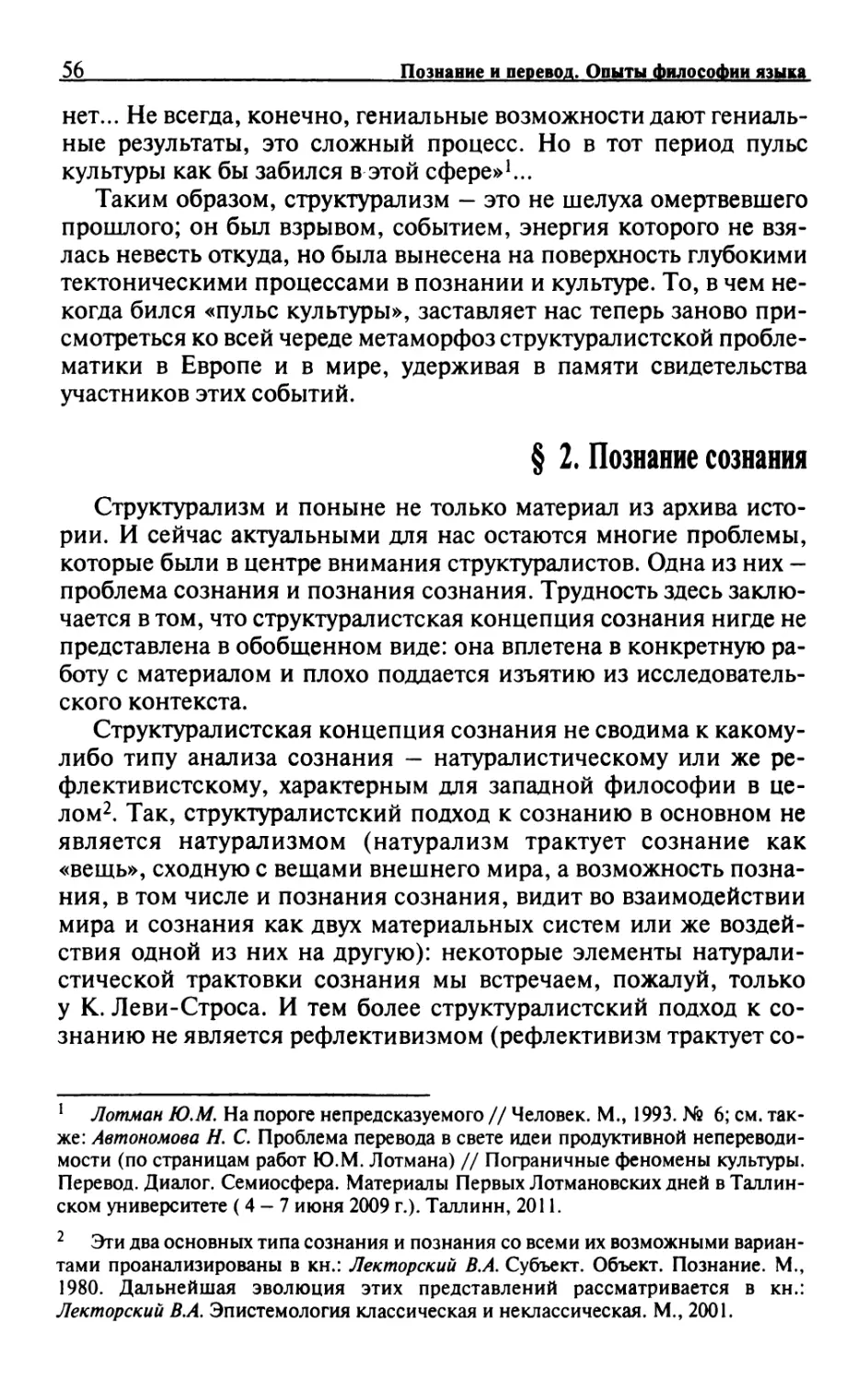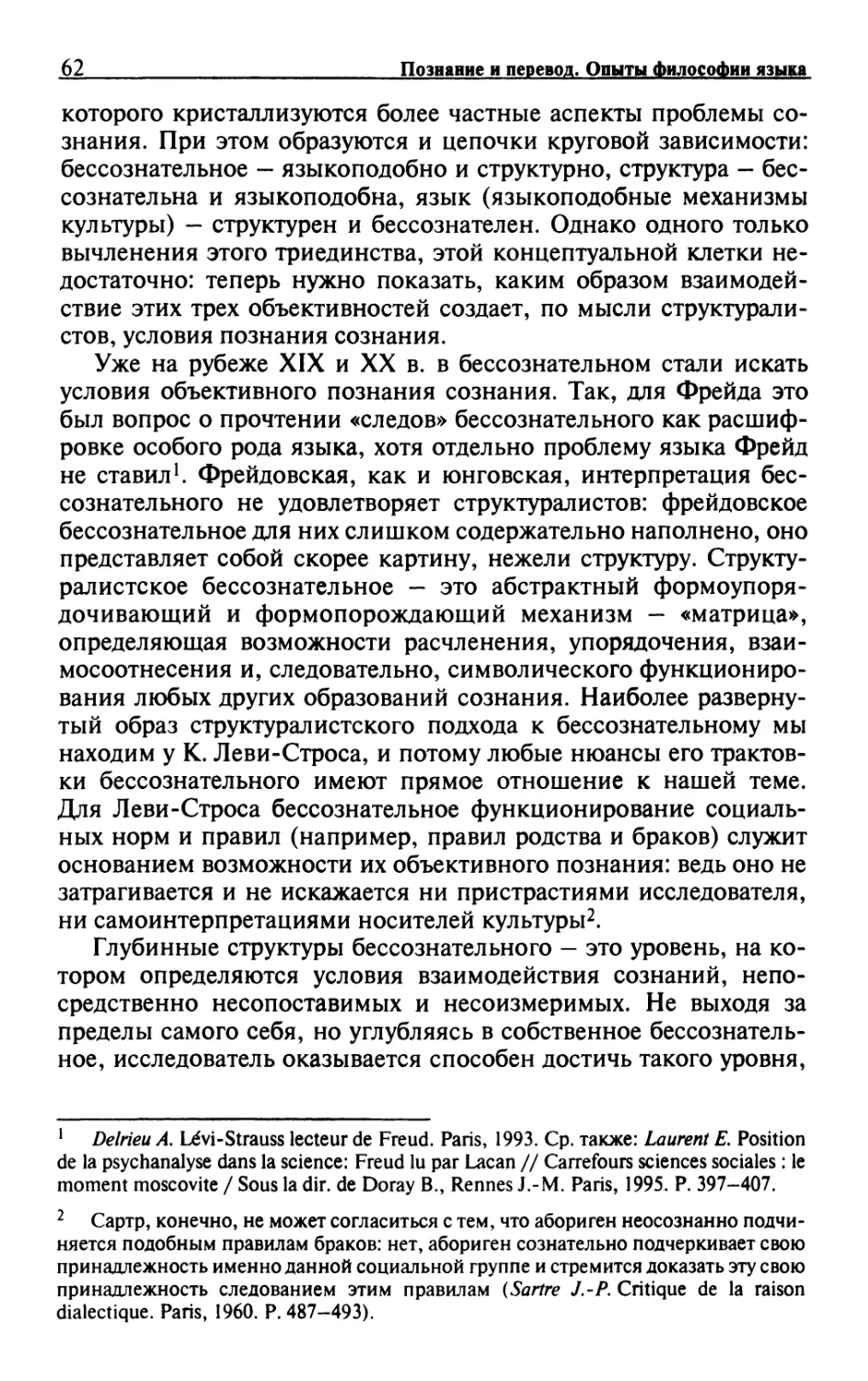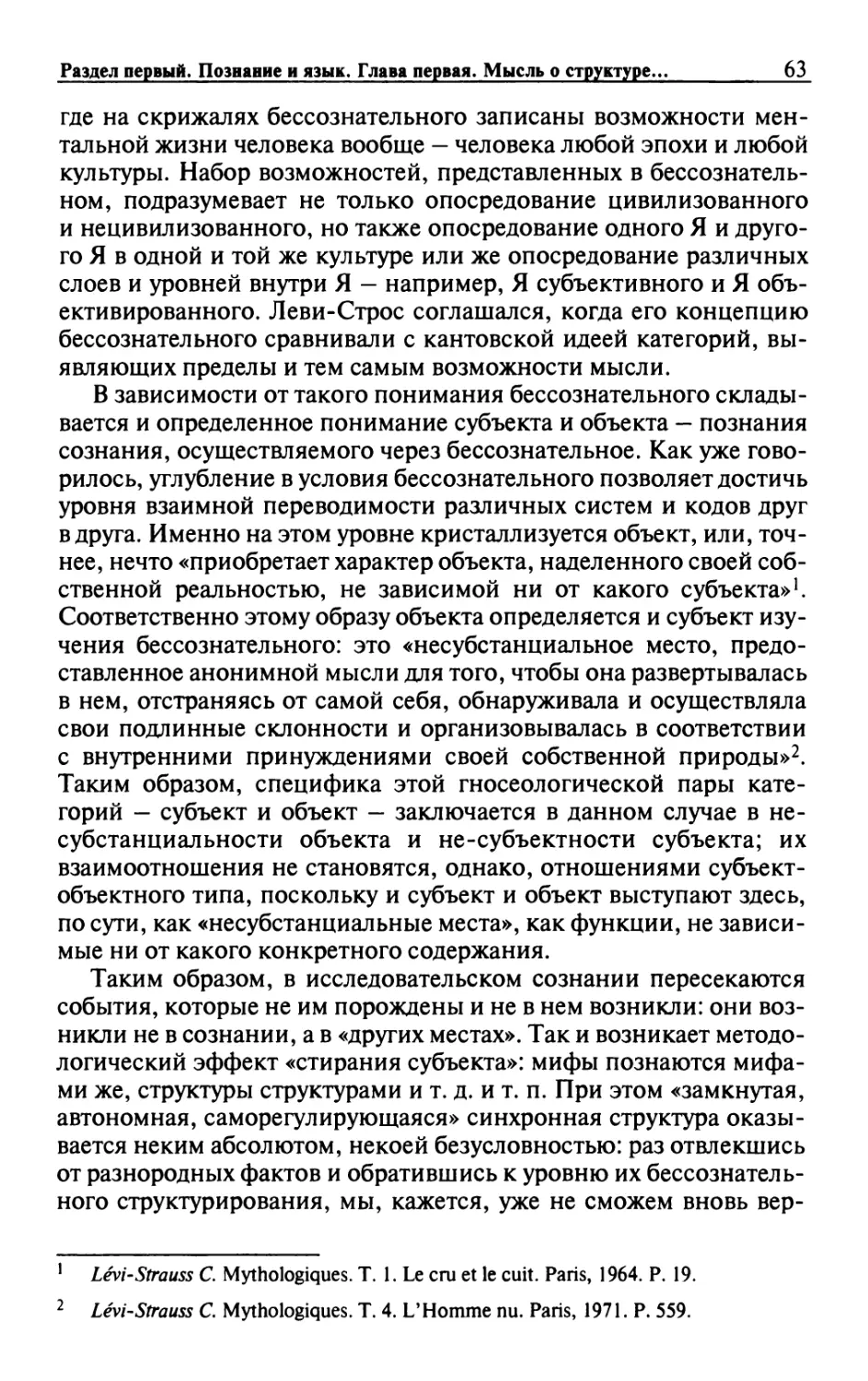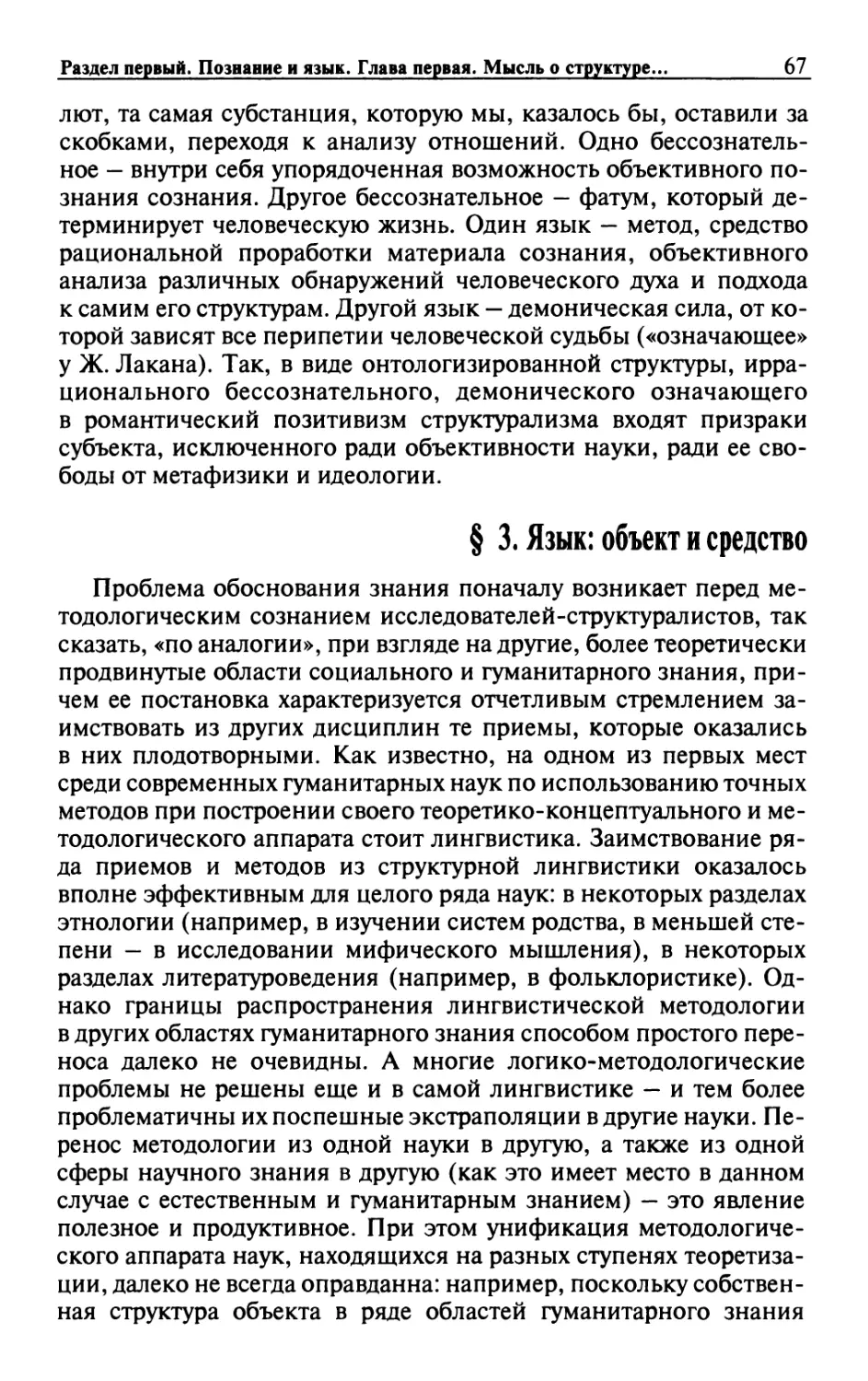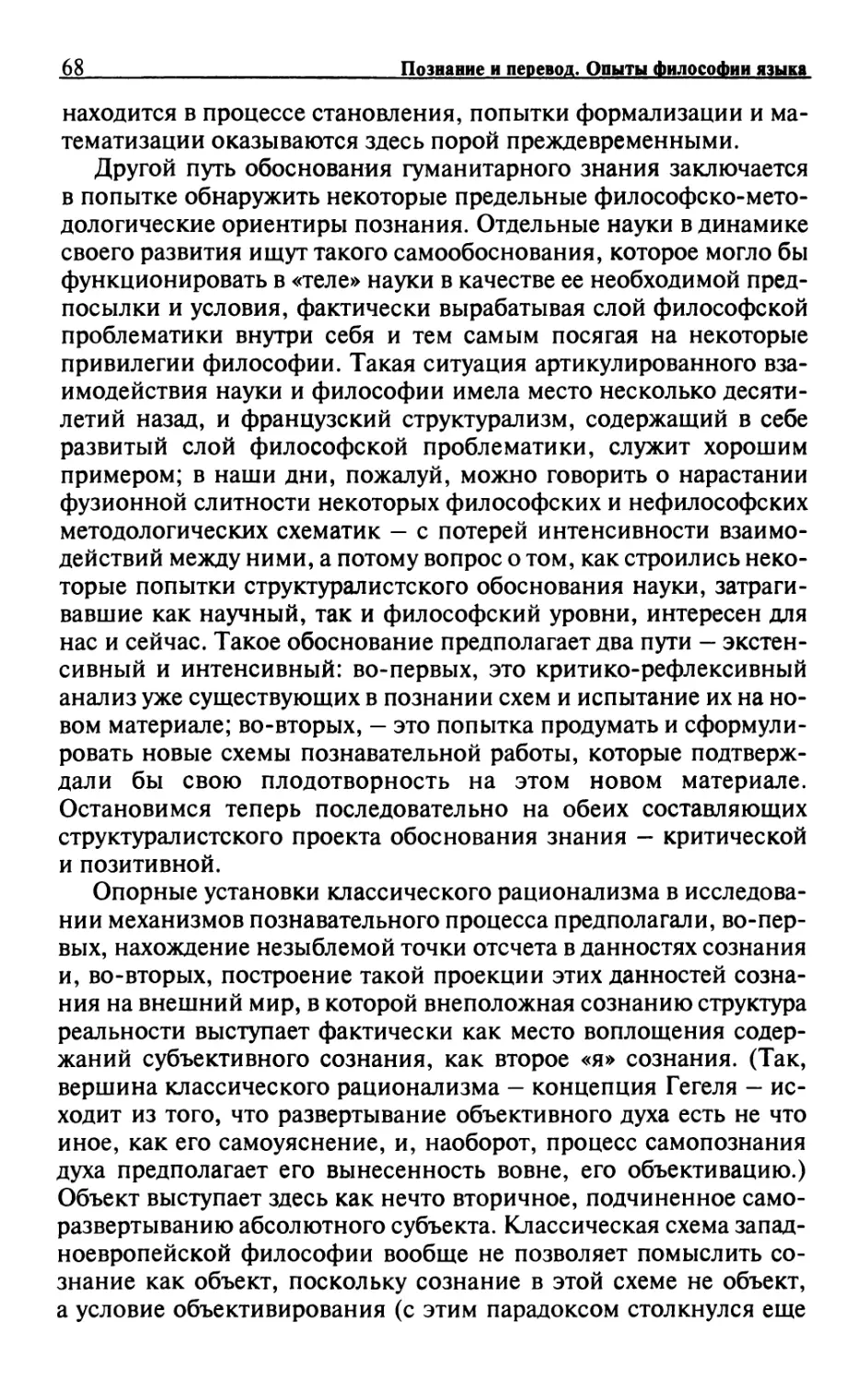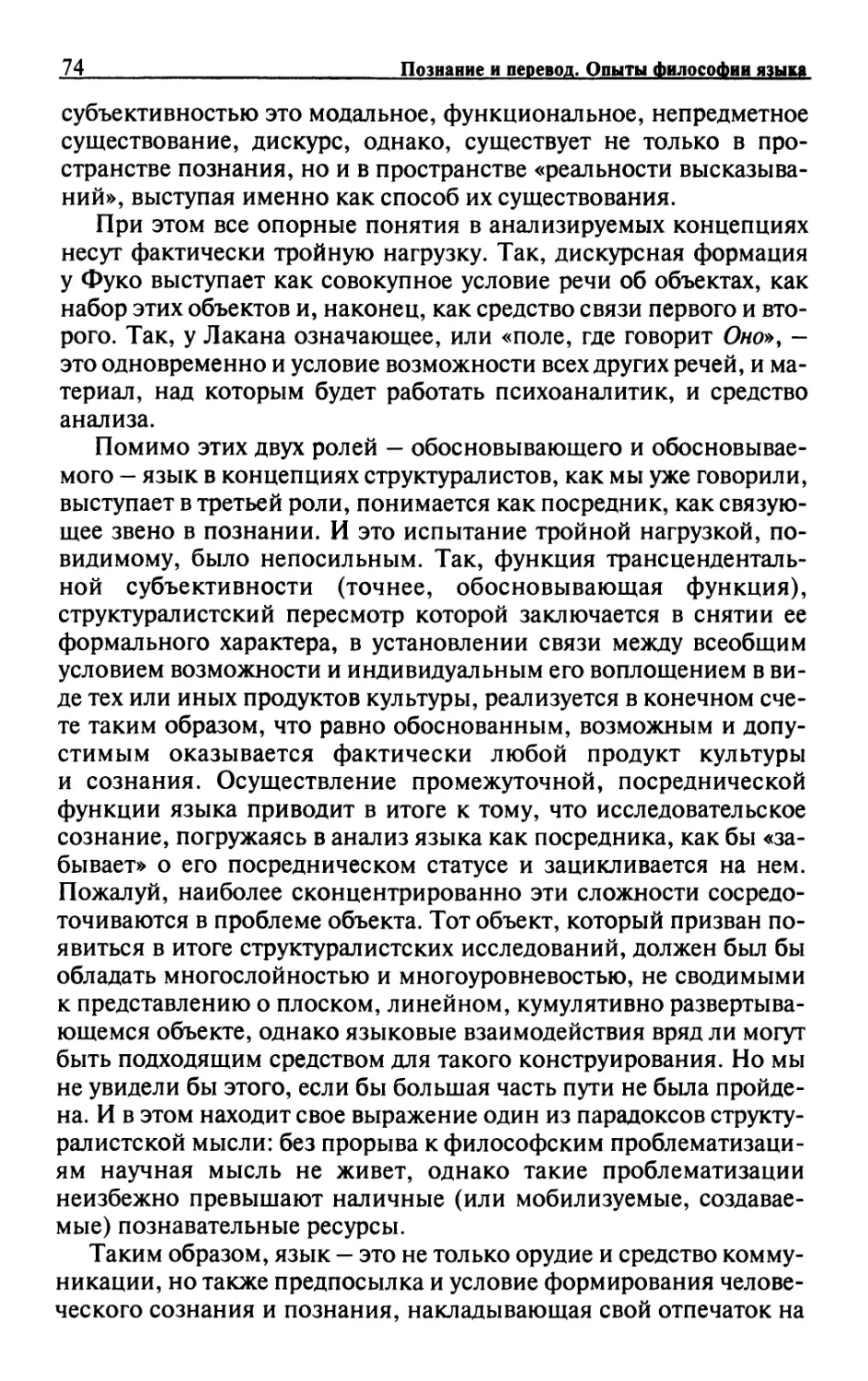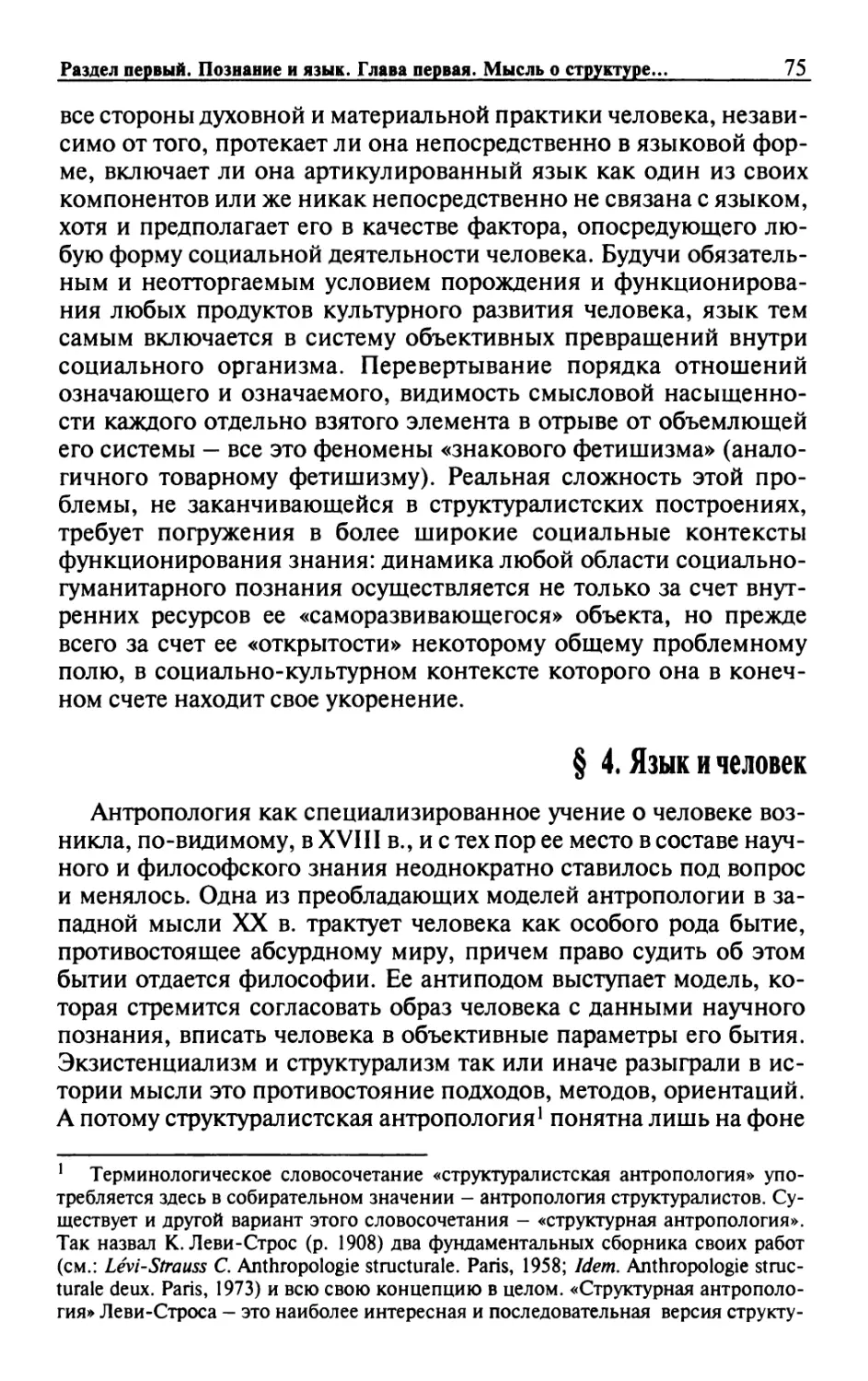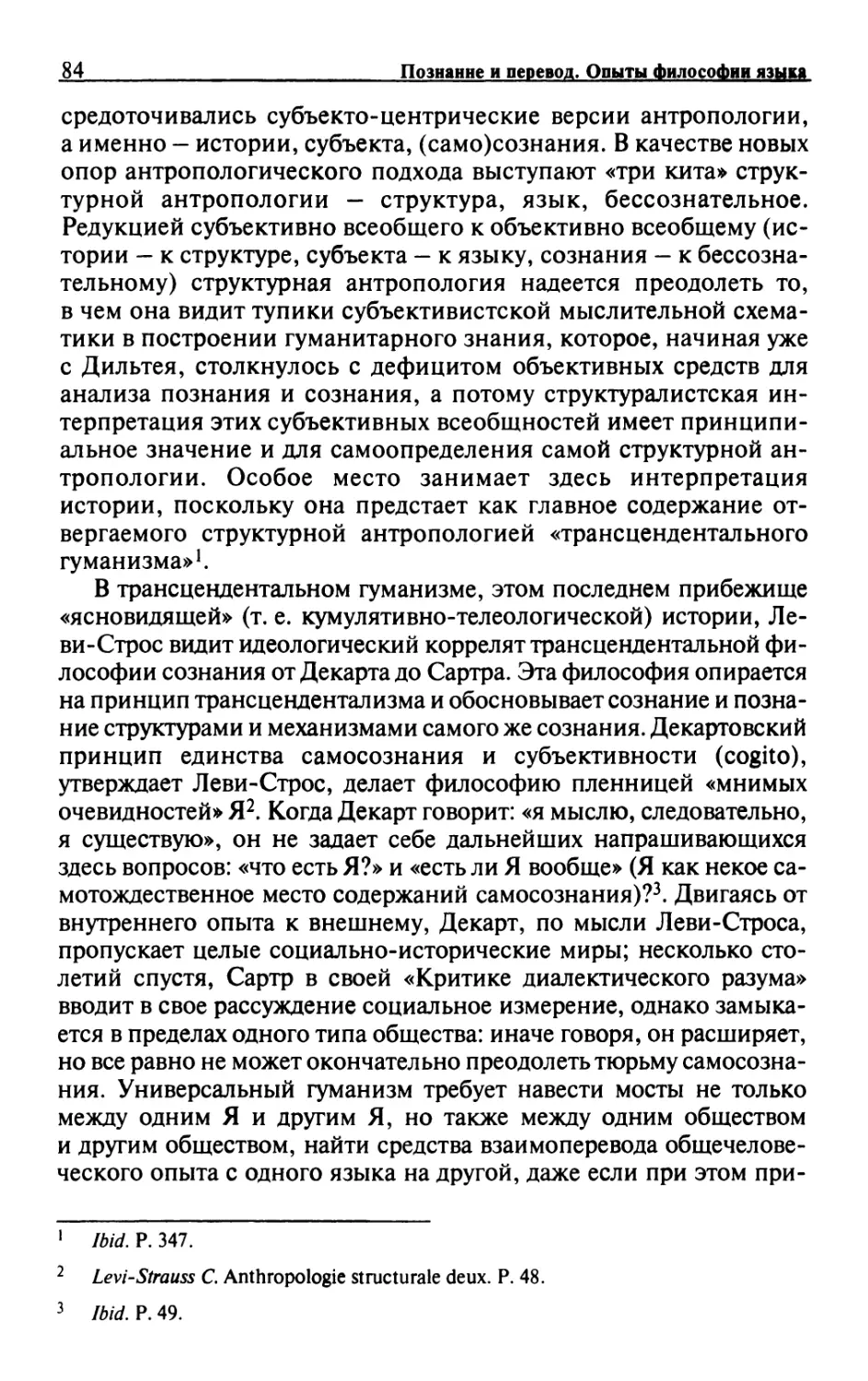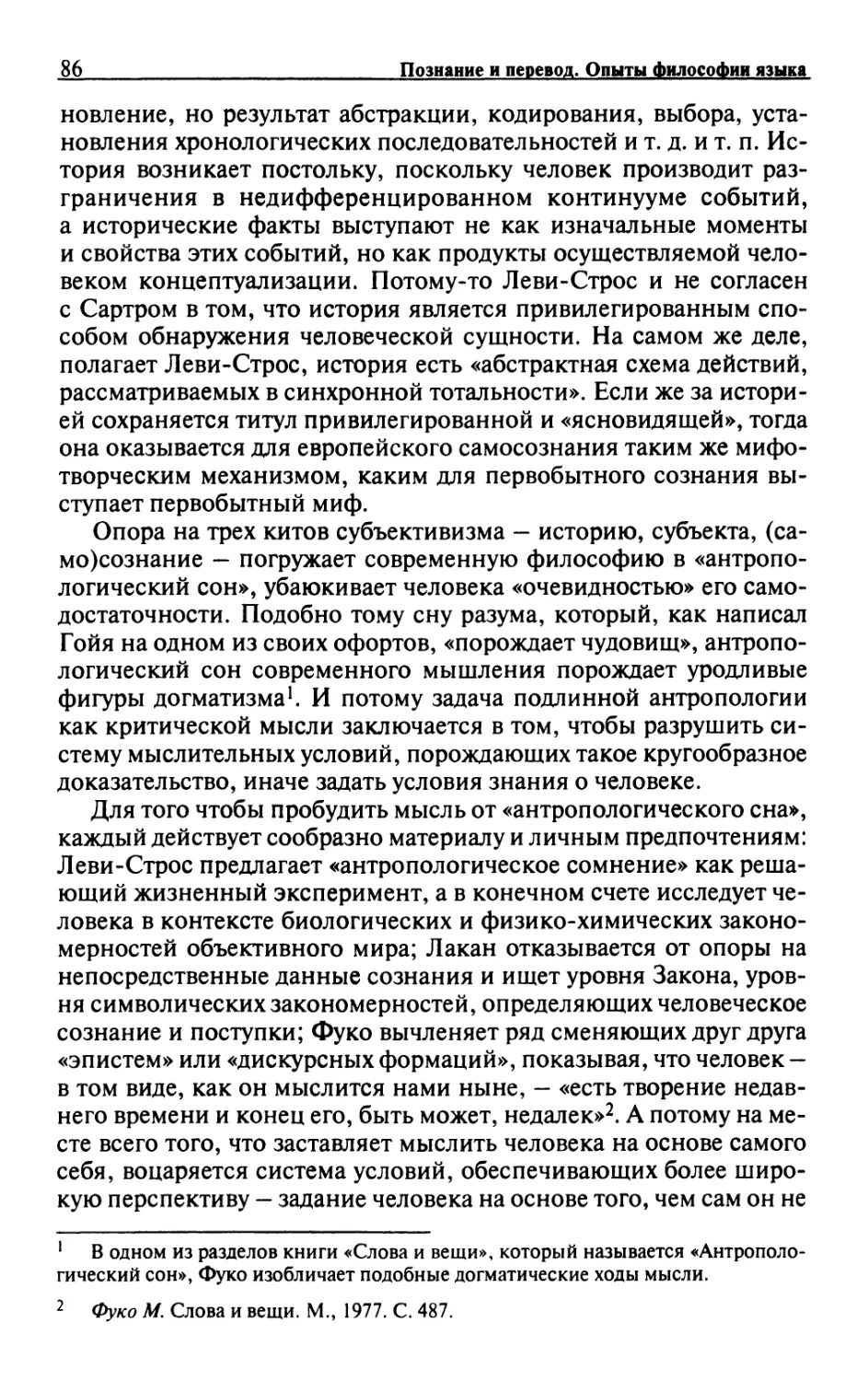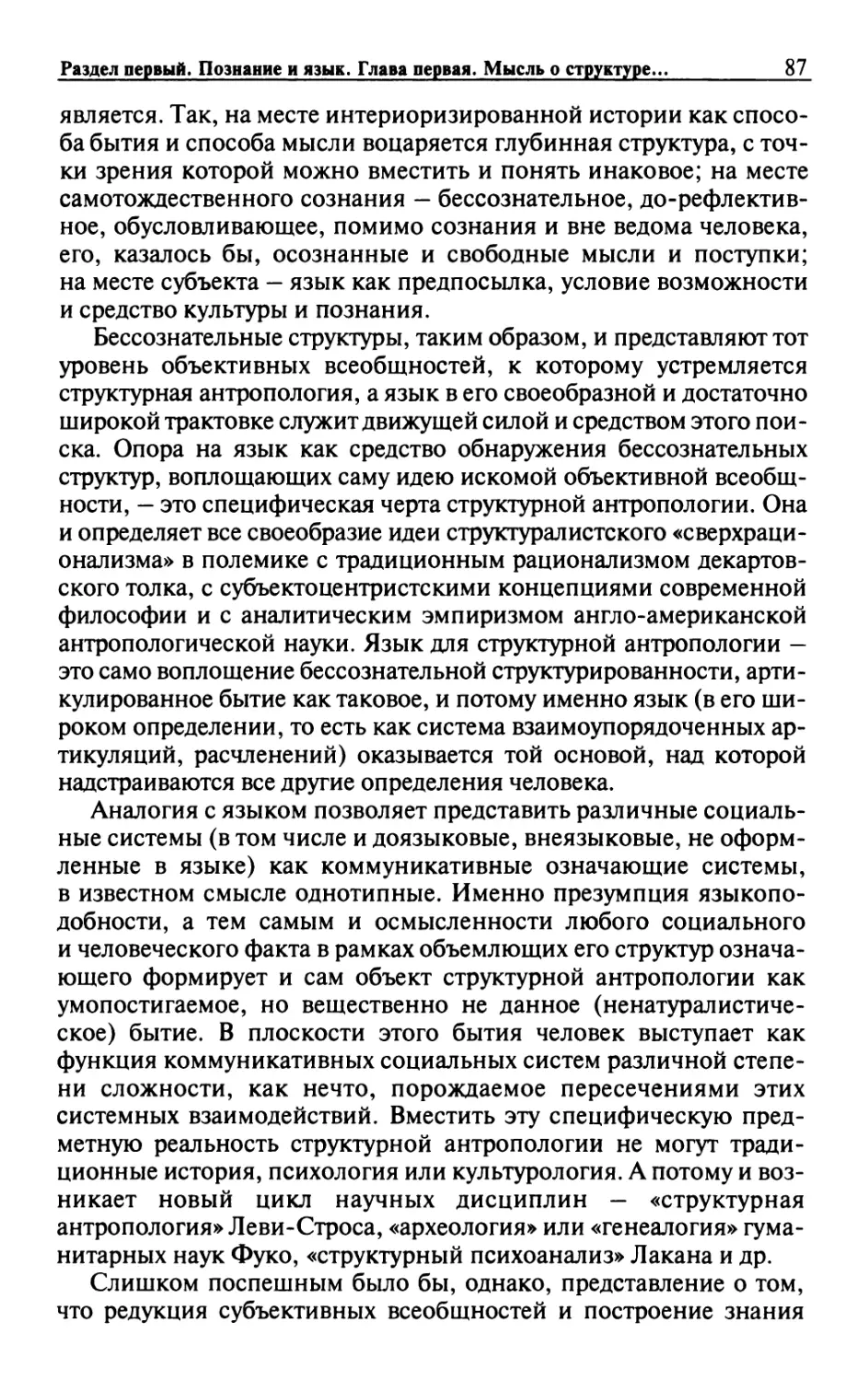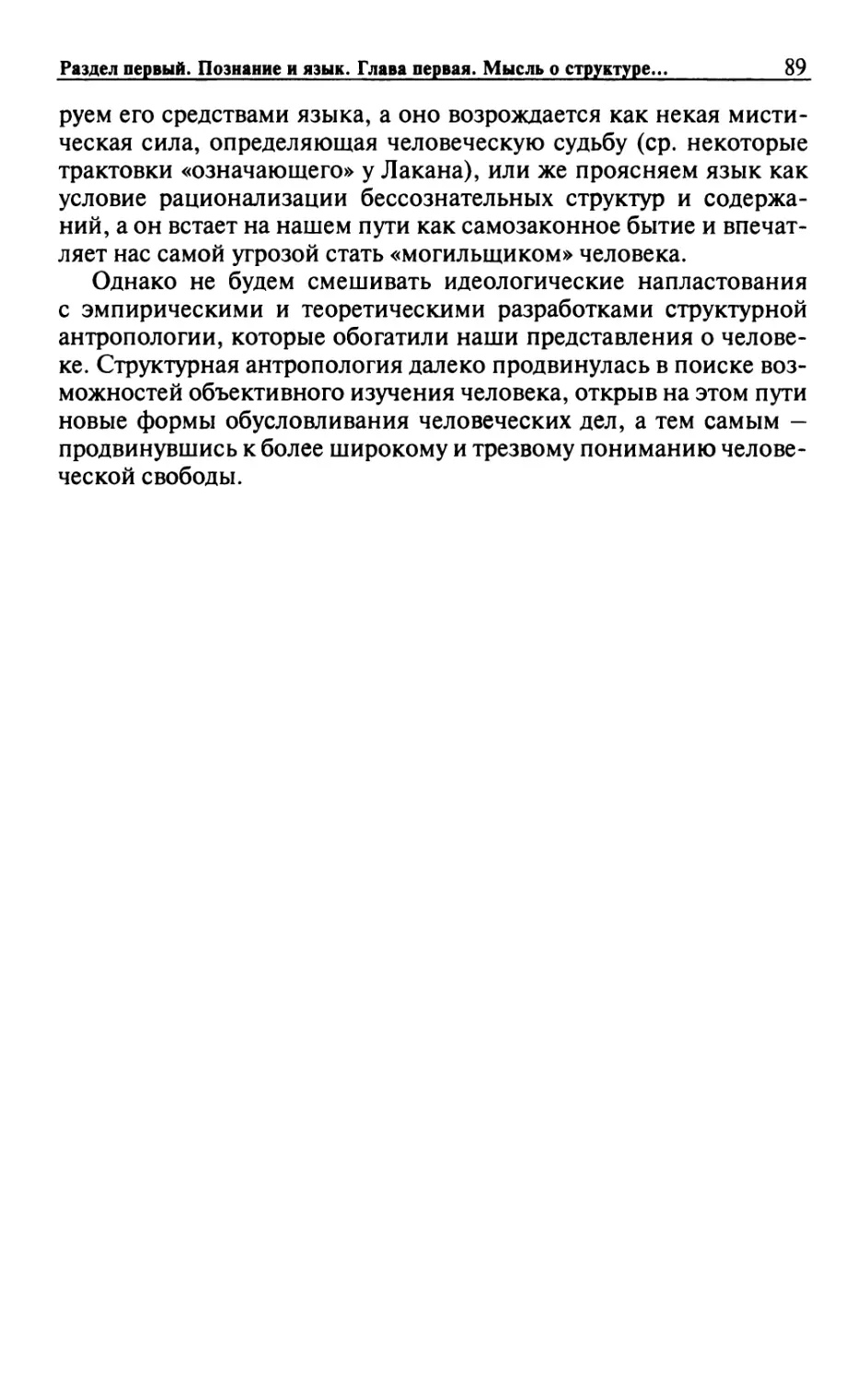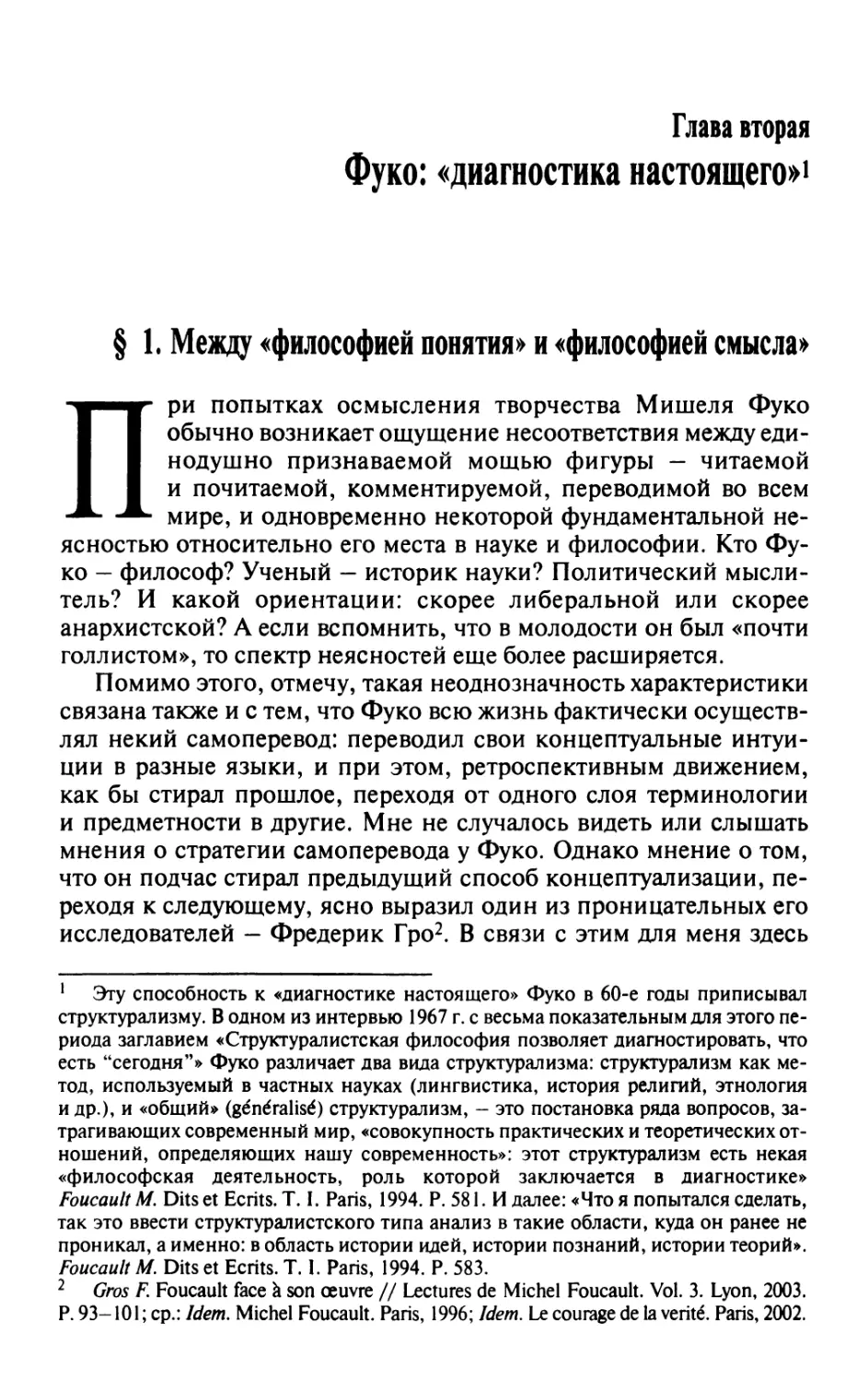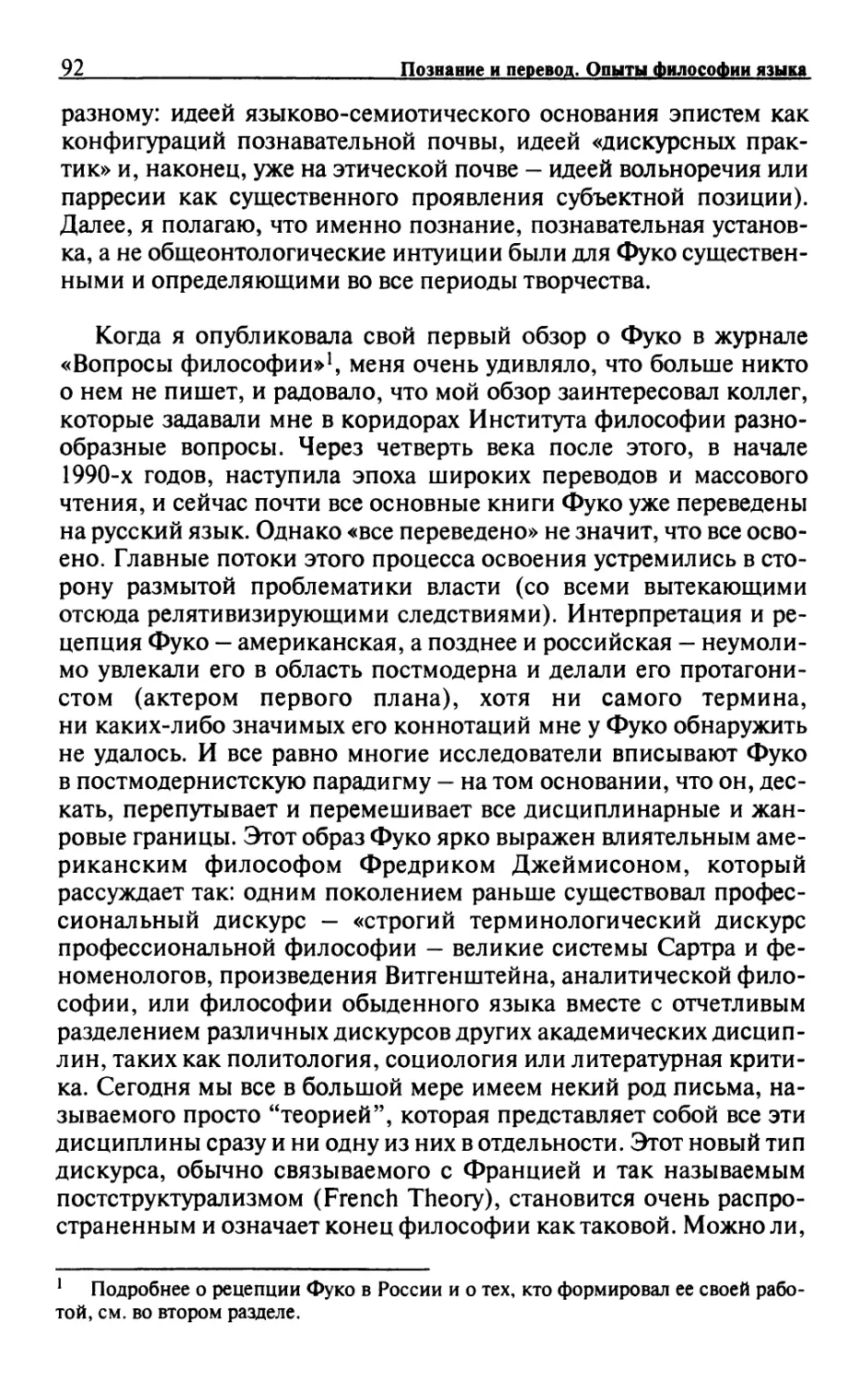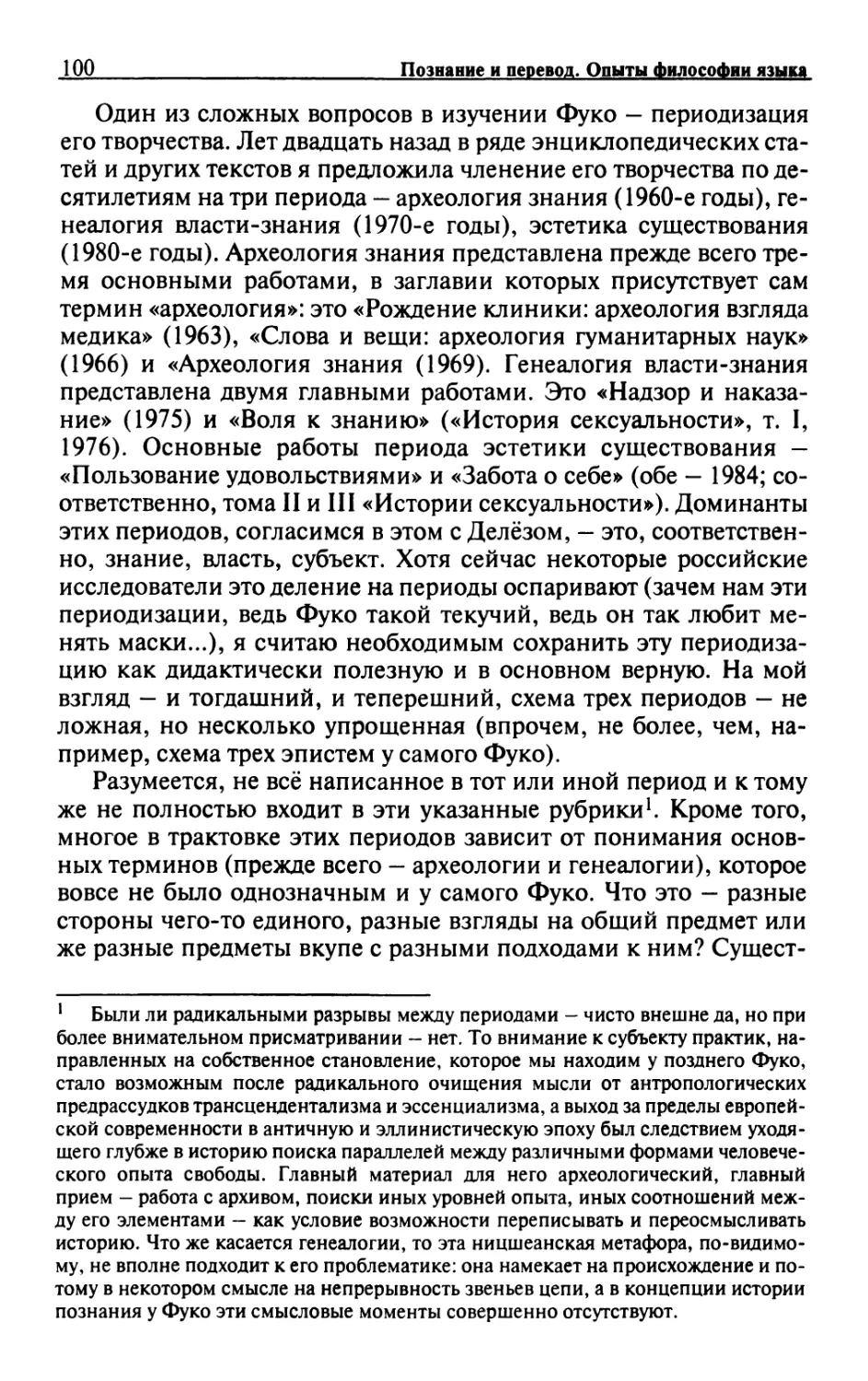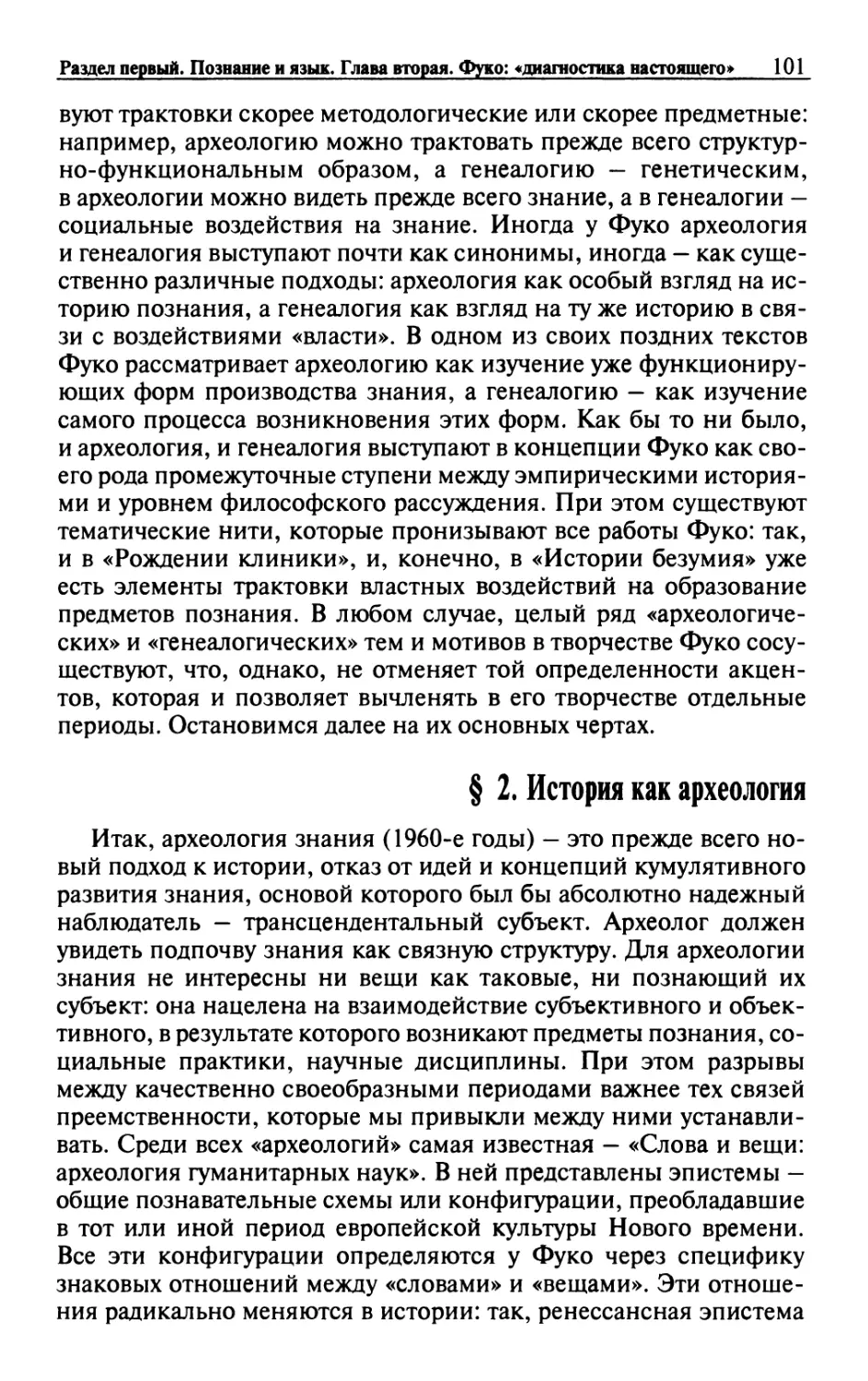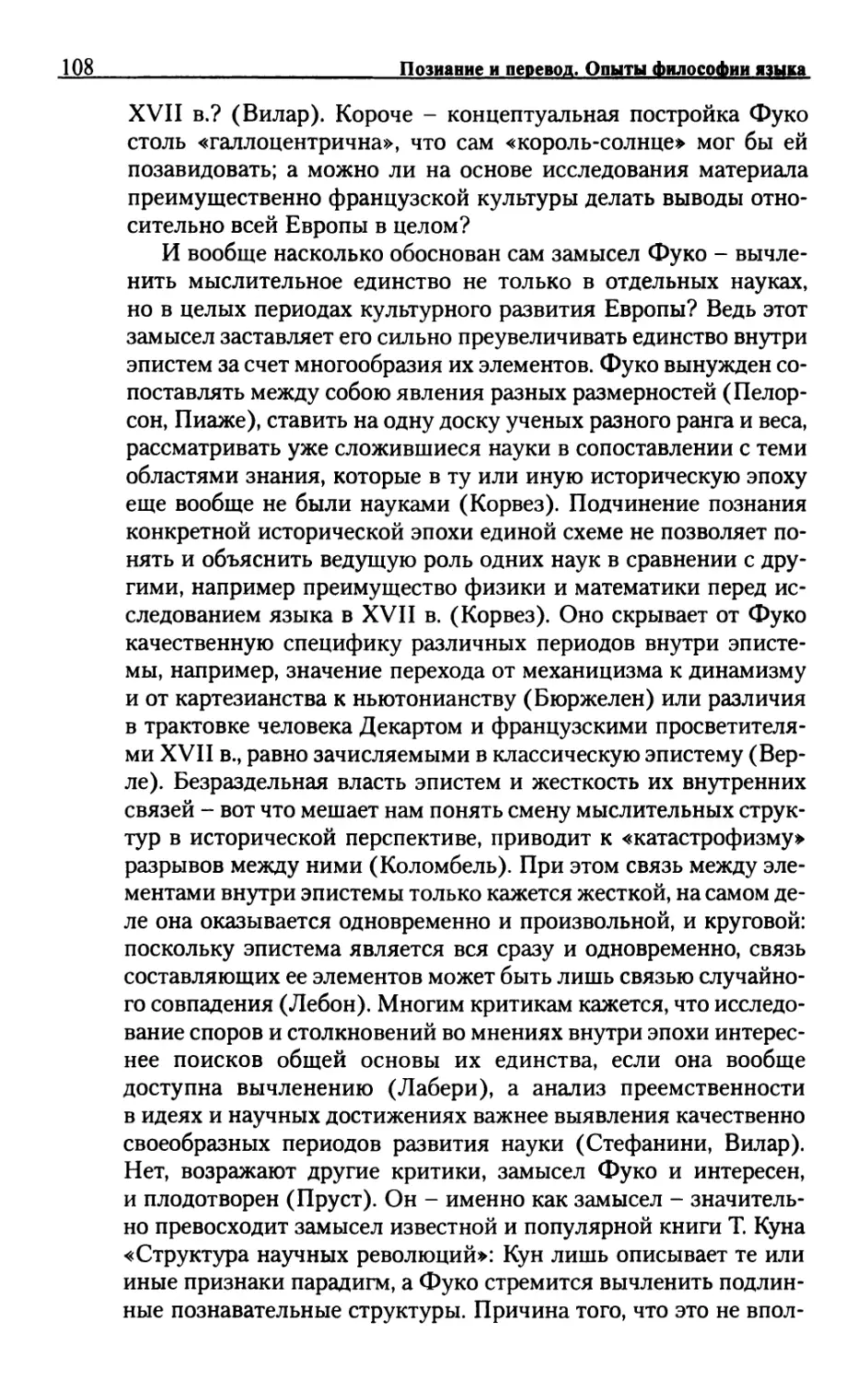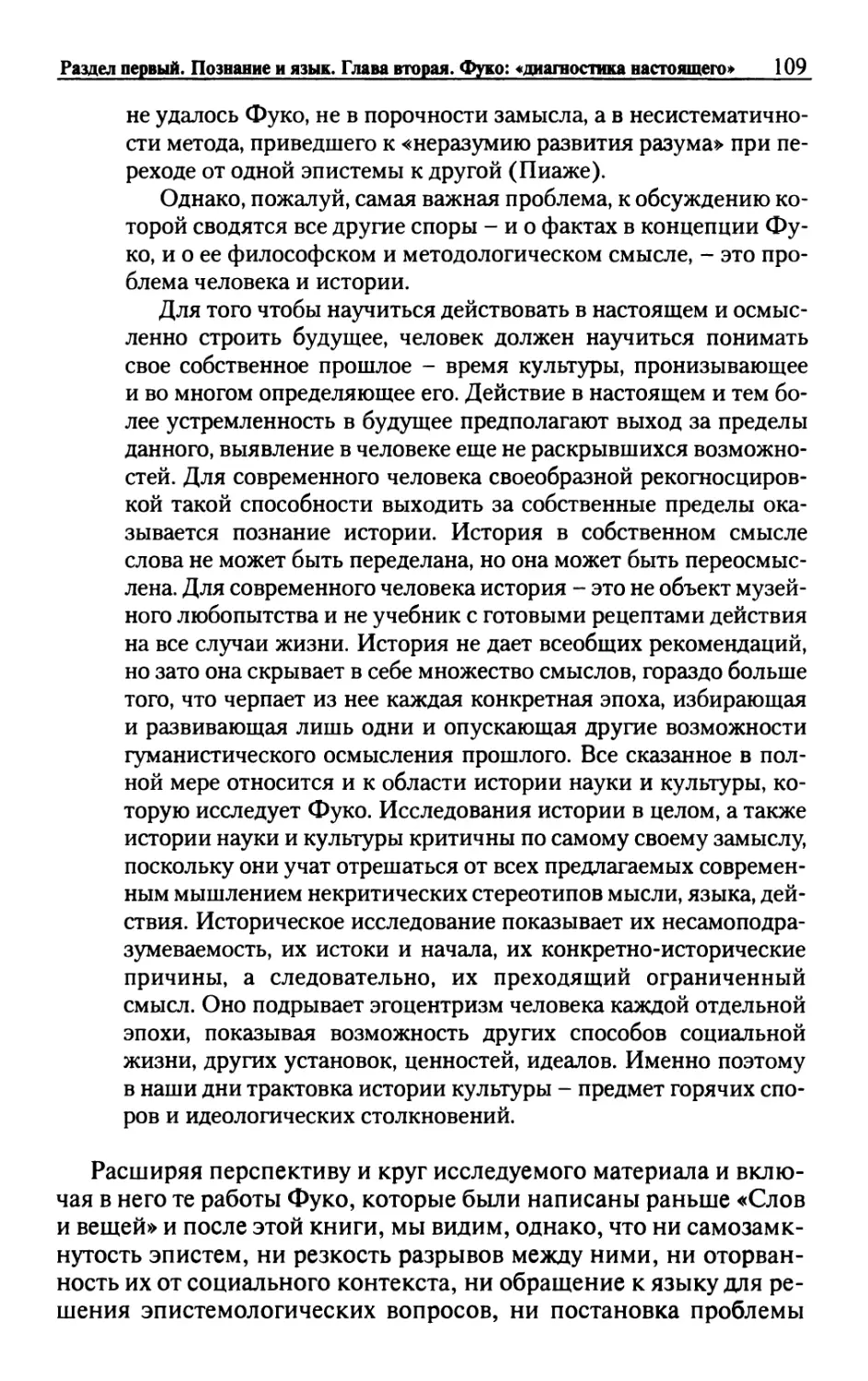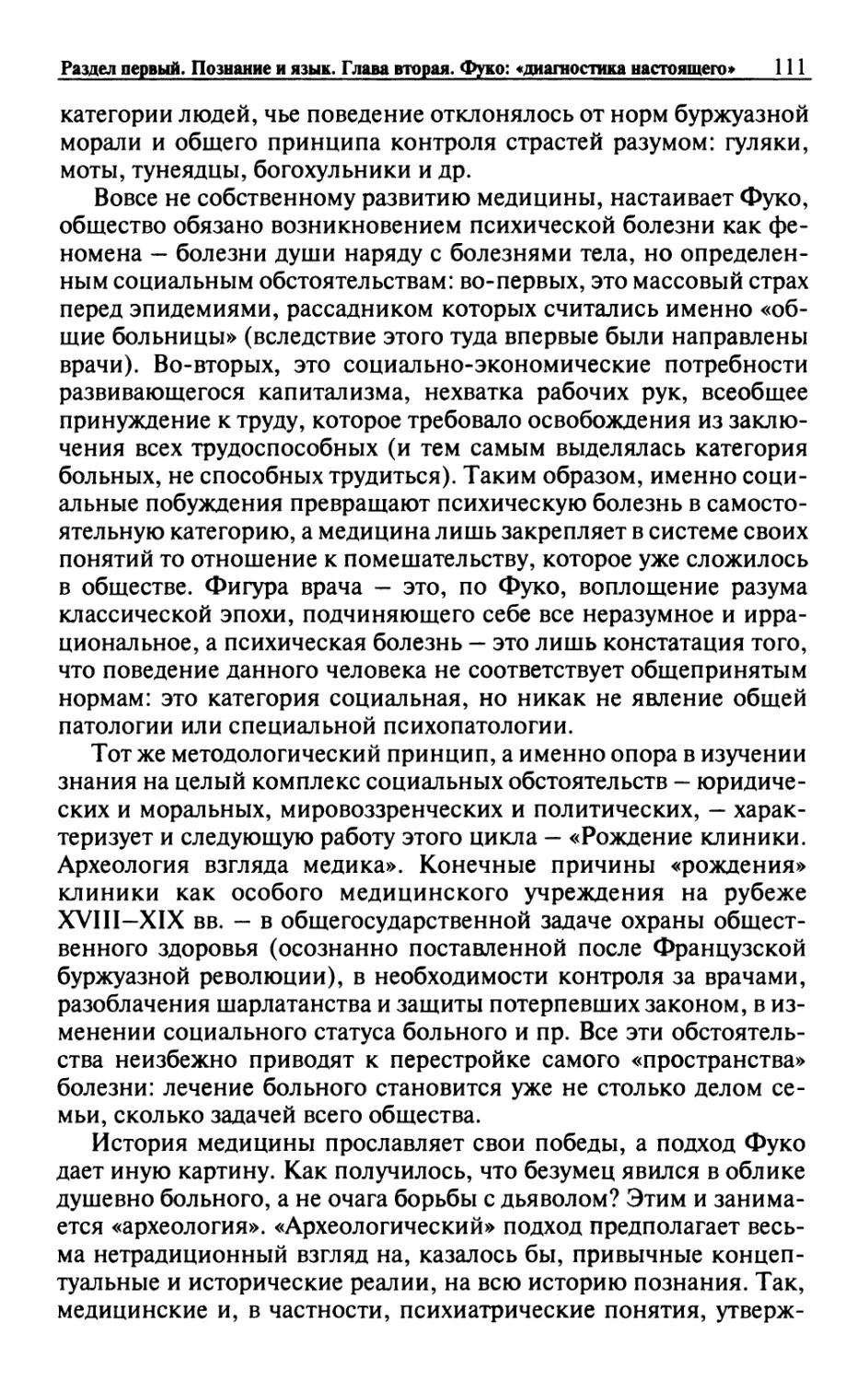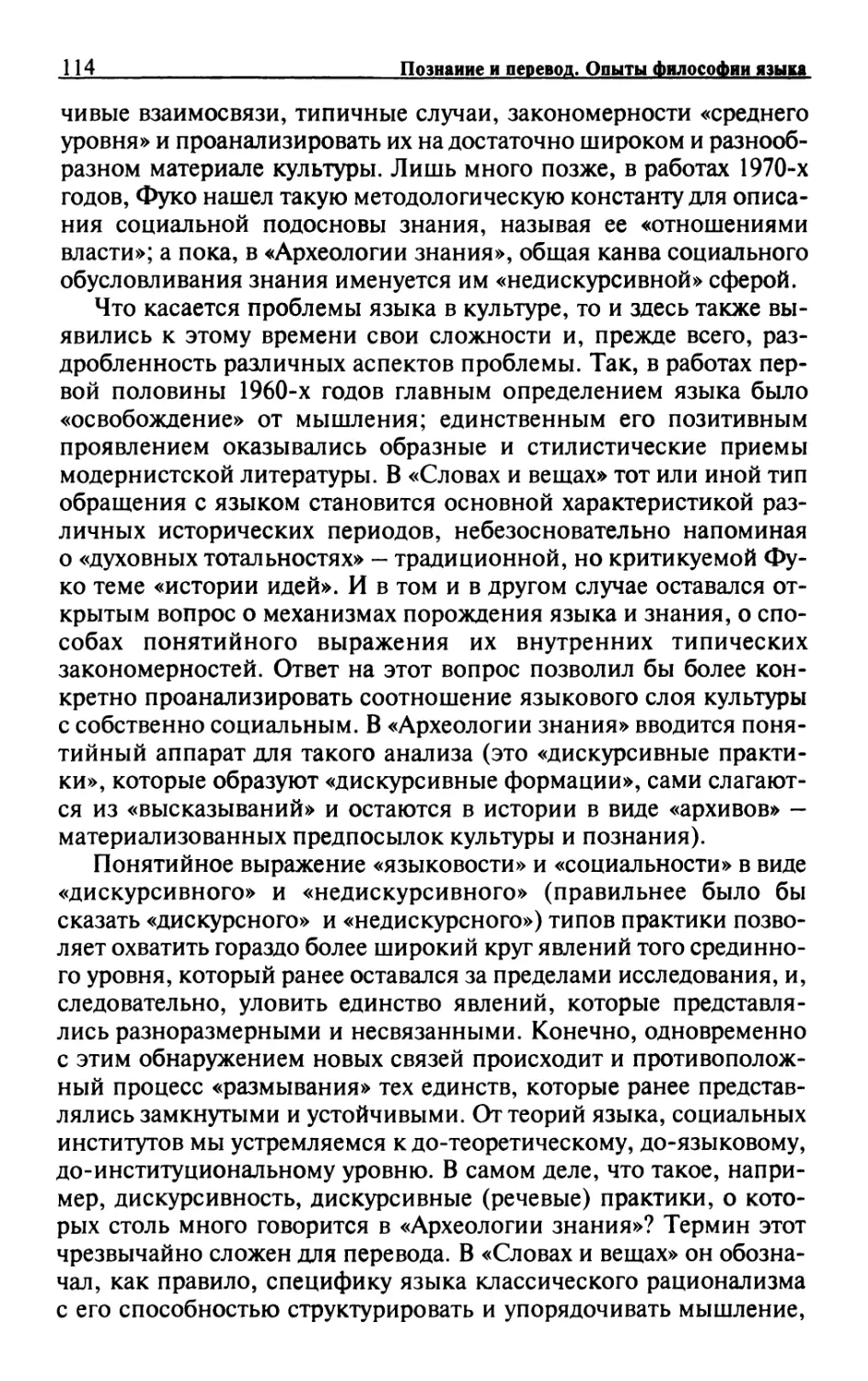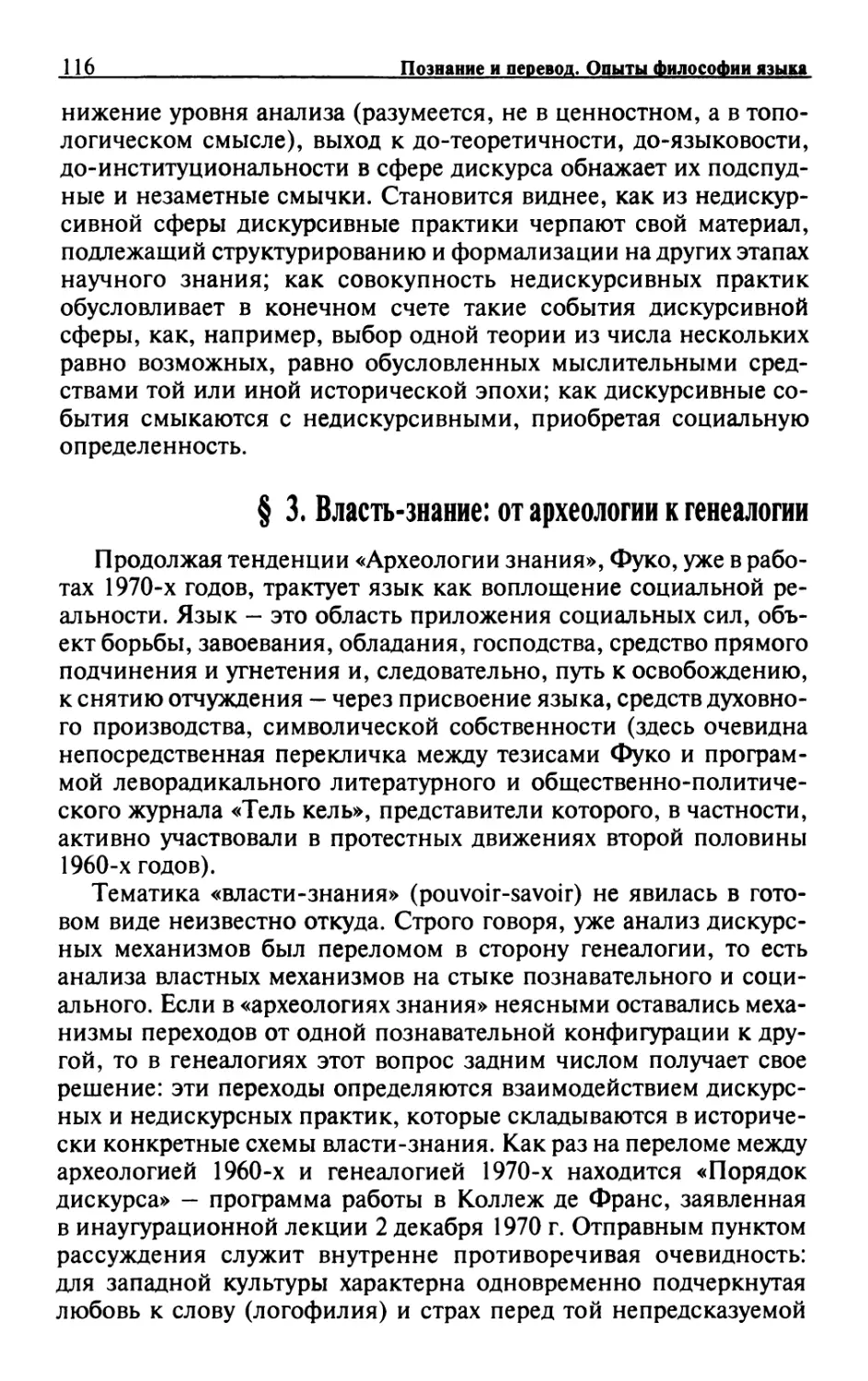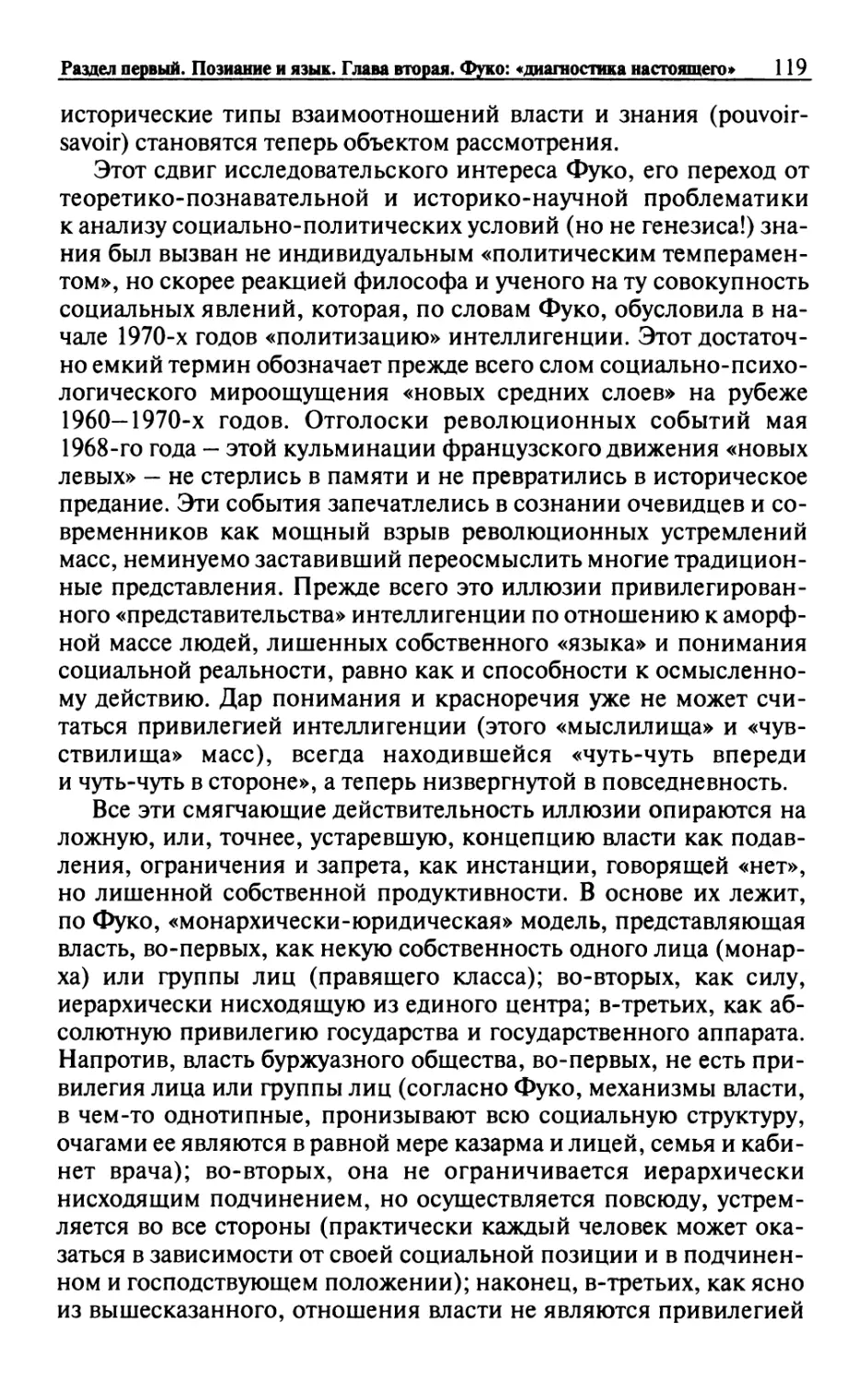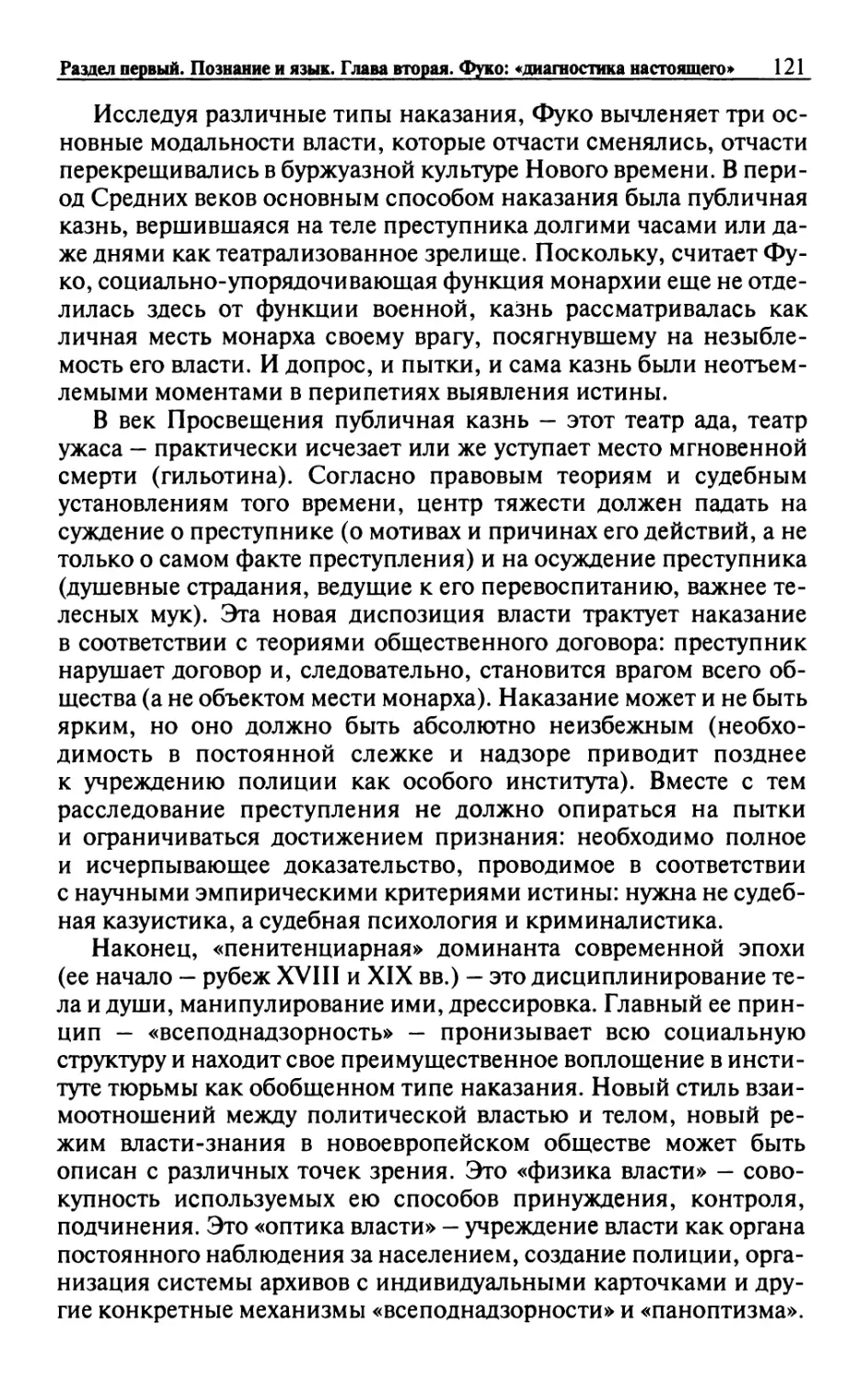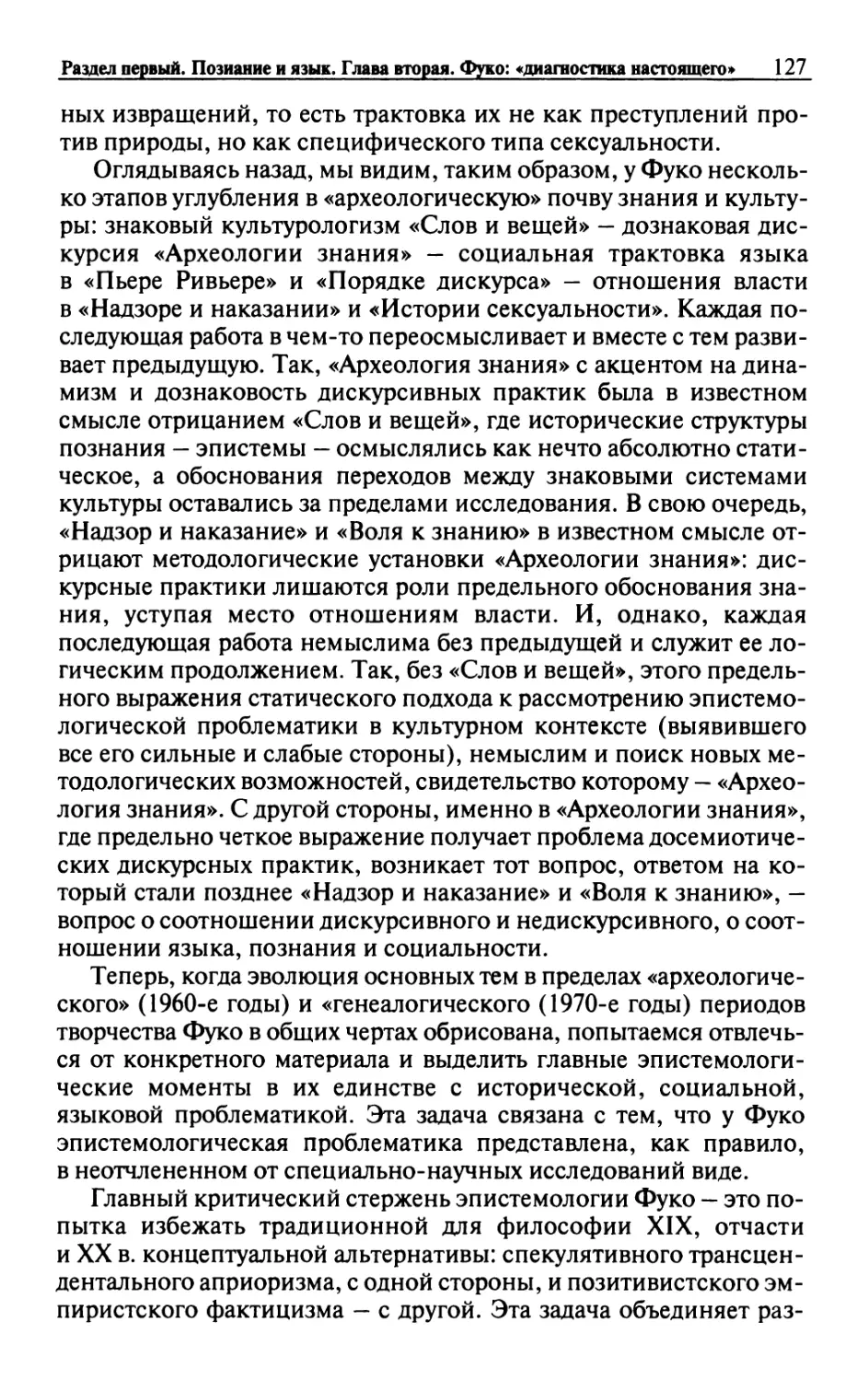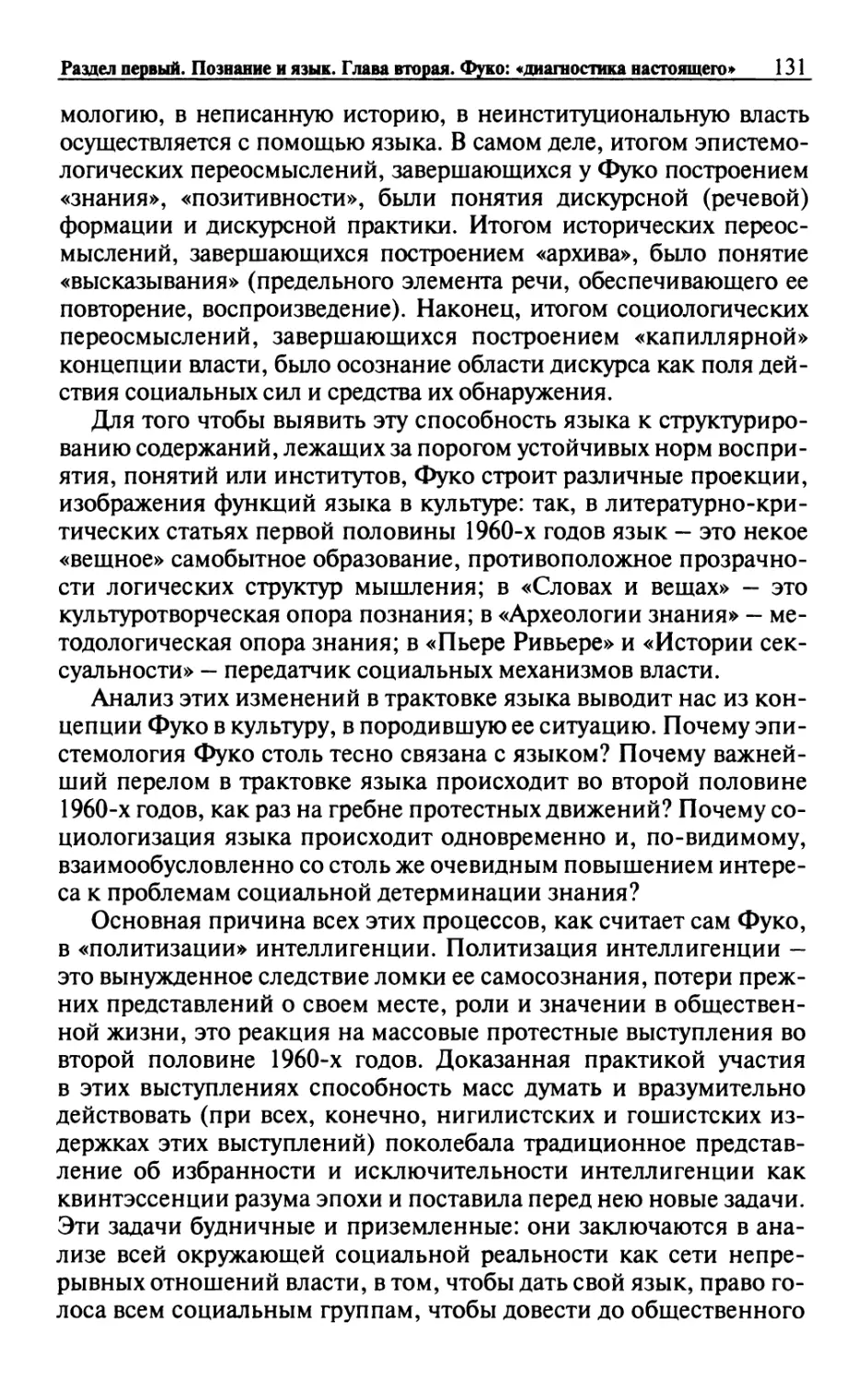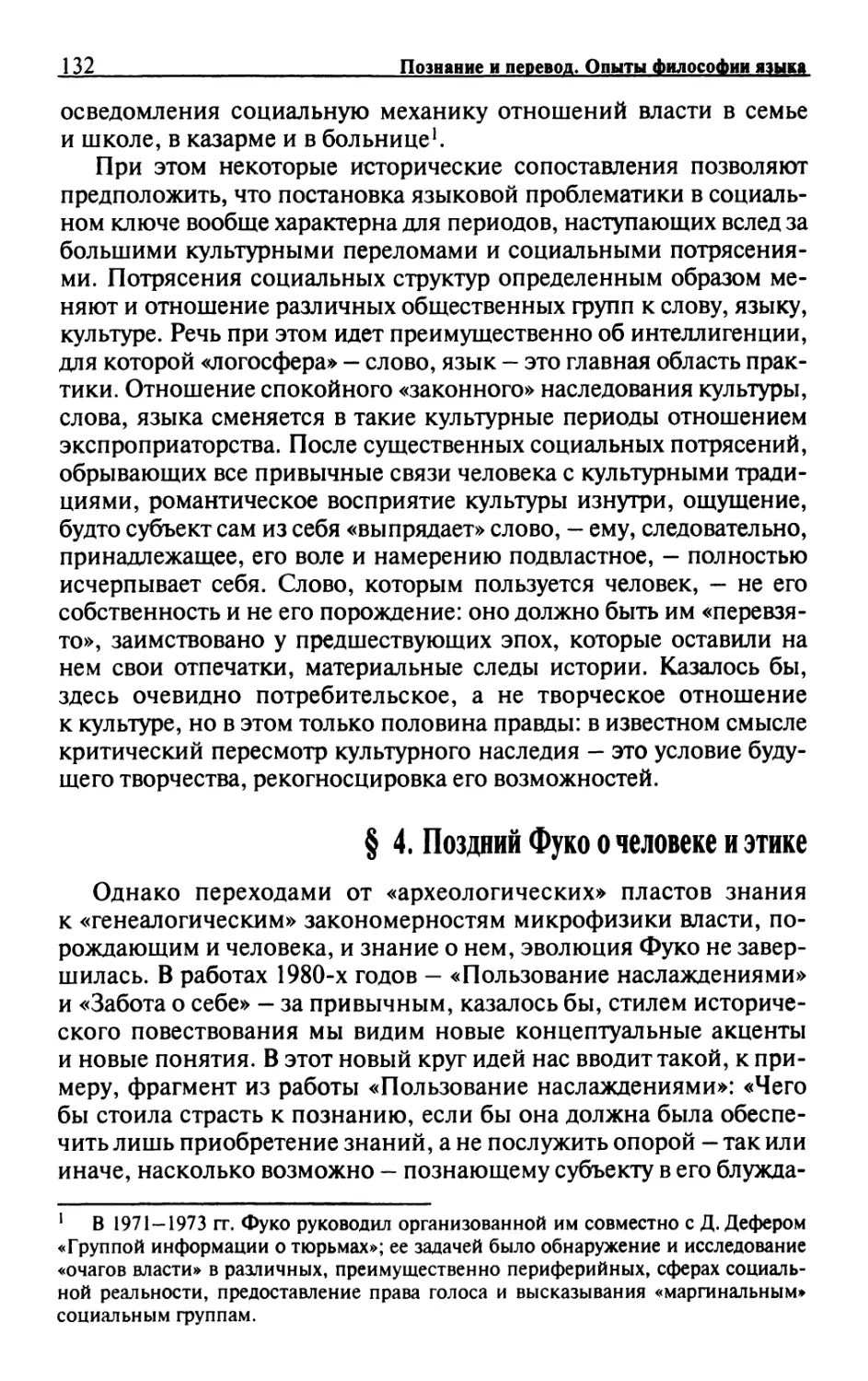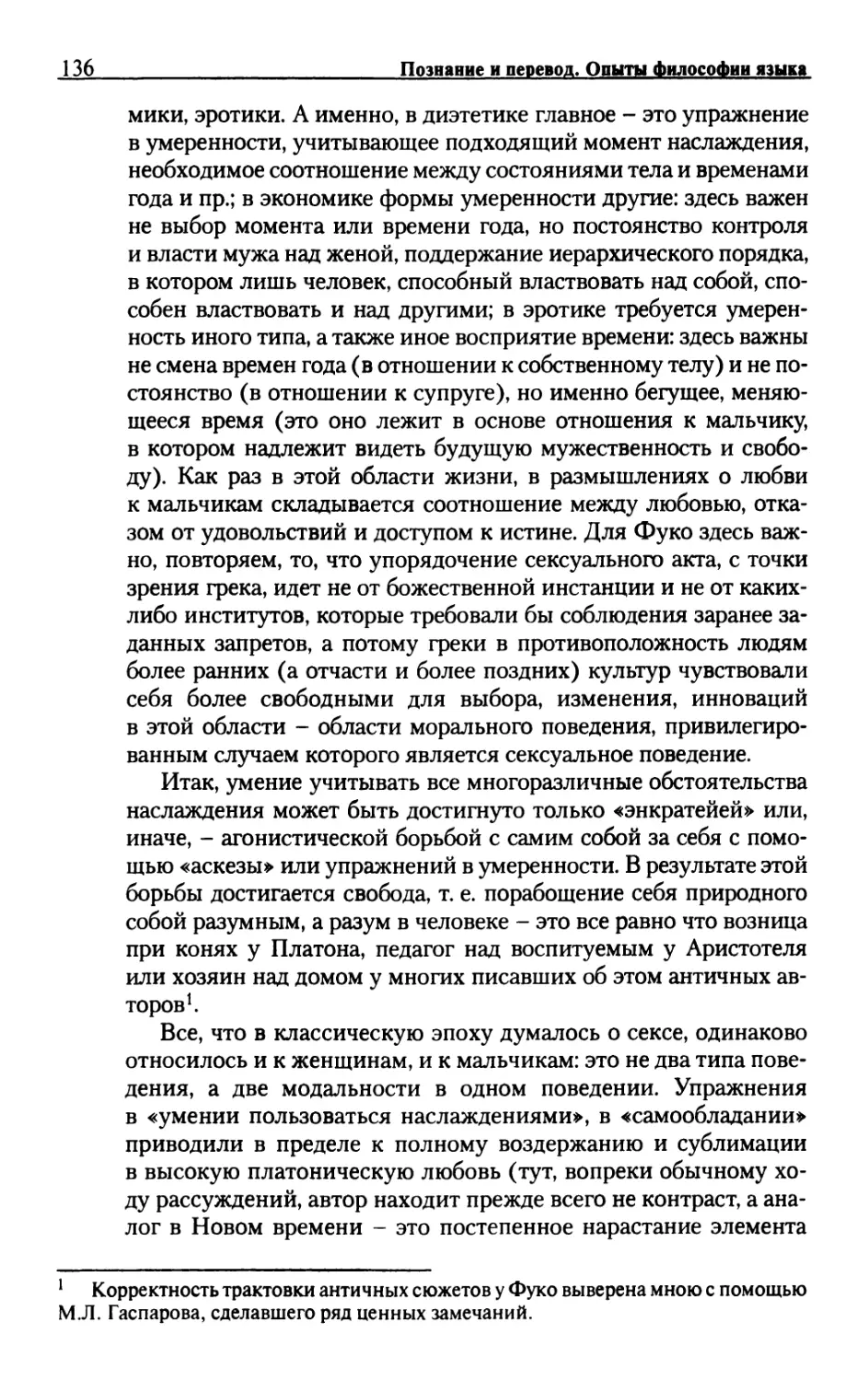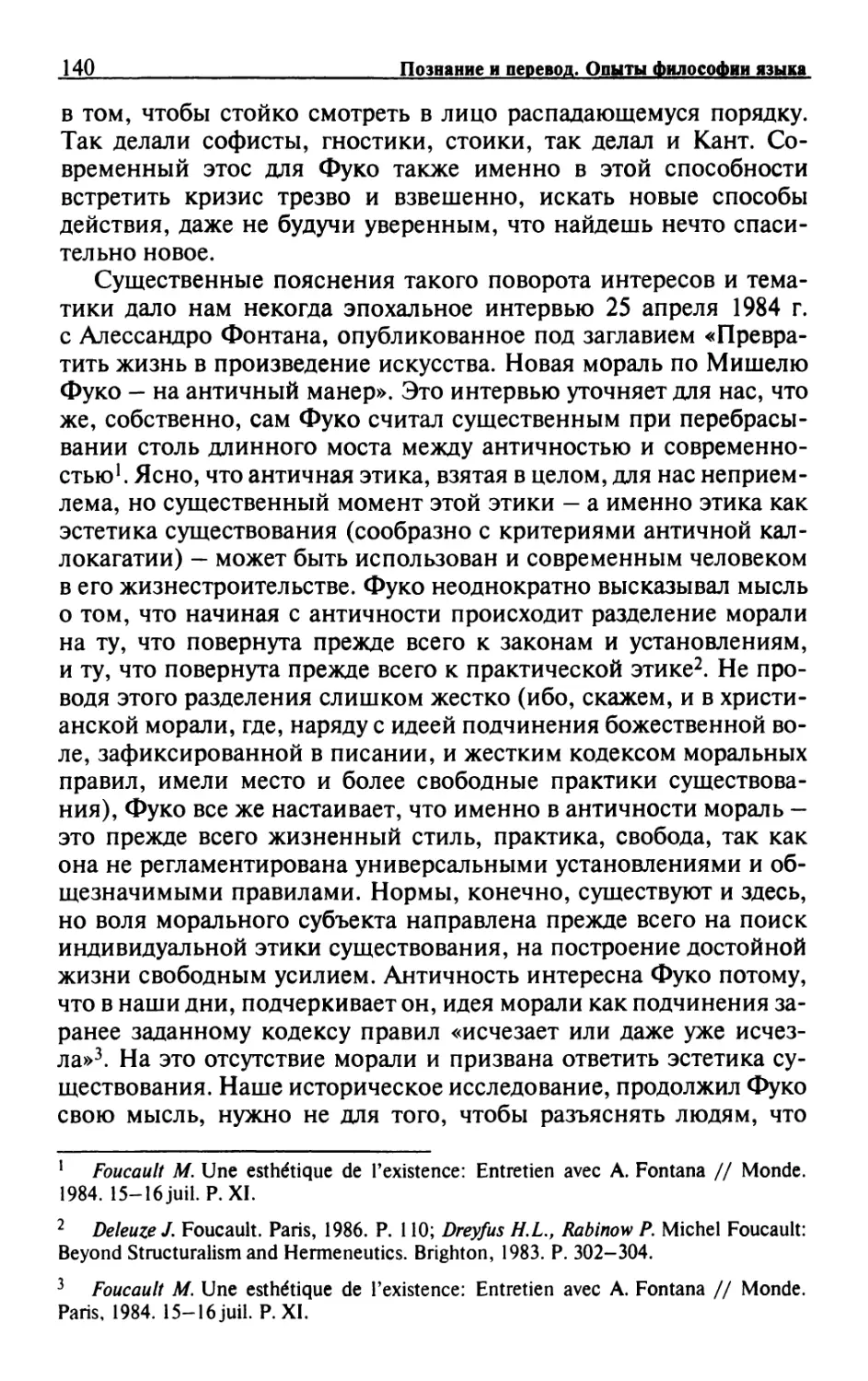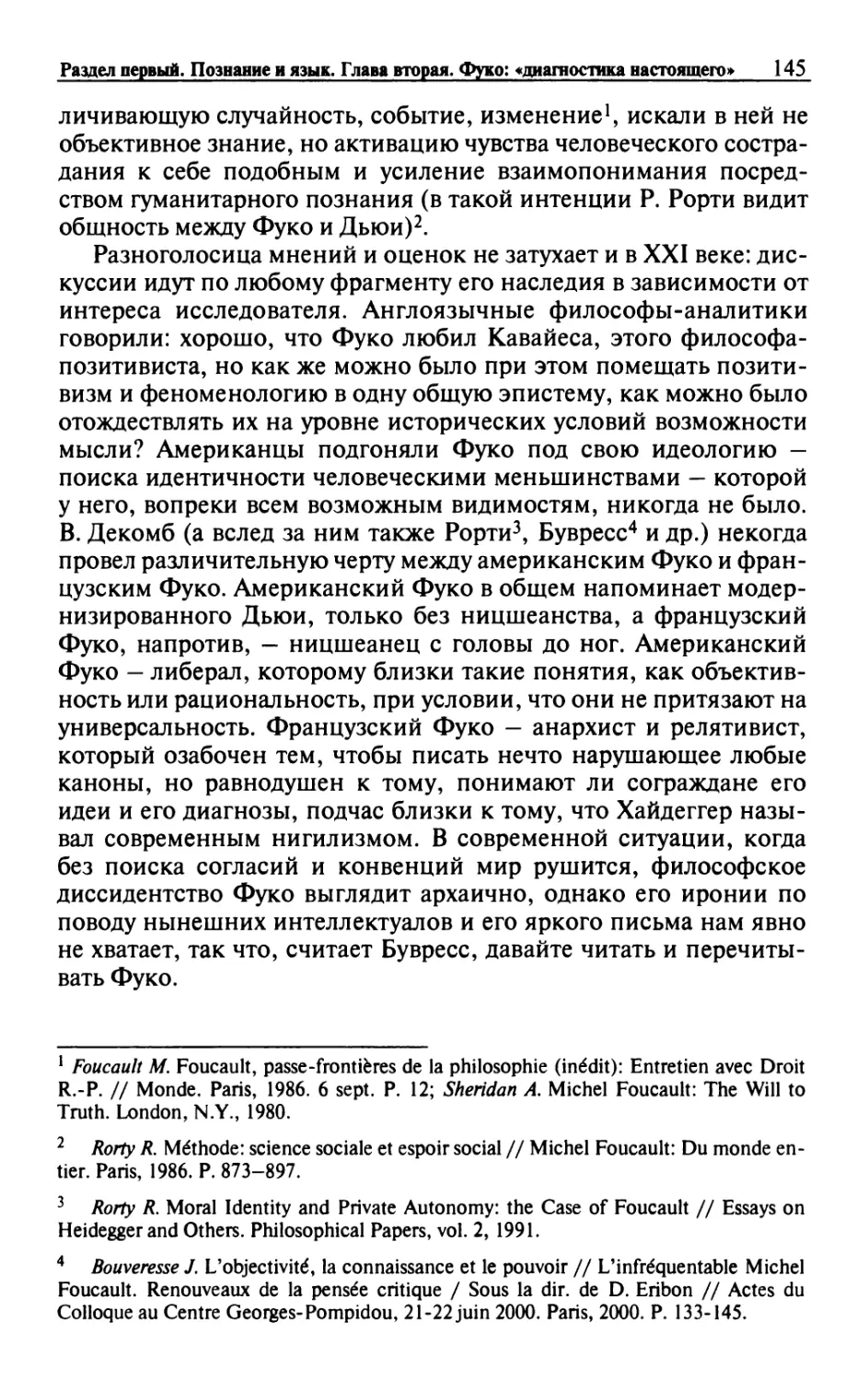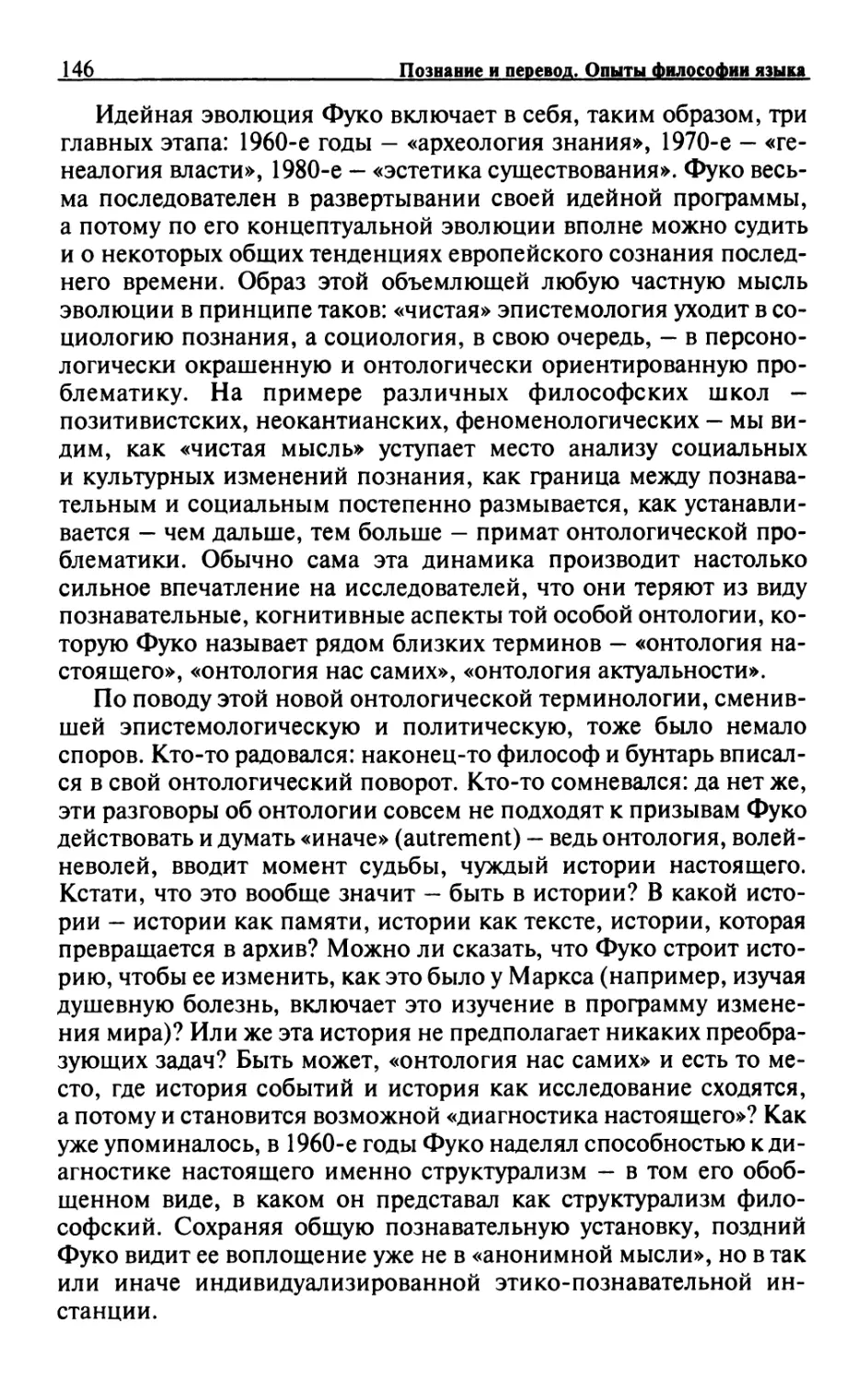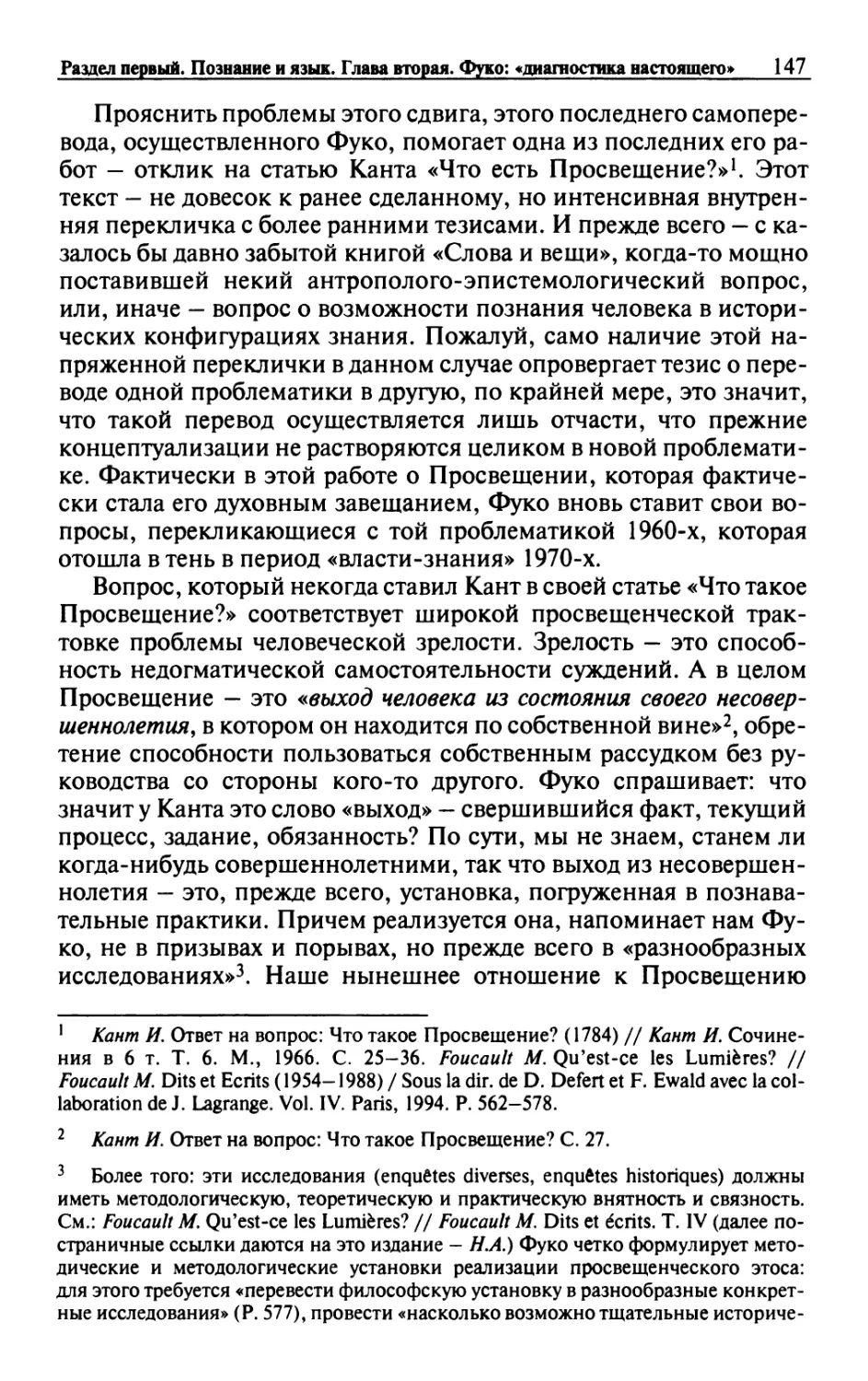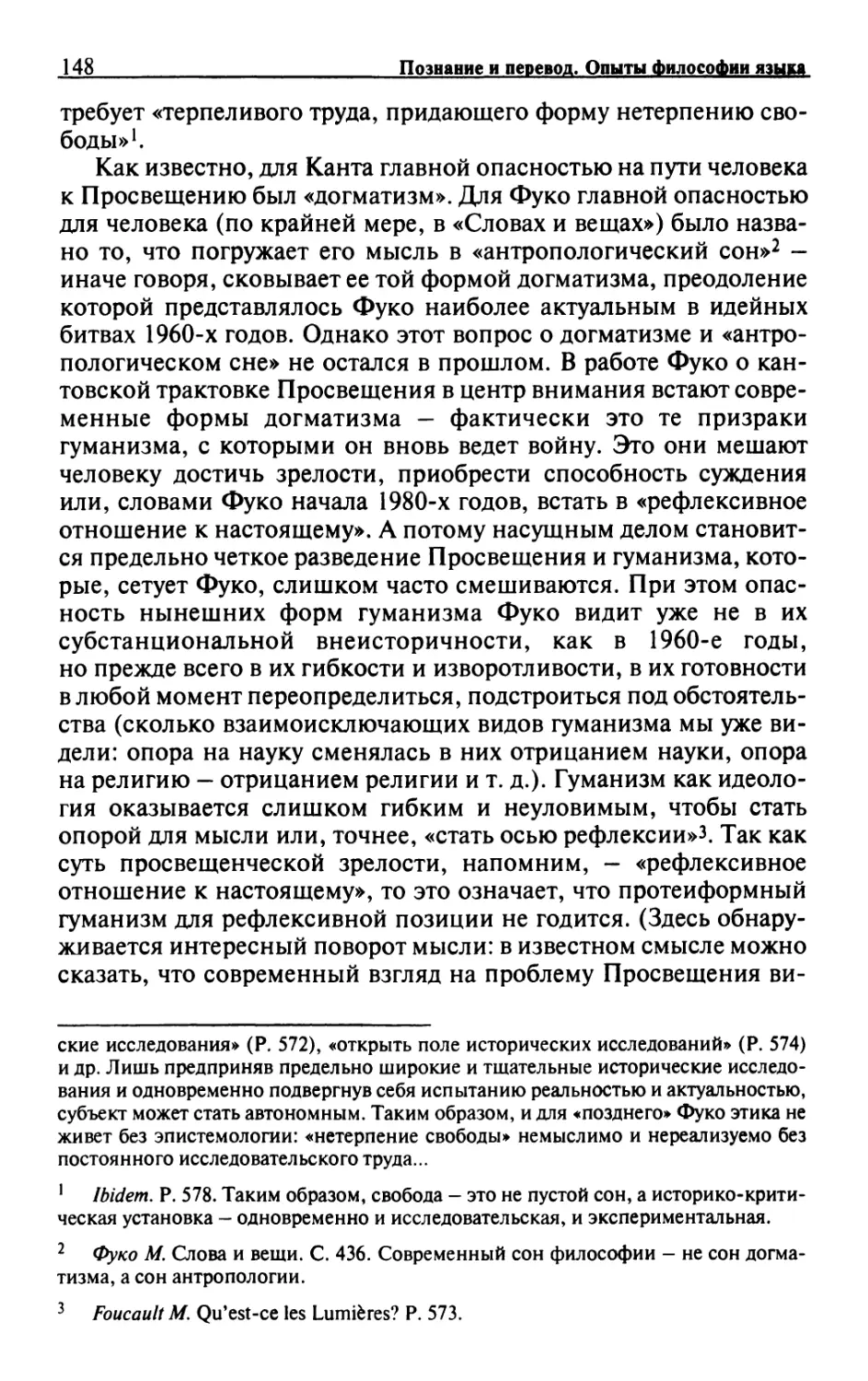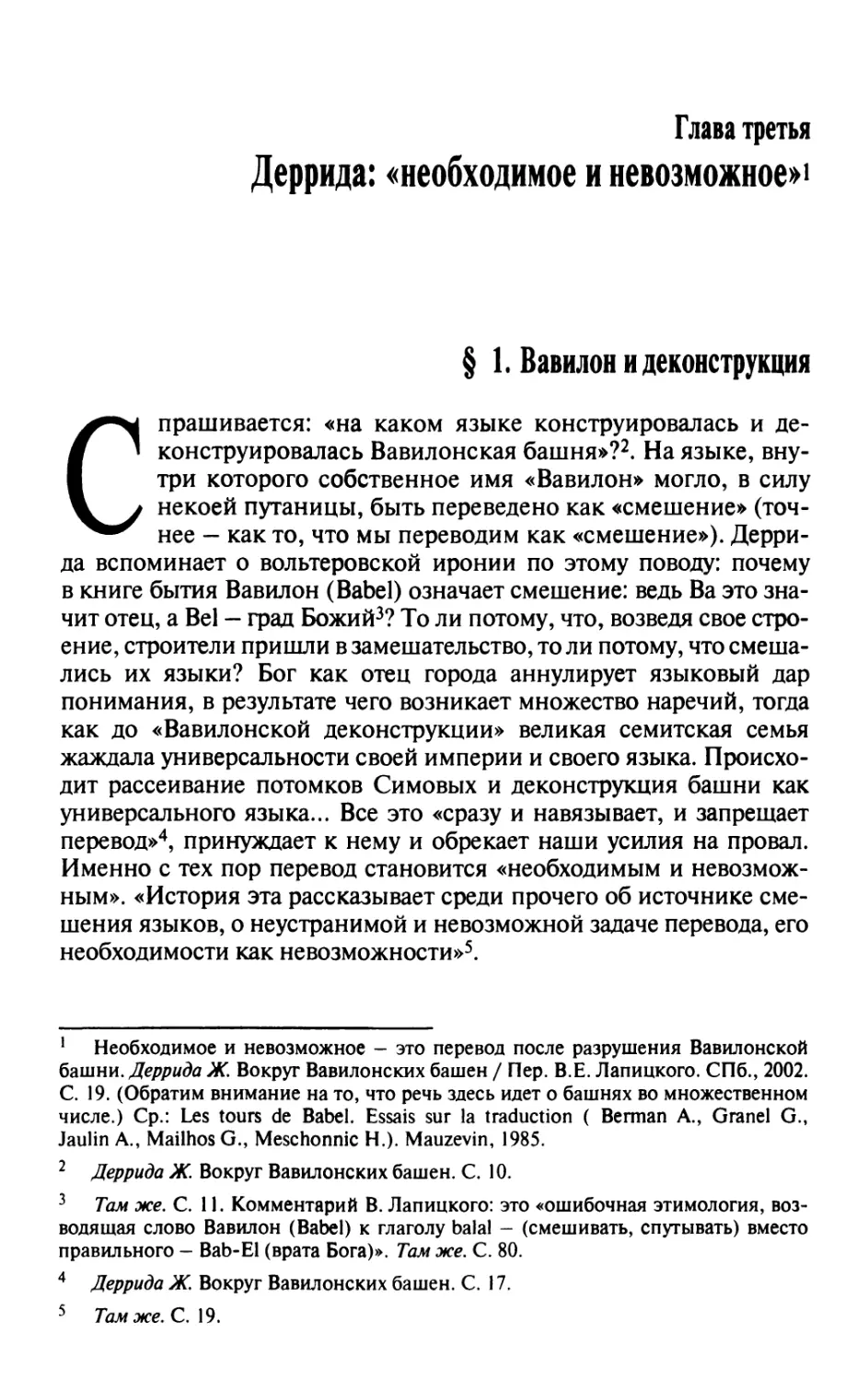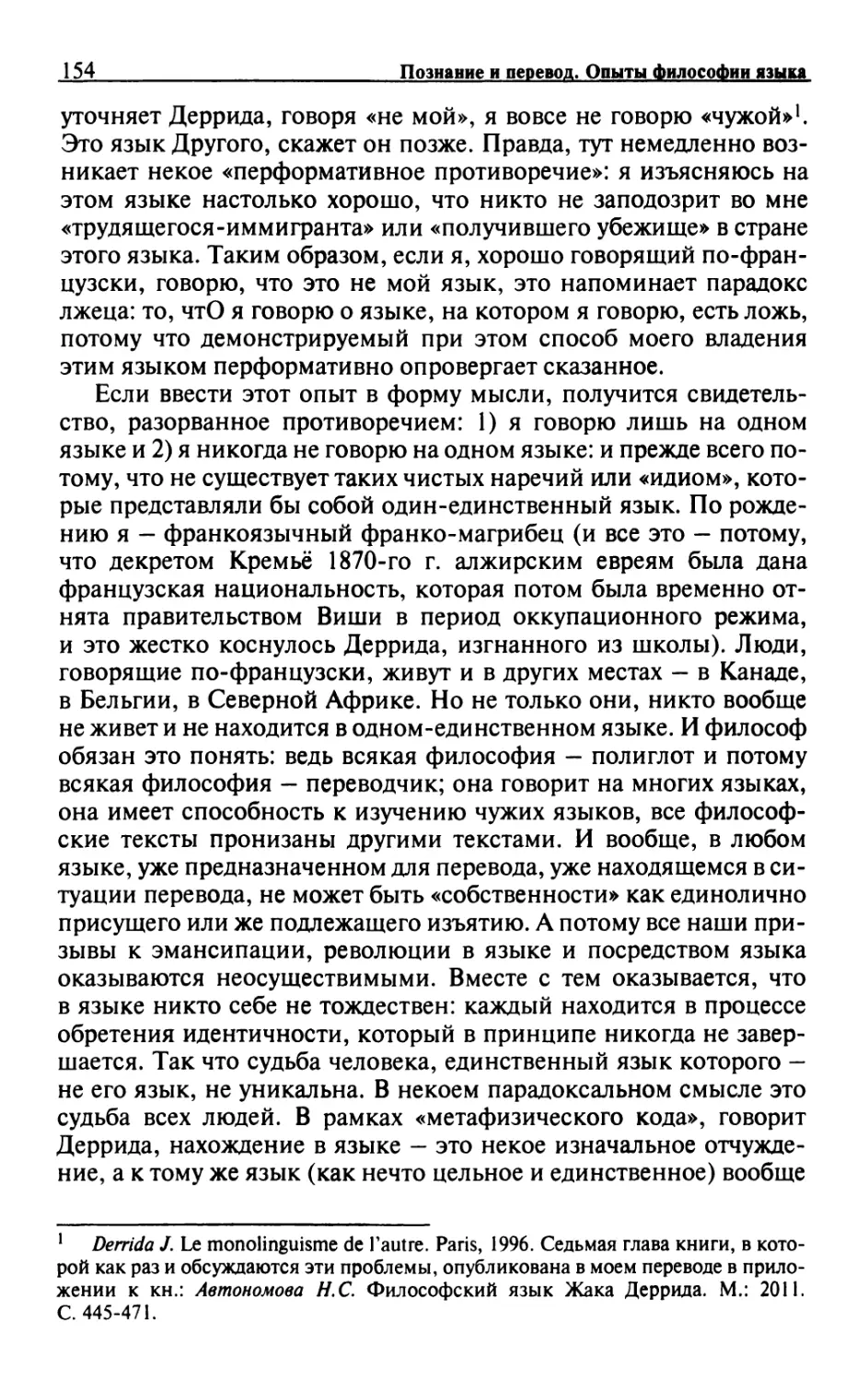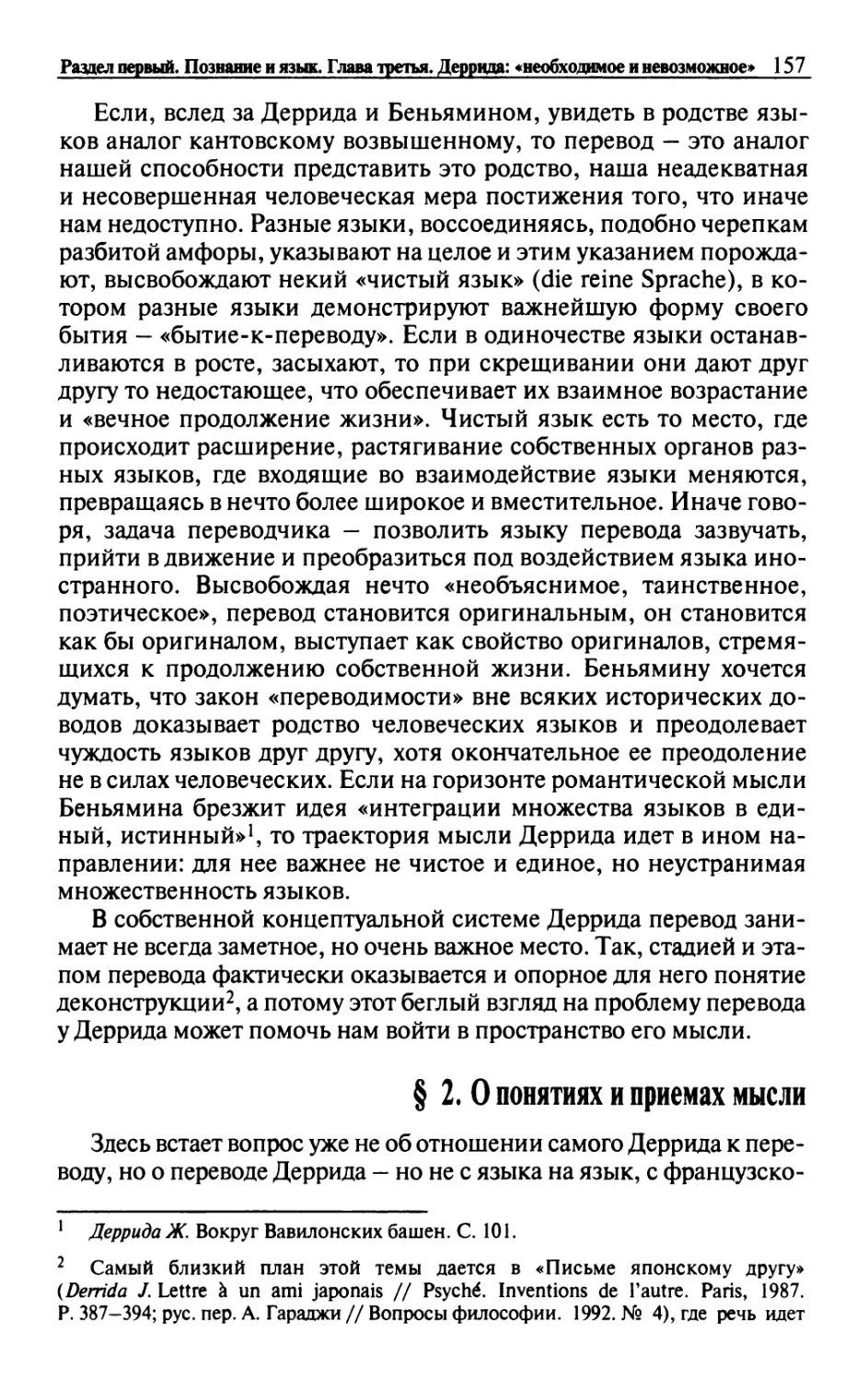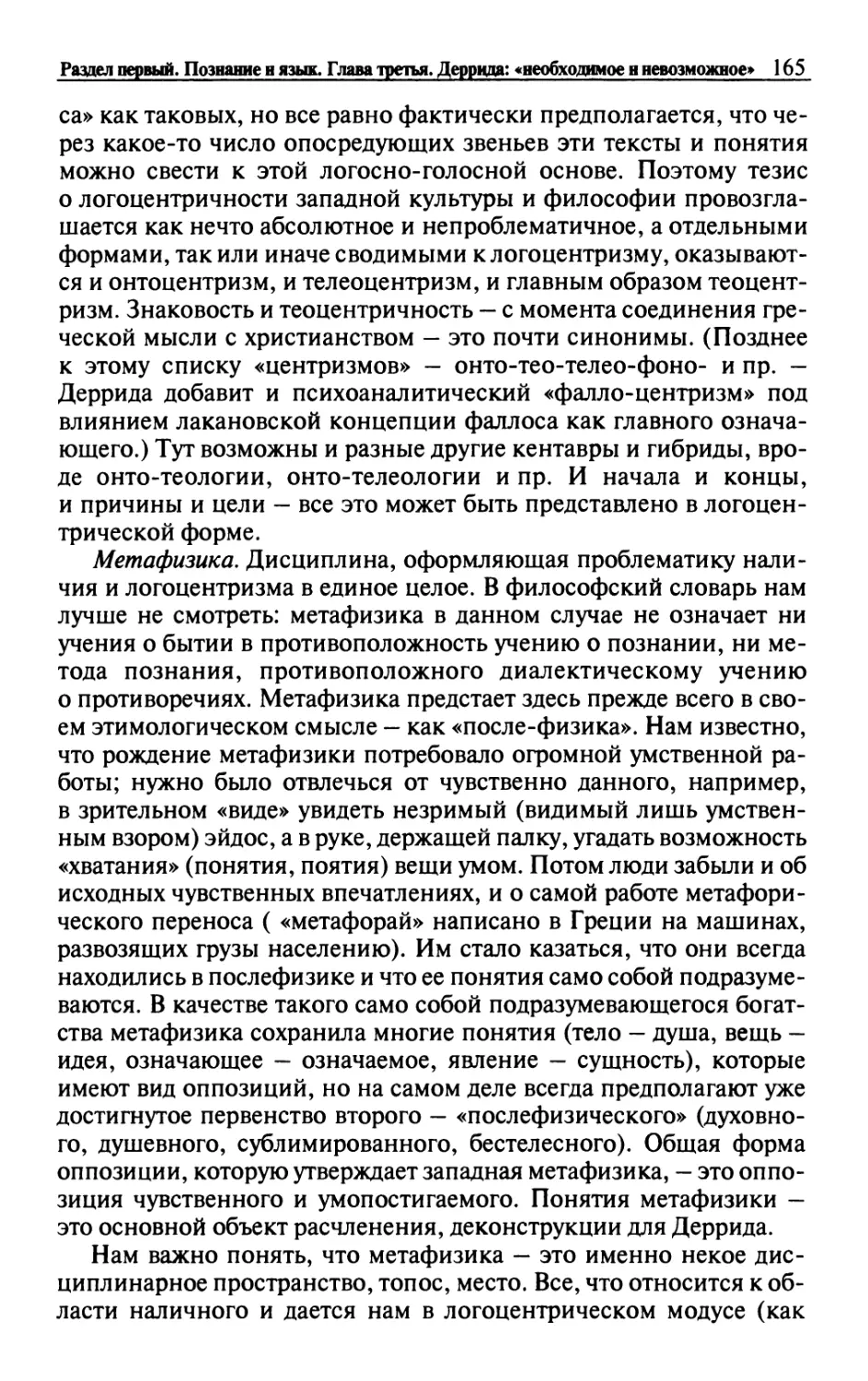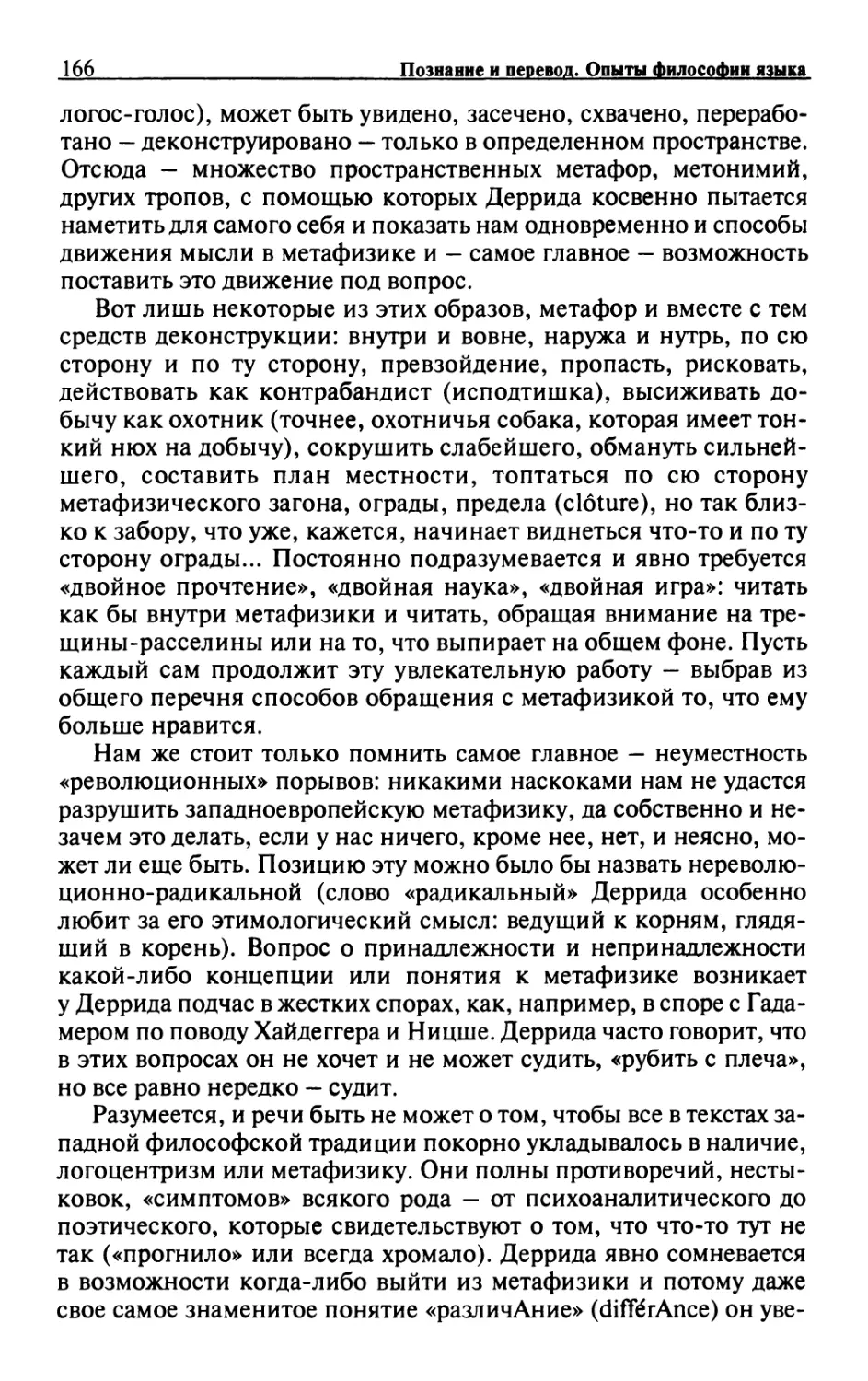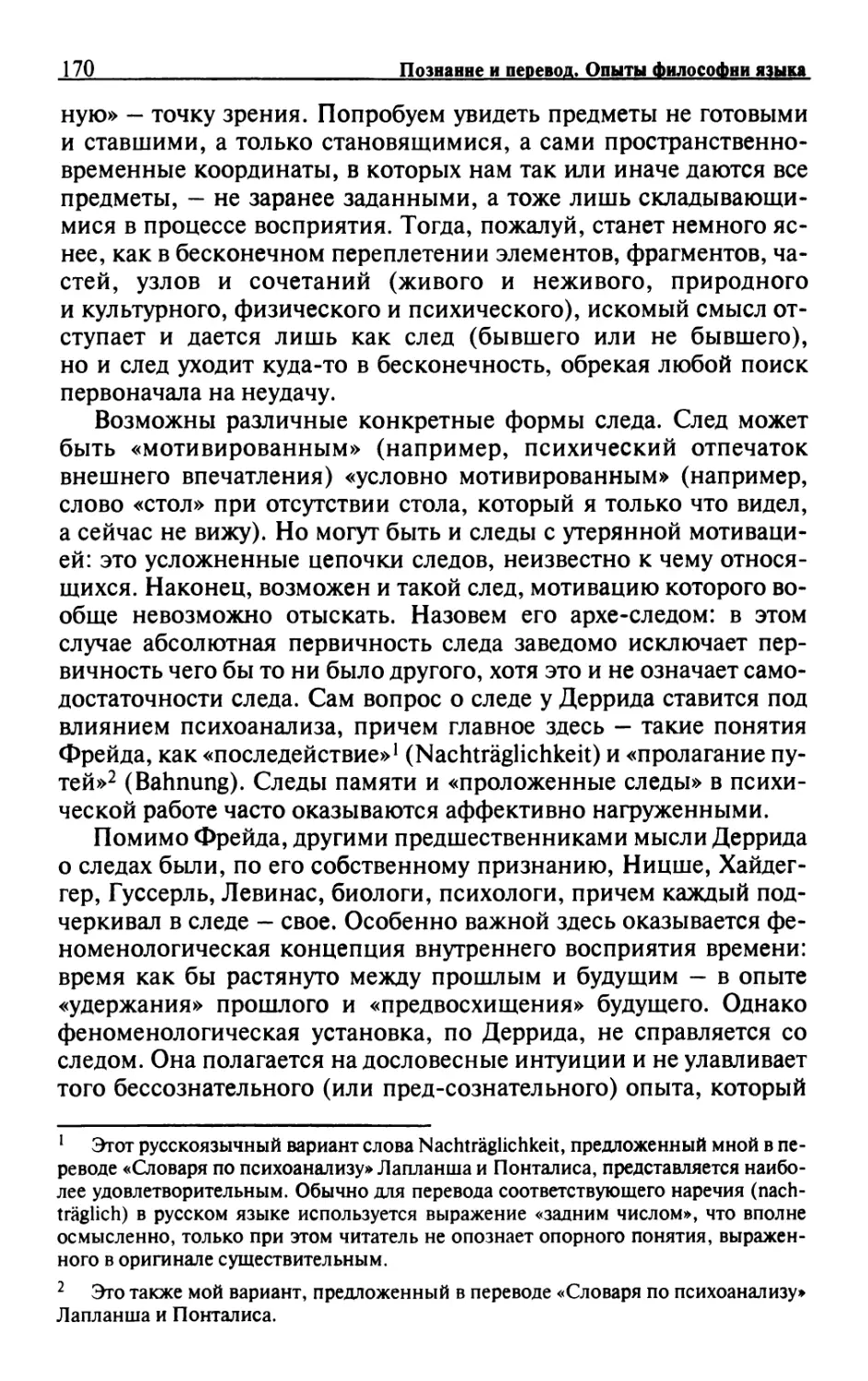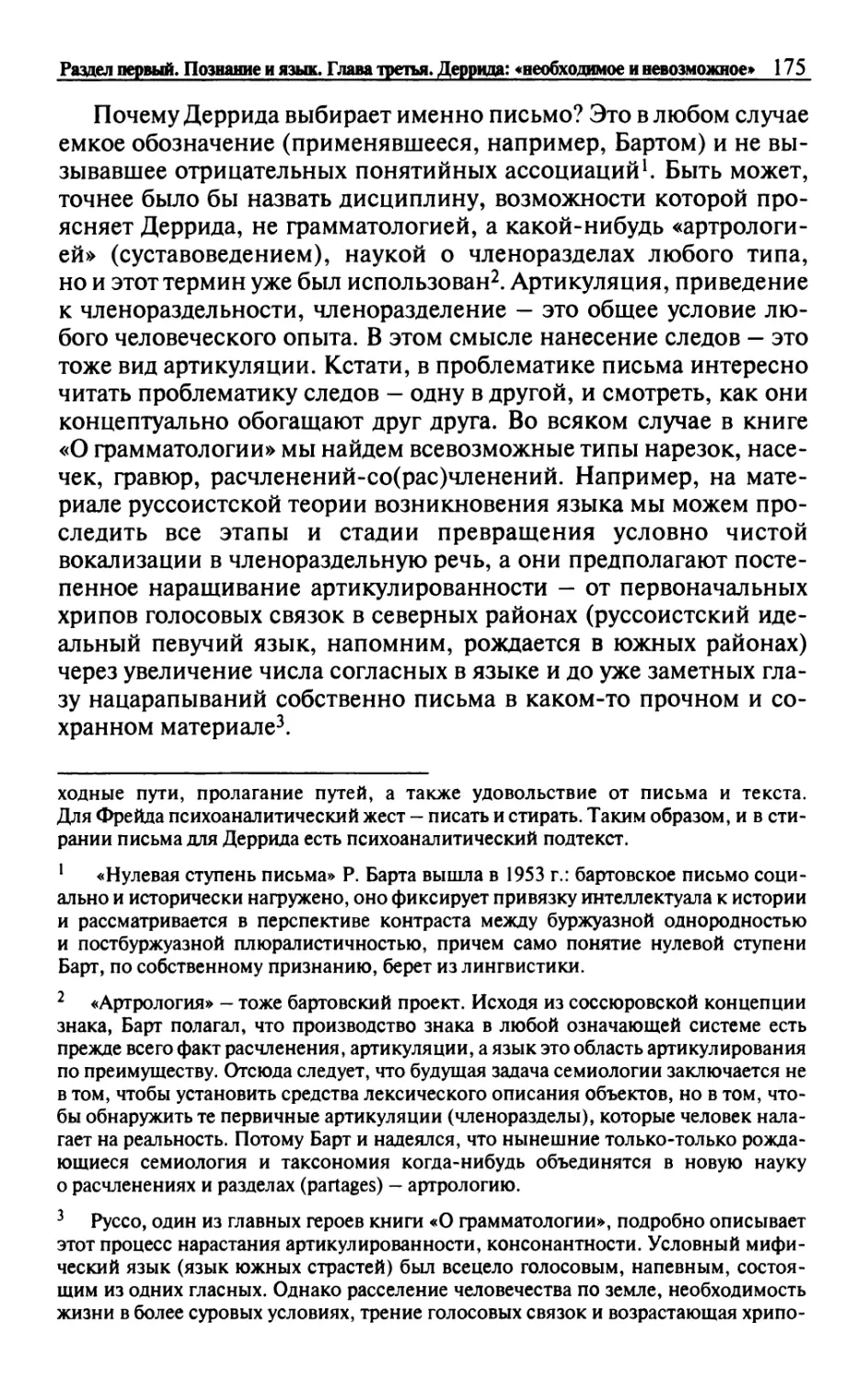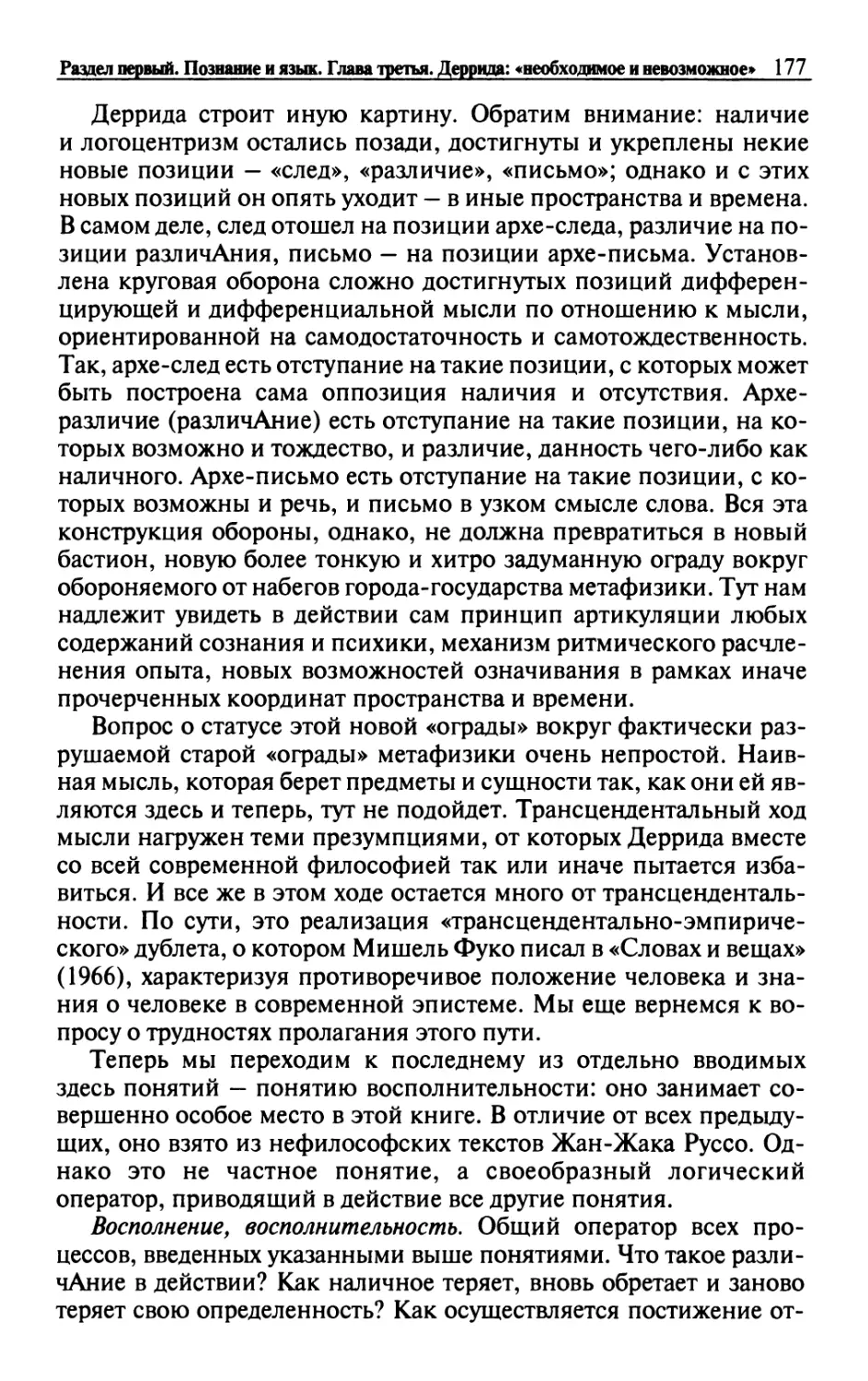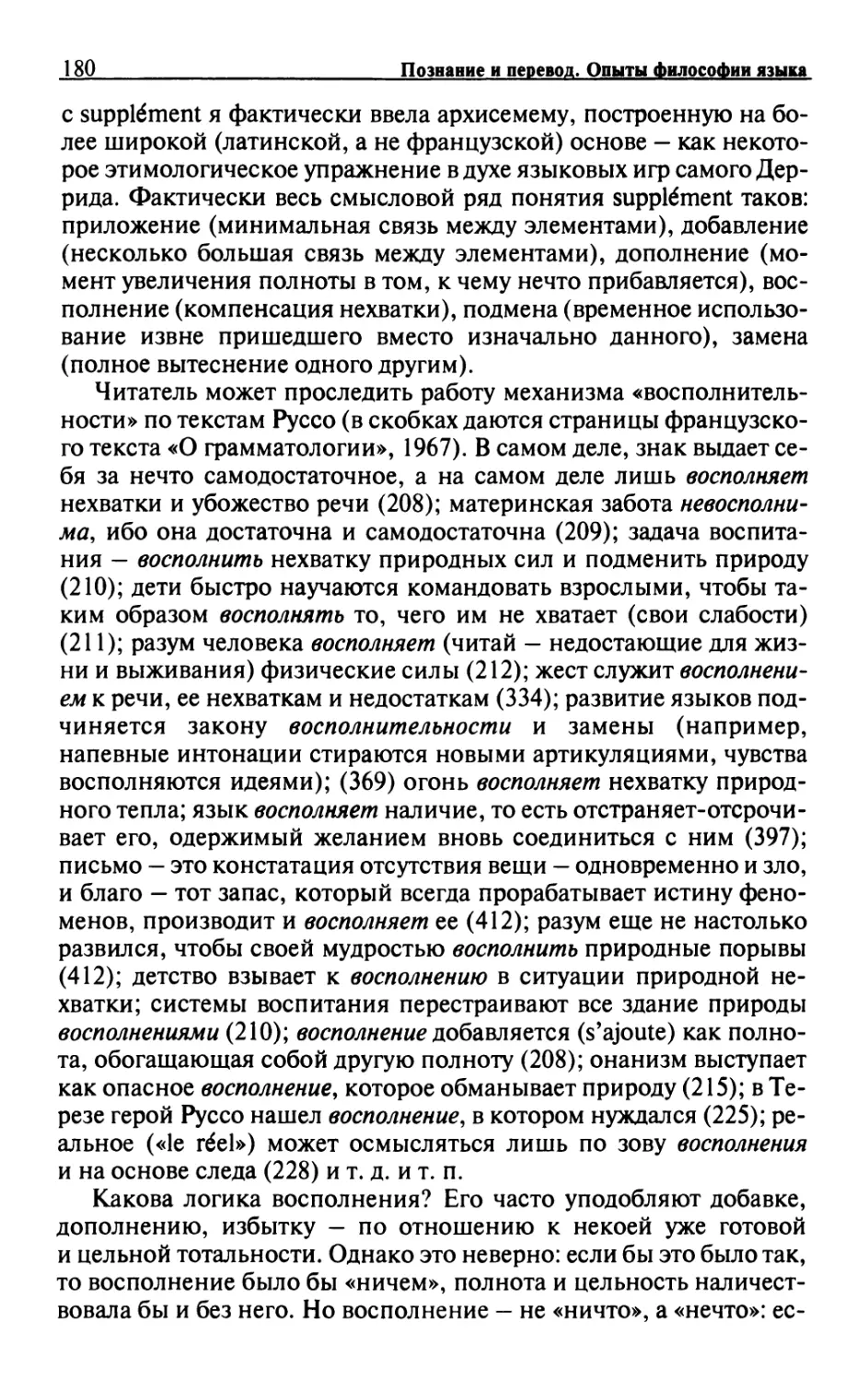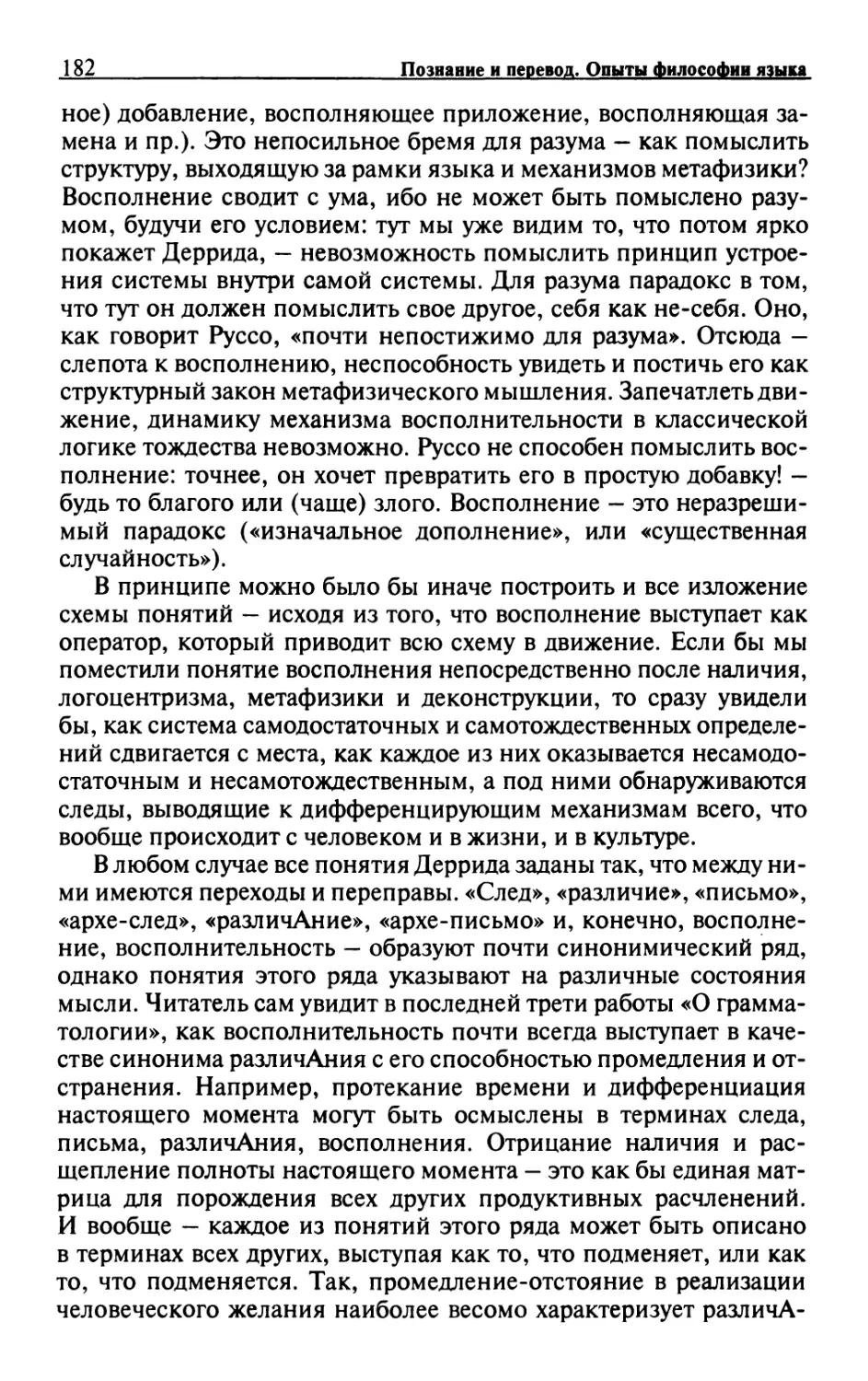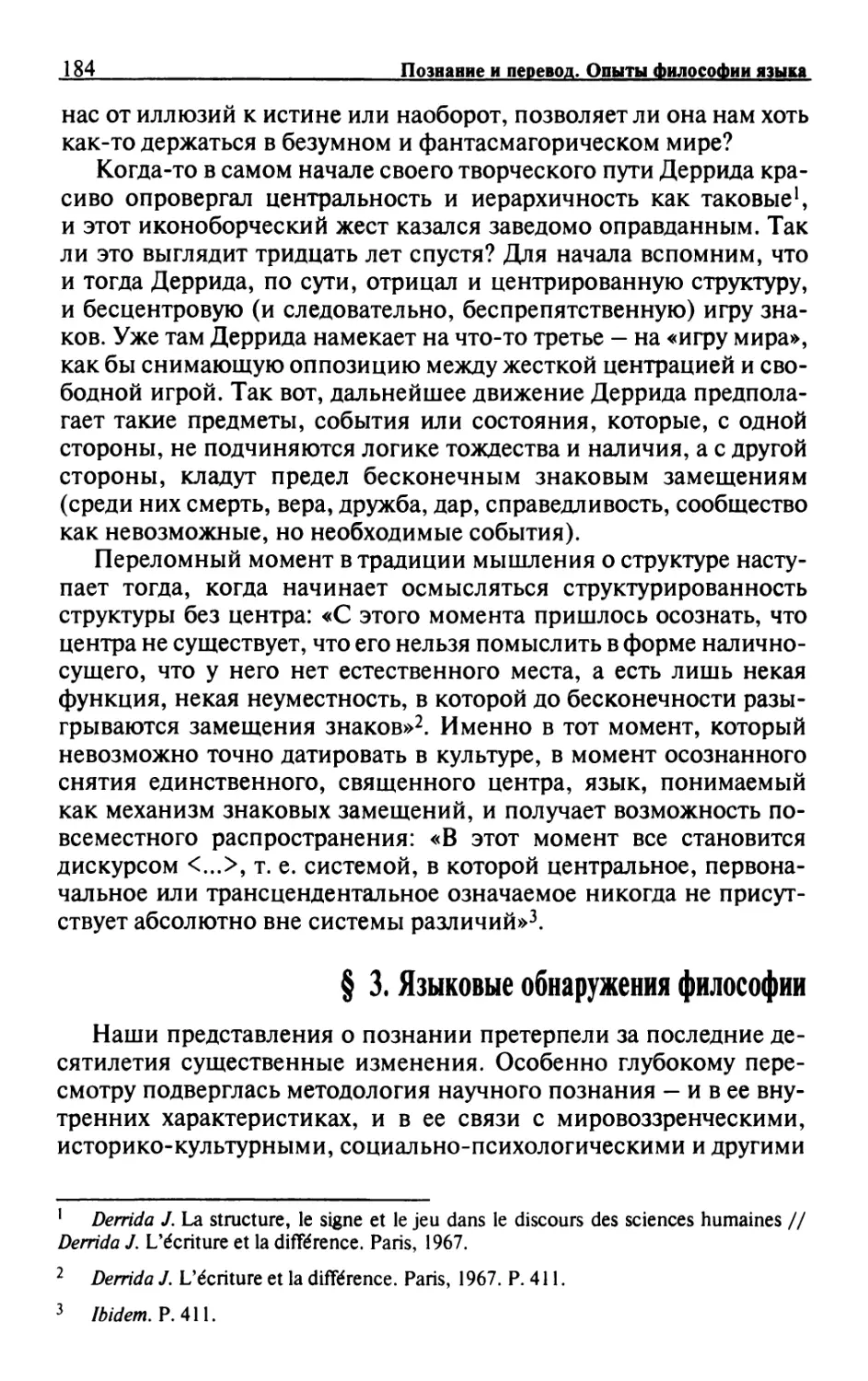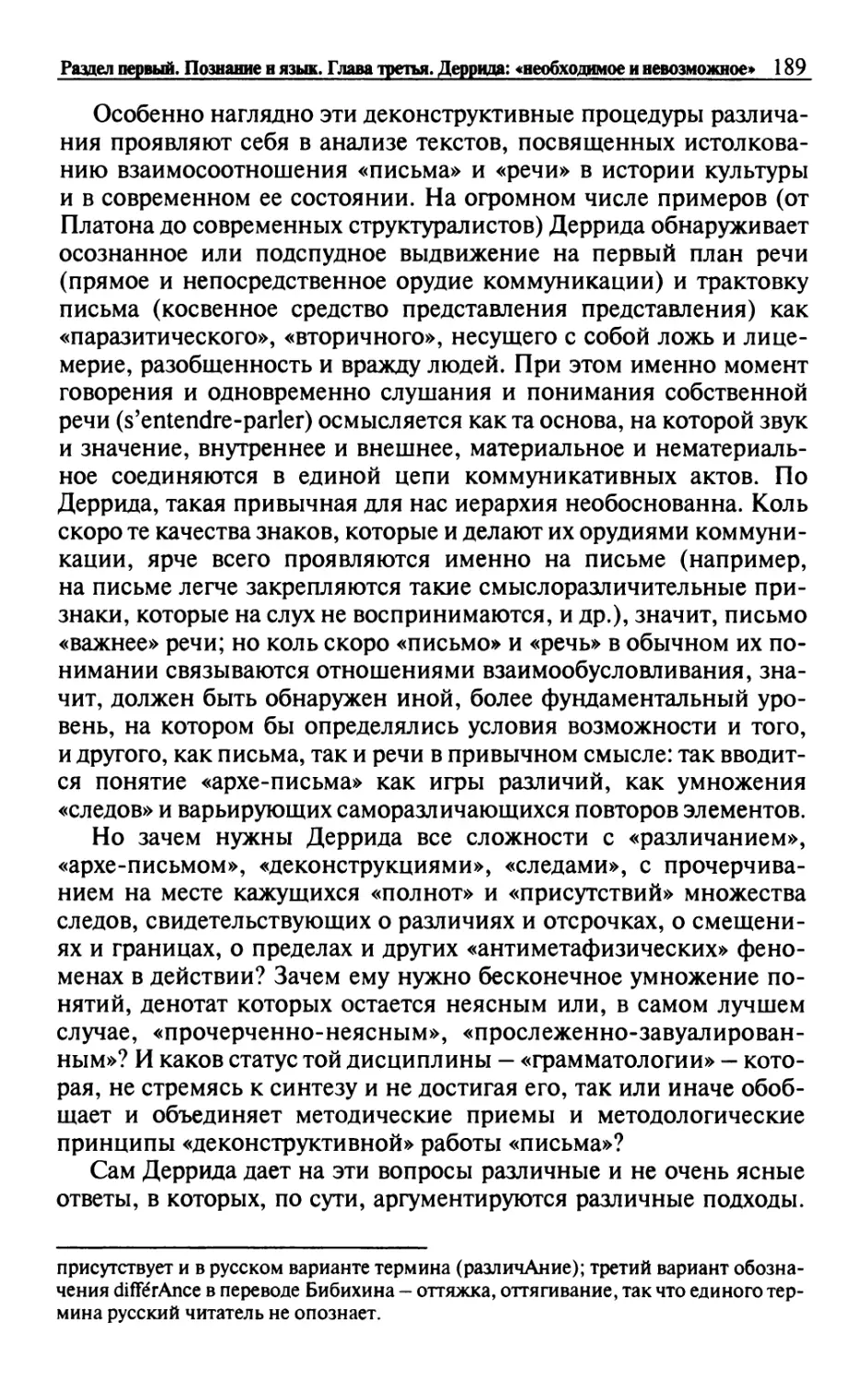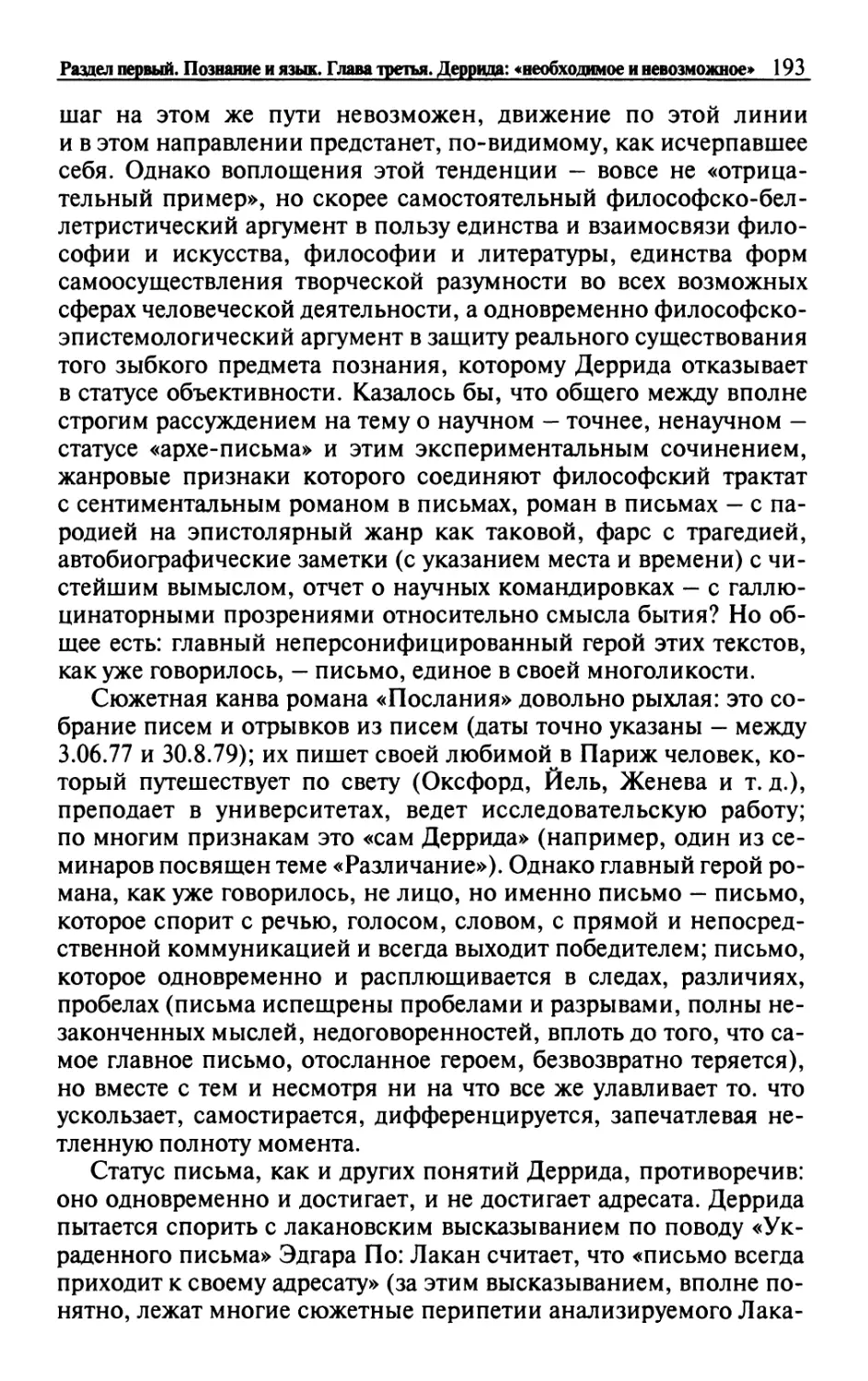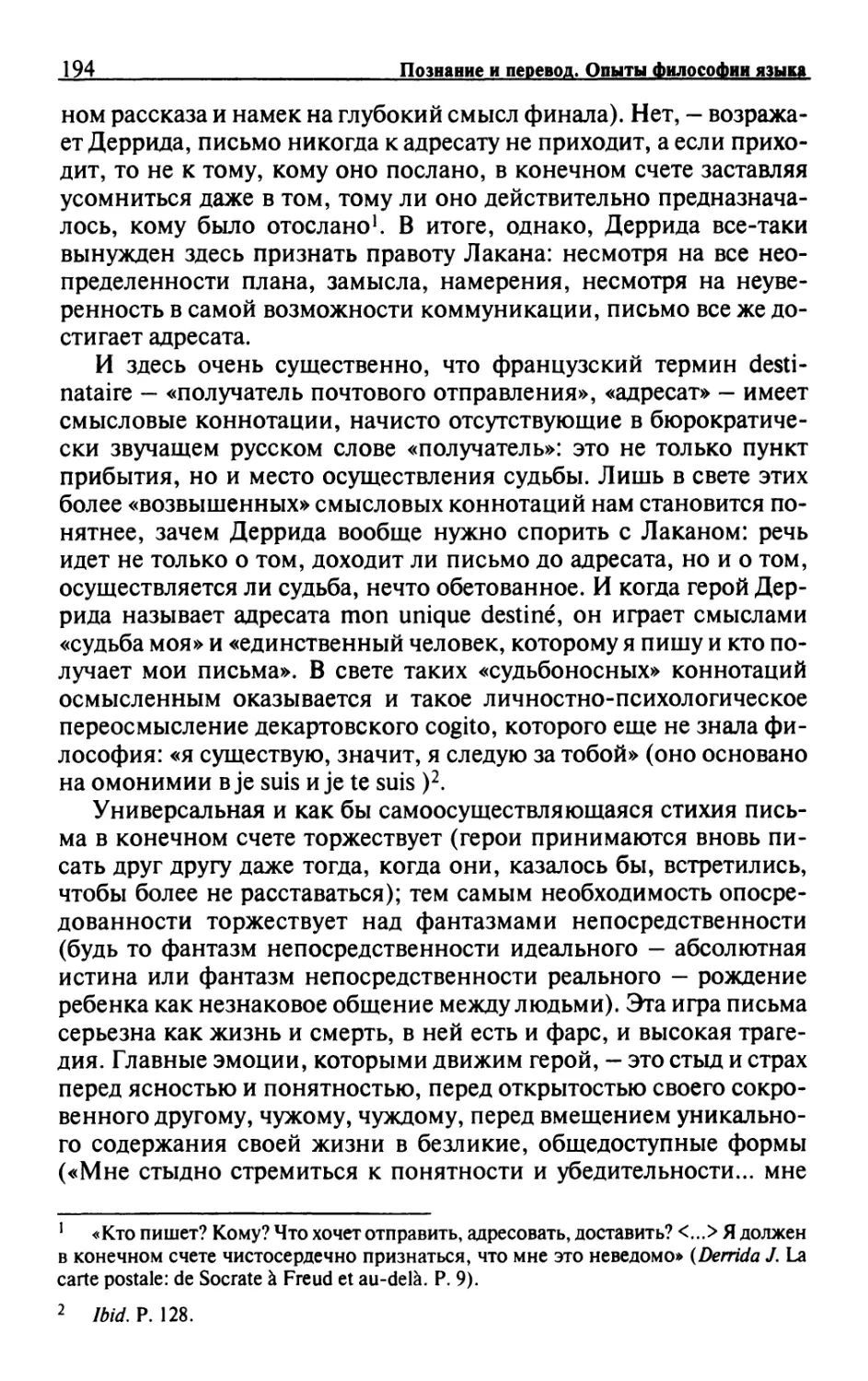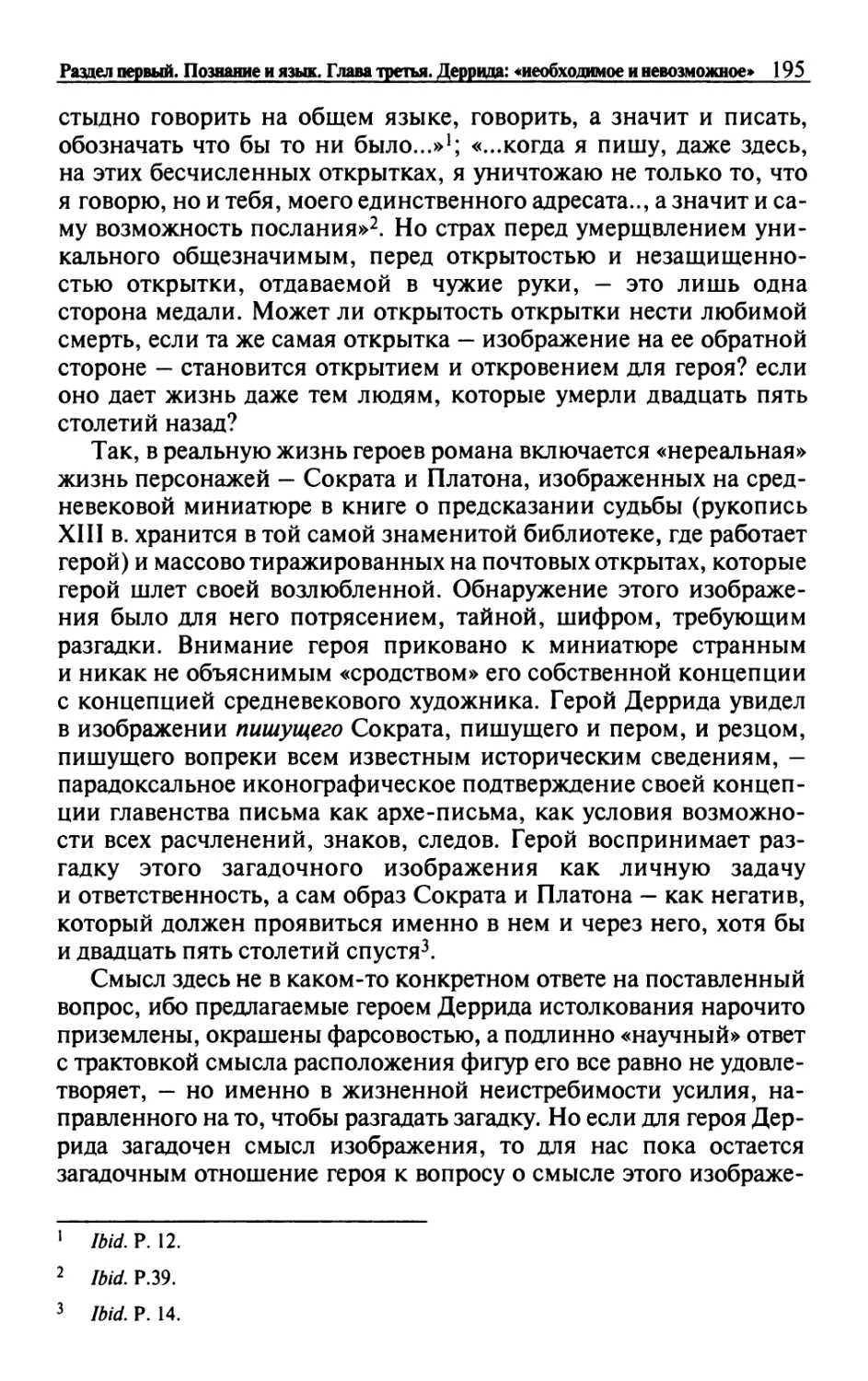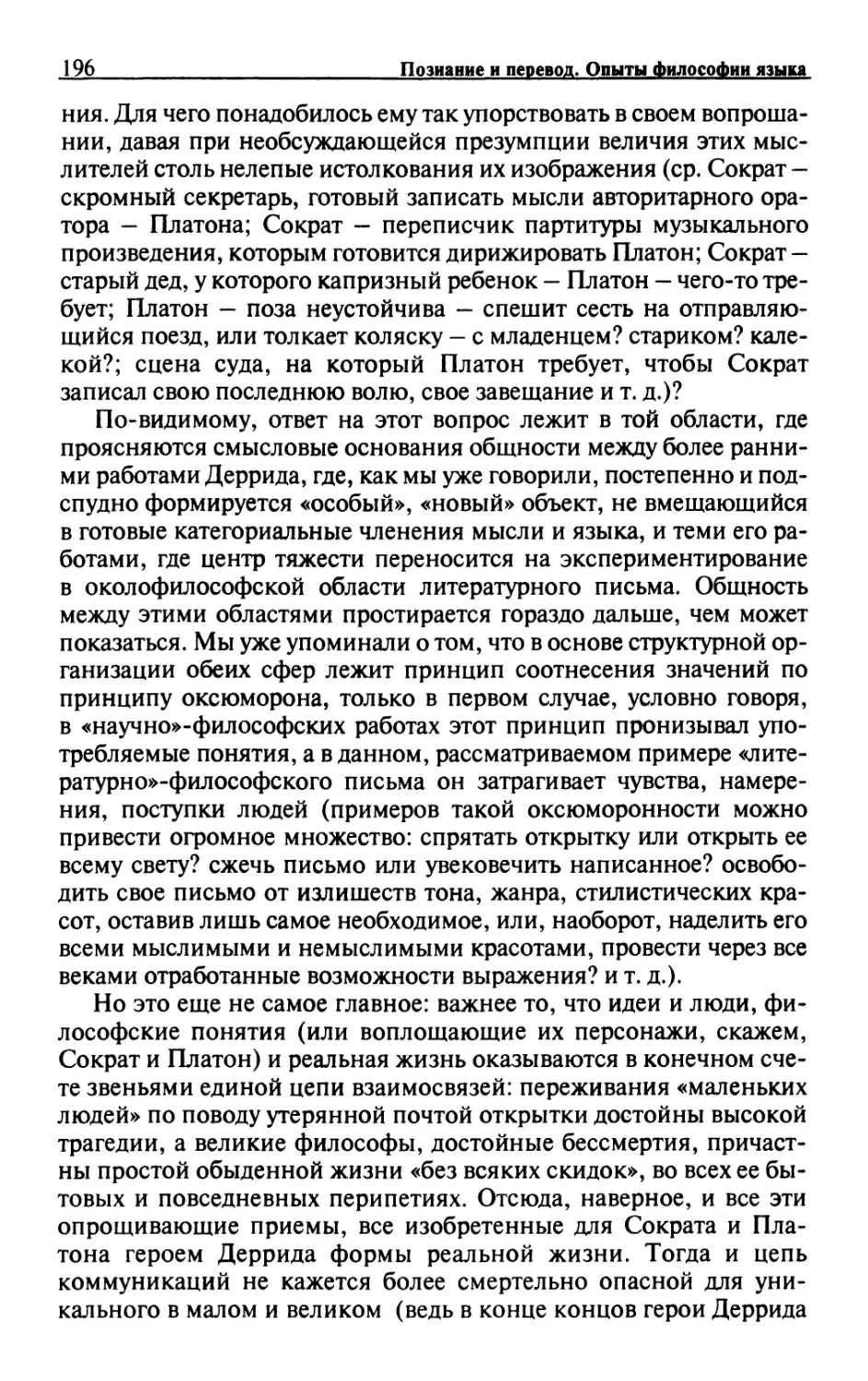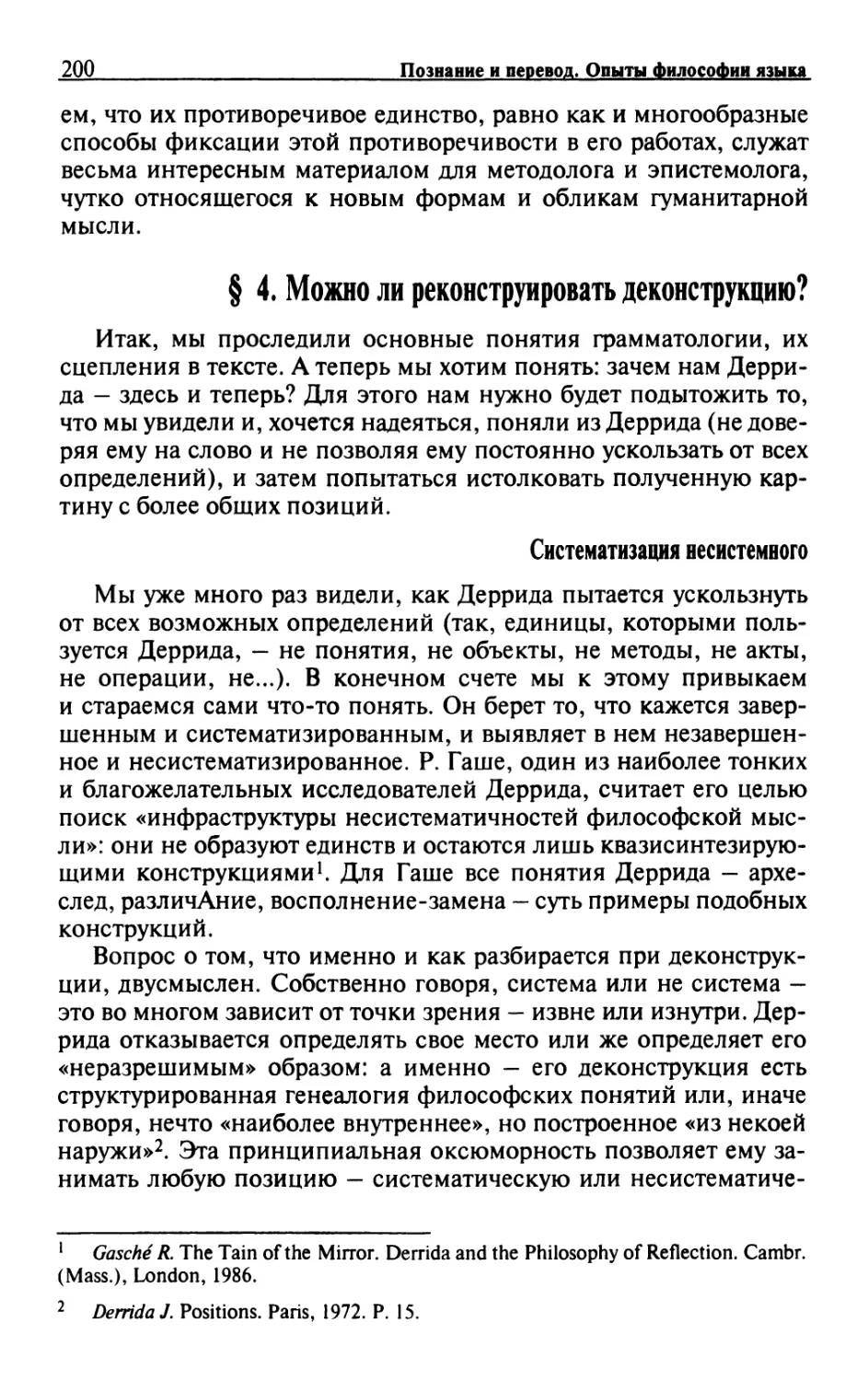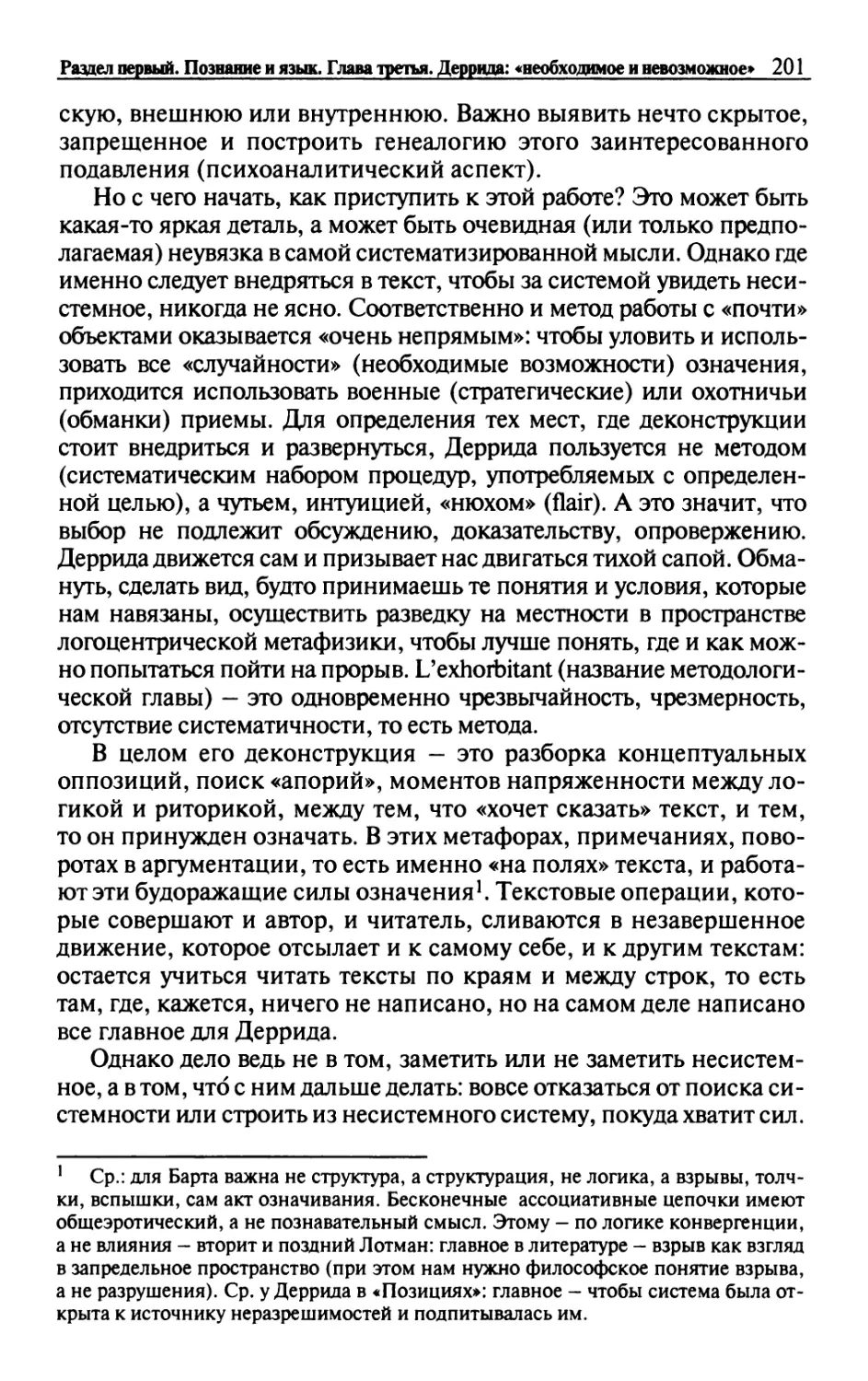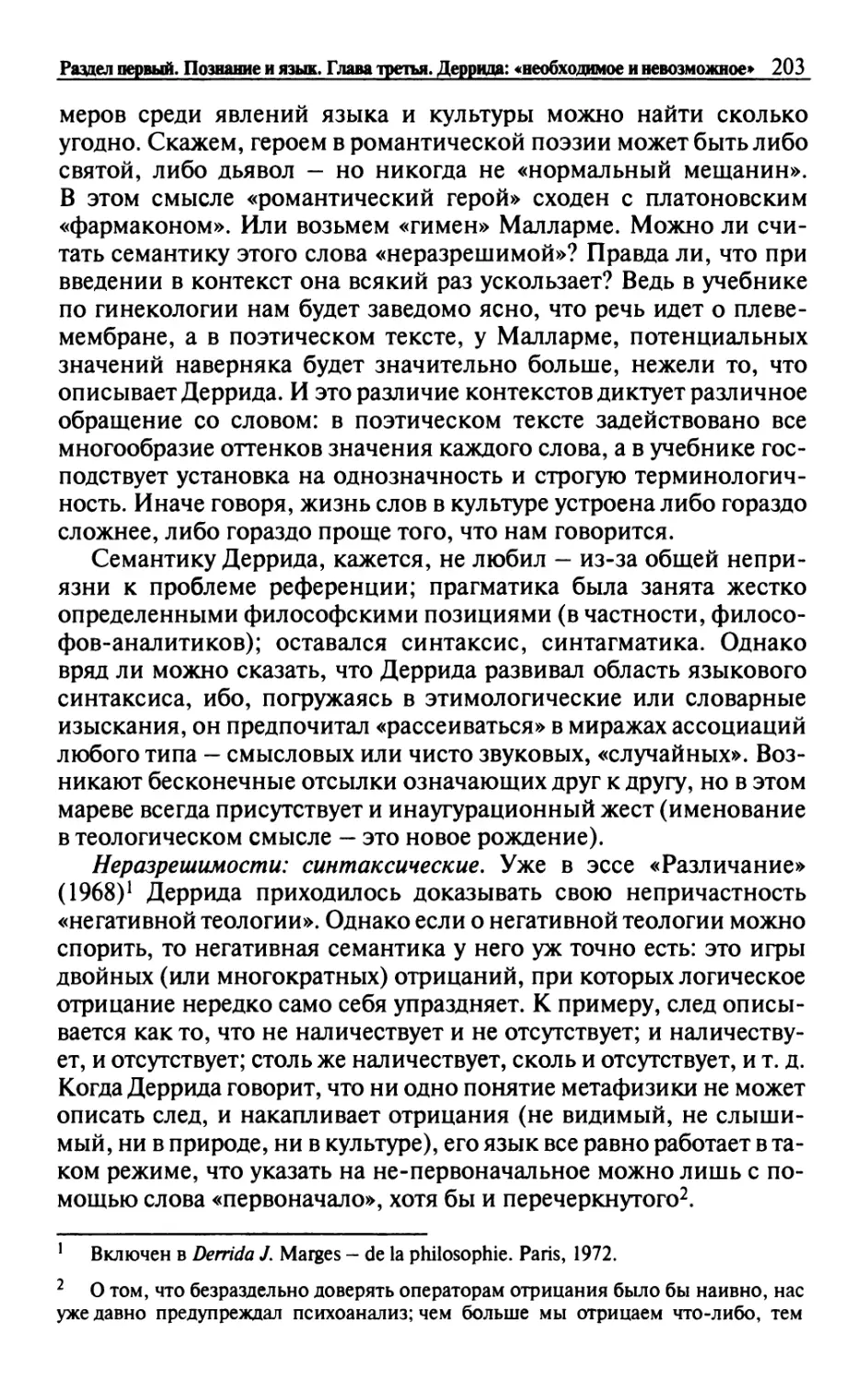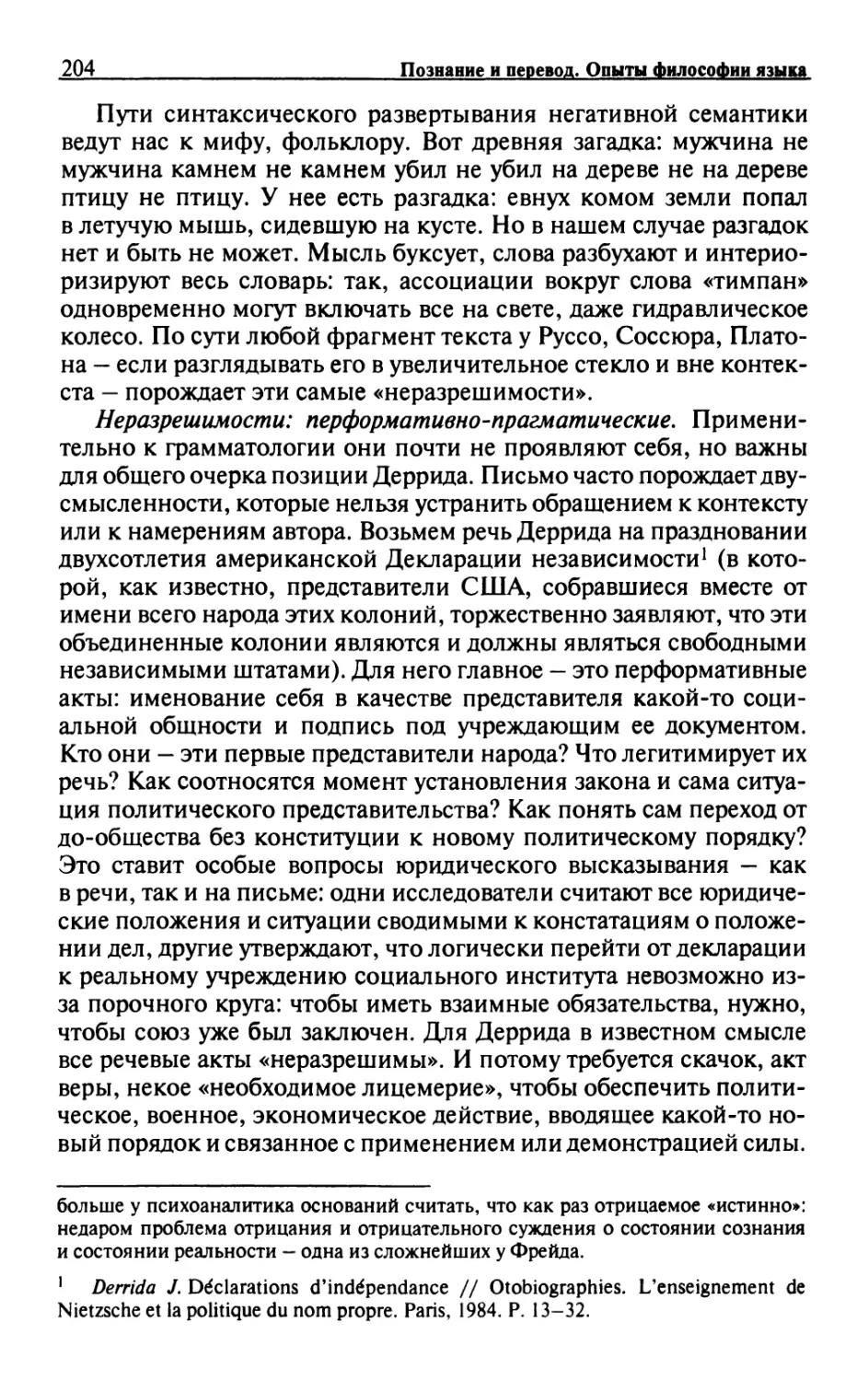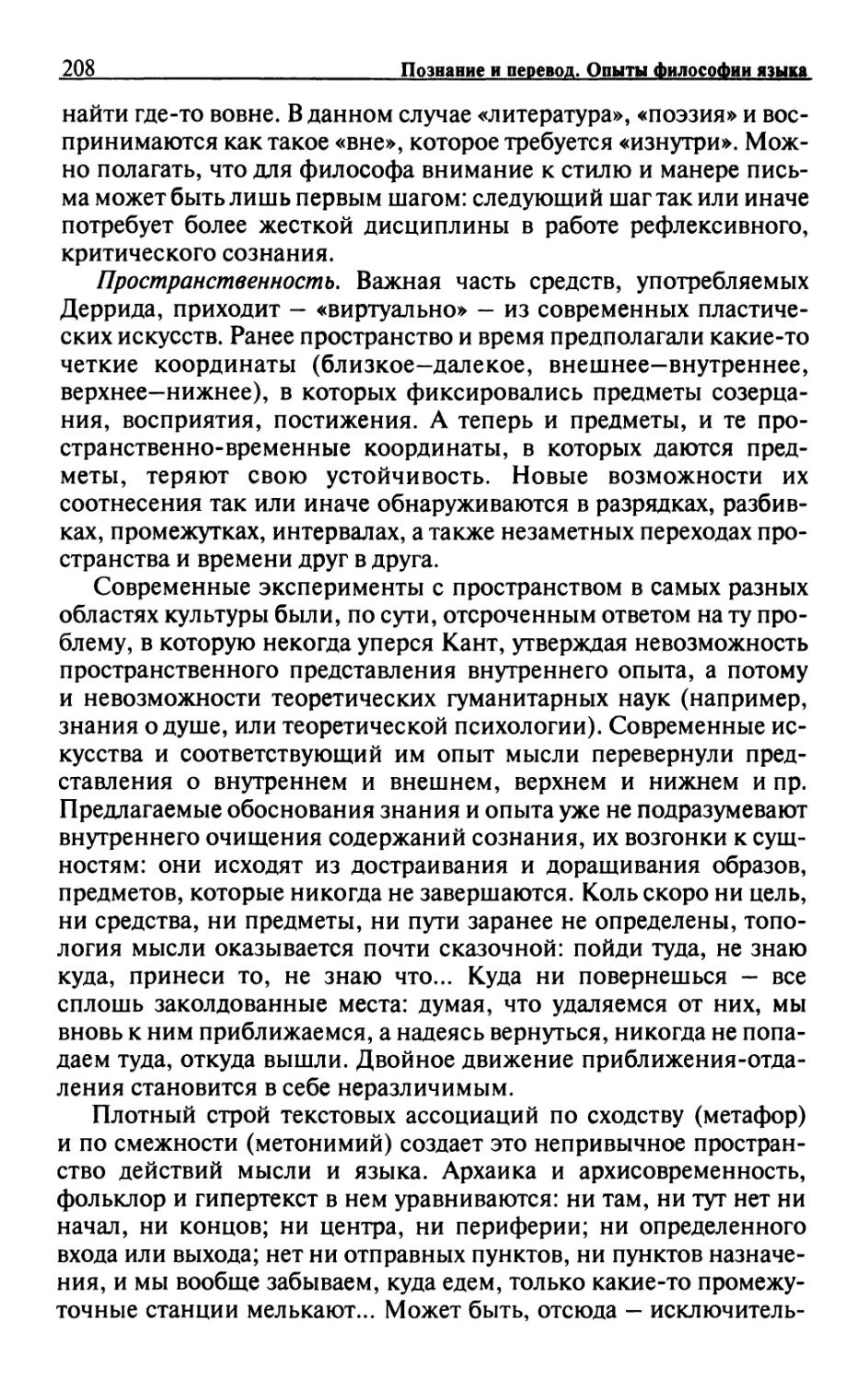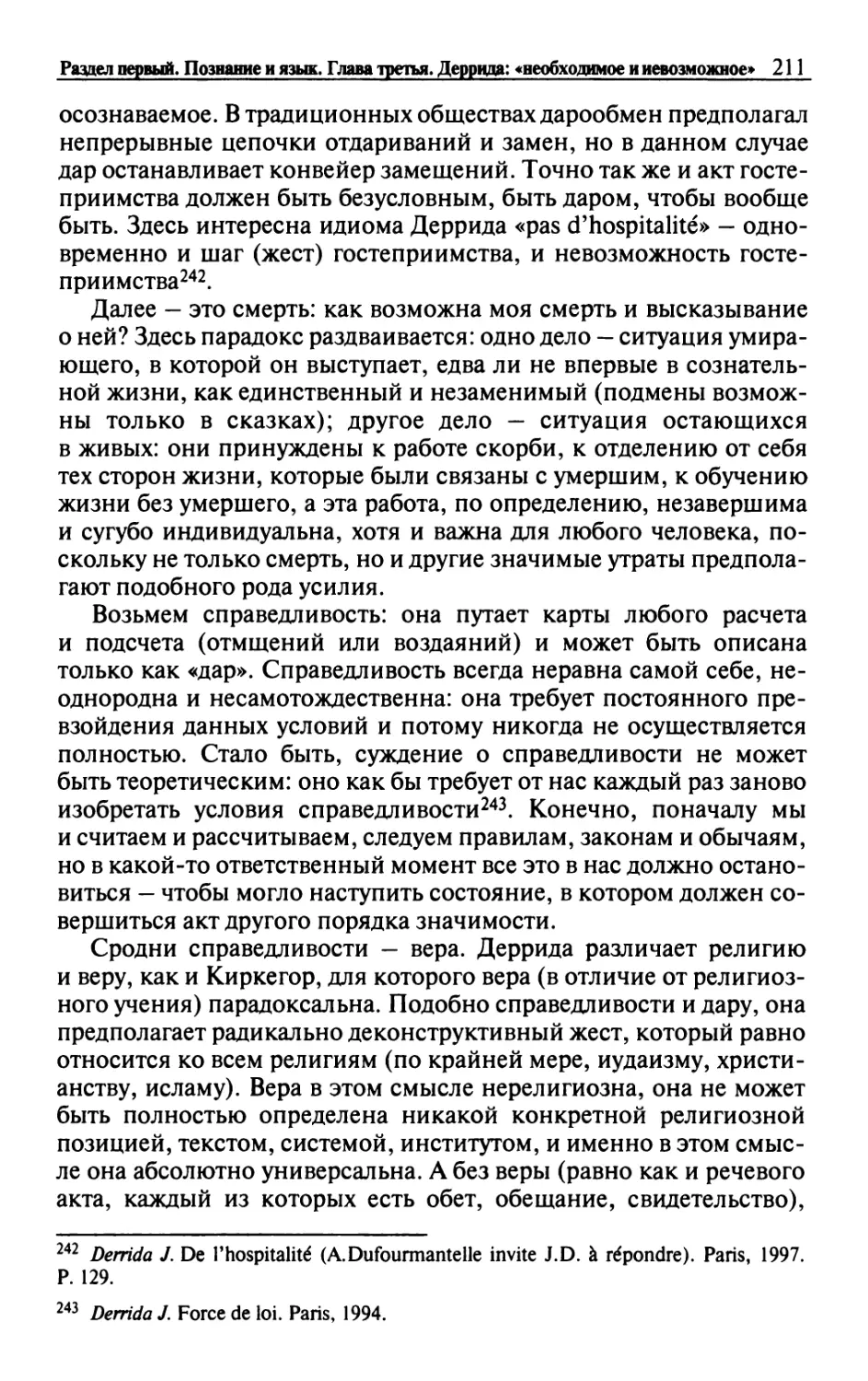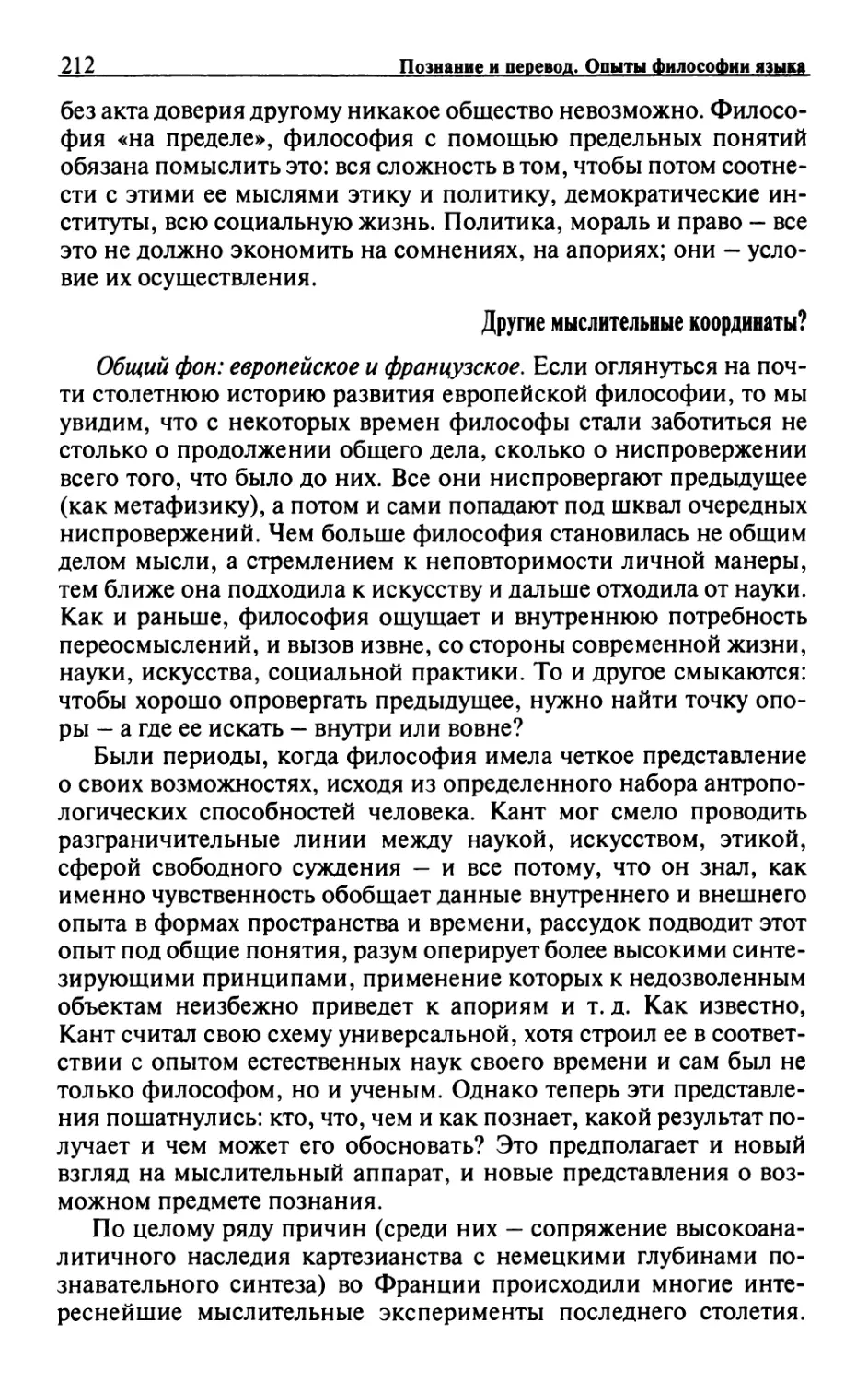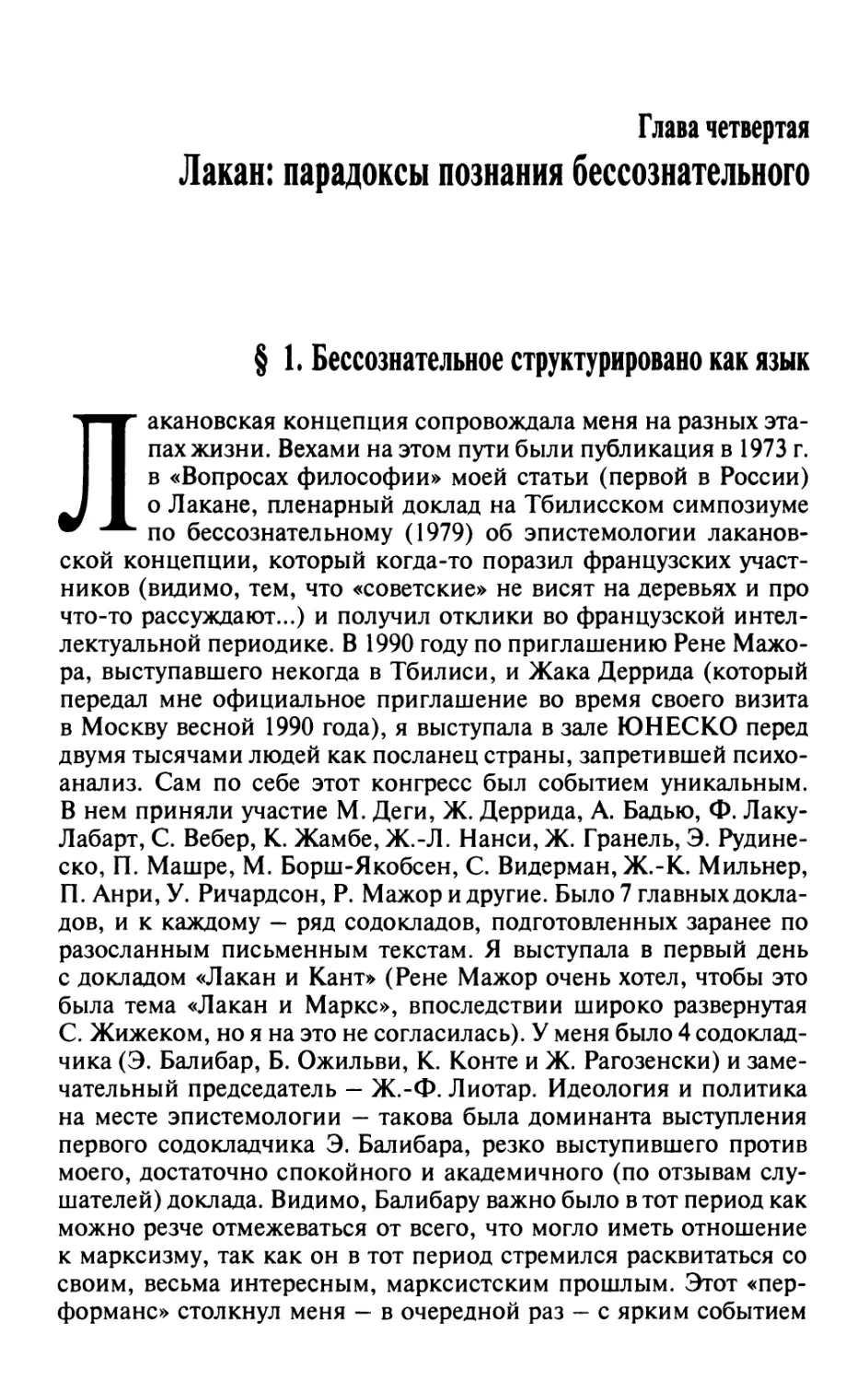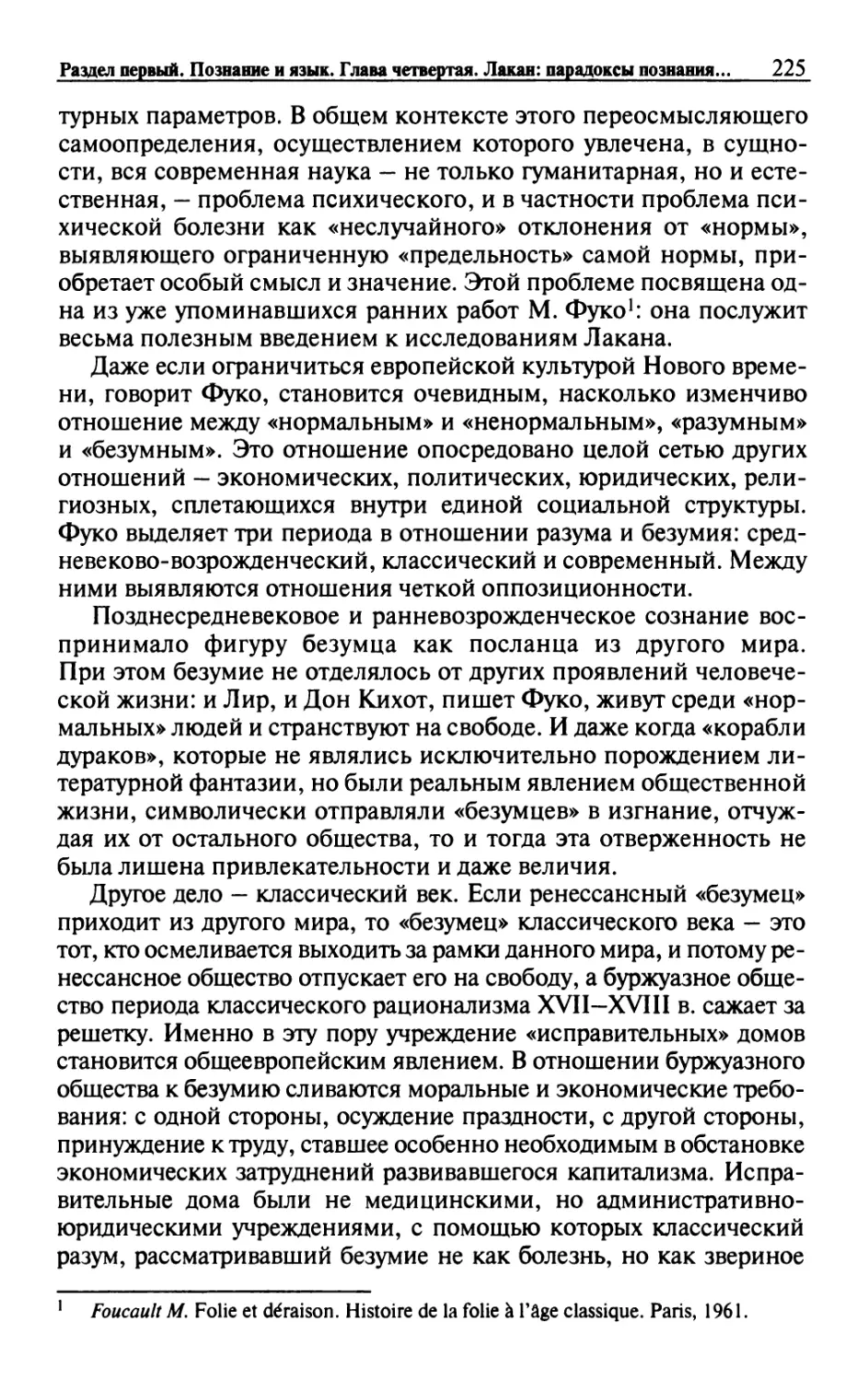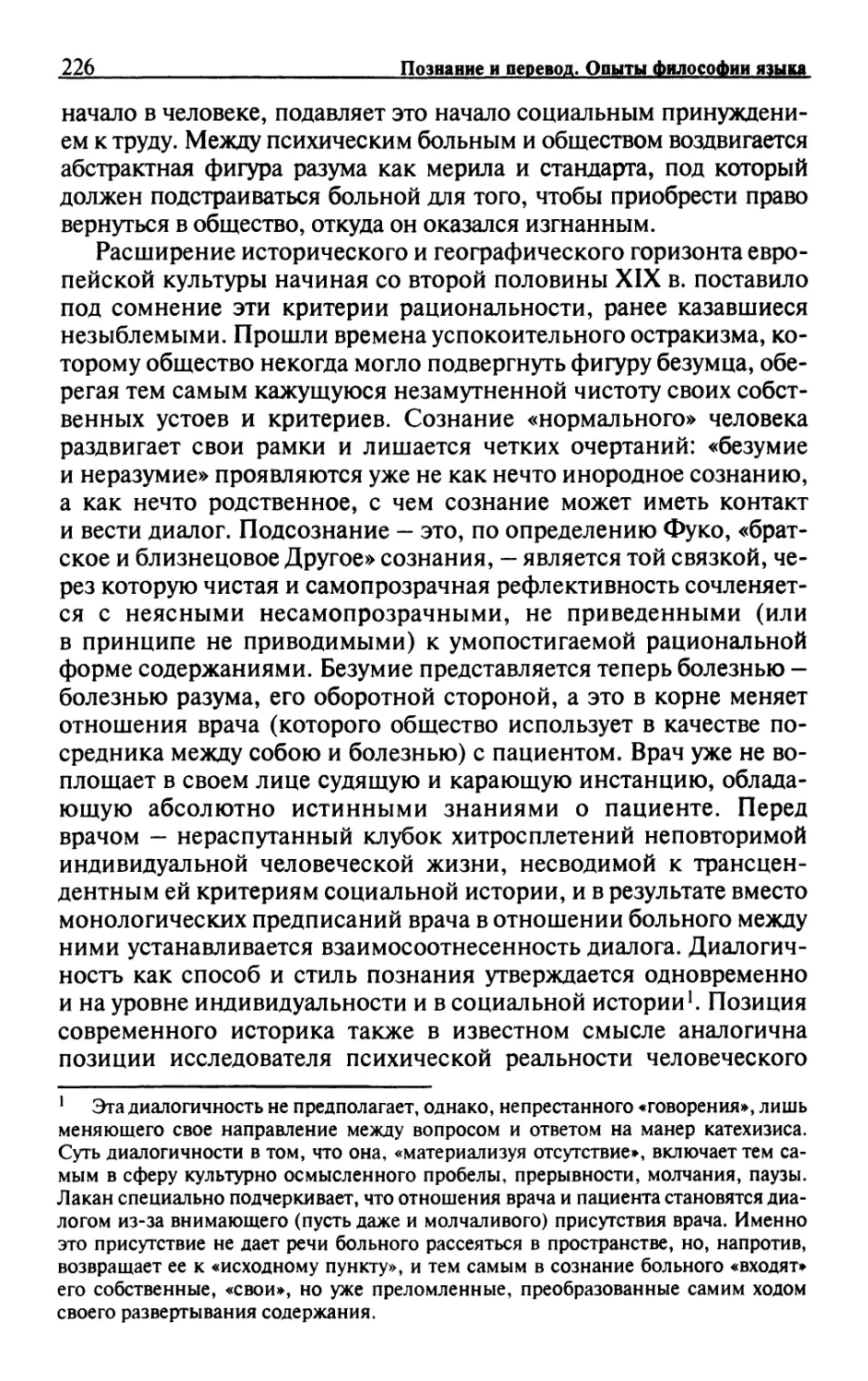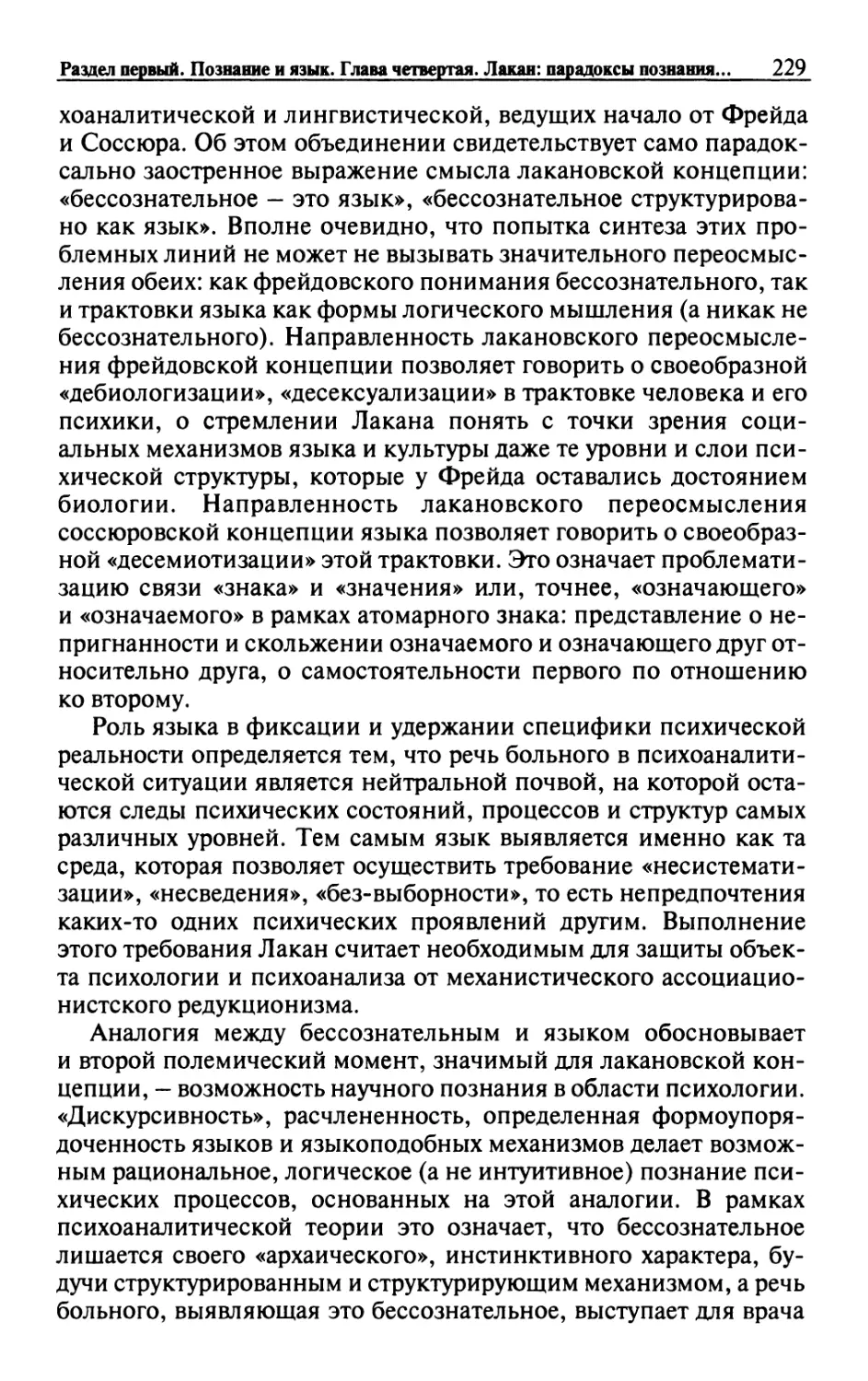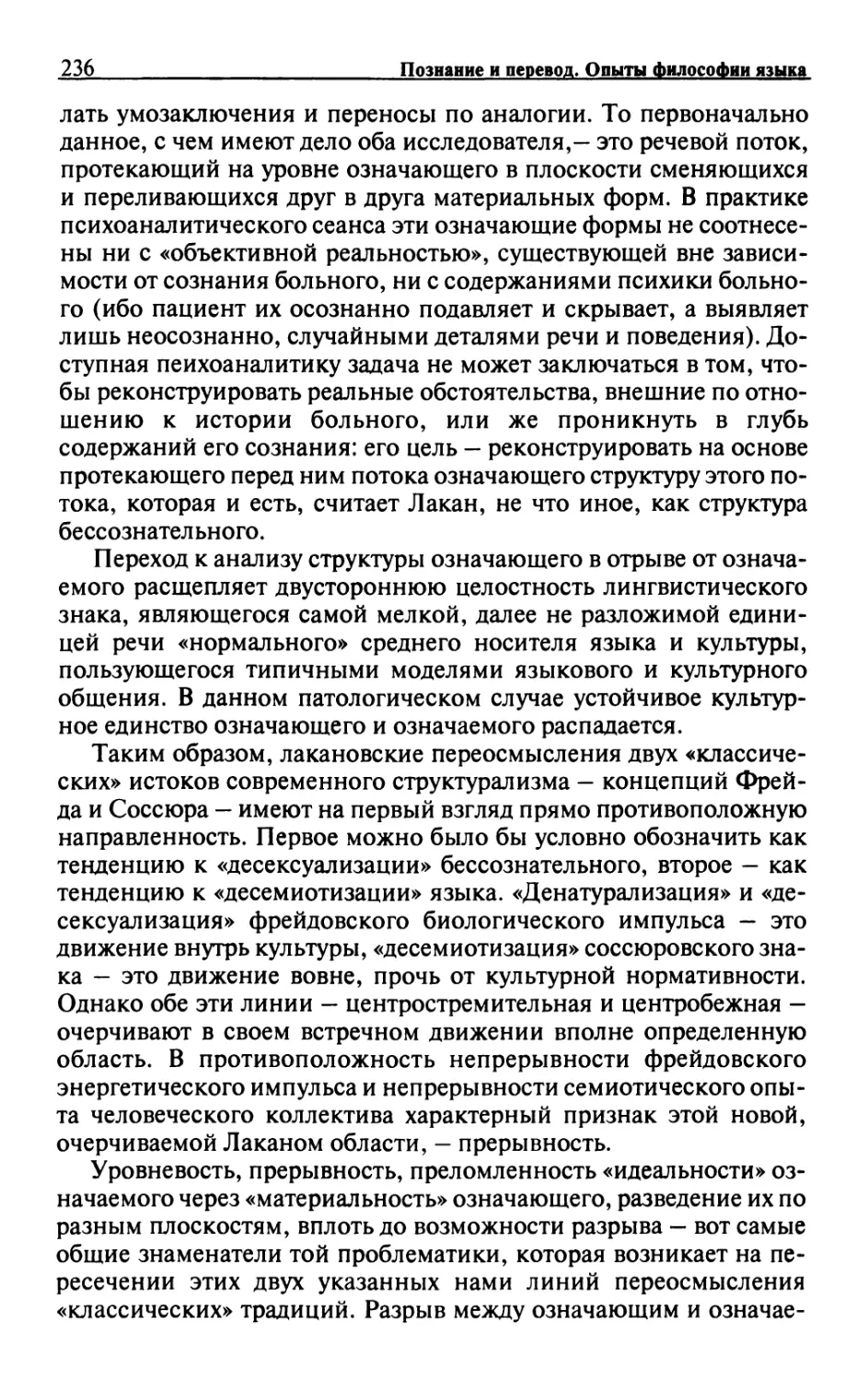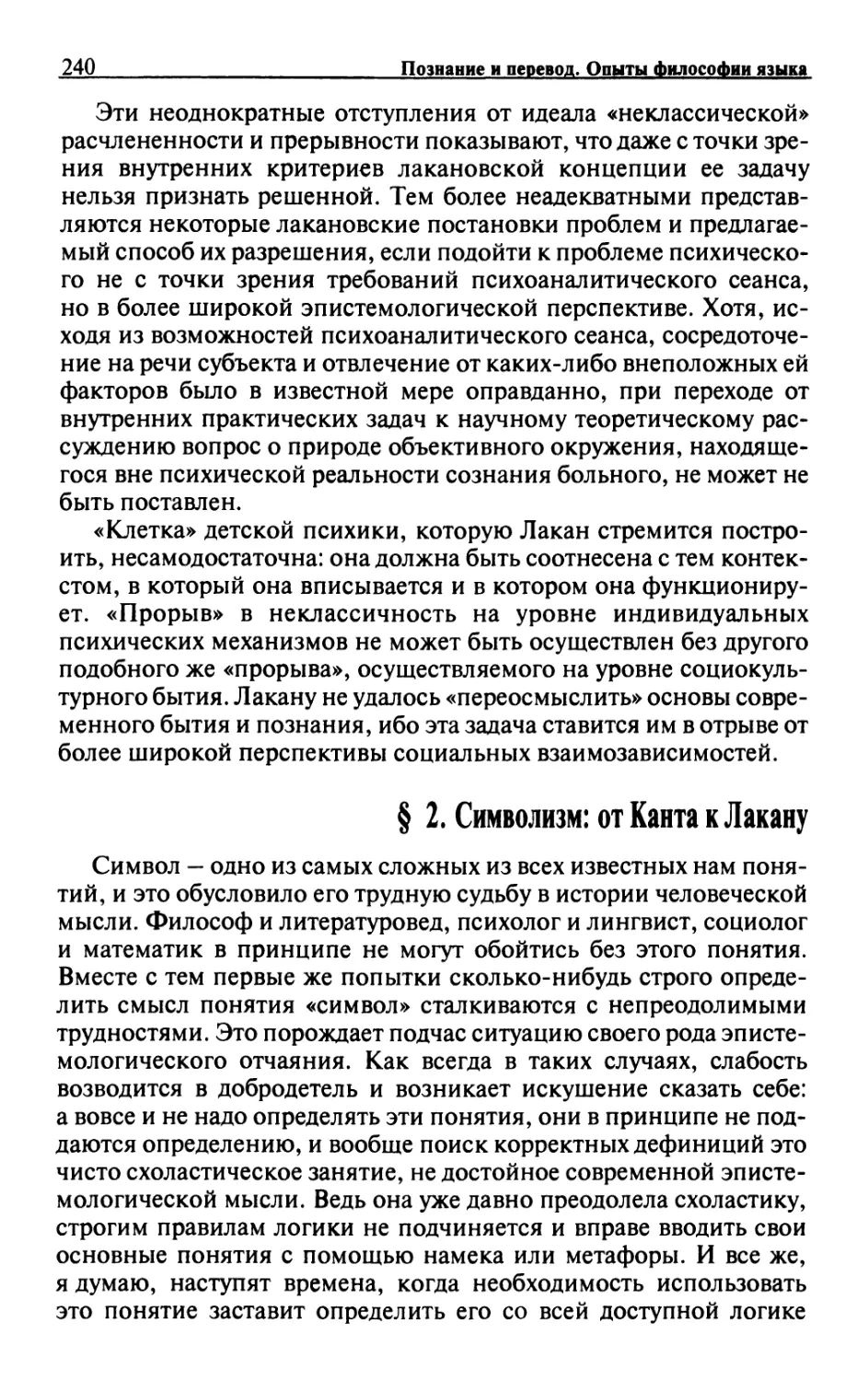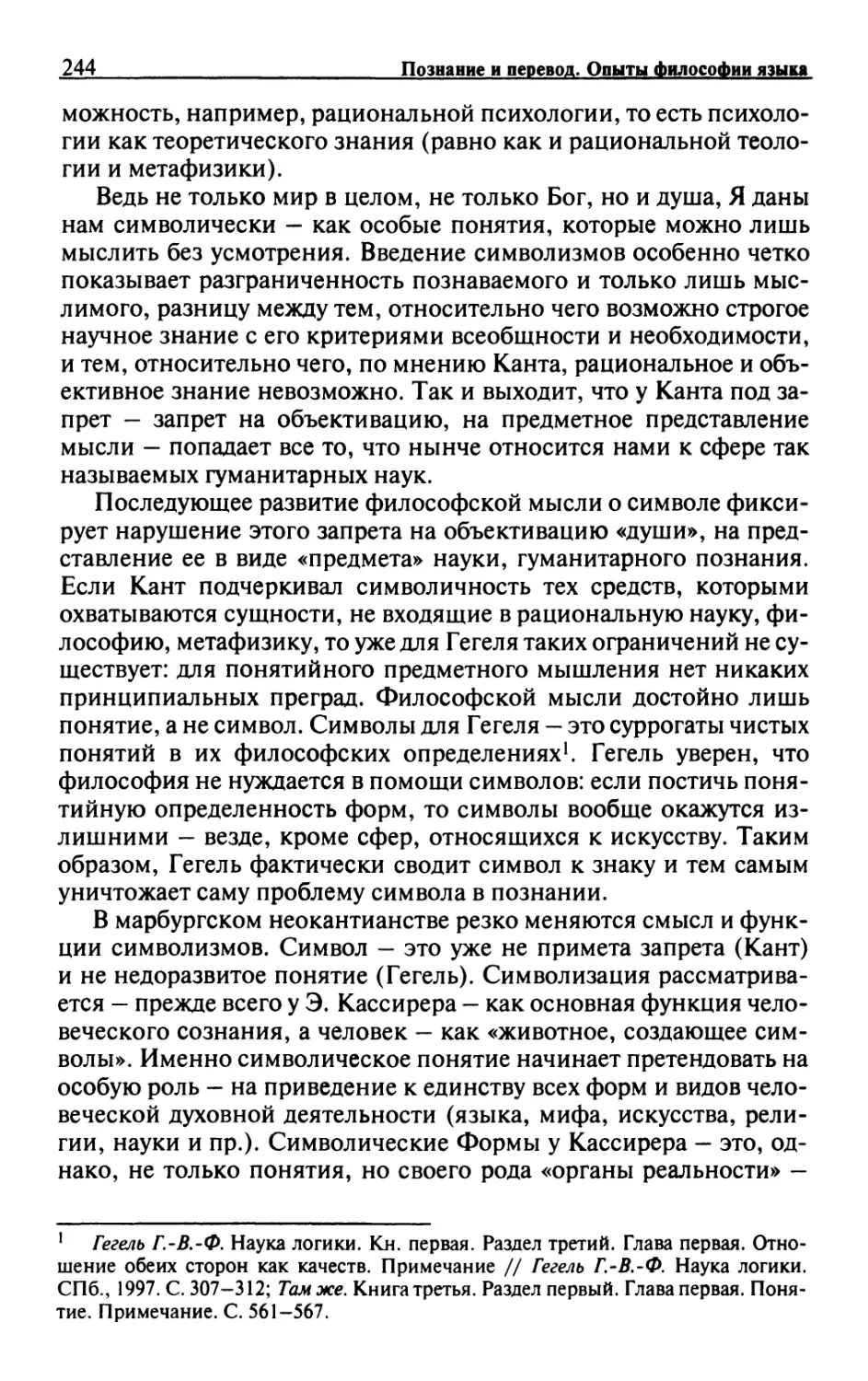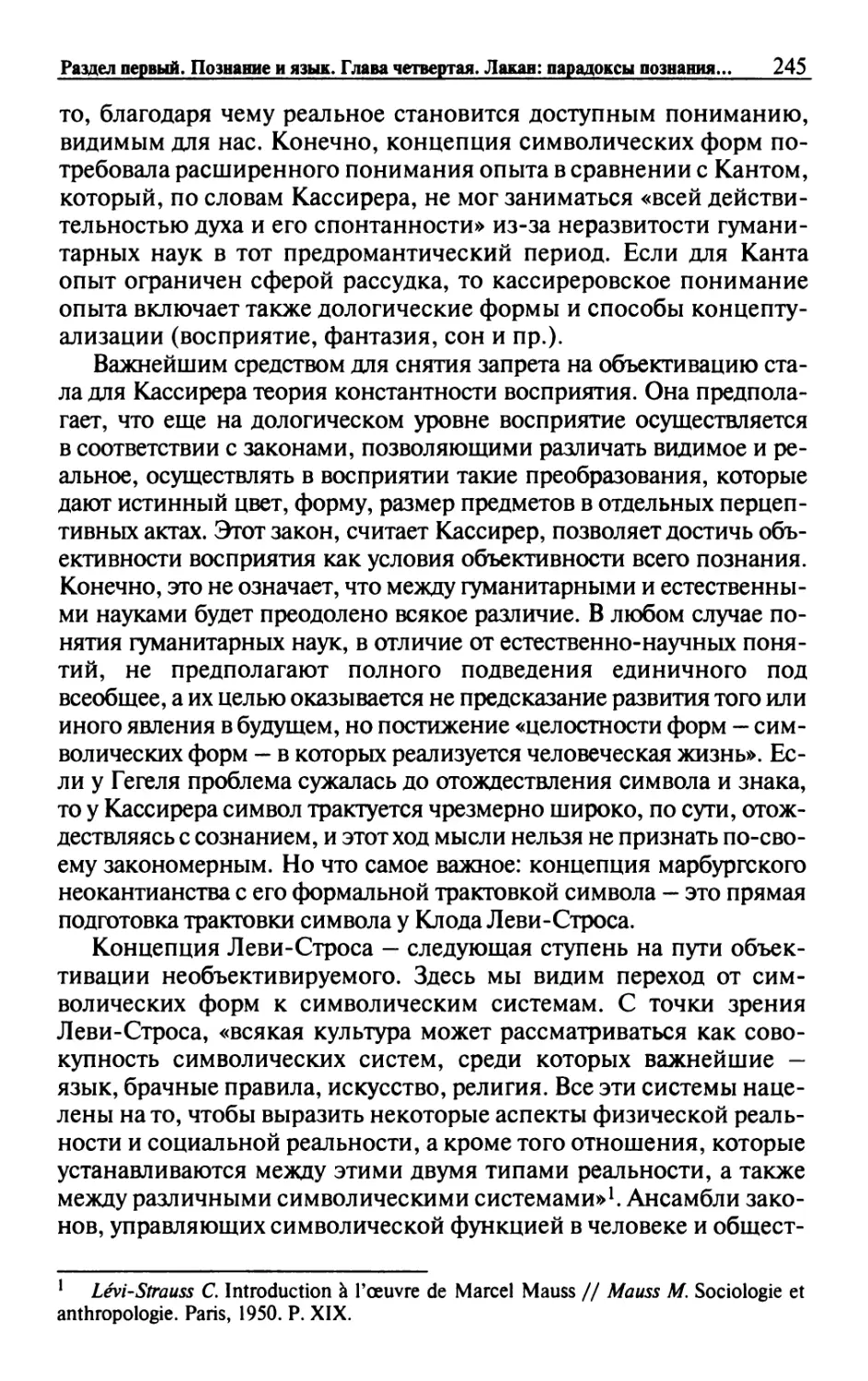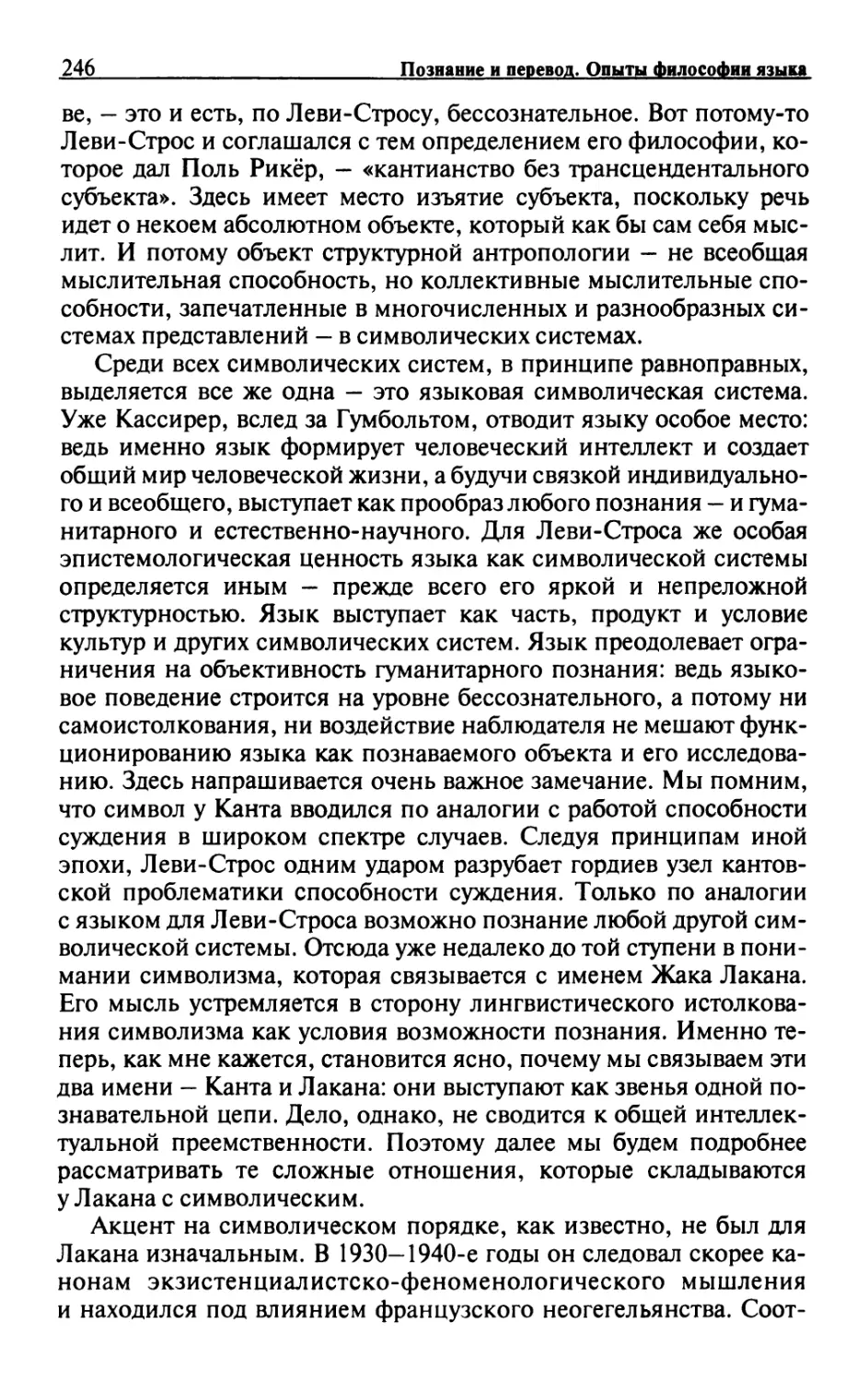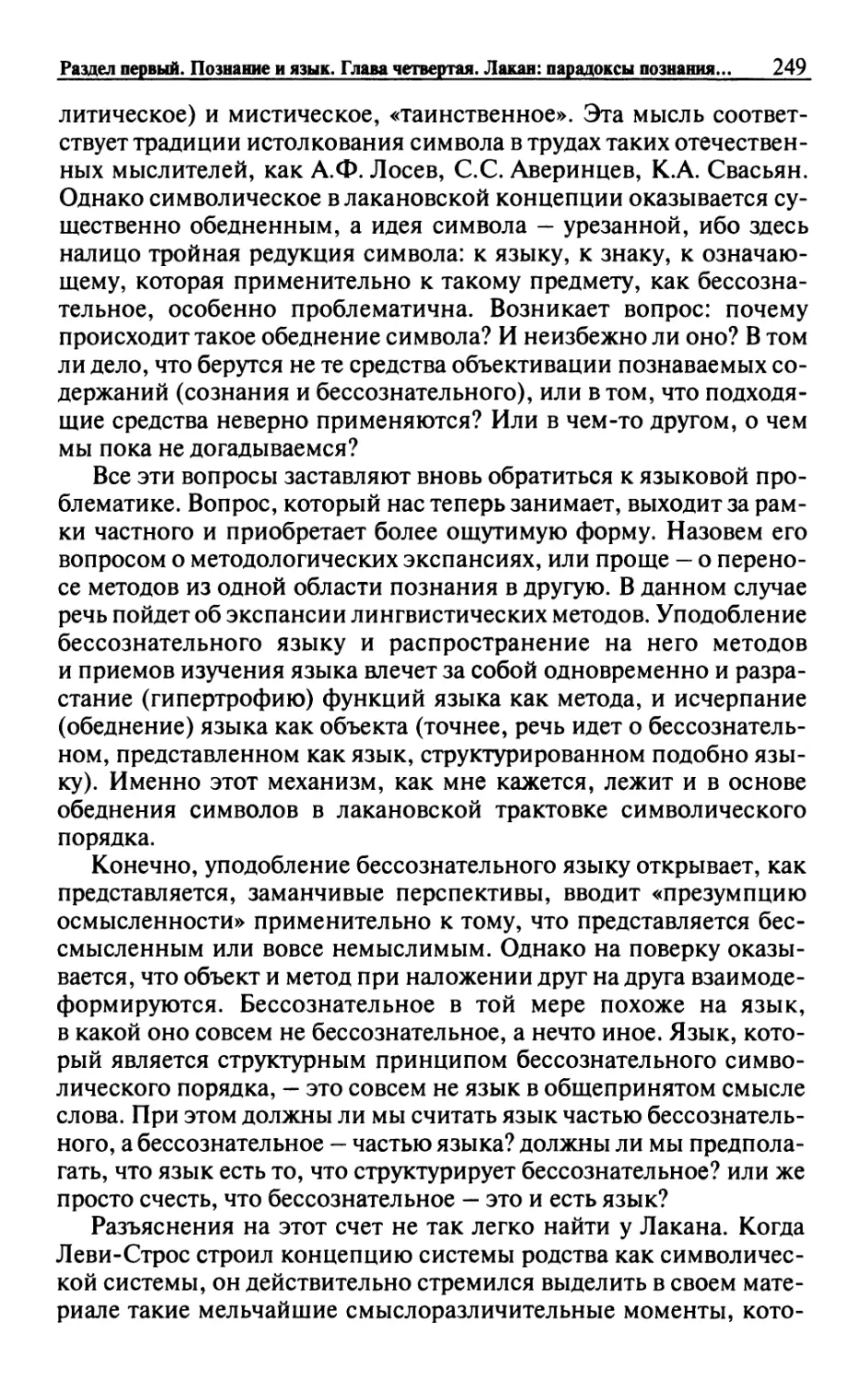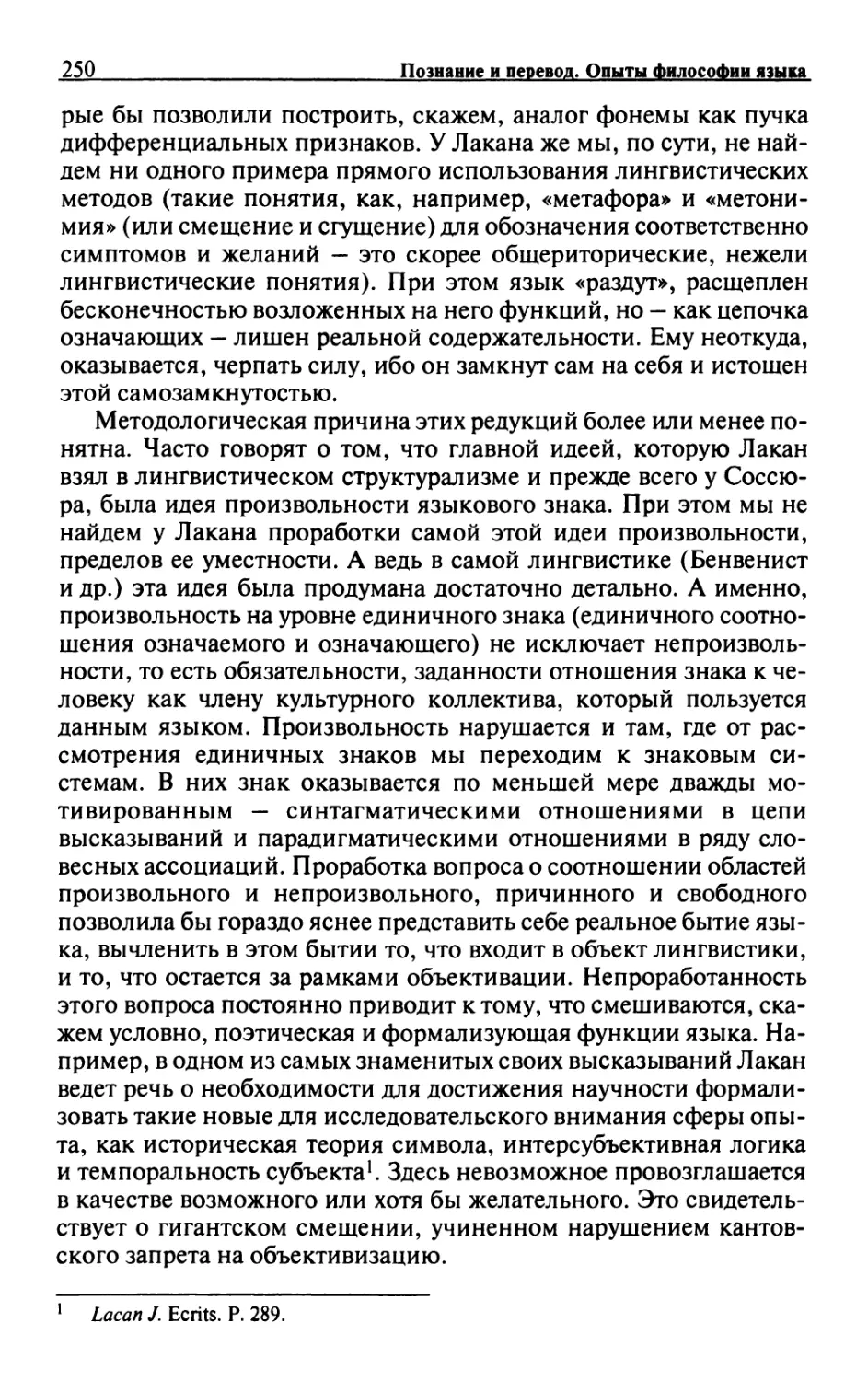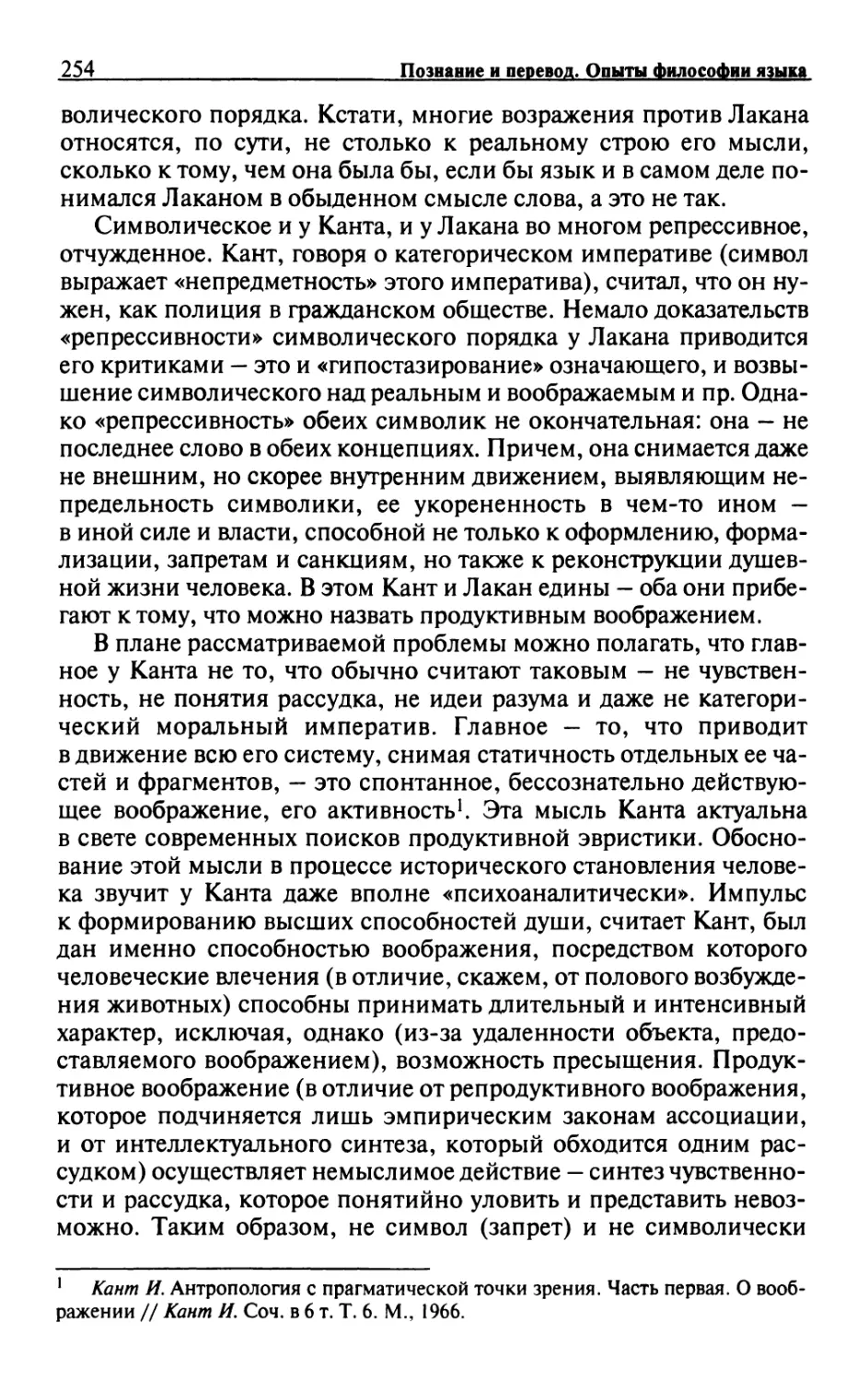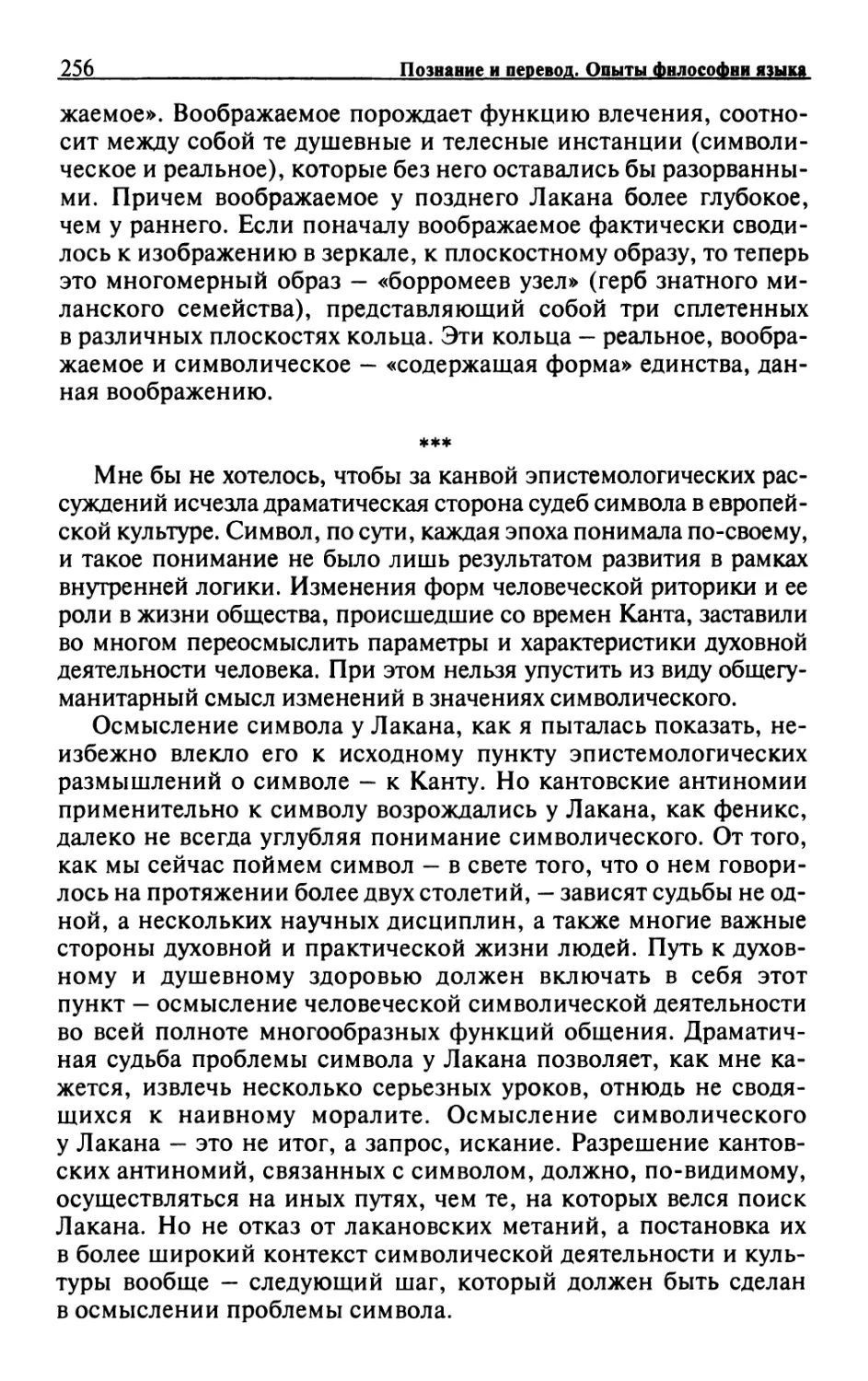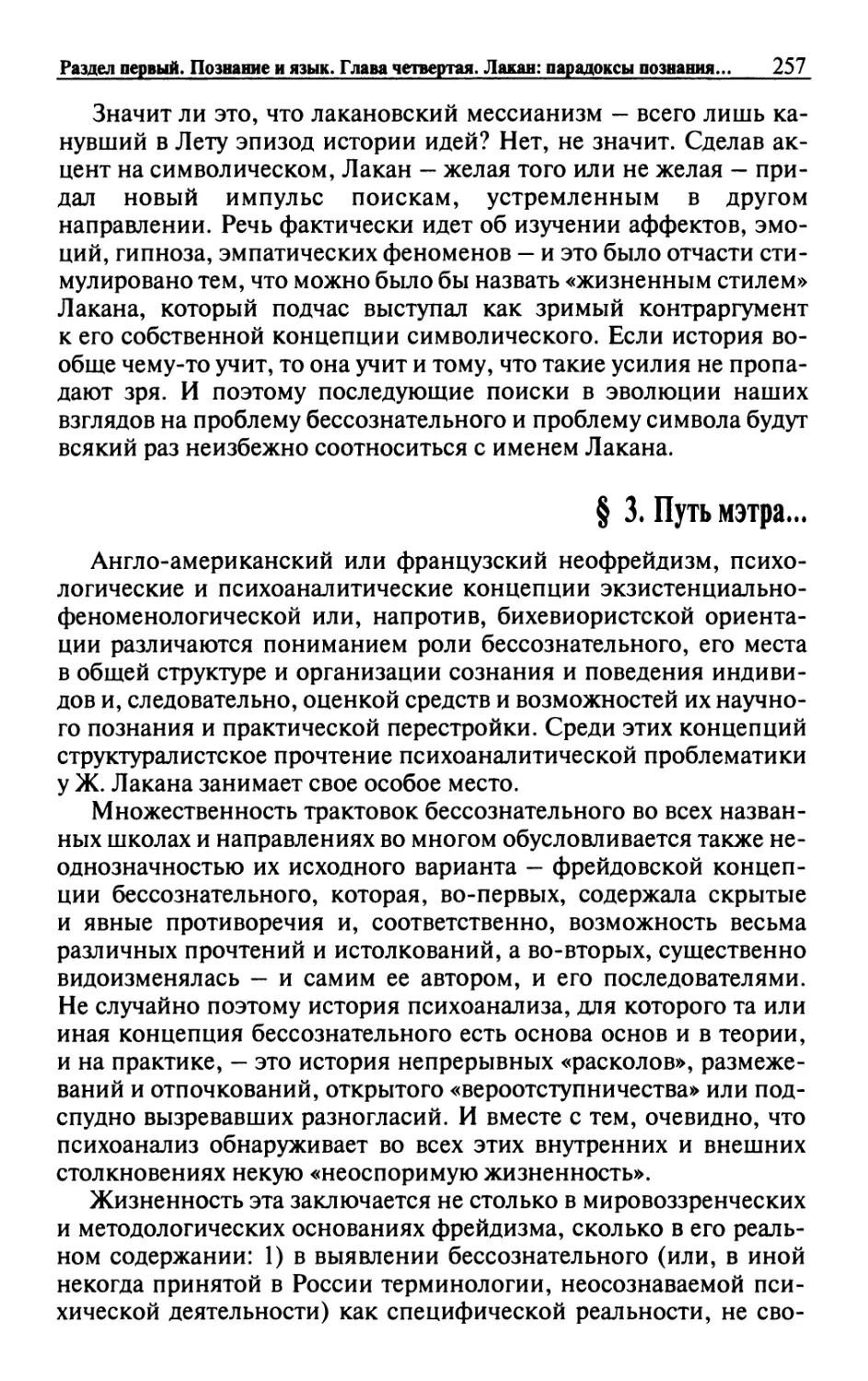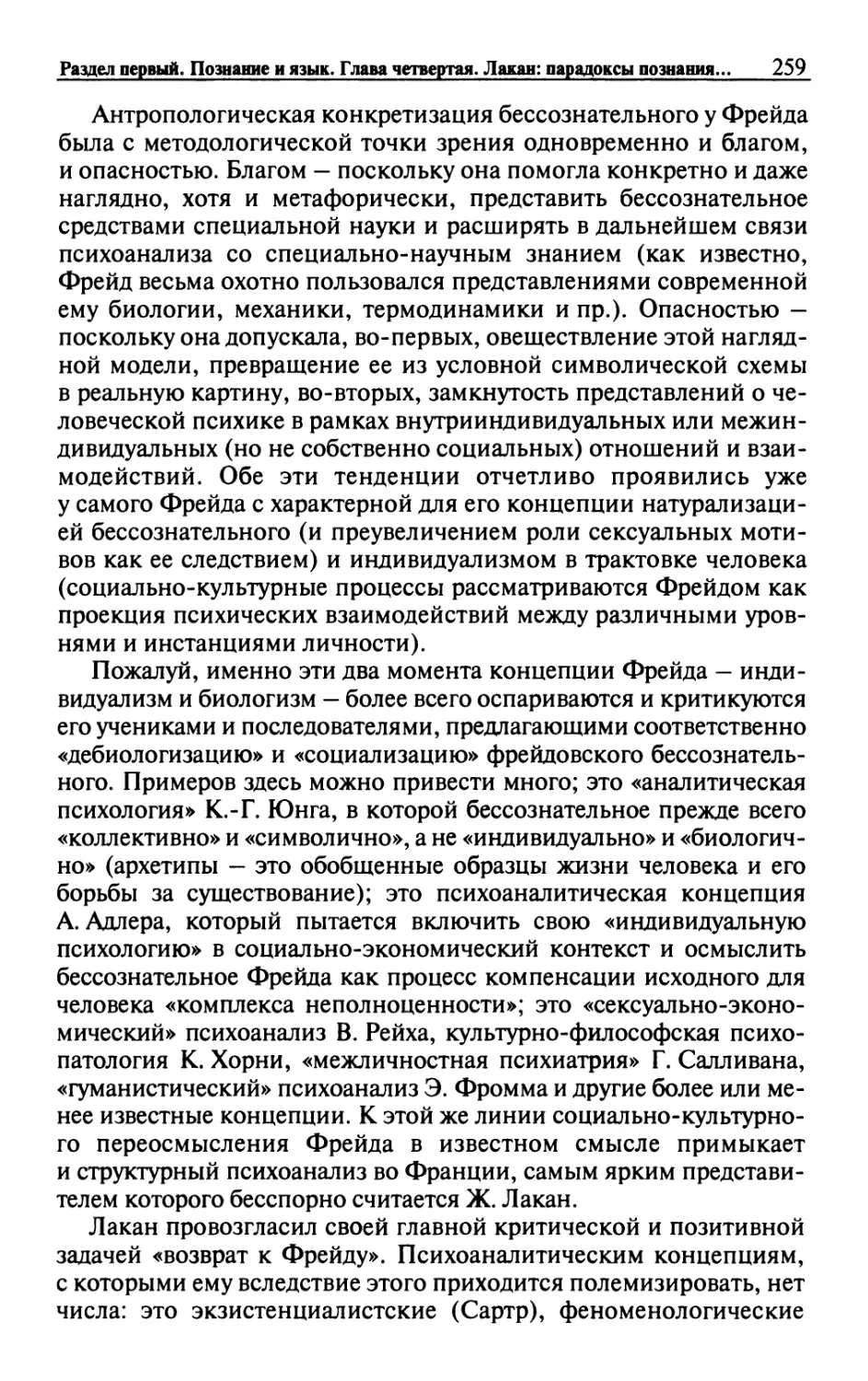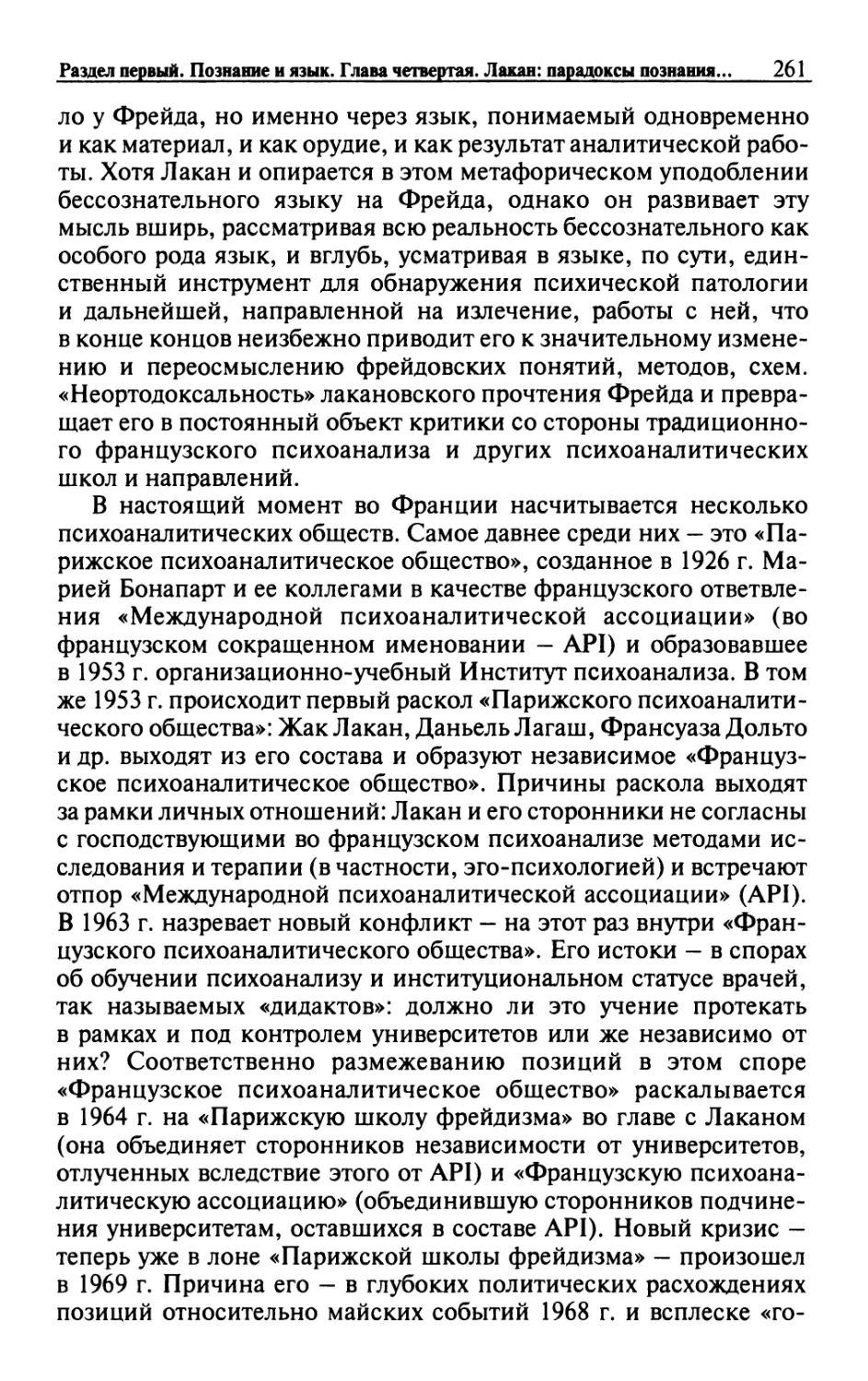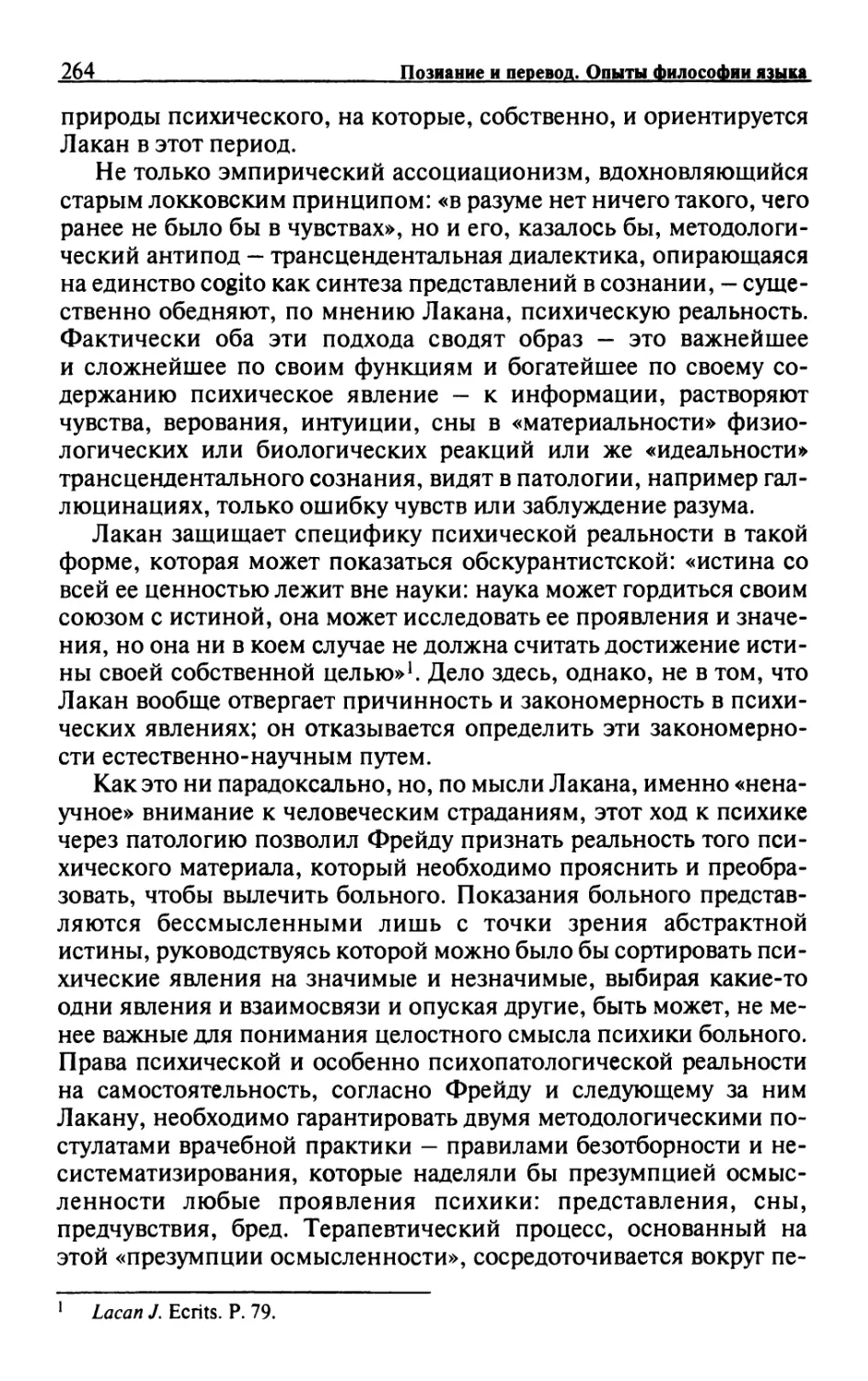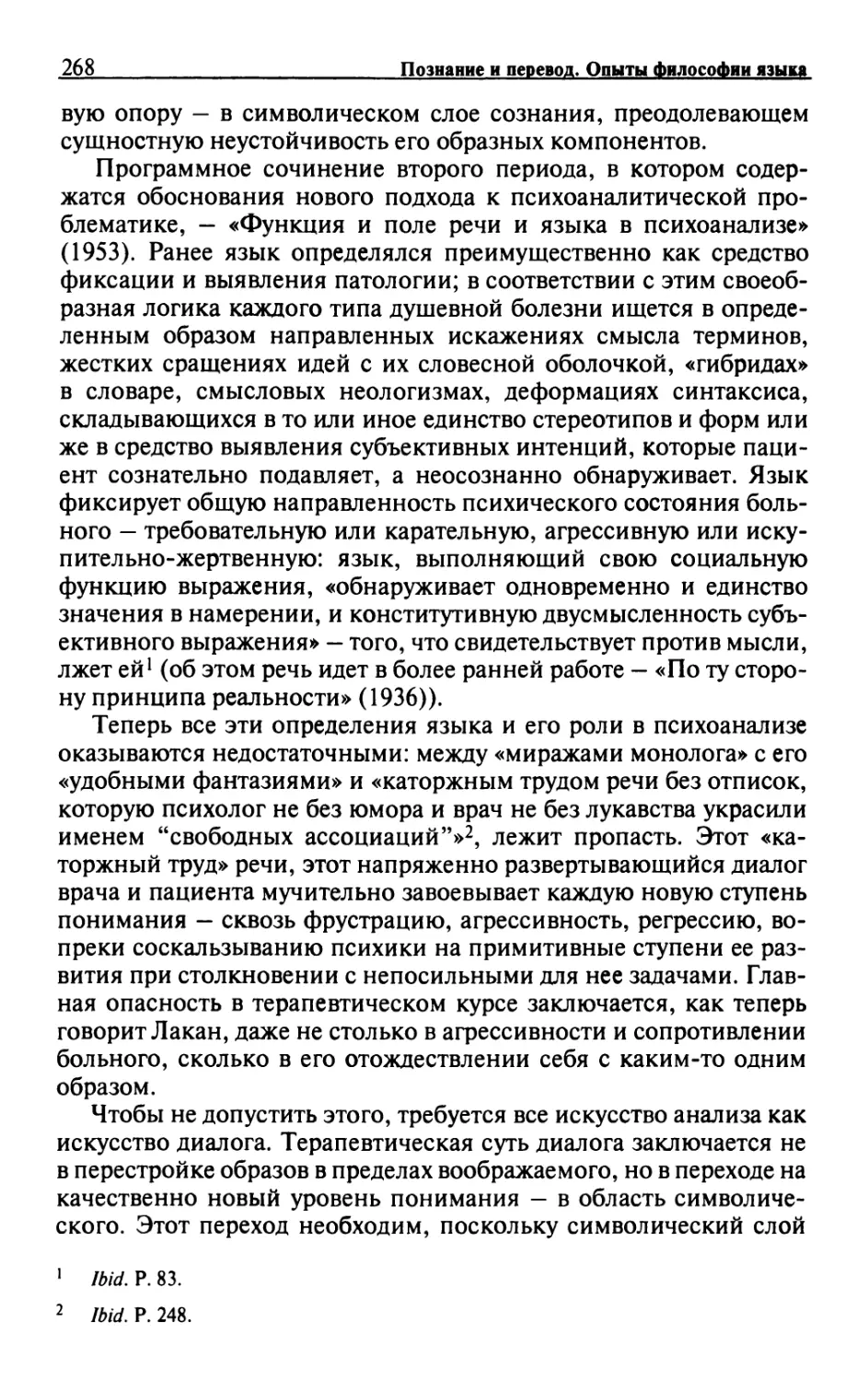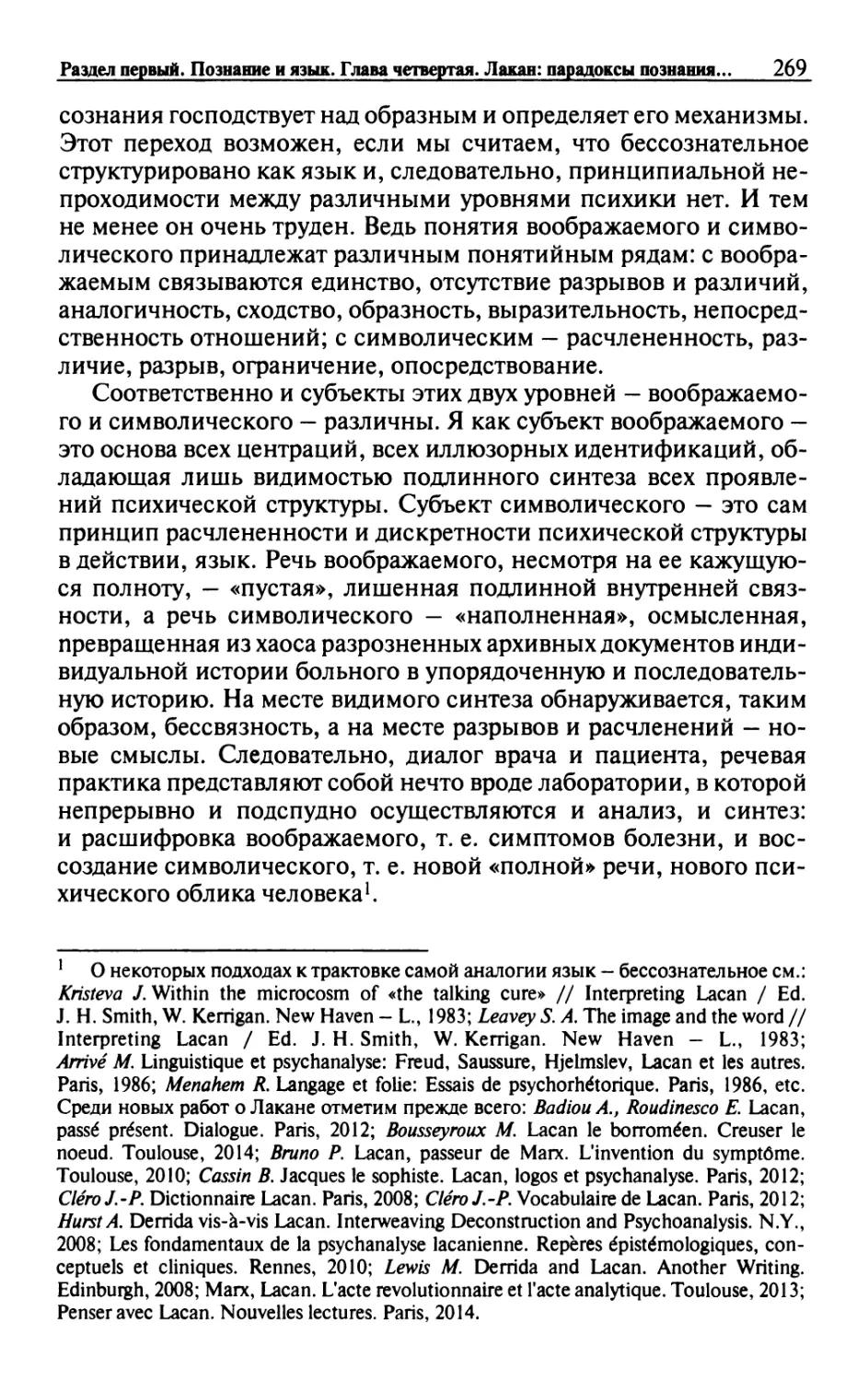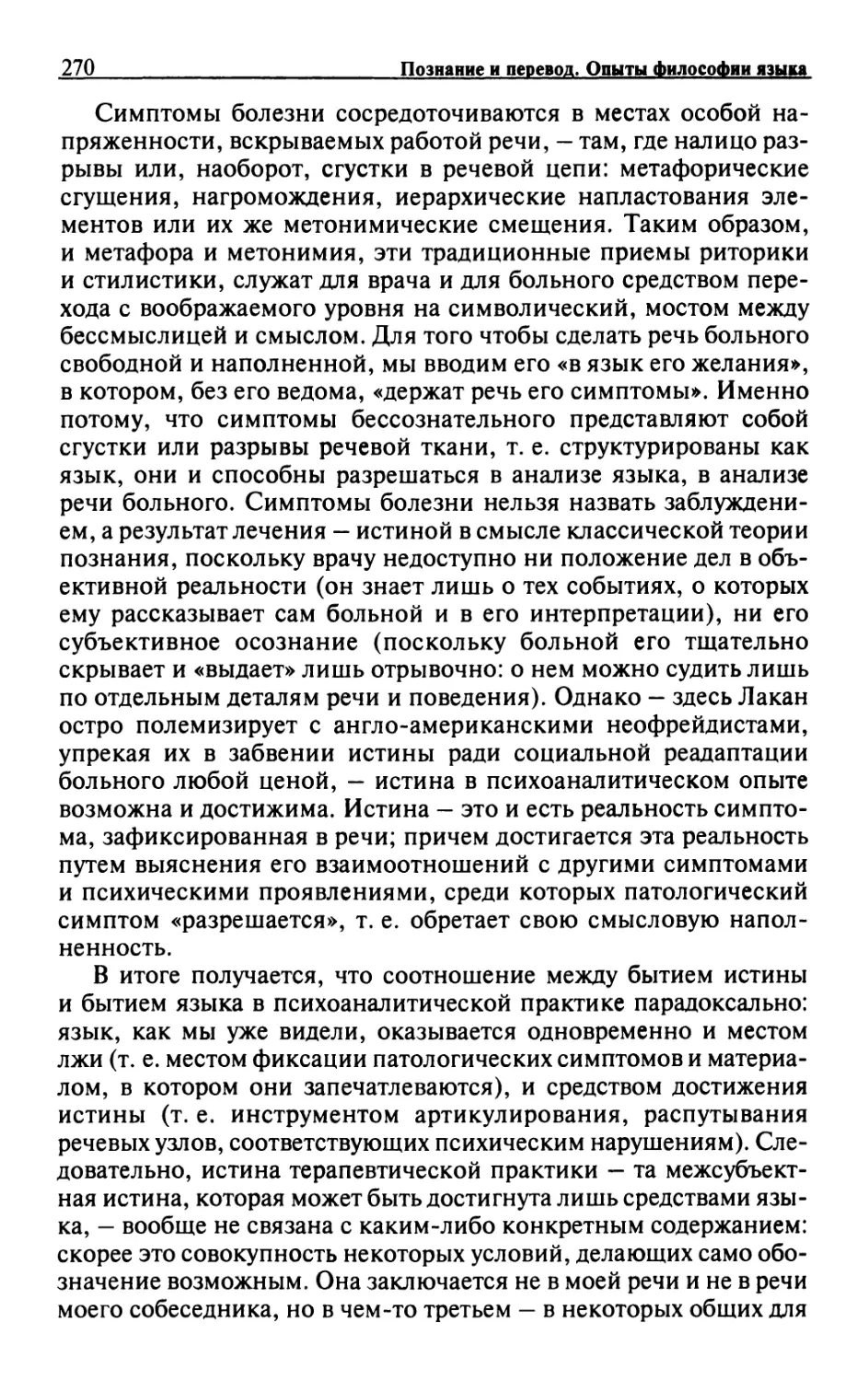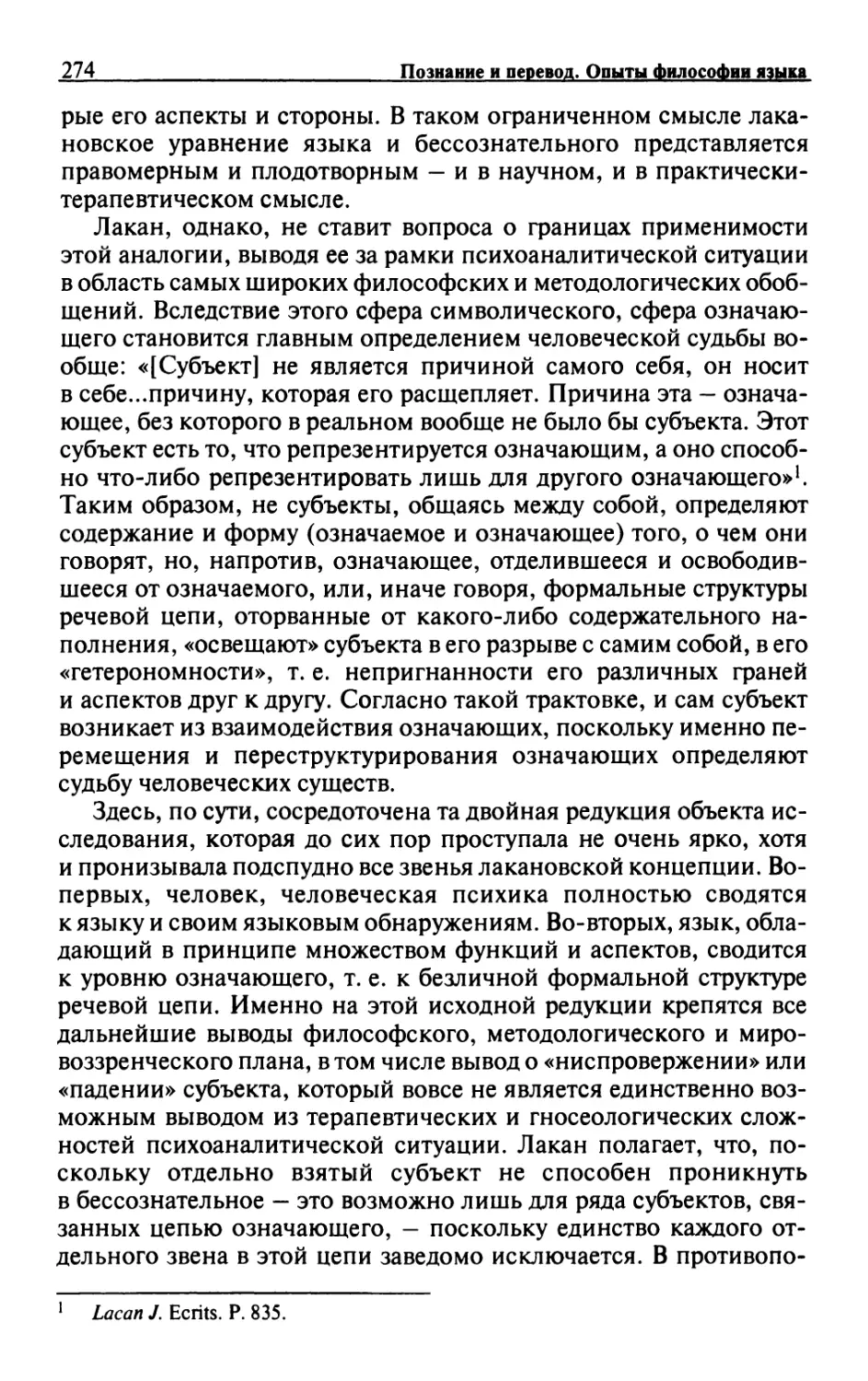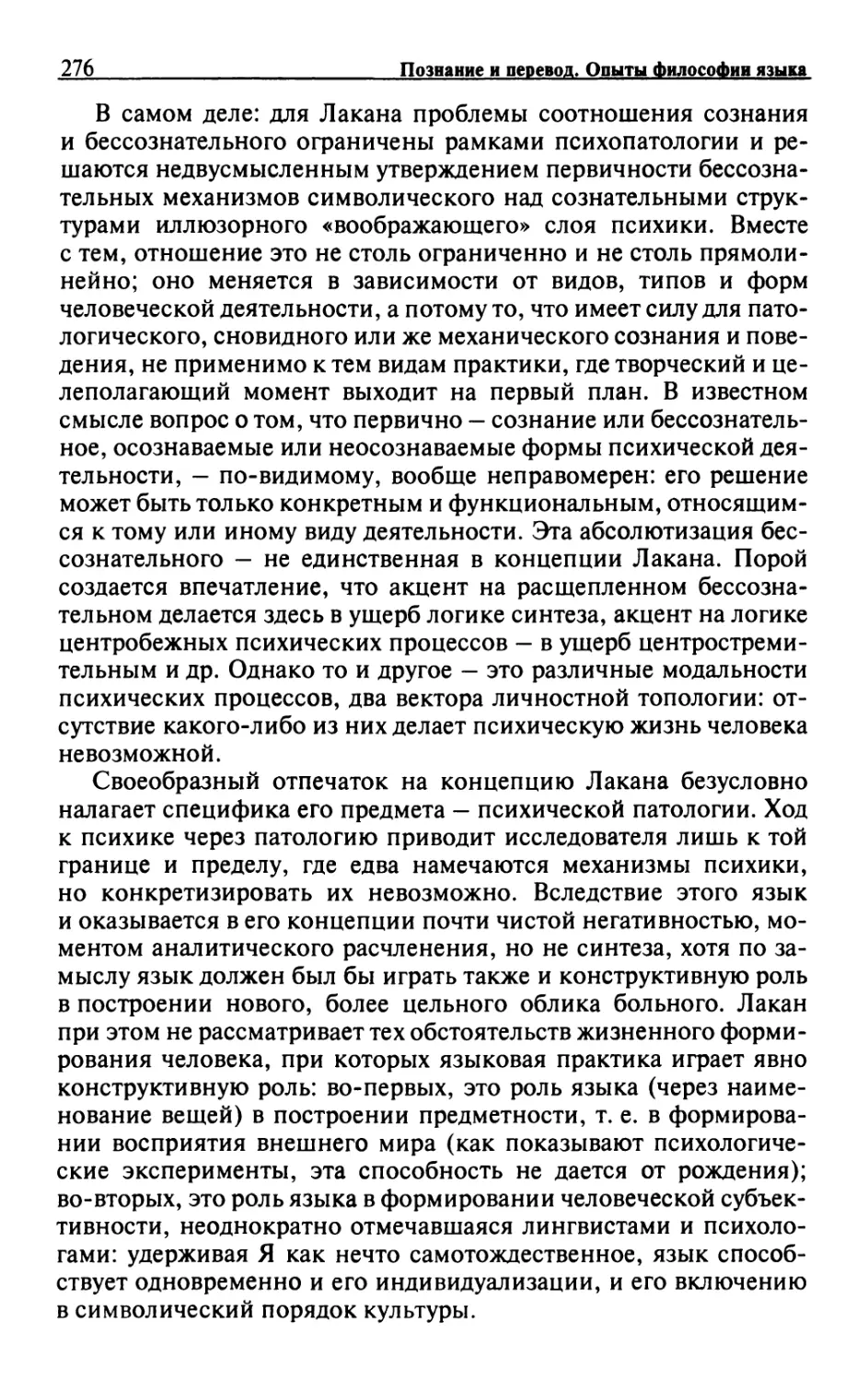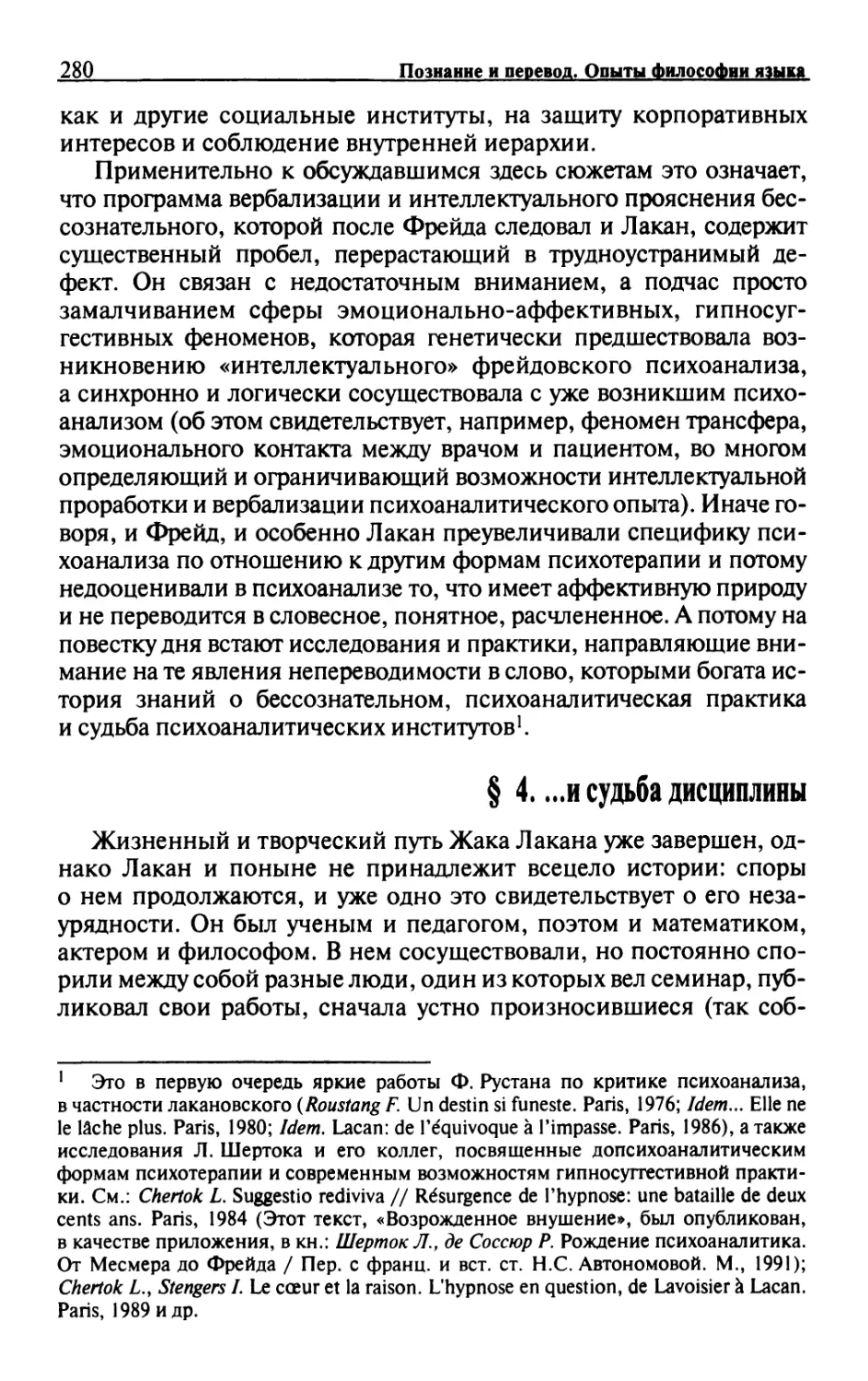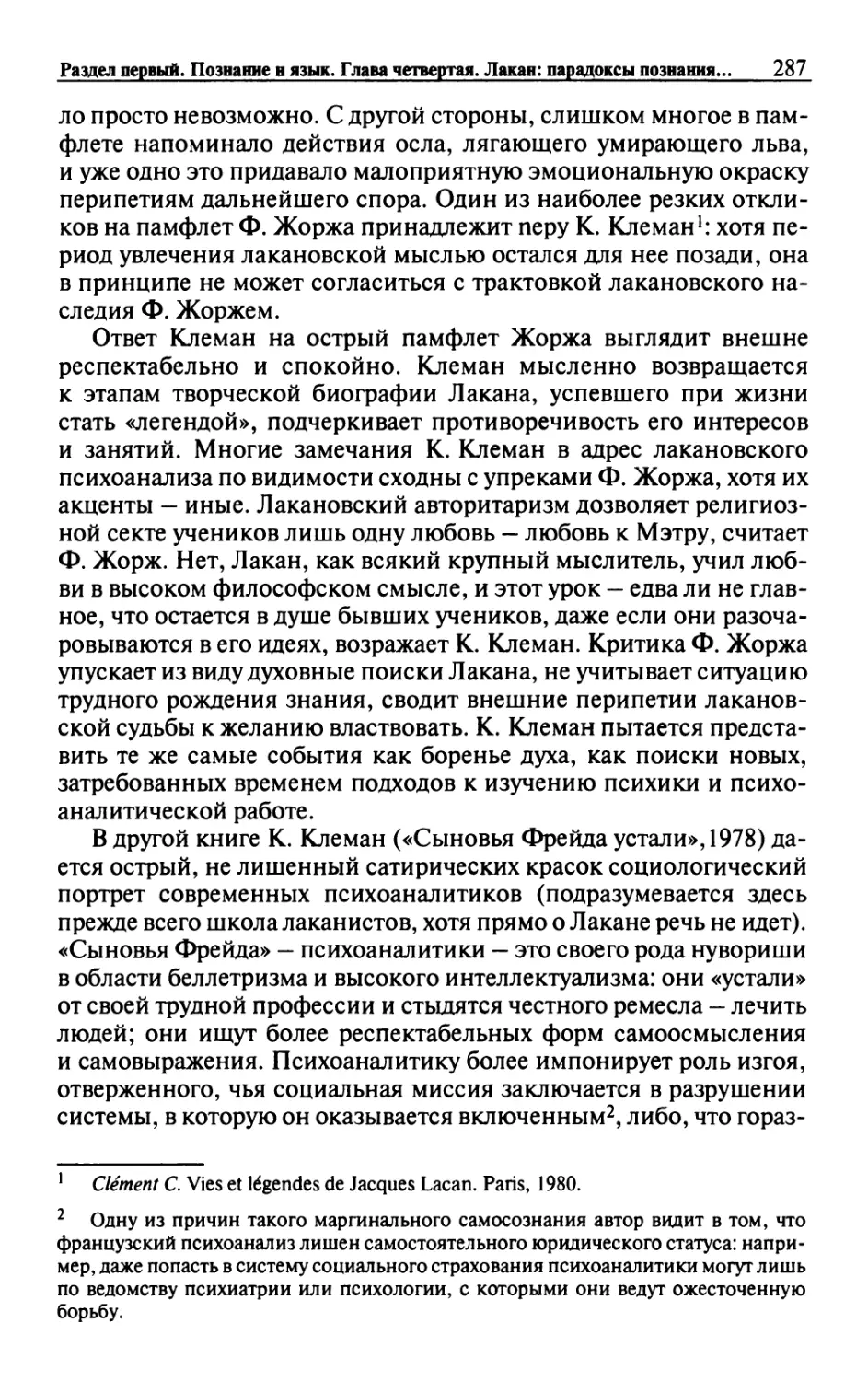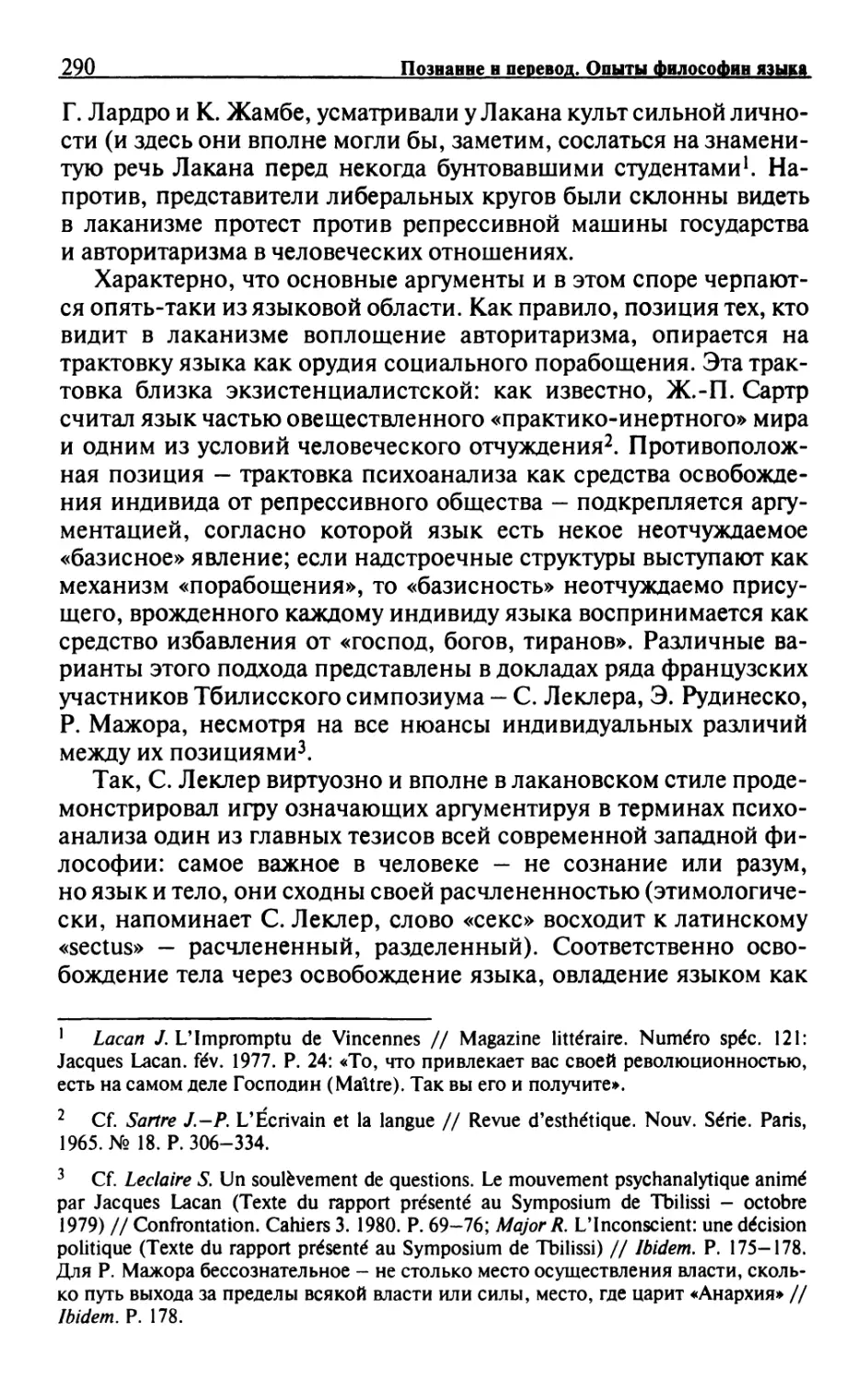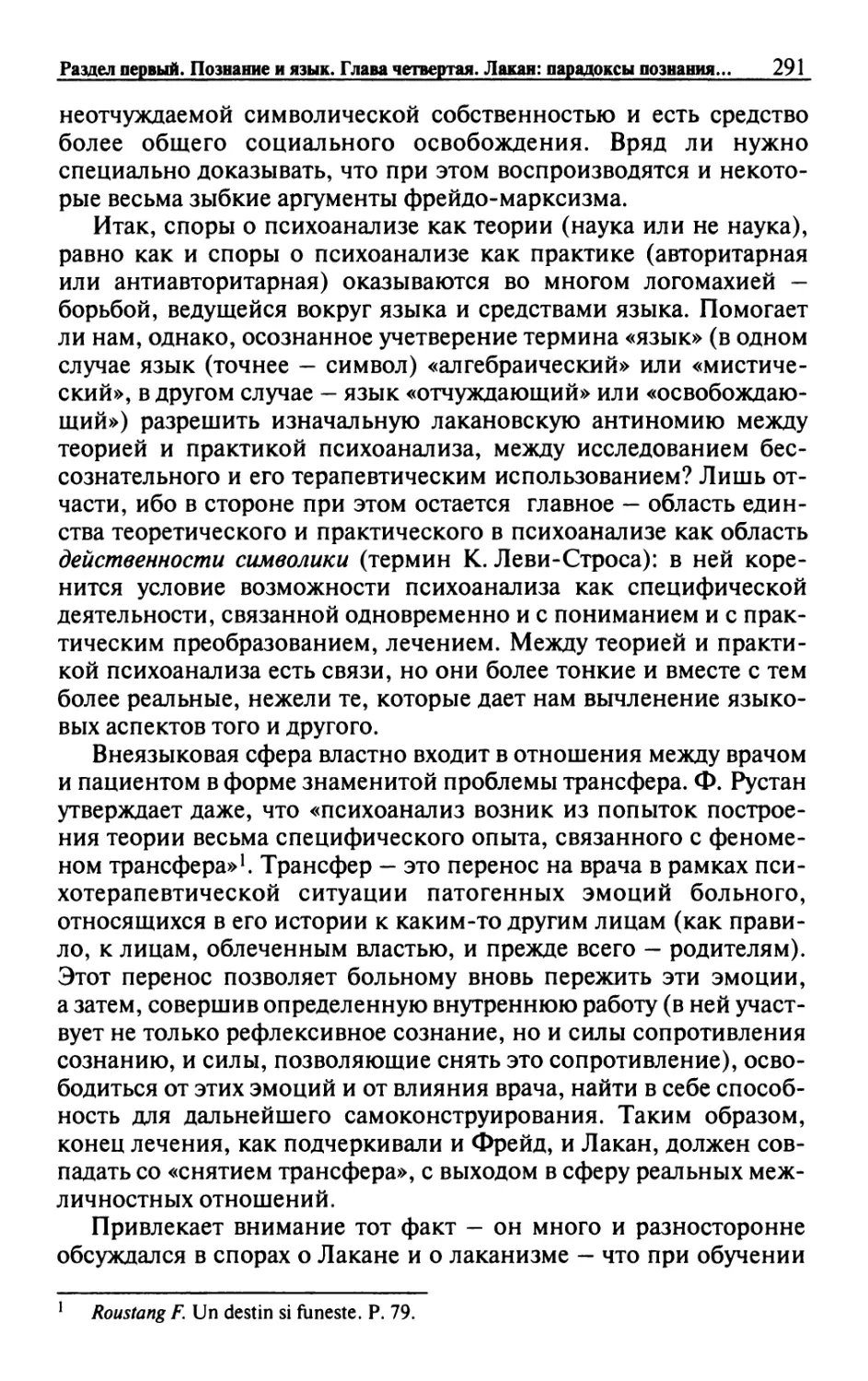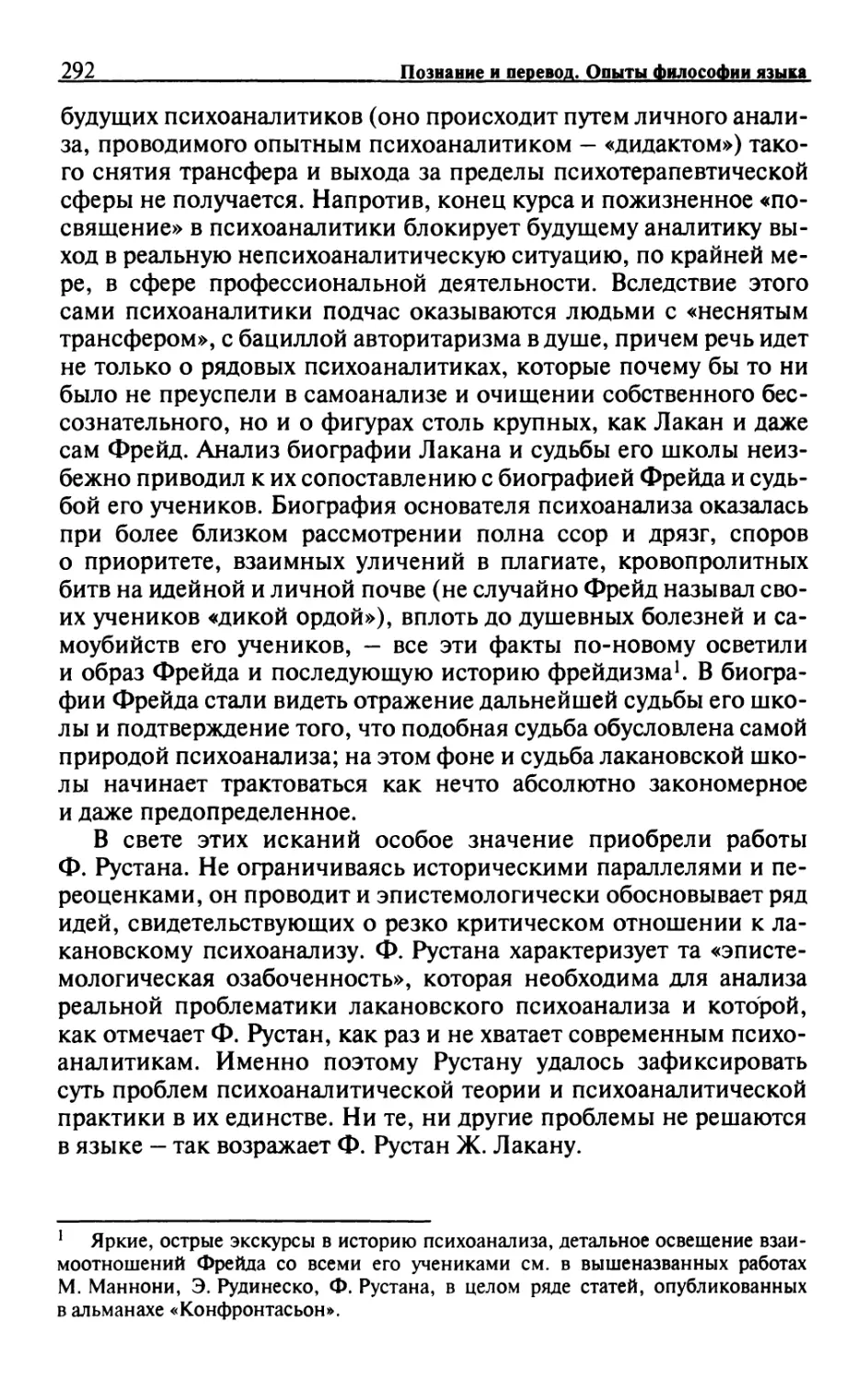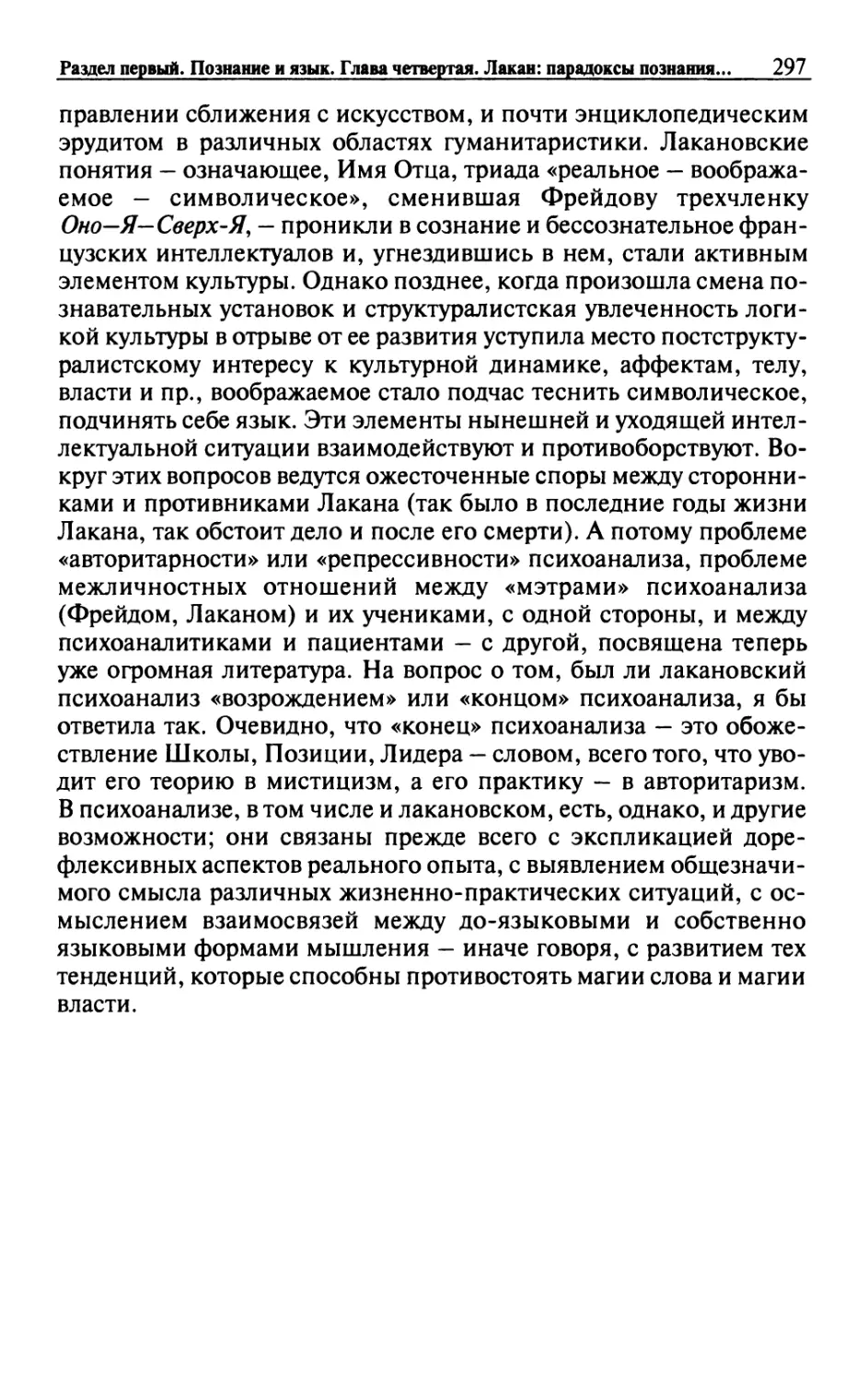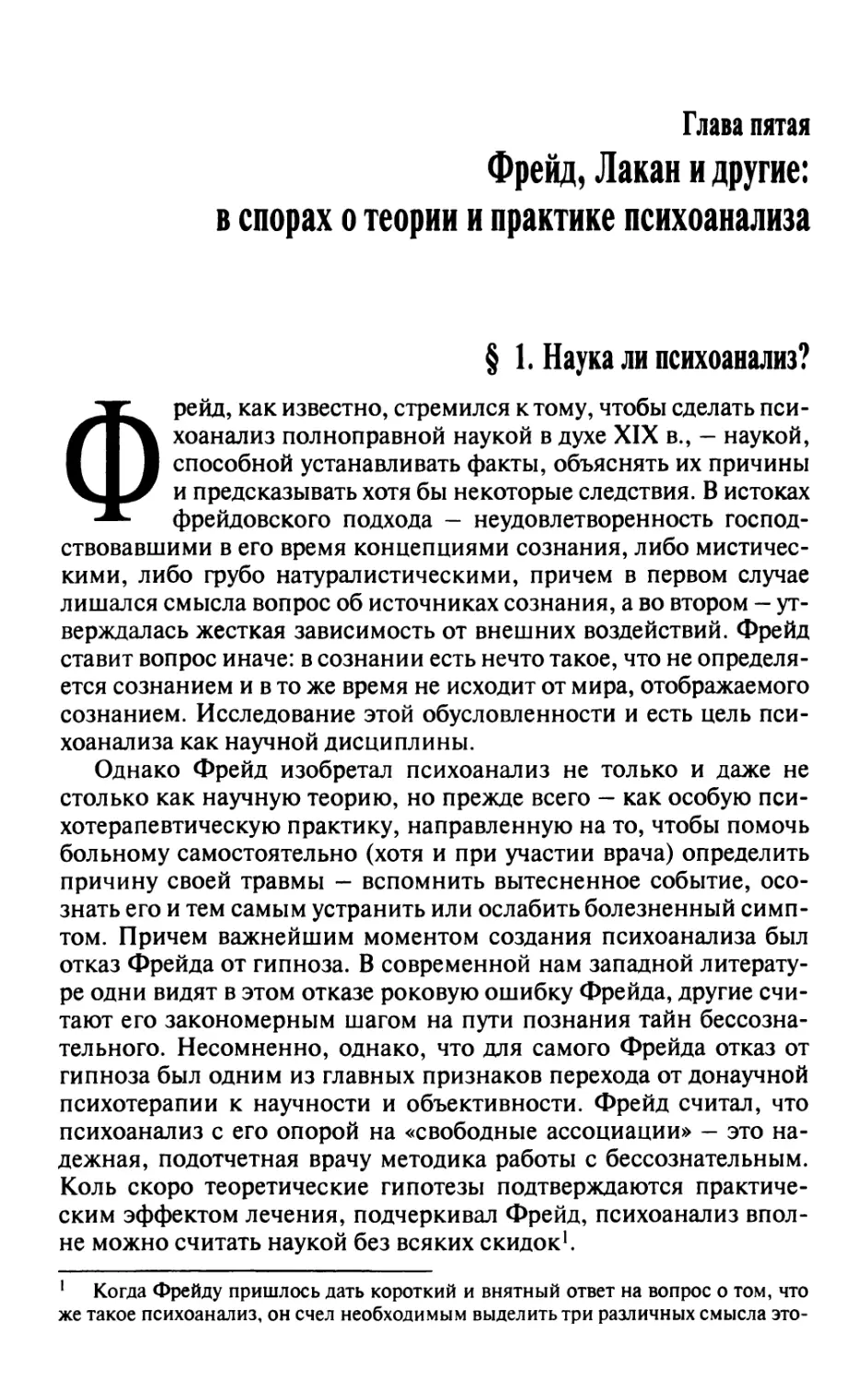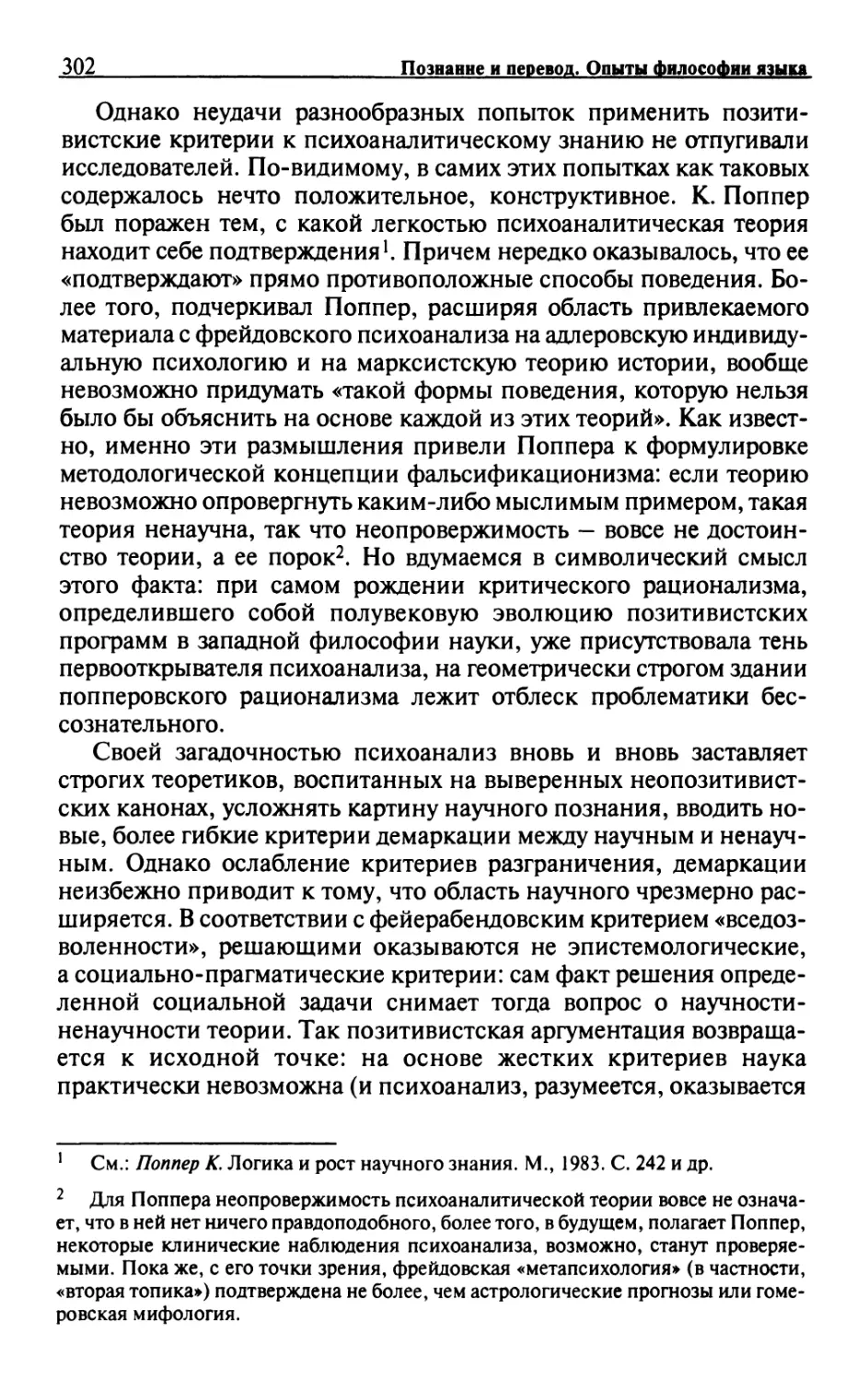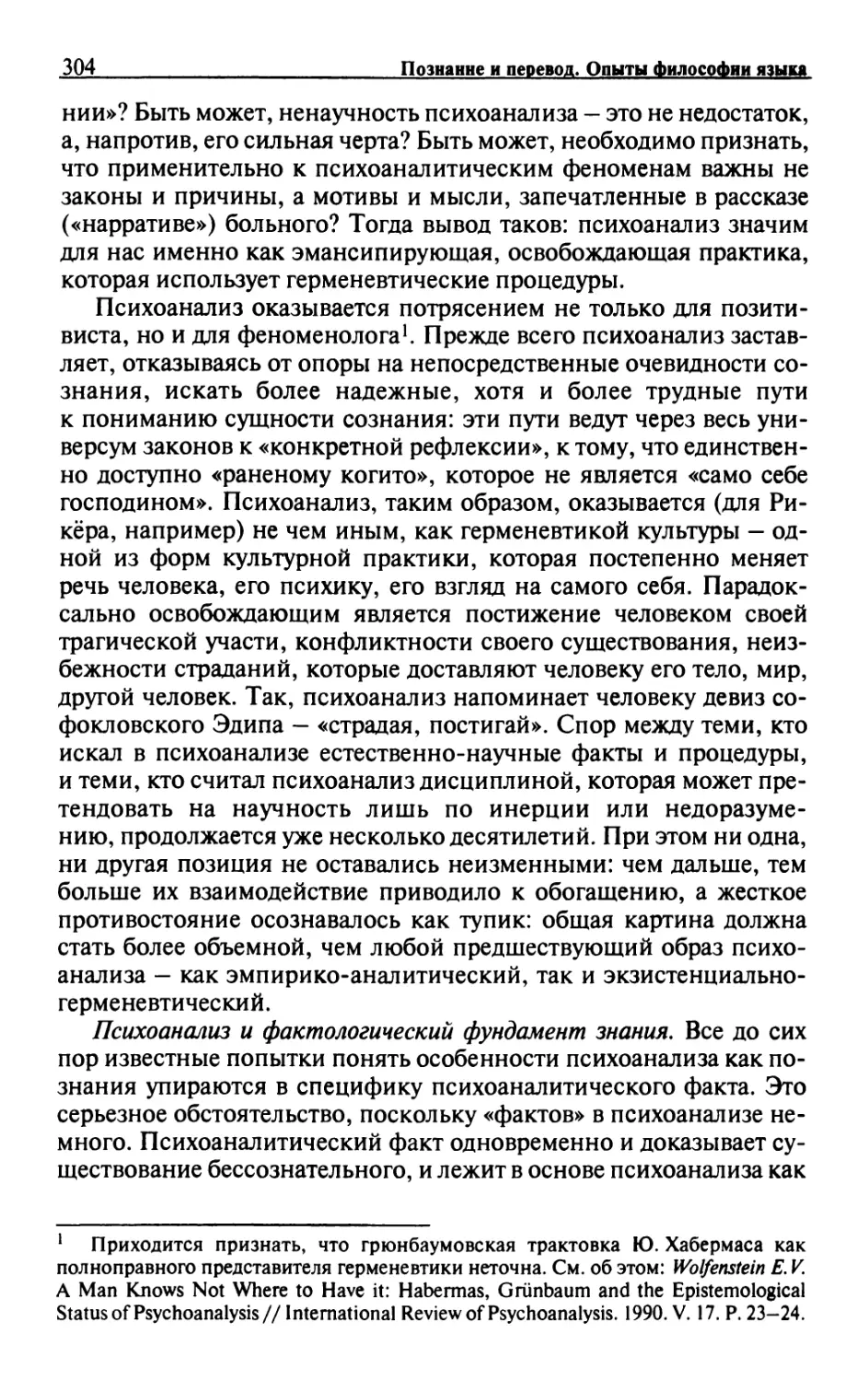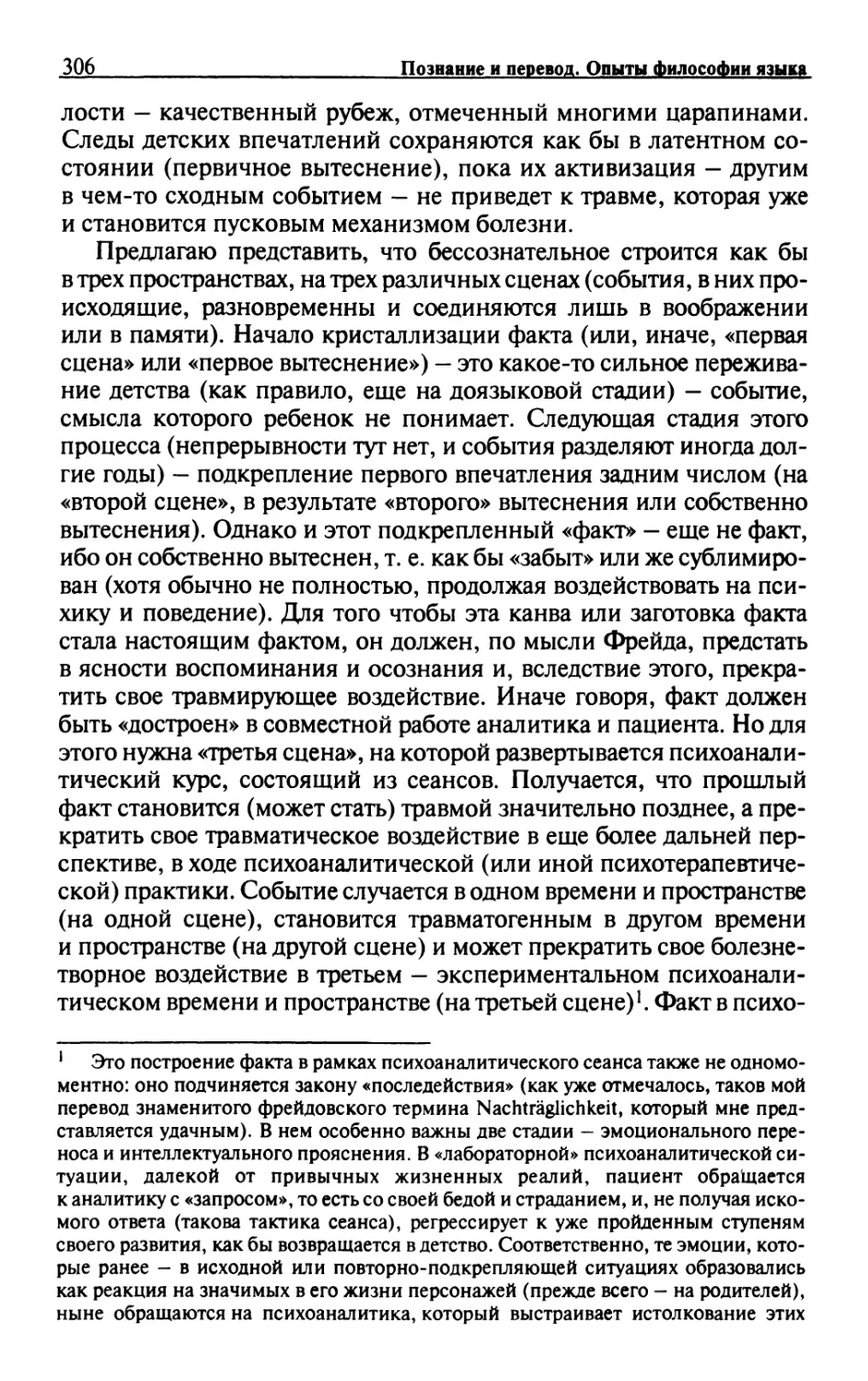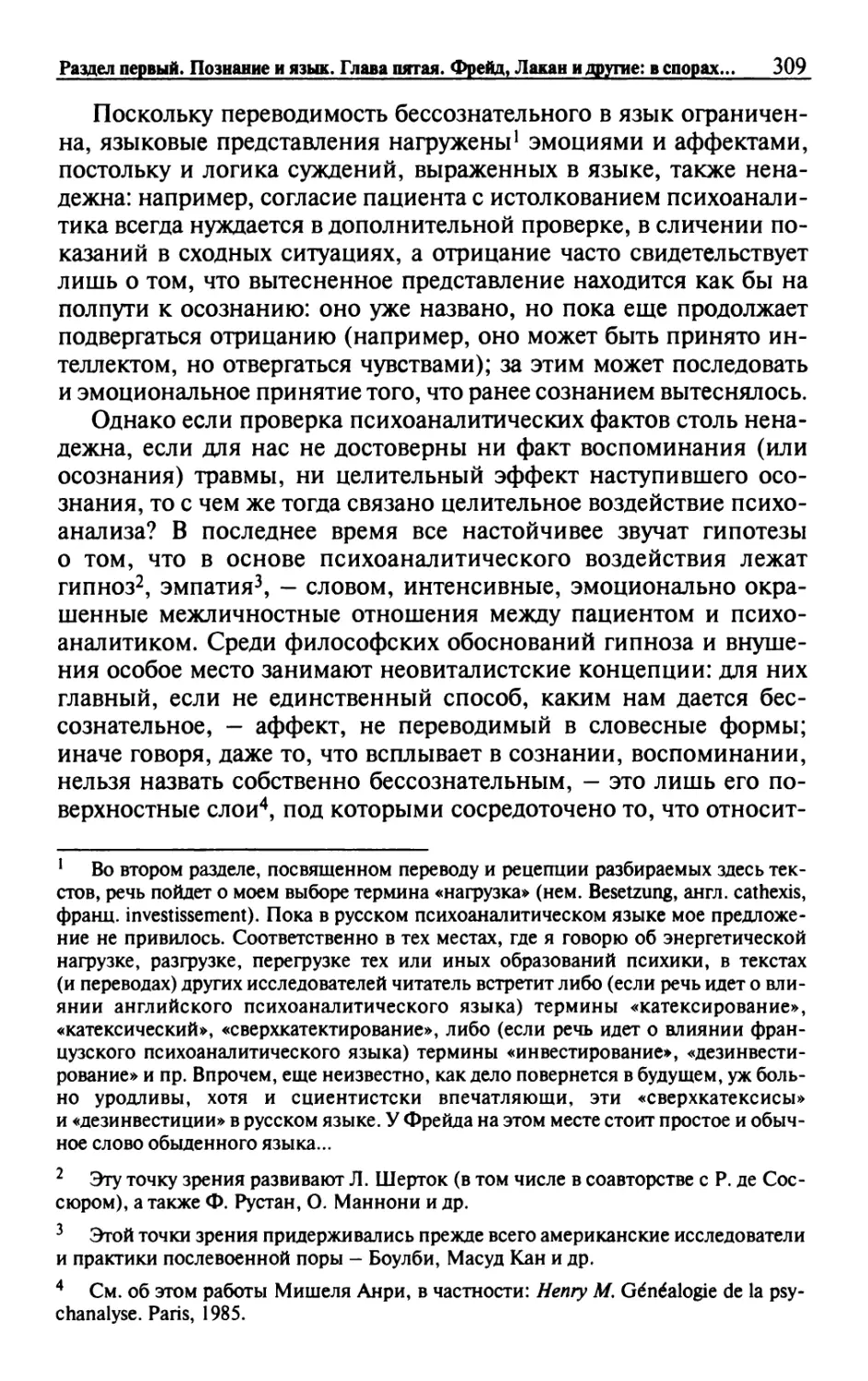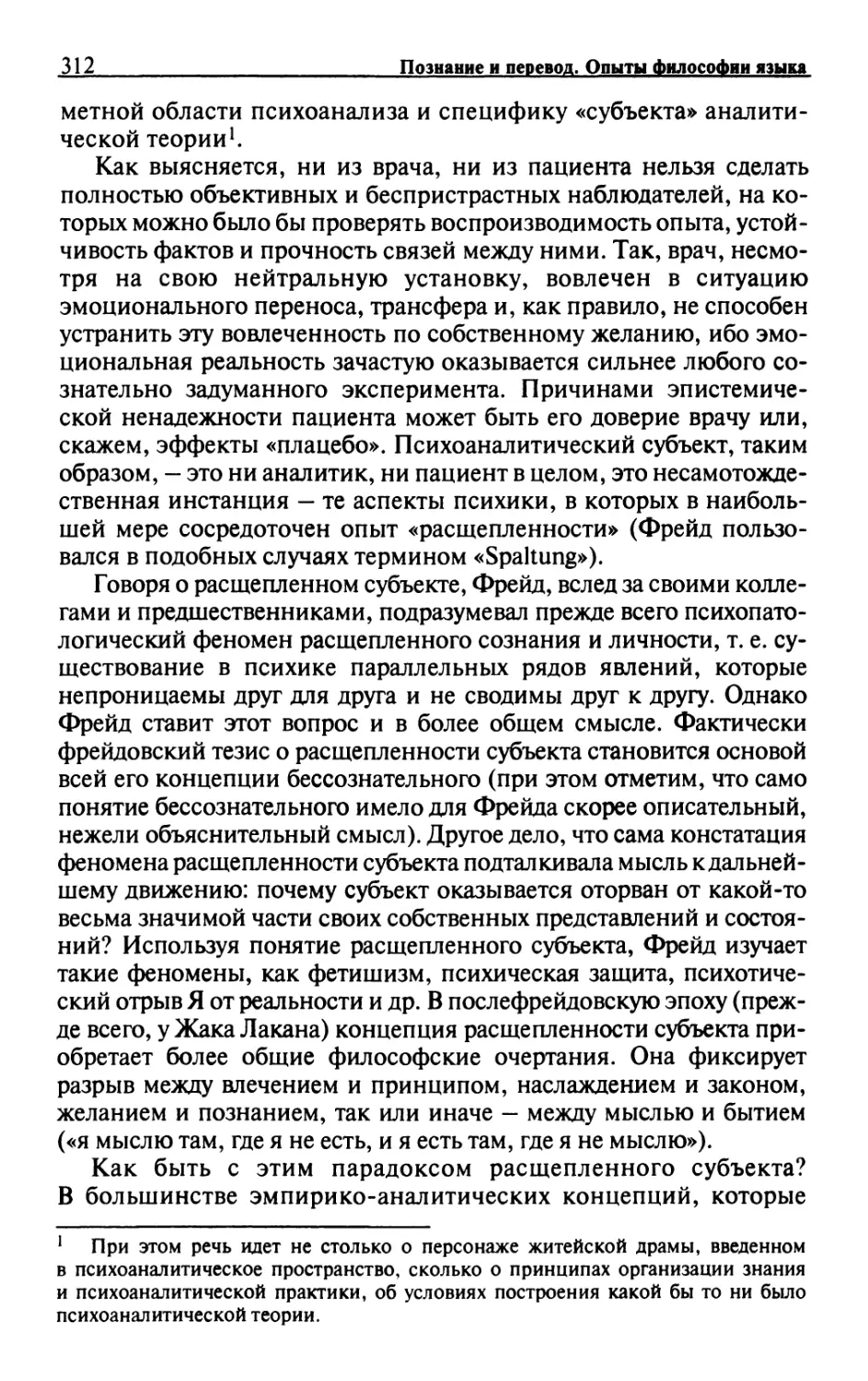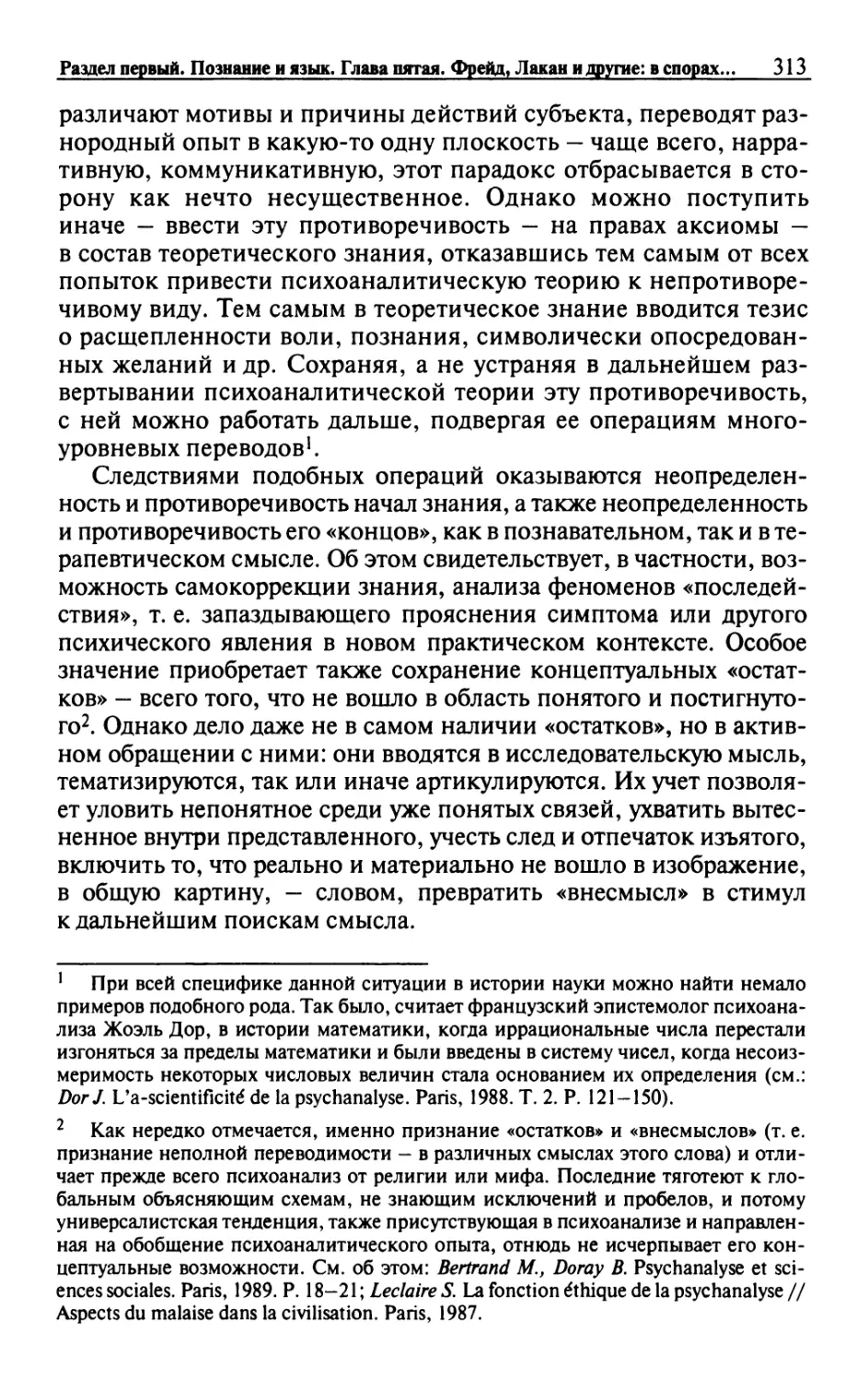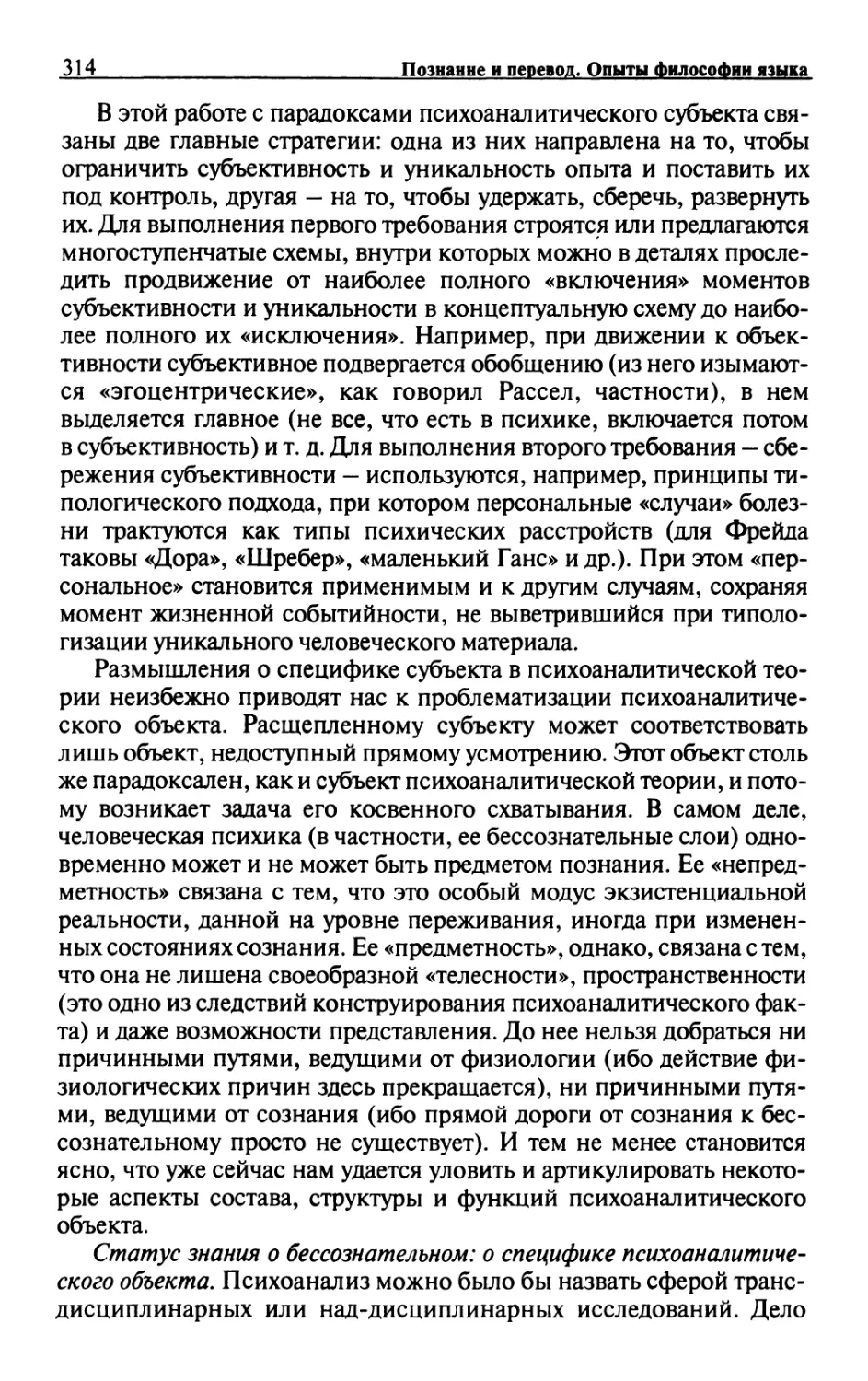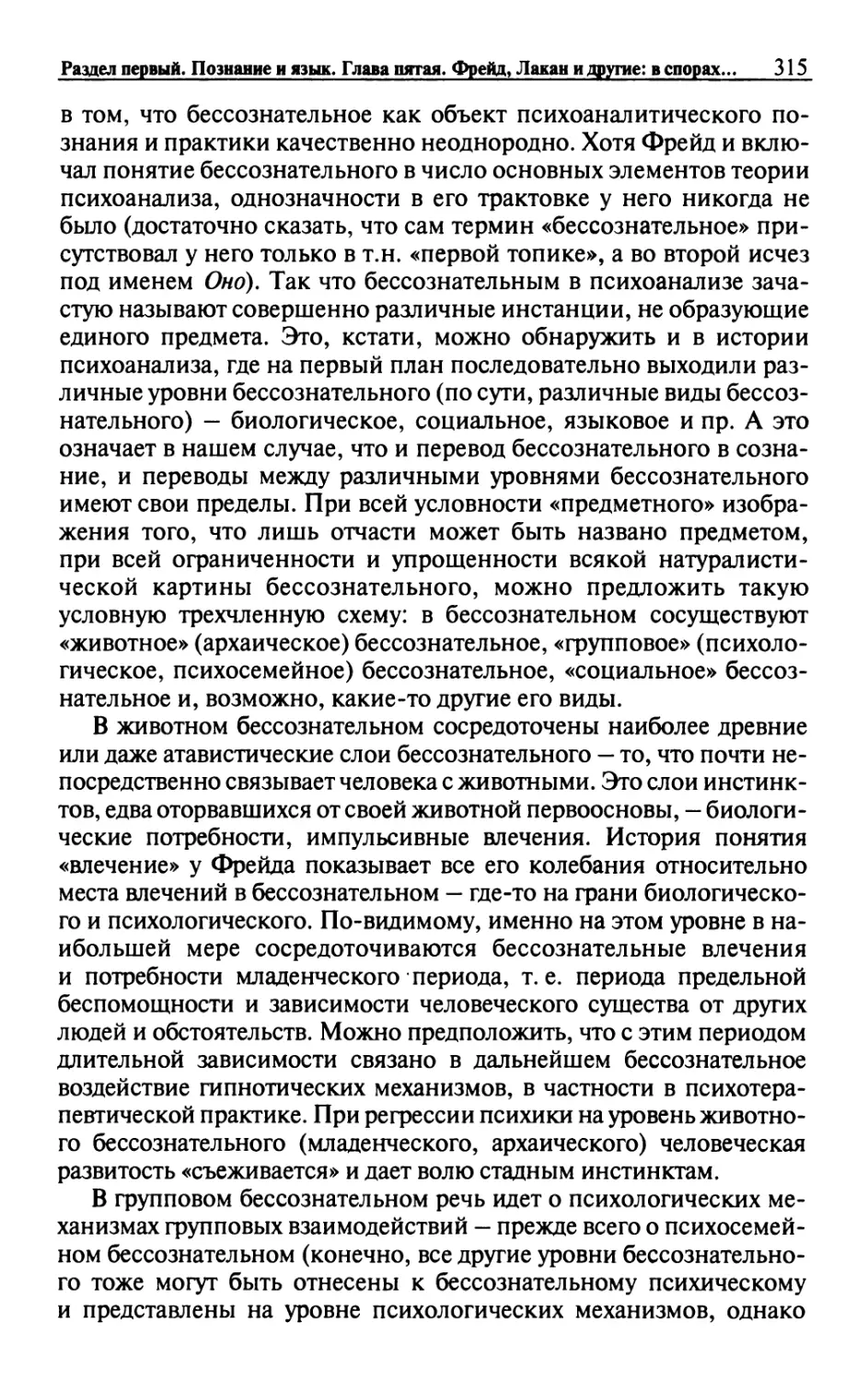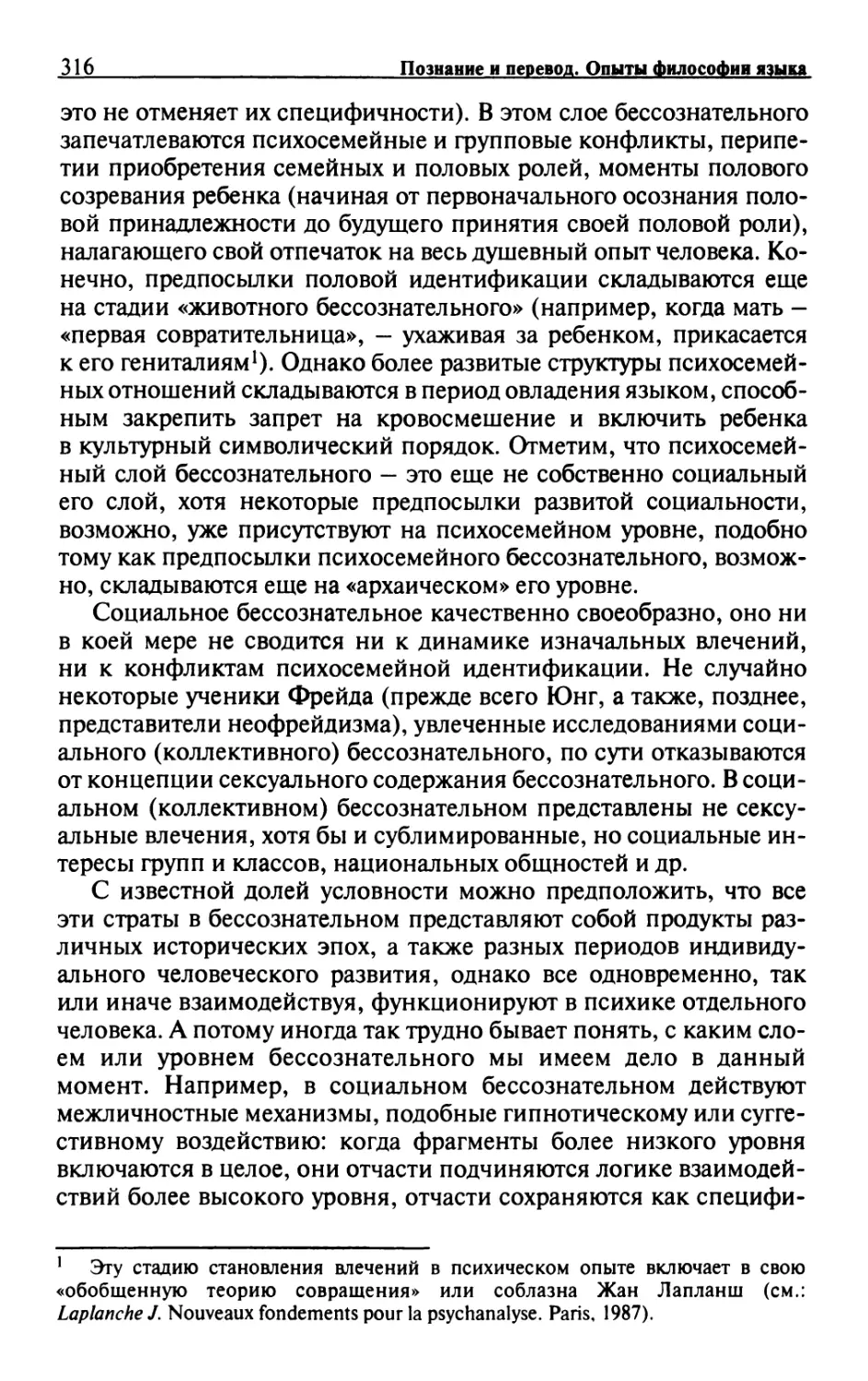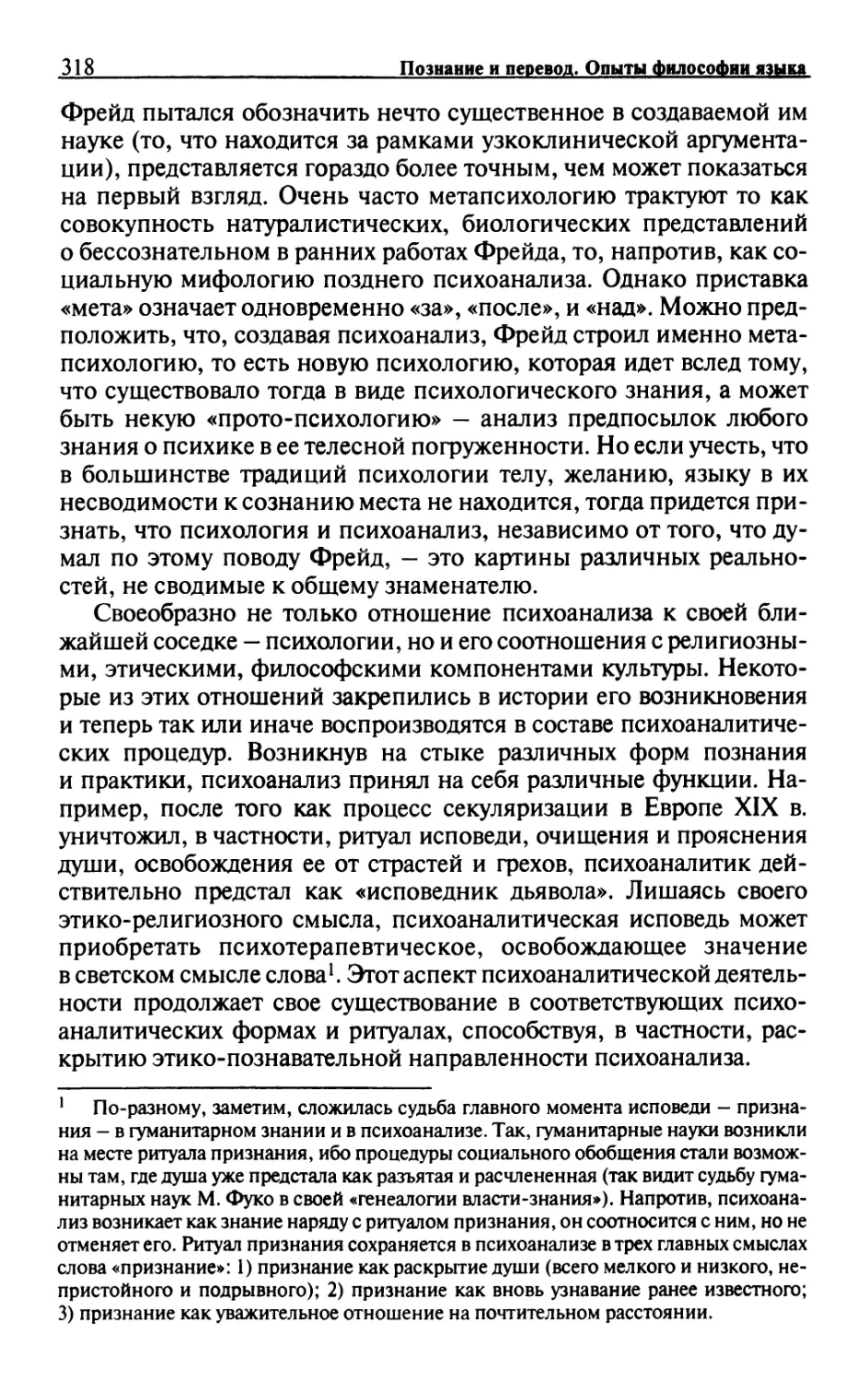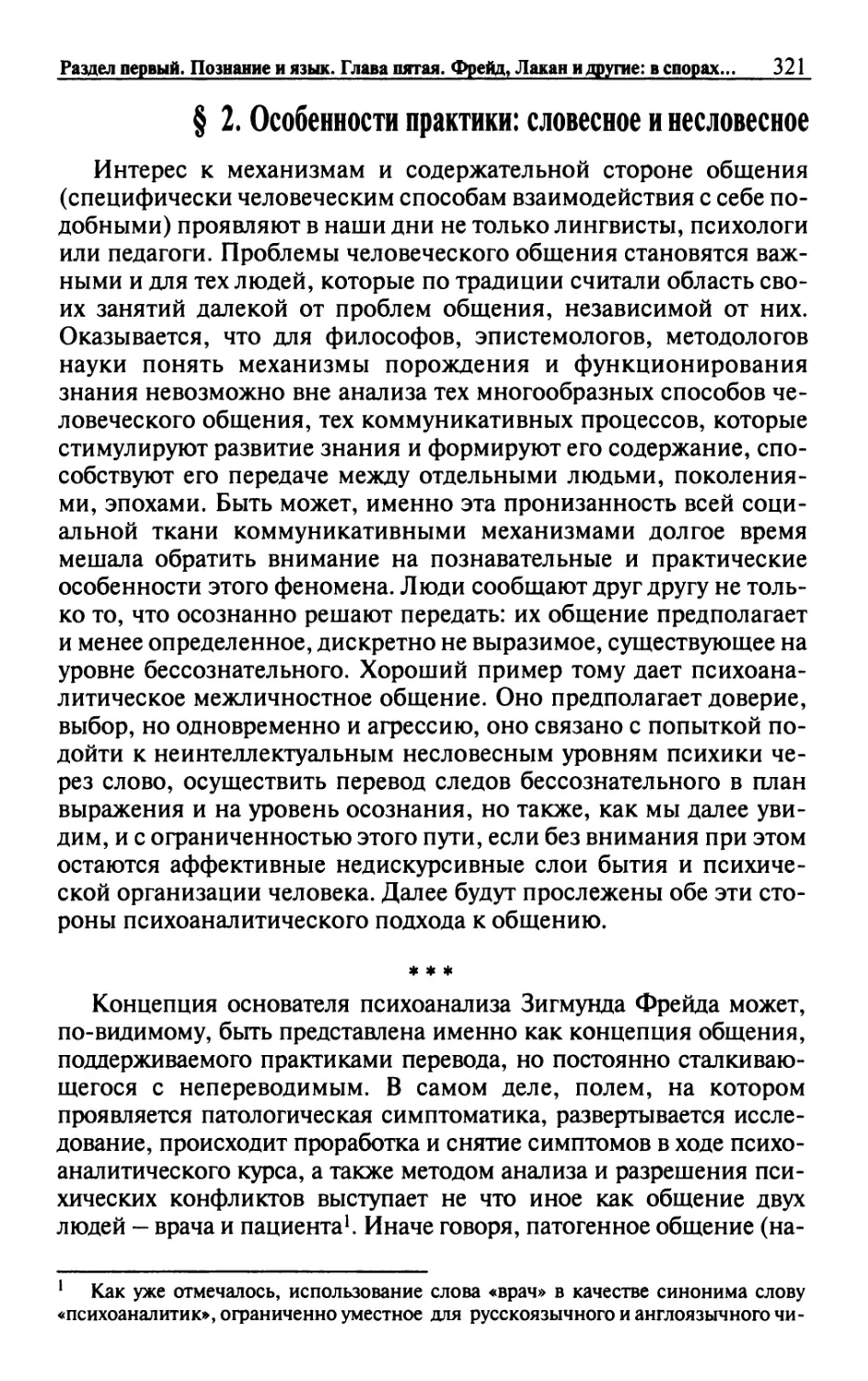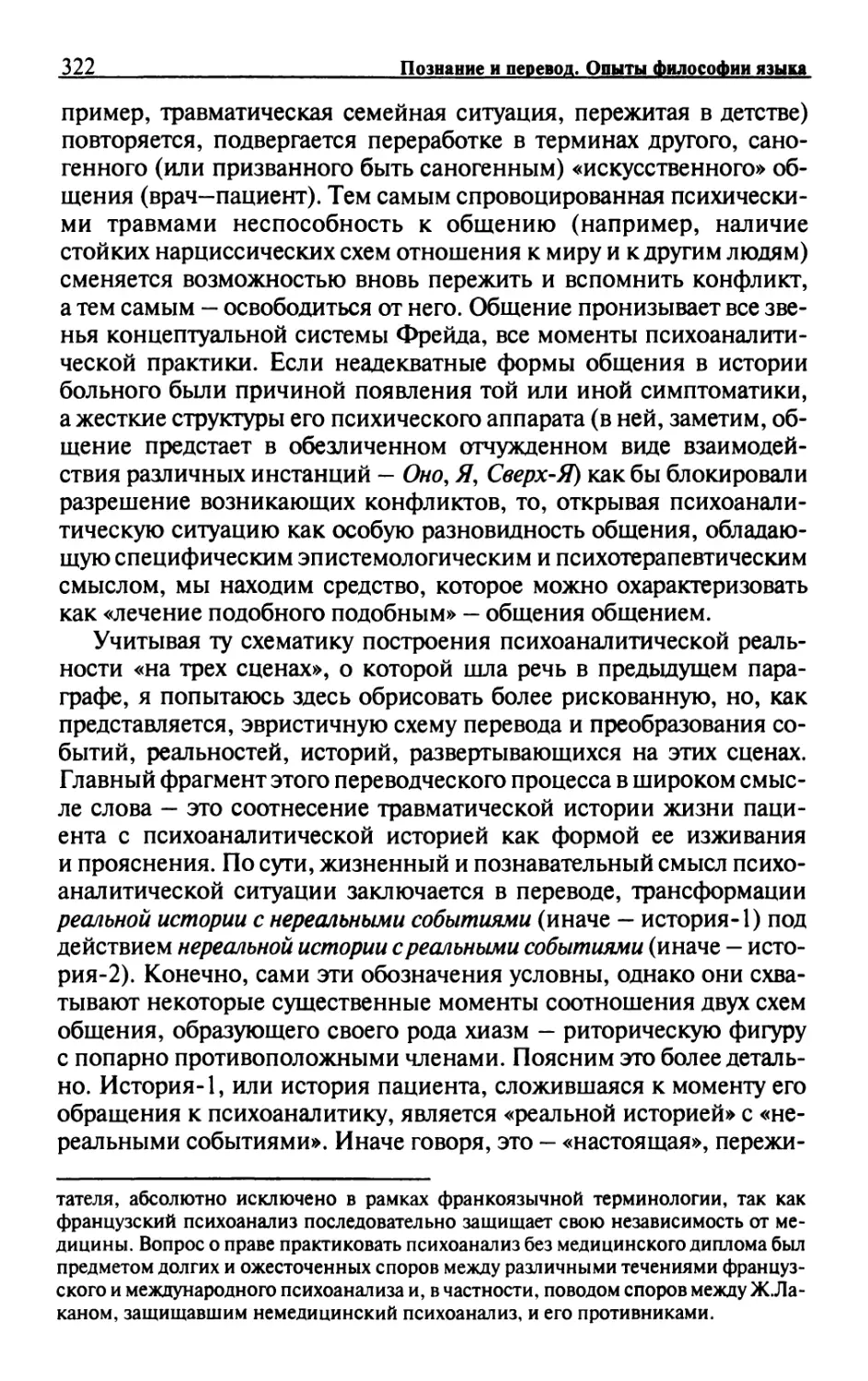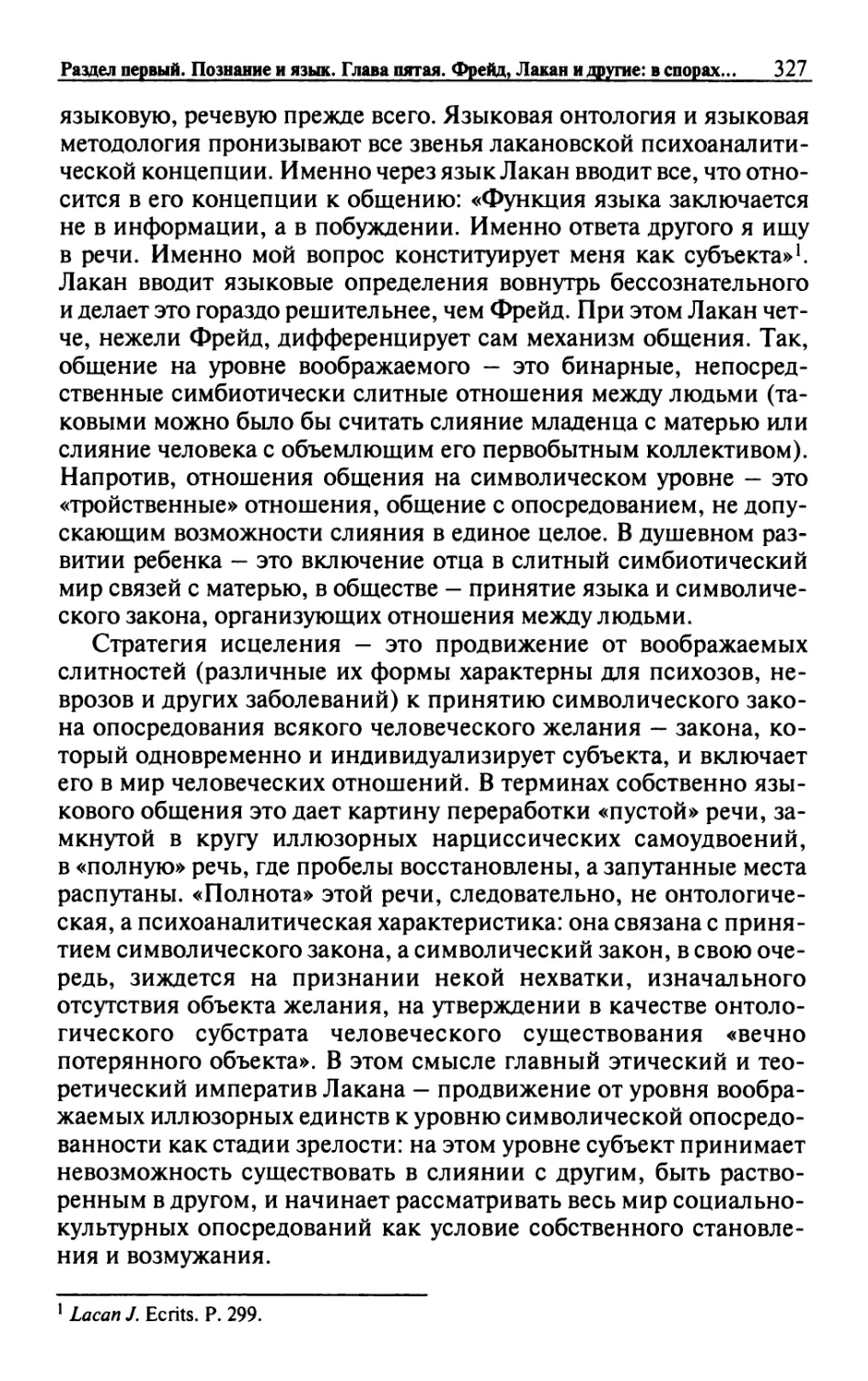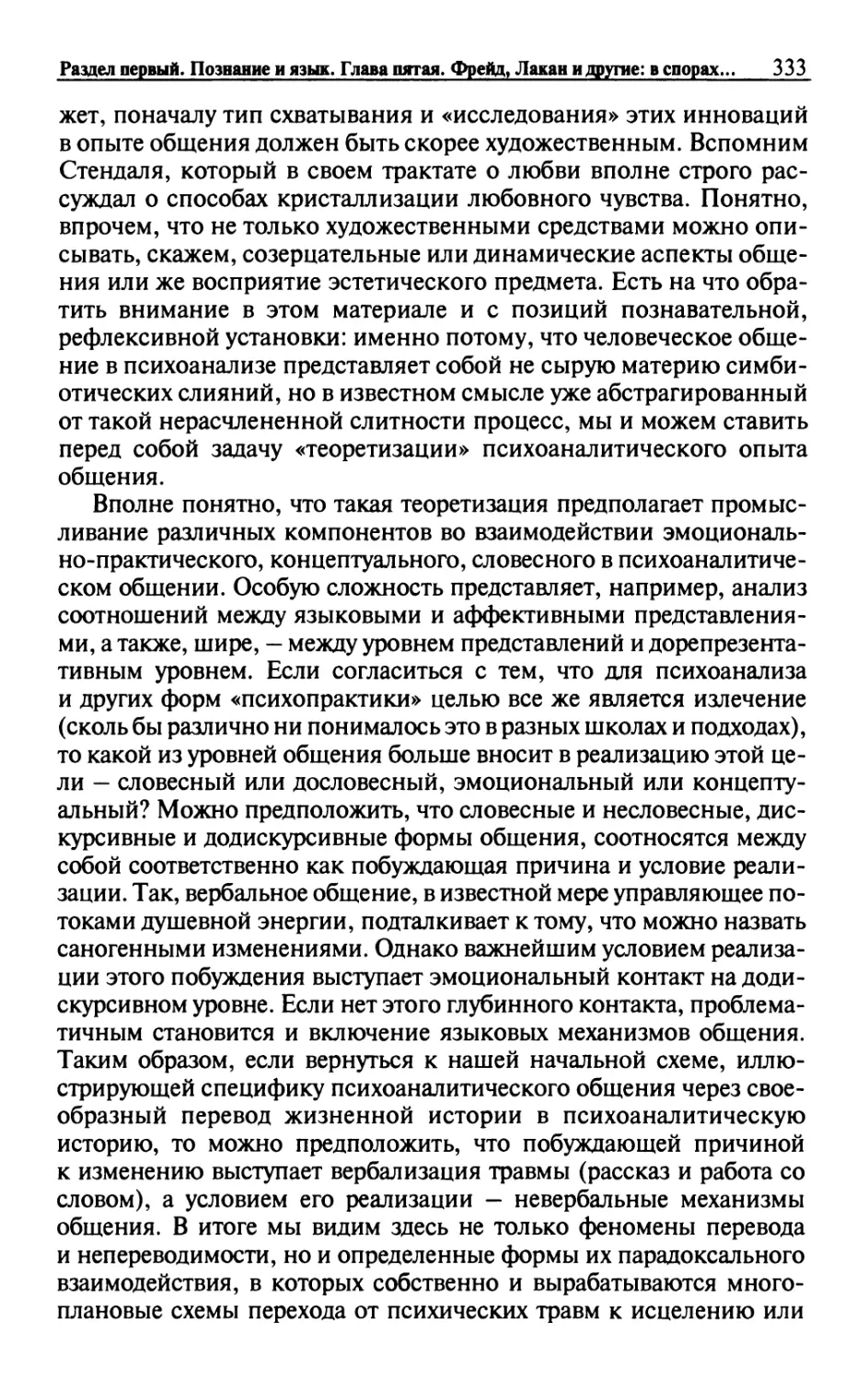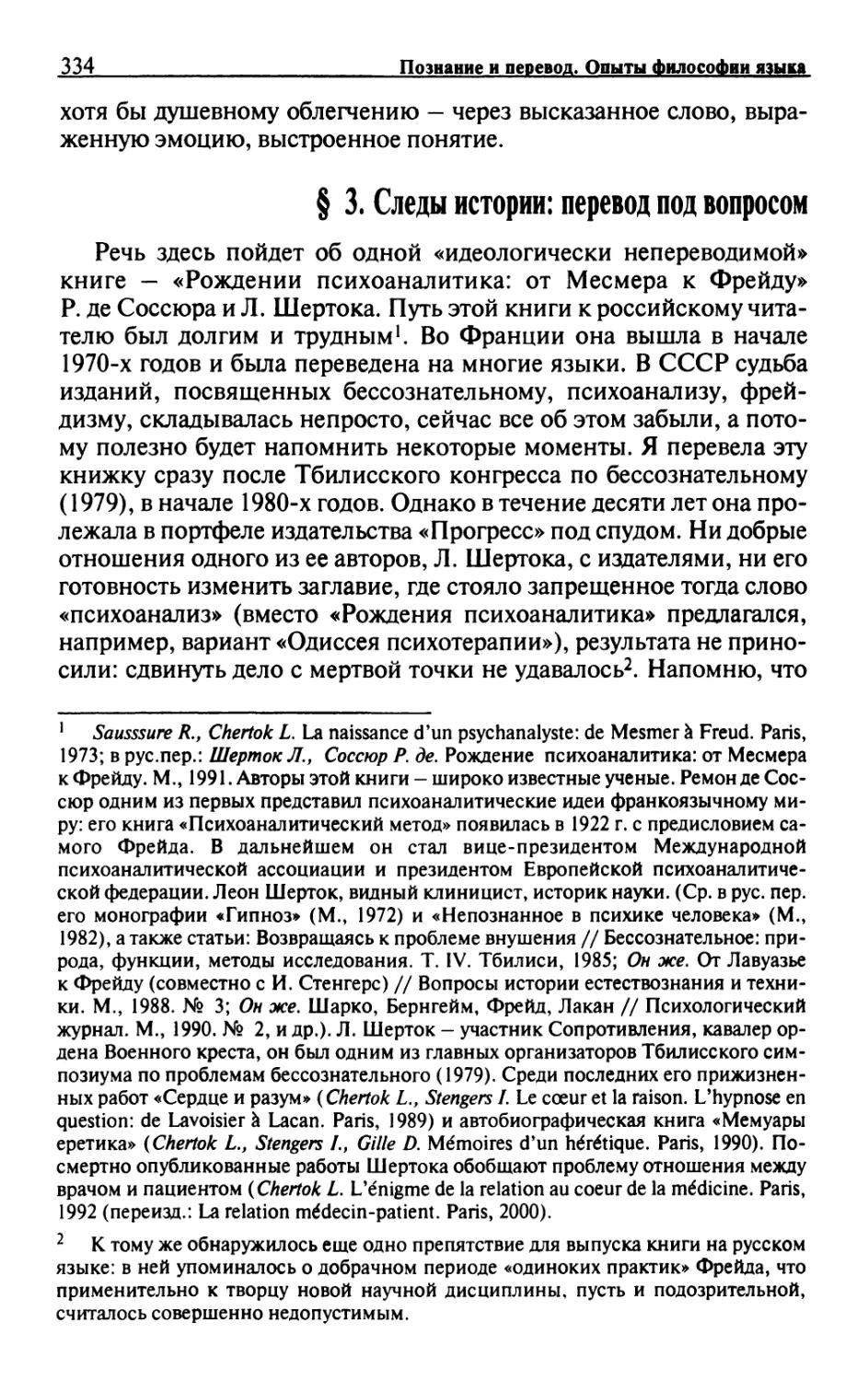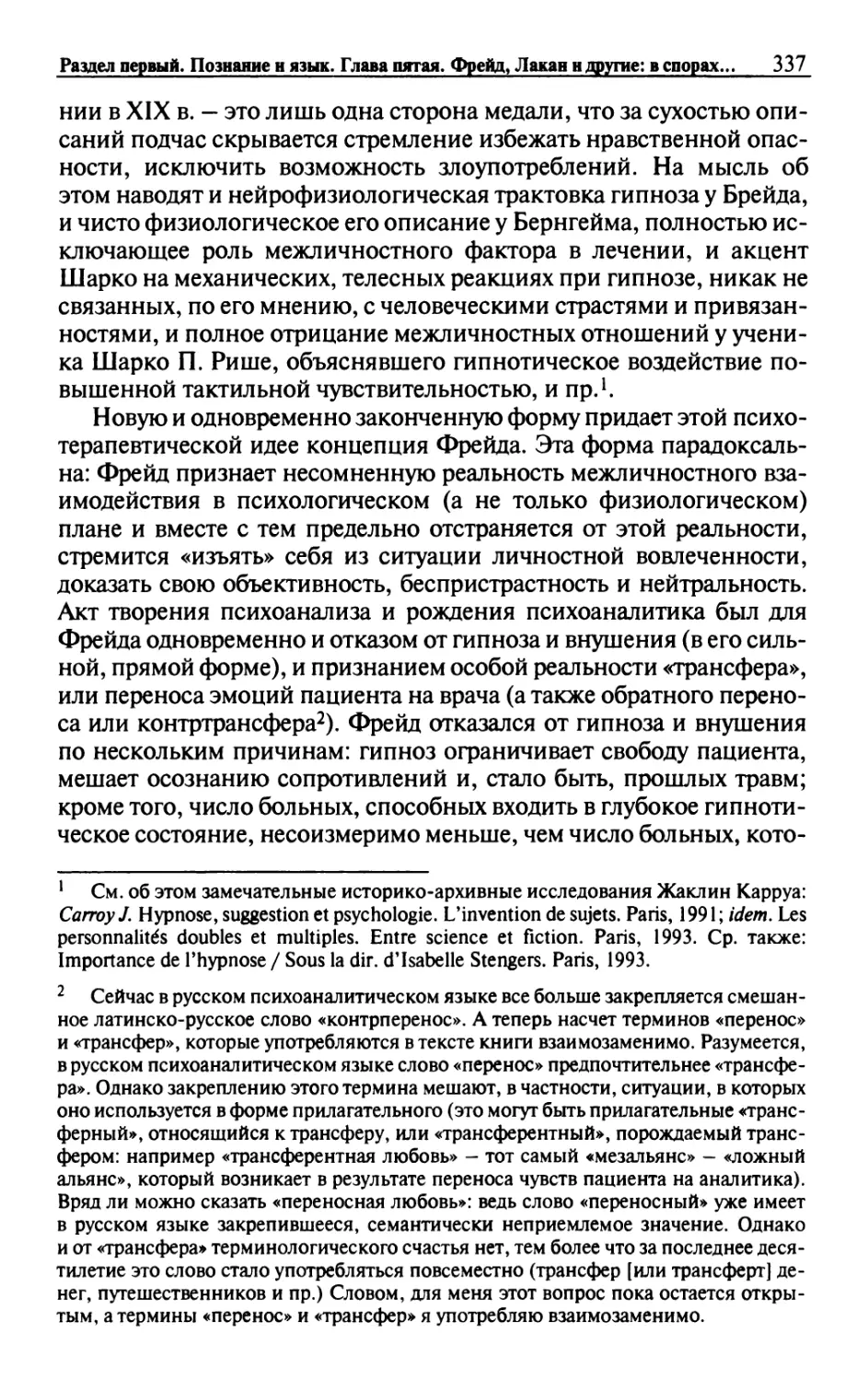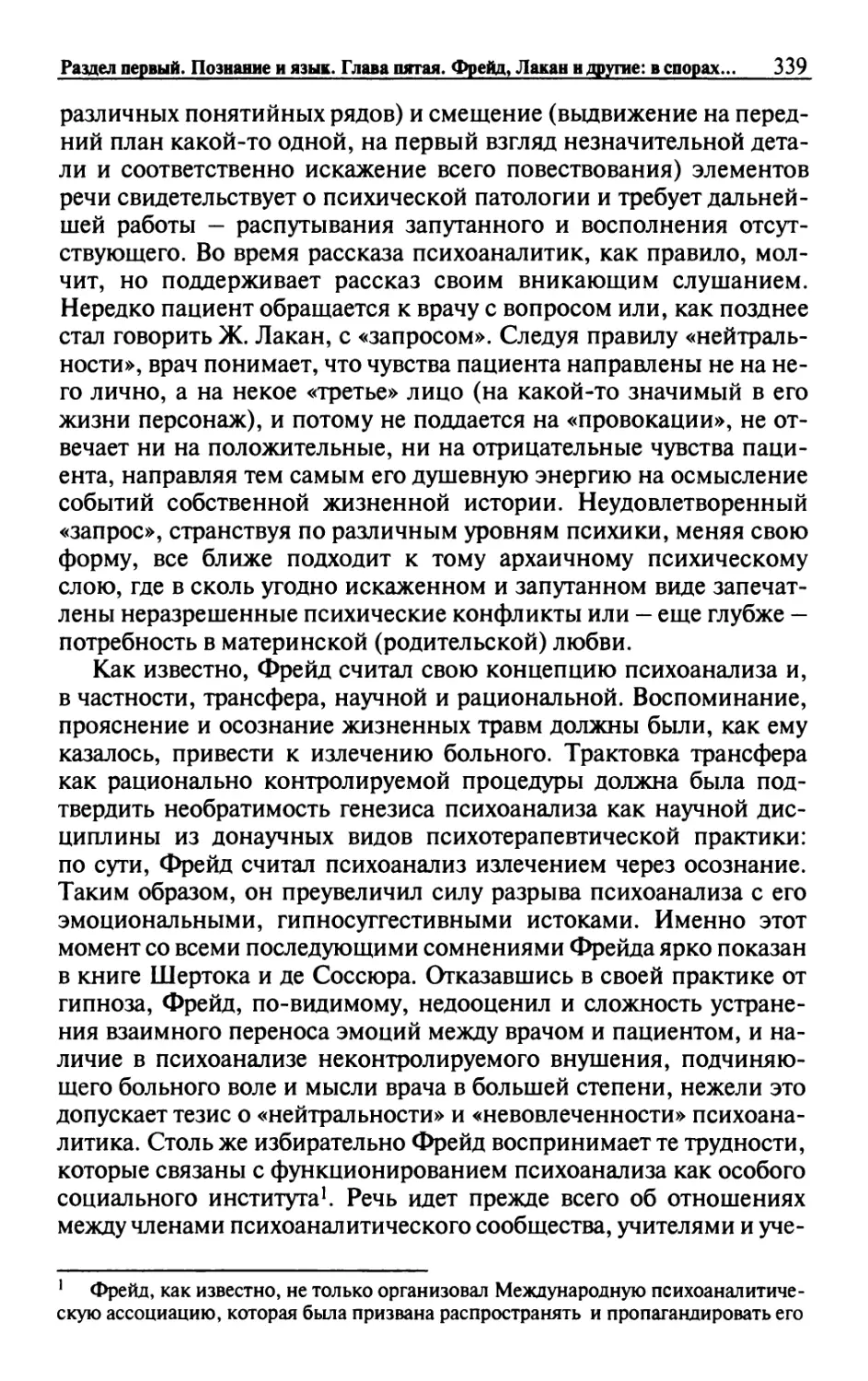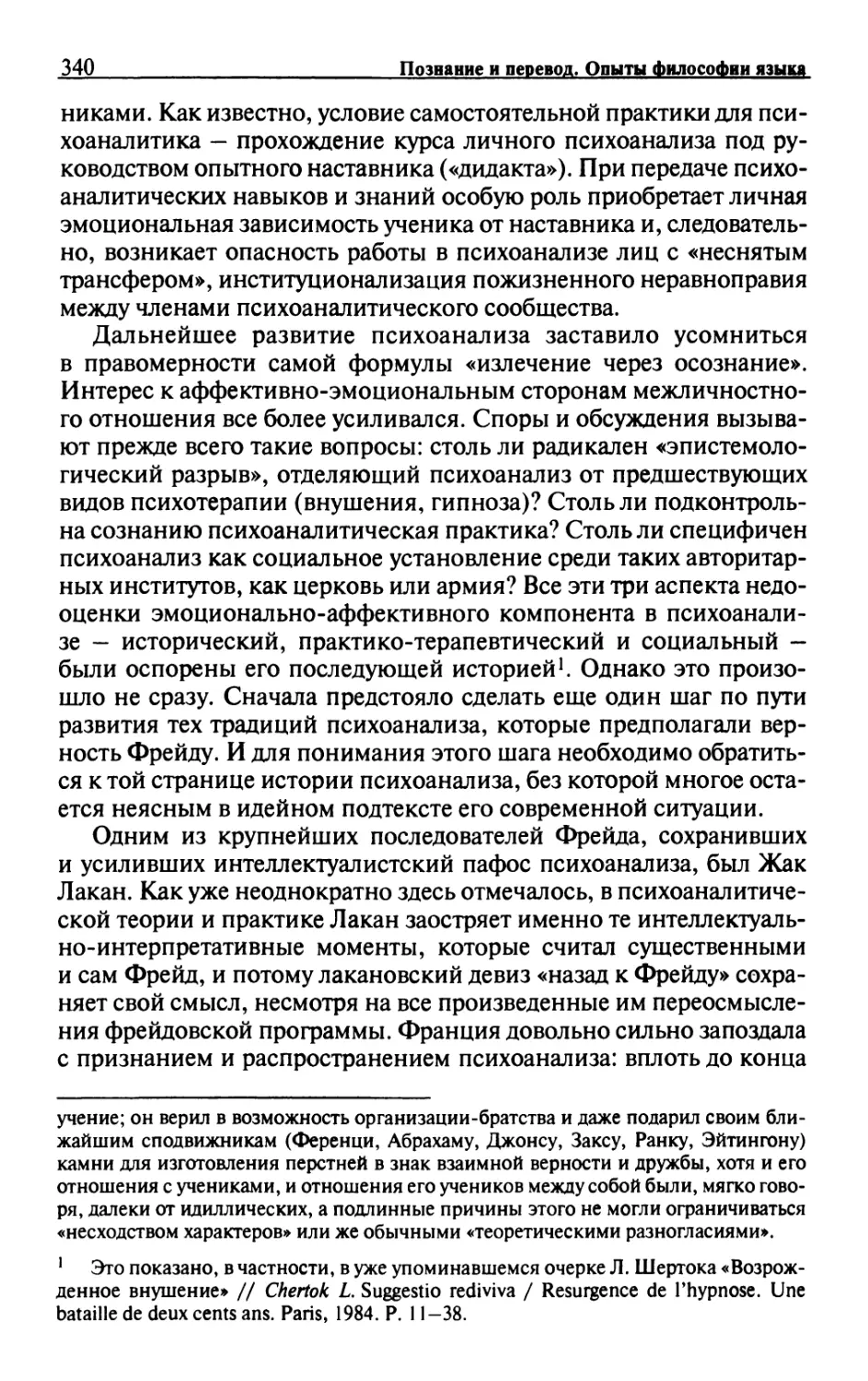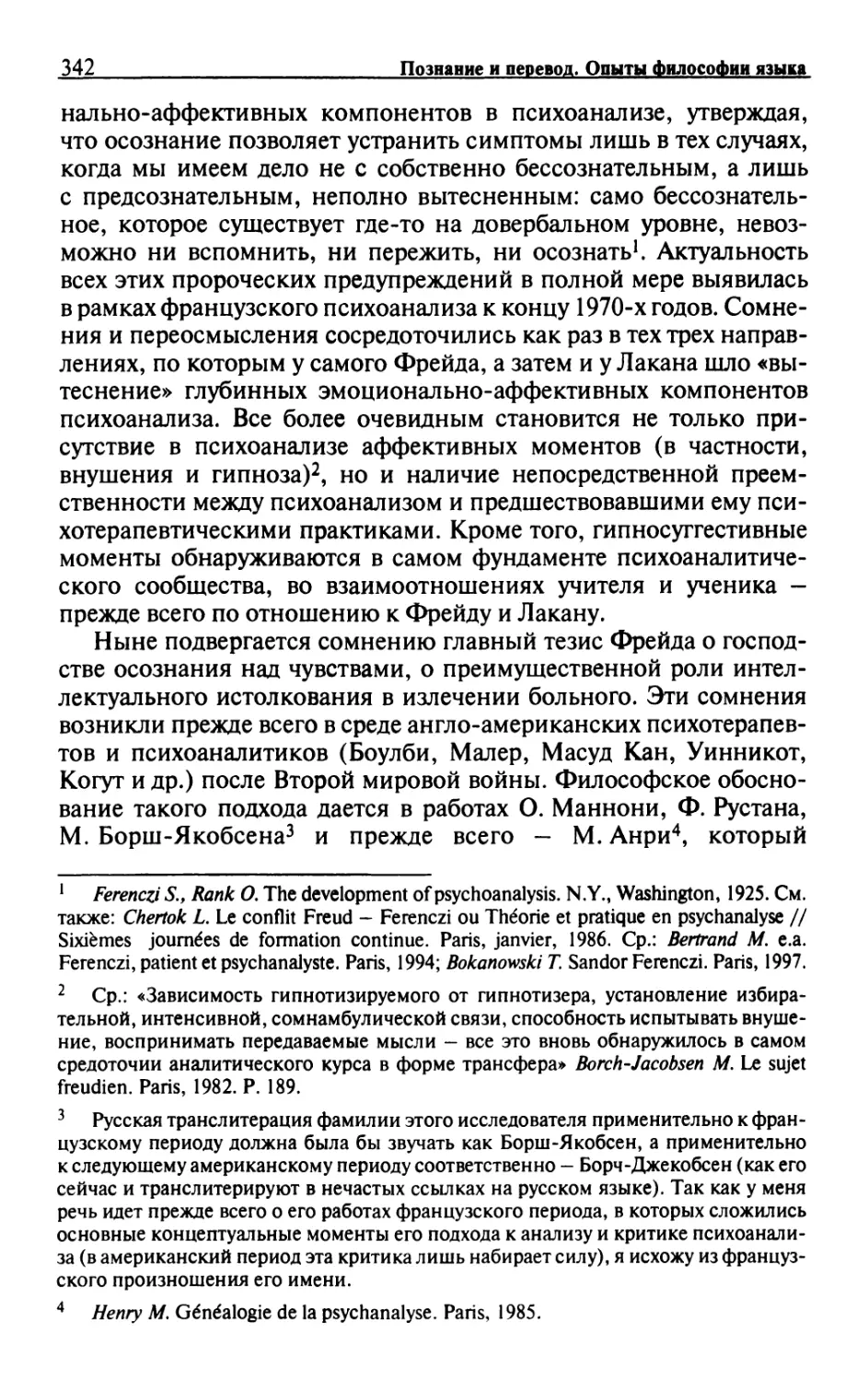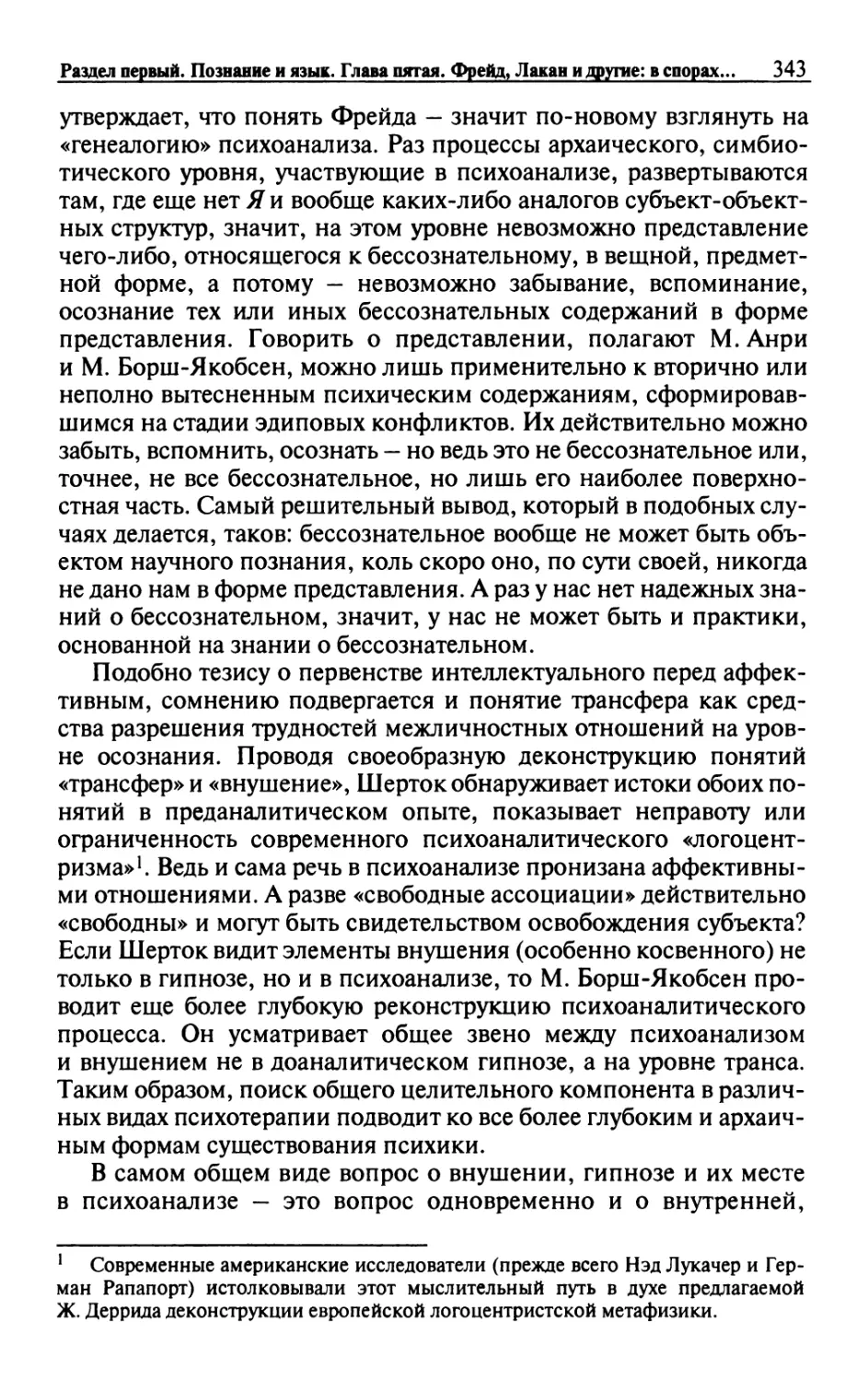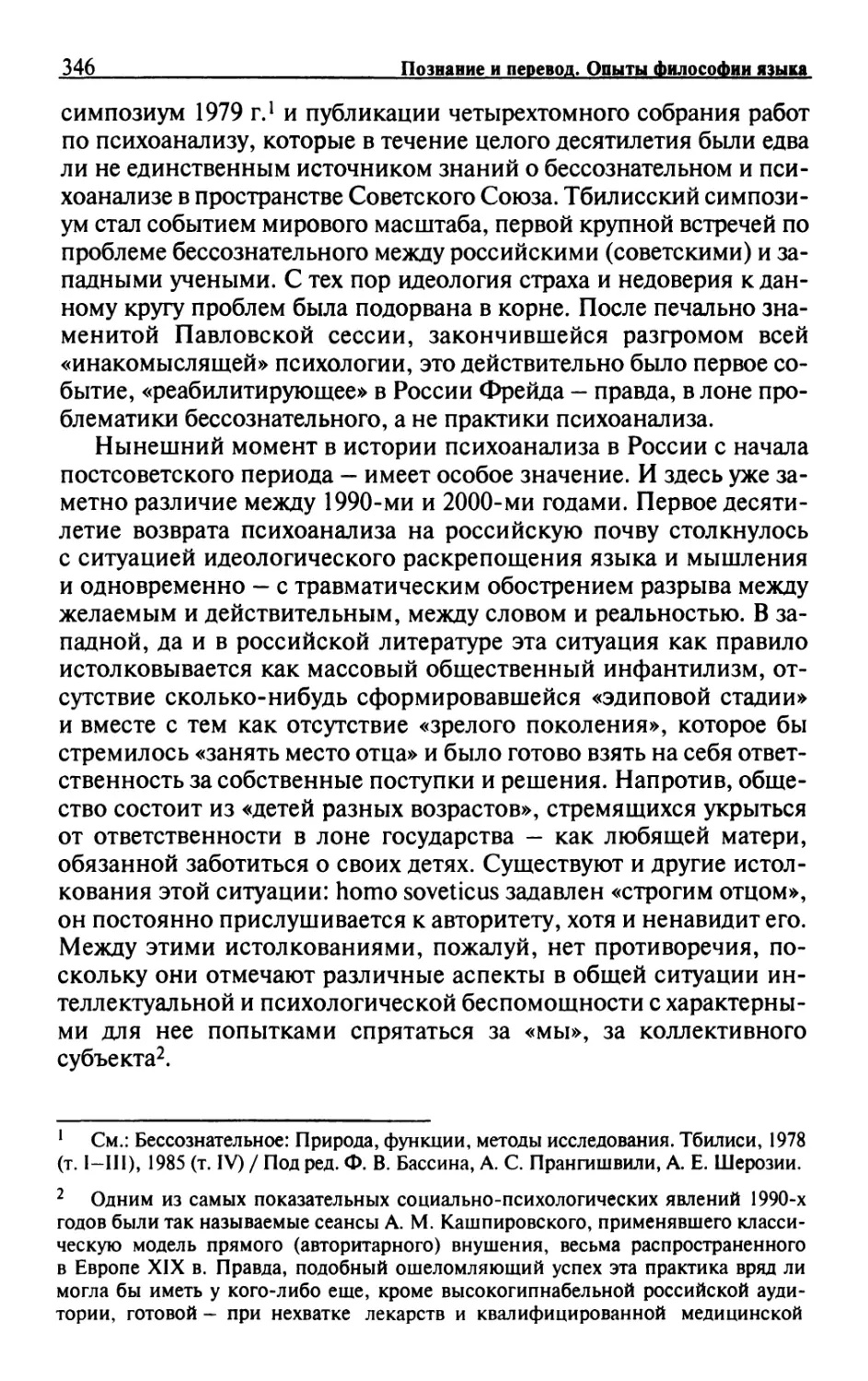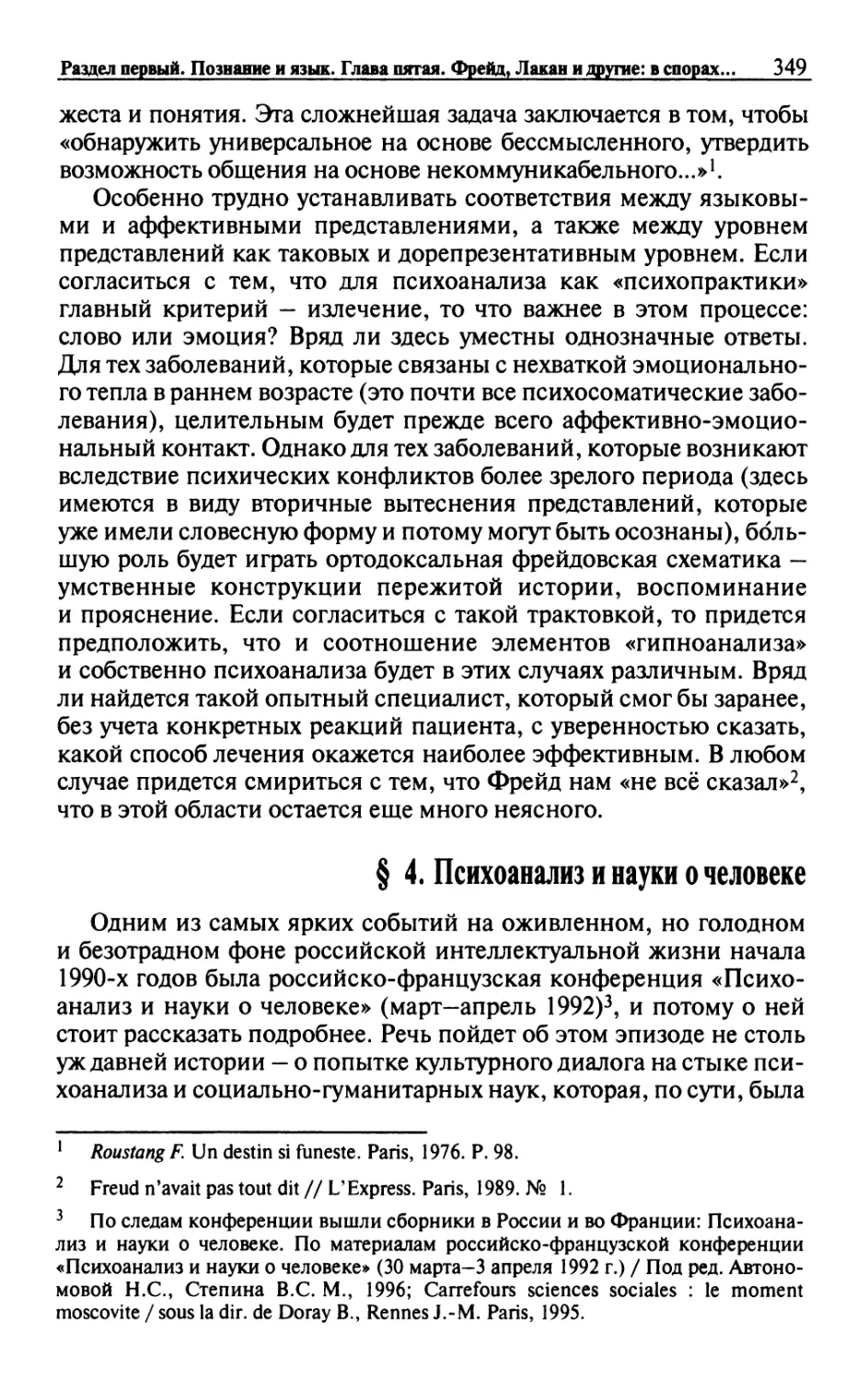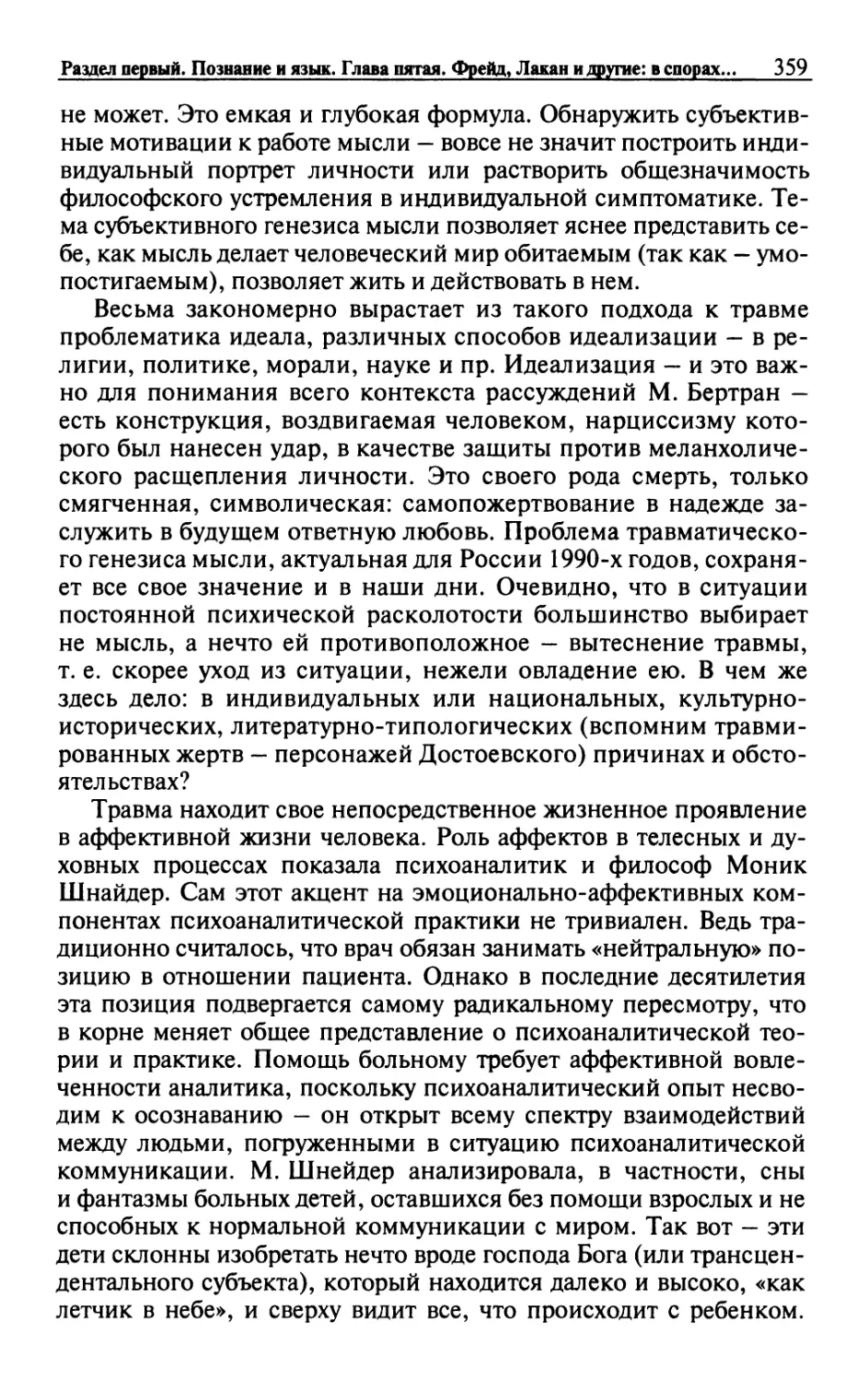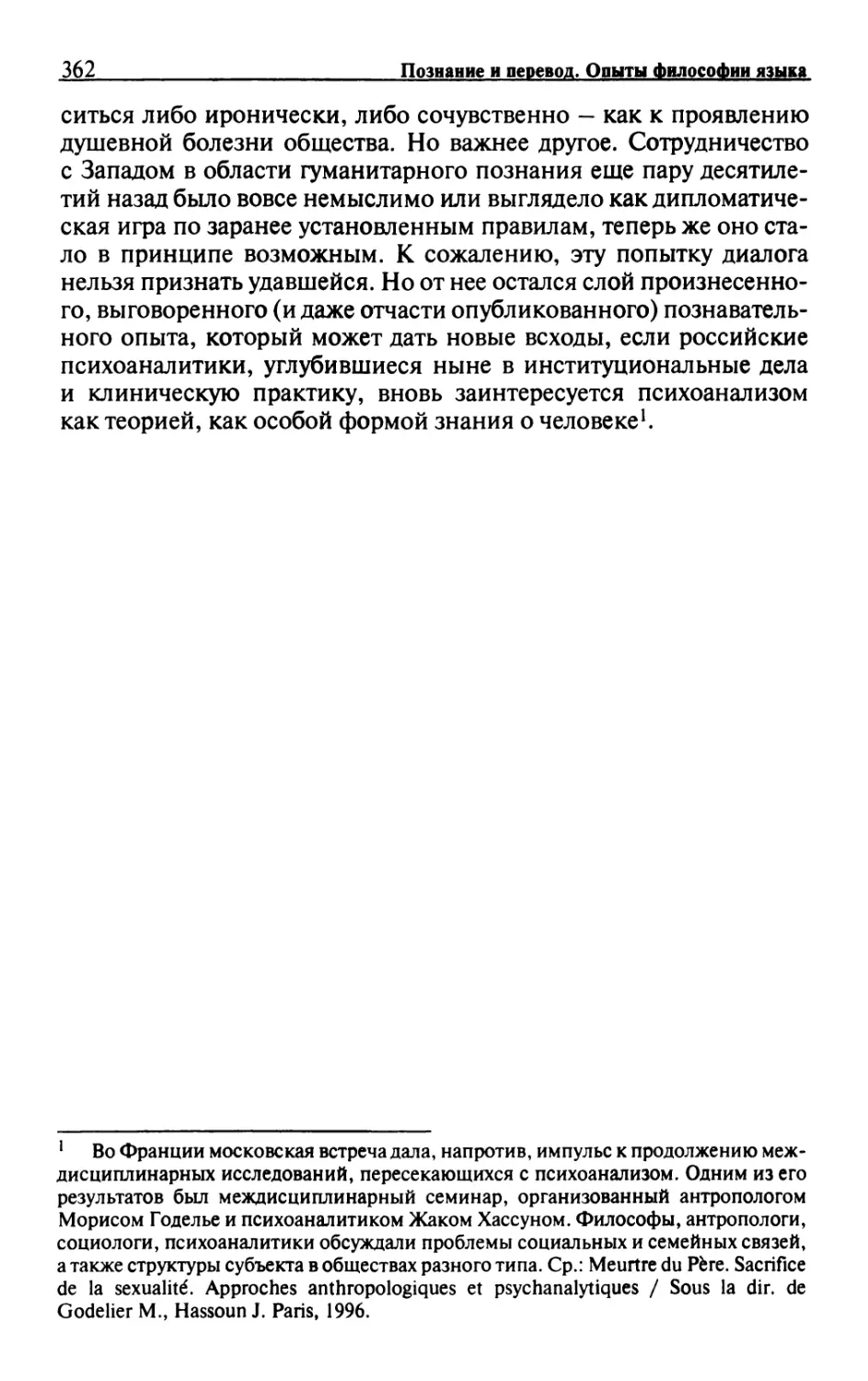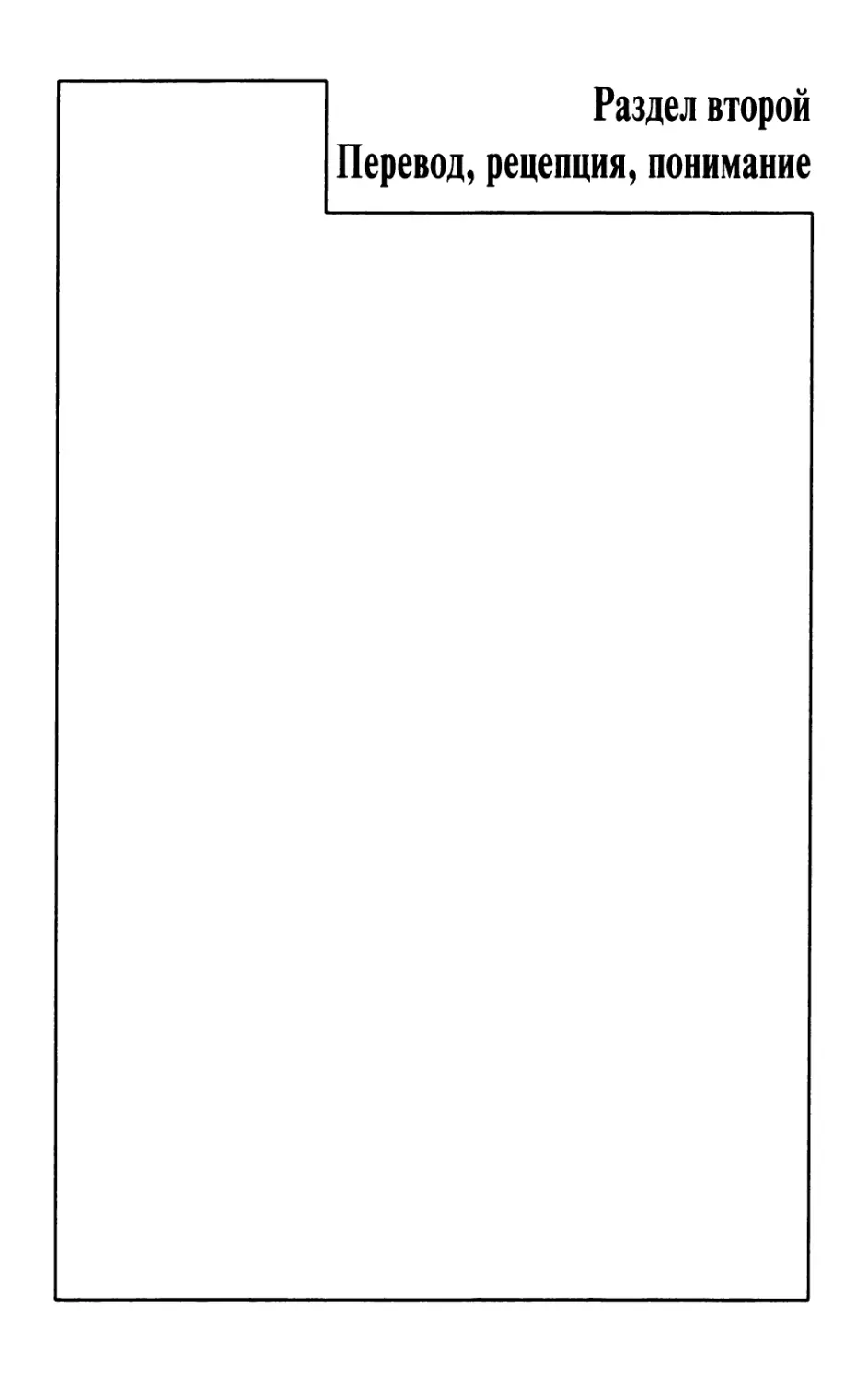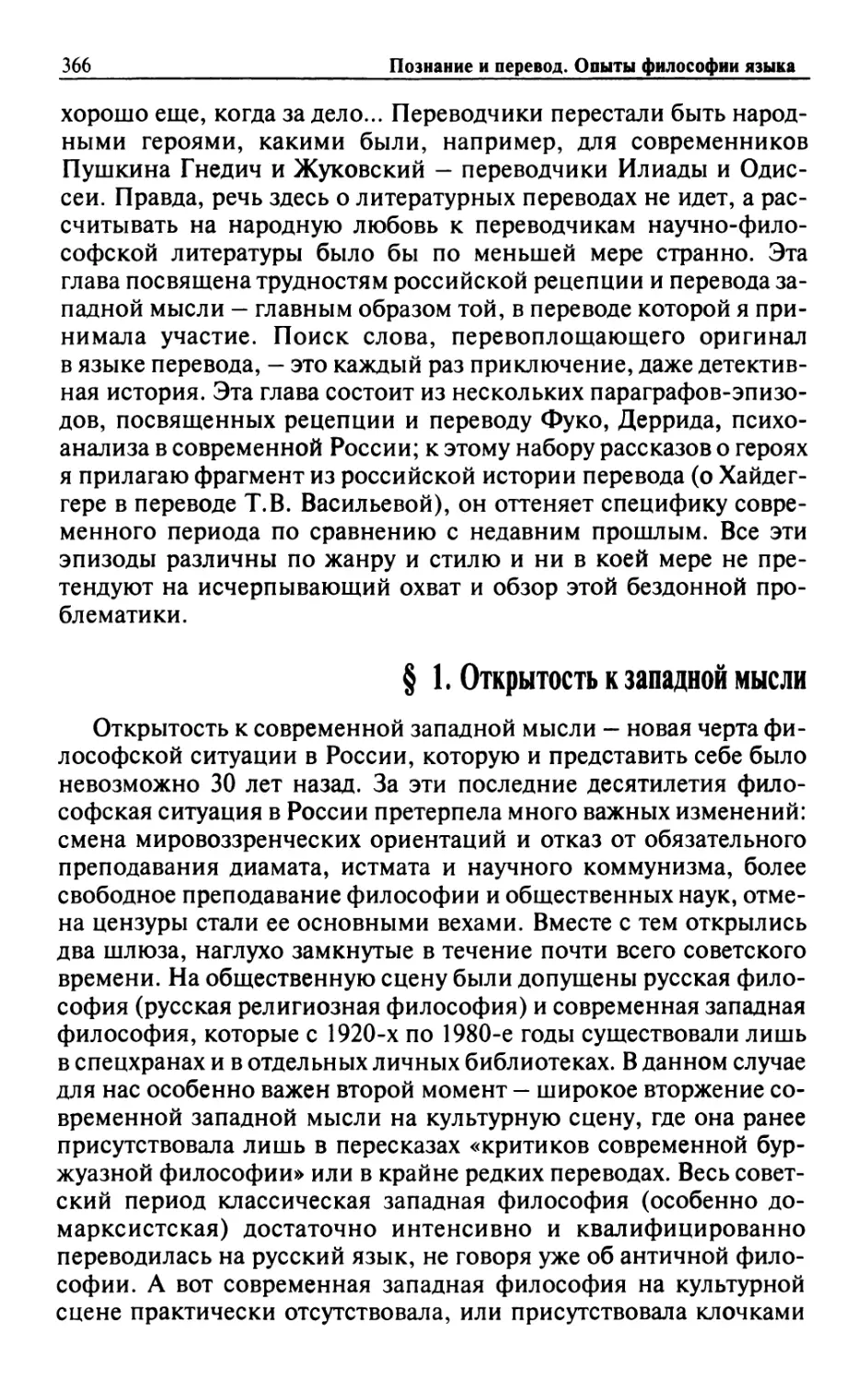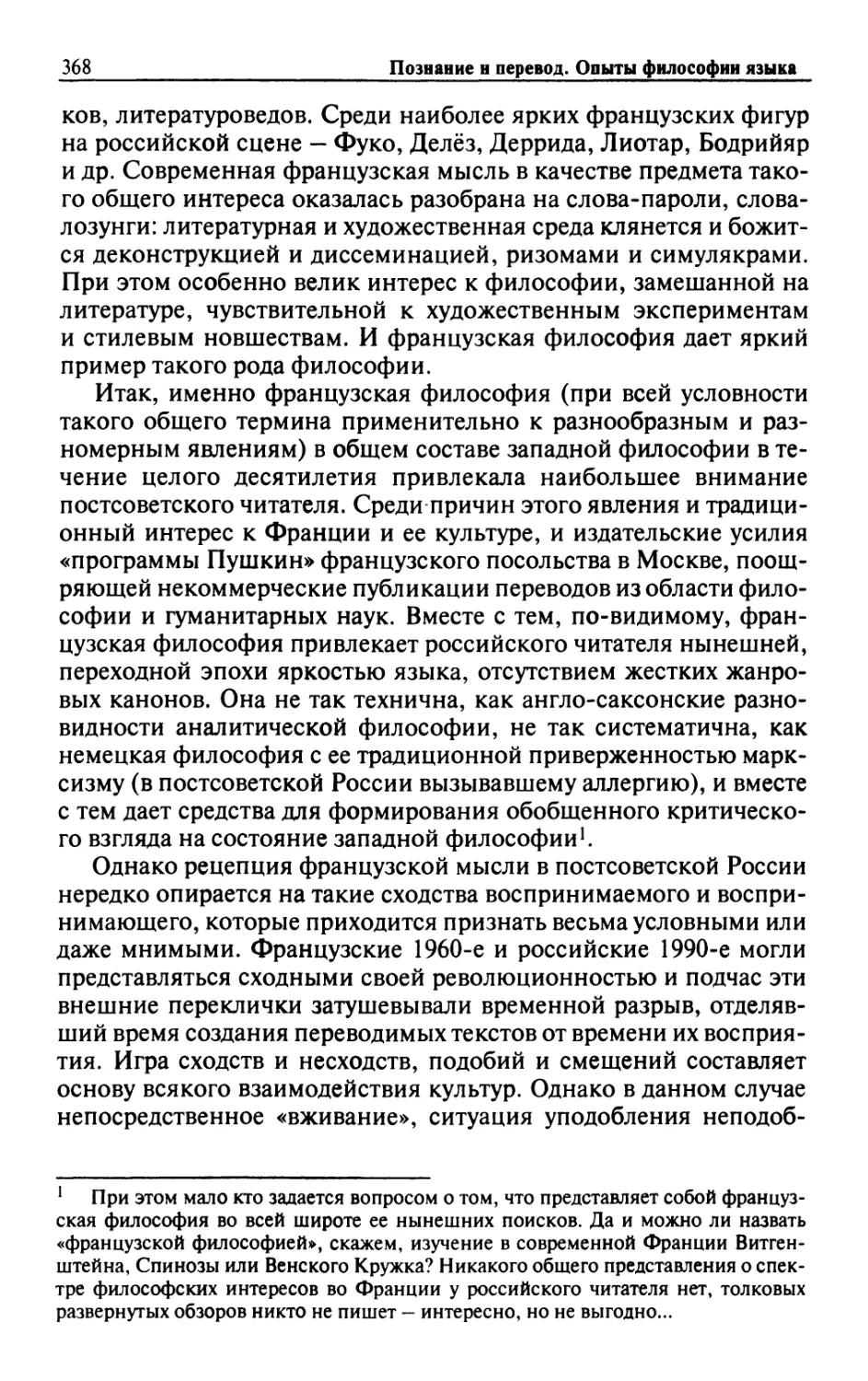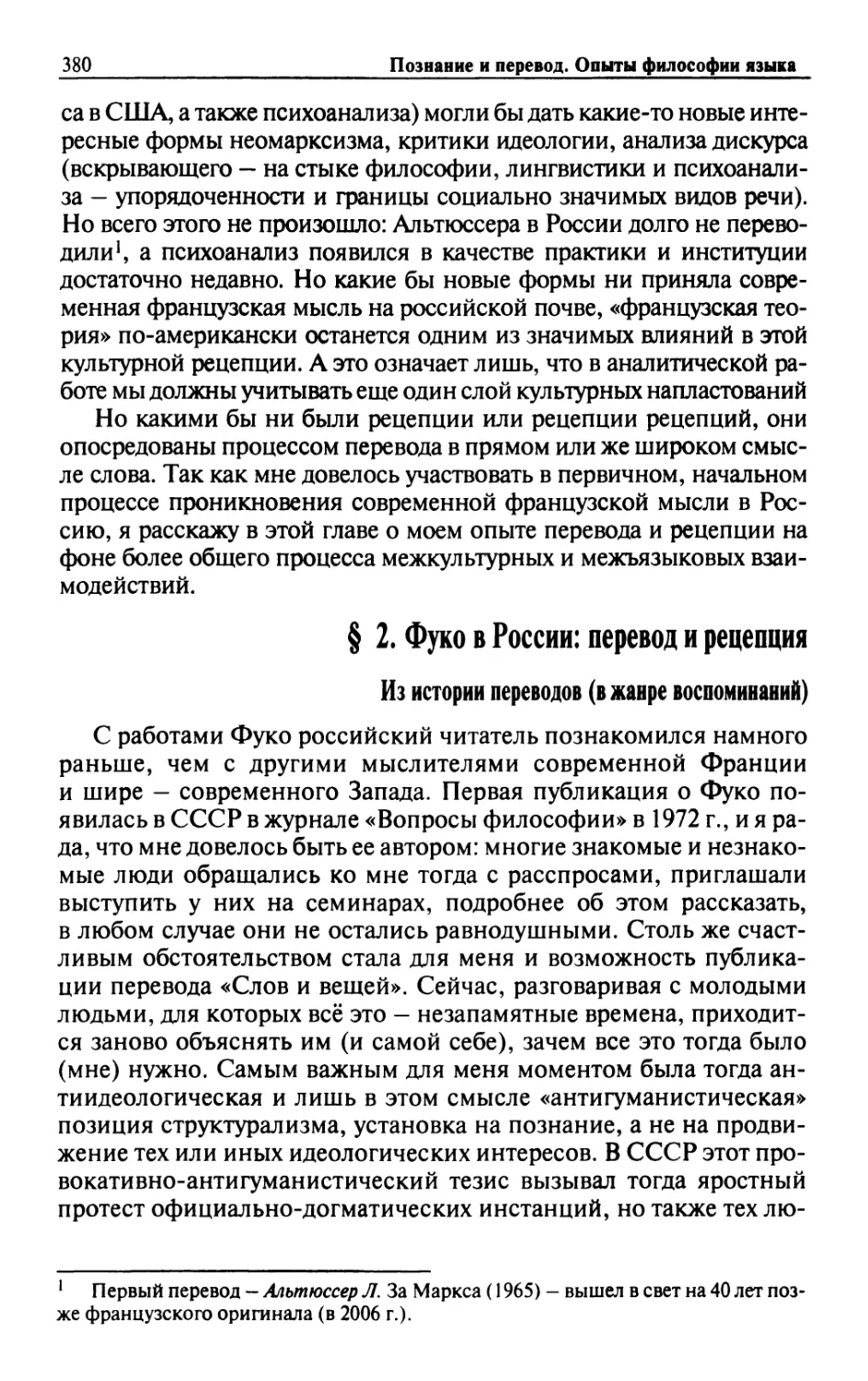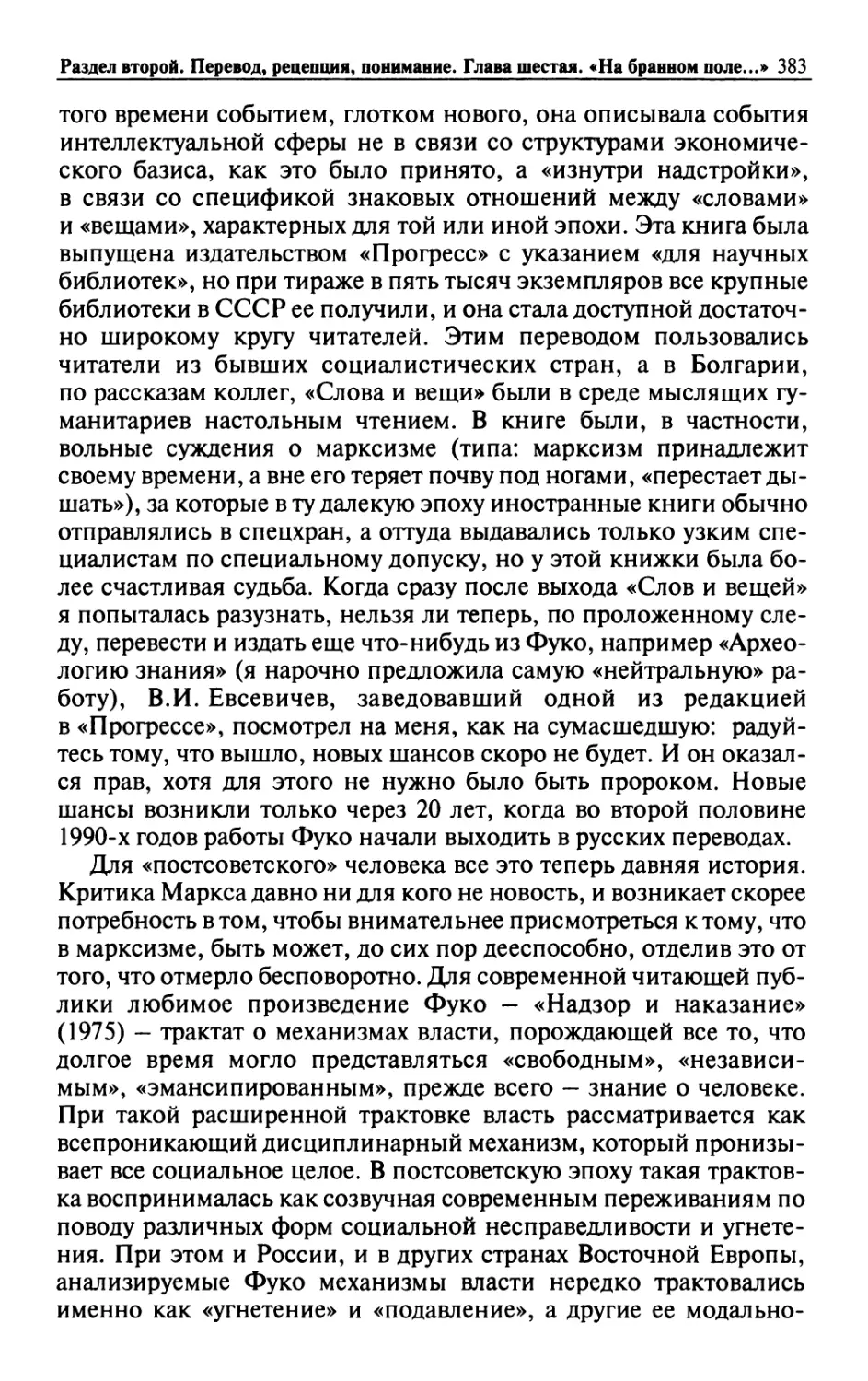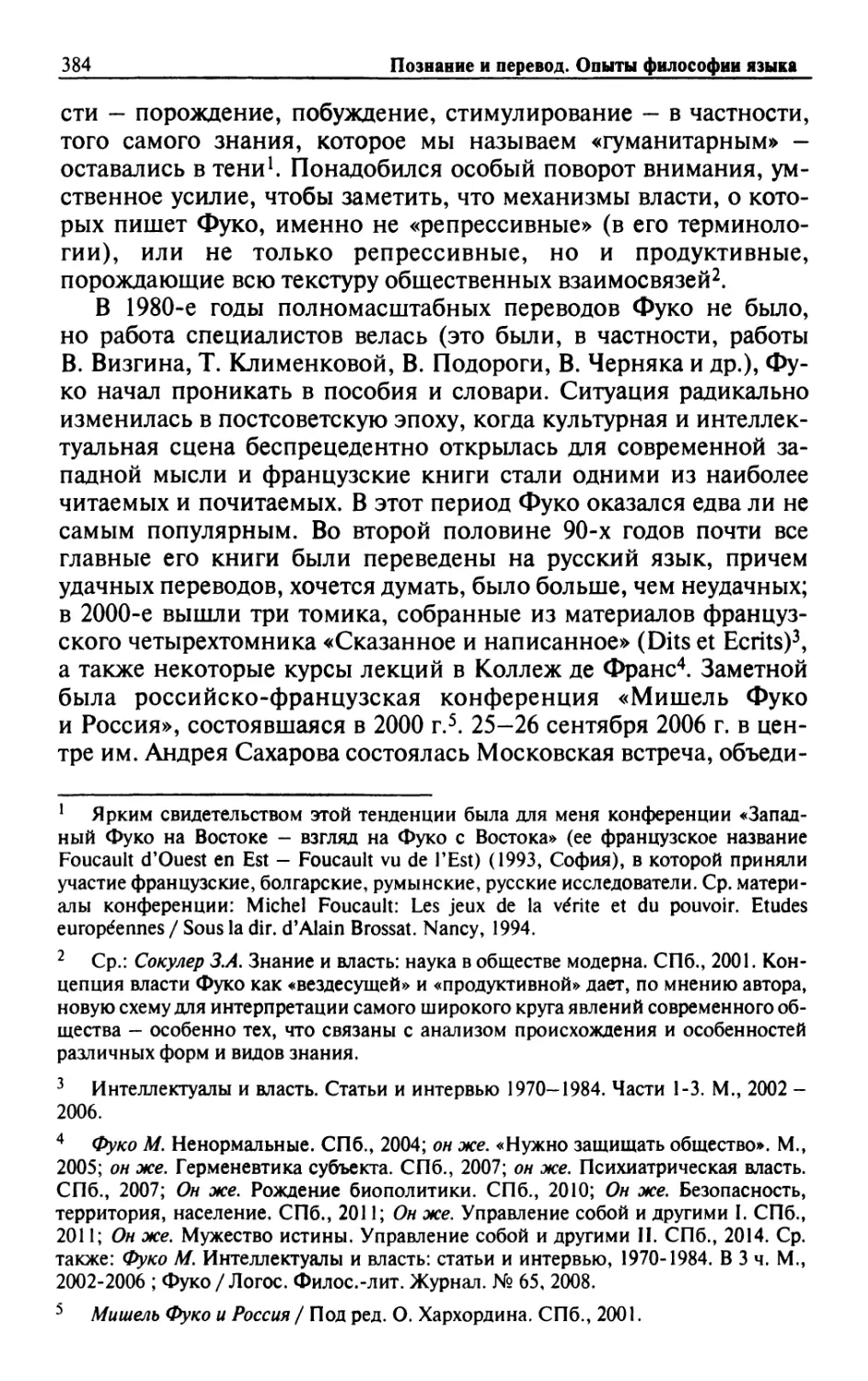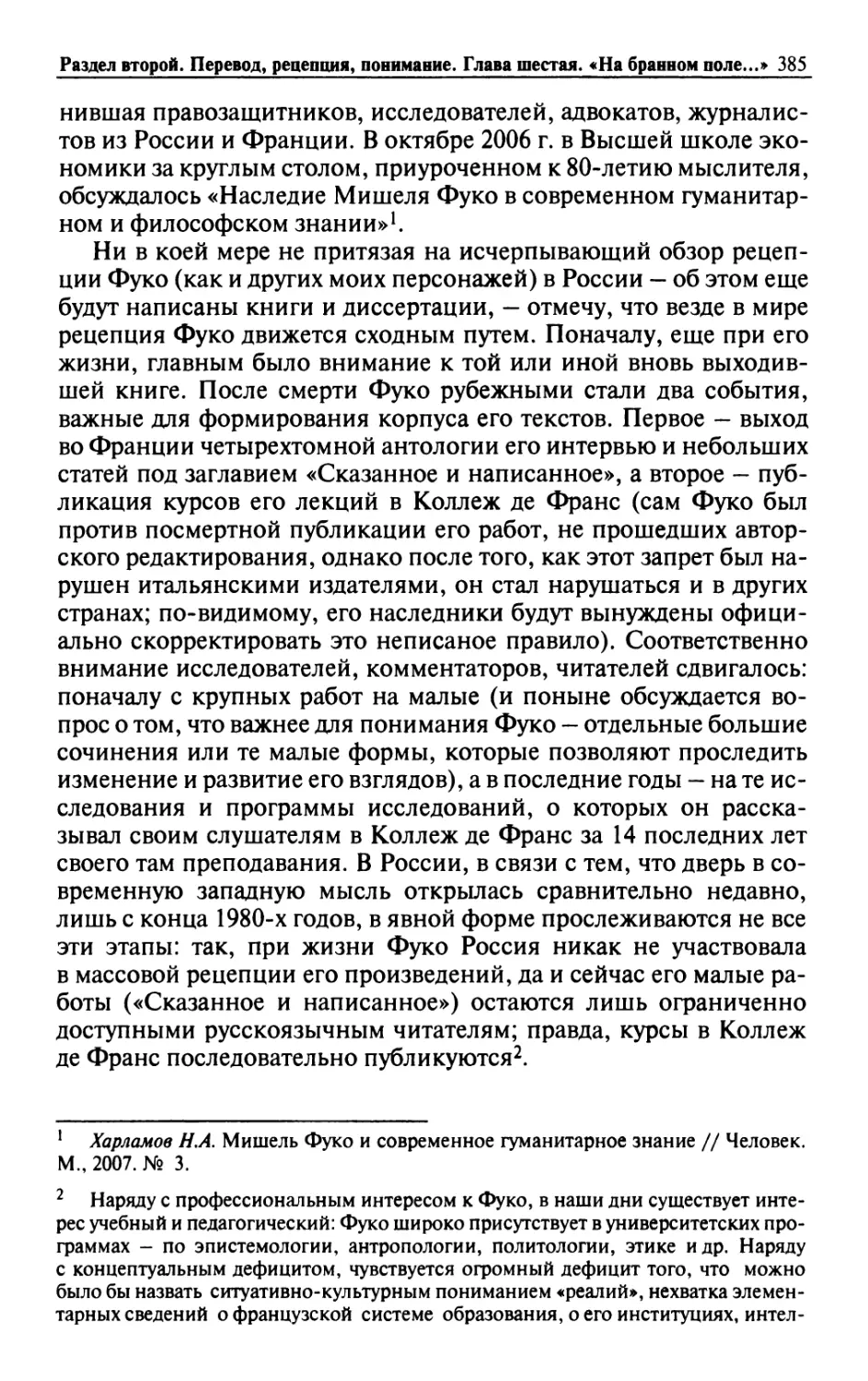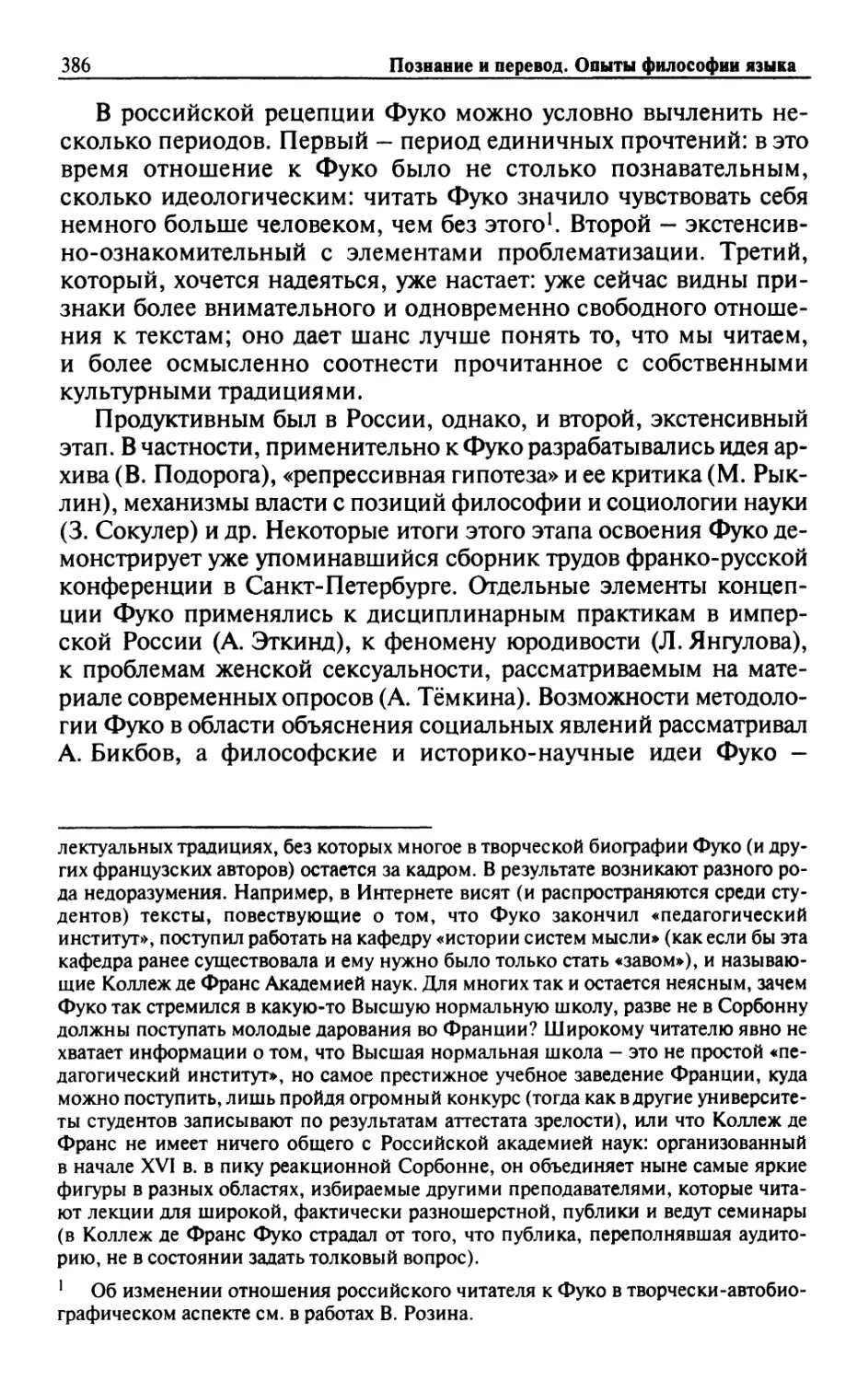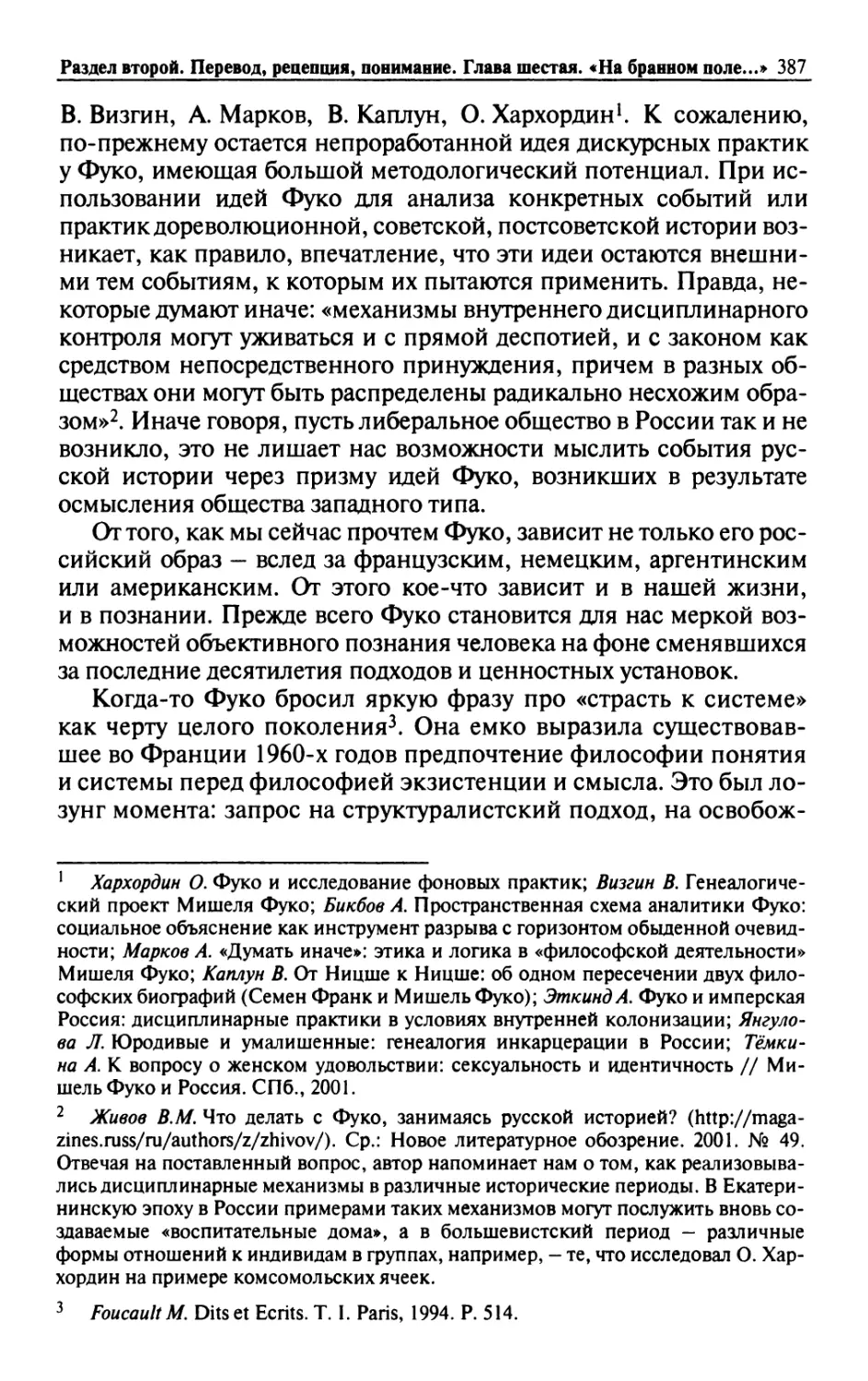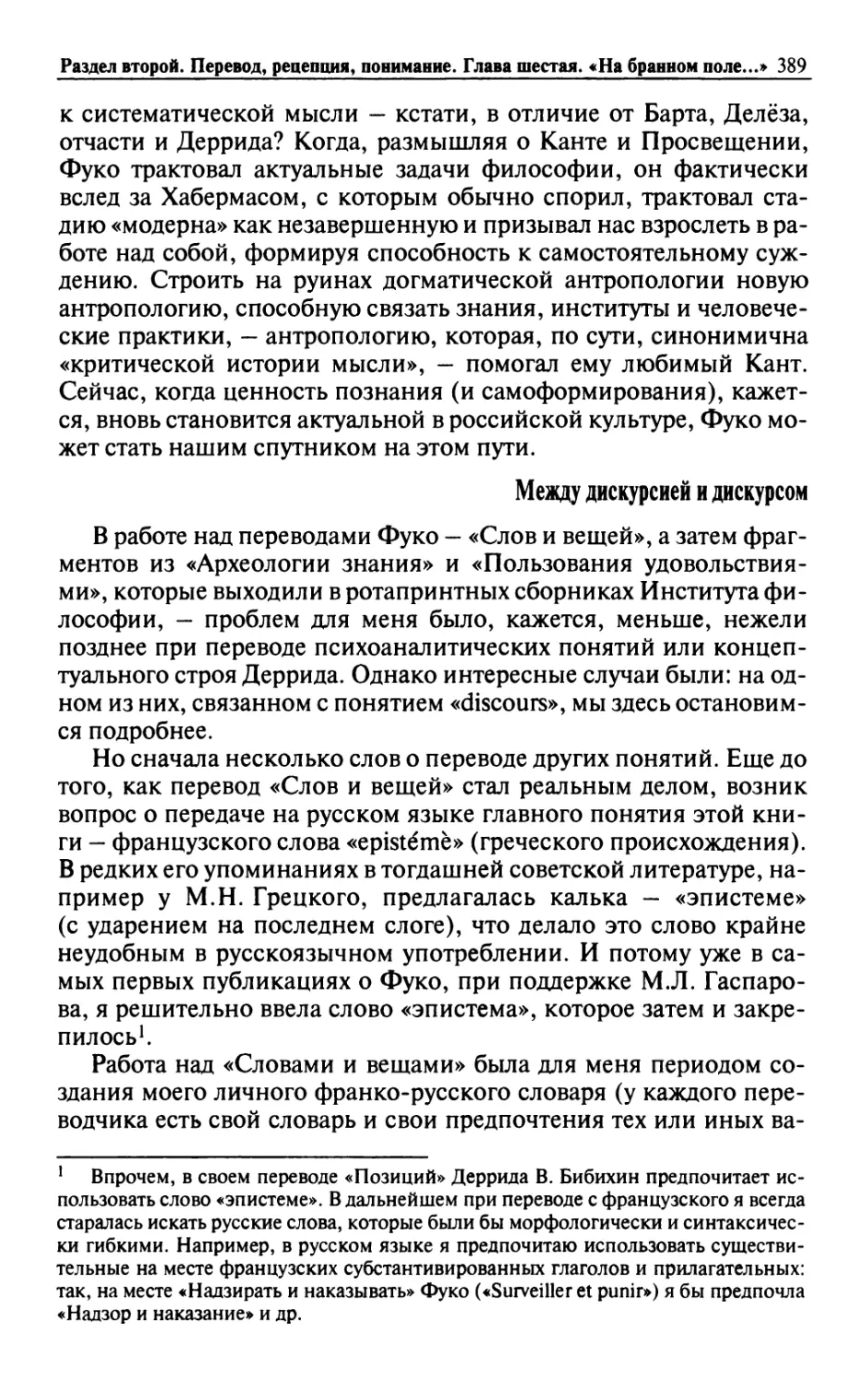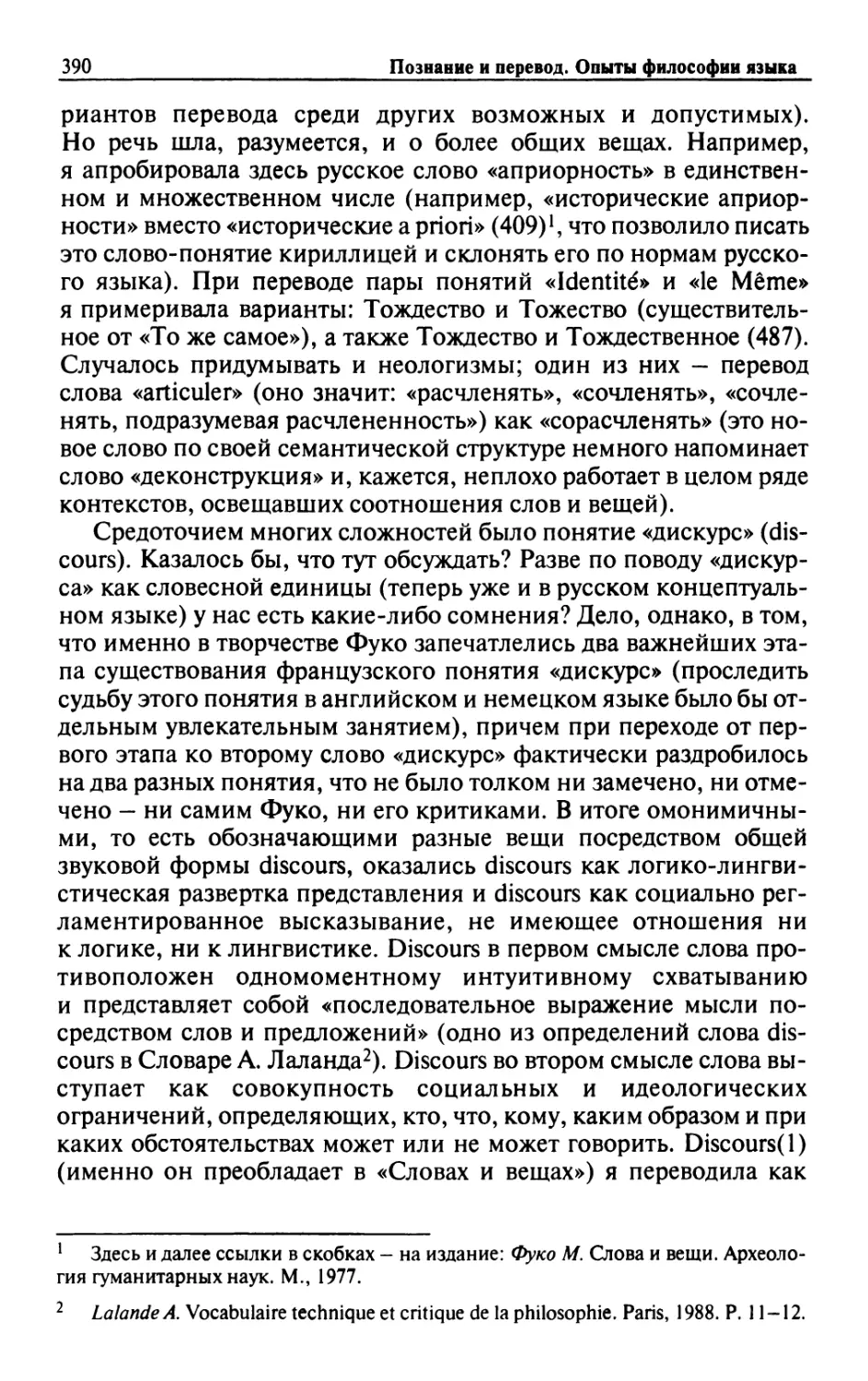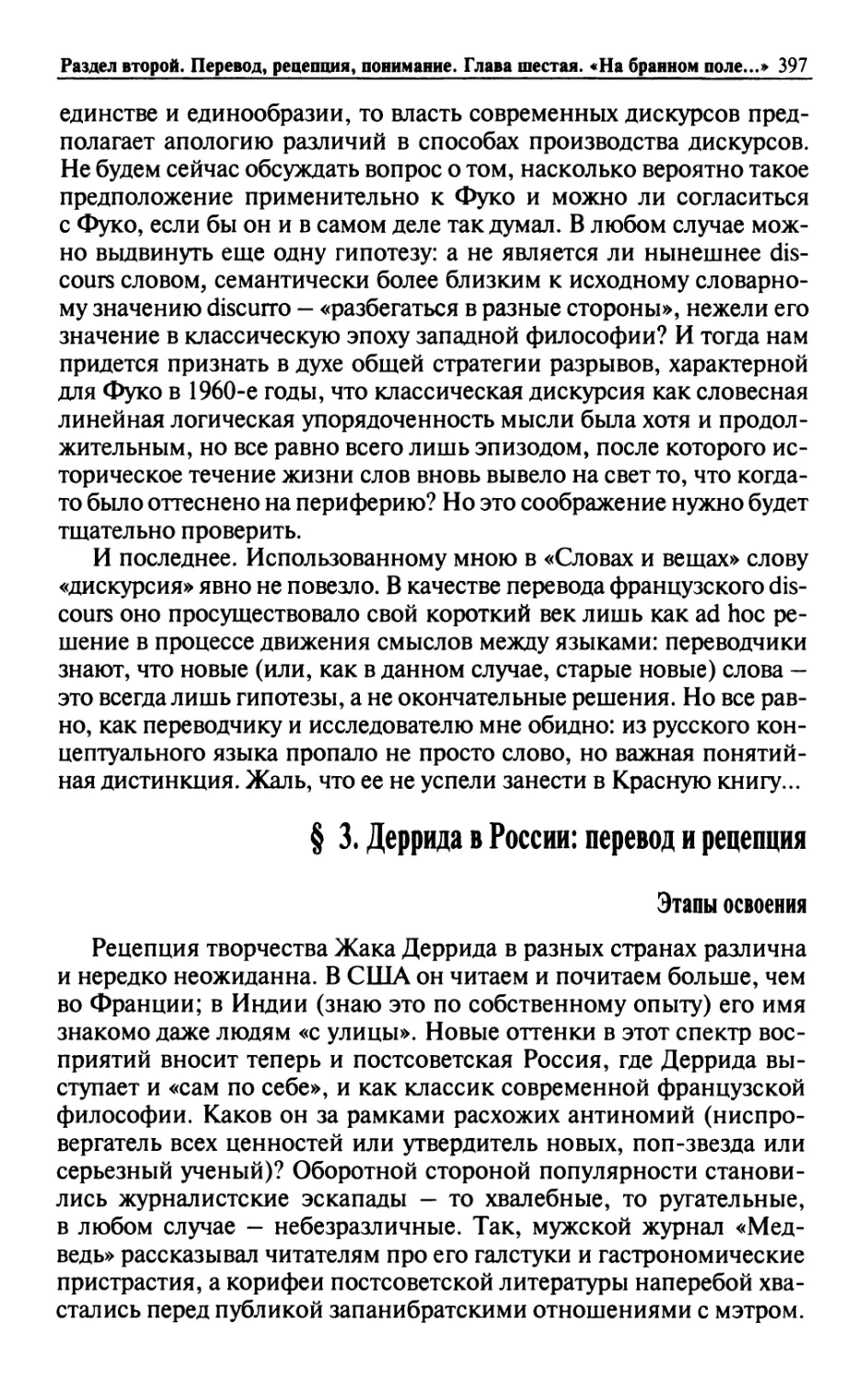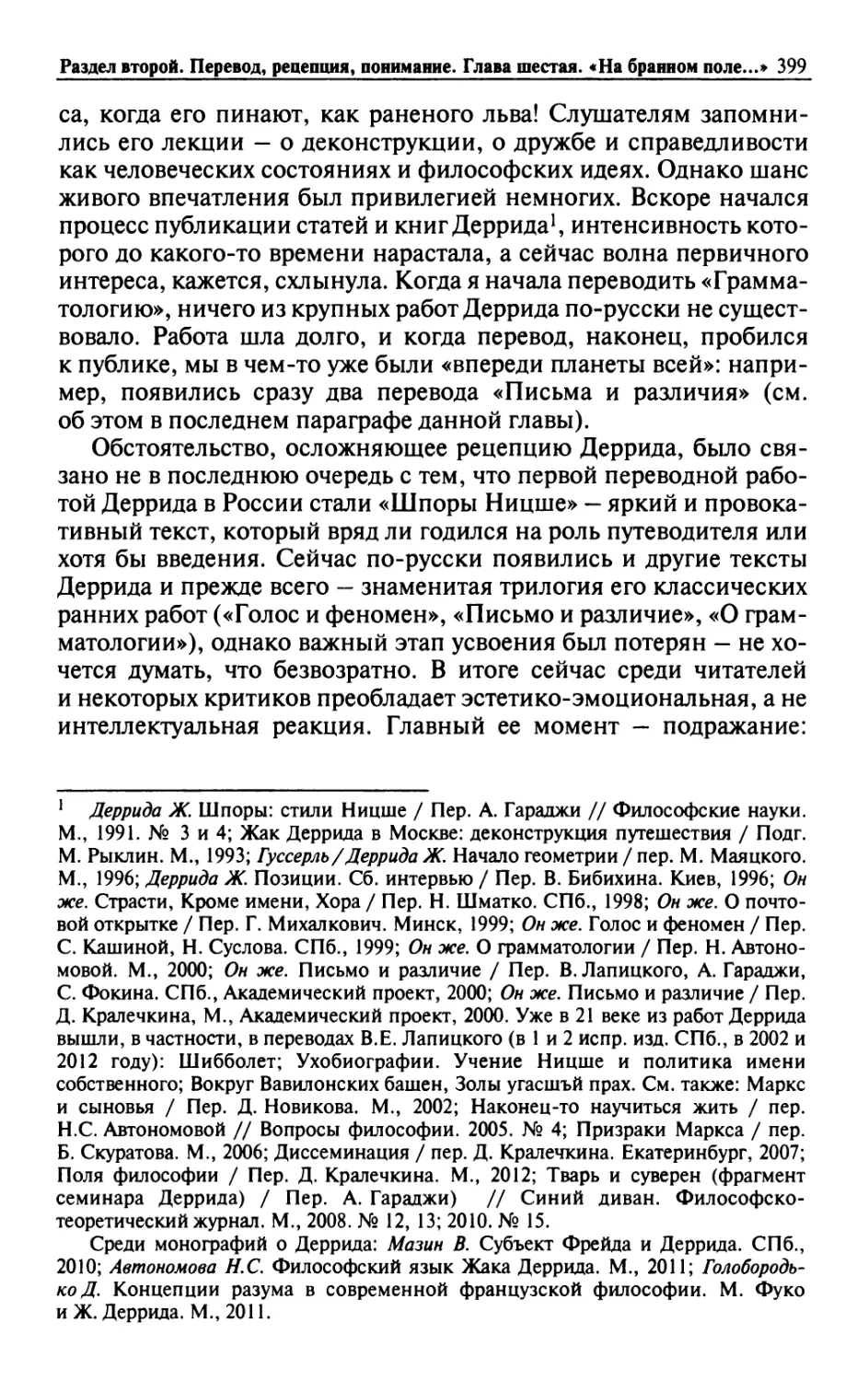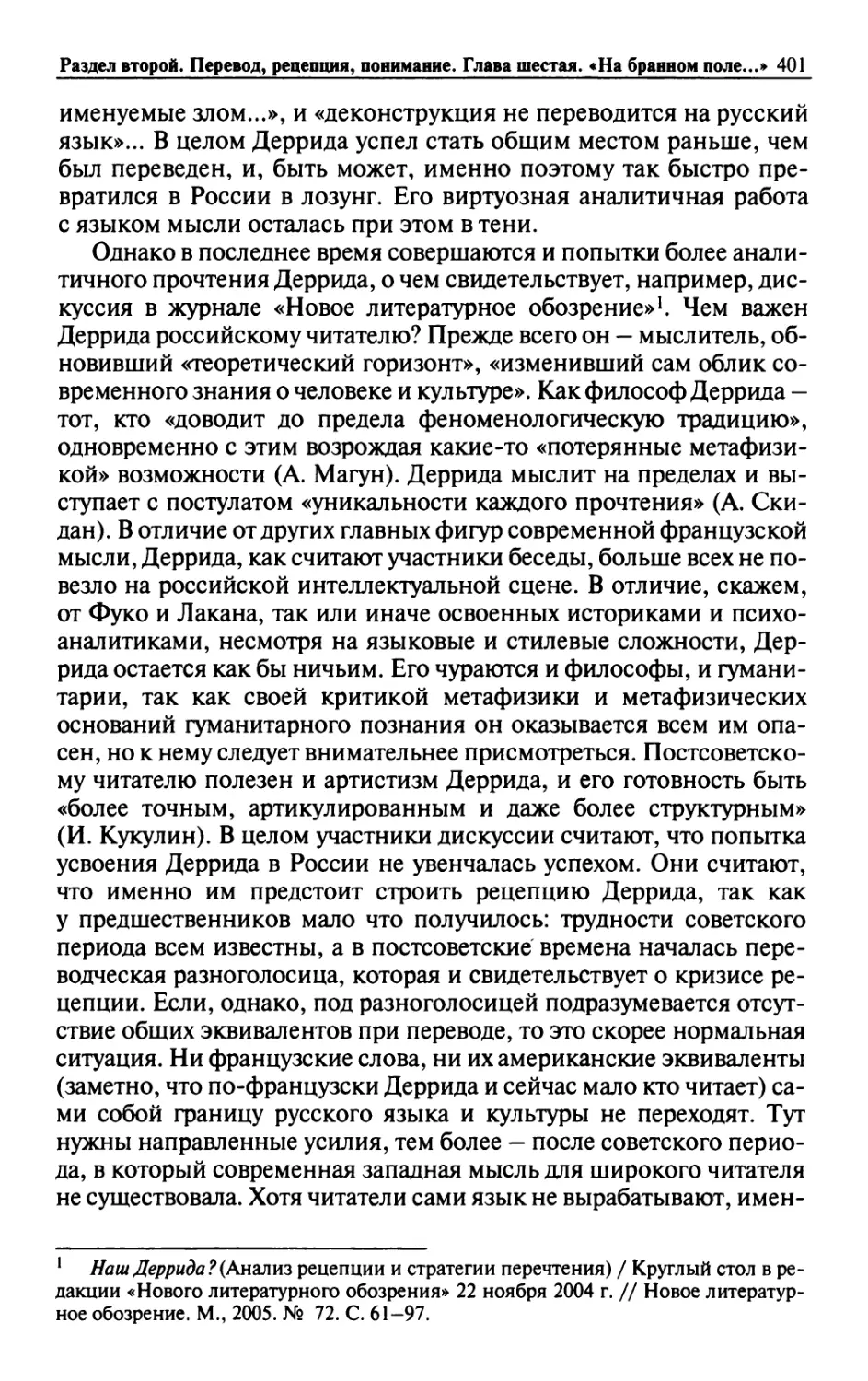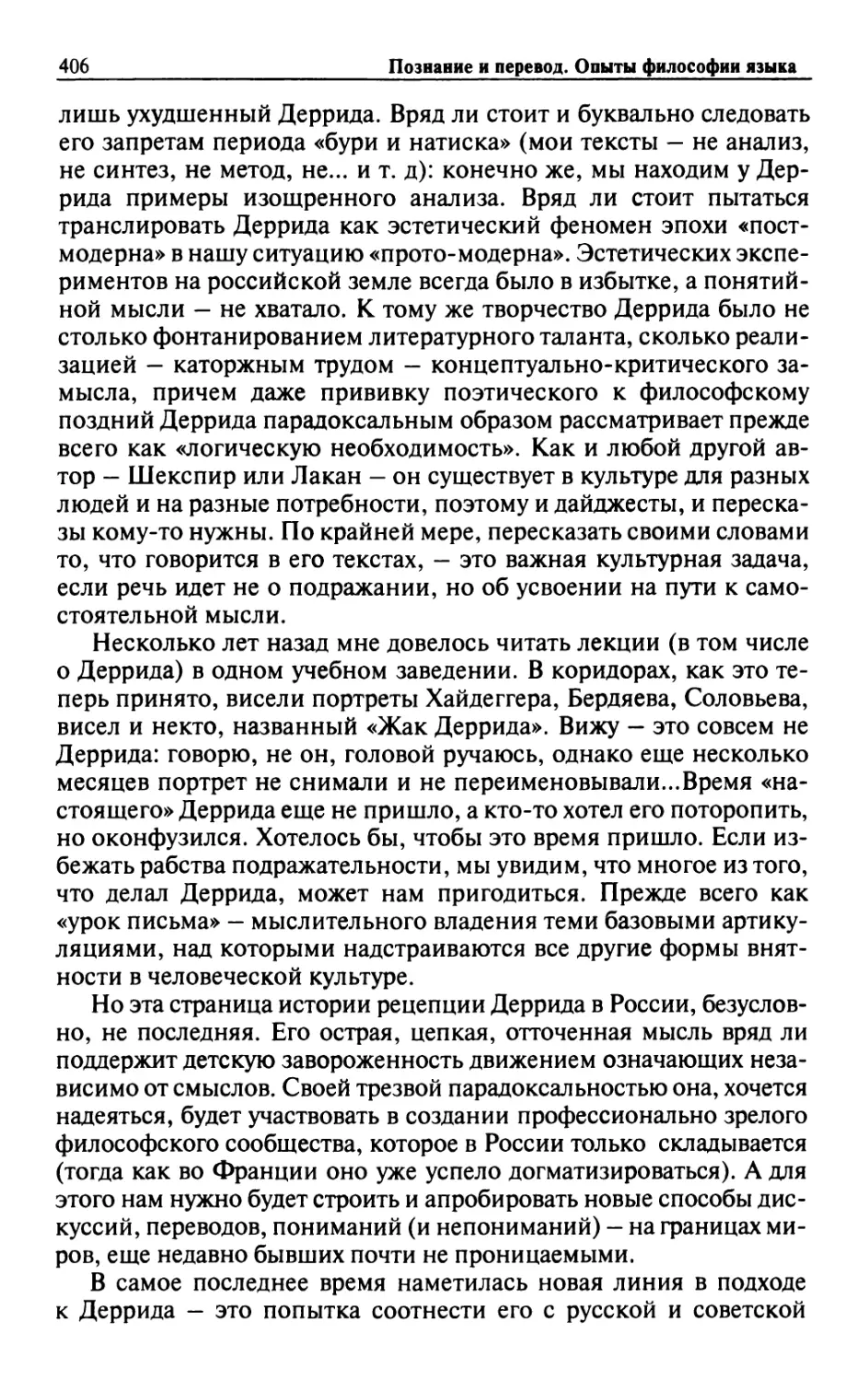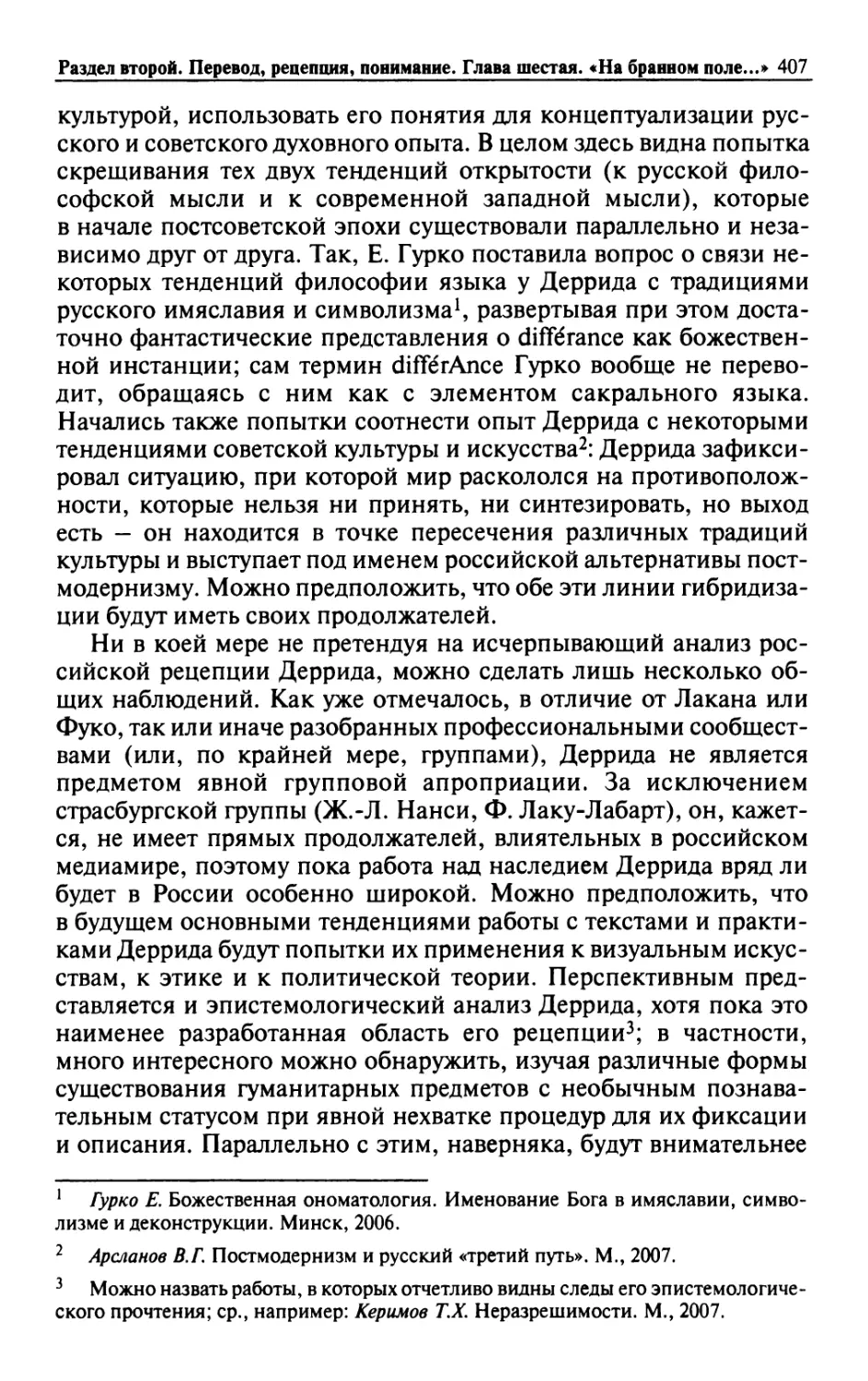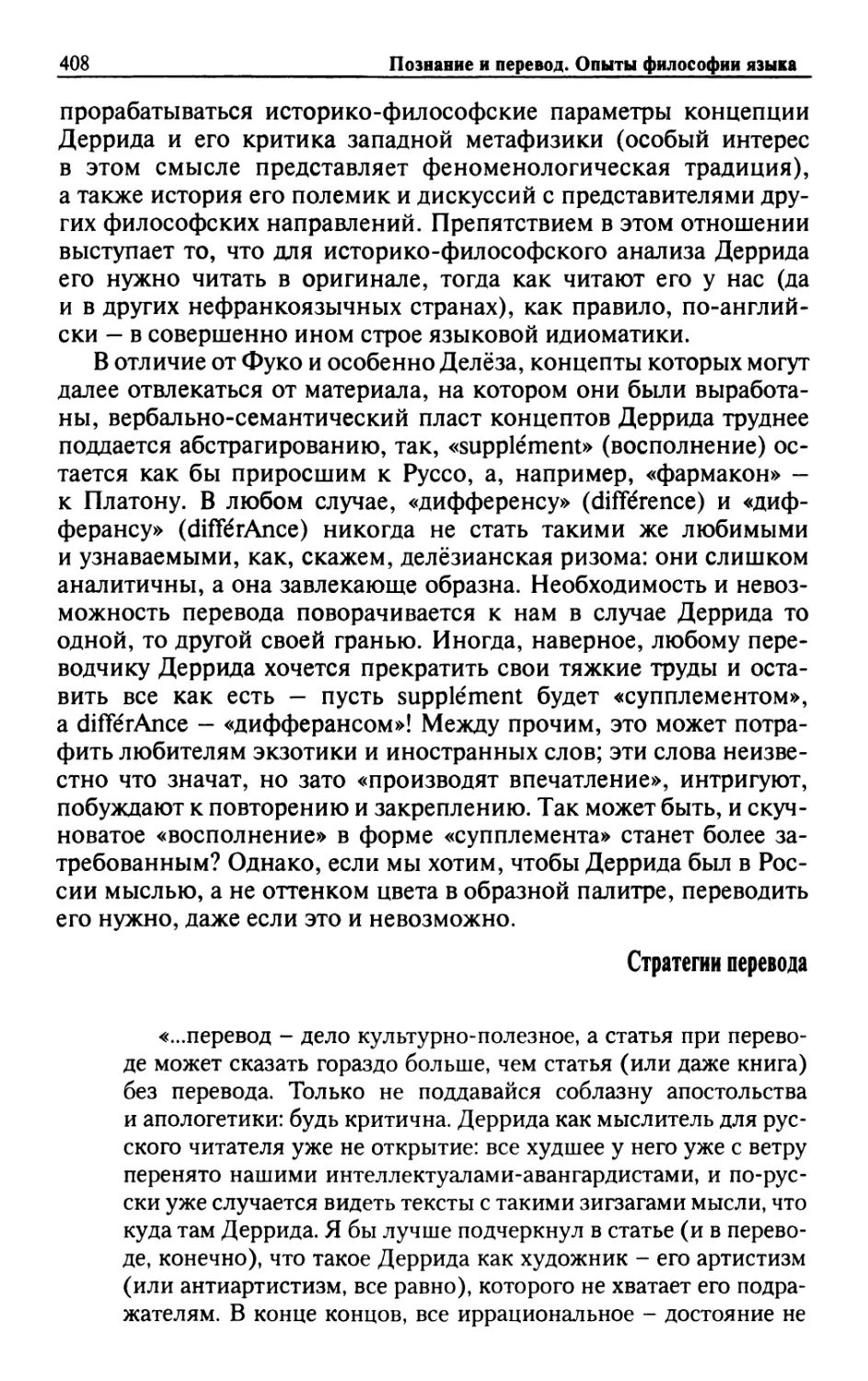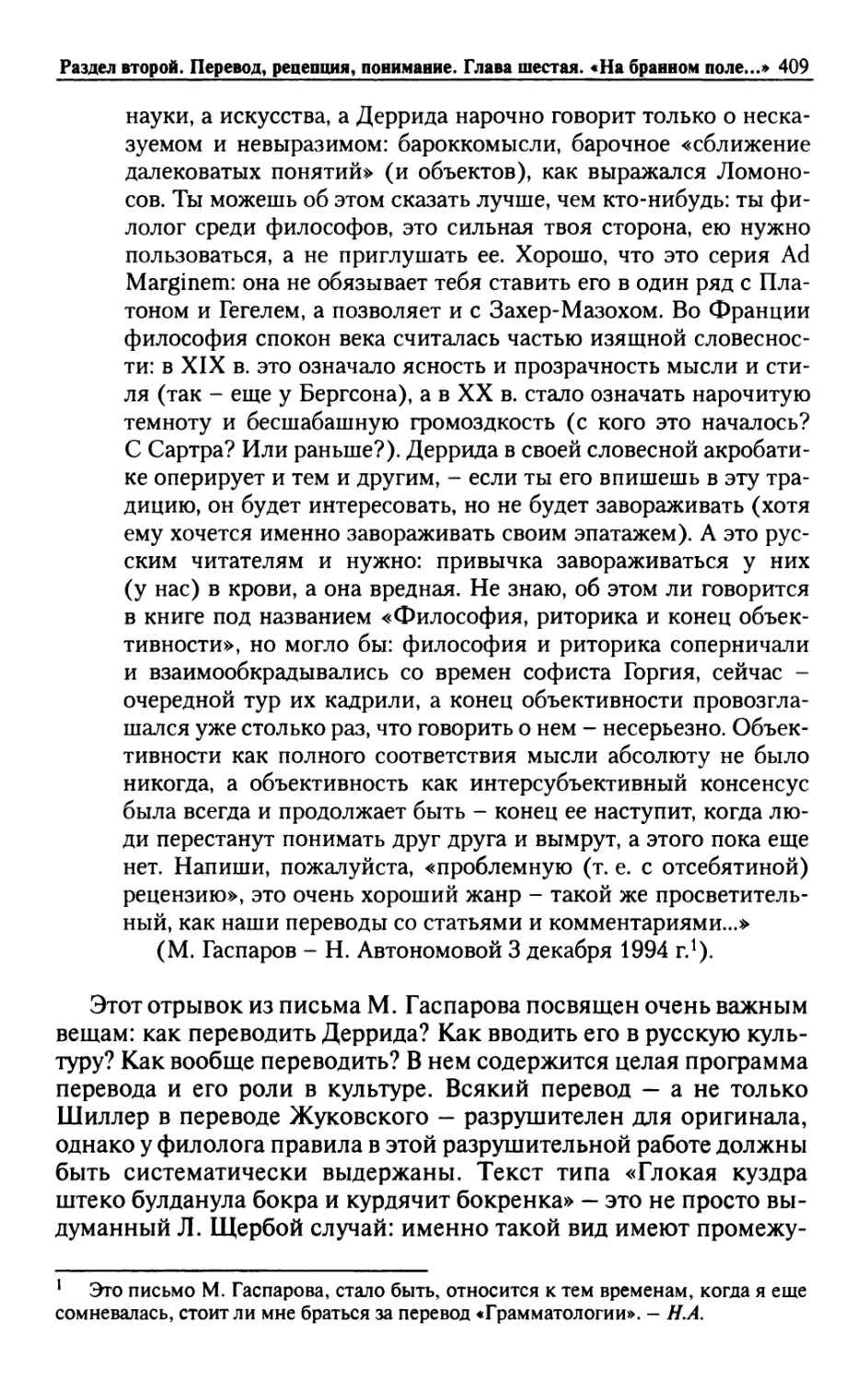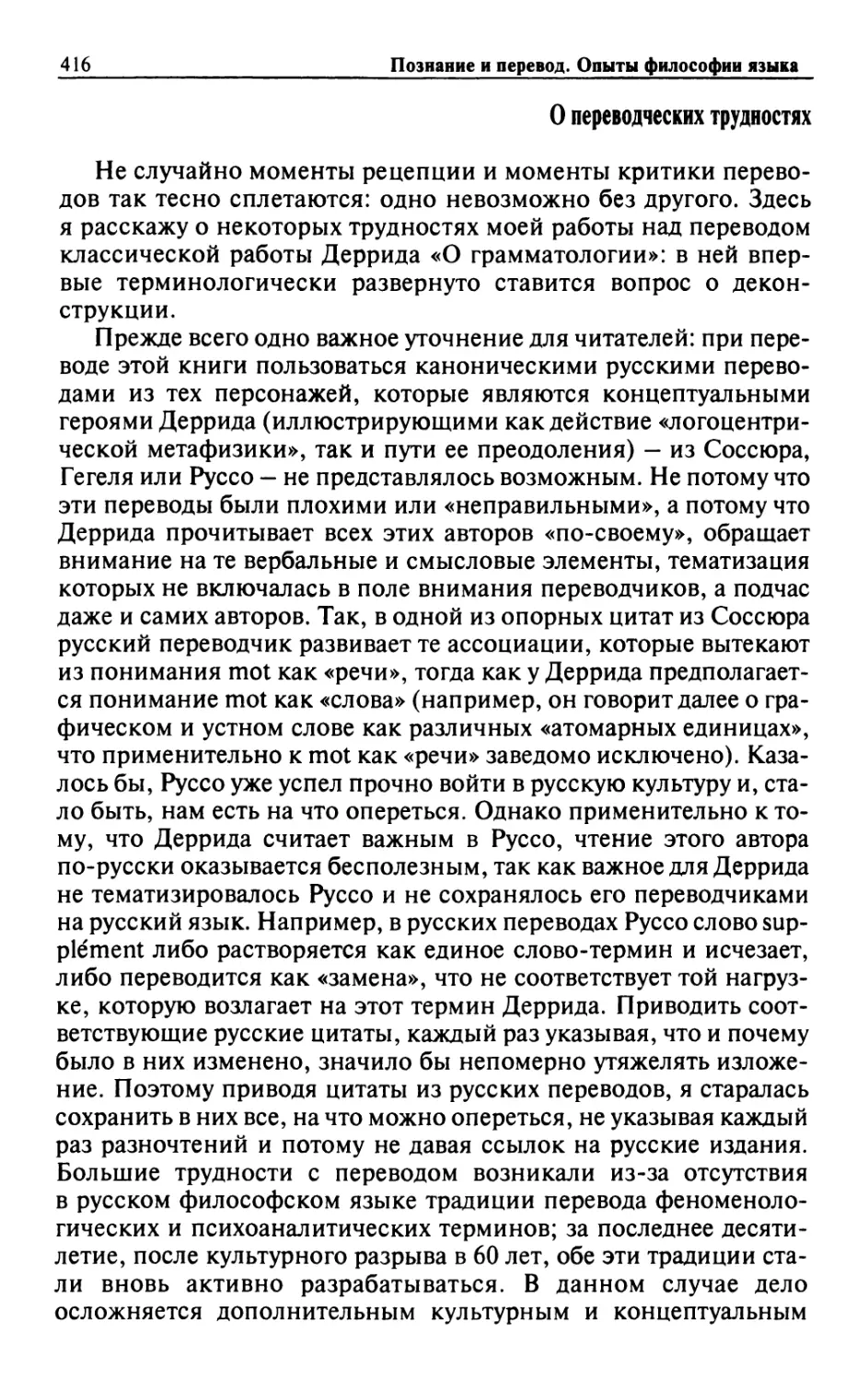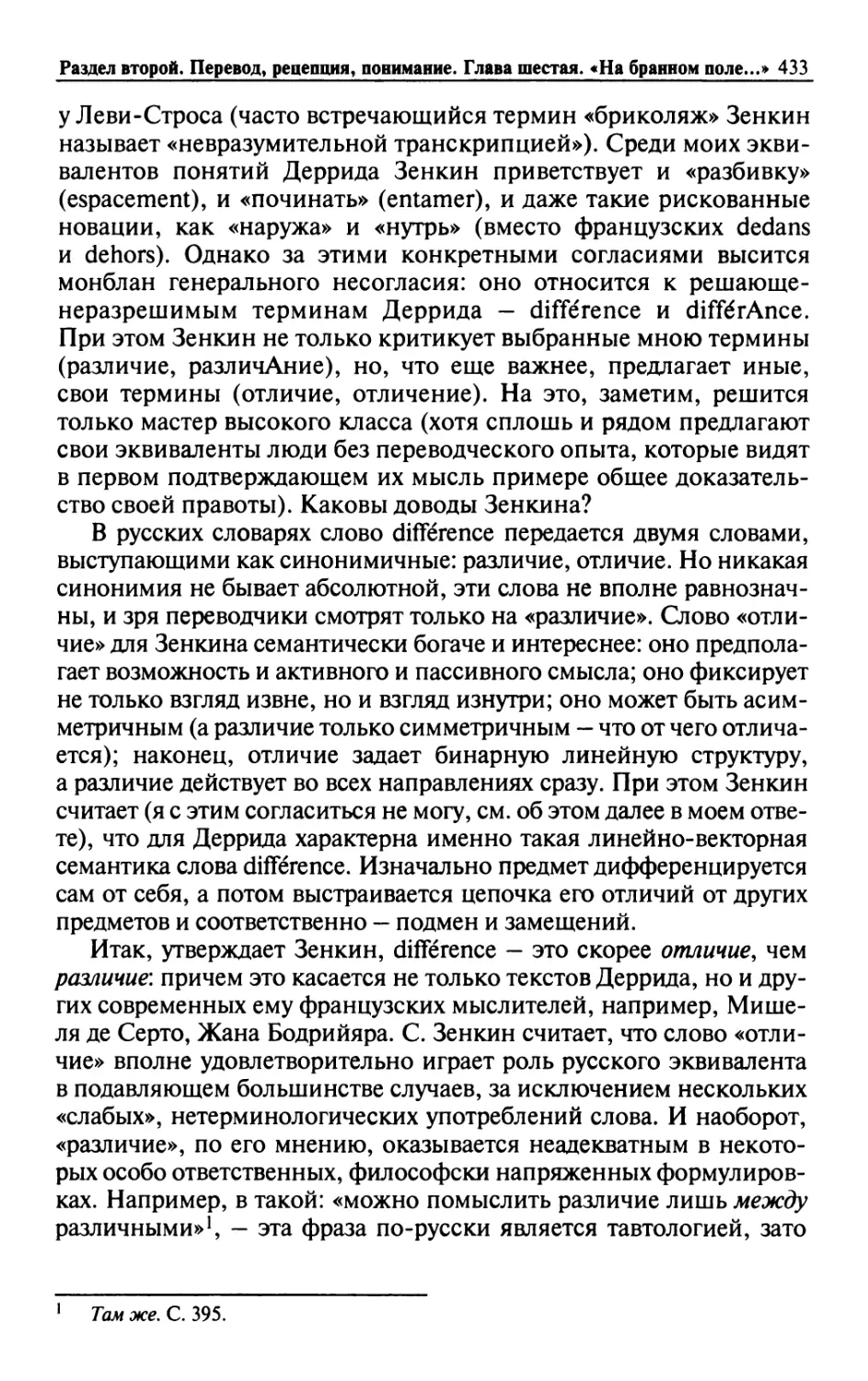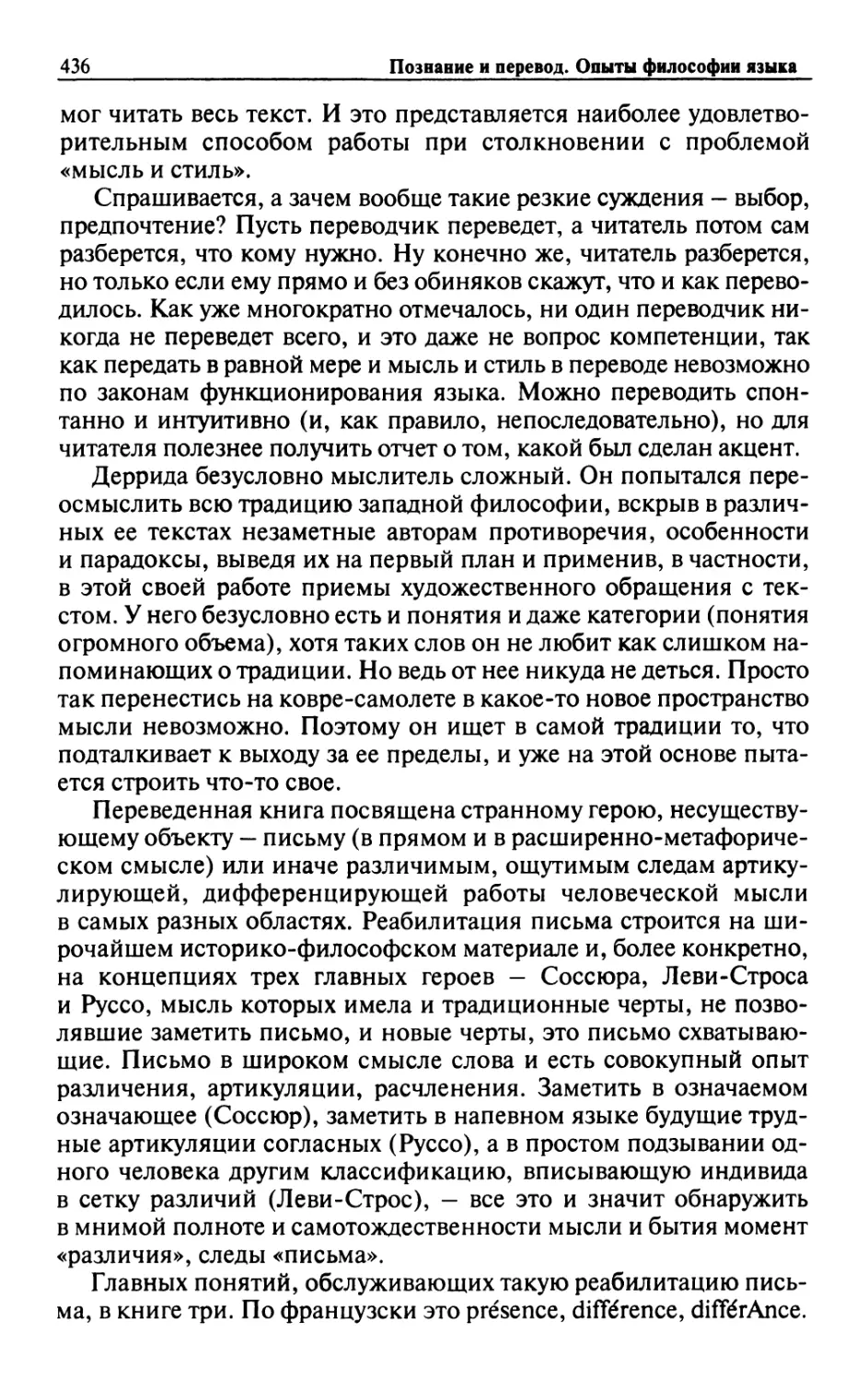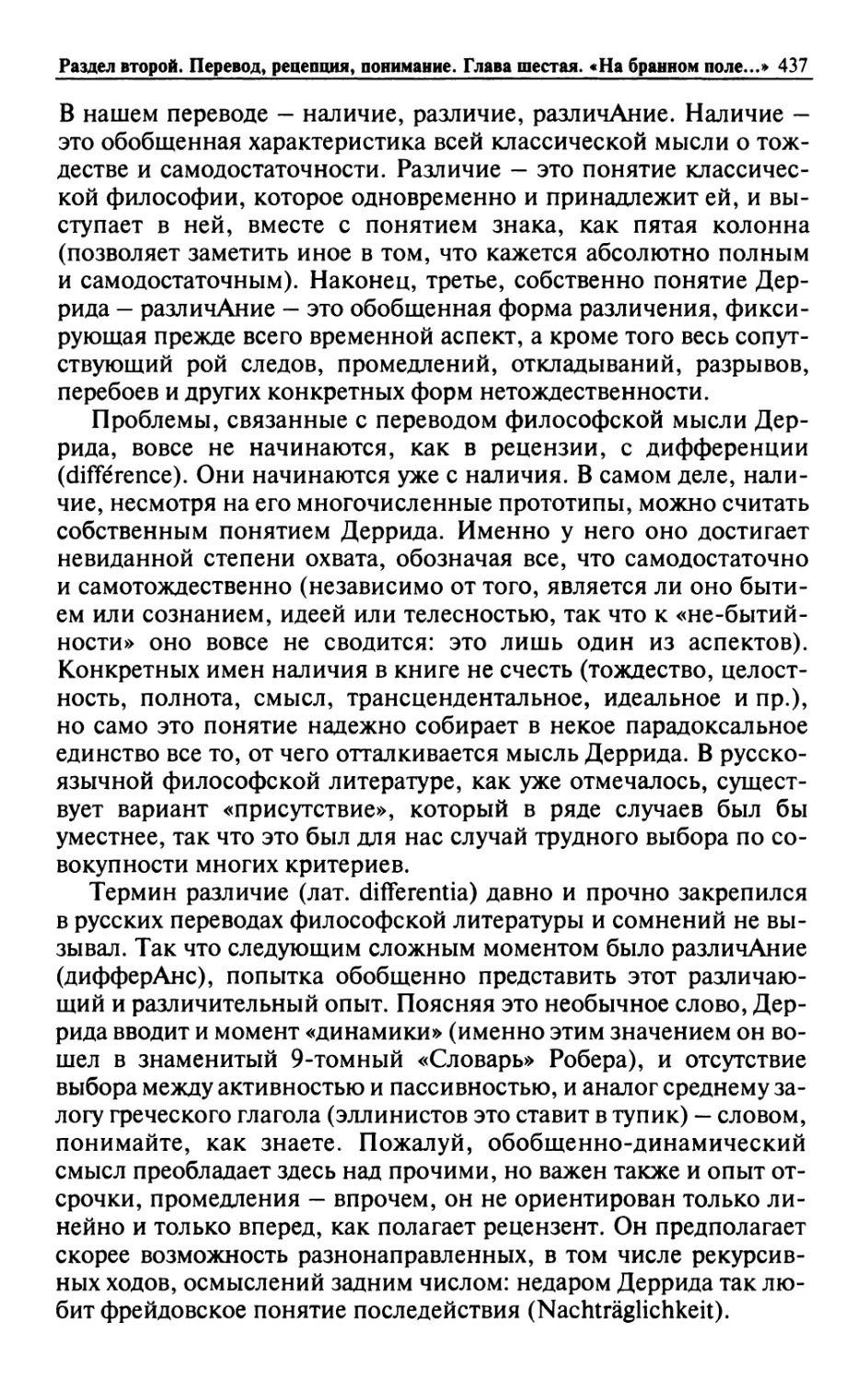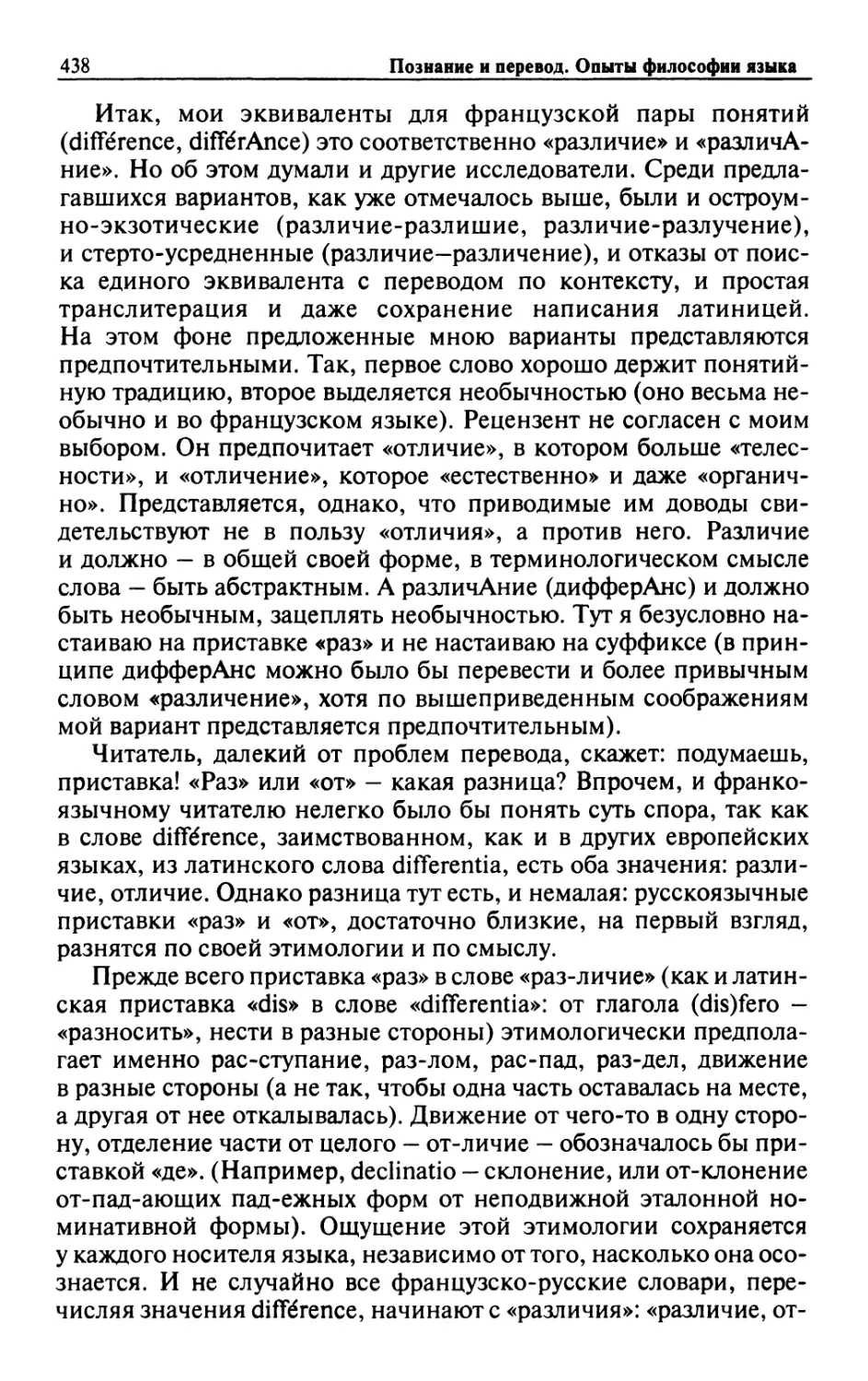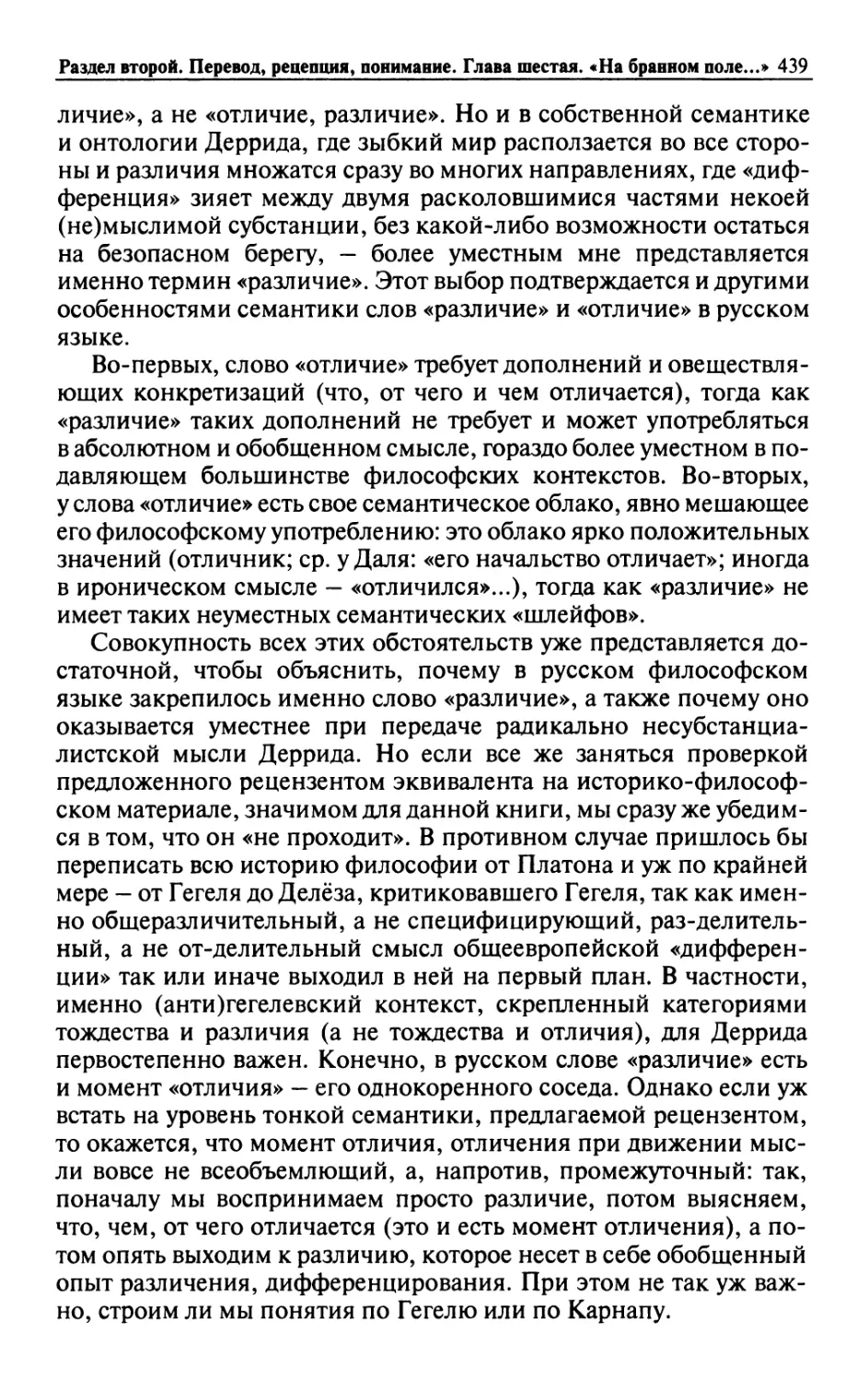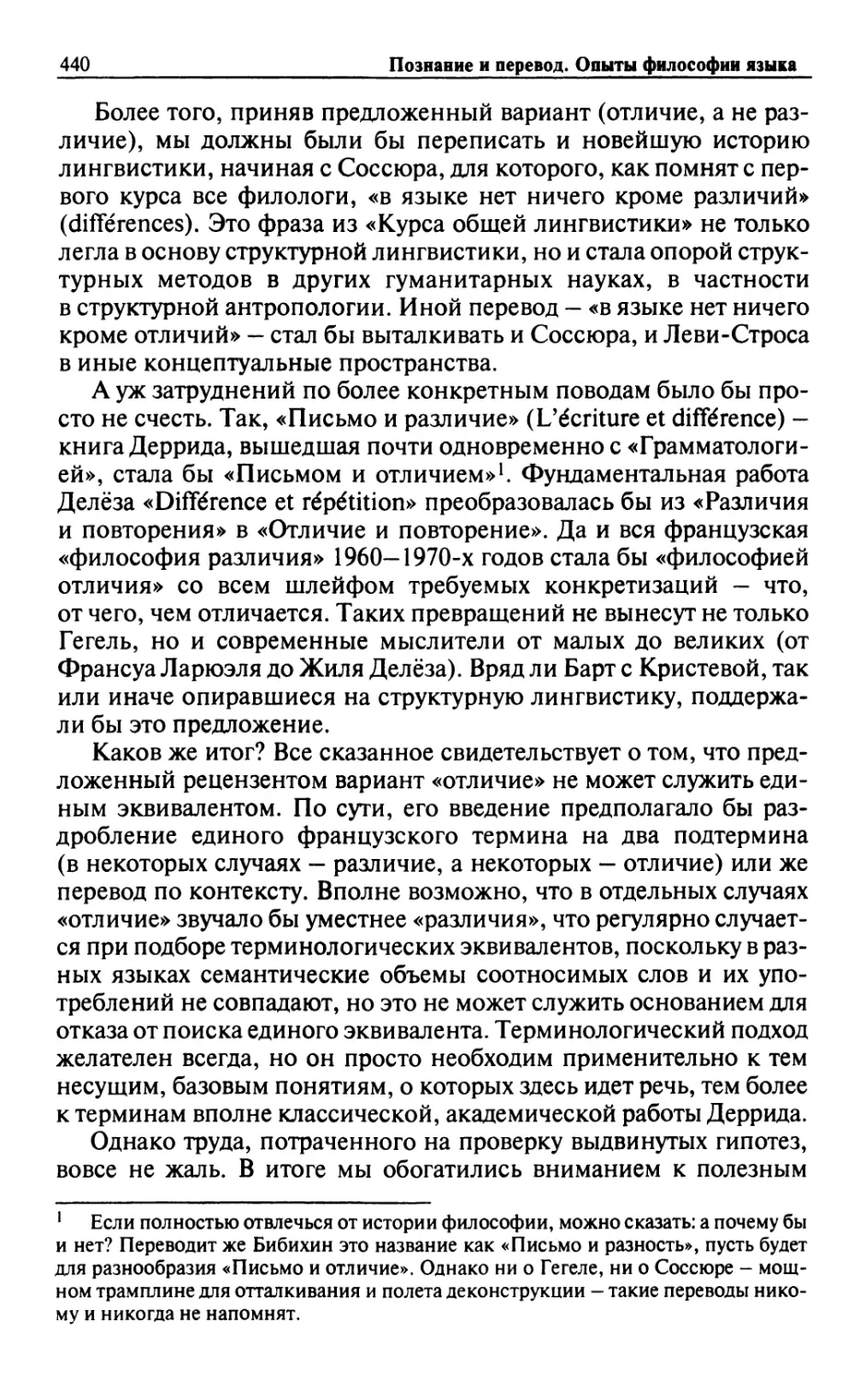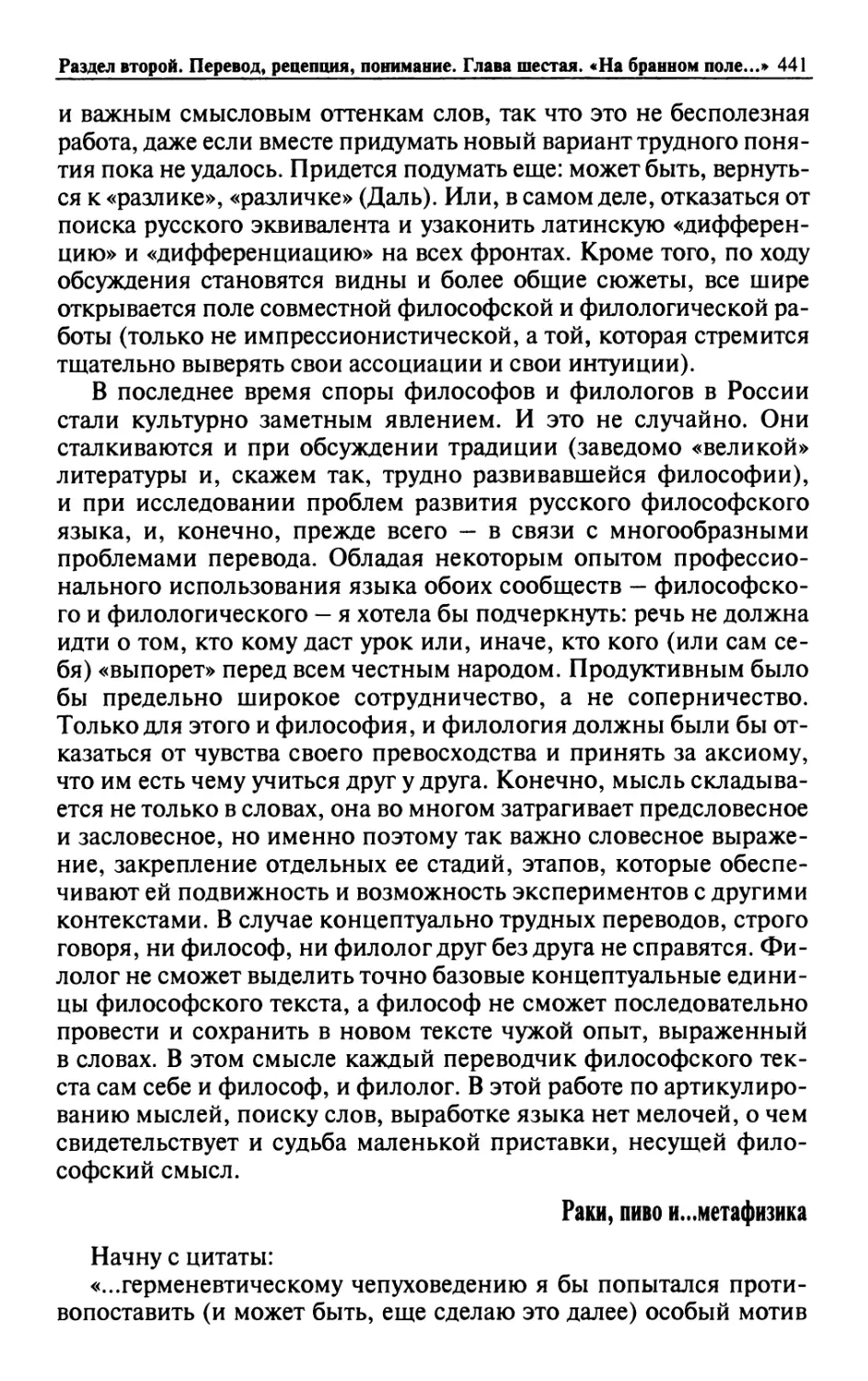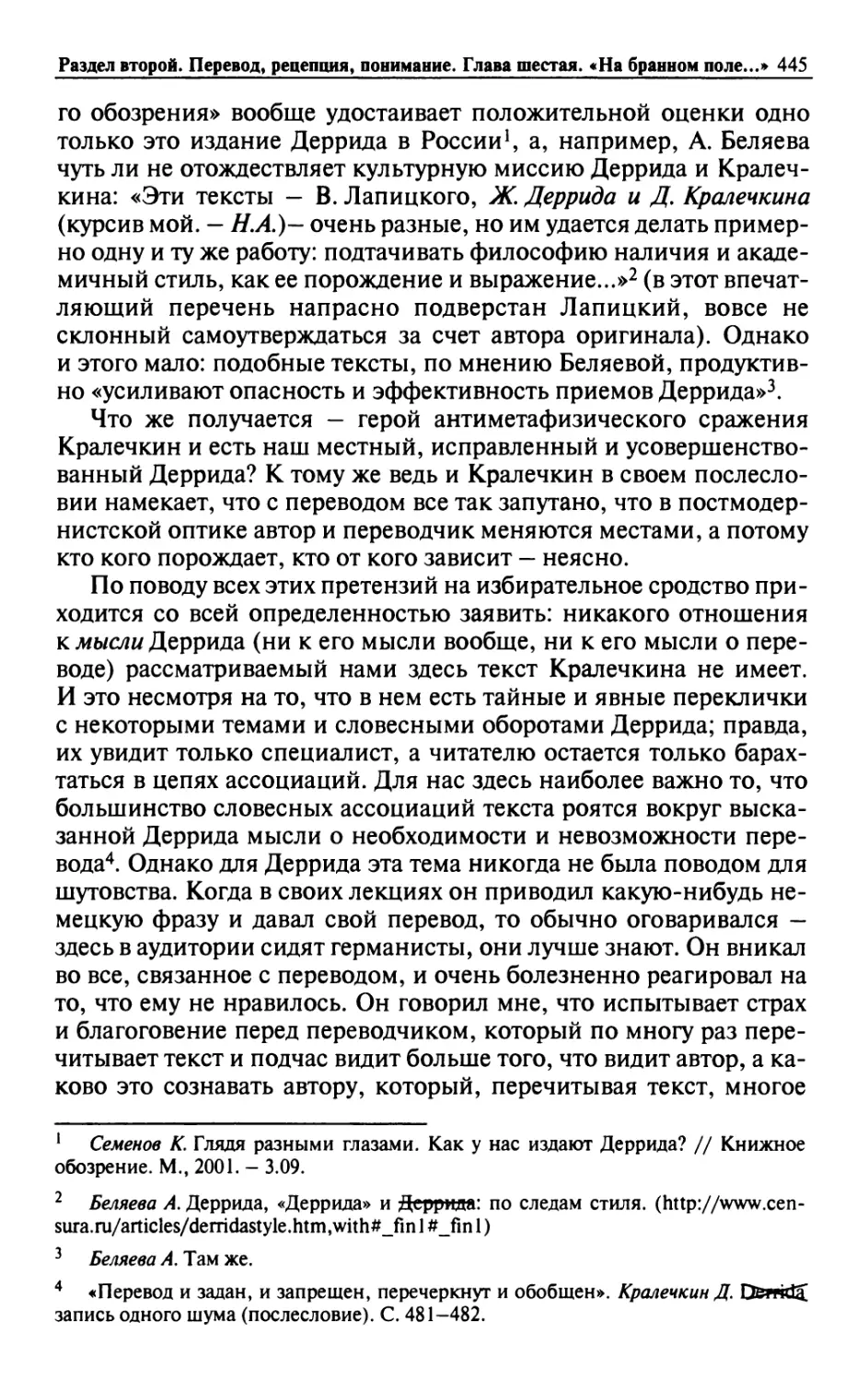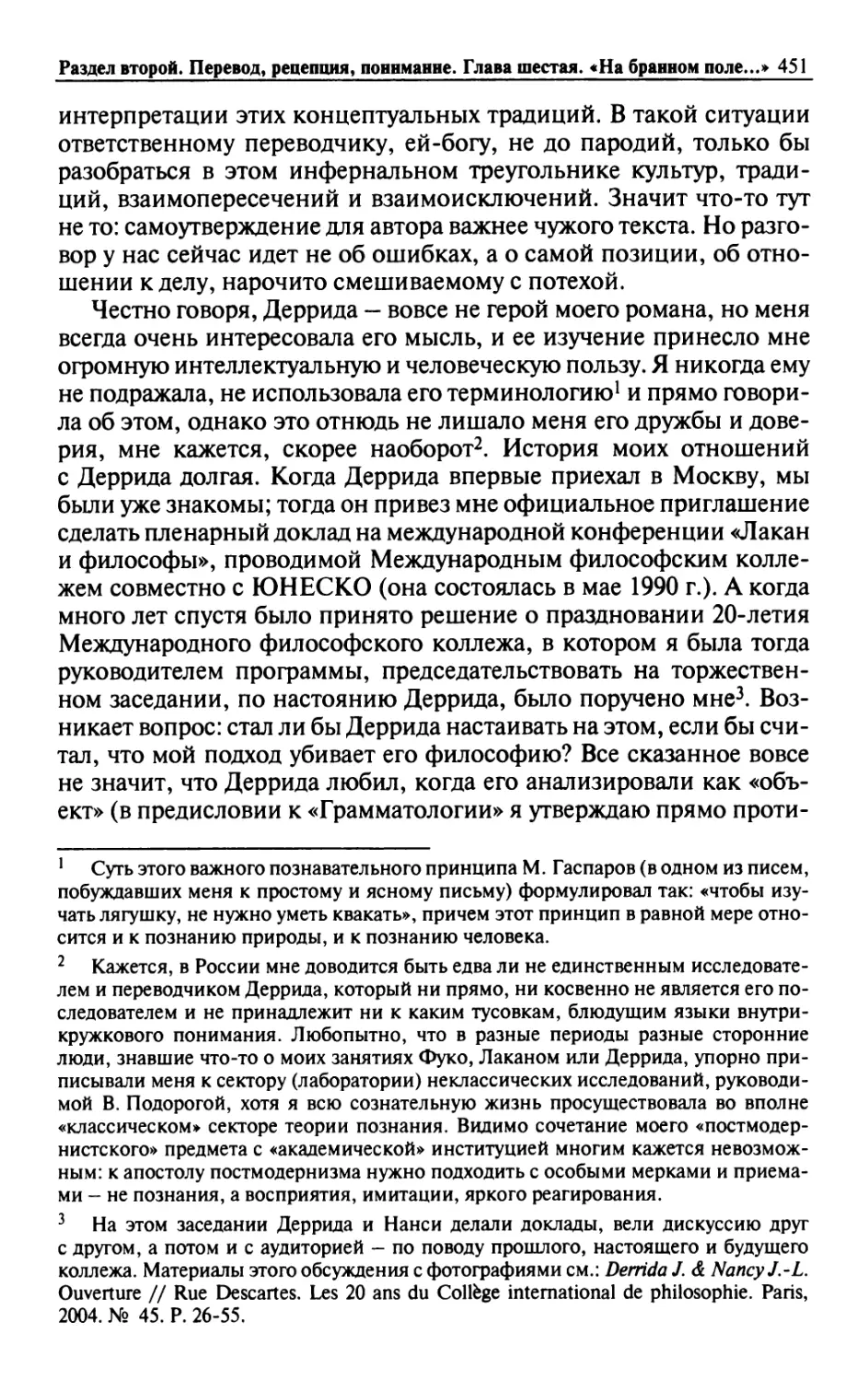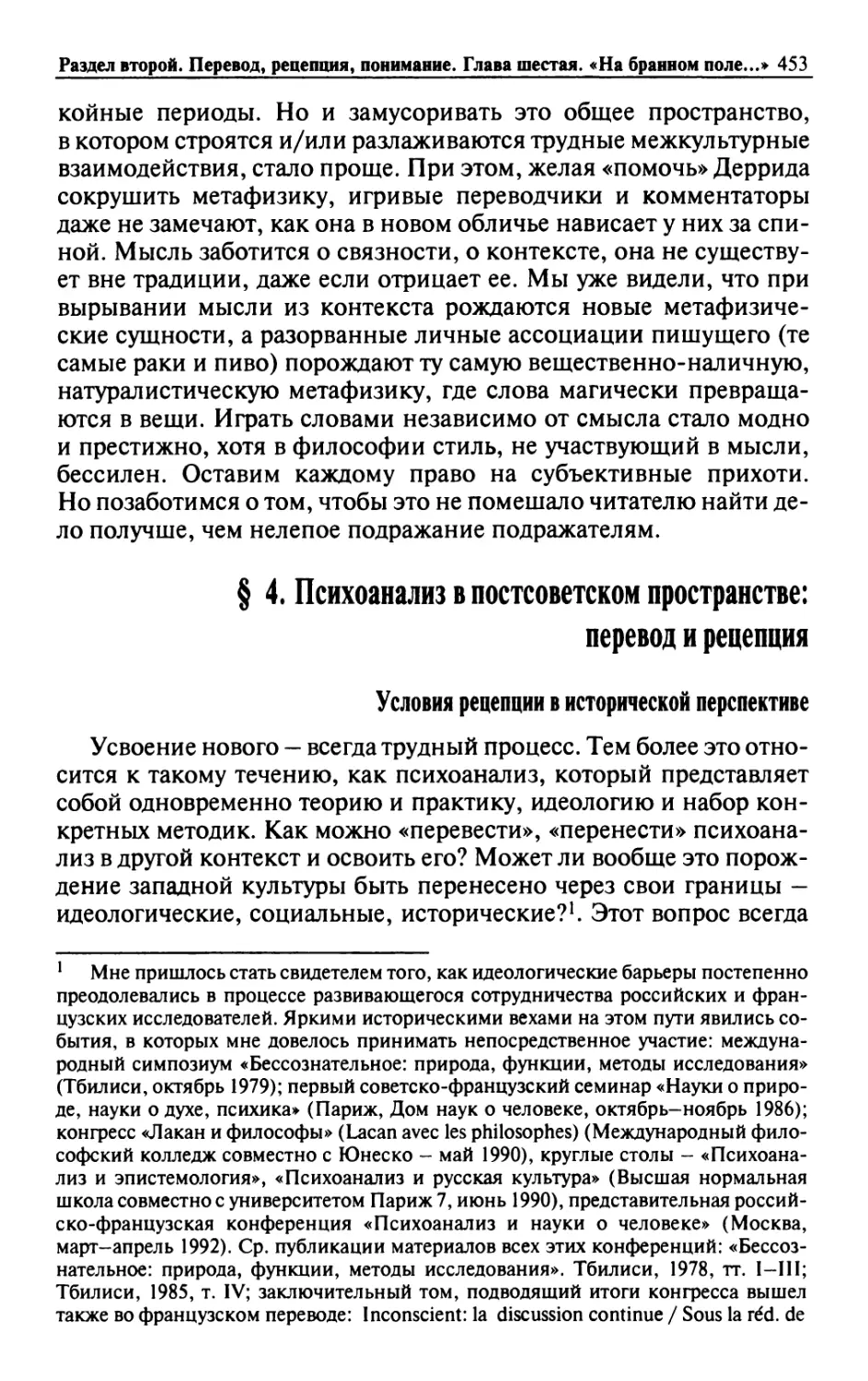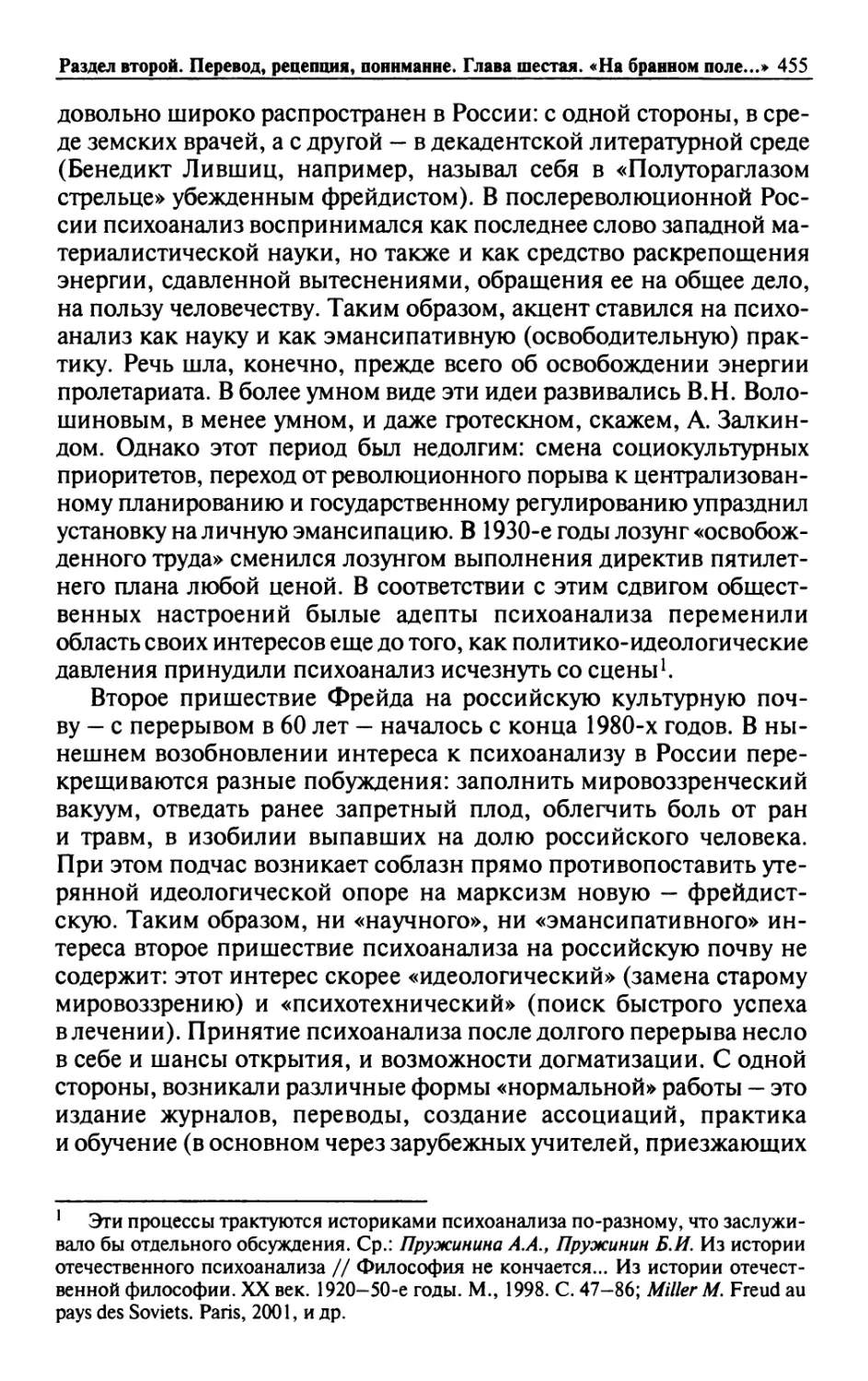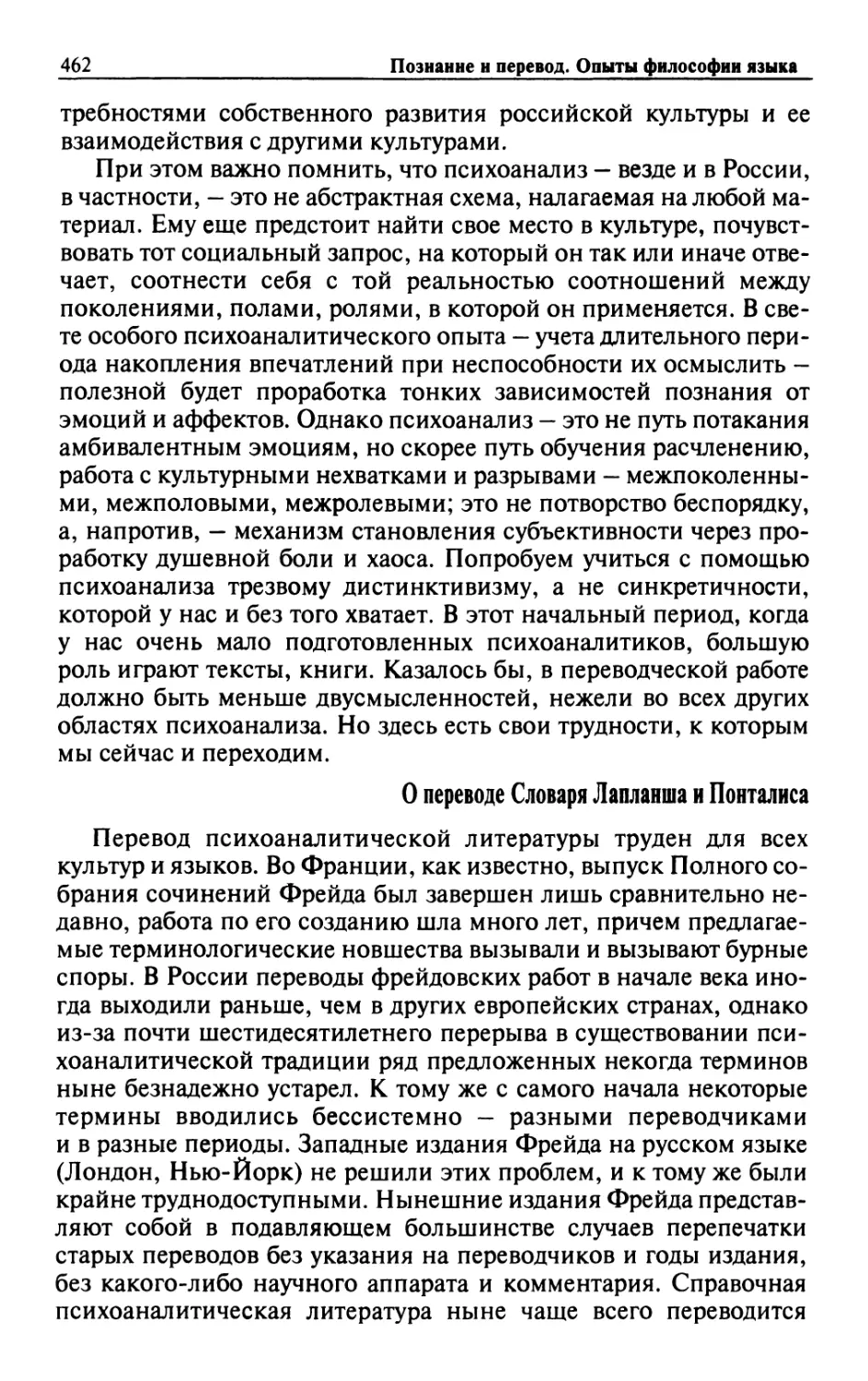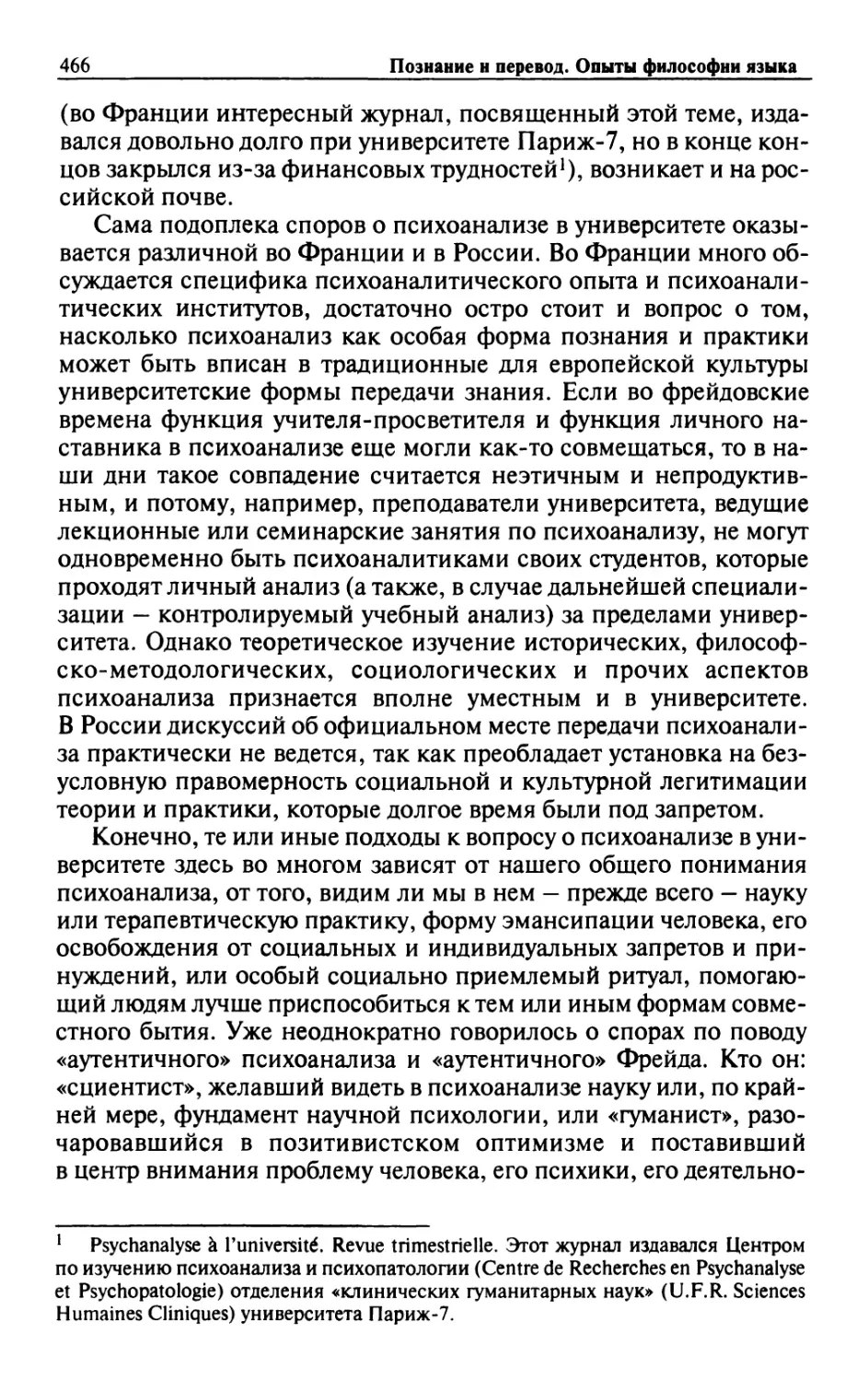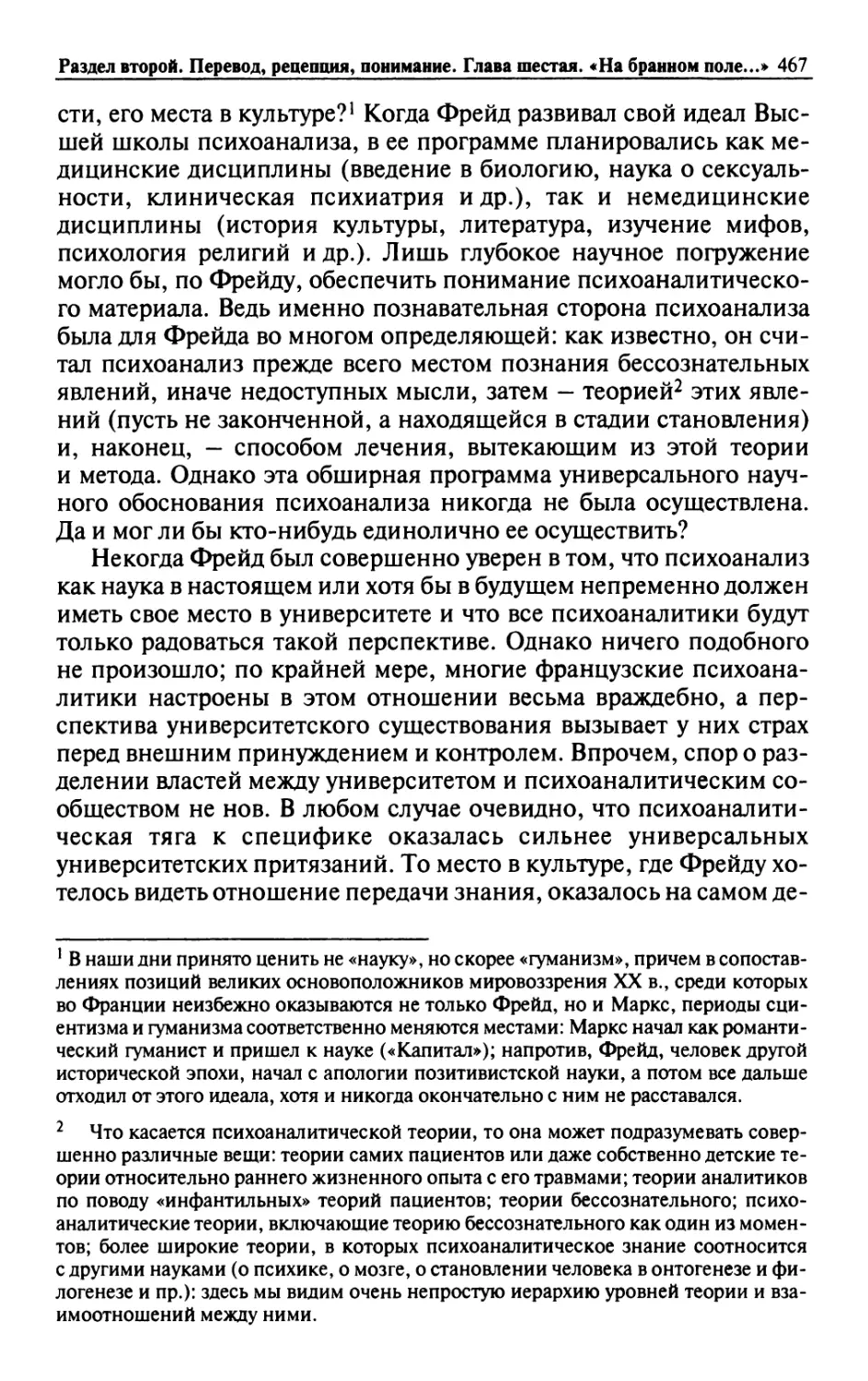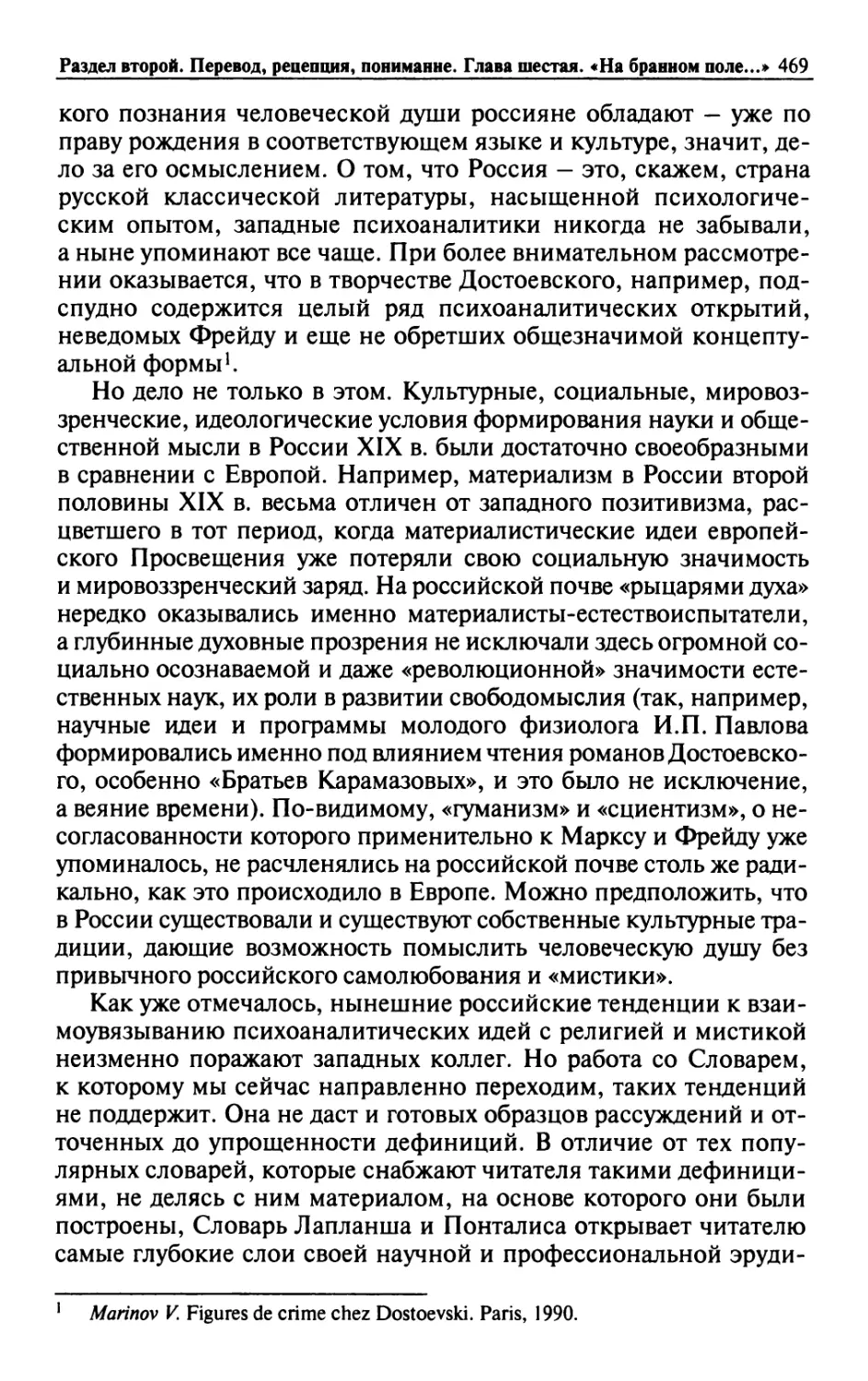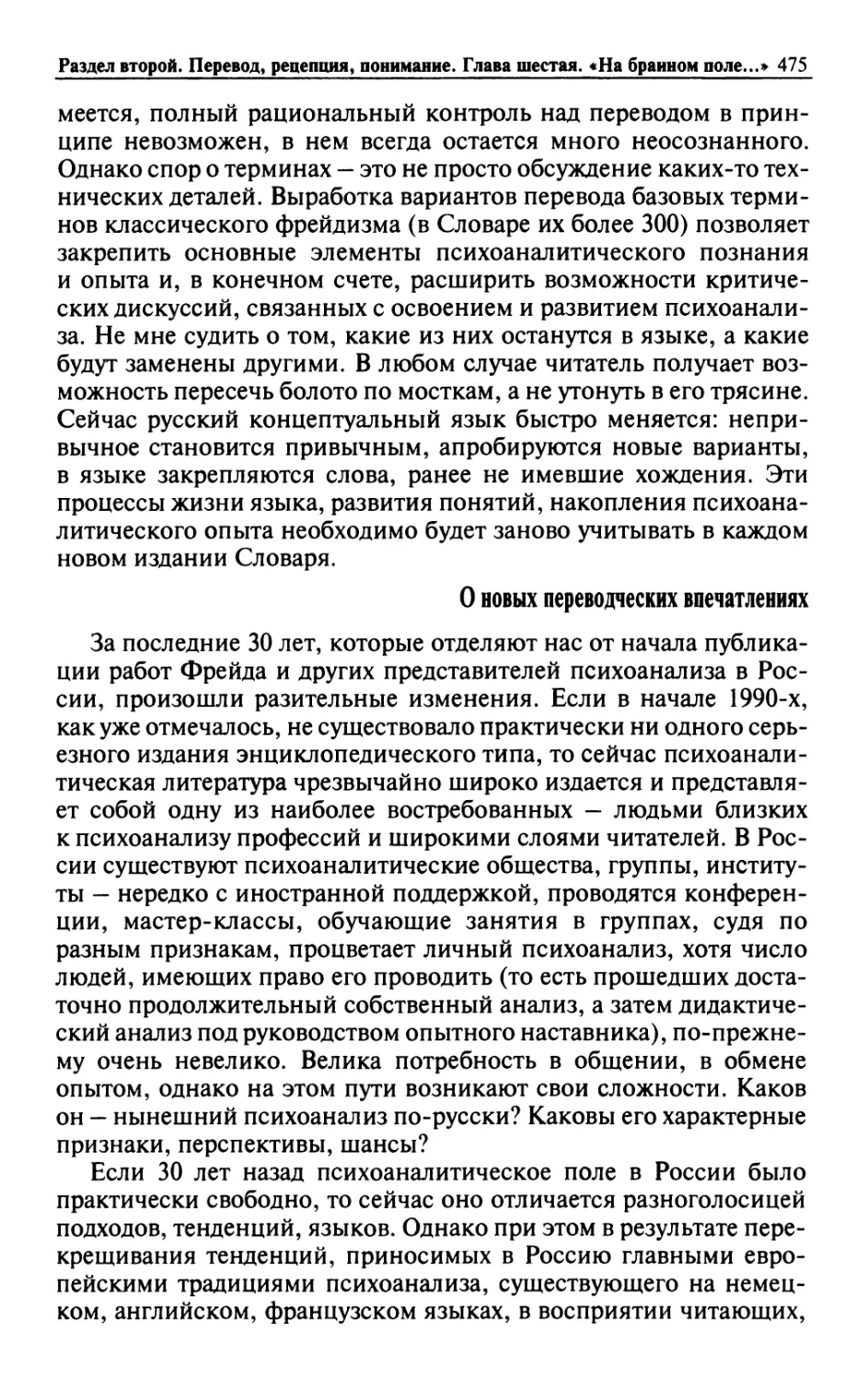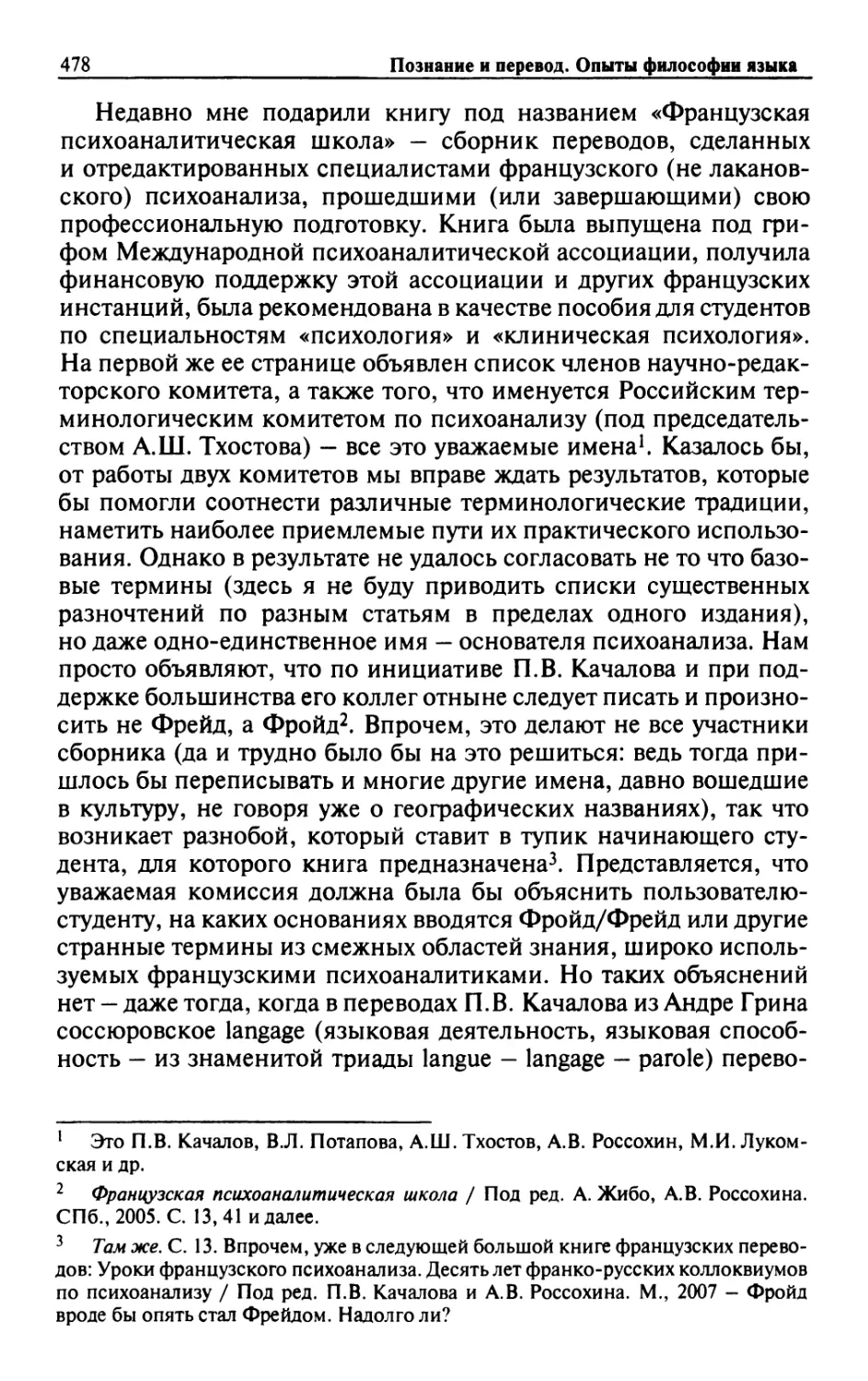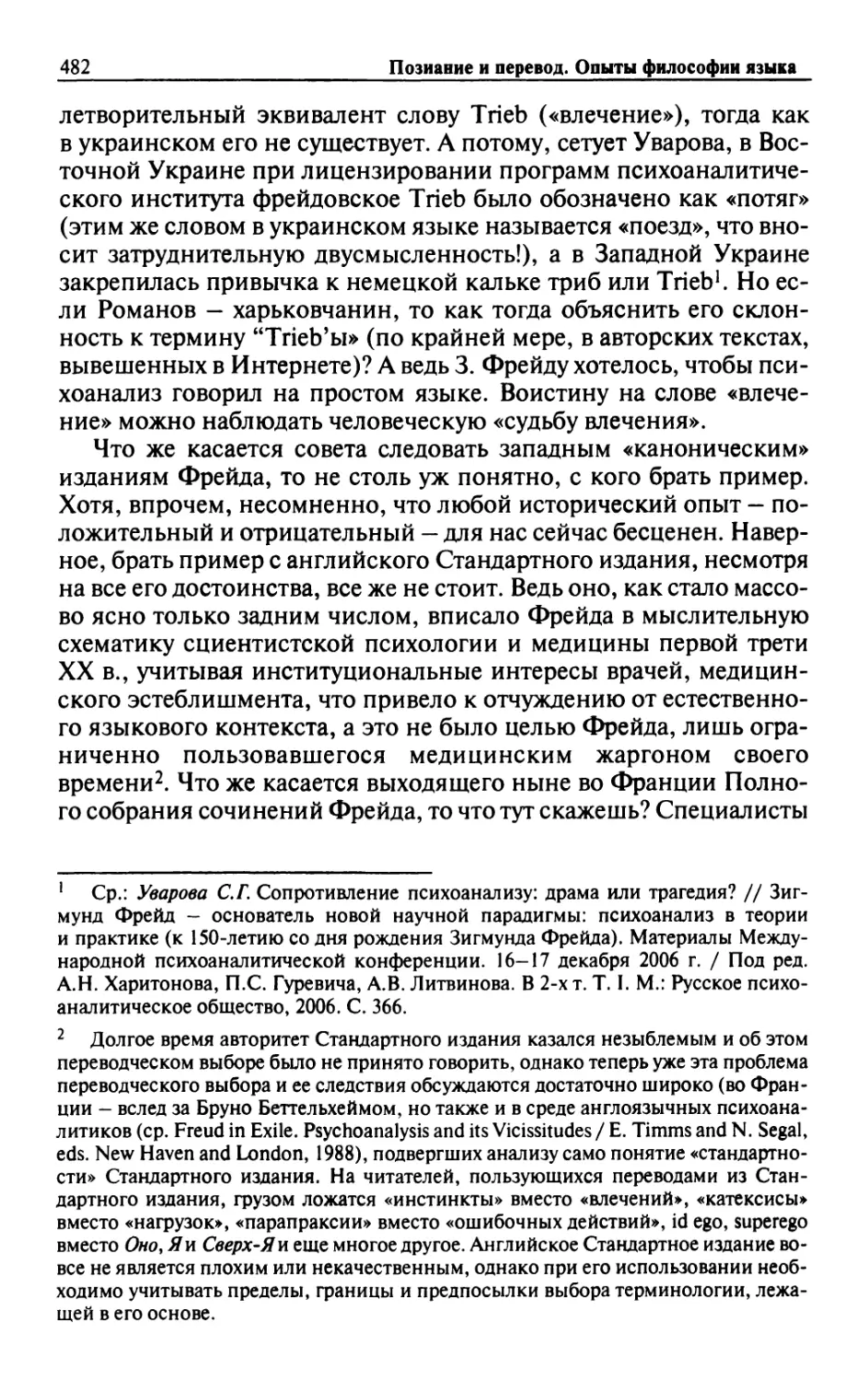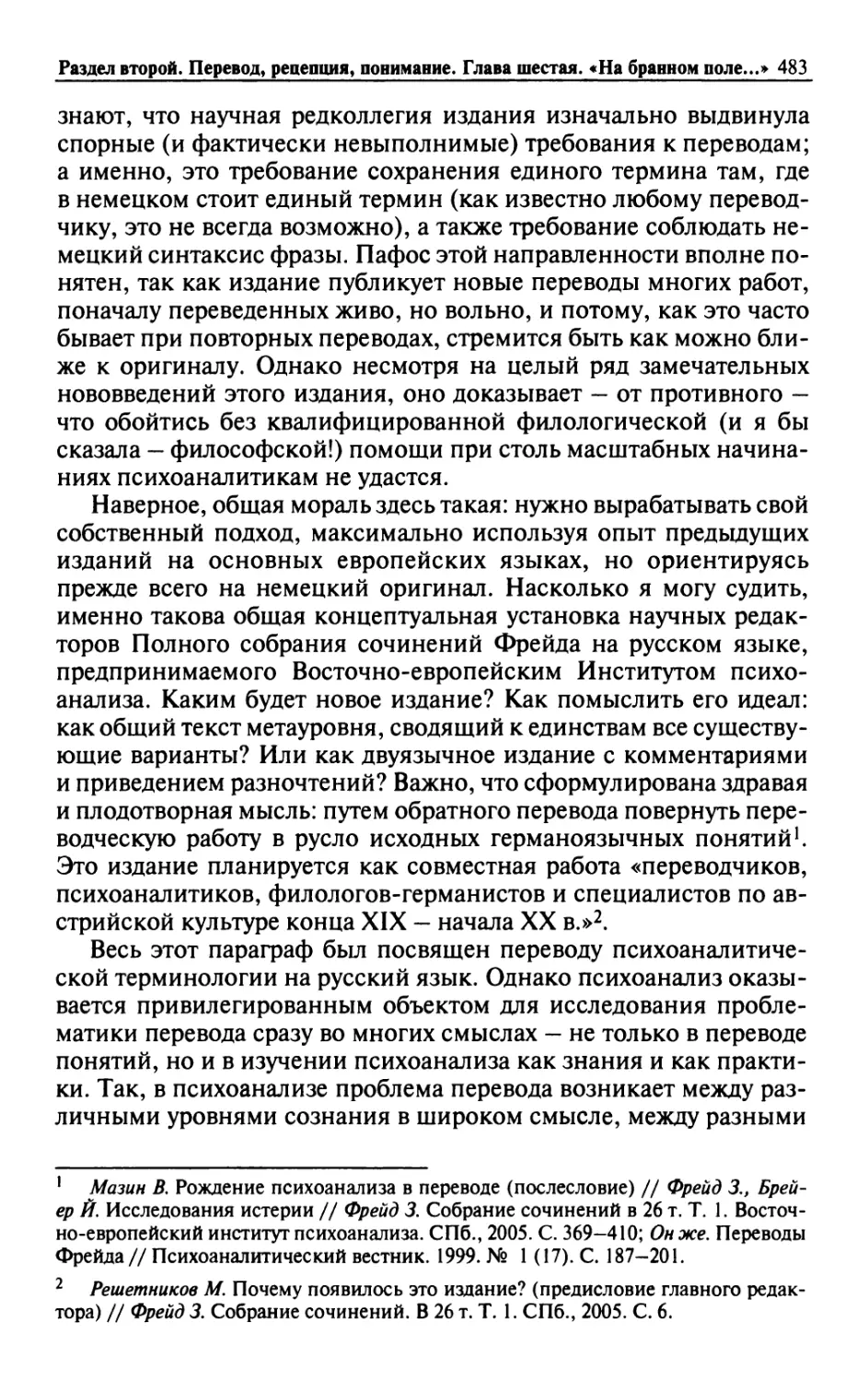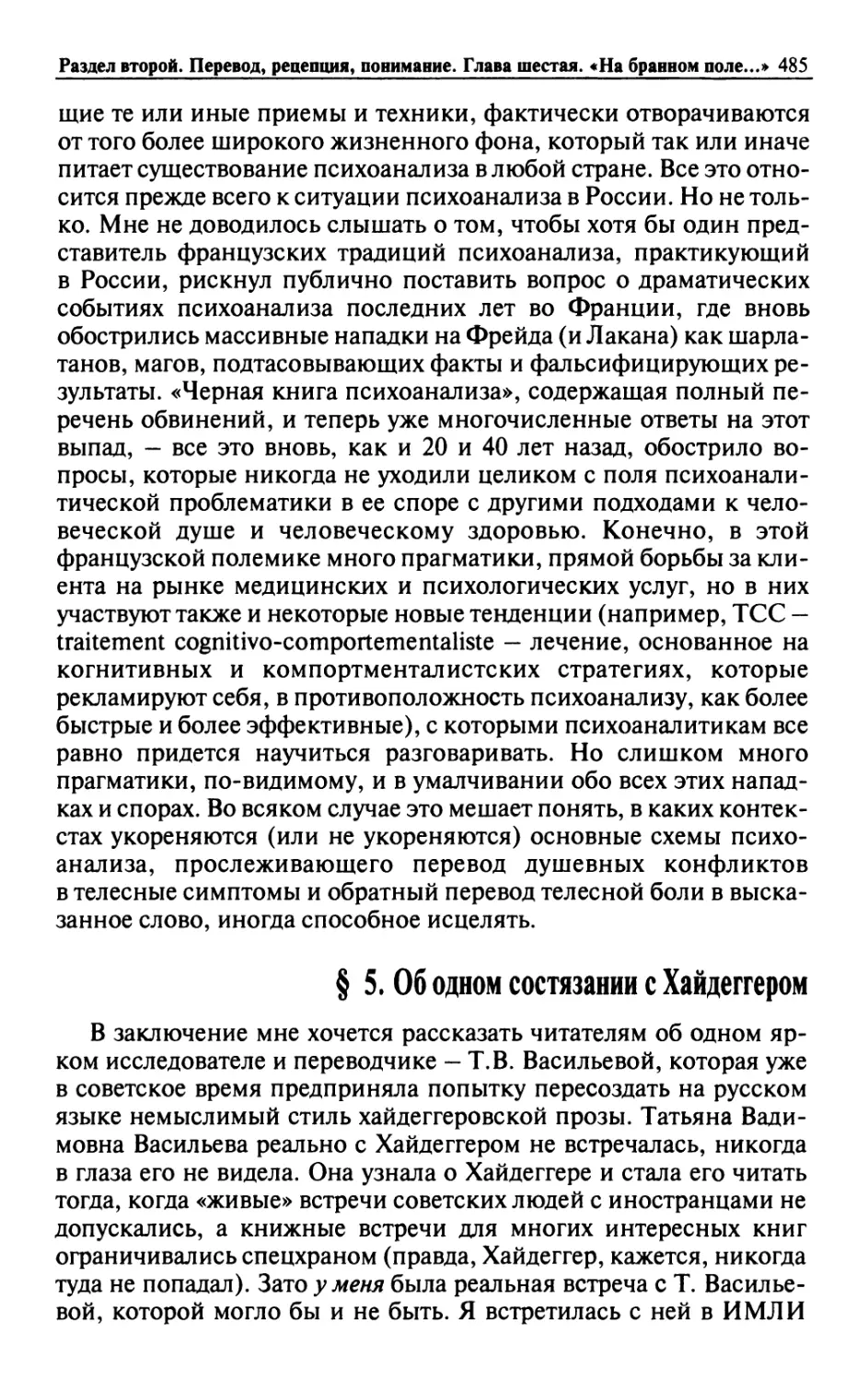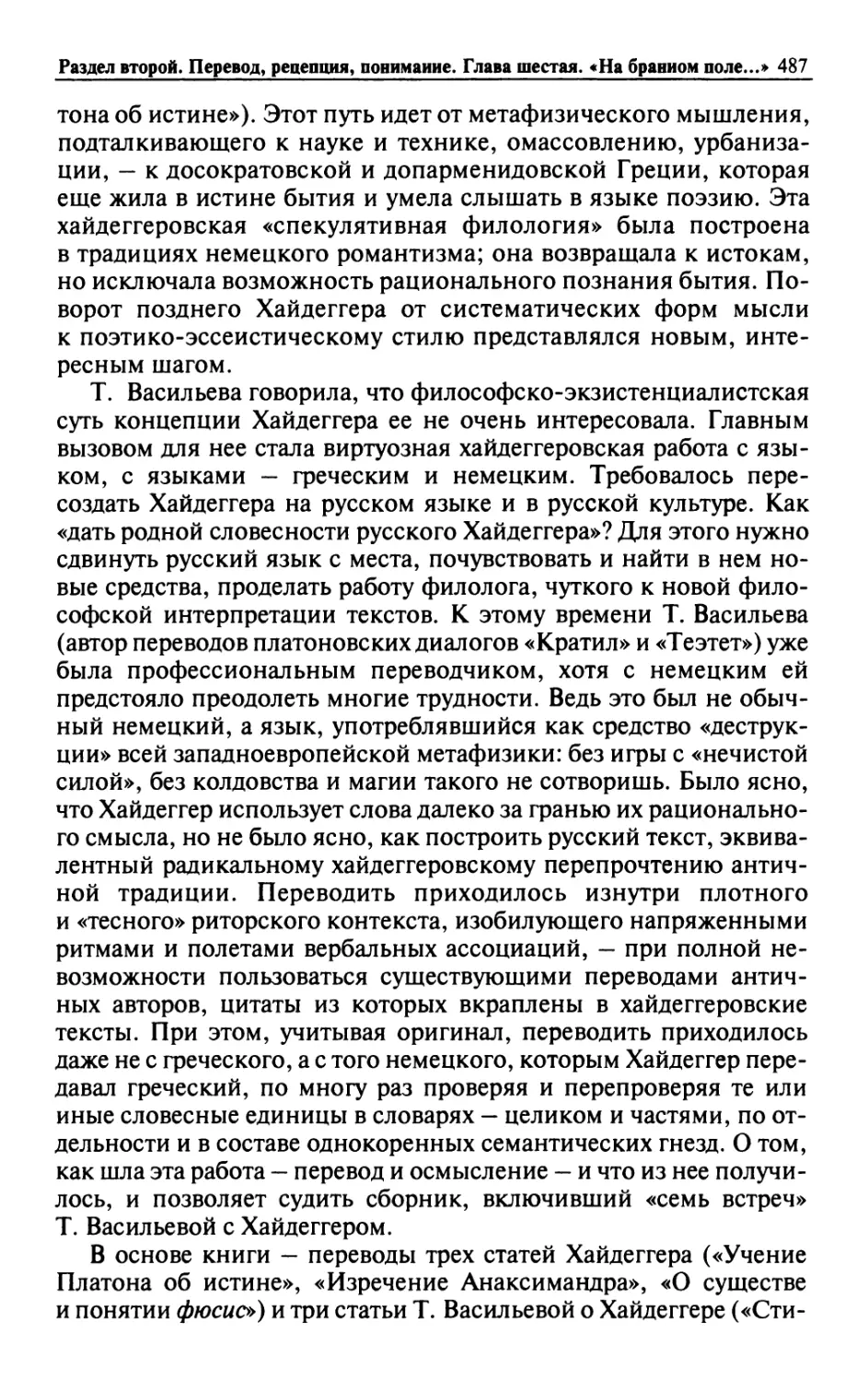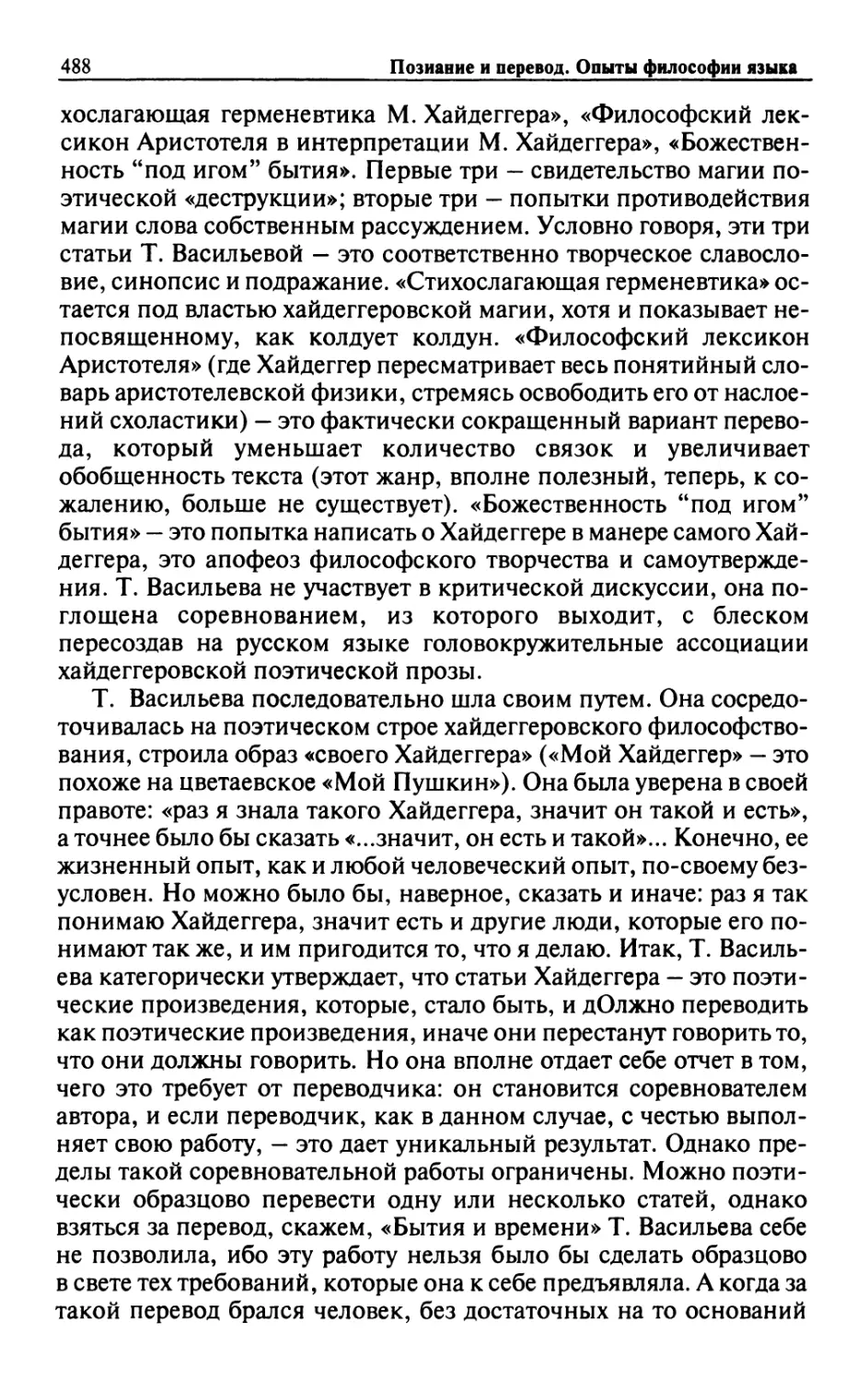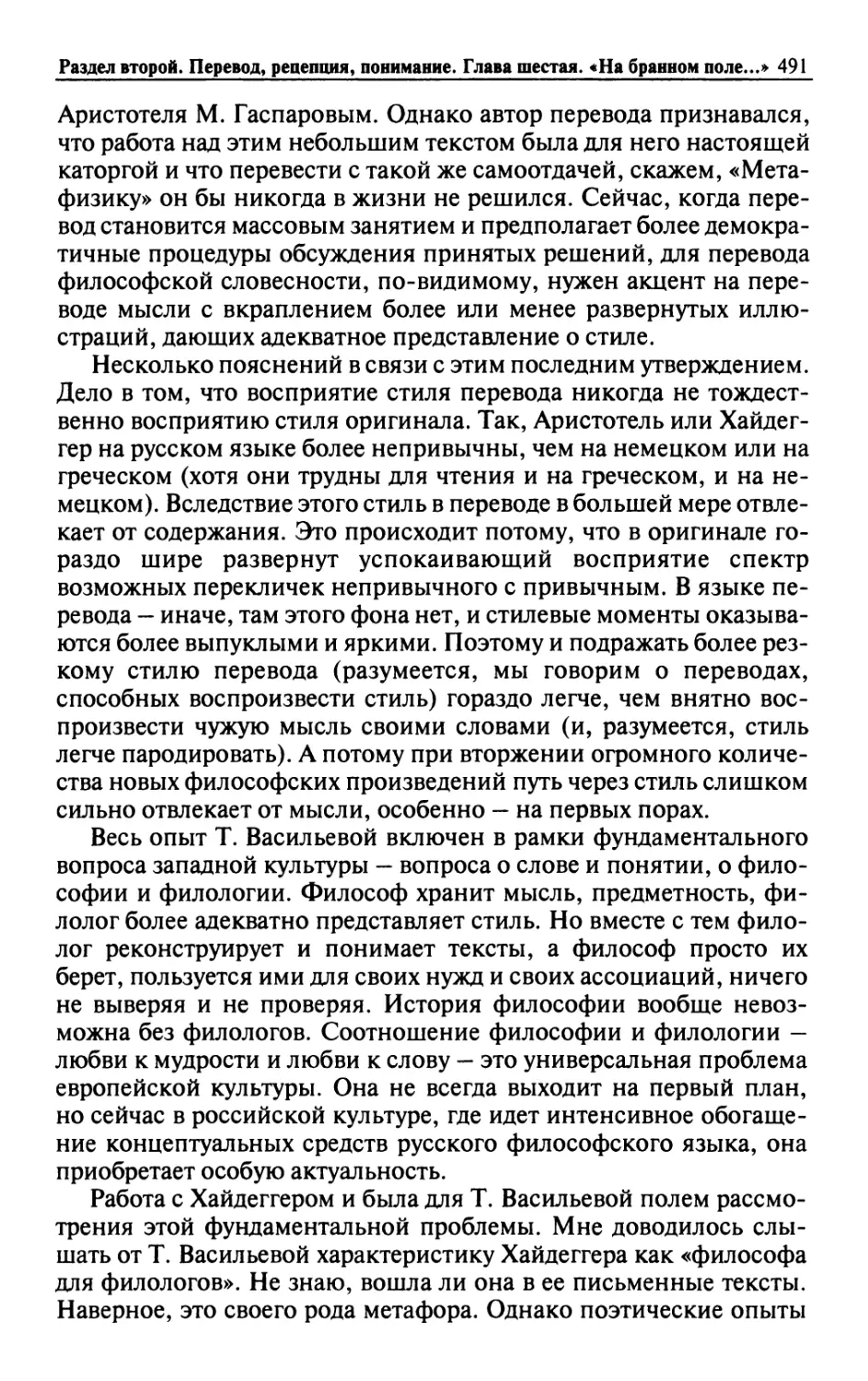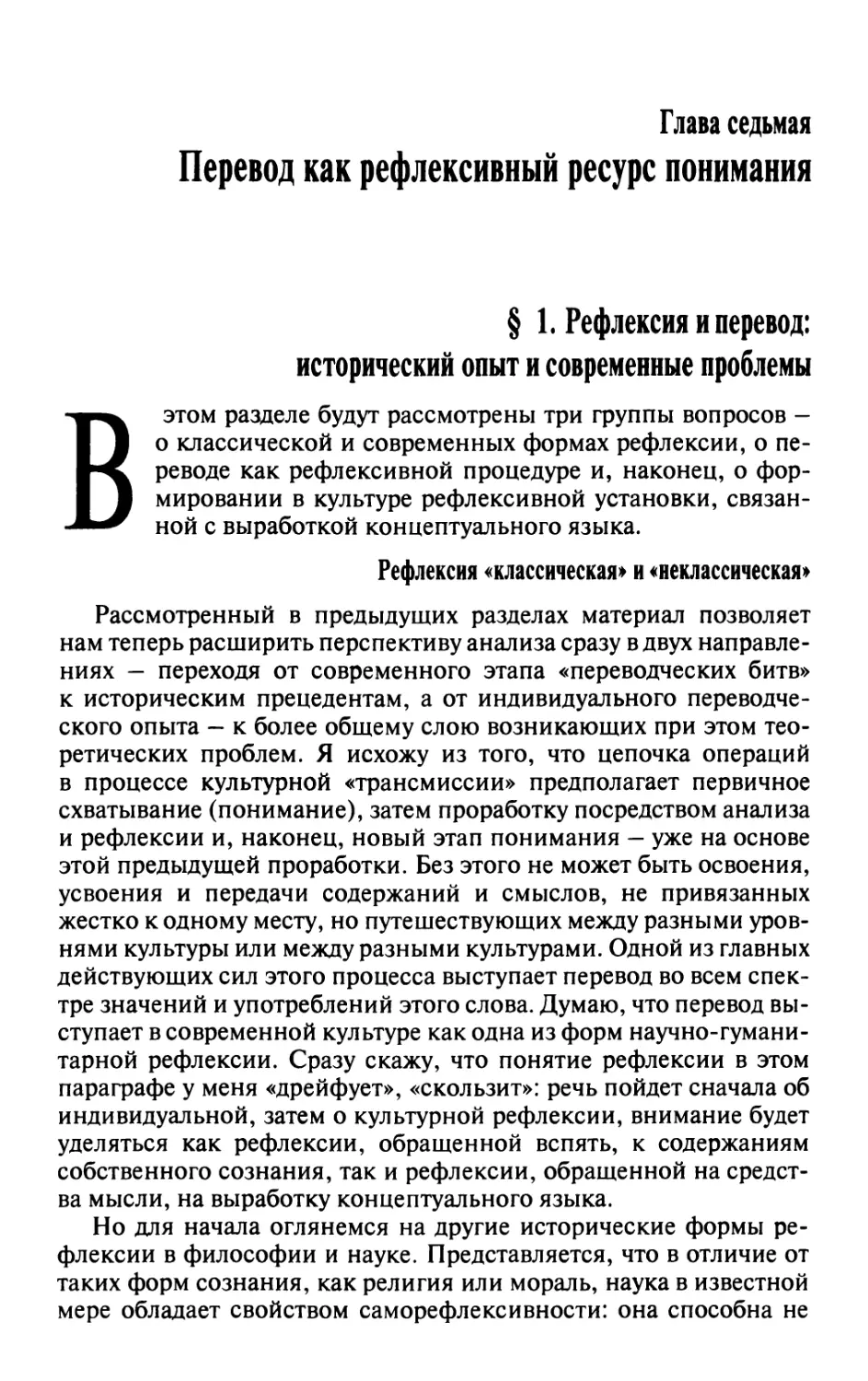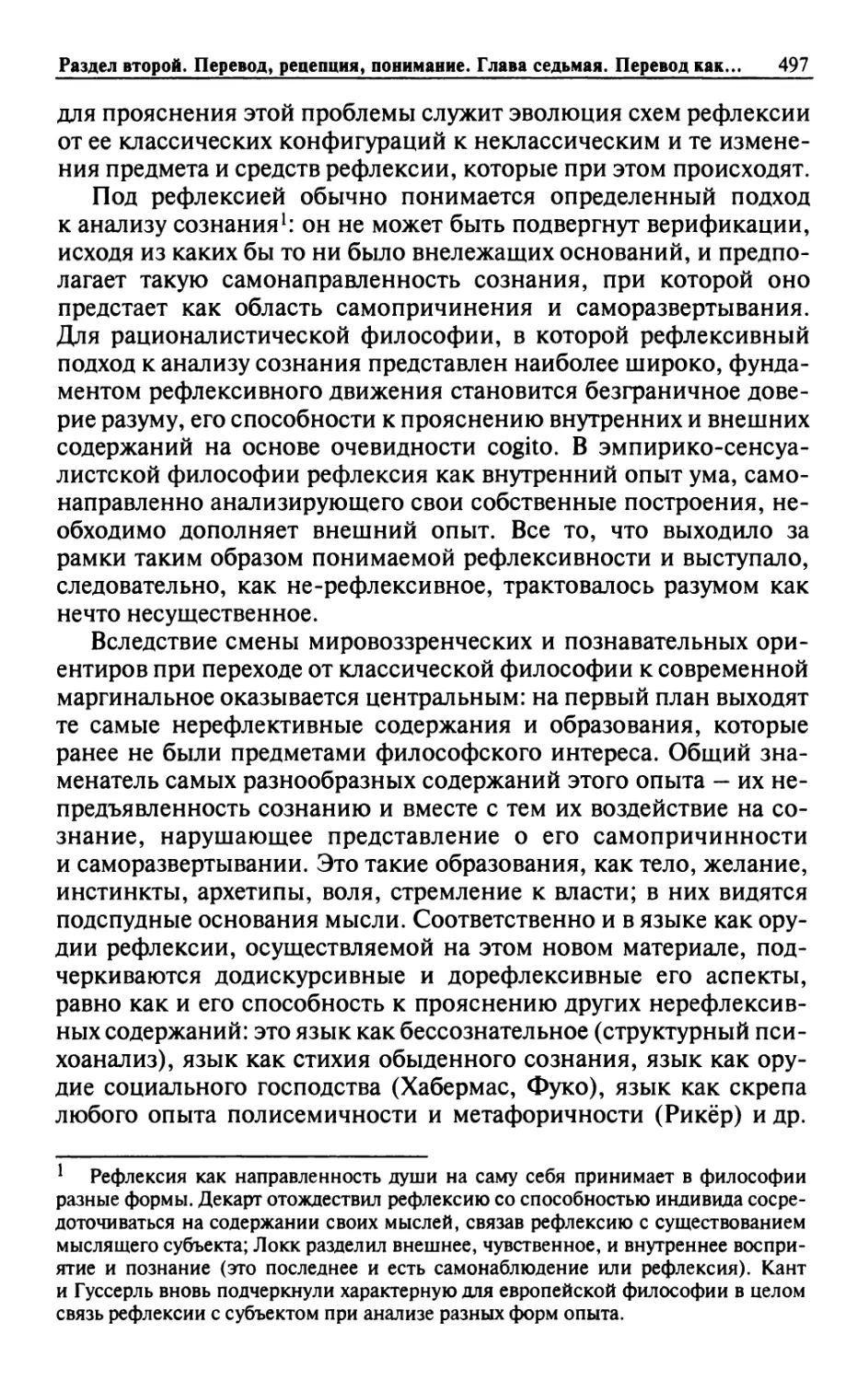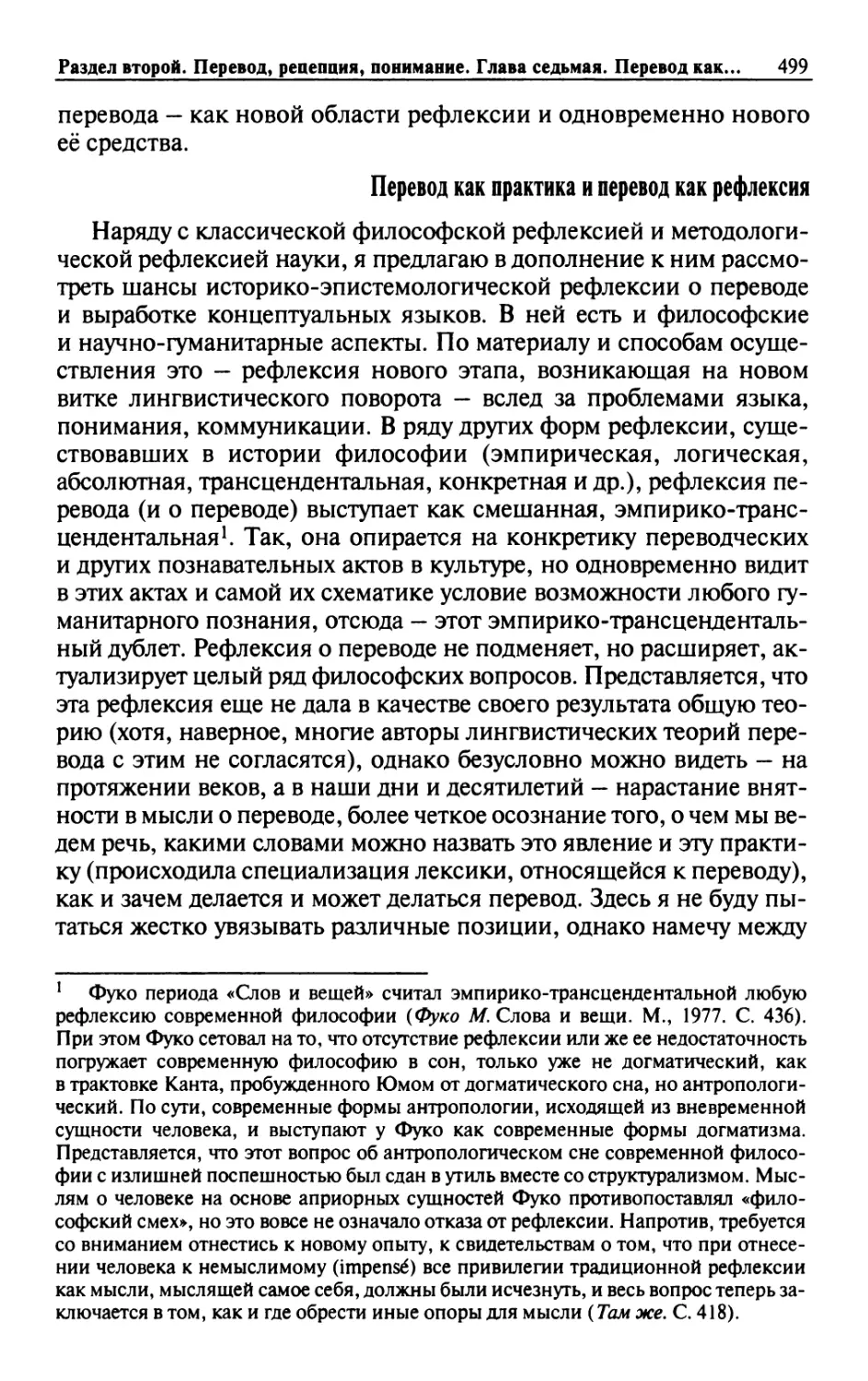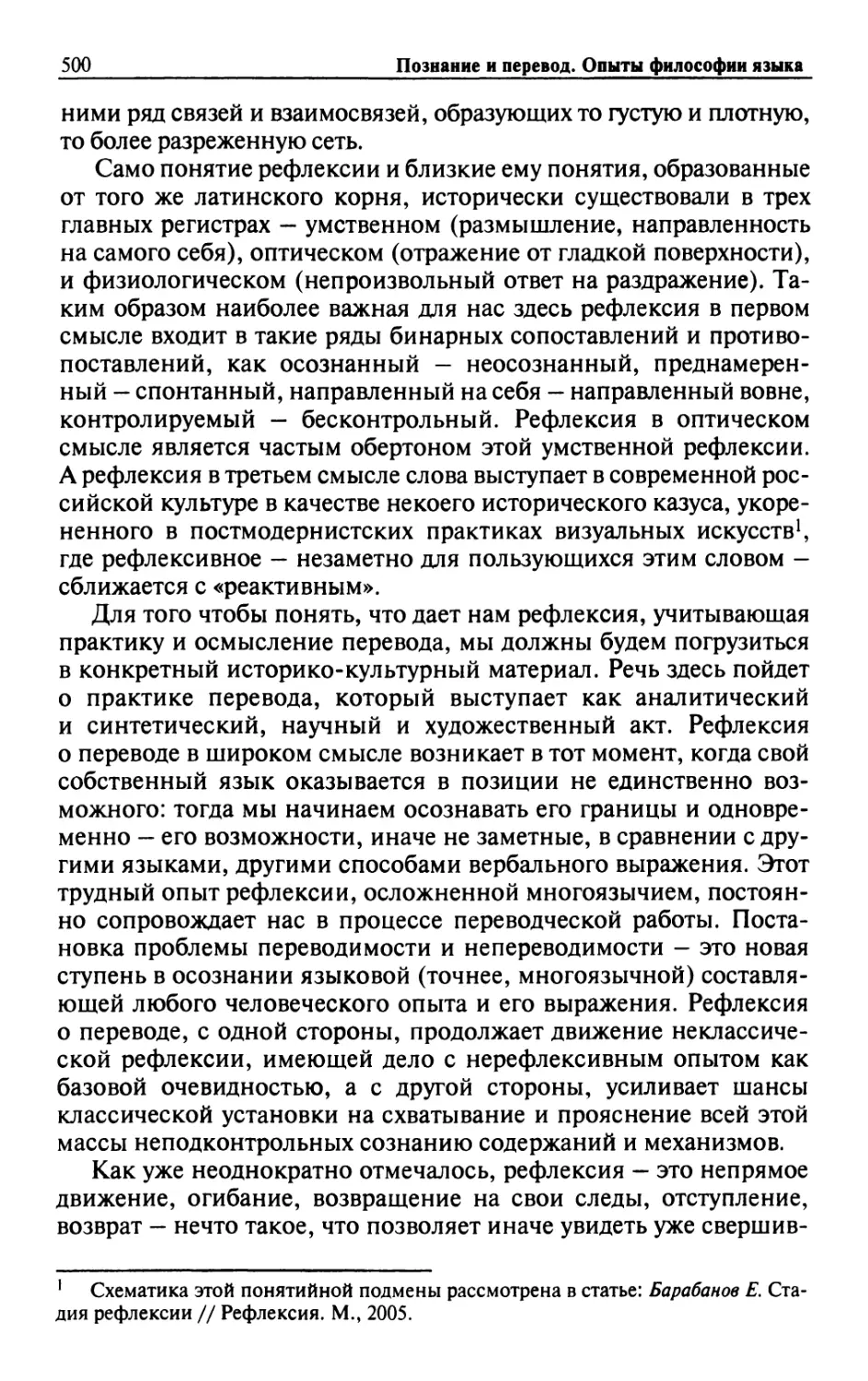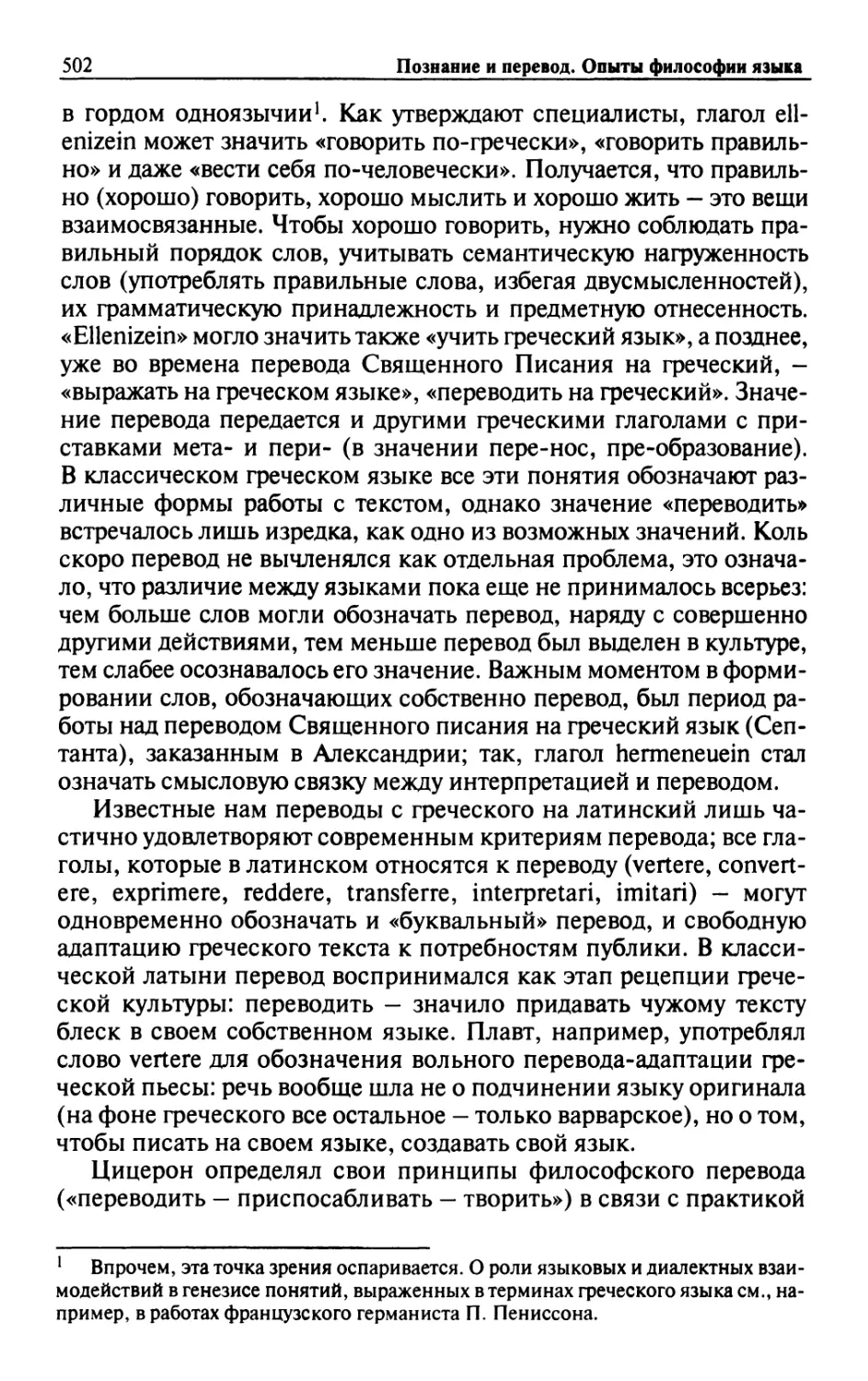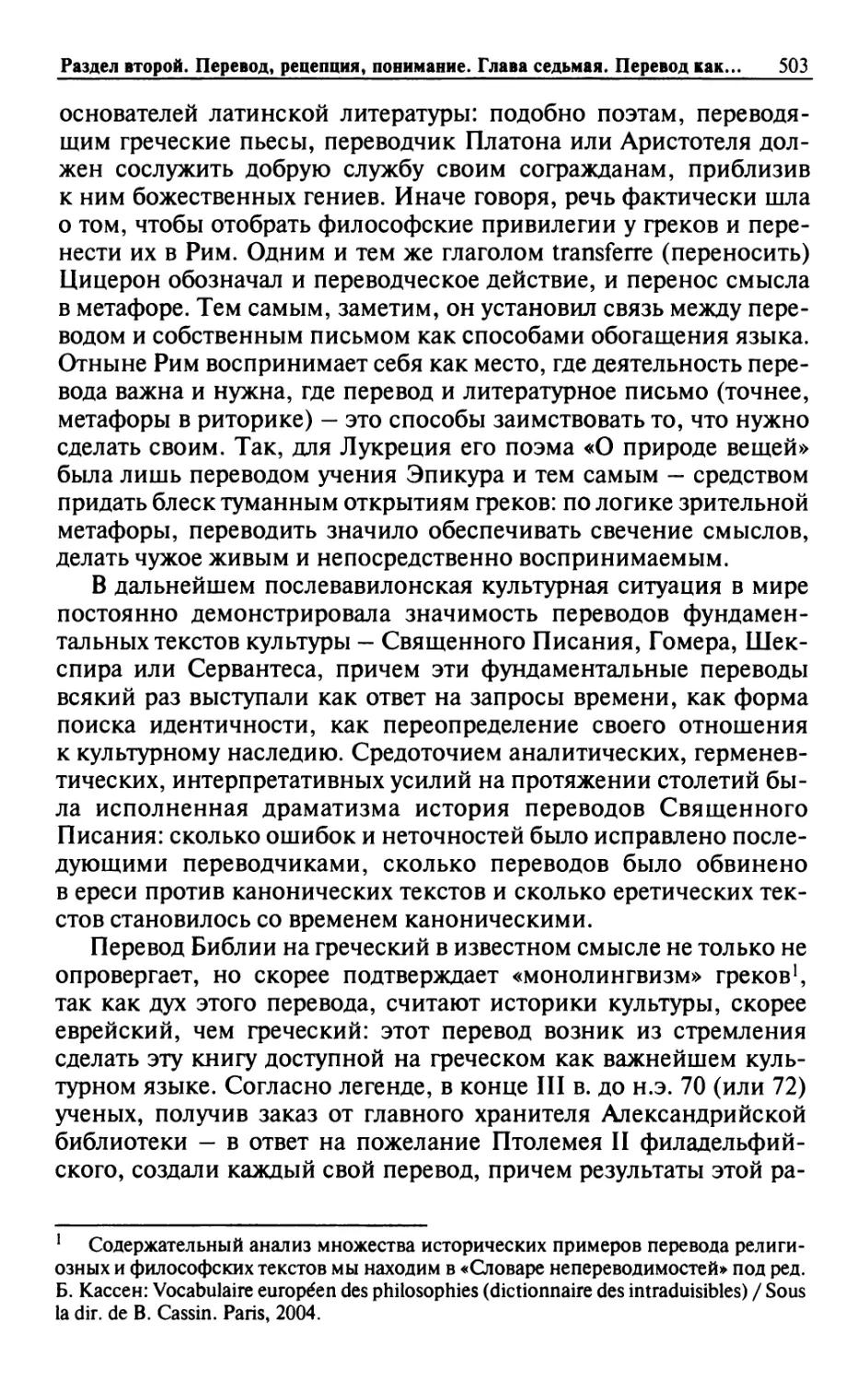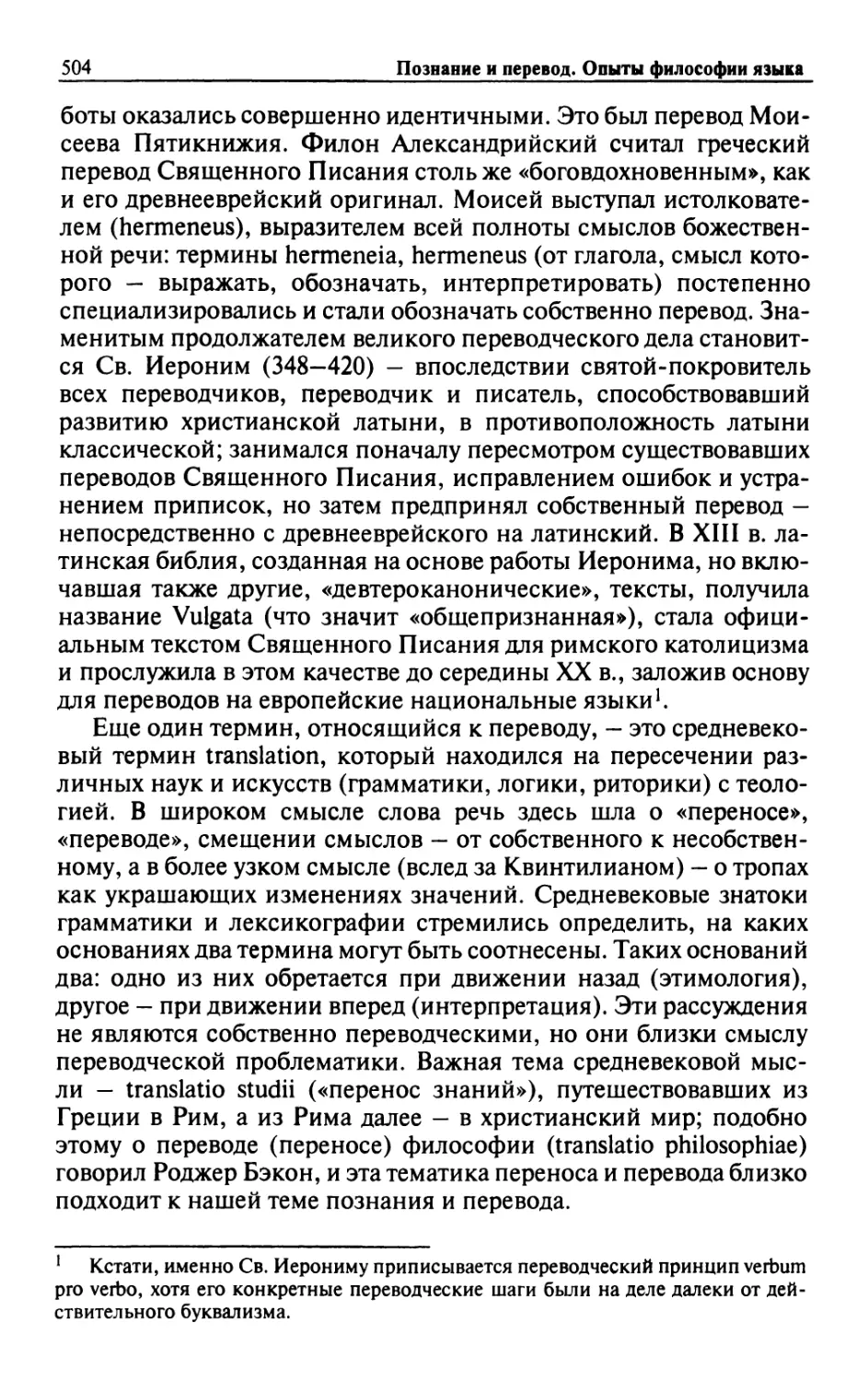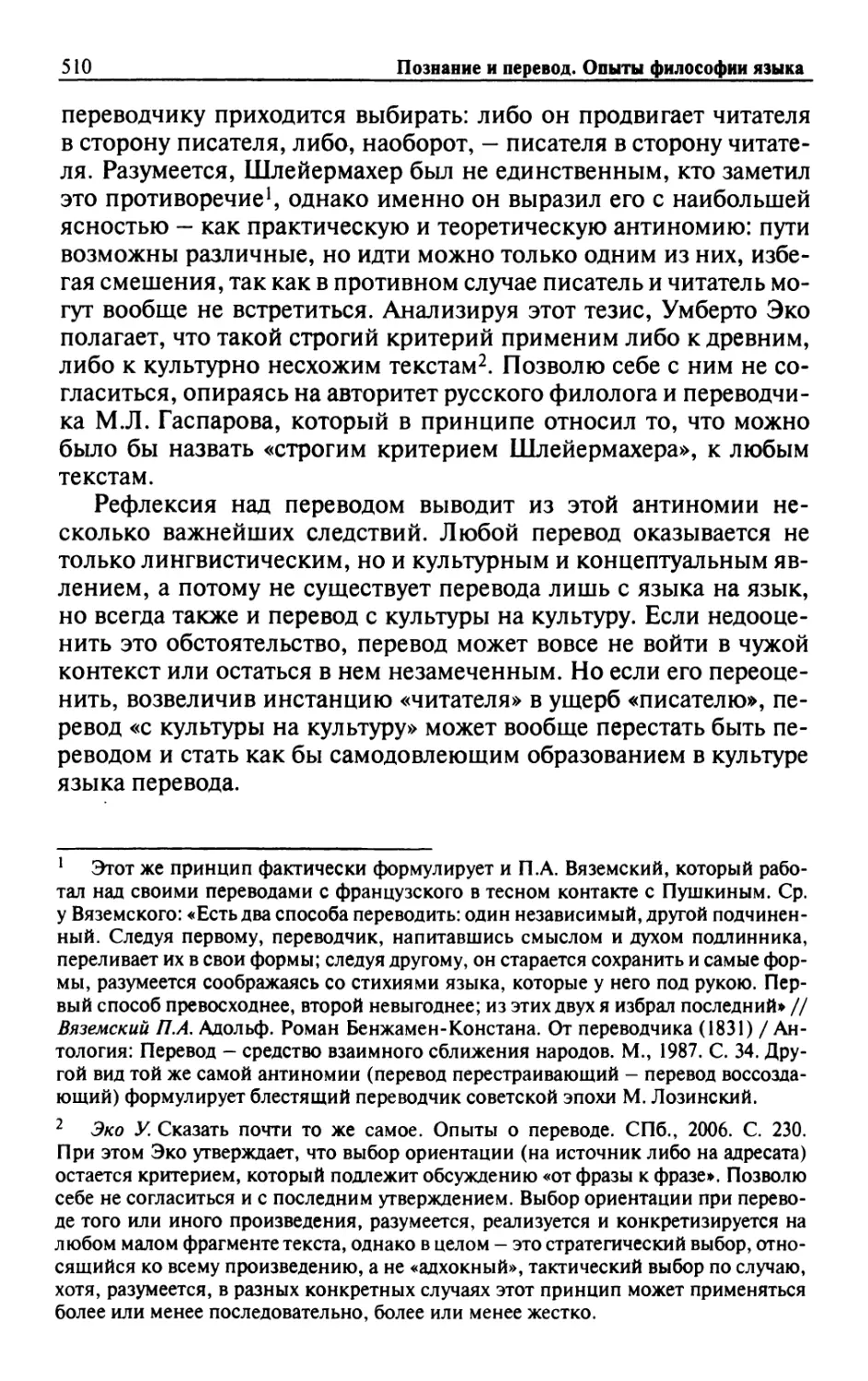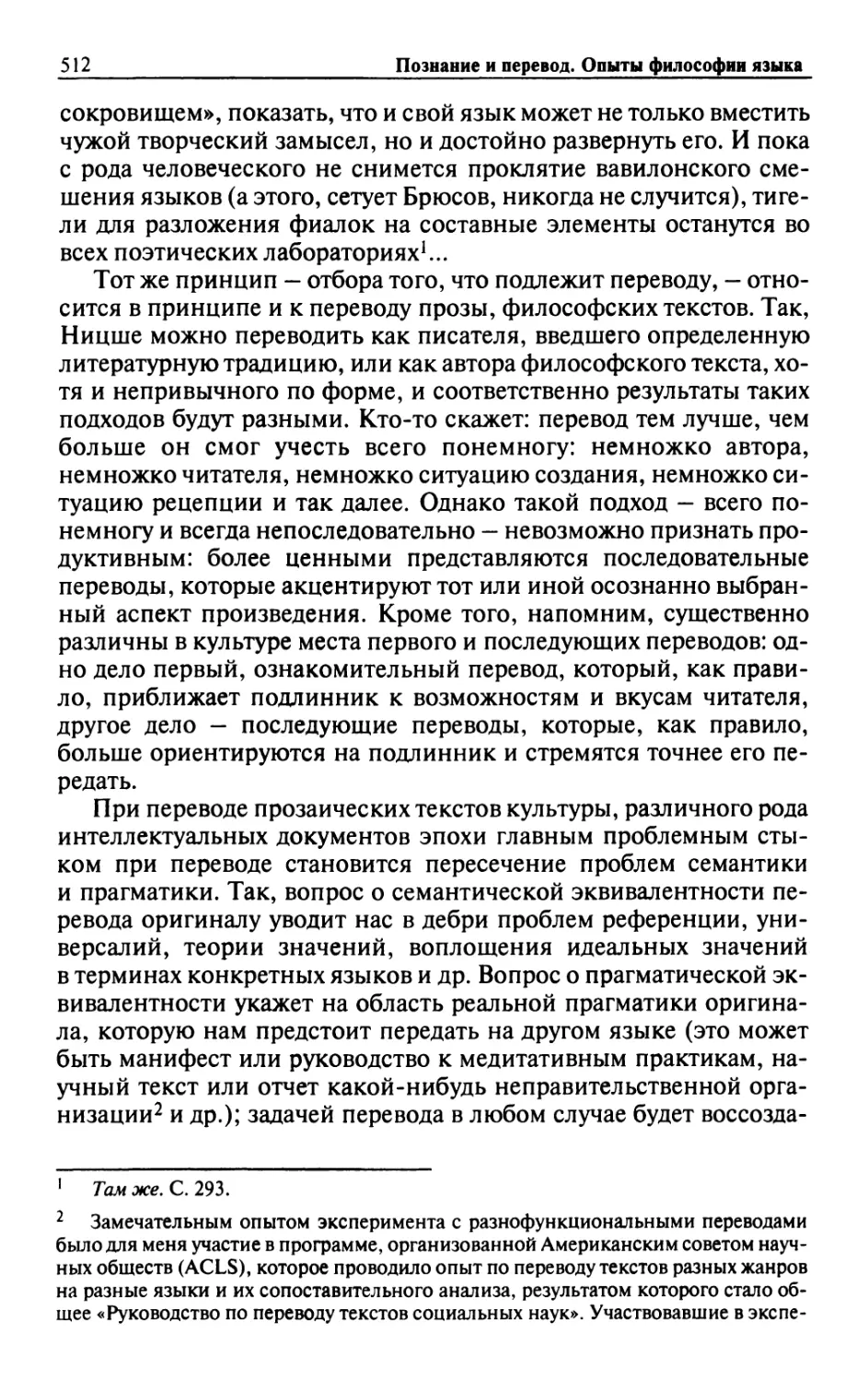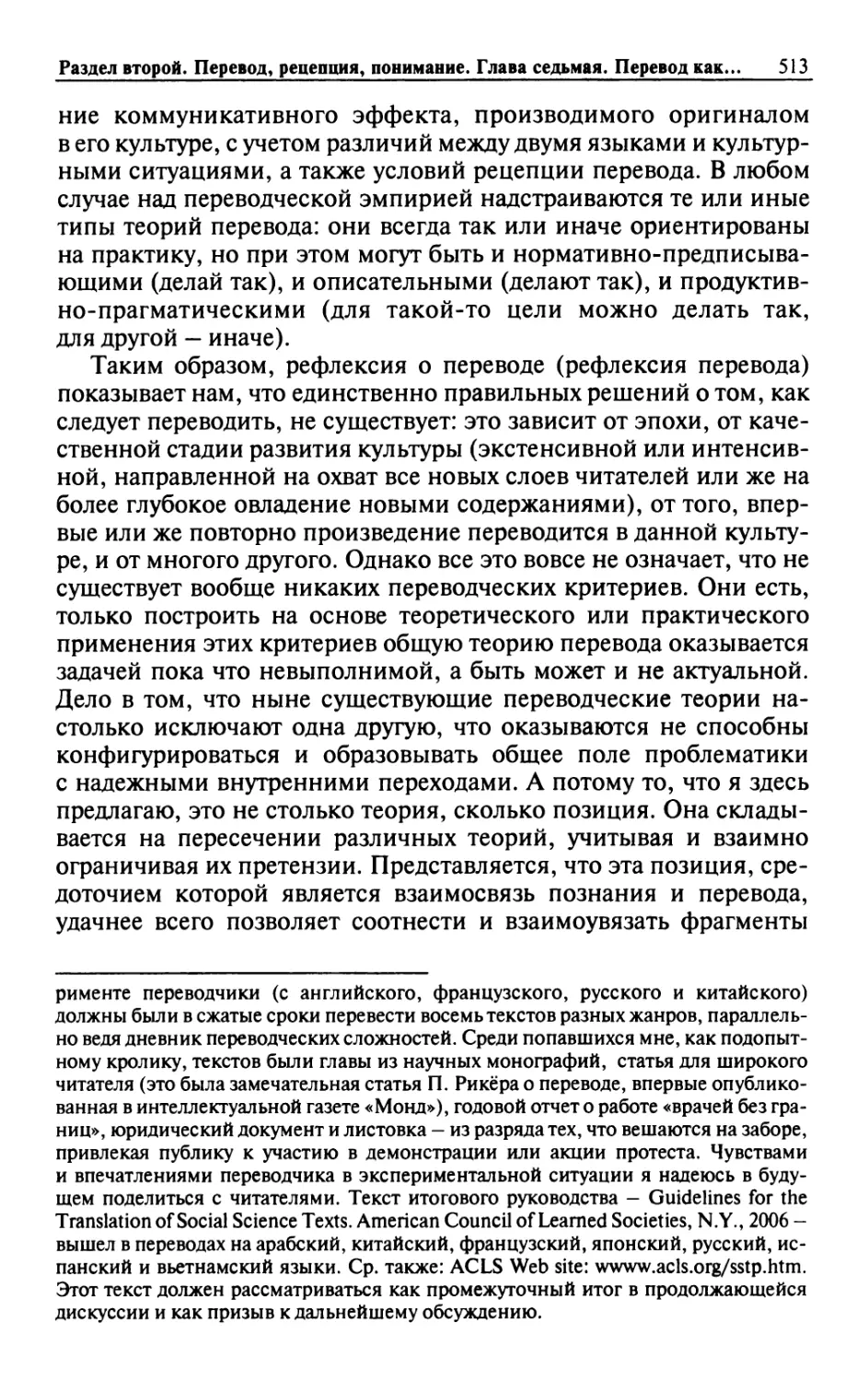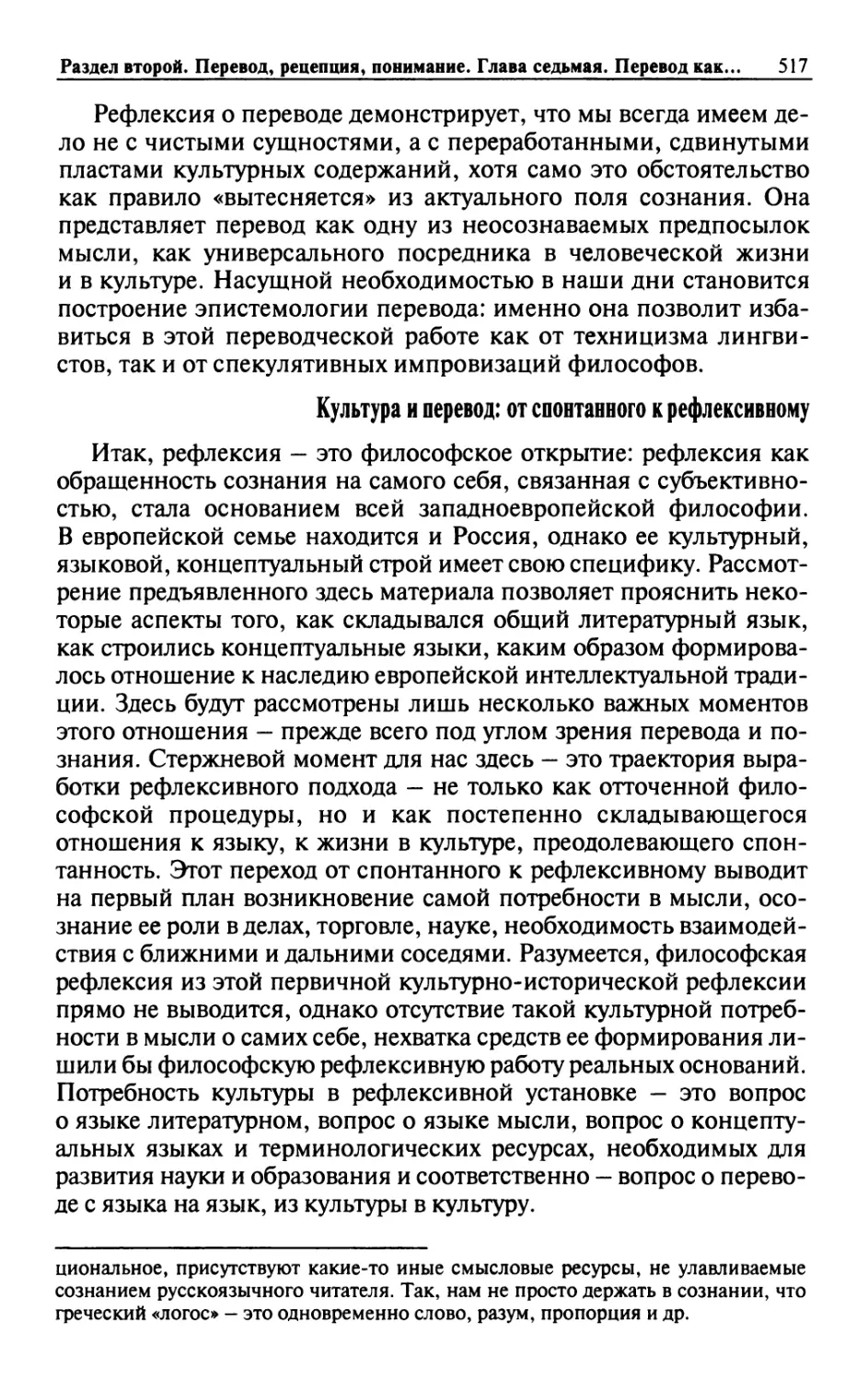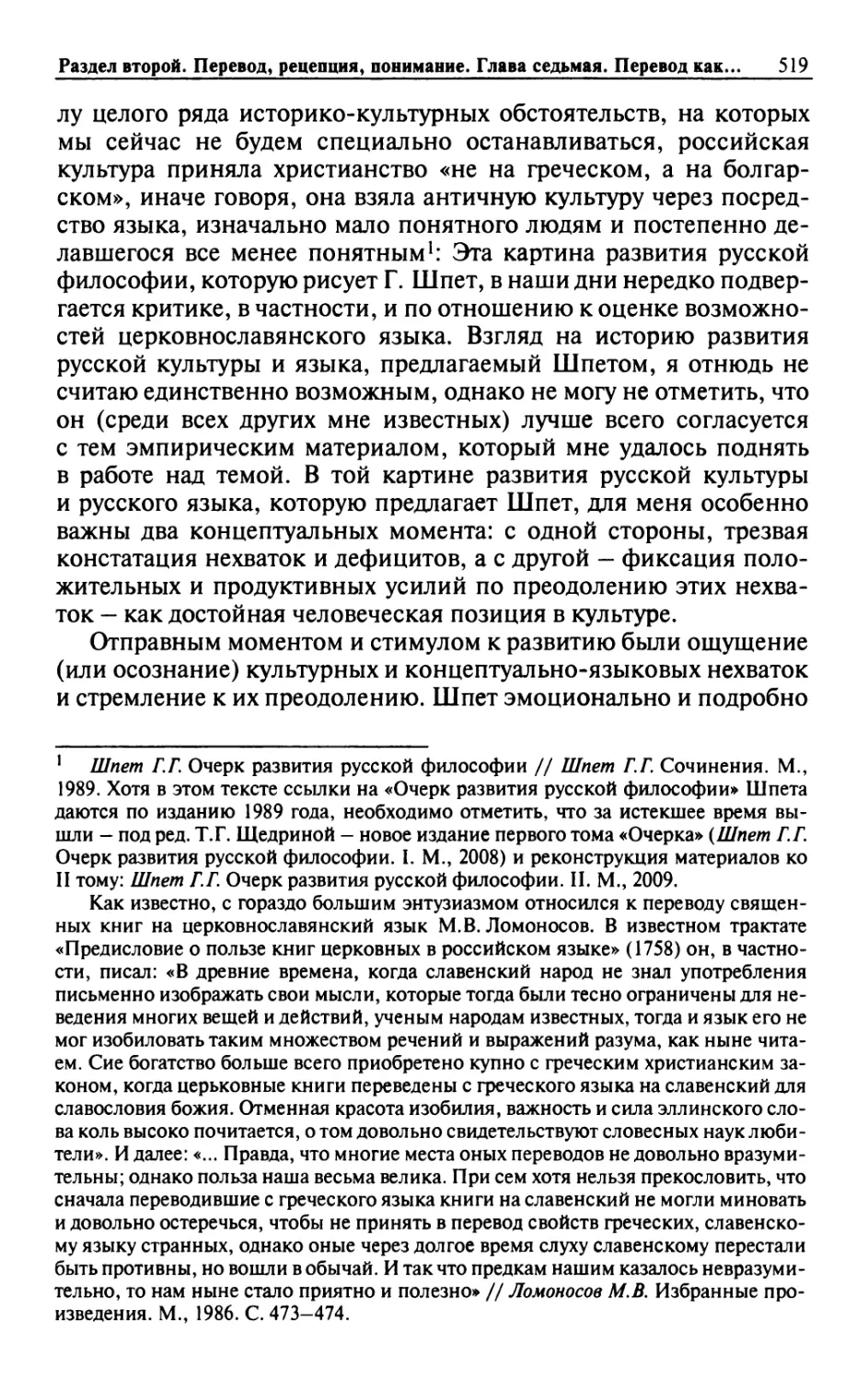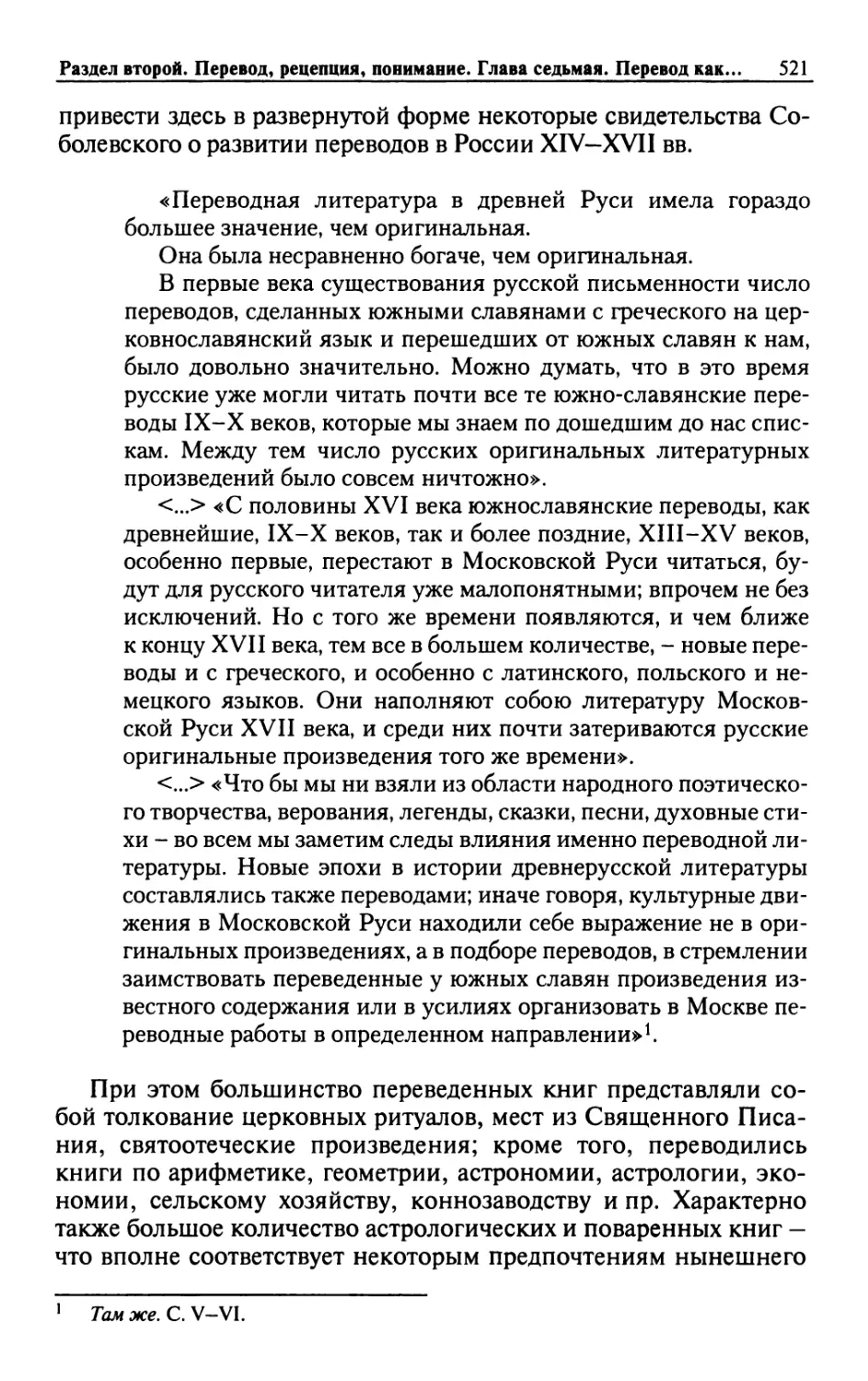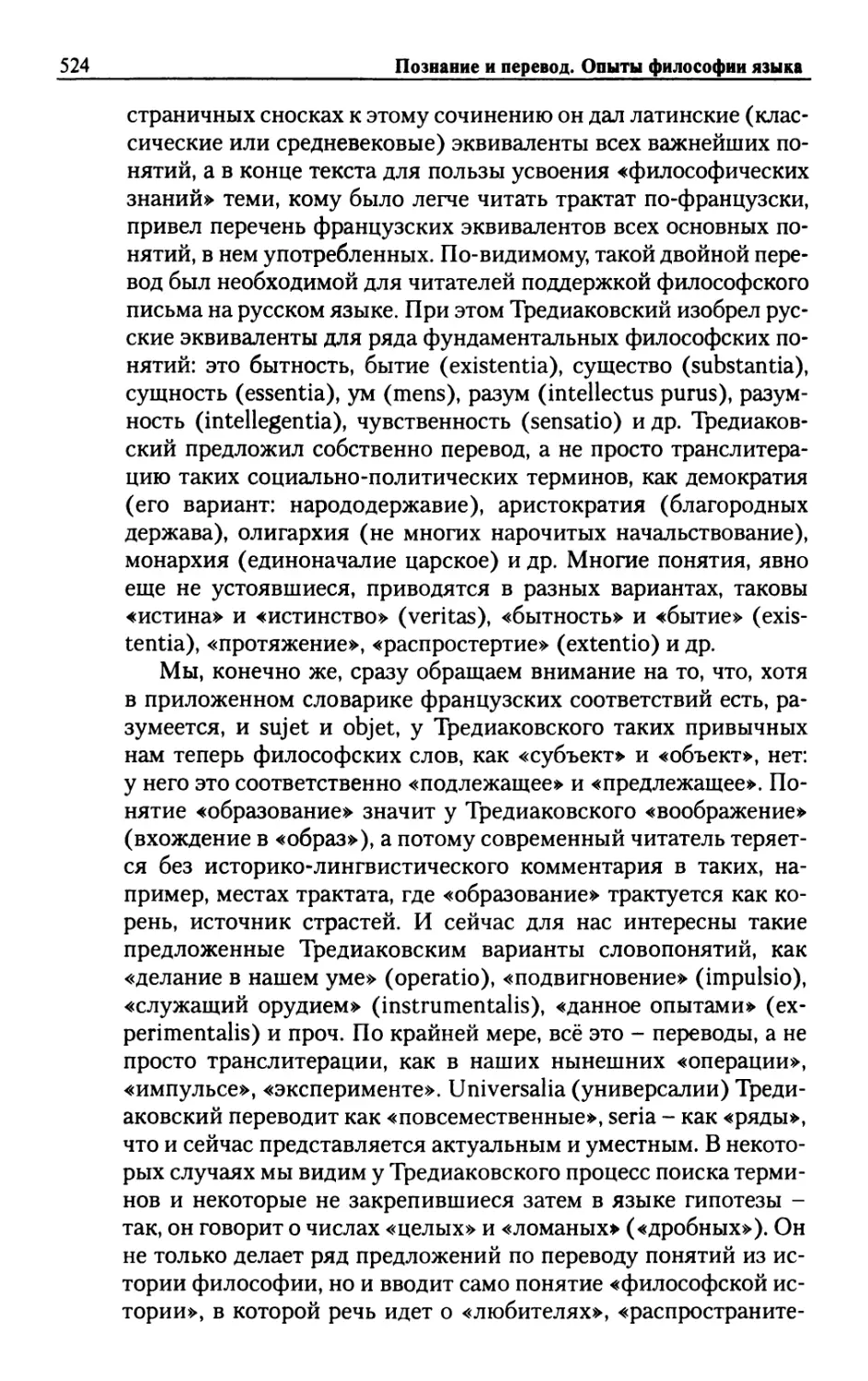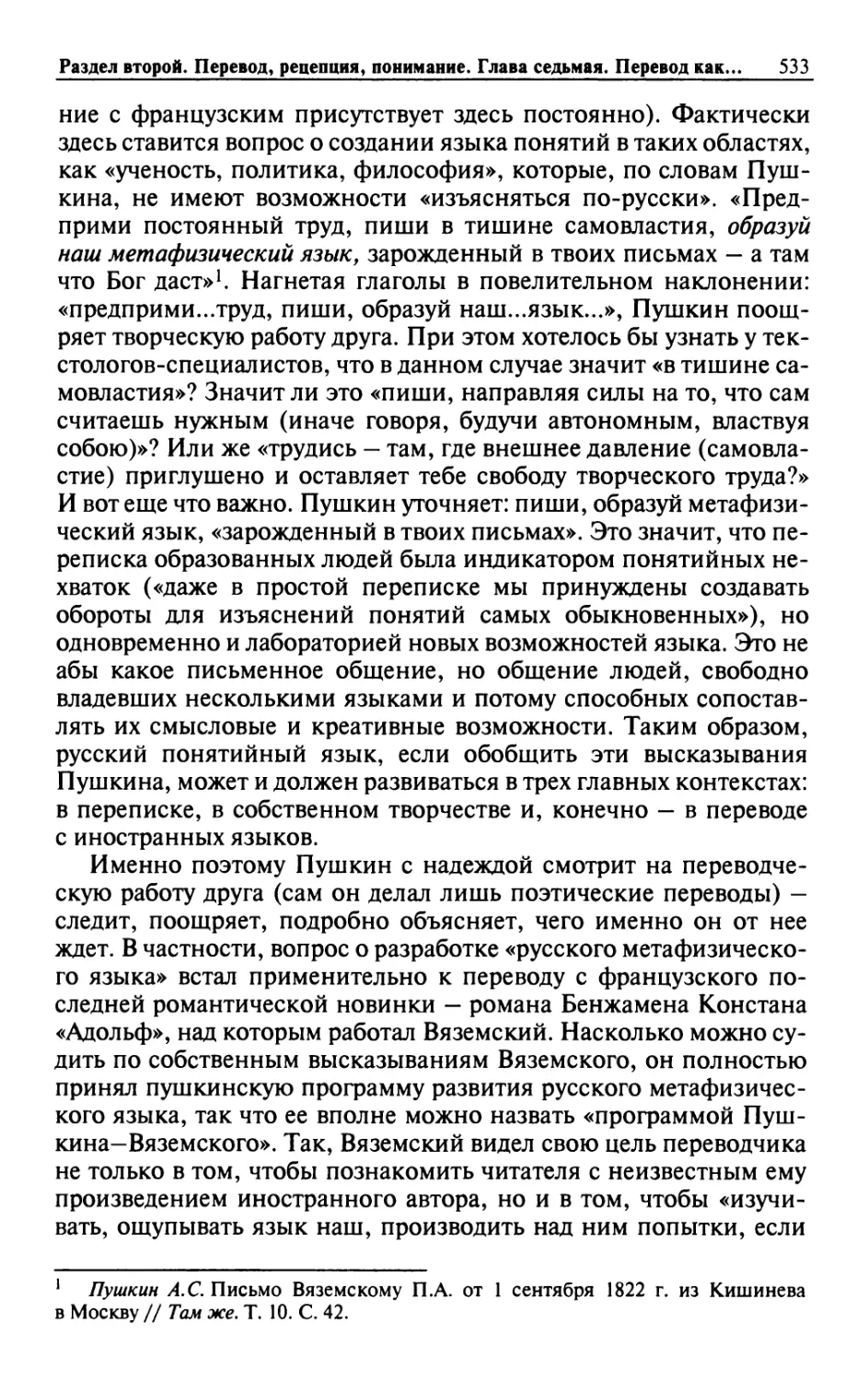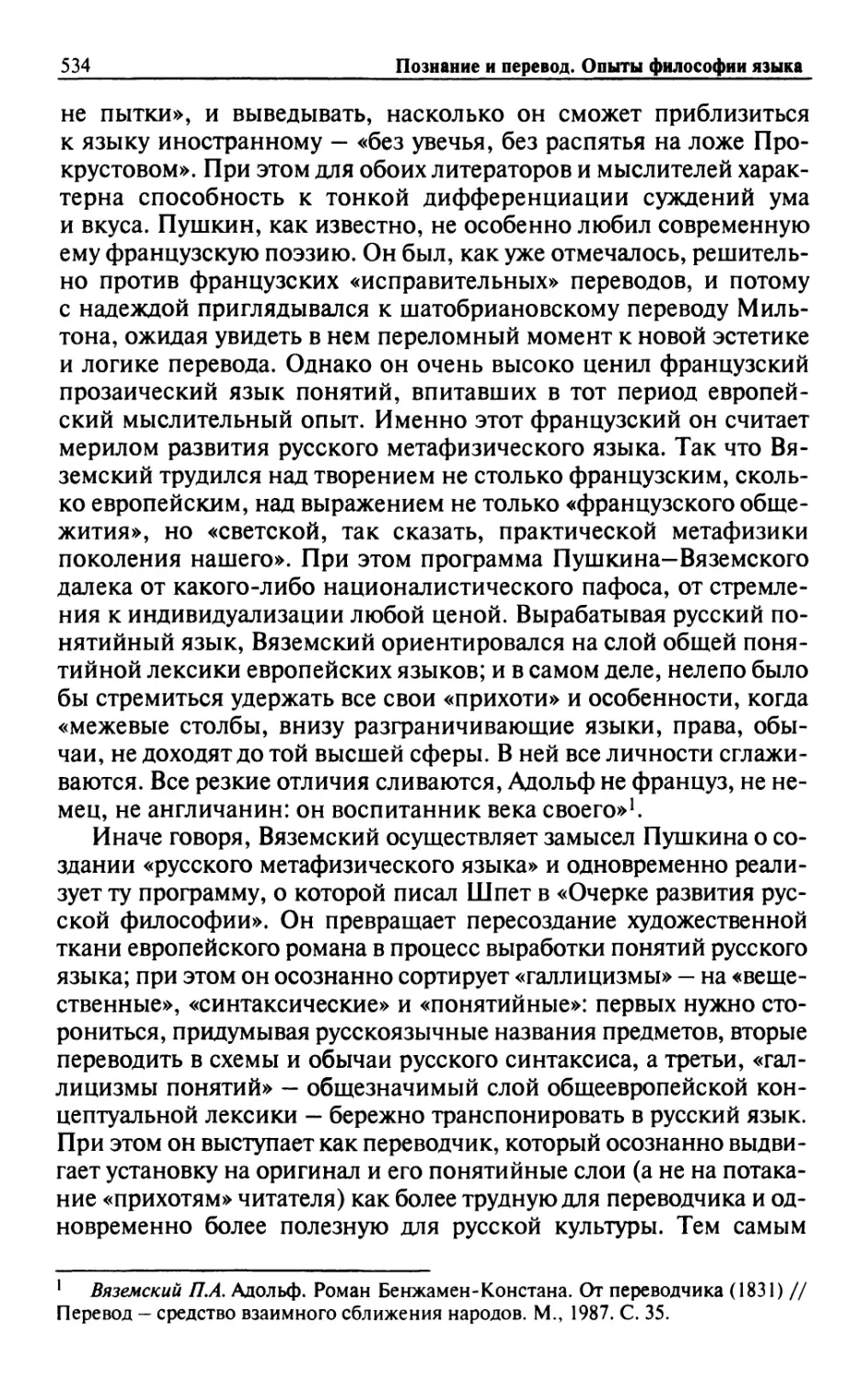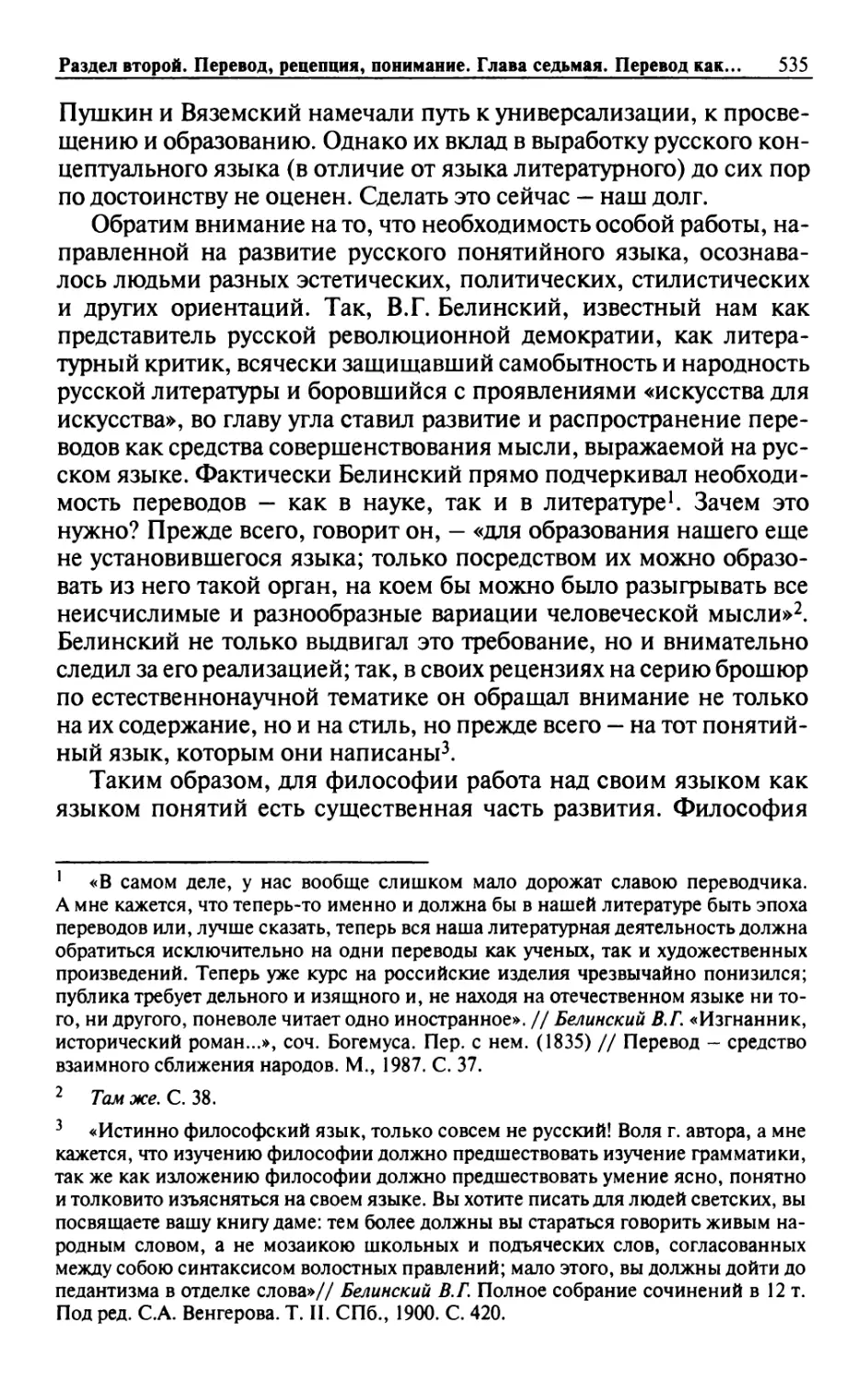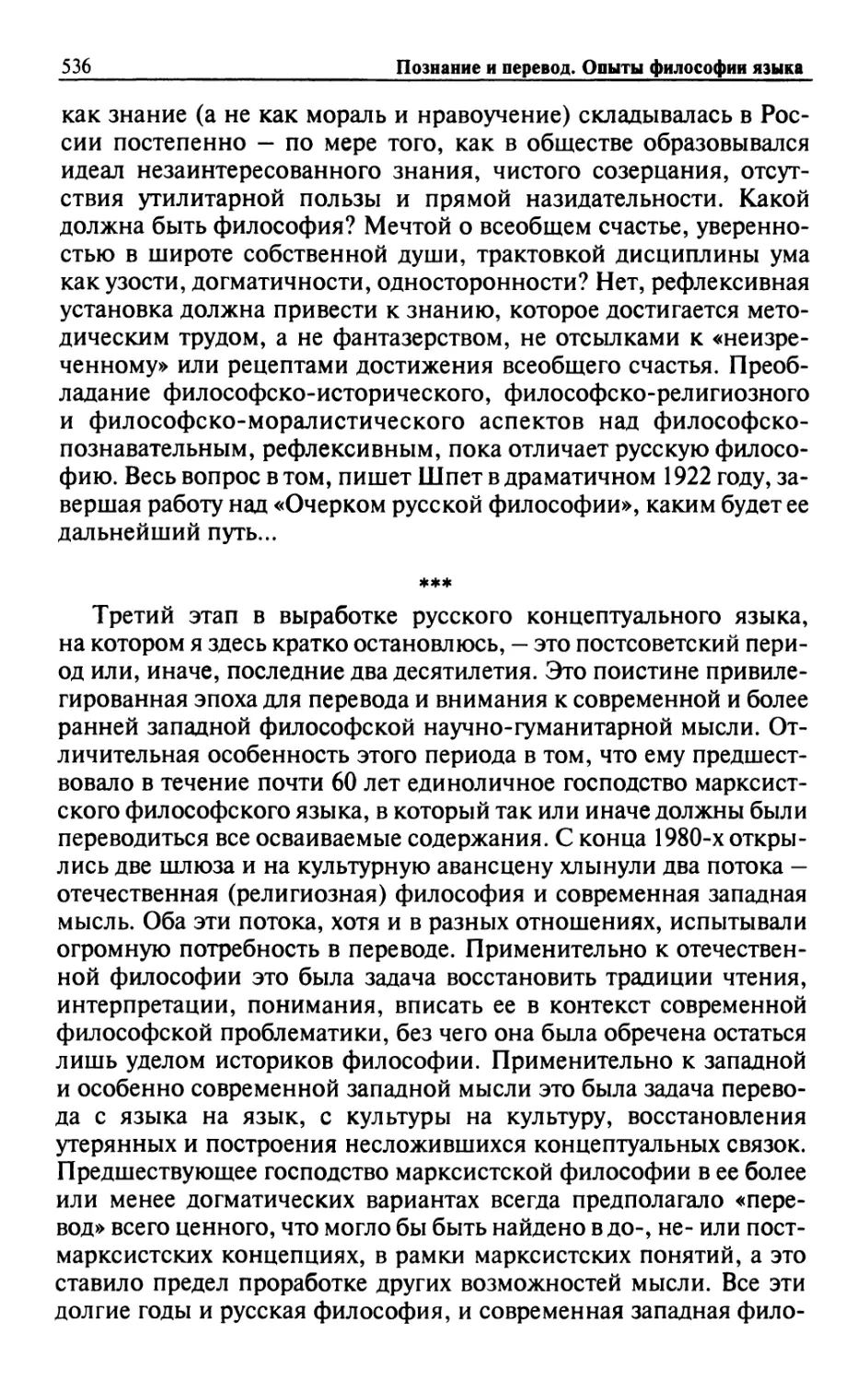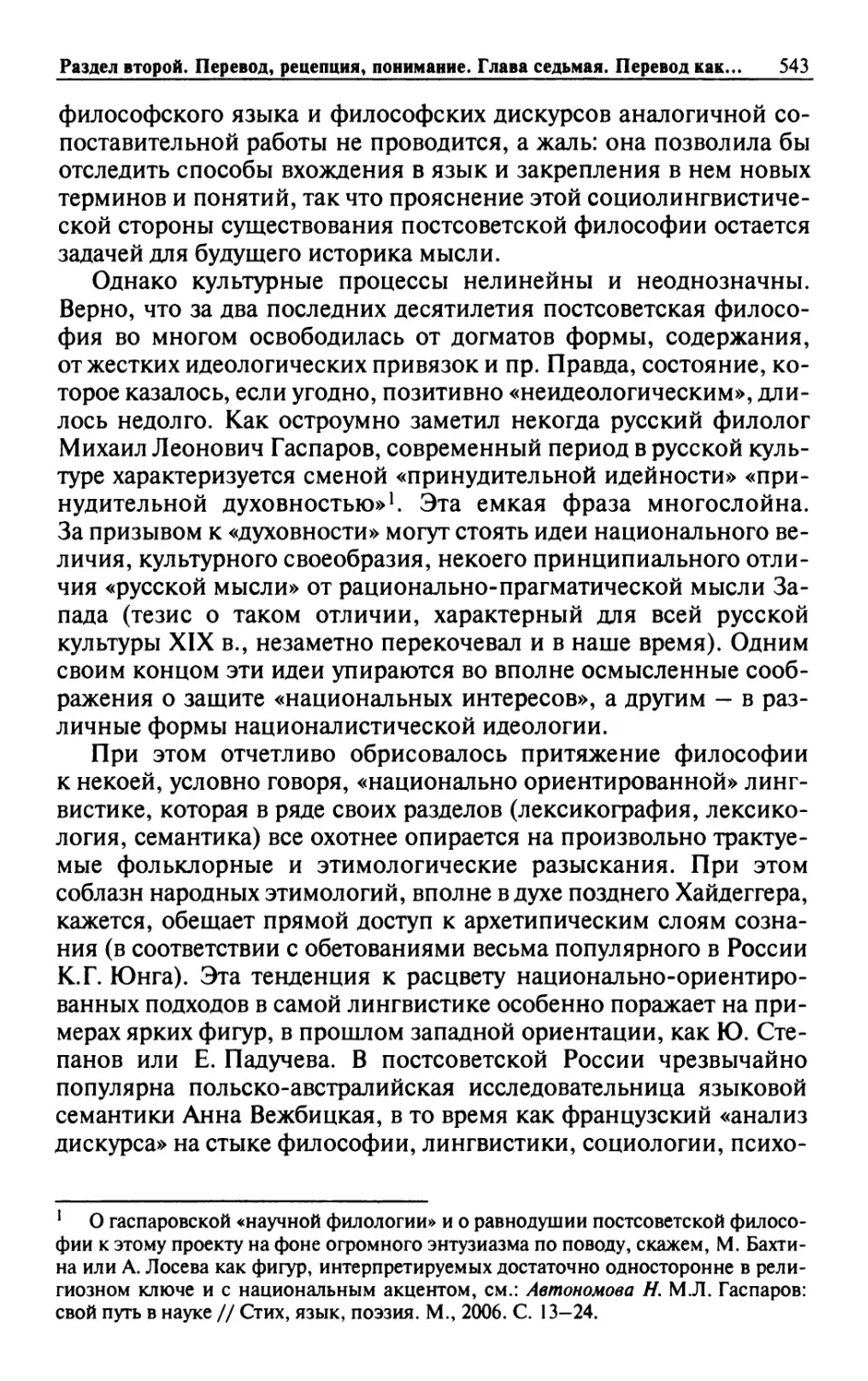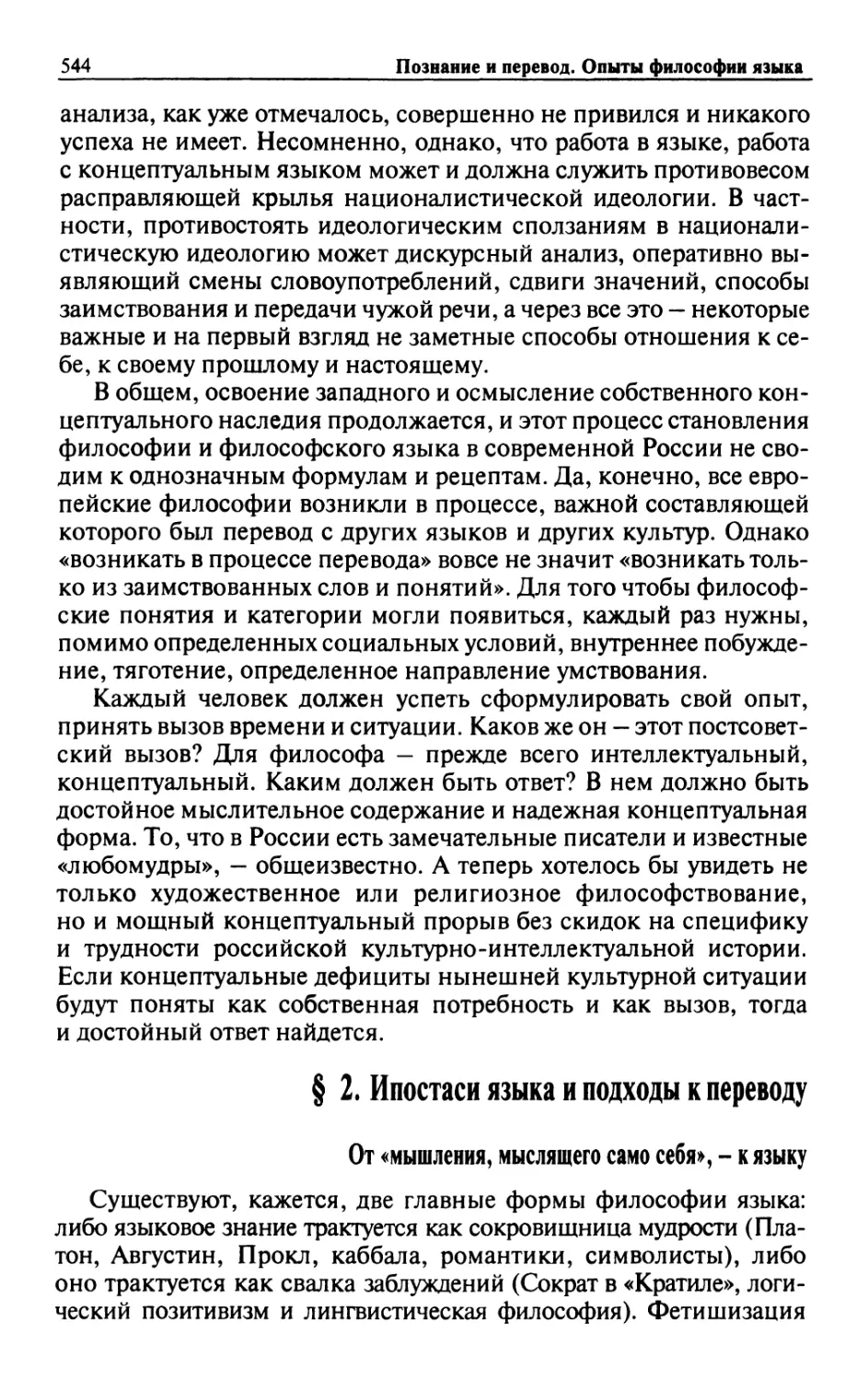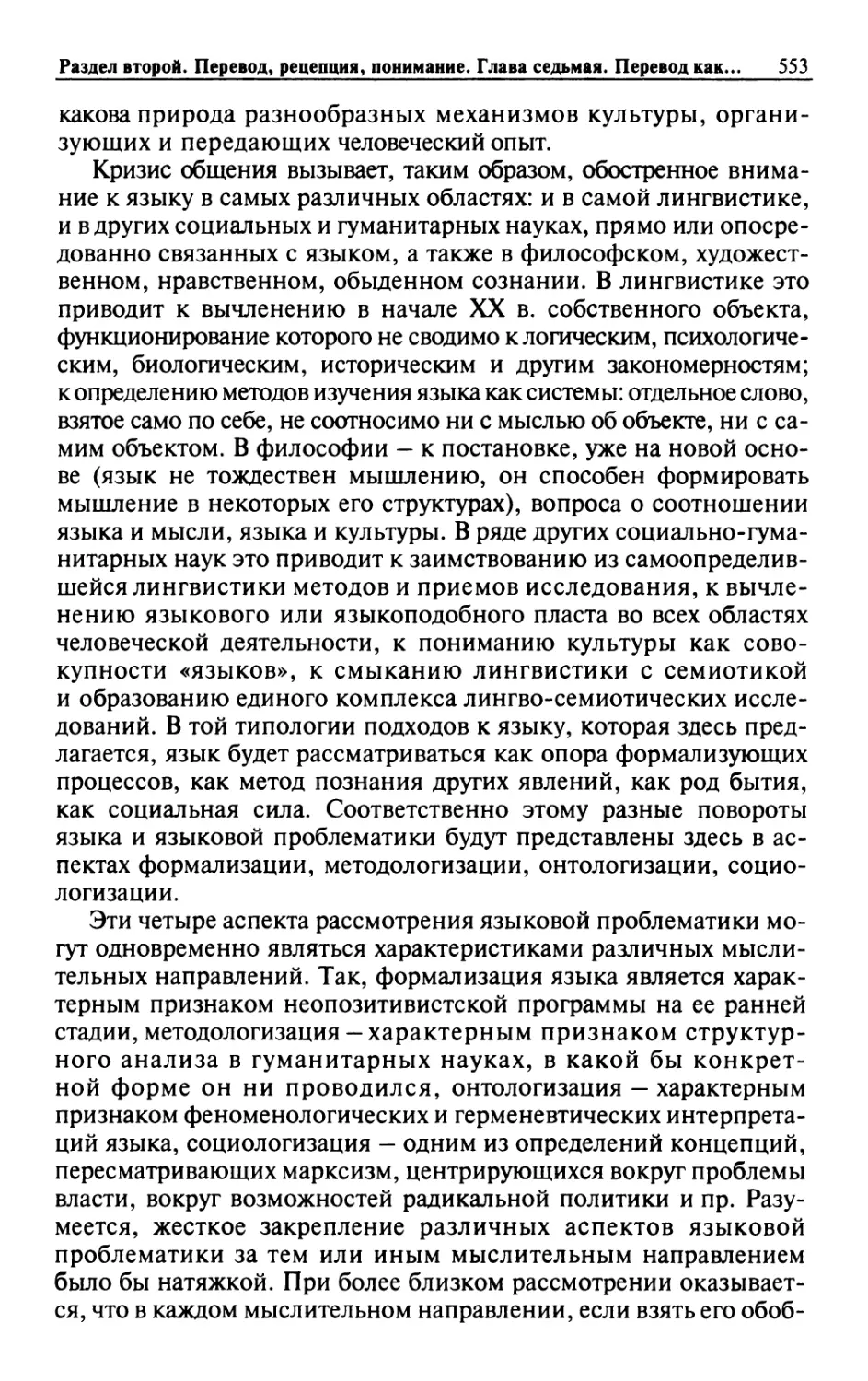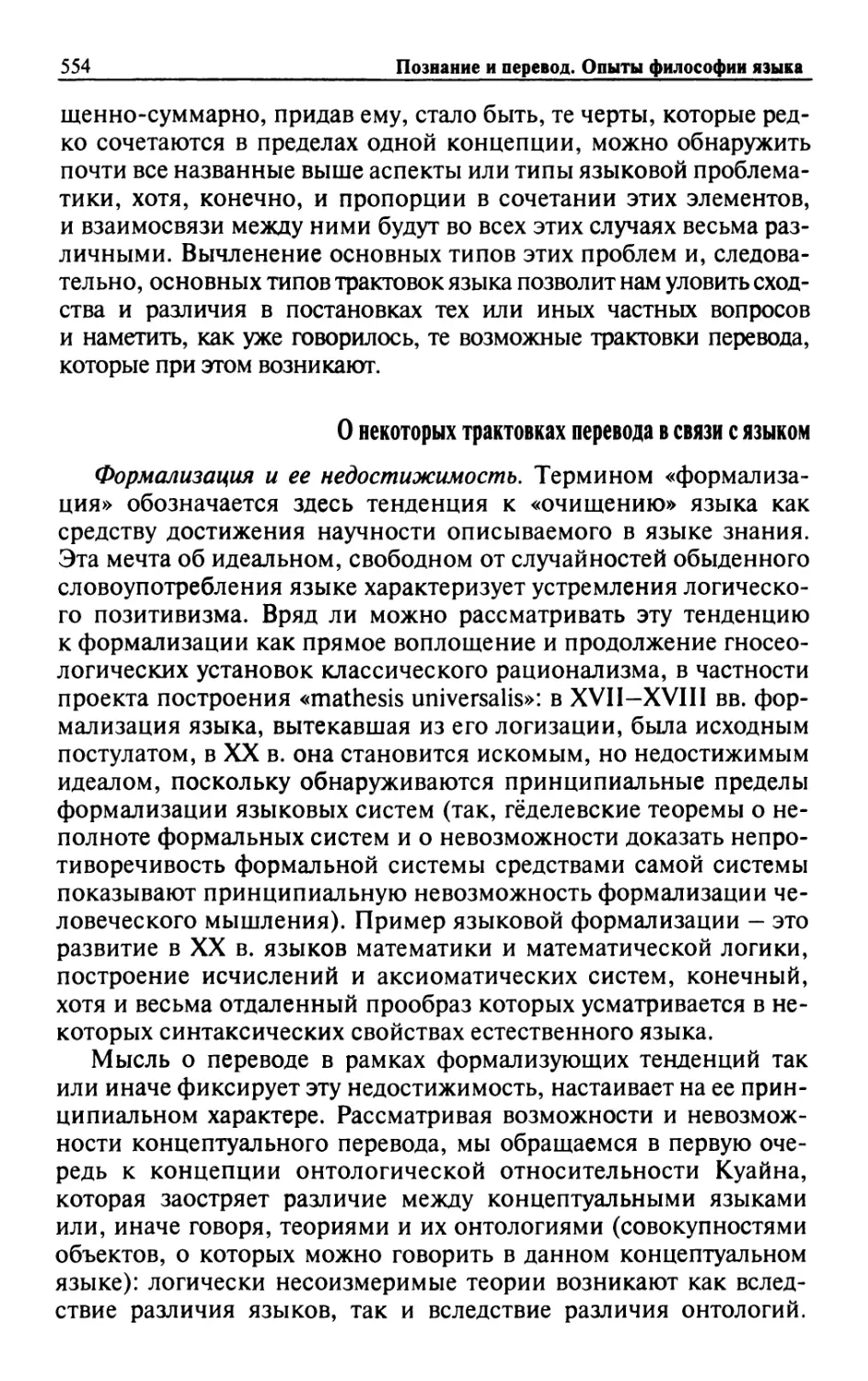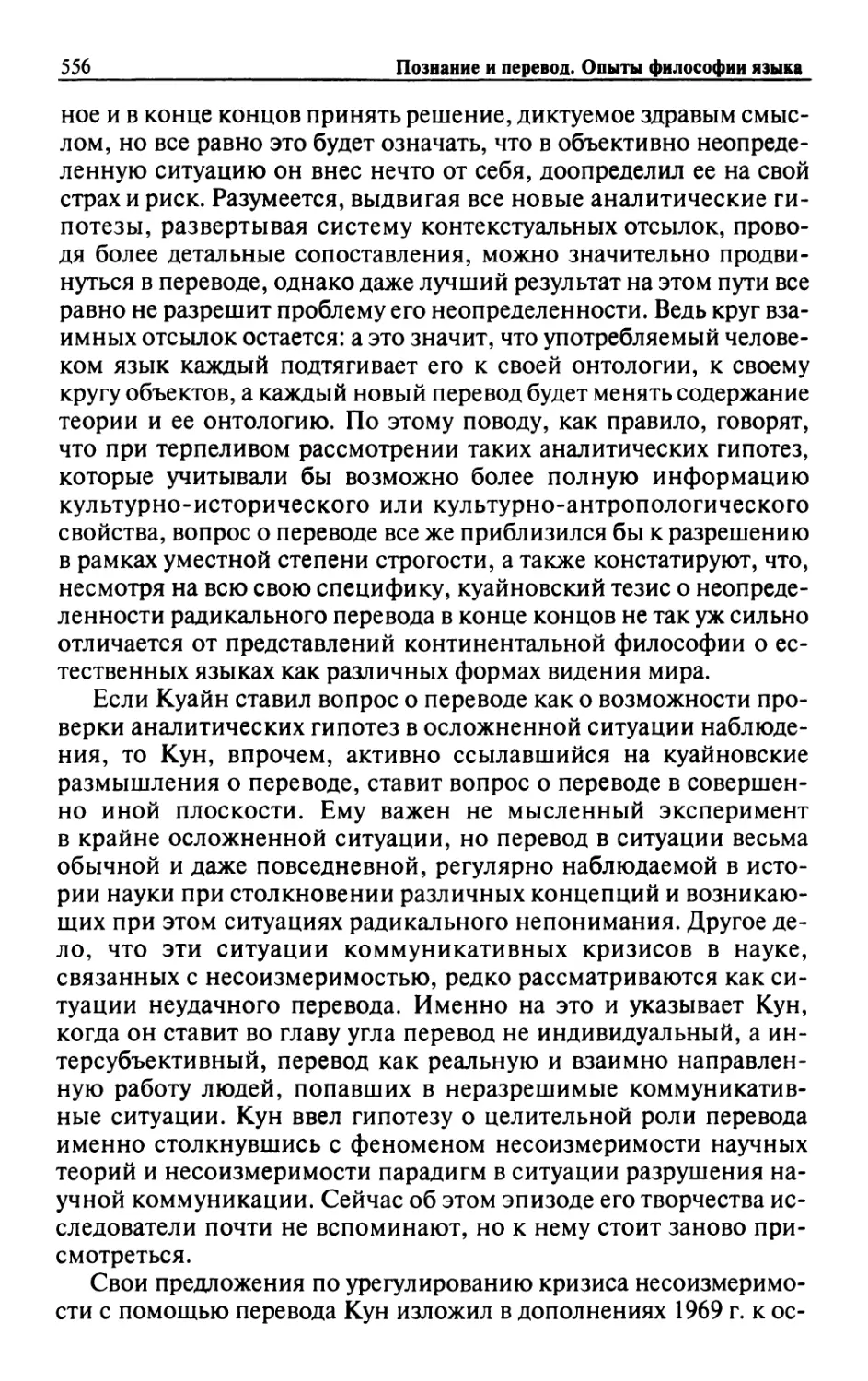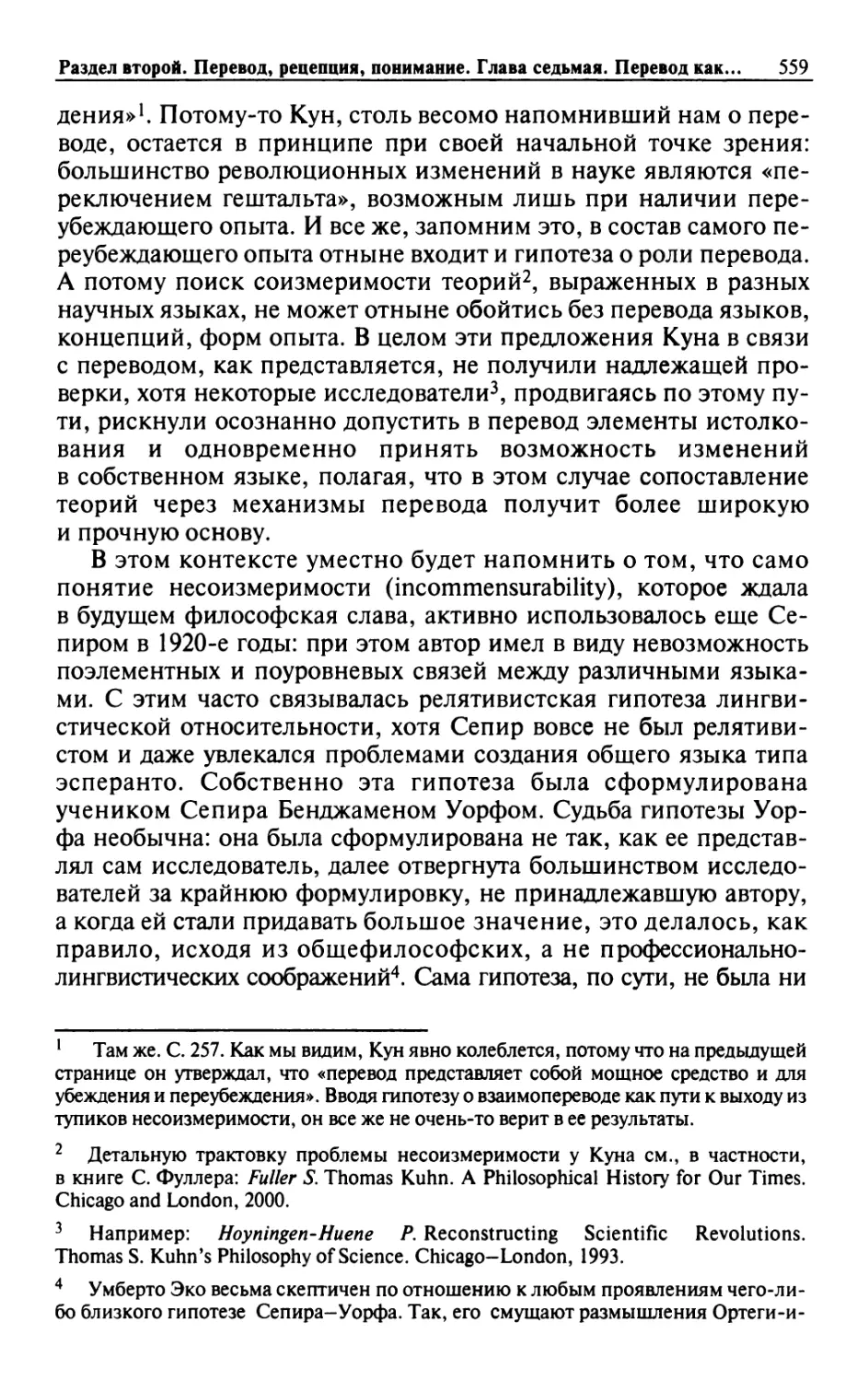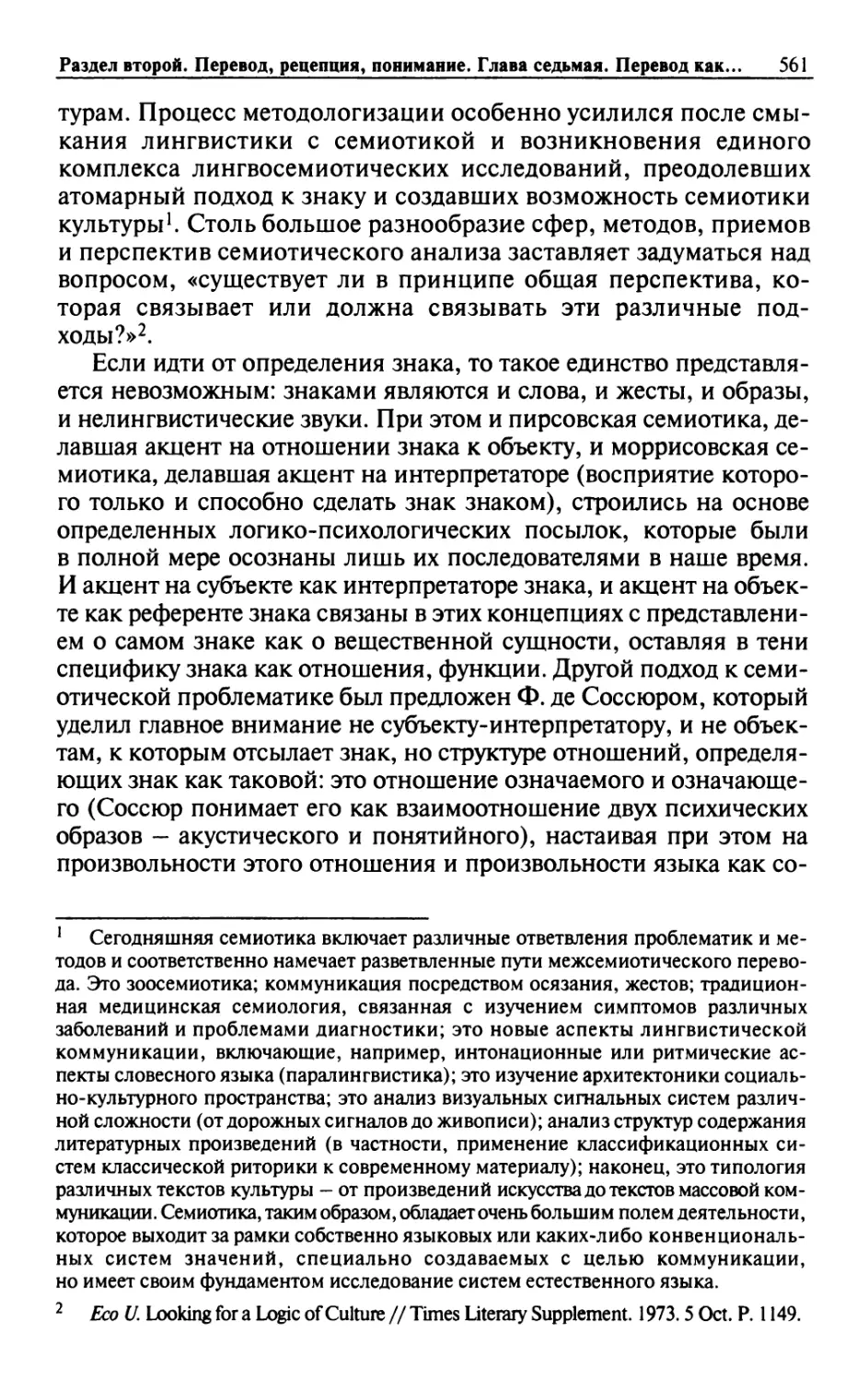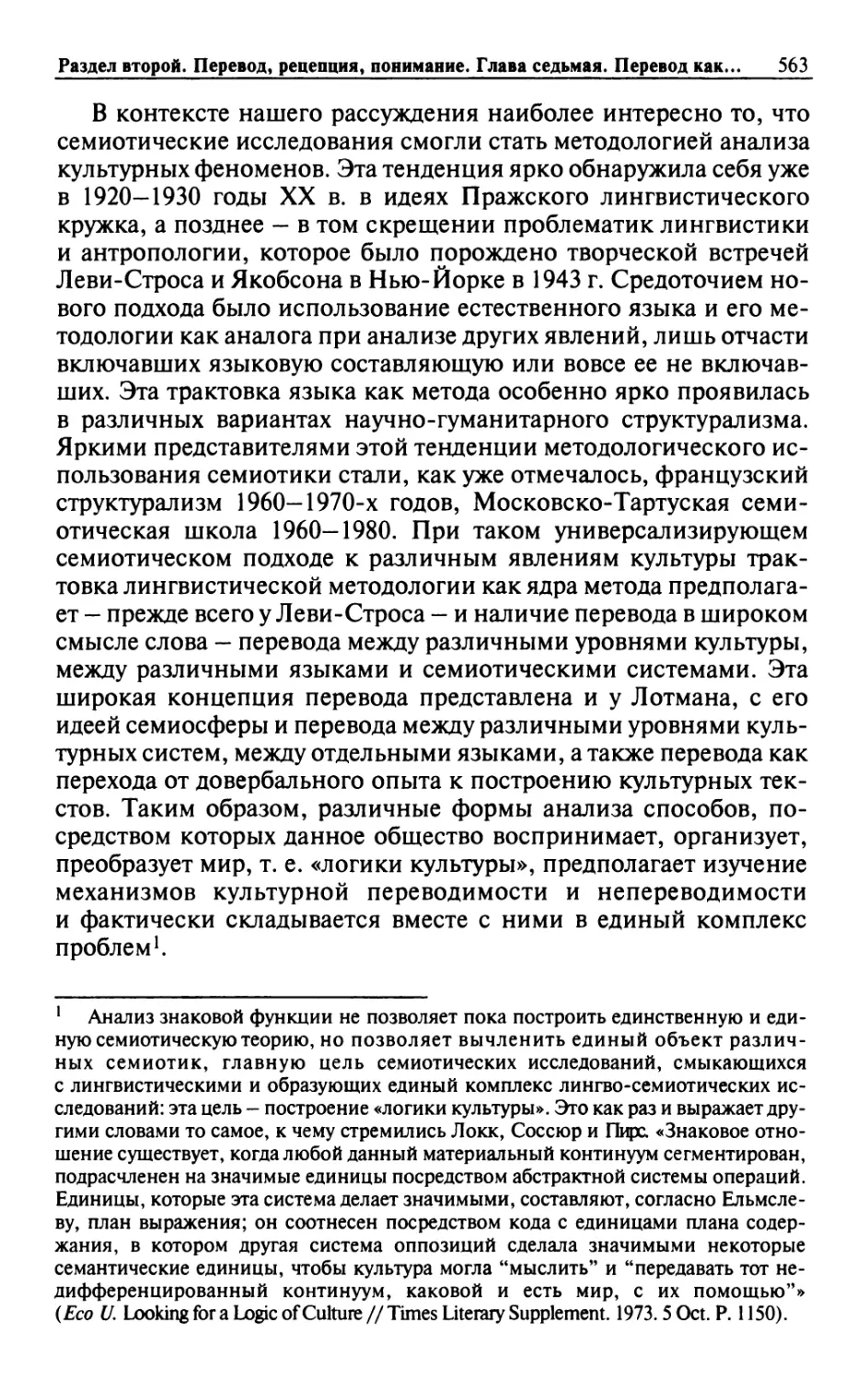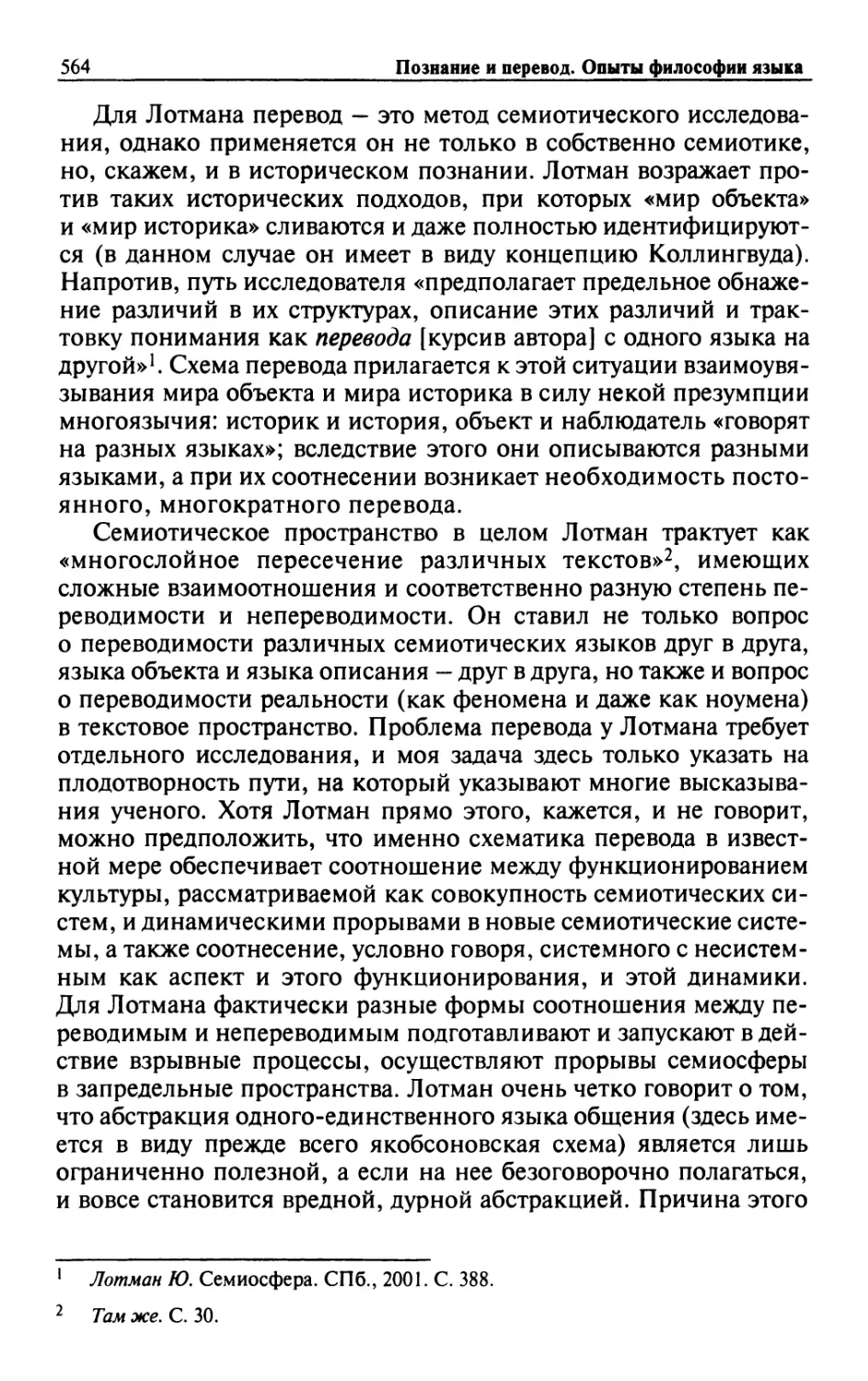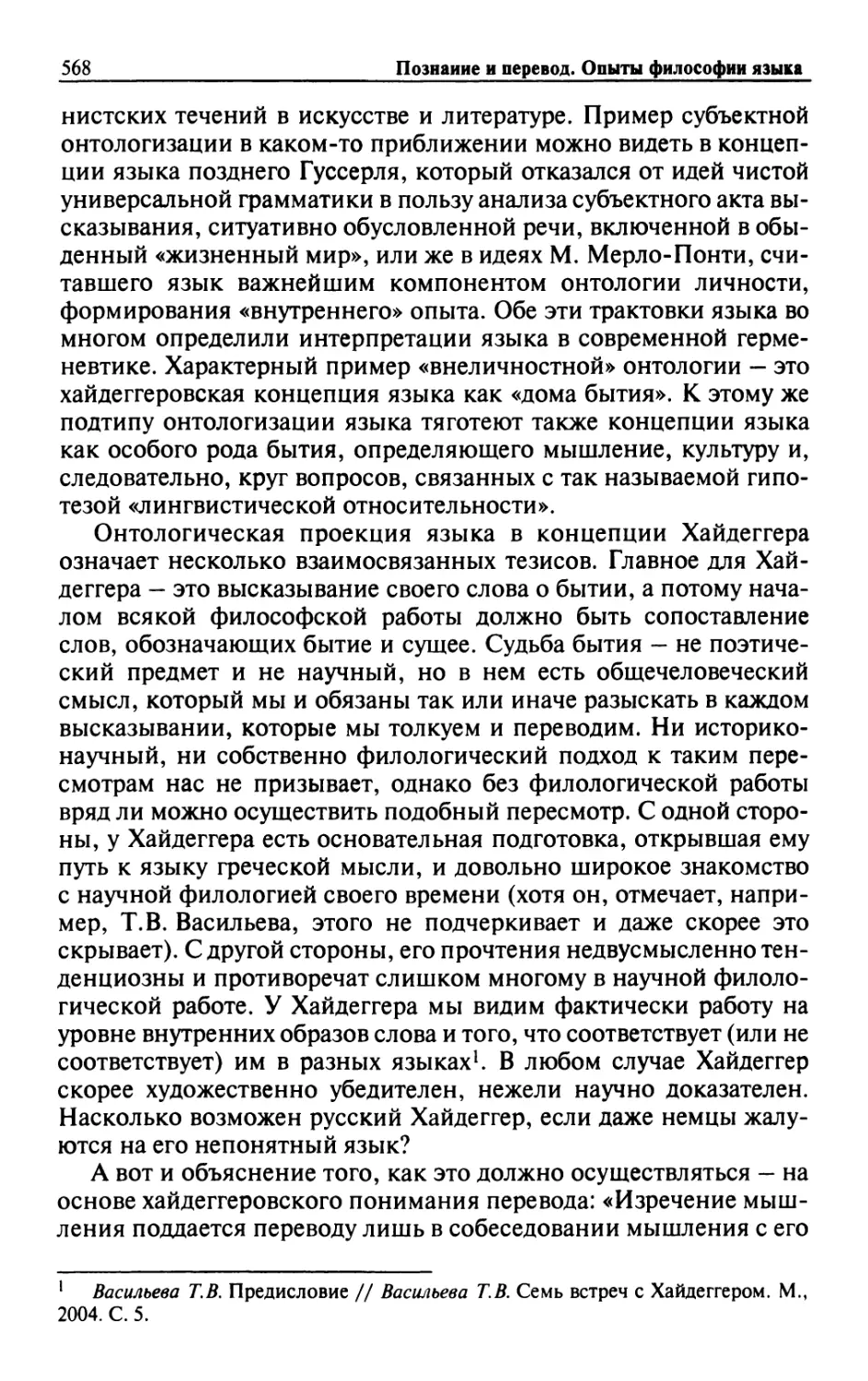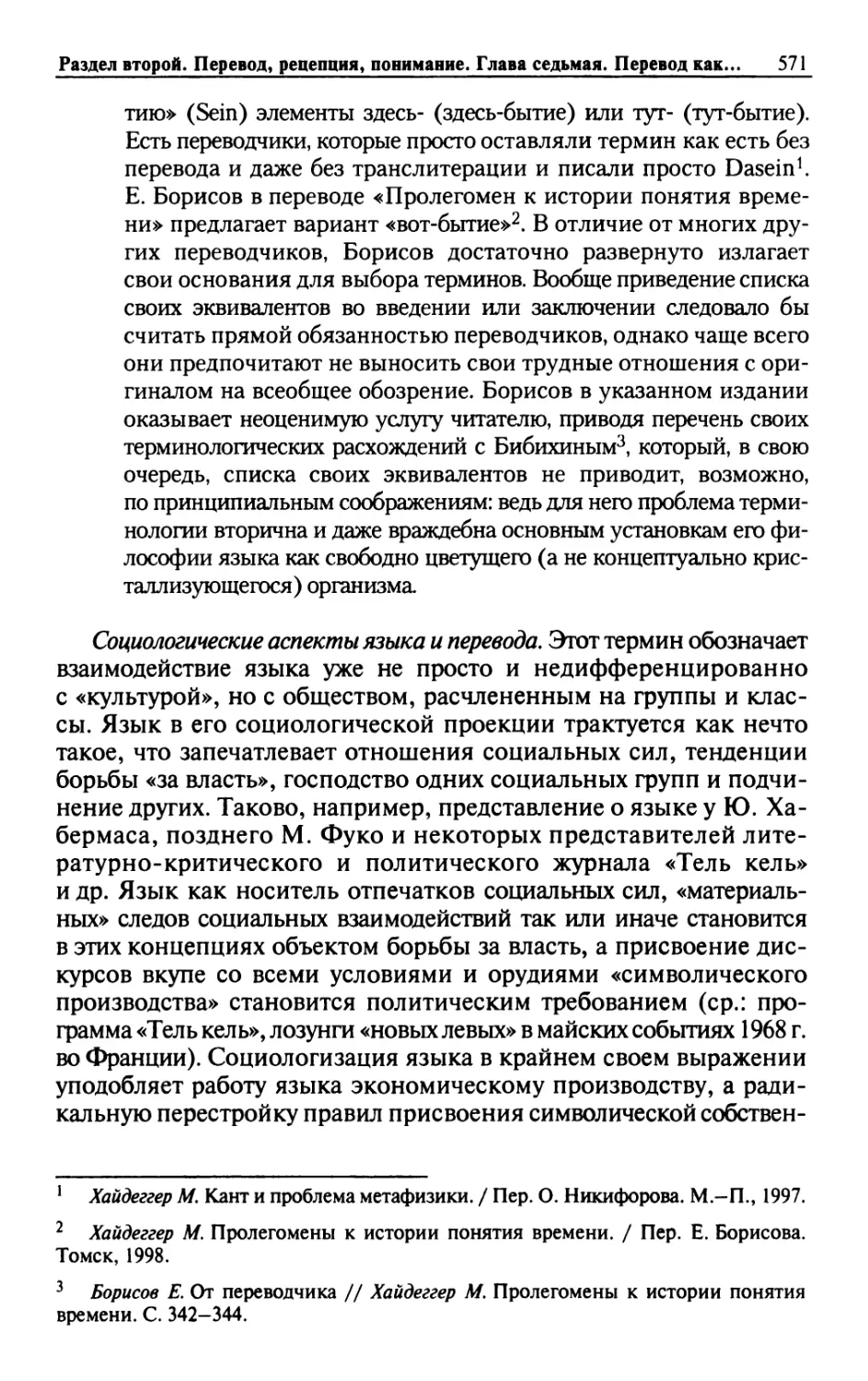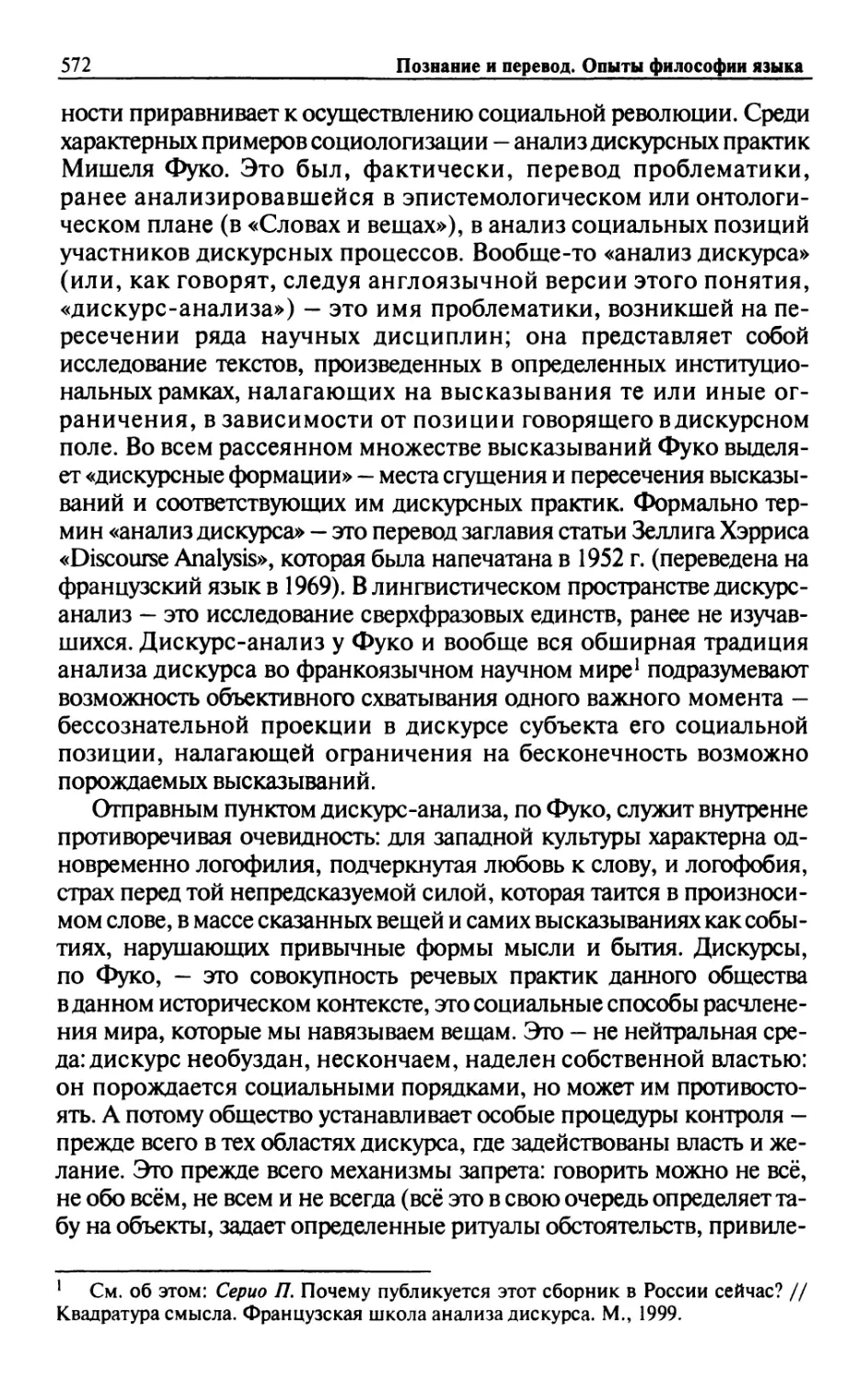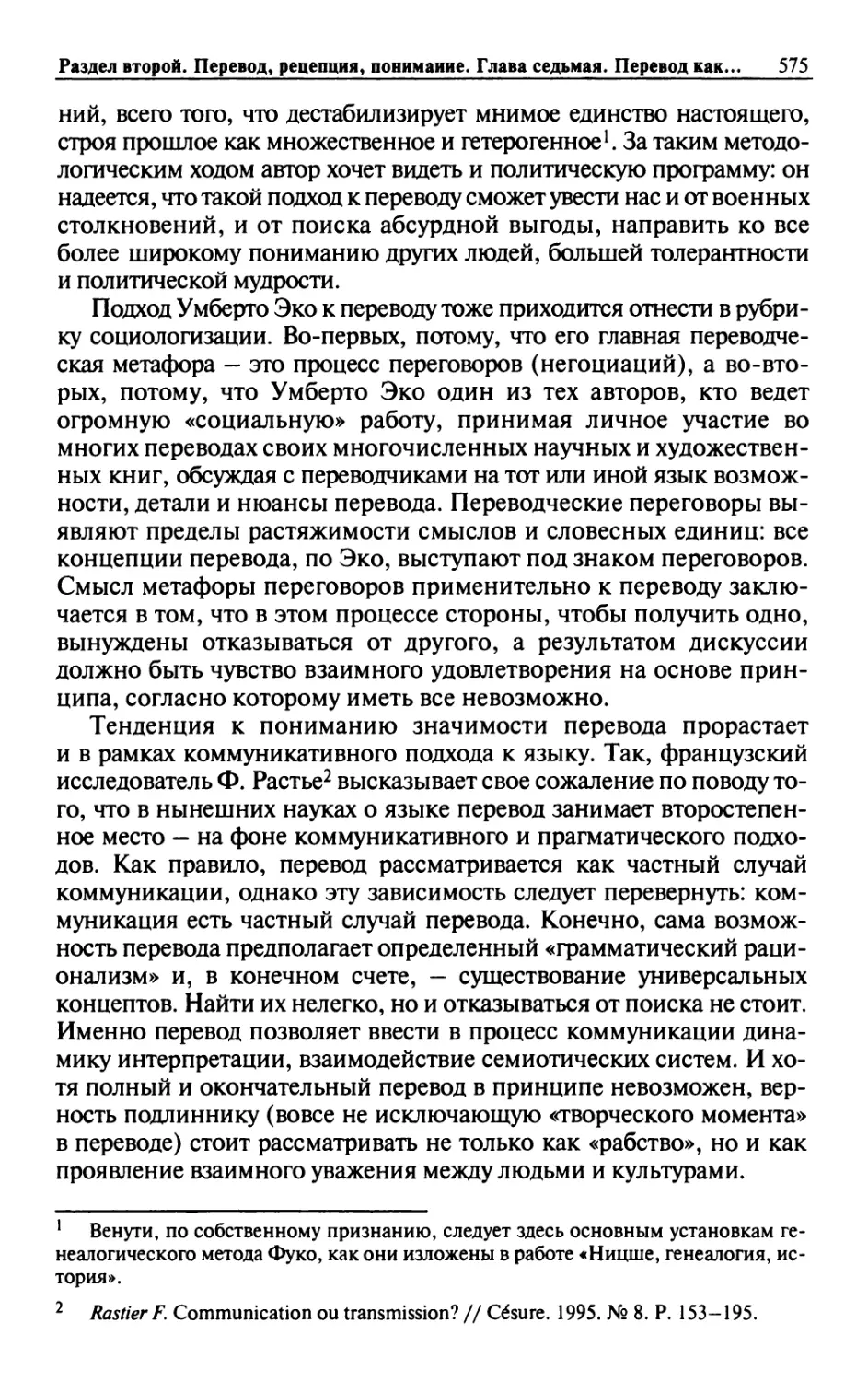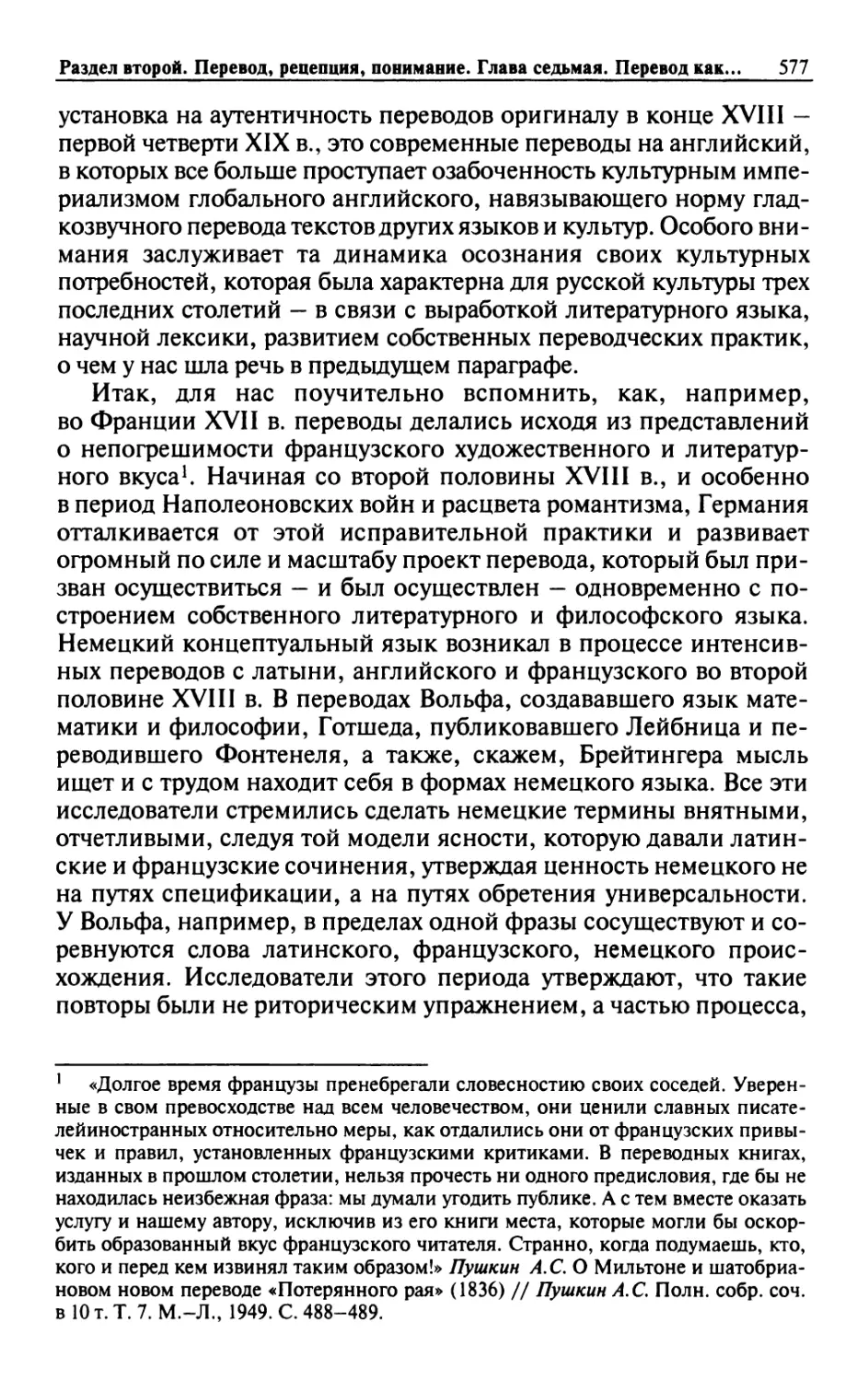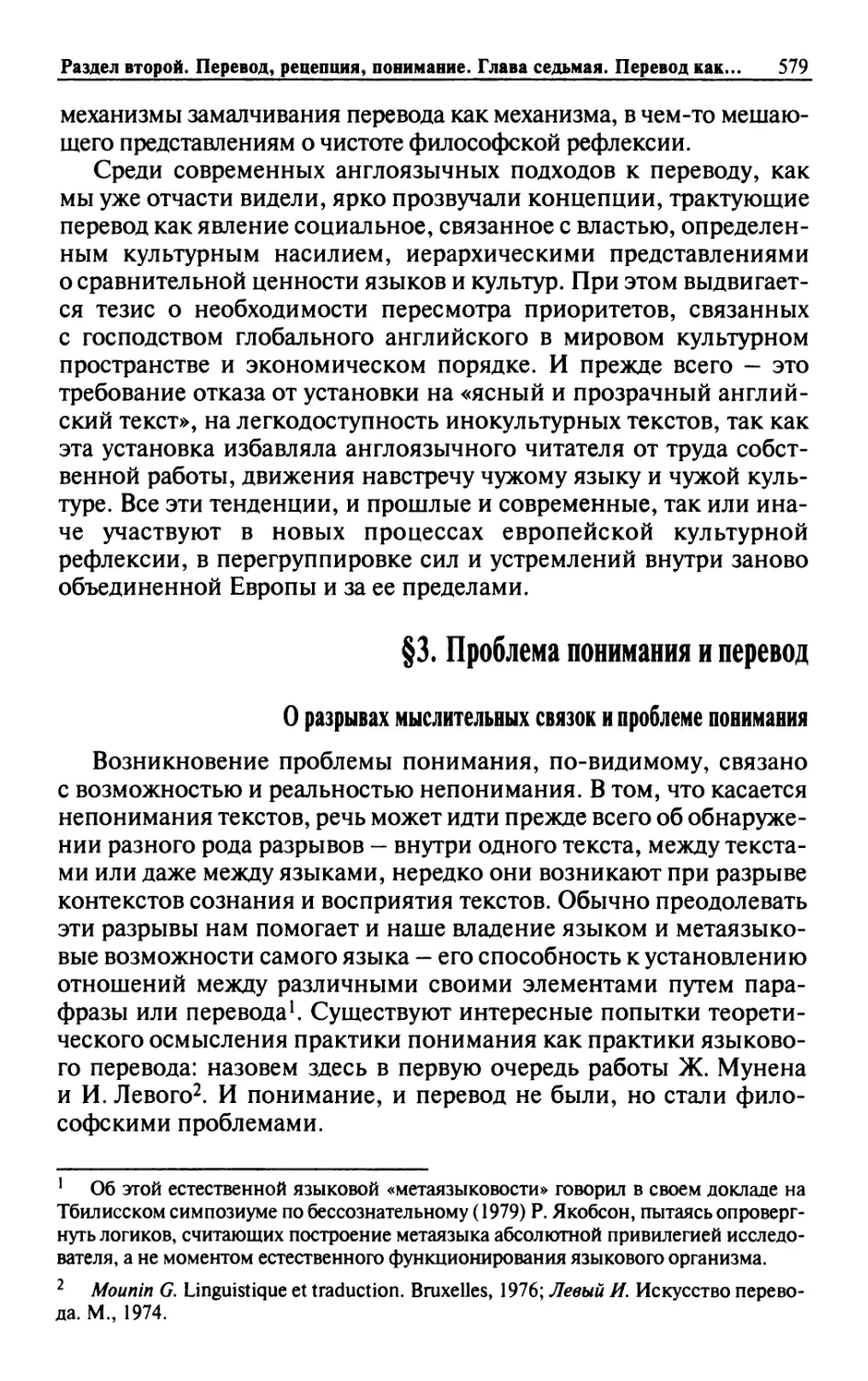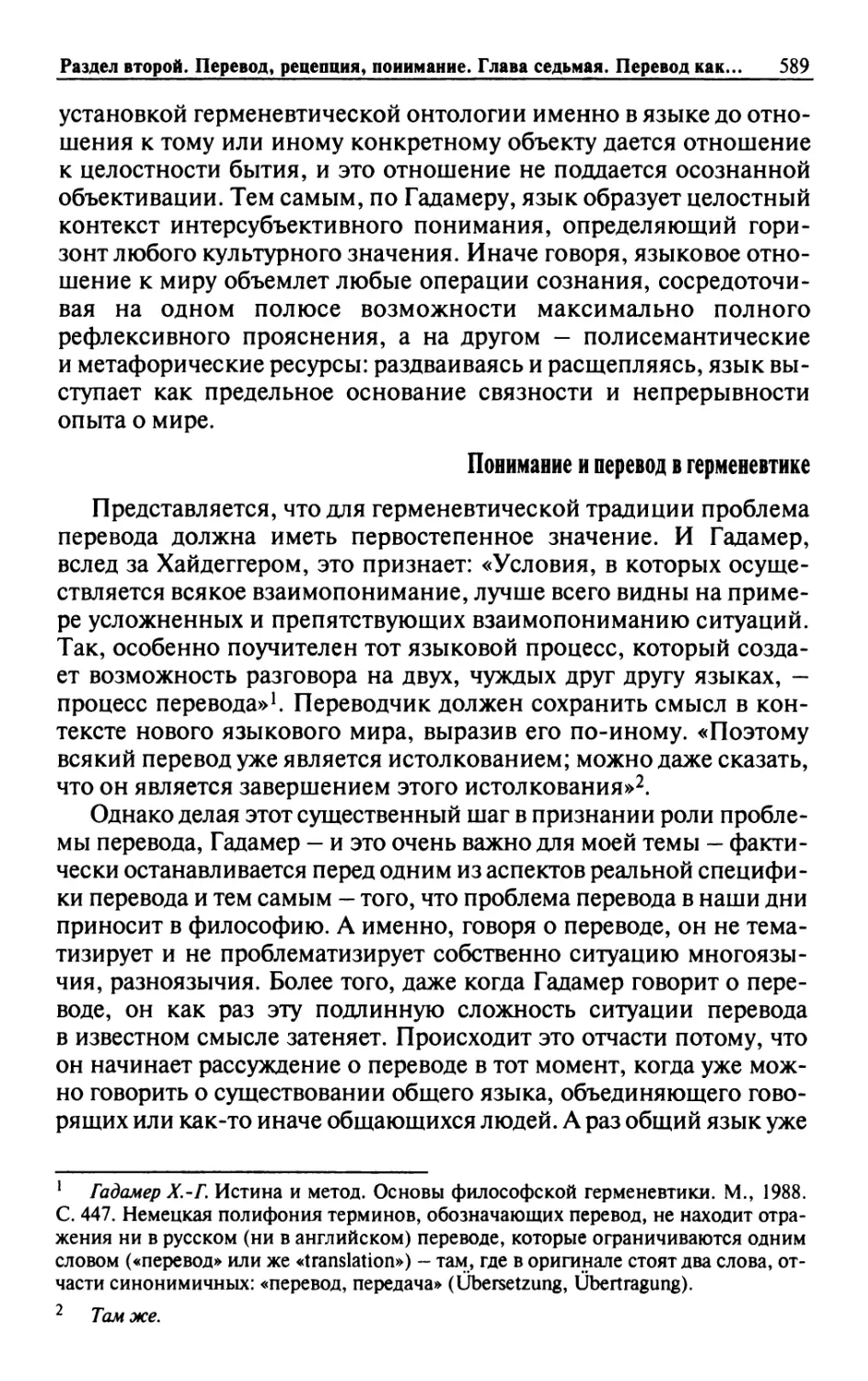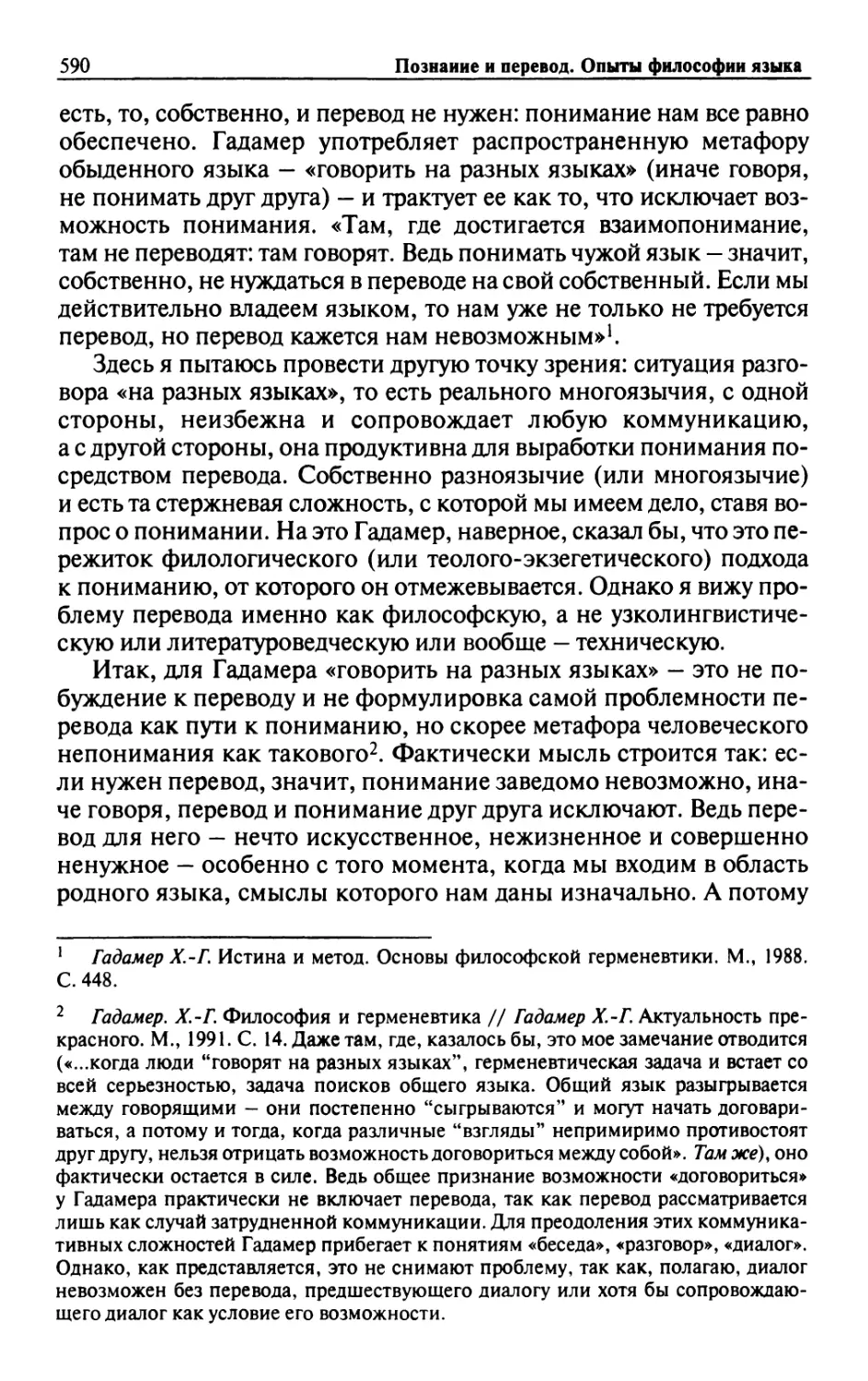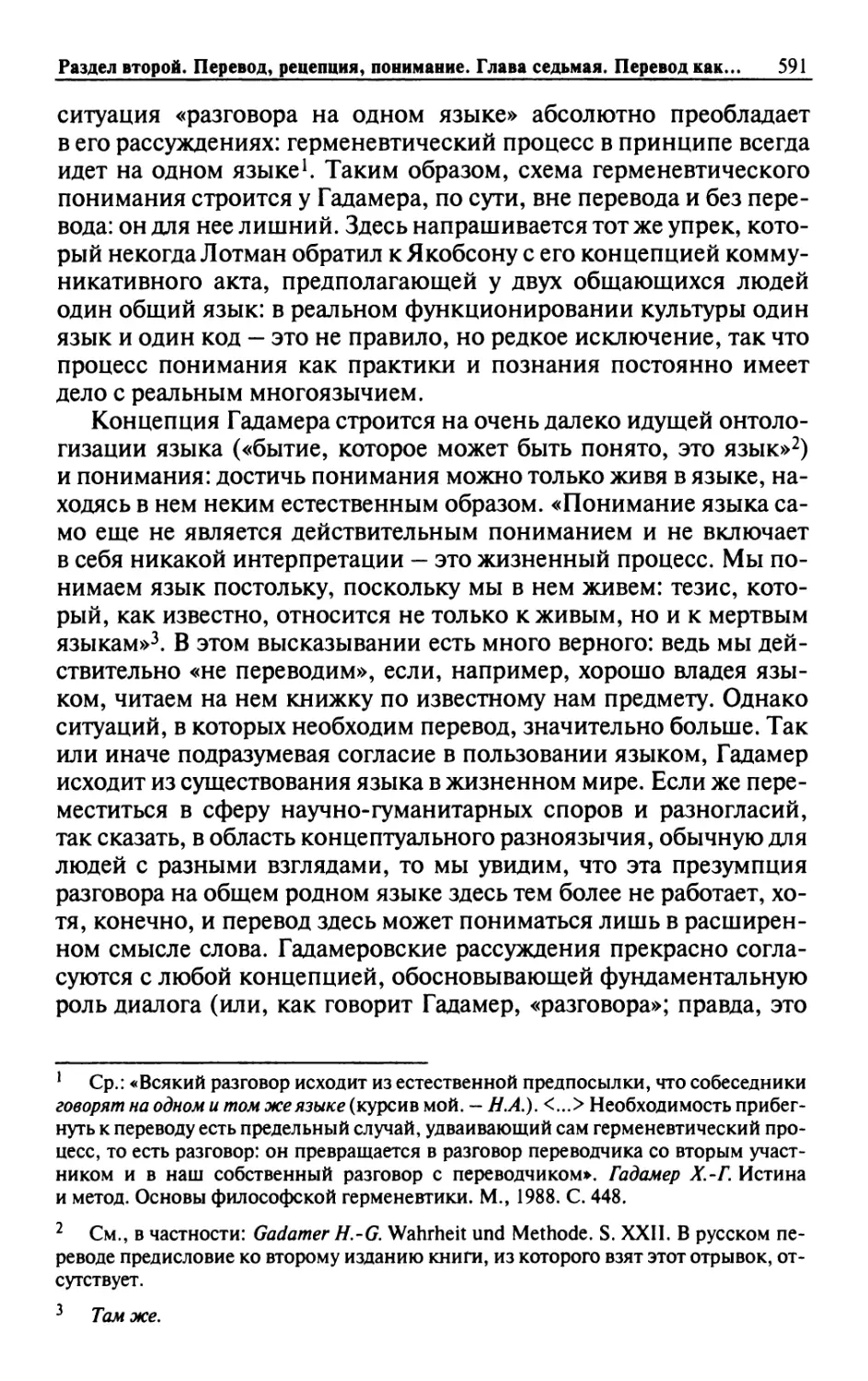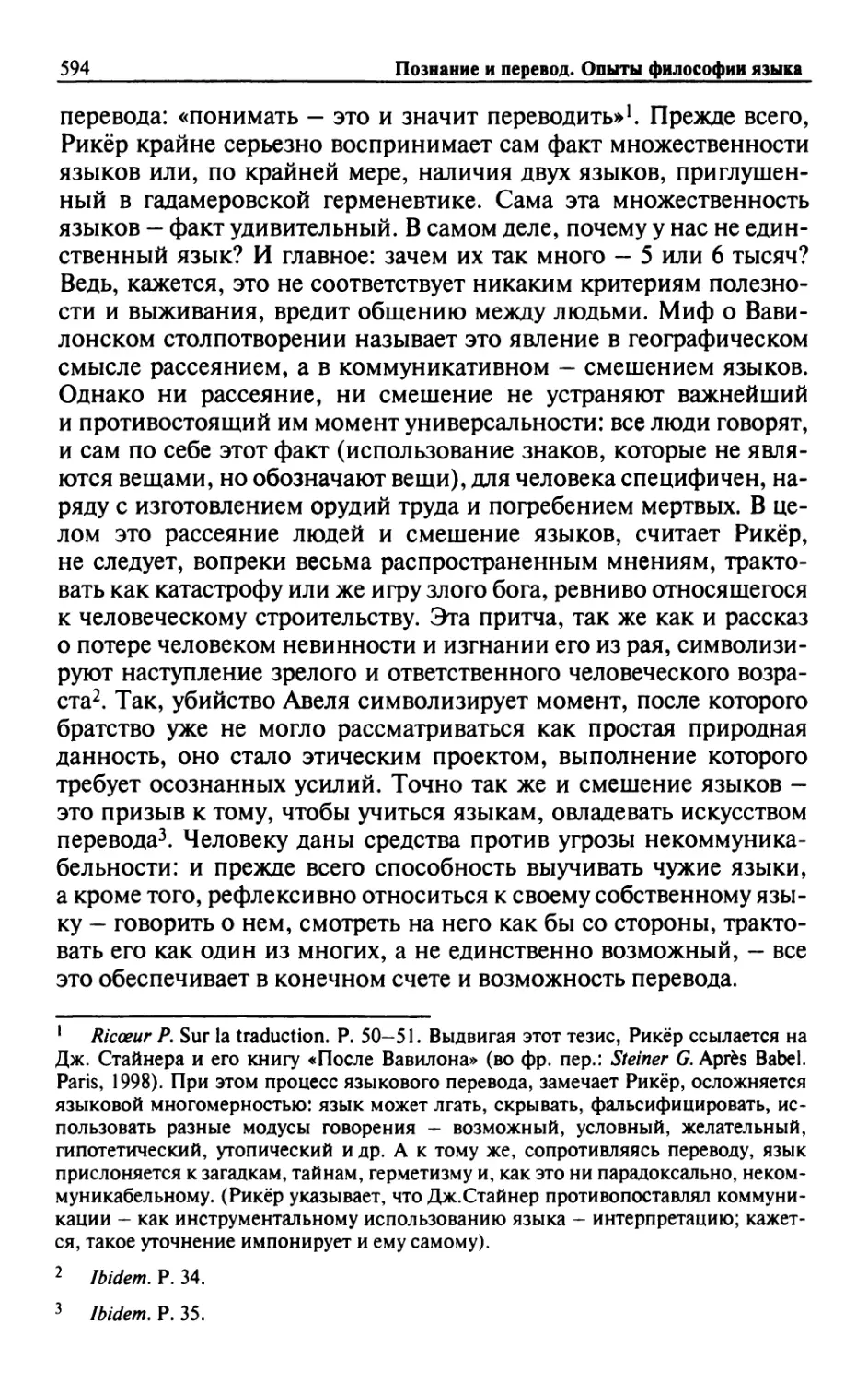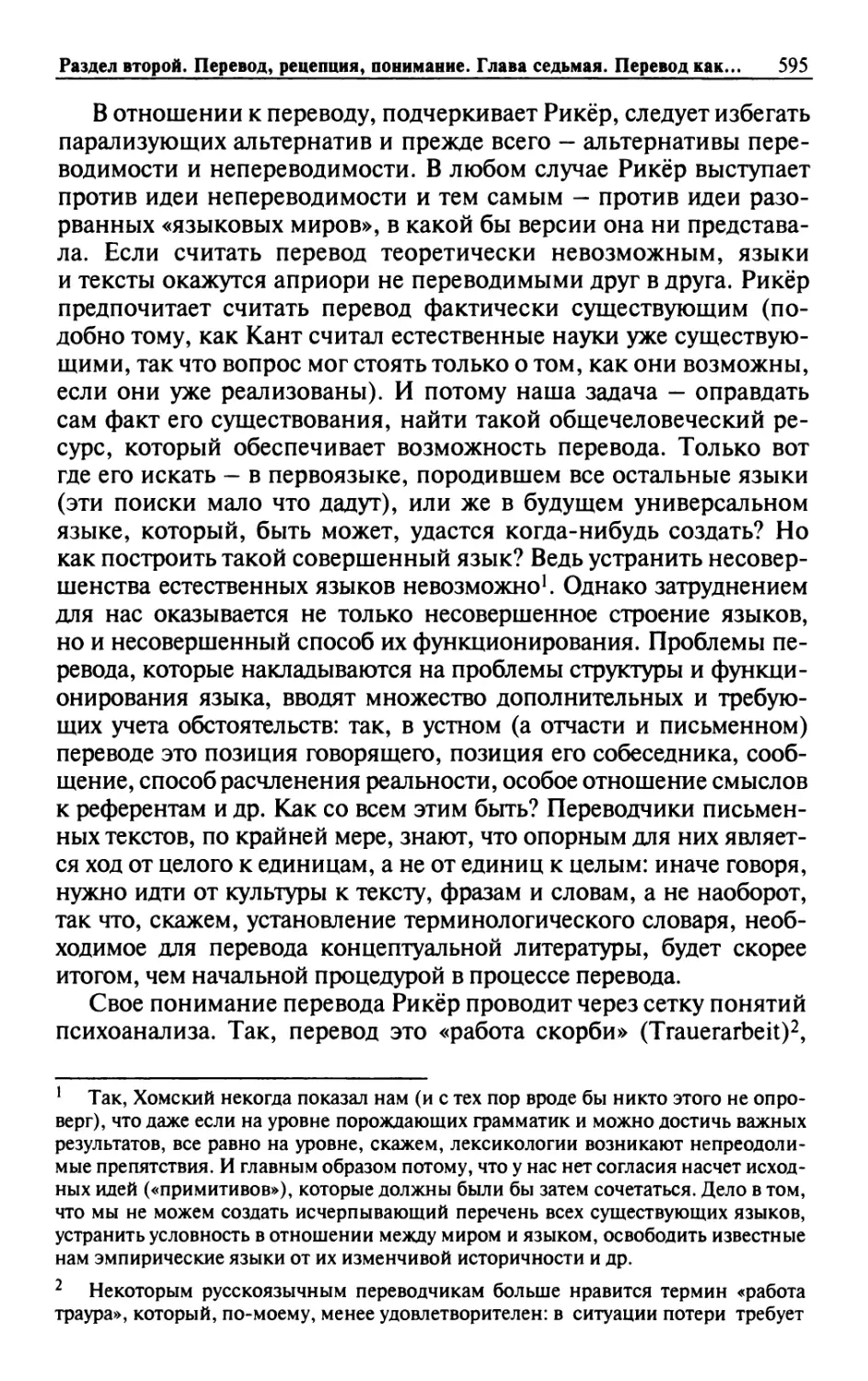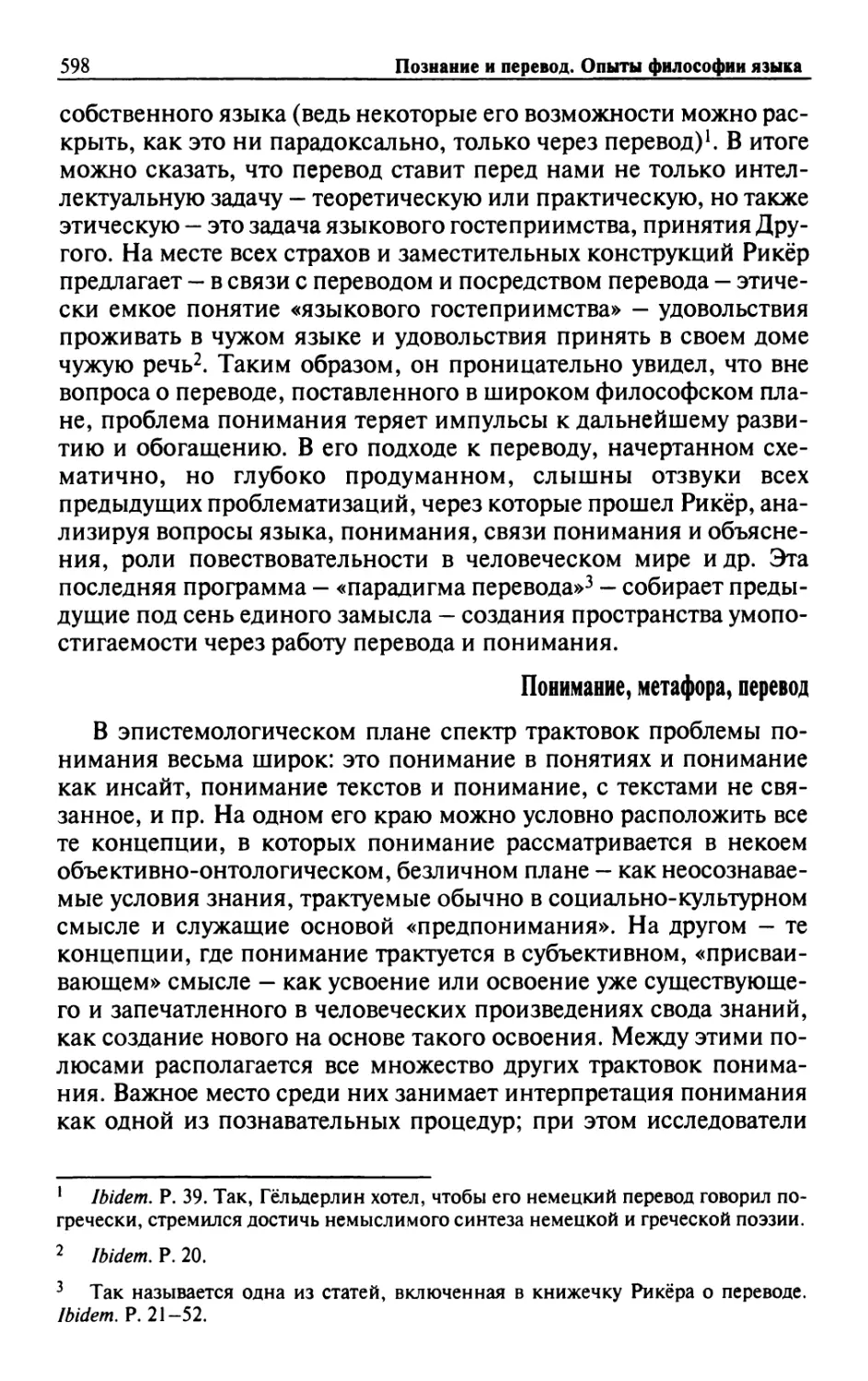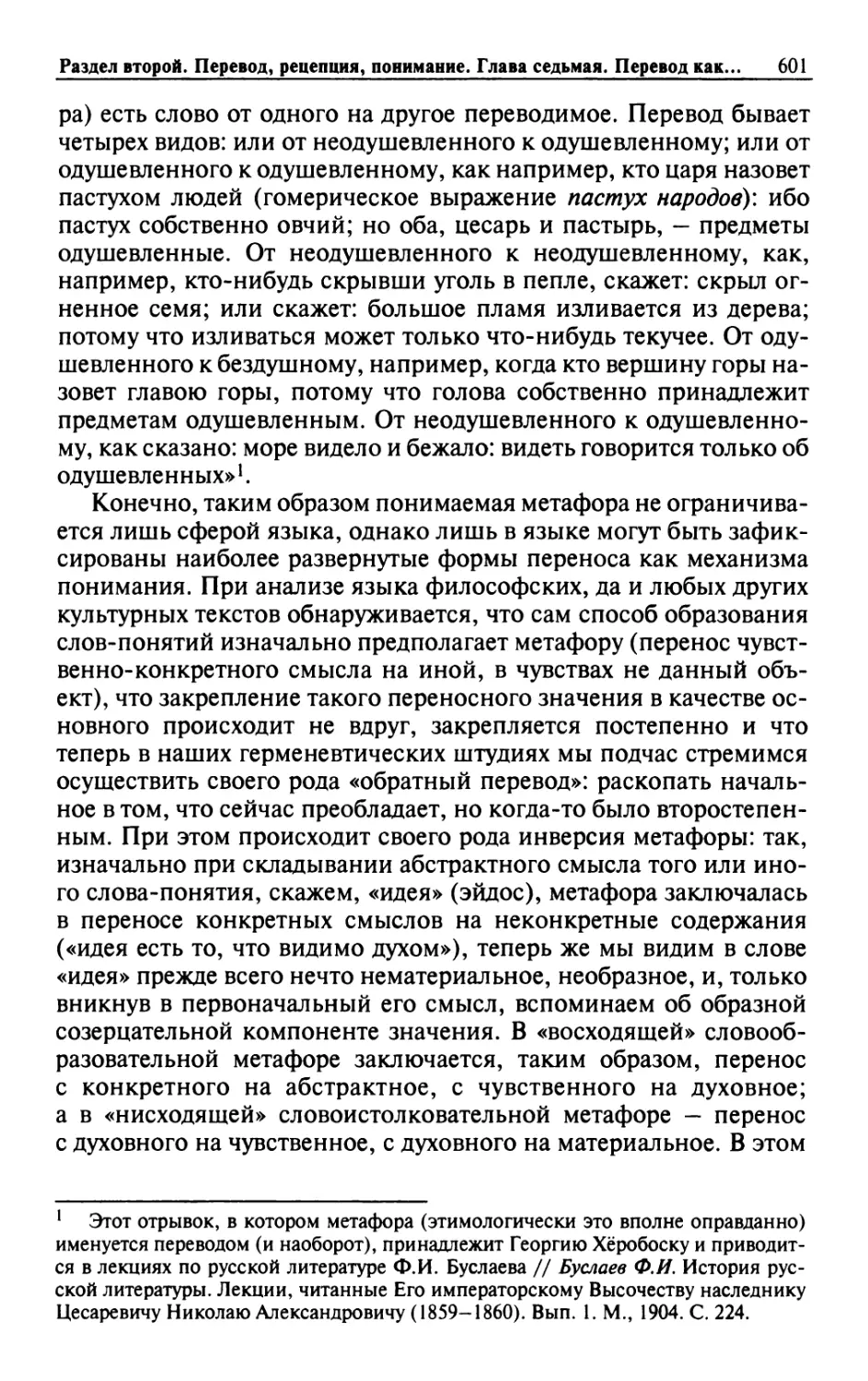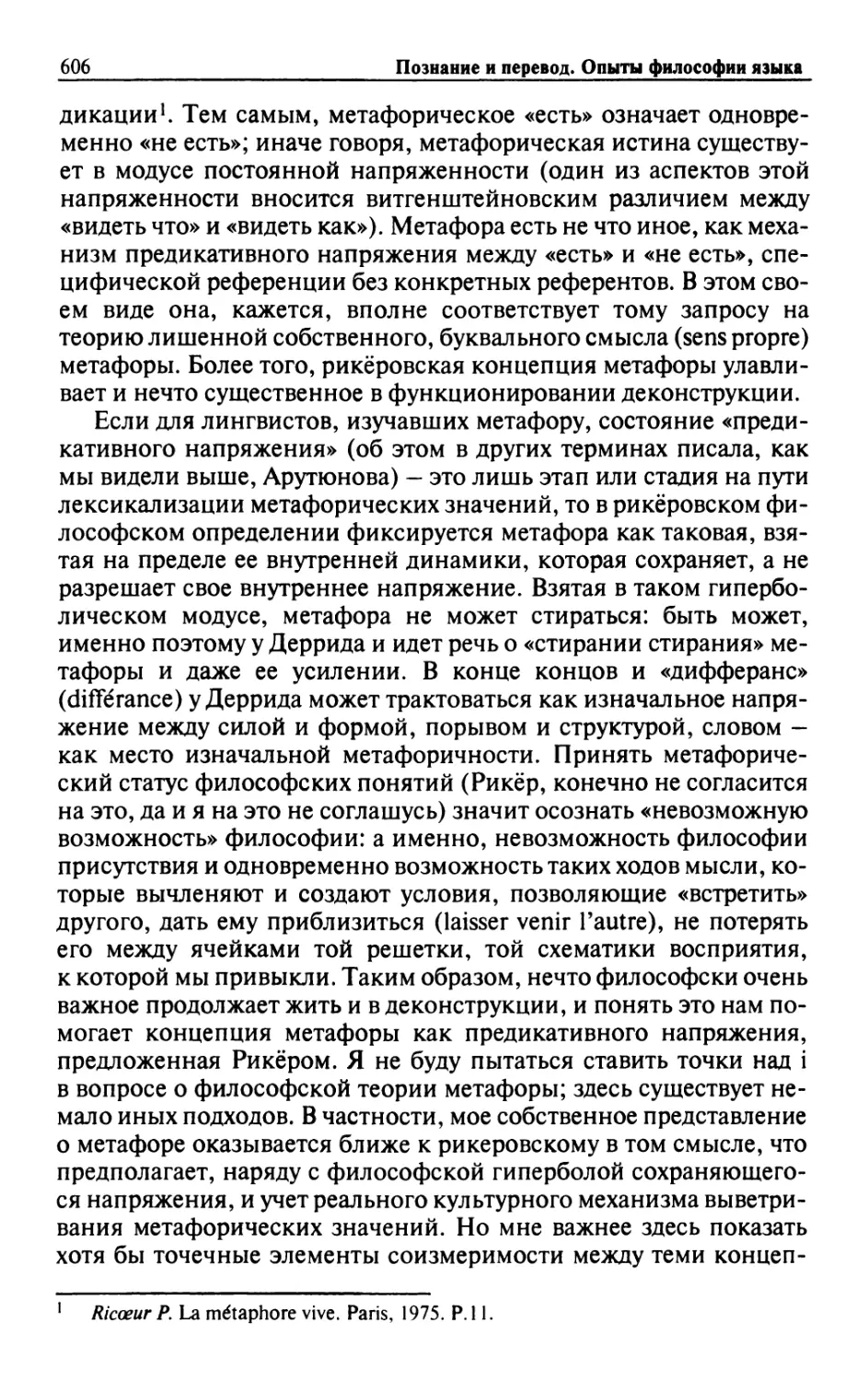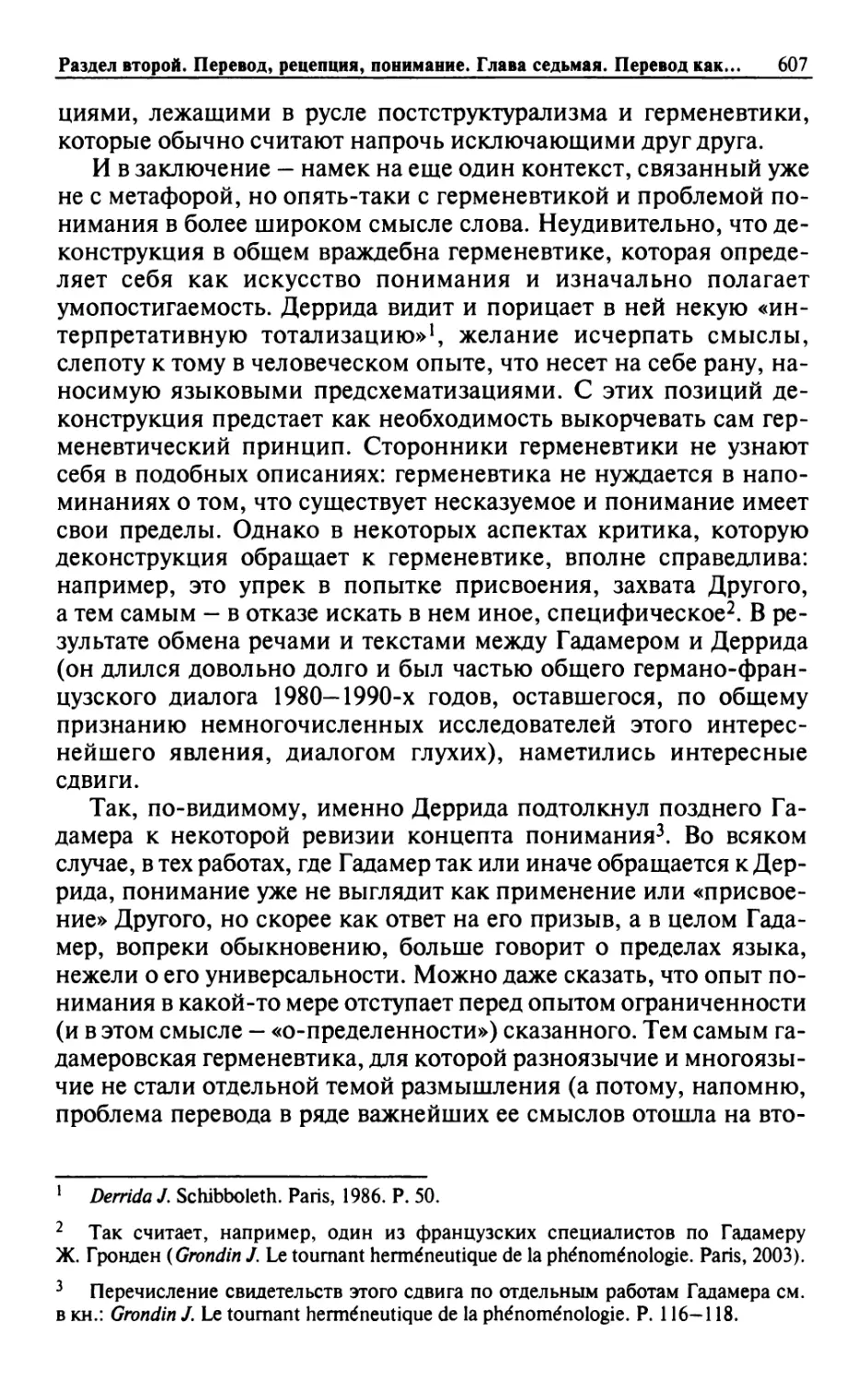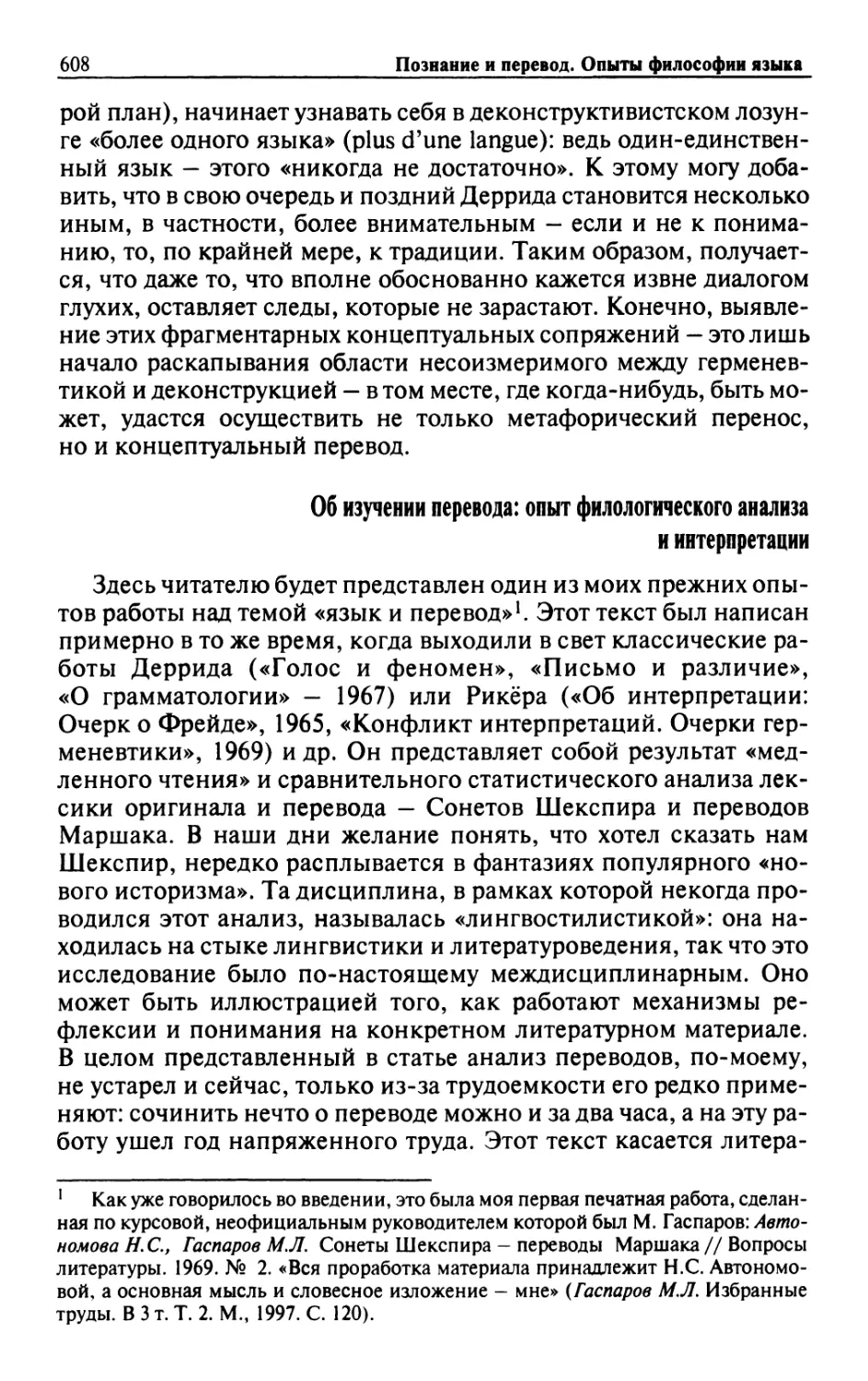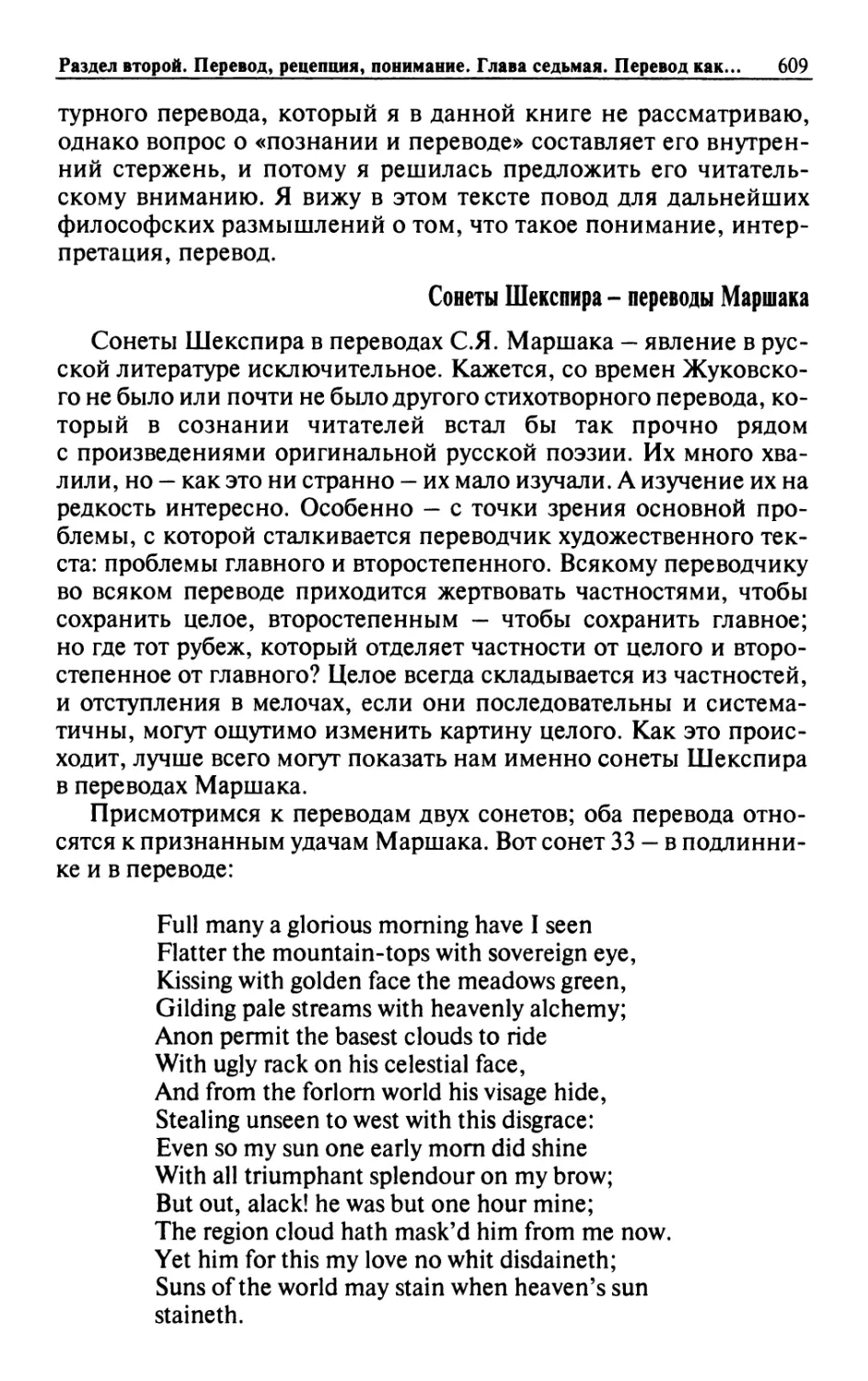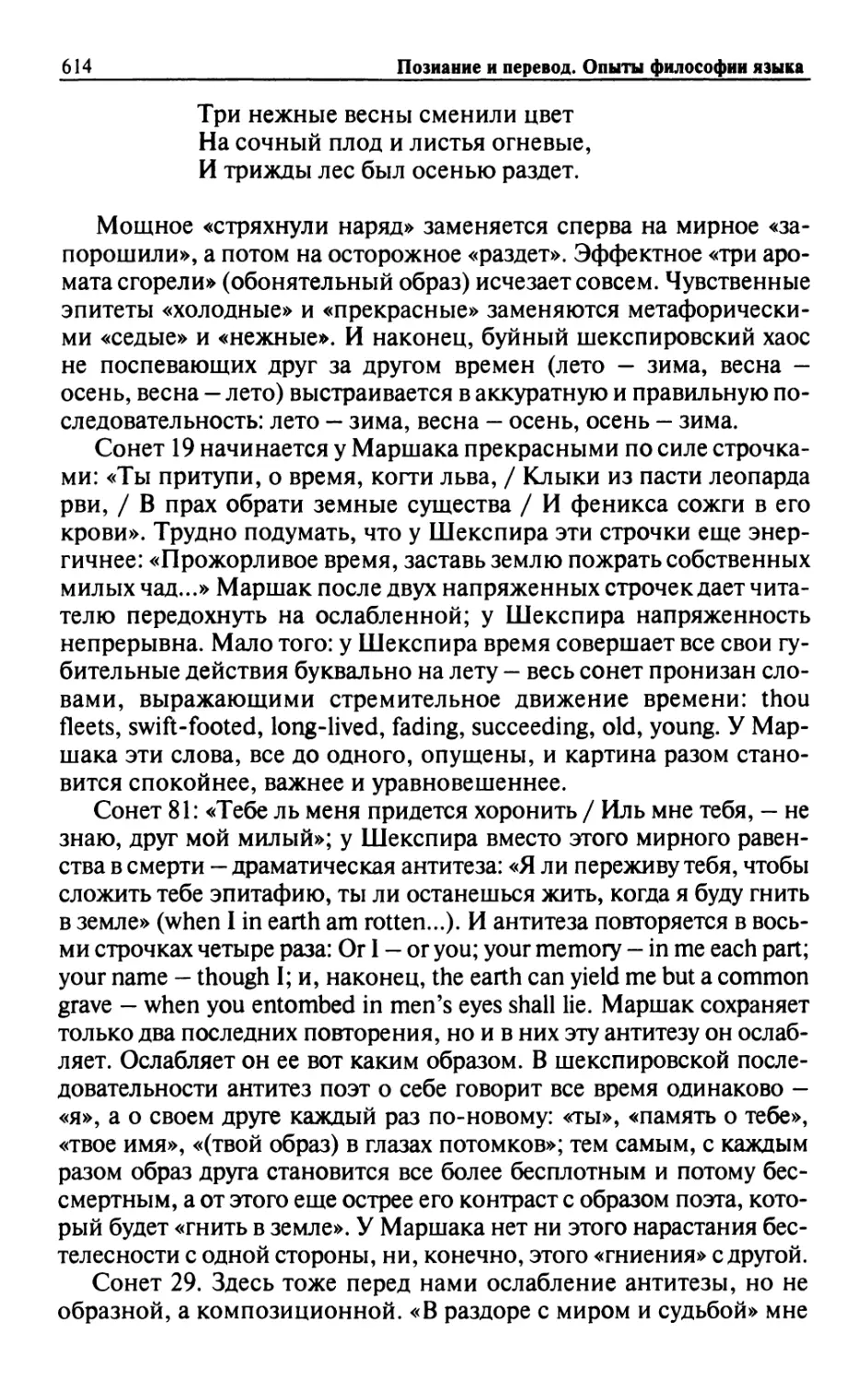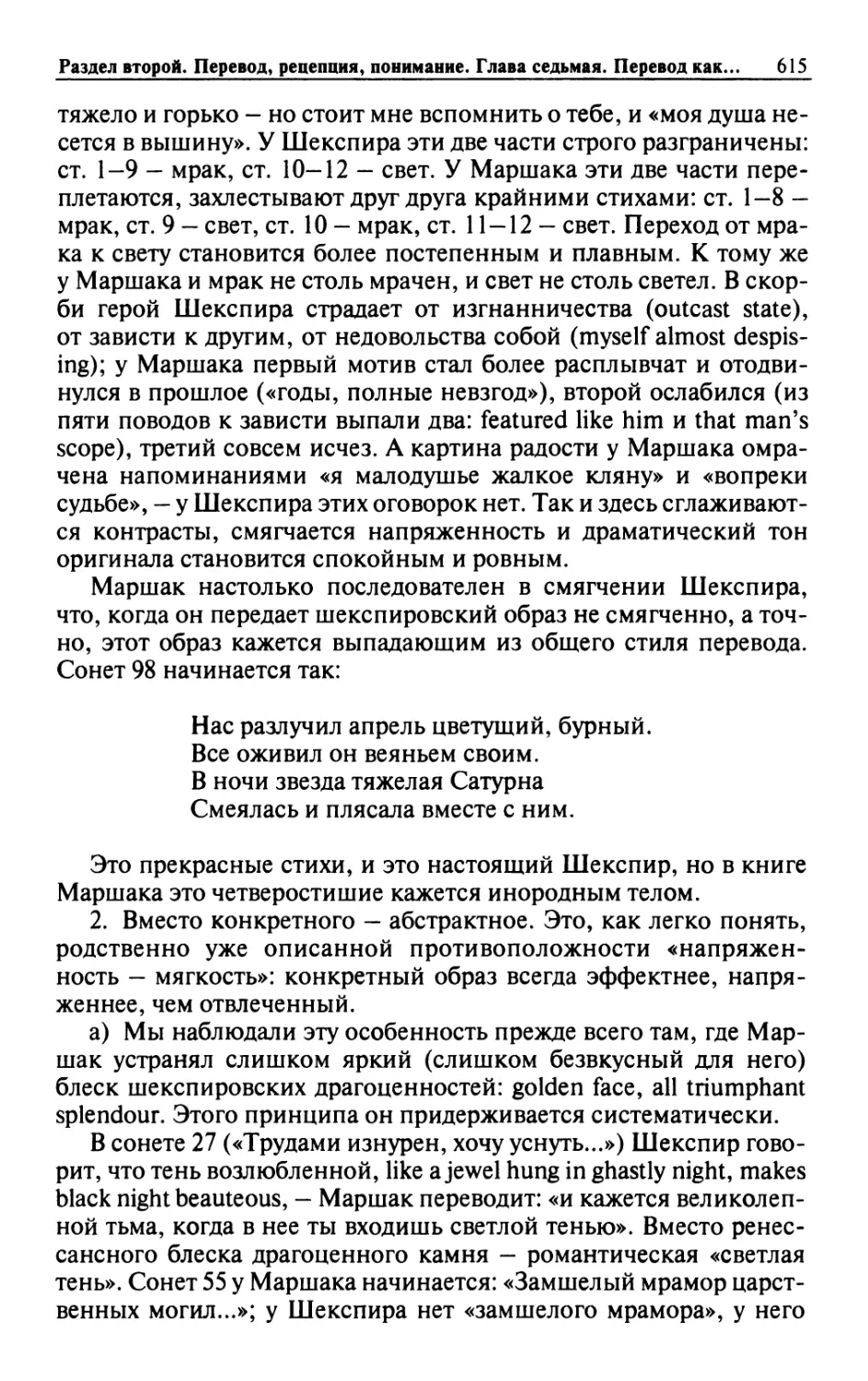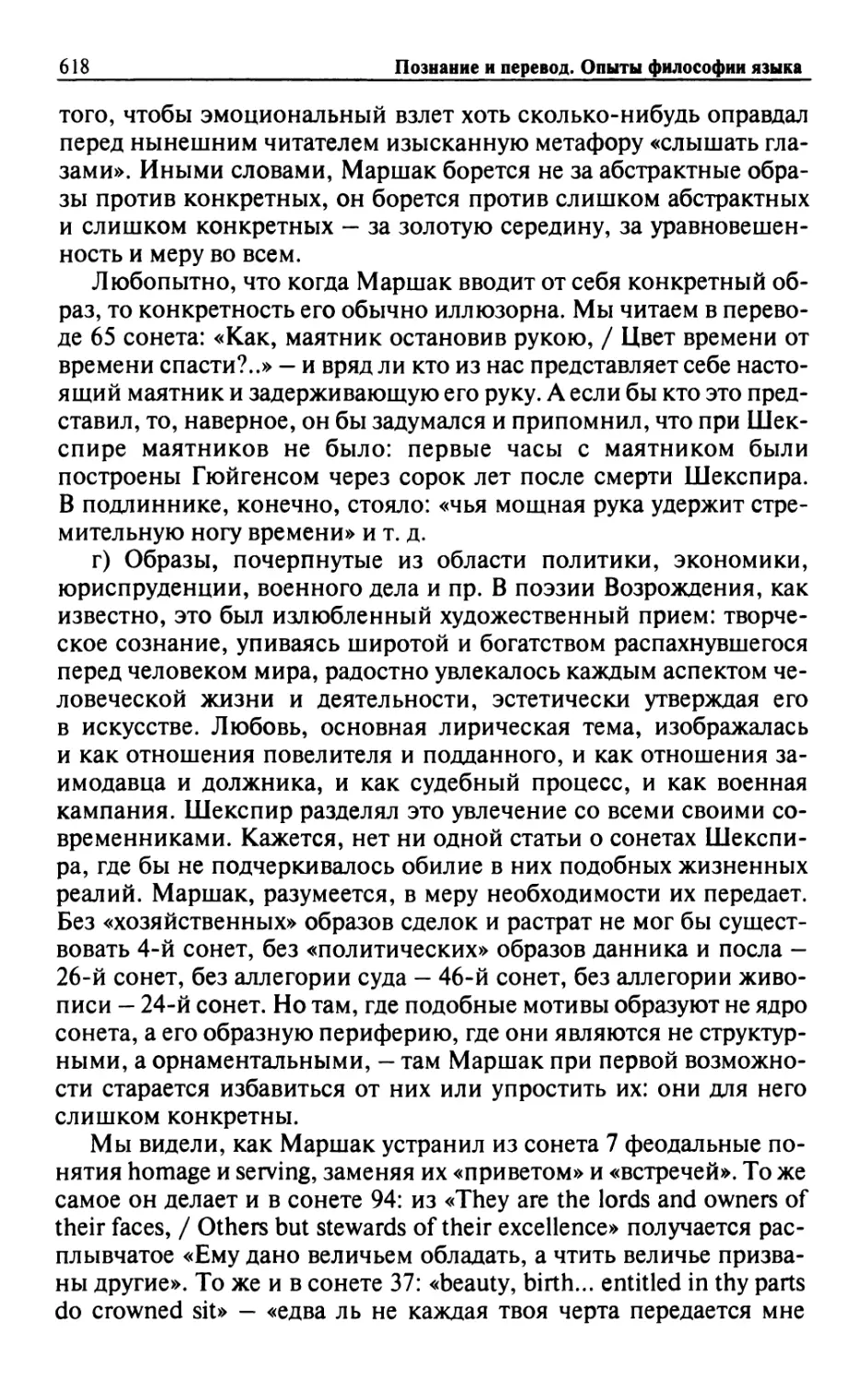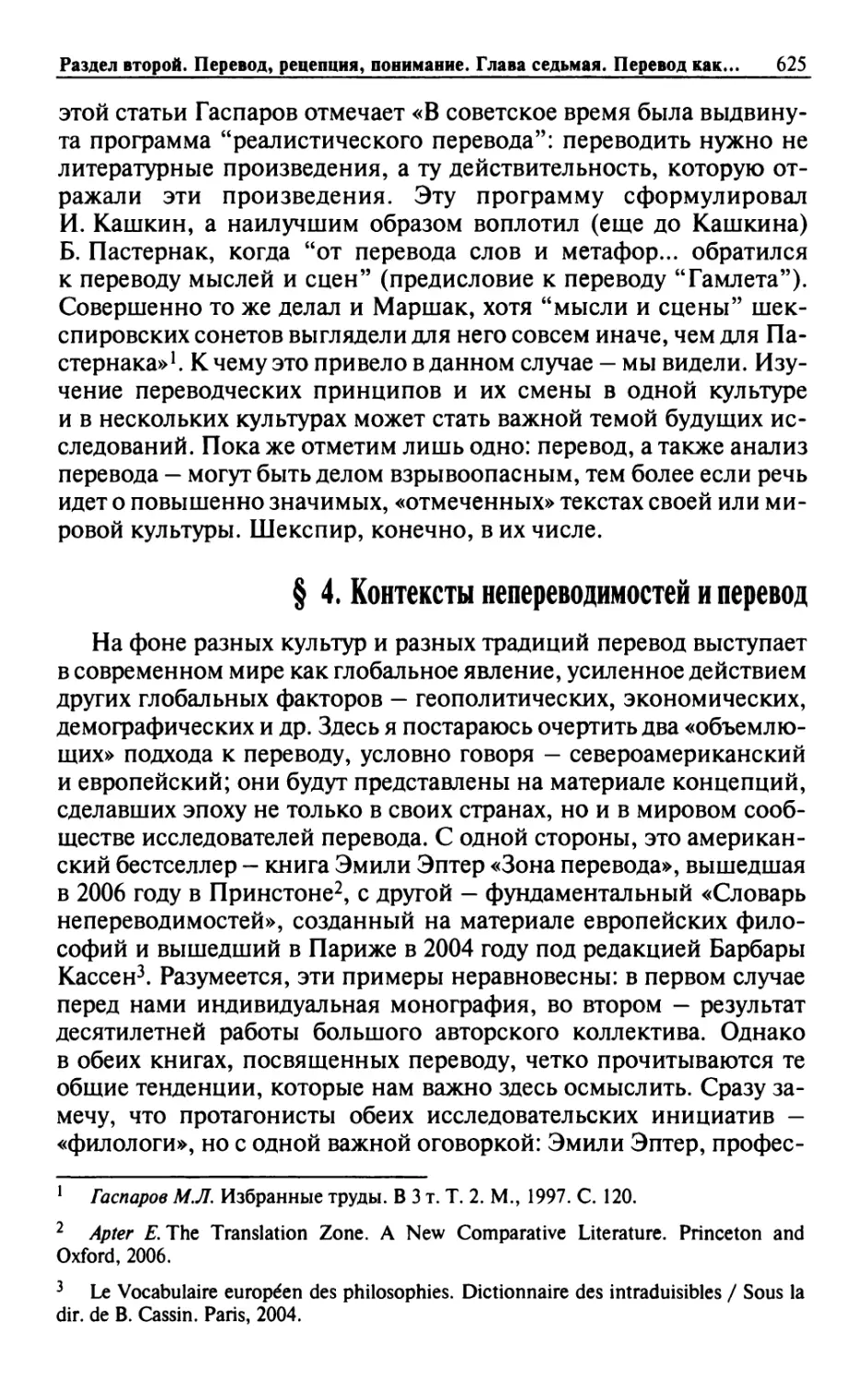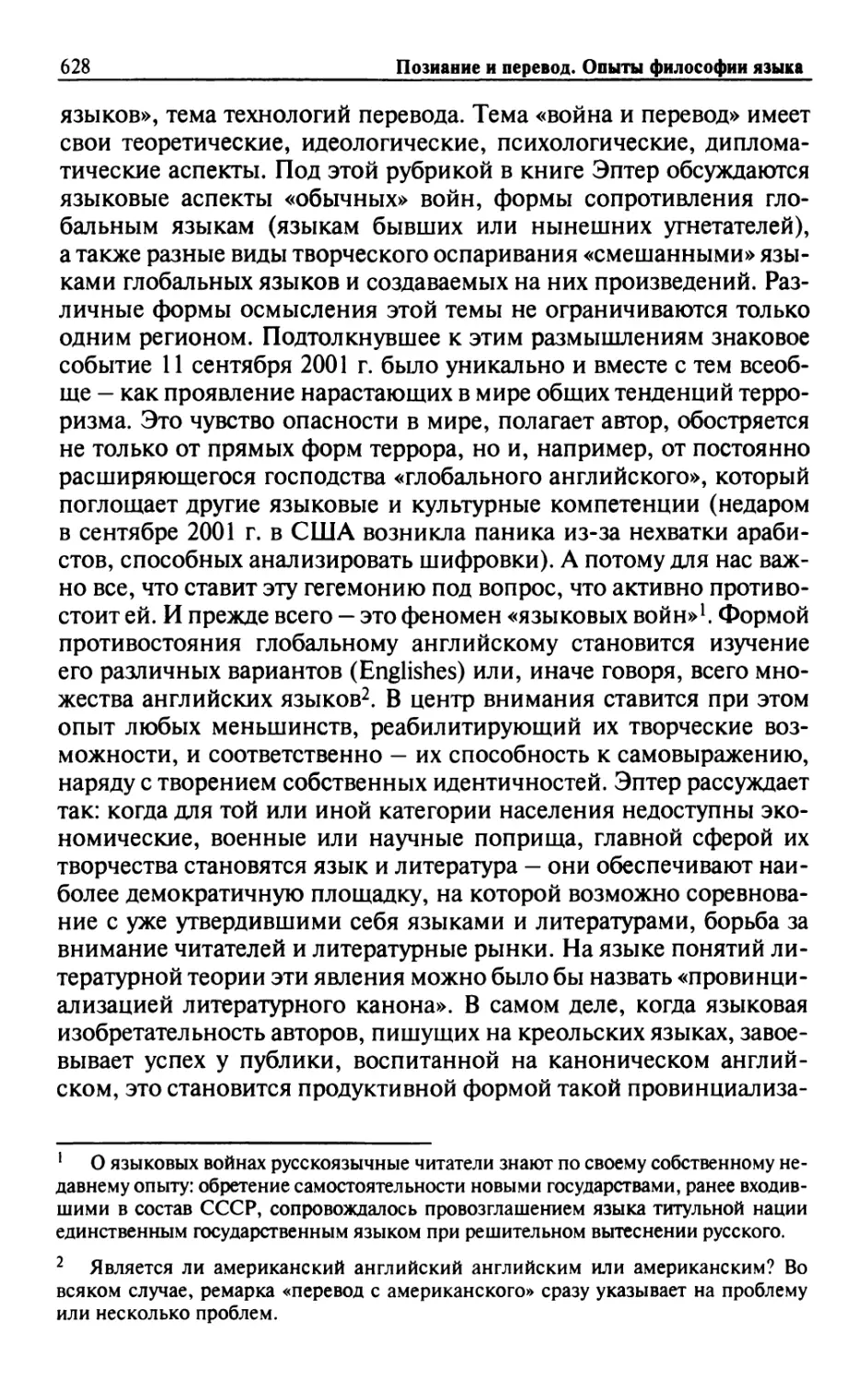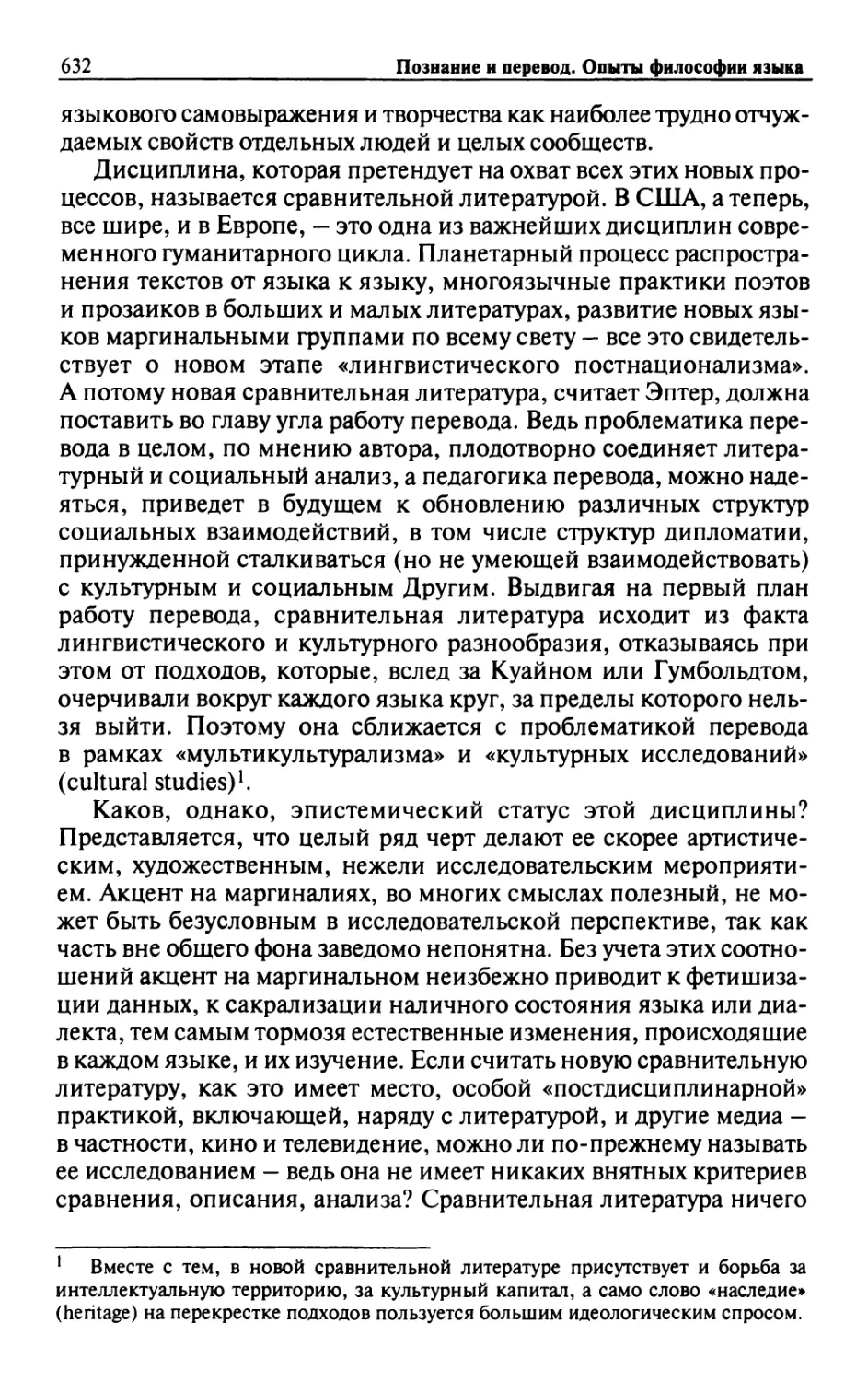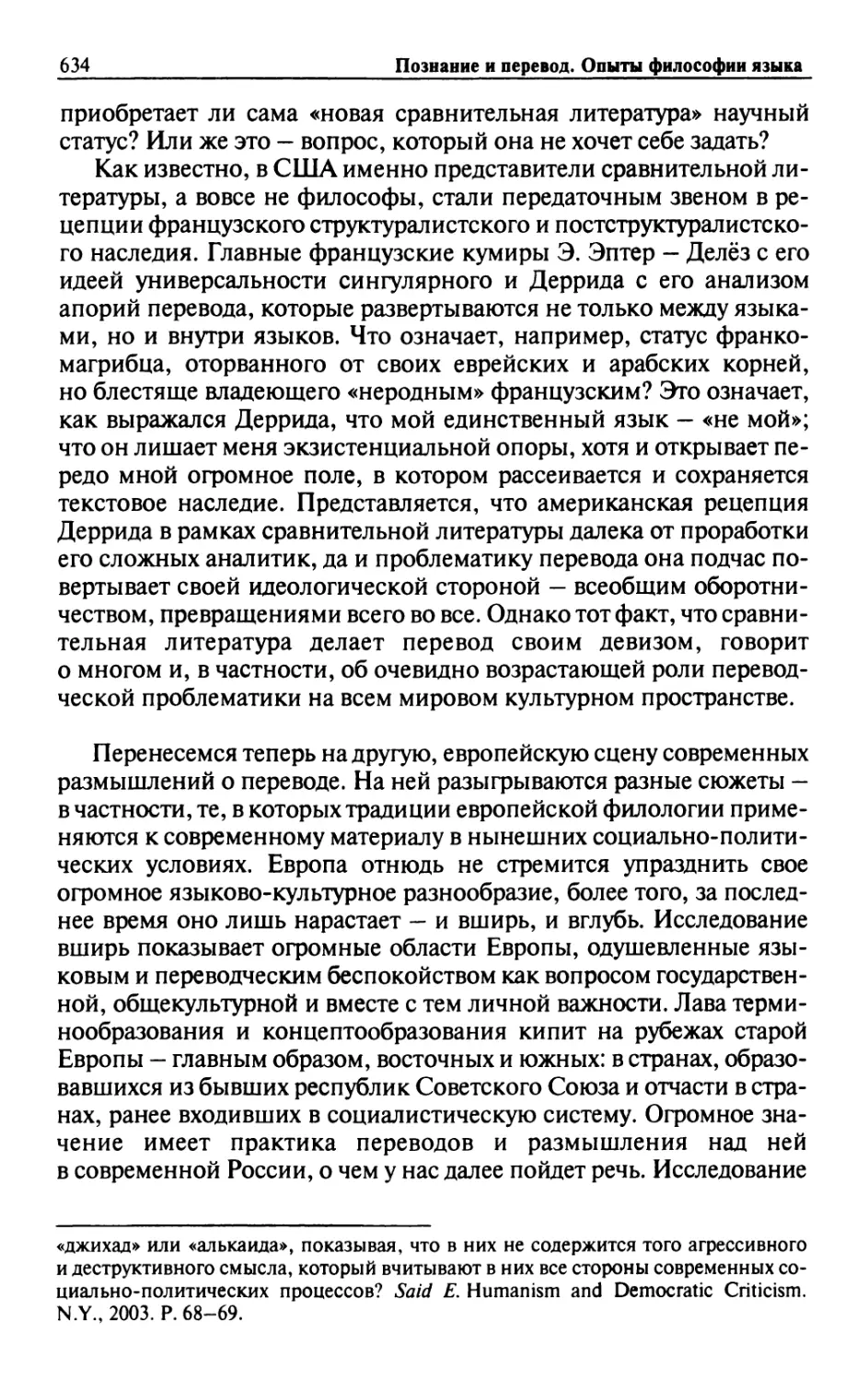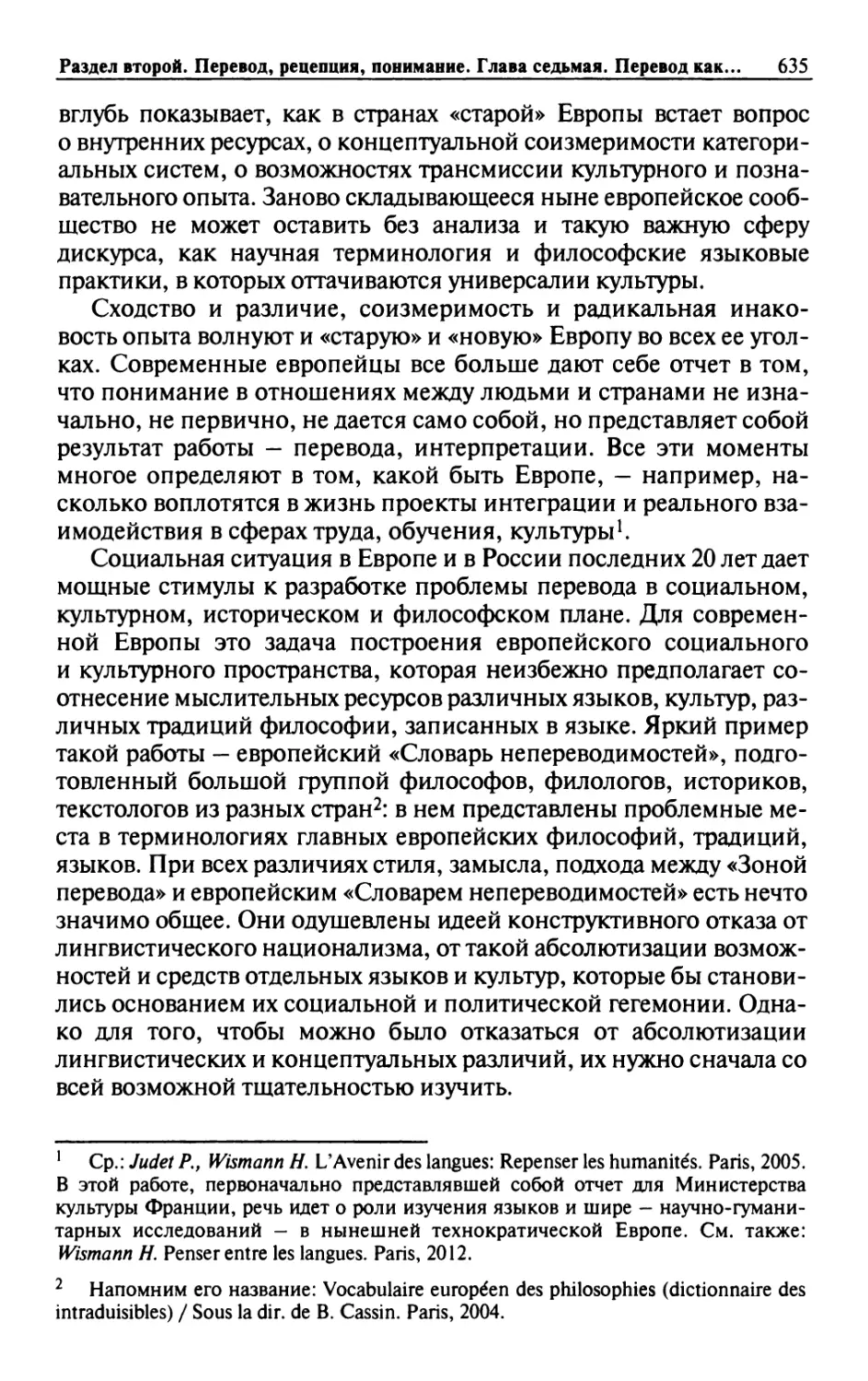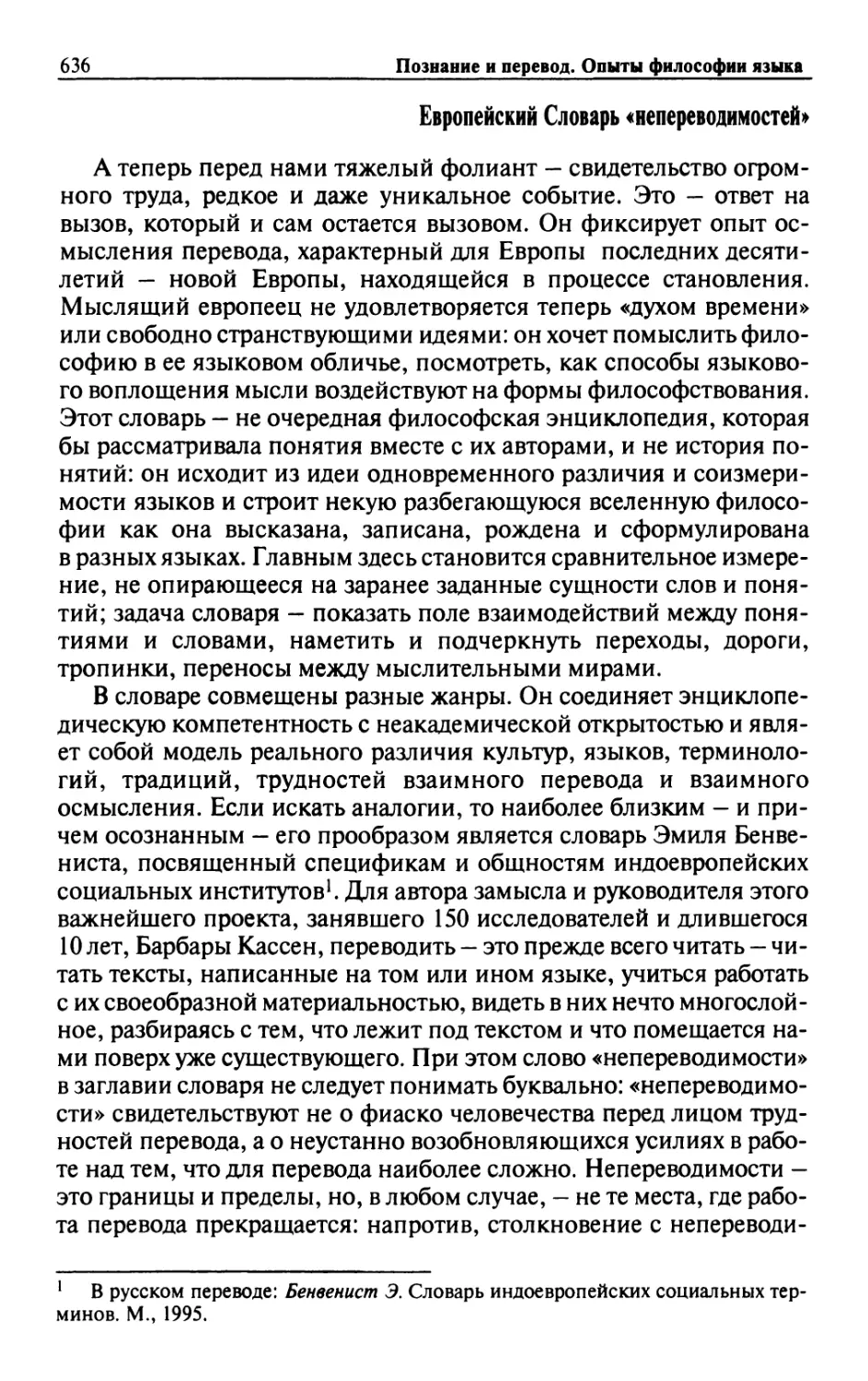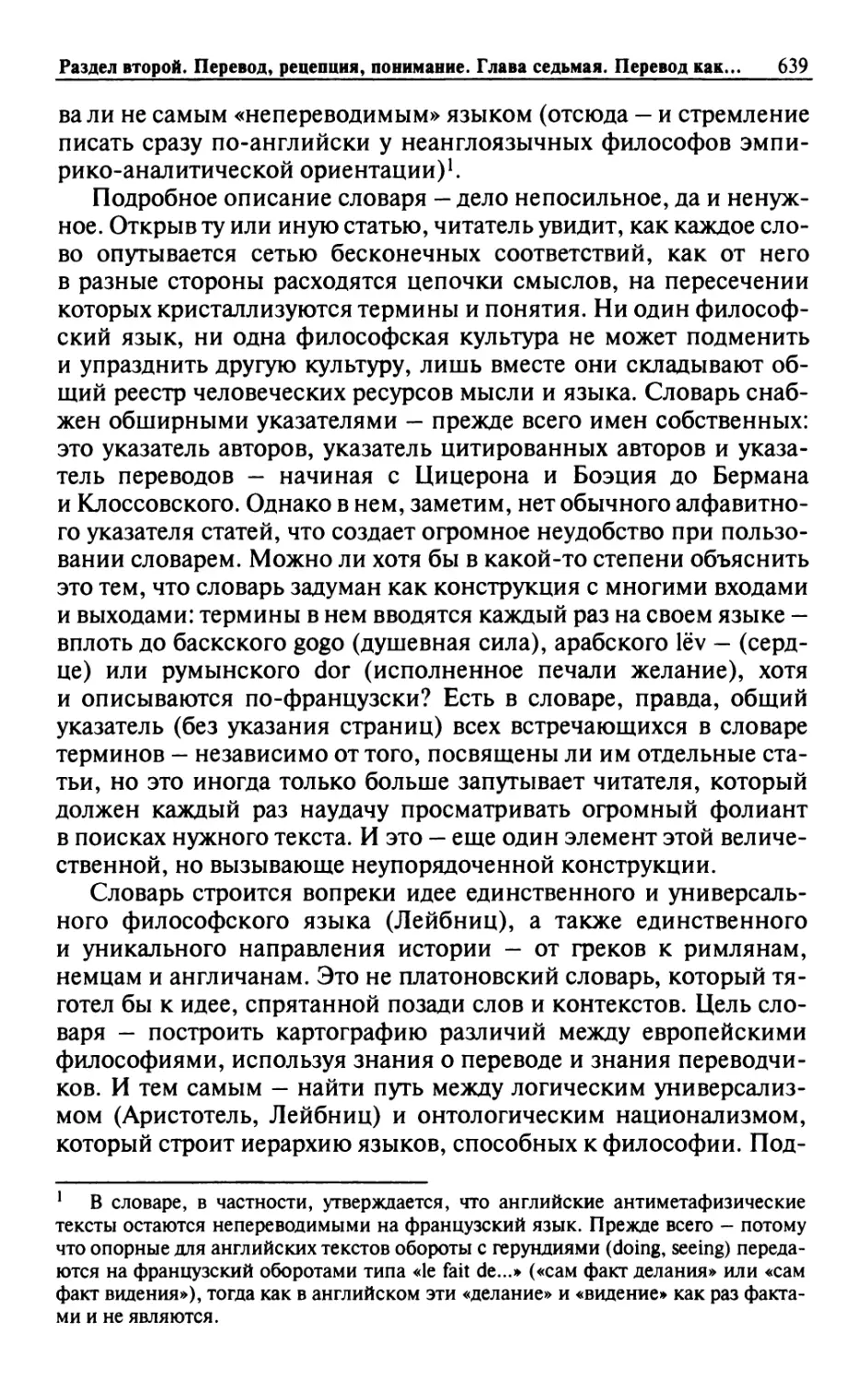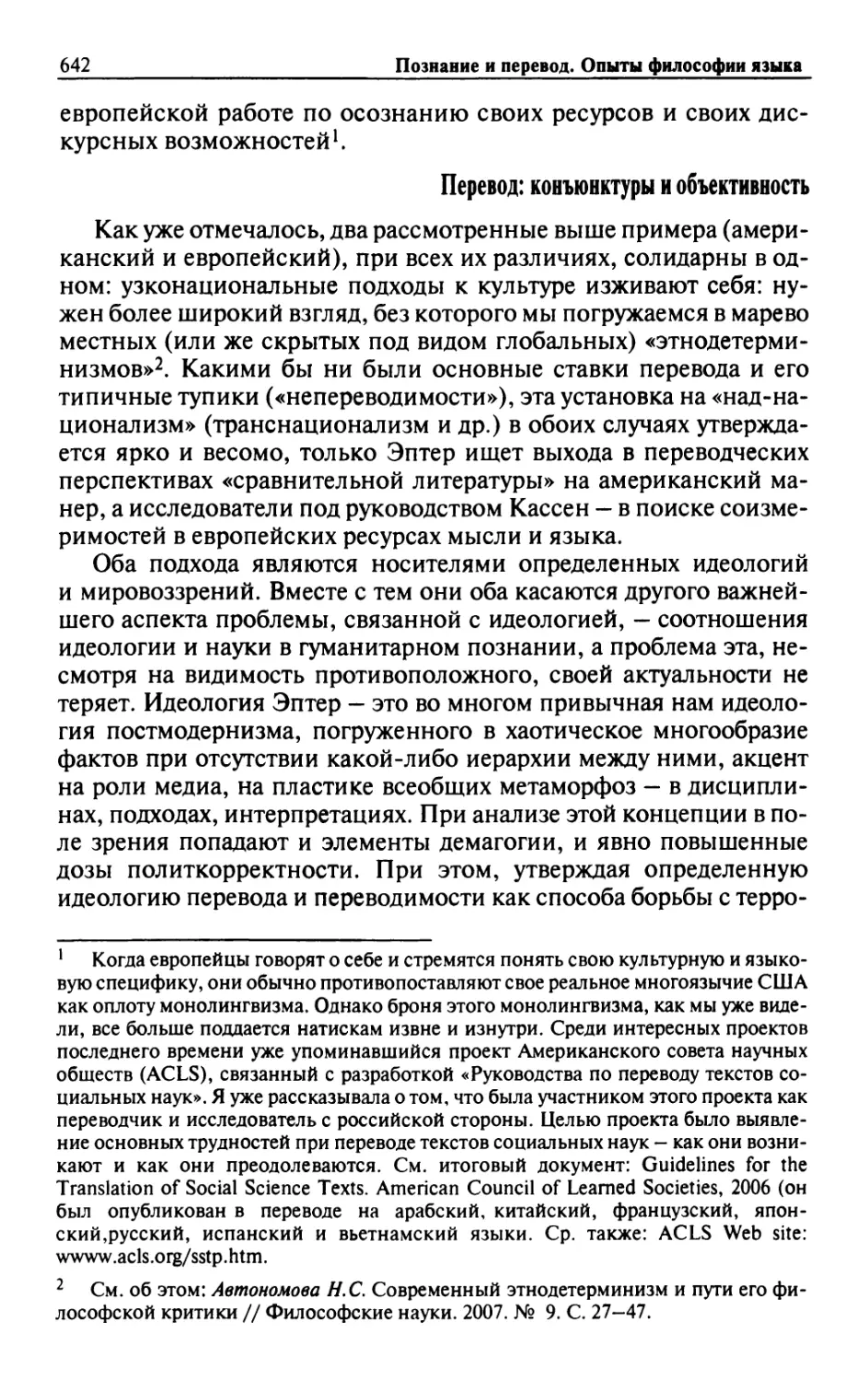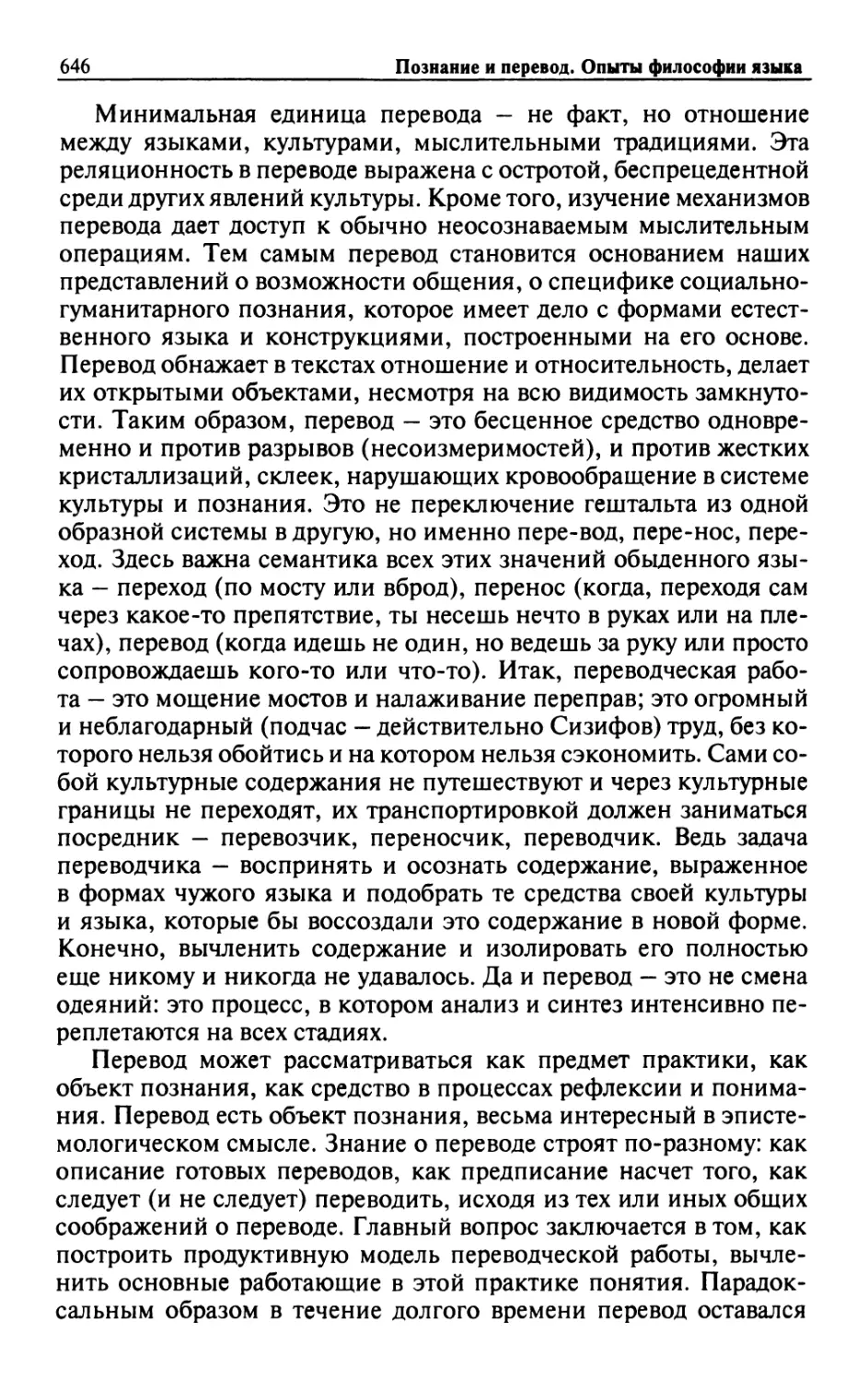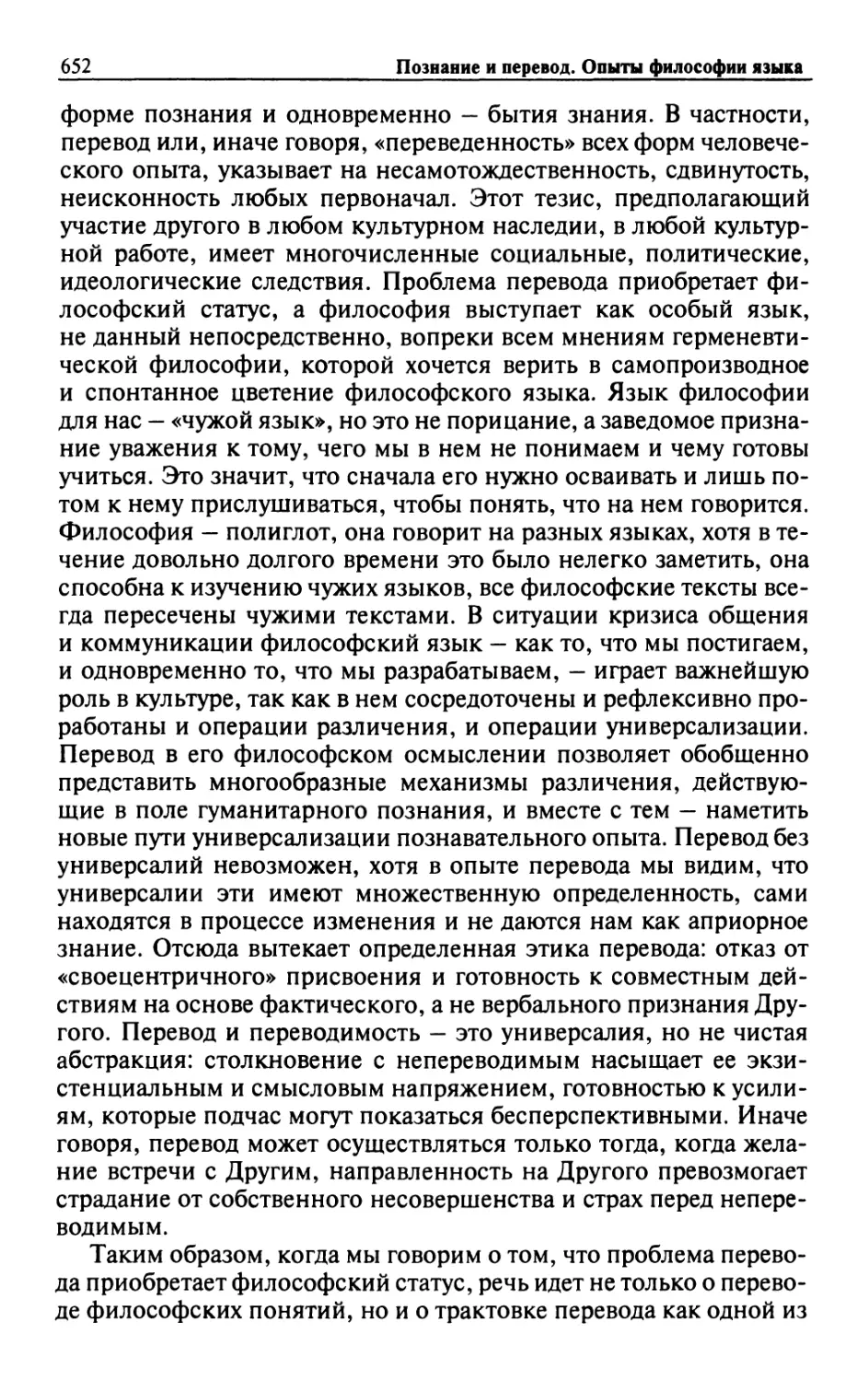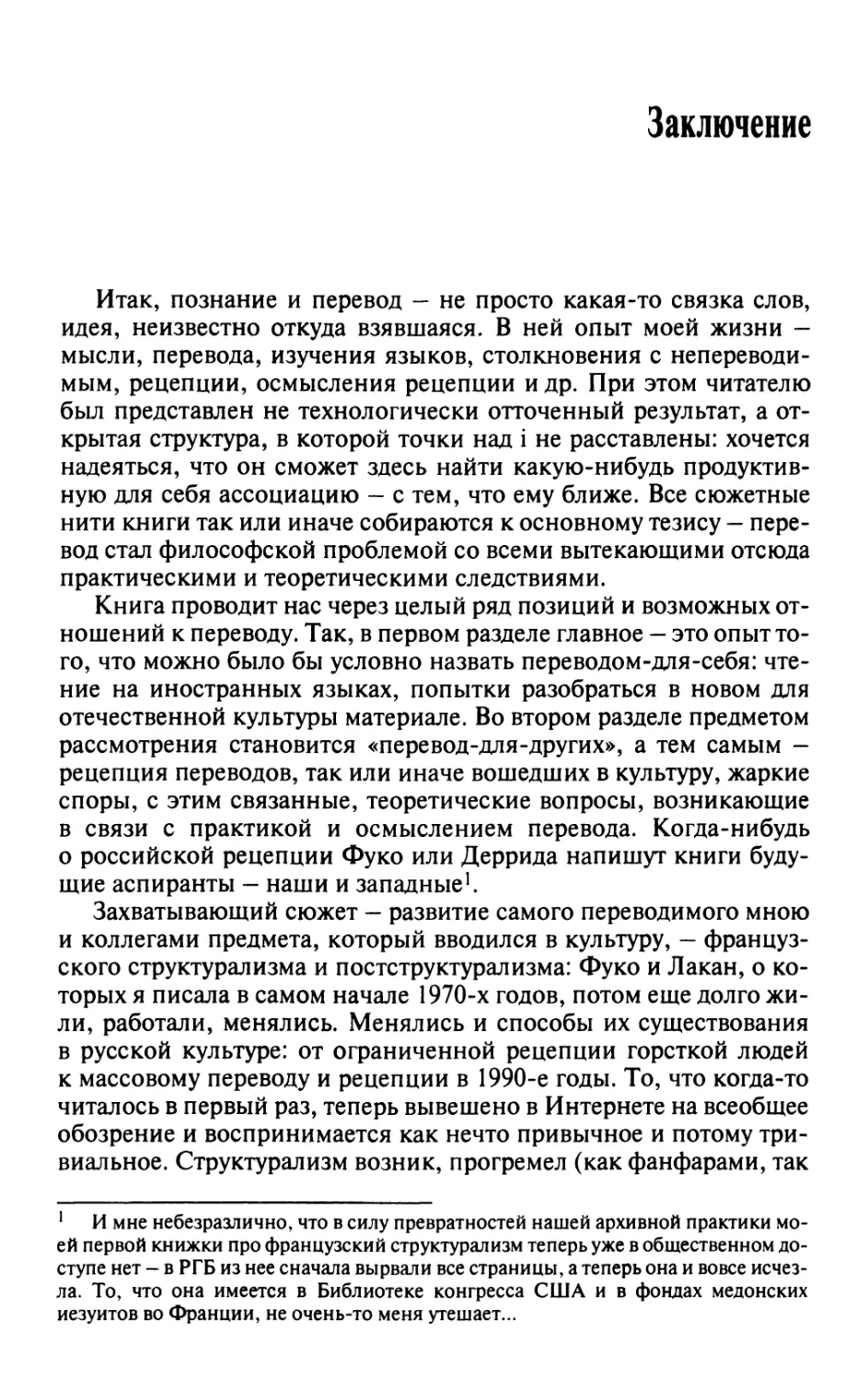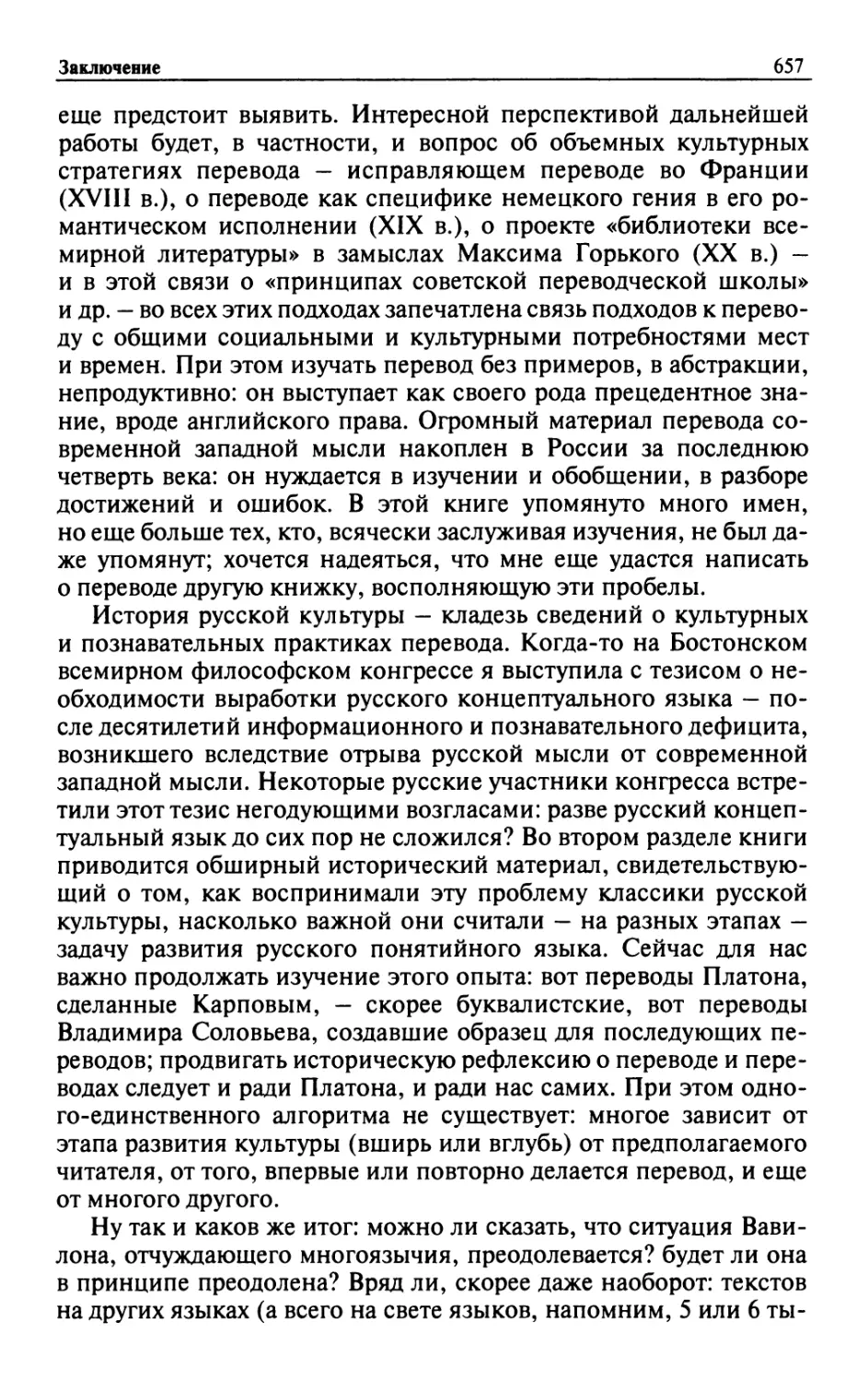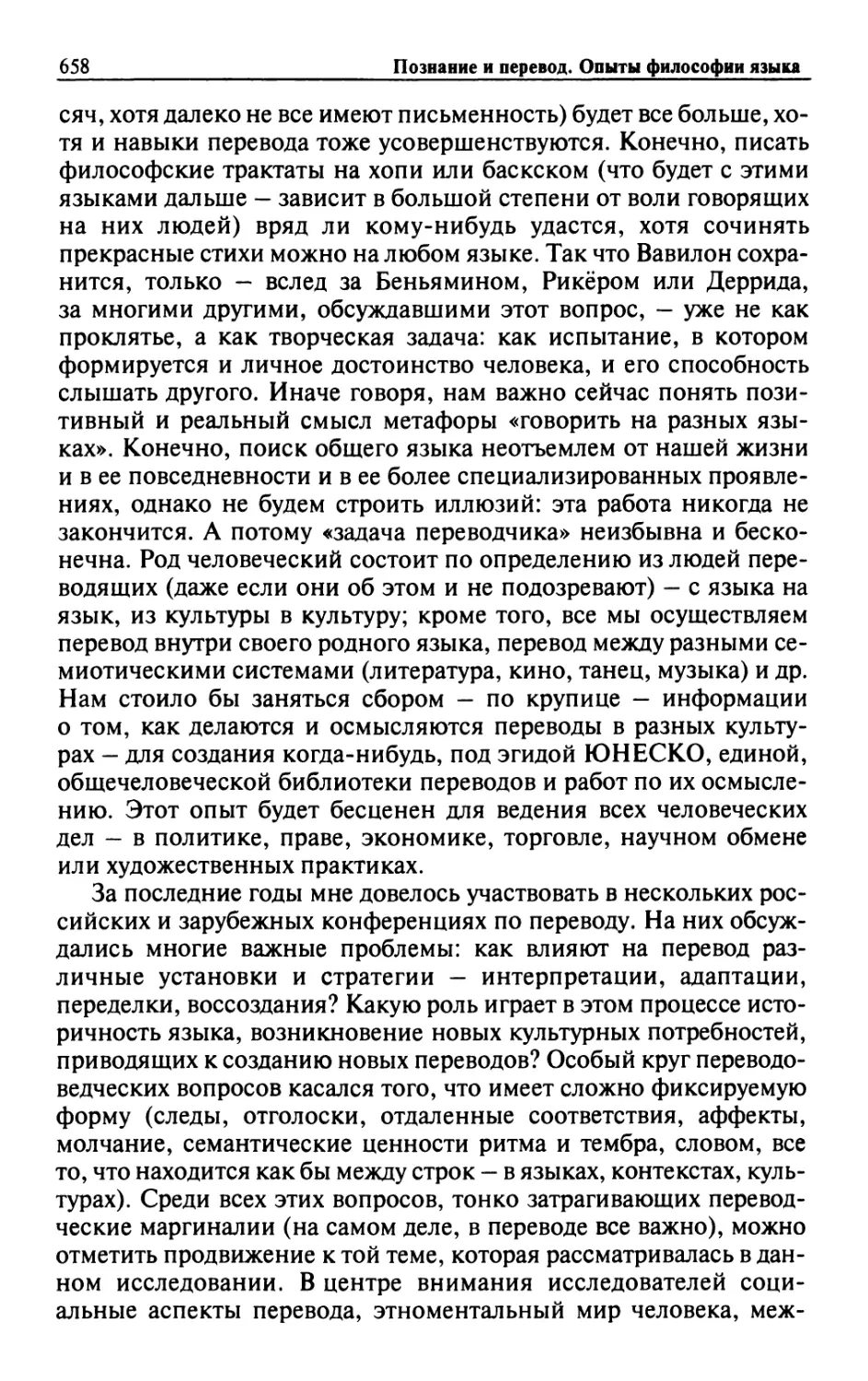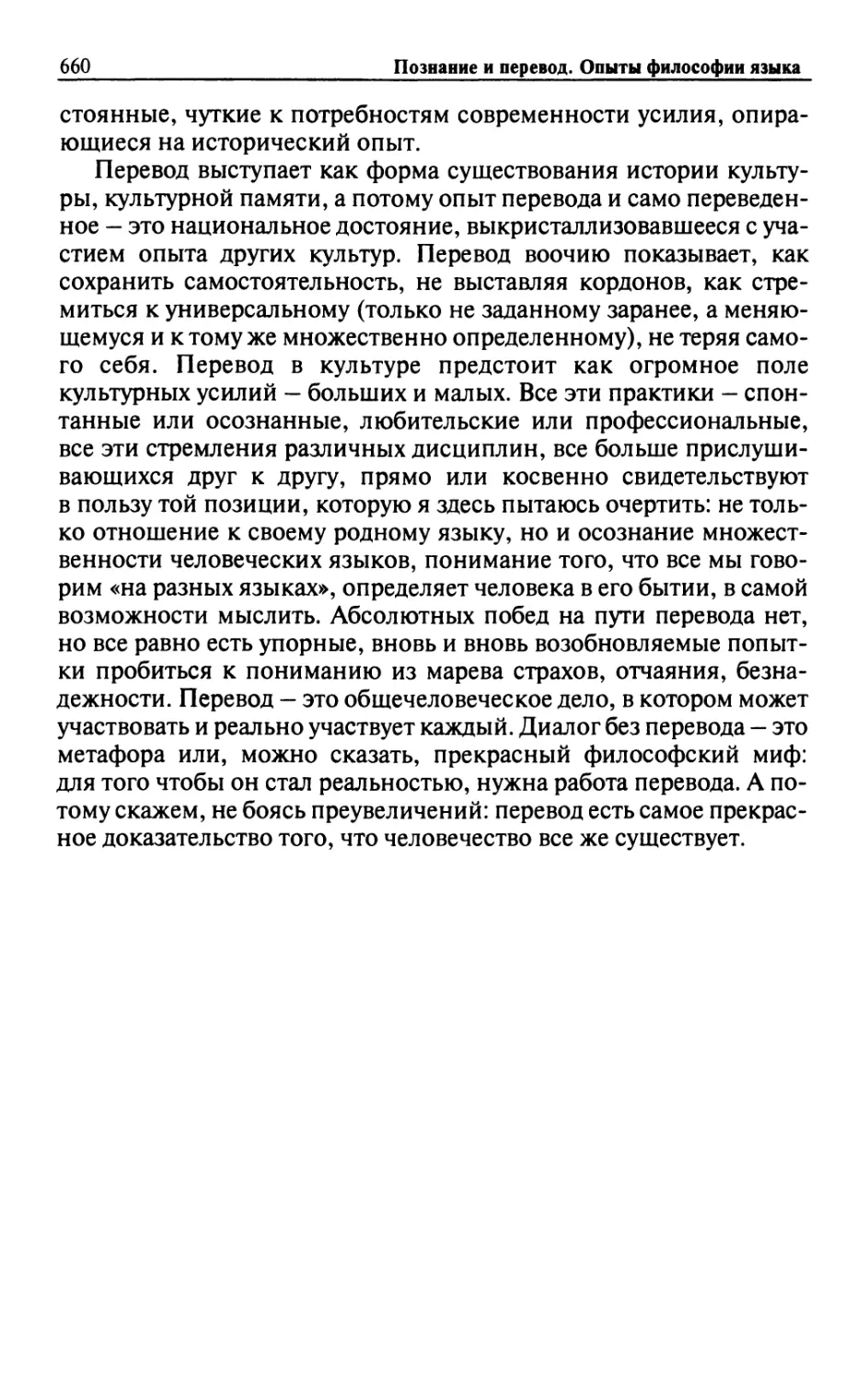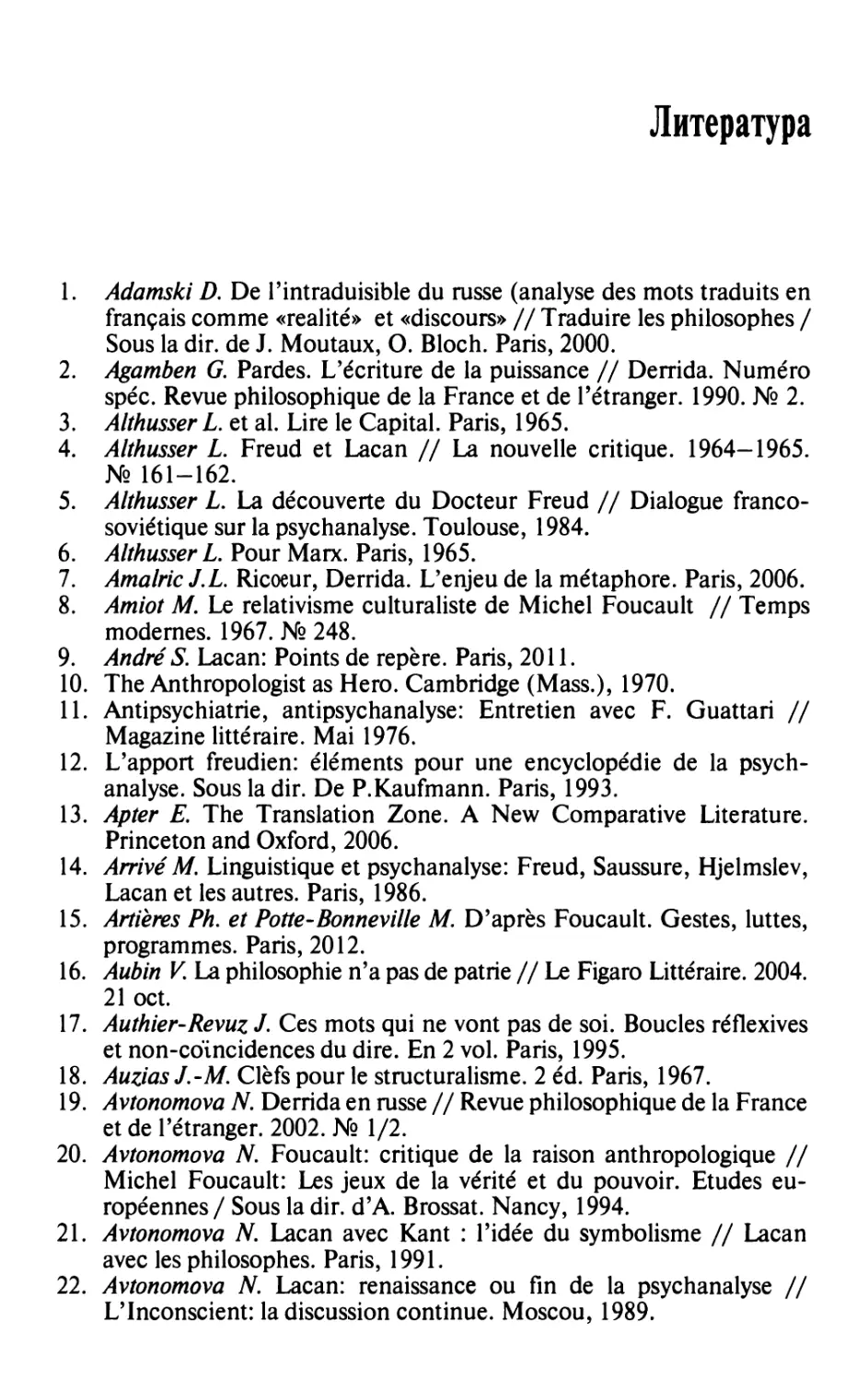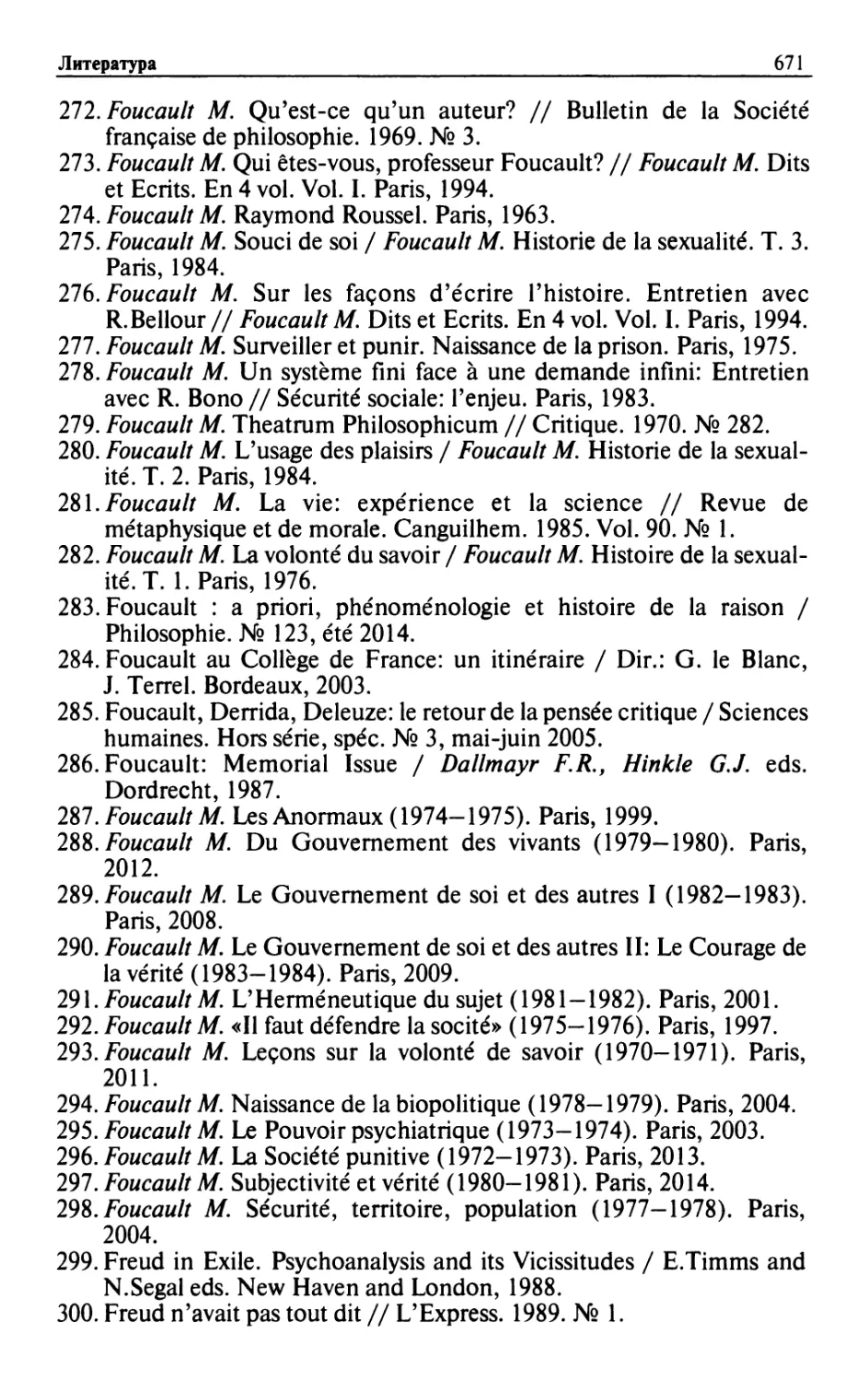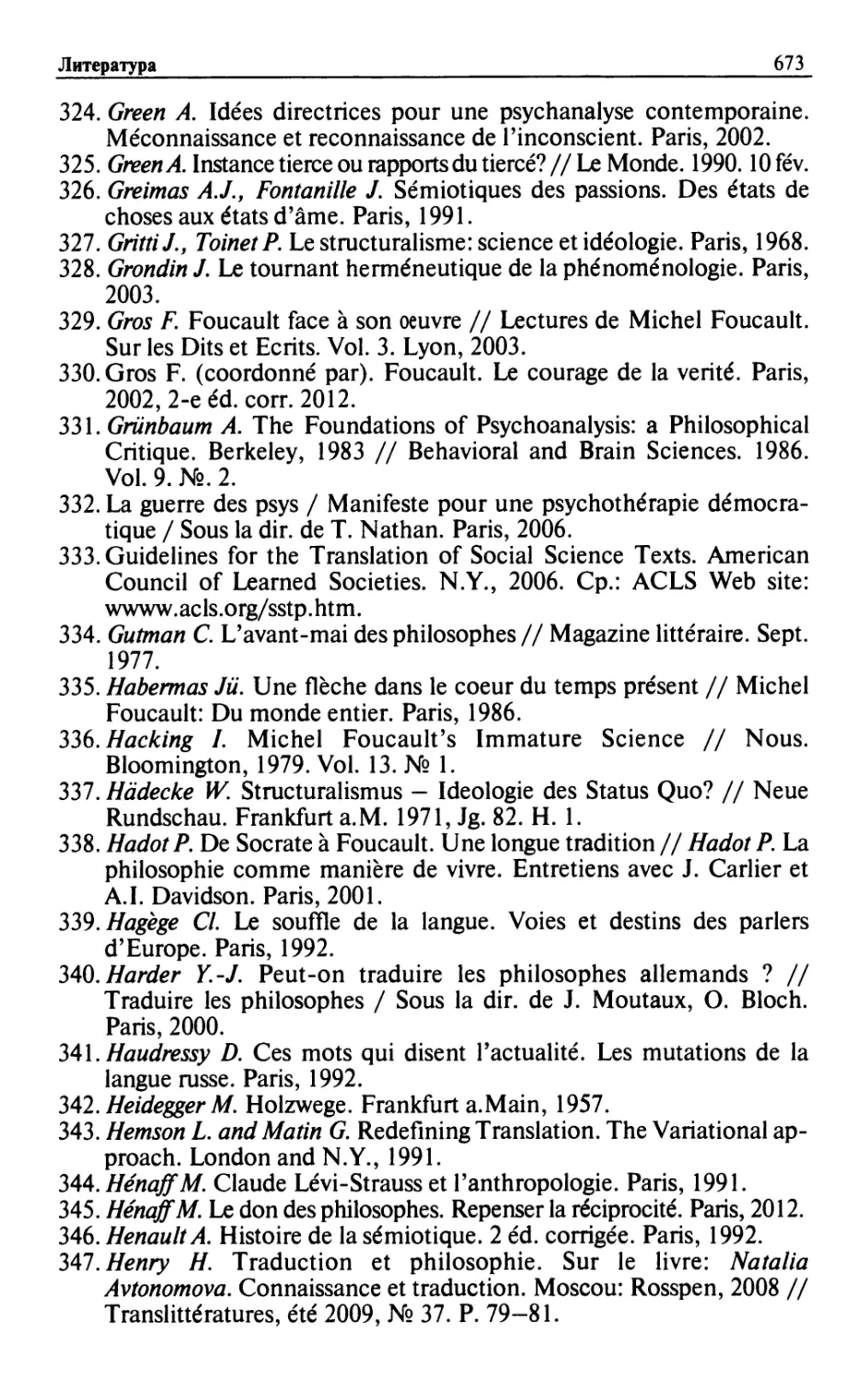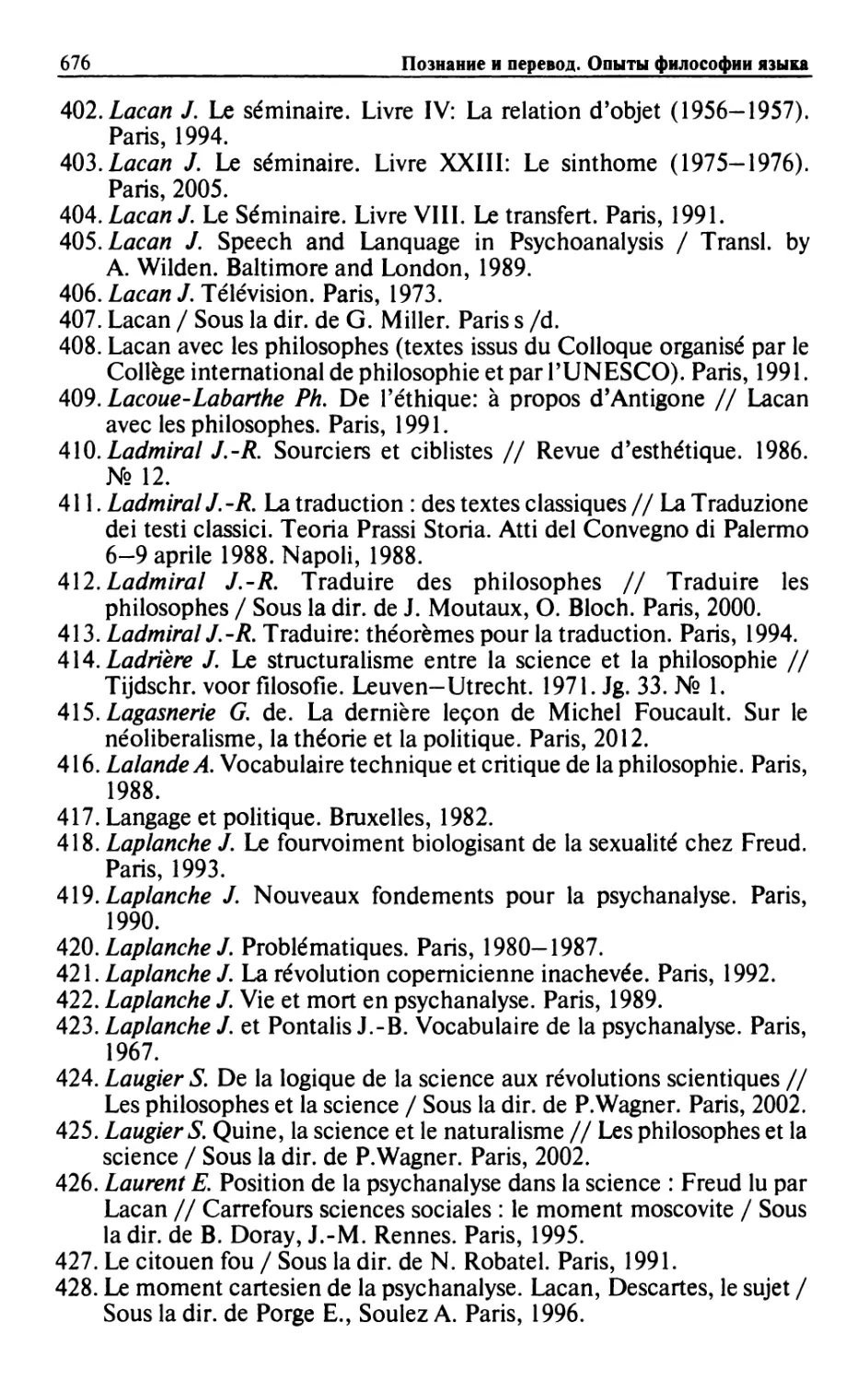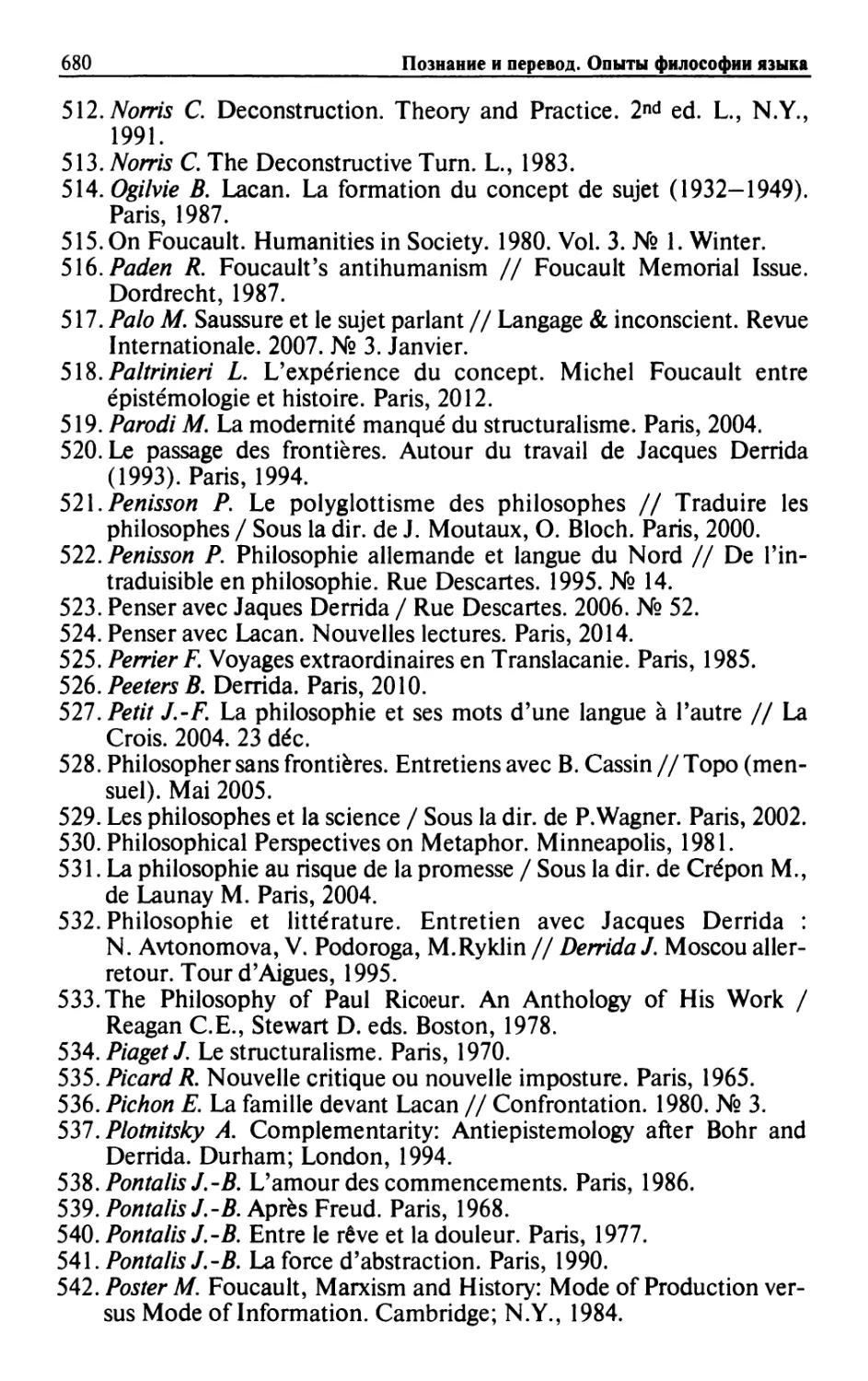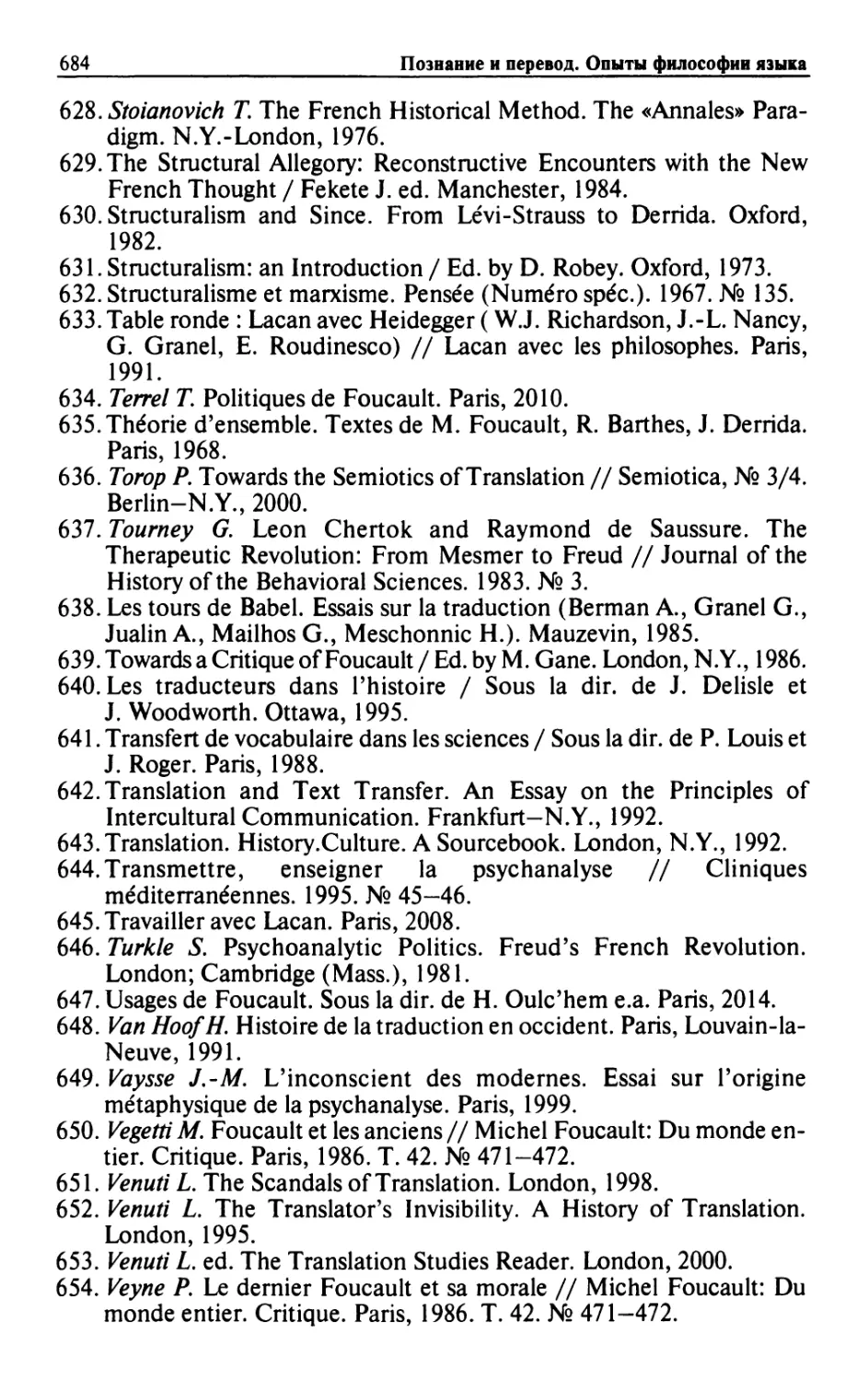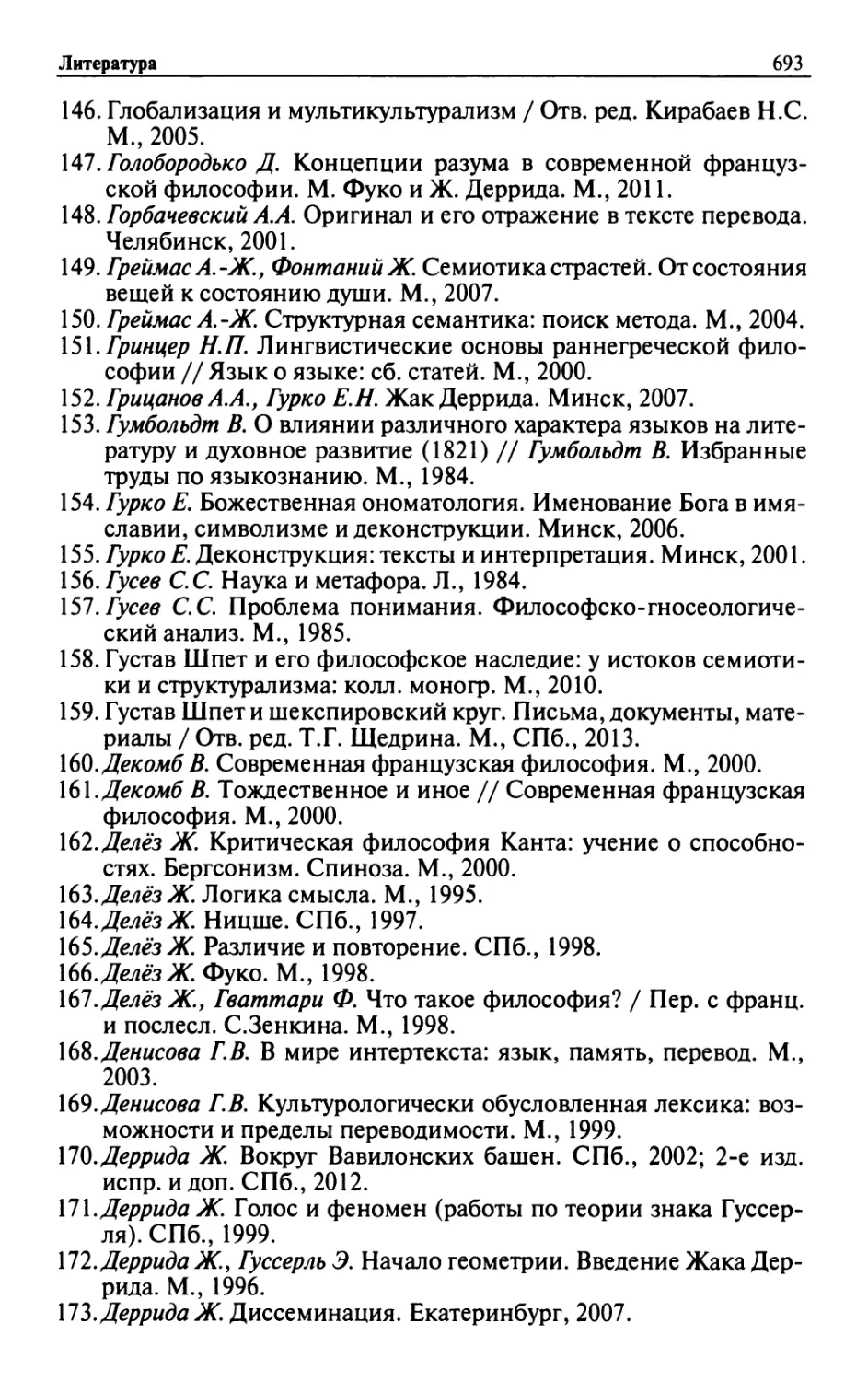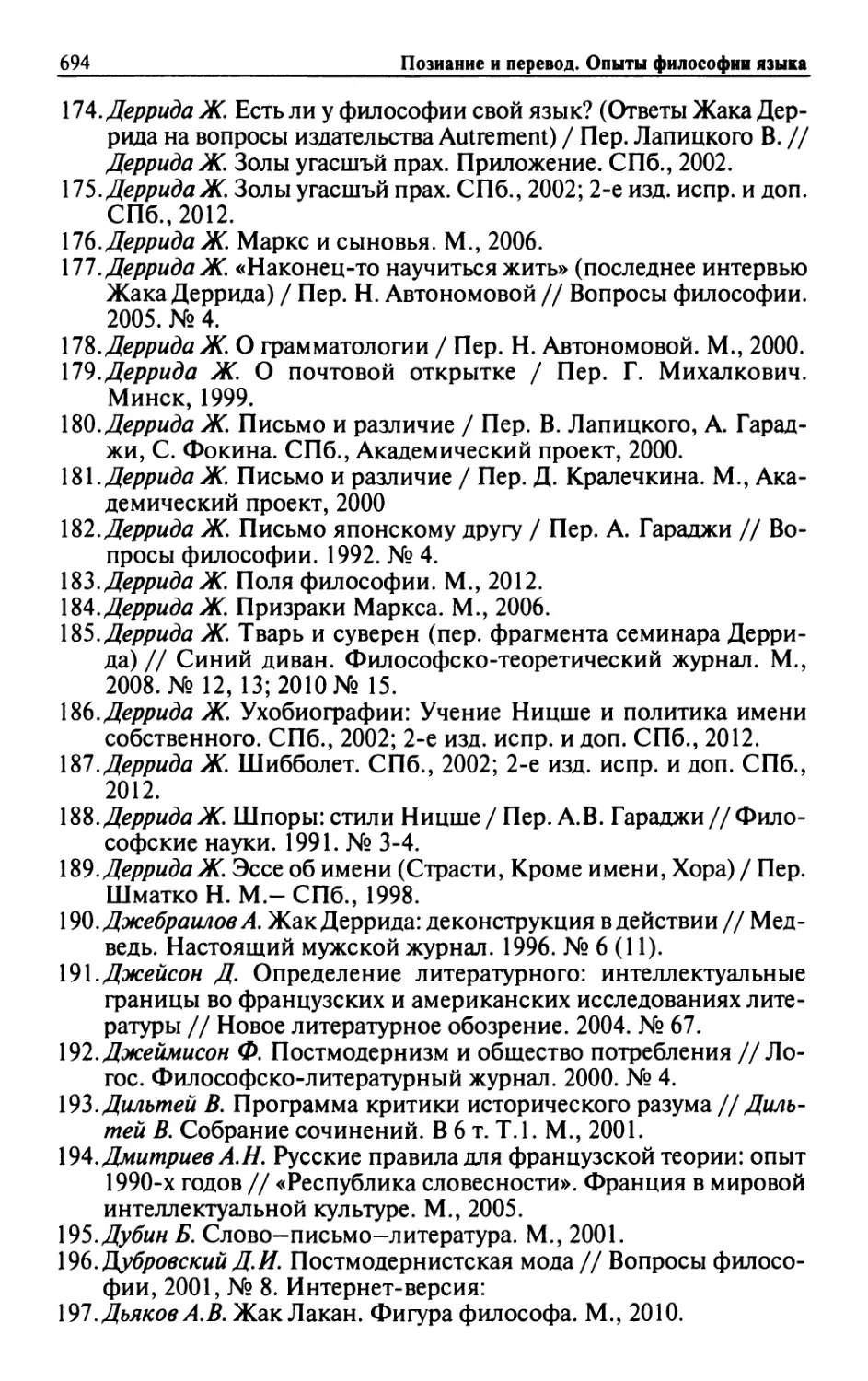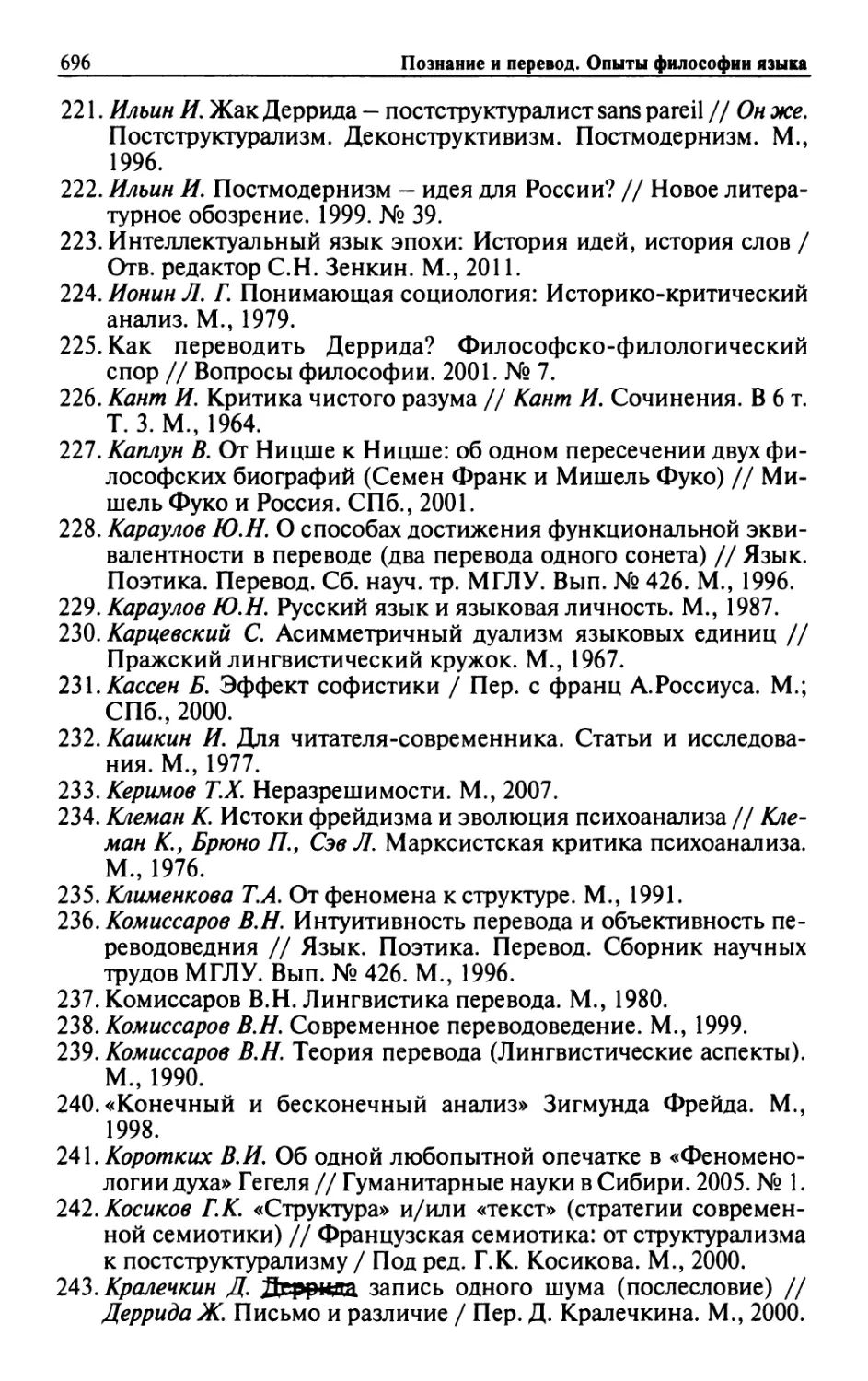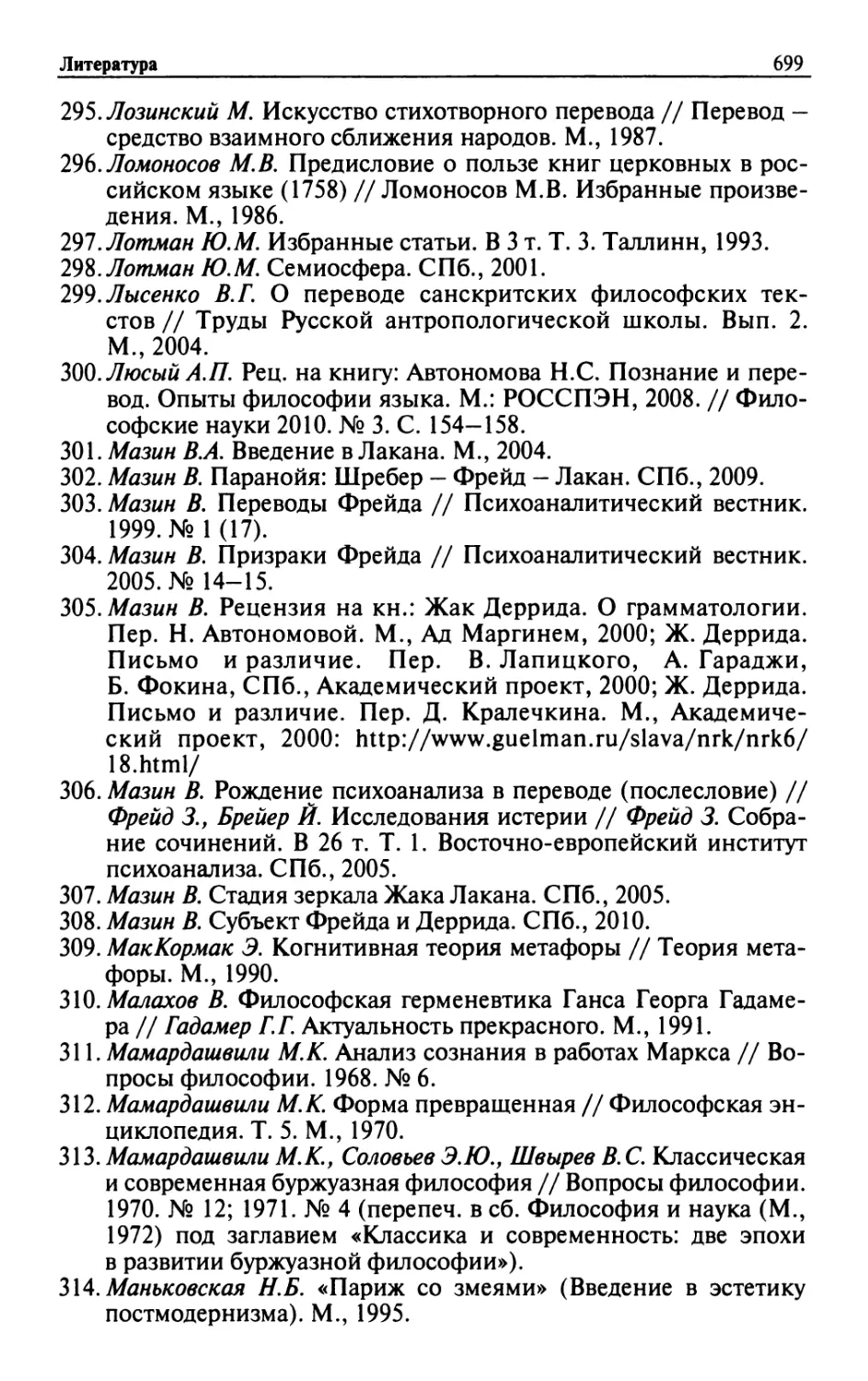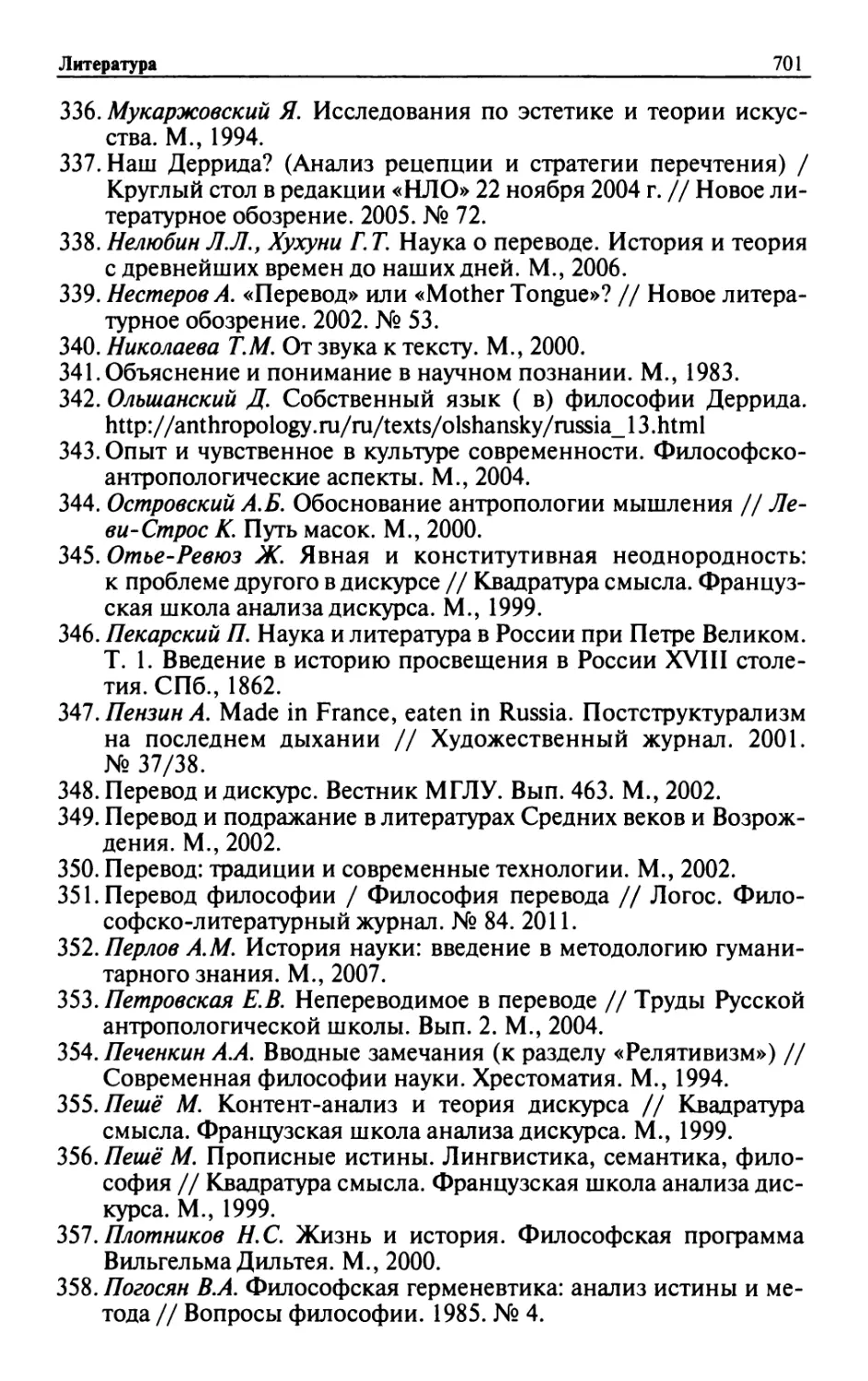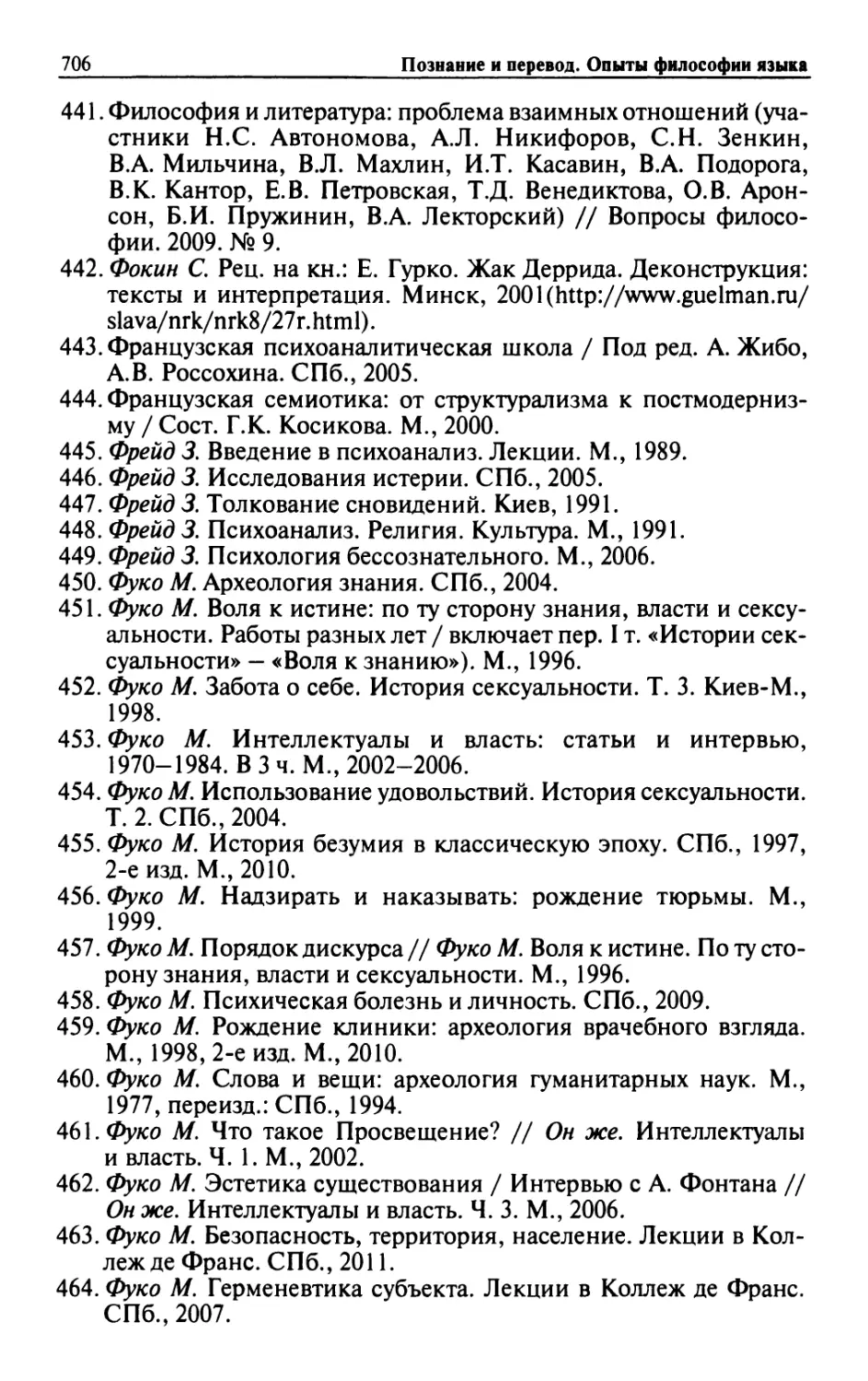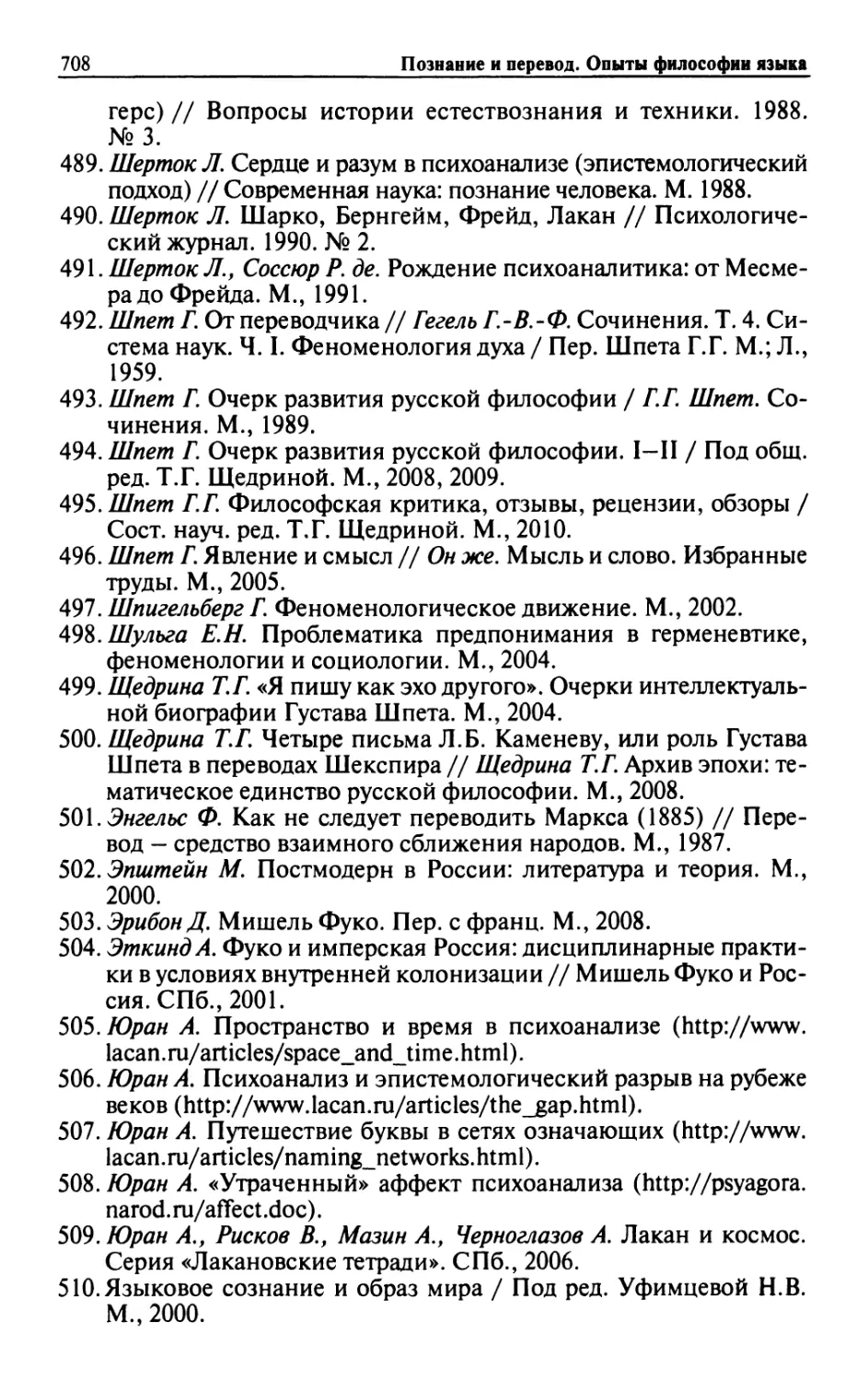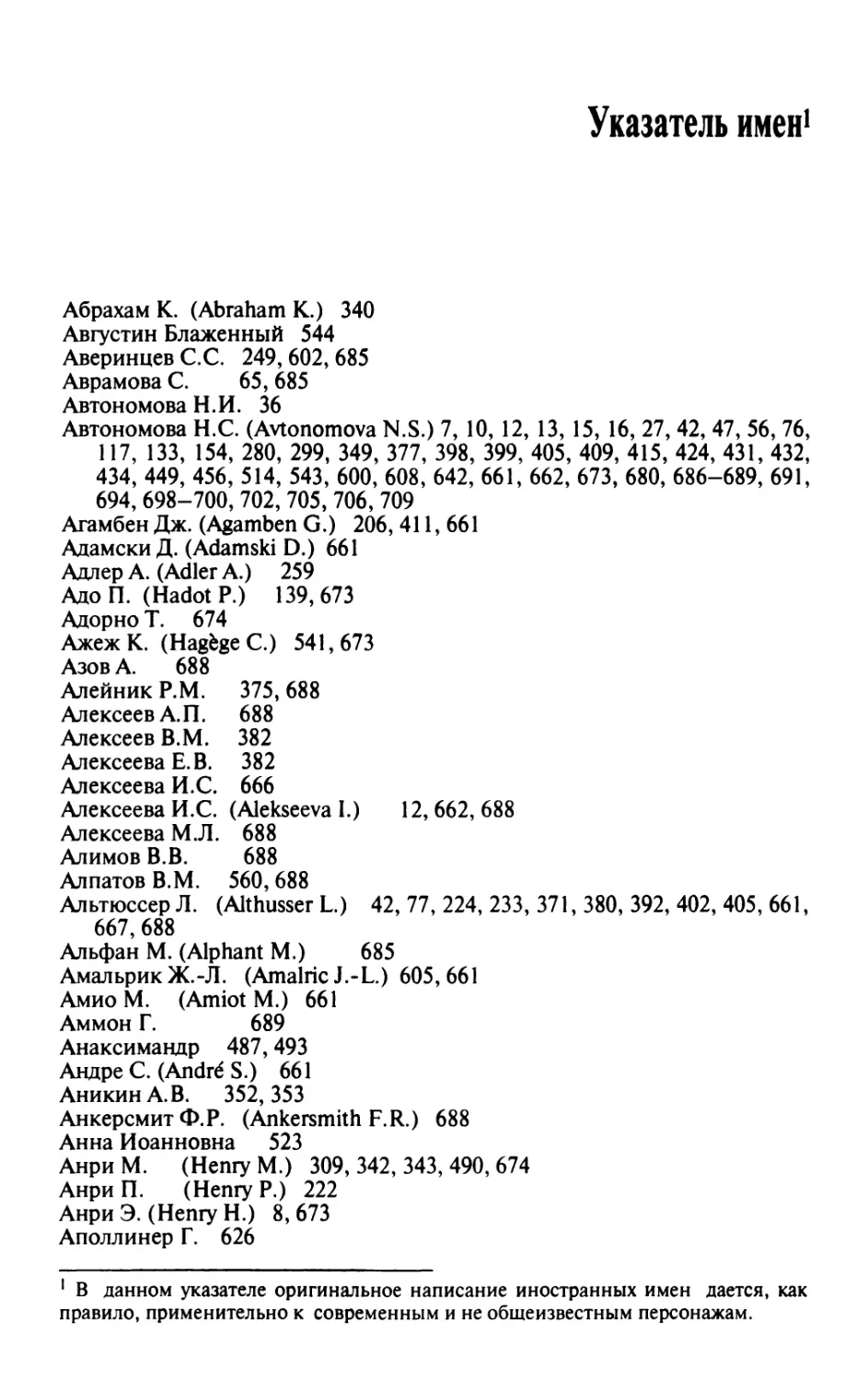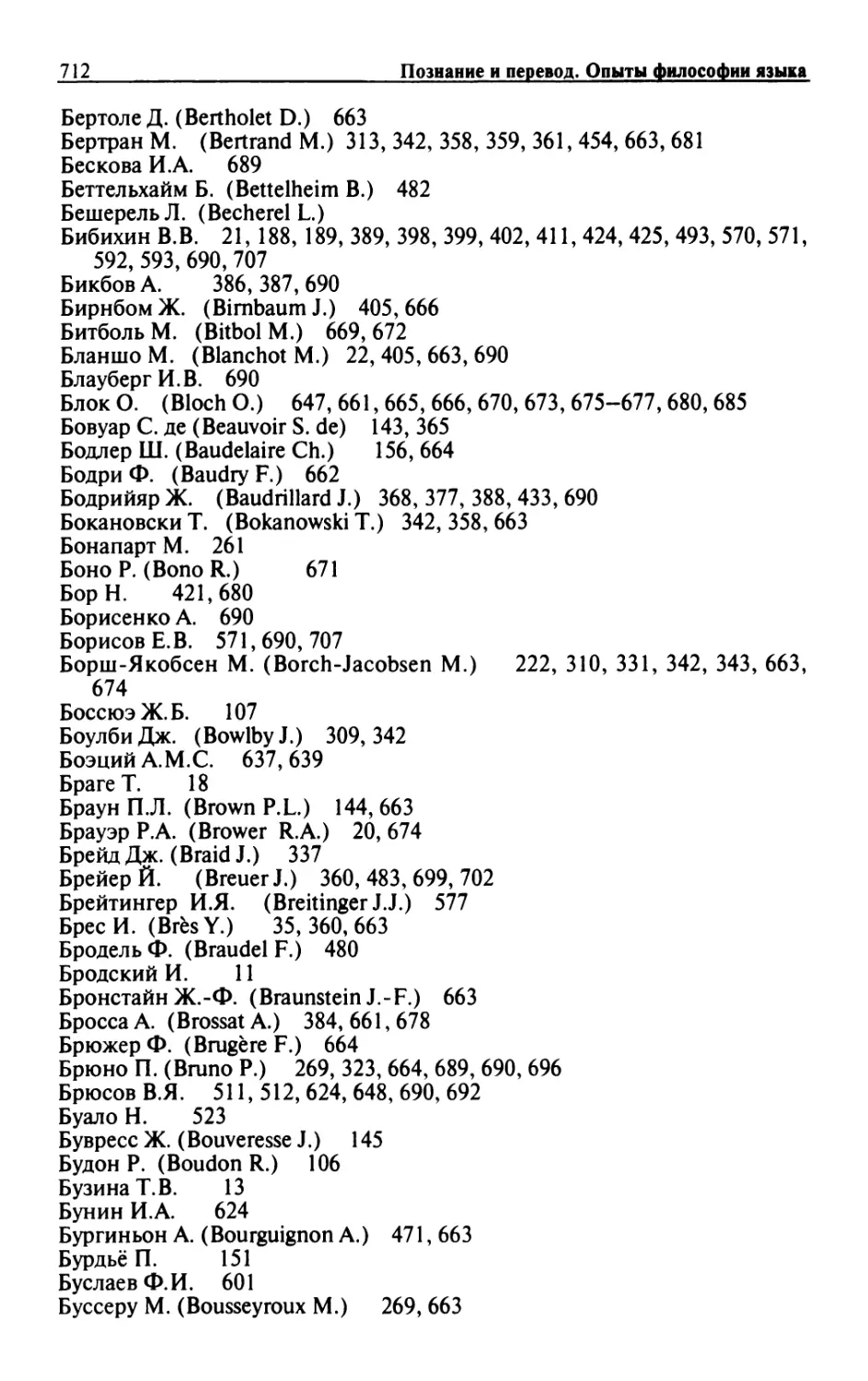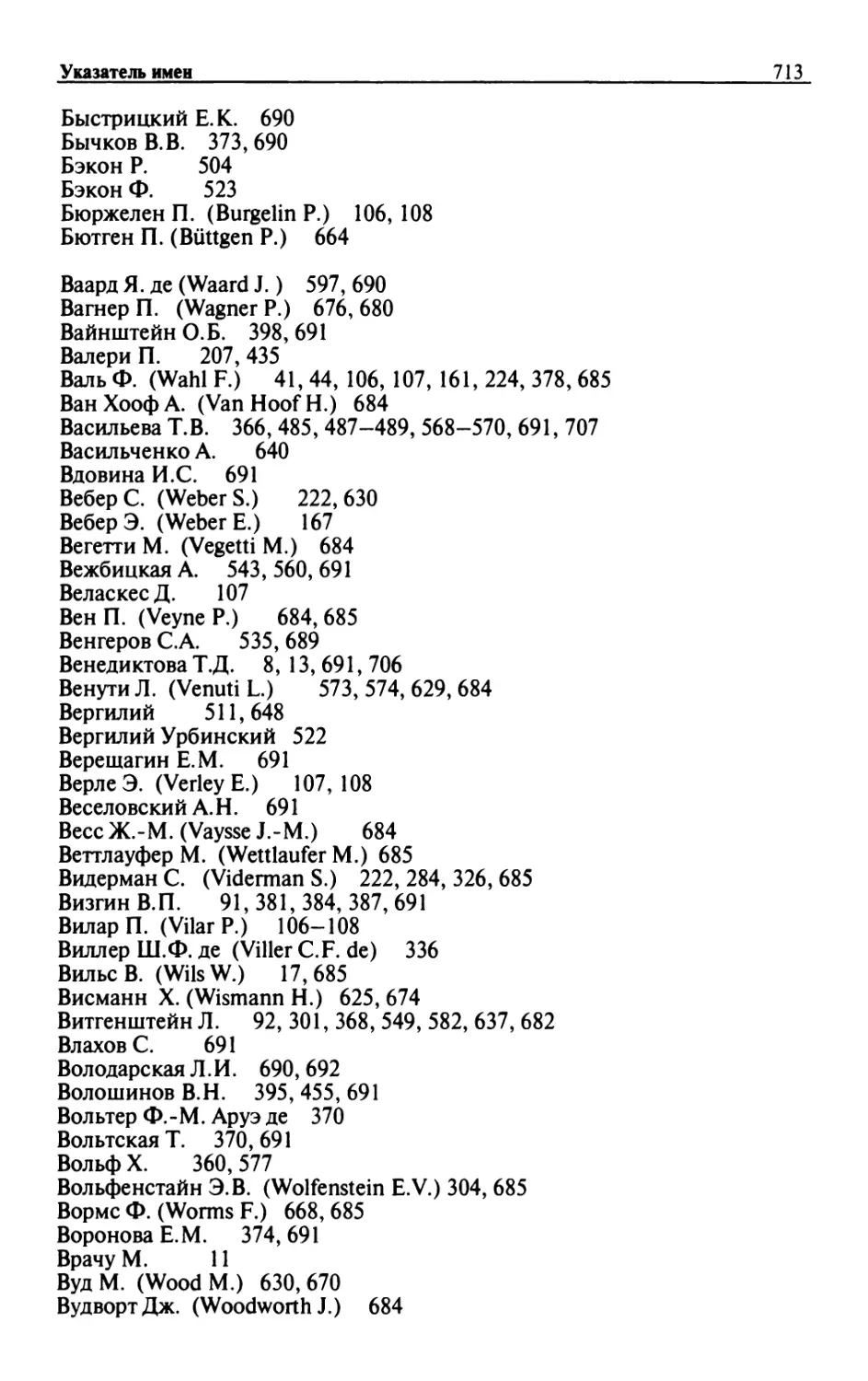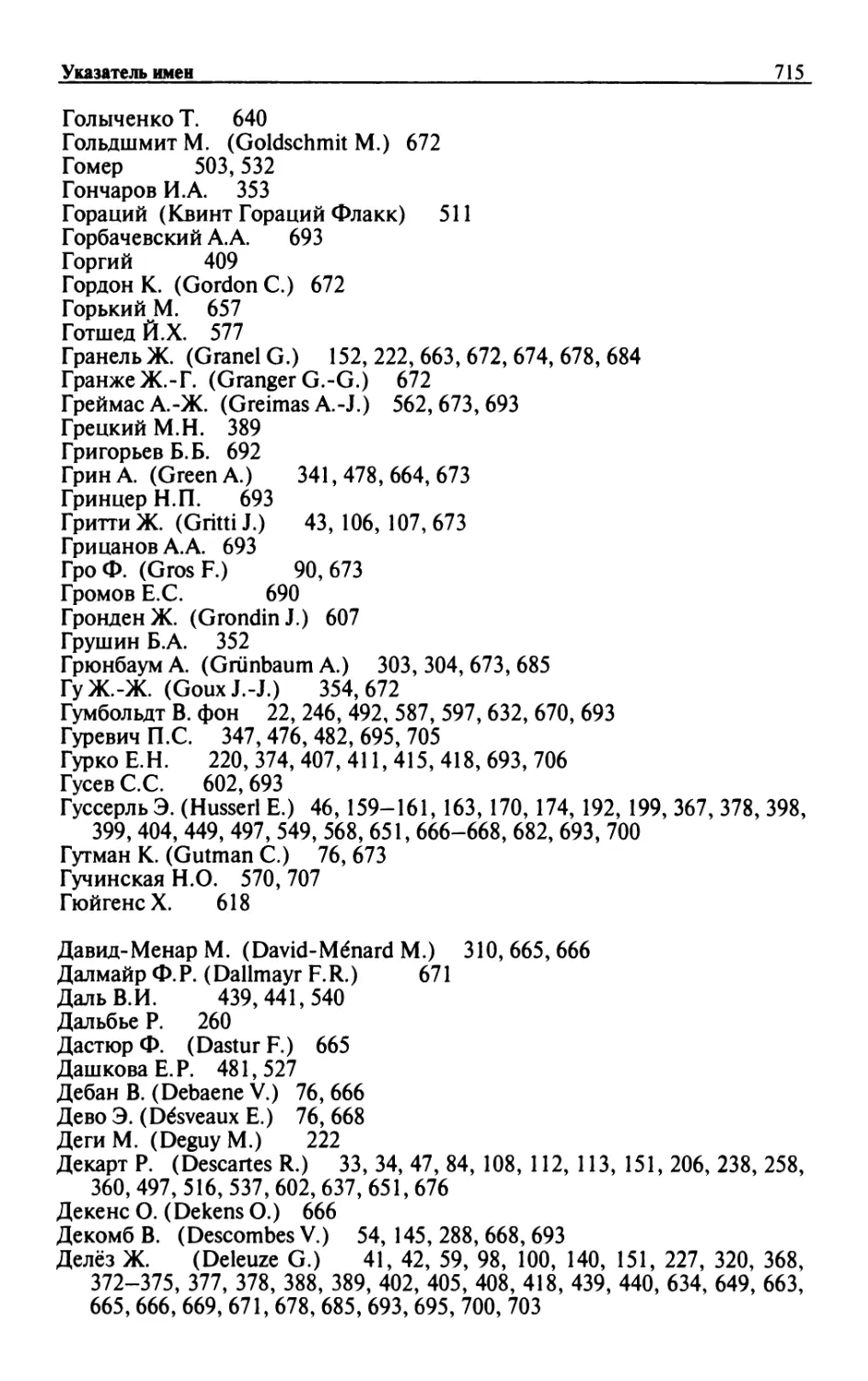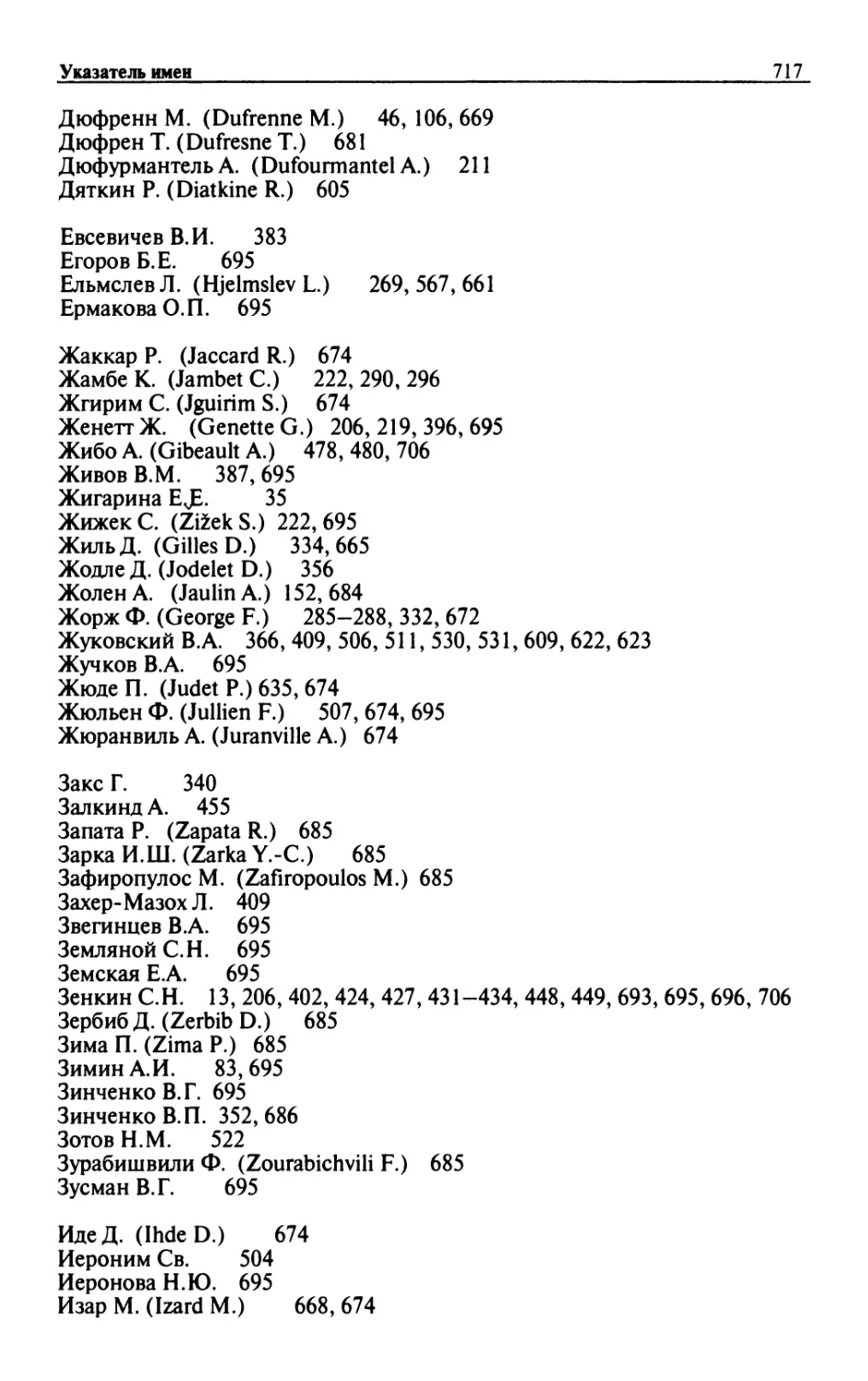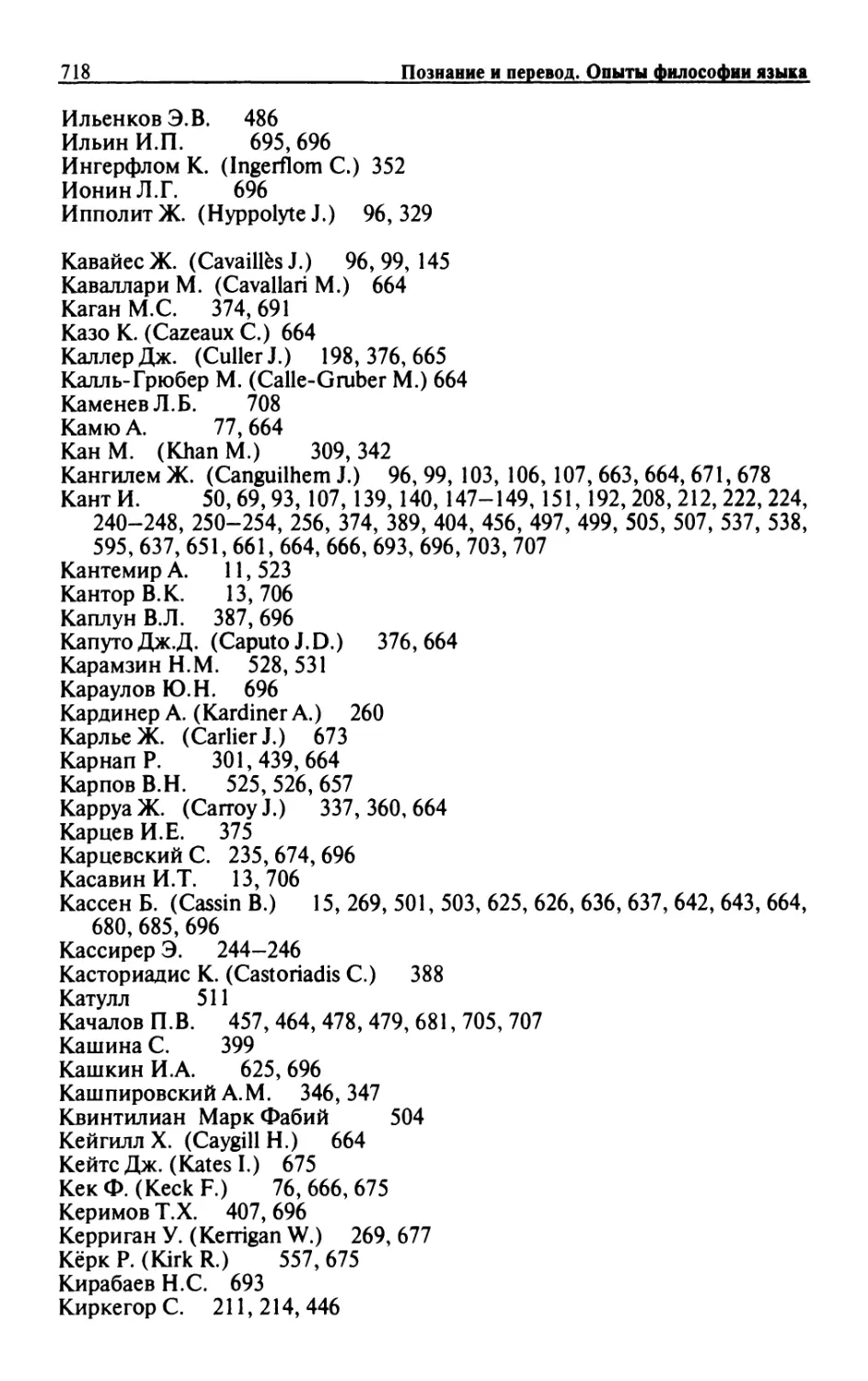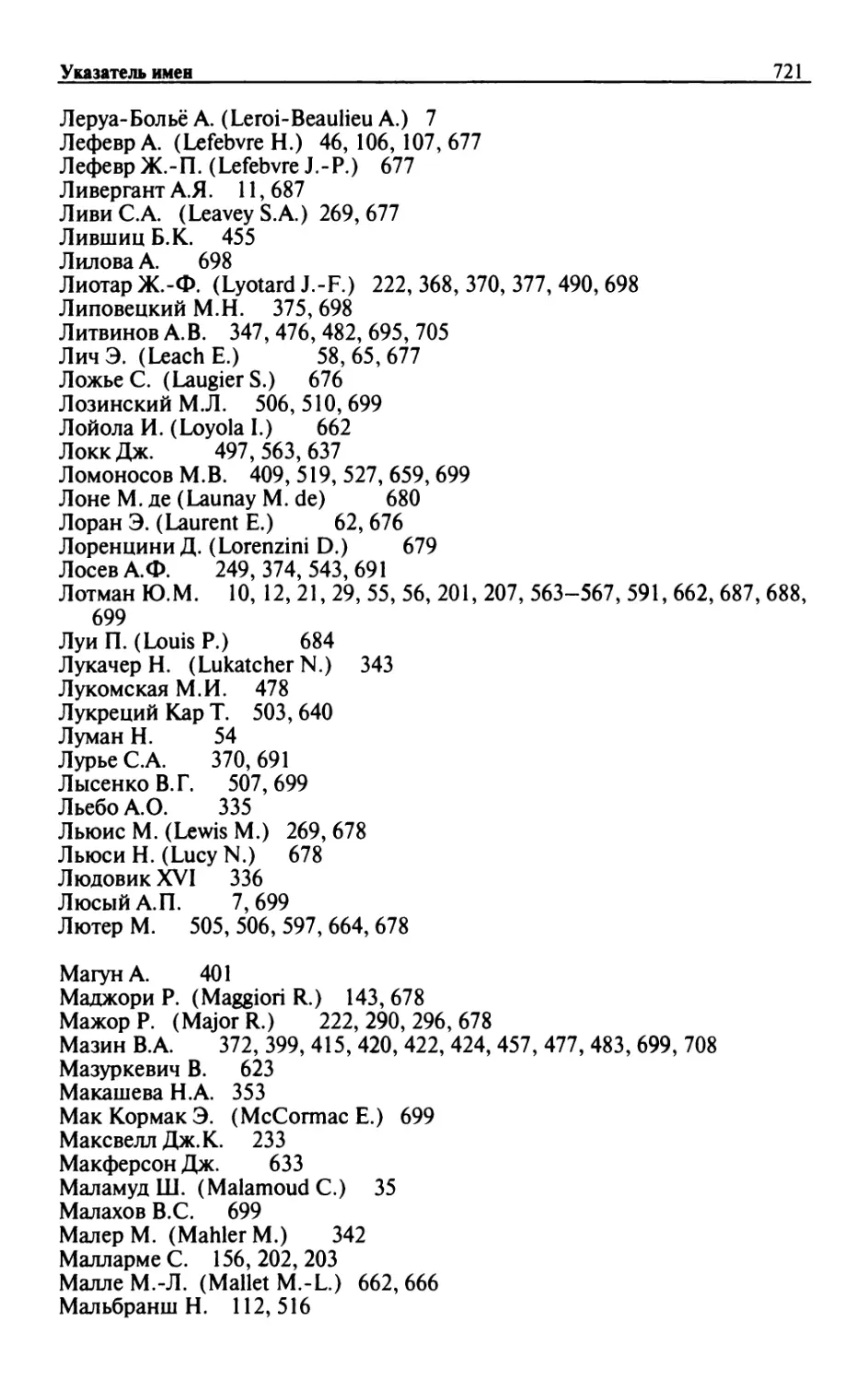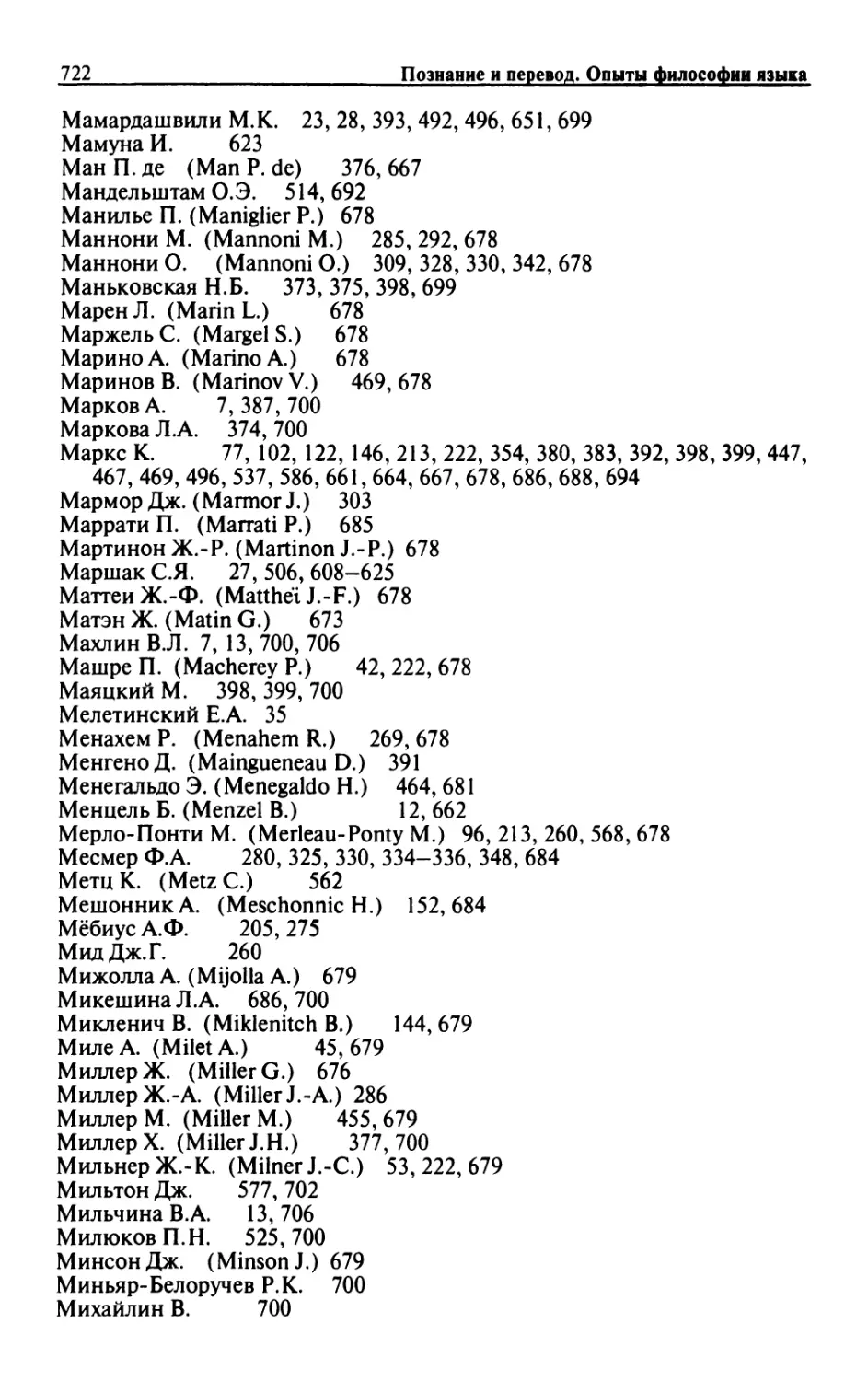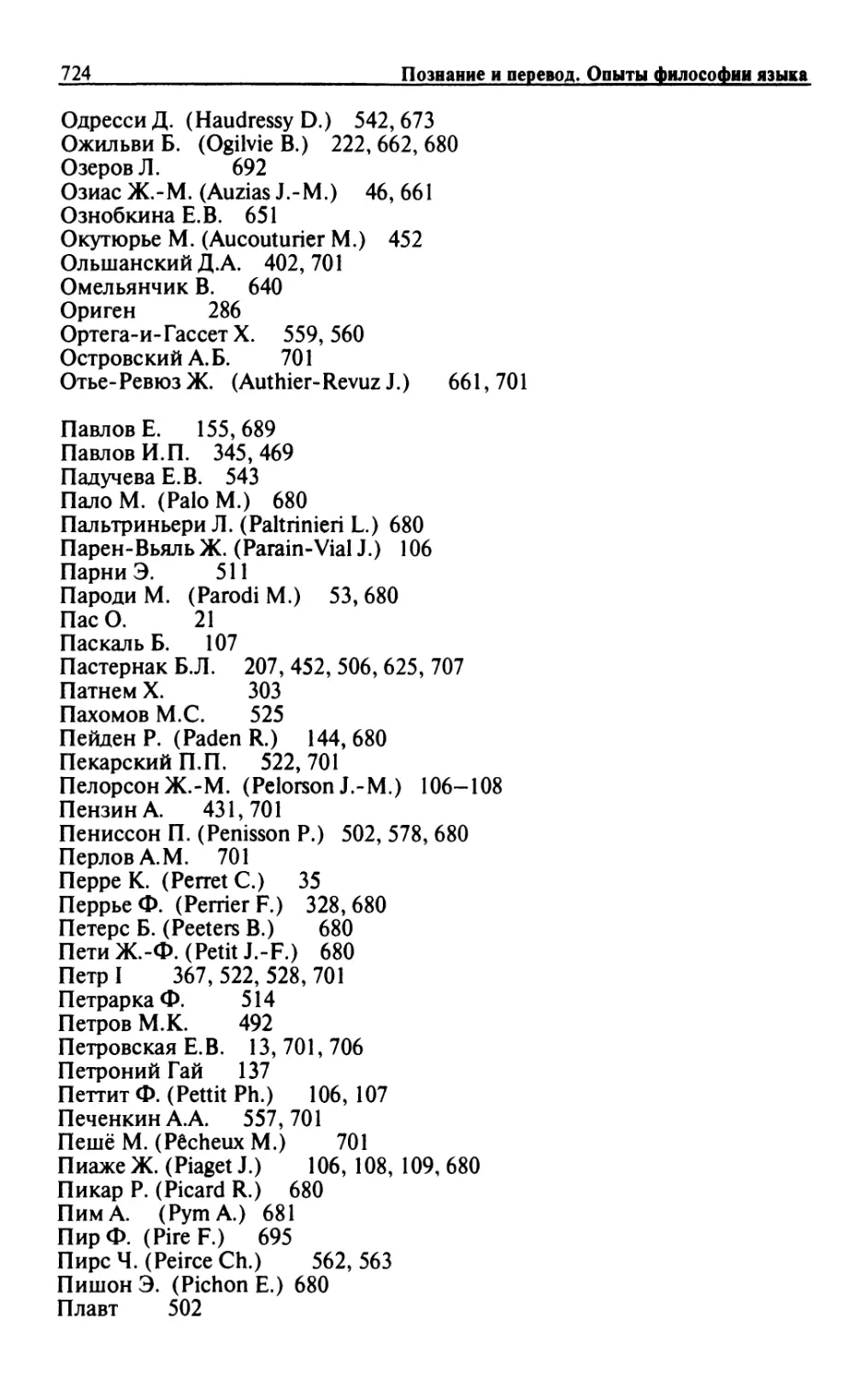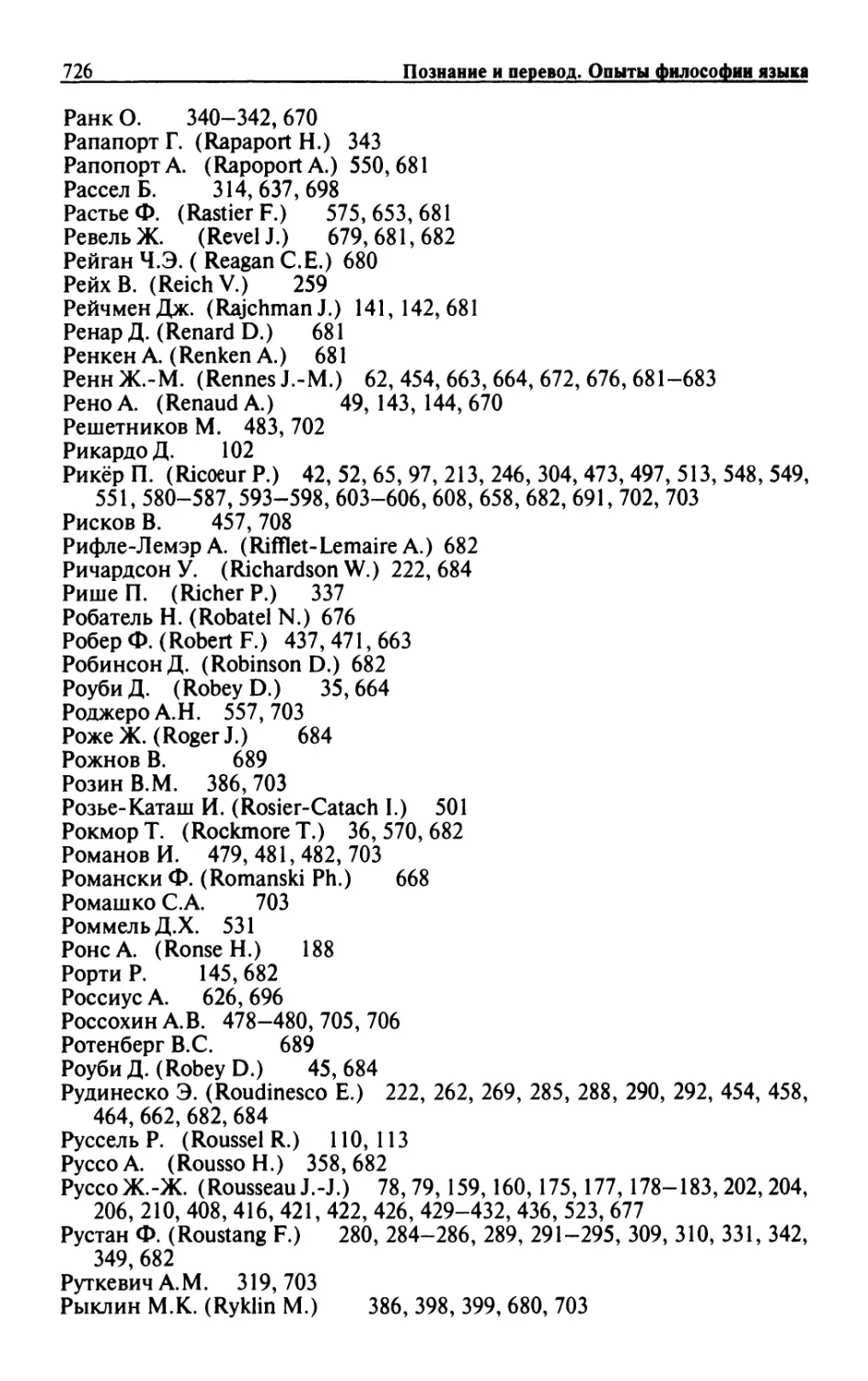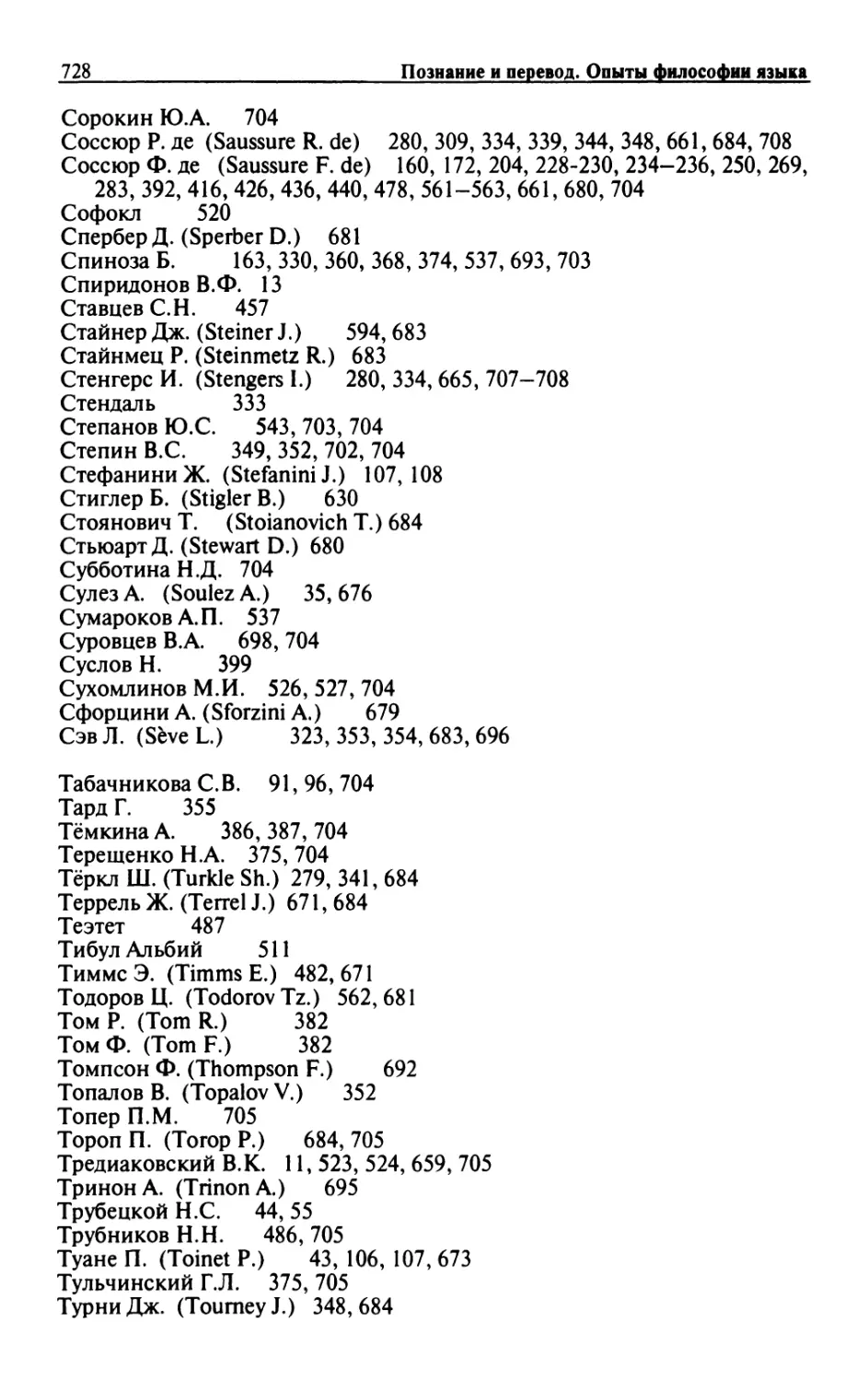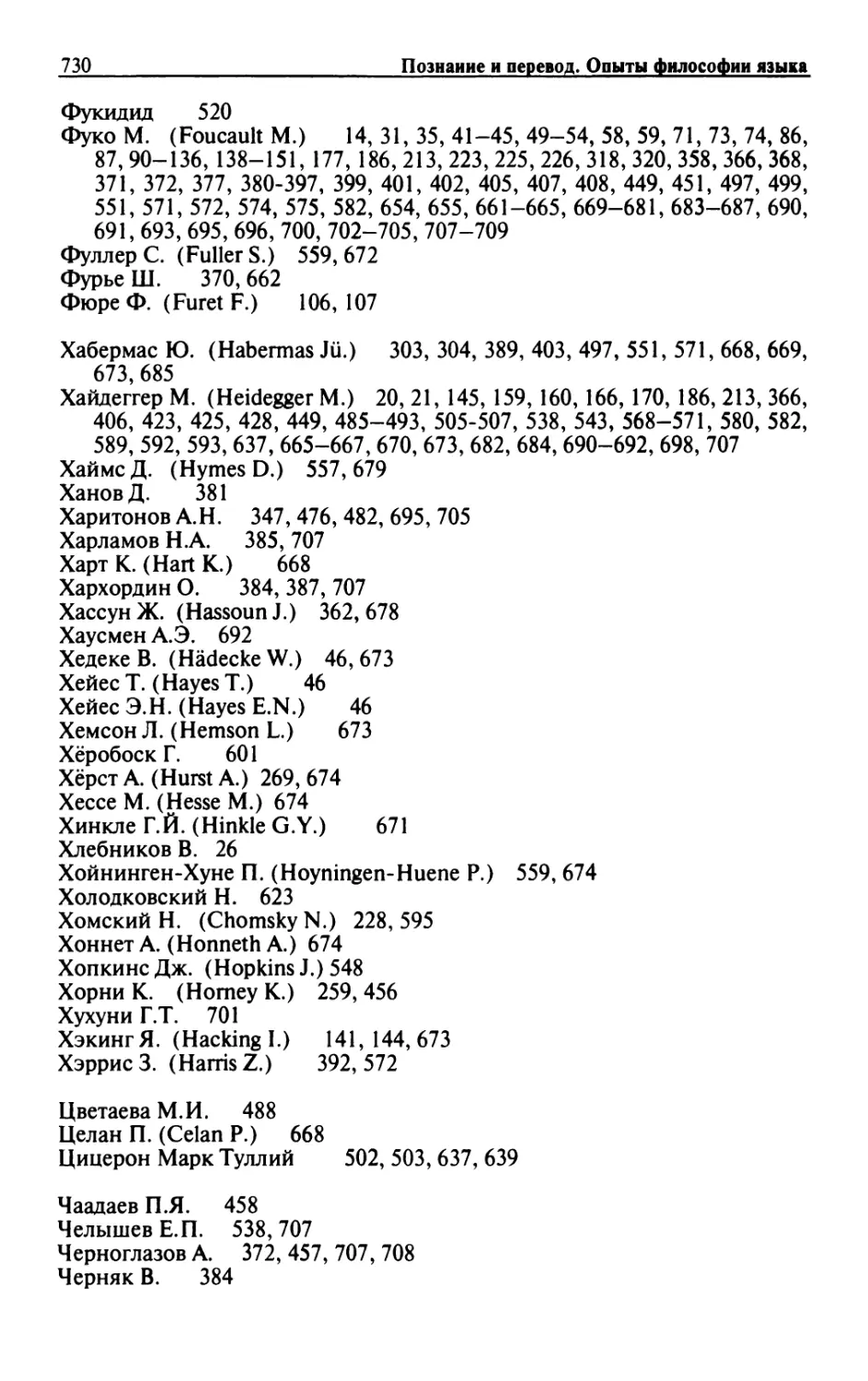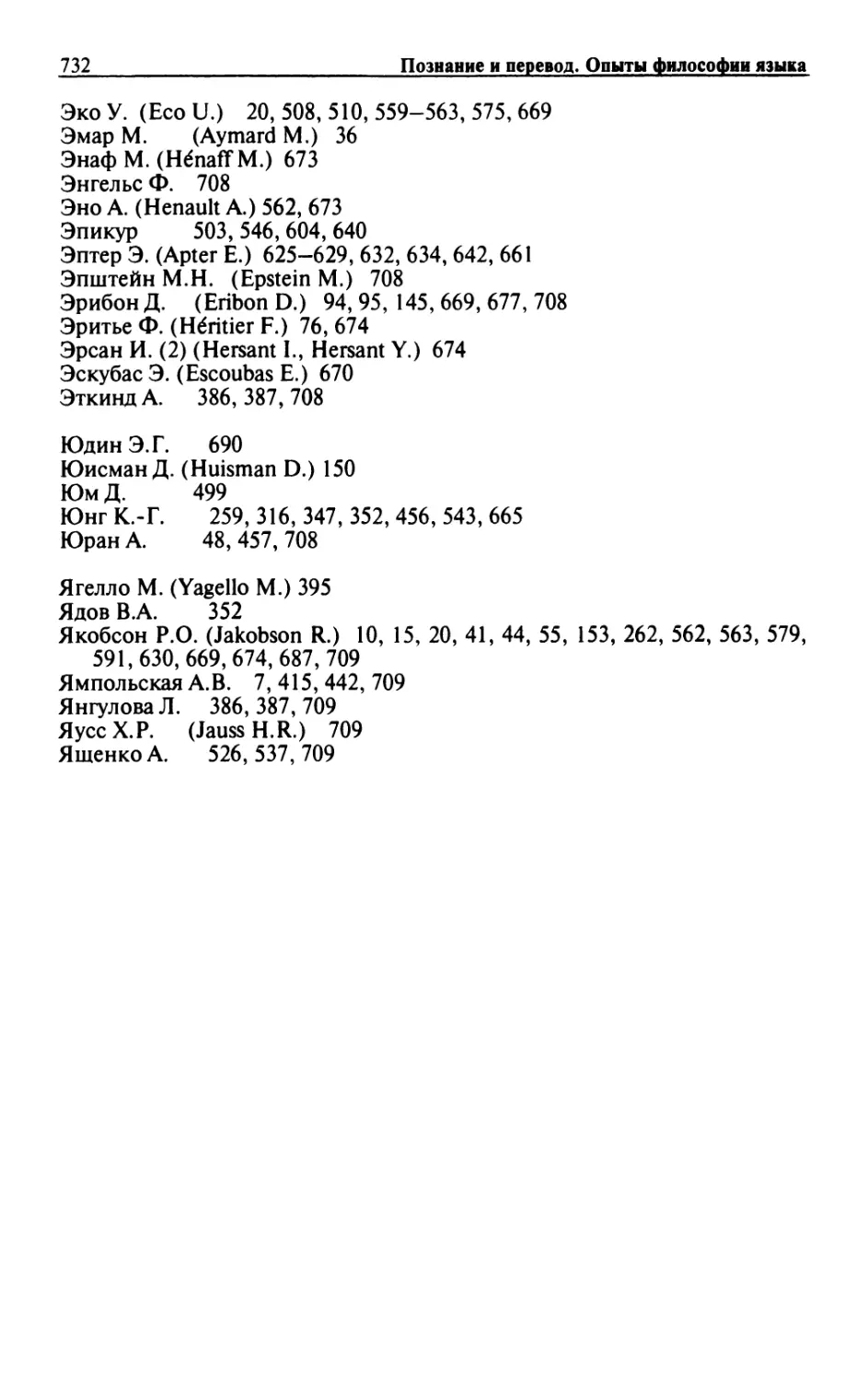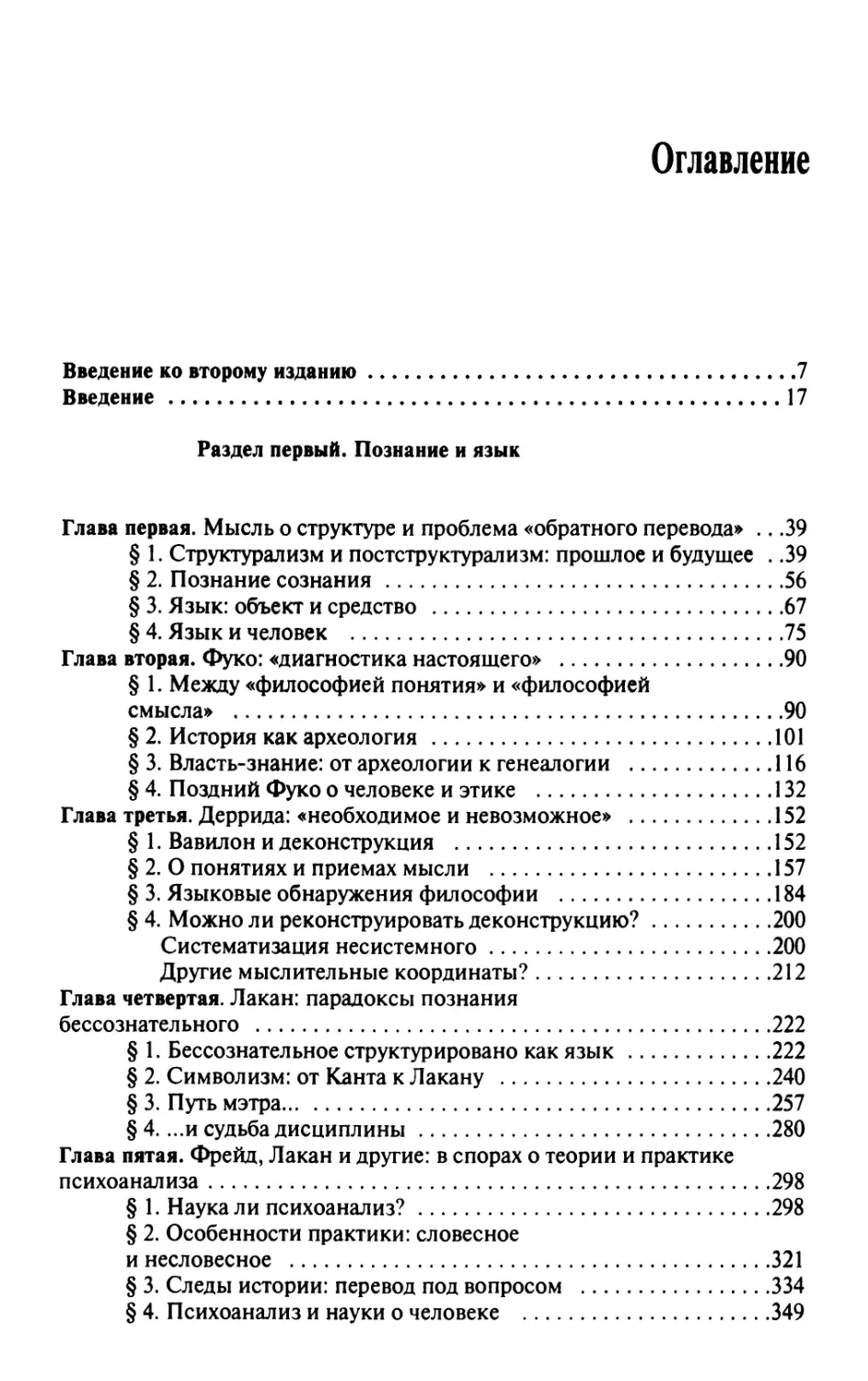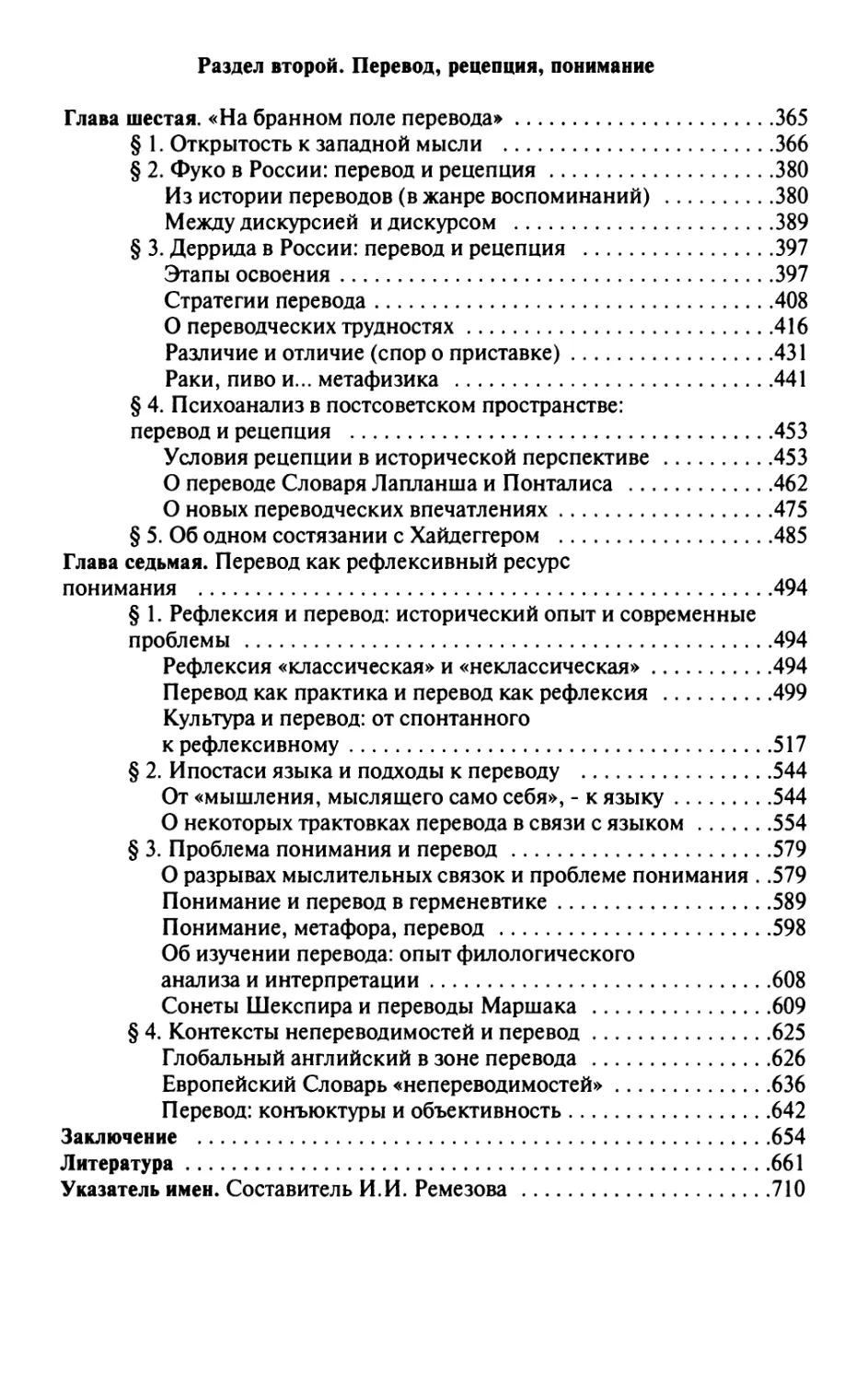Автор: Автономова Н.
Теги: философия духа метафизика духовной жизни философские науки философия культура проблемы философии
ISBN: 978-5-98712-626-4
Год: 2017
Текст
Серия основана в 1999 г.
В подготовке серии принимали участие ведущие специалисты
Центра гуманитарных научно-информационных исследований
Института научной информации по общественным наукам,
Института философии
Российской академии наук
Российская академия наук
Институт философии
Институт научной информации по общественным наукам
Российский государственный гуманитарный университет
Институт высших гуманитарных исследований им. Е.М. Мелетинского
Наталия Автономова
Познание и перевод
Опыты философии языка
Цектр гуманитарных инициатив
Москва-Санкт-Петербург
2017
УДК 13; 80(04) (082.1)
ББК 87; 81.2-7
А18
Главный редактор и автор проекта «Humanitas» С.Я. Левит
Заместитель главного редактора И.А. Осиновская
Редакционная коллегия серии:
Л.В. Скворцов (председатель), E.H. Балашова, П.П. Гайденко, И.Л. Галинская,
В.Д. Губин, Б.Л. Губман, П.С. Гуревич, А.Л. Доброхотов, Д.В. Ефременко,
Г.И. Зверева, В.К. Кантор, АН. Кожановский, И.В. Кондаков,
М.П. Крыжановская, Л .А. Микешина, Ю.С. Пивоваров, И.И. Ремезова,
А.К. Сорокин, П.В. Соснов
Рецензенты:
доктор философских наук И.С. Вдовина,
доктор философских наук Н.И. Кузнецова
Оформление серии: П.П. Ефремов
Автономова Н.С.
А 18 Познание и перевод. Опыты философии языка / Н.С. Автономова.
2-е изд., испр. и доп. - М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив,
2017. — 736 с. - (Серия «Humanitas»).
ISBN 978-5-98712-626-4
Тема «познание и перевод» сопровождала автора всю жизнь: от
университетской курсовой о переводах Шекспира, через «Слова и вещи» Фуко,
изданные в период «застоя», к недавним переводам работ из области психоанализа
и деконструкции. А потому «познание и перевод» - это сфера личного опыта,
в которой много всего - и практики, и размышлений по ходу дела, и
сопоставления подходов к переводу в разные периоды и в разных странах. Перевод -
антропологическая константа человеческого бытия и условие возможности
познания в гуманитарных науках; вместе с тем это не чисто академическая
материя, но сфера страстей и столкновений. Почему перевод стал в наши дни
философской проблемой? Обо всем этом и пойдет речь в книге. В ней два
раздела: первый - о познании и языке, второй - о переводе как рефлексивном
ресурсе понимания.
Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей
познания, проблемами философии, языка, культуры.
В оформлении использован фрагмент мозаики «Вавилонская башня»
из Собора Сан-Марко в Венеции.
УДК13;80(04)(082.1)
ББК 87; 81.2-7
© С.Я. Левит , составление серии, 2016
© Н.С. Автономова, 2016
© Центр гуманитарных инициатив, 2016
Михаилу Леоновичу Гаспарову —
Наставнику, собеседнику, другу
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с Востока,
они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали друг
другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они:
построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя,
прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал
Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот, что начали они
делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем
же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речь
другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали
строить город. Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь
язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле...
Бытие, 11, 1—9
К этой теме так или иначе обращались почти все мои герои,
которые писали о переводе. Рассказу о строительстве Вавилонской
башни1 уже почти сорок веков: он почти на тысячу лет старше
основной библейской истории. В приведенных выше девяти стихах
(это все, что в Библии говорится о Вавилонской башне) мотивы
строителей башни объясняются более или менее внятно: они
хотели «сделать себе имя», то есть увековечить память о себе,
почему-то уже опасаясь дальнейшего рассеяния по земле. Менее
понятно, почему башня была разрушена. Объяснений этому в
позднейших комментариях дается несколько. Чаще всего такое:
разрушение башни — это наказание людям за гордыню и спесь,
за стремление выйти за пределы, отделяющие небо от земли,
божественное от человеческого. Иногда в этом рассказе видят
печальный символ научно-технического прогресса,
карабкающегося вверх, но обваливающегося под собственной тяжестью.
Иногда — призыв уважать невербальную культуру, которая, в
отличие от словесной, ближе к подлинной общности людей. Но есть
и другие трактовки рассказа о Вавилонской башне, среди которых
мне ближе всего рикёровская. В этом рассказе речь идет не о ме-
1 Вавилонская башня, как поясняют историки культуры, - это монументальное
культовое сооружение из обожженного кирпича с многочисленными лестницами,
сплошное внутри (таинства вавилонской религии свершались снаружи).
сти разгневанного Бога, но о наступлении новой стадии в
существовании человека и человечества. «После Вавилона»
повзрослевший человек вынужден взять в свои руки ситуацию многоязычия,
разделяющего людей. И он обращается к переводу. Ведь и дар
речи, и способность учить чужие языки присущи всем людям,
объединяют людей. Конечно, работа перевода не легче, чем
строительство башни, только она не притязает достичь небес. Она
связана с риском и отвагой, преодолевающей страх перед чужим,
перед непереводимым. Человеческим уделом становится другое
строительство - не башни, но той области соизмеримого опыта,
в которую каждый из нас, отказываясь от гордыни поиска
абсолютного совершенства, приносит нечто свое, понимая (как это
понимает каждый переводчик), что нет приобретений без
потерь... Встречая в этой работе перевода Другого, человек только
и может строить себя. Слово «Вавилон» стало названием
всемирной ассоциации переводчиков.
Введение ко второму изданию
Я рада возможности переиздать, в исправленном и отчасти
дополненном виде, книгу, которая мне дорога, а здесь, в новом
введении рассказать о тех событиях, которые произошли с
момента ее выхода в свет. Самым первым таким событием было
присуждение этой книге русско-французской премии Леруа-Больё,
учрежденной посольством Франции в России совместно с
журналом «Иностранная литература». Эта премия носит имя Анатоля
Леруа-Больё - французского историка XIX века, который
глубоко интересовался славянскими культурами и много писал по
истории русской культуры. Ею, в результате ежегодных конкурсов,
награждают исследования, посвященные французской
словесности. Мой материал в книге действительно в основном
французский, но не только: речь в ней идет и о других материях, в
частности, о развитии русского концептуального языка на разных этапах
культурной истории. Кстати отмечу, что во Франции сама идея
«словесности» (lettres) гораздо шире, чем в России: она может
включать не только художественную литературу, но также
гуманитарные исследования и философию. На эту книгу вышло
немало рецензий1, она вызвала большой интерес, и быстро исчезла из
продажи.
Но, может быть, наивно вспоминать сейчас эти парадные
моменты недавнего прошлого? С той поры ситуация изменилась.
Возникает впечатление, что прежние лозунги, и прежде всего
девиз открытости к Западу, выдвинутый вначале 1990-х годов,
1 Перечислю основные: Ямполъская A.B. Современная французская мысль
и переосмысление структурализма. Размышления над книгой Н.С. Автоно-
мовой «Познание и перевод» // Вопросы философии. 2009. № 3. С. 158—164;
Люсый А.П. Рец. на книгу: Автономова Н.С. Познание и перевод. Опыты
философии языка. М.: РОССПЭН, 2008. // Философские науки 2010. № 3.
С. 154-158; Махлин В.Л. Другое лицо эпистемологии (О книге Н.С. Автоно-
мовой «Познание и перевод») // Он же. Второе сознание. Подступы к
гуманитарной эпистемологии. М.: Знак, 2009. С. 574-609; Махлин В. Перевод и
образование / Обсуждение книги Н. Автономовой // Вопросы литературы. 2009.
Март-апрель. С. 118-168; Марков А. Трудности познания и перевода /
Обсуждение книги Н. Автономовой // Вопросы литературы. 2009. Март-апрель.
8 Познание и перевод. Опыты Философии языка
начинают исчезать с повестки дня. И что вместе с ними ушли в
песок усилия людей, которые в течение последних двух десятилетий
пользовались этой постсоветской открытостью, чтобы, например,
переводить работы современных западных философов и
гуманитариев, публиковать, толковать, обсуждать их. Эти люди не
боялись «испытывать себя иностранным», без чего никакой диалог
невозможен. Замечу, что сам этот лозунг в его наиболее известной
форме был выдвинут французским исследователем и
переводчиком Антуаном Берманом в книге «Испытание чужим» (или
«Испытание иностранным») (1984)1. Однако, по сути, его на полтора
века опередили российские литераторы - Александр Сергеевич
Пушкин и его друг Петр Андреевич Вяземский: они много
размышляли о том, как развивать русский «метафизический язык» в
качестве языка понятий, и считали нужным делать это, в частности,
в процессе перевода, прежде всего - с французского (в книге
подробнее рассматривается то, что я условно называю «программой
Пушкина—Вяземского»). Так вот: сейчас иногда высказываются
мнения, что все эти «испытания», равно как и поиски
взаимодействий российского и западного в культуре и познании, только
мешают кристаллизации национальной идентичности, а потому
должны быть устранены и забыты.
В ответ на это позволю себе напомнить, что открытость к
Западу, сменявшаяся периодами относительной автаркии, уже
неоднократно имела место в российской истории. На протяжении
последних веков таких периодов было минимум четыре: эпоха
петровских реформ, эпоха наполеоновских войн, конец
XIX—начало XX века и затем период с начала 1990-х годов. Так
что и нынешнее стремление опереться лишь на собственные силы
не ново и не вечно, а потому предусмотрительный человек обязан
постараться, на благо отечества, быть готовым к новым открыто-
стям и новым возможностям. Кстати, и многие мои коллеги, и я
сама вовсе не ждали постсоветских времен, чтобы работать с
современной западной философской литературой и знакомить
с нею читателей. Далее, нынешняя ситуация лишний раз показы-
С. 109-117; Henry Hélène. Traduction et philosophie. Sur le livre: Natalia
Avtonomova. Connaissance et traduction. Moscou: Rosspen, 2008 //
Translittératures, été 2009, № 37. P. 79-81; Бенедиктова Т.Д. Перевод как опыт. О книге
Н. Автономовой «Познание и перевод. Опыты философии языка» //
Иностранная литература. 2009. № 12.
1 BermanA. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984. Речь шла прежде всего отом, что
французы в своих однобоких подходах к переводу не знают немецкого
переводческого опыта, прежде всего — романтической эпохи.
Введение ко второму изданию 9_
вает, что наряду с политической дипломатией и теми тупиками,
в которые она подчас заводит, существуют и другие размерности
человеческого бытия, имеющие более фундаментальный
характер: если бы это было не так, человечество бы уже давно вымерло
или самоистребилось. Когда социально-политические механизмы
дают сбой, к делу должны подключаться культура и история, -
а перевод как раз и есть один из таких важнейших культурно-
исторических механизмов, нацеленных на понимание себя через
понимание другого и предполагающих, что иначе понимание
между людьми вообще невозможно.
На III международном конгрессе литературных
переводчиков (4-7 сентября 2014, Москва, ВГБИЛ) эту актуальную
потребность назвали так: «перевод как средство культурной
дипломатии». Эту формулу можно трактовать по-разному. Для
меня прежде всего важна здесь именно мысль о том, что
культура шире политики, что ритмы культуры не совпадают с ритмами
социально-политических процессов. А потому и нынешнее
переиздание моей книги о познании и переводе, в которой
большое место занимают размышления о последнем периоде
российской открытости к Западу — прежде всего, в области
философии и гуманитарных наук — представляется мне не
только своевременным, но и в высшей степени актуальным.
В целом, насколько я могу судить, эта книга о познании
и переводе попала в точку, затронув нерв еще только
формирующегося интереса. В наши дни тема перевода приобретает все
больший резонанс, она развертывается в целый ряд широких
культурных программ. Отрадно видеть, как процессы перевода
и его осмысления в методологическом,
культурно-историческом, социальном и философском плане все больше увлекают
исследователей в разных странах и в разных дисциплинах. Но
дело тут ведь не только в дисциплинах: по сути, каждый
человек, не занимаясь осознанным переводом с языка на язык,
участвует в этой вселенской практике. Я исхожу из того, что
никакое, даже самое скромное, понимание невозможно без
перевода, потому что оно предполагает соотнесение моих слов
и понятий со словами и понятиями других людей, иногда
других языков, а тем самым, значит, и без перевода. Когда ребенок
впервые овладевает речью, а взрослый разъясняет ему, что
значат его первые слова, — это тоже перевод, только
внутриязыковой. Любая наша попытка высказать нечто переживаемое,
вместить его в артикулированную форму — это тоже перевод. И все
эти формы перевода в широком смысле слова соотнесены со
своей основой и осью - переводом между разными языками
и разными культурами.
10 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Во всяком случае, мой собственный пафос в отношении к этой
практике и этому полю междисциплинарной рефлексии ничуть не угас. За
время, прошедшее с первого издания книги, мне довелось опубликовать
несколько работ, которые прямо или косвенно продолжали разработки,
начатые в «Познании и переводе». Сразу вслед за этой книгой появилась
«Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров» (2009) :
это был, если угодно, перевод филологического опыта на рефлексивный
язык современной эпистемологии. Тема познания и перевода
перемещалась здесь целиком в российский контекст и рассматривалась на
материале четырех великих фигур российской науки - Якобсона, Бахтина, Лот-
мана и Гаспарова, причем понятие-метафора открытой структуры
позволило объединить их всех вокруг поиска динамических структур
в любом гуманитарном материале. В 2014 году вышло второе,
исправленное и дополненное, издание «Открытой структуры». В 2011 году мною
было опубликовано исследование на тему <<Философский язык Жака
Деррида». В нем предложена языковая гипотеза возникновения
деконструкции: речь вдет о том, как особенности первоначального
отношения к родному языку («у меня только один язык, да и тот не мой») стали
для Деррида пожизненной мотивацией для создания деконструктивист-
ской программы, направленной на радикальное экспериментирование
с родным, но заморским, прекрасным, но не «материнским»,
французским языком.
Сдвиги происходили в последнее время не только «в теории»,
но и в «практике» моей переводческой работы. Так, в 2010 году
увидело свет второе, изрядно переработанное и дополненное
(в частности, новыми ценными для читателя указателями)
издание психоаналитического словаря Лапланша и Понталиса (первое
было опубликовано в 1996 году). Оно учитывало новый опыт
существования российского психоанализа, в котором менялись
и сами персонажи — аналитики, пациенты, и условия их
взаимодействия, и те концептуальные языки и дискурсы, которые
складывались в конкурентной борьбе школ и групп. Именно поэтому
я предложила некоторые новые эквиваленты фрейдовских
понятий и привела доводы «за» и «против». Наконец, не могу не
упомянуть и о публикации осенью 2008 года в «Новом издательстве»
сборника писем Михаила Леоновича Гаспарова, в котором есть
и письма ко мне, причем многие из них посвящены как раз
обсуждаемой здесь теме перевода. В них высказано много важных
мыслей, которые нужно разбирать отдельно; например, Гаспаров
сознательно обострял проблему диалога и перевода, называя
понятие диалога «непростительно оптимистическим»1. Однако ведь
1 М.Л. Гаспаров - Н.С. Автономовой от 4.5.1993 // Ваш М.Г. Из писем
Михаила Леоновича Гаспарова. М.: 2008. С. 337.
Введение ко второму изданию П_
в идее и процедуре диалога тоже можно усмотреть моменты
перевода, более того, и перевод, и диалог невозможны вне понимания
и интерпретации - тем самым, круг явлений, входящих в любое
осмысление перевода, неизбежно расширяется.
В наши дни осмысление перевода приобретает поистине
универсальный размах. При этом перевод начинает восприниматься
и осознаваться как важнейший путь гуманитарного познания
и как основная жизненная практика. Эта универсальная стратегия
жизни и познания приобретает те или иные смысловые
заострения в зависимости от времени и места, в которых она
осуществляется. Здесь уже упоминалось о конгрессе литературных
переводчиков, состоявшемся в Москве в 2014 году. Теперь читатель уже
может познакомится с его материалами1. На конгрессе речь шла
не о переводе западной гуманитарной литературы на русский
язык, но об объединении творческих усилий тех, кто переводит
русскую литературу - как классическую, так и современную - на
другие языки, европейские и неевропейские. Read Russia («Читай
Россию») — таким был девиз конгресса. Конечно литературный
перевод отличен от философского, но ведь и философия в
широком смысле слова - тоже форма литературы, точнее, словесности.
В свое время я решила участвовать в конгрессе, чтобы рассказать
о тех приобретениях и потерях, которые выявились в результате
двух десятилетий постсоветского радикального перевода - с
западных языков на русский. С этой темой я вовсе не чувствовала
себя одинокой среди «литературных переводчиков», а всего их
было на конгрессе 350 человек из 55 стран, включая полдюжины
американцев и некоторое число украинцев. И вообще — за
примерами сближения позиций не надо было далеко ходить. Так, на
последнем заседании секции, озаглавленной «Литературная карта
мира», выступала блестяще говорившая по-русски переводчица
из Румынии, Марина Врачу, которая привезла с собой целую
стопку книг - сборников, антологий, составленных из
произведений ее любимых героев русской культуры. А это были, через века
и пространства - философы и писатели Антиох Кантемир
(который, напомню, вместе с Василием Тредиаковским создавал
русский литературный и концептуальный язык) и Иосиф Бродский,
для которого, хотя и через века, концептуальное и художественное
творчество также были неразрывны. Так что и при переводе
философии, и при переводе литературы работа перевода заявляла о се-
1 См: Миры литературного перевода (сб. докладов III Международного
конгресса переводчиков художественной литературы / Отв.ред. А. Ливергант.
М.,2015.
12 Познание и перевод. Опыты ФилоссиЬии языка
бе не просто как оперирование подсобным техническим
инструментом для передачи информации, но и как овладение
творческим инструментом мысли.
Вкратце упомяну о других посвященных переводу
конференциях и публикациях, участником которых я была - не только
в России, но во Франции, Германии, Эстонии1, Израиле2 и др.
Так, на международной конференции о динамике
франко-русских семиотических связей (организатор - проф. М. Костантини,
университет Париж-8) с интересом обсуждалась и моя тема
«перевода и непереводимости» у Лотмана3. В мае 2015 г. парижские
дискуссии продолжились с акцентом на теме «Пороги, пределы
и границы: семиотика переходов», причем особое внимание
уделялось трактовке перевода в контексте общих процессов семи-
озиса. Недавно в Берлине вышел в свет коллективный труд,
посвященный российским теориям и практикам перевода4. Ярким
примером международного сотрудничества в этой области была
многолетняя программа парижской Высшей Школы социальных
исследований по теме «Гуманитарные и общественные науки
в России: становление научного языка и перевод научных
текстов». Она завершилась большой международной конференцией
в мае 2013 года в Высшей нормальной школе в Париже. В основе
1 Ср.: Лвтономова Н. Проблема перевода в свете идеи продуктивной
непереводимости ( по страницам работ Лотмана // Пограничные феномены культуры.
Перевод. Диалог. Семиосфера. Материалы Первых Лотмановских дней в
Таллинском университете (4-7 июня 2009 г.) Таллинн, 2011. С. 19-35 (Acta
Universitatis Tallinniensis. Humaniora).
2 В декабре 2009 года состоялась интересная международная конференция
«Потерянное и обретенное в переводе» (Lost and Found in Translation),
проведенная в Иерусалиме совместно Институтом ван Леера и Тель-Авивским
университетом, а в октябре 2012 - международный семинар исследовательской
группы «Терапия в переводе» Тель-Авивского университета, где мне довелось
участвовать в качестве докладчика и приглашенного «мастера».
3 Avtonomova N. Le problème de la traduction et Г intraduisible dans la conception
sémiotique de Lotman // Glissements, décentrements, déplacement. Pour un
dialogue sémiotique franco-russe / Sous la dir. de M. Costantini. Paris, 2013. P. 49-57.
Цифровая библиотека университета Париж-8, постоянный инвентарный
номер: http://www.bibliotheque-numerique-paris8.fr/fre/ref/164239/COLN3/.
4 Он называется «Российское переводоведение на пороге XXI века». Ср.:
Avtonomova N.S. Uberzetzen als universelle Praxis and als philosophisches
Problem // Russische Übersetzungswissenschaft an der Schwelle zum
21. Jahrhundert / Birgit Menzel / Irina Alekseeva (Hg.) unter Mitarbeit von Irina
Pohlan. Berlin: Frank und Timme, Verlag für wissenschaftliche Literatur, 2013.
S. 103-112.
Введение ко второму изданию 13
научного проекта лежала мысль о том, что пространство
интеллектуальной работы в России, начиная с XVIII-ro века,
формировалось во многом в процессе перевода и заимствования понятий
(в частности, из Западной Европы, хотя, конечно здесь была
важна также подготовка специалистов, создание исследовательских
институтов); соответственно целью конференции стало изучение
процессов, которые способствовали разработке научного языка
в различных дисциплинах - на уровне отдельных понятий,
способов рассуждения и языкового выражения, т.е. анализ
проблематики, которая в российской русистике, пока еще, к сожалению,
исследована недостаточно1.
Немало интересных мероприятий, затрагивающих тему перевода
и познания, произошло в Институте философии РАН, в МГУ,
в РГГУ, в РУДН; материалы этих обсуждений публиковались в
«Вопросах философии», «Вопросах литературы», «Новом литературном
обозрении» и др. Среди наиболее заметных мероприятий отмечу
круглый стол на тему «Перевод как проблема социальных и
гуманитарных наук», прошедший в рамках Гуманитарных чтений в РГГУ2.
Тема перевода и выработки концептуальных языков была, так или
иначе, представлена как общее дело философии и филологии на
круглом столе «Вопросов философии»3. Назову также масштабные
Гаспаровские чтения-2014, целиком посвященные проблемам
перевода; на опыте выдающегося российского филолога обсуждались
общие принципы перевода, связи между исследовательской и пере-
1 Материалы этой конференции готовятся к публикации в издательстве
«Новое литературное обозрение».
2 Круглый стол «Перевод как проблема социальных и гуманитарных наук» (участники
Н.С. Автономова, A.B. Смирнов, Н.И. Кузнецова, О.В. Гавришина, В.П. Филатов,
Т.В. Бузина, В.Ф. Спиридонов) // Гуманитарные чтения РГГУ—2009. Теория и
методология гуманитарного знания. М: РГГУ, 2010. С. 15 -107.
3 См.: Философия и литература: проблема взаимных отношений (участники
Н.С. Автономова, А.Л. Никифоров, С.Н. Зенкин, В.А. Мильчина, В.Л. Мах-
лин, И.Т. Касавин, В.А. Подорога, В.К. Кантор, Е.В. Петровская, Т.Д.
Бенедиктова, О.В. Аронсон, Б.И. Пружинин, В.А. Лекторский) // Вопросы
философии. 2009 № 9. Среди недавних публикаций «Вопросов философии» отмечу
выход материалов конференции-круглого стола, организованного Т. Г.
Щедриной и посвященного обсуждению перевода классической философской
книги на разные языки (английский, немецкий, французский и др.); см.:
Книга «Явление и смысл» Густава Шпета и ее значение в интеллектуальной
культуре XX века // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 129-170. См. также
только что опубликованную коллективную монографию: Современные
методологические стратегии: Интерпретация, Конвенция, Перевод. М.: РОС-
СПЭН, 2014.
14 Познание и перевод. Опыты Философии языка
водческой программами ученого, его экспериментальные переводы
из разных эпох (античность, средневековье, европейский
модернизм), практики обучения переводу и др1.
Наверное, можно сказать, что переводчикам по разные стороны
географических, политических, культурных границ работы только
прибавляется. Подобно тому, как в России сейчас выходят,
например, все новые тома из серии «Философия России первой
половины XX века», а также дополняется уже опубликованная серия
«Философия России второй половины XX века», в которых читателям
предъявлена масса нового материала, интересного и для наших
зарубежных коллег, причем далеко не только славистов и русистов,
но и философов, так и на Западе за последние годы выходит
множество новых работ — даже если сосредоточиться только на тех
авторах, которые являются героями моей книги. За время,
прошедшее с ее появления в 2008 году, мы успели порадоваться
100-летнему юбилею Клода Леви-Строса (2008), великого
антрополога и гуманиста, родоначальника непрекращающихся споров
о роли структурных методов в познании человека, автора новой
идеи прав человека в мире других живых существ, и почтить его
память (30.10.2009) новыми работами о нем. 2014 год принес с собой
две памятные даты: 30 лет со дня смерти Мишеля Фуко (25.06.1984)
и 10 лет со дня смерти Жака Деррида (8.10.2014). Сейчас во
Франции идет публикация их трудов: так издание семинаров Фуко
в Коллеж де Франс уже почти завершено, а издание семинаров
Деррида за все годы его педагогической деятельности находится лишь
в самом начале пути, а всего предполагается издать свыше 40 томов.
Практически все эти новые книги сразу переводятся на английский
язык, и хотелось бы надеяться на подобную оперативность
российских переводчиков. Эти мыслители многое уловили не только в
истории западной мысли и культуры или в жизни экзотических
народов, но и в самоновейшей нашей современности, так что
разбираться с их наследием нам придется еще долго, если мы хотим
понять и других, и самих себя. Залпами вышли посвященные им
критические работы, которые я стремлюсь, по возможности, учесть
в тексте и в заключительном списке литературы. Иными словами,
«переводчикам всех стран» всегда будет, чем заниматься, а также
вокруг чего и во имя чего объединяться. А всем тем, кто обсуждает
весь огромный спектр вопросов, связанных с переводом, есть, ради
чего встречаться, даже если их взгляды на перевод радикально
разнятся. Не только в Москве, Петербурге, Париже и Берлине, но и во
Владивостоке, Нижнем Новгороде, Тюмени или Вятке возникают
См: Вольность и точность. Гаспаровские чтения. - 2014. М.,РГГУ, 2015.
Введение ко второму изданию 15
инициативы, публикуются на сайтах объявления, приглашения —
на семинары, конкурсы, конференции, посвященные
познавательным, информационным, коммуникативным аспектам перевода.
Сколько бы ни работали переводчики, работы им не
убавляется - не только потому, что нужно переводить новое, но и потому,
что ранее переведенное уже требует нового перевода. Перевода,
идеального на все времена и для всех читателей, не бывает. Каким
должен быть хороший перевод? Критериев много, все они так или
иначе строятся вокруг идеи точности-адекватности-эквивалентности.
Так как перевод — это пересоздание текста на другом языке и в
рамках другой культуры, то говорить о точности лишь можно с
известными оговорками. Как правило, для разных исторических периодов
критерии точности - разные, в зависимости от того, что считается
наиболее важным в переводимом тексте и как переводчик
воспринимает текст на чужом языке. И этот тезис учит переводчика,
который гордится участием в этой культурно-исторической
эстафете, скромности: я сделал все, что мог, пусть, когда будет
нужно, продолжат лучшие. И не случайно Барбара Кассен с коллегами,
в гигантском «европейском словаре философий» (о нем у нас речь
впереди) кладет во главу угла вопрос о «непереводимостях». В самом
деле, можно ли считать даже такие привычные философские
понятия, как mind, Geist, esprit и др., эквивалентными друг другу и тем
историческим прототипам — прежде всего логосу — с которыми они
некогда соотносились? Во всяком случае, со многими оговорками.
Однако непереводимое — это не абсолютный тупик, но встреча
с трудно переводимым, с тем, что требует все новых переводческих
усилий. Эта трактовка непереводимого мне очень близка; я провожу
ее в том разделе о переводе, который вошел в книгу, подаренную
мне друзьями и коллегами к юбилею1.
И вот буквально на днях я получила еще один подарок - в
издательстве «Диспут» в Загребе вышел в свет перевод этой моей книги,
«Познание иперевод», на хорватский язык. В этом молодом
активном издательстве, которое стремится в частности, знакомить
читателя с зарубежной научно-гуманитарной литературой, уже были
опубликованы переводы трудов Р. Якобсона, Э. Косериу, Э. Бенве-
ниста и других известных европейских исследователей языка и
культуры. Такое соседство для меня большая честь. А то, что моя книга
заинтересовала хорватских исследователей, означает, что проблемы
перевода и непереводимости мы, стало быть, решаем вместе, делясь
трудно добываемым опытом. Современные процессы
существования и развития языков в сложных геополитических ситуациях неиз-
^опосы философии Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост.
Б.И. Пружинин и Т.Г. Щедрина. М., 2015.
16 Познание и перевод. Опыты Филосоаяи языка
бежно обостряют потребность в выработке лингвистической
идентичности, в создании концептуальных языков, в
совершенствовании техник перевода1.
Конечно, перевод ставит перед нами не только
интеллектуальную задачу - теоретическую или практическую, но также
этическую: в нем реализуется (или не реализуется) этика языкового
гостеприимства. Я надеюсь, что и эта моя книга о переводе -
гостеприимна, что каждый найдет здесь что-то интересное для себя.
Она приглашает всех и вмещает очень разное. Когда мы говорим
о переводе как познании и познании как переводе - это всегда
познание Другого, осознание дистанции как часть герменевтического
опыта, но затем преодоление дистанции - чтобы включить смысл
конкретного текста в то наличное понимание, которое человек
может иметь о самом себе и о мире, в котором он живет. Перевод - не
субстанция, но отношение, контакт, взаимодействие — между
странами и культурами, между мирами. Он дает нам цивилизованные
средства разрешения человеческих конфликтов. Он дарит нам
драгоценное противоядие против аутоиммунных болезней, против
того, чтобы замыкаться в себе, в своем языковом и культурном ареале,
так как это ведет к вырождению человеческого в человеке и
культурного в культуре. Многочисленные исторические примеры
показывают, что при взаимодействии народов и культур более мудрой, а
потому в итоге и успешной, оказывается та сторона, которая
считает нужным учить другие языки и переводить труды другой культуры,
осознавая, что это не пустая трата времени и сил, но непременное
условие собственного здоровья и развития. Но для того, чтобы
принять такую установку, нужно увидеть в проблеме перевода
пересечение всех важнейших вопросов современного мира и прежде всего -
главный смысловой и энергетический ресурс для новых поисков
диалога и понимания между людьми.
1 Avtonomova Natalija. Spoznaja i prevodenje. Iskustva filozofijejezika / S rusko-
ga prevela S. Folnovid Jaitner. Redaktura prijevoda J. Uzarevic. Zagreb: Disput,
2016.
Введение
Все европейские философии, кроме, кажется, греческой,
возникали в процессе перевода с одного языка на другой, с одной
культуры в другую и связанного с этим творчества (так складывались
философские понятия и категории в латинском, итальянском,
французском, немецком и других языках). Несмотря на это,
философия не всегда замечала перевод как заслуживающую внимания
деятельность, равно как не всегда она замечала и проблему
языковых средств формирования мысли. Разумеется, «возникать в
процессе перевода» не значит «возникать только из заимствованных
слов и понятий». Для того чтобы философия могла возникнуть,
каждый раз нужны, помимо определенных социальных условий,
внутреннее побуждение, тяготение, определенное направление
умствования и, разумеется, та интенсивная работа претворения
чужого в свое, которая и находит свое наиболее яркое выражение
в переводе. В наши дни проблема перевода возникает на стыке
нескольких дисциплин — филологии, философии, истории, наук
о культуре, текстологии и др. Эта проблема, обычно казавшаяся
вспомогательной, технической, приобретает самостоятельный
статус. Перевод предстает не только как посредник в межкультурном
и межъязыковом обмене, но и как условие возможности любого
познания в социальной и гуманитарной области. Обычно обращают
внимание на роль перевода в развитии национальных литератур,
в расширении приемов художественного творчества. Мой акцент
иной - на философском и научном переводе, на его роли в
создании понятий, концептуальных систем, философских языков.
Заглавие этой книги звучит непривычно. Почему — отчасти
понятно. Слова «познание» и «перевод» вместе, как правило, не
употребляются1: познание чаще всего изучают как мыслительную
деятельность или социальный институт, а перевод — как
лингвистический или культурный феномен. Подчеркивая здесь
взаимосвязь познания и перевода (познание как перевод и перевод как
познание), я хочу вывести в свет общего внимания огромное про-
1 Мне известна лишь одна - немецкая - книжка с таким названием, написанная
с позиций когнитивизма: Wils W. Kognition und Übersetzung. Zu Theorie und Praxis
der menschlichen und maschinellen Übersetzung. Tübingen, 1988.
18 Познание и перевод. Опыты Философии языка
блемное поле, которое обычно, будучи скрыто от нас другими
словами, категориями, понятиями, утоплено как подводная часть
культурного айсберга... На самом деле тезис о познании и/как
переводе не такой уж странный. Еще Платон в «Теэтете» фактически
утверждал, что познание есть способ языкового выражения
опыта, точнее — перевод мнений в словесную форму. В этой
процедуре есть нечто такое, над чем мы обычно не задумываемся, однако
перевод прямо связан с потребностями работающей мысли. Тема
познания и перевода интересует меня всю жизнь — как филолога
и как философа. В отличие от Тихо Браге, у меня не было
обсерватории, куда нужно было бы каждый день подниматься для
наблюдений над звездным небом, но зато у меня есть другая
лаборатория — для наблюдений за жизнью языка и мысли, выраженной
в языке (языках)1, и я приглашаю всякого, кто захочет, в неё
войти. Впрочем, и входить в эту лабораторию не надо - мы всегда уже
в ней находимся, только, как правило, не даем себе в этом отчета.
В ней накапливается трудный опыт (как положительный, так и
отрицательный) познания и перевода.
Эта лаборатория находится на пересечении многих дорог
и многих дисциплин. Связь познания и перевода затрагивает
разные области культуры — философию, филологию, лингвистику,
психологию, историю идей и пр. Таким образом, перевод
оказывается поистине междисциплинарным предметом, хотя, к
сожалению, островки разных знаний о переводе порой слабо связаны или
вообще не связаны друг с другом. Для исследования каждой из
перечисленных выше областей практика перевода и его осмысление
дают ценный материал, который невозможно получить никаким
иным путем. Так, практика перевода научной и философской
литературы и опыт дискуссий со специалистами, для которых язык
оригинала является родным (у меня была счастливая возможность
таких дискуссий), вводят в действие смысловые элементы,
которые не зафиксированы ни в каких словарях. В ходе этих
обсуждений постепенно нарабатывается новый слой дискурсивной
соотнесенности языков, культур, способов мысли, выводятся в свет
сознания ранее не осмысленные взаимосвязи, выковывается (или
ткется, как ковер, одновременно с разных концов и с разных
сторон) общая сфера соизмеримости опыта, такой культурной
умопостигаемое™, которая не только не противоречит критериям
рациональности, но и поддерживает их. В таких дискуссиях носители
1 В русском языке имеется одно неудобство: языковая способность как таковая
и отдельные конкретные языки именуются одним и тем же словом - язык, тогда
как во французском, например, эти инстанции различаются и нет необходимости
постоянно уточнять — в языке как таковом или же в конкретных языках...
Введение
19
разных языков вместе переправляют текст через культурные и
концептуальные границы: один довозит переводимое до середины
реки, а другой подхватывает и препровождает его на другой берег.
Но, конечно, гораздо чаще всю работу перевозчика приходится
делать одному человеку. Располагая этим трудным опытом
культурного перевозчика на стыке дисциплин, я надеюсь, что изучение
темы «познание и перевод» в чем-то продвинет вперед работу по
созданию пролегомен к общей теории перевода — этого
связующего звена между различными сферами мысли и культуры.
Иногда думают, будто перевод — это школярская,
второстепенная работа, например, одна из форм обучения иностранным
языкам. С известным пренебрежением относятся к переводу и
некоторые философы. Зачем учить чужие языки? Диссертацию
о Ницше можно написать и не зная немецкого: ведь философские
смыслы не зависят от их языковой оболочки, так пусть с
переводами ковыряются филологи и преподаватели иностранных
языков. Есть и другие сходные рассуждения: мысль существует
в принципе вне языкового панциря, а язык — это сфера
неподлинного: так зачем же им специально заниматься? Философская
мысль должна оградить себя от всего случайного и ненужного, ее
цель - общаться на уровне смыслов и поверх языковых различий,
а потому перевод философии, собственно, и не нужен. Читая
переводной текст, мы и в самом деле нередко забываем о его
переведенное™ и ссылаемся, например, на Платона так, как если бы он
изъяснялся по-русски. Но ведь такая забывчивость — как раз
и есть свидетельство некоторой эпистемологической наивности.
Это, конечно, вовсе не значит, что мы должны стать полиглотами
и научиться читать на всех языках мира, однако учесть в строе
своих размышлений о любых философских предметах этот момент
перевода, перевоза и переноса1 наших идей, конструкций,
выражений было бы полезно, а подчас — просто необходимо.
Понятие перевода (с языка на язык) не сразу сложилось в
истории, хотя сейчас оно кажется нам само собой разумеющимся2. В слу-
1 В русском и других европейских языках на первом плане именно эта троица
основных понятий - « перевод», « перенос», « перевоз» , акцентирующих внимание на
разных аспектах переводческого действия - « вести за собой», « нести на себе», «
везти в повозке» и др. На уровне бытового языка, отметим, русское слово « перевод»
употребляется, например, когда мы говорим о пересылке денег, о переводе стрелок
часов, о переводе на другую должность или в следующий класс, о выражении
определенных количеств в других мерах или единицах. Когда мы плохо используем что-
то ценное, говорят: « добро переводят» ; когда, напротив, хотят похвалить хорошее
ведение дел или материальную удачу, говорят: « у них [нечто] не переводится» .
2 Ср. в латинском: глаголы vertere (поворачивать), exprimere (выжимать), reddere
(отдавать), transferre (переносить, перевозить), imitari (подражать), traducere (ne-
20 Познание и перевод. Опыты Философии языка
чае межъязыковом переводить — значит «перелагать, переносить из
одного языка в другой», давая тем самым эквивалент текста или
высказывания1. Но, спрашивается, что такое эквивалент? Попробуем
перефразировать эту мысль: перевести — значит «сказать то же самое
на другом языке». Однако замена «эквивалента» на «то же самое»
мало что меняет: что значит «то же самое»? К чему относится перевод -
к мыслям, словам, замыслам, воздействиям, реалиям или еще к
чему-то? Какими средствами мы его постигаем? Если
семиотическими, поиск эквивалентов будет далее разветвляться на синтаксис,
семантику, прагматику, семантика потянет за собой проблемы
референции, универсалий, возможности воплощения идеальных
значений в терминах конкретных языков и т. д.: при этом цепочка
проблемных расширений здесь только начинает развертываться.
На первый план в процессе перевода могут выходить различные
функции языка — референциальная, экспрессивная, коннотатив-
ная, поэтическая и др. Иначе говоря, у нас нет «того же самого»,
которое бы относилось разом ко всем уровням переводимого текста.
К тому же перевод может рассматриваться не только в узком
(или «собственном»2), но и в широком смысле слова. И тогда
переводом можно будет назвать, вслед за Романом Якобсоном3,
не только межъязыковой перевод, но также перевод внутриязыко-
ремещать, проводить) и другие могли также означать «переводить» - с языка на
язык. Специалисты утверждают, что греческий глагол «ellenizein» стал значить
«переводить на греческий» лишь во времена перевода библейских текстов, тогда как
раньше совмещал значения «говорить по-гречески» , «правильно говорить» и даже
«вести себя как свободный цивилизованный человек» - то есть «вести себя
по-человечески». А в немецком, например, существует несколько глаголов, означающих
те или иные формы перевода (dolmetschen, übertragen, übersetzen, überliefern),
причем именно от глагола «dolmetschen» образовалось русское «толмач» . И если
германское «überliefern» подчеркивает положительную связь перевода с передачей
наследия, с традицией (именно этот смысл обыгрывают и Хайдеггер, и Гадамер),
то романское «traducere» (ср. итальянскую поговорку traduttore-tradittore -
«переводчик-предатель» ) вносит в перевод смысловой обертон «неверности». И все это
лишь крошечные фрагменты головокружительной мозаики смыслов, роящихся
вокруг идеи и практики перевода.
1 Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 28.
2 И тогда речь идет об отрыве слоя означающих от означаемого и
переформулировании, переодевании содержания в другие одежды - языковые, культурные.
При этом ни один перевод никогда не переводит все, что содержится в оригинале,
и каждый перевод добавляет нечто от себя. Поэтому при переводе всегда важно
осознание компромисса и отсутствие иллюзии схватывания всего сразу и целиком.
3 Именно Роман Якобсон предложил классификацию видов перевода
(внутриязыковой, межъязыковой и межсемиотический), которая стала классической:
Jakobson R. Linguistic Aspects of Translation // Brower R.A. ed. On Translation.
Cambridge (Mass.), 1959.
Введение
21
вой (перифраза1) или межсемиотический (между разными
коммуникативными системами, например из романа в фильм)2. Еще один
слой переводческой проблематики - это перевод между
концепциями: к нему обращается, например, Томас Кун в поисках выхода из
тупика несоизмеримости теорий3; хотя, по его признанию, эта цель
не была достигнута, само направление поиска для нас
показательно. Однако есть и еще более широкий круг перевода — когда речь
идет не о переводе из одной языковой (семиотической, дискурс-
ной) системы в другую, но о переводе опыта невербального в
артикулированную форму. Такого рода переводы привлекали внимание
Ю. Лотмана, который фактически считал переводом любой акт
мысли, а в общекультурном плане видел отношение перевода
между всей сферой семиозиса (культурой) и реальностью
(феноменальной или ноуменальной), с которой она соприкасается.
Вся эта палитра смыслов перевода участвует в наших
размышлениях о познании и переводе, внося свой вклад в обсуждение
огромного количества научно-гуманитарных и философских
проблем. Прежде всего, акцент на понятии «разные языки» в связи
с переводом заставляет нас взглянуть на философию как на особый
язык (языки), особый способ письма, который не дается нам
спонтанно и интуитивно, как родной язык. В этом смысле
философский язык для нас в известном смысле нам «чужой», и ему нужно
учиться, его нужно культивировать и разрабатывать. Далеко не все
с этим согласятся. Глубокий мыслитель и опытный переводчик
В.В. Бибихин, например, считал, вслед за Хайдеггером, что
философский язык произрастает сам собой, если ему не мешать, и в
него нужно только вслушиваться, отодвинув как можно дальше
теоретические подходы к языку, приемы лингвистики и семиотики.
В этом смысле его блестящие переводы подчас оказывались не
столько переводами, сколько записями тех интуиции, которые
диктовал ему освобожденный от исследовательского отношения
язык. Напротив, я подчеркиваю здесь познавательные,
дискурсивные, интерсубъективно значимые аспекты перевода и вижу в
переводе, прежде всего, помощника работающей мысли. Конечно,
1 Когда мать понятным образом разъясняет ребенку значения слов, - это тоже
перевод. Ср.: Пас О. Перевод (1975) // Перевод - средство взаимного сближения
народов. М., 1987. С. 159.
2 Лотман расширял эту область межсемиотического перевода, включая в нее
эпистемологические отношения между языками-объектами и языками описания,
соотношения между семиотическими системами как языками культуры и даже -
между различными уровнями культуры (семиосферы).
3 Кун Т. Дополнения 1969 года. Раздел 5: Образцы, несоизмеримость и
революция // Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 249-257.
22 Познание и перевод. Опыты Филособии языка
в переводе неизбежно присутствуют интуиция, искусство,
личностная вовлеченность. Но для меня все эти важные аспекты
перевода подчинены познанию, причем и сам перевод выступает как
особого рода познание, которое претворяет опыт в вербальные
формы, подталкивает к смене этих форм; в конечном счете
перевод — в его узкой и в его широкой трактовке - проявляет себя как
своеобразный рефлексивный механизм, позволяющий по
аналогии исследовать и другие механизмы научно-гуманитарной мысли.
Когда философия заметила в себе не только то, что она
работает с языком, но и то, что она сама является языком, письмом, что
она существует в формах тех или иных национальных языков, это
стало подчас восприниматься как удар по рациональности и
всеобщности мысли. Раз философская мысль выражена в языке,
значит универсально значимое пропущено в ней через исторически
конкретные структуры языковых форм, накладывающие на нее
свой отпечаток, и по сути доступа к универсальному у нее нет.
Но все это — не вариация доводов Сепира и Уорфа относительно
отпечатка, который язык накладывает на мысль и мировоззрение
людей: в известной степени этот тезис верен, а в
абсолютизированной форме — абсурден. Так называемую проблему
непереводимости по-разному ставили в зависимости от своих общих
философских предпосылок позитивисты-аналитики и герменевты,
Куайн и Гумбольдт, Кроче и Бланшо, а также целый ряд других
мыслителей. Каждый из них фиксировал свою грань проблемы
(так, Куайн подчеркивал ненадежность механизма проверки
наших суждений наблюдением за функционированием чужого
языка, Гумбольдт - различие языковых картин мира и способов
формирования мировоззрения, зависящего от этих картин, и др.).
Таким образом, непереводимостей может быть много. Каждый
перевод и каждый переводчик сталкивается с непереводимым,
но из этого вовсе не следует, вопреки тому что теперь иногда
утверждается, что непереводимое становится новой
универсалией. Как работают парадоксы непереводимости и какие стратегии
мы можем им противопоставить — это я надеюсь показать во
втором разделе книги.
Что дает философии и гуманитарным наукам взгляд на
познание сквозь призму перевода? Прежде всего - иное представление
о способах существования научно-гуманитарных объектов: это
новая несубстанциальная онтология, предполагающая осознание
непервозданности (переведенности, переложенности,
пересказанное™, переформулированности) объекта. Но дело не только
в онтологии и образах бытия: затрагивая все сферы человеческой
деятельности, перевод выступает также как средство познания,
как условие возможности рефлексии о научно-гуманитарных
Введение
23
предметах. Перевод не подменяет другие проблемы, но вносит
в их постановку новые аспекты динамики, становится стимулом
к выработке концептуальных языков. Вскрывая обычные для
функционирования человеческой мысли механизмы субстанциа-
лизации и эссенциализации терминов и понятий, он позволяет
конструктивно критиковать их, вносить в их понимание
исторические сдвиги, динамику мира человеческой мысли. Перевод
нужен для современной философии, и тем более он необходим для
тех разновидностей философии (в Европе их большинство),
которые считают историю философии основанием современного
философского рассуждения.
Я полагаю, что перевод лежит в фундаменте любого
человеческого действия: так всегда и было, только на это не обращали
внимания. Деррида некогда сказал: везде письмо. Я говорю: везде
перевод, хотя и не могу согласиться с тезисом о том, что оригиналов
не существует. Просто в культуре никто, ничего, нигде и никогда
не сказал в первый раз. При этом в анализе механизмов перевода
нередко бывает заметно то, чего обычно не удается увидеть в
других формах и видах познания: а именно как различные слои
и фрагменты опыта переходят из сферы неявного и
невыраженного в регистр того, что доступно операционализации и
интерсубъективной проверке. Именно на этом пути эпистемология
перевода вырабатывает свои средства против эссенциалистского
гипостазирования тех или иных морфологических структур
языка, тех или иных сторон языковой семантики — тенденций,
подпитывающих позицию непереводимости. Перевод дает то, что
можно назвать продуктивной релятивизацией познавательного
предмета в гуманитарном познании: он предполагает отрыв от
наивной сращенности предмета и слова и показывает, что эта связь
гораздо сложнее, чем мы думаем.
В современной философии повсюду идет борьба за
актуальность, она идет и в России. Что сейчас самое важное в философии,
сохранившей, несмотря на все катаклизмы и метаморфозы,
динамику и заинтересованность в происходящем: этика, эстетика,
философия науки? Что вообще значит для философии «настоящее»,
«актуальное», современное? Сорок лет назад в знаменитой «статье
трех авторов» - Мамардашвили, Соловьева и Швырева1 — была
сделана попытка определить это, придав вес и значение тем
росткам нового, которые тогда еще в России были мало кому заметны
из-за стен, разделяющих культурное пространство Европы.
1 Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Классика и современность:
две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия и наука. М., 1972.
С. 28-94.
24 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка
Для людей того времени это была наиболее радикальная попытка
наметить болевые точки социально-культурного пространства,
обнаружить места интенсивного роста, прописать соотношения
нового, «неклассического», с европейской философской
традицией в изменяющемся мире. В наши дни, в середине второго
десятилетия нового века, ощущается насущная потребность уловить
и сформулировать новые схематизмы, определить соотношения
основных мыслительных сил и тенденции их развития. Если в
схеме трех авторов современная философия представала в двух
главных формах - как критико-рефлексивная и как этико-гумани-
стическая, то вскоре стало заметно, как быстро размывается
абстрактная чистота этих типов: возникали все новые и новые
скрещения проблематик — феноменологии и герменевтики,
феноменологии и семиотики, герменевтики и структурализма и др.
В статье трех авторов внимание к языковой проблематике
выступало как одна из характерных черт неклассического этапа
в развитии философии; однако наша нынешняя, современная
неклассика уже успела отойти от понятия языка — как слишком
организованного, структурированного, законосообразного —
устремившись в сторону воображения, жизненных энергий, всего
спонтанно растущего, «ризоматического»... Общие процессы
эстетизации завышают обще культурное значение экспериментов
в современном искусстве, подрывающих вербальные
составляющие культуры в пользу визуально-образных. В гносеологии это
все больше приводит к вытеснению эпистемического
эстетическим. Это особенно характерно для постмодернистской
мыслительной схематики, которая представляет собой не особую
философию, но умонастроение некоей переходной стадии, находящее
различные формы выражения. Опыт постмодерна не заслуживает
ни обожании, ни проклятий: в нем выражена симптоматика
реальных проблем. Однако сейчас все заметнее становится
зависание постмодернистских мыслительных схем, повторение
холостых ходов, а потому тем актуальнее становится задача
присмотреться и к настоящему, чтобы разглядеть в нем ростки иного,
и к прошлому, чтобы заметить в нем неиспользованные ходы
мысли. Сейчас, когда эпистемологии приходится доказывать свое
право на существование в споре с политической философией,
социальной философией, философией культуры, истории, религии
и даже с мифопоэтикой в ситуации общей эстетизации мысли
(культ новых впечатлений, созерцания, разглядывания, те или
иные формы апологии непосредственного удовольствия),
разработка проблем, связанных с языком и переводом, дает
эпистемологии новый материал и новое дыхание, становится для неё
вызовом и поводом для обнаружения в себе новых возможностей.
Введение
25
Проблема познания и перевода представляет собой последнее,
наиболее актуальное звено философской проблематизации
языка - после понимания, коммуникации и диалога. Когда-то
лингвистический поворот воплощался, в частности, схемами
аналитической и лингвистической философии. Сейчас мы находимся
в уже более продвинутом этапе «неклассики»; его доминантой
стала неподконтрольная интертекстуальность — умножение
роящихся текстов и их взаимопересечений без конца и без начала.
Механизм перевода создает некоторый противовес этой
неуправляемости. Новое здесь — не сама работа перевода, которым люди
занимаются, наверное, столько же, сколько существует человек,
но осознание ее актуальности — в контексте общей проблематики
посредников мысли и действия, разросшейся в самостоятельную
сферу. Да, в истории познания были моменты, когда казалось, что
можно изучать историю идей, отвлекаясь от языка как от их
несущественной оболочки и рассуждая лишь о географических и
культурных перемещениях тех или иных концептуальных сущностей.
Такое рассмотрение, как правило, тяготело к
каузально-детерминистским схемам в понимании интеллектуальной истории. Теперь
такое понимание поставлено под вопрос. Для современного
исследовательского взгляда очевидно, что знание может
«циркулировать» лишь в конкретных языковых формах, которые его содержат,
поддерживают и в чем-то определяют. Из этого многое следует.
Главное - необходимость перевода и обеспечение трансмиссии.
Перевод - это передача содержаний и смыслов, созданных в одном
языке и культуре, средствами другого языка и культуры.
Осуществляется ли такая передача — это зависит от многих причин;
некоторые из них будут далее рассмотрены.
Перевод, как теперь становится понятно, всегда предполагает
пересечение границ - но не только языковых, что всегда было
более или менее очевидно, но также культурных, социальных,
исторических и проч. Перевод никогда не осуществляется одним
простым и однозначным движением. Он предполагает целый ряд
взаимосвязанных операций и прежде всего — ту или иную форму
интерпретации. Перевод, интерпретация, те или иные способы
рецепции мысли, запечатленной в текстах, все это - формы
посредничества, роль которых в культуре постоянно растет. Вместе с тем
внимание к той стороне знания, которая связана с переводом,
интерпретацией, показывает нам, что знание - особенно в
гуманитарных и социальных науках — есть феномен гораздо более
сложный и объемный, чем мы привыкли думать. В него входят не
только предметные содержания, но и те слои смыслов, которые
привносятся социально-культурными предпосылками, а также
переводческими выборами тех или иных слов и понятий, направляю-
26 Познание и перевод. Опыты Философии языка
щих наше понимание текста. Это относится прежде всего к
переведенным текстам культуры, но также и к собственным её текстам,
включающим те или иные когда-то переведенные понятия,
которые вошли в язык и мысль и уже успели стать «своими». В рамках
этой ненатуралистической эпистемологии вопрос о
соизмеримости различных способов познавательного опыта встает по-новому:
он требует учета динамики знания, которое путешествует как
в пространстве (из контекста в контекст), так и во времени.
При этом даже моменты языкового и культурного «непонимания»
в процессе «циркуляции» знания могут быть продуктивными, если
они осознаются как таковые, а не маскируются иллюзией
совершенного диалога с другими народами и эпохами.
Я думаю, что поставленный мною вопрос о познании и
переводе — исключительно актуален. И что осознание этой актуальности
нарастает - и в России, и на Западе. Однако именно в России
в связи с ее особым культурным опытом, с открытием границ к
современной западной мысли в течение последних десятилетий, эта
проблематика приобрела исключительное значение. То, что мне
довелось участвовать в этом процессе и как посреднику между
культурами, и как человеку с двумя профессиональными
квалификациями - философской и филологической, сделало меня
носителем опыта, имеющего не только личное, но и более общее
значение. Этот нарочито заостренный смысловой акцент «всё -
перевод» позволяет по-новому ставить проблемы как в
философии, так и в научно-гуманитарном познании. На Западе много
обсуждают перевод, однако нередко уходят при этом в
«маргиналии»: это перевод особенно сложных для перевода произведений
(таких, как Джойс или Хлебников), это перевод с редких языков
или же, особенно в Америке, языков меньшинств; возникает
и проблема глобального английского, причем она ставится как
извне, так и изнутри англоязычного культурного мира. Напротив,
в России сейчас обсуждение перевода — это не столько
обсуждение маргиналий или же перспектив глобалистики, сколько задача
реапроприации, реабилитации, выработки основного состава
проблемной концептуальной лексики, без которой мысль не
может ни дышать, ни говорить.
Таким образом, если определить мой подход
терминологически, можно будет сказать, что это рефлексия о познании и
переводе, которая носит одновременно эмпирико-трансцендентальныи
и историко-эпистемологический характер. Это значит, что она
немыслима вне конкретного опыта познания и перевода и вместе
с тем невозможна без попытки понять условия возможности
этого опыта. Это также значит, что она опирается на историческую
ситуацию, но делает из ее осмысления выводы, существенные для
Введение
27
познания в целом и для эпистемологии как учения о познании.
Полагаю, русской мысли на этом этапе довелось почувствовать то,
что важно для всех, но что острее всего ощущается здесь и
теперь - в высококультурной европейской стране, преодолевающей
огромные концептуальные дефициты и осваивающей свой и
чужой исторический познавательный опыт. Все это и приводит
к проблематизации перевода как первостепенной философской
и научно-гуманитарной задачи.
Философский текст всегда экзистенциален, связан с жизнью
того, кто пишет. Одни говорят об этом открыто, другие пытаются
это скрыть на уровне высоких абстракций и выверенных
методологических программ. Однако движение проблематики, которую
я анализирую, основано на обеих формах опыта -
экзистенциальной и познавательной. Можно сказать, что эту книжку, которая не
является законченной структурой и сохраняет в себе повороты
мысли и сомнения, я писала всю жизнь: начала давным-давно
и никогда не закончу, даже поставив в этом тексте последнюю
точку. С детства переживание различных ситуаций человеческого
непонимания поселяло во мне некое тогда еще неявное
упование - надежду на язык как таковой и на разные человеческие
языки как главный путь выхода из этих провалов. Самым первым
опытом самостоятельной работы в университете было для меня
сравнение стиля и образов в сонетах Шекспира и в их русских
переводах Маршака, которые считались тогда примером удачного
пересоздания английского шедевра на русской культурной почве.
Моим неофициальным руководителем был талантливый, но
непризнанный молодой ученый М. Гаспаров. Он учил меня тому,
что для большинства университетских преподавателей было
«образцом того, как не надо было делать». Наша совместная работа,
использовавшая все самые надежные для того времени средства
текстологического анализа, показала, что этот «идеальный»
русский перевод вводил на место шекспировской страстной
барочной лексики общераспространенные клише эпохи русского
романтизма, которые производили на советского читателя
40-х годов впечатление спокойствия и умиротворенности.
Публикация этого исследования1 вызвала возмущение моих
преподавателей на кафедре английского языка, мои надежды на
филологическую аспирантуру рухнули, и мне пришлось искать других
исследовательских путей. Словом, получилось так, что именно
1 Автономова Н.С., Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира - переводы Маршака //
Вопросы литературы. М., 1969. № 2 ; перепеч., напр., в: Гаспаров М.Л. Избранные
труды. Т. II. М., 1997. С. 105-120.
28 Познание и перевод. Опыты Философии языка
проблема перевода вытолкнула меня из филологии и привела
в философию.
То, что меня больше всего увлекло в философии, не
существовало тогда ни в русском языке, ни в русской культуре: работа с
текстами так называемого французского структурализма и
постструктурализма требовала продвижения по целине. Тексты этого нового
направления научно-гуманитарной и философской мысли, к
счастью, были тогда доступны в библиотеках или через
межбиблиотечный абонемент1. Все они требовали прочтения, интерпретации,
понимания, но также и просто пересказа, поиска словесных
эквивалентов основным понятиям в русском языке, а также поиска
понятий, посредством которых можно было бы описать эту
проблематику (такими понятиями — отчасти заимствованными, отчасти
изобретенными по мотивам прочитанного, стали для меня прежде
всего понятия децентрации, опосредованное™, преломленности).
Таких образом, еще до того, как стал возможным «перевод-для-
других», мой предмет уже существовал как объект «перевода-для-
себя». В работе с переводом я видела путь к общезначимому: поиск
этого пути был не внешней задачей, а внутренним побуждением.
Вся моя дальнейшая работа так или иначе сопрягала познание
и перевод на всех этапах. Кандидатская диссертация,
посвященная французскому структурализму, была для меня не только
переводом с языка на язык, но и переводом из культуры в культуру,
с одного строя концептуальных предпочтений в другой. Все
работавшие в то время знают, что непременным условием публикаций
о современной западной философии был тогда более или менее
явный перевод западных концепций в терминологический язык
марксизма. Думаю, что мне тогда удалось ухватиться за такие
средства концептуального перевода, которые выводили за рамки
любой догматики: это было прежде всего разработанное Мамар-
дашвили на основе Марксовых идей понятие превращенных форм
сознания и деятельности, сохраняющее свою эвристическую
ценность и поныне. Но дело вовсе не ограничивалось
необходимостью (частичного) перевода проблематики в
условно-марксистский язык. Из-за долгого периода отрыва от современной
западной мысли в 1930 - 1980-е годы в российской культуре
образовался дефицит слов и терминов, способных переводить
западный мыслительный опыт, причем это относилось даже к тем на-
1 Так, в начале 1970-х из Французской национальной библиотеки мне исправно
доставили Ecrits Лакана: в течение месяца я могла пользоваться книгой в
читальном зале, а потом, сделав микрофильм, ее отослали в Париж: всякий, кто видел
этот почти тысячестраничный том, догадается, что вглядываться в Лакана на
маленьком экране проекционного аппарата было нелегко.
Введение
29
правлениям, которые когда-то ярко начинали в России, например
феноменологии и психоанализу. Соответственно, из-за
отсутствия наработанных традиций перевода их приходилось потом
отчасти восстанавливать, отчасти изобретать.
В последнее десятилетие прошлого века произошли
радикальные преобразования социальной и политической жизни России.
Ранее закрытые шлюзы открылись, и на месте некогда скудного
ручейка переводной литературы разлилось целое половодье. Главной
составляющей этого потока была современная западная мысль,
почти не переводившаяся в советское время. Перевод стал одним из
самых востребованных занятий в культуре. На головы читателей
одновременно обрушилась вне какой-либо логической и
хронологической последовательности масса информации. Вместе с тем
становилось все более очевидно, что одно наличие переведенных текстов
в книжном магазине еще не обеспечивает их восприятия и
усвоения, не включает их спонтанно в процесс культурного и
интеллектуального взаимодействия людей, что помимо перевода важна и
рецепция - слов, понятий, концепций. Опыт работы за рубежом
показал мне, что в принципе сходная проблема рецепции
существует в любой стране, не только в России: например, восприятие
работ русских мыслителей (Бахтина, Лотмана или Выготского) тоже
зависит от качества переводов и комментариев, от механизмов и
обстоятельств межкультурной рецепции. Так, продолжительный
период работы в Международном философском коллеже (Париж),
где я была избранным директором программы «Русский язык под
влиянием современной западной мысли» (1998—2004) 19 вывел ме-
1 По-французски: «La langue russe à l'épreuve de la pensée contemporaine
occidentale». На русский язык это название оказалось практически непереводимым: не
надо говорить о культурном «испытании» русского языка западной мыслью
(французское слово épreuve значит, в частности, испытание), нужно постоянно
подчеркивать не момент воздействия, а момент взаимодействия, говорили мне
коллеги. Однако у меня есть и союзники, например Вяземский, который по
настоянию Пушкина тоже разрабатывал русский концептуальный язык (Пушкин
говорил «метафизический язык» и имел в виду абстрактную лексику; об этом
подробнее во втором разделе). Помимо желания познакомить русских читателей
(и писателей) с новым французским романом - речь шла о романе Б. Констана
«Адольф», «...имел я еще мне собственную цель: изучивать, ощупывать язык наш,
производить над ним попытки, если не пытки [так что можно сказать, что заглавие
моей программы «Русский язык на испытании современной западной мыслью»
подсказал мне не кто-нибудь, а П.А. Вяземский. - прим. мое. — H.A.], и выведать,
сколько может он приблизиться к языку иностранному, разумеется опять без
увечья, без распятья на ложе Прокрустовом. Я берегся от галлицизмов слов, так
сказать синтаксических или вещественных, но допускал галлицизмы понятий,
умозрительные, потому что тогда они уже европеизмы...». См.:
Вяземский /I.A. Адольф. Роман Бенжамен-Констана. От переводчика ( 1831) // Перевод -
средство взаимного сближения народов. М., 1987. С. 35.
30 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ня к пониманию того, что речь в культуре, взятой как целое,
разумеется, идет не об однонаправленном переводе, но прежде всего
о взаимопереводимости текстов, концепций, понятий, культур,
языков.
Одним из важнейших для современного культурного и
интеллектуального развития России я считаю вопрос о формировании
и развитии русского языка понятий, или иначе —
концептуального языка. 2007 год был объявлен годом русского языка1;
немалые усилия прилагаются к тому, чтобы защитить права его
носителей в ближнем или дальнем зарубежье, в диаспорах, везде, где
русский язык не является (или перестал быть) государственным
языком, а возможности получения образования на этом языке
серьезно урезаны или же практически отсутствуют. На фоне
активно провозглашаемого возрождения фольклорных, мифопо-
этических и иных традиций в преподавании русского языка и
литературы (или, как сейчас стали говорить, словесности) в самой
России практически не уделяется внимания преподаванию
русского языка как инструмента мысли, средства для ведения
дискуссий. В этой книге речь идет не о литературном, а о научном
и философском переводе, а потому на самое видное место
выдвигается задача формирования концептуальных средств
русского языка. В период решающего культурного перелома,
который мы сейчас переживаем, эта работа должна осуществляться
не только как спонтанное расширение словаря понятий,
позволяющих отечественной культуре взаимодействовать с другими
культурами, но именно как осознанная и целенаправленная
работа. Сейчас мы переживаем такой культурный период, когда
язык находится в состоянии расплавленной лавы, податливой на
изменения, а потому от этих формирующих усилий зависят
концептуальные возможности языка не только в настоящем,
но и в будущем. Начав с анализа чужих переводов, принявшись
затем за работу над собственными переводами научных и
философских текстов, я переходила от анализа конкретных случаев
к общей проблематике перевода как особого рода практики и
познания. Редкой жизненной удачей была для меня работа в
секторе теории познания Института философии РАН, который являл
яркий и редкий (и в прошлом, и в наши дни) пример достойного
сосуществования людей, говоривших в философии на разных
языках. А потому опыт философского разноязычия и сейчас ка-
1 Это было сделано по указу президента РФ; в рамках года русского языка
проводились различные культурные и научно-практические мероприятия, в которых
официально участвовали представители многих зарубежных стран, в частности,
Финляндии, Китая и др.
Введение
31
жется мне гораздо более плодотворным, чем попытки
консолидироваться по типу одноязычных кружков, принимающих язык
и проблематику лидера и обороняющихся от всего того, что
находится вовне.
В книге два раздела. Первый посвящен проблеме языка и
познания, второй — проблеме перевода и рецепции. Познание и
перевод скрепляются языком как связующим звеном. Первый
раздел имеет дело с той гранью проблематики, где речь идет о языке
и познании, этой первой ступени лингвистического поворота.
Здесь я ставлю вопрос о значении структуры для современной
научно-гуманитарной методологии, об оценке структурализма как
историко-научного явления. Вопросы, связанные с судьбой
гуманитарных наук, с перспективами и горизонтами философии,
стоят сейчас иначе, чем двадцать или сорок лет назад, — в чем-то
радикальнее, в чем-то, напротив, размытее и невнятнее.
Применение структурных методов в истории гуманитарного познания
XX в. было мощной попыткой превращения языка в объект
научного познания, а затем — распространения языковой
методологии на другие области познания человека и общества. В наши дни
эта тематика, которая может уже показаться архаичной,
отжившей, приобретает актуальное звучание. Отчасти это видно во
Франции, где публикуются новые работы о судьбе
структуралистского наследия. Но еще более это заметно в России, где
рецепция содержаний, связанных со структурными методами и их
постструктуралистскими идеологическими изводами, стала
массовой совсем недавно - в связи с выходом в свет переводов
главных работ этого направления. Спецификой ситуации является их
рецепция сквозь призму американских взглядов и прочтений.
А потому нам предстоит заново проанализировать
археологические слои даже такого, относительно недавнего прошлого.
В любом случае встает важный вопрос: что есть структура
сегодня?
Сама эта формула - «познание и язык» — может наполняться
разным содержанием в зависимости от того, идет ли речь о
познании языка как предмета, о познании другого предмета с помощью
языка, о познании другого предмета с помощью методов познания
языка, о схватывании несобственно языковых содержаний с
помощью общей языковой аналогии, языковой метафоры и др.
Примерами анализа этих проблем станут концепции
классического структурализма (Леви-Строс), постструктурализма (Фуко,
Деррида) структурного психоанализа (Лакан). При этом я
пытаюсь хотя бы в какой-то мере заполнить пробел, который
возникает в результате современных тенденциозно политизированных
или эстетизирующих трактовок концептуального наследия этих
32 Познание и перевод. Опыты (Ьилосоажи языка
мыслителей. Для меня все они интересны прежде всего в плане
эпистемологическом, наименее изученном, как свидетельство
появления новых конструкций субъекта и объекта в гуманитарном
познании - на стыке философии с другими областями. Особой
задачей является анализ своеобразного перевода бессознательного
в язык, совершенного Лаканом и его последователями. Познание
бессознательного, с точки зрения классической теории познания,
это парадоксальная и неразрешимая задача: трактовка
бессознательного как особого рода языка стала концептуальным ответом
на этот парадокс. Однако перевод бессознательного в язык
осуществим лишь отчасти: за пределами возможного перевода остается
эмоция, аффект, суггестия и другие явления, не сводимые к
языковым даже в самом широком смысле слова. Немало актуальных
вопросов возникает в связи с приобщением современной
российской культуры к психоаналитическим движениям и практикам.
Возникает, в частности, задача формирования
психоаналитического языка, русскоязычной терминологии, которая могла бы
справиться с изобилием новых содержаний и подходов,
обеспечить их осмысленную переработку и освоение.
Во втором разделе книги - «Перевод, рецепция, понимание» -
две большие главы: первая посвящена проблеме перевода и
рецепции - в основном тех авторов, чьи концепции мне довелось
переводить самой, вторая строится вокруг тех теоретических и истори-
ко-эпистемологических проблем, которые возникают в связи
с переводом и рецепцией новых культурных и концептуальных
содержаний. При этом вопрос о переводе трактуется в духе
умеренного оптимизма: различные познавательные и лингвистические
затруднения бросают нам вызов, подталкивают к обсуждению
подчас головоломно трудных проблем. Однако разнообразные
попытки их решения дают возможность накапливать опыт перевода,
который не может отменить вавилонских разрушений, но
позволяет трактовать притчу о вавилонском столпотворении не как
проклятье, но как вызов, который человек способен достойно
принять. В плане общефилософском перевод может
рассматриваться как один из наиболее надежных механизмов переноса
внешнего опыта во внутренний и обратно, как одна из форм
рефлексивности. В плане социологическом перевод предстает как
практика культурной медиации, включенная в другие схемы
трансмиссии и рецепции. В плане культурном — как способ
сохранения наследия и приобщения к нему, а отсюда -
образовательное значение перевода для истории философии и гуманитарных
наук. В плане эпистемологическом проблематика перевода
позволяет вплотную подойти к вопросу о познании Другого, располагая
средствами, допускающими проверку опыта, так что здесь пере-
Введение
33
вод выступает как новая методологическая стратегия. Что
значит — быть верным оригиналу, если при любой интерпретации
происходит не только усвоение, но и пересоздание? Проблема
объективности в ситуациях культурного и понятийного перевода
привлекает к сотрудничеству многие дисциплины, способные
найти общие ракурсы обсуждения и выработать соизмеримые
формы умопостигаемое™, интеллигибельности, рациональности.
Деррида некогда заметил: опыт перевода «берет на себя всю
ответственность за судьбу разума, или иначе, всей грядущей мировой
всеобщности»1. Думается, это не преувеличение: речь идет
о никогда не завершающейся эстафете, о передаче слов и
мыслей — от культуры к культуре, от языка к языку.
***
Число людей, которые внесли огромный вклад в разработку
рассматриваемых мною проблем, очень велико, а формат книги,
даже и такой объемной, очень ограничен: в нее вошла лишь малая
часть того, что заслуживало бы обсуждения в связи с проблемой
познания и перевода. Осью для отбора персонажей (и их
исследователей) и общим ракурсом рассмотрения были методология
и эпистемология: именно эта точка зрения смоделировала мое
реальное участие в невавилонском строительстве человеческого
взаимопонимания или хотя бы мою работу по расчистке
пространства для такого строительства.
А теперь несколько слов о технических деталях оформления
книги. Я нередко цитирую оригиналы (в собственном переводе),
иногда даю скорректированные мною цитаты из существующих
переводов, специально не обсуждая вопроса о том, что и почему
менялось (эти вопросы требуют отдельного исследования и,
может быть, даже отдельной монографии). Ряд понятий встречается
в книге в различном написании и оформлении — в зависимости от
контекста и от более или менее закрепившихся традиций. Это
относится, например, к понятию Я. В отношении этого понятия
мною были приняты следующие условные правила оформления.
Так, «я» у Декарта оформляется обычной строчной буквой (я
мыслю, следовательно... и т. д.) без курсива, «я» во второй
фрейдовской топике, как и другие ее члены, пишутся с заглавной буквы
и курсивом (Я - Оно - Сверх-Я). Между этими двумя полюсами
остается огромное множество философских контекстов, в
которых я использую заглавную букву без курсива — Я, тем более, что
1 Detrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Paris, 2003. P. 168. Это относится не
только к переводам с латыни и на латынь, о которых идет речь в этом
высказывании, но и о любых других культурных опытах перевода.
34 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка
такие прецеденты в исследовательском сообществе уже есть.
(Сама я не всегда пользовалась такой графикой, например,
употребляла закавыченное обозначение — «я»). Такое решение
унифицировать разнобой контекстов связано не с желанием возвеличить Я,
но со стремлением графически закрепить его особую
(несклоняемую) позицию. Конечно, это упорядочивающее решение, как
и любое другое, иногда выглядит неуместным, но с этим
приходится мириться. Например, в соседних фразах могут встретиться
я строчное и Я заглавное — даже применительно к одному и тому
же автору. Когда Декарт говорит «я мыслю» (а Леви-Строс об этом
рассуждает), я будет строчным, но как только встает вопрос «что
есть Я?» (где я становится предметом рассуждения и переходит из
области склоняемых местоимений первого лица единственного
числа в область несклоняемых элементов, выпадающих из морфо-
лого-синтаксического строя фразы), оно пишется с заглавной
буквы — Я. Итак, Я заглавное обобщает единообразием
написания целый ряд различных смысловых контекстов, где
встречаются Я воображаемое и Я реальное, самотождественность Я,
множественность Я, образ Я, отчуждающие функции Я и многое другое.
Более того, даже у Фрейда за рамками уже упоминавшейся триады
понятий, используется написание Я (например Идеал-Я и Я
идеальное). При этом Я нередко встречается в сопоставлении с
Другим - тоже с заглавной буквы. Унификация графики может
раздражать своей монотонностью, подравнивающей под одну
гребенку многообразие философских контекстов обсуждения
этой проблемы, но одновременно дает возможность избежать
неупорядоченного мельтешения различных написаний, которые все
равно не удается последовательным образом разграничить. Далее.
После многих сомнений я решилась писать знаменитое понятие
Деррида - дифферанс (difference) с заглавной буквой в центре -
и в оригинале и в переводе (соответственно différAnce и различА-
ние), чтобы сделать это его понятийное новшество, за которым
трудно уследить в тексте, более рельефным и заметным.
Подчеркиваю: у Деррида заглавной буквы в середине слова - нет; это мой
прием для опознания этого графического и семантического
неологизма.
Пояснения требуют и некоторые другие употребляемые мною
понятия. Например — «русский концептуальный язык». Вводя это
понятие, я не провожу четкого различия между понятиями и
концептами (об этом существует большая литература и единой
позиции между исследователями не существует) и использую его
примерно в том же смысле, в каком Пушкин говорил о «русском
метафизическом языке», подразумевая при этом общеязыковой
слой абстрактной лексики. Кроме того, я включаю в понятие рус-
Введение
35
ского концептуального языка терминологические слои
философии и гуманитарных наук. Оговорок требует и понятие discours
(discursif). В русском языке преобладает прилагательное
«дискурсивный» (например, дискурсивные практики у Фуко), которым
я тоже долго пользовалась, однако в этой книге — в качестве
эксперимента — я пытаюсь разграничивать значения «дискурсный»
(условно говоря, относящиеся к дискурсам как социально
регламентированным речевым практикам) и «дискурсивный» —
в традиционном логико-лингвистическом смысле: линейный,
последовательный, вербализованный (в противоположность
симультанному, одновременному, образному).
У этой книги есть еще одна особенность — открытая структура,
а потому в нее можно входить (или из нее выходить) в любом месте.
Она не подчиняется строгим правилам логического развертывания,
а потому в изложении неизбежно возникают круги, смысловые
переклички. Эта особенность усиливалась наличием двух планов
рассмотрения «одного и того же»: сначала, в первой части книги, —
в связи с вопросом о познании и языке, затем, во второй части, -
в связи с разбором конкретных контекстов перевода и рецепции.
***
Я хочу выразить безграничную признательность Михаилу Лео-
новичу Гаспарову (13.04.1935 — 07.11.2005), который был для меня
главной опорой на пути познания; его уже нет с нами, но я
мысленно беседую с ним, продумывая все важные для меня вопросы.
Я решила посвятить эту книгу его памяти не потому, что сочла
себя «достойной» такой чести, но потому что все в этой книге — так
или иначе, прямо или косвенно, согласием или несогласием —
связано с нашими разговорами и обсуждениями.
Эта книга не могла бы состояться без административного,
научного и личного участия целого ряда людей, прежде всего -
заведующего сектором теории познания Института философии РАН,
академика РАН Владислава Александровича Лекторского, а также
директора Института высших гуманитарных исследований
им. Е.М. Мелетинского при РГГУ Сергея Дмитриевича
Серебряного и заместителя директора ИВГИ Елены Евгеньевны Жигариной.
Я благодарю моих дорогих друзей и коллег - Бориса Исаевича
Пружинина, Татьяну Геннадьевну Щедрину, Ирину Игоревну
Мюрберг — за то, что они побудили меня к написанию этой
книги, а когда я на это решилась, неустанно вдохновляли и
поддерживали меня на всех этапах работы.
Мне бескорыстно помогали также многие зарубежные
коллеги, среди которых в первую очередь назову Шарля Маламуда,
Маргерит Деррида, Ивона Бреса, Катрин Перре, Антонию Сулез,
36 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Тома Рокмора, Хенрика Барана. Многолетний руководитель
Дома наук о человеке в Париже Морис Эмар неоднократно
содействовал моим стажировкам в Высшей школе социальных
исследований и других исследовательских учреждениях Франции.
С чувством любви и признательности я мысленно обращаюсь
к моей матери Надежде Ивановне Автономовой (24.06.1922 -
23.02.2008): светлая память о ней всегда будет со мной. Я
благодарю мою замечательную дочь, Ольгу Муравьёву: ее
специальность — международное право, но она постоянно интересуется
моей работой и поддерживает меня во всех моих делах.
Раздел первый
Познание и язык
Глава первая
Мысль о структуре и проблема «обратного перевода»
§ 1. Структурализм и постструктурализм:
прошлое и будущее
Этот параграф представляет собой своего рода введение ко
всему данному разделу. В нем пойдет речь о различных
фрагментах моего опыта (как читателя, исследователя,
переводчика), связанного с вопросом о познании
гуманитарных феноменов через язык. Эти фрагменты опыта
относятся к областям, которые можно с известной долей
приблизительности назвать «классическим» структурализмом,
постструктурализмом и структурным психоанализом. Речь идет о том,
что было для меня предметом чтения, перечитывания,
понимания, перевода. Здесь будут показаны — с более близкой и более
дальней точек зрения, то есть вообще и в частности, — различные
способы перевода явлений человеческого мира, явлений сознания
и бессознательного — в план языка, языковой методологии,
языковой метафорики и других ипостасей языкового бытия. В
хронологическом смысле это означает возврат фокуса внимания
в 1960-е годы и затем - движение навстречу нынешнему моменту.
Такой возврат одушевлен не просто ностальгией по уже
пережитому, но и мыслью о том, что этот период в культуре и в познании
был пройден «слишком быстро», на лету, так что многое из того,
что содержалось в концепциях и дискуссиях того периода, было
попросту потеряно. Нам теперь предстоит заново прочитать
некоторые страницы этой истории и, возможно, обнаружить
актуальное в том, что, казалось бы, давно ушло в тень.
Французский структурализм не был ни школой, ни совместно
принятой программой, но в нем очень высока степень
проблемной общности и перекличек - отчасти потому, что он содержал
целый пласт философской и общеметодологической
проблематики. Сам структурализм - это, полагаю, не философия, но скорее
общая методология, имеющая определенные философские
предпосылки. Этот методологический аспект (акцент на отношениях,
а не на элементах, на функционировании, а не на генезисе,
на синхронных взаимодействиях, а не на диахроническом
генезисе и др.) никуда не девался. Он остался в науке как один из
возможных подходов, перестал вызывать споры, но вошел в набор
40 Познание и перевод. Опыты Философии языка
привычных процедур, отчасти породил - иногда от противного
(но всегда с учетом того, что было сделано в структурализме),
некоторые современные подходы, в частности те, что отказываются
от бинарных оппозиций в пользу анализа непрерывного
нарастания тех или иных качеств или же градуальных схем, более
сложных, нежели двоичные, структуралистские. В любом случае, в
гуманитарной области и поныне осталось огромное множество
явлений, не только не исследованных с точки зрения их
структурности, но и просто не описанных и, следовательно, настоятельно
требующих насколько возможно объективного описания и
структурного анализа, без которых научные предметы размываются до
вкусовых интуитивных картин.
Но в структурализме нам важна не только методология,
но и общий познавательный импульс, и те философские вопросы,
которые были им поставлены. Подчас неосознанно для нас они
присутствуют в размышлениях сегодняшнего дня. Чтобы увидеть
это, не обязательно быть адептом структурализма. Например, Жак
Деррида, яркий и яростный критик структурализма, выросший,
впрочем, на плодотворной почве структуралистских проблемати-
заций, незадолго до смерти с горечью говорил о том, что период
1960-х годов был пройден слишком быстро, что теперь нам нужно
любой ценой вернуть и переоценить его. В этом позднем
внимании к 1960-м есть, конечно, и то, что относится к структурализму,
определявшему идейное лицо этой эпохи. Интеллектуалы той
поры, при всем накале публичных страстей, были далеки от
всеобщей и всепоглощающей медийности, они еще не стали рупорами
транслируемых идеологий и ставили настоящие вопросы. Можно
полагать, что и у Деррида эти мысли - не просто историческая
ностальгия по ушедшим временам. Таким образом, у нас есть
основания присмотреться к тем историческим возможностям мысли,
которые не были использованы или были слишком быстро
забыты в последующих взвихрениях постмодернизма. Что в них
осталось актуальным? Что может быть актуализировано?
Даже беглый взгляд на историю гуманитарного познания
показывает, что мысль о структуре - путешественница: она не идет по
прямой линии, но проходит ряд эпизодов, претерпевает ряд
метаморфоз, пропитывается разными влияниями, вписывается в
различные социокультурные конъюнктуры, шествуя - в течение
всего XX века — по Европе и по миру. Здесь мы будем говорить о так
называемом «французском структурализме», который возникает
на стыке гуманитарной науки и философии. Французский
структурализм интересен для нас среди прочего тем «порождающим
эффектом» прорастания философской проблематики сквозь
специально-научную, который на нем виден очень ярко.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре,.. 41
Французский структурализм — это явление неоднозначное1.
Наиболее бесспорным его представителем считается обычно
всемирно известный французский этнолог Клод Леви-Строс. С целым
рядом оговорок сюда же можно отнести также структурный
психоанализ Жака Лакана, «археологию знания» Мишеля Фуко,
некоторые литературоведческие и культуроведческие работы Ролана
Барта и др.2. Французский структурализм не является жестким единым
целым ни идейно, ни организационно, ни хронологически. Его
представители — люди разных поколений, разных
исследовательских традиций и философских пристрастий. К тому же логическая
последовательность этапов структурализма не совпадает с
хронологической. Начальным моментом французского структурализма
можно условно считать встречу Леви-Строса с Романом
Якобсоном в 1943 г. в Свободной школе в Нью-Йорке, вдохновившую
Леви-Строса на перенос методов структурной лингвистики в область
антропологии или этнологии. Затем структурализм перекинулся на
другие области — как культурно экзотические, так и европейские -
литературу, массовую культуру у Барта, психоанализ у Лакана,
историю идей у Фуко. На одной известной карикатуре
изображались четыре мушкетера в туземных костюмах и под пальмами — это
были Леви-Строс, Лакан, Барт и Фуко. Не образуя ни школы,
ни группы, они сложились в сознании современников в единый
образ. И не только карикатуристы, но и такие серьезные и различные
по своим установкам мыслители, как Франсуа Валь3 или Жиль Де-
1 Sens et usages du terme «structure» dans les sciences sociales / Éd. par R. Bastide. La
Haye- Paris, 1962; Structuralisme et marxisme // Pensée. 1967. JNfe 135 (Numéro spéc).
P. 1-192.
2 Один лишь Леви-Строс открыто признает себя структуралистом, другие
названные исследователи не единодушны в вопросе о структурализме. Так, Фуко
характеризует его в «Рождении клиники» как плодотворный метод, в «Словах и
вещах» - как «разбуженное» сознание современной эпохи, но уже в «Археологии
знания» и «Порядке дискурса» - как этикетку, скрывающую другие проблемы.
Лакан не видит возможности выделить структурализм как некое идейное единство
(Daix P. Entretien avec Jacques Lacan // Lettres françaises. 1966. № 1159). Барт
полагает, что «те авторы, которых обычно связывают с этим словом, не чувствуют себя
солидарными в теории и борьбе» (Barthes R. Essais critiques. Paris, 1964. P. 213).
Разумеется, самосознание исследователей не может быть решающим основанием для
отнесения их к тому или иному течению, но в данном случае оно симптоматично:
в известной мере определенность французского структурализма как некоего
единства идет не «изнутри», а «извне», от социальной ситуации, что, однако, не
исключает определенного единства возникающих при этом философских,
методологических, мировоззренческих проблем.
3 Wahl F. La philosophie entre l'avant et Г après du structuralisme // Qu'est-ce que le
structuralisme? Paris, 1968.
42 Познание и перевод. Опыты Философии языка
лёз1, вполне серьезно воспринимали структурализм как
определенное единство (в случае Валя — ускользающее, в случае Делёза -
вполне четкое и доступное росписи по признакам), описывали его
характерные черты. Очень важными для становления этой мысли
о структуре были труды Луи Альтюссера, который в 1960-е годы
сформулировал программу неидеологического марксизма и
полемически заостренный лозунг «теоретического антигуманизма»2.
Хронологически начальный этап французского
структурализма — 1950-е годы, когда он еще не имел общественного
резонанса: так, в 1958 г. вышла «Структурная антропология» Леви-Стро-
са, в 1953 г. - лакановский манифест структурного психоанализа
«Функция и поле речи и языка в психоанализе», а также,
например, «Нулевая ступень письма» Барта. Кульминация этого
идейного движения - 1966 г., когда вышли в свет программные труды
Лакана, Фуко, Барта. Когда в середине 1960-х г. структурализм
пользовался огромным вниманием, о нем повсюду писали, ему
посвящали специальные номера изданий, утех, кого считали его
представителями, брали интервью; страсти кипели в яростной
полемике Леви-Строса с Сартром и Рикёром, Фуко с Сартром;
отдельные фразы из этих полемик вокруг структуры и истории,
структуры и человека, вошли в философский фольклор.
Впрочем, уже в момент кульминации стали заметны и некоторые
тенденции постструктуралистской (в известном смысле,
внутренней) критики: наиболее характерны в этом отношении работы
Деррида. В 1970-е годы общественный интерес к структурализму
пошел на спад, хотя научное развитие в каждой из названных
областей продолжалось своим чередом. Наибольшей
исследовательской и программной устойчивостью отличался Леви-Строс,
который еще долго работал, разбирая и публикуя собственные
архивы. Моментом исчерпания структуралистской программы
принято считать конец 1960-х - начало 1970-х годов. А точнее -
майские события 1968 г. и облетевший весь мир тезис «структуры
не выходят на улицы»: некоторые увидели в нем констатацию
фиаско структурализма на всех фронтах - научном,
политическом, идеологическом. Правда, Лакан не упустил повода
громко возразить: именно структуры как раз и выходят на ули-
1 Deleuze J. A quoi reconnalt-on le structuralisme? // La philosophie. T. IV. Le XXe
siècle. Paris, 1973. P. 299-335.
2 Alîhusser L Pour Marx. Paris, 1965; рус. пер.: За Маркса. M., 2006; Idem. Lire le
Capital (avec Balibar Ε. et Macherey P.). Paris, 1965. См. об этом: Автономова Н.
Этапы идейной эволюции Л. Альтюссера // Зарубежные концепции диалектики.
Критические очерки. М., 1987. С. 187-234.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 43^
цы1, но так как любую его фразу можно было трактовать
многозначно, то и опорой для отпора критикам она не стала.
Логическая последовательность его этапов несколько иная2.
Вспомним, что структурализм в гуманитарных науках — явление
не только междисциплинарное, но и международное. Первый его
этап (1930— 1940-е годы) — создание методов исследования языка
в различных школах американского и европейского
лингвистического структурализма. Его смысловая доминанта - исследование
языка как системы, причем точность исследования достигается
здесь за счет отвлечения от «внешних» факторов — исторических,
географических, социальных и др. Последовательность в
проведении этого общего принципа - трактовка языка как системы
смыслоразличительных единиц различных уровней - сильно
варьировалась от школы к школе (наибольшие различия
обнаруживаются здесь между Пражской функциональной лингвистикой
и датскими глоссематиками), но сам принцип оставался
неизменным.
Второй этап (1950-1960-е годы) — перемещение
структурализма на французскую почву. Классический представитель этого
этапа - К. Леви-Строс. Его смысловая доминанта - поиск новых
методов в теоретической этнографии и, что особенно важно,
попытка применить здесь некоторые приемы структурной
лингвистики (преимущественно фонологии), а также представить
различные социальные механизмы как взаимодействующие знаковые
системы. Поначалу методы, заимствованные из теоретической
лингвистики, еще сохраняют свою строгость (правда, некоторые
лингвисты с этим не соглашаются даже применительно к Леви-
Стросу, не говоря уже о его последователях)3.
Третий этап (в особенности 1960-е годы) — более широкое
распространение и «размывание» лингвистической методологии.
С одной стороны, структурализм наследует установки
предшествующего этапа — перенос методов исследования языка на другие
1 Это произошло на обсуждении доклада Фуко в «Философском обществе»
в 1968 г. Лакан встал на защиту Фуко, атакованного представителем так
называемого генетического структурализма Люсьеном Гольдманом. См: Дискуссия по
докладу М. Фуко «Что такое автор?» // Фуко М. Воля к истине. По ту сторону знания,
власти и сексуальности. М., 1996. С. 46. Вопрос о том, были ли эти майские
события опровержением структурализма или, напротив, его подтверждением, -
остался открытым при всей его абсурдности. См. также: Gritti /., Toinet P. Le
structuralisme: science et idéologie. Paris, 1968. P. 12.
2 Лишь первый этап предшествовал другим и логически, и хронологически,
временной разрыв между прочими минимален или вовсе отсутствует.
3 Mounin G Linguistique, structuralisme et marxisme // Nouvelle critique. 1967. № 7.
P. 23.
44 Познание и перевод. Опыты Филосоажи языка
области культуры — историю науки (Фуко), литературоведение
и массовую культуру (Барт); с другой же стороны, он чем дальше,
тем больше отдаляется от исходных методологических образцов
(каким была для Леви-Строса, например, структурная
фонология Н. Трубецкого и Р. Якобсона). Если Барт в работах 1960-х
годов еще пытался перенять вслед за Леви-Стросом методы
структурной лингвистики, то у Лакана, например, язык из метода
превращается в метафору - образный способ представления
в чем-то сходных с языком, но не являющихся языком
содержаний (бессознательного).
Четвертый этап (конец 1960-х - 1970-е годы) - это критика
и самокритика структурализма, выход его в широкие
общественные движения (у позднего Фуко, у тель-келистов1 - это выход
в политику: язык есть социальная сила) или в более широкие
области истории культуры (концепция Жака Деррида). Тем самым
как бы замкнулся круг, который начал чертить лингвистический
структурализм: минуя этапы научной замкнутости
(лингвистический структурализм — язык-объект), экспансии методов (язык-
метод), размывания методов (язык-метафора), превращения
языка в «символическую собственность», подлежащую присвоению
или экспроприации (язык—социальная сила), язык возвращается
на круги социальной проблематики, от которой лингвистический
структурализм некогда принципиально отказался. Этим этапам
соответствует и различное понимание знака как основной
единицы языковой коммуникации: Леви-Строс опирается на знак как
на устойчивое целостное образование; Фуко и Лакан расщепляют
знак на смысл и форму и делают акцент на последнем
(«означающее» у Лакана, «дискурс» у Фуко); критика и самокритика
структурализма онтологизируют языковую реальность, ее социальное
(«тель-келисты») или общефилософское (Деррида) значение. Эти
перипетии судьбы языка становятся в структурализме стержнем
всех других проблем. Но на этом пути логического расчленения
проблематики возникают перебои и накладки.
Даже столь широкое «научное» определение структурализма,
как исследование знаков и знаковых систем, не проходит на
данном материале безоговорочно. Так, Ф. Валь, редактор и один из
авторов известного сборника «Что такое структурализм?»2,
утверждает, что и при широком понимании структурализма он
остается классификационно неуловимым: одни концепции поме-
1 Kristeva J. Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse. Paris, 1969; Théorie
d'ensemble /Textes de M. Foucault, R. Barthes, J. Derrida e.a. Paris, 1968.
2 Wahl F. La philosophie entre l'avant et l'après du structuralisme // Qu'est-ce que le
structuralisme? Paris, 1968.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 45
щаются «по сю сторону», другие — «по ту сторону» той идеальной
модели, которая задается определением. Например, концепция
Фуко (вследствие пережитков онтологизма) оказывается
недостаточно структурной, недостаточно знаковой, и концепции Лакана
или Деррида — уже «пост-структуралистскими», расщепляющими
единство знака (Лакан) или подрывающими самое основу онто-
фоно-логоцентрического мышления (Деррида).
Когда-то главными при изучении структурализма были вопросы
идентифицирующего плана. Что это — метод или система? Наука
или философия? Новация или продолжение традиций? Как он
связан с предшествовавшими и современными ему «структурализма-
ми»? Можно ли дать ему сколько-нибудь строгое определение или
же нам остается счесть его французской модой, быстро расцветшей
и быстро угасшей? С какими общественными движениями —
прогрессивными или консервативными, «левыми» или «правыми» — он
смыкается? И т. д. Критические оценки, с которыми мы
сталкиваемся во всех почти наугад взятых высказываниях, отличаются
разноголосием. «Структурализм не является ни школой, ни
движением», а потому нет оснований выводить его из научного мышления,
лучше попытаться построить более широкое его описание.
«Структурализм — это, безусловно, научный метод»1. «Структурализм
оказывается на редкость плодотворным способом рассмотрения
социальных и культурных явлений, хотя и не теорией культуры
и общества» (с этим, безусловно, не согласятся некоторые его
сторонники)2. «Структурализм в собственном смысле слова — это
признание того, что различные ансамбли могут быть осмыслены не
вопреки, а благодаря их взаиморазличиям, упорядочение которых
и становится целью исследования»3. «Структурализм — это не наука!
Это также и не философия!... Это <...> подход, нацеленный на то,
чтобы раскрыть в явлениях не столько их причины или их функции,
сколько их значение внутри тех ансамблей, составной частью
которых они являются»4. Структурализм — это «некая распространенная
лишь во Франции болезнь, при которой работы серьезных
мыслителей таинственным образом распространяются за рамки узкого
круга посвященных, для кого они собственно и предназначены,
1 Ladrière J. Le structuralisme entre la science et la philosophie // Tijdschr. voor
filosofie. Leuven-Utrecht, 1971. Jg. 33. № 1. P. 66.
2 Structuralism: an Introduction / Ed. by D. Robey. Oxford, 1973. P. 4.
3 Pouillon J. Présentation: une essais de définition // Temps modernes. 1966. № 246.
P. 774.
4 Ср.: Milet A. Pour ou contre le structuralisme. Claude Lévi-Strauss et son œuvre.
Paris, 1968. P. 94.
46 Познание и перевод. Опыты Философии языка
и становятся объектом культа»1. Структурализм это позитивистский
«идеализм понятия»2; только это уже «не позитивизм фактов, а
позитивизм знаков»3. Хотя «под именем структурализма
сосредоточиваются нау-ки о знаках, о знаковых системах»4, это вовсе не
означает возврата к позитивизму; это вопрос о «возможности построить
науки в тех областях, статус которых в данный момент не имеет
четкой определенности»5. Структурализм - это идеология
тоталитарного общества6? Да нет же, это скорее «несчастное сознание
человека в развитых обществах»7 и т. д. и т. п.
С точки зрения теоретической структурализм, при всем
разнообразии его конкретных форм, имеет общие параметры: это не
уточнение формальных принципов построения знания (как это
было в «классическом» логическом позитивизме), а расширение
содержаний; не очищение субъективности от объекта (как это было
в феноменологии и экзистенциализме), а очищение
объективности от субъекта*. Где взять точку опоры для столь радикальной
перестройки? Классический рационализм видел свою опору
в очевидностях сознания, мыслящего Я; экзистенциализм видел
свою опору в очевидностях дорефлективного уровня;
французский структурализм сделал своей опорой для фиксации нового
опыта работу в языке и с языком, языковые или подобные языку
механизмы культуры. Внеиндивидуальная природа языка
мыслится здесь как опора для методологически (и мировоззренчески)
трудного самоустранения: язык с его исконной «социальностью»
«объективнее» сознания, и потому его использование позволяет
надеяться на более успешную борьбу с предрассудками
собственной культуры, на более надежные переходы не только от одного
Я к другому Я, но и от одной культуры к другой культуре. По сути,
тут мы видим проблему познания и перевода в действии. Методо-
1 Claude Lévi-Strauss: the Anthropologist as Hero // Ed. by E.N. a. T. Hayes.
Cambridge (Mass.)-London, 1970. P. 3.
2 Dufrenne M. La philosophie du néo-positivisme // Esprit. 1967. a. 35. № 5 (numéro
spec). P. 786.
3 Sartre J.-P. Sartre répond // Quinzaine littéraire : Bibl. des idées. 1966. № 14. P. 5.
4 Qu'est-ce que le structuralisme? Paris, 1968. P. 10.
5 Ibid. P. 8.
6 Hädecke W. Structuralismus - Ideologie des Status Quo? // Neue Rundschau,
Frankfurt a. M., 1971, Jg. 82. H. 1. S. 45-59; Ср. также: Lefebvre H. Au-delà du
structuralisme. Paris, 1971.
7 Auzias J.-M. Clefs pour le structuralisme. 2 éd. Paris, 1967. P. 14.
8 В терминологии Гуссерля это означало бы «эпохе наоборот». Задачу очищения
объективности от субъекта Леви-Строс поясняет примерами застольного этикета,
показывающими, что европеец боится запачкать себя окружающим, тогда
как туземец, напротив, боится запачкать окружающее собою
(Lévi-Strauss С. Mythologiques. Paris, 1968. T. 3. L'origine des manières de table. P. 422).
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 47
логическая задача французского структурализма в том, чтобы,
налагая языковые мерки на самые различные объекты культуры,
получить их объективный образ, или, иными словами, сделать их
перевод в языковые формы и схемы. Эта работа происходит в разных
областях по-разному — подробный перечень этих исследований,
хотя и ограниченный 1970-ми годами, представлен в моей книге
о структурализме1.
Структурализм был попыткой провести некий рациональный
импульс в особых условиях времени и культуры: он предполагал
отталкивание как от классического рационализма, так и от
современных им концепций субъективистской и персоналистской
ориентации. Прямо соприкоснуться с другими рационалистическими
тенденциями, которые развивались в других направлениях, он не
смог. Соответственно, если отвлечься от частных различий, то
общими объектами критики в структурализме окажутся, с одной
стороны, концепции субъективистской, экзистенциалистской,
персоналистской ориентации, с другой стороны, концепции
классического рационализма. Быть может, именно в этой
междоусобной позиции и необходимости самоопределения по отношению
к этим двум, столь распространенным и влиятельным во Франции
течениям мысли, заключена большая доля своеобразия
французского структурализма, в отличие от других европейских «структу-
рализмов», развивавшихся более замкнуто. Впитывая новые
пласты социальных и культурных содержаний, научное мышление
посягало на традиционные привилегии философии — ее роль в
создании «образа» человека (экзистенциализм) или «образа»
подлинного научного знания (классический рационализм).
Отношение структурализма к классическому рационализму, имеющему
во Франции многовековые традиции, пронесенные от Декарта до
Башляра, а также к экзистенциализму, пережитому французской
интеллигенцией в годы войны и оккупации с такой остротой,
какой не знала ни одна другая европейская страна, противоречиво.
Отказываясь от одних тезисов классического рационализма
(и прежде всего от абсолютизации европейских критериев
рациональности как всеобщих и необходимых), от тезиса о тождестве
бытия и мышления), структурализм заимствует и воспроизводит
другие (прежде всего саму направленность на
рационалистическое обоснование возможности гуманитарного знания). То же
относится и к экзистенциализму: отказываясь от переживающего
1 Лвтономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в
гуманитарных науках. (Критический очерк концепций французского структурализма). М.,
1977. С. 258-270.
48 Познание и перевод. Опыты Философии языка
субъекта как основы для построения научного знания, от тезиса
о тождестве исторического (в европейском смысле слова) и
гуманистического1, структурализм воспроизводит некоторые другие
его мыслительные установки, например, поиск дорефлексивной
определенности, внесознательных побуждений человеческого
сознания и действия. Пожалуй, именно в силу этой ожидаемой
альтернативности экзистенциализму и при явной нехватке во
Франции сколько-нибудь весомого присутствия логического
позитивизма и сложился «сциентистский», или позитивистский,
«образ» структурализма как некоего «царства формулы»,
«убивающей» человека.
Тенденция к математизации и формализации во французском
структурализме не столь уж очевидна, за единственным
исключением: это использование математики у того же Леви-Строса,
да и то лишь применительно к системам родства и правилам
браков, - уже в мифах математическое моделирование, в частности
приемы топологии, оказываются скорее удобством для записи
разнородного материала, нежели конструктивным средством его
развертывания (трудность применения математики в мифах Леви-
Строс видит, в частности, в том, что единицы мифа не
однозначны по своей функции: они могут выступать то как термины, то как
отношения)2. Это относится и к Лакану, для которого топология
есть лишь средство нагляднее представить некоторые свойства
психических структур3.
Что же касается обвинений в антигуманизме, то и в наши дни,
как далекий отзвук тех давних споров, можно услышать мнение:
1 Ср., например, отрицание тождества «я мыслю - я есмь», опосредованных
языком (Lacan J. Ecrits. Paris, 1966. P. 517); отрицание принципа cogito как
«фокуса», удостоверяющего бытие мыслящего, на самом деле не очевидное (Ibid. Р. 517);
необходимость пересмотра «вечного» понятия субъекта (Ibid. Р. 284); отказ от
тезиса о «соприродности» познающего и познаваемого (Ibid. Р. 666) у Лакана. Вот
несколько соответствующих примеров из Леви-Строса: критика сознания как
предмета философии и гуманитарного знания (Lévi-Strauss С. Mythologiques. Paris,
1971. T. 4. P. 562-563); критика современного экзистенциализма, «опьяненного
свободой» (Ibid. Р. 572), «отягощенного мистицизмом под видом гуманизма» (Ibid.
Р. 577); предпочитающего субъекта без рациональности - рациональности без
субъекта (Ibid. Р. 614); тезис о необходимости стирания субъекта (Ibid. Р. 564) и
учреждения «анонимной мысли» (Ibid. Р. 559) как методологических принципах
научного мышления, опять-таки в противоположность экзистенциализму, который
стремится превратить «историю» в последнее прибежище трансцендентального
гуманизма (Lévi-Strauss С. La pensée sauvage. Paris, 1962. P. 347).
2 Lévi-Strauss С Mythologiques. Paris, 1971. T. 4. P. 568.
3 Lacan /.Ecrits. Paris, 1966. P. 861. Среди последних работ на эту тему:
Юран Л. Пространство и время в психоанализе (http://www.lacan.ru/articles/
space_and_time.html).
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 49
структуралисты накаркали несчастье: они провозгласили смерть
человека и дождались реализации этого предсказания. Но такое
утверждение - ошибка памяти: напомним, что по крайней мере
самая знаменитая фраза из «Слов и вещей», которая давала повод
приписывать Фуко «антигуманистические» взгляды, была
построена в сослагательном наклонении, которое, как известно,
означает гипотезу, предположение; чтобы убедиться в этом, нужно
перечитать текст некогда знаменитой книги1. Но если в наши дни
реальность «потеряла человека», как она потеряла и «объектный
мир, растворившийся в симулякрах», то вины «структуралистов»
в этом нет. Нет их вины и в майских событиях 1968 года,
указавших на социальный и духовный кризис. Думать иначе, как это
делали, в частности Ферри и Рено2, — подтасовка. Защитники
структурализма поясняли, что речь могла идти об освобождении от
привычных предрассудков прекраснодушного гуманизма,
косвенно — о критике данного социального порядка и даже о
радикальном разрушении традиций. Однако, ставить вопрос о том, что
важнее в «Словах и вещах» Фуко — «отчаяние» человека,
помещенного в «эпистему», или, напротив, «гарантии» стабильности,
даваемые эпистемой3, — тоже значило поддаться прямолинейным
идеологическим позывам, а на уровне эпистемологическом -
впасть в смешения теоретического и социально-прикладного,
допустить своего рода онтологизацию и натурализацию
теоретического описания.
Конец 1960-1970-е годы во Франции - это, условно говоря,
все большее превращение структурализма в постструктурализм
или, иначе говоря, переход к выявлению всего, в чем
запечатлелись не структура и порядок, но несистемное, хаотичное,
размытое, динамичное и др. Обратим внимание на то, что собственного
имени у постструктурализма нет, и сам этот термин — скорее
внешняя этикетка, нежели самохарактеристика: на место
символического, законосообразного выводятся воображаемое,
неязыковое, импульсивное. Дальнейшие процессы сосуществования
структуралистской и постструктуралистской проблематики, чем
1 Ср.: «Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились (речь
идет об эпистеме как совокупности предпосылок познания определенного
периода. - H.A.), если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь
предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит, разрушит
их, как разрушена была на исходе XVIII века почва классического мышления,
тогда - можно поручиться - человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на
прибрежном песке». Фуко М. Слова и вещи. С. 487.
2 Ferry L., Renault A. La pensée 68 et «l'anti-humanisme contemporain». Paris, 1985.
3 ColombelJ. Les mots de Foucault et les choses // Nouvelle critique. 1967. № 4. P. 8.
50 Познание и перевод. Опыты Философии языка
дальше, тем больше, облекали ее в постмодернистские одежды,
хотя ни у кого из этих крупнейших французских мыслителей ни
термина, ни строя мысли обобщенного постмодернизма не было
и в помине. Те Фуко, Деррида, Лакан, которые за последние
десятилетия стали в переводном виде массово доступны и в России,
во многом зависят от их американской рецепции. Американский
опыт прочтения сделал из мыслей и опытов французских
мыслителей «французскую теорию», транслируемую затем во все уголки
земного шара. Американский акцент на всяческих
идентификациях, приложение французских идей к опыту жизни меньшинств
(культурных, расовых, этнических, сексуальных и др.)
отодвинули в сторону французские идеи общности (у Фуко - généralité)
и одновременно индивидуации — учета доли «случайного» и
«событийного» в общем. Все это привело в США к серьезным
переделкам смысла и направления современной французской мысли.
Современный мир постмодерна - не мир предметов, а мир
знаков, моды, рекламы, соблазнов, внушений, химер - в чем-то
вполне средневековый. В целом же это состояние перехода,
поворота, кризиса; это умонастроение, а не философия. Что же
касается Фуко или Деррида, то они, безусловно, были философами.
Произошедший в 1970—1980-е годы во Франции сдвиг - от
споров о познании человека к политической и отчасти этической
проблематике — был настолько мощным, что к 1990 году он
подчас стирал из памяти очевидцев то, что случилось двадцатью
годами раньше. Так, на международном конгрессе «Лакан и
философы», проходившем в зале заседаний ЮНЕСКО, Этьен
Балибар1, выступивший в качестве со-дискутанта по моему
докладу, выдвинул тезис о том, что даже для Леви-Строса, не
говоря уже о Лакане, эпистемологическая проблематика никогда не
имела серьезного значения (а имела значение лишь
проблематика этическая и политическая), но в устах участника бывшей аль-
тюссеровской группы и автора статей из сборника «Читать
Капитал» такое суждение звучало по меньшей мере неожиданно.
Очевидно, нападая на меня, Балибар стремился (сознательно
или, скорее, неосознанно) сокрушить во мне как «представителе
Советского Союза», дерзнувшем рассказывать французам о
Лакане, свои собственные взгляды четвертьвековой давности, хотя
ничего альтюссеровского в моем достаточно «академичном»
докладе о Лакане и Канте не было. Эта перепалка, уверяют меня
1 Дискуссия по моему докладу «Лакан и Кант» в присутствии двухтысячной
аудитории и бурная полемика, которая при этом возникла, заслуживала бы
публикации (с переводом всех материалов дискуссии) и отдельного обсуждения. См.
материалы конгресса: Lacan avec les philosophes. Paris, 1991.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре.., 51
знакомые французы, до сих пор осталась в памяти всех, кто был
тогда на конгрессе.
В 1980-е годы ушли из жизни Барт, Фуко, Лакан, не оставив
прямых идейных наследников. Из всей плеяды «властителей дум»
дольше всех жил и работал Леви-Строс (1908-2009). При этом
видно, что многие тезисы из тех, что разрабатывались им так
давно, сейчас приобретают все большую актуальность — это связано
с попыткой понять морфологию культуры путем анализа ее
структур и языков, с исследованием того, что можно было бы назвать
глобальной экологией человеческого существования, а главное -
с самой установкой на поиск возможностей объективного
познания человека. Структурная антропология Леви-Строса стала
девизом нового гуманизма, не ограниченного пространством
исторической Европы: он отчетливо звучит и в наши дни.
К настоящему моменту структурализм успел стать
многослойным явлением культурной памяти и забвения; на нем лежат слои
перепрочтений, переводов на другие языки и в иные
категориальные системы, многое из его наследия было развеяно по ветру или
перенесено в «чертоги» постмодерна. Оказалось, что даже
сравнительно недавнее прошлое требует настоящих археологических
раскопок, так как слой культурных отложений нарастает слишком
быстро, и подчас счистить его бывает технически даже сложнее, чем
с явлений более далеких во времени. А потому сейчас стоит вновь
вглядеться в те сообщения, которые транслировали нам
французские мыслители-шестидесятники, очистить их от позднейших
напластований, заново перевести в контекст их создания, чтобы
увидеть в них то, что не исчерпывается этим контекстом и выходит за
его рамки. Среди гипотез о том, что именно сейчас стоит прочитать
заново, одной из первых можно назвать мысль о том, что язык — это
не фантом воображаемого, но символический прообраз всех других
структур в человеческом мире. Сейчас, когда лингвистика, ранее
считавшаяся «передовой наукой», утратила свои привилегии в
общем познавательном поле, и на первое место вышли различные
реализации неструктурных принципов, например, воображения,
язык все равно остается универсальным механизмом артикуляции
и связывания внутрипсихических и внепсихических содержаний,
восприятия человеком себя в окружающем мире. Сохраняется
и его роль модели и аналога для познания других явлений, даже
если при этом меняется понимание того, что представляет собой
язык и как он функционирует1. Нам предстоит сейчас понять,
1 В частности, внимание начинает уделяться градуально-континуальным схемам
функционирования объектов, которые в классическом структурализме мыслились
52 Познание и перевод. Опыты Философии языка
что все другие посредники в человеческом мире возможны лишь
при учете (прямом или по отталкиванию) центральной роли
языка среди других систем человеческой коммуникации. При этом
отдельного анализа требует способность языка - как
критического и одновременно конструктивного механизма, на который
может опираться познание в своем противостоянии
идеологизации (этот потенциал содержится в некоторых вариантах дис-
курсного анализа). Но прежде всего — это вопрос о перспективах
и возможностях объективного познания человека. Вопрос,
который ранее обобщался в провокативно заостренной форме
теоретического антигуманизма и, по сути, нисколько не потерял
своей актуальности.
Кроме этих проблемных моментов в наследии 1960-х нам
важен во многом утерянный опыт тесного сосуществования (но не
слияния!) научных и философских идей. Структурализм,
разумеется, это не философия, но в нем есть пласт философских идей
и важные поводы для дискуссий, которые великие ученые (Леви-
Строс и др.) вели с великими философами (Сартр, Рикёр и др.).
Опыт подобных взаимодействий позволяет проанализировать
стыки и артикуляции между философией и гуманитарными
науками. Во Франции 1960-х это были те «новые науки», которые
завоевывали свое место в схватке с «классическими» дисциплинами
университета: их знаменем была лингвистика, антропология,
структурный (в его лакановской версии) психоанализ и др. (Как
известно, Фуко не жалел сил на то, что добиться на уровне
Министерства образования введения преподавания этих новых наук
в программы лицейского обучения философии). В современной
российской ситуации соотношение философии и гуманитарных
наук (старых или новых) иное: оно заслуживает отдельного
изучения, однако несомненно актуальным представляется отказ от не-
расчлененного синкретизма различных форм в общем
познавательном поле и вопрос об их артикуляции.
Помимо этого в структурализме нам важен опыт
междисциплинарного взаимодействия, которое было осознанным,
рефлексивным и почти всегда предполагало опору на профессиональные
через бинарные оппозиции. Однако сам переход к этим нынешним воззрениям
стал возможен лишь на основе тщательной проработки бинарных схем. Так,
нынешние специалисты-антропологи (среди самых крупных фигур - Ф. Дескола; ср.:
Descola Ph. Par-delà nature et culture. Paris, 2005), соотносясь с наследием Леви-
Строса, который строил свою схематику на основе бинарной оппозиции природы
и культуры, подчеркивают скорее более плавные переходы (и на этой основе
приходят к иным интерпретациям таких культурных ритуалов, как тотемизм), однако
сама отсылка к тому, что было сделано в рамках структурной антропологии,
остается для них в силе.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 53_
знания в одной или нескольких областях. В ситуации нынешних
трансдисциплинарных тенденций, в которых видится панацея
против всех познавательных затруднений, представляющих
познание в форме удовольствия, игры, как правило, при отсутствии
профессиональных компетенций, напоминание об этом моменте
осмысленного взаимодействия крайне полезно. Новый
российский интерес к этим феноменам может отчасти опереться на
новые французские исследования, хотя их и не так много. Среди
работ, посвященных современной рецепции структурализма,
соотношению реального прошлого с конструкциями памяти,
назову, в частности, работы Досса1, Мильнера2, Пароли3.
Разумеется, спор не завершен и не скоро завершится, — спор
тех, для кого структуралисты слишком рационалисты, и тех,
для кого они недостаточно рационалисты. Одни будут говорить
о том, что структуралисты недостаточно радикальны в сносе
старого здания субъектоцентризма, другие — о том, что их мера
радикальности уже была убийственной. Да и какие же они
рационалисты? Ведь все они, за исключением К. Леви-Строса, подпали под
соблазн стиля, под власть экспрессии, которая демонстрирует
работу языка, все они были захвачены поэтическим импульсом,
соблазнившим философию4. И действительно, идолопоклонство
перед силами поэтического языка все время сдвигало мысль с ее
путей, однако в целом их работа на различном материале
культуры не переставала быть аналитической даже при весьма
рискованных скрещениях элементов. Относительно моих героев осмелюсь
утверждать, что никакие эксперименты с языком и стилем не
умаляют структурной мощи конструкций Фуко или аналитического
потенциала текстов Деррида. В любом случае представляется
несомненным, что перед нами — важный эпизод европейской
мысли о структуре.
Парадоксальным образом сейчас, перебрасывая мост через
культурные пространства и времена (последние три десятиле-
1 Dosse F. Histoire du structuralisme. T. 1. Le champ du signe. 1945-1966. Paris, 1991 ;
T. 2. Le chant du cygne. 1967 à nos jours. Paris, 1992.
2 MilnerJ.-C. Le périple structural. Figure et paradigme. Paris, 2002.
3 Parodi M. La modernité manqué du structuralisme. Paris, 2004.
4 Так что структурализм не отработал в культуре своего потенциала. Во Франции
этому помешал не только языково-эстетический соблазн, интенсивно
проникавший в структуралистские тексты, но и социально-политический диктат. То, что
в СССР была идеология, которая мешала это понять, ясно; но что во Франции
были свои идеологические диспозиции, которые мешали это понять, - в частности,
политизированный до истерии контекст интеллектуальной жизни, менее ясно,
но должно быть понято.
54 Познание и перевод. Опыты Философии языка
тия), я берусь утверждать, что деидеологизирующий подход
становится не менее (хотя и в ином смысле) актуальным, нежели он
был в начале 1970-х годов. Например, Фуко был утоплен в
социально-политической проблематике, а теперь пришла пора его
«просушить» и получше рассмотреть - слава богу, его «архивы»
на месте, так что для этого нужны лишь время и желание. Фуко
сейчас существует для нас в основном как политический
мыслитель, как автор концепции знания—власти, которая релятивизи-
рует познание, как носитель позитивизма с элементами
ницшеанского нигилизма (Декомб). Но Фуко совершенно к этому не
сводится, а потому я и хочу предпринять его «обратный перевод»,
который, быть может, будет интересен не только мне. Моя цель -
реактивировать его познавательный импульс, его убеждение
в том, что к человеку, к его сознанию и поступкам стоит
подходить не по законам априорных интуиции, а посредством
выработки эмпирико-трансцендентальных форм знания,
включающего как вопрос об эмпирическом опыте, так и вопрос об
условиях его возможности. В отличие от тех давних времен,
вопросы о «возврате к субъекту» и о «реактуализации структуры»
сейчас встают перед нами одновременно. Они не исключают друг
друга, только субъект понимается иначе - и это новое понимание
выработано на путях, пройденных мыслью о структуре, с учетом
опыта этой мысли. Общий спад интереса к познанию,
растворение его в иных мотивациях (как настойчиво отмечает Луман,
у нас теперь преобладают не познавательные побуждения, а
совсем иные — реактивные) — очевидны, однако у нас еще есть шанс
заново, и без ложной патетики, утвердить идею познания как
главного средства, выработанного социумом для выживания рода
человеческого.
Все эти «археологические» вопросы имеют свое особое имя
в контексте нашего размышления о познании и переводе. Это -
обратный перевод. Я заимствую его у известного переводчика-
германиста и историка культуры A.B. Михайлова, который
развивал идею перевода в более широком, нежели перевод с языка на
язык, смысле слова. И отдельный человек, и культура могут
плодотворно изучаться как особого рода языки. Среди методов,
которыми пользуется история культуры и история идей, — метод
«обратного перевода» и тем самым «возврата вещей на их места».
«Главный метод истории культуры как науки — это обратный
перевод постольку, поскольку вся история заключается в том, что
разные культурные явления беспрестанно переводятся на иные,
первоначально чуждые им культурные языки, часто с предельным
переосмыслением их содержания. Итак, надо учиться переводить
назад и ставить вещи на свои первоначальные места; здесь уже
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 55_
много достигнуто и, главное, осознана сама проблема»1. Эта
мысль как нельзя лучше поясняет мою задачу применительно
к структурализму. Перевод на «чуждые языки» должен
сопровождаться «обратным переводом» как возвратом вещей на свои места
и попыткой посмотреть, какими могли бы быть их
альтернативные пути. На пути обратного перевода успех так же
проблематичен, как и на пути перевода прямого. Но это не должно нас
отпугивать от важного начинания.
Как уже говорилось, французский структурализм не был
локальным явлением. При всех радикальных несходствах и в
российской истории науки есть своя значимая параллель, не говоря
уже о великих предшественниках европейских структурализмов -
Р. Якобсоне и Н. Трубецком. Франция 1960-х и Россия периода
послесталинской оттепели сходным образом обратились к языку
и лингвосемиотическим механизмам в поисках возможностей
объективного познания. Эта параллель мало что объясняет,
однако утешает - показывая одновременно и уникальную
событийность, и закономерность рождения научных идей и способов их
развертывания в разных социальных контекстах. А потому не
только на французском, но и на отечественном материале
осмысление истории познания может дать значимые продвижения в
настоящем. Как известно, в 1960-1970-х годах у нас существовал
свой вариант структурализма, который теперь называется
московско-тартуской семиотической школой. В соответствии с
изменившимся направлением ветров времени у нас сейчас стало обычным
отрицать за главой этой школы Ю.М. Лотманом его
структуралистское прошлое, акцентируя в его наследии то, что знаменовало
разрыв с установками структурализма и объективного познания.
Прислушаемся, однако, к размышлениям Лотмана о
структурализме, высказанным незадолго до смерти: «...это направление
возникло в силу каких-то случайностей, которые, однако, в
истории культуры повторяются. Между прочим, в культуре, как в
биологии... Скажем, в природе вдруг по не очень понятной причине
все заливают муравьи... происходят какие-то такие взрывы... Тоже
самое в культуре. Глухая пора бывает, пастернаковская глухая
пора... и вдруг выплескиваются талантливые люди... В тот период,
когда создавалась тартуско-московская школа2, на поверхность
выплеснулась целая волна гениальных людей. Многих из них уже
1 Михайлов A.B. Надо учиться обратному переводу // Обратный перевод. Русская
и западно-европейская культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000. С. 16.
2 За последнее время общеупотребительным стало название
«Московско-тартуская семиотическая школа», хотя до этого чаще говорили, как это делает Лотман
в приводимом здесь высказывании, «тартуско-московская школа».
56 Познание и перевод. Опыты Философии языка
нет... Не всегда, конечно, гениальные возможности дают
гениальные результаты, это сложный процесс. Но в тот период пульс
культуры как бы забился в этой сфере»1...
Таким образом, структурализм - это не шелуха омертвевшего
прошлого; он был взрывом, событием, энергия которого не
взялась невесть откуда, но была вынесена на поверхность глубокими
тектоническими процессами в познании и культуре. То, в чем
некогда бился «пульс культуры», заставляет нас теперь заново
присмотреться ко всей череде метаморфоз структуралистской
проблематики в Европе и в мире, удерживая в памяти свидетельства
участников этих событий.
§ 2. Познание сознания
Структурализм и поныне не только материал из архива
истории. И сейчас актуальными для нас остаются многие проблемы,
которые были в центре внимания структуралистов. Одна из них -
проблема сознания и познания сознания. Трудность здесь
заключается в том, что структуралистская концепция сознания нигде не
представлена в обобщенном виде: она вплетена в конкретную
работу с материалом и плохо поддается изъятию из
исследовательского контекста.
Структуралистская концепция сознания не сводима к какому-
либо типу анализа сознания - натуралистическому или же ре-
флективистскому, характерным для западной философии в
целом2. Так, структуралистский подход к сознанию в основном не
является натурализмом (натурализм трактует сознание как
«вещь», сходную с вещами внешнего мира, а возможность
познания, в том числе и познания сознания, видит во взаимодействии
мира и сознания как двух материальных систем или же
воздействия одной из них на другую): некоторые элементы
натуралистической трактовки сознания мы встречаем, пожалуй, только
у К. Леви-Строса. И тем более структуралистский подход к
сознанию не является рефлективизмом (рефлективизм трактует со-
1 Лотман ЮМ. На пороге непредсказуемого // Человек. М., 1993. № 6; см.
также: Автономова Н. С. Проблема перевода в свете идеи продуктивной
непереводимости (по страницам работ Ю.М. Лотмана) // Пограничные феномены культуры.
Перевод. Диалог. Семиосфера. Материалы Первых Лотмановских дней в
Таллинском университете (4-7 июня 2009 г.). Таллинн, 2011.
2 Эти два основных типа сознания и познания со всеми их возможными
вариантами проанализированы в кн.: Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М.,
1980. Дальнейшая эволюция этих представлений рассматривается в кн.:
Лекторский В А. Эпистемология классическая и не классическая. М., 2001.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 57_
знание как «ненатуральный» объект, данный субъекту —
трансцендентальному или же эмпирическому - во внутреннем опыте,
а в субъективной способности самоотчета и самосознания видит
гарантию возможности познания внешних объектов). Более того,
концепции классического рационализма, и прежде всего
декартовская, построенная на принципе самоочевидности cogito,
и современные концепции «субъективистской» ориентации
(экзистенциализм, персонализм) становятся в структурализме
объектами критики. Своеобразие структуралистского подхода к
сознанию во многом обусловлено именно его междуусобной
позицией. Как уже отмечалось, отношение структурализма к
тому, в чем можно было видеть основные параметры классических
представлений о рациональности (ее всеобщности,
необходимости), было отрицательным, тогда как другие аспекты
классической рациональности (и прежде всего — сам поиск форм и
способов обоснования знания) воспроизводились и развивались
в различных подходах структуралистской ориентации. Столь же
неоднозначным и противоречивым было и отношение
структурализма к позициям, представленным экзистенциализмом или же
персонализмом: разумеется, переживающий субъект в
структурализме не мог мыслиться в качестве основы знания о человеке
и знания о сознании, но в то же время те проблемные прорывы,
которые привели, скажем, феноменологическую традицию к
анализу языка и его роли в объективизации смыслов человеческой
деятельности, находили отклик и выражение в
структуралистской системе понятий.
В этой борьбе с субъективизмом пафос структуралистов,
безусловно, позитивистский. Они чувствуют себя первооткрывателями
новых содержаний, провозвестниками подлинной научности
в море субъективизма; эмпирически обоснованное позитивное
знание для них — это устойчивая опора в зыбком мире
иллюзорной свободы. Вещи и судьбы, влекомые потоком гуманистически
интерпретируемой истории или, напротив, пригвожденные к
месту тяжестью своей непроницаемой для разума субстанции,
начинают обретать строгие и стройные формы - на уровне
синхронных структур, на уровне соотношений между элементами.
Структуралисты, как алхимики, стремятся расплавить все ложные
синтезы, построенные прежней культурной традицией, складывая
из обломков — точнее, усматривая под обломками — четкие,
похожие на кристаллы структуры, в которых светится внутренняя
упорядоченность и законосообразность (этот ход мысли особенно
четко прослеживается у Леви-Строса).
Характерно, что структуралистские построения не впечатлили
англосаксонских позитивистов, уже давным-давно миновавших не-
58 Познание и перевод. Опыты Философии языка
опозитивистский этап, почти не затронувший Францию, и
погрузившихся в хитросплетения «постпозитивизма», который в наши дни
уже пришел к своему релятивистскому логическому завершению.
При этом им не казался убедительным не только «метафизичный»
Фуко или «эссеистичный» Барт, но и наиболее последовательный из
всех структуралистов — К. Леви-Строс, который воспринимался ими
не столько как ученый, доказывающий свои тезисы научными
доводами, сколько как «юрист, защищающий дело в суде»1.
Таким образом, однозначный ответ на вопрос о специфике
структуралистского подхода к сознанию в философском плане
затруднителен. С позитивистами структуралистов роднит и опора на
позитивное знание, и безусловный антиметафизический,
антифилософский пафос, характерный для всех исторических
разновидностей позитивизма. Однако если для «настоящих»
позитивистов любое знание, не основанное на фундаменте эмпирических
фактов, оказывалось под подозрением, то для структуралистов
дело обстояло иначе. Само признание априорных структур, не
сводимых к фактам и не выводимых из фактов, свидетельствовало
о воздействии рационалистической традиции. Таким образом, обе
эти характеристики (позитивизм или рационализм) оказываются
односторонними, а попытка объединить их не исчерпывает
своеобразия рассматриваемого объекта. Однако при этом
обнаруживался еще один элемент, противоречащий и эмпирико-позити-
вистским, и рационалистическим характеристикам
структурализма, но соединяющий обе эти тенденции в рамках весьма особой
конфигурации. Этот элемент - романтический. Характерная
черта романтического умонастроения — разлад между мечтой и
действительностью, между реальностью и идеалом, ввергающий
мыслящего в ту или иную форму скептицизма. Таким скептицизмом
отмечены и структуралистские концепции: структуры просто
суть, они не сводимы ни к протокольным предложениям,
содержащим эмпирические констатации, ни к априорным истинам
разума. И в этом утверждении есть пессимистическая нота: вопрос
о природе структур, равно как и вопрос о природе языка или
сознания, по сути, не разрешим ни на путях эмпиризма, ни на путях
рационализма. Оборотной стороной этого романтического
скептицизма подчас оказывается своего рода демонизация структур,
языка, означающего, управляющих человеческой судьбой.
В этой связи возникает новый вопрос: а не является ли
структурализм особой разновидностью европейского («неостровного»)
1 Это замечание, сделанное известным английским антропологом Эдмундом
Личем, касалось прежде всего левистросовских доказательств универсальной
природы человеческого разума. Leach Ε. Claude Lévi-Strauss. Ν. Y., 1970. P. 13.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 59
позитивизма, возникшей в лоне философских традиций, отличных
от англо-американского аналитического эмпиризма? Вспомним,
что исторически исходный, местный французский эмпиризм
«первого позитивизма» ни в коей мере не предполагал, например,
отказа от метафизики или же предполагал его в совершенно иных
формах, нежели те, в которых этот отказ осуществился в
позднейшей эволюции англо-американского постпозитивизма. Не
обнаруживаем ли мы здесь иных ресурсов позитивного мышления
в философии науки, оставшихся вдали от историко-научных
магистралей, но, тем не менее, существовавших и продолжающих
существовать как возможность, как тенденция и даже, думаю, как
нечто отчасти реализованное в структурализме, противоречиво
соотносящем эмпирическую и рационалистическую мыслительную
схематику? Эта гипотеза требует дальнейших исследований.
Предлагая охарактеризовать структуралистский подход к
сознанию как вариацию на темы романтического позитивизма1,
я вижу основания такого подхода к сознанию и познанию
человека в особых обстоятельствах, определивших для структурализма
его познавательную ситуацию. Она совпала по времени с
притоком новых содержаний в самых различных областях познания
и практики — содержаний, требовавших позитивной проработки,
но не укладывавшихся в рамки позитивного знания. Этот
материал требовал не только упорядочения и классификации,
но и осмысления в рамках более широкой мировоззренческой
схематики. В свою очередь, эту схематику определяли весьма
разнообразные процессы как внутри страны, так и за ее пределами:
это антиколониальное движение в странах, именовавшихся тогда
странами «третьего мира», и обновившийся в связи с этим интерес
к первобытным и восточным культурам во всей их экзотической
самобытности, это студенческие волнения в Америке и Европе
1960-1970-х годов, оживление феминистских движений и в
целом - возросшее внимание к так называемым «маргинальным»
социальным группам (молодежь, женщины, больные и пр.), это
новые механизмы функционирования массовой культуры,
радикальные перемены в среде обитания человека на земле и в
космосе и т. д. и т. п. В результате целый ряд проблем, которые в первой
половине XX столетия волновали лишь узких специалистов или
художественную элиту, стали во второй половине XX в. массово
воспринимаемой реальностью, создав тем самым ощутимую угро-
1 Такое определение Ж. Делёз дает концепции М. Фуко (Deleuze G. Un nouvel
archiviste // Critique. 1970. № 274. P. 195-209). Я придаю этому словосочетанию
иное значение и полагаю, что оно может использоваться для характеристики
общей позиции структурализма.
60 Познание и перевод. Опыты Философии языка
зу привычному образу человека, пронесенному без существенных
изменений со времен европейского Возрождения. Только теперь,
когда отдельные очевидности начали складываться в осознание
того, что жить и мыслить по-старому больше нельзя, на повестку
дня встала задача - переосмыслить и образ человека, и образ
науки в мире традиционных ценностей европейской культуры, в том
числе - иначе задать понимание сознания как важнейшей
способности и атрибута человека.
Спрашивается: где взять точку опоры для столь радикальной
перестройки? Классический рационализм видел опору в очевид-
ностях трансцендентального сознания — той части мыслящего Я,
которая может быть очищена от всех искажающих образ
очевидности наслоений. Экзистенциализм видел свою опору в очевид-
ностях сознания субъекта, обладающего не только духом, но и
телом, потребностями и нуждами (поздний Сартр), однако он
анализировал человека лишь в плоскости свободного выбора,
придающего смысл абсурдному миру. Структурализм выбирает
в качестве опоры то, что было в экзистенциалистской программе
абсолютным препятствием для всех человеческих реализаций,
а именно бессознательное — момент объективного в мире
субъективных очевидностей. При этом возникает парадокс: в самом
сознании обнаруживается нечто такое, что сознанием не является,
но, тем не менее, его определяет. Экспликация этого тезиса и
составляет суть структуралистской концепции сознания. При этом
структуралистское бессознательное обнаруживает себя не как
стихийная космическая сила, но прежде всего как объективная
формальная структура. То, что структуры выступают здесь как
нечто бессознательное и объективное, означает, в частности, и то,
что они не даны никакому непосредственному восприятию:
для их обнаружения, фиксации, исследования нужно проделать
работу, подобную работе геолога, углубляющегося в земную
твердь, или археолога, обнаруживающего на основе случайных,
казалось бы, деталей быта неизвестных человеческих поселений
строгие формы их бытия и культуры.
Что же дает средства для работы с бессознательным,
отыскания в нем структурных упорядоченностей, что делает его, по
мысли структуралистов, позитивным и конструктивным, а не просто
ограничивающим условием познания сознания? Ответ на этот
вопрос для всех структуралистских концепций, сколь бы
различны они ни были в иных отношениях, один: это язык, это
аналогия между бессознательным и языком, структурами
бессознательного и структурами языка. И ответ этот не тривиален
и в исторической перспективе, и в сопоставлении с другими
современными концепциями.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 61
Как известно, для классического рационализма
самостоятельный вопрос о языке не стоял (скажем, просветители понимали
язык как творение разума, подвластное сознанию и способное
исчерпывающе представить логические структуры мысли). Для
экзистенциалистской философии язык был одним из главных
ограничений человеческой свободы, частью «практико-инертного»,
тем, что способствует порабощению и отчуждению человека (так,
одним из условий подлинной человеческой свободы Сартр считал
полную диалектическую перестройку языка1). Даже в дильтеев-
ской герменевтике, где вопрос о языке должен был бы иметь
первостепенное значение, он отдельно не ставился, а потому
проблематичной оказывалась сама возможность переходов от
субъективного опыта автора текста к субъективному опыту истол-
кователя-герменевта, терялись критерии значимости при
реконструкции смысла произведения. Эти затруднения и попытались
разрешить структуралисты, выдвигая на место
трансцендентальной или эмпирической субъективности бессознательные
структуры и считая их подобными языку и доступными познанию с
помощью языковых механизмов. Последовательное проведение такой
исследовательской установки должно было привести в плане
эпистемологическом уже не к очищению субъективности от объекта,
как это было в феноменологии и экзистенциализме, но к
очищению объективности от субъекта. Внеиндивидуальная природа
языка должна была явиться здесь точкой опоры для
методологически и мировоззренчески трудного самоустранения: язык с его
исконной социальностью «объективнее» сознания, и потому его
использование позволяло надеяться, по мысли структуралистов,
на более успешную борьбу с предрассудками собственной
культуры, на более надежные и прочные переходы не только от одного
Я к другому Я (этот переход оказывался неосуществимым в
феноменологической герменевтике и экзистенциализме), но и от
одной культуры к другой культуре. Методологическая задача
структурализма в плане анализа сознания заключается, следовательно,
в том, чтобы, налагая языковые мерки на самые различные
объекты культуры, на самые различные образования, бессознательно
представленные в сознании (индивидуальном и коллективном),
получить их объективный образ.
Таким образом, можно сказать, что проблема сознания
парадоксальным образом видится в структурализме сквозь призму
трех «объективностей» — структуры, бессознательного, языка. Все
эти объективности не рядоположны и не самодостаточны: лишь
в совокупности своей они образуют концептуальное ядро, вокруг
Sartre J.-P. L'écrivain et la langue // Revue d'esthétique. 1965. № 18. P. 331.
62 Познание и перевод. Опыты Философии языка
которого кристаллизуются более частные аспекты проблемы
сознания. При этом образуются и цепочки круговой зависимости:
бессознательное - языкоподобно и структурно, структура -
бессознательна и языкоподобна, язык (языкоподобные механизмы
культуры) - структурен и бессознателен. Однако одного только
вычленения этого триединства, этой концептуальной клетки
недостаточно: теперь нужно показать, каким образом
взаимодействие этих трех объективностей создает, по мысли
структуралистов, условия познания сознания.
Уже на рубеже XIX и XX в. в бессознательном стали искать
условия объективного познания сознания. Так, для Фрейда это
был вопрос о прочтении «следов» бессознательного как
расшифровке особого рода языка, хотя отдельно проблему языка Фрейд
не ставил1. Фрейдовская, как и юнговская, интерпретация
бессознательного не удовлетворяет структуралистов: фрейдовское
бессознательное для них слишком содержательно наполнено, оно
представляет собой скорее картину, нежели структуру.
Структуралистское бессознательное - это абстрактный формоупоря-
дочивающий и формопорождающий механизм — «матрица»,
определяющая возможности расчленения, упорядочения,
взаимосоотнесения и, следовательно, символического
функционирования любых других образований сознания. Наиболее
развернутый образ структуралистского подхода к бессознательному мы
находим у К. Леви-Строса, и потому любые нюансы его
трактовки бессознательного имеют прямое отношение к нашей теме.
Для Леви-Строса бессознательное функционирование
социальных норм и правил (например, правил родства и браков) служит
основанием возможности их объективного познания: ведь оно не
затрагивается и не искажается ни пристрастиями исследователя,
ни самоинтерпретациями носителей культуры2.
Глубинные структуры бессознательного — это уровень, на
котором определяются условия взаимодействия сознаний,
непосредственно несопоставимых и несоизмеримых. Не выходя за
пределы самого себя, но углубляясь в собственное
бессознательное, исследователь оказывается способен достичь такого уровня,
1 Delrieu A. Lévi-Strauss lecteur de Freud. Paris, 1993. Ср. также: Laurent Ε. Position
de la psychanalyse dans la science: Freud lu par Lacan // Carrefours sciences sociales : le
moment moscovite / Sous la dir. de Doray В., Rennes J.-M. Paris, 1995. P. 397-407.
2 Сартр, конечно, не может согласиться с тем, что абориген неосознанно
подчиняется подобным правилам браков: нет, абориген сознательно подчеркивает свою
принадлежность именно данной социальной группе и стремится доказать эту свою
принадлежность следованием этим правилам {Sartre J.-P. Critique de la raison
dialectique. Paris, 1960. P. 487-493).
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 63^
где на скрижалях бессознательного записаны возможности
ментальной жизни человека вообще — человека любой эпохи и любой
культуры. Набор возможностей, представленных в
бессознательном, подразумевает не только опосредование цивилизованного
и нецивилизованного, но также опосредование одного Я и
другого Я в одной и той же культуре или же опосредование различных
слоев и уровней внутри Я — например, Я субъективного и Я
объективированного. Леви-Строс соглашался, когда его концепцию
бессознательного сравнивали с кантовской идеей категорий,
выявляющих пределы и тем самым возможности мысли.
В зависимости от такого понимания бессознательного
складывается и определенное понимание субъекта и объекта — познания
сознания, осуществляемого через бессознательное. Как уже
говорилось, углубление в условия бессознательного позволяет достичь
уровня взаимной переводимости различных систем и кодов друг
в друга. Именно на этом уровне кристаллизуется объект, или,
точнее, нечто «приобретает характер объекта, наделенного своей
собственной реальностью, не зависимой ни от какого субъекта»1.
Соответственно этому образу объекта определяется и субъект
изучения бессознательного: это «несубстанциальное место,
предоставленное анонимной мысли для того, чтобы она развертывалась
в нем, отстраняясь от самой себя, обнаруживала и осуществляла
свои подлинные склонности и организовывалась в соответствии
с внутренними принуждениями своей собственной природы»2.
Таким образом, специфика этой гносеологической пары
категорий - субъект и объект - заключается в данном случае в
несубстанциальности объекта и не-субъектности субъекта; их
взаимоотношения не становятся, однако, отношениями субъект-
объектного типа, поскольку и субъект и объект выступают здесь,
по сути, как «несубстанциальные места», как функции, не
зависимые ни от какого конкретного содержания.
Таким образом, в исследовательском сознании пересекаются
события, которые не им порождены и не в нем возникли: они
возникли не в сознании, а в «других местах». Так и возникает
методологический эффект «стирания субъекта»: мифы познаются
мифами же, структуры структурами и т. д. и т. п. При этом «замкнутая,
автономная, саморегулирующаяся» синхронная структура
оказывается неким абсолютом, некоей безусловностью: раз отвлекшись
от разнородных фактов и обратившись к уровню их
бессознательного структурирования, мы, кажется, уже не сможем вновь вер-
Lévi-Strauss С. Mythologiques. Т. 1. Le cru et le cuit. Paris, 1964. P. 19.
Lévi-Strauss C. Mythologiques. T. 4. L'Homme nu. Paris, 1971. P. 559.
64 Познание и перевод. Опыты Философии языка
нуться к фактам, так что тезис о всеобщности структур
бессознательного остается скорее принимаемым на веру постулатом,
нежели аргументом в споре, оперирующим конкретными
доказательствами.
Впрочем, дело не только в сложности переходов от всеобщих
бессознательных структур к их конкретным обнаружениям. Некое
противоречие заключено и в самом тезисе о всеобщности структур
бессознательного. Казалось бы, коль скоро структуры
бессознательного всеобщи, коль скоро они отображаются в любых
социальных продуктах и установлениях неким универсальным
способом, коль скоро, наконец, они изучаются методами структурного
анализа, предполагающего набор операций (прежде всего -
бинарные оппозиции), изоморфных, как надеется исследователь,
тем операциям, которые «на самом деле» запечатлены в структуре
самого объекта, следовательно, не должно быть никакого
принципиального различия между, скажем, структурным исследованием
«анонимного» мифа туземцев и структурным исследованием
индивидуального произведения культуры, между изучением
культуры южноамериканских индейцев и исследованием произведений
и любой другой культурной традиции. Коль скоро логика
бинарных оппозиций универсальна, она должна быть равно
представлена и доступна исследованию и в мысли дикаря, и в мысли
Гамлета, решающего вопрос о том, «быть или не быть?»1.
1 Именно разрешение этого вопроса определяет, по Леви-Стросу, все движение
человеческой жизни и мысли. «Главная оппозиция, порождающая все другие
оппозиции, которыми изобилуют мифы, <...> - та же самая, которую Гамлет несколько
наивно провозглашает в виде альтернативы - быть или не быть, - ведь человеку не
дано выбирать между бытием и небытием. Умственное усилие, неотделимое от всей
его истории и длящееся вплоть до его исчезновения с вселенской сцены, требует,
чтобы человек принял эти взаимно противоречивые очевидности, столкновение
которых приводит его мысль в движение и порождает (для нейтрализации этой
оппозиции) бесконечный ряд других бинарных различений, которые, не в силах
разрешить эту изначальную антиномию, лишь воспроизводят и увековечивают ее
в меньших масштабах; это, с одной стороны, реальность бытия, переживаемая
человеком в глубине его существа как то, что единственно способно дать основание
и смысл его повседневным действиям, его морали и чувствам, его политическим
пристрастиям, его вовлеченности в социальный и природный мир, его
практическим начинаниям и научным достижениям, и вместе с тем - неотступное
предчувствие реальности небытия: ведь человеку выпадает на долю жить и бороться,
мыслить и верить, сохранять мужество, когда его не отпускает иная очевидность - что
раньше его не было на земле, что жизнь его не вечна, что он исчезнет с поверхности
планеты, тоже обреченной на уничтожение, так что его труд, его радости и горести,
надежды и произведения станут тем, чего как бы никогда и не было, ибо ничье
сознание уже не сможет хранить воспоминание об этих мимолетных движениях,
останутся лишь еле заметные черты, быстро стирающиеся с лица земли, отныне
невозмутимого, - как просроченное удостоверение в том, что все это некогда имело
место, иначе говоря - не имело ничего». См.: Lévi-Strauss С. L'Homme nu. P. 621.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 65^
Однако абсолютную всеобщность универсальных структур
бессознательного гораздо легче постулировать, нежели доказать:
на месте искомой всеобщности неискоренимо всплывают дуализ-
мы. И дело здесь не только в конкретных примерах. Не более
убедительным оказывается, скажем, доказательство тождественности
дикарского и современного европейского мышления со ссылкой
на то, что первобытная логика чувственных качеств
(представленных в виде набора бинарных оппозиций) находит свое место
в самой современной науке (например, послеэйнштейновской
физике), некогда отказавшейся от изучения качественных
характеристик своего объекта. Доказазательство тождества рода
человеческого через тождество мышления и в самом деле становится
похоже на «защиту в суде», о которой говорил Э. Лич, во всяком
случае оно распадается на два отдельных тезиса: тезис об
отрицании европоцентризма и о несводимости культур друг к другу и
тезис об универсальной сущности всякой культуры1. Та же
сложность обнаруживается и в познании человека, познании сознания:
знание об исторически-конкретных «практиках» и знание о
вневременном функционировании бессознательного или о «пракси-
се» оказывается абсолютно разнотипным, содержательно
чужеродным, что нисколько не приближает нас к искомому единству
гуманитарного знания. Остается одно: из науки исключается все,
что не относится к бессознательному функционированию
синхронных структур, а все остальное выступает лишь как более или
менее случайное обнаружение этих структур.
На практике вопрос о применимости структурного анализа для
исследования произведений, принадлежащих к различным
культурным традициям, фактически получает отрицательный ответ не
только у теоретических противников структурализма, но и у его
адептов. Так, отвечая Рикёру на вопрос о том, можно ли
исследовать Библию структурными методами2, Леви-Строс решительно
высказывается против перенесения методов, а известную работу
Э. Лича по структурному анализу библейских текстов называет
остроумным курьезом. Однако это плохо согласуется с тезисом об
универсальности бессознательных структур3. Не значит ли это,
1 Аврамова С. Структурализмът: метод и идеология. София, 1977. С. 155.
2 Lévi-Strauss С. Réponses à quelques questions // Esprit. Nouv. série. 1963. № 11.
P. 628-653.
3 Библию, говорит Леви-Строс, нельзя исследовать структурными методами
потому, что нам неизвестен социальный контекст, необходимый для интерпретации
обнаруживаемых структур (причем, это несколько неожиданно в устах
исследователя, который считал миф совершенно свободным от какой бы то ни было «соци-
66 Познание и перевод. Опыты Философии языка
что в случае собственной (а не «экзотической», чужой) культурной
традиции интуитивно ощущаемая потребность выявить
специфику изучаемого предмета, восстановить тот содержательный
остаток, который не поддается методам структурного анализа,
фактически приводит к отказу от постулата об универсальности объекта
гуманитарной науки и универсальности ее метода?
Могут ли помочь уловить специфику исследуемого объекта
языковые механизмы, посредством которых структуралисты
расчленяют и упорядочивают бессознательное? Ведь, казалось бы,
язык для структуралистов — это движущая сила перевода
бессознательных структур в те или иные социальные образования1,
своего рода базис для надстройки, который служит проводником
воздействия бессознательного на социальную жизнь человека.
Однако язык и языковые механизмы для структуралистов - это
скорее средство редукции ко всеобщему, нежели средство синтеза
конкретного. Образно говоря, из двух его функций - «прямого»
перевода бессознательных структур в социальные продукты и
«обратного» перевода социальных продуктов в бессознательные
структуры и еще глубже — во всеобщие структуры мозга - именно
вторая функция оказывается более важной: язык должен
обеспечить последовательную редукцию социального к логическому,
логического - к природному, природного - к биологическому,
биологического - к физико-химическому и т. д. Иначе говоря, язык
вкупе с бессознательным должен редуцировать специфически
человеческое (и прежде всего - сознание) к неспецифическому,
органически обусловленному. Потому-то в конечном счете
структуралисты и отказываются от опоры на сознание и апеллируют
к бессознательному: в таком ходе мысли видится наикратчайший
путь к всеобщности человеческой природы, определяемой на
уровне бессознательных ментальных структур.
Какую бы «объективность» структуралистской трактовки
сознания мы ни взяли — бессознательное, структуру, язык, - всюду
обнаруживается причудливая двойственность элементов
позитивистской и романтической интерпретации. Одна структура -
совокупность отношений между фактами, которые более
однородны и вместе с тем более понятны, чем сами факты. Другая
структура — вполне метафизическая «вещь в себе», некий абсо-
альной арматуры»!): узнать нечто об этом контексте можно лишь из самой Библии,
и при объяснении получается порочный круг.
1 «Язык - это одновременно и факт культуры par excellence, отличающий
человека от животного, и факт, посредством которого устанавливаются и
упрочиваются все формы социальной жизни». Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. Paris,
1958. P. 392.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 67_
лют, та самая субстанция, которую мы, казалось бы, оставили за
скобками, переходя к анализу отношений. Одно
бессознательное - внутри себя упорядоченная возможность объективного
познания сознания. Другое бессознательное — фатум, который
детерминирует человеческую жизнь. Один язык — метод, средство
рациональной проработки материала сознания, объективного
анализа различных обнаружений человеческого духа и подхода
к самим его структурам. Другой язык — демоническая сила, от
которой зависят все перипетии человеческой судьбы («означающее»
у Ж. Лакана). Так, в виде онтологизированной структуры,
иррационального бессознательного, демонического означающего
в романтический позитивизм структурализма входят призраки
субъекта, исключенного ради объективности науки, ради ее
свободы от метафизики и идеологии.
§ 3. Язык: объект и средство
Проблема обоснования знания поначалу возникает перед
методологическим сознанием исследователей-структуралистов, так
сказать, «по аналогии», при взгляде на другие, более теоретически
продвинутые области социального и гуманитарного знания,
причем ее постановка характеризуется отчетливым стремлением
заимствовать из других дисциплин те приемы, которые оказались
в них плодотворными. Как известно, на одном из первых мест
среди современных гуманитарных наук по использованию точных
методов при построении своего теоретико-концептуального и
методологического аппарата стоит лингвистика. Заимствование
ряда приемов и методов из структурной лингвистики оказалось
вполне эффективным для целого ряда наук: в некоторых разделах
этнологии (например, в изучении систем родства, в меньшей
степени - в исследовании мифического мышления), в некоторых
разделах литературоведения (например, в фольклористике).
Однако границы распространения лингвистической методологии
в других областях гуманитарного знания способом простого
переноса далеко не очевидны. А многие логико-методологические
проблемы не решены еще и в самой лингвистике - и тем более
проблематичны их поспешные экстраполяции в другие науки.
Перенос методологии из одной науки в другую, а также из одной
сферы научного знания в другую (как это имеет место в данном
случае с естественным и гуманитарным знанием) — это явление
полезное и продуктивное. При этом унификация
методологического аппарата наук, находящихся на разных ступенях теоретиза-
ции, далеко не всегда оправданна: например, поскольку
собственная структура объекта в ряде областей гуманитарного знания
68 Познание и перевод. Опыты Философии языка
находится в процессе становления, попытки формализации и
математизации оказываются здесь порой преждевременными.
Другой путь обоснования гуманитарного знания заключается
в попытке обнаружить некоторые предельные философско-мето-
дологические ориентиры познания. Отдельные науки в динамике
своего развития ищут такого самообоснования, которое могло бы
функционировать в «теле» науки в качестве ее необходимой
предпосылки и условия, фактически вырабатывая слой философской
проблематики внутри себя и тем самым посягая на некоторые
привилегии философии. Такая ситуация артикулированного
взаимодействия науки и философии имела место несколько
десятилетий назад, и французский структурализм, содержащий в себе
развитый слой философской проблематики, служит хорошим
примером; в наши дни, пожалуй, можно говорить о нарастании
фузионной слитности некоторых философских и нефилософских
методологических схематик - с потерей интенсивности
взаимодействий между ними, а потому вопрос о том, как строились
некоторые попытки структуралистского обоснования науки,
затрагивавшие как научный, так и философский уровни, интересен для
нас и сейчас. Такое обоснование предполагает два пути -
экстенсивный и интенсивный: во-первых, это критико-рефлексивный
анализ уже существующих в познании схем и испытание их на
новом материале; во-вторых, - это попытка продумать и
сформулировать новые схемы познавательной работы, которые
подтверждали бы свою плодотворность на этом новом материале.
Остановимся теперь последовательно на обеих составляющих
структуралистского проекта обоснования знания - критической
и позитивной.
Опорные установки классического рационализма в
исследовании механизмов познавательного процесса предполагали,
во-первых, нахождение незыблемой точки отсчета в данностях сознания
и, во-вторых, построение такой проекции этих данностей
сознания на внешний мир, в которой внеположная сознанию структура
реальности выступает фактически как место воплощения
содержаний субъективного сознания, как второе «я» сознания. (Так,
вершина классического рационализма — концепция Гегеля -
исходит из того, что развертывание объективного духа есть не что
иное, как его самоуяснение, и, наоборот, процесс самопознания
духа предполагает его вынесенность вовне, его объективацию.)
Объект выступает здесь как нечто вторичное, подчиненное
саморазвертыванию абсолютного субъекта. Классическая схема
западноевропейской философии вообще не позволяет помыслить
сознание как объект, поскольку сознание в этой схеме не объект,
а условие объективирования (с этим парадоксом столкнулся еще
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 69^
Кант при выяснении возможности построения психологии как
науки). А коль скоро гуманитарные науки непосредственно
сталкиваются с сознанием именно как со своим объектом и при этом
наследуют некоторые классические схемы мышления, то здесь
возникает ряд специфических сложностей методологического
и эпистемологического характера. Трансцендентальный
механизм обоснования естественно-научного знания о мире
запрещает объективацию субъективности, объективацию сознания
потому, что в противном случае получился бы регресс в бесконечность:
представляя сознание, т. е. «условия возможности» объекта, как
объект, мы должны были бы сделать и следующий шаг, ввести
некий дополнительный механизм, удостоверяющий то, что ранее не
нуждалось в обосновании, представить бывшее обосновывающее
первоусловие в роли обосновываемого механизма. Лишь
оставаясь принципиально необъективируемым, трансцендентальное
сознание могло выступать как условие возможности познания
любых объектов опыта.
Но как же в таком случае представить субъект и объект
гуманитарного знания? Каким образом возможно сочетать в пределах
одного механизма субъективность трансцендентальную и
субъективность опредмеченную, представленную как объект (этот
вопрос будет далее рассматриваться применительно к вопросу
о познании бессознательного у Лакана)? Очевидно, этот парадокс
неразрешим в пределах трансцендентальной схемы обоснования
знания. И это объясняет те подспудные или осознанные
методологические усилия, который направил структурализм на
преодоление унаследованных от классического рационализма схем
и разработку новых принципов обоснования знания.
Прислушаемся к размышлениям Леви-Строса о том, каким
должен быть субъект, исследователь этого «нового» объекта.
В «Мифологиках», подводя некоторые итоги, он высказывает
эпистемологические соображения в виде отчета о жизни и познании:
двадцатилетний опыт работы исследователя, изучающего
первобытное общество, мышление, культуру, институты,
свидетельствует о том, что прочное и самотождественное Я, эта главная забота
всей западной философии, — разрушается, не выдерживая этих
постоянных усердных «занятий одним и тем же предметом1, который
целиком поглощает и пропитывает его непосредственным чувством
собственной ирреальности. Ибо ведь та реальность, на которую
Я еще может претендовать — это реальность единичности, в том
смысле, который придают этому термину астрономы: это
взаимосвязь места в пространстве и момента во времени, где прошли, про-
1
Речь здесь идет прежде всего об изучении мифов.
70 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ходят или пройдут события, относительная плотность которых -
в сопоставлении с другими событиями — не менее реальными,
но более распыленными, - позволяет приближенно его описать,
причем этот пучок прошедших, действительных или возможных
событий существует не как прочная основа, но как место взаимо-
сплетенных случайностей, которые бесконечно возникают не
в нем, а где-то еще, появляясь, чаще всего, неизвестно откуда»1.
Таким образом, — продолжает Леви-Строс, — ясно, почему
«стирание (effacement) субъекта представляет собой, если можно так
выразиться, необходимость методологического порядка: оно
подчиняется настоятельному стремлению объяснить все в мифе
посредством самого же мифа и, следовательно, исключить точку
зрения судьи, "расследующего" миф извне и потому склонного
находить для него внешние причины. Следует, напротив,
проникнуться убеждением, что позади всякой системы мифов
вырисовываются - как весомые, определяющие ее факторы - другие
мифические системы; это они говорят в ней и откликаются эхом друг на
друга, если и не до бесконечности, то по крайней мере вплоть до
того неуловимого момента, когда <...> человечество создало свои
первые мифы»2.
Как уже отмечалось, Леви-Строс отрекается от той
разновидности философии, которая «предпочитает субъекта без
рациональности — рациональности без субъекта»3, философии,
«отягощенной мистицизмом, редко признаваемым открыто и чаще
замаскированным под именем гуманизма»4, и считает своим
долгом пояснить свои филиппики в адрес философии
субъективности одновременно в теоретико-познавательном и
методологическом плане: «...философия слишком долго и успешно держала
гуманитарные науки в порочном кругу, не позволяя сознанию
заметить какой-либо другой объект для изучения, кроме самого
себя. Отсюда — и практическая беспомощность гуманитарных наук,
и их иллюзорный характер, — ведь сознанию свойственно самооб-
1 Lévi-Strauss С. Mythologiques. L'homme nu. P. 559. Необходимо иметь в виду,
что в критической части структуралистской программы далеко не всегда четко
расчленены различные уровни возникающей здесь проблематики. Порой критика
«субъекта» или «принципа субъективности» в познании смешивается с критикой
«гуманизма», точнее, антропологических предрассудков. По сути же здесь мы
сталкиваемся с явлениями разных уровней: абстрактное понятие
трансцендентальной субъективности - это понятие собственно философского плана, в то
время как понятие гуманизм, например, выступает уже как его конкретизация.
2 Lévi-Strauss С. Mythologiques. L'homme nu. P. 561-562.
ъ Ibid. P. 614.
4 Ibid. P. 577.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре.,. 71
манываться»1. В качестве нового объекта и должна выступить
многослойная структура отношений, не доступных
непосредственному эмпирическому наблюдению, но, тем не менее,
обладающая определенной объективной и
эвристически-познавательной ценностью: «Изменяя уровень наблюдения и исследуя
отношения, лежащие вне эмпирических фактов и объединяющие
их, он [структурализм] показывает и доказывает, что эти
отношения более просты и понятны, чем те вещи, между которыми они
устанавливаются; хотя их основополагающая природа, быть
может, не будет познана до самого конца, однако эта
непрозрачность - временная или окончательная — уже не будет
препятствием к их истолкованию»2.
При этом не только у Леви-Строса с его экзотическим
материалом, но и у Фуко, Барта, Лакана очевидно стремление
построить свой собственный объект гуманитарного знания,
«другой объект», не являющийся сознанием и не относящийся
к сфере сознания. Конечно, идеальное представление о том,
каким должен быть этот «новый» объект, сильно варьируется в
зависимости от того материала, который привлекается для его
разработки, однако он имеет и некоторые общие черты. На уровне
идеальной модели такой объект должен был бы обладать
принципиально не редуцируемой многослойностью отношений
внутри синхронно-иерархической структуры, одновременно с этим
обладая динамикой, направленной на взаимопреобразование
этих структур. При этом главным средством для построения
«нового» объекта в концепциях структуралистов выступает язык
(в той широкой его трактовке, которая характерна для
структуралистов). Он призван совмещать в себе сразу две или даже три
функции — объекта познания, схемы обоснования условий
возможности познания и, наконец, средства познания. Эта
абстрактная реконструкция замысла показывает — на уровне
аналогий - что на язык в структуралистской схематике возлагается,
в частности, та задача обоснования знания, которую в
классической западной философии выполняет сознание. Соответственно
уровень языкового функционирования должен, по мысли
структуралистов, предшествовать всем тем субъектно-объектным
разграничениям, которые уже вторично возникают в поле дискурс-
ных взаимодействий. Именно на фоне этого функционирования
лингвистических механизмов с их «смещениями»,
«сгущениями», «узлами» и «сочленениями» (они выступают в роли необъ-
1 Ibid. Р. 562-563.
2 Ibid. Р. 614.
72 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ективируемого условия познания) «субъект», «сознание» могут
далее быть представлены как объекты познания.
Основания, по которым на роль условия и одновременно
объекта познания был избран именно язык, речь, дискурс, весомы.
Ведь язык выступает в пространстве познания человека и
общества как наиболее общий, может быть, даже как всеобщий модус.
С одной стороны, в языке заключаются условия возможности
функционирования любой системы культуры. С другой стороны,
именно язык является средством формирования и фиксации
любого продукта культуры, который становится предметом
познания. Помимо этого ясны и те причины (вне зависимости от того,
насколько четко они осознавались самими структуралистами),
по которым функционирование языка и обоснование знания
через язык фактически заняло в концепциях французских
структуралистов место схемы трансцендентальной субъективности
и обоснования знания через сознание. Именно язык, по замыслу
структуралистов, должен воссоединить в единстве своего
функционирования разобщенные полюса трансцендентальной схемы:
с одной стороны, необъективированное и принципиально необъ-
ективируемое условие возможности объективирования, а с
другой, - тот объект или объекты, которые могут быть помыслены
лишь благодаря существованию объективирующей, но не
объективируемой субъективности. Воссоединение обоих полюсов
трансцендентальной схемы в плоскости языкового
функционирования меняет отношение между этими полюсами: объект
перестает быть антропоморфным, а обосновывающее условие теряет
характер абсолюта, независимого от тех предметов, появление
которых обусловливается в конечном счете его объективирующей
деятельностью. Этот «новый» объект, для которого сознание уже
не является «центром», вполне может быть представлен как
многомерное и многоуровневое образование, причем, в отличие от
«формального» характера трансцендентального обоснования, оно
должно иметь характер «реальности». Эти изменения в
соотношении двух полюсов классической философской схемы
обоснования знания предполагают вычленение еще одной функции,
которая в трансцендентальной схеме не находит обособленного
воплощения, — а именно функции опосредования, которая
собственно и соотносит обосновываемое и обосновывающее.
Итак, первая роль языкового и речевого функционирования
в концепции структуралистов - это роль некоего предельного
обоснования, первичного по отношению к позициям субъективности,
«задаваемым» лишь вторично. Мы помним, как Леви-Строс писал
об «анонимном дискурсе», или же об «анонимной мысли», которые
служат тем местом пересечения и сгущения многообразных собы-
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 73_
тий, придающих в конечном счете реальность конструкциям типа
Я. Вполне понятно, что Я как место пересечения событий,
возникших не здесь, а в иных краях, уже не может претендовать на роль
самотождественного основополагающего субстрата этих событий,
но лишь служит как бы их «вместилищем». Именно
функционирование этого «анонимного дискурса», или, иначе, бессознательного,
актуализирует ту индивидуальную подсознательную «лексику»,
которой обладает каждый индивид, превращая ее в речь и тем самым
придавая ей смысл. Так и в концепции Лакана «символическое»
функционирование речи первично и по отношению к «реальному»,
и к «воображаемому». Лишь символическое действие механизмов
языка и культуры способно скорректировать те иллюзорные
конструкции, которые измышляет Я воображающее, и тех запросов,
к удовлетворению которых стремится Я реальное. Так и у Фуко
эпистема фактически выступает как бессубъектное и
бессознательное условие возможности конструирования тех объектов, которые
мы видим и о которых мы можем говорить. Барт ставит вопрос
сходным образом: его интересует, каким образом различные типы
и формы «письма» преломляются в индивидуальном творчестве;
какая совокупность приемов обеспечивает условия возможности
литературы и ее познания. Всем этим конструкциям можно найти
определенное соответствие и в понятии «проблематика» у Г. Баш-
ляра. В любом случае все эти модели условий возможности
познания («эпистема» Фуко, «проблематика» Башляра, «письмо» Барта,
«анонимная речь» Леви-Строса, «поле, где говорит Оно» Лакана)
призваны так или иначе противостоять такому пониманию
познавательного процесса, в котором царил суверенный индивид,
реализующий свои возможности в накопительной динамике науки.
Для структуралистов познание — это процесс производства
научного знания, предполагающий определенные предпосылки, средства,
условия, орудия и механизмы, с помощью которых исходная перво-
материя преобразуется в новый продукт с другой структурой и
другими свойствами.
Таким образом, в той схематике, которую мы сейчас
рассматриваем, язык структуралистов — это не язык лингвистики.
Для указания на этот феномен им приходится прибегать к
иносказаниям - «нечто, находящееся на границе дискурсов» и др. Так,
Фуко нас предупреждает: дискурсные практики (о понятиях «дис-
курсии» и «дискурса» применительно к Фуко — см. во втором
разделе) - это не система лингвистических знаков, психологических
или логических разграничений - все они вторичны по
отношению к дискурсным взаимодействиям. Фуко считает дискурс не
столько предметом, сколько функцией, модальностью
существования знаков. Таким образом, разделяя с трансцендентальной
74 Познание и перевод. Опыты Философии языка
субъективностью это модальное, функциональное, непредметное
существование, дискурс, однако, существует не только в
пространстве познания, но и в пространстве «реальности
высказываний», выступая именно как способ их существования.
При этом все опорные понятия в анализируемых концепциях
несут фактически тройную нагрузку. Так, дискурсная формация
у Фуко выступает как совокупное условие речи об объектах, как
набор этих объектов и, наконец, как средство связи первого и
второго. Так, у Лакана означающее, или «поле, где говорит Оно», -
это одновременно и условие возможности всех других речей, и
материал, над которым будет работать психоаналитик, и средство
анализа.
Помимо этих двух ролей — обосновывающего и
обосновываемого - язык в концепциях структуралистов, как мы уже говорили,
выступает в третьей роли, понимается как посредник, как
связующее звено в познании. И это испытание тройной нагрузкой, по-
видимому, было непосильным. Так, функция
трансцендентальной субъективности (точнее, обосновывающая функция),
структуралистский пересмотр которой заключается в снятии ее
формального характера, в установлении связи между всеобщим
условием возможности и индивидуальным его воплощением в
виде тех или иных продуктов культуры, реализуется в конечном
счете таким образом, что равно обоснованным, возможным и
допустимым оказывается фактически любой продукт культуры
и сознания. Осуществление промежуточной, посреднической
функции языка приводит в итоге к тому, что исследовательское
сознание, погружаясь в анализ языка как посредника, как бы
«забывает» о его посредническом статусе и зацикливается на нем.
Пожалуй, наиболее сконцентрированно эти сложности
сосредоточиваются в проблеме объекта. Тот объект, который призван
появиться в итоге структуралистских исследований, должен был бы
обладать многослойностью и многоуровневостью, не сводимыми
к представлению о плоском, линейном, кумулятивно
развертывающемся объекте, однако языковые взаимодействия вряд ли могут
быть подходящим средством для такого конструирования. Но мы
не увидели бы этого, если бы большая часть пути не была
пройдена. И в этом находит свое выражение один из парадоксов
структуралистской мысли: без прорыва к философским проблематизаци-
ям научная мысль не живет, однако такие проблематизации
неизбежно превышают наличные (или мобилизуемые,
создаваемые) познавательные ресурсы.
Таким образом, язык - это не только орудие и средство
коммуникации, но также предпосылка и условие формирования
человеческого сознания и познания, накладывающая свой отпечаток на
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 75_
все стороны духовной и материальной практики человека,
независимо от того, протекает ли она непосредственно в языковой
форме, включает ли она артикулированный язык как один из своих
компонентов или же никак непосредственно не связана с языком,
хотя и предполагает его в качестве фактора, опосредующего
любую форму социальной деятельности человека. Будучи
обязательным и неотторгаемым условием порождения и
функционирования любых продуктов культурного развития человека, язык тем
самым включается в систему объективных превращений внутри
социального организма. Перевертывание порядка отношений
означающего и означаемого, видимость смысловой
насыщенности каждого отдельно взятого элемента в отрыве от объемлющей
его системы — все это феномены «знакового фетишизма»
(аналогичного товарному фетишизму). Реальная сложность этой
проблемы, не заканчивающейся в структуралистских построениях,
требует погружения в более широкие социальные контексты
функционирования знания: динамика любой области социально-
гуманитарного познания осуществляется не только за счет
внутренних ресурсов ее «саморазвивающегося» объекта, но прежде
всего за счет ее «открытости» некоторому общему проблемному
полю, в социально-культурном контексте которого она в
конечном счете находит свое укоренение.
§ 4. Язык и человек
Антропология как специализированное учение о человеке
возникла, по-видимому, в XVIII в., и с тех пор ее место в составе
научного и философского знания неоднократно ставилось под вопрос
и менялось. Одна из преобладающих моделей антропологии в
западной мысли XX в. трактует человека как особого рода бытие,
противостоящее абсурдному миру, причем право судить об этом
бытии отдается философии. Ее антиподом выступает модель,
которая стремится согласовать образ человека с данными научного
познания, вписать человека в объективные параметры его бытия.
Экзистенциализм и структурализм так или иначе разыграли в
истории мысли это противостояние подходов, методов, ориентации.
А потому структуралистская антропология1 понятна лишь на фоне
1 Терминологическое словосочетание «структуралистская антропология»
употребляется здесь в собирательном значении - антропология структуралистов.
Существует и другой вариант этого словосочетания - «структурная антропология».
Так назвал К. Леви-Строс (р. 1908) два фундаментальных сборника своих работ
(см.: Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale. Paris, 1958; Idem. Anthropologie
structurale deux. Paris, 1973) и всю свою концепцию в целом. «Структурная
антропология» Леви-Строса - это наиболее интересная и последовательная версия структу-
76 Познание и перевод. Опыты Философии языка
того, чему она себя противопоставляла, и прежде всего —
различных субъектоцентристских подходов. Ее место и роль в
мыслительном поле определились тогда, когда в 1950-1960-е годы во
Франции обнаружилась социально-историческая и философская
исчерпанность экзистенциалистского варианта
антропологической проблематики. Концепция человека, подлинная природа
которого проявляется лишь в свободном выборе фундаментального
проекта, в пограничной ситуации, была вполне обоснована
логикой достойного поведения в условиях фашистской оккупации,
но стала анахронизмом в послевоенный период. Насущной
потребностью стало объективное знание о человеке и наука, способная
дать это знание; при этом возникло противостояние, принявшее
форму антитезы философии и науки, причем барометр
общественных настроений явно склонялся в пользу науки.
Это умонастроение хорошо передается в следующем
высказывании: «...Яростной оппозицией встречается всякая попытка
философской интеграции. Пробил час, когда никто больше не хочет
быть философом. Та область, исследовать которую призваны
философы, кажется отныне и слишком обширной, и совершенно
бесплодной. Поиски ответа на кантовский вопрос "Was ist der
Mensch?" утрачивают свой смысл»1. Иными словами, смысл
проблемы человека ищется отныне не на путях умозрительного
конструирования абстрактной сущности человека (и не на путях
подновления некогда смелых экзистенциалистских идей - «свобода»,
«тотальность» и пр., превратившихся в мыслительные штампы),
но на пути конкретного анализа, детальных разработок в тех или
иных отраслях знания о человеке, причем проблемы и перспекти-
ралистской антропологам, по ней можно судить о тех тенденциях, которые в
других структуралистских концепциях представлены менее ярко, а потому анализ ле-
ви-стросовской антропологии будет здесь взят за основу для размышления
0 структуралистской антропологии в целом; другие концепции привлекаются
далее лишь для сопоставления. Отсюда некоторый разнобой терминов
«структурный» и «структуралистский» в данном параграфе. Вопрос о месте Леви-Строса
внутри структурализма рассматривается в наши дни в таких фундаментальных
работах, как Descola Ph. Par-delà nature et culture. Paris, 2005; Godelier M. Lévi-Strauss,
Paris, 2013. См. об этом также: Dossier Claude Lévi-Strauss. Le penseur du siècle // Le
Magazine Littéraire. Mai 2008. № 475. P. 58-84; Désveaux E. Au-delà du structuralisme :
six méditations sur Claude Lévi-Strauss, Paris, 2008; Héritier F. Un avenir pour le
structuralisme // Claude Lévi-Strauss. Editions de l'Herne, 2004. P. 409-416; Descola Ph. Les
deux natures de Lévi-Strauss // Claude Lévi-Strauss. Editions de l'Herne, 2004. P. 296-
305; Debaene V. et Keck F. Claude Lévi-Strauss : l'homme au regard éloigné. Paris, 2009;
Автономова H.C. Клод Леви-Строс, антрополог и философ // Философские науки.
2010. № 7; Она же. Клод Леви-Стросс - in memoriam: уроки структурной
антропологии и гуманизм XXI века // Вопросы философии. 2010. № 8.
1 Gutman С. L'avant-mai des philosophes // Magazine littéraire. 1977. Sept. P. 17.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 77_
вы познания человека становятся стержнем идейных битв и
противостояний. Именно на уровне специально-научных разработок
антропология прежде всего и существует в структурализме, хотя
она представлена также в виде общеметодологической и
философской проблематики, возникающей в результате
самоосмысления и самообоснования научного знания в общем философском
и идейном контексте. В основе структуралистской
антропологии - две главные составляющие. Это мировоззренческая
составляющая (все, что связано с проблемой соотношения между
антропологией и гуманизмом) и методологическая составляющая (все,
что связано с построением новых несубъективистских методов
анализа). Ниже я попытаюсь показать обе эти линии рассуждения
в их проблемных перекрещиваниях.
«Теоретический антигуманизм» или «новый гуманизм» ?Как
известно, на полное и исчерпывающее выражение философского
гуманизма претендовал именно экзистенциализм. Одна из работ
Ж.-П. Сартра так и называется — «Экзистенциализм - это
гуманизм»1. Если считать экзистенциалистский субъективистский
гуманизм подлинным гуманизмом, тогда структуралистское
отрицание экзистенциалистских позиций неизбежно предстает
как «антигуманизм». Этот лозунг — «теоретический
антигуманизм» — был найден и произнесен, хотя и не по поводу
собственно структурализма2. Пафос экзистенциалистского гуманизма —
это опора на ценность произвольного действия, вдохновленного
только эмоцией и утверждающего чистую, абсолютную свободу
воли, творчества, самоубийства (вспомним слова Камю:
единственная философская проблема — это проблема того, стоит ли
вообще жить3). Момент произвольности выбора начисто
закрывает для него другой — непроизвольный, антипроизвольный
момент свободы. Это-то и послужило — в плане логических
проблемных связей - источником альтернативной,
структуралистской трактовки человека и его свободы как стержневой
проблемы гуманизма.
Структурализм обнаруживает новые грани необходимости там,
где экзистенциалистское восприятие видело неучтенные наукой
и догматическим рационализмом резервы свободы: свобода ока-
1 См.: Sartre /.-P. L'existentialisme est un humanisme. Paris, 1946.
2 Этим остро провокационным словосочетанием Л. Альтюссер называл
концепцию зрелого Маркса в противоположность идеям раннего Маркса. См.:
Althusser L. Pour Marx. P., 1965; ср. также его статьи в кн.: Lire le Capital. Paris,
1965. T. 1,2.
3 См.: Camus A. Le mythe de Sisyphe. Paris, 1942. P. 15.
78 Познание и перевод. Опыты Философии языка
зывается для структуралистов гораздо теснее связанной с
необходимостью, нежели с произволом, а произвол выступает как
воплощение несвободы. Необходимость, согласно структуралистским
«антигуманистическим» интерпретациям, есть то, что
обнаруживает себя в самом же произволе, если опуститься ниже уровня
самотождественности Я на уровень подлинно универсальной
человеческой природы, если суметь расшифровать язык, на котором
говорит с нами бессознательное, если увидеть за хаосом,
аморфностью, беспорядком логику функционирования
нерефлективных слоев человеческой психики и поведения, если
проанализировать эту логику средствами современных наук о человеке.
Альтернатива, таким образом, сформулирована; для
экзистенциализма свобода есть произвол («позади меня ничего нет» или
«позади меня — пустота», - пишет Сартр, резюмируя этой фразой
суть экзистенциалистского гуманизма1), а для структурализма
свобода есть фикция, видимость, случайность (и потому Леви-
Строс видит свою задачу в достижении того уровня объекта, на
котором «открывается закономерность, имманентно присущая
иллюзии свободы»2).
Даже по этому лаконичному очерку позиций можно судить
о том, что квалификация структурализма как «теоретического
антигуманизма» или же как концепции «смерти человека» требует
учета всех полемических коннотаций. Отрицается не просто
гуманизм, но гуманизм как идеологическая конструкция,
скрывающая от субъекта как «начала всех начал» подлинный образ
необходимости. Утверждается, однако, возможность некоего нового,
более широко понимаемого гуманизма, «вдохновительницей»
которого и должна стать структурная антропология. Приводя ис-
торико-теоретические доказательства в защиту тезиса о
возможности «нового гуманизма», Леви-Строс вычленяет три
последовательных этапа становления гуманизма3.
Начальный этап гуманизма — конец Средневековья и
Возрождение, эпоха открытия Античности, изучения латыни и
греческого языков, включения их в систему образования. Человеческий
космос ограничен здесь пределами Средиземноморья. Второй
этап — XVIII—XIX вв., эпоха Просвещения, которая вписывает
в свою картину мира Индию и Китай и начинает высказывать
(Руссо, Дидро) догадки о возможности открытия в будущем неве-
1 SartreJ.-P. L'écrivain et la langue //Revue d'esthétique. Nouv. série. 1965.№ 18. P. 314.
2 Lévi-Strauss C. Mythologiques. T. I. Paris, 1964. Paris, 1973. P. 18.
3 См.: Lévi-Strauss C. Les trois humanismes // Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale
deux. P. 319-322.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 79_
домых отдаленных цивилизаций. Наконец, третий, нынешний
этап гуманизма связан с интересом к немногим уцелевшим под
натиском европейской цивилизации «примитивным» обществам.
Экстенсивный период развития гуманизма на этом завершается:
уже больше не остается неизвестных обществ, которые нужно
было бы описывать и изучать, хотя возможности развития гуманизма
вглубь далеко не исчерпаны. Эти три этапа отличаются друг от
друга, во-первых, объектом, пространственным охватом;
во-вторых, набором средств и приемов исследования (так, античные
и восточные цивилизации доступны нам по письменным
памятникам и могут изучаться историко-филологическими методами,
современные же «примитивные» общества вообще не имеют
письменности и требуют новых методов исследования, в
частности «полевого» исследования их культур «из первых рук»);
в-третьих, широтой социального охвата: так, после
аристократического гуманизма Возрождения и буржуазного гуманизма
Просвещения нынешний, третий этап гуманизма должен стать
гуманизмом подлинно универсальным, подлинно демократическим.
Универсальный гуманизм, или «новый гуманизм», не
существует в виде решения, это — задача, которая стоит перед
антропологом, это решающий жизненный эксперимент (именно его Ле-
ви-Строс называет experimentum cruris), предполагающий
психологическую готовность и теоретическую способность
принять Другого путем переосмысления самого себя1. Этот
эксперимент требует самоотдачи, отказа от собственной
самотождественности, раскрытия навстречу другому или, говоря языком
леви-стросовской методологии, — «радикальной объективации»2
всех собственных установок и предрассудков, отказа от всего, что
кажется привычным и естественным, а также культивирования
в себе способности к «изначальной идентификации»3, или
иначе — чувства сопринадлежности Другому, сопереживания со всем
живым и страждущим. Ритуалом посвящения в профессию
(этнолога или антрополога), миссией которой является утверждение
универсального гуманизма, служит «полевое исследование»:
готовность к голоду и болезням, готовность к такому изучению
Другого, которое будет одновременно и его принятием, и его
1 Эта установка на психологическое и теоретическое принятие Другого, инако-
вого, отличного (сравним: «ад - это другие»: Sartre J.-P. Huis clos. Théâtre. Paris,
1947. P. 167), характерна для всех концепций структуралистской антропологии.
«Экзотический» объект Леви-Строса - это лишь чистый случай инакового.
2 Lévi-Strauss С. Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme // Lévi-
Strauss C. Anthropologie structurale deux. P. 49.
3 Ibid. P. 51-55.
80 Познание и перевод. Опыты Философии языка
защитой1. Жизнь в тропиках — это лабораторная ситуация,
пробуждающая «антропологическое сомнение» как подлинно
философское отношение к действительности»; «антропологическое
сомнение заключается не только в осознании того, что ты ничего не
знаешь, но и в решимости подвергнуть и свое знание, и свое
невежество, все милые сердцу мысли и привычки унижению и
опровержению»2 - со стороны всего того, что может в наивысшей
степени им противоречить. Приводя все мысли и чувства во
взвешенное состояние, антропологическое сомнение помогает
антропологу «стать новым человеком», осуществить
«психологическую революцию»3, отнестись к «дикарю», «туземцу» не со
страхом, отвращением или равнодушием, едва преодолеваемыми
миссионерским стремлением спасти дикарские души религией или
просветительским разумом, но с полным признанием его
собственной человеческой ценности - словом, спасти собственную
душу, осуществить в самом себе своего рода «интеллектуальный
катарсис». Очевидно, однако, что для построения «нового
гуманизма» как реальной практики и как теоретической концепции
недостаточно определенного эмоционального настроя,
психологической готовности: для этого нужны надежные
интеллектуальные средства, продуманные мыслительные координаты.
«Сверхрационализм» в обосновании «нового гуманизма».
Проблема универсального гуманизма для структурной антропологии -
это проблема построения общего людского дома, перепроверки
всего уже построенного по кирпичику, причем начиная с
фундамента, с того, что является действительно общим для всех
обитателей этого дома, а не с его верхних этажей. В самом деле, целый
ряд качеств отличает современного европейца от современного
«дикаря» (хотя общества, к которым принадлежат тот и другой,
1 Утопический проект Леви-Строса рисует вымирающих индейцев достойными
звания человека, а их способ жизни - достойным человека способом жизни.
Утопическая задача антрополога - сохранить эту жизнь в виде прекрасной
кристаллической структуры, воплощающей для грядущих поколений некую
общечеловеческую возможность: «Именно в этой явно утопической точке зрения находит свое
обоснование социальная антропология, поскольку формы жизни и мысли,
которые она изучает, приобретают нечто большее, нежели просто исторический или
сравнительный интерес. Они начинают соотноситься с некоей постоянной
возможностью человека, блюсти которую - особенно в черные для человека дни -
и призвана социальная антропология» (The Anthropologist as Него. Cambridge
(Mass.), 1970. P. 196).
2 Lévi-Strauss С. Le champ de l'anthropologie: Leçon inaugurale... // Lévi-Strauss C.
Anthropologie structurale deux. P. 37.
См.: The Anthropologist as Него. P. 190-194.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 81
просуществовали на земле примерно одинаковое время и потому
не могут рассматриваться соответственно как «зрелые» или же как
«недоразвитые»); вместе с тем целый ряд качеств объединяет тех
и других. Именно эти последние качества и служат опорой
ученому-гуманисту: он должен углублять изучение общего фундамента
человеческой культуры, покуда не обнаружит такие уровни,
относительно которых он сможет с уверенностью сказать: это наше
общее достояние.
Если общечеловеческий язык как фундамент
общечеловеческого дома не обнаруживается на уровне сознания, он может быть
найден на уровне бессознательного; если он не обнаруживается на
уровне исторического действия («примитивные» общества не
знают истории в европейском смысле), его надо искать на уровне
статических структур; если он не обнаруживается на уровне разума,
воплощенного в современной науке, он может быть найден на
уровне «логики чувств», прочитываемой как особого рода язык,
точнее, он может быть обнаружен в той единой, структурно
организованной, хотя и бессознательной, основе, где чувственное не
противопоставляется рациональному, но взаимодействует с ним.
Это и есть «сверхрационализм» - рационализм, интегрировавший
в себя чувственность и неотрывный от нее1. Вопрос о
возможности «сверхрационализма» как нового единства чувственного и
рационального — это, с точки зрения структурной антропологии,
вопрос не только академический: ведь речь идет об обосновании
универсального гуманизма, о единстве человеческой природы в ее
фундаментальных проявлениях, о единстве человека и природы
во вселенском масштабе.
Конкретной формой сверхрационализма в структурной
антропологии Леви-Строса выступает переосмысление мыслительного
фундамента европейской цивилизации с позиций первобытной
логики в ее общечеловеческих потенциях. Доказательству
логичности, т. е. структурной упорядоченности, законосообразности
и стройности, «дикарского» мышления и тем самым доказательству
«сверхрациональности», более глубокой логической
обоснованности современного мышления (ведь именно логика чувственных
качеств определила еще в эпоху неолита возможности нынешней
1 Устремленность к «сверхрационализму» в той или иной мере присуща и другим
концепциям, которые мы называем здесь структуралистскими, хотя термином
«сверхрационализм» (surrationalisme) пользуется один лишь К. Леви-Строс. Дело
в том, что сама идея структуры есть идея преодоления многих характерных
мыслительных антитез, таких, как априорное - апостериорное, эмпирическое (факту-
альное) - рациональное, абстрактное - конкретное, формальное -
содержательное (все это - различные ипостаси того, что было выше представлено как антитеза
чувственного и рационального).
82 Познание и перевод. Опыты Философии языка
научно-технической цивилизации, считает Леви-Строс) и
посвящены, по сути, все работы французского антрополога.
Под зыбкими поверхностями явлений, которые могут
показаться современному наблюдателю хаотичными и случайными,
просвечивает в глубине их общая рациональная (точнее,
«сверхрациональная») основа, обнаруживается смысл и порядок,
бессознательно функционирующая структурированность. На примерах
систем родства и браков, тотемизма или пластического искусства
(например, масок), мы можем, уподобляя их особого рода языкам
и применяя в их изучении некоторые методы исследования языка
(прежде всего метод бинарных расчленений), обнаружить
упорядоченные системы правил их порождения. Особенно четко эта
логика чувственных качеств проявляется в мифическом
мышлении — наиболее свободном и спонтанном, ибо не привязанном
жестко ни к какому объекту. Последовательно включая в
рассмотрение все новые и новые мифы1, Леви-Строс намечает стройные
переходы от собственно логики чувственных качеств к логике
форм и далее — к элементам логики высказываний. Тем самым
удается восстановить все больше и больше ступеней, ведущих от
«мысли дикаря» к высотам современной науки: между ними
обнаружится не пропасть, а именно лестница, по которой некогда
прошло человечество и по которой каждый человек может спуститься
и вновь подняться при условии определенного умственного
усилия, расшифровывающего логические формы человеческого духа.
Эта логика «сверх-рационального» (или, можно сказать, «над-
рационального») функционирования человеческого духа вводит
исследователя в сферу некоей бессознательной комбинаторики,
общего мыслительного арсенала, представляющего собой набор
мыслительных возможностей и ограничений, по-разному
заданных в разных обществах и разных культурах. В этом наборе
ментальных возможностей и воплощается единство чувственного и
рационального, природного и духовного. При этом само «орудие
мысли» - человеческий мозг - находится как бы на стыке
природного и неприродного, объединяя эти сферы самим своим
функционированием: те расчленения, которые существуют в сфере духа,
уже существовали «в теле», а этим последним предшествовали
общие структурные закономерности природного мира. Принцип
бинарных расчленений — уже на уровне функционирования
мозговых структур - создает условия возможности знакообразующей,
смыслополагающей деятельности человеческого сознания -
деятельности, которая находит свое предметное воплощение в раз-
1 Lévi-Strauss С. Mythologiques. Т. 1-4. Paris, 1964-1971; рус. пер. Мифологики.
В 4 т. М, 1999-2007.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 83_
личных коммуникативных системах и подсистемах внутри общей
социальной организации. Тем самым глубинный уровень
«сверхрационального» выступает одновременно как уровень «знакового
рационализма» или «рационализма означающего»1.
Таким образом, логика универсального гуманизма
предполагает совместные усилия всех наук, как гуманитарных, так и
естественных. Иначе невозможно решить задачу структурной
антропологии и построить такую «систему истолкований, которая имела
бы в виду физический, физиологический, психологический и
социологический аспекты всех видов поведения»2. Все это поясняет
те парадоксальные тезисы структурной антропологии, которые
обычно приводят в доказательство её «теоретического
антигуманизма»: «...цель гуманитарных наук не конституировать человека,
а растворить его»3, «реинтегрировать культуру в природу»4 и т. д.
и т. п. Это означает, что утопическая задача научного мышления -
представить каждый социальный и культурный продукт как нечто
порожденное всеобщими структурами мозга, а в структурах мозга
прочитать условия его возникновения в живой, а в конечном
счете и в неживой материи. Намечается, таким образом, огромная
шкала редукций, где социальное сводимо к логическому,
логическое - к природному, природное — к биологическому,
биологическое - к физико-химическому и т. д. Поиск логического прохода
к всеобщему путем весьма сильных редукций — характерная черта
структурной антропологии. Различия между теми или иными
концепциями - в уровне и глубине редукции, сама же
направленность мысли - к объективным всеобщностям — остается
неизменной. Что же представляют собой эти объективные всеобщности,
как и где они строятся?
От субъективно всеобщего к объективно всеобщему. Программа
«универсального гуманизма», выполняемая средствами
структурной антропологии, осуществляется, как видно из редукций
к уровню всеобщего и объективного, о которых речь шла выше,
ценой целого ряда допущений. «Платой» за достижение
объективно всеобщего является сдача тех «крепостей», в которых со-
1 На эту особенность структуралистского рационализма было некогда обращено
внимание в статье: Зимин А.И. Структурная антропология как разновидность
структурализма//Философские науки. М., 1982. № 6. С. 112.
2 Lévi-Strauss С. Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss // Mauss M. Sociologie et
anthropologie. Paris, 1950. P. XXV.
3 Lévi-Strauss C. La pensée sauvage. Paris, 1962. P. 326.
4 Ibid. P. 327.
84 Познание и перевод. Опыты Философии языка
средоточивались субъекто-центрические версии антропологии,
а именно - истории, субъекта, (само)сознания. В качестве новых
опор антропологического подхода выступают «три кита»
структурной антропологии - структура, язык, бессознательное.
Редукцией субъективно всеобщего к объективно всеобщему
(истории — к структуре, субъекта — к языку, сознания — к
бессознательному) структурная антропология надеется преодолеть то,
в чем она видит тупики субъективистской мыслительной
схематики в построении гуманитарного знания, которое, начиная уже
с Дильтея, столкнулось с дефицитом объективных средств для
анализа познания и сознания, а потому структуралистская
интерпретация этих субъективных всеобщностей имеет
принципиальное значение и для самоопределения самой структурной
антропологии. Особое место занимает здесь интерпретация
истории, поскольку она предстает как главное содержание
отвергаемого структурной антропологией «трансцендентального
гуманизма»1.
В трансцендентальном гуманизме, этом последнем прибежище
«ясновидящей» (т. е. кумулятивно-телеологической) истории,
Леви-Строс видит идеологический коррелят трансцендентальной
философии сознания от Декарта до Сартра. Эта философия опирается
на принцип трансцендентализма и обосновывает сознание и
познание структурами и механизмами самого же сознания. Декартовский
принцип единства самосознания и субъективности (cogito),
утверждает Леви-Строс, делает философию пленницей «мнимых
очевидностей» Я2. Когда Декарт говорит: «я мыслю, следовательно,
я существую», он не задает себе дальнейших напрашивающихся
здесь вопросов: «что есть Я?» и «есть ли Я вообще» (Я как некое
самотождественное место содержаний самосознания)?3. Двигаясь от
внутреннего опыта к внешнему, Декарт, по мысли Леви-Строса,
пропускает целые социально-исторические миры; несколько
столетий спустя, Сартр в своей «Критике диалектического разума»
вводит в свое рассуждение социальное измерение, однако
замыкается в пределах одного типа общества: иначе говоря, он расширяет,
но все равно не может окончательно преодолеть тюрьму
самосознания. Универсальный гуманизм требует навести мосты не только
между одним Я и другим Я, но также между одним обществом
и другим обществом, найти средства взаимоперевода
общечеловеческого опыта с одного языка на другой, даже если при этом при-
1 Ibid. Р. 347.
2 Lévi-Strauss С. Anthropologie structurale deux. P. 48.
3 Ibid. P. 49.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 85
дется пожертвовать тем, что представляется нам уникальным и
сокровенным (например, механизмами европейского исторического
самосознания). Так, если высшие достижения цивилизованного
разума можно, хотя бы гипотетически, принести в жертву ради
построения общечеловеческой логики «чувственных качеств»,
то можно пожертвовать и тонкими механизмами европейского
исторического самосознания — ради подлинно всеобщего, ради
комбинаторной структуры возможностей (и ограничений), частным
порождением которой оказывается и европейский историзм1.
Трактовка исторического измерения человеческого бытия как
привилегированного упускает из виду огромное множество других
способов человеческой жизни и ее организации. Вычленяя три
главных типа соотношения между обществами (удаленные в
пространстве, удаленные во времени, удаленные в пространстве и во
времени), Леви-Строс подчеркивает, что идея кумулятивного
исторического развития может быть приложима лишь к обществам,
соотносящимся по второму типу. Главная задача структурной
антропологии - построения нового всеобщего гуманизма — не позволяет
предпочесть один тип обществ — общества «горячие» (с
расширенным воспроизводством и кумулятивной историей) другим
обществам - «холодным», живущим как бы на нулевом градусе
исторической температуры, обществам, которые удовлетворяются скудным,
но стабильным функционированием и употребляют свой
человеческий разум для поддержания этой стабильности и порядка.
Поскольку история трактуется здесь лишь как один из модусов
человеческого и социального бытия (как один из способов, которым
человек строит значимые структуры), постольку западная
цивилизация, которая интериоризирует историю и делает ее опорой
собственного самосознания, не может рассматриваться как
наивысший способ существования человеческого общества вообще2.
Развенчивая, таким образом, историческое бытие как
единственно достойное человека, мы лишаемся оснований считать
историческое познание привилегированным способом познания.
История, замечает Леви-Строс в полемике с Сартром, есть не
континуум событий, но прерывность выбора тех или иных событий.
А потому исторический факт есть не интимно переживаемое ста-
1 «Нужно иметь много эгоцентризма и наивности, чтобы верить, будто человек
целиком находит себе прибежище в одном из способов его исторического и
географического бытия, тогда как истина человека заключается в системе их различий
и общих свойств» (Lévi-Strauss С. La pensée sauvage. P. 329).
2 Точнее, y первобытных обществ тоже есть своя история, но она как бы
остается вовне, не превращаясь в механизм внутреннего самоосознания социального
организма, замечает Леви-Строс.
86 Познание и перевод. Опыты Философии языка
новление, но результат абстракции, кодирования, выбора,
установления хронологических последовательностей и т. д. и т. п.
История возникает постольку, поскольку человек производит
разграничения в недифференцированном континууме событий,
а исторические факты выступают не как изначальные моменты
и свойства этих событий, но как продукты осуществляемой
человеком концептуализации. Потому-то Леви-Строс и не согласен
с Сартром в том, что история является привилегированным
способом обнаружения человеческой сущности. На самом же деле,
полагает Леви-Строс, история есть «абстрактная схема действий,
рассматриваемых в синхронной тотальности». Если же за
историей сохраняется титул привилегированной и «ясновидящей», тогда
она оказывается для европейского самосознания таким же
мифотворческим механизмом, каким для первобытного сознания
выступает первобытный миф.
Опора на трех китов субъективизма - историю, субъекта,
(самопознание — погружает современную философию в
«антропологический сон», убаюкивает человека «очевидностью» его
самодостаточности. Подобно тому сну разума, который, как написал
Гойя на одном из своих офортов, «порождает чудовищ»,
антропологический сон современного мышления порождает уродливые
фигуры догматизма1. И потому задача подлинной антропологии
как критической мысли заключается в том, чтобы разрушить
систему мыслительных условий, порождающих такое кругообразное
доказательство, иначе задать условия знания о человеке.
Для того чтобы пробудить мысль от «антропологического сна»,
каждый действует сообразно материалу и личным предпочтениям:
Леви-Строс предлагает «антропологическое сомнение» как
решающий жизненный эксперимент, а в конечном счете исследует
человека в контексте биологических и физико-химических
закономерностей объективного мира; Лакан отказывается от опоры на
непосредственные данные сознания и ищет уровня Закона,
уровня символических закономерностей, определяющих человеческое
сознание и поступки; Фуко вычленяет ряд сменяющих друг друга
«эпистем» или «дискурсных формаций», показывая, что человек -
в том виде, как он мыслится нами ныне, - «есть творение
недавнего времени и конец его, быть может, недалек»2. А потому на
месте всего того, что заставляет мыслить человека на основе самого
себя, воцаряется система условий, обеспечивающих более
широкую перспективу — задание человека на основе того, чем сам он не
1 В одном из разделов книги «Слова и вещи», который называется
«Антропологический сон», Фуко изобличает подобные догматические ходы мысли.
Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 487.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 87_
является. Так, на месте интериоризированной истории как
способа бытия и способа мысли воцаряется глубинная структура, с
точки зрения которой можно вместить и понять инаковое; на месте
самотождественного сознания - бессознательное,
до-рефлективное, обусловливающее, помимо сознания и вне ведома человека,
его, казалось бы, осознанные и свободные мысли и поступки;
на месте субъекта — язык как предпосылка, условие возможности
и средство культуры и познания.
Бессознательные структуры, таким образом, и представляют тот
уровень объективных всеобщностей, к которому устремляется
структурная антропология, а язык в его своеобразной и достаточно
широкой трактовке служит движущей силой и средством этого
поиска. Опора на язык как средство обнаружения бессознательных
структур, воплощающих саму идею искомой объективной
всеобщности, - это специфическая черта структурной антропологии. Она
и определяет все своеобразие идеи структуралистского
«сверхрационализма» в полемике с традиционным рационализмом
декартовского толка, с субъектоцентристскими концепциями современной
философии и с аналитическим эмпиризмом англо-американской
антропологической науки. Язык для структурной антропологии -
это само воплощение бессознательной структурированности,
артикулированное бытие как таковое, и потому именно язык (в его
широком определении, то есть как система взаимоупорядоченных
артикуляций, расчленений) оказывается той основой, над которой
надстраиваются все другие определения человека.
Аналогия с языком позволяет представить различные
социальные системы (в том числе и доязыковые, внеязыковые, не
оформленные в языке) как коммуникативные означающие системы,
в известном смысле однотипные. Именно презумпция языкопо-
добности, а тем самым и осмысленности любого социального
и человеческого факта в рамках объемлющих его структур
означающего формирует и сам объект структурной антропологии как
умопостигаемое, но вещественно не данное
(ненатуралистическое) бытие. В плоскости этого бытия человек выступает как
функция коммуникативных социальных систем различной
степени сложности, как нечто, порождаемое пересечениями этих
системных взаимодействий. Вместить эту специфическую
предметную реальность структурной антропологии не могут
традиционные история, психология или культурология. А потому и
возникает новый цикл научных дисциплин — «структурная
антропология» Леви-Строса, «археология» или «генеалогия»
гуманитарных наук Фуко, «структурный психоанализ» Лакана и др.
Слишком поспешным было бы, однако, представление о том,
что редукция субъективных всеобщностей и построение знания
88 Познание и перевод. Опыты Философии языка
о человеке на основе объективных всеобщностей есть нечто
полностью осуществленное в рамках структурной антропологии
и эпистемологии. Дело в том, что «редуцируемые» субъективности
не исчезают: они подспудно уходят в область предпосылок, скрыто
обосновывающих сам ход рассуждения, но в явной форме ему
противоречащих. Образуется своего рода романтический привесок,
в котором сосредоточивается все, что не поддается
рационализации, оставаясь невербализуемым, недискурсивным,
«мистическим». Предпосылка человека как целостности упрямо витает над
всеми попытками прочесть его природу на уровне объективных
всеобщностей — языка, структуры, бессознательного. Во всяком
случае, очевидно, что структуралистская антропология,
претендующая на объективность и всеобщность, оказывается во многом
зависима от тех нередуцируемых к объективно всеобщему остатков,
которые она сознательно оставляла за рамками рассуждения.
Тем самым структурная антропология обнаруживает в своей
основе не только «сверхрационализм», казалось бы, устраняющий
основные дуализмы философского мышления, но и
«романтический позитивизм». В свою очередь, романтический позитивизм
структурной антропологии оттесняет ее назад, к сохранению
и культивированию основного каркаса общефилософских дуализ-
мов. «Современная мысль обречена на своего рода прикладное
гегельянство: на поиск себя в Другом. Европа ищет себя в
экзотике—в Азии, на Среднем Востоке, среди бесписьменных племен
некоей мифической Америки; усталая рациональность ищет себя
в безличной энергии сексуального экстаза или наркотиках;
сознание ищет свой смысл в бессознательном; гуманистическая
проблематика ищет забвения в "ценностной нейтральности" и
количественных методах науки. Опыт "Другого" приводит к грубому
опустошению Я. Но в то же самое время Язанято "колонизацией"
всех чуждых областей опыта. Современная чувствительность
направляется двумя по видимости противоречивыми, но по сути
взаимосвязанными побуждениями: с одной стороны, это
подчинение экзотическому, чужому, другому, с другой стороны, это
порабощение экзотики, главным образом посредством науки»1.
Если согласиться с этой констатацией относительно мысли
1960-1970-х годов XX в. и допустить, что она в известной мере
применима и к структурной антропологии, то окажется, что этот
новый этап логики раба-господина или победителя-побежден-
ного довольно далек от универсального гуманизма, ради которого
структурная антропология растворяла субъективные
всеобщности. Например, мы «порабощаем» бессознательное, рационализи-
1
The Anthropologist as Него. P. 185.
Раздел первый. Познание и язык. Глава первая. Мысль о структуре... 89^
руем его средствами языка, а оно возрождается как некая
мистическая сила, определяющая человеческую судьбу (ср. некоторые
трактовки «означающего» у Лакана), или же проясняем язык как
условие рационализации бессознательных структур и
содержаний, а он встает на нашем пути как самозаконное бытие и
впечатляет нас самой угрозой стать «могильщиком» человека.
Однако не будем смешивать идеологические напластования
с эмпирическими и теоретическими разработками структурной
антропологии, которые обогатили наши представления о
человеке. Структурная антропология далеко продвинулась в поиске
возможностей объективного изучения человека, открыв на этом пути
новые формы обусловливания человеческих дел, а тем самым -
продвинувшись к более широкому и трезвому пониманию
человеческой свободы.
Глава вторая
Фуко: «диагностика настоящего»1
§ 1. Между «философией понятия » и «философией смысла»
При попытках осмысления творчества Мишеля Фуко
обычно возникает ощущение несоответствия между
единодушно признаваемой мощью фигуры - читаемой
и почитаемой, комментируемой, переводимой во всем
мире, и одновременно некоторой фундаментальной
неясностью относительно его места в науке и философии. Кто
Фуко - философ? Ученый - историк науки? Политический
мыслитель? И какой ориентации: скорее либеральной или скорее
анархистской? А если вспомнить, что в молодости он был «почти
голлистом», то спектр неясностей еще более расширяется.
Помимо этого, отмечу, такая неоднозначность характеристики
связана также и с тем, что Фуко всю жизнь фактически
осуществлял некий самоперевод: переводил свои концептуальные
интуиции в разные языки, и при этом, ретроспективным движением,
как бы стирал прошлое, переходя от одного слоя терминологии
и предметности в другие. Мне не случалось видеть или слышать
мнения о стратегии самоперевода у Фуко. Однако мнение о том,
что он подчас стирал предыдущий способ концептуализации,
переходя к следующему, ясно выразил один из проницательных его
исследователей — Фредерик Гро2. В связи с этим для меня здесь
1 Эту способность к «диагностике настоящего» Фуко в 60-е годы приписывал
структурализму. В одном из интервью 1967 г. с весьма показательным для этого
периода заглавием «Структуралистская философия позволяет диагностировать, что
есть "сегодня"» Фуко различает два вида структурализма: структурализм как
метод, используемый в частных науках (лингвистика, история религий, этнология
и др.), и «общий» (généralisé) структурализм, - это постановка ряда вопросов,
затрагивающих современный мир, «совокупность практических и теоретических
отношений, определяющих нашу современность»: этот структурализм есть некая
«философская деятельность, роль которой заключается в диагностике»
Foucault M. Dits et Ecrits. T. I. Paris, 1994. P. 581. И далее: «Что я попытался сделать,
так это ввести структуралистского типа анализ в такие области, куда он ранее не
проникал, а именно: в область истории идей, истории познаний, истории теорий».
Foucault M. Dits et Ecrits. T. 1. Paris, 1994. P. 583.
2 Gros F. Foucault face à son œuvre // Lectures de Michel Foucault. Vol. 3. Lyon, 2003.
P. 93-101; ср.: Idem. Michel Foucault. Paris, 1996; Idem. Le courage de la vérité. Paris, 2002.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 91
важен вопрос о специфике философского языка Фуко, о
движении его понятий.
Однако понятия познания, языка, перевода присутствуют
в этой главе еще в двух важных смыслах - уже не предметных,
а методологических. Так, для меня чтение Фуко (с начала
1970-х годов и по сей день) всегда было фактически переводом -
для себя, а позднее и для других. («Слова и вещи» стали
удивительным для той эпохи расцветшего застоя переводом для других,
сделанным без каких-либо купюр1). Наконец, то, что я
предпринимаю сейчас, четверть века спустя, соотнося актуальные состояния
рецепции Фуко с различными образами исторической памяти
и доступного мне «архива», есть своего рода «обратный перевод».
Иначе говоря, — это попытка заново обратиться к тем явлениям,
которые слишком быстро ушли в тень, а вместе с ними был
потерян содержавшийся в них заряд актуальной проблематики,
связанной с парадоксами познания человека. Иными словами,
познание, язык и перевод образуют в данном случае несколько слоев
пересекающихся проблематик, где познавательные предметы
включаются в разные слои исторической памяти.
Мой взгляд на этого мыслителя несколько отличен от
распространенных ныне мнений. Разноречие этих мнений крайне велико,
я собираюсь возразить против двух для меня в данном контексте
наиболее существенных. В обобщенном выражении те мнения,
которым я противопоставляю свое, можно сформулировать так:
первое — Фуко не структуралист и к структурализму отношения не
имеет2 (да и вообще - существует ли структурализм?); второе -
стержнем творчества Фуко выступает некая динамичная
неоницшеанская интуиция бурлящего бытия, онтологической
стихийности3. Напротив, я полагаю, что Фуко в той или иной,
но существенной для его собственного пути, мере наследует
структуралистскую проблематику анализа образований мысли и
культуры через призму языка (в разные периоды эта линия выражена по-
1 Об этом см. подробнее во втором разделе.
2 Так, С. Табачникова, автор-составитель и переводчик прекрасного сборника
работ Фуко, фактически считает, что структурализм Фуко - это изобретение
российских (или советских) критиков (значит — и мое, хотя прямо это и не
говорится. - H.A.), что явная передержка, с которой, впрочем, совершенно резонно не
согласен В.П. Визгин. Другая, по-моему изрядно преувеличенная, черта портрета
Фуко у Табачниковой, - это его любовь к постоянным ускользаниям и смене
масок, что, как говорилось выше, есть лишь поверхностный слой других порядков.
3 Этой позиции придерживается, например, серьезный исследователь
творчества Фуко Β.Π. Визгин (ср.: Визгин В.П. Генеалогический проект Мишеля Фуко:
онтологические основания // Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001. С. 101-103).
92 Познание и перевод. Опыты Философии языка
разному: идеей языково-семиотического основания эпистем как
конфигураций познавательной почвы, идеей «дискурсных
практик» и, наконец, уже на этической почве - идеей вольноречия или
парресии как существенного проявления субъектной позиции).
Далее, я полагаю, что именно познание, познавательная
установка, а не общеонтологические интуиции были для Фуко
существенными и определяющими во все периоды творчества.
Когда я опубликовала свой первый обзор о Фуко в журнале
«Вопросы философии»1, меня очень удивляло, что больше никто
о нем не пишет, и радовало, что мой обзор заинтересовал коллег,
которые задавали мне в коридорах Института философии
разнообразные вопросы. Через четверть века после этого, в начале
1990-х годов, наступила эпоха широких переводов и массового
чтения, и сейчас почти все основные книги Фуко уже переведены
на русский язык. Однако «все переведено» не значит, что все
освоено. Главные потоки этого процесса освоения устремились в
сторону размытой проблематики власти (со всеми вытекающими
отсюда релятивизирующими следствиями). Интерпретация и
рецепция Фуко — американская, а позднее и российская —
неумолимо увлекали его в область постмодерна и делали его
протагонистом (актером первого плана), хотя ни самого термина,
ни каких-либо значимых его коннотаций мне у Фуко обнаружить
не удалось. И все равно многие исследователи вписывают Фуко
в постмодернистскую парадигму - на том основании, что он,
дескать, перепутывает и перемешивает все дисциплинарные и
жанровые границы. Этот образ Фуко ярко выражен влиятельным
американским философом Фредриком Джеймисоном, который
рассуждает так: одним поколением раньше существовал
профессиональный дискурс - «строгий терминологический дискурс
профессиональной философии - великие системы Сартра и
феноменологов, произведения Витгенштейна, аналитической
философии, или философии обыденного языка вместе с отчетливым
разделением различных дискурсов других академических
дисциплин, таких как политология, социология или литературная
критика. Сегодня мы все в большой мере имеем некий род письма,
называемого просто "теорией", которая представляет собой все эти
дисциплины сразу и ни одну из них в отдельности. Этот новый тип
дискурса, обычно связываемого с Францией и так называемым
постструктурализмом (French Theory), становится очень
распространенным и означает конец философии как таковой. Можно ли,
1 Подробнее о рецепции Фуко в России и о тех, кто формировал ее своей
работой, см. во втором разделе.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 93
например, назвать деятельность Мишеля Фуко философией,
историей, социальной теорией или политической наукой? Этот
вопрос является неразрешимым; и я утверждаю, что подобный
"теоретический дискурс" также можно причислить к манифестациям
постмодерна»1.
Постараюсь последовательно сформулировать мое понимание
этих вопросов. Прежде всего постмодерн и постмодернизм не
были собственными понятиями Фуко, да и те конкретные
преломления, которые получили его идеи в США, где во главу угла была
поставлена идея дробных идентичностей, вовсе не были Фуко
свойственны. Да, он не хотел говорить о всеобщем, но очень
тщательно строил категорию «общего», «общности», прекрасно
понимая, что без этого никакое познание не возможно, а оно, полагаю,
было ему всего дороже. В тексте, посвященном Канту и его
работе «Что такое Просвещение», слово «постмодерность»
(postmodernité) у Фуко встречается, что само по себе большая редкость.
Однако оно взято в кавычки (то есть это не свое, а чужое слово),
стоит в паре с пред-модерностью и характеризуется как нечто
«загадочное и тревожное» (énigmatique et inquiétante
"postmodernité")2. Роль обеих этих позиций — «до» и «после» —
исключительно в том, чтобы оттенить главный для Фуко момент актуального
настоящего.
Далее, вопрос о стирании у Фуко всех профессиональных или,
точнее, дисциплинарных границ. Читатель действительно найдет
у Фуко высказывания, в которых дисциплина и
дисциплинарное^, причем в обоих своих смыслах (дисциплина как
контролируемое поведение и дисциплина как профессионально
ограниченная область исследования) близко сопрягаются, что может
показаться насмешкой над любым профессионализмом. Не
забудем, однако, что бросаясь в марево новых содержаний и стремясь
по-новому прочертить границы предметов, Фуко каждый раз
начинал не с нуля. Можно даже сказать, что он имел полное право на
свои междисциплинарные эксперименты (чего, как правило,
лишены те, кто приветствуют его за внедисциплинарность, — к
широко образованному Джеймисону это, разумеется, не относится).
И прежде всего - потому, что сам он был достаточно
образованным профессионалом в тех областях, о которых прежде всего
брался рассуждать — в психологии, психиатрии, отчасти медици-
1 Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос: Философ-
ско-литературный журнал. М, 2000. № 4. С. 64:
2 Foucault M. Qu'est-ce que les Lumières? // Foucault M. Dits et Ecrits. T. IV. Paris,
1994. P. 568.
94 Познание и перевод. Опыты Философии языка
не1. А это, думаю, достаточные основания для того, чтобы
усомниться в правоте джеймисоновской характеристики; другие
доводы против трактовки Фуко как постмодерниста будут изложены
далее - в процессе размышлений о его отношениях со
структурализмом и познавательными практиками.
Фуко никогда не считал себя структуралистом, хотя поиск
инвариантных конфигураций культурной почвы (эпистем), отказ от
диахронического фактособирательства и опора на лингвосемио-
тические механизмы культуры (особенно в «Словах и вещах»),
равно как и проблематизация всех «антропологических иллюзий»,
сближают его подход с идеями структурализма. Таким образом,
если Фуко 1960-х годов это, с какими-то натяжками —
структуралист, а Фуко 1970-х, сосредоточенный не на «языке» и
«структурах», а на «теле» и «власти», — скорее постструктуралист, то Фуко
1980-х годов вновь откликается на зов «доструктуралистской»
«гуманистической» проблематики, хотя Сартр с его философией
жизненного порыва, а не взвешенной «позитивной» мысли,
навсегда остался его главным философским противником.
Полагаю, что при этом одна из важнейших черт Фуко -
неукротимый познавательный импульс, страсть к знанию,
любознательность. Систематический труд всегда был его жизненной
опорой, удивительная дисциплина (тысячи карточек с росписями
материала), сидение в библиотеках дни напролет и представление
о счастье - не на баррикадах, а среди книг. К тому же у него, быть
может, единственного из поколения, близкого французским
структуралистам, есть своя мощная леви-строссовская
системность, причем независимо от красот стиля, приглушенных в
последних сочинениях, риторика у Фуко нигде не забивает мысли:
даже в «Словах и вещах», где её много, преобладает четкая
формальная конструкция.
Подчас, перечитывая теперь различные свидетельства его
«несистемности» и «непостоянства» (например, в конце «Археологии
знания», где он нам говорит: ищите меня, ищите, все равно не
1 Так, он имел дипломы по психологии и психиатрии, почти десять лет
преподавал общую психологию, увлекался экспериментальной психологией (тестами Рор-
шаха, в частности), когда-то в молодости работал даже с энцефалографической
диагностикой - с целью определения дальнейшего пути медицинского и
социального сопровождения заключенных. Словом, он хорошо знал материал,
социальную историю которого брался писать. И разумеется, междисциплинарные полеты
на основе высокого профессионализма - это совсем не то, что
трансдисциплинарные скрещения неизвестных величин или полеты над вовсе неведомыми
территориями. Об этом хорошо рассказано в ряде книг о Фуко, в частности, у Д. Эрибона
(Eribon D. Michel Foucault (1926-1984). Paris, 1989, рус. пер. M., 2008; Idem. Michel
Foucault et ses contemporains. Paris, 1994).
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 95
найдете, не поймаете; идентичность — то, что нужно
полицейскому режиму — для слежки и опознания, а меня вы не поймаете,
а когда решите, что поймали, — я уже буду далеко, в совсем другом
месте...), мы невольно поддаемся психологической
убедительности подобных свидетельств. Однако не стоит упускать из виду
и другое — удивительную, хотя и по-своему реализованную,
системность, упорядоченность его интеллектуального пути. Это
проявляется во многом — в психологических склонностях, в
свидетельствах сторонних наблюдателей, но прежде всего — в
выстраивании своих предметов и в способах работы с ними. Например,
для нас сейчас не безразлично, как отозвался о Фуко
преподаватель философии в последнем классе лицея в Пуатье, где он учился
(впрочем, оценки Фуко по философии были неважными):
«В дальнейшем у меня были ученики, которые казались мне более
одаренными, но не было таких, кто был бы способен столь же
быстро схватить главное и столь же строго организовать свою
мысль»1; были и другие аналогичные свидетельства...
Для Фуко была характерна и динамика преодоления
установленных канонов, выдаваемых за вечные, и поиск в гуще
материала, в который он никогда не боялся погрузиться, системы и
порядка. Фуко очень любил Ницше, но в своих реализациях, подчас
многотомных, подчиненных развернутым планам, пусть и
менявшимся, он явно не следует Ницше. И при всей любви к
художественным эффектам и к литературе, для современной французской
философии в целом очень характерной, никакие красоты стиля не
отменяют архитектонической выстроенное™ его книг. Они не
разрознены, не афористичны, не составлены из кусков: при всех
прорывах, нарушениях и преодолениях, видно, что они продумы-
вались и писались по плану...Эффект стиля тут вторичен по
отношению к эффекту системной продуманности, а не первичен, как,
кстати сказать, нередко бывает, например, у Деррида...
В этом напряжении между системностью и ее превзойдением
намечается путь к трактовке упорно обсуждавшегося вопроса
о том, был ли Фуко структуралистом или нет. Можно найти
достаточно свидетельств и тому, и другому, так что однозначное
решение здесь, по-видимому, невозможно. Быть может, будущие
историки, владеющие техниками надежного сопоставления дис-
курсных образований, когда-нибудь скажут нам об этом более
определенно. Но уже сейчас очевидно, что у нас достаточно
оснований для тесной связи Фуко 1960-х годов со структурализмом.
Существуют свидетельства интереса и даже страсти Фуко 1960-х
годов к системе: «Мы воспринимали поколение Сартра как храб-
Eribon D. Michel Foucault (1926-1984). Paris, 1989. P. 26.
96 Познание и перевод. Опыты Философии языка
рое и щедрое, имевшее страсть к жизни, политике,
существованию. Но мы обнаружили нечто иное, другую страсть — страсть
к понятию и тому, что я назову "системой"»1. Сартр как философ
хотел повсюду увидеть смысл. Но для Фуко, как ясно из
сказанного, главная интуиция другая, и формулируя ее, он ссылался
прежде всего на «структуралистов»: Дюмезиль, Леви-Стросс, Лакан
(для бессознательного) показали нам, что смысл возможен лишь
как поверхностный эффект - зеркальное отражение, пена, тогда
как то, что пронизывает нас из глубины и поддерживает нас в
пространстве и времени, - это система. Существуют также и
свидетельства о влиянии Дюмезиля с его идеей структуры (и это не
только риторика вежливости) на научные взгляды и судьбу Фуко2.
Впрочем, среди его учителей были и те, кто держался смысла
и субъекта, как Ипполит, и те, кто держался концепта и системы,
как Кангилем.
Творческий поиск Фуко вписывается в идейный контекст его
времени. Главным моментом в конфигурации сил во французской
философии послевоенного периода было именно это
противостояние двух основных вариантов мысли — «философии понятия
и системы», с одной стороны, и «философии субъекта и
смысла», — с другой3. Концепция Фуко остро реагирует на это
противостояние: Фуко идейно близок к философии понятия и системы,
но вместе с тем остро чувствует этико-политические проблемы,
и из этого напряжения вырастает позднее его
неэкзистенциалистская этика 1980-х годов. Точнее было бы, наверное, сказать, что
ни смысл, ни система не были его собственными категориями,
однако очень важно, что Фуко вырабатывал свои философские
языки в ответ на эту концептуальную антиномию системы и смысла,
так или иначе учитывал ее. В этой динамике самоопределения
1 Foucault M. Entretien avec Madeleine Chapsal / La Quinzaine littéraire. Paris, 1966.
№ 5. 16 mai // Foucault M. Dits et Ecrits. T. I. Paris, 1994. P. 514.
2 Чем повлиял на Фуко историк религий Дюмезиль? Фуко уверенно отвечает:
«Своей идеей структуры. Как и Дюмезиль по отношению к мифам, я попытался
обнаружить структурированные нормы опыта, схему которых - с некоторыми
модификациями - можно было бы встретить на различных уровнях». Foucault M. Dits
et Ecrits. T. I. Paris, 1994. P. 168.
3 Главная линия, которая разделяет основные философские подходы, «это
линия, отделяющая философию опыта, смысла, субъекта от философии знания,
рациональности и понятия. С одной стороны - наследие Сартра и Мерло-Понти,
а с другой - Кавайеса, Башляра, Койре и Кангилема». Foucault M. Dits et Ecrits.
T. IV. Paris, 1994. P. 764. Это обобщение философской ситуации взято из статьи
Фуко о Ж. Кангилеме: La vie: l'expérience et la science // Revue de métaphysique et de
morale. 90e année. № 1: Canguilhem. Janv.-mars. Paris, 1985; имеется рус. пер. С.
Табачниковой (Вопросы философии. 1993. № 5).
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 97
фактически ставился и вопрос о соотношении философии и
науки, который обострился во французской интеллектуальной жизни
в связи с полемиками между «структурализмом» и «философиями
субъективности» (Сартром, Рикёром и др.). И, видимо, не
случайно сакраментальное слово «система» появилось в 1970 г. и в
заглавии кафедры Фуко в Коллеж де Франс — «история систем мысли»
(как известно, кафедры в Коллеж де Франс не наследуются как
таковые, а фактически каждый раз пересоздаются под нового
кандидата, хотя новые выборы происходят только после кончины
одного из профессоров).
Что же касается собственно структурализма, то, отвечая на
многочисленные вопросы журналистов, Фуко давал очень четкие
и внятные характеристики этого явления - более четкие, нежели
целый ряд его сторонних защитников или критиков этого
направления. А именно: для Фуко 60-х годов структурализм — это
одновременно и плодотворная методология, распространенная в
частных науках, и актуальная общая установка в спорах с так
называемыми философиями субъективности по вопросу о
человеке и возможностях его познания1. Структурная методология
применяется в ряде дисциплин — лингвистике, антропологии,
психоанализе и др. Обобщенный философский структурализм,
не притязая на конкретную работу в тех или иных областях,
извлекает из этих частных использований общие способы анализа
«нашей современности». Потому он и оказывается способен дать
«диагностику настоящего». И даже уже полностью отрицая свою
вовлеченность в структурализм в более позднем разговоре с
Дрейфусом и Рэбиноу, готовившим о нем книгу, Фуко признавался,
что не смог противостоять риторическим соблазнам
структурализма. Разумеется, дело тут не только в соблазнах и не только в
риторике. Вместе с тем, нельзя не обратить внимание и на то, что
тезис о причастности Фуко структурализму провозглашался обычно
как упрек из вражеского стана: для философов субъективности,
нередко связанных с марксизмом, как в случае Сартра,
структурализм выступал в качестве философии status quo, а признание
первичности системы представлялось заведомым исключением
самой возможности «прогрессивной политики». Правда, к струк-
1 О значимости для него обоих этих структурализмов - конкретно-научного
и обобщенно-философского - свидетельствует, как уже говорилось, тот факт, что
Фуко обращался в Министерство образования с предложением о реформе
философского образования - в частности, о включении в программу по философии для
лицеев преподавания философских проблем лингвистики, антропологии,
психоанализа (это, как мы догадываемся, были как раз те дисциплины, в которых в 60-е
годы процветали структурные методы) и болел душой за судьбу этого так и не
реализовавшегося проекта.
98 Познание и перевод. Опыты Философии языка
туралистам Фуко вполне безоговорочно относили, в известный
период, не только враги, но и друзья, например, Жиль Делёз в
своей знаменитой статье1. С марксизмом, точнее коммунизмом,
Фуко после недолгого романа, увенчавшегося вступлением в
компартию (это вполне типичный эпизод на пути французских
интеллектуалов его эпохи), разделался довольно быстро, причем,
кажется, его личная неприязнь к жестким формам группового
поведения в партийных ячейках тут была важнее теоретических
соображений... А вот отвести обвинение в реакционности
(невозможности построить «прогрессивную политику») было гораздо
сложнее. Так что бегство от структурализма в некоторой степени
было для Фуко спасением от возгонки политических страстей2.
Именно с вопросом о структурализме связан и другой вопрос:
является ли Фуко философом или кем-то другим.
Интеллектуальная жизнь людей поколения Фуко была пронизана новыми
тенденциями в понимании философии и ее места в культуре
и в жизни. Ранний послевоенный период, по отзывам
современников, был периодом безусловного господства философии,
надежд на философию: литература, искусство — все это так или
иначе охватывалось философией и прислушивалось к ней. Впрочем,
на фоне растущего влияния гуманитарных наук этот процесс
становился все более напряженным и проблемным: философия
болезненно реагировала на потерю былых привилегий и ставила
вопрос о своем «конце». Вопрос о дисциплинарной
принадлежности Фуко наталкивается на реальные затруднения. Полагаю,
что проблемы Фуко — это проблемы философии, открывшейся
вовне и столкнувшейся с тем, что ранее она в себя или близко
к себе не допускала. В его работах всегда присутствует
проблемное одушевление пусть не всеобщими, но «общими» вопросами.
Но вместе с тем в ней слишком много опытного (эмпирического)
материала, явно не вмещающегося в рамки академически пони-
1 Deleuze J. A quoi reconnait-on le structuralisme? // La Philosophie. T. IV. Le XXe
siècle. Paris, 1973. P. 299-335.
2 Когда в Швеции конца 1960-х Фуко рассказывал журналисту о структурализме,
он подчеркнул - явно учитывая возможные упреки в политической
реакционности или, как минимум, в бездействии - что структурализм это не кабинетная
интеллектуальная деятельность: он может дать политическому действию нужный ему
аналитический инструмент, так не будем же обрекать политику на слепоту и
невежество... Однако идеологическая истерия вокруг структурализма оказалась
сильнее. А когда Жан Мари Доменак из журнала «Эспри» спросил Фуко, не лишает ли
его мысль (о принуждениях системы и о прерывностях в истории духа) основания
любое политическое выступление, Фуко на это ответил: прогрессивна политика,
понимающая исторические условия, в которых она ведется, и специфические
правила практики, которым она подчиняется.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 99
маемой философии1. При этом множество «вольностей» или,
скажем, «натяжек» в пользовании этим материалом подчас
мешало счесть эти организованные массы эмпирии обычным
«позитивным знанием», удовлетворительным с точки зрения узких
специалистов. Получалось так, что философские идеи
погружались в материал, а материал оказывался в известной степени
«подвешенным». В любом случае его материал никогда не был
чисто историческим, он всегда (слишком) подчинялся той или
иной идее и замыслу (например, не репрессивного, но
побудительного отношения к сексу в западной культуре), что нередко
приводило к эмпирическим натяжкам. С другой стороны, у него
никогда не было желания строить абстрактные философские
тексты: у него всегда было чутье края или предела и одновременно
желание иного — путем выхода за эти пределы. Главным
«иным» — если оценить всю массу им написанного и
опубликованного - было, конечно, познавательное, знаниевое, что же
касается практико-политической составляющей его творчества,
то она вошла в его жизнь прежде всего под влиянием Даньеля Де-
фера, его друга на всю жизнь, на четверть века...
Концепция Фуко — это философия, написанная в форме
истории науки, в которой менялись акценты и способы построения
концептуального языка, а также сфера теоретических предметно-
стей, вовлекаемых в рассмотрение. Так, в 1960-е годы ее оттенок
явно эпистемологический (как строится объект науки, как знание
вообще может претендовать на объективность?), в 1970-е —
политико-философский (каковы внедренные в знание внепознава-
тельные факторы и детерминации), в 1980-е — этический (как
возможно формирование и самоформирование морального
субъекта). Философская история науки — область, исследованию
которой Фуко посвятил всю жизнь, меняя фокус и оптику
(эпистемологическая, политическая, этическая), — актуальна сейчас
в российском контексте философского преподавания и
исследования. При этом смена акцентов не меняет стержневого
напряжения, которое, как представляется, одушевляет все поиски Фуко.
Это, как уже говорилось, — напряжение между философиями
субъекта и смысла, с одной стороны, и философиями системы,
концепта, рациональности - с другой; оно принимает разные
формы и конфигурации, но сохраняет свою актуальность.
1 Концептуальную поддержку такой интеллектуальной истории косвенно
оказывали, при всем различии общих схематик, французская историческая
эпистемология (Башляр, Кангилем, Кавайес), тесно связанная с «региональным» опытом
отдельных научных областей, а также собственно история в виде Школы Анналов
и дальнейших разветвлений этого подхода, построенного на учете специфики
малых мест и времен и одновременно - «больших исторических протяженностей».
100 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Один из сложных вопросов в изучении Фуко — периодизация
его творчества. Лет двадцать назад в ряде энциклопедических
статей и других текстов я предложила членение его творчества по
десятилетиям на три периода - археология знания (1960-е годы),
генеалогия власти-знания (1970-е годы), эстетика существования
(1980-е годы). Археология знания представлена прежде всего
тремя основными работами, в заглавии которых присутствует сам
термин «археология»: это «Рождение клиники: археология взгляда
медика» (1963), «Слова и вещи: археология гуманитарных наук»
(1966) и «Археология знания (1969). Генеалогия власти-знания
представлена двумя главными работами. Это «Надзор и
наказание» (1975) и «Воля к знанию» («История сексуальности», т. I,
1976). Основные работы периода эстетики существования -
«Пользование удовольствиями» и «Забота о себе» (обе - 1984;
соответственно, тома II и III «Истории сексуальности»). Доминанты
этих периодов, согласимся в этом с Делёзом, — это,
соответственно, знание, власть, субъект. Хотя сейчас некоторые российские
исследователи это деление на периоды оспаривают (зачем нам эти
периодизации, ведь Фуко такой текучий, ведь он так любит
менять маски...), я считаю необходимым сохранить эту
периодизацию как дидактически полезную и в основном верную. На мой
взгляд — и тогдашний, и теперешний, схема трех периодов - не
ложная, но несколько упрощенная (впрочем, не более, чем,
например, схема трех эпистем у самого Фуко).
Разумеется, не всё написанное в тот или иной период и к тому
же не полностью входит в эти указанные рубрики1. Кроме того,
многое в трактовке этих периодов зависит от понимания
основных терминов (прежде всего - археологии и генеалогии), которое
вовсе не было однозначным и у самого Фуко. Что это - разные
стороны чего-то единого, разные взгляды на общий предмет или
же разные предметы вкупе с разными подходами к ним? Сущест-
1 Были ли радикальными разрывы между периодами - чисто внешне да, но при
более внимательном присматривании - нет. То внимание к субъекту практик,
направленных на собственное становление, которое мы находим у позднего Фуко,
стало возможным после радикального очищения мысли от антропологических
предрассудков трансцендентализма и эссенциализма, а выход за пределы
европейской современности в античную и эллинистическую эпоху был следствием
уходящего глубже в историю поиска параллелей между различными формами
человеческого опыта свободы. Главный материал для него археологический, главный
прием - работа с архивом, поиски иных уровней опыта, иных соотношений
между его элементами — как условие возможности переписывать и переосмысливать
историю. Что же касается генеалогии, то эта ницшеанская метафора,
по-видимому, не вполне подходит к его проблематике: она намекает на происхождение и
потому в некотором смысле на непрерывность звеньев цепи, а в концепции истории
познания у Фуко эти смысловые моменты совершенно отсутствуют.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 101
вуют трактовки скорее методологические или скорее предметные:
например, археологию можно трактовать прежде всего
структурно-функциональным образом, а генеалогию — генетическим,
в археологии можно видеть прежде всего знание, а в генеалогии -
социальные воздействия на знание. Иногда у Фуко археология
и генеалогия выступают почти как синонимы, иногда — как
существенно различные подходы: археология как особый взгляд на
историю познания, а генеалогия как взгляд на ту же историю в
связи с воздействиями «власти». В одном из своих поздних текстов
Фуко рассматривает археологию как изучение уже
функционирующих форм производства знания, а генеалогию — как изучение
самого процесса возникновения этих форм. Как бы то ни было,
и археология, и генеалогия выступают в концепции Фуко как
своего рода промежуточные ступени между эмпирическими
историями и уровнем философского рассуждения. При этом существуют
тематические нити, которые пронизывают все работы Фуко: так,
и в «Рождении клиники», и, конечно, в «Истории безумия» уже
есть элементы трактовки властных воздействий на образование
предметов познания. В любом случае, целый ряд
«археологических» и «генеалогических» тем и мотивов в творчестве Фуко
сосуществуют, что, однако, не отменяет той определенности
акцентов, которая и позволяет вычленять в его творчестве отдельные
периоды. Остановимся далее на их основных чертах.
§ 2. История как археология
Итак, археология знания (1960-е годы) — это прежде всего
новый подход к истории, отказ от идей и концепций кумулятивного
развития знания, основой которого был бы абсолютно надежный
наблюдатель - трансцендентальный субъект. Археолог должен
увидеть подпочву знания как связную структуру. Для археологии
знания не интересны ни вещи как таковые, ни познающий их
субъект: она нацелена на взаимодействие субъективного и
объективного, в результате которого возникают предметы познания,
социальные практики, научные дисциплины. При этом разрывы
между качественно своеобразными периодами важнее тех связей
преемственности, которые мы привыкли между ними
устанавливать. Среди всех «археологии» самая известная — «Слова и вещи:
археология гуманитарных наук». В ней представлены эпистемы -
общие познавательные схемы или конфигурации, преобладавшие
в тот или иной период европейской культуры Нового времени.
Все эти конфигурации определяются у Фуко через специфику
знаковых отношений между «словами» и «вещами». Эти
отношения радикально меняются в истории: так, ренессансная эпистема
102 Познание и перевод. Опыты Философии языка
предполагает тождество слов и вещей друг другу; классический
рационализм (XVII—XVIII вв.) исходит из того, что слова и вещи
опосредованы сферой мышления, представления; современная
эпистема (с конца XVIII в) видит в отношениях слов и вещей
прежде всего то, что к представлениям не сводится, — «жизнь»,
«труд», «язык». Эта общая схематика, по Фуко, лежит в основе тех
областей знания, которые мы сейчас называем биологией,
лингвистикой, экономикой: они не вызревали из древних зачатков
познания в современные теории, но возникали при очередном
переломе познавательной картины. То, что кажется нам их прямым
предшественником (например, всеобщая грамматика для
современной лингвистики), может быть понято лишь из своей,
современной ей эпистемы, из синхронного, а не диахронного
соотношения познавательных элементов.
Если связи между эпистемами не рассматриваются или же
отрицаются, то, напротив, внутри эпистем устанавливаются новые
связи между тем, что мы привыкли размежевывать. При этом
Фуко с удовольствием обыгрывает парадоксы и разного рода
неожиданности: так, мы привыкли видеть в Кювье любителя
классификаций, а в Ламарке - предшественника эволюционистской
биологии, а ведь они оба относятся к одной эпистеме, к общей
структуре условий познания. То же касается Рикардо и Маркса:
нас учили подчеркивать различия между ними, а схематика мысли
у них общая — это вопрос об освобождении истории из-под власти
антропологически ограниченного, конечного бытия: только
Рикардо приходит в конечном счете к идее стабилизации истории,
а Маркс - к идее ее убыстрения и революционного перелома.
Главный вопрос «Слов и вещей» — это вопрос о возможностях
познания человека. Может показаться, что у Фуко этот вопрос
решается сугубо нигилистически (перспектива современного
человека — изгладиться из современной культуры как «лицо,
начертанное на прибрежном песке»). Однако, по сути, речь идет
о специфике постановки вопроса о человеке, о новых способах
изучения человека в контексте «жизни», «труда» и «языка» как
форм конечного бытия. Сейчас эта книга почти забыта, но она
нуждается в перечтении и переосмыслении. Когда-то своим
«антигуманистическим» пафосом она разила, как копье, потом казалась
слишком абстрактной и нереалистичной, еще позже была сметена
новым пафосом властных отношений в познании. Но именно эта
книга задала место Фуко в культуре, расставила вокруг него
интеллектуальные силы, а когда Фуко позднее говорил, что она — самая
неудачная, это лишь подчеркивало его горечь и неравнодушие...
В основу археологии знания как своеобразной дисциплины
Фуко кладет темы, взятые у Фрейда, Ницше, Маркса, но прелом-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 103
ленные сквозь призму французской эпистемологии (Г. Башляр,
Ж. Кангилем) с ее акцентом на радикальной прерывности в
развитии знания. Археология знания опирается не на сознание, а на
бессознательное; не на факты, а на высказывания; не на
субъективные очевидности, а на устойчивые функциональные
механизмы; не на телеологию накопления знаний, а на связные ансамбли
синхронных закономерностей. Для философии она слишком
эмпирична, а для специальной науки — слишком готова быть
неточной, жертвуя фактами ради общих принципов... Ученые -
биологи, лингвисты, историки — спорили насчет отнесения тех или
иных фактов к той или иной эпистеме, указывая на пропуски,
натяжки, но при этом подмечая главное: мощный познавательный
импульс, не ограниченный голословной критикой
субъективистских иллюзий, открывающий перед философией массивы новой
для нее культурной и познавательной эмпирии.
И в нашей стране, и за рубежом подлинная известность Фуко
справедливо связывается с появлением книги «Слова и вещи:
археология гуманитарных наук»1 (1966, рус. пер. 1977, переизд. 1994).
Эта книга, некогда очень популярная, а в наши дни забытая,
заслуживает внимания, так как ставит вопросы, и поныне актуальные.
Она обросла многочисленными интерпретациями, среди которых
есть и произвольные, и небескорыстно приспособленные к той
или иной философской позиции — иметь Фуко в своих союзниках
хотели бы многие. Вот почему и сейчас стоило бы напомнить
главные концептуальные новации этой книги, освободив их от
излишне усложненных толкований и восстановив ту архитектоническую
ясность, которую эти новации имеют у самого Фуко.
Реальный смысл «Слов и вещей» заключается в прослеживании
параллельной истории трех областей знания, оформившихся к
началу XIX в. в филологию, политическую экономию и биологию. Фуко
вычленяет в этой истории три независимых друг от друга
познавательных поля, или «эпистемы» — возрожденческую, классический
рационализм в современную. При этом специфика внутренних
связей в каждой данной эпистеме для Фуко важнее и интереснее связей
преемственности между ними. Единственное звено, объединяющее
эпистемы,— это способ их организации: тот или иной тип
семиотического отношения «слов» и «вещей», лежащий в основе всех других
проявлений культуры любого исторического периода.
В эпоху Возрождения, по Фуко, внутренняя организация
познания основана на единстве слов и вещей, мира и описывающих
его слов. Возрожденческая эпистема строится по круговому прин-
1 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977 (переизд.
1994), далее цитируется 1-е издание.
104 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ципу: вещи обосновывают слова, которые говорятся о вещах (ибо
слова — тоже род вещей), а слова, в свою очередь, обосновывают
вещи (ибо вещи могут быть прочитаны как слова). Фуко не ищет
в возрожденческой эпистеме «зачатки» научного знания будущего
с его более совершенными формами, он стремится воссоздать ее
собственный своеобразный порядок, ее внутреннюю связность,
хотя они и могут показаться лишь причудливой смесью
рациональных догадок с иррациональными предрассудками.
Аналогично этому Фуко строит свое рассуждение об эпистеме
классического рационализма. Здесь уже областью связи слов и
вещей выступает не онтология (мир слов и вещей в их
взаимотождественности), но мир мыслительных представлений, который
отныне обосновывает и возможность познания как таковую,
и возможность тех или иных теорий. Внутренняя связь между
представлениями обеспечивается здесь языком, который уже не
сливается с миром вещей, но служит посредником в области
познания. В соответствии с этим новым семиотическим
принципом - связь слова и вещи через представление — строится все
познание классической эпохи и, в частности, те три области
познания, которые Фуко выбирает для сопоставления: «анализ
богатств», «всеобщая грамматика» и «естественная история». Так,
всеобщая грамматика исследует только те свойства языка,
которые позволяют ему быть средством логического мышления; а
анализ богатств усматривает в связях мыслительных представлений
(т. е. в осознании нехватки материальных благ и возникающих
при этом потребностях) стимул для накопления и оборота
богатств, для всего функционирования экономики.
Третий этап — современная эпистема — строится на новом
принципе: единое пространство представления, которое
связывало слова и вещи в классической эпистеме, разрушается и уступает
место таким онтологическим факторам, как жизнь, труд, язык.
Выявление жизни, труда, языка в их самобытности и
несводимости к мышлению — это и есть основа современных наук: биологии,
политической экономии и филологии. Так, предметом биологии
становится функциональное единство организма как целостность
и жизнь как скрытая основа этого единства; предметом
политической экономии — реальное экономическое производство как
основа всех экономических процессов (т. е. труд производителя, а не
представления потребителя); предметом языкознания -
собственные закономерности языков: не формальное тождество их
логической структуры, но родство их звуковых или
грамматических систем, сходство законов их эволюции.
В основе смены эпистем лежат главным образом перипетии
судьбы языка в культуре: язык как тождество с миром вещей,
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко; ♦диагностика настоящего» 105
язык как связка мыслительных представлений, язык как
самостоятельное бытие. Особенно значимым оказывается здесь
последний перелом — между классической и современной эпохами.
Обособляясь от структур и форм мышления, с которыми ранее он
неразличимо сливался, язык, во-первых, становится
полноправным объектом познания (отсюда возможность лингвистики как
самостоятельной науки); во-вторых, приобретает особое
критическое значение для анализа самого мышления и других
продуктов культуры (отсюда огромная роль интерпретаторской
практики в современной культуре); в-третьих, по-новому
проявляет себя в практике литературы (отсюда своеобразная
«материальность», вещность языка в произведениях современного
искусства).
Фуко связывает представление о человеке с положением
языка в различных эпистемах. Образ современного человека не
тождествен ни ренессансному, ни классицистскому его образцу.
Предельно заостряя эту мысль, Фуко заявляет даже, что вплоть
до конца XVIII — начала XIX в. образ человека в европейской
культуре вообще отсутствовал. Появляется же он одновременно
с распадением единого, универсального языка классической
эпохи и возникновением наук о жизни, труде, языке.
Современный человек — это не возрожденческий титан, могущество
которого заключено в слиянии с миром природы и прозрении ее
тайн, и не гносеологический субъект классического
рационализма с его безграничной познавательной способностью.
Современный человек конечен, поскольку отныне ни природа, ни
культура (он лишен тождества и с миром природы, и с миром
мышления) не могут дать ему гарантий бессмертия, поскольку
его жизнь определена и ограничена биологическими
механизмами тела, экономическими механизмами труда и языковыми
механизмами общения. Но и эта позиция человека не вечна. Если
произойдет существенная перестройка данной эпистемы,
данной структуры мыслительных возможностей эпохи (а симптомы
возможных изменений Фуко видит в языке с его новыми
функциями), то, быть может, исчезнет и сам человек, точнее,
исчезнет тот образ человека, который мы привыкли считать
самоподразумеваемым.
Возникает вопрос: не видим ли мы здесь слишком
радикальный «перевод» проблемы человека на уровень бытия языка
и функционирования знаковых конфигураций? Книга Фуко была
со вниманием встречена критикой и широкими кругами
читателей. И теперь, когда с момента выхода в свет прошло уже более
сорока лет, споры о ней не затихают. При этом разноречивые
мнения критики свидетельствуют и о том, что книга затронула жиз-
106 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ненно значимые вопросы, и о том, как сложны и противоречивы
ее проблемы1.
Какова главная мысль книги? Какова философская позиция
ее автора? Феноменологи и экзистенциалисты упрекали Фуко
в позитивизме - будь то «позитивизм понятий» (Дюфренн),
«позитивизм знаков» (Сартр) или просто позитивизм как
абсолютизация готовых, застывших форм знания (Лебон).
Позитивисты отказывались записывать Фуко в свой лагерь: что же это
за позитивизм, если он не соответствует лабораторным
критериям подлинной научности? (Будон). Многие критики
усматривали у Фуко характерные черты феноменологического
мышления (Валь), например, появление бытия в хайдеггеровском
смысле (Дюфренн), и даже видели в «Словах и вещах» чуть ли
не «введение в философию бытия языка» (Парен-Вьяль).
На поверку оказывалось также, что эпистемы в концепции
Фуко имеют гораздо больше общего с кантовскими априорными
структурами познания, переосмысленными с точки зрения
нового познавательного опыта, нежели с применением
лингвистических моделей в леви-строссовском смысле (Доменак,
Парен-Вьяль). Порой роль «Слов и вещей» в обосновании совре-
1 Le Bon S. Un positiviste désespéré: Michel Foucault // Les temps modernes. 1967.
№ 248; Boudon R. Pour une philosophie des sciences sociales // Revue philosophique.
1969. № 3-4; Burgelin P. L'archéologie du savoir // Esprit. 1967. № 360;
Canguilhem (7. Mort de l'homme ou épuisement du cogito? // Critique. 1967. № 242;
Colombe] J. Les mots de Foucault et les choses // La nouvelle critique. 1967. № 4 (185);
Corvez M. Les structuralistes. Paris, 1969; Domenach J.-M. Le système et la personne //
Esprit. 1967. № 360; Dufrenne M. La philosophie du néo-positivisme // Esprit. 1967.
№ 360; Furet F. The French Left // Survey. 1967. № 62; Entretiens sur Michel Foucault
(J. Proust, J. Stefanini, Ε. Verley) // La Pensée. 1968. № 137; GuedezA. Foucault. Paris,
1972; Labeyrie V. Remarques sur l'évolution du concept de biologie // Pensée. 1967.
№ 135; Lefebvre H. Positions contre les technocrates. Paris, 1967; Parain- VialJ. Analyses
structurales et idéologies structuralistes. Toulouse, 1969; Pelorson J.-M. Michel Foucault et
l'Espagne // La Pensée. 1968. № 139; Pettit Ph. The Concept of Structuralism: a Critical
Analysis. Dublin, 1976; Piaget J. Le structuralisme. Paris, 1968; Toinet P. et Gritti J. Le
structuralisme: science et idéologie. Paris, 1968; Vilar P. Les mots et les choses dans la
pensée économique // La nouvelle critique. 1967. № 5 (186); Wahl F. La philosophie
entre l'avant et l'après du structuralisme // Qu'est-ce que le structuralisme? Paris, 1968;
White H. Foucault Decoded: Notes from Underground // History and Theory. Studies in
the Philosophy of History. Middletown (CT), 1973. Vol. XII. № 1. Мы ошибемся,
если подумаем, что все эти издания - «преданье старины глубокой». В наши дни во
Франции на основе большой археографической работы переиздаются подборки
откликов на важнейшие труды Фуко - периода их создания. Уже вышли
тщательно подготовленные сборники, посвященные «Словам и вещам»: «Les Mots et les
Choses» de Michel Foucault. Regards critiques, 1966-1968. Presses Univ. de Caen-
IMEC, 2009; «Воле к знанию»: La «Volonté de savoir» de Michel Foucault. Regards
critiques. 1976-1979. Presses Univ. de Caen-IMEC, 2013, и др. В этих изданиях
принимает участие IMEC (в переводе: Институт памяти современного издательского
дела) - один из крупнейших специализированных французских архивов.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 107
менного гуманитарного знания даже прямо сопоставлялась
с ролью кантовской «Критики чистого разума» в обосновании
естественных наук (Кангилем).
Да, впрочем, и структурализм ли это? Кем считать Фуко -
«доструктуралистом», не понявшим до конца задач
структурализма как современной науки о знаках и знаковых системах
(Валь)? Или, быть может, «постструктуралистом» или
«антиструктуралистом», давно превзошедшим структуралистский
лингвоцентризм и вышедшим за рамки лингвистической
методологии (Петтит, Уайт)?
Столь же разноречивы и мнения критиков Фуко, взятые
в плане социально-идеологическом. Выражает ли концепция
Фуко периода «Слов и вещей» интересы левых сил (Фюре) или,
напротив, защищает интересы крупной буржуазии (Лефевр)?
Отображает ли она массовые идеалы потребительского общества
или общий мыслительный поиск французской интеллигенции,
«перестройку мыслительного поля» в современной французской
культуре (Гедез)?
Анализ критических мнений о «Словах и вещах» в
социально-научном плане также не проясняет картины. Одни
исследователи упрекают Фуко в отсутствии или слишком беглой
трактовке «великих имен» (Корвез), другие, напротив, видят
достоинство работы в ссылках на малоизвестных авторов и
малоизвестные произведения (Кангилем). В зависимости от
профессиональных интересов одним критикам не хватает на
страницах этой книги Боссюэ и Паскаля (Туане, Гритти), другим -
Ньютона и Лавуазье (Верле), третьим - «Политической
экономии» Монкретьена (Вилар), четвертым - анализа
языковедческих трактатов XVII в., созданных вне рамок пор-роялевской
грамматики (Стефанини). Затем спор о фактах перерастает
в спор по вопросам более общего характера, связанным,
например, с возникновением тех или иных наук или вычленением
в их развитии качественно своеобразных периодов. Так,
современная биология возникла много позже, чем кажется Фуко
(Лабери), а современная политэкономия, напротив, гораздо
раньше (Вилар). На каком основании, интересуются критики-
«пуантилисты» (этот термин принадлежит Стефанини),
Сервантес в трактовке Фуко относится к доклассической эпистеме,
а, скажем, «Менины» Веласкеса - к классической, ведь
хронологический разрыв между ними не столь уж велик? (Пелор-
сон). Почему в работах Фуко так мало материала из
итальянского Возрождения, разве не с Италией мы привыкли прежде
всего связывать представление о науке и культуре Ренессанса?
(тот же Пелорсон). Где английские политэкономисты конца
108 Познание и перевод. Опыты Философии языка
XVII в.? (Вилар). Короче - концептуальная постройка Фуко
столь «галлоцентрична», что сам «король-солнце» мог бы ей
позавидовать; а можно ли на основе исследования материала
преимущественно французской культуры делать выводы
относительно всей Европы в целом?
И вообще насколько обоснован сам замысел Фуко -
вычленить мыслительное единство не только в отдельных науках,
но в целых периодах культурного развития Европы? Ведь этот
замысел заставляет его сильно преувеличивать единство внутри
эпистем за счет многообразия их элементов. Фуко вынужден
сопоставлять между собою явления разных размерностей (Пелор-
сон, Пиаже), ставить на одну доску ученых разного ранга и веса,
рассматривать уже сложившиеся науки в сопоставлении с теми
областями знания, которые в ту или иную историческую эпоху
еще вообще не были науками (Корвез). Подчинение познания
конкретной исторической эпохи единой схеме не позволяет
понять и объяснить ведущую роль одних наук в сравнении с
другими, например преимущество физики и математики перед
исследованием языка в XVII в. (Корвез). Оно скрывает от Фуко
качественную специфику различных периодов внутри эписте-
мы, например, значение перехода от механицизма к динамизму
и от картезианства к ньютонианству (Бюржелен) или различия
в трактовке человека Декартом и французскими
просветителями XVII в., равно зачисляемыми в классическую эпистему (Вер-
ле). Безраздельная власть эпистем и жесткость их внутренних
связей - вот что мешает нам понять смену мыслительных
структур в исторической перспективе, приводит к «катастрофизму»
разрывов между ними (Коломбель). При этом связь между
элементами внутри эпистемы только кажется жесткой, на самом
деле она оказывается одновременно и произвольной, и круговой:
поскольку эпистема является вся сразу и одновременно, связь
составляющих ее элементов может быть лишь связью
случайного совпадения (Лебон). Многим критикам кажется, что
исследование споров и столкновений во мнениях внутри эпохи
интереснее поисков общей основы их единства, если она вообще
доступна вычленению (Лабери), а анализ преемственности
в идеях и научных достижениях важнее выявления качественно
своеобразных периодов развития науки (Стефанини, Вилар).
Нет, возражают другие критики, замысел Фуко и интересен,
и плодотворен (Пруст). Он - именно как замысел -
значительно превосходит замысел известной и популярной книги Т. Куна
«Структура научных революций»: Кун лишь описывает те или
иные признаки парадигм, а Фуко стремится вычленить
подлинные познавательные структуры. Причина того, что это не впол-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: »диагностика настоящего» 109
не удалось Фуко, не в порочности замысла, а в
несистематичности метода, приведшего к «неразумию развития разума» при
переходе от одной эпистемы к другой (Пиаже).
Однако, пожалуй, самая важная проблема, к обсуждению
которой сводятся все другие споры - и о фактах в концепции
Фуко, и о ее философском и методологическом смысле, - это
проблема человека и истории.
Для того чтобы научиться действовать в настоящем и
осмысленно строить будущее, человек должен научиться понимать
свое собственное прошлое - время культуры, пронизывающее
и во многом определяющее его. Действие в настоящем и тем
более устремленность в будущее предполагают выход за пределы
данного, выявление в человеке еще не раскрывшихся
возможностей. Для современного человека своеобразной
рекогносцировкой такой способности выходить за собственные пределы
оказывается познание истории. История в собственном смысле
слова не может быть переделана, но она может быть
переосмыслена. Для современного человека история - это не объект
музейного любопытства и не учебник с готовыми рецептами действия
на все случаи жизни. История не дает всеобщих рекомендаций,
но зато она скрывает в себе множество смыслов, гораздо больше
того, что черпает из нее каждая конкретная эпоха, избирающая
и развивающая лишь одни и опускающая другие возможности
гуманистического осмысления прошлого. Все сказанное в
полной мере относится и к области истории науки и культуры,
которую исследует Фуко. Исследования истории в целом, а также
истории науки и культуры критичны по самому своему замыслу,
поскольку они учат отрешаться от всех предлагаемых
современным мышлением некритических стереотипов мысли, языка,
действия. Историческое исследование показывает их несамоподра-
зумеваемость, их истоки и начала, их конкретно-исторические
причины, а следовательно, их преходящий ограниченный
смысл. Оно подрывает эгоцентризм человека каждой отдельной
эпохи, показывая возможность других способов социальной
жизни, других установок, ценностей, идеалов. Именно поэтому
в наши дни трактовка истории культуры - предмет горячих
споров и идеологических столкновений.
Расширяя перспективу и круг исследуемого материала и
включая в него те работы Фуко, которые были написаны раньше «Слов
и вещей» и после этой книги, мы видим, однако, что ни
самозамкнутость эпистем, ни резкость разрывов между ними, ни
оторванность их от социального контекста, ни обращение к языку для
решения эпистемологических вопросов, ни постановка проблемы
ПО Познание и перевод. Опыты Философии языка
человека в столь заостренной негативистской форме не были для
Фуко чем-то постоянным и неизменным. И вместе с тем в других
его работах есть нечто такое, что, казалось бы, абсолютно
отсутствует в «Словах и вещах»1, - это прежде всего проблематика
социальной обусловленности познания. Она возникает уже в первой
работе Фуко «Психическая болезнь и личность» (1954),
развивается в его докторской диссертации, опубликованной под заглавием
«Безумие и неразумие: история безумия в классический век»
(1961), в «Рождении клиники» (1963, ее подзаголовок —
«археология взгляда медика»), а затем и в работах следующего периода -
«Надзоре и наказании» (1975), «Воле к знанию» (первый том
«Истории сексуальности», 1976). Таким образом, работы 1960-х годов,
вместе взятые, выступают как первый этап творческой эволюции
Фуко, который можно назвать «археологическим». Проблемно-
концептуальный костяк этого периода образуют три
«археологии» - «Рождение клиники», «Слова и вещи» и позже -
обобщающая и замыкающая этот период «Археология знания» (1969).
В основе «Истории безумия» лежит традиционная для
французской буржуазной социологии антитеза нормы и патологии.
В данном случае она становится критерием различных эпох в
истории европейской культуры. В этой работе нет столь четкого, как
в «Словах и вещах», членения на периоды, однако качественно
своеобразные этапы намечаются и здесь. В период Средневековья
и Возрождения норма и патология, рациональное и
иррациональное, «разумное» и «безумное» пока еще не разделены жесткой
границей. Даже «корабли дураков», посредством которых общество
отторгает от себя анормальное, не нарушают диалога между
«разумным» и «безумным», поскольку иррациональное остается
в культуре источником вдохновения, областью поэзии и
фантазии, которая не только не чужда разуму, но, быть может,
выступает как его высшее проявление.
Разрыв между рациональным и иррациональным унаследован
нами, полагает Фуко, от эпохи Просвещения, которая исключает
возможность их единства, диалога, обмена, помещая безумие за
решетку. И это не метафора: речь здесь идет о вполне
определенном социальном институте, о так называемых «общих
больницах», или стационарах, в которых содержались начиная с
середины XVII в. не только психически больные, но и многие другие
1 Создается впечатление, что «Слова и вещи» были во многом подготовлены
неглавной линией творчества Фуко в первой половине 1960-х годов, связанной с его
со-трудничеством в журнале «Critique». Практически все статьи этого периода,
а также монофафия «Ремон Руссель» (1963) строятся вокруг проблематики языка
и его нового места в культуре.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 111
категории людей, чье поведение отклонялось от норм буржуазной
морали и общего принципа контроля страстей разумом: гуляки,
моты, тунеядцы, богохульники и др.
Вовсе не собственному развитию медицины, настаивает Фуко,
общество обязано возникновением психической болезни как
феномена — болезни души наряду с болезнями тела, но
определенным социальным обстоятельствам: во-первых, это массовый страх
перед эпидемиями, рассадником которых считались именно
«общие больницы» (вследствие этого туда впервые были направлены
врачи). Во-вторых, это социально-экономические потребности
развивающегося капитализма, нехватка рабочих рук, всеобщее
принуждение к труду, которое требовало освобождения из
заключения всех трудоспособных (и тем самым выделялась категория
больных, не способных трудиться). Таким образом, именно
социальные побуждения превращают психическую болезнь в
самостоятельную категорию, а медицина лишь закрепляет в системе своих
понятий то отношение к помешательству, которое уже сложилось
в обществе. Фигура врача — это, по Фуко, воплощение разума
классической эпохи, подчиняющего себе все неразумное и
иррациональное, а психическая болезнь - это лишь констатация того,
что поведение данного человека не соответствует общепринятым
нормам: это категория социальная, но никак не явление общей
патологии или специальной психопатологии.
Тот же методологический принцип, а именно опора в изучении
знания на целый комплекс социальных обстоятельств —
юридических и моральных, мировоззренческих и политических, -
характеризует и следующую работу этого цикла — «Рождение клиники.
Археология взгляда медика». Конечные причины «рождения»
клиники как особого медицинского учреждения на рубеже
XVIII-XIX вв. - в общегосударственной задаче охраны
общественного здоровья (осознанно поставленной после Французской
буржуазной революции), в необходимости контроля за врачами,
разоблачения шарлатанства и защиты потерпевших законом, в
изменении социального статуса больного и пр. Все эти
обстоятельства неизбежно приводят к перестройке самого «пространства»
болезни: лечение больного становится уже не столько делом
семьи, сколько задачей всего общества.
История медицины прославляет свои победы, а подход Фуко
дает иную картину. Как получилось, что безумец явился в облике
душевно больного, а не очага борьбы с дьяволом? Этим и
занимается «археология». «Археологический» подход предполагает
весьма нетрадиционный взгляд на, казалось бы, привычные
концептуальные и исторические реалии, на всю историю познания. Так,
медицинские и, в частности, психиатрические понятия, утверж-
112 Познание и перевод. Опыты Философии языка
дает Фуко в работах этого периода, не заданы внутренним
развитием соответствующих областей познания; они определяются
прежде всего социальными — экономическими, политическими,
мировоззренческими - причинами. При этом естественно, что
понятия медицины и психиатрии в значительной мере лишаются
у Фуко своей естественнонаучной определенности, так что,
например, собственно нейрофизиологическая симптоматика
оказывается лишь побочным моментом при рассмотрении телесных
и особенно душевных болезней. Уже в работе «Психическая
болезнь и личность» Фуко трактует психическую болезнь как
следствие социального отчуждения, как защитную реакцию
организма, неспособного нормально регулировать свои отношения
с социальной средой. Трактовка эта как бы следует за
двузначностью французского слова aliénation, которое означает
одновременно и «отчуждение» и «помешательство».
Общество получает доступ к регулярному наблюдению за
человеческим телом, а сообразно этому меняются методы понимания
и лечения болезни: «классификационная» медицина родов и
видов, иерархий признаков и аналогий уступает место анатомо-кли-
нической медицине, основанной на патанатомии и регулярной
практике вскрытия трупов. Классификационная медицина
вдохновлялась идеями Декарта и Мальбранша, для которых «видеть»
значило «воспринимать» в свете разума в иерархии абстрактных
признаков; для анатомо-клинической медицины видеть - значит
постигать в опыте живое, хотя и бренное, человеческое тело. Этот
новый опыт конечности человеческого бытия (бренность,
смертность), считает Фуко, и превращает индивида в возможный
объект позитивного познания, а медицину - в методологическую или
даже онтологическую основу наук о человеке.
Мы видим, таким образом, в работах Фуко первой половины
1960-х годов одновременно два направления исследований: с
одной стороны, это исследование социальной обусловленности
знания вне явной связи с проблемой языка1 («Психическая болезнь
1 Нельзя сказать, что проблема языка совсем отсутствует в «Истории безумия»
и «Рождении клиники». Однако в первой работе ее место весьма незначительно
(речь здесь метафорически идет о соотношении «языка разума» и «языка безумия»
в различные исторические периоды), а в «Рождении клиники» - работе, во многом
подготавливающей тематику «Слов и вещей» (обе эти «археологии» служат в
дальнейшем материалом для третьей - «Археологии знания»), - проблема языка
возникает прежде всего в феноменологической плоскости, как вопрос о единстве
«voir» и «dire» («зримости» и «словесной выразимости») как специфическом
признаке «медицинской рациональности», понятийного строя медицины XIX в.
Нельзя сказать также, что тема социальной обусловленности совершенно отсутствует
в работах «языковой» проблемной линии. Однако здесь она предстает лишь в
сугубо метафоризированном виде: например, жизнь, труд, язык, отличающие, по Фу-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 113
и личность», «История безумия»1, «Рождение клиники»), с
другой - исследование языка в широком культурном смысле вне
явной связи с анализом его социальной обусловленности
(литературоведческие статьи первой половины 1960-х годов, «Ремон
Руссель», «Слова и вещи»). Ретроспективным синтезом обеих
линий исследования становится трактат о методе «Археология
знания» (1969), а программой будущих исследований — доклад
в Коллеж де Франс «Порядок речи» (1971). Практическое
осуществление этого синтеза относится уже к работам следующего
периода (1970-е годы).
Итак, в «Археологии знания» возникает вопрос о
методологическом синтезе двух ранее наметившихся направлений
исследования, обнаруживших к этому времени свою ограниченность и свои
внутренние сложности.
Социальная обусловленность знания ранее доказывалась, как
правило, либо достаточно абстрактными тезисами (таков в
особенности тезис о социальном отчуждении как источнике болезни
в «Психической болезни и личности» и отчасти в «Истории
безумия»), либо отдельными яркими примерами (таковы многие
интересные архивные находки в «Истории безумия» и «Рождении
клиники»). При этом оставалось неясно, можно ли выделить между
наиболее общими положениями и конкретными фактами устой-
ко, современную эпистему от классической, — это соответственно
персонификация биологических, социальных и культурных факторов.
1 Первая крупная еще «доархеологическая» работа Фуко - это его диссертация
«Безумие и неразумие: История безумия в классический век», вышедшая
отдельной книгой. В ней говорится: голос безумия был принужден к молчанию, но это не
факт природы, а факт цивилизации. Теперь нам необходимо погрузиться в архивы,
чтобы услышать этот голос, построить археологию молчания о безумии, рассказать
об опыте безумия - еще до его пленения знанием и научным дискурсом. Вычленяя
различные исторические эпохи отношения к безумию, Фуко показывает, как
в Средневековье безумные изгонялись из человеческого сообщества на «кораблях
дураков», как в классическую эпоху безумие подвергалось исключению (его
пример Фуко видит у Декарта в Первом рассуждении о методе) или же заточению,
интернированию (ср. «общие больницы», в которых безумные находились бок о бок
с бездельниками, попрошайками, бродягами, венерическими больными и другими
нарушителями социальных норм). Затем наступил новый этап вычленения
безумия как психической болезни: в приют вошел врач. И все же проблема безумия не
была и не может быть решена, ибо истина человека находится в загадке безумца,
и напрасно современный человек надеется подчинить себе безумие. «Рождение
клиники» (1963) продолжает «Безумие и неразумие». Главный вопрос - о
реорганизации медицины как практики и как науки в связи с появлением патанатомии.
Подобно тому как психология рождается из опыта безумия, так медицина
становится наукой об индивиде, включая конечность бытия в круг своих наблюдений,
так что можно сказать, что опыт познания индивида в западной культуре связан
с опытом смерти.
114 Познание и перевод. Опыты Философии языка
чивые взаимосвязи, типичные случаи, закономерности «среднего
уровня» и проанализировать их на достаточно широком и
разнообразном материале культуры. Лишь много позже, в работах 1970-х
годов, Фуко нашел такую методологическую константу для
описания социальной подосновы знания, называя ее «отношениями
власти»; а пока, в «Археологии знания», общая канва социального
обусловливания знания именуется им «недискурсивной» сферой.
Что касается проблемы языка в культуре, то и здесь также
выявились к этому времени свои сложности и, прежде всего,
раздробленность различных аспектов проблемы. Так, в работах
первой половины 1960-х годов главным определением языка было
«освобождение» от мышления; единственным его позитивным
проявлением оказывались образные и стилистические приемы
модернистской литературы. В «Словах и вещах» тот или иной тип
обращения с языком становится основной характеристикой
различных исторических периодов, небезосновательно напоминая
о «духовных тотальностях» — традиционной, но критикуемой
Фуко теме «истории идей». И в том и в другом случае оставался
открытым вопрос о механизмах порождения языка и знания, о
способах понятийного выражения их внутренних типических
закономерностей. Ответ на этот вопрос позволил бы более
конкретно проанализировать соотношение языкового слоя культуры
с собственно социальным. В «Археологии знания» вводится
понятийный аппарат для такого анализа (это «дискурсивные
практики», которые образуют «дискурсивные формации», сами
слагаются из «высказываний» и остаются в истории в виде «архивов» -
материализованных предпосылок культуры и познания).
Понятийное выражение «языковости» и «социальности» в виде
«дискурсивного» и «недискурсивного» (правильнее было бы
сказать «дискурсного» и «недискурсного») типов практики
позволяет охватить гораздо более широкий круг явлений того
срединного уровня, который ранее оставался за пределами исследования, и,
следовательно, уловить единство явлений, которые
представлялись разноразмерными и несвязанными. Конечно, одновременно
с этим обнаружением новых связей происходит и
противоположный процесс «размывания» тех единств, которые ранее
представлялись замкнутыми и устойчивыми. От теорий языка, социальных
институтов мы устремляемся к до-теоретическому, до-языковому,
до-институциональному уровню. В самом деле, что такое,
например, дискурсивность, дискурсивные (речевые) практики, о
которых столь много говорится в «Археологии знания»? Термин этот
чрезвычайно сложен для перевода. В «Словах и вещах» он
обозначал, как правило, специфику языка классического рационализма
с его способностью структурировать и упорядочивать мышление,
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 115
приводить его к логически отточенным формам. Очевидно, что
к «дискурсивное™» «Археологии знания» такая трактовка этого
термина неприменима. Здесь дискурсивность уже не укладывается
в рамки обычных представлений о языке как форме выражения
мысли или системе средств общения: дискурсивные практики —
это скорее лишь некие языкоподобные, т. е. похожие на язык
своей структурирующей способностью, механизмы познания и
культуры. Область дискурсивных практик, по замыслу Фуко, не
совпадает с традиционными разграничениями по предметам и методам
(в языкознании или логике, психологии или социологии); она
обнаруживается, напротив, лишь ценой отказа от привычных
понятийных и методологических расчленений и в результате
«археологической» работы, вскрывающей невидимые пласты.
В «Археологии знания» (1969) схема «Слов и вещей»
ретроспективно подверглась серьезному переосмыслению. На месте резких
разрывов между эпистемами были введены дискурсные практики,
а сами соотношения между дискурсивными и недискурсивными
(экономическими, политическими) практиками стали
трактоваться как мотор познавательных изменений. При этом эпистемы
предстали как своего рода исторические «архивы». В них не хранятся ни
вещи, ни бумаги, архивы — это наборы правил, «исторические
a priori», по которым в ту или иную эпоху образуются предметы,
понятия, высказывания. Каждый такой архив всегда конечен, но эта
его ограниченность «позитивна»: она задает веер реальных
возможностей высказывания в тот или иной исторический период. Вместо
трехчленки «сознание — познание — наука», на которую опирался
эпистемолог-традиционалист, осью концептуальной постройки
для археолога становится «дискурсивная практика — знание -
наука». Центральные понятия здесь «дискурсивные факты» и
«дискурсивные практики», порождающие «знание» (savoir) — то, что не
является зрелой наукой, не достигло формализации и теоретиза-
ции, но внимательно работает с многообразием своего материала.
«Дискурсивные факты» — это высказывания, произведенные в
социуме по определенным правилам, они отличны от логических
суждений, языковых предложений, психологических установок,
однако их собственную, специфическую определенность уловить
непросто. Напомним, что в «Словах и вещах» дискурса вообще не
было, точнее он трактовался как дискурсия, как линейное
представление мысли в языке. Но уже в «Археологии знания» (1969)
понятие «дискурс» входит в новый проблемный комплекс analyse du
discours, который сложился в этот период во Франции на стыке
лингвистики, социологии и психоанализа.
Если в отчеканенных формах познания, языка, социальности
далеко не всегда видны их взаимосвязи и взаимодействия, то по-
116 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка
нижение уровня анализа (разумеется, не в ценностном, а в
топологическом смысле), выход к до-теоретичности, до-языковости,
до-институциональности в сфере дискурса обнажает их
подспудные и незаметные смычки. Становится виднее, как из
недискурсивной сферы дискурсивные практики черпают свой материал,
подлежащий структурированию и формализации на других этапах
научного знания; как совокупность недискурсивных практик
обусловливает в конечном счете такие события дискурсивной
сферы, как, например, выбор одной теории из числа нескольких
равно возможных, равно обусловленных мыслительными
средствами той или иной исторической эпохи; как дискурсивные
события смыкаются с недискурсивными, приобретая социальную
определенность.
§ 3. Власть-знание: от археологии к генеалогии
Продолжая тенденции «Археологии знания», Фуко, уже в
работах 1970-х годов, трактует язык как воплощение социальной
реальности. Язык - это область приложения социальных сил,
объект борьбы, завоевания, обладания, господства, средство прямого
подчинения и угнетения и, следовательно, путь к освобождению,
к снятию отчуждения — через присвоение языка, средств
духовного производства, символической собственности (здесь очевидна
непосредственная перекличка между тезисами Фуко и
программой леворадикального литературного и
общественно-политического журнала «Тель кель», представители которого, в частности,
активно участвовали в протестных движениях второй половины
1960-х годов).
Тематика «власти-знания» (pouvoir-savoir) не явилась в
готовом виде неизвестно откуда. Строго говоря, уже анализ дискурс-
ных механизмов был переломом в сторону генеалогии, то есть
анализа властных механизмов на стыке познавательного и
социального. Если в «археологиях знания» неясными оставались
механизмы переходов от одной познавательной конфигурации к
другой, то в генеалогиях этот вопрос задним числом получает свое
решение: эти переходы определяются взаимодействием дискурс-
ных и недискурсных практик, которые складываются в
исторически конкретные схемы власти-знания. Как раз на переломе между
археологией 1960-х и генеалогией 1970-х находится «Порядок
дискурса» — программа работы в Коллеж де Франс, заявленная
в инаугурационной лекции 2 декабря 1970 г. Отправным пунктом
рассуждения служит внутренне противоречивая очевидность:
для западной культуры характерна одновременно подчеркнутая
любовь к слову (логофилия) и страх перед той непредсказуемой
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 117
силой, которая таится в произносимом слове, в массе сказанных
вещей и самих высказываниях как событиях (логофобия).
Дискурс, по Фуко, необуздан, нескончаем, наделен собственной
властью: он порождается социальными порядками, но может им
противостоять. А потому общество устанавливает особые процедуры
контроля над тем, что мы говорим, - прежде всего, в тех областях,
где задействованы власть и желание. Это механизмы запрета
(говорить можно не всё, не обо всём, не всем и не всегда), а отсюда
табу на определенные объекты, отсюда — ритуалы, закрепляющие
привилегии тех или иных групп говорящих субъектов, и др.
Именно потому, что язык есть непосредственная социальная сила
и скрытая пружина многих социальных процессов, «боязнь»
языка (логофобия) в течение долгих веков удерживала
западноевропейскую мысль от углубленных занятий этим предметом.
Исследование этой «логосферы», насквозь пронизанной социальными
конфликтами, и должно отныне стать задачей дисциплины, ранее
называвшейся «историей идей». Соответственно этому
изменению предмета и происходила у Фуко, как уже отмечалось,
переориентация истории идей в «археологию знания», а археологии
знания, в свою очередь, в «генеалогию власти».
Конкретное развитие этой программы мы находим в
лекционных курсах Фуко в Коллеж де Франс и, в частности, в публикации
совместно со студентами архивных материалов по судебному делу
некоего Пьера Ривьера (1836). Документы, собранные и
прокомментированные здесь, наглядно иллюстрируют «борьбу речей»:
это взаимопротиворечивые свидетельства односельчан, врачей
всех рангов, судебных экспертов вместе с взаимоисключающими
«признаниями» самого подсудимого. Социальная реальность
дается здесь через слово, а слово выступает ареной борьбы мнений
и позиций, ареной социальных конфликтов.
Работы Фуко 1970-х годов, и прежде всего «Надзор и
наказание» (1975) и «Воля к знанию» (1976)1, подчинены решению более
общей задачи, связанной с выявлением «механизмов» власти
знания (pouvoir-savoir) или, иначе, «эпистемологическо-юридиче-
ского комплекса», одновременно и параллельно с «генеалогией
современной души»2. Как возникают знание о человеке, науки о
человеке? Как возникает человеческая индивидуальность, с которой
современная культура связывает столько гуманистических
надежд? И то и другое, замечает Фуко, подчас трактуется как нечто
1 Foucault M. Surveiller et punir. Paris, 1975; Idem. Histoire de la sexualité. T. 1. La
volonté de savoir. Paris, 1976.
2 Подробнее об этом см.: Автономова Н.С. От «археологии знания» к
«генеалогии власти» // Вопросы философии. 1978. № 2.
118 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка
возникающее вопреки социальному порядку, вопреки
буржуазным социальным отношениям. В этих двух книгах на различном
материале («генеалогия души» и «генеалогия тела») Фуко
опровергает эти представления: знание не есть нечто чуждое
функционированию социальных механизмов; напротив, оно и порождается
и существует не вопреки, а благодаря конкретному социальному
порядку, конкретному типу «отношений власти». Важнейшая
сфера эмпирических исследований и теоретических обобщений этого
периода — история «рождения» тюрьмы как всеобщего
пенитенциарного учреждения Западной Европы. Средневековое добывание
истины под пытками, связь судебных реформ XVIII в. и
распространения тюрем с теориями общественного договора, выковывание
в тюрьмах и казармах, в полицейских досье и историях болезни
XIX в. «эмпирической базы» будущих наук о человеке - все эти
примеры убедительно говорят о том, что знание — это не убежище
от социального порядка, но его средоточие. То же самое относится
и к человеку: внутренний мир с его неприкосновенностью и
суверенностью — это весьма иллюзорное укрытие, поскольку и тело,
и душа «планируются» и порождаются механизмами власти
именно как воображаемые убежища от системы «всеподнадзорности».
При этом работа «Надзор и наказание» интересна прежде всего
радикализацией социальной темы в творчестве Фуко, переходом от
«археологии знания» к «генеалогии власти» (исследование
собственно языкового пласта не играет здесь особенной роли), а первый
том «Истории сексуальности» (точнее, «истории речи о сексе») во
многом продолжает и языковую тему, включая анализ способов
«проговаривания», словесного выражения сексуальности.
Имя новой дисциплины, предлагаемой Фуко в вышеназванных
работах, — «генеалогия власти», и здесь подразумевается нечто
большее, нежели простое переименование «археологии знания».
Прежний поиск оснований знания внутри самого знания
оказывается недостаточным. Знание в каждую конкретную историческую
эпоху определяется, по Фуко, той или иной «социальной
механикой», «социальной технологией». Не существует чистого знания,
поскольку знание всегда строится «по канве» отношений власти,
но, с другой стороны, не существует чистой, то есть чисто
негативной, чисто репрессивной власти: механизмы власти всегда
позитивны и продуктивны, в частности, именно они порождают ту или
иную реальность, тот или иной тип знания. Знание никогда не
может быть «незаинтересованным»: знание иногда — зло и всегда -
сила, оно одушевляется не безличным поиском истины, но
страстями и инстинктами, побуждениями, желаниями, насилием.
Власть порождает знание, а знание есть власть. Именно различные
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 119
исторические типы взаимоотношений власти и знания (pouvoir-
savoir) становятся теперь объектом рассмотрения.
Этот сдвиг исследовательского интереса Фуко, его переход от
теоретико-познавательной и историко-научной проблематики
к анализу социально-политических условий (но не генезиса!)
знания был вызван не индивидуальным «политическим
темпераментом», но скорее реакцией философа и ученого на ту совокупность
социальных явлений, которая, по словам Фуко, обусловила в
начале 1970-х годов «политизацию» интеллигенции. Этот
достаточно емкий термин обозначает прежде всего слом
социально-психологического мироощущения «новых средних слоев» на рубеже
1960-1970-х годов. Отголоски революционных событий мая
1968-го года — этой кульминации французского движения «новых
левых» — не стерлись в памяти и не превратились в историческое
предание. Эти события запечатлелись в сознании очевидцев и
современников как мощный взрыв революционных устремлений
масс, неминуемо заставивший переосмыслить многие
традиционные представления. Прежде всего это иллюзии
привилегированного «представительства» интеллигенции по отношению к
аморфной массе людей, лишенных собственного «языка» и понимания
социальной реальности, равно как и способности к
осмысленному действию. Дар понимания и красноречия уже не может
считаться привилегией интеллигенции (этого «мыслилища» и
«чувствилища» масс), всегда находившейся «чуть-чуть впереди
и чуть-чуть в стороне», а теперь низвергнутой в повседневность.
Все эти смягчающие действительность иллюзии опираются на
ложную, или, точнее, устаревшую, концепцию власти как
подавления, ограничения и запрета, как инстанции, говорящей «нет»,
но лишенной собственной продуктивности. В основе их лежит,
по Фуко, «монархически-юридическая» модель, представляющая
власть, во-первых, как некую собственность одного лица
(монарха) или группы лиц (правящего класса); во-вторых, как силу,
иерархически нисходящую из единого центра; в-третьих, как
абсолютную привилегию государства и государственного аппарата.
Напротив, власть буржуазного общества, во-первых, не есть
привилегия лица или группы лиц (согласно Фуко, механизмы власти,
в чем-то однотипные, пронизывают всю социальную структуру,
очагами ее являются в равной мере казарма и лицей, семья и
кабинет врача); во-вторых, она не ограничивается иерархически
нисходящим подчинением, но осуществляется повсюду,
устремляется во все стороны (практически каждый человек может
оказаться в зависимости от своей социальной позиции и в
подчиненном и господствующем положении); наконец, в-третьих, как ясно
из вышесказанного, отношения власти не являются привилегией
120 Познание и перевод. Опыты Философии языка
государственного аппарата, но осуществляются многими людьми,
во многих позициях, с разными целями и результатами.
* * *
«Надзор и наказание» — это историческое введение к
исследованию современной «души», «сопоставительная история
современной души и способности осуждения»1. Основой для такого
исследования не может быть, по Фуко, ни изменение «коллективной
чувствительности», ни «прогресс гуманизма», ни «развитие
гуманитарных наук», но лишь одновременная и параллельная история
власти-знания, или «эпистемологическо-юридического
комплекса». При этом важнейшей «материальной» его стороной
выступают те или иные способы подчинения тела («политанатомия тела»)
отношениям власти («микрофизика власти»). Лишь наука,
исследующая способы этих соотношений, способна стать «генеалогией
или частью генеалогии современной души»2.
Из сказанного у Фуко не следует, что история «тела» до сих пор
не исследовалась вообще. Тело описывалось как вместилище
биологических потребностей, физиологических процессов, и в
результате становилось очевидно, что исторические процессы
накладываются на биологический фундамент. При этом ускользало
от внимания другое: человеческое тело всегда и везде оказывается
непосредственно пронизанным и «заполненным»
соотношениями социальных сил, которые принуждают его к работе, обрядам
или ритуалам, казнят или контролируют. Это пронизывание,
по Фуко, не метафора: оно осуществляется не посредством
идеологических механизмов отчуждения, но именно
непосредственным, материальным, зримым образом.
Наиболее ярким воплощением этой зримости и
материальности выступает тип наказания, используемый тем или иным
обществом, а также смена типов наказания в истории. Наказание не
выводится непосредственно ни из экономических или
юридических законов, ни из структуры государственного аппарата или
социальных институтов. И, быть может, именно поэтому в нем
наиболее отчетливо прослеживаются те модальности власти, которые
скрыты в других ее проявлениях. «Наказание» в обществе произ-
водно не от преступления (или, по крайней мере, не
непосредственно от преступления), но от целого комплекса социальных
условий и установок.
1 Следует иметь в виду, что французский глагол, так же как и соответствующий
русский, означает одновременно «судить», «выносить суждение» и «осуждать»,
то есть несет в себе и «эпистемологические», и «юридические» коннотации.
Foucault M. Surveiller et punir. Paris, 1976. P. 27.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 121
Исследуя различные типы наказания, Фуко вычленяет три
основные модальности власти, которые отчасти сменялись, отчасти
перекрещивались в буржуазной культуре Нового времени. В
период Средних веков основным способом наказания была публичная
казнь, вершившаяся на теле преступника долгими часами или
даже днями как театрализованное зрелище. Поскольку, считает
Фуко, социально-упорядочивающая функция монархии еще не
отделилась здесь от функции военной, казнь рассматривалась как
личная месть монарха своему врагу, посягнувшему на
незыблемость его власти. И допрос, и пытки, и сама казнь были
неотъемлемыми моментами в перипетиях выявления истины.
В век Просвещения публичная казнь — этот театр ада, театр
ужаса - практически исчезает или же уступает место мгновенной
смерти (гильотина). Согласно правовым теориям и судебным
установлениям того времени, центр тяжести должен падать на
суждение о преступнике (о мотивах и причинах его действий, а не
только о самом факте преступления) и на осуждение преступника
(душевные страдания, ведущие к его перевоспитанию, важнее
телесных мук). Эта новая диспозиция власти трактует наказание
в соответствии с теориями общественного договора: преступник
нарушает договор и, следовательно, становится врагом всего
общества (а не объектом мести монарха). Наказание может и не быть
ярким, но оно должно быть абсолютно неизбежным
(необходимость в постоянной слежке и надзоре приводит позднее
к учреждению полиции как особого института). Вместе с тем
расследование преступления не должно опираться на пытки
и ограничиваться достижением признания: необходимо полное
и исчерпывающее доказательство, проводимое в соответствии
с научными эмпирическими критериями истины: нужна не
судебная казуистика, а судебная психология и криминалистика.
Наконец, «пенитенциарная» доминанта современной эпохи
(ее начало — рубеж XVIII и XIX вв.) — это дисциплинирование
тела и души, манипулирование ими, дрессировка. Главный ее
принцип — «всеподнадзорность» - пронизывает всю социальную
структуру и находит свое преимущественное воплощение в
институте тюрьмы как обобщенном типе наказания. Новый стиль
взаимоотношений между политической властью и телом, новый
режим власти-знания в новоевропейском обществе может быть
описан с различных точек зрения. Это «физика власти» —
совокупность используемых ею способов принуждения, контроля,
подчинения. Это «оптика власти» — учреждение власти как органа
постоянного наблюдения за населением, создание полиции,
организация системы архивов с индивидуальными карточками и
другие конкретные механизмы «всеподнадзорности» и «паноптизма».
122 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Это новая «механика власти» — расчленение, изоляция,
перегруппировка индивидов, локализация тел в социальном пространстве,
наилучшее использование сил посредством распределения
времени и энергии. Это новая «физиология власти» - включение
исправительных нормирующих механизмов: либо наказания, либо
терапии. Именно в результате действия этих социальных
механизмов - социальной физики, оптики, механики, физиологии -
и рождается в XIX в. возможность научного знания о человеке,
утверждает Фуко. Как уже отмечалось, эти три модальности
власти — «месть» — «наказание» — и «дисциплинирована»1 лишь
условно приурочиваются к той или иной эпохе. Пережитки
старого удерживались подолгу, черты нового складывались постепенно
в недрах предшествующих систем. Так, согласно Фуко, в течение
всего классического века (XVII—XVIII вв.) подспудно
происходило дисциплинирование человека, превращение его в машину,
завершившееся лишь в современную эпоху. Образ
человека-машины рождался одновременно в трудах медиков и философов,
учеников и последователей Декарта, а также в казармах и
больницах, школах и мастерских, где выковывались практические
приемы и орудия социального контроля и дисциплинирования тела.
Точно так же не является новейшим изобретением система
надзора. Как замечает Фуко, неоднократно ссылаясь на мысль
Маркса из I тома «Капитала», надзор постепенно становится
органической частью процесса производства. Обобщение принципа
всеподнадзорности, по мнению Фуко, убедительно доказывает,
что власть в ее современном выражении не является свойством
или привилегией отдельных лиц; это безликий дисциплинарный
принцип.
Исследование механизмов власти, действующих посредством
дисциплинирования и надзора, помогает понять одно из
важнейших событий в истории европейских пенитенциарных систем,
а именно повсеместное превращение тюрьмы в главный способ
наказания. Ни один из «великих реформаторов» Европы —
теоретиков (Беккария), юристов (Серван), законодателей (Лепелле-
тье) — не считал тюрьму всеобщей формой наказания. Напротив,
их теории, отрицая публичные казни во имя гуманности,
предполагали совершенно иные модели наказания: как возмездие для
тех, кто лишил свободы других людей, или как пристанище на
1 «Монарх с его властью, социальное тело, административный аппарат. Метка,
знак, след. Обряд, представление, упражнение. Побежденный враг,
исправляющийся субъект права, подчиненный непосредственному принуждению индивид.
Тело, которое казнят, душа, представлениями которой манипулируют, тело,
которое дрессируют. Эти позиции, противостоящие друг другу... эти технологии
власти» (Foucault M. Surveiller et punir. P. 134).
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 123
время выплаты долгов или принудительных работ. Все
отрицательные стороны тюрьмы были совершенно ясны: это способ
наказания, не учитывающий личности преступника и специфики
преступления; это рассадник праздности и безнравственности.
Это, наконец, весьма неэкономичное предприятие. Тюрьма не
способна избавить от рецидивизма, исключить преступления: она
лишь сортирует и классифицирует их, пресекая одни, подавляя
другие, поощряя и используя третьи и подключая их к более
общим социальным механизмам (например, при вербовке
провокаторов среди бывших преступников). И, однако, вопреки всем
этим мнениям специалистов, за какие-нибудь несколько
десятилетий, уже в начале XIX в., тюрьма становится главным
пенитенциарным институтом буржуазного общества и обосновывается
задним числом как якобы наилучшая возможность исправления
преступника.
Возникновение научного знания о человеке в столь различных
областях, как медицина, криминалистика, педагогика,
психология, психопатология и др., требует двух, казалось бы,
взаимоисключающих условий: одновременно и нормирования и
индивидуализации. С одной стороны, процедура власти в дисциплинарном
обществе предполагает вычленение нормы и приведение к норме:
не антитеза дозволенного — запрещенного и освящающий ее
закон, но упорядочивающая и усредняющая власть нормы
становится основой новых социальных тактик и стратегий власти. С другой
стороны, однако, определяющим условием социального порядка
и его познания становится понижение порога индивидуализации,
инверсия оси политических отношений: в феодальном обществе
индивидуализация — это привилегия власть имущих, все прочие
безлики и безъязыки; напротив, в современном обществе
механизмы власти становятся все более анонимными и
функциональными, а ее объекты в целях лучшего контроля и подчинения все более
индивидуализируются. Так, ребенок индивидуальнее взрослого,
больной - врача, сумасшедший - нормального, заключенный -
надзирателя. Именно эти первые прежде всего и становятся
объектом познания и подчинения: они описываются, анализируются,
классифицируются, сравниваются и нормируются механизмами
власти в школах и больницах, приютах и тюрьмах, хотя, конечно,
не избегают этого и вторые, только за ними следят уже более
высокие надзирающие инстанции социальной пирамиды.
Таким образом, результат этого процесса принудительной
индивидуализации — современный индивид — это, по мнению Фуко,
не бесплотный атом идеологических представлений, но вполне
определенная реальность, планомерно создаваемая
дисциплинарными механизмами власти. Вышколенное тело порождает вы-
124 Познание и перевод. Опыты Философии языка
школенную душу, а дисциплинированная душа, в свою очередь,
изнутри (и даже не по внешнему принуждению) сковывает тело
дисциплиной. В рамках этого замкнутого круга рождаются все
мысли, чувства, побуждения современного человека, не
способного ни сломать этот круг, ни хотя бы раздвинуть его рамки.
Человеческая душа «вовсе не рождается греховной и достойной
наказания, подобно душе в представлениях христианской теологии,
скорее она рождается из процедур наказания, надзора, кары или
принуждения. Эта душа, реальная и бестелесная, ни в коей мере
не есть субстанция; она - стихия, в которой результаты
определенного типа власти сорасчленяются со знанием; она -
сцепление, посредством которого отношения власти дают возможность
знания, а знание выступает как проводник и усилитель
результатов власти... Душа - результат и инструмент политической
анатомии, душа — тюрьма тела»1.
***
«Воля к знанию» (1976) — стала общим введением к
планируемой Фуко многотомной истории сексуальности, которая должна
была проследить историю сексуальных отношений и речи о сексе
в Европе с начала христианства вплоть до новейших вариаций
фрейдизма. Основные ходы мысли в этой книге повторяют путь
рассуждения в «Надзоре и наказании». И здесь Фуко определяет
свой проект как генеалогию — в данном случае генеалогию науки
о сексе. И здесь предельным уровнем анализа объявляются
отношения власти, ее механизмы, воздействия, результаты. И здесь
эти отношения рассматриваются прежде всего в позитивном
смысле; речь идет о том, каким образом отношения власти
побуждают и формируют «секс» и «сексуальность» (эти термины
употребляются Фуко весьма широко, их значение не сводится к
взаимоотношениям полов и воспроизводству жизни). И здесь из этого
делаются определенные практически-политические выводы:
поскольку буржуазные отношения власти порождают, а не
подавляют секс, постольку и надежды на сексуальную революцию как
средство решения социальных проблем беспочвенны.
Вся книга, по сути, — это ответ на провокационный вопрос:
можно ли считать пресловутого анонимного англичанина,
написавшего с мельчайшими подробностями многотомный дневник
своих сексуальных наслаждений под заглавием «Моя тайная
жизнь», ниспровергателем викторианской морали или, напротив,
ее характерным выразителем? Быть может, это «наслаждение
анализом» требуется самими механизмами власти?
1
Foucault M. Surveiller et punir. P. 34.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 125
Историческая и методологическая основа ответа на этот
вопрос - в выявлении исторически менявшегося режима
власти-знания-наслаждения. Каждый из этих режимов поддерживается
специфической формой «воли к знанию»: отсюда и заглавие книги.
Фуко выделяет в истории две процедуры постижения истины
секса. Одна из них - ars erotica (Китай, Япония, Индия). Здесь
сущность секса исторгается из самого наслаждения и не требует
удостоверения в знании, оторванном от практики; приобщение к этой
истине происходит посредством «посвящения» или «инициации»,
руководимой наставником - хранителем традиций. Другая - scien-
tia sexualis (западная культура), «наслаждение анализом». На месте
непосредственного практического «посвящения» она водружает
практику исповеднического типа — «признание» (aveu). Ритуал
признания, пишет Фуко, пустил глубокие корни во все области
культурной жизни Запада. Характерна, например, связанная с ним
метаморфоза литературных вкусов и традиций: на место
«героического» рассказа об испытаниях храбрости или святости встает, уже
в Новое время, другая задача — исторжение из глубин собственной
души истины в форме «признания».
Контрреформация и распространение протестантизма выводят
ритуал признания из области религии, где он первоначально
возник, в более обширную сферу социальной практики (отношения
детей - родителей, учеников — учителей, больных — врачей,
преступников — судей и пр.) и, кроме того, связывают его с областью
научного познания. Так складывается социальная основа знания
о человеке, так возникает возможность всех будущих и столь
привычных нам дискуссий о значении интроспекции, переживания,
данности сознания самому себе и пр., говорит Фуко. Условие
возможности всех этих вопросов, по Фуко, в соединении
религиозно-юридической модели «признания» (необходимость
обнаружения скрытого) с правилами научного познания (необходимость
отыскания причин прежде всего). Именно этот «познавательно-
юридический» механизм делает сексуальность областью всеобщей
(хотя и нечетко очерченной) причинности, подлежащей
обнаружению и словесному выражению, а не сокрытию и замалчиванию,
загадкой человеческой природы, к познанию и овладению
которой следует неустанно, хотя и безнадежно, стремиться.
Конкретные свидетельства внимания к сексуальности мы
находим в самых разнородных областях знания и практики.
Например, в архитектуре при постройке колледжей в XVIII в. заметно
учитывается детская сексуальность и необходимость
эффективного контроля за нею; в медицине, а позже психиатрии этиология
многих душевных и телесных болезней начинает включать и
сексуальные нарушения. В уголовном праве и криминалистике
126 Познание и перевод. Опыты Философии языка
акцент переносится с преступления на преступника, на его
индивидуальную историю, на его психологию, психопатологию,
сексуальную организацию. Во всех этих областях познания и практики
постепенно выковываются средства и приемы управления сексом
и контроля за ним. Происходит одновременно выделение аспекта
сексуальности там, где он раньше не замечался (дети, больные,
преступники), распространение механизмов сексуальности на
новые области, дифференциация и спецификация старых областей
вокруг проблемы секса.
Интересный аспект «генеалогии» секса Фуко обнаруживает
при сопоставлении буржуазной «сексуальности» со
средневековым институтом «альянса». Альянс основывался на кровном
родстве, поддерживался моральными законами дозволенного
и недозволенного, связывал партнеров строго определенного
социального статуса сильными экономическими связями (в
частности, законами наследования). Напротив, диспозиция буржуазных
отношений сексуальности характеризуется более слабыми
связями с экономикой, поддерживается менее жесткими требованиями
морали и осуществляется не через наследование благ и богатств,
но через потребляющее и самовоспроизводящееся тело.
Аристократическая символика «голубой крови» и древности предков
сменяется буржуазной историей сексуальности, которая
определяется уже не прошлым, а будущим, не длиной родословной,
а здоровым потомством и, следовательно, заботой о теле. Если
альянс подчеркивает момент воспроизводства, гомеостатического
равновесия социального организма, то принцип сексуальности
предполагает возможность нововведений и дополнений для все
более полного подчинения индивидуального тела социальному;
предельная установка здесь — не воспроизводство данного, но
интенсификация тела как объекта знания и как составляющего
элемента в отношениях власти. Сексуальность, подчеркивает Фуко,
была для буржуазии не объектом угнетения, но формой
самоутверждения, одной из исходных форм «классового сознания».
Начиная с XVIII в. постоянно складываются несколько
основных направлений или стратегий в осуществлении отношений
власти-знания и управления сексуальностью. Это социализация
пола: общественный контроль за всем тем, что связано с
продолжением рода (экономические побуждения, слежка за
нравственностью); это педагогизация пола ребенка, то есть признание
детской сексуальности и принятие необходимых мер для ее
воспитания; это истеризация тела женщины - появление типа «нервной
женщины» как следствие переизбытка социальных функций
женского тела и, следовательно, перенасыщенности его
сексуальностью и подверженности патологии; это психиатризация сексуаль-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 127
ных извращений, то есть трактовка их не как преступлений
против природы, но как специфического типа сексуальности.
Оглядываясь назад, мы видим, таким образом, у Фуко
несколько этапов углубления в «археологическую» почву знания и
культуры: знаковый культурологизм «Слов и вещей» — дознаковая дис-
курсия «Археологии знания» - социальная трактовка языка
в «Пьере Ривьере» и «Порядке дискурса» - отношения власти
в «Надзоре и наказании» и «Истории сексуальности». Каждая
последующая работа в чем-то переосмысливает и вместе с тем
развивает предыдущую. Так, «Археология знания» с акцентом на
динамизм и дознаковость дискурсивных практик была в известном
смысле отрицанием «Слов и вещей», где исторические структуры
познания — эпистемы - осмыслялись как нечто абсолютно
статическое, а обоснования переходов между знаковыми системами
культуры оставались за пределами исследования. В свою очередь,
«Надзор и наказание» и «Воля к знанию» в известном смысле
отрицают методологические установки «Археологии знания»: дис-
курсные практики лишаются роли предельного обоснования
знания, уступая место отношениям власти. И, однако, каждая
последующая работа немыслима без предыдущей и служит ее
логическим продолжением. Так, без «Слов и вещей», этого
предельного выражения статического подхода к рассмотрению
эпистемологической проблематики в культурном контексте (выявившего
все его сильные и слабые стороны), немыслим и поиск новых
методологических возможностей, свидетельство которому —
«Археология знания». С другой стороны, именно в «Археологии знания»,
где предельно четкое выражение получает проблема досемиотиче-
ских дискурсных практик, возникает тот вопрос, ответом на
который стали позднее «Надзор и наказание» и «Воля к знанию», -
вопрос о соотношении дискурсивного и недискурсивного, о
соотношении языка, познания и социальности.
Теперь, когда эволюция основных тем в пределах
«археологического» (1960-е годы) и «генеалогического (1970-е годы) периодов
творчества Фуко в общих чертах обрисована, попытаемся
отвлечься от конкретного материала и выделить главные
эпистемологические моменты в их единстве с исторической, социальной,
языковой проблематикой. Эта задача связана с тем, что у Фуко
эпистемологическая проблематика представлена, как правило,
в неотчлененном от специально-научных исследований виде.
Главный критический стержень эпистемологии Фуко — это
попытка избежать традиционной для философии XIX, отчасти
и XX в. концептуальной альтернативы: спекулятивного
трансцендентального априоризма, с одной стороны, и позитивистского эм-
пиристского фактицизма — с другой. Эта задача объединяет раз-
128 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ные страны, школы, традиции. Она стоит перед представителями
постпозитивизма и феноменологии, структурализма и
герменевтики. Решение этой задачи требует двунаправленного
мыслительного движения. Во-первых, это переосмысление
трансцендентальных априори (этого важнейшего момента классических
концепций обоснования знания) в соответствии с новым опытом
современной науки, породившим сначала «революцию» в
естествознании, а позднее, уже ко второй половине XX в., серьезные
концептуальные сдвиги в структуре социального и гуманитарного
знания. Опыт современного познания свидетельствует о том, что
невозможно дать универсальных гарантий истинности познания
для всех времен (именно такова была эпистемологическая
претензия трансцендентального априоризма), но вполне можно
выяснить общие механизмы порождения и функционирования знания
в тех или иных историко-культурных условиях. Во-вторых, это
переосмысление эмпиристского позитивизма с его опорой на факт
как «хлеб науки», как гарантию (опять-таки - предельную)
истинности и объективности. Опыт переоценки тезиса о «фактуальной»
достоверности знания, с наибольшей силой пережитый и
осмысленный уже позитивистскими школами XX в., говорит о том, что
даже, казалось бы, очевиднейшие факты относительны, реля-
тивны, что они преломляются по меньшей мере дважды -
социальным и культурным контекстом, в котором они существуют,
и теоретическим контекстом, в котором они отбираются,
осмысляются, объясняются. Предлагаемое Фуко решение этой задачи
весьма характерно для всего современного этапа
эпистемологических исследований в западной философии и науке. Оно
заключается в выявлении уровня исторического, или конкретного,
априори. Это уровень условий возможности знания, который
одновременно и историчен (в отличие от вневременных
трансцендентальных априори), и априорен (в отличие от беспредпосы-
лочных «непосредственно данных» фактов позитивизма).
Следующий круг проблем, которые можно было бы назвать
проблемами «бессубъектной эпистемологии», отчасти связан
с первым, хотя и не определяется им однозначно. Прежде всего,
это отказ от понятия трансцендентального субъекта как основы
синтеза представлений, как гарантии непрерывности и
кумулятивное™ опыта. Сомнению подвергается также и
эпистемологический статус его земного двойника - эмпирического субъекта:
может ли эмпирический субъект с его мыслями и чувствами,
желаниями и намерениями быть основой для построения
объективного научного знания? Вовсе отвергая трансцендентальную
субъективность как опору обоснования специально-научного знания,
Фуко считает эмпирическую субъективность инстанцией, спо-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 129
собной не на обоснование знания, но лишь на реализацию тех
мыслительных и языковых возможностей, которые уже заданы
эпохой: эмпирический субъект — это переменная величина,
например, функция речевых, дискурсных практик («Что такое
автор?»).
Если воспользоваться терминологией англосаксонского пост-
позитизма, то можно было бы сказать, что проект Фуко — это
построение «эпистемологии без познающего субъекта», прояснение
«неявного» знания — знания, не выявленного в общепринятых
и даже «парадигмальных» концепциях и понятиях. Обнаружение
этих неявных посылок и предполагает построение на месте
тройного отказа - от априоризма, от фактицизма и от
субъективизма - специфической реальности «знания», «архива»,
«позитивности», «исторического априори». Вполне понятно, что выход на
уровень неявного знания требует огромной «деконструктивно-
конструктивной» или «разборочно-сборочной» (по мотивам
термина Ж. Деррида) работы: критического пересмотра всех и
всяческих синтезов, принимаемых той или иной эпохой за
предзаданные. Это требование относится к наукам, предметным
областям, теориям, понятиям и даже таким «атомарным»
единицам, как «имя» или «произведение» (по Фуко, имеет смысл
исследовать лишь «авторскую функцию», т. е. способ связи между
автором и произведением).
Историографическим следствием априористской
эпистемологии был линейный эволюционизм (телеологическое
выстраивание всей исторической реальности по единой прямой прогресса),
а эмпиристского фактицизма, соответственно — кумулятивизм
(понимание истории как копилки позитивных фактов); цель
работы современного историка, как полагает Фуко, далека от
поиска аналогий и ассоциаций, предвосхищений нового в старом,
влияний и традиций, столь характерных для традиционной
истории идей. Это, напротив, поиск разрывов и пределов, границ
и уровней (как в общей истории, так и в частных историях,
например, в истории познания); причем на смену интереса к
всеобщему или же индивидуальному приходит интерес к особенному,
типическому.
Проблематике «бессубъектной» эпистемологии также можно
найти параллель в области социальной истории, истории наук
и искусств, в методологии исторического познания. В
критическом плане это отказ от так называемой «парадной истории»:
истории великих имен и произведений (деяний), истории королей
и полководцев. В позитивном плане это для Фуко (вслед за
Школой Анналов) опора на малые или вовсе незначительные имена
(объект многих критических замечаний в адрес «Слов и вещей»),
130 Познание и перевод. Опыты Философии языка
а в дальнейшем (в «Археологии знания», докладе «Что такое
автор?») и еще более решительный отказ от имен и «произведений»,
попытка сосредоточиться исключительно на анализе общих
мыслительных тенденций, возможностей данной эпохи,
запечатленных в ее дискурсивных практиках. Позитивный итог этой
критики (помимо понятия исторического априори, которое «работает»
одновременно и на эпистемологию, и на историю) - это
концепция «архива» как совокупности материализованных
мыслительных предпосылок данной исторической эпохи, отложившихся в ее
истории, в ее языке. Архивы не состоят из отдельных фактов,
но не образуют и замкнутых целостностей: это склад полезных
инструментов - определенным образом упорядоченных механизмов
порождения тех или иных конкретных исторически
обусловленных фактов.
Следующий, и логически и исторически, концептуальный
пласт в текстах Фуко — социологический. Подобно тому как
в эпистемологическом плане важнейшей задачей была критика
априоризма, а в историческом - критика кумулятивизма, так
здесь важнейшей для Фуко оказывается критика «монархическо-
юридической» концепции власти («Надзор и наказание»,
«История сексуальности», выступления 1970-х годов). Подобно куму-
лятивистской истории, обосновываемой трансцендентальным
субъектом, «монархически-юридическая» концепция власти
также может быть представлена как проекция некоторых
исходных эпистемологических постулатов. Напомню, что она
представляет власть как собственность одного лица или группы лиц
(монарх, правящий класс), как силу, иерархически нисходящую
из единого центра, как абсолютную привилегию
государственного аппарата. Этой модели Фуко противополагает свою
«генеалогию власти», исследование ее «микрофизической»,
«капиллярной» структуры.
Тем самым, анализ эпистемологической проблематики выводит
во внетеоретическую область «знания», анализ исторической
проблематики - в неписанную историю «архивов», анализ социальной
проблематики — во внеинституциональную «социологию» знания,
в «микрофизику власти». В итоге обнаруживается стержневая
эпистемологическая микроструктура, безотносительная к тем или
иным стадиям в эволюции концепции Фуко. Ее можно обозначить
так: выявление исторических и социальных условий познания
сквозь функционирования языка и дискурса. В этом механизме
совпадают собственно эпистемологические условия познания,
прочитанные исторически; исторические условия, прочитанные некуму-
лятивистски; социальные условия, прочитанные с точки зрения
«микрофизики» власти. При этом выход в дотеоретическую эписте-
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 131
мологию, в неписанную историю, в неинституциональную власть
осуществляется с помощью языка. В самом деле, итогом
эпистемологических переосмыслений, завершающихся у Фуко построением
«знания», «позитивности», были понятия дискурсной (речевой)
формации и дискурсной практики. Итогом исторических
переосмыслений, завершающихся построением «архива», было понятие
«высказывания» (предельного элемента речи, обеспечивающего ее
повторение, воспроизведение). Наконец, итогом социологических
переосмыслений, завершающихся построением «капиллярной»
концепции власти, было осознание области дискурса как поля
действия социальных сил и средства их обнаружения.
Для того чтобы выявить эту способность языка к
структурированию содержаний, лежащих за порогом устойчивых норм
восприятия, понятий или институтов, Фуко строит различные проекции,
изображения функций языка в культуре: так, в
литературно-критических статьях первой половины 1960-х годов язык - это некое
«вещное» самобытное образование, противоположное
прозрачности логических структур мышления; в «Словах и вещах» — это
культуротворческая опора познания; в «Археологии знания» —
методологическая опора знания; в «Пьере Ривьере» и «Истории
сексуальности» — передатчик социальных механизмов власти.
Анализ этих изменений в трактовке языка выводит нас из
концепции Фуко в культуру, в породившую ее ситуацию. Почему
эпистемология Фуко столь тесно связана с языком? Почему
важнейший перелом в трактовке языка происходит во второй половине
1960-х годов, как раз на гребне протестных движений? Почему со-
циологизация языка происходит одновременно и, по-видимому,
взаимообусловленно со столь же очевидным повышением
интереса к проблемам социальной детерминации знания?
Основная причина всех этих процессов, как считает сам Фуко,
в «политизации» интеллигенции. Политизация интеллигенции —
это вынужденное следствие ломки ее самосознания, потери
прежних представлений о своем месте, роли и значении в
общественной жизни, это реакция на массовые протестные выступления во
второй половине 1960-х годов. Доказанная практикой участия
в этих выступлениях способность масс думать и вразумительно
действовать (при всех, конечно, нигилистских и гошистских
издержках этих выступлений) поколебала традиционное
представление об избранности и исключительности интеллигенции как
квинтэссенции разума эпохи и поставила перед нею новые задачи.
Эти задачи будничные и приземленные: они заключаются в
анализе всей окружающей социальной реальности как сети
непрерывных отношений власти, в том, чтобы дать свой язык, право
голоса всем социальным группам, чтобы довести до общественного
132 Познание и перевод. Опыты Философии языка
осведомления социальную механику отношений власти в семье
и школе, в казарме и в больнице1.
При этом некоторые исторические сопоставления позволяют
предположить, что постановка языковой проблематики в
социальном ключе вообще характерна для периодов, наступающих вслед за
большими культурными переломами и социальными
потрясениями. Потрясения социальных структур определенным образом
меняют и отношение различных общественных групп к слову, языку,
культуре. Речь при этом идет преимущественно об интеллигенции,
для которой «логосфера» - слово, язык — это главная область
практики. Отношение спокойного «законного» наследования культуры,
слова, языка сменяется в такие культурные периоды отношением
экспроприаторства. После существенных социальных потрясений,
обрывающих все привычные связи человека с культурными
традициями, романтическое восприятие культуры изнутри, ощущение,
будто субъект сам из себя «выпрядает» слово, - ему, следовательно,
принадлежащее, его воле и намерению подвластное, - полностью
исчерпывает себя. Слово, которым пользуется человек, — не его
собственность и не его порождение: оно должно быть им
«перевзято», заимствовано у предшествующих эпох, которые оставили на
нем свои отпечатки, материальные следы истории. Казалось бы,
здесь очевидно потребительское, а не творческое отношение
к культуре, но в этом только половина правды: в известном смысле
критический пересмотр культурного наследия — это условие
будущего творчества, рекогносцировка его возможностей.
§ 4. Поздний Фуко о человеке и этике
Однако переходами от «археологических» пластов знания
к «генеалогическим» закономерностям микрофизики власти,
порождающим и человека, и знание о нем, эволюция Фуко не
завершилась. В работах 1980-х годов - «Пользование наслаждениями»
и «Забота о себе» — за привычным, казалось бы, стилем
исторического повествования мы видим новые концептуальные акценты
и новые понятия. В этот новый круг идей нас вводит такой, к
примеру, фрагмент из работы «Пользование наслаждениями»: «Чего
бы стоила страсть к познанию, если бы она должна была
обеспечить лишь приобретение знаний, а не послужить опорой — так или
иначе, насколько возможно - познающему субъекту в его блужда-
1 В 1971-1973 гг. Фуко руководил организованной им совместно с Д. Дефером
«Группой информации о тюрьмах»; ее задачей было обнаружение и исследование
«очагов власти» в различных, преимущественно периферийных, сферах
социальной реальности, предоставление права голоса и высказывания «маргинальным»
социальным группам.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 133
ниях? В жизни бывают моменты, когда вопрос о том, можно ли
мыслить иначе, не так, как ты мыслишь, воспринимать мир
иначе, не так, как ты воспринимаешь, становится настолько важен,
что, не решив его, вообще невозможно продолжать видеть и
мыслить <...> Что же тогда такое современная философия, я бы
сказал, философская деятельность, если не критическая работа
мысли над самой собой? Если не попытка понять, как и до какого
предела возможно мыслить иначе — а вовсе не обоснование уже
известного? <...> "Опыт", то есть испытание и изменение самого
себя в игре истины, а вовсе не упрощающее — в коммуникативных
целях — присвоение другого, — такова живая плоть философии,
по крайней мере в том случае, если она остается тем, чем была
раньше, - "аскезой", т. е. упражнением себя в мысли»1.
Жизнь и свобода, этика, самообладание, роль философии в
человеческой жизни, возможности и достоинства человека в мире -
мыслительная стилистика последних книг Фуко и его
многочисленных самоистолковывающих интервью покажется
ошеломляюще новой и непривычной тому, кто привык к метафизической
метафорике «Слов и вещей». Предмет исследований в этих
последних книгах2 из цикла «История сексуальности» — «человек
вожделеющий», человек как носитель страстей, влечений,
желаний, побуждений. Каким образом человек формирует из себя
субъект наслаждений? Как и насколько его поведение
определяется структурой морального сознания с его предписаниями и
установками? Этот герой исследуется на новом для Фуко материале
античности, который ранее был для него едва ли не «фигурой
умолчания». Акцент в историческом рассмотрении материала, как
и всегда у Фуко, - на специфическом, а не на общем.
Предписания и запреты иудео-христианской морали не вневременны и не
вечны, они далеко не исчерпывают область морального сознания;
более того, этически созвучны современным устремлениям
скорее те исторические периоды, где свободный поступок,
формирующий личность, считается более важным для человеческой
жизни, чем подчинение заранее заданному предписанию. Потому-то
Фуко и выбирает классическую и отчасти эллинистическую
Грецию периода ломки жизненных границ и сложившихся
стереотипов: моральный опыт здесь оказался важнее кодов и законов, хотя
это относилось лишь к небольшой части общества — взрослым
и свободным мужчинам.
1 Foucault M. Histoire de la sexualité. T. 2. L' usage des plaisirs. Paris, 1984. P. 14-15.
2 Подробнее о концепции Фуко периода «эстетики существования» см.: Автоно-
мова Н.С. Концепция человека у позднего М. Фуко // Современный человек:
цели, ценности, идеалы. М., 1988. С. 35-72.
134 Познание и перевод. Опыты Филосооии языка
Итак, предметом исследования в двух последних книгах
М. Фуко из цикла «История сексуальности» - «Пользование
наслаждениями» и «Забота о себе» - мог бы быть назван,
по многочисленным аналогиям, «человек вожделеющий»,
«homo....» - автор не называет его прямо так, потому что
соответствующего латинского прилагательного подобрать нельзя,
в языке не было соответствующих оппозиций. В этих двух
томах герой исследуется на античном материале - с постоянным
противопоставлением материалу нового, христианского
времени, которому был посвящен первый том. Главный тезис Фуко
здесь в том, что для античности вожделение, наслаждение,
плоть не зло сами по себе: они становятся злом лишь от
неумелого пользования ими, - для христианства же все это есть зло
само по себе. В заключении к третьему тому читаем:
«Сексуальная деятельность склоняется к злу лишь по виду и результату,
но субстанционально, сама по себе, злом не является»1.
Конечно, эта мысль не нова, новыми представляются как
фундаментальность вопроса, поднимаемого Фуко, - а именно,
вопроса о связи в человеке того, что наиболее интимно, с тем,
что наиболее пригодно для выявления общественными
средствами (моралью, политикой, государством, институтами), -
так и двояко акцентированный способ рассмотрения
материала - с точки зрения того, что от античности передается в другие
культурные эпохи, и того, что отличает именно античный
период: при этом более силен, как всегда бывает у Фуко, акцент на
специфицирующем, а не на общем.
Точнее предмет данного исследования можно определить
так: это проблематизация «человека вожделеющего», человека
как носителя вожделений, страстей, желаний. Речь идет о том,
как именно сам человек формирует себя в качестве субъекта
наслаждений. Механизмы этого формирования могут быть
представлены в следующей цепочке взаимосвязей: всякий
человеческий поступок вписывается в поведение со всеми общими
принципами его осуществления; поведение вписывается
в структуры морального сознания, определяется его
установками и предписаниями; формирование этого морального
сознания происходит не само собой, но путем особого упражнения
(в этой связи Фуко и применяет греческое слово «аскесис»,
причем, пожалуй, именно с христианскими ассоциациями).
Три общих знаменателя этих работ Фуко следующие: 1)
греческое общество было «естественным», и наслаждение
считалось в нем естественным и непредосудительным; 2) греческое
Foucault M. Histoire de la sexualité. T. 3. Souci de soi. Paris, 1984. P. 273.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко; «диагностика настоящего» 135
общество было «мужским» и потому, например, в сексе четко
различались активная и пассивная роли; 3) греческое общество
было «агонистическим» и потому, даже и не имея внешнего
соперника, греку было сравнительно легко вступать «в борьбу
с самим собой», каковою, в частности, и является «аскеза», или,
иначе, упражнение в умеренности поведения.
На дельфийском храме было семь надписей, в том числе
«ничего через меру» и «познай самого себя»; первая из них
была актуальна главным образом в раннюю и классическую эпоху
(это «умеренность», «софросюнэ» - слово, довольно часто
использовавшееся историками греческой культуры) и нашла свое
философское завершение у Аристотеля; вторая же стала
актуальной после Сократа и вплоть до конца античности. Автор не
говорит об этом прямо, но раскладывает свой материал по
томам именно в соответствии с этими принципами.
Итак, стремление к наслаждению естественно, но чтобы
наслаждение было полноценным, нужно соблюдать меру - во
всех четырех областях, включаемых автором в «наслаждение».
При этом Фуко упорно подчеркивает, что применительно
к грекам речь не шла ни о каких универсальных правилах или
канонах, но скорее лишь о принципах стилизации поведения
сравнительно небольшой части общества - взрослых,
свободных мужчин, - тех, кто в состоянии стремиться придать своей
жизни прекрасную завершенную форму. Запреты иудейско-
христианской морали, на которых мы часто и поныне склонны
строить свои представления о моральном сознании, не
универсальны и не вневременны. Для грека же моральный опыт сам
по себе важнее каких бы то ни было кодов и законов, а
следовательно, и применительно к материалу античной культуры
для нас важнее не история моральных заповедей, но история
«этики», понимаемой как разработка форм отношения к
самому себе, позволяющих индивиду стать субъектом морального
поведения и осознать себя в качестве такого субъекта. Фуко
называет три главные для грека «самотехники» (techniques-de-
soi)1 диэтетикой, экономикой и эротикой и подчеркивает, что,
провозглашая эти сферы «самопрактикования», греки не
руководствовались никаким общим законом и не стремились
организовать поведение (сексуальное - в широком смысле) одной-
единственной системой принципов. Например, тот же принцип
умеренности по-разному предстает в сферах диэтетики, эконо-
1 Представляется, что такие предложенные мною термины, как «самотехники»
или «самопрактикование», предпочтительнее часто употребляющегося в наши дни
выражения «техники себя» (techniques-de-soi).
136 Познание и перевод. Опыты Философии языка
мики, эротики. А именно, в диэтетике главное - это упражнение
в умеренности, учитывающее подходящий момент наслаждения,
необходимое соотношение между состояниями тела и временами
года и пр.; в экономике формы умеренности другие: здесь важен
не выбор момента или времени года, но постоянство контроля
и власти мужа над женой, поддержание иерархического порядка,
в котором лишь человек, способный властвовать над собой,
способен властвовать и над другими; в эротике требуется
умеренность иного типа, а также иное восприятие времени: здесь важны
не смена времен года (в отношении к собственному телу) и не
постоянство (в отношении к супруге), но именно бегущее,
меняющееся время (это оно лежит в основе отношения к мальчику,
в котором надлежит видеть будущую мужественность и
свободу). Как раз в этой области жизни, в размышлениях о любви
к мальчикам складывается соотношение между любовью,
отказом от удовольствий и доступом к истине. Для Фуко здесь
важно, повторяем, то, что упорядочение сексуального акта, с точки
зрения грека, идет не от божественной инстанции и не от каких-
либо институтов, которые требовали бы соблюдения заранее
заданных запретов, а потому греки в противоположность людям
более ранних (а отчасти и более поздних) культур чувствовали
себя более свободными для выбора, изменения, инноваций
в этой области - области морального поведения,
привилегированным случаем которого является сексуальное поведение.
Итак, умение учитывать все многоразличные обстоятельства
наслаждения может быть достигнуто только «энкратейей» или,
иначе, - агонистической борьбой с самим собой за себя с
помощью «аскезы» или упражнений в умеренности. В результате этой
борьбы достигается свобода, т. е. порабощение себя природного
собой разумным, а разум в человеке - это все равно что возница
при конях у Платона, педагог над воспитуемым у Аристотеля
или хозяин над домом у многих писавших об этом античных
авторов1.
Все, что в классическую эпоху думалось о сексе, одинаково
относилось и к женщинам, и к мальчикам: это не два типа
поведения, а две модальности в одном поведении. Упражнения
в «умении пользоваться наслаждениями», в «самообладании»
приводили в пределе к полному воздержанию и сублимации
в высокую платоническую любовь (тут, вопреки обычному
ходу рассуждений, автор находит прежде всего не контраст, а
аналог в Новом времени - это постепенное нарастание элемента
1 Корректность трактовки античных сюжетов у Фуко выверена мною с помощью
МЛ. Гаспарова, сделавшего ряд ценных замечаний.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 137
«недоступности» в рыцарской куртуазной любви, и такое
сопоставление представляется очень удачным). При этом автор
почти не касается заведомых «нравственных ограничений»
естественного наслаждения, существовавших в древности, -
решительного осуждения, например, феллации или лесбийской
любви, не говоря уже об инцесте. Об этом упоминается лишь
мимоходом по поводу Артемидоровых снов и не очень
убедительно говорится, что и здесь «все границы нечетки» и
презрения к плоти как таковой нет.
Заглавие третьего тома «Забота (попечение) о себе» - тоже
греко-латинское выражение. Постепенный перенос внимания
с поведения человека на носителя этого поведения (важно не
то, как сумел сдержать себя человек, а то, что он вообще может
сдержать себя в любой момент) легко выводится из общего
распространения индивидуализма в послеполисном мире больших
государств; автор этот социологический исток признает, но все-
таки настаивает, что тенденция к «заботе о себе» нарастала
сама собой, необусловленно1. О ней пишут все философы
эллинизма и Рима, это - труд по самосовершенствованию, «лечение
души» (самооценка больного), нарастающий культ
воздержания; само наслаждение ценится по «бестревожности» его
(Эпикур). Вот она - перемена в самопостроении и самооценке
морального субъекта.
Материал третьего тома подбирается так, чтобы подкрепить
это (берутся прежде всего философы-моралисты, а не,
например, Петроний). Брак сразу становится и более общественным
(«напоказ»), и более интимным (важен брак не как часть
«экономики», а более интимное состояние брака как таковое:
отсюда осуждение измен, добрые письма Плиния к жене и пр.).
В сферу «заботы о себе» впервые включается и политическая
деятельность - это происходит потому, что политика перестает
быть делом необходимости и становится делом свободного
выбора (ср. рассуждения Плутарха о «добродетельном
правителе» - это наука «строить себя» для политики). Врачи, как и
философы, подчеркивают опасность неумеренности, в частности,
в сексе (оргазм здесь сравнивается с эпилепсией, но не было ли
того же у Гиппократа?); отвергаются «мнимые желания», «фан-
тасии», наслаждение начинает представляться не самоцелью,
а атрибутом размножения. Отношения с женой рекомендуются
как средние между полным воздержанием и отношением с
гетерами, сосредоточенными только на наслаждении (по существу,
это продолжение «культа меры»). Любовь к мальчикам начина-
FoucaultM. Histoire de la sexualité. T. 3. Souci de soi. Paris, 1984. P. 57.
138 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ет сравниваться с любовью к женщинам, чего раньше не было
(ср. диалоги Плутарха и Псевдо-Лукиана), она «депроблемати-
зируется», превращается во вкусовое развлечение.
Популярным чтением становятся любовные романы, восхваляющие
верность и целомудрие. И все-таки, утверждает автор, это не
начало плавной выработки позднейших христианских взглядов
на плоть и наслаждение, это все еще античное представление
о естественности наслаждений и т.д. Видимо, перестройка
представлений о «человеке вожделеющем» между древностью
и Средневековьем - это для автора революционный слом;
но как и почему он наступает, в рамках этих двух томов не
рассматривается.
Таково в основном содержание двух последних работ М. Фуко.
Некоторые пояснения относительно замысла работы и
обращения именно к античному материалу содержатся в предисловии
к «Пользованию наслаждениями». «Прежде всего я хотел
поразмыслить о самом понятии "сексуальность", столь обыденном
и столь недавнем, посмотреть на него со стороны, обойти его
привычную очевидность, проанализировать тот теоретический
и практический контекст, с которым оно связано»1. Само слово
«сексуальность» появилось довольно поздно, в начале XIX в.; оно
связывается и с развитием познания (биология, социология
и пр.), и с функционированием системы правил и норм,
опирающихся на определенные религиозные, юридические,
педагогические, медицинские практики. Однако оно связано и еще с одной
сферой, в которой индивиды так или иначе определяют смысл
своего поведения, своих желаний и долга, чувств и настроений.
«Словом, речь идет о том, чтобы понять, как в современных
западных обществах возник такой "опыт", посредством которого
индивиды смогли признать себя субъектами "сексуальности",
открытой к весьма различным областям познания и пронизанной целой
системой правил и принуждений»2.
Озабоченность моральными проблемами в данном случае
вовсе не обусловлена соблюдением тех или иных запретов и
предписаний, но скорее самой возможностью свободы и ее
осуществления. История сексуальности - как сферы наиболее наглядных
взаимопереходов между душой и телом, существенных для
самоформирования субъекта, — это для Фуко не цель в себе: понять
основания этической проблематизации сексуальности - значит
определить и более широкий спектр условий, в которых человек
1 Foucault M. Histoire de la sexualité. T. 2. L'usage des plaisirs. Paris, 1984. P. 9.
2 Ibid. P. 10.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: ♦диагностика настоящего» 139
совершает свои поступки и творит свою жизнь при довольно
широком понимании свободы - возможностей изменения, выбора
стилистики поведения, борьбы с самим собой с помощью
«аскезы» (последовательного упражнения в умеренности) и пр. Это
и есть «искусства существования» (неотделимые в своем значении
от практики, ремесла) - совокупности осознанных или
спонтанных практик, посредством которых человек способен строить
жизнь как произведение, отвечающее определенным
эстетическим и стилистическим критериям. В христианскую эпоху,
замечает Фуко, эти практики вырождаются: они становятся частью
пасторской или государственной власти, переходят в компетенцию
профессиональных педагогов и врачей, хотя в некоторые эпохи
и периоды значимость вопроса о необходимости человеческого
«самоизобретения» опять выходит на передний план. Так
происходит, например, в современную эпоху, когда «эстетика
существования» призвана ответить на исчезновение человечески значимой
«морали кодов и правил», мобилизовать жизненные ресурсы для
осмысленного выбора собственного существования, поскольку
субъект, конечно же, создается не только практиками
подчинения, как это было показано в «Надзоре и наказании», но и
практиками [само]освобождения; именно этот последний
концептуальный акцент здесь для Фуко важнее. Именно потому и античный
опыт построения подобных практик на основе эстетических
и стилистических критериев может пригодиться современному
человеку1.
Откуда и как возникает эта задача? Откуда эта перекличка
проблем жизненного строительства через века и традиции? Речь, по-
видимому, идет о некоторой типологической общности ряда
исторических «конъюнктур»: крушение традиционных условий жизни
и традиций в Афинах времен Сократа и Аристофана, упадок
эллинистического мира, концепция метафизики у Канта,
современные проблемы, порождающие интерес мыслителя к эстетике
существования и выбору самого себя2. Во всех этих случаях
возникает особое отношение к реальности, этос которой заключается
1 Правда, профессиональные историки античности напоминают нам: поздний
Фуко - периода 1980-х годов, периода построения этики самоформирования,
слишком подчеркивает «само» и недооценивает «познание», «высший разум»
и другие моменты, без которых не мыслила себя античная и даже эллинистическая
философия как объект его отсылок (это подчеркивает, в частности, П. Адо, с
которым Фуко обсуждал античные сюжеты). Учтем, что философы подчас строят свои
концепции так, будто все предшествовавшие авторы говорили их устами, и Фуко
тут не единственный.
2 Dreyfus H.L., Rabinow Р. Habermas et Foucault: Qu'est-ce que Г âge d'homme? //
Michel Foucault: Du monde entier. Paris, 1986. P. 867-869.
140 Познание и перевод. Опыты Философии языка
в том, чтобы стойко смотреть в лицо распадающемуся порядку.
Так делали софисты, гностики, стоики, так делал и Кант.
Современный этос для Фуко также именно в этой способности
встретить кризис трезво и взвешенно, искать новые способы
действия, даже не будучи уверенным, что найдешь нечто
спасительно новое.
Существенные пояснения такого поворота интересов и
тематики дало нам некогда эпохальное интервью 25 апреля 1984 г.
с Алессандро Фонтана, опубликованное под заглавием
«Превратить жизнь в произведение искусства. Новая мораль по Мишелю
Фуко - на античный манер». Это интервью уточняет для нас, что
же, собственно, сам Фуко считал существенным при
перебрасывании столь длинного моста между античностью и
современностью1. Ясно, что античная этика, взятая в целом, для нас
неприемлема, но существенный момент этой этики — а именно этика как
эстетика существования (сообразно с критериями античной кал-
локагатии) - может быть использован и современным человеком
в его жизнестроительстве. Фуко неоднократно высказывал мысль
о том, что начиная с античности происходит разделение морали
на ту, что повернута прежде всего к законам и установлениям,
и ту, что повернута прежде всего к практической этике2. Не
проводя этого разделения слишком жестко (ибо, скажем, и в
христианской морали, где, наряду с идеей подчинения божественной
воле, зафиксированной в писании, и жестким кодексом моральных
правил, имели место и более свободные практики
существования), Фуко все же настаивает, что именно в античности мораль -
это прежде всего жизненный стиль, практика, свобода, так как
она не регламентирована универсальными установлениями и
общезначимыми правилами. Нормы, конечно, существуют и здесь,
но воля морального субъекта направлена прежде всего на поиск
индивидуальной этики существования, на построение достойной
жизни свободным усилием. Античность интересна Фуко потому,
что в наши дни, подчеркивает он, идея морали как подчинения
заранее заданному кодексу правил «исчезает или даже уже
исчезла»3. На это отсутствие морали и призвана ответить эстетика
существования. Наше историческое исследование, продолжил Фуко
свою мысль, нужно не для того, чтобы разъяснять людям, что
1 Foucault M. Une esthétique de l'existence: Entretien avec A. Fontana // Monde.
1984. 15-16 juil. P. XI.
2 DeleuzeJ. Foucault. Paris, 1986. P. 110; Dreyfus H.L., Rabinow P. Michel Foucault:
Beyond Structuralism and Hermeneutics. Brighton, 1983. P. 302-304.
3 Foucault M. Une esthétique de l'existence: Entretien avec A. Fontana // Monde.
Paris, 1984. 15-16 juil. P. XI.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 141
именно они должны делать, как именно они должны мыслить,
но для того, чтобы, показав набор существующих в данный
исторический период форм принуждения, дать людям возможность
самоопределиться на основе знания, сделать осмысленный выбор
собственного существования. Субъект создается не только
практиками подчинения, как можно было бы заключить из «Надзора
и наказания» или первого тома «Истории сексуальности», он
создается также, добавляет Фуко нечто сакраментальное, и
практиками освобождения. Опыт античности, где подобные практики
строились на основе стилистических канонов, эстетических в
широком смысле критериев, может, следовательно, ему пригодиться.
Как видится такой сдвиг позиций, при котором происходит
реконфигурация проблем в рамках иных философских контекстов?
Среди работ эмпирико-аналитического направления
выделялись - и до сих пор не потеряли своего значения и часто
цитируются — работы Я. Хэкинга1 и Дж. Рейчмена2, на которых поэтому
целесообразно остановиться подробнее. При восприятии
концепции Фуко в рамках позитивистской и постпозитивистской
традиции, считает Хэкинг, возникают две главные области
«иррациональности» и соответственно — причины непонимания фокуса,
цели, объекта исследований Фуко. Первая — там, где Фуко
работает с «неразвитыми» науками, находящимися ниже порога
научности, характерного для естественных наук. Области,
исследуемые Фуко, предполагают другую организацию знания, вводят
качественно иные единицы анализа (это не гипотетико-дедуктив-
ная проверка, которая сохраняется в постпозитивизме, несмотря
на все ее модификации, но система познавательных
возможностей, подлежащая оценке по значимости, по интенсивности ее
принятия или отвержения и пр.). Тут Хэкинг оттеняет позицию
Фуко на фоне парадигматического функционирования науки по
Куну. Соответственно, проблема
соизмеримости-несоизмеримости здесь уже не может ставиться применительно к отдельным
теориям или группам теорий, но лишь применительно к целым
комплексам мыслительных альтернатив.
Вторая область «иррациональности» возникает из-за того, что
Фуко «неоправданно» вводит в анализ этическую проблему
свободы. Этот довод в контексте нашего рассмотрения особенно важен.
По сути, мы имеем здесь дело с различными модальностями
современного восприятия и истолкования классического философского
(и прежде всего — кантовского) наследия. Если аналитико-эмпи-
1 HackingI. Michel Foucaul's Immature Science // Nous. Bloomington, 1979. Vol. 13.
№ 1. P. 39-51.
2 Rajchman J. Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. N.Y., 1985.
142 Познание и перевод. Опыты ФилососЬии языка
рическая традиция блюдет эпистемологический пафос
кантианства, но жертвует при этом этическими сюжетами, неспособными
стать полноценным объектом исследования, удовлетворяющего
строгим (или модифицированным) эмпирическим критериям,
то Фуко сохраняет обе эти модальности кантовского
рассуждения — эпистемологическую и этическую. Фактически можно даже
сказать, что Фуко изобретает новую форму посткантианской
философии познания: подход Фуко скорее критический, нежели
обосновывающий, он представляет собой одновременно и этику,
и эпистемологию, что позволяет ему поставить проблему свободы,
учитывая включенность субъекта в те сферы, где конституируется
знание. Вывод такой: Фуко - «наипарадоксальнейший кантианец,
ухитрившийся прослыть иррационалистом»1.
Фуко не ставит вопроса об опыте вообще, а значит (в отличие
от современных немецких неотрансценденталистов, с которыми
он разделяет общие критические устремления) не ставит и
трансцендентального вопроса как такового. Однако Фуко говорит
о снятии «самоочевидностей» наличного опыта: он скептически
относится к «посткантианским» догмам универсальной
значимости и субстанциональной антропологической обоснованности
опыта; пафос Фуко — в утверждении таких форм опыта, которые
позволяют открывать новые возможности мысли и действия.
Таким образом, в основе скептицизма Фуко как раз и лежит
принцип свободы2. В истолковании Фуко, свобода не связана с
трансцендентальной природой человека как антропологического
существа: она заключена в его способности проблематизировать
границы любого наличного опыта, оспаривать и изменять
анонимные практики. Такая «реальная» свобода в философии Фуко
«ни прескриптивна, ни чисто дескриптивна; это случай, искра,
вызов, это риск, ибо она не гарантирована, не имеет заранее
заданных опор и обоснований и всегда остается незавершенной»3.
Вводимые Фуко понятия свободы, этики, философского этоса
имеют и более четкую локализацию во французском
философском поле. Свобода - понятие, которое, по общему признанию
французских исследователей этой проблемы, сделал центром фи-
1 Ibid. Р. 104.
2 Симптоматично, считает Рейчмен, что Фуко столь большое внимание уделяет
модернистской литературе и искусству с характерным для них нарушением всех
пределов и границ общепринятого языкового опыта: авангардистское искусство
располагает средствами проникновения в такие глубины и истоки опыта, которых
иначе можно достичь лишь ценой безумия. В этом смысле искусство становится
фундаментом превзойдения границ во всех других сферах человеческого опыта.
3 Rajchman J. Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. P. 123.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: ♦диагностика настоящего» 143
лософского размышления Ж.-П. Сартр. В ненаписанной Сартром
экзистенциалистской этике свобода — это одно из главных
определений человеческого бытия, спонтанный, ничем не
обоснованный и не гарантированный акт, человеческая значимость
которого не обусловлена ничем ни в познании, ни в реальных
детерминациях жизни индивида. Фуко трактует свободу не так,
как западногерманские неомарксисты, но и не так, как Сартр.
«Свобода для Фуко это не освобождение — процесс, который
имеет свой конец. Свобода это и не свойство, принадлежность
каждого отдельного индивида. Скорее, это движущая сила и принцип
скептицизма Фуко: бесконечное вопрошание
конституированного опыта. Опираясь на исторический анализ нового типа, Фуко
заново изобретает скептицизм нашего времени. Этот современный
скептицизм и есть вопрос о нашей свободе»1. Различия подходов
к свободе и вообще взаимоотношения Фуко с Сартром — это
взаимоотношения не отдельных мыслителей, а целых философских
тенденций. По свидетельствам С. де Бовуар и Ж. Коломбель, Фуко
и Сартра, совместно участвовавших в 1970-е годы во многих
социальных акциях, связывали дружеские отношения. Вряд ли можно
сказать, что Фуко «занял место» Сартра или стал «Сартром своего
поколения» т. е. воплощением ангажированного, честного и
способного на открытый протест интеллектуала: место Сартра так
и осталось незанятым, да и место Фуко может быть «занято»
только огромной коллективной работой2, однако некоторое сближение
позиций Фуко и Сартра в последние годы — важное свидетельство,
причем что свобода у Фуко совсем не экзистенциалистская,
не безотносительная к знанию, ибо для него практическая этика -
спектр и возможности осмысленного выбора - во многом
обусловлена рефлексией, историческими исследованиями.
На фоне этих обобщающих свидетельств легче понять внешне
фрагментарную, но, по сути, достаточно стройную конфигурацию
поля откликов на концепцию Фуко. Так, М. Гейн, например,
называл трактовку человека у Фуко одновременно
«антигуманистической и антиструктуралистской»3. Казалось бы, одно должно
исключать другое, однако в этом противоречии фиксируется
дилемма новой аналитики субъективности. То же самое
противоречие фактически отмечали Л. Ферри и А. Рено: противоречие
между ранним «антигуманизмом» и поздним поворотом Фуко
к человеку снимается различением этики субъекта и этики инди-
1 Ibid. Р. 7.
2 Maggiori R. Sartre et Foucault // Libération. 1984. 30 juin-1 juil. P. 24.
3 Towards a Critique of Foucault / Ed. by Gane M. N.Y., 1986. P. 8.
144 Познание и перевод. Опыты Философии языка
вида, в свете которой этика позднего Фуко — это бессубъектная
(не апеллирующая к трансцендентальной субъективности) этика
индивида1. О неясности гуманистического проекта Фуко и
необходимости поиска новых его истолкований (отказе от «экс-
планаторного» эссенциального гуманизма в пользу
«эпистемологического» гуманизма как философского самоосмысления
гуманитарных наук) писал Р. Пейден в статье «Антигуманизм
Фуко»2. Удачно резюмировал эту специфику позиции Фуко
известный американский культуролог Клиффорд Гирц3: с его точки
зрения, Фуко — это немыслимый, «невозможный объект:
неисторический историк, антигуманистический гуманитарий и противо-
структуралистский структуралист».
Эта мировоззренческая контроверза отчасти проясняет другой
слой полемики, который затрагивает прежде всего принципы
построения знания. Что у Фуко важнее: статика или динамика,
структура или событие, «нормальная наука» или взрывы и сломы
и т. д. и т. п.? И вообще можно ли ответить на этот вопрос в общей
форме, предпочитает ли он статические конфигурации,
образованные отношениями принуждений и дисциплинирующих
стратегий власти, или, напротив, моменты сопротивления и
изменения? Одни полагали, что концепция Фуко — это апология
«нормальной науки»4, описывающей даже такие трудно
концептуализируемые явления, как, скажем, душевная болезнь, на языке
«здравомыслящего представителя западной цивилизации,
присоединяющегося к традиции рациональной учености»5. Другие,
напротив, были склонны видеть в концепции Фуко прежде всего
«экстатическую, катаклизматическую» мысль, пересекающую
любые установленные границы6, работающую «на пределах»7, возве-
1 Ferry L, Renault Л. La pensée 68 et «Panti-humanisme contemporain». Paris, 1985.
P. 156-161.
2 Paden R. Foucault's Antihumanism // Foucault Memorial Issue. Dordrecht etc.,
1987. P. 123-141.
3 Это отмечают, в частности, X. Дрейфус и П. Рэбиноу.
4 Hacking I. Michel Foucaul's Immature Science // Nous. Bloomington, 1979. Vol. 13.
№ LP. 39-51.
5 Brown P.L. Epistemology and Method: Althusser, Foucault, Derrida // Cultural
Hermeneutics. Boston, 1975. Vol. 2. P. 158.
6 Miklenitsch W. La pensée de l'épicentration // Michel Foucault: Du monde entier.
Paris, 1986. P. 824.
7 Moore M.С. Ethical Discourse and Foucault's Conception of Ethics // Foucault
Memorial Issue. Dordrecht etc., 1987. P. 94.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 145
личивающую случайность, событие, изменение1, искали в ней не
объективное знание, но активацию чувства человеческого
сострадания к себе подобным и усиление взаимопонимания
посредством гуманитарного познания (в такой интенции Р. Рорти видит
общность между Фуко и Дьюи)2.
Разноголосица мнений и оценок не затухает и в XXI веке:
дискуссии идут по любому фрагменту его наследия в зависимости от
интереса исследователя. Англоязычные философы-аналитики
говорили: хорошо, что Фуко любил Кавайеса, этого философа-
позитивиста, но как же можно было при этом помещать
позитивизм и феноменологию в одну общую эпистему, как можно было
отождествлять их на уровне исторических условий возможности
мысли? Американцы подгоняли Фуко под свою идеологию -
поиска идентичности человеческими меньшинствами — которой
у него, вопреки всем возможным видимостям, никогда не было.
В. Декомб (а вслед за ним также Рорти3, Бувресс4 и др.) некогда
провел различительную черту между американским Фуко и
французским Фуко. Американский Фуко в общем напоминает
модернизированного Дьюи, только без ницшеанства, а французский
Фуко, напротив, — ницшеанец с головы до ног. Американский
Фуко - либерал, которому близки такие понятия, как
объективность или рациональность, при условии, что они не притязают на
универсальность. Французский Фуко — анархист и релятивист,
который озабочен тем, чтобы писать нечто нарушающее любые
каноны, но равнодушен к тому, понимают ли сограждане его
идеи и его диагнозы, подчас близки к тому, что Хайдеггер
называл современным нигилизмом. В современной ситуации, когда
без поиска согласий и конвенций мир рушится, философское
диссидентство Фуко выглядит архаично, однако его иронии по
поводу нынешних интеллектуалов и его яркого письма нам явно
не хватает, так что, считает Бувресс, давайте читать и
перечитывать Фуко.
1 Foucault M. Foucault, passe-frontières de la philosophie (inédit): Entretien avec Droit
R.-P. // Monde. Paris, 1986. 6 sept. P. 12; Sheridan A. Michel Foucault: The Will to
Truth. London, N.Y., 1980.
2 Rorty R. Méthode: science sociale et espoir social // Michel Foucault: Du monde
entier. Paris, 1986. P. 873-897.
3 Rorty R. Moral Identity and Private Autonomy: the Case of Foucault // Essays on
Heideggerand Others. Philosophical Papers, vol. 2, 1991.
4 Bouveresse J. L'objectivité, la connaissance et le pouvoir // L'infréquentable Michel
Foucault. Renouveaux de la pensée critique / Sous la dir. de D. Eribon // Actes du
Colloque au Centre Georges-Pompidou, 21-22 juin 2000. Paris, 2000. P. 133-145.
146 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Идейная эволюция Фуко включает в себя, таким образом, три
главных этапа: 1960-е годы - «археология знания», 1970-е —
«генеалогия власти», 1980-е — «эстетика существования». Фуко
весьма последователен в развертывании своей идейной программы,
а потому по его концептуальной эволюции вполне можно судить
и о некоторых общих тенденциях европейского сознания
последнего времени. Образ этой объемлющей любую частную мысль
эволюции в принципе таков: «чистая» эпистемология уходит в
социологию познания, а социология, в свою очередь, — в персоно-
логически окрашенную и онтологически ориентированную
проблематику. На примере различных философских школ -
позитивистских, неокантианских, феноменологических - мы
видим, как «чистая мысль» уступает место анализу социальных
и культурных изменений познания, как граница между
познавательным и социальным постепенно размывается, как
устанавливается — чем дальше, тем больше — примат онтологической
проблематики. Обычно сама эта динамика производит настолько
сильное впечатление на исследователей, что они теряют из виду
познавательные, когнитивные аспекты той особой онтологии,
которую Фуко называет рядом близких терминов — «онтология
настоящего», «онтология нас самих», «онтология актуальности».
По поводу этой новой онтологической терминологии,
сменившей эпистемологическую и политическую, тоже было немало
споров. Кто-то радовался: наконец-то философ и бунтарь
вписался в свой онтологический поворот. Кто-то сомневался: да нет же,
эти разговоры об онтологии совсем не подходят к призывам Фуко
действовать и думать «иначе» (autrement) - ведь онтология, волей-
неволей, вводит момент судьбы, чуждый истории настоящего.
Кстати, что это вообще значит — быть в истории? В какой
истории - истории как памяти, истории как тексте, истории, которая
превращается в архив? Можно ли сказать, что Фуко строит
историю, чтобы ее изменить, как это было у Маркса (например, изучая
душевную болезнь, включает это изучение в программу
изменения мира)? Или же эта история не предполагает никаких
преобразующих задач? Быть может, «онтология нас самих» и есть то
место, где история событий и история как исследование сходятся,
а потому и становится возможной «диагностика настоящего»? Как
уже упоминалось, в 1960-е годы Фуко наделял способностью к
диагностике настоящего именно структурализм — в том его
обобщенном виде, в каком он представал как структурализм
философский. Сохраняя общую познавательную установку, поздний
Фуко видит ее воплощение уже не в «анонимной мысли», но в так
или иначе индивидуализированной этико-познавательной
инстанции.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: ♦диагностика настоящего» 147
Прояснить проблемы этого сдвига, этого последнего
самоперевода, осуществленного Фуко, помогает одна из последних его
работ — отклик на статью Канта «Что есть Просвещение?»1. Этот
текст - не довесок к ранее сделанному, но интенсивная
внутренняя перекличка с более ранними тезисами. И прежде всего — с
казалось бы давно забытой книгой «Слова и вещи», когда-то мощно
поставившей некий антрополого-эпистемологический вопрос,
или, иначе - вопрос о возможности познания человека в
исторических конфигурациях знания. Пожалуй, само наличие этой
напряженной переклички в данном случае опровергает тезис о
переводе одной проблематики в другую, по крайней мере, это значит,
что такой перевод осуществляется лишь отчасти, что прежние
концептуализации не растворяются целиком в новой
проблематике. Фактически в этой работе о Просвещении, которая
фактически стала его духовным завещанием, Фуко вновь ставит свои
вопросы, перекликающиеся с той проблематикой 1960-х, которая
отошла в тень в период «власти-знания» 1970-х.
Вопрос, который некогда ставил Кант в своей статье «Что такое
Просвещение?» соответствует широкой просвещенческой
трактовке проблемы человеческой зрелости. Зрелость - это
способность недогматической самостоятельности суждений. А в целом
Просвещение - это «выход человека из состояния своего
несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине»2,
обретение способности пользоваться собственным рассудком без
руководства со стороны кого-то другого. Фуко спрашивает: что
значит у Канта это слово «выход» - свершившийся факт, текущий
процесс, задание, обязанность? По сути, мы не знаем, станем ли
когда-нибудь совершеннолетними, так что выход из
несовершеннолетия - это, прежде всего, установка, погруженная в
познавательные практики. Причем реализуется она, напоминает нам
Фуко, не в призывах и порывах, но прежде всего в «разнообразных
исследованиях»3. Наше нынешнее отношение к Просвещению
1 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? (1784) // Кант И.
Сочинения в 6 т. Т. 6. М., 1966. С. 25-36. Foucault M. Qu'est-ce les Lumières? //
Foucault M. Dits et Ecrits (1954-1988)/Sous la dir. de D. DefertetF. Ewald avec la
collaboration de J. Lagrange. Vol. IV. Paris, 1994. P. 562-578.
2 Кант И. Ответ на вопрос: Что такое Просвещение? С. 27.
3 Более того: эти исследования (enquêtes diverses, enquêtes historiques) должны
иметь методологическую, теоретическую и практическую внятность и связность.
См.: Foucault M. Qu'est-ce les Lumières? // Foucault M. Dits et écrits. T. IV (далее
постраничные ссылки даются на это издание - НА.) Фуко четко формулирует
методические и методологические установки реализации просвещенческого этоса:
для этого требуется «перевести философскую установку в разнообразные
конкретные исследования» (Р. 577), провести «насколько возможно тщательные историче-
148 Познание и перевод. Опыты (ЬилососЬии языка
требует «терпеливого труда, придающего форму нетерпению
свободы»1.
Как известно, для Канта главной опасностью на пути человека
к Просвещению был «догматизм». Для Фуко главной опасностью
для человека (по крайней мере, в «Словах и вещах») было
названо то, что погружает его мысль в «антропологический сон»2 -
иначе говоря, сковывает ее той формой догматизма, преодоление
которой представлялось Фуко наиболее актуальным в идейных
битвах 1960-х годов. Однако этот вопрос о догматизме и
«антропологическом сне» не остался в прошлом. В работе Фуко о кан-
товской трактовке Просвещения в центр внимания встают
современные формы догматизма — фактически это те призраки
гуманизма, с которыми он вновь ведет войну. Это они мешают
человеку достичь зрелости, приобрести способность суждения
или, словами Фуко начала 1980-х годов, встать в «рефлексивное
отношение к настоящему». А потому насущным делом
становится предельно четкое разведение Просвещения и гуманизма,
которые, сетует Фуко, слишком часто смешиваются. При этом
опасность нынешних форм гуманизма Фуко видит уже не в их
субстанциональной внеисторичности, как в 1960-е годы,
но прежде всего в их гибкости и изворотливости, в их готовности
в любой момент переопределиться, подстроиться под
обстоятельства (сколько взаимоисключающих видов гуманизма мы уже
видели: опора на науку сменялась в них отрицанием науки, опора
на религию - отрицанием религии и т. д.). Гуманизм как
идеология оказывается слишком гибким и неуловимым, чтобы стать
опорой для мысли или, точнее, «стать осью рефлексии»^. Так как
суть просвещенческой зрелости, напомним, — «рефлексивное
отношение к настоящему», то это означает, что протеиформный
гуманизм для рефлексивной позиции не годится. (Здесь
обнаруживается интересный поворот мысли: в известном смысле можно
сказать, что современный взгляд на проблему Просвещения ви-
ские исследования» (Р. 572), «открыть поле исторических исследований» (Р. 574)
и др. Лишь предприняв предельно широкие и тщательные исторические
исследования и одновременно подвергнув себя испытанию реальностью и актуальностью,
субъект может стать автономным. Таким образом, и для «позднего» Фуко этика не
живет без эпистемологии: «нетерпение свободы» немыслимо и нереализуемо без
постоянного исследовательского труда...
1 Ibidem. Р. 578. Таким образом, свобода - это не пустой сон, а истори
ко-критическая установка - одновременно и исследовательская, и экспериментальная.
2 Фуко М. Слова и вещи. С. 436. Современный сон философии - не сон
догматизма, а сон антропологии.
Foucault M. Qu'est-ce les Lumières? P. 573.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 149
дит в опасности догматизма и в опасности релятивизма две
стороны одной медали).
А потому обращение к Просвещению, в любом случае, — это не
догматизм прошлого и не релятивизм настоящего, но скорее
обращение к собственному настоящему через историю. При этом вряд
ли можно сказать, что Фуко дает адекватное описание кантовской
трактовки Просвещения. Важнее другое: его работа подтверждает
свою связь с тремя кантовскими критиками как способами
установления условий законного применения разума и одновременно
требует переосмысления самой модальности критической мысли.
Если у Канта критика заключалась в выяснении границ, за
которые познание не должно выходить, то Фуко преобразует
критический вопрос в позитивный. Вопрос не в том, чего нельзя
преодолеть, но в том, что преодолеть можно (и должно). Только для этого
нужно учесть (в этом помогут тщательные эмпирические
исследования и неизменная «рефлексивная установка») - долю
единичного и случайного (а потому и преодолимого) в том, что нам дано
как всеобщее и необходимое1. И это, заметим, — вполне трезвое
и внятное переосмысление трансцендентальной проблемы в свете
современного опыта. Что же касается «постмодернизма» (или
после-современности), то о ней Фуко специально не задумывается:
ему хватает дел с современностью, которая выступает не как
исторический этап, но опять-таки как определенная установка: она не
освобождает человека от заботы о себе, но принуждает заняться
собой — неустанно культивировать и обрабатывать самого себя.
Таким образом, в этом тексте мы вновь слышим отзвуки не
завершенных, но оборванных идейных споров — о структуре и
свободе, о системе и смысле, о структуре и истории, о человеке и
системе и пр. И Фуко, несмотря на все происшедшие идейные
сдвиги и пересмотры, в конце жизни вновь подтверждает свои
позиции. В самом деле, к кому обращены слова о «терпеливом труде,
придающем форму нетерпению свободы»? По-видимому, опять
к Сартру, с которым он никогда не переставал спорить.
Нетерпение, страсть к глобальным политическим переломам выпускают
на свободу худшие тенденции человеческой истории, а потому
нам не стоит торопиться. А как же быть со структурами, которые
обрушатся на голову человеку, если он откажется от (
перманентной) революционности? Фуко как бы все время отвечает
невидимому критику: отказ от политиканства не означает допущения
недопустимого (intolerable). А чтобы не попасть в плен структурам,
нужно неустанно трудиться, возделывать себя и изучать историю.
Но в этом исследовательском труде просто обязана быть своя «си-
Ibidem. Р. 576.
150 Познание и перевод. Опыты Философии языка
стемность», своя «гомогенность» и своя «общность», — настаивает
Фуко, словно пишет не только новую этику, но и новый «трактат
о методе». Системность есть не что иное как связь субъекта
познающего, субъекта, осуществляющего (или претерпевающего)
отношения власти, и субъекта этического1. Общность есть то, что
выявляется анализом исторической повторяемости определенных
отношений и ансамблей отношений (в таких областях, как разум
и безумие, преступление и закон, болезнь и здоровье,
сексуальность и др.). Гомогенность есть соизмеримость элементов
познавательного опыта на дискурсном уровне. Эти обстоятельные
рецепты плодотворной исследовательской работы позволяют
предположить, что, вопреки всем внешним карнавалам и «сменам
масок», именно «терпеливый труд» и был для Фуко самой
любимой игрой — с самим собой, с другими, с миром, ведь игры
познания — неисчерпаемы, не ограничены самостью, они постоянно
подпитываются исследуемым предметом (он никогда не был у
Фуко чистой конструкцией) и всей сетью отношений, в которую он
включен. Таков он — отзвук былой «страсти к системе»,
характерной для целого поколения2.
Сам Фуко определил свой проект (под вымышленным
именем - в известном «Словаре философов» Д. Юисмана3 достаточно
традиционно и вполне по-кантовски: это - «критический метод
исторического исследования» или «критическая история мысли»,
причем «мысль» трактуется широко: как «акт, полагающий
субъект и объект в многообразии их возможных отношений»4. Его
целью был анализ конкретных обстоятельств, формирующих или
изменяющих отношения субъекта к объекту как основу всякого
возможного знания. Фуко был человеком, в котором было много
разного, сложные скрещения и миграции интересов. Как мы
видели, в 1960-е годы он ярче всех подчеркнул философскую
значимость неантропоморфного, можно сказать, структуралистского,
знания («археология знания»); в 1970-е годы наиболее трезво
показал момент сформированности мысли и действия социальными
техниками («генеалогия власти-знания»), а в 1980-е годы, когда во
французской мысли наметился новый этический поворот, вернул
на философскую сцену морального субъекта - человека другой
1 Ibidem. Р. 576.
2 В конце концов Фуко перестает пользоваться своими любимыми терминами
«археология» и «генеалогия», он уже достаточно утвердил специфику своего
подхода и потому спокойно и без обиняков пишет - история, исторический.
3 Dictionnaire des philosophes / Dir. D. Huisman. A-J. Paris, 1984. P. 941-944.
Ibidem. P. 942.
Раздел первый. Познание и язык. Глава вторая. Фуко: »диагностика настоящего» 151
эпохи, занятого «самоформированием» и самоопределением
(«эстетика существования»). Однако на протяжении тридцати лет его
исследовательского пути ему не было равных в способности
строить свою философскую «диагностику настоящего», блистательно
улавливая смысл главного социально-философского вызова,
остро реагируя на него и побуждая читателя принять жизненный
и исследовательский вызов.
И последнее, вместо эпилога. Деррида, всего четырьмя годами
младший, был учеником Фуко в Высшей нормальной школе.
В дальнейшем их резко развела полемика о Декарте, о разуме и
безумии, о самой возможности написать «историю безумия».
Но в конце их вновь объединила общая отсылка: в своей речи на
праздновании 20-летия Международного философского
коллежа1, за год до смерти, Деррида обратился к той же теме, которая
волновала Фуко, — к Канту и Просвещению. А затем как раз и
выступил с переоценкой ушедших 1960-х, слишком быстро
пролетевших2, называя Фуко в числе самых значимых своих
собеседников. Последуем же призыву Деррида, не пожалеем сил, чтобы
вернуть в нынешнюю эпоху тех замечательных собеседников,
разговор с которыми мы продолжаем.
1 Derrida J., Nancy J.-L. Ouverture // Rue Descartes. Les 20 ans du Collège
international de philosophie. Paris, 2004. № 45. P. 26.
2 «Речь идет о досрочно закруглившейся эпохе, а не только о той или иной
личности. Необходимо спасти эту эпоху, любой ценой добиться ее возрождения. Эта
ответственность не терпит отлагательств: она призывает к непреклонной борьбе с до-
ксой, с теми, кого сейчас называют «интеллектуалами при СМИ», с теми, чьи речи
заранее отформатированы под шаблон, с теми, кто господствует над средствами
массовой информации, в свою очередь подвластными политико-экономическим,
а также нередко издательским и академическим лобби». Затем: «Различия и споры
бушевали в этой среде, которая была какой угодно, но только не однородной,
не такой, которую можно было бы обобщить идиотским лозунгом "мысль 68"»;
и наконец: «Что касается меня, то я и сейчас продолжаю спор, например, с Бурдье,
Лаканом, Делёзом, Фуко: они по-прежнему интересуют меня гораздо больше,
нежели те, на кого работает пресс прессы...» // Деррида Ж. Наконец-то научиться
жить (последнее интервью Жака Деррида) // Вопросы философии. 2005. № 4.
С. 133-144.
Глава третья
Деррида: «необходимое и невозможное»!
§ 1. Вавилон и деконструкция
Спрашивается: «на каком языке конструировалась и де-
конструировалась Вавилонская башня»?2. На языке,
внутри которого собственное имя «Вавилон» могло, в силу
некоей путаницы, быть переведено как «смешение»
(точнее - как то, что мы переводим как «смешение»).
Деррида вспоминает о вольтеровской иронии по этому поводу: почему
в книге бытия Вавилон (Babel) означает смешение: ведь Ва это
значит отец, a Bel - град Божий3? То ли потому, что, возведя свое
строение, строители пришли в замешательство, то ли потому, что
смешались их языки? Бог как отец города аннулирует языковый дар
понимания, в результате чего возникает множество наречий, тогда
как до «Вавилонской деконструкции» великая семитская семья
жаждала универсальности своей империи и своего языка.
Происходит рассеивание потомков Симовых и деконструкция башни как
универсального языка... Все это «сразу и навязывает, и запрещает
перевод»4, принуждает к нему и обрекает наши усилия на провал.
Именно с тех пор перевод становится «необходимым и
невозможным». «История эта рассказывает среди прочего об источнике
смешения языков, о неустранимой и невозможной задаче перевода, его
необходимости как невозможности»5.
1 Необходимое и невозможное - это перевод после разрушения Вавилонской
башни. Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен / Пер. B.E. Лапицкого. СПб., 2002.
С. 19. (Обратим внимание на то, что речь здесь идет о башнях во множественном
числе.) Ср.: Les tours de Babel. Essais sur la traduction ( Berman Α., Granel G.,
Jaulin Α., Mailhos G., Meschonnic H.). Mauzevin, 1985.
2 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 10.
3 Там же. СП. Комментарий В. Лапицкого: это «ошибочная этимология,
возводящая слово Вавилон (Babel) к глаголу balai - (смешивать, спутывать) вместо
правильного - Bab-El (врата Бога)». Там же. С. 80.
4 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 17.
5 Там же. С. 19.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 153
А что есть перевод? Деррида, как и все мы, обращается по
этому поводу к известной классификации Романа Якобсона:
существует внутриязыковый перевод (переименование), существует
межсемиотический перевод и, наконец, перевод между двумя
языками, или «собственно перевод». Иногда нам кажется, что
с «собственно переводом» нам все ясно, но это далеко не так. Ведь
даже с одним-единственным именем, таким как Вавилон, у нас
сразу возникают проблемы: мы не знаем, принадлежит ли оно
одному языку или нет, и попадаем в область некой неразрешимости.
Бог предлагает семитам свое имя «Яхве» (одновременно и
собственное, и нарицательное), налагая запрет на их стремление к
универсальной империи и универсальному языку. Тем самым он
подчиняет их «закону необходимого и невозможного перевода, одним
махом, своим собственным — переводимо-непереводимым —
именем он высвободил универсальный разум (который уже не будет
подчиняться империи какой-то частной нации), но одновременно
и ограничил саму эту универсальность: прозрачность запретна,
однозначность невозможна. Перевод становится законом,
обязанностью и долгом, но с долгами уже не расквитаться. Подобная
несостоятельность оказывается помещенной в самом имени
Вавилона - которое сразу и переводится, и не переводится,
принадлежит, не принадлежа, к языку и влезает к самому себе в
неоплатный долг, к самому себе как другому. Вот в чем, вероятно,
вавилонское действие»1.
Этот архетипический и аллегорический сюжет вводит в любую
проблематику теории перевода. Произнося слово «Вавилон», мы
всегда подразумеваем неадекватность одного языка другому и
неадекватность языка самому себе. Вавилон выступает как образ
неустранимой множественности, невозможности завершить
систему и конструкцию. В свою очередь, эта множественность
одновременно и ограничивает возможность «верного» перевода, и
требует постоянно возобновляемого усилия. Перевод как нечто
«необходимое и невозможное» — так формулирует Деррида
апорию перевода в своей работе «Вокруг Вавилонских башен».
Под сенью этого рассказа случаются все наши индивидуальные
опыты, связанные с языком, так или иначе воспроизводящие
и эту необходимость, и эту невозможность перевода.
Деррида многократно признается: тот единственный язык,
на котором я говорю, который культивирую, обрабатываю, в
котором живу, более того, — в который я замкнут как солипсист
в свой кокон, - не мой язык (созвучие с немотой тут приходит от
русского языка и во французском не подразумевается). При этом,
Там же. С. 24—25.
154 Познание и перевод. Опыты Философии языка
уточняет Деррида, говоря «не мой», я вовсе не говорю «чужой»1.
Это язык Другого, скажет он позже. Правда, тут немедленно
возникает некое «перформативное противоречие»: я изъясняюсь на
этом языке настолько хорошо, что никто не заподозрит во мне
«трудящегося-иммигранта» или «получившего убежище» в стране
этого языка. Таким образом, если я, хорошо говорящий
по-французски, говорю, что это не мой язык, это напоминает парадокс
лжеца: то, чтО я говорю о языке, на котором я говорю, есть ложь,
потому что демонстрируемый при этом способ моего владения
этим языком перформативно опровергает сказанное.
Если ввести этот опыт в форму мысли, получится
свидетельство, разорванное противоречием: 1) я говорю лишь на одном
языке и 2) я никогда не говорю на одном языке: и прежде всего
потому, что не существует таких чистых наречий или «идиом»,
которые представляли бы собой один-единственный язык. По
рождению я - франкоязычный франко-магрибец (и все это - потому,
что декретом Кремьё 1870-го г. алжирским евреям была дана
французская национальность, которая потом была временно
отнята правительством Виши в период оккупационного режима,
и это жестко коснулось Деррида, изгнанного из школы). Люди,
говорящие по-французски, живут и в других местах - в Канаде,
в Бельгии, в Северной Африке. Но не только они, никто вообще
не живет и не находится в одном-единственном языке. И философ
обязан это понять: ведь всякая философия — полиглот и потому
всякая философия - переводчик; она говорит на многих языках,
она имеет способность к изучению чужих языков, все
философские тексты пронизаны другими текстами. И вообще, в любом
языке, уже предназначенном для перевода, уже находящемся в
ситуации перевода, не может быть «собственности» как единолично
присущего или же подлежащего изъятию. А потому все наши
призывы к эмансипации, революции в языке и посредством языка
оказываются неосуществимыми. Вместе с тем оказывается, что
в языке никто себе не тождествен: каждый находится в процессе
обретения идентичности, который в принципе никогда не
завершается. Так что судьба человека, единственный язык которого -
не его язык, не уникальна. В некоем парадоксальном смысле это
судьба всех людей. В рамках «метафизического кода», говорит
Деррида, нахождение в языке — это некое изначальное
отчуждение, а к тому же язык (как нечто цельное и единственное) вообще
1 Derrida J. Le monolinguisme de l'autre. Paris, 1996. Седьмая глава книги, в
которой как раз и обсуждаются эти проблемы, опубликована в моем переводе в
приложении к кн.: Автономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М.: 2011.
С. 445-471.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: ♦необходимое и невозможное» 155
не существует: в нем всегда есть вкрапления, прививки,
заимствования, протезы, подмены.
Иначе говоря, в функционировании языка всегда
присутствует перевод, который занимает особое место среди всех других
проявлений «несамотождественности» языков. Перевод сразу
помещает нас в ситуацию множественности языков и нечеткости,
нечистоты всех границ — между языками, наречиями, идиомами.
Переживание личной судьбы в языке и языках неизбежно
обращает нас к архетипическим и аллегорическим сюжетам,
объединяющим нас под сенью общезначимого. Архетипом, вводящим
в проблематику теории перевода, выступает для философии
Вавилонская башня. О чем идет речь? Что все это значит —
спрашиваем мы себя, уже в который раз. Как быть со словом «Вавилон»,
которое является одновременно именем собственным и именем
нарицательным? Как перевести имя города, которое несет в себе
и событийно уникальное и нарицательно всеобщее? Наверное,
в подобных случаях можно лишь комментировать и разъяснять,
но не переводить.
Вопрос о переводе и непереводимости оказывается
неразрешимым: «я не думаю, что нечто когда-либо является непереводимым,
как, впрочем, и того, что нечто является переводимым»1. Но из
этого не следует, что задача перевода теряет свою настоятельность.
Деррида называет перевод «прекрасной и ужасной
ответственностью»2, «неоплатным долгом» (во французском языке долг как
долженствование и долг как материальное обязательство выражаются
разными словами — devoir и dette), он восхищается переводчиками
— «единственными, кто умеет читать и писать»3. Иначе говоря,
умеет читать и писать только тот, кто переводит.
Паралелль этим своим мыслям о необходимости и
неразрешимости переводческой задачи Деррида находит у Беньямина4.
Для них обоих, Деррида и Беньямина, в языке всегда уже есть
перевод, стало быть, перевод не вторичен, но современен оригиналу
или даже парадоксальным образом ему предшествует; в любом
случае нет оригинала, который не запрашивал бы перевода —
этого ярчайшего проявления «несамотождественности» языков. Все
эти вопросы представлены в тексте Вальтера Беньямина «Задача
1 Derrida J. Qu'est-ce qu'une traduction «relevante»// Quinzièmes assises de la
traduction littéraire (Arles 1998). Paris, 1999. P. 25.
2 Ibid. P. 21.
3 Ibid.
4 Беньямин В. Задача переводчика / Пер. с нем. Е. Павлова. Приложение //
Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 87-111.
156 Познание и перевод. Опыты Философии языка
переводчика» — вступлении к немецкому переводу «Парижских
картин» Бодлера. Перевод, по Беньямину, - обязанность, долг,
ответственность; его задача — «вернуть смысл» (Sinnwiedergabe).
Вокруг перевода клубится вся эта лексика дара и долга,
психоаналитического переноса с его противоречивыми эмоциями любви
и ненависти. Деррида читает Беньямина одновременно и в
оригинале, и в переводе (Мориса де Гандийяка), он увлекается мыслью
Беньямина, рассуждающего о возможности и невозможности
перевода, цитирует рассуждения Беньямина по поводу Малларме
и его непереводимости: «...существует философский гений, самой
характерной чертой которого является ностальгия по языку,
заявляющему о себе в переводе»1. Как возможно то возмещение
смысла, которое должно содержаться даже в самом банальном
процессе перевода?
Для Беньямина три главные формы передачи или, точнее,
возмещения смысла - это перевод (Übersetzung), перенос
(Übertragung) и пережитие (Überleben), причем этим последним термином
Деррида активно пользуется в целом ряде своих текстов2. В любом
случае речь не идет об усвоении текста переводимого в тексте
переводящем: нет между ними и отношения образа или копии.
Требование перевода существует априорно, равно как и запрос на
переводчика — того, кто обеспечивает оригиналу возможность,
превращаясь и «дозревая», жить дальше. Тем самым именно
оригинал оказывается самым первым заказчиком перевода. В
терминах Деррида этот тезис Беньямина звучит так: оригинал
выступает как должник и проситель, он фиксирует «нехватку» перевода,
мольбу о переводе, побуждающую языки к тому, что можно было
бы назвать договором о переводе. Это не тот общественный
договор, который бы заключался и осуществлялся в виду единого
языка, подавляя идею множественности перевода. Парадоксальным
образом не договор первичен по отношению к переводу, а
перевод — по отношению к договору: договор о переводе есть
априорная форма всех последующих возможных договоров. В
классической философской терминологии, напоминает Деррида, мы
назвали бы этот договор трансцендентальным и сказали бы, что
все другие договоры возможны лишь потому, что первоначально
имел место (хотя бы и условно) этот договор о самой
возможности договора и самой возможности языковой деятельности
(langage), о возможности различных языков (les langues).
1 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 28.
2 Мой вариант перевода соответствующего французского термина (sur-vivre) -
«пере-жить»: он входит в несколько иной круг лексических ассоциаций, чем
соответствующий немецкий термин.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 15 7
Если, вслед за Деррида и Беньямином, увидеть в родстве
языков аналог кантовскому возвышенному, то перевод — это аналог
нашей способности представить это родство, наша неадекватная
и несовершенная человеческая мера постижения того, что иначе
нам недоступно. Разные языки, воссоединяясь, подобно черепкам
разбитой амфоры, указывают на целое и этим указанием
порождают, высвобождают некий «чистый язык» (die reine Sprache), в
котором разные языки демонстрируют важнейшую форму своего
бытия — «бытие-к-переводу». Если в одиночестве языки
останавливаются в росте, засыхают, то при скрещивании они дают друг
другу то недостающее, что обеспечивает их взаимное возрастание
и «вечное продолжение жизни». Чистый язык есть то место, где
происходит расширение, растягивание собственных органов
разных языков, где входящие во взаимодействие языки меняются,
превращаясь в нечто более широкое и вместительное. Иначе
говоря, задача переводчика - позволить языку перевода зазвучать,
прийти в движение и преобразиться под воздействием языка
иностранного. Высвобождая нечто «необъяснимое, таинственное,
поэтическое», перевод становится оригинальным, он становится
как бы оригиналом, выступает как свойство оригиналов,
стремящихся к продолжению собственной жизни. Беньямину хочется
думать, что закон «переводимости» вне всяких исторических
доводов доказывает родство человеческих языков и преодолевает
чуждость языков друг другу, хотя окончательное ее преодоление
не в силах человеческих. Если на горизонте романтической мысли
Беньямина брезжит идея «интеграции множества языков в
единый, истинный»1, то траектория мысли Деррида идет в ином
направлении: для нее важнее не чистое и единое, но неустранимая
множественность языков.
В собственной концептуальной системе Деррида перевод
занимает не всегда заметное, но очень важное место. Так, стадией и
этапом перевода фактически оказывается и опорное для него понятие
деконструкции2, а потому этот беглый взгляд на проблему перевода
у Деррида может помочь нам войти в пространство его мысли.
§2.0 понятиях и приемах мысли
Здесь встает вопрос уже не об отношении самого Деррида к
переводу, но о переводе Деррида — но не с языка на язык, с французско-
1 Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. С. 101.
2 Самый близкий план этой темы дается в «Письме японскому другу»
{Derrida J. Lettre à un ami japonais // Psyché. Inventions de l'autre. Paris, 1987.
P. 387-394; рус. пер. A. Гараджи // Вопросы философии. 1992. № 4), где речь идет
158 Познание и перевод. Опыты Философии языка
го на русский (об этом речь пойдет в следующем разделе), но о
возможности перевода его мысли в понятия, о ее объективации...
Самому Деррида очень не хочется, чтобы его описывали «как
объект». Поэтому сам он никогда не даст разрешения на какое бы то
ни было описание собственной концепции в констатативной форме
и в третьем лице единственного числа (типа «S есть Р»). Каждое
слово, термин, понятие он обставляет бесконечными оговорками
запретительного свойства: это не понятие, не термин, не метод,
не операция, не акт... Применительно к каждому слову-понятию
Деррида фактически строит запрещение его абстрактного
использования: так, скажет он нам, метафизики «как таковой», философии
«как таковой» или скажем, деконструкции «как таковой» не бывает
(по-французски - это как бы запрет на употребление
определенного артикля, то есть во всех трех упомянутых случаях — артикля «1а»).
Должны ли мы понимать все это буквально и верить всему
сказанному на слово? Например, если Деррида где-то сказал, что он снял
оппозицию «логического» и «риторического» (или
метафорического), можно ли считать такое утверждение само собой
разумеющимся и даже не задавать себе вопроса о том, как это вообще возможно
или что стало бы с философией, если бы это действительно было
возможно? Несмотря на все вышеприведенные отрицания, мы все
же полагаем, что у Деррида есть понятия, которые совершают свою
понятийную (а не только акробатическую или танцевальную, вслед
за Ницше) работу - ничуть не хуже, чем другие философские и
нефилософские понятия. Далее, он подчеркивает особый статус тех
концептуальных единиц, которые он использует для развертывания
своей мысли. Словарь Деррида весьма обширен: это различие, раз-
личАние, след, письмо, протописьмо, разбивка, перечеркнутость
(это понятие находится в некотором особом положении среди
других: Деррида пользуется им тогда, когда он вынужден вводить
какой-либо термин традиционной метафизики, подчеркивая
одновременно его ввод и его «подвешивание»), текст, графика, грамма,
программа, грамматология, означающее, означающее означающего
и многое другое. Далее будут введены в действие две различные
стратегии. В этом параграфе (в основном — на материале
«Грамматологии», 1967) я попробую более или менее жестко
концептуализировать мысль Деррида, предлагая, вопреки его запретам, некоторые
классификации и определения, а в следующем параграфе (в
основном — на материале «Почтовой открытки», 1980) — оставить его
о переводе понятия «деконструкция» на японский язык и о тех ловушках, которые
подстерегают переводчика на этом пути. Иначе говоря, программное слово
«деконструкция» возникло при осмыслении проблем перевода и существует оно не само по
себе, но лишь в цепочке замен и разветвлений, продолжающихся от языка к языку.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 159
мысль работать на воле, извлекая пользу, подчас неожиданную,
из ее литературно-художественной раскованности. Постулируемая
Деррида неразрешимость перевода будет, таким образом, искать
разрешения, причем в обоих случаях, кажется, можно надеяться на
эпистемологически плодотворные наблюдения.
Мощно вступив на французскую философскую сцену в 1967 г.
с тремя сильными работами1, Деррида сводит воедино ряд
опорных положений структурализма и одновременно выступает как
его критик, опирающийся на философские традиции Гуссерля,
Хайдеггера, Ницше, на эксперименты в литературе и искусстве.
Сложность и парадоксальность концепции Деррида заключается
в том, что она, как уже отмечалось, замыслена как преодоление
западноевропейской метафизики. Но поскольку Деррида
фактически отождествляет с метафизической всю европейскую
культурную традицию, то он оказывается бессилен выйти за рамки ее
языка и ее принципов. Один из связанных с этим парадоксов
заключается в том, что те его собственные понятия, которые на
методологическом уровне исследования должны были бы
представлять собой понятия-объекты, обладают у него непреодолимо
амбивалентным статусом: они вынуждены самоуничтожаться
и самостираться в решающий момент, чтобы не
гипостазироваться и не приобрести метафизический статус. Конструируемая
ранним Деррида дисциплина «грамматология» должна, по мысли
исследователя, выявить такие первоначальные основания мысли,
по отношению к которым все другие внутриметафизические
разграничения окажутся вторичными, производными, а
следовательно, не абсолютными и не универсальными. Таким образом,
сложность изложения его концепции, которая и сама по себе описана
весьма сложным языком, заключается в том, чтобы соотнести обе
позиции — и критикуемую автором, и предлагаемую им взамен.
Материалом, на котором Деррида стремится помыслить децен-
трированность структуры, выступает вся история культуры. Она
прочитывается методом «симптомного прочтения», т. е.
посредством выявления пустот, пробелов, умолчаний о проблематике
письма или же чисто негативных его характеристик,
свидетельствующих для Деррида об умалчиваниях о значимом. Письмо
скрыто из поля зрения истории культуры в самые различные ее
периоды: об этом свидетельствуют диалоги Платона, где живой
логос уподобляется родному сыну, а мертворожденное письмо -
безродному и отверженному ублюдку; об этом говорит апология
природного, естественного, живого голоса у Руссо, который
отвергает письмо как опасное восполнение природы, или же взгля-
Это «Голос и феномен», «Письмо и различие» и «О грамматологии».
160 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ды Соссюра, для которого письмо было не столько
самостоятельной знаковой системой (хотя формально он и признавал ее
независимость), сколько образом, репрезентацией звуковой системы
языка (это противоречило его тезису о произвольности знаковых
систем, не допускающей, стало быть, отношения репрезентации
между ними). В результате Деррида приходит к выводу о
«значимом» отсутствии проблематики письма или чисто негативной ее
трактовке на протяжении всей истории культуры.
В число метафизиков, и тем самым логоцентриков попадают
у Деррида не только Платон или Руссо, но также и современные
философы, которые, пожалуй, наиболее явно претендовали на
освобождение от метафизических предрассудков - Ницше, Фрейд,
Гуссерль, Хайдеггер. В концепциях этих мыслителей он видит
наиболее радикальные попытки помыслить децентрированную
структурность структуры. Так, у Ницше понятия бытия и истины
заменены понятиями игры, интерпретации, знака. У Фрейда
понятия сознания, самотождественности присутствия растворяются
в анализе безличных механизмов бессознательного,
уподобляемого им самим «работе» иероглифического письма. Однако при этом
ни Ницше, ни Хайдеггер, ни Гуссерль, ни Фрейд не были до
конца последовательны в своем отношении к метафизике — в этом
Деррида видит характерную черту современной эпохи, которая
осознала подорванность, сдвинутость своих мыслительных
устоев, но пока еще не смогла найти радикального выхода. Так, у Хай-
деггера критика метафизики сочетается с постановкой самого
вопроса о бытии, а тем самым о логосе и смысле. Подобно этому
у Гуссерля (который, пожалуй, более, чем какой-либо другой
современный философ, повлиял на формирование концепции
Деррида) «феноменологическая критика метафизики есть лишь
внутренний момент утверждения метафизики»1, поскольку Гуссерль,
наряду с утверждением трансцендентального смысла различия,
со всей развитой им проблематикой определения
пространственно-временных параметров мыслительного действия,
мыслительного жеста, все же отдает привилегированное место в своей
системе знаку-выражению, а не знаку-указателю, хотя именно
последнее понятие, по мнению Деррида, более способствовало бы
концептуалиации работы чистого различения.
Логоцентризм — вот имя, которое дает этой картине
присутствий и отсутствий, умолчаний и обнаружений Деррида. «Лого-
центризм - замыкание мышления на себя самого как на порядок
присутствия перед самим собою, апелляция к разуму как к
инстанции закона, удерживаемой вне игры, свободной от диспер-
Derrida J. La voix et le phénomène. Paris, 1967. P. 3.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья, Деррцда: «необходимое и невозможное» 161
сии, над которой она властвует»1. Внутри этой логоцентриче-
ской системы западноевропейской метафизики логос и голос
непосредственно едины, дыхание голоса есть то, что
непосредственно присутствует в душе, богоданный закон и порядок.
Запись голоса — письмо - в таком случае может быть лишь
грехопадением, т. е. извращением отношений между душой и
телом, вторжением внешнего во внутреннее, низвержением
духовности в телесность.
Для рассмотрения вопроса о том, что же позволяет
философии, которая остается в каждый момент продуктом развития
данного конкретного общества, достигать измерения всеобщности
и универсальности историко-культурного процесса, Деррида
обращается к философской поддержке Гуссерля, которому, как уже
говорилось, он обязан многими чертами своей концепции.
На рубеже веков Гуссерль, подчеркивает Деррида, почувствовал
в современной ему ситуации симптомы кризиса абсолютных
трансцендентальных предпосылок и поднял проблематику
историко-культурной опосредованности научного знания. Именно
Гуссерль, как полагает Деррида, впервые поставил вопрос
о «структурных», «исторических» или «материальных» априори,
предполагающих исследование донаучного мира культуры,
вскрытие тех напластований, тех предпосылок, которые могут
объяснить конкретно-историческую обоснованность различных
структур мировосприятия, но требуют далее обращения к
истории как таковой, в которой только и можно вскрыть измерение
всеобщности. Следуя в этом за Гуссерлем, Деррида стремится
объяснить особую роль философии в познании
противоречивостью ее природы: с одной стороны, философия, как и любое
другое социально-культурное образование, погружена внутрь
исторической целостности культуры на том или ином ее синхронном
срезе; с другой стороны, философия отличается от любого
другого порождения культуры, и в том числе от науки, тем, что она
является «установкой на высказывание гиперболического» (vouloir-
dire l'hyperbole), что она - граничащее с безумием напряжение
рациональности, всеобщности. Таким образом, можно было бы
продолжить мысль Деррида: если одной своей составляющей
философия включена внутрь замкнутых культурных эпистем, то ее
гиперболизирующее усилие самопревзойдения (столь же
парадоксальное, как и поднятие себя за волосы) позволяет ей
оторваться от своей историчности, укорененность в которой грозила
1 Wahl F. La philosophie entre l'avant et l'après du structuralisme // Qu'est-ce que le
structuralisme? Paris, 1968. P. 406.
162 Познание и перевод. Опыты Философии языка
бы ей релятивизмом, и выйти в измерение собственно истории,
уловить тот всеобщий горизонт, в котором можно увидеть
взаимопереходы между тем, что представляется полностью
отъединенным. «Помыслить "выход за пределы философии" - замечает
Деррида скептически, - куда сложнее, чем обычно кажется
людям, воображающим, будто с молодецкой легкостью они
совершили его давным-давно, на деле увязнув всем телом своего
дискурса в той метафизике, от которой они намеревались его
освободить»1.
Это гиперболизированное усилие философии, превосходящей
свои собственные конкретно-исторические определения, не
является иррационалистическим порывом, но является действием
разума - действием собственно философским: «Непревзойденное
царственное величие порядка разума — то, что делает его не
фактическим порядком или структурой, не исторически
детерминированной структурой или структурой среди многих других
возможных, заключается в том, что нельзя воззвать к тому, что ему
противоречит, не взывая к нему самому, нельзя протестовать
против него иначе, как внутри него самого; он позволяет нам прибегать
к помощи маневров и стратегий лишь внутри своего собственного
поля. Отсюда и получается, что всякий исторически
детерминированный разум должен явиться перед судом разума как такового»2.
Весьма показательно, что оценка структурализма у Деррида
далеко не однозначна. Сделает ошибку, полагает он, тот будущий
историк идей, который станет анализировать структурализм как
объект среди других объектов, увидев в нем лишь преходящую
моду или «симптом кризиса», но забудет о его главном историко-
культурном смысле, о том, что структурализм - это прежде всего
«переворот в способе задавать вопросы любому объекту» и
особенно объектам исторической социальной природы, о том, что
это мощное движение представляет собой «беспокойство
о языке», каковое не может быть ничем иным, кроме как
беспокойством языка и внутри него самого. Итак, Деррида критикует
структурализм как одно из самых отчетливых проявлений лого-
фоно-центризма и вместе с тем воздает должное «другому»
структурализму, который выступает как самокритика, как
исследование границ собственных возможностей и пределов значимости
собственных предпосылок.
Итак, наша цель - попробовать перевести мысли Деррида в
регистр определяемых понятий; начнем эту операцию с деконструи-
1 Derrida J. L'écriture et la différence. P. 416. Рус. пер.: Деррида Ж. Письмо и
различие. СПб., 2000. С. 453.
2 Ibid. Р. 58.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 16 3
руемого ряда, а затем перейдем к деконструирующему. Так,
деконструкции у Деррида подлежит все то, что относится к
«наличию» (присутствию) и может быть обобщено как «логоцентризм»
и «метафизика»; в качестве деконструирующих средств выступают
«след» (архе-след), «различие»( различАние) и «письмо» (архе-
письмо). Деконструкция, пошутил как-то М.Л. Гаспаров, — это
латинский перевод греческого слова «анализ». Слово это у всех на
слуху — по крайней мере в России. Деконструируемые понятия —
это те, которые Деррида находит в философской традиции
западной мысли: например, сущность, явление, цель, онтология,
метафизика, наличие... Деконструирующие понятия — различного
происхождения. Это могут быть такие понятия (главное среди
них - знак!), которые находятся внутри традиции, но выходят за
ее рамки, позволяя нам переосмыслить всю проблематику
означения, и обычные понятия, взятые в особом повороте (письмо).
Итак - в путь!
Наличие (présence). Способ бытия всего, что существует (и в
онтологическом, и в антропологическом смысле). Это огромная по
силе и объему абстракция, придуманная Деррида. Истоки ее
прежде всего — хайдеггеровские. Однако ее можно считать
собственным понятием Деррида, концептуальным артефактом,
поскольку ничто в предшествующей традиции не может сравняться
с приписываемой наличию содержательной емкостью. Наличие -
это опорное понятие всей западной метафизической традиции.
Этим общим именем могут быть обозначены события,
относящиеся к разным понятийным рядам. Понятие наличия пересекает
материальное и идеальное, эмпирическое и трансцендентальное,
рациональное и иррациональное, сенсуалистическое и
рациональное и т. д. и т. п. Атрибут наличия будет равно относим к
понятиям Спинозы и Гуссерля, средневековых мистиков и
современных структуралистов. В широком плане равно наличными
будут и интеллектуальные очевидности разума, и чувственные
данные, и жизнь в целом, и грудь кормилицы для ребенка. Эта
сверхмощная абстракция предполагает такие характеристики, как
полнота, простота, самотождественность, самодостаточность,
сосредоточенность на том, что в современном философском языке
называется «здесь и теперь» (настоящем как вечно
присутствующем), нередко - данность сознанию.
Наличие и наличность могут быть представлены в разных
формах: как нечто просто наличное (аристотелевский «стол»);
самоналичное (точнее, наличное перед самим собой - présent à soi —
тут уже Деррида фактически фиксирует некоторую несамотожде-
ственность, выход за пределы самодостаточности) — таковы субъ-
164 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ект, самосознание, когито, со-наличное (я и другой). Все эти
модальности наличия уточняют набор и распределение основных
признаков понятия, но не меняют самой возможности общего
подведения наличной «вещи» под «понятие».
Логоцентризм. Способ данности, предъявленности наличия
в рамках западной философской традиции в целом. Подобно
«наличию», «логоцентризм» - это не реально употреблявшееся
понятие, но ретроспективно построенный образ умопостигаемости,
преобладающий в западной философской традиции.
Рассмотрим оба корневых момента этого составного слова.
«Логос» по-гречески это разум, слово и реже - пропорция.
Преобладающим является первое значение, но для Деррида явно важнее
второе - тут он следует одновременно и Евангелию от Иоанна,
и современному структурализму. «Центризм», центрированность
предполагает иерархию: для Деррида наличие центра - это
помеха беспрепятственной игре взаимозамен между элементами
внутри структуры1. Центризм - это такой способ идентификации или
самоидентификации чего бы то ни было, при котором
выделенный фрагмент вещи рассматривается как ее средоточие, и все
стягивается к этому центру, ядру, основе. Для Деррида (как и для его
французских современников) главное в «логоцентризме» - это
логос как «слово» или даже логос как «звук» (фония) и только
потом - как учение, знание, разум.
Иначе говоря, мысль, данная в слове и выраженная в звуке,
становится опорой самоотождествления и гарантией
самодостаточности любых образований человеческого сознания. Отметим
тут две важные вещи: 1) что в греческом слове «логос»
представление о звуке начисто отсутствует, поэтому Деррида иногда
приходится усложнять свою конструкцию - предъявляя ее как фоно-
логоцентризм; 2) что русский язык, по чистой случайности, тут
очень помогает Деррида: «логос» и «голос» так близко созвучны
в русском, как им не удается быть во французском языке. Слово
и звук непосредственно являют нам жизнь человеческой души,
нарушая все критерии внутреннего и внешнего, близкого и
далекого: даже если нам кажется, что наш голос идет откуда-то извне,
он на самом деле выступает как первое и самое непосредственное
проявление нашего душевного состояния.
Как и в случае с наличием, сказанное не означает, что все
философы многовековой традиции пишут только в логоцентриче-
ских понятиях: в их текстах может не быть ни «логоса», ни «голо-
1 Derrida J. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines //
Derrida J. L'écriture et la différence. Paris, 1967. P. 402-428.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 16 5
са» как таковых, но все равно фактически предполагается, что
через какое-то число опосредующих звеньев эти тексты и понятия
можно свести к этой логосно-голосной основе. Поэтому тезис
о логоцентричности западной культуры и философии
провозглашается как нечто абсолютное и непроблематичное, а отдельными
формами, так или иначе сводимыми к логоцентризму,
оказываются и онтоцентризм, и телеоцентризм, и главным образом теоцент-
ризм. Знаковость и теоцентричность — с момента соединения
греческой мысли с христианством — это почти синонимы. (Позднее
к этому списку «центризмов» — онто-тео-телео-фоно- и пр. —
Деррида добавит и психоаналитический «фалло-центризм» под
влиянием лакановской концепции фаллоса как главного
означающего.) Тут возможны и разные другие кентавры и гибриды,
вроде онто-теологии, онто-телеологии и пр. И начала и концы,
и причины и цели — все это может быть представлено в логоцен-
трической форме.
Метафизика. Дисциплина, оформляющая проблематику
наличия и логоцентризма в единое целое. В философский словарь нам
лучше не смотреть: метафизика в данном случае не означает ни
учения о бытии в противоположность учению о познании, ни
метода познания, противоположного диалектическому учению
о противоречиях. Метафизика предстает здесь прежде всего в
своем этимологическом смысле — как «после-физика». Нам известно,
что рождение метафизики потребовало огромной умственной
работы; нужно было отвлечься от чувственно данного, например,
в зрительном «виде» увидеть незримый (видимый лишь
умственным взором) эйдос, а в руке, держащей палку, угадать возможность
«хватания» (понятия, поятия) вещи умом. Потом люди забыли и об
исходных чувственных впечатлениях, и о самой работе
метафорического переноса ( «метафорай» написано в Греции на машинах,
развозящих грузы населению). Им стало казаться, что они всегда
находились в послефизике и что ее понятия само собой
подразумеваются. В качестве такого само собой подразумевающегося
богатства метафизика сохранила многие понятия (тело — душа, вещь —
идея, означающее — означаемое, явление — сущность), которые
имеют вид оппозиций, но на самом деле всегда предполагают уже
достигнутое первенство второго — «послефизического»
(духовного, душевного, сублимированного, бестелесного). Общая форма
оппозиции, которую утверждает западная метафизика, - это
оппозиция чувственного и умопостигаемого. Понятия метафизики —
это основной объект расчленения, деконструкции для Деррида.
Нам важно понять, что метафизика - это именно некое
дисциплинарное пространство, топос, место. Все, что относится к
области наличного и дается нам в логоцентрическом модусе (как
166 Познание и перевод. Опыты Философии языка
логос-голос), может быть увидено, засечено, схвачено,
переработано — деконструировано — только в определенном пространстве.
Отсюда — множество пространственных метафор, метонимий,
других тропов, с помощью которых Деррида косвенно пытается
наметить для самого себя и показать нам одновременно и способы
движения мысли в метафизике и - самое главное - возможность
поставить это движение под вопрос.
Вот лишь некоторые из этих образов, метафор и вместе с тем
средств деконструкции: внутри и вовне, наружа и нутрь, по сю
сторону и по ту сторону, превзойдение, пропасть, рисковать,
действовать как контрабандист (исподтишка), высиживать
добычу как охотник (точнее, охотничья собака, которая имеет
тонкий нюх на добычу), сокрушить слабейшего, обмануть
сильнейшего, составить план местности, топтаться по сю сторону
метафизического загона, ограды, предела (clôture), но так
близко к забору, что уже, кажется, начинает виднеться что-то и по ту
сторону ограды... Постоянно подразумевается и явно требуется
«двойное прочтение», «двойная наука», «двойная игра»: читать
как бы внутри метафизики и читать, обращая внимание на
трещины-расселины или на то, что выпирает на общем фоне. Пусть
каждый сам продолжит эту увлекательную работу - выбрав из
общего перечня способов обращения с метафизикой то, что ему
больше нравится.
Нам же стоит только помнить самое главное - неуместность
«революционных» порывов: никакими наскоками нам не удастся
разрушить западноевропейскую метафизику, да собственно и
незачем это делать, если у нас ничего, кроме нее, нет, и неясно,
может ли еще быть. Позицию эту можно было бы назвать
нереволюционно-радикальной (слово «радикальный» Деррида особенно
любит за его этимологический смысл: ведущий к корням,
глядящий в корень). Вопрос о принадлежности и непринадлежности
какой-либо концепции или понятия к метафизике возникает
у Деррида подчас в жестких спорах, как, например, в споре с Гада-
мером по поводу Хайдеггера и Ницше. Деррида часто говорит, что
в этих вопросах он не хочет и не может судить, «рубить с плеча»,
но все равно нередко — судит.
Разумеется, и речи быть не может о том, чтобы все в текстах
западной философской традиции покорно укладывалось в наличие,
логоцентризм или метафизику. Они полны противоречий,
нестыковок, «симптомов» всякого рода — от психоаналитического до
поэтического, которые свидетельствуют о том, что что-то тут не
так («прогнило» или всегда хромало). Деррида явно сомневается
в возможности когда-либо выйти из метафизики и потому даже
свое самое знаменитое понятие «различАние» (différAnce) он уве-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 167
ренно назовет «метафизическим» понятием1 (в «РазличАнии»,
докладе 1968-го г.). И все равно он строит свою программу на том,
что нам доступно, — на «борьбе» с метафизикой, на выявлении
генеалогии метафизических понятий, и обобщает эту работу-борьбу
словом «деконструкция».
Деконструкция2. Один из лучших путеводителей по программе
деконструкции — «Письмо японскому другу»3. Тут говорится
о том, что по сути главный вопрос деконструкции — это вопрос
о переводе. Само слово «деконструкция» было введено в работе
«О грамматологии»4, хотя тогда Деррида еще не думал, что оно
станет лозунгом, установкой целого направления исследований.
Поначалу он просто пытался получше перевести немецкие
понятия Destruktion и Abbau, найти для них хорошие французские
эквиваленты. То, что получалось при переводе, звучало слишком
разрушительно, и Деррида продолжал поиск уже по французским
толковым словарям (в одном из них он встретил более уместную
трактовку — разборка целого для перевозки на новое место),
а в словаре Бешереля обнаружил наконец то, что искал. Искомая
деконструкция имела или хотя бы подразумевала и негативный,
и конструктивный смысл: так, «деконструкцией» оказывались
при переводе слом и переделка иностранной фразы, а
«конструкцией» - воссоздание этой фразы на родном языке.
Очевидно, что деконструкция требует одновременно и
структуралистской, и постструктуралистской методики. Структурализм
предполагает разбор наличных целостностей (социальных,
культурных) и затем сборку структур как совокупностей
взаимодействующих элементов. Постструктурализм требует выхода за
пределы структур, он ищет в структурированном неструктурное.
Одним из путей выхода за пределы структур было рассмотрение
того, как данная структура была построена, выявление «генеа-
1 Derrida J. La difference // Derrida J. Marges - de la philosophic Paris, 1972. P. 12.
2 Итак, Деррида скажет нам, что говорить о деконструкции вообще - нельзя:
можно лишь обращаться к отдельным формам, проявлениям, контекстам декон-
структивной работы. Деконструкция - повсюду, но точнее говорить не о
деконструкции, а во множественном числе - о деконструкциях. Они по-разному
осуществляются в философии, юридической и политической области, они могут
«принимать форму» тех или иных техник, правил, процедур, но в сущности ими не
являются. А впрочем, даже деконструкция доступна формализации - правда,
до известного предела. Ср., в частности, Derrida J. Points de suspension. Entretiens /
Prés, par E. Weber. Paris, 1992. P. 368.
3 Derrida J. Lettre à un ami japonais // Derrida J. Psyché. Inventions de l'autre. Paris,
1987. P. 387-394.
Ibidem. P. 388.
168 Познание и перевод. Опыты Философии языка
логии» образующих ее понятий. В этом последнем смысле
деконструкция вовсе не будет разрушением, хотя она и требует
подвешивания, приостановки действия, перечеркивания всех
традиционных понятий (слово «перечеркивание» или «похерива-
ние» - наложение буквы «X» при гашении марки — следует
понимать буквально: слово не вымарано, его можно прочитать под
перечеркивающим его знаком).
Деконструкция, по мысли Деррида, не должна быть ни
анализом (в ней нет сведения к простейшим элементам), ни тем более -
синтезом (хотя некоторые критики, например Р. Гаше,
приписывают этому понятию функцию прото-синтеза на доструктурном
уровне). Это не критика (в обыденном или в кантовском смысле
слова); не метод (хотя в США критики склонны считать
деконструкцию методологией чтения и интерпретации), не акт, не
операция. Деррида стремится уйти в трактовке деконструкции от
субъектно-объектных определений: деконструкция — это не
стратегия субъекта, а «событие» или в конце концов — тема, мотив,
симптом чего-то иного - какой-то другой проблемы - тут
Деррида по обычной для него установке уходит от прямого и
однозначного ответа. Что же касается деконструкции как события, то
очевидно, что само по себе событие деконструкции случиться не
может: для того чтобы оно состоялось, нужны усилия, стратегии,
средства.
Часто под деконструкцией понимается такое обращение с
бинарными конструкциями любого типа (формально-логическими,
мифологическими, диалектическими), при котором оппозиция
разбирается, угнетаемый ее член выравнивается в силе с
господствующим, а потом и сама оппозиция опускается или
переносится на такой уровень рассмотрения проблемы, на котором мы
видим уже не оппозицию, а саму ее возможность (или
невозможность). Критики много спорили о том, удается ли Деррида
«снимать», разбирать бинарные оппозиции западной культуры или он
лишь меняет знаки, эмансипируя униженные элементы
оппозиций. Читатель сможет сам судить об этом, прочитав работу
«О грамматологии», где дается множество ярких примеров
разборки оппозиций. Деррида предлагает нам понять деконструкцию
не вообще, но лишь в конкретном ее осуществлении, то есть в
цепочке замещений между понятиями, отчасти синонимичными,
такими как письмо, след, гимен, фармакон, парергон... Этот лист
по определению открыт и ... бесконечен.
А сейчас мы переходим, условно говоря, к понятиям декон-
струирующей группы: они выступают как результаты
деконструкции, но затем уже и сами могут применяться как ее средства и
орудия. Главные среди них — след (архе-след), различие (различЛние)
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 169
и письмо (архе-писъмо). Некоторые понятия уже использовались
в философии или психоанализе (след) или в лингвистике
(различие), но были заимствованы и усилены Деррида, некоторые были
взяты из обыденного языка и превращены в концептуальные
инструменты (например, письмо).
Каждое из названных понятий окружено веерами (или
продолжено в рядах) других, более конкретных понятий. Так, например,
разверткой понятия «след» будут и «метод», и тропинка-пикада,
и механизм письма как сохранения следа путем нацарапывания
(по-гречески писать и значит «царапать»). Конкретизация
понятий в системе может предполагать не детализацию, а иной угол
зрения: в этом смысле понятие различия, например, будет связано
с понятием повторения или, точнее, - невозможности
тождественного повторения и пр.
Эти три выделенных нами понятия — «след», «различие»
и «письмо» - резко противоположны по смыслу ранее
показанным — «наличию» и «логоцентризму», хотя между ними нет
логического отрицания и они не образуют бинарную оппозицию. Так,
если главными признаками наличия были полнота, простота,
самодостаточность, самотождественность, то «след» и «различие»,
заведомо лишенные полноты и самодостаточности, воплощают
неналичие или антиналичие; если логоцентризм воплощал
единство звука и смысла, то «письмо» (и тем более — архе-письмо)
предстает как отрицание логоцентризма.
След, архе-след. Общая форма неналичия, находящая свое
выражение в такого рода множественной соотнесенности всего со
всем, при которой задача определения того, что именно с чем
соотнесено, становится неразрешимой. След (тем более
самостирающийся) - главная форма неналичия, и потому понятно, что
устранение, редукция следа - общая тема метафизики. В рамках той
картины (мира), которую предлагает нам Деррида, нет ничего
наличного - простого, полного, «здесь и теперь» доступного,
самотождественного и самодостаточного. Деррида нагружает след
полным набором взаимно противоречивых предикатов: след не
наличествует и не отсутствует; он и наличествует, и отсутствует;
он столь же (весьма двусмысленное уточнение) наличествует,
сколь и отсутствует. След равно относится и к природе, и к
культуре. Он предшествует всякой мысли о сущем и неуловим в
простоте настоящего, наличного, тождественного. Движение являет
и скрывает след: он неуловим в простоте настоящего. Но по сути
след есть удержание другого внутри тождественного, и потому нам
необходимо вырвать след из классической схемы мысли.
Чтобы понять, что такое след (и архе-след), попробуем в
порядке эксперимента встать на иную — не привычную и не «наив-
170 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ную» — точку зрения. Попробуем увидеть предметы не готовыми
и ставшими, а только становящимися, а сами пространственно-
временные координаты, в которых нам так или иначе даются все
предметы, - не заранее заданными, а тоже лишь
складывающимися в процессе восприятия. Тогда, пожалуй, станет немного
яснее, как в бесконечном переплетении элементов, фрагментов,
частей, узлов и сочетаний (живого и неживого, природного
и культурного, физического и психического), искомый смысл
отступает и дается лишь как след (бывшего или не бывшего),
но и след уходит куда-то в бесконечность, обрекая любой поиск
первоначала на неудачу.
Возможны различные конкретные формы следа. След может
быть «мотивированным» (например, психический отпечаток
внешнего впечатления) «условно мотивированным» (например,
слово «стол» при отсутствии стола, который я только что видел,
а сейчас не вижу). Но могут быть и следы с утерянной
мотивацией: это усложненные цепочки следов, неизвестно к чему
относящихся. Наконец, возможен и такой след, мотивацию которого
вообще невозможно отыскать. Назовем его архе-следом: в этом
случае абсолютная первичность следа заведомо исключает
первичность чего бы то ни было другого, хотя это и не означает
самодостаточности следа. Сам вопрос о следе у Деррида ставится под
влиянием психоанализа, причем главное здесь — такие понятия
Фрейда, как «последействие»1 (Nachträglichkeit) и «пролагание
путей»2 (Bahnung). Следы памяти и «проложенные следы» в
психической работе часто оказываются аффективно нагруженными.
Помимо Фрейда, другими предшественниками мысли Деррида
о следах были, по его собственному признанию, Ницше, Хайдег-
гер, Гуссерль, Левинас, биологи, психологи, причем каждый
подчеркивал в следе — свое. Особенно важной здесь оказывается
феноменологическая концепция внутреннего восприятия времени:
время как бы растянуто между прошлым и будущим - в опыте
«удержания» прошлого и «предвосхищения» будущего. Однако
феноменологическая установка, по Деррида, не справляется со
следом. Она полагается на дословесные интуиции и не улавливает
того бессознательного (или пред-сознательного) опыта, который
1 Этот русскоязычный вариант слова Nachträglichkeit, предложенный мной в
переводе «Словаря по психоанализу» Лапланша и Понталиса, представляется
наиболее удовлетворительным. Обычно для перевода соответствующего наречия
(nachträglich) в русском языке используется выражение «задним числом», что вполне
осмысленно, только при этом читатель не опознает опорного понятия,
выраженного в оригинале существительным.
2 Это также мой вариант, предложенный в переводе «Словаря по психоанализу»
Лапланша и Понталиса.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 171
Фрейд закрепил в понятии «последействия» (Nachträglichkeit):
смысл опыта не дан человеку прямо и непосредственно, он
строится не в настоящем, а в будущем, обращенном в прошедшее, он
развертывается постепенно, на других «сценах»; но в любом
случае — для того, чтобы этот сложный, как бы заторможенный, но по
сути очень трудный и интенсивный процесс мог происходить,
требуется, чтобы следы опыта надежно сохранялись.
Разобраться со следом нам помогает знак — эта пятая колонна
в метафизике - то, что, всецело принадлежа метафизике,
позволяет нам ее деконструировать. В каком-то смысле след - это знак
в динамике. И если вначале был знак (а не вещь, не референт,
не интуиция), то это лишний раз показывает, что в начале был
след. Однако помимо явных следов — словесного знака,
замещающего вещь в ее отсутствие, или письма как нацарапанного следа
речи - есть и другой след, о котором уже упоминалось, - Деррида
называет его архе-следом. Это конструкт, артефакт,
экспериментально помысленный нами след того, чего не было: общий
принцип артикулированное™ и расчлененности, на основе которого
только и могут далее появляться тождества и различия, наличия
и неналичия. Если ранее мы представляли себе хотя бы какое-то
начало (начало начал), до которого простирается пустота,
преодолеваемая усилиями креационистских теологии, то теперь о
началах не может быть и речи. Нет ни хороших, ни плохих начал - ни
начала как акта творения, ни пришествия зла в нечто вечное и
неизбывно благое (и это уже показывает нам, где стержень спора
Деррида с руссоистской идеологией и его теорией возникновения
языка и письма).
Конкретных примеров следа на страницах этой книги -
множество: так, это и общий рельеф местности, и тропинка-пикада,
и поломанная телеграфная линия (в главах о Леви-Стросе),
и игра с понятием «метод» (метод как пролагаемый путь), и
борозда, оставляемая плугом на пашне, и бустрофедон (тип
вспашки и способ письма, доходящего до края страницы и затем
поворачивающего вспять: такой порядок, однако, удобнее для чтения,
чем для письма). Все эти следы прочерчивают, артикулируют
пространство и время человеческой жизни и образуют средства
их постижения.
Различие, разлинАние. Как увидеть различие? Это значит
увидеть в наличном неналичное, а в тождественном
нетождественное. Достаточно сосредоточиться на настоящем, и мы увидим
трещины, свидетельствующие о том, что всякое настоящее не есть
нечто в себе тождественное: в нем «еще» сохраняется прошлое,
и «уже» предначертывается будущее, причем эти различия
проявляются внутри, казалось бы, цельного переживания — как то, что
172 Познание и перевод. Опыты Философии языка
отличает в нем настоящее от самого себя. Различие расчленяет
настоящее и наличное внутри них самих.
Итак, различие — это противоположность наличию как
тождеству. Изначальность различий, различенность - это следствие
антропологической конечности человека, несовпадения
бесконечного и конечного, de jure и de facto, вещи и смысла. Человек
занимает промежуточное место в общей структуре бытия.
От животного его отличает нереактивность, сдерживание
непосредственных побуждений, превращение физиологических
потребностей во влечения, которые по определению не могут
удовлетворяться тут же и на месте, а в известном смысле и вообще не
могут удовлетворяться. От Бога его отличает неспособность к
непосредственно интуитивному, прямому усмотрению смысла
бытия вообще (и собственной жизни — событий, поступков,
текстов - в частности). Творец Вселенной не проводит различия
между творимым бытием и смыслом бытия, они для него едины.
Человек, и даже самый творческий, в этом смысле — не творец,
а постигатель Вселенной. Тем самым различие, различенность
дважды, с двух разных концов, выходит на первый план - как про-
медленность в сравнении с животными реакциями и как отсро-
ченность смыслов в сложном и опосредованном процессе
означивания1.
Различие у Деррида (и у других современных французских
авторов) это понятие, навеянное прежде всего Гегелем и Соссюром.
Первый момент — это расщепление гегелевской диалектической
пары противоположностей «тождество-различие», разнесение
элементов этой пары по разным регистрам (самодостаточных
полнот и дифференцирующих следов), в результате чего различие,
различение выводятся на первый план. В остальном выяснение от-
1 Позже Деррида повернется к проблеме различия не только с метафизической
или логоцентрической стороны, но также со стороны этики и политики. По сути
дела, проблемы различия кладутся в основу таких привычных нам вопросов, как
сообщество, национальное государство, демократия и даже - Новый
интернационал. Во всех этих случаях концептуальная связка-противоречие между единством
и множественностью сразу делает вопрос неразрешимым. Нам нужна не
множественность как таковая, а гетерогенность, которая предполагает различие,
расчлененность, разделенность как условие установления отношений между людьми.
И в этом тезисе можно видеть своего рода идеал внятности! Опаснее всего такие
единства, которые принимают вид однородных органических целостностей -
внутри них нет места для ответственности, решений, этики, политики. По сути, и
чистые единства, и чистые множественности оказываются именами опасного,
нежизненного состояния, именами смерти. В любой идентичности есть
саморасчлененность, дифференциация: отправной пункт рассуждения - невозможность
быть в единстве с самим собой. Для того чтобы сообщество могло существовать
(любые синкретические слитности этому помеха), нужно уметь вычленять себя
и другого - как «абсолютно другого».
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 173
ношений Деррида с Гегелем и диалектикой — это бесконечный
вопрос, в котором ясен только абсолютный отказ Деррида от
идеологии «снятия» (Деррида предложил переводить Aufhebung на
французский как relever). Второй момент - это отношение Деррида
к понятию различия в его структуралистском (соссюровском)
истолковании. Как известно, для лингвистического структурализма,
а затем и для структуралистской мысли, перенесенной в другие
области гуманитарного познания, различие — это всегда системное
смыслоразличающее качество: те различия, которые не являются
смыслоразличающими, вообще не входят в систему. Так вот
именно эти внесистемные и несмыслоразличающие различия и
абсолютизируют постструктурализм вообще и Деррида, в частности.
Однако этими спецификациями понятие различия у Деррида
не ограничивается. Он вводит еще одну радикально усиливающую
различие и различение операцию, закрепляющую сложное и
опосредованное отношение человека к смыслам. Она названа
неологизмом «различАние» (difîérAnce): на слух это понятие не
отличается от обычного différence (различие) и выявляет свою
специфику только в письменном виде. Этот неологизм или нео-
графизм Деррида трактует как семантический эквивалент
среднего залога в греческом языке1. РазличАние предполагает трещину
между бытием и сущим: это формирование формы, условие
означения, след. Позитивные науки могут описывать только те или
иные проявления различАния, но не различАние как таковое.
РазличАние лежит в основе оппозиции наличия и отсутствия, в
основе самой жизни.
По сути, различАние подытоживает и психоаналитическое
понятие «последействия» (Nachträglichkeit), и вообще всю
феноменологическую проблематику следа, хотя и показывает ее в особом
повороте. И прежде всего различАние - это двоякая деформация
пространства и времени как опор восприятия и осознавания.
Иначе говоря, различАние — это промедленность, отсроченность,
постоянное запаздывание во времени и отстраненность,
смещение, разбивка, промежуток в пространстве. Выше у нас шла речь
о том, что наличие представляет собой единство «здесь и теперь»,
настоящего момента и данного места. И это единство разбивается
различАнием: его временной аспект промедляется, а его
пространственный аспект включает «разбивку», «интервал»,
предполагает отстранение и откладывание. При этом оба типа
деформаций, и временные, и пространственные, взаимодействуют
1 Греческий средний залог, на который часто ссылается Деррида, - это однако
не активность, обращенная на другого, и не пассивность, претерпеваемая от
другого, но активность, обращенная на себя, и пассивность, претерпеваемая от себя.
174 Познание и перевод. Опыты Философии языка
и переплетаются. В слове «различАние» слышатся, таким
образом, разные значения: различаться, не быть тождественным;
запаздывать (точнее, отсрочиваться во времени и откладываться
в пространстве); различаться во мнениях, спорить (фр. différend).
Следуя Гуссерлю, в подобных случаях особенно важно
учитывать именно взаимосоотнесенное становление пространства
и времени, это временное становление пространства и
пространственное становление времени, или, иначе, становление времени
пространством и становление пространства временем. В отличие
от Гуссерля, который отступает к своим первичным доязыковым
интуициям и еще дальше — в горизонты времени, Деррида
устремляется в другом направлении — не к первоначалу, а вперед - туда,
где происходит откладывание-отсрочивание всего в человеческом
мире, причем откладываемое-отсрочиваемое не накапливается,
а включается в ряды взаимозамещающих подстановок. Однако
в итоге эта конструкция отсрочивания и откладывания выступает
как начальное, раньше которого ничто другое невозможно.
Письмо, архе-писъмо. Общая артикулированность,
членораздельность в работе психики, сознания, культуры (письмо в
обычном смысле слова редко встречается на страницах этой книги;
иногда речь идет о культурно-исторических формах
письменности). Если след был прежде всего опровержением
самодостаточности, а различие — опровержением самотождественности
наличия, то письмо (и архе-письмо) - это в первую очередь
опровержение логоцентризма как тождества логоса и голоса в
западной культуре. Собственно говоря, уже показанное
преодоление наличия следом и различием уже создает возможность
письма, материализуется в письме. Применительно к письму вступает
в силу полный набор отрицательных характеристик: оно не
зависит ни от наличия, ни от отсутствия, ни от причин, ни от целей
и выступает как опровержение любой диалектики, теологии,
телеологии, онтологии и т. д. и т.п.1. Всю западную культуру Деррида
трактует как отображение того или иного состояния
письменности, а появление науки, философии, познания вообще — как
следствие распространения фонетического письма. Характернейшая
черта западной метафизики — это забвение или унижение письма
по познавательным (несущественное, вторичное), моральным
(подмена, маска), политическим (замена личного участия
представительством) основаниям2.
1 Ср., в частности: Derrida J. Marges - de la philosophie. P. 78.
И само письмо, и его подавление могут, по Деррида, трактоваться как особая
психоаналитическая реальность. Сцена письма предполагает работу на следах, об-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррнда: «необходимое и невозможное» 175
Почему Деррида выбирает именно письмо? Это в любом случае
емкое обозначение (применявшееся, например, Бартом) и не
вызывавшее отрицательных понятийных ассоциаций1. Быть может,
точнее было бы назвать дисциплину, возможности которой
проясняет Деррида, не грамматологией, а какой-нибудь
«артрологией» (суставоведением), наукой о членоразделах любого типа,
но и этот термин уже был использован2. Артикуляция, приведение
к членораздельности, членоразделение - это общее условие
любого человеческого опыта. В этом смысле нанесение следов — это
тоже вид артикуляции. Кстати, в проблематике письма интересно
читать проблематику следов — одну в другой, и смотреть, как они
концептуально обогащают друг друга. Во всяком случае в книге
«О грамматологии» мы найдем всевозможные типы нарезок,
насечек, гравюр, расчленений-со(рас)членений. Например, на
материале руссоистской теории возникновения языка мы можем
проследить все этапы и стадии превращения условно чистой
вокализации в членораздельную речь, а они предполагают
постепенное наращивание артикулированное™ — от первоначальных
хрипов голосовых связок в северных районах (руссоистский
идеальный певучий язык, напомним, рождается в южных районах)
через увеличение числа согласных в языке и до уже заметных
глазу нацарапываний собственно письма в каком-то прочном и
сохранном материале3.
ходные пути, пролагание путей, а также удовольствие от письма и текста.
Для Фрейда психоаналитический жест - писать и стирать. Таким образом, и в
стирании письма для Деррида есть психоаналитический подтекст.
1 «Нулевая ступень письма» Р. Барта вышла в 1953 г.: бартовское письмо
социально и исторически нагружено, оно фиксирует привязку интеллектуала к истории
и рассматривается в перспективе контраста между буржуазной однородностью
и постбуржуазной плюралистичностью, причем само понятие нулевой ступени
Барт, по собственному признанию, берет из лингвистики.
2 «Артрология» - тоже бартовский проект. Исходя из соссюровской концепции
знака, Барт полагал, что производство знака в любой означающей системе есть
прежде всего факт расчленения, артикуляции, а язык это область артикулирования
по преимуществу. Отсюда следует, что будущая задача семиологии заключается не
в том, чтобы установить средства лексического описания объектов, но в том,
чтобы обнаружить те первичные артикуляции (членоразделы), которые человек
налагает на реальность. Потому Барт и надеялся, что нынешние только-только
рождающиеся семиология и таксономия когда-нибудь объединятся в новую науку
о расчленениях и разделах (partages) - артрологию.
3 Руссо, один из главных героев книги «О грамматологии», подробно описывает
этот процесс нарастания артикулированности, консонантности. Условный
мифический язык (язык южных страстей) был всецело голосовым, напевным,
состоящим из одних гласных. Однако расселение человечества по земле, необходимость
жизни в более суровых условиях, трение голосовых связок и возрастающая хрипо-
176 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Устный, речевой знак — знак вещи; письмо — «знак знака».
Графический знак выступает как знак устного знака, он замещает
его в его отсутствие. Но это лишь одна сторона дела. В случае
с письмом нам важен сам ход отступания на свои следы, на те
позиции, которые собственно письмо (письмо в узком смысле
слова) никогда не занимало (парадокс первоначального следа, с
которым мы уже столкнулись). Обычное письмо для Деррида почти
ничего не значит. Это лишь частный случай (результат) гораздо
более важного процесса. Для него важно не собственно письмо, а,
можно сказать, письмо в широком смысле слова — когда
вариантами письма мы можем назвать и хорео-графию, и
спектрографию, и рентгено-графию или даже просто любую про-грамму
(по-гречески: пред-писание). Но и это еще не все: важнее письма
в широком смысле, то есть важнее любой фактически
осуществляемой записи в том или ином пространстве и материале,
оказывается некое архе-письмо: уже не собственно запись, а сама ее
возможность, — условие возможности записи, то есть любой
дискурсивное™, любой расчлененности, любой артикулированно-
сти - теперь уже речи и письма в равной мере. Строго говоря,
архе-письмо лишь словесно связано с просто «письмом» особой
связью однокоренного образования; на самом же деле оно столь
же близко просто письму, как и речи (уже артикулированной)
или, скажем, танцу (хорео-графии).
Итак, письмо не единично: оно существует в одном ряду
с граммой, грамматологией, грамматографией, графологией, гра-
фией, графикой, записью. Сюда в принципе относится все, что
относится и к следам. Так, архе-письмо, архе-след и различАние
отчасти синонимичны и в любом случае сочленимы. В основе всех
трех операций лежат сходные процессы — отступания на следы
и квазиобосновывающий ход мысли. Именно это, согласно
Деррида, и не позволяет нам видеть во всех этих случаях простые
бинарные оппозиции - только с акцентом на другом, ранее
униженном члене оппозиции. Так, мы не можем трактовать «след» (даже
и самостирающийся) как оппозицию наличию, «различие» - как
оппозицию тождеству, «письмо» - как оппозицию речи (или в
целом логоцентризму).
та приводили к появлению и разрастанию согласных звуков: сначала они
существовали наряду с гласными, а затем все больше вытесняли их, пронизывая
напевность артикулированностью. Возникновение письма (нацарапывание значков для
передачи сообщения отсутствующему человеку) было следующим этапом
нарастания членораздельности в языке. Письменная артикуляция стала более прочной
и долговечной, нежели артикуляция при устном произнесении согласных звуков.
Письмо - это усиление артикуляционного принципа, самой установки на
членораздельность.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррнда: «необходимое и невозможное» 177
Деррида строит иную картину. Обратим внимание: наличие
и логоцентризм остались позади, достигнуты и укреплены некие
новые позиции — «след», «различие», «письмо»; однако и с этих
новых позиций он опять уходит — в иные пространства и времена.
В самом деле, след отошел на позиции архе-следа, различие на
позиции различАния, письмо — на позиции архе-письма.
Установлена круговая оборона сложно достигнутых позиций
дифференцирующей и дифференциальной мысли по отношению к мысли,
ориентированной на самодостаточность и самотождественность.
Так, архе-след есть отступание на такие позиции, с которых может
быть построена сама оппозиция наличия и отсутствия. Архе-
различие (различАние) есть отступание на такие позиции, на
которых возможно и тождество, и различие, данность чего-либо как
наличного. Архе-письмо есть отступание на такие позиции, с
которых возможны и речь, и письмо в узком смысле слова. Вся эта
конструкция обороны, однако, не должна превратиться в новый
бастион, новую более тонкую и хитро задуманную ограду вокруг
обороняемого от набегов города-государства метафизики. Тут нам
надлежит увидеть в действии сам принцип артикуляции любых
содержаний сознания и психики, механизм ритмического
расчленения опыта, новых возможностей означивания в рамках иначе
прочерченных координат пространства и времени.
Вопрос о статусе этой новой «ограды» вокруг фактически
разрушаемой старой «ограды» метафизики очень непростой.
Наивная мысль, которая берет предметы и сущности так, как они ей
являются здесь и теперь, тут не подойдет. Трансцендентальный ход
мысли нагружен теми презумпциями, от которых Деррида вместе
со всей современной философией так или иначе пытается
избавиться. И все же в этом ходе остается много от
трансцендентальное™. По сути, это реализация
«трансцендентально-эмпирического» дублета, о котором Мишель Фуко писал в «Словах и вещах»
(1966), характеризуя противоречивое положение человека и
знания о человеке в современной эпистеме. Мы еще вернемся к
вопросу о трудностях пролагания этого пути.
Теперь мы переходим к последнему из отдельно вводимых
здесь понятий - понятию восполнительности: оно занимает
совершенно особое место в этой книге. В отличие от всех
предыдущих, оно взято из нефилософских текстов Жан-Жака Руссо.
Однако это не частное понятие, а своеобразный логический
оператор, приводящий в действие все другие понятия.
Восполнение, восполнительность. Общий оператор всех
процессов, введенных указанными выше понятиями. Что такое
различАние в действии? Как наличное теряет, вновь обретает и заново
теряет свою определенность? Как осуществляется постижение от-
178 Познание и перевод. Опыты Философии языка
сроненного, промедленного, взвешенного? Как следы и их
сочетания обретают свои осмысляемые конфигурации? Как архе-пись-
менное пролагание путей любой артикуляции и любому
расчленению наполняется конкретным, эмпирическим содержанием? Как
живет это содержание внутри знания и за пределами знания? Ответ:
по логике восполнения, восполнительности.
Восполнение - это общий механизм достраивания/доращива-
ния всего в органическом и культурном мире (в природе и
культуре) за счет внутренних и внешних ресурсов, соотношение которых
не предполагает ни механического добавления извне, ни
диалектического раскрытия предзаданных внутренних возможностей путем
разрешения противоречий. Всеобщая восполнительность
обеспечивает и органическую выживаемость (в северных районах людям
нужны тепло, огонь, в южных - вода, прохлада), и
психологическую выносимость жизни (каждому из нас нужны различные
замены или компенсации незаменимого). Так герою Руссо из
«Исповеди» требовались в качестве компенсации природных нехваток -
онанизм, а вместо невыносимого лицемерного и искусственного
общества — простая и близкая к природе подруга Тереза.
Выше мы уже видели процесс нарастания артикулированно-
сти: он всецело относится к процессу складывания языка. Между
грубой органикой и тонкой психологией есть много
опосредующих звеньев. На примере языка мы видим, как изменение
географических, климатических, а также социальных условий
(рассеяние или более компактное проживание) меняет облик языка как
главного средства человеческого общения: в пределе всех
изменений языки с певучими интонациями превратятся в языки,
изобильные согласными, а следующей ступенькой в нарастании
артикулированное™ будет письмо: по Руссо, язык страсти родился
на Юге, а письмо — на Севере. Но в любом случае чистая
«невма» — вокализация без артикуляций, язык до языка — это
утопия, мыслительный конструкт. Вопреки идеальному образу
изначальной полноты и чистоты — замены, подстановки, вытеснения
«всегда-уже» начались, и в этом не повинна какая-то злая сила.
Книга «О грамматологии» — это энциклопедия конкретных
форм восполнения и самого механизма восполнительности. Это
понятие (восполнение, восполнительность) было не только
сохранено в переводе, но даже несколько усилено нами за счет
этимологически родственных корней во французском языке, восходящих
к общему латинскому корню. Восполнение необходимо на всех
этапах человеческой жизни, поскольку человек и все его объекты
по разным причинам дефектны. Ребенок рождается незрелым,
и для него восполнениями различного рода нехваток будут и
материнская забота, и кормилицыно молоко, а немного позже и руко-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррнда: »необходимое и невозможное» 179
водство опытного наставника (чтение книг, воспитание
добродетелей). Однако ущербен и взрослый человек. Из-за того, что Земля
вращается, в каждом месте на Земле (кроме разве что умеренной по
климату Франции, наиболее предрасположенной для развития
любых человеческих способностей) чего-то недостает. Кроме этих
природных причин, есть и собственно человеческие основания для
необходимости восполнений. Психика, сознание, воображение
строятся не только как механизмы постижения существующего,
но и как схемы компенсации недоступного, построения программ
будущих действий (так, человек, который боится людей,
восполнит нехватку общения наукой, составлением гербария,
прогулками на природе, уйдет с головой в писательство).
Герой Руссо в «Исповеди» восполняет природную робость в
отношениях с женщинами пылким воображением и практикой
онанизма, а его знаменитая подруга Тереза выступает как почти
мифический посредник, медиатор между природным и культурным:
она позволяет избавиться от зла онанизма (культура побеждает
природу), но вместе с тем выступает как природная компенсация
общественной фальши и лицемерия: однако Тереза не способна
стать успешным посредником и заменой — она не заменяет ни
маменьку, ни общество, ни людское признание.
Онанизм соединяет в себе яд и лекарство, недуг и лечение -
подобно фармакону, яду-лекарству из «Платоновой аптеки».
Онанизм полезен как защита от болезней, как сублимация влечения
к недоступной женщине, как возможность обладать в своем
воображении всеми женщинами сразу, наконец, как средство
выживания душевно хрупкого человека, наделенного безмерной
способностью испытывать любовь (полнота переживаний всех восторгов
любви была бы для героя, по его собственному признанию,
губительна). Однако онанизм вреден как растрата природных сил, как
повод для переживания вины, как психологическая фрустрация
и т. д. Иначе говоря, трата и бережливость, гибель и спасение,
отсроченное наслаждение и немедленное эрзац-удовольствие
оказываются почти неотличимыми.
Понятийный аппарат восполнения и восполнительности у Рус-
со-Деррида очень разветвлен: это однокоренные слова с частично
разошедшимся значением supplémentaire, supplémentarité,
suppléance, suppléant и др. В словарном значении supplément
предполагает дополнение и замену, однако механизм осуществления
этих операций у Деррида, по сути, отрицает как дополнение, так
и замену (ничто не приходит лишь извне, и ничто не вытесняет
исходное полностью). Кроме того, у Деррида введен ряд частичных
синонимов, связанных с добавлением (addition, (s)ajouter) и с
заменой (substitut, remplacer). При переводе словесного ряда
180 Познание и перевод. Опыты Философии языка
с supplément я фактически ввела архисемему, построенную на
более широкой (латинской, а не французской) основе — как
некоторое этимологическое упражнение в духе языковых игр самого Дер-
рида. Фактически весь смысловой ряд понятия supplément таков:
приложение (минимальная связь между элементами), добавление
(несколько большая связь между элементами), дополнение
(момент увеличения полноты в том, к чему нечто прибавляется),
восполнение (компенсация нехватки), подмена (временное
использование извне пришедшего вместо изначально данного), замена
(полное вытеснение одного другим).
Читатель может проследить работу механизма «восполнитель-
ности» по текстам Руссо (в скобках даются страницы
французского текста «О грамматологии», 1967). В самом деле, знак выдает
себя за нечто самодостаточное, а на самом деле лишь восполняет
нехватки и убожество речи (208); материнская забота
невосполнима, ибо она достаточна и самодостаточна (209); задача
воспитания — восполнить нехватку природных сил и подменить природу
(210); дети быстро научаются командовать взрослыми, чтобы
таким образом восполнять то, чего им не хватает (свои слабости)
(211); разум человека восполняет (читай - недостающие для
жизни и выживания) физические силы (212); жест служит
восполнением к речи, ее нехваткам и недостаткам (334); развитие языков
подчиняется закону восполнителъности и замены (например,
напевные интонации стираются новыми артикуляциями, чувства
восполняются идеями); (369) огонь восполняет нехватку
природного тепла; язык восполняет наличие, то есть
отстраняет-отсрочивает его, одержимый желанием вновь соединиться с ним (397);
письмо — это констатация отсутствия вещи — одновременно и зло,
и благо — тот запас, который всегда прорабатывает истину
феноменов, производит и восполняет ее (412); разум еще не настолько
развился, чтобы своей мудростью восполнить природные порывы
(412); детство взывает к восполнению в ситуации природной
нехватки; системы воспитания перестраивают все здание природы
восполнениями (210); восполнение добавляется (s'ajoute) как
полнота, обогащающая собой другую полноту (208); онанизм выступает
как опасное восполнение, которое обманывает природу (215); в
Терезе герой Руссо нашел восполнение, в котором нуждался (225);
реальное («le réel») может осмысляться лишь по зову восполнения
и на основе следа (228) и т. д. и т. п.
Какова логика восполнения? Его часто уподобляют добавке,
дополнению, избытку — по отношению к некоей уже готовой
и цельной тотальности. Однако это неверно: если бы это было так,
то восполнение было бы «ничем», полнота и цельность
наличествовала бы и без него. Но восполнение — не «ничто», а «нечто»: ее-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 181
ли имеется восполнение, значит, целое есть уже не целое, а нечто,
пронизанное нехваткой, внутренним изъяном. Восполнение — это
структурное правило, игра, порядок, цепь, структура, система,
закон, правило, логика, структурная необходимость, графика,
механизм, странный способ бытия (предполагающий одновременно
и избыток, и нехватку) и даже целая «эпоха».
Восполнение не есть ни наличие, ни отсутствие, ни субстанция,
ни сущность, ни явление, ни свойство, ни атрибут (хотя оно есть
форма того, что свойственно человеку, — речи, общества, страсти).
Есть и некий предел, о который спотыкается всякое восполнение,
восполнительность (это природа, детство, безумие, божество,
невма - нечленораздельное пение). Логика восполнения и воспол-
нительности — «из круга вон выходящее» (exhorbitant). Руссо ее не
видит и не понимает, хотя и чувствует ее. Я сохраняю это понятие
(восполнение, восполнительность) в тексте перевода, напрягая
русский язык: каждый почувствует, что есть случаи, где хотелось бы
видеть другое слово (например, «замена»), но тогда единое понятие
уникальной мощности потеряется в разнообразных и
несоизмеримых контекстах и никто даже не догадается, что оно тут было.
Понятие восполнения, восполнительности для Деррида
одновременно и общее, и уникальное. Взятое из Руссо, связанное
с конкретными и даже интимными смыслами жизни его героя,
оно становится логическим оператором уникальной и почти
беспредельной мощности. Деррида совершает работу, не сделанную
Руссо. В самом деле, Руссо пользовался этим понятием, но не
владел всеми его ресурсами и потому столь часто соскальзывал в
область наличия, метафизики. Что же касается Деррида, то для него
оно, по сути, стало ведущим в общем ряду понятий
деконструкции. Однако это не просто понятие, но понятие на редкость
большого объема и деконструктивной силы при сохранении сугубой
конкретности. А потому его работа «О грамматологии», в которой
оно впервые вводится и широко разбирается, - это не просто
книга наряду с другими, но целая энциклопедия деконструкции. Так,
подобно платоновскому фармакону, руссоистское восполнение
(«опасное восполнение») - это и лекарство, и угроза. Подобно
маллармеанскому гимену, оно указывает и на интимный личный
опыт, и на те области жизни, которые связаны с краями,
пределами, порогами, головоломными переплетениями внутреннего
и внешнего. Однако supplément вмещает и потенциально
содержит в себе все это, тогда как другие понятия деконструктивных
рядов чаще всего указывают лишь на те или иные отдельные
возможности общей логики (или графики) восполнительности.
Восполнение входит и в более сложные конструкции, где оно
вскарабкивается на метауровень (восполняющее (восполнитель-
182 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ное) добавление, восполняющее приложение, восполняющая
замена и пр.). Это непосильное бремя для разума - как помыслить
структуру, выходящую за рамки языка и механизмов метафизики?
Восполнение сводит с ума, ибо не может быть помыслено
разумом, будучи его условием: тут мы уже видим то, что потом ярко
покажет Деррида, — невозможность помыслить принцип
устроения системы внутри самой системы. Для разума парадокс в том,
что тут он должен помыслить свое другое, себя как не-себя. Оно,
как говорит Руссо, «почти непостижимо для разума». Отсюда -
слепота к восполнению, неспособность увидеть и постичь его как
структурный закон метафизического мышления. Запечатлеть
движение, динамику механизма восполнительности в классической
логике тождества невозможно. Руссо не способен помыслить
восполнение: точнее, он хочет превратить его в простую добавку! -
будь то благого или (чаще) злого. Восполнение - это
неразрешимый парадокс («изначальное дополнение», или «существенная
случайность»).
В принципе можно было бы иначе построить и все изложение
схемы понятий - исходя из того, что восполнение выступает как
оператор, который приводит всю схему в движение. Если бы мы
поместили понятие восполнения непосредственно после наличия,
логоцентризма, метафизики и деконструкции, то сразу увидели
бы, как система самодостаточных и самотождественных
определений сдвигается с места, как каждое из них оказывается
несамодостаточным и несамотождественным, а под ними обнаруживаются
следы, выводящие к дифференцирующим механизмам всего, что
вообще происходит с человеком и в жизни, и в культуре.
В любом случае все понятия Деррида заданы так, что между
ними имеются переходы и переправы. «След», «различие», «письмо»,
«архе-след», «различАние», «архе-письмо» и, конечно,
восполнение, восполнительность — образуют почти синонимический ряд,
однако понятия этого ряда указывают на различные состояния
мысли. Читатель сам увидит в последней трети работы «О
грамматологии», как восполнительность почти всегда выступает в
качестве синонима различАния с его способностью промедления и
отстранения. Например, протекание времени и дифференциация
настоящего момента могут быть осмыслены в терминах следа,
письма, различАния, восполнения. Отрицание наличия и
расщепление полноты настоящего момента - это как бы единая
матрица для порождения всех других продуктивных расчленений.
И вообще — каждое из понятий этого ряда может быть описано
в терминах всех других, выступая как то, что подменяет, или как
то, что подменяется. Так, промедление-отстояние в реализации
человеческого желания наиболее весомо характеризует различА-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 183
ние, но может быть отнесено и к следам, и к письму в широком
смысле слова.
А можно сказать и иначе, используя более привычную нам
теперь терминологию: след, различие, письмо — это три
узла-сочленения пространства и времени — каждое со своим собственным,
но и сопряженным с другими обоснованием (как уже отмечалось,
для следа — это архе-след, для письма — архе-письмо, для
различия — различАние). Все эти понятия сплетаются в единую ткань,
образуют единый текст. Наверное, можно сказать, что Деррида
маниакально терпелив в описании разными словами одного и
того же.
Наши ряды только намечены, но не закончены. Вокруг
каждого понятия гнездятся десятки других, контрастных или
родственных. Читатель по желанию продолжит эти ряды: он увидит, как
(перво)начало — понятие вполне «метафизическое» — разрывается
между традиционным «происхождением» и тем деконструкцио-
нистским началом, которое есть либо «повтор», либо, скорее,
такая (перечеркнутая) изначальность, которая дает возможность как
оригиналов, так и копий (по сути, неразличимых); он убедится
в том, как все попытки мысли удержать наличие — например,
на пути представления (ре-презентации) сколь угодно тщательно
организованного повторения — оборачиваются абсолютным
различием в рамках новой ситуации и нового контекста; как
«собственное» и «свойственное» (истинно наличное) дрейфуют
в сторону следов и различий, то есть своей собственной
невозможности, и многое другое. Однако при всех этих ограничениях
нам хочется думать, что начало построению открытой системы
понятий деконструкции все же положено.
А теперь оглянемся на то, что у нас получилось. Мы строили
общий ряд понятий книги как цепочку так или иначе
переходящих друг в друга смыслов, чтобы не потерять общую нить
рассуждения. Но если посмотреть на все это шире, с более отстраненной
точки зрения, мы увидим две не сочетаемые (не
конфигурируемые) проекции: на одной будут преобладать наличия и полноты,
а на другой - следы или разрывы. Сразу возникает законный
вопрос: где истина, а где фантасмагория? В одном изображении
истиной выступит наличие, а иллюзией — разрывы, а в другой,
наоборот, полноты и единства окажутся фантасмагорическими,
а следы и различия - реальными. Больше того, оба мира окажутся
несамодостаточными: так, Руссо, герой, живший среди
сущностей и наличии, интуитивно прозревает неналичное, а читатель
(и даже сам автор), перебравшись в мир следов и различий, тут же
начинает испытывать ностальгию по покинутому миру наличия.
Соответственно, встает вопрос и о деконструкции: ведет ли она
184 Познание и перевод. Опыты Философии языка
нас от иллюзий к истине или наоборот, позволяет ли она нам хоть
как-то держаться в безумном и фантасмагорическом мире?
Когда-то в самом начале своего творческого пути Деррида
красиво опровергал центральность и иерархичность как таковые1,
и этот иконоборческий жест казался заведомо оправданным. Так
ли это выглядит тридцать лет спустя? Для начала вспомним, что
и тогда Деррида, по сути, отрицал и центрированную структуру,
и бесцентровую (и следовательно, беспрепятственную) игру
знаков. Уже там Деррида намекает на что-то третье — на «игру мира»,
как бы снимающую оппозицию между жесткой центрацией и
свободной игрой. Так вот, дальнейшее движение Деррида
предполагает такие предметы, события или состояния, которые, с одной
стороны, не подчиняются логике тождества и наличия, а с другой
стороны, кладут предел бесконечным знаковым замещениям
(среди них смерть, вера, дружба, дар, справедливость, сообщество
как невозможные, но необходимые события).
Переломный момент в традиции мышления о структуре
наступает тогда, когда начинает осмысляться структурированность
структуры без центра: «С этого момента пришлось осознать, что
центра не существует, что его нельзя помыслить в форме налично-
сущего, что у него нет естественного места, а есть лишь некая
функция, некая неуместность, в которой до бесконечности
разыгрываются замещения знаков»2. Именно в тот момент, который
невозможно точно датировать в культуре, в момент осознанного
снятия единственного, священного центра, язык, понимаемый
как механизм знаковых замещений, и получает возможность
повсеместного распространения: «В этот момент все становится
дискурсом <...>, т. е. системой, в которой центральное,
первоначальное или трансцендентальное означаемое никогда не
присутствует абсолютно вне системы различий»3.
§ 3. Языковые обнаружения философии
Наши представления о познании претерпели за последние
десятилетия существенные изменения. Особенно глубокому
пересмотру подверглась методология научного познания - и в ее
внутренних характеристиках, и в ее связи с мировоззренческими,
историко-культурными, социально-психологическими и другими
1 Derrida J. La structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences humaines //
Derrida J. L'écriture et la différence. Paris, 1967.
2 Derrida J. L'écriture et la différence. Paris, 1967. P. 411.
3 Ibidem.? AU.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья, Дерридд: «необходимое и невозможное» 185
параметрами его развития. Совершенно очевидно, однако, что
проблемы методологии научного познания самым тесным
образом связаны с проблемой предмета, его конституирования,
формирования. Методолога интересуют прежде всего не готовые
объекты вне зависимости от путей их конституирования, но именно
сами эти пути, различные этапы и стадии того сложного процесса,
которым и является процесс оформления представлений о
предмете научного познания. И потому особое внимание
исследователи уделяют прежде всего «нижним этажам» формирования
предмета познания, так как именно здесь складывается спектр
познавательных средств. При этом вопрос о предмете науки,
очевидно, не может решаться ни формально и априорно, ни
прагматически и контекстуально — в каждом конкретном случае
приложения заранее заданного метода к новым предметным областям.
Но тогда как же должна складываться такая определенность,
каковы ее параметры?
Когда мы рассматриваем столь характерное и вместе с тем
столь яркое — в смысле всех этих интересующих нас здесь
процессов - явление в современном гуманитарном познании, как
структуралистские исследования (в частности, во Франции), нам
приходится дать себе отчет в том, сколь многое нам еще здесь
непонятно. Вполне очевидна неполнота
социально-психологических характеристик структурализма как реакции на субъективизм,
равно как и узкометодологическая его трактовка,
сосредоточенная на проблемах применения заранее выкованного метода в
широких сферах гуманитарного познания, хотя именно эти качества
структуралистской методологии позволили выявить общие
структурные закономерности в самых, казалось бы, несопоставимых
областях. Вместе с тем совершенно очевидна здесь и неполнота
или даже суженность методологической рефлексии относительно
применимости познавательных средств структурализма в тех или
иных областях. К чему собственно прилагается
структуралистский метод? Каков предмет структуралистских исследований?
Можно, по-видимому, высказать гипотезу о том, что в
структуралистских исследованиях мы имеем дело с особой предметной
областью, которая пока еще не может быть представлена в
дискретных и дискурсивных формах, которая скорее угадывается,
улавливается как тенденция (и потому схватывается самими
представителями структурализма подчас на уровне иллюзорном,
далеком от предметной глубины и концептуальной расчлененности),
нежели постигается как отчетливый сформировавшийся предмет
научного осмысления. То, что формирующаяся теория
определяется не только методом, но и предметом, даже если он еще не
сложился в знании, мы видим на примере такого видного мыслителя
186 Познание и перевод. Опыты Философии языка
структуралистской и постструктуралистской ориентации, как
Жак Деррида. У него нет своего объекта в том смысле, в каком
используются, скажем, ритуал или миф у К. Леви-Стросса,
феномены массовой культуры, а также литературные произведения
у Р. Барта или даже история у М. Фуко; нет у него и такой
«привилегированной» точки употребления метода, как, допустим, «поле»
для этнолога или «диван» для психоаналитика. Тот материал,
на котором формируется научный предмет Деррида, - это
языковые обнаружения философии.
Это не звучит оригинально. Осмысление роли языка в
формировании мышления, вполне самостоятельной и не прикладной,
стало необходимостью практически для всех направлений
современной западной философии, хотя, конечно, способы такого
осмысления могут быть весьма различными. Философия
позитивистской ориентации, например, уже почти столетие ставит своей
задачей очищение мысли от изначальной языковой
метафоричности, от нестрогих и расплывчатых обыденных значений языка;
философия Хайдеггера и хайдеггерианцев, напротив,
предполагает не искоренение метафоричности языка любыми средствами
и не превращение его в строгое, точное, однозначное орудие
выражения мысли, но как раз полное погружение в язык и исконную
языковую метафоричность как пристанище бытия и всякой
правомочной мысли о бытии.
Деррида идет здесь своим путем; за феноменальным уровнем
своего материала — языковыми проявлениями философии, он,
по сути, нащупывает предмет, который в своих определениях
может быть только метаязыковым (или архе-языковым?) и
не/около-философским. В самом деле, если взять язык «как он есть»,
то мы увидим систему достаточно устойчивых и заранее заданных
категориальных расчленений, навязываемых языком всякой
мысли (например, систему бинарных оппозиций типа присутствие -
отсутствие, белый — черный и т. д.). Если же взять философию
«как она есть», то она должна будет раскрыться перед нами как
самодостаточная и самообоснованная система устоявшихся
категорий. Деррида рассматривает и язык, и философию в особом
повороте, где за языком и в языке просвечивает то, что можно было бы
назвать чистым «письмом», а за «полнотой присутствия» объекта
в философии обнаруживаются «различия», «следы»,
«προ-граммы» и т. д. и т. п., образуя сами условия возможности акта мысли,
означения, смыслополагания.
Отправляясь от своего материала - языковых обнаружений
философии в понятиях философских текстов - Деррида
осуществляет многократные операции, которые выше былм названы
«челночными»: он идет от языковой эмпирии текста к философии
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 187
и философским смыслам и затем опять возвращается к эмпирии
на новом витке. При этом язык приводится во «взвешенное»
состояние: вступают в действие далекие аналогии между
словесными формами и смыслами, перепроверяются привычные языковые
ощущения, переструктурируются устойчивые смысловые поля,
проблематизируются априорные категориальные расчленения;
при этом, по сути, мощный концептуальный аппарат
«обессмысливания» приводит язык к тому, что можно было бы назвать
«нулевой ступенью смысла». Одновременно на место этих
нейтрализованных значений и категориальных расчленений вводится
в действие множество новых понятий, придуманных Деррида или
чаще взятых из анализируемых философских текстов, где они
казались несущественными, малозначимыми: в новом
исследовательском повороте они начинают обнаруживать и новые
смысловые возможности. В результате таких поступательно-возвратных
движений между языковой эмпирией и философскими смыслами
и должно осуществляться — постепенно, «по крупице» —
дискурсивное прояснение тех мыслительных содержаний, которые пока
еще не имеют дистинктивной формы и как бы пребывают на
уровне нерефлексивного опыта, и одновременно осторожное снятие
тех дискурсивных расчленений, которые, будучи для нас
привычными, оказываются слишком грубыми и прямолинейными в
отношении формируемого мыслительного содержания.
Само взаимодействие и взаимоопосредование между сферой
расчлененности, дискурсивности, дистинктивности (в
терминологии Деррида — «различие», «различАние», «след», «грамма» и пр.)
и сферой тайны и сокрытости, неясности, нерасчлененности,
неочерченное™ (в терминологии Деррида, «вуаль», «покров»,
«пелена», «гимен» и пр.) предстают перед нами как гигантская метафора
акта означения, пронизывающая все работы Деррида и в каждой из
них обнаруживающая свои особые качества и аспекты. Главный
герой, главное «действующее лицо» всех произведений Деррида —
письмо в его особом смысловом повороте, письмо как метод
расчленения и различения мыслительных содержаний, но, по сути,
и как предмет — тот противоречивый и парадоксально задаваемый
предмет, который прорисовывается в «деконструктивных» актах
работы философа. Хотя, однако, письмо и выступает в концепции
Деррида как протагонист, оно может осуществлять свои функции
лишь при поддержке других близких понятий. Присмотревшись
внимательнее к некоторым основным понятиям метода Деррида,
мы попробуем прояснить некоторые черты того особого предмета,
который стоит за всеми операциями его мыслительной работы.
Метод Деррида заключается, таким образом, в
«деконструкции» философских текстов путем «различания», обнаружения
188 Познание и перевод. Опыты Философии языка
в них следов и различий или иначе — «письма» в чистом виде. Что
все это значит? Процедура «деконструкции» текстов предполагает
обнаружение (или точнее — самообнаружение) в этих текстах их
внутренней самопротиворечивости, непоследовательности,
нарушающей замкнутость системы и обесценивающей ее прежние
опоры. Деконструкция, как ясно из уже сказанного, предполагает
особого рода работу с языком, с текстом, выявление меры
самостоятельности языка со всеми его концептуальными
расчленениями и со всей его метафоричностью - по отношению к тем
мыслительным содержаниям, которые в нем запечатлеваются
и выражаются. Деконструкция, в свою очередь, невозможна без
работы «различАния» (différAnce), погружающей нас в своего
рода «неразрешимую диалектику». Этой диалектикой пронизан
и сам термин «различание» — неографизм, который призван
обозначать одновременно и различие как результат, и различие как
процесс, как акт различения-отсрочивания (таковы два основных
значения французского глагола «différer»). «Грамма как
различание — это структура и движение, которые не могут быть помысле-
ны на основе оппозиции присутствия/отсутствия. Различание -
это систематическая игра различий, следов различий, размещения
(курсив автора), посредством которого элементы соотносятся
друг с другом. Это размещение есть производство, одновременно
и активное, и пассивное (буква "а" в слове "различАние"
указывает на неясность в отношении активности или пассивности,
на то, что не может управляться и распределяться этой
оппозицией) - тех интервалов, без которых "полные" термины не могли бы
означать, не могли бы вообще функционировать»1.
1 Derrida J. Positions. Entretiens. Paris, 1972. P. 38-39. В переводе Бибихина этот
фрагмент звучит так: «Грамма как разнесение, в таком случае, - это структура
и движение, которые уже не поддаются осмыслению на основе оппозиции
присутствие/отсутствие. Разнесение - это систематическая игра различений, следов
различений, размещения, через которое элементы соотносятся одни с другими. Это
размещение есть продуцирование, одновременно активное и пассивное
(необычное а в слове «différAnce» указывает на эту взвешенность между активностью и
пассивностью, на то, что еще не поддается упорядочению и распределению при
помощи этой оппозиции), тех интервалов, без которых «полноценные» элементы не
были бы означающими, не функционировали бы» . Деррида Ж. Позиции Беседы
с А. Ронсом, Ю. Кристевой, Ж.-Л. Удбином, Г. Скарпеттой. М., 2007. С. 39-40.
Подробнее о переводе Деррида см. во втором разделе. Главное здесь то, что
знаменитые опорные термины Деррида différence - différAnce я перевожу как
«различие - различАние», а Бибихин как «разность - разнесение»; в результате в его
остроумном переводе теряется смысловая связь этой пары терминов с философской
традицией (где присутствует, разумеется, не «разность», а «различие» в его
соотнесенности с тождеством). Кроме того, для того, чтобы подчеркнуть в неографизме
différAnce необычный графический элемент а, Бибихин вынужден время от
времени переходить к французскому написанию; в моем варианте это а так или иначе
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 189
Особенно наглядно эти деконструктивные процедуры различа-
ния проявляют себя в анализе текстов, посвященных
истолкованию взаимосоотношения «письма» и «речи» в истории культуры
и в современном ее состоянии. На огромном числе примеров (от
Платона до современных структуралистов) Деррида обнаруживает
осознанное или подспудное выдвижение на первый план речи
(прямое и непосредственное орудие коммуникации) и трактовку
письма (косвенное средство представления представления) как
«паразитического», «вторичного», несущего с собой ложь и
лицемерие, разобщенность и вражду людей. При этом именно момент
говорения и одновременно слушания и понимания собственной
речи (s'entendre-parler) осмысляется как та основа, на которой звук
и значение, внутреннее и внешнее, материальное и
нематериальное соединяются в единой цепи коммуникативных актов. По
Деррида, такая привычная для нас иерархия необоснованна. Коль
скоро те качества знаков, которые и делают их орудиями
коммуникации, ярче всего проявляются именно на письме (например,
на письме легче закрепляются такие смыслоразличительные
признаки, которые на слух не воспринимаются, и др.), значит, письмо
«важнее» речи; но коль скоро «письмо» и «речь» в обычном их
понимании связываются отношениями взаимообусловливания,
значит, должен быть обнаружен иной, более фундаментальный
уровень, на котором бы определялись условия возможности и того,
и другого, как письма, так и речи в привычном смысле: так
вводится понятие «архе-письма» как игры различий, как умножения
«следов» и варьирующих саморазличающихся повторов элементов.
Но зачем нужны Деррида все сложности с «различанием»,
«архе-письмом», «деконструкциями», «следами», с
прочерчиванием на месте кажущихся «полнот» и «присутствий» множества
следов, свидетельствующих о различиях и отсрочках, о
смещениях и границах, о пределах и других «антиметафизических»
феноменах в действии? Зачем ему нужно бесконечное умножение
понятий, денотат которых остается неясным или, в самом лучшем
случае, «прочерченно-неясным», «прослеженно-завуалирован-
ным»? И каков статус той дисциплины - «грамматологии» -
которая, не стремясь к синтезу и не достигая его, так или иначе
обобщает и объединяет методические приемы и методологические
принципы «деконструктивной» работы «письма»?
Сам Деррида дает на эти вопросы различные и не очень ясные
ответы, в которых, по сути, аргументируются различные подходы.
присутствует и в русском варианте термина (различАние); третий вариант
обозначения différAnce в переводе Бибихина - оттяжка, оттягивание, так что единого
термина русский читатель не опознает.
190 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Первый можно было бы назвать интенционально-динамическим:
здесь грамматология характеризуется прежде всего как некое
устремление, задача, настроенность мыслительной работы с
текстами. Второй подход — статический, связанный с характеристикой
наличных состояний и результатов: здесь грамматология
трактуется как область «соучастия корней»1 различных наук и дисциплин
(в том числе, философии и тех или иных «региональных» или
специально-научных дисциплин). Раскрывая методологические
и эпистемологические намеки этого определения, мы считали
ранее уместным говорить в этой связи о проблеме условий
возможности гуманитарного познания, и, по-видимому, небезосновательно.
Однако ныне представляется необходимым пополнить
рассмотрение вопроса об условиях возможности познания анализом
проблемы реального формирования нового, почти не изученного
предмета, который обнаруживает себя противоречиво и парадоксально.
Область такой особой, не сложившейся в знании предметности
тонко предчувствовалась и отчасти уже описывалась во многих
работах структуралистов, хотя, как правило, в них шла речь скорее
о конструировании — в постнеокантианском смысле — нового
объекта гуманитарного познания, нежели о первоначальных этапах
познания уже существующего в действительности предмета.
Однако и сам Деррида, и целый ряд его исследователей
категорически возражают против самой возможности определить те или
иные шаги осуществления проекта Деррида как шаги познания
особого научного предмета2. По Деррида, никакая научная
предметность не соответствует и важнейшему для него понятию «архе-
письма». «Это самое архе-письмо <...> не может и никогда не
сможет считаться объектом науки. А все дело в том, что оно никогда не
сможет быть сведено к форме присутствия. Присутствие же
управляет всей объективностью объекта и всеми познавательными
отношениями»3. При этом аргументация Деррида такова: декон-
структивная методология не соответствует никакому научному
предмету, архе-письмо и другие, родственные ему понятия
никогда не смогут стать объектами научного исследования, так как само
понятие научного объекта есть не что иное, как видоизмененное
«метафизическое» понятие присутствия, тогда как суть архе-пись-
ма и др. — как раз в выявлении «отсутствий» и «различий». (Тем
самым понятие научной объективности, как и вообще понятие
объективности, сводится всецело к возобновляемому и воспроиз-
1 DerridaJ. De la grammatologie. Paris, 1967. P. 131, 140, 142.
2 Ibid.?. 13,42,74,88, 109, 124.
220 Ibid. P. 83.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: ♦необходимое и невозможное» 191
водимому присутствию, к полаганию самотождественных
предметов, явлений, ситуаций.) И далее: никакая наука - скажем,
наука о значении или некая новая семиотика — невозможна за
пределами метафизики, так как наука принадлежит
«метафизической» эпохе и вне ее теряет свой смысл, ибо лишается главного
понятия - объективности. Подчеркивая связь объективности
в научном и в философском («метафизическом») смысле, Дерри-
да трактует само понятие объективности — как устойчиво
воспроизводящегося присутствия — в феноменологическом духе.
Но такая трактовка объективности не учитывает других модусов
существования и обнаружения того «особого» объекта, о котором
идет речь1. Важно здесь и вот еще что. Деррида считает и
постоянно подчеркивает, что в каждом тексте, принадлежащем
философской (в его терминологии «метафизической», «логоцент-
ристской») традиции обнаруживается «сосуществование» в
определенной пропорции собственно метафизических постулатов
и предпосылок, более или менее ясно выраженных, с тем слоем
текста, с теми темами, которые можно назвать критическими в
отношении этих метафизических предпосылок. Но ведь тогда,
очевидно, и вопрос об объекте и объективности должен ставиться
как-то иначе, более дифференцированно в отношении обоих этих
аспектов текста: по-видимому, здесь можно было бы говорить
о своего рода многоуровневой объективности, постигаемой на
различных уровнях различными способами.
Хотя Деррида и отрицает объективность своего объекта,
многие его особенности прочерчены им достаточно отчетливо.
Очевидно, что это нефилософский объект, несмотря на то что он
весьма близок к философии и без посредства философии вообще не
может быть замечен, осмыслен, обрисован. Этот объект не стоит
«перед» нами, как того требовала бы этимология слова «объект»,
«предмет», но задается косвенными, обходными, окольными
путями и средствами. При этом очевидно, что в его состав так или
иначе включаются необычные способы языкового существования
и обнаружения философии и других форм интеллектуальной
деятельности; многие возникающие при этом проблемы должны
были бы, по-видимому, в будущем заинтересовать, в каких-то своих
аспектах, теоретическую лингвистику, которая за последние
десятилетия продвинулась вперед в анализе различных способов
1 Правда, в размышлениях Деррида о снятии трансцендентального означаемого
в современной философии фактически содержится мысль о расширении,
высвобождении тем самым пространства гуманитарных наук и, соответственно,
возможности объективного познания в этой области. (Derrida J. La structure, le signe et le jeu
dans le discours des sciences humaines // Derrida J. L'écriture et la différence.
P. 409-428).
192 Познание и перевод. Опыты Философии языка
«письма», различных текстовых структур, форм их организации,
зависимостей от передаваемого содержания и др. Наконец, что
особенно важно, пытливая мысль ученого, формирующая
представления о «новом» предмете, во многом выступает как попытка
продвижения вперед от дихотомических, формально-логических
рассудочных определений в сторону осмысления многих
парадоксов в соотношениях мыслительных категорий и понятий. По сути,
мысль Деррида, отказывающегося от бинарных категориальных
расчленений структурализма (и всего предшествовавшего ему
«метафизического» мышления), очень близка моментами к
диалектическому утверждению тождественности противоположных
определений. Утверждение «самостирающейся» данности своего
объекта, умножение парадоксальных, оксюморонных
определений, дробление привычных смыслов, по сути, подводит нас к
более широкой схематике, нарушающей формально-логические
каноны интуицией, фантазией, вымыслом — не как прихотью,
но как необходимостью.
Здесь, конечно, не место и не время для сколько-нибудь
подробного рассмотрения эволюции творчества Жака Деррида,
мыслителя, по-своему очень последовательного, одержимого
одной идеей, выпускающего на авансцену всегда одного и того же
протагониста - «письмо» («архе-письмо»), хотя в разных формах,
обличьях, жанрах. Однако, если взять разные моменты этой
динамики - ранние работы о Гуссерле 1960-х годов, с одной стороны,
и, скажем, «Почтовую открытку» (1980) - это середина его пути,
то перед нами прочертится одна из важных тематических линий
творчества Деррида1.
Логический предел возможного движения от строгих, вполне
академичных работ раннего периода, от «строго»-философского
анализа, очевидно, не удовлетворившего Деррида, к «литератур-
но»-философским экспериментам уже достигнут. Дальнейший
1 Это именно логическая, а не хронологическая эволюция, поскольку уже в
ранних работах Деррида, по сути, содержалась идея единства «разумного» и
«неразумного» в разуме, требовавшая выхода за рамки категориально-логического анализа
(Derrida J. L'écriture et la différence. Paris, 1967. P. 86, 96), a также идея cogito с его
способностью высказывать фантастическое, гиперболическое, предельно
усиленное, наряду с исторически упорядоченным, укорененным, структурированным
(ibid. Р. 83). Фактически и следующая за «Почтовой открыткой» работа Деррида -
«Об апокалиптическом тоне, недавно возникшем в философии» (Derrida J. D'un
ton apocalyptique adopté naguère en philosophie. Paris, 1983) (перифраза заглавия
работы Канта «О высокомерном тоне, недавно возникшем в философии»,
направленной против современных ему мистификаторов философии) - продолжает ту же
линию. Речь в ней идет о том, что можно было бы назвать аффективным
субстратом философии, о том, что связано с человеческими желаниями и проявляет себя
в колебаниях и модуляциях тона философского рассуждения.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 193
шаг на этом же пути невозможен, движение по этой линии
и в этом направлении предстанет, по-видимому, как исчерпавшее
себя. Однако воплощения этой тенденции - вовсе не
«отрицательный пример», но скорее самостоятельный философско-бел-
летристический аргумент в пользу единства и взаимосвязи
философии и искусства, философии и литературы, единства форм
самоосуществления творческой разумности во всех возможных
сферах человеческой деятельности, а одновременно философско-
эпистемологический аргумент в защиту реального существования
того зыбкого предмета познания, которому Деррида отказывает
в статусе объективности. Казалось бы, что общего между вполне
строгим рассуждением на тему о научном — точнее, ненаучном —
статусе «архе-письма» и этим экспериментальным сочинением,
жанровые признаки которого соединяют философский трактат
с сентиментальным романом в письмах, роман в письмах — с
пародией на эпистолярный жанр как таковой, фарс с трагедией,
автобиографические заметки (с указанием места и времени) с
чистейшим вымыслом, отчет о научных командировках — с
галлюцинаторными прозрениями относительно смысла бытия? Но
общее есть: главный неперсонифицированный герой этих текстов,
как уже говорилось, — письмо, единое в своей многоликости.
Сюжетная канва романа «Послания» довольно рыхлая: это
собрание писем и отрывков из писем (даты точно указаны - между
3.06.77 и 30.8.79); их пишет своей любимой в Париж человек,
который путешествует по свету (Оксфорд, Йель, Женева и т. д.),
преподает в университетах, ведет исследовательскую работу;
по многим признакам это «сам Деррида» (например, один из
семинаров посвящен теме «Различание»). Однако главный герой
романа, как уже говорилось, не лицо, но именно письмо — письмо,
которое спорит с речью, голосом, словом, с прямой и
непосредственной коммуникацией и всегда выходит победителем; письмо,
которое одновременно и расплющивается в следах, различиях,
пробелах (письма испещрены пробелами и разрывами, полны
незаконченных мыслей, недоговоренностей, вплоть до того, что
самое главное письмо, отосланное героем, безвозвратно теряется),
но вместе с тем и несмотря ни на что все же улавливает то. что
ускользает, самостирается, дифференцируется, запечатлевая
нетленную полноту момента.
Статус письма, как и других понятий Деррида, противоречив:
оно одновременно и достигает, и не достигает адресата. Деррида
пытается спорить с лакановским высказыванием по поводу
«Украденного письма» Эдгара По: Лакан считает, что «письмо всегда
приходит к своему адресату» (за этим высказыванием, вполне
понятно, лежат многие сюжетные перипетии анализируемого Лака-
194 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ном рассказа и намек на глубокий смысл финала). Нет, -
возражает Деррида, письмо никогда к адресату не приходит, а если
приходит, то не к тому, кому оно послано, в конечном счете заставляя
усомниться даже в том, тому ли оно действительно
предназначалось, кому было отослано1. В итоге, однако, Деррида все-таки
вынужден здесь признать правоту Лакана: несмотря на все
неопределенности плана, замысла, намерения, несмотря на
неуверенность в самой возможности коммуникации, письмо все же
достигает адресата.
И здесь очень существенно, что французский термин
destinataire — «получатель почтового отправления», «адресат» — имеет
смысловые коннотации, начисто отсутствующие в
бюрократически звучащем русском слове «получатель»: это не только пункт
прибытия, но и место осуществления судьбы. Лишь в свете этих
более «возвышенных» смысловых коннотаций нам становится
понятнее, зачем Деррида вообще нужно спорить с Лаканом: речь
идет не только о том, доходит ли письмо до адресата, но и о том,
осуществляется ли судьба, нечто обетованное. И когда герой
Деррида называет адресата mon unique destiné, он играет смыслами
«судьба моя» и «единственный человек, которому я пишу и кто
получает мои письма». В свете таких «судьбоносных» коннотаций
осмысленным оказывается и такое личностно-психологическое
переосмысление декартовского cogito, которого еще не знала
философия: «я существую, значит, я следую за тобой» (оно основано
на омонимии в je suis и je te suis )2.
Универсальная и как бы самоосуществляющаяся стихия
письма в конечном счете торжествует (герои принимаются вновь
писать друг другу даже тогда, когда они, казалось бы, встретились,
чтобы более не расставаться); тем самым необходимость
опосредованное™ торжествует над фантазмами непосредственности
(будь то фантазм непосредственности идеального - абсолютная
истина или фантазм непосредственности реального - рождение
ребенка как незнаковое общение между людьми). Эта игра письма
серьезна как жизнь и смерть, в ней есть и фарс, и высокая
трагедия. Главные эмоции, которыми движим герой, - это стыд и страх
перед ясностью и понятностью, перед открытостью своего
сокровенного другому, чужому, чуждому, перед вмещением
уникального содержания своей жизни в безликие, общедоступные формы
(«Мне стыдно стремиться к понятности и убедительности... мне
1 « Кто пишет? Кому? Что хочет отправить, адресовать, доставить? <... > Я должен
в конечном счете чистосердечно признаться, что мне это неведомо» (Derrida J. La
carte postale: de Socrate à Freud et au-delà. P. 9).
2 Ibid. P. 128.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 195
стыдно говорить на общем языке, говорить, а значит и писать,
обозначать что бы то ни было...»1; «...когда я пишу, даже здесь,
на этих бесчисленных открытках, я уничтожаю не только то, что
я говорю, но и тебя, моего единственного адресата.., а значит и
саму возможность послания»2. Но страх перед умерщвлением
уникального общезначимым, перед открытостью и
незащищенностью открытки, отдаваемой в чужие руки, — это лишь одна
сторона медали. Может ли открытость открытки нести любимой
смерть, если та же самая открытка — изображение на ее обратной
стороне — становится открытием и откровением для героя? если
оно дает жизнь даже тем людям, которые умерли двадцать пять
столетий назад?
Так, в реальную жизнь героев романа включается «нереальная»
жизнь персонажей - Сократа и Платона, изображенных на
средневековой миниатюре в книге о предсказании судьбы (рукопись
XIII в. хранится в той самой знаменитой библиотеке, где работает
герой) и массово тиражированных на почтовых открытах, которые
герой шлет своей возлюбленной. Обнаружение этого
изображения было для него потрясением, тайной, шифром, требующим
разгадки. Внимание героя приковано к миниатюре странным
и никак не объяснимым «сродством» его собственной концепции
с концепцией средневекового художника. Герой Деррида увидел
в изображении пишущего Сократа, пишущего и пером, и резцом,
пишущего вопреки всем известным историческим сведениям, —
парадоксальное иконографическое подтверждение своей
концепции главенства письма как архе-письма, как условия
возможности всех расчленений, знаков, следов. Герой воспринимает
разгадку этого загадочного изображения как личную задачу
и ответственность, а сам образ Сократа и Платона — как негатив,
который должен проявиться именно в нем и через него, хотя бы
и двадцать пять столетий спустя3.
Смысл здесь не в каком-то конкретном ответе на поставленный
вопрос, ибо предлагаемые героем Деррида истолкования нарочито
приземлены, окрашены фарсовостью, а подлинно «научный» ответ
с трактовкой смысла расположения фигур его все равно не
удовлетворяет, - но именно в жизненной неистребимости усилия,
направленного на то, чтобы разгадать загадку. Но если для героя
Деррида загадочен смысл изображения, то для нас пока остается
загадочным отношение героя к вопросу о смысле этого изображе-
1 Ibid. Р. 12.
2 Ibid. Р.39.
3 Ibid. P. 14.
196 Познание и перевод. Опыты Филосоаши языка
ния. Для чего понадобилось ему так упорствовать в своем вопроша-
нии, давая при необсуждающейся презумпции величия этих
мыслителей столь нелепые истолкования их изображения (ср. Сократ -
скромный секретарь, готовый записать мысли авторитарного
оратора - Платона; Сократ - переписчик партитуры музыкального
произведения, которым готовится дирижировать Платон; Сократ -
старый дед, у которого капризный ребенок - Платон — чего-то
требует; Платон - поза неустойчива - спешит сесть на
отправляющийся поезд, или толкает коляску — с младенцем? стариком?
калекой?; сцена суда, на который Платон требует, чтобы Сократ
записал свою последнюю волю, свое завещание и т. д.)?
По-видимому, ответ на этот вопрос лежит в той области, где
проясняются смысловые основания общности между более
ранними работами Деррида, где, как мы уже говорили, постепенно и
подспудно формируется «особый», «новый» объект, не вмещающийся
в готовые категориальные членения мысли и языка, и теми его
работами, где центр тяжести переносится на экспериментирование
в околофилософской области литературного письма. Общность
между этими областями простирается гораздо дальше, чем может
показаться. Мы уже упоминали о том, что в основе структурной
организации обеих сфер лежит принцип соотнесения значений по
принципу оксюморона, только в первом случае, условно говоря,
в «научно»-философских работах этот принцип пронизывал
употребляемые понятия, а в данном, рассматриваемом примере «лите-
ратурно»-философского письма он затрагивает чувства,
намерения, поступки людей (примеров такой оксюморонности можно
привести огромное множество: спрятать открытку или открыть ее
всему свету? сжечь письмо или увековечить написанное?
освободить свое письмо от излишеств тона, жанра, стилистических
красот, оставив лишь самое необходимое, или, наоборот, наделить его
всеми мыслимыми и немыслимыми красотами, провести через все
веками отработанные возможности выражения? и т. д.).
Но это еще не самое главное: важнее то, что идеи и люди,
философские понятия (или воплощающие их персонажи, скажем,
Сократ и Платон) и реальная жизнь оказываются в конечном
счете звеньями единой цепи взаимосвязей: переживания «маленьких
людей» по поводу утерянной почтой открытки достойны высокой
трагедии, а великие философы, достойные бессмертия, причаст-
ны простой обыденной жизни «без всяких скидок», во всех ее
бытовых и повседневных перипетиях. Отсюда, наверное, и все эти
опрощивающие приемы, все изобретенные для Сократа и
Платона героем Деррида формы реальной жизни. Тогда и цепь
коммуникаций не кажется более смертельно опасной для
уникального в малом и великом (ведь в конце концов герои Деррида
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 197
заслужили право «заново изобретать» свой собственный язык или
«наш чужой» язык, как они говорят), а Сократ и Платон, став
реальной и необходимой частью жизни героев, заслужили саму
возможность того, чтобы их «просто полюбили». Получается, что
к одному и тому же вопросу мы подходим с разных сторон:
спросить о том, вмещается ли жизнь в мысль, и спросить о том,
вмещается ли мысль в жизнь, — по сути, одно и то же. И еще: если
удержать в сознании оба эти вопроса одновременно, тогда
и перспективы ответа на любой из них по отдельности предстают
как более оптимистические. В самом деле, разве нам труднее
вместить Сократа и Платона (или, иначе говоря — мысль) в формы
реального существования, нежели вместить жизнь и все
возникающие в ней «новые объекты» в новые мыслительные формы? Одно
немыслимо без другого, неосуществимо без другого.
Итак, «Послания» Деррида — произведение сложное, но вовсе
не безнадежно бессмысленное. В самом деле, нагнетание
неопределенностей (неизвестно — кто, кому, зачем, о чем пишет) не
превращает героя Деррида в экзистенциалистского упрямца, который
абсурдно борется с абсурдом, оставаясь в недрах абсурдного:
скорее, это упрямство мыслительного, душевного усилия, которое
может быть и не чуждо игре, выдумке, фарсу, самоиздевке, но
начисто лишено скуки и безразличия, таким может быть лишь
самоощущение человека, воспринимающего акт мысли как
жизненную задачу. (В этом мне видится коренное отличие такой этики от
экзистенциалистской: самоутверждение человека не требует здесь
отвлечения от объективной мысли и сосредоточения на
экзистенциальных переживаниях, но предполагает взаимопронизывание
мысли и жизни как равно необходимых слоев человеческого
бытия.) Читатель Деррида - это человек рафинированной культуры,
тонко чувствующий. Однако и ему приходится вырабатывать
навыки обращения с новым мыслительным материалом, учиться
оперировать непривычными понятиями, мобилизовывать
ресурсы воображения и возможности концептуализации. В любом
случае развитие восприимчивости к новому, способности
самостоятельно пользоваться многоязычными понятиями философской
традиции, причастными не только мысли, но и жизни, — важное
культурное дело.
Какова же для нас та гносеологическая мораль, которую
можно было бы извлечь из обращения Деррида к «литературно»-фило-
софскому письму как одной из возможностей, содержащихся
в «архе-письме» как условии всех возможностей дискурсивности?
Соотнесение философии и литературы — далеко не новость в
историко-культурной традиции. Во многих смыслах правомерной
представляется точка зрения, согласно которой само существова-
198 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ние философии всегда зависело от литературного дискурса, а
отказ, самоочищение философии от некоторых типов языка как
«фиктивных» и «риторических» был одним из способов
самоопределения самой философии. В этом отношении есть и другая
сторона: само по себе полагание литературы как чего-то
вынесенного вовне, чуждого, осмысление отношения между философским
и литературным как достаточно жесткой оппозиции было
способом и формой признания той «угрозы», которую язык
представляет для философии. Получается так, что отводя языку в литературе
особое место, где он может раскрыть все стороны своей «языково-
сти», а затем трактуя эту сферу как производную,
проблематичную и несерьезную, философия «заклинает угрозу»1.
Обычно соотношение между философией и литературой
трактуется весьма сходно с тем, как Деррида трактует соотношение
между речью и письмом. А именно: философия (она же — речь )
наделяется способностью прямого отношения к истине, а
литература (она же — письмо) рассматривается как нечто производное,
вторичное, несамостоятельное. Иначе говоря,
непосредственность философски-речевого отношения к истине покупается ценой
третирования письменно-литературного отношения к истине,
хотя на самом деле отторгнутая литературность выступает как «свое
другое» философии. «Деконструктивный» ход размышлений
Деррида должен был бы заставить нас помыслить некую архе-литера-
туру (или архе-философию?), представляющую условия
возможности как философии-речи, так и литературы-письма в их
обыденном смысле. При переводе деконструктивных процедур на
более привычный для методолога язык, становится очевидно,
сколь плодотворна взаимная обращенность философии и
литературы, сколь полезны, следовательно, исследования литературного
слоя философских текстов (и прежде всего — анализ их
риторического строя, системы тропов и фигур, участвующих в построении
собственно философской аргументации)2 и одновременно сколь
полезно рассмотрение тех компонентов литературы, где она по-
своему разрабатывает общие для всех видов разумной
человеческой деятельности ресурсы мысли и выражения.
Строгая философия и «литературность», как справедливо
замечают некоторые исследователи Деррида, сосуществуют в его
работах не на манер компромисса, но - каждый в достаточно ради-
1 Culler J. Jacques Derrida // Structuralism and Since. From Lévi-Strauss to Derrida.
Oxford, 1982.
2 Интересное развитие этой темы мы находим в работе Derrida J. La mythologie
blanche: la métaphore dans le texte philosophique // Derrida J. Marges - de la
philosophie. Paris, 1972. P. 247-324.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 199
кальной форме; и это придает работам Деррида своеобразие и
силу. Лишь теперь для нас проясняется место работ Деррида,
определяемое в двух пересекающихся кругах - методолого-лингвисти-
ческих исканий XX в., с одной стороны, и культурных феноменов
от философии Гуссерля до новейших литературных течений —
с другой. Неправы будут, видимо, и те критики, которые
остановятся перед стеной непонятного в фактически исследуемом
Деррида предмете, не увидев за ней ростков постижения новой
проблемной области. Равно как и те, что возьмутся безоговорочно
критиковать, скажем, его пристрастия к авангардистской
литературе. Ответ первым должен был бы, наверное, предъявить
скептикам - на другом историческом материале — аналогичные случаи
трудного формирования познавательных предметов на ранних
стадиях. Ответ вторым должен был бы, наверное, напомнить им о
том, что литературный авангардизм, как и другие сходные
процессы в искусстве, подчас содержат в себе первоначальные
экспериментальные проработки замыслов, позднее развитых в системе
других средств, как художественных, так и познавательных.
Иначе говоря, Деррида занят не бессмыслицей, а тонкими, еще
не вполне очерченными проблемами, он идет к овладению
высшими премудростями метода, и потому для него не случайность —
само обращение к современному литературному материалу. В
результате применения своей достаточно изощренной техники
анализа он в состоянии усмотреть логику, структуру в, казалось бы,
совершенно хаотичном мышлении, уловить мало заметные
взаимосвязи между абсурдными текстами, которые, по видимости,
«ничего не отражают», и действительностью, породившей эти
тексты. Апологетика того, что некогда называлось «контркультурой»,
тем самым до известной степени присутствует в текстах Деррида.
Однако ограничиться такой констатацией было бы грубейшим
упрощением, ибо перед нами достаточно утонченное понимание
реальной диалектики языка, литературы, философии,
гносеологии. Отсюда и тот интерес к категориальным новшествам,
который заставляет Деррида бесконечно умножать и
дифференцировать употребляемые им понятия. Когда мы говорим о двух
ипостасях Деррида — «строго»-философской и «литературно»-
философской, - мы даем себе отчет в том, насколько
осмысленным, понятным и вполне объяснимым шагом было обращение
Деррида к литературе и литературным экспериментам при
анализе предмета, который неопределенен, рассудочными понятиями
не уловим и потому естественно предполагает выход в область
художественного творчества, где необходимостью становится
вымысел, интуиция, фантазия. Когда мы размышляем об этих двух
ипостасях Деррида, мы не сводим его ни к одной из них и полага-
200 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ем, что их противоречивое единство, равно как и многообразные
способы фиксации этой противоречивости в его работах, служат
весьма интересным материалом для методолога и эпистемолога,
чутко относящегося к новым формам и обликам гуманитарной
мысли.
§ 4. Можно ли реконструировать деконструкцию?
Итак, мы проследили основные понятия грамматологии, их
сцепления в тексте. А теперь мы хотим понять: зачем нам Дерри-
да — здесь и теперь? Для этого нам нужно будет подытожить то,
что мы увидели и, хочется надеяться, поняли из Деррида (не
доверяя ему на слово и не позволяя ему постоянно ускользать от всех
определений), и затем попытаться истолковать полученную
картину с более общих позиций.
Систематизация несистемного
Мы уже много раз видели, как Деррида пытается ускользнуть
от всех возможных определений (так, единицы, которыми
пользуется Деррида, — не понятия, не объекты, не методы, не акты,
не операции, не...). В конечном счете мы к этому привыкаем
и стараемся сами что-то понять. Он берет то, что кажется
завершенным и систематизированным, и выявляет в нем
незавершенное и несистематизированное. Р. Гаше, один из наиболее тонких
и благожелательных исследователей Деррида, считает его целью
поиск «инфраструктуры несистематичностей философской
мысли»: они не образуют единств и остаются лишь квазисинтезирую-
щими конструкциями1. Для Гаше все понятия Деррида - архе-
след, различАние, восполнение-замена - суть примеры подобных
конструкций.
Вопрос о том, что именно и как разбирается при
деконструкции, двусмыслен. Собственно говоря, система или не система -
это во многом зависит от точки зрения - извне или изнутри.
Деррида отказывается определять свое место или же определяет его
«неразрешимым» образом: а именно — его деконструкция есть
структурированная генеалогия философских понятий или, иначе
говоря, нечто «наиболее внутреннее», но построенное «из некоей
наружи»2. Эта принципиальная оксюморность позволяет ему
занимать любую позицию - систематическую или несистематиче-
1 Gasché R. The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of Reflection. Cambr.
(Mass.), London, 1986.
Derrida J. Positions. Paris, 1972. P. 15.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцдд: «необходимое и невозможное» 201
скую, внешнюю или внутреннюю. Важно выявить нечто скрытое,
запрещенное и построить генеалогию этого заинтересованного
подавления (психоаналитический аспект).
Но с чего начать, как приступить к этой работе? Это может быть
какая-то яркая деталь, а может быть очевидная (или только
предполагаемая) неувязка в самой систематизированной мысли. Однако где
именно следует внедряться в текст, чтобы за системой увидеть
несистемное, никогда не ясно. Соответственно и метод работы с «почти»
объектами оказывается «очень непрямым»: чтобы уловить и
использовать все «случайности» (необходимые возможности) означения,
приходится использовать военные (стратегические) или охотничьи
(обманки) приемы. Для определения тех мест, где деконструкции
стоит внедриться и развернуться, Деррида пользуется не методом
(систематическим набором процедур, употребляемых с
определенной целью), а чутьем, интуицией, «нюхом» (flair). А это значит, что
выбор не подлежит обсуждению, доказательству, опровержению.
Деррида движется сам и призывает нас двигаться тихой сапой.
Обмануть, сделать вид, будто принимаешь те понятия и условия, которые
нам навязаны, осуществить разведку на местности в пространстве
логоцентрической метафизики, чтобы лучше понять, где и как
можно попытаться пойти на прорыв. L'exhorbitant (название
методологической главы) - это одновременно чрезвычайность, чрезмерность,
отсутствие систематичности, то есть метода.
В целом его деконструкция — это разборка концептуальных
оппозиций, поиск «апорий», моментов напряженности между
логикой и риторикой, между тем, что «хочет сказать» текст, и тем,
то он принужден означать. В этих метафорах, примечаниях,
поворотах в аргументации, то есть именно «на полях» текста, и
работают эти будоражащие силы означения1. Текстовые операции,
которые совершают и автор, и читатель, сливаются в незавершенное
движение, которое отсылает и к самому себе, и к другим текстам:
остается учиться читать тексты по краям и между строк, то есть
там, где, кажется, ничего не написано, но на самом деле написано
все главное для Деррида.
Однако дело ведь не в том, заметить или не заметить
несистемное, а в том, что с ним дальше делать: вовсе отказаться от поиска
системности или строить из несистемного систему, покуда хватит сил.
1 Ср.: для Барта важна не структура, а структурация, не логика, а взрывы,
толчки, вспышки, сам акт означивания. Бесконечные ассоциативные цепочки имеют
общеэротический, а не познавательный смысл. Этому - по логике конвергенции,
а не влияния - вторит и поздний Лотман: главное в литературе - взрыв как взгляд
в запредельное пространство (при этом нам нужно философское понятие взрыва,
а не разрушения). Ср. у Деррида в «Позициях»: главное - чтобы система была
открыта к источнику неразрешимостей и подпитывалась им.
202 Познание и перевод. Опыты Философии языка
К тому же противоположность системного и несистемного во
многом совпадает с противоположностью ставшего и становящегося.
Ни то, ни другое не дано нам в чистом виде: за любой системой
будут маячить несистемные остатки, в нее не вошедшие, а в любой
хаотической картине какие-то фрагменты будут складываться в
нечто более упорядоченное. Этот спор системного и несистемного
ярко разыгрался в отношениях структурализма и постструктурализма.
Деррида подчеркивает парадоксальность, апорийность
огромного количества философских и нефилософских слов, понятий,
ситуаций, событий. Среди них есть такие случаи, когда внутренне
противоречивая семантика видна, так сказать, невооруженным
глазом. Но есть и случаи менее очевидные, в которых Деррида
выявляет неявное, а подчас, возможно, и преувеличивает
«неразрешимость» выявленного. Логики считают некоторые виды
«неразрешимостей» рядовым явлением: таковы, например, все
сверхобщие понятия, которые определяются только друг через друга
(материя — то, что не есть сознание, а сознание — то, что не есть
материя); таковы ряды перечислений (первый, второй, и т.д.,
в которых «второй» выступает как условие возможности первого
и наоборот); таковы реляционные понятия (типа младший,
старший); и конечно — таковы акты самореференции1. Мы
рассмотрим лишь несколько типических случаев апорий по Деррида,
сгруппировав их в три класса — лексико-семантические,
синтаксические, прагматические.
«Неразрешимости»: лексико-семантические. Они возникают
в тех случаях, когда двусмысленные или многозначные слова не
могут быть сведены к однозначности. В ряду таких слов (их
набираются десятки) «фармакон» у Платона (лекарство—яд, жизнь-
смерть), восполнение у Руссо (наличие-отсутствие,
дополнение—подмена), «гимен» у Малларме (девственность-брак,
сохранение—нарушение) и многие другие.
Но посмотрим внимательнее —действительно ли они
«неразрешимы»? Например, греческое слово «фармакон» означает нечто
отклоняющееся от нормального уровня здоровья (как
физического, так и духовного), а потому оно может выступать и как яд, и как
лекарство, и кроме того метафорически — как козел отпущения.
В общем виде, можно сказать, — речь идет о контрастных
значениях с отсутствующей (нейтрализованной) серединой, и таких при-
1 Известны лингвистические парадоксы самообозначения, которые в какой-то
степени парадоксальны в любом высказывании, где субъект высказывания-акта
(énonciation) и субъект высказывания-результата (énoncé) систематически не
совпадают. Различные формы и модусы апорийности выходят на первый план при
анализе пограничных ситуаций, особенно - смерти.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 203
меров среди явлений языка и культуры можно найти сколько
угодно. Скажем, героем в романтической поэзии может быть либо
святой, либо дьявол - но никогда не «нормальный мещанин».
В этом смысле «романтический герой» сходен с платоновским
«фармаконом». Или возьмем «гимен» Малларме. Можно ли
считать семантику этого слова «неразрешимой»? Правда ли, что при
введении в контекст она всякий раз ускользает? Ведь в учебнике
по гинекологии нам будет заведомо ясно, что речь идет о плеве-
мембране, а в поэтическом тексте, у Малларме, потенциальных
значений наверняка будет значительно больше, нежели то, что
описывает Деррида. И это различие контекстов диктует различное
обращение со словом: в поэтическом тексте задействовано все
многообразие оттенков значения каждого слова, а в учебнике
господствует установка на однозначность и строгую терминологич-
ность. Иначе говоря, жизнь слов в культуре устроена либо гораздо
сложнее, либо гораздо проще того, что нам говорится.
Семантику Деррида, кажется, не любил — из-за общей
неприязни к проблеме референции; прагматика была занята жестко
определенными философскими позициями (в частности,
философов-аналитиков); оставался синтаксис, синтагматика. Однако
вряд ли можно сказать, что Деррида развивал область языкового
синтаксиса, ибо, погружаясь в этимологические или словарные
изыскания, он предпочитал «рассеиваться» в миражах ассоциаций
любого типа — смысловых или чисто звуковых, «случайных».
Возникают бесконечные отсылки означающих друг к другу, но в этом
мареве всегда присутствует и инаугурационный жест (именование
в теологическом смысле - это новое рождение).
Неразрешимости: синтаксические. Уже в эссе «Различание»
(1968)1 Деррида приходилось доказывать свою непричастность
«негативной теологии». Однако если о негативной теологии можно
спорить, то негативная семантика у него уж точно есть: это игры
двойных (или многократных) отрицаний, при которых логическое
отрицание нередко само себя упраздняет. К примеру, след
описывается как то, что не наличествует и не отсутствует; и
наличествует, и отсутствует; столь же наличествует, сколь и отсутствует, и т. д.
Когда Деррида говорит, что ни одно понятие метафизики не может
описать след, и накапливает отрицания (не видимый, не
слышимый, ни в природе, ни в культуре), его язык все равно работает в
таком режиме, что указать на не-первоначальное можно лишь с
помощью слова «первоначало», хотя бы и перечеркнутого2.
1 Включен в De/rida J. Marges - de la philosophie. Paris, 1972.
2 О том, что безраздельно доверять операторам отрицания было бы наивно, нас
уже давно предупреждал психоанализ; чем больше мы отрицаем что-либо, тем
204 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Пути синтаксического развертывания негативной семантики
ведут нас к мифу, фольклору. Вот древняя загадка: мужчина не
мужчина камнем не камнем убил не убил на дереве не на дереве
птицу не птицу. У нее есть разгадка: евнух комом земли попал
в летучую мышь, сидевшую на кусте. Но в нашем случае разгадок
нет и быть не может. Мысль буксует, слова разбухают и интерио-
ризируют весь словарь: так, ассоциации вокруг слова «тимпан»
одновременно могут включать все на свете, даже гидравлическое
колесо. По сути любой фрагмент текста у Руссо, Соссюра,
Платона - если разглядывать его в увеличительное стекло и вне
контекста — порождает эти самые «неразрешимости».
Неразрешимости: перформативно-прагматические.
Применительно к грамматологии они почти не проявляют себя, но важны
для общего очерка позиции Деррида. Письмо часто порождает
двусмысленности, которые нельзя устранить обращением к контексту
или к намерениям автора. Возьмем речь Деррида на праздновании
двухсотлетия американской Декларации независимости1 (в
которой, как известно, представители США, собравшиеся вместе от
имени всего народа этих колоний, торжественно заявляют, что эти
объединенные колонии являются и должны являться свободными
независимыми штатами). Для него главное - это перформативные
акты: именование себя в качестве представителя какой-то
социальной общности и подпись под учреждающим ее документом.
Кто они - эти первые представители народа? Что легитимирует их
речь? Как соотносятся момент установления закона и сама
ситуация политического представительства? Как понять сам переход от
до-общества без конституции к новому политическому порядку?
Это ставит особые вопросы юридического высказывания - как
в речи, так и на письме: одни исследователи считают все
юридические положения и ситуации сводимыми к констатациям о
положении дел, другие утверждают, что логически перейти от декларации
к реальному учреждению социального института невозможно из-
за порочного круга: чтобы иметь взаимные обязательства, нужно,
чтобы союз уже был заключен. Для Деррида в известном смысле
все речевые акты «неразрешимы». И потому требуется скачок, акт
веры, некое «необходимое лицемерие», чтобы обеспечить
политическое, военное, экономическое действие, вводящее какой-то
новый порядок и связанное с применением или демонстрацией силы.
больше у психоаналитика оснований считать, что как раз отрицаемое «истинно»:
недаром проблема отрицания и отрицательного суждения о состоянии сознания
и состоянии реальности - одна из сложнейших у Фрейда.
1 Derrida J. Déclarations d'indépendance // Otobiographies. L'enseignement de
Nietzsche et la politique du nom propre. Paris, 1984. P. 13-32.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцдд: «необходимое и невозможное» 205
Наверное, мы могли бы разбить перформативные парадоксы
на части и подчасти и преодолеть апоретическую ситуацию
ступенчатостью суждений (мы, здесь собравшиеся, объявляем себя
представителями несуществующего государства; мы, здесь
собравшиеся, представители еще не существующего государства,
объявляем это государство существующим, и т. д. — покуда новое
государство не будет объявлено свободными штатами), но Дерри-
да этого не делает. Однако, даже если часть представленных Дер-
рида апорий и разрешаются логическими средствами, все равно,
проработав в них и логическое и нелогическое, мы становимся
более чувствительными к несистемным «остаткам», — ко всему тому,
что, как правило, выбрасывают за борт как третьесортную логику
или вообще нелогику.
Логический набор. Из чего состоит набор (не)логических
средств Деррида? Посмотрим сначала, чем мы обычно
располагаем: формальная логика позволяет нам разводить контексты
и уточнять смыслы; диалектическая логика — искать и разрешать
противоречия, а при осмыслении развития — осуществлять
«снятие» (удержание лучшего из предыдущих стадий);
мифологическая (и структуралистская) логика показывают, как строить
бинарные оппозиции (близкий—далекий, сырой—вареный) и
находить подходящих посредников между членами этих оппозиций;
тернарные схемы манят нас каким-то особым подходом, но,
кажется, чаще всего сводятся к бинарным. А что есть у Деррида?
К формально-логическому расчленению своих апорий он не
прибегает; диалектический путь отрицает (особенно за идеологию
«снятия»), хотя его взаимоотношения с Гегелем — вопрос
сложный и требующий отдельного рассмотрения; в мифологической
логике видит лишь материал для деконструкции.
А что остается? То, что можно было бы назвать
взаимоналожением гетерогенных элементов без «поглощения»,
«переваривания» низшего высшим. Эти приемы работы похожи на пластику
наклеивания, аппликаций, коллажей, а ее результаты
напоминают палимпсест (когда старую запись можно расшифровать под
новой), на хайдеггеровские перечеркивания без вымарывания;
на связь поверхностей в ленте Мёбиуса (ее концы склеены так, что
внутреннее и внешнее плавно переходят друг в друга), на внешне
абсурдные эшеровские картинки. Один из самых главных
механизмов, которые Деррида находит у своих героев, а затем
превращает в концептуальный инструмент — это механизм
восполнений-изъятий: он предполагает уже не бинарные
противопоставления, а некие сериально-градуальные схемы развертывания
значений (нарастание или убывание качеств по схеме от
«прибытия нового извне» до «подмены исходно данного»; яркий при-
206 Познание и перевод. Опыты Философии языка
мер - соотношение природы и культуры у Руссо, которое можно
представить по следующей схеме: приложение — добавление —
дополнение — восполнение — замена — подмена). Итак, мы
сталкиваемся здесь с разнообразными квазипространственными
формами конфигурирования мыслительных элементов. Свои средства
Деррида берет из словесной художественной практики; из
невербальной пластики; из материала, не использованного логикой
(мелочи, «обманки», софизмы); из психоаналитического
материала и схем; из материализованной языковой метафорики в текстах
различного типа. Учет телесной пластики (при наличии аналогий
и параллелей между жизнью мысли и жизнью тела) нередко
позволяет по-новому взглянуть на мыслительные процессы,
учесть общие механизмы сбора и объединения впечатлений, их
обработки и пр.
Метафорика. Концептуальные единицы, используемые
Деррида, можно назвать поэтико-терминологическими1. И здесь
возникает вопрос — о соотношении логического и риторического
в генезисе и истории философии и о соотношении философии
и литературы в нынешней судьбе философии. Дискуссий о
метафоре и ее роли в современной философии проходит много, и
позиции в этих спорах часто оказываются несоизмеримыми из-за
того, что оппоненты размещают метафору в разных местах
смыслового пространства. Если поместить ее ближе к референту
(между смыслом и референтом), тогда метафора будет иметь
познавательный смысл, а весь язык окажется фигуральным, если же ее
поместить куда-то ближе к предпосылкам понимания («между
сказанным и подразумеваемым»2), тогда место метафоры в
познавательном пространстве затенится.
Если вспомнить об изначальной метафоричности текста, тогда
придется признать, что во всяком философском тексте (и вообще
в любом тексте) скрыты два забвения: первоначального прямого
значения слова, а также самого процесса переноса. Получается,
что «стирание» первоначал становится неосознаваемой сутью
философии: чувственное непременно должно быть побеждено
интеллигибельным. Солнце, свет (у Платона, Аристотеля, Декарта)
в известном смысле выступают как метафоры3: свет - знание,
темнота — невежество. В результате преодоления метафоры фило-
1 Agamben G. Pardes. L'écriture de la puissance // Revue philosophique de la France et
de l'étranger. Numéro spéc: Derrida. 1990. № 2. P. 135.
2 Зенкин С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и судьба
структурализма // Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры. М., 1998. Т. 1. С. 29-30.
3 Derrida J. La mythologie blanche. La métaphore dans le texte philosophique //
Derrida J. Marges - de la philosophie. Paris, 1972. P. 247-324.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррнда: «необходимое и невозможное» 207
софский язык становится необразным, нефигуративным,
метафора превращается в понятие: она стирается философским
желанием обобщать, интериоризировать, «снимать»..
Вся история философии была в той или иной мере логичной
или риторичной, она была одновременно и текстом, написанным
в той или иной манере или стиле, и рассуждением, в принципе
отделимым от стиля и манеры (иногда — почти безболезненно,
иногда - с трудом). Исторически труд отрыва мысли от мифа и от
метафоры был огромным, он был работой, а не удовольствием, как
нынешние игры возврата в метафорический слой языка. При этом
возникавшая наука старалась предельно отдалиться от метафоры,
хотя ей это и не удавалось, а искусство старалось никогда не
забывать об истоках: даже Вольтер пишет сочинения на философские
темы прозрачным языком прозы, а стихи или трагедии — в
образцовой риторической манере1. Критики часто считают, что
Деррида — это персонаж периода современной «поздней софистики»,
когда мыслительная дисциплина уже превратилась в
риторическую игру. Разумеется, Деррида никогда не согласится с тем, что
часто застревает на уровне игры слов, на уровне метафор: он
считает, что строит метаметафорику или метафору метафоры.
Философия вообще склонна вытеснять свой письменный характер:
именно эту логику подавления от греков до наших дней Деррида
и стремится проследить в своей грамматологии.
Но тут он не был первым: уже Валери, на которого он
ссылается, показал, что философия есть прежде всего «род письма», род
литературы, близкий к поэзии, и тем самым стал как бы декон-
струкционистом до деконструкции. Валери писал и о роли
образного языка в философии, о неконтролируемых семантических
сдвигах и забытых метафорах в составе философских понятий. То,
что все это говорит поэт, вполне естественно, но то, что это берет
на вооружение философ, свидетельствует о своего рода
эстетическом повороте в философии. По-видимому, он возникает потому,
что философия сталкивается с новыми проблемами, но не имеет
собственных средств для их решения: она должна их создать или
1 Однако в известном смысле риторичны и наука, и поэтическое творчество.
Вообще троп - механизм порождения неоднозначности, вносящий в семиотические
системы культуры необходимую им степень неопределенности. Каждое явление
культуры воспринимается на своем фоне: так, на фоне романтизма эстетика
реализма воспринимается как антиромантизм, как особая антириторическая
эстетика. Поскольку любое сочетание ранее несовместимых элементов рано или поздно
начинает восприниматься как естественное и даже банальное, постольку
индивидуальные стили часто развиваются от усложненности к классической простоте;
в этой связи Лотман цитировал Пастернака: «в конце пути впасть, как в ересь, в
неслыханную простоту»...
208 Познание и перевод. Опыты Философии языка
найти где-то вовне. В данном случае «литература», «поэзия» и
воспринимаются как такое «вне», которое требуется «изнутри».
Можно полагать, что для философа внимание к стилю и манере
письма может быть лишь первым шагом: следующий шаг так или иначе
потребует более жесткой дисциплины в работе рефлексивного,
критического сознания.
Пространственность. Важная часть средств, употребляемых
Деррида, приходит — «виртуально» — из современных
пластических искусств. Ранее пространство и время предполагали какие-то
четкие координаты (близкое-далекое, внешнее-внутреннее,
верхнее—нижнее), в которых фиксировались предметы
созерцания, восприятия, постижения. А теперь и предметы, и те
пространственно-временные координаты, в которых даются
предметы, теряют свою устойчивость. Новые возможности их
соотнесения так или иначе обнаруживаются в разрядках,
разбивках, промежутках, интервалах, а также незаметных переходах
пространства и времени друг в друга.
Современные эксперименты с пространством в самых разных
областях культуры были, по сути, отсроченным ответом на ту
проблему, в которую некогда уперся Кант, утверждая невозможность
пространственного представления внутреннего опыта, а потому
и невозможности теоретических гуманитарных наук (например,
знания о душе, или теоретической психологии). Современные
искусства и соответствующий им опыт мысли перевернули
представления о внутреннем и внешнем, верхнем и нижнем и пр.
Предлагаемые обоснования знания и опыта уже не подразумевают
внутреннего очищения содержаний сознания, их возгонки к
сущностям: они исходят из достраивания и доращивания образов,
предметов, которые никогда не завершаются. Коль скоро ни цель,
ни средства, ни предметы, ни пути заранее не определены,
топология мысли оказывается почти сказочной: пойди туда, не знаю
куда, принеси то, не знаю что... Куда ни повернешься - все
сплошь заколдованные места: думая, что удаляемся от них, мы
вновь к ним приближаемся, а надеясь вернуться, никогда не
попадаем туда, откуда вышли. Двойное движение
приближения-отдаления становится в себе неразличимым.
Плотный строй текстовых ассоциаций по сходству (метафор)
и по смежности (метонимий) создает это непривычное
пространство действий мысли и языка. Архаика и архисовременность,
фольклор и гипертекст в нем уравниваются: ни там, ни тут нет ни
начал, ни концов; ни центра, ни периферии; ни определенного
входа или выхода; нет ни отправных пунктов, ни пунктов
назначения, и мы вообще забываем, куда едем, только какие-то
промежуточные станции мелькают... Может быть, отсюда — исключитель-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррвдд: ♦необходимое и невозможное» 209
ная избыточность текста Деррида; подчас он с маниакальной
настойчивостью повторяет почти одно и то же, но это именно не
одно и то же, поскольку записано в разных контекстах: такие
понятия, как след, письмо, различАние, восполнение, нередко вводятся
почти дословно сходными, синонимичными средствами. Эти раз-
личающе-уравнивающие механизмы позволяют навести
интертекстуальные мосты между любыми произведениями, которые
оказываются сплошь вторичными, состоящими из подлинных или
мнимых цитат, отсылок, реминисценций, в которых всякое
слово - чужое и вместе с тем все чужое может войти в твой текст.
Четкой границы между мыслью и бытием, природой и
культурой не существует, достраивание и подмены имеют место везде.
Как действует мысль? Собирает все разнородное, просеивает,
отбирает сходное и пр. Но все это — материал, который не
схватывается синтезом, тем более — мгновенным, для этого нужны
отстранение в пространстве и отсрочка во времени. Можно
предположить, что схемы тела и схемы сознания связаны между собою
более тесно и более интересно, чем мы думали раньше, а потому
эксперименты с предметами и координатами могут породить
и другие абстракции, и другие пластические формы. Существенно
то, что человеческое сознание по сути своей гетерогенно и
предполагает не только операции с дискретными элементами и
текстами как цепочками сегментов, но и учет одновременного
сосуществования смыслов. И все эти механизмы по-разному проявляют
себя в разных взаимодействиях телесного и духовного.
Доминанта современного сдвига антропологической
проблематики заключается в осмыслении во-площенности рефлексивного
сознания и одухотворенности телесного. Это звучит архаично, но
содержит радикально новое понимание основ человеческой жизни
и понятийных схем ее постижения. Важны не только сознание как
рефлексивная способность, не только интуитивный акт, но и жизнь
сознания, укорененного в теле (теле индивида и теле культуры).
Наверное, именно это пытается показать нам абстракция архе-письма:
интуиция не оставляет следов, а письмо царапает (по-гречески,
напомним, «писать»=«царапать») и оставляет следы. Но для этого
требовалось ввести в зону философской рефлексии такую эмпирию,
которая сопротивлялась бы «возгонкам» и «сублимациям»,
сохранялась бы в виде следов, не теряла своей энергии, в конечном счете
«поддерживающей» любые философские абстракции. Ткань текста,
письмо плетется в результате челночного движения между
рефлексивным и эмпирическим, трансцендентальным и телесным1.
1 Парадоксально-пространственны почти все главные понятия Деррида:
письмо, след, различАние, восполнение (как достраивание-изъятие). Среди таких но-
210 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Парадоксальные объекты. Оппозицией активного и пассивного
Деррида практически не пользуется, но все же можно утверждать,
что динамическая позиция ему ближе. Означение в динамике
порождает неожиданные эффекты взаимоналожений, о чем уже
говорилось. Даже те термины, которые имеют более или менее
точный смысл, в силу отсрочки и отстранения все равно
поглощаются и размываются новым контекстом. Все случается «не
вовремя» и поглощается маревом чуждых резонансов. И это, наверное,
вполне реалистическая метафора того, как вообще происходит
означение в человеческом интертекстуальном мире.
Большая эпистемологическая сложность - «почти
немыслимое» как предмет мысли. Что делать с этой «незавершеностью»?
Достроить объекты до определенных, опознаваемых состояний
или предметов или, напротив, урезать их до того, из чего они
некогда вышли (так, руссоистское «почти общество» можно и
достроить до общества и урезать, вернув назад в природу). Главные
средства в нашем распоряжении - технологические
(достраивание) и биологические (прививки и выращивание): они
по-разному использовались в метафорике формализма, структурализма
и постструктурализма, что заслуживало бы отдельного изучения.
А пока мы находимся в пределах грамматологии, эти
невозможные объекты только-только начинают появляться — главным
образом у Руссо: среди них есть «почти-общество», «почти-язык»,
парадоксальные переживания (любовь, посттравматическое
состояние, пережитое героем на острове Сен-Пьер). Воображение
позволяет человеку совершенствоваться, не достигая
совершенства, а потому все необходимое в человеческом мире оказывается
как бы невозможным. Это балансирование на грани возможного
и невозможного, невозможного, но необходимого становится
чертой философии, которая не боится зияний, трещин и
пределов. Со временем у Деррида нарастают (и числом и весом) эти
новые «предметы» — вера, смерть, дар, дружба, сообщество,
справедливость.
Все они предполагают такую форму «неразрешимости»,
которая повернута к сообществу, к отношениям между людьми.
Например, «дар» — это парадоксальное состояние и для дарителя
и для получателя; оно исключает благодарность, признательность,
необходимость отдаривания, чувство долга - осознанное или не-
вых мест - хора (площадь) из «Тимея» Платона. Это - открытость, которая
подрывает всю его систему, особое место, к которому не относятся никакие определения
(не умопостигаемое, не чувственное, не логос, не миф, но оба сразу и пр.), но это -
вместилище гостеприимства, дружбы и дара как событий. Тем самым хора
вступает в общий ряд с другими парадоксальными местами (такими как «парергон» или
«восполнение-изъятие» и др.).
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 211
осознаваемое. В традиционных обществах дарообмен предполагал
непрерывные цепочки отдариваний и замен, но в данном случае
дар останавливает конвейер замещений. Точно так же и акт
гостеприимства должен быть безусловным, быть даром, чтобы вообще
быть. Здесь интересна идиома Деррида «pas d'hospitalité» —
одновременно и шаг (жест) гостеприимства, и невозможность
гостеприимства242.
Далее — это смерть: как возможна моя смерть и высказывание
о ней? Здесь парадокс раздваивается: одно дело — ситуация
умирающего, в которой он выступает, едва ли не впервые в
сознательной жизни, как единственный и незаменимый (подмены
возможны только в сказках); другое дело - ситуация остающихся
в живых: они принуждены к работе скорби, к отделению от себя
тех сторон жизни, которые были связаны с умершим, к обучению
жизни без умершего, а эта работа, по определению, незавершима
и сугубо индивидуальна, хотя и важна для любого человека,
поскольку не только смерть, но и другие значимые утраты
предполагают подобного рода усилия.
Возьмем справедливость: она путает карты любого расчета
и подсчета (отмщений или воздаяний) и может быть описана
только как «дар». Справедливость всегда неравна самой себе,
неоднородна и несамотождественна: она требует постоянного пре-
взойдения данных условий и потому никогда не осуществляется
полностью. Стало быть, суждение о справедливости не может
быть теоретическим: оно как бы требует от нас каждый раз заново
изобретать условия справедливости243. Конечно, поначалу мы
и считаем и рассчитываем, следуем правилам, законам и обычаям,
но в какой-то ответственный момент все это в нас должно
остановиться — чтобы могло наступить состояние, в котором должен
совершиться акт другого порядка значимости.
Сродни справедливости — вера. Деррида различает религию
и веру, как и Киркегор, для которого вера (в отличие от
религиозного учения) парадоксальна. Подобно справедливости и дару, она
предполагает радикально деконструктивный жест, который равно
относится ко всем религиям (по крайней мере, иудаизму,
христианству, исламу). Вера в этом смысле нерелигиозна, она не может
быть полностью определена никакой конкретной религиозной
позицией, текстом, системой, институтом, и именно в этом
смысле она абсолютно универсальна. А без веры (равно как и речевого
акта, каждый из которых есть обет, обещание, свидетельство),
242 Derrida J. De l'hospitalité (A.Dufourmantelle invite J.D. à répondre). Paris, 1997.
P. 129.
243 Derrida J. Force de loi. Paris, 1994.
212 Познание и перевод. Опыты Философии языка
без акта доверия другому никакое общество невозможно.
Философия «на пределе», философия с помощью предельных понятий
обязана помыслить это: вся сложность в том, чтобы потом
соотнести с этими ее мыслями этику и политику, демократические
институты, всю социальную жизнь. Политика, мораль и право - все
это не должно экономить на сомнениях, на апориях; они -
условие их осуществления.
Другие мыслительные координаты?
Общий фон: европейское и французское. Если оглянуться на
почти столетнюю историю развития европейской философии, то мы
увидим, что с некоторых времен философы стали заботиться не
столько о продолжении общего дела, сколько о ниспровержении
всего того, что было до них. Все они ниспровергают предыдущее
(как метафизику), а потом и сами попадают под шквал очередных
ниспровержений. Чем больше философия становилась не общим
делом мысли, а стремлением к неповторимости личной манеры,
тем ближе она подходила к искусству и дальше отходила от науки.
Как и раньше, философия ощущает и внутреннюю потребность
переосмыслений, и вызов извне, со стороны современной жизни,
науки, искусства, социальной практики. То и другое смыкаются:
чтобы хорошо опровергать предыдущее, нужно найти точку
опоры - а где ее искать - внутри или вовне?
Были периоды, когда философия имела четкое представление
о своих возможностях, исходя из определенного набора
антропологических способностей человека. Кант мог смело проводить
разграничительные линии между наукой, искусством, этикой,
сферой свободного суждения — и все потому, что он знал, как
именно чувственность обобщает данные внутреннего и внешнего
опыта в формах пространства и времени, рассудок подводит этот
опыт под общие понятия, разум оперирует более высокими
синтезирующими принципами, применение которых к недозволенным
объектам неизбежно приведет к апориям и т. д. Как известно,
Кант считал свою схему универсальной, хотя строил ее в
соответствии с опытом естественных наук своего времени и сам был не
только философом, но и ученым. Однако теперь эти
представления пошатнулись: кто, что, чем и как познает, какой результат
получает и чем может его обосновать? Это предполагает и новый
взгляд на мыслительный аппарат, и новые представления о
возможном предмете познания.
По целому ряду причин (среди них — сопряжение высокоана-
литичного наследия картезианства с немецкими глубинами
познавательного синтеза) во Франции происходили многие
интереснейшие мыслительные эксперименты последнего столетия.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 213
В общей лаборатории прорабатывались и наследие
феноменологии (когда, вслед за Хайдеггером, Сартр применил
феноменологические процедуры к свободе, Мерло-Понти — к телу, Рикёр -
к значению, а Деррида обобщил их, поставив под вопрос сам
феноменологический жест мысли), и экзистенциалистский проект,
и альтюссеровский ход в сторону зрелого Маркса (безличные
структуры «Капитала»), и неорационалистическая идея
«эпистемологического разрыва» в познании, и яркие поэтические
эксперименты со словом, которое хотелось вырвать из сферы влияния
«агрессивного» разума. Особенностью французской культурной
ситуации 1950— 1960-х годов было отсутствие чего-либо
равноценного европейской философии науки (неопозитивизму,
логическому позитивизму). Когда субъективистские схемы
индивидуального выживания исчерпали себя, возник общественный запрос на
научную философию. Именно в этой ситуации французский
структурализм, который был не философией, а методологической
тенденцией, связанной с распространением лингвистических
методов на другие культурные объекты, прогремел как новейшая
научная философия и идеологически сплелся с лозунгами
«теоретического антигуманизма».
Леви-Строс, Лакан, Фуко, Барт, Кристева — на разных полях —
показали и заострили значимость языковой доминанты культуры.
Но этот период социальной затребованное™ «научной
философии», роль которой по совместительству выполнял
структурализм, быстро прошел. Вряд ли можно сказать, что он исчерпал
себя, хотя социальные эмоции после 1968-го года хлынули в совсем
другие дела (этику и политику). В 1970-е годы, в
противоположность 1960-м, все уже забыли об оппозиции науки и идеологии,
ранее столь значимой, а «новая философия» начала охотиться за
проявлениями «репрессивного» разума в близкой и дальней
истории. Научный проект структурализма перестал быть массово
интересным, хотя свою плодотворность он сохраняет и поныне —
ведь в гуманитарном познании многие области и поныне даже не
описаны по единообразным основаниям и не систематизированы,
не говоря уже об отсутствии общей теории объекта, так что линне-
евской работы в гуманитаристике хватит еще как минимум на
столетие, хотя современная мода этого не поддержит.
Полный отказ от прежнего пафоса науки и научности привел
к росту антисциентистских умонастроений, когда во главу угла
ставилось все неструктурное и нелогичное (аффекты, потоки,
телесность, динамика), сосредоточиваясь вокруг «желания»,
привнесенного в философию психоанализом, но сублимированного
в ней до общеэротического опыта жизни тела и души. Общим
местом постструктуралистских концепций, формой смешанного те-
214 Познание и перевод. Опыты Философии языка
лесно-духовного удовольствия стало наслаждение чтением
и письмом как универсальными процедурами культуры:
начинается период массового писательства, при котором каждый волен
творить («писать»), присваивая себе что угодно чужое, в формах
внежанровой полуимпровизации - эссе. И это интертекстуальное
пространство стало своего рода амортизационной подушкой,
смягчающей удары реальности (все равно непостижимой) и
стимулирующей полеты воображаемого («во сне и наяву») и
операции символического мышления. Целью становится такое
затрудненное письмо, которое не способствует коммуникации, а,
наоборот, затрудняет ее. Этот принцип современного искусства
стал в философии модой, хорошим тоном, а потом и привычкой.
Обоснованием этой манеры был призыв не поддаваться языку,
который лепит из нас то, что хочет, подмять его под себя любой
ценой и оставить свой след, пусть и самостирающийся, среди
других следов. Эта интертекстуальная сфера разрасталась как бы сама
по себе — тексты продуцируют тексты о текстах (метатексты),
а потом складываются в гипертексты с всеобщими цитатами,
подменами, карнавалом.
«Грамматология» — во Франции и у нас. Обстановка, в которой
язык стал для философии новой эмпирией, этим перегруженным
сверх всякой меры объектом, заставляла Деррида определять свой
предмет на фоне уже сделанных выборов. Этим предметом стали для
него, как уже отмечалось, философские тексты (точнее,
несистемное в философских текстах) и те художественные тексты, которые
заостряют нашу способность видеть эту несистемность. Итак,
эмпирией деконструктивной работы и стал (по крайней мере, для
раннего Деррида) текст: не сознание и не язык, но нечто близкое и тому
и другому (правда, любовь Деррида к термину «текст» довольно
скоро угасла, по-видимому, не в последнюю очередь потому, что он был
вотчиной филологии и лингвистики)1. Конечно, интерес к
«несистемным» философиям не был уникальным для Деррида: увлечение
Ницше, например, было почти всеобщим. Но вопрос от этого не
снимается: если главные европейские философы несистемности
(будь то Киркегор, Ницше или экзистенциалисты) имели для этого
свои основания (болезнь, безумие или бомбы над головой), то как
быть со страстью к несистемности в 1960— 1970-х годах? Требовалось
перевести личную уязвимость в общую уязвленность, найти
общезначимые формы отчета о своем опыте.
1 Ныне любимый широкой публикой термин «дискурс» тогда еще только
складывался в своей новой роли: а сейчас забавно видеть, как дискурсом ранний
Деррида, вопреки всем позднее закрепившимся смыслам, называет «живое
осознанное представление текста в опыте пишущих и читающих».
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 215
Тем самым на долю Деррида выпало осмысление важного
вопроса, который периодически возобновлялся в философии,
но в последние десятилетия вышел на первый план. Каков
собственный язык философии — не ее представления о языке,
но именно тот язык, на котором она пишет, каковы формы ее
письменного бытия (тексты, перевод, истолкование,
литература)? По-видимому, сейчас завершается относительно цельный
период в развитии европейской философии, а потому вновь
возникает потребность в том, чтобы говорить, думать, действовать
иначе. Как при этом, не справляя модных поминок по
философии, соотнести в ней понятие и образ, логическое и
риторическое, понять ее универсальные критические функции в новой
ситуации?
Кажется, что срок, отпущенный на чисто литературное бытие
философии, подходит к концу. И мы начинаем вспоминать, что
любая новинка превращается в нечто привычное, а потом и
банальное, что она всегда предполагает в культуре определенный
фон восприятия и господствующую традицию. В любом случае
приходится помнить, что никакого «снятия логического и
риторического» (о чем говорят критики — кто с радостью, кто с
тревогой) не происходит, и если бы такое было возможно, это
поставило бы под вопрос всю философию и ее возможности. К счастью,
Деррида не кашевар, а дистинктивист. Даже если подчас он
бывает невнятен, он не потакает невнятности в принципе. Да, он
действительно провозглашал единство (почти до слияния)
философии и литературы - в тот период, когда ему важно было
отмежеваться от традиции и догмы. А теперь он скорее
подчеркивает, что никогда не смешивал философию с литературой и всегда
четко различал их. Деррида много работал как художник и
наслаждался этим. Но главная ценность того, что он сделал,
заключается для нас все же не в поэтической игре словами, а в разведке
«дологических возможностей логики»1.
1 Его книги напоминают бесконечные диалоги с самим собой, где мысли
избыточно повторяются каждый раз в новом месте, тогда как в ситуации, хотя бы
отдаленно напоминающей диалогическую, он оказывался неспособен вести диалог. Он
всегда говорит по писанному тексту. Видимо, ему важна письменность, писан-
ность, поскольку речь, которую он обвиняет в метафизической мощи, гораздо бы-
стротечнее или незаметнее. Иногда его сравнивают с Сократом. Если с
«реальным» - это странно, а если с апокрифическим, который пишет двумя руками на
средневековой миниатюре, причем под диктовку Платона, - то отчего бы и нет?
Однако Сократ был добродушный экстраверт, а Деррида - замкнутый интроверт,
который пишет, пишет... Текст - это броня от общества. Он признавался, что
всегда испытывал чувство тревоги в официальных педагогических учреждениях,
при том что, по отзывам всех, проходивших у него историю философии, он был
блистательным преподавателем.
216 Познание и перевод. Опыты Филосоаши языка
С момента выхода его залпом прогремевших работ 1967-го года
прошло более полувека. Это достойный срок жизни любого
художественного или мыслительной направления или школы -
предел, за которым нужны новые импульсы и радикальные
пересмотры всего, что уже было сделано. Когда художники призывали
читать философию как поэтический текст, это было ново и
интересно. Когда философы принимались читать свои тексты как
«литературу», это тоже было ново и интересно. И этот угол зрения дал
много нового материала из жизни значений и смыслов. Кажется,
что Деррида нарыл, настроил и оставил в подвешенном состоянии
множество интересных текстовых конфигураций: запасники
музея этих виртуальных реальностей переполнены, а сроки хранения
ограничены. Что с ними делать дальше?
В студентах ходят теперь едва ли не внуки тех, кто когда-то
стоял на баррикадах. Экзотика словесных игр для них не новость,
а вчерашний день, и потому она их не интересует. Толковые
студенты-философы во Франции начинают обращаться к
собственной истории и эпистемологии науки, к англо-американским ког-
нитивистским разработкам. Но все это продолжает оставаться
экзотикой для зарубежья - американского, где деконструкция
разветвилась на несколько самостоятельных направлений, почти
не затрагивающих философию, отчасти европейского, а также для
неевропейских и незападных стран (Деррида очень популярен
в Индии, в Латинской Америке).
Перед русским читателем стоит непростая задача. История
грамматологии - это не его история, даже если популярные
журналы уже, кажется, все разобъяснили про Деррида и про его
галстуки и про гастрономические привычки. Если открыть любой
литературный, искусствоведческий, популярный журнал -
постмодернистский «дискурс» бьет в глаза, ослепляет и оглушает.
Однако слова, рожденные опытом постмодерна, — это не наши
слова. Наш социальный опыт относится скорее к прото-модерну,
по крайней мере для нас важнее было бы, наверное, обсуждать
проблемы догоняющей модернизации, нежели громить чужие
концептуальные постройки. Собственная историческая и
культурная специфика — это наследство, с которым приходится
считаться: просто перескочить непроиденные этапы нельзя, а вот
проработать и промыслить при желании — можно.
Тут приходится учесть и различие социальных ситуаций -
российской и условно западной. На Западе состояние постмодерна
(тут следовало бы различать постмодерн и постмодернизм, далее
отношение философии к постмодерну и постмодернизму,
отношение постмодернизма, то есть различных современных практик
в искусствах и литературе, к философии и, наконец, саму филосо-
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 217
фию постмодернизма) весомы, но не всеобъемлющи: они
возникли на фоне другой - «нормальной» (или в широком смысле
слова - вполне «рациональной») работы с философией в лицее,
в университете, на фоне достаточно успешно функционирующих
(пусть даже и догматических, школярских) институтов. Иначе
говоря, вся философская жизнь от постмодернистских «жестов» не
прерывается, более того, сама уместность этих жестов прямо
зависит от воспроизводства того, против чего провозглашается
протест: если бы в средних школах Франции не учили «нормальной»
философии, тогда аудитория потенциальных читателей
деконструктивистских текстов поредела бы. Если не будет
воспроизводящейся философской традиции, нечего будет деконструировать.
Это, разумеется, не отменяет того, что эксперименты Деррида
в культуре были далеки от критериев академической
приемлемости и проводились им на свой страх и риск (не случайно, что он
так и не был выбран профессором во Франции).
Так или иначе, он защищал философию и как предмет в лицеях,
когда его пытались упразднить, и как институт, его усилиями
некогда созданный, — Международный философский коллеж,
нетрадиционно определяющий свои отношения с внефилософскими
областями культуры. Между прочим, та рубрика программы,
в которой Деррида преподавал в парижской Школе высших
исследований в социальных науках, называлась «философия и
эпистемология» (а, скажем, вовсе не «деконструкция и диссеминация»).
Насчет грамматологии некоторые российские исследователи
рапортовали: заявка на новую дисциплину не была выполнена,
потому что она была невыполнима. Да и сам Деррида убеждал
читателя в том, что никакой дисциплины он создавать не собирался
и написал-де книжку, чтобы показать, что она невозможна.
Я имела возможность спросить у него, что он сейчас об этом
думает, но не стала этого делать: мало ли что он нам скажет, задним
числом переосмыслив сделанное. В любом случае ясно, что писать
толстую книгу для того, чтобы показать невозможность написать
ее, — не стоило бы. Когда Деррида говорит, что грамматология не
является и никогда не сможет стать наукой, он исходит из
исторически заданного критерия научности, который принимает за
вечный и универсальный. Тут нужно было бы сказать иначе:
не является «наукой» в том смысле слова, в каком понятие науки
употреблялось до сих пор.
Однако в том, что некоторые воспринимают как провал,
можно видеть и победу: нужно лишь заново вглядеться в
«подвешенное» и «изъятое» из старых системных контекстов и увидеть в этом
материале новые мыслительные возможности. Историческая
ограниченность метафизики, напомним, — это для Деррида не ко-
218 Познание и перевод. Опыты Филосоеии языка
нец философии. Да и сама его мысль о том, что любой протест
против разума может формулироваться только в формах разума, -
это все же не выражение деконструктивистского скепсиса, а
констатация некой антропологической неизбежности. Деррида —
самый рациональный из всех радикальных нерационалистов.
Хитроумный Одиссей не может желать того, чтобы философия была
слепой к тем своим интересам, выходящим за рамки знания, но не
может защищать и тех, кто поспешно на каких бы то ни было
основаниях отвергает разум. Безумие подстерегает нас на каждом
шагу, и потому нужно быть бдительными, беречь мысль - что
и делает разум1.
Конец ли это или начало? Или, может быть, пока - намек на
новый способ определения разума и его границ? Возможно, мы
видим тут формирование какого-то нового, пока еще не
существующего предмета мысли, для схватывания которого у нас нет
дискурсивных средств, а есть покалишь тонкие наблюдения над
связями языка, литературы, философии. Этот предмет строится
в многомерности языковых обнаружений философии. Когда
люди говорят, что предмет Деррида никогда не станет научным,
они берут феноменологическую картинку научности с
полновесно наличным объектом, тогда как наш - прочерчено-неяс-
ный - денотат функционирует по принципу оксюморона. Апо-
ретическая, нерассудочная логика подводит нас к пределам
более широкой разумности, включающей интуитивное,
вымышленное, фантастическое.
Новые задачи. Итак, этап взвешенности всего и вся обновил
взгляд на вещи и принес пользу, которой — в ином случае -
можно было бы веками ждать от более корректных и педантичных
операций с языком. В результате этого коллективного
эксперимента было проработано коллективное «пространство» мысли
о языке и субъекте. Опыты с языком в поэзии открыли нам новые
пространства для мыслительной работы. И вместе с тем они
доказали — от противного — что философия, к счастью, не сводится
к тому, что от нее остается при ее литературном прочтении. И это
действительно важный результат.
Что с нами всеми будет в философии, как сложатся ее
взаимодействия с другими пограничными и более отдаленными
областями культуры, знают, наверное, только пророки. Сейчас остается
только гадать о том, можно ли было в рамках деконструктивного
проекта более «синтетично» учесть обе опоры знания - опытную
(знание о конкретных формах письма) и априорную (письмо как
интеллектуальная конструкция: членораздельность как критерий
Derrida /. Points de suspension. Entretiens. P. 374.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: ♦необходимое и невозможное» 219
и условие любой интеллектуальной работы)? Сейчас, задним
числом, но и с пожеланием на будущее, можно сказать, что стоило
бы, наверное, более гостеприимно пустить на свою территорию
и теоретическую лингвистику, и философскую риторику Жерара
Женетта, и некоторых теоретиков современного искусства. А
пока мы видим скорее отчужденность между философией и наукой,
несмотря на призрачную видимость противоположного (эта тема
уже не формулируется, как некогда у Сноу, как
противоположность двух культур — естественно-научной и гуманитарной: и
линии связи, и линии раздела проходят иначе и прочерчиваются
менее жестко). А иначе получается, что философия собственными
силами не со всем справляется, особенно когда в качестве
равнозначного материала для анализа (скажем, проблемы
гостеприимства) берутся и современные политические процессы в Южной
Европе, и коллизии Софокловой «Антигоны». Разобранная на
части эмпирия оказывается вполне своенравной: в результате она
либо сопротивляется концептуализации, либо тянет философию
к более традиционным ходам, нежели сама же в иные моменты
подсказывает.
Но за всем этим маячит новая познавательная перспектива.
Деррида не берется определить ее, но глухо ссылается на что-то
вдали - недаром деконструкция подается в конечном счете как
тема, мотив, симптом какой-то иной огромной задачи. Деррида
часто отсылает нас вперед (об этом позже, но это «позже» так и не
наступает), манит и подталкивает. И это правильно — дистанция
между ныне достигнутым (или не достигнутым) и в принципе
искомым огромна. И если не бояться старых слов, можно сказать,
что вся эта работа, которая нередко выглядит как бессмысленная,
ерническая, насмешливая, издевательская, некоммуникабельная,
нарочито дразнящая людей других философских традиций, уже
есть наметка путей для другой мысли, которая была бы способна
на концептуальное использование всего того, что уже было
добыто в модусе игровом.
А теперь оглянемся назад — туда, где мы попытались нарисовать
две картинки: одну под знаком наличия, другую - под знаком
различия - и попытаемся подвести некоторые итоги деконструкции.
Мы уже задумались о том, где же все-таки место самого Деррида.
Сейчас, кажется, можно сказать, что Деррида - не там, где царят
наличия и метафизическая серьезность, но и не там, где игровые
подмены сметают все опоры. Его место скорее там, где с трудом
построенное различительное и различающее пространство дает
свои изводы: где возникают «архе-письмо» как извод письма,
«архе-след» как извод следа, «различАние» как извод различия.
Однако и все эти «архе-следы» не были пределом деконструкции.
220 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Открыв все шлюзы и породив всеобщий поток расчленений
и деиерархизаций, деконструкция начинает теперь высматривать
среди этого всеобщего потопа то, что составляет минимальные
необходимые условия человеческого выживания в культуре - то, что
на самом деле не поддается никаким играм, подменам и
стираниям. Напомним, что постепенно мы уже собрали большое
количество этих новых предметов - таких, как вера, смерть, дружба,
сообщество, гостеприимство, дар, справедливость. И это уже совсем
другой ряд, нежели ряд всеобщих оборотней (фармаконов,
гименов и пр.), которые можно истолковать как угодно. Правда, в
итоге получилось нечто странное: традиционалистское и даже
архаическое изумление перед некоторым набором вечных человеческих
тем1. Когда Деррида прямо спрашивают, можно ли говорить о его
философии, он чаще всего отвечает «нет». Подобно тому как не
существует ни деконструкции вообще, ни метафизики вообще,
но лишь отдельные конкретные случаи работы с ними, точно так
же нет и философии Деррида — ни вообще, ни в частности (по-
французски: ни la philosophie, ни une philosophie). А что же тогда
собственно есть? Есть некий опыт: Деррида так и говорит — «не
моя философия, а мой опыт»2. Слово «опыт» привлекает его
многими своими коннотациями и обертонами: оно предполагает
и путешествия, и испытания, и пересечения с жизнями других
людей, и уникальность собственных (наивных или рефлексивных)
мыслительных поступков. Опыт многое может, но он обязательно
упирается во что-нибудь невозможное.
Мы видели, сколько у Деррида тончайших поворотов и
оттенков мысли в бесконечно варьирующихся контекстах, сколько
у него умственного блеска со всеми его интеллектуальными
ассоциациями и этимологическими перетолкованиями. Но пусть
художественный блеск и все соблазны яркого стиля не закроют от
нас хода мысли — умной, хитрой, сильной, светской3, -
наверняка способной сделать больше того, что нам пока показали. Дерри-
1 По-видимому, вместе с этим происходит и уточнение критического мотива:
важно отрицание не просто целостностей, но именно органических, слитных це-
лостностей, не просто иерархий, а репрессивных иерархий, и не просто центров
(центр необходим человеку как точка притяжения к невозможному), но
догматически стабилизирующих центров, прекращающих всякое движение. Таким
образом, деконструкция — это неустанный поиск невозможного как такового, а тем
самым - и вещей, парадоксальным образом подпитываемых самой этой
невозможностью.
2 Ср.: Derrida J. Points de suspension. Entretiens. P. 373.
3 И напрасно некоторые пытаются погрузить ее в глубины русско-европейского
мистицизма. Ср. Гурко Е. Божественная ономатология. Именование Бога в имя-
славии, символизме и деконструкции. Минск, 2006.
Раздел первый. Познание и язык. Глава третья. Деррцда: «необходимое и невозможное» 221
да, как когда-то Леви-Строс перед намбиквара, преподал нам
урок письма — урок тонкого аналитизма, членораздельности и
артикулированное™. И за этот урок внятности — пусть даже и от
противного - мы не можем не быть ему благодарны.
Уже сейчас несомненно, что эстетическое (в широком смысле
слова) переосмысление разума даст нам очень много, если после
всех своих глубоких погружений разум сможет вновь обрести
концептуально значимую форму. Но тогда в памяти останется и
проект грамматологии — «науки о письме» как основе любой
артикуляции, как искомой и обретаемой человеком внятности
и членораздельности мысли, заданной его местом между
животным и божественным. Урок чтения и письма нужен всем — не
только забытым богом намбиквара, но и русским, и французам.
Читать и писать нельзя научиться раз и навсегда — каждая эпоха
требует от нас нового усилия. Без мыслительной гимнастики,
без гибкости всех суставов и сочленений мысли, способной
и к погружению в неизведанное и к внятному отчету об всем
понятом, ничто в человеческом мире не удержится.
Глава четвертая
Лакан: парадоксы познания бессознательного
§ 1. Бессознательное структурировано как язык
Лакановская концепция сопровождала меня на разных
этапах жизни. Вехами на этом пути были публикация в 1973 г.
в «Вопросах философии» моей статьи (первой в России)
о Лакане, пленарный доклад на Тбилисском симпозиуме
по бессознательному (1979) об эпистемологии лаканов-
ской концепции, который когда-то поразил французских
участников (видимо, тем, что «советские» не висят на деревьях и про
что-то рассуждают...) и получил отклики во французской
интеллектуальной периодике. В 1990 году по приглашению Рене
Мажора, выступавшего некогда в Тбилиси, и Жака Деррида (который
передал мне официальное приглашение во время своего визита
в Москву весной 1990 года), я выступала в зале ЮНЕСКО перед
двумя тысячами людей как посланец страны, запретившей
психоанализ. Сам по себе этот конгресс был событием уникальным.
В нем приняли участие М. Деги, Ж. Деррида, А. Бадью, Ф. Лаку-
Лабарт, С. Вебер, К. Жамбе, Ж.-Л. Нанси, Ж. Гранель, Э. Рудине-
ско, П. Машре, М. Борш-Якобсен, С. Видерман, Ж.-К. Мильнер,
П. Анри, У. Ричардсон, Р. Мажор и другие. Было 7 главных
докладов, и к каждому - ряд содокладов, подготовленных заранее по
разосланным письменным текстам. Я выступала в первый день
с докладом «Лакан и Кант» (Рене Мажор очень хотел, чтобы это
была тема «Лакан и Маркс», впоследствии широко развернутая
С. Жижеком, но я на это не согласилась). У меня было 4
содокладчика (Э. Балибар, Б. Ожильви, К. Конте и Ж. Рагозенски) и
замечательный председатель - Ж.-Ф. Лиотар. Идеология и политика
на месте эпистемологии - такова была доминанта выступления
первого содокладчика Э. Балибара, резко выступившего против
моего, достаточно спокойного и академичного (по отзывам
слушателей) доклада. Видимо, Балибару важно было в тот период как
можно резче отмежеваться от всего, что могло иметь отношение
к марксизму, так как он в тот период стремился расквитаться со
своим, весьма интересным, марксистским прошлым. Этот «пер-
форманс» столкнул меня - в очередной раз - с ярким событием
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 223
идеологической непереводимости. В будущем я надеюсь
перевести, опубликовать и обсудить материалы этих дискуссий - в
контексте архива истории идей и идейных столкновений. Когда
в конце 1980-х - начале 1990-х годов начались настойчивые
приезды лаканистских групп в Москву, я отказалась от чести быть
вдохновителем российского лаканистского сообщества, в
котором уже проявляла себя борьба за власть, а также и от чести взять
на себя перевод текстов Лакана на русский язык. Вместе с тем ла-
кановская проблематика никогда не уходила из поля моего
внимания: в ней даже явные непонятности манят шансами новых
прозрений.
Данная глава посвящена структурному психоанализу Жака
Лакана (1901—1981) — самого крупного французского
психоаналитика; внимание будет обращено прежде всего на те тенденции его
творчества, которые связаны с постановкой вопроса о языковом,
символическом характере бессознательного, о самой
возможности - вслед за базовой интуицией Фрейда — осмыслить
бессознательное как особого рода язык. По сути, речь пойдет о
возможности перевода бессознательного в язык: где и в какой степени это
осуществимо, а где этот процесс сталкивается с непереводимым —
в виде аффектов, эмоций, других неязыковых явлений,
традиционно относимых к области внушения и в течение долгого времени
отрицавшихся классическим психоанализом, но от этого не менее
существенных в работе индивидуальной человеческой психики,
в человеческих взаимоотношениях, в функционировании
человеческих коллективов и даже самих психоаналитических институтов.
В 1966 году вышел в свет почти тысячестраничный том
сочинений Лакана, включающий работы тридцатилетней
исследовательской деятельности, главным образом отдельные статьи и
выступления на конгрессах и симпозиумах с теми добавлениями
и заметками, которые внес в них автор, готовя эти материалы
к печати1.
Как видно, Лакан не торопился делать свои сочинения
достоянием широкой публики, хотя интенсивно работать в области
психоанализа он начал еще в 1930-е годы. В течение нескольких
десятков лет его влияние на духовную жизнь французской
интеллигенции осуществлялось главным образом через семинары, среди
слушателей которых был, в частности, и М.Фуко, в молодости
много занимавшийся проблемами практической психиатрии. Выход
лакановской концепции за пределы университетских аудиторий
сразу же заставил критиков заговорить о Лакане не только как о «ве-
LacanJ. Ecrits. Paris, 1966.
224 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ликом шамане» современной французской культуры1, но и как
о «подлинно независимом источнике структурализма»2, причем
некоторые исследователи шли в своей оценке еще дальше, утверждая,
что Лакан, наряду с Деррида и Соллерсом, а в известной мере более
чем они, выходит за рамки «классического» структурализма,
открывая внутри него новые тенденции и перспективы3.
При этом исследователи и критики единодушно сетуют на
чрезвычайно сложный, витиеватый, эзотерический стиль Лакана:
автор то играет в стилистическую тяжеловесность Гегеля, то как
бы воспроизводит узоры символической поэзии; он с одинаковой
легкостью ссылается на Канта и де Сада, на «Алису в стране чудес»
и на «Феноменологию духа», на платоновский «Пир» и на русских
формалистов.
Лакановская концепция не лежит на поверхности текста, ее
необходимо вычленять и реконструировать на основе заметок,
внешне хотя и мало систематизированных, но, тем не менее,
представляющих собой единое целое. И в этой связи манера
изложения действительно становится серьезным препятствием,
способным порой отвратить читателя от работы, обладающей
несомненной научной ценностью. Впрочем, эту эзотеричность
едва ли можно рассматривать лишь как черту индивидуального
авторского стиля. В известной мере это симптом общекультурного
плана, свидетельствующий о том, что современная эпоха еще не
выработала средств для глобального объективного самоописания:
расширяя поле рационального, научно-теоретического охвата
действительности в одних областях, она вынуждена ослаблять
точность описания в других, вместо понятийной строгости
пользоваться суггестивными намеками4.
Расширение и углубление той почвы, на которой
развертывается переосмысляющая рефлексия современной европейской
культуры, связаны с разрушением былых устоев человеческого бытия,
с изменением его биологических, психологических и социокуль-
1 Châtelet F. Rendez-vous dans deux ans // Le nouvel observateur. 1967. janv. 11-17.
№ 113. P. 38.
2 Caws P. What is Structuralism? // Partisan Review. Boston, 1968. № 1. P. 83.
3 См. Daix P. Qu'est-ce que le structuralisme? Un entretien de Pierre Daix avec
François Wahl // Lettres françaises. Paris, 1969. № 1268.
4 Существует, однако, и другое мнение: лакановский стиль - это вовсе не «игра»,
но осознанный педагогический прием. Прежде чем учить медиков и
психоаналитиков теории бессознательного, Лакан своим «педагогическим гонгоризмом»
демонстрирует своеобразный эквивалент того языка, который им предстоит
постигать и распутывать в ходе терапевтической практики. См. Althusser L. Freud et
Lacan // La nouvelle critique. Paris, 1964-1965. № 161-162. P. 96.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 225
турных параметров. В общем контексте этого переосмысляющего
самоопределения, осуществлением которого увлечена, в
сущности, вся современная наука — не только гуманитарная, но и
естественная, - проблема психического, и в частности проблема
психической болезни как «неслучайного» отклонения от «нормы»,
выявляющего ограниченную «предельность» самой нормы,
приобретает особый смысл и значение. Этой проблеме посвящена
одна из уже упоминавшихся ранних работ М. Фуко1: она послужит
весьма полезным введением к исследованиям Лакана.
Даже если ограничиться европейской культурой Нового
времени, говорит Фуко, становится очевидным, насколько изменчиво
отношение между «нормальным» и «ненормальным», «разумным»
и «безумным». Это отношение опосредовано целой сетью других
отношений - экономических, политических, юридических,
религиозных, сплетающихся внутри единой социальной структуры.
Фуко выделяет три периода в отношении разума и безумия: сред-
невеково-возрожденческий, классический и современный. Между
ними выявляются отношения четкой оппозиционности.
Позднесредневековое и ранневозрожденческое сознание
воспринимало фигуру безумца как посланца из другого мира.
При этом безумие не отделялось от других проявлений
человеческой жизни: и Лир, и Дон Кихот, пишет Фуко, живут среди
«нормальных» людей и странствуют на свободе. И даже когда «корабли
дураков», которые не являлись исключительно порождением
литературной фантазии, но были реальным явлением общественной
жизни, символически отправляли «безумцев» в изгнание,
отчуждая их от остального общества, то и тогда эта отверженность не
была лишена привлекательности и даже величия.
Другое дело — классический век. Если ренессансный «безумец»
приходит из другого мира, то «безумец» классического века — это
тот, кто осмеливается выходить за рамки данного мира, и потому ре-
нессансное общество отпускает его на свободу, а буржуазное
общество периода классического рационализма XVII—XVIII в. сажает за
решетку. Именно в эту пору учреждение «исправительных» домов
становится общеевропейским явлением. В отношении буржуазного
общества к безумию сливаются моральные и экономические
требования: с одной стороны, осуждение праздности, с другой стороны,
принуждение к труду, ставшее особенно необходимым в обстановке
экономических затруднений развивавшегося капитализма.
Исправительные дома были не медицинскими, но административно-
юридическими учреждениями, с помощью которых классический
разум, рассматривавший безумие не как болезнь, но как звериное
Foucault M. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris, 1961.
226 Познание и перевод. Опыты Философии языка
начало в человеке, подавляет это начало социальным
принуждением к труду. Между психическим больным и обществом воздвигается
абстрактная фигура разума как мерила и стандарта, под который
должен подстраиваться больной для того, чтобы приобрести право
вернуться в общество, откуда он оказался изгнанным.
Расширение исторического и географического горизонта
европейской культуры начиная со второй половины XIX в. поставило
под сомнение эти критерии рациональности, ранее казавшиеся
незыблемыми. Прошли времена успокоительного остракизма,
которому общество некогда могло подвергнуть фигуру безумца,
оберегая тем самым кажущуюся незамутненной чистоту своих
собственных устоев и критериев. Сознание «нормального» человека
раздвигает свои рамки и лишается четких очертаний: «безумие
и неразумие» проявляются уже не как нечто инородное сознанию,
а как нечто родственное, с чем сознание может иметь контакт
и вести диалог. Подсознание - это, по определению Фуко,
«братское и близнецовое Другое» сознания, - является той связкой,
через которую чистая и самопрозрачная рефлективность
сочленяется с неясными несамопрозрачными, не приведенными (или
в принципе не приводимыми) к умопостигаемой рациональной
форме содержаниями. Безумие представляется теперь болезнью -
болезнью разума, его оборотной стороной, а это в корне меняет
отношения врача (которого общество использует в качестве
посредника между собою и болезнью) с пациентом. Врач уже не
воплощает в своем лице судящую и карающую инстанцию,
обладающую абсолютно истинными знаниями о пациенте. Перед
врачом - нераспутанный клубок хитросплетений неповторимой
индивидуальной человеческой жизни, несводимой к
трансцендентным ей критериям социальной истории, и в результате вместо
монологических предписаний врача в отношении больного между
ними устанавливается взаимосоотнесенность диалога. Диалогич-
ностъ как способ и стиль познания утверждается одновременно
и на уровне индивидуальности и в социальной истории1. Позиция
современного историка также в известном смысле аналогична
позиции исследователя психической реальности человеческого
1 Эта диалогичность не предполагает, однако, непрестанного «говорения», лишь
меняющего свое направление между вопросом и ответом на манер катехизиса.
Суть диалогичности в том, что она, «материализуя отсутствие», включает тем
самым в сферу культурно осмысленного пробелы, прерывности, молчания, паузы.
Лакан специально подчеркивает, что отношения врача и пациента становятся
диалогом из-за внимающего (пусть даже и молчаливого) присутствия врача. Именно
это присутствие не дает речи больного рассеяться в пространстве, но, напротив,
возвращает ее к «исходному пункту», и тем самым в сознание больного «входят»
его собственные, «свои», но уже преломленные, преобразованные самим ходом
своего развертывания содержания.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 227
сознания, поставленного перед запутанной, зажатой в комплексы
историей индивидуальной психики. Современный историк
работает в другом стиле, нежели историк эпохи классического
рационализма: он не подавляет специфику прошедших эпох
критериями сегодняшнего дня, представленными в виде вневременных
идеалов, но стремится бережно реконструировать их
своеобычный язык — не ради «музейного» накопительства культурных
ценностей, но во имя подлинной живой историчности1.
Таким образом, поле «археологического» самообоснования
и переосмысляющей рефлексии в современной культуре
поистине необъятно: европейское сознание вынуждено
самоопределяться по отношению к неевропейским, экзотическим и
«примитивным» формам сознания и социальности; современное сознание
вынуждено самоопределяться по отношению к несегодняшним,
иногда к давно прошедшим стадиям социокультурной жизни; ра-
циоцентристское сознание, кажущееся целиком рефлексивно
прозрачным, вынуждено самоопределяться по отношению
к иным - сосуществующим или предсуществующим - слоям или
этапам своей организованности. Устремившиеся вглубь и вширь
направления этой переоценки сохраняют тесную связь друг с
другом: так, например, человек не может овладеть подсознательными
глубинами своей психической структуры, не овладевая
одновременно с этим формами своего социокультурного бытия.
В некоторых случаях переоценка и переосмысление оснований
европейской культуры зашли настолько далеко, что это вызвало
резкую перемену перспективы и диаметрально противоположный
выбор исходных опорных точек. Так, например, европоцентризм
оборачивается подчас апологией «примитивного» общества, пре-
зентицентризм — любованием исторически удаленной
экзотичностью средневековых идеалов, рациоцентризм - бегством в
болезнь и патологию. Одна из форм этой инверсии обнаруживается
в трактовке своей европейской рациональности не только не как
критерия духовного здоровья, но, напротив, как воплощения
болезни и безумия. Как известно, 3. Фрейд связывал некоторые
формы массовой психологии (оказавшиеся весьма сходными
с формами массовой психологии и поведения при фашистских
режимах) с параноидным бредом2. Ж. Лакан подхватывает эту тра-
1 Эти тенденции отчетливо прослеживаются в социально-психологических
исследованиях истории, связанных, в частности, с французской «школой Анналов».
2 Жиль Делёз и Феликс Гваттари идут в своих сопоставлениях еще дальше: они
ставят формы, типы и стадии психических заболеваний в непосредственное
соответствие с формами, типами и стадиями капиталистического производства. См.:
Deleuze G., Guattari F. Capitalisme et schizophrénie. T. 1. Paris, 1972.
228 Познание и перевод. Опыты Филосоеии языка
дицию: для него терапевтическая линия в индивидуальной
психоаналитической практике - обнаружение и лечение болезни -
тесно связывается (по крайней мере теоретически) с терапией всей
современной западной цивилизации.
***
Свое собственное место в духовной жизни современной
Франции Ж. Лакан определяет весьма лаконично и однозначно: я -
тот, кто прочитал Фрейда, говорит он в одном из интервью1,
характеризуя при этом свою концепцию как полностью
детерминированную этим прочтением. Судя по одной из ранних работ
Лакана, «По ту сторону принципа реальности» (1936), он видит
главную заслугу Фрейда в открытии нового духовного
«континента» - психической реальности, закономерности которой не
сводятся к органическим и биологическим факторам и потому не
поддаются рационализации естественно-научного типа (антитеза
механистическому ассоциационизму), но в то же время остаются
умопостигаемыми и в принципе доступными рациональной
фиксации и объективному истолкованию (антитеза интроспекцио-
нистской психологии). Однако Лакан не является «правоверным»
интерпретатором фрейдизма.
«Неортодоксальность» лакановской позиции обусловлена тем,
что в его концепции понятие несводимой и специфической
«психической реальности» и проблема ее научного изучения тесно
сплелись с другой важнейшей проблемой, в полной мере
выявившейся лишь в современной познавательной ситуации. Мы имеем
в виду проблему языка. Борясь с многосторонней редукцией
теоретического объекта психоанализа, ставшего в духовной ситуации
буржуазного Запада объектом массового культурного
потребления и «жертвой неслыханной идеологической эксплуатации»,
Лакан стремится опереться на строгую чистоту критериев
современной лингвистики - от Соссюра до Хомского. Однако речь здесь
идет, собственно не об исследовании языка, а скорее о
лингвистической проблематике в самом широком смысле слова. Если новое
соотношение разума и «неразумия» стало одним из аспектов
расширения области умопостигаемого, то язык в этой ситуации
выступает как «первоматерия» исследовательской работы, как
основное средство ее концептуальной фиксации и как результат
познавательной деятельности сознания.
По сути лакановская концепция может быть представлена как
результат соединения двух основных проблемных линий - пси-
1 Daix P. Entretien avec Jacques Lacan // Lettres françaises. 1966. № 1159. 1-7 déc.
P. 1.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 229
хоаналитической и лингвистической, ведущих начало от Фрейда
и Соссюра. Об этом объединении свидетельствует само
парадоксально заостренное выражение смысла лакановской концепции:
«бессознательное — это язык», «бессознательное
структурировано как язык». Вполне очевидно, что попытка синтеза этих
проблемных линий не может не вызывать значительного
переосмысления обеих: как фрейдовского понимания бессознательного, так
и трактовки языка как формы логического мышления (а никак не
бессознательного). Направленность лакановского
переосмысления фрейдовской концепции позволяет говорить о своеобразной
«дебиологизации», «десексуализации» в трактовке человека и его
психики, о стремлении Лакана понять с точки зрения
социальных механизмов языка и культуры даже те уровни и слои
психической структуры, которые у Фрейда оставались достоянием
биологии. Направленность лакановского переосмысления
соссюровской концепции языка позволяет говорить о
своеобразной «десемиотизации» этой трактовки. Это означает проблемати-
зацию связи «знака» и «значения» или, точнее, «означающего»
и «означаемого» в рамках атомарного знака: представление о
непригнанное™ и скольжении означаемого и означающего друг
относительно друга, о самостоятельности первого по отношению
ко второму.
Роль языка в фиксации и удержании специфики психической
реальности определяется тем, что речь больного в
психоаналитической ситуации является нейтральной почвой, на которой
остаются следы психических состояний, процессов и структур самых
различных уровней. Тем самым язык выявляется именно как та
среда, которая позволяет осуществить требование
«несистематизации», «несведения», «без-выборности», то есть непредпочтения
каких-то одних психических проявлений другим. Выполнение
этого требования Лакан считает необходимым для защиты
объекта психологии и психоанализа от механистического ассоциацио-
нистского редукционизма.
Аналогия между бессознательным и языком обосновывает
и второй полемический момент, значимый для лакановской
концепции, - возможность научного познания в области психологии.
«Дискурсивность», расчлененность, определенная формоупоря-
доченность языков и языкоподобных механизмов делает
возможным рациональное, логическое (а не интуитивное) познание
психических процессов, основанных на этой аналогии. В рамках
психоаналитической теории это означает, что бессознательное
лишается своего «архаического», инстинктивного характера,
будучи структурированным и структурирующим механизмом, а речь
больного, выявляющая это бессознательное, выступает для врача
230 Познание и перевод. Опыты Философии языка
как поле анализа, содержащее некоторым образом
структурированный и упорядоченный материал, доступный для
рационального схватывания и осмысления.
В результате синтеза этих двух проблемных линий -
психоаналитической и лингвистической - вопрос о психическом
заболевании и тесно связанная с ним проблема бессознательного ставятся
в концепции Лакана «с оглядкой» на язык1, а проблема языка
соотносится не только с мышлением и сознанием, но прежде всего
с бессознательным. Бессознательное — это речь другого, это язык,
бессознательное структурировано как язык - эти уже
упоминавшиеся формулы чаще всего цитируются, когда речь идет о сути ла-
кановской концепции. Такое «уравнение» языка и
бессознательного на первый взгляд весьма неожиданно: ведь речь традиционно
связывается с сознанием, а уровень языкового мышления
противопоставляется бессознательному. Парадоксальность лаканов-
ской формулы объясняется тем, что она подразумевает уже совсем
не то бессознательное и не тот язык, с которыми имели дело
Фрейд и Соссюр и соответственно классический психоанализ
и классическая лингвистика. Мы постараемся охарактеризовать
направления этого переосмысления.
Сопоставляя лакановскую трактовку бессознательного с
концепцией классического фрейдовского психоанализа, нетрудно
заметить довольно четко выступающую линию различия.
Например, фрейдовское понятие желания, влечения (Trieb, libido) Лакан
последовательно переводит как pulsion и трактует не как
энергетический импульс биологического порядка, не как заряд
сексуальной энергии, требующий разрядки или последующего
культурного упорядочения, а скорее как расчленяющую пульсацию,
биение - уже опосредованное и преломленное в психических
представлениях и уже достигшее определенной структурной
упорядоченности2. И это далеко не единственное расхождение между
Лаканом и Фрейдом. Существенные отличия в трактовке
соотношения сознательного и бессознательного выявляются также при
сопоставлении трехчленной схемы психической структуры,
обрисованной Фрейдом в работах 1920-х годов, с лакановской схемой
психической структуры.
1 «Психоаналитический опыт вновь открыл в человеке императив Слова,
который является законом, сформировавшим его по своему образу и подобию. Этот
опыт пользуется поэтической функцией языка для того, чтобы придать
человеческому желанию символическую опосредованность. Так пусть он позволит нам
понять, что лишь в этом даре речи заключена вся реальность его результатов, ибо
лишь посредством этого дара реальность подошла к человеку и лишь вновь и вновь
совершая акт речи, человек ее удерживает». Lacan J. Ecrits. P. 322.
2 Ibid. P. 803.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 231
Как известно, концепция позднего Фрейда предполагает
противоборствующее наличие уже не двух элементов - сознательного
и бессознательного, как это было в ранний период, но трех
элементов - id, ego и superego. Срединный член - это центр
динамического равновесия; ego сдерживает и опосредует натиск двух
противоположно направленных сил: с одной стороны, биологических
импульсов id, с другой - социокультурных принуждений,
проводником которых выступает superego. Играя роль координирующего
центра между антисоциальными инстинктивными влечениями,
подчиняющимися лишь «принципу удовольствия», и
социальными императивами, грозящими слишком сильно подавить перво-
природные побуждения человека, ego, стремящееся отыскать
какие-то компромиссные формы соотнесения этих крайних членов,
выступает как воплощение «принципа реальности».
Схема психической структуры у Лакана тоже трехчленная:
составляющие ее элементы - это сферы «реального»,
«воображаемого» и «символического». (Терминами ego и superego Лакан
фактически не пользуется; он считает, что их коннотативная нагрузка
вводит сознание исследователя в заблуждение отзвуком
привычных форм рациональности, не позволяя в полной мере учесть
своеобразную новизну тех явлений психической жизни, которые
Фрейд обозначает этими терминами.)
Реальное - это непосредственные жизненные функции и
отправления. Воображаемое — психические представления,
связанные с этими жизненными функциями. Символическое —
представления, опосредованные речью и в корне преобразованные
этим опосредованием. Соответственно этим трем уровням
конституируются три типа субъекта: на уровне «реального» — субъект
«потребности» (besoin), на уровне воображаемого — субъект
«желания» (désir), на уровне символического — субъект словесно
выраженного обращения, «запроса» (demande). Эта лакановская
схема, имеющая некоторое сходство с фрейдовской, тем не менее
значительно от нее отличается. Так, лакановское «реальное», в
котором можно было бы отыскать черты сходства с фрейдовским id,
фактически выводится за пределы исследования; главное
внимание уделяется двум другим уровням. Срединный уровень лаканов-
ской схемы выступает у него не как центр регуляции и
воплощение принципа реальности, но, напротив, как «функция
заблуждения». Именно на уровне «воображаемого» создаются,
по мнению Лакана, все иллюзорно-синтезирующие,
центрирующие, идентифицирующие Я представления. Не случайно Лакан
озаглавил свою уже упоминавшуюся раннюю работу «По ту
сторону принципа реальности» — это перифраза известной работы
Фрейда «По ту сторону принципа удовольствия». Если Фрейд
232 Познание и перевод. Опыты Филосоажи языка
снимает «принцип удовольствия», воплощаемый побуждениями
id, утверждая «принцип реальности» как основу
самосохраняющего функционирования ego, то Лакан (речь идет не об этой
именно работе, а обо всей его концепции) снимает «принцип
реальности», воплощаемый иллюзорным самоконструированием,
происходящим на уровне воображаемого, утверждая в качестве
важнейшего бессознательное осуществление принципа
символического. Конструируемое воображением Я (в лакановской
терминологии — moi, в отличие от je как субъекта лингвистического
высказывания) не «действительное», а «страдательное», вторичное
по отношению к трансцендирующей его сфере символического.
Таким образом, противопоставление сознательного и
бессознательного предстает в лакановской концепции как
противопоставление воображаемого и символического. Символическое
выступает в качестве определяющего момента структуры
психического не только логически и «топологически»; выход на уровень
символического и подключение к интерсубъективным
механизмам культуры и языка - таково направление и онтогенетического,
и филогенетического развертывания человеческой психики. Так,
определяющим моментом в формировании психики ребенка
является, в терминологии Лакана, переход от «зеркальной» стадии
к «эдиповской», что в известной мере соответствует переходу от
воображаемого к символическому. Отказываясь от
воображаемого слияния с матерью как с единственным объектом своих
потребностей и желаний (то есть отказавшись от своего безграничного
«желания желания Другого», от стремления быть единственным
объектом материнского внимания и заботы), ребенок «допускает»
в свой двойственный союз с матерью третьего члена — отца: он
начинает понимать, что его отношение к матери всегда выступает
как опосредованное, что он относится к матери только постольку,
поскольку та относится к отцу. Выходя из стадии нарциссическо-
го самоотождествления с объектом своего желания в сферу
символического, ребенок тем самым включается в мельчайшую
клеточку социальной жизни - семью - на правах «третьего», то есть
сына, существование которого опосредовано существованием
двух других человеческих существ. На месте воображаемого
отождествления с матерью воцаряется закон, запрещающий такое
отождествление (Лакан обозначает его как Имя-Отца, и в этом
специфическое отличие лакановского «словесного» психоанализа
от фрейдовского); на месте воображаемого обладания объектом
потребности и желания утверждается постоянный разрыв с этим
предметом, невозможность его достижения и обладания им. И
реальная «потребность», и воображаемое «влечение» к
идентификации с Другим подчиняются ограничивающему и оформляющему
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 233
их влиянию Закона; они как бы сбрасывают свою материальную
и идеальную вещественность, перевоплощаясь в материальную
расчлененность потока речи, социальной единицей которой и
выступает «запрос».
Итак, лакановское «перепрочтение» Фрейда имеет вполне
определенную направленность: оно осуществляется как
своеобразная «денатурализация», «десексуализация» фрейдовского
бессознательного. Биологические импульсы приглушаются и
выводятся за пределы исследования, бессознательное,
концентрирующееся в верхних слоях схемы психической структуры, — это уже
не «витальные» жизненные интенции, а нечто причастное
порядку языка и строю культурной жизни человеческого коллектива.
Интерпретация бессознательного в терминах культуры вызвала
возражения с научной, в том числе лингвистической1, точки зрения.
Кроме того, сближение этих двух факторов вплоть до их
отождествления (пример которого мы видели в исходной лакановской
формуле: бессознательное — это речь Другого) фактически привело бы
к стиранию достаточно плодотворного разграничения
сознательного и бессознательного, позволившего Фрейду по-новому очертить
область психического и ввести в сферу научного исследования ряд
психических явлений, ранее находившихся за его пределами.
Трактовка, отождествляющая бессознательное с тем, что традиционно
рассматривалось как собственно сознательная деятельность, то есть
с языком, лишь сняла бы фактически поставленную Фрейдом
проблему «моста» между природным и культурным в человеке (правда,
не нашедшую у Фрейда адекватного разрешения).
Представляется, однако, что Лакан вовсе не отождествляет
бессознательное с языком и не снимает тем самым вопрос об
опосредовании природного и культурного, но переносит эту
проблему на другой, более глубокий уровень, задает ее в иных, нежели
это было у Фрейда, терминах и понятиях. Говоря о том, что
бессознательное - это и есть язык, речь, Лакан имеет в виду не язык
в повседневном обиходном смысле и не язык в лингвистическом
смысле слова2. На поверку оказывается, что те механизмы, с
которыми Лакан отождествляет бессознательное, располагаются не
1 См., например, Benveniste Ε. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966. P. 85-86.
2 Если Фрейд пользовался терминами энергетической физики Гельмгольца или
Максвелла, то Лакан опирается на лингвистическую терминологию.
Неадекватность, «непригнанность» терминологической и понятийной сторон в лакановской
и фрейдовской концепциях, необходимость реконструировать истинное
эпистемологическое отношение, существующее между понятиями и их содержаниями,
значительно осложняют задачу научного исследования обеих концепций. См.
Althusser L. Freud et Lacan. P. 90.
234 Познание и перевод. Опыты Философии языка
только на уровне символического, но фактически уже
предполагаются наличествующими и функционирующими и на других
уровнях психической структуры. Так, например, получается, что
влечение, желание, конституирующееся на уровне
воображаемого, уже предполагает «язык», который, по лакановским канонам,
связывается и логически и генетически лишь со следующим,
вышележащим, символическим уровнем. Таким образом,
несомненно, что под «языком» Лакан имеет в виду лишь нечто причастное
языковой дискурсии, некоторый внутренний механизм,
структурирующий принцип, который, находясь в основе всех уровней
психической структуры, делал бы возможными их соизмерение,
соотнесение, а тем самым и переходы от одного уровня к другому.
Между тем у Фрейда именно принципы преобразования
непрерывности биологического импульса в дискретные продукты
культуры остались необъясненными.
Лакановское «отождествление» сознания с языком - это не что
иное, как попытка ответить на знаменитый парадокс начала
познания: как я могу начать познавать нечто, что само себя не
осознает? В данном случае этот вопрос формулируется по-другому:
каким образом языковая дискурсия и другие формоопределяю-
щие разграничения могут накладываться на нечто такое, что само
по себе чуждо какой бы то ни было расчлененности? Однако
символическое в лакановском смысле не есть нечто
накладывающееся на сырую материю содержаний сознания в качестве
формообразующего принципа расчленения и упорядочения. В самом
материале сознания уже должно быть нечто, позволяющее такое
наложение, делающее его возможным; в нем должна
наличествовать определенная предрасположенность к расчленению. В свою
очередь, и уровень символического, для того чтобы
упорядочивать и расчленять, должен быть определенным образом
структурированным. Вопрос о структуре символического уровня
и механизме действия символической функции приводит нас,
в логических лабиринтах концепции Лакана, к понятию
означающего и тем самым заставляет обратиться ко второму,
«лингвистическому» источнику лакановской мысли.
Понятие означающего было заимствовано Лаканом из
концепции Соссюра. Как известно, в концепции Соссюра отношение
означающего к означаемому - это одна из главных дихотомий,
с помощью которых исследователь вычленяет объект структурной
лингвистики. При этом под означающим Соссюр имеет в виду
акустический образ, психический отпечаток звукового аспекта
слова, под означаемым он подразумевает понятие1. Результат
См.: Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933. С. 78.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 235
взаимодействия этих двух психических сущностей и есть
языковой знак. Иначе говоря, знак в концепции Соссюра — это такое
целое, в котором чувственная сторона сосуществует с понятием
и воплощает его.
Как известно, именно Соссюру принадлежит вызвавшая
многочисленные дискуссии мысль о том, что в языке «нет ничего,
кроме различий»1. Этим афоризмом Соссюр подчеркивает, что
основное коммуникативное свойство языка — его способность
к передаче смысла — связано со способностью лингвистических
единиц на всех уровнях языковой структуры взаимопротивопо-
ставляться и взаимопротивополагаться друг другу.
Однако эти различия и противопоставления относятся,
по Соссюру, лишь к плану означаемого или к плану означающего,
взятым в отдельности, но не к знаковому уровню языка,
представляющему собой единство этих двух планов.
Если Соссюр постоянно подчеркивает принцип
непрерывности в отношении означающего и означаемого, то Лакан делает
упор на идею «скольжения» (glissement) означаемого
относительно означающего, что приводит в его концепции к идее разрыва
между ними и обособлению означающего2.
Задумываясь над правомерностью этого обособления,
необходимо иметь в виду, что оно во многом обусловлено спецификой
лакановского объекта, конституирующегося в диалогических
отношениях врача и больного. Представим себе процедуру
психоаналитического сеанса. Речь пациента и в самом деле выступает
для врача единственным источником информации о больном: как
было установлено в ходе клинических исследований, различным
психическим заболеваниям соответствуют различные типы
речевых нарушений. Речь выступает как то «поле», на котором
развертывается терапевтический курс, ибо именно в речи, в диалоге
врача и пациента, происходит обнаружение и снятие тех или иных
болезненных «симптомов», выражающихся нераспутанными
узлами речи. В данном случае положение врача перед пациентом
аналогично положению исследователя перед носителем
неизвестного ему языка с непривычной структурой, не позволяющей де-
1 Там же. С 119.
2 Сходная мысль развивалась русским филологом С. Карцевским в его
концепции «асимметричности языкового знака» (см. Karcevskij S. Du dualisme asymétrique
du signe linguistique // TCLP. T. I. 1929. P. 88-93) и была резюмирована чехом
В. Скаличкой (см.: Скаличка В. Асимметричный дуализм языковых единиц //
Пражский лингвистический кружок. Сб. ст. М., 1967. С. 119-127). В отличие от
этих лингвистических концепций Лакан делает более решительные выводы из
«скольжения» означающего и означаемого, утверждая их принципиальный разрыв.
236 Познание и перевод. Опыты Философии языка
лать умозаключения и переносы по аналогии. То первоначально
данное, с чем имеют дело оба исследователя,— это речевой поток,
протекающий на уровне означающего в плоскости сменяющихся
и переливающихся друг в друга материальных форм. В практике
психоаналитического сеанса эти означающие формы не
соотнесены ни с «объективной реальностью», существующей вне
зависимости от сознания больного, ни с содержаниями психики
больного (ибо пациент их осознанно подавляет и скрывает, а выявляет
лишь неосознанно, случайными деталями речи и поведения).
Доступная психоаналитику задача не может заключаться в том,
чтобы реконструировать реальные обстоятельства, внешние по
отношению к истории больного, или же проникнуть в глубь
содержаний его сознания: его цель — реконструировать на основе
протекающего перед ним потока означающего структуру этого
потока, которая и есть, считает Лакан, не что иное, как структура
бессознательного.
Переход к анализу структуры означающего в отрыве от
означаемого расщепляет двустороннюю целостность лингвистического
знака, являющегося самой мелкой, далее не разложимой
единицей речи «нормального» среднего носителя языка и культуры,
пользующегося типичными моделями языкового и культурного
общения. В данном патологическом случае устойчивое
культурное единство означающего и означаемого распадается.
Таким образом, лакановские переосмысления двух
«классических» истоков современного структурализма — концепций
Фрейда и Соссюра - имеют на первый взгляд прямо противоположную
направленность. Первое можно было бы условно обозначить как
тенденцию к «десексуализации» бессознательного, второе — как
тенденцию к «десемиотизации» языка. «Денатурализация» и «де-
сексуализация» фрейдовского биологического импульса - это
движение внутрь культуры, «десемиотизация» соссюровского
знака — это движение вовне, прочь от культурной нормативности.
Однако обе эти линии - центростремительная и центробежная -
очерчивают в своем встречном движении вполне определенную
область. В противоположность непрерывности фрейдовского
энергетического импульса и непрерывности семиотического
опыта человеческого коллектива характерный признак этой новой,
очерчиваемой Лаканом области, — прерывность.
Уровневость, прерывность, преломленность «идеальности»
означаемого через «материальность» означающего, разведение их по
разным плоскостям, вплоть до возможности разрыва — вот самые
общие знаменатели той проблематики, которая возникает на
пересечении этих двух указанных нами линий переосмысления
«классических» традиций. Разрыв между означающим и означае-
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 237
мым в концепции Лакана является наиболее общим выражением
других антиномий, например, отношения сознательного к
бессознательному, воображаемого к символическому. Это не случайно;
ведь, по мнению Лакана, прерывность означающего и
означаемого и есть тот самый разрыв, который стремится «залатать» (Лакан
здесь устойчиво пользуется глаголом suturer — «накладывать
швы») вся современная буржуазная культура, ощущая свою
болезненную разорванность. Все с большей и большей настойчивостью
в ней возникает вопрос «о структурах самой эпистемологической
традиции», о переосмыслении того образа, который
прорисовывается на пересечении субъекта, объекта и означающего.
Переосмысляющее «вопрошание», по мнению Лакана,
показывает, что субьект и объект «неклассического» структурализма,
развертывающегося на том уровне, где «говорит Оно1, — это не
«классический» субъект, обладающий единством и
автономностью, и не классический объект как внеположное субъекту и не
зависимое от него «вещное» образование. В свою очередь, и
отношение «неклассических» субъекта и объекта не есть отношение
их «внешнести», экстериорности, преодолеваемое активностью
субъекта. «Неклассические» субъект и объект не внеположны
друг другу в своей самодостаточности, но сочленены и взаимосо-
отнесены, причем сама возможность взаимоотношения требует,
чтобы оба эти элемента включали в себя постоянную и
неопреодолимую «нехватку» (manque), заставляющую их стремиться друг
к другу, раскрываться друг перед другом. При этом
взаимоотношение субъекта и объекта преломляется, с одной стороны,
сферой интерсубъективности, в которой субъект взаимодействует
с другими субъектами, с другой стороны — материальной
расчлененностью означающего, опосредствующего эти отношения.
Подлинный объект, считает Лакан, — это не реально
присутствующая вещь, но «нехватка», отсутствие. Эту диалектику
отношений непрозрачного, «затуманенного» субъекта (здесь Лакан
использует глагол éclipser, означающий «затмевать», «исчезать»,
или английскую словоформу fading с теми же значениями и
коннотациями) и объекта как «отсутствия», «нехватки» Лакан
прослеживает на всех трех уровнях вычленяемой им психической
структуры: реальном, воображаемом и символическом. Все эти
уровни как бы «сбрасывают» соответственно реальное, идеальное
и языково-смысловое «присутствие» объекта в «материальность»
его отсутствия, в расчлененный поток означающего. Дискурсия
языковой расчлененности свидетельствует, говорит Лакан,
об «умерщвлении» реального или воображаемого объекта, но за-
Lacan J. Ecrits. P. 649.
238 Познание и перевод. Опыты Философии языка
то она дает возможность повтора и коммуникации постоянного
влечения субъекта, направленного на постоянно отсутствующий,
«потерянный» объект.
Разумеется, этот «потерянный» объект, с таким трудом
«зацепленный» нами на границе психической структуры, в щели между
символическим и реальным, не имеет ничего общего с тем
синтезом символического и реального, на котором покоится
«абсолютное знание» Гегеля. Единство символического и реального в
гегелевской концепции, замечает Лакан, предполагает одно четко
определенное условие: «хитрый» разум с самого начала знает
«свое желание», знает, чего он хочет. Однако, продолжает Лакан,
эта возможность предвидения, основанная на отождествлении
двух планов - реального развертывания и символического
самоуяснения - есть не что иное, как «искушение безумия».
Особенно отчетливо эта критика классической интерпретации
субъектно-объектного отношения выявилась в лакановском
разборе известной формулы cogito ergo sum; ubi cogito ibi sum. Это
представление о гомогенности трансцендентального, мыслящего
субъекта с реальным, экзистирующим, субъектом есть, по Лакану,
лишь иллюзия воображающего «я». Формула, связующая бытие
и сознание, не может быть двучленной, ибо мысль обосновывает
бытие не непосредственно, а лишь соотносясь с речью. Cogito не
исчерпывает субъект, а потому его очевидности не влекут за собой
экзистенциальных утверждений.
Трансцендентальное и реальное не сосуществуют на одном
уровне. В противоположность декартовскому ubi cogito ibi sum
Лакан фактически вводит свой собственный тезис: «я мыслю там, где
я не есть, и я есть там, где я не мыслю». Разгадка этой загадки та
же, что и разгадка лакановского отрицания исходной формулы
Декарта: субъект мышления и субъект существования не
находятся на одном уровне, найти для обоих единую точку отсчета
невозможно. Интерпретация лакановского тезиса «я мыслю там, где
я не есть» предполагает обнаружение несоответствия тех
конструкций, которые измышляет «я воображающее», и реальному,
и символическому. Таким образом, продолжает Лакан,
современное познание открыло гетерономность психического, его
объемность и структурность, характеризующиеся несводимостью
различных его уровней.
Именно сдвиг внимания с плоскостности на уровневость,
с тождества на дисперсию, с первоначал на одновременность
расчлененного поля сознания, с континуальности и непрерывности
на прерывность является, по мнению ряда исследователей,
показателем «неклассичности» современного познания, в том числе
и в его структуралистских тенденциях.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 239
Однако представление о Лакане как о строго последовательном
«неклассическом» структуралисте, видимо, не вполне
справедливо. В этой связи характерно, что, несмотря на, казалось бы,
полную растворенность субъекта в цепи означающего, Лакан считает
возможным сохранить Фрейдову метафору, определяющую
субъекта (лакановского субъекта, «расплющенного» в означающем)
как «ядро бытия». Эта «центрирующая» метафора — не
единственное, что ставит под сомнение лакановские призывы к
радикальной неклассичности. Показательно также отношение Лакана
к некоторым моментам соссюровской концепции. Например,
Лакан говорит о своем стремлении снять соссюровскую линеарность
цепи означающего и заменить ее полифоническим
многоплановым образованием, в котором, наряду с горизонтальным,
конституируется также и вертикальное измерение, заполняемое
метафорическими «сгущениями» и метонимическими «смещениями»
означаемых относительно означающих. Эти смещения и
сгущения и есть те нераспутанные узлы в речевом потоке, по которым
врач определяет присутствие болезни.
Таким образом, получается, что полифоничность лакановской
речи создается, в сравнении с соссюровской линеарностыо, лишь
за счет «патологии», за счет тех петель и узлов, которые в
терапевтической практике подлежат преобразованию, «распутыванию»,
Слова Лакана о том, что «симптом это и есть истина», повисают
в воздухе. Истина, вернее, условие ее достижения — излечение
больного, - зависит от того, насколько удачно врач сумеет
распутать непроясненные содержания сознания, иными словами,
истина в этом смысле может быть только линейной. Кроме того,
неясно, каким образом Лакан надеется при этом построить из
выровненной цепи означающего, в которой линейно
сочленяются обломки разрушенного им воображаемого,
мистифицированного единства, иной синтез, тот подлинный, «свой» образ,
который больной должен ассимилировать и осознать для того, чтобы
излечиться. Хотя Лакану как многоопытному практикующему
врачу, по-видимому, известны практические способы такого
конструирования, он никак не обосновывает его теоретическую
возможность. На теоретическом уровне Лакан показывает не
построение структурной многомерности, но лишь приведение спу-
танностей речи к гомогенным линейным цепям. А следовательно,
и его субъект остается плоским и линейным. Не случайно, что
противостоящий этому плоскому дезинтегрированному субъекту
врач - другой субъект — оказывается уже не собеседником (в этом
некогда усматривалось одно из главных выражений фрейдовской
революционности), а «обладателем истины», конституирующейся
в процессе речи.
240 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Эти неоднократные отступления от идеала «неклассической»
расчлененности и прерывности показывают, что даже с точки
зрения внутренних критериев лакановской концепции ее задачу
нельзя признать решенной. Тем более неадекватными
представляются некоторые лакановские постановки проблем и
предлагаемый способ их разрешения, если подойти к проблеме
психического не с точки зрения требований психоаналитического сеанса,
но в более широкой эпистемологической перспективе. Хотя,
исходя из возможностей психоаналитического сеанса,
сосредоточение на речи субъекта и отвлечение от каких-либо внеположных ей
факторов было в известной мере оправданно, при переходе от
внутренних практических задач к научному теоретическому
рассуждению вопрос о природе объективного окружения,
находящегося вне психической реальности сознания больного, не может не
быть поставлен.
«Клетка» детской психики, которую Лакан стремится
построить, несамодостаточна: она должна быть соотнесена с тем
контекстом, в который она вписывается и в котором она
функционирует. «Прорыв» в неклассичность на уровне индивидуальных
психических механизмов не может быть осуществлен без другого
подобного же «прорыва», осуществляемого на уровне
социокультурного бытия. Лакану не удалось «переосмыслить» основы
современного бытия и познания, ибо эта задача ставится им в отрыве от
более широкой перспективы социальных взаимозависимостей.
§ 2. Символизм: от Канта к Лакану
Символ — одно из самых сложных из всех известных нам
понятий, и это обусловило его трудную судьбу в истории человеческой
мысли. Философ и литературовед, психолог и лингвист, социолог
и математик в принципе не могут обойтись без этого понятия.
Вместе с тем первые же попытки сколько-нибудь строго
определить смысл понятия «символ» сталкиваются с непреодолимыми
трудностями. Это порождает подчас ситуацию своего рода
эпистемологического отчаяния. Как всегда в таких случаях, слабость
возводится в добродетель и возникает искушение сказать себе:
а вовсе и не надо определять эти понятия, они в принципе не
поддаются определению, и вообще поиск корректных дефиниций это
чисто схоластическое занятие, не достойное современной
эпистемологической мысли. Ведь она уже давно преодолела схоластику,
строгим правилам логики не подчиняется и вправе вводить свои
основные понятия с помощью намека или метафоры. И все же,
я думаю, наступят времена, когда необходимость использовать
это понятие заставит определить его со всей доступной логике
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 241
строгостью и никакого эпистемологического разрыва между
научным размышлением и логикой не будет. Все это заставит вновь
обратиться к основному содержанию используемых понятий
и определить их таким образом, чтобы все заложенные в них
познавательные возможности раскрыли свое значение.
В данном параграфе я попытаюсь, исходя из вполне
рационалистических допущений, определить сущность символа как такой
категории, в которой изначально (или, как говорят математики,
по определению) заключено нечто не поддающееся
рационалистическому прочтению. Эта задача заставляет вспомнить того
мыслителя, который первым обнаружил возникновение
антиномий всякий раз, когда познание приближается к исследованию
своих границ. Речь идет, конечно, о Канте. Именно этому
мыслителю в новой европейской философии принадлежит попытка
рационально истолковать все то, что, казалось бы, не поддается
рациональному истолкованию. В силу этого Кант неизбежно
обращался и к понятию символа. Что же именно сделало
неизбежным появление символа в размышлениях Канта? Отвечая на этот
вопрос, я попытаюсь показать, что некоторые важнейшие
мотивы, по которым это понятие возникло в сочинениях Канта, были,
по существу, сходны с теми, по которым эта проблема возникла
в сочинениях Лакана, хотя момент сходства будет для нас фоном,
оттеняющим несходства или даже контрасты. Рассуждения об
этимологии символа в Новое время поневоле заключены в
определенные хронологические и интеллектуальные рамки: от Канта
к Лакану и от Лакана к Канту. Эти вехи обозначают важные
повороты в истолковании многих философских понятий, но среди них
понятию символа, несомненно, принадлежит особое место. Сама
историческая логика взглядов на символ свидетельствует о том,
что движение мысли в познании символа и явлений символизма
не произвольно, не спонтанно, а подчинено некоторым
закономерностям.
Итак, исходным пунктом размышлений о символе как живой
категории познавательного процесса и культурной реальности
будет для меня представление о внутренней противоречивости,
напряженной двуплановости этой категории, что и придает
динамику ее бытию. Символ всегда выступает как знак и, следовательно,
может быть соотнесен с некоторым означаемым; в то же время
символ никогда не сводится к такому взаимоотношению и всегда
выходит за рамки рациональных соотношений в область, которую
в принципе нельзя однозначно определить. Тайна присуща
символу не потому, что мы недостаточно его знаем, а потому что
уничтожение этой таинственности, «отблеска незнаемого на зна-
емом», «ореола открытости» приводит к вырождению символа
242 Познание и перевод. Опыты Философии языка
в знак, однако при этом возникает другой символ или символы.
Это и ставит в тупик рационалиста, как только он приближается
к символу. Именно поэтому в наших размышлениях о символе
в первую очередь появляется имя Канта, столкнувшегося с этой
антиномией. Согласно Канту, символ используется там, где
невозможно знать предмет непосредственно, где, выражаясь
философским языком, невозможно объективировать некоторое
содержание и приходится лишь намекать на него. Кант впервые
рассмотрел такую ситуацию как принципиально присущую
познанию, а не как результат его недостаточности или неполноты.
Некоторые содержания наиболее адекватно передаются
символами. Почему? Этот вопрос Кант решал, в частности, в «Критике
способности суждения», в «Антропологии с прагматической
точки зрения»1. Здесь логика Канта с неизбежностью и даже, быть
может, вопреки его собственным стремлениям - ведь Кант
намеренно изгоняет из своих рассуждений все понятия, на которых
лежит оттенок мистики, — приводит его к категории символизма.
Для доказательства реальности наших понятий, говорит Кант,
нужно, чтобы им соответствовал предмет, который мы могли бы
созерцать, усматривать. Для этого в случае эмпирических понятий
нам нужен пример, в случае чистых рассудочных понятий — схема,
а в случае понятий разума (то есть идей), объективная реальность
которых в принципе не может быть показана никаким
созерцанием, приходится вводить символы. Символы, стало быть, вводятся
по аналогии, на основе общности в работе способности
суждения - в разбираемом случае символизации того, что явно не дано,
и в случае употребления чистых рассудочных понятий. Кант
приводит пример соотношения наглядного и не-наглядного в
символе, сравнивая монархическое государство в одном случае,
при правлении в «народном духе», с органическим телом, в
другом, при деспотическом правлении, с ручной мельницей.
Конечно, это сопоставление подразумевает не чисто внешнее сходство,
но скорее сходство между правилами размышления о том и
другом. Кант тут же добавляет, что вопрос о символах очень важный
и заслуживает углубленного изучения. Сфера, где он находит
много символических понятий, - это те слова естественного языка,
которые имеют вещественное значение, но употребляются в
невещественном смысле: например, «за-висеть» («быть подвешенным
сверху») или «вытекать» (вместо «следовать»). Наша мысль о Боге,
1 Кант И. Критика способности суждения. Часть первая. Книга вторая. § 59.
О красоте как символе нравственности // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 5. М., 1966.
С. 373-377; Он же. Антропология с прагматической точки зрения. Кн. первая.
О способности обозначения // Там же. Т. 6. М., 1964. С. 428-432.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 243
по Канту, может быть только символической. Это же относится
к нравственно доброму, к свободным поступкам, связанным с
непредставимой безусловностью «вещи в себе». Важно, что
символом нравственно доброго для Канта оказывается прекрасное.
При этом Кант всячески предостерегает от расширительного
использования понятия символа, которое выводит за пределы какой
бы то ни было рациональности: нельзя, говорит он в
«Антропологии с прагматической точки зрения», считать явления нашего
мира символами мира интеллигибельного, как это делает, например,
Сведенборг, попадая в область мистики.
На этом пути рассуждения внимательный читатель, я надеюсь,
вместе со мной проследит за перипетиями в судьбе понятия
«символ» и выйдет к той проблемной ситуации, в которой Лакан
отчеканил свою знаменитую формулу: «Бессознательное
структурировано как язык». Мы встретимся с различными, но не лишенными
внутренней логики попытками решить проблему символа: а
именно с концепцией «символических форм», «символических
систем» и, наконец, уже у Лакана — «символического порядка».
Движение в этом направлении так или иначе задается изначальным
импульсом кантовских размышлений, и потому мы будем
постоянно возвращаться к его идеям.
Символизм в концепции Канта - это одно из проявлений того
«коперниканского переворота», который он совершил в
философии. Смысл его - в отказе от натуралистического взгляда на мир
и мысль о мире, в антропологическом повороте, заставившем
человека обратить внимание на условия любой своей мысли и
любого мыслимого содержания и, соответственно, учесть специфику
философского языка, особые условия возможности
философствования. Как известно, человек в кантовской системе —
существо двуплановое: он принадлежит к уровню явлений и к уровню
вещей в себе, к уровню причин и к уровню свободных поступков.
Символы в человеческом сознании — это доступный человеку
способ откликнуться на существование ноуменального мира,
который соотнесен с феноменальным миром, как нечто бесконечно
возможное — с чем-то уже определившимся. Значит, символ — это
способ косвенного отнесения меня к тому, что во мне от меня
самого не зависит и не может быть «выполнено» в опыте. Символы
существуют для схватывания идей без их объективации: ведь в
виде символов нам дано лишь мыслимое, но не познаваемое.
Иными словами, введение символов свидетельствовало одновременно
о весьма строгих ограничениях на способность и возможность
человека говорить о себе, о своей душе, сознании, психологии,
внутреннем мире. Душа не дается в пространстве представления, как
другие внешние предметы. Отсюда, по Канту, следует и невоз-
244 Познание и перевод. Опыты Философии языка
можность, например, рациональной психологии, то есть
психологии как теоретического знания (равно как и рациональной
теологии и метафизики).
Ведь не только мир в целом, не только Бог, но и душа, Я даны
нам символически — как особые понятия, которые можно лишь
мыслить без усмотрения. Введение символизмов особенно четко
показывает разграниченность познаваемого и только лишь
мыслимого, разницу между тем, относительно чего возможно строгое
научное знание с его критериями всеобщности и необходимости,
и тем, относительно чего, по мнению Канта, рациональное и
объективное знание невозможно. Так и выходит, что у Канта под
запрет - запрет на объективацию, на предметное представление
мысли — попадает все то, что нынче относится нами к сфере так
называемых гуманитарных наук.
Последующее развитие философской мысли о символе
фиксирует нарушение этого запрета на объективацию «души», на
представление ее в виде «предмета» науки, гуманитарного познания.
Если Кант подчеркивал символичность тех средств, которыми
охватываются сущности, не входящие в рациональную науку,
философию, метафизику, то уже для Гегеля таких ограничений не
существует: для понятийного предметного мышления нет никаких
принципиальных преград. Философской мысли достойно лишь
понятие, а не символ. Символы для Гегеля - это суррогаты чистых
понятий в их философских определениях1. Гегель уверен, что
философия не нуждается в помощи символов: если постичь
понятийную определенность форм, то символы вообще окажутся
излишними - везде, кроме сфер, относящихся к искусству. Таким
образом, Гегель фактически сводит символ к знаку и тем самым
уничтожает саму проблему символа в познании.
В марбургском неокантианстве резко меняются смысл и
функции символизмов. Символ — это уже не примета запрета (Кант)
и не недоразвитое понятие (Гегель). Символизация
рассматривается — прежде всего у Э. Кассирера — как основная функция
человеческого сознания, а человек — как «животное, создающее
символы». Именно символическое понятие начинает претендовать на
особую роль — на приведение к единству всех форм и видов
человеческой духовной деятельности (языка, мифа, искусства,
религии, науки и пр.). Символические Формы у Кассирера - это,
однако, не только понятия, но своего рода «органы реальности» -
1 Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики. Кн. первая. Раздел третий. Глава первая.
Отношение обеих сторон как качеств. Примечание // Гегель Г.-В.-Ф. Наука логики.
СПб., 1997. С. 307-312; Там же. Книга третья. Раздел первый. Глава первая.
Понятие. Примечание. С. 561-567.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 245
то, благодаря чему реальное становится доступным пониманию,
видимым для нас. Конечно, концепция символических форм
потребовала расширенного понимания опыта в сравнении с Кантом,
который, по словам Кассирера, не мог заниматься «всей
действительностью духа и его спонтанности» из-за неразвитости
гуманитарных наук в тот предромантический период. Если для Канта
опыт ограничен сферой рассудка, то кассиреровское понимание
опыта включает также дологические формы и способы
концептуализации (восприятие, фантазия, сон и пр.).
Важнейшим средством для снятия запрета на объективацию
стала для Кассирера теория константности восприятия. Она
предполагает, что еще на дологическом уровне восприятие осуществляется
в соответствии с законами, позволяющими различать видимое и
реальное, осуществлять в восприятии такие преобразования, которые
дают истинный цвет, форму, размер предметов в отдельных
перцептивных актах. Этот закон, считает Кассирер, позволяет достичь
объективности восприятия как условия объективности всего познания.
Конечно, это не означает, что между гуманитарными и
естественными науками будет преодолено всякое различие. В любом случае
понятия гуманитарных наук, в отличие от естественно-научных
понятий, не предполагают полного подведения единичного под
всеобщее, а их целью оказывается не предсказание развития того или
иного явления в будущем, но постижение «целостности форм —
символических форм - в которых реализуется человеческая жизнь».
Если у Гегеля проблема сужалась до отождествления символа и знака,
то у Кассирера символ трактуется чрезмерно широко, по сути,
отождествляясь с сознанием, и этот ход мысли нельзя не признать
по-своему закономерным. Но что самое важное: концепция марбургского
неокантианства с его формальной трактовкой символа — это прямая
подготовка трактовки символа у Клода Леви-Строса.
Концепция Леви-Строса — следующая ступень на пути
объективации необъективируемого. Здесь мы видим переход от
символических форм к символическим системам. С точки зрения
Леви-Строса, «всякая культура может рассматриваться как
совокупность символических систем, среди которых важнейшие —
язык, брачные правила, искусство, религия. Все эти системы
нацелены на то, чтобы выразить некоторые аспекты физической
реальности и социальной реальности, а кроме того отношения, которые
устанавливаются между этими двумя типами реальности, а также
между различными символическими системами»1. Ансамбли
законов, управляющих символической функцией в человеке и общест-
1 Lévi-Strauss С. Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss // Mauss M. Sociologie et
anthropologie. Paris, 1950. P. XIX.
246 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ве, — это и есть, по Леви-Стросу, бессознательное. Вот потому-то
Леви-Строс и соглашался с тем определением его философии,
которое дал Поль Рикёр, - «кантианство без трансцендентального
субъекта». Здесь имеет место изъятие субъекта, поскольку речь
идет о некоем абсолютном объекте, который как бы сам себя
мыслит. И потому объект структурной антропологии - не всеобщая
мыслительная способность, но коллективные мыслительные
способности, запечатленные в многочисленных и разнообразных
системах представлений — в символических системах.
Среди всех символических систем, в принципе равноправных,
выделяется все же одна — это языковая символическая система.
Уже Кассирер, вслед за Гумбольтом, отводит языку особое место:
ведь именно язык формирует человеческий интеллект и создает
общий мир человеческой жизни, а будучи связкой
индивидуального и всеобщего, выступает как прообраз любого познания - и
гуманитарного и естественно-научного. Для Леви-Строса же особая
эпистемологическая ценность языка как символической системы
определяется иным - прежде всего его яркой и непреложной
структурностью. Язык выступает как часть, продукт и условие
культур и других символических систем. Язык преодолевает
ограничения на объективность гуманитарного познания: ведь
языковое поведение строится на уровне бессознательного, а потому ни
самоистолкования, ни воздействие наблюдателя не мешают
функционированию языка как познаваемого объекта и его
исследованию. Здесь напрашивается очень важное замечание. Мы помним,
что символ у Канта вводился по аналогии с работой способности
суждения в широком спектре случаев. Следуя принципам иной
эпохи, Леви-Строс одним ударом разрубает гордиев узел кантов-
ской проблематики способности суждения. Только по аналогии
с языком для Леви-Строса возможно познание любой другой
символической системы. Отсюда уже недалеко до той ступени в
понимании символизма, которая связывается с именем Жака Лакана.
Его мысль устремляется в сторону лингвистического
истолкования символизма как условия возможности познания. Именно
теперь, как мне кажется, становится ясно, почему мы связываем эти
два имени - Канта и Лакана: они выступают как звенья одной
познавательной цепи. Дело, однако, не сводится к общей
интеллектуальной преемственности. Поэтому далее мы будем подробнее
рассматривать те сложные отношения, которые складываются
у Лакана с символическим.
Акцент на символическом порядке, как известно, не был для
Лакана изначальным. В 1930-1940-е годы он следовал скорее
канонам экзистенциалистско-феноменологического мышления
и находился под влиянием французского неогегельянства. Соот-
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 247
ветственно, главными понятиями в его концепции были Эго,
воображение, субъективность, историчность, а процедуры
психоанализа, к которому он обратился в полемике с тенденциями
медицинской психиатрии, предполагали прежде всего
гуманистическое переоткрытие смысла человеческих явлений,
исторической жизни субъекта. «Структуралистский» Лакан 1950-х годов
движется от символических систем Леви-Строса к
единственности универсального символического порядка.
Первичность символического порядка, его абсолютное
господство по отношению к другим порядкам (прежде всего - к
реальному и воображаемому) закрепляется в языке. В соответствии
с правилом параллелизма между онтогенетическим и
филогенетическим символический порядок постепенно выходит на первый
план и в развитии ребенка. На ранней, доязыковой стадии ребенок
живет на уровне «воображаемого» единства, иллюзорной слитности
с матерью, однако с наступлением языковой стадии ему
открывается доступ в символический порядок: это предполагает признание
символической роли отца в семье (биологически эта роль не
очевидна) и отказ от единоличных притязаний на мать. Входя в
символический порядок — порядок культуры и языка — субъект начинает
определяться в своем становлении правилами соотношения
означающих, то есть языковых форм, свободных от сколько-нибудь
жесткой связи с означаемыми (предметами в мире или предметами
мысли): субъект, замечает Лакан, есть то, что одно означающее
показывает другому означающему. В любом случае, бессознательное
при символическом его прочтении не есть нечто, наполненное
органическими, природными побуждениями, поскольку любое
органическое побуждение может войти в коммуникацию только будучи
опосредовано символами. Бессознательное, таким образом,
объектно, но не вещественно объектно: плотность объекта ему
придают языковые или языковоподобные связи, образующие сетки
отношений, следов, пробелов, присутствий и отсутствий, но оно не
вещно в смысле натурально данного предмета.
В результате рушится граница между познаваемым и
непознаваемым, которая у Канта была отмечена символом: она перестает
быть внеположной человеку. Эта граница как бы переходит
вовнутрь самого человека и знания о человеке, внутри него отмечая
различные уровни, слои, разрывы и пределы: «Своим открытием
Фрейд включил вовнутрь науки ту границу между объектом и
бытием, которая, казалось, отмечала ее предел»1. Это знаменатель-
1 Lacan J. Ecrits. P. 527. Попутно заметим, что для Фрейда понятие символа не
имеет большого значения. Символы для Фрейда - это прежде всего
общечеловеческий фонд образов, проявляющихся, например, в сновидениях.
248 Познание и перевод. Опыты ФилосскЬии языка
ная фраза! Она ясно характеризует то изменение в
представлениях о возможности или невозможности научного познания и,
соответственно — в истолковании символа, которое осуществил и сам
Лакан по отношению к классической познавательной традиции.
А именно, для Канта, как уже было показано, граница между
«объектом» (предметом науки) и бытием (непознаваемым и
ноуменальным) проходила вне науки, тогда как последующее
превращение необъективируемого в предмет познания поглотило эту
границу, стерло ее, включило ее вовнутрь нового
формирующегося предмета.
Как стало возможно такое изменение границ? Традиции
структуралистского мышления и затем - некоторые подходы в
философии последних десятилетий вводят то условие, которого как раз
и недоставало Канту для того, чтобы человек, душа, сознание
и все их атрибуты могли стать предметами научного
размышления — а именно, пространственное созерцание,
пространственную расположенность. Когда Кант размышлял о построении
предмета психологии, он указывал на трудность этого действия.
Условие построения предметов внешних чувств — пространство
и время, а внутреннего чувства — только одно время. Предмет
внутреннего чувства вовсе не дан в пространстве и потому не может
быть полноценным предметом теоретического познания1.
Как раз эту нехватку — недостаток пространственной заданно-
сти применительно к «предметам внутреннего чувства»
компенсирует познавательное развитие послекантовской мысли.
Структурализм, отмечает Лакан, вводит в гуманитарные науки тип
объекта (точнее, тип субъекта, который становится объектом),
который может быть обозначен только топологически2, то есть
только в пространственных категориях и понятиях. Структурализм,
а за ним французская философия последних десятилетий
одержимы идеей «плоского пространства», лишенного глубины и
изнанки. Объект познания «души» строится не в сознании, а на «другой
сцене», точнее — «в поле речи и языка», как свидетельствует
знаменитая лакановская речь 1953 г.
Именно язык становится у Лакана главным представителем
символического порядка, а символ выступает как «общее место»
языка, бессознательного и структуры. Как уже отмечалось,
символ — это противоречие и одновременно глубокое единство двух
сторон, полюсов. В нем слиты математико-алгебраическое (ана-
1 Кант И. Критика чистого разума. Часть вторая. Книга вторая. О паралогизмах
чистого разума // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 3. М., 1964.
Lacan J. Ecrits. P. 861.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 249
литическое) и мистическое, «таинственное». Эта мысль
соответствует традиции истолкования символа в трудах таких
отечественных мыслителей, как А.Ф. Лосев, С.С. Аверинцев, К.А. Свасьян.
Однако символическое в лакановской концепции оказывается
существенно обедненным, а идея символа — урезанной, ибо здесь
налицо тройная редукция символа: к языку, к знаку, к
означающему, которая применительно к такому предмету, как
бессознательное, особенно проблематична. Возникает вопрос: почему
происходит такое обеднение символа? И неизбежно ли оно? В том
ли дело, что берутся не те средства объективации познаваемых
содержаний (сознания и бессознательного), или в том, что
подходящие средства неверно применяются? Или в чем-то другом, о чем
мы пока не догадываемся?
Все эти вопросы заставляют вновь обратиться к языковой
проблематике. Вопрос, который нас теперь занимает, выходит за
рамки частного и приобретает более ощутимую форму. Назовем его
вопросом о методологических экспансиях, или проще — о
переносе методов из одной области познания в другую. В данном случае
речь пойдет об экспансии лингвистических методов. Уподобление
бессознательного языку и распространение на него методов
и приемов изучения языка влечет за собой одновременно и
разрастание (гипертрофию) функций языка как метода, и исчерпание
(обеднение) языка как объекта (точнее, речь идет о
бессознательном, представленном как язык, структурированном подобно
языку). Именно этот механизм, как мне кажется, лежит и в основе
обеднения символов в лакановской трактовке символического
порядка.
Конечно, уподобление бессознательного языку открывает, как
представляется, заманчивые перспективы, вводит «презумпцию
осмысленности» применительно к тому, что представляется
бессмысленным или вовсе немыслимым. Однако на поверку
оказывается, что объект и метод при наложении друг на друга
взаимодеформируются. Бессознательное в той мере похоже на язык,
в какой оно совсем не бессознательное, а нечто иное. Язык,
который является структурным принципом бессознательного
символического порядка, — это совсем не язык в общепринятом смысле
слова. При этом должны ли мы считать язык частью
бессознательного, а бессознательное — частью языка? должны ли мы
предполагать, что язык есть то, что структурирует бессознательное? или же
просто счесть, что бессознательное — это и есть язык?
Разъяснения на этот счет не так легко найти у Лакана. Когда
Леви-Строс строил концепцию системы родства как
символической системы, он действительно стремился выделить в своем
материале такие мельчайшие смыслоразличительные моменты, кото-
250 Познание и перевод. Опыты Философии языка
рые бы позволили построить, скажем, аналог фонемы как пучка
дифференциальных признаков. У Лакана же мы, по сути, не
найдем ни одного примера прямого использования лингвистических
методов (такие понятия, как, например, «метафора» и
«метонимия» (или смещение и сгущение) для обозначения соответственно
симптомов и желаний — это скорее общериторические, нежели
лингвистические понятия). При этом язык «раздут», расщеплен
бесконечностью возложенных на него функций, но — как цепочка
означающих — лишен реальной содержательности. Ему неоткуда,
оказывается, черпать силу, ибо он замкнут сам на себя и истощен
этой самозамкнутостью.
Методологическая причина этих редукций более или менее
понятна. Часто говорят о том, что главной идеей, которую Лакан
взял в лингвистическом структурализме и прежде всего у Соссю-
ра, была идея произвольности языкового знака. При этом мы не
найдем у Лакана проработки самой этой идеи произвольности,
пределов ее уместности. А ведь в самой лингвистике (Бенвенист
и др.) эта идея была продумана достаточно детально. А именно,
произвольность на уровне единичного знака (единичного
соотношения означаемого и означающего) не исключает
непроизвольности, то есть обязательности, заданное™ отношения знака к
человеку как члену культурного коллектива, который пользуется
данным языком. Произвольность нарушается и там, где от
рассмотрения единичных знаков мы переходим к знаковым
системам. В них знак оказывается по меньшей мере дважды
мотивированным - синтагматическими отношениями в цепи
высказываний и парадигматическими отношениями в ряду
словесных ассоциаций. Проработка вопроса о соотношении областей
произвольного и непроизвольного, причинного и свободного
позволила бы гораздо яснее представить себе реальное бытие
языка, вычленить в этом бытии то, что входит в объект лингвистики,
и то, что остается за рамками объективации. Непроработанность
этого вопроса постоянно приводит к тому, что смешиваются,
скажем условно, поэтическая и формализующая функции языка.
Например, в одном из самых знаменитых своих высказываний Лакан
ведет речь о необходимости для достижения научности
формализовать такие новые для исследовательского внимания сферы
опыта, как историческая теория символа, интерсубъективная логика
и темпоральность субъекта1. Здесь невозможное провозглашается
в качестве возможного или хотя бы желательного. Это
свидетельствует о гигантском смещении, учиненном нарушением кантов-
ского запрета на объективизацию.
Lacan J. Ecrits. P. 289.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 251
Еще одно полезное прояснение того же вопроса об исчерпании
символа и редукции лингвистической методологии как средства
работы с символом мы находим в области, где эпистемология
смыкается с этикой. Обратимся к тексту Лакана «Кант с Садом».
К нему обычно прибегают для иллюстрации этических проблем,
например, разделения у Канта высшего блага и наслаждения,
добра и желания (даже желания делать добро) и
культурно-исторических последствий такого разделения. При этом справедливо
говорится, что Кантов категорический императив — это чистая форма,
закон, лишенный своего объекта, императив как таковой. Лакан,
рассматривая кантовскую позицию, заметил, что «истину» этой
позиции высказывает не кто иной, как маркиз де Сад1. В самом
деле, именно де Сад вывел необходимые следствия из кантовско-
го расчленения блага и желаний: отныне получается, что желание
может или даже «имеет право» соединяться со злом. Поэтому
в «исправленной» де Садом форме категорический императив
наполняется таким содержанием: используй тело другого человека
для собственного удовольствия и не знай в этом наслаждении
никакого предела и ограничения. Очевидно, что Лакан, усматривая
«истину» Канта в Саде, сам так или иначе претендовал на истину
в отношении их обоих. В самом деле, Лакан собирается удержать
и момент садовский (желание) и момент кантовский (закон,
символический порядок). Как ему это удается? И какой ценой это
делается? Ценой тех самых редукций, о которых уже шла речь. Лакан
строит такое однородное пространство, в рамках которого язык
и желание могут удерживаться вместе и даже как бы единым
движением - это пространство означающего. Недаром ведь Лакан
неоднократно уточнял, что в опыт психоанализа входят только
«символически опосредованные», а не просто какие-то сырые,
сросшиеся с реальностью, желания. Что значит — «символически
опосредованные», мы уже знаем, - это значит представленные
в рамках означающего и посредством означающего.
Когда Кант ставил категорический императив перед
умственным и душевным взором своих читателей, «граждан мира», как
и он сам, он полагал, что категорический императив должен быть
своего рода воротами в открывающееся за ним пространство
нравственно узаконенного поведения и задавал лишь общую
форму поступков, которые надо совершать, чтобы войти в эти ворота
и тем самым — в цивилизованное общество. Конкретные
содержания этих поступков и энергетические импульсы, приводящие к их
осуществлению, в расчет не принимались. Кант как бы выносит
желание за скобки: он естественным образом предполагает, что
1 Ibid. Р. 766.
252 Познание и перевод. Опыты Философии языка
человек, который видит в цивилизованном состоянии благо,
не может не стремиться достичь этого состояния.
Лакановская ситуация иная. Вход (или переход) в
«цивилизованное состояние» уже произошел и обнаружил далеко не только
свои благие стороны. Оборона от разрушительной силы животных
инстинктов, страх наказания со стороны символического
авторитета остались позади. Природа как бы уже растворилась в
культуре. «Клеймо символического» уже лежит на теле (тело и слово
срослись, метафора «символического отца» с его угрозой
кастрации уже не имеет устрашающего воздействия). Но вхождение
природы в культуру не прибавило культуре жизненных сил: перед
нами фактически бесплотное (а вовсе не материальное!)
означающее и десексуализированные символы (недаром среди всех
значений фаллоса у Лакана сексуальное дается в числе последних).
Желание, сросшееся со словом, - это слово, лишенное
осмысленности, и тело, лишенное телесности. Таким образом, «истина»,
объемлющая Канта и Лакана, действительно высказывается,
но какая истина и какой ценой?
И здесь перед нами встает вопрос о жертвах, которые
приходится платить за само стремление к объективации символических
запретов, к построению наук о человеке. То, что эти жертвы
постоянно приносятся, нам ясно уже хотя бы потому, что мы
повседневно ради четкости жертвуем полнотой, ради
умопостигаемое™ - сложностью, ради общезначимости - субъективно
переживаемым и т. д. и т. п. Еще при жизни Лакана во французской
культуре начались и затем после его смерти продолжились
разнообразные поиски, которые как раз и выявляли более точно эти
жертвы, определяли цену достигнутого. Таковы исследования,
посвященные генеалогии психоанализа, специфике его
эпистемологических предпосылок, психоанализу как социальному
институту (проблема социального контроля за деятельностью
аналитиков стоит сейчас во Франции весьма остро). Болезненный
процесс распада лакановской школы, доктринальные распри
между новыми группами усилили значение процессов, связанных
с прояснением институционального, эпистемологического и ис-
торико-научного статуса психоанализа, прежде всего - лака-
новского.
Выдвигается мнение, что Фрейд, а вслед за ним и Лакан
преувеличили «эпистемологический разрыв» между психоанализом
и предшествующими ему видами психотерапии, чистоту
символических процедур общения между психоаналитиком и пациентом
во время психоаналитического курса, а также общения между
самими психоаналитиками внутри психоаналитического института.
Утверждается, что на самом деле фрейдовский, а затем лаканов-
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 253
ский психоанализ унаследовал от дофрейдовских подходов к
бессознательному моменты гипнотического внушения, что
психоаналитический сеанс замаскировал формами словесного обмена
воздействие аффективно-эмоциональных факторов, а структура
психоаналитического института скрыла невозможность
нейтральной и объективной позиции психоаналитиков и по отношению
к пациентам, и по отношению друг к другу.
Недаром после Лакана усилились процессы, направленные
вспять, прочь от структуры и символики, понимаемой по
аналогии с языком. Во многих современных постмодернистских
сочинениях выявляется изнанка структуры и символа, если понимать
последний в рациональном, объективирующем и тем самым
отчуждающем смысле. Эти концепции демонстрируют, что жизнь,
событийность, воображение, реальность, аффективность, эмоция
и еще многое из того, что первостепенно значимо для человека,
в концепции символического порядка не присутствует или даже
ею исключается. Подлинный психоаналитический опыт — опыт
жизненно наполненного желания и аффекта — не дан и не может
быть дан в форме представления, в символическом виде, в
словесной оболочке. Стало быть, связка между языком и желанием,
создающая у Лакана однородное пространство познания
бессознательного, распадается. Возникает любопытная ситуация.
Современные антирепрезентативистские концепции походят на
кантовскую в том, что они отказывают знанию о бессознательном
в праве на существование. Ведь в отличие от словесного
прояснения вытесненных переживаний того возраста, когда ребенок уже
владеет языком, подлинное бессознательное не поддается ни
припоминанию, ни осознанию, ни прояснению. Однако по своему
содержанию эта позиция далека от кантовской: в ее основе лежит
своего рода неовитализм — идея жизненной силы человеческого
существа, объединяющей его со всем живым. Эти концепции,
глубоко погружающиеся в «а-концептуализм», не устанавливают
границ между строго познаваемым и размытым. В своем крайнем
выражении они ведут в область недистинктивного, нерасчленен-
ного, аморфного, из области мысли — в область непосредственных
жизненных проявлений либидо.
Все эти сомнения относительно лакановского символического
порядка нельзя рассматривать лишь как внешнюю критику людей
более проницательных, чем сам мэтр французского психоанализа,
«французский Фрейд». Уже сам Лакан примерно со второй
половины 1960-х годов стал, как кажется, яснее понимать
многообразные теоретические неувязки и практические сложности,
связанные с использованием языковой модели бессознательного,
языковой модели символического, да и с самой концепцией сим-
254 Познание и перевод. Опыты Философии языка
волического порядка. Кстати, многие возражения против Лакана
относятся, по сути, не столько к реальному строю его мысли,
сколько к тому, чем она была бы, если бы язык и в самом деле
понимался Лаканом в обыденном смысле слова, а это не так.
Символическое и у Канта, и у Лакана во многом репрессивное,
отчужденное. Кант, говоря о категорическом императиве (символ
выражает «непредметность» этого императива), считал, что он
нужен, как полиция в гражданском обществе. Немало доказательств
«репрессивности» символического порядка у Лакана приводится
его критиками — это и «гипостазирование» означающего, и
возвышение символического над реальным и воображаемым и пр.
Однако «репрессивность» обеих символик не окончательная: она - не
последнее слово в обеих концепциях. Причем, она снимается даже
не внешним, но скорее внутренним движением, выявляющим
непредельность символики, ее укорененность в чем-то ином -
в иной силе и власти, способной не только к оформлению,
формализации, запретам и санкциям, но также к реконструкции
душевной жизни человека. В этом Кант и Лакан едины - оба они
прибегают к тому, что можно назвать продуктивным воображением.
В плане рассматриваемой проблемы можно полагать, что
главное у Канта не то, что обычно считают таковым — не
чувственность, не понятия рассудка, не идеи разума и даже не
категорический моральный императив. Главное — то, что приводит
в движение всю его систему, снимая статичность отдельных ее
частей и фрагментов, — это спонтанное, бессознательно
действующее воображение, его активность1. Эта мысль Канта актуальна
в свете современных поисков продуктивной эвристики.
Обоснование этой мысли в процессе исторического становления
человека звучит у Канта даже вполне «психоаналитически». Импульс
к формированию высших способностей души, считает Кант, был
дан именно способностью воображения, посредством которого
человеческие влечения (в отличие, скажем, от полового
возбуждения животных) способны принимать длительный и интенсивный
характер, исключая, однако (из-за удаленности объекта,
предоставляемого воображением), возможность пресыщения.
Продуктивное воображение (в отличие от репродуктивного воображения,
которое подчиняется лишь эмпирическим законам ассоциации,
и от интеллектуального синтеза, который обходится одним
рассудком) осуществляет немыслимое действие - синтез
чувственности и рассудка, которое понятийно уловить и представить
невозможно. Таким образом, не символ (запрет) и не символически
1 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. Часть первая. О
воображении // Кант И. Соч. в 6 т. Т. 6. М., 1966.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 255
обозначенное, но продуктивные начала самой жизни, реальные
основания мысли о жизни можно считать средоточием кантов-
ской философии.
Аналогичное, хотя и на другом уровне, движение мысли от
символического к воображаемому мы находим и в концепции
Ж. Лакана. Учение Лакана, в котором идея символического
порядка занимала — и логически и хронологически — центральное
место, обрамлена мыслями и спорами о воображаемом и вокруг
воображаемого; фактически лакановская концепция символа
выходит из воображаемого и в каком-то смысле к нему
возвращается. Поначалу воображение понималось им как нечто, связанное
с нарциссизмом Я, потом — как нечто, что находится под пятой
символического, наконец — как нечто, создающее мост между
символическим и реальным, «невозможным и реальным». Таким
образом, лакановское представление о господстве символа в
психической жизни человека не было ни изначальным, ни
незыблемым. Переход к воображаемому или, по крайней мере, некоторая
смена концептуальных акцентов связана с разочарованием в
креативных способностях языка и речи, в символической трактовке
трансфера. Ведь анализ, вращающийся в кругу символических
преобразований языка, бесконечен — он никогда и не может
кончиться, ибо не касается реальности, не затрагивает ее. А потому
психоаналитик не может быть лишь «практиком символической
функции», лишьТиресием, исполнителем прорицательской,
символической функции, выраженной в слове. Хотя
психоаналитический трансфер сопровождается речью, перевод в символическую
форму не исчерпывает те содержания переживаний, с которыми
пациенты обращаются к психоаналитику. К тому же ведь и само
символическое, концентрируясь в языковых и речевых
отношениях, не лишено внутренней двусмысленности — например, в тех
же соотношениях языка и речи: так, в безумии мы наблюдаем
язык без речи, в неврозе — напротив, речь, оторванную от языка
и жестко склеенную с теми или иными симптомами, и т. д. и т. п.
Так на чем же все-таки стоит поставить акцент — на языке или на
речи? И что есть язык - стена, о которую разбиваются все
коммуникативные интенции, или, напротив, радикальное условие
полной, освобожденной и освобождающей речи?
Символическая обедненность заставляет аналитика
обращаться к энергетическим, эмоциональным, аффективным, гип-
носуггестивным процессам, далеко выходящим за рамки
символа. В своей новой трактовке воображения в 1960—1970 годы
Лакан как бы воссоздал в символическом то, что сам же изъял
у него в структуралистский период: «если между реальным
и символическим нет отношения поддержки, требуется вообра-
256 Познание и перевод. Опыты Философии языка
жаемое». Воображаемое порождает функцию влечения,
соотносит между собой те душевные и телесные инстанции
(символическое и реальное), которые без него оставались бы
разорванными. Причем воображаемое у позднего Лакана более глубокое,
чем у раннего. Если поначалу воображаемое фактически
сводилось к изображению в зеркале, к плоскостному образу, то теперь
это многомерный образ - «борромеев узел» (герб знатного
миланского семейства), представляющий собой три сплетенных
в различных плоскостях кольца. Эти кольца - реальное,
воображаемое и символическое — «содержащая форма» единства,
данная воображению.
***
Мне бы не хотелось, чтобы за канвой эпистемологических
рассуждений исчезла драматическая сторона судеб символа в
европейской культуре. Символ, по сути, каждая эпоха понимала по-своему,
и такое понимание не было лишь результатом развития в рамках
внутренней логики. Изменения форм человеческой риторики и ее
роли в жизни общества, происшедшие со времен Канта, заставили
во многом переосмыслить параметры и характеристики духовной
деятельности человека. При этом нельзя упустить из виду
общегуманитарный смысл изменений в значениях символического.
Осмысление символа у Лакана, как я пыталась показать,
неизбежно влекло его к исходному пункту эпистемологических
размышлений о символе — к Канту. Но кантовские антиномии
применительно к символу возрождались у Лакана, как феникс,
далеко не всегда углубляя понимание символического. От того,
как мы сейчас поймем символ - в свете того, что о нем
говорилось на протяжении более двух столетий, — зависят судьбы не
одной, а нескольких научных дисциплин, а также многие важные
стороны духовной и практической жизни людей. Путь к
духовному и душевному здоровью должен включать в себя этот
пункт — осмысление человеческой символической деятельности
во всей полноте многообразных функций общения.
Драматичная судьба проблемы символа у Лакана позволяет, как мне
кажется, извлечь несколько серьезных уроков, отнюдь не
сводящихся к наивному моралите. Осмысление символического
у Лакана — это не итог, а запрос, искание. Разрешение кантов-
ских антиномий, связанных с символом, должно, по-видимому,
осуществляться на иных путях, чем те, на которых велся поиск
Лакана. Но не отказ от лакановских метаний, а постановка их
в более широкий контекст символической деятельности и
культуры вообще — следующий шаг, который должен быть сделан
в осмыслении проблемы символа.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 257
Значит ли это, что лакановский мессианизм — всего лишь
канувший в Лету эпизод истории идей? Нет, не значит. Сделав
акцент на символическом, Лакан — желая того или не желая -
придал новый импульс поискам, устремленным в другом
направлении. Речь фактически идет об изучении аффектов,
эмоций, гипноза, эмпатических феноменов — и это было отчасти
стимулировано тем, что можно было бы назвать «жизненным стилем»
Лакана, который подчас выступал как зримый контраргумент
к его собственной концепции символического. Если история
вообще чему-то учит, то она учит и тому, что такие усилия не
пропадают зря. И поэтому последующие поиски в эволюции наших
взглядов на проблему бессознательного и проблему символа будут
всякий раз неизбежно соотноситься с именем Лакана.
§ 3. Путь мэтра...
Англо-американский или французский неофрейдизм,
психологические и психоаналитические концепции экзистенциально-
феноменологической или, напротив, бихевиористской
ориентации различаются пониманием роли бессознательного, его места
в общей структуре и организации сознания и поведения
индивидов и, следовательно, оценкой средств и возможностей их
научного познания и практической перестройки. Среди этих концепций
структуралистское прочтение психоаналитической проблематики
у Ж. Лакана занимает свое особое место.
Множественность трактовок бессознательного во всех
названных школах и направлениях во многом обусловливается также
неоднозначностью их исходного варианта — фрейдовской
концепции бессознательного, которая, во-первых, содержала скрытые
и явные противоречия и, соответственно, возможность весьма
различных прочтений и истолкований, а во-вторых, существенно
видоизменялась — и самим ее автором, и его последователями.
Не случайно поэтому история психоанализа, для которого та или
иная концепция бессознательного есть основа основ и в теории,
и на практике, — это история непрерывных «расколов»,
размежеваний и отпочкований, открытого «вероотступничества» или
подспудно вызревавших разногласий. И вместе с тем, очевидно, что
психоанализ обнаруживает во всех этих внутренних и внешних
столкновениях некую «неоспоримую жизненность».
Жизненность эта заключается не столько в мировоззренческих
и методологических основаниях фрейдизма, сколько в его
реальном содержании: 1) в выявлении бессознательного (или, в иной
некогда принятой в России терминологии, неосознаваемой
психической деятельности) как специфической реальности, не сво-
258 Познание и перевод. Опыты Философии языка
димой к нейрофизиологическим процессам, но тем не менее
доступной рациональному постижению; 2) в обнаружении активной
роли бессознательного в самых различных формах человеческой
деятельности; 3) в исследовании структурного характера психики,
каждое проявление которой обнаруживает свой смысл лишь в
соотнесении с целостностью других проявлений психической жизни
человека; 4) в раскрытии противоречивого, внутренне
конфликтного характера психических процессов и связанных с этим
«вытеснения» и перевода исходных психических мотивов в другие,
превращения вытесненных побуждений в физиологические
симптомы болезни; 5) в утверждении значения половой жизни и -
шире — сексуальных мотивов для психологических и особенно
психопатологических процессов. Эти основные моменты
оказались во фрейдовской концепции серьезно перекошенными:
бессознательное утверждалось за счет осознаваемых аспектов
человеческой психики и поведения, динамика бессознательного - ценой
преувеличения сексуальной мотивированности поведения,
конфликтность психической структуры - за счет ее единства и т. д.
Однако реальность всех этих проблем была впервые показана
Фрейдом, который вписал сам факт бессознательного в
сознательный опыт современного человека.
Идея бессознательного вовсе не нова в европейской культуре.
Мысль о существовании бессознательного и проблемах его
осознания в той или иной форме можно встретить у Декарта и в
античности, у Лейбница и немецких классических идеалистов,
у Шопенгауэра и Э. фон Гартмана. При этом господствующим
было представление о «космической» природе бессознательного,
и даже тогда, когда речь шла о человеке, бессознательное
психическое трактовалось как осколок космических сил и
взаимосвязей, а возможность его познания соотносилась с божественной
инстанцией, которая будто бы в принципе не может лгать
человеку.
Иное дело — у Фрейда, концепция которого складывалась на
рубеже XIX и XX в. Отличительные ее черты - это, во-первых,
антропологическая конкретизация идеи бессознательного
(бессознательное связано не с божественностью человека, но с его
конечностью, смертностью, специфичностью в мире универсальных
природных закономерностей) и, во-вторых, утверждение о
возможности специально-научного психологического (а не только
философского, как это было ранее) познания бессознательного.
Модель бессознательного у Фрейда конкретизирована и
«драматизирована», она как бы проиграна в лицах и отношениях (Эдип,
кастрация, борьба инстанций внутри Я, отцовская роль Сверх-Я
и пр.) сообразно человеческим масштабам.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 259
Антропологическая конкретизация бессознательного у Фрейда
была с методологической точки зрения одновременно и благом,
и опасностью. Благом - поскольку она помогла конкретно и даже
наглядно, хотя и метафорически, представить бессознательное
средствами специальной науки и расширять в дальнейшем связи
психоанализа со специально-научным знанием (как известно,
Фрейд весьма охотно пользовался представлениями современной
ему биологии, механики, термодинамики и пр.). Опасностью —
поскольку она допускала, во-первых, овеществление этой
наглядной модели, превращение ее из условной символической схемы
в реальную картину, во-вторых, замкнутость представлений о
человеческой психике в рамках внутрииндивидуальных или
межиндивидуальных (но не собственно социальных) отношений и
взаимодействий. Обе эти тенденции отчетливо проявились уже
у самого Фрейда с характерной для его концепции
натурализацией бессознательного (и преувеличением роли сексуальных
мотивов как ее следствием) и индивидуализмом в трактовке человека
(социально-культурные процессы рассматриваются Фрейдом как
проекция психических взаимодействий между различными
уровнями и инстанциями личности).
Пожалуй, именно эти два момента концепции Фрейда -
индивидуализм и биологизм - более всего оспариваются и критикуются
его учениками и последователями, предлагающими соответственно
«дебиологизацию» и «социализацию» фрейдовского
бессознательного. Примеров здесь можно привести много; это «аналитическая
психология» К.-Г. Юнга, в которой бессознательное прежде всего
«коллективно» и «символично», а не «индивидуально» и
«биологично» (архетипы — это обобщенные образцы жизни человека и его
борьбы за существование); это психоаналитическая концепция
А. Адлера, который пытается включить свою «индивидуальную
психологию» в социально-экономический контекст и осмыслить
бессознательное Фрейда как процесс компенсации исходного для
человека «комплекса неполноценности»; это
«сексуально-экономический» психоанализ В. Рейха, культурно-философская
психопатология К. Хорни, «межличностная психиатрия» Г. Салливана,
«гуманистический» психоанализ Э. Фромма и другие более или
менее известные концепции. К этой же линии
социально-культурного переосмысления Фрейда в известном смысле примыкает
и структурный психоанализ во Франции, самым ярким
представителем которого бесспорно считается Ж. Лакан.
Лакан провозгласил своей главной критической и позитивной
задачей «возврат к Фрейду». Психоаналитическим концепциям,
с которыми ему вследствие этого приходится полемизировать, нет
числа: это экзистенциалистские (Сартр), феноменологические
260 Познание и перевод. Опыты Философии языка
(Мерло-Понти), нейрофизиологические (Эй), культуралистские
(Кардинер, Мид), бихевиористские (Р. Дальбье), «эго-психологи-
ческие» (А. Фрейд) прочтения фрейдовского бессознательного,
равно как и уже упоминавшийся англо-американский
неофрейдизм. Эта множественность критических отсылок может быть,
на наш взгляд, сведена к двум основным. Во-первых, это
полемика с разнообразными редукционистскими концепциями,
сводящими высшие проявления психики к элементарным реакциям,
к разряду внеположных психике физиологических,
биологических явлений, и защита психической реальности как
специфического объекта исследования. Во-вторых, это полемика
с субъективистскими, интуитивистскими, феноменалистскими
концепциями, усматривающими в методе непосредственного
вчувствования единственное соответствие психической
реальности, и забота о научной строгости исследования психики при всей
ее специфике.
С одной стороны, выступая против редукционизма (и в
частности, ассоциационизма), для которого все психические явления
суть лишь ослабленные подобия чувственных ощущений, а
познаваемость их достигается ценой сведения к биологическим и
физиологическим закономерностям, Лакан напоминает о том, что
истина для психолога так или иначе соотнесена «с
неопределенностью живого человеческого переживания, она есть ценность,
связанная с порывами мистика, правилами моралиста, путями
аскета, равно как и находками мистагога»1. С другой стороны,
выступая против субъективизма, Лакан поднимает вопрос о
достижении научного статуса психоанализа. Средством такого
научного (не субъективистски-интуитивистского, но вместе с тем
и не естественно-научного) постижения человеческой психики
в ее нормальном и патологическом функционировании и служит
Лакану аналогия между бессознательным и языком, речью.
Языковая природа бессознательного, по Лакану, позволяет избежать
редукционизма и уловить специфику психической реальности
и вместе с тем преодолеть иллюзию непосредственного контакта
с бессознательным, структурировать и рационализировать его
если и не собственно научным, то по крайней мере нацеленным на
научность и объективность способом.
Именно языковая трактовка бессознательного составляет
специфику учения Лакана среди других, содержательно родственных
ему социально-культурных подходов к бессознательному.
«Социальность» входит в концепцию Лакана не посредством
распространения индивидуальных механизмов на общество, как это бы-
Lacan J. Ecrits. Paris, 1966. P. 79.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 261
ло у Фрейда, но именно через язык, понимаемый одновременно
и как материал, и как орудие, и как результат аналитической
работы. Хотя Лакан и опирается в этом метафорическом уподоблении
бессознательного языку на Фрейда, однако он развивает эту
мысль вширь, рассматривая всю реальность бессознательного как
особого рода язык, и вглубь, усматривая в языке, по сути,
единственный инструмент для обнаружения психической патологии
и дальнейшей, направленной на излечение, работы с ней, что
в конце концов неизбежно приводит его к значительному
изменению и переосмыслению фрейдовских понятий, методов, схем.
«Неортодоксальность» лакановского прочтения Фрейда и
превращает его в постоянный объект критики со стороны
традиционного французского психоанализа и других психоаналитических
школ и направлений.
В настоящий момент во Франции насчитывается несколько
психоаналитических обществ. Самое давнее среди них - это
«Парижское психоаналитическое общество», созданное в 1926 г.
Марией Бонапарт и ее коллегами в качестве французского
ответвления «Международной психоаналитической ассоциации» (во
французском сокращенном именовании - API) и образовавшее
в 1953 г. организационно-учебный Институт психоанализа. В том
же 1953 г. происходит первый раскол «Парижского
психоаналитического общества»: Жак Лакан, Даньель Лагаш, Франсуаза Дольто
и др. выходят из его состава и образуют независимое
«Французское психоаналитическое общество». Причины раскола выходят
за рамки личных отношений: Лакан и его сторонники не согласны
с господствующими во французском психоанализе методами
исследования и терапии (в частности, эго-психологией) и встречают
отпор «Международной психоаналитической ассоциации» (API).
В 1963 г. назревает новый конфликт — на этот раз внутри
«Французского психоаналитического общества». Его истоки — в спорах
об обучении психоанализу и институциональном статусе врачей,
так называемых «дидактов»: должно ли это учение протекать
в рамках и под контролем университетов или же независимо от
них? Соответственно размежеванию позиций в этом споре
«Французское психоаналитическое общество» раскалывается
в 1964 г. на «Парижскую школу фрейдизма» во главе с Лаканом
(она объединяет сторонников независимости от университетов,
отлученных вследствие этого от API) и «Французскую
психоаналитическую ассоциацию» (объединившую сторонников
подчинения университетам, оставшихся в составе API). Новый кризис -
теперь уже в лоне «Парижской школы фрейдизма» — произошел
в 1969 г. Причина его - в глубоких политических расхождениях
позиций относительно майских событий 1968 г. и всплеске «го-
262 Познание и перевод. Опыты Философии языка
шистских» настроений, потрясших внутреннюю структуру
Школы. Так родилась независимая «Четвертая группа», сплотившаяся
под знаменами так называемого «неинституционального» (sans
école) «лаканизма» и занимающая в основном левые
«антипсихиатрические» позиции. Как мы видим, Лакан был во многом
катализатором раскольных процессов во французском психоанализе1.
Эта его роль была весьма неоднозначной, что неоднократно
отмечалось, в частности, французскими исследователями: с одной
стороны, Лакан — неоспоримый борец против догматизма,
авторитаризма, за обновление педагогических, исследовательских
и терапевтических методов психоанализа; с другой стороны,
именно Лакан во многом повинен в критическом состоянии
французского фрейдизма с его внутренней организационной
расшатанностью и отсутствием единой теоретической и
практической программы действий2.
Единство критических и конструктивных задач сложилось
в концепции Лакана не сразу и к тому же никогда не было
монолитным. В его творчестве условно (ибо жесткой границы между ними
нет) можно вычленить два периода: 1930—1940-е и 1950—1970-е
годы, различающиеся пониманием целей, методов, задач
психоаналитического исследования. Первый период можно условно назвать
«экзистенциалистским», он совпадает с наиболее широким
распространением экзистенциализма во Франции. Его критическая
задача - отмежевание от редукционистского ассоциационизма; его
философская опора, пожалуй, именно экзистенциалистско-фено-
менологическая; его объект - образный слой сознания,
несводимый к биологическим проявлениям, а метод исследования и
терапии — фрейдовский метод свободных ассоциаций.
Второй период можно условно назвать «структуралистским».
Его критическая задача — все более решительное отмежевание не
только от ассоциационизма естественнонаучного толка, но также
и от экзистенциально-феноменологических теорий
психического. Методологическими кумирами Лакана чем дальше, тем
больше становятся Леви-Строс, Якобсон, русские формалисты.
Главный объект исследования в этот период - символический слой
сознания, несводимый ни к биологическим импульсам, ни к
образным структурам, а метод исследования - расшифровка
«языка» бессознательного.
1 Последняя стадия этого процесса, связанная с кризисом и роспуском лаканов-
ской школы - Парижской школы фрейдизма, ярко показана в работе: Retour à
Lacan? / Ed. J. Sédat. Paris, 1981.
2 См.: Roudinesco Ε. Introduction à une politique de la psychanalyse // Europe. Paris,
1974. Mars. (Freud). P. 108-109.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания». 263
Эти два периода не разделены непроходимым барьером: если
судить хотя бы по заглавиям сочинений Лакана1, их вообще
нелегко разграничить. Так, языковая проблематика
присутствовала и в лакановских работах первого периода, хотя она не занимала
в нем определяющего места, и, напротив, феноменологические
и экзистенциалистские ходы мысли (особенно в критике
трансцендентальной классической философии и принципа
суверенности сознания со всеми ее лакановскими непоследовательностями)
сохраняются порой и во второй период. Попытаемся теперь
выявить основные методологические подходы, характерные для
обоих периодов творчества Лакана.
Программная статья первого периода - «По ту сторону
принципа реальности» (1936). Она должна была, по замыслу Лакана,
определить специфику отношения «второго поколения»
психоаналитиков к наследию Фрейда, выявить особенности объекта
психологии и психоанализа в свете нового клинического опыта,
зафиксировать его основные методологические принципы.
Именно в этой статье Лакан сосредоточивает силы на борьбе
с «живучими» призраками ассоциационизма, неправомерно
притязающего на объективность и материалистичность. Основные
понятия этой теории — «энграмма» (в-печатление) и
«ассоциативная связь» между психическими явлениями. Оба они, по мнению
Лакана, ошибочно считаются чисто опытными, а в
действительности основываются на тех или иных методологически
неоправданных допущениях: первое — на атомарности психофизических
элементов и пассивности их по отношению к внешним
воздействиям, второе — на представлении о том, что на человеческую
психику можно перенести данные о реакциях животных в
экспериментальных условиях, полагая при этом доказанным то, что
еще только требуется доказать, - само наличие ассоциативных
связей. Методологические изъяны ассоциационизма становятся,
по мнению Лакана, еще более очевидными при сопоставлении его
с другими, нередукционистскими подходами к исследованию
психики: анализом целостных форм психики, или
гештальт-психологией, и феноменологическим анализом интенциональной
1 Основные работы первого периода: «По ту сторону принципа реальности»
(1936), «"Стадия зеркала" как фактор формирования функции Я» (1949),
«Агрессивность в психоанализе» (1948), «О психической причинности» и др. Основные
работы второго периода: «Функция и поле речи и языка в психоанализе» (1953),
«Вещь у Фрейда или смысл возврата к Фрейду в психоанализе» (1955),
«Психоанализ и обучение психоанализу» (1957), «Ситуация психоанализа и формирование
психоаналитика» (1956), «Статус буквы в бессознательном или послефрейдовский
разум» (1957), «Ниспровержение субъекта и диалектика желания в
бессознательном у Фрейда» (1960), «Наука и истина» (1956-1966) и др.
264 Познание и перевод. Опыты Философии языка
природы психического, на которые, собственно, и ориентируется
Лакан в этот период.
Не только эмпирический ассоциационизм, вдохновляющийся
старым локковским принципом: «в разуме нет ничего такого, чего
ранее не было бы в чувствах», но и его, казалось бы,
методологический антипод — трансцендентальная диалектика, опирающаяся
на единство cogito как синтеза представлений в сознании, -
существенно обедняют, по мнению Лакана, психическую реальность.
Фактически оба эти подхода сводят образ — это важнейшее
и сложнейшее по своим функциям и богатейшее по своему
содержанию психическое явление — к информации, растворяют
чувства, верования, интуиции, сны в «материальности»
физиологических или биологических реакций или же «идеальности»
трансцендентального сознания, видят в патологии, например
галлюцинациях, только ошибку чувств или заблуждение разума.
Лакан защищает специфику психической реальности в такой
форме, которая может показаться обскурантистской: «истина со
всей ее ценностью лежит вне науки: наука может гордиться своим
союзом с истиной, она может исследовать ее проявления и
значения, но она ни в коем случае не должна считать достижение
истины своей собственной целью»1. Дело здесь, однако, не в том, что
Лакан вообще отвергает причинность и закономерность в
психических явлениях; он отказывается определить эти
закономерности естественно-научным путем.
Как это ни парадоксально, но, по мысли Лакана, именно
«ненаучное» внимание к человеческим страданиям, этот ход к психике
через патологию позволил Фрейду признать реальность того
психического материала, который необходимо прояснить и
преобразовать, чтобы вылечить больного. Показания больного
представляются бессмысленными лишь с точки зрения абстрактной
истины, руководствуясь которой можно было бы сортировать
психические явления на значимые и незначимые, выбирая какие-то
одни явления и взаимосвязи и опуская другие, быть может, не
менее важные для понимания целостного смысла психики больного.
Права психической и особенно психопатологической реальности
на самостоятельность, согласно Фрейду и следующему за ним
Лакану, необходимо гарантировать двумя методологическими
постулатами врачебной практики - правилами безотборности и
несистематизирования, которые наделяли бы презумпцией
осмысленности любые проявления психики: представления, сны,
предчувствия, бред. Терапевтический процесс, основанный на
этой «презумпции осмысленности», сосредоточивается вокруг пе-
Lacan J. Ecrits. P. 79.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 265
рестройки в сознании больного образа его собственной истории,
содержащей пока еще скрытую психическую травму. Этот образ
прорисовывается сквозь хитрости и уловки больного, сквозь
колебания его желаний и намерений, детские воспоминания и
сиюминутные побуждения. Целостный образ собственной истории не
предшествует анализу. Он создается врачом на основе весьма
разнородных следов в речи и поведении больного и воплощается
в процессе переноса, трансфера. Перенос - это двунаправленное
движение строящегося образа: поначалу образ переносится
больным на врача и как бы реально проигрывается, испытывается,
примеряется посредством этого отнесения, а затем ложная проекция
на врача рушится и образ занимает собственное место в сознании
больного, «узнается», принимается им. Следовательно, в
психоаналитической практике происходит постоянное взаимодействие
«наблюдателя» и «объекта»: узнавая себя в новом образе, больной
опровергает свою прежнюю историю, «размеченную мерными
столбами воображаемого»1, а это, в свою очередь, вызывает
подспудную работу по перестройке его сознания и поведения и
устранению патологических симптомов.
При этом необходимость выявления скрытых мотивов
поведения больного не обеспечивается классическими познавательными
схемами типа «восприятие — осознание». Ведь познавательное
отношение врача к больному не прозрачно, так как больной
сопротивляется проникновению в его психику: тем самым в
психоаналитический сеанс входит агрессивность. В этой связи перед врачом
возникают две задачи: с одной стороны, он должен преодолеть
агрессивность больного, равно как и возможную собственную
неприязнь к нему, с другой стороны, однако, он должен сознательно
вызвать раздражение или даже агрессивность больного — чтобы
высвободить энергию, направив ее затем на самоанализ. Так, в
основе переноса своего психического состояния и господствующих
в нем образов на врача и последующего их возврата в сознание
больного лежат определенные переливы и перераспределения масс
психической энергии. Психоаналитическая практика, связанная
с переносом и изживанием агрессивности, показывает, что
сознание не есть центр очевидностей, но, напротив, источник многих
сопротивлений и вытеснений: центростремительное движение
психики к целостности как бы уравновешивается центробежным
ее движением к распаду, особенно отчетливо проявляющимся в
самом явлении агрессивности как сопротивлении осознанию2.
1 Lacan J. Ecrits. P. 92.
2 Эта вторая составляющая человеческой психики, подчеркивает Лакан,
выходит на первый план, как правило, в переломные моменты индивидуальной исто-
266 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Источник самой способности образных уподоблений и
«расподоблений», используемых в психоаналитической практике, не
задан, однако, больному самим фактом его рождения. Основу этих
психических процессов Лакан видит в так называемой «стадии
зеркала». Мысль о «стадии зеркала» (это оригинальный в
сравнении с Фрейдом момент лакановской концепции) возникла у
Лакана уже в конце 1930-х годов, однако лишь десятилетие спустя
(«"Стадия зеркала" как фактор формирования функции Я» -
1949) он вводит это понятие в психоаналитический обиход уже не
только как намек, но как продуманный комплекс идей. Стадия
зеркала - это определенный период в развитии младенца:
6-9-месячный ребенок, не умеющий ни ходить, ни говорить, радостно
приветствует свое отражение в зеркале, тогда как обезьяна с
гораздо более развитым к этому возрасту «инструментальным
интеллектом» никаких эмоций при созерцании себя в зеркале не
испытывает. Ребенок, пока еще неспособный отождествлять самого
себя в отношениях с другими людьми, учится отождествлять себя
с собственным зрительным образом, создавая тем самым
символическую канву для дальнейшего построения Я. «Функция
зеркала, — поясняет Лакан, - это частный случай функции образа,
которая и заключается в соотнесении организма с его реальностью,
или, иными словами, внутреннего мира с внешним миром»1.
Необходимость в построении из обломков телесных образов некоего
целостного образа «я» связана с тем, что рождение человека
разрывает его связь с телом матери, а «преждевременность» этого
рождения (или, иначе, биологическая непредзаданность
способности к самостоятельному питанию и передвижению) не
позволяет ему сразу же включиться в новую цепь координации и
взаимозависимостей. Целостность зрительного образа в стадии зеркала
предвосхищает будущую целостность человеческого организма,
которая пока еще не сложилась.
Смысл этого этапа в формировании человеческой психики,
по Лакану, не столь однозначен. «Стадия зеркала» дает не только
первые наброски самотождественности Я, но и первый опыт его
рассогласованности: ребенок находится одновременно и там, где
он себя ощущает, и там, где он себя видит. Эта противоречивость
психического опыта сосредоточенности и рассредоточенности
рии человека, связанные с важнейшими фазами его биологического развития
(отнятие от груди, Эдипов треугольник, половое созревание, зрелость, материнство,
климакс, смерть), а в архетипическом виде присутствует в образных
представлениях, связанных с разрушением тела, таких как кастрация, пожирание, потрошение,
разрывание и пр. (они часто встречаются в играх маленьких детей).
Lacan J. Ecrits. P. 96.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 267
служит в дальнейшем основой самоотождествления в отношениях
с другими людьми, основой диалектики межличностных
взаимосвязей.
В работе «О психической причинности» (1946) Лакан
подытоживает первый период своих размышлений об объекте
психологии и смысле психоаналитической практики: «По-видимому,
можно сказать, что образ (imago) есть собственный объект
психологии»1. В его основе лежит особая форма психической
причинности, которая обосновывает явления: это «идентификация,
неподвластная никаким редукциям, и образ (imago), то есть форма,
определяемая внутри пространственно-временного комплекса
воображаемого, роль которого именно в том и заключается, чтобы
решающим образом идентифицировать ту или иную психическую
фазу или, иначе говоря, преобразовывать отношения индивида
к себе подобному»2.
В работах первого периода, как мы видели, Лакан опирается
преимущественно на экзистенциально-феноменологическую
образную трактовку психики с ее первоначальным нарциссизмом,
отчуждающей функцией Я и агрессивностью в отношении
Другого. Однако уже здесь целый ряд явлений, обнаруженных
психоанализом и не охватываемых рамками классических схем
«просветительского» сознания (в частности, сопротивление осознанию,
агрессивность), требует иных опорных схем для теории и
практики. Просто осознание еще не преодолевает агрессивности,
да и для того, чтобы осознать, необходимо сначала преодолеть
агрессивность, а образные уподобления и расподобления сами по
себе - это ненадежное средство и слишком зыбкий материал для
такого преодоления. Здесь нужна сила, лежащая как бы вне
сознания, но способная воздействовать на сознание (и
бессознательное) и перестраивать его. Лакан отмечает, что, касаясь «той
экзистенциальной негативности, реальность которой ярко выведена
на первый план современной философией бытия и ничто»3, мы,
однако, не находим силы, способной вывести за пределы
сознания. Ничто, по мнению Лакана, не свидетельствует против
экзистенциализма сильнее и резче, нежели те субъективистские
тупики, которые им самим порождаются. Силу, способную выйти за
пределы сознания и высветить бессознательное, следует искать не
в воображаемом, а в «другом месте». Эту силу Лакан находит
в языке, новый тип отношений — в речевом взаимодействии, но-
1 Ibid. Ρ 188.
2 Ibid.
3 Ibid. P. 98-99.
268 Познание и перевод. Опыты Философии языка
вую опору — в символическом слое сознания, преодолевающем
сущностную неустойчивость его образных компонентов.
Программное сочинение второго периода, в котором
содержатся обоснования нового подхода к психоаналитической
проблематике, — «Функция и поле речи и языка в психоанализе»
(1953). Ранее язык определялся преимущественно как средство
фиксации и выявления патологии; в соответствии с этим
своеобразная логика каждого типа душевной болезни ищется в
определенным образом направленных искажениях смысла терминов,
жестких сращениях идей с их словесной оболочкой, «гибридах»
в словаре, смысловых неологизмах, деформациях синтаксиса,
складывающихся в то или иное единство стереотипов и форм или
же в средство выявления субъективных интенций, которые
пациент сознательно подавляет, а неосознанно обнаруживает. Язык
фиксирует общую направленность психического состояния
больного - требовательную или карательную, агрессивную или
искупительно-жертвенную: язык, выполняющий свою социальную
функцию выражения, «обнаруживает одновременно и единство
значения в намерении, и конститутивную двусмысленность
субъективного выражения» — того, что свидетельствует против мысли,
лжет ей1 (об этом речь идет в более ранней работе — «По ту
сторону принципа реальности» (1936)).
Теперь все эти определения языка и его роли в психоанализе
оказываются недостаточными: между «миражами монолога» с его
«удобными фантазиями» и «каторжным трудом речи без отписок,
которую психолог не без юмора и врач не без лукавства украсили
именем "свободных ассоциаций"»2, лежит пропасть. Этот
«каторжный труд» речи, этот напряженно развертывающийся диалог
врача и пациента мучительно завоевывает каждую новую ступень
понимания — сквозь фрустрацию, агрессивность, регрессию,
вопреки соскальзыванию психики на примитивные ступени ее
развития при столкновении с непосильными для нее задачами.
Главная опасность в терапевтическом курсе заключается, как теперь
говорит Лакан, даже не столько в агрессивности и сопротивлении
больного, сколько в его отождествлении себя с каким-то одним
образом.
Чтобы не допустить этого, требуется все искусство анализа как
искусство диалога. Терапевтическая суть диалога заключается не
в перестройке образов в пределах воображаемого, но в переходе на
качественно новый уровень понимания - в область
символического. Этот переход необходим, поскольку символический слой
1 Ibid. Р. 83.
2 Ibid. Р. 248.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 269
сознания господствует над образным и определяет его механизмы.
Этот переход возможен, если мы считаем, что бессознательное
структурировано как язык и, следовательно, принципиальной
непроходимости между различными уровнями психики нет. И тем
не менее он очень труден. Ведь понятия воображаемого и
символического принадлежат различным понятийным рядам: с
воображаемым связываются единство, отсутствие разрывов и различий,
аналогичность, сходство, образность, выразительность,
непосредственность отношений; с символическим — расчлененность,
различие, разрыв, ограничение, опосредствование.
Соответственно и субъекты этих двух уровней —
воображаемого и символического - различны. Я как субъект воображаемого -
это основа всех центраций, всех иллюзорных идентификаций,
обладающая лишь видимостью подлинного синтеза всех
проявлений психической структуры. Субъект символического — это сам
принцип расчлененности и дискретности психической структуры
в действии, язык. Речь воображаемого, несмотря на ее
кажущуюся полноту, - «пустая», лишенная подлинной внутренней
связности, а речь символического — «наполненная», осмысленная,
превращенная из хаоса разрозненных архивных документов
индивидуальной истории больного в упорядоченную и
последовательную историю. На месте видимого синтеза обнаруживается, таким
образом, бессвязность, а на месте разрывов и расчленений —
новые смыслы. Следовательно, диалог врача и пациента, речевая
практика представляют собой нечто вроде лаборатории, в которой
непрерывно и подспудно осуществляются и анализ, и синтез:
и расшифровка воображаемого, т. е. симптомов болезни, и
воссоздание символического, т. е. новой «полной» речи, нового
психического облика человека1.
1 О некоторых подходах к трактовке самой аналогии язык - бессознательное см.:
Khsteva У. Within the microcosm of «the talking cure» // Interpreting Lacan / Ed.
J. H. Smith, W. Kerrigan. New Haven - L., 1983; Leavey S. A. The image and the word //
Interpreting Lacan / Ed. J. H. Smith, W. Kerrigan. New Haven - L., 1983;
Arrivé M. Linguistique et psychanalyse: Freud, Saussure, Hjelmslev, Lacan et les autres.
Paris, 1986; Menahem R. Langage et folie: Essais de psychorhétorique. Paris, 1986, etc.
Среди новых работ о Лакане отметим прежде всего: BadiouA., Roudinesco Ε. Lacan,
passé présent. Dialogue. Paris, 2012; Bousseyroux M. Lacan le borroméen. Creuser le
noeud. Toulouse, 2014; Bruno P. Lacan, passeur de Marx. L'invention du symptôme.
Toulouse, 2010; Cassin B. Jacques le sophiste. Lacan, logos et psychanalyse. Paris, 2012;
CléroJ.-P. Dictionnaire Lacan. Paris, 2008; CléroJ.-P. Vocabulaire de Lacan. Paris, 2012;
HurstA. Derrida vis-à-vis Lacan. Interweaving Deconstruction and Psychoanalysis. N.Y.,
2008; Les fondamentaux de la psychanalyse lacanienne. Repères épistémologiques,
conceptuels et cliniques. Rennes, 2010; Lewis M. Derrida and Lacan. Another Writing.
Edinburgh, 2008; Marx, Lacan. L'acte révolutionnaire et l'acte analytique. Toulouse, 2013;
Penser avec Lacan. Nouvelles lectures. Paris, 2014.
270 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Симптомы болезни сосредоточиваются в местах особой
напряженности, вскрываемых работой речи, — там, где налицо
разрывы или, наоборот, сгустки в речевой цепи: метафорические
сгущения, нагромождения, иерархические напластования
элементов или их же метонимические смещения. Таким образом,
и метафора и метонимия, эти традиционные приемы риторики
и стилистики, служат для врача и для больного средством
перехода с воображаемого уровня на символический, мостом между
бессмыслицей и смыслом. Для того чтобы сделать речь больного
свободной и наполненной, мы вводим его «в язык его желания»,
в котором, без его ведома, «держат речь его симптомы». Именно
потому, что симптомы бессознательного представляют собой
сгустки или разрывы речевой ткани, т. е. структурированы как
язык, они и способны разрешаться в анализе языка, в анализе
речи больного. Симптомы болезни нельзя назвать
заблуждением, а результат лечения — истиной в смысле классической теории
познания, поскольку врачу недоступно ни положение дел в
объективной реальности (он знает лишь о тех событиях, о которых
ему рассказывает сам больной и в его интерпретации), ни его
субъективное осознание (поскольку больной его тщательно
скрывает и «выдает» лишь отрывочно: о нем можно судить лишь
по отдельным деталям речи и поведения). Однако - здесь Лакан
остро полемизирует с англо-американскими неофрейдистами,
упрекая их в забвении истины ради социальной реадаптации
больного любой ценой, - истина в психоаналитическом опыте
возможна и достижима. Истина - это и есть реальность
симптома, зафиксированная в речи; причем достигается эта реальность
путем выяснения его взаимоотношений с другими симптомами
и психическими проявлениями, среди которых патологический
симптом «разрешается», т. е. обретает свою смысловую
наполненность.
В итоге получается, что соотношение между бытием истины
и бытием языка в психоаналитической практике парадоксально:
язык, как мы уже видели, оказывается одновременно и местом
лжи (т. е. местом фиксации патологических симптомов и
материалом, в котором они запечатлеваются), и средством достижения
истины (т. е. инструментом артикулирования, распутывания
речевых узлов, соответствующих психическим нарушениям).
Следовательно, истина терапевтической практики — та
межсубъектная истина, которая может быть достигнута лишь средствами
языка, — вообще не связана с каким-либо конкретным содержанием:
скорее это совокупность некоторых условий, делающих само
обозначение возможным. Она заключается не в моей речи и не в речи
моего собеседника, но в чем-то третьем — в некоторых общих для
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 271
нас обоих символических условиях или, как говорит Лакан,
«условностях» обозначения1.
Сама постановка вопроса об условиях обозначения в
концепции Лакана показывает, что он не считает связь знака и
значения - означаемого и означающего — заранее заданной, но
пытается выяснить, как, при каких условиях, по каким критериям,
в каких ситуациях означаемое может соединяться с означающим,
а значит, и обозначение как таковое становится возможным.
Лечение болезни происходит вовсе не на уровне оперирования
конкретными смыслами, значениями, и даже не на уровне
соединения атомарных знаков, в которых означаемое и означающее
связаны в единую структурированную цепь, но в результате
приведения бессвязных, но конкретных смыслов к некоторой, хотя
и лишенной конкретности, но приобретшей внутреннюю
связность абстрактной формальной системе условий обозначения.
В самом деле, язык бессознательного невозможно понять, если
сводить его к реальным жизненным функциям или воображаемьм
элементам: его расшифровка происходит на символическом
уровне или, иначе, на уровне означающего. Здесь все реальные или
воображаемые проявления психики выступают в своем
опосредованном символическом виде. Именно подключение к
символическому порядку, овладение условностями языка и культуры
возвращает в общество отторгнутых от него больных. Логика
символического уровня не определена ни «архетипически»,
ни физиологически, ни чисто социально — она есть логика
означающего, взятая в ее наиболее формальных аспектах. Выявить ее
не так-то легко. «Для того чтобы вычленить означающее, —
считает один из последователей Лакана, — вовсе не нужно
восстанавливать его онтогенетическое или филогенетическое, историческое
или логическое первоначало... Нужно заставить означающее
появиться вне знака, оторвать его от того, что постоянно
сопровождает его в опыте, — от означаемого, которое является лишь его
следствием»2. Это и делает Лакан. Сосредоточиваясь на
скольжении означаемого относительно означающего и даже на разрывах
между ними, Лакан совершает тем самым парадоксальный ход: он
направляется как бы вспять культуры, поскольку все ее формы —
наука, религия, искусство — пользуются знаком как устойчивой
коммуникативной единицей.
Этот исследовательский ход обосновывается у Лакана
соответствующей концепцией культуры. Истоки языка бессознательно-
1 Ср.: Lacan У. Ecrits. Р. 266-289.
2 Bertherat Y. Freud avec Lacan ou la science avec la psychanalyse // Esprit. 1967.
№ 366. P. 988.
272 Познание и перевод. Опыты Философии языка
го — в глубинах первоначальных пар оппозиций, составляющих
условие и механизм формирования культурного сознания (да -
нет, плюс — минус, наличие — отсутствие). Их общий смысл - как
раз различение, прерывность. Биологическая потребность
непрерывна, она взывает к непосредственному удовлетворению; для
того чтобы стать человеческим желанием, ей необходимо
символическое опосредствование, структурирование и словесное
воспроизведение, формулирование. Таким образом, и сам
порядок культуры, и причастная ему психическая реальность человека,
и определяющий ее закон символического, считает Лакан, по
сути своей компенсаторны: они исходно формируются в пробелах
(или «дырах» бытия) - биологической жизни с ее реакциями,
потребностями, инстинктами. Точнее, человеческая культура
возникает в бреши, в пробеле между биологической потребностью
и ее непосредственным удовлетворением, вследствие отсрочки
этого удовлетворения, задержки, нехватки и возникающей при
этом напряженности. Если считать, как это делает Лакан,
реальным в человеке биологическую природу с ее потребностями, а
воображаемым — представление биологических потребностей в
сознании, тогда символическое - это логика опосредствования,
предваряющая сами эти потребности (ср. закон запрещения
инцеста). Следовательно, по отношению к логике природы логика
культуры есть логика промедления и прерывности, а культура
в самом формальном своем определении оказывается средством
закрепления прерывности, способом принудительного
воспроизведения ее в человеческом сознании и поведении.
Это помогает нам понять символический смысл некоторых
психоаналитических понятий, в буквальном своем истолковании
неясных.
Так, смысл «Эдипа» в том, что это — бдящее око культуры,
предостережение против нарушения ее запретов, а кастрация,
например, — это одновременно включенность в культуру и наказание
тому, кто из нее «выпадает». Эта «прерывность», составляющая
специфику культурных механизмов в сравнении с природными,
удерживается с трудом, постоянно подвергаясь синтезированию,
центрированию по схемам воображаемого с его способностью
к компенсации и восполнению. Следовательно, культура не есть
некое раз и навсегда достигнутое состояние; это непрерывно
возобновляемое усилие, которое вводит в действие механизмы
символического.
В области психоанализа есть своя особая истина и своя особая
логика, но это не «логика логиков», выявляющая абстрактные
связи мышления, а логика означающего, логика разрыва. Эта
логика означающего и порождает одновременно и расщепленный
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 273
между различными плоскостями психики субъект, и
«потерянный» (т. е. навсегда «отсроченный», непосредственно не данный)
объект — мир объектов его желания. «Объект психоанализа, —
обобщает свои мысли о специфике лакановского объекта Ив Бер-
тера, - это подвижный и навсегда исключенный центр структуры.
Познание классического типа пытается его центрировать, сделать
непосредственно прозрачным для мысли и для речи. Функция
психоанализа, следовательно, заключается в том, чтобы
удержаться в немыслимой области критической настороженности по
отношению ко всем этим воображаемым синтезам»1. И далее: «Это
и превращает психоанализ в невозможную науку, в познание
некоего незнания, результаты которого, однако, не лишены ни
истины, ни реальности»2.
Сама постановка вопроса о символических условиях жизни
сознания, о специфике означающего как логики языкового типа
(в противоположность другому возможному вопросу - о
механизмах функционирования «готовых» знаков и знаковых систем
в культуре) характерна не только для Лакана, но и для других
представителей французского структурализма. По сути своей она
свидетельствует о стремлении проследить, каким образом в
результате действия определенных формообразующих механизмов
возникают все продукты человеческого сознания и культуры.
В известном смысле прояснение логики бессознательного,
своеобразной логики патологии, разрывов и пределов в порядке
культуры может способствовать такому исследованию. Вместе с этим
очевидна и ограниченность такого исследования. Ясно, что лака-
новское уравнение языка и бессознательного нельзя
рассматривать как отождествление их в категориальном или
методологическом плане, но скорее как попытку рационализировать новую
область внерационального или даже иррационального опыта.
В рамках этой аналогии и «язык» и «бессознательное»
понимаются, как мы видели, далеко не самоочевидным способом:
бессознательное, которое родственно языку, - это не темная область
природных истинктов, но нечто причастное порядку культуры,
а язык, который родствен бессознательному, — это не форма
понятийного мышления, а некий структурирующий механизм,
делающий возможным соизмерение различных элементов и уровней
психики. Это показывает, что аналогия между языком и
бессознательным заведомо ограниченна: языковые механизмы не
налагаются на бессознательное без остатка, а затрагивают лишь некото-
1 Ibid. Р. 1002-1003.
2 Ibid.
274 Познание и перевод. Опыты Философии языка
рые его аспекты и стороны. В таком ограниченном смысле лака-
новское уравнение языка и бессознательного представляется
правомерным и плодотворным - и в научном, и в практически-
терапевтическом смысле.
Лакан, однако, не ставит вопроса о границах применимости
этой аналогии, выводя ее за рамки психоаналитической ситуации
в область самых широких философских и методологических
обобщений. Вследствие этого сфера символического, сфера
означающего становится главным определением человеческой судьбы
вообще: «[Субъект] не является причиной самого себя, он носит
в себе...причину, которая его расщепляет. Причина эта -
означающее, без которого в реальном вообще не было бы субъекта. Этот
субъект есть то, что репрезентируется означающим, а оно
способно что-либо репрезентировать лишь для другого означающего»1.
Таким образом, не субъекты, общаясь между собой, определяют
содержание и форму (означаемое и означающее) того, о чем они
говорят, но, напротив, означающее, отделившееся и
освободившееся от означаемого, или, иначе говоря, формальные структуры
речевой цепи, оторванные от какого-либо содержательного
наполнения, «освещают» субъекта в его разрыве с самим собой, в его
«гетерономности», т. е. непригнанности его различных граней
и аспектов друг к другу. Согласно такой трактовке, и сам субъект
возникает из взаимодействия означающих, поскольку именно
перемещения и переструктурирования означающих определяют
судьбу человеческих существ.
Здесь, по сути, сосредоточена та двойная редукция объекта
исследования, которая до сих пор проступала не очень ярко, хотя
и пронизывала подспудно все звенья лакановской концепции. Во-
первых, человек, человеческая психика полностью сводятся
к языку и своим языковым обнаружениям. Во-вторых, язык,
обладающий в принципе множеством функций и аспектов, сводится
к уровню означающего, т. е. к безличной формальной структуре
речевой цепи. Именно на этой исходной редукции крепятся все
дальнейшие выводы философского, методологического и
мировоззренческого плана, в том числе вывод о «ниспровержении» или
«падении» субъекта, который вовсе не является единственно
возможным выводом из терапевтических и гносеологических
сложностей психоаналитической ситуации. Лакан полагает, что,
поскольку отдельно взятый субъект не способен проникнуть
в бессознательное - это возможно лишь для ряда субъектов,
связанных цепью означающего, - поскольку единство каждого
отдельного звена в этой цепи заведомо исключается. В противопо-
Lacan У. Ecrits. P. 835.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 275
ложность классической декартовской формуле «cogito ergo sum»,
в основе которой лежит тезис о полном совпадении объекта
мышления и субъекта существования, Лакан вводит, как уже
отмечалось, другую формулу: «я мыслю там, где я не есть, и я есть там, где
я не мыслю». И значит, проблема заключается не в том, чтобы
искать возможные смычки между «cogito» и «sum» — ибо эта задача
заведомо неосуществима, — но в том, чтобы выяснить, тождествен
ли «я говорящий» и «я говоримый», или, иначе, субъект речи
и объект речи, даже если, казалось бы, говорю заведомо я сам и
говорю о самом себе. В противоположность традиционному для
западной философии пониманию субъекта как центра отсчета
содержаний сознания, «субъект бессознательного» (это
противоречие в определении), который обнаруживается в речевой
означающей цепи, «настигает» себя, т. е. совпадает с самим собой, лишь
внутри речевых разрывов, и прежде всего внутри главного
разрыва - между означающим и означаемым.
Теоретико-познавательные следствия такого понимания
субъекта весьма обширны. Построение гуманитарной науки, или
науки о субъективном, человеческом как лозунг и цель есть не что
иное, как противоречие в определении, поскольку в науке не
существует «субъекта» («субъект» во французском языке означает
одновременно и «субъект» и «подданный», и Лакан использует эту
игру значений). Так, в теории игр, продолжает он свое
рассуждение, субъект фактически сводится к матрице значащих
комбинаций; в лингвистике опять же не может быть и речи о целостном
субъекте: на различных уровнях анализа - лексическом,
морфологическом, фразово-синтаксическом — субъекты различны, что
и позволяет, в частности, строить различные науки в пределах
общей лингвистической проблематики. Специфика
структуралистского подхода к проблемам гуманитарного познания заключается,
по мнению Лакана, во введении особого типа субъекта,
обозначить который можно только топологически: наиболее
подходящей его моделью является лента Мёбиуса. Свои размышления на
тему о субъекте как прерывности в реальном Лакан выводит
далеко за рамки психоаналитической ситуации. Пожалуй, беда не
в том, что Лакан считает конструкции типа Я, индивидуальное
сознание, самосознание производными и вторичными по
отношению к миру реальных человеческих взаимодействий, но в том, что
он сводит этот мир межсубъектных взаимодействий
исключительно к речевым, языковым отношениям, к тому же понимаемым
очень узко. Измерение языковых взаимодействий действительно
является одним из аспектов «реального бытия», опосредующего
полюсы «бытия» и «мышления», однако оно вовсе не
исчерпывает собой это бытие.
276 Познание и перевод. Опыты Философии языка
В самом деле: для Лакана проблемы соотношения сознания
и бессознательного ограничены рамками психопатологии и
решаются недвусмысленным утверждением первичности
бессознательных механизмов символического над сознательными
структурами иллюзорного «воображающего» слоя психики. Вместе
с тем, отношение это не столь ограниченно и не столь
прямолинейно; оно меняется в зависимости от видов, типов и форм
человеческой деятельности, а потому то, что имеет силу для
патологического, сновидного или же механического сознания и
поведения, не применимо к тем видам практики, где творческий и це-
леполагающий момент выходит на первый план. В известном
смысле вопрос о том, что первично - сознание или
бессознательное, осознаваемые или неосознаваемые формы психической
деятельности, - по-видимому, вообще неправомерен: его решение
может быть только конкретным и функциональным,
относящимся к тому или иному виду деятельности. Эта абсолютизация
бессознательного - не единственная в концепции Лакана. Порой
создается впечатление, что акцент на расщепленном
бессознательном делается здесь в ущерб логике синтеза, акцент на логике
центробежных психических процессов — в ущерб
центростремительным и др. Однако то и другое — это различные модальности
психических процессов, два вектора личностной топологии:
отсутствие какого-либо из них делает психическую жизнь человека
невозможной.
Своеобразный отпечаток на концепцию Лакана безусловно
налагает специфика его предмета — психической патологии. Ход
к психике через патологию приводит исследователя лишь к той
границе и пределу, где едва намечаются механизмы психики,
но конкретизировать их невозможно. Вследствие этого язык
и оказывается в его концепции почти чистой негативностью,
моментом аналитического расчленения, но не синтеза, хотя по
замыслу язык должен был бы играть также и конструктивную роль
в построении нового, более цельного облика больного. Лакан
при этом не рассматривает тех обстоятельств жизненного
формирования человека, при которых языковая практика играет явно
конструктивную роль: во-первых, это роль языка (через
наименование вещей) в построении предметности, т. е. в
формировании восприятия внешнего мира (как показывают
психологические эксперименты, эта способность не дается от рождения);
во-вторых, это роль языка в формировании человеческой
субъективности, неоднократно отмечавшаяся лингвистами и
психологами: удерживая Я как нечто самотождественное, язык
способствует одновременно и его индивидуализации, и его включению
в символический порядок культуры.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 277
С проблематикой языка связаны наиболее сильные и наиболее
уязвимые моменты лакановской концепции. С одной стороны,
аналогия язык—бессознательное обладает большими
познавательными возможностями. В самом деле, ведь человеческая психика -
это весьма многомерное образование, различные уровни которого
могут рассматриваться в биологии и антропологии, в социологии
и философии. В этой ситуации аналогия язык—бессознательное
дает определенные средства для построения единой
гносеологической проекции функционирования психики, для соотнесения
различных ее уровней. Пересадка энергетических импульсов
фрейдовского бессознательного на почву языка — это, пожалуй,
один из возможных способов показать положительную
определенность бессознательного, выйти за рамки тавтологического
уравнения: бессознательное не равно сознанию,
бессознательное - «оборотная сторона» сознания.
С другой стороны, эта аналогия при буквальном ее
истолковании может завести исследователя в тупик. Тот язык, который
соизмерим с бессознательным, есть лишь некий принцип
разбиения, структурирования и упорядочения линейной цепи
означающего безотносительно к означаемому. Тем самым язык трактуется
здесь как механизм бесконечного скольжения элементов.
На самом же деле, как признает и сам Лакан, даже язык патологии
в терапевтической ситуации не таков: цепи метонимических
замещений прерываются метафорами — пучками иерархически
наслаивающихся друг на друга элементов, и лишь вследствие этой
многоплановости (как минимум двуплановости) означающих
структур создается эффект смысла. Даже если считать, что язык
состоит из рядоположных элементов, принципы их связывания
лежат на другом уровне, нежели сами эти элементы: означающее
как условие смысла неизбежно предполагает означаемое.
Итак, что же все-таки для Лакана язык: онтологическая
сущность или формальная структура, реальность симптома или условие
возможности смысла, способ общения врача и пациента или
плоская лента означающего, лишенного какой-либо предметной
соотнесенности? Соответственно с исходной для Лакана аналогией
язык - бессознательное - это одновременно и вопрос о реальности
бессознательного: что это — «вещь» или формальный принцип
существования и функционирования психики? По-видимому, эта
двойственность объекта указывает на противоречивость двух
модальностей сознания в его концепции. Признание в
бессознательном особой реальности, особой онтологии — это элемент
морального сознания (именно в сострадании больному Лакан вслед за
Фрейдом видит источник и условие признания этой реальности).
Формализация объекта — бессознательного, сведенного к совокуп-
278 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ности исходных условий возможности обозначения, — это элемент
научного сознания. Между этими полюсами возникает смысловая
напряженность: с одной стороны, своего рода моральное
миссионерство, погружение в патологическое сознание как данность,
принятие (и даже абсолютизация) ее специфики; с другой стороны,
научный анализ, рассечение психической ткани и бесстрастное
вычленение патологии, ее распутывание - любой ценой, пусть
даже ценой редукции смыслового и субъективного содержания при
построении концепции бессознательного как особого рода языка.
Средством разрешения этого противоречия для Лакана и выступает
язык. Однако подобно тому как биологизация бессознательного
у Фрейда была в основном метафорой, метафорой представляется
и языковость бессознательного у Лакана, так что речь здесь может
идти не о роли лингвистических методов в психоанализе, но о
познавательном смысле и эстетическом значении («ноэтика»
сосуществует здесь с поэтикой) лингвистической метафоры в области
психологии психоанализа. Само наличие в лакановской концепции
всех этих столь разнородных элементов — собственно научного,
морального, эстетического — свидетельствует, по-видимому, о том,
что перед нами здесь знание особого синкретического типа.
Учитывать эту полифункциональность необходимо при истолковании
любого элемента данной концепции.
***
Через все творчество Лакана все более настойчиво проходит
тема «освобождения речи», «излечения словом». Эта
направленность сохраняется и у нынешних пропагандистов его идей. Но
дело здесь не только в языке. Мы наблюдаем период широкой
дисперсии идей Лакана, при которой осуществляется своего рода
универсализация метода «освобождения речи». Собственно
говоря, психоанализ уже давно претендовал на то, чтобы
воздействовать на всю систему культуры, на всю духовную жизнь общества,
а такая претензия не могла не привести его к сфере политики.
Во Франции процесс «политизации» психоанализа и
одновременно его проникновение в широкие социальные слои были
стимулированы майскими событиями 1968 г. Социальные и
идеологические барьеры между различными идейными течениями
уменьшились, и психоанализ, отвергавшийся во Франции дольше
и последовательнее, чем в других западных странах, все более
становился формой объединения разнообразного опыта,
оспаривающего status quo, моментом пересечения антитрадиционалистских
движений (антипсихиатрического, феминистского и пр.).
Эта политизация французского психоанализа и его широкое
проникновение в культуру есть феномен, остроумно названный
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 279
«Фрейдовой Французской революцией»1. Главной фигурой,
протагонистом этой «революции», ее символом и стал для
французских интеллектуалов Жак Лакан. С одной стороны, лаканов-
ские концептуальные формулы и антиинституциональная
программа воспринимались как средства освобождения от
традиционных идеологических штампов, а резкая критика всей
прежней психоаналитической практики импонировала
интеллектуалам левой ориентации, стимулировала процессы
брожения, мыслительные поиски, зачастую приводила к уяснению
позиций, поляризации взглядов, политическим размежеваниям.
С другой стороны, психоаналитический бунт Лакана против
«унифицирующей» и «тотализирующей» речи не выводил
интеллект за рамки «репрессивного сознания», а потому в принципе
и не был опасен для него — известно, что лакановские идеи
стремились использовать в качестве своего идеологического знамени
самые различные социальные группы — от современных
нонконформистов до наиболее реакционных представителей «нового
правого» движения. Запутанный язык лакановских построений
открывал широкое поле для всевозможных интерпретаций и
перетолкований, в которых «подрывные» тенденции
структуралистского психоанализа подчас приобретали прямо
противоположный смысл.
Впрочем, дело здесь прежде всего не столько в
неоднозначности восприятия Лакана и лаканизма, сколько в реальной
противоречивости психоаналитического феномена как такового,
наиболее наглядно и ярко проявившейся именно у Лакана. Это
противоречие между «познавательным» и «энергетическим»,
интеллектуально-словесным и эмоционально-аффективным
компонентами и сторонами психоаналитического опыта почти
неизбежно приводило (у Фрейда и еще заметнее у Лакана) к
противоречию между теоретическими и практическими,
исследовательскими и терапевтическими задачами психоанализа. Как
можно предположить, Лакан искал средство для преодоления этой
внутренней рассогласованности в своей Школе (Парижская
школа фрейдизма, 1964—1980). Однако Школа, учрежденная
«мэтром» в борьбе с официальными психоаналитическими
инстанциями (а незадолго до смерти самолично же им распущенная,
несмотря на протесты «верных» и «неверных» учеников и даже
судебные разбирательства), лишь выявила во всей наглядности
противоречие между «освобождением» как целью
психоаналитической практики и авторитарностью самой Школы, устремленной,
1 См.: Turkle Sh. Psychoanalytic Politics: Freud's French Revolution. Cambridge
(Mass.), 1981.
280 Познание и перевод. Опыты ФялосскЬии языка
как и другие социальные институты, на защиту корпоративных
интересов и соблюдение внутренней иерархии.
Применительно к обсуждавшимся здесь сюжетам это означает,
что программа вербализации и интеллектуального прояснения
бессознательного, которой после Фрейда следовал и Лакан, содержит
существенный пробел, перерастающий в трудноустранимый
дефект. Он связан с недостаточным вниманием, а подчас просто
замалчиванием сферы эмоционально-аффективных, гипносуг-
гестивных феноменов, которая генетически предшествовала
возникновению «интеллектуального» фрейдовского психоанализа,
а синхронно и логически сосуществовала с уже возникшим
психоанализом (об этом свидетельствует, например, феномен трансфера,
эмоционального контакта между врачом и пациентом, во многом
определяющий и ограничивающий возможности интеллектуальной
проработки и вербализации психоаналитического опыта). Иначе
говоря, и Фрейд, и особенно Лакан преувеличивали специфику
психоанализа по отношению к другим формам психотерапии и потому
недооценивали в психоанализе то, что имеет аффективную природу
и не переводится в словесное, понятное, расчлененное. А потому на
повестку дня встают исследования и практики, направляющие
внимание на те явления непереводимости в слово, которыми богата
история знаний о бессознательном, психоаналитическая практика
и судьба психоаналитических институтов1.
§ 4. ...и судьба дисциплины
Жизненный и творческий путь Жака Лакана уже завершен,
однако Лакан и поныне не принадлежит всецело истории: споры
о нем продолжаются, и уже одно это свидетельствует о его
незаурядности. Он был ученым и педагогом, поэтом и математиком,
актером и философом. В нем сосуществовали, но постоянно
спорили между собой разные люди, один из которых вел семинар,
публиковал свои работы, сначала устно произносившиеся (так соб-
1 Это в первую очередь яркие работы Ф. Рустана по критике психоанализа,
в частности лакановского {Roustang F. Un destin si funeste. Paris, 1976; Idem... Elle ne
le lâche plus. Paris, 1980; Idem. Lacan: de l'équivoque à l'impasse. Paris, 1986), a также
исследования Л. Шертока и его коллег, посвященные допсихоаналитическим
формам психотерапии и современным возможностям гипносуттестивной
практики. См.: Chertok L. Suggestio rediviva // Résurgence de l'hypnose: une bataille de deux
cents ans. Paris, 1984 (Этот текст, «Возрожденное внушение», был опубликован,
в качестве приложения, в кн.: ШертокЛ., де Соссюр Р. Рождение психоаналитика.
От Месмера до Фрейда / Пер. с франц. и вст. ст. Н.С. Автономовой. М., 1991);
Chertok L., Stengers I. Le cœur et la raison. L'hypnose en question, de Lavoisier à Lacan.
Paris, 1989 и др.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 281
ственно и возник сборник «Ecrits»1, сделавший его знаменитым
в середине 1960-х годов), создавал школу и строил здание
концепции, напоминавшей своей величественной бессистемностью
индийский храм, а другой отличался страстью к эпатированию,
которую не всегда могли объяснить даже преданные ученики, — это
приводило к ситуации перманентного раскола французский
психоанализ, а его самого — к одиночеству. Нельзя не видеть, что
своеобразие личности многое объясняет и в теоретических
построениях Лакана, и в дальнейшей судьбе его идей, оказавших большое
влияние на целое поколение французской интеллигенции.
Подобная личность могла проявиться лишь в своеобразной
обстановке, на определенном этапе развития французской
философской и научной мысли. Кризис субъективистских мыслительных
схем выявил объективную потребность в научном знании о
человеке. Этому требованию эпохи следовал и Лакан, пытаясь сделать
психоанализ наукой, освободить знание о бессознательном от
иррационализма, субъективизма, психологизма. Однако осуществить
этот замысел оказалось далеко не просто. В поисках метода Лакан
отказывается как от ортодоксальных трактовок знания о
бессознательном, ориентирующихся на медицину, биологию и
физиологию, так и от «неортодоксального» англо-американского
неофрейдизма, считая его модель психики прагматической, направленной
на приспособление больного к социальному окружению любой
ценой. Образцом, альфой и омегой научности стали для Лакана
гуманитарная наука структурно-семиотической ориентации (особенно
этнология, лингвистика), а также логика и математика. Именно
в методах структурного анализа Лакан видит средство онаучивания
психоанализа. Однако область наличных знаний о бессознательном
оказалась недостаточно развитой, не подготовленной для сколько-
нибудь строгой формализации (для Лакана формализация — это
в известном смысле синоним научности), а принципиальная аисто-
ричность структуралистского метода заведомо исключала
некоторые, быть может, более эффективные для анализа
бессознательного; эти нехватки восполнялись другими, вненаучными, средствами.
Судить об этом мы можем и по теории, и по практике Лакана.
Основные идеи Ж. Лакана уже были освещены в нашей
философской литературе2, и потому мы вкратце остановимся здесь
лишь на самом главном, отвлекаясь от этапов становления его
идей, от периодизации лакановского творчества.
1 Lacan J. Ecrits. Paris, 1966.
2 Один из первых таких источников - статьи в первом томе трудов симпозиума:
Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978.
282 Познание и перевод. Опыты Филосоеии языка
Бессознательное структурировано как язык. Это —
определяющий тезис. Напомним еще раз, что стоит за этим: прежде всего,
предполагается, что по особенностям речи больного можно,
независимо от его воли и сознания, судить о тех событиях его жизни,
которые были вытеснены и забыты, превратившись в симптомы
болезни. В языке шифруется болезнь, но в языке осуществляется
и излечение, если врачу удается построить на месте прерывистого,
клочковатого рассказа больного связную и упорядоченную
историю, а больному — признать эту историю своей и
соответствующим образом перестроить свой образ и поведение.
Бессознательное субъекта — это речь Другого. Бессознательное
это не тайники души и не анонимные давления извне. Оно
предстает как абсолютное Другое, отличное от Я, сознания,
субъективности, и действует на «другой сцене». Однако бессознательное есть
такое Другое, которое способно «говорить», то есть проявлять себя
в дискурсивном, структурированном виде; оно говорит потому,
что — без ведома субъекта — структурировано культурой, языком.
Реальное — воображаемое — символическое (у Фрейда этой
триаде приблизительно соответствует «вторая топика»: Я - Оно -
Сверх-Я). Эта триада связана с предыдущим тезисом. Другое — это
и есть символическое, это порядок (языка, культуры),
объективная структурирующая сила, господствующая и над реальным (оно
у Лакана «вне игры»), и над воображаемым. Если
символическое - это культурное, объективное (и доступное объективному
познанию), универсальное, безличное, то воображаемое - это
своего рода индивидуальная вариация символического -
субъективное, иллюзорное, организованное вокруг Я.
Означающее есть то, в чем объективно представлено
символическое. Это срез языка, который одновременно и материален (эта
материя может быть акустической, графической и т. д.) и
формален—лишен смысла. Смысл означающего (означаемое) вытеснен,
он проявляет себя лишь косвенно, в «игре» означающих (ведь
и буква, и даже слово сами по себе лишены смысла, они
приобретают смысл, входя в структуру фразы). Объективность познания
означающего есть степень его формализованное™.
Десубъективированный субъект есть то, что «включено в
систему, но исключено из игры», то, что одно означающее
представляет другому означающему, - связка в отношениях между
означающими, между означающим и означаемым, между реальным,
воображаемым и символическим. Такой субъект лишен
самодостаточности, он выступает как функция детерминирующих его
факторов — «Другого», «символического», «означающего».
Вся эта система понятий, связанных круговыми
определениями, скрепляется в единство языком. Бессознательное, обнаружи-
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 283
вающее себя как «речь Другого», как символический Порядок, как
игра означающих, раскрывается только через язык. Эта широко
понимаемая аналогия между языком и бессознательным
позволяет, как полагал Лакан, ухватывать позитивную определенность
бессознательного, объективно интерпретировать ее1.
Очевидно, что установка на научное познание предполагала
выявление объективных структур бессознательного, а затем
формализацию структурированных содержаний психического.
Однако в самой практике психоанализа трудно было найти опору для
подобных устремлений к научности. Одно дело — работа Лакана-
теоретика, другое дело — работа Лакана-практика: чем
последовательнее удавалось, скажем, структурировать и формализовать
психоаналитический опыт в одних его аспектах, тем очевиднее
проступали в этом опыте все те мистические, фантастические,
интуитивные моменты, которые изгонялись за пределы теории; чем
строже становился «язык» бессознательного на одном полюсе, тем
весомее оказывались несводимые к языковым проявлениям слои
бессознательного на другом полюсе, а при насильственном
натягивании языка (метода) на бессознательное (объект) и сам язык
становился иррациональным, лишался возможности
рационализировать бессознательное. То же относится и к практике Лакана:
реальная помощь больному, облегчение его страданий,
терапевтический эффект игры с означающим не вытекают как следствие
из теории и метода работы с бессознательным как с языком
(отсюда, кстати, и некоторая неясность относительно того, что же
представляет собой терапевтическая практика Лакана - «лечение
словом» или «лечение молчанием», во всяком случае, к позднему
Лакану относится, скорее, второе). Терапевтический эффект
достигается, таким образом, не благодаря теории и методу, но как бы
вопреки им или независимо от них.
Все это свидетельствует о том, что аналогия между языком
и бессознательным - основа лакановского онаучивания
психоанализа и рационализации бессознательного - может
использоваться лишь с оговорками и требует сопутствующего
размышления о границах его применения. А пока модель психоанализа как
науки, основанная на языке, выступает в виде еще одной
метафоры в ряду других метафор - вслед за биологической, энергетиче-
1 Лакан был не столько первооткрывателем, сколько «ритором», искусным
прежде всего во взаимопереводе понятий из разных областей и увязывании их в
некое новое единство. Так, идея бессознательного как языка содержалась, хотя
и в виде намека, у Фрейда; идея бессознательного как речи Другого
инспирирована переосмысленным Гегелем; трактовка символического обнаруживает прямое
воздействие К. Леви-Строса; трактовка означающего многим обязана Ф. де Сос-
сюру и т. д. Ср.: Clement С. Vies et légendes de Jacques Lacan. Paris, 1980. P. 58.
284 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ской метафорикой, которой в духе своего времени пользовался
Фрейд.
По-видимому, все это в какой-то степени понимал и сам
Лакан. Отсюда — и «темный» стиль Лакана, ставший притчей во
языцех. Можно предположить, что лакановская темнота - это не
столько «поза» или «мода», сколько признание неразрешенности
(или неразрешимости) главной задачи, намек на не поддающиеся
рационализации слои бессознательного и методы работы с ним
в психоаналитическом сеансе.
Лакановская теория и лакановская практика не находили
опоры друг в друге. Лакан попытался опереться на нечто третье - на
созданную им школу1, которая должна была стать рупором его
идей и цитаделью борьбы с догматизмом официального
психоанализа. Создание школы не было внешним фактом, безразличным
к судьбе собственно теоретических его идей: она была нужна Ла-
кану как поддержка, как способ взаимоувязывания того, что не
согласовывалось внутри него самого2. Однако школа не стала
средством разрешения противоречий, не разрешенных в его
собственном творчестве: учитель оказался глубже и тоньше многих
своих учеников, догматизирующих и абсолютизирующих осколки
его противоречивой мысли.
Так, одни ученики видят зерно истины в Лакане «светлом»
(дискурсивном, рациональном, логизирующем) и пытаются
привести все содержание лакановской мысли к ясности и логичности
или - что еще хуже - представить лакановскую концепцию как
единоличное воплощение научности современного психоанализа.
Другие ученики Лакана видят зерно истины в Лакане «темном»,
в мистическом опыте, таящемся под покровом схем и формул.
По сути вся проблематика противоречивого единства теории
и практики Лакана обсуждается в двух руслах: с одной стороны,
это вопрос о том, какова теория Лакана, можно ли считать «лака-
низм» научным или нет (если нет, то здесь большой спектр
возможных ответов с акцентами на религии, мифе, искусстве,
морали, политике и пр.), с другой стороны, вопрос о том, какова
практика Лакана, можно ли считать ее авторитарной или,
напротив, антиавторитарной в отношении к пациентам, коллегам, об-
1 L'École freudienne de Paris (1964-1980).
2 Поэтому вряд ли правы те исследователи, которые пытаются строго
разграничить Лакана как главу школы и Лакана как теоретика: если школа и «плоха»
(авторитарна, догматична), это, дескать, не порочит его теорию. Ср. в этой связи
высказывания С. Видермана ( Viderman S. La machine dé-formatrice // Confrontation. 1980.
Cahiers 3. P. 34). Наивность такой позиции справедливо подчеркивает Φ. Рустан
{RousîangF. ...Elle ne le lâche plus. Paris, 1980. P. 176).
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 285
ществу? Конечно, оба направления неизбежно пересекаются,
то или иное решение вопроса о теории Лакана небезразлично для
оценки его практики, и наоборот. Споры по обоим вопросам
приходят в конечном счете к решениям в языковой плоскости: так,
спор о Лакане научном или ненаучном, «светлом» или «темном»,
рациональном или иррациональном упирается в проблему
двойственности символического (символ «алгебраический» или
символ «мистический»), а спор о Лакане авторитарном или
антиавторитарном упирается в проблему интерпретации основных
идеологических функций языка (язык как средство отчуждения
или язык как средство освобождения человека).
А теперь попытаемся почувствовать накал страстей и
представить себе ожесточенные баталии, бушевавшие вокруг лакановско-
го наследия в последние годы его жизни и после смерти. Одна за
другой выходят статьи, памфлеты, книги. По одним только их
названиям можно судить об их полемической заостренности:
«Сыновья Фрейда устали», «Жизни и легенды Жака Лакана»,
«Психоаналитические машины», «Психоанализ — мать и шлюха»,
«Судьба, столь печальная», «Он вас не отпустит» (речь идет о
психоанализе), «Теория как вымысел» и пр.1. Роспуск Лаканом своей
школы и попытка организации новой школы2 лишь обострили эту
борьбу.
Трудно было подумать, что один из некогда активных
участников лакановского семинара, приобретший репутацию человека,
солидно владеющего методами структурного психоанализа, некто
Франсуа Жорж (в свое время он сотрудничал с Сартром в
экзистенциалистском журнале «Тан модерн»), подложит под здание
лаканизма бомбу столь большой взрывчатой силы. Вышедший
в 1979 г. памфлет Ф. Жоржа3 с остроумием и не без ехидства
высмеивал секту лаканистов на основании личного опыта
«отступника». Этот теперь уже давний инцидент остался в памяти —
и противников, и адептов. Общее критическое содержание
памфлета вполне укладывалось в схемы экзистенциалистской
полемики со структурализмом (любые «объективистские» способы
постижения человека — неаутентичны, а признание бессознатель-
1 Clément С. Les fils de Freud sont fatigués. Paris, 1978; idem. Vies et légendes de
Jacques Lacan. Paris, 1980; Confrontation, Cahiers 3: Les machines analytiques. Paris,
1980; Roudinesco E.f Deluy H. La psychanalyse: mère et chienne. Paris, 1979;
Roustang F. Un destin si funeste. Paris, 1976; idem. ...Elle ne le lâche plus. Paris, 1980;
Mannoni M. La théorie comme fiction. Paris, 1979.
2 «La Cause freudienne»: «Школа дела Фрейда».
3 George F. L'Effet 'Yau de Poêle de Lacan et des lacaniens. Paris, 1979.
286 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ного как силы, управляющей человеком, — это форма
отчуждения, нарушающая постулат о человеческой свободе), однако в нем
очерчивались и новые моменты этого старого спора.
Основные понятия лакановской концепции, - считает
Ф. Жорж, — это своего рода «а-концептуальные» (термин
Ж.-А. Миллера) определения, недоступные ни трезвой критике,
ни экспериментальной проверке. Они вводят нас в сферу
двусмысленности как методического принципа. Этот лакановский
эзотеризм — не невинная игра, поскольку он скрывает
внутренний «порядок» и «принуждение» (в соответствии с игрой смыслов
французского термина «ordre»). И порядок, и принуждение - это,
по Ф. Жоржу, - не только внутренние моменты лакановской
концепции, но и те реальные силы, которые нужны Лакану для
поддержания определенной структуры власти, для отбора
посвященных и изгнания неугодных.
Казалось бы, продолжает Ф. Жорж, формалистическая
трактовка основных лакановских понятий, и, прежде всего, понятия
означающего, должна заведомо исключать всякий мистицизм.
Однако «обожествление» означающего, преувеличение роли
означающего в человеческой судьбе и упование на
формализацию означающего как единственное условие научности
психоанализа как раз и ведут к мистицизму, а затем и к собственно
религиозным интерпретациям. Формализованная и потому даже
аскетичная интерпретация человека как «говорящего существа»,
человеческого желания как бесконечного и асексуального,
человеческого языка как бесплотного, оторванного от живого
чувственного опыта, делает Лакана скорее последователем Оригена
и христианских мистиков, нежели наследником мысли Фрейда1.
Психоанализ оказывается, по Ф. Жоржу, не механизмом снятия
невроза, но механизмом «продолжения невроза другими
средствами» — путем создания квазирелигиозных сект и проповеди
идеологических догм.
Филиппики Ф. Жоржа вызвали сложные чувства не только
в душах правоверных лаканистов. С одной стороны, не замечать
очевидных изъянов лакановского подхода к бессознательному бы-
1 «Означающее, по сути, отсылает к единственно истинному и подлинно
присутствующему» (George F. Ibidem. P. 93), к трансцендентным условиям человеческого
бытия. Подтверждение подобных выводов Ф. Жорж находит в работах одного из
участников лакановского семинара, священника Дени Bacca (Ibidem. Р. 92-93).
Конечно, аргументация, касающаяся, например, сходств и различий между верой
религиозной и верой в психоанализ, может быть выписана гораздо тоньше,
нежели это сделано у Ф. Жоржа (cf. Roustang F. Un destin si funeste. Paris, 1976. P. 31-37
sq.), однако сама возможность интерпретации Лакана в религиозном ключе
остается: она осуществилась, например, в работах Ф. Дольто.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 287
ло просто невозможно. С другой стороны, слишком многое в
памфлете напоминало действия осла, лягающего умирающего льва,
и уже одно это придавало малоприятную эмоциональную окраску
перипетиям дальнейшего спора. Один из наиболее резких
откликов на памфлет Ф. Жоржа принадлежит перу К. Клеман1: хотя
период увлечения лакановской мыслью остался для нее позади, она
в принципе не может согласиться с трактовкой лакановского
наследия Ф. Жоржем.
Ответ Клеман на острый памфлет Жоржа выглядит внешне
респектабельно и спокойно. Клеман мысленно возвращается
к этапам творческой биографии Лакана, успевшего при жизни
стать «легендой», подчеркивает противоречивость его интересов
и занятий. Многие замечания К. Клеман в адрес лакановского
психоанализа по видимости сходны с упреками Ф. Жоржа, хотя их
акценты - иные. Лакановский авторитаризм дозволяет
религиозной секте учеников лишь одну любовь — любовь к Мэтру, считает
Ф. Жорж. Нет, Лакан, как всякий крупный мыслитель, учил
любви в высоком философском смысле, и этот урок — едва ли не
главное, что остается в душе бывших учеников, даже если они
разочаровываются в его идеях, возражает К. Клеман. Критика Ф. Жоржа
упускает из виду духовные поиски Лакана, не учитывает ситуацию
трудного рождения знания, сводит внешние перипетии
лакановской судьбы к желанию властвовать. К. Клеман пытается
представить те же самые события как боренье духа, как поиски новых,
затребованных временем подходов к изучению психики и
психоаналитической работе.
В другой книге К. Клеман («Сыновья Фрейда устали», 1978)
дается острый, не лишенный сатирических красок социологический
портрет современных психоаналитиков (подразумевается здесь
прежде всего школа лаканистов, хотя прямо о Лакане речь не идет).
«Сыновья Фрейда» - психоаналитики - это своего рода нувориши
в области беллетризма и высокого интеллектуализма: они «устали»
от своей трудной профессии и стыдятся честного ремесла — лечить
людей; они ищут более респектабельных форм самоосмысления
и самовыражения. Психоаналитику более импонирует роль изгоя,
отверженного, чья социальная миссия заключается в разрушении
системы, в которую он оказывается включенным2, либо, что гораз-
1 Clément С. Vies et légendes de Jacques Lacan. Paris, 1980.
2 Одну из причин такого маргинального самосознания автор видит в том, что
французский психоанализ лишен самостоятельного юридического статуса:
например, даже попасть в систему социального страхования психоаналитики могут лишь
по ведомству психиатрии или психологии, с которыми они ведут ожесточенную
борьбу.
288 Познание и перевод. Опыты Философии языка
до характернее, роль творца в сфере изящной словесности,
или беллетриста (тем более что повседневное общение с
гениальным творцом — бессознательным - дает много яркого материала).
Вопрос только в том, в каких формах словесности следовало бы
запечатлевать речь бессознательного: во всяком случае
романический жанр, на который так или иначе опираются психоаналитики,
для этого не подходит, ибо никакой сон, никакой фантазм не
рассказывается в столь ритуализованной и конвенциональной
форме1. Даже лучшие книги по психоанализу, иронизирует К. Клеман,
напоминают слоеное пирожное: слой клиники, слой
иллюстративного материала, слой художественной словесности по случаю
и т. д. Клеман предлагает свое, полушутливое объяснение страсти
психоаналитиков к беллетризму. Психоаналитик, вместе с ученым
и литератором, путешествуют по той пограничной области,
которая отделяет в любом обществе норму от патологии. Все трое
становятся контрабандистами, которые перевозят социально
опасный, «запрещенный» товар, находя те или иные социально
приемлемые формы его обращения. Бок о бок с ученым и с
литератором, подражая им, в особенности последнему, работает и
психоаналитик, который перевозит чужие слова и мысли в языке
бессознательного и затем расшифровывает их. Таким образом,
для К. Клеман, в отличие от Ф. Жоржа, деятельность
психоаналитика ближе художественной, нежели религиозной.
Почему же вообще оказывается возможным такой разброс
мнений в оценке психоанализа: с одной стороны, психоанализ
как наука, с другой стороны, психоанализ, как религиозная или
художественная деятельность? Очевидно, что в психоанализе есть
нечто, допускающее различные интерпретации, но все же что
в нем важнее — научно формализуемое, мистически невыразимое
или выразимое, но не научными (допустим, художественными)
средствами? Важное уточнение по этому вопросу мы находим
в работе В. Декомба «Двусмысленность символического»2.
Проблема символического всегда была очень важна для
Лакана. Символическое — это главная детерминация человека, это
сфера наиболее аутентичных его проявлений; возможность
объективации и структурирования сферы символического выступает
как условие возможности науки о человеке вообще. При этом
сфера символического предстает у Лакана как нечто единое, как
1 Как показывают беллетристические эксперименты в книге Э. Рудинеско
и А. Делюи, для этого не годятся и наиболее утонченные жанры средневековой
куртуазной поэзии, некогда использовавшиеся трубадурами и труверами.
2 Descombes V. L'équivoque du symbolique // Confrontation. 1980. Cahiers 3.
P. 77-95.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 289
некий символический Порядок, доступный формализации в духе
К. Леви-Строса. Однако это единство скрывает различные и даже
взаимопротивоположные значения термина «символ»: одно
дело — символ «алгебраический», другое дело — символ
«мистический». Если соотнести оба типа символа с языковым выражением,
то символ в первом значении есть нечто надъязыковое (если речь
и в самом деле идет об алгебраических символах) или же
собственно языковое, во всяком случае это символ-конвенция, символ-
результат социального установления, пусть даже и не
осознанного, а символ во втором смысле есть нечто доязыковое,
довербальное, это источник символизации, творческой
деятельности сознания вообще. Таким образом, все заботы Лакана и его
учеников об объективации и формализации означающего
относятся к сфере символа «алгебраического», а все, что остается за
рамками рационализации — интуитивное, фантастическое,
«ненаучное», - относится, к сфере символа «мистического». Подобная
недорасчлененность сферы символического в психоанализе
обусловлена его теоретической незрелостью, при которой строгая
дифференциация значений термина «символическое» и
однозначный выбор того или иного значения оказывается
преждевременным и потому трудно выполнимым требованием1.
Все споры о научности психоанализа происходят не в вакууме,
а в определенном идейном контексте. Это обусловливает наличие
постоянного идеологического и политического фона при
обсуждении всех проблем психоанализа, его теории и практики, а подчас
и выдвижение на первый план вопросов, связанных с
соотношением сил, с господством и подчинением. Крах голлистских идей
сильной власти и авторитарного режима, кризис экономической
модели патернализма, все более обнаруживающие себя явления
манипулирования сознанием, призрак грозящей инфляции — все
это приводит к реанимации правых тенденций в политической
жизни общества, к господству в социальной мысли «новых
правых» тенденций, к концу очередных либерально-буржуазных
иллюзий. Специфику этой ситуации необходимо учитывать, когда
мы стремимся понять сложность позиций в спорах о Лакане,
вышедших за рамки собственно психоаналитических проблем.
Таковы были споры и на Тбилисском симпозиуме 1979 г., где даже
либеральная позиция французских интерпретаторов Лакана была
идеологически крайне заострена и выступала в своем
политическом обличье. Конечно, споры о том, кому — «правым» или
«левым» - лучше служит лакановский психоанализ, начались не
здесь. Так, некоторые представители новых правых, например,
Cf. RoustangF... Elle ne le lâche plus. Paris, 1980. P. 68.
290 Познание и перевод. Опыты Филособии языка
Г. Лардро и К. Жамбе, усматривали у Лакана культ сильной
личности (и здесь они вполне могли бы, заметим, сослаться на
знаменитую речь Лакана перед некогда бунтовавшими студентами1.
Напротив, представители либеральных кругов были склонны видеть
в лаканизме протест против репрессивной машины государства
и авторитаризма в человеческих отношениях.
Характерно, что основные аргументы и в этом споре
черпаются опять-таки из языковой области. Как правило, позиция тех, кто
видит в лаканизме воплощение авторитаризма, опирается на
трактовку языка как орудия социального порабощения. Эта
трактовка близка экзистенциалистской: как известно, Ж.-П. Сартр
считал язык частью овеществленного «практико-инертного» мира
и одним из условий человеческого отчуждения2.
Противоположная позиция - трактовка психоанализа как средства
освобождения индивида от репрессивного общества — подкрепляется
аргументацией, согласно которой язык есть некое неотчуждаемое
«базисное» явление; если надстроечные структуры выступают как
механизм «порабощения», то «базисность» неотчуждаемо
присущего, врожденного каждому индивиду языка воспринимается как
средство избавления от «господ, богов, тиранов». Различные
варианты этого подхода представлены в докладах ряда французских
участников Тбилисского симпозиума - С. Леклера, Э. Рудинеско,
Р. Мажора, несмотря на все нюансы индивидуальных различий
между их позициями3.
Так, С. Леклер виртуозно и вполне в лакановском стиле
продемонстрировал игру означающих аргументируя в терминах
психоанализа один из главных тезисов всей современной западной
философии: самое важное в человеке - не сознание или разум,
но язык и тело, они сходны своей расчлененностью
(этимологически, напоминает С. Леклер, слово «секс» восходит к латинскому
«sectus» — расчлененный, разделенный). Соответственно
освобождение тела через освобождение языка, овладение языком как
1 Lacan /L'Impromptu de Vincennes // Magazine littéraire. Numéro spec. 121:
Jacques Lacan, fév. 1977. P. 24: «То, что привлекает вас своей революционностью,
есть на самом деле Господин (Maître). Так вы его и получите».
2 Cf. Sartre J.-P. L'Écrivain et la langue // Revue d'esthétique. Nouv. Série. Paris,
1965. №18. P. 306-334.
3 Cf. Leclaire S. Un soulèvement de questions. Le mouvement psychanalytique animé
par Jacques Lacan (Texte du rapport présenté au Symposium de Tbilissi - octobre
1979) // Confrontation. Cahiers 3. 1980. P. 69-76; Major R. L'Inconscient: une décision
politique (Texte du rapport présenté au Symposium de Tbilissi) // Ibidem. P. 175-178.
Для P. Мажора бессознательное - не столько место осуществления власти,
сколько путь выхода за пределы всякой власти или силы, место, где царит «Анархия» //
Ibidem. Р. 178.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 291
неотчуждаемой символической собственностью и есть средство
более общего социального освобождения. Вряд ли нужно
специально доказывать, что при этом воспроизводятся и
некоторые весьма зыбкие аргументы фрейдо-марксизма.
Итак, споры о психоанализе как теории (наука или не наука),
равно как и споры о психоанализе как практике (авторитарная
или антиавторитарная) оказываются во многом логомахией -
борьбой, ведущейся вокруг языка и средствами языка. Помогает
ли нам, однако, осознанное учетверение термина «язык» (в одном
случае язык (точнее — символ) «алгебраический» или
«мистический», в другом случае — язык «отчуждающий» или
«освобождающий») разрешить изначальную лакановскую антиномию между
теорией и практикой психоанализа, между исследованием
бессознательного и его терапевтическим использованием? Лишь
отчасти, ибо в стороне при этом остается главное — область
единства теоретического и практического в психоанализе как область
действенности символики (термин К. Леви-Строса): в ней
коренится условие возможности психоанализа как специфической
деятельности, связанной одновременно и с пониманием и с
практическим преобразованием, лечением. Между теорией и
практикой психоанализа есть связи, но они более тонкие и вместе с тем
более реальные, нежели те, которые дает нам вычленение
языковых аспектов того и другого.
Внеязыковая сфера властно входит в отношения между врачом
и пациентом в форме знаменитой проблемы трансфера. Ф. Рустан
утверждает даже, что «психоанализ возник из попыток
построения теории весьма специфического опыта, связанного с
феноменом трансфера»1. Трансфер - это перенос на врача в рамках
психотерапевтической ситуации патогенных эмоций больного,
относящихся в его истории к каким-то другим лицам (как
правило, к лицам, облеченным властью, и прежде всего — родителям).
Этот перенос позволяет больному вновь пережить эти эмоции,
а затем, совершив определенную внутреннюю работу (в ней
участвует не только рефлексивное сознание, но и силы сопротивления
сознанию, и силы, позволяющие снять это сопротивление),
освободиться от этих эмоций и от влияния врача, найти в себе
способность для дальнейшего самоконструирования. Таким образом,
конец лечения, как подчеркивали и Фрейд, и Лакан, должен
совпадать со «снятием трансфера», с выходом в сферу реальных
межличностных отношений.
Привлекает внимание тот факт — он много и разносторонне
обсуждался в спорах о Лакане и о лаканизме - что при обучении
Roustang F. Un destin si funeste. P. 79.
292 Познание и перевод. Опыты Философии языка
будущих психоаналитиков (оно происходит путем личного
анализа, проводимого опытным психоаналитиком — «дидактом»)
такого снятия трансфера и выхода за пределы психотерапевтической
сферы не получается. Напротив, конец курса и пожизненное
«посвящение» в психоаналитики блокирует будущему аналитику
выход в реальную непсихоаналитическую ситуацию, по крайней
мере, в сфере профессиональной деятельности. Вследствие этого
сами психоаналитики подчас оказываются людьми с «неснятым
трансфером», с бациллой авторитаризма в душе, причем речь идет
не только о рядовых психоаналитиках, которые почему бы то ни
было не преуспели в самоанализе и очищении собственного
бессознательного, но и о фигурах столь крупных, как Лакан и даже
сам Фрейд. Анализ биографии Лакана и судьбы его школы
неизбежно приводил к их сопоставлению с биографией Фрейда и
судьбой его учеников. Биография основателя психоанализа оказалась
при более близком рассмотрении полна ссор и дрязг, споров
о приоритете, взаимных уличений в плагиате, кровопролитных
битв на идейной и личной почве (не случайно Фрейд называл
своих учеников «дикой ордой»), вплоть до душевных болезней и
самоубийств его учеников, — все эти факты по-новому осветили
и образ Фрейда и последующую историю фрейдизма1. В
биографии Фрейда стали видеть отражение дальнейшей судьбы его
школы и подтверждение того, что подобная судьба обусловлена самой
природой психоанализа; на этом фоне и судьба лакановской
школы начинает трактоваться как нечто абсолютно закономерное
и даже предопределенное.
В свете этих исканий особое значение приобрели работы
Ф. Рустана. Не ограничиваясь историческими параллелями и
переоценками, он проводит и эпистемологически обосновывает ряд
идей, свидетельствующих о резко критическом отношении к ла-
кановскому психоанализу. Ф. Рустана характеризует та
«эпистемологическая озабоченность», которая необходима для анализа
реальной проблематики лакановского психоанализа и которой,
как отмечает Ф. Рустан, как раз и не хватает современным
психоаналитикам. Именно поэтому Рустану удалось зафиксировать
суть проблем психоаналитической теории и психоаналитической
практики в их единстве. Ни те, ни другие проблемы не решаются
в языке - так возражает Ф. Рустан Ж. Лакану.
1 Яркие, острые экскурсы в историю психоанализа, детальное освещение
взаимоотношений Фрейда со всеми его учениками см. в вышеназванных работах
М. Маннони, Э. Рудинеско, Ф. Рустана, в целом ряде статей, опубликованных
в альманахе «Конфронтасьон».
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 293
Сравнивая тезисы рустановской концепции бессознательного
с соответствующими тезисами программы Лакана, мы
обнаруживаем вполне последовательное расхождение позиций. Можно ли
представить бессознательное как язык? Нет. Эта аналогия уместна
только по отношению к сознанию и предсознанию, говорит Ф. Ру-
стан, апеллируя к Фрейду; собственно бессознательное есть некий
гипотетический предел мыслимого и сущего1 — предел, лишенный
какой-либо структурированности, не говоря уже о языкоподобной
дискурсивности. Может ли психотерапевтическая практика
сводиться к языковым процедурам, к игре с означающим? Нет,
психотерапевтическое отношение врача и пациента не развертывается
в языке: скорее, язык, речь выступают как средство, условие
возможности2 трансфера или переноса эмоциональных отношений.
Можно ли сказать, вслед за Лаканом, что человек есть «говорящее
существо» (parlêtre)? Можно, если считать, что все в человеке
определяется порядком означающего и вообще языковыми
отношениями3. Однако эффективное использование языка в психотерапии
свидетельствует, по Рустану, о том, что оно опирается на какие-то
более глубокие уровни психики, которые по «природе своей не
являются языковыми и не устанавливаются языком»4.
Психоаналитическая теория бессознательного зависит,
следовательно, от опыта, в котором реализуются не только языковые
отношения, но и отношения иного типа, к языковым не
сводимые, например, внушение, гипноз (говоря о роли внушения
и гипноза в психоанализе, Ф. Рустан опирается на исследования
Л. Шертока и его коллег5). Если психоаналитическая теория от-
1 Roustang F. ...Elle ne le lâche plus. P. 152, 153, 170.
2 Ibidem. P. 151.
3 Ibidem. P. 151, 156.
4 Тот способ, которым Лакан сближает бессознательное и язык, не единственно
возможный. Пожалуй, более перспективным было бы не столько перебрасывание
моста между этими достаточно различными сущностями (мост в действительности
оказывается слишком зыбким, а под ним пропасть), сколько попытка
последовательного прояснения и фиксации различных ступеней, ведущих от словесной
мысли к мысли дословесной, или, иначе, от знакового языка в единстве формы и
смысла к дознаковому языку как совокупности чистых форм. Некоторые перспективы
такого изучения намечены, в частности у Л.С. Выготского [см.:
Выготский Л.С. Мышление и речь. М.-Л., 1934 (работа перепечатана в Собрании
сочинений Л.С. Выготского. М., 1982. Т. II)]. Так, Выготский обращает внимание на
степень и способ вербализации содержаний сознания
(предикативность-непредикативность, развернутость-сжатость и т. д.). В этой связи см. также: Бас-
син Ф. В. У пределов распознанного: к проблеме пред-речевой формы мышления //
Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. III.
5 Roustang F. ...Elle ne le lâche plus. P. 107, 130.
294 Познание и перевод. Опыты Философии языка
крыта к неязыковому опыту, она не может существовать в виде
законченного свода знаний, усвоение которых само по себе давало
бы практический эффект. Каждый новый анализ - это и новая
версия теории, и новая практика. Так же «обречен на новизну»
и психоаналитик: он не может сказать о себе: «Я — создатель
теории», но лишь: «Я занимаюсь построением теории»1. А потому
и объединение «теоретизирующих» психоаналитиков в какую бы
то ни было организацию со своим уставом — это противоречие
в определении: психоанализ недогматический может быть только
«а-социальным».
Эпистемологическая задача психоанализа, как ее понимает
Ф. Рустан, заключается в том, чтобы на основе конкретных
ситуаций вычленять общезначимое и вводить в сферу коммуникации
то, что, казалось бы, недоступно сообщению и передаче от одного
лица к другому (именно такой нередко представляется речь
больного). Это стремление к общезначимому логическому выражению
индивидуального опыта, к «приручению» иррационального дает
психоанализу место в «поле науки». Однако на нынешней ступени
своего развития психоанализ наукой не является. В самом деле,
ведь научная теория предполагает возможность выдвижения
гипотез и их экспериментальной практической проверки. О какой
же научной теории бессознательного можно вести речь, если и
общая теория бессознательного (скажем, фрейдовская или лаканов-
ская), и тем более конкретные «теории», которые аналитик
вынужден строить в каждой практической опытной ситуации
(Фрейд и вслед за ним Рустан называют такие теории
«конструкциями»), по сути никакой опытной проверке не подлежат?
Конструкция врача есть его гипотеза относительно тех или иных
эпизодов реальной истории больного - забытых, или вытесненных.
Хорошо, если «конструкция» помогает больному вспомнить
реальное событие (это и есть подтверждение теоретической
конструкции). А если нет? Тогда врачу приходится действовать
убеждением, внушением, а больному принимать предлагаемую ему
версию собственной истории на веру, при том что сам механизм
внушения эпистемологически не выверен и не свободен от более
или менее явного манипулирования сознанием. Есть и третья
возможность: больной не вспоминает реального события, не
принимает на веру и доводы врача — он отказывается признать
конструкцию врача частью собственной истории. Заставляет ли это
врача изменить свою конструкцию? Сомнительно: как правило,
врач объясняет подобное упорство неснятым сопротивлением
осознанию. И кто же оказывается в данном случае судьей? Чело-
RoustangF. Un destin si funeste. P. 99.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 295
век с «неснятым трансфером»: в нем живут свои комплексы,
которые при случае могут переноситься на больного (т. н.
«контртрансфер»).
Я говорю здесь так подробно обо всех перипетиях
психоаналитического познания и практики, чтобы понятнее стал тот вывод,
к которому в конце концов приходит Рустан. Главная цель
психоанализа - излечение - достигается не столько теоретической
работой аналитика, сколько собственной творческой работой
бессознательного, раскрывающейся в снах или фантазмах и
создающей причудливый узор, который как бы живет собственной
жизнью - не только самодостаточной, но и способной послужить
точкой отсчета и опоры при самосозидании возрождающегося,
выздоравливающего человека. Рустан показал, что
художественное творчество может рассматриваться как терапевтический акт.
Потому-то относительно психоанализа и не верна оппозиция
или-или: или искусство, или наука.
Таким образом, лакановское противоречие между
теоретическими и практическими аспектами психоанализа не страшит
Ф. Рустана. Теория психоанализа существует, поскольку в
психоаналитическом знании о бессознательном есть момент
детерминизма, без которого невозможна никакая наука; теории
психоанализа не существует, поскольку цепь причин и следствий
нарушается здесь моментом открытости — необходимостью
интерпретации всякий раз новой конкретной ситуации. Ф. Рустан
фиксирует здесь противоречие любого, не только лакановского,
психоанализа, любого психоаналитического опыта: психоанализ не
может существовать, не стремясь быть наукой, однако если бы эта
тенденция к научности осуществилась, если бы была построена
в конце концов формализованная теория психоанализа, то это
было бы не высвобождением психоанализа из мистических одежд
прошлого, не научным возрождением того, что существовало ранее
на уровне фантастических предположений и интуитивных
догадок, но концом психоанализа — концом всего того, что есть в нем
теоретически истинного и практически эффективного. Вряд ли это
заключение Рустана можно счесть справедливым. Если бы каждая
встреча с новой ситуацией опровергала все известное, то не могла
бы существовать никакая наука, и в частности, психология,
медицина и пр. Психоанализ, по-видимому, выступает как
бесконечный процесс опосредования уже имеющегося знания о
бессознательном в той или иной конкретной ситуации межличностного
общения - общения, которое вряд ли может быть объектом
строгой науки, хотя и содержит в себе возможность косвенного
выявления реальных социальных отношений - более широких, нежели
собственно психотерапевтические отношения врача и пациента.
296 Познание и перевод. Опыты Философии языка
В этом более широком контексте приобретает свой позитивный
смысл и попытка выявления языковых аспектов бессознательного
как ступеней, ведущих от до-языковой мысли к мысли,
выраженной в языке1.
Стремление познать бессознательное весьма осложняется теми
идеологическими и мировоззренческими ситуациями, в которых
концепции бессознательного выступают не только как предметы
академического интереса, но как повод для кровопролитных боев
между представителями различных социально-идеологических
позиций. Об этом свидетельствует, в частности, и полемика
вокруг интерпретации бессознательного на Тбилисском
симпозиуме (1979). Так, в выступлениях таких французских участников
симпозиума, как С. Леклер, Р. Мажор и ряда других2,
представляющих неортодоксальные позиции лаканизма, был заявлен
протест против современного «репрессивного» общества и всех его
официальных институтов. В отличие от фрейдовского лаканов-
ский психоанализ, опирающийся на язык как базисную,
неотчуждаемую силу, нередко представляется подлинно
нонконформистским учением, ниспровергающим, в силу неисповедимой
аналогии между сексом и политикой, - «хозяев», «богов»,
«тиранов» (С. Леклер). Однако темный язык лаканизма допускает
и прямо противоположные интерпретации. Известные
представители теперь уже давно бывших «новых правых» Г. Лардро
и К. Жамбе видят у Лакана культ «Мэтра», сильной личности,
словом, что угодно, но только не попытки ниспровержения
«тиранов». Таким образом, спектр французских рецепций Лакана был
и остается весьма широким.
Лакан, стремившийся следовать за Фрейдом, углубляет
фрейдовские противоречия. Глава школы и «шаман», эрудит и поэт -
эзотеричный, туманный, блестяще играющий словами - на манер
французских сюрреалистов, с которыми он был дружен, Лакан,
конечно, был не только шаманом и любителем эпатировать
публику. По отзывам знавших его людей, он был блестящим
диагностом и врачом. Однако об этом знают лишь немногие - некоторые
пациенты и люди из близкого окружения. В памяти потомков он
остался реформатором психоанализа, продвинувшим его в на-
1 Ср. Бассин Ф. В. У пределов распознанного: к проблеме предречевой формы
мышления // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. III.
Тбилиси. 1978. С. 735-749.
2 Ср.: Leclaire S. Un soulèvement de questions. Le mouvement psychanalytique animé
par Jacques Lacan (Texte du rapport présenté au Symposium de Tbilissi) //
Confrontation. 19. Cahiers 3. P. 69-76; Major R. L' Inconscient: une décision politique
(Texte du rapport...). Ibid. P. 175-178.
Раздел первый. Познание и язык. Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания... 297
правлении сближения с искусством, и почти энциклопедическим
эрудитом в различных областях гуманитаристики. Лакановские
понятия - означающее, Имя Отца, триада «реальное —
воображаемое - символическое», сменившая Фрейдову трехчленку
Оно—Я—Сверх-Я, — проникли в сознание и бессознательное
французских интеллектуалов и, угнездившись в нем, стали активным
элементом культуры. Однако позднее, когда произошла смена
познавательных установок и структуралистская увлеченность
логикой культуры в отрыве от ее развития уступила место
постструктуралистскому интересу к культурной динамике, аффектам, телу,
власти и пр., воображаемое стало подчас теснить символическое,
подчинять себе язык. Эти элементы нынешней и уходящей
интеллектуальной ситуации взаимодействуют и противоборствуют.
Вокруг этих вопросов ведутся ожесточенные споры между
сторонниками и противниками Лакана (так было в последние годы жизни
Лакана, так обстоит дело и после его смерти). А потому проблеме
«авторитарности» или «репрессивности» психоанализа, проблеме
межличностных отношений между «мэтрами» психоанализа
(Фрейдом, Лаканом) и их учениками, с одной стороны, и между
психоаналитиками и пациентами — с другой, посвящена теперь
уже огромная литература. На вопрос о том, был ли лакановский
психоанализ «возрождением» или «концом» психоанализа, я бы
ответила так. Очевидно, что «конец» психоанализа — это
обожествление Школы, Позиции, Лидера — словом, всего того, что
уводит его теорию в мистицизм, а его практику — в авторитаризм.
В психоанализе, в том числе и лакановском, есть, однако, и другие
возможности; они связаны прежде всего с экспликацией доре-
флексивных аспектов реального опыта, с выявлением
общезначимого смысла различных жизненно-практических ситуаций, с
осмыслением взаимосвязей между до-языковыми и собственно
языковыми формами мышления — иначе говоря, с развитием тех
тенденций, которые способны противостоять магии слова и магии
власти.
Глава пятая
Фрейд, Лакан и другие:
в спорах о теории и практике психоанализа
§ 1. Наука ли психоанализ?
Фрейд, как известно, стремился к тому, чтобы сделать
психоанализ полноправной наукой в духе XIX в., - наукой,
способной устанавливать факты, объяснять их причины
и предсказывать хотя бы некоторые следствия. В истоках
фрейдовского подхода - неудовлетворенность
господствовавшими в его время концепциями сознания, либо
мистическими, либо грубо натуралистическими, причем в первом случае
лишался смысла вопрос об источниках сознания, а во втором —
утверждалась жесткая зависимость от внешних воздействий. Фрейд
ставит вопрос иначе: в сознании есть нечто такое, что не
определяется сознанием и в то же время не исходит от мира, отображаемого
сознанием. Исследование этой обусловленности и есть цель
психоанализа как научной дисциплины.
Однако Фрейд изобретал психоанализ не только и даже не
столько как научную теорию, но прежде всего - как особую
психотерапевтическую практику, направленную на то, чтобы помочь
больному самостоятельно (хотя и при участии врача) определить
причину своей травмы - вспомнить вытесненное событие,
осознать его и тем самым устранить или ослабить болезненный
симптом. Причем важнейшим моментом создания психоанализа был
отказ Фрейда от гипноза. В современной нам западной
литературе одни видят в этом отказе роковую ошибку Фрейда, другие
считают его закономерным шагом на пути познания тайн
бессознательного. Несомненно, однако, что для самого Фрейда отказ от
гипноза был одним из главных признаков перехода от донаучной
психотерапии к научности и объективности. Фрейд считал, что
психоанализ с его опорой на «свободные ассоциации» - это
надежная, подотчетная врачу методика работы с бессознательным.
Коль скоро теоретические гипотезы подтверждаются
практическим эффектом лечения, подчеркивал Фрейд, психоанализ
вполне можно считать наукой без всяких скидок1.
1 Когда Фрейду пришлось дать короткий и внятный ответ на вопрос о том, что
же такое психоанализ, он счел необходимым выделить три различных смысла это-
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах.., 299
Важнейшим выражением научности психоанализа была для
Фрейда возможность устанавливать причинные связи в сфере
человеческого сознания и поведения. Так, детский опыт (в
частности, стадия детской сексуальности от двух до пяти лет)
определяет, по Фрейду, жизнь взрослого человека; сексуальный опыт
(в широком смысле) определяет все другие стороны человеческой
жизни; прошлые события определяют течение настоящих и
будущих событий и пр. При этом Фрейд связывает свои представления
о научности психоанализа как с возможностями теоретического
описания объекта или, иначе говоря, с описанием «топики»
(места), «динамики» (способа функционирования) и «энергетики»
(движущих сил) бессознательного, так и с практикой
клинической работы, выявляющей причины заболеваний методом
свободных ассоциаций. В первом случае (на уровне теории)
научность психоанализа выражается в поиске естественных
механизмов психики, функционирующих по схеме
накопления-разрядки энергии либидо и установления как можно
большего числа непрерывных причинных цепочек в человеческом
поведении - с учетом того, что звенья, «пропущенные» на уровне
сознания, могут быть восстановлены на уровне бессознательного.
Во втором случае, применительно к клинической практике, речь
идет о конструировании особой ситуации психоаналитического
лечения — искусственной, чем-то похожей на долгий
лабораторный эксперимент: в этой ситуации перенесение травматогенных
эмоций больного со значимого в прошлом лица (чаще всего роди-
го термина. Психоанализ, заявил Фрейд в энциклопедической статье 1922 г., - это,
во-первых, способ исследования психических процессов, иными путями
недоступных; во-вторых, метод лечения невротических расстройств, основанный на
этом исследовании; в-третьих, ряд понятий психологии, опирающихся на
вышеуказанные методы исследования и лечения, - эти понятия сообща сформируют
облик новой научной дисциплины (Freud S. «Psychoanalyse» und «Libidotheorie» //
Freud S. Standard Edition. London, 1953-1966. T. 18. P. 235). Правда, отмечают
авторы знаменитого французского «Словаря по психоанализу» Ж. Лапланш
и Ж.-Б. Понталис, в нашу эпоху «мода на психоанализ привела к тому, что многие
обозначают этим термином исследования, которые по своему содержанию, методу
и результатам имеют лишь самое отдаленное отношение к психоанализу в
собственном смысле слова» (Laplanche /., Pontalis J.-B. Vocabulaire de la psychanalyse.
Paris, 1967. P. 352). Не могу не обратить внимание читателя на новое,
переработанное и дополненное издание Словаря, в котором, в сравнении с первым изданием,
заменены некоторые термины; в новом введении комментируется современная
ситуация психоанализа в России, в заключении сопоставляются различные
стратегические выборы терминов в полных собраниях сочинений Фрейда
(англоязычном, франкоязычном и отчасти русскоязычном издании, ныне выпускаемом
в Санкт-Петербурге). См.: Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу.
2-е изд. перераб. и доп. Пер. с франц. и науч. ред. Н.С. Автономовой. СПб.-М.,
2010.
300 Познание и перевод. Опыты Философии языка
телей) на врача позволяет и заново пережить эти эмоции, и
освободиться от них. В соответствии с изменениями в сфере
теоретических исследований и клинической практики менялись
и представления Фрейда о научности психоанализа.
Переосмысливалась структура психики - менялись «топики», возникали
различные варианты концепции влечений. Причем общая тенденция
изменений прослеживается достаточно отчетливо: например,
последний вариант концепции влечений — взаимоотрицание Эроса
и Танатоса (связи и деструкции) сам Фрейд называл уже не
наукой, но «нашей мифологией». Ослабевала уверенность в
практической эффективности психоанализа как средстве подтверждения
его научности. Эйфорические настроения 1910-х годов (периода
«покорения» Америки) сменились к концу 1930-х годов («Анализ
конечный и бесконечный») сомнениями и даже скепсисом. А
параллельно шел еще процесс расширения психоанализа - с одной
стороны, превращения его в идеологический и
социально-культурный феномен, а с другой, — пронизывания им различных
пластов культуры - от бытового до философско-мировоззренческого.
Эти три аспекта психоанализа — познавательный, лечебно-
практический, социально-культурный - не образовывали
прочного единства и могли развиваться в относительной независимости
друг от друга. В частности, взаимодействия этих планов
психоанализа по-разному выглядят скажем, в англо-американском регионе
и во франкоязычных странах. Крен в медико-биологическую
сторону привел психоанализ в США и Великобритании к быстрому его
включению в социальный истэблишмент, сближению с
психиатрией, преобладанию адаптивных стратегий в лечении больных:
субъект при этом рассматривается как данность, а вопрос о социальной
роли психоанализа не возникает вовсе. Другое дело - Франция, где
преобладает интерес к психоанализу как социальному и
культурному явлению, где расцветает так называемый университетский
психоанализ1, где ведутся постоянные дискуссии по вопросам
психоаналитической теории и психоаналитической этики, изучаются
жизненно-практические, социально-критические и другие
возможности психоанализа. Разумеется, речь здесь идет лишь о
преобладании, а не об абсолютном господстве той или иной тенденции.
И тем не менее, с одной стороны, мы достаточно отчетливо видим
прежде всего заботы о психотерапевтической эффективности
психоанализа; с другой — дискуссии, приводящие к новому осмысле-
1 Университетский психоанализ - это в большей мере научные занятия, нежели
овладение практическим ремеслом. Обучение в университете не предполагает
курса личного анализа, а это непременное условие дальнейшей собственной работы
в качестве психоаналитика.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 301
нию субъекта, но оттесняющие терапевтические заботы на задний
план (главным персонажем в таком переосмыслении психоанализа
во Франции был Жак Лакан).
В 1990-е годы экспансия психоанализа в странах Восточной
Европы и России характеризовалась интересом к его социально-
исторической проблематике и выдвижением быстрых обобщений
(такова была, в частности, трактовка процесса реабилитации
психоанализа в СССР как симптома гласности - раскрепощения
«слова»). В последние десятилетия усиливается интерес к
клиническим, прагматическим и институциональным аспектам
психоанализа. Однако и тогда и сейчас эпистемология остается на заднем
плане, хотя свои традиции эпистемологической трактовки
психоанализа в отечественной культуре есть. Попытка проследить
некоторые эпистемологические аспекты психоанализа как теории
и практики будет предпринята и здесь.
Этапы полемики. Вот уже 100 лет психоанализ самим фактом
своего существования бросает вызов нашим обычным
представлениям о науке и познании, заставляя предположить, что здесь мы
имеем дело с совершенно особым феноменом. Тем не менее, в
течение долгого времени главная канва спора о природе
психоанализа определялась противостоянием давно сложившихся
философских позиций — позитивистской (в той ее форме, которая
господствовала в соответствующий момент) и феноменолого-
герменевтической. По сути своей эта оппозиция восходила к
спору «объясняющих» и «понимающих» стратегий,
противопоставленных неокантианством в науках о природе и науках о духе.
(Заметим, кстати, что с этим противопоставлением в свое время
полемизировал сам Фрейд.)
Если мы воспользуемся критериями научности, предложенными
в рамках одной из наиболее «жестких» версий методологического
позитивизма, — критериями верификационизма, то мы обнаружим, что
к собственно науке можно будет отнести лишь немногие
дисциплины, и уж точно психоанализ в их число не попадет1. Да и вряд ли
с этой точки зрения вообще можно говорить о познании
бессознательного - скажем, логики сновидений или смысла слов: речь ведь
идет скорее об изобретении такой логики и такого смысла, а это
изобретение подчиняется прежде всего эстетическим, а не собственно
познавательным критериям (такова позиция Л. Витгенштейна).
1 Р. Карнап, впрочем, приветствовал работу своих коллег, пытавшихся
перевести психоанализ на физикалистский язык, но при этом он советовал изменить
процедуру такого перевода: начинать с особых гипотетических понятий и лишь
постепенно, через правила соответствия, переходить к предложениям наблюдения
(см.: Carnap R. Intellectual autobiography // The Philosophy of Rudolph Carnap / Ed. by
P.A. Schilpp. La Salle, Illinois. 1963. P. 85)
302 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Однако неудачи разнообразных попыток применить
позитивистские критерии к психоаналитическому знанию не отпугивали
исследователей. По-видимому, в самих этих попытках как таковых
содержалось нечто положительное, конструктивное. К. Поппер
был поражен тем, с какой легкостью психоаналитическая теория
находит себе подтверждения1. Причем нередко оказывалось, что ее
«подтверждают» прямо противоположные способы поведения.
Более того, подчеркивал Поппер, расширяя область привлекаемого
материала с фрейдовского психоанализа на адлеровскую
индивидуальную психологию и на марксистскую теорию истории, вообще
невозможно придумать «такой формы поведения, которую нельзя
было бы объяснить на основе каждой из этих теорий». Как
известно, именно эти размышления привели Поппера к формулировке
методологической концепции фальсификационизма: если теорию
невозможно опровергнуть каким-либо мыслимым примером, такая
теория ненаучна, так что неопровержимость - вовсе не
достоинство теории, а ее порок2. Но вдумаемся в символический смысл
этого факта: при самом рождении критического рационализма,
определившего собой полувековую эволюцию позитивистских
программ в западной философии науки, уже присутствовала тень
первооткрывателя психоанализа, на геометрически строгом здании
попперовского рационализма лежит отблеск проблематики
бессознательного.
Своей загадочностью психоанализ вновь и вновь заставляет
строгих теоретиков, воспитанных на выверенных
неопозитивистских канонах, усложнять картину научного познания, вводить
новые, более гибкие критерии демаркации между научным и
ненаучным. Однако ослабление критериев разграничения, демаркации
неизбежно приводит к тому, что область научного чрезмерно
расширяется. В соответствии с фейерабендовским критерием
«вседозволенности», решающими оказываются не эпистемологические,
а социально-прагматические критерии: сам факт решения
определенной социальной задачи снимает тогда вопрос о научности-
ненаучности теории. Так позитивистская аргументация
возвращается к исходной точке: на основе жестких критериев наука
практически невозможна (и психоанализ, разумеется, оказывается
1 См.: Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983. С. 242 и др.
2 Для Поппера неопровержимость психоаналитической теории вовсе не
означает, что в ней нет ничего правдоподобного, более того, в будущем, полагает Поппер,
некоторые клинические наблюдения психоанализа, возможно, станут
проверяемыми. Пока же, с его точки зрения, фрейдовская «метапсихология» (в частности,
«вторая топика») подтверждена не более, чем астрологические прогнозы или
гомеровская мифология.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 303
мифом); на основе размытых критериев «наукой» оказывается все
что угодно (в том числе и психоанализ, который, согласно,
например, X. Патнему, вполне отвечает такому определению, как
«способ конструирования реальности», — только речь в данном случае
идет об особой, невротической реальности).
Именно к этой общей методологической линии размышлений
о психоанализе принадлежат, например, и работы А. Грюнбаума1,
которые продолжают традиции англосаксонского аналитизма.
Однако в грюнбаумовском подходе есть и свои особенности. С одной
стороны, в отличие от своих противников-герменевтов, Грюнбаум
не считает, что исторический опыт познания свидетельствует
в пользу противопоставления наук о природе и наук о духе:
историческое измерение важно для любых форм знания. С другой
стороны, в отличие от Поппера и попперианцев, Грюнбаум полагает,
что психоанализ вполне поддается проверке и опровержению,
но только не на уровне метапсихологии, где Поппер обсуждает
психоаналитическую аргументацию, а на уровне клинических
аргументов, а также некоторых экспериментальных критериев.
Грюнбаумовский подход разделяет с другими аналитическими
подходами их сильные и слабые стороны: он характеризуется
одновременно и надежностью выводов, пусть малых, и ощутимой
потерей чего-то существенного, относящегося к самому ядру
психоанализа как научной и терапевтической процедуры2.
Однако коль скоро никакие критерии аналитической
проверки—ни верификация, ни фальсификация, ни гипотетико-дедук-
тивный вывод — к психоанализу не приложимы, быть может,
правы оказываются противники позитивистского аналитизма —
экзистенциалисты и герменевты, упрекающие Фрейда и
психоанализ (по выражению Хабермаса) в «сциентистском самонепонима-
1 См., например: Grünbaum A. The foundations of psychoanalysis: a philosophical
critique. Berkeley, 1983.
2 Позиция Грюнбаума стала предметом широкого обсуждения (см. об этом:
Behavioral and Brain Sciences. Southampton-N.Y., 1986. Vol. 9. N 2. P. 217-284).
Средоточием споров был вопрос о специфике психоаналитической причинности
и возможностях ее изучения. В частности, речь шла о неприменимости причин-
носледственных схем к сфере свободных ассоциаций (Эрдели); о специфике
причинных выводов на основе неколичественных и неэкспериментальных данных
(Эделсон); о возможности естественной науки об индивидуальном (Коз); о
необходимости учитывать в подходе к психоанализу целый комплекс причин -
биологических, социальных, психосоматических и пр. (Мармор); о целесообразности
одновременной проверки параллельных рядов гипотез (Форбс) и др. Если считать,
вслед за Грюнбаумом, что фрейдовский психоанализ не дает достоверных
клинических выводов и не имеет практических преимуществ в сравнении с другими
видами психотерапии, возникает вопрос: так что же такое психоанализ -
псевдонаука (Поппер) или, может быть, заблуждающаяся (развивающаяся) наука?
304 Познание и перевод. Опыты Философии языка
нии»? Быть может, ненаучность психоанализа - это не недостаток,
а, напротив, его сильная черта? Быть может, необходимо признать,
что применительно к психоаналитическим феноменам важны не
законы и причины, а мотивы и мысли, запечатленные в рассказе
(«нарративе») больного? Тогда вывод таков: психоанализ значим
для нас именно как эмансипирующая, освобождающая практика,
которая использует герменевтические процедуры.
Психоанализ оказывается потрясением не только для
позитивиста, но и для феноменолога1. Прежде всего психоанализ
заставляет, отказываясь от опоры на непосредственные очевидности
сознания, искать более надежные, хотя и более трудные пути
к пониманию сущности сознания: эти пути ведут через весь
универсум законов к «конкретной рефлексии», к тому, что
единственно доступно «раненому когито», которое не является «само себе
господином». Психоанализ, таким образом, оказывается (для Ри-
кёра, например) не чем иным, как герменевтикой культуры -
одной из форм культурной практики, которая постепенно меняет
речь человека, его психику, его взгляд на самого себя.
Парадоксально освобождающим является постижение человеком своей
трагической участи, конфликтности своего существования,
неизбежности страданий, которые доставляют человеку его тело, мир,
другой человек. Так, психоанализ напоминает человеку девиз со-
фокловского Эдипа - «страдая, постигай». Спор между теми, кто
искал в психоанализе естественно-научные факты и процедуры,
и теми, кто считал психоанализ дисциплиной, которая может
претендовать на научность лишь по инерции или
недоразумению, продолжается уже несколько десятилетий. При этом ни одна,
ни другая позиция не оставались неизменными: чем дальше, тем
больше их взаимодействие приводило к обогащению, а жесткое
противостояние осознавалось как тупик: общая картина должна
стать более объемной, чем любой предшествующий образ
психоанализа - как эмпирико-аналитический, так и экзистенциально-
герменевтический.
Психоанализ и фактологический фундамент знания. Все до сих
пор известные попытки понять особенности психоанализа как
познания упираются в специфику психоаналитического факта. Это
серьезное обстоятельство, поскольку «фактов» в психоанализе
немного. Психоаналитический факт одновременно и доказывает
существование бессознательного, и лежит в основе психоанализа как
1 Приходится признать, что грюнбаумовская трактовка Ю. Хабермаса как
полноправного представителя герменевтики неточна. См. об этом: Wolfenstein Ε. V.
A Man Knows Not Where to Have it: Habermas, Grünbaum and the Epistemological
Status of Psychoanalysis// International Review of Psychoanalysis. 1990. V. 17. P. 23-24.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 305
терапевтического метода. Соответственно, психоаналитический
факт можно толковать двояко. С одной стороны, его можно
рассматривать как познавательное образование, относящееся к
определенному предмету и фиксирующее данный предмет в теории,
которая констатирует и взаимоувязывает некоторые
характеристики человека и его бессознательного. С другой стороны, — это факт,
с которым имеет дело врач1, факт индивидуальной биографии
конкретного человека. Только факты первого рода могут быть
проверены (например, статистическими методами) и подкреплены
экспериментами. В этом случае мы можем заранее предполагать
(в соответствии со статистической вероятностью появления
неврозов и других заболеваний), каковы будут психические
последствия той или иной травмы. Конечно, такая картина может быть
лишь вероятностной: болезнь возникает не у каждого. Отсюда,
впрочем, и еще одна важная особенность психоаналитической
работы: аналитик вынужден принимать какую-то версию
раскрывающегося перед ним патогенного процесса до того, как он сможет
сколько-нибудь надежно проверить правоту этой версии: иными
словами, он всегда вынужден исходить из общей картины,
открытой для поправок и пересмотров.
Сложность процедуры верификации психоаналитического
факта в том, что внутри него единой цепью связаны разнородные
события, относящиеся к разным временным отрезкам. В
психоанализе мы, по сути, вообще не имеем ни «атомарных»
(позитивистских), ни «нарративных» (герменевтических) фактов, но лишь
своеобразные фактообразующие цепочки, состоящие из
нескольких звеньев. Почему, например, факт вытеснения — единственный
общепризнанный факт, подтверждающий существование
бессознательного, — не может быть удостоверен как нечто цельное и
атомарное? Можно предположить, что причина этих ограничений
в том, что бессознательное образуется в результате
двухступенчатого вытеснения или, точнее, взаимосоотнесения в памяти и
психике двух сходных событий, из которых лишь второе выступает как
вытеснение в собственном смысле слова.
В самом деле, ведь психоанализ как познание — это проработка
неосознаваемых детских влечений и побуждений, связанных
преимущественно с широко понимаемой телесностью, со
становлением пола и воздействием этих процессов на жизнь взрослого
человека. Среди всех живых существ на земле у человека самое длинное
детство и, соответственно, самый долгий период полной и
безусловной зависимости от других людей. Переход от детства к взрос-
1 Слово «врач» употребляется здесь в широком смысле слова - как общая
терапевтическая, исцеляющая инстанция.
306 Познание и перевод. Опыты Философии языка
лости — качественный рубеж, отмеченный многими царапинами.
Следы детских впечатлений сохраняются как бы в латентном
состоянии (первичное вытеснение), пока их активизация - другим
в чем-то сходным событием - не приведет к травме, которая уже
и становится пусковым механизмом болезни.
Предлагаю представить, что бессознательное строится как бы
в трех пространствах, на трех различных сценах (события, в них
происходящие, разновременны и соединяются лишь в воображении
или в памяти). Начало кристаллизации факта (или, иначе, «первая
сцена» или «первое вытеснение») — это какое-то сильное
переживание детства (как правило, еще на доязыковой стадии) — событие,
смысла которого ребенок не понимает. Следующая стадия этого
процесса (непрерывности тут нет, и события разделяют иногда
долгие годы) - подкрепление первого впечатления задним числом (на
«второй сцене», в результате «второго» вытеснения или собственно
вытеснения). Однако и этот подкрепленный «факт» — еще не факт,
ибо он собственно вытеснен, т. е. как бы «забыт» или же
сублимирован (хотя обычно не полностью, продолжая воздействовать на
психику и поведение). Для того чтобы эта канва или заготовка факта
стала настоящим фактом, он должен, по мысли Фрейда, предстать
в ясности воспоминания и осознания и, вследствие этого,
прекратить свое травмирующее воздействие. Иначе говоря, факт должен
быть «достроен» в совместной работе аналитика и пациента. Но для
этого нужна «третья сцена», на которой развертывается
психоаналитический курс, состоящий из сеансов. Получается, что прошлый
факт становится (может стать) травмой значительно позднее, а
прекратить свое травматическое воздействие в еще более дальней
перспективе, в ходе психоаналитической (или иной
психотерапевтической) практики. Событие случается в одном времени и пространстве
(на одной сцене), становится травматогенным в другом времени
и пространстве (на другой сцене) и может прекратить свое
болезнетворное воздействие в третьем - экспериментальном
психоаналитическом времени и пространстве (на третьей сцене)1. Факт в психо-
1 Это построение факта в рамках психоаналитического сеанса также не
одномоментно: оно подчиняется закону «последействия» (как уже отмечалось, таков мой
перевод знаменитого фрейдовского термина Nachträglichkeit, который мне
представляется удачным). В нем особенно важны две стадии - эмоционального
переноса и интеллектуального прояснения. В «лабораторной» психоаналитической
ситуации, далекой от привычных жизненных реалий, пациент обращается
к аналитику с «запросом», то есть со своей бедой и страданием, и, не получая
искомого ответа (такова тактика сеанса), регрессирует к уже пройденным ступеням
своего развития, как бы возвращается в детство. Соответственно, те эмоции,
которые ранее - в исходной или повторно-подкрепляющей ситуациях образовались
как реакция на значимых в его жизни персонажей (прежде всего - на родителей),
ныне обращаются на психоаналитика, который выстраивает истолкование этих
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 307
анализе — не точка, а след, так что психоаналитик — не «гинеколог
души» и не «исповедник дьявола», как нередко говорится, но
прежде всего именно «следопыт». Таким образом,
психоаналитический факт — это сплетение и взаимная реактивация нескольких
следов и нескольких времен — «реальных» (жизненных) и
экспериментальных (психоаналитических). Факт как бы все время
находится в процессе конструирования, в стадии достройки,
причем последний этаж этой сложной конструкции достраивается
в самом психоаналитическом сеансе. Неудивительно, что перед
столь сложно организованным образованием все способы
проверки фактов оказываются в тупике. Все они учитывают лишь
какой-нибудь один фактообразующий момент, не отмечая другие,
не менее значимые. Но ведь если выпустить хотя бы одно звено -
начальное ли, повторно-подкрепляющее или эмоционально-ин-
терпретативное и пр. - психоаналитического факта не будет.
И тем не менее констатация трудностей в построении и
обнаружении психоаналитического факта — это вовсе не аргумент в пользу
иррационалистических и релятивистских трактовок. Прочность
психоаналитического факта, при всей его кажущейся зыбкости,
обеспечивается механизмом, который можно назвать «двойным
переводом» — взаимоувязыванием двух отношений. Первое отношение
связывает первоначальный психический след и его закрепляющее
повторение (причем само это отношение уже есть некая
предпосылка будущей структуры психоаналитического факта); второе
отношение связывает эти подкрепленные следы с их изживанием и
вербальным прояснением в пространстве психоаналитического сеанса. Оба
эти отношения вместе взятые оформляют телесно-психический
материал и создают особым образом обработанную и достроенную
психоаналитическую реальность, не тождественную ни физической,
ни психической, ни биологической реальности.
Возникает вопрос: а можно ли вообще проверить такой факт -
ведь проверка отчасти включается в саму конструкцию факта? Но
дело не только в этом. Главный способ подтвердить ту или иную
гипотезу о событии, повлекшем за собой травму, — это, с точки
зрения Фрейда, воспоминание больного о действительном
событии. Но ведь память ненадежна, причем подчас особенно склонны
вводить в заблуждение как раз «сверхъясные» (überdeutlich)
воспоминания (ясность в них оказывается результатом вторичного
взаимоувязывания более сложного узора следов памяти) и так назы-
эмоционально окрашенных событий. И лишь после эмоционального изживания
и повторения психологические зажимы могут быть устранены, факт может
всплыть в воспоминании, удостоверен как событие жизненной истории пациента,
что может стать началом выздоровления.
308 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ваемые экранирующие воспоминания (один из способов защиты
от бессознательного).
Впрочем, даже если бы память всегда была надежной, а
воспоминание действительно могло считаться удостоверением факта,
как быть, если воспоминания так и не приходят? Заметим, что
шансы всплыть в памяти далеко не одинаковы у первично
вытесненных и вторично вытесненных событий. Если в случае
вторичного вытеснения в психике уже существуют достаточно развитые
структуры, способные удерживать следы памяти, то в первом
случае «воспоминание» как бы оказывается за порогом памяти и,
соответственно, вне пределов возможности воспоминания. Если
воспоминание не приходит, Фрейд советует положиться на работу
истолкования - реконструкции предполагаемого события.
При этом психоаналитик делает допущение насчет некоего класса
возможных травматогенных событий (например, предполагает
событие типа «сексуальное совращение детей взрослыми»), а
пациент его принимает или же отвергает. Но ведь и сам факт такого
выбора — согласия или отвержения — вряд ли можно счесть
достоверным свидетельством за или против той или иной
реконструкции. Такой выбор может заранее обусловливаться
убежденностью больного в правоте психоаналитических схем,
стремлением угодить врачу и др. Иными словами, кабинет психоаналитика -
это все же не совсем лаборатория по проведению научных
экспериментов, как того иногда хотелось Фрейду.
Особенно много путаницы вносят в проверку
психоаналитических фактов связи и разрывы между словесным и аффективным
или, иначе говоря, отношения переводимости или
непереводимости между различными элементами и уровнями психической
структуры и ее функционирования. Дело в том, что в психической
жизни человека смысловые и эмоциональные моменты нередко
подчиняются совершенно различной логике, и соответственно их
динамика оказывается подчас разнонаправленной. Если,
например, в сознании слово и предметное представление тесно связаны,
а в так называемом предсознании такое соотнесение, по крайней
мере, в принципе возможно, то в бессознательном все связи между
предметными представлениями, словесными представлениями
и аффектами отсутствуют. Иногда случается так, что одна часть
предметного (вещного) представления входит в сознание (минуя
цензуру, отделяющую бессознательное от предсознания), а
другая - остается неосознаваемой, расщепляясь далее на более
мелкие части, которые то сгущаются, то смещаются, прикрепляясь
к новым объектам, а в итоге бессознательное представление так
и остается скрытым от сознания и обнаруживает себя не иначе как
в виде фантазма или симптома.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 309
Поскольку переводимость бессознательного в язык
ограниченна, языковые представления нагружены1 эмоциями и аффектами,
постольку и логика суждений, выраженных в языке, также
ненадежна: например, согласие пациента с истолкованием
психоаналитика всегда нуждается в дополнительной проверке, в сличении
показаний в сходных ситуациях, а отрицание часто свидетельствует
лишь о том, что вытесненное представление находится как бы на
полпути к осознанию: оно уже названо, но пока еще продолжает
подвергаться отрицанию (например, оно может быть принято
интеллектом, но отвергаться чувствами); за этим может последовать
и эмоциональное принятие того, что ранее сознанием вытеснялось.
Однако если проверка психоаналитических фактов столь
ненадежна, если для нас не достоверны ни факт воспоминания (или
осознания) травмы, ни целительный эффект наступившего
осознания, то с чем же тогда связано целительное воздействие
психоанализа? В последнее время все настойчивее звучат гипотезы
о том, что в основе психоаналитического воздействия лежат
гипноз2, эмпатия3, — словом, интенсивные, эмоционально
окрашенные межличностные отношения между пациентом и
психоаналитиком. Среди философских обоснований гипноза и
внушения особое место занимают неовиталистские концепции: для них
главный, если не единственный способ, каким нам дается
бессознательное, - аффект, не переводимый в словесные формы;
иначе говоря, даже то, что всплывает в сознании, воспоминании,
нельзя назвать собственно бессознательным, — это лишь его
поверхностные слои4, под которыми сосредоточено то, что относит-
1 Во втором разделе, посвященном переводу и рецепции разбираемых здесь
текстов, речь пойдет о моем выборе термина «нагрузка» (нем. Besetzung, англ. cathexis,
франц. investissement). Пока в русском психоаналитическом языке мое
предложение не привилось. Соответственно в тех местах, где я говорю об энергетической
нагрузке, разгрузке, перегрузке тех или иных образований психики, в текстах
(и переводах) других исследователей читатель встретит либо (если речь идет о
влиянии английского психоаналитического языка) термины «катексирование»,
«катексический», «сверхкатектирование», либо (если речь идет о влиянии
французского психоаналитического языка) термины «инвестирование»,
«дезинвестирование» и пр. Впрочем, еще неизвестно, как дело повернется в будущем, уж
больно уродливы, хотя и сциентистски впечатляющи, эти «сверхкатексисы»
и «дезинвестиции» в русском языке. У Фрейда на этом месте стоит простое и
обычное слово обыденного языка...
2 Эту точку зрения развивают Л. Шерток (в том числе в соавторстве с Р. де Сос-
сюром), а также Ф. Рустан, О. Маннони и др.
3 Этой точки зрения придерживались прежде всего американские исследователи
и практики послевоенной поры - Боулби, Масуд Кан и др.
4 См. об этом работы Мишеля Анри, в частности: Henry M. Généalogie de la
psychanalyse. Paris, 1985.
310 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ся к матрице первоначальных человеческих отношений,
именуемых «влиянием» (Ф. Рустан), «трансом» (Борш-Якобсен). Этот
подход к сознанию и бессознательному противопоставляет себя
«солипсистскому» подходу 3. Фрейда.
Когда сторонники аффекта, эмоции, эмпатии в психотерапии
критикуют Фрейда за чрезмерное доверие интеллектуалистским
критериям осознания и вербализации, в их доводах есть момент
правоты. Конечно, словесное выражение пережитого,
осознание, объяснение не всегда лечат и даже, быть может, не всегда
участвуют в психотерапевтическом лечении. Однако не
учитывать именно этот уровень механики бессознательного
применительно к субъекту как «говорящему существу» (parlêtre, Ж.
Лакан) было бы совершенно неправомерно. К тому же язык,
который изучает и истолковывает психоаналитик, - не
интеллектуальный, не концептуальный, не понятийный, это язык
бессознательного (или бессознательный язык), который состоит из
цепочек означающих, не осложненных соотнесенностью с
означаемым. Элементы такого внутренне расщепленного,
«незнакового» языка способны прочнее, чем обычный язык, срастаться
с теми или иными аффектами. Первоначальное освоение языка
для ребенка эмоционально окрашено принятиями и
отторжениями, связанными с непосредственным телесным опытом, и
потому язык пропитан «эротикой» и постоянно расцвечивает
обертонами этого опыта весь последующий жизненный опыт, все
перипетии психического становления человека1. В работе с
бессознательным язык важен и как форма, фиксирующая
упорядоченности психических процессов, и как способ закрепления
норм и запретов, и как вместилище эмоционально нагруженных
содержаний. Здесь подобное лечится подобным: раскрепощение
языковых форм в процессе свободного ассоциирования
раскрепощает и соотнесенные с определенными языковыми
элементами психические содержания. Тем самым могут быть устранены
зажимы, увеличена возможность новых сочетаний элементов
психического опыта, расширен спектр шансов конструктивного
выхода из болезни.
О некоторых парадоксах психоаналитической теории. Как
известно, связи между фактами порождают идею, связь идей —
гипотезу, а если гипотеза имеет доступные проверке следствия, то при
выведении подтверждаемых следствий мы получим теорию. В
психоаналитической ситуации таким подтверждением теории должно
очевидно быть излечение или хотя бы улучшение состояния паци-
1 David-Ménard M. L'hystérique entre Freud et Lacan. Corps et langage en
psychanalyse. Paris, 1983; ср. также работы С. Леклера.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая, Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 311
ента. Однако разве не может излечение оказаться артефактом или
же результатом спонтанно протекающего процесса, а вовсе не
психоаналитической методики?
Основание для всех этих вопросов и сомнений дает нам
прежде всего отмеченная выше невозможность учесть в теории всю
сложность психоаналитического факта. Но дело этим не
ограничивается. Те составляющие психоаналитической теории,
которые Фрейд выдвигал на первый план, а именно: существование
бессознательного, сопротивление и вытеснение, сексуальность,
Эдипов комплекс - фактически предполагали в самом составе
психоаналитической теории сосуществование как
теоретических, так и практических инстанций. А это подчас приводило
к парадоксальным результатам. Конечно, в отличие от
концепций своих предшественников, в которых все эти элементы
присутствовали порознь, Фрейду удалось объединить их в
достаточно связное концептуальное единство, в общую теорию
бессознательного1. Но вместе с тем в этом единстве перевернутыми
оказывались все обычные отношения между теорией и
практикой, фундаментальным и прикладным. «Чистый психоанализ» -
это на самом деле психоаналитическая теория, непосредственно
примененная на практике, а «прикладной психоанализ» — это,
напротив, использование психоаналитических схем в других
областях познания — этнографии и социологии, в истории и
искусствоведении, вовсе не предполагающих практику в
психоаналитическом смысле. В результате оказывается непросто ответить на
вопрос, что собственно в психоанализе является подлежащим
проверке следствием из теории, если практическая
погруженность теории не позволяет толком выделить саму проверочную
ситуацию, делает ее постоянно открытой? Что в нем считать
непротиворечивой и относительно самостоятельной теорией, если
практика, подтверждающая теорию, заведомо нагружена
неосознаваемыми предпосылками? А может быть теории в
психоанализе вообще быть не может? Или же она есть, но оказывается
неэффективной - неким концептуальным украшением или данью
требованиям естественно-научного типа знания? Отвечая на
этот вопрос, следует прежде всего иметь в виду специфику пред-
1 До Фрейда психологи, которые многократно сталкивались с бессознательным
и экспериментировали с ним, не пытались связать свои наблюдения воедино
и найти какие-либо закономерности его функционирования. Бессознательное,
по сути, терялось где-то между сознанием, которое казалось единственно
возможным способом функционирования нормальной психики, и физиологией, с
помощью которой они пытались прояснять бессознательные феномены (например,
ссылками на «слабость нервной системы» и пр.). Патологическое заведомо
значило недоступное обобщению, теоретизированию, концептуализации.
312 Познание и перевод. Опыты Философии языка
метной области психоанализа и специфику «субъекта»
аналитической теории1.
Как выясняется, ни из врача, ни из пациента нельзя сделать
полностью объективных и беспристрастных наблюдателей, на
которых можно было бы проверять воспроизводимость опыта,
устойчивость фактов и прочность связей между ними. Так, врач,
несмотря на свою нейтральную установку, вовлечен в ситуацию
эмоционального переноса, трансфера и, как правило, не способен
устранить эту вовлеченность по собственному желанию, ибо
эмоциональная реальность зачастую оказывается сильнее любого
сознательно задуманного эксперимента. Причинами эпистемиче-
ской ненадежности пациента может быть его доверие врачу или,
скажем, эффекты «плацебо». Психоаналитический субъект, таким
образом, — это ни аналитик, ни пациент в целом, это несамотожде-
ственная инстанция - те аспекты психики, в которых в
наибольшей мере сосредоточен опыт «расщепленности» (Фрейд
пользовался в подобных случаях термином «Spaltung»).
Говоря о расщепленном субъекте, Фрейд, вслед за своими
коллегами и предшественниками, подразумевал прежде всего
психопатологический феномен расщепленного сознания и личности, т. е.
существование в психике параллельных рядов явлений, которые
непроницаемы друг для друга и не сводимы друг к другу. Однако
Фрейд ставит этот вопрос и в более общем смысле. Фактически
фрейдовский тезис о расщепленности субъекта становится основой
всей его концепции бессознательного (при этом отметим, что само
понятие бессознательного имело для Фрейда скорее описательный,
нежели объяснительный смысл). Другое дело, что сама констатация
феномена расщепленности субъекта подталкивала мысль к
дальнейшему движению: почему субъект оказывается оторван от какой-то
весьма значимой части своих собственных представлений и
состояний? Используя понятие расщепленного субъекта, Фрейд изучает
такие феномены, как фетишизм, психическая защита,
психотический отрыв Я от реальности и др. В послефрейдовскую эпоху
(прежде всего, у Жака Лакана) концепция расщепленности субъекта
приобретает более общие философские очертания. Она фиксирует
разрыв между влечением и принципом, наслаждением и законом,
желанием и познанием, так или иначе — между мыслью и бытием
(«я мыслю там, где я не есть, и я есть там, где я не мыслю»).
Как быть с этим парадоксом расщепленного субъекта?
В большинстве эмпирико-аналитических концепций, которые
1 При этом речь идет не столько о персонаже житейской драмы, введенном
в психоаналитическое пространство, сколько о принципах организации знания
и психоаналитической практики, об условиях построения какой бы то ни было
психоаналитической теории.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 313
различают мотивы и причины действий субъекта, переводят
разнородный опыт в какую-то одну плоскость - чаще всего,
нарративную, коммуникативную, этот парадокс отбрасывается в
сторону как нечто несущественное. Однако можно поступить
иначе - ввести эту противоречивость — на правах аксиомы —
в состав теоретического знания, отказавшись тем самым от всех
попыток привести психоаналитическую теорию к
непротиворечивому виду. Тем самым в теоретическое знание вводится тезис
о расщепленности воли, познания, символически
опосредованных желаний и др. Сохраняя, а не устраняя в дальнейшем
развертывании психоаналитической теории эту противоречивость,
с ней можно работать дальше, подвергая ее операциям
многоуровневых переводов1.
Следствиями подобных операций оказываются
неопределенность и противоречивость начал знания, а также неопределенность
и противоречивость его «концов», как в познавательном, так и в
терапевтическом смысле. Об этом свидетельствует, в частности,
возможность самокоррекции знания, анализа феноменов
«последействия», т. е. запаздывающего прояснения симптома или другого
психического явления в новом практическом контексте. Особое
значение приобретает также сохранение концептуальных
«остатков» — всего того, что не вошло в область понятого и
постигнутого2. Однако дело даже не в самом наличии «остатков», но в
активном обращении с ними: они вводятся в исследовательскую мысль,
тематизируются, так или иначе артикулируются. Их учет
позволяет уловить непонятное среди уже понятых связей, ухватить
вытесненное внутри представленного, учесть след и отпечаток изъятого,
включить то, что реально и материально не вошло в изображение,
в общую картину, — словом, превратить «внесмысл» в стимул
к дальнейшим поискам смысла.
1 При всей специфике данной ситуации в истории науки можно найти немало
примеров подобного рода. Так было, считает французский эпистемолог
психоанализа Жоэль Дор, в истории математики, когда иррациональные числа перестали
изгоняться за пределы математики и были введены в систему чисел, когда
несоизмеримость некоторых числовых величин стала основанием их определения (см.:
DorJ. L'a-scientificité de la psychanalyse. Paris, 1988. T. 2. P. 121-150).
2 Как нередко отмечается, именно признание «остатков» и «внесмыслов» (т. е.
признание неполной переводимости - в различных смыслах этого слова) и
отличает прежде всего психоанализ от религии или мифа. Последние тяготеют к
глобальным объясняющим схемам, не знающим исключений и пробелов, и потому
универсалистская тенденция, также присутствующая в психоанализе и
направленная на обобщение психоаналитического опыта, отнюдь не исчерпывает его
концептуальные возможности. См. об этом: Bertrand M., Doray В. Psychanalyse et
sciences sociales. Paris, 1989. P. 18-21 ; Leclaire S. La fonction éthique de la psychanalyse //
Aspects du malaise dans la civilisation. Paris, 1987.
314 Познание и перевод. Опыты Философии языка
В этой работе с парадоксами психоаналитического субъекта
связаны две главные стратегии: одна из них направлена на то, чтобы
ограничить субъективность и уникальность опыта и поставить их
под контроль, другая - на то, чтобы удержать, сберечь, развернуть
их. Для выполнения первого требования строятся или предлагаются
многоступенчатые схемы, внутри которых можно в деталях
проследить продвижение от наиболее полного «включения» моментов
субъективности и уникальности в концептуальную схему до
наиболее полного их «исключения». Например, при движении к
объективности субъективное подвергается обобщению (из него
изымаются «эгоцентрические», как говорил Рассел, частности), в нем
выделяется главное (не все, что есть в психике, включается потом
в субъективность) и т. д. Для выполнения второго требования —
сбережения субъективности — используются, например, принципы
типологического подхода, при котором персональные «случаи»
болезни трактуются как типы психических расстройств (для Фрейда
таковы «Дора», «Шребер», «маленький Ганс» и др.). При этом
«персональное» становится применимым и к другим случаям, сохраняя
момент жизненной событийности, не выветрившийся при типоло-
гизации уникального человеческого материала.
Размышления о специфике субъекта в психоаналитической
теории неизбежно приводят нас к проблематизации
психоаналитического объекта. Расщепленному субъекту может соответствовать
лишь объект, недоступный прямому усмотрению. Этот объект столь
же парадоксален, как и субъект психоаналитической теории, и
потому возникает задача его косвенного схватывания. В самом деле,
человеческая психика (в частности, ее бессознательные слои)
одновременно может и не может быть предметом познания. Ее
«непредметность» связана с тем, что это особый модус экзистенциальной
реальности, данной на уровне переживания, иногда при
измененных состояниях сознания. Ее «предметность», однако, связана с тем,
что она не лишена своеобразной «телесности», пространственности
(это одно из следствий конструирования психоаналитического
факта) и даже возможности представления. До нее нельзя добраться ни
причинными путями, ведущими от физиологии (ибо действие
физиологических причин здесь прекращается), ни причинными
путями, ведущими от сознания (ибо прямой дороги от сознания к
бессознательному просто не существует). И тем не менее становится
ясно, что уже сейчас нам удается уловить и артикулировать
некоторые аспекты состава, структуры и функций психоаналитического
объекта.
Статус знания о бессознательном: о специфике
психоаналитического объекта. Психоанализ можно было бы назвать сферой
трансдисциплинарных или над-дисциплинарных исследований. Дело
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 315
в том, что бессознательное как объект психоаналитического
познания и практики качественно неоднородно. Хотя Фрейд и
включал понятие бессознательного в число основных элементов теории
психоанализа, однозначности в его трактовке у него никогда не
было (достаточно сказать, что сам термин «бессознательное»
присутствовал у него только в т.н. «первой топике», а во второй исчез
под именем Оно). Так что бессознательным в психоанализе
зачастую называют совершенно различные инстанции, не образующие
единого предмета. Это, кстати, можно обнаружить и в истории
психоанализа, где на первый план последовательно выходили
различные уровни бессознательного (по сути, различные виды
бессознательного) — биологическое, социальное, языковое и пр. А это
означает в нашем случае, что и перевод бессознательного в
сознание, и переводы между различными уровнями бессознательного
имеют свои пределы. При всей условности «предметного»
изображения того, что лишь отчасти может быть названо предметом,
при всей ограниченности и упрощенности всякой
натуралистической картины бессознательного, можно предложить такую
условную трехчленную схему: в бессознательном сосуществуют
«животное» (архаическое) бессознательное, «групповое»
(психологическое, психосемейное) бессознательное, «социальное»
бессознательное и, возможно, какие-то другие его виды.
В животном бессознательном сосредоточены наиболее древние
или даже атавистические слои бессознательного - то, что почти
непосредственно связывает человека с животными. Это слои
инстинктов, едва оторвавшихся от своей животной первоосновы, -
биологические потребности, импульсивные влечения. История понятия
«влечение» у Фрейда показывает все его колебания относительно
места влечений в бессознательном — где-то на грани
биологического и психологического. По-видимому, именно на этом уровне в
наибольшей мере сосредоточиваются бессознательные влечения
и потребности младенческого периода, т.е. периода предельной
беспомощности и зависимости человеческого существа от других
людей и обстоятельств. Можно предположить, что с этим периодом
длительной зависимости связано в дальнейшем бессознательное
воздействие гипнотических механизмов, в частности в
психотерапевтической практике. При регрессии психики на уровень
животного бессознательного (младенческого, архаического) человеческая
развитость «съеживается» и дает волю стадным инстинктам.
В групповом бессознательном речь идет о психологических
механизмах групповых взаимодействий — прежде всего о
психосемейном бессознательном (конечно, все другие уровни
бессознательного тоже могут быть отнесены к бессознательному психическому
и представлены на уровне психологических механизмов, однако
316 Познание и перевод. Опыты Философии языка
это не отменяет их специфичности). В этом слое бессознательного
запечатлеваются психосемейные и групповые конфликты,
перипетии приобретения семейных и половых ролей, моменты полового
созревания ребенка (начиная от первоначального осознания
половой принадлежности до будущего принятия своей половой роли),
налагающего свой отпечаток на весь душевный опыт человека.
Конечно, предпосылки половой идентификации складываются еще
на стадии «животного бессознательного» (например, когда мать -
«первая совратительница», — ухаживая за ребенком, прикасается
к его гениталиям1). Однако более развитые структуры
психосемейных отношений складываются в период овладения языком,
способным закрепить запрет на кровосмешение и включить ребенка
в культурный символический порядок. Отметим, что
психосемейный слой бессознательного - это еще не собственно социальный
его слой, хотя некоторые предпосылки развитой социальности,
возможно, уже присутствуют на психосемейном уровне, подобно
тому как предпосылки психосемейного бессознательного,
возможно, складываются еще на «архаическом» его уровне.
Социальное бессознательное качественно своеобразно, оно ни
в коей мере не сводится ни к динамике изначальных влечений,
ни к конфликтам психосемейной идентификации. Не случайно
некоторые ученики Фрейда (прежде всего Юнг, а также, позднее,
представители неофрейдизма), увлеченные исследованиями
социального (коллективного) бессознательного, по сути отказываются
от концепции сексуального содержания бессознательного. В
социальном (коллективном) бессознательном представлены не
сексуальные влечения, хотя бы и сублимированные, но социальные
интересы групп и классов, национальных общностей и др.
С известной долей условности можно предположить, что все
эти страты в бессознательном представляют собой продукты
различных исторических эпох, а также разных периодов
индивидуального человеческого развития, однако все одновременно, так
или иначе взаимодействуя, функционируют в психике отдельного
человека. А потому иногда так трудно бывает понять, с каким
слоем или уровнем бессознательного мы имеем дело в данный
момент. Например, в социальном бессознательном действуют
межличностные механизмы, подобные гипнотическому или
суггестивному воздействию: когда фрагменты более низкого уровня
включаются в целое, они отчасти подчиняются логике
взаимодействий более высокого уровня, отчасти сохраняются как специфи-
1 Эту стадию становления влечений в психическом опыте включает в свою
«обобщенную теорию совращения» или соблазна Жан Лапланш (см.:
LaplancheJ. Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Paris, 1987).
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 317
ческое образование в составе целого. Так, биологические
импульсы, побуждения, желания присутствуют на уровне
психосемейного бессознательного, однако не определяют его специфику - она
им не подвластна. Точно так же психосемейные механизмы
участвуют в функционировании социального бессознательного, однако
его логика лишь в упрощенном и метафорическом смысле может
характеризоваться по психосемейной или же по архаической
(животной) схематике, например, как стадный поиск «сильного отца»
или «бегство от деспотичной матери» (или напротив — обращение
к государству как к безусловно «любящей матери») и т. д. и т. п.
Эта мысль о слоистости бессознательного поясняет многие
трудности в его познании. Одна из таких трудностей связана с
поиском в бессознательном причинных цепей, которые, как
подчеркивал Фрейд, не знают разрывов. Дело в том, что причинные цепи,
как ясно из сказанного выше, возникают на различных уровнях
бессознательного, так что перекрещивание различных причинных
рядов сильно запутывает общую картину. Само взаимодействие
разноуровневых причинных цепочек порождает феномен
«сверхпричинности» (или над-детерминированности)1 или, иначе
говоря, — множественности причинных цепей и узлов, которые
складываются в компромиссную нежесткую причинную
определенность. Психоанализ не может и не должен претендовать на то,
чтобы объять все бессознательное. По сути, его предмет - это
срединное, «психосемейное» бессознательное, а потому перенесение
закономерностей этого уровня на другие слои бессознательного
является в той или иной мере проблематичной экстраполяцией.
В разные периоды своей жизни Фрейд искал объяснения тем
душевным процессам, которые он наблюдал в своей медицинской
практике, либо на биологическом и физиологическом уровне
(в ранний период), либо на уровне социально-мифологической
схематики (в последние десятилетия), что можно было бы
истолковать как выход за пределы психоаналитического объекта, как
набег на недоступную психоанализу территорию.
Специфика объекта определяет, как известно, специфику
соответствующей дисциплины. Термин «метапсихология», которым
1 Под сверхпричинностью Фрейд имел в виду одновременное действие в
бессознательном нескольких причин и соответственно - наличие различных способов
истолкования. Например, сверхпричинность истерических симптомов
подразумевает: наличие общих причин (скажем, наследственную предрасположенность),
специфических причин (сексуальную травму) и дополнительных или
сопутствующих причин. Что касается, например, сновидений, то сверхпричинность
возникает здесь в результате смещений и сгущений различных событийных цепочек. В
подобных случаях требуется некое объемлющее «сверхтолкование». См. об этом
в «Исследованиях истерии» (1895), «Толковании сновидений» (1900), «Лекциях по
введению в психоанализ» (1916—1917).
318 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Фрейд пытался обозначить нечто существенное в создаваемой им
науке (то, что находится за рамками узкоклинической
аргументации), представляется гораздо более точным, чем может показаться
на первый взгляд. Очень часто метапсихологию трактуют то как
совокупность натуралистических, биологических представлений
0 бессознательном в ранних работах Фрейда, то, напротив, как
социальную мифологию позднего психоанализа. Однако приставка
«мета» означает одновременно «за», «после», и «над». Можно
предположить, что, создавая психоанализ, Фрейд строил именно
метапсихологию, то есть новую психологию, которая идет вслед тому,
что существовало тогда в виде психологического знания, а может
быть некую «прото-психологию» - анализ предпосылок любого
знания о психике в ее телесной погруженности. Но если учесть, что
в большинстве традиций психологии телу, желанию, языку в их
несводимости к сознанию места не находится, тогда придется
признать, что психология и психоанализ, независимо от того, что
думал по этому поводу Фрейд, — это картины различных
реальностей, не сводимые к общему знаменателю.
Своеобразно не только отношение психоанализа к своей
ближайшей соседке — психологии, но и его соотношения с
религиозными, этическими, философскими компонентами культуры.
Некоторые из этих отношений закрепились в истории его возникновения
и теперь так или иначе воспроизводятся в составе
психоаналитических процедур. Возникнув на стыке различных форм познания
и практики, психоанализ принял на себя различные функции.
Например, после того как процесс секуляризации в Европе XIX в.
уничтожил, в частности, ритуал исповеди, очищения и прояснения
души, освобождения ее от страстей и грехов, психоаналитик
действительно предстал как «исповедник дьявола». Лишаясь своего
этико-религиозного смысла, психоаналитическая исповедь может
приобретать психотерапевтическое, освобождающее значение
в светском смысле слова1. Этот аспект психоаналитической
деятельности продолжает свое существование в соответствующих
психоаналитических формах и ритуалах, способствуя, в частности,
раскрытию этико-познавательной направленности психоанализа.
1 По-разному, заметим, сложилась судьба главного момента исповеди -
признания - в гуманитарном знании и в психоанализе. Так, гуманитарные науки возникли
на месте ритуала признания, ибо процедуры социального обобщения стали
возможны там, где душа уже предстала как разъятая и расчлененная (так видит судьбу
гуманитарных наук М. Фуко в своей «генеалогии власти-знания»). Напротив,
психоанализ возникает как знание наряду с ритуалом признания, он соотносится с ним, но не
отменяет его. Ритуал признания сохраняется в психоанализе в трех главных смыслах
слова «признание»: 1) признание как раскрытие души (всего мелкого и низкого,
непристойного и подрывного); 2) признание как вновь узнавание ранее известного;
3) признание как уважительное отношение на почтительном расстоянии.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах.., 319
Возникновение психоанализа стало симптомом и следствием
мощных социальных и культурных сдвигов. Меняются формы
общения между людьми, критерии и способы включения
социального в индивидуальное, формы межличностных контактов.
Расширяется понимание самого феномена человека. И подчас именно
психоанализ становится ведущим звеном в различных практиках
межличностного общения, связанных с преобразованием
душевного и телесного опыта. Психоанализ воочию показывает нам
многообразие способов участия низкого в высоком, телесного
в духовном, «отбросов жизни» в ее благородных порывах и
свершениях. Участие телесного в жизни человеческой психики усложняет
выбор между теми или иными побуждениями, мотивами, целями,
задачами, способами их решения, заставляет искать
компромиссные формы поведения. Человеку вообще трудно научиться
быть человеком — работать, радоваться жизни, любить. В этой
связи опыт психоанализа как поиск цивилизованных форм
личностной свободы дает не просто интеллектуальное знание, но и умение
быть собой, прислушиваться к своим внутренним побуждениям,
понимать логику собственных поступков.
Теперь психоанализу открыта дорога и в жизнь отечественной
культуры - не только как феномену западной цивилизации,
изучаемому главным образом по книгам, но и как
духовно-практическому явлению1. Разные голоса в спорах о психоанализе вновь
зазвучали и у нас. Для одних психоанализ - это новая философия2.
Для других — особая «форма жизни», которая не сводится ни
к философии, ни к экспериментальному научному познанию3.
Для третьих психоанализ — это подлинная, вполне зрелая наука,
и уж во всяком случае «наука не в меньшей степени, чем физи-
1 На первом этапе практические формы бытования психоанализа в России были
весьма отличны от западных. Аналитики первого призыва сетовали на то, что
дальность расстояний в большом городе не позволяет проводить сеансы несколько раз
в неделю (чаще всего - один сдвоенный), что жилищная стесненность не
позволяет новоявленным психоаналитикам уединяться с пациентом в кабинете с
сакральной кушеткой для пациента - сеансы нередко проходят в общей жилой комнате
и т. д. Все это довольно сильно влияет на сам механизм переноса эмоций и другие
аспекты психоаналитической практики. За истекшие с этого времени десятилетия
условия жизни изменились, и аналитики и пациенты стали несколько богаче,
однако какие-либо выводы здесь были бы преждевременны, так как сколько-нибудь
надежного социологического исследования функционирования российского
психоанализа (подобно классической работе Сержа Московией на материале
французского психоанализа) пока не существует, хотя современный российский
психоанализ стал интересным предметом социологического изучения.
2 Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 1990.
3 Руткевич A.M. Рецензия на кн. Лейбина В.М. Фрейд, психоанализ и
современная западная философия // Вопросы философии. 1990. № 6. С. 172.
320 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ка»1. Такое яркое многоголосие не может не радовать слух, однако
оно не заменяет критико-рефлексивной позиции, а в противном
случае рискует стать скорее букетом эмоциональных реакций на
старые запреты, чем итогом новых размышлений.
Конечно, психоанализ отличает стремление к научности и
объективности, однако последовательное осуществление в нем этой
объективистской тенденции означало бы смерть всего, что есть
в нем уникального, творческого и событийного. При этом
психоанализ отличает также стремление к раскрепощающему и
освобождающему воздействию - и оно иногда осуществляется. Однако
любая победившая психоаналитическая схематика тяготеет к дог-
матизации и ритуализации, к круговому воспроизводству
психоаналитической схемы в культуре, когда факты подстраиваются под
схему, а схема заранее задается или трактуется как нечто
самоочевидное2. В психоанализе соединились различные компоненты
природного и духовного мира, искусство и социальная мифология,
этика и ремесло, философия и практическая рецептура. Однако
можно предположить, что проблемный стержень психоанализа
создается все же именно познавательной интенцией. Соответственно
и вызов, который бросает нам психоанализ, - прежде всего
эпистемологический, хотя в наши дни это не так уж легко заметить.
Открытие бессознательного вовсе не было философским
открытием Фрейда, хотя оно, безусловно, имело философское
значение: главное в том, что Фрейд смог представить бессознательное на
уровне научных возможностей своего времени. У нас кажется, нет
нужды ни спасать Фрейда от психоанализа (вместе со
сциентистскими критиками психоанализа), ни защищать психоанализ от
Фрейда (вместе с теми его истолкователями, которые убеждены,
что, претендуя на научность, психоанализ сам себя не понимает).
Скорее нам нужно сохранить трезвость рационального подхода
к бессознательному как к фактору человеческой жизни, - подхода,
который призван «ни пугать, ни утешать», но помогать нам понять
самих себя, смягчая болезненные противоречия между
индивидуальными склонностями и теми требованиями культуры, которые
несет с собой развитие цивилизации.
1 Белкин Л.И. Зигмунд Фрейд: Возрождение в СССР // Фрейд 3. Избранное. М.,
1989. С. 6.
2 Эта точка зрения в чем-то близка позиции М.Фуко в его оценках официальной
медицины. Прежде чем лечить психическую болезнь, такая медицина сначала ее
создает, достраивает ее до тех практических и концептуальных форм, в которых
болезнь становится ей понятна. Именно в этом смысле и психоанализ подвергался
обвинениям в том, что он порождает те самые формы (например, по Ж. Делёзу
и Ф. Гваттари - «семейный ошейник», наброшенный на свободу человеческого
бессознательного), которые затем принимается «исправлять» или «лечить».
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 321
§ 2. Особенности практики: словесное и несловесное
Интерес к механизмам и содержательной стороне общения
(специфически человеческим способам взаимодействия с себе
подобными) проявляют в наши дни не только лингвисты, психологи
или педагоги. Проблемы человеческого общения становятся
важными и для тех людей, которые по традиции считали область
своих занятий далекой от проблем общения, независимой от них.
Оказывается, что для философов, эпистемологов, методологов
науки понять механизмы порождения и функционирования
знания невозможно вне анализа тех многообразных способов
человеческого общения, тех коммуникативных процессов, которые
стимулируют развитие знания и формируют его содержание,
способствуют его передаче между отдельными людьми,
поколениями, эпохами. Быть может, именно эта пронизанность всей
социальной ткани коммуникативными механизмами долгое время
мешала обратить внимание на познавательные и практические
особенности этого феномена. Люди сообщают друг другу не
только то, что осознанно решают передать: их общение предполагает
и менее определенное, дискретно не выразимое, существующее на
уровне бессознательного. Хороший пример тому дает
психоаналитическое межличностное общение. Оно предполагает доверие,
выбор, но одновременно и агрессию, оно связано с попыткой
подойти к неинтеллектуальным несловесным уровням психики
через слово, осуществить перевод следов бессознательного в план
выражения и на уровень осознания, но также, как мы далее
увидим, и с ограниченностью этого пути, если без внимания при этом
остаются аффективные недискурсивные слои бытия и
психической организации человека. Далее будут прослежены обе эти
стороны психоаналитического подхода к общению.
* * *
Концепция основателя психоанализа Зигмунда Фрейда может,
по-видимому, быть представлена именно как концепция общения,
поддерживаемого практиками перевода, но постоянно
сталкивающегося с непереводимым. В самом деле, полем, на котором
проявляется патологическая симптоматика, развертывается
исследование, происходит проработка и снятие симптомов в ходе
психоаналитического курса, а также методом анализа и разрешения
психических конфликтов выступает не что иное как общение двух
людей — врача и пациента1. Иначе говоря, патогенное общение (на-
1 Как уже отмечалось, использование слова «врач» в качестве синонима слову
«психоаналитик», ограниченно уместное для русскоязычного и англоязычного чи-
322 Познание и перевод. Опыты Философии языка
пример, травматическая семейная ситуация, пережитая в детстве)
повторяется, подвергается переработке в терминах другого, сано-
генного (или призванного быть саногенным) «искусственного»
общения (врач-пациент). Тем самым спровоцированная
психическими травмами неспособность к общению (например, наличие
стойких нарциссических схем отношения к миру и к другим людям)
сменяется возможностью вновь пережить и вспомнить конфликт,
а тем самым - освободиться от него. Общение пронизывает все
звенья концептуальной системы Фрейда, все моменты
психоаналитической практики. Если неадекватные формы общения в истории
больного были причиной появления той или иной симптоматики,
а жесткие структуры его психического аппарата (в ней, заметим,
общение предстает в обезличенном отчужденном виде
взаимодействия различных инстанций - Оно, Я, Сверх-Я) как бы блокировали
разрешение возникающих конфликтов, то, открывая
психоаналитическую ситуацию как особую разновидность общения,
обладающую специфическим эпистемологическим и психотерапевтическим
смыслом, мы находим средство, которое можно охарактеризовать
как «лечение подобного подобным» — общения общением.
Учитывая ту схематику построения психоаналитической
реальности «на трех сценах», о которой шла речь в предыдущем
параграфе, я попытаюсь здесь обрисовать более рискованную, но, как
представляется, эвристичную схему перевода и преобразования
событий, реальностей, историй, развертывающихся на этих сценах.
Главный фрагмент этого переводческого процесса в широком
смысле слова — это соотнесение травматической истории жизни
пациента с психоаналитической историей как формой ее изживания
и прояснения. По сути, жизненный и познавательный смысл
психоаналитической ситуации заключается в переводе, трансформации
реальной истории с нереальными событиями (иначе - история-1) под
действием нереальной истории с реальными событиями (иначе - исто-
рия-2). Конечно, сами эти обозначения условны, однако они
схватывают некоторые существенные моменты соотношения двух схем
общения, образующего своего рода хиазм - риторическую фигуру
с попарно противоположными членами. Поясним это более
детально. История-1, или история пациента, сложившаяся к моменту его
обращения к психоаналитику, является «реальной историей» с
«нереальными событиями». Иначе говоря, это — «настоящая», пережи-
тателя, абсолютно исключено в рамках франкоязычной терминологии, так как
французский психоанализ последовательно защищает свою независимость от
медицины. Вопрос о праве практиковать психоанализ без медицинского диплома был
предметом долгих и ожесточенных споров между различными течениями
французского и международного психоанализа и, в частности, поводом споров между Ж.Ла-
каном, защищавшим немедицинский психоанализ, и его противниками.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 323
тая человеком история, события которой приобрели в его сознании
те или иные «нереальные», превращенные формы (ср. рассказы
пациенток Фрейда об отцах-соблазнителях). При этом те прототипи-
ческие события, которые можно было бы считать «реальными»,
невозможно восстановить — из-за того, что желания были вытеснены,
их удовлетворение обреталось на косвенных заместительных путях,
а те события, о которых рассказывает больной, оказываются
фантазиями, результатом работы его воображения. Что же касается исто-
рии-2, или, иначе, самого психоаналитического курса, то это —
история со своим особым «хронотопом»: она связывает врача
и пациента на продолжительное время (иногда — на долгие годы)
регулярными сеансами. Искусственность, «нереальность» этой
истории проявляется во многом: в том, что она разыгрывается в
экспериментальной ситуации общения и должна стать катализатором
вновь-переживания пациентом некоторых существенных моментов
его реальной истории; в том, что она сжата во времени (подчас
огромные промежутки времени должны быть вновь-пережиты за
краткий миг, искусно подготовленный часами психоаналитической
работы); в том, что аналогом событий в этой экспериментальной,
«нереальной» истории выступают прежде всего слова и жесты, и др.
Однако события истории-2 по-своему «реальны»: они
развертываются здесь и теперь, в психоаналитическом курсе, в межличностном
общении двух людей, обусловливаются чувствами взаимной
приязни или неприязни, могут стимулировать переосмысление исходной
истории и др. Развертывание этой искусственной, «нереальной»
психоаналитической истории взаимодействий больного и врача,
благодаря правилу своеобразного «словесного анархизма»
(выговаривать все что угодно), приводит к расшатыванию психической
структуры с репрессивными инстанциями. Дезорганизация языка
как некий аналог психической дезорганизации позволяет нащупать
рычаги динамических переключений, перевода из одного
психического регистра в другой, а затем — и более адекватные способы
«внешнего» межличностного поведения1. Под действием истории-2
1 Принцип словесного воздействия К. Леви-Строс определил как
«действенность символики», то есть способность различных структур вызывать изменения
в других гомологичных им структурах. Леви-Строс усматривал гомологичные
структуры на уровнях органики, бессознательного психического, рефлексивного
мышления. Поскольку «сила слова», коренящаяся, в частности, в языковой
полисемии и возможности перевода слова из одного контекста в другой, провоцирует
смену регистров, постольку дезорганизация языка становится способной лечить
телесную и психическую дезорганизацию. См. об этом, в частности, в книге,
которая и в наши дни не потеряла своей актуальности: Клеман К. Истоки фрейдизма
и эволюция психоанализа. // Клеман К., Брюно #., Сэв Л. Марксистская критика
психоанализа. М., 1976. С. 83.
324 Познание и перевод. Опыты (ЬилосоФии языка
история-1 начинает распутываться посредством тех или иных
приемов и практик.
А теперь посмотрим, что же собственно происходит в процессе
переработки и своеобразного перевода истории-1 в историю-2,
реальной истории с нереальными событиями в формы и схемы
нереальной истории с реальными событиями. При этом изменениям
подвергаются как история-1, так и история-2, а стало быть, меняется и сама
схема общения. Так, «нереальные» фантазматические события
истории-1 в благоприятном случае постепенно приобретают
очертания реальных событий, так как пациент набирает психологическую
и интеллектуальную готовность яснее определить реальное место
травмирующего события в своей истории. Напротив, «реальные»
события психоаналитического курса, переживаемые в данный момент
времени и в данной точке пространства, все более «ирреализуются»:
любовь пациента к врачу в ситуации эмоционального переноса
оказывается ложно построенной связкой прошлых переживаний с
современными. Тем самым важным моментом на пути выздоровления
оказывается тот, когда пациент вдруг осознает, что все его, казалось
бы, «реальные» чувства, направленные на врача, на самом деле
были направлены на третье лицо и связаны именно с вновь-пережива-
нием событий собственной истории, с переигрыванием
неудавшихся в прошлом контактов и взаимодействий. Таким образом, в конце
курса отношения между историей-1 и историей-2, между двумя
видами общения, по схеме хиазма уступают место отношениям по
схеме параллелизма. «Нереальные» события истории-1 наращивают
свою реальность, а «реальные» события истории-2 или
психоаналитического курса, напротив, ее теряют. Этому должен
соответствовать момент интеллектуального прояснения и душевного
успокоения. Вновь пережитая собственная история становится уже не
просто «реальной историей», но «реальной историей с реальными
событиями», а психоаналитическая история лечения — тем, чем она,
по сути, была и раньше, - экспериментальной историей общения,
реализующей определенные терапевтические цели.
Как же объясняет такую перестройку души и поведения сам
Фрейд? Как он трактует установки изобретенного им общения -
психоаналитического взаимодействия двух людей? Для пациента -
это осознание, для аналитика - поиск конструкций и
интерпретаций1 опыта для врача - таков, с точки зрения Фрейда, главный
путь психоаналитической работы. При этом Фрейд особо
подчеркивал «нейтральность» аналитика, его «свободно парящее внима-
1 В концептуальном аппарате психоанализа «интерпретация», «инсайт» обычно
отождествляются с собственно познавательными процедурами и
противопоставляются гипнозу, трансферу, эмпатии и пр.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 325
ние» и «свободные ассоциации», запечатлевающиеся в речи
больного. «Нейтральность» врача - это этико-методологическое
предупреждение, в частности, о том, что в ситуации «переноса»
(трансфера) чувства больного относятся не лично к врачу, но к тем
персонажам и событиям прошлого, которые оживают в рассказе
больного и лишь проецируются на аналитика. Выражение
«свободные ассоциации» применительно к пациенту тоже нуждается
в пояснении: дело в том, что эти ассоциации как раз не свободны —
они определяются внутренней логикой психических процессов,
протекающих на пересечении тех двух историей, о которых шла
речь выше, и механизмами переводов одной в другую. Говоря
о нейтральности аналитика и свободных ассоциациях пациента,
Фрейд стремился подчеркнуть отличие психоаналитического
метода общения от ранее практиковавшихся им гипноза и
внушения - механизмов, парализующих волю и сознание пациента.
Сам Фрейд прекрасно умел работать с аффектами,
сопротивлениями осознанию и вытеснениями, но главные выводы, которые
он делал из своей практики, все же имели интеллектуалистекий
оттенок: так или иначе формулой всех изменений душевного
опыта общения в психоаналитическом сеансе было для Фрейда
«излечение через осознание». Однако эта формула во многом не
соответствовала реальной специфике психоаналитического общения,
осуществляющегося в ситуации особого единства практических
и познавательных моментов. Последующее развитие
психоанализа, по сути, заставило усомниться в правомерности формулы
«излечение через осознание»: чем дальше, тем больше оно
свидетельствовало о возрастании интереса к моментам аффективного,
эмоционального контакта в общении как необходимым условиям
исцеления. И этот интерес все более расширялся, выходя за
рамки самой психоаналитической практики в историю (предысторию
психоаналитических идей) и социологию (назову, в частности,
проблему возможности психоанализа как особого социального
института).
Так, историки психоанализа заметили, что, подчеркивая новые
моменты своего подхода, Фрейд оставлял в стороне те моменты
в концепциях своих предшественников, в которых содержался
«проблематичный» момент «непереводимости» бессознательного
в сознание через слово, момент живого общения, насыщенный
«таинственными», но терапевтически эффективными возможностями
(речь идет об эмпатии, обмене «флюидами» (Месмер) и др.).
Преуменьшая значение эмоционального момента в истоках
психоанализа, Фрейд, по-видимому, недооценил его и в собственной
психоаналитической работе - в ситуации переноса или трансфера
(переноса чувств больного на врача) и контртрансфера (противопе-
326 Познание и перевод. Опыты Философии языка
реноса чувств врача на больного), а также и момент внушения со
стороны психоаналитика, по сути, подчиняющий пациента
в большей мере, нежели это допускает постулат аналитической
«нейтральности». Фрейд полагал, что ситуация эмоциональной
зависимости больного от врача должна исчезнуть сама собой
после того, как главная душевная травма будет выведена в сферу
ясного осознания: момент «растворения» или «снятия» трансфера
должен соответствовать моменту исцеления больного. Опасность
запутать пациента внушением, внедрив в него то, чему веришь
сам, он считает сильным преувеличением1. Справедливости ради,
нельзя не отметить, что в оценке «аффективного» компонента
лечения и, в частности, гипноза Фрейд колебался. Так, в 1918 г. на
психоаналитическом конгрессе в Будапеште он высказал желание
и намерение в будущем «слить воедино чистое золото анализа
с медью внушения», причем надеялся, что «свое место здесь может
найти и гипнотическое воздействие»2. В рамках
психоаналитического института также возникает ряд проблем, связанных со
спецификой личностных взаимодействий при передаче
психоаналитических навыков, с опасностью работы в психоанализе лиц
с «неснятым трансфером», с нередко возникающей институцио-
нализацией «пожизненного неравноправия» между членами
психоаналитического сообщества. Один из видных теоретиков
французского психоаналаза С. Видерман писал: «Фрейд стремился
к институционализации психоанализа. Он видел в
психоаналитическом институте осязаемое, хотя и запоздалое доказательство
признания своего открытия, объективированного отныне в
некоей социальной организации, более того — на уровне
международном. Он и не догадывался, что большинство наших теперешних
трудностей будет следствием этого. А он должен был бы это
предвидеть (курсив мой - Я.у4.)»3.
В психоаналитической теории и практике Жака Лакана
заострялись именно те интеллектуально-интерпретативные моменты,
которые считал существенными сам Фрейд, и потому лакановский
девиз «назад к Фрейду» и его самохарактеристика «я тот, кто
прочитал Фрейда» сохраняют свой смысл, несмотря на все
произведенные им переосмысления фрейдовской программы. Лакан
делает новый шаг в трактовке психоаналитической ситуации как
особой ситуации общения: он истолковывает эту ситуацию как
1 См.: Freud S. Constructions in Analysis. S.Ε. Vol. 23. 1937. Цит. no: Chertok L.
Suggestio rediviva // Resurgence de l'hypnose. Paris, 1984. P. 13.
2 Cf.: Chertok L Suggestio rediviva. P. 30.
3 Viderman S. La machine de-formatrice // Confrontation. Cahier 3. Paris, 1980. P. 26.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 327
языковую, речевую прежде всего. Языковая онтология и языковая
методология пронизывают все звенья лакановской
психоаналитической концепции. Именно через язык Лакан вводит все, что
относится в его концепции к общению: «Функция языка заключается
не в информации, а в побуждении. Именно ответа другого я ищу
в речи. Именно мой вопрос конституирует меня как субъекта»1.
Лакан вводит языковые определения вовнутрь бессознательного
и делает это гораздо решительнее, чем Фрейд. При этом Лакан
четче, нежели Фрейд, дифференцирует сам механизм общения. Так,
общение на уровне воображаемого — это бинарные,
непосредственные симбиотически слитные отношения между людьми
(таковыми можно было бы считать слияние младенца с матерью или
слияние человека с объемлющим его первобытным коллективом).
Напротив, отношения общения на символическом уровне — это
«тройственные» отношения, общение с опосредованием, не
допускающим возможности слияния в единое целое. В душевном
развитии ребенка — это включение отца в слитный симбиотический
мир связей с матерью, в обществе — принятие языка и
символического закона, организующих отношения между людьми.
Стратегия исцеления - это продвижение от воображаемых
слитностей (различные их формы характерны для психозов,
неврозов и других заболеваний) к принятию символического
закона опосредования всякого человеческого желания — закона,
который одновременно и индивидуализирует субъекта, и включает
его в мир человеческих отношений. В терминах собственно
языкового общения это дает картину переработки «пустой» речи,
замкнутой в кругу иллюзорных нарциссических самоудвоений,
в «полную» речь, где пробелы восстановлены, а запутанные места
распутаны. «Полнота» этой речи, следовательно, не
онтологическая, а психоаналитическая характеристика: она связана с
принятием символического закона, а символический закон, в свою
очередь, зиждется на признании некой нехватки, изначального
отсутствия объекта желания, на утверждении в качестве
онтологического субстрата человеческого существования «вечно
потерянного объекта». В этом смысле главный этический и
теоретический императив Лакана - продвижение от уровня
воображаемых иллюзорных единств к уровню символической
опосредованное™ как стадии зрелости: на этом уровне субъект принимает
невозможность существовать в слиянии с другим, быть
растворенным в другом, и начинает рассматривать весь мир социально-
культурных опосредовании как условие собственного
становления и возмужания.
1 Lacan J. Ecrits. P. 299.
328 Познание и перевод. Опыты Филособии языка
Поскольку в качестве условия такого продвижения выступают
именно языковые, коммуникативные механизмы, постольку
словесно фиксируемые параметры общения выступают в
психоаналитической практике на первый план: «Даже если речь ничего и не
сообщает, она представляет само существование общения (курсив
мой. - H.A.). Даже если она и отрицает очевидность, она
утверждает, что именно слово создает истину. Даже если она обречена
заблуждаться, она полагается на веру в истину»1. В этом фрагменте
четко сформулированы многие важные моменты: речь есть сама
стихия общения между людьми, ее психоаналитическая
эффективность относительно независима от смысла передаваемых
сообщений; слово не принадлежит измерению непосредственного
данного («отрицает очевидность»), но приводит к
символическому порядку, в котором только и может существовать истина
общения и истина человеческого бытия, состоящая в опосредовании и,
следовательно, в отсрочке исполнения непосредственных
желаний; наконец, слово нельзя счесть обладателем и распорядителем
истины: истина непосредственно не дана, а бесконечный процесс
языковой работы с материалом может лишь приблизить к ней,
но не обеспечить обладания ею.
Этот последний тезис о работе в языке и над языком как условии
продвижения к истине очень важен для понимания той схемы
человеческого общения, которая представлена в лакановских текстах.
Собственно говоря, на известном уровне абстракции в лаканов-
ском сеансе исчезают активные персонифицированные
инстанции — аналитик, пациент, а остается некое саморазвитие языковых
взаимодействий и интерпретаций. По отзывам очевидцев, это
устраняло общение, совместную работу врача и пациента над
интерпретацией событий, о которых рассказывает пациент. Роль
врача сводится тогда к пунктуации этого рассказа, по-видимости
произвольной — с внезапными перерывами и завершениями (так,
в некоторых случаях его сеансы длились 2-3 минуты вместо
обычных 45 минут), да и во время самого сеанса Лакан, по отзывам его
пациентов и учеников, подчас вел себя отчужденно и безразлично2.
Однако тем самым, как бы изымая себя из самого психоаналитиче-
1 Cit.: Mannoni О. Ça n'empêche pas d'exister. Paris, 1982. P. 168.
2 Сторонники Лакана, оспаривая многочисленные трактовки столь коротких
сеансов как выражения стремления к наживе, полагали, что расчленение
психоаналитического курса на короткие сеансы выносит главные моменты
самоистолкования в пространство между сеансами, заставляя пациента в одиночестве пережить
свои фрустрации и самому добраться до нового уровня понимания. См. об этом,
в частности, Schneiderman St. Jacques Lacan: the Death of an Intellectual Hero.
London, 1983. P. 133-138; Perrier F. Voyages extraordinaires en Translacanie. Paris,
1985. Впрочем, необходимо постоянно учитывать, что в отличие от других видов
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 329
ского процесса и помещая себя в некое привилегированное место,
Лакан чем дальше, тем больше сам превращался в того «субъекта,
которого считают обладателем знания» (SSS — le sujet supposé
savoir), в верховного судью, а не просто в свидетеля и участника
языковой работы.
В творчестве Лакана немало свидетельств интеллектуализации
психоаналитической работы: поначалу это было сведение к
языковому уровню в широком смысле слова, а затем — уже не просто
к языку, но к языку математическому (по его терминологии, к «ма-
теме»). В плане когнитивно-интеллектуальном он подчас
рассматривал даже такие явно эмоционально-аффективные компоненты
психоаналитического общения, как трансфер. Так, в семинаре,
посвященном трансферу, Лакан четко определяет ориентацию
анализа на знание, видит прототип будущего пациента в Алкивиаде из
Платонова «Пира» и считает целью психоаналитического общения
знание, которым располагает аналитик (SSS или: «субъект,
которого считают обладателем знания»). Как уже отмечалось, Лакан не
считал целью анализа исцеление и полагал, что оно может быть
лишь случайным, побочным его результатом. Одновременно с этим
он усугублял те умолчания, о которых применительно к Фрейду
речь шла выше: это относится к эмоционально-аффективным
аспектам психоаналитического общения, но также к его
историческим и социально-институциональным моментам.
В самом деле, гипноз и внушение, из которых вырос
психоанализ, Лакан оставляет почти без внимания, если не считать
нескольких страниц из «Введения к комментариям Жана Ипполита по
поводу "Отрицания" Фрейда», «Четырех фундаментальных понятий
психоанализа» и «Сочинений Фрейда по технике психоанализа».
Взгляды Лакана на гипноз и внушение в основном соответствуют
фрейдовским1, хотя и тут Лакан несколько спрямляет
фрейдовскую мысль2.
Однако и обсуждая другие сюжеты, например, отношение
переноса между врачом и больным, с одной стороны, учителем и
учеником — с другой, а также взаимоотношения между психоаналитиками
психотерапии психоанализ активно использует не только теплые, дружеские
чувства, но и чувства отрицательные, как более сильные энергетически.
1 «Фрейд, насколько это в его силах, отвергает внушение, чтобы предоставить
субъекту возможность вобрать в себя то, от чего он оказался отторгнутым из-за
сопротивления». Lacan J. Séminaire. T. 1. Les écrits techniques de Freud (1953-1954).
Paris, 1975. P. 35.
2 Ведь Фрейд признавался: «мы должны дать себе отчет в том, что наш отказ от
гипноза был приемом, приведшим к обнаружению внушения в форме трансфера».
FreudS. Introduction à la psychanalyse, 1916-1917. Paris, 1947.
330 Познание и перевод. Опыты Философии языка
как членами сообщества и между различными институтами, Лакан
практически никогда не выводит из этого теоретических следствий,
хотя, казалось бы, огромный личный опыт «раскольнической»
работы внутри французского психоанализа вполне поддавался хотя бы
некоторым обобщениям. Так, описывая свое отлучение от
Международной психоаналитической ассоциации, Лакан трактовал его
как индивидуальный казус, как событие, которое имеет
исторические прецеденты (такой прецедент Лакан видел, например, в
отлучении Спинозы от религиозной общины), но в рамках
психоаналитической теории особого осмысления не требует. На самом же деле
во внетеоретических формах деятельности Лакана (например,
в судьбе его семинара, безраздельно подчинявшего слушателей
гипнотической власти мэтра, и его школы (1964-1981), учрежденной
и затем распущенной единоличной волей Лакана) так или иначе
выражалась эмоциональная подоплека этих процессов, подвергалась
сомнению правота лакановской расстановки акцентов в анализе
психоаналитического общения. По-видимому, при всей
неповторимости личности Лакана, это были закономерные явления,
во многом обусловленные спецификой психоанализа как особого
праксео-гносеологического комплекса, в котором суггестивные,
эмоционально-аффективные моменты неизбежно играют не менее
важную роль, чем когнитивно-интеллектуальные.
Многочисленные переосмысления во французской
психоаналитической ситуации 1970-х годов (затем они периодически
возобновлялись, порождая различные теоретические обоснования)
устремились в тех трех главных направлениях, по которым,
согласно Фрейду и Лакану, шло «вытеснение» глубинных
эмоционально-аффективных компонентов межличностного общения: это
история идей, структура психоаналитического сеанса и
функционирование психоаналитического института. Прежде всего
становится очевидным не только присутствие аффективных элементов
(например, внушения, гипноза) в психоанализе, но и наличие
преемственности между психоанализом и предшествовавшими ему
психотерапевтическими практиками: «Трансфер — это то, что
остается от одержимости, он получается в результате ряда изъятий.
Дьявол упраздняется, припадочные остаются. Магический
антураж упраздняется, "магнетизированные" Месмера остаются. Мес-
меровский чан1 упраздняется, гипноз и связь между врачом и
пациентом остается. Гипноз упраздняется, трансфер остается»2.
Кроме того, в психоанализе как таковом вновь обнаружилось
нечто напоминающее гипнотическое внушение. Зависимость
Сосуд, с помощью которого Месмер обеспечивал циркулирование «флюида».
Mannoni О. Un commencement qui n'en finit pas. Paris, 1980. P. 49-50.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другое: в спорах... 331
гипнотизируемого от гипнотизера, установление
избирательной, интенсивной, сомнамбулической связи, способность
испытывать внушение, воспринимать передаваемые мысли, — все это
проявилось в самом средоточии аналитического курса — в форме
трансфера1. Но верна и обратная зависимость: многое из того,
что имеет значение для психотерапии, имеет значение и для
внушения. «Если в переносе есть внушение, то это значит, что в
психоаналитической ситуации производится и воспроизводится
в абстрактной форме сущность всякого межличностного
отношения, которое содержит в себе желание воздействовать и
самому испытывать воздействие, активно или пассивно подражать;
<...> психоаналитикам стоило бы признать, что трансфер не
случайно возник из внушения и гипноза, что в них обоих есть нечто
такое, что присутствует в любом отношении врача и пациента»2.
Тем самым признается, что наличие в психоанализе элементов,
сходных с внушением и гипнозом, свидетельствует об
ограниченности трактовок психоаналитического общения как
подконтрольного сознанию и рефлексии, дискурсивно выразимого.
Далее, эта тематизация «тайны» психоаналитического общения
позволила обнаружить гипно-суггестивные моменты в самом
фундаменте психоаналитического института, в структуре
психоаналитического сообщества, во взаимоотношениях учителя и ученика —
и прежде всего применительно к Фрейду и Лакану. «Последователи
Лакана смогли прочитать Фрейда как текст, подлежащий анализу,
а не как текст, изрекающий истину, потому, что Лакан совершил за
них эту работу. Они могут отстраниться от Фрейда или, иначе,
устранить свой перенос (трансфер) на Фрейда, лишь потому, что
в этой работе их защищает непроанализированный ими перенос на
Лакана как подлинного гаранта истинной интерпретации.
Изначально и на веки веков они присягают на верность Лакану. Цитаты
из Лакана функционируют в группах как истина в последней
инстанции, как вердикт...»3. И еще одно яркое свидетельство: «Лака-
новское учение — это не передача знания, но осуществление силы.
Университетский преподаватель, отдавая свое знание, перестает
быть его единоличным обладателем, так что в итоге студент должен
в принципе знать о предмете почти столько же, сколько знает его
учитель, и ему остается лишь поблагодарить учителя и уйти. Но от
Лакана невозможно уйти с прибылью. Учитель хранит свое
сокровище — знание, которым он не обладает, но которое он воплоща-
Borch-Jacobsen Λ/. Le sujet freudien. Paris, 1982.
Rousiang F. Un «discours naturel» // Critique. 1983. Mars. P. 209.
RoustangF. Un destin si funeste. Paris, 1976. P. 36.
332 Познание и перевод. Опыты Философии языка
ет»1. Эти полемичные, страстные свидетельства дают нам не
подлинный лакановский портрет, но скорее доказательства теснейшей
эмоциональный связи между учителем и учениками, тех надежд
и разочарований, которые говорят нам о психоанализе больше, чем
многие спокойно и систематично написанные учебники. Они
говорят нам об остроте проблемы человеческого общения, которая не
только не миновала психоанализ, но, напротив, нашла в нем свое
яркое выражение.
Итак, в результате этой историко-логической реконструкции,
которая началась с попытки выявить специфику
психоаналитического общения, наметить пределы перевода истории жизни в
историю психоаналитического курса, а затем зафиксировать те
преобразования, которые в этом процессе происходят, мы подошли
теперь с другого конца к проблеме перевода, предстающей перед
нами другой своей гранью. Речь идет о проблемности соотнесения
сознания и бессознательного, неосознанного и языкового,
языкового и аффективного. Мы увидели ряд диаметрально
противоположных подходов к истолкованию опыта психоаналитического
общения. При установке на «излечение через осознание» (когда
понятое перестает быть патогенным, травмирующим)
первичными и определяющими оказываются вербально-концептуальные
моменты. При установке на «осознание через излечение» (когда
пониманию доступно лишь то, что становится эмоционально
приемлемым и «впускается в сознание») первичными и
определяющими оказываются невербальные, аффективные моменты. Установка
на «осознание через язык» своеобразна по отношению к обоим
этим подходам: она требует широкой трактовки языка и
предполагает как схемы прояснения, так и наличие непроясненного
аффективного опыта. В любом случае современные тенденции в
осмыслении психоанализа так или иначе вынуждены признавать
и прорабатывать не только то, что может быть перенесено в план
языкового выражения, но и те слои опыта, которые в той или иной
форме ставят проблему психоанализа как межличностного
отношения со всеми его нерациональными «остатками».
По-видимому, «большой круг» психоаналитического
общения - назовем его так, хотя тут нет ни круговой замкнутости,
ни каких-либо буквальных повторений, - охватывает как
педагогические отношения учителя и ученика, так и интерпретативно-
терапевтические отношения аналитика и пациента. Он намечается
в результате поиска более свободных форм общения и
одновременно включения в это общение все новых регистров, способных
стимулировать взаимодействия эмоции, слова, концепта. Быть мо-
George F. L'Effet Tau de Poêle de Lacan et de lacaniens. Paris, 1979. P. 36.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 333
жет, поначалу тип схватывания и «исследования» этих инноваций
в опыте общения должен быть скорее художественным. Вспомним
Стендаля, который в своем трактате о любви вполне строго
рассуждал о способах кристаллизации любовного чувства. Понятно,
впрочем, что не только художественными средствами можно
описывать, скажем, созерцательные или динамические аспекты
общения или же восприятие эстетического предмета. Есть на что
обратить внимание в этом материале и с позиций познавательной,
рефлексивной установки: именно потому, что человеческое
общение в психоанализе представляет собой не сырую материю симби-
отических слияний, но в известном смысле уже абстрагированный
от такой нерасчлененной слитности процесс, мы и можем ставить
перед собой задачу «теоретизации» психоаналитического опыта
общения.
Вполне понятно, что такая теоретизация предполагает промыс-
ливание различных компонентов во взаимодействии
эмоционально-практического, концептуального, словесного в
психоаналитическом общении. Особую сложность представляет, например, анализ
соотношений между языковыми и аффективными
представлениями, а также, шире, — между уровнем представлений и дорепрезента-
тивным уровнем. Если согласиться с тем, что для психоанализа
и других форм «психопрактики» целью все же является излечение
(сколь бы различно ни понималось это в разных школах и подходах),
то какой из уровней общения больше вносит в реализацию этой
цели — словесный или дословесный, эмоциональный или
концептуальный? Можно предположить, что словесные и несловесные,
дискурсивные и додискурсивные формы общения, соотносятся между
собой соответственно как побуждающая причина и условие
реализации. Так, вербальное общение, в известной мере управляющее
потоками душевной энергии, подталкивает к тому, что можно назвать
саногенными изменениями. Однако важнейшим условием
реализации этого побуждения выступает эмоциональный контакт на доди-
скурсивном уровне. Если нет этого глубинного контакта,
проблематичным становится и включение языковых механизмов общения.
Таким образом, если вернуться к нашей начальной схеме,
иллюстрирующей специфику психоаналитического общения через
своеобразный перевод жизненной истории в психоаналитическую
историю, то можно предположить, что побуждающей причиной
к изменению выступает вербализация травмы (рассказ и работа со
словом), а условием его реализации — невербальные механизмы
общения. В итоге мы видим здесь не только феномены перевода
и непереводимости, но и определенные формы их парадоксального
взаимодействия, в которых собственно и вырабатываются
многоплановые схемы перехода от психических травм к исцелению или
334 Познание и перевод. Опыты Философии языка
хотя бы душевному облегчению — через высказанное слово,
выраженную эмоцию, выстроенное понятие.
§ 3. Следы истории: перевод под вопросом
Речь здесь пойдет об одной «идеологически непереводимой»
книге - «Рождении психоаналитика: от Месмера к Фрейду»
Р. де Соссюра и Л. Шертока. Путь этой книги к российскому
читателю был долгим и трудным1. Во Франции она вышла в начале
1970-х годов и была переведена на многие языки. В СССР судьба
изданий, посвященных бессознательному, психоанализу,
фрейдизму, складывалась непросто, сейчас все об этом забыли, а
потому полезно будет напомнить некоторые моменты. Я перевела эту
книжку сразу после Тбилисского конгресса по бессознательному
(1979), в начале 1980-х годов. Однако в течение десяти лет она
пролежала в портфеле издательства «Прогресс» под спудом. Ни добрые
отношения одного из ее авторов, Л. Шертока, с издателями, ни его
готовность изменить заглавие, где стояло запрещенное тогда слово
«психоанализ» (вместо «Рождения психоаналитика» предлагался,
например, вариант «Одиссея психотерапии»), результата не
приносили: сдвинуть дело с мертвой точки не удавалось2. Напомню, что
1 Sausssure R., Chertok L. La naissance d'un psychanalyste: de Mesmer à Freud. Paris,
1973; в рус.пер.: ШертокЛ., Соссюр P. de. Рождение психоаналитика: от Месмера
к Фрейду. М., 1991. Авторы этой книги - широко известные ученые. Ремон де
Соссюр одним из первых представил психоаналитические идеи франкоязычному
миру: его книга «Психоаналитический метод» появилась в 1922 г. с предисловием
самого Фрейда. В дальнейшем он стал вице-президентом Международной
психоаналитической ассоциации и президентом Европейской
психоаналитической федерации. Леон Шерток, видный клиницист, историк науки. (Ср. в рус. пер.
его монографии «Гипноз» (М., 1972) и «Непознанное в психике человека» (М.,
1982), а также статьи: Возвращаясь к проблеме внушения // Бессознательное:
природа, функции, методы исследования. Т. IV. Тбилиси, 1985; Он же. От Лавуазье
к Фрейду (совместно с И. Стенгерс) // Вопросы истории естествознания и
техники. М., 1988. № 3; Он же. Шарко, Бернгейм, Фрейд, Лакан // Психологический
журнал. М., 1990. № 2, и др.). Л. Шерток - участник Сопротивления, кавалер
ордена Военного креста, он был одним из главных организаторов Тбилисского
симпозиума по проблемам бессознательного (1979). Среди последних его
прижизненных работ «Сердце и разум» (Chertok L., Stengers I. Le cœur et la raison. L'hypnose en
question: de Lavoisier à Lacan. Paris, 1989) и автобиографическая книга «Мемуары
еретика» (Chertok L, Stengers /., Gille D. Mémoires d'un hérétique. Paris, 1990).
Посмертно опубликованные работы Шертока обобщают проблему отношения между
врачом и пациентом (Chertok L. L'énigme de la relation au coeur de la medicine. Paris,
1992 (переизд.: La relation médecin-patient. Paris, 2000).
2 К тому же обнаружилось еще одно препятствие для выпуска книги на русском
языке: в ней упоминалось о добрачном периоде «одиноких практик» Фрейда, что
применительно к творцу новой научной дисциплины, пусть и подозрительной,
считалось совершенно недопустимым.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 335
Тбилисский симпозиум по бессознательному 1979 г. был
реабилитацией бессознательного, но вовсе не был (и не мог быть)
реабилитацией психоанализа. А потому при попытке издания книги
я столкнулась с тем, что можно назвать непереводимостью по
идеологическим причинам: даже при наличии готового перевода книга
не могла быть опубликована, не могла пересечь культурную
границу. Она вышла в свет уже после смерти Л. Шертока — в самом
начале постсоветского периода, который ознаменовался новыми
событиями и прежде всего попытками — поначалу робкими, а потом все
более интенсивными, — возродить психоанализ в России.
Издание этой книги в России стало одним из первых знаков
добрых перемен. Для любознательного читателя это учебник по
истории психотерапевтических учений, который читался как
детективный роман — роман идей и событий, связанных с осмыслением
человеческой психики, межличностных отношений, с тем, что
близко затрагивает - наряду с
профессионалами-психотерапевтами и психологами — каждого человека. Речь в этой книге идет,
конечно, прежде всего о Зигмунде Фрейде и его учении о
бессознательном, психоанализе, возникшем в конце XIX в. и
распространившемся ныне по всему миру. Но не только о нем. Ведь
психоанализ не родился на свет как нечто раз и навсегда завершенное
и самодостаточное. В каждом конкретном акте познания
человеческой души, всех ее нормальных и патологических проявлений
вновь оживают те обстоятельства и предпосылки, которые некогда
вызвали появление психоанализа и были им так или иначе учтены:
прошлое входит в настоящее и незримо присутствует в нем. Вот
почему эта книга, посвященная истории возникновения
психоанализа, драматическим судьбам предшествовавших ему учений
о флюиде, внушении, гипнозе, важна для нас не только как
исторический документ. Она и сейчас полезна нам как настольное
практическое пособие для психолога и философа, для педагога
и воспитателя, для каждого, кто хочет лучше понять самого себя,
свои мотивы и поступки, свои отношения с другими людьми.
История идей, представленная в книге, - не собрание
нейтральных фактов: она «исполнена страстей и сама вызывает страсти».
Конвульсии и кризы, чудесные исцеления и жестокие
преследования, опасности и сопротивления — в истории европейской
психотерапии последних двух веков мы находим немало увлекательных
эпизодов, то трагичных, то не лишенных комичной театральности.
Бережное обращение с фактами не мешает авторам живописать
яркие портреты - блистательного Месмера, благородного Пюисегю-
ра, великодушного Льебо, мудрого, чуть ироничного Шарко.
Между ними - сознательно или неосознанно - идет перекличка идей,
происходит накопление знаний о человеческой душе.
336 Познание и перевод. Опыты Философии языка
То общее, что проясняется на страницах этой книги, может,
на первый взгляд, показаться нам теперь простым и даже
тривиальным. В самом деле, идейный стержень, вокруг которого
сосредоточены все умственные и душевные усилия представителей
европейской психотерапии XVIII—XIX вв., - это идея
межличностного отношения врача и пациента. Сколько времени и сил
потребовалось, однако, для того, чтобы, как Месмер, перейти от
изучения влияния планет и воздействия магнитов к идее
универсального флюида - особой физической субстанции, более
гармоничное распределение которой в контакте врача и пациента
приводит к исцелению больного1; чтобы заметить, как Пюисегюр, что
помимо «магнетического флюида» для излечения необходимо
отчетливое желание исцелять у врача и особое, похожее на любовь,
состояние зависимости у пациента; чтобы понять, как де Виллер
в его «Влюбленном магнетизере», что не только желание врача
«исцелять», но и собственное желание больного выздороветь
становится условием успеха в лечении, и т. д.
Эти исследования, представившие важный фрагмент истории
бессознательного, помогают нам теперь понять, почему
осмысление этого аспекта психотерапии давалось так нелегко, увидеть, что
этому мешали не только «эпистемологические препятствия»,
но и различные внеэпистемологические обстоятельства. Не
случайно ведь месмеровский «животный магнетизм» был осужден как
«опасный для нравов» (экземпляр доклада Байи, члена
специальной комиссии короля Людовика XVI, с таким заключением
хранился в личной библиотеке Фрейда), а его исцеляющее
воздействие на больных было приписано воображению. Сексуальный
элемент магнетизма, а в дальнейшем внушения и гипноза, надолго
стал камнем преткновения для экспериментов и исследований
в этой области. И дело здесь, пожалуй, было не только в
пуританской морали, но и в более глубоко укорененных социальных табу,
десакрализовать которые не смог, вопреки распространенному
мнению, и сам психоанализ2.
Только осознавая это, мы начинаем понимать, что
наукообразная естественно-научная форма размышлений о гипнозе и внуше-
1 Это развитие идей сопровождалось в данном случае поистине революционным
сдвигом в медицинской практике: посредством особых пассов и прикосновений
врач добивался у больного припадка, сопровождавшегося потерей сознания, а
затем, вследствие «перераспределения флюида», - улучшения состояния пациента.
Это в корне противоречило официальной медицине того времени с ее
предписаниями и канонами, согласно которым врач не имел права прикасаться к больному
и обращался, непременно по-латыни, с наставлениями к его душе.
2 См.: Chertok L. Psychothérapie et sexualité. Considérations historiques et
épistémologiques// Psychothérapie. Paris, 1981. № 4. P. 218.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая, Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 337
нии в XIX в. — это лишь одна сторона медали, что за сухостью
описаний подчас скрывается стремление избежать нравственной
опасности, исключить возможность злоупотреблений. На мысль об
этом наводят и нейрофизиологическая трактовка гипноза у Брейда,
и чисто физиологическое его описание у Бернгейма, полностью
исключающее роль межличностного фактора в лечении, и акцент
Шарко на механических, телесных реакциях при гипнозе, никак не
связанных, по его мнению, с человеческими страстями и
привязанностями, и полное отрицание межличностных отношений у
ученика Шарко П. Рише, объяснявшего гипнотическое воздействие
повышенной тактильной чувствительностью, и пр.1.
Новую и одновременно законченную форму придает этой
психотерапевтической идее концепция Фрейда. Эта форма
парадоксальна: Фрейд признает несомненную реальность межличностного
взаимодействия в психологическом (а не только физиологическом)
плане и вместе с тем предельно отстраняется от этой реальности,
стремится «изъять» себя из ситуации личностной вовлеченности,
доказать свою объективность, беспристрастность и нейтральность.
Акт творения психоанализа и рождения психоаналитика был для
Фрейда одновременно и отказом от гипноза и внушения (в его
сильной, прямой форме), и признанием особой реальности «трансфера»,
или переноса эмоций пациента на врача (а также обратного
переноса или контртрансфера2). Фрейд отказался от гипноза и внушения
по нескольким причинам: гипноз ограничивает свободу пациента,
мешает осознанию сопротивлений и, стало быть, прошлых травм;
кроме того, число больных, способных входить в глубокое
гипнотическое состояние, несоизмеримо меньше, чем число больных, кото-
1 См. об этом замечательные историко-архивные исследования Жаклин Карруа:
CarroyJ. Hypnose, suggestion et psychologic L'invention de sujets. Paris, 1991; idem. Les
personnalités doubles et multiples. Entre science et fiction. Paris, 1993. Ср. также:
Importance de l'hypnose / Sous la dir. d'Isabelle Stengers. Paris, 1993.
2 Сейчас в русском психоаналитическом языке все больше закрепляется
смешанное латинско-русское слово «контрперенос». А теперь насчет терминов «перенос»
и «трансфер», которые употребляются в тексте книги взаимозаменимо. Разумеется,
в русском психоаналитическом языке слово «перенос» предпочтительнее
«трансфера». Однако закреплению этого термина мешают, в частности, ситуации, в которых
оно используется в форме прилагательного (это могут быть прилагательные «транс-
ферный», относящийся к трансферу, или «трансферентный», порождаемый
трансфером: например «трансферентная любовь» - тот самый «мезальянс» - «ложный
альянс», который возникает в результате переноса чувств пациента на аналитика).
Вряд ли можно сказать «переносная любовь»: ведь слово «переносный» уже имеет
в русском языке закрепившееся, семантически неприемлемое значение. Однако
и от «трансфера» терминологического счастья нет, тем более что за последнее
десятилетие это слово стало употребляться повсеместно (трансфер [или трансферт]
денег, путешественников и пр.) Словом, для меня этот вопрос пока остается
открытым, а термины «перенос» и «трансфер» я употребляю взаимозаменимо.
338 Познание и перевод. Опыты Философии языка
рых можно подвергать психоанализу - оно практически
неограниченно. Интеллектуальное решение Фрейда, связанное с созданием
психоанализа и ситуаций экспериментальной «трансферентной»
любви, подконтрольной врачу, было обусловлено, разумеется,
не только такой личной особенностью Фрейда, как «страх перед
сексуальностью». На принятом Фрейдом решении сказались — прежде
всего в его трактовке трансфера - каноны естественных наук того
времени с их требованием воспроизводимости наблюдаемых
явлений, их подвластности контролю экспериментатора и др.
Для возникновения психоанализа нужны были, помимо
открытия трансфера, и другие компоненты, например, идея
психологической (а не чисто физиологической, как считалось ранее) природы
истерии, важности детских психических травм (включая и
сексуальные) в дальнейшем развитии личности и в образовании тех или
иных патологических симптомов, владение техникой гипноза,
способность вызывать, а затем устранять экспериментальные неврозы,
доказывая тем самым действенность бессознательного, выявление
в истерии сексуальных аспектов, разработка самого понятия
бессознательного и пр. Все эти составные элементы были объединены
в одну общую теорию в 1895 г. Однако связывает все эти различные
линии воедино, с точки зрения авторов книги, именно концепция
переноса, в котором препятствие к познанию и
психоаналитической работе превращается в стимул и движущую силу такой работы.
Для того чтобы понять, как, собственно, происходит такое
превращение, постараемся еще раз представить себе
психоаналитический сеанс. Основное правило для больного - говорить все, что
приходит в голову. Он обычно лежит на кушетке, видимый врачу,
но сам не видящий врача, и рассказывает, что хочет. Поначалу
Фрейд принимал содержание рассказов своих пациентов за
реальность, но вскоре понял, что речь идет о неосознанно искаженных
событиях, о фантазмах - воображаемых слияниях желаемого
и действительного. Одни только паузы или, скажем,
ограниченность, бедность ассоциаций применительно к какому-то событию
или предмету уже могут свидетельствовать для врача о наличии
вытеснений — то есть о передвижении травмирующих событий в
более спокойные зоны бессознательного, где они уже не причиняют
невыносимой душевной боли, но лишь косвенно проявляются
в изменениях речи и поведения. Как заключал Фрейд на основе
анализа сновидений - особенно плодотворного материала для
наблюдения за игрой ассоциаций, - язык, речь больного,
независимо от тех вторичных переработок и рационализации, которые
придают рассказу о сновидении связный вид, позволяют судить
о наличии тех или иных психических травм, как правило,
пережитых в детском возрасте. В любом случае сгущение (совмещение
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 339
различных понятийных рядов) и смещение (выдвижение на
передний план какой-то одной, на первый взгляд незначительной
детали и соответственно искажение всего повествования) элементов
речи свидетельствует о психической патологии и требует
дальнейшей работы - распутывания запутанного и восполнения
отсутствующего. Во время рассказа психоаналитик, как правило,
молчит, но поддерживает рассказ своим вникающим слушанием.
Нередко пациент обращается к врачу с вопросом или, как позднее
стал говорить Ж. Лакан, с «запросом». Следуя правилу
«нейтральности», врач понимает, что чувства пациента направлены не на
него лично, а на некое «третье» лицо (на какой-то значимый в его
жизни персонаж), и потому не поддается на «провокации», не
отвечает ни на положительные, ни на отрицательные чувства
пациента, направляя тем самым его душевную энергию на осмысление
событий собственной жизненной истории. Неудовлетворенный
«запрос», странствуя по различным уровням психики, меняя свою
форму, все ближе подходит к тому архаичному психическому
слою, где в сколь угодно искаженном и запутанном виде
запечатлены неразрешенные психические конфликты или — еще глубже —
потребность в материнской (родительской) любви.
Как известно, Фрейд считал свою концепцию психоанализа и,
в частности, трансфера, научной и рациональной. Воспоминание,
прояснение и осознание жизненных травм должны были, как ему
казалось, привести к излечению больного. Трактовка трансфера
как рационально контролируемой процедуры должна была
подтвердить необратимость генезиса психоанализа как научной
дисциплины из донаучных видов психотерапевтической практики:
по сути, Фрейд считал психоанализ излечением через осознание.
Таким образом, он преувеличил силу разрыва психоанализа с его
эмоциональными, гипносуггестивными истоками. Именно этот
момент со всеми последующими сомнениями Фрейда ярко показан
в книге Шертока и де Соссюра. Отказавшись в своей практике от
гипноза, Фрейд, по-видимому, недооценил и сложность
устранения взаимного переноса эмоций между врачом и пациентом, и
наличие в психоанализе неконтролируемого внушения,
подчиняющего больного воле и мысли врача в большей степени, нежели это
допускает тезис о «нейтральности» и «невовлеченности»
психоаналитика. Столь же избирательно Фрейд воспринимает те трудности,
которые связаны с функционированием психоанализа как особого
социального института1. Речь идет прежде всего об отношениях
между членами психоаналитического сообщества, учителями и уче-
1 Фрейд, как известно, не только организовал Международную
психоаналитическую ассоциацию, которая была призвана распространять и пропагандировать его
340 Познание и перевод. Опыты Философии языка
никами. Как известно, условие самостоятельной практики для
психоаналитика — прохождение курса личного психоанализа под
руководством опытного наставника («дидакта»). При передаче
психоаналитических навыков и знаний особую роль приобретает личная
эмоциональная зависимость ученика от наставника и,
следовательно, возникает опасность работы в психоанализе лиц с «неснятым
трансфером», институционализация пожизненного неравноправия
между членами психоаналитического сообщества.
Дальнейшее развитие психоанализа заставило усомниться
в правомерности самой формулы «излечение через осознание».
Интерес к аффективно-эмоциональным сторонам
межличностного отношения все более усиливался. Споры и обсуждения
вызывают прежде всего такие вопросы: столь ли радикален
«эпистемологический разрыв», отделяющий психоанализ от предшествующих
видов психотерапии (внушения, гипноза)? Столь ли
подконтрольна сознанию психоаналитическая практика? Столь ли специфичен
психоанализ как социальное установление среди таких
авторитарных институтов, как церковь или армия? Все эти три аспекта
недооценки эмоционально-аффективного компонента в
психоанализе - исторический, практико-терапевтический и социальный -
были оспорены его последующей историей1. Однако это
произошло не сразу. Сначала предстояло сделать еще один шаг по пути
развития тех традиций психоанализа, которые предполагали
верность Фрейду. И для понимания этого шага необходимо
обратиться к той странице истории психоанализа, без которой многое
остается неясным в идейном подтексте его современной ситуации.
Одним из крупнейших последователей Фрейда, сохранивших
и усиливших интеллектуалистский пафос психоанализа, был Жак
Лакан. Как уже неоднократно здесь отмечалось, в
психоаналитической теории и практике Лакан заостряет именно те интеллектуаль-
но-интерпретативные моменты, которые считал существенными
и сам Фрейд, и потому лакановский девиз «назад к Фрейду»
сохраняет свой смысл, несмотря на все произведенные им
переосмысления фрейдовской программы. Франция довольно сильно запоздала
с признанием и распространением психоанализа: вплоть до конца
учение; он верил в возможность организации-братства и даже подарил своим
ближайшим сподвижникам (Ференци, Абрахаму, Джонсу, Заксу, Ранку, Эйтингону)
камни для изготовления перстней в знак взаимной верности и дружбы, хотя и его
отношения с учениками, и отношения его учеников между собой были, мягко
говоря, далеки от идиллических, а подлинные причины этого не могли ограничиваться
«несходством характеров» или же обычными «теоретическими разногласиями».
1 Это показано, в частности, в уже упоминавшемся очерке Л. Шертока
«Возрожденное внушение» // Chertok L. Suggestio rediviva / Resurgence de l'hypnose. Une
bataille de deux cents ans. Paris, 1984. P. 11-38.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая, Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 341
Второй мировой войны число практикующих психоаналитиков
здесь было невелико. Именно с Жаком Лаканом, «французским
Фрейдом»1, связан подъем французского психоанализа в
послевоенные годы. Лакановское отношение к психоанализу было
попыткой «большого синтеза», стремлением включить в психоанализ
данные современных гуманитарных наук — этнологии,
антропологии, литературоведения, математики, философии и, прежде всего,
лингвистики. Акцент на языке и речи, на символическом уровне
психики, где, собственно, и действует язык, порядок, закон, новая
ступень деперсонализации психоанализа, при которой общение
врача и пациента предстает, по сути, как саморазвитие языковых
интерпретаций, а роль врача сводится к пунктуации этого
движения языка, - все это говорит о том, что в Лакане, несмотря на все
головокружительные языковые игры, было стремление к своего
рода интеллектуализации психоаналитической работы. Об этом
свидетельствует, в частности, его радикальный отказ от гипноза и
внушения (в противоположность более мягкой позиции Фрейда)
и широкая, включающая не только вербальные, но и
топологические модели, опора на истолкование и прояснение. Как известно,
Лакан не ставил целью излечение и полагал, что оно может быть
лишь случайным побочным следствием психоаналитического
процесса. Что же касается внетеоретических форм деятельности
Лакана, то в них с достаточной определенностью выражалась
эмоциональная гипносуггестивная подоплека психоаналитических
процессов, порождая сомнения в правильности акцента на интел-
лектуально-интерпретативную сторону психоанализа в ущерб его
эмоционально-аффективной стороне2.
Справедливости ради нужно отметить, что уже в 1920-е годы
ученики Фрейда Ференци и Ранк подчеркивали значение эмоцио-
1 Взгляд на Лакана как на «французского Фрейда» раскрывается в книге:
TurkleSh. Psychoanalytic Politics. Freud's French Revolution. L., 1981.
2 В самом деле, конфликт с Международной психоаналитической ассоциацией,
закончившийся отлучением Лакана от официально признанного психоанализа,
ситуация массовой и вполне «гипнотической» зависимости учеников и пациентов
от слова и поступка мэтра, многократные расколы в лоне французского
психоанализа, сложная и почти «скандальная» обстановка создания, а впоследствии
роспуска Парижской школы фрейдизма (1964-1980) - все это лишь подчеркивало саму
ситуацию воли к власти, болезненное противоречие между теорией и практикой,
между индивидуальным и институциональным, между «призванием» к
психоанализу, за которое ратовал Лакан, и необходимостью каких-то внешних форм
социального контроля и социального обеспечения этой «невозможной профессии».
Вокруг этих проблем в современном психоанализе идут бурные споры (см.,
например: Green A. Instance tierce ou rapports du tiercé? // Le Monde. 1990.10 fév. P. 2). Ср.:
Green A. Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine. Méconnaissance et
reconnaissance de l'inconscient. Paris, 2002.
342 Познание и перевод. Опыты Философии языка
нально-аффективных компонентов в психоанализе, утверждая,
что осознание позволяет устранить симптомы лишь в тех случаях,
когда мы имеем дело не с собственно бессознательным, а лишь
с предсознательным, неполно вытесненным: само
бессознательное, которое существует где-то на довербальном уровне,
невозможно ни вспомнить, ни пережить, ни осознать1. Актуальность
всех этих пророческих предупреждений в полной мере выявилась
в рамках французского психоанализа к концу 1970-х годов.
Сомнения и переосмысления сосредоточились как раз в тех трех
направлениях, по которым у самого Фрейда, а затем и у Лакана шло
«вытеснение» глубинных эмоционально-аффективных компонентов
психоанализа. Все более очевидным становится не только
присутствие в психоанализе аффективных моментов (в частности,
внушения и гипноза)2, но и наличие непосредственной
преемственности между психоанализом и предшествовавшими ему
психотерапевтическими практиками. Кроме того, гипносуггестивные
моменты обнаруживаются в самом фундаменте
психоаналитического сообщества, во взаимоотношениях учителя и ученика -
прежде всего по отношению к Фрейду и Лакану.
Ныне подвергается сомнению главный тезис Фрейда о
господстве осознания над чувствами, о преимущественной роли
интеллектуального истолкования в излечении больного. Эти сомнения
возникли прежде всего в среде англо-американских
психотерапевтов и психоаналитиков (Боулби, Малер, Масуд Кан, Уинникот,
Когут и др.) после Второй мировой войны. Философское
обоснование такого подхода дается в работах О. Маннони, Ф. Рустана,
М. Борш-Якобсена3 и прежде всего — М. Анри4, который
1 Ferenczi S.f Rank О. The development of psychoanalysis. N.Y., Washington, 1925. См.
также: Chertok L. Le conflit Freud - Ferenczi ou Théorie et pratique en psychanalyse //
Sixièmes journées de formation continue. Paris, janvier, 1986. Ср.: Bertrand M. e.a.
Ferenczi, patient et psychanalyste. Paris, 1994; Bokanowski T. Sandor Ferenczi. Paris, 1997.
2 Ср.: «Зависимость гипнотизируемого от гипнотизера, установление
избирательной, интенсивной, сомнамбулической связи, способность испытывать
внушение, воспринимать передаваемые мысли - все это вновь обнаружилось в самом
средоточии аналитического курса в форме трансфера» Borch-Jacobsen M. Le sujet
freudien. Paris, 1982. P. 189.
3 Русская транслитерация фамилии этого исследователя применительно к
французскому периоду должна была бы звучать как Борш-Якобсен, а применительно
к следующему американскому периоду соответственно - Борч-Джекобсен (как его
сейчас и транслитерируют в нечастых ссылках на русском языке). Так как у меня
речь идет прежде всего о его работах французского периода, в которых сложились
основные концептуальные моменты его подхода к анализу и критике
психоанализа (в американский период эта критика лишь набирает силу), я исхожу из
французского произношения его имени.
4 Henry M. Généalogie de la psychanalyse. Paris, 1985.
Раздел первый. Познание и язык. Глава шггая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 343
утверждает, что понять Фрейда — значит по-новому взглянуть на
«генеалогию» психоанализа. Раз процессы архаического, симбио-
тического уровня, участвующие в психоанализе, развертываются
там, где еще нет Я и вообще каких-либо аналогов
субъект-объектных структур, значит, на этом уровне невозможно представление
чего-либо, относящегося к бессознательному, в вещной,
предметной форме, а потому — невозможно забывание, вспоминание,
осознание тех или иных бессознательных содержаний в форме
представления. Говорить о представлении, полагают М. Анри
и М. Борш-Якобсен, можно лишь применительно к вторично или
неполно вытесненным психическим содержаниям,
сформировавшимся на стадии эдиповых конфликтов. Их действительно можно
забыть, вспомнить, осознать - но ведь это не бессознательное или,
точнее, не все бессознательное, но лишь его наиболее
поверхностная часть. Самый решительный вывод, который в подобных
случаях делается, таков: бессознательное вообще не может быть
объектом научного познания, коль скоро оно, по сути своей, никогда
не дано нам в форме представления. А раз у нас нет надежных
знаний о бессознательном, значит, у нас не может быть и практики,
основанной на знании о бессознательном.
Подобно тезису о первенстве интеллектуального перед
аффективным, сомнению подвергается и понятие трансфера как
средства разрешения трудностей межличностных отношений на
уровне осознания. Проводя своеобразную деконструкцию понятий
«трансфер» и «внушение», Шерток обнаруживает истоки обоих
понятий в преданалитическом опыте, показывает неправоту или
ограниченность современного психоаналитического «логоцент-
ризма»1. Ведь и сама речь в психоанализе пронизана
аффективными отношениями. А разве «свободные ассоциации» действительно
«свободны» и могут быть свидетельством освобождения субъекта?
Если Шерток видит элементы внушения (особенно косвенного) не
только в гипнозе, но и в психоанализе, то М. Борш-Якобсен
проводит еще более глубокую реконструкцию психоаналитического
процесса. Он усматривает общее звено между психоанализом
и внушением не в доаналитическом гипнозе, а на уровне транса.
Таким образом, поиск общего целительного компонента в
различных видах психотерапии подводит ко все более глубоким и
архаичным формам существования психики.
В самом общем виде вопрос о внушении, гипнозе и их месте
в психоанализе — это вопрос одновременно и о внутренней,
1 Современные американские исследователи (прежде всего Нэд Лукачер и
Герман Рапапорт) истолковывали этот мыслительный путь в духе предлагаемой
Ж. Деррида деконструкции европейской логоцентристской метафизики.
344 Познание и перевод. Опыты Философии языка
и о внешней границе психоаналитического опыта. Однако
сходство между гипнозом и психоанализом вовсе не означает, что
гипноз и внушение призваны заменить психоанализ. Гипноз
и психоанализ - это различные и по-разному ориентированные
практики: в психоанализе есть много такого, что никак не
связано ни с внушением, ни с гипнозом, и, наоборот, гипноз - это
вполне самостоятельная разновидность психотерапевтической
практики (в современных исследованиях, например,
выдвигается гипотеза о роли гипноза в повышении иммунитета и
соответственно - в противораковой терапии). Кроме того, хотя гипноз
и психоанализ в чем-то близки, один воздействует прежде всего
на волю, а другой - на сознание1. В любом случае изучение
гипноза проливает свет на проблему пределов и границ
собственного опыта психоанализа, определяющих и его дальнейшую судьбу.
Из всего сказанного становится очевидно, что исследование
Шертока и де Соссюра в известной мере противостоит как
классической традиции психоанализа, так и некоторым его
современным вариантам. Однако водораздел между этими позициями
проходит не там, где, как нам кажется, мы его видим. Позиция
авторов это не «гносеологический сентиментализм» с его
предпочтением чувств и аффектов перед абстрактным разумом и не
антирационализм с характерным для него стремлением укрыться
от ответственности, от концептуально организованной мысли на
уровне «симбиотических» слияний; скорее это попытка
прорваться к новым пластам осмысления аффекта, эмоции, чувства - в
соотношении с разумом, а не безотносительно к разуму. В
частности, призывы к междисциплинарным исследованиям гипноза
и внушения как раз и подразумевают возможность более
глубокого рационального постижения тех областей человеческой души
и тела, о которых нам еще так мало известно.
Итак, основная идея книги — значимость аффективных
факторов, внушения и гипноза в генезисе психоанализа, в
психоаналитической практике, вообще — в структуре межличностных
отношений. Возникает вопрос: насколько актуален для нас сегодня
этот урок? Нужен ли он нам вообще? Существует мнение, что для
нас эта проблематика не очень актуальна, поскольку у нас есть
свои русские традиции психоанализа, для которых разрыв между
гипнозом (внушением) и психоанализом никогда не был
характерен. Согласно одной из традиций в рамках русского психоанали-
1 Однако гипноз, как утверждается, в частности, в «Возрожденном внушении»,
должен стать частью профессиональной подготовки психоаналитиков. Это
позволит, снимая табу, и поныне тяготеющие над гипнозом, продвигаться к
прояснению его роли в психотерапии.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 345
за, гипноз и трансфер - это разные проявления одного и того же
врожденного механизма, обеспечивающего в первые годы жизни
ребенка усвоение тех или иных навыков поведения в общении
с близкими. Другая традиция была связана с интересом к
физиологическим обоснованиям учения Фрейда: в 1920-е годы это
нашло свое отражение в обращении русских психоаналитиков к
сеченовской рефлексологии. Интересовался физиологическими
механизмами психоаналитического воздействия и И.П. Павлов.
Однако в данном случае речь идет прежде всего о
физиологических, а не о психологических подходах к гипнозу и внушению.
Однако никакой непрерывной традиции анализа данного круга
проблем в российском читательском восприятии не существует1,
хотя усилиями целого ряда исследователей эта традиция, а также
вся история русского психоанализа раскапываются и
восстанавливаются2.
В общем нынешнее отношение к Фрейду в России нередко
складывается в искаженной исторической перспективе. Налицо,
безусловно, отрадные изменения: это публикация обширной
литературы, создание обществ, активная работа по освоению психоанализа;
однако подчас возникает, или даже сознательно насаждается,
иллюзия, будто это первые шаги возрождения русского психоанализа
после пятидесятилетнего застоя. При этом, чаще сознательно, чем
неосознанно, обходится молчанием или даже искажается роль тех
исследователей (прежде всего — Ф.В. Бассина, А.Е. Шерозии
и др.), чья деятельность в эти трудные десятилетия подготовила
почву, на которой ныне стал возможен серьезный интерес к
Фрейду, бессознательному, психоанализу; преуменьшается значение
такого крупного общественного и научного события, как Тбилисский
1 Как известно, Россия была одной из первых стран, с энтузиазмом принявших
учение Фрейда. В 1920-е годы были изданы на русском языке почти все
существующие в этот момент работы Фрейда, созданы Государственный
психоаналитический институт и Русское психоаналитическое общество. С конца 1920-х
годов начинается долгий сталинский период политической, экономической
и культурной изоляции, во время которого Общество и Институт были закрыты,
а слово «бессознательное», как и само имя Фрейда, практически изъяты из
употребления. Как пишут западные историки русского психоанализа, «советский
фантазм» полной социальной интеграции противоречил конфликтной теории
психики, предложенной Фрейдом.
2 Отметим здесь прежде всего работы В.М. Лейбина, В.И. Овчаренко (ср. Овча-
ренко В.И. Психоаналитический глоссарий. М.,1994; Лейбин В.М.,
Овчаренко В.И. Психоаналитическая литература в России. М., 1998; Овчаренко В.И.,
Лейбин В.М. Антология российского психоанализа. В 2 т. М., 1999; ср. также работы
последнего о западном психоанализе, в частности: Лейбин В. Постклассический
психоанализ. Энциклопедия. В 2 т. М., 2006) и др.
346 Познание и перевод. Опыты Философии языка
симпозиум 1979 г.1 и публикации четырехтомного собрания работ
по психоанализу, которые в течение целого десятилетия были едва
ли не единственным источником знаний о бессознательном и
психоанализе в пространстве Советского Союза. Тбилисский
симпозиум стал событием мирового масштаба, первой крупной встречей по
проблеме бессознательного между российскими (советскими) и
западными учеными. С тех пор идеология страха и недоверия к
данному кругу проблем была подорвана в корне. После печально
знаменитой Павловской сессии, закончившейся разгромом всей
«инакомыслящей» психологии, это действительно было первое
событие, «реабилитирующее» в России Фрейда - правда, в лоне
проблематики бессознательного, а не практики психоанализа.
Нынешний момент в истории психоанализа в России с начала
постсоветского периода - имеет особое значение. И здесь уже
заметно различие между 1990-ми и 2000-ми годами. Первое
десятилетие возврата психоанализа на российскую почву столкнулось
с ситуацией идеологического раскрепощения языка и мышления
и одновременно - с травматическим обострением разрыва между
желаемым и действительным, между словом и реальностью. В
западной, да и в российской литературе эта ситуация как правило
истолковывается как массовый общественный инфантилизм,
отсутствие сколько-нибудь сформировавшейся «эдиповой стадии»
и вместе с тем как отсутствие «зрелого поколения», которое бы
стремилось «занять место отца» и было готово взять на себя
ответственность за собственные поступки и решения. Напротив,
общество состоит из «детей разных возрастов», стремящихся укрыться
от ответственности в лоне государства — как любящей матери,
обязанной заботиться о своих детях. Существуют и другие
истолкования этой ситуации: homo soveticus задавлен «строгим отцом»,
он постоянно прислушивается к авторитету, хотя и ненавидит его.
Между этими истолкованиями, пожалуй, нет противоречия,
поскольку они отмечают различные аспекты в общей ситуации
интеллектуальной и психологической беспомощности с
характерными для нее попытками спрятаться за «мы», за коллективного
субъекта2.
1 См.: Бессознательное: Природа, функции, методы исследования. Тбилиси, 1978
(т. I-I1I), 1985 (т. IV) / Под ред. Ф. В. Бассина, А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозии.
2 Одним из самых показательных социально-психологических явлений 1990-х
годов были так называемые сеансы А. М. Кашпировского, применявшего
классическую модель прямого (авторитарного) внушения, весьма распространенного
в Европе XIX в. Правда, подобный ошеломляющий успех эта практика вряд ли
могла бы иметь у кого-либо еще, кроме высокогипнабельной российской
аудитории, готовой - при нехватке лекарств и квалифицированной медицинской
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 347
По-видимому, многое из того опыта, которым сейчас
располагает западный психоанализ во всех его разнообразных
ответвлениях, может нам пригодиться. Еще в 1984 г., размышляя после
одной из своих поездок в СССР о будущем психоанализа в нашей
стране (заметка была в шутку названа «Зигмунд в гостях у
Карла»1), Л. Шерток высказал предположение, что, вероятно, на
повестке дня вскоре будет создание (возрождение)
Психоаналитического общества и соответственно просьбы о его включении
в Международную психоаналитическую ассоциацию. Правда,
Шерток думал тогда, что все это - перспектива не «завтрашнего
дня». Однако «завтрашний день» наступил скорее, чем можно
было надеяться, принеся с собой множество серьезных и
требующих безотлагательного решения проблем, — в частности,
связанных с теоретической, практической и организационной
подготовкой психоаналитиков.
Осмысливая возможности психоанализа как института и как
разновидности психотерапевтической практики, нельзя не
принять во внимание исторические доводы. В 1990-е годы сам факт
отвержения психоанализа в эпоху сталинизма, безусловно,
способствовал его популярности, а в 2000-е этот довод отошел в тень, и на
первый план стали выходить не только общеидеологические,
но также и прагматические пристрастия. Некоторые, однако и
поныне еще настроены на волну сакрализации Фрейда и «защиты»
психоанализа2. Нужна ли широкому российскому читателю, мало
знающему о психоанализе и легко внушаемому, новая икона?
Конечно, нет. В канонизации не нуждается и сама величественная
фигура Фрейда. Психоанализ - учение, способное достойно
отвечать на критику в свой адрес: за те 75 и более лет, которые прошли
после смерти Фрейда, его концепция неоднократно
демонстрировала способность к ответу на новые исторические вызовы.
Конечно, гнаться за потерянным временем, повторяя все зигзаги пути,
пройденного различными видами и формами западного
психоанализа, было бы нецелесообразно. Но каких-то явно
непродуктивных поворотов, по-видимому, можно и нужно было бы избежать,
помощи - верить в чудо и ждать его. В любом случае, бум вокруг Кашпировского
лишний раз показал реальность феноменов гипноза и внушения, а также
необходимость их экспериментального, клинического и теоретического изучения.
1 Chertok L. Sigmund chez Karl // Le Monde. 2.9.1984.
2 Свидетельства этому мы находим в сборниках материалов в кн.: Зигмунд
Фрейд - основатель новой научной парадигмы: психоанализ в теории и практике
(к 150-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда). Материалы Международной
психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г. / Под ред. А.Н.
Харитонова, П.С. Гуревича, A.B. Литвинова. В 2 т. Т. I. М., 2006.
348 Познание и перевод. Опыты Философии языка
учитывая и осмысляя исторический опыт «рождения
психоаналитика»1.
Большинство современных исследователей психоанализа на
Западе отличаются отчетливо выраженной антигносеологической
установкой. Справедливо считая безнадежными любые поиски
аналогий и соответствий между психоанализом и развитыми науками
естественно-научного типа, они склонны вовсе отрицать научный
и — шире — познавательный смысл психоанализа, усматривая в нем
прежде всего особый опыт личного раскрепощения, достигаемого
через освобождение речи. Конечно, психоанализ способен не
просто включать пациента в отторгнувший его (или отторгнутый им)
социум, но и учить его быть самим собой без «бегства от свободы».
Однако свобода речи — это еще не вся свобода, как мы теперь
убеждаемся на собственном опыте. Здесь представляется уместным одно
важное замечание в связи со свободой и зависимостью,
индивидуальными и социальными аспектами психоаналитического опыта.
В большинстве западных концепций, которые ищут основу
человеческого существа в архаических, инфантильных, симбиотических
взаимодействиях, этот уровень трактуется как фундамент
социальности, особенно в аспекте отношений в группе и в массе. Тогда
досоциальное становится основой анализа социального, а
эмоционально-аффективное, гипносуггестивное трактуется как
социогенное: вряд ли можно согласиться с таким порядком зависимостей
применительно к развитой стадии общественных взаимодействий,
хотя для филогенеза была характерна именно такая
последовательность. Очень часто в качестве примера фундаментального
аффективно-биологического факта, лежащего в основе социальности,
приводится отношение матери и ребенка. Но ведь такое отношение
лишь отчасти биологично, поскольку биологические потребности
выражаются здесь в основном человеческими и социальными, а
вовсе не чисто биологическими средствами.
Хотя в психоанализе подчас трудно провести грань между мифом
и теорией, между художественным и собственно познавательным
опытом, это не означает, что нужно вообще отказаться от таких
попыток. При этом мы неизбежно сталкиваемся с проблемой
соотношения аффективного и когнитивного, суггестии и осознания.
Обобщение психоаналитического опыта на всех его этапах и уровнях
требует осмысления всех звеньев взаимодействия эмоции и слова,
1 Впрочем, некоторые исследователи усматривают в книге Шертока и де Соссю-
ра преувеличение роли французских влияний (а именно Шарко и Бернгейма) в
генезисе психоанализа. В этом упреке, по-видимому, есть доля истины. См.:
Tourney G. Leon Chertok and Raymond de Saussure. The Therapeutic Revolution: From
Mesmer to Freud // Journal of the History of the Behavioral Sciences. 1983. № 3.
P. 297-299.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 349
жеста и понятия. Эта сложнейшая задача заключается в том, чтобы
«обнаружить универсальное на основе бессмысленного, утвердить
возможность общения на основе некоммуникабельного...»1.
Особенно трудно устанавливать соответствия между
языковыми и аффективными представлениями, а также между уровнем
представлений как таковых и дорепрезентативным уровнем. Если
согласиться с тем, что для психоанализа как «психопрактики»
главный критерий — излечение, то что важнее в этом процессе:
слово или эмоция? Вряд ли здесь уместны однозначные ответы.
Для тех заболеваний, которые связаны с нехваткой
эмоционального тепла в раннем возрасте (это почти все психосоматические
заболевания), целительным будет прежде всего
аффективно-эмоциональный контакт. Однако для тех заболеваний, которые возникают
вследствие психических конфликтов более зрелого периода (здесь
имеются в виду вторичные вытеснения представлений, которые
уже имели словесную форму и потому могут быть осознаны),
большую роль будет играть ортодоксальная фрейдовская схематика —
умственные конструкции пережитой истории, воспоминание
и прояснение. Если согласиться с такой трактовкой, то придется
предположить, что и соотношение элементов «гипноанализа»
и собственно психоанализа будет в этих случаях различным. Вряд
ли найдется такой опытный специалист, который смог бы заранее,
без учета конкретных реакций пациента, с уверенностью сказать,
какой способ лечения окажется наиболее эффективным. В любом
случае придется смириться с тем, что Фрейд нам «не всё сказал»2,
что в этой области остается еще много неясного.
§ 4. Психоанализ и науки о человеке
Одним из самых ярких событий на оживленном, но голодном
и безотрадном фоне российской интеллектуальной жизни начала
1990-х годов была российско-французская конференция
«Психоанализ и науки о человеке» (март—апрель 1992)3, и потому о ней
стоит рассказать подробнее. Речь пойдет об этом эпизоде не столь
уж давней истории — о попытке культурного диалога на стыке
психоанализа и социально-гуманитарных наук, которая, по сути, была
1 Rousîang F. Un destin si funeste. Paris, 1976. P. 98.
2 Freud n'avait pas tout dit // L'Express. Paris, 1989. № 1.
3 По следам конференции вышли сборники в России и во Франции:
Психоанализ и науки о человеке. По материалам российско-французской конференции
«Психоанализ и науки о человеке» (30 марта-3 апреля 1992 г.) / Под ред. Автоно-
мовой Н.С., Степина B.C. М., 1996; Carrefours sciences sociales : le moment
moscovite / sous la dir. de Doray В., Rennes J.-M. Paris, 1995.
350 Познание и перевод. Опыты Философии языка
событием, но не нашла в России продолжения. Иными словами,
получилось так, что «перенос» не стал «переводом» и пониманием,
и тому были свои причины культурного и историко-познаватель-
ного характера.
Если первый французский десант в Тбилиси (1979) привез с
собой (наряду с более традиционными подходами) учение Лакана как
средство борьбы против всяческого авторитаризма, то этот, второй
французский десант в Москве стремился показать в России, как
реально работает психоанализ в тесном контакте с
социально-гуманитарными дисциплинами, в каких аналогиях, подходах, методах он
присутствует в этих познавательных областях. Показать это
россиянам приехали не только психоаналитики, но и крупнейшие
французские специалисты в социально-гуманитарных дисциплинах -
антропологии, психологии, социологии труда, истории и др.
Однако, по-видимому, именно здесь (кроме, пожалуй, философов и
эпистемологов) обнаружилось непонимание и отчуждение: в России
психоанализ (и тогда, в начале 1990-х, и поныне) не имеет никаких
форм значимого присутствия в профессионально сложившихся
и академически солидных областях гуманитаристики. К тому же эта
московская встреча1 была фактически последним знаменательным
событием среди тех, что подготавливали нынешнее
распространение психоанализа в России после трудной и долгой паузы советских
времен; уже наступала другая эпоха, все увереннее намечался
переход к психоанализу клиническому - респектабельному, важному,
весьма не бедному, а также к психоанализу институциональному,
озабоченному вопросами статуса, имиджа, клиентуры,
общественного веса той или иной западной традиции, продвигаемой на
российской культурной почве. В начале 1990-х ситуация была иной:
общий интерес к психоанализу был не только естественным
следствием предыдущих запретов, но и тем, что отвечало
потребностям людей, которые в ситуации слома прежних мировоззренческих
устоев искали человечески значимых целей и смыслов, испытывали
нужду в психологической помощи, в психологической работе
с травматическими разрывами поколений и контекстов.
Своя мотивация к проведению этой конференции в Москве
была и у французской стороны. Судьбы психоанализа во Франции
и в России имеют общие черты (хотя во Франции не было ни
репрессий, ни гонений): нигде больше - ни в Европе, ни в Америке -
1 В ее подготовке участвовали, с российской стороны, учреждения Российской
академии наук (Институт философии, Институт социологии, Институт мировой
экономики и международных отношений, Центр наук о человеке), а с
французской - исследовательский центр «Межминистерская миссия научных
исследований и экспериментальных разработок» (сокращенно MIRE) и Министерство
науки и технологии.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 351
психоанализ не приобрел такого общеидеологического и
философского веса, как во Франции, не стал средством осмысления
субъекта и его места в мире, явлением социальной жизни,
содержанием массового сознания. Есть во всем этом, конечно, и другая
сторона: во Франции очень много психоаналитических обществ
и школ, а потому вопрос о сферах влияния приобретает для
французских психоаналитиков отчасти миссионерский, отчасти
политико-идеологический характер.
Прежде всего, как уже отмечалось, психоанализ во Франции -
это нечто гораздо большее, чем анализ психического по
определенной методике. Это достаточно органичная и как бы само собой
подразумеваемая часть массового сознания. Число людей, доверяющих
психоаналитику, прошедших курс личного психоанализа или
готовых его пройти, считающих его нужным и полезным не только в
болезни, но и в обычной, повседневной жизни, во Франции очень
велико. В обстановке кризиса главных философских направлений
и господствующих идеологических систем (ситуация, в чем-то
сходная с нашей) все направления гуманитарной мысли повернулись
к человеку как индивиду. А понятия психоанализа — это прежде
всего понятия, концептуализирующие структуры и процессы
индивидуальной психики, определяющие человеческую судьбу. Силой,
цементирующей все эти процессы, стала во Франции
психоаналитическая и философская концепция Жака Лакана. Лакан оказался
властителем дум целой эпохи, он сумел привлечь на свою сторону
гуманитарную и художественную интеллигенцию самых различных
ориентации1. Важно также иметь в виду — и на московской
конференции это нашло свое выражение — что марксистская мысль во
Франции в течение долгого времени развивалась в сфере
притяжения к психоанализу, выступавшему как область анализа субъекта,
языка, символа, форм социального обмена, как средоточие
многоплановых междисциплинарных пересечений.
1 До сих пор продолжаются жаркие споры об аутентичном прочтении работ
Лакана, об истолковании тех или иных аспектов его концепции, а также о праве
представлять эти идеи широкой публике - комментировать, популяризировать,
переводить его сочинения. Многое и при жизни Лакана, и после его смерти
определялось в этих спорах спецификой неординарной харизматической
личности Лакана, его «шаманством», и поныне вовлекающим адептов в кровавые баталии
за раздел духовного наследия. Однако именно Лакан во многом определил и ту
особенность французского психоанализа, о которой здесь идет речь, - его
открытость всему полю социально-гуманитарных исследований. По сути, именно лака-
новская концепция бессознательного как особого рода языка привлекла к
психоанализу внимание различных дисциплин, таких как лингвистика, риторика,
литературоведение, культурология, социальная антропология и др.
352 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Разнообразие форм и способов такого взаимодействия
психоанализа с науками о человеке с трудом уместилось в рамки секций.
На заседаниях рассматривались вопросы и кластеры вопросов,
затрагивающие одновременно многие социальные и гуманитарные
дисциплины: так, экономические, социальные, психологические
аспекты денег изучались в секции экономики (В. Топалов, А.
Аникин1), смысл труда, мотивации, конфликты - в секции психологии
трудовых процессов (И. Кло, В. Ядов), правовые нормы,
отклонения, социальную динамику - в секции социальной психологии
(К. Фожерон, Б. Грушин), феномены исторической памяти и
амнезии — в историко-психологической секции (К. Ингерфлом,
В. Зинченко), трансляцию ценностей и процесс социализации -
в секции, посвященной проблемам этики и современных
социальных процессов (Ж. Мэтр, О. Генисаретский); пленарные
заседания были посвящены проблемам психоанализа и теории познания
(П. Гийомар, В. Лекторский), социогуманитарной экспертизе
сложных социальных объектов (И. Шварц, В. Степин), кризису
цивилизации и трансформации менталитетов.
Раздел конференции, посвященный проблематике денег, их
реального и символического значения, вызвал у собравшихся
большой интерес и некоторое недоумение. Когда в кармане пусто, а
голодных студентов и вовсе можно осчастливить бесплатным кофе
в фойе Академии управления, где проходила конференция2,
абстрактные рассуждения об анальном эротизме как основе
определенного социального характера («скупого рыцаря») звучали
неубедительно. Ясно, что понятие денег не одно и то же у тех, кто еле
сводит концы с концами, у тех, кто копит деньги, чтобы открыть
собственную лавочку, у тех, наконец, кто мечтает «потребительски»
растратить их на те или иные дорогостоящие удовольствия. Это
разные «вещи», разные образы, источники разного рода фантазмов -
будь то в снах или в бодрствующем состоянии. Фрейдово убеждение
в том, что в снах нам является универсальный набор сновидных
символов — мысль, усиленная Юнгом, - рел яти визируется уже при
таком нехитром мысленном эксперименте, как сопоставление
различных субъективных позиций по отношению к деньгам.
Не очень трогали российского читателя, лишенного
элементарной медицинской помощи, а подчас и самых простых лекарств,
и проблемы бесплодных пар, прибегающих к дорогостоящему
искусственному оплодотворению. Проблемы будущей самоиденти-
1 В скобках здесь и далее - имена руководителей секций с французской и
русской стороны.
2 Ныне Академия государственной службы при президенте Российской Федерации,
объединившаяся с Российской Академией народного хояйства (РАНХ и ГС).
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 353
фикации еще не родившегося человека, которые порождаются
умножением вокруг него материнских и отцовских персонажей
(физических, юридических и пр.), и вообще — проблемы умного
«прочтения» человеческих желаний (не всякое желание супружеской
пары, формулируемое как желание иметь ребенка, действительно
свидетельствует о таком желании: за ним могут стоять травмы
детского развития, сложности отношений с родителями и пр.) — все
эти проблемы не для «бедных» были интересно раскрыты Л.Сэвом,
известным философом, психологом и специалистом по биоэтике.
Концепции российских экономистов и финансистов,
выступавших на конференции, не имели видимых точек
соприкосновения с психоаналитическими подходами, однако русская
«идеалистичность» и бесшабашность с печальной убедительностью
предстала в докладе А. Аникина о мотиве денег в русской
литературе и в размышлениях Н. Макашевой об исторической эволюции
отношения к деньгам в России. Кто не помнит прагматичного
Андрея Штольца из гончаровского «Обломова»? Его образцовая
буржуазная обязательность живописно оттеняется притягательной
ленью Ильи Ильича, отрекшегося ради диванного спокойствия от
всех хозяйственных забот. С некоторыми последствиями такой
жизненной установки мы, по-видимому, имеем дело даже теперь.
Послереволюционное «вытеснение» мотива денег (а Ленин, как
известно, предлагал с педагогическими целями сделать в будущем
из золота отхожие места) сменилось ныне их слишком
безоговорочной реабилитацией. Но так как трудовая мораль у россиянина
за истекшие между революцией и началом постсоветского периода
годы почти полностью выветрилась, условием выхода из
хозяйственной разрухи опять должен стать, как полагала Макашева, давно
забытый нами «душевный подъем». Правда, было не очено
понятно, как его добиться, если морализаторские призывы надоели
российскому труженику так же, как некогда занудный, но
неэффективный контроль за трудовой дисциплиной.
С начала 1990-х годов и до настоящего момента россиянам
приходится сталкиваться с нелестными суждениями о своей стране как
сырьевом придатке развитых стран. А потому судьба племени ба-
руйя из Новой Гвинеи, досконально изученного видным
антропологом Морисом Годелье, оказалась для российских участников
семинара хотя бы в чем-то поучительной, независимо от
профессиональных дискуссий по этнографическим вопросам. Годелье
показал, как превращение так называемых соляных денег (они некогда
служили для баруйя одновременно непосредственной
потребительной ценностью и эквивалентом при обмене на другие предметы)
в государственные деньги (они стали компенсацией за разработку
западными концернами природных ресурсов), которые распреде-
354 Познание и перевод. Опыты ФилосснЬии языка
ляются и перераспределяются между племенами и кланами,
породило множество новых иллюзий. В сознании местных жителей
государственные деньги превратились в фетиш, а государство -
в «дойную корову», в то, что воспринимается как прямой источник
денежного обеспечения, причем сращение этих представлений
сформировало современные формы воображаемого,
регулирующие социальные процессы в обществе баруйя.
В историческом плане система реального, воображаемого,
символического (это лакановские понятия) применительно к деньгам
сложилась не сразу, напоминает философ Ж.-Ж. Гу. У Маркса
характеристики соответствующих форм денег (деньги как
сокровище, деньги как всеобщий эквивалент и деньги как простая запись,
оператор при обмене) сопределяют их исторические метаморфозы
и формы их одновременного сосуществования. В чем-то сходные
механизмы фетишистского сознания функционируют
применительно к деньгам и применительно к языковым знакам. При этом,
подчеркнул Ж.-Ж. Гу, открытый Марксом товарно-денежный
фетишизм остается одной из форм завуалированного и иллюзорного,
но именно потому столь мощного механизма воздействия
«объективных мыслительных форм» на реальные процессы.
Так или иначе, очевидно, что специфику психоанализа среди
других областей гуманитарного познания составляет именно этот
интерес к символическим измерениям сознания и практики,
к способам наделения переживаемой ситуации смыслом. Сетку
символических взаимодействий можно изучать не только в
религии, мифах, социальных идеалах, но также, например, в процессах
и формах организации труда. Символические представления могут
быть поставлены на «службу производству» — что весьма актуально
для постмарксистских программ в социальных науках. Так,
во Франции проводились широкие исследования символического
аспекта повседневной жизни, трудовых процессов, в частности,
конвейерного производства с присущими ему особыми формами
организации жизненного и символического пространства и
ориентации в нем человека (об этом рассказал на конференции психиатр
и философ Б. Доре).
Общественное и индивидуальное, субъективное и объективное
выступают как два полюса в социологическом или
психологическом подходах к реальности. Возможности участия психоанализа
в понимании социальных или индивидуальных психологических
явлений зависят от того, к какому полюсу тяготеет концепция;
в формулировке философа и психолога Люсьена Сэва, нам важно
отличать тенденцию к «социологизации индивида» от тенденции
к «психологизации общества». Фрейд считал свою модель
универсальной и полагал, что эдипов конфликт, специфика действия бес-
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 355
сознательных механизмов, в частности вытеснений, проявляемых
в семье, характерны для человечества в целом. Модель Фрейда
нередко считают абсолютизацией «иудейско-христианских» мотивов
человеческого морального сознания и поведения в качестве
универсальных. Вместе с тем, данные этнопсихиатрии и этнопсихоана-
лиза свидетельствуют о том, что даже в обществах, казалось бы,
предельно далеких от западных по своим системам родства, браков,
наследования, воспитания, можно увидеть, в конечном счете,
нечто напоминающее структуру семьи-треугольника с характерной
для нее функцией отца (даже если эта роль выполняется не
физическим отцом, а другими родственниками, причем не обязательно
мужчинами). Вопрос остается: можно ли неметафорически
пользоваться предложенной Фрейдом аналогией вытеснения, нарушения
равновесия, заболевания и пр. применительно к обществу в целом?
Казалось бы, хорошо известные Фрейду работы французских
социологов (прежде всего - Тарда и Лебона) предостерегают от таких
аналогий. И все же эти аналогии и поныне используются, подчас
без должного учета того, что отношения между инстанциями «я»
и «мы» в коллективе, в симбиотических отношениях матери и
ребенка (и им подобных), в толпе, вертикально подчиненной вождю
и горизонтально объединенной отношениями «заразительности»,
весьма различны. Они предполагают разные типы бессознательных
представлений, обслуживающих подобные отношения.
Символические механизмы, действующие в пространстве
социальных представлений, основаны на различении верха и низа,
центра и периферии, далекого и близкого и др. Они лежат в основе
трансляции ценностей и различного рода идеализации. Формы
передачи этих коллективных систем ценностей, по мысли социолога
Д. Берто, исторически изменчивы. Передача богатства
(имущества), капитала, духовных ценностей, направленных на поддержание
общественной устойчивости, сменяется ныне передачей навыков,
умений, средств работы, способствующих выживанию в
постоянно изменяющихся условиях, в ситуации «открытой
состязательности». Может ли семья быть передаточным звеном в цепочке такого
рода ценностей? Какие ценности передавала семья в советском
(русском) обществе: конформизм или диссидентство,
традиционную мораль или навыки, способствующие изменчивости? Можно
ли предположить, что семья учит ребенка ценностям прошлого,
улица - ценностям настоящего, а школа (по крайней мере,
по идее) — ценностям будущего? Очевидно, что на основе этих
вопросов можно было бы построить интересную программу1
культурно-сопоставительных исследований.
Если социолог Д. Берто исследовал то, что содействует
социальным трансляциям, то психоаналитик К. Рабан, напротив, со-
356 Познание и перевод. Опыты Философии языка
средоточился на том, что мешает таким трансляциям — и на
уровне индивида, и на уровне общества: речь идет о табу, фобиях и
фетишизме. Целый ряд употребляемых Рабаном понятий (таких,
например, как «отцовская метафора») выдают их родство с лака-
новской психоаналитической парадигмой в отличие от
традиционных социологических и антропологических трактовок данных
явлений. Впрочем, психоанализ, некогда заимствовавший понятие
фетишизма из антропологических исследований, наполнил его
специфическим содержанием и «вернул» обогащенным. Д. Берто
говорил об уже оформленных обществом энергиях в процессе
передачи сил и способностей. К. Рабан тоже говорил об энергиях,
но иных — это энергии хаоса, таящегося под внешне устойчивым,
но хрупким покровом порядка, это архаичные силы агрессии и
наслаждения — те самые, что впоследствии были вытеснены в
тайники бессознательного и усмирены уздой законов общежития. Закон
и запрет (родственник древнего табу) содержат в себе
воспоминания о запретном наслаждении - а потому и само упражнение в за-
конопослушании может быть причастно искомому наслаждению.
Табу - это запреты для всех, в противоложность фобиям как
запретам индивидуализированным. Изощренное разнообразие фобий
показывает, что можно бояться практически всего, чего угодно,
что индивидуальных вариаций исконного запрета на
наслаждение - множество. Напротив, фетишизм - это запрет на
неудовольствие. Он может быть индивидуальным, групповым, социальным,
сближаясь в этом последнем случае с религиозным или
националистическим фанатизмом. Внешне прочный современный
рассудок с трудом сдерживает натиск этих разрушительных энергий, так
что проповедникам благости стихийно-природного начала стоит,
наверное, задуматься о действительном смысле первозданного
единения человека с природой.
В объекте, изучаемом психологом, специалистом по
социальным представлениям Дениз Жодле, древнее и современное
пересекаются на уровне социологической, психологической,
психоаналитической проблематики. Речь идет о практике содержания
душевнобольных в семьях-кормилицах: она распространена в
одной из коммун на юге Франции и финансово поддерживается
государством. Как строится система социальных представлений,
позволяющих «кормильцам» разрешать психологическое
напряжение между осознанием выгоды содержания больных и
социальной угрозой для своей репутации? Вынужденная защищать свой
статус, группа обращается к символическим средствам и строит
такие объяснительные схемы, которые вполне мог бы взять на
вооружение ярый сторонник социального остракизма и сегрегации.
Здесь и фантастические представления о болезни, неукоснительно
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 357
передающиеся в этих семьях из поколения в поколение, и
рационально не объяснимые фобии (например, страх заразиться через
мочу больного), и символическая организация социального
пространства (жесткое закрепление мест пребывания больных и
запрет на появление в других местах). Таким образом, ожидание
того, что дети из семей с давними традициями гостеприимства
к душевнобольным подадут нам пример терпимости, совершенно
не подтверждается. Анализируя рассказы детей о своих снах и
своих фантазиях, исследователь видит, что в отличие от обычных
детских страхов - атомной войны или смерти родителей, — дети из
семей, где живут душевнобольные, больше всего на свете боятся
лишиться рассудка. Группа охраняет себя, укрепляет этим свою
способность к выживанию посредством табу, фобий и фетишиз-
мов, а социальная норма и социальная патология при этом
умопомрачительно смыкаются.
Под рубрикой «История и амнезия» вновь и вновь ставился
вопрос: можно ли считать, что вытеснение в индивидуальной
психике и вытеснение в памяти социальной группы, класса и пр.
аналогичны и соизмеримы? По-видимому, у нас все же есть основания
полагать, что культура приучает членов одного сообщества
сходным образом определять и вытеснять прежде всего то, что
относится ею к области «неприличного» и «подрывного». В последнее
время в России много говорится об исторической памяти, об ее
отличиях от собственно истории, от официальной истории. В
отличие от устоявшейся истории, специально обработанной
профессионалами, память предстает как нечто уязвимое и нестабильное,
но вместе с тем - как нечто очень долговечное. Прекрасный
анализ строения, динамики и функционирования памяти был дан
историком М. Полляком. Память, с одной стороны, внутренне
расчленена, иерархизирована (в нее входят памяти различных групп,
слоев, классов и пр.) и окаймлена рамкой, казалось бы,
непреодолимых ограничений, но, с другой стороны, память или
организованная система памятей предполагает динамику постоянных
перестроек, смены ценностных знаков, погружений в молчание или,
напротив, выговаривания, перевода в план выражения.
Удивительная способность человека и его памяти — молчание без
забвения. Причины его могут быть разные: подчас об одном и том же
событии молчат и палач, и жертва: один из страха разоблачения,
другой - от застарелой и неизбывной боли. Более того, даже в
одном и том же разговоре человек может внешне и отчасти
внутренне менять свою групповую принадлежность — становясь,
например, то «немцем», то «евреем» в зависимости от ожиданий
собеседника и от собственных душевных колебаний. Удивительно
еще, что при такой нестройной картине памяти она может сохра-
358 Познание и перевод. Опыты Философии языка
няться, передаваясь из поколения в поколение. Французские
подходы к этим вопросам немыслимы без «археологии знания» и
«генеалогии власти-знания» Мишеля Фуко. Его программа изучения
того, кто, что, когда, в каких ситуациях должен (или не должен)
говорить в данном обществе, входит в изучение системы архивов,
в известной мере определяющей функционирование социального
бессознательного.
Постыдное и подрывное в социальной и групповой памяти
часто сплетены. Об этом говорилось в выступлениях историков,
посвященных «темным пятнам» национальной памяти: о периоде
коллаборационизма во Франции (А. Руссо) и о конъюнктурных
метаниях Французской коммунистической партии в ее оценках
лиц и событий (М.-К. Лавабр). Эта тематика могла бы быть близка
россиянам, однако они не стали ее обсуждать. Французские
участники недоумевали: почему ни один российский участник не
захотел поделиться размышлениями об этих «больных» вопросах?
Возникало впечатление, что в «свободной» стране с новорожденной
демократией возникают новые табу и новые умолчания...
Впрочем, быть может, французам легче рассуждать о «темных местах»
памяти: у них есть разработанные теоретические опоры такого
анализа, в частности, программа изучения бессознательной истории
«мест памяти» в традициях школы Анналов. Но вопрос остается:
ведь ничего подобного психоаналитическому сеансу в истории
народа не происходит — как же тогда порождается ситуация
публичного покаяния, перехода к безжалостному анализу прошлого?
Интересные вопросы были поставлены в эпистемологическом
развороте психоаналитической проблематики. Травма как
источник порождения мысли — таков предмет размышлений философа,
социолога и психоаналитика Мишель Бертран1. Понятие
психической травмы принадлежит к числу традиционных
психоаналитических понятий. Однако М. Бертран находит новые пути к
осмыслению травмы, опираясь на идеи Шандора Ференци, талантливого
ученика Фрейда, которые имеют сейчас все больше сторонников
и во Франции, и за ее пределами2. Судьба, жизнь, природа зла
в мире, страх потерять любовь близких и, следовательно,
расщепленность психики — все это резюмируется в символическом
понятии смерти как последнего предела, как ситуации отчаяния, в
которой человек оказывается не способен быть тем, кем он хочет
быть, и не способен отказаться от желания быть тем, кем он быть
1 Ср. также: Bertrand M., Doray В. Psychanalyse et sciences sociales. Paris, 1989;
Bertrand M. La pensée et le trauma. Entre psychanalyse et philosophie. Paris, 1990.
2 Cp. M.Bertrand e.a. Ferenczi, patient et psychanalyste. Paris, 1994; Bokanow-
ski T. Sandor Ferenczi. Paris, 1997.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 359
не может. Это емкая и глубокая формула. Обнаружить
субъективные мотивации к работе мысли — вовсе не значит построить
индивидуальный портрет личности или растворить общезначимость
философского устремления в индивидуальной симптоматике.
Тема субъективного генезиса мысли позволяет яснее представить
себе, как мысль делает человеческий мир обитаемым (так как —
умопостигаемым), позволяет жить и действовать в нем.
Весьма закономерно вырастает из такого подхода к травме
проблематика идеала, различных способов идеализации - в
религии, политике, морали, науке и пр. Идеализация — и это
важно для понимания всего контекста рассуждений М. Бертран —
есть конструкция, воздвигаемая человеком, нарциссизму
которого был нанесен удар, в качестве защиты против
меланхолического расщепления личности. Это своего рода смерть, только
смягченная, символическая: самопожертвование в надежде
заслужить в будущем ответную любовь. Проблема
травматического генезиса мысли, актуальная для России 1990-х годов,
сохраняет все свое значение и в наши дни. Очевидно, что в ситуации
постоянной психической расколотости большинство выбирает
не мысль, а нечто ей противоположное — вытеснение травмы,
т. е. скорее уход из ситуации, нежели овладение ею. В чем же
здесь дело: в индивидуальных или национальных, культурно-
исторических, литературно-типологических (вспомним
травмированных жертв - персонажей Достоевского) причинах и
обстоятельствах?
Травма находит свое непосредственное жизненное проявление
в аффективной жизни человека. Роль аффектов в телесных и
духовных процессах показала психоаналитик и философ Моник
Шнайдер. Сам этот акцент на эмоционально-аффективных
компонентах психоаналитической практики не тривиален. Ведь
традиционно считалось, что врач обязан занимать «нейтральную»
позицию в отношении пациента. Однако в последние десятилетия
эта позиция подвергается самому радикальному пересмотру, что
в корне меняет общее представление о психоаналитической
теории и практике. Помощь больному требует аффективной
вовлеченности аналитика, поскольку психоаналитический опыт
несводим к осознаванию - он открыт всему спектру взаимодействий
между людьми, погруженными в ситуацию психоаналитической
коммуникации. М. Шнейдер анализировала, в частности, сны
и фантазмы больных детей, оставшихся без помощи взрослых и не
способных к нормальной коммуникации с миром. Так вот — эти
дети склонны изобретать нечто вроде господа Бога (или
трансцендентального субъекта), который находится далеко и высоко, «как
летчик в небе», и сверху видит все, что происходит с ребенком.
360 Познание и перевод. Опыты Философии языка
Причем речь идет вовсе не о психологическом соучастии или вчув-
ствовании в страдания другого (наблюдатель в фантазиях этих
детей - это инстанция, лишенная чувствительности, словно голова,
оторвавшаяся от тела): речь идет именно о сохранении и
удержании немыслимого и непереносимого опыта. Особенно интересно
то, что сферой генезиса этих, по сути, эпистемологических
абстракций выступает не пространство чистой философии, но
психика маленького человека, который держится за жизнь.
Свежий и одновременно классически ясный подход к проблеме
генезиса психоанализа в его отношениях с психологией представил
философ и историк психологии Ивон Брес1. В истории западной
психологии Брес видит гораздо больше материала для осмысления
истоков психоанализа, чем обычно замечают. Во Франции велика
тенденция жестко разъединять эти области познания и практики;
идя наперекор этой тенденции, Брес утверждает, что для Фрейда
четкое противопоставление психоанализа психологии не имело
смысла. Ведь психоанализ у Фрейда — это и есть психология или ее
часть - самая важная, фундаментальная. Анализ классических
текстов психоанализа, считает Брес, показывает, например, что
открытый Фрейдом, совместно с Брейером, метод лечения истерии
(воспоминание под гипнозом) Фрейд считал чисто
психологическим (в отличие от медицинских подходов), что он не
противопоставлял психоанализ психологии ни в Проекте 1895 г. (где речь шла
о необходимости введения психоанализа в состав естественных
наук), ни в исследовании возможностей психологического
эксперимента, ни в трактовке соотношений между психоанализом и
художественной литературой, ни в изучении проблемы
бессознательного. Откуда же тогда сам тезис об опасности психологизма,
приводящей в ужас большинство французских психоаналитиков?
Исторические истоки этого тезиса Брес связывает с Вольфовым
разграничением между рациональной и эмпирической
психологией (ни Спиноза, ни Декарт даже не подозревали, что в их
сочинениях, наряду с их философской частью, содержится некая
«эмпирическая психология»). А ныне психологизм стал восприниматься как
особая форма эмпиризма и одновременно субъективизма, как
доступ к глубинному, но непосредственному (в рамках европейской
философии это - парадокс) опыту2.
1 Среди последних работ Бреса об истории психоанализа, основанных на
тщательном анализе текстов: Bres Y. L'inconscient. Paris, 2002; idem. Freud... en liberté.
Paris, 2006.
2 О прошлых и современных формах отношений между психологией и
психоанализом во Франции см. содержательную работу: CarroyJ., Ohayon Α., Pias R. Histoire
de la psychologie en France. XlXe-XXe siècles. Paris, 2006.
Раздел первый. Познание и язык. Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах... 361
Итак, перед нами широкий спектр позиций и подходов к
проблемам психоанализа в его взаимодействии с науками о человеке.
Интересы психоанализа и социальных наук плодотворно пересекаются
в целом ряде пунктов. Но если это разные типы знания, то как мы
должны их сопоставлять? Мишель Бертран предлагает видеть в
психоанализе не столько знание, сколько особое отношение к знанию:
готовность пересматривать любые гипотезы и теоретические
конструкции, принимать как должное те «остатки» событий, вещей
и реальностей, которые не включаются в законченные смысловые
структуры и требуют дальнейшей аналитической проработки. Если
считать (как это делал Ж. Лапланш1) главным в человеке его
стремление к самоистолкованию, и соответственно к десимволизации
и ресимволизации, т. е. к подкреплению и пересмотру той
структуры изначальных символов, которая складывается у ребенка в первые
годы жизни, тогда, по-видимому, мы можем рассчитывать на
психоанализ как своего рода «фермент преобразований» при
взаимодействии его с другими формами гуманитарного знания.
Отнюдь не случайно в кулуарах конференции ее нередко
называли «Тбилиси 2». И для россиян, и для большой группы
французских психоаналитиков Тбилисский симпозиум по проблеме
бессознательного в 1979 г. был крупным событием. Вышло, однако,
так - история часто шутит — что в наши дни очень многим
хотелось бы об этом забыть. Ведь многие наши соотечественники неко-
года ознаменовали Тбилисский симпозиум либо неучастием, либо
активным противодействием, а теперь склонны отзываться о нем
пренебрежительно. Что же до французов, то они в те далекие
времена едва не пошли на поводу априорных иллюзий о
необходимости политических демонстраций любой ценой — вне зависимости
от места, времени и конкретных условий. Бури и грозы таились
в накаленной атмосфере Тбилиси. Но теперь уже точно можно
сказать: четыре увесистых тома материалов симпозиума,
взрастивших целое поколение исследователей в духе интереса к
проблематике бессознательного, - это была настоящая победа.
На Московской конференции все было иначе: царила
атмосфера взаимного доверия. Однако от доверия еще далеко до
понимания. Российских исследователей устрашали и неумопостигаемое
разнообразие школ французского психоанализа, и тонкости док-
тринальных различий между ними. Французы искренне
изумлялись тому иррациональному контексту, в котором расцвел у нас
здесь интерес к душе, телу, бессознательному. В самом деле,
религия, магия, увлечение оккультизмом или астрологией — ко всему
этому трезвый (хотя и увлекающийся) ум француза может отно-
Laplanche J. Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Paris, 1987.
362 Познание и перевод. Опыты Филосоеии языка
ситься либо иронически, либо сочувственно - как к проявлению
душевной болезни общества. Но важнее другое. Сотрудничество
с Западом в области гуманитарного познания еще пару
десятилетий назад было вовсе немыслимо или выглядело как
дипломатическая игра по заранее установленным правилам, теперь же оно
стало в принципе возможным. К сожалению, эту попытку диалога
нельзя признать удавшейся. Но от нее остался слой
произнесенного, выговоренного (и даже отчасти опубликованного)
познавательного опыта, который может дать новые всходы, если российские
психоаналитики, углубившиеся ныне в институциональные дела
и клиническую практику, вновь заинтересуется психоанализом
как теорией, как особой формой знания о человеке1.
1 Во Франции московская встреча дала, напротив, импульс к продолжению
междисциплинарных исследований, пересекающихся с психоанализом. Одним из его
результатов был междисциплинарный семинар, организованный антропологом
Морисом Годелье и психоаналитиком Жаком Хассуном. Философы, антропологи,
социологи, психоаналитики обсуждали проблемы социальных и семейных связей,
а также структуры субъекта в обществах разного типа. Ср.: Meurtre du Père. Sacrifice
de la sexualité. Approches anthropologiques et psychanalytiques / Sous la dir. de
Godelier M., Hassoun J. Paris, 1996.
Раздел второй
Перевод, рецепция, понимание
Глава шестая
«На бранном поле перевода»
Это заглавие — метафора, но не только... Оно было
навеяно заголовком одной из американских рецензий на
неудачный перевод французской книжки — «Lost in
Translation» (что можно было бы приблизительно
перевести как «погиб на бранном поле перевода»): речь в ней
шла о переводе книги Симоны де Бовуар, в котором содержались
самые разные ошибки лингвистического и концептуального
плана1. Однако ситуация борьбы не на живот, а на смерть с
бесчисленными языковыми, культурными, концептуальными
сложностями - не индивидуальный казус, а общий удел всех
переводчиков. Эта рецензия, в свою очередь, отсылала читателя
к известному фильму Софии Копполы «Lost in Translation»
(Оскар 2004 г. за лучший сценарий). По сюжету герои фильма —
американцы, волей судьбы оказавшиеся в Токио и не знающие ни
языка, ни обычаев (это актер, приехавший, чтобы сняться в
рекламе виски, и молодая девушка, жена фотографа, постоянно
занятого своими делами), живут с обостренным чувством
потерянности в чужом мире, время от времени попадая в абсурдные
положения. Нерв сюжета — обостренный поиск себя в
столкновении с другим. По-английски lost in (thought, admiration) может
значить «быть поглощенным, увлеченным», но более далекая
ассоциация, которая мне сейчас прежде всего важна, иная: это
именно «погибнуть в битве, на бранном поле» (в сводках с
фронта говорится: lost in action — не вернулся с поля боя). И дело здесь
не только в крайнем напряжении и жизненной важности
индивидуальной переводческой работы, но и в ее
социально-психологических и социально-политических измерениях: это столкновения
интересов, стратегий, групповые и индивидуальные битвы за
территории влияния, скрытые и явные противостояния. Перевод
вообще занятие очень эмоциональное, нервное, страстное. За
хорошее никто не хвалит, за нехорошее с удовольствием ругают -
1 Glazer S. Lost in Translation // New York Times Book Review. 2004. 22 August. P. 13.
366
Познание и перевод. Опыты философии языка
хорошо еще, когда задело... Переводчики перестали быть
народными героями, какими были, например, для современников
Пушкина Гнедич и Жуковский - переводчики Илиады и
Одиссеи. Правда, речь здесь о литературных переводах не идет, а
рассчитывать на народную любовь к переводчикам
научно-философской литературы было бы по меньшей мере странно. Эта
глава посвящена трудностям российской рецепции и перевода
западной мысли - главным образом той, в переводе которой я
принимала участие. Поиск слова, перевоплощающего оригинал
в языке перевода, - это каждый раз приключение, даже
детективная история. Эта глава состоит из нескольких
параграфов-эпизодов, посвященных рецепции и переводу Фуко, Деррида,
психоанализа в современной России; к этому набору рассказов о героях
я прилагаю фрагмент из российской истории перевода (о Хайдег-
гере в переводе Т.В. Васильевой), он оттеняет специфику
современного периода по сравнению с недавним прошлым. Все эти
эпизоды различны по жанру и стилю и ни в коей мере не
претендуют на исчерпывающий охват и обзор этой бездонной
проблематики.
§ 1. Открытость к западной мысли
Открытость к современной западной мысли - новая черта
философской ситуации в России, которую и представить себе было
невозможно 30 лет назад. За эти последние десятилетия
философская ситуация в России претерпела много важных изменений:
смена мировоззренческих ориентации и отказ от обязательного
преподавания диамата, истмата и научного коммунизма, более
свободное преподавание философии и общественных наук,
отмена цензуры стали ее основными вехами. Вместе с тем открылись
два шлюза, наглухо замкнутые в течение почти всего советского
времени. На общественную сцену были допущены русская
философия (русская религиозная философия) и современная западная
философия, которые с 1920-х по 1980-е годы существовали лишь
в спецхранах и в отдельных личных библиотеках. В данном случае
для нас особенно важен второй момент - широкое вторжение
современной западной мысли на культурную сцену, где она ранее
присутствовала лишь в пересказах «критиков современной
буржуазной философии» или в крайне редких переводах. Весь
советский период классическая западная философия (особенно
домарксистская) достаточно интенсивно и квалифицированно
переводилась на русский язык, не говоря уже об античной
философии. А вот современная западная философия на культурной
сцене практически отсутствовала, или присутствовала клочками
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 367
и урывками — в изложениях тех критиков «современной
буржуазной философии», которые любили свое дело и могли рассказать
читателю что-нибудь увлекательное. Переводы современной
западной философии были редкостью, и каждая интересная книга
надолго запоминалась.
Следствие этой беспрецедентной открытости к внешнему
миру - поток текстов, разнородных и разновременных, и
потерянность читателя, на голову которого он обрушивается. В ситуации
ускоренного развития культуры «постмодернизм» подчас вступал
на сцену раньше «модернизма», очень не поощрявшегося в
советский период — ни как практика, ни как теория искусства;
неофеноменология порой появлялась на интеллектуальной сцене
раньше Гуссерля, а пафос критики всей западной философии
опережал ее самое элементарное усвоение, которое было нередко (по
самым разным причинам) затруднено как в дореволюционной,
так и в советской России. С тех пор как Петр I «прорубил окно»
в Европу, разные области культурной и общественной жизни
развивались с разной скоростью. Военные успехи были достигнуты
уже при его жизни, литературные — век спустя, а экономические
и сейчас заслуживают лишь сдержанной оценки.
А как обстоит дело с философией? Нынешние трудности ее
существования обусловлены как русской, так и советской
историей. Западная философия развивалась, критикуя свои прежние
подходы, но сначала их вырабатывая — у нее был материал для
самоосмысления. Можно ли считать, что в России объекты
философской критики — те же самые? Мнения на этот счет
высказываются разные: что философия в России покамест не доросла до
западной, что философия в России переросла западную, что
философия в России идет с ней в ногу, синхронно и параллельно,
но с разными акцентами. Эти вопросы заслуживают отдельного
обсуждения. Главное, что представляется необходимым
подчеркнуть, это наличие в русском концептуальном словаре многих
лакун и дефицитов, которые за последнее двадцатилетие стали
активно восполняться, а также необходимость развития русского
философского языка - в работе перевода, интерпретации,
критической дискуссии.
Что именно было переведено? Каким было восприятие
нового? Какие новые идеи принесла с собой в Россию эта
беспрецедентная открытость к современному западному миру? В течение
1990-х годов больше всего привлекала внимание современная
французская мысль, причем наиболее объемно переводилась
литература 1960-1980-х годов (философия, история, социология,
антропология). Она вызывала интерес не только среди
философов, но среди широкого круга читателей — критиков, художни-
368
Познание и перевод. Опыты философии языка
ков, литературоведов. Среди наиболее ярких французских фигур
на российской сцене - Фуко, Делёз, Деррида, Лиотар, Бодрийяр
и др. Современная французская мысль в качестве предмета
такого общего интереса оказалась разобрана на слова-пароли, слова-
лозунги: литературная и художественная среда клянется и
божится деконструкцией и диссеминацией, ризомами и симулякрами.
При этом особенно велик интерес к философии, замешанной на
литературе, чувствительной к художественным экспериментам
и стилевым новшествам. И французская философия дает яркий
пример такого рода философии.
Итак, именно французская философия (при всей условности
такого общего термина применительно к разнообразным и
разномерным явлениям) в общем составе западной философии в
течение целого десятилетия привлекала наибольшее внимание
постсоветского читателя. Среди причин этого явления и
традиционный интерес к Франции и ее культуре, и издательские усилия
«программы Пушкин» французского посольства в Москве,
поощряющей некоммерческие публикации переводов из области
философии и гуманитарных наук. Вместе с тем, по-видимому,
французская философия привлекает российского читателя нынешней,
переходной эпохи яркостью языка, отсутствием жестких
жанровых канонов. Она не так технична, как англо-саксонские
разновидности аналитической философии, не так систематична, как
немецкая философия с ее традиционной приверженностью
марксизму (в постсоветской России вызывавшему аллергию), и вместе
с тем дает средства для формирования обобщенного
критического взгляда на состояние западной философии1.
Однако рецепция французской мысли в постсоветской России
нередко опирается на такие сходства воспринимаемого и
воспринимающего, которые приходится признать весьма условными или
даже мнимыми. Французские 1960-е и российские 1990-е могли
представляться сходными своей революционностью и подчас эти
внешние переклички затушевывали временной разрыв,
отделявший время создания переводимых текстов от времени их
восприятия. Игра сходств и несходств, подобий и смещений составляет
основу всякого взаимодействия культур. Однако в данном случае
непосредственное «вживание», ситуация уподобления неподоб-
1 При этом мало кто задается вопросом о том, что представляет собой
французская философия во всей широте ее нынешних поисков. Да и можно ли назвать
«французской философией», скажем, изучение в современной Франции
Витгенштейна, Спинозы или Венского Кружка? Никакого общего представления о
спектре философских интересов во Франции у российского читателя нет, толковых
развернутых обзоров никто не пишет - интересно, но не выгодно...
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 369
ному основывалась на том, что иногда вслед за Шпенглером
называют «псевдоморфозом» (ложным уподоблением несходных
форм, при котором формы более развитого культурного
состояния уподобляются формам менее развитого состояния). Казалось
бы, так просто уверить себя в том, что западный постмодерн - это
и есть наши российские проблемы, а после этого прямо
включаться в разговор, который вели и ведут западные коллеги. Несмотря
на внешнюю привлекательность такой позиции
«непосредственного ответа», она не представляется оправданной.
Так, мы не вправе отождествлять распадение или разрушение
старых форм зрелой культуры (выражающееся, например, в сломе
жанровых канонов, в стирании прежних дистинкций) с тем
внешне сходным состоянием, которое наблюдается в менее зрелой
культуре, еще не выработавшей этих форм: состояния «уже не»
и «еще не», даже в случае морфологического сходства, не должны
уподобляться. Конечно, фундамент этих контекстуальных
аберраций не индивидуально-психологический, а скорее социальный,
экономический, политический. На Западе «модерн» давно
остался позади, в России речь может идти о «догоняющих
модернизациях». А отсюда и культурные различия, порой доходящие до
несоизмеримости: пресыщение культурой или собрание всех
дефицитов, преизбыток анализа или его нехватка, гнет старых
институтов или отсутствие нормального академического
сообщества. А потому «постмодернистские» проблемы французской
культуры воспринимались как «наши собственные проблемы», и это
побуждало действовать так, как если бы постсоветский «протомо-
дерн» был эквивалентен современному западному «постмодерну».
Отсюда — разнообразные культурные парадоксы1.
Наряду с попыткой отождествления с воспринимаемой
проблематикой в рецепции французских идей есть и другая
тенденция. Спрашивается: что стоит, а что не стоит обсуждать,
постигать, заимствовать? О чем мы вообще говорим? В прежних
1 Характерна здесь, например, рецепция работ Ролана Барта, переводы которых
вышли в свет несколько раньше основного потока переводной литературы. Яркий
тезис Барта о том, что вообще любой язык с вписанными в него принуждениями
является фашистским по определению, отвратил, можно сказать, целое поколение
искусствоведов и арт-критиков, а также и некоторых литературоведов от какого-
либо стремления к научности своих суждений. Этот лозунг вырабатывался во
Франции на переломе 1960-70-х годов в ситуации контркультурной революции
и протеста неакадемической мысли против слишком жестких традиций
институциональной философии, а в постсоветской России он преобразовался в
обобщенный деструктивно-эстетический импульс. В ранний постсоветский период этот
тезис немало способствовал глобальному и недифференцированному отвращению
к «языку советской эпохи», всячески подталкивая к деконструктивной игре слов
и смыслов.
370
Познание и перевод. Опыты философии языка
российско-французских контактах речь шла о зажигательных
европейских философских новшествах, которые Франция
транслировала в Россию. Такими новшествами в XVIII в. были мысль
Вольтера, поставившая вопрос о смысле жизни вне рамок
религиозного мировоззрения, в XIX в. - социалистические идеи Шарля
Фурье, в XX в. - яркое экзистенциалистское понимание свободы.
Теперь же возникает впечатление, что «реальный идейный
контакт между культурами утрачен»1. Быть может, никаких идей во
Франции, да и во всей Европе, просто не осталось?
В этой позиции есть своя правда, хотя и не столь
прямолинейная. Если взять за точку отсчета такие «глобальные», одним
словом-лозунгом выразимые идеи, как, например,
экзистенциалистская идея свободы в абсурдной ситуации жизни, то таких общих
идей в современной жизни сейчас, наверное, нет. Или, можно
сказать, есть идея отсутствия общей идеи. Все «присутствующее»
подозрительно как наличное, бытийное, субстанциональное. Есть
также идея отсутствия общих и обобщающих нарративов,
повествований. Ее четкую формулировку обычно приписывают Лиотару
и его книге «Состояние постмодерна»2. Можно сказать и иначе.
Нет обобщающей идеи общего, но есть обобщающая идея
множественного, различного, несводимого, нередуцируемого ни к чему
единому, распыленного, гетерогенного, отсроченного. И она, как
и многие другие философские идеи, транслируется в Россию с
Запада и, прежде всего, из Франции.
А если уж говорить о различных этапах трансляции опыта,
то придется напомнить, что в послевоенной России (СССР)
никакого реального философского экзистенциализма не было.
Героический экзистенциализм «Бытия и Ничто» появился лишь в
нынешний постсоветский период3, а стыкующаяся с марксизмом
«Критика диалектического разума» (1960) и вовсе не появилась:
в течение всего советского периода она находилась, знаю это по
собственному прошлому опыту читателя из Ленинской
библиотеки, в спецхранах, и значит очень мало кому была доступна. Иначе
говоря, советский читатель совершенно не знал
экзистенциалистской мысли, он ловил её из художественных книг Сартра, ловил
как интуицию, жест, порыв.
1 Беседа с петербургским писателем Самуилом Лурье. Интервью Т. Вольтской //
Paris-Париж. Paris, 2001. № 1.С. 62.
2 ЛиотарЖ.-Ф. Состояние постмодерна / В пер. Н. Шматко. СПб., 1998. С.
Фокин предлагает переводить это заглавие знаменитой книги (франц.: Condition post-
moderne) как «Постсовременный удел».
Сартр Ж.-Л. Бытие и ничто. М., 2000.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 371
Что же касается 1960-х г. во Франции, то это уже была эпоха
героического структурализма, выхода в свет «Слов и вещей» Фуко,
«Ecrits» Лакана, «Критики и истины» Барта, «Первобытного
мышления» и «Мифологик» Леви-Строса, первого прорыва на
интеллектуальную сцену работ Деррида («Голос и явление», «О
грамматологии», «Письмо и различие»). В России 1960-х об этом почти
ничего не знали. Зато в Советской России существовал свой
имманентно возникший структурализм, который много ругали и мало
понимали и в 1960-е годы, и теперь, когда он либо ниспровергнут,
либо вписан в более поздние изводы постструктуралистской
проблематики. Так что уже в 1960-е годы главным философским
посылом из Франции была отнюдь не экзистенциалистская свобода,
но «теоретический антигуманизм» Альтюссера и ранних
структуралистов.
Реакция, начавшаяся после 1968 г., шла в направлении
антиструктурализма, затрагивая все стороны структуралистского
мировоззрения и утверждая на месте структуры, порядка, разума -
динамику, непредсказуемое движение, эмоцию. Казалось, что
структурализм превратился в постструктурализм — однако он не
умер (как было поспешно провозглашено в средствах массовой
информации), но скорее ушел из области пристального
общественного интереса и внимания. Постепенно формируется
обобщенная идеология гетерогенности, распыления, отсрочки,
устранения оппозиций и других элементов структуры. Происходит
отторжение многих опорных моментов культурной жизни Запада
последних 200 лет, идеи прогресса, просветительского проекта,
либерально-гуманистической идеологии, идеи возможности
высвобождения человека из материальной нужды и политического
угнетения. Оказывается, что сам этот проект угнетает
человечество, ставит жесткие рамки действию. Ранний протест против
структурализма как тоталитаризма заявили во Франции А. Глюк-
сман и Б.-А. Леви, дошедшие до Советской России лишь редкими
упоминаниями в специальных трудах, но вскоре эта «новая
философия» сошла на нет.
В этой главе я постараюсь показать различные способы
рецепции и перевода в России некоторых протагонистов современной
французской мысли. Разумеется, это будут лишь наброски, а не
законченные портреты. Представляется, что к настоящему
моменту первичное насыщение информацией уже произошло и на
повестку дня встает более интенсивное усвоение (или более
решительное отбрасывание) тех или иных концепций. Но пока еще,
несмотря на усилия серьезных исследователей и переводчиков,
в массовой рецепции преобладают некоторые упрощенные
обобщения.
372
Познание и перевод. Опыты философии языка
Так, Фуко, как уже отмечалось, чаще всего воспринимался
в связи с концепцией власти-знания при почти полном забвении
структуралистского периода 1960-х годов, поставившего
важнейшие вопросы объективного познания человека. Деррида вызвал
волну подражаний, однако остался непонятым и непринятым
и в России, как, впрочем, и во Франции (за исключением страс-
бургской группы и прежде всего Ж.-Л. Нанси и Ф. Лаку-Лабарта).
Он насыщал свои тексты непереводимой игрой слов и
подчеркивал языково-идиоматический характер бытия философии, а
потому подражать Деррида сравнительно просто, а изучать его идеи
(хоть во французском, хоть в каком-то ином языково-идиомати-
ческом контексте) трудно. Лакан, который был, говорят,
клиницистом божьей милостью, по одному жесту открывания двери
пациентом видевший все, что может распознать опытный психиатр,
вплыл в российский контекст противоречиво и неоднозначно. Его
российской рецепции на раннем этапе помешали агрессивные
стратегии членов его школы (в тот период - Ecole de la Cause),
видевших в прозелитизме свою главную задачу. Сейчас, на общем
фоне перехода его былых российских адептов к более
традиционным установкам, идет процесс спокойного освоения: постепенно
создается лакановская библиотека на русском языке: вышли
переводы нескольких фундаментальных статей из сборника Ecrits1,
в переводах А. Черноглазова переводятся отдельные тома
«Семинаров»2, появился даже первый посвященный Лакану «комикс»
(точнее, популярная книжечка) российского производства3,
притом вполне удачный.
Кажется, наиболее очевидный любимец российской публики
среди главных французских «властителей дум» - Жиль Делёз.
Благополучно складывается его издательская судьба; он увлекает
читателя современной версией витализма, своей яркой
неклассичностью, воплощением немыслимого и неструктурированного
(процессуального, динамичного) в мысли. Делёз с его
органической образностью оказывается весьма удобным поводом для са-
1 Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М., 1995; Лакан Ж.
Инстанция буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
2 Лакан Ж. Семинары. Кн. 1: Работы Фрейда по технике психоанализа
(1953-1954). М, 1998; Он же. Кн. 2: «Я» в теории Фрейда и в технике
психоанализа (1954-1955). М., 1999; Он же. Кн. 5. Образования бессознательного. М, 2002;
Он же. Кн. 11. Четыре основные понятия психоанализа (1964). М., 2004; Он же.
Кн. 7. Этика психоанализа (1959-1960). М., 2006. Он же. Кн. 10: Тревога
(1962-1963). М., 2010; Он же. Кн.17. Изнанка психоанализа (1969-1970). М., 2008;
Он же. Кн. 20. Еще (1972-1973). М, 2011.
3 Мазин Β.Λ. Введение в Лакана. М., 2004.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 373
мых разных трактовок и использований. Могу привести здесь три
выдающихся и одновременно характерных примера
использования его ярких идей российскими коллегами — в области эстетики,
философской антропологии, философии науки.
Так, идея «корневища», беспорядочно растущего во все
стороны и чуждого всякому линейному или системному порядку,
привлекла сотрудников сектора неклассической эстетики Института
философии РАН, прежде всего В.В. Бычкова и Н.Б. Маньков-
скую, к созданию периодического альманаха под заглавием
«Корневище». Цель альманаха — собрать вокруг себя весь опыт
«неклассической эстетики», включающий эстетическое сознание
народов Востока, Древней Руси, а в западном мире —
средневековые или современные маргинальные феномены.
Провозглашаемый метод работы - «смотреть в корень», воспринимая
«корневище» как «жизненно-сущностный центр культуры». При этом
западная «ризоматика», предложенная Делёзом и Гваттари,
призвана войти одной из составных частей в российскую «корневи-
щематику», а их призывы («будьте ризомой, а не корнем, не
сажайте, а сейте, будьте не единым, а множественным...») прямо
перекликаются с текстом российской программы»1.
Сотрудники сектора аналитической антропологии В. Подороги
того же Института философии тоже активно используют для
построения собственной философии понятия Делёза и Гваттари.
Коль скоро Делёз не включен в западную философскую традицию,
то, быть может, «русская традиция» улучшит и продвинет
понимание его концепции? На сей раз в основе концептуальных
заимствований, наряду с «ризомой», такие понятия, как «шизоанализ»,
«событие», «тело без органов» и др. Так, «тело без органов» — это
отправная точка, от которой ветвятся понятия-метафоры (тело-
аффект, тело-организм, тело-орудие, тело-событие и др.);
«событие» - природное, историческое, психобиографическое - это
опора всего того, что может быть индивидуализировано (в отличие от
нейтральности и пассивности явлений). Вслед за Делёзом и
Гваттари, целью анализа объявляется «картография» сложных объектов
в понятиях, не знающих бинарных противопоставлений, текучих
и переходящих друг в друга. Главным предметом философского
анализа при этом становится художественная литература XX в., ко-
1 Ср.: «...надеюсь, Делёз и Гваттари не обиделись бы <...>, что мы цитируем,
используем, эксплуатируем удачно найденный ими, вернее - примененный, термин
rhizome в русском переводе - то есть совсем другой термин, и в иных смыслах,
и в иных значениях, выявляя иные его уровни, и пласты и срезы, ибо в России все
иное, хотя и все - похоже». См.: Бычков В. Неклассическая эстетика как
корневище. «КорневиЩЕ как неклассическая эстетика // КорневиЩЕ ОБ. Книга
неклассической эстетики. М., 1998. С. 10.
374
Познание и перевод. Опыты философии языка
торая умеет манифестировать интенсивное желание: нет смысла
объяснять, как устроены литературные произведения, но есть
смысл показывать в литературе и искусстве формы и механизмы
становления телесного опыта, связанного с желанием. Эта
механика «машин желания» в разных сферах культуры, по сути, и
становится синонимом «новой антропологии»1...
Введенные Делёзом понятия довольно активно используются
и в философии науки. Его концепция трактуется как одна из
значительных попыток осмысления новой неклассической науки2.
Революционные изменения в естествознании показали, что
радикальная смена взгляда на мир предполагает одновременно и
новый мир, новый предмет исследования. Российские
последователи Делёза видят в его логике смысла гигантскую машину, которая
позволяет строить новую «науку о хаосе»; те или иные элементы
и формы знания возникают в точках бифуркации, разветвления,
выбора вектора эволюции, причем они не уходят в безопасные
абстракции, но как бы постоянно сохраняют связь с хаосом. Близко
к этой трактовке стремление рассматривать нелинейный мир по-
стнеклассической науки у Делёза с помощью идей
«синергетики»3. В ряде случаев Делёз предстает не только как исследователь,
который применил идеи постмодернизма к осмыслению
преобразований, происшедших в современной философии и
естествознании, но и как исследователь, дающий возможность по-новому
определить место религии и путь к Богу4.
Среди этого разноречия весомо слышны и резко отрицательные
мнения, объединяемые общей ненавистью к «постмодерну» как
источнику и воплощению всех зол - и теоретических, и моральных.
1 Дальнейшее представление об этом пути дает, например, сб.: Авто-био-гра-
фия. Тетради по аналитической антропологии / Под ред. B.A. Подороги. М., 2001.
2 Ср., например: Маркова Л.А. От математического естествознания к науке
о хаосе // Вопросы философии. 2003. № 7. С. 78-91.
3 Ср.: Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди...// Делёз Ж.
Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000.
4 Маркова Л.А. Философия из хаоса. Ж. Делёз и постмодернизм в философии,
науке, религии. М., 2004. С. 3. В этой связи можно назвать и другие попытки
соединения концепций постструктурализма и постмодернизма с религиозными идеями,
в частности, концепциями русской религиозной философии. Ср.:
Воронова Е.М. Человек как миф - евхаристия - текст в понимании А.Ф. Лосева и
французских постструктуралистов // Методология гуманитарного знания в
перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы
международной научной конференции. 18 мая 2001 г. СПб. Серия «Symposium».
Выпуск № 12. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
С. 193-197; Гурко Е. Божественная ономатология. Именование Бога в имяславии,
символизме и деконструкции. Минск, 2006.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 375
Постмодернистская свобода трактуется тогда как «реакция невро-
тизированного таланта, изощренного, эстетизированного,
пылающего жаждой "новаторства" интеллектуализма, обделенного,
однако, жизнеутверждающей силой»1. Или еще: опыт постмодернизма
«обостряет и усугубляет» ситуацию современного
беспрецедентного напряжения «между претензиями разума, науки — с одной
стороны, и срывами общественного сознания в иррациональную стихию
насилия, мистицизма — с другой»2, а потому мы должны отступить
на шаг назад и опереться на более традиционные ценности,
построив новый синтез духовного опыта с помощью «трансцендентальной
феноменологии, постчеловеческой персонологии, синергетики,
семиодинамики или глубокой семиотики»3.
Это последнее утверждение об «отступлении на шаг назад»
содержит серьезную проблему: должны ли мы, в самом деле,
отринуть этот парадоксальный опыт, отступив назад, или же пройти
через него, конструктивно его переработав? Она не решается на
бумаге, но прорабатывается во всем множестве индивидуальных
и коллективных актов рецепции. Тем временем появляются все
новые работы, посвященные тем или иным аспектам
постмодернистской проблематики в литературе и искусстве4, а также в
философии (в частности, в эстетике5), причем симптоматично, что
выходят они не только в столицах, но и в провинциальных городах
(Томск, Екатеринбург, Ростов-на Дону и др.).
1 Дубровский Д.И. Постмодернистская мода, интернет-версия: http://anthropolo-
gy.ru/ru/texts/dubrovsky/kagan_08.html, ср. также: Вопросы философии, 2001, № 8.
На философском уровне Д.И. Дубровский видит специфику постмодернистского
сознания в пренебрежении онтологическими и эпистемологическими функциями
философии в угоду аксиологическим и праксеологическим.
2 Цитаты взяты из статьи: Тульчинский Г.Л. Трансцендентальный субъект,
постчеловеческая персонология и новые перспективы гуманитарной парадигмы //
Я (А. Слинин) и МЫ: к 70-летию профессора Ярослава Анатольевича Слинина.
СПб., 2002. С. 528-555. Интернет-версия http://anthropology.ru/ru/texts/tulchin/
slinin.html
3 Там же.
4 Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными писателями
и критиками. М., 1998; В поисках постмодернизма/ Книга мастерской киноведов
ВГИК. М., 2000; Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: новая
философия, новый язык. СПб, 2002; Постмодернизм: что же дальше?
Художественная литература на рубеже XX-XXI вв.) М., 2006 и др.
5 Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма).
М., 1995; Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки исторической
поэтики. Екатеринбург, 1997; Терещенко H.A., Шатунова Т.М. Постмодерн как ситуация
философствования. СПб., 2003; Алейник P.M. Человек в философском
постмодернизме. М., 2005; Карцев И.Е. Жиль Делёз. Введение в постмодернизм. Философия
как эстетическая имагинация. М., 2005 и др.
376
Познание и перевод. Опыты философии языка
При этом специфику российской рецепции французских идей
не только оттеняет, но и во многом определяет их американская
рецепция, особенности которой мы далее эскизно обрисуем. Те
читатели, которые, не зная французского, предпочитали
англоязычные переводы и критику, повсеместно упоминают в связи
с французским материалом Кристофера Норриса и Джонатана
Каллера, Джона Капуто и Фредрика Джеймисона, а подчас и более
тонко дифференцируют имена в этих списках (например, анали-
тичный Каллер кажется некоторым более скучным, а де Ман -
более эвристичным...). В России до сих пор почти не существует
фундаментальных монографий, специально посвященных
представителям современной французской мысли, тогда как в США
культурный слой, образовавшийся в результате попыток усвоения
французского материала, достаточно плотен: появились уже сотни
книг — индивидуальных и коллективных, посвященных одному
автору, или сборников, «продвинутых» или рассчитанных на
неопытного читателя. В обоих контекстах вторжение французской
мысли стало стимулом к преобразованию наличных традиций и
получило резонанс за рамками профессиональных сообществ.
Возникает впечатление, что обе рецепции - и российская, и
американская — являют черты эстетизации концептуального материала.
Однако при этом для историка мысли поучительны и различия
ситуаций, институциональных условий, концептуальных
предпосылок рецепции, способов преобразования заимствуемого материала.
Основные проводники французских влияний в США -
университетские преподаватели французского языка (а вслед за ними -
преподаватели английского и сравнительной литературы).
Господствующие философские направления аналитической (и отчасти
лингвистической) философии, за исключением индивидуальных
вероотступников от позитивистских программ, были скорее
враждебны к французским философским влияниям. В России такого
аналитического заслона против французского постмодернизма не
было: поскольку перегородки между областями знания пористы
и проницаемы, проникновение современной французской мысли
в философию было гораздо более интенсивным.
Далее, в Америке существовали некоторые предварительные
формы культурного знакомства с философским
экзистенциализмом или феноменологией, а кроме того существовали наработки,
которые позволяли заимствовать новое с опорой на свое (таковы
были, в частности, концепции множественного Я,
альтернативные психиатрические теории, требующие подходящих форм
концептуализации, и др.). Напротив, в России, как уже говорилось,
не было ни концептуальной подготовки к восприятию идей
современной западной философии, ни собственного опыта, требовав-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 377
шего сходных концептуализации, за исключением разве что
художественных экспериментов — в основном более раннего периода.
Соответственно этой специфике институциональных условий
восприятия постмодернистские теории пересаживались в США
с абстрактных высот философии на почву литературоведческих
теорий. Одновременно с этим происходил процесс обобщения
и некоторой стандартизации французских концепций. То, что
«в оригинале» имело подвижные границы и достаточно рыхлую
консистенцию, становилось единым и цельным блоком. Так,
во Франции Деррида или тот же Бодрийяр спорили с Фуко, Лиотар
бросал критические упреки Бодрийяру и так далее. При
перемещении в трансанлантические просторы «теория» консолидировалась,
различные концепции приобретали единые очертания, как бы
вставлялись в общую рамку. При этом на месте явных французских
разногласий вперед выходил поиск сходств — в частности, в
трактовке субъекта, репрезентации, истории. И конечно,
многочисленные учебные пособия и антологии, полезные для
распространения французских концепций, еще сильнее сглаживали
различия и подчеркивали сходства как при показе общих
тенденций, так и в пределах творчества отдельных авторов. Если во
Франции господствовал акцент на универсальном и одновременно на
различном, то в США на первый план выходила проблема
идентичности и идентификации с коммунитаристским подтекстом.
Все это и привело к образованию единого конструкта —
«Теории» или «французской теории» — странной конструкции в
«непереходном» смысле слова1. Эта теория появилась на свет в
результате определенных междисциплинарных сдвигов, перекличек
философии с литературой, арт-практиками, правом и другими
собственными областями американских исследований, такими как
различные формы феминизма или «cultural studies». Понятно, что
«французская теория» - это не прагматическая теория в
американском духе и не немецкая философская теория. Однако это в
некотором смысле вообще не предметная теория, но скорее дискурс о
самой себе и условиях собственного производства. В России
в последнее время делаются попытки осмыслить этот
американский вклад в российское освоение французской мысли2, однако
1 Ср. коллективное заочное обсуждение в России статьи Хиллиса Миллера
(Миллер X. Триумф теории и производство значений // Вопросы литературы, май
1990). Мне довелось участвовать в этом обсуждении: Автономова Н. Важна любая
ступень// Там же. С. 101-107.
2 Об этом свидетельствовала и этому содействовала публикация фрагмента из
книги Франсуа Кюссе «Французская теория. Фуко, Деррида, Делёз & компания:
изменения интеллектуальной жизни в США» (Cusset F. French Theory. Foucault,
378
Познание и перевод. Опыты философии языка
сам термин «французская теория» в России сколько-нибудь
заметного хождения не имеет. Во Франции «тюрьма», «больница»,
«гомосексуальность» воспринимались как «места» борьбы за принятие
себя обществом; в США дробность различного была радикально
усилена, вплоть до того, что едва ли не каждый человек мог
выступить как особый случай идентичности. В итоге американская
«французская теория» стала не столько рецепцией
импортируемого, сколько изобретением своего в связи с рецепцией европейского
наследия. В России вопрос об идентификации меньшинств не
стоит сколько-нибудь остро, происходит скорее идеологическое
опознавание и социальное привыкание к новым социальным статусам
и состояниям (определяемым через «гендер», «queen> и др.).
Итак, французская мысль на американской почве (как и на
российской, хотя и в иных смыслах) есть нечто весьма отличное от
своего культурного и концептуального оригинала. Можно ли
считать такие «переводы» и «переносы» оправданными? Впрочем, что
особенного в том, что современная французская мысль ведет себя
как своего рода «теория-путешественница», которая, теряя часть
начальных сил, приобретает в иных контекстах новые силы? Ведь
сам этот феномен не уникален: если взять Францию, то Гегель
читался там в духе экзистенциалистской и исторической
проблематики (а, скажем, не философии природы), Гуссерль - с акцентом
на эмоциях и воображении (а не на методе трансцендентальной
редукции) и т. д. и т. п. Создавая французскую феноменологию
и экзистенциализм, французские переводчики и «перевозчики» -
Валь, Кожев, Левинас — одновременно с этим порождали новые
философские объекты. А сейчас новые объекты порождает,
очевидно, американская (но также, по-своему, и российская)
рецепция французской мысли. Исторически важно, что американская
рецепция французской мысли не была, так сказать, узурпацией
и насильственным изменением. Ведь в самой Франции, начиная
примерно с середины 1970-х годов, интерес к этому кругу явлений
заглох, так что возникало впечатление, что переход на другое
культурное поле придал новые силы тому, что уже, казалось бы,
лишилось жизненной энергии. Хотя российская рецепция
возникла значительно позже, подобные соображения (мы лучше
поймем то, что не поняли на родине) иногда слышны и здесь.
«Французская теория» постепенно укрепляла свои позиции
в 1970—1980-е годы в период кризиса гуманитарных наук и поис-
Derrida, Deleuze & Cie et les mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis. Paris,
2003, 2005) в русском переводе вместе с другими работами российских и
американских исследователей в сборнике «Республика словесности. Франция в мировой
интеллектуальной культуре». М., 2005.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 379
ка нового инструментария, направленного против
дисциплинарных преград и теоретических тупиков. Институциональные
условия восприятия «французской теории» в Америке были, конечно
же, связаны со спецификой жизни кампусов, оторванных от
окружающего мира, но насыщенных событиями артжизни с участием
музыкантов, галеристов, художников и др. Однако при всем этом
отрыве именно в пространстве кампусов происходила возгонка
и драматизация вопросов, которые волновали все общество,
именно здесь возникали сильные эффекты эмоционального
(и концептуального) резонанса. При этой своей
самостоятельности и одновременно прагматической заинтересованности в
привлечении наибольшего количества студентов американские
университеты оказались наиболее склонными к восприятию нового.
Французская теория, считает Франсуа Кюссе, попала в стык
между ограниченным пространством университета и кажущимся
безграничным контекстом контркультуры1. В постсоветской России
центрами кристаллизации концептуального резонанса были
некоторые издательства (и прежде всего Ad Marginem, которое
потом эволюционировало и сейчас поддерживает
националистические дискурсы и произведения), отчасти так называемые
«европейские университеты» (в Санкт-Петербурге, Минске),
а также «французские коллежи» в Москве и Санкт-Петербурге,
организовывающие систематические приезды в качестве
преподавателей известных французских авторов.
«Французская теория» стала средством сближения таких полярно
далеких университетских центров, как Нантерр и Колумбия, а также
послужила основой формирования в США других центров изучения
французской мысли (среди них такие университеты, как Йель, Хоп-
кинс, Корнел). В России сцена рецепции довольно широка, она
включает и провинцию, однако о сколько-нибудь эквивалентном
обмене с другими французскими или американскими университетами
в обсуждаемой области (несмотря на наличие тех или иных форм
сотрудничества) говорить не приходится. Когда в Америке
формировалась «французская теория» - это 1970-е — начало 1980-х годов, -
в России на этом месте было почти пустое поле, — обзорные статьи
и пара переводов. Если немного пофантазировать, то можно
предположить, что на российской почве эти новые тенденции (в случае
присоединения к ним, например, альтюссеризма, не вызвавшего интере-
1 Некоторые пояснения вопроса об американской рецепции французской
мысли содержатся в разделе «"Французская теория": путь на запад и на восток» (в уже
упоминавшемся сборнике «Республика словесности»). См. содержательную
статью: Дмитриев Л.Н. «Русские правила для французской теории: опыт 1990-х
годов» // «Республика словесности»: Франция в мировой интеллектуальной
культуре. М., 2005. С. 177-190.
380
Познание и перевод. Опыты философии языка
са в США, а также психоанализа) могли бы дать какие-то новые
интересные формы неомарксизма, критики идеологии, анализа дискурса
(вскрывающего — на стыке философии, лингвистики и
психоанализа - упорядоченности и границы социально значимых видов речи).
Но всего этого не произошло: Альтюссера в России долго не
переводили1, а психоанализ появился в качестве практики и институции
достаточно недавно. Но какие бы новые формы ни приняла
современная французская мысль на российской почве, «французская
теория» по-американски останется одним из значимых влияний в этой
культурной рецепции. А это означает лишь, что в аналитической
работе мы должны учитывать еще один слой культурных напластований
Но какими бы ни были рецепции или рецепции рецепций, они
опосредованы процессом перевода в прямом или же широком
смысле слова. Так как мне довелось участвовать в первичном, начальном
процессе проникновения современной французской мысли в
Россию, я расскажу в этой главе о моем опыте перевода и рецепции на
фоне более общего процесса межкультурных и межъязыковых
взаимодействий.
§ 2. Фуко в России: перевод и рецепция
Из истории переводов (в жанре воспоминаний)
С работами Фуко российский читатель познакомился намного
раньше, чем с другими мыслителями современной Франции
и шире - современного Запада. Первая публикация о Фуко
появилась в СССР в журнале «Вопросы философии» в 1972 г., и я
рада, что мне довелось быть ее автором: многие знакомые и
незнакомые люди обращались ко мне тогда с расспросами, приглашали
выступить у них на семинарах, подробнее об этом рассказать,
в любом случае они не остались равнодушными. Столь же
счастливым обстоятельством стала для меня и возможность
публикации перевода «Слов и вещей». Сейчас, разговаривая с молодыми
людьми, для которых всё это - незапамятные времена,
приходится заново объяснять им (и самой себе), зачем все это тогда было
(мне) нужно. Самым важным для меня моментом была тогда
антиидеологическая и лишь в этом смысле «антигуманистическая»
позиция структурализма, установка на познание, а не на
продвижение тех или иных идеологических интересов. В СССР этот про-
вокативно-антигуманистический тезис вызывал тогда яростный
протест официально-догматических инстанций, но также тех лю-
1 Первый перевод - Альтюссер JI. За Маркса ( 1965) - вышел в свет на 40 лет
позже французского оригинала (в 2006 г.).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 381
дей, которые стояли на позициях экзистенциализма и
персонализма. Так, талантливые исследователи Г. Батищев и Л.
Филиппов говорили, что не стали бы со мной здороваться, если бы не
знали меня лично, — и все из-за моего увлечения французскими
структуралистами и постструктуралистами, девизом которых был
провокационно сформулированный «теоретический
антигуманизм». В «Словах и вещах» Фуко исследовал, как строится знание
о человеке, каковы главные опасности на его пути (прежде всего
«антропологический сон», который гипнотически принуждает
строить все конкретные объяснения человека, исходя из его
вневременной сущности). Новая структуралистская антропология
искала опору в знании, а не в идеологии. В этом же заключался
пафос не понятого ни в 1960—1970-е годы, ни в постсоветское время
московско-тартуского структурализма — при всех различиях
между позициями французских исследователей и позициями этой
школы, которые я здесь обсуждать не берусь.
Появление в советский период «Слов и вещей» в 1977 г. в
почти открытой печати было событием столь удивительным, что о
некоторых обстоятельствах публикации этой книги стоит, как мне
кажется, рассказать подробнее. Разговоры об издании книги
велись с начала 1970-х годов — долго и безрезультатно. Я
рассказывала о моем желании перевести эту книгу Дмитрию Ханову,
который тогда работал редактором в «Прогрессе»; он пытался, как мог,
этому содействовать, но дело не двигалось с места. Когда,
наконец, он позвонил мне и сказал, что решение принято и что мне
поручается перевод и предисловие, это была огромная радость.
Издательские сроки были очень сжатыми, и потому было решено
искать второго переводчика. Им стал В.П. Визгин, который и
переводил первую часть книги. Мы работали независимо друг от
друга и свои варианты терминов не соотносили (к тому же
терминологическое оснащение первой и второй частей книги было
достаточно различным), хотя, кажется, некоторые мои варианты,
например термин «дискурсия», были в конечном счете
распространены на весь текст. Издательский редактор О.И. Попов,
человек добросовестный, но, по-видимому, отчаявшийся разобраться
в этой книжке, внес в текст перевода немало личной правки,
от которой потом пришлось избавляться путем долгих
разъяснений и дипломатических увещеваний, а кое от чего избавиться так
и не удалось. Кроме того (сейчас предоставляется хороший случай
покаяться), обстоятельства сложились так, что я не читала
корректуру книги, а потому в ней сохранились досадные «очепятки»,
в том числе существенные, смысловые. Поспешное переиздание
книги в 1994 г. не только не внесло исправлений, но и добавило
новые недостатки, а потому приходится ждать шанса на несуетли-
382
Познание и перевод. Опыты философии языка
вое переиздание книги, тем более что ее актуальность от времени
не тускнеет.
Что же касается неофициального редактирования, то его
делали два человека, в опубликованной книге не упомянутые. Более
того, об одном из них приходилось даже умалчивать, потому что
это была иностранка — дочь известного французского математика
Рене Тома Франсуаза. В те давние времена, в середине 1970-х
годов, Франсуаза Том, изучавшая русский язык и одновременно
советскую идеологию (впереди ее ждала незаслуженная репутация
антисоветчицы), проходила многомесячную стажировку в
Москве, работая в архивах. Она отнеслась к мысли о том, что книга
Фуко выйдет на русском языке, с огромным энтузиазмом1. Когда ее
родители, Рене Том с женой, приехали в Москву навестить дочь,
Франсуаза не поднимала головы от рукописи «Слов и вещей»,
на чтение которой у нее было очень мало времени.
Мою часть перевода редактировал также М.Л. Гаспаров2. Это
был мой первый большой перевод с французского, и можно даже
сказать, что в известном смысле я учила французский на переводе
«Слов и вещей». Поначалу книжки у меня дома не было, и я от
руки переписывала книгу в Ленинской библиотеке, но вскоре
экземпляр удалось раздобыть. В Москве, как позднее выяснилось,
эта книга была, например, у Мамардашвили, получавшего
французские новинки через иностранных друзей, и, наверное, еще
у кого-то.
Выход «Слов и вещей» на гребне застоя (1977) был тем
исключением, которое и сейчас изумляет западных критиков, доказывая
лишь, что нет системы без щелей, за которыми не хватает сил
надзирать и в которые поэтому можно проникнуть. Книга была для
1 Я познакомилась с ней через ее русскую подругу, дочь русского математика
Владимира Михайловича Алексеева, Лену. Елена Алексеева уже давно замужем за
бельгийским математиком Пьером Делинем, живет в Принстоне, вырастила двух
детей, Наташу и Алешу, и все последние годы истово разбирает хранящиеся
в Принстоне мандельштамовские архивы.
2 К текстам представителей современной французской мысли Гаспаров
относился настороженно, однако, вопреки существующим представлениям, некоторые
из них он достаточно хорошо знал. Когда Гаспаров упорно называл
«деконструкцию» Деррида «деструкцией», он делал это не потому, что не знал французского
понятия, но потому, что он считал его несуразным: «деконструировать» - это все
равно как «раз-за-вязать». «Слова и вещи» он считал работой напыщенно
риторичной и многословной; проработку античных сюжетов у позднего Фуко (по моей
просьбе он прочитал второй и третий том «Истории сексуальности» - «Заботу о
себе» и «Пользование наслаждениями») воспринимал как растянутый пересказ
второстепенных источников, которые какой-нибудь английский историк уложил бы
в один печатный лист. Вопрос о подходе Гаспарова к переводу современных
французских текстов я надеюсь подробнее разобрать в будущем.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 383
того времени событием, глотком нового, она описывала события
интеллектуальной сферы не в связи со структурами
экономического базиса, как это было принято, а «изнутри надстройки»,
в связи со спецификой знаковых отношений между «словами»
и «вещами», характерных для той или иной эпохи. Эта книга была
выпущена издательством «Прогресс» с указанием «для научных
библиотек», но при тираже в пять тысяч экземпляров все крупные
библиотеки в СССР ее получили, и она стала доступной
достаточно широкому кругу читателей. Этим переводом пользовались
читатели из бывших социалистических стран, а в Болгарии,
по рассказам коллег, «Слова и вещи» были в среде мыслящих
гуманитариев настольным чтением. В книге были, в частности,
вольные суждения о марксизме (типа: марксизм принадлежит
своему времени, а вне его теряет почву под ногами, «перестает
дышать»), за которые в ту далекую эпоху иностранные книги обычно
отправлялись в спецхран, а оттуда выдавались только узким
специалистам по специальному допуску, но у этой книжки была
более счастливая судьба. Когда сразу после выхода «Слов и вещей»
я попыталась разузнать, нельзя ли теперь, по проложенному
следу, перевести и издать еще что-нибудь из Фуко, например
«Археологию знания» (я нарочно предложила самую «нейтральную»
работу), В.И. Евсевичев, заведовавший одной из редакцией
в «Прогрессе», посмотрел на меня, как на сумасшедшую:
радуйтесь тому, что вышло, новых шансов скоро не будет. И он
оказался прав, хотя для этого не нужно было быть пророком. Новые
шансы возникли только через 20 лет, когда во второй половине
1990-х годов работы Фуко начали выходить в русских переводах.
Для «постсоветского» человека все это теперь давняя история.
Критика Маркса давно ни для кого не новость, и возникает скорее
потребность в том, чтобы внимательнее присмотреться к тому, что
в марксизме, быть может, до сих пор дееспособно, отделив это от
того, что отмерло бесповоротно. Для современной читающей
публики любимое произведение Фуко — «Надзор и наказание»
(1975) - трактат о механизмах власти, порождающей все то, что
долгое время могло представляться «свободным»,
«независимым», «эмансипированным», прежде всего — знание о человеке.
При такой расширенной трактовке власть рассматривается как
всепроникающий дисциплинарный механизм, который
пронизывает все социальное целое. В постсоветскую эпоху такая
трактовка воспринималась как созвучная современным переживаниям по
поводу различных форм социальной несправедливости и
угнетения. При этом и России, и в других странах Восточной Европы,
анализируемые Фуко механизмы власти нередко трактовались
именно как «угнетение» и «подавление», а другие ее модально-
384
Познание и перевод. Опыты философии языка
сти — порождение, побуждение, стимулирование — в частности,
того самого знания, которое мы называем «гуманитарным» -
оставались в тени1. Понадобился особый поворот внимания,
умственное усилие, чтобы заметить, что механизмы власти, о
которых пишет Фуко, именно не «репрессивные» (в его
терминологии), или не только репрессивные, но и продуктивные,
порождающие всю текстуру общественных взаимосвязей2.
В 1980-е годы полномасштабных переводов Фуко не было,
но работа специалистов велась (это были, в частности, работы
В. Визгина, Т. Клименковой, В. Подороги, В. Черняка и др.),
Фуко начал проникать в пособия и словари. Ситуация радикально
изменилась в постсоветскую эпоху, когда культурная и
интеллектуальная сцена беспрецедентно открылась для современной
западной мысли и французские книги стали одними из наиболее
читаемых и почитаемых. В этот период Фуко оказался едва ли не
самым популярным. Во второй половине 90-х годов почти все
главные его книги были переведены на русский язык, причем
удачных переводов, хочется думать, было больше, чем неудачных;
в 2000-е вышли три томика, собранные из материалов
французского четырехтомника «Сказанное и написанное» (Dits et Ecrits)3,
а также некоторые курсы лекций в Коллеж де Франс4. Заметной
была российско-французская конференция «Мишель Фуко
и Россия», состоявшаяся в 2000 г.5. 25-26 сентября 2006 г. в
центре им. Андрея Сахарова состоялась Московская встреча, объеди-
1 Ярким свидетельством этой тенденции была для меня конференции
«Западный Фуко на Востоке - взгляд на Фуко с Востока» (ее французское название
Foucault d'Ouest en Est - Foucault vu de l'Est) (1993, София), в которой приняли
участие французские, болгарские, румынские, русские исследователи. Ср.
материалы конференции: Michel Foucault: Les jeux de la vérité et du pouvoir. Etudes
européennes / Sous la dir. d'Alain Brossât. Nancy, 1994.
2 Ср.: Сокулер ЗА. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб., 2001.
Концепция власти Фуко как «вездесущей» и «продуктивной» дает, по мнению автора,
новую схему для интерпретации самого широкого крута явлений современного
общества - особенно тех, что связаны с анализом происхождения и особенностей
различных форм и видов знания.
3 Интеллектуалы и власть. Статьи и интервью 1970-1984. Части 1-3. М., 2002 -
2006.
4 Фуко М. Ненормальные. СПб., 2004; он же. «Нужно защищать общество». М,
2005; он же. Герменевтика субъекта. СПб., 2007; он же. Психиатрическая власть.
СПб., 2007; Он же. Рождение биополитики. СПб., 2010; Он же. Безопасность,
территория, население. СПб., 2011; Он же. Управление собой и другими I. СПб.,
2011; Он же. Мужество истины. Управление собой и другими II. СПб., 2014. Ср.
также: Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью, 1970-1984. В 3 ч. М.,
2002-2006 ; Фуко/Логос. Филос.-лит. Журнал. № 65, 2008.
5 Мишель Фуко и Россия / Под ред. О. Хархордина. СПб., 2001.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 385
нившая правозащитников, исследователей, адвокатов,
журналистов из России и Франции. В октябре 2006 г. в Высшей школе
экономики за круглым столом, приуроченном к 80-летию мыслителя,
обсуждалось «Наследие Мишеля Фуко в современном
гуманитарном и философском знании»1.
Ни в коей мере не притязая на исчерпывающий обзор
рецепции Фуко (как и других моих персонажей) в России - об этом еще
будут написаны книги и диссертации, — отмечу, что везде в мире
рецепция Фуко движется сходным путем. Поначалу, еще при его
жизни, главным было внимание к той или иной вновь
выходившей книге. После смерти Фуко рубежными стали два события,
важные для формирования корпуса его текстов. Первое - выход
во Франции четырехтомной антологии его интервью и небольших
статей под заглавием «Сказанное и написанное», а второе —
публикация курсов его лекций в Коллеж де Франс (сам Фуко был
против посмертной публикации его работ, не прошедших
авторского редактирования, однако после того, как этот запрет был
нарушен итальянскими издателями, он стал нарушаться и в других
странах; по-видимому, его наследники будут вынуждены
официально скорректировать это неписаное правило). Соответственно
внимание исследователей, комментаторов, читателей сдвигалось:
поначалу с крупных работ на малые (и поныне обсуждается
вопрос о том, что важнее для понимания Фуко — отдельные большие
сочинения или те малые формы, которые позволяют проследить
изменение и развитие его взглядов), а в последние годы — на те
исследования и программы исследований, о которых он
рассказывал своим слушателям в Коллеж де Франс за 14 последних лет
своего там преподавания. В России, в связи с тем, что дверь в
современную западную мысль открылась сравнительно недавно,
лишь с конца 1980-х годов, в явной форме прослеживаются не все
эти этапы: так, при жизни Фуко Россия никак не участвовала
в массовой рецепции его произведений, да и сейчас его малые
работы («Сказанное и написанное») остаются лишь ограниченно
доступными русскоязычным читателям; правда, курсы в Коллеж
де Франс последовательно публикуются2.
1 Харламов H.A. Мишель Фуко и современное гуманитарное знание // Человек.
М., 2007. № 3.
2 Наряду с профессиональным интересом к Фуко, в наши дни существует
интерес учебный и педагогический: Фуко широко присутствует в университетских
программах - по эпистемологии, антропологии, политологии, этике и др. Наряду
с концептуальным дефицитом, чувствуется огромный дефицит того, что можно
было бы назвать ситуативно-культурным пониманием «реалий», нехватка
элементарных сведений о французской системе образования, о его институциях, интел-
386
Познание и перевод. Опыты философии языка
В российской рецепции Фуко можно условно вычленить
несколько периодов. Первый — период единичных прочтений: в это
время отношение к Фуко было не столько познавательным,
сколько идеологическим: читать Фуко значило чувствовать себя
немного больше человеком, чем без этого1. Второй -
экстенсивно-ознакомительный с элементами проблематизации. Третий,
который, хочется надеяться, уже настает: уже сейчас видны
признаки более внимательного и одновременно свободного
отношения к текстам; оно дает шанс лучше понять то, что мы читаем,
и более осмысленно соотнести прочитанное с собственными
культурными традициями.
Продуктивным был в России, однако, и второй, экстенсивный
этап. В частности, применительно к Фуко разрабатывались идея
архива (В. Подорога), «репрессивная гипотеза» и ее критика (М. Рык-
лин), механизмы власти с позиций философии и социологии науки
(3. Сокулер) и др. Некоторые итоги этого этапа освоения Фуко
демонстрирует уже упоминавшийся сборник трудов франко-русской
конференции в Санкт-Петербурге. Отдельные элементы
концепции Фуко применялись к дисциплинарным практикам в
имперской России (А. Эткинд), к феномену юродивости (Л. Янгулова),
к проблемам женской сексуальности, рассматриваемым на
материале современных опросов (А. Тёмкина). Возможности
методологии Фуко в области объяснения социальных явлений рассматривал
А. Бикбов, а философские и историко-научные идеи Фуко -
лектуальных традициях, без которых многое в творческой биографии Фуко (и
других французских авторов) остается за кадром. В результате возникают разного
рода недоразумения. Например, в Интернете висят (и распространяются среди
студентов) тексты, повествующие о том, что Фуко закончил «педагогический
институт», поступил работать на кафедру «истории систем мысли» (как если бы эта
кафедра ранее существовала и ему нужно было только стать «завом»), и
называющие Коллеж де Франс Академией наук. Для многих так и остается неясным, зачем
Фуко так стремился в какую-то Высшую нормальную школу, разве не в Сорбонну
должны поступать молодые дарования во Франции? Широкому читателю явно не
хватает информации о том, что Высшая нормальная школа - это не простой
«педагогический институт», но самое престижное учебное заведение Франции, куда
можно поступить, лишь пройдя огромный конкурс (тогда как в другие
университеты студентов записывают по результатам аттестата зрелости), или что Коллеж де
Франс не имеет ничего общего с Российской академией наук: организованный
в начале XVI в. в пику реакционной Сорбонне, он объединяет ныне самые яркие
фигуры в разных областях, избираемые другими преподавателями, которые
читают лекции для широкой, фактически разношерстной, публики и ведут семинары
(в Коллеж де Франс Фуко страдал от того, что публика, переполнявшая
аудиторию, не в состоянии задать толковый вопрос).
1 Об изменении отношения российского читателя к Фуко в
творчески-автобиографическом аспекте см. в работах В. Розина.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. ♦На бранном поле...» 387
В. Визгин, А. Марков, В. Каплун, О. Хархордин1. К сожалению,
по-прежнему остается непроработанной идея дискурсных практик
у Фуко, имеющая большой методологический потенциал. При
использовании идей Фуко для анализа конкретных событий или
практик дореволюционной, советской, постсоветской истории
возникает, как правило, впечатление, что эти идеи остаются
внешними тем событиям, к которым их пытаются применить. Правда,
некоторые думают иначе: «механизмы внутреннего дисциплинарного
контроля могут уживаться и с прямой деспотией, и с законом как
средством непосредственного принуждения, причем в разных
обществах они могут быть распределены радикально несхожим
образом»2. Иначе говоря, пусть либеральное общество в России так и не
возникло, это не лишает нас возможности мыслить события
русской истории через призму идей Фуко, возникших в результате
осмысления общества западного типа.
От того, как мы сейчас прочтем Фуко, зависит не только его
российский образ - вслед за французским, немецким, аргентинским
или американским. От этого кое-что зависит и в нашей жизни,
и в познании. Прежде всего Фуко становится для нас меркой
возможностей объективного познания человека на фоне сменявшихся
за последние десятилетия подходов и ценностных установок.
Когда-то Фуко бросил яркую фразу про «страсть к системе»
как черту целого поколения3. Она емко выразила
существовавшее во Франции 1960-х годов предпочтение философии понятия
и системы перед философией экзистенции и смысла. Это был
лозунг момента: запрос на структуралистский подход, на освобож-
1 Хархордин О. Фуко и исследование фоновых практик; Визгин В.
Генеалогический проект Мишеля Фуко; Бикбов Л. Пространственная схема аналитики Фуко:
социальное объяснение как инструмент разрыва с горизонтом обыденной
очевидности; Марков Л. «Думать иначе»: этика и логика в «философской деятельности»
Мишеля Фуко; Каплун В. От Ницше к Ницше: об одном пересечении двух
философских биографий (Семен Франк и Мишель Фуко); ЭткиндЛ. Фуко и имперская
Россия: дисциплинарные практики в условиях внутренней колонизации; Янгуло-
ва JI. Юродивые и умалишенные: генеалогия инкарцерации в России; Тёмки-
на Л. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность и идентичность //
Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
2 Живов В.М. Что делать с Фуко, занимаясь русской историей? (http://maga-
zines.russ/ru/authors/z/zhivov/). Ср.: Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
Отвечая на поставленный вопрос, автор напоминает нам о том, как реализовыва-
лись дисциплинарные механизмы в различные исторические периоды. В
Екатерининскую эпоху в России примерами таких механизмов могут послужить вновь
создаваемые «воспитательные дома», а в большевистский период - различные
формы отношений к индивидам в группах, например, - те, что исследовал О.
Хархордин на примере комсомольских ячеек.
Foucault M. Dits et Ecrits. T. I. Paris, 1994. P. 514.
388
Познание и перевод. Опыты философии языка
дение от субъективизма, представленного экзистенциализмом
и персонализмом; структурализм выражал эти стремления
наиболее четко, развернуто, методологически осознанно, обращаясь
к самому широкому кругу явлений, что для Фуко всегда было
важно, — он никогда не строил чисто абстрактных схем. Именно
структуралистский подход представлялся ему в 1960-е годы
наилучшим способом «диагностики современности». В 1970-е годы
интерес к системе сменился нагнетанием и выпячиванием всего
несистемного и антисистемного в системе; причем само
стремление к объективному познанию было расценено как проявление
догматизма и тоталитаризма. Эти установки успешно
транслируются и массово воспринимаются современным российским
читателем.
Однако к сегодняшнему дню все эти антисистемные установки
уже успели сложиться в свою систему, «окуклиться» и в известной
мере отработать свой взрывной потенциал. Нынешние
российские студенты читают «Ризому» Делёза и Гваттари так, словно они
в ней родились, а сама легкость их обращения с этим материалом
свидетельствует отчасти о том, что некогда взрывное стало почти
что новым каноном. Иногда кажется, что антиструктуралистский
пафос набирает высоту, переформулируется в постмодернистской
программе стирания жанров, нейтрализации всех иерархий,
отказа от любой серьезности (кроме пародийной), растворения
различий между дисциплинами и др. Как уже отмечалось в главе о
Фуко, такой образ Фуко настойчиво транслируется нам из Америки.
Это Фуко-постмодернист, который будто бы смешал все виды
дискурсов, снял границы между всеми дисциплинами и
сформулировал основные принципы ныне царящего философского
постмодернизма1. Тем самым Фуко помещают в общее пространство
с мыслителями следующей волны, например, с унесенными
постмодернизмом Касториадисом или Бодрийяром, заботившемся,
как известно, о том, чтобы поэффектнее «забыть Фуко»2.
Однако Фуко вовсе не был постмодернистом и, как уже
отмечалось, понятие это использовал с большой осторожностью. Ему
было свойственно редкое исследовательское рвение, глубокие
погружения в познавательную эмпирию; он вовсе не тот
безразличный к референтам защитник релятивизма, которого можно
увидеть на американских картинках. Откуда столь явный вкус
1 Ср. уже приводившееся мнение влиятельного философа: Джеймисон Ф.
Постмодернизм и общество потребления //Логос. Философско-литературный журнал.
М., 2000. № 4. С. 64.
2 Брошюра Бодрийяра была переведена на русский язык, но, кажется,
особенного впечатления на читателей на произвела: Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 389
к систематической мысли - кстати, в отличие от Барта, Делёза,
отчасти и Деррида? Когда, размышляя о Канте и Просвещении,
Фуко трактовал актуальные задачи философии, он фактически
вслед за Хабермасом, с которым обычно спорил, трактовал
стадию «модерна» как незавершенную и призывал нас взрослеть в
работе над собой, формируя способность к самостоятельному
суждению. Строить на руинах догматической антропологии новую
антропологию, способную связать знания, институты и
человеческие практики, - антропологию, которая, по сути, синонимична
«критической истории мысли», — помогал ему любимый Кант.
Сейчас, когда ценность познания (и самоформирования),
кажется, вновь становится актуальной в российской культуре, Фуко
может стать нашим спутником на этом пути.
Между дискурсией и дискурсом
В работе над переводами Фуко — «Слов и вещей», а затем
фрагментов из «Археологии знания» и «Пользования
удовольствиями», которые выходили в ротапринтных сборниках Института
философии, — проблем для меня было, кажется, меньше, нежели
позднее при переводе психоаналитических понятий или
концептуального строя Деррида. Однако интересные случаи были: на
одном из них, связанном с понятием «discours», мы здесь
остановимся подробнее.
Но сначала несколько слов о переводе других понятий. Еще до
того, как перевод «Слов и вещей» стал реальным делом, возник
вопрос о передаче на русском языке главного понятия этой
книги — французского слова «epistémè» (греческого происхождения).
В редких его упоминаниях в тогдашней советской литературе,
например у М.Н. Грецкого, предлагалась калька — «эпистеме»
(с ударением на последнем слоге), что делало это слово крайне
неудобным в русскоязычном употреблении. И потому уже в
самых первых публикациях о Фуко, при поддержке МЛ. Гаспаро-
ва, я решительно ввела слово «эпистема», которое затем и
закрепилось1.
Работа над «Словами и вещами» была для меня периодом
создания моего личного франко-русского словаря (у каждого
переводчика есть свой словарь и свои предпочтения тех или иных ва-
1 Впрочем, в своем переводе «Позиций» Деррида В. Бибихин предпочитает
использовать слово «эпистеме». В дальнейшем при переводе с французского я всегда
старалась искать русские слова, которые были бы морфологически и
синтаксически гибкими. Например, в русском языке я предпочитаю использовать
существительные на месте французских субстантивированных глаголов и прилагательных:
так, на месте «Надзирать и наказывать» Фуко («Surveiller et punir») я бы предпочла
«Надзор и наказание» и др.
390
Познание и перевод. Опыты философии языка
риантов перевода среди других возможных и допустимых).
Но речь шла, разумеется, и о более общих вещах. Например,
я апробировала здесь русское слово «априорность» в
единственном и множественном числе (например, «исторические
априорности» вместо «исторические a priori» (409)!, что позволило писать
это слово-понятие кириллицей и склонять его по нормам
русского языка). При переводе пары понятий «Identité» и «le Même»
я примеривала варианты: Тождество и Тожество
(существительное от «То же самое»), а также Тождество и Тождественное (487).
Случалось придумывать и неологизмы; один из них - перевод
слова «articuler» (оно значит: «расчленять», «сочленять»,
«сочленять, подразумевая расчлененность») как «сорасчленять» (это
новое слово по своей семантической структуре немного напоминает
слово «деконструкция» и, кажется, неплохо работает в целом ряде
контекстов, освещавших соотношения слов и вещей).
Средоточием многих сложностей было понятие «дискурс»
(discours). Казалось бы, что тут обсуждать? Разве по поводу
«дискурса» как словесной единицы (теперь уже и в русском
концептуальном языке) у нас есть какие-либо сомнения? Дело, однако, в том,
что именно в творчестве Фуко запечатлелись два важнейших
этапа существования французского понятия «дискурс» (проследить
судьбу этого понятия в английском и немецком языке было бы
отдельным увлекательным занятием), причем при переходе от
первого этапа ко второму слово «дискурс» фактически раздробилось
на два разных понятия, что не было толком ни замечено, ни
отмечено — ни самим Фуко, ни его критиками. В итоге
омонимичными, то есть обозначающими разные вещи посредством общей
звуковой формы discours, оказались discours как
логико-лингвистическая развертка представления и discours как социально
регламентированное высказывание, не имеющее отношения ни
к логике, ни к лингвистике. Discours в первом смысле слова
противоположен одномоментному интуитивному схватыванию
и представляет собой «последовательное выражение мысли
посредством слов и предложений» (одно из определений слова
discours в Словаре А. Лаланда2). Discours во втором смысле слова
выступает как совокупность социальных и идеологических
ограничений, определяющих, кто, что, кому, каким образом и при
каких обстоятельствах может или не может говорить. Discours(l)
(именно он преобладает в «Словах и вещах») я переводила как
1 Здесь и далее ссылки в скобках - на издание: Фуко М. Слова и вещи.
Археология гуманитарных наук. М., 1977.
2 LalandeA. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris, 1988. P. 11-12.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 391
«дискурсия»1, a discours(2) - как «речь»2, реже - «дискурс». Как
это ни парадоксально, этот социально-идеологический дискурс
как раз «недискурсивен»: во всяком случае, он противоположен
«дискурсивное™» в логико-лингвистическом смысле слова. А
потому к этому новому дискурсу следовало бы применять скорее
прилагательное «дискурсный», оставив прилагательное
«дискурсивный» для обозначения логико-лингвистического
упорядочения речи, рассуждения; это позволило бы избежать как путаницы
терминов, обозначающих различные вещи3, так и потери важных
понятийных дистинкций.
В творчестве Фуко этот сдвиг терминов происходил как раз
между «Словами и вещами» и последующими работами —
«Археологией знания» (1969) и «Порядком дискурса» (1970). Насколько
мне известно, Фуко нигде прямо не говорил об этом переломе
в значении слова и понятия «дискурс». Однако в процессе работы
над переводом, как это часто бывает, эта метаморфоза сразу
бросилась в глаза. Подчеркиваю: именно «в процессе», а не «в
результате»: в конце концов слово «дискурс» закрепилось,
восторжествовало и стало казаться самоподразумеваемым - тем более при
нашей нынешней тенденции к калькированию иностранных
терминов без попытки их действительного «перевода» на русский
язык. Но оно не всегда таковым было, более того, в новом своем
значении оно существует сравнительно недавно.
1 Это слово, хотя и нечасто, употребляется в текстах русской философии для
обозначения противоположности интуитивному постижению. Ср.: Шпет Г.Г. Опыт
популяризации философии Гегеля. // Щедрина Т.Г. «Я пишу как эхо другого». Очерки
интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004. С. 299.
2 Ссылаясь на книгу Д. Менгено, Патрик Серио в своем предисловии к работе
«Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса» (Прогресс, 1999)
напоминает нам, что дискурс может быть эквивалентом понятия «речь» (в соссюров-
ском смысле); новой единицей лингвистического анализа, превосходящей
отдельную фразу; указанием на социальные и идеологические ограничения, налагаемые
на (потенциальную) бесконечность высказываний, задаваемых языком, и др.
3 И тогда при переводе таких понятий Фуко, как «formations discursives»,
«pratiques discursives» (из «Археологии знания»), мы должны были бы писать «дискурс -
ные формации», а не «дискурсивные формации», «дискурсные практики», а не
«дискурсивные практики», - ведь русский язык позволяет здесь пользоваться
различными формами прилагательных. Тем самым нам бы удалось различить
«дискурсивный» (развертывающий представление в линейной последовательности
слов) и «дискурсный» (принадлежащий дискурсу как социально
санкционированной или не санкционированной совокупности высказываний,
специфицированных сообразно месту, времени, обстоятельствам, субъекту и тематике). Конечно,
все мы задним умом крепки, и к тому же само это долженствование обнаружилось
не сразу. В результате первый, логико-лингвистический дискурс умер
неестественной смертью, а второй, языково-социальный, превратился в слово-«зонтик»,
который может значить все на свете.
392
Познание и перевод. Опыты философии языка
Сам термин «дискурс» имеет свою судьбу. Он происходит от
латинского discurro (разбегаться в разные стороны). В своем
смысле, обозначенном выше как discours (2), оно существует во
Франции примерно полвека, оставаясь практически
непереводимым и лишь калькируемым во многих других языках. Во Франции
1950-х годов слово discours означало «публичное выступление»,
«рассуждение». К середине 1960-х годов это слово стало довольно
быстро превращаться в модный термин, который постепенно
заменил и «текст», и «теорию», и «стилистически окрашенную речь»
и пр.1. Употребительность этого нового слова нарастала
лавинообразно. Примерно с начала 1970-х годов все ранее
господствовавшие словесные жанры выравниваются в своем статусе
дискурсов: таким образом, это слово действительно становится
симптомом стушевывания жанровых границ. Однако
терминологическую четкость оно имело разве что в направлении analyse du
discours, выясняющем социальные закономерности
функционирования текстов в обществе.
В американской лингвистике слово discourse возникло как
термин для обозначения сверхфразовых единств. Статья
3. Хэрриса «Анализ дискурса» была впервые напечатана в 1952 г.
и переведена на французский язык в 1969. Во Франции «анализ
дискурса» 1970-х годов стал направлением, объединившим
лингвистику, социологию, психоанализ, теорию идеологий,
философию. Отдельными составляющими анализа дискурса стали здесь
лингвистика (Бенвенист, вслед за Соссюром), критика идеологий
(Альтюссер, вслед за Марксом), психоанализ (Лакан, вслед за
Фрейдом), изучение механизмов интеллектуального
производства (Фуко, вслед за Марксом, Ницше, психоаналитиками
и лингвистами). Так, в своей статье «Фрейд и Лакан» Альтюссер
писал о том, что за мнимой прозрачностью механизмов
говорения нужно вскрыть нечто иное — дискурс бессознательного,
а в работе «Идеология и идеологические аппараты государства»
(1970) предложил анализировать идеологический дискурс на
примере политических текстов. В целом «анализ дискурса» как
дисциплина изучает те социальные ограничения, которые
налагаются на всю бесконечность потенциально возможных
высказываний конкретным местом и временем. В известном смысле
«дискурс» вообще не есть нечто непосредственно эмпирически
данное. Это скорее объект, построенный на стыке языка и
социума, языка и идеологии: он призван скорректировать
лингвистический подход, который забывает об истории, а также идеологи-
1 М. Гаспаров в шутку предлагал переводить discours в этом
недифференцированном значении как «разговорщина».
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 393
ческий подход, который растворяет язык в идеологии. В судьбе
этого слова и термина запечатлелись важные сдвиги значений,
свидетельствующие об изменениях в философском и научном
мышлении. В данном случае Фуко оказывается для нас весьма
подходящим персонажем для рассмотрения сюжета, далеко
выходящего за рамки его творчества.
В «Словах и вещах», где царит discours(l) (мой перевод,
напомню, — «дискурсия») и практически нет discours(2), именно
discourse 1 ) был символом и основой эпистемы «классической эпохи»,
а тем самым и всей системы представлений классической философии.
Для современного российского читателя, близкого к
философии, слово «классический» вполне привычно; обычно оно
употребляется в паре «классический» — «неклассический». Кажется,
впервые в советской философской литературе эта пара понятий
появилась в уже упоминавшейся знаменитой статье трех авторов1.
Точнее, в ней речь идет не о классическом и неклассическом,
а о «классическом» и «современном»2. Точно так же обстоит дело
и у Фуко, который в «Словах и вещах» ведет речь о «классическом»
и реже — «современном». В статье трех авторов понятия
«классический» и «неклассический» употреблялись применительно к
физике3. Однако в русском языке советского периода понятия
«классический» и «неклассический» вскоре сложились и стали
употребляться в более широком смысле, а в постсоветский период
они стали повсеместно употребительными. Напротив, во
французском языке, где «не» (поп) - приставка сравнительно редкая (в
отличие от русского языка, где модель словообразования с
отрицательной приставкой очень продуктивна), понятийные пары
«классика - неклассика» или «классический — неклассический»
как таковые не сложились. Однако в «Словах и вещах» слово и
понятие «классический» употребляется очень часто: так, речь здесь
идет о классической эпохе, классическом веке (309, 326),
классическом языке, классическом порядке языка (385), просто
классическом порядке (293), классической мысли (292), классическом
1 Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев B.C. Классика и современность:
две эпохи в развитии буржуазной философии // Философия и наука. Критические
очерки буржуазной философии. М., 1972. Далее ссылки даются на это издание.
2 В статье трех авторов говорится о «классической» философии и философии
«уже не классической (курсив мой - H.A.) по своей восприимчивости,
рефлективности, технике интерпретации ...» (Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю.,
Швырев B.C. Классика и современность: две эпохи в развитии буржуазной философии.
С. 32). Иначе говоря, отрицание при слове «классический» здесь стоит отдельно от
слова; это значит, что «неклассическое» в цельно-отрицательном значении еще не
родилось.
3 Там же. С. 32.
394
Познание и перевод. Опыты философии языка
понимании различия (356), классическом опыте (401),
классическом и современном мышлении (406), классической философии
(406), классической теории знака (434) и др.
Так, в системе понятий «Слов и вещей» классическая эпоха
определяется через господство «дискурсивности представления»
(133). Язык классической эпохи сводится к роли дискурсивного
механизма, способного к линейному выражению
одновременного. В этом качестве он рассматривается в различных теориях
языка; например, «всеобщая грамматика - это изучение словесного
порядка в его отношении к одновременности, которую она
должна представлять. Таким образом, ее собственным объектом
оказывается <...> дискуссия (discours), понимаемая как
последовательность словесных знаков» (137). Аналогичных примеров немало:
«классическая мысль порождает не что иное как мощь дискурсии»
(401); «...в течение всего классического века язык утверждался
и рассматривался как дискуссия, то есть как спонтанный анализ
представления» (309), «простая и протяженная линия дискурсии»
(431) и др. Иногда у Фуко это слово пишется с заглавной буквы
(Discours), чтобы риторически подчеркнуть его смысловое
господство: оно служит основанием всей философской классики
как системы мысли и всех возникающих в ту эпоху форм знания.
Между XVIII и XIX вв. происходит перелом от классической
эпистемы к современной. Суть его опять-таки связана с discours,
только в отрицательном смысле: это «исчезновение дискурсии и ее
однообразного господства» (486), это замена дискурсии - языками,
богатств — производством, пространства мысли, в котором
классическая эпоха упорядочивала тождества и различия, — историей,
отныне диктующей свои законы производству, языкам и живым
организмам. Что же касается современной эпистемы, то в ней «анализ
дискурсии» вытесняется «аналитикой конечного человеческого
бытия» (434). Так обстояло дело в «Словах и вещах», где «дискурса»,
напомним, еще нет. Однако уже в «Археологии знания» поднимает
голову новорожденный омоним (новое слово в той же звуковой
форме) и в действие вступает «дискурсная формация» как
совокупность высказываний, фиксирующих исторически меняющиеся
способы производства знания, а в «Порядке дискурса» вовсю
орудует дискурс как социальный механизм порождения высказываний
системой норм, запретов и предписаний.
Но ведь можно и усомниться: как проверить, что на месте
одного слова родилось другое с радикально иным значением, почти
антоним? Мысленным экспериментом. Попробуем подставить на
место классической «дискурсии» «Слов и вещей» неклассический
«дискурс» из «Порядка дискурса» (во французском, как мы
помним, и то и другое именуется discours) и посмотрим, что из этого по-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 395
лучится. Берем фразу из «Слов и вещей» — «уход дискурсии привел
к раздроблению единого поля эпистемы», заменяем «уход
дискурсии» на «уход дискурса» и видим, что результат такой подстановки
оказывается абсурдным. В самом деле, в отличие от «дискурсии»,
«дискурс» никуда не «уходил», напротив, он наступал,
приближался, а через каких-нибудь два-три года стал главным понятием в
новой концепции Фуко (хотя и не так долго продержался в этом
своем качестве). Или еще пример. Берем фразу «разрыв классического
порядка и исчезновение Дискурсии», заменяем «дискурсию» на
«дискурс» и опять попадаем в провал абсурда: исчезает, конечно же,
не дискурс, а Дискурсия (тем более - с заглавной буквы!), дискурс
же, можно сказать, уже стучится в дверь. Конечно, в 1966 г., когда
«Слова и вещи» были опубликованы во Франции, вряд ли кто-
нибудь мог предсказать такое развитие событий, но теперь, задним
числом, мы хорошо знаем, что «анализ дискурса» уже тогда
наступал на пятки «анализу дискурсии». Поразительно, что сам Фуко
нигде ничего нам не говорит об этом понятийном сдвиге: не потому
ли, что в стихии родного языка, сохраняющего одну и ту же
словоформу (discours), это менее бросается в глаза?1.
Спрашивается: идет ли речь здесь о частном случае и локальном
эпизоде недавней истории? Нет, это не так, что выясняется на
примере другого эпизода турбулентной истории понятия «discours»
у Фуко. Оказалось, например, что моя первоначальная попытка
перевести французское «discours» как «речь» — не только мое
изобретение... Примерно в то же время, когда я в Москве работала над
переводом «Слов и вещей», во Франции лингвистка Марина Ягелло,
переводившая книгу Бахтина (Волошинова) «Марксизм и
философия языка», увлеченно ставила на месте русскоязычных слов
«речь», «высказывание», «слово» - французское слово «discours».
По-видимому, это происходило потому, что она работала над
переводом в момент бурного расцвета «анализа дискурса» во Франции,
и ее затянуло в воронку господствовавших тогда концептуальных
предпочтений. А в результате явившийся во Франции конца 1970-х
годов М.М. Бахтин предстал как необыкновенно актуальный
мыслитель в строю последователей Бенвениста с его теорией
высказывания. Но теперь эти переводческие предпочтения Ягелло
поставлены под вопрос, а в Лозаннском университете Патрик Серио со
своими сотрудниками подготовил и издал новый перевод на фран-
1 Правда, и в «Словах и вещах» употребление слова discours не ограничивается
«классической дискурсией» как анализом представлений в линейности словесного
ряда. В частности, встречаются такие словоупотребления, как: «анализ
переживания есть дискурс, достаточно неоднородный» (413), «пророческий дискурс» (413),
«наивный дискурс» (413), но эти употребления нетерминологичны.
396
Познание и перевод. Опыты философии языка
цузский язык книги «Марксизм и философия языка», в котором
слово «discours» в качестве терминологической замены поставлено
на более скромное место. Интересно, что почувствуют при этом те
интерпретаторы Бахтина, в частности Юлия Кристева, которым
Бахтин казался предтечей французских теорий дискурса? Конечно,
в отличие от коренных французов, Кристева наверняка читала
книжку по-русски и видела, что слова «дискурс» там нет, но гипноз
чарующего звучания слова-отмычки ко всем дверям был сильнее
прямого читательского впечатления. Впрочем, кто знает: быть
может, Бахтин и впрямь предвосхитил французские теории дискурса,
хотя и не пользовался самим словом «дискурс»?
Одновременно с франкоязычными русистами, которые
пытаются сейчас освободиться от своего родного слова «дискурс»,
чтобы лучше понять русского исследователя, продолжим наши
мысленные эксперименты. Что будет, если в наши дни какой-нибудь
молодой переводчик возьмется перевести «Слова и вещи», что
называется, «с чистого листа»? Почти наверняка, под влиянием
господствующих в современной постсоветской культуре
предпочтений, он — в качестве главного понятия классической эпохи
твердой рукой введет сакраментальное слово «дискурс».
Интересно все-таки: отметит ли он, хотя бы в примечании, что
«классический» дискурс парадоксальным образом антагонистичен
«неклассическому», тем самым вновь погружая читателя в мир смысловых
и переводческих загадок?
Метаморфозы слова «дискурс» у Фуко очень поучительны. Фуко
был одним из пионеров анализа дискурса во Франции; по крайней
мере, почти все представители нового направления так или иначе
принимали во внимание концепцию дискурса у Фуко — даже если
сами строили ее иначе, например, в русле проблематики
интертекстуальности, как Барт, Кристева, Женетт и др. Но вопрос остается:
чем объяснить то олимпийское спокойствие, с которым Фуко
перешел от одного значения термина к другому, его исключающему?
А может быть, и впрямь новое понятие дискурса не мыслилось
Фуко как антагонистичное предыдущим употреблениям? Может
быть, - продолжим мы эту линию рассуждения, - классическая
дискурсия способна быть частным случаем дискурса, одним из
возможных дискурсных режимов? Тогда получится, что в новом
дискурсе способы связи говорящего с тем, что он говорит, не
ограничиваются линейным логико-лингвистическим упорядочением
представлений и предполагают более широкий спектр
взаимосвязей, более обширный набор практик, определяющих тематику,
обстоятельства, позиции, предпочтения и запреты в процессе
социального, группового и индивидуального производства
высказываний. Очевидно, однако, что если мощь дискурсии держалась на ее
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 397
единстве и единообразии, то власть современных дискурсов
предполагает апологию различий в способах производства дискурсов.
Не будем сейчас обсуждать вопрос о том, насколько вероятно такое
предположение применительно к Фуко и можно ли согласиться
с Фуко, если бы он и в самом деле так думал. В любом случае
можно выдвинуть еще одну гипотезу: а не является ли нынешнее
discours словом, семантически более близким к исходному
словарному значению discurro — «разбегаться в разные стороны», нежели его
значение в классическую эпоху западной философии? И тогда нам
придется признать в духе общей стратегии разрывов, характерной
для Фуко в 1960-е годы, что классическая дискурсия как словесная
линейная логическая упорядоченность мысли была хотя и
продолжительным, но все равно всего лишь эпизодом, после которого
историческое течение жизни слов вновь вывело на свет то, что когда-
то было оттеснено на периферию? Но это соображение нужно будет
тщательно проверить.
И последнее. Использованному мною в «Словах и вещах» слову
«дискурсия» явно не повезло. В качестве перевода французского
discours оно просуществовало свой короткий век лишь как ad hoc
решение в процессе движения смыслов между языками: переводчики
знают, что новые (или, как в данном случае, старые новые) слова -
это всегда лишь гипотезы, а не окончательные решения. Но все
равно, как переводчику и исследователю мне обидно: из русского
концептуального языка пропало не просто слово, но важная
понятийная дистинкция. Жаль, что ее не успели занести в Красную книгу...
§ 3. Деррида в России: перевод и рецепция
Этапы освоения
Рецепция творчества Жака Деррида в разных странах различна
и нередко неожиданна. В США он читаем и почитаем больше, чем
во Франции; в Индии (знаю это по собственному опыту) его имя
знакомо даже людям «с улицы». Новые оттенки в этот спектр
восприятий вносит теперь и постсоветская Россия, где Деррида
выступает и «сам по себе», и как классик современной французской
философии. Каков он за рамками расхожих антиномий
(ниспровергатель всех ценностей или утвердитель новых, поп-звезда или
серьезный ученый)? Оборотной стороной популярности
становились журналистские эскапады — то хвалебные, то ругательные,
в любом случае — небезразличные. Так, мужской журнал
«Медведь» рассказывал читателям про его галстуки и гастрономические
пристрастия, а корифеи постсоветской литературы наперебой
хвастались перед публикой запанибратскими отношениями с мэтром.
398
Познание и перевод. Опыты философии языка
Звонкое имя Деррида распевалось в студенческих частушках,
а термин «деконструкция» был у всех на устах. После смерти
Деррида общая тональность этих откликов изменилась: стали
очевиднее масштаб потери и место той проблематики, которая была
намечена, очерчена, пройдена Деррида в общем раскладе
возможностей философии на рубеже XXI века. Однако огромное
количество вопросов остается. Быть может, только сейчас, когда первое
любопытство от нового явления удовлетворено, есть шанс, что
начнутся более серьезные и вдумчивые исследования — уже не
ради моды и престижа, а ради интереса к поднятым им проблемам.
Ни в коей мере не претендуя на развернутый анализ рецепции
Деррида в России, я постараюсь хотя бы схематично очертить
некоторые аспекты нынешнего существования Деррида «на русском
языке». Восприятие Деррида в современной России оказалось своего
рода симптомом культурного кризиса. И сейчас еще иногда
кажется, что Деррида — это звезда, которая светит так ярко, что
оставляет лишь слепое пятно: у читателей, пораженных стилем и
техникой, нет ни сил, ни желания разбираться — что, к чему, почему...
Конечно, серьезная профессиональная работа над текстами
Деррида началась в России не сегодня. На рецепции творчества
Жака Деррида в России отчетливо видны ныне разные стадии
того, что можно было бы назвать распахиванием «окна в Европу».
В СССР первые подходы к философии Деррида содержались
в диссертации (1973), а потом и книге автора данных строк1, а
также в статьях талантливого исследователя Л. Филиппова2. В 1980-е
годы внимание к работам Деррида ограничивалось в основном
некоторыми словарными и энциклопедическими статьями. В 1990-е
годы стали появляться интересные исследования
ознакомительного или проблемного характера. Среди них - работы О. Вайн-
штейн, Н. Маньковской, М. Маяцкого, М. Рыклина, И. Ильина,
Б. Соколова и других исследователей3. Два приезда Деррида
в Москву в начале 1990-х годов всколыхнули московскую
публику - увидеть живого классика, да еще такого, кто защищает Марк-
1 Лвтономова И. С. Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных
науках. Критический очерк концепций французского структурализма. М., 1977.
2 Филиппов Л.И. Грамматология Ж. Деррида // Вопросы философии. 1978. № 1.
3 Ср.: Вайнштейн О. Деррида и Платон: деконструкция Логоса / Arbor Mundi.
1992. № l.C. 50-72; Рыклин M. Предисловие // Жак Деррида в Москве. М., 1993;
Соколов Б.Г. Маргинальный дискурс Деррида. СПб, 1996; Маяцкий М. Там и тогда.
Послесловие переводчика// Гуссерль/Деррида. Начало геометрии. М., 1996; Биби-
хин В.В. Примечание переводчика // Деррида Ж. Позиции. Сб. интервью. Киев,
1996; Ильин И. Жак Деррида - постструктуралист sans pareil // Он же.
Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996, и др.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 399
са, когда его пинают, как раненого льва! Слушателям
запомнились его лекции — о деконструкции, о дружбе и справедливости
как человеческих состояниях и философских идеях. Однако шанс
живого впечатления был привилегией немногих. Вскоре начался
процесс публикации статей и книг Деррида1, интенсивность
которого до какого-то времени нарастала, а сейчас волна первичного
интереса, кажется, схлынула. Когда я начала переводить
«Грамматологию», ничего из крупных работ Деррида по-русски не
существовало. Работа шла долго, и когда перевод, наконец, пробился
к публике, мы в чем-то уже были «впереди планеты всей»:
например, появились сразу два перевода «Письма и различия» (см.
об этом в последнем параграфе данной главы).
Обстоятельство, осложняющее рецепцию Деррида, было
связано не в последнюю очередь с тем, что первой переводной
работой Деррида в России стали «Шпоры Ницше» - яркий и провока-
тивный текст, который вряд ли годился на роль путеводителя или
хотя бы введения. Сейчас по-русски появились и другие тексты
Деррида и прежде всего — знаменитая трилогия его классических
ранних работ («Голос и феномен», «Письмо и различие», «О
грамматологии»), однако важный этап усвоения был потерян — не
хочется думать, что безвозратно. В итоге сейчас среди читателей
и некоторых критиков преобладает эстетико-эмоциональная, а не
интеллектуальная реакция. Главный ее момент - подражание:
1 Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше / Пер. А. Гараджи // Философские науки.
М., 1991. № 3 и 4; Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия / Подг.
М. Рыклин. М., 1993; Гуссерль/Деррида Ж. Начало геометрии / пер. М. Маяцкого.
М., 1996; Деррида Ж. Позиции. Сб. интервью / Пер. В. Бибихина. Киев, 1996; Он
же. Страсти, Кроме имени, Хора / Пер. Н. Шматко. СПб., 1998; Он же. О
почтовой открытке / Пер. Г. Михалкович. Минск, 1999; Он же. Голос и феномен / Пер.
С. Кашиной, Н. Суслова. СПб., 1999; Он же. О грамматологии / Пер. Н. Автоно-
мовой. М., 2000; Он же. Письмо и различие / Пер. В. Лапицкого, А. Гараджи,
С. Фокина. СПб., Академический проект, 2000; Он же. Письмо и различие / Пер.
Д. Кралечкина, М., Академический проект, 2000. Уже в 21 веке из работ Деррида
вышли, в частности, в переводах B.E. Лапицкого (в 1 и 2 испр. изд. СПб., в 2002 и
2012 году): Шибболет; Ухобиографии. Учение Ницше и политика имени
собственного; Вокруг Вавилонских башен, Золы угасшъй прах. См. также: Маркс
и сыновья / Пер. Д. Новикова. М., 2002; Наконец-то научиться жить / пер.
H.C. Автономовой // Вопросы философии. 2005. № 4; Призраки Маркса / пер.
Б. Скуратова. М., 2006; Диссеминация / пер. Д. Кралечкина. Екатеринбург, 2007;
Поля философии / Пер. Д. Кралечкина. М., 2012; Тварь и суверен (фрагмент
семинара Деррида) / Пер. А. Гараджи) // Синий диван. Философско-
теоретический журнал. М., 2008. № 12, 13; 2010. № 15.
Среди монографий о Деррида: Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида. СПб.,
2010; Лвтономова Н.С. Философский язык Жака Деррида. М., 2011; Голобородь-
коД. Концепции разума в современной французской философии. М. Фуко
и Ж. Деррида. М., 2011.
400
Познание и перевод. Опыты философии языка
имитация внешних приемов стиля (этимологические подкопы,
фонетико-семантические ассоциации), растаскивание текстов на
отдельные слоганы и причудливое их склеивание.
Критики в основном либо относят всего Деррида к
расплывчато понимаемому постмодернизму со всеми его пороками
(отрицанием всех основ, продвинутыми технологиями и всяческими
играми), либо (реже) трактуют его в вульгарно социологическом
духе. В самом деле: несет ли нам Деррида новое слово или
дурачит? Ну конечно, дурачит: сам прожил жизнь сыто и насыщенно,
а нас учит пустотам и пробелам. Или с
социально-психологическим уклоном: алжирский еврей-эмигрант столкнулся с тяжелой
бюрократической машиной и стал искать средства
психологической защиты — иначе откуда у Деррида взялись такие
«квазитермины», как «отсрочка», «различие», «подпись»? А есть и более
«мягкие» варианты интерпретации деконструкции с заботой о
народном благе: деконструкция полезна России потому, что она
размягчает западный разум, делает его менее жестким, менее
давящим, позволяя нам свободно произрастать по своему разумению
без репрессивного западного влияния.
Таковы первые отклики на появление в переводе классических
крупных работ Деррида. Иногда они явно поверхностны. Однако
серьезная работа не делается быстро; настанет очередь другого
прочтения и других дискуссий - как о самих текстах, так и о
принципах и результатах их переводов. Пока же нередко возникает
впечатление, будто рецензенты сильнее поддаются обаянию
яркого стиля Деррида, нежели проникаются содержанием его идей.
То, что создавалось как эффективный критический язык,
направленный против ограниченности новоевропейских способов
философии, воспринимается в эстетическом ключе, что мешает
заметить и должным образом оценить критические эффекты этого
письма и его возможные конструктивные применения. Не
случайно, что художники, арт-критики сейчас больше говорят о
Деррида, чем философы.
В общем, кажется, получается так: в советское время Деррида
игнорировали или заушательски критиковали, а в постсоветское
стали либо воспевать, либо дьяволизировать вместе с другими
условными представителями постмодерна, якобы повинного во
всех нынешних российских бедах. В массе своей такое
нерефлексивное отношение преобладает и поныне, когда, например,
деконструкция, сложное двухприставочное образование,
воспринимается чаще всего эмоционально, по семантике первой
приставки, как об этом свидетельствуют многие десятки примеров из
Интернета, которые можно обобщить двумя фразами, тоже из
Интернета: «Наступают хаос и деконструкция, в просторечии
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 401
именуемые злом...», и «деконструкция не переводится на русский
язык»... В целом Деррида успел стать общим местом раньше, чем
был переведен, и, быть может, именно поэтому так быстро
превратился в России в лозунг. Его виртуозная аналитичная работа
с языком мысли осталась при этом в тени.
Однако в последнее время совершаются и попытки более анали-
тичного прочтения Деррида, о чем свидетельствует, например,
дискуссия в журнале «Новое литературное обозрение»1. Чем важен
Деррида российскому читателю? Прежде всего он - мыслитель,
обновивший «теоретический горизонт», «изменивший сам облик
современного знания о человеке и культуре». Как философ Деррида -
тот, кто «доводит до предела феноменологическую традицию»,
одновременно с этим возрождая какие-то «потерянные
метафизикой» возможности (А. Магун). Деррида мыслит на пределах и
выступает с постулатом «уникальности каждого прочтения» (А.
Скидан). В отличие от других главных фигур современной французской
мысли, Деррида, как считают участники беседы, больше всех не
повезло на российской интеллектуальной сцене. В отличие, скажем,
от Фуко и Лакана, так или иначе освоенных историками и
психоаналитиками, несмотря на языковые и стилевые сложности,
Деррида остается как бы ничьим. Его чураются и философы, и
гуманитарии, так как своей критикой метафизики и метафизических
оснований гуманитарного познания он оказывается всем им
опасен, но к нему следует внимательнее присмотреться.
Постсоветскому читателю полезен и артистизм Деррида, и его готовность быть
«более точным, артикулированным и даже более структурным»
(И. Кукулин). В целом участники дискуссии считают, что попытка
усвоения Деррида в России не увенчалась успехом. Они считают,
что именно им предстоит строить рецепцию Деррида, так как
у предшественников мало что получилось: трудности советского
периода всем известны, а в постсоветские времена началась
переводческая разноголосица, которая и свидетельствует о кризисе
рецепции. Если, однако, под разноголосицей подразумевается
отсутствие общих эквивалентов при переводе, то это скорее нормальная
ситуация. Ни французские слова, ни их американские эквиваленты
(заметно, что по-французски Деррида и сейчас мало кто читает)
сами собой границу русского языка и культуры не переходят. Тут
нужны направленные усилия, тем более — после советского
периода, в который современная западная мысль для широкого читателя
не существовала. Хотя читатели сами язык не вырабатывают, имен-
1 Наш Деррида ? (Анализ рецепции и стратегии перечтения) / Круглый стол в
редакции «Нового литературного обозрения» 22 ноября 2004 г. // Новое
литературное обозрение. М, 2005. № 72. С. 61-97.
402
Познание и перевод. Опыты философии языка
но за ними остается последнее слово в вопросе о том, что из
предложенного переводчиками станет, пусть на ограниченное время,
русскоязычным эквивалентом какого-то термина, а что останется
историческим казусом. Однако, даже если судить только по этой
дискуссии, некоторые согласия вокруг слов и терминов все же
постепенно начинают складываться. Например, для перевода
мучительной пары différence-différAnce большинство пишущих,
кажется, пользуются некогда предложенными мною вариантами
«различие-различАние» и, напротив, не пользуются терминами
«разность-разнесение» (а также оттяжка, оттягивание или просто
differance), предложенными Бибихиным1, или же терминами
«отличие-отличение», предложенными Зенкиным (об этом более
подробно далее). Итак, насчет разнобоя верно, однако,
по-видимому, некоторые из предлагаемых эквивалентов все же закрепляются.
Расширяется и география исследовательских усилий, что не может
не радовать2.
Но и насчет того, что полноценной рецепции не получилось, -
тоже верно. Кажется, это относится и к другим современным
французским мыслителям, несмотря на больший энтузиазм
вокруг Делёза или Фуко. В том, что касается Деррида, сложности
рецепции — это не в последнюю очередь следствие того
несвоевременного переводческого предпочтения, о котором уже
упоминалось. Многое зависит от того, читается ли текст в первый,
второй или энный раз. Важен также фон ожиданий: нам может
показаться событием то, что более или менее тривиально в другом
культурном контексте, и наоборот. Любое восприятие, как бы нам
ни хотелось абсолютно нового, строится в контексте уже
известного. Работая над диссертацией по французскому структурализму,
я когда-то подошла к Деррида уже после Альтюссера, Леви-Стро-
са, Фуко, Лакана и Барта. На фоне громких лозунгов насчет
«смерти человека», безмерно усиленных внешним контекстом,
программа Деррида в его ранних книгах, особенно в «Голосе и
феномене», «Грамматологии», казалась удивительно трезвой,
собранной, неидеологичной, нетрескучей. Эти ранние работы были
для меня прежде всего весомым и своевременным распростране-
1 Деррида Ж. Позиции. 2 изд. М, 2007. Ср., например, с. 16, 17 и далее.
2 Одно из свидетельств тому - Материалы международного
междисциплинарного симпозиума памяти Жака Деррида на тему «Ситуация post: что после?». Ростов-
на-Дону. 5-7 июня 2005 // Симпозиум. Ежегодный междисциплинарный журнал.
Ростов н/Д., 2005. Вып. 2. 4. 1. Представленные в сборнике материалы посвящены
двум темам: деконструкции («Деконструкция: вчера, сегодня, завтра») и
постмодерну как состоянию мысли и культуры («Состояние постмодерна. Логика
парадокса и игра смысла»). Ср. также: Ольшанский Д. Собственный язык (в)
философии Деррида. http://anthropology.ru/ru/texts/olshansky/russia_l 3.html.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 403
нием вопроса о знаке, следе, структуре на область философии.
А затем круг материала расширялся, но выводы оставались
сходными: наличие в любом мыслительном построении
метафизического фундамента и ограниченность самой метафизики
определенным набором постулатов, повторяющихся в разных вариациях
и изводах. Не забудьте, напоминает нам Деррида, ограда (очер-
ченность, clôture) метафизики не есть конец философии. Да и
саму метафизику мы не упразднили. Вот мы используем знак как
пятую колонну метафизики, чтобы ее пошатнуть, поколебать, но это
вовсе не значит, что кто-нибудь из нас когда-нибудь обойдется без
знаков. Главным оказывается не отрицание знака и структуры,
но внимание к тому, что в структуре неструктурно: а в ней есть
щели и дыры, в которых происходят совсем иные процессы, нежели
то, что описывалось более привычно структурированной мыслью.
В реализации этого проекта менялись акценты, материал,
конфигурации. Крайне огрубляя ситуацию, можно сказать, что
ранний Деррида сводил все к логоцентрической метафизике.
Средний стал все больше подчеркивать апорийность любого начала,
любой концептуальной опоры. Поздний поставил проблему
возможности невозможного (морали, политики, институтов,
практической этики, например, гостеприимства). А самый поздний —
подчеркнул необходимость утверждения «безусловного»:
регулятивные идеи - это хорошо, только нам нужно «здесь и теперь»
быть уверенными в возможностях разума, в перспективах всегда
«грядущей» (à venir) демократии. Между разными этапами -
масса перекличек, а между началом как точкой наибольшего
самоутверждения и концом как точкой наибольшей направленности на
другого — дистанция немалого размера. О ней свидетельствует
хотя бы такой факт: вместе с Хабермасом, своим давним
теоретическим противником, Деррида поставил свое имя на их общей
книге, состоящей из выступлений, посвященных «11 сентября».
Политическая мысль поначалу не была у Деррида на первом
плане, и за ее отсутствие его когда-то критиковали. Зато для
позднего Деррида этическая и политическая мысль становится
важнейшей. Главная социальная и политическая задача, решению
которой философия должна в полную меру сил содействовать, —
построить новую Европу, которая обладала бы памятью о
прошлом и могла бы взять на себя ответственность за будущее
человечества, поднявшись и против американской гегемонии, и против
«арабеко-исламской» теократии. Но в ней значимы и
эпистемологические мотивы, и прежде всего - постановка вопроса о разуме
и его перспективах. Здесь мы сталкиваемся со своего рода
новизной традиционности. А это подчас дорогого стоит. Недаром
книжка «Хулиганы» (или, иначе, «Разбойники»: подразумеваются
404
Познание и перевод. Опыты философии языка
так называемые «государства-разбойники»; о значении и
этимологии слов rogue в rogue states или voyou в états-voyous Деррида
рассуждает подробно) имеет подзаголовок «Два очерка о разуме»1.
До Франции споры о рациональности докатились позже, чем до
России (точнее - до СССР), но и в собственной траектории
Деррида — это поздний, но вызревший, не случайный вопрос.
«Спасать честь разума», согласно девизу Канта и Гуссерля, - разумно
ли это? Может ли разум иметь интересы: ведь он же
незаинтересованный? Как связан «великий вопрос о разуме» с вопросом о
человеческих желаниях? Если мир - это регулятивная идея разума,
то сам разум — тоже регулятивная идея? Разум существует в
разных формах и конфигурациях (эпистемы, парадигмы, науки о
духе, науки о природе и т. д. и т. п.), но не получается ли, что вера
в разум превосходит сам разум?
Другая грань социально-политической мысли - это вопрос об
институтах, учреждениях (социальных, образовательных,
политических), воплощающих разумное демократическое начало. Он
ставился Деррида в разных контекстах. Можно ли сказать «мы,
нижеподписавшиеся», учреждая новую социальную общность,
если само это «мы» возникает только после того, как ставится
подпись? А кто же тогда пишет? Как существует коллективная воля
в процессе выработки любого общественного договора?
Отношение Деррида к институтам было сложным. Личной, но социально
реализовавшейся утопией Деррида было создание особого
открытого института. В 1983 г. вместе с группой коллег, среди которых
были Ф. Шатле, Ж.-П. Фай и другие, он создает при поддержке
социалистического правительства Международный философский
коллеж в Париже и становится его первым руководителем2.
Во Франции, где междисциплинарные перегородки очень жестки,
где профессионально заниматься философией можно только
с дипломом о соответствующем базовом образовании, это было
яркое новшество: Коллеж и создан был для того, чтобы сделать
французскую философию более восприимчивой к проблемам
гуманитарных наук, этики, политики, психоанализа, искусства,
чтобы повернуть ее к другим философиям, существующим в мире.
1 Derrida J. Voyous. Deux essays sur la raison. Paris, 2003.
2 Сказать «директором» было бы неправильно, так как научного директора
в МФК нет, есть только «президент коллегиальной ассамблеи», который
избирается членами коллежа (всего их 50 человек: 40 французов и 10 иностранцев). В
принципе всякий, кто предложит заинтересовавший коллег проект научной работы
и семинаров, может стать руководителем программы. Работа Международного
философского коллежа известна мне не понаслышке, так как в течение шести лет
(1998-2004) я была в нем руководителем программы.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 405
Казалось, что такой необычный институт долго не протянет,
но нет - несмотря на все перемены политической конъюнктуры
и все нападки, он жив и продолжает свое парадоксальное
существование. В 2003 г. Коллеж торжественно праздновал
двадцатилетие, и Деррида, уже тяжело больной, пришел, чтобы произнести
вступительное слово. В 2013 Коллежу исполнилось уже 30 лет,
и это событие широко отмечалось во Франции.
Часто спорят о месте Деррида в философском процессе: что он
завершает, что начинает, что критикует, что утверждает -
«субъективно» и «объективно»? Но в любом случае нам важно знать,
какими были его итоговые мысли по этому поводу. В своем
последнем интервью газете «Монд», опубликованной в расширенном
виде отдельной книжкой «Наконец-то научиться жить»1,
Деррида — после всех критик и деконструкций — «благословляет»
поколение французских 1960-х годов, последним представителем
которого его часто называли. Эта эпоха преждевременно
завершилась, но требует возрождения. На верность этому
наследию (Лакан, Альтюссер, Фуко, Барт, Делёз, Бланшо), общему
в различном, он и присягает, оставляя неопределенно открытым
вопрос о своих собственных наследниках2. В этом тексте Деррида
с пронзительной простотой формулирует задачу философии: ради
жизни научить умирать. Идея смерти была для Деррида
навязчивой, а отсюда и проблематика «пережизни» (sur-vie): она не
сводится ни к жизни, ни к смерти, но подразумевает интенсивную
жизнь, которая не прячется от неизбежного, но и не утешает себя
бессмертием трансцендентального субъекта или будущим
существованием в виде «архивов», к которым Деррида был так
неравнодушен.
Перед исследователем возникает неизбежный вопрос: как
писать о Деррида? Литературы широкого профиля, которой могли
бы пользоваться непрофессионалы и учащиеся, практически нет.
При этом встает, в частности, и старый вопрос о мысли и стиле.
В какой мере стиль есть выражение мысли? Надо ли
воспроизводить стиль, чтобы понимать Деррида? А может, и понимать его не
надо — достаточно ответить на его провокацию стилистическим
демаршем (это соображение наивно выражено в послесловии
к московскому изданию «Письма и различия»). Наверное, все же
писать о Деррида по-дерридиански не имеет смысла. Это будет
1 Derrida J. Apprendre à vivre enfin. Entretien avec Jean Birnbaum. Paris, 2005. Рус.
пер.: Деррида Ж. Наконец-то научиться жить. Пер. с франц., прим. и послесл.
Н.С. Автономовой // Вопросы философии. М., 2005. № 4. С. 133-144.
2 Пронзительным свидетельством этой верности является и сборник
некрологов, написанных им за 20 лет: «Конец света, каждый по-своему» (2003).
406
Познание и перевод. Опыты философии языка
лишь ухудшенный Деррида. Вряд ли стоит и буквально следовать
его запретам периода «бури и натиска» (мои тексты - не анализ,
не синтез, не метод, не... и т. д): конечно же, мы находим у
Деррида примеры изощренного анализа. Вряд ли стоит пытаться
транслировать Деррида как эстетический феномен эпохи
«постмодерна» в нашу ситуацию «прото-модерна». Эстетических
экспериментов на российской земле всегда было в избытке, а
понятийной мысли - не хватало. К тому же творчество Деррида было не
столько фонтанированием литературного таланта, сколько
реализацией — каторжным трудом — концептуально-критического
замысла, причем даже прививку поэтического к философскому
поздний Деррида парадоксальным образом рассматривает прежде
всего как «логическую необходимость». Как и любой другой
автор — Шекспир или Лакан — он существует в культуре для разных
людей и на разные потребности, поэтому и дайджесты, и
пересказы кому-то нужны. По крайней мере, пересказать своими словами
то, что говорится в его текстах, — это важная культурная задача,
если речь идет не о подражании, но об усвоении на пути к
самостоятельной мысли.
Несколько лет назад мне довелось читать лекции (в том числе
о Деррида) в одном учебном заведении. В коридорах, как это
теперь принято, висели портреты Хайдеггера, Бердяева, Соловьева,
висел и некто, названный «Жак Деррида». Вижу — это совсем не
Деррида: говорю, не он, головой ручаюсь, однако еще несколько
месяцев портрет не снимали и не переименовывали...Время
«настоящего» Деррида еще не пришло, а кто-то хотел его поторопить,
но оконфузился. Хотелось бы, чтобы это время пришло. Если
избежать рабства подражательности, мы увидим, что многое из того,
что делал Деррида, может нам пригодиться. Прежде всего как
«урок письма» — мыслительного владения теми базовыми
артикуляциями, над которыми надстраиваются все другие формы
внятности в человеческой культуре.
Но эта страница истории рецепции Деррида в России,
безусловно, не последняя. Его острая, цепкая, отточенная мысль вряд ли
поддержит детскую завороженность движением означающих
независимо от смыслов. Своей трезвой парадоксальностью она, хочется
надеяться, будет участвовать в создании профессионально зрелого
философского сообщества, которое в России только складывается
(тогда как во Франции оно уже успело догматизироваться). А для
этого нам нужно будет строить и апробировать новые способы
дискуссий, переводов, пониманий (и непониманий) — на границах
миров, еще недавно бывших почти не проницаемыми.
В самое последнее время наметилась новая линия в подходе
к Деррида — это попытка соотнести его с русской и советской
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 407
культурой, использовать его понятия для концептуализации
русского и советского духовного опыта. В целом здесь видна попытка
скрещивания тех двух тенденций открытости (к русской
философской мысли и к современной западной мысли), которые
в начале постсоветской эпохи существовали параллельно и
независимо друг от друга. Так, Е. Гурко поставила вопрос о связи
некоторых тенденций философии языка у Деррида с традициями
русского имяславия и символизма1, развертывая при этом
достаточно фантастические представления о différance как
божественной инстанции; сам термин différAnce Гурко вообще не
переводит, обращаясь с ним как с элементом сакрального языка.
Начались также попытки соотнести опыт Деррида с некоторыми
тенденциями советской культуры и искусства2: Деррида
зафиксировал ситуацию, при которой мир раскололся на
противоположности, которые нельзя ни принять, ни синтезировать, но выход
есть - он находится в точке пересечения различных традиций
культуры и выступает под именем российской альтернативы
постмодернизму. Можно предположить, что обе эти линии
гибридизации будут иметь своих продолжателей.
Ни в коей мере не претендуя на исчерпывающий анализ
российской рецепции Деррида, можно сделать лишь несколько
общих наблюдений. Как уже отмечалось, в отличие от Лакана или
Фуко, так или иначе разобранных профессиональными
сообществами (или, по крайней мере, группами), Деррида не является
предметом явной групповой апроприации. За исключением
страсбургской группы (Ж.-Л. Нанси, Ф. Лаку-Лабарт), он,
кажется, не имеет прямых продолжателей, влиятельных в российском
медиамире, поэтому пока работа над наследием Деррида вряд ли
будет в России особенно широкой. Можно предположить, что
в будущем основными тенденциями работы с текстами и
практиками Деррида будут попытки их применения к визуальным
искусствам, к этике и к политической теории. Перспективным
представляется и эпистемологический анализ Деррида, хотя пока это
наименее разработанная область его рецепции3; в частности,
много интересного можно обнаружить, изучая различные формы
существования гуманитарных предметов с необычным
познавательным статусом при явной нехватке процедур для их фиксации
и описания. Параллельно с этим, наверняка, будут внимательнее
1 Гурко Е. Божественная ономатология. Именование Бога в имяславии,
символизме и деконструкции. Минск, 2006.
2 Лрсланов В.Г. Постмодернизм и русский «третий путь». М., 2007.
3 Можно назвать работы, в которых отчетливо видны следы его
эпистемологического прочтения; ср., например: Керимов Т.Х. Неразрешимости. М., 2007.
408
Познание и перевод. Опыты философии языка
прорабатываться историко-философские параметры концепции
Деррида и его критика западной метафизики (особый интерес
в этом смысле представляет феноменологическая традиция),
а также история его полемик и дискуссий с представителями
других философских направлений. Препятствием в этом отношении
выступает то, что для историко-философского анализа Деррида
его нужно читать в оригинале, тогда как читают его у нас (да
и в других нефранкоязычных странах), как правило,
по-английски — в совершенно ином строе языковой идиоматики.
В отличие от Фуко и особенно Делёза, концепты которых могут
далее отвлекаться от материала, на котором они были
выработаны, вербально-семантический пласт концептов Деррида труднее
поддается абстрагированию, так, «supplément» (восполнение)
остается как бы приросшим к Руссо, а, например, «фармакон» -
к Платону. В любом случае, «дифференсу» (différence) и «диф-
ферансу» (différAnce) никогда не стать такими же любимыми
и узнаваемыми, как, скажем, делёзианская ризома: они слишком
аналитичны, а она завлекающе образна. Необходимость и
невозможность перевода поворачивается к нам в случае Деррида то
одной, то другой своей гранью. Иногда, наверное, любому
переводчику Деррида хочется прекратить свои тяжкие труды и
оставить все как есть - пусть supplément будет «супплементом»,
a différAnce - «дифферансом»! Между прочим, это может
потрафить любителям экзотики и иностранных слов; эти слова
неизвестно что значат, но зато «производят впечатление», интригуют,
побуждают к повторению и закреплению. Так может быть, и
скучноватое «восполнение» в форме «супплемента» станет более
затребованным? Однако, если мы хотим, чтобы Деррида был в
России мыслью, а не оттенком цвета в образной палитре, переводить
его нужно, даже если это и невозможно.
Стратегии перевода
«...перевод - дело культурно-полезное, а статья при
переводе может сказать гораздо больше, чем статья (или даже книга)
без перевода. Только не поддавайся соблазну апостольства
и апологетики: будь критична. Деррида как мыслитель для
русского читателя уже не открытие: все худшее у него уже с ветру
перенято нашими интеллектуалами-авангардистами, и
по-русски уже случается видеть тексты с такими зигзагами мысли, что
куда там Деррида. Я бы лучше подчеркнул в статье (и в
переводе, конечно), что такое Деррида как художник - его артистизм
(или антиартистизм, все равно), которого не хватает его
подражателям. В конце концов, все иррациональное - достояние не
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 409
науки, а искусства, а Деррида нарочно говорит только о
несказуемом и невыразимом: бароккомысли, барочное «сближение
далековатых понятий» (и объектов), как выражался
Ломоносов. Ты можешь об этом сказать лучше, чем кто-нибудь: ты
филолог среди философов, это сильная твоя сторона, ею нужно
пользоваться, а не приглушать ее. Хорошо, что это серия Ad
Marginem: она не обязывает тебя ставить его в один ряд с
Платоном и Гегелем, а позволяет и с Захер-Мазохом. Во Франции
философия спокон века считалась частью изящной
словесности: в XIX в. это означало ясность и прозрачность мысли и
стиля (так - еще у Бергсона), а в XX в. стало означать нарочитую
темноту и бесшабашную громоздкость (с кого это началось?
С Сартра? Или раньше?). Деррида в своей словесной
акробатике оперирует и тем и другим, - если ты его впишешь в эту
традицию, он будет интересовать, но не будет завораживать (хотя
ему хочется именно завораживать своим эпатажем). А это
русским читателям и нужно: привычка завораживаться у них
(у нас) в крови, а она вредная. Не знаю, об этом ли говорится
в книге под названием «Философия, риторика и конец
объективности», но могло бы: философия и риторика соперничали
и взаимообкрадывались со времен софиста Горгия, сейчас -
очередной тур их кадрили, а конец объективности
провозглашался уже столько раз, что говорить о нем - несерьезно.
Объективности как полного соответствия мысли абсолюту не было
никогда, а объективность как интерсубъективный консенсус
была всегда и продолжает быть - конец ее наступит, когда
люди перестанут понимать друг друга и вымрут, а этого пока еще
нет. Напиши, пожалуйста, «проблемную (т. е. с отсебятиной)
рецензию», это очень хороший жанр - такой же
просветительный, как наши переводы со статьями и комментариями...»
(М. Гаспаров - Н. Автономовой 3 декабря 1994 г.1).
Этот отрывок из письма М. Гаспарова посвящен очень важным
вещам: как переводить Деррида? Как вводить его в русскую
культуру? Как вообще переводить? В нем содержится целая программа
перевода и его роли в культуре. Всякий перевод — а не только
Шиллер в переводе Жуковского - разрушителен для оригинала,
однако у филолога правила в этой разрушительной работе должны
быть систематически выдержаны. Текст типа «Глокая куздра
штеко булданула бокра и курдячит бокренка» — это не просто
выдуманный Л. Щербой случай: именно такой вид имеют промежу-
1 Это письмо М. Гаспарова, стало быть, относится к тем временам, когда я еще
сомневалась, стоит ли мне браться за перевод «Грамматологии». - H.A.
410
Познание и перевод. Опыты философии языка
точные стадии работы по переводу с тех языков, которые только-
только начинают расшифровываться. Я стремилась построить
текст на русском языке, то есть сделать перевод не только с языка
на язык, но и с культуры на культуру. В процессе перевода было
интересно наблюдать жизнь смыслов, которая в родном языке
абсолютно незаметна и течет как бы сама собой. Как приблизить
Деррида к читателю и читателя к Деррида? Каковы тактики
и стратегии в этой работе перевода? Приходится исходить из того,
что ни один перевод не переводит всего в оригинале. Всякий
перевод чем-то жертвует ради чего-то, а кто думает иначе, тот
заблуждается — либо сознательно, либо бессознательно. Большинство
переводов делается без учета этой ограниченности, и стало быть
непоследовательно (в одном месте переводится термин, в
другом — стилистический прием). Обычно люди самозабвенно
недооценивают то, чем жертвуют: то, что им нравится, застит им глаза.
Деррида сопоставляет перевод с работой деконструкции:
в «Письме японскому другу» он рассказывает о том, как искал
словесное выражение своего замысла и нашел нужное слово
в процессе перевода — как мы бы сказали, в узком и широком
смысле. Прежде всего речь здесь идет о переводе понятия
«деконструкция» на японский язык и о тех ловушках, которых на этом
пути желательно было бы избежать. Однако «темная» проблема
перевода возникает не в тот момент, когда мы начинаем искать
эквивалент французского понятия на японском языке: она встает
уже тогда, когда слово первоначально ищется в языке оригинала
при попытке перевести в план выражения то, что лишь
подразумевается.
И здесь нам очень важно - еще раз - напомнить саму ситуацию
рождения термина «деконструкция». В ней есть и момент
случайности, и момент систематичности — как вообще в жизни языка.
Само это слово возникло при переводе хайдеггеровских понятий
Destruktion и Abbau, относившихся к архитектонике западной
метафизики. Французский перевод destruction не устраивал Деррида
своим чисто отрицательным значением, не схватывающим сути
переосмысления. Более подходящим показалось ему слово
«деконструкция»: оно всплыло при переборе толковых словарей
и попытке примерить различные предлагаемые в них смыслы.
В словарях, толкующих деконструкцию, предлагались различные
значения: вычленить части целого, разобрать механизм при
перевозке его на другое место и даже — изменить структуру фразы при
переводе на другой язык, соответственно «конструкция» - это
воссоздание фразы в новом языке), что прямо свидетельствует
о переводческом характере деконструкции. Итак, опорное слово
всей концепции Деррида возникло при осмыслении проблем пе-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 411
ревода: оно существует не само по себе, но лишь в цепочке замен
и разветвлений, ведущей от языка к языку. А потому, как уже
отмечалось, Деррида вслед за Беньямином заявляет, что перевод не
вторичен и произволен, но, напротив, современен оригиналу или
даже парадоксальным образом ему предшествует: в любом случае
нет оригинала, который не запрашивал бы перевода.
Выбор стратегии определяется тем, как переводчик понимает
позицию автора и возможности читателя. Наиболее
распространенные типы переводческих подходов к текстам Деррида
в России — интуитивистско-харизматический, подражательский,
игровой. И все они представлены людьми талантливыми (интуити-
вистский — например В. Бибихиным, подражательский —
например А. Гараджой, и др.). Но есть и просто неумелые переводчики,
которые ограничиваются транслитерацией важнейших авторских
понятий, отчаявшись найти им русские эквиваленты1.
В любом случае ясно, что одного-единственного перевода,
который бы удовлетворил всех переводчиков и всех читателей, быть
не может. Но если этот вопрос о переводческих стратегиях встает
применительно к любому моностилевому тексту
(научно-терминологическому или, напротив, художественному), то они тем
более возникают применительно к переводам работ Деррида. Ведь
основные единицы его текстов — поэтико-терминологические
(термин Дж. Агамбена): они подчас представляют собою столь же
понятия, как и образы. Его мысль ищет свой стиль — по-разному
в разные периоды и в разных сочинениях, и это создает
дополнительные трудности для переводчика. В «Грамматологии» —
классической работе раннего периода — концептуальное начало все же
явно преобладает над метафорическим. А потому, давая себе отчет
в этой стилевой двойственности, я все же делаю акцент на
концептуальной, а не стилистической стороне текста и предлагаю
перевод, который можно назвать «терминологическим». И это -
осознанный выбор, решение, а также ответственность — в
ситуации, которую я определяю как ситуацию нехватки средств
русского концептуального языка и их выработки — прежде всего, в
процессе перевода.
Тот, кто будет утверждать, будто ему удалось перевести все
в оригинале, вольно или невольно заблуждается. Как правило,
выбор бывает неосознанным, в результате чего действия переводчи-
1 Один из примеров этого - Е. Гурко, которая приложила к своим очеркам
о Деррида перевод одного из его программных текстов, отказавшись при этом от
перевода основного понятия - difîérance. Ср.: Гурко Е. Жак Деррида.
Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск, 2001. См. квалифицированную и острую
рецензию С. Фокина на эту книгу (http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk8/27r.html).
412
Познание и перевод. Опыты философии языка
ка оказываются особенно непоследовательными. Переводчики
часто настаивают на интуитивном выборе эквивалентов родного
языка. Однако, как бы важна ни была роль интуиции в этом
процессе, она не все определяет. Требуется выйти на такой уровень
работы, который в принципе был бы доступен проверке и
обсуждению. Тот или иной выбор эквивалента может проверяться
критериями историко-семантическими (занято ли данное слово
в русском языке и что оно привычно означает),
морфологическими (может ли данное слово способно образовывать однокоренные
слова, сохраняя понятийное гнездо), орфоэпическими (речь идет,
например, о «произносимое™» слова, о его длине или краткости:
в русском языке слова обычно длиннее французских, что
заведомо утяжеляет фразу) и другими. Учет всех этих требований, как
представляется, позволяет сохранять при переводе смысловые
ядра, пересиливая господствующую тенденцию к эстетизации
восприятия за счет смыслов.
В порядке эксперимента я выбрала в тексте «Грамматологии»
полтора десятка базовых понятий, постаралась найти им
эквиваленты в русском языке и последовательно выдерживать их, предъявив
читателю словарь соответствий. В тех контекстах, когда сохранить
выбранный эквивалент почему-либо не удавалось, это
оговаривалось особо. Конечно, философия не живет только в словах, но она
не живет и вне слов, а потому задача закрепления базовых терминов
оригинала в базовых терминах языка перевода, апробирование
семантических возможностей тех или иных слов и словосочетаний
русского представлялось мне важным этапом работы. Как
последовательно выдержать выбранные эквиваленты? Всякий переводчик
знает, что это очень трудно, ибо в разных языках семантические
объемы даже, казалось бы, «тождественных» слов не совпадают, как
не совпадают их способности к синтаксическим сочетаниям, к
морфологическому словообразованию и др. Когда то или иное
французское слово или понятие в языке перевода дробится, то подобные
случаи я поясняла отдельно, чтобы читатель мог опознавать понятия
и термины оригинала как определенные единства.
Еще один важный момент, сопутствующий переводу и в
известном смысле также являющийся переводом, - это построение
комментария (того, что стоит под одной обложкой с текстом Дер-
рида, но не в форме «Я и Деррида», как случалось у иных
переводчиков, а в виде знающего свое место предисловия). Наверное, это
главное средство приближения читателя к автору. В предисловии
к «Грамматологии», например, была сделана попытка показать
ситуацию возникновения книги, пересказать (своими словами!)
ее содержание, наметить анализ проблематики, показать
принципы перевода. Я стремилась реконструировать то, чем (основные
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 413
понятия)1, что (основное содержание), как (отклики и оценки),
для чего (замысел) исследует Деррида. Приходилось выбирать тот
уровень, где есть возможность коллективной работы, обсуждения
с коллегами по ремеслу, и этот обмен бесценен. Я провела
несколько лет жизни в работе с мыслью Деррида, не будучи ни
сторонницей, ни последовательницей Деррида, чему удивлялись все
мои знакомые в России и во Франции. Но это время было для
меня плодотворным: надеюсь, что мне удалось воспринять и
«перевести» некоторые интеллектуальные вызовы, содержащиеся в
разномасштабных «неразрешимостях» его текста.
При выработке эквивалентов приходится иметь в виду, что
среди русских переводов современной западной философской
литературы наметились две крайности: либо уход в русскую
этимологию слов, что при массивном использовании делает перевод
неудобочитаемым, неоправданно затрудненным для мысли, либо
построение таких текстов, которые выглядят как транслитерация
иностранного текста в русском алфавите. Сейчас представляется
важным такое осмысление переводческой работы, которое
исключало бы харизматическую трактовку перевода как откровения
для избранных. Иначе говоря, требуется развивать не столько
«поэтику» перевода, сколько «науку о переводе», его трудностях
и закономерностях. Если бы каждый переводчик счел
возможным делиться результатами своего труда с читателями и
коллегами, давать себе и им отчет в тех (в принципе общезначимых)
основаниях, по которым он выбирал в качестве русских
эквивалентов те или иные термины, это позволило бы сделать мощный
рывок в развитии концептуальных ресурсов русского
философского языка. Перевод слов и перевод мыслей — не одно и то же.
К языку перевода мыслей одно требование: каждое понятие
должно быть так или иначе сохранено и определено, даже если
определение каждого понятия в принципе уходит в
бесконечность. И в этом смысле в наши дни на передний план вновь
выходят забытые слова — «ремесленник» и «шедевр». Подыскивать
переводческие эквиваленты приходится долго, часто на свой страх
1 Среди основных понятий, которым придавались последовательно
удерживаемые русские эквиваленты, были écriture, archi-écriture (письмо, архе-письмо);
différence, différAnce (различие, различАние); espacement (разбивка); présence
(наличие); supplément, supplémentaire (восполнение, восполнительность) и др. В каждом
конкретном случае выбор русского термина требовал взвесить другие возможные
или предлагавшиеся варианты и привести доводы в пользу предложенных мною
эквивалентов. Например, нужно было объяснить, почему я выбираю «письмо» (а не
«письменность»), «разбивку» (а не «спациализацию» - это иногда используемый
«русскоязычный» эквивалент слова espacement), «восполнение» (а не «прибавку»,
«приложение» или просто «супплемент») и др.
414
Познание и перевод. Опыты философии языка
и риск. И любой публикуемый перевод должен быть
«шедевром» — но не в смысле «лучшим на все времена» (в переводе
такого просто не бывает), а в средневековом смысле - «лучший
образец моей работы, который, при всем его несовершенстве,
я осмеливаюсь предъявить в гильдию, коллегам по ремеслу».
При этом одна из важных технических задач - это перевод
вторгшихся в русский язык, но не проработанных им
иностранных терминов. Спациализация, ретенция, протенция, диссеми-
нация, депрезентация... Однако ведь даже абстракция вне
логики — это отвлечение, аргумент — это довод, а фиксированность,
фиксация (вне технологии) - это прочность (устойчивость),
проект — замысел, анализ — разборка. В меру возможного я
пыталась противостоять такому заимствованию непереваренного:
например, «аудио-фоническая система» переводилась как
«устройство, позволяющее слышать звук»;
«мануально-визуальное письмо» — как «письмо рукой для глаза»; «оральность» (не
в психоаналитическом смысле) — как «работа голоса». Однако
найти подходящее русскоязычное слово удается далеко не
всегда, фактически - редко.... Разумеется, я не призываю
возрождать шишковские общества защиты словесности, так как
иностранные слова неизбежно входят в язык, однако огромный
объем нынешних заимствований во всех сферах жизни требует
заботы языка о себе — своей роли, силе, концептуальном статусе
(во французской культуре периодически принимаются меры для
защиты от внедрения упрощенного англо-американского), и
даже если результаты не соответствуют чаяниям, нужно делать
в этом направлении все, что можно.
И последнее. Так как все перевести невозможно, весь вопрос
заключается в том, что выбрать и как удержать то, что будет
выбрано. Если мы выберем десяток значимых терминов и
последовательно проведем их через весь русский текст, то наш читатель не
будет плавать среди неясных довербальных смыслов; он сможет
работать с понятиями, выраженными в его родном языке. А
потому в случае необходимости я предпочитала жертвовать
второстепенным, например, стилистическими красотами, ставя акцент на
передаче гибкой и сложной мысли. Полагаю, что это сейчас
важнее и для читателя, и шире - для функционирования русского
философского языка.
Отрадно, что в последние годы, наряду с массой
безответственных публикаций — как переводов, так и рецензий на переводы,
стали появляться информативные и компетентные рецензии:
накал страстей утихает, уступая место серьезной работе,
внимательному чтению и комментарию. Применительно к переводам Дер-
рида хочу назвать прежде всего прекрасные рецензии С. Фокина,
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 415
В. Мазина, А. Ямпольской1. Опираясь на эти рецензии,
российский читатель будет, к примеру, знать, чему можно, а чему нельзя
доверять в том или ином переводе (например, в петербургской
версии «Письма и различия» неудачно переведена
феноменологическая терминология, а в московской — психоаналитическая).
Особенно полезны широкие сопоставления различных
переводческих выборов, обсуждение их достоинств и недостатков.
При этом обсуждаются и более широкие проблемы перевода, и
условия рецепции французской мысли в России. Применительно
к Деррида В. Мазин подчеркивает, в частности,
«самостирающийся» статус его понятий. И это — верно. Спрашивается однако:
как влияет на способ перевода понятий тот факт, что Деррида
в некоторых редких случаях (иначе текст невозможно было бы
читать) сначала пишет то или иное понятие, а затем перечеркивает
его — крест накрест или горизонтальной чертой? Вряд ли Деррида
думал, будто «самостирающиеся» понятия должны переводиться
нетерминологично, каждый раз по-разному, на основе
контекстуальных вариаций смысла, ведь это не позволило бы читателю,
не знакомому с оригиналом, опознавать эти понятия в
переводном тексте. Да и сам Мазин, как бы споря с тезисом о
самостирающихся понятиях, означающем невозможность и
неправомерность установления терминов (или иначе - словесно-понятийных
единиц, в принципе стремящихся к однозначности) - твердой
рукой соотносит разные переводы и анализирует в них именно
способы передачи базовых терминов. Отмечу в его рецензиях
редкостный для этого жанра публикаций спокойный и взвешенный
тон, лишенный критического натиска, и обстоятельность
разборов — принципиально важных для нынешней стадии разработки
русского концептуального языка. Ведь от того, какой своей
гранью смысла, звучания, внутренней образности иностранное слово
повернется к русскоязычному читателю, зависит и дальнейшая
судьба переводимых текстов и концепций в культуре.
1 Ср.: Фокин С. Рец. на кн.: Гурко Е. Жак Деррида. Деконструкция: тексты и
интерпретация. Минск, 2001 (http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk8/27r.html);
Мазин В. Рец. на кн.: Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М., 2000;
Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. В. Лапицкого, А. Гараджи, Б. Фокина, СПб.,
Академический проект, 2000; Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Кралечки-
на.М., Академический проект, 2000 (http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/
18r.html); Ямпольская А. Свобода (от) вопроса. Рец. на кн.: Деррида Ж. Письмо
и различие / Пер. Д.Ю. Кралечкина. М., Академический проект, 2000, и
Деррида Ж. Письмо и различие. Пер. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб.,
Академический проект, 2000 //Логос. Журнал по философии и прагматике культуры.
М., 2001. № 5-6 (31). С. 174-177, в Интернете: http://www.ruthenia.ru/logos/num-
ber/2001_5_6/16.html.
416
Познание и перевод. Опыты философии языка
О переводческих трудностях
Не случайно моменты рецепции и моменты критики
переводов так тесно сплетаются: одно невозможно без другого. Здесь
я расскажу о некоторых трудностях моей работы над переводом
классической работы Деррида «О грамматологии»: в ней
впервые терминологически развернуто ставится вопрос о
деконструкции.
Прежде всего одно важное уточнение для читателей: при
переводе этой книги пользоваться каноническими русскими
переводами из тех персонажей, которые являются концептуальными
героями Деррида (иллюстрирующими как действие «логоцентри-
ческой метафизики», так и пути ее преодоления) — из Соссюра,
Гегеля или Руссо - не представлялось возможным. Не потому что
эти переводы были плохими или «неправильными», а потому что
Деррида прочитывает всех этих авторов «по-своему», обращает
внимание на те вербальные и смысловые элементы, тематизация
которых не включалась в поле внимания переводчиков, а подчас
даже и самих авторов. Так, в одной из опорных цитат из Соссюра
русский переводчик развивает те ассоциации, которые вытекают
из понимания mot как «речи», тогда как у Деррида
предполагается понимание mot как «слова» (например, он говорит далее о
графическом и устном слове как различных «атомарных единицах»,
что применительно к mot как «речи» заведомо исключено).
Казалось бы, Руссо уже успел прочно войти в русскую культуру и,
стало быть, нам есть на что опереться. Однако применительно к
тому, что Деррида считает важным в Руссо, чтение этого автора
по-русски оказывается бесполезным, так как важное для Деррида
не тематизировалось Руссо и не сохранялось его переводчиками
на русский язык. Например, в русских переводах Руссо слово
supplément либо растворяется как единое слово-термин и исчезает,
либо переводится как «замена», что не соответствует той
нагрузке, которую возлагает на этот термин Деррида. Приводить
соответствующие русские цитаты, каждый раз указывая, что и почему
было в них изменено, значило бы непомерно утяжелять
изложение. Поэтому приводя цитаты из русских переводов, я старалась
сохранить в них все, на что можно опереться, не указывая каждый
раз разночтений и потому не давая ссылок на русские издания.
Большие трудности с переводом возникали из-за отсутствия
в русском философском языке традиции перевода
феноменологических и психоаналитических терминов; за последнее
десятилетие, после культурного разрыва в 60 лет, обе эти традиции
стали вновь активно разрабатываться. В данном случае дело
осложняется дополнительным культурным и концептуальным
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 417
преломлением: речь идет о немецкой феноменологии (или
немецком психоанализе) в ее французской интерпретации. А теперь
переходим к конкретным примерам. Они касаются перевода
лингвистической терминологии, а также таких понятий, как
письмо (и архе-письмо), различие (и различАние), разбивка,
восполнение и др.
Langage — язык или речь? Среди общеязыковых сложностей -
это один из частых примеров. «О грамматологии» - книга,
насквозь пропитанная языковой проблематикой, а потому все, что
относится к языку, имеет здесь первостепенное значение.
При переводе «Грамматологии» возникают проблемы, обычные
для языков с различным количеством опорных слов для
обозначения самой языковой деятельности: так, во французском таких
терминов три (langue/ langage/ parole), а в русском два (язык
и речь). Особенно затрудняет дело перевод французского
«langage». При переводе соссюровской концептуальной трехчленки
из «Курса общей лингвистики» (langue, langage, parole) langage
принято переводить на русский язык как «речевая
деятельность». Однако в нашем случае этот эквивалент подходит лишь
в редких случаях (в близком соседстве с французским parole).
Не помогают, а порой и вводят в заблуждение, и словари, где
первым и главным значением французского термина langage -
в общем, а не специально терминологическом смысле —
объявляется «речь». Если переводить словом «речь» большинство
случаев употребления этого термина в данной книге (что нередко
делают авторы работ о Деррида, рассуждая, например, об
инфляции «речи», когда дело идет о языке), то нередко получается
бессмыслица. А отсюда мораль для молодых переводчиков: глядя
в словарь, не верьте глазам своим! В частности, французское
«langage» — это самое общее и абстрактное слово среди всех,
имеющих отношение к языковой деятельности (и языковой
способности), подобно русскому слову «язык». Перевод его на русский
язык как «речь» заведомо сужает смысл, индивидуализирует
и психологизирует его.
Письмо, архе-письмо (écriture, archi-écriture). Трудности с
переводом «Грамматологии» начинаются с самого первого слова. Так,
уже в восприятии главного понятия всей книги — «письмо» —
русскоязычный читатель будет заведомо лишен некоторых важных
смыслов французского эквивалента. Так, если для француза
écriture - это и письмо, и письменность, и писание (священное),
то библейские ассоциации в русском «письме» начисто
отсутствуют, а культурно-исторические присутствуют лишь при
обсуждении исторических типов письменности.
418
Познание и перевод. Опыты философии языка
Для перевода французского écriture иногда предлагают слово
«письменность»1. Однако это решение неприемлемо, причем по
целому ряду причин. Среди них: 1) потеря философского
контекста: «письмо» у Деррида соседствует с «письмом» у Барта или Де-
лёза, где конкретно-исторические виды «письменности» вообще
не подразумеваются; 2) потеря единого термина и соответственно
раздробление его на «письмо» в философском смысле (общий
принцип артикуляции содержаний) и «письменность» в
культурно-историческом смысле; 3) невозможность структурно связать
значимые эпизоды текста (такие как «урок письма», «сцена
письма» — но, разумеется, не «письменности») с главной темой книги;
4) потеря тесной и постоянно подразумеваемой связи между
«чтением» и «письмом»; 5) удлинение слова, играющее
отрицательную роль при необходимости (как в данном случае) образовывать
однокоренные слова, отягощенные дополнительными
смысловыми элементами (архе-письмо) и др. В тексте книги есть
единичные контексты, в которых слово «письменность» было бы
уместнее, однако это не может быть основанием для выбора
общего термина.
Мой поиск переводческого эквивалента для элемента archi-,
входящего в целый ряд понятий Деррида (он соединяется прежде
всего с «письмом», «следом»), прошел несколько стадий, как
нередко бывает, когда переводчик продолжает работать с текстом,
а не бросает его, как только он переведен и опубликован. На
данной динамичной стадии развития русского концептуального
языка понятия, образованные в результате перевода, только
складываются, ищут свою наиболее подходящую форму, они еще далеки
от стадии догматизации, а потому при апробировании разных
вариантов предпочтения могут меняться. Самый первый мой
вариант для элемента archi- был калькой — «архи». Так было в моем
первом урезанном переводе «Грамматологии», который делался
в конце 1980-х годов по заказу некоей организации (кажется,
Бюро научно-технической информации; почему они вообще его
заказали, непонятно, может быть, название показалось им чем-то
технически осмысленным). Перевод был передан мне после того,
как первый переводчик, едва начав, в ужасе отказался. На
следующей стадии, работая уже над полной «Грамматологией» для
издательства Ad Marginem, хотя и не сразу, я решила остановиться
на англоязычных вариантах перевода — «прото-письмо», «прото-
след» и др. Однако этот вариант лишает корневой элемент его ам-
1 Это предложение Е. Гурко. О неуместности такого эквивалента см.:
Фокин С. Рец. на кн.: Е. Гурко, Жак Деррида. Деконструкция: тексты и
интерпретация. Минск, 2001. (http://www.guelman.ru/slava/nkr/nkr8/27r.html).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая, «На бранном поле...» 419
бивалентное™. Дело в том, что в русском языке ( как впрочем
и в современном французском) значения единого греческого
«архэ» разошлись, и в результате «самый», «главенствующий»,
с одной стороны, и «начальный», «древний», с другой, стали
разными словами. Кстати, Деррида, как представляется, иногда
поигрывает этими различиями и смешениями1. И потому в
последнее время, как читатель уже имел возможность убедиться,
я предпочитаю вариант «архе» (архе-письмо, архе-след и др.) и,
наверное, введу его в текст «Грамматологии», если случится
готовить переиздание перевода. Он представляется мне более
уместным, чем первоначальное «архи» и вместе с тем более удачным,
чем «прото»: «архе» возвращает нас в тот регистр смыслов, где
перекликаются значения «самый» и «древний», хотя и с
приоритетом предшествования, а «прото» на эти смысловые переклички
даже не намекает2.
РазлинАние (différAnce). Этот термин — опору всей
деконструкции — у нас подчас вообще не переводят: либо транслитерируют
русскими буквами, либо просто пишут латиницей. И это
естественный соблазн, поскольку определить разницу между обычным
difference (с суффиксом -епсе) и необычным différance (с
суффиксом -апсе) можно только на письме, на слух эти слова
неразличимы. Однако я решила подкрепить зрительное различие
слуховым и предложила свой вариант: различие (иногда —
различение) для différence и различАние — для différance. Этот
последний термин (различаниё) передает своим неопределенно
несовершенным видом длящееся действие различения,
смысловую динамику этого французского неографизма (хотя Деррида
любил подчеркивать, что самой антиномии активности и
пассивности у него нет, динамика все равно была ему ближе).
Различаниё (различие различия) существует в цепи других «понятий»,
1 Напомним, что во французском и некоторых других европейских языках слово
«игра» имеет далеко не только развлекательный, как в русском, но прежде всего —
функциональный характер: например, оно может употребляться, когда речь идет
о функционировании какого-то механизма; иногда такое различие семантических
коннотаций имеет очень важное значение.
2 Почти синонимичны всем этим понятиям с «archi» понятия с прилагательным
«originaire» (у меня соответственно первосинтез, первослед и др.). Э^ги пары
варьирующихся понятий (архе-след и первослед; архе-синтез и первосинтез) не имеют
в оригинале четких смысловых различий. По-видимому, возникновение
параллельных схем терминообразования обусловлено разными языковыми истоками:
в одном случае греческим, а в другом - немецким (так, французские термины
с originaire возникают при переводе немецкого Ur-). В любом случае читатель
может быть спокоен: я последовательно переводила archi- как архе-, a originaire - как
перво-.
420
Познание и перевод. Опыты философии языка
это главное обозначение нетождественности и анти-тождествен-
ности - и прежде всего в процессе снятия бинарных
противопоставлений. Чтобы время от времени напоминать читателю о
конкретном содержании термина различание, я иногда привожу его
полную смысловую развертку: «различАние как
отстранение-отсрочивание» (то есть откладывание в пространстве и
промедление во времени).
Русские переводчики немало мучились над переводом слова
«différance»: среди предложенных вариантов были различие-раз-
лиШие (от слова «лишить»), и различение-разлУчение (от слова
«разлучить»), и просто различие-различЕние (последний вариант
был бы не плох, если бы не стертая семантика слова «различение»:
слово «différAnce» во французском языке необычно и потому
обязано резко выделяться в тексте), так что в моих переводческих
страданиях я не одинока!1.
Разбивка (espacement) — разделение, расчленение, рассосредо-
точение, расположение в пространстве. Через смысловую
близость с «промежутком», «интервалом» устанавливается связь
между пространственными и временными значениями этого термина;
разбивка выступает как своего рода условие любых операций
с пространством, а также со(рас)членения пространства со
временем, подкрепляя этим пространственно-временной смысл
différAnce. В русских работах о Деррида иногда используют
латинизм «социализация». Однако у Деррида есть другой термин spa-
cialisation, в отличие от espacement, крайне редкий; его я перевожу
словом «опространствливание» (spacialité, соответственно, -
«пространственность»).
В подавляющем большинстве контекстов употребления слова
espacement в «Грамматологии» значение расчленения
пространства безусловно преобладает над значением пространства как
вместилища. Так, разбивка — это синоним пунктуации (пауза,
пробел, интервал); это природное и культурное явление
(тропинки в тропиках; разделение слова при письме); а язык тем
более требует разбивки и размещения в пространстве: он просто
1 Как отмечает в своей рецензии на три вышедших почти одновременно
перевода Деррида В.Мазин (Ср. Мазин В. (сноска 73), слово différance переводит как
различание также и Лапицкий (мне неизвестно, пришел ли переводчик к этому под
влиянием моих предложений в рецензии на его пробный перевод или же
независимо; как бы то ни было, наши терминологические сходства проявляются в
переводах терминов различание и восполнение). Что же касается Д. Кралечкина, то он,
можно сказать, с терминологической передачей термина différance не справился
(или не считал нужным справляться: Мазин в своей рецензии на его перевод пишет
«справился», ставя это слово в кавычках), так как, отказавшись от поиска единого
эквивалента, он просто передает différance разными словами по контесту.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 421
обречен на разбивку в ситуациях людского рассеяния;
разбивка - это артикуляция образов в пространстве живописи и
музыкальном времени и др.
Членораздельность, артикуляция (articulation). Главные
имеющие хождение варианты перевода этого термина —
членораздельность, артикуляция, реже: расчленение, сочленение, узел. Язык,
например, - это «членораздельная» речь, но когда имеется в виду
развитие языка, можно сказать, что в этом процессе напевная
интонация сменяется «артикуляцией».
Восполнение, восполнительность (supplément, supplémentarité).
Знаменитый термин, взятый Деррида у Руссо. В русских переводах
Руссо на его месте стоит либо слово «замена», либо ничего не
стоит, поскольку оно не было терминологическим ни для Руссо, ни -
естественно - для его русских переводчиков. У Деррида оно может
означать настолько разные вещи, что оказывается фактически
непереводимым. С одной стороны, оно обозначает интимный опыт
Руссо, связанный с мастурбацией (так в «Исповеди» Руссо говорит
о dangereux supplément, то есть об опасности этой греховной
практики, причем эта фраза становится заглавием важного раздела
в «Грамматологии»). С другой стороны, оно обозначает у Деррида
особую логику, неподвластную логике исключенного третьего.
Найти такое слово, которое годилось бы и для обозначения
интимного опыта, и для предельных обобщений в логике «нетождества»,
практически невозможно. В общем смысле под supplément Руссо
имеет в виду разнообразные процессы, связанные с переходом от
природы к культуре, от доязыкового состояния к языку или даже
с таким агрессивным вторжением извне, которое нарушает
изначальную полноту и безмятежное тождество природы. Однако
логика самого Деррида иная: природная полнота и чистота - это миф,
а то, что кажется «вторгающимся извне», на самом деле
изначально присутствует в природе. У Деррида это относится не только
к природе, но к любым процессам в человеческом мире.
В списке вариантов этого термина (supplément и
supplémentarité), предложенных переводчиками и исследователями
Деррида, чаще других встречаются следующие:
дополнение, дополнительность: возникающая при этом
ассоциация с «принципом дополнительности» Нильса Бора либо
неуместна, либо ограниченно уместна; к тому же тут часто путают
comlément, complémentaire - (это ближе к боровской
дополнительности) и supplément, supplémentaire, что далеко не одно и то же1;
1 Проблематику дополнительности Н. Бора применительно к деконструкции
рассматривает в своей монографии Плотницкий: Plotnitsky Λ. Complementarity:
Antiepistemology after Bohr and Derrida. Durham; London, 1994.
422
Познание и перевод. Опыты философии языка
прибавка, прибавочность: неуместные политэкономические
ассоциации1;
добавка: слишком конкретное слово;
приложение: слишком узкий по смыслу термин2.
За неимением лучшего мне пришлось остановиться на слове
«восполнение», завидуя переводчикам на те европейские языки,
которые здесь могли ограничиться калькой. Оно имеет
достаточно широкое и нейтральное значение и позволяет образовать
более абстрактное понятие (восполнительность), хотя и
непривычное, но не нагруженное неуместными ассоциациями. Конечно,
приходится сожалеть о том, что корневой элемент в этом слове -
«полнота»: это не тот смысловой обертон, которого в принципе
просит деконструкция. Однако тот же корень и в русском
«дополнении», и конечно во франко-латинском sup-plément. Не
забудем и о том, что позиция этого слова в книге неоднозначная:
мысль Руссо помещает его в мир наличии и полнот, однако
Деррида выводит его в другой мир и другую логику — логику
неналичности и нетождественности, в которой восполняющее,
добавляясь к восполняемому, занимает его место. Логика восполнения
позволяет Деррида уклоняться от прямых противопоставлений
(речи и письма, желания и его реализации), заменяя их набором
восполняющих функций: в реконструируемой таким образом
жизни Руссо восполняющую функцию выполняют письмо (как
1 Впрочем, иногда (но не всегда) supplément у Деррида перекликается с
«прибавочной стоимостью (plus-value).
2 В уже приводившейся рецензии В. Мазина отмечается еще один вариант
перевода слова supplément - «добавление» (использован Кралечкиным):
неадекватность этого слова в данном случае связана с тем, что оно не покрывает второй
важнейшей операции, фиксируемой словом supplément, а именно - операции
подмены, замещения. Отмечу особо и вариант «дополнение». В ряде контекстов
он совсем не плох для передачи «supplément». Больше того - проверьте сами! -
именно он приводится во всех франко-русских словарях как первый по счету
вариант для перевода «supplément». Поначалу я тоже им пользовалась, но потом
решила от него отказаться - в частности, потому, что он отсекает важнейший для
Деррида массив смыслов. А именно, у Деррида в существительном supplément
обертонами звучит и глагол suppléer, этимологически ему родственный, но
отклонившийся от него в обыденном языке. У Деррида глагол suppléer в большом
общем регистре однокоренных слов семантически связан с нехватками женского,
материнского, а в широком смысле слова - природного, естественного. Так,
в разборе позиции главного дерридианского героя «Грамматологии» - Жан-Жака
Руссо - для него первостепенно значима фраза «la sollicitude maternelle ne se
supplée point». Мы можем перевести ее следующим образом: «материнскую заботу
[имеется в виду ее отсутствие] ничем не восполнить», распространяя на эти
контексты наш вариант «восполнение», тогда как «дополнение» заведомо отсекает
эти, крайне важные для анализа взаимодействий природного и культурного,
возможности и эти смыслы.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 423
замещение речи) и мастурбация (как замещение желанного
полового акта)1.
Идеальных решений практически не бывает. Всегда можно
назвать такие контексты, в которых больше подходило бы другое
слово. Однако разовая неуместность — это еще не основание для
отказа от термина, который уместен в подавляющем
большинстве случаев. Выбор эквивалента, который сохраняется как
терминологическая единица, требует «системного подхода»: учета
всех смысловых контекстов употребления слова, его
синтаксических и морфологических возможностей (и прежде всего,
способности образовывать другие слова от того же корня),
сравнительной орфоэпической простоты и пр. Сочетание интуиции
с возможностью анализа делает перевод близким как науке, так
и искусству.
Наличие (présence). Выбор русских эквивалентов для терминов
для présence (présent) потребовал долгих размышлений. В
русском языке в данный момент имеют хождение два слова —
«наличие» и «присутствие». В немецком этому термину Деррида
соответствует Praesenz, тогда как прилагательное présent переводится
словом другого корня — gegenwärtig, так что прочного
романского гнезда «наличия» у немцев не существует. Деррида
подчеркивает, что французское présence - это перевод двух немецких
понятий, сближавшихся у Хайдеггера, а именно Anwesenheit
(наличие вообще) Gegewärtigkeit (наличие во временном
смысле — настоящий момент)2. После долгих размышлений я выбрала
русский термин «наличие» (наличный), так как это слово
интуитивно кажется менее казенно-бюрократическим, чем
«присутствие», а кроме того, легче образует составные слова, хотя, разу-
1 В данном случае я не только не отступаю от столь любимого Деррида
этимологического принципа, но даже усиливаю его, обращаясь через голову
существующих различий к исходному латинскому корню. В самом деле, supplément - это
стержень группы однокоренных слов, смыслы которых в современном
французском языке разошлись: это supplémentaire, supplémentaire, о которых уже шла
речь, далее - suppléance, suppléant (заменитель, сменщик), а также suppléer (может
означать и добавление, и замену). Различные контексты употребления этих слов
покрываются введенным мною термином «восполнение». В тексте встречаются
случаи, когда передаваемый смысл требовал бы - в идеале - полной развертки всех
упомянутых выше замен и сдвигов, происходящих при движении извне вовнутрь
(приложение, добавление, дополнение, восполнение, замена, подмена), однако
приходится в переводе ограничиваться каким-либо одним словом из этого ряда.
Не забудем, что Деррида пользуется целым рядом частичных синонимов: для них я
зарезервировала соответственно «замену» (для слов от глагола substituer, remplacer)
и «добавку», «добавление» (для слов, образованных от глагола ajouter, additionner).
Derrida J. Marges - de la philosophic P. 75.
424
Познание и перевод. Опыты философии языка
меется, были случаи, когда я предпочла бы «присутствие».
Словом — термин «наличие» был введен без удовольствия и по
совокупности критериев.
Когда я переводила «Грамматологию», русских переводов
Деррида практически не было. Когда я ее издала, одновременно
вышли несколько других переводов. А сейчас слово
«присутствие» является гораздо более распространенным, и случаи
моего предпочтения «наличия» подвергаются критике. Подробно
разбирает этот пример Мазин: «Доводы Автономовой сводятся
к тому, что, во-первых, «присутствие» имеет
казенно-бюрократический оттенок, во-вторых, с «присутствием» сложнее
образовывать сложносочиненные слова типа «самоприсутствие»,
«соприсутствие» и т. д. Однако не менее важным нам
представляется и другой аргумент... когда речь идет о деконструкции
метафизики, важным оказывается корень слова скорее суть
(essence) присутствия, чем лицо наличия; и, кроме того, именно
присутствие (présence), а не наличие образует симметричную
оппозицию с отсутствием (absence)*1. Мне кажется, что в этом
споре вкусовые суждения есть с обеих сторон, только для моего
критика первостепенно важна оппозиция присутствия и
отсутствия, а для меня — разрешимо-неразрешимая оппозиция
наличия (опора метафизики) и различия (опора операций
деконструкции), которая, в случае моего выбора терминов, оттеняется
также и созвучием. Несколько забегая вперед, отмечу, что с
моим выбором термина «наличие» другой замечательный критик,
С. Зенкин, не только согласился, но фактически построил на
этом слове ряд однокоренных слов для характеристики
концепции Деррида (это, например, «не-наличности»,
«обезналиченный мир» и др.).
В. Бибихин предпочитает «присутствие» и даже уверяет, что
окончательный выбор этого термина в качестве соответствия
Dasein определила для него церковная проповедь «своим
присутствием нести истину»... При этом элемент, так сказать, казенно-
бюрократический Бибихин видит как раз не в русском слове
«присутствие», а в том «принижающем» использовании слова
«présence», которое он находит у Деррида. Правда, примеры в
подтверждение своей мысли Бибихин берет не из текстов Деррида,
а из обыденных контекстов франкоязычного словоупотребления
1 Мазин В. Рец. на кн.: Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М.,
2000; Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. В. Лапицкого, А. Гараджи, Б. Фокина,
СПб., Академический проект, 2000; Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Кра-
лечкина. М., Академический проект, 2000 (http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/
18.html).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 425
(например: par la présente («настоящим уведомляю») или présenter
les armes («взять на караул»)1.
Что можно на все это ответить? Если мне доведется готовить
переиздание «Грамматологии», я еще раз перепроверю все
контексты употребления слова présence и однокоренных слов. И
потом постараюсь продумать все заново. Пока что у меня возникает
впечатление, что мои критики учитывают лишь само слово
présence в форме существительного и не учитывают всего
изобилия сложных и составных терминов, роящихся вокруг него и
требующих сохранения семантического гнезда. Вот в этих-то
дополнительных контекстах термин «наличие» и оказывается почти
всегда предпочтительным. Так, усиленный вариант «наличия» -
étant-présent; я перевожу его как «налично-настоящий», будучи
уверена, что это лучше, чем «сущий-присутствующий» — вариант,
неизбежный для тех, кто не только выберет «присутствие»,
но и решит быть терминологически последовательным.
Далее, слово «présence» — главное из «деконструируемых».
На нем держатся и многие другие. Это «самоналичная речь»
(parole présente à soi), самоналичие субъекта (la présence à soi du sujet),
это сознание как «самоналичие когито» (présence à soi du cogito)
и пр. Конечно, à soi точнее было бы переводить «перед самим
собой» (но никогда не «в себе», что тоже иногда встречается).
Постараемся запомнить это: «самоналичный» (самоналичное когито)
означает «находящийся как бы перед самим собой». Прежде чем
выбрать «наличие» как вариант, позволяющий нам удержать
наибольшее количество смысловых контекстов, не раздробив
термина, я примеривала и другие варианты («перед-собой-поставлен-
ность», «к-себе-повернутость» и даже «на-себя-обращенность»).
И, разумеется, - я это не только признаю, но и охотно
подчеркиваю, — были такие отдельные случаи, в которых «присутствие»
было бы гораздо лучше «наличия» (например, интенциональность
как «соприсутствие» себя и другого), но опять-таки, повторяюсь,
единичные исключения — не основание для «фальсификации»
общего эквивалента.
Нередки сочетания слов «наличие», «наличный» с pleine
и pleinement (полный, полно): в качестве прилагательного это
давало в моем переводе «полноналичный». Были, наконец, и
контексты, в которых «наличие» играло с «наличностью» — не
обязательно «денежной», но в любом случае имеющей накопительные
количественные характеристики (когда речь идет, например,
об «упорядочении наличностей (présences) в библиотеке»). Во всех
1 Бибихин В. Примечания переводчика // Хайдеггер М. Бытие и время / Пер.
B.B. Бибихина. М., 1997. С. 450.
426
Познание и перевод. Опыты философии языка
подобных случаях возможность сохранения игры смыслов
(наличие-наличность) представлялось лишним доводом в пользу
«наличия», а не «присутствия».
Представление, репрезентация (représentation). Для Деррида
(точнее, для Руссо, потому что именно о Руссо здесь прежде всего
идет речь) язык — это основа, от которой протягиваются нити во
все другие области бытия. Один из ярких случаев зависимости
и параллелизма контекстов — это представление (représentation)
языка в письме и представительство (représentation) как
делегирование полномочий другому человеку в социальной структуре.
У Руссо речь шла о процессах, одновременно приводящих к
замене устного общения письменным языком и замене народного
собрания отчуждающим институтом представительства. В переводе
«Курса общей лингвистики» Соссюра représentation обычно
переводится как «изображение» языка. Однако в тех случаях, когда на
первый план выходила аналогия между языковыми и
социальными процессами, я оставляла термин «представление» также и
применительно к языку, чтобы подчеркнуть этот важный смысловой
параллелизм языкового и социального.
(Перво)начало (origine). Этот термин переводился мною как
«происхождение» во всех классических и традиционных
контекстах (в частности, в заглавиях работ Руссо и Кондильяка и в
описании их концепций), но как «(перво)начало» применительно к
собственной мысли Деррида, имеющей явно антигенетический
смысл. Слово «(перво)начало», полагаю, крепче держит
непереходный смысл, чем слово «происхождение», которое требует
дополнения. Иногда переводчики предлагают вариант «исток»,
однако он одновременно и конкретен, и требует дополнения
(я использовала слово «исток» для перевода «source»).
Собственный, собственность, собственно, свойственный,
свойство (propre, propriété, proprement). Помимо основных значений
(«собственность», «свойство», «собственный смысл») можно
выделить два контекста употребления этого термина: «propre» в
противопоставлении «figuré» означает «прямой», точный — в
противопоставлении «образному», a «propre» — в противопоставлении
«commun» (noms communs) означает собственное имя — в
противоположность имени нарицательному (Ср.: Le propre du nom -
собственное свойство имени; le sens propre n'existe pas — прямого
смысла не существует).
Внутренний—внешний. Это семантическое поле представлено
четырьмя парами понятий (однокоренных и неоднокоренных).
Я использовала следующие варианты перевода: наружа-нутрь
(dehors—dedans), внутренний-внешний (intérieur-extérieur), внут-
риположность—внеположность (intériorité-extériorité), интерио-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 427
ризация-экстериоризация (intériorisation-extériorisation).
Потребность в неологизмах (или, как уточняет С. Зенкин, — об этом
ниже — в обыденных словах, возведенных в ранг терминов) «нару-
жа—нутрь» была обусловлена головокружительным
использованием их в качестве существительных («наружа в наруже наружи»,
«наружа подражает нутри» и др.), а также неоднократным их
применением в независимой позиции — в заглавии разделов.
Латинская версия последней пары понятий «интериоризация-экстерио-
ризация» была принята мною как уже достаточно привычная
в русской переводной литературе.
А теперь разберем несколько несобственно
терминологических слов частого употребления.
Почать (entamer) — один из любимых глаголов Деррида. В его
семантике соединяются два важных момента: агрессивное начало,
разрыв с предыдущим (так хирург вскрывает полость, приступая
к операции) и обреченность на осуществление, приводящее
к концу (если дирижер взмахивает палочкой, — значит симфония
будет сыграна): иначе говоря, в начале действия уже содержится
его конец, в рождении — смерть. Моим главным эквивалентом
было «починать» (реже — надрезать). Вот примеры с глаголом
entamer: «структура восполнения сводит с ума, поскольку оно не
является ни наличием, ни отсутствием, и починает и наше
удовольствие, и нашу девственность» (222)!; «восполнительность всегда
и уже починает наличие» (233) и др.
Сюда же относится группа слов, обозначающих различные
военные хитрости (aventure, contrebande, leurre — риск, уловки,
обман), - вполне в соответствии с заявленным Деррида
отношением к логоцентризму и метафизике. Слово «контрабандой» нередко
используется в значении «исподтишка» (например, Леви-Строс
описал нечто en contrabande — то есть скрыто, неявно. Можно
сказать, что Деррида ведет себя с западной метафизикой так же, как
Леви-Строс с девочками из племени намбиквара, которых он
настраивал друг против друга, чтобы выведать у них секреты имени
взрослых: Деррида обманывает метафизику, чтобы уловками
выведать генеалогию ее понятий (имен), даже если она о них забыла
или не хочет раскрывать свои тайны.
При переводе часто используемых Деррида слов с
разрушительной семантикой я старалась выдерживать следующие
эквиваленты: стирать (effacer), стушевывать (oblitérer), вычеркивать
(raturer, biffer). В слове «стушевывать» есть и момент забвения
(забывание собственных имен, включение их в систему классифи-
1 В скобках здесь и далее страницы оригинала указываются по изданию:
DerridaJ. De la grammatologie. Paris, 1967.
428
Познание и перевод. Опыты философии языка
кации как механизм становления языка), и момент «похеривания»
(херить — налагать «литеру X» — некогда знак гашения почтовой
марки). В группе отрицательных слов dislocation переводилось
мною как «распад»; dégradation — как «упадок» (понижение
рангом), «dépravation» (в основном применительно к истории,
обществу, языку) - как «порча».
***
Всё это - примеры сложностей при переводе понятий. Я
анализирую в первую очередь именно
понятийно-терминологический аспект перевода, однако из этого не следует, что
стилистические приемы игры словами остаются в стороне1. Далее будут
представлены примеры перевода словесных игр в самой важной
концептуальной главе «Грамматологии», посвященной вопросу
о методе2.
Главная сложность в этих наших примерах заключалась в
передаче разветвленных словесных перекличек, которые придают
философской ткани свойства поэтического произведения и
одновременно делают ее более плотной и насыщенной: Разумеется, это
механизм не логический, а поэтический: он в известной мере
сходен со скольжением смыслов в «тесноте стихотворного ряда»
(Ю. Тынянов), где возникают взаимные тяготения смежных или
близко расположенных слов. В философской прозе стихотворных
рядов нет, но могут возникать повторы однокоренных слов,
напоминающие об их этимологической общности, и такие
синтаксические структуры (в пределах абзацев и между абзацами), внутри
которых читатель способен воспринимать эти повторы слов
и смыслов. Современные французские философы, и в частности
Деррида, позаимствовали этот принцип этимологических
перекличек (иногда не с ученой, а с ложной, «народной»
этимологизацией по созвучию) у позднего Хайдеггера. При этом нередко
происходит то, что можно назвать материализацией метафоры:
1 На самом деле - скажем это со всей определенностью - последовательный
(а не «абы как») перевод стиля, наверное, требует не меньше внимания и
самодисциплины, чем перевод понятий. И потому приходится лишь сожалеть о том, что
переводчики, ярко переводившие стилистические аспекты текстов Деррида,
и прежде всего А. Гараджа и В. Лапицкий, почти ничего не рассказывают нам об
этой стороне своей работы. И вообще было бы здорово иметь одно и то же
произведение Деррида в двух разных переводах: один сделанный на пределе
стилистической изощренности, другой - на пределе концептуальной аналитичности... Это
могло бы серьезно расширить наш горизонт восприятия Деррида сразу в обоих
направлениях.
2 Деррида Ж. Из круга вон выходящее (l'exhorbitant) //Деррида Ж. О
грамматологии. С. 312-319.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 429
возврат абстрактных значений, возникших в результате прежней
возгонки вещественных смыслов, к их «первоначальным»
состояниям.
Так, немецкое слово Begriff этимологически предполагает
прямой физический акт хватания и лишь переносно — «схватывание
умом», «понятие». Словесную игру вокруг того же корня (рус.
«хват», франц. prise) Деррида строит, обсуждая в «Грамматологии»
вопрос о методе. Только речь здесь идет не о «понятии» вообще,
а об особом понятии «восполнение» (supplément), о его роли у
Руссо и в собственной концепции Деррида. Как мы только что
видели, supplément у Деррида — это не столько отдельный смысл,
сколько оператор взаимодействия между различными текстовыми
фрагментами, связанными отношением достраивания, доращива-
ния или, напротив, изъятия. В оригинале в игру вводятся при этом
слова prise, surprise, surpenant (surprenantes). При поиске
вариантов для перевода приходилось апробировать разные гипотезы.
При первом появлении слова surprenantes из этой смысловой
группы его хочется перевести как «удивительные»1 —
удивительные возможности. Однако при развертывании контекста,
сталкиваясь с другими словами того же корня — «prise», «surprise»2
(французское «сюр-приз» буквально значит «захват сверху»), мы
чувствуем, как эта первоначальная интуиция смысла
приостанавливается, подвешивается и уступает место действию других сил,
процессам актуализации других смыслов. При этом появление
вещественного «prise» (захват) задним числом окрашивает своей
семантикой ранее промелькнувшие невещественные «surprise»
и «surprenantes». Чтобы сохранить эту изощренную словесную
перекличку и не потерять опорные слова, приходится во всех
случаях употребления слов с корнем «prise», независимо от узко
контекстуальной уместности, привлекать слова с русскоязычным корнем
«хват» (это соответственно — охват, захват, захватывающий). В
результате то, что поначалу представало как «удивительные
возможности», перенастроилось в «захватывающую силу» — в
соответствии с общей тональностью семантического гнезда, введенного
в контекстуальные переклички.
1 Derrida J. De la grammatologic Paris, 1967. P. 226.
2 Ср. : «мы должны дать себе строгий отчет в этом охвате или захвате (de cette prise
ou de cette surprise), в том, что писатель пишет, находясь внутри языка и внутри
логики, и потому его дискурс, по определению, не может полностью овладеть их
собственной системой, законами, жизнью как таковыми». Деррида Ж. О
грамматологии. Рус. пер. М., 2000. С. 312. Само это различие между тем, чем писатель владеет,
и тем, чем он не владеет в своем языке, нужно нам для того, чтобы вырабатывать
принципы критического чтения.
430
Познание и перевод. Опыты философии языка
А вот еще один пример. Он строится вокруг слова «exorbitant»,
которое торжественно стоит в заглавии раздела о методе. Вне
контекста, в словаре оно может значить «чрезмерный»,
«преувеличенный» и даже «из ряда вон выходящий». Деррида рассказывает
читателю о том, как при выборе текстов для разбора он опирался на
небольшие, мало известные, иногда - посмертно изданные
тексты Руссо и что его внимание к этим «мелочам» может показаться
«exorbitant» — т. е. «чрезмерным», «преувеличенным». На этом
месте в моем переводе читатель видит словосочетание «из круга вон
выходящий» (буквально «находящийся вне орбиты», «сходящий
с орбиты»). Откуда такое переводческое решение? Напомню, что
в «Грамматологии» Деррида впервые представил читателю
процедуры деконструкции; для того чтобы сделать это, он ищет точку
вне логоцентрической системы, из которой можно было бы
попытаться деконструировать целостность. В этом поиске участвует
метафорика круга, противоположного линии. Деррида
показывает, как мысль постоянно, но тщетно стремится вырваться за
пределы метафизического круга: перед нами проступает след,
прочерчивающий круг (orbis), возникает пространство, допускающее
круговой обзор (orbita)1, и т. д. Чем дальше, тем яснее становится,
что от начального предположения («exhorbitant» как
«преувеличенный») придется отказаться. Обок с такими словами, как orbis
и orbita (круг, круговой обзор) вокруг слова «exorbitant» начинает
кристаллизоваться новый смысл, который и был зафиксирован
в нашем итоговом варианте перевода — «из круга вон выходящий».
Радоваться такому решению не приходится, оно получилось
громоздким, однако по смыслу вполне безупречным - прежде всего
потому, что словосочетание «из круга вон выходящий» сохранило
узнаваемость русской идиомы («из ряда вон выходящий»),
перестроив его семантику с линейной на круговую: отрицание круговой
семантики и есть одна из черт деконструкции в действии. Но на
этом игра с метафорикой круга не заканчивается. Выход из
замкнутого круга очевидностей предпринимает и Руссо, обличая
подавление письма полновластной речью. Прямого пути для такой
критики нет, и Руссо делает разные обходные маневры с помощью
особой, «из круга вон выходящей» логики: восполнение как
оборотень скользит, меняя свои функции, между дополнением,
заменой, вредительством, помощью и др. При случае было бы
интересно обменяться опытом с переводчиками Деррида на другие
языки и узнать, как им удалось сохранить те или иные авторские
приемы, придумав им идиоматические соответствия в своем
родном языке.
Деррида Ж. О грамматологии. Рус. пер. М, 2000. С. 317.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.«.» 431
Различие и отличие (спор о приставке)
Мой перевод «Грамматологии» вместе с большой вступительной
статьей, в которой была сделана попытка восстановить
исторический и концептуальный контекст создания книги, обосновать
принципы подхода к переводу вообще и выбора конкретных
вариантов перевода в частности, стал предметом оживленной полемики.
Она интересна как иллюстрация тех общих процессов, о которых
у нас здесь все время идет речь. Терминологический подход к
переводу? Но это же насилие над динамичным и от всех дефиниций
ускользающим Деррида, - говорил один критик; такой перевод
искажает суть его концепции. Вовсе нет, возражал другой критик:
переводчица «рабски» следует Деррида (как, впрочем, и другие
женщины—исследовательницы его творчества). Если отвлечься от
анекдотической стороны дела, то окажется, что эти критики слева
и справа в известной мере исключают друг друга. Но есть и другие
подходы. Например, есть рецензии, составленные так «искусно»1,
что читатель постоянно находится в подвешенном состоянии,
не понимая, где говорит Деррида, где — Руссо, где — рецензент, где,
наконец, переводчик — вот уж поистине интертекстуальность в
действии! Есть рецензии, в которых в духе упрощенного социологизма
утверждается2, будто социологическая основа концепции письма
у Деррида - «позднекапиталистическая экономика с ее
бюрократической циркуляцией документов», основанная на бумажной
записи, и соответственно - возможности проволочки, промедления.
Среди всех откликов своей серьезностью и компетентностью
выделяется разбор, сделанный С. Зенкиным. Он формулирует
важные разногласия в вопросе о том, как переводить Деррида на
русский язык, каким ему быть по-русски3.
Зенкин: суть критики. Деррида, напоминает Зенкин
читателю, - трудный мыслитель для понимания и перевода. Он
основывает все на анализе чужих текстов, а потому сформулировать его
общие выводы, тезисы, методологические соображения за
рамками конкретного анализа практически невозможно. На этом фоне,
1 Уланов А. Рец. на кн.: Деррида Ж. О Грамматологии / Пер. и вст. ст. Н. Автоно-
мовой // Русский журнал. 20.06.00. . Ср. также: Ганжа Р. Писать «О» Деррида //
Там же. Второй рецензент рассуждает о том, возможен ли в России Деррида «без
кавычек» или, иначе говоря, возможно ли в России «реальное присутствие
реального Деррида».
2 Пензин Л. «Made in France, eaten in Russia. Постструктурализм на последнем
дыхании» // Художественный журнал. М., 2001. № 37/38.
3 Зенкин С.Н. Наличие и отличие / Как переводить Деррида? Философско-фило-
логический спор // Вопросы философии. М., 2001. № 7. С. 158-163.
432
Познание и перевод. Опыты философии языка
считает Зенкин, то, что делает Автономова, когда она строит
систематический очерк философии Деррида, берется пересказывать
содержание своими словами и даже определять понятия, - это
«героическая попытка пойти наперекор собственному дискурсу
французского философа, обобщить то, что у него не поддается
обобщению; деконструкция деконструктора, деконструкция
наоборот»1. В целом эта попытка, считает Зенкин, удалась.
Переводчица формулирует концепцию Деррида на языке связного
тезисного изложения, высвобождает мысли Деррида из декон-
структивной игры и представляет его интенции почти без опоры
на чужое слово, избегая при этом интерпретативного насилия2
(с этим комплиментом Зенкина многие рецензенты не согласны -
об этом речь в следующем параграфе).
Другая трудность перевода Деррида, отмечаемая
рецензентом, - в том, что его предметом является нечто небытийное или
не-наличное. Важнейшее место в работе Деррида занимает
концептуализация отсутствия, нетождественности, негативности.
В русском языке и литературе, подчеркивает Зенкин, нет тех
навыков, которые позволяют французской интеллектуальной
(философской и художественной) литературе свободно оперировать
не-наличностями, хотя и во французском соответствующие слова
звучат нестандартно. Зенкин описывает мой путь как «некоторое
прояснение этих ситуаций с не-наличностями, что достигается за
счет ввода от себя дополнительных слов (конъектур)». Несколько
моих конъектур критик одобряет. Однако, разбирая понятие
«внеположное™» (extériorité), он высказывает опасение общего
и принципиального характера: своим присутствием конъектуры
«создают балласт наличия, нагружают им, чтобы не улетело в
пустоту, слишком неуловимое, слишком безбытийное понятие
абсолютной внеположности»3; тем самым «хочешь не хочешь,
но перевод получается не вполне верным оригиналу»4. И это
первый важный упрек.
В том, что касается конкретного подбора эквивалентов,
Зенкин принимает и даже рекомендует другим переводчикам целый
ряд предложенных мной слов и понятий: среди них
«восполнение» у Руссо, «нулевая ступень» у Барта (вместо
абстрактно-математической «нулевой степени», которую обычно используют в
качестве эквивалента другие переводчики), «самодельщина»
1 Там же. С. 159.
2 Там же.
3 Там же. С. 160.
4 Там же.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 433
у Леви-Строса (часто встречающийся термин «бриколяж» Зенкин
называет «невразумительной транскрипцией»). Среди моих
эквивалентов понятий Деррида Зенкин приветствует и «разбивку»
(espacement), и «починать» (entamer), и даже такие рискованные
новации, как «наружа» и «нутрь» (вместо французских dedans
и dehors). Однако за этими конкретными согласиями высится
монблан генерального несогласия: оно относится к решающе-
неразрешимым терминам Деррида — différence и différAnce.
При этом Зенкин не только критикует выбранные мною термины
(различие, различАние), но, что еще важнее, предлагает иные,
свои термины (отличие, отличение). На это, заметим, решится
только мастер высокого класса (хотя сплошь и рядом предлагают
свои эквиваленты люди без переводческого опыта, которые видят
в первом подтверждающем их мысль примере общее
доказательство своей правоты). Каковы доводы Зенкина?
В русских словарях слово différence передается двумя словами,
выступающими как синонимичные: различие, отличие. Но никакая
синонимия не бывает абсолютной, эти слова не вполне
равнозначны, и зря переводчики смотрят только на «различие». Слово
«отличие» для Зенкина семантически богаче и интереснее: оно
предполагает возможность и активного и пассивного смысла; оно фиксирует
не только взгляд извне, но и взгляд изнутри; оно может быть
асимметричным (а различие только симметричным — что от чего
отличается); наконец, отличие задает бинарную линейную структуру,
а различие действует во всех направлениях сразу. При этом Зенкин
считает (я с этим согласиться не могу, см. об этом далее в моем
ответе), что для Деррида характерна именно такая линейно-векторная
семантика слова différence. Изначально предмет дифференцируется
сам от себя, а потом выстраивается цепочка его отличий от других
предметов и соответственно — подмен и замещений.
Итак, утверждает Зенкин, différence — это скорее отличие, чем
различие: причем это касается не только текстов Деррида, но и
других современных ему французских мыслителей, например,
Мишеля де Серто, Жана Бодрийяра. С. Зенкин считает, что слово
«отличие» вполне удовлетворительно играет роль русского эквивалента
в подавляющем большинстве случаев, за исключением нескольких
«слабых», нетерминологических употреблений слова. И наоборот,
«различие», по его мнению, оказывается неадекватным в
некоторых особо ответственных, философски напряженных
формулировках. Например, в такой: «можно помыслить различие лишь между
различными»1, — эта фраза по-русски является тавтологией, зато
Там же, С. 395.
434
Познание и перевод. Опыты философии языка
она обретает важный и нетривиальный смысл в варианте «отличие
мыслимо лишь между (уже) отличными»1.
А теперь, продолжает Зенкин свое рассуждение, обратимся
к термину différAnce: это линейно-векторная структура отсрочки,
обобщенно-процессуальная форма отличия, если угодно -
отличие до отличия... Предложенный переводчицей вариант «разли-
чАние» семантически скуден, если не бессмыслен. А потому
русский эквивалент слову différAnce следует, с его точки зрения,
искать именно в поле отличия, а не различия. Идеального и
безупречного эквивалента все равно не найдешь, таких по
определению не бывает, воспроизвести в условиях русской орфографии
различия в написании одинаково звучащих корней практически
невозможно, а потому Зенкин предлагает взять, к примеру,
«отличение» — естественное слово, органичное для русского языка.
А можно ввести в термин différAnce уточнение: «отличение-отла-
гание» или «отлагательное отличие».
Ответ на критику. В отклике на эту рецензию я предложила
свое понимание поднимаемых С. Зенкиным вопросов2.
Предлагая свой вариант перевода двух главных понятий Дер-
рида, рецензент утверждает, что проверил все значимые для
такого решения контексты. Однако могу утверждать, что собственно
философских контекстов среди них нет - ни исторического,
ни современного. Почему так получилось — трудно сказать.
Может быть рецензент считает философию не самым значимым
контекстом для Деррида (что совсем не абсурдно), а, может быть,
философия до известной степени растворяется для него в других
проявлениях культуры (прежде всего, литературы и литературной
критики). Если это так, то подобные мотивы окажутся созвучны
современному российскому восприятию Деррида и, условно
говоря, «постмодернистской» проблематики в целом, при котором
в философии выбирается не столько понятийное, сколько
стилевое, образное.
Нельзя не согласиться с тем, что по своей манере письма
Деррида дает основания сомневаться в его философской
принадлежности. Он отказывается от общих понятий, любит конкретные
контексты, поражает читателя сложностями стиля. Его
концептуальные орудия подчас выглядят как полутермины-полуобразы,
однако образные элементы его мысли не безбрежны и не самодо-
1 Там же. С. 162.
2 Лвтономова Н. С. Приставка как философская категория / Как переводить
Деррида? Философско-филологический спор // Вопросы философии. 2001. № 7.
С. 163-169.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 435
статочны. По сути, лишь наличие более мощных и
фундаментальных скреп мысли позволяет им функционировать как
концептуальные орудия, иначе они так и остались бы образами.
Когда говорят «стиль — это человек», это верно прежде всего
относительно художника, который не существует без приметной,
яркой, легко узнаваемой манеры. А философ? Конечно стиль
мысли очень важен, и теперь ему уделяется гораздо больше
внимания, чем раньше, когда казалось возможным всех подверстать
под один безликий шаблон выражения. Но все же было бы,
видимо, неправомерно утверждать, что «философ — это стиль»,
приравнивая, вслед за Ницше и Валери, философа к художнику. В
самом деле, в Деррида есть и художественное и концептуальное.
Однако мне кажется, что Деррида-мыслитель интереснее Дерри-
да-художника, а эти вещи взаимосвязаны, но не неразрывно. Ведь
стиль воспринимается легче, чем мысль, и подражать стилю
Деррида проще, чем пересказать своими словами, о чем идет речь
в той или иной его книге. Именно поэтому я и решила переводить
прежде всего мысль, которая, в отличие от стиля, не бросается
в глаза. Ее приходится извлекать бережно и с трудом, пытаясь
в первую очередь подобрать и удержать эквиваленты основных
понятий, и лишь во вторую очередь, по мере возможности,
передать художественные стилистические моменты.
Думаю, что это так или иначе соответствует потребностям
развития философии в России: для современной русской культуры
Деррида-философ важнее Деррида-эстета, а опыт мысли важнее
опыта стиля. Опять-таки именно поэтому я и позволила себе
проясняющий перевод, иногда вставляя отдельные слова по
контексту (это немногие места, обозначенные квадратными скобками).
Мне говорят: «это не Деррида». Скажу иначе : то, что получается
вместе со скобками, — это не стиль Деррида. И с этим я не только
соглашусь, но буду настаивать на этом со всей возможной
твердостью, так как именно здесь мы вплотную подходим к важнейшему
вопросу о переводческом выборе и стратегии. В этой полемике
между мыслью и стилем — проблеме отнюдь не только
современной - у меня был образец, хотя признание в этом сразу покажет,
насколько я от него далека. Это перевод М.Л. Гаспаровым
«Поэтики» Аристотеля1. Столкнувшись с трудностями «темного»
Аристотеля, М. Гаспаров сделал перевод с пояснениями в скобках,
так, чтобы читатель, предпочитающий «стиль», мог читать текст,
пропуская эти пояснения, а читатель, предпочитающий «мысль»,
1 Речь идет, подчеркивал М. Гаспаров, об издании 1978 г., так как при
переизданиях этого перевода, по требованию редакторов, специфика этого необычного
перевода все больше сглаживалась.
436
Познание и перевод. Опыты философии языка
мог читать весь текст. И это представляется наиболее
удовлетворительным способом работы при столкновении с проблемой
«мысль и стиль».
Спрашивается, а зачем вообще такие резкие суждения - выбор,
предпочтение? Пусть переводчик переведет, а читатель потом сам
разберется, что кому нужно. Ну конечно же, читатель разберется,
но только если ему прямо и без обиняков скажут, что и как
переводилось. Как уже многократно отмечалось, ни один переводчик
никогда не переведет всего, и это даже не вопрос компетенции, так
как передать в равной мере и мысль и стиль в переводе невозможно
по законам функционирования языка. Можно переводить
спонтанно и интуитивно (и, как правило, непоследовательно), но для
читателя полезнее получить отчет о том, какой был сделан акцент.
Деррида безусловно мыслитель сложный. Он попытался
переосмыслить всю традицию западной философии, вскрыв в
различных ее текстах незаметные авторам противоречия, особенности
и парадоксы, выведя их на первый план и применив, в частности,
в этой своей работе приемы художественного обращения с
текстом. У него безусловно есть и понятия и даже категории (понятия
огромного объема), хотя таких слов он не любит как слишком
напоминающих о традиции. Но ведь от нее никуда не деться. Просто
так перенестись на ковре-самолете в какое-то новое пространство
мысли невозможно. Поэтому он ищет в самой традиции то, что
подталкивает к выходу за ее пределы, и уже на этой основе
пытается строить что-то свое.
Переведенная книга посвящена странному герою,
несуществующему объекту - письму (в прямом и в
расширенно-метафорическом смысле) или иначе различимым, ощутимым следам
артикулирующей, дифференцирующей работы человеческой мысли
в самых разных областях. Реабилитация письма строится на
широчайшем историко-философском материале и, более конкретно,
на концепциях трех главных героев - Соссюра, Леви-Строса
и Руссо, мысль которых имела и традиционные черты, не
позволявшие заметить письмо, и новые черты, это письмо
схватывающие. Письмо в широком смысле слова и есть совокупный опыт
различения, артикуляции, расчленения. Заметить в означаемом
означающее (Соссюр), заметить в напевном языке будущие
трудные артикуляции согласных (Руссо), а в простом подзывании
одного человека другим классификацию, вписывающую индивида
в сетку различий (Леви-Строс), - все это и значит обнаружить
в мнимой полноте и самотождественности мысли и бытия момент
«различия», следы «письма».
Главных понятий, обслуживающих такую реабилитацию
письма, в книге три. По французски это présence, différence, différAnce.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 437
В нашем переводе - наличие, различие, различАние. Наличие -
это обобщенная характеристика всей классической мысли о
тождестве и самодостаточности. Различие — это понятие
классической философии, которое одновременно и принадлежит ей, и
выступает в ней, вместе с понятием знака, как пятая колонна
(позволяет заметить иное в том, что кажется абсолютно полным
и самодостаточным). Наконец, третье, собственно понятие
Деррида — различАние — это обобщенная форма различения,
фиксирующая прежде всего временной аспект, а кроме того весь
сопутствующий рой следов, промедлений, откладываний, разрывов,
перебоев и других конкретных форм нетождественности.
Проблемы, связанные с переводом философской мысли
Деррида, вовсе не начинаются, как в рецензии, с дифференции
(différence). Они начинаются уже с наличия. В самом деле,
наличие, несмотря на его многочисленные прототипы, можно считать
собственным понятием Деррида. Именно у него оно достигает
невиданной степени охвата, обозначая все, что самодостаточно
и самотождественно (независимо от того, является ли оно
бытием или сознанием, идеей или телесностью, так что к «не-бытий-
ности» оно вовсе не сводится: это лишь один из аспектов).
Конкретных имен наличия в книге не счесть (тождество,
целостность, полнота, смысл, трансцендентальное, идеальное и пр.),
но само это понятие надежно собирает в некое парадоксальное
единство все то, от чего отталкивается мысль Деррида. В
русскоязычной философской литературе, как уже отмечалось,
существует вариант «присутствие», который в ряде случаев был бы
уместнее, так что это был для нас случай трудного выбора по
совокупности многих критериев.
Термин различие (лат. differentia) давно и прочно закрепился
в русских переводах философской литературы и сомнений не
вызывал. Так что следующим сложным моментом было различАние
(дифферАнс), попытка обобщенно представить этот
различающий и различительный опыт. Поясняя это необычное слово,
Деррида вводит и момент «динамики» (именно этим значением он
вошел в знаменитый 9-томный «Словарь» Робера), и отсутствие
выбора между активностью и пассивностью, и аналог среднему
залогу греческого глагола (эллинистов это ставит в тупик) — словом,
понимайте, как знаете. Пожалуй, обобщенно-динамический
смысл преобладает здесь над прочими, но важен также и опыт
отсрочки, промедления - впрочем, он не ориентирован только
линейно и только вперед, как полагает рецензент. Он предполагает
скорее возможность разнонаправленных, в том числе
рекурсивных ходов, осмыслений задним числом: недаром Деррида так
любит фрейдовское понятие последействия (Nachträglichkeit).
438
Познание и перевод. Опыты философии языка
Итак, мои эквиваленты для французской пары понятий
(différence, différAnce) это соответственно «различие» и «различА-
ние». Но об этом думали и другие исследователи. Среди
предлагавшихся вариантов, как уже отмечалось выше, были и
остроумно-экзотические (различие-разлишие, различие-разлучение),
и стерто-усредненные (различие-различение), и отказы от
поиска единого эквивалента с переводом по контексту, и простая
транслитерация и даже сохранение написания латиницей.
На этом фоне предложенные мною варианты представляются
предпочтительными. Так, первое слово хорошо держит
понятийную традицию, второе выделяется необычностью (оно весьма
необычно и во французском языке). Рецензент не согласен с моим
выбором. Он предпочитает «отличие», в котором больше
«телесности», и «отличение», которое «естественно» и даже
«органично». Представляется, однако, что приводимые им доводы
свидетельствуют не в пользу «отличия», а против него. Различие
и должно — в общей своей форме, в терминологическом смысле
слова — быть абстрактным. А различАние (дифферАнс) и должно
быть необычным, зацеплять необычностью. Тут я безусловно
настаиваю на приставке «раз» и не настаиваю на суффиксе (в
принципе дифферАнс можно было бы перевести и более привычным
словом «различение», хотя по вышеприведенным соображениям
мой вариант представляется предпочтительным).
Читатель, далекий от проблем перевода, скажет: подумаешь,
приставка! «Раз» или «от» — какая разница? Впрочем, и
франкоязычному читателю нелегко было бы понять суть спора, так как
в слове différence, заимствованном, как и в других европейских
языках, из латинского слова differentia, есть оба значения:
различие, отличие. Однако разница тут есть, и немалая: русскоязычные
приставки «раз» и «от», достаточно близкие, на первый взгляд,
разнятся по своей этимологии и по смыслу.
Прежде всего приставка «раз» в слове «раз-личие» (как и
латинская приставка «dis» в слове «differentia»: от глагола (dis)fero -
«разносить», нести в разные стороны) этимологически
предполагает именно рас-ступание, раз-лом, рас-пад, раз-дел, движение
в разные стороны (а не так, чтобы одна часть оставалась на месте,
а другая от нее откалывалась). Движение от чего-то в одну
сторону, отделение части от целого — от-личие — обозначалось бы
приставкой «де». (Например, declinatio - склонение, или от-клонение
от-пад-ающих пад-ежных форм от неподвижной эталонной
номинативной формы). Ощущение этой этимологии сохраняется
у каждого носителя языка, независимо от того, насколько она
осознается. И не случайно все французско-русские словари,
перечисляя значения différence, начинают с «различия»: «различие, от-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 439
личие», а не «отличие, различие». Но и в собственной семантике
и онтологии Деррида, где зыбкий мир расползается во все
стороны и различия множатся сразу во многих направлениях, где «диф-
ференция» зияет между двумя расколовшимися частями некоей
(не)мыслимой субстанции, без какой-либо возможности остаться
на безопасном берегу, — более уместным мне представляется
именно термин «различие». Этот выбор подтверждается и другими
особенностями семантики слов «различие» и «отличие» в русском
языке.
Во-первых, слово «отличие» требует дополнений и
овеществляющих конкретизации (что, от чего и чем отличается), тогда как
«различие» таких дополнений не требует и может употребляться
в абсолютном и обобщенном смысле, гораздо более уместном в
подавляющем большинстве философских контекстов. Во-вторых,
у слова «отличие» есть свое семантическое облако, явно мешающее
его философскому употреблению: это облако ярко положительных
значений (отличник; ср. у Даля: «его начальство отличает»; иногда
в ироническом смысле — «отличился»...), тогда как «различие» не
имеет таких неуместных семантических «шлейфов».
Совокупность всех этих обстоятельств уже представляется
достаточной, чтобы объяснить, почему в русском философском
языке закрепилось именно слово «различие», а также почему оно
оказывается уместнее при передаче радикально несубстанциа-
листской мысли Деррида. Но если все же заняться проверкой
предложенного рецензентом эквивалента на
историко-философском материале, значимом для данной книги, мы сразу же
убедимся в том, что он «не проходит». В противном случае пришлось бы
переписать всю историю философии от Платона и уж по крайней
мере — от Гегеля до Делёза, критиковавшего Гегеля, так как
именно общеразличительный, а не специфицирующий,
раз-делительный, а не от-делительный смысл общеевропейской «дифферен-
ции» так или иначе выходил в ней на первый план. В частности,
именно (анти)гегелевский контекст, скрепленный категориями
тождества и различия (а не тождества и отличия), для Деррида
первостепенно важен. Конечно, в русском слове «различие» есть
и момент «отличия» — его однокоренного соседа. Однако если уж
встать на уровень тонкой семантики, предлагаемой рецензентом,
то окажется, что момент отличия, отличения при движении
мысли вовсе не всеобъемлющий, а, напротив, промежуточный: так,
поначалу мы воспринимаем просто различие, потом выясняем,
что, чем, от чего отличается (это и есть момент отличения), а
потом опять выходим к различию, которое несет в себе обобщенный
опыт различения, дифференцирования. При этом не так уж
важно, строим ли мы понятия по Гегелю или по Карнапу.
440
Познание и перевод. Опыты философии языка
Более того, приняв предложенный вариант (отличие, а не
различие), мы должны были бы переписать и новейшую историю
лингвистики, начиная с Соссюра, для которого, как помнят с
первого курса все филологи, «в языке нет ничего кроме различий»
(différences). Это фраза из «Курса общей лингвистики» не только
легла в основу структурной лингвистики, но и стала опорой
структурных методов в других гуманитарных науках, в частности
в структурной антропологии. Иной перевод - «в языке нет ничего
кроме отличий» - стал бы выталкивать и Соссюра, и Леви-Строса
в иные концептуальные пространства.
А уж затруднений по более конкретным поводам было бы
просто не счесть. Так, «Письмо и различие» (L'écriture et différence) -
книга Деррида, вышедшая почти одновременно с
«Грамматологией», стала бы «Письмом и отличием»1. Фундаментальная работа
Делёза «Différence et répétition» преобразовалась бы из «Различия
и повторения» в «Отличие и повторение». Да и вся французская
«философия различия» 1960—1970-х годов стала бы «философией
отличия» со всем шлейфом требуемых конкретизации — что,
от чего, чем отличается. Таких превращений не вынесут не только
Гегель, но и современные мыслители от малых до великих (от
Франсуа Ларюэля до Жиля Делёза). Вряд ли Барт с Кристевой, так
или иначе опиравшиеся на структурную лингвистику,
поддержали бы это предложение.
Каков же итог? Все сказанное свидетельствует о том, что
предложенный рецензентом вариант «отличие» не может служить
единым эквивалентом. По сути, его введение предполагало бы
раздробление единого французского термина на два подтермина
(в некоторых случаях — различие, а некоторых — отличие) или же
перевод по контексту. Вполне возможно, что в отдельных случаях
«отличие» звучало бы уместнее «различия», что регулярно
случается при подборе терминологических эквивалентов, поскольку в
разных языках семантические объемы соотносимых слов и их
употреблений не совпадают, но это не может служить основанием для
отказа от поиска единого эквивалента. Терминологический подход
желателен всегда, но он просто необходим применительно к тем
несущим, базовым понятиям, о которых здесь идет речь, тем более
к терминам вполне классической, академической работы Деррида.
Однако труда, потраченного на проверку выдвинутых гипотез,
вовсе не жаль. В итоге мы обогатились вниманием к полезным
1 Если полностью отвлечься от истории философии, можно сказать: а почему бы
и нет? Переводит же Бибихин это название как «Письмо и разность», пусть будет
для разнообразия «Письмо и отличие». Однако ни о Гегеле, ни о Соссюре -
мощном трамплине для отталкивания и полета деконструкции - такие переводы
никому и никогда не напомнят.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 441
и важным смысловым оттенкам слов, так что это не бесполезная
работа, даже если вместе придумать новый вариант трудного
понятия пока не удалось. Придется подумать еще: может быть,
вернуться к «разлике», «различке» (Даль). Или, в самом деле, отказаться от
поиска русского эквивалента и узаконить латинскую «дифферен-
цию» и «дифференциацию» на всех фронтах. Кроме того, по ходу
обсуждения становятся видны и более общие сюжеты, все шире
открывается поле совместной философской и филологической
работы (только не импрессионистической, а той, которая стремится
тщательно выверять свои ассоциации и свои интуиции).
В последнее время споры философов и филологов в России
стали культурно заметным явлением. И это не случайно. Они
сталкиваются и при обсуждении традиции (заведомо «великой»
литературы и, скажем так, трудно развивавшейся философии),
и при исследовании проблем развития русского философского
языка, и, конечно, прежде всего — в связи с многообразными
проблемами перевода. Обладая некоторым опытом
профессионального использования языка обоих сообществ —
философского и филологического - я хотела бы подчеркнуть: речь не должна
идти о том, кто кому даст урок или, иначе, кто кого (или сам
себя) «выпорет» перед всем честным народом. Продуктивным было
бы предельно широкое сотрудничество, а не соперничество.
Только для этого и философия, и филология должны были бы
отказаться от чувства своего превосходства и принять за аксиому,
что им есть чему учиться друг у друга. Конечно, мысль
складывается не только в словах, она во многом затрагивает предсловесное
и засловесное, но именно поэтому так важно словесное
выражение, закрепление отдельных ее стадий, этапов, которые
обеспечивают ей подвижность и возможность экспериментов с другими
контекстами. В случае концептуально трудных переводов, строго
говоря, ни философ, ни филолог друг без друга не справятся.
Филолог не сможет выделить точно базовые концептуальные
единицы философского текста, а философ не сможет последовательно
провести и сохранить в новом тексте чужой опыт, выраженный
в словах. В этом смысле каждый переводчик философского
текста сам себе и философ, и филолог. В этой работе по
артикулированию мыслей, поиску слов, выработке языка нет мелочей, о чем
свидетельствует и судьба маленькой приставки, несущей
философский смысл.
Раки, пиво и...метафизика
Начну с цитаты:
«...герменевтическому чепуховедению я бы попытался
противопоставить (и может быть, еще сделаю это далее) особый мотив
442
Познание и перевод. Опыты философии языка
«подлежащего» в кулинарном или закусочном смысле: что под что
есть или пить. Пиво — не смысл раков, да и раки не прорываются
к пиву, одно не понимается через другое. Глупо редуцировать
пиво к ракам или наоборот. Так же, как и текст и его шум. Что под
чем? Или «мы вместе»? Можно сказать, что шум — от текста сего,
а не как у нормальных философов «не от мира сего». Карта такого
шума для меня — не более, чем окаменелость, неразвившийся
зародыш, который испугался того, что его примут за нечто большее.
А может быть, он просто ленив (только представьте себе такого
ленивого зародыша)?»...
Как вы думаете - кто это говорит и по какому поводу? Может ли
этот текст быть философским анализом философского
произведения - к тому же, теперь уже почти что философской классики,
хотя до сих пор у нас не прочитанной и не проанализированной? Кто
не знает ответа, тот никогда не догадается. Это отрывок из
послесловия Д. Кралечкина к его же переводу одной из самых важных
и трудных книг Деррида «Письмо и различие». Послесловие
названо загадочно и претенциозно: «Деррида (перечеркнуто) запись
одного шума»1. О самом переводе текста я здесь говорить не буду,
сошлюсь еще раз на мнение компетентного рецензента
А. Ямпольской2, которая дает внушительный перечень его
недостатков и несообразностей, особенно в переводе психоаналитиче-
1 Кралечкин Д. Demäa.запись одного шума (послесловие) // Деррида Ж. Письмо
и различие / Пер. Д. Кралечкина. М.: Академический проект. 2000. С. 479. Само
появление этой книги на свет - не вполне понятная история. Когда кто-то прислал
Деррида экземпляр этой книги, изумленный автор попросил у меня разъяснений:
два перевода одной книги в издательствах с одинаковыми названиями
«Академический проект» - одно в Петербурге, другое в Москве {Деррида Ж. Письмо и
различие / Пер. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб.: Академический проект,
2000; Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Кралечкина. М.: Академический
проект, 2000). Однако петербургское издание получило авторские права (я была
одним из рецензентов пробных переводов петербургского издания, и знаю это не
понаслышке), а московское, естественно, никаких прав на издание не имело. Мне
пришлось объяснить Деррида, что дело тут в рецидиве старого советского
отношения к международному праву в области интеллектуальной собственности. В своем
тексте Д. Кралечкин приводит шутливо-пространные списки своих друзей и
знакомых, побуждавших его к переводу книги, однако эти ссылки на «семейное право» от
юридической ответственности все же не избавляют.
2 См.: Ямпольская А. Свобода (от) вопроса. Рец. на кн.: Деррида Ж. Письмо
и различие / Пер. Д.Ю. Кралечкина. М.: Академический проект, 2000;
Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб.:
Академический проект, 2000 //Логос. Журнал по философии и прагматике культуры.
М., 2001. № 5-6 (31). С. 174-177 (в Интернете: http;//www.ruthenia.ru/logos/num-
ber/2001_5_6/16.html). Это яркий, местами просто блестящий текст,
отличающийся переводческим профессионализмом и умением распознать более общие
философские проблемы, стоящие за переводом.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 443
ских понятий. В данном случае речь у нас здесь пойдет о другом -
о послесловии и тем самым о том способе, которым Кралечкин
представляет российскому читателю этот сложный текст чужой
культуры.
Это послесловие — поток вольных словесных ассоциаций на
общую тему «перевод и переводчик», оно претендует быть «сложной
аранжировкой шума». Текст представляет собой вязь слов и образов,
переходящих одно в другое и трудно поддающихся какому-либо
пересказу. Но все же попробуем. Итак, лейтмотив текста — образ
шума: что это за шум, кто шумит — Деррида, которому вроде бы должен
был быть посвящен текст? Да нет, шумит разбуянившийся
переводчик и автор послесловия. Он выходит на публику в качестве
коверного клоуна (клоун в цирке — это не моя передержка, но
самохарактеристика пишущего1): он смешит публику своими выходками
и каламбурами, его текст — «тронутый», «съехавший», безумный.
А потому, чтобы дать читателю хотя бы какое-то представление об
этом тексте, мне остается лишь наметить в технике коллажа
несколько цепочек ассоциаций, нанизываемых Кралечкиным.
Итак, текст аранжирует некий шум. Какой шум: большой или
малый (посторонний)? Малый шум — шумок...делать что-то под
шумок...делать что-то под что-то...что под что нужно есть и пить:
то ли раков под пиво, то ли пиво под раков... Эта
гастрономическая аранжировка перебивается производственно-механической:
перевод - это машина, которая работает на износ, а потому
верчение его (перевода) шестеренок производит много шума ... Но за
этим лязганьем уставшего механизма слышен и другой шум — шум
битвы, сражения: ведь переводчик пишет послесловие, он машет
кулаками après coup (по-французски это значит буквально «после
удара»), то есть после драки... Перевод - работа жестокая и
кровавая, переводчик пишет (или не пишет) кровью (своей или не
своей), работает (или не работает) до кровавого пота, но ведь кровь
состоит из воды, а где вода, там водяные знаки — меты письма,
расплывающиеся перед глазами... Переводчика-воина сменяет
переводчик-растяпа, напоминающий фрейдовского пациента
с его постоянными ошибками. Переводчик — тот, кто всё роняет2,
у кого все валится из рук, а перевод — текст, который уронили,
1 «Клоунада и фокус» у Кралечкина - это «насмешка над феноменом», а вместе
с ним - над всеми возможными смыслами и репрезентациями. См.:
Кралечкин Д. Qewida" запись одного шума (послесловие). С. 484.
2 Д. Кралечкину очень нравится собственная переводческая «находка» -
«ронять (faire tomber) означающее», и он всячески это обыгрывает. На самом деле,
здесь был бы гораздо уместнее вариант, предложенный в петербургском переводе
«Письма и различия» - «упускать», «опускать» {Деррида Ж. Письмо и различие /
Пер. под редакцией В. Лапицкого. СПб., 2000. С. 268. У Деррида речь идет о том,
444
Познание и перевод. Опыты философии языка
ушибли, которому нанесли урон, но урон полезный, несмотря на
синяки...Словом, как уже было сказано, сочинение послесловия
(да и работа перевода) - это цирковое представление, клоунада.
Каково их отношение к оригиналу? Можно ли сказать, что они
продолжают, развивают, начинают, знаменуют текст, а вместе
с ним - очередное «возвращение Деррида» в Москву? Вместе
с именем Деррида на сцене появляется новый предмет для
ассоциативной игры — слово oeuvre, oeuvres (произведение,
сочинения), многозначное и к тому же входящее в состав разных
сложных слов. Кралечкин напоминает нам, что «Письмо и различие» -
не единое произведение (oeuvre), а множество отдельных проделок
и маневров - manoeuvres (первый корневой элемент этого слова
напоминает о латинском и французском слове «рука»). Новая
цепочка ассоциаций тянет за собой вереницу тягот: тяжелая ручная
работа, чернорабочие, работа, сделанная начерно, и даже
черновик (Деррида, как строгая учительница, своей деконструкцией
превращает чужие чистовики в вечные черновики...). После
тяжкого труда вольная фантазия автора опять забредает в
гастрономические сферы, чему после раков и пива мы уже не удивляемся:
oeuvre — это произведение, a hors-d'oeuvre - закуска; соотношение
еды (смысла) и закуски всегда двусмысленно: закуска - это
добавка, которая превращает еду в закуску; «философия на закуску»1
и есть «феноменология духа» деконструкции... Вывод (это слово
нужно было бы перечеркнуть как условное) таков: только клоун-
переводчик, который умеет падать, «ронять текст» и не страдать
по этому поводу, принимает Деррида всерьез...
Этому тексту не откажешь в остроумии, однако «тронутость»
придает этой манере письма специфическую окраску. Этот текст
вполне мог бы сорвать аплодисменты тусующейся публики или
поразить воображение участника какого-нибудь
Интернет-форума. Удивительно другое: не только молодежь, которой
свойственно тянуться к тому, что кажется необычным, но, видимо, и более
искушенные критики и рецензенты попадают под магию этих
заклинаний и полагают, будто подобные тексты есть единственно
адекватный ответ на вызов Деррида. Так, К. Семенов в жесткой
(или, как говорят, «крутой») рецензии из авангардного «Книжно-
что при переводе и смене языка меняется «означающее тело» текста - с чем,
разумеется, согласится любой переводчик.
1 У автора за «философией на закуску» следует «закуска ОТ философии», где ОТ
ассоциативно связывается с «высокой (haute, по-русски произносится "от")
модой»... Кралечкин Д. Brffidg запись одного шума (послесловие). С. 488. Иногда
возникает вопрос: а может быть такое взвихрение и не-(у)-держание ассоциаций - это
тоже болезнь?
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 445
го обозрения» вообще удостаивает положительной оценки одно
только это издание Деррида в России1, а, например, А. Беляева
чуть ли не отождествляет культурную миссию Деррида и Кралеч-
кина: «Эти тексты - В. Лапицкого, Ж. Деррида и Д. Краленкина
(курсив мой. — НА,)— очень разные, но им удается делать
примерно одну и ту же работу: подтачивать философию наличия и
академичный стиль, как ее порождение и выражение...»2 (в этот
впечатляющий перечень напрасно подверстан Лапицкий, вовсе не
склонный самоутверждаться за счет автора оригинала). Однако
и этого мало: подобные тексты, по мнению Беляевой,
продуктивно «усиливают опасность и эффективность приемов Деррида»3.
Что же получается — герой антиметафизического сражения
Кралечкин и есть наш местный, исправленный и
усовершенствованный Деррида? К тому же ведь и Кралечкин в своем
послесловии намекает, что с переводом все так запутано, что в
постмодернистской оптике автор и переводчик меняются местами, а потому
кто кого порождает, кто от кого зависит — неясно.
По поводу всех этих претензий на избирательное сродство
приходится со всей определенностью заявить: никакого отношения
к мысли Деррида (ни к его мысли вообще, ни к его мысли о
переводе) рассматриваемый нами здесь текст Кралечкина не имеет.
И это несмотря на то, что в нем есть тайные и явные переклички
с некоторыми темами и словесными оборотами Деррида; правда,
их увидит только специалист, а читателю остается только
барахтаться в цепях ассоциаций. Для нас здесь наиболее важно то, что
большинство словесных ассоциаций текста роятся вокруг
высказанной Деррида мысли о необходимости и невозможности
перевода4. Однако для Деррида эта тема никогда не была поводом для
шутовства. Когда в своих лекциях он приводил какую-нибудь
немецкую фразу и давал свой перевод, то обычно оговаривался -
здесь в аудитории сидят германисты, они лучше знают. Он вникал
во все, связанное с переводом, и очень болезненно реагировал на
то, что ему не нравилось. Он говорил мне, что испытывает страх
и благоговение перед переводчиком, который по многу раз
перечитывает текст и подчас видит больше того, что видит автор, а
каково это сознавать автору, который, перечитывая текст, многое
1 Семенов К. Глядя разными глазами. Как у нас издают Деррида? // Книжное
обозрение. М, 2001. - 3.09.
2 Беляева А. Деррида, «Деррида» и Деррида: по следам стиля, (http://www.cen-
sura.ru/articles/derridastyle.htm,with#_fin 1 #_fin 1 )
3 Беляева А. Там же.
4 «Перевод и задан, и запрещен, перечеркнут и обобщен». Кралечкин Д. üsmdS.
запись одного шума (послесловие). С. 481-482.
446
Познание и перевод. Опыты философии языка
написал бы уже иначе? Перевод, говорит Деррида, — это
«прекрасная и чудовищная ответственность» и одновременно «неоплатный
долг». Во французском языке «долг как долженствование» и «долг
как материальное обязательство» выражаются разными словами
(соответственно devoir и dette), которые здесь и обыгрываются.
При этом Деррида строит свои словесные ассоциации, подчиняя
их определенной задаче — передать мысль. Многое из того, что
говорится о переводе, пронизано восхищением людьми, которые
этим занимаются, и завистью к ним - единственным, кто «умеет
читать и писать»1. И такой комплимент в устах творца понятия
«письма» и особой стратегии чтения - «деконструкции» -
дорогого стоит. Так за что это и почему? Да потому, что перевод, больше
чем любая другая языковая работа, помещает нас в ситуацию
множественности языков и нечистоты всех границ - между языками,
наречиями, идиомами, в ситуацию, где сам он становится
«необходимым и невозможным»2, подвергает людей страданиям и
испытаниям. Явные или неявные отсылки к теме перевода рассеяны
по многим текстам Деррида и тесно связаны с другими
важнейшими тезисами его концепции.
Судя по тому, как Кралечкин пишет о Деррида, о Киркегоре он
стал бы писать в дневниках, а о Ницше - афоризмами. К тому же,
напомним, любые эксперименты со стилем становятся со
временем своего рода традицией, так что и Ницше для нас теперь - это
уже определенная традиция философского письма, и её можно
изучать как особую систему средств - вполне рациональным
образом. В том, что Ницше — философ, хотя и выламывавшийся из
философии, теперь, кажется, никто не сомневается.
Когда-нибудь, наверное, никто не будет в этом сомневаться и относительно
Деррида, который вне традиции не существует и чем дальше, тем
четче признает это: работа деконструкции «необходимо
предполагает память, поиск новых связей, историю философии, внутри
которой мы находимся даже тогда, когда думаем, что из нее
выходим», пишет Деррида в одном из малоизвестных своих текстов...
Деррида много играл словами, но этим он всегда подчеркивал
мысль, а потому, несмотря на все экспериментальные выходы за
пределы философии, оставался философом, заинтересованным
в усилении и уточнении своей аргументации. При этом,
разумеется, даже тезис о несамотождественности логоцентрической
мысли - это тоже мысль, да еще какая! Что же касается автора после-
1 Derrida J. Qu'est-ce qu'une traduction «relevante»// Quinzièmes assises de la traduction
littéraire (Arles, 1998). Mauzevin, 1999. P. 21.
2 Деррида Ж Вокруг Вавилонских башен / Пер. B.E. Лапицкого. СПб., 2002.
С. 17, 19.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 447
словия, то он глух к мысли Деррида и совершенно не замечает ее
сложной аналитики. Кажется, он видит на месте мысли одно
только руководство к действию, и это — печальный русский обычай.
Так некогда читали Маркса, не думая о том, что Маркс — это тоже
движение интеллектуальной традиции. Словом, в мысли Деррида
автору послесловия интересно все что угодно, только не мысль,
и понятно почему. Мысль требует особых условий, внимания,
терпения, напряжения, необходимости держать в голове много
разных понятий, что-то с чем-то соотносить по определенным
правилам, а не просто нанизывать ассоциации по принципу «все, что
приходит в голову». В этом отказе от мысли есть много детского,
архаичного, безумного. Так сейчас общаются дети - не словами,
а образами: посылают друг другу картинки или какие-то
иероглифические сокращения; так в словесных набалтываниях строятся
архаичные заговоры, так гипнотизирует нас, вызывая полную
потерю ориентировки в реальности, театрализация безумия. А на
фоне всего автор (вот я какой смелый, ничего не боюсь, делаю, как
хочу!) транслирует одуревшему читателю свой миф о Деррида.
При этом происходят различные метаморфозы, в которых Кра-
лечкин по-видимому не отдает себе отчета. Так, ему кажется,
будто его смелые ассоциации «помогают» нам бороться с
метафизикой, тогда как словесные осколки его ассоциаций, вырывающие
мысль Деррида из ее контекстов, застывают в своей чудовищной
вещественности, словно материализующиеся образы прошлого
у героев лемовского «Соляриса». Раки и пиво, кровь и вода, вещи
и состояния, в превращениях которых автор видит предельную де-
субстанциализацию, оборачиваются чем-то ужасающе
материальным: так на задворках мысли рождаются новые метафизические
монстры. Они возникают, заметим, не там, где нас приучили их
бояться, — где «сущность», «бытие», «причина», «цель» или
«логос» держат победу над письмом и различием («бытийственных»
слов и понятий Кралечкин, разумеется, не употребляет). Эти
новые призраки поселяются там, где их не ждут, — вырванные из
общего контекста мысли и ее связей, они гипостазируются в
ассоциациях, застывают в псевдоустойчивых этимологических единствах
и, несмотря на кажущуюся ассоциативную динамику, образуют
квазивещественные метафизические склейки.
Как уже отмечалось, подход Кралечкина соблазнил многих.
Наиболее ярко следствия этого соблазна прочитываются в уже
упоминавшейся интернет-статье А. Беляевой1. Казалось бы, мало ли что
висит в Интернете, далеко не все заслуживает отдельного
обсуждения. Однако текст, подписанный этим именем, не ограничивается
Беляева А. Деррида, «Деррида» и Деррида: по следам стиля. Там же.
448
Познание и перевод. Опыты философии языка
портретом Кралечкина как образцового борца с метафизикой. Он
достаточно развернут, по-своему аргументирован, и к тому же в нем
содержится весьма распространенная в наши дни позиция.
Поэтому нам есть смысл остановиться на этом тексте и его доводах.
В общем и целом Деррида для Беляевой — это попытка выхода за
пределы метафизики с помощью особого стиля. Для Деррида,
считает Беляева, стиль гораздо важнее мысли, потому что только через
эксперименты со стилем можно уловить новые, неметафизические
идеи. С точки зрения Беляевой, мой подход к Деррида — это
«идеальный образец» академизма, а мое предисловие к
«Грамматологии» - «идеальное академичное повествование» о Деррида, где
«сказано все, что может быть сказано о Деррида и его философии
в академичном стиле»1. Такой подход не в состоянии разглядеть
неакадемичный стиль, а потому бьет мимо цели: ведь у Деррида нет
смыслов, его тексты говорят лишь «намеками», «вокруг да около».
Академичный текст «насилует» восприятие еще до того, как
Деррида будет прочитан. Соответственно задача критика — низложить эту
мнимую «всеохватность» и «непреодолимость» текста Автономо-
вой. Еще резче и идеологичнее те же тезисы развивает и К.
Семенов: он видит в моем предисловии к «Грамматологии» Деррида
разновидность былого «советского конвоя» к «идеологически
чуждым» произведениям2. Значит ли это, что для рецензента любое
«неигровое» или, его же словами, «академичное» предисловие
тождественно «советскому» или «идеологическому»? Это остается не
очень понятным, так как за попытки разобраться «в сути дела»
достается и редактору петербургского «Письма и различия»,
вдумчивому переводчику В. Лапицкому. Как видим, в отношении к Ла-
пицкому Беляева и Семенов расходятся, но в выборе
героя-освободителя они абсолютно единодушны: это — Кралечкин.
В тексте Беляевой простовато ставятся те точки над «i», которые
не позволил себе поставить высокопрофессиональный
исследователь и переводчик С. Зенкин, хотя в известном смысле это было бы
логичным продолжением некоторых его тезисов - и прежде всего
его предпочтения Деррида во всем блеске словесных перекличек
перед Деррида во всей собранности концептуальных стратегий (не
буду здесь повторять, что мысль и стиль невозможно передать
в равной мере и что это вопрос, который требует выбора). Беляева,
еще решительней, чем Зенкин, делает свой выбор в пользу стиля
1 Отмечу, что сама Беляева пишет очень внятно, без стилистических красот
и словесных игр: видимо, она хочет, чтобы ее мысль была адекватно понята
читателями...
2 Семенов К. Глядя разными глазами. Как у нас издают Деррида? // Книжное
обозрение от 03.09.2001.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 449
и тем самым показывает нам, от противного, что получается, если
все строить только на стиле (чего Зенкин не делал).
Главные тезисы Беляевой можно сформулировать следующим
образом. Подход и стиль Автономовой псевдонейтральны, что не
соответствует «интенциям» Деррида. Стиль Автономовой
структурирует тексты по тем самым правилам наличия-присутствия,
которые Деррида отрицает. Академичное представление текстов
Деррида — это агрессия и репрессия, которая прячется за
многовековую традицию, поддерживаемую школами и университетами,
и требует ниспровержения.
На это можно сказать следующее:
- Мой стиль вовсе не нейтрален, я просто стараюсь писать,
насколько могу - внятно, провозглашая отличие моего стиля от
мыслительной стилистики Деррида; это вопрос о понимании
того, что у Деррида важнее, а также о понимании места и времени,
в котором мы его воспринимаем. Деррида подчас играл языком,
но он делал это на фоне уже устоявшихся философских
традиций - феноменологии, психоанализа, которые в России, после
долгого перерыва, еще только обретают свой язык и
концептуальные средства. В этой ситуации подражание жестам на неясном
фоне устраняет, а не выявляет мысль автора, так как у Деррида
словесные игры почти никогда не самодостаточны: они служат
цели донести философские доводы автора в их специфической
точности и строгости.
- С метафизикой наличия (или присутствия) дело обстоит не
так просто, как кажется Беляевой. Не случайно Деррида
обнаруживал элементы метафизики и философии наличия даже у тех
философов, которые, казалось бы, дальше всего от этого отошли,
например, у Гуссерля, Фрейда, Хайдеггера, Фуко и др. К тому же его
задача была, как теперь нам все яснее видно, не столько в том,
чтобы разрушить философию наличия, сколько в том, чтобы
очертить ее пределы и показать еще один слой парадоксального
укоренения в другом того, что считает себя самообоснованным.
К тому же, если уж быть последовательными, нужно следовать
Деррида и в его тезисе о том, что никакие констатативные
утверждения о его концепции не имеют значения, и тогда
бессмысленными окажутся вообще какие бы то ни было попытки его изучать,
в нем разбираться. А такой эпистемологический нигилизм —
действительно не моя позиция.
- Представление академичности как агрессии — это одна из
парадоксальных форм онтологизации знания, только уже не как
сущности, а как воплощения властных отношений. Сторонники
такой точки зрения и не замечают, как, опровергая метафизику
с одной стороны, они пропускают ее в святая святых своих анти-
450
Познание и перевод. Опыты философии языка
метафизических анклавов. Знание как воплощенная власть — это
уже вовсе не тезис Деррида даже по далеким отголоскам; это
фактически мозаика из отголосков разных идей в воображении
российского читателя. Разумеется, при столь расширенном
понимании «агрессия» и «репрессия» теряют смысл и к тому же
бросают тень на тех, кто об этом говорит: наверное,
провозглашая разрушение академии, они сами хотят власти, хочется
только спросить, какой и ради чего? Напомним, Деррида существует
только на фоне академической традиции, он с ней соотнесен,
вне ее его собственные построения не имеют никакого смысла -
ни позитивного, ни негативного, ни самотождественного,
ни рассеянного.
Если бы мои критики были последовательны в своей
трактовке стиля как средоточия мысли (с этим я не согласна), они могли
бы принести российской культуре пользу, сделав перевод,
специально заостренный на передаче стилистических эффектов; тогда
читатель мог бы пользоваться разными и
взаимодополнительными переводами Деррида. Однако о тщательной работе по
передаче стиля речь не идет. Главное - производить эффекты.
Получается, что в этом случае нам нет дела до перевода, да и какая
разница, как переводить, важны эффекты, а сопоставлять их
Беляева, видимо, собирается на глазок, по вкусу... Однако
разговоры о свободе Кралечкина от Деррида - лукавство. Местами его
текст выглядит как умелое пародирование (подчас почти то же,
но не то), местами — как апологетика, местами — как попытка
соответствовать вызову (что и было отмечено Семеновым). Если
автор предпочитает не раскрывать нам свое отношение к Деррида,
это его личное дело. Но если он помещает свой текст в книге,
которая выходит тиражом 3 тыс. экземпляров, приглашая тем
самым своих читателей, в том числе и тех, кто не имеет никакого
культурного багажа, строить по его образцу свое представление
о деконструкции и о продвинутом способе философствования по
поводу деконструкции, то за это, строго говоря, полагалась бы
публичная порка.
Перевод Кралечкина, видимо, не лучше, но и не хуже
некоторых других, но в нем обнаруживаются области невежества,
которых вполне можно было бы избежать, если бы автор потратил силы
не на пародию, не на самовозвеличивание (или самоуничижение),
а, скажем, на сверку терминологии и названий цитируемых
произведений, работы тут по горло. Огромная сложность для русского
переводчика французской философской литературы,
пронизанной немецкими влияниями, заключается в том, чтобы при
отсутствии сложившейся традиции перевода, скажем,
феноменологической и психоаналитической литературы передавать французские
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 451
интерпретации этих концептуальных традиций. В такой ситуации
ответственному переводчику, ей-богу, не до пародий, только бы
разобраться в этом инфернальном треугольнике культур,
традиций, взаимопересечений и взаимоисключений. Значит что-то тут
не то: самоутверждение для автора важнее чужого текста. Но
разговор у нас сейчас идет не об ошибках, а о самой позиции, об
отношении к делу, нарочито смешиваемому с потехой.
Честно говоря, Деррида — вовсе не герой моего романа, но меня
всегда очень интересовала его мысль, и ее изучение принесло мне
огромную интеллектуальную и человеческую пользу. Я никогда ему
не подражала, не использовала его терминологию1 и прямо
говорила об этом, однако это отнюдь не лишало меня его дружбы и
доверия, мне кажется, скорее наоборот2. История моих отношений
с Деррида долгая. Когда Деррида впервые приехал в Москву, мы
были уже знакомы; тогда он привез мне официальное приглашение
сделать пленарный доклад на международной конференции «Лакан
и философы», проводимой Международным философским
коллежем совместно с ЮНЕСКО (она состоялась в мае 1990 г.). А когда
много лет спустя было принято решение о праздновании 20-летия
Международного философского коллежа, в котором я была тогда
руководителем программы, председательствовать на
торжественном заседании, по настоянию Деррида, было поручено мне3.
Возникает вопрос: стал ли бы Деррида настаивать на этом, если бы
считал, что мой подход убивает его философию? Все сказанное вовсе
не значит, что Деррида любил, когда его анализировали как
«объект» (в предисловии к «Грамматологии» я утверждаю прямо проти-
1 Суть этого важного познавательного принципа М. Гаспаров (в одном из писем,
побуждавших меня к простому и ясному письму) формулировал так: «чтобы
изучать лягушку, не нужно уметь квакать», причем этот принцип в равной мере
относится и к познанию природы, и к познанию человека.
2 Кажется, в России мне доводится быть едва ли не единственным
исследователем и переводчиком Деррида, который ни прямо, ни косвенно не является его
последователем и не принадлежит ни к каким тусовкам, блюдущим языки внутри-
кружкового понимания. Любопытно, что в разные периоды разные сторонние
люди, знавшие что-то о моих занятиях Фуко, Лаканом или Деррида, упорно
приписывали меня к сектору (лаборатории) неклассических исследований,
руководимой В. Подорогой, хотя я всю сознательную жизнь просуществовала во вполне
«классическом» секторе теории познания. Видимо сочетание моего
«постмодернистского» предмета с «академической» институцией многим кажется
невозможным: к апостолу постмодернизма нужно подходить с особыми мерками и
приемами - не познания, а восприятия, имитации, яркого реагирования.
3 На этом заседании Деррида и Нанси делали доклады, вели дискуссию друг
с другом, а потом и с аудиторией - по поводу прошлого, настоящего и будущего
коллежа. Материалы этого обсуждения с фотографиями см.: Derrida J. & Nancy J.-L.
Ouverture // Rue Descartes. Les 20 ans du Collège international de philosophie. Paris,
2004. № 45. P. 26-55.
452
Познание и перевод. Опыты философии языка
воположное) Важнее другое: Деррида был слишком умен, чтобы
везде искать подражателей1.
А вот одно стороннее свидетельство: на конференции о
переводе в Институте политических исследований в Париже в июне 2006 г.
один из французских исследователей, профессор Университета
София-Антиполис в Ницце, известный переводчик Али Бенмаклуф
заявил при обсуждении моего доклада, что именно такой —
терминологический и осознанно нацеленный на мысль — перевод
Деррида был бы сейчас актуален и для самих французов: иначе говоря, он
выступал за перевод с французского на французский, потому что,
подчеркивал Бенмаклуф, во Франции правят бал подражатели,
которые ничего не прибавляют к мысли Деррида, но при этом
отнимают у читателей возможность анализа и дискуссии. Может, кто-то
подумает, будто Бенмаклуф - ненавистник Деррида из
многочисленной когорты его противников в официальной университетской
среде. Но это совсем не так: именно он был организатором
конгресса франкоязычной философии, пригласившим Деррида выступить
с пленарным докладом на тему «Грядущий мир просвещения»2.
Однако нам здесь важны не французские, а российские
читатели. Современное отношение к Деррида русскоязычного
потребителя современной западной мысли тесно связано с его
отношением к своему языку и своей культуре. В нынешний период своего
развития русский язык подчиняется воле и установкам
переводчиков и носителей языка гораздо больше, чем в иные, более спо-
1 Я рассказывала Деррида о своей работе, о том, что и как я делала и делаю,
например, когда-то давно он с большим интересом откликнулся на мой рассказ о на-шей
с Гаспаровым работе над русскими переводами сонетов Шекспира. О том, как он
сам переводил Шекспира (даже если это была всего одна строчка из
«Венецианского купца» - When mercy seasons justice...), Деррида увлекательно рассказал
в своем докладе на сессии переводчиков в Арле: Derrida J. Qu'est-ce qu'une
traduction «relevante»// Quinzièmes assises de la traduction littéraire (Arles, 1998). Mauzevin,
1999. Между прочим, родной брат жены Деррида, Мишель Окутюрье, один из
лучших во Франции специалистов по Пастернаку, переводчик его поэзии на
французский язык - был одним из главных предметов изучения М. Гаспарова,
анализировавшего на материале переводов Окутюрье эволюцию современной французской
метрики и ритмики. Это вовсе не значит, что деконструкция где-то пересекается
с младоформалистскими поисками точной гуманитарной науки, но все-таки что-
то значит. Жена Деррида Маргерит, прекрасно знающая русский язык, иногда
переводила ему русские тексты, в том числе, как писал мне Деррида, она читала ему
отрывками мое предисловие к «Грамматологии». Как бы то ни было, прочитав мой
отчет о принципах моего перевода во французской статье, Деррида попросил меня
написать об этом для специально посвященного ему сборника L'Herne.
2 Этот конгресс назывался «Будущее разума. Становление рациональностей»:
BenmakhloufA., Lavigne J.-F. (éd). Avenir de la raison. Devenir des rationalités. Paris,
2004. Доклад Деррида на конгрессе был также опубликован в его знаменитой
книге Derrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Paris, 2004.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 453
койные периоды. Но и замусоривать это общее пространство,
в котором строятся и/или разлаживаются трудные межкультурные
взаимодействия, стало проще. При этом, желая «помочь» Деррида
сокрушить метафизику, игривые переводчики и комментаторы
даже не замечают, как она в новом обличье нависает у них за
спиной. Мысль заботится о связности, о контексте, она не
существует вне традиции, даже если отрицает ее. Мы уже видели, что при
вырывании мысли из контекста рождаются новые
метафизические сущности, а разорванные личные ассоциации пишущего (те
самые раки и пиво) порождают ту самую вещественно-наличную,
натуралистическую метафизику, где слова магически
превращаются в вещи. Играть словами независимо от смысла стало модно
и престижно, хотя в философии стиль, не участвующий в мысли,
бессилен. Оставим каждому право на субъективные прихоти.
Но позаботимся о том, чтобы это не помешало читателю найти
дело получше, чем нелепое подражание подражателям.
§ 4. Психоанализ в постсоветском пространстве:
перевод и рецепция
Условия рецепции в исторической перспективе
Усвоение нового — всегда трудный процесс. Тем более это
относится к такому течению, как психоанализ, который представляет
собой одновременно теорию и практику, идеологию и набор
конкретных методик. Как можно «перевести», «перенести»
психоанализ в другой контекст и освоить его? Может ли вообще это
порождение западной культуры быть перенесено через свои границы —
идеологические, социальные, исторические?1. Этот вопрос всегда
1 Мне пришлось стать свидетелем того, как идеологические барьеры постепенно
преодолевались в процессе развивающегося сотрудничества российских и
французских исследователей. Яркими историческими вехами на этом пути явились
события, в которых мне довелось принимать непосредственное участие:
международный симпозиум «Бессознательное: природа, функции, методы исследования»
(Тбилиси, октябрь 1979); первый советско-французский семинар «Науки о
природе, науки о духе, психика» (Париж, Дом наук о человеке, октябрь-ноябрь 1986);
конгресс «Лакан и философы» (Lacan avec les philosophes) (Международный
философский колледж совместно с Юнее ко - май 1990), круглые столы -
«Психоанализ и эпистемология», «Психоанализ и русская культура» (Высшая нормальная
школа совместно с университетом Париж 7, июнь 1990), представительная
российско-французская конференция «Психоанализ и науки о человеке» (Москва,
март-апрель 1992). Ср. публикации материалов всех этих конференций:
«Бессознательное: природа, функции, методы исследования». Тбилиси, 1978, тт. I-I1I;
Тбилиси, 1985, т. IV; заключительный том, подводящий итоги конгресса вышел
также во французском переводе: Inconscient: la discussion continue / Sous la réd. de
454
Познание и перевод. Опыты философии языка
остро стоял в истории психоанализа - и при жизни Фрейда и после
его смерти. Тем более остро стоит этот вопрос применительно
к нынешней постсоветской ситуации, которая не имеет
«нормального» непрерывного исторического опыта усвоения психоанализа
и должна сейчас осваивать сразу многое и разное.
Анализируя историческую обстановку, в которой психоанализ
может укореняться и развиваться, Элизабет Рудинеско отметила
четыре необходимых условия1. А именно: наличие в
общественном сознании такой концепции душевной болезни, которая не
прибегала бы к ссылкам на сверхъестественные причины;
наличие правового государства, признающего ограниченность своей
власти над гражданским обществом и индивидами и, в частности,
«свободу слова»; сформированность слоя интеллигенции,
осознающей свои права и обязанности и способной их защищать;
наконец, развитие «модернистской» литературы как особой культуры
обращения со словом, чувствительной к открытиям
психоанализа. Это, конечно, не столько «необходимые условия», сколько
фактические обстоятельства, сложившиеся в Западной Европе
в эпоху Фрейда. Но именно с них начинается отличие в судьбе
психоанализа в Европе и в России.
Во Франции все эти условия сложились не сразу, но развились
все. В России имелись, хотя и в ограниченном виде, первое и
последнее условия — медицинско-психиатрическая концепция
психической болезни, с одной стороны, и вкус к модернистской
литературе, - с другой: как известно, в первой четверти века Россия
славилась своими литературными и художественными
экспериментами, и эти открытия из культуры не исчезли. Однако в России
не было (и нет) ни второго, ни третьего условий: ни правового
государства, ни самостоятельно мыслящей и способной защищать свои
права интеллигенции. Все эти нехватки уже сыграли роковую роль
в исчезновении психоанализа в 1930-е годы, а ныне от развития
этих сторон общественной жизни в известной мере будут зависеть
и дальнейшие шансы российского психоанализа на выживание.
Первое пришествие Фрейда на российскую почву началось, как
уверяют историки, уже в конце XIX в. В последнее
предреволюционное и первое послереволюционное десятилетие психоанализ был
A. Pranguichvili, F. Bassine, P. Chochine. Moscou, 1989; Lacan avec les philosophes.
Paris, 1991 ; Psychanalyse en Russie / Sous la dir. de M. Bertrand. Paris, 1992;
Психоанализ и науки о человеке. По материалам российско-французской конференции
«Психоанализ и науки о человеке», (30 марта-3 апреля 1992 г.). М., 1995; Carrefours
sciences sociales et psychanalyse: le moment moscovite / Sous la dir. de B. Doray et de
J.-M. Rennes. Paris, 1995, и др.
1 Roudinesco Ε. Comment écrire l'histoire de la psychanalyse? // Carrefours sciences
sociales et psychanalyse... P. 255-263.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 455
довольно широко распространен в России: с одной стороны, в
среде земских врачей, а с другой — в декадентской литературной среде
(Бенедикт Лившиц, например, называл себя в «Полутораглазом
стрельце» убежденным фрейдистом). В послереволюционной
России психоанализ воспринимался как последнее слово западной
материалистической науки, но также и как средство раскрепощения
энергии, сдавленной вытеснениями, обращения ее на общее дело,
на пользу человечеству. Таким образом, акцент ставился на
психоанализ как науку и как эмансипативную (освободительную)
практику. Речь шла, конечно, прежде всего об освобождении энергии
пролетариата. В более умном виде эти идеи развивались В.Н. Воло-
шиновым, в менее умном, и даже гротескном, скажем, А. Залкин-
дом. Однако этот период был недолгим: смена социокультурных
приоритетов, переход от революционного порыва к
централизованному планированию и государственному регулированию упразднил
установку на личную эмансипацию. В 1930-е годы лозунг
«освобожденного труда» сменился лозунгом выполнения директив
пятилетнего плана любой ценой. В соответствии с этим сдвигом
общественных настроений былые адепты психоанализа переменили
область своих интересов еще до того, как политико-идеологические
давления принудили психоанализ исчезнуть со сцены1.
Второе пришествие Фрейда на российскую культурную
почву - с перерывом в 60 лет - началось с конца 1980-х годов. В
нынешнем возобновлении интереса к психоанализу в России
перекрещиваются разные побуждения: заполнить мировоззренческий
вакуум, отведать ранее запретный плод, облегчить боль от ран
и травм, в изобилии выпавших на долю российского человека.
При этом подчас возникает соблазн прямо противопоставить
утерянной идеологической опоре на марксизм новую -
фрейдистскую. Таким образом, ни «научного», ни «эмансипативного»
интереса второе пришествие психоанализа на российскую почву не
содержит: этот интерес скорее «идеологический» (замена старому
мировоззрению) и «психотехнический» (поиск быстрого успеха
влечении). Принятие психоанализа после долгого перерыва несло
в себе и шансы открытия, и возможности догматизации. С одной
стороны, возникали различные формы «нормальной» работы — это
издание журналов, переводы, создание ассоциаций, практика
и обучение (в основном через зарубежных учителей, приезжающих
1 Эти процессы трактуются историками психоанализа по-разному, что
заслуживало бы отдельного обсуждения. Ср.: Пружинима A.A., Пружиним Б И. Из истории
отечественного психоанализа // Философия не кончается... Из истории
отечественной философии. XX век. 1920-50-е годы. М., 1998. С. 47-86; Miller M. Freud au
pays des Soviets. Paris, 2001, и др.
456
Познание и перевод. Опыты философии языка
в краткие командировки) и пр. С другой стороны, особенно
поначалу, неофиты были явно склонны к лакировочному догматизму
и в отношении к Фрейду и в отношении к самим себе. Так, Фрейд
подчас представал как героическая личность, окруженная
любящими учениками, как творец радикально нового мировоззрения
и создатель чудодейственного лечебного средства. Сами же адепты
подчас выдавали себя за давних и убежденных психоаналитиков,
издавна практиковавших где-нибудь в Сибири...
Чем больше возвышалось и героизировалось собственное
место в истории психоанализа, тем заметнее было стремление
замолчать или хотя бы преуменьшить роль тех исследователей
бессознательного и психоанализа, работа которых предшествовала
нынешнему «ренессансу». Так, недооценивая советский период
в исследовании проблематики бессознательного, некоторые
критики - как в России, так и на Западе - замалчивали чрезвычайно
важную роль Тбилисского симпозиума 1979 г. по проблеме
бессознательного, а также роль его организаторов (Ф.В. Бассина с
советской стороны и Леона Шертока — с французской) в развитии
франко-российских гуманитарных контактов. Это было особенно
выгодно тем, кто в более поздние времена стал претендовать на
лавры и кредиты первооткрывателей. На самом деле,
четырехтомные Труды симпозиума1, доступные в библиотеках, в течение
десяти лет (с 1979 по 1989 г.) давали достойный материал для
размышлений всем тем, кто интересовался бессознательным и
психоанализом. Эти публикации свидетельствовали о трудной
реабилитации проблематики бессознательного, но не были и не могли
быть знаком реабилитации психоанализа, хотя и сыграли важную
роль в подготовке сообщества к восприятию психоанализа.
Во время «второго пришествия» психоанализа постсоветский
читатель сталкивается с таким идейным хаосом, какого не было во
времена «первого пришествия» Фрейда на российскую почву.
Ранний и классический Фрейд, его ближайшие ученики
(особенно Юнг с его архетипами), неофрейдистские социальные
перетолкования (Хорни, Фромм, Салливан), парадоксальный «возврат
к Фрейду» Жака Лакана2, исследования немецких аналитиков на
1 Бессознательное: природа, функции, методы исследования. Т. I—III. Тбилиси,
1978; Т. IV. Тбилиси, 1985.
2 Когда-то, очень давно мне довелось представить Лакана советскому читателю
(Психоаналитическая концепция Жака Лакана // Вопросы философии. М, 1973.
№ 11. С. 143-151). Среди моих статей о Лакане на французском языке см.:
Avtonomova N. Lacan: renaissance ou fin de la psychanalyse // L'Inconscient: la
discussion continue. Moscou, 1989. P. 313-328; idem. Lacan avec Kant: l'idée du
symbolisme // Lacan avec les philosophes. Paris, 1991. P. 7-85 (avec la discussion), и др.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 457
стыке с герменевтикой, но также работы, посвященные
восточным психотехникам, измененным состояниям сознания,
нетрадиционным формам религиозного опыта, — все это одновременно
претендует на читательское внимание. От разных «других»
исходят противоречивые импульсы. Через кого и как
самоопределяться растерянному читателю? Чтобы разобраться в этом,
необходима мощная исследовательская и просветительская работа. Она
делается лишь отчасти. Например, работы Лакана переводятся
и публикуются1, но не сопровождаются ни понятийными
комментариями, ни вступительными статьями, а потому, выходя в свет,
они не становятся предметом обсуждения за пределами
достаточно узкого круга читателей2. А жаль: если бы лакановская
концепция человека как изначально расщепленного существа, —
концепция, трагическая по сути своей, — была переводима на более
доступный язык, она могла бы оказаться (несмотря на все
различия в понимании субъекта) более созвучной сути «русского
характера» и «русской души», нежели некоторые американские
рецепты взбадривания и адаптации любой ценой — независимо от
индивидуального состояния и наклонностей человека.
Нам хочется лечиться побыстрее и поэффективнее, но более
осмысленным, видимо, было бы не обращение к
чудодейственным рецептам, а установка на то, что лечение может быть долгим,
а его результаты - нестабильными. В принципе, чем шире умения
и навыки психотерапевта или психоаналитика, тем лучше, ибо это
1 Как уже отмечалось, на русском языке вышли такие важнейшие работы
Лакана, как «Функция и поле речи и языка в психоанализе» М., 1995; «Инстанция
буквы в бессознательном, или судьба разума после Фрейда». М., 1997, а также
некоторые его семинары: Кн. 1. Работы Фрейда по технике психоанализа (1953-1954).
М., 1998; Кн. 2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954-1955). М.,
1999; Кн 5. Образования бессознательного. (1957-1958). М., 2002; Кн. 11. Четыре
основные понятия психоанализа (1964). М., 2004; Кн. 7. Этика психоанализа
(1959-1960). М., 2006, и др.
2 Впрочем, и это отрадно, за последние годы появились интересные работы
о Лакане или вокруг Лакана; ср., например, ЮранА., Рисков В., Мазин В.,
Черноглазое А. Лакан и космос. Серия «Лакановские тетради». СПб., 2006; Юран А.
Пространство и время в психоанализе (http://www.lacan.ru/articles/space_and_time.
htm); Она же. Психоанализ и эпистемологический разрыв на рубеже веков
(http://www.lacan.ru/articles/the_gap.html); Она же. Путешествие буквы в сетях
означающих (http://www.lacan.ru/articles/naming_networks.html); Она же.
«Утраченный» аффект психоанализа (http://psyagora.narod.ru/affect.doc);
Черноглазое А. Лакан с высоты птичьего полета (ответ на статью П.Качалова «Лакан:
заблуждение тех, кто не считает себя обманутыми») (http://www.lacan.ru/articles/
from_the_birds-eye_view.html); Ставцев С. Я. Язык и позиция субъекта // Формы
субъективности в философской культуре XX века. СПб., 2000. С. 62-78;
Смирнов И. Реальность и фантазм. От «Общества спектакля» к «Матрице» (http://www.
lacan.ru/articles/reality_andfantasm.html) и др.
458
Познание и перевод. Опыты философии языка
позволяет выбирать приемы работы сообразно ситуации и
варьировать подходы. Должны ли при этом психоаналитики быть
врачами или это необязательно? Это вопрос не простой, однако мне
кажется, что здесь и сейчас — должны: слишком неразвиты у нас
службы душевного здоровья, а от умения распознавать случаи, где
нужна срочная фармакологическая помощь, а где возможна
клиническая работа, может зависеть человеческая жизнь. В других
странах, как мы знаем, эти вопросы решались по-разному.
Во Франции лакановский отказ от медицинской специализации
психоаналитиков привлек к психоанализу новые культурные
силы, однако он же сделал возможной широту, граничащую с
шарлатанством. Но именно во Франции в последние годы вновь
оживает излишнее доверие к фармакологии или, как говорит
Э. Рудинеско в работе «Почему — психоанализ?»1, вновь
возникает ситуация «бегства от бессознательного» (и это, по-видимому,
лишь новый виток нестыковок между российской и французской
идейными конъюнктурами - при нашей нынешней повальной
увлеченности бессознательным).
В нынешней России идет довольно быстрая институционали-
зация психоанализа без должной его проблематизации - как
грибы, размножаются институты, ассоциации, группы — как
правило, ориентированные на те или иные западные традиции. Можно
назвать многих энтузиастов, трудящихся на ниве российского
психоанализа. Однако парадокс нынешней ситуации заключается
в том, что практически все составляющие психоанализа в
современной России еще не «созрели», еще находятся в процессе
становления. Так, еще не возник «пациент», «анализант» - или
иначе говоря, тот слой материально, социально, интеллектуально
подготовленных, высоко ценящих свое душевное здоровье людей,
для которых психоанализ стал бы жизненной потребностью.
Не существует и аналитика, который мог бы с полным правом
называть себя психоаналитиком, то есть прошедшим должную
подготовку в виде личного и дидактического анализа. Осознающие
это люди скромно считают себя психотерапевтами «с
ориентацией на психоанализ», менее скрупулезные люди, напротив,
бесцеремонно говорят от имени психоанализа, преподают
психоанализ — например, в частных университетах, где «психоаналитиков»
готовят одновременно с «социальными работниками». «Дикий
анализ» встречается и в среде практиков, и в среде «прикладных
аналитиков», сочиняющих психоаналитические портреты
политических деятелей — от Чаадаева до Путина.
Roudinesco Ε. Pourquoi - la psychanalyse? Paris, 1999.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. ♦На бранном поле...» 459
При попытках сопоставить опыт часто возникают затруднения
даже в пределах общей системы понятий; они связаны с теми
социальными ситуациями и культурными традициями, которые за
ними стоят. Даже и не располагая надежными социологическими
данными о структуре и динамике семьи, можно утверждать, что
«семья» в российском понимании и функционировании — совсем
не то же самое, что семья в ее западном понимании; учитывать эти
различия весьма важно при изучении перехода психоанализа
через культурные границы. Так, отсюда нам кажется, что французы,
например, находятся под властью навязчивых идей семейного
треугольника, слишком жесткого разграничения материнских
и отцовских ролей и вообще — надоедливых дистинкций разного
рода. Напротив, французам при взгляде на нас кажется — в данном
случае этот акцент восприятия существен — что мы ярко
воплощаем доэдиповскую, инцестуозную (то есть, детскую) фазу развития,
на которой человек еще не подвергся «кастрации», или опыту
лишений, не прошел необходимой инициации, или, проще говоря,
не научился от чего-то отказываться, чтобы взамен что-то мочь
и уметь, короче говоря, - он не принял над собой власти Закона.
В самом общем виде речь идет о том, что в российской семье во
многом затруднен процесс преемственности и четкой смены
поколений, недостаточно дифференцированы половые,
родительские, семейные роли. Вследствие всего этого обычны ситуации,
при которых один из родителей претендует на роль обоих, старшее
поколение вмешивается в жизнь взрослых детей, взрослые дети
проживают с родителями, бессознательно отказываясь от
собственной взрослой жизни, люди берут на себя не свои роли и
навязывают свой выбор другим и пр. Психологические следствия
всего этого — вина, тревога, жертвенность. Различные коллизии
взрослой жизни (и весь набор сценариев типа «муж пьяница и
жена страдалица», девиз «а я его спасу» и др.) укоренены в проблемах
семейного детства. Конечно, многое тут связано с экономической
отсталостью страны (наверное, чтобы выживать в качестве
«атомарного индивида», нужно быть богатым), но что-то, видимо,
обусловлено и культурными привычками.
Вполне резонно предположить, что недостаточная дифферен-
цированность семейных и половых ролей мешает и другим
формам самоидентификации человека как члена гражданского
общества. Подчас возникает впечатление, что общество в западном
смысле слова в России еще не вполне сложилось, что оно не
нарастило мускулов; когда нас призывали «голосовать сердцем»,
полагая, что такое голосование объединяет людей поверх всех
культурных и социальных различий, общество понималось — искренне
или из манипулятивных соображений — как «одна большая се-
460
Познание и перевод. Опыты философии языка
мья». В разных психоаналитических языках эта российская
специфика семейных структур и соответствующей позиции субъекта
может именоваться по-разному. В вещном и мифологичном
языке Фрейда речь пойдет об Эдипе, инцесте, кастрации и др. В
невещественном языке Лакана речь пойдет об Имени отца, о
символическом, о механизме отвержения (forclusion) реальности. Однако
какую бы систему психоаналитических терминов мы ни избрали,
важно улавливать точки совпадений/несовпадений между теми
социальными и психологическими реальностями, которые стоят
за психоаналитическими схемами.
Психоанализ не сводится к теоретическим конструкциям,
постигаемым из книг (он не может быть подменен, скажем,
грамотными социологическими рассуждениями о семейных или
половых ролях). Но он имеет и свою «техническую» специфику, хотя
прямые сопоставления между различными видами психотерапии
по эффективности результатов трудны или даже невозможны.
Психоанализ можно представить как особую экспериментальную
ситуацию изучения опыта человеческого созревания и
структурирования в семье через работу с языком. Именно в языке так или
иначе фиксируются нарушения или нехватки структурирования
семейных отношений, ролевые нечеткости: например,
ассоциативно-словесные скольжения в терминологически значимых
местах могут указать на те места в ткани бессознательного, где
нужна помощь психоаналитика. Люди, не прошедшие психоанализа,
особенно - в его лингвистически заостренных французских
вариантах — как правило, не отдают себе отчета в специфике
психоаналитического отношения к языку. Оказывается, что
психоаналитик, который строит свою технику вокруг идеи бессознательного
как языка, вообще не беседует с нами, не отвечает на наши
вопросы, не ведет с нами ничего похожего на диалог или обсуждение,
но лишь возвращает нам фрагменты нашей речи, так что его
искусство заключается в расчленении нашего речевого потока, в
самом выборе этих значимых фрагментов.
Такое словесное выделение неосознаваемого (или
неполностью осознаваемого) представляет собой рефлексию особого
рода. Схваченное в языке удерживается прочнее, чем построенное
воображением, и охватывает более широкую область, нежели
сфера собственно осознанного. Возможность построения
высказывания (и тем более — целого рассказа о своей жизни) иногда
оказывается единственным средством динамизации
заблокированной ситуации, а предъявление нам нашей собственной речи
другим человеком — единственной возможностью встать во
внешнюю позицию, как-то отнестись со стороны - к себе, к
другим людям, к знанию. Подобно тому как мы не можем увидеть се-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 461
бя, не имея зеркала, так рефлексивность, связанная не с образом,
а с выражением, вербализацией опыта переживания, требует
присутствия другого человека, способного обеспечить те
«возвраты» нашей речи, которые так или иначе структурируют наши
образы самих себя, собственного тела, ближайших других,
подталкивают нас к тому, чтобы учиться быть «другими», сходя с
наезженной колеи бесконечного повторения чем-то нам
«выгодных» жизненных неудач.
Сталкиваясь ныне с многообразными формами западного
психоанализа, мы находимся в ситуации радикального отставания.
Однако от нас самих зависит, будет ли этот процесс простым
повторением пройденного. В принципе новый культурный контекст
вполне может стать обогащающим — если только у нас хватит сил
пробраться через дебри несоизмеримых психоаналитических
жаргонов, уже выработанных на Западе и уже перекочевавших к нам,
критически-конструктивно отнестись и к себе, и к чужому опыту
и позаботиться о выработке не только своего языка, но и некоего
психоаналитического метаязыка, которого не существует и в
Европе. Наше запаздывание нас к этому побуждает и одновременно
дает нам шанс. Кроме того, как ныне нередко подчеркивается,
накопленный Россией опыт (прежде всего — художественный,
например, у Достоевского) и поныне остается кладезью
психоаналитических прозрений, а те западные исследователи, кто
внимательно прорабатывал этот материал, открыли в Достоевском
новые для психоанализа моменты. К сожалению, радоваться этим
открытиям не приходится, ибо речь идет о новых формах
агрессивных и деструктивных влечений (например, об агрессии
родителей по отношению к детям), но все равно — о человеческих
пределах и границах лучше знать как можно больше правды и иметь
на этот счет как можно меньше иллюзий.
Выработка средств выражения, формирование языка, как
представляется, соответствует некоторым собственным
потребностям российского человека, выходящим за рамки психоанализа.
Сейчас ему позарез необходим грамотный и связный язык для
описания душевного опыта, ибо повсюду приходится
сталкиваться с захлестом эмоций, с неумением учитывать конфликтность
и резкую смену душевных побуждений, которую («грешить и
каяться») Фрейд отмечал, читая Достоевского. Русская культура
всегда потакала эмоциям и эмоциональным состояниям (таким как
жертвенность, вина, страдание) и имела репутацию скорее
глубоко чувствующей, нежели глубоко мыслящей. При этом само
наличие травм нередко трактуется в наши дни как своего рода алиби
против мысли: мы-де слишком много страдали, чтобы понимать,
однако этот стереотип, по-видимому, входит в противоречие с по-
462
Познание и перевод. Опыты философии языка
требностями собственного развития российской культуры и ее
взаимодействия с другими культурами.
При этом важно помнить, что психоанализ - везде и в России,
в частности, — это не абстрактная схема, налагаемая на любой
материал. Ему еще предстоит найти свое место в культуре,
почувствовать тот социальный запрос, на который он так или иначе
отвечает, соотнести себя с той реальностью соотношений между
поколениями, полами, ролями, в которой он применяется. В
свете особого психоаналитического опыта - учета длительного
периода накопления впечатлений при неспособности их осмыслить -
полезной будет проработка тонких зависимостей познания от
эмоций и аффектов. Однако психоанализ — это не путь потакания
амбивалентным эмоциям, но скорее путь обучения расчленению,
работа с культурными нехватками и разрывами —
межпоколенными, межполовыми, межролевыми; это не потворство беспорядку,
а, напротив, — механизм становления субъективности через
проработку душевной боли и хаоса. Попробуем учиться с помощью
психоанализа трезвому дистинктивизму, а не синкретичности,
которой у нас и без того хватает. В этот начальный период, когда
у нас очень мало подготовленных психоаналитиков, большую
роль играют тексты, книги. Казалось бы, в переводческой работе
должно быть меньше двусмысленностей, нежели во всех других
областях психоанализа. Но здесь есть свои трудности, к которым
мы сейчас и переходим.
О переводе Словаря Лапланша и Понталиса
Перевод психоаналитической литературы труден для всех
культур и языков. Во Франции, как известно, выпуск Полного
собрания сочинений Фрейда был завершен лишь сравнительно
недавно, работа по его созданию шла много лет, причем
предлагаемые терминологические новшества вызывали и вызывают бурные
споры. В России переводы фрейдовских работ в начале века
иногда выходили раньше, чем в других европейских странах, однако
из-за почти шестидесятилетнего перерыва в существовании
психоаналитической традиции ряд предложенных некогда терминов
ныне безнадежно устарел. К тому же с самого начала некоторые
термины вводились бессистемно — разными переводчиками
и в разные периоды. Западные издания Фрейда на русском языке
(Лондон, Нью-Йорк) не решили этих проблем, и к тому же были
крайне труднодоступными. Нынешние издания Фрейда
представляют собой в подавляющем большинстве случаев перепечатки
старых переводов без указания на переводчиков и годы издания,
без какого-либо научного аппарата и комментария. Справочная
психоаналитическая литература ныне чаще всего переводится
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле..,» 463
с английского, что переносит на русскую почву те смысловые
обертоны, которые определены английским выбором
эквивалентов. Перед современным российским читателем возникает
возможность выбора — к кому примыкать, как вырабатывать свои
подходы.
Переводческая и текстологическая работа может идти в разных
направлениях - либо в сторону унификации и упорядочения
терминологии, либо, напротив, — предельного внимания к
разнообразию употребляемых терминов без их жесткой унификации.
Существует, однако, и еще одна возможность: она подразумевает
упорядочение, не завершающееся догматизацией. В нынешней
ситуации в России существует возможность — при взгляде
ретроспективно и со стороны — лучше сопоставить между собой те
психоаналитические языки и жаргоны, которые сейчас в Европе
нередко сами друг друга не понимают и остаются взаимно
отчужденными. Однако такая работа требует различать, где они, эти
разные языки. Такая работа являлась бы по сути метапсихоаналити-
ческой, однако она подразумевала бы не построение единого
«нарратива», а поиск взаимопонимания и взаимопереходов между
концепциями и подходами.
Для того, чтобы наметить пути такой работы, я расскажу здесь
о моем опыте перевода классического французского Словаря по
психоанализу, созданного известными психоаналитиками Ж. Ла-
планшем и Ж.-Б. Понталисом по инициативе и под руководством
замечательного французского психолога Даньеля Лагаша
(1903—1972) и впервые увидевшего свет в 1967 г.1. Я начала
работать над переводом Словаря в начале 1990-х годов, когда на
русском языке не существовало сколько-нибудь солидной
справочной литературы. Здесь я расскажу о том, как шла работа, какие
трудности возникали на этом пути. Давно опубликованы
переводы Словаря на основные европейские языки; готовятся его
переводы на восточноевропейские языки. Спустя годы, прошедшие
после первого издания Словаря, многое изменилось: вышли
новые словари и справочники, в том числе фундаментальный
словарь по психоанализу, созданный большим авторским
коллективом под редакцией П. Кофмана2, словарь под редакцией
П. Шемама3, широко учитывающий проблематику лакановского
1 Laplanche J. et Pontalis J.-В. Vocabulaire de la psychanalyse. Paris, 1967. В моем
переводе: Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996. Ср.:
2-е перераб. и доп. издание, СПб, 2010.
2 L'apport freudien: éléments pour une encyclopédie de la psychanalyse / Sous la dir. de
P. Kaufmann. Paris, 1993.
3 Dictionnaire de la psychanalyse / Sous la dir. de P. Chemama. Paris, 1993.
464
Познание и перевод. Опыты философии языка
психоанализа, Словарь под редакцией Э. Рудинеско и М. Плона1,
отдельным изданием вышли статьи по психоанализу из
французской Encyclopedia Universalis2 и др. Однако ничто не отменяет и не
умаляет значения Словаря Лапланша и Понталиса: он остается
для будущих психоаналитиков и всех, кто интересуется
психоанализом, настольной книгой, незаменимой основой теоретической
и практической работы.
Ныне во Франции существуют десятки психоаналитических
школ, и в этой пестрой картине нет единства: многие из них
связывают свою деятельность с так или иначе понимаемой
концепцией Лакана (причем, между представителями различных
подходов идут непрерывные баталии), другие склоняются в пользу
более традиционных установок, разделяемых Международной
психоаналитической ассоциацией, третьи избирают в качестве
опоры тех или иных последователей Фрейда (например, А. Фрейд,
М. Кляйн) или же Лакана (например, Ф. Дольто3), четвертые
увлечены концепциями гипноза и внушения (в частности,
недирективного, эриксоновского4 и др)5.
Среди всех этих подходов позиция авторов этого Словаря
достаточно традиционна, но вовсе не догматична и не тривиальна.
От Лакана их в конечном счете отдалило сдержанное отношение
к истолкованию бессознательного через язык и попытки выхода
в сферы реальности, не сводимые к языку. В результате то сложное
1 Roudinesco Ε., Pion M. Dictionnaire de la psychanalyse. Nouvelle édition mise à jour
et augmentée. P., 2006.
2 Dictionnaire de la psychanalyse. Encyclopedia Universalis. Paris, 1997.
3 В 1990-е годы было опубликовано, например, новое двухтомное собрание ее
статей и выступлений: Dolto F. Les chemins de l'éducation. Paris, 1994.
4 Godin J. La nouvelle hypnose: Vocabulaire, principes et méthodes. Paris, 1992.
5 В соответствии с этой расстановкой сил происходило самоопределение тех
российских психологов или психиатров, которые склонялись к
психоаналитической ориентации и стремились получить на Западе сертификаты
профессиональной интегрированности в психоаналитическое сообщество. При этом те из них,
кто по собственному почину или под давлением лакановских групп, начавших
завоевание российского рынка уже в конце 1980-х годов, декларировали поначалу
приверженность лаканизму, в большинстве своем перешли позднее к более
спокойным и — в международном масштабе — более респектабельным ориентациям
под эгидой Международной психоаналитической ассоциации (ΙΡΑ). Таким
образом, их прошлое содержит неоднозначные процессы самоопределения на
внутренней и внешней арене. Сейчас в основном расстановка сил так или иначе
закрепилась, и стало отчетливо видно, кто, при какой западной психоаналитической
инстанции и в каком качестве смог найти себя. Пример такой попытки отчета
о прошлом см.: La psychanalyse en Russie: état des lieux et perspectives / Interview d'
H. Menegaldo avec V. Potapova et P. Katchalov // Slavica Occitania. Toulouse, 2004.
№ 4. P. 283-294.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 465
и радикальное переосмысление, которому подверг психоанализ
Жак Лакан, мало представлено в Словаре, хотя ряд существенных
моментов концепции Лакана - стадия зеркала, проблема
символического, «отвержение» (forclusion) — находят в нем свое отражение.
В целом авторов Словаря отличает установка на
«нейтральность» или беспристрастность — в той мере, в какой она вообще
осуществима. Используя различные формы словарных статей (от
крошечных эссе до огромных текстов, больше напоминающих
самостоятельные исследования, — см. статью «Я»), Лапланш и Пон-
талис сумели передать читателю свои знания, свой аналитический
пафос и сделать его сопричастным динамике фрейдовского
познавательного поиска. В любом случае Словарь не гасит мысль
читателя видимостью прочных решений, но, напротив, побуждает
теоретическое любопытство тех, кто в состоянии видеть
проблематичность и в изложении, внешне не нацеленном на дискусси-
онность и полемичность. Словарь был свидетельством наиболее
плодотворного периода совместной работы авторов, хотя в
дальнейшем их пути разошлись. Именно Жан Лапланш был одним из
инициаторов обучения психоанализу в университете и его
организатором на факультете гуманитарных клинических наук в
университете Париж-71.
Так как в наши дни, после более чем полувекового перерыва,
психоаналитические учения распространяются и в России, где
создаются ассоциации, издаются журналы, возрождаются прежние
и появляются новые формы преподавания или шире — «передачи»
(трансмиссии) психоанализа, вопрос о том, как, где, кому (да
собственно — и зачем?) преподавать и распространять психоанализ,
становится актуальным и у нас. При этом дискуссионными
оказываются многие вопросы — от эпистемологического статуса
знаний о бессознательном до конкретных методов практической
клинической работы. В самом деле, чему можно научиться по книге,
чему — только от живого наставника, чему — лишь в процессе
собственной практической работы? Таким образом, проблема,
которую условно можно обозначить как «психоанализ в университете»
1 В течение ряда лет у меня была счастливая возможность преподавать на этом
факультете, близко познакомиться с постановкой обучения будущих психологов
и психоаналитиков на всех этапах педагогического процесса. Университетские
программы факультета, где имеется аспирантская (докторантская) специализация
по клинической психологии и психоанализу, включают патопсихологию,
дисциплины нейробиологического цикла, историю и эпистемологию, клиническую и
социальную психологию, проходимую под контролем наставника клиническую
практику и, конечно, множество общих и специальных курсов по истории, теории
и практике психоанализа. Во Франции университетское преподавание
психоанализа имеют только парижские университеты Париж-7 и Париж-8.
466
Познание и перевод. Опыты философии языка
(во Франции интересный журнал, посвященный этой теме,
издавался довольно долго при университете Париж-7, но в конце
концов закрылся из-за финансовых трудностей1), возникает и на
российской почве.
Сама подоплека споров о психоанализе в университете
оказывается различной во Франции и в России. Во Франции много
обсуждается специфика психоаналитического опыта и
психоаналитических институтов, достаточно остро стоит и вопрос о том,
насколько психоанализ как особая форма познания и практики
может быть вписан в традиционные для европейской культуры
университетские формы передачи знания. Если во фрейдовские
времена функция учителя-просветителя и функция личного
наставника в психоанализе еще могли как-то совмещаться, то в
наши дни такое совпадение считается неэтичным и
непродуктивным, и потому, например, преподаватели университета, ведущие
лекционные или семинарские занятия по психоанализу, не могут
одновременно быть психоаналитиками своих студентов, которые
проходят личный анализ (а также, в случае дальнейшей
специализации — контролируемый учебный анализ) за пределами
университета. Однако теоретическое изучение исторических, философ-
ско-методологических, социологических и прочих аспектов
психоанализа признается вполне уместным и в университете.
В России дискуссий об официальном месте передачи
психоанализа практически не ведется, так как преобладает установка на
безусловную правомерность социальной и культурной легитимации
теории и практики, которые долгое время были под запретом.
Конечно, те или иные подходы к вопросу о психоанализе в
университете здесь во многом зависят от нашего общего понимания
психоанализа, от того, видим ли мы в нем - прежде всего - науку
или терапевтическую практику, форму эмансипации человека, его
освобождения от социальных и индивидуальных запретов и
принуждений, или особый социально приемлемый ритуал,
помогающий людям лучше приспособиться к тем или иным формам
совместного бытия. Уже неоднократно говорилось о спорах по поводу
«аутентичного» психоанализа и «аутентичного» Фрейда. Кто он:
«сциентист», желавший видеть в психоанализе науку или, по
крайней мере, фундамент научной психологии, или «гуманист»,
разочаровавшийся в позитивистском оптимизме и поставивший
в центр внимания проблему человека, его психики, его деятельно-
1 Psychanalyse à l'université. Revue trimestrielle. Этот журнал издавался Центром
по изучению психоанализа и психопатологии (Centre de Recherches en Psychanalyse
et Psychopatologie) отделения «клинических гуманитарных наук» (U.F.R. Sciences
Humaines Cliniques) университета Париж-7.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 467
сти, его места в культуре?1 Когда Фрейд развивал свой идеал
Высшей школы психоанализа, в ее программе планировались как
медицинские дисциплины (введение в биологию, наука о
сексуальности, клиническая психиатрия и др.), так и немедицинские
дисциплины (история культуры, литература, изучение мифов,
психология религий и др.). Лишь глубокое научное погружение
могло бы, по Фрейду, обеспечить понимание
психоаналитического материала. Ведь именно познавательная сторона психоанализа
была для Фрейда во многом определяющей: как известно, он
считал психоанализ прежде всего местом познания бессознательных
явлений, иначе недоступных мысли, затем — теорией2 этих
явлений (пусть не законченной, а находящейся в стадии становления)
и, наконец, — способом лечения, вытекающим из этой теории
и метода. Однако эта обширная программа универсального
научного обоснования психоанализа никогда не была осуществлена.
Да и могли бы кто-нибудь единолично ее осуществить?
Некогда Фрейд был совершенно уверен в том, что психоанализ
как наука в настоящем или хотя бы в будущем непременно должен
иметь свое место в университете и что все психоаналитики будут
только радоваться такой перспективе. Однако ничего подобного
не произошло; по крайней мере, многие французские
психоаналитики настроены в этом отношении весьма враждебно, а
перспектива университетского существования вызывает у них страх
перед внешним принуждением и контролем. Впрочем, спор о
разделении властей между университетом и психоаналитическим
сообществом не нов. В любом случае очевидно, что
психоаналитическая тяга к специфике оказалась сильнее универсальных
университетских притязаний. То место в культуре, где Фрейду
хотелось видеть отношение передачи знания, оказалось на самом де-
1 В наши дни принято ценить не «науку», но скорее «гуманизм», причем в
сопоставлениях позиций великих основоположников мировоззрения XX в., среди которых
во Франции неизбежно оказываются не только Фрейд, но и Маркс, периоды
сциентизма и гуманизма соответственно меняются местами: Маркс начал как
романтический гуманист и пришел к науке («Капитал»); напротив, Фрейд, человек другой
исторической эпохи, начал с апологии позитивистской науки, а потом все дальше
отходил от этого идеала, хотя и никогда окончательно с ним не расставался.
2 Что касается психоаналитической теории, то она может подразумевать
совершенно различные вещи: теории самих пациентов или даже собственно детские
теории относительно раннего жизненного опыта с его травмами; теории аналитиков
по поводу «инфантильных» теорий пациентов; теории бессознательного;
психоаналитические теории, включающие теорию бессознательного как один из
моментов; более широкие теории, в которых психоаналитическое знание соотносится
с другими науками (о психике, о мозге, о становлении человека в онтогенезе и
филогенезе и пр.): здесь мы видим очень непростую иерархию уровней теории и
взаимоотношений между ними.
468
Познание и перевод. Опыты философии языка
ле местом конфликтов и борьбы за власть в психоаналитическом
сообществе.
Наверное, уже одного только беглого взгляда на современные
дискуссии о социальном и познавательном статусе психоанализа
достаточно для того, чтобы почувствовать, насколько непроста
проблема «психоанализ в университете». Конечно, свои
осмысленные доводы есть и у сторонников, и у противников их
сближения. Да, амбиции отдельных психоаналитиков и
психоаналитических обществ, дорожащих своей неограниченной властью над
анализируемыми и полностью отвергающих университетский
психоанализ, неправомерны. Но не более обоснованны и позиции
такого университетского психоанализа, который прислушивается
лишь к критериям естественно-научного типа и не внимает
голосу психоаналитической практики с ее личностными и
историческими смыслами, жертвуя ради общезначимого уникальным и не
осознавая приносимой жертвы. Между этими позициями
возникает неизбежное противоречие, и надеяться на способность
сторон переубедить друг друга в этом споре было бы утопично.
Разумнее было бы, как признают все больше участников
периодически обостряющихся дискуссий1, попытаться гибко
опосредовать эти крайние позиции, отказавшись от построения
глобальных черно-белых схем и создавая конкретные, локально
продуктивные модели истолкования, учитывающие специфику
личных и межличностных отношений в психоаналитической
ситуации (между аналитиком и анализируемым), в
психоаналитическом сообществе (между коллегами), в университете (между
преподавателем и студентом) и пр. Однако в любом случае очевидно,
что университетскому психоанализу придется научиться
сохранять и развивать свою открытость к другим формам социального
и экзистенциального бытия психоанализа, не забывая о том, что
рамки его компетенции весьма ограниченны: конечно, изучение
теоретических и исторических аспектов психоанализа в
университете еще не дает права практиковать психоанализ, однако эта ис-
торико-теоретическая подготовка — одно из необходимых
условий будущей работы аналитика.
Нынешнее столкновение разновременных и многообразных
влияний западной мысли на современной русской культурной
почве может, как представляется, дать в будущем веке интересные
результаты в области познания человеческой души, если,
конечно, удастся соотнести эти внешние влияния с собственной
культурной традицией и опытом. Замечательным материалом для та-
1 Они подытожены в специальном номере журнала: Transmettre, enseigner la
psychanalyse//Cliniques méditerranéennes. Paris, 1995. № 45-46.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 469
кого познания человеческой души россияне обладают - уже по
праву рождения в соответствующем языке и культуре, значит,
дело за его осмыслением. О том, что Россия — это, скажем, страна
русской классической литературы, насыщенной
психологическим опытом, западные психоаналитики никогда не забывали,
а ныне упоминают все чаще. При более внимательном
рассмотрении оказывается, что в творчестве Достоевского, например,
подспудно содержится целый ряд психоаналитических открытий,
неведомых Фрейду и еще не обретших общезначимой
концептуальной формы1.
Но дело не только в этом. Культурные, социальные,
мировоззренческие, идеологические условия формирования науки и
общественной мысли в России XIX в. были достаточно своеобразными
в сравнении с Европой. Например, материализм в России второй
половины XIX в. весьма отличен от западного позитивизма,
расцветшего в тот период, когда материалистические идеи
европейского Просвещения уже потеряли свою социальную значимость
и мировоззренческий заряд. На российской почве «рыцарями духа»
нередко оказывались именно материалисты-естествоиспытатели,
а глубинные духовные прозрения не исключали здесь огромной
социально осознаваемой и даже «революционной» значимости
естественных наук, их роли в развитии свободомыслия (так, например,
научные идеи и программы молодого физиолога И.П. Павлова
формировались именно под влиянием чтения романов
Достоевского, особенно «Братьев Карамазовых», и это было не исключение,
а веяние времени). По-видимому, «гуманизм» и «сциентизм», о
несогласованности которого применительно к Марксу и Фрейду уже
упоминалось, не расчленялись на российской почве столь же
радикально, как это происходило в Европе. Можно предположить, что
в России существовали и существуют собственные культурные
традиции, дающие возможность помыслить человеческую душу без
привычного российского самолюбования и «мистики».
Как уже отмечалось, нынешние российские тенденции к
взаимоувязыванию психоаналитических идей с религией и мистикой
неизменно поражают западных коллег. Но работа со Словарем,
к которому мы сейчас направленно переходим, таких тенденций
не поддержит. Она не даст и готовых образцов рассуждений и
отточенных до упрощенности дефиниций. В отличие от тех
популярных словарей, которые снабжают читателя такими
дефинициями, не делясь с ним материалом, на основе которого они были
построены, Словарь Лапланша и Понталиса открывает читателю
самые глубокие слои своей научной и профессиональной эруди-
Marinov V. Figures de crime chez Dostoevski. Paris, 1990.
470
Познание и перевод. Опыты философии языка
ции. А уже на основе этого материала читатель сам может
научиться отличать камни, поставленные в психоанализе «во главу угла»,
от более высоких этажей в его постройке, разбираться в том, где
этот фундамент был, казалось, незыблем, а где - почти что
хрупок. Проходя по различным периодам концептуальной истории
психоанализа, он воочию увидит ту историческую логику, которая
направляла сначала мысль Фрейда, а затем — концептуальные
странствия его учеников, последователей и критиков.
Итак, Словарь этот написан на французском языке и в основе
его лежит французская терминология. Это создавало для
переводчика особые трудности. На русском языке, к сожалению, не
существует устойчивой традиции перевода психоаналитической
терминологии, а потому на этой стадии работы приходилось
нащупывать русскоязычные термины собственными силами.
Среди достоинств Словаря Лапланша и Понталиса — его
многоязычие; эквиваленты соответствующих фрейдовских понятий
даются в нем на пяти языках: английском, французском,
испанском, итальянском, португальском, а это означает, что
самоопределение русскоязычных психоаналитических понятий
складывается на плотном фоне европейских терминологических традиций.
Читатель сразу увидит, что приводимые в Словаре эквиваленты на
различных языках далеко не всегда представляют собой точные
переводы с немецкого оригинала. В целом ряде случаев эти
эквиваленты позволяют судить о жизни психоаналитических понятий
в разных культурах: тот или иной язык осуществляет свой выбор,
в котором, как правило, есть чему поучиться, подражая другим
языкам и традициям или же отстраняясь от них.
Сложность в данном случае заключалась в переводе
французских интерпретаций немецкой терминологии. Вместе с тем, в
работе помогала эта самая возможность использовать
терминологический опыт, накопленный другими европейскими языками
и психоаналитическими традициями. Можно было бы привести
немало примеров того, как совокупный опыт перевода,
зафиксированный в разных языках, в той или иной мере направляет и выбор
русскоязычных эквивалентов. Вот лишь один такой пример. Речь
идет о знаменитом фрейдовском понятии Besetzung
(по-французски - investissement). Это, по Фрейду, опорное понятие для всей
экономико-энергетической системы психики. Нет таких языков,
в которых выбор термина достаточно близко соответствовал бы
немецкому эквиваленту по всем смысловым параметрам. Немецкое
Besetzung предполагает «оккупацию» (города, страны, места).
Соответствующий французский термин в военном смысле предполагает
скорее окружение, нежели занятие места, но гораздо чаще
используется в финансово-экономическом смысле - размещение капита-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 471
лов, вложение их в предприятие и др. В английском
психоаналитическом языке, напомню, для перевода Besetzung было предложено
греческое слово cathexis, однако в более современных английских
переводах стало все чаще появляться и слово investment.
В данном случае, чтобы сохранить на русском языке
германское единство понятия, я избрала романский путь, исходя из тех
смысловых обертонов, которые привносятся в немецкое Besetzung
его испанским и португальским (carga), итальянским (carica)
эквивалентами. Этот путь привел меня к русскому слову «нагрузка».
Оно хорошо соответствует энергетическим смыслам фрейдовской
концепции функционирования психики (ведь фрейдовский
экономизм — это прежде всего энергетизм). И вместе с тем, что
весьма важно, оно допускает необходимое в данном случае
образование близких по смыслу понятий от того же корня. Ведь в
немецком языке мы сталкиваемся не с единичным термином, а с
целым понятийным гнездом. Выбор слова «нагрузка» позволяет
(с помощью приставок) сохранить понятийную цельность этой
смысловой группы («раз-грузка», «противо-нагрузка», «сверх-на-
грузка» и др.). Насколько мне известно, ни в одном из русских
переводов Фрейда это понятийное единство не было сохранено на
уровне терминов. Кажется, мне удалось сохранить и другую
важнейшую для Фрейда и обычно теряемую в русских переводах
концептуальную группу с немецким корнем «работа». В немецком
языке это psychische Verarbeitung, Durcharbeitung,
Arbeitungsmechanismen и др. Французский психоаналитический язык
сохраняет это единство лишь отчасти (elaboration и perlaboration), теряя
одну из его важных составляющих и переводя немецкое
Arbeitungsmechanismen как méchanisme de dégagement. По-русски
же здесь, надеюсь, мне удается сохранить все гнездо однокорен-
ных понятий: а именно, это (психическая) обработка, проработка,
отработка (механизмы отработки) и др.
Однако раздробление единого немецкого термина иногда
оказывалось печальной неизбежностью. Так понятие Angst, которое
у Фрейда участвует во многих терминологических сочетаниях,
передавалось мною как «страх» («невроз страха», «истерия страха»
[по-французски соответственно névrose d'angoisse, hystérie
d'angoisse], но иногда и как «тревога» («сигнал тревоги» [signal
d'angoisse]) или даже «тревожность». Отметим, что применительно
к данному термину (равно как и в других аналогичных случаях)
французская редакционная коллегия Полного собрания
сочинений Фрейда запрещает раздробление термина1, однако это тре-
1 Traduire Freud. A. Bourguignon, P. Cotet, J. Laplanche, F. Robert. Paris, 1989.
P. 79-81.
472
Познание и перевод. Опыты философии языка
бование, в принципе вполне понятное, не всегда оказывается
осуществимым из-за различия смысловых объемов слов в языках
оригинала и перевода.
Выбор терминов при переводе во многом определяет (иногда
в ложном направлении) дальнейшее истолкование
соответствующих понятий. Известный пример, который важен и в нашем
случае, связан с фрейдовскими терминами Instinkt и Trieb ( в старых
русских переводах иногда «позыв»). Перевод Trieb на
французский как pulsion или на английский как instinct породил много
споров (отметим, что современные английские переводчики
иногда предпочитают drive — вариант, некогда отвергнутый при
составлении Standard Edition). Слово pulsion, в отличие от его
немецкого прототипа, не принадлежит обыденному французскому
языку, и это нередко отмечается как его недостаток. Что же
касается английского instinct, то этот термин приводит к явной
физиологизации понятия, причем именно эту физиологизацию
и натурализацию переносят в нынешнюю российскую трактовку
фрейдовских понятий изобильные переводы с английского,
не вникающие в историю переводческих проблем.
Некоторые понятия трудно поддаются истолкованию на всех
языках. Например, фантазия, фантазм. Как известно, Фрейд
предпочитал термин «фантазия» или «фантазирование»; греч.
«фантасма» встречается у него крайне редко. Как поступили
с этим термином другие европейские языки? Французы
используют только термин «фантазм», усилив тем самым специфически
«морбидные», связанные с болезнью моменты. В английском
психоаналитическом языке была сделана отчаянная попытка хоть
как-то (пусть графически — соответственно через различие
начальных букв — Гили ph) разграничить оттенки смысла: так, более
близкое к уровню сознания фантазирование предлагалось
именовать «fantasy», а содержания бессознательных психических
процессов — «phantasy»; однако эта попытка не привела и вряд ли
могла привести к успеху, ибо открывала дорогу произвольным
истолкованиям. В моем переводе термин «фантазия»
используется в более общем смысле (детские фантазии, бессознательные
фантазии), а термин «фантазм» — в более конкретном смысле
(например, фантазм материнской груди). При этом приходилось
учитывать, что в ряде случаев понятие «фантазматический»
(например, фантазматический объект) очень близко понятию
«воображаемый».
В ряде случаев происходит перекрещивание понятий: так
понятие Abreagieren (у меня — «отреагирование») пересекается с mise
en acte (Agieren, acting out) (у меня - «отыгрывание»), хотя при
этом теряются такие значения последнего, как «актуализация»,
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 473
«драматизация». Постоянно пересекались и Ich-ideal и Ideal-ich
(Я идеальное и Идеал-Я), которые подчас не четко
разграничиваются у самого Фрейда. Немало сложностей было с поиском
эквивалента для gleichschwebende Aufmerksamkeit — характеристики
внимания психоаналитика во время выслушивания пациента: это
внимание не должно быть ни к чему пристрастно — оно не может
быть ни отвержением, ни приверженностью, оно должно все
впускать в себя, сохраняя этот материал до того момента, когда его
снова можно будет включить в работу. Поиск эквивалентов в
других языках позволяет судить о том, насколько этот выбор непрост:
так, французский язык предлагает «плавно плывущее» (également
flottante), а английский «равномерно подвешенное» (evenly
suspended [poised]) внимание. Я остановилась (и считаю этот вариант
удачным) на «свободно парящем» внимании.
В некоторых случаях происходит перераспределение
внутренних смысловых связей между оригиналом и переводами. Особенно
сложен на всех языках выбор понятий, означающих отрицание
в различных его аспектах. Соблюдение соотношения между
фрейдовскими понятиями Verneinung (φρ. négation, на русский
перевожу - «отрицание»), Verleugnung (φρ. déni [de la realité], на русский
перевожу как «отказ [от реальности]»), Verwerfung (φρ. forclusion,
на русский перевожу как «отвержение» - это знаменитое лаканов-
ское понятие, характеризующее специфику психоза), подчас
перекрещивающимися, было также делом нелегким.
Изредка я позволяла себе изменять русскоязычные (в
сравнении с немецким) словоформы фрейдовских понятий: так, в ряду
знаменитых модальностей рассмотрения психики — топической,
экономической и динамической — Фрейд употреблял в
субстантивном смысле, кажется, только «топику». Риторически более
устойчив введенный мною ряд — топика, динамика, экономика,
хотя ясно, что все эти понятия (особенно — экономика)
используются здесь в сугубо метафорическом смысле слова. Поначалу
я предполагала переводить понятие «экономический» как
«энергетический» (с таким истолковывающим выбором, между прочим,
согласился, в нашей частной беседе, и такой знаток фрейдовской
концептуальной системы, как Поль Рикёр). Однако в конечном
счете «экономическая» метафора была сохранена, хотя
необходимо иметь в виду, что в русском языке материальный акцент
экономики оказывается заведомо более сильным, нежели во
французском или английском, где слово «экономия» может означать
любую систему функционирования взаимосвязанных элементов,
нечто вроде динамической системы взаимосвязей. Писать
по-богословски «икономия» в точном смысле «домостроительство
душевное» я все же не решилась.
474
Познание и перевод. Опыты философии языка
Ряд недоразумений возникал при переводах
психоаналитической литературы с других языков (не немецкого), когда в качестве
русских эквивалентов фрейдовских терминов вводятся переводы
переводов. Слабо дифференцированы в английском языке
repression и supression, что подчас порождает и в самом английском
тексте, и тем более в переводах на русский (как это имело место,
скажем, в русских переводах Поппера) путаницу между
фундаментальными фрейдовскими понятиями - Verdrängung (франц.:
refoulement, англ.: repression) и Unterdrückung (франц.: repression,
англ.: suppression).
В немецком языке имеются близкие по смыслу, отчасти
синонимичные, понятия «представление» и «репрезентация»;
пользуясь их оттенками, Фрейд образует такой важный термин, как
Vorstellungsrepresentanz [-tant], что было — с неизбежной
неудовлетворительностью — переведено на французский через
тавтологию représentant-représentation, а на английский — как ideational
representative. Поскольку в русском языке, как и в немецком,
имеют хождение оба корня, я предложила громоздкий, но достаточно
точный вариант перевода: «представление как репрезентация (или
репрезентатор) влечения».
Естественно, что в ряде случаев мне приходилось прибегать
и к неологизмам. Некоторые неологизмы возникали при переводе
слов с немецкой приставкой Ur- и образовании таких сложных
русскоязычных слов, как «первофантазии», «первовытеснение»,
«первосцена» и другие (по-французски это соответственно
«refoulement originaire», «scène originaire», «fantasmes originaires»).
К группе неологизмов можно отнести такие предложенные мною
эквиваленты, как «целепредставление» (нем. Zielvorstellung, φρ.
représentation-but), «Я-сообразный» (нем. Ichgerecht, φρ. conforme
au moi), «последействие» (нем. Nachträglichkeit, φρ. après-coup)
и др. В любом случае критериями выбора понятий были смыслы
«кандидата в термины» в языке перевода, его смысловые
обертоны, его морфологические возможности, в частности, способность
к словообразованию, особенно важная для сохранения немецких
понятийных гнезд, и др.
Публикация этого классического словаря терминологии
классического фрейдизма, как хочется надеяться, позволяет ввести
минимум порядка в хаотическую пестроту подходов, выковать
некоторые концептуальные ориентиры в поле заново
рождающегося российского психоанализа. Пользуясь этим Словарем, читатель
легче сможет разбираться в логике и хронологии развития
психоаналитической мысли — ее основных понятий, ее ранних изводов
и ее позднейших приобретений. Все это лишь малая часть
терминологических вопросов, которые возникали при переводе. Разу-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 475
меется, полный рациональный контроль над переводом в
принципе невозможен, в нем всегда остается много неосознанного.
Однако спор о терминах — это не просто обсуждение каких-то
технических деталей. Выработка вариантов перевода базовых
терминов классического фрейдизма (в Словаре их более 300) позволяет
закрепить основные элементы психоаналитического познания
и опыта и, в конечном счете, расширить возможности
критических дискуссий, связанных с освоением и развитием
психоанализа. Не мне судить о том, какие из них останутся в языке, а какие
будут заменены другими. В любом случае читатель получает
возможность пересечь болото по мосткам, а не утонуть в его трясине.
Сейчас русский концептуальный язык быстро меняется:
непривычное становится привычным, апробируются новые варианты,
в языке закрепляются слова, ранее не имевшие хождения. Эти
процессы жизни языка, развития понятий, накопления
психоаналитического опыта необходимо будет заново учитывать в каждом
новом издании Словаря.
О новых переводческих впечатлениях
За последние 30 лет, которые отделяют нас от начала
публикации работ Фрейда и других представителей психоанализа в
России, произошли разительные изменения. Если в начале 1990-х,
как уже отмечалось, не существовало практически ни одного
серьезного издания энциклопедического типа, то сейчас
психоаналитическая литература чрезвычайно широко издается и
представляет собой одну из наиболее востребованных - людьми близких
к психоанализу профессий и широкими слоями читателей. В
России существуют психоаналитические общества, группы,
институты - нередко с иностранной поддержкой, проводятся
конференции, мастер-классы, обучающие занятия в группах, судя по
разным признакам, процветает личный психоанализ, хотя число
людей, имеющих право его проводить (то есть прошедших
достаточно продолжительный собственный анализ, а затем
дидактический анализ под руководством опытного наставника),
по-прежнему очень невелико. Велика потребность в общении, в обмене
опытом, однако на этом пути возникают свои сложности. Каков
он — нынешний психоанализ по-русски? Каковы его характерные
признаки, перспективы, шансы?
Если 30 лет назад психоаналитическое поле в России было
практически свободно, то сейчас оно отличается разноголосицей
подходов, тенденций, языков. Однако при этом в результате
перекрещивания тенденций, приносимых в Россию главными
европейскими традициями психоанализа, существующего на
немецком, английском, французском языках, в восприятии читающих,
476
Познание и перевод. Опыты философии языка
слушающих, практикующих возникает подчас неразрешимая
путаница. Причем степень возникающего здесь хаоса мы подчас не
осознаем. Не так давно мне довелось участвовать в конгрессе,
посвященном 150-летию со дня рождения Фрейда, и даже сопредсе-
дательствовать на секции, посвященной истории, теории,
методологии психоанализа1. В секции работало около 30 участников из
разных городов России, а также с Украины; заседания были
весьма оживленными. Однако во время этих заседаний возникали
ситуации понятийных провалов, по-видимому, не опознаваемые
большинством присутствующих. Эти провалы происходили в те
моменты, когда докладчики использовали - как различные и
самостоятельные — такие термины и понятия, которые при
обратном переводе дали бы одно общее понятие из учения Фрейда.
Общий способ образования таких расхождений вполне ясен: сначала
то или иное фрейдовское понятие раздробилось, разойдясь по
разным западно-европейским традициям перевода и
истолкования, а сейчас, в наши дни, это порождает в русской культуре
и языке еще дальше расходящиеся ответвления. Открывая какую-
нибудь переводную книжку, опытный исследователь всегда
догадается, с какого языка — немецкого, английского или
французского - она переводилась, даже не заглядывая на первую
страницу, где стоит имя автора.
В том случае на конгрессе, о котором я хочу здесь рассказать,
самым ярким примером оказалось то самое фрейдовское понятие
Besetzung, о котором у нас шла речь в предыдущем параграфе.
У Фрейда оно обозначает обращение психической энергии на то
или иное представление, часть тела, предмет и пр. По-французски
этот термин передается как investissement (иногда — occupation),
по-английски как cathexis (греческое слово, введенное по
инициативе издателей Стандартного издания), по-испански — carga, по-
итальянски — carica и т. д. В итоге одна докладчица, увлеченная
поиском физиологического субстрата бессознательного, строила
свою энергетическую и материалистическую концепцию «катек-
сисов» и «сверхкатексисов»2, другая рисовала герменевтически
ориентированную картину наполненных смысловой энергией,
«инвестированных» состояний и предметов, а третья —
рассказывала о блокировках психической динамики, опираясь на понятия
1 Зигмунд Фрейд - основатель новой научной парадигмы: психоанализ в теории
и практике (к 150-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда). Материалы
Международной психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г. / Под ред.
А.Н. Харитонова, П.С. Гуревича, A.B. Литвинова. В 2 т. М., 2006.
2 Кстати, в Москве существует психоаналитическое общество, названное этим
красивым, но непонятным греческим словом, - «Катексис».
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 477
«оккупация», «оккупированный». Но при этом все они говорили
об одном и том же: это можно было бы увидеть, если предпринять
«обратный перевод» употреблявшихся ими слов в систему
фрейдовских понятий. Как уже отмечалось, при переводе Словаря Ла-
планша и Понталиса я предложила для перевода Besetzung, хотя
и с нелегким сердцем, за неимением лучшего, русское слово
«нагрузка», которое в сочетании с многочисленными фрейдовскими
приставками дает более или менее приемлемые русскоязычные
термины («сверх-нагрузка», «противо-нагрузка», «разгрузка»)
и др., сохраняя то смысловое ядро исходного термина, которое
закрепилось в его романских эквивалентах (ср. carga, carica — груз).
Полагаю, что этот вариант хорош своей образной понятностью,
выгодно отличаясь этим от «дезинвестирования», «сверхкатекти-
рования» и других современных монстров русского
психоаналитического языка1. Поначалу я думала, что мое терминологическое
решение осталось индивидуальным казусом, но недавно с
радостью увидела, что мой термин публично используется хотя бы
одним уважаемым мною исследователем; в данном случае не важно,
сам ли он его придумал или согласился с моими доводами, —
важно, что эта гипотеза русского психоаналитического языка не
обречена и еще может раскрыть свои шансы2.
Из этого рассказа, по-видимому, следует, что в наши дни
рефлексия по поводу терминов и понятий, направленная на то,
чтобы соотносить и артикулировать мысли, нужна не одним
переводчикам, но фактически любому пользователю. И тем более
рефлексивный подход, размышление об использовании понятий,
об их возможностях и границах (ни одно понятие, даже
предложенное в каком угодно словаре или справочнике, не подойдет
с одинаковой уместностью ко всем возможным случаям его
использования) важны для научных и педагогических изданий.
Об этом свидетельствуют не только устные дискуссии, но и
некоторые публикации переводов.
1 А вот фрагмент из недавно вышедшего сборника (не буду называть
переводчика, это в конце концов не так уж важно), иллюстрирующего ту же тенденцию
терминологического разброда: «это открытие плотины, сдерживающей аффекты,
кажется более близким экономическому решению простой дезинвестиции, чем
к разрешению символического смысла истерического порядка» или «истощение
<...> инвестирования репрезентации объекта». Мне кажется, что в этих
фрагментах вполне можно было бы заменить «дезинвестицию» и «истощение
инвестирования» элементарной «разгрузкой». Надеюсь, что по составу употребляемых
терминов любой, даже не самый подготовленный читатель догадается, что речь идет
о переводе психоаналитического текста с французского языка...
2 Так, В. Мазин переводит Gegebesetzungen Фрейда так же, как я предлагаю
в Словаре - как «противонагрузки». Мазин В. Призраки Фрейда //
Психоаналитический вестник. 2005. № 14.
478
Познание и перевод. Опыты философии языка
Недавно мне подарили книгу под названием «Французская
психоаналитическая школа» — сборник переводов, сделанных
и отредактированных специалистами французского (не лаканов-
ского) психоанализа, прошедшими (или завершающими) свою
профессиональную подготовку. Книга была выпущена под
грифом Международной психоаналитической ассоциации, получила
финансовую поддержку этой ассоциации и других французских
инстанций, была рекомендована в качестве пособия для студентов
по специальностям «психология» и «клиническая психология».
На первой же ее странице объявлен список членов
научно-редакторского комитета, а также того, что именуется Российским
терминологическим комитетом по психоанализу (под
председательством А.Ш. Тхостова) - все это уважаемые имена1. Казалось бы,
от работы двух комитетов мы вправе ждать результатов, которые
бы помогли соотнести различные терминологические традиции,
наметить наиболее приемлемые пути их практического
использования. Однако в результате не удалось согласовать не то что
базовые термины (здесь я не буду приводить списки существенных
разночтений по разным статьям в пределах одного издания),
но даже одно-единственное имя — основателя психоанализа. Нам
просто объявляют, что по инициативе П.В. Качалова и при
поддержке большинства его коллег отныне следует писать и
произносить не Фрейд, а Фройд2. Впрочем, это делают не все участники
сборника (да и трудно было бы на это решиться: ведь тогда
пришлось бы переписывать и многие другие имена, давно вошедшие
в культуру, не говоря уже о географических названиях), так что
возникает разнобой, который ставит в тупик начинающего
студента, для которого книга предназначена3. Представляется, что
уважаемая комиссия должна была бы объяснить пользователю-
студенту, на каких основаниях вводятся Фройд/Фрейд или другие
странные термины из смежных областей знания, широко
используемых французскими психоаналитиками. Но таких объяснений
нет - даже тогда, когда в переводах П.В. Качалова из Андре Грина
соссюровское langage (языковая деятельность, языковая
способность — из знаменитой триады langue - langage - parole) перево-
1 Это П.В. Качалов, В.Л. Потапова, А.Ш. Тхостов, A.B. Россохин, М.И. Луком-
ская и др.
2 Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо, A.B. Россохина.
СПб., 2005. С. 13, 41 и далее.
3 Там же. С. 13. Впрочем, уже в следующей большой книге французских
переводов: Уроки французского психоанализа. Десять лет франко-русских коллоквиумов
по психоанализу / Под ред. П.В. Качалова и A.B. Россохина. М., 2007 - Фройд
вроде бы опять стал Фрейдом. Надолго ли?
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 479
дится как «языкование» (î)1, signifiant (означающее — из бинарной
оппозиции «означаемое — означающее») — как «означатель»2, le
Réel (реальное — из лакановской концептуальной тройки
реальное—воображаемое—символическое) — как «Реалия»3. Хотелось
бы знать, обсуждались ли эти переводческие решения на
терминологической комиссии и что она по этому поводу думает.
Вообще дискуссии переводчиков очень важны — такие
дискуссии должны стать правилом и необходимой стадией работы,
только вот дискуссия дискуссии рознь. Одно дело — серьезные
разборы терминологии, которых становится больше4, другое дело —
кавалерийские наскоки. Этой последней практикой увлекся,
например, И. Романов, выступивший в качестве составителя
содержательного сборника переводных психоаналитических работ5.
Однако в его предисловии к книге эмоции, кажется,
перевешивают стремление к содержательности. Расскажу лишь о том, что
относится к моим переводам. На двух первых страницах своего
предисловия Романов подвергает критике один-единственный
пример из психоаналитических эквивалентов, предложенных
мною в переводе Словаря, а именно - употребление мною
терминов «отождествление» и «самоотождествление» вместо
«привычного слова идентификация»6 и видит в этом «ловушку
русификации», особенно пагубную в некоторых производных от этого
переводческого выбора случаях. По этому поводу автор вводит
тяжелую риторику, сетует на то, что переводчик не посоветовался
с сообществом, не изучил, как строят свой психоаналитический
канон англичане или французы. Спрашивается, нужно ли вообще
на это отвечать — пусть каждый пишет как хочет и как может?
Однако за этими суждениями и обобщениями (можно было бы при-
1 Сложности перевода соссюровской триады на русский язык общеизвестны,
и до сих пор не было предложено ни одного всецело удовлетворительного
перевода - это связано как с морфосемантической структурой языков, так и с
особенностями терминологического употребления слов у данного автора, однако
предлагаемый вариант, насколько я могу судить, не оправдан ни с какой стороны. См.:
Уроки французского психоанализа. Десять лет франко-русских коллоквиумов по
психоанализу/ Под ред. П.В. Качалова и A.B. Россохина. М, 2007. С. 28.
2 Там же. С. 26.
3 Этот последний термин тут же, через запятую, поясняется через слово
«Действительность» (с заглавной буквы), что еще больше запутывает читателя.
4 См. пример такой содержательной дискуссии десятилетней давности, которая
не потеряла своей актуальности: Возможность и пределы психоанализа // Логос.
1998. № 1.С. 249-175.
5 Романов И. О принципах перевода // Эра контрпереноса. Антология
психоаналитических исследований. М., 2005. С. 7—19.
6 Там же. С. 8.
480
Познание и перевод. Опыты философии языка
вести другие примеры, где мои предпочтения могли бы, напротив,
трактоваться как явная латинизация — так что тут желательно
было бы системное рассмотрение) проглядывает весьма
распространенная в наши дни тенденция, о которой, думаю, стоит
поговорить подробнее.
Итак, попробуем разобраться. «Привычное слово
идентификация»... Спрашивается: для кого привычное? С каких пор? Да,
сейчас это слово используется столь же часто, как «проект» или
«дискурс». Да, оно и раньше активно использовалось в психологии, но
кто сказал, что его фрейдовское понимание совпадает с
«привычным» психологическим? Кажется автор путает периоды, стадии
изменения языка, он не видит, откуда пришел русский (или
постсоветский) психоанализ. Между прочим, в России интерес к
психоанализу сохраняли для нынешних поколений не западные гран-
тодатели, а местные философы, для которых именно термины
«тождество» и «тождественность» были и остаются первичными
по сравнению с любыми «идентификациями» и «идентичностя-
ми». Однако и для русского терминологического языка слово
«идентичность» не самое привычное. Ведь еще совсем недавно
переводчики знаменитой книги Броделя «Identité de la France»
чеканно выводили «Что такое Франция?», причем им и в голову не
приходило примерить вариант «Идентичность Франции». В
начале 1990-х, когда началась моя работа над переводом Словаря (он
вышел в 1996), вариант с «идентичностью» я, честно скажу,
примеряла, но все же тогда его отвергла. Резоны мои были такие:
современный русский психоаналитический язык только начал
формироваться1, быть может, «самотождественность Я» приживется
и в психоаналитическом контексте? Видимо, не прижилась,
однако радоваться этому мне как-то не очень хочется. Прежде всего -
из-за одной печальной склонности русского языка, хорошо
известной филологам. Это, скажем так, слишком явная тенденция
русского терминологического языка «латинизировать» любые
научные термины, которые без этого кажутся их пользователям
недостаточно солидными. Напомним, что такие слова, как «ургент-
ный», «морбидный», «перверсный» и многие другие являются
в западных языках совершенно обыденными (но могут в
соответствующих контекстах употребляться терминологически), а в рус-
1 Кстати сказать, и сейчас, вопреки тому, что полагает Романов о возможности
нынешней канонизации психоаналитического языка, этот язык находится в
стадии формирования - в этом абсолютно правы упоминавшиеся выше издатели
трудов Французской психоаналитической школы: «Психоаналитическая
терминология в России не только не устоялась - можно сказать, что ее еще и не существует»
// Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо, A.B. Россохина.
СПб., 2005. Предисловие редакторов. С. 11-12.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 481
ском, который почему-то избегает их «переводить» и
предпочитает калькировать, они образуют особый ряд «ученых» терминов.
Зная о такой склонности, всякий, кто переводит на русский язык,
просто обязан в первую очередь рассмотреть русскоязычные
варианты и лишь во вторую очередь, в случае необходимости,
прибегнуть к иностранным. И все это — не правило для участников
шишковского общества «Беседа», но совет здравого смысла,
заботящегося о том, чтобы развивался именно перевод на русский
язык, а не различные формы калькирования1. Кстати, это золотое
правило издавна провозглашалось в русской культуре: его
сформулировала президент Российской академии наук княгиня
Дашкова при обращении к терминологической комиссии,
создававшей в конце XVIII в. первый Словарь Русской академии. Как
видим, это правило по-прежнему сохраняет в культуре и языке
свою актуальность.
Таким образом, оценка тенденций к латинизации и
русификации далеко не столь однозначна, как кажется автору. Если,
скажем, ему придется переводить психоаналитическую
терминологию на украинский язык, он столкнется с еще более сложными
соотношениями между аналогичными тенденциями. Как
признается коллега Романова, С.Г. Уварова (президент Украинской
ассоциации психоанализа), терминологические проблемы в
Украине стоят еще острее, чем в России, что создает серьезные
препятствия для развития психоанализа в Украине. Ведь украинские
переводы Фрейда оказываются еще более многоступенчатыми,
причем чаще всего речь идет о следующей цепочке переводов:
с немецкого на английский, с английского на русский и, наконец,
уже с русского — на украинский. Причуды жизни понятий
в Украине в данный момент допускают— например, в качестве
перевода немецкого термина Trieb — такие слова, как «влечение»,
«желание», иногда «инстинкт» или «импульс», но также «драйв»
или «триб» — в зависимости от того, с какого языка и в какой
период был сделан перевод. В русском языке, к счастью, есть удов-
1 Честно признаюсь, что на страницах предисловия Романова меня ожидали
также и приятные сюрпризы, причем в самых неожиданных местах. Например,
ругая незадачливого переводчика, который перевел фрейдовское обозначение
психоаналитической установки во время сеанса как «свободно плавающее внимание»,
Романов противопоставил этому «свой» вариант - «свободно парящее внимание».
Это хорошее предложение, и я сама с удовольствием его поддержу, тем более, что
это и есть мой вариант перевода gleichschwebende Aufmerksamkeit,
обнародованный в издании Словаря Лапланша и Понталиса в 1996 г. Также под сурдинку
принимаются и некоторые другие мои варианты, в том числе достаточно
проблематичные: так, автор пользуется, например, моим совершенно не само собой
разумеющимся переводом немецкого Nachträglichkeit как «последействие»: ну
и хорошо: значит все эти слова в русском языке реально работают.
482
Познание и перевод. Опыты философии языка
летворительный эквивалент слову Trieb («влечение»), тогда как
в украинском его не существует. А потому, сетует Уварова, в
Восточной Украине при лицензировании программ
психоаналитического института фрейдовское Trieb было обозначено как «потяг»
(этим же словом в украинском языке называется «поезд», что
вносит затруднительную двусмысленность!), а в Западной Украине
закрепилась привычка к немецкой кальке триб или Trieb1. Но
если Романов — харьковчанин, то как тогда объяснить его
склонность к термину "ТпеЬ'ы» (по крайней мере, в авторских текстах,
вывешенных в Интернете)? А ведь 3. Фрейду хотелось, чтобы
психоанализ говорил на простом языке. Воистину на слове
«влечение» можно наблюдать человеческую «судьбу влечения».
Что же касается совета следовать западным «каноническим»
изданиям Фрейда, то не столь уж понятно, с кого брать пример.
Хотя, впрочем, несомненно, что любой исторический опыт -
положительный и отрицательный — для нас сейчас бесценен.
Наверное, брать пример с английского Стандартного издания, несмотря
на все его достоинства, все же не стоит. Ведь оно, как стало
массово ясно только задним числом, вписало Фрейда в мыслительную
схематику сциентистской психологии и медицины первой трети
XX в., учитывая институциональные интересы врачей,
медицинского эстеблишмента, что привело к отчуждению от
естественного языкового контекста, а это не было целью Фрейда, лишь
ограниченно пользовавшегося медицинским жаргоном своего
времени2. Что же касается выходящего ныне во Франции
Полного собрания сочинений Фрейда, то что тут скажешь? Специалисты
1 Ср.: Уварова С.Г. Сопротивление психоанализу: драма или трагедия? //
Зигмунд Фрейд - основатель новой научной парадигмы: психоанализ в теории
и практике (к 150-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда). Материалы
Международной психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г. / Под ред.
А.Н. Харитонова, П.С. Гуревича, A.B. Литвинова. В 2-х т. Т. I. М.: Русское
психоаналитическое общество, 2006. С. 366.
2 Долгое время авторитет Стандартного издания казался незыблемым и об этом
переводческом выборе было не принято говорить, однако теперь уже эта проблема
переводческого выбора и ее следствия обсуждаются достаточно широко (во
Франции - вслед за Бруно Беттельхеймом, но также и в среде англоязычных
психоаналитиков (ср. Freud in Exile. Psychoanalysis and its Vicissitudes / E. Timms and N. Segal,
eds. New Haven and London, 1988), подвергших анализу само понятие
«стандартности» Стандартного издания. На читателей, пользующихся переводами из
Стандартного издания, грузом ложатся «инстинкты» вместо «влечений», «катексисы»
вместо «нагрузок», «парапраксии» вместо «ошибочных действий», id ego, superego
вместо Оно, Яи Сверх-Яи еще многое другое. Английское Стандартное издание
вовсе не является плохим или некачественным, однако при его использовании
необходимо учитывать пределы, границы и предпосылки выбора терминологии,
лежащей в его основе.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 483
знают, что научная редколлегия издания изначально выдвинула
спорные (и фактически невыполнимые) требования к переводам;
а именно, это требование сохранения единого термина там, где
в немецком стоит единый термин (как известно любому
переводчику, это не всегда возможно), а также требование соблюдать
немецкий синтаксис фразы. Пафос этой направленности вполне
понятен, так как издание публикует новые переводы многих работ,
поначалу переведенных живо, но вольно, и потому, как это часто
бывает при повторных переводах, стремится быть как можно
ближе к оригиналу. Однако несмотря на целый ряд замечательных
нововведений этого издания, оно доказывает - от противного -
что обойтись без квалифицированной филологической (и я бы
сказала - философской!) помощи при столь масштабных
начинаниях психоаналитикам не удастся.
Наверное, общая мораль здесь такая: нужно вырабатывать свой
собственный подход, максимально используя опыт предьщущих
изданий на основных европейских языках, но ориентируясь
прежде всего на немецкий оригинал. Насколько я могу судить,
именно такова общая концептуальная установка научных
редакторов Полного собрания сочинений Фрейда на русском языке,
предпринимаемого Восточно-европейским Институтом
психоанализа. Каким будет новое издание? Как помыслить его идеал:
как общий текст метауровня, сводящий к единствам все
существующие варианты? Или как двуязычное издание с комментариями
и приведением разночтений? Важно, что сформулирована здравая
и плодотворная мысль: путем обратного перевода повернуть
переводческую работу в русло исходных германоязычных понятий1.
Это издание планируется как совместная работа «переводчиков,
психоаналитиков, филологов-германистов и специалистов по
австрийской культуре конца XIX — начала XX в.»2.
Весь этот параграф был посвящен переводу
психоаналитической терминологии на русский язык. Однако психоанализ
оказывается привилегированным объектом для исследования
проблематики перевода сразу во многих смыслах — не только в переводе
понятий, но и в изучении психоанализа как знания и как
практики. Так, в психоанализе проблема перевода возникает между
различными уровнями сознания в широком смысле, между разными
1 Мазин В. Рождение психоанализа в переводе (послесловие) // Фрейд 3., Брей-
ер Й. Исследования истерии // Фрейд 3. Собрание сочинений в 26 т. Т. 1.
Восточно-европейский институт психоанализа. СПб., 2005. С. 369-410; Он же. Переводы
Фрейда// Психоаналитический вестник. 1999. № 1 (17). С. 187-201.
2 Решетников М. Почему появилось это издание? (предисловие главного
редактора) // Фрейд 3. Собрание сочинений. В 26 т. Т. 1. СПб., 2005. С. 6.
484
Познание и перевод. Опыты философии языка
языками, разными планами рассмотрения, разными
семиотическими системами. Царский путь бессознательного - сновидение
и трактовка сновидных мыслей, преобразованных в образы и
сюжеты, а потом рассказанных, — это тоже разные формы перевода,
хотя переводу в любом случае подлежит не само бессознательное,
но те следы, которые оно оставляет, и те превращенные формы,
которые оно принимает в сознании. Механизмы перевода
работают (или же не работают, ломаются) при переходе образного в
словесное, при различного рода афазиях — речевых нарушениях,
возникающих при сохранности органов речи и слуха, при
образовании тех или иных телесных симптомов как компромиссного
ответа на пережитые душевные напряжения, при отнесении
эмоций, пережитых в прошлом в контакте с близкими людьми,
на аналитика, а в самой общей форме - при том переносе
неосознаваемого в язык, который собственно и выступает как условие
возможности психоанализа. В любом случае, изучение различных
форм психоаналитического перевода может в дальнейшем
обогатить нас как эмпирией, так и теоретическими прозрениями.
И, наконец, последнее замечание. Оно касается не собственно
перевода, но проблемы соизмеримости контекстов, в которых
существует психоанализ. Как уже говорилось, психоанализ не
развивается в безвоздушном пространстве, он всегда отвечает (или не
отвечает) более широким социальным и культурным запросам
и потребностям. Когда-то, в дореволюционной России
психоанализ был принят сообществом земских врачей и вписан в
определенные формы социального запроса и культурных практик.
И пропал он — не будучи репрессирован — тогда, когда перестал
соответствовать этому культурному запросу. Так что напрасно
нынешнее поколение, открывшее для себя психоанализ, полагает,
будто западные гранты и кредиты - единственное, что обеспечит
ему устойчивость, поможет набрать терапевтический и
культурный вес. Если игнорировать эту культурную составляющую
психоанализа, формирование подлинного культурного интереса,
при котором именно такой тип межличностного отношения будет
иметь свой смысл, все опять может кончиться крахом.
Поэтому, постигая приемы, методы, техники, мы не должны
оставаться слепы и глухи к тому, что поддерживает его или
препятствует ему в разных культурных ситуациях. И в этой области
обмен историческим и современным опытом — это важный фон
любых процессов, имеющих отношение к психоанализу. За
нынешним интересом к клинике и практике угасли те
эпистемологические импульсы, которые, повторяю, поддерживали в России
интерес к психоанализу, когда психологи и психиатры боялись об
этом говорить. К тому же сейчас группы и кружки, импортирую-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.,.» 485
щие те или иные приемы и техники, фактически отворачиваются
от того более широкого жизненного фона, который так или иначе
питает существование психоанализа в любой стране. Все это
относится прежде всего к ситуации психоанализа в России. Но не
только. Мне не доводилось слышать о том, чтобы хотя бы один
представитель французских традиций психоанализа, практикующий
в России, рискнул публично поставить вопрос о драматических
событиях психоанализа последних лет во Франции, где вновь
обострились массивные нападки на Фрейда (и Лакана) как
шарлатанов, магов, подтасовывающих факты и фальсифицирующих
результаты. «Черная книга психоанализа», содержащая полный
перечень обвинений, и теперь уже многочисленные ответы на этот
выпад, - все это вновь, как и 20 и 40 лет назад, обострило
вопросы, которые никогда не уходили целиком с поля
психоаналитической проблематики в ее споре с другими подходами к
человеческой душе и человеческому здоровью. Конечно, в этой
французской полемике много прагматики, прямой борьбы за
клиента на рынке медицинских и психологических услуг, но в них
участвуют также и некоторые новые тенденции (например, ТСС -
traitement cognitivo-comportementaliste — лечение, основанное на
когнитивных и компортменталистских стратегиях, которые
рекламируют себя, в противоположность психоанализу, как более
быстрые и более эффективные), с которыми психоаналитикам все
равно придется научиться разговаривать. Но слишком много
прагматики, по-видимому, и в умалчивании обо всех этих
нападках и спорах. Во всяком случае это мешает понять, в каких
контекстах укореняются (или не укореняются) основные схемы
психоанализа, прослеживающего перевод душевных конфликтов
в телесные симптомы и обратный перевод телесной боли в
высказанное слово, иногда способное исцелять.
§ 5. Об одном состязании с Хайдеггером
В заключение мне хочется рассказать читателям об одном
ярком исследователе и переводчике - Т.В. Васильевой, которая уже
в советское время предприняла попытку пересоздать на русском
языке немыслимый стиль хайдеггеровской прозы. Татьяна
Вадимовна Васильева реально с Хайдеггером не встречалась, никогда
в глаза его не видела. Она узнала о Хайдеггере и стала его читать
тогда, когда «живые» встречи советских людей с иностранцами не
допускались, а книжные встречи для многих интересных книг
ограничивались спецхраном (правда, Хайдеггер, кажется, никогда
туда не попадал). Зато у меня была реальная встреча с Т.
Васильевой, которой могло бы и не быть. Я встретилась с ней в И МЛ И
486
Познание и перевод. Опыты философии языка
у М.Л. Гаспарова, и она за руку привела меня, выпускницу
филологического факультета МГУ, в Институт философии, где меня
взяли в аспирантуру, а потом и оставили на работе. Я благодарна
судьбе за эту встречу.
Сектор, куда она меня привела и где сама недавно стала
работать (бывший диамат, ныне теория познания), блистал яркими
фигурами (Ильенков, Трубников, Никитин, Батищев и др.). Ей,
выпускнице кафедры классической филологии МГУ, не просто
было на новом месте: филолог среди философов, женщина среди
мужчин, начинающая — среди маститых... Она искала место, где
бы могли соединиться ее собственно филологические интересы
и интересы окружавших ее людей. Она искала себя. Это важное
место стыка между философией и филологией она нашла в
Хайдеггере. Это был философ, которого философы тогда не знали (это
сейчас они клянутся Хайдеггером на каждом шагу), и это давало
ей шанс — попасть в такую философию, которую бы она, как
филолог, могла открыть философам.
Интерес к Хайдеггеру у нее появился еще в университете,
под влиянием германиста A.B. Михайлова, который в 1960-е годы
переводил и комментировал Хайдеггера, хотя ее реальная работа
над переводами началась лишь в Институте философии. Это была
программная статья Хайдеггера «Учение Платона об истине».
Помню, Т. Васильева дала мне в вечное пользование перепечатку
своего свежеиспеченного перевода, а также перевода другого
важного хайдеггеровского текста — «О существе и понятии фюсио
у Аристотеля. Это было как раз в те времена, когда в научных
кругах царил «академический самиздат» — машинописные
перепечатки под копирку, в которые от руки вписывали греческие термины:
они предназначались ближайшим коллегам, а время масштабных
изданий еще не пришло.
В 1960-е годы в СССР стали появляться интересные работы
о Хайдеггере, и прежде всего - работы П.П. Гайденко; все это
шло в русле нового (в России, как всегда, запоздавшего)
интереса к экзистенциализму и феноменологии. В целом концепция
Хайдеггера вписывается в общее движение пересмотра
оснований мысли и бытия. Хайдеггер ставил вопрос о смысле бытия
и провозглашал необходимость «деструкции» всей европейской
философской и культурной традиции: ведь она, считает
Хайдеггер, утеряла бытие, рассматривая его по аналогии с сущим,
вторичным, эмпирическим. Наперекор этой тенденции мы должны
добраться до первоисточника бытия. Путь к нему - у раннего
Хайдеггера — проходит через «здесь-бытие» (Dasein, которое
и есть мы сами), а у позднего Хайдеггера — через язык «как дом
бытия» (эта мысль содержится в статье Хайдеггера «Учение Пла-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 487
тона об истине»). Этот путь идет от метафизического мышления,
подталкивающего к науке и технике, омассовлению,
урбанизации, — к досократовской и допарменидовской Греции, которая
еще жила в истине бытия и умела слышать в языке поэзию. Эта
хайдеггеровская «спекулятивная филология» была построена
в традициях немецкого романтизма; она возвращала к истокам,
но исключала возможность рационального познания бытия.
Поворот позднего Хайдеггера от систематических форм мысли
к поэтико-эссеистическому стилю представлялся новым,
интересным шагом.
Т. Васильева говорила, что философско-экзистенциалистская
суть концепции Хайдеггера ее не очень интересовала. Главным
вызовом для нее стала виртуозная хайдеггеровская работа с
языком, с языками — греческим и немецким. Требовалось
пересоздать Хайдеггера на русском языке и в русской культуре. Как
«дать родной словесности русского Хайдеггера»? Для этого нужно
сдвинуть русский язык с места, почувствовать и найти в нем
новые средства, проделать работу филолога, чуткого к новой
философской интерпретации текстов. К этому времени Т. Васильева
(автор переводов платоновских диалогов «Кратил» и «Теэтет») уже
была профессиональным переводчиком, хотя с немецким ей
предстояло преодолеть многие трудности. Ведь это был не
обычный немецкий, а язык, употреблявшийся как средство
«деструкции» всей западноевропейской метафизики: без игры с «нечистой
силой», без колдовства и магии такого не сотворишь. Было ясно,
что Хайдеггер использует слова далеко за гранью их
рационального смысла, но не было ясно, как построить русский текст,
эквивалентный радикальному хайдеггеровскому перепрочтению
античной традиции. Переводить приходилось изнутри плотного
и «тесного» риторского контекста, изобилующего напряженными
ритмами и полетами вербальных ассоциаций, — при полной
невозможности пользоваться существующими переводами
античных авторов, цитаты из которых вкраплены в хайдеггеровские
тексты. При этом, учитывая оригинал, переводить приходилось
даже не с греческого, а с того немецкого, которым Хайдеггер
передавал греческий, по многу раз проверяя и перепроверяя те или
иные словесные единицы в словарях — целиком и частями, по
отдельности и в составе однокоренных семантических гнезд. О том,
как шла эта работа — перевод и осмысление — и что из нее
получилось, и позволяет судить сборник, включивший «семь встреч»
Т. Васильевой с Хайдеггером.
В основе книги - переводы трех статей Хайдеггера («Учение
Платона об истине», «Изречение Анаксимандра», «О существе
и понятии фюсио) и три статьи Т. Васильевой о Хайдеггере («Сти-
488
Познание и перевод. Опыты философии языка
хослагающая герменевтика М. Хайдеггера», «Философский
лексикон Аристотеля в интерпретации М. Хайде ггера»,
«Божественность "под игом" бытия». Первые три — свидетельство магии
поэтической «деструкции»; вторые три - попытки противодействия
магии слова собственным рассуждением. Условно говоря, эти три
статьи Т. Васильевой — это соответственно творческое
славословие, синопсис и подражание. «Стихослагающая герменевтика»
остается под властью хайдеггеровской магии, хотя и показывает
непосвященному, как колдует колдун. «Философский лексикон
Аристотеля» (где Хайдеггер пересматривает весь понятийный
словарь аристотелевской физики, стремясь освободить его от
наслоений схоластики) — это фактически сокращенный вариант
перевода, который уменьшает количество связок и увеличивает
обобщенность текста (этот жанр, вполне полезный, теперь, к
сожалению, больше не существует). «Божественность "под игом"
бытия» — это попытка написать о Хайдеггере в манере самого Хай-
деггера, это апофеоз философского творчества и
самоутверждения. Т. Васильева не участвует в критической дискуссии, она
поглощена соревнованием, из которого выходит, с блеском
пересоздав на русском языке головокружительные ассоциации
хайдеггеровской поэтической прозы.
Т. Васильева последовательно шла своим путем. Она
сосредоточивалась на поэтическом строе хайдеггеровского
философствования, строила образ «своего Хайдеггера» («Мой Хайдеггер» - это
похоже на цветаевское «Мой Пушкин»). Она была уверена в своей
правоте: «раз я знала такого Хайдеггера, значит он такой и есть»,
а точнее было бы сказать «...значит, он есть и такой»... Конечно, ее
жизненный опыт, как и любой человеческий опыт, по-своему
безусловен. Но можно было бы, наверное, сказать и иначе: раз я так
понимаю Хайдеггера, значит есть и другие люди, которые его
понимают так же, и им пригодится то, что я делаю. Итак, Т.
Васильева категорически утверждает, что статьи Хайдеггера - это
поэтические произведения, которые, стало быть, и дОлжно переводить
как поэтические произведения, иначе они перестанут говорить то,
что они должны говорить. Но она вполне отдает себе отчет в том,
чего это требует от переводчика: он становится соревнователем
автора, и если переводчик, как в данном случае, с честью
выполняет свою работу, — это дает уникальный результат. Однако
пределы такой соревновательной работы ограничены. Можно
поэтически образцово перевести одну или несколько статей, однако
взяться за перевод, скажем, «Бытия и времени» Т. Васильева себе
не позволила, ибо эту работу нельзя было бы сделать образцово
в свете тех требований, которые она к себе предъявляла. А когда за
такой перевод брался человек, без достаточных на то оснований
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 489
притязающий на конгениальность автору, получались
катастрофы, которых мировое хайдеггероведение уже насчитывает
несколько.
Т. Васильева фактически сняла сам вопрос о
верности/неверности, адекватности/неадекватности своего перевода и считала
такую неоценочность фундаментальным принципом
герменевтики. Конечно, конгениальный перевод поэтического произведения
бессмысленно разбирать и оценивать. Однако не всегда переводы
конгениальны оригиналам. Не все ассоциации хороши, не все
гипотезы равноценны. К тому же герменевтика не обязана
оставаться в одиночестве - аналитика может ей помочь, и тогда трудные
вопросы могут стать хотя бы отчасти разрешимыми. Они
неразрешимы лишь в общем виде. Но если спросить себя, в каком
смысле, с какой точки зрения тот или иной перевод лучше или хуже
другого, то окажется, что на этот вопрос вполне можно дать ответ.
Критерии перевода историчны, их набор и сравнительный вес
меняются от ситуации к ситуации, а внутри каждой ситуации
существует ряд критериев, вокруг которых можно строить
интерсубъективное обсуждение перевода. Так что преподаватель будущего,
имея в своем распоряжении десяток переводов Хайдеггера, всегда
сможет объяснить студенту, какой перевод лучше с точки зрения
целого, какой — с точки зрения частностей, а какой и вовсе — еди-
ничностей (уточнив при этом, на каких страницах такие
единичности попадаются), в каком — лучше передан стиль, а в каком —
концептуальная связность и τ д.
Однако я не буду пытаться оценивать представленные в книге
переводы, сопоставляя их с оригиналами или с другими
вариантами переводов, вышедших за эти десятилетия. Важнее их
направленность, обусловленная духовным поиском незаурядной
личности в определенном историческом контексте. А для этого нужно
понять различие переводческих ситуаций - той, в которой
работала Т. Васильева, и нынешней.
Ситуация, в которой создавались переводы 1960—1970-х
годов, — угасающая оттепель, когда смелые стенгазеты, ранее
висевшие на стенах Института философии, уже перекочевали в
домашние хранилища, и свободу нужно было опять индивидуально
искать, строить, быть может, в форме профессионального труда
над неведомым публике предметом. Показать коллегам, что
поэзия может быть способом философствования, - это был тогда
необычный шаг. Однако в наши дни, когда современная
российская культура наводнена переводами с западных языков (главным
образом - из современных французских последователей
Хайдеггера), это утверждение о поэтическом бытии философии стало
расхожим, хотя и спорным, общим местом.
490
Познание и перевод. Опыты философии языка
Кроме того, в 1960-1970-е годы речь могла идти лишь о
штучном пересоздании подлинника искусным мастером. В наши дни
переводы встали на поток, и случилось целое наводнение:
современная западная мысль выходит из берегов, а российская
культура открывает шлюзы, закрытые в течение всего советского
периода. В результате на головы российских читателей обрушиваются
целые потоки содержаний, которые они осваивают с трудом.
Оказывается, что травма от недостатка и травма от избытка сходны по
своим последствиям. Во всяком случае, главным культурным
требованием стало не воссоздание яркой стилистики единичных
персонажей, а работа по выковыванию - коллективными усилиями -
новых возможностей русского концептуального языка, так как
наличный философский язык, доставшийся в наследство
постсоветской эпохе, со своими смысловыми и коммуникативными
задачами явно не справлялся.
Далее. Для современного читателя особую роль в
конкретизации некоторых хайдегггеровских интенций играют современные
французские концепции, выросшие под безусловным влиянием
Хайдеггера и ныне представленные в России. То, что
послевоенный Хайдеггер стал во Франции чуть ли не главным
национальным философом, мы видим по Э. Левинасу, М. Анри,
Ж.-Ф. Лиотару, Ж-Л. Нанси и особенно - по Ж. Деррида,
который превращает хайдеггеровскую деструкцию в деконструкцию,
обобщает замыслы мастера, расширяя критику метафизики на
всех фронтах, а поэтическую работу с языком делает главным
исследовательским приемом. Сейчас эти приемы - уже не в
качестве первопрорыва, но в качестве моды — пришли в Россию и
вызвали бездну подражаний стилю и языку без попытки разобраться
в аналитике аргументации. Всего этого в 1960-е годы в России
нельзя было ни видеть, ни предвидеть.
Когда в споре мысли и стиля Т. Васильева предпочла стиль,
этот выбор был адекватен культурному моменту и запросам,
связанным с работой над новым культурным материалом. Но
ситуация изменилась. И потому сейчас перевод нужен нам не столько
как работа культурного гения (поле своеволия слишком сильно
разрослось), а как работа профессионала, отвечающего за свои
выборы понятийных эквивалентов и готового обсуждать свои
предпочтения с коллегами и читателями. Это вовсе не призыв
к тому, чтобы переводить в равной мере адекватно и стиль,
и мысль, что просто невозможно — в силу специфики
функционирования языка и границ человеческого внимания. Единственный
известный нам эксперимент по удержанию этой двуединой задачи
(сохранение авторского стиля плюс мысли, разъясненной в
квадратных скобках) — это, как уже отмечалось, перевод «Поэтики»
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле.«.» 491
Аристотеля М. Гаспаровым. Однако автор перевода признавался,
что работа над этим небольшим текстом была для него настоящей
каторгой и что перевести с такой же самоотдачей, скажем,
«Метафизику» он бы никогда в жизни не решился. Сейчас, когда
перевод становится массовым занятием и предполагает более
демократичные процедуры обсуждения принятых решений, для перевода
философской словесности, по-видимому, нужен акцент на
переводе мысли с вкраплением более или менее развернутых
иллюстраций, дающих адекватное представление о стиле.
Несколько пояснений в связи с этим последним утверждением.
Дело в том, что восприятие стиля перевода никогда не
тождественно восприятию стиля оригинала. Так, Аристотель или Хайдег-
гер на русском языке более непривычны, чем на немецком или на
греческом (хотя они трудны для чтения и на греческом, и на
немецком). Вследствие этого стиль в переводе в большей мере
отвлекает от содержания. Это происходит потому, что в оригинале
гораздо шире развернут успокаивающий восприятие спектр
возможных перекличек непривычного с привычным. В языке
перевода - иначе, там этого фона нет, и стилевые моменты
оказываются более выпуклыми и яркими. Поэтому и подражать более
резкому стилю перевода (разумеется, мы говорим о переводах,
способных воспроизвести стиль) гораздо легче, чем внятно
воспроизвести чужую мысль своими словами (и, разумеется, стиль
легче пародировать). А потому при вторжении огромного
количества новых философских произведений путь через стиль слишком
сильно отвлекает от мысли, особенно — на первых порах.
Весь опыт Т. Васильевой включен в рамки фундаментального
вопроса западной культуры — вопроса о слове и понятии, о
философии и филологии. Философ хранит мысль, предметность,
филолог более адекватно представляет стиль. Но вместе с тем
филолог реконструирует и понимает тексты, а философ просто их
берет, пользуется ими для своих нужд и своих ассоциаций, ничего
не выверяя и не проверяя. История философии вообще
невозможна без филологов. Соотношение философии и филологии —
любви к мудрости и любви к слову — это универсальная проблема
европейской культуры. Она не всегда выходит на первый план,
но сейчас в российской культуре, где идет интенсивное
обогащение концептуальных средств русского философского языка, она
приобретает особую актуальность.
Работа с Хайдеггером и была для Т. Васильевой полем
рассмотрения этой фундаментальной проблемы. Мне доводилось
слышать от Т. Васильевой характеристику Хайдеггера как «философа
для филологов». Не знаю, вошла ли она в ее письменные тексты.
Наверное, это своего рода метафора. Однако поэтические опыты
492
Познание и перевод. Опыты философии языка
Хайдеггера подчас действительно выглядят как богатый материал
для филологической критики. Неогумбольдтианские приемы
языковой практики Хайдеггера предельно далеки от тех подходов,
которые стремились подвести знания о речи и языке как можно
ближе к области, доступной научному постижению. Для
Гумбольдта «язык есть исповедь народа», вечный гарант сопряжения
слов и вещей, для Хайдеггера - «язык есть дом бытия». Все, что
относится у Хайдеггера к филологии, слишком далеко от того, что
в филологии может, хотя бы в принципе, быть научным. Нечто
похожее происходит сейчас в восприятии весьма популярного
в России Деррида. Его тоже иногда называют «филологическим
философом». Представляется однако, что это недоразумение.
И в хайдеггеровском, и потом в дерридианском подходе нет ни
грана той филологии, которой дорога фактуальность и
доказательность. Главное для них - творческое пересоздание исходного
материала, которое ближе к искусству. Но в этом разговоре,
разумеется, все зависит от того, как мы понимаем слово «филология»,
как мы видим ее возможности и задачи.
Т. Васильева не сводила с Хайдеггером критические счеты;
завершив ранний романтический этап соревновательства, она
просто вышла из него и перешла в другое состояние. После
многолетних рвавших душу поисков она пришла к самой себе, к своему
слову, своему языку, научилась писать просто, но не упрощенно,
о самых сложных предметах античного наследия в современности,
выработала свой научный стиль. В работах последнего
десятилетия ей уже не нужно было доказывать себе или кому-либо, что она
философ. Она была им, оставаясь филологом. И если в период
увлечения Хайдеггером красочная романтическая философия
потеснила в ней филолога, то теперь баланс сил выровнился, и она
со всем своим авторитетом и вместе с тем — деликатностью
сумела напомнить своим коллегам-философам о пределах их
компетенции в античном материале, который они интерпретировали,
следуя больше собственным интуициям, чем фактам, и затем
применяли эти интуиции при доказательстве своих философских
положений. То, что этот соблазн охватывал не только рядовых,
но и крупных, великих мыслителей (М. Мамардашвили, М.
Петрова), делало тему, которую подняла Т. Васильева, особенно
важной. Достоинство философа не будет ущемлено, если он увидит
между философией и филологией границу и будет переходить ее
более осмотрительно. В любом случае, без филологов, которые
работают с текстами, фактами и исторической конкретикой,
философу не обойтись.
Книга о встречах с Хайдеггером вышла в свет в то время, когда
время работы Т. Васильевой над Хайдеггером далеко позади. Ны-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава шестая. «На бранном поле...» 493
нешнее поколение знает другого Хайдеггера. Полные немецкие
издания, русские переводы, перевод «Бытия и времени» Бибихи-
ным, подготовка нового перевода... Но материал, представленный
в книге, - кусок живой истории. Если сравнить эти две ситуации
знакомства с Хайдеггером, то разница получится такая, как между
тонким ручейком и мощной, хотя и грязноватой, рекой.
Хайдеггера стало больше, но ситуация не стала лучше. Сейчас мы видим,
что эти переводы и парафразы 1960—1970-х годов делались
старательнее и умнее, так как человек чувствовал большую
ответственность за свое дело, а потому не только блестящие переводы,
но и тщательные разъяснительные комментарии Т.В. Васильевой
сохраняют свое значение и при всем изобилии нынешних
переводов и критических текстов.
Сравнительная значимость тех или иных аспектов перевода
меняется, и то лучшее, что есть в переводах Т.В. Васильевой
(совершенство стилистического воссоздания оригинала), для нас сейчас,
быть может, не самое главное. Однако неизменно значимым
остается то, что может показаться самым хрупким: одушевленность
создававшего их человека, его жизненные принципы — «работай без
халтуры», «как в последний раз», само стремление к совершенству.
Когда такие шедевры, как «Изречение Анаксимандра», вступят
в светлый круг культурного внимания, новый читатель,
внимательный к историческим контекстам и происходящим в них
превращениям, сможет — хочется надеяться — увидеть в них и образцы
поэтического стиля, и нелегко доставшийся глоток свободы, а
также — венец труда, «избранного стать делом жизни».
Глава седьмая
Перевод как рефлексивный ресурс понимания
§ 1. Рефлексия и перевод:
исторический опыт и современные проблемы
В этом разделе будут рассмотрены три группы вопросов -
о классической и современных формах рефлексии, о
переводе как рефлексивной процедуре и, наконец, о
формировании в культуре рефлексивной установки,
связанной с выработкой концептуального языка.
Рефлексия «классическая» и «неклассическая»
Рассмотренный в предыдущих разделах материал позволяет
нам теперь расширить перспективу анализа сразу в двух
направлениях — переходя от современного этапа «переводческих битв»
к историческим прецедентам, а от индивидуального
переводческого опыта - к более общему слою возникающих при этом
теоретических проблем. Я исхожу из того, что цепочка операций
в процессе культурной «трансмиссии» предполагает первичное
схватывание (понимание), затем проработку посредством анализа
и рефлексии и, наконец, новый этап понимания - уже на основе
этой предыдущей проработки. Без этого не может быть освоения,
усвоения и передачи содержаний и смыслов, не привязанных
жестко к одному месту, но путешествующих между разными
уровнями культуры или между разными культурами. Одной из главных
действующих сил этого процесса выступает перевод во всем
спектре значений и употреблений этого слова. Думаю, что перевод
выступает в современной культуре как одна из форм
научно-гуманитарной рефлексии. Сразу скажу, что понятие рефлексии в этом
параграфе у меня «дрейфует», «скользит»: речь пойдет сначала об
индивидуальной, затем о культурной рефлексии, внимание будет
уделяться как рефлексии, обращенной вспять, к содержаниям
собственного сознания, так и рефлексии, обращенной на
средства мысли, на выработку концептуального языка.
Но для начала оглянемся на другие исторические формы
рефлексии в философии и науке. Представляется, что в отличие от
таких форм сознания, как религия или мораль, наука в известной
мере обладает свойством саморефлексивности: она способна не
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 495
просто отображать и воспроизводить в знании те или иные формы
и содержания реальности, но также сознательно контролировать
некоторые условия и основания процесса познания. Правда, в
течение долгого времени это свойство науки затушевывалось той
привилегией на анализ познания и сознания, которой
«фактически» (и «юридически») обладала философия. Способность науки
к саморефлексии наиболее ощутимо проявляется в периоды
мировоззренческих переломов и методологических перестроек —
в особенности после того, как наука достигает определенной
стадии теоретической зрелости. В естествознании эти процессы
наблюдались на рубеже XIX-XX вв. в (кризис в философских
основаниях физики), а в ряде областей современного гуманитарного
знания они начали интенсивно развертываться во второй
половине XX в. При этом, наряду с познанием своего предмета, в
материале науки и ее структуре образуется относительно
самостоятельный слой или уровень методологической рефлексии -
размышления ученого о нормах своей деятельности или даже
о критериях науки как таковой. Можно сказать, что тем самым
сквозь ткань конкретных познавательных практик прорастают
вопросы, которые традиционно считались прерогативой
философии: они так или иначе связаны с субъект-объектными
взаимодействиями, с критериями обоснования знания и др.
Со второй половины XX в. методологическая рефлексия в
гуманитарных науках приобретает особое значение; это связано с их
переходом в ряде разделов от эмпирической стадии к
теоретической, с использованием методов формализации и математизации
и, следовательно, с неизбежно возникающим при этом вопросом
об отличиях (и сходствах) их норм и критериев от норм и
критериев естественно-научного типа. При этом методологическая
рефлексия, направленная на процессы обоснования гуманитарного
знания, не выявляет какой-то один образец, стандарт точности
и строгости. Скорее она сталкивается с целым спектром позиций,
расположенных, условно говоря, между полюсами — точности
и размытости, «овеществленности» и «персонифицированности»,
объективности естественнонаучного типа и «понимающего»
проникновения в «чужой» мир. Тем самым уже внутри
гуманитарного знания воспроизводится та дихотомия («объяснение -
понимание»), которая некогда фиксировала противостояние
естественно-научного и гуманитарного знания. Предел вещности - это
предел «монологического» уподобления гуманитарного объекта
и гуманитарного познания естественно-научному. Предал
персонифицированности - это искомое или предполагаемое
«многоголосие» понимающего общения с иными культурами. На первом
полюсе сосредоточивается то, что есть общего между естественны-
496
Познание и перевод. Опыты философии языка
ми и гуманитарными науками, на втором — то, что есть между
ними различного. Устремления первого рода указывают на
возможность воспроизводимости «экспериментов», верификации
результатов, а устремления второго рода «восполняют»
объективирующую рефлексию естественно-научного типа напоминанием
о специфических чертах гуманитарного объекта. Между этими
полюсами вскоре обнаружились взаимные тяготения, проявившиеся
в разнообразных поисках иных конфигураций и скрещений
структурализма с герменевтикой, феноменологии с семиотикой и др.
Если окинуть взглядом полуторавековую историю
гуманитарного знания, можно обнаружить смену образов научности или,
иначе говоря, смену основных моделей и аналогий, которые лежат
в основе построения объекта и вместе с тем определяют выбор
средств его исследования. Применительно к знанию,
нацеленному на «овеществление», такие модели строились по образцу
механики, физики, биологии, социологии (иногда они сменяли друг
друга, иногда оказывались сосуществующими в одной и той же
области знания в одно и то же время); применительно к знанию,
нацеленному на «персонификацию», главной областью
заимствований были гуманистические ответвления психологии, искусство,
литература. Особенностью развития гуманитарного знания во
второй половине XX в. стало объединяющее обе тенденции
применение языковой модели: объект исследования уподоблялся
особого рода языку, а средства его постижения — средствам
исследования языка. В самом деле, обращение к языку и языковой
методологии характеризует, с одной стороны,
структурно-семиотические подходы, которые в принципе предполагают
формализацию объекта как особого рода языка, и с другой стороны, -
историко-герменевтические подходы усматривают в языке
анализируемых текстов средоточие неформализуемой, «переживаемой»
исторической традиции. Отмечая это интересное совпадение, мы
сталкиваемся с проблемой, средствами специально-научной
рефлексии не разрешимой: каков методологический и
мировоззренческий смысл такого «схождения» к языковой проблематике в тех
сферах гуманитарного знания, где прежде использовались
различные познавательные средства? В какой мере такое обращение
к языку определяется внутренними потребностями познания
предмета, или, быть может, каким-то новым витком
превращений1 в самом исследовательском сознании? Богатым материалом
1 Понятие превращенных форм сознания и деятельности, выдвинутое Марксом
и разработанное M.K. Мамардашвили (См.: Мамардашвили М.К. Форма
превращенная // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 386-389), нисколько не
потеряло своей актуальности - в частности, для современной философии и
методологии науки.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 497
для прояснения этой проблемы служит эволюция схем рефлексии
от ее классических конфигураций к неклассическим и те
изменения предмета и средств рефлексии, которые при этом происходят.
Под рефлексией обычно понимается определенный подход
к анализу сознания1: он не может быть подвергнут верификации,
исходя из каких бы то ни было внележащих оснований, и
предполагает такую самонаправленность сознания, при которой оно
предстает как область самопричинения и саморазвертывания.
Для рационалистической философии, в которой рефлексивный
подход к анализу сознания представлен наиболее широко,
фундаментом рефлексивного движения становится безграничное
доверие разуму, его способности к прояснению внутренних и внешних
содержаний на основе очевидности cogito. В эмпирико-сенсуа-
листской философии рефлексия как внутренний опыт ума, само-
направленно анализирующего свои собственные построения,
необходимо дополняет внешний опыт. Все то, что выходило за
рамки таким образом понимаемой рефлексивности и выступало,
следовательно, как не-рефлексивное, трактовалось разумом как
нечто несущественное.
Вследствие смены мировоззренческих и познавательных
ориентиров при переходе от классической философии к современной
маргинальное оказывается центральным: на первый план выходят
те самые нерефлективные содержания и образования, которые
ранее не были предметами философского интереса. Общий
знаменатель самых разнообразных содержаний этого опыта - их не-
предъявленность сознанию и вместе с тем их воздействие на
сознание, нарушающее представление о его самопричинности
и саморазвертывании. Это такие образования, как тело, желание,
инстинкты, архетипы, воля, стремление к власти; в них видятся
подспудные основания мысли. Соответственно и в языке как
орудии рефлексии, осуществляемой на этом новом материале,
подчеркиваются додискурсивные и дорефлексивные его аспекты,
равно как и его способность к прояснению других
нерефлексивных содержаний: это язык как бессознательное (структурный
психоанализ), язык как стихия обыденного сознания, язык как
орудие социального господства (Хабермас, Фуко), язык как скрепа
любого опыта полисемичности и метафоричности (Рикёр) и др.
1 Рефлексия как направленность души на саму себя принимает в философии
разные формы. Декарт отождествил рефлексию со способностью индивида
сосредоточиваться на содержании своих мыслей, связав рефлексию с существованием
мыслящего субъекта; Локк разделил внешнее, чувственное, и внутреннее
восприятие и познание (это последнее и есть самонаблюдение или рефлексия). Кант
и Гуссерль вновь подчеркнули характерную для европейской философии в целом
связь рефлексии с субъектом при анализе разных форм опыта.
498
Познание и перевод. Опыты философии языка
Все эти столь разнородные по своим формам «прорывы» поля
рефлексии, некогда казавшегося однородным, основываются на
отрицании «пустого» cogito трансцендентальной философии и
попытках проработать материал под новым углом зрения,
обнаружить те или иные элементы нерефлексивного, «анонимного»,
не поддающегося рационалистической редукции опыта.
Единство самосознания уже более не скрепляет
фрагментарный опыт культуры, а потому объединяющим различные опыты
моментом становится поле и проблема языка, заведомо
лишенного той центрации, которой, казалось, могло обладать сознание
в рефлексивном повороте. Следовательно, в обращении к
языковой проблематике, «занявшей в философии место мышления,
мыслящего самого себя» (Гадамер), можно видеть естественную
реакцию на исчерпанность рефлексии традиционного типа. В
отличие от позиции, отказывающейся от какого-либо прояснения
нерефлексивного опыта, обращение к языку, в каких бы формах
оно ни проявлялось, позволяет надеяться на прояснение и
рационализацию этого опыта — таковы прежде всего попытки
построения «неклассической» или «конкретной» рефлексии. Если
«классическая» рефлексия замкнута в сфере сознания и с очевидностью
удостоверяет данность сознания сознанию, то не-классическая,
«конкретная» рефлексия неизбежно развертывается в ситуации
погруженности в культуру. Следовательно, она не притязает на
постижение абсолютных первоначал своего собственного
движения, не ищет непосредственных очевидностей, не требует бес-
предпосылочности. Поскольку ей заказана целостность,
самодостаточность и самопрозрачностъ cogito, постольку и движется она
косвенным, окольным путем, как это собственно и предполагает
этимологический смысл латинского слова reflexio1. Выступая в
качестве условия возможности для рефлексии нового типа, язык
в любых несоизмеримо различных философских интерпретациях,
так или иначе берет на себя весьма ответственную миссию -
артикулировать ту нерефлективную почву, на которой вырастает
любое движение рефлексии. При этом неуловимая амбивалентность
языка, который и связывает и разъединяет людей, его способность
одновременно и к обнаружению и к сокрытию тех или иных
содержаний, его отягощенность невыразимым и вместе с тем его
способность постоянно раздвигать пределы выразимого - все это
позволяет надеяться на возможности прояснения дорефлексив-
ных контекстов и подтекстов мысли. Эта амбивалентность и мно-
гоиспостасность языка в полной мере проявляет себя и в работе
1 Reflecto, flexi, flexum, reflectere - загибать, закидывать назад, поворачивать;
в страд, залоге - поворачиваться, обращаться.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 499
перевода - как новой области рефлексии и одновременно нового
её средства.
Перевод как практика и перевод как рефлексия
Наряду с классической философской рефлексией и
методологической рефлексией науки, я предлагаю в дополнение к ним
рассмотреть шансы историко-эпистемологической рефлексии о переводе
и выработке концептуальных языков. В ней есть и философские
и научно-гуманитарные аспекты. По материалу и способам
осуществления это — рефлексия нового этапа, возникающая на новом
витке лингвистического поворота - вслед за проблемами языка,
понимания, коммуникации. В ряду других форм рефлексии,
существовавших в истории философии (эмпирическая, логическая,
абсолютная, трансцендентальная, конкретная и др.), рефлексия
перевода (и о переводе) выступает как смешанная, эмпирико-транс-
цендентальная1. Так, она опирается на конкретику переводческих
и других познавательных актов в культуре, но одновременно видит
в этих актах и самой их схематике условие возможности любого
гуманитарного познания, отсюда — этот эмпирико-трансценденталь-
ный дублет. Рефлексия о переводе не подменяет, но расширяет,
актуализирует целый ряд философских вопросов. Представляется, что
эта рефлексия еще не дала в качестве своего результата общую
теорию (хотя, наверное, многие авторы лингвистических теорий
перевода с этим не согласятся), однако безусловно можно видеть — на
протяжении веков, а в наши дни и десятилетий — нарастание
внятности в мысли о переводе, более четкое осознание того, о чем мы
ведем речь, какими словами можно назвать это явление и эту
практику (происходила специализация лексики, относящейся к переводу),
как и зачем делается и может делаться перевод. Здесь я не буду
пытаться жестко увязывать различные позиции, однако намечу между
1 Фуко периода «Слов и вещей» считал эмпирико-трансцендентальной любую
рефлексию современной философии (Фуко М. Слова и вещи. М., 1977. С. 436).
При этом Фуко сетовал на то, что отсутствие рефлексии или же ее недостаточность
погружает современную философию в сон, только уже не догматический, как
в трактовке Канта, пробужденного Юмом от догматического сна, но
антропологический. По сути, современные формы антропологии, исходящей из вневременной
сущности человека, и выступают у Фуко как современные формы догматизма.
Представляется, что этот вопрос об антропологическом сне современной
философии с излишней поспешностью был сдан в утиль вместе со структурализмом.
Мыслям о человеке на основе априорных сущностей Фуко противопоставлял
«философский смех», но это вовсе не означало отказа от рефлексии. Напротив, требуется
со вниманием отнестись к новому опыту, к свидетельствам о том, что при
отнесении человека к немыслимому (impensé) все привилегии традиционной рефлексии
как мысли, мыслящей самое себя, должны были исчезнуть, и весь вопрос теперь
заключается в том, как и где обрести иные опоры для мысли ( Там же. С. 418).
500
Познание и перевод. Опыты философии языка
ними ряд связей и взаимосвязей, образующих то густую и плотную,
то более разреженную сеть.
Само понятие рефлексии и близкие ему понятия, образованные
от того же латинского корня, исторически существовали в трех
главных регистрах - умственном (размышление, направленность
на самого себя), оптическом (отражение от гладкой поверхности),
и физиологическом (непроизвольный ответ на раздражение).
Таким образом наиболее важная для нас здесь рефлексия в первом
смысле входит в такие ряды бинарных сопоставлений и
противопоставлений, как осознанный - неосознанный,
преднамеренный — спонтанный, направленный на себя - направленный вовне,
контролируемый - бесконтрольный. Рефлексия в оптическом
смысле является частым обертоном этой умственной рефлексии.
А рефлексия в третьем смысле слова выступает в современной
российской культуре в качестве некоего исторического казуса,
укорененного в постмодернистских практиках визуальных искусств1,
где рефлексивное — незаметно для пользующихся этим словом -
сближается с «реактивным».
Для того чтобы понять, что дает нам рефлексия, учитывающая
практику и осмысление перевода, мы должны будем погрузиться
в конкретный историко-культурный материал. Речь здесь пойдет
о практике перевода, который выступает как аналитический
и синтетический, научный и художественный акт. Рефлексия
о переводе в широком смысле возникает в тот момент, когда свой
собственный язык оказывается в позиции не единственно
возможного: тогда мы начинаем осознавать его границы и
одновременно — его возможности, иначе не заметные, в сравнении с
другими языками, другими способами вербального выражения. Этот
трудный опыт рефлексии, осложненной многоязычием,
постоянно сопровождает нас в процессе переводческой работы.
Постановка проблемы переводимости и непереводимости - это новая
ступень в осознании языковой (точнее, многоязычной)
составляющей любого человеческого опыта и его выражения. Рефлексия
о переводе, с одной стороны, продолжает движение
неклассической рефлексии, имеющей дело с нерефлексивным опытом как
базовой очевидностью, а с другой стороны, усиливает шансы
классической установки на схватывание и прояснение всей этой
массы неподконтрольных сознанию содержаний и механизмов.
Как уже неоднократно отмечалось, рефлексия - это непрямое
движение, огибание, возвращение на свои следы, отступление,
возврат — нечто такое, что позволяет иначе увидеть уже свершив-
1 Схематика этой понятийной подмены рассмотрена в статье: Барабанов Е.
Стадия рефлексии // Рефлексия. М., 2005.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 501
шийся опыт. Введение проблематики перевода усложняет
рефлексивную схематику. Перевод ведет за собой сразу целую сеть
новых отношений: перевод и подлинник, перевод и другие
переводы (если они есть) — в своей культуре и в других культурах,
переводы современные и прошлые, а также и будущие — в той мере,
в какой иногда удается уже сейчас наметить области
несделанного, которые могут стать средоточием новых переводческих
усилий. А как сравнивать переводы — есть ли у нас «третья» (помимо
оригинала и вырабатываемого перевода) область, из которой
можно было бы заимствовать критерии для сопоставлений?
Готовой площадки для сравнения у нас нет, однако в процессе
рефлексии над переводом мы постепенно строим и расширяем эту
сферу умопостигаемости: это не платоновские идеи, и не «третий
мир» Поппера, но динамичная область многообразно
детерминированных взаимоотношений между людьми. Парадоксальным
образом перевод, предполагающий выход за пределы как
иностранного, так и родного языка (в том виде, в каком он
предшествовал переводу) дает нам новые шансы приближения к
универсальному - только не заранее заданному, но искомому и отчасти
достигаемому в процессе постоянного расширения
интеллигибельного пространства. Проблематика перевода не устраняет
другие философские и научные проблемы, но способствует их
проявлению и развертыванию; примером такого развертывания
послужат для нас в этой книге проблемы рефлексии, перевода
и понимания.
Осознание специфики перевода и его значения происходило
в истории постепенно1. Критерии точности, верности,
адекватности тоже складывались постепенно, а когда сложились, все равно
менялись от эпохи к эпохе, от культуры к культуре. Поучительна
и захватывающа история выковывания слов, означающих перевод
в европейской культуре. В греческом и латыни не было даже
специальных глаголов, означающих перевод с языка на язык: как
правило, это были вполне конкретные и вещественные глаголы,
которые при случае могли означать также и межъязыковой
перевод. Французский термин traduire возник из латинского
traducere — слова, которое буквально значит «выводить вовне»,
«выводить за пределы». Чтобы переводить, нужно иметь как
минимум два языка. Древние греки, даже говоря на других языках,
стремятся оставаться в своем собственном логосе, в своем языке,
1 Среди множества исторических очерков на эту тему не могу не отметить тексты
об истории перевода, написанные группой авторов (С. Auvray-Assayas, С. Berner,
В. Cassin, A. Paul, I. Rosier-Catach). См.: Vocabulaire européen des philosophies / Sous
la dir. de Barbara Cassin. Paris, 2004. P. 1305-1319.
502
Познание и перевод. Опыты философии языка
в гордом одноязычии1. Как утверждают специалисты, глагол ell-
enizein может значить «говорить по-гречески», «говорить
правильно» и даже «вести себя по-человечески». Получается, что
правильно (хорошо) говорить, хорошо мыслить и хорошо жить - это вещи
взаимосвязанные. Чтобы хорошо говорить, нужно соблюдать
правильный порядок слов, учитывать семантическую нагруженность
слов (употреблять правильные слова, избегая двусмысленностей),
их грамматическую принадлежность и предметную отнесенность.
«Ellenizein» могло значить также «учить греческий язык», а позднее,
уже во времена перевода Священного Писания на греческий, -
«выражать на греческом языке», «переводить на греческий».
Значение перевода передается и другими греческими глаголами с
приставками мета- и пери- (в значении пере-нос, пре-образование).
В классическом греческом языке все эти понятия обозначают
различные формы работы с текстом, однако значение «переводить»
встречалось лишь изредка, как одно из возможных значений. Коль
скоро перевод не вычленялся как отдельная проблема, это
означало, что различие между языками пока еще не принималось всерьез:
чем больше слов могли обозначать перевод, наряду с совершенно
другими действиями, тем меньше перевод был выделен в культуре,
тем слабее осознавалось его значение. Важным моментом в
формировании слов, обозначающих собственно перевод, был период
работы над переводом Священного писания на греческий язык (Сеп-
танта), заказанным в Александрии; так, глагол hermeneuein стал
означать смысловую связку между интерпретацией и переводом.
Известные нам переводы с греческого на латинский лишь
частично удовлетворяют современным критериям перевода; все
глаголы, которые в латинском относятся к переводу (vertere, convert-
еге, exprimere, reddere, transferre, interpretari, imitari) - могут
одновременно обозначать и «буквальный» перевод, и свободную
адаптацию греческого текста к потребностям публики. В
классической латыни перевод воспринимался как этап рецепции
греческой культуры: переводить — значило придавать чужому тексту
блеск в своем собственном языке. Плавт, например, употреблял
слово vertere для обозначения вольного перевода-адаптации
греческой пьесы: речь вообще шла не о подчинении языку оригинала
(на фоне греческого все остальное - только варварское), но о том,
чтобы писать на своем языке, создавать свой язык.
Цицерон определял свои принципы философского перевода
(«переводить — приспосабливать - творить») в связи с практикой
1 Впрочем, эта точка зрения оспаривается. О роли языковых и диалектных
взаимодействий в генезисе понятий, выраженных в терминах греческого языка см.,
например, в работах французского германиста П. Пениссона.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 503
основателей латинской литературы: подобно поэтам,
переводящим греческие пьесы, переводчик Платона или Аристотеля
должен сослужить добрую службу своим согражданам, приблизив
к ним божественных гениев. Иначе говоря, речь фактически шла
о том, чтобы отобрать философские привилегии у греков и
перенести их в Рим. Одним и тем же глаголом transferre (переносить)
Цицерон обозначал и переводческое действие, и перенос смысла
в метафоре. Тем самым, заметим, он установил связь между
переводом и собственным письмом как способами обогащения языка.
Отныне Рим воспринимает себя как место, где деятельность
перевода важна и нужна, где перевод и литературное письмо (точнее,
метафоры в риторике) — это способы заимствовать то, что нужно
сделать своим. Так, для Лукреция его поэма «О природе вещей»
была лишь переводом учения Эпикура и тем самым — средством
придать блеск туманным открытиям греков: по логике зрительной
метафоры, переводить значило обеспечивать свечение смыслов,
делать чужое живым и непосредственно воспринимаемым.
В дальнейшем послевавилонская культурная ситуация в мире
постоянно демонстрировала значимость переводов
фундаментальных текстов культуры - Священного Писания, Гомера,
Шекспира или Сервантеса, причем эти фундаментальные переводы
всякий раз выступали как ответ на запросы времени, как форма
поиска идентичности, как переопределение своего отношения
к культурному наследию. Средоточием аналитических,
герменевтических, интерпретативных усилий на протяжении столетий
была исполненная драматизма история переводов Священного
Писания: сколько ошибок и неточностей было исправлено
последующими переводчиками, сколько переводов было обвинено
в ереси против канонических текстов и сколько еретических
текстов становилось со временем каноническими.
Перевод Библии на греческий в известном смысле не только не
опровергает, но скорее подтверждает «монолингвизм» греков1,
так как дух этого перевода, считают историки культуры, скорее
еврейский, чем греческий: этот перевод возник из стремления
сделать эту книгу доступной на греческом как важнейшем
культурном языке. Согласно легенде, в конце III в. до н.э. 70 (или 72)
ученых, получив заказ от главного хранителя Александрийской
библиотеки — в ответ на пожелание Птолемея II
филадельфийского, создали каждый свой перевод, причем результаты этой ра-
1 Содержательный анализ множества исторических примеров перевода
религиозных и философских текстов мы находим в «Словаре непереводимостей» под ред.
Б. Кассен: Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire des intraduisibles) / Sous
la dir. de B. Cassin. Paris, 2004.
504
Познание и перевод. Опыты философии языка
боты оказались совершенно идентичными. Это был перевод
Моисеева Пятикнижия. Филон Александрийский считал греческий
перевод Священного Писания столь же «боговдохновенным», как
и его древнееврейский оригинал. Моисей выступал
истолкователем (hermeneus), выразителем всей полноты смыслов
божественной речи: термины hermeneia, hermeneus (от глагола, смысл
которого - выражать, обозначать, интерпретировать) постепенно
специализировались и стали обозначать собственно перевод.
Знаменитым продолжателем великого переводческого дела
становится Св. Иероним (348-420) - впоследствии святой-покровитель
всех переводчиков, переводчик и писатель, способствовавший
развитию христианской латыни, в противоположность латыни
классической; занимался поначалу пересмотром существовавших
переводов Священного Писания, исправлением ошибок и
устранением приписок, но затем предпринял собственный перевод -
непосредственно с древнееврейского на латинский. В XIII в.
латинская библия, созданная на основе работы Иеронима, но
включавшая также другие, «девтероканонические», тексты, получила
название Vulgata (что значит «общепризнанная»), стала
официальным текстом Священного Писания для римского католицизма
и прослужила в этом качестве до середины XX в., заложив основу
для переводов на европейские национальные языки1.
Еще один термин, относящийся к переводу, - это
средневековый термин translation, который находился на пересечении
различных наук и искусств (грамматики, логики, риторики) с
теологией. В широком смысле слова речь здесь шла о «переносе»,
«переводе», смещении смыслов - от собственного к
несобственному, а в более узком смысле (вслед за Квинтилианом) — о тропах
как украшающих изменениях значений. Средневековые знатоки
грамматики и лексикографии стремились определить, на каких
основаниях два термина могут быть соотнесены. Таких оснований
два: одно из них обретается при движении назад (этимология),
другое — при движении вперед (интерпретация). Эти рассуждения
не являются собственно переводческими, но они близки смыслу
переводческой проблематики. Важная тема средневековой
мысли - translatio studii («перенос знаний»), путешествовавших из
Греции в Рим, а из Рима далее — в христианский мир; подобно
этому о переводе (переносе) философии (translatio philosophiae)
говорил Роджер Бэкон, и эта тематика переноса и перевода близко
подходит к нашей теме познания и перевода.
1 Кстати, именно Св. Иерониму приписывается переводческий принцип verbum
pro verbo, хотя его конкретные переводческие шаги были на деле далеки от
действительного буквализма.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 505
Нередко утверждают, что современный немецкий язык был
создан во многом именно лютеровским переводом Библии.
Рассуждая о своем переводе, Лютер употреблял глагол verdeutshen
(буквально: «онемечивать»). Уравнивая два немецких глагола,
обозначавших перевод, — dolmetschen (этот глагол означает
устный, обыденный перевод) и вышеупомянутый глагол
verdeutschen — он стремился сделать такой перевод, который был
бы понятен простому человеку1. Шлейермахер считал отношения
«толмачества» (искаженное русское от Dolmetscher) «простым
обменом» в отличие от подлинного, письменного перевода (глагол
übersetzen), требующего рефлексии, а Гадамер в «Истине и
методе» употреблял слово Dolmetscher просто в значении «устный
переводчик». В дальнейшем глагол übersetzen стал покрывать более
широкое поле значения, а слово dolmetschen было фактически
полностью вытеснено из философского словаря. Другая важная
пара понятий — übersetsen и übertragen: последнее означает любой
тип переноса, передачи, перевода как трансмиссии, тогда как
übersetzen предназначено для перевода (переноса) написанной
речи. У Канта («Религия в пределах только разума») эти два термина
выступают как взаимодополнительные: недостаточно знать
Священное Писание в переводе (Übersetzen), его нужно также
передать (übertragen) потомству. Близость терминов «перевод» и
«передача» связывает во французском языке перевод с традицией
(traduction/tradition), а в итальянском — перевод с предательством
(traduttore/tradittore). Хайдеггеровский немецкий подразумевает
под переводом (Übersetzung) переправу с одного берега на другой,
осуществляемую переводчиком как перевозчиком: перевести
с языка на язык значит ввести произведение в другую среду и
другую культуру. Перевод — это не просто лингвистическая
процедура, но этап в становлении духа. Эта мысль присутствовала уже
1 В своем «Послании о переводе» Лютер обосновывает те изменения, которые он
внес в переводимый текст. В «Послании к римлянам» он перевел слова ап. Павла
Arbitramur hominem iustificari ex fide absque operibus так: «мы признаем, что человек
оправдывается лишь верою, независимо от дел закона», добавив от себя - для
усиления мысли - это «лишь верою», которого в тексте не было, и Лютер это хорошо
знает. Но он все равно дополняет текст, считая, что этого требуют, во-первых,
смысл, а во-вторых, чистый и ясный немецкий язык, не доступный его критикам-
папистам, которые просто не умеют говорить по-немецки (разумеется, в первом
отношении — прояснить смысл - Лютеровский довод вполне уместен, однако
к понятному разговору на немецком данный случай все же отношения не имеет).
Или еще пример: ангел говорит Марии: «полная милостью» (gratia plena). А по-
немецки, утверждает Лютер, нужно сказать «благодатная», а еще лучше - просто
«милая Мария»... При этом Лютер утверждал, что перевел Новый Завет как только
мог добросовестно, что он не заставляет никого читать его перевод, оказывая
услугу тем, что не может сделать это лучше.
506
Познание и перевод. Опыты философии языка
у Лютера, Гердера и Новалиса, которые рассматривали языковой
обмен как условие воспитания1. Хайдеггер усиливает эту
традицию немецкой мысли о переводе, подчеркивая, что перевод
выступает как способ передачи традиции (Überlieferung); вслед за
ним эту мысль развивает Гадамер. Во всех этих примерах мы
видим, как некоторые формы языковой специфики подталкивали
размышление о переводе в том или ином направлении; общее
между ними — то, что во всех этих случаях перевод,
предполагающий возможность сдвига в понимании, становится своего рода
безосновным основанием мысли.
Таким образом, осознание специфики перевода как практики
происходило в истории постепенно. Первой и, наверное, самой
крупной переводческой антиномией является антиномия «по
духу» и «по букве», а в некоторой модификации - антиномия
«вольного перевода» и «буквального перевода». Однозначного решения
она не имеет ни в теоретическом, ни в историко-культурном
плане, так как примеры шедевров мы находим в русле обоих
подходов. Так, среди вольных переводов есть такие шедевры, как люте-
ровский перевод Библии или лермонтовский перевод «Горных
вершин» Гёте2, а среди шедевров точности, например, переводы
Шекспира, сделанные Лозинским.
Должен ли перевод передавать слова оригинала или же идеи
оригинала? Стиль оригинала или же стиль переводчика? Должен
ли перевод читаться как перевод или же как оригинальное
произведение? Должен ли он читаться как произведение, современное
оригиналу, или же произведение, современное переводчику?3
1 Этот вопрос рассматривается, в частности, у Антуана Бермана:
BermanA. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984.
2 В русской литературной традиции установка на вольный перевод
представлена, например, переводами Жуковского - в ту эпоху, когда задачи точного
перевода еще не стояли) или же Пастернака - в ту эпоху, когда они уже стояли
достаточно остро, но сам автор, работая над переводами, из-за невозможности писать свое,
предпочитал считать перевод таким же видом творчества, как и оригинальное.
Из этого следует, что читать пастернаковские переводы «Сонетов» Шекспира
можно из интереса к Пастернаку, но не стоит из интереса к Шекспиру, потому что в па-
стернаковских переводах Шекспира мы видим Пастернака, а о Шекспире подчас
не можем даже догадываться (Швейцер А.Д. Пастернак - переводчик: к вопросу
о стратегии перевода // Язык. Поэтика. Перевод. Московский государственный
лингвистический университет. Сборник научных трудов. Вып. № 426. М, 1996.
С. 155-161). Столь же вольными, хотя и на иных основаниях, были и переводы
Сонетов Шекспира Маршаком, о чем см. далее.
3 Все эти антиномии и некоторые другие перечислены в книге: Ср. Savory Т. The
Art of Translation. Boston, 1968. Сходные мысли и аналогичные антиномии (со
ссылками на Сейвори или без таких ссылок) высказывали И. Левый, Швейцер,
Комиссаров и многие другие крупные теоретики перевода. Ср. также: Крюков А.Н. Анти-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 507
и т. д. и т. п. Но есть и еще более важная антиномия: должен ли
перевод подводить читателя к пониманию текста на оригинальном
языке или же так преобразовать текст, чтобы сделать его
доступным культуре и читателю языка перевода? В наши дни нередко
звучит мнение, согласно которому рассуждать об оригинале
вообще нет смысла: зачем спорить о верности оригиналу, если у
каждого цивилизованного народа в ту или иную эпоху есть свой
Гегель, свой Кант, а теперь вот уже и свой Хайдеггер? И к тому же
в каком-то смысле перевод все равно невозможен - во всяком
случае при радикально разных структурах языков. На это можно
ответить, что человеческий опыт в основных своих чертах
соизмерим, равно как соизмеримы и способы его осмысления, а потому
и доводы сторонников тезиса о непереводимости нельзя считать
убедительными, несмотря на множество аспектов оригинала,
которые реально не переводятся, а также те аспекты перевода
(например, связанные со структурой и семантикой языка перевода),
которые в оригинале отсутствуют, а в переводе появляются. Даже
в случае работы с текстами радикально несходных языков перевод
все равно возможен: более того, он может указать культуре
оригинала и культуре перевода важные пути взаимопрояснения.
На примере греческого в сопоставлении с китайским это ярко
демонстрирует в своих многочисленных работах французский
исследователь Франсуа Жюльен1. Общность между радикально
различными языками и культурами может быть найдена в самой
способности перемещаться от одной формы умопостигаемости
к другой: в итоге таких перемещений происходит многократное
реконфигурирование, рекатегоризация мысли и в итоге
намечается общая сфера интеллигибельности.
И все же: что стоит, например, за Илиадой во всех ее переводах
на разные языки - вещи в себе, к которым у нас все равно нет
доступа, или какие-то иные вневременные идеальные сущности?
номии в теории перевода и их разрешение // Язык. Поэтика. Перевод.
Московский государственный лингвистический университет, Сборник научных трудов.
Вып.№ 426. М., 1996. С. 100-111.
1 Жюльен Ф. Трактат об эффективности. М., 1999; ср. также: Jullien F. Fonder la
morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe des Lumières. Paris, 1995; Idem. Le
détour et l'accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce. Paris, 1995; Idem. L'ombre au
tableau. Du mal ou du négative. Paris, 2002; Idem. Si parler va sans dire. Du logos et
d'autres ressources. Paris, 2006, и др. Об этом авторе см., в частности: Oser construire.
Pour François Julien. Paris, 2007. Две книги Φ. Жюльена («Путь к цели: в обход или
напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции». М., 2001, и «О "времени".
Элементы философии "жить"». М., 2005) передены на рус. яз. В. Лысенко. Она
сопоставляет принципы перевода разноязычных текстов философии. Ср.: Лысенко В.Г.
О переводе санскритских философских текстов // Труды русской
антропологической школы. Вып. 2. М., 2004. С. 220-228.
508
Познание и перевод. Опыты философии языка
Реальное осмысление перевода, чем дальше тем больше,
отказывается от однозначных решений. Это относится и к главному
вопросу - о переводимости и взаимопереводимости: речь идет
скорее о мерах, степенях, о некоем асимптотическом приближении
к оригиналу, и при этом об интенциях, тенденциях, установках
переводчиков. Так что действует здесь не логика абсолютного
максимума, но скорее логика оптимума, при обязательном
наличии компромиссов. Предвидеть весь набор факторов и
обстоятельств, которые необходимо учесть при выборе эквивалента,
не сможет даже самый продвинутый компьютор, не говоря уже
о том старателе на ниве машинного перевода, которому - судя по
забавным примерам, приводимым Умберто Эко, - не удавалось
отличить Дух Божий от алкоголя (spirit), а Сочинения Шекспира
от Предприятий Шакеспеаре (Works of Shakespeare).
Работа перевода — это очень важный способ понимания
познавательной деятельности. В процессе рецепции новых
произведений, новых мыслей, чувств, выражений — он может идти и
спонтанно и осознанно — происходит перенос текстов, смыслов,
концепций из одного культурного контекста в другой. В период
культурных кризисов особенно важным становится осознанный
подход, учет и преодоление разрыва основных контекстов -
прежде всего контекстов создания и восприятия текстов. Подчас
переводчик работает, как Сталкер, переводя нас через трясину, когда
нет иного пути. Переводчик выступает одновременно и как
проводник, и как перевозчик - через культурные, языковые,
концептуальные границы1. Что мы переводим - слова? идеи? Кто
переводит и по какому праву? Для кого и с какой целью
осуществляется перевод? Как он делается? В зависимости от ответа на все
эти вопросы переводы могут делаться по-разному, они могут быть
ориентированы на малоподготовленного или же на опытного
читателя, на воспроизводство оригинала или же на развитие
национального языка, на первичное знакомство с памятником, когда
самое важное - содержание, или же на повторный перевод, когда,
как правило, большее внимание уделяется жанрово-стилистичес-
кой специфике оригинала. Сами термины, обозначающие в
культуре то, что переводится, и результат перевода на другой язык
в наши дни далеко не всегда называют «оригиналом» и
«переводом». Чаще здесь используются две основные метафоры. В
английском языке перевод метафорически мыслится как
прицельная стрельба в тире (соответственно язык перевода именуется
target-language); при этом процедуры, посредством которых чужой
1 В Словаре Российской академии, вышедшем в конце XVIII в., переводчик
предстает как «преводник» (с буквой «омега»).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 509
текст втягивается в свою культуру или, напротив, подтягивает
читателя к культуре оригинала, обозначаются, соответственно,
глаголами «domestificate» и «foreignize»1. В итальянском или
французском для этого используется иная, транспортная метафора: язык
перевода характеризуется как «пункт прибытия» или «пункт
назначения» (langue ou texte de destination)2.
И тем не менее среди всего спектра позиций вычленяется одна
главная антиномия, которая, полагаю, не может быть ни
диалектически синтезирована, ни снята. Именно эта антиномия
организует все пространство дискуссий о переводе, и соответственно
принятие той или иной позиции организует далее всю
переводческую работу. Важнейшая историко-культурная заслуга в
формулировке этой антиномии принадлежит Фридриху Шлейермахеру.
Это сейчас нам кажется, будто сама эта антиномия осознавалась
всегда и ее ясная формулировка никакого открытия в себе не
содержит. Однако это не так. Вот как ставит вопрос Шлейермахер
в своей знаменитой работе «О различных методах перевода»:
«Либо переводчик делает все возможное, чтобы оставить в покое
писателя, и движет ему навстречу читателя, либо он делает все
возможное, чтобы оставить в покое читателя, и движет ему навстречу
писателя. Эти два пути настолько отличны друг от друга, что, встав
на один из них, нужно пройти его до конца со всей возможной
строгостью. От попытки пройти оба пути сразу можно ожидать
лишь самых сомнительных результатов с риском потерять как
писателя, так и читателя»3. Так вот они — два пути, между которыми
1 Когда мне довелось переводить итоговый документ по программе «Сложности
перевода текстов социальных наук», составленный по-английски, я решила
перевести «domestificate» и «foreignize» обыденно-юмористическими словами
«одомашнить» и «обыностранить», хотя в других переводах с английского мне где-то
уже попадались величественно-нелепые в русском языке слова «форенизировать»
и «доместицировать». Боюсь, что в связи с укрепившейся ныне тенденцией к
латинизации русскоязычной терминологии, именно эти слова как раз и укоренятся
в русском терминологическом языке.
2 Соответственно во Франции с легкой руки известного специалиста по теории
перевода Ж.-Р. Ладмираля переводчики, которые ориентируются более на
оригинал, именуются sourciers (от слова source - источник), а те, что ориентируются на
язык перевода, - ciblistes (от слова cible - мишень, цель). При этом Ладмираль
совершенно справедливо отмечает, что между теоретическими декларациями
переводчиков и их конкретной практикой подчас обнаруживаются значительные
расхождения. Так, Беньямин и Берман, в теории явные сторонники опоры на
источник (sourciers), на практике нередко оказывались защитниками
потребностей читателя перевода (ciblistes).
3 Шлейермахер Ф. О разных методах перевода. Лекция 1813 года.
Schleiermacher F . Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens. Paris (éd. bilingue), 1999.
P. 48.
510
Познание и перевод. Опыты философии языка
переводчику приходится выбирать: либо он продвигает читателя
в сторону писателя, либо, наоборот, - писателя в сторону
читателя. Разумеется, Шлейермахер был не единственным, кто заметил
это противоречие1, однако именно он выразил его с наибольшей
ясностью — как практическую и теоретическую антиномию: пути
возможны различные, но идти можно только одним из них,
избегая смешения, так как в противном случае писатель и читатель
могут вообще не встретиться. Анализируя этот тезис, Умберто Эко
полагает, что такой строгий критерий применим либо к древним,
либо к культурно несхожим текстам2. Позволю себе с ним не
согласиться, опираясь на авторитет русского филолога и
переводчика М.Л. Гаспарова, который в принципе относил то, что можно
было бы назвать «строгим критерием Шлейермахера», к любым
текстам.
Рефлексия над переводом выводит из этой антиномии
несколько важнейших следствий. Любой перевод оказывается не
только лингвистическим, но и культурным и концептуальным
явлением, а потому не существует перевода лишь с языка на язык,
но всегда также и перевод с культуры на культуру. Если
недооценить это обстоятельство, перевод может вовсе не войти в чужой
контекст или остаться в нем незамеченным. Но если его
переоценить, возвеличив инстанцию «читателя» в ущерб «писателю»,
перевод «с культуры на культуру» может вообще перестать быть
переводом и стать как бы самодовлеющим образованием в культуре
языка перевода.
1 Этот же принцип фактически формулирует и П.А. Вяземский, который
работал над своими переводами с французского в тесном контакте с Пушкиным. Ср.
у Вяземского: «Есть два способа переводить: один независимый, другой
подчиненный. Следуя первому, переводчик, напитавшись смыслом и духом подлинника,
переливает их в свои формы; следуя другому, он старается сохранить и самые
формы, разумеется соображаясь со стихиями языка, которые у него под рукою.
Первый способ превосходнее, второй невыгоднее; из этих двух я избрал последний» //
Вяземский П.А. Адольф. Роман Бенжамен-Констана. От переводчика (1831) /
Антология: Перевод - средство взаимного сближения народов. М., 1987. С. 34.
Другой вид той же самой антиномии (перевод перестраивающий - перевод
воссоздающий) формулирует блестящий переводчик советской эпохи М. Лозинский.
2 Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 230.
При этом Эко утверждает, что выбор ориентации (на источник либо на адресата)
остается критерием, который подлежит обсуждению «от фразы к фразе». Позволю
себе не согласиться и с последним утверждением. Выбор ориентации при
переводе того или иного произведения, разумеется, реализуется и конкретизируется на
любом малом фрагменте текста, однако в целом - это стратегический выбор,
относящийся ко всему произведению, а не «адхокный», тактический выбор по случаю,
хотя, разумеется, в разных конкретных случаях этот принцип может применяться
более или менее последовательно, более или менее жестко.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 511
Другое следствие этого тезиса о необходимости выбора
заключается в признании ограниченности любого перевода. Ни один
перевод не переводит абсолютно все, что-то неизбежно остается
непереведенным. Что именно — это нам предстоит каждый раз
решать, причем желательно, чтобы этот отбор был продуманным,
а не случайным. Так, при переводе стиха верность ритму и
мелодии неизбежно придет в столкновение с грамматикой и смыслом.
Если в художественном произведении переводчика больше
интересует этическая сторона, то стилистические красоты отойдут на
задний план, если же переводчик постарается полностью овладеть
музыкальной стороной, в пренебрежении окажется логический
элемент, и т. д. и т. п. При этом в работе перевода действуют
механизмы компенсации: то, что трудно выразить на одном уровне,
можно попытаться провести через другой, то, что невозможно
высказать в данном месте, можно ввести в другом, и пр. Всякий, кто
хотя бы раз сравнивал стихотворный оригинал с переводом,
воочию убеждался в том, как различно распределяются в оригинале
и переводе возможное и невозможное, места абсолютных
принуждений и места относительной свободы, как при переводе
текстов разного рода на общеязыковые ограничения накладываются
слои других ограничений, и пр.
Среди классических сочинений о переводе стихов — «Фиалки
втигеле» В. Брюсова (1905)1. Эта фраза - цитата из Шелли.
Разложить фиалку на составные элементы и потом вновь ее создать —
вот задача того, кто задумал переводить стихи. Тайна
стихотворного впечатления связана с его образным строем, а еще раньше
того — с языком: в тесноте стихотворного ряда слова ведут себя
иначе, нежели в обыденной речи. У поэтов всегда возникает
искушение бросить понравившуюся им фиалку чужих полей в свой
тигель. Так, Пушкин переводил Парни, Шенье, Мицкевича;
Лермонтов - Байрона, Гейне, Гёте; Тютчев - Гейне, Гёте, Шиллера;
большую часть жизни отдал переводам Жуковский, Фет
переводил всю жизнь - немцев, а также Горация, Вергилия, Овидия, Ти-
булла, Катулла. Все эти поэты и сами были способны творить
и творили, однако их постоянно влекло к «бесплодному» и
неблагодарному труду — воспроизводить чужеязычные стихи
по-русски. И делалось это, по-видимому, вовсе не из снисхождения к
необразованным людям, но скорее из желания «овладеть чужим
1 Брюсов В.Я. Фиалки в тигеле (1905) // Перевод - средство взаимного
сближения народов. М., 1987. С. 291-297. Ср.: «Стремиться передать создания поэта с
одного языка на другой - это то же самое, как если бы мы бросили в тигель фиалку,
с целью открыть основной принцип ее красок и запаха. Растение должно
возникнуть вновь из собственного семени или оно не дает цветка - в этом-то и
заключается тяжесть проклятия вавилонского смешения языков». Там же. С. 291.
512
Познание и перевод. Опыты философии языка
сокровищем», показать, что и свой язык может не только вместить
чужой творческий замысел, но и достойно развернуть его. И пока
с рода человеческого не снимется проклятие вавилонского
смешения языков (а этого, сетует Брюсов, никогда не случится), тиге-
ли для разложения фиалок на составные элементы останутся во
всех поэтических лабораториях1...
Тот же принцип — отбора того, что подлежит переводу, -
относится в принципе и к переводу прозы, философских текстов. Так,
Ницше можно переводить как писателя, введшего определенную
литературную традицию, или как автора философского текста,
хотя и непривычного по форме, и соответственно результаты таких
подходов будут разными. Кто-то скажет: перевод тем лучше, чем
больше он смог учесть всего понемногу: немножко автора,
немножко читателя, немножко ситуацию создания, немножко
ситуацию рецепции и так далее. Однако такой подход - всего
понемногу и всегда непоследовательно - невозможно признать
продуктивным: более ценными представляются последовательные
переводы, которые акцентируют тот или иной осознанно
выбранный аспект произведения. Кроме того, напомним, существенно
различны в культуре места первого и последующих переводов:
одно дело первый, ознакомительный перевод, который, как
правило, приближает подлинник к возможностям и вкусам читателя,
другое дело — последующие переводы, которые, как правило,
больше ориентируются на подлинник и стремятся точнее его
передать.
При переводе прозаических текстов культуры, различного рода
интеллектуальных документов эпохи главным проблемным
стыком при переводе становится пересечение проблем семантики
и прагматики. Так, вопрос о семантической эквивалентности
перевода оригиналу уводит нас в дебри проблем референции,
универсалий, теории значений, воплощения идеальных значений
в терминах конкретных языков и др. Вопрос о прагматической
эквивалентности укажет на область реальной прагматики
оригинала, которую нам предстоит передать на другом языке (это может
быть манифест или руководство к медитативным практикам,
научный текст или отчет какой-нибудь неправительственной
организации2 и др.); задачей перевода в любом случае будет воссозда-
1 Там же. С. 293.
2 Замечательным опытом эксперимента с разнофункциональными переводами
было для меня участие в программе, организованной Американским советом
научных обществ (ACLS), которое проводило опыт по переводу текстов разных жанров
на разные языки и их сопоставительного анализа, результатом которого стало
общее «Руководство по переводу текстов социальных наук». Участвовавшие в экспе-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 513
ние коммуникативного эффекта, производимого оригиналом
в его культуре, с учетом различий между двумя языками и
культурными ситуациями, а также условий рецепции перевода. В любом
случае над переводческой эмпирией надстраиваются те или иные
типы теорий перевода: они всегда так или иначе ориентированы
на практику, но при этом могут быть и
нормативно-предписывающими (делай так), и описательными (делают так), и
продуктивно-прагматическими (для такой-то цели можно делать так,
для другой — иначе).
Таким образом, рефлексия о переводе (рефлексия перевода)
показывает нам, что единственно правильных решений о том, как
следует переводить, не существует: это зависит от эпохи, от
качественной стадии развития культуры (экстенсивной или
интенсивной, направленной на охват все новых слоев читателей или же на
более глубокое овладение новыми содержаниями), от того,
впервые или же повторно произведение переводится в данной
культуре, и от многого другого. Однако все это вовсе не означает, что не
существует вообще никаких переводческих критериев. Они есть,
только построить на основе теоретического или практического
применения этих критериев общую теорию перевода оказывается
задачей пока что невыполнимой, а быть может и не актуальной.
Дело в том, что ныне существующие переводческие теории
настолько исключают одна другую, что оказываются не способны
конфигурироваться и образовывать общее поле проблематики
с надежными внутренними переходами. А потому то, что я здесь
предлагаю, это не столько теория, сколько позиция. Она
складывается на пересечении различных теорий, учитывая и взаимно
ограничивая их претензии. Представляется, что эта позиция,
средоточием которой является взаимосвязь познания и перевода,
удачнее всего позволяет соотнести и взаимоувязать фрагменты
рименте переводчики (с английского, французского, русского и китайского)
должны были в сжатые сроки перевести восемь текстов разных жанров,
параллельно ведя дневник переводческих сложностей. Среди попавшихся мне, как
подопытному кролику, текстов были главы из научных монографий, статья для широкого
читателя (это была замечательная статья П. Рикёра о переводе, впервые
опубликованная в интеллектуальной газете «Монд»), годовой отчет о работе «врачей без
границ», юридический документ и листовка - из разряда тех, что вешаются на заборе,
привлекая публику к участию в демонстрации или акции протеста. Чувствами
и впечатлениями переводчика в экспериментальной ситуации я надеюсь в
будущем поделиться с читателями. Текст итогового руководства - Guidelines for the
Translation of Social Science Texts. American Council of Learned Societies, N.Y., 2006 -
вышел в переводах на арабский, китайский, французский, японский, русский,
испанский и вьетнамский языки. Ср. также: ACLS Web site: wwww.acls.org/sstp.htm.
Этот текст должен рассматриваться как промежуточный итог в продолжающейся
дискуссии и как призыв к дальнейшему обсуждению.
514
Познание и перевод. Опыты философии языка
наличного материала. М.Л. Гаспаров, с которым мы много
обсуждали проблемы перевода, предложил емкую формулу: «Перевод
есть равнодействующая того, что переводчик должен, может и
хочет: что он должен, задает подлинник, что он может, определяют
средства его языка; что он хочет - это его предпочтения и вкусы,
по которым он отбирает что-то из этих средств»1. В этой формуле,
связующей должное, возможное и желаемое, именно
соотношение этих трех факторов определяет, каким быть переводу. Она
предлагалась в ответ на задачу анализа поэтического перевода.
Однако она безусловно применима и к переводу философской
и научной литературы, где большинство проблем возникают на
стыке между лексико-семантическими возможностями оригинала
и лексико-семантическими возможностями перевода.
Рефлексия о переводе дает нам важные эпистемологические
прояснения. Она позволяет заметить, что в переводческой
практике и в осмыслении перевода нередко улавливается то, что
остается незаметным в других познавательных актах: дело в том, что
в процессе перевода некоторые важные познавательные приемы
впервые получают доступ к вербальному выражению и тем самым
переходят в регистр, доступный наблюдению, операционализа-
ции, проверке. Рефлексивная установка выявляет в переводе
сдвинутость, несамотождественность всех истоков, корней и
первоначал — характеризует любую работу человеческого духа.
Несмотря на постоянно действующую тенденцию к образованию
гипостазированных сущностей, закрепленных в сращениях слов со
смыслами в данном конкретном языке, перевод (совместно с
дискурс-анализом) умеет ей противостоять2.
Вот один-единственный конкретный пример того, как
действует этот механизм гипостазирования. Все мы сталкиваемся
в русском языке с параллельными рядами терминов -
русскоязычных и заимствованных (чаще с латинскими корнями); это
в большой мере свойственно немецкому языку, но не
свойственно, скажем, французскому и английскому. Наличие
терминологического параллелизма имеет свои сильные и слабые стороны: это
1 В письме: Гаспаров М.Л. - Автономовой Н.С. (14 октября 2001, из Энн Арбо-
ра, Мичиган). В письме он рассказывал о своем докладе и о поиске формулы,
которая могла бы связать материал; этот доклад на манделыитамовской
конференции в Принстоне был опубликован: Гаспаров М.Л. 319 сонет Петрарки в переводе
О. Мандельштама: история текста и критерии смысла //
Человек-культура-история: В честь семидесятилетия Л.M. Баткина. М., 2002. С. 323-337.
2 Один из способов такого противостояния - отказ от единожды достигнутого
как вечного и постоянная готовность к коррекции и самокоррекции в свете иного
опыта.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 515
дает возможность различать тонкие оттенки смыслов, но нередко
приводит к умножению сущностей. Отсутствие
терминологического параллелизма придает существующим терминам большую
определенность, однако порождает огромные затруднения при
переводе с языков, имеющих такие параллельные
терминологические ряды. Используя такие термины, как «реальность» и
«действительность», «деятельность и активность», «общение и
коммуникация», выдающийся русский философ Г.С. Батищев упорно
наделял «местные» термины этого ряда, а именно
«действительность», «деятельность», «общение», безусловно положительными
смыслами, а соответствующие слова с латинскими корнями —
«реальность», «активность», «коммуникация» — сугубо
отрицательными: первые, как ему казалось, являли высокий нравственный
смысл, а вторые лишь рассудочно фиксировали специфику тех
или иных прагматических ситуаций.
Впрочем, в этом Генрих Степанович отнюдь не был одинок
в русской культуре. Задолго до него Вл.С. Соловьев построил
развернутое обоснование сравнительной
концептуально-нравственной значимости таких слов, как «реальность» и
«действительность»1. Так, рассматривая идеи как синтезы формы и материи
или как «действительные реальности», Соловьев уточнял, что
действительность и реальность соотносятся между собою как
производящее и произведенное (natura naturans и natura naturata).
Например, творческая идея художника имеет действительность,
но до своего воплощения она не имеет реальности. По мысли
Соловьева, отсутствие этого ценного концептуального различия,
свойственного немецкому и русскому, в английском и
французском языках подрывает их концептуальные ресурсы,
отрицательно влияет на их философскую судьбу. В самом деле, в русском
и немецком, помимо слов реальность, Realität (они взяты из
латинского источника, подобно французскому réalité и английскому
reality), используются слова «действительность», «Wirklichkeit».
Французский и английский обделены смысловыми
возможностями: одно-единственное слово служит в них и для обозначения
«реальности», и для обозначения «действительности», в результате
чего эти понятия отождествляются. Точнее, «понятие
действительности исчезает, будучи поглощено понятием реальности»2,
вследствие чего француз и англичанин склонны признавать лишь
реализованную, вещественную действительность, лишь то, что
существует в твердых, определенных формах. Так, в английском
1 Соловьев B.C. Философские начала цельного знания // Соловьев B.C.
Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 285-288.
2 Там же. С. 287.
516
Познание и перевод. Опыты философии языка
языке акцент на вещественном заметен на таких понятиях, как
«ничто» (нем. nichts) (оно передается как «nothing», иначе говоря,
не вещь или никакая вещь) или «нечто» (нем. etwas) (оно
передается как «something», иначе говоря, некоторая вещь). Грубый реализм
англичан проявляется также и в словах nobody, somebody (то есть,
«никакое тело», «некоторое тело»), передающих смысл никто,
некто. С этими особенностями языка Соловьев склонен связывать
бедность и поверхностность умозрения как у французов (после
Декарта и Мальбранша), так и у англичан.
Разумеется, все эти и другие подобные наблюдения, при всей
их тонкости, обнаруживают склонность к гипостазированию слов
и понятий как вневременных сущностей. Единственное лекарство
против такой субстантивации - исторический взгляд и анализ
слов не в их индивидуальной семантике, но в составе тех или иных
дискурсных практик. Если раздвинуть исторические рамки, мы
увидим, что в русском языке и культуре соотношения между
возвышенной «действительностью» и вещно-телесной
«реальностью» исторически менялись, что можно заметить и на достаточно
коротком отрезке исторической памяти людей старшего
поколения. Даже не имея частотных словарей философских дискурсов
советской эпохи (их создание — дело будущих исследователей),
можно с уверенностью сказать, что из-за преобладания
марксистской парадигмы слово «действительность» господствовало над
«реальностью», было более частым и более значимым. И это —
несмотря на то, что «объективная реальность, данная нам в
ощущении», как известно, пришла в марксистский понятийный язык из
иных, англоязычных философских источников. Однако уже
к концу советской эпохи наметилась тенденция к эмансипации
слова и понятия «реальность», в частности, в философской
психологии (ср. понятие «субъективной реальности»), а в постсоветских
дискурсах «реальность» явно вырвалась вперед по сравнению
с «действительностью» — не в последнюю очередь, в связи с
вырвавшимися вперед переводами с английского и французского,
потеснившими немецкие1.
1 Совсем недавно мне пришлось править перевод моей статьи, посвященной
переводу, для американского журнала, и я сама попала в тупик, не зная, какие
англоязычные эквиваленты предложить переводчику для перевода русскоязычных
«действительность» и «реальность». Впрочем, не будем смотреть на своих иноязычных
коллег свысока. Как рассказывали мне коллеги, преподававшие русский язык
в Гарвардском университете, русский язык оказывается, к примеру, несравнимо
объемнее в области слов, обозначающих эмоции, и несравнимо беднее в области
слов, означающих социальные отношения. Эти наблюдения нужно было бы
конечно проверить, однако очевидно, что там, где мы чувствуем лишь однотонность
и худосочность смысла и склонны мифически трактовать это как нечто субстан-
Раздел второй. Перевод, рецепция» понимание. Глава седьмая. Перевод как... 517
Рефлексия о переводе демонстрирует, что мы всегда имеем
дело не с чистыми сущностями, а с переработанными, сдвинутыми
пластами культурных содержаний, хотя само это обстоятельство
как правило «вытесняется» из актуального поля сознания. Она
представляет перевод как одну из неосознаваемых предпосылок
мысли, как универсального посредника в человеческой жизни
и в культуре. Насущной необходимостью в наши дни становится
построение эпистемологии перевода: именно она позволит
избавиться в этой переводческой работе как от техницизма
лингвистов, так и от спекулятивных импровизаций философов.
Культура и перевод: от спонтанного к рефлексивному
Итак, рефлексия — это философское открытие: рефлексия как
обращенность сознания на самого себя, связанная с
субъективностью, стала основанием всей западноевропейской философии.
В европейской семье находится и Россия, однако ее культурный,
языковой, концептуальный строй имеет свою специфику.
Рассмотрение предъявленного здесь материала позволяет прояснить
некоторые аспекты того, как складывался общий литературный язык,
как строились концептуальные языки, каким образом
формировалось отношение к наследию европейской интеллектуальной
традиции. Здесь будут рассмотрены лишь несколько важных моментов
этого отношения - прежде всего под углом зрения перевода и
познания. Стержневой момент для нас здесь — это траектория
выработки рефлексивного подхода - не только как отточенной
философской процедуры, но и как постепенно складывающегося
отношения к языку, к жизни в культуре, преодолевающего
спонтанность. Этот переход от спонтанного к рефлексивному выводит
на первый план возникновение самой потребности в мысли,
осознание ее роли в делах, торговле, науке, необходимость
взаимодействия с ближними и дальними соседями. Разумеется, философская
рефлексия из этой первичной культурно-исторической рефлексии
прямо не выводится, однако отсутствие такой культурной
потребности в мысли о самих себе, нехватка средств ее формирования
лишили бы философскую рефлексивную работу реальных оснований.
Потребность культуры в рефлексивной установке — это вопрос
о языке литературном, вопрос о языке мысли, вопрос о
концептуальных языках и терминологических ресурсах, необходимых для
развития науки и образования и соответственно — вопрос о
переводе с языка на язык, из культуры в культуру.
циональное, присутствуют какие-то иные смысловые ресурсы, не улавливаемые
сознанием русскоязычного читателя. Так, нам не просто держать в сознании, что
греческий «логос» - это одновременно слово, разум, пропорция и др.
518
Познание и перевод. Опыты философии языка
Вопрос о развитии русского языка как литературного и
концептуально-терминологического имеет огромное значение. К
тому же он нагружен идеологическими обертонами, прямо с языком
и культурой не связанными. Несколько лет назад мне довелось
составлять отчет о состоянии русского языка и его исследований,
преподавания, культурных функций для доклада на юбилейной
конференции, посвященной 50-летию ЮНЕСКО. Некоторые
темы доклада были фактически связаны с нарастающими
тенденциями этнодетерминизма в подходе к языку, культуре, обществу
и прежде всего — с примысливанием этнической, национальной
составляющей в любое изучение общества и культуры. В этой
связи нам важно понять, где вопрос о собственной культурной
специфике должен быть заострен, а где — скорее приглушен или даже
взят в скобки — если, конечно, мы стремимся включить те или
иные локальные процессы в более широкую - общеевропейскую
или даже всемирную перспективу.
Те проблемы, которые важны сейчас для русской культуры,
существенны и для других культур - в частности, в тех новых
государствах, которые были образованы после распада Советского
Союза. Несмотря на так называемые «лингвистические войны»,
происходившие в 1990-е годы, на выдвижение проблемы
национального языка в центр социально-политического
самоопределения, на декларативные заявления о том, что учебники по всем
отраслям знания могут быть в одночасье созданы на том или ином
языке, не имеющем прочных навыков терминологического
словоупотребления, развитие языка и культуры не поддается таким
волевым импульсам. А потому все то, что мы говорим о дефицитах,
нехватках, о необходимости развития русского концептуального
языка, относится также (и даже в еще большей степени) к другим
языкам и другим культурам — украинской, белорусской,
сербской, хорватской и пр.
В русской культуре можно вычленить три основных периода
осознанной работы над языком и переводами - послепетровский
(середина XVII в.), первая треть XIX в. и постсоветский период
(последние два десятилетия). Эта периодизация в известной мере
условна (не менее важен, например, и рубеж XIX и XX в.), однако
при всей ее условности она все же позволяет сосредоточиться на
существенных моментах темы познания, перевода, выработки
средств для познавательной и переводческой работы.
***
Итак, первый период - послепетровский. Общая ситуация,
с которой столкнулась культура, открывавшаяся к Западу,
предполагала осознание ограниченности собственных ресурсов. В си-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 519
лу целого ряда историко-культурных обстоятельств, на которых
мы сейчас не будем специально останавливаться, российская
культура приняла христианство «не на греческом, а на
болгарском», иначе говоря, она взяла античную культуру через
посредство языка, изначально мало понятного людям и постепенно
делавшегося все менее понятным1: Эта картина развития русской
философии, которую рисует Г. Шпет, в наши дни нередко
подвергается критике, в частности, и по отношению к оценке
возможностей церковнославянского языка. Взгляд на историю развития
русской культуры и языка, предлагаемый Шпетом, я отнюдь не
считаю единственно возможным, однако не могу не отметить, что
он (среди всех других мне известных) лучше всего согласуется
с тем эмпирическим материалом, который мне удалось поднять
в работе над темой. В той картине развития русской культуры
и русского языка, которую предлагает Шпет, для меня особенно
важны два концептуальных момента: с одной стороны, трезвая
констатация нехваток и дефицитов, а с другой — фиксация
положительных и продуктивных усилий по преодолению этих
нехваток - как достойная человеческая позиция в культуре.
Отправным моментом и стимулом к развитию были ощущение
(или осознание) культурных и концептуально-языковых нехваток
и стремление к их преодолению. Шпет эмоционально и подробно
I Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии // Шпет Г.Г. Сочинения. М.,
1989. Хотя в этом тексте ссылки на «Очерк развития русской философии» Шпета
даются по изданию 1989 года, необходимо отметить, что за истекшее время
вышли - под ред. Т.Г. Щедриной - новое издание первого тома «Очерка» (Шпет Г.Г.
Очерк развития русской философии. I. М., 2008) и реконструкция материалов ко
II тому: Шпет Г. Г. Очерк развития русской философии. U.M., 2009.
Как известно, с гораздо большим энтузиазмом относился к переводу
священных книг на церковнославянский язык М.В.Ломоносов. В известном трактате
«Предисловие о пользе книг церковных в российском языке» (1758) он, в
частности, писал: «В древние времена, когда славенский народ не знал употребления
письменно изображать свои мысли, которые тогда были тесно ограничены для
неведения многих вещей и действий, ученым народам известных, тогда и язык его не
мог изобиловать таким множеством речений и выражений разума, как ныне
читаем. Сие богатство больше всего приобретено купно с греческим христианским
законом, когда церьковные книги переведены с греческого языка на славенский для
славословия божия. Отменная красота изобилия, важность и сила эллинского
слова коль высоко почитается, о том довольно свидетельствуют словесных наук
любители». И далее: «... Правда, что многие места оных переводов не довольно
вразумительны; однако польза наша весьма велика. При сем хотя нельзя прекословить, что
сначала переводившие с греческого языка книги на славенский не могли миновать
и довольно остеречься, чтобы не принять в перевод свойств греческих, славенско-
му языку странных, однако оные через долгое время слуху славенскому перестали
быть противны, но вошли в обычай. И так что предкам нашим казалось
невразумительно, то нам ныне стало приятно и полезно» // Ломоносов М.В. Избранные
произведения. М., 1986. С. 473-474.
520
Познание и перевод. Опыты философии языка
описывает это состояние: «Языков древнего мира и,
следовательно, языка евангелий и языков отцов церкви мы не знали. Мы не
могли даже переводить. За нас переводили греки, болгары, сербы,
и переводили не на наш русский язык, а на язык чужой, хотя
и близкий к нашему. Но и переводной литературою мы были
нищенски бедны. Невежество, как известно, не только не умеет
отвечать на вопросы, но не умеет и задавать их»1. И в самом деле, если
в Европе по-латыни понимал каждый дьячок, то в России даже
просвещенные люди скорее отстранялись от греческого
интеллектуального наследия2, нежели следовали ему. Одной из причин этого
была, по-видимому, именно культурно-языковая ситуация: принятие
варварским Западом христианства на латинском языке позволило
некоторым общественным слоям и, прежде всего, образованному
духовенству и знати, ощущать себя подлинными преемниками
античной культуры, тогда как русская культура была оторвана от этих
прямых истоков мысли и культуры; а отсюда — все величие задач,
связанных с разработкой собственного языка мысли.
А отсюда - и огромная роль переводной литературы в культуре
московской Руси, которая была отмечена целым рядом историков
и филологов. Тому есть убедительные свидетельства. Среди
важнейших — работы А.И. Соболевского3, который показал гораздо
большее значение переводной литературы, в сравнении с
оригинальной, в период с XIV по XVII в. русской культуре и снабдил
перечень переводов краткими, но емкими филологическими
комментариями, которые и в наши дни позволяют читателю составить
представление о сложностях на пути выковывания русскоязычной
терминологической лексики (ср. его ремарки о языке переводов:
тяжелый; ученый, но неудобочитаемый; удобочитаемый с
вкраплением полонизмов и малорусизмов и т. д. и т. п.). А потому стоит
1 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. С. 55.
2 «...какое у нас могло бы быть Возрождение, если бы наша интеллигенция
московского периода так же знала греческий, как Запад - латинский язык, если бы
наши московские и киевские предки читали хотя бы то, что христианство не успело
спрятать и уничтожить из наследия Платона, Фукидида и Софокла... Вместо того
открывший собою наш московский «Ренессанс» первым провозглашением идеи
третьего Рима старец Елизарова монастыря похвалялся: «Аз - сельский человек,
учился буквам, а еллинских борзостей не текох, а риторских астроном не читах,
ни с мудрыми философы в беседе не бывал, - учюся книгам благодатного закона,
аще бы мощно моя грешная душа очистити от греха». Это - просвещенный
представитель века, в нем уничижение паче гордости. А современная ему
непритязательная приходская паства формулировала просветительные итоги восточного
православия прямее и общее: «земля, господин, такова: не можем найти, кто бы
горазд был грамоте». Цит. по: Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. С. 29.
3 Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков.
СПб., 1903.
Раздел второй. Перевод, рецепция» понимание. Глава седьмая. Перевод как... 521
привести здесь в развернутой форме некоторые свидетельства
Соболевского о развитии переводов в России XIV—XVII вв.
«Переводная литература в древней Руси имела гораздо
большее значение, чем оригинальная.
Она была несравненно богаче, чем оригинальная.
В первые века существования русской письменности число
переводов, сделанных южными славянами с греческого на
церковнославянский язык и перешедших от южных славян к нам,
было довольно значительно. Можно думать, что в это время
русские уже могли читать почти все те южно-славянские
переводы IX-X веков, которые мы знаем по дошедшим до нас
спискам. Между тем число русских оригинальных литературных
произведений было совсем ничтожно».
<...> «С половины XVI века южнославянские переводы, как
древнейшие, IX-X веков, так и более поздние, XIII-XV веков,
особенно первые, перестают в Московской Руси читаться,
будут для русского читателя уже малопонятными; впрочем не без
исключений. Но с того же времени появляются, и чем ближе
к концу XVII века, тем все в большем количестве, - новые
переводы и с греческого, и особенно с латинского, польского и
немецкого языков. Они наполняют собою литературу
Московской Руси XVII века, и среди них почти затериваются русские
оригинальные произведения того же времени».
<...> «Что бы мы ни взяли из области народного
поэтического творчества, верования, легенды, сказки, песни, духовные
стихи - во всем мы заметим следы влияния именно переводной
литературы. Новые эпохи в истории древнерусской литературы
составлялись также переводами; иначе говоря, культурные
движения в Московской Руси находили себе выражение не в
оригинальных произведениях, а в подборе переводов, в стремлении
заимствовать переведенные у южных славян произведения
известного содержания или в усилиях организовать в Москве
переводные работы в определенном направлении»1.
При этом большинство переведенных книг представляли
собой толкование церковных ритуалов, мест из Священного
Писания, святоотеческие произведения; кроме того, переводились
книги по арифметике, геометрии, астрономии, астрологии,
экономии, сельскому хозяйству, коннозаводству и пр. Характерно
также большое количество астрологических и поваренных книг -
что вполне соответствует некоторым предпочтениям нынешнего
Там же. С. V-VI.
522
Познание и перевод. Опыты философии языка
времени. К счастью, историки и филологи собрали и сберегли для
нас бесценную информацию о том, кто, что, как переводил. Эту
работу делали преимущественно переводчики из посольских
приказов, монахи (более образованные, но также вынужденные
переводить все без разбору — и анатомию, и географию, и проповеди);
книги для перевода рекомендовали служилые иноземцы ( среди
них попадались и ценные произведения); переводы делались
большей частью с латинского (как языка науки в Польше и в
Западной Европе), с польского (им владело большинство
переводчиков), а также немецкого, белорусского и голландского; прямые
переводы с других западно-европейских языков в допетровское
время были почти неизвестны. Например, труды римских
классиков, средневековых и современных авторов — немцев, французов,
англичан, итальянцев, испанцев — переводились или с
голландских изданий XVI-XVII в., или с польских переводов. Практика
перевода с оригиналов, без польского посредничества,
начинается в России лишь при Петре I.
В русской культуре огромной проблемой была, таким образом,
неразработанность русского литературного языка и тем более -
русского концептуального языка; отсутствие слов, которые могли
бы стать эквивалентами переводимым терминам и понятиям.
Переводчики и ученые петровского и послепетровского времени
приложили немало усилий к тому, чтобы продвинуться на этом
пути. Если в литературе удалось справиться с этими задачами
достаточно быстро, то в области научной терминологии этот
процесс шел медленнее. Уже в царствование Петра I в России не
только создавались навигацкие, инженерные, артиллерийские школы,
столь нужные отечеству, но и делались переводы книг по
научным, административным, правовым вопросам. Петр призывал
переводчиков писать понятным языком1, считал необходимым
издавать переводы одновременно с подлинниками, поощрял
создание учебников и словарей (так, в его время были изданы
немецкая азбука, а также латинские, славянские, немецкие
словари), заказывал книги для перевода2 и др.
1 «...И не надлежит речь от речи хранить в переводе, - писал он в 1709 году
Никите Зотову, - но точно сенс вразумев, на своем языке уже так писать, как внятнее
не может быть». Цит. по антологии: Перевод - средство взаимного сближения
народов. М., 1987. С. 16.
2 И даже иногда сам проверял выполнение («Почему мешкаете?» - речь идет
о переводе книги Вергилия Урбино о начале всяких изобретений. - «Не выдавать
жалования, пока не переведут!» и пр.). См. об этом: Пекарский П.П. Наука и
литература в России при Петре Великом. Т.1. Введение в историю просвещения в
России XVIII столетия. СПб., 1862. Сведения о переводах и переводчиках этой эпохи
см. нас. 198-263.
Раздел второй. Перевод» рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 523
Среди главных деятелей русского просвещения и
одновременно переводчиков послепетровской эпохи назовем прежде
всего Василия Тредиаковского (1703-1768). Тредиаковский
был переводчиком Академии наук (с 1732 по 1745), потом
профессором красноречия (1745-1759) при академическом
университете. Подчеркивая культурную роль иностранных языков,
он одновременно отстаивал необходимость владения родным
языком. Разработка русского философского языка стала
доступна Тредиаковскому сразу по нескольким причинам. Во-
первых, он был профессиональным переводчиком (и служил
в этом качестве в Академии наук с 1732 по 1745 г.), получил
образование в России (Славяно-греко-латинская академия) и за
границей (Сорбонна, магистр богословия). Во-вторых, он был
профессиональным литератором (придворным поэтом
императрицы Анны Иоанновны), автором трактата, обосновавшего
возможность силлабо-тонического стихосложения в России,
автором литературных произведений, следовавших эстетике
Буало. Наконец, в третьих, он был также «историком
философии» - переводчиком ряда работ (в том числе «Новой
Атлантиды» Фрэнсиса Бэкона), автором собственных философских
произведений. Таким образом, именно широкий спектр умений
и навыков - художественных, интеллектуальных,
переводческих - и позволил ему сыграть такую важную, можно сказать,
основополагающую роль в создании русского философского
языка1.
В своих работах, например в «Слове о премудрости,
благоразумии и добродетели2 - философском трактате о пользе
премудрости и вреде ее хулителей (подразумеваемый предмет
критики в нем - Ж.-Ж. Руссо), Тредиаковский утверждал, что
в мысли (или, как он говорил, в «умствовании») заключается
главное положительное качество рода человеческого. При этом
дело не ограничивалось декларациями: Тредиаковский вел
активную работу по созданию и развитию русского
философского языка, причем делал это вполне систематично. Так,
трактат «Слово о премудрости» написан по-русски. Однако в по-
1 Важнейшую работу в том же направлении проводил и его современник Антиох
Кантемир (1708-1744), который в переводах с французского изобретал
соответствующие русские термины, в языке отсутствовавшие (так, в переводе «Бесед о
множественности миров» Фонтенеля он ввел такие, теперь нам привычные термины,
как плотность, прозрачное и непрозрачное тело, наблюдение и пр.).
2 Тредиаковский В. Слово о премудрости, благоразумии и добродетели //
Тредиаковский В. Сочинения. Т. 2. М.: Издание Смирдина, 1849. С. 481-561.
524
Познание и перевод. Опыты философии языка
страничных сносках к этому сочинению он дал латинские
(классические или средневековые) эквиваленты всех важнейших
понятий, а в конце текста для пользы усвоения «философических
знаний» теми, кому было легче читать трактат по-французски,
привел перечень французских эквивалентов всех основных
понятий, в нем употребленных. По-видимому, такой двойной
перевод был необходимой для читателей поддержкой философского
письма на русском языке. При этом Тредиаковский изобрел
русские эквиваленты для ряда фундаментальных философских
понятий: это бытность, бытие (existentia), существо (substantia),
сущность (essentia), ум (mens), разум (intellectus punis),
разумность (intellegentia), чувственность (sensatio) и др.
Тредиаковский предложил собственно перевод, а не просто
транслитерацию таких социально-политических терминов, как демократия
(его вариант: народодержавие), аристократия (благородных
держава), олигархия (не многих нарочитых начальствование),
монархия (единоначалие царское) и др. Многие понятия, явно
еще не устоявшиеся, приводятся в разных вариантах, таковы
«истина» и «истинство» (veritas), «бытность» и «бытие»
(existentia), «протяжение», «распростертие» (extentio) и др.
Мы, конечно же, сразу обращаем внимание на то, что, хотя
в приложенном словарике французских соответствий есть,
разумеется, и sujet и objet, у Тредиаковского таких привычных
нам теперь философских слов, как «субъект» и «объект», нет:
у него это соответственно «подлежащее» и «предлежащее».
Понятие «образование» значит у Тредиаковского «воображение»
(вхождение в «образ»), а потому современный читатель
теряется без историко-лингвистического комментария в таких,
например, местах трактата, где «образование» трактуется как
корень, источник страстей. И сейчас для нас интересны такие
предложенные Тредиаковским варианты словопонятий, как
«делание в нашем уме» (operatio), «подвигновение» (impulsio),
«служащий орудием» (Instrumentalis), «данное опытами» (ех-
perimentalis) и проч. По крайней мере, всё это - переводы, а не
просто транслитерации, как в наших нынешних «операции»,
«импульсе», «эксперименте». Universalia (универсалии)
Тредиаковский переводит как «повсемественные», séria - как «ряды»,
что и сейчас представляется актуальным и уместным. В
некоторых случаях мы видим у Тредиаковского процесс поиска
терминов и некоторые не закрепившиеся затем в языке гипотезы -
так, он говорит о числах «целых» и «ломаных» («дробных»). Он
не только делает ряд предложений по переводу понятий из
истории философии, но и вводит само понятие «философской
истории», в которой речь идет о «любителях», «распространите-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 525
лях» и «возобновителях» (очень точный и полезный для нас
сейчас набор терминов) «философического знания».
В своем «Очерке развития русской философии» Г. Шпет, с
пристальным вниманием относившийся к тем аспектам русской
культуры, которые были связаны с развитием языка и других средств
мысли, отмечает, что за столетие между серединой XVII и серединой
XVIII в. было сделано огромное количество переводов1, в частности,
в списках переведенных работ стоял целый ряд греческих и римских
авторов2. Проблема заключалась в другом: эти книги некому было
читать, они почти никого не интересовали: «Но кому, кроме
переводчиков, это было на пользу? Отпечатанные экземпляры кучами
валялись в типографии и на складах, сбывались под макулатуру или
сжигались. Читателя не было. Но — что, может быть, было еще
важнее — языка не было (курсив Шпета)»3. В. Н. Карпов, переводчик
Платона в XIX в., пишет о своих предшественниках Пахомове и Си-
доровском, переводчиках Платона в XVIII в., оправдывая их
педантизм, а также изобилие церковнославянской лексики: «с тогдашним
русским языком можно ли было сделать что-нибудь удачнее?»4.
Шпет заключает, что вряд ли это было возможно: «Россия не вышла
1 Любопытно сравнить эти данные с данными по предыдущим векам. Согласно
П. Милюкову (Милюков П.Н. Очерки по истории русской культуры. Ч. 3.
Национализм и общественное мнение. Вып. первый. Издание второе. СПб., 1903),
статистика русских переводов с иностранных языков по предшествующим полувекам
следующая: 1550-1599 - 16 книг, 1600-1649 - 24 книги; 1650-1699 - 94 книги.
Среди сюжетов переводных работ абсолютно преобладали религия,
нравственность, затем шли история, космография и география, медицина и словари.
Несмотря на подозрительное отношение к иностранцам в Смутное время (кто говорит на
двух языках, тот изменник. - Там же. С. 7), несмотря на изданный в 1672 г. указ
о запрете, наложенном на распространение иностранных книг («в городах, на
посадах и слободах, и в уездах, в селах и деревнях, во всех местах, всяких чинов
людям учинить заказ крепкий с большим подкреплением, чтобы те люди польской
и латинской печати книг никто у себя в домах тайно и явно не держали, а
приносили бы и отдавали бы воеводе»), П. Милюков считает этот указ уже явным
анахронизмом (Там же. С. 109): европеизация надвигалась, и необходимость тесного
контакта с иностранцами была уже на пороге.
2 Шпет Г.Г. Очерк развития русской философии. С. 39.
3 Там же.
4 Там же. Шпет приводит, в частности, свидетельство другого переводчика,
столкнувшегося с той же проблемой - «недостатком слов в изображении
терминов»: «Сей недостаток так было меня тронул, что я начатый уже труд мой рассудил
оставить; однако потом, следуя других совету, что лучше хотя малым чем
отечество пользовать, нежели ничем, предприял оный совершенно кончить».— Основания
умственной и нравоучительной философии обще с сокращенною историею
философическою, сочиненные Иоанном Готтлобом Гейнекцием, с латинского языка на
российский переведенные. Печатаны при Императорском Московском Университете
в 1766 году. См. Предисловие к благосклонному читателю, ad fin». Там же. Сноска 3.
526
Познание и перевод. Опыты философии языка
еще из того состояния, когда у народа нет своего литературного
языка»1. При этом важнейшее для нас — даже не само наличие языковых
и концептуальных нехваток, но скорее то, что в культуре
предпринимались осознанные усилия по развитию русского языка и, в том
числе, русского концептуального языка, причем иногда — на уровне
самой развитой европейской науки.
Одним из самых замечательных памятников истории создания
русского языка как литературного и научного является Словарь
российской Академии, вышедший в конце XVIII в. Он
составлялся по модели Словаря французской Академии. Ряд историков,
в частности, М.И. Сухомлинов, изучавший структуру и принципы
словаря сто лет спустя, считал его исключительно ценным
достижением науки того времени. В самом деле, этот словарь собрал
весь наличный материал тогдашнего литературного языка (434 000
слов), а также представления о языке, о происхождении слов,
об отношении книжных и разговорных жанров, об иностранных
словах и технических терминах в русском языке и др. Члены
комиссии по подготовке Словаря (филологов среди них, к
сожалению, не было, однако тогдашняя филология не была развитой
дисциплиной) собирали слова, начинавшиеся на те или иные буквы
алфавита, составляли таблицы, писали комментарии к словам,
расчленяя их, в частности, на древние, областные, технические.
При этом пояснительный материал брался из трудов российских
1 Там же. С 39. Через 100 лет после свидетельства И.Г. Гейнекция Карпов в
своем предисловии ко второму изданию Сочинений Платона (первый том, 1863)
делится с читателем аналогичными горькими размышлениями: «Найдет ли у нас
Платон довольно читателей? Эта мысль долго колебала меня; я думал,
передумывал, представлял направление нынешнего образования, соображал требования
современного общества, вслушивался в толки о философии, ожидал внушений Со-
кратова гения; но ничто не просветляло моей мысли и не наклоняло ее
к чему-нибудь определенному. Одно только обстоятельство делало легкий перевес
в пользу издания: это - пробуждение духовенства к развитию в своей среде учено-
литературной деятельности и старание министерства восстановить на кафедрах его
училищ здравую и плодоносную в своих основаниях философию. Почему же,
думал я, в такую пору всеобщего стремления к установлению прочной учености
в России не пригодились бы идеи Платона, когда и в прежние времена, за три века
пред этим, его именно творениями открывалась эпоха возрождения наук на западе
Европы?» (Цит. по: Шпет Г. Там же. С. 176). В свою очередь, сомнения мучают
и самого Шпета: «Конечно, перевод Карпова - бессмертная заслуга перед русской
философией. Но не был ли он преждевременен или, наоборот, не запоздал ли он?»
(Шпет Г. Там же). Подробный обзор русских переводов и оригинальных работ по
истории философии, преимущественно древней, см. в книге: Ященко Л. Русская
библиография по истории древней философии. Юрьев: Типография К. Маттисе-
на, 1915. Наряду с обзором энциклопедических словарей и хрестоматий, а также
сочинений по отдельным периодам и отдельным частям философии, в этой работе
содержится ценная обобщающая информация о русских переводах Платона
и Аристотеля.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 527
писателей (Ломоносов, Сумароков), из летописей, из
предшествующих изданий различных словарей. Согласно филологическим
понятиям того времени, русский и церковнославянский
рассматривались не как отдельные языки, но как разные способы
выражения; различия между ними не в содержании, а в стиле: говорить
надо по-русски, а писать по-славянски (русский язык называется
в словаре то российским, то славянороссийским). В словаре было
представлено не только московское наречие, но также элементы
наречий Малороссии, Сибири, Камчатки, Урала, Поволжья и др.
При издании Словаря активно обсуждался вопрос о том, стоит ли
включать в словарь только общеупотребительные слова, или также
слова, взятые из различных искусств, наук и ремесел. В результате
споров одержало верх второе мнение, причем было решено
представлять эти понятия «или принятыми уже русскими словами,
или вновь, по правилам произведения слов, сделанными»1. И это —
свидетельство важнейшей культурной установки — осознания
необходимости вырабатывать язык понятий, действительно
овладевать заемными средствами мысли, а не просто имитировать,
транслитерировать их внешний облик.
Таким образом, в этом Словаре было впервые в русской
культуре систематически проведено научное требование —
вырабатывать русскоязычную терминологию в различных областях знания.
При этом самые даровитые и осторожные не изобретали русские
слова по собственному произволу (как это делал потом адмирал
и писатель Шишков, требовавший русификации любой ценой),
но обращались в поиске слов к древним формам русского языка.
Наряду с общим требованием строить русскоязычные слова, в
порядке исключения допускалось и использование иностранных
(среди них были, в частности, математические понятия,
обозначения чинов и должностей, а также ряд слов бытового значения,
вошедших в обиход из-за долгого соседства с азиатскими народами),
как уточняла кн. Дашкова, бывшая тогда президентом
Российской Академии. Судить о результатах выполнения этого
предписания мы можем теперь по итоговым спискам терминов,
предложенных в Словаре: так, медицина именуется там «врачебной
1 Сухомлинов М.И. История российской Академии. Вып. 8. СПб., 1887. О
словаре российской Академии. С. 111. Для составления Словаря было решено
пригласить членов Академии, компетентных в той или иной области, «чтобы они, всяк со
своей стороны, в той науке, в какой кто упражняется, составили слова по корню
российскому» (источник курсива в книге не указан. - H.A.). Там же. С. 111. Так как
специалистов-естествоиспытателей среди членов Академии было явное
большинство, наиболее разработанной в русском языке оказалась - вперед, на века, мы это
чувствуем и поныне — именно естественно-научная терминология, в частности,
названия видов животных, птиц, растений...
528
Познание и перевод. Опыты философии языка
наукой», ботаника — «травоведением», география —
«землеописанием», астрономия — «звездословием», библиотека —
«книгохранилищем», обсерватория - «наблюдалищем» и др.1. Как видим,
ни одно из этих нововведений не удержалось в
терминологических слоях русского языка: все они были позднее заменены
словами с иностранными (латинскими или греческими) корнями.
Но сама установка на развитие родного языка при умеренно
сдерживаемом заимствовании иностранных слов весьма поучительна
и для всех дальнейших периодов русской культуры и истории,
в том числе настоящего2. В целом, несмотря на отдельные
допущенные ошибки (особенно в вопросе происхождения слов),
ученые последующих поколений считали Словарь «превосходным
произведением», а Карамзин, например, подчеркивал, что в этой
работе Академия впервые обратила внимание на необходимость
филологической разработки русского языка. Так что можно быть
уверенными: герои и предшественники на ниве
словесно-терминологической у нас есть.
***
Второй важный период русской культуры, в который была
осознана необходимость переводов и выработки понятийного языка,
связан с самым важным после Петра событием - Отечественной
войной 1812 года и походами в Европу 1813-1814 гг.: они имели
широкое образовательное значение, требовали установления
многообразных культурных связей с Европой. Военная победа над
Наполеоном лишь подчеркнула социальные и культурные
дефициты русской культуры на фоне культуры европейской. С какими
ресурсами входит в этот культурный мир Россия? Об итогах
предшествующего периода в развитии образования, культуры, языка
есть немало свидетельств. Среди них - живые конкретные
наблюдения. Вот одно частное, но весьма характерное свидетельство
дефицитов русского концептуального языка; его дает нам немецкий
профессор Роммель, работавший по приглашению в Харьковском
университете. Его наблюдение над жизненными установками
и интеллектуальными ориентирами российских студентов отно-
1 Там же. С. 112-118.
2 Что же касается Словаря, то в нем в результате общей стратегии работы,
направленной на создание собственных терминологических ресурсов,
заимствованные иностранные термины составили лишь одну пятидесятую часть общего
словарного объема. В порядке убывания это были слова греческие (342), латинские
(107), французские (92), татарские (33), а кроме того, еврейские, польские
арабские, турецкие, итальянские, венгерские, шведские и даже одно норвежское,
сарматское («вор» - русское «тать»).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 529
сится к первым двум десятилетиям XIX в. Сейчас оно может
показаться нам парадоксальным, но тем более стоит внимательно к
нему приглядеться. Вот оно, это свидетельство, приводимое в книге
профессора Багалея, посвященной истории Харьковского
университета. «Вообще везде высказывалось преобладающее
стремление русских к практическим наукам, в особенности к
математике, в которой они оказывали (так! — H.A.) изумительные успехи.
Зато понимание высшей философии и филологии было почти
недоступно им. Так впоследствии при переводе одним студентом на
русский язык моего введения в дидактику, в котором встречались
отвлеченные понятия: ум, разум, остроумие и другие душевные
качества, я заметил, что они сами не понимали тонких различий
своего органического, отмеченного печатью древности, языка или
же открывали эти отличия только чрез сравнение с
соответствующими корнями немецких слов»1.
Сразу замечу: немецкий профессор, по-видимому, был прав,
упрекая студентов в незнании родного языка и его
концептуальных возможностей, однако, он явно неправ, упрекая студента —
переводчика своей работы - в том, что он улавливает специфику
русскоязычной терминологии лишь при сопоставлении ее с
немецкой: на ранних стадиях развития концептуальных языков
только так и можно уловить специфику терминологических
возможностей родного языка. При этом проф. Багалей
проницательно уточняет причины и основания настороженно-опасливого
отношения студентов к «высшей философии и филологии»: «Что же
касается трудности усвоения высшей филологии и философии,
то она объясняется неразработанностью тогдашнего русского
научного языка, и в этом деле иностранные профессора, не знавшие по-
русски, не могли оказать слушателям никакой помощи и поддержки
(курсив мой. — H.A.)»2. Необходимо еще раз подчеркнуть оба эти
тезиса: ресурсы собственного языка становятся нам заметны лишь
в сопоставлении его с другими языками, однако развить свой язык
и концептуальное мышление, заполнить концептуальные
дефициты можем только мы сами — иностранные профессора тут не
при чем. Впрочем, кажется, вскоре цифры обучающихся
естественным наукам, с одной стороны, и философии с филологией, —
с другой, выравниваются, во всяком случае философов и
филологов становится больше, чем в тот момент, о котором пишет проф.
Роммель. И этому поколению образованных людей предстояло
взять на себя осуществление культурной задачи по развитию рус-
1 Проф. Багалей Д.И. Опыт истории харьковского университета. Том 1-6.
(1802-1815). Вып. 1-3. С. 829.
2 Там же. С. 829-830.
530
Познание и перевод. Опыты философии языка
ской культуры, русского языка, русскоязычной терминологии.
Однако без определенной рефлексивной установки, без
определенной позиции в культуре эта работа осуществляться не могла.
Как известно, судьба философии и ее преподавания в России
была тесно связана с революционными событиями в Европе 1830,
1848,1871 гг., когда каждый раз под подозрение попадали кафедры
философии как источники европейской мыслительной «заразы».
В середине XIX в. знаменитая формула Ширинского-Шихматова:
«польза философии не доказана, а вред от нее возможен» -
комично противоречила стараниям профессоров уваровского времени
доказать пользу философии. Специфика развития русской
философии - с точки зрения вопроса о формировании понятийного
языка и средств мысли — заключалась в том, что предметом, на
котором впервые пробудилось рефлексивное отношение к предмету
и потребность в формировании осознанной мысли о нем, стала
литература, а не наука, как это было в Европе. И произошло это
одновременно с творческим усвоением и пересозданием гениями
Пушкина и Жуковского европейского романтизма.
В любом случае, без предварительной духовной работы
философия появиться не могла: требовалось выработать не
утилитарное, а рефлексивное отношение к культуре, к мысли. Рассуждая
об этой культурной необходимости, Г. Шпет опирается на
Виктора Кузена и заимствует у него представление о рефлексивной
установке в противовес спонтанной. Это различение в контексте
вопроса о генезисе философской установки в культуре
представляется мне удачным и полезным, и я тоже им пользуюсь. Кузен,
по мысли Шпета, «удачно выбрал термины, противопоставив
познание спонтанное познанию рефлексивному. Первое дается всем,
второе - немногим, желающим отдать себе отчет в первом, из
чего и видно, что второе без первого не бывает, но зато оно
способно вновь стимулировать это первое»1. А отсюда - важнейший для
нашего рассуждения поворот мысли: в русской культуре не было
еще науки, над которой можно было бы рефлектировать, но уже
развивалось культурное творчество, работа над языком, шло
создание собственной литературы: прежде всего язык и был
объектом культурного творчества, а затем — литература и история.
В свете этого представления о рефлексии над языком становится
ясно, что когда россияне в петровский и послепетровский период
призывали немцев в учителя, это учение вполне могло касаться
навыков мысли, но еще не имело подлинно своего предмета, -
можно даже сказать, что предмет этот оказывался в известном
смысле фиктивным (objectum fictum), что научной рефлексии не
Шпет Г. Там же. С. 312.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 531
на чем было развиваться. А отсюда и вопрос: какой от всего этого
прок? Быть может, это хотя бы в какой-то мере оправдывает
незадачливого студента профессора Роммеля из Харьковского
университета, а также тех студентов, которые некогда увлекались
утилитарными материями и не особенно стремились учиться
философии и филологии.
Отныне побуждение к рефлексивной работе все отчетливее
прорастало в культуре. Одно дело — спонтанное развитие русской
народности, другое - «луч рефлексии», который подталкивает
к построению сознательной истории. В этом поиске опоры для
самостоятельного движения и обреталось, уже как определенная
внутренняя установка, «непреодолимое побуждение к
рефлексивной работе мысли»1. Особую роль в этом процессе, подчеркивает
Шпет, сыграло освоение европейского романтизма: на российской
почве он «превращался из чувства в философскую задачу, в
радикальном решении которой рассеивалась сумеречность
спонтанного переживания»2. Собственная литература, развивавшаяся в
России, уже имела свой собственный объект для размышлений. И это
был момент эмансипации от внешних влияний: раз литература
образовывалась своя, значит и рефлексивный отклик на нее должен
был быть своим. Восприятие французской культуры
(протагонистом этого процесса был Карамзин), а также немецкой культуры
(протагонистом этого процесса был Жуковский) привело к
необходимости не только почувствовать, но и понять, как именно эти
влияния могут у нас преломляться: усваивая их, «нужно было
отдельно учиться применить их к решению своей проблемы (курсив
мой. — H.A.)»3. Под совокупным воздействием французского,
немецкого, английского романтизма в России возникло нечто свое,
национальное. Одна из возможных параллелей, которая
заслуживала бы отдельного изучения, — это создание немецкого
концептуального языка, давшего толчок развитию немецкой философии
в первой трети XIX в. Немецкий терминологический язык
интенсивно вырабатывался начиная со второй половины XIX в., однако
романтическая эпоха дала ему новый импульс.
При этом возникло интереснейшее культурное явление,
которое мы не всегда учитываем сейчас, рассуждая, например, о лите-
ратуроцентризме русской культуры: именно литература,
выступавшая как нечто самодостаточное, заведомо неутилитарное, как
цель в себе, фактически подталкивала философию на путь само-
1 Там же. С. 315.
2 Там же. С. 319.
3 Там же. С. 317.
532
Познание и перевод. Опыты философии языка
стоятельности и самоопределения. Однако философия не могла
состояться вне системы языка и концептуальных средств,
пригодных для рассуждения на уровне других философских языков
Европы. При этом другие переводческие опыты культурной Европы
далеко не всегда оказывались примером. Так, Пушкин
подчеркнул, как мы бы сейчас сказали, неадекватность французских
«исправительных переводов», когда в угоду собственным
представлениям о хорошем вкусе, выдвигавшимся за универсальные,
переводчики переписывали и Гомера и Шекспира. Русскому
характеру, «переимчивому и общежительному», вовсе не нужна
такая переводческая и общекультурная установка. Тезис о
литературе как привилегированном объекте рефлексии побуждает нас
сейчас внимательнее присмотреться к тому, какими способами
литературное творчество прорастало в философскую рефлексию.
Эти прорастания были опосредованы задачей выработки русского
метафизического языка, то есть отвлеченного языка понятий.
Лучшие умы того времени все яснее осознавали необходимость
развития понятийного (прозаического) языка - такого, какой
существует в более развитых (скажем прямо, не боясь обвинений
в политнекорректности) литературах. Во времена Пушкина и его
современников такой язык называли «метафизическим языком».
Так, в письмах П.А.Вяземскому Пушкин рисует целую программу
этой реформы: «Когда-нибудь должно же вслух сказать, что
русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии.
Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского
(ясного точного языка прозы, т. е. языка мыслей — (Курсивы мои. -
H.A.)). Об этом есть у меня строфы три в Онегине»1. Или еще,
в отрывке под заглавием «О причинах, замедлявших ход нашей
словесности»: «.Ученость, политика и философия еще по-русски не
изъяснялись — метафизического языка у нас вовсе не существует...
Даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты
слов для изъяснений понятий самых обыкновенных...(Курсив
мой — H.A.)»2.
В этих письмах Пушкина, прежде всего — Вяземскому,
писателю и переводчику, во многом - единомышленнику, содержится
целая программа развития русского языка как языка мысли;
предлагается развивать русский язык не в самом себе, но глядя на
другие языки и используя сопоставительный опыт (так, сопоставле-
1 Пушкин A.C. Письмо Вяземскому П.А. от 13 июля 1825 г. из Михайловского
в Царское село // Пушкин A.C. Полное собрание сочинений в 10 т. Т. 10. М.-Л.,
1949. С 153.
2 Пушкин А. С. О причинах, замедлявших ход нашей словесности // Там же. Т. 7.
С. 18.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 533
ние с французским присутствует здесь постоянно). Фактически
здесь ставится вопрос о создании языка понятий в таких областях,
как «ученость, политика, философия», которые, по словам
Пушкина, не имеют возможности «изъясняться по-русски».
«Предприми постоянный труд, пиши в тишине самовластия, образуй
наш метафизический язык, зарожденный в твоих письмах — а там
что Бог даст»1. Нагнетая глаголы в повелительном наклонении:
«предприми...труд, пиши, образуй наш...язык...», Пушкин
поощряет творческую работу друга. При этом хотелось бы узнать у
текстологов-специалистов, что в данном случае значит «в тишине
самовластия»? Значит ли это «пиши, направляя силы на то, что сам
считаешь нужным (иначе говоря, будучи автономным, властвуя
собою)»? Или же «трудись — там, где внешнее давление
(самовластие) приглушено и оставляет тебе свободу творческого труда?»
И вот еще что важно. Пушкин уточняет: пиши, образуй
метафизический язык, «зарожденный в твоих письмах». Это значит, что
переписка образованных людей была индикатором понятийных
нехваток («даже в простой переписке мы принуждены создавать
обороты для изъяснений понятий самых обыкновенных»), но
одновременно и лабораторией новых возможностей языка. Это не
абы какое письменное общение, но общение людей, свободно
владевших несколькими языками и потому способных
сопоставлять их смысловые и креативные возможности. Таким образом,
русский понятийный язык, если обобщить эти высказывания
Пушкина, может и должен развиваться в трех главных контекстах:
в переписке, в собственном творчестве и, конечно — в переводе
с иностранных языков.
Именно поэтому Пушкин с надеждой смотрит на
переводческую работу друга (сам он делал лишь поэтические переводы) -
следит, поощряет, подробно объясняет, чего именно он от нее
ждет. В частности, вопрос о разработке «русского
метафизического языка» встал применительно к переводу с французского
последней романтической новинки — романа Бенжамена Констана
«Адольф», над которым работал Вяземский. Насколько можно
судить по собственным высказываниям Вяземского, он полностью
принял пушкинскую программу развития русского
метафизического языка, так что ее вполне можно назвать «программой
Пушкина—Вяземского». Так, Вяземский видел свою цель переводчика
не только в том, чтобы познакомить читателя с неизвестным ему
произведением иностранного автора, но и в том, чтобы «изучи-
вать, ощупывать язык наш, производить над ним попытки, если
1 Пушкин A.C. Письмо Вяземскому П.А. от 1 сентября 1822 г. из Кишинева
в Москву // Там же. Т. 10. С. 42.
534
Познание и перевод. Опыты философии языка
не пытки», и выведывать, насколько он сможет приблизиться
к языку иностранному - «без увечья, без распятья на ложе
Прокрустовом». При этом для обоих литераторов и мыслителей
характерна способность к тонкой дифференциации суждений ума
и вкуса. Пушкин, как известно, не особенно любил современную
ему французскую поэзию. Он был, как уже отмечалось,
решительно против французских «исправительных» переводов, и потому
с надеждой приглядывался к шатобриановскому переводу
Мильтона, ожидая увидеть в нем переломный момент к новой эстетике
и логике перевода. Однако он очень высоко ценил французский
прозаический язык понятий, впитавших в тот период
европейский мыслительный опыт. Именно этот французский он считает
мерилом развития русского метафизического языка. Так что
Вяземский трудился над творением не столько французским,
сколько европейским, над выражением не только «французского
общежития», но «светской, так сказать, практической метафизики
поколения нашего». При этом программа Пушкина-Вяземского
далека от какого-либо националистического пафоса, от
стремления к индивидуализации любой ценой. Вырабатывая русский
понятийный язык, Вяземский ориентировался на слой общей
понятийной лексики европейских языков; и в самом деле, нелепо было
бы стремиться удержать все свои «прихоти» и особенности, когда
«межевые столбы, внизу разграничивающие языки, права,
обычаи, не доходят до той высшей сферы. В ней все личности
сглаживаются. Все резкие отличия сливаются, Адольф не француз, не
немец, не англичанин: он воспитанник века своего»1.
Иначе говоря, Вяземский осуществляет замысел Пушкина о
создании «русского метафизического языка» и одновременно
реализует ту программу, о которой писал Шпет в «Очерке развития
русской философии». Он превращает пересоздание художественной
ткани европейского романа в процесс выработки понятий русского
языка; при этом он осознанно сортирует «галлицизмы» — на
«вещественные», «синтаксические» и «понятийные»: первых нужно
сторониться, придумывая русскоязычные названия предметов, вторые
переводить в схемы и обычаи русского синтаксиса, а третьи,
«галлицизмы понятий» — общезначимый слой общеевропейской
концептуальной лексики - бережно транспонировать в русский язык.
При этом он выступает как переводчик, который осознанно
выдвигает установку на оригинал и его понятийные слои (а не на
потакание «прихотям» читателя) как более трудную для переводчика и
одновременно более полезную для русской культуры. Тем самым
1 Вяземский П.А. Адольф. Роман Бенжамен-Констана. От переводчика (1831) //
Перевод - средство взаимного сближения народов. М., 1987. С. 35.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 535
Пушкин и Вяземский намечали путь к универсализации, к
просвещению и образованию. Однако их вклад в выработку русского
концептуального языка (в отличие от языка литературного) до сих пор
по достоинству не оценен. Сделать это сейчас — наш долг.
Обратим внимание на то, что необходимость особой работы,
направленной на развитие русского понятийного языка,
осознавалось людьми разных эстетических, политических, стилистических
и других ориентации. Так, В.Г. Белинский, известный нам как
представитель русской революционной демократии, как
литературный критик, всячески защищавший самобытность и народность
русской литературы и боровшийся с проявлениями «искусства для
искусства», во главу угла ставил развитие и распространение
переводов как средства совершенствования мысли, выражаемой на
русском языке. Фактически Белинский прямо подчеркивал
необходимость переводов — как в науке, так и в литературе1. Зачем это
нужно? Прежде всего, говорит он, — «для образования нашего еще
не установившегося языка; только посредством их можно
образовать из него такой орган, на коем бы можно было разыгрывать все
неисчислимые и разнообразные вариации человеческой мысли»2.
Белинский не только выдвигал это требование, но и внимательно
следил за его реализацией; так, в своих рецензиях на серию брошюр
по естественнонаучной тематике он обращал внимание не только
на их содержание, но и на стиль, но прежде всего - на тот
понятийный язык, которым они написаны3.
Таким образом, для философии работа над своим языком как
языком понятий есть существенная часть развития. Философия
1 «В самом деле, у нас вообще слишком мало дорожат славою переводчика.
А мне кажется, что теперь-то именно и должна бы в нашей литературе быть эпоха
переводов или, лучше сказать, теперь вся наша литературная деятельность должна
обратиться исключительно на одни переводы как ученых, так и художественных
произведений. Теперь уже курс на российские изделия чрезвычайно понизился;
публика требует дельного и изящного и, не находя на отечественном языке ни
того, ни другого, поневоле читает одно иностранное». // Белинский В.Г. «Изгнанник,
исторический роман...», соч. Богемуса. Пер. с нем. (1835) // Перевод - средство
взаимного сближения народов. М., 1987. С. 37.
2 Там же. С. 38.
3 «Истинно философский язык, только совсем не русский! Воля г. автора, а мне
кажется, что изучению философии должно предшествовать изучение грамматики,
так же как изложению философии должно предшествовать умение ясно, понятно
и толковито изъясняться на своем языке. Вы хотите писать для людей светских, вы
посвящаете вашу книгу даме: тем более должны вы стараться говорить живым
народным словом, а не мозаикою школьных и подьяческих слов, согласованных
между собою синтаксисом волостных правлений; мало этого, вы должны дойти до
педантизма в отделке слова»// Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 т.
Под ред. С.А. Венгерова. Т. II. СПб., 1900. С. 420.
536
Познание и перевод. Опыты философии языка
как знание (а не как мораль и нравоучение) складывалась в
России постепенно — по мере того, как в обществе образовывался
идеал незаинтересованного знания, чистого созерцания,
отсутствия утилитарной пользы и прямой назидательности. Какой
должна быть философия? Мечтой о всеобщем счастье,
уверенностью в широте собственной души, трактовкой дисциплины ума
как узости, догматичности, односторонности? Нет, рефлексивная
установка должна привести к знанию, которое достигается
методическим трудом, а не фантазерством, не отсылками к
«неизреченному» или рецептами достижения всеобщего счастья.
Преобладание философско-исторического, философско-религиозного
и философско-моралистического аспектов над философско-
познавательным, рефлексивным, пока отличает русскую
философию. Весь вопрос в том, пишет Шпет в драматичном 1922 году,
завершая работу над «Очерком русской философии», каким будет ее
дальнейший путь...
***
Третий этап в выработке русского концептуального языка,
на котором я здесь кратко остановлюсь, — это постсоветский
период или, иначе, последние два десятилетия. Это поистине
привилегированная эпоха для перевода и внимания к современной и более
ранней западной философской научно-гуманитарной мысли.
Отличительная особенность этого периода в том, что ему
предшествовало в течение почти 60 лет единоличное господство
марксистского философского языка, в который так или иначе должны были
переводиться все осваиваемые содержания. С конца 1980-х
открылись две шлюза и на культурную авансцену хлынули два потока -
отечественная (религиозная) философия и современная западная
мысль. Оба эти потока, хотя и в разных отношениях, испытывали
огромную потребность в переводе. Применительно к
отечественной философии это была задача восстановить традиции чтения,
интерпретации, понимания, вписать ее в контекст современной
философской проблематики, без чего она была обречена остаться
лишь уделом историков философии. Применительно к западной
и особенно современной западной мысли это была задача
перевода с языка на язык, с культуры на культуру, восстановления
утерянных и построения несложившихся концептуальных связок.
Предшествующее господство марксистской философии в ее более
или менее догматических вариантах всегда предполагало
«перевод» всего ценного, что могло бы быть найдено в до-, не- или
постмарксистских концепциях, в рамки марксистских понятий, а это
ставило предел проработке других возможностей мысли. Все эти
долгие годы и русская философия, и современная западная фил о-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 537
софия были недоступны массовому читателю и могли
прорабатываться лишь узким слоем профессионалов, способных найти не
переиздававшиеся с начала XX в. (или изданные на Западе) русские
книги или добыть из-за рубежа современную западную
философскую литературу, нередко не доходившую даже до «спецхранов».
Конечно, многие исследователи современной западной
философии стремились как можно точнее представить того или иного
зарубежного автора, передать читателям свой интерес к
анализируемой концепции1. Однако не пропустив через себя современный
опыт развития мировой философии, русский концептуальный
язык не мог быть адекватен тем актуальным задачам, которые
встали перед ним в постсоветский период.
Начиная с XVIII в. философская переводческая работа в
России обычно предполагала синхронность оригинала и перевода.
И произведения философов Просвещения (с которыми
одновременно велись диалоги в письмах), и религиозно-миссионерские
книги переводились примерно тогда же, когда возникали. Этот
принцип отчасти сохранялся и в XIX, и в начале XX в. Бердяев или
Франк полемизировали с теми авторами, которые творили
одновременно с ними, прежде всего с неокантианцами и Бергсоном,
с авторами, переводы которых публиковались в сборниках
«Новые идеи в философии».
В советское время ситуация стала иной. Мощное усилие
приобщения к «мировой культуре» вызвало к жизни переводы Гегеля,
Маркса, Фейербаха, Спинозы, Канта, Лейбница, Декарта,
Шеллинга, то есть «классики» Нового времени, и в целом эту работу
можно назвать переводческим подвигом. Настоящим
достижением были переводы Платона и Аристотеля (новые или повторные)2.
Однако это были переводы именно классики. Утыкаясь в марк-
1 Нефилософский парадокс заключался тут в том, что «критики» обычно
выбирали в качестве своих объектов то, что любили, и умели показать читателю свое
подлинное отношение к этим объектам — уважительным обилием хорошо
переведенных цитат, сравнительными пропорциями в тексте «критики» и «пересказа»
и пр. Многие представители старшего поколения, работавшие в русле «критики
современной буржуазной философии», могут поделиться опытом - примерами
и приемами из собственного любовно-критического арсенала.
2 Подробный обзор дореволюционных русских переводов и оригинальных работ
по истории философии, преимущественно древней, см. в книге: ЯщенкоЛ. Русская
библиография по истории древней философии. Юрьев: Типография К. Маттисе-
на, 1915. Обратим внимание на то, что издание вышло в той самой серии, которая
много позже прославилась как «Ученые записки Тартуского государственного
университета». Наряду с обзором энциклопедических словарей и хрестоматий,
а также сочинений по отдельным периодам и отдельным частям философии,
в этой работе содержится ценная обобщающая информация о переводах Платона
и Аристотеля в России.
538
Познание и перевод. Опыты философии языка
сизм, до-не-постмарксистская мысль замирала. Подчеркиваю:
для большей части философской аудитории так называемой
«современной буржуазной философии» практически не
существовало, а философская классика существовала вне реального
контекста ее возможной актуализации. Так, советский читатель не имел
никакого представления о том, как читал Гегеля Кожев, а Канта -
Хайдеггер (то есть о том, что делалось с философской классикой
в современной западной философии), а редкие обзоры мало чем
тут могли помочь.
Очень важно, что теперь это изменилось: западная философия
перестала быть «чужой» и стала восприниматься как философия
«для нас», как часть того языка, на котором русская культура
говорит о русской культуре. И это породило множество проблем,
социологическое и культурное значение которых прямо затрагивает
тысячи реальных «потребителей» философии. Сейчас я
намеренно сосредоточиваю свое внимание не на том, что было, а на том,
чего не было, что поэтому даже сейчас дается нам с трудом. И
потому «пропаганду достижений» я считаю делом идеолога, а
проработку культурных дефицитов с установкой на восполнение
пробелов (с широким, по возможности, использованием местных
ресурсов) - позицией исследователя, причем саму констатацию
трудностей я воспринимаю не как признак слабости, но как
выражение личного достоинства и гражданской позиции.
О культурных дефицитах говорить не стыдно - тем более, если
знаешь, как это поправить. Пушкин, например, знал и потому -
не стыдился. В пушкинские времена, как уже говорилось,
неразвитость русского языка как языка отвлеченной мысли и науки
ощущалась очень остро, по крайней мере, умными и
образованными людьми. Среди важнейших культурных задач нынешнего
дня необходимо подчеркнуть все значение не только работы по
переводу, изучению, комментированию, освоению,
преобразованию мысли, созданной на других языках и в других культурах,
в мысль, существующую на русском языке, но также значение
преподавания русского языка как языка мысли, разума,
рефлексии. Приходится отметить, что эти аспекты языка сейчас нередко
замалчиваются, хранятся под спудом.
В целом необходимость развивать русский язык начала
осознаваться как актуальная и у нас: об этом пишут, принимают
государственные документы, созывают научные конференции1.
1 Ср. : Челышев Е.П. Отчетный доклад о деятельности ОЛЯ РАН в 1997 году //
Известия АН. Сер. Лит. и язык, июль-авг., 1998. С. 3-11; Совет по русскому языку
при Президенте Российской Федерации // Русская речь. 1996. № 4. С. 52-53;
Русский язык как государственный. Материалы международной конференции (Челя-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 539
При этом выдвигаются программы «защиты» (языка) и
«прославления» (моральных качеств русского народа, создавшего
замечательный язык и культуру). Как известно, научные кадры у нас
сосредоточены главным образом в крупных городах, а еще более
того - в столицах; эти научные силы, как правило, видят в
проблеме нынешнего статуса русского языка и языковой политики
каверзный идеологический вопрос, а потому нередко получается,
что за эту работу по «защите» и «прославлению» на свой страх
и риск берутся провинциальные преподаватели. Исходя из
лучших побуждений и одушевляемые гуманистическим пафосом,
они сосредоточивают свои усилия на лексике, фразеологии и
идиоматике (наиболее вещественно-значимых аспектах языковой
системы) и на основании подборки, скажем, тех пословиц и
поговорок, которые положительно характеризуют русский народ (без
соответствующих статистических проверок и не учитывая
материал, прямо противоречащий утверждаемому, — скажем, мощный
слой пословиц типа «работа не волк - в лес не убежит»), прямо
переходят к утверждению нравственных достоинств русского народа
как повода для национальной гордости1. Не забудем, однако,
и о том, что логика типа «а я лучше» или «а я древнее» еще
никогда не приводила к пониманию в напряженных межэтнических
ситуациях2. Строго говоря, в словесности (как и в философии)
объективно нужны не «защита» (всегда от кого-то или от чего-то),
а собственные усилия, направленные на выработку
русскоязычных слов и понятий там, где их в культуре по той или иной
причине нет (результат в этом процессе можно получить быстро, а
можно ждать долго; просто другого пути решения проблемы никто
еще не придумал). А на месте «прославления» русского характера
бинск, 5-6 июня 1997 года). М, Челябинск, 1997; Березин Ф.М. Место и роль
русского языка в постсоветской России // Языкознание. М: ИНИОН РАН, 1997.
Вып. 13. С. 5-20. Немало мероприятий состоялось в 2007 году, прошедшем как
«год русского языка» в России и некоторых других странах.
1 Мне недавно пришлось подготовить информационно-исследовательский
доклад на эту тему, и я могу назвать десятки работ, написанных с этих позиций: дело
здесь не в перечне, а в общей установке.
2 Когда национальные языки приводят обоснования собственной развитости,
они, как правило, указывают на наличие фольклора или эпоса на родном языке,
а также на его древность (для казахов в качестве такого обоснования выступает
принадлежность казахского к тюркским языкам, всегда «подпитывавшим»
русский или, иначе говоря, своеобразное «право старшинства»). И тут же сразу
следует современное требование: в одночасье - и фактически на почти пустом месте -
создать на родном языке «научные словари» по «всем» областям современной
науки и техники. Скачок из фольклора в XXI век требует сил, средств, времени, а
миновать те или иные промежуточные стадии развития можно, наверное, лишь
в сказке о ковре-самолете.
540
Познание и перевод. Опыты философии языка
на основе анализа идиоматической лексики объективно нужна
была бы работа с русским языком - как языком «формирования
разумного суждения» (В. Даль), причем на всех уровнях
образования — начальном, среднем и высшем.
А сейчас даже младшие школьники, по подсказке педагогов,
воображают будущее России по сказочно-фольклорным моделям
(Василиса Премудрая, Спящая царевна, которую разбудит принц,
и даже Аленушка - заботливая сестра Иванушки1), а старшие, не
имея никакого историко-культурного или личного опыта, пишут
например, сочинение по картине Крамского «Христос в пустыне».
Воспитание в детях чувства собственного достоинства, уважения
к своей культуре, поиск педагогами средств для развития
эстетического или морального сознания — всему этому можно было бы
только радоваться, если бы все это не осуществлялось в ущерб
мысли2. Разумное не противоречит ни воображению, ни образности,
но и не сводится к ним. А пока наши дети нередко даже не умеют
«просто читать учебники», не в состоянии самостоятельно
озаглавить отдельные параграфы, пересказать прочитанное «своими
словами», но педагогов, который замечают это и бьют тревогу -
единицы. Совершенно очевидно, что следовало бы учить детей русскому
языку прежде всего как языку мысли и общения, и лишь потом,
если угодно, как языку, романтически выражающему «народный дух»
(не забывая при этом, что фольклорные образы «Кольца Нибелун-
гов» — эпоса не хуже и не лучше других — удобно легли в основу
вполне определенной идеологии). И, конечно, учить словесности
(а теперь в средних школах вводится на европейский и прежний
русский манер словесность - lettres - как объединенные уроки
языка и литературы) стоило бы не только на примерах из
художественной литературы, но и на адаптированных, доступных учащимся
текстах гуманитарных наук (истории, социологии, психологии).
Здесь бы и объединиться философу и словеснику!
Вот почему полезным интеллектуальным упражнением
представляется мне погружение в работу с текстом, хотя навыка и
привычки к чтению и интерпретации текстов в русской культуре не
1 Мишатина Н.Л. Образ России на уроках в 5 классе // Русский язык в школе.
1996. № 2. С. 41-45.
2 Подобных перекосов не допускали мыслители прошлого - даже те, от
которых, казалось бы, трудно было этого ожидать. Так, архимандрит Гавриил, автор
учебника по истории философии, уделяет проблеме языка немалое внимание,
причем трактует язык прежде всего как путь к новым понятиям: «В нынешнем
состоянии общих познаний, слова суть не что иное как знаки мыслей;
следовательно, языки только средство к достижению новых познаний, или, лучше сказать,
путеводители к новым понятиям» // Архимандрит Гавриил. История философии.
Казань: Университетская типография, 1840. С. 118.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 541
было и нет. Практика close reading of the text, столь привычная
в Европе, всегда у нас отсутствовала и сейчас только начинает
появляться в учебных программах. Мой опыт работы со студентами
разных уровней свидетельствует в целом об их неумении и
нежелании «внимательно читать тексты». Когда я попыталась
прочитать со студентами-культурологами «Недовольство культурой»
Фрейда, потребовав внимательного отношения к каждому доводу
и каждому повороту мысли, они быстро устали: если нам это
понадобится для диссертации, мы и сами прочтем, а так лучше уж
Вы сами нам что-нибудь расскажите...
Иногда звучит и другая точка зрения (как правило,
вдохновленная американским опытом преподавания философии): зачем
читать тексты, когда можно учить философии и без текстов, на
основании устной беседы, диалога. Такова распространенная
американская практика, тоже в чем-то интересная. Однако можно
думать, что педагогический подход и там зависит от возраста
и уровня учащегося: одно дело дошкольник, а другое — аспирант.
А кроме того, известно, что американцы вообще совершенно
иначе относятся к истории, к истории философии, к истории Европы,
и нам вряд ли стоит копировать это отношение. В Америке
процветает гегемонизм одного языка, который сплавляет гетерогенные
фрагменты разных культур в единое целое, а в Европе все выглядит
иначе. Да, математики и естественники всего мира уже давно
пишут по-английски, если хотят, чтобы их поняли и узнали повсюду.
Однако в гуманитарных областях ситуация более сложная.
Конечно, резюме на упрощенном английском, похожем на эсперанто,
будет требоваться все шире и шире, однако авторские работы
должны по-прежнему писаться на родном языке, в котором мысль
может быть выражена наиболее адекватно и глубоко. А потому
каждый из культурных языков Европы нуждается в неустанной
разработке, чтобы быть на уровне общеевропейских требований
научного и культурного обмена1. Можно полагать, что в ближай-
1 Ср. мысли известного французского лингвиста К. Ажежа: «Языковая Европа
имеет свою собственную судьбу и не должна вдохновляться иностранными
моделями. Если в США принятие определенного языка вновь прибывшими было
печатью идентичности, то напротив оригинальность Европы запечатлевается в
огромном разнообразии языков и отображаемых ими культур. Господство единого
языка, например английского, не отвечает ее судьбе. Ей отвечает лишь неизменная
открытость к множественному. Европа должна воспитывать своих сыновей и
дочерей в разнообразии, а не единственности языков. Для Европы это одновременно
и зов прошлого, и призыв будущего». (См. Hagège CL Le souffle de la langue. Voies et
destins des parlers d'Europe. Paris, 1992). К будущей судьбе русского языка автор
относится скептически; на это можно сказать лишь, что место русского языка и
русской мысли в европейском культурном пространстве будет во многом зависеть от
нас самих.
542
Познание и перевод. Опыты философии языка
шие десятилетия перед странами Европы и Россией как частью
культурной Европы важнейшей будет задача развития своих
культур и языков, а также выработки средств европейского
взаимопонимания.
Разумеется, философский язык не замкнут в себе, он
вырабатывается на фоне других потоков заимствований в
общенациональном языке и в специализированных языках отраслей и
дисциплин. Лексикографический анализ различных областей
культуры, социальной, политической, экономической жизни
демонстрирует огромное количество заимствований или новых
(расширенных или уточненных) употреблений ранее
существовавших понятий. Так, в вопросах государства, права,
общественных институтов особенно велика в последние годы роль
французских заимствований1. Те слова и понятия, которые в конце
1980-х — начале 90-х годов лишь начинали вводиться для
обозначения этих новых реальностей, стали теперь полноправными
и широкоупотребительными понятиями. К сожалению, в области
1 В политической и социальной лексике видно явное стремление
соответствовать международным стандартам. Ср. такие лексические единицы, как парламент
(ранее: только по отношению к другим странам), кабинет министров, премьер
(ранее: совет министров, председатель...), мэрия, мэр, вице-мэр (ранее: горисполком,
председатель горисполкома), губернатор (возрождение более раннего
заимствования), государственность (souveraineté d'un état), пенитенциарная система (новое
распространенное словосочетание) и многие другие. Новыми являются такие
понятия, как толерантность, идентичность, ментальность, менталитет (ранее
переводилось контекстуально: как склад ума, нравы, психология), реноме, респонденты,
популизм, популистский, тоталитарный и тотальный, унитарный (в
противоположность федеративному) и др. Позитивный смысл приобрели такие понятия, как
плюрализм (ранее относившееся только к буржуазным теориям), деидеологизация
(новым является не само слово, но его позитивная оценка, во всяком случае в
ранний постсоветский период: отказ от коммунистической идеологии). Расширилось
значение таких существовавших ранее терминов, как диаспора (отныне он может
обозначать русское население за пределами нынешних границ России, а ранее
относилось только к другим национальностям), натурализация (принятие
гражданства в какой-либо бывшей союзной республике), пользователь (ранее
употреблялось только в юридическом языке, сейчас обозначает любого человека,
пользующегося чем-либо и имеющего определенные права) и др. В связи с ломкой
структур социальной и хозяйственной жизни продуктивным стала французская
приставка де-\ (например, деструкция или десоветизация), важное
словообразовательное значение приобрел суффикс «-ировать» (дезавуировать - ранее
употреблялось только при описании норм международного права, а сейчас расширило
сферу употребления и семантику; идентифицировать, репрезентировать,
инкриминировать, реанимировать, инспирировать и т. д., и т. п. Среди материалов по
лексике конца 1980-х годов, полезных для сопоставлений с нынешним периодом,
отметим: Haudressy D. Ces mots qui disent l'actualité. Les mutations de la langue russe.
Institut d'Etudes Slaves, 1992. Ср.: Русский язык конца XX столетия (1985-1995). M.,
1996. Русский язык в современном обществе: функциональные и статусные
характеристики. М, 2006. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2007.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 543
философского языка и философских дискурсов аналогичной
сопоставительной работы не проводится, а жаль: она позволила бы
отследить способы вхождения в язык и закрепления в нем новых
терминов и понятий, так что прояснение этой
социолингвистической стороны существования постсоветской философии остается
задачей для будущего историка мысли.
Однако культурные процессы нелинейны и неоднозначны.
Верно, что за два последних десятилетия постсоветская
философия во многом освободилась от догматов формы, содержания,
от жестких идеологических привязок и пр. Правда, состояние,
которое казалось, если угодно, позитивно «неидеологическим»,
длилось недолго. Как остроумно заметил некогда русский филолог
Михаил Леонович Гаспаров, современный период в русской
культуре характеризуется сменой «принудительной идейности»
«принудительной духовностью»1. Эта емкая фраза многослойна.
За призывом к «духовности» могут стоять идеи национального
величия, культурного своеобразия, некоего принципиального
отличия «русской мысли» от рационально-прагматической мысли
Запада (тезис о таком отличии, характерный для всей русской
культуры XIX в., незаметно перекочевал и в наше время). Одним
своим концом эти идеи упираются во вполне осмысленные
соображения о защите «национальных интересов», а другим - в
различные формы националистической идеологии.
При этом отчетливо обрисовалось притяжение философии
к некоей, условно говоря, «национально ориентированной»
лингвистике, которая в ряде своих разделов (лексикография,
лексикология, семантика) все охотнее опирается на произвольно
трактуемые фольклорные и этимологические разыскания. При этом
соблазн народных этимологии, вполне в духе позднего Хайдеггера,
кажется, обещает прямой доступ к архетипическим слоям
сознания (в соответствии с обетованиями весьма популярного в России
К.Г. Юнга). Эта тенденция к расцвету
национально-ориентированных подходов в самой лингвистике особенно поражает на
примерах ярких фигур, в прошлом западной ориентации, как Ю.
Степанов или Е. Падучева. В постсоветской России чрезвычайно
популярна польско-австралийская исследовательница языковой
семантики Анна Вежбицкая, в то время как французский «анализ
дискурса» на стыке философии, лингвистики, социологии, психо-
1 О гаспаровской «научной филологии» и о равнодушии постсоветской
философии к этому проекту на фоне огромного энтузиазма по поводу, скажем, М.
Бахтина или А. Лосева как фигур, интерпретируемых достаточно односторонне в
религиозном ключе и с национальным акцентом, см.: Автономова И. МЛ. Гаспаров:
свой путь в науке // Стих, язык, поэзия. М., 2006. С. 13-24.
544
Познание и перевод. Опыты философии языка
анализа, как уже отмечалось, совершенно не привился и никакого
успеха не имеет. Несомненно, однако, что работа в языке, работа
с концептуальным языком может и должна служить противовесом
расправляющей крылья националистической идеологии. В
частности, противостоять идеологическим сползаниям в
националистическую идеологию может дискурсный анализ, оперативно
выявляющий смены словоупотреблений, сдвиги значений, способы
заимствования и передачи чужой речи, а через все это - некоторые
важные и на первый взгляд не заметные способы отношения к
себе, к своему прошлому и настоящему.
В общем, освоение западного и осмысление собственного
концептуального наследия продолжается, и этот процесс становления
философии и философского языка в современной России не
сводим к однозначным формулам и рецептам. Да, конечно, все
европейские философии возникли в процессе, важной составляющей
которого был перевод с других языков и других культур. Однако
«возникать в процессе перевода» вовсе не значит «возникать
только из заимствованных слов и понятий». Для того чтобы
философские понятия и категории могли появиться, каждый раз нужны,
помимо определенных социальных условий, внутреннее
побуждение, тяготение, определенное направление умствования.
Каждый человек должен успеть сформулировать свой опыт,
принять вызов времени и ситуации. Каков же он — этот
постсоветский вызов? Для философа — прежде всего интеллектуальный,
концептуальный. Каким должен быть ответ? В нем должно быть
достойное мыслительное содержание и надежная концептуальная
форма. То, что в России есть замечательные писатели и известные
«любомудры», — общеизвестно. А теперь хотелось бы увидеть не
только художественное или религиозное философствование,
но и мощный концептуальный прорыв без скидок на специфику
и трудности российской культурно-интеллектуальной истории.
Если концептуальные дефициты нынешней культурной ситуации
будут поняты как собственная потребность и как вызов, тогда
и достойный ответ найдется.
§ 2. Ипостаси языка и подходы к переводу
От «мышления, мыслящего само себя», - к языку
Существуют, кажется, две главные формы философии языка:
либо языковое знание трактуется как сокровищница мудрости
(Платон, Августин, Прокл, каббала, романтики, символисты), либо
оно трактуется как свалка заблуждений (Сократ в «Кратиле»,
логический позитивизм и лингвистическая философия). Фетишизация
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 545
языка и его критика как бы взаимно порождают друг друга. Язык
многолик, но мы нередко забываем об этом, сосредоточиваясь на
каком-то одном его аспекте, и тогда может возникнуть субстанциализа-
ция или гипостазирование, представление его как единственного,
самодостаточного, вещного. При переводе подобные «объективные
превращения» возникают весьма настойчиво. «Задача переводчика»
(таково заглавие знаменитой работы Беньямина) в том, чтобы не дать
этой опасности укорениться, отказавшись от такого
представления об универсальности, которая делает перевод ненужным, и от
такого представления о той специфичности языков и культур, которая
делает перевод невозможным. Но это и не вопрос о золотой середине
или удачном «снятии» противоречия во вновь обретенном рае, где
полнота смыслов сосуществовала бы рука об руку с их
многообразием. Самое главное здесь для нас заключается в том, чтобы,
сохраняя представление о специфике мысли, воплощенной в слове,
уберечься от представления о том, что те или иные виды связи форм
и содержаний в разных конкретных языках и культурах и есть
единственно возможные и в таком своем качестве абсолютно
неповторимые и невоспроизводимые. В области перевода мы постоянно
сталкиваемся с обеими этими «очевидностями» — и с тем, что
своеобразные сращения форм и содержаний составляют во многом
специфику языков и культур, и с тем, что эта сращенность тем не
менее не абсолютна, что она допускает или предполагает
неравновесия, сдвиги, переносы — а тем самым и перевод. Иначе говоря,
переход от одной формы связи между словом и мыслью к другой
форме связи между словом и мыслью, которая может быть нами
воспринята как «почти то же самое», как адекватное отображение
первой связки во второй, так или иначе возможна.
То, что читатель найдет в этом параграфе, лишь косвенно
связано с этой задачей, но может быть направлено на ее реализацию.
Я постараюсь показать, достаточно схематично, наличие разных
ипостасей языка, существование разных проекций языковой работы
на другие культурные сферы, а также наличие разных подходов
к языку в науке и философии. Эти подходы я условно называю здесь
формализацией, методологизацией, онтологизацией и социологи-
зацией. Разумеется, это не исчерпывающий перечень, и, кроме того,
каждая из этих тенденций во многих случаях не исключает другие:
во всяком случае, это относится к методологическому
использованию — практически любого другого подхода, или же к
онтологическому аспекту, который в том или ином понимании присутствует
и в любом другом, по крайней мере, ни формализация, ни социо-
логизация вовсе не исключают онтологической плоскости
рассуждения. Все эти аспекты не связаны друг с другом отношением
логического подчинения и не имеют общего основания. После этого
546
Познание и перевод. Опыты философии языка
я постараюсь — опять-таки условно и схематично - показать
некоторые формы проблематизации перевода, которые были
сформулированы в рамках того или иного подхода к языку.
Вопрос о соотношении языка и мышления уходит в глубь
веков. Вопросами философской грамматики занимались уже древние
греки, пытаясь обнаружить, на чем же собственно основано взаимное
понимание говорящими друг друга. Интерес к языковой
проблематике в ее соотношении с мышлением, с разумной способностью
человека мы находим у Гераклита, Демокрита, Эпикура, в
платоновских диалогах (особенно в «Кратиле», где ставится вопрос об
«идеальных» именах, общих для всех языков и выражающих
устойчивую вечную сущность вещей), у Аристотеля, стоиков и др.
И в Новое время не было, пожалуй, ни одного выдающегося
мыслителя, который бы не пытался так или иначе строить философию
языка как некое необходимое или желательное дополнение к
философии в собственном смысле слова — к «общей философии». В течение
долгого времени преобладал логизирующий подход к языку. Это ярко
проявилось в классическом рационализме XVII—XVIII вв.,
но в ранних своих формах представлено уже у Аристотеля,
надолго определившего судьбу европейского языкознания. У
Аристотеля, как позднее и в средневековой философии, связь
лингвистических вопросов с философскими выражается прежде всего
в безоговорочном подчинении грамматических категорий
логическим: язык трактуется в аристотелевской, схоластической, а потом
и рационалистической традиции Нового времени
преимущественно как нечто, не имеющее особого субстанционального статуса,
как нечто, растворенное в мышлении, а роль языка при этом сводится
фактически к прояснению и фиксации логической структуры
мышления, в принципе тождественного для всех времен и народов.
Тем самым был схвачен важнейший аспект соотношения
языка и мышления, однако за рамками такого логизирующего
подхода оставалось все то самобытное, что делает язык явлением особого
рода, не сводимым к мышлению и не тождественным ему, все то, что
выходит в языке за рамки «орудия мысли» и позволяет рассматривать
его как «творческое» и «тюрчески применяемое» орудие. Понять эту
конструктивную самостоятельность языка, задаться вопросом
о конструктивности языка в отношении мышления позволил
поначалу сам факт несовпадения, нетождественности языка и
мышления. Хотя, конечно, язык и мышление (членораздельная речь и
абстрактное обобщающее мышление) развивались одновременно
и параллельно, взаимно обогащаясь и получая друг от друга стимулы
для развития, однако, по-видимому, представление о строгом
параллелизме между развитием мышления и развитием языка и тем
самым — о возможности сведения языка к форме существования и вы-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 547
ражения мышления, было бы неправомерным. Между формами
языка и формами мышления, между словом и понятием,
суждением и предложением нет и не может быть полного взаимного
соответствия. Тому есть несколько причин: одна из них связана с
условностью исходной физической основы знака по отношению
к обозначаемому им содержанию, другая — с тем, что, раз возникнув,
язык приобретает определенную самостоятельность, независимость
своего существования, функционирования, исторического развития.
Так, когда в языкознании XIX в. мыслительной доминантой стал ис-
торизирующий подход, вневременное тождество языка и мышления
потеряло свою силу и язык начал трактоваться в более широкой
системе взаимосвязей: он мыслился как развивающийся, подобно
природному биологическому объекту, организм, как отображение
исторического своеобразия жизни наций и народов, как способ
влияния на их мышление (в самой лингвистике при этом происходит
«открытие» санскрита, составление сравнительных грамматик
индоевропейских языков, исследование исторической эволюции
отдельных языковых фактов, преимущественно звуковых, и пр.).
Доминантой мысли о языке в XX в. стало осознание
самостоятельности языка, специфичности его как предмета научного
изучения. Конечно, такой подход не мог возникнуть сразу и вдруг:
превращение языка в самостоятельный объект изучения некогда
закладывалось уже в процессах, ограничивавших сферу
мифического мышления с его отождествлением «слов» и «вещей» и
постепенно формировавших субъект-объектное отношение в системе
«человек — мир». Одним из следствий этого было постепенное осознание
раздельности внешнего мира и самого человеческого сознания,
формой существования которого и служит язык. Теоретическому
осознанию самостоятельности языка, по-видимому, некогда
поспособствовало и возникновение письменности, и — позже — появление
искусственных языков, значительно отличающихся от языка
естественного. Как бы то ни было, историческое становление всех этих
предпосылок осознания самостоятельности языка стало тем фоном,
на котором - уже в XX в. — возникли и логистические трактовки,
в принципе отождествлявшие язык с мышлением, и историцистские
трактовки, растворявшие целостность языка в многообразии
отдельных эволюционных линий. При этом в отличие от несколько
прямолинейного логицизма рационалистических подходов,
мыслительной доминантой языкознания XX в. становится осмысление языка
как системы — только не системы мыслительных элементов, а
системы материальных элементов, разноуровневые взаимоотношения
которых служат общению, передаче смыслов.
Да, язык — это прежде всего форма связи мысли и предмета, мысли
и действия. Но в языке со всей его структурностью и дискурсивно-
548
Познание и перевод. Опыты философии языка
стью есть свои специфические способы фиксации «немыслимого»
или «неосмысленного», схватывания допонятийного содержания.
И одновременно - в нем есть свои особые механизмы шлифовки,
отработки концептуального содержания мысли на пути от того, что
можно было бы назвать «первометафорой», к понятию. Если задаться
вопросом о том, что же все-таки важнее, изначальнее — мышление или
язык, то при анализе конкретных примеров можно столкнуться с
самыми разными случаями: бывает, что язык как бы «забегает
вперед», опережая мысль (ср. футуристические построения, где
бесцельная, казалось бы, работа с языком приводит в конечном счете
к обогащению смысловых возможностей), бывает, что язык
«запаздывает» по отношению к мысли (например, когда новые понятийные
содержания — по разным признакам — уже вроде бы
выкристаллизовались, но еще не нашли адекватного языкового выражения). Самое
интересное здесь, однако, то, что все эти случаи «непригнанности»
мысли и языка постоянно имеют место в повседневной языковой
и познавательной практике. В языке постоянно работают те или иные
механизмы взаимоприлаживания забегающих вперед и
запаздывающих форм и содержаний. Безусловно, эти механизмы
отрывов и несоответствий чрезвычайно важны в процессе перевода, где
с необходимостью происходит смена означающих форм и тем самым,
в какой-то мере, - влекомых ими за собою содержаний.
При этом язык неким парадоксальным образом выступает
перед нами одновременно и как средство систематизации,
категоризации, дискурсивного оформления мысли, и как особый
механизм схватывания ее «бессознательных», нерефлексивных
определений, а потому современное изучение языка все больше
обращается в нем к тому, что относительно слабо
структурировано. Парадоксальный и антиномичный характер языка вступает
в круг философского осознания во второй половине XX в. Вот
лишь одно принадлежащее Рикёру свидетельство осознания этой
антиномичности: «Язык... это посредник между двумя уровнями.
Первый уровень конституирует его идеал как идеал логичности,
как его "телос": все значения должны быть доступны переводу
в логос рациональности; второй уровень уже не строит идеала -
это почва, "земля", первоначало, Ursprung. До языка можно
добраться "сверху", отправляясь от его логического предела, или же
"снизу", отправляясь от его предела в безмолвном опыте,
постигающем первоначала бытия. Сам по себе язык - это медиум,
опосредствование, обмен между "телосом" и "Первоначалом"»1.
1 В этом отрывке из лекций в университете Джона Хопкинса в США, где Рикёр
с блестящей простотой представил главные напряжения европейской философ-
Раздел второй. Перевод» рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 549
«Рационалистические» трактовки языка представлены
главным образом в философии позитивизма и в самой лингвистике.
Как известно, позитивизм существовал и развивался поначалу
как логико-лингвистическая концепция, которая подходила к
решению всех основных проблем посредством логического
прояснения структуры искусственных языков или языков науки, а
позже - путем анализа логической семантики. Однако этот подход
столкнулся с внутренними трудностями, с невозможностью
полной формализации естественных языков. Потребовалось
содержательное расширение и обогащение способов, которыми
описывались естественные языки. В свою очередь это привело
к тому, что метаязыки, использовавшиеся для описания тех или
иных фрагментов знания, все больше приближались к структуре
естественных языков, к механизмам обыденного языка.
Контекст, от которого поначалу казалось возможным
абстрагироваться, превращался (во всяком случае, это произошло в
философии лингвистического анализа) в едва ли не главный объект
анализа. Таким образом, различные подходы к языку в самой
лингвистике, семиотике, социально-гуманитарных (а отчасти
и естественных) дисциплинах, в философии не позволяют
говорить о какой-то одной четко очерченной проблеме: возникает
именно проблематика языка — обширное поле с многими
«входами» и «выходами». При этом постепенно складывалось то, что
можно было бы назвать концепцией языка «в самом широком
смысле слова». Что это такое — поясняет приводимое ниже
высказывание, в котором фиксируется целый ряд важных звеньев
эволюции языковой проблематики. Язык в широком смысле
слова возникает в рамках подхода, начинавшего с формальных
определений мышления и языка, проходивших все стадии процессов
формализации, но в результате пришедшего к общей идее языка
как структуры, как «способа организации мышления». При этом
для нас важным будет и еще один момент: процессы складывания
отношений между различными научными дисциплинами
обнаруживают не менее явную потребность в идее
междисциплинарного перевода, нежели практики «простого» перевода с языка
на язык.
«Прояснение значения (содержащегося либо в формальных
определениях, либо в иллюстративных примерах) происходит
лишь тогда, когда определяемые термины "сцеплены" с
человеческим опытом. Это серьезная проблема, поскольку опыт
различных людей, хотя он в чем-то и пересекается, весьма различен.
ской мысли, речь идет о концепции языка у Гуссерля. См.: Ricœur P. Husserl and
Wittgenstein on language // Phenomenology and Existentialism. Baltimore, 1967. P. 209.
550
Познание и перевод. Опыты философии языка
В частности, и в нашей научной жизни это различие опыта может
быть очень значительным. Ведь наш опыт - это во многом опыт
мышления, а мышление регулируется языком в широком смысле
слова (курсив мой. - H.A.), т. е. способом организации идей, а
различные способы организации идей задаются той или иной
"дисциплиной". Дисциплина — значит принуждение. Дисциплина
очень важна для любой организованной деятельности. Так, в
научных дисциплинах дисциплина значит принуждение в способе
мысли. Она предписывает репертуар понятий, модели
классификации, правила очевидности, этикет речи. Следовательно,
междисциплинарная деятельность зависит от способности людей
мыслить в терминах более нем одного языка (курсив мой. - H.A.) - от
искусства более трудного, нежели, скажем, способность думать
по-английски и по-французски, поскольку языки научных
дисциплин различаются не только словарем и грамматикой (как
обычные языки), но также более глубокими своими аспектами,
значение которых, как представляется, и может быть передано
фразой "принципы организации мышления"»1.
Это глубокая мысль: формализация языка неизбежно приводит
к содержательному расширению наших представлений о языке,
к концепции «языка в широком смысле» и к идеям
междисциплинарного перевода, весьма продуктивным для ныне столь
популярных идей научной междисциплинарности. В том же
направлении двигалась и лингвистика. Поначалу она отвлекалась от всего
«внешнего» и контекстуального, устремлялась ко все большей
формализованное™ и абстрактности вычленяемых и
анализируемых структур, пока не было замечено, что у нас нет возможности
выявить общие структуры языка и способ их функционирования,
не обращаясь к «контексту», с одной стороны, и к «субъекту»,
к языковому сознанию говорящего - с другой. Тем самым
и в лингвистическое исследование вошла вся проблематика
текста и контекста, текста и подтекста, формализуемого и «вне-
рационального», «порождающего», «нерефлективного»
и пр. Одновременно с этим возникали совершенно иные подходы
к языку, питавшиеся в известном смысле самой неосуществлен-
ностью и неосуществимостью всех проектов исчерпывающей
формализации языка. Главная из этих тенденций -
герменевтическая, трактующая язык в плане, противоположном интенциям
на формализацию и обобщение, и максимально
приближающая язык к «антиметодологическому» по сути своей бытию.
1 Rapoport Л. Various Meanings of «Theory» // Philosophical Problems of Science and
Technology. Boston, 1974. P. 259.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 551
Проблематика языка, возникающая в зоне напряжений между
усилиями формализации, с одной стороны, и стремлениями к
поиску дорефлексивных определений языка и мысли — с другой,
занимает в современной философии важнейшее место. Более полувека
назад Гадамер поставил вопрос, вобравший в себя эпоху и
ставший ее символом, - это вопрос о роли языка в современной
философии. Он звучит так: «Почему в сегодняшней философской
дискуссии проблема языка приобрела такое же центральное
положение, как примерно 150 лет назад понятие мышления или
мышления, мыслящего самого себя?»1. Этот вопрос разворачивается
далее в целую цепочку других вопросов, связанных прежде всего
с существованием науки в контексте других форм человеческого
опыта. «С помощью этого вопроса, — продолжает Гадамер, — я
хотел бы косвенно ответить на другой вопрос, который должно
обозначить как центральный вопрос Нового времени, данного нам
существованием современной науки. С XVII века собственной
задачей философии стало опосредовать это новое применение
человеческого умения знать и умения делать целостностью
нашего человеческого жизненного опыта. Это выражается во многом
и включает в себя также попытку сегодняшнего поколения,
которое делает тему языка — этого способа великого осуществления
нашего бытия в мире, этой всеохватывающей формы мирового
порядка — центральным пунктом философии»2.
Спектр трактовок языка в той самой современной
философии, которую описывает Гадамер, очень велик: каждое сколько-
нибудь развитое философское построение непременно содержит
в себе более или менее выявленную концепцию языка: это может
быть язык как бессознательное (Ж. Лакан), язык как социальная
сила (Ю. Хабермас, М. Фуко), язык как условие возможности
конкретной рефлексии (П. Рикёр), язык как показатель
несоизмеримости теоретических построений (Т. Кун, П. Фейерабенд)
и др. Эти интерпретации языка настолько различны, что могут
показаться несоизмеримыми, однако исходным для них в той или
иной форме оказывается именно это стремление построить
альтернативу классической философии сознания и самосознания,
а также такому идеалу знания, который опирается на идею его
«самодостаточности», «непосредственности», «беспредпосы-
лочности» (напротив, язык выступает как стихия опосредованности
и носитель различного рода предпосылок). Последние десятилетия
1 Обычно его цитируют неточно - в сокращенном виде и в форме утверждения.
2 Gadamer H.-G. Die Universalität des hermeneutischen Problems // Philosophisches
Jahrbuch. J. 73. Halbband II. München, 1966. S. 215.
552
Познание и перевод. Опыты философии языка
расширяют и конкретизируют тот набор проблем, о которых
рассуждает Гадамер: прежде всего все больше осознается
несубстанциональность языка среди других коммуникативных
возможностей, практик, схематик. Вместе с тем, получается так, что язык,
перегруженный массой возлагаемых на него функций, начинает
все более «зацикливаться на самом себе». И тем самым, вместо
реальной альтернативы философии сознания и самосознания повторяет
те же круговые схемы: язык начинает истолковываться в языке
и посредством языка1. Но именно обращение к проблеме
перевода становится в последние десятилетия одним из симптомов
выхода из замкнутого круга, значимого объединения
различных контекстов, прорастания языковой проблематики в некое
новое качество. Эта проблема еще далека от всеобщего и
повсеместного осознания, но демонстрирует свою весомость во все большем
количестве познавательных и жизненных ситуаций.
Проблема языка возникает в XX в. в связи с кризисом
общения, кризисом культуры как неотъемлемой частью общего
социального кризиса. Ломка традиционных устоев социальной жизни,
человеческого общения, крушение прежних мировоззренческих систем,
придававших индивидуальному опыту целостность и
осмысленность, а отношениям между людьми — естественность и понятность,
потребовали выработки новых жизненных устоев, новых рецептов
и критериев понимания человеком самого себя, мира, общества.
Просветительские рецепты постепенного индивидуального самоуяснения
и социального объяснения, т. е. обучения и «просвещения»,
оказались с точки зрения нового социального опыта устаревшими.
Культурный мир западно-европейского человека, скроенный, как
некогда казалось, вполне по мерке естественных человеческих
масштабов и потребностей, перестал быть самопонятным: он потерял
четкость границ и целостность внутренней структуры. Те пласты
и уровни бытия, которые некогда вовсе исключались из сферы
опыта или же оттеснялись на его периферию, выявились теперь во
всей своей качественной самобытности и тем самым потребовали
переосмысления границ и критериев понимания самого разума.
Для того чтобы понять эти новые содержания, сделать их частью
внутреннего мира человека, нужно было найти способ
взаимодействия с ними, расшифровать их «язык», понять, что такое язык вообще,
1 Дж. Джеймисон вспоминает в этой связи известную притчу о дереве, которое
захотело перестать быть деревом и потянулось вверх и вширь, но в результате
порождало все больше и больше листьев и ветвей. Эта притча очень наглядно
подтверждается в истории, например, структуралистского замысла: средства,
призванные вывести в область радикально новой проблематики, «одеревеневают»,
и «тюрьма языка остается тюрьмой». Jameson F. The Prison-House of Language.
Princeton, 1972.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 553
какова природа разнообразных механизмов культуры,
организующих и передающих человеческий опыт.
Кризис общения вызывает, таким образом, обостренное
внимание к языку в самых различных областях: и в самой лингвистике,
и в других социальных и гуманитарных науках, прямо или
опосредованно связанных с языком, а также в философском,
художественном, нравственном, обыденном сознании. В лингвистике это
приводит к вычленению в начале XX в. собственного объекта,
функционирование которого не сводимо к логическим,
психологическим, биологическим, историческим и другим закономерностям;
к определению методов изучения языка как системы: отдельное слово,
взятое само по себе, не соотносимо ни с мыслью об объекте, ни с
самим объектом. В философии — к постановке, уже на новой
основе (язык не тождествен мышлению, он способен формировать
мышление в некоторых его структурах), вопроса о соотношении
языка и мысли, языка и культуры. В ряде других
социально-гуманитарных наук это приводит к заимствованию из
самоопределившейся лингвистики методов и приемов исследования, к
вычленению языкового или языкоподобного пласта во всех областях
человеческой деятельности, к пониманию культуры как
совокупности «языков», к смыканию лингвистики с семиотикой
и образованию единого комплекса лингво-семиотических
исследований. В той типологии подходов к языку, которая здесь
предлагается, язык будет рассматриваться как опора формализующих
процессов, как метод познания других явлений, как род бытия,
как социальная сила. Соответственно этому разные повороты
языка и языковой проблематики будут представлены здесь в
аспектах формализации, методологизации, онтологизации, социо-
логизации.
Эти четыре аспекта рассмотрения языковой проблематики
могут одновременно являться характеристиками различных
мыслительных направлений. Так, формализация языка является
характерным признаком неопозитивистской программы на ее ранней
стадии, методологизация - характерным признаком
структурного анализа в гуманитарных науках, в какой бы
конкретной форме он ни проводился, онтологизация — характерным
признаком феноменологических и герменевтических
интерпретаций языка, социологизация — одним из определений концепций,
пересматривающих марксизм, центрирующихся вокруг проблемы
власти, вокруг возможностей радикальной политики и пр.
Разумеется, жесткое закрепление различных аспектов языковой
проблематики за тем или иным мыслительным направлением
было бы натяжкой. При более близком рассмотрении
оказывается, что в каждом мыслительном направлении, если взять его обоб-
554
Познание и перевод. Опыты философии языка
щенно-суммарно, придав ему, стало быть, те черты, которые
редко сочетаются в пределах одной концепции, можно обнаружить
почти все названные выше аспекты или типы языковой
проблематики, хотя, конечно, и пропорции в сочетании этих элементов,
и взаимосвязи между ними будут во всех этих случаях весьма
различными. Вычленение основных типов этих проблем и,
следовательно, основных типов трактовок языка позволит нам уловить
сходства и различия в постановках тех или иных частных вопросов
и наметить, как уже говорилось, те возможные трактовки перевода,
которые при этом возникают.
О некоторых трактовках перевода в связи с языком
Формализация и ее недостижимость. Термином
«формализация» обозначается здесь тенденция к «очищению» языка как
средству достижения научности описываемого в языке знания.
Эта мечта об идеальном, свободном от случайностей обыденного
словоупотребления языке характеризует устремления
логического позитивизма. Вряд ли можно рассматривать эту тенденцию
к формализации как прямое воплощение и продолжение
гносеологических установок классического рационализма, в частности
проекта построения «mathesis universalis»: в XVII—XVIII вв.
формализация языка, вытекавшая из его логизации, была исходным
постулатом, в XX в. она становится искомым, но недостижимым
идеалом, поскольку обнаруживаются принципиальные пределы
формализации языковых систем (так, гёделевские теоремы о
неполноте формальных систем и о невозможности доказать
непротиворечивость формальной системы средствами самой системы
показывают принципиальную невозможность формализации
человеческого мышления). Пример языковой формализации — это
развитие в XX в. языков математики и математической логики,
построение исчислений и аксиоматических систем, конечный,
хотя и весьма отдаленный прообраз которых усматривается в
некоторых синтаксических свойствах естественного языка.
Мысль о переводе в рамках формализующих тенденций так
или иначе фиксирует эту недостижимость, настаивает на ее
принципиальном характере. Рассматривая возможности и
невозможности концептуального перевода, мы обращаемся в первую
очередь к концепции онтологической относительности Куайна,
которая заостряет различие между концептуальными языками
или, иначе говоря, теориями и их онтологиями (совокупностями
объектов, о которых можно говорить в данном концептуальном
языке): логически несоизмеримые теории возникают как
вследствие различия языков, так и вследствие различия онтологии.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 555
В любом случае онтология зависит от языка, хотя это и не
значит, что она не имеет отношения к реальному миру, к
объективной реальности: просто делать те или иные утверждения насчет
онтологии данной теории можно не внутри нее самой, а лишь
выходя за ее пределы. Тем самым возникает удвоенное
требование перевода: язык одной теории и вытекающие из его принятия
онтологические допущения должны быть сопоставлены с другим
языком и вытекающими из его принятия онтологическими
допущениями. Можем ли мы осуществить такое усложненное,
двойное сопоставление? Куайновский ответ на этот вопрос —
радикальное сомнение.
Куайн ставит вопрос в радикальной форме, показывая, что
даже обычный лингвистический перевод, если взять его в
экспериментальных условиях, оказывается невозможным или, точнее
говоря, неопределенным или недоопределенным. Отсюда и
вытекает тезис Куайна о неопределенности радикального перевода.
Радикальный — значит, такой, который осуществляется на
пределе всех сложностей — без переводчика, без словаря, перед лицом
чужой культуры, почти без всяких посредников. Его мысленный
эксперимент предполагает лишь наблюдателя, туземца, зайца
и чисто поле... Внутри европейского культурного пространства,
где многие трудные места текстов культуры уже «намолены»,
политы слезами многих поколений переводчиков, представить себе такую
культурную tabula rasa было бы сложно, а на «диком Западе» —
очень даже возможно. Этот пример Куайна, который должен был
проиллюстрировать неопределенность радикального перевода,
стал хрестоматийным. Исследователь «в поле» видит быстро
бегущего зайца, слышит возглас информанта «гавагай», но не знает
точно, к чему он относится - к зайцу в целом, к какой-то его
«неотделимой части», к «появлению зайца в поле зрения в данный
момент времени», к зайцевости как таковой и т.д. Все эти
гипотезы могут показаться нам искусственными, однако для
американского исследователя, живущего бок о бок с людьми, говорящими,
например, на языках североамериканских индейцев (отличных от
так называемого «среднеевропейского стандарта»), — языках, где
предложение не делится на части, но представляет собою
непрерывную протяженность, не членимую на подлежащее и
сказуемое, и проч., каверзный вопрос об аспектах, длительностях
и моментах становится вполне осмысленным и совсем не
надуманным.
Как уже отмечалось, радикальный перевод оказывается не
столько невозможным, сколько неопределенным или, скорее,
недоопределенным. Конечно, опытный лингвист-практик,
привычный к полевым исследованиям, сможет оперативно отсечь ненуж-
556
Познание и перевод. Опыты философии языка
ное и в конце концов принять решение, диктуемое здравым
смыслом, но все равно это будет означать, что в объективно
неопределенную ситуацию он внес нечто от себя, доопределил ее на свой
страх и риск. Разумеется, выдвигая все новые аналитические
гипотезы, развертывая систему контекстуальных отсылок,
проводя более детальные сопоставления, можно значительно
продвинуться в переводе, однако даже лучший результат на этом пути все
равно не разрешит проблему его неопределенности. Ведь круг
взаимных отсылок остается: а это значит, что употребляемый
человеком язык каждый подтягивает его к своей онтологии, к своему
кругу объектов, а каждый новый перевод будет менять содержание
теории и ее онтологию. По этому поводу, как правило, говорят,
что при терпеливом рассмотрении таких аналитических гипотез,
которые учитывали бы возможно более полную информацию
культурно-исторического или культурно-антропологического
свойства, вопрос о переводе все же приблизился бы к разрешению
в рамках уместной степени строгости, а также констатируют, что,
несмотря на всю свою специфику, куайновский тезис о
неопределенности радикального перевода в конце концов не так уж сильно
отличается от представлений континентальной философии о
естественных языках как различных формах видения мира.
Если Куайн ставил вопрос о переводе как о возможности
проверки аналитических гипотез в осложненной ситуации
наблюдения, то Кун, впрочем, активно ссылавшийся на куайновские
размышления о переводе, ставит вопрос о переводе в
совершенно иной плоскости. Ему важен не мысленный эксперимент
в крайне осложненной ситуации, но перевод в ситуации весьма
обычной и даже повседневной, регулярно наблюдаемой в
истории науки при столкновении различных концепций и
возникающих при этом ситуациях радикального непонимания. Другое
дело, что эти ситуации коммуникативных кризисов в науке,
связанных с несоизмеримостью, редко рассматриваются как
ситуации неудачного перевода. Именно на это и указывает Кун,
когда он ставит во главу угла перевод не индивидуальный, а
интерсубъективный, перевод как реальную и взаимно
направленную работу людей, попавших в неразрешимые
коммуникативные ситуации. Кун ввел гипотезу о целительной роли перевода
именно столкнувшись с феноменом несоизмеримости научных
теорий и несоизмеримости парадигм в ситуации разрушения
научной коммуникации. Сейчас об этом эпизоде его творчества
исследователи почти не вспоминают, но к нему стоит заново
присмотреться.
Свои предложения по урегулированию кризиса
несоизмеримости с помощью перевода Кун изложил в дополнениях 1969 г. к ос-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 557
новному тексту «Структуры научных революций». Здесь Кун
призывает нас обратиться к переводу: «...все, чего могут достигнуть
участники процесса ломки коммуникации, — это осознать друг
друга как членов различных языковых сообществ и выступить
затем в роли переводчиков с одного языка на другой»1. При этом
нам предлагается следующий путь действий: прежде всего -
очертить область согласия, а она всегда есть, пусть и небольшая;
далее — попытаться понять причину трудностей в научной
коммуникации, вычленив основные места разногласий, те
выражения и термины, которые являются средоточием непонимания.
Затем - опереться на собственный здравый смысл и
поупражняться в умении поставить себя на место другого человека,
пытаясь при этом как бы говорить на чужом языке, представляя себе
одновременно и то, что сказал бы другой в моей ситуации. Если
приложить все возможные усилия, то через некоторое время мы
научимся более или менее правильно предсказывать поведение
друг друга (для Куна определяющими являются бихевиористские
критерии - наблюдение за актами поведения, которые
осуществляются под воздействием тех или иных стимулов). Так как Кун
ссылается на работы Куайна и Найды2, он, по-видимому, исходит
из аналогии между ситуацией концептуальной несоизмеримости
и изучением языков чуждых сообществ, когда наблюдатель
постепенно научается предсказывать поведение своего объекта.
Только в куновском случае речь идет не о наблюдении за
объектом, а о взаимных усилиях по переводу — важно уже одно то, что
взаимоперевод признается вещью в принципе достижимой:
«Каждый научится переводить теорию другого и ее следствия на
свой собственный язык и в то же время описывать на своем язы-
1 Кун Т. Структура научных революций. М., 1975. С. 254. Ср. также: Куайн У.
Онтологическая относительность// Современная философия науки. М., 1994. С. 23-36;
Лекторский ΒΛ Концепция онтологической относительности; Перевод и проблема
понимания//Субъект. Объект. Познание. М, 1980. С. 212-246; Пененкин A.A. Вводные
замечания (к разделу «Релятивизм») // Современная философия науки. М., 1994.
С. 12-23; о проблеме концептуального перевода, в частности, см.: Роджеро А.Н.
Герменевтика и научная рациональность (понимание как методологическая проблема
культурно-исторических исследований) // Труды семинара по герменевтике. Вып. 1.
Одесса, 1999. С. 7-26; Kirk R. Translation Determined. Oxford, 1986 и др.
2 Quine W.O.Word and Object. Cambridge (Mass).-N.Y., 1960. Ch. I, II;
Nida E.A. Linguistics and Ethnology in Translation Problems // Hymes D. (ed.).
Language and Culture in Society. N.Y., 1962. P. 90-97. Кун, однако, полагает, что
Куайн «мало говорит о степени, в которой переводчик должен быть способен
описать ( курсив автора) мир, к которому применяется язык, требующий перевода»,
и все это - потому, что Куайн, очевидно, «полагает, что два человека,
испытывающие одно и то же воздействие, должны иметь и одинаковое ощущение» ( Кун Т. С.
254, сноска 17).
558
Познание и перевод. Опыты философии языка
ке тот мир, к которому применяется данная теория»1. Кун не
ограничивается ситуацией несоизмеримости в данный момент
времени и расширяет свою гипотезу, точнее, свой мыслительный
эксперимент с переводом, на область истории науки. Попытка
перевода при изучении объектов прошлого «составляет
постоянную работу историка науки»2; во всяком случае, добавляет Кун,
по-видимому, сомневаясь в переводческой усидчивости своих
собратьев по истории науки, — такая работа есть «именно то, что
ему надлежит делать3. Если перевод окажется удачным, он
поможет участникам эксперимента ощутить некоторые из достоинств
и недостатков точек зрения друг друга и, возможно, принять
иную точку зрения. А потому в переводе Кун видит «мощное
средство и для убеждения и переубеждения»4.
Однако как раз по поводу убеждения и переубеждения
возникают проблемы. Даже научившись переводу и добившись того,
чтобы и наш собеседник научился нас переводить, мы не можем
быть уверены в своей способности переубедить коллегу, ведь
даже восприятия одного и того же у разных людей разные. При этом
Кун вполне отдает себе отчет в том, что его предложения о
переводе как коммуникативной и концептуальной технике не
тривиальны; во всяком случае «для большинства людей перевод
представляет собой процесс, угрожающий нормальной науке
и совершенно ей не свойственный»5. Наверное, это не должно
особенно нас удивлять: перевести теорию на язык другого
научного сообщества, надеяться найти новых приверженцев можно
лишь в том случае, если мы покажем, как она практически
мыслится и работает. Кроме того, между разумным убеждением
в правильности той или иной теории и ее эмоциональным,
аффективным принятием подчас простирается пропасть; даже
находясь уже в рамках новой теории, некоторые ведут себя в ней как
чужестранцы в незнакомой стране: «ни достаточные основания,
ни перевод с одного языка на другой не обеспечивают переубеж-
1 Кун Т. С. 254. В рус. пер. цитаты внесены некоторые изменения - H.A. Как мы
видим, эта ситуация движения навстречу друг другу совсем не та, в которой Шлей-
ермахер описываел активность переводчика, подтягивающего читателя к автору
или автора к читателю. В ситуации научных споров речь идет о переводе в
широком смысле и об отношениях живых агентов коммуникаций.
2 Кун Т. С. 254.
3 Кун Т. С. 254.
4 Там же. С. 255.
5 Там же. С. 256. В русский перевод цитаты внесены некоторые изменения. - H.A.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 559
дения»1. Потому-то Кун, столь весомо напомнивший нам о
переводе, остается в принципе при своей начальной точке зрения:
большинство революционных изменений в науке являются
«переключением гештальта», возможным лишь при наличии
переубеждающего опыта. И все же, запомним это, в состав самого
переубеждающего опыта отныне входит и гипотеза о роли перевода.
А потому поиск соизмеримости теорий2, выраженных в разных
научных языках, не может отныне обойтись без перевода языков,
концепций, форм опыта. В целом эти предложения Куна в связи
с переводом, как представляется, не получили надлежащей
проверки, хотя некоторые исследователи3, продвигаясь по этому
пути, рискнули осознанно допустить в перевод элементы
истолкования и одновременно принять возможность изменений
в собственном языке, полагая, что в этом случае сопоставление
теорий через механизмы перевода получит более широкую
и прочную основу.
В этом контексте уместно будет напомнить о том, что само
понятие несоизмеримости (incommensurability), которое ждала
в будущем философская слава, активно использовалось еще
Сепиром в 1920-е годы: при этом автор имел в виду невозможность
поэлементных и поуровневых связей между различными
языками. С этим часто связывалась релятивистская гипотеза
лингвистической относительности, хотя Сепир вовсе не был
релятивистом и даже увлекался проблемами создания общего языка типа
эсперанто. Собственно эта гипотеза была сформулирована
учеником Сепира Бенджаменом Уорфом. Судьба гипотезы Уор-
фа необычна: она была сформулирована не так, как ее
представлял сам исследователь, далее отвергнута большинством
исследователей за крайнюю формулировку, не принадлежавшую автору,
а когда ей стали придавать большое значение, это делалось, как
правило, исходя из общефилософских, а не профессионально-
лингвистических соображений4. Сама гипотеза, по сути, не была ни
1 Там же. С. 257. Как мы видим, Кун явно колеблется, потому что на предыдущей
странице он утверждал, что «перевод представляет собой мощное средство и для
убеждения и переубеждения». Вводя гипотезу о взаимопереводе как пути к выходу из
тупиков несоизмеримости, он все же не очень-то верит в ее результаты.
2 Детальную трактовку проблемы несоизмеримости у Куна см., в частности,
в книге С. Фуллера: Fuller S. Thomas Kuhn. A Philosophical History for Our Times.
Chicago and London, 2000.
3 Например: Hoyningen-Huene P. Reconstructing Scientific Revolutions.
Thomas S. Kuhn's Philosophy of Science. Chicago-London, 1993.
4 Умберто Эко весьма скептичен по отношению к любым проявлениям
чего-либо близкого гипотезе Сепира-Уорфа. Так, его смущают размышления Ортеги-и-
560
Познание и перевод. Опыты философии языка
подтверждена, ни опровергнута, так как она подняла вопросы,
для решения которых, несмотря на обилие фактов, у
исследователей не было и нет ни практического инструментария, ни
понятийного аппарата1. Эта гипотеза была сравнительно мало заметна
в первой половине XX в., но стала важна в связи с
коммуникативным поворотом второй половины века, вновь заставив обратить
внимание на связи мысли с языком и культурой.
Методологизация: язык как метод в
структурно-семиотической перспективе. Термином «методологизация» обозначается
здесь совокупность научных и культурных явлений, связанных
с методологическим самоопределением лингвистики и ее
воздействием на другие социальные и гуманитарные науки:
литературоведение, искусствоведение, этнологию, психологию,
историю и др. Так, примерами методологизации языка могут
послужить «формальная школа» в русском литературоведении,
московско-тартуская школа структурно-семиотических
исследований культуры, и в особенности французский структурализм
1960-1970-х годов, связанный прежде всего с переносом
методов исследования естественного языка на другие области
исследования культуры. Во всех этих направлениях мы видим либо
прямое заимствование приемов и методов исследования языка
при анализе весьма разнородного материала культуры, либо
апелляции к языку как аналогии, модели, на которой можно
изучать свойства объектов, включающих языковой пласт или
целиком мыслимых в качестве структур, подобных языковым струк-
Гассета в «Блеске и нищете перевода» (1937): пусть де баскский язык и вполне
совершенен, однако обозначения Бога в нем нет (для его обозначения баскам
приходится прибегать к парафразам типа «Господин того, что сверху»), а потому баски
столь отчаянно сопротивлялись обращению в христианство. Если бы Ортега был
прав, размышляет далее У. Эко, из этого вытекало бы, что латинянам было трудно
обратиться в христианство, потому что их обозначение Бога (dominus) является
хозяйственным и политическим термином, англичанам - потому, что их
обозначение (Lord) звучит так, будто речь идет о члене одной из палат парламента и т.д. Ср.:
Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 192. Конечно,
тут вспоминается и классический пример, иллюстрирующий якобы неразрывную
связь мысли о Боге с морфологической структурой глагола «быть»: принять
онтологическое доказательство бытия Бога трудно носителям тех языков, где
различные формы глагола «быть» в настоящем времени систематиче-ски опускаются:
стало быть, из русского «Бог благ» бытие Бога не выводится, а из латинского Deus
bonus est вполне выводится (Deus bonus est ergo Deus est)...
1 Алпатов B.M. История лингвистических учений. M., 1998. С. 219-226. Если
в 70-80-е годы XX в. в философии и лингвистике преобладал акцент на
общности принципов человеческого общения, то в 90-е годы усилился акцент на ее
неуниверсальности (отсюда большая и даже преувеличенная популярность -
особенно в России - концепции А. Вежбицкой).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 561
турам. Процесс методологизации особенно усилился после
смыкания лингвистики с семиотикой и возникновения единого
комплекса лингвосемиотических исследований, преодолевших
атомарный подход к знаку и создавших возможность семиотики
культуры1. Столь большое разнообразие сфер, методов, приемов
и перспектив семиотического анализа заставляет задуматься над
вопросом, «существует ли в принципе общая перспектива,
которая связывает или должна связывать эти различные
подходы?»2.
Если идти от определения знака, то такое единство
представляется невозможным: знаками являются и слова, и жесты, и образы,
и нелингвистические звуки. При этом и пирсовская семиотика,
делавшая акцент на отношении знака к объекту, и моррисовская
семиотика, делавшая акцент на интерпретаторе (восприятие
которого только и способно сделать знак знаком), строились на основе
определенных логико-психологических посылок, которые были
в полной мере осознаны лишь их последователями в наше время.
И акцент на субъекте как интерпретаторе знака, и акцент на
объекте как референте знака связаны в этих концепциях с
представлением о самом знаке как о вещественной сущности, оставляя в тени
специфику знака как отношения, функции. Другой подход к
семиотической проблематике был предложен Ф. де Соссюром, который
уделил главное внимание не субъекту-интерпретатору, и не
объектам, к которым отсылает знак, но структуре отношений,
определяющих знак как таковой: это отношение означаемого и
означающего (Соссюр понимает его как взаимоотношение двух психических
образов — акустического и понятийного), настаивая при этом на
произвольности этого отношения и произвольности языка как со-
1 Сегодняшняя семиотика включает различные ответвления проблематик и
методов и соответственно намечает разветвленные пути межсемиотического
перевода. Это зоосемиотика; коммуникация посредством осязания, жестов;
традиционная медицинская семиология, связанная с изучением симптомов различных
заболеваний и проблемами диагностики; это новые аспекты лингвистической
коммуникации, включающие, например, интонационные или ритмические
аспекты словесного языка (паралингвистика); это изучение архитектоники
социально-культурного пространства; это анализ визуальных сигнальных систем
различной сложности (от дорожных сигналов до живописи); анализ структур содержания
литературных произведений (в частности, применение классификационных
систем классической риторики к современному материалу); наконец, это типология
различных текстов культуры - от произведений искусства до текстов массовой
коммуникации. Семиотика, таким образом, обладает очень большим полем деятельности,
которое выходит за рамки собственно языковых или каких-либо
конвенциональных систем значений, специально создаваемых с целью коммуникации,
но имеет своим фундаментом исследование систем естественного языка.
2 Eco U. Looking for a Logic of Culture // Times Literary Supplement. 1973.5 Oct. P. 1149.
562
Познание и перевод. Опыты философии языка
циально установленного целого1. Как показало последующее
развитие семиотики, соссюровская трактовка семиотической
проблематики с ее акцентом на реляционной сущности языка оказалась
для последних десятилетий наиболее плодотворной2. Об этом
свидетельствуют, в частности, исследования Р. Барта (литература
и массовые коммуникации), А.-Ж. Греймаса, Ц. Тодорова
(повествовательные структуры фольклора и литературных произведений),
К. Метца (кино как специфическая знаковая система), Л. Прието
(логика систем визуальных коммуникаций), А.-Ж. Греймаса
и Ж. Фонтания (семиотика эмоций) и др.3.
1 Наиболее серьезный довод против того тезиса о произвольности был
позднее выдвинут Бенвенистом, заметившим, что произвольность характеризует
лишь отношение целостного знака к реальности, но вовсе не отношение
компонентов знака между собой - они связаны в сознании носителя языка самой
тесной исторически обусловленной связью. Одним из уязвимых мест соссюров-
ской концепции была идея атомарного знака, сменившаяся у последователей Сос-
сюра (ссылавшихся здесь на самого же Соссюра, который переходит от атомарного
знака в «Курсе общей лингвистики» к идее текста в «Анаграммах»), вниманием
к знаковой цепи, тексту. Однако в связи с этой общей переориентацией возникли
новые концептуальные сложности. Вычленение в кодах плана содержания и плана
выражения породило в дальнейшем трудности при их соотнесении. В самом деле,
бывают коды с одно-однозначным соответствием между элементами плана
содержания и плана выражения (азбука Морзе); бывают коды, в которых цепочкам
плана выражения соответствуют нерасчлененные блоки плана содержания; наконец,
встречаются и такие коды, где мы имеем дело с неким глобальным соответствием
планов содержания и выражения, при котором вычленение каких-либо отдельных
единиц представляется проблематичным. Эп-и сложности особенно отчетливо
проявляются при расширении исследования за пределы естественного языка, где
корреляции планов содержания и выражения пронизывают пласты, большие, нежели
знак, фраза, предложение, и разыгрываются на уровне текста.
2 Именно в постсоссюровской традиции возможности межсемиотического
перевода раскрываются в наибольшей мере, хотя, справедливости ради, необходимо
отметить, что и у Пирса были весьма интересные идеи интерпретации как
перевода, которые некогда привели в восторг Якобсона: его очень привлекало в Пирсе то
обстоятельство, что, пытаясь определить понятие интерпретации, Пирс
постоянно обращался к идее перевода. У. Эко уточняет при этом две вещи: что лексика
Пирса «изменчива и импрессионистична» и что понятием «перевод» он
пользуется скорее как синекдохой (то есть обозначением части вместо целого): иначе
говоря, перевод для Пирса - это часть интерпретации. Однако энтузиазм Якобсона
был безграничен: «Одна из самых удачных и блистательных идей, перенятых
общей лингвистикой и семиотикой у американского мыслителя - это определение
значения как "перевода знаков в другую систему знаков". Скольких бесполезных
дискуссий о ментализме и антиментализме можно было бы избежать, если бы к
понятию сигнификата подходили в терминах перевода! Проблема перевода, с точки
зрения Пирса, является основополагающей, и она может (и должна)
использоваться систематически». Jakobson R. (1977) A Few Remarks on Peirce. Цит. по:
Эко У. Сказать почти то же самое. Опыты о переводе. СПб., 2006. С. 274.
3 Henault A. Histoire de la sémiotique. 2 éd. corrigée. Paris, 1992; Greimas A.J.,
FontanilleJ. Sémiotiques des passions. Des états de choses aux états d'âme. Paris, 1991.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 563
В контексте нашего рассуждения наиболее интересно то, что
семиотические исследования смогли стать методологией анализа
культурных феноменов. Эта тенденция ярко обнаружила себя уже
в 1920—1930 годы XX в. в идеях Пражского лингвистического
кружка, а позднее — в том скрещении проблематик лингвистики
и антропологии, которое было порождено творческой встречей
Леви-Строса и Якобсона в Нью-Йорке в 1943 г. Средоточием
нового подхода было использование естественного языка и его
методологии как аналога при анализе других явлений, лишь отчасти
включавших языковую составляющую или вовсе ее не
включавших. Эта трактовка языка как метода особенно ярко проявилась
в различных вариантах научно-гуманитарного структурализма.
Яркими представителями этой тенденции методологического
использования семиотики стали, как уже отмечалось, французский
структурализм 1960-1970-х годов, Московско-Тартуская
семиотическая школа 1960—1980. При таком универсализирующем
семиотическом подходе к различным явлениям культуры
трактовка лингвистической методологии как ядра метода
предполагает - прежде всего у Леви-Строса - и наличие перевода в широком
смысле слова — перевода между различными уровнями культуры,
между различными языками и семиотическими системами. Эта
широкая концепция перевода представлена и у Лотмана, с его
идеей семиосферы и перевода между различными уровнями
культурных систем, между отдельными языками, а также перевода как
перехода от довербального опыта к построению культурных
текстов. Таким образом, различные формы анализа способов,
посредством которых данное общество воспринимает, организует,
преобразует мир, т. е. «логики культуры», предполагает изучение
механизмов культурной переводимости и непереводимости
и фактически складывается вместе с ними в единый комплекс
проблем1.
1 Анализ знаковой функции не позволяет пока построить единственную и
единую семиотическую теорию, но позволяет вычленить единый объект
различных семиотик, главную цель семиотических исследований, смыкающихся
с лингвистическими и образующих единый комплекс лингво-семиотических
исследований: эта цель - построение «логики культуры». Это как раз и выражает
другими словами то самое, к чему стремились Локк, Соссюр и Пирс. «Знаковое
отношение существует, когда любой данный материальный континуум сегментирован,
подрасчленен на значимые единицы посредством абстрактной системы операций.
Единицы, которые эта система делает значимыми, составляют, согласно Ельмсле-
ву, план выражения; он соотнесен посредством кода с единицами плана
содержания, в котором другая система оппозиций сделала значимыми некоторые
семантические единицы, чтобы культура могла "мыслить" и "передавать тот
недифференцированный континуум, каковой и есть мир, с их помощью"»
(Eco U. Looking for a Logic of Culture// Times Literary Supplement. 1973.50ct.P. 1150).
564
Познание и перевод. Опыты философии языка
Для Лотмана перевод — это метод семиотического
исследования, однако применяется он не только в собственно семиотике,
но, скажем, и в историческом познании. Лотман возражает
против таких исторических подходов, при которых «мир объекта»
и «мир историка» сливаются и даже полностью
идентифицируются (в данном случае он имеет в виду концепцию Коллингвуда).
Напротив, путь исследователя «предполагает предельное
обнажение различий в их структурах, описание этих различий и
трактовку понимания как перевода [курсив автора] с одного языка на
другой»1. Схема перевода прилагается к этой ситуации
взаимоувязывания мира объекта и мира историка в силу некой презумпции
многоязычия: историк и история, объект и наблюдатель «говорят
на разных языках»; вследствие этого они описываются разными
языками, а при их соотнесении возникает необходимость
постоянного, многократного перевода.
Семиотическое пространство в целом Лотман трактует как
«многослойное пересечение различных текстов»2, имеющих
сложные взаимоотношения и соответственно разную степень
пере водимости и непереводимости. Он ставил не только вопрос
о переводимости различных семиотических языков друг в друга,
языка объекта и языка описания — друг в друга, но также и вопрос
о переводимости реальности (как феномена и даже как ноумена)
в текстовое пространство. Проблема перевода у Лотмана требует
отдельного исследования, и моя задача здесь только указать на
плодотворность пути, на который указывают многие
высказывания ученого. Хотя Лотман прямо этого, кажется, и не говорит,
можно предположить, что именно схематика перевода в
известной мере обеспечивает соотношение между функционированием
культуры, рассматриваемой как совокупность семиотических
систем, и динамическими прорывами в новые семиотические
системы, а также соотнесение, условно говоря, системного с
несистемным как аспект и этого функционирования, и этой динамики.
Для Лотмана фактически разные формы соотношения между
переводимым и непереводимым подготавливают и запускают в
действие взрывные процессы, осуществляют прорывы семиосферы
в запредельные пространства. Лотман очень четко говорит о том,
что абстракция одного-единственного языка общения (здесь
имеется в виду прежде всего якобсоновская схема) является лишь
ограниченно полезной, а если на нее безоговорочно полагаться,
и вовсе становится вредной, дурной абстракцией. Причина этого
Лотман Ю. Семиосфера. СПб., 2001. С. 388.
Там же. С. 30.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 565
в том, что идентичность языка передающего и языка
принимающего, которую предполагает эта абстракция, встречается на
эмпирическом уровне не как правило, но, напротив, как редкое
исключение из обычной, «нормальной» модели коммуникации —
принципиально многоязычной.
Мне уже приходилось анализировать концепцию Лотмана по
другим поводам, и потому здесь я не буду углубляться в
подробности трактовок и полемик. Однако есть еще один вопрос, который
необходимо рассмотреть более внимательно: это вопрос о
соотношении диалога и перевода в концепции Лотмана. Вот одно из
ключевых мест, где Лотман, рассуждая о диалоге и переводе,
строит то, что выглядит как жесткая дефиниция их соотношения: «Мы
говорили, что элементарный акт мышления есть перевод. Теперь
мы можем сказать, что элементарный механизм перевода есть
диалог» (курсив мой. — H.A.)1. При взгляде на эти высказывания
у большинства читателей может возникнуть мысль о том, что речь
идет о сопоставлении перевода с концепцией диалога в духе
Бахтина (такова для большинства читателей первая ассоциация при
слове «диалог»), что Лотман подчиняет перевод диалогу — как
взаимодействию равноправных «голосов». Такому впечатлению
будут способствовать и те исследования, в которых позиции
Бахтина и Лотмана по вопросу о диалоге уравниваются или по крайней
мере предельно сближаются. Мне представляется более
обоснованной совершенно иная точка зрения: несмотря на отдельные
высказывания, казалось бы, свидетельствующие о сближении
Лотмана с Бахтиным начиная с середины 1970-х годов, в целом
и по сути концепция диалога у Лотмана радикально отличается от
бахтинской, а иногда оказывается даже противоположной ей по
смыслу. Это происходит прежде всего потому, что Лотман
трактует диалог, развивая свои структурно-семиотические позиции,
вовсе не отказываясь от них, вопреки ныне распространенному
мнению, тогда как Бахтин неоднократно выражал решительное,
принципиальное неприятие семиотической позиции: пусть для
других важны системы и коды, а он, Бахтин, везде слышит
«голоса»2. Как известно, Лотман видел диалог и в общении животных,
и в межполушарных взаимодействиях. А потому «коды» Лотмана
1 Там же. С. 268.
2 «Мое отношение к структурализму. Против замыкания в текст. Механические
категории: "оппозиция", "смена кодов" (многостильность "Евгения Онегина" в
истолковании Лотмана и в моем истолковании). Последовательная формализация
и деперсонализация: все отношения носят логический (в широком смысле слова)
характер. Я же во всем слышу голоса (курсив автора) и диалогические отношения
между ними». Бахтин М.М. Разрозненные записи // Бахтин М.М. Собр. соч. Т. 6.
М., 2005. С. 434.
566
Познание и перевод. Опыты философии языка
и «голоса» Бахтина и в познавательном, и в экзистенциальном
смысле суть явления диаметрально противоположные.
А теперь вернемся назад, к тому высказыванию Лотмана, где
цитата была прервана на полуслове: «Мы говорили, что
элементарный акт мышления есть перевод. Теперь мы можем сказать,
что элементарный механизм перевода есть диалог». - Этот
фрагмент фразы уже был приведен выше, но Лотман продолжает свою
мысль: «...Диалог подразумевает асимметрию, асимметрия же
выражается, во-первых, в различии семиотической структуры
(языка) участников диалога и, во-вторых, в попеременной
направленности сообщений. Из последнего следует, что участники диалога
попеременно переходят с позиции "передачи" на позицию
"приема"»1. Как видно, Лотман здесь развивает мысль о диалоге в
бытовом и лингвистическом смысле: диалог для него — это
попеременный обмен репликами между говорящим и слушающим: речь
идет о смене позиций «прием» — «передача» как
общесемиотическом и общелингвистическом механизме. Для Лотмана такое
понимание диалога как обмена репликами является основным,
а у Бахтина мы вряд ли вспомним хотя бы один контекст, где
диалог трактовался бы подобным образом. Далее, у Лотмана позиции
общающихся асимметричны, они говорят на «разных языках»
(и семиотические структуры этих языков различны). Фактически
любой диалог возможен лишь при наличии общего языка, но для
того чтобы его выработать, нам и нужен перевод. Именно в этом
смысле я считаю перевод условием возможности диалога, а не
наоборот. Если все время помнить, что диалог Лотман трактует
совершенно не по-бахтински, то тогда с его формулировкой
предпочтений (элементарный механизм перевода есть диалог), пожалуй,
можно было бы даже и согласиться: в самом деле, механизм
перевода в живом общении есть попеременный обмен репликами
между говорящим и слушающим, а механизм перевода в рамках
тех или иных семиотических систем, даже и не являющийся
живым общением, предполагает механизм «прием — передача»,
аналогичный обычной схеме языкового общения. Однако чтобы
избежать дальнейших недоразумений, точнее было бы сделать в этой
формуле инверсию: иначе говоря, воспользовавшись лотманов-
ской формулой, но переделав ее, мы сказали бы, что
«элементарный механизм диалога есть перевод». Именно перевод, который
обеспечивает понимание сообщений на разных языках, выступает
как условие диалога, а не наоборот.
Для меня важно, что Лотман вводит в понятие перевода не
только перевод в узком и собственном смысле слова (с языка на
Там же. С. 268.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 567
язык), но и перевод в широком смысле слова. Фактически Лотман
трактует как перевод (перевод невербального в вербальное) любое
построение текста и шире - любое преобразование опыта в текст.
Главное для Лотмана в культуре то, что она функционирует как
знаковая система, при том что самым главным структурным
(и структурирующим) устройством в ней выступает естественный
язык. А потому проблема перевода возникает уже в тот момент,
когда жизненный опыт претворяется в культуру: «Само
существование культуры подразумевает построение системы, правил
перевода непосредственного опыта в текст (курсив мой. — H.A.)»1.
Для того чтобы можно было запомнить то или иное
индивидуальное событие, его нужно отождествить с тем или иным элементом
в структуре «запоминающего устройства» и включить в
развернутую систему языковых связей — только тогда можно сказать, что
станет элементом памяти, элементом культуры. Трактовка этого
базисного культурного процесса как перевода у Лотмана
последовательна и непреклонна: «...внесение факта в коллективную
память обнаруживает все признаки перевода с одного языка на
другой, в данном случае - на "язык культуры"»2.
Онтологызация языка (в феноменологии и герменевтике). Этим
термином обозначается здесь совокупность явлений,
фиксирующих превращение языка в некое самодостаточное,
«непрозрачное» бытие, не сводимое к каким бы то ни было закономерностям
внеязыкового плана (иногда — как самодостаточное бытие,
недоступное никаким объективациям). По-видимому, внутри данного
проблемного типа существуют различные варианты; например,
в проекции на объект при этом могут строиться онтологии
«релятивного» или «субстанционального» характера, а в проекции на
субъект — онтологии «субъектного» или «внесубъектного»
характера. Так, несубстанциональная онтологизация языка — это
представление о языке как о самодостаточной сущности, специфика
которой определяется в системе отношений, абсолютно
независимых от своего субстанционального воплощения (это
представление мы находим в некоторых постсоссюровских лингвистических
направлениях, например, у Ельмслева). С другой стороны,
субстанциональная онтология - это представление о том, что язык
есть самобытная сила, «грубое бытие», неподвластное
человеческому вмешательству, более того, способное навязывать человеку
свои законы. Оно характерно для модернистских и постмодер-
Лотман Ю.М. Избранные статьи. Т. III. Таллинн, 1993. С. 329.
Там же.
568
Познание и перевод. Опыты философии языка
нистских течений в искусстве и литературе. Пример субъектной
онтологизации в каком-то приближении можно видеть в
концепции языка позднего Гуссерля, который отказался от идей чистой
универсальной грамматики в пользу анализа субъектного акта
высказывания, ситуативно обусловленной речи, включенной в
обыденный «жизненный мир», или же в идеях М. Мерло-Понти,
считавшего язык важнейшим компонентом онтологии личности,
формирования «внутреннего» опыта. Обе эти трактовки языка во
многом определили интерпретации языка в современной
герменевтике. Характерный пример «внеличностной» онтологии - это
хайдеггеровская концепция языка как «дома бытия». К этому же
подтипу онтологизации языка тяготеют также концепции языка
как особого рода бытия, определяющего мышление, культуру и,
следовательно, круг вопросов, связанных с так называемой
гипотезой «лингвистической относительности».
Онтологическая проекция языка в концепции Хайдеггера
означает несколько взаимосвязанных тезисов. Главное для
Хайдеггера — это высказывание своего слова о бытии, а потому
началом всякой философской работы должно быть сопоставление
слов, обозначающих бытие и сущее. Судьба бытия - не
поэтический предмет и не научный, но в нем есть общечеловеческий
смысл, который мы и обязаны так или иначе разыскать в каждом
высказывании, которые мы толкуем и переводим. Ни историко-
научный, ни собственно филологический подход к таким
пересмотрам нас не призывает, однако без филологической работы
вряд ли можно осуществить подобный пересмотр. С одной
стороны, у Хайдеггера есть основательная подготовка, открывшая ему
путь к языку греческой мысли, и довольно широкое знакомство
с научной филологией своего времени (хотя он, отмечает,
например, Т.В. Васильева, этого не подчеркивает и даже скорее это
скрывает). С другой стороны, его прочтения недвусмысленно
тенденциозны и противоречат слишком многому в научной
филологической работе. У Хайдеггера мы видим фактически работу на
уровне внутренних образов слова и того, что соответствует (или не
соответствует) им в разных языках1. В любом случае Хайдеггер
скорее художественно убедителен, нежели научно доказателен.
Насколько возможен русский Хайдеггер, если даже немцы
жалуются на его непонятный язык?
А вот и объяснение того, как это должно осуществляться - на
основе хайдеггеровского понимания перевода: «Изречение
мышления поддается переводу лишь в собеседовании мышления с его
1 Васильева Т.В. Предисловие // Васильева Т.В. Семь встреч с Хайдеггером. М.,
2004. С. 5.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 569
изреченным. Мышление, однако, есть стихослагание, причем не
только некий род поэзии в смысле стихотворчества
(версификации) или песнопения. Мышление бытия есть изначальный
способ стихослагания. В нем прежде всего речь только и приходит
к речи, а это значит — приходит в свое существо. Мышление ска-
зует диктат истины бытия. Мышление есть изначальное dictare.
Мышление есть прапоэзия, которая предшествует всякому
стихотворчеству, равно как и всякому поэтическому в искусстве,
поскольку то выходит в творение внутри области речи. Всякое
стихослагание, в этом более широком и более тесном смысле
поэтического, в основании своем есть мышление. Стихослагаю-
щее существо мышления хранит силу истины бытия. Поскольку
мыслящий перевод тем самым стихослагает, стихотеснит
(dichtet), постольку перевод, которым могло бы высказаться это
древнейшее изречение, оказывается необходимо
насильственным»1. Этот отрывок переплетает этимологические сближения -
немецкое dichten, латинское dictare — и связывает то и другое с
немецким dicht (тесный, плотный, густой — отсюда собственно
и смысл притеснения и насильственности).
Филологи-профессионалы критиковали Хайдеггера за надуманность и неточность его
этимологии. Статья, из которой взят этот фрагмент, есть попытка
перевода известного, но малопонятного фрагмента Анаксимандра
о воздаянии за несправедливость существующих вещей. Каковы
критерии понимания изречения досократика? Есть ли у нас
основания для пересмотра устоявшейся традиции в изучении мысли
досократиков? Хайдеггер предполагает, что платоновско-аристо-
телевская традиция задает такой путь, который не подходит для
чтения и толкования досократиков, и пытается вернуть
фрагменту полноту и силу начала.
При этом Хайдеггер исходит из романтической трактовки
языка как исповеди народа, а в этимологии ищет внутренний образ
слова, который не подвластен истории и не может быть
исследован, но лишь услышан чутким слухом и душой. Вера Хайдеггера
в то, что главное в переводе — это истолкование истины бытия,
обнаруживает себя и в его переосмыслении Аристотеля («О
существе и понятии фюсис»). Чтобы услышать и увидеть истину как несо-
крытость бытия, нужно отойти от схоластики Нового времени,
которая мыслит Аристотеля «не по-гречески». Однако «поскольку
этот «перевод» есть, собственно, истолкование, то к нему
требуется одно только разъяснение: этот «перевод» ни в коем случае не
1 Это фрагмент из «Троп в чащобе» (иной перевод: «Лесных троп») Хайдеггера
в переводе Т.В. Васильевой; см.: Васильева Т.В. Семь встреч с Хайдеггером. М.,
2004. С. 100.
570
Познание и перевод. Опыты философии языка
есть перетаскивание греческих слов под специфическую нагрузку
нашей речи. Он собирается не заменить греческий текст, но лишь
только ввести в него и как введение в нем исчезнуть»1. Перевод
как поэтическое истолкование под сенью онтологии — такова
доминанта хайдеггеровской трактовки перевода. Хайдегтеровский
подход к переводу во многом разделяет Гадамер, осуществляя
«онтологический поворот герменевтики на путеводной нити языка»2
и тем самым переводя философские вопросы понимания в
онтологический план. Он побуждает переводчика, который должен
сохранить сказанное в контексте другого языкового мира, следовать путем
«онтологической герменевтики», разбирая и проясняя судьбу
человека, «живущего в языке»3.
В качестве попутной ремарки отмечу, что в русских
переводах Хайдеггера мы и поныне видим много различий в выборе
и трактовке терминологических эквивалентов. Так, в целом
ряде вариантов существует знаменитое Dasein. Есть вариант
«бытие-сознание»4, или иногда просто «человеческое бытие» (во
Франции хайдеггеровское Dasein переводилось и трактовалось,
по крайней мере поначалу, как existence humaine5). Бибихин дает
этому термину красивый перевод, ставший, кажется и наиболее
привычным - «присутствие», ссылаясь на то, что он укрепился в
таком переводческом решении в церкви, на проповеди6. Существует
вариант «сию-бытность»7. Есть варианты, присоединявшие к «бы-
1 Васильева Т. Философский лексикон Аристотеля в интерпретации М.
Хайдеггера // Хайдеггер М. О существе и понятии фюсис. Аристотель. Физика. В-1 / Пер.
с нем. Т.В. Васильевой. М., 1995. С. 7.
2 Так называется третья часть книги X.-Г. Гадамера «Истина и метод».
3 Gadamer H.-G. Die Universalität des hermeneutischen Problems. S. 224. Вполне
естественно, что при таком понимании язык не имеет ничего общего с языком при
семиотическом подходе, в отношении которого Гадамер резок и полемичен
(«Язык - это не система сигналов, которую человек пускает в ход с помощью
клавиатуры в своем бюро, на работе или на телеграфной станции»... Ibidem.).
4 Мотрошилова Н.В. Драма жизни, идей и грехопадения Мартина Хайдеггера //
Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 16, 17, 19. См.
также: Мотрошилова Н.В. Мартин Хайдеггер и Ханна Арендт. Бытие - время -
любовь. М., 2013.
5 Rockmore Т. Heidegger and French Philosophy. Humanism, Antihumanism and
Being. London-N.Y., 1994.
6 «В отношении Dasein окончательный выбор определила фраза православного
священника на проповеди, "вы должны не словами только, но самим своим
присутствием нести истину"». См.: Бибихин В.В. Послесловие // Хайдеггер Л/. Бытие
и время. / Пер. Бибихина В.В. М., 1997. С. 450.
7 Ср. заглавие «Сущность человека (сию-бытность) как место бытия» //
Хайдеггер М. Введение в метафизику. / Пер с нем. Н.О. Гучинской. СПб., 1998.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 571
тию» (Sein) элементы здесь- (здесь-бытие) или тут- (тут-бытие).
Есть переводчики, которые просто оставляли термин как есть без
перевода и даже без транслитерации и писали просто Dasein1.
Ε. Борисов в переводе «Пролегомен к истории понятия
времени» предлагает вариант «вот-бытие»2. В отличие от многих
других переводчиков, Борисов достаточно развернуто излагает
свои основания для выбора терминов. Вообще приведение списка
своих эквивалентов во введении или заключении следовало бы
считать прямой обязанностью переводчиков, однако чаще всего
они предпочитают не выносить свои трудные отношения с
оригиналом на всеобщее обозрение. Борисов в указанном издании
оказывает неоценимую услугу читателю, приводя перечень своих
терминологических расхождений с Бибихиным3, который, в свою
очередь, списка своих эквивалентов не приводит, возможно,
по принципиальным соображениям: ведь для него проблема
терминологии вторична и даже враждебна основным установкам его
философии языка как свободно цветущего (а не концептуально
кристаллизующегося) организма
Социологические аспекты языка и перевода. Этот термин обозначает
взаимодействие языка уже не просто и недифференцированно
с «культурой», но с обществом, расчлененным на группы и
классы. Язык в его социологической проекции трактуется как нечто
такое, что запечатлевает отношения социальных сил, тенденции
борьбы «за власть», господство одних социальных групп и
подчинение других. Таково, например, представление о языке у Ю. Ха-
бермаса, позднего М. Фуко и некоторых представителей
литературно-критического и политического журнала «Тель кель»
и др. Язык как носитель отпечатков социальных сил,
«материальных» следов социальных взаимодействий так или иначе становится
в этих концепциях объектом борьбы за власть, а присвоение
дискурсов вкупе со всеми условиями и орудиями «символического
производства» становится политическим требованием (ср.:
программа «Тель кель», лозунги «новых левых» в майских событиях 1968 г.
во Франции). Социологизация языка в крайнем своем выражении
уподобляет работу языка экономическому производству, а
радикальную перестройку правил присвоения символической собствен-
1 Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. / Пер. О. Никифорова. М.-П., 1997.
2 Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени. / Пер. Е. Борисова.
Томск, 1998.
3 Борисов Е. От переводчика // Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия
времени. С. 342-344.
572
Познание и перевод. Опыты философии языка
ности приравнивает к осуществлению социальной революции. Среди
характерных примеров социологизации - анализ дискурсных практик
Мишеля Фуко. Это был, фактически, перевод проблематики,
ранее анализировавшейся в эпистемологическом или
онтологическом плане (в «Словах и вещах»), в анализ социальных позиций
участников дискурсных процессов. Вообще-то «анализ дискурса»
(или, как говорят, следуя англоязычной версии этого понятия,
«дискурс-анализа») — это имя проблематики, возникшей на
пересечении ряда научных дисциплин; она представляет собой
исследование текстов, произведенных в определенных
институциональных рамках, налагающих на высказывания те или иные
ограничения, в зависимости от позиции говорящего в дискурсном
поле. Во всем рассеянном множестве высказываний Фуко
выделяет «дискурсные формации» — места сгущения и пересечения
высказываний и соответствующих им дискурсных практик. Формально
термин «анализ дискурса» — это перевод заглавия статьи Зеллига Хэрриса
«Discourse Analysis», которая была напечатана в 1952 г. (переведена на
французский язык в 1969). В лингвистическом пространстве дискурс-
анализ — это исследование сверхфразовых единств, ранее не
изучавшихся. Дискурс-анализ у Фуко и вообще вся обширная традиция
анализа дискурса во франкоязычном научном мире1 подразумевают
возможность объективного схватывания одного важного момента -
бессознательной проекции в дискурсе субъекта его социальной
позиции, налагающей ограничения на бесконечность возможно
порождаемых высказываний.
Отправным пунктом дискурс-анализа, по Фуко, служит внутренне
противоречивая очевидность: для западной культуры характерна
одновременно логофилия, подчеркнутая любовь к слову, и логофобия,
страх перед той непредсказуемой силой, которая таится в
произносимом слове, в массе сказанных вещей и самих высказываниях как
событиях, нарушающих привычные формы мысли и бытия. Дискурсы,
по Фуко, — это совокупность речевых практик данного общества
в данном историческом контексте, это социальные способы
расчленения мира, которые мы навязываем вещам. Это — не нейтральная
среда: дискурс необуздан, нескончаем, наделен собственной властью:
он порождается социальными порядками, но может им
противостоять. А потому общество устанавливает особые процедуры контроля -
прежде всего в тех областях дискурса, где задействованы власть и
желание. Это прежде всего механизмы запрета: говорить можно не всё,
не обо всём, не всем и не всегда (всё это в свою очередь определяет
табу на объекты, задает определенные ритуалы обстоятельств, привиле-
1 См. об этом: Серио Л. Почему публикуется этот сборник в России сейчас? //
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 573
гии тех или иных групп говорящих субъектов и др.). В некоторых
исторических ситуациях в дело вступают и более общие процедуры,
например, расчленение и отторжение: так, в истории европейской
культуры безумие было отторгнуто от разума и стало
восприниматься либо как нечто социально незначимое, либо, напротив, как
нечто сверхзначимое (пророческое). Даже в самой фундаментальной
оппозиции истинности и ложности можно увидеть определенные
механизмы сортировки дискурсов, а также определенные формы «воли
к истине». Эти формы определяются социальными институтами -
особыми практиками, системой педагогики, издательского дела,
организацией библиотек, построением научного сообщества и пр.
Фактически те или иные формы анализа дискурса
подразумеваются и в ряде современных подходов к анализу переводов.
Характерный и яркий пример такого подхода дает концепция Лоренса
Венути1. В своей некогда нашумевшей книге про
переводчика-невидимку известный испанист не только делится с читателем своим
переводческим опытом, но и изобличает «идеологичность» тех или иных
переводческих жестов и практик. Читать перевод как перевод —
значит учитывать те условия, в которых он написан, те ограничения,
которые его определяют, те контексты, в которых он читается.
Перевод никогда не стоит ни осуществлять, ни преподавать как
установку на прозрачное развертывание текста. Любой перевод есть
форма переписывания оригинала, которая несет в себе не только
определенную поэтику, но и определенную идеологию. Иначе говоря,
переписывание — это так или иначе манипулирование властью,
деятельность на службе у власти. Переписывание, которое
предпринимает переводчик, может ввести новые понятия, жанры,
приемы, а потому история перевода — это всегда в той или иной мере
история литературных инноваций, формирующего воздействия
одного общества и одной культуры на другие, — воздействия, которое
способно также подавить и ограничить возможные инновации. В любом
случае изучение «манипулятивных стратегий» перевода позволяет нам
лучше понять мир социальных коммуникаций, в котором мы живем.
Л. Венути ставит под вопрос особую, маргинальную ситуацию
перевода (и переводчиков) в современной англоамериканской
культуре, привлечь внимание к тому, как делаются переводы,
и побуждать переводчиков делать их иначе. Эпиграф из
американского переводчика Нормана Шапиро, гласящий, что перевод есть
попытка произвести текст столь прозрачный, что он вообще не
выглядит как переведенный текст, служит отправным моментом
рассуждения. Правда ли, что хороший перевод похож на стекло
и что мы замечаем его только тогда, когда на нем есть царапины,
Venuti L. The Translator's Invisibility. A History of Translation. London, 1995.
574
Познание и перевод. Опыты философии языка
которых в идеале быть не должно? Что перевод не должен
привлекать к себе внимание? Если это так, тогда переводчик (во всяком
случае, в современной англоамериканской культуре) оказывается
человеком-«невидимкой»: он образцово владеет английским
и оперирует с ним как иллюзионист, добивающийся этого
эффекта прозрачности. В Англии и США переведенный текст любого
жанра издавна ценится за гладкость языка, отсутствие
лингвистических или стилистических особенностей, за ту самую
прозрачность, которая и создает видимость без помех отображенной
личности автора и созданного им оригинального текста. Разумеется,
авторитет того, что можно назвать «plain styles»1, строился в
английском постепенно, в течение веков, одновременно с
продвижением к стандартизованной грамматике и написанию. И все же
требование гладких переходов, искоренения всех неловкостей
оригинала, всего, что заставило бы заметить язык как таковой,
а также перевод, — это не просто лингвокультурная установка,
но и определенная идеология.
Подход Венути — иной. Нужно не уничтожать переводческий
дискурс, но, напротив, — выпячивать его2. В любой деятельности есть
момент насилия (violence), который нужно подчеркнуть и вывести на
первый план. В самом деле, ведь перевод есть насильственное
замещение лингвистических и культурных черт иностранного текста теми
чертами, которые могут быть опознаны читателями переводного
текста: оригинальные различия подвергаются редукции и
исключению, а на их место встают другие. Цель перевода заключается в том,
чтобы сделать культурного другого узнаваемым, знакомым, «тем
же самым». Из-за этого и возникает риск «одомашнивания»
иностранного текста, его присвоения в соответствии со своими
собственными культурными, экономическими, политическими
условиями. Англоязычная культура рецепции тем самым нарушает
ценности, дискурсные условия и институциональные заданности
исходного текста. Л. Венути протестует против такого
этноцентризма и гегемонизма англоязычных наций и тех неравных
культурных обменов, в которые они включают своих партнеров по всему
миру. А отсюда - и протест против навязанного образа переводчика-
невидимки. На месте традиционной историографии, телеологии
и объективизма Венути стремится сделать методом этой новой
истории культуры генеалогический подход Ницше и Фуко. Генеалогия
у Венути есть такая форма исторической репрезентации, которая
изображает не постепенное продвижение вперед из единого начального
ядра, но прерывный ряд различий и иерархий, господств и исключе-
Ясный простой стиль (англ.).
VenutiL. Ibidem. Р. 18.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 575
ний, всего того, что дестабилизирует мнимое единство настоящего,
строя прошлое как множественное и гетерогенное1. За таким
методологическим ходом автор хочет видеть и политическую программу: он
надеется, что такой подход к переводу сможет увести нас и от военных
столкновений, и от поиска абсурдной выгоды, направить ко все
более широкому пониманию других людей, большей толерантности
и политической мудрости.
Подход Умберто Эко к переводу тоже приходится отнести в
рубрику социологизации. Во-первых, потому, что его главная
переводческая метафора — это процесс переговоров (негоциации), а
во-вторых, потому, что Умберто Эко один из тех авторов, кто ведет
огромную «социальную» работу, принимая личное участие во
многих переводах своих многочисленных научных и
художественных книг, обсуждая с переводчиками на тот или иной язык
возможности, детали и нюансы перевода. Переводческие переговоры
выявляют пределы растяжимости смыслов и словесных единиц: все
концепции перевода, по Эко, выступают под знаком переговоров.
Смысл метафоры переговоров применительно к переводу
заключается в том, что в этом процессе стороны, чтобы получить одно,
вынуждены отказываться от другого, а результатом дискуссии
должно быть чувство взаимного удовлетворения на основе
принципа, согласно которому иметь все невозможно.
Тенденция к пониманию значимости перевода прорастает
и в рамках коммуникативного подхода к языку. Так, французский
исследователь Ф. Растье2 высказывает свое сожаление по поводу
того, что в нынешних науках о языке перевод занимает
второстепенное место - на фоне коммуникативного и прагматического
подходов. Как правило, перевод рассматривается как частный случай
коммуникации, однако эту зависимость следует перевернуть:
коммуникация есть частный случай перевода. Конечно, сама
возможность перевода предполагает определенный «грамматический
рационализм» и, в конечном счете, — существование универсальных
концептов. Найти их нелегко, но и отказываться от поиска не стоит.
Именно перевод позволяет ввести в процесс коммуникации
динамику интерпретации, взаимодействие семиотических систем. И
хотя полный и окончательный перевод в принципе невозможен,
верность подлиннику (вовсе не исключающую «творческого момента»
в переводе) стоит рассматривать не только как «рабство», но и как
проявление взаимного уважения между людьми и культурами.
1 Венуги, по собственному признанию, следует здесь основным установкам
генеалогического метода Фуко, как они изложены в работе «Ницше, генеалогия,
история».
2 Rastier F. Communication ou transmission? // Césure. 1995. № 8. P. 153-195.
576
Познание и перевод. Опыты философии языка
Между этими основными типами языковой проблематики
намечаются определенные взаимосвязи. Так, формализация (и,
в частности, такое установление «родства» между различными
языками культуры, которое основано на выявлении набора смыс-
лоразличительных признаков и их взаимоотношений) дает
в принципе возможность методологизации (т. е. использования
сходных методов для исследования различных «языков»
культуры); методологизация в свою очередь предполагает в языке некое
первичное онтологическое условие объективации содержаний
сознания в разнообразных продуктах культуры и тем самым
смыкается с онтологизациеи; онтологизация может допускать социоло-
гизацию как частный случай онтологического представления
о языке. Эту цепочку взаимосвязей можно проследить и в
противоположном направлении: формализация смыкается с социоло-
гизацией через проблему социальных коммуникаций и
взаимодействий между различными языками культуры; социологизация
смыкается с онтологизациеи через трактовку слова, языка как
особого рода бытия как «вещи», подлежащей завоеванию,
уничтожению или освобождению; онтологизация смыкается с методоло-
гизацией через перенос представлений о языке как особого рода
объекте на лингвистику и другие области исследования культуры;
наконец, методологизация смыкается с формализацией, в
частности, через лингвосемиотические исследования культуры, через
поиск общего метода описания всех продуктов культуры. И это
лишь набросок, лишь малый фрагмент общей картины
взаимосвязей между различными аспектами языка, различными
формами отношения к языку и теми подходами к переводу, которые
сквозь них прорастают.
***
Наконец, еще один ракурс рассмотрения — культурные
доминанты, которые определяли преобладающие каноны обращения
с языком и соответственно — переводческую практику того или
иного периода (разумеется, из этого не следует, что
провозглашавшиеся теоретические программы всегда выполнялись на
практике, однако сама их формулировка в более или менее явной форме
уже заслуживает внимания).
Европа богата различными подходами к переводу и
размышлениями о переводе, которые в тот или иной период в той или иной
стране становились определяющими, парадигматическими. Эта
смена установок, отчетливо связанная с динамикой культурных
доминант, со сменой центров тяжести, заслуживает внимательного
сопоставительного изучения. Это «исправительный» подход к
переводу во французской культуре XVII—XVIII вв., это немецкая
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 577
установка на аутентичность переводов оригиналу в конце XVIII —
первой четверти XIX в., это современные переводы на английский,
в которых все больше проступает озабоченность культурным
империализмом глобального английского, навязывающего норму глад-
козвучного перевода текстов других языков и культур. Особого
внимания заслуживает та динамика осознания своих культурных
потребностей, которая была характерна для русской культуры трех
последних столетий — в связи с выработкой литературного языка,
научной лексики, развитием собственных переводческих практик,
о чем у нас шла речь в предыдущем параграфе.
Итак, для нас поучительно вспомнить, как, например,
во Франции XVII в. переводы делались исходя из представлений
о непогрешимости французского художественного и
литературного вкуса1. Начиная со второй половины XVIII в., и особенно
в период Наполеоновских войн и расцвета романтизма, Германия
отталкивается от этой исправительной практики и развивает
огромный по силе и масштабу проект перевода, который был
призван осуществиться — и был осуществлен — одновременно с
построением собственного литературного и философского языка.
Немецкий концептуальный язык возникал в процессе
интенсивных переводов с латыни, английского и французского во второй
половине XVIII в. В переводах Вольфа, создававшего язык
математики и философии, Готшеда, публиковавшего Лейбница и
переводившего Фонтенеля, а также, скажем, Брейтингера мысль
ищет и с трудом находит себя в формах немецкого языка. Все эти
исследователи стремились сделать немецкие термины внятными,
отчетливыми, следуя той модели ясности, которую давали
латинские и французские сочинения, утверждая ценность немецкого не
на путях спецификации, а на путях обретения универсальности.
У Вольфа, например, в пределах одной фразы сосуществуют и
соревнуются слова латинского, французского, немецкого
происхождения. Исследователи этого периода утверждают, что такие
повторы были не риторическим упражнением, а частью процесса,
1 «Долгое время французы пренебрегали словесностию своих соседей.
Уверенные в свом превосходстве над всем человечеством, они ценили славных писате-
лейиностранных относительно меры, как отдалились они от французских
привычек и правил, установленных французскими критиками. В переводных книгах,
изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть ни одного предисловия, где бы не
находилась неизбежная фраза: мы думали угодить публике. А с тем вместе оказать
услугу и нашему автору, исключив из его книги места, которые могли бы
оскорбить образованный вкус французского читателя. Странно, когда подумаешь, кто,
кого и перед кем извинял таким образом!» Пушкин A.C. О Мильтоне и шатобриа-
новом новом переводе «Потерянного рая» (1836) // Пушкин A.C. Поли. собр. соч.
в 10 т. Т. 7. М.-Л., 1949. С. 488-489.
578
Познание и перевод. Опыты философии языка
который был одновременно и эвристическим и дефиницион-
ным1 — поиском новых содержаний, и выковыванием новых форм
мысли. И это неудивительно, это - общая закономерность.
Парадоксально другое: вскоре после того, как немецкий философский
язык окреп и заработал в полную силу, некоторые философы
(и прежде всего Фихте в «Речах к немецкой нации»2) стали
прославлять немецкий язык как уникальный, возвышающийся над всеми
языками в своей способности понимать другие языки и переводить
с других языков, таких способностей лишенных. Немецкий
воспринимается как якобы изначально наделенный единством, северный,
германский - подчеркнуто нероманский и нелатинский. В
Берлинской академии появляется немало исследований, прославляющих
богатство и древность немецкого языка, якобы столь же древнего,
как и греческий, в отличие, скажем, от славянских языков,
представляющих собой более поздние смеси. Связи немецкого языка с
кельтским были тогда неизвестны, а потому фихтеанская концепция
немецкого как чистого и первозданно правильного, иерархически
превосходящего все другие языки, не казалась странностью3. Эта
поучительная история показывает нам сразу две очень важные вещи.
Первая: мы видим, как немецкий понятийный язык, этот «гадкий
утенок», за полвека огромного, осознанного труда по переводу с
других языков, собственного языкового творчества и рефлексии стал
тем царственным лебедем, тем языком, которому современная
философская мифология отдает пальму первенства — по силе, гибкости,
глубине выражения мысли среди всех живых языков, сопоставляя
его с одним греческим. Вторая: мы видим, как работают культурные
1 Penisson Р. Philosophie allemande et langue du Nord // De l'intraduisible en
philosophie. Rue Descartes. 1995. № 14. P. 125-137.
2 Fichte J.G. Reden an die deutsche Nation // Fichte J.G. Werke in sechs Bänden.
Fünfter Band. Leipzig, 1910. В нынешнем русскоязычном Интернете немало ссылок
на эти идеи Фихте. И почему-то никто не ссылается на Гердера, который упорно
напоминал, что философский язык - не дар богов, что он не впитывается с
молоком матери, что это тот «чужой» для нас язык, который строится и развивается -
в упорном труде взаимодействий с другими культурами. Гердер полагал, что по
отношению к живому немецкому философия - это язык иностранный. Наверное,
не только потому, что она использует для своих нужд иностранные слова, но и
потому, что она идет наперекор непосредственному пониманию и требует сначала
для построения, а потом для освоения - особого усилия. В этот период
изобретается много новых слов: некоторые остаются в языке, некоторые исчезают или
заменяются другими словами, в любом случае язык возникает на основе работы с
чужими словами и мыслями, открытости иному и гибкости осмысленного ученичества.
3 Эти тенденции немецкой культуры очень важны для сопоставительного
изучения становления русского философского языка. И чувство непревзойденного
величия (русский язык как «великий, могучий и свободный»), и сокрытие метиссажа
в основаниях философских терминов, все это сходно.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 579
механизмы замалчивания перевода как механизма, в чем-то
мешающего представлениям о чистоте философской рефлексии.
Среди современных англоязычных подходов к переводу, как
мы уже отчасти видели, ярко прозвучали концепции, трактующие
перевод как явление социальное, связанное с властью,
определенным культурным насилием, иерархическими представлениями
о сравнительной ценности языков и культур. При этом
выдвигается тезис о необходимости пересмотра приоритетов, связанных
с господством глобального английского в мировом культурном
пространстве и экономическом порядке. И прежде всего — это
требование отказа от установки на «ясный и прозрачный
английский текст», на легкодоступность инокультурных текстов, так как
эта установка избавляла англоязычного читателя от труда
собственной работы, движения навстречу чужому языку и чужой
культуре. Все эти тенденции, и прошлые и современные, так или
иначе участвуют в новых процессах европейской культурной
рефлексии, в перегруппировке сил и устремлений внутри заново
объединенной Европы и за ее пределами.
§3. Проблема понимания и перевод
О разрывах мыслительных связок и проблеме понимания
Возникновение проблемы понимания, по-видимому, связано
с возможностью и реальностью непонимания. В том, что касается
непонимания текстов, речь может идти прежде всего об
обнаружении разного рода разрывов - внутри одного текста, между
текстами или даже между языками, нередко они возникают при разрыве
контекстов сознания и восприятия текстов. Обычно преодолевать
эти разрывы нам помогает и наше владение языком и метаязыко-
вые возможности самого языка — его способность к установлению
отношений между различными своими элементами путем
парафразы или перевода1. Существуют интересные попытки
теоретического осмысления практики понимания как практики
языкового перевода: назовем здесь в первую очередь работы Ж. Мунена
и И. Левого2. И понимание, и перевод не были, но стали
философскими проблемами.
1 Об этой естественной языковой «метаязыковости» говорил в своем докладе на
Тбилисском симпозиуме по бессознательному (1979) Р. Якобсон, пытаясь
опровергнуть логиков, считающих построение метаязыка абсолютной привилегией
исследователя, а не моментом естественного функционирования языкового организма.
2 Mounin G. Linguistique et traduction. Bruxelles, 1976; Левый И. Искусство
перевода. M., 1974.
580
Познание и перевод. Опыты философии языка
В философском плане проблема понимания возникает или,
точнее, обостряется в переломные моменты развития культуры,
когда распадаются внутрикультурные связки между основными
«предельными» для каждой эпохи понятиями, которые в
совокупности своей определяют «фоновое», «контекстное» знание и
составляют основу мировоззренческих схем, «канонов смысл
©образования», характеризующих ту или иную эпоху. В этом смысле
в рационализме Нового времени (взятом в его схематически
обобщенном виде) проблема понимания не стояла именно потому, что
в нем поддерживалась и воспроизводилась сама ткань
взаимосвязей между опорными моментами и предельными предпосылками
культуры и познания, а это, в свою очередь, гарантировало
возможность познавать мир природы и внутренний мир человека,
а также общезначимым образом выражать познанное и понятое
в языке, структуры которого считались в основном
совпадающими с логическими структурами мысли. Эта триада взаимосоотне-
сенных понятий — бытие—мышление—язык — опиралась на
рефлективный подход в философствовании, т. е. такое движение
сознания внутри сознания, при котором значение полагается бес-
предпосылочно и непосредственно данным «чистому» субъекту
(то есть субъекту, который определяется лишь самим актом
мысли, а не тем, что, как, на основе каких предпосылок он мыслит).
Проблема понимания особенно остро встает на рубеже XIX
и XX вв., хотя сходные симптомы видны уже в романтической
идеологии начала XIX в. Периодизация герменевтической
проблематики в XX в. (первый период, можно считать, связан прежде всего
с именем В. Дильтея, второй - с именем М. Хайдеггера, третий, уже
в 1960-е годы XX в. - с именами П. Рикёра и Х.-Г. Гадамера как
продолжателя линии Хайдеггера) дает представление о поэтапной
проработке разрывов между опорными философскими понятиями,
существенными для концептуализации проблемы понимания
и нередко для преодоления этих разрывов. Так, несколько упрощая
картину, можно было бы сказать, что герменевтика первого
периода обращает внимание прежде всего на разрыв между бытием и
мышлением, а герменевтика второго периода - на разрыв между
мышлением и языком, тогда как хайдеггеровское связующее звено -
это прежде всего фиксация разрыва между бытием и языком и
попытка преодоления этого разрыва.
Философская проблема понимания в ее дильтеевском
выражении сфокусирована на разрыве между мышлением и бытием.
При этом упор делается на бытии, осмысляемом как «жизнь».
Дильтей отсекает мышление как в его трансцендентальной
философской, так и в его эмпирической естественно-научной форме.
При этом целостности рационально-логического мышления про-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 581
тивопоставляется целостность переживания, а мыслительным
установкам экспериментального естествознания, нацеленного на
схематизацию и объяснение фактов, — понимание как метод науки
о духе (оно достигается, по Дильтею, средствами описательной
психологии или герменевтики). Философия жизни,
улавливающая целостность переживания, вырывается из движения сознания
в круге сознания, движения понятий в круге понятий и
противостоит рефлективности классического типа. Вся сложность дильте-
евской позиции, как она обозначена в «Критике исторического
разума», заключается в том, что, в отличие от кантовского
«чистого разума», который синтезирует предметность в результате
собственных конструктивных операций, «исторический разум»
Дильтея сталкивается с предзаданным в истории синтезом
предметности, с такими отложениями сознания, которые не
прозрачны для его рефлексии. Следовательно, методы самопрояснения
исторического разума должны быть отличны от классических
методов самопрояснения чистого, теоретического разума.
Естественным пределом дильтеевской герменевтической
философии (как и всякой другой философии, нацеленной на «вчувство-
вание», «переживание», «интуицию»), оказывается проблема
выразимости прочувствованного, пережитого, интуитивно
постигнутого на уровне общезначимого (коль скоро доведение
пережитого до общезначимого мы в любом случае считаем задачей
философии). Столкновение с этим естественным пределом было одним из
внутренних стимулов дальнейшего движения и развертывания
герменевтической проблематики в культуре — движения, приведшего
к более тесному сближению философии понимания и философии
языка (для Дильтея проблема языка в известном смысле
самостоятельного значения не имела, а имела лишь подсобное).
По мысли П. Рикёра, это движение герменевтической
проблематики характеризовалось переходом от «романтической»
герменевтики к герменевтике «лингвистической»1. Представляется, что
именно этот переход, подтолкнувший философскую
герменевтику к языковой проблематике в широком смысле слова, обеспечил
неорефлективному подходу средства развертывания как раз в тот
1 Ни феноменология, ни экзистенциализм не обнаруживают специального
интереса к проблеме языка. Эволюция Рикёра к языковой герменевтике была, по его
собственному признанию, обусловлена работой над проблемами этико-антропо-
логического смысла (зла, вины), при которой Рикёр столкнулся с яркими
примерами косвенного символического использования языка и необходимостью их
особого исследования. Из всей огромной эволюции Рикёра в течение его долгой
творческой жизни меня здесь интересует прежде всего лишь линия многообразных
заострений проблематики языка, которая тянется из 1960-х в 1990-е.
582
Познание и перевод. Опыты философии языка
момент, когда антирефлективная позиция осознала свою
исчерпанность.
В типологическом плане Хайдеггер с его онтологической
герменевтикой и вместе с тем акцентом на языке — это мост между
психологической герменевтикой Дильтея и лингвистической
герменевтикой Рикёра, реализующего установки конкретной рефлексии.
Концепция Хайдеггера — этого «философа для филологов»,
заложившего основы герменевтической онтологии уже в «Бытии и
времени» ( 1927), требовала выхода к языку. Ведь хайдеггеровская несо-
крытость бытия была способна явить себя прежде всего именно
в языке, ибо язык для Хайдеггера — это дом бытия, а речь — это
фундамент этого дома. Следовательно, косвенное вопрошание языка -
анализ этимологии ключевых философских слов - дает подступ
к бытию (сущего), которое в сущем скрывается и оказывается
«забытым». Эти установки онтологической герменевтики находят свое
воплощение в работах позднего Хайдеггера, посвященных
конкретному анализу поэтических и философских текстов. Итак,
фиксируя разрыв между бытием и языком, Хайдеггер преодолевает его
ценой рассмотрения бытия sub specie linguae, усматривая в языке
единственный способ обнаружения и раскрытия бытия.
Внимание к языку и языковой проблематике в широком
смысле сближает во второй половине XX в. мыслителей, изначально
принадлежавших к самым различным направлениям (например,
позднего Витгенштейна и позднего Хайдеггера). Во всех этих
превращениях языковой проблематики в культуре накапливается
опыт фиксации и далее либо углубления, либо преодоления
разрыва между мышлением и языком. Так, с одной стороны,
фиксируется прямой антагонизм между мышлением и языком: (язык
идет «вспять» по отношению к мышлению1), он «уничтожает
и вытесняет» мышление (например, в экспериментальных
литературных практиках), с другой стороны, вводится широкое
понимание как языка, так и мышления, при котором их единство (или
хотя бы взаимосвязь) сохраняется. При этом накапливаются
свидетельства одного очень важного для нас парадокса: язык
и языковая методология становятся средством рационализации
культурных содержаний, основой соизмерения несоизмеримого,
а тем самым и опорой неорефлективных процессов, и вместе с тем
в языке все более проступает все то, что в нем не подчиняется
логическому порядку или даже противоречит ему.
Это рассмотрение метаморфоз языковой проблематики в
культуре позволяет охарактеризовать главную задачу рефлексии,
по-новому понимаемой в герменевтике послевоенного периода, как зада-
Ср., например, Foucault M'. La pensée du dehors // Critique. 1966. № 229. P. 525.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 583
чу косвенного, через анализ языка осуществляемого, освоения
и «присвоения» содержаний сознания как содержаний культуры.
Эти изменения сопровождаются другими. Если нерефлексивный
психологизм был проявлением установки на специфику
гуманитарного знания и его безусловное противопоставление
естественно-научному, то неорефлективизм в герменевтике 1960-х (равно
как и в других течениях) свидетельствует не столько о
взаимопротивопоставлении различных типов знания, сколько об определенной
тенденции к единству знания в рамках более широко понимаемых
предпосылок. Главным становится выявление глубинных
механизмов работы сознания, для которого самосознание — не исходная
светящаяся точка внутренней очевидности, но лишь возможный
итог окольного продвижения по символическим слоям культуры.
Соответственно, для философов второй половины XX в.
характерно не столько противопоставление «объяснения» и
«понимания», как это было у неокантианцев или Дильтея, но, скорее,
стремление заново обнаружить их взаимодополнительность. Так, Рикёр
ставит саму эту дихотомию под вопрос и предлагает поискать новые
формы взаимодействия ее элементов - это будут уже не
взаимоисключающие полюса, а относительные моменты в сложном
процессе, называемом интерпретацией. И эта мысль многократно, в
разных вариантах, повторяется. Настаивать на разрыве объяснения
и понимания могли бы, по Рикёру, лишь узко мыслящие
структуралисты, ограничивающиеся анализом внутренних формальных
функций текста в отрыве от намерений автора, восприятия читателя
и от содержания передаваемого сообщения, или же представители
«романтической герменевтики», которые верят в понимание,
напоминающее телепатический обмен мыслями между автором
и читателем, либо живой диалог с глазу на глаз. На самом же деле
структурный анализ форм и философия субъективности
опосредованы герменевтикой и обращены друг к другу1. Это и позволяет
надеяться на преодоление бесплодной антиномии формально
лингвистического анализа и непосредственного схватывания
переживаемого - за рамками какой-либо верификации: причем сама
«прививка» языкового анализа на феноменологию, от которой движется
Рикёр, изменяет «дичок», помогает ему обрести «второе дыхание».
Итак, при более широком понимании структурализма, равно
как и герменевтики, возникает возможность более гибко соотне-
1 Ср. также «...здесь не место противопоставлять два способа понимания
[структуралистский и герменевтический. - H.A.], проблема скорее в том, чтобы связать
их друг с другом как объективное и жизненное (или экзистенциальное!). Если
герменевтика - это этап в присвоении смысла, переход от абстрактной рефлексии
к конкретной <...>, то она не может не увидеть в структурной антропологии свою
опору, а не противника...» (Ricœur P. Le conflit des interprétations. Paris, 1969. P. 34).
584
Познание и перевод. Опыты философии языка
сти объяснение и понимание посредством интерпретации. Всякое
понимание требует объяснения, ибо непосредственный диалог
невозможен, как невозможно и непосредственное чтение или
слушание — оно направляется и намерением автора, и кодами
повествования, отчасти похожими на грамматические коды, и многим
другим. Следовательно, объяснение — это не могильщик
понимания, но скорее необходимый этап опосредования данных
содержаний в процессе их истолкования. Более того, объяснение,
инициированное неким предпониманием, неизбежно завершается
пониманием на другом уровне, так как объяснение — это момент
абстрактного, возможного в системе, а понимание - это момент
актуализации возможностей на пути от системы к событию,
в частности, от языка как системы к конкретному высказыванию.
Если следовать этой логике, то момент аналитического
объяснения становится частью общего процесса интерпретации,
продвигающейся от первоначального «наивного» понимания, через
объяснение, к умудренному, «понимающему» пониманию. Таким
образом, объяснение и понимание оказываются соотнесены,
но не замкнуты друг на друга: между тем и другим, например,
между объективным анализом структур повествования и
субъективным пониманием его значений находится слой посредников - это
«мир текста» и «мир возможных путей реального действия».
Текст, можно сказать, это скорее сфера связывания процедур
объяснения и понимания, нежели их разграничения. Текст - это
не только последовательность фраз, но и нечто большее -
структурированная целостность, в которой разнообразные виды
полисемии выходят за рамки линейности, а потому и конфликт
интерпретаций есть нечто неизбежное, а не исключительное: по Рикёру,
он свидетельствует не о бессилии понимания, но о его
достоинстве. Итак, понимание по отношению к объяснению входит в
процесс многократных опосредствовований: а именно, понимание
(точнее, пред-понимание) предваряет объяснение, сопутствует
объяснению в процессе того, что можно было бы назвать
интерсубъективной коммуникацией, и, наконец, понимание завершает
объяснение, позволяя приблизить текст к тому, кто его
воспринимает. Однако и понимание без объяснения тоже невозможно -
и фактически и теоретически, так как именно объяснение
способно развернуть, выразить, артикулировать различные стадии
постижения в процессе понимания. Рикёр завершает свои
рассуждения о понимании и объяснении1 девизом, под которым могли бы
подписаться многие: «больше объяснять, чтобы лучше понимать»
1 Рикёр П. Понимание и объяснение // Новая философская энциклопедия. В 4 т.
Т. 3. М„ 2001. С. 283-285.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 585
(впрочем, можно было бы сказать и иначе: «лучше объяснять,
чтобы больше понимать», суть дела от этого не меняется).
Это рассуждение позволяет продвинуться в анализе целого
ряда конкретных проблем, например, в спорах о причинности
в гуманитарном знании. Отказываясь от противопоставления
«причины», «закона», «факта», с одной стороны, и «проекта»,
«намерения», «мотива» - с другой, Рикёр выдвигает образ единого
спектра, на одном краю которого находится «каузальность без
мотивации», а на другом — «мотивация без каузальности».
Человеческий феномен, человеческое желание как стимул действия
предполагает одновременно и движущую силу (причину, которую
нужно объяснить), и основание действия (мотив, который нужно
понять): ведь человек есть существо, которое так или иначе
принадлежит одновременно и порядку причинности, и порядку
мотивации, порядку объяснения и порядку понимания. При этом
понимание предшествует объяснению, сопровождает и как бы
обволакивает его; напротив, объяснение развертывает понимание
аналитически. Эта диалектическая связь между объяснением
и пониманием в известной мере отображает сложные и подчас
парадоксальные отношения между социальными и естественными
науками.
Философская герменевтика позволяет увидеть нечто
глубинно-общее для различных типов знания. Это общее связано с
процессами символизации как одной из важнейших функций
сознания. Символическое мышление в его широком понимании — это
любой акт обозначения, в котором прямое, буквальное
совмещаются с непрямым, переносным. Именно в символическом
характере мышления на его дорефлективных уровнях Рикёр видит то,
что обусловливает и возможности рефлективного мышления.
Освоение символического мира выступает для Рикёра как область
превращения абстрактной рефлексии, основанной на достовер-
ностях индивидуального cogito, в так называемую «конкретную
рефлексию», бережно раскрывающую многообразные формы
символической деятельности.
Задача конкретной рефлексии возникает во всей своей
сложности потому, что процесс перевода символических пластов
культуры в формы более строгого знания (или, иначе, «десимволиза-
ции») идет подспудно, но постоянно, усиливая человеческое
отчуждение и самоотчуждение и требуя «ресимволизирующей»
подпитки. «Таким образом, рефлексия — это критика, но не в кан-
товском смысле обоснования науки и долга, но в том смысле, что
cogito может быть вновь схвачено лишь на обходном пути, через
расшифровку документов его жизни. Рефлексия - это присвоение
нашего усилия существовать и нашего желания быть в произведе-
586
Познание и перевод. Опыты философии языка
ниях, которые свидетельствуют об этом усилии и об этом
желании...»1. Всякое стремление опереться на так называемое
непосредственное сознание неизбежно оказывается иллюзией: Маркс,
Ницше, Фрейд, считает Рикёр, научили нас разоблачать уловки
этого ложного сознания: «Следовательно, возникает
необходимость присоединить критику ложного сознания ко всякому
новому обнаружению субъекта cogito в документах его жизни;
философия рефлексии должна быть полностью противоположна
философии сознания»2. Таким образом, «философия рефлексии»,
противоположная философии сознания, находит свое
обоснование в языке: глубже «я мыслю» находится «я есмь», а также «я
говорю». Именно через «я говорю», через языковые определения
«романтическая» герменевтика получает доступ к большей
объективности, а абстрактная рефлексия становится конкретной.
Тем самым, через язык, освобожденный от однозначной связи
с мышлением, и рефлексию, освобожденную от однозначной
связи с философией сознания, можно видеть новую связь языка,
мышления и бытия - взамен той, которая распалась на рубеже XIX
и XX вв.: эта связь «сотрясает и усиливает наше чувство
реальности».
Дальнейшая эволюция программы Рикёра предполагает целый
ряд расширений и модификаций: слово — фраза —
повествование - действие - перевод. По десятилетиям эти проблемные
расширения можно представить себе примерно следующим образом:
обращение к проблеме метафоры как творческого механизма
языка (1970-е), далее — изучение различных механизмов
повествования (рассказа) и через него — включение индивида в более
широкий культурный контекст (1980-е), анализ проблем этики
и политики, а также механизмов исторической памяти (1990-е).
Параллельно этим расширениям и сдвигам нарастает,
по-видимому, и некоторое проблемное напряжение, подтолкнувшее Рикёра
в конце 1990-х годов к проблеме перевода. Рикёр не успевает
исследовать проблематику перевода сколько-нибудь развернуто,
однако успевает заметить ее важнейшую роль в культуре и
набросать, со свойственной ему ясностью и широтой ума, общий план
ее эпистемологических, онтологических, этических разворотов.
Полагаю, мы вправе сказать, что проблема перевода как условия,
без которого понимание невозможно, стала у Рикёра новой
стадией его разработки проблемы понимания (подробнее об этом -
в следующем подпараграфе).
1 Ricœur P. Le conflit des interprétations. P. 21.
2 Ibid. P. 22.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 587
Творческий языковой процесс придания формы
человеческому разуму и миру бесконечен, ибо граница между выразимым
и невыразимым постоянно раздвигается. Эта принадлежавшая
еще Гумбольдту и развиваемая Рикёром мысль весьма сходным
образом формулируется и Х.-Г. Гадамером. И для Гадамера именно
язык — неуловимый для понятийного мышления, необъективируе-
мый, творчески подвижный — запечатлевает и отображает
сущностные структуры бытия. Вследствие этого традиционный
философский вопрос о том, как возможно познание, преобразуется у него
в вопрос о том, как через язык возможно понимание. При этом,
по Гадамеру, задача философской герменевтики не
методологическая, а онтологическая. Ни филология, ни формалистическая
экзегетика не могут прояснить универсальную суть феномена
понимания, который выступает на самом разном материале, на разных
объектах — как научных, так и вненаучных. Более того,
герменевтическая проблема вообще может возникнуть лишь тогда, когда мы
освобождаемся от того методологизма, который пропитывает все
современное мышление, от всех его взглядов на человека и
традицию. Этот слой допредикативного опыта предстает перед
Гадамером прежде всего как слой «пред-суждений», в которых
закрепились неотрефлектированные воззрения на мир, установки здравого
смысла; в совокупности своей они образуют и очерчивают
мировоззренческие горизонты понимания.
Самодостаточность сознания и возможность понимания,
с точки зрения Гадамера, исключают друг друга: «быть
историческим — значит не ограничиваться самопознанием»1. Если
исходить из универсальности герменевтического феномена,
герменевтический круг перестает быть проблемой: мы всегда уже
находимся в этом круге, так как все наши познавательные акты
определены неким пред-пониманием и пред-суждением, которые
и требуется прояснить. Это, однако, не значит, что мы обретаем
некое беспредпосылочное понимание. Необходимо не снять эти
предпосылки и предсуждения, но как бы встряхнуть их вместе
с самой тканью пред-понимания, выявить их динамику и их
влияние на любое порождение человеческой жизни, позволить им
сложиться в тот «объемлющий» горизонт2, который определяет
историческую традицию понимания. Таким образом, антитеза
объяснение — понимание преобразуется у Гадамера в другую
антитезу: беспредпосылочность — традиция (культурная преем-
1 Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Hermeneutik. 4 Aufl. Tübingen, 1975. S. 285. В ряде случаев я привожу собственные
переводы, в иных - ссылаюсь на существующие.
2 Ibid.S.XXU.
588
Познание и перевод. Опыты философии языка
ственность, культурный авторитет). Средством разрешения этого
противоречия выступает опять-таки естественный язык:
«Языковая традиция - это традиция в собственном смысле слова, то, что
передается, а не остается как задача изучения и толкования,
унаследованная от прошлого. То, что к нам пришло путем языковой
традиции, есть не то, что остается, а то, что нам передается,
говорится, будь то в форме непосредственного высказывания, а
именно в форме мифа, саги, обычая или моральной нормы, или же
в форме письменного высказывания, знаки которого становятся
непосредственно ясными всякому, кто умеет читать»1.
Но все же - почему именно язык становится опорой для
прояснения нерефлективного опыта пред-понимания и
пред-суждения? Во-первых, язык всеобщ: он сопровождает любое отношение
к миру как его предельное условие; во-вторых, язык неподвластен
каким-либо осознанным произвольным изменениям и потому
образует кладезь традиции; в-третьих, язык в силу своей
всеобщности может служить универсальным посредником в
межличностной и межкультурной коммуникации; в-четвертых, язык занимает
как бы срединное промежуточное положение между тем, что
вовсе не может объективироваться и рефлектироваться, и тем, что
объективируется по естественнонаучному типу. В языке
конкретно представлены горизонты нашего мира: на нем лежит печать
прошлого, но он представляет жизнь прошлого в настоящем;
по Гадамеру, не существует некоего «мира в себе» или мира
позади содержаний, представленных в языке, не существует какого-то
внелингвистического контакта с миром, который лишь потом
выражался бы в словах.
Иначе говоря, язык - это не инструмент, который можно
отложить в сторону, когда он нам не нужен, но всеобъемлющее
условие нашего знания о себе и мире2. В соответствии с главной
1 Ibid. S. 367. Этот пример - один из многих, на котором мы видим трудно
передаваемое на другие языки семантическое богатство немецкой терминологии,
имеющей отношение к переводу. Так, опорный термин приведенного выше
высказывания - Überlieferung - означает одновременно и перевод, и передачу. Что же
касается соотношения überliefern и übertragen, то первый глагол означает скорее
перевод, передачу в традиции, в истории, а второй - передачу в пространстве.
2 У Гадамера язык - это особая реальность, внутри которой застает себя человек.
Лингвистическое восприятие того же феномена сращенности человека с языком
ср. у Э. Бенвениста: «Невозможно вообразить человека без языка и
изобретающего себе язык. Невозможно представить себе изолированного человека,
ухитряющегося осознать существование другого человека. В мире существует только человек
с языком, человек, говорящий с другим человеком, и язык, таким образом,
необходимо принадлежит самому определению человека» (Бенвенист Э. Общая
лингвистика. М., 1974. С. 293).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 589
установкой герменевтической онтологии именно в языке до
отношения к тому или иному конкретному объекту дается отношение
к целостности бытия, и это отношение не поддается осознанной
объективации. Тем самым, по Гадамеру, язык образует целостный
контекст интерсубъективного понимания, определяющий
горизонт любого культурного значения. Иначе говоря, языковое
отношение к миру объемлет любые операции сознания,
сосредоточивая на одном полюсе возможности максимально полного
рефлексивного прояснения, а на другом — полисемантические
и метафорические ресурсы: раздваиваясь и расщепляясь, язык
выступает как предельное основание связности и непрерывности
опыта о мире.
Понимание и перевод в герменевтике
Представляется, что для герменевтической традиции проблема
перевода должна иметь первостепенное значение. И Гадамер,
вслед за Хайдеггером, это признает: «Условия, в которых
осуществляется всякое взаимопонимание, лучше всего видны на
примере усложненных и препятствующих взаимопониманию ситуаций.
Так, особенно поучителен тот языковой процесс, который
создает возможность разговора на двух, чуждых друг другу языках, —
процесс перевода»1. Переводчик должен сохранить смысл в
контексте нового языкового мира, выразив его по-иному. «Поэтому
всякий перевод уже является истолкованием; можно даже сказать,
что он является завершением этого истолкования»2.
Однако делая этот существенный шаг в признании роли
проблемы перевода, Гадамер — и это очень важно для моей темы —
фактически останавливается перед одним из аспектов реальной
специфики перевода и тем самым — того, что проблема перевода в наши дни
приносит в философию. А именно, говоря о переводе, он не тема-
тизирует и не проблематизирует собственно ситуацию
многоязычия, разноязычия. Более того, даже когда Гадамер говорит о
переводе, он как раз эту подлинную сложность ситуации перевода
в известном смысле затеняет. Происходит это отчасти потому, что
он начинает рассуждение о переводе в тот момент, когда уже
можно говорить о существовании общего языка, объединяющего
говорящих или как-то иначе общающихся людей. А раз общий язык уже
1 Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
С. 447. Немецкая полифония терминов, обозначающих перевод, не находит
отражения ни в русском (ни в английском) переводе, которые ограничиваются одним
словом («перевод» или же «translation») - там, где в оригинале стоят два слова,
отчасти синонимичных: «перевод, передача» (Übersetzung, Übertragung).
2 Там же.
590
Познание и перевод. Опыты философии языка
есть, то, собственно, и перевод не нужен: понимание нам все равно
обеспечено. Гадамер употребляет распространенную метафору
обыденного языка - «говорить на разных языках» (иначе говоря,
не понимать друг друга) — и трактует ее как то, что исключает
возможность понимания. «Там, где достигается взаимопонимание,
там не переводят: там говорят. Ведь понимать чужой язык - значит,
собственно, не нуждаться в переводе на свой собственный. Если мы
действительно владеем языком, то нам уже не только не требуется
перевод, но перевод кажется нам невозможным»1.
Здесь я пытаюсь провести другую точку зрения: ситуация
разговора «на разных языках», то есть реального многоязычия, с одной
стороны, неизбежна и сопровождает любую коммуникацию,
а с другой стороны, она продуктивна для выработки понимания
посредством перевода. Собственно разноязычие (или многоязычие)
и есть та стержневая сложность, с которой мы имеем дело, ставя
вопрос о понимании. На это Гадамер, наверное, сказал бы, что это
пережиток филологического (или теолого-экзегетического) подхода
к пониманию, от которого он отмежевывается. Однако я вижу
проблему перевода именно как философскую, а не
узколингвистическую или литературоведческую или вообще — техническую.
Итак, для Гадамера «говорить на разных языках» - это не
побуждение к переводу и не формулировка самой проблемности
перевода как пути к пониманию, но скорее метафора человеческого
непонимания как такового2. Фактически мысль строится так:
если нужен перевод, значит, понимание заведомо невозможно,
иначе говоря, перевод и понимание друг друга исключают. Ведь
перевод для него — нечто искусственное, нежизненное и совершенно
ненужное — особенно с того момента, когда мы входим в область
родного языка, смыслы которого нам даны изначально. А потому
1 Гадамер Х-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
С.448.
2 Гадамер. Х.~Г. Философия и герменевтика // Гадамер Х.-Г Актуальность
прекрасного. М., 1991. С. 14. Даже там, где, казалось бы, это мое замечание отводится
(«...когда люди "говорят на разных языках", герменевтическая задача и встает со
всей серьезностью, задача поисков общего языка. Общий язык разыгрывается
между говорящими - они постепенно "сыгрываются" и могут начать
договариваться, а потому и тогда, когда различные "взгляды" непримиримо противостоят
друг другу, нельзя отрицать возможность договориться между собой». Там же), оно
фактически остается в силе. Ведь общее признание возможности «договориться»
у Гадамера практически не включает перевода, так как перевод рассматривается
лишь как случай затрудненной коммуникации. Для преодоления этих
коммуникативных сложностей Гадамер прибегает к понятиям «беседа», «разговор», «диалог».
Однако, как представляется, это не снимают проблему, так как, полагаю, диалог
невозможен без перевода, предшествующего диалогу или хотя бы
сопровождающего диалог как условие его возможности.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 591
ситуация «разговора на одном языке» абсолютно преобладает
в его рассуждениях: герменевтический процесс в принципе всегда
идет на одном языке1. Таким образом, схема герменевтического
понимания строится у Гадамера, по сути, вне перевода и без
перевода: он для нее лишний. Здесь напрашивается тот же упрек,
который некогда Л отман обратил к Якобсону с его концепцией
коммуникативного акта, предполагающей у двух общающихся людей
один общий язык: в реальном функционировании культуры один
язык и один код — это не правило, но редкое исключение, так что
процесс понимания как практики и познания постоянно имеет
дело с реальным многоязычием.
Концепция Гадамера строится на очень далеко идущей онтоло-
гизации языка («бытие, которое может быть понято, это язык»2)
и понимания: достичь понимания можно только живя в языке,
находясь в нем неким естественным образом. «Понимание языка
само еще не является действительным пониманием и не включает
в себя никакой интерпретации — это жизненный процесс. Мы
понимаем язык постольку, поскольку мы в нем живем: тезис,
который, как известно, относится не только к живым, но и к мертвым
языкам»3. В этом высказывании есть много верного: ведь мы
действительно «не переводим», если, например, хорошо владея
языком, читаем на нем книжку по известному нам предмету. Однако
ситуаций, в которых необходим перевод, значительно больше. Так
или иначе подразумевая согласие в пользовании языком, Гадамер
исходит из существования языка в жизненном мире. Если же
переместиться в сферу научно-гуманитарных споров и разногласий,
так сказать, в область концептуального разноязычия, обычную для
людей с разными взглядами, то мы увидим, что эта презумпция
разговора на общем родном языке здесь тем более не работает,
хотя, конечно, и перевод здесь может пониматься лишь в
расширенном смысле слова. Гадамеровские рассуждения прекрасно
согласуются с любой концепцией, обосновывающей фундаментальную
роль диалога (или, как говорит Гадамер, «разговора»; правда, это
1 Ср.: «Всякий разговор исходит из естественной предпосылки, что собеседники
говорят на одном и том же языке (курсив мой. — H.A.). <...> Необходимость
прибегнуть к переводу есть предельный случай, удваивающий сам герменевтический
процесс, то есть разговор: он превращается в разговор переводчика со вторым
участником и в наш собственный разговор с переводчиком». Гадамер Х.-Г. Истина
и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 448.
2 См., в частности: Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. S. XXII. В русском
переводе предисловие ко второму изданию книги, из которого взят этот отрывок,
отсутствует.
Там же.
592
Познание и перевод. Опыты философии языка
вещи, кажется, и для него самого не тождественные). И все же,
диалог (или разговор) возможны лишь тогда, когда сам факт
первичного разноязычия говорящих был уже переработан языковой
культурной практикой. Любопытно, что эту «жизнь в языке» Гадамер
относит и к мертвым языкам. Для немецкого интеллектуала
общение с древними языками действительно могло быть «формой
жизни», однако такое уравнивание «живых» и «мертвых» языков
сглаживает их существенное отличие: жить в чужом языке можно лишь
после того, как он будет выучен - с помощью учителей,
грамматик, упражнений и прочих «искусственных» форм обращения
с языком. Предположение, из которого исходил, например,
русский филолог М. Гаспаров, было радикально противоположным
гадамеровскому: чужими для нас являются не только «мертвые»
языки, но и «живые», так как все языки - культурные и
индивидуальные - нам изначально непонятны, даже если нам хочется
думать иначе, а потому их можно и нужно учить, чтобы хотя бы в
какой-то степени добиваться взаимопонимания.
Много общего с гадамеровским подходом обнаруживается
и в концепции В.В. Бибихина, для которого язык есть то, что дано
не объяснением (как в мысленном эксперименте Куайна по
дешифровке незнакомого языка) и, конечно, не наблюдением,
но прежде всего переживанием и настроением. Язык - это
первичная схема ориентировки организма в своей среде, это
естественная репрезентация мира, данная любому сообществу. Мир
изначально значим для человека, и структуры языка, имеющего
бытийственные онтологические корни, соответствуют мировым
взаимосвязям. Знаки естественного языка не поддаются
редукции, а слова, обеспечивающие постоянное движение смыслов,
не поддаются дефиниции. Как и для Хайдеггера, язык для
Бибихина есть не средство, а дом обитания (дом бытия). Отсюда - его
протест против самой идеи метаязыка и вообще других
рационально-технических подходов к языку: язык как первичная
репрезентация мира в принципе не позволяет заглянуть за себя. А
потому предметом его критики становится и лингвистическое знание.
Ведь любые лингвистические подходы (будь то сравнительно-
исторические, сопоставительно-типологические, структурно-
аналитические) так или иначе обслуживают потребности
культурной унификации планеты, а «инерция научной методологии
независимо от воли исследователя толкает его на путь редукции
явлений к рационализованным структурам»1. Всем техническим
1 В сжатой форме этот подход к языку изложен в энциклопедической статье (Би-
бихин В.В.Язык И Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. IV. С. 507),
а в расширенном виде - представлен в его многочисленных работах (например:
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 593
формам овладения языком, всем заботам о терминологии следует
противопоставить, считает В. Бибихин, иную заботу — о «вольном
цветении языка, наблюдающемся в периоды фольклора»1.
Условным знакам, в которых «подавлена природа слова», Бибихин
противопоставляет естественные словопонятия, которые никогда не
произвольны (облако от обволакивать, обязанность от обвязывать
и др.2). Если (вслед за романтиками) прислушаться к языку,
особенно народной речи, которая возвышается над всеми его
культивированными формами, подчиняясь своей интуиции, то мы
сможем обрести нужные слова. Эта позиция, ярко раскрытая
в работах Бибихина, имеет давнюю историческую традицию,
проходя через Хайдеггера и Гадамера. По сути, такой же интуитивист-
ский подход господствует и в его трактовке переводческой
работы. В целом такая трактовка мне не близка, однако дыхание его
таланта делает ее ценным предметом изучения нынешних и
будущих исследователей и переводчиков.
Если Гадамер, даже и рассуждая о переводе, как бы отодвигает
на задний план тот механизм многоязычия, от которого, как мне
представляется, зависит возможность понимания, то Рикёр,
напротив, ясно видит и герменевтический, и общефилософский
смысл проблемы перевода3. Как уже упоминалось, в последние
годы Рикёр написал несколько статей о переводе, вышедших
отдельным изданием4. Фактически это стало его последней
прижизненной работой и тем самым своего рода философским
завещанием. Главный тезис рикёровской программы изучения
Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993; Он же. Слово и событие. М: 2001; Он же.
Узнай себя. СПб., 1998, и др.
1 Там же. С. 506.
2 Там же.
3 Это различие отношения к переводу, быть может, хотя бы отчасти связано со
следующим обстоятельством. Рикёр идет скорее от Дильтея, а Гадамер - скорее от
Хайдеггера. Рикёр следует логике объективации, Гадамер относится к ней с
подозрением; Рикёр опирается прежде всего на науки, занятые пониманием,
Гадамер, - на искусства, где объективация играет менее важную роль (двигаться по
модели наук, что всегда значит - точных наук, значит заведомо деформировать
гуманитарное знание). Для онтолога Гадамера Рикёр остается на уровне
методологии - вот одна из причин, по которым диалог между двумя мыслителями оказался
весьма затруднителен.
4 Ricœur P. Sur la traduction. Grandes difficultés et petits bonheurs de la traduction.
Paris, 2004. При этом он и сам был переводчиком, опубликовавшим, в частности,
перевод гуссерлевских «Идей I», а также, как ни странно это может выглядеть,
проводником во Франции идей англо-американской аналитической философии; эта
просветительская широта всегда позволяла ему отстаивать позиции, лишенные
крайностей и какого-либо однобокого догматизма.
594
Познание и перевод. Опыты философии языка
перевода: «понимать - это и значит переводить»1. Прежде всего,
Рикёр крайне серьезно воспринимает сам факт множественности
языков или, по крайней мере, наличия двух языков,
приглушенный в гадамеровской герменевтике. Сама эта множественность
языков — факт удивительный. В самом деле, почему у нас не
единственный язык? И главное: зачем их так много - 5 или 6 тысяч?
Ведь, кажется, это не соответствует никаким критериям
полезности и выживания, вредит общению между людьми. Миф о
Вавилонском столпотворении называет это явление в географическом
смысле рассеянием, а в коммуникативном - смешением языков.
Однако ни рассеяние, ни смешение не устраняют важнейший
и противостоящий им момент универсальности: все люди говорят,
и сам по себе этот факт (использование знаков, которые не
являются вещами, но обозначают вещи), для человека специфичен,
наряду с изготовлением орудий труда и погребением мертвых. В
целом это рассеяние людей и смешение языков, считает Рикёр,
не следует, вопреки весьма распространенным мнениям,
трактовать как катастрофу или же игру злого бога, ревниво относящегося
к человеческому строительству. Эта притча, так же как и рассказ
о потере человеком невинности и изгнании его из рая,
символизируют наступление зрелого и ответственного человеческого
возраста2. Так, убийство Авеля символизирует момент, после которого
братство уже не могло рассматриваться как простая природная
данность, оно стало этическим проектом, выполнение которого
требует осознанных усилий. Точно так же и смешение языков -
это призыв к тому, чтобы учиться языкам, овладевать искусством
перевода3. Человеку даны средства против угрозы
некоммуникабельности: и прежде всего способность выучивать чужие языки,
а кроме того, рефлексивно относиться к своему собственному
языку - говорить о нем, смотреть на него как бы со стороны,
трактовать его как один из многих, а не единственно возможный, - все
это обеспечивает в конечном счете и возможность перевода.
1 Ricœur P. Sur la traduction. P. 50-51. Выдвигая этот тезис, Рикёр ссылается на
Дж. Стайнера и его книгу «После Вавилона» (во фр. пер.: Steiner G. Après Babel.
Paris, 1998). При этом процесс языкового перевода, замечает Рикёр, осложняется
языковой многомерностью: язык может лгать, скрывать, фальсифицировать,
использовать разные модусы говорения - возможный, условный, желательный,
гипотетический, утопический и др. А к тому же, сопротивляясь переводу, язык
прислоняется к загадкам, тайнам, герметизму и, как это ни парадоксально,
некоммуникабельному. (Рикёр указывает, что Дж.Стайнер противопоставлял
коммуникации - как инструментальному использованию языка - интерпретацию;
кажется, такое уточнение импонирует и ему самому).
2 Ibidem. Р. 34.
Ibidem. Р. 35.
Раздел второй. Перевод, рецепция» понимание. Глава седьмая. Перевод как... 595
В отношении к переводу, подчеркивает Рикёр, следует избегать
парализующих альтернатив и прежде всего — альтернативы
переводимое™ и непереводимости. В любом случае Рикёр выступает
против идеи непереводимости и тем самым - против идеи
разорванных «языковых миров», в какой бы версии она ни
представала. Если считать перевод теоретически невозможным, языки
и тексты окажутся априори не переводимыми друг в друга. Рикёр
предпочитает считать перевод фактически существующим
(подобно тому, как Кант считал естественные науки уже
существующими, так что вопрос мог стоять только о том, как они возможны,
если они уже реализованы). И потому наша задача - оправдать
сам факт его существования, найти такой общечеловеческий
ресурс, который обеспечивает возможность перевода. Только вот
где его искать — в первоязыке, породившем все остальные языки
(эти поиски мало что дадут), или же в будущем универсальном
языке, который, быть может, удастся когда-нибудь создать? Но
как построить такой совершенный язык? Ведь устранить
несовершенства естественных языков невозможно1. Однако затруднением
для нас оказывается не только несовершенное строение языков,
но и несовершенный способ их функционирования. Проблемы
перевода, которые накладываются на проблемы структуры и
функционирования языка, вводят множество дополнительных и
требующих учета обстоятельств: так, в устном (а отчасти и письменном)
переводе это позиция говорящего, позиция его собеседника,
сообщение, способ расчленения реальности, особое отношение смыслов
к референтам и др. Как со всем этим быть? Переводчики
письменных текстов, по крайней мере, знают, что опорным для них
является ход от целого к единицам, а не от единиц к целым: иначе говоря,
нужно идти от культуры к тексту, фразам и словам, а не наоборот,
так что, скажем, установление терминологического словаря,
необходимое для перевода концептуальной литературы, будет скорее
итогом, чем начальной процедурой в процессе перевода.
Свое понимание перевода Рикёр проводит через сетку понятий
психоанализа. Так, перевод это «работа скорби» (Trauerarbeit)2,
1 Так, Хомский некогда показал нам (и с тех пор вроде бы никто этого не
опроверг), что даже если на уровне порождающих грамматик и можно достичь важных
результатов, все равно на уровне, скажем, лексикологии возникают
непреодолимые препятствия. И главным образом потому, что у нас нет согласия насчет
исходных идей («примитивов»), которые должны были бы затем сочетаться. Дело в том,
что мы не можем создать исчерпывающий перечень всех существующих языков,
устранить условность в отношении между миром и языком, освободить известные
нам эмпирические языки от их изменчивой историчности и др.
2 Некоторым русскоязычным переводчикам больше нравится термин «работа
траура», который, по-моему, менее удовлетворителен: в ситуации потери требует
596
Познание и перевод. Опыты философии языка
это согласие на неминуемые жертвы и потери и уже вследствие
этого — преодоление страха перед сопротивлением инертной
массы чужого языка, перед иностранцем как угрозой нашей
собственной языковой идентичности (разновидностью этих страхов
оказывается, между прочим, и страх перед непереводимостью).
Но чужое, иностранное — не единственный страх, который
парализует волю переводчика: еще пагубнее фантазм совершенного
перевода, под влиянием которого любой перевод может быть по
определению лишь плохим.
Как известно, особенно труден перевод поэзии. Но и перевод
философии очень сложен: семантические поля словопонятий не
совпадают друг с другом, главные слова (Grundwörter, maître -
mots), такие как Aufhebung, Dasein, Vorstellung, Ereignis1, -
в разных языках не просто различны, но также имеют разные
культурные и концептуальные коннотации. Помимо этого,
национальные языки различаются построением фразы,
сохраняемым ими культурным наследием, которое переводчик должен
учитывать. В любом случае, у нас нет такого текста-посредника,
с помощью которого можно было бы переводить философские
тексты один в другой. Но если философия хочет существовать как
общее дело, эти слова должны переводиться. Тем самым, по Рикё-
ру, перевод оказывается поиском «эквивалентности без
адекватности» и без возможности доказать идентичность переводящего
переводимому2. Иными словами, эквивалентность не дана, а
задана: она есть то, чего мы ищем. Работа перевода в культуре не
может делаться быстро: она предполагает большие временные
протяженности — как это имеет место, например, в индоевропейской
культурной зоне, в связях между славянскими, латинскими,
германскими, англосаксонскими языками3. При такой долгой работе
ся научиться с ней справляться, а носить ли при этом внешние ритуальные знаки
горя («траур») не столь уж важно.
1 Заметим, что в качестве главных философских слов Рикёр, пишущий
по-французски, приводит слова немецкие (наверное, это результат трудно устранимого
пиетета философии перед «греческим и немецким»).
2 Ricœur P. Sur la traduction. P. 19, 20,40. Если Рикёр, говоря о переводе,
различает эквивалентность и адекватность, полагая, что перевод - это в лучшем случае
«эквивалентность без адекватности», то у других исследователей встречаются
и прямо противоположные формулировки: в переводе можно достичь в лучшем
случае «адекватности, но не эквивалентности». Так что, сличая подходы к
переводу, приходится прежде всего сопоставлять те системы терминов, в которых
формулируются рассуждения и выводы.
3 Это перечисление вытекает из французских классификационных привычек.
В рамках российской филологической традиции и английский и немецкий - это,
разумеется, «германские» языки.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 597
презумпция эквивалентности переводящего и переводимого
набирает вес, приобретает обоснованность; иначе говоря,
культурное родство скорее производится переводом, нежели
предполагается им1. Но самое важное для понимания роли перевода
в концепции Рикёра и в философии вообще - это тезис о том, что
именно перевод строит соизмеримое, сопоставимое, создает
пространство умопостигаемости, интеллигибельности между
языками и культурами2. В построении сравнимых миров и заключается
великая роль перевода в культуре. Как конкретно это делалось
в истории культуры, мы видим на примерах переводов
Священного Писания3, а также различных произведений культурной и
литературной традиции. «Строить соизмеримости» (construire des
comparables) — таков и собственный девиз Рикёра как теоретика
понимания и перевода. Таким образом, на месте утопического
всеобщего языка можно представить себе бесконечную сеть
всеобщего перевода, нечто вроде всеобщей библиотеки, где мир
предстает как книга, как бесконечно разветвленная сеть
переводов всех произведений на все языки4.
Перевод - это область нужного и должного: без него
невозможны никакие человеческие дела — ни торговля, ни обмены,
ни путешествия. Однако перевод - это также и человеческое
желание, которое выходит за рамки нужды и пользы. Именно это
желание некогда одушевляло немецких мыслителей (таких как
Лютер, Гёте, Гумбольдт, а позднее — Новалис, братья Шлегели,
Шлейермахер, Гёльдерлин, тот же Беньямин и др.). Люди,
стремившиеся переводить, тянулись прежде всего к образованию
и просвещению (Bildung), но также и к расширению горизонта
1 Ibidem. Р. 63.
2 Вне связи с переводом этот процесс конструирования соизмеримого
рассматривается Марселем Детьенном в книге: Détienne M. Comparer l'incomparable. Paris, 2000.
3 Как считает известный американский исследователь перевода Ю. Найда, текст
Библии требует лингвистического пересмотра каждые 3-5 лет, но не для того,
чтобы всякий раз много править (править нужно как раз как можно меньше, чтобы не
вводить верующих в смятение от потери текстовых опор), просто нужно держать
руку на пульсе языковых изменений, накапливая исторические свидетельства,
которые рано или поздно придется учесть в новом переводе. Ср. прекрасную работу
о переводах Библии: Ваард Я. де, Найда Ю. На новых языках заговорят.
Функциональная эквивалентность в библейских переводах. СПб., 1998.
4 В романтическом идейном воплощении и словесном одеянии эта греза о
достижении всеобщего языка через всеобщий перевод посещала и Вальтера Бенья-
мина. Правда, по Рикёру, эта поэтическая ностальгия Беньямина, претворенная
в эсхатологические ожидания, ничем не может помочь переводческой практике,
так что и «задачу переводчика» Рикёр советует формулировать более трезво.
Ricoeur P. Sur la traduction. P. 30.
598
Познание и перевод. Опыты философии языка
собственного языка (ведь некоторые его возможности можно
раскрыть, как это ни парадоксально, только через перевод)1. В итоге
можно сказать, что перевод ставит перед нами не только
интеллектуальную задачу - теоретическую или практическую, но также
этическую — это задача языкового гостеприимства, принятия
Другого. На месте всех страхов и заместительных конструкций Рикёр
предлагает - в связи с переводом и посредством перевода -
этически емкое понятие «языкового гостеприимства» — удовольствия
проживать в чужом языке и удовольствия принять в своем доме
чужую речь2. Таким образом, он проницательно увидел, что вне
вопроса о переводе, поставленного в широком философском
плане, проблема понимания теряет импульсы к дальнейшему
развитию и обогащению. В его подходе к переводу, начертанном
схематично, но глубоко продуманном, слышны отзвуки всех
предыдущих проблематизаций, через которые прошел Рикёр,
анализируя вопросы языка, понимания, связи понимания и
объяснения, роли повествовательности в человеческом мире и др. Эта
последняя программа - «парадигма перевода»3 — собирает
предыдущие под сень единого замысла - создания пространства
умопостигаемое™ через работу перевода и понимания.
Понимание, метафора, перевод
В эпистемологическом плане спектр трактовок проблемы
понимания весьма широк: это понимание в понятиях и понимание
как инсайт, понимание текстов и понимание, с текстами не
связанное, и пр. На одном его краю можно условно расположить все
те концепции, в которых понимание рассматривается в некоем
объективно-онтологическом, безличном плане - как
неосознаваемые условия знания, трактуемые обычно в социально-культурном
смысле и служащие основой «предпонимания». На другом - те
концепции, где понимание трактуется в субъективном,
«присваивающем» смысле - как усвоение или освоение уже
существующего и запечатленного в человеческих произведениях свода знаний,
как создание нового на основе такого освоения. Между этими
полюсами располагается все множество других трактовок
понимания. Важное место среди них занимает интерпретация понимания
как одной из познавательных процедур; при этом исследователи
1 Ibidem. Р. 39. Так, Гёльдерлин хотел, чтобы его немецкий перевод говорил по-
гречески, стремился достичь немыслимого синтеза немецкой и греческой поэзии.
2 Ibidem. Р. 20.
3 Так называется одна из статей, включенная в книжечку Рикёра о переводе.
Ibidem. Р. 21-52.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 599
спорят о том, что «важнее» и что «первичнее» — знание или
понимание, объяснение или понимание и т. п. Одни считают, что
знание первичнее, а понимание иерархически значимее (ибо
понимание венчает знание), другие, напротив, полагают, что понимание
без знания вполне возможно (ибо понимание как «неявное»
знание предшествует возможностям его дискурсивного
упорядочения), а вот знания без понимания - нет (ибо знание — это
артикулированная форма представления уже имеющегося понимания).
Каждая концепция понимания фиксирует определенные
познавательные сложности. Осознанно или неосознанно аргументы
различных сторон переплетаются, отвечают один на другой. Еще
давно, в локковские времена эмпирико-аналитическая
концепция познания сталкивалась с проблемой: как возможно
понимание, как его достичь? Собирать факты? Делать обобщения? Но где
взять силу для концептуального скачка? Быть может, мы поймем
нечто, если продолжим цепь индуктивного обобщения
достаточно далеко. Однако подобный ход мысли может привести к
накоплению фактов в бесконечности неполной индукции, но никакое
фактособирательство не может привести к общей картине: иными
словами, получить методом простого обобщения синтетические
суждения априори невозможно. Как раз эта проблематика
априорного синтеза ставится и обсуждается, по сути, современными
концепциями, сохраняющими в качестве главной
неокантианскую ориентацию, через Дильтея перешедшую в современные
герменевтические концепции, особенно немецких авторов.
Герменевтика была постоянной противницей позитивистской
интерпретации понимания и его места среди других
познавательных процедур. Для нее, как правило, уже не понимание, а
объяснение выступает как нечто подчиненное: объяснение становится
небольшим фрагментом общего процесса понимания, а
понимание в свою очередь предстает как главная составляющая
гуманитарного познания. Так, позитивисты еще отстаивали идеи
«чистого опыта», а сторонники герменевтики уже говорили о его
«нечистоте», о перспективах и горизонтах понимания;
позитивисты еще спорили о формуле развития (кумулятивное накопление
или перерыв постепенности), а сторонники герменевтики уже
постулировали схему герменевтического круга, при котором целое
может быть понято только из частей, части же — из целого.
Допущение герменевтического круга снимает проблему неполной
индукции. Однако при этом оказывается, что всякое понимание
опирается на уже существующее понимание («предпонимание»);
каждый новый шаг понимания позволяет эксплицировать еще
один слой предпосылок знания, но по логике такого движения
и сам уводит в бесконечность. Например, когда исследователь-
600
Познание и перевод. Опыты философии языка
герменевт берется ответить на вопрос о том, что же представляют
собой эти предусловия, эти структуры «предзнания», или «пред-
понимания», то, как правило, он обращается к феномену
«культуры», который еще нуждается в осмыслении. Можно
предположить, что существуют различные особые способы задания
целостности, которые практически разрешают герменевтический
парадокс части и целого: это некоторое «опережение»
целостностью частей при последующем «достраивании» частей,
фрагментов, фактов на основе уже витающей в сознании целостности.
Можно ли построить такое общее представление о понимании,
которое так или иначе включало бы различные формы понимания
в его постоянном опосредовании объяснением? Один из таких
путей — трактовка понимания как синтезирующей функции разума,
работающей при участии воображения1. Понимание в наиболее
развитой своей форме - это функция охвата и удержания в рамках
теоретической разумности всех предшествующих ей
дискурсивных и недискурсивных способов построения целостности. Каков,
однако, механизм такого охвата? Как он складывался? Очевидно,
что понимание как деятельность разума сложилось в
человеческой истории не сразу. В историко-генетическом плане можно
предположить, что человек начинает строить образ мира на самой
ранней стадии развития сознания, предшествующей даже мифу,
человек строит образ мира путем переноса своих первоначальных
впечатлений и ощущений на неизвестные ему предметы. И это
остающееся непроясненным понимание осуществляется здесь как
перенос известного на неизвестное, т. е. как метафора в широком
смысле слова. Миф предполагает уже более развитые формы
такого метафорического переноса и схватывания целостностей, он
содержит в себе попытки системного, определенным образом
упорядоченного и организованного понимания окружающего мира
путем антропоморфного переноса собственных человеческих
свойств на этот мир. Преодоление антропоморфизма, не
закончившееся и поныне, происходит тогда, когда человеческая мысль
сталкивается с препятствиями, постигая отличия собственных
построений от того, что находится вне ее; однако само действие
механизма метафорического переноса при этом не прекращается,
хотя подчас меняется его направленность. По-видимому, именно
метафорический перенос как чувственно выполненная ипостась
аналогии является главным механизмом понимания на всех его
уровнях. Именно в таком понимании обнаруживается родство
понимания и перевода в широком смысле слова: «Перевод (метафо-
1 Такой подход предлагался в работе: Автономова Н.С. Рассудок. Разум.
Рациональность. М., 1988.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 601
ра) есть слово от одного на другое переводимое. Перевод бывает
четырех видов: или от неодушевленного к одушевленному; или от
одушевленного к одушевленному, как например, кто царя назовет
пастухом людей (гомерическое выражение пастух народов): ибо
пастух собственно овчий; но оба, цесарь и пастырь, — предметы
одушевленные. От неодушевленного к неодушевленному, как,
например, кто-нибудь скрывши уголь в пепле, скажет: скрыл
огненное семя; или скажет: большое пламя изливается из дерева;
потому что изливаться может только что-нибудь текучее. От
одушевленного к бездушному, например, когда кто вершину горы
назовет главою горы, потому что голова собственно принадлежит
предметам одушевленным. От неодушевленного к
одушевленному, как сказано: море видело и бежало: видеть говорится только об
одушевленных»1.
Конечно, таким образом понимаемая метафора не
ограничивается лишь сферой языка, однако лишь в языке могут быть
зафиксированы наиболее развернутые формы переноса как механизма
понимания. При анализе языка философских, да и любых других
культурных текстов обнаруживается, что сам способ образования
слов-понятий изначально предполагает метафору (перенос
чувственно-конкретного смысла на иной, в чувствах не данный
объект), что закрепление такого переносного значения в качестве
основного происходит не вдруг, закрепляется постепенно и что
теперь в наших герменевтических штудиях мы подчас стремимся
осуществить своего рода «обратный перевод»: раскопать
начальное в том, что сейчас преобладает, но когда-то было
второстепенным. При этом происходит своего рода инверсия метафоры: так,
изначально при складывании абстрактного смысла того или
иного слова-понятия, скажем, «идея» (эйдос), метафора заключалась
в переносе конкретных смыслов на неконкретные содержания
(«идея есть то, что видимо духом»), теперь же мы видим в слове
«идея» прежде всего нечто нематериальное, необразное, и, только
вникнув в первоначальный его смысл, вспоминаем об образной
созерцательной компоненте значения. В «восходящей»
словообразовательной метафоре заключается, таким образом, перенос
с конкретного на абстрактное, с чувственного на духовное;
а в «нисходящей» словоистолковательной метафоре — перенос
с духовного на чувственное, с духовного на материальное. В этом
1 Этот отрывок, в котором метафора (этимологически это вполне оправданно)
именуется переводом (и наоборот), принадлежит Георгию Хёробоску и
приводится в лекциях по русской литературе Ф.И. Буслаева // Буслаев Ф.И. История
русской литературы. Лекции, читанные Его императорскому Высочеству наследнику
Цесаревичу Николаю Александровичу (1859-1860). Вып. 1. М., 1904. С. 224.
602
Познание и перевод. Опыты философии языка
смысле метафоричны, например, многие ранние
натурфилософские построения (например, концепция четырех элементов) и
такие более поздние философские понятия, как Декартов
«естественный свет» (то, что позволяет видеть ясно и отчетливо,
не будучи само видимым). Более того, фундаментальные
оппозиции философского сознания (природное - духовное,
природное - чувственное и т. д.) возникают, по-видимому, в результате
такого метафорического переноса чувственно-образного на то,
что мы теперь называем духовным.
В метафоре соединяются рефлексивное и нерефлексивное,
дискурсивное и недискурсивное, выраженное и невыраженное.
Метафора многолика: это одновременно и средство артикуляции
сознания, еще не расчленившегося на отдельные сферы, и то,
в чем можно видеть все новые проявления онтологического
единства мира. Одним из продуктивных способов изучения этой
области, где понимание и перевод идут рука об руку, представляется
анализ метафоры как стержневого принципа работы сознания на
пути от доязыкового опыта к языковому значению, от
спонтанного зарождения смыслов внутри интуитивных и
полуинтуитивных представлений внутри сферы воображения, к их
рациональной фиксации, интеллектуальному расчленению
и прояснению1.
Анализ процессов метафоризации как пути образования
языковых значений свидетельствует о весьма тесном взаимодействии
начал мысли с началами языка. В своем развернутом состоянии
«метафора — это вторжение синтеза в зону анализа, представления
(образа) в зону понятия, воображения в страну интеллекта,
единичного в царство общего, индивидуальности в "страну" классов.
Метафора стремится внести хаос в упорядоченные системы
предикатов (курсив мой. - H.A.), но, входя в общенародный язык,
в конце концов подчиняется его семантическим законам»2. В
самом деле, с точки зрения прямолинейной логики, метафора - это
категориальная ошибка (она относит предмет к тому классу, к
которому он в действительности не принадлежит), это помеха
коммуникативной функции языка, однако именно метафора форми-
1 См.: Аверинцев С.С. Риторика как подход к обобщению действительности //
Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981. С. 15-46; Гусев С. С. Наука и
метафора. Л., 1984; Philosophical Perspectives on Metaphor. Minneapolis, 1981; etc.
Хорошая подборка материалов содержится в сб.: Теория метафоры / Сост. Н.Д.
Арутюновой. М., 1990.
2 Арутюнова Н.Д. Языковая метафора: синтаксис и лексика // Лингвистика
и поэтика. М., 1979. С. 150. Эта давняя статья известного лингвиста и сейчас
звучит актуально.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 603
рует те ресурсы смысла, без которых невозможна никакая вообще
коммуникация1.
В последние десятилетия время проблемы метафоры и метафо-
ризации выходят за рамки трактатов по эстетике и начинают
играть заметную роль и в исследованиях науки. При этом
осознается, что и в научном мышлении метафора - это не случайная
помеха: она выступает как репрезентатор собственно
эвристического, эстетического момента в любом человеческом познании.
На пути превращения метафорического в концептуальное лежит
еще одно звено - аналогия: если метафора — это художественная
ипостась аналогии, то аналогия — своего рода эпистемическая
выжимка из метафорической материи. В любом случае углубление
в метафорические основания работы сознания помогает
прояснить те практико-символические структуры, в которых
закладывается и возможность научного, теоретического, рационального
отношения к миру.
Жизнь метафоры в языке выводит наружу его основной
парадокс, зафиксированный и в переводе — язык соединяет и
разъединяет людей; как мы уже видели, и на уровне философского
мышления язык может одновременно воплощать универсальное
и уникальное, формально отточенное и невыразимое, «идеальные
цели» и «замшелые первоначала». Метафора как
функциональный механизм человеческого сознания направлена одновременно
и на аналитическое уточнение, и на содержательное расширение
смысловых ресурсов языка. За пределами поэтического языка, где
ей суждена долгая жизнь, метафора весьма динамична: она всегда
возникает как нечто «единожды сказанное», но со временем,
сохраняя прежний языковой облик, стандартизируется и входит
в языковую картину мира того или иного народа. Однако все это
не только внутриязыковые процессы. Сущность процесса мета-
форизации заключается в переработке материала различных
видов человеческой деятельности — интеллектуальной,
эмоциональной, перцептивной — в языковые значения, а затем и в схемы
межъязыкового и межкультурного переноса и перевода.
Проблема метафоры некогда стала предметом интересного
спора между феноменологической герменевтикой и
деконструкцией, между Рикёром и Деррида. Их спор не потерял своего
значения до сих пор, потому что на кон ставилась
взаимосоотнесенность или же, напротив, абсолютная внеположенность
важнейших тенденций современной западной философии. У Рикёра
и Деррида весьма разное отношение к философии, к смыслу и
соответственно — к герменевтике, к деконструкции. Условия спора
Там же. С. 164.
604
Познание и перевод. Опыты философии языка
были необычны для обеих сторон. Рикёр, который не любил
публичной полемики, вдруг обратился к Деррида с критикой,
сосредоточенной вокруг понятия метафоры1. А Деррида, который
всегда умел ответить жестко, так что противнику не поздоровится,
недоумевал: не вижу оснований для критики, у меня есть все то,
в отсутствии чего меня упрекают2. Не будем здесь обсуждать
подробностей этого спора, возьмем лишь малый его фрагмент, одну
из линий, относящихся к вопросу о метафоре и метафизике.
Ключевые понятия для обоих мыслителей - философия,
метафора, метафизика. Однако отношение к философии у них разное:
для Деррида с его обостренным чутьем к проблеме границ вопрос
о том, находится ли он внутри философии или вне ее,
первостепенно значим, а для Рикёра он не главный, а фоновый. Деррида
бьется вокруг вопроса: коль скоро философский дискурс
метафоричен и даже избыточно метафоричен, то каковы следствия этого
для статуса философии? По-видимому, то, что философия
должна иметь свою теорию метафоры, которая могла бы объяснить ее
функционирование, а в противном случае статус философии
подвергается опасности: она содержит в своем составе то, что
составляет пружину ее языка, но не умеет справляться с этой
своевольной стихией. Рикёр на это отвечает: о статусе философии
беспокоиться нечего, так как метафора в философском дискурсе
(уже) стерта, и потому статус философии она не подрывает. В этом
смысле линия рассуждений Рикёра примерно та же, что была
представлена выше, когда речь у нас шла о лексикализации
метафор естественного языка, а также философии — в той мере, в
какой она использует естественный язык. При этом Рикёр
ссылается на одного из персонажей самого Деррида (точнее, «Садов
Эпикура» Анатоля Франса, которого цитирует Деррида). Этот
персонаж, по имени Полифил, рассуждает о стирании метафоры
и о забвении первоначала метафизики, при котором
метафизическое понятия выступают как стертая метафора. «Белая
мифология» (образ, помещенный в заглавие очерка Деррида) — есть не что
иное, как метафизика, которая стерла сцену своего рождения,
вернее записала ее белыми чернилами и покрыла слоями других
знаков, как палимпсест. Метафора навсегда остается
метафизическим понятием, она заключена в поле классической философской
1 Ricœur P. La métaphore vive. Etude VIII. Chap. 3. Méta-phorique et méta-physique.
Paris, 1975. Эта критика направлялась против концепции Деррида, представленной
в очерке «Белая мифология»: Derrida J. La mythologie blanche. La métaphore dans le
texte philosophique // Derrida J. Marges - de la philosophie. Paris, 1972.
2 Derrida J. Le Retrait de la métaphore (1978) // Derrida J. Psyché. Inventions de
l'autre. Paris, 1987.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 605
метафизики. В основном Рикёр рассуждает так, словно он
отождествляет позицию Полифила и позицию Деррида в этом вопросе.
Однако в тексте самого Деррида нечто сопротивляется такому
прочтению. Деррида не идет за Полифилом, но скорее стремится
деконструировать речь Полифила и те метафизические схемы,
которые лежат в ее основе. Соответственно он не только не
приветствует тему стирания метафоры, но, наоборот, стремится ее
деконструировать. Он даже утверждает, что имеет место не стирание
метафоры, но стирание стирания метафоры; более того -
происходит наращивание метафоричности, порождающей нечто вроде
прибавочной стоимости.
Деррида исходит из захлестывающего изобилия и
неподконтрольности метафорики философскому мышлению. Отсюда, как
говорилось, и вопрос: означает ли это «смерть философии», выход
за пределы философии? При этом собственное письмо Деррида,
как уже неоднократно говорилось разными исследователями,
одновременно «поэтическое и философское»1, терминологическое
и метафорическое, во всяком случае метафорика из него
неустранима. Чтобы оправдать это, нужно было бы построить такую —
философскую — теорию метафоры, которая могла бы
зафиксировать это обстоятельство и понять его вес и функции в
философском дискурсе. Так вот, оказывается, что, несмотря на все
недоразумения в полемике Рикёра и Деррида, такая теория имеется
именно у Рикёра. Более того, экспериментальное применение
этой теории к собственным построениям Деррида в конечном
счете — пунктиром — намечает то место, где рикёровская
критическая герменевтика могла бы встретиться с деконструкцией. Иначе
говоря, независимо от внешнего строя полемики между двумя
мыслителями, в концепции Рикёра есть момент, представляющий
собою нечто вроде непреднамеренного ответа на сомнения
Деррида: у него есть та самая философия метафоры, отсутствие
которой, по мысли Деррида, столь пагубно для философии.
Рикёр обращается к метафоре на путях расширения зоны
герменевтической интерпретации и понимания, а потому подход
к метафоре в 1970-е годы был значимым этапом в его творчестве.
Он ищет место, в котором можно было бы засечь метафору,
не удовлетворяется классическими теориями риторики,
указывающими прежде всего на замену значения слова. Для Рикёра
метафора сосредоточена не в словах и даже не в фразах, но в глаголе
«быть» и тех его формах, которые составляют ядро операций пре-
1 AmalricJ.-L. Ricœur, Derrida. L'enjeu de la métaphore. Vendôme, 2006. В этой
работе я нашла поддержку некоторым моим соображениям по вопросу о роли
метафоры в деконструкции.
606
Познание и перевод. Опыты философии языка
дикации1. Тем самым, метафорическое «есть» означает
одновременно «не есть»; иначе говоря, метафорическая истина
существует в модусе постоянной напряженности (один из аспектов этой
напряженности вносится витгенштейновским различием между
«видеть что» и «видеть как»). Метафора есть не что иное, как
механизм предикативного напряжения между «есть» и «не есть»,
специфической референции без конкретных референтов. В этом
своем виде она, кажется, вполне соответствует тому запросу на
теорию лишенной собственного, буквального смысла (sens propre)
метафоры. Более того, рикёровская концепция метафоры
улавливает и нечто существенное в функционировании деконструкции.
Если для лингвистов, изучавших метафору, состояние
«предикативного напряжения» (об этом в других терминах писала, как
мы видели выше, Арутюнова) - это лишь этап или стадия на пути
лексикализации метафорических значений, то в рикёровском
философском определении фиксируется метафора как таковая,
взятая на пределе ее внутренней динамики, которая сохраняет, а не
разрешает свое внутреннее напряжение. Взятая в таком
гиперболическом модусе, метафора не может стираться: быть может,
именно поэтому у Деррида и идет речь о «стирании стирания»
метафоры и даже ее усилении. В конце концов и «дифферанс»
(différance) у Деррида может трактоваться как изначальное
напряжение между силой и формой, порывом и структурой, словом -
как место изначальной метафоричности. Принять
метафорический статус философских понятий (Рикёр, конечно не согласится
на это, да и я на это не соглашусь) значит осознать «невозможную
возможность» философии: а именно, невозможность философии
присутствия и одновременно возможность таких ходов мысли,
которые вычленяют и создают условия, позволяющие «встретить»
другого, дать ему приблизиться (laisser venir l'autre), не потерять
его между ячейками той решетки, той схематики восприятия,
к которой мы привыкли. Таким образом, нечто философски очень
важное продолжает жить и в деконструкции, и понять это нам
помогает концепция метафоры как предикативного напряжения,
предложенная Рикёром. Я не буду пытаться ставить точки над i
в вопросе о философской теории метафоры; здесь существует
немало иных подходов. В частности, мое собственное представление
о метафоре оказывается ближе к рикеровскому в том смысле, что
предполагает, наряду с философской гиперболой
сохраняющегося напряжения, и учет реального культурного механизма
выветривания метафорических значений. Но мне важнее здесь показать
хотя бы точечные элементы соизмеримости между теми концеп-
Ricœur P. La métaphore vive. Paris, 1975. P.l 1.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 607
циями, лежащими в русле постструктурализма и герменевтики,
которые обычно считают напрочь исключающими друг друга.
И в заключение — намек на еще один контекст, связанный уже
не с метафорой, но опять-таки с герменевтикой и проблемой
понимания в более широком смысле слова. Неудивительно, что
деконструкция в общем враждебна герменевтике, которая
определяет себя как искусство понимания и изначально полагает
умопостигаемость. Деррида видит и порицает в ней некую «ин-
терпретативную тотализацию»1, желание исчерпать смыслы,
слепоту к тому в человеческом опыте, что несет на себе рану,
наносимую языковыми предсхематизациями. С этих позиций
деконструкция предстает как необходимость выкорчевать сам
герменевтический принцип. Сторонники герменевтики не узнают
себя в подобных описаниях: герменевтика не нуждается в
напоминаниях о том, что существует несказуемое и понимание имеет
свои пределы. Однако в некоторых аспектах критика, которую
деконструкция обращает к герменевтике, вполне справедлива:
например, это упрек в попытке присвоения, захвата Другого,
а тем самым - в отказе искать в нем иное, специфическое2. В
результате обмена речами и текстами между Гадамером и Деррида
(он длился довольно долго и был частью общего
германо-французского диалога 1980—1990-х годов, оставшегося, по общему
признанию немногочисленных исследователей этого
интереснейшего явления, диалогом глухих), наметились интересные
сдвиги.
Так, по-видимому, именно Деррида подтолкнул позднего Га-
дамера к некоторой ревизии концепта понимания3. Во всяком
случае, в тех работах, где Гадамер так или иначе обращается к
Деррида, понимание уже не выглядит как применение или
«присвоение» Другого, но скорее как ответ на его призыв, а в целом
Гадамер, вопреки обыкновению, больше говорит о пределах языка,
нежели о его универсальности. Можно даже сказать, что опыт
понимания в какой-то мере отступает перед опытом ограниченности
(и в этом смысле — «о-пределенности») сказанного. Тем самым га-
дамеровская герменевтика, для которой разноязычие и
многоязычие не стали отдельной темой размышления (а потому, напомню,
проблема перевода в ряде важнейших ее смыслов отошла на вто-
1 Derrida J. Schibboleth. Paris, 1986. P. 50.
2 Так считает, например, один из французских специалистов по Гадамеру
Ж. Гронден (Grondin J. Le tournant herméneutique de la phénoménologie. Paris, 2003).
3 Перечисление свидетельств этого сдвига по отдельным работам Гадамера см.
в кн.: Grondin J. Le tournant herméneutique de la phénoménologie. P. 116-118.
608
Познание и перевод. Опыты философии языка
рой план), начинает узнавать себя в деконструктивистском
лозунге «более одного языка» (plus d'une langue): ведь
один-единственный язык — этого «никогда не достаточно». К этому могу
добавить, что в свою очередь и поздний Деррида становится несколько
иным, в частности, более внимательным - если и не к
пониманию, то, по крайней мере, к традиции. Таким образом,
получается, что даже то, что вполне обоснованно кажется извне диалогом
глухих, оставляет следы, которые не зарастают. Конечно,
выявление этих фрагментарных концептуальных сопряжений - это лишь
начало раскапывания области несоизмеримого между
герменевтикой и деконструкцией — в том месте, где когда-нибудь, быть
может, удастся осуществить не только метафорический перенос,
но и концептуальный перевод.
Об изучении перевода: опыт филологического анализа
и интерпретации
Здесь читателю будет представлен один из моих прежних
опытов работы над темой «язык и перевод»1. Этот текст был написан
примерно в то же время, когда выходили в свет классические
работы Деррида («Голос и феномен», «Письмо и различие»,
«О грамматологии» - 1967) или Рикёра («Об интерпретации:
Очерк о Фрейде», 1965, «Конфликт интерпретаций. Очерки
герменевтики», 1969) и др. Он представляет собой результат
«медленного чтения» и сравнительного статистического анализа
лексики оригинала и перевода — Сонетов Шекспира и переводов
Маршака. В наши дни желание понять, что хотел сказать нам
Шекспир, нередко расплывается в фантазиях популярного
«нового историзма». Та дисциплина, в рамках которой некогда
проводился этот анализ, называлась «лингвостилистикой»: она
находилась на стыке лингвистики и литературоведения, так что это
исследование было по-настоящему междисциплинарным. Оно
может быть иллюстрацией того, как работают механизмы
рефлексии и понимания на конкретном литературном материале.
В целом представленный в статье анализ переводов, по-моему,
не устарел и сейчас, только из-за трудоемкости его редко
применяют: сочинить нечто о переводе можно и за два часа, а на эту
работу ушел год напряженного труда. Этот текст касается литера-
1 Как уже говорилось во введении, это была моя первая печатная работа,
сделанная по курсовой, неофициальным руководителем которой был М. Гаспаров: Авто-
номова Н.С., Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира - переводы Маршака // Вопросы
литературы. 1969. № 2. «Вся проработка материала принадлежит Н.С. Автономо-
вой, а основная мысль и словесное изложение - мне» (Гаспаров М.Л. Избранные
труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 120).
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 609
турного перевода, который я в данной книге не рассматриваю,
однако вопрос о «познании и переводе» составляет его
внутренний стержень, и потому я решилась предложить его
читательскому вниманию. Я вижу в этом тексте повод для дальнейших
философских размышлений о том, что такое понимание,
интерпретация, перевод.
Сонеты Шекспира - переводы Маршака
Сонеты Шекспира в переводах С.Я. Маршака - явление в
русской литературе исключительное. Кажется, со времен
Жуковского не было или почти не было другого стихотворного перевода,
который в сознании читателей встал бы так прочно рядом
с произведениями оригинальной русской поэзии. Их много
хвалили, но - как это ни странно — их мало изучали. А изучение их на
редкость интересно. Особенно — с точки зрения основной
проблемы, с которой сталкивается переводчик художественного
текста: проблемы главного и второстепенного. Всякому переводчику
во всяком переводе приходится жертвовать частностями, чтобы
сохранить целое, второстепенным — чтобы сохранить главное;
но где тот рубеж, который отделяет частности от целого и
второстепенное от главного? Целое всегда складывается из частностей,
и отступления в мелочах, если они последовательны и
систематичны, могут ощутимо изменить картину целого. Как это
происходит, лучше всего могут показать нам именно сонеты Шекспира
в переводах Маршака.
Присмотримся к переводам двух сонетов; оба перевода
относятся к признанным удачам Маршака. Вот сонет 33 - в
подлиннике и в переводе:
Full many a glorious morning have I seen
Flatter the mountain-tops with sovereign eye,
Kissing with golden face the meadows green,
Gilding pale streams with heavenly alchemy;
Anon permit the basest clouds to ride
With ugly rack on his celestial face,
And from the forlorn world his visage hide,
Stealing unseen to west with this disgrace:
Even so my sun one early morn did shine
With all triumphant splendour on my brow;
But out, alack! he was but one hour mine;
The region cloud hath mask'd him from me now.
Yet him for this my love no whit disdaineth;
Suns of the world may stain when heaven's sun
staineth.
610
Познание и перевод. Опыты философии языка
Я наблюдал, как солнечный восход
Ласкает горы взором благосклонным,
Потом улыбку шлет лугам зеленым
И золотит поверхность бледных вод.
Но часто позволяет небосвод
Слоняться тучам перед светлым троном.
Они ползут над миром омраченным,
Лишая землю царственных щедрот.
Так солнышко мое взошло на час,
Меня дарами щедро осыпая.
Подкралась туча хмурая, слепая,
И нежный свет любви моей угас.
Но не ропщу я на печальный жребий, —
Бывают тучи на земле, как в небе.
М.М. Морозов в послесловии к книге сонетов Шекспира в
переводах С. Маршака пишет по поводу этого перевода: «Знание
языка поэтом заключается, прежде всего, в отчетливом
представлении о тех ассоциациях, которые вызываются словом. Мы
говорим не о случайных ассоциациях, но об ассоциациях, так сказать,
обязательных, всегда сопровождающих слово, как его спутники.
Вот, например, буквальный перевод первого стиха сонета 33: "Я
видел много славных утр". Но этот буквальный перевод является
неточным, поскольку на английском языке эпитет "славный"
(glorious) в отношении к погоде обязательно ассоциируется с
голубым небом, а главное, с солнечным светом. Мы вправе сказать,
что эти ассоциация составляют поэтическое содержание данного
слова. Перевод Маршака: "Я наблюдал, как солнечный восход" -
обладает в данном случае большей поэтической точностью, чем
"буквальная" копия оригинала»1.
Так ли это?
Бесспорно, glorious morning - это прежде всего утро с голубым
небом и солнечным светом. Но не только это. Значение «славный»
в английском эпитете glorious сохраняется, а в сонете Шекспира
не только сохраняется, но и подчеркивается всей лексической
и образной системой произведения. В самом деле: у
шекспировского «славного» солнца — «державный взор» (sovereign eye)
и «всеторжествующий блеск» (all triumphant splendour), а тучи,
заслоняющие его, — «низкие», «подлые» (basest), «позорящие»
(disgrace). Поэтому, отказавшись от понятия «славный», Маршак
1 Морозов М.М. Послесловие // Сонеты Шекспира в переводах Маршака. М.,
1948. С. 183.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 611
должен отказаться и от этих образов-спутников. Так он и делает:
вместо «державного взора» у него — «благосклонный взор», вместо
«блеска» - «щедрые дары», вместо «позора» — «лишение щедрот».
Шекспировское солнце прекрасно потому, что оно —
блистательное и властное; у Маршака солнце прекрасно потому, что оно —
богатое и доброе. (Вульгарный социолог старого времени мог бы
прямо сказать, что шекспировское солнце - феодальное, а мар-
шаковское — буржуазное.) Маршак называет свое солнце
«солнышком» (и Морозов [там же, 178] горячо это приветствует);
шекспировское же солнце назвать «солнышком» немыслимо. Перед
нами два совсем разных образа.
Эта разница достигается не только лексическими средствами,
но и более тонкими — грамматическими. У Шекспира фраза
построена так: «солнце... позволяет тучам ковылять перед своим небесным
ликом и скрывать его образ от мира, между тем как оно незримо
крадется к западу». Подлежащее во всей длинной фразе одно — солнце;
у Маршака подлежащих два — солнце и тучи. При чтении
Шекспира взгляд читателя прикован к образу солнца; при чтении Маршака
взгляд этот хоть на мгновение, но отрывается от него, и впечатление
ослепительного всевластия незаметно смягчается.
Эта разница чувствуется не только в построении центрального
образа, но распространяется и на второстепенные: умеряется
вещественность и яркость, усиливается «воздушность» и мягкость.
Исчезает «золотой лик», исчезает «небесная алхимия» (а вместе
с ней вещественное содержание слова gild — «золотить»),
«поцелуй» заменяется на «улыбку»; зато появляются образы не
вещественные, а чисто эмоциональные: туча «хмурая, слепая», «нежный
свет любви», «печальный жребий». Правда, появляется и «трон»,
но не «золотой трон», каким был бы он у Шекспира, а «светлый
трон» — не земного царя, а небесного или сказочного.
Эта разница может даже выходить за пределы образного плана
и ощущаться в более высоком и сложном плане —
композиционном. И здесь лучше всего это можно увидеть на примере другого
«сонета о солнце» — сонета 7. Вот его текст и перевод:
Lo! in the orient when the gracious light
Lifts up his burning head, each under eye
Doth homage to his new-appearing sight,
Serving with looks his sacred majesty;
And having climbed the steep-up heavenly hill,
Resembling strong youth in his middle age,
Yet mortal looks adore his beauty still,
Attending on his golden pilgrimage;
But when from highmost pitch, with weary car,
612
Познание и перевод. Опыты философии языка
Like feeble age, he reeleth from the day,
The eyes, for duteous, now converted are
From his low tract and look another way:
So thou, thyself out-going in thy noon,
Unlooked on diest, unless thou get a son.
Пылающую голову рассвет
Приподнимает с ложа своего,
И все земное шлет ему привет,
Лучистое встречая божество.
Когда в расцвете сил, в полдневный час,
Светило смотрит с вышины крутой, -
С каким восторгом миллионы глаз
Следят за колесницей золотой.
Когда же солнце завершает круг
И катится устало на закат,
Глаза его поклонников и слуг
Уже в другую сторону глядят.
Оставь же сына, юность хороня,
Он встретит солнце завтрашнего дня!
Как и в предыдущем сонете, солнце здесь при переводе
становится менее царственным и величественным, более близким и
доступным: эпитет «милостивый» (gracious) выпадает, «почет»
(homage - феодальный термин) переводится как «привет», «служение»
(serving) — как «встреча», «величественное божество» (sacred
majesty) превращается в «лучистое божество». Но главное не
в этом.
В шекспировском сонете солнце — это человек, и человек
этот — адресат сонета. Небесный путь солнца — развернутая
метафора жизненного пути человека (pilgrimage) с его постепенным
восхождением (having climbed) и нисхождением, с его middle age
и feeble age; и концовка гласит: «Так и ты, вступающий ныне
в свой полдень, умрешь, и никто не будет смотреть на тебя, если
ты не родишь сына». В эпоху Шекспира такое уподобление
человека солнцу никого не могло удивить. В эпоху Маршака - другое
дело. И Маршак решительно сводит своего героя с неба на землю:
его герой не сам становится солнцем, он только «встречает
солнце» с земли, как будет встречать и его сын. Человек остается
человеком, а солнце остается только солнцем, - выпадают
упоминания о middle age и feeble age, выпадает having climbed, выпадают
царственные метафоры зачина, а вместо этого появляется образ
«завершает круг», уместный для астрономического солнца, но
неуместный для шекспировского: у Шекспира солнце, как человек,
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 613
рождается и умирает только раз и ни «круга», ни «завтрашнего
дня» для него нет.
Так изменение трактовки одного образа влечет за собой
изменение строя и смысла всего стихотворения.
Остановимся и оглянемся. Попытаемся систематизировать те
отклонения образной системы Маршака от образной системы
Шекспира, которые мы могли наблюдать в двух рассмотренных
сонетах.
1. Вместо напряженности — мягкость: солнце не целует луга,
а улыбается им, человек не закатывается вместе с солнцем, а
только присутствует при его закате.
2. Вместо конкретного — абстрактное: выпадают golden face, to
ride with ugly rack, stealing. В частности, менее вещественным
и ощутимым становится величие: солнце не блистательное,
а кроткое и доброе. Слишком конкретные образы, почерпнутые
из области социальных отношений (homage, serving) или науки
(alchemy), исчезают.
3. Вместо логики - эмоция: восклицательная концовка второго
сонета, образы, вроде «нежный свет любви», «печальный жребий».
Иными словами: вместо всего, что слишком резко, слишком
ярко, слишком надуманно (с точки зрения современного
человека, конечно), Маршак систематически вводит образы более
мягкие, спокойные, нейтральные, привычные. Делает он это с
замечательным тактом, позволяя себе подобные отступления, как
правило, только в мелочах — в эпитетах, во вспомогательных
образах, в синтаксисе, в интонации. Но этих мелочей много (мы
видели, что только в двух сонетах их набралось более двух десятков),
а переработка их настолько последовательна, настолько
выдержана в одном и том же направлении, настолько подчинена одним
и тем же принципам, что эти мелочи сами складываются в единую
поэтическую систему, весьма и весьма не совпадающую с
системой шекспировского оригинала.
Умножать примеры таких изменений можно почти до
бесконечности. Мы приведем лишь немногие, почти наудачу
выбранные образцы, по возможности взятые из наиболее популярных
сонетов. В других сонетах можно найти примеры и более яркие.
1. Вместо напряженности - мягкость. В сонете 104 Шекспир
хочет сказать: «прошло три года». И говорит: «Три холодные зимы
стряхнули с лесов наряд трех лет; три прекрасные весны
обратились в желтую осень; три апрельских аромата сгорели в трех
знойных июнях». Маршак переводит:
...Три зимы седые
Трех пышных лет запорошили след.
614
Познание и перевод. Опыты философии языка
Три нежные весны сменили цвет
На сочный плод и листья огневые,
И трижды лес был осенью раздет.
Мощное «стряхнули наряд» заменяется сперва на мирное
«запорошили», а потом на осторожное «раздет». Эффектное «три
аромата сгорели» (обонятельный образ) исчезает совсем. Чувственные
эпитеты «холодные» и «прекрасные» заменяются
метафорическими «седые» и «нежные». И наконец, буйный шекспировский хаос
не поспевающих друг за другом времен (лето — зима, весна -
осень, весна - лето) выстраивается в аккуратную и правильную
последовательность: лето — зима, весна - осень, осень — зима.
Сонет 19 начинается у Маршака прекрасными по силе
строчками: «Ты притупи, о время, когти льва, / Клыки из пасти леопарда
рви, / В прах обрати земные существа / И феникса сожги в его
крови». Трудно подумать, что у Шекспира эти строчки еще
энергичнее: «Прожорливое время, заставь землю пожрать собственных
милых чад...» Маршак после двух напряженных строчек дает
читателю передохнуть на ослабленной; у Шекспира напряженность
непрерывна. Мало того: у Шекспира время совершает все свои
губительные действия буквально на лету — весь сонет пронизан
словами, выражающими стремительное движение времени: thou
fleets, swift-footed, long-lived, fading, succeeding, old, young. У
Маршака эти слова, все до одного, опущены, и картина разом
становится спокойнее, важнее и уравновешеннее.
Сонет 81: «Тебе ль меня придется хоронить / Иль мне тебя, - не
знаю, друг мой милый»; у Шекспира вместо этого мирного
равенства в смерти — драматическая антитеза: «Я ли переживу тебя, чтобы
сложить тебе эпитафию, ты ли останешься жить, когда я буду гнить
в земле» (when I in earth am rotten...). И антитеза повторяется в
восьми строчках четыре раза: Or I — or you; your memory — in me each part;
your name - though I; и, наконец, the earth can yield me but a common
grave — when you entombed in men's eyes shall lie. Маршак сохраняет
только два последних повторения, но и в них эту антитезу он
ослабляет. Ослабляет он ее вот каким образом. В шекспировской
последовательности антитез поэт о себе говорит все время одинаково -
«я», а о своем друге каждый раз по-новому: «ты», «память о тебе»,
«твое имя», «(твой образ) в глазах потомков»; тем самым, с каждым
разом образ друга становится все более бесплотным и потому
бессмертным, а от этого еще острее его контраст с образом поэта,
который будет «гнить в земле». У Маршака нет ни этого нарастания
бестелесности с одной стороны, ни, конечно, этого «гниения» с другой.
Сонет 29. Здесь тоже перед нами ослабление антитезы, но не
образной, а композиционной. «В раздоре с миром и судьбой» мне
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 615
тяжело и горько - но стоит мне вспомнить о тебе, и «моя душа
несется в вышину». У Шекспира эти две части строго разграничены:
ст. 1-9 - мрак, ст. 10—12 — свет. У Маршака эти две части
переплетаются, захлестывают друг друга крайними стихами: ст. 1—8 -
мрак, ст. 9 - свет, ст. 10 - мрак, ст. 11-12 - свет. Переход от
мрака к свету становится более постепенным и плавным. К тому же
у Маршака и мрак не столь мрачен, и свет не столь светел. В
скорби герой Шекспира страдает от изгнанничества (outcast state),
от зависти к другим, от недовольства собой (myself almost
despising); у Маршака первый мотив стал более расплывчат и
отодвинулся в прошлое («годы, полные невзгод»), второй ослабился (из
пяти поводов к зависти выпали два: featured like him и that man's
scope), третий совсем исчез. А картина радости у Маршака
омрачена напоминаниями «я малодушье жалкое кляну» и «вопреки
судьбе», — у Шекспира этих оговорок нет. Так и здесь
сглаживаются контрасты, смягчается напряженность и драматический тон
оригинала становится спокойным и ровным.
Маршак настолько последователен в смягчении Шекспира,
что, когда он передает шекспировский образ не смягченно, а
точно, этот образ кажется выпадающим из общего стиля перевода.
Сонет 98 начинается так:
Нас разлучил апрель цветущий, бурный.
Все оживил он веяньем своим.
В ночи звезда тяжелая Сатурна
Смеялась и плясала вместе с ним.
Это прекрасные стихи, и это настоящий Шекспир, но в книге
Маршака это четверостишие кажется инородным телом.
2. Вместо конкретного — абстрактное. Это, как легко понять,
родственно уже описанной противоположности
«напряженность - мягкость»: конкретный образ всегда эффектнее,
напряженнее, чем отвлеченный.
а) Мы наблюдали эту особенность прежде всего там, где
Маршак устранял слишком яркий (слишком безвкусный для него)
блеск шекспировских драгоценностей: golden face, all triumphant
splendour. Этого принципа он придерживается систематически.
В сонете 27 («Трудами изнурен, хочу уснуть...») Шекспир
говорит, что тень возлюбленной, like a jewel hung in ghastly night, makes
black night beauteous, - Маршак переводит: «и кажется
великолепной тьма, когда в нее ты входишь светлой тенью». Вместо ренес-
сансного блеска драгоценного камня — романтическая «светлая
тень». Сонет 55 у Маршака начинается: «Замшелый мрамор
царственных могил...»; у Шекспира нет «замшелого мрамора», у него
616
Познание и перевод. Опыты философии языка
есть «мрамор и позолоченные памятники владык» (gilded
monuments). Снова вместо ренессансного образа - романтический,
с замшелыми руинами. В сонете 65 (знаменитое «Уж если медь,
гранит, земля и море...») у Шекспира опять появляется jewel,
и опять он исчезает у Маршака: «Where, alack, shall Time's best
jewel from Time's chest lie hid?» — «Где, какое для красоты убежище
найти?» В сонете 21 («Не соревнуюсь я с творцами од...»)
Шекспир говорит, что его возлюбленная прекрасна как смертная
женщина, «а не как эти золотые свечи в воздухе небес» (gold candles
fixed in heaven's air); Маршак переводит: «а не как солнце или
месяц ясный». Снова изгнана роскошь Возрождения, а ее место
неожиданно занимает образ русского фольклора, к счастью
достаточно стертый.
б) Но эта борьба с чрезмерной (для современного вкуса)
конкретностью образов не ограничивается областью ювелирного дела.
Каждый слишком вещественный, слишком картинный образ
грозит отвлечь внимание читателя от «главного», и поэтому каждый
такой образ по мере возможности затушевывается переводчиком.
Мы уже видели, как в сонете 81 Маршак обходит сложную
метафору: entombed in men's eyes. Мы уже касались сонета 55 - там
не только «позолота» заменена «замшелостью», там еще и
выброшен образ «Марса с его мечом»: мифология в наши дни вышла из
моды. В сонете 60 («Как движется к земле морской прибой...»)
у Шекспира неистовствует олицетворенное Время: оно «отбирает
им же данные дары, пронзает цвет юности, пропахивает борозды
на челе красоты, пожирает все лучшее в природе, и ничто не
устоит против его косы». У Маршака от этого остается только
спокойное: «Резец годов у жизни на челе / За полосой проводит полосу. /
Все лучшее, что дышит на земле, /Ложится под разящую косу», -
вместо пяти картин две, вместо одного подлежащего (Время!) на
четыре сказуемых — два подлежащих на два сказуемых (вспомним
ту же тонкость в переводе сонета 33). В сонете 137 (это сонет,
который в энергичном подлиннике начинается: «Thou blind fool,
Love...», а в степенном переводе: «Любовь слепа...») Маршак
прекрасно передает сложный шекспировский образ: «И если взгляды
сердце завели / И якорь бросили в такие воды, / Где многие
проходят корабли...» - но следующий образ для него уже чрезмерен,
и Маршак кратко заканчивает: «...зачем ему ты не даешь
свободы?» - между тем как Шекспир безудержно продолжает: «зачем из
лживости своих взглядов ты сковала крючья (forged hooks), к
которым причален выбор моего сердца?» В сонете 128 возлюбленная
поэта развлекается музыкой, и Шекспир завидует «этим
клавишам, которые проворно подскакивают, чтобы поцеловать твою
нежную руку, а мои губы, вместо того чтобы самим пожинать эту
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 617
жатву, праздно краснеют за бесстыдство этих деревяшек».
Маршак выбрасывает «жатву», выбрасывает изощренный образ губ,
краснеющих от стыда, и - самое главное - клавиши у него
вообще не оживают, не бесстыдничают и не отвлекают внимания
читателя от образа музицирующей дамы: «Обидно мне, что ласки
нежных рук / Ты отдаешь танцующим ладам... / А не моим томящимся
устам».
в) Другого рода конкретность исчезает, например, в сонете 77
(«Седины ваши зеркало покажет...»). Это сонет, написанный на
записной книге, которую поэт дарит другу; у Шекспира он весь
написан во втором лице: «ты», «тебе», «твое», — 18 раз повторяется
это thou и его производные. У Маршака - ни разу: вместо
обращения к живому другу у него — отвлеченное раздумье обо всем
человечестве, вместо «морщины, которые правдиво покажет твое
зеркало, напомнят тебе о прожорливых могилах» он пишет: «По
черточкам морщин в стекле правдивом / Мы все ведем своим
утратам счет...» («прожорливые могилы» тоже выпали, но к этому мы
уже привыкли). Такое превращение личной ситуации в безличную
у Маршака - обычный прием: когда он переводит (сонет 34):
«Блистательный мне был обещан день, / И без плаща я свой покинул
дом», - это значит, что в подлиннике было: «Зачем ты обещала мне
блистательный день / И заставила меня пуститься в путь без
плаща?..» Особенно часто это в начальных сонетах, где Шекспир так
страстно твердит другу: «твое одиночество пагубно», «твоя красота
увянет», «ты умрешь»; но друг давно умер, а сонеты остались, и
поэтому Маршак последовательно переводит: «всякое одиночество
пагубно», «людская красота увядает», «все мы смертны»...
Не надо думать, будто все дело в том, что Маршак просто
больше любит абстрактные выражения, чем конкретные. Совсем
нетрудно найти примеры и противоположные, такие, где у
Шекспира - отвлеченное суждение, а у Маршака — конкретный образ.
Но каковы эти примеры? У Шекспира сонет 74 кончается
словами: «The worth ofthat is that which it contains, and that is this, and this
with thee remains». Здесь that = my life, this = my verse, и весь
эффект двустишия — в изысканной игре этими that и this. Для
читателей Маршака эта игра чересчур тонка и сложна, и Маршак
решительно вводит конкретный образ: «Ей <смерти> — черепки
разбитого ковша, тебе — мое вино, моя душа». Или другой пример.
Сонет 23 кончается так: «О, learn to read what silent love hath writ: to
hear with eyes belongs to love's fine wit». Последний стих —
сентенция, которая могла бы прозвучать в «Бесплодных усилиях любви».
Именно поэтому Маршак ее меняет: «Прочтешь ли ты слова
любви немой? / Услышишь ли глазами голос мой?» Вместо
общезначимой констатации — живой вопрос к живому человеку; это для
618
Познание и перевод. Опыты философии языка
того, чтобы эмоциональный взлет хоть сколько-нибудь оправдал
перед нынешним читателем изысканную метафору «слышать
глазами». Иными словами, Маршак борется не за абстрактные
образы против конкретных, он борется против слишком абстрактных
и слишком конкретных - за золотую середину, за
уравновешенность и меру во всем.
Любопытно, что когда Маршак вводит от себя конкретный
образ, то конкретность его обычно иллюзорна. Мы читаем в
переводе 65 сонета: «Как, маятник остановив рукою, / Цвет времени от
времени спасти?..» — и вряд ли кто из нас представляет себе
настоящий маятник и задерживающую его руку. А если бы кто это
представил, то, наверное, он бы задумался и припомнил, что при
Шекспире маятников не было: первые часы с маятником были
построены Гюйгенсом через сорок лет после смерти Шекспира.
В подлиннике, конечно, стояло: «чья мощная рука удержит
стремительную ногу времени» и т. д.
г) Образы, почерпнутые из области политики, экономики,
юриспруденции, военного дела и пр. В поэзии Возрождения, как
известно, это был излюбленный художественный прием:
творческое сознание, упиваясь широтой и богатством распахнувшегося
перед человеком мира, радостно увлекалось каждым аспектом
человеческой жизни и деятельности, эстетически утверждая его
в искусстве. Любовь, основная лирическая тема, изображалась
и как отношения повелителя и подданного, и как отношения
заимодавца и должника, и как судебный процесс, и как военная
кампания. Шекспир разделял это увлечение со всеми своими
современниками. Кажется, нет ни одной статьи о сонетах
Шекспира, где бы не подчеркивалось обилие в них подобных жизненных
реалий. Маршак, разумеется, в меру необходимости их передает.
Без «хозяйственных» образов сделок и растрат не мог бы
существовать 4-й сонет, без «политических» образов данника и посла -
26-й сонет, без аллегории суда — 46-й сонет, без аллегории
живописи - 24-й сонет. Но там, где подобные мотивы образуют не ядро
сонета, а его образную периферию, где они являются не
структурными, а орнаментальными, - там Маршак при первой
возможности старается избавиться от них или упростить их: они для него
слишком конкретны.
Мы видели, как Маршак устранил из сонета 7 феодальные
понятия homage и serving, заменяя их «приветом» и «встречей». То же
самое он делает и в сонете 94: из «They are the lords and owners of
their faces, / Others but stewards of their excellence» получается
расплывчатое «Ему дано величьем обладать, а чтить величье
призваны другие». То же и в сонете 37: «beauty, birth... entitled in thy parts
do crowned sit» — «едва ль не каждая твоя черта передается мне
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 619
с твоей любовью». В сонете 141 Шекспир называет свое сердце
«thy proud heart's slave and vassal», — Маршак сохраняет
привычного «раба» и вычеркивает «вассала» (хотя в другом месте для
«вассала» у него есть отличное слово «данник»). А в сонетах 64, 124, 154
у него выпадает и «раб», в сонетах 28, 31,109 — «царствовать», в
сонетах 57, 126, 153 — «державный» (sovereign).
С понятиями экономическими происходит то же самое.
Шекспир пишет: «мысли, арендаторы сердца» (сонет 46), «природа —
банкрот, у которого нет иной казны» (сонет 67), «какую
компенсацию дашь ты, муза, за то, что...» (сонет 101); «любовь,
подлежащая отдаче, как недолгая аренда» (сонет 107), «ты обирала чужие
постели, урезывая поступления в их приход» (сонет 42). Все эти
tenants, bankrupt, exchequer, amends, forfeit to a confined doom,
revenues of their rents у Маршака начисто отсутствуют. Правда, в
сонете 126 он сохраняет образ «предъявит счет и даст тебе расчет»,
но у Шекспира этот образ выражен терминами гораздо более
специальными, quietus и audit. Не приходится и говорить о том, что
метафорические упоминания «богатства» или «убытка»
(например, «Память о твоей нежной любви для меня такое богатство» -
в уже разбиравшемся сонете 29; ср. сонеты 13,18, 28, 30, 34,67, 77,
88, 119, 141) удаляются из перевода Маршака так же
последовательно, как и метафорические упоминания о царской власти.
С понятиями юридическими — то же самое. В сонете 46 у
Шекспира мысли собираются на суд присяжных (a quest impaneled),
заслушивают истца и ответчика, который отвергает иск (the
defendant doth the plea deny), и выносят официальное решение (verdict)
о разделении собственности между взглядом и сердцем (the clear
eye's moiety and the dear heart's part). У Маршака от этого остается
только - «собрались мысли за столом суда»; вместо тяжбы у него -
«спор», вместо раздела — «примирить решили», защитника и иска
нет вовсе, - судебное разбирательство превращается в
полюбовное улаживание домашней ссоры. В сонете 87 Шекспир
рассуждает: «Ты слишком дорога, чтобы я мог обладать тобой... цена твоя,
записанная в договоре (the charter of thy worth), возвращает тебе
свободу; сроки моих долговых обязательств истекли...» и т.д.
Маршак переводит: «Мне не по средствам то, чем я владею, и я
залог покорно отдаю». Получается юридическая нелепость: герой
владеет и ценностью (возлюбленной), и залогом, под который он
ее получил. В шекспировской точной терминологии это было бы
немыслимо. Нет нужды разбирать сонет до конца: юридические
термины здесь в каждой строке, и переводятся они всюду
одинаково неопределенно и приблизительно.
С понятиями военного дела — то же самое. Сонет 2: у
Шекспира — «когда сорок зим поведут осаду твоего чела и пророют глубо-
620
Познание и перевод. Опыты философии языка
кие траншеи через поле твоей красоты...»; у Маршака - «когда
твое чело избороздят / Глубокими следами сорок зим...»; сонет
154: у Шекспира «легионы сердец», у Маршака - «девы»; у
Шекспира «полководец жаркой страсти» (Амур), у Маршака —
«дремлющий бог». Более мелких случаев не приводим.
Образов религиозных у гуманиста Шекспира мало. Но у
Маршака их еще меньше. В сонете 29 с его контрастом мрака и света
мрак подчеркнут у Шекспира упоминанием мольбы к «глухим
небесам», а свет — гимном души «у врат небес» (deaf heaven, heaven's
gate); у Маршака в первом случае «небосвод», во втором -
«вышина», а «гимн» вообще отсутствует - напряженность антитезы
утрачивается. В сонете 146 тело названо «бренным жильем» души, ее
«излишком», ее «бременем», ее «служителем»; в переводе тело
уважительно именуется «имущество, добытое трудом» (?).
Любопытно, однако, что как Маршак ослабляет черты
религиозности у Шекспира, так же точно ослабляет он и черты того
культа человеческой любви и красоты, который столь характерен для
Возрождения. В только что рассмотренном «юридическом»
сонете 87 Шекспир всюду говорит: «я владею тобой», «ты вручила мне
себя» и т. д.; Маршак смягчает: «пользуюсь любовью», «дарила
ты» любовь и т. д. В сонете 106 («Когда читаю в свитке мертвых
лет...») Шекспир говорит: «of sweet beauty's best - of hand, of foot,
of lip, of eye, of brow»; Маршак переводит: «глаза, улыбка, волосы
и брови»; «руку» и «ногу» он предпочитает опустить (а «улыбку»
добавляет от себя). Его идеал красоты - более духовный. Ренес-
сансный культ тела для него — такая же крайность, как и
средневековый «гимн души у врат небес»; а крайности нет места в его
уравновешенной поэтической системе.
3. Вместо логического — эмоциональное. Мы видели в начале
этой статьи, что в сонете 7 Маршак заменил концовку
повествовательную («так и с тобой будет то-то, если ты не сделаешь то-
то») концовкой восклицательной («Оставь же сына... Он встретит
солнце!..»). Мы видели потом, как в сонете 23 появлялись
риторические вопросы, чтобы оправдать эмоцией изысканную
метафору: «Услышишь ли глазами голос мой?» Все это -
излюбленные средства Маршака-переводчика. Шекспир, как человек
Возрождения, радуется новооткрытой мощи разума и
развлекается тем, что всякую мысль и всякий образный ряд строит с
неуязвимой логической связностью: «если - то», «так как — стало
быть», «тот — который». Современному читателю это должно, по-
видимому, казаться искусственным и вычурным, и Маршак идет
ему навстречу: всюду, где можно, он старается заменять
подчиненные предложения — сочиненными, а эффект мысли —
эффектом чувства. Приводить примеры здесь было бы слишком долго
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 621
и громоздко. Так, Шекспир пишет: «Подобна смерти эта моя
мысль, которая может только плакать о том, что в ее руках — то,
что она боится потерять» (сонет 64); Маршак переводит: «А это -
смерть!.. Печален мой удел. Каким я хрупким счастьем овладел!»
Если доставить себе труд подсчитать, сколько раз Маршак
заменяет в конце сонета точку восклицанием и наоборот, то
окажется: эмоциональное восклицание появляется в четыре с лишним
раза чаще.
Но пожалуй, главное даже не это. Главное - это та лексика,
которую Маршак вводит в свои переводы «от себя», на место
выброшенных им слов и образов. В только что цитированном сонете мы
прочли: «Печален мой удел!» В сонете 33, с которого мы
начинали, мы читали: «Не ропщу я на печальный жребий». Там же был
«нежный свет любви», там же была «туча хмурая, слепая». Сонет
81 открывался словами: «Тебе ль меня придется хоронить / Иль
мне тебя, - не знаю, друг мой милый»; этот «друг мой милый» -
добавление переводчика. В сонете 128 — 0 музицирующей
возлюбленной - герой Маршака мечтает стать клавишами, чтобы
затрепетать под пальцами, «когда ты струн коснешься в забытьи»;
у Шекспира нет ни романтического «забытья», ни романтических
«струн», - струн здесь и не может быть, потому что инструмент,
на котором играет дама, клавишный.
Мы обращаем внимание не на количество таких добавлений —
в стихотворном переводе они всегда неизбежны, и при
пристальном рассмотрении их всегда больше, чем на первый взгляд. Мы
обращаем внимание на характер этих добавлений — на то, что все
они принадлежат к эмоциональной лексике русской
романтической поэзии пушкинского времени. Это, так сказать, тот общий
стилистический знаменатель, к которому Маршак приводит все
элементы своего перевода. Мы составили довольно большой
список романтических добавлений Маршака к Шекспиру.
Стилистическое единство их поразительно. Вот некоторые из них
(перечисляются, конечно, только те обороты, которые не имеют
в подлиннике никакого соответствия или имеют очень
отдаленное): увяданье (сонет 1), аромат цветущих роз (5), седая зима (6),
непонятная тоска (8; у Шекспира просто sadly), тайная причина
муки (8), грозный рок (9), вянет, седые снопы, красота отцвела
(12), увяданье, весна, юность в цвету (15), светлый лик (18),
сердце охладело, печать на устах (23), томит тоскою, грустя в разлуке
(28), у камня гробового (31), певец (32), нежно, кроткий (34),
увядая, благодать (37), туманно (43), вольные стихии, тоскую (45),
мечта (47), тайна сердца моего (48), уныло, душа родная, с тоскою
глядя вдаль (50), трепетная радость (52), замшелый (55), весна
(56), горькая разлука (57), жду в тоске (58), ошибка роковая (62),
622
Познание и перевод. Опыты философии языка
отрада (64), роза алая, светлый облик (65), весенний (68), роза
(69), весна (70), рука остывшая, туманить нежный цвет очей
любимых, тоска (71), седины (77), приносит дар (79), вольный океан
(80), земной прах (81), молчания печать (83), певец (85), жертва
(88), отрада (90), печальный жребий... блажен (92), дарует, розы
(94), сад весенний (99), зимы седые (104), поэт (106), привет (108),
приют, дарованный судьбой (109), приют (НО), розы (116),
преступленья вольности (117), печаль и томленье (120), томящиеся
уста (128), сон, растаявший, как дым (129), фиалки нежный
лепесток, особенный свет (130), томленье, в воображеньи (131), седой
ранний восток, взор, прекрасный и прощальный (132), прихоть
измен, томиться (133), вольный океан (135), приют (136), терзаясь
(143), мой приговор - ресниц твоих движенье (149). Этот список
можно было бы очень сильно расширить. Разумеется, называть
эту лексику «романтической» мы можем только по интуитивному
ощущению: настоящий словарь русского поэтического языка
первой трети XIX века никем пока не составлен. Но думается, что
яркость этих примеров и без того достаточна. Здесь есть и туман,
и даль, и романтические розы, а «душа родная» выглядит прямой
реминисценцией из Владимира Ленского.
Поэтика русского романтизма пушкинской поры, лексика
Жуковского и молодого Пушкина, стиль достаточно
эмоциональный, чтобы волновать и нынешнего читателя, и в то же время
достаточно традиционный, чтобы ощущаться классически
величавым и важным, - вот основа, на которой сложилась
переводческая манера Маршака. Вот чем определяются те границы его
образной системы, за пределы которых он с таким искусством
избегает выходить. Вот почему столь многое, характерное для
Шекспира и Возрождения, оказывается в его переводе опущенным,
затушеванным или переработанным. Пора переходить к выводам.
Меньше всего мы хотели бы, чтобы создалось впечатление,
будто цель этой статьи - осудить переводы Маршака.
Победителей не судят; а Маршак был бесспорным победителем -
победителем в двойной борьбе всякого переводчика: с заданием оригинала
и с возможностями своего языка и литературной традиции. Таков
приговор читателей и критики, и обжалованию он пока не
подлежит. Да и нелепо было бы делить средства переводчика на
дозволенные и недозволенные или требовать, чтобы он точно
воспроизводил образ ради образа: достоинства перевода меряются не
этим.
Для чего же была написан этот текст?
Во-первых, хотелось указать на следующее. Сонеты Шекспира
в подлиннике читают у нас сотни любителей, но сонеты
Маршака - миллионы. Если эти миллионы будут составлять свое пред-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 623
ставление о стиле Шекспира по стилю Маршака, они окажутся
в затруднении. Спокойный, величественный, уравновешенный
и мудрый поэт русских сонетов отличается от неистового,
неистощимого, блистательного и страстного поэта английских сонетов.
Английский Шекспир писал сонеты для друга и дамы, русский
Шекспир — для нас и вечности. Это не отрицание заслуг
Маршака. Переводы Жуковского из Шиллера — тоже драгоценность в
сокровищнице русской поэзии. Но никто никогда не будет судить об
идеологии Шиллера по переводам, куда Жуковский от себя
вписывал строчки: «И смертный пред Богом смирись» или
«Смертный, силе, нас гнетущей, покоряйся и терпи». Об
идеологии Шекспира по переводам Маршака судить можно, но о стиле
Шекспира - никогда. Сонеты Шекспира в переводах Маршака -
это перевод не только с языка на язык, но и со стиля на стиль.
Читатель об этом должен быть предупрежден.
Во-вторых, чтобы призвать внимательнее исследовать технику
Маршака-переводчика. Именно исследовать, а не отвлеченно
восторгаться ею. Победителей не судят, но искусству победы у них
учатся. Переводы Маршака могут нравиться или не нравиться, но
учиться у них есть чему. И прежде всего редкому умению подобрать,
организовать, подчинить единой цели все бесчисленные образные
и стилистические мелочи перевода — умению, многочисленные
примеры которого мы приводили выше. Это мастерство станет еще
очевиднее, если сравнить работу Маршака с работой прежних
переводчиков - Н. Холодковского, В. Мазуркевича, Ив. Мамуны или
Эспера Ухтомского. Не надо думать, что они менее точны: если
подсчитать поштучно отклонения от оригинала у них и у Маршака,
то разница будет не так уж велика. Старые переводы были плохи не
неточностью, а бесстильностью: там можно в одной строчке найти
точнейшую передачу ярчайшего шекспировского образа, а в
следующей - самый стертый и банальный поэтический штамп из
арсенала надсоновского безвременья. Маршак стушует шекспировскую
яркость, но никогда не допустит надсоновской тусклости; мало
того, если он взял за образец романтическую лексику Жуковского,
можно быть уверенным, что в нее не проскользнет ни слова из
романтической лексики, скажем, Лермонтова: для чуткого слуха это
уже будет диссонанс. Вот этой стилистической чуткости и должен
учиться у Маршака всякий переводчик.
И наконец, в-третьих, чтобы напомнить: нет переводов вообще
хороших и вообще плохих, нет идеальных, нет канонических.
Ни один перевод не передает подлинника полностью: каждый
переводчик выбирает в оригинале только главное, подчиняет ему
второстепенное, опускает или заменяет третьестепенное. Что
именно он считает главным и что третьестепенным — это подска-
624
Познание и перевод. Опыты философии языка
зывает ему его собственный вкус, вкус его литературной школы,
вкус его исторический эпохи.
Собственный вкус Маршака — это сдержанность, точность,
ясность, мягкость, это поиск внутренней глубины и отвращение
к внешнему эффекту и блеску. Достаточно перечитать
литературные статьи и заметки Маршака, чтобы в этом не осталось никаких
сомнений. Литературная школа Маршака - это тот большой поэт,
который в годы молодости Маршака едва ли не один стоял в
стороне от бурных экспериментов русского модернизма, как строгий
хранитель заветов высокой лирической классики: Иван Бунин.
Маршак учился на классике, но классику он воспринял через
Бунина, а не через Брюсова. «Бунин и Маршак» - тема, до сих пор
даже не поставленная в нашем литературоведении, и, конечно,
не в этой заметке ставить ее в полный рост, но будущему
исследователю стихи Бунина еще многое откроют в раннем
Маршаке-поэте, а переводы Бунина — в зрелом Маршаке-переводчике.
Наконец, эпоха Маршака — это время, когда схлынула волна
литературных экспериментов, начавшая свой разбег с началом
века, когда у нового общества явилась потребность в новой,
советской поэтической классике, когда величественная законченность
и уравновешенность, поддержанная высокими традициями
прошлого, стала признаком литературного стиля эпохи. В 20-х годах
Маршака не замечали, в 30-х о нем стали говорить: «Именно так
надо писать для детей», в 40-х уже никто не сомневался, что
именно так надо писать решительно для всех. В 40-е годы и явились
перед читателем сонеты Шекспира в переводах Маршака. О вкусе
эпохи Шекспира по ним судить нельзя, но о вкусе эпохи
Маршака по ним судить можно и полезно.
Времена меняются, вкусы борются, эстетические идеалы
колеблются; наступит пора, когда новое поколение захочет увидеть нового
Шекспира, в котором главным будет то, что Маршак считал
третьестепенным. И пусть этому поколению посчастливится найти
переводчика, который создаст ему нового Шекспира с таким же
мастерством, с каким Маршак создал того Шекспира, которого знаем мы.
P.S. В качестве заключительного пояснения отмечу, что имя
Маршака в те годы, когда писалась эта статья, было окружено
пиететом, за его переводами Сонетов была слава «русского
Шекспира», а потому эта статья была воспринята как иконоборческая,
что вытолкнуло меня из рядов филологов, а М. Гаспарова лишило
участия в подготовке готовящегося тогда Собрания сочинений
Маршака и на целую четверть века закрыло для него возможность
опубликовать свои исследования эволюции собственного
творчества Маршака. В своем постскриптуме к одной из публикаций
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 625
этой статьи Гаспаров отмечает «В советское время была
выдвинута программа "реалистического перевода": переводить нужно не
литературные произведения, а ту действительность, которую
отражали эти произведения. Эту программу сформулировал
И. Кашкин, а наилучшим образом воплотил (еще до Кашкина)
Б. Пастернак, когда "от перевода слов и метафор... обратился
к переводу мыслей и сцен" (предисловие к переводу "Гамлета").
Совершенно то же делал и Маршак, хотя "мысли и сцены"
шекспировских сонетов выглядели для него совсем иначе, чем для
Пастернака»1. К чему это привело в данном случае — мы видели.
Изучение переводческих принципов и их смены в одной культуре
и в нескольких культурах может стать важной темой будущих
исследований. Пока же отметим лишь одно: перевод, а также анализ
перевода — могут быть делом взрывоопасным, тем более если речь
идет о повышенно значимых, «отмеченных» текстах своей или
мировой культуры. Шекспир, конечно, в их числе.
§ 4. Контексты непереводимостей и перевод
На фоне разных культур и разных традиций перевод выступает
в современном мире как глобальное явление, усиленное действием
других глобальных факторов — геополитических, экономических,
демографических и др. Здесь я постараюсь очертить два
«объемлющих» подхода к переводу, условно говоря — североамериканский
и европейский; они будут представлены на материале концепций,
сделавших эпоху не только в своих странах, но и в мировом
сообществе исследователей перевода. С одной стороны, это
американский бестселлер - книга Эмили Эптер «Зона перевода», вышедшая
в 2006 году в Принстоне2, с другой — фундаментальный «Словарь
непереводимостей», созданный на материале европейских
философий и вышедший в Париже в 2004 году под редакцией Барбары
Кассен3. Разумеется, эти примеры неравновесны: в первом случае
перед нами индивидуальная монография, во втором — результат
десятилетней работы большого авторского коллектива. Однако
в обеих книгах, посвященных переводу, четко прочитываются те
общие тенденции, которые нам важно здесь осмыслить. Сразу
замечу, что протагонисты обеих исследовательских инициатив —
«филологи», но с одной важной оговоркой: Эмили Эптер, профес-
1 Гаспаров М.Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997. С. 120.
2 Apter Ε. The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton and
Oxford, 2006.
3 Le Vocabulaire européen des philosophies. Dictionnaire des intraduisibles / Sous la
dir. de B. Cassin. Paris, 2004.
626
Познание и перевод. Опыты философии языка
сор на кафедре французского языка и сравнительной литературы
в Принстоне, не является профессиональной переводчицей, а
Барбара Кассен, филолог-классик и философ, работающий в
Национальном центре научных исследований в Париже (а теперь
и в культурно-лингвистической комиссии в Брюсселе), является
переводчицей и исследователем (российскому читателю она
известна как специалист по досократикам1). Таким образом, различие
между исследовательскими компетенциями достаточно велико,
однако нам это скорее на пользу. Так как обе концепции
российскому читателю не известны, они заслуживают более или менее
подробного аналитического описания.
Глобальный английский в «зоне перевода»
Книга Эмили Эптер собирает воедино те разнородные, но
имеющие отношение к переводу, болевые импульсы, которые
переживает автор как представитель своей культуры. Заглавие этой
книги, получившей известность не только в Америке,
провокативно — «Зона перевода». Откуда оно? Это намек на
стихотворение Гийома Аполлинера («Зона» 1912), посвященное конкретной
«психогеографической» территории, — парижскому пригороду,
где живут мигранты, маргиналы, богема... Так что «зона» здесь -
метафора: зонирование предполагает разного рода разграничения
(например, между центром и периферией), промежутки между
территориями (ср. «санитарный кордон»), различного рода
вкрапления, анклавы (и в этом смысле зоной можно считать, например,
существование какого-либо языка в диаспоре)2. Провокативно
эклектичны и 20 тезисов о переводе, предваряющих книгу в
качестве своеобразного эпиграфа. Их скрепляет лишь антитеза между
первым, отрицательным тезисом («ничто не переводится») и
заключительным положительным тезисом («все переводится»),
однако при этом никакого реального или логического продвижения
от начала к финалу не наблюдается. Этот эпиграф заслуживает
того, чтобы привести здесь его целиком:
«Ничто не переводится; глобальный перевод есть лишь иное
название сравнительной литературы; сфера гуманистического
1 Кассен Б. Эффект софистики / Пер. с франц. А. Россиуса. М.-СПб., 2000. Это
книга об «учителях Греции» «досократиках», софистах, о сложностях соотношения
философии, риторики и софистики, о борьбе этического законодательства с
эстетическим в построении «эффектов значения». Автор строит не историческую
историю философии, а проблемную, исследуя моменты вхождения в «резонанс»
древних и современных мыслителей.
2 В расширенном смысле слова «зоной перевода», уточняет автор, являются
«эпистемологические промежутки между сферами политики, поэтики, логики, ки-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 627
перевода (лат. translatio) — это критический секуляризм1;
перевод - это зона войны; вопреки мнению военных стратегов США,
арабский язык переводим; перевод — это petit métier2,
переводчики - это пролетариат литературы; смешанные языки3
противостоят империи глобального английского; перевод это - Эдипово
нападение на родной4 язык; перевод — это травматическая потеря
своего собственного языка5; перевод — это многоязычный и
постмедиальный экспрессионизм6; перевод это Вавилон, это
всеобщий язык, который никому не понятен; перевод - это язык
планет и чудовищ; перевод — это технология; смешанные языки
перевода (translationese) — это общие языки глобальных рынков;
перевод - это всеобщий язык техники; перевод - это механизм
обратной связи; перевод способен превратить природу в
информацию; перевод — это интерфейс между языком и генами;
перевод — это системный объект; все переводимо»7.
Однако из этого нарочито хаотичного перечисления можно
вычленить ряд сквозных тем — это тема войны, тема т. н. «смешанных
бернетики, лингвистики, генетики, медиа, экологии; ее динамику можно
охарактеризовать и через психологический трансфер, и через технологическую передачу
информации». ApterE. Р. 6.
1 Взгляд, согласно которому мораль и образование не должны носить
религиозный характер.
2 Скромная работа (φρ.).
3 Согласно Лингвистическому энциклопедическому словарю (М., 1990), речь
идет о языках «пиджин» или же «креольских» языках. Они возникли на английской
или испанской основе в Африке, Азии, Америке и Океании; на них говорят
25-30 млн. человек. В их основе лежит упрощение фонетической системы языка-
источника, упразднение словоизменения, морфологии и синтаксиса;
большинство таких языков имеют одноморфемную структуру слова. Как правило, это
бесписьменные или т. н. младописьменные языки. Языки «пиджин» возникают при
наличии и одновременно ограниченности контактов между носителями языков;
но уже в последующих поколениях пиджины превращаются в родные языки,
которые собственно и называются «креольскими». В словаре указывается, что термин
«смешанные языки» в российской лингвистической традиции, как правило,
не употребляется. Однако я сохраняю этот термин (mixed languages), так как автор
активно им пользуется.
4 В английском «родной язык» называется «материнским языком» (mother
tongue).
5 В оригинале native language.
6 Устойчиво повторяющийся в книге тезис об «универсальном
экспрессионизме» предполагает креативность, способность к творческому самовыражению
носителей любых языков - малых и «глобальных», канонических и креольских и пр.
7 Apter Ε. The Translation Zone. A New Comparative Literature. Princeton and
Oxford, 2006. P. XI-XII.
628
Познание и перевод. Опыты философии языка
языков», тема технологий перевода. Тема «война и перевод» имеет
свои теоретические, идеологические, психологические,
дипломатические аспекты. Под этой рубрикой в книге Эптер обсуждаются
языковые аспекты «обычных» войн, формы сопротивления
глобальным языкам (языкам бывших или нынешних угнетателей),
а также разные виды творческого оспаривания «смешанными»
языками глобальных языков и создаваемых на них произведений.
Различные формы осмысления этой темы не ограничиваются только
одним регионом. Подтолкнувшее к этим размышлениям знаковое
событие 11 сентября 2001 г. было уникально и вместе с тем
всеобще — как проявление нарастающих в мире общих тенденций
терроризма. Это чувство опасности в мире, полагает автор, обостряется
не только от прямых форм террора, но и, например, от постоянно
расширяющегося господства «глобального английского», который
поглощает другие языковые и культурные компетенции (недаром
в сентябре 2001 г. в США возникла паника из-за нехватки
арабистов, способных анализировать шифровки). А потому для нас
важно все, что ставит эту гегемонию под вопрос, что активно
противостоит ей. И прежде всего - это феномен «языковых войн»1. Формой
противостояния глобальному английскому становится изучение
его различных вариантов (Englishes) или, иначе говоря, всего
множества английских языков2. В центр внимания ставится при этом
опыт любых меньшинств, реабилитирующий их творческие
возможности, и соответственно — их способность к самовыражению,
наряду с творением собственных идентичностей. Эптер рассуждает
так: когда для той или иной категории населения недоступны
экономические, военные или научные поприща, главной сферой их
творчества становятся язык и литература - они обеспечивают
наиболее демократичную площадку, на которой возможно
соревнование с уже утвердившими себя языками и литературами, борьба за
внимание читателей и литературные рынки. На языке понятий
литературной теории эти явления можно было бы назвать «провинци-
ализацией литературного канона». В самом деле, когда языковая
изобретательность авторов, пишущих на креольских языках,
завоевывает успех у публики, воспитанной на каноническом
английском, это становится продуктивной формой такой провинциализа-
1 О языковых войнах русскоязычные читатели знают по своему собственному
недавнему опыту: обретение самостоятельности новыми государствами, ранее
входившими в состав СССР, сопровождалось провозглашением языка титульной нации
единственным государственным языком при решительном вытеснении русского.
2 Является ли американский английский английским или американским? Во
всяком случае, ремарка «перевод с американского» сразу указывает на проблему
или несколько проблем.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 629
ции. Впрочем, примеры активного многоязычия, отрицающего
канон, не обязательно искать у тех, кто пишет на креольских языках:
мы находим их у многих европейских и американских авторов от
Льюиса Кэррола и Джойса до современных.
Хотя тема переводчика как представителя угнетенного
сословия, «пролетария умственного труда» перечисляется среди
важнейших, она лишь эскизно намечается у Э. Эптер (в уже
упоминавшейся книге Лоренса Венути о «переводчике-невидимке» она
предстает весомее). Много внимания уделяется «смешанным
языкам» (пиджин, креольские). Этот своеобразный лингвокуль-
турный феномен рассматривается как средоточие разных
социальных процессов: речь здесь идет о малых языках в
противоположность глобальным, о «смешанных» языках в
противоположность «чистым», о языках бесписьменных или
младописьменных - в противоположность языкам с традициями литературного
письма, уходящими в глубь веков и др. Эптер напоминает, что
в нынешней экономической ситуации именно «смешанные
языки» обслуживают потребности глобальных рынков, объемлют
огромные геополитические пространства. Для того чтобы дать
этим языкам их культурный шанс, созданные на них
произведения нужно переводить на другие, в том числе «глобальные» языки,
хотя трудности такого перевода совершенно очевидны.
Таким образом, вырисовывается апория, или неразрешимое
противоречие. С одной стороны, в мире нарастает монолингвизм,
одноязычие (причем речь идет не только об английском,
но и о других глобальных языках, например об испанском), и это
безусловно ограничивает возможности самовыражения людей,
для которых эти языки не являются родными. С другой стороны,
нарастает тенденция к плюрализации действующих языков, к
сопротивлению глобальным языкам и их канонам, к литературному
творчеству на малых, цивилизационно не продвинутых языках.
Если мы, продвигаясь в своей теме, зададимся вопросом о том, где
же собственно находится «переводимость», а где —
«непереводимость», и решим, что переводимость сосредоточена на полюсе од-
ноязычия, а непереводимость — на полюсе многоязычия, то
скорее всего ошибемся. Для Эптер область глобального английского
(вопреки ожиданию) и есть область непереводимости. Напомним,
что переводят в мире в основном с английского, на английский же
переводится гораздо меньше, а то, что переводится, подвергается
обработке в соответствии с теми критериями понятности и
прозрачности, о которых нам уже говорил, например, Л. Венути.
Что же касается переводимости, то мы вряд ли обнаружим ее
там, где работают переводчики со «смешанных языков», уж кому-
кому, а им хватает сложнейших проблем с переводом. Судя по
630
Познание и перевод. Опыты философии языка
развернутому эпиграфу к книге, непереводимое для автора
сосредоточивается скорее в зоне политической и военной, а
переводимое — в зоне технической и технологической. Так, в царстве
политики, нацеленной на глобальное, царит непонимание локальных
проблем, глухота к специфическому. Напротив, в сфере цифровых
технологий, программирования и др. переводимость становится
по крайней мере более достижимой, нежели там, где всего этого
нет. При этом, вслед за Бернаром Стиглером и Сэмьюэлом Вебе-
ром1, автор возлагает надежды на так называемую «эпистемологию
умений», способную работать с любым материалом (так, ее
источниками могут быть деконструкция, прагматизм, теория систем,
теория информации, лингвистика, символическая логика,
программирование, искусственный интеллект, коммуникация,
эстетика, кибернетика, кино, телевидение, перформансы,
психоанализ, разнообразные интернет-технологии и многое другое),
осуществляя всеобщие превращения или переводы между
разными формами и видами передачи информации, знаний и умений.
Все эти потоки перечислений и разрозненных обломков
знаний кажутся совершенно хаотическими. Однако их так или иначе
организуют две главные идеи. Первую автор называет
«переводческим транснационализмом» (translational transnationalism: повтор
элемента «транс» в русском переводе теряется). «Переводческий
транснационализм» направлен против традиционного для
европейской культуры отождествления языка и нации. Национальное
и языковое, заявляет автор, неизоморфны: об этом свидетельствует,
в частности, существование языков, которые не определяют и не
именуют нации (например, каталанский2, баскский3, гэльский4
и др.), но питают интересную и многообразную литературу. Чтобы
прервать мысленную ассоциацию между нацией и языком, следует
опираться не на родство, но на соседство языковых сообществ5,
и уметь выводить из этого соседствования многообразные
культурные и этические следствия. В конце концов, нам важно все, что тес-
1 Ср. их статьи в сб.: The Ethics of Translation / Berman S., Wood M., eds. Princeton,
2005.
2 Один из романских языков, распространенный в Испании и Франции.
3 Один из двух официальных языков Страны басков, автономной провинции
Испании.
4 Диалект ирландского языка, распространенный в Северной Шотландии.
5 По признанию автора, эту идею «соседствования» она заимствовала из работ
Кеннета Райнхарда, посвященных Левинасу. Напомню, что еще в работах
1920- 1930-х годов Р. Якобсон развивал тезис о языковых союзах, возникающих по
принципу соседства, а не родства.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 631
нит гегемонию глобального английского и других мировых языков,
определяющих баланс сил в производстве мировой культуры. А
потому на повестку дня ставится предельное расширение
проблематики перевода и взаимоперевода: она должна побуждать и
поощрять переводы с креольских языков, межмедийный перевод,
изучение экспериментов литературных авангардов и пр.
Вторая идея получает название «транснационального
гуманизма» (transnational humanism). Его тоже не удается удовлетворительно
перевести на русский язык. Дело в том, что в английском цепочка
однокоренных слов связывает все те понятия, в которых
формулируется эта идея: (человеческое (human) — человечество
(humankind) - гуманизм (humanism) - гуманитарные науки
(humanities) — гуманитарная помощь (humanitarian aid) и др.); тем самым
смысловое единство «человека» и «гуманитарных наук» живо и
непосредственно воспринимается в самой языковой материи. По
мысли автора, этот исторический ряд терминов с основой «человек»
(human) служит своего рода историко-культурным опровержением
идеи субъекта и одновременно выражением новой «несубъектной»
формы гуманизма1. Отказываясь от ренессансного гуманизма с его
опорой на античность и от европейской филологии, воплощавшей
гуманистические идеалы в области познания языка, основы
«транснационального гуманизма» иные: это прежде всего «универсальный
экспрессионизм»2, который ставит во главу угла ценность любого
1 В частности, понятие «человеческого» (human) вводит в рассуждение то, чего
не может дать понятие субъекта (и прежде всего - это все поле биологической
жизни): с этим связывается один из главных путей концептуального обновления
гуманитарных наук.
2 Тезис об «универсальном экспрессионизме», по сути, не впервые возникает
в западной культуре. В европейской традиции идея экспрессионизма (правда, в
сочетании со скепсисом относительно возможностей перевода) была характерна для
такого яркого мыслителя, как Б. Кроче (ср.: Кроне Б. Эстетика как наука о
выражении и как общая лингвистика (1902). М., 2000. С. 75-81). Для нас здесь важно, что
у Кроче эта идея скептически оттеняет невозможность перевода, а у современной
американской исследовательницы, напротив, подчеркивает возможность
перевода. Кроче подчеркивает, что ничто в жизни не повторяется, что постоянному
изменению содержаний соответствует изменение выразительных форм, эстетических
синтезов впечатлений, а отсюда и невозможность перевода, уподобляемого
переливанию одного выражения в другое, перемещения его в сосуд с иной формой.
Подобия, которые все же обнаруживаются между отдельными индивидуальными
выражениями, нельзя зафиксировать в абстрактных характеристиках (посредством
идентификации, субординации, координации и др.): они состоят в том, что
называется «семейным сходством», и вытекает из общности исторических условий и
душевного родства художников. Тем не менее Кроче признает переводы
«относительно возможными»: они не могут воспроизвести оригинальные выражения,
но могут создать подобные или близкие выражения. Хороший перевод - это,
стало быть, приближение, обладающее ценностью подлинного художественного
произведения и имеющее самостоятельное значение.
632
Познание и перевод. Опыты философии языка
языкового самовыражения и творчества как наиболее трудно
отчуждаемых свойств отдельных людей и целых сообществ.
Дисциплина, которая претендует на охват всех этих новых
процессов, называется сравнительной литературой. В США, а теперь,
все шире, и в Европе, - это одна из важнейших дисциплин
современного гуманитарного цикла. Планетарный процесс
распространения текстов от языка к языку, многоязычные практики поэтов
и прозаиков в больших и малых литературах, развитие новых
языков маргинальными группами по всему свету - все это
свидетельствует о новом этапе «лингвистического постнационализма».
А потому новая сравнительная литература, считает Эптер, должна
поставить во главу угла работу перевода. Ведь проблематика
перевода в целом, по мнению автора, плодотворно соединяет
литературный и социальный анализ, а педагогика перевода, можно
надеяться, приведет в будущем к обновлению различных структур
социальных взаимодействий, в том числе структур дипломатии,
принужденной сталкиваться (но не умеющей взаимодействовать)
с культурным и социальным Другим. Выдвигая на первый план
работу перевода, сравнительная литература исходит из факта
лингвистического и культурного разнообразия, отказываясь при
этом от подходов, которые, вслед за Куайном или Гумбольдтом,
очерчивали вокруг каждого языка круг, за пределы которого
нельзя выйти. Поэтому она сближается с проблематикой перевода
в рамках «мультикультурализма» и «культурных исследований»
(cultural studies)1.
Каков, однако, эпистемический статус этой дисциплины?
Представляется, что целый ряд черт делают ее скорее
артистическим, художественным, нежели исследовательским
мероприятием. Акцент на маргиналиях, во многих смыслах полезный, не
может быть безусловным в исследовательской перспективе, так как
часть вне общего фона заведомо непонятна. Без учета этих
соотношений акцент на маргинальном неизбежно приводит к
фетишизации данных, к сакрализации наличного состояния языка или
диалекта, тем самым тормозя естественные изменения, происходящие
в каждом языке, и их изучение. Если считать новую сравнительную
литературу, как это имеет место, особой «постдисциплинарной»
практикой, включающей, наряду с литературой, и другие медиа -
в частности, кино и телевидение, можно ли по-прежнему называть
ее исследованием - ведь она не имеет никаких внятных критериев
сравнения, описания, анализа? Сравнительная литература ничего
1 Вместе с тем, в новой сравнительной литературе присутствует и борьба за
интеллектуальную территорию, за культурный капитал, а само слово «наследие»
(heritage) на перекрестке подходов пользуется большим идеологическим спросом.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 633
не выбирает и не предписывает: она считает возможным
пользоваться любыми подходами в разных пропорциях и смешениях1:
Недаром сокращенное название сравнительной литературы
(comparative literature) — comp-lit (отметим частичное созвучие с
complete - полный), а ее повсеместное, всеохватное распространение
обозначается термином comp-lit-ization. Она претендует на статус
инновационной платформы культурных и языковых практик,
претендующих на статус межнациональных исследований
нетрадиционного типа, а потому нам не безразлична судьба этой
дисциплины, быстро распространяющейся и в России.
Можно составить целый перечень тех натяжек, в результате
которых маргиналии предстают здесь как явления более
существенные, нежели «канон» (хотя без осознаваемого «канона» никакие
маргиналии не имеют ни смысла, ни облика). Если бороться против
изоморфизма нации и языка, взывая к примерам басков и цыган,
или же отвергать подобострастное отношение переводчика к
оригиналу, опираясь на те редчайшие случаи литературных
мистификаций, при которых оригинала, по сути, вообще не существует2,
то все выглядит как явные преувеличения. При этом критерии
традиционной филологии отвергаются представителями
сравнительной литературы как «квазинаучные»3, однако, спрашивается,
1 В Европе до сих пор существует определенная специализация философско-
лингвистических подходов к языку: так, отделения английского языка так и иначе
отождествляются с наследием эмпирико-аналитических подходов, с
прагматизмом, отделения немецкого языка - с теориями рецепции и дискурса,
французские - с деконструкцией (даже после того, как деконструкция мигрировала в
другие области). Характерная черта сравнительной литературы по-американски -
соединение исследований литературы с исследованиями культуры, убеждение
в репрессивном отношении современно общества к женщинам, меньшинствам,
людям с особыми сексуальными ориентациями, коренному населению Северной
Америки, выходцам из Азии в Северной Америке как особому социальному слою
и др. При этом требования политкорректности предполагают, что изучать
расовый, этнический, тендерный и др. аспекты культуры безусловно важнее и
безусловно предпочтительнее изучения «великих» литератур. Таким образом, если
новая критика некогда проводила четкие границы между литературой
и не-литературой и делала акцент на изучении литературного языка, то
сравнительная литература ныне отказывается от всех ранее выдвигавшихся приоритетов.
Такая упрощенная логика переворачивания существующих иерархий во многих
случаях приводит к примитивным, идеологизированным выводам.
2 Это, как правило, редкие случаи подделок, когда собственное творчество
выдавалось за переводы. Таковы, например знаменитые «Песни Оссиана» -
литературная мистификация Дж. Макферсона, который издал в качестве перевода
собственные сочинения, воспринятые как подлинные произведения легендарного воина
и барда кельтов.
3 Однако разве не навыки научной филологии дают Эдварду Сайду возможность
доказательно интерпретировать такие ныне распространенные слова и идеи, как
634
Познание и перевод. Опыты философии языка
приобретает ли сама «новая сравнительная литература» научный
статус? Или же это — вопрос, который она не хочет себе задать?
Как известно, в США именно представители сравнительной
литературы, а вовсе не философы, стали передаточным звеном в
рецепции французского структуралистского и
постструктуралистского наследия. Главные французские кумиры Э. Эптер - Делёз с его
идеей универсальности сингулярного и Деррида с его анализом
апорий перевода, которые развертываются не только между
языками, но и внутри языков. Что означает, например, статус франко-
магрибца, оторванного от своих еврейских и арабских корней,
но блестяще владеющего «неродным» французским? Это означает,
как выражался Деррида, что мой единственный язык — «не мой»;
что он лишает меня экзистенциальной опоры, хотя и открывает
передо мной огромное поле, в котором рассеивается и сохраняется
текстовое наследие. Представляется, что американская рецепция
Деррида в рамках сравнительной литературы далека от проработки
его сложных аналитик, да и проблематику перевода она подчас
повертывает своей идеологической стороной — всеобщим оборотни-
чеством, превращениями всего во все. Однако тот факт, что
сравнительная литература делает перевод своим девизом, говорит
о многом и, в частности, об очевидно возрастающей роли
переводческой проблематики на всем мировом культурном пространстве.
Перенесемся теперь на другую, европейскую сцену современных
размышлений о переводе. На ней разыгрываются разные сюжеты -
в частности, те, в которых традиции европейской филологии
применяются к современному материалу в нынешних
социально-политических условиях. Европа отнюдь не стремится упразднить свое
огромное языково-культурное разнообразие, более того, за
последнее время оно лишь нарастает — и вширь, и вглубь. Исследование
вширь показывает огромные области Европы, одушевленные
языковым и переводческим беспокойством как вопросом
государственной, общекультурной и вместе с тем личной важности. Лава терми-
нообразования и концептообразования кипит на рубежах старой
Европы — главным образом, восточных и южных: в странах,
образовавшихся из бывших республик Советского Союза и отчасти в
странах, ранее входивших в социалистическую систему. Огромное
значение имеет практика переводов и размышления над ней
в современной России, о чем у нас далее пойдет речь. Исследование
«джихад» или «алькаида», показывая, что в них не содержится того агрессивного
и деструктивного смысла, который вчитывают в них все стороны современных
социально-политических процессов? Said Ε. Humanism and Democratic Criticism.
N.Y., 2003. P. 68-69.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 635
вглубь показывает, как в странах «старой» Европы встает вопрос
о внутренних ресурсах, о концептуальной соизмеримости
категориальных систем, о возможностях трансмиссии культурного и
познавательного опыта. Заново складывающееся ныне европейское
сообщество не может оставить без анализа и такую важную сферу
дискурса, как научная терминология и философские языковые
практики, в которых оттачиваются универсалии культуры.
Сходство и различие, соизмеримость и радикальная инако-
вость опыта волнуют и «старую» и «новую» Европу во всех ее
уголках. Современные европейцы все больше дают себе отчет в том,
что понимание в отношениях между людьми и странами не
изначально, не первично, не дается само собой, но представляет собой
результат работы - перевода, интерпретации. Все эти моменты
многое определяют в том, какой быть Европе, — например,
насколько воплотятся в жизнь проекты интеграции и реального
взаимодействия в сферах труда, обучения, культуры1.
Социальная ситуация в Европе и в России последних 20 лет дает
мощные стимулы к разработке проблемы перевода в социальном,
культурном, историческом и философском плане. Для
современной Европы это задача построения европейского социального
и культурного пространства, которая неизбежно предполагает
соотнесение мыслительных ресурсов различных языков, культур,
различных традиций философии, записанных в языке. Яркий пример
такой работы — европейский «Словарь непереводимостей»,
подготовленный большой группой философов, филологов, историков,
текстологов из разных стран2: в нем представлены проблемные
места в терминологиях главных европейских философий, традиций,
языков. При всех различиях стиля, замысла, подхода между «Зоной
перевода» и европейским «Словарем непереводимостей» есть нечто
значимо общее. Они одушевлены идеей конструктивного отказа от
лингвистического национализма, от такой абсолютизации
возможностей и средств отдельных языков и культур, которые бы
становились основанием их социальной и политической гегемонии.
Однако для того, чтобы можно было отказаться от абсолютизации
лингвистических и концептуальных различий, их нужно сначала со
всей возможной тщательностью изучить.
1 Ср.: Judet P., Wismann H. L'Avenir des langues: Repenser les humanités. Paris, 2005.
В этой работе, первоначально представлявшей собой отчет для Министерства
культуры Франции, речь идет о роли изучения языков и шире -
научно-гуманитарных исследований - в нынешней технократической Европе. См. также:
Wismann H. Penser entre les langues. Paris, 2012.
2 Напомним его название: Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire des
intraduisibles) / Sous la dir. de B. Cassin. Paris, 2004.
636
Познание и перевод. Опыты философии языка
Европейский Словарь «непереводимостей»
А теперь перед нами тяжелый фолиант - свидетельство
огромного труда, редкое и даже уникальное событие. Это - ответ на
вызов, который и сам остается вызовом. Он фиксирует опыт
осмысления перевода, характерный для Европы последних
десятилетий — новой Европы, находящейся в процессе становления.
Мыслящий европеец не удовлетворяется теперь «духом времени»
или свободно странствующими идеями: он хочет помыслить
философию в ее языковом обличье, посмотреть, как способы
языкового воплощения мысли воздействуют на формы философствования.
Этот словарь - не очередная философская энциклопедия, которая
бы рассматривала понятия вместе с их авторами, и не история
понятий: он исходит из идеи одновременного различия и
соизмеримости языков и строит некую разбегающуюся вселенную
философии как она высказана, записана, рождена и сформулирована
в разных языках. Главным здесь становится сравнительное
измерение, не опирающееся на заранее заданные сущности слов и
понятий; задача словаря - показать поле взаимодействий между
понятиями и словами, наметить и подчеркнуть переходы, дороги,
тропинки, переносы между мыслительными мирами.
В словаре совмещены разные жанры. Он соединяет
энциклопедическую компетентность с неакадемической открытостью и
являет собой модель реального различия культур, языков,
терминологий, традиций, трудностей взаимного перевода и взаимного
осмысления. Если искать аналогии, то наиболее близким - и
причем осознанным — его прообразом является словарь Эмиля Бенве-
ниста, посвященный спецификам и общностям индоевропейских
социальных институтов1. Для автора замысла и руководителя этого
важнейшего проекта, занявшего 150 исследователей и длившегося
10 лет, Барбары Кассен, переводить - это прежде всего читать -
читать тексты, написанные на том или ином языке, учиться работать
с их своеобразной материальностью, видеть в них нечто
многослойное, разбираясь с тем, что лежит под текстом и что помещается
нами поверх уже существующего. При этом слово «непереводимости»
в заглавии словаря не следует понимать буквально:
«непереводимости» свидетельствуют не о фиаско человечества перед лицом
трудностей перевода, а о неустанно возобновляющихся усилиях в
работе над тем, что для перевода наиболее сложно. Непереводимости -
это границы и пределы, но, в любом случае, - не те места, где
работа перевода прекращается: напротив, столкновение с непереводи-
1 В русском переводе: Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных
терминов. М., 1995.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 637
мым мобилизует силы и позволяет наращивать слой
умопостигаемого (интеллигибельного), развивать техники сопоставления,
переходить ко все более тонкой рефлексии — по поводу текста,
сопротивление которого мы чувствуем, и по поводу собственной работы
с текстом, ее приемов и операций. Иначе говоря,
непереводимости - это трудности, симптомы языковых различий1 в действии.
Целью словаря было составление своего рода «карты» таких
сложностей на всем поле европейского философского перевода2.
Авторы словаря были людьми двух-, трех-, иногда четырехъязычными,
или, по крайней мере, способными сравнивать и анализировать
письменные тексты на этих языках. Сам словарь — это своего рода
воплощение утопии перевода, положительного, оптимистичного
взгляда на Вавилонскую башню — со многими входами и выходами;
строительство башни никогда не закончится, но сама эта работа
одушевляет и сближает людей.
В словаре 400 статей, а всего — четыре тысячи слов и
выражений на пятнадцати языках (иврит, греческий, арабский,
латинский, немецкий, английский, баскский, испанский, французский,
итальянский, норвежский, португальский, русский, шведский,
украинский). В нем три типа статей, графически выделенных. Это
соответственно статьи о терминах, статьи о языках и
статьи-путеводители (руководства к пользованию словарем). Самая большая
группа статей посвящена терминам и понятиям, которые
раскрываются либо через отношения омонимии или полисемии
(например, русское «мир» может значит «состояние не-войны»,
«вселенная» и «крестьянская община»), либо через сеть разветвленных
смежных понятий, взятых из других языков (так, французское sens
[чувство, смысл] связывается с латинским sensus и греческим nous,
с немецкими Sinn, Bedeutung, с английскими meaning, sense и др.);
и в этом последнем случае в заглавной строке статьи даются не
столько переводы соответствующих терминов, сколько их аналоги,
слова из ассоциативно близких контекстов. Что же касается
философских примеров, то они во многом берутся из материала
крупнейших европейских философских концепций — Платона,
Аристотеля, Боэция, Цицерона, Декарта, Лейбница, Канта, Гегеля, Гёте,
Хайдеггера, Локка, Рассела, Витгенштейна и др.3.
1 http://www.revue-texto.net/Dialogues/Cassin_interview.html.
2 Cassin В. De l'intraduisible en philosophie // Rue Descartes. 1995. № 14. P. 9.
3 К сожалению, некоторые очень нужные статьи не вошли в словарь: как
отмечает Б. Кассен, это, в первую очередь, статья о различных формах языковой
метафоричности, статья о способах выражения отрицания в разных языках и разных
философских концепциях и др., но ведь словарь - это не завершенная сущность,
а продолжающееся дело.
638
Познание и перевод. Опыты философии языка
Центральное место в словаре отводится терминам
французского, немецкого и английского языков. Принципы отбора тех, а не
иных понятий специально не оговорены. Среди германоязычных
понятий читатель найдет понятия общей философии и
философии сознания (снятие [Aufheben], понятие [Begriff], явление
[Erscheinung], предмет [Gegenstand], науки о духе
[Geisteswissenschaften], долженствование [Sollen], мир [Welt], свободная воля
[freie Wille], желание [Wunsch]), понятия культурной истории
(человечество [в обоих вариантах — Humanität, Menscheit], Новое
время [Neue Zeit]), а также термины философии психоанализа,
философии ценностей, хайдеггеровской системы (Dasein, Sorge,
Vorhanden и др.).
Большинство англоязычных терминов берутся из социальной
сферы, это, например, «поведение» [behaviour], «мнение» [belief],
«эксперимент», «опыт» [experience], закон [law], либерализм
[liberalism], мультикультурализм [multiculturalism], сила [force],
«государство всеобщего благоденствия» [welfare state] и даже «сплин» [spleen].
Французские термины - самые многочисленные и самые
многообразные; в их состав входят действие [action], душа [âme],
красота [beauté], дискурс [discours], экономия [économie],
существование [existence], правовое государство [état de droit],
эпистемология [épistémologie], интенция [intention], язык [langue],
общее место [lieu commun], Просвещение [Lumières], слово [mot],
прощение [pardon], восприятие [perception], народ-раса-нация
[peuple-race-nation], предложение-фраза-высказывание [proposi-
tion-phrase-énoncé], разум [raison], реальность [realité],
репрезентация [représentation], означающее [signifiant], означаемое
[signifié], здравый смысл [sens commun], смысл [sens], труд [travail]
и др. Самая длинная статья в словаре — знак-символ
[signe-symbole].
Открывая ту или иную статью, мы не знаем заранее, что в ней
встретим — уточнение деталей перевода, общий взгляд на перевод,
обзор переводов данного понятия или что-то еще. С разных точек
зрения рассматриваются те европейские языки, которые
удостоились отдельной словарной статьи. Например, в статье об
испанском языке рассматриваются прежде всего два разных глагола
«быть», соответствующие устойчивому и меняющему бытию; в
немецком — судьба философских языков Канта и Гегеля в их
переводах на французский язык; в русском - феномен культурного
двуязычия — сосуществование церковнославянского и русского
языка; португальский представлен исключительно как «язык
барокко»; в английском подчеркиваются те его морфосемантиче-
ские и синтаксические особенности, которые, как утверждается
в словаре, делают его, вопреки общепринятым очевидностям, ед-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 639
вали не самым «непереводимым» языком (отсюда — и стремление
писать сразу по-английски у неанглоязычных философов эмпи-
рико-аналитической ориентации)1.
Подробное описание словаря — дело непосильное, да и
ненужное. Открыв ту или иную статью, читатель увидит, как каждое
слово опутывается сетью бесконечных соответствий, как от него
в разные стороны расходятся цепочки смыслов, на пересечении
которых кристаллизуются термины и понятия. Ни один
философский язык, ни одна философская культура не может подменить
и упразднить другую культуру, лишь вместе они складывают
общий реестр человеческих ресурсов мысли и языка. Словарь
снабжен обширными указателями — прежде всего имен собственных:
это указатель авторов, указатель цитированных авторов и
указатель переводов — начиная с Цицерона и Боэция до Бермана
и Клоссовского. Однако в нем, заметим, нет обычного
алфавитного указателя статей, что создает огромное неудобство при
пользовании словарем. Можно ли хотя бы в какой-то степени объяснить
это тем, что словарь задуман как конструкция с многими входами
и выходами: термины в нем вводятся каждый раз на своем языке —
вплоть до баскского gogo (душевная сила), арабского lëv -
(сердце) или румынского dor (исполненное печали желание), хотя
и описываются по-французски? Есть в словаре, правда, общий
указатель (без указания страниц) всех встречающихся в словаре
терминов — независимо от того, посвящены ли им отдельные
статьи, но это иногда только больше запутывает читателя, который
должен каждый раз наудачу просматривать огромный фолиант
в поисках нужного текста. И это — еще один элемент этой
величественной, но вызывающе неупорядоченной конструкции.
Словарь строится вопреки идее единственного и
универсального философского языка (Лейбниц), а также единственного
и уникального направления истории - от греков к римлянам,
немцам и англичанам. Это не платоновский словарь, который
тяготел бы к идее, спрятанной позади слов и контекстов. Цель
словаря - построить картографию различий между европейскими
философиями, используя знания о переводе и знания
переводчиков. И тем самым — найти путь между логическим
универсализмом (Аристотель, Лейбниц) и онтологическим национализмом,
который строит иерархию языков, способных к философии. Под-
1 В словаре, в частности, утверждается, что английские антиметафизические
тексты остаются непереводимыми на французский язык. Прежде всего - потому
что опорные для английских текстов обороты с герундиями (doing, seeing)
передаются на французский оборотами типа «le fait de...» («сам факт делания» или «сам
факт видения»), тогда как в английском эти «делание» и «видение» как раз
фактами и не являются.
640
Познание и перевод. Опыты философии языка
ходя к философии под углом зрения перевода, словарь позволяет
исследовать более тонкие зависимости и взаимодействия, понять,
насколько философия — с того момента, как мы перестали быть
греками, — рождается из перевода и постоянно им питается, живет
путешествиями и заимствованиями (Лукреций переводил
Эпикура, средневековые переводчики создавали латинские версии
Аристотеля на основе арабских версий, Шлейермахер переводил на
немецкий Платона и т. д. и т. п.). Скорее это путешествие через
симптомы - те места, где слова не проходят. И здесь опять, как
и у столь многих наших героев, благая весть та же: философская
Европа не боится ситуации, наступившей после разрушения
вавилонской башни и смешения языков. А это значит, что приходится
отказаться от сакрализации греческого и немецкого, от идеи
привилегированных языков, стоящих выше других в искусстве
строить философское рассуждение (эта сакрализация долго была
характерна для французского академического истеблишмента).
Каковы провалы и достижения переводческого акта, действия?
Когда мы начинаем переводить, мы сталкиваемся прежде всего
с непереводимым телом языков (Деррида) — с означающим.
Предел этой сложности — перевод поэзии, но аналогичные
сложности, хотя и в менее сгущенном виде присутствуют в любом тексте.
Вопрос перевода — вопрос осознания того, что мы философствуем
в языке и в словах, а не только в понятиях. Переводчик - это
проводник между мыслительными мирами: он идет от языка к языку,
от мысли к мысли, от культуры к культуре. Все мы - переводчики,
хотим мы того или нет, и нас делает переводчиками факт
существования множества языков и их различия.
В словаре немало понятий русского языка и русской культуры.
Это Богочеловек, соборность, воля-свобода, общинность,
народность, самость, мир, поступок (в бахтинском смысле слова),
другой (главным образом из-за этимологии слова: «другой» от «друг»,
а не от «чуждый»), правда—истина и др. Такой список порадует
поборников специфики русской мысли1. Кажется, вот они - иде-
1 В этом Словаре - в силу определенных исторических причин развития
европейского сотрудничества - большинство тем по русской философии освещалось
украинскими философами (А. Васильченко, Т. Голыченко, В. Омельянчик, К.
Сигов и др.). Почти единственное исключение составила статья «мир», написанная
известным французским индологом и знатоком русской культуры Шарлем Мала-
мудом. Словарь, переведенный уже на многие языки, вышел теперь - насколько
мне известно, в сокращенном виде - также и на украинском (2011). Его, конечно,
нужно было бы перевести и на русский язык, поручив при этом авторские статьи
по основным понятиям русской философии известным российским
специалистам. Развитие украинского философского языка можно только приветствовать,
однако в данный момент русский философский язык находится на качественно иной
исторической ступени в накоплении опыта оперирования словами и понятиями.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 641
альные примеры «непереводимостей». Однако при всей яркости
материала, скажем, о «правде» и «истине» вряд ли стоит
приписывать им жесткую понятийность, отличную от европейской. Анализ
использований этих слов и понятий показывает, что эти слова не
были понятийно закреплены: контексты, в которых «правда»
и «истина» могли противопоставляться друг с другом,
сосуществуют с контекстами, в которых такого противопоставления не
происходило.
В целом, однако, получается, что русский мыслительный
опыт при таком подборе терминов невольно оттесняется в
словаре в область специфического, а не общезначимого. Кроме того,
эти примеры принадлежат больше прошлой, чем актуальной,
современной истории мысли в России. Наверное, важнее было бы
сейчас проанализировать не только специфические, но и более
общие терминологические ресурсы, например, соотнести
использования в русском и других европейских понятийных
языках таких понятий, как субъект и агент, деятельность,
действительность и реальность, эпистемология, онтология, метафизика,
философия. Спрашивается, как понимались эти всеобщие
философские категории в тех ситуациях развития русской мысли, где
они сосуществовали в кругу совсем иных понятий - как это
было, при всем различии контекстов, и в России XIX в., и в России
советского периода (то есть, скажем, бок о бок с «соборностью»
или же с «мелкобуржуазным интеллигентом»...). Было бы,
конечно, замечательно перевести словарь на русский язык. Но не
менее важно было бы при этом «достроить» его своим
материалом, вписать свой опыт в общую копилку на равных, а не только
в специфических казусах. Современная российская культурная
ситуация не самозамкнута, и мы можем опереться в ее изучении
и на российский, и на западный опыт. Было бы интересно
выяснить самим и рассказать западному читателю, как строился
русский понятийный язык, как переводились и комментировались
в разные периоды отдельные философские фигуры. В любом
случае, для русского читателя тема «переводы Гегеля в России»
была бы не менее захватывающей, чем для французского
«переводы Гегеля во Франции» (общая франкоязычная
ориентированность делает словарь в ряде разделов полезным прежде всего
для специалистов). Это, безусловно, очень ценное пособие,
но кроме того — стимул и перспектива нашего участия в общей
Такое расширение круга авторов, участвующих в Словаре, насколько я понимаю,
не противоречило бы самой идее Словаря как организма, бесконечно
развертывающегося в пространстве разных языков и культур.
642
Познание и перевод. Опыты философии языка
европейской работе по осознанию своих ресурсов и своих дис-
курсных возможностей1.
Перевод: конъюнктуры и объективность
Как уже отмечалось, два рассмотренные выше примера
(американский и европейский), при всех их различиях, солидарны в
одном: узконациональные подходы к культуре изживают себя:
нужен более широкий взгляд, без которого мы погружаемся в марево
местных (или же скрытых под видом глобальных) «этнодетерми-
низмов»2. Какими бы ни были основные ставки перевода и его
типичные тупики («непереводимости»), эта установка на «над-на-
ционализм» (транснационализм и др.) в обоих случаях
утверждается ярко и весомо, только Эптер ищет выхода в переводческих
перспективах «сравнительной литературы» на американский
манер, а исследователи под руководством Кассен - в поиске соизме-
римостей в европейских ресурсах мысли и языка.
Оба подхода являются носителями определенных идеологий
и мировоззрений. Вместе с тем они оба касаются другого
важнейшего аспекта проблемы, связанной с идеологией, — соотношения
идеологии и науки в гуманитарном познании, а проблема эта,
несмотря на видимость противоположного, своей актуальности не
теряет. Идеология Эптер — это во многом привычная нам
идеология постмодернизма, погруженного в хаотическое многообразие
фактов при отсутствии какой-либо иерархии между ними, акцент
на роли медиа, на пластике всеобщих метаморфоз - в
дисциплинах, подходах, интерпретациях. При анализе этой концепции в
поле зрения попадают и элементы демагогии, и явно повышенные
дозы политкорректности. При этом, утверждая определенную
идеологию перевода и переводимости как способа борьбы с терро-
1 Когда европейцы говорят о себе и стремятся понять свою культурную и
языковую специфику, они обычно противопоставляют свое реальное многоязычие США
как оплоту монолингвизма. Однако броня этого монолингвизма, как мы уже
видели, все больше поддается натискам извне и изнутри. Среди интересных проектов
последнего времени уже упоминавшийся проект Американского совета научных
обществ (ACLS), связанный с разработкой «Руководства по переводу текстов
социальных наук». Я уже рассказывала о том, что была участником этого проекта как
переводчик и исследователь с российской стороны. Целью проекта было
выявление основных трудностей при переводе текстов социальных наук - как они
возникают и как они преодолеваются. См. итоговый документ: Guidelines for the
Translation of Social Science Texts. American Council of Learned Societies, 2006 (он
был опубликован в переводе на арабский, китайский, французский, япон-
ский,русский, испанский и вьетнамский языки. Ср. также: ACLS Web site:
wwww.acls.org/sstp.htm.
2 См. об этом: Автономова Н.С. Современный этнодетерминизм и пути его
философской критики // Философские науки. 2007. № 9. С. 27-47.
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 643
ром глобализма, Эптер, кажется, не учитывает другой важной и
нередко реализуемой возможности. Это — позиция отторжения
перевода, в котором видится «манипулирование» сознанием, желание
прочесть скрытые мысли, давление официальных инстанций на
неподотчетную человеческую свободу (это касается, например,
различных форм интерпретации бессознательного как языка)
и т. д. В этих лапидарно обобщенных лозунгах, направленных
против «насилия», «власти», «террора», под видом борьбы с
идеологией террора за право любых индивидуальных и групповых
идентификаций может подспудно расцветать своя идеология всеобщей
релятивизации через перевод, и нам важно было бы не допустить
этого превращения. Когда нам говорят, например, о том, что
любое «понимание» есть «присвоение», необходимо разобраться
с тем, что именно в этом процессе (какие слова, понятия, мысли)
Другой берет у нас и что мы отдаем Другому, как слова и понятия,
не являющиеся чьей-либо пожизненной собственностью,
выковываются в работе, вовлекающей разные языки и культуры.
Идеология подхода Кассен иная: она предполагает опору на
европейскую традицию, которая осознает необходимость своего
пересмотра на новой культурной и геополитической карте Европы,
куда, наряду с прежними лингвокультурными диспозициями,
включаются новые — соседствующие (как Украина), младоевро-
пейские (точнее, лишь недавно введенные в состав объединенной
Европы), внутренние, но маргинальные (баски) культурные
и языковые образования. Разумеется, стержневым моментом
анализа по-прежнему остается культурный центр Европы и те
интеллектуальные традиции, которые сложились в рамках немецкого,
английского и французского языков. Определенная
идеологическая позиция, как уже отмечалось, присутствует и в статьях
Словаря по русской тематике, несколько заостряющих
специфическое в ущерб общему, хотя такой подход, насколько можно
судить, не был изначальным замыслом проекта, но скорее итогом
мотиваций пишущих на те или иные темы авторов.
В этой связи мне важнее показать не столько конкретные
идеологические позиции и повороты в тех или иных концептуальных
построениях, сосредоточенных на проблеме перевода, сколько те
силы и ресурсы, которые в рефлексивно осознаваемых
механизмах перевода противодействуют идеологизации. Для
гуманитарного познания вопрос о соотношении науки и идеологии -
первостепенно значимый, хотя в советское время он был тенденциозно
опрощен, а в постсоветское - до неузнаваемости размыт.
Представляется, что граница между наукой и идеологией в гуманита-
ристике все же существует, хотя она подчас является зыбкой,
скользящей. Я полагаю, что перевод как культурная практика ре-
644
Познание и перевод. Опыты философии языка
флексии, осуществляемой в постоянном контакте с мыслью,
выраженной в другом языке, способствует расщеплению
идеологических кристаллизации. И прежде всего — тех склеек между
формами и содержаниями родного языка, которые нередко приводят
к гипертрофированию идеи самоценности самобытного и
становятся отправной точкой для более жестких идеологических
построений. Как известно, идеологизация смыслов нередко возникает
при субстанциализации (гипостазировании) терминов, слов и
понятий. В свою очередь причинами субстанциализации являются
неразличенность омонимичных терминов, выражаемых одним
словом, забвение исторической эволюции значений слов, а также
неучет (или недоучет) социальных разноречий, использующих
различные значения одного и того же слова или различные
омонимичные слова.
Эта идеологизирующая тенденция к субстанциализации
свойственна не только слабым, но и великим умам. Выше уже
приводился фрагмент работы Вл. Соловьева, в котором речь фактически
шла об исконной неполноценности английской и французской
философии на том основании, что в английском и французском
языках, в противоположность немецкому и русскому, нет
возможности прямого различения смыслов через различие слов,
обозначающих вещную «реальность» и духовную «действительность»1.
Дело в том, что в процессе перевода мы постоянно сталкиваемся
с такого рода спецификой, однако она не должна становиться
самоценным, определяющим моментом рассуждения. Таким
образом, дело не в том, чтобы отрицать эту действительно
существующую лексико-семантическую специфику того или иного языка,
но в том, чтобы осознать (а при случае и показать) иные
свидетельства, например, лексико-семантическую изощренность
французского — на фоне русского или того же немецкого2.
Обычно идеологические ходы возникают при угасании различительных
и связующих (сопоставительных) функций разума, когда
различения в ткани человеческого опыта зарастают, следы сглаживаются,
а субстанции смыслов как бы упрочиваются. Однако работа
перевода во всем спектре введенных им в действие человеческих сил
и способностей не позволяет считать такие склейки и сращения
1 См. выше параграф «Рефлексия и перевод: исторический опыт и современные
проблемы», подпараграф «Перевод как практика и перевод как рефлексия».
2 Достаточно вспомнить уже приводившийся пример французской триады
терминов, обозначающих языковую деятельность (langue, langage, parole), в которой
весьма полезно различаются язык как общая способность (langage) и отдельные
языки (langues). О том, как сложно переводить французскую лингвистическую
терминологию на русский язык, знает всякий переводчик.
Раздел второй. Перевод, рецепция» понимание. Глава седьмая. Перевод как... 645
окончательными, «вечными», самоценными. Тем самым перевод
релятивизирует ресурсы одного языка перед лицом других языков
и вместе с тем укрепляет данный конкретный язык осознанием
его специфики, которая вообще может проявиться лишь на фоне
Другого.
А теперь, после этой отсылки к идеологическим сюжетам,
подытожим некоторые философские аспекты рассмотренной здесь
проблематики. Если оглянуться назад, на все то, что было
представлено в этой книге, то перед нами раскинется обширное
пространство эмпирии, уловленной и так или иначе выраженной
с помощью самой разной интеллектуальной оптики. Общее и
индивидуальное, роды и виды, типы и отдельные случаи,
исторические этапы и современные состояния, склейки и потоки,
отдельные авторы или даже отдельные понятия и общекультурные
доминанты парадигмы и стратегии — все это было так или иначе
задействовано в развертывании моего сюжета. Хочу подчеркнуть,
что я специально отказалась от каких-либо попыток стянуть все
эти ракурсы взглядов и ресурсы смыслов в нечто единое, привести
их к общему знаменателю. Представленные здесь проблемы
настолько сильно привязаны к эмпирическому материалу, что
любой общий тезис оказывается ущербным: он оставляет в стороне
те другие особенности данного конкретного случая, без которых
о нем, кажется, вообще не имеет смысла говорить. В итоге здесь
возникает нечто напоминающее логику прецедентного права: нам
важны не линейно развертывающиеся тенденции, а конкретные
случаи в наборе их конкретных характеристик. Однако это вовсе
не означает отказа от концептуальной собранности и от попыток
нерелятивистским образом выявить закономерное через события
и случайности, с их помощью. Презентация этого материала на
письме выявила новые его аспекты: в отличие от устно
проговариваемой мысли, на письме первостепенную роль играет
пространственная развертка, а в ней видны не только связи, но прежде
всего — лакуны и зияния. Они говорят сами за себя, и потому я не
пытаюсь скрыть их «аргументами по случаю». Так вот, процесс
письма еще больше укрепил меня в мысли, что строить единую
теорию перевода пока рано, хотя представленный материал
вполне может послужить созданию пролегомен к будущей
философской теории перевода1.
1 То, что предстает как теории перевода в настоящий момент, это либо
«частные» теории перевода (построенные на материале каких-нибудь двух языков,
например, русского и английского), либо «специальные» теории перевода
(представляющие перевод в определенной предметной области, скажем, юриспруденции).
Бывают также теории перевода, которые кладут во главу угла его референциальные
или же, скажем, его коммуникативно-прагматические стороны и т. д. и т. п.
646
Познание и перевод. Опыты философии языка
Минимальная единица перевода - не факт, но отношение
между языками, культурами, мыслительными традициями. Эта
реляционность в переводе выражена с остротой, беспрецедентной
среди других явлений культуры. Кроме того, изучение механизмов
перевода дает доступ к обычно неосознаваемым мыслительным
операциям. Тем самым перевод становится основанием наших
представлений о возможности общения, о специфике социально-
гуманитарного познания, которое имеет дело с формами
естественного языка и конструкциями, построенными на его основе.
Перевод обнажает в текстах отношение и относительность, делает
их открытыми объектами, несмотря на всю видимость
замкнутости. Таким образом, перевод — это бесценное средство
одновременно и против разрывов (несоизмеримостей), и против жестких
кристаллизации, склеек, нарушающих кровообращение в системе
культуры и познания. Это не переключение гештальта из одной
образной системы в другую, но именно пере-вод, пере-нос,
переход. Здесь важна семантика всех этих значений обыденного
языка - переход (по мосту или вброд), перенос (когда, переходя сам
через какое-то препятствие, ты несешь нечто в руках или на
плечах), перевод (когда идешь не один, но ведешь за руку или просто
сопровождаешь кого-то или что-то). Итак, переводческая
работа - это мощение мостов и налаживание переправ; это огромный
и неблагодарный (подчас — действительно Сизифов) труд, без
которого нельзя обойтись и на котором нельзя сэкономить. Сами
собой культурные содержания не путешествуют и через культурные
границы не переходят, их транспортировкой должен заниматься
посредник — перевозчик, переносчик, переводчик. Ведь задача
переводчика — воспринять и осознать содержание, выраженное
в формах чужого языка и подобрать те средства своей культуры
и языка, которые бы воссоздали это содержание в новой форме.
Конечно, вычленить содержание и изолировать его полностью
еще никому и никогда не удавалось. Да и перевод - это не смена
одеяний: это процесс, в котором анализ и синтез интенсивно
переплетаются на всех стадиях.
Перевод может рассматриваться как предмет практики, как
объект познания, как средство в процессах рефлексии и
понимания. Перевод есть объект познания, весьма интересный в
эпистемологическом смысле. Знание о переводе строят по-разному: как
описание готовых переводов, как предписание насчет того, как
следует (и не следует) переводить, исходя из тех или иных общих
соображений о переводе. Главный вопрос заключается в том, как
построить продуктивную модель переводческой работы,
вычленить основные работающие в этой практике понятия.
Парадоксальным образом в течение долгого времени перевод оставался
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 647
слепым пятном философской рефлексии. С этим связана в наши
дни необходимость разработки логики и особенно эпистемологии
перевода1. Перевод материально ограничен текстами (оригинала
и переводов), но в принципе всегда незавершен и неокончателен.
Он вводит в действие как сходства, так и различия языков и
культур (без первого он был бы невозможен, без второго — не нужен).
Перевод обязательно переделывается, не может быть такого
самого гениального перевода, который бы сгодился на все времена, так
как меняются естественное состояние языка, отношения между
его элементами, используемые в языке понятия и термины,
соотношения принятых терминов с новыми понятиями и терминами
и т. д. Словом, перевод затрагивает всю сеть отношений -
языковых, культурных, мыслительных. В этом смысле слова
классические переводы сохраняют культурно-историческое значение за
рамками тех эпох, когда они делались, оставаясь национальным
достоянием культуры, мысли, языка.
Однако главный вопрос любого обсуждения перевода - это
вопрос о его соотношении с оригиналом (в каких бы терминах это
соотношение ни выражалось), о значении (свободной)
интерпретации в переводе, о соотношении творческого и воспризводящего
моментов. Как уже отмечалось, критериев адекватности (иначе —
эквивалентности, верности, точности) перевода очень много,
и к тому же их понимание у разных исследователей существенно
различается. Однако это вовсе не означает полной релятивизации
суждений о переводе: профессионал и специалист всегда скажет,
где хороший, а где плохой перевод, и в каком смысле. Нередко
главная переводческая антиномия формулируется так: что
важнее - перевод как верность оригиналу или удобочитаемость текста
на языке перевода? Или еще: что важнее - перевод «по букве» или
«по духу» — перевод слов или перевод смыслов? И тут опять
трактовка антиномии зависит от понимания значения терминов.
Иногда буквальным называют робкий, неумелый перевод, а
смысловым — умелый и зрелый. Но есть и другое понимание терминов,
при котором переводом смыслов мы называем тот, что приближен
к родному языку читателя и передает содержание переводимого
текста, а переводом «буквы» (или «формы») — тот перевод,
который нужен более подготовленному читателю, способному
овладеть не только содержанием сообщаемого, но и — в какой-то
мере - приемами другого языка и культуры. Несколько блестящих
работ о культурной значимости буквальных переводов в противо-
1 Ladmiral J.-R. Traduire des philosophes // Traduire les philosophes / Sous la dir. de
J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000; Idem. Sourciers et ciblistes // Revue d'esthétique.
1986. № 12.
648
Познание и перевод. Опыты философии языка
положность «вольным» написал М. Гаспаров, в частности, на
материале брюсовского перевода «Энеиды» Вергилия.
Сейчас, в контексте размышления о познании и переводе,
важнее всего следующее: акт перевода и его осмысления формализует
то, что обычно не формализуется в других актах сознания (чтения,
истолкования и др.), он заставляет нас держать в сознании не
только работу со смыслами, но и работу со словами, фразами,
структурами двух языков. Представляется, что именно в переводе,
работающем одновременно на стыке двух языков и двух
культур, — больше, чем в любой умственной человеческой
деятельности, другое и Другой (другой человек, другой опыт) существует как
непреложная отправная позиция, которая заставляет принимать
эту инаковость в полном объеме и выводить из нее все возможные
следствия. А потому осмысление роли перевода дает нам
возможность подойти (но это уже тема отдельного обсуждения, которое
здесь можно только наметить) к одному из самых влиятельных
философских мифов современности, который сформировался
в размыто понятой бахтинской традиции. Это миф о всеобщем
диалоге между людьми и культурами. Если между людьми диалог
еще как-то возможен, хотя это и не столь просто, как кажется
сторонникам диалогической утопии, то применительно к
взаимодействию культур говорить о диалоге вообще вряд ли стуит. Опыт
философской и филологической работы, прежде всего
переводческой, показывает, что перевод есть условие возможности диалога,
а не наоборот. А также, что перевод есть базовый культурный
механизм, более доступный операционализации, чем диалог. В
любом случае диалог — это, можно сказать, парадная часть
человеческого общения. Его черновой ход ведет через трудную, каторжную
работу перевода, выковывающую сами механизмы понимания
и его рефлексивные ресурсы.
Наверное, для того, чтобы философия смогла заметить в себе
самой работу перевода, ей придется произвести новую
деконструкцию. Лишь этот решительный жест позволит философии понять,
что в ее основе — не самозарождение понятий, а процесс
взаимодействия с другим — другой мыслью, другим языком, другой
культурой. Именно поэтому диалог — это не исходная, а итоговая точка
в общении индивидов, культур, психологии: условием его
возможности выступает перевод. Перевод есть знание о самом себе,
и в этом смысле осознанная основа своей языковой идентичности.
Конечно, каждый человек является носителем какого-то языка,
но часто не осознает возможностей и границ своего языкового
мира, считает его самодостаточным и само собой разумеющимся.
Только в столкновении с другими языками и другими языковыми
мирами мы осознаем себя, свой язык, его возможности, узнаем се-
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 649
бя в том, каковы мы есть. Именно механизм перевода позволяет
нам познавать себя и Другого, себя через Другого.
При переводе - как в узком, так и (тем более) в широком
смысле слова — мы держим в сознании постоянное наличие в
человеческой практике, в любой человеческой работе духа «всегда-уже»
происшедшего сдвига, смещения, переноса любых корней и
первоначал. Мы всегда имеем дело не с чистыми сущностями, а с
переработанными, сдвинутыми культурными пластами, хотя само
это обстоятельство, как правило, «вытесняется», не сохраняется
в сознании. Если угодно, здесь обнаруживается аналогия с дерри-
дианской категорией письма: письмо везде, однако оно не
замечается, и для того чтобы его заметить, нужны особые текстовые
эксперименты, особый поворот аналитической рефлексии. В любом
случае, мы никогда не начинаем жить в культуре с чистого листа,
но всегда с середины. Все это запечатлено в истории мысли и
истории философии, только надо научиться это читать.
В континентальной Европе история философии играет
конституирующую роль в построении и осознании самой себя
современной философией. А потому проблема чтения, интерпретации
и перевода философских текстов выступает здесь как важная
составная часть педагогических стратегий. Вопрос стоит не только
о том, что переводить, но и о том, как переводить и как издавать
переведенное: например, войдут ли Лакан или Делёз без
комментариев и справочного аппарата в процессы понимания и
обсуждения? В любом случае, студенту и аспиранту, любому читателю мы
обязаны дать понять, что чтение философских текстов — работа,
которая не делается автоматически, что знания букв и
способности составлять из них слова тут недостаточно, что понятия сами
собой не дрейфуют через культурные границы, что для их
рецепции нужна особая работа. Прежде всего — переводческая. Перевод
нужен для современной философии и тем более абсолютно
необходим для истории философии, которая выступает как
фундаментальная часть и основание современной философии. А отсюда
вывод: перевод нуждается в философской рефлексии, а
философия — в трезвом осмыслении той роли, которую постоянно играет
перевод и трансмиссия (передача, перенос) в создании ее
вербальной и концептуальной фактуры. Работа чтения и перевода
научно-гуманитарных и философских текстов нужна нам и для того,
чтобы почувствовать себя своеобразной частью, но все равно —
частью новой Европы. Это Европа полиглотов, которая бережно
относится к национальным языкам и стремится развивать их, а не
ограничивать международное общение упрощенным английским.
Ставки переводческой работы огромны. Если освободиться от
льстящих себе суждений типа «наша культура и наш язык - луч-
650
Познание и перевод. Опыты философии языка
шие, особые, самые выдающиеся среди других», то обнаружится,
что, в конечном счете, именно перевод служит предпосылкой
и условием интеллектуальных процедур, на которых крепятся
процессы познания, коммуникации, человеческого
взаимодействия, ибо в культуре ничего «изначального» нет, а всегда
присутствует уже смещенное, сдвинутое, подмененное, другое. И все же:
почему я считаю актуальной практику, которая возникла, по-
видимому, одновременно с возникновением человечества, и ее
связи с познанием, которое существует столь же давно? Дело
в том, что соотношение познания и перевода вышло в осознание
и предстало как проблема, массово и массивно, лишь на
определенном витке «лингвистического поворота». А именно — тогда,
когда возобладавшая в философии антиметафизическая
установка предъявила мысли задачу перехода от бытия и сознания к
языку, пониманию, коммуникации, диалогу и теперь, наконец,
переводу. Постепенные сдвиги проблем от философии сознания
и самосознания к философии языка, от философии языка к
философии понимания и, наконец, от философии понимания к
философии перевода образуют звенья единой цепи.
Долгое время считалось, что основной набор философских
категорий уже создан и происходит лишь их переосмысление.
Но это не так. Категориальная динамика философии
предполагает, что некоторые категории - навсегда или временно - выходят
из употребления, а другие категории появляются, когда этого
требует осмысление познавательного опыта. Вслед за пониманием
и диалогом на статус категории и в любом случае на статус
философской проблемы претендует перевод. Тем самым оказывается,
что философские категории образуют открытую систему. За
последние 100 лет мы были свидетелями того, как вследствие
взаимодействий между философией и наукой некоторые понятия из
нее выпадают, а иные - в неё входят, приобретая философский
статус. Это последнее относится к проблеме понимания, которая
была специально научной (филологической, герменевтико-экзе-
гетической), и лишь позднее нашла свое место в рамках
философской герменевтики. То же относится и к понятию перевода,
которое, выйдя из области специальных разработок, заявляет ныне
о своих правах на статус философской проблемы.
Как уже отмечалось, важный момент в структуре европейского
философского знания — история философии, где возникает
необходимость чтения и перечтения произведений философской
классики. И в этой работе вступает в силу противоречивая
необходимость содружества философии с филологией - несмотря на то,
что схематика смыслообразования в истолковании
филологических и философских текстов, по-видимому, различна. В отличие
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 651
от «живого процесса философствования» история философии
допускает вовнутрь себя филологическую работу, исходящую из
постулата об опосредованности всякого знания, о невозможности
«чистого», «непосредственного» восприятия текста другой эпохи
и культуры. Философы нередко считали, что, находясь в поле
философского понимания (спрашивается: как в него попасть?), мы
можем непосредственно начать читать и понимать любого автора
из любого места. Однако при этом нередко возникают случаи,
когда философ читает в историко-философских текстах скорее
самого себя, нежели изучаемого автора. Такое чтение вполне может
быть свойственно не только новичкам в философии, а,
напротив, - тем, кто имеет собственную сложившуюся концепцию1.
Похоже, что без филолога философ рискует слишком поддаться
естественному нарциссизму собственной позиции.
Филологический постулат опосредованности гласит: невозможно познать
Платона интуитивно и непосредственно, нельзя писать
диссертацию о Платоне, не зная греческого языка, и в этом, наверное,
никто не усомнится. Но вот применительно к тому же Декарту
сторонников необходимости профессионального знания латинского
и особенно французского будет меньше. Еще меньше
сторонников компетенции в области германистики будет, наверное, в
случае Гуссерля. И это не случайно: чем ближе к нынешнему
моменту, тем больше нам кажется, будто все в чужом тексте можно
понимать непосредственно, так, словно он написан на родном
и привычном нам языке. Но это, конечно, иллюзия:
сравнительная эпистемология, которая питается опытом истории,
филологии, философии, лишний раз напоминает нам о том, что
«непосредственное» чтение текстов невозможно.
Ввод понятия «перевод» в систему философских понятий
позволяет, в частности, увидеть новые грани в философии как
1 В качестве примера здесь можно назвать M.K. Мамардашвили, заслуги
которого перед российской философией нельзя переоценить. Ознобкина Е. «Точка схода»
и «фигура возврата» в опыте мысли Мераба Мамардашвили. См.: Встреча с
Декартом. М., 143-148. «И в тексте о Декарте, и в тексте о Прусте можно встретить такие
места, когда, именуя кого-то Декартом, а кого-то Прустом или Кантом, - Мераб
Мамардашвили говорит буквально одно и то же. Это совершенно неслучайно».
(С. 144).... «может быть, именно в этих точках схода существует наибольшая
вероятность обнаружения того места, где располагается сам Мамардашвили»...
«Мамардашвили читает Декарта остановками, не считывая его систему
аргументации.... Мамардашвили не двигался по параграфам трактата.... он собственно не
осуществлял систематической работы в области классической метафизики, но
постоянно создавал ситуацию понимания, то есть пытался провоцировать
изначальную ситуацию метафизического понимания» (С. 147). Вообще говорит «...только
он сам, а фигуры, на которые он опирается, являются скорее фоновыми и даже
в определенном смысле фантомальными фигурами» (С. 143).
652
Познание и перевод. Опыты философии языка
форме познания и одновременно — бытия знания. В частности,
перевод или, иначе говоря, «переведенность» всех форм
человеческого опыта, указывает на несамотождественность, сдвинутость,
неисконность любых первоначал. Этот тезис, предполагающий
участие другого в любом культурном наследии, в любой
культурной работе, имеет многочисленные социальные, политические,
идеологические следствия. Проблема перевода приобретает
философский статус, а философия выступает как особый язык,
не данный непосредственно, вопреки всем мнениям
герменевтической философии, которой хочется верить в самопроизводное
и спонтанное цветение философского языка. Язык философии
для нас — «чужой язык», но это не порицание, а заведомое
признание уважения к тому, чего мы в нем не понимаем и чему готовы
учиться. Это значит, что сначала его нужно осваивать и лишь
потом к нему прислушиваться, чтобы понять, что на нем говорится.
Философия - полиглот, она говорит на разных языках, хотя в
течение довольно долгого времени это было нелегко заметить, она
способна к изучению чужих языков, все философские тексты
всегда пересечены чужими текстами. В ситуации кризиса общения
и коммуникации философский язык — как то, что мы постигаем,
и одновременно то, что мы разрабатываем, - играет важнейшую
роль в культуре, так как в нем сосредоточены и рефлексивно
проработаны и операции различения, и операции универсализации.
Перевод в его философском осмыслении позволяет обобщенно
представить многообразные механизмы различения,
действующие в поле гуманитарного познания, и вместе с тем — наметить
новые пути универсализации познавательного опыта. Перевод без
универсалий невозможен, хотя в опыте перевода мы видим, что
универсалии эти имеют множественную определенность, сами
находятся в процессе изменения и не даются нам как априорное
знание. Отсюда вытекает определенная этика перевода: отказ от
«своецентричного» присвоения и готовность к совместным
действиям на основе фактического, а не вербального признания
Другого. Перевод и переводимость — это универсалия, но не чистая
абстракция: столкновение с непереводимым насыщает ее
экзистенциальным и смысловым напряжением, готовностью к
усилиям, которые подчас могут показаться бесперспективными. Иначе
говоря, перевод может осуществляться только тогда, когда
желание встречи с Другим, направленность на Другого превозмогает
страдание от собственного несовершенства и страх перед
непереводимым.
Таким образом, когда мы говорим о том, что проблема
перевода приобретает философский статус, речь идет не только о
переводе философских понятий, но и о трактовке перевода как одной из
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание. Глава седьмая. Перевод как... 653
предпосылок мысли, как универсального посредника в
человеческой жизни и в культуре. В нынешней Европе интерес к
переводу — это свидетельство кризиса оснований культуры,
необходимости заново прояснить для себя статус ее фундаментальных
текстов. «Перевод есть единственное доказательство того, что
человечество существует - не только на уровне генетического
взаимооплодотворения, но и на уровне семиотической трансмиссии,
гарантирующей, что мы имеем дело не только с тем же самым,
но и с другим, что интерпретация есть не только преобразованная
верность тому, что уже было сказано, но и новый вклад других
культур, которые отныне уже нельзя считать враждебными»1. Тем
самым очевидно, что вавилонская ситуация множественности
языков сумела выработать в практиках перевода и его осмысления
свой важнейший ресурс познания и творчества.
А как быть России, как быть в России - здесь и сейчас?
Надеждами на свою специфику мы уже переболели, а потому сейчас
общий интерес российской культуры — делать ставку не на
противопоставления с Западом, а на общий поиск выхода из тех проблем,
в которые попала европейская цивилизация. Отличия найдутся
всегда, но особого русского пути нет. Мы видели, как в «Словаре
непереводимостей» русский мыслительный опыт волей-неволей,
самим выбором словарных статей, загонялся в гетто
спецификации. Но это, как опять-таки уже отмечалось, не вина
исследователей из других стран, но наша собственная недоработка — нехватка
любовного и внимательного анализа концептуальных ресурсов
русского языка и культуры.
Как бы отвечая на эту потребность, в последние годы все
больше прорисовывается продуктивная тенденция взаимодействия
российских и западных социологов, экономистов, историков,
правоведов - но не в поисках своеобразия, а с акцентом на общие
задачи. А потому разработанность русского концептуального
языка касается их не как примечание к основному тексту, но как
условие партнерского понимания общего предмета. За этими
тенденциями совместной работы — большое будущее. В
многонациональном и многокультурном мире именно работа, одушевленная
подлинным интересом друг к другу, приносит наиболее заметные
плоды. Она заставляет нас искать, формулировать те механизмы
и эффекты «обратной связи», которые имеет в мире культуры
каждое человеческое действие.
Rastier F. Communication ou transmission? // Césure. 1995. № 8. P. 184.
Заключение
Итак, познание и перевод - не просто какая-то связка слов,
идея, неизвестно откуда взявшаяся. В ней опыт моей жизни -
мысли, перевода, изучения языков, столкновения с
непереводимым, рецепции, осмысления рецепции и др. При этом читателю
был представлен не технологически отточенный результат, а
открытая структура, в которой точки над i не расставлены: хочется
надеяться, что он сможет здесь найти какую-нибудь
продуктивную для себя ассоциацию - с тем, что ему ближе. Все сюжетные
нити книги так или иначе собираются к основному тезису -
перевод стал философской проблемой со всеми вытекающими отсюда
практическими и теоретическими следствиями.
Книга проводит нас через целый ряд позиций и возможных
отношений к переводу. Так, в первом разделе главное — это опыт
того, что можно было бы условно назвать переводом-для-себя:
чтение на иностранных языках, попытки разобраться в новом для
отечественной культуры материале. Во втором разделе предметом
рассмотрения становится «перевод-для-других», а тем самым -
рецепция переводов, так или иначе вошедших в культуру, жаркие
споры, с этим связанные, теоретические вопросы, возникающие
в связи с практикой и осмыслением перевода. Когда-нибудь
о российской рецепции Фуко или Деррида напишут книги
будущие аспиранты - наши и западные1.
Захватывающий сюжет - развитие самого переводимого мною
и коллегами предмета, который вводился в культуру, -
французского структурализма и постструктурализма: Фуко и Лакан, о
которых я писала в самом начале 1970-х годов, потом еще долго
жили, работали, менялись. Менялись и способы их существования
в русской культуре: от ограниченной рецепции горсткой людей
к массовому переводу и рецепции в 1990-е годы. То, что когда-то
читалось в первый раз, теперь вывешено в Интернете на всеобщее
обозрение и воспринимается как нечто привычное и потому
тривиальное. Структурализм возник, прогремел (как фанфарами, так
1 И мне небезразлично, что в силу превратностей нашей архивной практики
моей первой книжки про французский структурализм теперь уже в общественном
доступе нет - в РГБ из нее сначала вырвали все страницы, а теперь она и вовсе
исчезла. То, что она имеется в Библиотеке конгресса США и в фондах медонских
иезуитов во Франции, не очень-то меня утешает...
Заключение
655
и агрессивной риторикой его критиков), отошел в тень, — а теперь
вот возвращается как нерешенная, но важная проблема — с
новыми акцентами и в измененной форме: те импульсы, что его
оживляли, значимость провозглашенной им познавательной интенции
в культуре, не ушли в никуда.
В любом случае я несу ответственность за то, что когда-то
вводила в русскую культуру этот материал, равно как и за то, каким
именно образом я это делала — а делала я это предельно
антиидеологическим образом, подчеркивая его научное содержание и
приглушая сопровождавшие его идеологические коннотации. Когда-
то это была единственная возможность ввести содержания
западной мысли в отечественную культуру, а теперь, после вновь
пережитого нами периода вульгарных идеологизации,
неидеологическая позиция с акцентом на фундаментальном научном
содержании вновь становится актуальной. Сейчас былые предметы
моего первоначального чтения-перевода отдрейфовали так
далеко, их втянуло в воронки таких переинтерпретаций, как правило,
чуждых их исходным замыслам и их позднейшим реализациям
(это прежде всего интерпретация структурализма и
постструктурализма как постмодернизма), что перед нами возникает задача
своеобразного «обратного перевода». Теперь нередко можно
услышать мнение, что заботиться о сохранности оригиналов
вообще не нужно, что это отжившая музейная установка. Какая
разница, каков Платон (или Фуко) «на самом деле», если у каждого
поколения и в каждой стране он свой. Но с этой позицией нельзя
согласиться. Практика перевода характерна именно тем, что,
несмотря на все наслоения различных интерпретаций, оригинал —
иначе говоря, предмет, референт, подлинник — существует и
побуждает нас с ним считаться, если, конечно, мы не заняли
позицию столь популярного ныне креативизма любой ценой, при
которой исследование, познание, не обеспечивающее смены ярких
впечатлений, фактически объявляется устаревшим и ненужным.
Во втором разделе я попыталась показать, что проблема
перевода была всегда, но только сейчас, в ситуации кризиса общения
и понимания, она достучалась до нашего философского сознания.
Тем самым слепое пятно, место превращений и вытеснений,
становится областью, подлежащей осмыслению и разработке.
Перевод входит в категориальную сетку философии; все те
философские проблемы, которые в этой связи обсуждались — прежде всего
проблемы рефлексии и понимания — так или иначе связаны с
преодолением культурных и интеллектуальных разрывов (задача
соизмерения несоизмеримого) и с преодолением возникающих
в восприятии склеек между означающими формами и
передаваемыми содержаниями (задача критики, направленной на субстан-
656
Познание и перевод. Опыты философии языка
циализацию мыслительных образований). Обе эти функции
размышления о переводе — критическая и конструктивная -
приводят к расширению пространства умопостигаемого,
интеллигибельного.
Перевод - это рефлексивный ресурс понимания. Разумеется,
он выступает как антропологическая константа человеческого
существования и как этический императив. Однако в рамках
нашего рассмотрения важнее всего то, что перевод являет себя как
методологическая стратегия, которая долго оставалась в тени на
фоне более продвинутых - диалога и интерпретации. Однако весь
наш опыт свидетельствует о том, что без перевода ни диалог,
ни интерпретация невозможны, более того, именно перевод
выступает как условие возможности диалога: все претензии на
постижение другого посредством одних интуитивных прозрений,
без выработки общего языка, неизбежно заканчиваются
провалом, гипертрофией своего, выдаваемой за познание другого.
Таким образом, если поначалу познание и перевод могли показаться
разнородными предметами, то теперь, после того как я провела
эти понятия по многим контекстам философии языка, можно,
надеюсь, увидеть их как особую, sui generis концептуальную пару:
познание в целом ряде своих аспектов выступает как перевод или
же предполагает перевод, а перевод, в свою очередь, - как
познание или же практику, реализующую познавательное отношение.
Все проблемы и все достижения перевода — это проблемы и
достижения познания. Все трудности перевода, и в частности
проблема переводимости и непереводимости, одновременно и
бросают вызов эпистемологии, и оснащают ее пути новыми средствами.
Конечно, все эти операции и механизмы работы сознания -
рефлексивные и нерефлексивные, дискурсивные и интуитивные -
переплетены, и нам приходится, расчленяя их в абстракции,
опосредовать эти расчленения челночным движением, выплетающим
ткань взаимного познания и понимания.
Разумеется, в книгу вошла лишь небольшая часть материала,
относящегося к этой теме. Перевод художественной литературы,
в частности поэзии, где особенно сложно сохранять свойства
оригинала, литературоведческие и лингвистические теории перевода,
процессы обучения языку, психолингвистические проблемы
билингвизма, творчество писателей, пишущих не только на родном
языке, но и на других языках, новые проблемы машинного
перевода и цифровых технологий - все это в принципе изучено лучше,
чем «простой» вопрос о познании и переводе. Однако теперь,
по завершении работы над книгой, я вижу во всех этих проблемах
дальнейшие направления исследования: философский и
методологический смысл этого материала для гуманитарного познания
Заключение
657
еще предстоит выявить. Интересной перспективой дальнейшей
работы будет, в частности, и вопрос об объемных культурных
стратегиях перевода — исправляющем переводе во Франции
(XVIII в.), о переводе как специфике немецкого гения в его
романтическом исполнении (XIX в.), о проекте «библиотеки
всемирной литературы» в замыслах Максима Горького (XX в.) —
и в этой связи о «принципах советской переводческой школы»
и др. — во всех этих подходах запечатлена связь подходов к
переводу с общими социальными и культурными потребностями мест
и времен. При этом изучать перевод без примеров, в абстракции,
непродуктивно: он выступает как своего рода прецедентное
знание, вроде английского права. Огромный материал перевода
современной западной мысли накоплен в России за последнюю
четверть века: он нуждается в изучении и обобщении, в разборе
достижений и ошибок. В этой книге упомянуто много имен,
но еще больше тех, кто, всячески заслуживая изучения, не был
даже упомянут; хочется надеяться, что мне еще удастся написать
о переводе другую книжку, восполняющую эти пробелы.
История русской культуры - кладезь сведений о культурных
и познавательных практиках перевода. Когда-то на Бостонском
всемирном философском конгрессе я выступила с тезисом о
необходимости выработки русского концептуального языка —
после десятилетий информационного и познавательного дефицита,
возникшего вследствие отрыва русской мысли от современной
западной мысли. Некоторые русские участники конгресса
встретили этот тезис негодующими возгласами: разве русский
концептуальный язык до сих пор не сложился? Во втором разделе книги
приводится обширный исторический материал,
свидетельствующий о том, как воспринимали эту проблему классики русской
культуры, насколько важной они считали — на разных этапах —
задачу развития русского понятийного языка. Сейчас для нас
важно продолжать изучение этого опыта: вот переводы Платона,
сделанные Карповым, — скорее буквалистские, вот переводы
Владимира Соловьева, создавшие образец для последующих
переводов; продвигать историческую рефлексию о переводе и
переводах следует и ради Платона, и ради нас самих. При этом одно-
го-единственного алгоритма не существует: многое зависит от
этапа развития культуры (вширь или вглубь) от предполагаемого
читателя, от того, впервые или повторно делается перевод, и еще
от многого другого.
Ну так и каков же итог: можно ли сказать, что ситуация
Вавилона, отчуждающего многоязычия, преодолевается? будет ли она
в принципе преодолена? Вряд ли, скорее даже наоборот: текстов
на других языках (а всего на свете языков, напомним, 5 или 6 ты-
658
Познание и перевод. Опыты философии языка
сяч, хотя далеко не все имеют письменность) будет все больше,
хотя и навыки перевода тоже усовершенствуются. Конечно, писать
философские трактаты на хопи или баскском (что будет с этими
языками дальше — зависит в большой степени от воли говорящих
на них людей) вряд ли кому-нибудь удастся, хотя сочинять
прекрасные стихи можно на любом языке. Так что Вавилон
сохранится, только — вслед за Беньямином, Рикёром или Деррида,
за многими другими, обсуждавшими этот вопрос, — уже не как
проклятье, а как творческая задача: как испытание, в котором
формируется и личное достоинство человека, и его способность
слышать другого. Иначе говоря, нам важно сейчас понять
позитивный и реальный смысл метафоры «говорить на разных
языках». Конечно, поиск общего языка неотъемлем от нашей жизни
и в ее повседневности и в ее более специализированных
проявлениях, однако не будем строить иллюзий: эта работа никогда не
закончится. А потому «задача переводчика» неизбывна и
бесконечна. Род человеческий состоит по определению из людей
переводящих (даже если они об этом и не подозревают) — с языка на
язык, из культуры в культуру; кроме того, все мы осуществляем
перевод внутри своего родного языка, перевод между разными
семиотическими системами (литература, кино, танец, музыка) и др.
Нам стоило бы заняться сбором - по крупице - информации
о том, как делаются и осмысляются переводы в разных
культурах — для создания когда-нибудь, под эгидой ЮНЕСКО, единой,
общечеловеческой библиотеки переводов и работ по их
осмыслению. Этот опыт будет бесценен для ведения всех человеческих
дел — в политике, праве, экономике, торговле, научном обмене
или художественных практиках.
За последние годы мне довелось участвовать в нескольких
российских и зарубежных конференциях по переводу. На них
обсуждались многие важные проблемы: как влияют на перевод
различные установки и стратегии — интерпретации, адаптации,
переделки, воссоздания? Какую роль играет в этом процессе
историчность языка, возникновение новых культурных потребностей,
приводящих к созданию новых переводов? Особый круг переводо-
ведческих вопросов касался того, что имеет сложно фиксируемую
форму (следы, отголоски, отдаленные соответствия, аффекты,
молчание, семантические ценности ритма и тембра, словом, все
то, что находится как бы между строк — в языках, контекстах,
культурах). Среди всех этих вопросов, тонко затрагивающих
переводческие маргиналии (на самом деле, в переводе все важно), можно
отметить продвижение к той теме, которая рассматривалась в
данном исследовании. В центре внимания исследователей
социальные аспекты перевода, этноментальный мир человека, меж-
Заключение
659
культурная коммуникация и перевод, вопросы философии,
социологии и методологии перевода, истории перевода и
переводческих учений, когнитивные, психологические и
культурно-исторические основы переводческой деятельности и др. Так, на одной из
недавно состоявшихся в Париже конференций ставился вопрос
о переводе как «современной эпистеме», или, иначе, как
«операторе» современных гуманитарных наук, без которого невозможно
плодотворное переосмысление новых познавательных ситуаций,
сложившихся в истории, социологии, исследованиях культуры
и других познавательных областях. По всем этим вопросам
необходимо как можно более широкое научное сотрудничество.
Хотя тут есть и своеобразие: как представляется, на данном этапе
в России, где в силу социально-исторических обстоятельств имел
место долгий отрыв от современной западной мысли, главное
внимание должно уделяться переводу основного корпуса понятий
философии и гуманитарных наук.
Сейчас, в начале XXI в., некоторым в России кажется, будто
«эпоха переводов» уже завершилась, безвозвратно канула в
прошлое. При этом также отмечается, что завершилась «французская
интеллектуальная революция в России», экспансия французской
философской и критической мысли в постсоветскую Россию.
И в самом деле, в ближайшем будущем мы, наверняка, не увидим
такого мощного переводческого процесса, какой видели в 1990-е
годы. Однако хочется надеяться, мы станем свидетелями более
интенсивного усвоения того, что довольно поверхностно
распространялось в 1990-е годы. При этом, подчеркивая все своеобразие
нынешнего периода, будем помнить и о его исторических
прецедентах. В России, как известно, всегда чередовались периоды
«открытости» и «закрытости» по отношению к Западу и,
соответственно, приливы и отливы интереса к переводу, осознанность
и неосознанность самой задачи выработки концептуальных
языков, выработки своего языка (во взаимодействии с другими). Быть
может, российская культура имеет свой собственный ритм
развития, при котором периоды восприятия Запада как «своего
другого» чередуются с периодами самопогружения, а взрывы
интенсивной работы с языком сменяются более спокойной и медленной
выработкой языковых средств мысли. Хочется думать, что яркие
эксперименты наших предшественников - Ломоносова и Тредиа-
ковского, Пушкина и Шпета — по созданию русского
понятийного языка - это не только глухое прошлое, но и более осознанное
будущее русской культуры. Перевод для нас — это не только
культурный факт, но и культурный вызов. «Защита и прославление»
русского языка не должны быть культурной политикой для
юбилейных годовщин: нам нужно не любование достигнутым, но по-
660
Познание и перевод. Опыты философии языка
стоянные, чуткие к потребностям современности усилия,
опирающиеся на исторический опыт.
Перевод выступает как форма существования истории
культуры, культурной памяти, а потому опыт перевода и само
переведенное - это национальное достояние, выкристаллизовавшееся с
участием опыта других культур. Перевод воочию показывает, как
сохранить самостоятельность, не выставляя кордонов, как
стремиться к универсальному (только не заданному заранее, а
меняющемуся и к тому же множественно определенному), не теряя
самого себя. Перевод в культуре предстоит как огромное поле
культурных усилий — больших и малых. Все эти практики -
спонтанные или осознанные, любительские или профессиональные,
все эти стремления различных дисциплин, все больше
прислушивающихся друг к другу, прямо или косвенно свидетельствуют
в пользу той позиции, которую я здесь пытаюсь очертить: не
только отношение к своему родному языку, но и осознание
множественности человеческих языков, понимание того, что все мы
говорим «на разных языках», определяет человека в его бытии, в самой
возможности мыслить. Абсолютных побед на пути перевода нет,
но все равно есть упорные, вновь и вновь возобновляемые
попытки пробиться к пониманию из марева страхов, отчаяния,
безнадежности. Перевод — это общечеловеческое дело, в котором может
участвовать и реально участвует каждый. Диалог без перевода - это
метафора или, можно сказать, прекрасный философский миф:
для того чтобы он стал реальностью, нужна работа перевода. А
потому скажем, не боясь преувеличений: перевод есть самое
прекрасное доказательство того, что человечество все же существует.
Литература
1. Adamski D. De l'intraduisible du russe (analyse des mots traduits en
français comme «realité» et «discours» // Traduire les philosophes /
Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
2. Agamben G Pardes. L'écriture de la puissance // Derrida. Numéro
spec. Revue philosophique de la France et de l'étranger. 1990. № 2.
3. Althusser L. et al. Lire le Capital. Paris, 1965.
4. Althusser L. Freud et Lacan // La nouvelle critique. 1964-1965.
№ 161-162.
5. Althusser L. La découverte du Docteur Freud // Dialogue franco-
soviétique sur la psychanalyse. Toulouse, 1984.
6. Althusser L· Pour Marx. Paris, 1965.
7. Amalric J.L. Ricoeur, Derrida. L'enjeu de la métaphore. Paris, 2006.
8. Amiot M. Le relativisme culturaliste de Michel Foucault // Temps
modernes. 1967. № 248.
9. André S. Lacan: Points de repère. Paris, 2011.
10. The Anthropologist as Hero. Cambridge (Mass.), 1970.
11. Antipsychiatrie, antipsychanalyse: Entretien avec F. Guattari //
Magazine littéraire. Mai 1976.
12. L'apport freudien: éléments pour une encyclopédie de la
psychanalyse. Sous la dir. De P.Kaufmann. Paris, 1993.
13. Apter E. The Translation Zone. A New Comparative Literature.
Princeton and Oxford, 2006.
14. Arrivé M. Linguistique et psychanalyse: Freud, Saussure, Hjelmslev,
Lacan et les autres. Paris, 1986.
15. Artiéres Ph. et Potte-Bonneville M. D'après Foucault. Gestes, luttes,
programmes. Paris, 2012.
16. Aubin V. La philosophie n'a pas de patrie // Le Figaro Littéraire. 2004.
21 oct.
17. Authier-Revuz J. Ces mots qui ne vont pas de soi. Boucles reflexives
et non-coïncidences du dire. En 2 vol. Paris, 1995.
18. Auzias J.-M. Clefs pour le structuralisme. 2 éd. Paris, 1967.
19. Avtonomova N. Derrida en russe // Revue philosophique de la France
et de l'étranger. 2002. № 1/2.
20. Avtonomova N. Foucault: critique de la raison anthropologique //
Michel Foucault: Les jeux de la vérité et du pouvoir. Etudes
européennes / Sous la dir. d'A. Brossât. Nancy, 1994.
21. Avtonomova N Lacan avec Kant : l'idée du symbolisme // Lacan
avec les philosophes. Paris, 1991.
22. Avtonomova N. Lacan: renaissance ou fin de la psychanalyse //
L'Inconscient: la discussion continue. Moscou, 1989.
662
Познание и перевод. Опыты философии языка
23. Avtonomova N. Paradoxes de la réception de Derrida en Russie.
Cahiers de L'Herne. Spécial: Derrida / Sous la dir. de M.-L. Mallet,
G. Michaud. Paris, 2004. № 83.
24. Avtonomova N. Le problème de la traduction et l'intraduisible dans la
conception sémiotique de Lotman // Glissements, décentrements,
déplacement. Pour un dialogue sémiotique franco-russe / Sous la dir.
de M. Costantini. Paris, 2013. Цифровая библиотека
университета Париж-8, постоянный инвентарный номер:
http;//>ywwtt)it)liQtheque-numérique-pari$8tfr/frç/rgf/
164239/COLN3/
25. Avtonomova N Réponses à Balibar Ε., Ogilvie В., Conté С,
Ragozinski J.// Lacan avec les philosophes. Paris, 1991.
26. Avtonomova N. Traduction et création d'une langue conceptuelle russe :
Histoire et actualité // Revue philosophique de la France et de l'étranger.
2005. № 4.
27. Avtonomova NS. Überzetzen als universwlle Praxis and
philosophisches Problem // Russische Übersetzungswissenschaft an der
Schwelle zum 21. Jahrhundert / Birgit Menzel/Irina Alekseeva (Hg.)
unter Mitarbeit von Irina Pohlan. Berlin, 2013.
28. Avtonomova N. The Use of Western Concepts in Post-Soviet
Philosophy. Translation and Reception // Kritika. Exploration in
Russian and Eurasian History. Bloomington, Indiana. 2008. Vol. 9.
№1.
29. Badiou A. Lacan et Platon : le mathème est-il une idée ? // Lacan
avec les philosophes. Paris, 1991.
30. Badiou A.f Roudinesco E. Lacan, passé présent. Dialogue. Paris,
2012.
31. Barnes J. Formal Language and Natural Language // De
l'intraduisible en philosophie. Rue Descartes. 1995. № 14.
32. Barthes R. Critique et vérité. Paris, 1966.
33. Barthes R. Le degré zéro de l'écriture. Suivi des Eléments de
sémiologie. Paris, 1965.
34. Barthes R. L'empire des signes. Genève, 1970.
35. Barthes R. Essais critiques. Paris, 1964.
36. Barthes R. Mythologies. Paris, 1957.
37. Barthes R. Le plaisir du texte. Paris, 1973.
38. Barthes R. Roland Barthes par Roland Barthes. Paris, 1975.
39. Barthes R. S/Z. Essai. Paris, 1970.
40. Barthes R. Sade, Fourier. Loyola. Paris, 1971.
41. Barthes R. Sur Racine. Paris, 1963.
42. Barthes R. Système de la mode. Paris, 1967.
43. Baudrillard J. Oublier Foucault, Auvers-sur-Oise, 1977 (réimpr.
1997).
44. Baudry F. Le noeud borroméen et l'objet a // Lacan avec les
philosophes. Paris, 1991.
45. Becker A.L. Beyond Translation. Essays toward a Modem Philology.
Ann Arbor, 1995.
Литература
663
46. BenmakhloufA., Lavigne J.-F., éds. Avenir de la raison. Devenir des
rationalités. Paris, 2004.
47. Benveniste E. Problèmes de linguistique générale. Paris, 1966.
48. Berçu F. Sed perseverare diabolicum // Arc 1980. № 49.
49. Berman A. L'épreuve de l'étranger. Paris, 1984.
50. Berman A. Pour une critique des traductions : John Donne. Paris,
1995.
51. Berman A. La traduction et la lettre - ou l'auberge du lointain // Les
tours de Babel (A. Berman,G. Granel e.a.). Mauzevin, 1985.
52. Bertaux D. Les transmissions familiales. Esquisse d'une comparaison
franco-soviétique // Carrefours sciences sociales : le moment
moscovite / Sous la dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris, 1995.
53. Bertherat Y. Freud avec Lacan ou la science avec la psychanalyse //
Esprit. 1967. № 366.
54. Bertholet D. Claude Lévi-Strauss. Paris, 2003.
55. Bertrand M. La pensée et le trauma. Entre psychanalyse et
philosophie. Paris, 1990.
56. Bertrand M. L'urgence de penser // Carrefours sciences sociales : le
moment moscovite / Sous la dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris,
1995.
57. Bertrand M., Doray B. Psychanalyse et sciences sociales. Paris,
1989.
58. Bertrand M. et.al. Ferenczi, patient et psychanalyste. Paris, 1994.
59. Between Deleuze and Derrida / Patton P., Protevi J., eds. L., N.Y.,
2003.
60. Blanchot M. Michel Foucault tel que je l'imagine. Fontfroide-le-
Haut, 1986.
61. Bokanowski T. Sandor Ferenczi. Paris, 1997.
62. Borch-Jacobsen M. Les alibis du sujet (Lacan, Kojeve et alii) // Lacan
avec les philosophes. Paris, 1991.
63. Borch-Jacobsen Λ/. Lacan. Le maître absolu. Paris, 1990.
64. Borch-Jacobsen M. Souvenirs d'Anna O. Une mystification
centenaire. Paris, 1995.
65. Borch-Jacobsen Λ/. Le sujet freudien. Paris, 1982.
66. Bourguignon Α., Cotet P., Laplanche J., Robert F. Traduire Freud.
Paris, 1989.
67. Bousseyroux Af. Lacan le borroméen. Creuser le nœud. Toulouse,
2014.
68. Braunstein J.-F. Bachelard, Canguilhem, Foucault. «Le style
français» en épistémologie // Les philosophes et la science / Sous la
dir. de P. Wagner. Paris, 2002.
69. Bres Y. Freud... en liberté. Paris, 2006.
70. Bres Y. L'inconscient. Paris, 2002.
71. Bres Y. Le psychologisme // Carrefours sciences sociales : le moment
moscovite / Sous la dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris, 1995.
72. Brown P.L. Epistemology and Method: Althusser, Foucault,
Derrida // Cultural Hermeneutics. Boston, 1975. Vol. № 2.
664
Познание и перевод. Опыты философии языка
73. Brugère F. Foucault et Baudelaire. L'enjeu de la modernité //
Lectures de Michel Foucault. Sur les Dits et Ecrits. Vol. 3. Lyon,
2003.
74. Bruno P. Lacan, passeur de Marx. L'invention du symptôme.
Toulouse, 2010.
75. Biittgen P. Martin Luther traducteur // De l'intraduisible en
philosophie / Rue Descartes. 1995. № 14.
76. Calle-Gruber M. Jacques Derrida, la distance généreuse. Paris, 2009.
77. Camus A. Le mythe de Sisyphe. Paris, 1942.
78. Canguilhem G. Mort de l'homme ou l'épuisement du cogito? //
Critique. 1967. №242.
79. Caputo J.D. éd. Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with
Jacques Derrida. N.Y., 1997.
80. Carnap R. Intellectual Autobiography // The Philosophy of Rudolph
Carnap / Ed. by P.A. Schilpp. La Salle, Illinois, 1963.
81. Carrefours sciences sociales et psychanalyse: le moment moscovite /
Sous la dir. de B. Doray et de J.-M. Rennes. Paris, 1995.
82. Carroy J., Ohayon Α., Pias R. Histoire de la psychologie en France.
XIXe-XXe siècles. Paris, 2006.
83. Cassin B. Jacques le sophiste. Lacan, logos et psychanalyse. Paris,
2012.
84. Cassin B. Mots croisés ? // Observateur. 2004. 23 septembre.
85. CatfordJ. A Linguistic Theory of Translation. London, 1965.
86. Cavallari KM. Savoir and Pouvoir: Michel Foucault's Theory of
Discursive Practice // On Foucault / Humanities in Society. 1980.
T. 3.№ 1.
87. Caws P. What Is Structuralism? // Partisan Review. N-Y. 1968. Vol. 35.
№ 1.
88. Caygill H. From Abstraction to Wunsch: The Vocabulaire Européen
des Philosophies // Radical Philosophy. A Journal of Socialist and
Feminist Philosophy. 2006. July-August.
89. Cazeaux C. Metaphor and Continental Philosophy. From Kant to
Derrida. N.Y., 2007.
90. Cent ans après. Entretiens avec J.-L. Donnet, Α. Green,
J. Laplanche et al. Paris, 1998.
91. Cent ans après... la suggestion // Presse méd. 1984. Vol. 13. № 41.
92. Charbonnier G. Entretiens avec Claude Lévi-Strauss. Paris. 1961.
93. Châtelet F. Rendez-vous dans deux ans // Le nouvel observateur.
1967. janv. 11-17. № 113.
94. CherkiA. Pour une mémoire // Retour à Lacan. Paris, 1981.
95. Chertok L. Le conflit Freud - Ferenczi ou Théorie et pratique en
psychanalyse // Sixièmes journées de formation continue. Paris,
janvier, 1986.
96. Chertok L. Psychothérapie et sexualité. Considérations historiques et
épistémologiques// Psychothérapie. 1981. № 4.
97. Chertok L. La relation médecin-patient / Préface d'Isabelle Stengers.
Paris, 2000.
Литература
665
98. Chertok L. Sigmund chez Karl // Le Monde. 2.9.1984.
99. Chertok L. Suggestio rediviva // Résurgence de l'hypnose: une
bataille de deux cents ans. Paris, 1984.
100. Chertok L, Stengers I. Le Coeur et la raison. L'hypnose en question,
de Lavoisier à Lacan. Paris, 1989.
101. Chertok L., Stengers L, Gille D. Mémoires d'un hérétique. Paris,
1990.
102. Chevallier Ph. Michel Foucault et le christianisme. Lyon, 2011.
103. Chevallier Ph. Michel Foucault. Le pouvoir et la bataille. Nantes,
2004, 2-е éd. 2014.
104. Claude Lévi-Strauss: the Anthropologist as Него // Ed. by E.N. a.
T. Hayes. Cambridge (Mass.)-London, 1970.
105. Clément C. Claude Lévi-Strauss. Paris, 2003.
106. Clément C. Les fils de Freud sont fatigués. Paris, 1978.
107. Clément C. Le pouvoir des mots: Symbolique et idéologique. Paris,
1973.
108. Clément С Vies et légendes de Jacques Lacan. Paris, 1980.
109. Cléro J.-P. Dictionnaire Lacan. Paris, 2008.
110. Cléro J.-P. Lacan. Y a-t-il une philosophie de Lacan? Paris, 2006.
111. Cléro J.-P. Vocabulaire de Lacan. Paris. 2012.
112. ColombelJ. Les mots de Foucault et les choses // Nouvelle critique.
1967. №4.
113. Coppale D., Gardin B. Discours du pouvoir et pouvoirs du discours //
Pensée. 1980. №209.
114. Crépon M. Traduire, témoigner, survivre // Penser avec Jacques
Derrida. Rue Descartes (numéro spec.) Paris, 2006. № 52.
115. Culler J. Jacques Derrida // Structuralism and Since. From Lévi-
Strauss to Derrida. Oxford, 1982.
116. Culler J. On Deconstruction. Theory and Criticism after
Structuralism. Ithaca, Ν.Y., 1982.
117. Cusset F. French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cie et les
mutations de la vie intellectuelle aux Etats-Unis. Paris, 2005 (1 éd.
fr. 2003).
118. D'HondtJ. Les conséquencs des erreurs de traduction // Traduire
les philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris,
2000.
119. Daix P. Entretien avec Jacques Lacan // Lettres françaises. 1966.
№ 1159.
120. Daix P. Qu'est-ce que le structuralisme ? Un entretien de Pierre
Daix avec François Wahl // Lettres françaises. 1969. № 1268.
121. Dastur F. La pensée comme traduction: autour de Heidegger //
Traduire les philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch.
Paris, 2000.
122. David-Ménard M. Les constructions de l'universel. Psychanalyse,
philosophie. Paris, 1997.
123. David-Ménard M. L'hystérique entre Freud et Lacan. Corps et
langage en psychanalyse. Paris, 1983.
666
Познание и перевод. Опыты философии языка
124. David-Ménard M. Kant et Freud pensent-ils la même langue ? //
Traduire les philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch.
Paris, 2000.
125. Debaene V. et Keck F. Claude Lévi-Strauss: l'homme au regard
éloigné. Paris, 2009.
126. Dekens O. Derrida. Pas à pas. Paris, 2008.
127. De l'intraduisible en philosophie (numéro spéc). Rue Descartes.
1995. № 14.
128. Deleuze G. A quoi reconnaît-on le structuralisme ? // La philosophie.
T. IV: Le XXe siècle. Vol. 4. Paris, 1973.
129. Deleuze G. Foucault. Paris, 1986.
130. Deleuze G. Un nouvel archiviste // Critique. 1970. № 274.
131. Deleuze G, Guattari F. Capitalisme et schizophrénie: L'Anti-Œiipe.
Paris, 1972.
132. Deliège R. Introduction à l'anthropologie structurale. Paris, 2001.
133. Delisle J. L'analyse du discours comme méthode de traduction.
Ottawa, 1984.
134. DelrieuA. Lévi-Strauss lecteur de Freud. Paris, 1993.
135. Delruelle E. Lévi-Strauss et la philosophie. Bruxelles, 1989.
136. La démocratie à venir. Autour de Jacques Derrida (2002). Paris,
2004.
137. Dennes M. Husserl - Heidegger. Influence de leur oeuvre en Russie.
Paris, 1998.
138. Depuis Lacan. (Colloque de Cerisy). Paris, 2000.
139. Derrida J. Adieu - à Emmanuel Levinas. Paris, 1997.
140. Derrida /. L'animal que donc je suis / Ed. établie par M.-L. Mallet.
Paris. 2006.
141. Derrida J. Apories. Mourir - s'attendre aux «limites de la vérité».
Paris, 1996.
142. Derrida J. Apprendre à vivre enfin. Entretien avec Jean Birnbaum.
Paris, 2005.
143. Derrida J. L'archéologie du frivole. Lire Condilac. Paris, 1976.
144. Derrida J. Artaud le Moma. Paris, 2002.
145. Derrida У. L'autre cap, suivi de La Démocratie ajournée. Paris,
1991.
146. Derrida J. Béliers. Paris, 2003.
147. Derrida J. La bête et le souverain. Vol. 1. 2001-2002. Paris, 2008.
148. Derrida J. La bête et le souverain. Vol. 2. 2002-2003. Paris, 2010.
149. Derrida J. Chaque fois unique, la fin du monde. Paris, 2003.
150.Derrida J. Circonfession // Bennington С, Derrida J. Jacques
Derrida. Paris, 1991.
151. Derrida J. La conférence de Heidelberg ( 1988), Rencontre-débat (avec
H.-G. Gadamer et Ph. Lacoue-Labarthe). Lignes-IMEC, 2014.
152. Derrida /. Cosmopolites de tous les pays, encore un effort! Paris,
1997.
153. Derrida J. De l'esprit. Heidegger et la question. Paris, 1987.
154. Derrida J. De lagrammatologie. Paris, 1967.
Литература 667
155. Derrida J. De l'hospitalité (A.Dufourmantelle invite J.D. a
répondre). Paris, 1997.
156. Derrida J. D'un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie.
Paris, 1983.
157. Derrida J. La différance // Derrida J. Marges - de la philosophie.
Paris, 1972.
158. Derrida J. La dissémination. P., 1972.
159. Derrida J. Donner la mort. Paris, 1999.
160. Derrida J. Donner le temps. I. La fausse monnaie. Paris, 1991.
161. Derrida J. Le droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique.
Paris, 1997.
162. Derrida J. Du droit à la philosophie. Paris, 1990.
163. Derrida J. Ecriture et différence. Paris, 1967.
164. Derrida J. Envois // La carte postale: de Socrate à Freud et au-delà.
Paris, 1980.
165. Derrida J. Eperons. Les styles de Nietzsche. Paris, 1978.
166. Derrida J. Fichus (Discours de Francfort). Paris, 2002.
167. Derrida J. Foi et Savoir suivi de Le Siècle et le Pardon. Paris, 2000.
168. Derrida J. Force de loi. Paris, 1994.
169. Derrida J. Heidegger: la question de l'Etre et l'Histoire (Курс
лекций 1964-1965). Paris, 2013.
170. Derrida J. Lettre à un ami japonais // Derrida J. Psyché. Inventions
de l'autre. Paris, 1987.
171. Derrida J. Mal d'archivé: une impression freudienne. Paris, 1995.
172. Derrida J. Marges - de la philosophie. Paris, 1972.
173. Derrida J. Marx & Sons. Paris, 2002.
174. Derrida J. Mémoires - pour Paul de Man. Paris, 1988.
M5. Derrida J. Le monolinguisme de l'autre ou La prothèse d'origine.
Paris, 1996.
M6. Derrida J. La mythologie blanche. La métaphore dans le texte
philosophique // Derrida J. Marges - de la philosophie. Paris, 1972.
177. Derrida J. L'origine de la géométrie de Husserl. Intr. et trad. Paris,
1962.
178. Derrida J. Otobiographies. L'enseignement de Nietzsche et la
politique du nom propre. Paris, 1984.
179. Derrida J. Papier Machine. Paris, 2001.
180. Derrida J. Parages. Paris, 1986.
181. Derrida J. Passions. Paris, 1993.
182. Derrida J. La peine de mort. Vol. 1 (1999-2000). Paris, 2010.
183. Derrida J. Politiques de l'amitié. Paris, 1994.
184. Derrida J. Politique et amitié (Интервью конца 1980-х гг.
об отношении к Альтюссеру и Марксу). Paris, 2011.
185. Derrida J. Points de suspension. Entretiens / Prés, par E. Weber.
Paris, 1992.
186. Derrida J. Positions. Paris, 1972.
187. Derrida J. Pour l'amour de Lacan // Lacan avec les philosophes.
Paris, 1991.
668
Познание и перевод. Опыты философии языка
188. Derrida J. Le problème de la genèse dans la philosophie de Husserl.
Paris, 1990.
189. Derrida J. Psyché. Inventions de l'autre. Paris, 1987.
190. Derrida J. Qu'est-ce qu'une traduction «relevante» ? Conférence
inaugurale de Jacques Derrida // Quinzièmes assises de la traduction
littéraire (Arles 1998). 1999.
191. Derrida J. Résistances - de la psychanalyse. Paris, 1996.
192. Derrida J. Le retrait de la métaphore // Derrida J. Psyché. Inventions
de l'autre. Paris, 1987.
193. Derrida J. Sauf le nom. Paris, 1993.
194. Derrida J. Schibboleth - pour Paul Celan. Paris, 1986.
195. Derrida J. Signéponge. Paris, 1988.
196. Derrida J. Spectres de Marx. Paris, 1993.
197. Derrida J. Le structure, le signe et le jeu dans le discours des sciences
humaines // Derrida J. L'écriture et la différence. Paris, 1967.
198. Derrida J. Le Toucher, Jean-Luc Nancy. Paris, 2000.
199. Derrida J. Les tours de Babel // Derrida J. Psyché. Inventions de
l'autre. Paris, 1987.
200. Derrida J. Ulysse gramophone. Suivi de : Deux mots pour Joyce.
Paris, 1987.
201. Derrida J. L'Université sans condition. Paris, 2001.
202. Derrida J. La voix et le phénomène. Paris, 1967.
203. Derrida J. Voyous. Deux essais sur la raison. Paris, 2003.
204. Derrida J. Y a-t-il une langue philosophique? // Autrement. № 102.
1988.
205. Derrida J., Nancy J.-L. Ouverture // Rue Descartes. Les 20 ans du
Collège international de philosophie. 2004. № 45.
206. Derrida J. Habermas J. Le «concept» du 11 septembre. Paris, 2004.
207. Derrida J. Saint Augustin. Des confessions. Paris, 2007.
208. Derrida. Cahiers de l'Herne. Paris, 2004. № 83.
209. Derrida. Revue philosophique de la France et de l'étranger. 1990.
№2.
210. Derrida and Religion. Other Testaments / Sherwood Y., Hart К.,
eds, N.Y., 2005.
211. Derrida: la déconstruction / Coordonné par Ch. Ramon. Paris, 2005.
212. Derrida d'ici, Derrida de là // Sous la dir. de Dutoit T. et
Romanski Ph. Paris, 2009.
213. Derrida, la tradition de la philosophie / Textes rassemblés par Marc
Crépon et Frédéric Worms. Paris, 2008.
214. Descola Ph. Les deux natures de Lévi-Stauss // Claude Lévi-Strauss/
Sous la dir. de M. Izard. Paris: Editions de l'Herne, 2004.
215. Descola Ph. Par-delà nature et culture. Paris, 2005.
216. Descombes V. L'Equivoque du symbolique // Confrontation. 1980.
Cahiers 3.
217. Désveaux E. Au-delà du structuralisme : six méditations sur Claude
Lévi-Strauss. Paris, 2008.
218. Détienne M. Comparer l'incomparable. Paris, 2000.
Литература
669
219. Dictionnaire de la psychanalyse / Sous la dir. de P.Chemama. Paris,
1993.
220. Dictionnaire de la psychanalyse. Encyclopedia Universalis. Paris,
1997.
221. Dolto F. Les chemins de l'éducation. En 2 vol. Paris, 1994.
222. DorJ. L'a-scientificité de la psychanalyse. En 2 vol. Paris, 1988.
223. DorJ, Introduction a la lecture de Lacan. V. 1 : L'inconscient
structuré comme un langage. Paris, 1985.
224. DorJ. Introduction à la lecture de Lacan. V. 2 : La structure du sujet.
Paris, 1992 (многократные переиздания).
225. Doray В. Psychanalyse, du singulier au pluriel // Révolution. 1986.
№313.
226. Dosse F. Histoire du structuralisme. T. 1. Le champ du signe.
1945-1966. Paris, 1991; T. 2. Le chant du cygne. 1967 à nos jours.
Paris, 1992.
227. Dosse F. La marchée des idées. Histoire des intellectuels - histoire
intellectuelle. Paris, 2003.
228. Dosse F. Paul Ricœur. Le sens d'une vie. Paris, 1997.
229. Le Dossier Claude Lévi-Strauss. Le penseur du siècle. Dossier
coordonné par Alexis Lacroix // Magazine Littéraire. Mai 2008. № 475.
230. Dossier Foucault inédit / Magazine littéraire. № 540, fév. 2014.
231. Dossier Michel Foucault / Magazine littéraire. № 435, oct. 2004.
232. Dreyfus H.L., Rabinow P. Habermas et Foucault: Qu'est-ce que l'âge
d'homme? // Michel Foucault: Du monde entier // Critique. 1986.
T. 42. №471-472.
233. Dreyfus H.L., Rabinow P. Michel Foucault: Beyond Structuralism
and Hermeneutics. Brighton, 1982.
234. Droit R.-P. Foucault, Deleuze et la pensée du dehors // Monde.
1986. 5 sept.
235. Droit R.-P. Tous les mots de la philo // Le Monde des livres. 2004.
2 oct.
236. Dufrenne M. La philosophie du néo-positivisme // Esprit, mai 1967.
237. Dumoulie С Cet obscur objet du désir. Essai sur les amours
fantastiques. Paris, 1995.
238. Eco U. The Influence of R. Jakobson on the Development of
Semiotics // Roman Jakobson. Echoes of his Scholarship. Lisse,
1977.
239. Eco U. Looking for a Logic of Culture // Times Literary Supplement.
1973, 5 Oct.
240. Eco U. Semiotica e filosofia del linguaggia. Torino. 1984.
241. Edelman B. L'Homme de foules. Paris, 1980.
242. Entretien de С. Clément avec G. Deleuze // Arc. Deleuze. Nouv. éd.
1980. №49.
243. L'épistémologie française 1830-1970 / Sous la dir. de M. Bitbol et J.
Gayon. Paris, 2006.
244. Enbon D. Michel Foucault. Paris, 1989.
245. Eribon D. Michel Foucault et ses contemporains. Paris, 1994.
670
Познание и перевод. Опыты философии языка
246. Escoubas Ε, Philosophie, langue et Bildung : tâche du traducteur (de
Heidegger et Benjamin a Humboldt) // Traduire les philosophes /
Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
247. The Ethics of Translation / Berman S., Wood M., eds. Princeton,
2005.
248. Ewald F. Anatomie et corps politiques // Critique. 1975. № 343.
249. Ewald F. Le joueur de savoirs // Libération. 1984. 30 juin-1 juil.
250. FagesJ.-B. Comprendre Jacques Lacan. 2-е éd. Paris, 2013.
251. Ferenczi S., Rank 0. The Development of Psychoanalysis.
N.Y.-Washington, 1925.
252. Ferry L., Renault A. La pensée 68 et «l'anti-humanisme
contemporain». Paris, 1985.
253. Fichte J.G Reden an die deutsche Nation // Fichte J.G Werke in
sechs Bänden. Fünfter Band. Leipzig, 1910.
254. Les fins de l'homme. A partir du travail de Jacques Derrida (1980).
Paris, 1981.
255. Les fondamentaux de la psychanalyse lacanienne. Repères
épistémologiques, conceptuels et chiniques. Rennes, 2010.
256. FontanilleJ. Sémiotique du discours. Limoges, 2000.
257. Fontanille J. Soma et sema. Figures du corps. Paris, б/г.
258. Forrester J. The Seductions of Psychoanalysis. Freud, Lacan and
Derrida. Cambridge, 1992.
259. Foucault M. L'archéologie du savoir. Paris, 1969.
260. Foucault M. Distance, aspect, origine // Théorie d'ensemble. Paris,
1969.
261. Foucault M. Dits et Ecrits (1954-1988) / Sous la dir. de D. Defert
et F. Ewald avec la collaboration de J. Lagrange. En 4 vol. Paris,
1994.
262. Foucault M. Entretien avec Madeleine Chapsal // Foucault M. Dits et
Ecrits. En 4 vol. Vol. I. Paris, 1994.
263. Foucault M. Une esthétique de l'existence: Entretien avec
A. Fontana //Monde. 1984. 15—16 juil.
264. Foucault Л/. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique.
Thèse principale... Paris, 1961.
265. Foucault M. Foucault, passe-frontières de la philosophie (inédit):
Entretien avec Droit R.-P. // Monde. 1986. 6 sept.
266. Foucault M. Maladie mentale et personnalité. Paris, 1954.
267. Foucault M. Les mots et les choses. Une archéologie des sciences
humaines. Paris, 1966.
268. Foucault Л/. Naissance de la clinique. Une archéologie du regard
médical. Paris, 1963.
269. Foucault M. L'ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège de
France le 2 déc. 1970. Paris, 1971.
270. Foucault M. La pensée de dehors // Critique. 1966. № 229.
271. Foucault M. La philosophie structuraliste permet de diagnostiquer ce
qu'est «aujourd'hui». Entretien avec G. Fellous // Foucault M. Dits
et Ecrits. En 4 vol. Vol. I. Paris, 1994.
Литература
671
272. Foucault M. Qu'est-ce qu'un auteur? // Bulletin de la Société
française de philosophie. 1969. № 3.
273. Foucault M. Qui êtes-vous, professeur Foucault? // Foucault M. Dits
et Ecrits. En 4 vol. Vol. I. Paris, 1994.
274. Foucault M. Raymond Roussel. Paris, 1963.
275. Foucault M. Souci de soi / Foucault M. Historie de la sexualité. T. 3.
Paris, 1984.
276. Foucault M. Sur les façons d'écrire l'histoire. Entretien avec
R.Bellour// Foucault M. Dits et Ecrits. En 4 vol. Vol. I. Paris, 1994.
277. Foucault M. Surveiller et punir. Naissance de la prison. Paris, 1975.
278. Foucault M. Un système fini face à une demande infini: Entretien
avec R. Bono // Sécurité sociale: l'enjeu. Paris, 1983.
279. Foucault M. Theatrum Philosophicum // Critique. 1970. № 282.
280. Foucault M. L'usage des plaisirs / Foucault M. Historie de la
sexualité. T. 2. Paris, 1984.
281. Foucault M. La vie: expérience et la science // Revue de
métaphysique et de morale. Canguilhem. 1985. Vol. 90. № 1.
282. Foucault M. La volonté du savoir / Foucault M. Histoire de la
sexualité. T. 1. Paris, 1976.
283. Foucault : a priori, phénoménologie et histoire de la raison /
Philosophie. № 123, été 2014.
284. Foucault au Collège de France: un itinéraire / Dir.: G. le Blanc,
J. Terrel. Bordeaux, 2003.
285. Foucault, Derrida, Deleuze: le retour de la pensée critique / Sciences
humaines. Hors série, spec. № 3, mai-juin 2005.
286. Foucault: Memorial Issue / Dallmayr F.R., Hinkle G.J. eds.
Dordrecht, 1987.
287'. Foucault M. Les Anormaux (1974-1975). Paris, 1999.
lu. Foucault M. Du Gouvernement des vivants (1979-1980). Paris,
2012.
289. Foucault M. Le Gouvernement de soi et des autres I (1982-1983).
Paris, 2008.
290. Foucault M. Le Gouvernement de soi et des autres II: Le Courage de
la vérité (1983-1984). Paris, 2009.
291. Foucault M. L'Herméneutique du sujet (1981-1982). Paris, 2001.
292. Foucault M. «Il faut défendre la socité» (1975-1976). Paris, 1997.
293. Foucault M. Leçons sur la volonté de savoir (1970-1971). Paris,
2011.
294. Foucault M. Naissance de la biopolitique (1978-1979). Paris, 2004.
295. Foucault M. Le Pouvoir psychiatrique (1973-1974). Paris, 2003.
296. Foucault M. La Société punitive (1972-1973). Paris, 2013.
297. Foucault M. Subjectivité et vérité (1980-1981). Paris, 2014.
298. Foucault M. Sécurité, territoire, population (1977-1978). Paris,
2004.
299. Freud in Exile. Psychoanalysis and its Vicissitudes / E.Timms and
N.Segal eds. New Haven and London, 1988.
300. Freud n'avait pas tout dit // L'Express. 1989. № 1.
672
Познание и перевод. Опыты философии языка
301. Fromm Ε. The crisis of psychoanalysis. N.Y., 1970.
302. Fuller S. Philosophy, Rhetoric, and the End of Knowledge. Madison
(Wisc.)-London, 1993.
303. Fuller S. Thomas Kuhn. A Philosophical History for Our Times.
Chicago and London, 2000.
304. Gadamer H.-G. Die Universalität des hermeneutischen Problems /
Philosophische Jahrbuch. Jg. 73. Halbband 2. München, 1966.
305. Gadamer H.-G, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer
philosophischen Hermeneutik. 4 Aufl. Tübingen, 1975.
306. Gasché R. Inventions of Difference. On Jacques Derrida. Cambr.
(Mass.), L., 1994.
307. Gasché R. The Tain of the Mirror. Derrida and the Philosophy of
Reflection. Cambr. Mass., London, 1986.
308. Gattinara E. С Les inquiétudes de la raison. Epistémologie et histoire
en France dans l'entre deux-guerres. Paris, 1998.
309. Gayon J. Le concept d'individualité dans la philosophie biologique
de Georges Canguilhem // L'épistémologie française 1830-1970 /
Sous la dir. de M. Bitbol et J. Gayon. Paris, 2006.
310. George F. L'effet 'Yau de Poêle de Lacan et de lacaniens. Paris,
1979.
311. Gersh S. Neoplatonism and Derrida. Parallelograms. Leiden,
Boston, 2006.
312. GlazerS. Lost in Translation // New York Times Book Review. 2004.
22 August.
313. GodelierM. Lévi-Strauss. Paris, 2013.
314. GodelierM. Monnaies et richesses dans divers types de société et leur
rencontre à la périphérie du capitalisme // Carrefours sciences
sociales: le moment moscovite / Sous la dir. de Doray В., Rennes J.-M.
Paris, 1995.
315. GodelierM. Pouvoir et langage // Communication. 1978. № 28.
316. Godin J. La nouvelle hypnose: Vocabulaire, principes et méthodes.
Paris, 1992.
317. Goldschmit M. Jacques Derrida: Une introduction. Paris, 2003.
318. Goldschmit M. Une langue à venir. Derrida, l'écriture hyperbolique.
Paris, 2006.
319. Gordon С Foucault en Angleterre // Michel Foucault: Du monde
entier. Critique. 1986. T. 42. № 471-472.
320. Goux J.-J. A propos des trois ronds // Lacan avec les philosophes.
Paris, 1991.
321. Goux J.-J. La monnaie : archétype, jeton, trésor // Carrefours
sciences sociales : le moment moscovite / Sous la dir. de B. Doray,
J.-M. Rennes. Paris, 1995.
322. Granel G. Les langues sont des terminaux logiques // Les tours de
Babel (A. Berman,G. Granel e.a.). Mauzevin, 1985.
323. Granger G.-G. Mathématiques et rationalité dans Г oeuvre de Jean
Cavaillès // L'épistémologie française 1830-1970 / Sous la dir. de
M. Bitbol et J. Gayon. Paris, 2006.
Литература
673
324. Green A. Idées directrices pour une psychanalyse contemporaine.
Méconnaissance et reconnaissance de l'inconscient. Paris, 2002.
325. Green A, Instance tierce ou rapports du tiercé? // Le Monde. 1990.10 fév.
326. Greimas A.J., Fontanille J. Sémiotiques des passions. Des états de
choses aux états d'âme. Paris, 1991.
327. GrittiJ., ToinetP. Le structuralisme: science et idéologie. Paris, 1968.
328. Grondin J. Le tournant herméneutique de la phénoménologie. Paris,
2003.
329. Gros F. Foucault face à son oeuvre // Lectures de Michel Foucault.
Sur les Dits et Ecrits. Vol. 3. Lyon, 2003.
330. Gros F. (coordonné par). Foucault. Le courage de la vérité. Paris,
2002, 2-е éd. corr. 2012.
331. Grünbaum A. The Foundations of Psychoanalysis: a Philosophical
Critique. Berkeley, 1983 // Behavioral and Brain Sciences. 1986.
Vol. 9. №. 2.
332. La guerre des psys / Manifeste pour une psychothérapie
démocratique / Sous la dir. de T. Nathan. Paris, 2006.
333. Guidelines for the Translation of Social Science Texts. American
Council of Learned Societies. N.Y., 2006. Ср.: ACLS Web site:
wwww.acls.org/sstp.htm.
334. Gutman С. L'avant-mai des philosophes// Magazine littéraire. Sept.
1977.
335. Habermas Jü. Une flèche dans le coeur du temps présent // Michel
Foucault: Du monde entier. Paris, 1986.
336. Hacking I, Michel Foucault's Immature Science // Nous.
Bloomington, 1979. Vol. 13. № 1.
337. Hädecke W. Structuralismus - Ideologie des Status Quo? // Neue
Rundschau. Frankfurt a.M. 1971, Jg. 82. H. 1.
338. HadoîP, De Socrate à Foucault. Une longue tradition // Hadot P. La
philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec J. Carlier et
A.I.Davidson. Paris, 2001.
339. Hagege Cl. Le souffle de la langue. Voies et destins des parlers
d'Europe. Paris, 1992.
340.Harder Y.-J. Peut-on traduire les philosophes allemands ? //
Traduire les philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch.
Paris, 2000.
341. Haudressy D. Ces mots qui disent l'actualité. Les mutations de la
langue russe. Paris, 1992.
342. Heidegger M. Holzwege. Frankfurt a.Main, 1957.
343. Hemson L. and Matin G. Redefining Translation. The Variational
approach. London and N.Y., 1991.
344. Hénaff M. Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie. Paris, 1991.
345. Hénaff M. Le don des philosophes. Repenser la réciprocité. Paris, 2012.
346. HenaultA. Histoire de la sémiotique. 2 éd. corrigée. Paris, 1992.
347. Henry H. Traduction et philosophie. Sur le livre: Natalia
Avtonomova. Connaissance et traduction. Moscou: Rosspen, 2008 //
Translittératures, été 2009, № 37. P. 79-81.
674
Познание и перевод. Опыты философии языка
348. Henry M. Généalogie de la psychanalyse. Paris, 1985.
349. Héritier F. Un avenir pour le structuralisme // Claude Lévi-Strauss /
Sous la dir. de M. Izard. Paris: Editions de PHerne, 2004.
350. Hersant /., Hersant X La Renaissance, fabrique d'intraduisibles? //
De l'intraduisible en philosophie. Rue Descartes. 1995. № 14.
351. Hesse M. The Explanatory Function of Metaphor // Revolutions and
Reconstructions in the Philosophy of Science. Brighton, 1980.
352. Honneth A. Foucault et Adorno: Deux formes d'une critique de la
modernité // Michel Foucault: Du monde entier. Critique. 1986.
T. 42. №471-472.
353. Hoyningen-Huene P. Reconstructing Scientific Revolutions. Thomas
S.Kuhn's Philosophy of Science. Chicago, London, 1993.
354. Hurst A. Derrida vis-à-vis Lacan. Interweaving Deconstruction and
Psychoanalysis. N.Y., 2008.
355. Hypnose et psychanalyse. Réponses à Mikkel Borch-Jacobsen / Sous
la dir. de L.Chertok. Paris, 1987.
356. Ihde D. Hermeneutic Phenomenology. The Philosophy of Paul
Ricœur. Evanston, 1971.
357. Inconscient: la discussion continue / Sous la réd. de A. Pranguichvili,
F. Bassine, P. Chochine. Moscou, 1989.
358. Les intellectuels et le pouvoir: Entretien Michel Foucault - Gilles
Deleuze //Arc. 1972. № 49.
359. Jaccard R. De la servitude volontaire // Monde. 1981. 6 nov.
360. Jacques Derrida / Europe. Revue littéraire mensuelle. Mai 2004.
№901.
361. Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader / Ed. by
T. Cohen. N.Y., 2002.
362. Jacques Derrida. L'événement deconstruction / Les Temps
Modernes. 2011. № 669-670.
363. Jakobson R. Linguistic Aspects of Translation / Brower R., éd. On
translation. Cambr. (Mass.), 1959.
364. Jameson F. The Prison-House of Language. Princeton, 1972.
365. Jaulin A. Le nominalisme à l'oeuvre dans la constitution de la
métaphysique : traduction/tradition d'Aristote // Les tours de Babel
(A.Berman,G.Graneletal.). Mauzevin, 1985.
366. Jguirim S. De la dette à la traduction // Langage & inconscient.
Revue Internationale. 2007. № 3. Janvier.
367. Judet P., Wismann H. L'Avenir des langues: Repenser les Humanités.
Paris, 2005.
368. Jullien F. Le détour et l'accès. Stratégies du sens en Chine, en Grèce.
Paris, 1995.
369. Jullien F. Fonder la morale. Dialogue de Mencius avec un philosophe
des Lumières. Paris, 1995.
370. Jullien F. L'ombre au tableau. Du mal ou du négative. Paris, 2002.
37X.Juranville A. Lacan et la philosophie. Paris, 1984.
372. Karcevskij S. Du dualisme asymétrique du signe linguistique //
TCLP.T. I. 1929.
Литература
675
373. Kates J. Essential History. Jacques Derrida and the Development of
Deconstruction. Evanston II, 2005.
374. Kaufmann P. L'Inconscient du politique. Paris, 1979.
375. Keck F. Claude Lévi-Strauss: une introduction. Paris, 2011.
376. Kirk R. Translation Determined. Oxford, 1986.
377. Kofman S. Traduttore, tradittore ou : il y va d'une lettre // Traduire
les philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
378. Kofman S. Un métier impossible. Lecture de «Constructions en
analyse». Paris, 1983.
379. Kofman S. Nietzsche et la métaphore. Paris, 1972.
380. Kremer-Marietti A. Foucault et l'archéologie du savoir. Paris, 1974.
381. Kriegel B. Michel Foucault aujourd'hui. Paris, 2004.
382. Kristeva J. Sémeiotikè. Recherches pour une sémanalyse. Paris,
1969.
3^3. Kuhn T.S. The Road Since Structure: Philosophical Essays,
1970-1993. Chicago, 2000.
384. Kuhn T.S. Metaphor in Science // Kuhn T.S. The Road Since
Structure: Philosophical Essays, 1970-1993. Chicago, 2000.
385. Lacan J. Autres écrits. Paris, 2001.
386. Lacan У. Axes de la subversion analytique // Lacan J. Le séminaire.
Livre XVII. L'envers de la psychanalyse. Paris, 1991.
387. Lacan J. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la
personnalité. Suivi de Premiers écrits sur paranoïa. Paris, 1975.
388. Lacan /. Ecrits. Paris, 1966.
389. Lacan /. Ecrits. A Selection / Translated from the French by
A. Sheridan. N.Y.-London, 1977.
390. Lacan J. Le séminaire. Livre X: L'angoisse (1962-1963). Paris, 2004.
391. Lacan У. Le séminaire. Livre XVI: D'un Autre a l'autre (1968-1969).
Paris, 2006.
392. Lacan J. Le séminaire. Livre XVIII: D'un discours qui ne serait pas
du semblant (1971). Paris, 2006.
393. Lacan J. Le séminaire. Livre 1. Les écrits techniques de Freud,
1953-1954. Paris, 1975.
394. Lacan J. Le séminaire. Livre XX. Encore. Paris, 1975.
395. Lacan /. Le séminaire. Livre XVII. L'envers de la psychanalyse.
Paris, 1991.
396. Lacan J. Le séminaire. Livre VII: L'éthique de la psychanalyse
(1959-1960). Paris, 1986.
397. Lacan J. Le séminaire. Livre V: Les formations de l'inconscient
(1957-1958). Paris, 1998.
398. Lacan J. Le séminaire. Livre II: Le moi dans la théorie de Freud et
dans la technique de la psychanalyse (1954—1955). Paris, 1978.
399. Lacan /. Le séminaire. Livre XIX: ...ou pire (1971-1972). Paris, 2011.
400. Lacan /. Le séminaire. Livre III: Les psychoses (1955-1956). Paris,
1981.
401. Lacan J. Le séminaire. Livre XI: Les quatre concepts fondamentaux
de la psychanalyse (1964). Paris, 1973.
676
Познание и перевод. Опыты философии языка
402. Lacan /. Le séminaire. Livre IV: La relation d'objet (1956-1957).
Paris, 1994.
403. Lacan J. Le séminaire. Livre XXIII: Le sinthome (1975-1976).
Paris, 2005.
404. Lacan J. Le Séminaire. Livre VIII. Le transfert. Paris, 1991.
405. Lacan J. Speech and Lanquage in Psychoanalysis / Transi, by
A. Wilden. Baltimore and London, 1989.
406. Lacan J. Télévision. Paris, 1973.
407. Lacan / Sous la dir. de G. Miller. Paris s /d.
408. Lacan avec les philosophes (textes issus du Colloque organisé par le
Collège international de philosophie et par l'UNESCO). Paris, 1991.
409. Lacoue-Labarthe Ph. De l'éthique: à propos d'Antigone // Lacan
avec les philosophes. Paris, 1991.
410. Ladmiral J.-R. Sourciers et ciblistes // Revue d'esthétique. 1986.
№ 12.
411. Ladmiral J.-R. La traduction : des textes classiques // La Traduzione
dei testi classici. Teoria Prassi Storia. Atti del Convegno di Palermo
6-9 aprile 1988. Napoli, 1988.
412.Ladmiral J.-R. Traduire des philosophes // Traduire les
philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
413. LadmiralJ.-R. Traduire: théorèmes pour la traduction. Paris, 1994.
414. Ladrière J. Le structuralisme entre la science et la philosophie //
Tijdschr. voor filosofie. Leuven-Utrecht. 1971. Jg. 33. № 1.
415. Lagasnerie G. de. La dernière leçon de Michel Foucault. Sur le
néoliberalisme, la théorie et la politique. Paris, 2012.
416. LalandeA. Vocabulaire technique et critique de la philosophie. Paris,
1988.
417. Langage et politique. Bruxelles, 1982.
418. Laplanche J. Le fourvoiment biologisant de la sexualité chez Freud.
Paris, 1993.
419. Laplanche J. Nouveaux fondements pour la psychanalyse. Paris,
1990.
420. Laplanche /. Problématiques. Paris, 1980-1987.
421. Laplanche J. La révolution copernicienne inachevée. Paris, 1992.
422. Laplanche /. Vie et mort en psychanalyse. Paris, 1989.
423. Laplanche J. et Pontalis J.-B. Vocabulaire de la psychanalyse. Paris,
1967.
424. Laugier S. De la logique de la science aux révolutions scientiques //
Les philosophes et la science / Sous la dir. de P.Wagner. Paris, 2002.
425. Laugier S. Quine, la science et le naturalisme // Les philosophes et la
science / Sous la dir. de P.Wagner. Paris, 2002.
426. Laurent E. Position de la psychanalyse dans la science : Freud lu par
Lacan // Carrefours sciences sociales : le moment moscovite / Sous
la dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris, 1995.
427. Le citouen fou / Sous la dir. de N. Robatel. Paris, 1991.
428. Le moment cartésien de la psychanalyse. Lacan, Descartes, le sujet /
Sous la dir. de Porge E., Soûlez A. Paris, 1996.
Литература
677
429. Les nouvelles raisons du savoir : vers une prospective de la
connaissance. Gemenous, 2002.
430. Leach E. Claude Lévi-Strauss. N.Y., 1970.
431. Leavey S.A. The Image and the Word // Interpreting Lacan /
Smith J. H., Kerrigan W., eds. New Haven, London. 1983.
432. Le Blanc G. La pensée Foucault. Paris, 2006.
433. Le Brun J. Le pur amour de Platon à Lacan. Paris, 2002.
434. Le Bon S. Un positiviste désespéré: Michel Foucault // Temps
modernes. 1967. №248.
435. Leclaire S. Un soulèvement de questions. Le mouvement
psychanalytique animé par Jacques Lacan (Texte du rapport présenté au
Symposium de Tbilissi) // Confrontation. 1980. Cahiers 3.
436. Lectures de Michel Foucault : vol. 1 (2001), vol. 2 (2003), vol. 3
(2003). ENS Lyon.
437. Lefebvre H. Au-delà du structuralisme. Paris, 1971.
438. Lefebvre J.-P. Que traduire, c'est chanter : la prosodie des
philosophes, à l'exemple de Hegel // Traduire les philosophes / Sous
la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
439. Léon Chertok ou la quatrième blessure narcissique // Autre jour.
1986. №7.
440. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale. Paris, 1958.
441. Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale deux. Paris, 1973.
442. Lévi-Strauss C. Le champ de l'anthropologie: Leçon inaugurale //
Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale deux. Paris, 1973.
443. Lévi-Strauss C. Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss //
Mauss M. Sociologie et anthropologie. Paris, 1950.
444. Lévi-Strauss C. Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de
l'homme // Lévi-Strauss C. Anthropologie structurale deux. Paris,
1973.
445. Lévi-Strauss C. Mythologiques en 4 tomes. Paris, 1964-1971. T. 1.
Le cru et le cuit. 1964; T. 2. Du miel aux cendres, 1966; T. 3.
L'origine des manières de table. 1968; T. 4. L'Homme nu. 1971.
446. Lévi-Strauss C. Race et histoire. Paris, 1952.
447. Lévi-Strauss C. Réponses à quelques questions // Esprit. Nouv. série.
1963. №11.
448. Lévi-Strauss G Les structures élémentaires de parenté. 2 éd. Paris-La
Haye : Mouton, (1-е éd. - 1949), 1967.
449. Lévi-Strauss G Tristes tropiques. Paris, 1955.
450. Lévi-Strauss G Le totémisme aujourd'hui. Paris, 1962.
451. Lévi-Strauss G Les trois humanismes // Lévi-Strauss G
Anthropologie structurale deux. Paris, 1973.
452. Lévi-Strauss G La voie des masques. T. 1—2. Geneva, 1975.
453. Lévi-Strauss G, Eribon D. De près et de loin. Entretiens. Paris, 1990.
454. Lévy B.-N. Le système Foucault // Politiques de philosophie. Paris,
1976.
455. Leclaire S. La fonction éthique de la psychanalyse // Aspects du
malaise dans la civilisation. Paris, 1987.
678
Познание и перевод. Опыты философии языка
456. Lewis M. Derrida and Lacan. Another Writing. Edinburgh, 2008.
457. Lucy N. A Derrida Dictionary. Oxford e.a., 2004.
458. Luther M. Sendbrief von Dolmetschen. 1530.
459. Macherey P. De Canguilhem à Foucault. La force des normes. Paris,
2009.
460. Maggiori R. Gilles Deleuze: «fendre les choses, fendre les mots» //
Libération. 1986. 2 sept.
461. Maggiori R. Sartre et Foucault // Libération. 1984. 30 juin - 1 juil.
462. Major R. Depuis Lacan // Lacan avec les philosophes. Paris, 1991.
463. Major R. L'Inconscient: une décision politique // Confrontation.
1980. №3.
464. Major-Poetzl P. Michel Foucault's Archeology of Western Culture.
Towards a New Science of History. Brighton, 1983.
465. Maniglier P. Le vocabulaire de Lévi-Strauss. Paris, 2002.
466. Mannoni M. La théorie comme fiction. Paris, 1979.
467. Mannoni O. Un commencement qui n'en finit pas. Paris, 1980.
468. Mannoni O. Ça n'empêche pas d'exister. Paris, 1982.
469. Margel S. La métaphore. De la langue naturelle au discours
philosophique // Penser avec Jacques Derrida. Rue Descartes
(numéro spec.) № 52. Paris, 2006.
470. Marin L. De la représentation. Paris, 1994.
471. Marino A. La fonction critique de l'ethos philosophique // Lectures
de Michel Foucault. Sur les Dits et Ecrits. Vol. 3. Lyon, 2003.
472. Marinov V. Figures de crime chez Dostoevski. Paris, 1990.
473. Martinon J.-P. On Futurity, Malabou, Nancy and Derrida.
Houndmills,N.Y.,2007.
474. Marx et Foucault // Actuel Marx. Paris, 2004.
475. Marx, Lacan. L'acte révolutionnaire et l'acte analytique. Toulouse,
2013.
476. MatteiJ.-F. Philosopher en français. Paris, 2001.
477. Menahem R. Langage et folie: Essais de psychorhétorique. Paris,
1986.
478. Merleau-Ponty M. Phénoménologie de la perception. Paris, 1945.
479. Meschonnic H. Poétique d'un texte de philosophe et de ses
traductions : Humboldt, sur la tâche de l'écrivain de l'histoire // Les tours
de Babel (A.Berman,G.Granel e.a.). Mauzevin, 1985.
480. Meschonnic H. L'écriture de Derrida // Meschonnic H. Le signe et le
poème. P., 1975.
481. Meschonnic H. Des mots et des mondes. Dictionnaires,
encyclopédies, grammaires, nomenclatures. Paris, 1991.
482. Meurte du Père. Sacrifice de la sexualité. Approches
anthropologiques et psychanalytiques / Sous la dir. de Godelier M.,
Hassoun J. Paris, 1996.
483. Michel Foucault: Du monde entier. Critique. Paris, 1986. T. 42.
№471-472.
484. Michel Foucault: Les jeux de la vérité et du pouvoir. Etudes
européennes / Sous la dir. d'Alain Brossât. Nancy, 1994.
Литература
679
485. Michel Foucault. Cahier de ГНегпе. Tome 95. 2011.
486. Michel Foucault: Éthique et vérité (1980-1984) / Sous la dir. de
D.Lorenzini, A. Revel et A. Sforzini. Paris, 2013.
487. Michel Foucault / Sciences humaines. Numéro anniversaire, hors-
série. № 19.2014.
488. Michel Foucault: un héritage critique. Sous le dir. de Bert J.-F.,
LamyJ. Paris, 2014.
489. MijollaA. Freud. Fragments d'une histoire. Paris, 2003.
490. Miklenitsch W. La pensée de l'épicentration // Michel Foucault: Du
monde entier. Critique. Paris, 1986. T. 42. № 471-472.
491. Milet A. Pour ou contre le structuralisme. Claude Lévi-Strauss et son
oeuvre. Paris, 1968.
492. Miller M. Freud au pays des Soviets. Paris, 2001.
493. Milner J.-C. Lacan et la science moderne // Lacan avec les
philosophes. Paris, 1991.
494. Milner J.-C. Le périple structural. Figures et paradigmes. Paris,
2002.
495. Minson J. Genealogies of Morals: Nietzsche, Foucault, Donzelot
and the Eccentricity of Ethics. N.Y., 1985.
496. Mongin O. Face au scepticisme. Le paysage intellectuel
(1976-1998). Paris, 1994.
497. Mongin O. Paul Ricoeur. Paris, 1994.
498. Moore M.С. Ethical Discours and Foucault's Conception of
Ethics // Foucault Memorial Issue. Dordrecht etc., 1987.
499. Moscovici S. L'Age de foules. Paris, 1981.
500. Moscovici S. La psychanalyse: son image et son public ( 1961 ). 3-е éd.
Paris, 2004.
501. «Les Mots et les Choses» de Michel Foucault. Regards critiques,
1966-1968. Presses Univ. de Caen / IMEC, 2009.
502. Mounin G Les problèmes théoriques de la traduction. Paris, 1976.
503. Mounin G. Linguistique, structuralisme et marxisme // Nouvelle
critique. 1967. № 7.
504. Nancy J.-L. Sens elliptique // Derrida. Revue philosophique de la
France et de l'étranger. 1990. № 2.
505. Nasio J.-D. Le livre de la douleur et de l'amour. Paris, 1996.
506. Negotiating the Legacy / Fagan M., Glorieux L., eds. Edinburgh,
2007.
507. Nemo Ph. D'une prison à l'autre // Le nouvel observateur. 1972.
lOjan.
508. Les néo-liberalismes de Michel Foucault / Raison politique. Revue
de théorie politique. SciencesPo. Nov. 2013.
509. Nida E.A. Linguistic and Ethnology in Translation Problems //
Language and Culture in Society. Hymes D. ed. N.Y., 1962.
510. Nida E.A. Science of Translation // Languge. 1969. Vol. 45. № 3.
511. Nida E.A. Toward a Science of Translating. With Special Reference
to Principles and Procedures Involved in Bible Translating. Leiden,
1964.
680
Познание и перевод. Опыты философии языка
512. Norris С. Deconstruction. Theory and Practice. 2nd ed. L., N.Y.,
1991.
513. Norris С The Deconstructive Turn. L., 1983.
514. Ogilvie B. Lacan. La formation du concept de sujet (1932-1949).
Paris, 1987.
515. On Foucault. Humanities in Society. 1980. Vol. 3. № 1. Winter.
516. Paden R. Foucault's antihumanism // Foucault Memorial Issue.
Dordrecht, 1987.
517. Palo M. Saussure et le sujet parlant // Langage & inconscient. Revue
Internationale. 2007. № 3. Janvier.
518. Paltrinieri L. L'expérience du concept. Michel Foucault entre
épistémologie et histoire. Paris, 2012.
519. Parodi M. La modernité manqué du structuralisme. Paris, 2004.
520. Le passage des frontières. Autour du travail de Jacques Derrida
(1993). Paris, 1994.
521. Penisson P. Le polyglottisme des philosophes // Traduire les
philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
522. Penisson P. Philosophie allemande et langue du Nord // De
l'intraduisible en philosophie. Rue Descartes. 1995. № 14.
523. Penser avec Jaques Derrida / Rue Descartes. 2006. № 52.
524. Penser avec Lacan. Nouvelles lectures. Paris, 2014.
525. PerrierF. Voyages extraordinaires en Translacanie. Paris, 1985.
526. Peeters B. Derrida. Paris, 2010.
527. Petit J,-F. La philosophie et ses mots d'une langue à l'autre // La
Crois. 2004. 23 déc.
528. Philosopher sans frontières. Entretiens avec B. Cassin // Topo
(mensuel). Mai 2005.
529. Les philosophes et la science / Sous la dir. de P.Wagner. Paris, 2002.
530. Philosophical Perspectives on Metaphor. Minneapolis, 1981.
531. La philosophie au risque de la promesse / Sous la dir. de Crépon M.,
de Launay M. Paris, 2004.
532. Philosophie et littérature. Entretien avec Jacques Derrida :
N. Avtonomova, V. Podoroga, M.Ryklin // Derrida J. Moscou aller-
retour. Tour d'Aiguës, 1995.
533. The Philosophy of Paul Ricoeur. An Anthology of His Work /
Reagan CE., Stewart D. eds. Boston, 1978.
534. PiagetJ. Le structuralisme. Paris, 1970.
535. Picard R. Nouvelle critique ou nouvelle imposture. Paris, 1965.
536. Pichon E. La famille devant Lacan // Confrontation. 1980. № 3.
537. Plotnitsky A. Complementarity: Antiepistemology after Bohr and
Derrida. Durham; London, 1994.
538. Pontalis J.-В. L'amour des commencements. Paris, 1986.
539. Pontalis J.-B. Après Freud. Paris, 1968.
540. Pontalis J.-B. Entre le rêve et la douleur. Paris, 1977.
541. Pontalis J.-B. La force d'abstraction. Paris, 1990.
542. Poster M. Foucault, Marxism and History: Mode of Production
versus Mode of Information. Cambridge; N.Y., 1984.
Литература
681
543. Potte-Bonneville M. Foucault. Paris, 2010.
544. Potte-Bonneville M. Michel Foucault. L'inquiétude de l'histoire.
Paris, 2004.
545. Pouillon J. Présentation: une essais de définition // Temps modernes.
1966. №246.
546. Pradelle D. Gegenstand? Objekt // Radical Philosophy. A Journal of
Socialist and Feminist Philosophy. 2006. Sept.-Oct.
547. Pratiques et représentations langagières dans la construction et la
transmission des connaissances / Cahiers du français contemporain.
2004. N 9. Mars.
548. «Présence de Foucault». Critique. 2005. № 696. Mai.
549. Psychanalyse en Russie / Sous la dir. de M. Bertrand. Paris, 1992.
550. La psychanalyse en Russie: état des lieux et perspectives / Interview
d' H. Menegaldo avec V. Potapova et P. Katchalov // Slavica
Occitania. Toulouse, 2004. № 4.
551. Рут A. Pour une éthique du traducteur. Ottawa, 1997.
552. Petitjean I. Les grands prêtres de l'Université française // Le nouvel
observateur. 1975. № 543.
553. Qu'est-ce que le structuralisme? (O. Ducrot, T. Todorov, D. Sperber
et al.) Paris, 1968.
554. Questions au langage et contexts culturels. Traductions de texts peu
ou mal connus // LINX / Sous la dir. de C.Normand. 1991. № 23.
555. R.M. Penser polyglotte // Libération. 2004. 7 oct.
556. Rabouin D. Quelles langues pour l'Europe ? // Magazine littéraire.
2005. Janv.
557. Rajchman J. Michel Foucault: The Freedom of Philosophy. N.Y.,
1985.
558. Ramon Ch. Le vocabulaire de Derrida. Paris, 2014.
559. Ransom J.S. Foucault's discipline: The Politics of Subjectivity.
Durham; London, 1997.
560. Rapoport A. Various Meanings of «Theory» // Philosophical
Problems of Science and Technology. Boston, 1974.
561. RastierF. Commuication ou transmission? // Césure.1995. № 8.
562. Regards sur la folie. Investigations croisées des sciences de l'homme
et de la société / Sous la dir. de B. Doray et de J.-M. Rennes. Paris,
1993.
563. Reisinger M. Lacan l'insondable. Paris, 1991.
564. Renard D. Judaïsme et psychanalyse. Les «discours» de Lacan. Paris,
2012.
565. Renken A. Babel heureuse. Pour lire la traduction. Paris, 2012.
566. Retour à Lacan? / Ed. J. Sédat. Paris, 1981.
567. Returns of the «French Freud». Freud, Lacan and Beyond /
T. Dufresne ed. N.Y., London, 1997.
568. Rêve de corps. Corps du langage. Paris, 1989.
569. RevelJ. Dictionnaire Foucault. Paris, 2008.
570. RevelJ. Expériences de la pensée: Michel Foucault. Paris, 2005.
571. RevelJ. Foucault, la pensée du discontinu. Paris, 2010.
682
Познание и перевод. Опыты философии языка
572. Revel J. Le vocabulaire de Foucault. Paris, 2002.
573. Ricœur P. Husserl and Wittgenstein on language // Phenomenology
and Existentialism. Baltimore, 1967.
514. Ricœur P. Le conflit des interprétations. Essais d'herméneutique.
Paris, 1969.
575. Ricœur P. De l'interprétation. Essai sur Freud. Paris, 1965.
576. Ricœur P. La métaphore vive. Paris, 1975.
577. Ricœur P. Soi-même comme un autre. Paris, 1990.
578. Ricœur P. Sur la traduction. Grandes difficultés et petits bonheurs de
la traduction. Paris, 2004.
579. Ricœur P. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995.
580. Rifflet-Lemaire A. Jacques Lacan / Préf. de J. Lacan. Bruxelles, 1970.
581. Robinson D. Translator's Turn. Baltimore, 1991.
582. Rockmore T. Heidegger and French philosophy. Humanism,
Antihumanism and Being. London, N.Y., 1994.
583. Roland Barthes. «Tel Quel». Paris, 1971, № 47. (Numéro spec).
584. Rorty /?. Méthode: science sociale et espoir social // Michel
Foucault: Du monde entier. Critique. Paris, 1986. T. 42.
№471-472.
585. Rorty /?. Nineteenth-Century Idealism and Twentieth-Century
Textualism // Rorty R. Consequences of Pragmatism. Minneapolis,
1982.
586. Roudinesco E. La bataille de cent ans. Histoire de la psychanalyse en
France. Paris, 1986. Vol. 1,2.
587'. Roudinesco E. Comment écrire Г histoire de la psychanalyse? //
Carrefours sciences sociales : le moment moscovite / Sous la dir. de
B. Doray, J.-M. Rennes Paris, 1995.
588. Roudinesco E. Introduction à une politique de la psychanalyse //
Freud . Europe. 1974. № 539.
589. Roudinesco E, Jacques Lacan. Esquisse d'une vie, histoire d'un
système de pensée. Paris. 1993.
590. Roudinesco E. Pourquoi — la psychanalyse? Paris, 1999.
591. Roudinesco E., Deluy #. La psychanalyse: mère et chienne. Paris,
1979.
592. Roudinesco E., Pion M. Dictionnaire de la psychanalyse. Nouv. éd.
Paris, 2006.
593. Rousso H. Les pages noires du passé national // Carrefours sciences
sociales : le moment moscovite / Sous la dir. de B. Doray,
J.-M. Rennes. Paris, 1995.
594. Roustang F. ...Elle ne le lâche plus. Paris, 1980.
595. Roustang F. Lacan : de l'équivoque à l'impasse. Paris, 1986.
596. Roustang F. Sur l'épistémologie de la psychanalyse // Le Moi et
l'Autre. Paris, 1985.
597. Roustang F. Un destin si funeste. Paris, 1976.
598. Roustang F. Un discours naturel // Critique. 1983. № 430.
599. Routledge Encyclopedia of Translation Studies / Ed. Baker M.
London,1998.
Литература
683
600. Sabot Ph. Lire «Les mots et les choses» de Michel Foucault. Paris,
2006, 2-е éd.-2014.
601. Sabot Ph. La littérature aux confines du savoir: sur quelques «dits et
écrits» de Michel Foucault // Lectures de Michel Foucault. Sur les
Dits et Ecrits. Vol. 3. Lyon, 2003.
602. Said Ε. Humanism and Democratic Criticism. N.Y., 2003.
603. Saint-Drôme O. Dictionnaire inespéré de 55 termes visités par
J. Lacan. Paris, 1994.
604. Saint-Sernin B. Le rationalisme qui vient. Paris, 2007.
605. SalanskisJ.-M. Derrida. Paris, 2010.
606. Sartre J.-P. Critique de la raison dialectique. Paris, 1960.
607. Sartre J.-P. L'écrivain et la langue // Revue d'esthétique. 1965.
№ 18.
608. Sartre J.-P. L'existentialisme est un humanisme. Paris, 1946.
609. Sartre J.-P. Huis clos. Théâtre. Paris, 1947.
610. Savory Th. The Art of Translation. London, 1957.
611. Schleiermacher F. Über die verschiedenen Methoden des
Übersetzens. Des différentes méthodes du traduire. (Ed. Bilingue). Paris,
1999.
612. Schneider M. La fonction de l'affect dans les processus de
reconnaissance // Carrefours sciences sociales : le moment moscovite / Sous la
dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris, 1995.
613. Schneiderman St. Jacques Lacan: the Death of an Intellectual Hero.
London,1983.
614. Schultz W. Jacques Derrida: an Annotated Primary and Secondary
Bibliography. N.Y.-London, 1992.
615. Scubla L. Lire Lévi-Strauss. Paris, 1998.
616. Sens et usages du terme «structure» dans les sciences sociales / Ed.
par R. Bastide. La Haye-Paris, 1962.
617. Sève L. Ethique et argent: la psychanalyse à l'épreuve d'une pratique
sociale // Carrefours sciences sociales: le moment moscovite / Sous
la dir. de B. Doray, J.-M. Rennes. Paris, 1995.
618. Sève L. La marxisme et sciences de l'homme // La nouvelle critique.
1967. №2 (183).
619.Sheridan A. Michel Foucault: The Will to Truth. N.Y., London,
1980.
620. Sherman D. Sartre, Critical Theory, and the Paradox of Freedom //
Philosophy Today. 2006. Vol. 50. № 2/3.
621. Simonelli T. Lacan: la théorie. Paris, 2000.
622. SiscarM. Jacques Derrida. Rhétorique et philosophic Paris, 1998.
623. Sluga H. Foucault à Berkeley: L'auteur et le discours // Michel
Foucault: Du monde entier. Critique. Paris, 1986. T. 42.
№471-472.
624. Smart B. Michel Foucalt. London, N.Y., 1985.
625. Somatisation : psychanalyse et sciences du vivant. Paris, 1994.
626. Steiner G. After Babel. London, Oxf., N.Y., 1975.
627. Steinmetz Ä. Les styles de Derrida. Bruxelles, 1994.
684
Познание и перевод. Опыты философии языка
628. Stoianovich Т. The French Historical Method. The «Annales»
Paradigm. N.Y.-London, 1976.
629. The Structural Allegory: Reconstructive Encounters with the New
French Thought / Fekete J. ed. Manchester, 1984.
630. Structuralism and Since. From Lévi-Strauss to Derrida. Oxford,
1982.
631. Structuralism: an Introduction / Ed. by D. Robey. Oxford, 1973.
632. Structuralisme et marxisme. Pensée (Numéro spéc). 1967. № 135.
633. Table ronde : Lacan avec Heidegger ( W.J. Richardson, J.-L. Nancy,
G. Granel, E. Roudinesco) // Lacan avec les philosophes. Paris,
1991.
634. Terrel Г. Politiques de Foucault. Paris, 2010.
635. Théorie d'ensemble. Textes de M. Foucault, R. Barthes, J. Derrida.
Paris, 1968.
636. Torop P. Towards the Semiotics of Translation // Semiotica, № 3/4.
Berlin-N.Y., 2000.
637. Tourney G. Leon Chertok and Raymond de Saussure. The
Therapeutic Revolution: From Mesmer to Freud // Journal of the
History of the Behavioral Sciences. 1983. № 3.
638. Les tours de Babel. Essais sur la traduction (Berman Α., Granel G.,
Jualin Α., Mailhos G., Meschonnic H.). Mauzevin, 1985.
639. Towards a Critique of Foucault / Ed. by M. Gane. London, N.Y., 1986.
640. Les traducteurs dans l'histoire / Sous la dir. de J. Delisle et
J. Woodworth. Ottawa, 1995.
641. Transfert de vocabulaire dans les sciences / Sous la dir. de P. Louis et
J. Roger. Paris, 1988.
642. Translation and Text Transfer. An Essay on the Principles of
Intercultural Communication. Frankfurt-N.Y., 1992.
643. Translation. History.Culture. A Sourcebook. London, N.Y., 1992.
644. Transmettre, enseigner la psychanalyse // Cliniques
méditerranéennes. 1995. № 45-46.
645. Travailler avec Lacan. Paris, 2008.
646. Turkle S. Psychoanalytic Politics. Freud's French Revolution.
London; Cambridge (Mass.), 1981.
647. Usages de Foucault. Sous la dir. de H. Oulc'hem e.a. Paris, 2014.
648. Van HoofH. Histoire de la traduction en occident. Paris, Louvain-la-
Neuve, 1991.
649. Vaysse J.-M. L'inconscient des modernes. Essai sur l'origine
métaphysique de la psychanalyse. Paris, 1999.
650. Vegetti M. Foucault et les anciens // Michel Foucault: Du monde
entier. Critique. Paris, 1986. T. 42. № 471-472.
651. Venuti L. The Scandals of Translation. London, 1998.
652. Venuti L. The Translator's Invisibility. A History of Translation.
London, 1995.
653. Venuti L. ed. The Translation Studies Reader. London, 2000.
654. Veyne P. Le dernier Foucault et sa morale // Michel Foucault: Du
monde entier. Critique. Paris, 1986. T. 42. № 471-472.
Литература
685
655. Veyne P. Michel Foucault. Sa pensée, sa personne. Paris, 2008.
656.Widerman S. La machine dé-formatrice // Confrontation. 1980.
Cahiers 3.
657. Vocabulaire européen des philosophies (dictionnaire des
intraduisibles) / Sous la dir. de B. Cassin. Paris, 2004.
658. La Vocation philosophique / Présenté par Alphant M. Paris, 2004.
659. «La Volonté de savoir» de Michel Foucault. Regards critiques.
1976-1979. Presses Univ. de Caen-IMEC, 2013.
660. WaardJ. de, Nida E.A. From one Language to Another: Functional
Equivalence in Bible Translation. Nashville, 1986.
661. Wahl F. La philosophie entre l'avant et l'après du structuralisme //
Qu'est-ce que le structuralisme. Paris, 1968.
662. Weîtlaufer M. Towards a Geometry of Economy and Difference:
Derrida, Capitalism, and Queer Nation // Philosophy Today. 2005.
Vol. 49. № 3.
663. Whorf B.L Language, Thought and Reality. Selected Writings of
Benjamin Lee Whorf/ Ed. Caroll J.B. N.Y., 1956.
664. Wils W. Kognition und Überzetzung. Zu Theorie und Praxis der
menschlichen und maschinellen Übersetzung. Tübingen, 1988.
665. Wolfenstein E. V. A Man Knows not Where to Have it: Habermas,
Grünbaum and the Epistemological Status of Psychoanalysis //
International Review of Psychoanalysis: 1990. Vol. 17. № 23.
666. Worms F. La philosophie en France au XX^ siècle. Moments. Paris,
2009.
667. Zafiropoulos M. Lacan et les sciences sociales. Paris, 2001.
668. Zafiropoulos M. Lacan et Lévi-Strauss ou le retour à Freud
(1951-1957). Paris, 2003.
669. Zapata R. Histoire d'un savoir lacunaire : les traductions des
philosophes russes en français (XIX-XX s.) // Traduire les
philosophes / Sous la dir. de J. Moutaux, O. Bloch. Paris, 2000.
670. Zarka Y.Ch. Comment écrire l'histoire de la philosophie. Paris, 2001.
671. Zerbib D. Les mots à maux de la philo // l'Humanité. 2004. 7 avril.
672. Zima P. La déconstruction. Une critique. Paris, 1994.
673. Zourabichvili F. Le vocabulaire de Deleuze. Paris, 2003.
674. Zourabichvili F., Sauvagnargues Α., Marrati P. La philosophie de
Deleuze. Paris, 2004.
На русском языке:
1. Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению
действительности//Поэтика древнегреческой литературы. М., 1981.
2. Аверинцев С.С. Казусы «христианизации» немецкой
поэтической лексики в русских переводах // Диалог культур -
культура диалога. М., 2002.
3. Аврамова С. Структурализмът: метод и идеология. София, 1977.
686
Познание и перевод. Опыты философии языка
4. Авто-био-графия. Тетради по аналитической антропологии /
Под ред. В.А. Подороги. М., 2001.
5. Автономова H С. Археология перевода: европейский опыт и
современные задачи российского психоанализа. //
Культурология. Дайджест. М., ИНИОН, 2009. № 1(48).
6. Автономова Н. Важна любая ступень // Вопросы литературы.
1990. № 5.
7. Автономова Н.С. Гаспаров: свой путь в науке // Стих, язык,
поэзия. М., 2006.
8. Автономова Н.С. Гаспаров и перевод: от Аристотеля к Дерри-
да// Вольность и точность. Гаспаровские чтения-2014. М.,
РГГУ,2015.
9. Автономова Н.С. Гуманитарное знание и перевод в процессах
передачи опыта // Знание как предмет эпистемология. М.,
2011.
10. Автономова Н.С. Две проекции бессознательного и проблема
перевода // Стиль мышления: проблема исторического
единства знания. К 80-летию Владимира Петровича Зинченко. М.,
2011.
11. Автономова H С. Жак Деррида// Философы XX века. Кн. 3. М.,
Искусство - XXI век, 2009.
12. Автономова НС. Интерпретация и перевод - современные
проблемы эпистемологии // Философия познания. К юбилею
Л.А. Микешиной. М., 2010.
13. Автономова H С. К вопросу о призраках: Маркс, Деррида и
другие // Политико-философский ежегодник. Вып. 4. М., ИФ
РАН, 2011.
14. Автономова Н.С. Клод-Леви Стросс и структурная
антропология: два юбилея // Симпозиум 2008. Структурализм: классика
и современность (К столетию Клода Леви-Стросса).
Материалы международного междисциплинарного симпозиума.
Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2009.
15. Автономова Н.С. Клод Леви-Строс, антрополог и философ //
Философские науки, 2010. № 7.
16. Автономова Н.С. Клод Леви-Стросс - in memoriam: уроки
структурной антропологии и гуманизм XXI века. // Вопросы
философии, 2010. № 8.
17. Автономова Н.С. Концептуальный язык как фундаментальная
проблема гуманитарных наук (опыт перевода Словаря по
психоанализу) // Психоаналитический Вестник, 2010. Вып. 21.
№ 1.
18. Автономова Н.С. Концепция «археологического знания»
М.Фуко // Вопросы философии. 1972. № 10.
19. Автономова Н.С. Концепция человека у позднего М. Фуко //
Современный человек: цели, ценности, идеалы. М., 1988.
20. Автономова Н.С. Лакан // Новая философская энциклопедия.
Т. U.M., 2001.
Литература
687
21. Автономова Н.С. Лакан: возрождение или конец
психоанализа? // Бессознательное: природа, функции, методы
исследования,^. М., 1985.
22. Автономова НС. Мишель Фуко //Философы XX века. Кн. 3.
М., Искусство-XXI век, 2009.
23. Автономова НС. О некоторых философско-методологических
проблемах концепции Жака Лакана // Бессознательное:
природа, функции, методы исследования, т. 1. Тбилиси, 1978.
24. Автономова H С. О переводе философской и гуманитарной
литературы в постсоветский период: приобретения и потери //
Мифы литературного перевода (сб. докладов III
Международного конгресса переводчиков художественной литературы) /
Отв. ред. А. Ливергант. М., 2015.
25. Автономова Н.С. О роли словоформ с элементом «архе» в
концептуальной системе Жака Деррида // Культурология:
Дайджест. № 1(56). М., ИНИОН, 2011.
26. Автономова НС. От «археологии знания» к «генеалогии
власти» // Вопросы философии. 1978. № 2.
27. Автономова Н.С. От «конфликта интерпретаций» к переводу:
концептуальный шаг позднего Рикёра // Гуманитарные
исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 3(23)
2013.
28. Автономова Н. С. От трудностей межкультурного диалога к
проблемам понимания и перевода // Человек в мире знания. К 80-
летию Владислава Александровича Лекторского. М., 2012.
29. Автономова Н.С. От языковых экспериментов к анализу апо-
рийных ситуаций (о так называемом «постмодернистском
релятивизме» в концепции Жака Деррида) // Релятивизм как
болезнь современной философии. М., 2015.
30. Автономова НС. Открытая структура: Якобсон - Бахтин -
Лотман - Гаспаров. М., РОССПЭН, 2009; 2-е изд. испр. и доп.
М.; СПб., 2014.
31. Автономова Н.С. Перевод и непереводимость: европейская
перспектива // Культура и форма. К 60-летию А.Л.
Доброхотова: сб. науч. тр. М., 2010.
32. Автономова Н.С Перевод как пересечение границ //
Современные методологические стратегии: Интерпретация.
Конвенция. Перевод. Коллект. монография. М., 2014.
33. Автономова H С. Приставка как философская категория //
Вопросы философии. 2001. № 7.
34. Автономова Н.С. Проблема общения и психоанализ: о
соотношении когнитивных и эмоциональных аспектов //Диалектика
общения: Гносеологические и мировоззренческие проблемы.
М., 1987.
35. Автономова H Проблема перевода в свет идеи продуктивной
непереводимости (по страницам работ Лотмана //
Пограничные феномены культуры. Перевод. Диалог. Семиосфера. Мате-
688
Познание и перевод. Опыты философии языка
риалы Первых Лотмановских дней в Таллиннском
университете (4-7 июня 2009 г.) Таллинн, 2011.
36. Автономова Н.С. Психоаналитическая концепция Жака
Лакана // Вопросы философии. 1973. №11.
37. Автономова Н.С Рассудок, разум, рациональность. М., 1988.
38. Автономова Н.С. Словарь по психоанализу: Концептуальные
языки и проблема перевода // Философские науки., 2010. № 4.
39. Автономова Н.С Современный этнодетерминизм и пути его
философской критики // Философские науки. 2007. № 9.
40. Автономова Н. С. Структуралистский психоанализ Ж. Лакана //
Французская философия сегодня. М., 1989.
41. Автономова НС. ТОПОС ТРЕТИЙ: Фуко - с Запада на
Восток // Топосы философии Наталии Автономовой. К юбилею /
Отв. ред.-сост. Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. М., 2015.
42. Автономова Н.С Урок письма // Новое литературное
обозрение. 2005. № 72.
43. Автономова Н.С Философия и наука в интерпретации
французского структурализма // Природа философского знания.
ТЛИ. Аналитическая философия и структурализм
(критический анализ). М., 1978.
44. Автономова НС Философские проблемы структурного
анализа в гуманитарных науках. Критический очерк концепций
французского структурализма. М., 1977.
45. Автономова Н. С Философский язык Жака Деррида. М., 2011.
46. Автономова Н.С. Французские «властители дум» в советском
и российском контексте (опыт читателя и переводчика) //
Философские науки. 2015. № 9.
47. Автономова НС, Гаспаров М.Л. Сонеты Шекспира и переводы
Маршака // Вопросы литературы. 1969. № 2.
48. Азов А. Поверженные буквалисты. Из истории
художественного перевода в СССР в 1920-1960-е годы. М., 2013.
49. Алейник P.M. Человек в философском постмодернизме. М, 2005.
50. Алексеев А.П. Философский текст. Идеи, аргументация,
образы. М., 2006.
51. Алексеева И. С. Введение в переводоведение. М., 2004.
52. Алексеева М.Л. Осмысление феномена непереводимости фило-
фами XX столетия // Вопросы философии. 2014. № 2.
53. Алимов В.В. Теория перевода: Перевод в сфере
профессиональной коммуникации. Учебное пособие. Изд. 2. М., 2004.
54. Алпатов В.M. История лингвистических учений. М, 1998.
55. АльтюссерЛ. За Маркса. М., 2006.
56. Анкерсмит Ф.Р. История и тропология: взлет и падение
метафоры. М., 2003.
57. Аристотель. Поэтика / пер. М.Гаспарова //Аристотель и
античная литература. М., 1978.
58. Арсланов В.Г. Постмодернизм и русский «третий путь». М.,
2007.
Литература
689
59. Арутюнова НД. Языковая метафора: синтаксис и лексика //
Лингвистика и поэтика. М, 1979.
60. Арутюнова Н.Д. Наивные размышления о наивной картине
языка // Язык о языке: сб. статей. М., 2000.
61. Багалей Д.И. Опыт истории харьковского университета. Т. 1-6.
(1802-1815). Вып. 1-3.
62. Барабанов Е. Стадия рефлексии // Рефлексия. М., 2005.
63. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Сост., ред.
вст. статья Г.К. Косикова. М., 1989.
64. Барт Р. Основы семиологии // Структурализм: «за» и «против».
М., 1975.
65. Бархударов Л. С. Язык и перевод: Вопросы общей и частной
теории перевода. М., 1975.
66. Бассин Φ В. О современном кризисе психоанализа // Шер-
ток Л. Непознаваемое в психике человека. М., 1982.
67. Бассин Ф.В. У пределов распознанного: к проблеме
пред-речевой формы мышления // Бессознательное: природа, функции,
методы исследования. Тбилиси, 1978. Т. III.
68. Бассин Ф., Рожнов В. Предисловие // Клеман К., Брюно П.,
СэвЛ. Марксистская критика психоанализа. М., 1976.
69. Бассин Ф.В., Ротенберг B.C., Смирнов И.Н. О принципе
«социальной энергии» Г.Аммона// Бессознательное: природа,
функции, методы исследования. Т. IV. Тбилиси, 1985.
70. Белинский В.Г. «Изгнанник, исторический роман...», соч. Боге-
муса. Пер. с нем. (1835) // Перевод - средство взаимного
сближения народов. М., 1987.
71. Белинский В.Г. Полное собрание сочинений в 12 т. / Под ред.
С.А. Венгерова. Т. 2. СПб., 1900.
72. Белкин А.И. Зигмунд Фрейд: Возрождение в СССР // Фрейд 3.
Избранное. М., 1989.
73. Беляева А. Деррида, «Деррида» и Деррида: по следам стиля.
http://www.censura.ru/articles/derridastyle.htm,with#_ftn 1 #_ftn 1
74. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
75. Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов.
М., 1995.
76. Бенъямин В. Задача переводчика / пер с нем. Е. Павлова
(приложение) //Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен СПб., 2002.
77. Березин Ф.М. Место и роль русского языка в постсоветской
России // Сер.: Языкознание. М., ИНИОН, 1997. Вып. 13.
78. Берелович Ал. Посредники между культурами: Размышления на
полях работ Наталии Автономовой // Топосы философии
Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост. Б.И. Пружи-
нин, Т.Г. Щедрина. М., 2015.
79. Бескова И.А. Природа сновидений (эпистемологический
анализ). М., 2005.
80. Бессознательное: его открытие, его проявления. От Фрейда
к Лакану. (Коллоквиум Московского круга.) М., 1992.
690
Познание и перевод. Опыты философии языка
81. Бессознательное. Природа, функции, методы исследования.
Т. I—III / Под ред. Ф.В. Бассина, A.C. Прангишвили, А.Е. Ше-
розии. Тбилиси. Т. IV/ Под ред. Ф.В. Бассина, A.C.
Прангишвили и др. Тбилиси, 1985.
82. Бибихин В. Послесловие // Хайдеггер М. Бытие и время/ Пер.
БибихинаВ. М., 1997.
83. Бибихин В. Примечание переводчика // Деррида Ж. Позиции.
Сб. интервью. Киев, 1996.
84. Бибихин В.В, Примечания переводчика // Хайдеггер М. Бытие и
время/Пер. В.В.Бибихина. М., 1997.
85. Бибихин В.В. Слово и событие. М., 2001.
86. Бибихин В.В. Узнай себя. СПб., 1998.
87. Бибихин В.В. Язык // Новая философская энциклопедия. М.,
2001. Т. IV.
88. Бибихин В.В. Язык философии. М., 1993.
89. Бикбов А. Пространственная схема аналитики Фуко:
социальное объяснение как инструмент разрыва с горизонтом
обыденной очевидности // Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
90. Бланшо М. Мишель Фуко, каким я его себе представляю. СПб.,
2002.
91. Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Системный подход:
предпосылки, проблемы, трудности. М., 1969.
92. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000.
93. Борисенко А. Преемственность в переводе. Поэзия нонсенса:
усвоение литературной формы // Альманах переводчика /
Сост. Н.М. Демурова, Л.И.Володарская. М., 2001.
94. Борисов Е. Предисловие от переводчика // Хайдеггер М.
Пролегомены к истории понятия времени / Пер. Е.Борисова. Томск,
1998.
95. Борисов Е. Феноменологический метод Хайдеггера //
Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / Пер.
Е.Борисова. Томск, 1998.
96. Брюно П. Психоанализ и антропология: Проблемы теории
личности // Марксистская критика психоанализа. М., 1976.
97. Брюсов В.Я. Фиалки в тигеле (1905) // Перевод - средство
взаимного сближения народов. М., 1987.
98. Быстрицкий Е. К., Филатов В. П. Познание и понимание: к
типологии герменевтических ситуаций // Понимание как
логико-гносеологическая проблема. Киев, 1982.
99. Бычков В. Неклассическая эстетика как корневище. Корневи-
ЩЕ как неклассическая эстетика // КорневиЩЕ ОБ. Книга
неклассической эстетики. М., 1998.
100. В поисках постмодернизма. Книга мастерской киноведов
Е.С. Громова. ВГИК. М., 2000.
101. Ваард Я. де, Найда Ю. На новых языках заговорят.
Функциональная эквивалентность в библейских переводах. СПб.,
1998.
Литература
691
102. Вайнштейн О. Деррида и Платон: деконструкция Логоса //
Arbor Mundi. 1992. № 1.
103. Васильева Т.В. Афинская школа философии. Философский
язык Платона и Аристотеля. М., 1985.
104. Васильева Т.В. Семь встреч с Хайдеггером. М., 2004.
105. Ваш М.Г. Из писем Михаила Леоновича Гаспарова. М., 2008.
106. Вдовина И. С. Поль Рикёр // Философы двадцатого века. Кн. 1.
М., 2004.
107. Вдовина И.С. Феноменология во Франции. М., 2009.
108. Вдовина И.С. Французский персонализм (1932-1982). М., 1990.
109. Вежбицкая А. Понимание культур через посредство ключевых
слов. М., 2001.
ПО. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
111. Бенедиктова Т.Д. Перевод как опыт. О книге Н. Автономовой
«Познание и перевод. Опыты философии языка» //
Иностранная литература. 2009. № 12.
112. Бенедиктова Т.Д. Романтическая идея перевода: исчерпанный
культурный ресурс? // Труды Русской антропологической
школы. Вып. 2. М., 2004.
113. Верещагин Е.М. Из истории возникновения первого
литературного языка славян: Переводческая техника Кирилла и Мефо-
дия. М., 1971.
114. Верещагин Е.М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингво-
страноведение в преподавании русского языка как
иностранного. М., 1990.
115. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
116. Визгин В. Генеалогический проект Мишеля Фуко // Мишель
Фуко и Россия. СПб., 2001.
117. Влахов С, Флорин С. Непереводимое в переводе. М., 1986.
118. Возможность и пределы психоанализа//Логос. 1998. № 1.
119. Волошинов В.Н. Марксизм и философия языка: (Основные
проблемы социологического метода в науке о языке). Л.,
1929.
120. Вольтская Т. Беседа с петербургским писателем Самуилом
Лурье // Paris-Париж. 2001. № 1.
121. Воронова Е.М. Человек как миф — евхаристия - текст в
понимании А.Ф. Лосева и французских постструктуралистов //
Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-
летию профессора Моисея Самойловича Кагана. Материалы
международной научной конференции. 18 мая 2001. СПб.
Серия «Symposium». Вып. № 12. СПб., 2001.
122. Выготский Л. С. Мышление и речь. М.—Л., 1934.
123. Вяземский П.А. Старая записная книжка. М., 2003.
124. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской
герменевтики. М., 1988.
125. Гадамер Х.-Г. Пути Хайдеггера: исследования позднего
творчества. Минск, 2007.
692
Познание и перевод. Опыты философии языка
126. ГадамерХ.-Г. Философия и герменевтика// ГадамерХ.-Г.
Актуальность прекрасного. М., 1991.
127. Гадамер. Х.-Г. Язык и понимание // Гадамер Х.-Г. Актуальность
прекрасного. М., 1991.
128. Гайденко П.П. Герменевтика и кризис буржуазной
культурно-исторической традиции // Вопросы литературы. 1977.
№5.
129. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум.
М., 2003.
130. Гайденко П.П. Хайдеггер и современная философская
герменевтика // Новейшие течения и проблемы философии в ФРГ.
М., 1978.
\3\.Гак В.Г., Григорьев Б.Б. Теория и практика перевода.
Французский язык. М., 1997.
132. Галеева H.JI. Основы деятельностной теории перевода. Тверь,
1997.
133. Галь Н.Я. Слово «живое и мертвое»: От «Маленького принца»
до «Корабля дураков». М., 2001.
134. Гараджа A.B. Критика метафизики в неоструктурализме ( по
работам Ж.Деррида 80-х г.). Науч.-аналит. обзор. М., 1989.
135. Гарбовский Н.К. Теория перевода: Учебник. М., 2004.
136. Гаспаров Б.М. Язык, память, образ: Лингвистика языкового
существования. М., 1996.
137. Гаспаров М.Л. Брюсов и буквализм (по неизданным
материалам к переводу «Энеиды»). Вступительная заметка Льва
Озерова// Мастерство перевода. М., 1971.
138. Гаспаров М.Л. Брюсов-переводчик. Брюсов и подстрочник //
Гаспаров М.Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
139. Гаспаров М.Л. Брюсов-переводчик. Путь к перепутью //
Гаспаров М.Л. Избранные труды. В 3 т. Т. 2. М., 1997.
140. Гаспаров М.Л. Вопреки размеру подлинника (Мильтон, Донн,
Томпсон) //Альманах переводчика/Сост. Демурова Н.М.,
Володарская Л.И. М., 2001.
141. Гаспаров М.Л. «Отрывок из греческой трагедии» А.Э. Хаусме-
на // Язык. Поэтика. Перевод. Сб. науч. тр. Московского
государственного лингвистического университета (МГЛУ). Вып.
№ 426. М., 1996.
142. Гаспаров М.Л. 319 сонет Петрарки в переводе О.
Мандельштама: история текста и критерии смысла //
Человек-культура-история: В честь семидесятилетия Л.М. Баткина. М.: РГГУ,
2002. С. 323-337.
143. Гейм М. О переводе дословном и вольном. Прагматический
подход к теории перевода // Альманах переводчика / Сост.
Демурова Н.М., Володарская Л.И. М., 2001.
144. Генис А. Вавилонская башня. Искусство настоящего времени.
М., 1997.
145. Герменевтика: история и современность. М., 1985.
Литература 693
146. Глобализация и мультикультурализм / Отв. ред. Кирабаев Н.С.
М., 2005.
147. Голобородько Д. Концепции разума в современной
французской философии. М. Фуко и Ж. Деррида. М., 2011.
148. Горбачевский A.A. Оригинал и его отражение в тексте перевода.
Челябинск, 2001.
149. ГреймасА.~Ж., ФонтанийЖ. Семиотика страстей. От состояния
вещей к состоянию души. М., 2007.
150. Греймас А.-Ж. Структурная семантика: поиск метода. М., 2004.
151. Гринцер Н.П. Лингвистические основы раннегреческой
философии // Язык о языке: сб. статей. М., 2000.
152. Грицанов A.A., Гурко E.H. Жак Деррида. Минск, 2007.
153. Гумбольдт В. О влиянии различного характера языков на
литературу и духовное развитие (1821) // Гумбольдт В. Избранные
труды по языкознанию. М., 1984.
154. Гурко Е. Божественная ономатология. Именование Бога в имя-
славии, символизме и деконструкции. Минск, 2006.
155. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск, 2001.
156. Гусев С.С. Наука и метафора. Л., 1984.
157.Гусев С.С. Проблема понимания. Философско-гносеологиче-
ский анализ. М., 1985.
158. Густав Шпет и его философское наследие: у истоков
семиотики и структурализма: колл. моногр. М., 2010.
159. Густав Шпет и шекспировский круг. Письма, документы,
материалы / Отв. ред. Т.Г. Щедрина. М., СПб., 2013.
160. Декомб В. Современная французская философия. М., 2000.
161. Декомб В. Тождественное и иное // Современная французская
философия. М., 2000.
162. Делёз Ж. Критическая философия Канта: учение о
способностях. Бергсонизм. Спиноза. М., 2000.
163. Делёз Ж. Логика смысла. М., 1995.
Ш.ДелёзЖ. Ницше. СПб., 1997.
165. Делёз Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.
166. Делёз Ж. Фуко. М., 1998.
167. Делёз Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? / Пер. с франц.
и послесл. С.Зенкина. М., 1998.
168.Денисова Г.В. В мире интертекста: язык, память, перевод. М.,
2003.
169. Денисова Г.В. Культурологически обусловленная лексика:
возможности и пределы переводимости. М., 1999.
ПО.Деррида Ж. Вокруг Вавилонских башен. СПб., 2002; 2-е изд.
испр. и доп. СПб., 2012.
171. Деррида Ж. Голос и феномен (работы по теории знака
Гуссерля). СПб., 1999.
Π2. Деррида Ж, Гуссерль Э. Начало геометрии. Введение Жака
Деррида. М., 1996.
ПЪ. Деррида Ж. Диссеминация. Екатеринбург, 2007.
694
Познание и перевод. Опыты философии языка
174. Деррида Ж. Есть ли у философии свой язык? (Ответы Жака Дер-
рида на вопросы издательства Autrement) / Пер. Лапицкого В. //
Деррида Ж. Золы угасшъй прах. Приложение. СПб., 2002.
175. ДерридаЖ. Золы угасшъй прах. СПб., 2002; 2-е изд. испр. и доп.
СПб., 2012.
176. Деррида Ж. Маркс и сыновья. М., 2006.
т. Деррида Ж. «Наконец-то научиться жить» (последнее интервью
Жака Деррида) / Пер. Н. Автономовой // Вопросы философии.
2005. № 4.
178. Деррида Ж. О грамматологии / Пер. Н. Автономовой. М., 2000.
179.Деррида Ж. О почтовой открытке / Пер. Г. Михалкович.
Минск, 1999.
180. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. В. Лапицкого, А. Гарад-
жи, С. Фокина. СПб., Академический проект, 2000.
181. Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Кралечкина. М.,
Академический проект, 2000
182. Деррида Ж. Письмо японскому другу / Пер. А. Гараджи //
Вопросы философии. 1992. № 4.
183. Деррида Ж. Поля философии. М., 2012.
184. Деррида Ж, Призраки Маркса. М., 2006.
185. Деррида Ж. Тварь и суверен (пер. фрагмента семинара
Деррида)// Синий диван. Философско-теоретический журнал. М.,
2008. №12, 13; 2010 №15.
186. Деррида Ж. Ухобиографии: Учение Ницше и политика имени
собственного. СПб., 2002; 2-е изд. испр. и доп. СПб., 2012.
1ST. Деррида Ж. Шибболет. СПб., 2002; 2-е изд. испр. и доп. СПб.,
2012.
188. Деррида Ж. Шпоры: стили Ницше/Пер. A.B.
Гараджи//Философские науки. 1991. № 3-4.
189.ДерридаЖ. Эссе об имени (Страсти, Кроме имени, Хора) / Пер.
Шматко H. М.- СПб., 1998.
190. Джебраилов А. Жак Деррида: деконструкция в действии //
Медведь. Настоящий мужской журнал. 1996. №6(11).
191.Джейсон Д. Определение литературного: интеллектуальные
границы во французских и американских исследованиях
литературы // Новое литературное обозрение. 2004. № 67.
192.Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления
//Лотос. Философеко-литературный журнал. 2000. № 4.
193. Дилыпей В. Программа критики исторического разума // Диль-
тпей В. Собрание сочинений. В 6 т. Т.1. М., 2001.
194. Дмитриев Α.H'. Русские правила для французской теории: опыт
1990-х годов // «Республика словесности». Франция в мировой
интеллектуальной культуре. М., 2005.
195. Дубин Б. Слово-письмо-литература. М., 2001.
196. Дубровский Д. И. Постмодернистская мода// Вопросы
философии, 2001, № 8. Интернет-версия:
197.Дьяков A.B. Жак Лакан. Фигура философа. М., 2010.
Литература
695
198. Дьяков A.B. Мишель Фуко и его время. СПб., 2010.
199. Дюбуа Ж., Эделин Ф., КлинкенбергЖ.-М.,Мэнге Ф., Пир Ф., Три-
нонА. Общая риторика. Благовещенск, 1998.
200. Дятпкин Р. Судьбы трансфера // Французская
психоаналитическая школа. СПб., 2005.
201. Егоров Б.Е. Российский клинический психоанализ - новая
школа. М., 2002.
202. Ермакова О.П. Семантические процессы в лексике // Русский
язык конца XX столетия (1985-1995). М., 1996.
203.Ж.-П. Сартр в настоящем времени: Автобиографизм в
литературе, философии и политике: Материалы международной
конференции в Санкт-Петербурге 8-9 июня 2005 / Сост.
С.Л.Фокин. СПб., 2006.
204.Жак Деррида в Москве: деконструкция путешествия. М., 1993.
205. Женетгп Ж. Фигуры. В 2 т. М., 1998.
206. Живов В.М. Что делать с Фуко, занимаясь русской историей //
Новое литературное обозрение. 2001. № 49.
207. Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М., 1999.
208.Жучков В.А. Из истории немецкой философии XVIII века
(предклассический период). М., 1996.
209. Жюльен Ф. Трактат об эффективности. М., 1999.
210. Загадка человеческого понимания. М., 1991.
211. Звегинцев В А. К вопросу о природе языка // Вопр. философии,
1979, №1.
212. Земляной С.Н. Герменевтика и проблема понимания //
Проблемы и противоречия буржуазной философии 60—70-х годов. М.,
1983.
213. Земская Е.А. Введение // Русский язык конца XX столетия
(1985-1995). М., 1996.
214. Зенкин С. Наличие и отличие // Вопросы философии. 2001. № 7.
215. Зенкин С. Преодоленное головокружение: Жерар Женетт и
судьба структурализма // Женетт Ж Работы по поэтике.
Фигуры. Т. 1.М., 1998.
216. Зигмунд Фрейд - основатель новой научной парадигмы:
психоанализ в теории и практике (к 150-летию со дня рождения
Зигмунда Фрейда). Материалы Международной
психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г. / Под ред.
А.Н. Харитонова, П.С. Гуревича, A.B. Литвинова. В 2 т. М., 2006.
217. Зимин А.И. Структурная антропология как разновидность
структурализма // Философские науки. 1982. № 6.
218. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И. Межкультурная
коммуникация. Системный подход. Нижний Новгород, 2003.
219. Иеронова Н.Ю. Коммуникативные ошибки в деятельности
лингвиста-переводчика и способы их предупреждения.
Калининград, 2004.
220. Ильин И. Два философа на перепутье времени //ДелёзЖ. Фуко.
М., 1998.
696
Познание и перевод. Опыты философии языка
221. Ильин И. Жак Деррида — постструктуралист sans pareil // Он же.
Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.,
1996.
222. Ильин И. Постмодернизм - идея для России? // Новое
литературное обозрение. 1999. № 39.
223. Интеллектуальный язык эпохи: История идей, история слов /
Отв. редактор С.Н. Зенкин. М., 2011.
224. Ионин Л. Г. Понимающая социология: Историко-критический
анализ. М., 1979.
225. Как переводить Деррида? Философско-филологический
спор // Вопросы философии. 2001. № 7.
226. Кант И. Критика чистого разума // Кант И. Сочинения. В 6 т.
Т. 3. М., 1964.
227. Каплун В. От Ницше к Ницше: об одном пересечении двух
философских биографий (Семен Франк и Мишель Фуко) //
Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
228. Караулов Ю.Н. О способах достижения функциональной
эквивалентности в переводе (два перевода одного сонета) // Язык.
Поэтика. Перевод. Сб. науч. тр. МГЛУ. Вып. № 426. М., 1996.
229. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.
230. Карцевский С. Асимметричный дуализм языковых единиц //
Пражский лингвистический кружок. М., 1967.
231. Кассен Б. Эффект софистики / Пер. с франц А.Россиуса. М.;
СПб., 2000.
232. Кашкин И. Для читателя-современника. Статьи и
исследования. М., 1977.
233. Керимов Т.Х. Неразрешимости. М., 2007.
234. Клеман К. Истоки фрейдизма и эволюция психоанализа // Кле-
ман К, Брюно П., Сэв Л. Марксистская критика психоанализа.
М., 1976.
235. Клименкова Т.А. От феномена к структуре. М., 1991.
236. Комиссаров В.Н. Интуитивность перевода и объективность пе-
реводоведния // Язык. Поэтика. Перевод. Сборник научных
трудов МГЛУ. Вып. № 426. М., 1996.
237. Комиссаров В.Н. Лингвистика перевода. М., 1980.
238. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М., 1999.
239. Комиссаров В.Н. Теория перевода (Лингвистические аспекты).
М., 1990.
240. «Конечный и бесконечный анализ» Зигмунда Фрейда. М.,
1998.
241. Коротких В.И. Об одной любопытной опечатке в
«Феноменологии духа» Гегеля // Гуманитарные науки в Сибири. 2005. № 1.
242. Косиков Г.К. «Структура» и/или «текст» (стратегии
современной семиотики) // Французская семиотика: от структурализма
к постструктурализму / Под ред. Г.К. Косикова. М., 2000.
243. Кралечкин Д. Дсррнда запись одного шума (послесловие) //
Деррида Ж. Письмо и различие / Пер. Д. Кралечкина. М., 2000.
Литература
697
244. Красухин КГ. Слово, речь, язык, смысл: индоевропейские
истоки // Язык о языке: сб. ст. М., 2000.
245. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман (1967) //
Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / Под
ред. Г.К. Косикова. М., 2000.
246. Кристева Ю. Разрушение поэтики // Французская семиотика:
от структурализма к постструктурализму / Под ред. Г.К.
Косикова. М., 2000.
247. Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М., 2007.
248. Кроне Б. Эстетика как наука о выражении и как общая
лингвистика (1902). М., 2000.
249. Крысин Л.П. Иноязычное слово в контексте современной
общественной жизни // Русский язык конца XX столетия
(1985-1995). М., 1996.
250. Крюков Λ.Η. Антиномии в теории перевода и их разрешение //
Язык. Поэтика. Перевод. Сборник научных трудов МГЛУ.
Вып. №426. М., 1996.
251. Куайн У. Онтологическая относительность // Современная
философия науки. М., 1994.
252. Куайн У. Слово и объект. М., 2000.
253. Кузнецова Н.И. Перевод и познание в историко-научных
исследованиях // Топосы философии Наталии Автономовой. К
юбилею / Отв. ред.-сост. Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. М., 2015.
254. Кун Т. Структура научных революций. М., 1975.
255. Курицын Вяч. Постмодернизм: новая первобытная культура //
Новый мир. 1992. №2.
256. Курицын Вяч. Русский литературный постмодернизм. М., 2000.
257.Лакан Ж. Имена - Отца. М., 2006.
258. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном, или судьба
разума после Фрейда. М., 1997.
259.Лакан Ж. Семинары. Кн. 20. Еще (1972-1973). М., 2011.
260.Лакан Ж. Семинары. Кн. 17. Изнанка психоанализа
(1969-1970). М, 2008.
261.Лакан Ж. Семинары. Кн. 5. Образования бессознательного
(1957-1958). М., 2002.
262. Лакан Ж. Семинары. Кн. 1. Работы Фрейда по технике
психоанализа (1953-1954). М., 1998.
263. Лакан Ж. Телевидение. М., 2000.
IM. Лакан Ж. Семинары. Кн. 10: Тревога (1962-1963). М., 2010.
265.Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. М.,
1995.
266. Лакан Ж. Семинары. Кн. 11. Четыре основные понятия
психоанализа (1964). М., 2004.
267.Лакан Ж. Семинары. Кн. 7. Этика психоанализа (1959-1960).
М., 2006.
268. Лакан Ж. Семинары. Кн. 2. «Я» в теории Фрейда и в технике
психоанализа (1954-1955). М., 1999.
698
Познание и перевод. Опыты философии языка
269.Лакановский психоанализ // Московский
психотерапевтический журнал. Спец. вып. 2004. № 3.
270. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.,
2004.
21\.Лапицкий В. Вместо напутствия // Деррида Ж. Ухобиографии.
СПб., 2002.
272.Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер.
с франц. и науч. ред. Н.С. Автономовой. 2 изд. перераб. и доп.
СПб.-М., 2010 ( 1 изд. М., 1996).
273. Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция
и понятие поэтического. СПб., 2001.
21 А. Лебедев В.Ю. Очерк теории сакрального перевода. Пермь, 2004.
275.Леей-Строе К. Мифологики. В 4 т. Т. 1. Сырое и
приготовленное. М.-СПб., 1999.
276. Леви-Строс. К. Мифологики. В 4 т. Т. 2. От меда к пеплу. М.,
2000.
277.Леви-Строс К. Мифологики. В 4 т. Т. 3. Происхождение
застольных обычаев. М., СПб., 2000.
278.Леви-Строс К. Мифологики. В 4 т. Т. 4. Человек голый. М.,
2007.
279.Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
280.Леви-Строс К. Печальные тропики. М., 1984.
281.Леви-Строс К. Путь масок. М., 2000.
282.Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1985.
283.Левин Ю.Д. Русские переводчики XIX в и развитие
художественного пере вода. Л., 1985.
284.Левый Й. Искусство перевода. М., 1974.
285. Ледников Е.Е. Рец. на кн.: Рассел Б. Философия логического
атомизма / Пер. с англ. Суровцева В.А. Томск, 1999 // Вопросы
философии. 2000. № 7.
286. Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная
философия. М., 1990.
287'. Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. М., 1980.
288. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и
неклассическая. М., 2001.
289. Лекторский В.А., Садовский В.Н. О принципах исследования
систем (В связи с «общей теорией систем» Л. Берталанфи) /
Вопросы философии. 1960. № 8.
290.Лекторский В.А., Швырев B.C. Методологический анализ
науки (типы и уровни) // Философия. Методология. Наука. М.,
1972.
291. Лилова А. Введение в общую теорию перевода. М., 1985.
292.Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Пер. с франц.
H.A. Шматко. М.-СПб., 1998.
293. Лиотар Ж.-Ф. Хайдеггер и «евреи». СПб., 2001.
294. Липовецкий М.Н. Русский постмодернизм. Очерки
исторической поэтики. Екатеринбург, 1997.
Литература
699
295. Лозинский M. Искусство стихотворного перевода // Перевод -
средство взаимного сближения народов. М., 1987.
296. Ломоносов М.В. Предисловие о пользе книг церковных в
российском языке (1758) //Ломоносов М.В. Избранные
произведения. М., 1986.
297.Лотман Ю.М. Избранные статьи. В 3 т. Т. 3. Таллинн, 1993.
298.Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2001.
299. Лысенко В.Г. О переводе санскритских философских
текстов // Труды Русской антропологической школы. Вып. 2.
М., 2004.
300. Люсый А.П. Рец. на книгу: Автономова Н.С. Познание и
перевод. Опыты философии языка. М.: РОССПЭН, 2008. //
Философские науки 2010. № 3. С. 154-158.
301. Мазин В.А. Введение в Лакана. М., 2004.
302. Мазин В. Паранойя: Шребер - Фрейд - Лакан. СПб., 2009.
303. Мазин В. Переводы Фрейда // Психоаналитический вестник.
1999. №1(17).
304. Мазин В. Призраки Фрейда // Психоаналитический вестник.
2005. № 14-15.
305. Мазин В. Рецензия на кн.: Жак Деррида. О грамматологии.
Пер. Н. Автономовой. М., Ад Маргинем, 2000; Ж. Деррида.
Письмо и различие. Пер. В. Лапицкого, А. Гараджи,
Б. Фокина, СПб., Академический проект, 2000; Ж. Деррида.
Письмо и различие. Пер. Д. Кралечкина. М.,
Академический проект, 2000: http://www.guelman.ru/slava/nrk/nrk6/
18.html/
306. Мазин В. Рождение психоанализа в переводе (послесловие) //
Фрейд 3., Брейер Й. Исследования истерии // Фрейд 3.
Собрание сочинений. В 26 т. Т. 1. Восточно-европейский институт
психоанализа. СПб., 2005.
307. Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб., 2005.
308. Мазин В. Субъект Фрейда и Деррида. СПб., 2010.
309. МакКормак Э. Когнитивная теория метафоры // Теория
метафоры. М., 1990.
310. Малахов В. Философская герменевтика Ганса Георга Гадаме-
ра // Гадамер Г.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
311. Мамардашвили М.К. Анализ сознания в работах Маркса //
Вопросы философии. 1968. № 6.
312. Мамардашвили М.К. Форма превращенная // Философская
энциклопедия. Т. 5. М., 1970.
313. Мамардашвили М.К., Соловьев Э.Ю., Швырев В. С. Классическая
и современная буржуазная философия // Вопросы философии.
1970. № 12; 1971. № 4 (перепеч. в сб. Философия и наука (М.,
1972) под заглавием «Классика и современность: две эпохи
в развитии буржуазной философии»).
314. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику
постмодернизма). М., 1995.
700
Познание и перевод. Опыты философии языка
315. Марков А. Трудности познания и перевода / Обсуждение книги
Н. Автономовой // Вопросы литературы. 2009. Март-апрель.
С. 109-117.
316. Маркова Л.А. От математического естествознания к науке
о хаосе // Вопросы философии. 2003. № 7.
317. Маркова Л.А. Философия из хаоса. Ж.Делёз и постмодернизм
в философии, науке, религии. М., 2004.
318. Махлин В.Л. Другое лицо эпистемологи (О книге Н.С.
Автономовой «Познание и перевод») // Он же. Второе сознание.
Подступы к гуманитарной эпистемологии. М., 2009.
С. 574-609.
319. Махлин В. Перевод и образование / Обсуждение книги Н.
Автономовой // Вопросы литературы. 2009. Март-апрель. С. 118-168.
320. Маяцкий М. Там и тогда. Послесловие переводчика // Гус-
серль/Деррида. Начало геометрии. М., 1996.
321. Микешина Л.А. Субъект познания и субъект перевода // Топосы
философии Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост.
Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. М., 2015.
322. Микешина Л.А. Философия познания. М., 2002.
323. Миллер X. Триумф теории и производство значений // Вопросы
литературы. 1990. Май. № 5.
324. Милюков П. Очерки по истории русской культуры. Часть III.
Национализм и общественное мнение. Вып I. Издание второе.
СПб., 1903.
325. Минъяр-Белоручев Р.К. Теория и методы перевода. М., 1996.
326. Михайлин В. Переведи меня через Made in: несколько
замечаний о художественном переводе и о поисках канона // Новое
литературное обозрение. 2002. № 53.
327. Михайлов A.A. Современная философская герменевтика:
Критический анализ. Минск, 1984.
328. Михайлов A.B. Надо учиться обратному переводу // Обратный
перевод. Русская и западноевропейская культура: проблемы
взаимосвязей. М., 2000.
329. Михайлов A.B. Обратный перевод. Русская и
западно-европейская культура: проблемы взаимосвязей. М., 2000.
330. Михель Д.В. Мишель Фуко в стратегиях субъективации.
Материалы лекционных курсов. Саратов, 1999.
331. Мишатина Н.Л. Образ России на уроках в 5 классе // Русский
язык в школе. 1996. № 2.
332. Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
333. Молчанов В.И. Исследования по феноменологии сознания. М.,
2007.
334. Мотрошилова Н.В. Драма жизни, идей и грехопадения
Мартина Хайдеггера // Философия Мартина Хайдеггера и
современность. М., 1991.
335. Мотрошилова Н.В. «Идеи I» Эдмунда Гуссерля как введение
в феноменологию. М., 2003.
Литература
701
336. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории
искусства. М., 1994.
337. Наш Деррида? (Анализ рецепции и стратегии перечтения) /
Круглый стол в редакции «НЛО» 22 ноября 2004 г. // Новое
литературное обозрение. 2005. № 72.
338. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе. История и теория
с древнейших времен до наших дней. М., 2006.
339. Нестеров А. «Перевод» или «Mother Tongue»? // Новое
литературное обозрение. 2002. № 53.
340. Николаева Т.М. От звука к тексту. М., 2000.
341. Объяснение и понимание в научном познании. М., 1983.
342. Ольшанский Д. Собственный язык ( в) философии Деррида.
http://anthropology.ru/ru/texts/olshansky/russia_13.html
343. Опыт и чувственное в культуре современности. Философско-
антропологические аспекты. М., 2004.
344. Островский А.Б. Обоснование антропологии мышления // Ле-
ви-Строс К. Путь масок. М., 2000.
345. Отье-Ревюз Ж. Явная и конститутивная неоднородность:
к проблеме другого в дискурсе // Квадратура смысла.
Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
346. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом.
Т. 1. Введение в историю просвещения в России XVIII
столетия. СПб., 1862.
347. Пензин A. Made in France, eaten in Russia. Постструктурализм
на последнем дыхании // Художественный журнал. 2001.
№ 37/38.
348. Перевод и дискурс. Вестник МГЛУ. Вып. 463. М., 2002.
349. Перевод и подражание в литературах Средних веков и
Возрождения. М., 2002.
350. Перевод: традиции и современные технологии. М., 2002.
351. Перевод философии / Философия перевода // Логос. Фило-
софско-литературный журнал. № 84. 2011.
352. Перлов A.M. История науки: введение в методологию
гуманитарного знания. М., 2007.
353. Петровская Е.В. Непереводимое в переводе // Труды Русской
антропологической школы. Вып. 2. М., 2004.
354. Пененкин A.A. Вводные замечания (к разделу «Релятивизм») //
Современная философии науки. Хрестоматия. М., 1994.
355. Пешё М. Контент-анализ и теория дискурса // Квадратура
смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
356. Пешё М. Прописные истины. Лингвистика, семантика,
философия // Квадратура смысла. Французская школа анализа
дискурса. М., 1999.
357.Плотников Н.С. Жизнь и история. Философская программа
Вильгельма Дильтея. М., 2000.
358. Погосян В.А. Философская герменевтика: анализ истины и
метода // Вопросы философии. 1985. № 4.
702
Познание и перевод. Опыты философии языка
359. Подорога В.А. Власть и познание (археологический поиск
М.Фуко) // Власть. Очерки современной политической
философии Запада. М., 1989.
360. Поль Рикёр - философ диалога. М., 2008.
361. Попова Н.Г. Французский постфрейдизм: Критический анализ.
М., 1986.
362. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
363. Постмодернизм: что же дальше? Художественная литература
на рубеже XX-XXI вв. М., 2006.
364. Постмодернисты о посткультуре. Интервью с современными
писателями и критиками. М., 1998.
365. Проблемы и дискуссии в философии России второй половины
XX в.: современный взгляд / Философия России второй
половины XX века. М., 2014.
366. Пружинина A.A., Пружинин Б.И. Из истории отечественного
психоанализа // Философия не кончается...Из истории
отечественной философии. XX век. 1920—1950-е годы. М., 1998.
367. Пружинин Б.И. Ratio serviens? Контуры
культурно-исторической эпистемологии. М., 2009.
368. Психоанализ и науки о человеке. По материалам российско-
французской конференции «Психоанализ и науки о человеке»,
(30 марта—3 апреля 1992 г.) / Под ред. Н.С. Автономовой,
B.C. Степина. М., 1996.
369. Пушкин A.C. - Вяземскому П.А. 1 сентября 1822 из Кишинева
в Москву // Пушкин A.C. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 10. М.-Л.,
1949. С. 41-42.
370. Пушкин A.C. - Вяземскому П.А. 13 июля 1825 г из
Михайловского в Царское село // Пушкин A.C. Поли. собр. соч. В 10 т.
Т. 10. М.; Л., 1949. С. 153.
31 Х.Пушкин A.C. О Мильтоне и шатобриановом новом переводе
«Потерянного рая» (1836) // Пушкин A.C. Поли. собр. соч.
В 10 т. Т. 7. М.; Л., 1949. С. 488-502.
372. Пушкин A.C. О причинах, замедлявших ход нашей
словесности // Пушкин A.C. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 7. М.; Л., 1949.
С. 18-19.
373. Пушкин A.C. Роман Б. Констана «Адольф» в переводе
П.А.Вяземского // Пушкин A.C. Поли. собр. соч. В 10 т. Т. 7. М.; Л.,
1949. С. 96-97.
374. Ракитов А.И. Диалектика процесса понимания (Истоки
проблемы и операциональная структура понимания) // Вопросы
философии. 1985. № 12.
375. «Республика словесности». Франция в мировой
интеллектуальной культуре. М., 2005.
376. Решетников М. Почему появилось это издание? (Предисловие
главного редактора) // Фрейд 3. Брейер Й. Исследования
истерии // Фрейд 3. Собрание сочинений. В 26 т. Т. 1. СПб., 2005.
377. Рикёр П. Время и рассказ. Т. 1-2. М.; СПб., 2000.
Литература
703
378. Рикёр П. Герменевтика. Этика. Политика. Московские лекции
и интервью. М., 1995.
379. Рикёр П. Живая метафора // Теория метафоры. М., 1990.
380. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2008.
381. Рикёр П. Память, история, забвение. М., 2004.
382. Рикёр П. Понимание и объяснение // Новая философская
энциклопедия. Т. Ш. М., 2001.
383. Рикёр П. Путь признания. М., 2010.
384. Роджеро А.Н. Герменевтика и научная рациональность
(понимание как методологическая проблема
культурно-исторических исследований) // Труды семинара по герменевтике.
Вып. 1. Одесса, 1999.
385. Розин В. М. Опыт гуманитарного изучения творчества (Эволюция
взглядов М. Фуко) // Розин В. Мышление и творчество. М., 2006.
386. Романов И. О принципах перевода // Эра контрпереноса.
Антология психоаналитических исследований. М., 2005.
387. Ромашко С.А. Язык и речь в Ветхом завете // Язык о языке: сб.
статей. М., 2000.
388. Русский язык в современном обществе: функциональные
и статусные характеристики. М., 2006.
389. Русский язык как государственный. Материалы
международной конференции (Челябинск, 5—6 июня 1997 года). М.,
Челябинск, 1997.
390. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). М., 1996.
Ъ9\.Руткевич A.M. Рецензия на кн. Лейбина В.М. «Фрейд,
психоанализ и современная западная философия» // Вопросы
философии. 1990. №6.
392. Рыклин М. Деконструкция и деструкция. Беседы с
философами. М., 2002.
393. Рябова М.Ю. Теория художественного перевода в России
(Х-ХХвв.). Кемерово, 1999.
394. СартрЖ.-Л. Бытие и ничто. М., 2000.
395. Свирский Я.И. Послесловие. Философствовать посреди...// Де-
лёз Ж. Критическая философия Канта: учение о способностях.
Бергсонизм. Спиноза. М., 2000.
396. Семенов К. Глядя разными глазами. Как у нас издают Дерри-
да? // Книжное обозрение. 2001. 3 сентября.
397. Семиотика: Антология / Сост. Ю.С. Степанов. М.,
Екатеринбург, 2001.
398. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии.
М., 1993.
399. Серио П. Почему публикуется этот сборник в России сейчас? //
Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М.,
1999.
400. Серио П. Структура или целостность. Об интеллектуальных
истоках структурализма в центральной и восточной Европе
1920-1930 гг. М., 2001.
704
Познание и перевод. Опыты философии языка
401. Ситуация post: что после? (Материалы международного
симпозиума памяти Жака Деррида. Ростов-на-Дону. 5-7 июня
2005) //Симпозиум. Ежегодный междисциплинарный журнал.
Вып. 2. Ч. 1. Ростов-на-Дону, 2005.
402. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература:
новая философия, новый язык. СПб., 2002.
403. Смирнов И. Реальность и фантазм. От «Общества спектакля»
к «Матрице» (http://www.lacan.ru/articles/ reality_and_fantasm.
html).
404. Смирнов A.B. Логическая неопределенность перевода:
грамматика языка и грамматика мысли // Топосы философии
Наталии Автономовой. К юбилею / Отв. ред.-сост. Б.И. Пружинин,
ТТ. Щедрина. М., 2015.
405. Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси
XIV-XVII веков. СПб., 1903.
406. Современные методологические стратегии: Интерпретация,
Конвенция, Перевод. М., 2014.
407. Соколов Б.Г. Маргинальный дискурс Деррида. СПб., 1996.
408. Сокулер З.А. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.,
2001.
409. Соловьев B.C. Философские начала цельного знания //
Соловьев B.C. Сочинения. В 2 т. Т. 2. М., 1990.
410. Сорокин Ю.А. Интерпретативная или деятельностная теория
перевода? // Сорокин Ю.А. Переводоведение. Статус
переводчика и психогерменевтические процедуры. М., 2003.
411. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933.
412. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка:
Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М.,
1985.
413. Степанов Ю.С. Семиотика. М., 1971.
414. Степин B.C. Теоретическое знание. Структура, историческая
эволюция. М., 2000.
415. Структурализм: «за» и «против» / Сост. Поляков М.Я. М., 1975.
416. Субботина Н.Д. Суггестия и контрсуггестия в обществе. М.,
2006.
417. Суровцев В.А. По поводу одной рецензии // Вопросы
философии. 2001. № 12.
418. Сухомлинов М.И. История российской академии. Вып. 8.0
словаре российской Академии. СПб., 1887.
419. Табачникова С. Мишель Фуко: историк настоящего // Фуко М.
Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности /
Пер. и послесл. С. Табачниковой. М., 1996.
420. Тёмкина А. К вопросу о женском удовольствии: сексуальность
и идентичность // Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
421. Теория метафоры / Сост. Н.Д. Арутюновой. М., 1990.
422. Терещенко H.A., Шатунова Т.М. Постмодерн как ситуация
философствования. СПб., 2003.
Литература
705
423. Топер П.M. Перевод в системе сравнительного
литературоведения. М., 2000.
424.Топосы философии Наталии Автономовой. К юбилею / Отв.
ред.-сост. Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина. М., 2015.
425. Тороп П. Тотальный перевод. Тарту, 1995.
426. Тредыаковский В. Слово о премудрости, благоразумии и
добродетели // Тредыаковский В. Сочинения. В 3 т. 4 кн. Т. 2. СПб.,
1849.
427. Трубников H.H. Время человеческого бытия. М., 1987.
428. Тульчинский Т.Л. Трансцендентальный субъект,
постчеловеческая персонология и новые перспективы гуманитарной
парадигмы // Я и МЫ: к 70-летию проф. Я. А. Слинина. СПб., 2002.
Интернет-версия http://anthropology.ru/ru/ texts/tulchin/slin-
in.html
429. Уварова СТ. Сопротивление психоанализу: драма или
трагедия? // Зигмунд Фрейд - основатель новой научной
парадигмы: психоанализ в теории и практике ( к 150-летию со дня
рождения Зигмунда Фрейда). Материалы Международной
психоаналитической конференции. 16—17 декабря 2006 г. /
Под ред. А.Н. Харитонова, П.С. Гуревича, A.B. Литвинова.
В 2 т. Т. I. М., 2006.
430. Уолцер М. Одинокая политика Мишеля Фуко // Уолцер М.
Компания критиков. Социальная критика и политические
пристрастия XX века. М., 1999.
431. Уорф Б.Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике.
Вып. 1.М., 1960.
432. Уорф Б.Л. Наука и языкознание (о двух ошибочных воззрениях
на речь и мышление, характеризующих систему естественной
логики, и о том, как слова и обычаи влияют на мышление) //
Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
433. Уорф Б.Л. Отношение норма поведения и мышления к языку //
Новое в лингвистике. Вып. 1. М., 1960.
434. Уроки французского психоанализа. Десять лет франко-русских
коллоквиумов по психоанализу / Пер. с франц. / Под ред
П.В. Качалова, A.B. Россохина. М., 2007.
435. Успенский Б.А. Языковая ситуация и языковое сознание в
Московской Руси: восприятие церковно-славянского языка //
Успенский Б.А. Избр. труды. Т. II. Язык и культура. М., 1996.
436. Федоров A.B. Основы общей теории перевода. М., СПб., 2002.
437. Ференци Ш. Теория и практика психоанализа. М., 2000.
438. Филиппов Л.И. Грамматология Ж. Деррида // Вопросы
философии. 1978. №1.
439. Филиппов Л.И. Принципы и противоречия структурного
психоанализа Жака Лакана // Бессознательное: природа, функции,
методы исследования, т. I. Тбилиси, 1978.
440. Флорин С. Муки переводческие. Практика перевода. М.,
1983.
706
Познание и перевод. Опыты философии языка
441. Философия и литература: проблема взаимных отношений
(участники Н.С. Автономова, А.Л. Никифоров, С.Н. Зенкин,
В.А. Мильчина, В.Л. Махлин, И.Т. Касавин, В.А. Подорога,
В.К. Кантор, Е.В. Петровская, Т.Д. Бенедиктова, О.В. Арон-
сон, Б.И. Пружинин, В.А. Лекторский) // Вопросы
философии. 2009. № 9.
442. Фокин С. Рец. на кн.: Е. Гурко. Жак Деррида. Деконструкция:
тексты и интерпретация. Минск, 2001 (http://www.guelman.ru/
slava/nrk/nrk8/27r. ht m 1).
443. Французская психоаналитическая школа / Под ред. А. Жибо,
A.B. Россохина. СПб., 2005.
444. Французская семиотика: от структурализма к
постмодернизму / Сост. Г.К. Косикова. М., 2000.
445. Фрейд 3. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1989.
446. Фрейд 3. Исследования истерии. СПб., 2005.
447. Фрейд 3. Толкование сновидений. Киев, 1991.
448. Фрейд 3. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1991.
449. Фрейд 3. Психология бессознательного. М., 2006.
450. Фуко М. Археология знания. СПб., 2004.
451. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и
сексуальности. Работы разных лет / включает пер. I т. «Истории
сексуальности» - «Воля к знанию»). М., 1996.
452. Фуко М. Забота о себе. История сексуальности. Т. 3. Киев-М.,
1998.
453. Фуко М. Интеллектуалы и власть: статьи и интервью,
1970-1984. В 3 ч. М., 2002-2006.
454. Фуко М. Использование удовольствий. История сексуальности.
Т. 2. СПб., 2004.
455. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997,
2-е изд. М., 2010.
456. Фуко М. Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы. М.,
1999.
457. Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине. По ту
сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.
458. Фуко М. Психическая болезнь и личность. СПб., 2009.
459. Фуко М. Рождение клиники: археология врачебного взгляда.
М., 1998, 2-е изд. М., 2010.
460. Фуко М. Слова и вещи: археология гуманитарных наук. М,
1977, переизд.: СПб., 1994.
461. Фуко М. Что такое Просвещение? // Он же. Интеллектуалы
и власть. Ч. 1.М.,2002.
462. Фуко М. Эстетика существования / Интервью с А. Фонтана //
Он же. Интеллектуалы и власть. Ч. 3. М., 2006.
463. Фуко М. Безопасность, территория, население. Лекции в
Коллеж де Франс. СПб., 2011.
464. Фуко М. Герменевтика субъекта. Лекции в Коллеж де Франс.
СПб., 2007.
Литература
707
465. Фуко M. Мужество истины. Управление собой и другими II.
Лекции в Коллеж де Франс. СПб., 2014.
466. Фуко М. Ненормальные. Лекции в Коллеж де Франс. СПб., 2004.
467. Фуко М. «Нужно защищать общество». Лекции в Коллеж де
Франс. СПб., 2005.
468. Фуко М. Психиатрическая власть. Лекции в Коллеж де Франс.
СПб., 2007.
469. Фуко А/. Рождение биополитики. Лекции в Коллеж де Франс.
СПб., 2010.
470. Фуко М. Управление собой и другими I. Лекции в Коллеж де
Франс. СПб., 2011.
471. Хайдеггер М. Бытие и время / Пер. В.Бибихина. М., 1997.
472. Хайдеггер М. Введение в метафизику / Пер. Н.О. Гучинской.
СПб., 1998.
473. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики / Пер. О.
Никифорова. М.; СПб., 1997.
41Ч. Хайдеггер М. О существе и понятии фюсис. Аристотель.
Физика. βετα-l / пер. Т.В. Васильевой. М, 1995.
475. Хайдеггер М. Пролегомены к истории понятия времени / Пер.
Е. Борисова. Томск, 1998.
476. Хайдеггер М. Разговоры на проселочной дороге / Пер. Т.
Васильевой и др. М., 1991.
477. Харламов H.A. Мишель Фуко и современное гуманитарное
знание // Человек. 2007. № 3.
47S. Хархордин О. Фуко и исследование фоновых практик //
Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
479. Человек в мире знания. К 80-летию Владислава
Александровича Лекторского. М., 2012.
480. Челышев Е.П. Отчетный доклад о деятельности ОЛЯ РАН
в 1997 году // Известия АН, сер. Лит. и языка. 1998. Июль-авг.
481. Черноглазое А. Лакан с высоты птичьего полета (ответ на статью
П. Качалова «Лакан: заблуждение тех, кто не считает себя
обманутыми») (http://www.lacan.ru/articles/from_the_birds-
eye_view. html)
482. Ùlanup M.И. Эстетический опыт XX века: авангард и
постмодернизм // Philologica. 1995. № 2.
483. Швейцер АД. Пастернак - переводчик: к вопросу о стратегии
перевода // Язык. Поэтика. Перевод. Московский
государственный лингвистический университет. Сборник научных
трудов. Вып. № 426. М., 1996.
484. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. М., 1973.
485. Швейцер А.Д. Социолингвистические основы теории
перевода // Вопросы языкознания. 1985. № 5.
486. Швейцер АД. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. М.,
1988.
487. ШертокЛ. Непознанное в психике человека. М., 1982.
4%%.Шерток Л. От Лавуазье к Фрейду (совместно с И. Стен-
708
Познание и перевод. Опыты философии языка
герс) // Вопросы истории естествознания и техники. 1988.
№3.
489. ШертокЛ. Сердце и разум в психоанализе (эпистемологический
подход) // Современная наука: познание человека. М. 1988.
490. Шерток Л. Шарко, Бернгейм, Фрейд, Лакан //
Психологический журнал. 1990. № 2.
491. Шерток Л., Соссюр Р. де. Рождение психоаналитика: от
Месмера до Фрейда. М., 1991.
492. Шпет Г. От переводчика // Гегель Г.-В.-Ф. Сочинения. Т. 4.
Система наук. Ч. I. Феноменология духа / Пер. Шпета Г.Г. М.; Л.,
1959.
493. Шпет Г. Очерк развития русской философии / Г.Г. Шпет.
Сочинения. М., 1989.
494. Шпет Г Очерк развития русской философии. I—II / Под общ.
ред. Т.Г. Щедриной. М., 2008, 2009.
495. Шпет Г.Г Философская критика, отзывы, рецензии, обзоры /
Сост. науч. ред. Т.Г. Щедриной. М., 2010.
496. Шпет Г Явление и смысл // Он же. Мысль и слово. Избранные
труды. М., 2005.
497. Шпигелъберг Г. Феноменологическое движение. М., 2002.
498. Шулъга E.H. Проблематика предпонимания в герменевтике,
феноменологии и социологии. М., 2004.
499. Щедрина Т.Г «Я пишу как эхо другого». Очерки
интеллектуальной биографии Густава Шпета. М., 2004.
500. Щедрина Т.Г Четыре письма Л.Б. Каменеву, или роль Густава
Шпета в переводах Шекспира // Щедрина Т.Г. Архив эпохи:
тематическое единство русской философии. М., 2008.
501. Энгельс Ф. Как не следует переводить Маркса (1885) //
Перевод - средство взаимного сближения народов. М., 1987.
502. Эпштейн М. Постмодерн в России: литература и теория. М.,
2000.
503. ЭрибонД. Мишель Фуко. Пер. с франц. М., 2008.
504. ЭткиндА. Фуко и имперская Россия: дисциплинарные
практики в условиях внутренней колонизации // Мишель Фуко и
Россия. СПб., 2001.
505. Юран А. Пространство и время в психоанализе (http://www.
lacan.ru/articles/space_and_time.html).
506. Юран А. Психоанализ и эпистемологический разрыв на рубеже
веков (http://www.lacan.ru/articles/the_gap.html).
507. Юран А. Путешествие буквы в сетях означающих (http://www.
lacan.ru/articles/naming_networks.html).
508. Юран А. «Утраченный» аффект психоанализа (http://psyagora.
narod.ru/afTect.doc).
509. Юран Α., Рисков В., Мазин Α., Черноглазое А. Лакан и космос.
Серия «Лакановские тетради». СПб., 2006.
510. Языковое сознание и образ мира / Под ред. Уфимцевой Н.В.
М., 2000.
Литература
709
511. Якобсон Р. Два аспекта языка и два типа афатических
нарушений//Теория метафоры. М., 1990.
512. Якобсон Р. О лингвистических аспектах перевода // Якобсон Р.
Избранные работы. М., 1985.
513. Ямпольская A.B. Левинас между прочим. Рец. на: Левинас Э.
Время и Другой. Гуманизм другого человека. СПб., 1999
//Логос. Философско-литературный журнал. 2000. № 23.
514. Ямпольская А. Свобода (от) вопроса. Рец. на кн.: Жак Деррида.
Письмо и различие. Перевод Д.Ю.Кралечкина. М.,
Академический проект, 2000; Жак Деррида. Письмо и различие.
Перевод А.Гараджи, В.Лапицкого, С.Фокина. СПб.,
Академический проект, 2000 // Логос. Журнал по философии
и прагматике культуры. 2001. № 5-6 (31). С. 174-177, в
Интернете:
515. Ямпольская A.B. Современная французская мысль и
переосмысление структурализма. Размышления над книгой Н.С. Ав-
тономовой «Познание и перевод» // Вопросы философии.
2009. № 3.
516. Ямпольская A.B. Феноменология в Германии и Франции:
проблемы метода. М., 2013.
5\1 .ЯнгуловаЛ. Юродивые и умалишенные: генеалогия инкарцера-
ции в России // Мишель Фуко и Россия. СПб., 2001.
518. Яусс Х.Р. История литературы как провокация
литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12.
519. Ященко А. Русская библиография по истории древней
философии. Юрьев, 1915.
Указатель имен1
Абрахам К. (Abraham К.) 340
Августин Блаженный 544
Аверинцев С.С. 249, 602, 685
Аврамова С. 65, 685
Автономова H. И. 36
Автономова Н.С. (Avtonomova N.S.) 7, 10, 12, 13, 15, 16, 27, 42, 47, 56, 76,
117, 133, 154, 280, 299, 349, 377, 398, 399, 405, 409, 415, 424, 431, 432,
434, 449, 456, 514, 543, 600, 608, 642, 661, 662, 673, 680, 686-689, 691,
694, 698-700, 702, 705, 706, 709
Агамбен Дж. (Agamben G.) 206, 411, 661
Адамски Д. (Adamski D.) 661
Адлер Α. (Adler Α.) 259
АдоП. (HadotP.) 139,673
Адорно T. 674
Ажеж К. (Hagège С.) 541, 673
Азов А. 688
Алейник P.M. 375, 688
Алексеев А.П. 688
Алексеев В.М. 382
Алексеева Е. В. 382
Алексеева И.С. 666
Алексеева И.С. (Alekseeva I.) 12,662,688
Алексеева М.Л. 688
Алимов В.В. 688
Алпатов В.М. 560, 688
Альтюссер Л. (Althusser L.) 42, 77, 224, 233, 371, 380, 392, 402, 405, 661,
667,688
Альфан M. (Alphant M.) 685
АмальрикЖ.-Л. (AmalricJ.-L.) 605,661
Амио M. (Amiot M.) 661
Аммон Г. 689
Анаксимандр 487,493
Андре С. (André S.) 661
Аникин A.B. 352, 353
АнкерсмитФ.Р. (Ankersmith F.R.) 688
Анна Иоанновна 523
Анри M. (Henry M.) 309, 342, 343, 490, 674
АнриП. (Henry Р.) 222
Анри Э. (Henry H.) 8,673
Аполлинер Г. 626
1 В данном указателе оригинальное написание иностранных имен дается, как
правило, применительно к современным и не общеизвестным персонажам.
Указатель имен
711
Арендт X. 570
Аристотель 135, 136, 206, 435, 486, 488, 491, 503, 526, 537, 546, 569, 570,
637, 639, 640, 674, 686, 688, 691, 707
Аристофан 139
АронсонО.В. 13,706
АрривеМ. (Arrivé M.) 269,661
АрслановВ.Г. 407,688
Артьер Ф. (Artières Ph.) 661
Арутюнова Н.Д. 602, 606, 689, 704
БагалейД.И. 529,689
Бадью A. (BadiouA.) 222,269,662
БайиЖ.-С. (BaillyJ.-C.) 336
Байрон Дж.Н.Г. 511
Балибар Э. (Balibar Ε.) 42, 50, 222, 662
Барабанов Ε.В. 500,689
Баран X. 36
Барнс Дж. (Barnes J.) 662
Барт P. (Barthes R.) 41, 42, 44, 51, 58, 71, 73, 175, 186, 201, 213, 369, 371,
389, 396, 402, 405, 418, 432, 440, 562, 662, 682, 684, 689
Бархударов Л.С. 689
Бассин Ф.В. 293, 296, 345, 346, 454, 456, 674, 689, 690
Бастид P. (Bastide R.) 41, 683
БатищевГ.С. 381,486,515
БаткинЛ.М. 514,692
Бахтин М.М. 10, 29, 395, 396, 543, 565, 566, 687, 697
Башляр Г. (Bachelard G.) 47, 73, 96, 99, 103, 663
Бейкер M. (Backer M.) 682
Беккария Ч.Б. (Beccaria CL.) 122
БеккерАЛ. (BeckerA.L.) 662
Белинский В.Г. 535,689
Белкин А.И. 320,689
Беляева А. 445, 447-450, 689
БенвенистЭ. (Benveniste Е.) 15,233,392,395,562,588,636,663,689
БенмаклуфА. (Benmakhlouf А.) 452,663
Беннингтон Ж. (Bennington G.) 666
Беньямин В. (Benjamin W.) 155-157, 411, 509, 545, 597, 658, 670, 689
Бергсон А. 374, 409, 537, 693
Бердяев H.A. 406, 537
БерезинФ.М. 539,689
Берелович А. 689
Беркли Дж. (Berkeley J.) 683
Берман A. (Berman А.) 8, 152, 506, 509, 639, 663, 672, 674, 678, 684
БерманС. (Berman S.) 630,639,670
Бернгейм И. (Bernheim H.) 334, 337, 348, 708
БернерК. (Berner С.) 501
БерсюФ. (BerçuF.) 663
Берт Ж.-Ф. (Bert J.-F.) 679
БерталанфиЛ. 698
Бертера И. (Bertherat Y.) 271, 273, 663
Берто Д. (Bertaux D.) 355, 356, 663
712 Познание и перевод. Опыты философии языка
Бертоле Д. (Bertholet D.) 663
Бертран M. (Bertrand M.) 313, 342, 358, 359, 361, 454, 663, 681
Бескова И.А. 689
Беттельхайм Б. (Bettelheim В.) 482
БешерельЛ. (Becherel L.)
Бибихин В.В. 21, 188, 189, 389, 398, 399, 402, 411, 424, 425, 493, 570, 571,
592, 593, 690, 707
БикбовА. 386,387,690
Бирнбом Ж. ( Birnbaum J. ) 405, 666
БитбольМ. (BitbolM.) 669,672
БланшоМ. (BlanchotM.) 22,405,663,690
БлаубергИ.В. 690
Блок О. (Bloch О.) 647, 661, 665, 666, 670, 673, 675-677, 680, 685
Бовуар С. де (Beauvoir S. de) 143, 365
Бодлер Ш. (Baudelaire Ch.) 156, 664
Бодри Φ. (BaudryF.) 662
Бодрийяр Ж. (Baudrillard J.) 368, 377, 388, 433, 690
Бокановски T. (Bokanowski T.) 342, 358, 663
Бонапарт M. 261
Боно P. (Bono R.) 671
Бор H. 421,680
Борисенко Α. 690
Борисов Ε.В. 571,690,707
Борш-Якобсен M. (Borch-Jacobsen M.) 222, 310, 331, 342, 343, 663,
674
БоссюэЖ.Б. 107
БоулбиДж. (BowlbyJ.) 309,342
Боэций А.М.С. 637,639
Браге Т. 18
Браун П.Л. (Brown P.L.) 144, 663
Брауэр P.A. (Brower R.A.) 20, 674
БрейдДж. (BraidJ.) 337
Брейер Й. (Breuer J.) 360, 483, 699, 702
Брейтингер И.Я. (BreitingerJ.J.) 577
БресИ. (BrèsY.) 35,360,663
БродельФ. (BraudelF.) 480
Бродский И. 11
Бронстайн Ж.-Ф. (Braunstein J.-F.) 663
БроссаА. (Brossât Α.) 384,661,678
Брюжер Φ. (Brugère F.) 664
Брюно П. (Bruno P.) 269, 323, 664, 689, 690, 696
Брюсов В.Я. 511, 512, 624, 648, 690, 692
Буало H. 523
Бувресс Ж. ( Bouveresse J. ) 145
БудонР. (BoudonR.) 106
Бузина Т. В. 13
Бунин И.А. 624
Бургиньон A. (Bourguignon А.) 471, 663
Бурдьё П. 151
Буслаев Ф. И. 601
Буссеру M. (Bousseyroux M.) 269, 663
Указатель имен
713
Быстрицкий Е.К. 690
Бычков В.В. 373,690
Бэкон Р. 504
Бэкон Ф. 523
Бюржелен П. (Burgelin Р.) 106, 108
Бютген П. (Biittgen Р.) 664
Ваард Я. де (Waard J. ) 597, 690
Вагнер П. (Wagner Р.) 676,680
Вайнштейн О.Б. 398,691
Валери П. 207, 435
Валь Ф. (Wahl F.) 41, 44, 106, 107, 161, 224, 378, 685
ВанХоофА. (Van Hoof H.) 684
Васильева Т.В. 366, 485, 487-489, 568-570, 691, 707
Васильченко А. 640
Вдовина И.С. 691
Вебер С. (Weber S.) 222, 630
ВеберЭ. (Weber Ε.) 167
ВегеттиМ. (Vegetti M.) 684
Вежбицкая Α. 543, 560, 691
ВеласкесД. 107
Вен П. (Veyne P.) 684, 685
Венгеров CA. 535, 689
Бенедиктова Т.Д. 8,13,691,706
Венути Л. (Venuti L.) 573, 574, 629, 684
Вергилий 511,648
Вергилий Урбинский 522
Верещагин Е.М. 691
ВерлеЭ. (VerleyE.) 107, 108
Веселовский Α. H. 691
Весе Ж.-М. (Vaysse J.-M.) 684
ВеттлауферМ. (Wettlaufer M.) 685
Видерман С. (Viderman S.) 222, 284, 326, 685
Визгин В.П. 91, 381, 384, 387, 691
ВиларП. (Vilar Р.) 106-108
Виллер Ш.Ф. де (Viller CF. de) 336
ВильсВ. (WilsW.) 17,685
Висманн X. (Wismann Η.) 625, 674
Витгенштейн Л. 92, 301, 368, 549, 582, 637, 682
Влахов С. 691
Володарская Л.И. 690, 692
Волошинов В.Н. 395, 455, 691
Вольтер Ф. - M. Аруэ де 370
ВольтскаяТ. 370,691
Вольф X. 360,577
Вольфенстайн Э.В. (Wolfenstein E.V.) 304, 685
Вормс Ф. (Worms F.) 668, 685
Воронова Е.М. 374,691
Врачу М. 11
Вуд М. (Wood M.) 630, 670
ВудвортДж. (Woodworth J.) 684
714 Познание и перевод. Опыты философии языка
Выготский Л.С. 29, 293, 691
Вяземский П.А. 8, 29, 510, 532-535, 691, 702
Гавриил, архимандр. (В.Н.Воскресенский) 540
ГавришинаО.В. 13
Гадамер Х.-Г. (Gadamer H.-G.) 20, 166,498, 505, 506, 551, 552, 570, 580,
587-593, 607, 666, 672, 691, 692, 699
Гайденко П.П. 486, 692
Гак В. Г. 692
Галеева Н.Л. 692
ГальН.Я. 692
Гандийяк М. де (Gandillac M. de) 156
Гянжз Ρ 431
Гараджа A.B. 157, 399, 411, 415, 424, 428, 442, 692, 694, 699, 709
Гарбовский Η.К. 692
Гарден Б. (Gardin В.) 665
Гартман Э. фон 258
Гаспаров Б. M. 692
Гаспаров М.Л. 10, 14, 27, 35, 136, 163, 382, 389, 392, 409, 435, 451, 452,
486, 491, 510, 514, 543, 592, 608, 624, 625, 648, 686-688, 691, 692
ГаттинараЭ.К. (Gattinara Е.С.) 672
ГашеР. (GaschéR.) 168,200,672
Гваттари Ф. (Guattari F.) 227, 320, 373, 388, 661, 666, 693
Гегель Г.-В.-Ф. 68, 172, 173, 205, 224, 238, 244, 245, 378, 391, 409, 416, 439,
440, 507, 537, 538, 637, 641, 677, 708
ГедезА. (GuedezA.) 106,107
Гёдель К. 554
Гейм М. 692
ГейнМ. (GaneM.) 143,684
Гейне Г. 511
Гейнекций И.Г. 525, 526
ГейонЖ. (GayonJ.) 669,672
Гёльдерлин И.Х.Ф. 597
Гельмгольц Г.Л.Ф. 233
Генис A.A. 692
Генисаретский О.И. 352
Гераклит 546
Гердер И.Г. 506, 578
Герш С. (Gersh S.) 672
ГётеИ.В. 506,511,597,637
Гийомар П. (Guyomard Р.) 352
Гиппократ 137
ГирцК. (GeertzC.) 144
ГлейзерС. (GlazerS.) 365,672
Глорьё Л. (Glorieux L.) 679
Глюксман А. (Glucksmann А.) 371
Гнедич Н.И. 366
Годелье M. (Godelier M.) 76, 353, 362, 672, 678
Годен Ж. (GodinJ.) 464,672
Гойя Ф. 86
Голобородько Д. 399, 693
Указатель имен
715
Голыченко Т. 640
Гольдшмит M. (Goldschmit M.) 672
Гомер 503,532
Гончаров И.А. 353
Гораций (Квинт Гораций Флакк) 511
Горбачевский A.A. 693
Горгий 409
Гордон К. (Gordon С.) 672
Горький М. 657
Готшед Й.Х. 577
Гранель Ж. (Grand G.) 152, 222, 663, 672, 674, 678, 684
ГранжеЖ.-Г. (Granger G.-G.) 672
Греймас А.-Ж. (Greimas A.-J.) 562, 673, 693
Грецкий M.Η. 389
Григорьев Б. Б. 692
Грин Α. (Green А.) 341,478,664,673
Гринцер Н.П. 693
Гритти Ж. (Gritti J.) 43, 106, 107, 673
Грицанов A.A. 693
Гро Ф. (Gros F.) 90, 673
Громов Е.С. 690
ГронденЖ. (Grondin J.) 607
Грушин Б.А. 352
Грюнбаум А. (Grünbaum А.) 303, 304, 673, 685
ГуЖ.-Ж. (GouxJ.-J.) 354,672
Гумбольдт В. фон 22, 246, 492, 587, 597, 632, 670, 693
Гуревич П.С. 347, 476, 482, 695, 705
Гурко E.H. 220, 374, 407, 411, 415, 418, 693, 706
Гусев С.С. 602,693
Гуссерль Э. (Husserl Ε.) 46, 159-161, 163,170, 174, 192, 199, 367, 378, 398,
399, 404, 449, 497, 549, 568, 651, 666-668, 682, 693, 700
Гутман К. (Gutman С.) 76, 673
Гучинская Н.О. 570, 707
Гюйгенс X. 618
Давид-Менар M. (David-Ménard M.) 310, 665, 666
Далмайр Φ.P. (Dallmayr F.R.) 671
ДальВ.И. 439,441,540
Дальбье Р. 260
Дастюр Ф. (Dastur F.) 665
Дашкова Ε. P. 481,527
Дебан В. (Debaene V.) 76, 666
Дево Э. (Désveaux Ε.) 76, 668
ДегиМ. (DeguyM.) 222
Декарт P. (Descartes R.) 33, 34, 47, 84, 108, 112, 113, 151, 206, 238, 258,
360, 497, 516, 537, 602, 637, 651, 676
Декенс О. (Dekens О.) 666
Декомб В. (Descombes V.) 54, 145, 288, 668, 693
Делёз Ж. (Deleuze G.) 41, 42, 59, 98, 100, 140, 151, 227, 320, 368,
372-375, 377, 378, 388, 389, 402, 405, 408, 418, 439, 440, 634, 649, 663,
665, 666, 669, 671, 678, 685, 693, 695, 700, 703
716 Познание и перевод. Опыты философии языка
ДелильЖ. (DelisleJ.) 666,684
ДелиньП. (DeligneP.) 382
Дельеж P. (Deliège R.) 666
Дельриё A. (Delrieu А.) 62, 666
Дельрюэль Э. (Delruelle Ε.) 666
Делюи A. (Deluy H.) 285, 288, 682
Демокрит 546
Демурова Н.М. 690, 692
Денисова Г.В. 693
Денн M. (Dermes M.) 666
ДерридаЖ. (DerridaJ.) 10,14,23, 31, 33, 34,40,42,44,45,50,53,95,129,
151-211, 213-220, 222, 224, 269, 343, 366, 368, 371, 372, 377, 378, 382,
389, 397-440, 442-453, 490, 492, 603-608, 634, 640, 654, 658, 661-668,
670-672, 674, 675, 678-680, 683-691, 693-696, 698, 699, 701, 703-706,
709
Деррида M. (Derrida M.) 35, 452
Дескола Φ. (Descola Ph.) 52, 76, 668
ДетьеннМ. (Détienne M.) 597,668
Дефер Д. (Defert D.) 99, 132, 147, 670
Джебраилов Α. 694
Джеймисон Φ. (Jameson F.) 92, 93, 376, 388, 552, 674, 694
ДжейсонД. (Jason D.) 694
Джойс Дж. 26, 629
Джонс Э. (Jones Ε.) 340
Джонсон M. (Johnson M.) 698
Дидро Д. 78
Дильтей В. 580, 581, 583, 593, 599, 694, 701
Дмитриев А.Н. 379,694
Доброхотов А.Л. 687
Дольто Ф. (Dolto F.) 261, 286, 464, 669
ДоменакЖ.М. (Domenach J.M.) 98,106
Донн Дж. 692
Донне Ж.-Л. (Donnet J.-L.) 664
Д'ОнтЖ. (D'HondtJ.) 665
ДорЖ. (DorJ.) 313,669
Доре Б. (Doray В.) 62, 313, 354, 358,454,663,664,669,672,676,681-683
ДоссФ. (DosseF.) 53,669
Достоевский Ф.М. 359, 461, 469
Дрейфус Х.Л. (Dreyfus H.L.) 97, 139, 140, 144, 669
Друа Р.-П. (Droit R.-P.) 669, 670
Дубин Б. В. 694
Дубровский Д.И. 375, 694
Дьяков A.B. 694,695
ДьюиДж. 145
Дэ П. (Daix Р.) 41, 224, 228, 665
Дэвидсон А.И. (Davidson А.) 673
Дюбуа Ж. (Dubois J.) 695
ДюкроО. (DucrotO.) 681
ДюмезильЖ. (Dumézil J.) 96
Дюмулье К. (Dumoulié С.) 669
ДютуаТ. (DutoitT.) 668
Указатель имен
717
Дюфренн M. (Dufrenne M.) 46, 106, 669
Дюфрен Т. ( Dufresne Т. ) 681
Дюфурмантель A. (Dufourmantel А.) 211
Дяткин P. (Diatkine R.) 605
Евсевичев В.И. 383
Егоров Б.Е. 695
Ельмслев Л. (Hjelmslev L.) 269, 567, 661
Ермакова О.П. 695
ЖаккарР. (Jaccard R.) 674
Жамбе К. (Jambet С.) 222, 290, 296
Жгирим С. (Jguirim S.) 674
ЖенетгЖ. (GenetteG.) 206,219,396,695
Жибо A. (Gibeault Α.) 478, 480, 706
Живов В.М. 387, 695
Жигарина EJ:. 35
ЖижекС. (ZtëekS.) 222,695
Жиль Д. (Gilles D.) 334,665
Жодле Д. (Jodelet D.) 356
ЖоленА. (JaulinA.) 152,684
Жорж Ф. (George F.) 285-288, 332, 672
Жуковский В.А. 366, 409, 506, 511, 530, 531, 609, 622, 623
Жучков В.А. 695
ЖюдеП. (Judet Р.) 635, 674
Жюльен Ф. (Jullien F.) 507, 674, 695
Жюранвиль A. (Juranville А.) 674
Закс Г. 340
Залкинд А. 455
ЗапатаР. (Zapata R.) 685
Зарка И.Ш. (Zarka Y.-C.) 685
Зафиропулос M. (Zafiropoulos M.) 685
Захер- Мазох Л. 409
Звегинцев В.А. 695
Земляной С.Н. 695
•бмскяя F А 691
Зенкин С.Н. 13, 206, 402, 424, 427, 431-434, 448, 449, 693, 695, 696, 706
ЗербибД. (ZerbibD.) 685
Зима П. (Zima Р.) 685
Зимин А.И. 83,695
Зинченко В. Г. 695
ЗинченкоВ.П. 352,686
Зотов Н.М. 522
Зурабишвили Ф. (Zourabichvili F.) 685
Зусман В. Г. 695
Иде Д. (IhdeD.) 674
Иероним Св. 504
ИероноваН.Ю. 695
Изар М. (Izard M.) 668, 674
718
Познание и перевод. Опыты философии языка
Ильенков Э. В. 486
Ильин И.П. 695, 696
Ингерфлом К. (Ingerflom С.) 352
ИонинЛ.Г. 696
Ипполит Ж. (HyppolyteJ.) 96,329
Кавайес Ж. (Cavaillès J.) 96, 99, 145
Каваллари M. (Cavallari M.) 664
Каган MC. 374,691
Казо К. (Cazeaux С.) 664
КаллерДж. (CullerJ.) 198,376,665
Калль-Грюбер M. (Calle-Gruber M.) 664
Каменев Л.Б. 708
Камю Α. 77,664
КанМ. (Khan M.) 309,342
Кангилем Ж. (Canguilhem J.) 96, 99, 103, 106, 107, 663, 664,671, 678
Кант И. 50,69,93, 107,139,140,147-149, 151,192,208,212,222,224,
240-248, 250-254, 256, 374, 389, 404, 456, 497, 499, 505, 507, 537, 538,
595, 637, 651, 661, 664, 666, 693, 696, 703, 707
Кантемир А. 11, 523
Кантор В.К. 13,706
Каплун В.Л. 387, 696
КапутоДж.Д. (CaputoJ.D.) 376,664
Карамзин Н.М. 528,531
Караулов Ю.Н. 696
Кардинер А. (Kardiner А.) 260
КарльеЖ. (CarlierJ.) 673
КарнапР. 301,439,664
Карпов В.Н. 525, 526, 657
КарруаЖ. (CarroyJ.) 337,360,664
Карцев И.Е. 375
Карцевский С. 235, 674, 696
КасавинИ.Т. 13,706
Кассен Б. (Cassin В.) 15, 269, 501, 503, 625, 626, 636, 637, 642, 643, 664,
680, 685, 696
Кассирер Э. 244-246
Касториадис К. (Castoriadis С.) 388
Катулл 511
Качалов П.В. 457, 464, 478, 479, 681, 705, 707
Кашина С. 399
Кашкин И.А. 625, 696
Кашпировский А.М. 346, 347
Квинтилиан МаркФабий 504
КейгиллХ. (CaygillH.) 664
КейтсДж. (Kates I.) 675
КекФ. (KeckF.) 76,666,675
Керимов Т.Х. 407,696
Керриган У. (Kerrigan W.) 269, 677
Кёрк P. (Kirk R.) 557, 675
КирабаевН.С. 693
КиркегорС. 211,214,446
Указатель имен
719
КирнозеЗ.И. 695
Клеман К. (Clément С.) 283, 285, 287, 288, 323, 665, 669, 689,696
Клеро Ж.-П. (Cléro J.-P.) 269, 665
Клименкова ТА. 384, 696
Клинкенберг Ж.-М. (Klinkenberg J.-M.) 695
КлоИ. (Clot Y.) 352
Клоссовский П. (Klossowski P.) 639
Кляйн M. (Klein M.) 464
КогутХ. (KohutH.) 342
КожевА. (KojèveA.) 378,538,663
Коз П. (Caws P.) 224, 303, 664
КойреА. (KoyréA.) 96
Коллингвуд Р.Дж. 564
КоломбельЖ. (ColombelJ.) 49,106,108,143,665
Комиссаров В.H. 506, 696
Кондильяк Э.Б. (Condilac Е.В.) 426, 666
Констан де Ребек Б. 29, 510, 533, 534, 702
КонтеК. (ContéC.) 222,662
КоппальД. (Coppale D.) 665
Коппола С. (Coppola S.) 365
Коте П. (CotetP.) 458,650
Корвез M. (Corvez M.) 107, 108
Коротких В.И. 696
КосериуЭ. 15
КосиковГ.К. 689,696,697,706
Костантини M. (Costantini M.) 12,662
Костомаров В.Г. 691
Коте П. (Cotet Р.) 471,663
КофманнП. (Kaufmann Р.) 463,661,675
Кофман С. Kofman S.) 675
Кралечкин Д.Ю. 399, 415, 420, 422, 424, 442-448, 450, 694, 696, 699,
709
Крамской И.Н. 540
Красухин К. Г. 697
Кремер- Мариетти А. ( Kremer- Marietti Α. ) 675
Крепон M. (Crépon M.) 665, 668, 680
Крижель Б. (Kriegel В.) 675
Кристева Ю. 44, 188, 213, 269, 396, 440, 675, 697
Кронгауз М. 542, 697
Кроне Б. 22,631,697
КрысинЛ.П. 697
Крюков А.Н. 506,697
Куайн У. 22, 554-557, 592, 632, 697
Кузен В. 530
Кузнецова Н.И. 13,697
Кукулин И. 401
Кун T. (KuhnT.S.) 21, 108, 141,551,556-559,672,675,697
Курицын Вяч. 697
Кэрролл Л. (Carroll L.) 629
Кэрролл Дж.Б. (Carroll G.B.) ...685
Кэтфорд Дж. (Catford J.) 664
720 Познание и перевод. Опыты философии языка
Кювье Ж. 102
КюссеФ. (CussetF.) 377,379,665
ЛабериВ. (LabeyrieV.) 106-108
Лавабр М.-К. (Lavabre М-С.) 358
ЛавиньЖ.-Ф. (LavigneJ.-F.) 452,663
Лавуазье А.Л. 107,707
Лаганри Ж. (Lagasnerie G.) 676
ЛагашД. (Lagache D.) 261,463
ЛагранжЖ. (Lagrange J.) 147
Ладмираль Ж.-Р. (Ladmiral J.-R.) 509, 647, 676
ЛадриерЖ. (LadrièreJ.) 45,676
Лакан Ж. (Lacan J.) 28, 31, 32, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 62, 67, 69, 71,
73, 74, 86, 87, 89, 96, 151, 165, 193, 194, 213, 222-241, 243, 246-257,
259-293, 296-298, 301, 310, 312, 322, 326-332, 334, 339-342, 350, 351,
354, 371, 372, 392, 401, 402, 405-407, 456, 457, 460, 464, 465, 485, 551,
649, 654, 661-667, 670, 672, 674-689, 694, 697-699, 705, 708
ЛакоффДж. (Lakoff J.) 698
Лакруа A. (Lacroix Α.) 669
Лаку-Лабарт Φ. (Lacoue-Labarthe Ph.) 222, 372, 407, 666, 676
ЛаландА. (LalandeA.) 390,676
ЛамаркЖ.Б. 102
ЛамиЖ. (LamyJ.) 679
Лапицкий В.Е 152, 399, 415, 420, 424, 428, 442, 443, 445, 446, 448, 694,
698, 699, 709
Лапланш Ж. (Laplanche J.) 170, 299, 316, 361, 462-465, 469-471, 477,
481,663,664,676,698
Лардро Г. (Lardreaux G.) 290, 296
ЛарюэльФ. (Lamelle F.) 440
Лахманн Р. (Lachmann R.) 698
Лебедев В.Ю. 698
Леблан Г. ( Le Blan G.) 671, 677
Лебон С. (Le Bon S.) 106, 108, 355, 677
Лебрен Ж. ( Le Brun J.) 677
Леви Б.-А. (Levy B.-H.) 371, 677
Левин Ю.Д. 698
Левинас Э. (Levinas Ε.) 170, 378, 490, 630, 666, 709
Леви-Строс К. (Lévi-Strauss С.) 14, 31, 34, 41-46, 48, 50-53, 56-58,
62-66, 69-73, 75, 76, 78-87, 96, 171, 186, 198, 213, 221, 245-247, 249,
262, 283, 289, 291, 323, 371, 402, 427, 433, 436, 440, 563, 663, 665, 666,
668, 669, 672-675, 677-679, 683-686, 698, 701
Левый И. 506, 579, 698
Ледников Е.Е. 698
Лейбин В.М. 319, 345, 698, 703
Лейбниц Г.В. 258, 537, 577, 637, 639
Леклер С. (Leclaire S.) 290, 296, 310, 313, 677
Лекторский В.А. 13, 35, 56, 352, 557, 686, 698, 706, 707
Лем С. 447
Ленин В.И. 363
Лепеллетье Э. А. 122
Лермонтов M. Ю. 511,623
Указатель имен
721
Леруа-Больё A. (Leroi-Beaulieu А.) 7
Лефевр A. (Lefebvre H.) 46, 106, 107, 677
Лефевр Ж.-П. (Lefebvre J.-P.) 677
ЛивергантА.Я. 11,687
Ливи CA. (Leavey S.A.) 269, 677
Лившиц Б.К. 455
Лилова А. 698
Лиотар Ж.-Ф. (Lyotard J.-F.) 222,368,370,377,490,698
Липовецкий М.Н. 375, 698
Литвинов A.B. 347, 476, 482, 695, 705
ЛичЭ. (Leach Е.) 58,65,677
Ложье С. (Laugier S.) 676
Лозинский М.Л. 506, 510, 699
Лойола И. (Loyola I.) 662
ЛоккДж. 497,563,637
Ломоносов М.В. 409, 519, 527, 659, 699
Лоне М. де (Launay M. de) 680
Лоран Э. (Laurent Ε.) 62, 676
Лоренцини Д. (Lorenzini D.) 679
Лосев А.Ф. 249,374,543,691
Лотман Ю.М. 10, 12, 21, 29, 55, 56, 201, 207, 563-567, 591, 662, 687, 688,
699
Луи П. (Louis Р.) 684
Лукачер H. (Lukatcher Ν.) 343
Лукомская M.И. 478
Лукреций Кар Т. 503, 640
Луман Н. 54
Лурье С.А. 370,691
Лысенко В. Г. 507,699
Льебо А.О. 335
Льюис M. (Lewis M.) 269, 678
ЛьюсиН. (Lucy Ν.) 678
Людовик XVI 336
ЛюсыйА.П. 7,699
Лютер M. 505, 506, 597, 664, 678
МагунА. 401
МаджориР. (Maggiori R.) 143,678
Мажор P. (Major R.) 222,290,296,678
Мазин В.А. 372, 399, 415, 420, 422, 424, 457, 477, 483, 699, 708
Мазуркевич В. 623
Макашева H.A. 353
Мак Кор мак Э. (McCormac Е.) 699
Максвелл Дж.К. 233
Макферсон Дж. 633
МаламудШ. (MalamoudC.) 35
Малахов B.C. 699
Малер M. (МаЫегМ.) 342
Малларме С. 156, 202, 203
Малле М.-Л. (Mallet M.-L.) 662, 666
Мальбранш Н. 112, 516
722 Познание и перевод. Опыты философии языка
Мамардашвили М.К. 23, 28, 393, 492, 496, 651, 699
Мамуна И. 623
МанП.де (ManP.de) 376,667
Мандельштам О.Э. 514, 692
Манилье П. (Maniglier Р.) 678
МаннониМ. (MannoniM.) 285,292,678
Маннони О. (Mannoni О.) 309, 328, 330, 342, 678
Маньковская Н.Б. 373, 375, 398, 699
Марен Л. (Marin L.) 678
МаржельС. (MargelS.) 678
МариноА. (Marino А.) 678
МариновВ. (MarinovV.) 469,678
Марков А. 7,387,700
Маркова Л.А. 374, 700
Маркс К. 77, 102, 122, 146, 213, 222, 354, 380, 383, 392, 398, 399, 447,
467, 469, 496, 537, 586, 661, 664, 667, 678, 686, 688, 694
Мармор Дж. (Marmor J.) 303
МарратиП. (Marrati Р.) 685
Мартинон Ж.-Р. (Martinon J.-P.) 678
Маршак С.Я. 27, 506, 608-625
МаттеиЖ.-Ф. (Mattheï J.-F.) 678
МатэнЖ.(МаипС) 673
МахлинВЛ. 7,13,700,706
МашреП. (MachereyP.) 42,222,678
Маяцкий М. 398, 399, 700
Мелетинский Е.А. 35
МенахемР. (Menahem R.) 269,678
МенгеноД. (Maingueneau D.) 391
Менегальдо Э. (Menegaldo H.) 464, 681
Менцель Б. (Menzel В.) 12, 662
Мерло-Понти M. (Merleau-Ponty M.) 96,213,260,568,678
Месмер Ф.А. 280, 325, 330, 334-336, 348, 684
МетцК. (Metz С.) 562
МешонникА. (Meschonnic Н.) 152,684
Мёбиус А.Ф. 205, 275
МидДж.П 260
Мижолла A. (Mijolla А.) 679
Микешина Л .А. 686, 700
Микленич В. (Miklenitch В.) 144, 679
Миле A. (MiletA.) 45,679
Миллер Ж. (Miller G.) 676
Миллер Ж.-А. (Miller J.-A.) 286
Миллер M. (Miller M.) 455,679
Миллер X. (Miller J.H.) 377, 700
Мильнер Ж.-К. (Milner J.-C.) 53, 222, 679
Мильтон Дж. 577, 702
Мильчина В.А. 13, 706
Милюков П.Н. 525,700
МинсонДж. (MinsonJ.) 679
Миньяр-Белоручев Р.К. 700
Михайлин В. 700
Указатель имен
723
Михайлов A.A. 700
Михайлов A.B. 54, 55, 486, 700
Михалкович Г. 399, 694
МихельД.В. 700
Мицкевич А. 511
Мишатина Н.Л. 540, 700
Мишо Ж. (Michaud G.) 662
Молчанов В.И. 700
Монжен О. (Mongin О.) 679
Монкретьен А. де 107
Морозов М.М. 610,611
Московией С. (Moscovici S.) 319, 679
Мосс M. (Mauss M.) 83, 245, 677
Мотрошилова H.B. 570, 700
Мукаржовский Я. 701
Мунен Ж. (Mounin J.) 43, 579, 679
Мур М.К. (Moore М.С.) 144, 679
Муравьева О. Ю. 36
МутоЖ. (Moutaux J.) 647, 661, 665, 666, 670, 673, 675-677, 680, 685
Мэджор-Пётцл П. (Major-Poetzl Р.) 678
Мэлос Г. (Mailhos G.) 152, 684
МэнгеФ. (MinguetP.) 695
Мэтр Ж. ( Maître J.) 352
МюрбергИ.И. 35
НазиоЖ.-Д. (NasioJ.-D.) 679
НайдаЮ. (NidaE.A.) 557,597,679,685,690
НансиЖ.-Л. (Nancy J.-L.) 151, 222, 372, 407, 451, 490, 668, 678, 679, 684
Наполеон I Бонапарт 528,577
Натан Т. (Nathan Т.) 673
НелюбинЛЛ. 701
НемоФ. (NemoF.) 679
Нестеров А. 701
Никитин Е.П. 486
Никифоров А.Л. 13, 571, 706
Никифоров О. 707
Николаева Т.М. 701
Николай Александрович, цесаревич 601
Ницше Ф. 95, 102, 158-160, 166, 170, 204, 214, 387, 392, 435, 446, 512,
574, 575, 586, 667, 679, 693, 694, 696
Новалис (Харденберг Г.Ф.Ф. фон) 506, 597
Новиков Д. 399
Норман К. (Normand С.) 681
Норрис К. (Noms С.) 376, 680
Ньютон И. 107,108
ОбэнВ. (Aubin V.) 661
Овидий (Публий Овидий Назон) 511
Овре-Ассаяс К. (Auvray-Assayas С.) 501
Овчаренко В.И. 345
ОгайонА. (OhayonA.) 360,664
724 Познание и перевод. Опыты философии языка
ОдрессиД. (Haudressy D.) 542,673
ОжильвиБ. (OgilvieB.) 222,662,680
Озеров Л. 692
ОзиасЖ.-М. (Auzias J.-M.) 46, 661
Ознобкина Е.В. 651
Окутюрье M. (Aucouturier M.) 452
Ольшанский Д.А. 402, 701
Омельянчик В. 640
Ориген 286
Ортега-и-Гассет X. 559, 560
Островский А. Б. 701
Отье- Ревюз Ж. (Authier- Revuz J. ) 661,701
Павлов Ε. 155,689
Павлов И.П. 345,469
Падучева Е.В. 543
ПалоМ. (PaloM.) 680
ПальтриньериЛ. (Paltrinieri L.) 680
Парен-Вьяль Ж. (Parain-Vial J.) 106
Парни Э. 511
Пароли M. (ParodiM.) 53,680
Пас О. 21
Паскаль Б. 107
Пастернак Б.Л. 207, 452, 506, 625, 707
Патнем X. 303
Пахомов М.С. 525
ПейденР. (Paden R.) 144,680
Пекарский П.П. 522, 701
ПелорсонЖ.-М. (Pelorson J.-M.) 106-108
ПензинА. 431,701
Пениссон П. (Penisson Р.) 502, 578, 680
Перлов Α. M. 701
Перре К. (Perret С.) 35
ПеррьеФ. (PerrierF.) 328,680
Петере Б. (Peeters В.) 680
Пети Ж.-Ф. (Petit J.-F.) 680
Петр I 367, 522, 528, 701
Петрарка Ф. 514
Петров М.К. 492
Петровская Е.В. 13, 701, 706
Петроний Гай 137
Петтит Ф. (Pettit Ph.) 106, 107
ПеченкинАА. 557,701
Пешё M. (Pêcheux M.) 701
Пиаже Ж. (Piaget J.) 106, 108, 109, 680
Пикар P. (Picard R.) 680
ПимА. (Рут А.) 681
ПирФ. (PireF.) 695
Пирс Ч. (Peirce Ch.) 562, 563
Пишон Э. (Pichon Ε.) 680
Плавт 502
Указатель имен
725
Плас Р. (Pias R.) 360, 664
Платон 18, 19, 136, 159, 160, 179, 189, 195-197, 202, 204, 206, 210, 215,
329, 408, 409, 439, 486, 487, 503, 520, 525, 526, 537, 544, 637, 640, 651,
655,657,662,677,691
Плиний 137
Плон M. (Pion M.) 464, 682
Плотников H.С. 701
Плотницкий А. 421, 680
Плутарх 137, 138
ПоЭ. 193
Погосян В.А. 701
Подорога В.А. 13, 373, 374, 384, 386, 451, 680, 686, 702, 706
Полан И. (Pohlan I.) 12
ПоллякМ. (Pollack M.) 357
Поль A. (Paul Α.) 501
Поляков М.Я. 704
ПонталисЖ.Б. (Pontalis J.-B.) 170, 299,462-465,469,470,477, 481,676,
680,698
Попов О.И. 381
Попова Н.Г. 702
Поппер К. 302, 303, 474, 501, 702
ПоржЭ. (PorgeE.) 676
Постер M. (Poster M.) 680
Потапова В.Л. (Pot^pova V.) 464, 478, 681
Потт-Бонвиль M. (Potte-Bonneville M.) 661, 681
ПрадельД. (Pradelle D.) 681
Прангишвили A.C. 346, 454, 674, 690
ПриетоЛ. (PrietoL.) 562
Прокл 544
Протеви Дж. (Protevi J.) 663
Пружинин Б.И. 13, 15, 35, 455, 688, 689, 697, 702, 704-706
Пружинина A.A. 455, 702
Пруст Ж. (Proust J.) 108
Пруст M. 651
Псевдо-Лукиан 138
ПтижанИ. (Petitjean I.) 681
Птолемей филадельфийский 503
ПуйонЖ. (PouillonJ.) 45,681
Путин В.В. 458
Пушкин A.C. 8,29, 34, 366, 368, 488, 510, 511, 530, 532-535, 538, 577, 622,
659,702
Пэттон П. (Patton Р.) 663
Пюисегюр А. де (Puységur A.-M.-J. de) 335, 336
Рабан К. (Raban С.) 335, 336
РабуэнД. (RabouinD.) 681
Рагозенски Ж. (Ragozinski J.) 222, 662
Райзингер M. (Reisinger M.) 681
РайнхардК. (Reinhard К.) 630
РакитовА.И. 702
Рамон Ш. (Ramon Ch.) 668, 681
726 Познание и перевод. Опыты философии языка
Ранк О. 340-342, 670
Рапапорт Г. (Rapaport H.) 343
Рапопорт A. (Rapoport А.) 550, 681
Рассел Б. 314,637,698
РастьеФ. (Rastier F.) 575,653,681
Ревель Ж. (Revel J.) 679, 681, 682
Рейган Ч.Э. ( Reagan CE.) 680
Рейх В. (Reich V.) 259
РейчменДж. (RajchmanJ.) 141,142,681
Ренар Д. (Renard D.) 681
Ренкен Α. (Renken А.) 681
РеннЖ.-М. (Rennes J.-M.) 62,454,663,664,672,676,681-683
Рено A. (Renaud А.) 49,143,144,670
Решетников М. 483, 702
РикардоД. 102
Рикёр П. (Ricoeur Р.) 42, 52, 65, 97, 213, 246, 304, 473, 497, 513, 548, 549,
551, 580-587, 593-598, 603-606, 608, 658, 682, 691, 702, 703
Рисков В. 457, 708
Рифле-Лемэр А. (Rifflet-Lemaire Α.) 682
Ричардсон У. (Richardson W.) 222, 684
Рише П. (Richer P.) 337
Робатель H. (Robatel Ν.) 676
Робер Φ. (Robert F.) 437, 471, 663
Робинсон Д. (Robinson D.) 682
РоубиД. (RobeyD.) 35,664
РоджероА.Н. 557,703
Роже Ж. (Roger J.) 684
Рожнов В. 689
Розин В.М. 386, 703
Розье-Каташ И. (Rosier-Catach I.) 501
РокморТ. (RockmoreT.) 36,570,682
Романов И. 479, 481, 482, 703
Романски Ф. (Romanski Ph.) 668
Ромашко С.А. 703
РоммельД.Х. 531
Роне A. (RonseH.) 188
Рорти Р. 145, 682
Россиус А. 626, 696
РоссохинА.В. 478-480,705,706
Ротенберг B.C. 689
РоубиД. (RobeyD.) 45,684
Рудинеско Э. (Roudinesco Ε.) 222, 262, 269, 285, 288, 290, 292, 454, 458,
464, 662, 682, 684
Руссель P. (Roussel R.) 110, 113
Руссо A. (Rousso H.) 358, 682
Руссо Ж.-Ж. (Rousseau J.-J.) 78, 79,159,160,175,177,178-183,202,204,
206, 210, 408, 416, 421, 422, 426, 429-432, 436, 523, 677
Рустан Φ. (Roustang F.) 280, 284-286, 289, 291-295, 309, 310, 331, 342,
349, 682
РуткевичА.М. 319,703
Рыклин М.К. (Ryklin M.) 386, 398, 399, 680, 703
Указатель имен
727
Рэбиноу П. (Rabinow Р.) 97, 139, 140, 144, 669
РэнсомДж.С. (Ransom J.S.) 681
Рябова М.Ю. 703
СабоФ. (Sabot Ph.) 683
СадД.А.Ф.де 224,251,662
Садовский В.H. 690,698
СаидЭ. (SaidE.) 633,634,683
Салански Ж.-М. (Salanskis J.-M.) 683
СалливанГ. (Sullivan H.S.) 259,456
Сартр Ж.-П. (Sartre J.-P.) 42, 46, 52, 60-62, 77-79, 84-86, 92, 94-97,
106, 143, 213, 259, 285, 290, 370, 409, 678, 683, 695, 703
Свасьян К.А. 249
СвирскийЯ.И. 374,703
Сегал H. (Segal Ν.) 482,671
Седа Ж. (SédatJ.) 262,681
СейвориТ. (Savory Т.) 506,683
Семенов К. 444, 445, 448, 450, 703
Сен-ДромО. (Saint-Drôme О.) 683
Сен-Сернен Б. (Saint-Sernin В.) 683
Сепир Э. 22, 559, 703
СерванЖ.-М.-А. 122
Сервантес Сааведра М. де 107, 503
Серебряный С.Д. 35
Серио П. (Sériot Р.) 391, 395, 572, 703
Серто M. (Certeau M. de) де 433
Сигов К. 640
Сидоровский И. И. 525
СимонеллиТ. (Simonelli Т.) 683
Сискар M. (Siscar M.) 683
Скаличка В. 235
Скарпетта Г. (Scarpetta G.) 188
Скидан Α. 401
Скоропанова И.С. 375, 704
Скуратов Б. 399
Скюбла Л. (Scubla L.) 683
СлининЯ.А. 375,705
Слуга A. (Shiga Н.) 683
СмартБ. (Smart В.) 683
Смирнов A.B. 13,704
Смирнов И.Н. 457, 689, 704
СмитДж.Х. (Smith J.H.) 269,677
СноуЧ. 219
Соболевский А.И. 520,521,704
СованьяргА. (SauvagnarguesA.) 685
Соколов Б.Г. 398, 704
Сократ 135, 139, 195-197, 215, 544
Сокулер З.А. 384, 386, 704
Соллерс Ф. (Sollers Ph.) 224
Соловьев B.C. 406, 515, 516, 644, 704
Соловьев Э.Ю. 23, 393, 699
728 Познание и перевод. Опыты философии языка
Сорокин Ю.А. 704
Соссюр Р. де (Saussure R. de) 280, 309, 334, 339, 344, 348, 661, 684, 708
Соссюр Φ. де (Saussure F. de) 160, 172, 204, 228-230, 234-236, 250, 269,
283, 392, 416, 426, 436, 440, 478, 561-563, 661, 680, 704
Софокл 520
Спербер Д. (Sperber D. ) 681
Спиноза Б. 163, 330, 360, 368, 374, 537, 693, 703
Спиридонов В.Ф. 13
Ставцев С.Н. 457
Стайнер Дж. (Steiner J.) 594, 683
Стайнмец Р. (Steinmetz R.) 683
Стенгерс И. (Stengers I.) 280, 334, 665, 707-708
Стендаль 333
Степанов Ю.С. 543, 703, 704
Степин B.C. 349, 352, 702, 704
Стефанини Ж. (Stefanini J.) 107,108
СтиглерБ. (StiglerB.) 630
Стоянович T. (Stoianovich Т.) 684
Стьюарт Д. (Stewart D.) 680
Субботина H.Д. 704
СулезА. (Soûlez А.) 35,676
Сумароков А.П. 537
Суровцев В.А. 698, 704
Суслов Н. 399
Сухомлинов М.И. 526, 527, 704
Сфорцини A. (Sforzini А.) 679
Сэв Л. (Sève L.) 323, 353, 354, 683, 696
Табачникова СВ. 91, 96, 704
Тард Г. 355
Тёмкина А. 386, 387, 704
Терещенко H.A. 375, 704
Тёркл Ш. (Turkle Sh.) 279, 341, 684
Террель Ж. (Terrel J.) 671, 684
Теэтет 487
ТибулАльбий 511
ТиммсЭ. (Timms Е.) 482,671
Тодоров Ц. (Todorov Tz.) 562, 681
Том P. (Tom R.) 382
Том Ф. (Тот F.) 382
Томпсон Ф. (Thompson F.) 692
Топалов В. (TopalovV.) 352
Топер П.М. 705
ТоропП. (ТогорР.) 684,705
Тредиаковский В.К. 11, 523, 524, 659, 705
ТринонА. (TrinonA.) 695
Трубецкой Н.С. 44, 55
Трубников H.H. 486, 705
Туане П. (Toinet Р.) 43, 106, 107, 673
Тульчинский Г.Л. 375, 705
Турни Дж. (Tourney J.) 348,684
Указатель имен
729
ТхостовА.Ш. 478
Тынянов Ю.Н. 428
Тютчев Ф. И. 511
Уайлден Э. (Wilden А.) 676
Уайт X. (White Н.) 106,107
Уварова С.Г. 481,482,705
УдбинЖ.-Л. (HoudebineJ.-L.)188
Ужаревич Й. (Uiarevié J.) 16
УинникотД.У. (Winnicott D.W.) 342
Уланов Α. 431
УолцерМ. (Walzer M.) 705
Уорф Б.Л. (Whorf B.L.) 22, 559, 685, 705
Урбино Вергилий см.: Вергилий Урбинский
Успенский Б.А. 705
Уфимцева Н.В. 708
Ухтомский Э. 623
ФажЖ.-Б. (Fages J.-B.) 670
ФайЖ.-П. (FayeJ.-P.) 404
Федоров A.B. 705
ФейерабендП. 551
Фейербах Л. 537
Фейган M. ( Fagan M. ) 679
ФеллуЖ. (FellousG.) 670
Ференци Ш. 340, 341, 342, 358, 663, 664, 670, 705
Ферри Л. (Ferry L.) 49, 143, 144, 670
Фет A.A. 511,654
ФикитДж. (FeketeJ.) 684
Филатов В.П. 13,690
Филиппов Л.И. 381,398,705
Филон Александрийский 504
Фихте И.Г. 578, 670
Флорин С. 705
Фожерон К. (Faugeron С.) 352
Фокин С.Л. 399, 411, 414, 415, 418, 424, 442, 694, 695, 706, 709
Фолнович Яйтнер С. (Folnovié Jaitner S.) 16
Фонтана Α. (Fontana Α.) 140,670,706
Фонтаний Ж. (Fontanille J.) 562, 670, 673, 693
ФонтенельЖ. 523,577
ФоррестерДж. (Forrester J.) 670
Франк С.Л. 387, 537, 696
Франс А. 604
Фрейд А. 260,464
Фрейд 3. 62,102,160, 170, 171,175,204,223-231,233,234,236,239,252,
253, 257-259, 261, 263, 264, 266, 269, 271, 278-280, 282-286, 291-294,
296-303, 306-312, 314-327, 329-331, 334-343, 345-349, 352, 354, 355,
358, 360, 372, 392, 399, 449, 454-457, 460-462, 464, 466, 467, 469-478,
481-483, 485, 541, 586, 608, 661, 663-666, 670, 671, 676, 680, 682, 684,
685, 689, 696, 697, 699, 702, 703, 705-708
Фромм Э. 259, 456, 672
730 Познание и перевод. Опыты философии языка
Фукидид 520
Фуко M. (Foucault M.) 14, 31, 35, 41-45, 49-54, 58, 59, 71, 73, 74, 86,
87,90-136, 138-151, 177,186, 213, 223,225, 226, 318, 320, 358,366, 368,
371, 372, 377, 380-397, 399, 401, 402, 405, 407, 408, 449, 451, 497, 499,
551, 571, 572, 574, 575, 582, 654, 655, 661-665, 669-681, 683-687, 690,
691, 693, 695, 696, 700, 702-705, 707-709
ФуллерС. (FullerS.) 559,672
Фурье III. 370, 662
Фюре Φ. (Furet F.) 106, 107
Хабермас Ю. (Habermas Jü.) 303, 304, 389, 403, 497, 551, 571, 668, 669,
673,685
Хайдеггер M. (Heidegger M.) 20, 21, 145, 159, 160,166, 170, 186, 213, 366,
406, 423, 425, 428, 449, 485-493, 505-507, 538, 543, 568-571, 580, 582,
589, 592, 593, 637, 665-667, 670, 673, 682, 684, 690-692, 698, 707
ХаймсД. (HymesD.) 557,679
Ханов Д. 381
Харитонов A.H. 347, 476, 482, 695, 705
Харламов H.A. 385, 707
Харт К. (Hart К.) 668
Хархордин О. 384, 387, 707
ХассунЖ. (HassounJ.) 362,678
Хаусмен А.Э. 692
Хедеке В. (Hädecke W.) 46, 673
ХейесТ. (Hayes Т.) 46
ХейесЭ.Н. (Hayes E.N.) 46
Хемсон Л. (Hemson L.) 673
ХёробоскГ. 601
Хёрст A. (Hurst А.) 269, 674
Хессе М. (Hesse M.) 674
Хинкле Г.Й. (Hinkle G.Y.) 671
Хлебников В. 26
Хойнинген-Хуне П. (Hoyningen-Huene Р.) 559, 674
Холодковский Н. 623
ХомскийН. (Chomsky Ν.) 228,595
ХоннетА. (HonnethA.) 674
Хопкинс Дж. (Hopkins J.) 548
ХорниК. (Homey К.) 259,456
Хухуни Г.Т. 701
ХэкингЯ. (Hacking I.) 141, 144, 673
ХэррисЗ. (Harris Ζ.) 392,572
Цветаева M.И. 488
Целан П. (Celan Р.) 668
Цицерон Марк Туллий 502, 503, 637, 639
Чаадаев П.Я. 458
Челышев Е.П. 538, 707
Черноглазое А. 372, 457, 707, 708
Черняк В. 384
Указатель имен
731
Шапир М.И. 707
Шапиро Н. (Shapiro Ν.) 573
Шапсаль M. (Chapsal M.) 96, 670
Шарбонье Ж. (Charbonnier G.) 664
Шарко Ж.М. (Charcot J.-M.) 334, 335, 337, 348, 708
Шатле Φ. (Châtelet F.) 224, 404, 664
Шатобриан Ф.Р. де 577
Шатунова Т.М. 375, 704
Шварц И. (Schwarz Y.) 352
Швейцер А.Д. 506,707
ШвыревВ.С. 23,393,699
Шевалье Ф. (Chevallier Ph.) 665
Шекспир У. 27, 406, 452, 503, 506, 508, 532, 608-625, 688, 708
Шелли П.Б. 511
Шеллинг Ф.В. 537
ШемамаП. (Chemama Р.) 463,669
Шенье А. де 511
Шервуд И. (Sherwood Y.) 668
Шеридан A. (Sheridan Α.) 145,675,683
ШеркиА. (CherkiA.) 664
ШерманД. (Sherman D.) 683
ШерозияА.Е. 345,346,690
Шерток Л. (Chertok L.) 280, 293, 309, 326, 334-336, 339, 340, 342-344,
347, 348, 456, 664, 665, 674, 677, 684, 707, 708
Шиллер Φ. 409,511,623
ШилпП.А. (Schilpp P.A.) 301,664
Ширинский-Шихматов П.Α. 530
Шишков A.C. 527
Шлегель А. фон 597
Шлегель К.В.Ф. фон 597
Шлейермахер Ф. (Schleiermacher F.) 505, 509, 510, 558, 597, 640, 683
Шматко H.A. 399, 694
Шнайдер M. (Schneider M.) 359,683
Шнайдерман С. (Schneiderman St.) 328, 683
Шопенгауэр Α. 258
Шошин П.Б. (Chochine P.) 454, 674
Шпенглер О. 369
Шпет Г.Г. 13, 391, 519, 520, 525, 526, 530, 531, 534, 536, 659, 693, 708
Шпигельберг Г. (Spiegelberg Η.) 708
Шульга E.H. 708
ШульцВ. (Schulz W.) 683
Щедрина Т.Г. 13, 15, 35, 391, 519, 688, 689, 693, 697, 700, 704, 705, 708
ЩербаЛ. 409
ЭвальдФ. (Ewald F.) 147,670
ЭделинФ. (EdelineF.) 695
Эдельман Б. (Edelman В.) 669
Эделсон M. (Edelson M.) 303
Эй А. (ЕуН.) 260
Эйтингон M. (Eitingon M.) 340
732 Познание и перевод. Опыты философии языка
Эко У. (Eco U.) 20, 508, 510, 559-563, 575, 669
Эмар M. (AymardM.) 36
ЭнафМ. (HénaffM.) 673
Энгельс Ф. 708
Эно A. (Henault А.) 562, 673
Эпикур 503, 546, 604, 640
Эптер Э. (Apter Ε.) 625-629, 632, 634, 642, 661
ЭпштейнМ.Н. (Epstein M.) 708
Эрибон Д. (Eribon D.) 94, 95, 145, 669, 677, 708
Эритье Φ. (Héritier F.) 76,674
Эрсан И. (2) (Hersant I., Hersant Y.) 674
Эскубас Э. (Escoubas Ε.) 670
ЭткиндА. 386,387,708
ЮдинЭ.Г. 690
Юисман Д. (Huisman D.) 150
Юм Д. 499
Юнг К.-Г. 259, 316, 347, 352, 456, 543, 665
Юран А. 48, 457, 708
Ягелло M. (Yagello M.) 395
Ядов В.А. 352
Якобсон P.O. (Jakobson R.) 10, 15, 20, 41, 44, 55, 153, 262, 562, 563, 579,
591,630,669,674,687,709
Ямпольская A.B. 7, 415, 442, 709
ЯнгуловаЛ. 386,387,709
ЯуссХ.Р. (JaussH.R.) 709
ЯщенкоА. 526,537,709
Bibliographical notice
N. S. Avtonomova
KNOWLEDGE AND TRANSLATION.
EXPERIENCES OF THE PHILOSOPHY OF LANGUAGE
The author has been continuously concerned with the theme of
Knowledge and Translation throughout her career. This interest runs
from college courses on translating Shakespeare through Foucault's
"Words and Things", which appeared during the "stagnation" period, to
more recent translations in the spheres of psychoanalysis and decon-
struction. Knowledge and Translation is the product of personal
experience, including extensive and varied practice in thinking through the
course of events and the comparison of approaches to translation from
different periods and different countries. Translation is an
anthropological constant of human being and the condition of the possibility of
knowledge in the human sciences. However, this work, which is not
simply academic in character, also falls into the realm of passions and
struggles. Why has translation become a contemporary philosophical
problem? This book deals with all of this. It is divided into two sections.
The first studies knowledge and language. And the second concerns
translation as a reflexive resource of understanding.
The book is addressed to a wide circle of readers interested in the
history of knowledge, problems of philosophy, languages, and culture.
Оглавление
Введение ко второму изданию 7
Введение 17
Раздел первый. Познание и язык
Глава первая. Мысль о структуре и проблема «обратного перевода» .. .39
§ 1. Структурализм и постструктурализм: прошлое и будущее . .39
§ 2. Познание сознания 56
§ 3. Язык: объект и средство 67
§ 4. Язык и человек 75
Глава вторая. Фуко: «диагностика настоящего» 90
§ 1. Между «философией понятия» и «философией
смысла» 90
§ 2. История как археология 101
§ 3. Власть-знание: от археологии к генеалогии 116
§ 4. Поздний Фуко о человеке и этике 132
Глава третья. Деррида: «необходимое и невозможное» 152
§ 1. Вавилон и деконструкция 152
§ 2. О понятиях и приемах мысли 157
§ 3. Языковые обнаружения философии 184
§ 4. Можно ли реконструировать деконструкцию? 200
Систематизация несистемного 200
Другие мыслительные координаты? 212
Глава четвертая. Лакан: парадоксы познания
бессознательного 222
§ 1. Бессознательное структурировано как язык 222
§ 2. Символизм: от Канта к Лакану 240
§ 3. Путь мэтра 257
§ 4. ...и судьба дисциплины 280
Глава пятая. Фрейд, Лакан и другие: в спорах о теории и практике
психоанализа 298
§ 1. Наукали психоанализ? 298
§ 2. Особенности практики: словесное
и несловесное 321
§ 3. Следы истории: перевод под вопросом 334
§ 4. Психоанализ и науки о человеке 349
Раздел второй. Перевод, рецепция, понимание
Глава шестая. «На бранном поле перевода» 365
§ 1. Открытость к западной мысли 366
§ 2. Фуко в России: перевод и рецепция 380
Из истории переводов (в жанре воспоминаний) 380
Между дискурсией и дискурсом 389
§ 3. Деррида в России: перевод и рецепция 397
Этапы освоения 397
Стратегии перевода 408
О переводческих трудностях 416
Различие и отличие (спор о приставке) 431
Раки, пиво и... метафизика 441
§ 4. Психоанализ в постсоветском пространстве:
перевод и рецепция 453
Условия рецепции в исторической перспективе 453
О переводе Словаря Лапланша и Понталиса 462
О новых переводческих впечатлениях 475
§ 5. Об одном состязании с Хайдеггером 485
Глава седьмая. Перевод как рефлексивный ресурс
понимания 494
§ 1. Рефлексия и перевод: исторический опыт и современные
проблемы 494
Рефлексия «классическая» и «неклассическая» 494
Перевод как практика и перевод как рефлексия 499
Культура и перевод: от спонтанного
к рефлексивному 517
§ 2. Ипостаси языка и подходы к переводу 544
От «мышления, мыслящего само себя», - к языку 544
О некоторых трактовках перевода в связи с языком 554
§ 3. Проблема понимания и перевод 579
О разрывах мыслительных связок и проблеме понимания . .579
Понимание и перевод в герменевтике 589
Понимание, метафора, перевод 598
Об изучении перевода: опыт филологического
анализа и интерпретации 608
Сонеты Шекспира и переводы Маршака 609
§ 4. Контексты непереводимостей и перевод 625
Глобальный английский в зоне перевода 626
Европейский Словарь «непереводимостей» 636
Перевод: конъюктуры и объективность 642
Заключение 654
Литература 661
Указатель имен. Составитель И.И. Ремезова 710
Научное издание
Автономова Наталия Сергеевна
Познание и перевод
Опыты философии языка
Дизайн обложки Я.В. Быстрова
Верстка Г.В. Славинская
По издательским вопросам обращаться:
«Центр гуманитарных инициатив»
e-mail: unikniga@yandex.ru. Руководитель центра П.В. Соснов.
Подписано к печати 26.05.2016. Формат 60x90 '/i6. Заказ № 468.
Усл. печ. л. 48,3.
Тираж 1000 (Второй завод 200) экз.
Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного оригинал-макета
в Публичном акционерном обществе «Т8 Издательские Технологии»
109316, Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5.
Тел.: 8 (495) 221-89-80