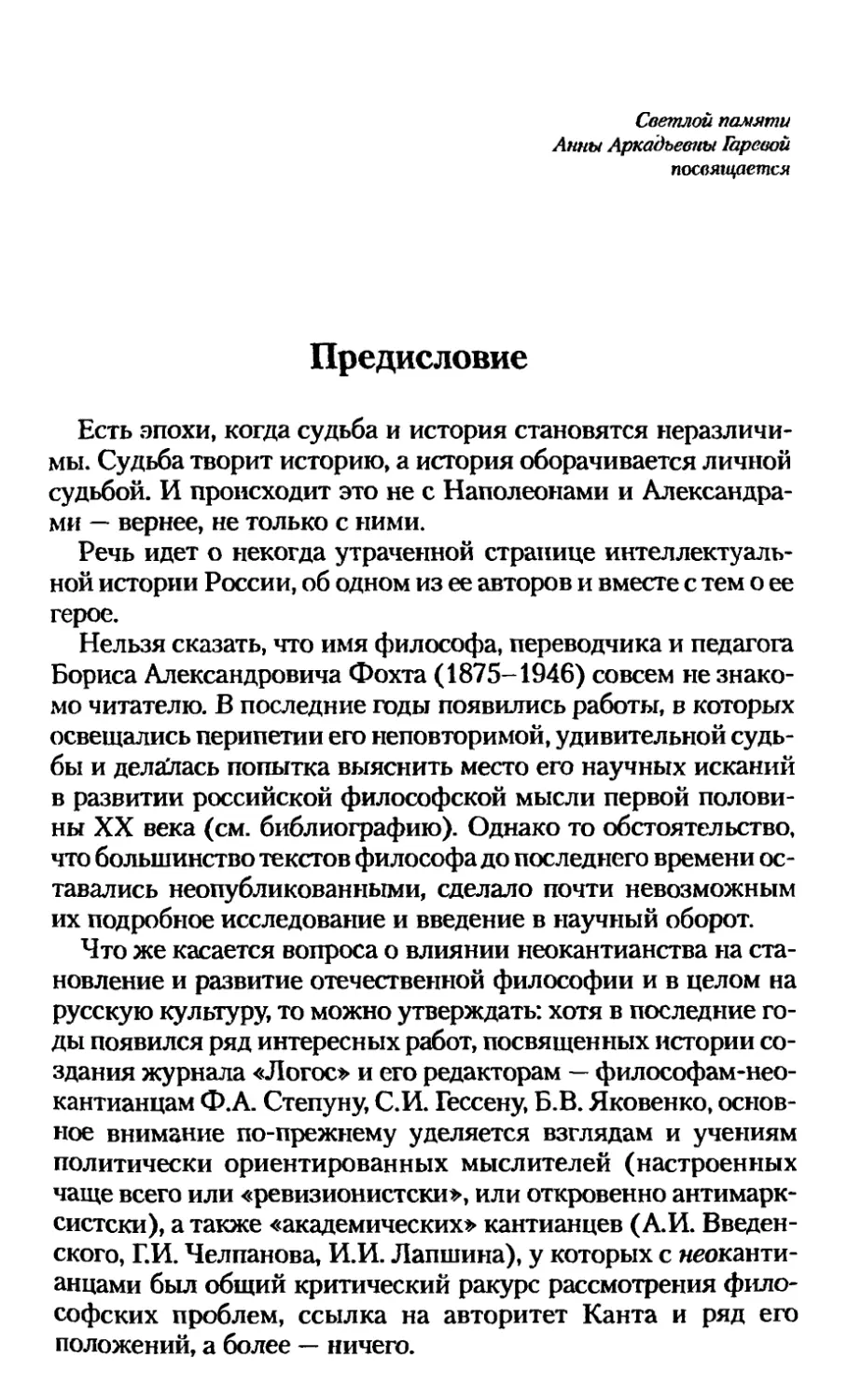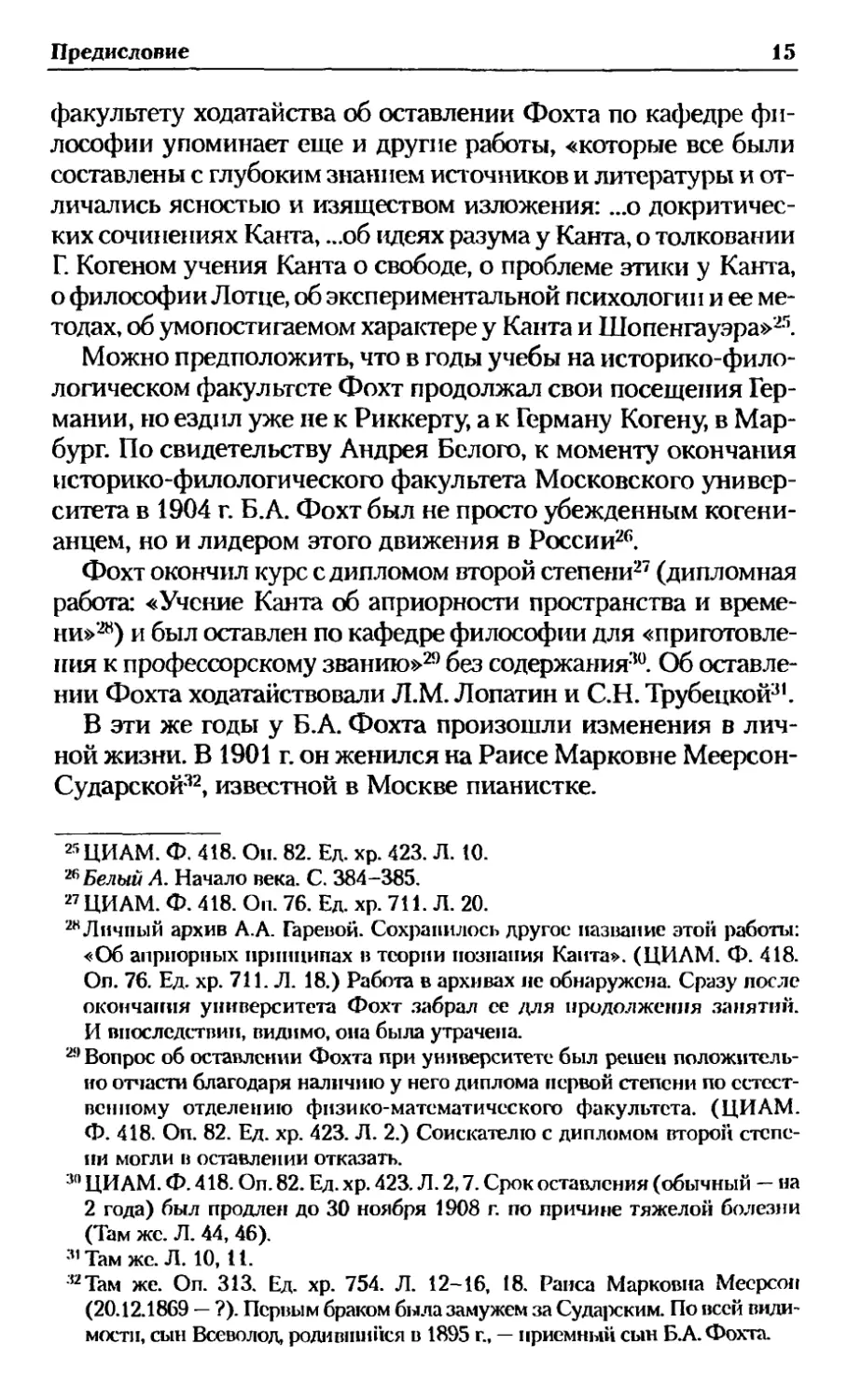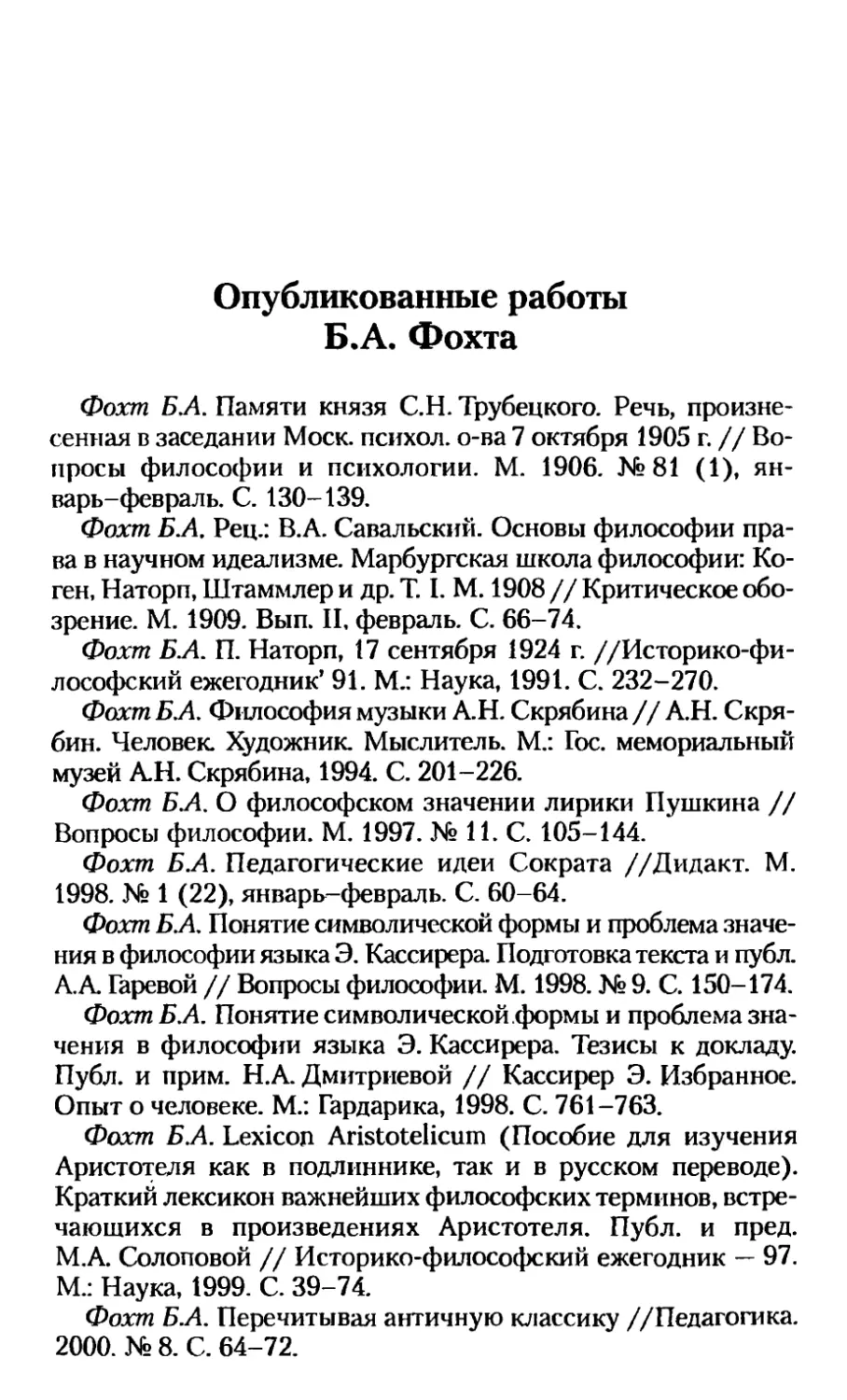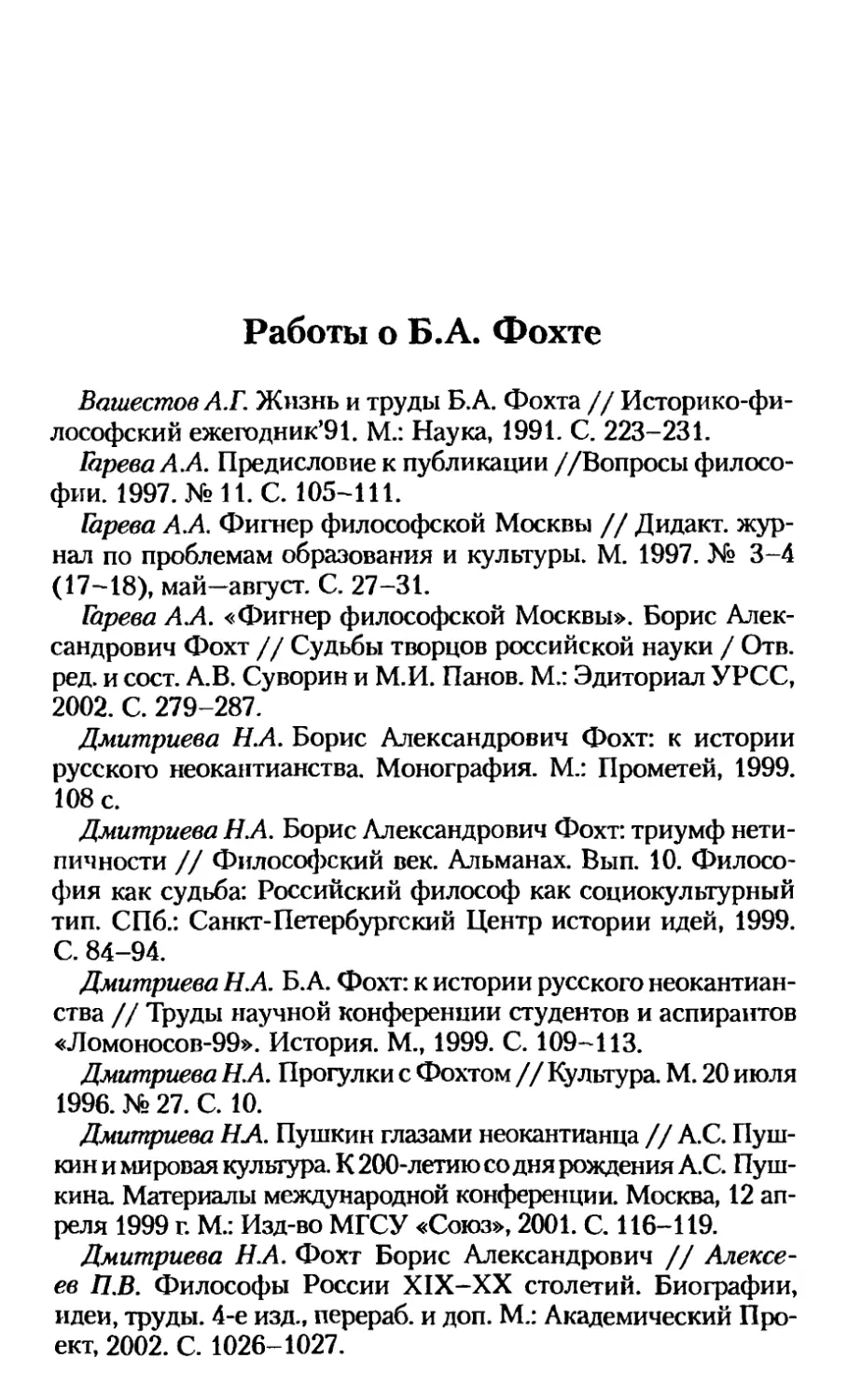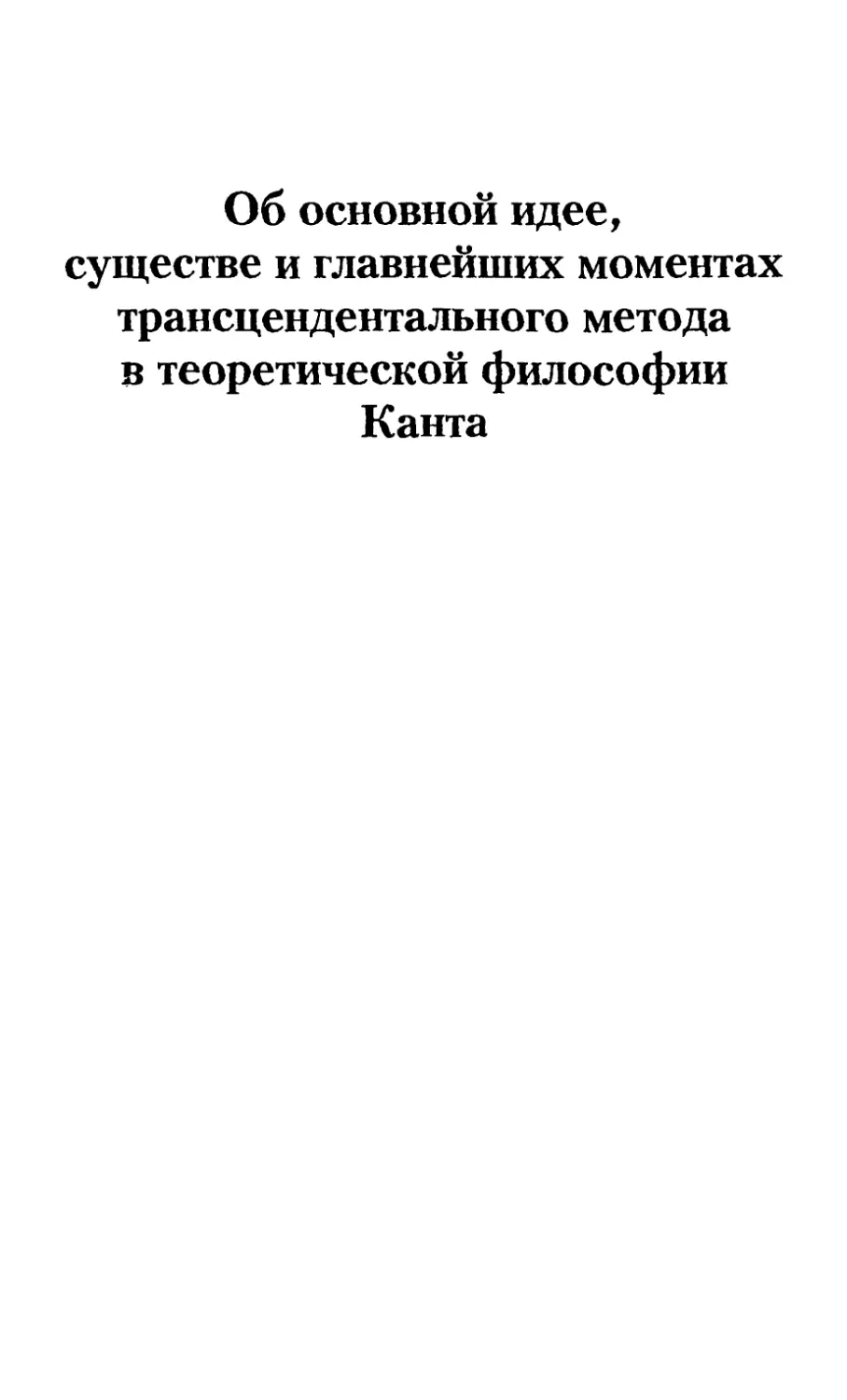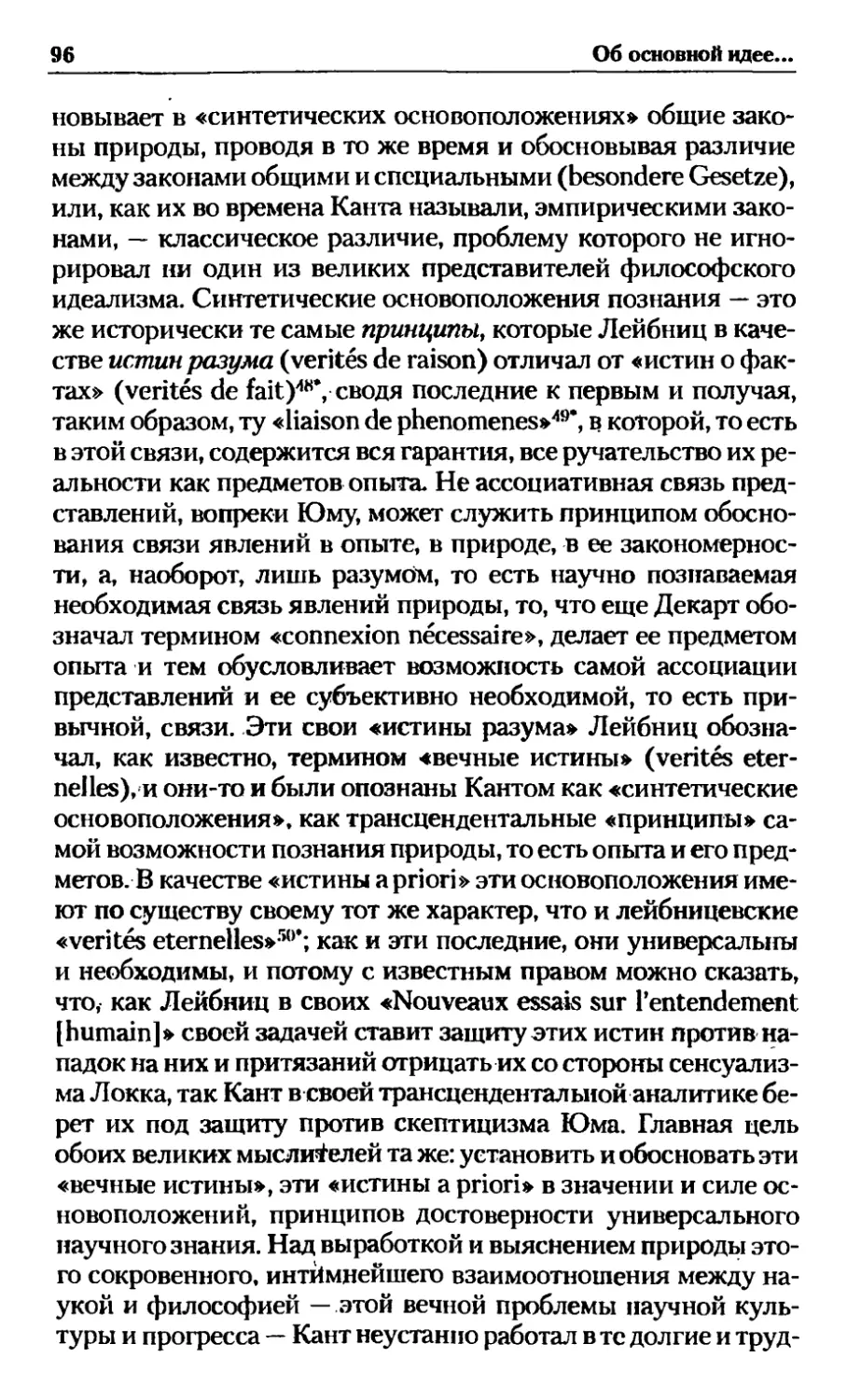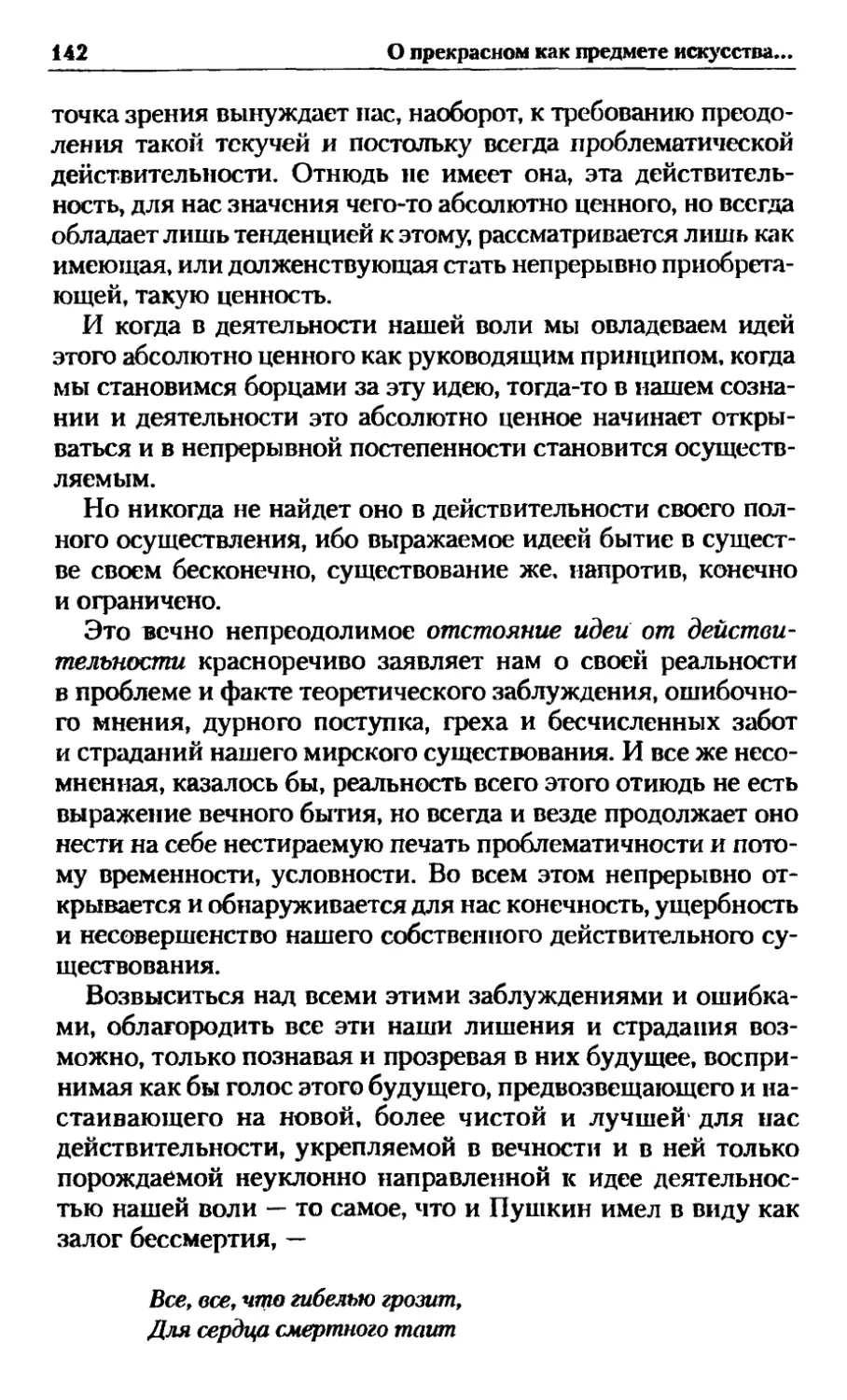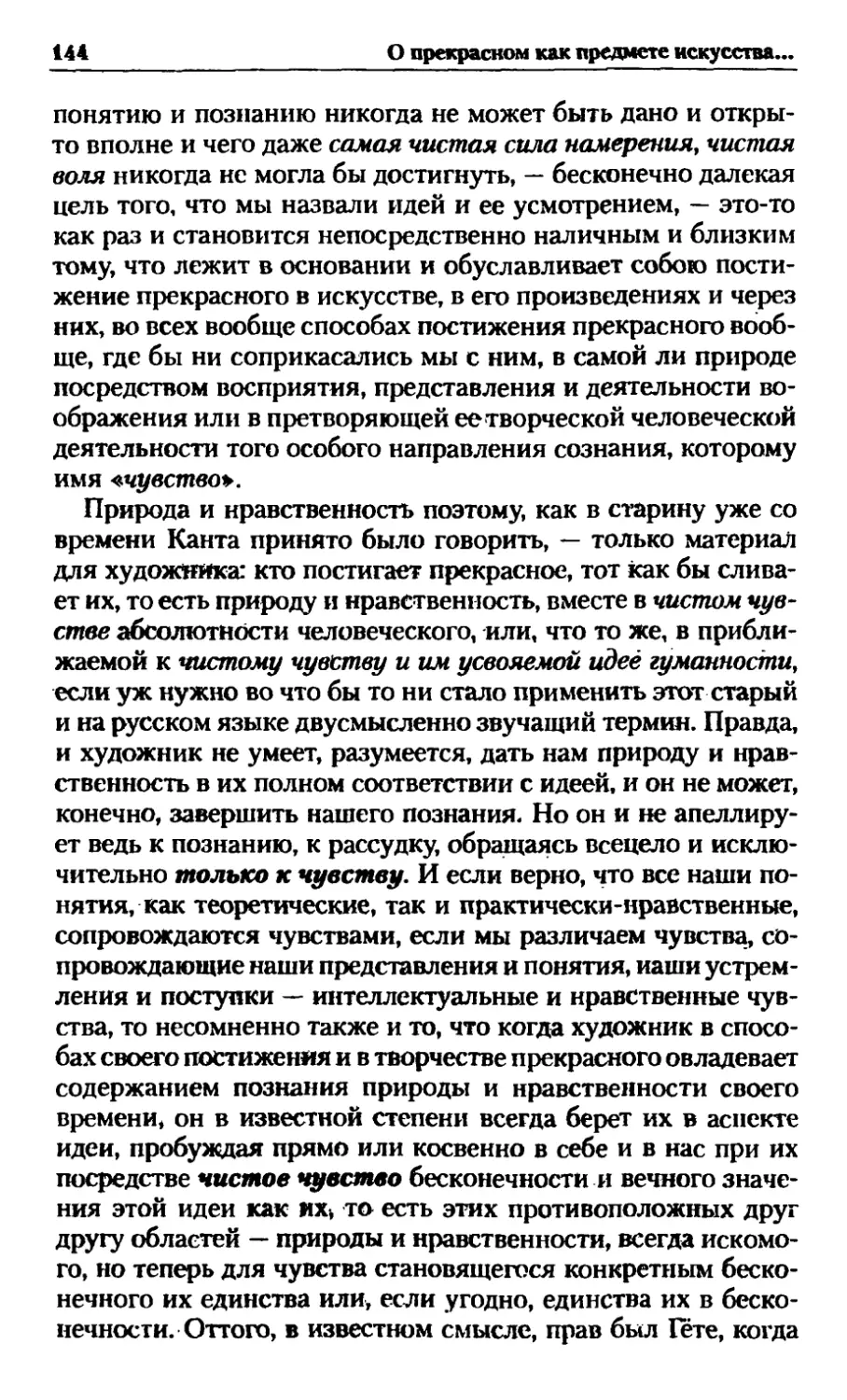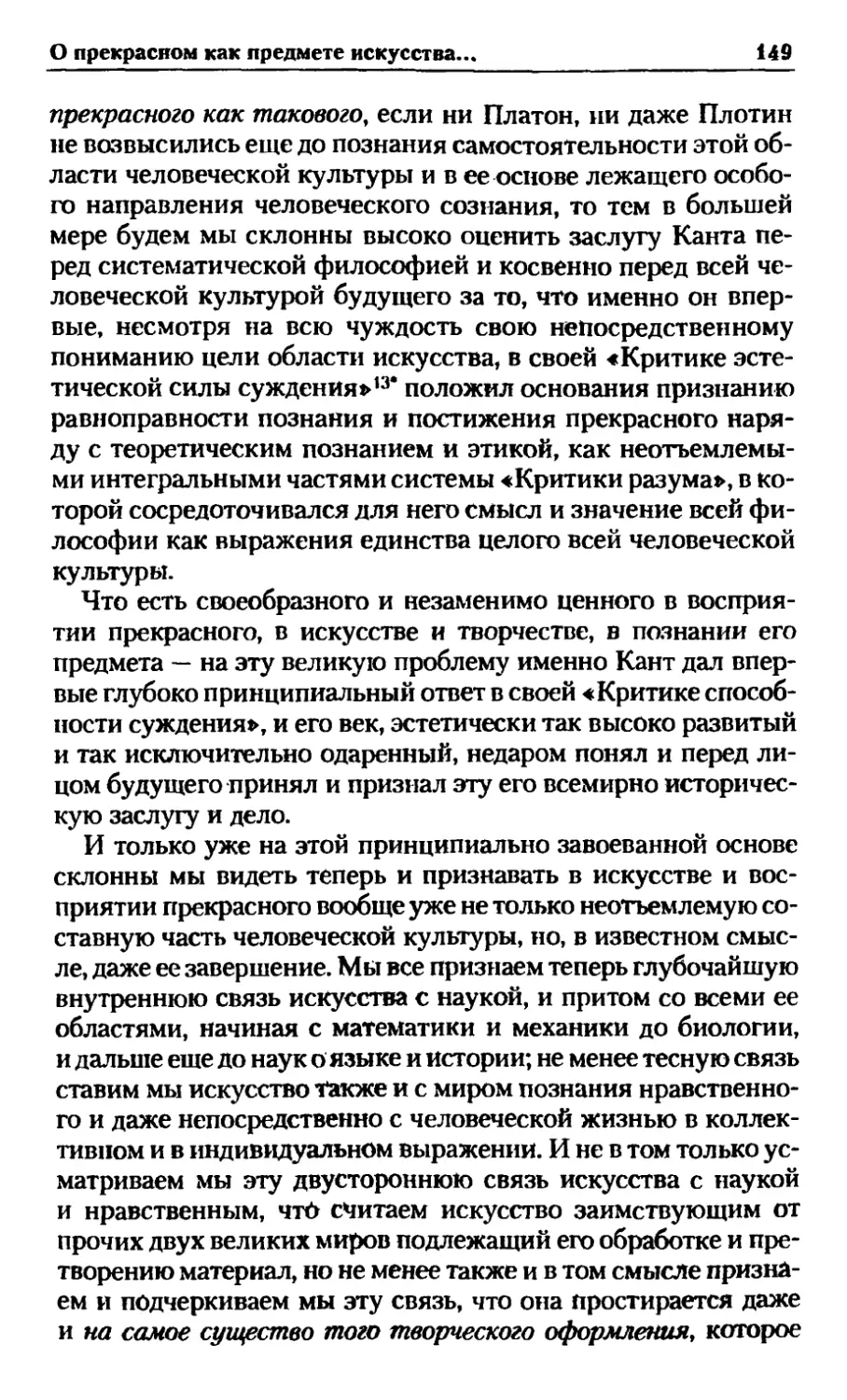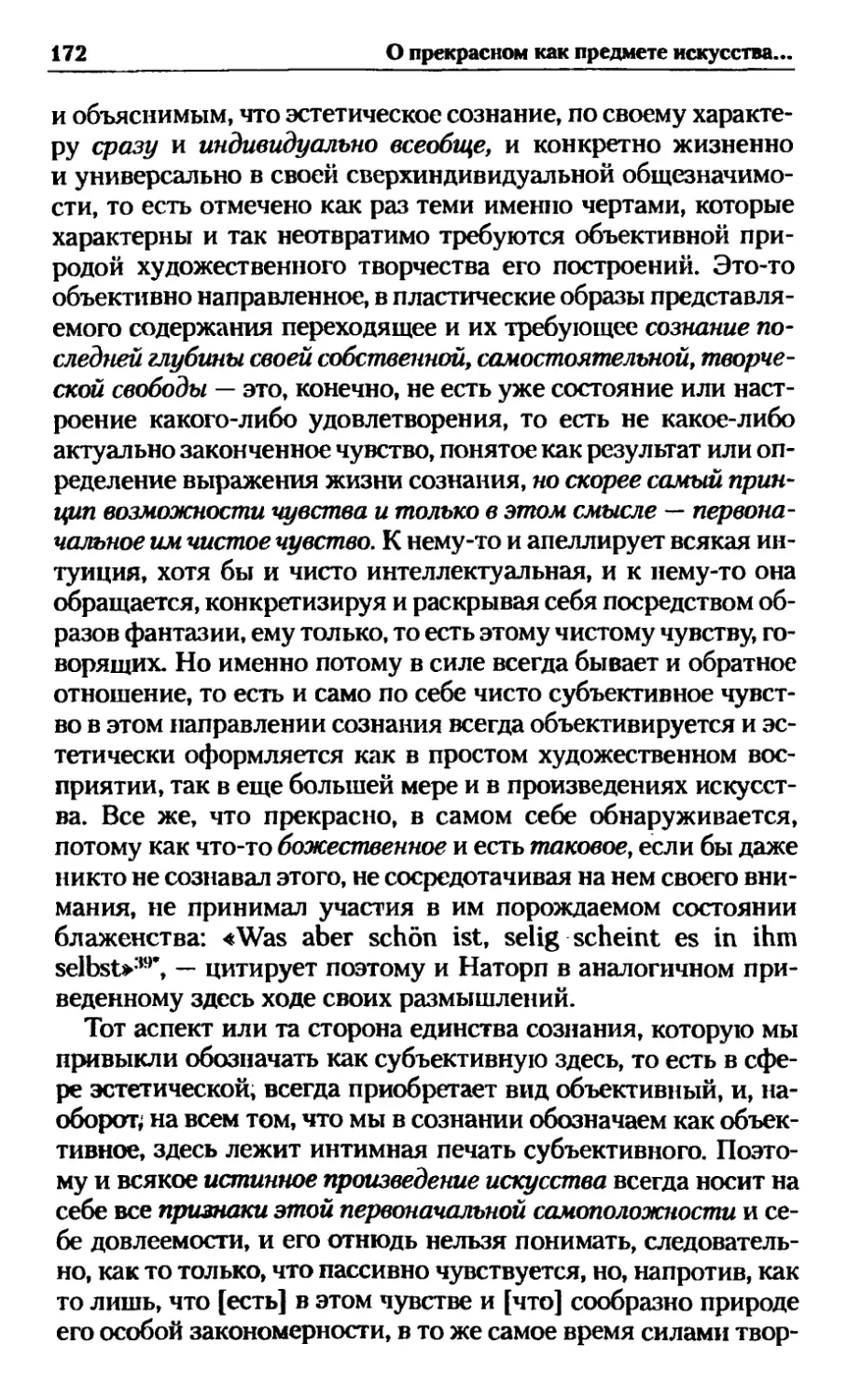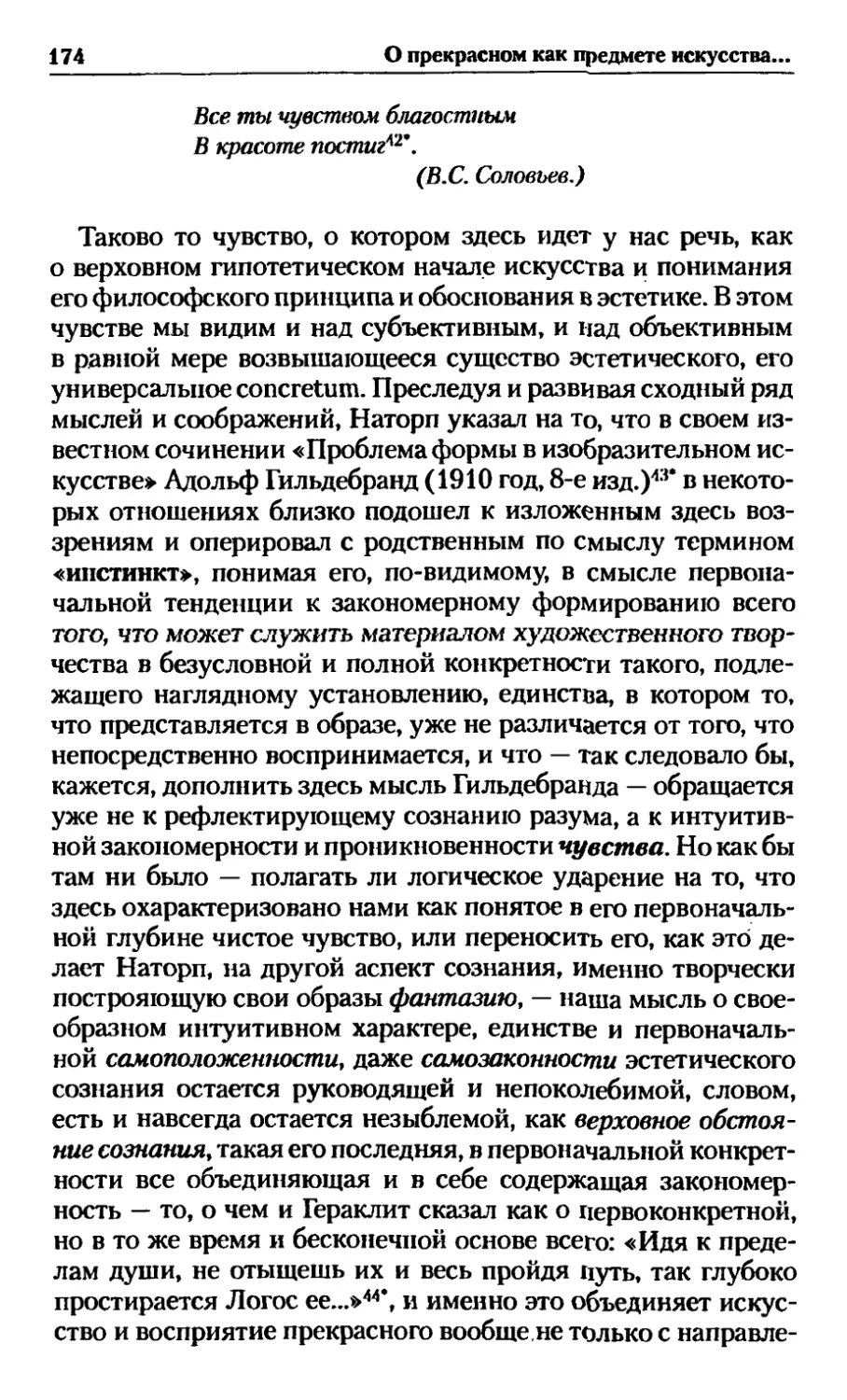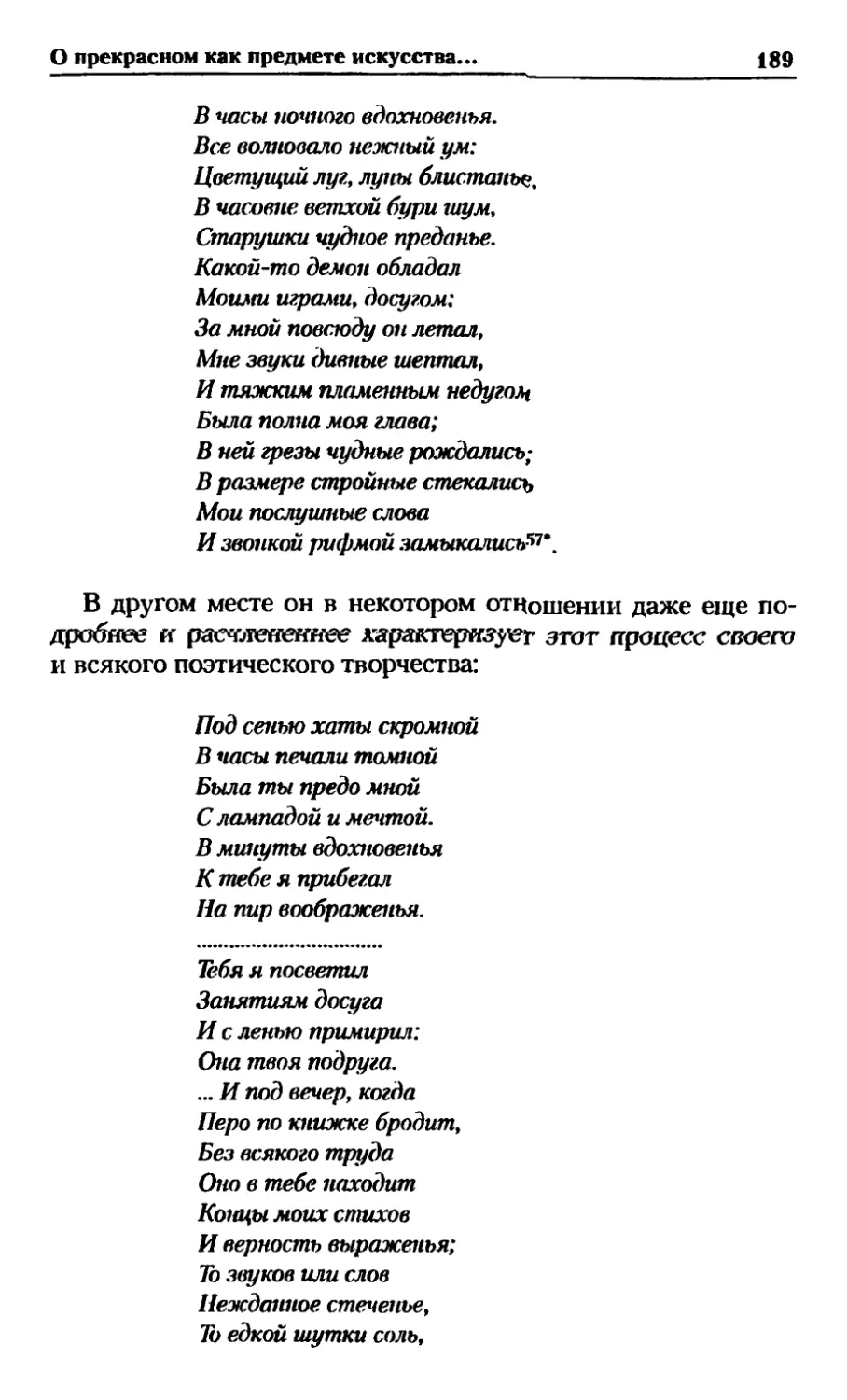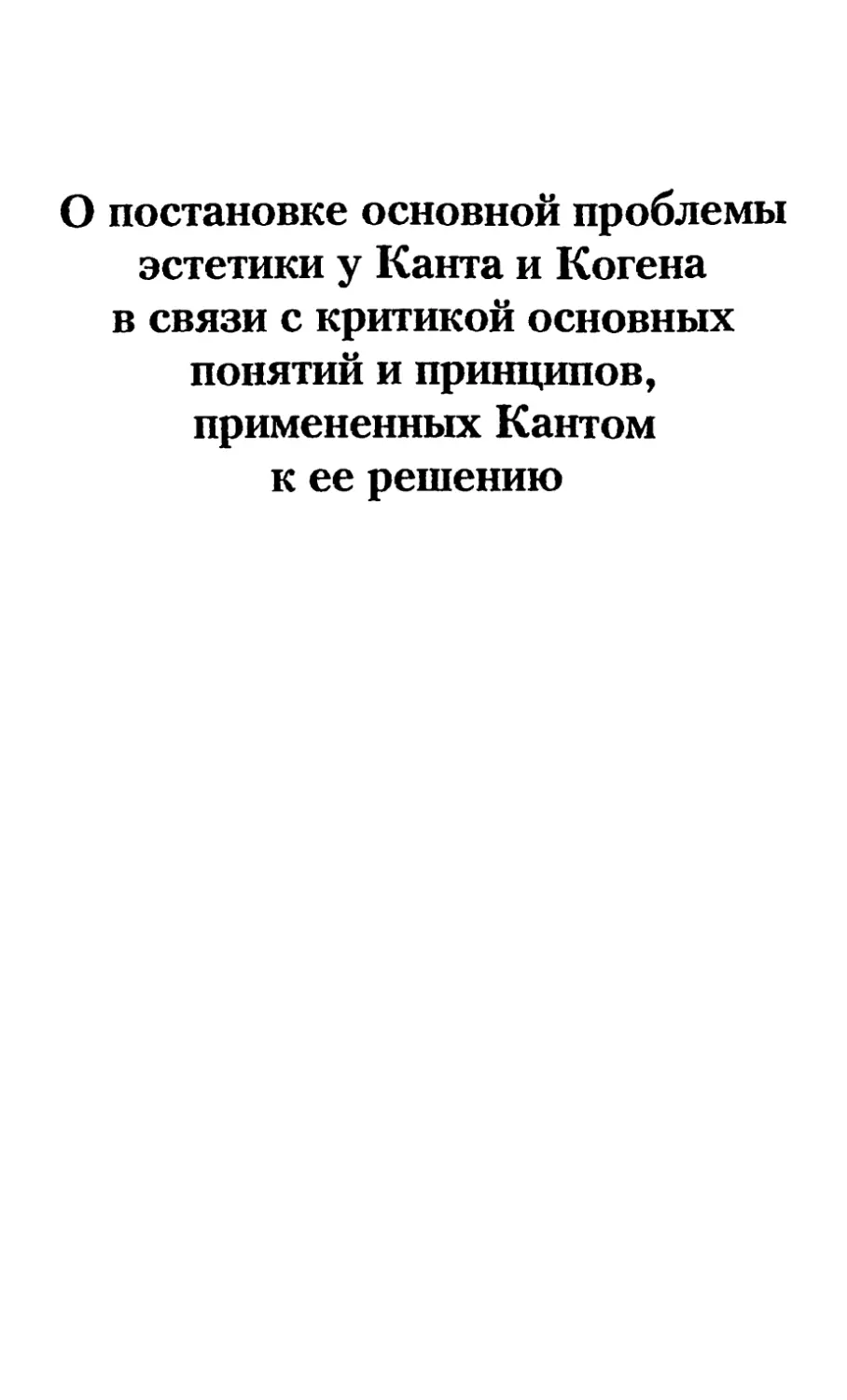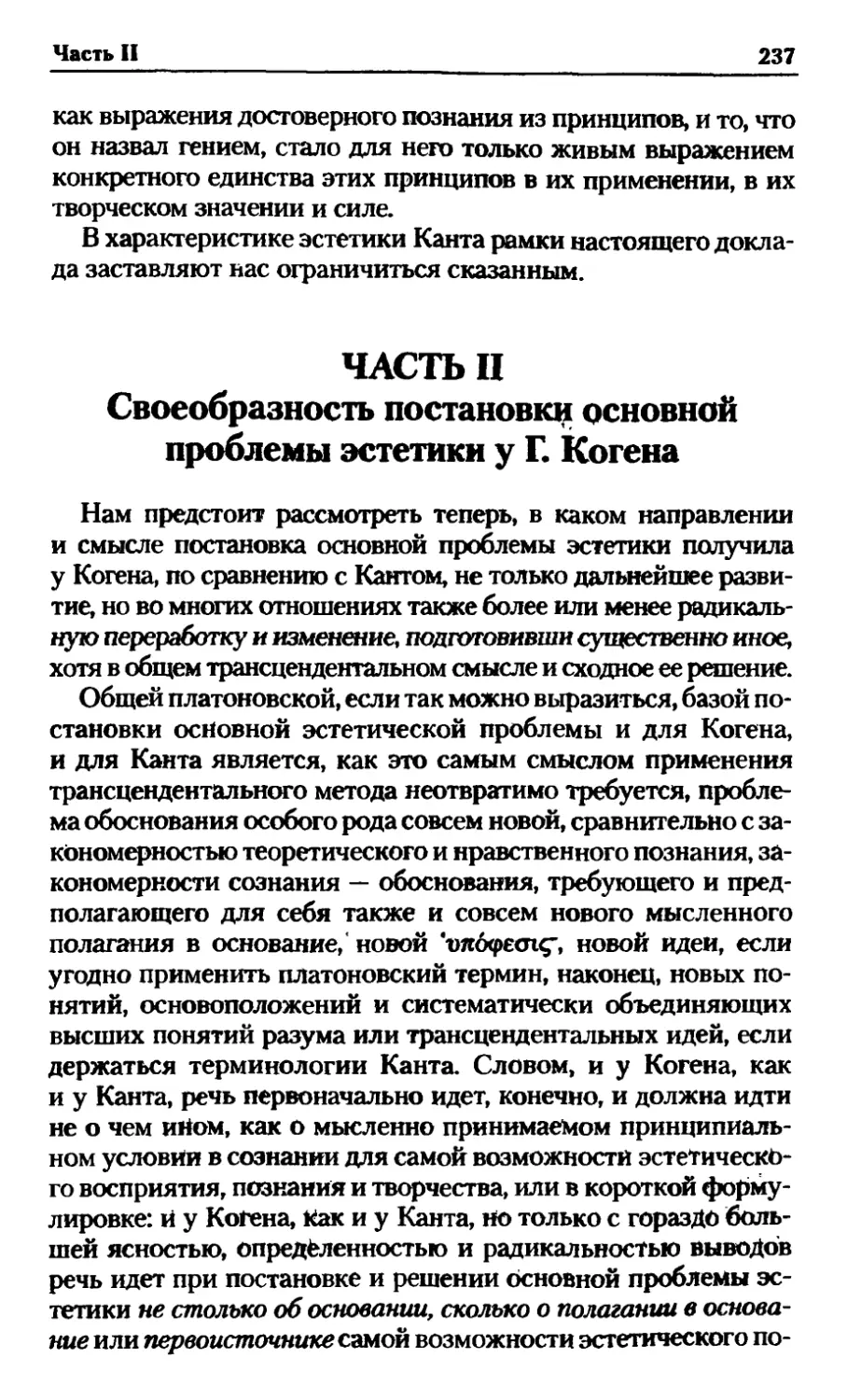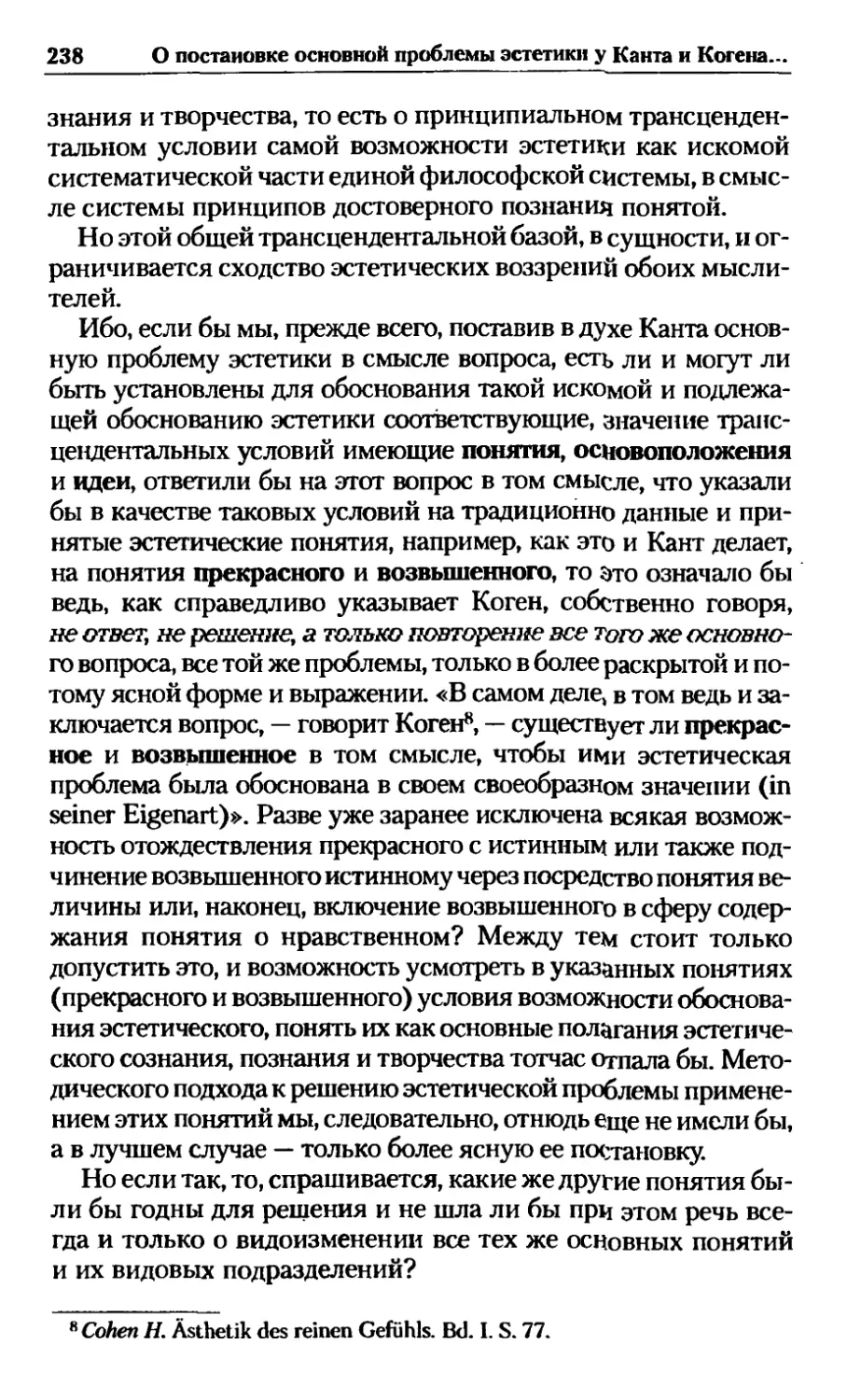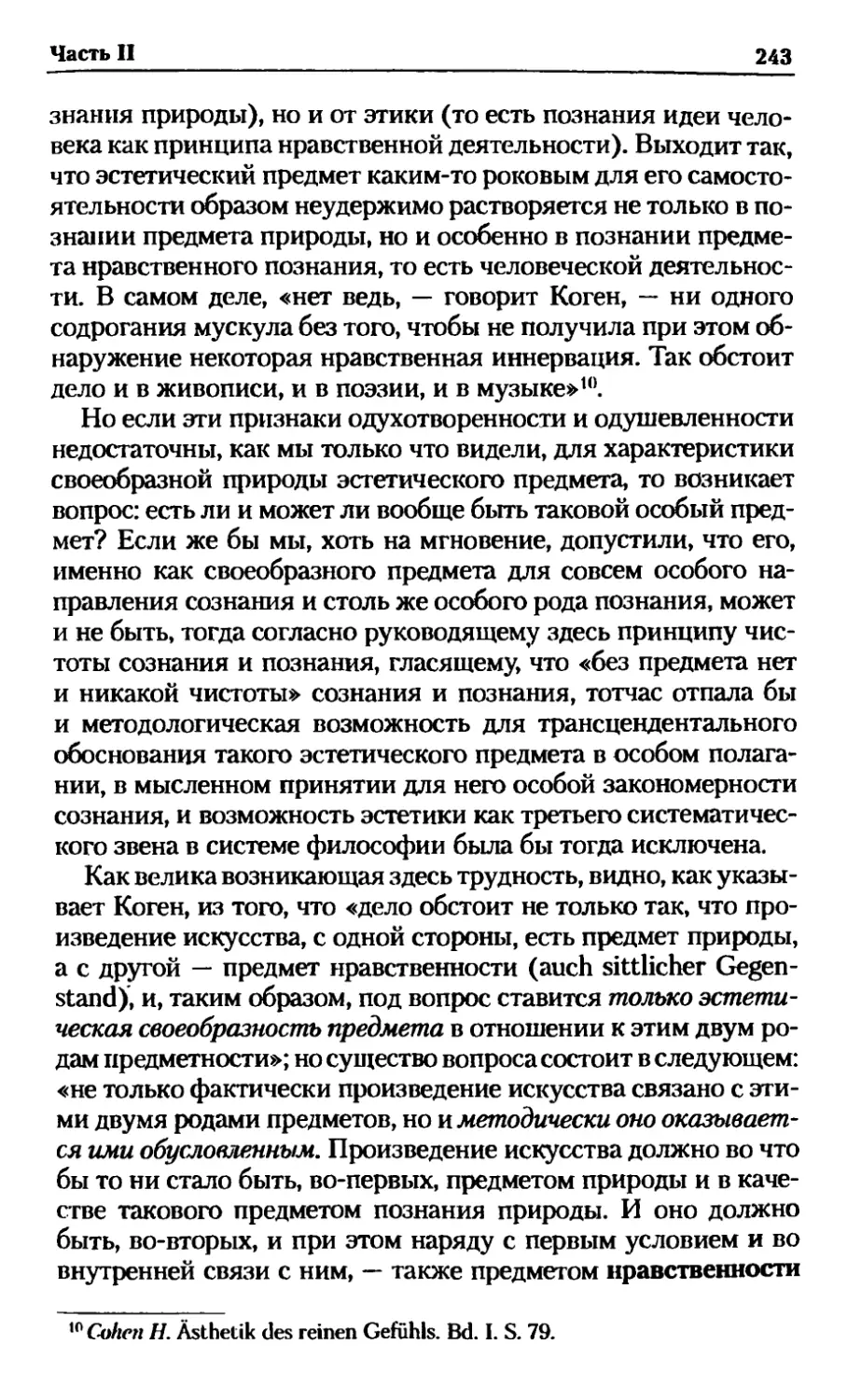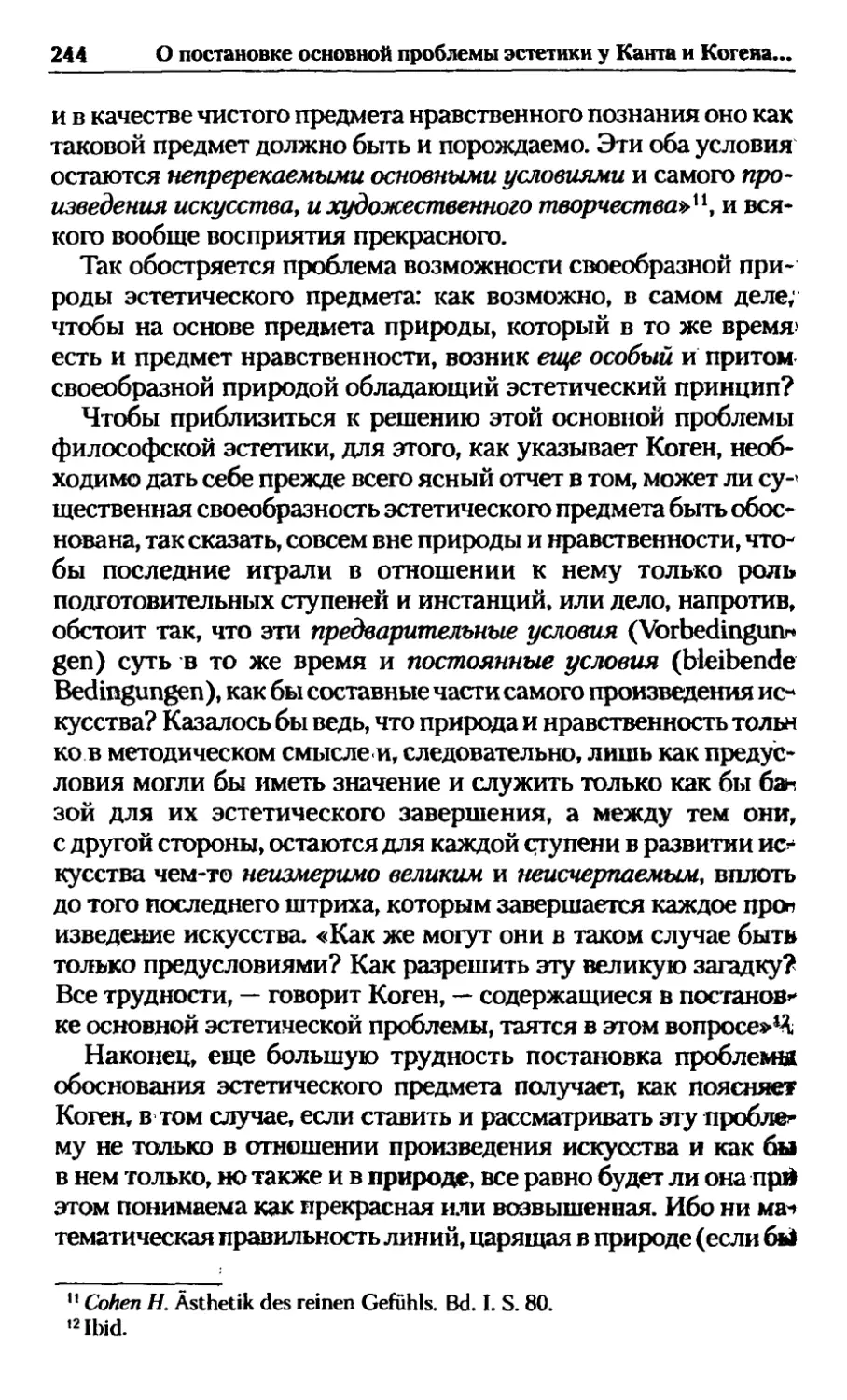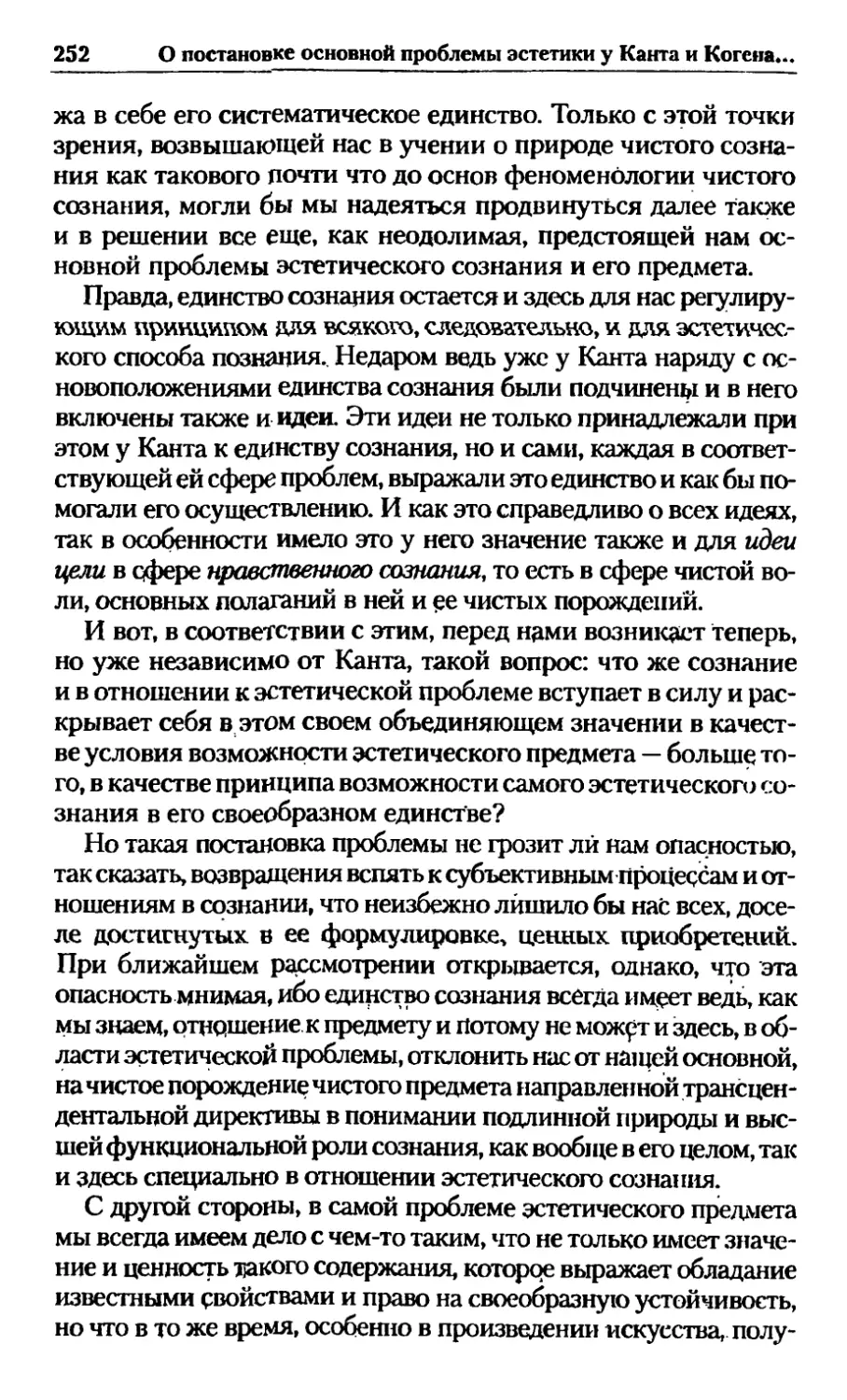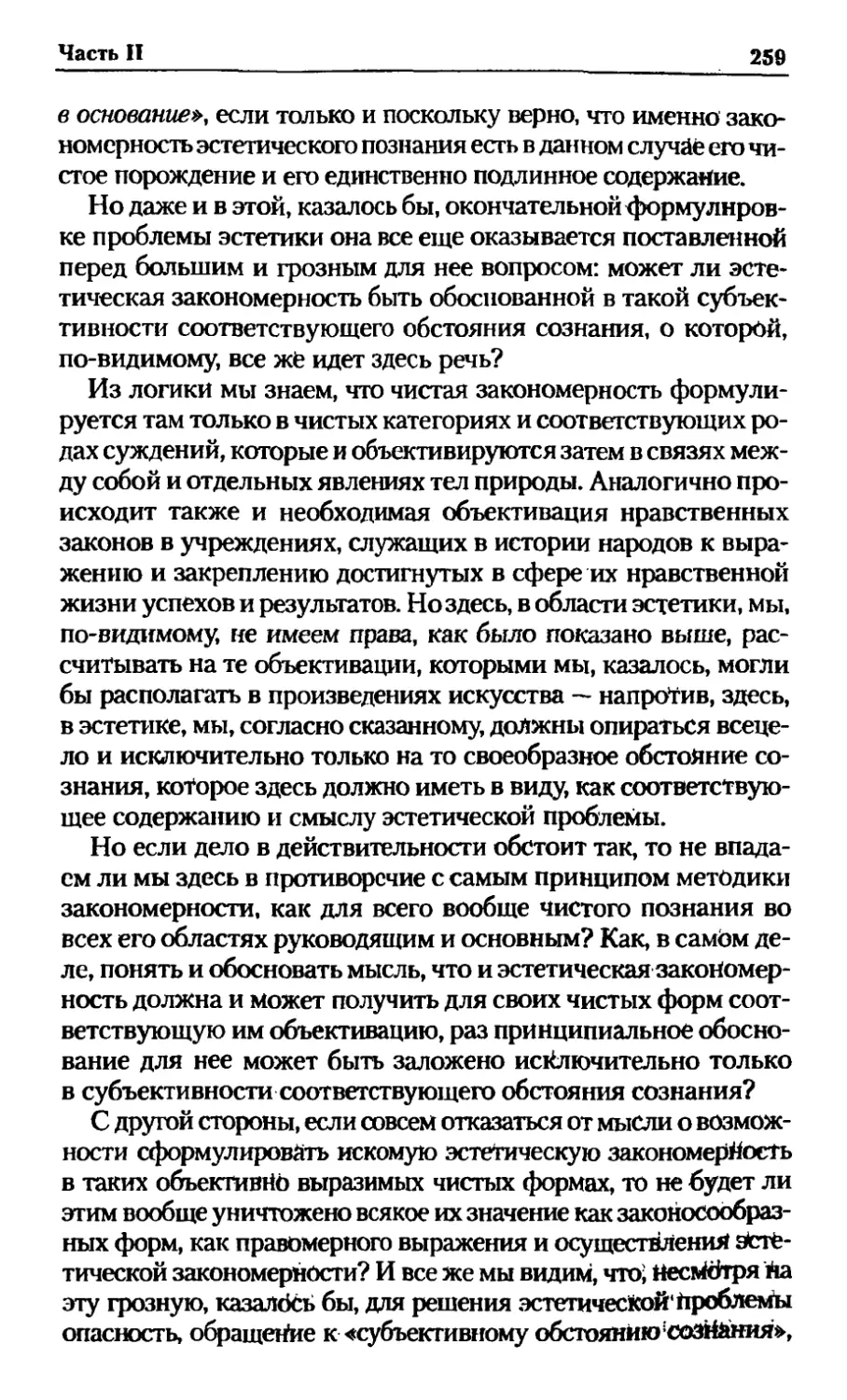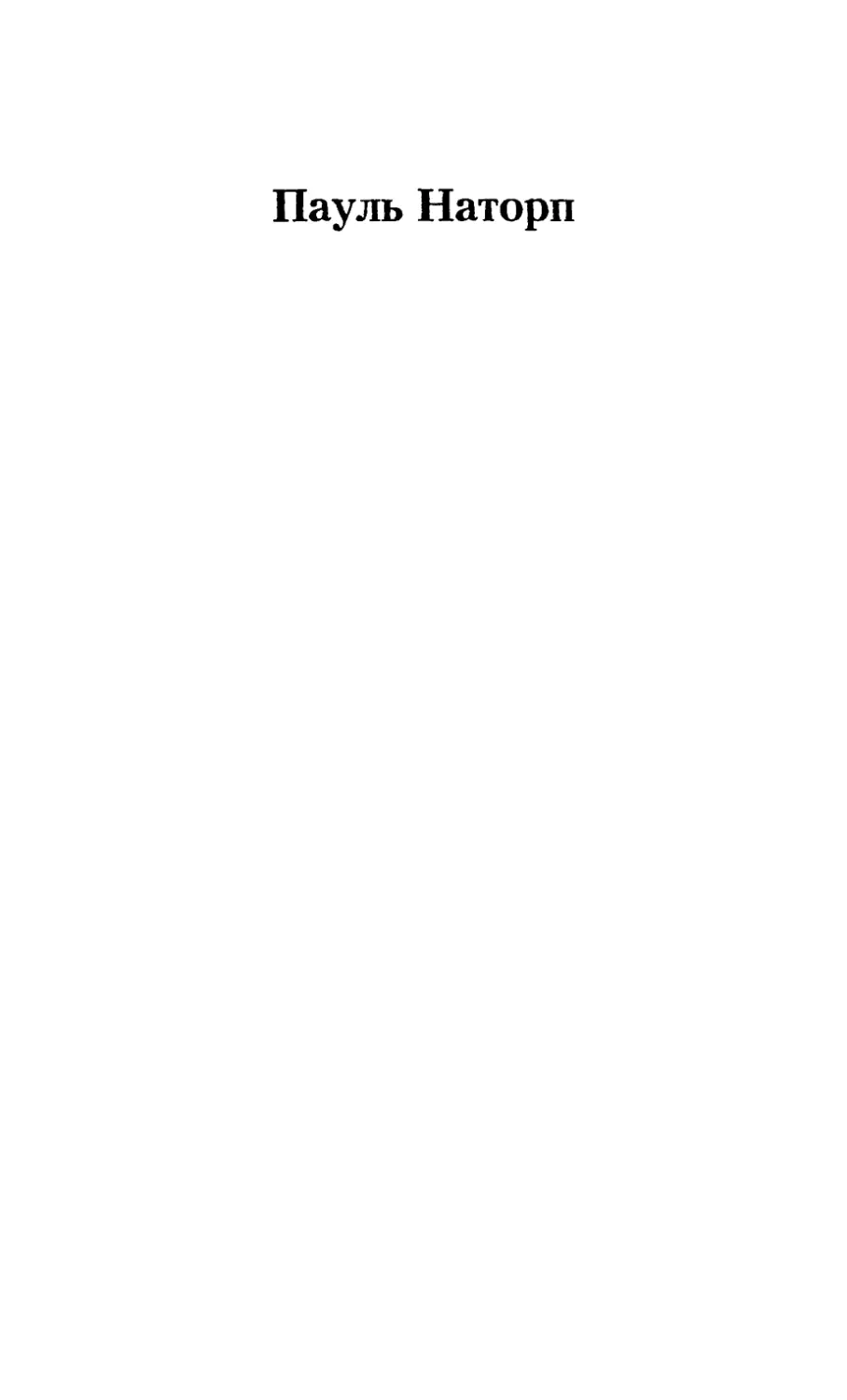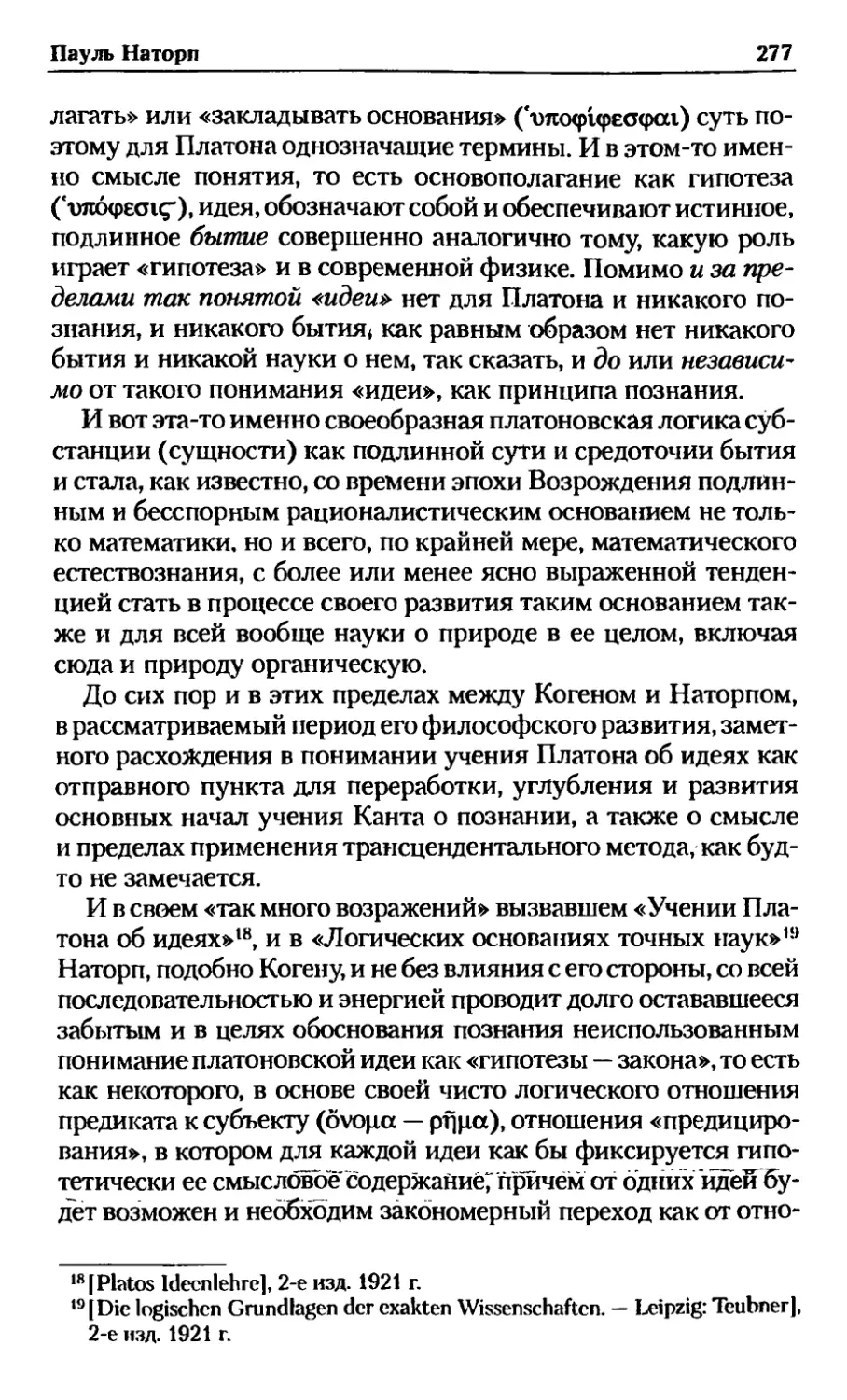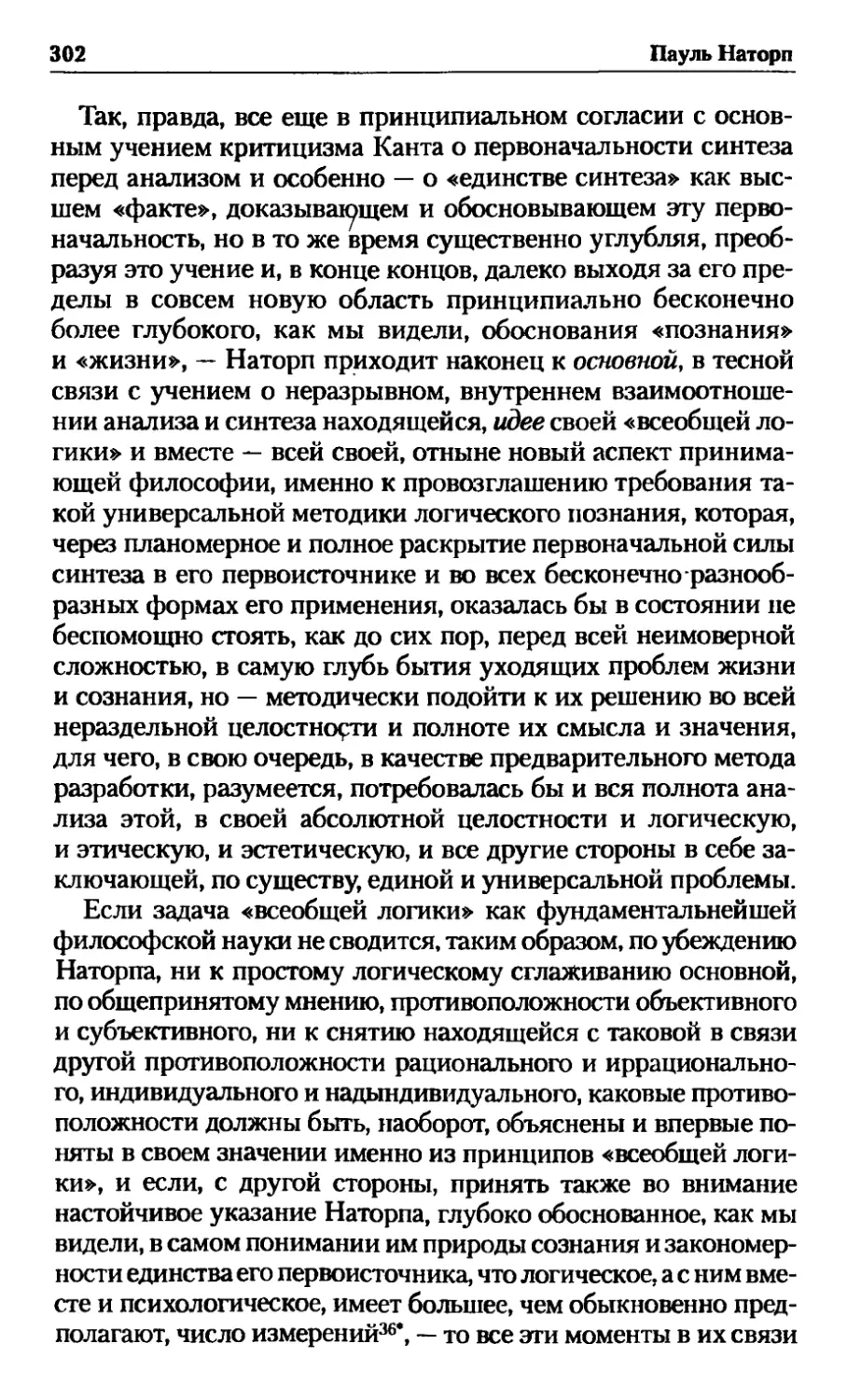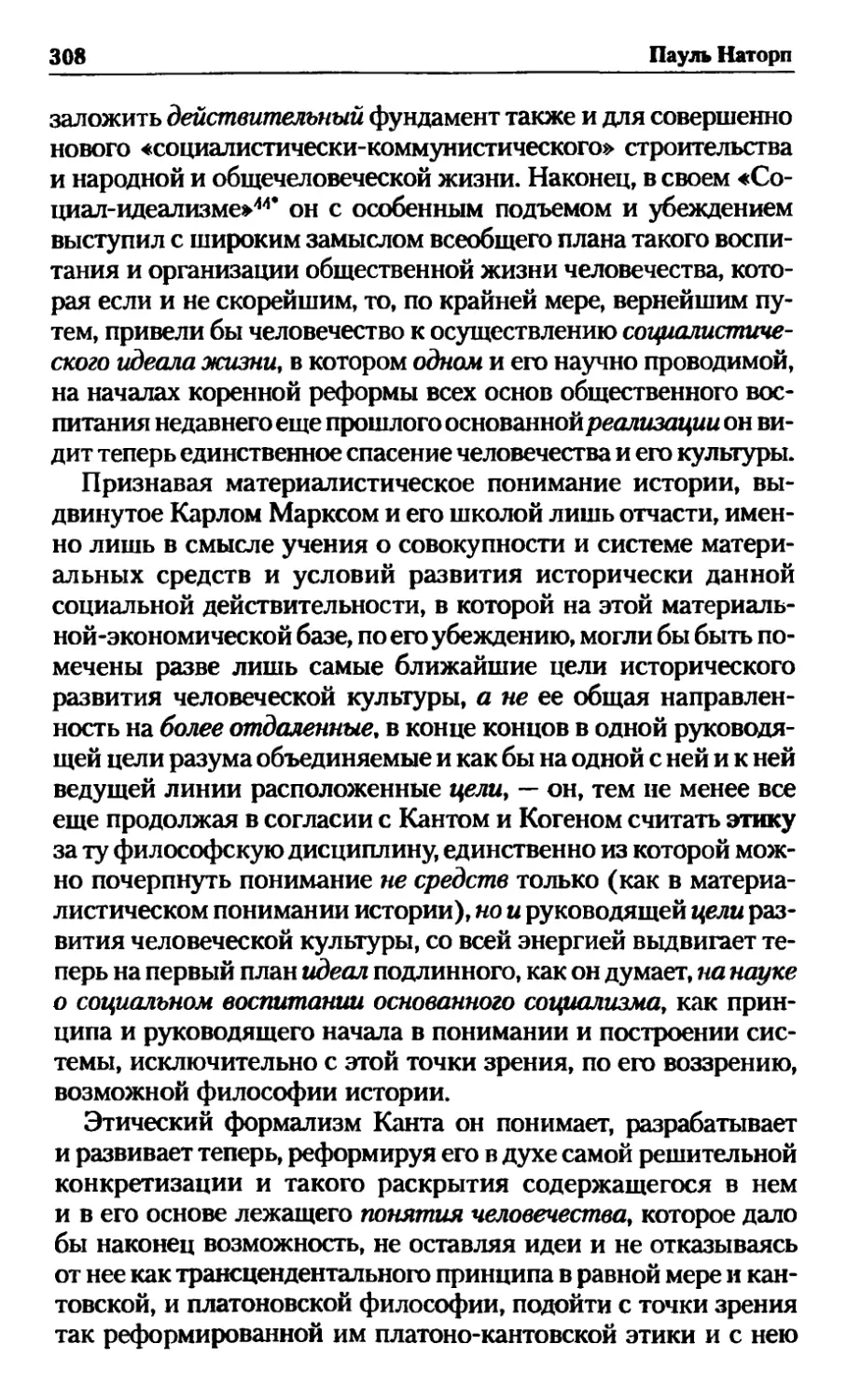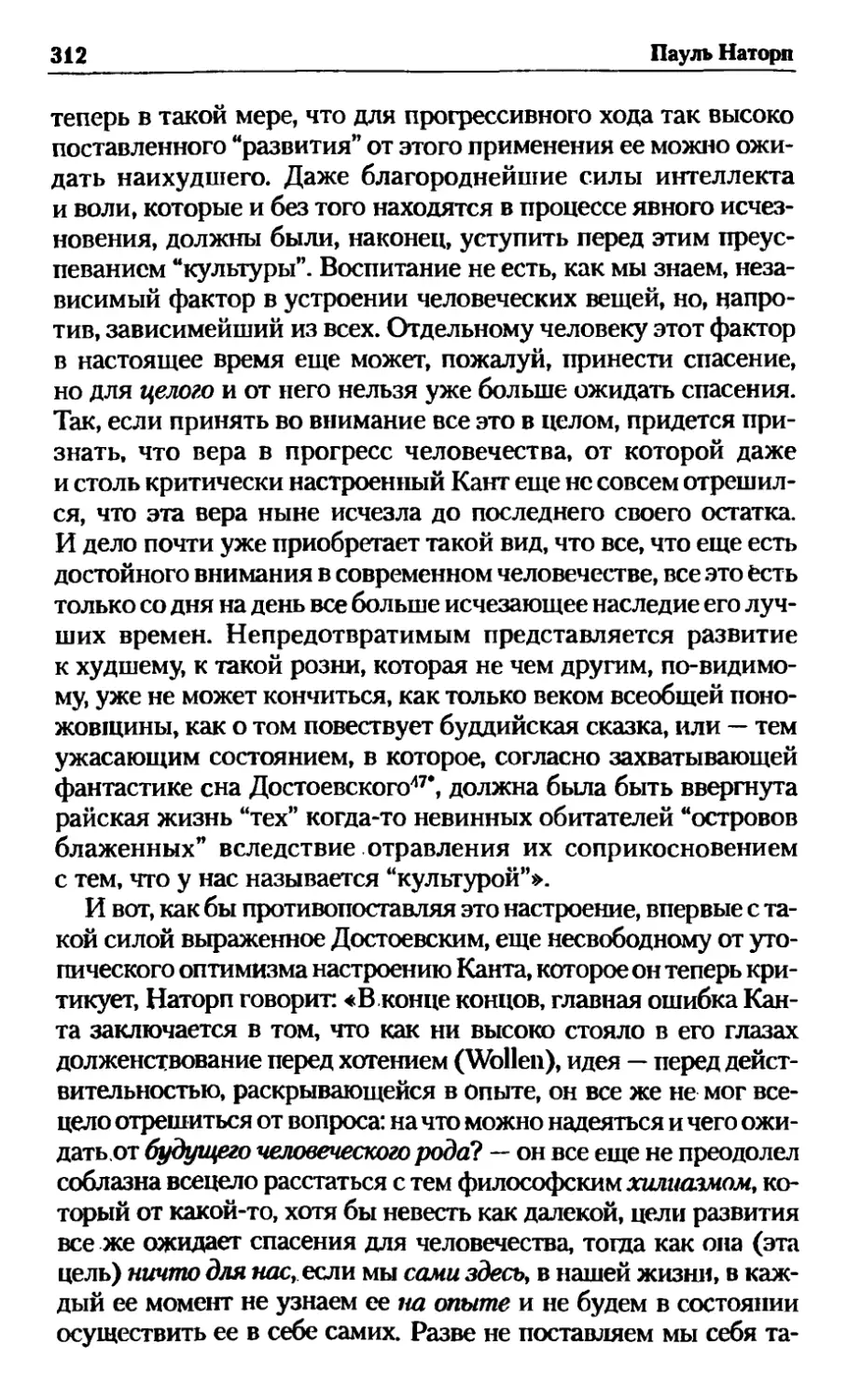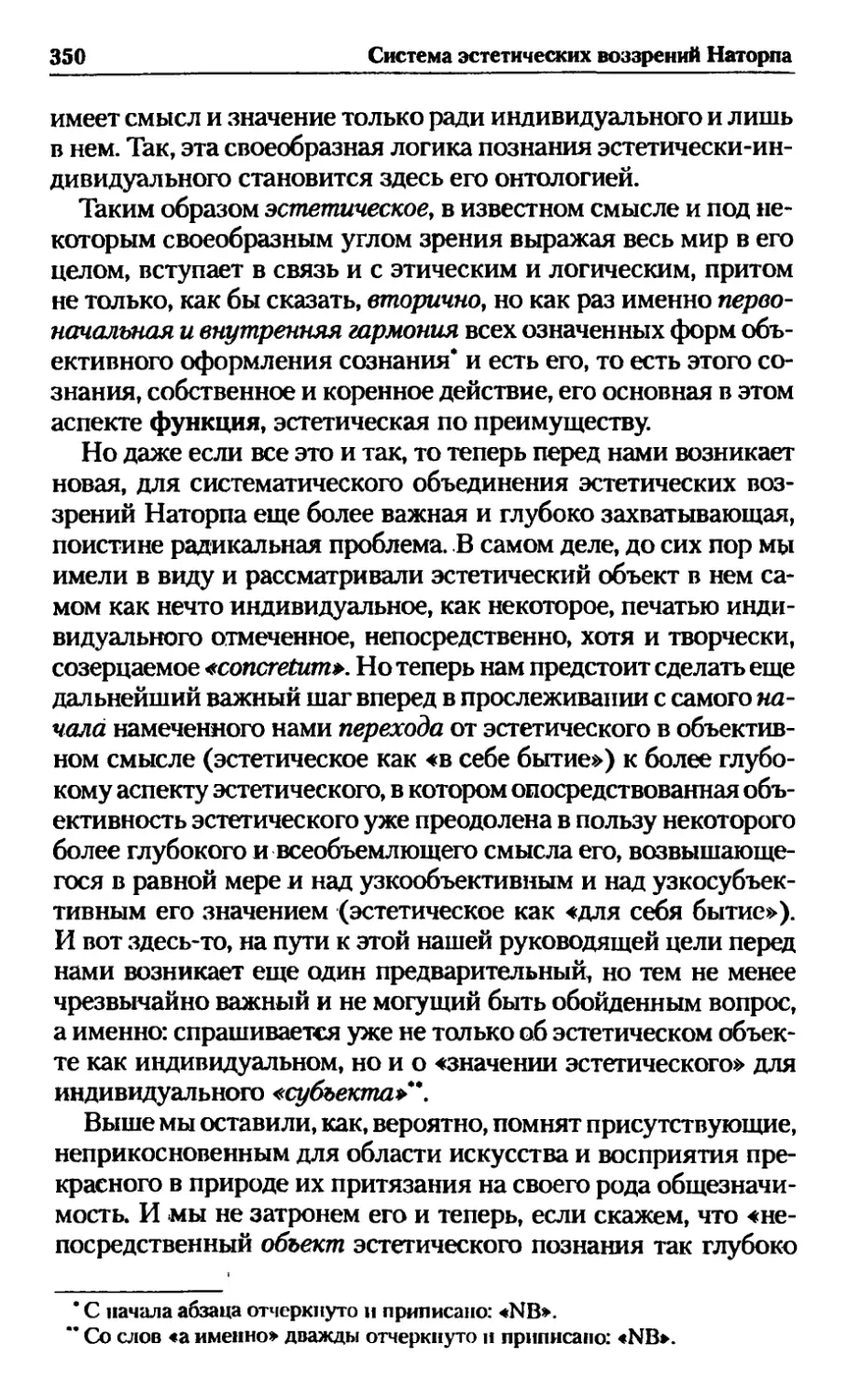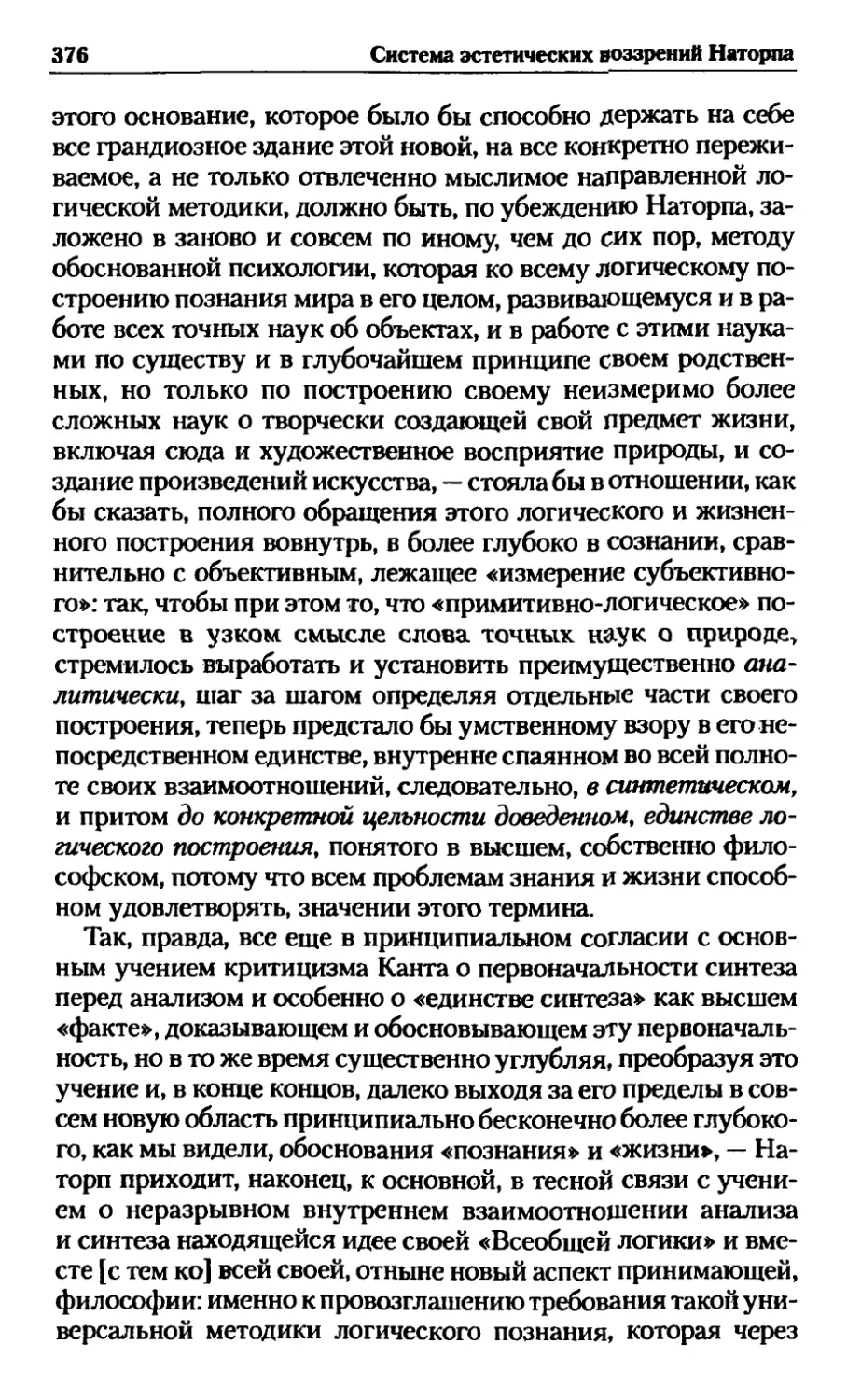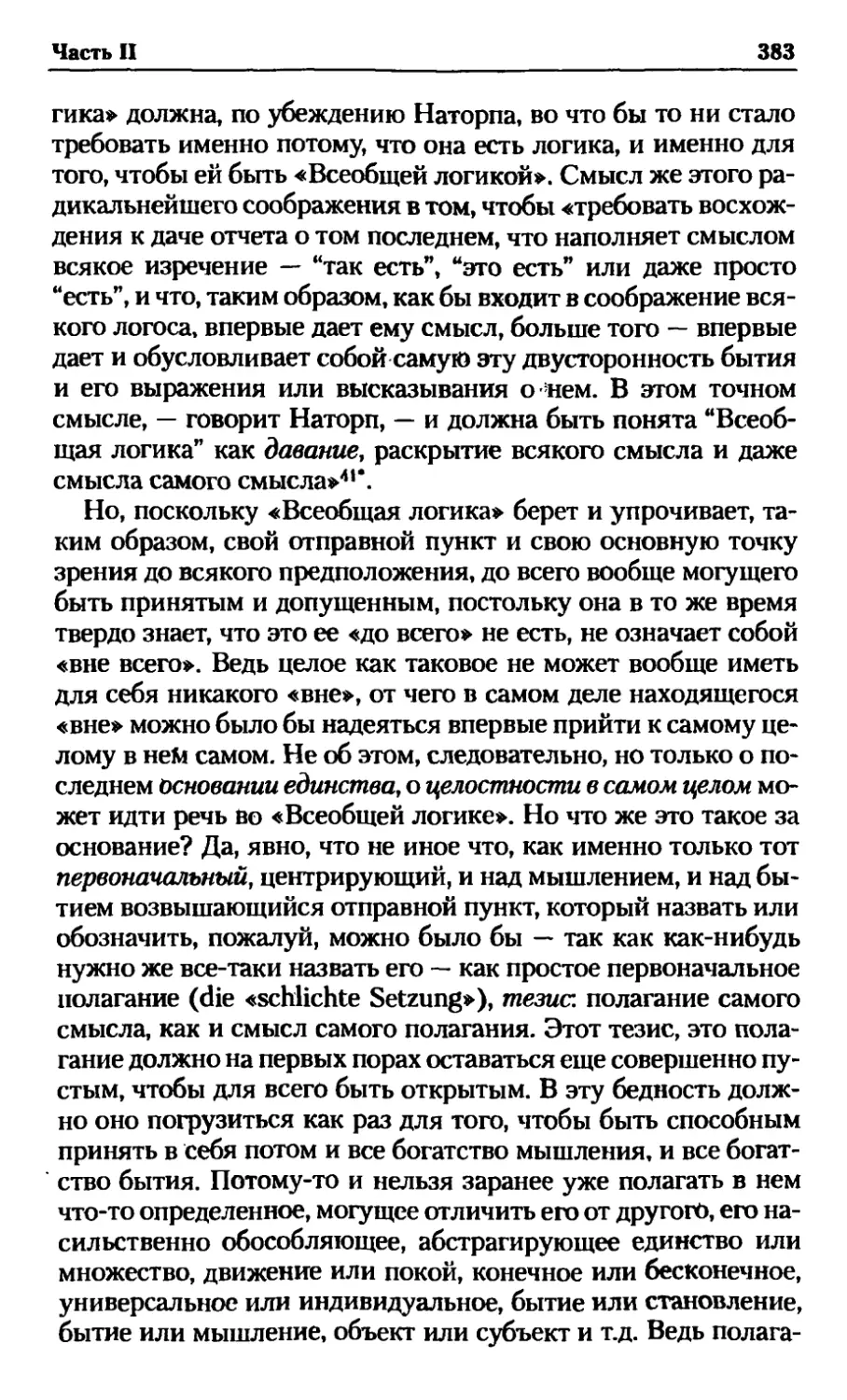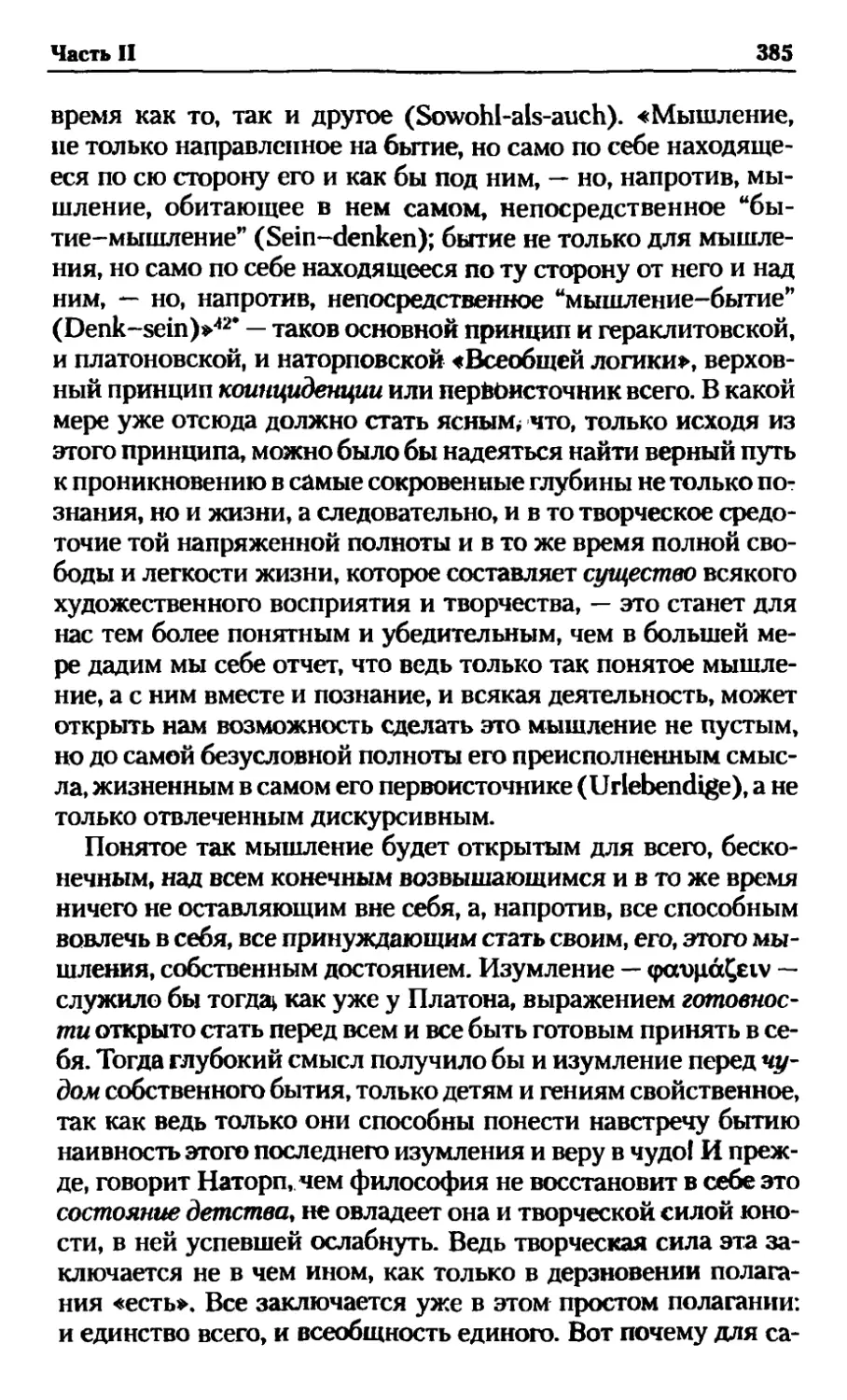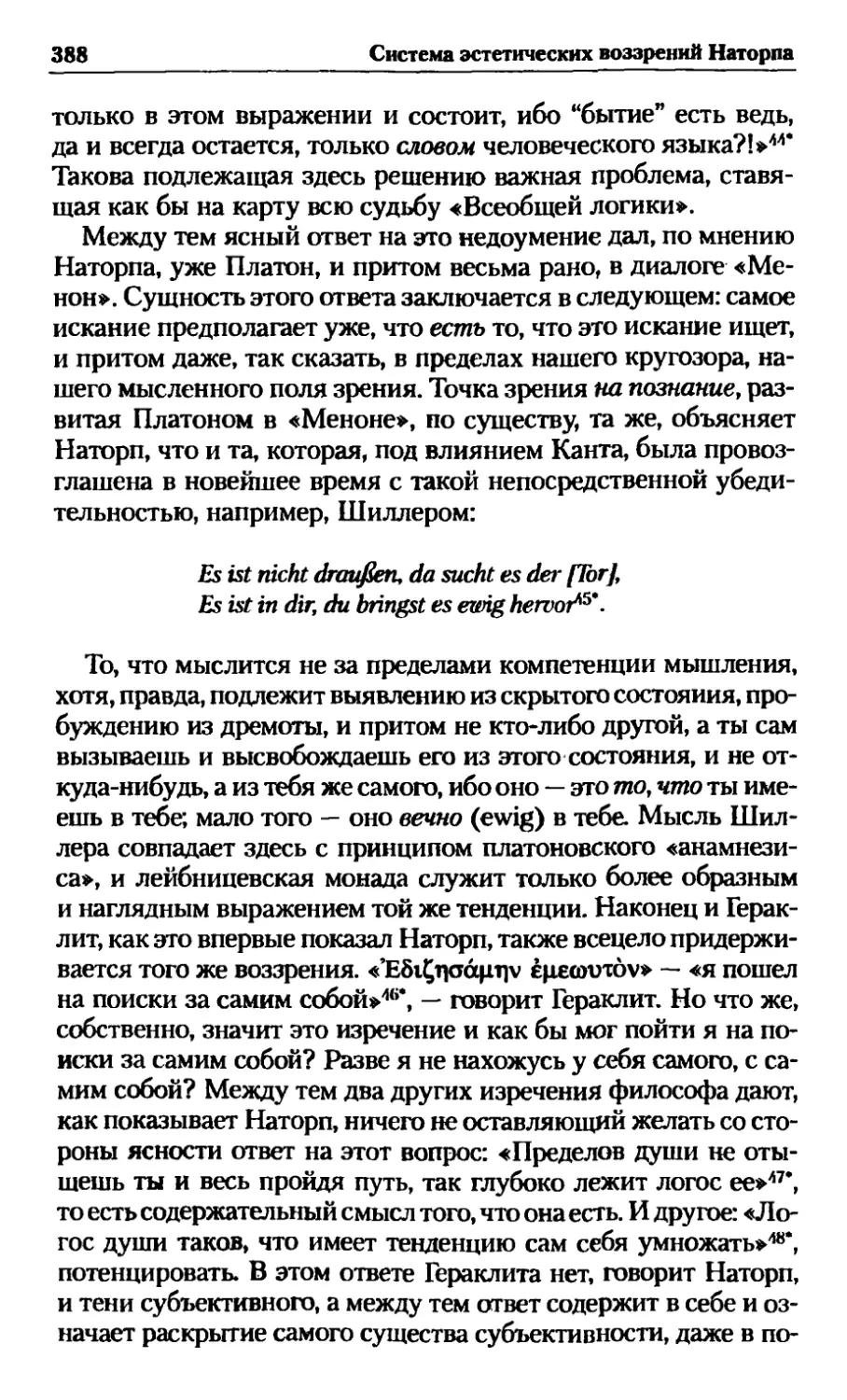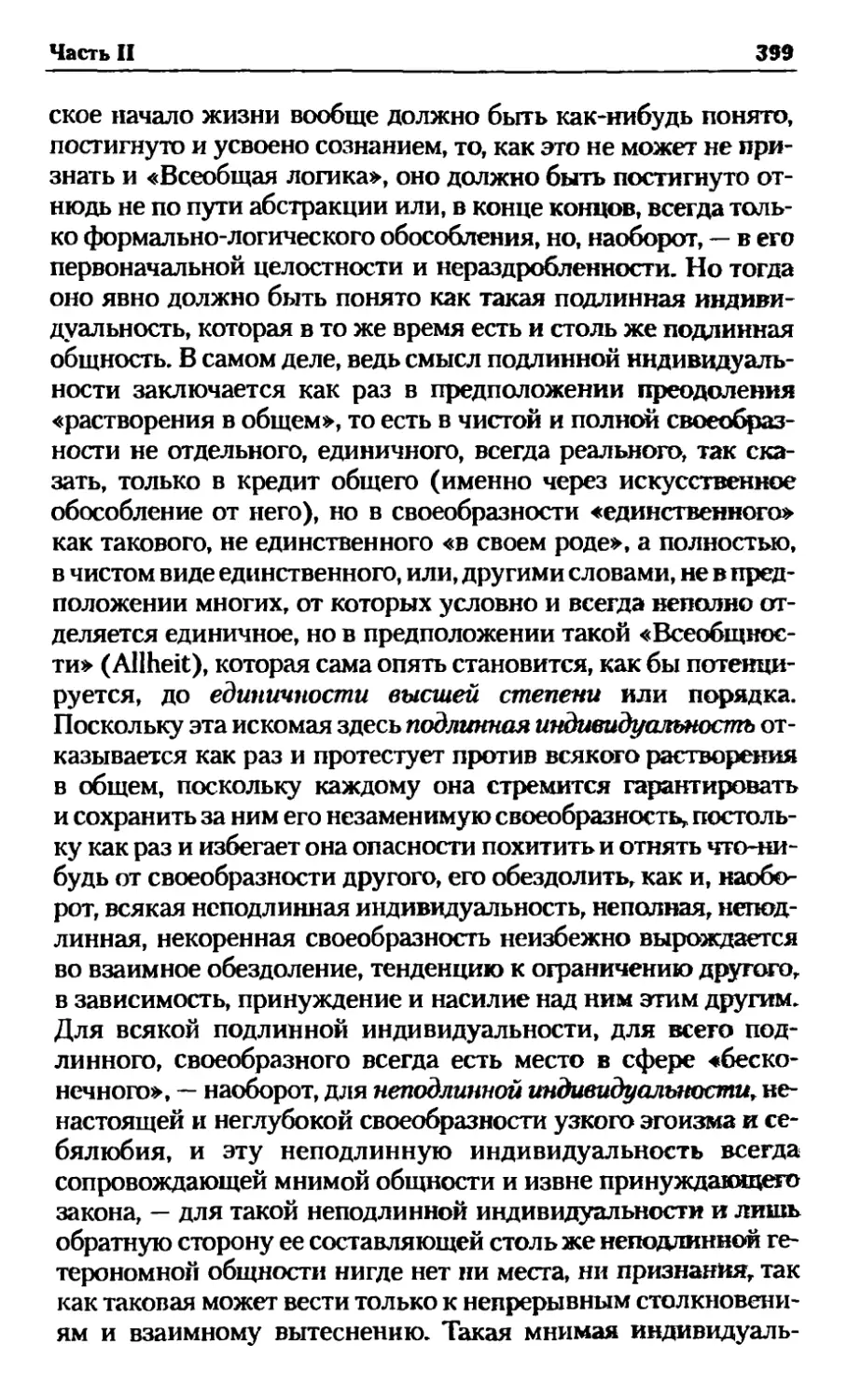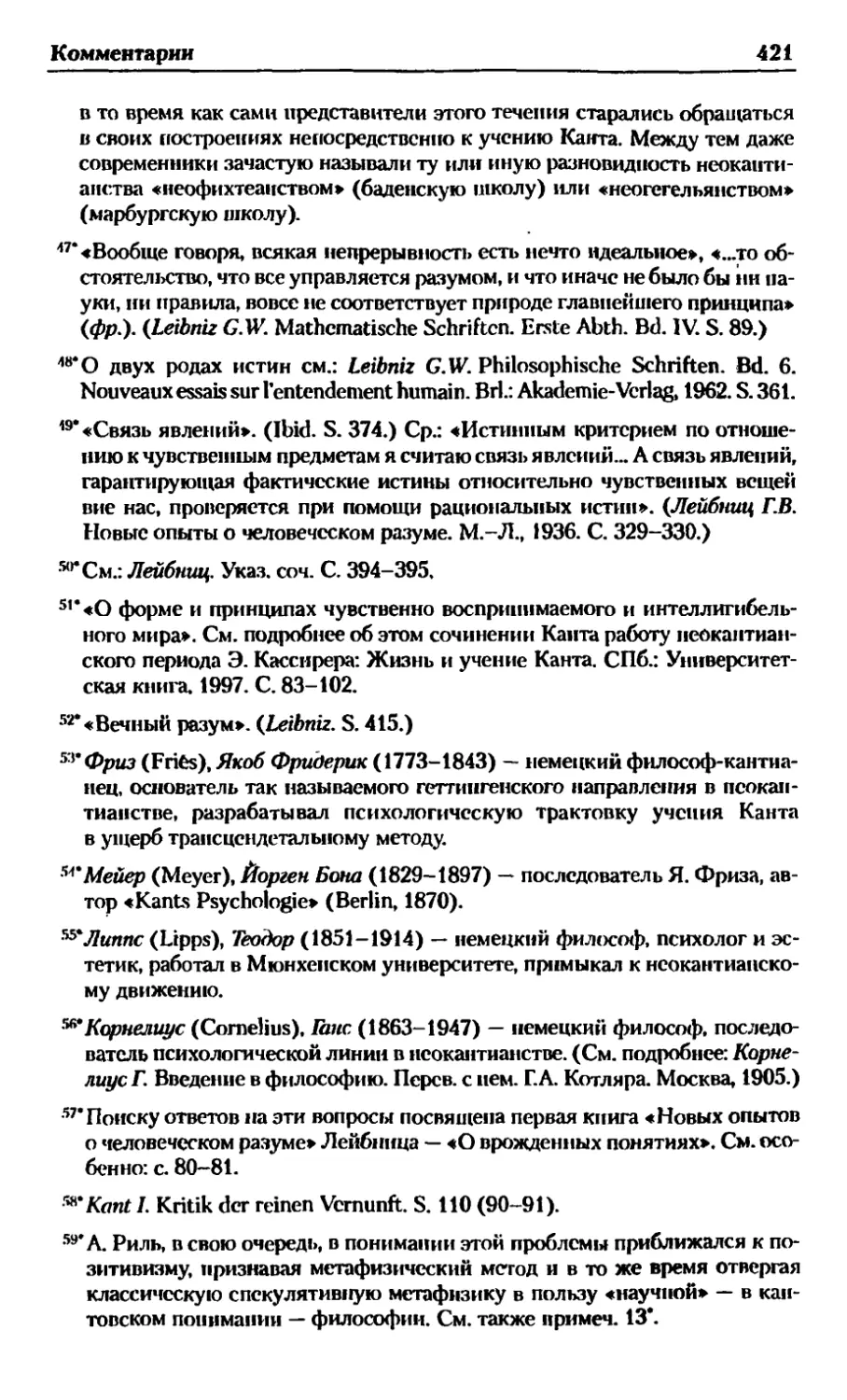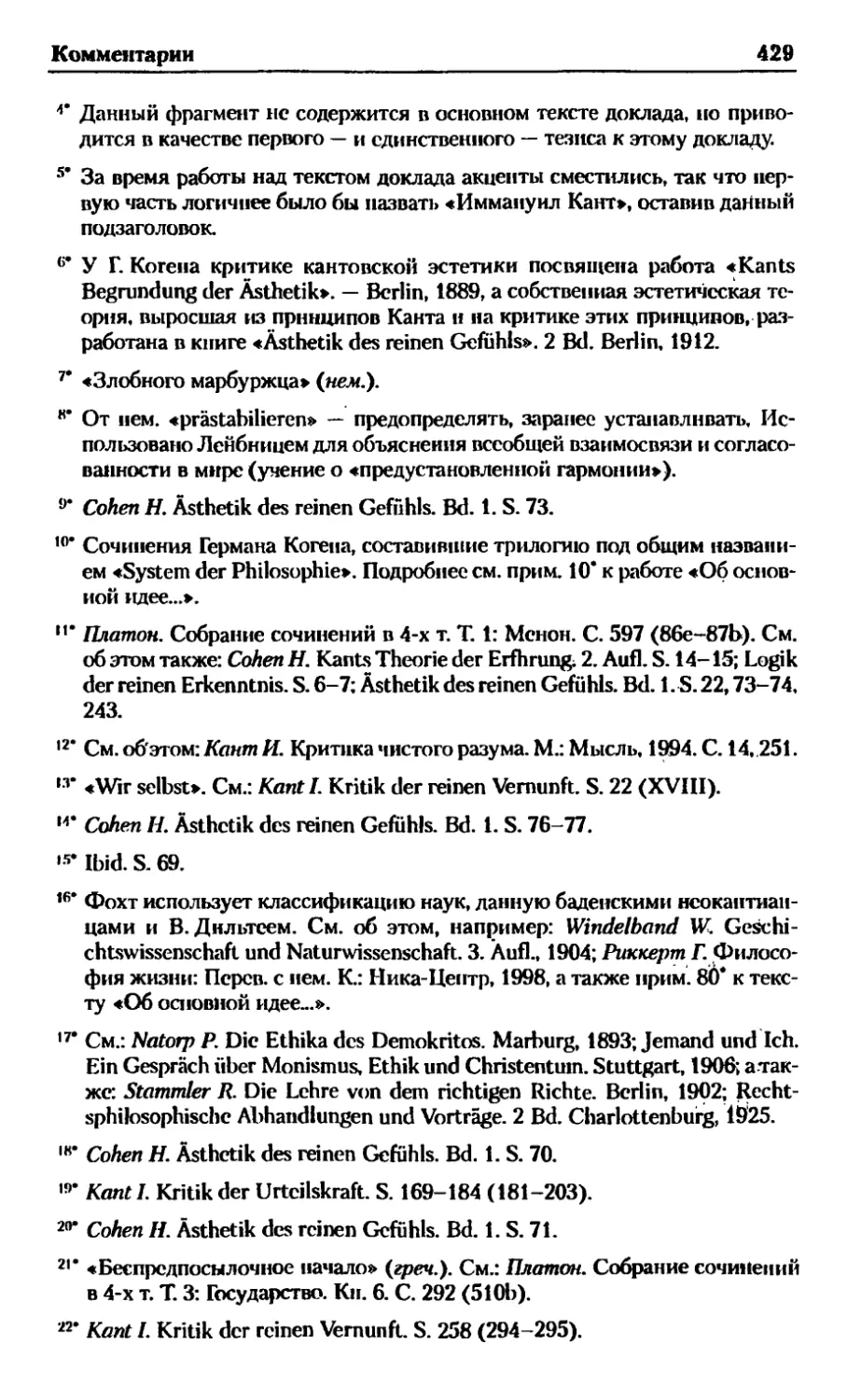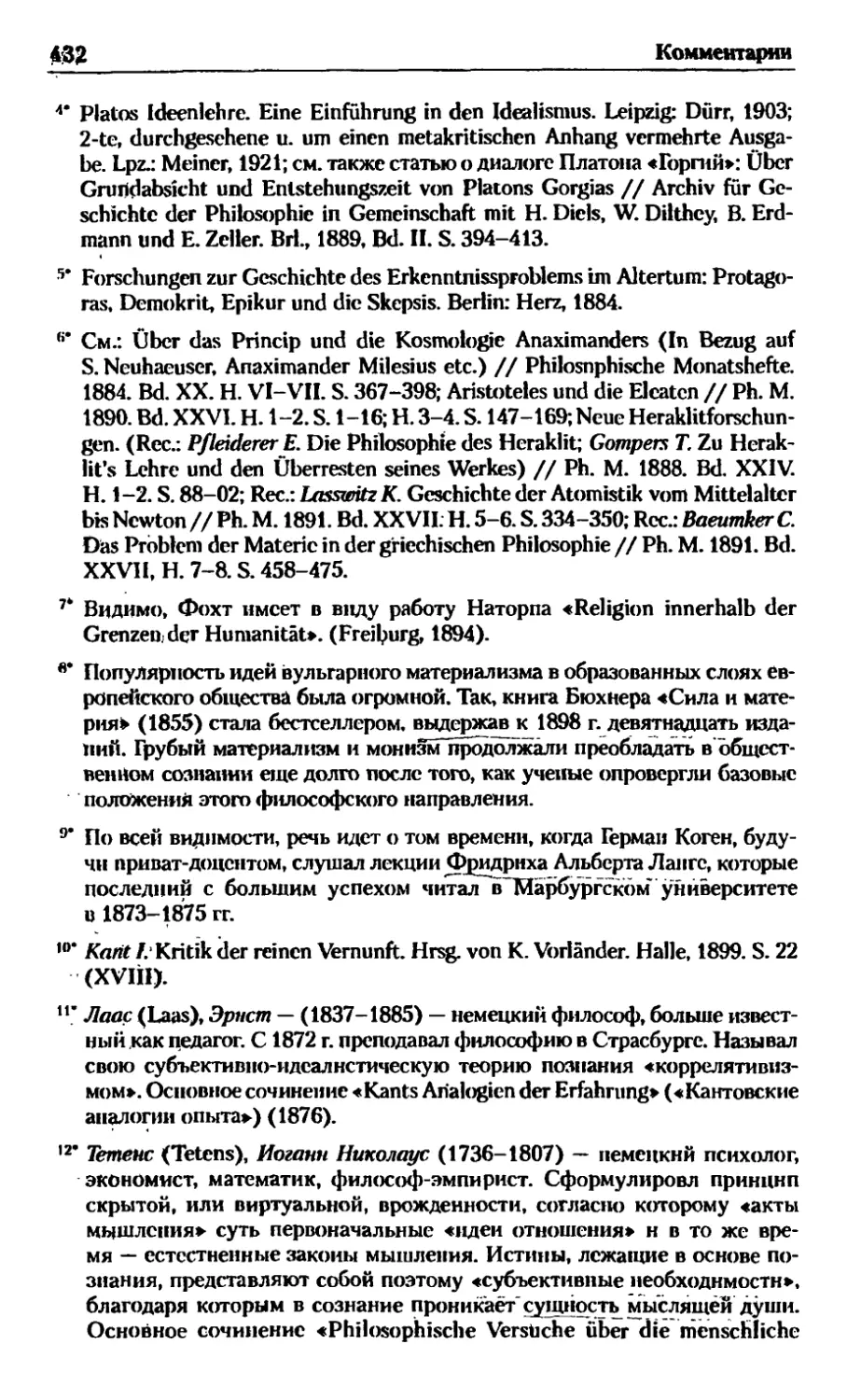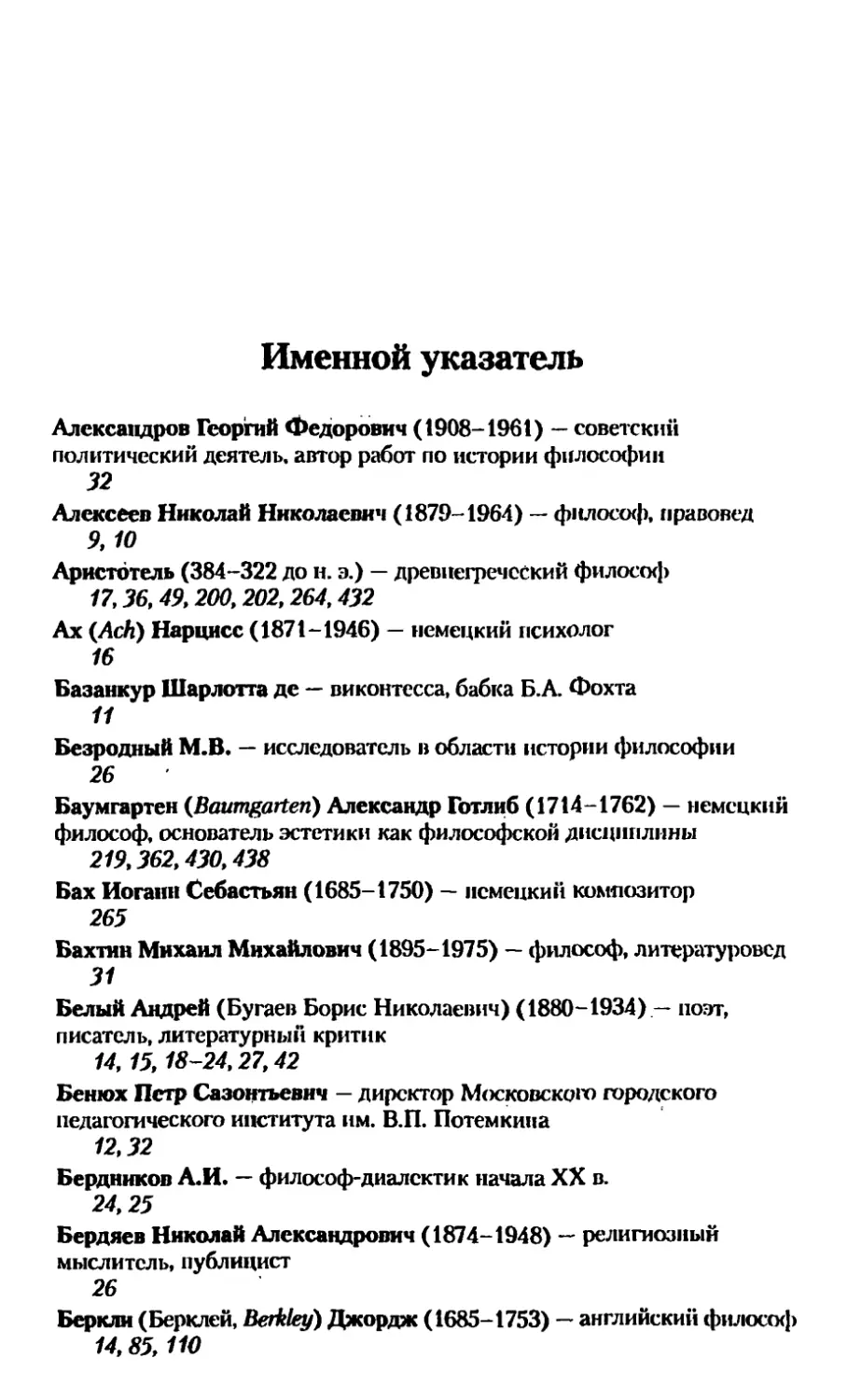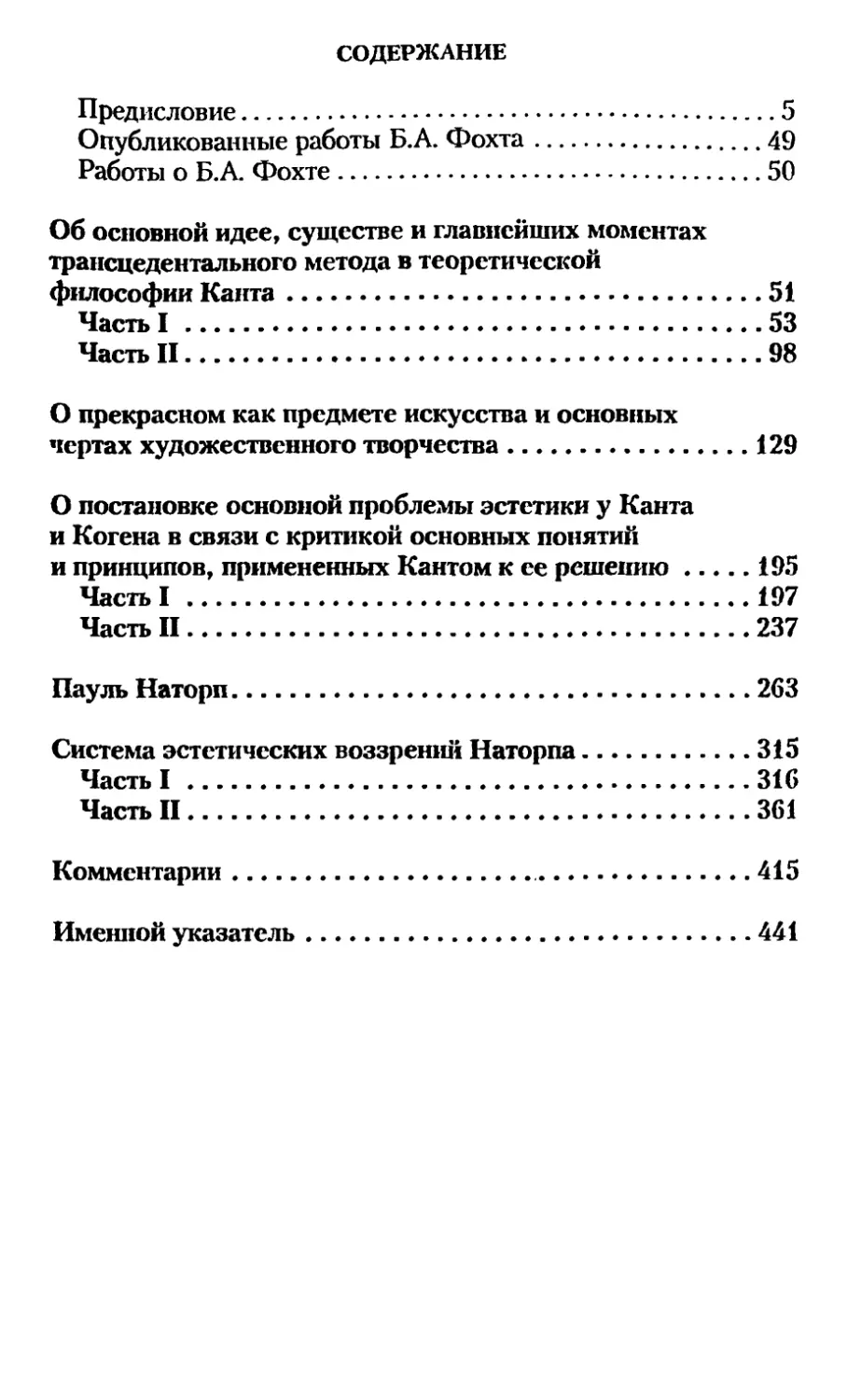Текст
Б.А. ΦΟΧΤ
ИЗБРАННОЕ
(из философского наследия)
Прогресс-Традиция
Москва
Фохт Б.А.
Избранное (из философского наследия). — М.:
Прогресс-Традиция, 2003. - 456 с.
ISBN 5-89826-153-2
Борис Александрович Фохт (1875-1946) — известный в
начале XX века, а ныне почти забытый российский
философ-неокантианец марбургской школы, переводчик философской классики,
педагог, пропагандист идей критицизма и рационализма. Его
архив насчитывает несколько десятков томов по истории
древнегреческой философии, по проблемам немецкой философии (И. Кант,
Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер), логики и эстетики.
В книге впервые публикуются произведения Б.А. Фохта 1920-
х гг., посвященные вопросам истории и теории марбургского
неокантианства.
ISBN 5-89826-153-2
© Дмитриева H.A.. публикация, предисловие,
подготовка текста, комментарии, перевод иноязыч-
, список опубликованных работ
Б.А. Фохта, список работе Б.А. Фохте. именной
указатель, 2003
€> * Прогресс-Традиция», 2003
© Орешина А.Б., оформление, 2003
Светлой памяти
Анны Аркадьевны Гаревой
посвящается
Предисловие
Есть эпохи, когда судьба и история становятся
неразличимы. Судьба творит историю, а история оборачивается личной
судьбой. И происходит это не с Наполеонами и
Александрами — вернее, не только с ними.
Речь идет о некогда утраченной странице
интеллектуальной истории России, об одном из ее авторов и вместе с тем о ее
герое.
Нельзя сказать, что имя философа, переводчика и педагога
Бориса Александровича Фохта (1875-1946) совсем не
знакомо читателю. В последние годы появились работы, в которых
освещались перипетии его неповторимой, удивительной
судьбы и делалась попытка выяснить место его научных исканий
в развитии российской философской мысли первой
половины XX века (см. библиографию). Однако то обстоятельство,
что большинство текстов философа до последнего времени
оставались неопубликованными, сделало почти невозможным
их подробное исследование и введение в научный оборот.
Что же касается вопроса о влиянии неокантианства на
становление и развитие отечественной философии и в целом на
русскую культуру, то можно утверждать: хотя в последние
годы появился ряд интересных работ, посвященных истории
создания журнала «Логос» и его редакторам —
философам-неокантианцам Ф.А. Степуну, СИ. Гессену, Б.В. Яковенко,
основное внимание по-прежнему уделяется взглядам и учениям
политически ориентированных мыслителей (настроенных
чаще всего или «ревизионистски», или откровенно
антимарксистски), а также «академических» кантианцев (А.И.
Введенского, Г.И. Челпанова, И.И. Лапшина), у которых с
неокантианцами был общий критический ракурс рассмотрения
философских проблем, ссылка на авторитет Канта и ряд его
положений, а более — ничего.
6
Предисловие
Необходимо отметить, что в результате эйфории по поводу
деидеологизации современной российской гуманитаристики
в ряде изысканий проводится мысль о советской эпохе как
о своего рода «черной дыре» в истории отечественной
философии. Существует, однако, и противоположная позиция.
Такая контроверза лишний раз подчеркивает необходимость
изучения малоизвестных произведений советской
немарксистской философской мысли. От сетований по поводу
печальной судьбы отправленных на «философском корабле»
и от возмущения сталинской политикой выжженной
философской — интеллектуальной — земли еще очень далеко до
осмысления сути происходивших процессов...
Анализ того, как на переломе двух эпох выжило и
трансформировалось научное сознание, сохранив автономию и
свободу, дает возможность по-новому — с новым критерием и на
новом основании — подойти к проблеме понимания и
толкования метаморфоз современного естественнонаучного и гума-
нитарного познания.
***
Неокантианство на своей родине, в Германии,
представляло собой идейное движение, задача которого заключалась,
с одной стороны, в пересмотре спорных, противоречивых
положений философии Канта (например, о «вещи в себе»)
в свете новейших достижений наук — как естествознания,
так и социальной теории, с другой стороны, в
восстановлении былого влияния этого учения. Критический пафос
движения, близкий духу обновления породившей его эпохи,
обусловил широкое распространение неокантианских идей
в научной среде, а также за пределами университетов:
ревизионизм немецких социал-демократов Э. Бернштейна, К.
Каутского и К. Эйснера был, как известно, неокантианского
происхождения.
На рубеже XIX-XX веков историческая ситуация в России
определялась особым — «догоняющим» — характером
развития российской экономики и государственности, равно как
и ментальной готовностью к заимствованию. Это
способствовало проникновению в Россию лучших достижений
европейской культуры, что явилось мощным стимулом «культурного
взрыва», получившего название «серебряного века».
Предисловие
7
Сочинениями западников, славянофилов и Владимира
Соловьева в России к концу XIX века была подготовлена
идейная почва, обеспечившая восприимчивость отечественных
мыслителей к критической философии и быстрое
проникновение ее основных положений в научные концепции.
Появившись на интеллектуальной арене, неокантианство
существенно повлияло на расстановку сил в философской жизни
России начала XX века. Направленное на защиту традиций
философской классики, неокантианство в преддверии
глобального социокультурного кризиса мощно противостояло
антиклассическим тенденциям развития философской
мысли — мистицизму и иррационализму.
Надо заметить, однако, что идеи философского
критицизма с большим трудом пробивали себе дорогу к российскому
интеллектуалу. Рецепция неокантианства стала возможной во
многом благодаря широко распространившейся в 90-е гг. XIX
века и сохранявшейся вплоть до 1914 г. практике поездок
студентов и выпускников университетов за границу «с ученой
целью для усовершенствования в науках». Для большинства
российских неофитов проникновение в «хитросплетения»
кантовской мысли начиналось в Берлине. Здесь они слушали
Ф. Паульсена и Г. Зиммеля, семинары которых вдохновляли
многих на более скрупулезное и систематичное изучение
трудов Канта.
Обычно студенты не ограничивались посещением какого-
либо одного учебного заведения, а переезжали из города в
город от семестра к семестру, пытаясь найти философа, система
которого наиболее отвечала бы их интеллектуальным
запросам. Объясняется это тем, что «научные силы Германии были
рассеяны по всей стране и каждый университет имел свою
местную знаменитость, которой гордился не только он, но и
город, в котором находился университет. Да и сами
знаменитости дорожили возможностью жить и работать в своем городе
и любили то, что немцы называют «гемютлихкейт»*...
Философские звезды сияли, кажется, во всех немецких
университетах: в Берлине — Фридрих Паулъсен, в Галле — Алоиз Риль,
в Марбурге — Герман Коген, в Страсбурге — Вильгельм Вин-
дел ьбанд, в Гейдельберге — старый Куно Фишер...»1.
* Уют (нем.).
1 Зсизииов ВМ, Пережитое. Нью-Йорк: Изд-»о им. Чехова, 1953. С. 82.
8
Предисловие
На этом этапе происходило разделение интеллектуальных
предпочтений: выбирая себе наставника среди наиболее
авторитетных в этой области мыслителей — основателей
неокантианских школ, кто-то становился приверженцем баденской
(фрейбургской, гейдельбергской) школы, кто-то — марбург-
ской. Оба направления — и баденское, и марбургское — были
весьма популярны и имели множество последователей в
самых разных странах мира, в том числе и в России.
В чем, например, заключалось очарование баденского
неокантианского учения для молодой российской интеллигенции?
По-видимому, в том, что «идеи этого направления родственны
философии Соловьева и, во всяком случае, совпадают в
существенных моментах в истолковании критической философии Канта»2.
Действительно, споры, которые в начале XX века велись в
России вокруг проблемы соотношения знания и веры, философии
и религии, а также заострившиеся в переходную эпоху вопросы
культуры, творчества и жизни вовлекали молодые умы в
философские штудии баденцев, уделявших этим темам
преимущественное внимание. Соблазн «духовно срастить русскую культуру
с западной и подвести под интуицию и откровение русского
творчества солидный, профессионально-технический фундамент»·*
был, безусловно, велик. Среди российских учеников баденасих
неокантианцев можно назвать имена таких звезд
отечественного научного, политического и литературного Олимпа, как
Б.А. Кистяковский, Ф.А. Степун, H.H. Бубнов, СИ. Гессен,
Б.В. Яковенко, Б.П. Вышеславцев, И.А. Ильин, И.И. Фондамин-
ский (Бунаков), А.Р. Гоц, В.М. Зензинов, А.О. Гавронская (в
замужестве Фондаминская), АЛ. Саккетти, О.Э. Мандельштам...
Между тем мистические идеи, густо роившиеся в российском
гуманитарном пространстве, оказывали разъедающее воздействие.
В ситуации социального кризиса и депрессии они привели
большинство бывших своих противников на позиции религиозной
метафизики. Многие российские мыслители, в прошлом
студенты Гейдельбергского или Фрейбургского университетов, после
революции оказались в эмиграции. Там произошло их идейное
сближение с мистико-религиозными концепциями «неославяно-
2 Савальский В. Введение в философию права // Критическое
обозрение. 1907. Вып. 5. С. И.
Λ Степун ΦΛ. Бывшее и несбывшееся. 2-е изд., испр. СПб.: Алетейя, 2000.
С. 219.
Предисловие
9
филов» — сближение, ставшее возможным в условиях
эмоциональной отчужденности и духовного одиночества перед лицом
их общего врага — марксизма.
В то же время построенная на принципах и методах точных
наук теория познания — центральное звено в философской
системе марбургских неокантианцев — была особенно
привлекательна для жаждущих фундаментального, систематического
и методологически обоснованного знания. «Строгий историко-
критический и филологический метод»4, доказывающий
момент наследования марбургскими мыслителями классической
философской традиции, а также «единство тенденции,
выдержанность аргументов, ясность принципов, определенность
защищаемого учения, большая школьная дисциплина»5 сыграли
важнейшую роль в формировании у российского
интеллектуала эпохи fin de siede' целостного представления о
рационалистической философии новейшего времени. Нужда в адекватных
современному уровню развития науки принципах и методах
особенно остро стала ощущаться на рубеже веков: естественные
науки шли вперед семимильными шагами, и необходима была
гибкая методология, развитая философская система, чтобы
объяснить не только шквал естественнонаучных открытий, но и сам
этот набирающий темп научный прогресс. Тем более
закономерным выглядит обращение к марбургскому неокантианству
исследователей, уже получивших образование в области
естественных наук, например Б.В. Яковенко и Б.А. Фохта.
Марбургский университет можно по праву назвать
философской Меккой российского студенчества начала XX века.
H.A. Гартман, М.И. Каган, Г.О. Гордон, В.Э. Сеземан, Б.Л.
Пастернак, Е.И. Боричевский, В.А. Савальский, Д.О. Гаврон-
ский, Б.В. Яковенко, Б.П. Вышеславцев6, H.H. Алексеев,
"ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 82. Ед. хр. 423. Л. 29. Прошение о заграничной
командировке Б. Фохта.
5Яковенко Б.В. О современном состоянии немецкой философии. Обзор //
Логос. Кн. 1. М.: «Мусагет», 1910. С. 258.
* Конец века (φρ.).
fi Яковенко и Вышеславцев учились в обоих неокантианских центрах.
На Яковенко большее влияние оказала марбургская школа, Вышеславцев
же явно тяготел к баденскому неокантианству, хотя диссертацию «Этика
Фихте. Основы права и нравственности в системе трансцендентальной
философии» (М: Московский Имп. ун-т, 1914) привез именно из Мар-
бурга.
10
Предисловие
С.Л. Рубинштейн, A.B. Вейдеман... — все они, ученики Когена
и Наторпа, составили впоследствии блестящую плеяду
творцов науки и искусства XX века.
С первых же дней своей истории в России неокантианство
оказалось между молотом и наковальней «левых»
(большевиков) и «правых» (неославянофилов). Кроме того, «сверху»
давление на молодых адептов нового западного
философского движения оказывали маститые профессора столичных
университетов, которые, чувствуя реальную угрозу
собственным — доморощенным и зачастую мертворожденным —
учениям и, как следствие, авторитету, предпринимали любые
меры против распространения неокантианских идей в
академической среде. К тому же наднациональному, в сущности,
течению приходилось пробивать себе дорогу в условиях все
более накалявшейся борьбы между германофилами и
германофобами, достигшей апогея в период Первой мировой войны,
когда слабеющий голос защитников неокантианства накрыло
газетной «канонадой» отечественных «патриотов». Все это не
могло не повлиять на характер восприятия этого учения и на
судьбы ученых, разделявших его принципы.
Между тем показателем того, что позиции
рационалистической философии в России постепенно укреплялись, стало
не только создание в 1910 г. журнала «Логос», но и
возникновение в 1911-1914 гг. новых философских (в отличие от
религиозных) обществ. Их основателями чаще всего были
выходцы из неокантианских школ. Так, председателем Санкт-
Петербургского философского собрания, учрежденного
в 1911(?) г., стал A.B. Вейдеман7, а с 1914 г. — В.Э. Сеземан;
Московское общество по изучению научно-философских
вопросов было основано в январе 1914 г. во главе с H.H.
Алексеевым8. С той же целью — пропаганды идей рационализма —
Б.А. Фохтом было предпринято издание научной серии
7 Вейдеман Александр Викторович (1879 — после 1939) —
философ-неокантианец. Автор сочинения «Предает познания: Основная часть
(Мышление и бытие); Дополнительная часть (Мир как понятие)». (Riga, 1937).
О нем сохранились отрывочные сведения. Г.О. Гордон называет его в
письме к Б.А. Фохту от 12.01.1907 г. в числе марбургскнх неокантианцев,
пропагандирующих в Петербурге философские идеи этой научной школы.
(Личный архив A.A. Гаревой.)
8 См.: Якооепко БВ. Мощь философии. СПб.: Наука, 2000. С. 722, 950
(комм.).
Предисловие
11
«КапЫапаъ, задуманной как руководство к изучению
философии Канта.
Доказательством широкой популярности идей
неокантианства в России может служить тот факт, что в газете «Русские
ведомости» (№ 151) от 1 июля (ст. ст.) 1912 г. была опубли-
кована большая статья Б.В. Яковенко, посвященная 70-летию
Германа Когена.
Неокантианство в России, как это ни парадоксально,
надолго пережило породившую его эпоху — эпоху порубежную,
предреволюционную — и сыграло исключительную по своей
значимости роль в истории советской философии.
***
«Лидером и пионером»9, открывшим для России традицию
марбургского неокантианства и воплотившим своей
уникальной жизнью в науке судьбы этой философской школы, был
Борис Александрович Фохт.
Б.А. Фохт родился в Москве 10 (23) марта 1875 года в
семье известного профессора медицины Императорского
Московского университета Александра Богдановича Фохта и
Марии Николаевны, урожденной Дубенской.
Фохты происходили от курляндских немцев10: прапрадед
Бориса Александровича был лютеранским пастором в Мит-
таве. Его внук — Готлиб Фохт — окончил Дерптский
университет и в течение сорока лет преподавал немецкий язык и,
по некоторым сведениям, географию в Коммерческом
училище и на Высших женских курсах в Москве, был женат на
виконтессе Шарлотте де Базанкур — французской
эмигрантке, красавице, в силу обстоятельств работавшей
белошвейкой: она шила из полотна заказчика белье носильное и
постельное. Здесь же, в Москве, он перешел в православие
(с именем Богдан), возможно, для получения очередного
чина — чина коллежского асессора, что давало право на
персональное дворянство (до этого Фохты были приписаны к
мещанскому сословию как дети и внуки пастора). Его двоюрод-
9 Из письма Г.О. Гордона Б.А. Фохту. Марбург, 12 января 1907 г. Личный
архив A.A. Гаревой.
10 По воспоминаниям A.A. Вульферта, племянника Б.А. Фохта. Записано
с его слов публикатором.
12
Предисловие
ный брат штабс-капитан Фохт был декабристом и
подвергся ссылке11.
Мария Николаевна Дубенская, мать Бориса
Александровича, происходила из русской дворянской семьи, владевшей
поместьем Жолчино в Рязанской губернии.
В 1885 г. Борис Фохт поступил и в 1894 г. окончил 1-ю
Московскую классическую гимназию12, которая была знаменита
углубленным изучением древних языков. Подобно многим
одаренным детям, в гимназии он не отливался блестящей
успеваемостью и прилежанием: единственной пятеркой в его
аттестате зрелости была отметка по немецкому13.
Для продолжения образования Фохт выбрал отделение
естественных наук физико-математического факультета
Московского университета, которое окончил в 1899 г. с дипломом
первой степени. На первых двух курсах он занимался
«преимущественно неорганической химией в лабораториях проф.
А.П. Сабатьева и проф. Н.Д. Зелинского»14. Однако уже тогда
появился у студента-естественника Бориса Фохта интерес
к философии: в продолжение этих двух лет он слушал лекции
также и на историко-филологическом факультете по истории
философии и психологии и принимал участие в практических
занятиях по этим предметам под руководством проф. Н.Я.
Грота и проф. Л.М. Лопатина.
Весной 1896 г. Фохт испросил через ректора университета
разрешение на получение заграничного паспорта, чтобы
«вследствие расстроенного здоровья уехать для лечения за
границу, в Швейцарию и Германию, на время от 20-го Апреля по
15-ое Августа»15. Побывал ли он в горах Швейцарии —
неизвестно, но документально установлено, что летние месяцы 1896 г.
Борис Фохт провел в Гейдельберге, изучая немецкий язык
и слушая лекции по истории философии у Куно Фишера16...
11 Из письма Б.А. Фохта П.С. Бснюху (Москва, 5. 11. 1942.). (Из личного
архива A.A. Гаревой.)
12ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 76. Ед. хр. 711. Дело Историко-филологической
испытательной комиссии о Борисе Фохте. Л. 6.
13 Там же. Оп. 313. Ед. хр. 754. Дело канцелярии инспектора студентов
Императорского Московского университета о принятии в студенты Фохта
Бориса Александровича. Л. 43. Аттестат зрелости.
11 Там же. Ол. 76. Ед. хр. 711. Л. 6.
■*Там же. Оп. 313. Ед. хр. 754. Л. 35.
16 Там же. Оп. 76. Ед. хр. 711. Л. 6.
Предисловие
13
В 1899 г Фохт поступает на историко-филологический
факультет Московского университета, где в те годы преподавал
Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905) — первый
выборный ректор Московского университета, блестящий
специалист по истории древней философии, литературы и религии,
серьезно повлиявший на формирование научных взглядов
Б.А. Фохта. Для своих студентов он был эталоном
энциклопедической образованности, эрудированности, научной
принципиальности, гражданской честности и порядочности17.
Н.В. Давыдов рассказывал, что «при Сергее Николаевиче во
все время его преподавательской деятельности в
университете составлялся кружок более других интересующихся
философией слушателей, его непосредственных учеников, с
которыми он занимался раз или два в неделю у себя на дому. Из них
помню Поливанова, Фохта, Кубицкого, Эрна и других»]Н.
Фохт был также одним из активнейших участников
Историко-филологического общества, основанного С.Н. Трубецким
при Московском университете в 1902 г.
Что касается других академических «зубров», то некоторые
. из них сыграли, скорее всего, роль «контрпримера» в
формировании научной позиции молодого человека. Так, другой
наставник Бориса Фохта — Л.М. Лопатин, председатель
Московского психологического общества, редактор журнала «Вопросы
философии и психологии», по отзыву E.H. Трубецкого,
«остался совершенно вне всякого влияния философской мысли
Канта... В XIX и XX столетии он сохранил почти в полной
неприкосновенности философский стиль эпохи Лейбница.
Проникнувшись отвращением к современной философии, он потерял
к ней всякий интерес и слишком рано перестал за ней следить:
все в ней казалось ему "темным", "не ясным, не понятным"»1·9.
Поэтому на Запад ехали не просто за «мудростью» — прежде
всего, ехали к новым научным достижениям, ехали в поисках
новых философских систем и продуктивных методологий. После
х1Фохт Б А. Памяти князя С.Н. Трубецкого. Речь, произнесенная в
заседании Моск. психол. о-ва 7 октября 1905 г. // Вопросы философии и
психологии. М, 1906, >к 81 (1), янв. - февр. С. 130-139.
18Давыдов И.В. Из прошлого. Князь С.Н. Трубецкой // Голос
минувшего. 1917. № 1. С. 17.
t9Tpy6etçcou E.H. Воспоминания. — София: Российско-болгарское кн-по,
1921. С. 185-186.
14
Предисловие
посещения в 1896 г. (и, возможно, в 1897 г.20) в Гейдельберге Ку-
но Фишера, летом 1899 г. непосредственно перед поступлением
на историко-филологический факультет Московского
университета Фохт поехал во Фрейбург к Генриху Риккерту21, где слушал
его лекции по логике и теории познания, а также классическую
филологию у Калбфлейша22. Видимо, там же в Германии от
Генриха Риккерта и Куно Фишера Фохт «заразился» интересом
к Канту. Уже в 1902 г. Фохт слыл «кантианцем»2·4...
В самом деле, наряду с интересом к древнегреческой
философии, инспирированным С.Н. Трубецким, студент Фохт
уделял значительное внимание проблемам критической
философии. Так, в течение первых двух семестров (1899/1900) им
были написаны «для семинария по истории древней философии
у проф. С.Н. Трубецкого следующие работы: 1) "О семи
сократических диалогах Платона"; 2) О платоновом диалоге "Теэтет";
3) О платоновом диалоге "Федр". Затем для семинара по
истории новой философии рефераты: 1) О постановке проблемы
"Критики чистого разума" Канта; 2) О происхождении и
характере критической философии; 3) Учение Канта о пространстве
и времени; 4) Обоснование у Канта трансцендентального
идеализма и его отличие от идеализма Берклея». В третьем и
четвертом семестре (1900/1901) Фохт написал «для семинария по
истории древней философии рефераты: 1) "Отношение учение
Сократа к Платоновой теории идей и учению Платона о
мировом духе"; 2) "Общий очерк философии Платона". Далее для
семинария по истории новой философии: 1) "О переходе от
трансцендентальной эстетики Канта к его аналитике", 2) "О
дедукции категорий у Канта"... Кроме того, для зачета 6-ти
семестров [в 1902 г.]... было написано также курсовое сочинение на
тему "Об априорных принципах в теории познания Канта",
поданное проф. Л.М. Лопатину»2"1. Л.М. Лопатин в представлении
20 В архиве сохранилось разрешение Б. А. Фохту на выезд за границу в 1897 г.
на летнее время. (ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 313. Ед. хр. 754. Л. 26.)
21 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 76. Ед. хр. 711. Л. 6.
22 ВашестовА.Г. Жизнь и труды Б. А. Фохта // Историко-философский
ежегодника. М.: Наука, 1991. С. 224.
23 Белый Л. Начало века. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 2. М.: Художественная
литература, 1990. С. 39.
21 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 76. Ед. хр. 711. Л. 6 об. Пятый и шестой семестр Фохт
посвятил изучению всемирной истории, а с седьмого по десятый семестр
занимался русской историей.
Предисловие
15
факультету ходатайства об оставлении Фохта по кафедре
философии упоминает еще и другие работы, «которые все были
составлены с глубоким знанием источников и литературы и
отличались ясностью и изяществом изложения: ...о докритичес-
ких сочинениях Канта, ...об идеях разума у Канта, о толковании
Г. Когеном учения Канта о свободе, о проблеме этики у Канта,
о философии Лотце, об экспериментальной психологии и ее
методах, об умопостигаемом характере у Канта и Шопенгауэра»2-''.
Можно предположить, что в годы учебы на
историко-филологическом факультете Фохт продолжал свои посещения
Германии, но ездил уже не к Риккерту, а к Герману Когену, в Мар-
бург. По свидетельству Андрея Белого, к моменту окончания
историко-филологического факультета Московского
университета в 1904 г. Б.А. Фохт был не просто убежденным когени-
анцем, но и лидером этого движения в России26.
Фохт окончил курс с дипломом второй степени27 (дипломная
работа: «Учение Канта об априорности пространства и
времени»28) и был оставлен по кафедре философии для
«приготовления к профессорскому званию»29 без содержания30. Об
оставлении Фохта ходатайствовали Л.М. Лопатин и С.Н. Трубецкой31.
В эти же годы у Б.А. Фохта произошли изменения в
личной жизни. В 1901 г. он женился на Раисе Марковне Меерсон-
Сударской32, известной в Москве пианистке.
25 ЦИАМ. Ф. 418. Он. 82. Ед. хр. 423. Л. 10.
26 Белый А. Начало века. С. 384-385.
27ЦИАМ. Ф. 418. On. 76. Ед. хр. 711. Л. 20.
28Личный архив A.A. Гаревой. Сохранилось другое название этой работы:
«Об априорных принципах в теории познания Канта». (ЦИАМ. Ф. 418.
Оп. 76. Ед. хр. 711. Л. 18.) Работа в архивах не обнаружена. Сразу после
окончания университета Фохт забрал ее для продолжения занятий.
И впоследствии, видимо, она была утрачена.
29 Вопрос об оставлении Фохта при университете был решен
положительно отчасти благодаря наличию у него диплома первой степени по
естественному отделению физико-математического факультета. (ЦИАМ.
Ф. 418. Оп. 82. Ед. хр. 423. Л. 2.) Соискателю с дипломом второй
степени могли в оставлении отказать.
30 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 82. Ед. хр. 423. Л. 2,7. Срок оставления (обычный - на
2 года) был продлен до 30 ноября 1908 г. по причине тяжелой болезни
(Там же. Л. 44, 46).
31 Там же. Л. 10, 11.
Л2Там же. Оп. 313. Ед. хр. 754. Л. 12-16, 18. Раиса Марковна Месрсои
(20.12.1869 — ?). Первым браком была замужем за Сударским. По всей
видимости, сын Всеволод, родившийся в 1895 г., — приемный сын Б.А. Фохта.
16
Предисловие
В 1906/1907 и 1907/1908 гг. он получил командировку за
границу «на собственный счет» «с ученою целью для
усовершенствования в науках».
Местом пребывания был избран Марбургский университет.
В прошении о заграничной командировке Фохт указывал, что
«Марбургский университет избирается мною... на следующих
основаниях: 1) В настоящее время почти ни в одном из
Университетов Германии древняя философия не изучается с такой не
только философской, но, что особенно важно,
^филологической основательностью, как именно в Марбургском
университете. 2) Профессора Марбургского университета Герман Коген
и Павел Наторп оба, в одинаковой мере, являются
специалистами как в древней, так и в новой и, особенно, в новейшей
философии, и оба придерживаются в изучении произведений
философской литературы того строгого историко-критического
и филологического метода, который уже с 30-х годов
истекшего столетия получил особенно широкое развитие и особенно
плодотворно проявился в области древней философии — в
трудах Брандиса, Целлера и Германа Боница, и в области новой
философии (в так называемой Канто-филологии) — в трудах
Германа Когена, Г. Файгингера и Бенно Эрдмана. 3) В
наступающем весеннем семестре в Марбургском университете кроме
курса древней философии (5 ч. в неделю и семинарий по
Платону 2 ч.), читаемого проф. Германом Когеном, проф. Павлом
Наторпом читается еще курс Логики (4 ч. в неделю и
семинарий по логике 2 ч.) и приват-доцентом доктором АсЬ'ом курс
экспериментальной психологии (4 ч. в неделю) — два курса,
которых подателю настоящего прошения так и не удалось
прослушать в Московском университете. 4) Вышеуказанные курсы по
Истории древней философии и Логики профессоров Г. Когена
и П. Наторпа будут излагаемы ими с обращением особенного
внимания на вопросы теории познания, что, при современном
состоянии и значении этой дисциплины среди других
философских наук, представляется особенно важным и поучительным.
В заключении не могу не присовокупить, что в Марбургский
университет я особенно стремлюсь еще и потому, что только там
я мог бы достаточно плодотворно изучить дальше тот предмет,
интерес к которому особенно силен у всех тех, кто имел счастье
быть учеником покойного профессора кн. С.Н. Трубецкого»:о.
33 ЦИАМ. Ф. 418. Оп. 82. Ед. хр. 423. Л. 29.
Предисловие
17
В этот период Фохт сосредоточивает свое внимание,
прежде всего, на философии Платона, Аристотеля и стоиков, а
также на философских учениях немецких классиков — Фихте,
Шеллинга и Гегеля.
В системе германского высшего образования существовало
в то время право перемены университета. Учебный год
делился на два семестра — зимний и летний, и каждый студент мог
посещать любое количество семестров в том или ином
университете в зависимости от собственных интеллектуальных
предпочтений и научных интересов. И все семестры ему
зачитывались34. Воспользовавшись этим правилом, в 1908 г. Б.А. Фохт
окончил Марбургский университет в Германии по
философскому отделению философского же факультета35. К этому
времени он стал уже общепризнанным главой марбургского
неокантианского направления в России. В январе 1907 г. Гавриил
Осипович Гордон писал Борису Александровичу: «...Я с
нетерпением жду свидания с Вами и возможности принять более
активное участие в наших общих делах по проведению в русскую
жизнь тех начал, которые все мы (разумею Вас, Гартмана36, Се-
земана с их петербургскими друзьями и себя) считаем за
наиболее ценные и животворные. В наших подчас долгих
разговорах с Гартманом о будущности кантианства и когенианства
в России, на пользу и процветание которых мы оба (он,
конечно, в большем масштабе) собираемся работать, мы всегда при
оценке и разборе сил рассматриваем Вас, как лидера и
пионера той маленькой кучки людей, которая рассеяна теперь
в Москве (Вы), в Петербурге (Сеземан, Вейдеман и другие),
и Марбурге (мы двое), и от успехов Вашей московской
работы ожидаем многого. Тем более я, так как знаю Вас ведь
гораздо ближе, нежели Гартман; поэтому я особенно и стремлюсь
помочь Вам в той или иной степени и по мере моих сил в
Вашей, что всякому из нас ясно, чересчур тяжелой работе...»эт
По возвращении из Марбурга Фохт сразу включился в
научную и пропагандистскую работу, омраченную, однако, рядом
обстоятельств официального характера. Дело в том, что по не-
3/1 См. об этом: Зензинов ВМ. Пережитое. С. 82.
35 ΓΑΡΦ. Ф. 5205. Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 1.
36 Имеется в виду H.A. Гартман.
37 Из письма Γ.Ο. Гордона Б.А. Фохту. Марбург, 12 января 1907 г. Личный
архив A.A. Гаревой.
18
Предисловие
ясным причинам был отложен (до 1919 г.) магистерский
экзамен, дававший право на преподавание философских курсов по
одной из философских же кафедр Московского университета
Возможно, сыграл свою негативную роль отъезд в эмиграцию
(в конце 1907 г. или начале 1908 г.) его жены P.M. Фохт-Су-
ларской, видимо состоявшей в тесной связи с эсерами38.
И все-таки создается впечатление, что причины
несостоявшейся до революции карьеры заключаются в другом, а
именно в атмосфере казенщины, заполнявшей коридоры
московской альма-матер. И хотя сам Б.А.Фохт нигде не упоминает
о своем конфликте с пользующимся в то время огромным
авторитетом в академических кругах проф. Л.М. Лопатиным39,
своим официальным научным руководителем, Андрей Белый
несколько проясняет сложившуюся в отношении Б.А.Фохта
ситуацию: «Гонимый Лопатиным, перегрызал он [Б.А. Фохт. —
НД.\ лопатинцам и религиозным философам горло:
великолепнейший умница и педагог, несправедливо оттесненный от
кафедры, кафедрою сделал свой дом, обучая здесь
методологии нас...»™ Ф.А. Степун, вернувшийся из заграничной
командировки двумя годами позже Фохта, никакого движения
в Московском университете навстречу научному прогрессу (во
всяком случае, в области философии), как ни старался, не
обнаружил: «Несмотря на то что его [Лопатина. — НД.]
представление о неокантианских течениях в немецкой философии
было весьма приблизительным, его отрицание этих течений
было весьма определенным. Я ушел от него с чувством, что
Историко-филологический факультет, "Психологическое
общество" и редакция "Вопросов философии и психологии" были
в глазах Лопатина некою вотчиною, в которой им искони
заведены определенные порядки, не нуждающиеся ни в каких
заморских новшествах... После ряда дальнейших встреч с ним
Андрей Белый упоминает, что Фохт-Сударская «водилась» с эсерами:
с И.И. Фондаминским, членом ЦК партии эсеров, он познакомился
именно у Фохтов. (Белый А. Начало века. С. 504.)
С Л.М. Лопатиным, по воспоминаниям A.A. Вульфсрта, у Б. А. Фохта,
также как и у его отца. Александра Богдановича, были хорошие личные
отношения. Более того, Фохты и Лопатины были в родстве: брат Льва
Михайловича Александр женился на Елизавете Николаевне Дубсиской,
сестре матери (тетке) Бориса Александровича. Но родственые узы никак не
влияли на отношения Б.А. Фохта и Л.М. Лопатина в научной сфере.
Белый Л. Начало века. С. 384.
Предисловие
19
и его коллегами по факультету, Г.И. Челпановым, юристом
В.М Хвостовым и другими "стариками", я невольно стал
задумываться над мыслью, что в России, быть может, правильнее
заниматься философией вне университетских стен»'11.
Отложив поэтому на неопределенное время
университетскую карьеру, Фохт посвящает все свое время переводу
трудов и распространению идей не только своих немецких
учителей, но и самого Канта.
Первые семена популяризаторской — в хорошем
смысле — деятельности Б.А. Фохта упали в благодатную почву
русского символизма в лице его теоретика Андрея Белого,
ставшего одним из самых известных и самых талантливых — если и не
в теории познания, то в теории искусства — учеников Фохта"12.
С Борисом Фохтом Борис Бугаев (Андрей Белый) был
знаком еще с гимназических лет — бывал у него в гостях. В
юности они недолюбливали друг друга — Андрей Белый в одном
из своих ранних произведений «Симфония (2-я,
драматическая)» (1901) нарисовал пародийный образ сумасшедшего
философа-кантианца, внешне списанный с Фохта"13; Фохт,
в свою очередь, на заседании Студенческого
историко-филологического общества при Московском университете (ноябрь
1902 г.) громил реферат Белого «О формах искусства»44.
Потом подружились (сентябрь 1904 г.) как учитель (Фохт)
и ученик (Белый)45. Известно, что Андрей Белый с самого на-
41 Стпепун ФА. Бывшее и несбывшееся. С. 151. См. также сообщение о
проблемах с докторской защитой СИ. Гессена в письме Риккерта к Зибеку
(КраммеР. «Творить новую культуру» — «Логос» 1910-1933
//Социологический журнал. 1995. № 1. С. 124.)
42Белый Л. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. М.: Республика,
1995. С. 130.
43Белый Л. Кубок метелей: Роман и повести-симфонии. — M.: ТЕРРА, 1997.
С. 114: «Тихо ахнул чтец Канта и присел на корточки. Уже больше он не
вставал с пола, но забился под кровать. Ему хотелось убежать от
времени и пространства, спрятаться от мира. Братья мои, ведь уже все
кончено для человека, севшего на пол!» (См. также с. 89-114.) «Обиделся на
философское "сидение на полу" в те годы — философ Б.А. Фохт».
(Белый Л. Начало века. С. 54.)
44 Андрей Белый и Александр Блок. Переписка. 1903-1919. М.: Прогресс-
Плеяда, 2001. С. 17, 28-29.
45 «С этого месяца я начинаю подробно изучать неокантианскую
литературу и пользоваться указаниями ставшего ко мне дружественно
относиться Б.А. Фохта; я бываю у Фохта, и ou у меня». (Белый А. Материал к
биографии. РГАЛИ. Ф. 53. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 49.)
20
Предисловие
чала своей работы над теорией символизма искал для нее
авторитетных философских оснований: «...философия
Владимира Соловьева казалась мне отвлеченно-метафизической
и не основанной на подлинном гносеологическом анализе;
в Соловьеве меня привлекал дух прозрения, мистики,
интуиции; к неокантианству меня влек рассудок; и я с увлечением
продолжал изучение кантианской литературы; руководитель
студентов, приверженных Канту, Б.А. Фохт, дал очень мне
много своими прекрасными указаниями, советами и
разъяснением некоторых для меня спорных пунктов кантианской
литературы»46.
Потрясающая своей живостью и яркостью характеристика
личности и внешнего облика Б.А. Фохтатех лет (1904-1907 гг.)
сохранилась в воспоминаниях Андрея Белого:
«Порывистый, бледный, бровастый, он взвил в круг моих
жизненных встреч каштановую свою бороду и свои турьеро-
гие кудри; и в мир трансцендентальных априори силился
меня унести, с видом пленяющим молодцеватого рыцаря,
пленяя курсисток восторженных, Борис Александрович Фохт —
«Мефистофель», склоненный к шестидесятипятилетнему
и одноглазому старцу Когену, воздвигшему в Марбурге трон,
точно к Гретхен, Молоху сему экспортировал юношей, им
соблазненных философией Когена; точно налаживал рейс:
"Москва — Марбург"... Нервный Фохт откидывал лик, водя
бровью, хватаясь за голову; он с сатанинской яростью,
перетирая ладони, зарезывал "чистым понятием" нечистоту
символизма, трясяся от ненависти к инакомыслящим до... до...
ласковости; он импонировал мне благородною злобой своей...
Я у него находил именно то, чего искал: как пианист ставит
пальцы, так ставил он аппаратуру логическую, не касаясь ми-
ровоззрительного содержания, но требуя четкости в
методологии: я не встречал никого, кто бы так умел
пропагандировать Канта; его внедрение нас в трудное место у Канта
звучало, как романс.
Запевающий Канта Борис Александрович — Фигнер47
философской Москвы 1904 года: высокий, плечистый, с подер-
4е Белый А. Собрание сочинений. Воспоминания о Блоке. С. 130.
47 Фигнер Николай Николаевич (1857-1918) — оперный певец (лирико-
драматический тенор), брат В.Н. Фигнер, пользовался огромным успехом
у публики.
Предисловие
21
гом бровей, с удивительной пластикой жестов, с потряхом
каштановых турьих рогов, он напоминал оператора-медика,
может, отца своего ~ Александра Богданыча Фохта; ни в ком не
встречал я такого уменья в лепке абстракций чудовищных:
в наших мозгах... трогала зоркость Фохта к логическим
сальто-мортале в мозгах его паствы; он показывал пальцем на
малую полочку томиков: и восклицал: "Где ее изучить? И трех
жизней не хватит! " Тут стояли: Кант, Файгингер, Наторп, Ко-
ген. Он считал: философия, чистая, вся — от Когена до
Канта; и — от Канта к Когену; а прочая "нечистота" —
отсебятина, гниль; он не "прел" уже с риккертианцами... Промедитиро-
вав десятилетье над "Критиками" Канта, ядовитой слюной
обдавал он пробеги по томам истории философии, и это —
дилетантизм!
Раз мы встретились с ним у К.П. Христофоровой; он за
ужином, выпивая вино, открыл фейерверки афоризмов... в стиле
Ницше (??)... "Борис Александрович, — и это вы, кантианец?
Как можете вы думать так?" Он в ответ дернул бровью: "Не
думать, — а быть..." Щелкнув пальцем по рюмке, моргнул:
"Кантианцы, мы думаем днем, а бытийствуем вечером;
истина, правда — совсем не жизнь, а — метод"»48.
Спустя несколько лет, в продолжении которых поэт
прилежно занималсянзучением неокантианской методологии—так, что
даже удостоился «звания "философа" со стороны Фохта, Шпета
"et tutti quanti"»*9, — Белый, выразив по сути смену своих
философских пристрастий — отказ от марбургской методологии
в пользу концепции баденско-фрейбургской школы, написал:
Оставьте.., В этом фолианте
Мы все утонем без следа!..
Не говорите мне о Канте!!.
Что Кант?.. Вот... есть... Сковорода50.
В том же году он посвятил своему наставнику два
стихотворения, пародийных и по-доброму ироничных:
48 Белый А. Начало века. С. 384-385.
49 Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. СПб.: Atheneum; Феникс,
1998. С. 463.
50 * Мефистофель» (Белый А. Собрание стихотворений 1914. М.: Наука,
1997. С. 263).
22
Предисловие
Уж с год таскается за мной
Повсюду марбургский философ.
Мой ум он топит в мгле ночной
Метафизических вопросов..?*
Заговорит, заворожит
В потоке солнечных пылинок;
И «Критикой» благословит,
Как Библией суровый инок..?2
Затем из-за увлечения Белого антропософией Рудольфа
Штейнера (в 1910-1912 гг.) поэт и философ идейно
разошлись. Белый вспоминал: «Фохт, меня ненавидевший в
юности, после помогший учиться, теперь стал вдали: ни вражды,
ни сочувствия»53. Окончательный разрыв Белого с
неокантианством оформился, однако, только к 1912 г. Еще в 1910 г.,
приветствуя появление журнала «Логос», он писал: «Да
здравствует научная философия (Логос), разбивающая старые
стены культуры!»54 и публично защищал неокантианцев от
критики В.Ф. Эрна55. А в ноябре 1912 г. Белый разразился
скандальной статьей «Круговое движение. Сорок две арабески»,
в которой назвал все неокантианское движение идиотством56.
Уже в советское время другой ученик Фохта, A.B. Чичерин,
предложил им возобновить общение. Назначили встречу,
но по каким-то причинам Андрей Белый на нее не явился...57
При всей важности биографических перипетий для
понимания духовного становления мыслителей — в данном случае
это касается как Белого, так и Фохта — имеет значение
другое: неокантианские идеи органично вошли и на глубинном
уровне определили созданную Белым теорию символизма, что
особенно заметно в его работах 20-х гг.58. Очевидно, что для
51 «Мой друг». (Там же. С. 251-252.)
52 «Премудрость». (Там же. С. 248-249.)
53 Белый А. Между двух революций. Воспоминания. В 3-х кн. Кн. 3. М.:
Художественная литература, 1990. С. 280.
*· ОР РГБ. Ф. 167. Оп. 2. Ед. хр. 18. Л. 9 об.
55 Белый А. Неославянофильство и западничество в современной русской
философской мысли // Утро России. — 15 октября 1910 г. Н> 27 А. С. 2.
^ Белый А. Круговое движение. Сорок две арабески // Труды и дни. 1912.
Nb 3-4. С. 51-73.
57 Чичерин A.B. Сила поэтического слова. Статьи, воспоминания. М.:
Советский писатель, 1985. С. 267.
58 См.: Белый А. Душа самосознающая. М.: Канон+, 1999. С. 478-530.
Предисловие
23
Белого фигура Фохта была тем духовным ориентиром,
который оказал значительное — можно сказать,
основополагающее — влияние на его идейное формирование.
Чуждый всякому декадентству, Фохт тем не менее с
присущей неокантианцу чуткостью улавливал современные ему
художественные новации и тонко переводил их на рациональный
уровень. Он был «своим» в салонах М.К Морозовой и К.П. Хри-
стофоровой, дружил с Ниной Петровской — Ренатой
«серебряного века», вел переписку с Валерием Брюсовым...
В 1910 г. к Б.А. Фохту обратился с просьбой «поговорить
о философии» другой знаменитый представитель
художественной элиты — композитор А.Н.Скрябин59. Сокрушаясь
о безвременной кончине своего учителя и друга С.Н.
Трубецкого, Скрябин, обращаясь к Фохту, воскликнул: «...Какая
ужасная потеря! Я решил, что после него могу говорить о
великих проблемах философии только с Вами...»60 Благодаря
этим трем беседам «по основным метафизическим вопросам»,
а также широчайшей научной эрудиции и музыкальной
одаренности самого Фохта до нас дошло уникальное
свидетельство философского гения великого композитора,
приоткрывающее тайные смыслы его творчества.
Отлученный от университетской кафедры, Фохт уже
с 1904 г. начинает, с некоторыми перерывами на заграничные
командировки, преподавать философию на Московских
высших женских курсах, курсах Тихомирова и Московского
общества народных университетов, а также и философскую
пропедевтику в московских гимназиях61. С 1909 г. он к тому же
вел в гимназиях занятия по немецкому языку и истории.
С 1905 г. читал в женских гимназиях педагогику62 и
параллельно — курс по философии Канта и Когена у себя на дому.
Интенсивная педагогическая деятельность принесла свои
первые плоды: у Фохта появился круг учеников, увлеченных
идеями марбургского неокантианства, о чем можно заключить
из письма Г.О. Гордона Фохту от 28.01.1907 г.: «Я рассказал
59 Фохт Б А. Философия музыки А.Н.Скрябипа // А.Н. Скрябин. Человек.
Художник. Мыслитель. М.: Гос. мемориальный музей А.Н. Скрябина,
1994. С. 201-226.
60Тамже.С. 202.
61 Гарева АЛ. Предисловие к публикации // Вопросы философии. 1997.
№11. С. 106.
«ГАРФ. Ф. 5205. Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 1.
24
Предисловие
ему [Наторпу. — ЯД], что Вы едете летом сюда и везете с
собой целую банду учеников и учениц. Он крайне обрадовался,
потирал себе руки и все говорил: ах, ах, шён, шён*»...63
Как преподаватель Фохт даже тогда — во времена высокой
лингвистической образованности — остро ощущал
необходимость в качественных переводах философской литературы.
С этой целью им была создана научная серия «Kantiana»,
задуманная как руководство к изучению философии Канта
и выступавшая в качестве своего рода материалов к
«философской пропедевтике». Первый выпуск и первый
переводческий опыт (из опубликованных и дошедших до наших дней)
самого Фохта (вместе с А.И. Бердниковым64) относится
к 1906 г. Им стала книжка К. Штанге «Ход мыслей в
"Критике чистого разума"»65. По совету Лопатина ко второму
выпуску этой серии был выполнен перевод работы Иоганна Шуль-
ца, считавшегося самим Кантом знатоком его первой
«Критики»66. Перевод был выполнен коллективно: первая половина
сочинения — Фохтом совместно с ГО. Гордоном, вторая —
с Е.И. Боричевским и А.К. Топорковым.
По неясным причинам дальнейшая судьба этого проекта не
сложилась. Андрей Белый писал, что Б.А. Фохт надеялся на
финансовую поддержку М.К. Морозовой в издании
русскоязычного неокантианского журнала67. Может быть, речь шла
о «Кантиане»? Но «благоволение ее [Морозовой. — #Д]
к Канту, кажется, ограничилось рефератом Фохта под
заглавием "Кант". Старик Лопатин победил в тот период всех
философов другого толка»68, издание захлебнулось: в 1914 г.
* Прекрасно, прекрасно (нем.).
63Личный архив A.A. Гаревой.
64 Видимо, это тот самый А.И. Бердников, который «в качестве "дьявола" от
диалектики», занимался осенью 1904 г. в кружке, изучавшем «Критику
отвлеченных начал» Владимира Соловьева. (Белый А. Начало века.
С. 384.)
65 Штанге К. Ход мыслей в «Критике чистого разума»: Руководство для
чтения. Пер. с нем. Б.А. Фохта и А.И. Бердникова. М.: Тип. Б. Шушукина,
1906. (Kantiana. Сер. руководств к изуч. философии Канта. Вып. 1.)
ii(i Шульц И. Разъясняющее изложение «Критики чистого разума»:
Руководство для чтения. Пер. со 2-го нем. изд. 1897 г. (под ред. и с предисл.
Б.А. Фохта). М., 1910. (Тип. О.Л. Сомовой.) (Kantiana. Сер. руководств
к изуч. философии Каита. Вып. 2.)
67 Белый А. Начало века. С. 505.
'«Там же. С. 505-506.
Предисловие
25
должно было появиться в печати еще два выпуска «Кантиа-
ны», о чем было объявлено во втором выпуске.
В третьем выпуске планировалась публикация перевода
Б.А. Фохта и А.И. Бердникова работы А. Гельдера «Изложение
теории познания Канта с обращением особого внимания на
различные формы, которые получила у Канта трансцендентальная
дедукция категорий»69. А для четвертого выпуска «Кантианы»
Б.А. Фохт готовил перевод «Комментария к "Критике чистого
разума"» (1907) Германа Когена со своей вступительной
статьей. Судьба этой работы до сих пор неизвестна: не удалось ее
обнаружить ни в фондах библиотек, ни в государственных
архивах, ни в архиве A.A. Гаревой. О том, что такая работа в
действительности существовала, есть свидетельство A.B. Кубицкого
в его письме Фохту от 6 января 1909 г.: «...Вы в скором
времени дадите превосходнейший перевод Когена...»70 — и
воспоминание Анны Аркадьевны Гаревой, в 40-х гг. ученицы Бориса
Александровича.
Поражает необыкновенйая работоспособность ученого.
В 1910 г. в издательстве H.H. Клочкова выходят еще три
перевода Фохта: «Основы для метафизики нравов» И. Канта
(судьба этого издания неизвестна), «Общая педагогика»
П. Наторпа и его же «Философская пропедевтика»71.
Что же касается собственных философских сочинений
Б.А. Фохта, написанных до революции, то судьба их не менее
загадочна, чем история «Кантианы». Так, в первой книге за
1911 г. журнала «Логос» в списке предполагаемых в следующих
номерах статей была анонсирована и работа Фохта «О
принципе трансцендентального метода в теоретической философии
Канта». К сожалению, за все время существования «Логоса»
она так и не появилась на его страницах. Это обстоятельство
наводит на мысль о непростых отношениях Фохта с редакцией
журнала «Логос». Едва ли причиной тому была принадлеж-
fi9 Личный архив A.A. Гаревой (1929 г.); ГАРФ. Ф. 5205. Оп. 1. Ед. хр. 107
(1933 г.). На титульном листе и на первой странице — штамп:
«Библиотека И.К.П. Философии».
70 Из письма A.B. Кубицкого Б.А. Фохту от 6 января 1909 г. Личный архив
A.A. Гаревой.
71 Hamopn П. Общая педагогика. Пер. Б.А. Фохта. М: Изд-е H.H. Клочкова,
1910; Он же. Философская пропедевтика (Общее введение в философию
и основные начала логики, этики и психологии). Пер. с 3-го нем. изд.
под ред. и с предисл. Б.А. Фохта. М.: Изд-е H.H. Клочкова, 1911.
26
Предисловие
ность их к разным неокантианским направлениям. Возможно,
Фохта отталкивала некоторая «всеядность» руководителей
журнала (так, не желая ссориться со своим «ближайшим
сотрудником» СЛ. Франком, редакторы пошли на публикацию
его довольно слабой статьи «Природа и культура»72), или их
заигрывание с «христианской идеей» («Вы хотите на
философских путях прийти к Богу», — говорил Бердяев Степуну и
увлекал последнего «силой своей интуитивно-профеуической
мысли»73), или выбранный в 1914 г. курс на популяризацию
журнала71. А сам Фохт в их глазах (особенно с точки зрения
Э.К. Метнера) был, вероятно, слишком «когенианцем».
Возможно, впоследствии именно эта статья была положена
в основу фохтовской диссертации с похожим названием: «Об
основной идее, существе и главнейших моментах
трансцендентального метода в теоретической философии Канта»
(1921), которая впервые полиостью публикуется в настоящем
издании.
В 1909 г. в «Критическом обозрении» была напечатана
рецензия Фохта на диссертацию В.А. Савальского75 (см. список
опубликованных работ). «Критическое обозрение» выходило
под редакцией проф. Б.А. Кистяковского, ученика Виндель-
банда. Так что заказ рецензии на первую в России крупную
научную работу по философии неокантианства именно
Б.А. Фохту можно расценивать как официальное признание
его авторитета в этом вопросе. Здесь Фохт подробно
разбирает достоинства и недостатки труда Савальского, попутно
раскрывает смысл философии марбургского неокантианства,
особенности, отличающие ее от «неофихтеанства», и
доказывает принципиальную правоту Савальского, который ищет
основание философии права в трактатах Германа Когена.
В 1910-1914 гг. были изданы литографическим способом
лекционный курс Б.А. Фохта «Введение в философию» из
72 Письмо Степуна Метнеру от 21.08.1910 г. (ОР РГБ. Ф. 167. К. 14. Ед. хр.
2. Л. 5.)
73 Степу η ФА. Бывшее и несбывшееся. С. 218.
74 Безродный М.В. Из истории русского неокантианства //Лица:
Биографический альманах: I. М.; СПб., 1992. С. 395.
75 См.: Савальский В А. Основы философии права в научном идеализме.
Марбургская школа философии. Коген, Натори, Штаммлер и др. Т. 1 //
Ученые записки Московского Императорского университета, юрид. ф-та,
выи. 33. М., 1909.
Предисловие
27
четырех частей: введение в логику, введение в этику,
введение в эстетику, введение в психологию и курс древней
философии™.
В целом же дореволюционный период деятельности
Б.А. Фохта может быть охарактеризован как
«просветительский», в продолжение которого решались, прежде всего,
педагогические и пропагандистские задачи: познакомить широкую
публику с философией Канта и неокантианцев,
способствовать подробному и глубокому изучению и осмыслению
сочинений этих мыслителей. И в первую очередь имелась в виду
разночинная молодежь, для которой в силу юного возраста
(гимназисты) или отсутствия материального достатка для
специального изучения языков переведенные тексты
классиков были незаменимым пособием в изучении философии.
В личной жизни ученого произошли события, в той или
иной степени повлиявшие и на его творческую судьбу. Через
несколько лет после отъезда Фохт-Сударской в эмиграцию
Борис Александрович женился вторично. В 1911 г.77 у него
родился сын Кирилл, а 17 марта 1915 г. Елена Александровна
Фохт умерла от туберкулеза78. Все трагедии в маленькой
осиротевшей семье Фохтов захлестнула революция 1917 г.
«Москва, — ил*£ на лицах — ужас; телеграфные столбы свалены,
сожжены; снег окрашен развеянным пеплом; с девяти вечера
прохожих хватают патрули; бьют с отнятием кошелька и часов;
иных же выводят в расход. Ограбили философа Фохта»79...
С революцией 1917 г. для российского неокантианства
началась другая — новая — эпоха.
На «заре» советской власти ее устроителям не было
особого дела до вопросов культурной и научной политики — это
было время самовыживания, выживания физического для всех.
Был кошмар голодного 1921 г., уплотнения, реквизиции,
насильственные мобилизации профессуры на заготовку дров,
очистку улиц от снега, на раскопку железнодорожных путей
^Гарева АА. Предисловие к публикации // Вопросы философии. С. 106.
Однако ни в архивах, ни в библиотеках эти работы не найдены.
77 По воспоминаниям A.A. Гаревой. Возможно, это был 1909 г. В советское
время (в 1935 г.) Фохт в анкете написал, что его сыну Кириллу 26 лет.
(ΓΑΡΦ. Ф. 5205. Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 6.)
7К Вторая жена Фохта Елена Александровна умерла и похоронена в
Кисловодске. Ее девичья фамилия неизвестна.
™ Белый А. Между двух революций. С. 67.
28
Предисловие
от заносов. Так, в архиве A.A. Гаревой сохранилось
удостоверение Б.А. Фохта № 3156 от 31 декабря 1918 г., защищавшее
ученого от реквизиции белья и других домашних вещей80. Что
же касается академических пайков, который получал и Борис
Александрович81, то их размер не мог избавить ученых от
голода и лишений, им приходилось распродавать свои
библиотеки, мебель, личные вещи, чтобы хоть как-то обеспечить свое
существование. «Разве не аллегория, — писал кн. СМ.
Волконский, — когда встречаю профессора университета,
везущего салазки с дровами, или знаменитого врача с мешком
картофеля на спине? И " Аполлон" на грязной мостовой — разве не
аллегория?»82
С поворотом в 1921-1926 гг. к новой экономической
политике в стране начала быстро возрождаться интеллектуальная
жизнь, приглушенная событиями «военного коммунизма».
Один за другим возникают новые журналы, альманахи, в
которых авторами выступают люди, после революции
оказавшиеся как бы на периферии политической жизни, — те, кого
долгое время было принято называть «представителями
буржуазной интеллигенции». Так, в 1922 г. в стране совершенно
легально действовало свыше 140 частных издательств.
С 1919 по 1921 гг. в реорганизованном (Первом)
Московском государственном университете Борис Александрович
преподавал философию и вел семинар по Канту83. В том же
1919 г. Фохт, «вследствие отмены к этому времени
магистерских экзаменов, подвергался взамен магистерского экзамена
особому коллоквиуму»84.
Никто не мог думать тогда, что партийный контроль над
интеллектуальной сферой перейдет из области политических
действий на саму научную теорию. Специфика развития
марксизма отнюдь не предполагала вмешательства официальной
идеологии в сферу развития научных проблем, и в
действительности такая практика отсутствовала в начале 20-х годов.
80 Личный архив A.A. Гаревой.
81 ЦМAM. Φ. 1609, On. 1 л/с. Ед. хр. 72. Л. 24.
82 Ки. С. Волконский. Мои воспоминания. Лавры. Странствия. Мюнхен: Кн-
во «Медный всадник», 1923. С. 53.
<*ГАРФ. Ф. 5205. Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 1.
84 Там же. Ед. хр. 108. Л. 12.
85 Минин С. Философию за борт! // Под знаменем марксизма. 1922. N> 5-6.
С. 122-127.
Предисловие
29
Призывы вроде «Философию за борт!»85 или «Пролетарий не
нуждается в логике»86 воспринимались не более чем курьез.
Первый тревожный симптом будущих гонений появился
в «мирном» 1921 г., когда историко-филологический
факультет Московского университета был закрыт за «оппозиционно-
неокантианское направление»87. Знаменательно, что это
произошло сразу после представления и защиты Б.А. Фохтом на
диспуте в университете 30 мая 1921 г.88 при оппонентах проф.
Георгии Ивановиче Челпанове и проф. Николае Дмитриевиче
Виноградове своей работы «О трансцендентальном методе
в философии Канта» pro venia legendi (на право чтения
лекций). А 28 октября 1921 г. «на основании представленных
работ» Государственный ученый совет утвердил Б.А. Фохта
в звании профессора философии89 Ярославского
государственного университета, где тот преподавал с 1920 г. в звании
доцента, затем с 1922 по 1925 г. — профессора философии курс
«История мировоззрений и эстетики».
Письмо из Петрограда // Последние новости. Ежедневная газета под ред.
П.Н. Милюкова. Париж. 30 декабря 1922. № 827. С. 2. В «Письме» речь идет,
видимо, об Иване Адамовиче Боричевском (1892-1942), профессоре
философии Петроградского (затем Ленинградского) университета. В
философских кругах был однофамилец Ивана Адамовича — Е.И. Боричевский, о
котором известно только, что в 1907 г. в Москве он работал вместе с Б.А.
Фохтом иад переводом книги Б. Христиансена (Христиансен Б. Психология
и теория познания. Пер. с нем. Е.И. Боричевского. Под ред. и с предисл.
Б. А. Фохта. Мм 1907.), а в советское время написал работу «О природе
эстетического суждения» (Минск: «Белтрестпечать», 1923. С. 12). Вероятно, в
цитируемой газетной статье речь идет именно о И.А. Боричевском, т. к. в то
время он работал в Петрограде, имел уже определенный научный авторитет, что
делало его заметной фигурой в философской среде, а также полемизировал
с неокантианцами, учение которых E.H. Трубецкой в свое время
справедливо назвал «панлогизмом». (См.: Боричевский И А. Дневник № 17. 24 июля
[1922]: 4.. А в Научном обществе марксистов я прочел доклад... Были бурные
прения с одним марбургским Genosse». OP РПБ. Φ. 93. Ед. хр. 4.)
' Высшая школа в Советской России (Письмо из Петрограда) //
Последние новости. 12 октября 1922. № 762. С. 2.
1 Вопрос о ликвидации историко-филологического факультета
Московского университета был поставлен в конце мая 1921 г., и с 1 июня 1921 г.
декретом Совнаркома факультет был упразднен (резолюция ректора
В.Волгина на докладной записке о ликвидации от 28.05.1921 г.). (ЦМАМ.
Ф. 1609. On. 1. Ед. хр. 492. Л. 1.)
' ГАРФ. Ф. 5205. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 9,10,12. Какие работы,
представленные в ГУС, Фохт имеет в виду — неясно. Возможно, это первая и вторая
части его диссертационного исследования.
30
Предисловие
«Москва двадцатых годов напоминала огромный
университет культуры, да она и была таким университетом»90.
И в научной судьбе Б. А. Фохта эти годы были временем
расцвета его философского таланта. Фохт стал
членом-корреспондентом Государственной академии художественных наук
(ГАХН)91, действительным членом Московского
психологического общества, много занимался преподаванием: с 1918 г.
работал в Институте слова вплоть до его закрытия в августе
1925-го, в 1919-1925 гг. состоял старшим сотрудником
Института научной философии в Москве, вел на дому кружок
по философии Когена. Именно в эти годы им были
написаны и прочитаны доклады — по сути, серия докладов — о
«Философии символических форм» Э. Кассирера (уже в 1923 г.
Фохт выступил с сообщением о первом томе этой работы —
«Язык»), о проблеме и основных принципах эстетики у
Канта и Когена, о Наторпе и Пушкине, «О прекрасном как
предмете искусства», «О некоторых основных чертах
художественного творчества»92 и об «Основных принципах
философии языка»93, статьи «Априоризм» и «Акмеизм» для
Энциклопедии художественной терминологии, подготовкой
которой занималась ГАХН94.
Своеобразным центром интеллектуальной жизни 20-х гг.
стало Московское философское общество, официально не
зарегистрированное, но объединившее в своем составе молодое
поколение российских мыслителей из последнего выпуска
(1922 г.) философского отделения
историко-филологического факультета Московского университета. Постоянным и
активным его участником был и Б. А. Фохт. Здесь он читал свои
доклады и участвовал в обсуждении предложенных другими
тем. Иосиф Давидович Левин (1901-1984), бывший студент
Фохта и один из основателей общества, в своем дневнике
записал: «29 октября [1923 г.]. Годовщина [со дня основания Фи-
™Шаламов В.Т. Воспоминания. М: Олимп, Астрель, ACT, 2001. С. 23.
91 РГАЛИ. Ф. 941. Оп. 10. Личные дела. № 654.
îr2 Личный архив A.A. Гаревой.
9Л Упоминается в материалах Комиссии по изучению психологии художест-
нсиного творчества при философско-психологическом отделении ГАХН
(РГАЛИ. Ф. 941. ГАХН. Оп. 2. Ед. хр. 18), датирован 15 ноября 1927 г.
9< Упоминаются: РГАЛИ. Ф. 941 (ГАХН). Оп. 1. Ед.хр. 80. Протокол № 206
от 15 марта 1927 г. и № 209 от 8 апреля 1927 г.
Предисловие
31
лософского общества]. ...25 человек. Шпет и Фохт говорили
по вопросам философии и культуры, философии и поэзии.
Обоих качали... Потом банкет: выпивка, танцы — до 3 часов
иочи». И далее: «5 декабря [1924]. Доклад Фохта о Пушкине.
12 человек (несмотря на арест Ольдекопа)»95. Собирались
у кого-нибудь на квартире — чаще всего у В.А.Игнатовой (с ее
арестом и расстрелом в 1927 г. общество прекратило свое
существование), иногда у Левина или у Фохта9*5.
Между тем постепенно начинало ощущаться
идеологическое давление на науку и культуру, которое проникало и во все
сферы обыденной жизни. 8 ноября 1923 г. М. Горький писал
В. Ходасевичу: «Из новостей, ошеломляющих разум, могу
сообщить, что [...] в России Надеждою Крупской и каким-то
М. Сперанским запрещены для чтения: Платон,, Кант,
Шопенгауэр, Вл. Соловьев, Тэн, Рескин, Нитче, Л. Толстой, Лесков,
ГЯсйнский (I) И еще^многйе подобные еретики»9*... Разгон
ГАХН в 1929 г. стал своего рода вехой, пограничным знаком
между еще свободными — особенно в сравнении с событиями
последующих лет, — полными иллюзий и надежд двадцатыми
и эпохой «великих» строек и «чисток» во всех областях науки
и искусства. Многие философы из «бывших», в том числе
Б.В. Яковенко, Ф.А. Степун и СИ. Гессен, давно уже были
в эмиграции. С отделением Прибалтики на долгие годы
оказались за пределами России В.Э. Сеземан и A.B. Вейдеман.
Сгинул в угличском лагере близкий друг и соученик Фохта
по Марбургу Гавриил Осипович Гордон (по официальной
версии «умер от дистрофии» 26 января 1942 г.)9Н. В 1937 г. ушел
из жизни другой замечательный ученый-неокантианец, друг
М.М. Бахтина, Матвей Исаевич Каган. Уникально сложилась
судьба Б.А. Фохта, который остался в России и в страшные
времена сталинского террора избежал репрессий, несмотря на
то что не изменил своей научной позиции, не отрекся от
неокантианских взглядов.
В условиях абсолютного духовного контроля каждый
мыслитель, чтобы выжить, был вынужден занять определенную
^ЛевинИ.Д. «Шестой план» // Историко-философский ежегодник' 91. С. 287.
96Левин И.Д 1921-1931 //Литературное обозрение. 1996. № 5-6. С. 96-107.
91Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений: В 4-х т. Т. 4: Некрополь.
Воспоминания. Письма. М.: Согласие, 1997. С. 175. 568 комм.
98 Записано со слов дочери Г.О. Гордона Ирины Гавриловны Гуровой.
32
Предисловие
позицию по отношению к тем, кто осуществлял этот контроль.
Выбор был невелик: сервилизм, эскапизм или нейтралитет.
Сервилизм для Фохта был исключен. Тому подтверждением
могут служить факты его биографии, рассказанные A.A. Гаревой
и A.A. Тахо-Годи. Однажды, видимо сразу после войны,
Московскому городскому педагогическому институту имени Потемкина
предложили выставить в академики кандидатуру Г.Ф.
Александрова", который в то время возглавлял Управление пропаганды
и агитации ЦК ВКП(б). При голосовании Фохт, единственный
из членов ученого совета, воздержался. На вопрос
встревоженного директора пединститута ILC. Бенюха, почему он
воздержался, Борис Александрович ответил: «Я знаю его как
политического деятеля, но не знаю его научных трудов»100.
Прекрасной характеристикой Фохта как человека большого
мужества и чести является данное им 6 мая 1930 г. «объяснение»
в защиту А.Ф. Лосева. В 1995 г. A.A. Тахо-Годи знакомилась на
Лубянке с некоторыми архивными документами по делу
Лосева (1930). Среди показаний вызванных по этому делу
свидетелей были и опросные листки Б А Фохта. Борис Александрович
«не скрывал от следователя своих встреч с Лосевым на
философских собраниях, прямо признал, что Лосев "в настоящие годы
стал наиболее ярким представителем диалектической логики",
изучая труды Платона, Плотина, Прокла и Гегеля. Профессор
Фохт деликатно сказал, что "затрудняется перевести на
политический язык" произведения Лосева и что сочинения Лосева
(даже рукописные), касающиеся вопроса
"социально-политического характера", ему неизвестны. Так же как он не знает и
политических взглядов арестованного. "Считаю его просто лояльным
человеком", — заключил Б.А. Фохт, а религиозность Лосева "не
вытекает из его философских взглядов". Книги же
арестованного, "независимо от взглядов автора, приобретают большую
ценность", основаны на текстах "непереведенных произведений
древнегреческих философов"»...101 В те годы дать такой отзыв об
арестованном ОГПУ человеке значило совершить немыслимо
смелый и кристально честный поступок!
' Г.Ф. Александров стал академиком в 1946 г. — в год смерти Фохта.
Гарева А А. Предисловие к публикации // Вопросы философии. 1997.
tëil.C. 109.
ЛТахо'1оди АЛ. Лосев. М.: Молодая гвардия; Студенческий меридиан,
1997. С. 137.
Предисловие
33
Другая возможная позиция в условиях жесткого
идеологического контроля — эскапизм — также была не для философа-
неокантианца. Она предполагала уход в самовыражение и ни
к чему не обязывающую самодеятельность, то есть то
бесхребетное и беспочвенное философствование, переход к
которому для Фохта означал бы измену своим научным принципам
и конец философии как таковой.
Лишь нейтралитет, как третья и последняя из возможных
для философа в эту эпоху позиций, стал той «золотой
серединой», которая открывала путь к «катакомбной» философской
работе. В атмосфере тех лет мог выжить только тот, кто уходил
из официальной философии. Выбор работы в гуманитарной
области был довольно ограничен: преподавание иностранных
языков и переводческая деятельность. Борис Александрович
успешно занимался и тем и другим. Обосновавшись в Институте
красной профессуры (философии), где он преподавал новые
и древние языки (так, в одной из многочисленных анкет
советского времени в ответе на вопрос «какие языки знаете, кроме
русского, и в какой степени ими владеете» он написал:
«немецкий, французский, английский, латинский, [древне]греческий
и испанский — на всех могу читать научные книги, а на
немецком свободно говорю»т), Фохт попытался продолжить
издание серии «Kantiana». Этот факт представляется чрезвычайно
важным, особенно если учесть то обстоятельство, что не только
Фохт, но и все его современники — профессионалы-философы
немарксистской ориентации — были лишены философской
трибуны. В качестве следующей образовательной задачи Фохт
в предисловии к 3-му выпуску «Кантианы» говорит о
необходимости «издания серии руководств для соответствующего
изучения философии Гегеля. Тогда наряду с "Kantiana" возникла бы
еще более важная с точки зрения современного прогресса в
философии "Hegeliand\ Всем этим было бы положено тогда
начало правильному, строго методическому изучению у нас
величайших философов древности и новейшего времени»103. В этом же
предисловии Б.А. Фохт упоминает о своем переводе
«Комментария к "Критике чистого разума"» Германа Когена: «Перевод
на русский язык этого Комментария сделан мною много лет
тому назад, но при возобновлении у нас в последнее время изуче-
102 Ф. 5205. Он. 2. Ел. хр. 10& Л, 3.
ш Там же.
34
Предисловие
ния философии Гегеля и, косвенно, через посредство Гегеля,
также и философии Канта, — издание его, как кажется, именно
теперь было бы особенно своевременно: оно помогло бы
начинающим проследить ход развития не только в понимании и
истолковании философии Канта, но также и ход развития всей
современной философии в ее целом. — Не следует ведь
забывать, что сознательно, методологически строго и планомерно
проводимое Когеном соединение и внутренняя диалектическая
связь исторического метода изучения философии с
систематическим, что эти черты общи у него с Гегелем, который и был, как
известно, первым и самым глубоким выразителем этой
плодотворной тенденции...» К сожалению, ни одно из этих изданий
так и не было осуществлено, однако в библиотеке Института
красной профессуры находилась машинопись подготовленного
Фохтом нового выпуска «Кантианы» — сделанного им заново
перевода сочинения А. Гельдера «Изложение теории познания
Канта», который, как можно предположить с большой степенью
вероятности, был доступен студентам. Это обстоятельство
представляется чрезвычайно важным, поскольку даже в таком
солидном учебном заведении положение философии было
плачевным. В разговоре с В.И. Вернадским Фохт с горечью
констатировал: «...мысли нет — все в рамках — все бездарное и
мертвое...»104; «логика и история философии выброшены из
преподавания... учение Платона, Канта не изучается. Кое-что познается
при изучении иностранных языков — чтение отрывков, причем
сами "студенты" следят за лектором...»105. Такая обстановка
требовала не только осторожности, но особого отношения ко
всякой высказанной мысли и умения провести ее «через все
препоны и рогатки» постоянной цензуры.
Кроме того, в самом неокантианстве были, видимо, точки
соприкосновения с марксистской доктриной, которую Фохт
теоретически не отвергал, усматривая в ней рациональные
черты — такие черты, которые позволили бы считать
марксизм наследником великих традиций немецкой классической
философии.
Существовало еще одно условие для выживания в
«интеллектуальных катакомбах». Философ должен был создать — прежде
всего, для самого себя — дисциплинарные нормы школы и сле-
т Вернадский В.К Дневники: 1926-1934. М.: Наука, 2001. С. 63. (7.VIII. 1928.)
ш5Там же. С. 59-60. (6.VIII. 1928.)
Предисловие
35
довать им в своей работе. Замечательно, что такую внеинститу-
циональнуго школу удалось создать не только А.Ф. Лосеву.
Всегда державшийся в рамках марбургского неокантианства, Фохт
у себя дома даже в самые страшные времена принимал своих
учеников, читал им лекции, занимался с ними в семинарах.
Личное мужество Фохта, принципиальность его
философских взглядов и безукоризненность поведения наталкивают
на размышления о том, не есть ли это результат общей
кантианской позиции, которая при любых обстоятельствах требует
подчиняться только внутреннему нравственному императиву.
Трудно поверить, что лагеря, тюрьмы, ссылки миновали
философа. Однако не обошли они трагедией его семью — в
сталинских лагерях Борис Александрович потерял сына Кирилла,
ставшего к тому времени талантливым
исследователем-лингвистом. В его судьбе до сих пор много неясностей. По
воспоминаниям A.A. Вульферта, он совершенно неожиданно для отца
оказался втянутым в какую-то анархиствующую или
эсеровскую группу, участвовал в эксе, был арестован, но прошел не по
политической, а по уголовной статье и, отсидев несколько лет,
вышел на свободу. Все это случилось в 1926-1927 гг. Ему дали
возможность учиться — он уехал в Самаркандский
университет, где закончил аспирантуру по кафедре французского,
испанского и итальянского языков. В начале войны там опять
начались аресты, спасительное уголовное прошлое не помогло, и он,
по-видимому, погиб в лагере...
В эти тяжелые годы рядом с Борисом Александровичем
была его «ангел-хранитель»: Елена Яковлевна Фохт (в
девичестве Аронсон) (25.05.1896 — 5.06.1965) — поздняя любовь,
верный друг, преданнейший помощник — в том числе и в
переводах: в гимназических «пределах» владея латынью и
немецким, она самостоятельно выучила древнегреческий, чтобы
быть максиь^сшьно полезной мужу106. В самом деле, 30-е г. в
интеллектуальной биографии Бориса Александровича были
отмечены огромным количеством переводов: он «со времени
революции написал и перевел (с немецкого, латинского и
греческого языков) около 100 философских работ»107, из которых
опубликована была лишь малая часть: докритические
сочинения И. Канта 1759-1777 гг. в 2-х т., в основном переведенные
Брак был зарегистрирован в 1931 г.
ΓΛΡΦ. ф. 5205 (ИКП). Оп. 2. Ед. хр. 108. Л. 12. Автобиография.
36
Предисловие
Фохтом впервые108, «Философия духа» Гегеля с немецкого
издания Глокнера109, Первая и вторая аналитики Аристотеля110.
Остался неопубликованным перевод Тренделенбурга
«Элементы логики Аристотеля» (1937), курс лекций по Истории
древней философии в 2-х томах, курс лекций по логике на
немецком языке в одном томе111 и «Краткий очерк логики
Аристотеля ([составленный] по подлинным текстам)» (1930/1933
уч. год), который сохранился в архиве Института красной
профессуры112.
В 1937 г. был составлен уникальный «Немецко-русский
словарь философских терминов».
В 1936-1942 гг. Б.А. Фохт создает «Краткий лексикон
важнейших философских терминов, встречающихся в
произведениях Аристотеля», фрагменты которого были опубликованы
только в 1999 г. (см. список опубл. работ). С 1939 г. он начал
работу над фундаментальным исследованием «Об общем
характере философии Аристотеля и его метода», которая продлилась
до последних дней его жизни, но так и не была завершена.
В архиве Б.А. Фохта хранится работа «Курс логики»,
подготовленная к печати с резолюцией: «В набор» (от 15. 08.
1947). Однако работа так и не была издана: в одной из
рецензий на рукопись Фохта отмечалось заметное «влияние
неокантианства» на характер изложения материала...113
Исследование советской эпохи российского
неокантианства показывает, что оно, в отличие от немецкого, не погибло
«в материальных битвах позиционной войны»1,4, но в опасном
соседстве со сталинским вариантом парамарксизма показало
чудеса жизнестойкости. В нечеловеческих условиях
духовного гнета оно привлекало к себе — как и когда-то, до
революции, — самостоятельно мыслящих молодых людей, среди за-
тКант И. Сочинения 1747-1777: В 2-х т. Под общ. ред. Б.Ю. Сливкера, пер.
Б.А. Фохта. X 2. М.: Соцэкгнз, 1940; Кант И. Сочинения в 6-ти т. Т. 1,
2. М.: Мысль. 1964.
109 Гегель. Энциклопедия философских наук. Часть 3 (т. 3). Философия
духа. Пер. Б.А. Фохта. М: АН СССР, 1956. С. 20.
ш Аристотель. Аналитики первая и вторая. Пер. с греч. Л.: ГосПолитиздат,
1952. 440 с.
1,1 ГАРФ. Ф. 5205 (ЙКП). On. 2. Ел. хр. 108. Л. 12. Автобиография.
112 Там же. On. 1.Ед.хр. 15.
|ПЛичный архив A.A. Гаревой.
и41адамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 9.
Предисловие
37
хлестывающего иррационализма сталинщины ищущих raison
d'etre4, учение, которое бы «не разделяло ленивой рутины
всевозможных "измов"»115, но было бы ориентировано на науку
и иа историю философской мысли. Если на Западе, прежде
всего в Германии, 20-30-е гг. ознаменованы отказом от
представлений о философии как о «чистом факте науки» и от идеи
проблемного рассмотрения истории философии, что было
результатом особого состояния духовной атмосферы,
названного М. Шелером «тяжестью реальности», то в Советской
России на глубинном («катакомбном») уровне философской
работы неокантианский «чистый факт науки» не только
восстановил свои, казалось, пошатнувшиеся позиции, но
воссиял особенно ярким светом, озаряя путь в подлинную
философию наиболее независимым и талантливым умам.
В философских «катакомбах» неокантианским
интеллектуальным «пайком» Фохт вскормил таких замечательных
советских ученых, как П.В. Копнин, М.Б. Туровский, И.Д. Левин,
A.B. Чичерин, Б.В. Горнунг. Самым ярким среди них был,
конечно, Павел Васильевич Копнин. Закончив в 1944 г.
философский факультет МГУ и получив диплом с отличием, он
поступил в аспирантуру при кафедре философии Московского
педагогического института имени В.П. Потемкина, где в то
время преподавал Б.А. Фохт. Профессор Фохт стал научным
руководителем кандидатского диссертационного
исследования Копнина по теме: «Борьба материализма и идеализма
в развитии учения о сущности суждения»1"*, которое Копнин
блестяще защитил в январе 1947 г., уже после смерти Бориса
Александровича Напомню: антропологически
ориентированные работы П.В. Копнина возвестили о начале философской
«оттепели» в Советском Союзе.
Глубокая символика усматривается в этом заключительном
эпизоде богатейшей судьбы Б.А. Фохта. Научная стезя свела
вместе две знаковые для российской философии фигуры:
профессора Фохта и будущего член-корреспондента Академии
наук СССР Копнина. Павел Васильевич оказался идейным
Основание бытия (фр.\
1,5ПастернакБЛ. Охранная грамота// Пастернак Б.Л. Избранное. М.: Изд-
üo «Гудьял-Пресс». 1999. С. 31.
т Павел Васильевич Копнин / АН УССР; Сост. Л.Т. Иваненко; Авт. встуи.
ст. П.Ф. Йолон, Б.А. Парахопский, М.В. Попович. Киев: Наукова Думка,
1988. С. 5.
38
Предисловие
преемником Б.А. Фохта и продолжателем классической
философской традиции, ее духа, впитав методологическую
строгость, принципы и этический пафос подлинной философии,
в которой идеи, судьба и служение истине неразрывны.
Умер Борис Александрович Фохт 3 апреля 1946 г.
С уходом из жизни последних российских неокантианцев
закончилась советская эпоха этого движения, но не
закончилась его история. Фохтовский опыт интеллектуального
сопротивления, построенного на уникально трансформированной
системе марбургского неокантианства, — ценнейшее
наследство, доставшееся обществу от тоталитарной эпохи.
Уцелевшие, полузабытые неокантианские архивы и издания —
сокровище, способное принести немало впечатляющих открытий...
***
Представляемая читателю книга — первое самостоятельное
издание работ Б.А. Фохта. Подбор сочинений и расположение
текстов в сборнике продиктованы соображениями хронологии,
идейной целостности — все тексты характеризуют собственно
неокантианский период в развитии философских взглядов
Фохта — и, следовательно, самой логикой развития мысли автора.
Работа «Об основной идее, существе и главнейших
моментах трансцендентального метода в теоретической философии
Канта», которая открывает этот сборник, посвящена решению
основной задачи марбургского неокантианства — проблеме
обоснования научного знания. Исходным тезисом для Фохта,
равно как и для Когена, является высказывание Канта о том,
что «...мы a priori познаем о вещах лишь то, что вложено лишь
нами самими»117. Такая трактовка познавательных
способностей человека наводит на мысль, что научные знания имеют
субъективный характер. Чтобы преодолеть субъективизм,
не дискредитируя при этом объективность научного опыта,
который, по Когену, представляет собой единственную
реальность, доступную человеку, необходимо изучать условия
возможности опыта, имея в виду не познавательные способности
человека, а те элементы мышления, которые создают
предпосылки объективной науки. Фохт считает, что
трансцендентальный метод Канта родился из размышлений над «Математиче-
1,7Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 19.
Предисловие
ЗЭ
скими началами натуральной философии» Ньютона, тем
самым явно преувеличивая роль ньютоновских идей в
критической системе Канта. Очевидное влияние Когена на Фохта
сказывается также на толковании последним учения Платона как
пракритической философии, непосредственно обусловившей
обоснование Кагггом принципа априоризма. Так, во введении
Когена к «Кантовской теории опыта» есть пункт,
посвященный платоновскому обоснованию критики познания118.
Отказываясь от кантовской доктрины об аффицировании
чувственности «вещами в себе», Фохт совершенно в традиции
марбургского неокантианства переосмысливает понятие
«данности». Предмет познания никогда не может быть нам «дан»
как нечто готовое, существующее независимо от логического
мышления. Предмет познания — не «вещь», а задача познания,
решение которой представляет собой бесконечный ряд
приближений с обязательным «иррациональным» остатком. Мар-
бургские неокантианцы были убеждены в постоянной
незавершенности научного знания, в полной относительности всех его
понятий и основоположений.
Определяя смысл понятия «трансцендентального» как
«отношения "элементов a priori" к предмету» и делая акцент на
этой релятивности, Фохт явно выходит за рамки собственно
каитовск'ого понимания «трансцендентального» и следует
традиции функционально-методологического истолкования
априоризма марбургскими мыслителями. Между тем Фохт
возражает, видимо, Г. Когену, который обвинял Канта в
догматизме построенной им таблицы категорий как якобы пол-
ной и окончательно завершенной. К такой завершенности,
по мнению Когена, можно только стремиться, но никогда ее
не достичь, поскольку новые проблемы, возникающие в науке
в ходе ее развития, с необходимостью предполагают прогресс
чистых познаний. Именно такой — принципиально
незавершенный — характер приписывает Фохт кантовской таблице
категорий, защищая ее от критики Когена.
Неокантианцы полагали, что научный опыт должен быть
единством, подводящим различные содержания под законы
и правила, которые в свою очередь вытекают из высшего
основоположения. Единство возможно исключительно в сознании.
Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. BrL, 1885. S. 8-17: «Piatos
Begründung der Erkenntnisskritik».
40
Предисловие
По-видимому, под «принципом объективного единства
познания как принципа системы и внутренней связи» Фохт
понимает первоисточник, первоначало (Ursprung) мышления,
начинающегося ни с чего-то внешнего, а с самого себя. Таким
принципом «первоначала» становится у марбуржцев кантов-
ская «вещь в себе», которая отождествляется с идеей
безусловного и превращается в чистый продукт разума, в порожденный
им самим внутренний закон систематического саморазвития
познания. Методологичность и гипотетичность — две главные,
по их мнению, черты научного знания.
Понятие функции, которое использует в этом сочинении
Фохт, являясь одним из центральных понятий марбургского
учения, получило особое значение после публикации работы
Эрнста Кассирера «Substanzbegriff und Funktionsbegriff.
Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik»
(1910)ш\ Не случайно Коген отнесся весьма прохладно к этой
работе, подчеркнув, что ее автор отходитот позиций марбург-
скогонеокантианства: здесь был определенно намечен путь от
понятияГфункцийТй отношения к понятию символа, от
философии критицизма — к философии символических форм.
Кроме того, «Познание и действительность» было единственным
сочинением среди фундаментальшлх^оизведений марбург-
ских неокантианцев, переведенным на русскии1^Ь1К·
Поэтому именно кассиреровский вариант неокантианства
усваивали российские неофиты, впервые знакомясь с учением мар-
бургской школы, что во многом определило судьбу этого
течения в России — его близость проблемам культуры и
творчества.
На противоречие, обозначенное в названии работы Фохта,
между строгим рационализмом трансцендентального метода
Канта и остатками различного рода «психологизмов» в его
учении, например теории «аффекции» и «данности»,
обратили внимание лишь во второй половине XIX в., что было
обусловлено спецификой развития научного знания в это время:
психология стала признаваться самостоятельной,
относящейся к сфере естествознания наукой с собственным предметом
и методами, отличными от философских. Поэтому одну из
заем, русск. изд-е: Кассирер Э. Познание и действительность. Понятие
о субстанции и понятие о функции. Пер. Б. Стодпнера и П.
Юшкевича. СПб.: Шиповник, 1912.
Предисловие
41
дач своего движения марбургские неокантианцы видели в том,
чтобы очистить систему Канта от мистицизма и
психологического догматизма, для чего необходимо было выявить
сущностное различие трансцендентального и психологического
методов и четко обозначить границы их применимости.
И здесь Фохт в полемике с Файхингером прибегает к тому
же приему, который ранее применил Коген в борьбе с самим
Кантом за «подлинного» Канта (то есть очищенного от
противоречий), сравнивая первое и второе издания «Критики
чистого разума». Теперь тот же прием использует Фохт при
анализе учения Когена (сравнивает «Кантовскую теорию опыта»
1-го и 2-го изданий) и тем самым развивает важную
тенденцию марбургского неокантианства рассматривать любое
учение в генезисе, от его истоков.
Можно сказать поэтому, что в этой работе Фохт, оставаясь
последовательным когенианцем, впервые предлагает
русскоязычному читателю посмотреть на учение марбургского
неокантианства как бы извне, «со стороны», демонстрируя при
этом колоссальную эрудицию и прекрасное знание текстов
всего неокантианского спектра.
Работа «О прекрасном как предмете искусства и основных
чертах художественного творчества» принадлежит периоду
в интеллектуальной биографии Фохта, когда в центре его
внимания оказались проблема философского обоснования
культуры и творчества, то есть проблема, которая всегда
постулировалась в марбургском неокантианстве, но обычно занимала место
на периферии философских исследований. Еще в 1906 г. Пауль
Наторп и Герман Коген в редакционной статье первого номера
альманаха «Philosophische Arbeiten», провозглашали: «Для нас
философия есть учение о принципах науки и поэтому всей
культуры». Но собственно разработка эстетического учения и,
следовательно, учения о культуре началась лишь с 1912 г. выходом
«Эстетики чистого чувства» Когена и «Всеобщей психологии»
Наторпа, а к 1924 г., то есть ко времени появления этой и
следующих работ Фохта, уже обозначилась как необходимая
тенденция всего неокантианства марбургского толка.
Так, по свидетельству М.И. Кагана, в последние годы своей
жизни Коген «собирался читать курс, называемый им самим
то энциклопедией культуры, то психологией... говорил о
единстве сознания культуры (Einheit des Kulturbewustseins)», —
четвертой частью его системы философии должна была стать
42
Предисловие
психология120 — «учение о единстве культурного
самосознания, или о душе человека»121. В 1923 г. выходит небольшое
сочинение Е.И. Боричевского «О природе эстетического
суждения»122, Кассирер начинает публиковать «Философию
символических форм», Наторп одну за другой пишет работы,
посвященные вопросам культурного строительства,
воспитания и творчества (см. комментарии к статье Фохта «Пауль
Наторп»). Эти же годы ознаменованы появлением новых работ
Белого по философии культуры... Таким образом, можно
утверждать, что эволюция взглядов Фохта воплощала в себе
смену парадигмы всего неокантианского течения.
В основании для возведения теоретического конструкта,
раскрывающего смысл понятия прекрасного, лежит кантов-
ский тезис об активности субъекта в познании и
нравственности, воплощенный в неокантианском принципе
«изначального происхождения» всякого содержания сознания в
творческой деятельности субъекта. Для доказательства этого
положения марбуржцам пришлось обратиться к системам
античной и новой философии, в которых они усматривали
философское предварение кантовского критицизма.
Значительной «стилизации» подвергся Платон, онтологизм которого
был превращен Наторпом в методологизм и гносеологизм.
Самый метод Платона — приближен к трансцендентальному
методу Канта. Вообще, Наторп вплоть до 1910 г. в понимании
учения Платона об идеях был ближе к априоризму Канта, чем
к интерпретации этого учения Когеном. Понятие Когена
о первоначале также, по мнению Наторпа, выросло из учения
Платона о «бытии небытия», то есть об относительном
небытии. «Мы стремимся углубить Канта посредством
Платона», — говорил Наторп123. Фохт показывает, что в понимании
специфического содержания или предмета эстетического со-
тКаган ММ. Герман Коген // Научные известия. Академический центр
наркомпроса. Сб. второй. Философия. Литература. Искусство. М.: Гос.
изд-во, 1922. С. 123.
i2i Саккетти АЛ. Обоснование систематического идеализма. Философия
Германа Когена ОР РПБ. Ф. 626. Ед. хр. 126. Л. 24.
122 Боричевский ЕЖ О природе эстетического суждения. Минск: «Бслтрест-
печать», 1923. С. 12.
пуНаторп П. Кант и марбургская школа // Новые идеи в философии.
Непериодическое издание под ред. Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова. Сб. № 5.
СПб., 1913. С. 129.
Предисловие
4а
знания (как формирования связи, равным образом
осуществляющейся как в воле, так и в познании) заключается важное
отличие учения марбургских неокантианцев от решения
этого вопроса Кантом, у которого эстетическое — результат игры
воображения либо только с рассудком, либо только с разумом.
Здесь несколько строк Фохт вновь посвящает полемике
с Файхингером, выявляя положительный смысл термина
«фикция», которая, по мнению автора, обусловливается
интуицией, фантазией и воображением и потому необходимо
содержится в прекрасном.
Попытка найти точку зрения единства, с позиций
которого всякое мышление оказывается мышлением бытия, а всякое
бытие — бытием мысли (причем сама эта точка зрения
единства предполагает неизменную корреляцию обоих), привела
Наторпа, как считает Фохт, впервые еще в 1888 г. к идее
распространения критического (трансцендентального) метода
Канта на новую область — обоснование психологии как науки.
Результатом решения этой проблемы вместе с возникшей
в связи с ней задачей радикального преобразования логики
(идея «всеобщей логики») стало коренное изменение всего
философского мировоззрения Наторпа. Точку зрения
первичного единства, возвышающегося над мышлением и бытием,
Наторп назвал «простым полаганием», или «тезисом».
Вместе с ним впервые возникает мышление, или «логос».
Безусловно, важное место в построении теории
эстетического занимает понятие «чистого чувства». И Коген, и Наторп
понимают его не как относительное или преобразующее
чувство, а как чувство, которое производит само себя,
самостоятельно направляет содержательную деятельность сознания,
и задачей которого является производство индивидуума124.
Техника, по Когену, и, по-видимому, Фохт придерживается
этой трактовки, является внутренне необходимым фактором
в созидании содержания эстетического сознания, представляя
собой особый научный метод, преобразованный вплавлением
познания в эстетическое чувство.
Важным моментом в постижении смысла эстетического Фохт
считает положение о синтетичности и целостности результатов
интуиции. Неокантианцы признавали ее ценность
применительно к искусству, считая, что «эстетическое сознание не нуж-
См.: Cohen И. Kants Theorie der Erfahrung. S. 185, 195-199.
44
Предисловие
дается в посредничестве абстракции. Оно целиком вращается
в сфере иррационального и воспринимает идеи
непосредственно во всей их конкретной полноте и бесконечности»125.
Тем же вопросам посвящена следующая работа Фохта
«О постановке основной проблемы эстетики у Канта и у Ко-
гена в связи с критикой основных понятий и принципов,
примененных Кантом к ее решению». Кроме безусловно
интересного теоретического содержания, это сочинение обращает на
себя внимание еще и тем, что в нем Фохт — редкий случай! —
позволяет себе намек на неблагоприятную
внутриполитическую ситуацию в отношении философов-идеалистов и,
прежде всего, неокантианцев.
Продолжая развивать неокантианскую теорию
эстетического, Фохт вновь «стилизует» Платона в марбургском ключе:
отбрасывая теорию Платона о двух мирах — чувственном и
умопостигаемом, он обращается к учению об идее-гипотезе как
логической основе истинного знания. Платон, с точки зрения
марбуржцев, — родоначальник того научного идеализма,
который, снова возродившись в эпоху Ренессанса, проходит
красной нитью через учения Декарта и Лейбница и наконец
достигает своего систематического завершения в критицизме Канта.
Интересно проследить, как Фохт совершенно в когенов-
ском духе интерпретирует понятие «вещи в себе». Коген, как
известно, пришел к выводу, что «вещь в себе» — это
исчезающая граниир, которая зависит не от самого этого явления, а от
наших мыслей, от наших мыслительных движений.
Следовательно, движение существует, и поэтому эта граница
постоянно модифицируется. В то же время она выступает как момент
единства, тотальности, по Гегелю, всего того, что до сих пор
рассматривалось как неподвижный источник всех априорных
конструкций в системе Канта.
Фохт показывает, как Коген развивает идеи Канта и
приходит к пониманию чистого чувства как направленного на
«самость», что представляет собой не психофизиологическое бес-
Сеземан В.Э. Рациональное и иррациональное в системе философии //
Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Ки. 1. М.,
1911. С. 120. См. подробнее: Фохт Б А. О философском значении
лирики Пушкина // Вопросы философии. 1997. № 11. С. 111-144;
Дмитриева НА. Пушкин глазами неокантинца // A.C. Пушкин и мировая
культура. Материалы международной конференции. (МГСУ, 21 апреля 1999 г.)
М.: Союз, 2001. С. 116-119.
Предисловие
45
содержательное чувствование, а интерсубъективное
содержание сознания, которое формируется в виде чувства другого
чувствующего индивида как его собственное содержание.
Следовательно, субъект эстетического сознания имеет своим
содержанием индивидуальность другого субъекта. Значит, его
«самочувствие» есть любовь, но не самолюбовь, а любовь
самости человека. Поэтому «первообразом» искусства
необходимо является образ человека в единстве его души и тела.
Даже природа становится эстетической, лишь будучи предметом
любви человека к человеку
Последние две работы этого сборника анализируют
существо и философскую эволюцию учения Пауля Наторпа, с
которым Фохт, по-видимому, был в более тесном общении,
нежели с Когеном.
Эссе «Пауль Наторп» представляет собой подробный пересказ
статьи Наторпа с трудно переводимым названием «Selbst-
darsteilung» («Самоизложение»)126. Отдельные моменты Фохт
иллюстрирует цитатами из произведений самого Наторпа, а
также Г Когена, древнегреческих философов и любимых Наторпом
писателей — Рабиндраната Тагора и Ф.М. Достоевского.
«Система эстетических воззрений П. Наторпа»
представляет для исследователя особый интерес. Дело в том, что сам
Наторп не успел объединить все свои идеи в определенную
систему — его книга «Философская систематика» увидела свет
лишь спустя 34 года после смерти автора и была составлена
на основе лекций и записей последних лет, явственно
обозначающих такое намерение. Фохт, разумеется, мог знать о
замысле, но не о воплощении. Между тем, даже с выходом из
печати наторповской «Систематики», сочинение Фокта, хотя
пафос и задача обоих произведений совпадают, не утратило
своего значения: во-первых, потому, что главной проблемой
в изложении Фохта стало эстетическое понятие
индивидуального, у Наторпа встроенное в систему, центральным понятием
которой является логическое; во-вторых, потому, что сам факт
существования параллельных текстов, предлагающих
варианты развития идей одного мыслителя (Наторпа): один —
авторский, реальный, другой — внешний, возможный, вышедший
из-под пера его ученика и последователя, — этот факт дает ис-
Natorp Р. Selbsldarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart in
Sclbstdarstellungen. Hrsg. von P.Schmidt. Bd. 1. Lpz.:Meiner, 1921.S. 151-176.
46
Предисловие
следователю уникальный шанс, избежав герменевтического
круга, изучить жизнь философских идей, особенности их
развития и рецепции. Фохт был одним из первых в истории
философии, кто отметил (именно в этой работе) общую
тенденцию идейного сближения неокантианского учения с Гегелем
и предсказал, только что начавшийся на тот момент,
интеллектуальный дрейф этого течения в сторону гегельянства.
***
Чтение трудов Фохта — особая текстологическая задача.
Несмотря на то, что в основном он писал ясно и разборчиво,
а иногда отдавал свои работы для набора машинистке (ибо
часть его трудов представляет собой машинопись),
текстологу еще и в будущем предстоит разгадать немало загадок
относительно текстов Бориса Александровича.
Трудностей в расшифровке его работ несколько. Во-первых,
аккуратнейший и педантичный в отношении к своим текстам
ученый оставлял иной раз у себя лишь третий или четвертый
машинописный экземпляр, который сейчас, спустя многие
годы, читается с большим трудом. Во-вторых, некоторые
экземпляры рукописей Фохта не выправлены после
машинистки самим автором. Можно, сравнивая варианты одной и той
же работы Фохта с исправленными рукописями, видеть, сколь
много изменений он в эти рукописи вносит. Текстологически
наибольшую трудность представляют собой те рукописи
Фохта — а таких работ большинство, — в которых он почти
никогда, как само собой разумеющееся для него, не указывает
выходных данных цитируемого издания, иногда — название
работы, а иногда даже имя автора. Многие издания, на которые
ссылается Фохт, теперь по большей части недоступны, и
среди них есть такие раритеты, само существование которых
ставится в наши дни под сомнение.
Особую трудность представляют рукописи Фохта, не
предназначенные для печати и скорее служащие конспективным
изложением того, что будет произнесено публично. Здесь
встречается огромное количество сокращений в названиях
произведений Канта и его последователей, которые (эти
названия) обозначены иногда только начальными буквами.
Положим, легко определить, что речь идет, например, о
«Критиках» или «Пролегоменах» Канта. Но всякий раз возникает во-
Предисловие
47
прос, какое именно издание произведений Канта было т>еред
глазами Фохта. Облегчить участь исследователя могла бы
библиотека самого Бориса Александровича, которая
насчитывала более 10000 томов. Здесь хранились редчайшие
экземпляры, которых не было ни в Ленинке, ни в Фундаментальной
библиотеке Академии наук, поскольку некоторые книги Фохт
специально выписывал из-за рубежа. В настоящее время эта
уникальная библиотека находится в Киеве, в Институте
философии Национальной Академии наук. Вдова Фохта Елена
Яковлевна решилась передать эту библиотеку киевскому
институту, поскольку они обещали срочно опубликовать
учебник логики для вузов, написанный Борисом
Александровичем за несколько лет до кончины127. Однако обещание
осталось обещанием: учебник так и не был издан, а ценнейшая
библиотека оказалась за пределами Российской Федерации...
Представляет определенную сложность и реконструкция
самой мысли Фохта, которая часто была направлена
полемически на неназываемых русских и немецких авторов, и только
ретроспективно можно с большей или меньшей точностью
определить, кто был адресатом этой критики. Между тем такое
сохранение позиции спора со взглядами, с концепциями, а не
с личностями было признаком высокого академизма и
правилом хорошего тона в научной полемике. Это отличало
российскую рационалистическую философию от тогдашней
политически заостренной публицистики, поэтому такую манеру
ведения спора и стилистику специально культивировали в себе
представители так называемой «чистой философии» в отличие
от тех, кто обращался к «общественно-полезным»
размышлениям, где в ход шли любые средства для того, чтобы
приобрести возможно большее число сторонников (это справедливо не
только в отношении собственно политических деятелей,
но и в отношении мыслителей мистико-религиозных,
концепции которых были, как теперь очевидно, не в меньшей степени
политически ангажированными, чем концепции, например,
большевиков или октябристов).
Полноценное научное комментирование этих текстов, как
и собственно философских взглядов автора, представляется
сейчас делом почти безнадежным, поскольку до сих пор не су-
Гарева АЛ. Предислоине к публикации // Вопросы философии. 1997.
№11. С. 108, прим.
48
Предисловие
шествует корпуса опубликованных работ мыслителя. Все
ранее увидевшие свет произведения и ныне публикуемые
сочинения — лишь малая часть того айсберга, который
представляет собой архив Фохта. Даже текстологическая работа не может
быть доведена до конца в силу того, что состояние
современного кантоведения и неокантиановедения не готово
предоставить исследователю возможность опереться на некий
библиографический фундамент как на безусловный.
***
В дни, когда уже заканчивалась работа над сборником,
трагически погибла Анна Аркадьевна Гарева (4.12.1918 —
12.09.2002) — почетный работник Московского университета
(психологическогофакультета), ученица и близкий друг
Бориса Александровича Фохта. Это ее самоотверженными
усилиями был собран по фрагментам и спасен от небытия архиэ
философа, а равно и та страница российской интеллектуальной ис-
г тории, без которой «не знающий родства» постсоветский
философствующий субъект еще долго бы падал ниц перед
ловким трюком саморекламы «булдяевых и бергаковых», — это
ведь только так говорится, что «рукописи не горят»... Анна
Аркадьевна не успела подержать в руках эту книгу, мечта о
которой давала ей силы в течение долгих лет безвременья, — но
пусть эта публикация будет памятником ее подлинному
благородству, безграничной преданности, кристальной честности
и исключительной интеллигентности, пронесенными ею через
всю жизнь, которая теперь принадлежит Истории...
Тексты публикуются с любезного разрешения дочери Анны
Аркадьевны — Натальи Михайловны Морозовой.
За воспоминания и предоставленные материалы из
семейного архива выражаю глубокую признательность Александру
Анатольевичу Вульферту, племяннику Б. А- Фохта. Я
бесконечно благодарна Юрию Алексеевичу Муравьеву за всемерную
поддержку и ценные советы по научной обработке архива, а
также Аслану Гусаевичу Гаджикурбанову, Ольге Олеговне
Куликовой, Елене Михайловне Шемякиной и Ольге Анатольевне
Дмитриевой за помощь в подготовке текстов. Спасибо моим
родным и близким за чуткость, понимание и терпение.
Нина Дмитриева
Опубликованные работы
Б.А. Фохта
Фохт Б А. Памяти князя С.Н. Трубецкого. Речь,
произнесенная в заседании Моск. психол. о-ва 7 октября 1905 г. //
Вопросы философии и психологии. М. 1906. №81 (1),
январь-февраль. С. 130-139.
Фохт Б А. Рец.: В.А. Савальский. Основы философии
права в научном идеализме. Марбургская школа философии: Ко-
ген, Наторп, Штаммлер и др. Т. I. М. 1908 // Критическое
обозрение. М. 1909. Вып. II, февраль. С. 66-74.
Фохт Б А. П. Наторп, 17 сентября 1924 г.
//Историко-философский ежегодник' 91. М.: Наука, 1991. С. 232-270.
Фохт Б А, Философия музыки А.Н. Скрябина//А.Н.
Скрябин. Человек. Художник. Мыслитель. М.: Гос. мемориальный
музей А.Н. Скрябина, 1994. С. 201-226.
Фохт БА. О философском значении лирики Пушкина //
Вопросы философии. М. 1997. № 11. С. 105-144.
Фохт Б А. Педагогические идеи Сократа //Дидакт. М.
1998. № 1 (22), январь-февраль. С. 60-64.
Фохт Б А. Понятие символической формы и проблема
значения в философии языка Э. Кассирера. Подготовка текста и публ.
A.A. Гаревой // Вопросы философии. М. 1998. № 9. С. 150-174.
Фохт Б А. Понятие символической формы и проблема
значения в философии языка Э. Кассирера. Тезисы к докладу.
Публ. и прим. H.A. Дмитриевой // Кассирер Э. Избранное.
Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 761-763.
Фохт Б A. Lexicon Aristotelicum (Пособие для изучения
Аристотеля как в подлиннике, так и в русском переводе).
Краткий лексикон важнейших философских терминов,
встречающихся в произведениях Аристотеля. Публ. и пред.
М.А. Солоповой // Историко-философский ежегодник — 97.
М.: Наука, 1999. С. 39-74.
Фохт Б А. Перечитывая античную классику //Педагогика.
2000. № 8. С. 64-72.
Работы о Б.А. Фохте
Вашестов А.Г. Жизнь и труды Б.А. Фохта //
Историко-философский ежегодника. М.: Наука, 1991. С. 223-231.
Гарева АЛ. Предисловие к публикации //Вопросы
философии. 1997. № И. С. 105-111.
Гарева АЛ. Фигнер философской Москвы // Дидакт.
журнал по проблемам образования и культуры. М. 1997. № 3-4
(17-18), май-август. С. 27-31.
Гарева АЛ. «Фигнер философской Москвы». Борис
Александрович Фохт // Судьбы творцов российской науки / Отв.
ред. и сост. A.B. Суворин и М.И. Панов. М.: Эдиториал УРСС,
2002. С. 279-287.
Дмитриева H.A. Борис Александрович Фохт: к истории
русского неокантианства. Монография. М.: Прометей, 1999.
108 с.
Дмитриева НЛ. Борис Александрович Фохт: триумф
нетипичности // Философский век. Альманах. Вып. 10.
Философия как судьба: Российский философ как социокультурный
тип. СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей, 1999.
С. 84-94.
Дмитриева H Л. Б.А. Фохт: к истории русского
неокантианства // Труды научной конференции студентов и аспирантов
«Ломоносов-99». История. М., 1999. С. 109-113.
Дмитриева НЛ. Прогулки с Фохтом // Культура. М. 20 июля
1996. № 27. С. 10.
Дмитриева НЛ. Пушкин глазами неокантианца // A.C.
Пушкин и мировая культура. К 200-летию со дня рождения A.C.
Пушкина. Материалы международной конференции. Москва, 12
апреля 1999 г. М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2001. С. 116-119.
Дмитриева НЛ. Фохт Борис Александрович //
Алексеев П.В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии,
идеи, труды. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Академический
Проект, 2002. С. 1026-1027.
Об основной идее,
существе и главнейших моментах
трансцендентального метода
в теоретической философии
Канта
Man tadelt Michelangelo nicht
ohne sich selbst bloßzustellen
Я. Cohen^
Man hat Kant nicht zu lesen,
sondern sich in ihn zu versenken
#. Cohen2*
Wir kennen die Natur
nur als Naturwissenschaft
H. CohetF
So ist ihm das Sein ein Erzeugnis
der Wissenschaft, die Wissenschaft
die Bedingung des Seins
A. Gbnand**
Si) reift Leibniz, von Hume gereinigt,
zu dem in Newton befestigten Kant
H. Cohen*
ЧАСТЬ I
Задачей предполагаемого исследования является отнюдь не
изложение теоретической философии Канта в ее целом,
а лишь ее характеристика с точки зрения основной идеи
и принципа того метода, тюторыиполучилназвание
трансцендентального и которого открытие и применение составляет
главный центр всех философских стремлений Канта, —
истинный смысл той реформы в учении об условиях
достоверности научного познания, которая навсегда связана в истории
человеческой мысли и культуры с его именем. Таким с самого
начала установленным ограничением задачи и самой цели
исследования должны быть по возможности предотвращены
многие недоразумения и возражения, которые неизбежно
возникли бы, если бы здесь имелась в виду постановка, тем
более решение, в духе философии Канта проблемы научного
познания в ее целом, во всем ее объеме и до глубины се
последних оснований в их применении к решению этой проблемы.
И потому особенно казалось целесообразным такое
ограничение, что относительно задачи и метода теоретической
философии даже и среди представителей современной философии
вообще нет полного единомыслия. По одному из двух
наиболее распространенных, но существенно расходящихся и в
некотором отношении даже противоположных друг другу
взглядов, самым выдающимся и авторитетным выразителем
которого можно считать В. Вундта6*, отчасти также Паульсена7*
и Кюльпе8*, теоретическая философия определяется как
«всеобщая наука»128, которая своей задачей ставит соединение
128 Wandt W. System der Phylosophie. [- Leipzig: Engclmann, 1889.] S. 21; Logik.
(Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss und der Methoden
wissenschaftlicher Forschung], Bd. II [Mcthodenlehre]. Abt. 2 [Logik der
Geisteswissenschaften]. 2-te Aufl. [- Stuttgart: Enke, 1895.] S. 641.
54
Об основной идее...
в одну, свободную от противоречий, систему всех имеющих
общий характер познаний, достигаемых отдельными
науками9*. По другому воззрению, непосредственно
примыкающему к Канту, самым влиятельным представителем [которого]
является Герман Когсн10* и, в известной мере, также по
основному направлению близко примыкающие к нему
исследователи, как-то: Штадлери*, Наторп12* и отчасти Риль|3\
теоретическая философия определяется всецело и исключительно
в смысле критики при теории познания, единственной и
всеобъемлющей задачей которой является выяснение условий
возможности научного опыта, точной науки о природе в
широком смысле. «Опыт, — по выражению Когена, — есть
многообещающее название, которое одновременно означает и
метод, и объект познания»129, а Штадлср даже определенно
заявляет140, что со времен Канта под методом вообще ничего
другого и нельзя понимать, как только «решение проблемы
о "возможности научного опыта"»™*. В существе сходных
взглядов придерживается также П. Наторп, А. Риль и многие
другие. Правда, и для того, и для другого из указанных
направлений общим является убеждение в необходимости самой
тесной, непосредственной связи теоретической философии с
эмпирическими науками, с точным положительным знанием.
И Вундт, и Коген одинаково согласны в том, что философия
не есть знание из одних только чистых понятий, но должна
обосновывать свои утверждения, отправляясь от опыта в том
его виде и значении, какие он имеет в точных науках о
природе. Но если для Вундта, его единомышленников и
последователей результаты эмпирического исследования служат
только отправным пунктом, чтобы отсюда постепенно подняться
до возможности выработать общее, всем самым строгим
требованиям науки отвечающее мировоззрение, соответственно
чему и самая философия понимается и определяется здесь как
учение о мировоззрегши, то для представителей другого
направления, для Когена, Риля, Штадлера, Наторпа, в
последнее время Кассирера15* и других, самый опыт, то есть
научное познание в его возможности и условиях, становится
проблемой. «Критика разума есть критика познания или науки», —
129 Cohen IL Kants Theorie der Erfahrung, с 58.
l:i0Stadler A. Die Grundsätze der reinen Erkenntnisstheorie (in der kantischen
Philosophie. Leipzig: S. Hirzel, 1876. S. 5].
Часть I
55
как наиболее радикально в строго объективистическом духе
выражает эту мысль Koren131. Эта последняя точка зрения,
непосредственно и несомненно, как увидим из дальнейшего, вос-
ходящая к Канту, в том отношении имеет, по-видимому,
преимущество по отношению к первой, что разрешение вопроса
о возможности опыта, каким бы ни оказался искомый ответ
на этот вопрос, не может не иметь определяющего значения
для выработки научного мировоззрения, что составляет, как
мы видели, главную задачу философии и чем определяется ее
метод, по убеждению тех исследователей, для которых, как
для Вундта, готовые результаты опытного знания служат не
только исходным пунктом, но и обуславливающим фактором
выработки цельного, требовмиям науки удовлетворяющего
мировоззрения. При ближайшем рассмотрении становится
действительно совершенно ясным, что единственно надежный
путь к этой цели состоит в решении проблемы о возможное-
ти опытау каковое решение всегда есть в то же время и
определение границ человеческого познания, без чего невозможна
выработка мировоззрения, отвечающего современному
состоянию научного знания.
Но если все, только что сказанное, справедливо, то
представляется не подлежащим сомнению, что вопрос об
условиях и самой возможности опыта или научного познания,
составляет основную проблему всякой теоретической и, прежде
всего и в особенности, кантовской философии, если только верно,
что во всей своей определенности и глубине эта проблема
была впервые сформулирована и поставлена Кантом и что
именно в ней мы имеем дело с основной идеей и принципом того
метода, который получил у Канта название
трансцендентального и со времени появления в свет «Критики чистого
разума» претендует на значение самостоятельного, своеобразной
природой философского знания обусловленного метода,
специфически присущего одной только философии в отличие от
всякой другой науки.
Последующее изложение должно служить оправданием
этого основного предположения и доказать правильность той
характеристики теоретической философии Канта, которая им
обусловлена и из него вытекает.
1:11 Coften H, Das Princip der infinitesimal·Methode fund seine Geschichte. Ein
Kapitel zur Grundlegung der Erkenntnisskritik. Berlin: Dümmler, 1883]. S. 6.
56
Об основной идее...
Правда, уже заранее, из соображений самого общего
характера, представляется убедительным заключение, что для
всякого, кто в отличие от Вундта и его последователей,
отрицающих самостоятельность философии и своеобразную
природу ее метода132, признает, как это со всей решительностью
делает уже Кант,необходимость рашоположтго вопроса
^^!^J^^IiQÇ™9r]biTa (Wie ist Erfahrung (selbst) möglich)ш,
будет не подлежать сомнению и необходимость признать
самостоятельность и своеобразность философского метода,
поскольку именно постановка проблемы опыта отличает
философию от всез^отдельных наук, для которых этой проблемы
не существует. Ведь все отдельные науки предполагают уже
возможность опыта и лишь стремятся раскрыть и расширить
содержание этого опыта, каждая в своей области. Но раз
проблема опыта возникает как самостоятельная, то она
неизбежно требует и особого метода для своего решения. Вот почему
самостоятельность и своеобразность философского метода
должна быть, по-видимому, необходимо и безусловно
признана, как основное начало всякой теоретической философии.
Однако для понимания самого существа учения Канта о
Познани и и проникновения в подлинную природу
трансцендентального метода во всей его своеобразности и особенностях
надлежит не только выдвинуть на первый план проблему
самой возможности опыта (Möglichkeit der Erfahrung)10* и тем
принципиально обосновать признание самостоятельности
и своеобразности метода философии, но необходимо во всей
полноте раскрыть содержание и истинный смысл этой
проблемы и этого термина, в которых уже содержится все
значение того, что Кант обозначает терминами «a priori» и
«трансцендентальный».
И здесь прежде всего следует обратить внимание на то, что
понятие возможного опыта, по крайней мере в отношении об-
132 Поскольку философия «имеет общую цель с другими науками, ей не
могут быть свойственны и никакие специфические методы» (Wundt. Logik.
Bd. IIf Abt. 2. [S. 6401).
m Katun I. Prolegomena, §36. «Wie 1st Natur selbst möglich?», там же, с. 82
(320), конец §36: «in Ansehung der letzteren (allgemeinen Naturgesetzen) ist
Natur und mögliche Erfahrung ganz und gar einerlei* [курсив Б. Фохта. —
НД.\. См. также Prolegomena, §17, с. 52-54 (296 и 297) и «Критика
чистого разума», особенно с. 185-187 (195, 196 и 197), а также с. 136 (126)
и с. 165(166).
Часть I
57
щих законов связи восприятий в опыте, всецело совпадает для
Канта с понятием природы13", понятие же природы в свою
очередь тождественно у "Канта с понятием познания
(Naturerkenntnis), или науки о природе (Naturwissenschaft)135.
Поэтому проблема возможности опыта или, что то же,
возможности хамои^ природы (Wie ist Natur selbst mogfich?)136 в конце
концов сосредоточивается в вопросе о возможности
общезначимых синтетических суждений о предметах опыта, то есть
сводится к проблеме чистой науки о природе (Wie ist reine
Naturwissenschaft möglich?)137. Для всей критической
философии, для всей системы Канта решающей проблемой,
соответственно этому, является вопрос об отношении философии
к науке, понимаемой в смысле науки о природе.
Действительность138, факт науки, чистого естествознания, науки и
«метода Ньютона» — не в смысле какой-то завершенной и в себе
замкнутой системы знаний, но науки как надежного пути се все
дальше идущего развития (den sicheren Gang einer
Wissenschaft)17*, этот факт в течение всего философского развития
Канта, бал и навсегда остался для него отправным пунктом
и краеугольным камнем обоснования критической
философии. Применить «метод Ньютона», метод точного,
математического естествознания, к разработке учения о бытии и
познании, то есть метафизики, как Кант выражался еще в своих
сочинениях докритического периода («Über die Evidenz in
metaphysishen Wissenschaften» ,8*, «Monadologia physica»19*,
«Versuch, den Begriff der negativen Grossen in die Weltweisheit
einzuführen»20*), или использовать для той же цели, в идее и
существе своем заимствованный у естествоиспытателей, но в
метафизике, то есть в учении о познании природы, до сих пор
все еще не нашедший своего надлежащего применения и по-
ι.ή prolegomena, §36: «in Ansehung der letzteren — den reinen oder allgemeinen
Naturgesetzen — ist Natur und mögliche Erfahrung ganz und gar einerlei», см.
также: Prolegomena, §17 н «Критику чистого разума», с. 187 (197).
ш Prolegomena, §14: «Natur ist das Dasein der Dinge, sofern es nach allgemeinen
Gesetzen bestimmt ist» | курсив Б.Фохта. — H Д.]. См. также: Prolegomena.
§15, с. 51: «Naturerkenntnis — Naturwissenchaft», и Prolegomena, §17, с. 52
(296).
!:юТам же, §36, с. 79 (318).
,:,7Тамже,§14,с.50(294).
ш Критика чистого разума, 2-е изд., с. 57 (20) и предисл. ко 2-му изд.
«Критики», с. 15 (VII), 19-20 (XIV, XV) и 22-23 (XIX). особенно: Критика
чистого разума, с. 138 (128) — «...Facttim».
58
Об основной идее...
тому совершенно новый в ней метод (die veränderte Methode
der Denkungsart... — dem Naturforscher nachgeahmte Metho-
de),:u\ как Кант выразил это требование в предисловии ко 2-му
изданию своей «Критики чистого разума», — таковы
основные задачи этого своеобразного замысла Канта заново
обосновать теоретическую философию при помощи
самостоятельного, ей только присущего, но не менее, чем в науках о
природе и математике, достоверного и надежного метода, по образцу
этих точных наук задуманного и сформулированного, коего
лринцип Кант выражает в руководящем предположении,
«что мы только то a priori, то есть вполне достоверно,
познаем о вещах, что мы сами в них вкладываем», и в том только
должны искать «элементы чистого разума, что можно
экспериментом подтвердить или опровертуть»ш.
Но если, как это видно из сказанного, самостоятельное
существование науки, ее факт в смысле надежного (sicheren)
и непрерывного (stetigen) хода ее развития был той основной
и руководящей мыслью Канта, которая привела его к новой
метафизикеи\ понимаемой в смысле строго достоверного,
общезначимого и постольку априорного знания о природе, или,
что то же, — к его «Критике», то главной проблемой, которая
должна была стать перед ним теперь во всем ее значении и
силе, был вопрос: «Накакре же именноособешюе,
самостоятельное существование в_апюшенииупомянутому факту науки
может претендовать и отстаивать для себя философия?»21*
Таков этот великий вопрос в рассмотрении, исследовании и
решении которого, правда, только относительном, неполном
решении, заключается все существо и значение теоретической
философии Канта.
Одно руководящее понятие и с ним тесно связанное, но не
совпадающее другое понятие являются здесь стоящими
в центре и решающими понятиями в отношении к самой
проблеме возможности философии, поскольку и именно потому,
что таковыми же эти два понятия являются и для науки,
хотя в ее пределах еще не сознаются во всем своем принципи-
ш Критика чистого разума, ггредисл. ко 2-му изд., с. 22 (XVIII).
М0См.: там же, с. 22 (XVIII) и примечание к этой строфе.
ш Там же. Предисловие к 1-му изд.» с. 13 (XV): «Metaphysik der Natur»;
предисловие ко 2-му изд., с. 22-23 (XVIII и XIX): *|der] Metaphysik in ihrem
ersten Theile... (der] Natur, als [dem] Inbegriffe der Gegenstände der
Erfahrung».
Часть I
59
алыюм значении и силе, — речь идет о понятии «a priori»
и о понятии «трансценденталыюго», с ним [с понятием «a
priori»] тесно связанном, но отнюдь не тождественномН2.
Известно, что еще Платон и сам унаследовал, и истории
философии завещал основной вопрос логики, и именно потому
и постольку основной вопрос всякой науки: что есть познание
(τι έστιυ επιστήμη), что есть сама наука; он же раскрыл
первоначальный, но, правда, еще не полный и не точный смысл
понятия «a priori»,/|:i. Этот вопрос о самой возможности науки
и о началах ее обоснования как безусловно достоверного
познания, познания «a priori», стал основной проблемой (всей)
теоретической философии всех последовавших веков. Декарт
и Лейбниц в своих классических исследованиях работали над
этим вопросом, но двумя разными, еще не согласованными
тогда между собой методами — как математики и как философы-
метафизики. Для того, как и для другого, наука еще не была
дана как факту еще не предлежала им в виде готовой системы
познаний. И именно в том заключается отличие Ньютона от
Лейбница, что он впервые построил и создал эту систему,
поставил философию перед лицом факта этой системы
научного знания, перед неоспоримой действительностью
математического естествознания. Уже в самом заглавии знаменитого
творения Ньютона «Philosophiae naturalis principia matematica»
в термине «principia»22* содержится намек, как бы некоторое
указание на эту систематизирующую их роль, хотя, правда,
принципы эти берутся здесь как исключительно
математические, несмотря на явно обуславливающую и определяющую роль
их как первоначальных факторов нашего познания, как
«принципов a priori». Однако по самому смыслу проблемы о
возможности науки как достоверного знания, и по характеру ее
первоначальной постановки у Платона и ее разработки у
последующих мыслителей надлежит со всей определенностью
поставить вопрос: «одна ли только математика содержит в
себе всецело и исключительно принципы науки о природе?»23* И ес-
142 Критика чистого разума, с. 102 (80) 2-го изд.: «dass nicht eine jede Erkenntnis
α ρήοή, sondern nur die, dadurch wir erkennen, dass und wie gewisse
Vorstellungen... lediglich a priori angewandt werden oder möglich sind, transs-
cendental... heissen müsse» [курсив Б. Фохта. — НД.\.
ш Plato. Theaetet. 151Е; Meno. 81E, 82 А и особенно 85 D: «αυαλαβώυ αυτός-
έξ αυτού τήυ έπιστήμηυ [Men.] Ναι [«...и знания ou найдет в самом се-
бс?-МЕНОН. Нуда».Ь
60
Об основной идее...
ли бы Ньютон в самом деле имел намерение, как это может
показаться на первый взгляд, устранить философию от роли
раскрытия и обоснования в ней принципов науки о природе,
тогда не только были бы в силе против него все возражения и
несогласия с ним Лейбница, но даже и с Галилеем он оказался бы
тогда в решительном противоречии, поскольку чисто
логический и потому строго и всецело философский (платоновский)
принцип чисто мыслительного принятия (mente concipio) с
самого начала был и навсегда остался для Галилея подлинным
и руководящим принципом его исследования и познания
природы, — это было как раз уже у Галилея то самое «a priori»,
про которое Кант, как мы видели выше, сказал, что мы в том
только должны искать «элементы чистого разума, что можно
экспериментом подтвердить или опровергнуть»ш. Этот
опыт — эксперимент — всегда подчинен уже у Галилея его
исходному «mente concipio» — умственному схватыванию,
то есть построению умом некоторой гипотезы, соответственно
которой продумывался, а затем проверялся математическим
вычислением самый эксперимент. Таковы были опыты
Галилея со скатыванием шаров с наклонной плоскости для
проверки гипотезы о скорости падения тел, опыты Торричелли со
столбом воды и ртути для проверки предположения о
давлении атмосферы, как постоянном факторе поднятия жидкости
в сосудах, химические опыты Шталя с получением извести из
металлов и металлов из извести согласно заранее сделанному
предположению получения их именно таким путем — вот
примеры планомерного методического соединения
первоначальных чисто мыслительных допущений с экспериментом,
соединения «a priori» с «опытом» — знаменитые примеры, на
которые в предисловии ко 2-му изданию «Критики чистого разума»
в целях характеристики своего метода [ссылается Кант]24*.
В этом ведь и состояла самая суть метода, заимствуемого
Кантом у естествоиспытателей для философии («dem
Naturforscher nachgeahmte Methode»)25*, в одинаковой мере бывшего
общим и Галилею, и Ньютону И Ньютон, следовательно,
не устранял по существу самой проблемы и не мог иметь
намерения устранить философию от задачи раскрытия и
обоснования в ней принципов математического естествознания.
«В книге природы философия вписана математическими бук-
Критика чистого разума, примечание к с. 22 (XVIII).
Часть I
61
вами»26* — это убеждение было руководящим как раньше для
Галилея, так впоследствии и для всей ньютоно-лейбницевской
эпохи, для всей научной философии того времени; но
надлежало теперь поставить и попытаться решить во всей его
глубине и значении более основной и принципиальный вопрос
о точном определении и обосновании того участия, которое
философия, наряду с математикой и независимо от нее,
должна иметь в решении проблемы о возможности науки о
природе и, прежде всего, — той фундаментальной части ее, которая
носит название чистой или теоретической физики. Все
великие исследователи и мыслители того времени трудятся над
этой проблемой, спорят и борются за нее между собой и,
исходя из этого центрального пункта, затрагивают и другие
больные вопросы тогдашней философии. Уже в первом, почти
юношеском, сочинении Канта эта борьба нашла себе яркое и
глубокое выражение (например, вопрос о природе пространства
и его измерениях, о силе и действии [3 ел. нрзб]), и уже здесь
со всей определенностью ставится проблема о новом
обосновании и новом методе метафизики, которую Кант
отождествлял тогда (как в известном смысле, впрочем, и всегда
впоследствии) с философией, в ее отношении к точной, с именем
Ньютона и его методом неразрывно связанной, науке о природе1 ЛГ\
И все эти контроверзы и горячие споры становятся
понятными и получают все свое значение и смысл единственно из
этого центрального пункта, из этого кардинального вопроса о том,
«какое значение, какую силу имеет философия для науки?» Но
никто не оказывается в силах ответить на этот вопрос: ни
менее выдающиеся исследователи, ни даже самые великие.
Определить это отношение стало поэтому главнейшей
задачей, центральным пунктом всех исследований критической
Kant 1. Gedanken von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte [und
Beurteilung der Beweise, deren sich Herr von Leibniz und andere Mechaniker
in dieser Streitsache bedient haben, nebst einigen vorhergehenden
Betrachtungen, welche die Kraft der Körper überhaupt betreffen («Мысли
об истинной оценке живых сил и разбор доказательств, которыми
пользовались г-н Лейбниц и другие знатоки механики в этом спорном
вопросе, а также некоторые предварительные соображения, касающиеся силы
тел вообще») (1746). Уже здесь, в связи со спором Лейбница и Ньютона
по вопросу о способе действия физических тел друг на друга и их
взаимоотношения, все время идет речь о новом обосновании науки о
природе из принципов новой, критическим методом разрабатываемой метафи-
62
Об основной идее...
философии Канта, той новой метафизики Канта, которую она
собой представляла. И вот наконец удается установить точное
определение для выражения этого отношения посредством
нового основоположного термина, составляющего основное
понятие, настоящий верховный принцип, подлинный центр
тяжести всей «Критики чистого разума». Речь идет о понятии
априорного, то есть в нашем познании первоначального
синтетического основоположения. На место неопределенного,
всегда несколько двусмысленного, даже многозначного поня-
зики, о судебном разбирательстве в сфере науки (vor dem Richterstuhle
der Wissenschaften) (Vorrede 111. | Immanuel Kant's sämmtliche Werke. Vol.
V. Schriften zur Philosophie der Natur. — Leipzig, 1839. S. 7.J), не столько
о самом предмете науки, сколько о способе его исследования и познания
(nicht eigentlich die Sache selbst, sondern den modus cognoscendi) (§50,
fS. 731), о недостаточности математики и ее метода для разработки
учения о движении и науки о природе вообще (§28), о новом критическом
методе метафизики... [далее 1 строчка срезана при переплете
рукописи. — НД.) [...для обладания истиной] (zum Besitz der Wahrheit) [§28,
S. 49], о рассмотрении самых общих основоположений (Grundsätze, §88,
[S. 1181) и условий (Erwägung der Bedingungen, [S. 119]) всех научных
утверждений, о тирании ошибок над человеческим |)ассудком в связи и в
зависимости от отсутствия в философии истинного метода (die Tyrannei der
Irrtümer über den menschlichen Verstand, die... von dem Mangel dieser
Methode [...] hergerührt hat, §89, [S. 120]), об искусстве делать
обоснования, предположения и выводы, исходя из основных предпосылок (aus den
Vordersätzen, [S. 122]), наконец, о том, что «первейшие источники
действия природы составляют прямой предмет исследования для
метафизики», которая сама стоит «лишь на пороге вполне основательного
познания» (die allerersten Quellen von den Wirkungen der Natur durchaus ein
Vorwurf der Metaphysik sein müssen, §51, [S. 75]. [Unsere] Metaphysik [ist]...
an der Schwelle einer recht grundlichen Erkcnntniss, [§19, S. 35]), — обо всем
этом здесь трактуется с такой смелостью и убедительностью, что не
остается ни малейшего сомнения, что уже тогда проблема обоснования науки
о природе из принципов философии... | далее 1 строчка срезана при
переплете рукописи. — НД.\У что ясно и из характерного выражения Канта,
встречающегося уже в этом нервом его сочинении «Wir müssen aber die
metaphysischen Gesetze mit den Regeln der Mathematik verknüpfen, um das
wahre Kräftemaass der Natur zu bestimmen» (S. 136), н что тут же, уже в
критическую эпоху философской деятельности Канта, получит свое
окончательное выражение в его учении о формальных условиях опыта, в част-
иости о том, что Кант в «Metaphysische Anfangsgründe der
Naturwissenschaft» [1786], говоря о пространстве, называет «существенной формой»
(wesentliche Form) наших внешних чувств. Словом, всегда для
обоснования науки, как достоверного знания о природе, Кант требовал, кроме
применения правил математики, также и принципов чисто философского
знания, или, как тогда принято было говорить, — метафизики.
Часть I
63
тия принципа у Ньютона Кант прежде всего ставит ясное,
никаких сомнений, никакого перетолковывания не допускающее
понятие основоположения (Grundsatz). И как бы намеренно*
чтобы устранить и заранее исключить самую возможность
неправильного понимания, всякой двусмысленности и
неопределенности его значения, Кант снабжает и оснащает это
понятие «основоположения» еще другим понятием, которое все
свое значение и силу приобретает именно через связь с
понятием основоположения. Это — понятие синтетического. Так
возникает и незыблемо устанавливается понятие
синтетического основоположения, априорного — потому именно, что
оно основоположение, синтетического — потому, что оно
содержит в себе условие, выражает принцип расширения
знания. Знаменитое, так напрасно искажавшееся, таким
чудовищным недоразумениям и перетолкованиям легкомысленно
подвергнутое, различение аналитического и синтетического
в познании по своему положительному смыслу и значению все
целиком сосредоточивается, все возводится к этому понятию
синтетического основоположения. Любое «синтетическое
положение, — говорит Кант, — несомненно может быть
усмотрено (eingesehen) по закону противоречия (nach dem Satze des
Widerspruchs), но только так, что при этом предполагается
некоторое другое синтетическое положение, из которого оно
выводится, но никогда — само по себе»27*. Определенно
указывает здесь Кант на коренную ошибку и основоположения
(auch die Grundsätze) стремится получить аналитически по
закону противоречия"6. Все определяется этим
фундаментальным понятием «основоположения», и все к нему приводится.
Все понятия, все деления и подразделения «Критики чистого
разума» и «Пролегомен» только подготовления, только
подступы и подходы к этому понятию. Но из всех понятий кан-
товской философии ни одно в такой мере не получает весь
свой смысл и все свое значение через непосредственное
отношение к тому, что Кант понимает под термином
«синтетическое основоположение», как то понятие, которым Кант харак-
г,Под углом зрения учения о «синтетических основоположениях» должно
быть понято и «классическое» различение Кантом суждений на
аналитические и синтетические (Prolegomena, § 3). Как два рода познания
должны быть различаемы между собой суждения аналитические и
синтетические («Ich will daher gleich anfangs von dem Unterschiede dieser zwiefachen
Erkenntnissart handeln». — Критика чистого разума» с. 47 (10)), а отнюдь
64
Об основной идее...
теризует всю своеобразность, всю новизну своей философии,
именно понятие трансцендентального.
Но какой же смысл, какое значение имеет это центральное
для Канта понятие, которым он характеризует всю свою
философию, как в ее целом, так, в равной мере, и ее метод. Уже во
введении к «Критике чистого разума» в главе «Идея и
разделение особой науки [курсив Б. Фохта. — НД.\ под названием
"критики чистого разума"»28* Кант дает следующее, номинальное,
правда, пока только предварительное определение или, вернее,
даже характеристику этого понятия: «Всякое (такое) познание
я называю трансцендентальным, которое имеет дело не
столько с предметами, сколько с нашимспособомпознания о
предметах вообще, насколько такой способ познания должен быть
возможен а priori»1-17, или, как сказано во введении к 1-му
изданию «Критики», «не столько с предметами, сколько с нашими
понятиями a priori о предметах вообще». «Система таких
понятий и заслуживала бы названия "трансцендентальной
философии"»148, под которой, следовательно, должно понимать не
систему каких-либо готовых знаний, а только систему принципов
познания a priori — основоположений.
Но разве все равно сказать в характеристику и для
определения «трансцендентального познания», что оно имеет дело
«с нашим способом познания о предметах вообще, насколько
такой способ познания возможен a priori», или — что оно
имеет дело «с нашими понятиями a priori о предметах вообще»?
О каких «предметах вообще» здесь идет речь и что следует
понимать под «способом их познания» a priori? Ответ на эти
не идет здесь речь о различии их в смысле формальной логики. И в
«Критике», и в «Пролегоменах» с одинаковой оп|)еделенностыо и решимостью
говорится не просто о синтетических суждениях как таковых, но о
«синтетических суждениях a priori» как принципах или «основоположениях»
(Grundsatze) (Критика, с. 52 (14), Prolegomena. § 2, с. 15-16 (267)),
причем и там и здесь особенно подчеркивается, что хотя всякое положение
должно быть выведено согласно (demàss) закону противоречия, по не
всякое может быть из него выведено. См.: Prolegomena, § 2, с. 16, в начале,
(267); Критика, с. 52 (14, в конце); сравн. также: Критика, с. 192-193
(204-205), где суждение 7+5^12 характеризуется как простая «Zahf-
forrael» и как «einzelner Satz» [далее срезано при переплете. — H Л.], а
также: Критика, с. 59 (24), 119 (103) и особенно с. 139 (130), также:
Prolegomena, § 3, с. 21 (274).
147 Критика чистого разума, с. 60 (25).
м8Там же.
Часть I
65
вопросы, здесь, в этой вводной части предлагаемого
исследования только предварительно и в самой общей форме
данный, должен все же ближе выяснить нам значение и самый
смысл понятия о «трансцендентальном», его подлинное
содержание. Поскольку всякое познание есть познание о «чем-
нибудь», оно по самой своей природе есть познание
синтетическое, и всякое понятие по своему содержанию есть для
Канта только предикат или совокупность предикатов целого ряда
возможных суждений1™. Никакое содержание познания не
может образоваться, не может сложиться и стать
содержанием иначе как через синтез™. Значит, познание как познание
о чем-нибудь, о некотором пока еще неизвестном НЕЧТО=
Χ,5ί, должно направляться щ предметы, иначе оно не было бы
познанием синтетическим. Но вёдь^вно нео каких-либо
отдельных, тех или иных, здесь и там, сейчас, потом или
раньше перед нами имеющихся или находившихся предметах
может идти речь. Такие предметы во всех своих подробностях,
в своих специфических особенностях, всегда нуждались бы
для своей характеристики в ощущениях, в опыте в смысле
констатирования восприятий их ассоциативной связи и
совокупности, в опыте в обыденном значении этого слова,
в смысле «experientia vaga, experientia mater studiorwm»®*, —
такие предметы всегда были бы единичными
индивидуальными предметами («вот этим здесь и сейчас», «вот этим там
и потом»), а не предметами научного познания, науки о
природе, которая с такими индивидуальными предметами никог-
1 Критика чистого разума, с. 113 (94): «ронятия как предикаты [курсив
Б. Фохта. — H Д.] Ьодможных определений относятся к некоторому
представлению^) еще неопределенном предмете».
Там же, с. 119 (103): «...никакие понятия по своему содержанию не могут
возникнуть аналитически... только синтез есть то, что собственно
собирает элементы в познание и соединяет в некоторое содержание; он,
следовательно, есть первое [курсив Б. Фохта. — H Д.], на что мы должны
обращать внимание, когда хотим высказать суждение о первоисточнике
наших познаний».
Там же, с. 707-708 (104 1-го изд.): «что, собственно, понимают, когда
говорят о предмете, соответствующем нашему познанию и тем самым от«не-
го отличном? Легко понять (einzusehen), что этот предмет должен быть
мыслим, только как нечто вообще - х, т. к. за пределами нашего познания
мы ведь не имеем ничего [курсив Б. Фохта. — H Д.], что мы могли бы
противопоставить этому познанию...» [далее срезано при переплете
рукописи: «...как соответствующее ему». — H Д.].
66
Об основной идее...
да дела не имеет. Значит, по самому смыслу поставленной
Кантом проблемы, по всему ходу его исследования, здесь
имеются виду отнюдь не эти индивидуальные, посредством
восприятия схватываемые в суждениях об отдельных
восприятиях предметы (Wahrnehmungsurteile)1-152 — констатируемые
предметы, нсгпредметы совсем в другом смысле,
синтетически, и притом всеобщим и необходимым образом познаваемые
предметы, — предметы, насколько они содержатся в
синтетических познаниях a priori, в опыте в смысле системы
синтетических суждений a priori (Erfahrungsurteile), или, что то же,
пауки об этих предметах как предметах вообще. ТВот что
приведенном выше предварительном определении понятия
«трансцендентального» означает термин «предметы
вообще», и поскольку синтетические познания a priori
осуществляются и достигаются посредством синтетических суждений
a priori, которые подводят к «понятиям a priori» [и] в них, как
в своих завершениях, выражаются, постольку, конечно,
вместо выражения «с нашим способом познания о предметах
вообще» можно сказать, что трансцендентальное познание
имеет дело «с нашими понятиями a priori о предметах вообще».
Ведь посредством этих именно «понятий a priori», когда они
наконец в виде и в форме «основоположений» получат у
Канта значение «принципов познания», обусловливаются как раз
познания о предметах, и даже более того — самые эти
предметы порождаются ими, доводятся в них и через них до
познания, как предметы науки о природе, как предметы
вообще. Но если это так, если по основной идее всей критической
философии и ее нового метода (как это со всей
определенностью выражено уже в предисловии ко 2-му изданию
«Критики чистого разума») предметы, или, что то же, опыт, в
котором они только (как данные предметы) и познаются,
«сообразуются с... понятиями» (richte sich nach diesen Begriffen),
и если самый этот опыт есть только некоторый «род
познания» (eine Erkenntnissart ist), который нуждается в рассудке
и требует его (die Verstand erfordert)153, и в котором эти
предметы как предметы познания впервые порождаются
(hervorbringen müssen) для их вполне достоверного, то есть априор-
152 Prolegomena, § 18, с. 54 (298); § 19, с. 56 (299); § 20, с. 57 (300), § 36,
с. 82 (320).
15 * Критика чистого разума, с. 22 (XVII), 25 (XXII).
Часть I
67
нот, познания151 (um sicher etwas a priori zu wissen)30*, —
если все это верно, то не остается уже ни малейшего сомнения
также и относительно того, что следует понимать в выше
приведенном определении трансцендентального познания [как
такого, которое «имеет дело (sich beschäftigt) не столько
с предметами, сколько с нашим способом познания о
предметах вообще, насколько такой способ познания возможен a
priori». — Б.Ф.] под этим способом познания предметов a priori.
«Трансцендентальное познание* имеет дело «с[о]способом по-
знапияь о предметах, но ведь и опыт, в котором эти
предметы познаются, сам, как мы видели, есть для Канта только
«способ познания^ о них, «требующий рассудка», «коего
правило я должен предположить в себе прежде», то есть
независимо от того, «когда предметы будут мне даны,
следовательно, a priori»*55. Ясно поэтому, что трансцендентальное
познание имеет дело не с чем иным, как с опытом, насколько он
возможен как способ познания предметов a priori, то есть оно
имеет дело с тем способом познания, который мы называем
наукой о природе, математикой и физикой в их
систематической связи и единстве, или, что то же, «математическим
естествознанием». На эти науки и направляется, значит,
«трансцендентальное познание», «насколько оно должно
быть возможно a priori», к в их понятии устанавливается
и обосновывается Кантом новое понятие опыта как науки
о природе в противоположность опыту в старом, до-кантов-
ском, обыденном и популярном значении этого слова, в
смысле констатирования фактов восприятия, их ассоциативной
связи, их совокупности и даже их «связывания в сознании
посредством суждения»1·™. Таким образом, речь идет здесь о тех
^Prolegomena, §§ 37 и 38, с. (320, 321).
155 Критика чистого разума, с. 23 (XVIII) предисловия ко 2-му изд.
156 Prolegomena, § 20, с. 57 (300): «Поэтому для опыта недостаточно, как это
обыкновенно воображают себе, точно сравнивать восприятия иЪосредст-
вом суждения связывать их в сознании; таким образом, н'ё возникает еще
никакой общезначимости и необходимости суждения, через что оно
только и может иметь объективное значение и стать опытом» — «образованию
опыта из восприятия предшествует поэтому некоторое совсем другого
рода суждение. Данное созерцание должно быть подведено под некоторое
понятие, определяющее форму суждения вообще в его отношении к
созерцанию, связывающее эмпирическое сознание этого созерцания в
сознание вообще π через это доставляющее эмпирическим суждениям их...»
[1 ел. срезано при переплете рукописи: «всеобщность». — НД.\.
68
Об основной идее...
самых основных вопросах, которые Кант впервые с такой
определенностью сформулировал в «Пролегоменах» и
несколько позднее как проблему метафизики в ее первой части157, как
проблему науки об общей «закономерности» природы «в
связи ее явлений», или, что то же самое, как проблему
«возможности опыта»158:
Как возможна чистая математика?
Как возможно чистое естествознагме?"*
Или короче и проще: математика и физика суть
синтетические познания a priori, — как они возмоэюны? Их действительность
есть несомненный факт, от него отправляется
трансцендентальное познание, чтобы поставить вопрос о его возможности.
Менее всего было бы поэтому справедливым говорить о
догматическом отправном пункте теоретической философии
Канта и ее метода. Не от факта законченной, замкнутой в
себе науки отправляется Кант в обосновании своего нового
метода, но от предположения науки в историческом ходе ее
развития как все дальше идущего и растущего исследования,
познания о предметах, развивающегося и все новыми знаниями
обогащающегося научного опыта. Проблема возможности,
преуспеяния и развития этого научного познания,
«надежного» и «непрерывного хода науки» — таков ослепительно
ясный смысл этого исторического обоснования, его подлинный
исходный пункт, казалось бы не допускающий грубого
непонимания и перетолковывания его в духе догматизма.
Но все же этот метод, так возражают иногда его
противники, направляется на предметы и, стало быть, их предполагает
данными. Конечно, это так, раз речь идет о науке, о
математике и физике. Но о каких предметах здесь идет речь и что
значит их данность? Ведь не как «вещи в себе» даны эти
предметы15", а лишь как предметы познания они имеются здесь в
виду — как предметы опыта, понимаемого в смысле науки
о природе, в основании которой всегда лежат, всегда должны
157 Критика чистого разума, с. 23 (XVIII-XIX).
158 Prolegomena, § 36, с. 80-82 (319-320), § 22 (305), особенно примечание
в конце.
150 Там же, § 17, с. 53-54 (297); § 19, с. 56 (299); сравн. также особенно:
Критика чистого разума, с. 194 (207), где объясняется невозможность
геометрии при условии данности предметов.
Часть!
69
быть полагаемы и в нее, в ее основу вдумываемы
(hineingedacht)32* «принципы синтеза a priori» — синтетические
основоположения как условия возможности науки о природе
и самых ее предметов. И не какую-то почти мистическую
данность следует подразумевать под этими «geben» и «gegeben»
в отношении к предметам познания. Но «давать» и «быть
данными» лишь следующее означает для Канта: «Давать
предмет, — говорит он, — если это в свою очередь не должно быть
понято только в опосредованном (косвенном) смысле, но если
это означает — непосредственно представлять себе его в
созерцании, — это есть не что иное, как относить представление
об этом предмете к опыту (все равно будет ли он
действительным или только возможным)»160. Таковы эти «предметы» и их
«данность», и вот почему необходима «идея особой науки»,
особого рассмотрения или критики как «трансцендентальной
критики», которая спрашивала бы о самой возможности, о
философском оправдании этих действительностей, — [идея]
опыта как познания о предметах, как науки о природе с ее
основными составными частями — математикой и физикой.
В порядке исследования об основной идее и существе
трансцендентального метода мы приближаемся теперь к
основному моменту, к кульминационному пункту его развития
и значения.
Двум требованиям, как следует из предшествующего,
должно удовлетворять трансцендентальное познание: 1) у него
должен быть предмет, 2) этот предмет должен быть
обусловлен в познании всеобщим и необходимым образом, то есть
Критика чистого разума, с. 185 ( 195): «Einen Gegenstand geben, wenn dieses
nicht wiederum nur mittelbar gemeint sein soll, sondern unmittelbar in der
Anschauung darstellen, ist nichts Anderes als dessen Vorstellung auf
Erfahrung, (es sei wirkliche oder doch mögliche) beziehen». Дано, следовательно,
собственно говоря, только это отношение, а не самый предмет: ведь для
познания дан ятот предмет, а не помимо познания. — Критика чистого
разума, с. 67-68 (34), сравп. также с. 69 (36), где говорится о 2-х формах
чистого созерцания «как принципах познания a priori» и где в соответствии
с этим и в связи с тем, что сказано па с. 69 (36), вся чувственность
понимается как особый род познания, а термины «Anschauung» (созерцание),
«gegeben» (быть данным) и «afneiert werden» (быть затрагиваемым) и
даже «Empfindung» (pjiryiHeHiie), — все характеризуются в их связи между
собой как выражение способа непосредственного отношения познания
к предмету, при чем мышление рассматриваемся] лишь как средство,
на него опирающееся. — Критика чистого разума, с. 67 (33).
7<θ
Об основной идее...
a priori, — он должен быть порожден (hervorgebracht, erzeugt)
в чистом познании как предмет опыта161.
Так называемая «трансцендентальная эстетика и
трансцендентальная логика», последняя, однако, лишь в первой ее части
»как «трансцендентальная аналитика», должны вместе и между
собой способствовать осуществлению этих двух требований —
решению этой общей для них задачи трансцендентального
познания. Мы стоим перед центральной проблемой
трансцендентальной аналитики, для которой вся трансцендентальная
эстетика играет роль только подготовительной методологической
ступени, и вместе [с тем] — перед основным вопросом и главной
трудностью, разрешить и преодолеть которую составляет
задачу всей критики разума, всей вообще трансцендентальной
философии и ее метода, поскольку речь идет о теоретическом
познании, о метафизике в ее первой части162.
Надлежит подняться или, если угодно, углубиться до
уяснения принципиального смысла решения Кантом проблемы
«о первоисточнике наших познаний о предметах»163. Предмет
должен быть обоснован в познании о нем, в «возможности
опыта» [предмет] сам впервые должен сделаться возможным
и познаваемым.
Это обусловление самой возможности предмета в познании,
обоснование «эмпирического познания»16* и его роста, «воз-
можности опыта» и самих предметов в нем как предметов
достоверного знания, науки о природе, становится теперь для
Канта руководящей идеей всего дальнейшего исследования
и изложения «Критики чистого разума» и с этой
принципиальной точки зрения получает теперь более точное и глубокое
определение и самое понятие трансцендентального, коему
раньше дано было, как мы видели, лишь предварительное,
только номинальное определение.
Если первоначально это центральное для всего метода
Канта понятие казалось как бы сросшимся с понятием «а priori»
и с ним сливающимся, то теперь оба эти понятия, напротив,
решительно различаются и обособляются. «И здесь, — гово-
161 Prolegomena, § 22, с. 63-64 (305) примечание в конце.
162 Кроме «Критики чистого разума», с. 23 (XVIII) предисловия ко 2-му
изданию, сравн. также относительно определения понятия метафизики
у Канта: Prolegomena, § 2, с. 21 (274).
|<а Критика чистого разума, с. 102 (80).
,(ИТам лее, с. 230 (255): «Aller Zuwachs der empirischen Erkenntnisse.
Часть I
71
рит Кант в начале "Трансцендентальной аналитики**, — я
сделаю одно замечание, которое простирает свое влияние на все
последующие рассмотрения и которое [я] вынужден иметь
перед глазами, [а] именно: что не всякое познание a priori додж-
но называться трансцендентальным (то есть относящимся
к возможности познания или применению его a priorï)r
но только то, через которое мы узнаем самый факт того, что
извсстнш^представлсния (созерцания или понятия) и каким
(именно) образом могут быть применены или стать возмож-
ными всецело a priori»165. Но что же значит и какой смысл
имеет это странное на первый взгляд утверждение, что «познание
a priori» должно иметь «отношение к возможности познания»г
чтобы заслуживать названия трансцендентального? Смысл
этого заключается в следующем: термин
«трансцендентальный» означает собой не какой-либо в нашем познании
первоначальный фактор, ниоткуда, кроме как из самого же состава
познания не выводимый и потому априорный, не сам по себе
этот фактор, как то, что имеется в познании «a priori», и,
больше того, даже «познание этого a priori», например
пространства, еще не, есть «трансцендентальное познание», но под
«трансцендентальным» надлежит понимать лишь отношение
и применение какого-либо фактора a priori, например
пространства, «к предметам возможного опыта», к определению,
конструкции, созиданию или порождению самого содержания
этих предметов как «предметов возможного опыта», как
предметов «эмпирического познания» или науки о природе,
под «трансцендентальным же познанием» следует
понимать не что иное, как познание возможности самого этого
отношения и применения какого-либо фактора a priori,
несмотря на его совсем не эмпирический первоисточник166, к
предметам опыта, к их конструкции, то есть к определению
и порождению их содержания как предметов эмпирического
познания, науки о природе или опыта в новом, кантовском
смысле этого слова. Яснее поэтому было бы, если бы Кант ска-
Критика чистого разума, с. 102-103 (80).
;Сравн.: там же, с. 103 (81): «Поэтому ни пространство, ни какое-либо
геометрическое определение его a priori, не есть еще трансцендентальное
представление; но только познание, что это представление совсем не
имеет эмпирического происхождения (Ursprung) и возможность того, как
оно, несмотря па это, может иметь a priori отношение к предметам опыта,
может быть названо трансцендентальным».
72
Об основной идее...
зал: «не всякое познание о том, что есть «a priori»,
заслуживает названия трансцендентального, как и не все, что есть «а
priori», тем самым трансцендентально»^1. Но по существу,
смысл этот ясен и из выше приведенных подлинных слов
самого Канта. И не простое отношение к предмету характерно
для понятия «трансцендентального», ибо такое отношение
имеет место и в обыденном эмпирическом познании при
восприятии предметов посредством наших органов чувств (auf
Gegenstände der Sinne eingeschränkt), но только то отношение
к предмету заслуживает названия трансцендентального, в
котором «возможность его познания» осуществляется всецело а
priorim. Эта «возможность познания» предметов a priori и
составляет поэтому подлинное содержание понятия
трансцендентального, его существеннейший признак. И именно идея
этого «отношения к возможности познания», синтетического
познания a priori о предметах, или, что то же, идея опыта,
понятого в смысле науки о природе (в смысле математики и
физики в их связи и единстве) приводит Канта к его понятию
трансцендентальной логики, которая должна установить
и определить «первоисточник, объем и объективную
значимость»™* таких познаний, таких наук. Чистое понятие как
принцип формы, наряду с чистыми формами созерцания,
пространством и временем, подчиняя их себе, должно стать
формой своего содержания. Так, «а priori» как форма познания
становится «в трансцендентальном» формой своего
содержания109. Предмет должен быть обоснован, в возможности
опыта [предмет] сам впервые должен стать возможным как
предмет познания — таков все время остающийся в силе
лейтмотив основной идеи трансцендентального метода, его
настоящий центр тяжести. Где нет этого отношения к предмету
или где оно не может быть обосновано — там есть только
«логика видимости» (die Logik des Scheins)31* — диалектика,
11,7 Cpami. поэтому поводу кантовскос различение метафизического и
трансцендентального объяснения ü трансцендентальной эстетике [«Критики
чистого разума»] § 2. 3, 4 и 5, с. 70-71 (38), 72-73 (40), 74 (42) и 79-80
(48) для пространства и времени и в трансцендентальной аналитике для
такового же различения чистых понятий с. 103 (81) и особенное. 110 (91).
ш Критика чистого разума, с. 103 (81): «Различие трансцендентального
и эмпирического относится, следовательно, лишь к критике познании и не
касается отношения последних к их предмет}'».
|Я,Там же.
Часть I
73
но где это отношение может быть установлено, там не
видимость (Schein), а явление (Erscheinung) становится предметом
познания. Так возникает логика истины (Logik der Wahrheit),
трансцендентальная аналитика, которая содержит в себе
элементы и принципы чистого рассудочного познания, то есть
«понятия a priori» (элементы) и «синтетические
основоположения» (принципы), с которых мы начали характеристику
основной идеи и самого существа трансцендентальной
философии и ее метода и «без которых не может быть мыслим
вообще никакой предмет» (ohne welche überall kein Gegenstand
gadacht werden kann)170. Наконец, только через это
«отношение к предмету» получает весь свой смысл и приобретает свое
содержание самое понятие истины как выражение проблемы,
то есть возможности «синтетически судить о предметах
вообще»171, без него «номинальное определение истины», как
«соответствие познания со своим предметом», потеряло бы
всякий смысл и оказалось бы лишенным всякого общего и
надежного критерия172.
Итак, отношение «элементов a priori» (пространство,
время, категории) к предмету, к самой возможности предмета
в познании, или, что то же, к самой возможности опыта как
науки о природе — таков смысл понятия
«трансцендентального», познание же этого отношения есть
«трансцендентальное познание». Но о каких же опять предметах, [о] каком
познании их, о каком опыте идет здесь речь? Мы видели, мы
знаем уже, что не какие-либо отдельные предметы имеются здесь
в виду, но предмет вообще как предмет возможного познания
о нем, как предмет опыта, понятого в смысле науки о
природе, в которой сам этот предмет впервые становится
возможным как предмет познания. Но эти науки в их развитии,
составляющие опыт как достоверное познание о природе, сами
представляют собой проблему, притом основную проблему
всей теоретической философии Канта и ее метода. Проблема
«возможности опыта» (Möglichkeit der Erfahrung) есть
проблема «науки о природе» (Naturwissenschaft) и тем самым
возможности предмета этой науки, то есть самой природы. Но
наука имеется здесь в виду как вполне достоверное, всеобщее
170 Критика чистого разума, с. 106-107 (85, 86 и 87).
,7,Тамжс,с. 108(88).
,72Тамжс,с. 104(82).
74
Об основной идее.,
и необходимое, следовательно, как априорное чистое знание
о природе, как чистое естествознание (reine
Naturwissenschaft): прежде всего, математика и теоретическая физика. Вот
почему проблема опыта, проблема науки, вопрос о
возможности чистой математики и чистого естествознания, получает
наконец у Канта в «Пролегоменах» свою окончательную,
радикальную постановку в форме вопроса о том, «как возможна
сама природа» («Wie ist Natur selbst möglich?»)173, — ведь
самый предмет, стало быть, и сама эта природа, возможен, ста-1
новится возможным, как мы знаем, только в возможности
опыта о нем как науки о природе. В отношении предмета
вообще, общей закономерности в нем и ее познания, в
отношении этих «reinen oder allgemeinen Naturgesetzen», этой
«закономерности, на которой покоится необходимая связь явлений
в опыте и без которой совершенно невозможно познание о ка-
ком бы то ни было предмете чувственно воспринимаемого
мира (Sinnenwelt), — в этом отношении, — заявляет Кант, —
природа и возможный опыт есть совершенно одно и то же (Natur
und mögliche Erfahrung ganz und gar einerlei)»35*, и потому
именно этот вопрос: «как возможна сама природа», — есть для
Канта «кульминационный пункт (der höchste Punkt), до
которого вообще только и может возвыситься
трансцендентальная философия и к которому она должна быть приведена как
к своей границе и завершению»174.
Этой, столь решительной, до последней крайности, как мы
видим, определенной, почти экстравагантной постановке
проблемы о возможности опыта или наук о природе,
сформулированной Кантом в «Пролегоменах» как вопрос о «возможности
самой природы», в полной мере соответствует не менее
радикальное решение этой основной проблемы всей
трансцендентальной философии в ее теоретической части, как это дано
во 2-м издании «Критики чистого разума»175. Если «предметы
вообще» суть только предметы возможного о них познания или
опыта, в указанном выше значении этого термина, то
необходимо, чтобы условия^того познания или опыта определяли собой
также и самую возможность этих предметов как предметов
познания, чтобы возможность синтетических суждений a prirori
'"Prolegomena, §36, с. 79 (318), там же с. 82 (320).
17*Тамже,§36,с.79(318).
17Г»См.: Критика чистого разума, с. 186-187 (196-197).
Часть!
75
содержала в себе также и гарантию их обязательной
значимости, их предметности. Природа есть не что иное, как опытт но этот
опыт, в свою очередь, есть не что иное, как совокупность
синтетических суждений a priori о его предмете. В основных
принципах этих суждений, в не раз уже упомянутых нами
«синтетических основоположениях», должны быть поэтому уже заранее
предопределены и точными условиями, в этих
основоположениях заключающимися, надежно ограничены также и их
результаты в познании предметов» «Условия возможности опыта
вообще суть в тоже время и условия воаможности самих
предметов опыта, и именно поэтому они имеют объективную
значимость в синтетическом суждении a priori»176. Так в
основных типах синтетической функции суждения, насколько они
находят себе выражение «в синтетических основоположениях»·,
уже предопределена, предзаложена в главнейших чертах,
по крайней мере, относительно закономерности ее, вся картина
действительности природы как природы вообще (Natur
überhaupt), и только «частные законы (besondere Gesetze),
поскольку они касаются эмпирически определенных явлений, не могут
быть всецело выведены (davon nicht vollständig abgeleitet
werden) из этих основоположений, содержащих и выражающих
в себе общие законы, самую закономерность природы, хотя и все
эти частные законы зависят от этих основоположений,
заключающих в себе первоначальную основу их необходимой
закономерности»177. Однако для познания частных законов все же
необходим опыт в обыденном смысле этого слова, но об опыте во-
обще и [о] том, что может быть познано как его предмет, нас
научают исключительно только те (упомянутые выше) «законы
a priori», то есть «основоположения возможного опыта», которые
суть «в то же время и общие, допускающие априорное познание
их, законы природы». Должна, следовательно, говорит Кант,
иметь место «некоторая система природы, которая
предшествует вечному эмпирическому познанию, впервые делает его
возможным, и которая поэтому заслуживает познания общего и чи-
,7В Критика чистого разума, с. 187 (197).
177 Там же, с. 164 (165): «...ursprünglichen Grunde ihrer nothwendigen
Gesetzlosigkeit... Natur überhaupt als Gesetzmässigkeit der Erscheinungen in
Raum und Zeit... Besondere Gesetze... können davon nicht vollständig
abgeleitet werden... von Erfahrung aber überhaupt und dem, was als ein
Gegenstand derselben erkannt werden kann, geben allein jene Gesetze a
priori Belehrung».
76
Об основной идее...
стого естествознания в собственном смысле слова»178. Отсюда
с неотвратимой убедительностью следует, что вполне
достоверное, строго общезначимое эмпирическое познание есть не что
иное, как опыт в новом, кантовском смысле этого слова, то есть
опыт вообще, и что соответственно этому «никакое познание а
priori невозможно для нас» ни о чем другом, «как только о
предметах возможного опыта», то есть о явлениях™. Синтетические
основоположения, которыми мы располагаем, суть только
«принципы экспозиции явлений», то есть научного изложения
и связывания их, почему и «гордое имя онтологии,
высказывающей притязание давать нам синтетические познания о вещах
вообще... (von Dingen überhaupt не Gegenständen überhaupt),
должно уступить место более скромному названию аналитики
чистого рассудка»'*6*, «метафизики в 1-й ее части», как сказано
в предисловии ко 2-му изданию «Критики»37*. Мы видим, таким
образом, что 1) Кант со всей определенностью провидит здесь
важное, проливающее яркий свет на все его учение о
трансцендентальном методе, различие между понятием опыта, в новом,
его собственном смысле этого слова, как чистой науки о
природе (reine Naturwissenschaft) и понятием опыта в старом, юмов-
ском, популярном значении этого термина, в смысле
констатирования данных восприятия и их связи в суждениях180, и что
2) решение проблемы возможности опыта, в этом популярном
значении слов, он ставит в зависимость от решения проблемы
возможности опыта в его собственном, новом значении этого
слова, нашедшем себе, как было показано, радикальную
формулировку в поставлении вопроса о том, «как возможна сама
природа». Что бы поэтому ни значил опыт в обыденном смысле
этого слова, какую бы роль и объем ни стали мы придавать этому
термину, его принципиальная возможность как
«эмпирического познания» коренится в проблеме объективной значимости
синтетических основоположений как условий возможности
опыта вообще, то есть опыта как науки о природе, а вместе с тем
и самих предметов этой науки, и постольку, косвенно, следова-
178 Prolegomena, § 23, с. 65 (306).
17!* Критика чистого разума, с. 165 (166). «Folglich ist uns keine Erkenntniss а
priori möglich als lediglich von Gegenständen...» Там же, с. 266 (303 в
конце): «...ist, kein Gegenstand der Erfahrung sein kann...».
180 См. об этом кроме сейчас цитированных «Пролегомси», § 23, с. 65 (306)
и «Критики чистого разума», с. 164 (165), также особенно: Prolegomena,
§ 30, с. 73-74 (313).
Часть I
77
телыю, и самой природы. Но поскольку и синтетические
основоположения выражают собой лишь самые общие, самые
коренные способы или типы синтетической функции суждений, весь
вопрос трансцендентальной философии и ее метода всецело
сводится к решению основной проблемы о возможности и
объективной значимости синтетических суждений a priori
(«synthetisch über Gegenstände überhaupt (не "Dinge überhaupt", что
означало бы "вещи в себе") zu urtheilen»)181.
Эта основная идея, это фундаментальнейшее предположение
всей трансцендентальной философии, составляет, как мы
могли убедиться из предшествующего, принцип не только
возможности опыта как науки о природе, но и самого понятия истины
в его подлинном содержании и смысле, поскольку оно
самопосрамлением (Beschämung) было бы и достойное бы осмеяния
зрелище само бы являло (den belachenswerthen Anblick),
говорило бы «о соответствии познания со своим предметом», не
поставив и не решив проблемы о том, как и в каком смысле
возможен сам этот предмет, ибо, не решив этого вопроса, легко
уподобиться (спрашивая, «что есть истина», и отвечая, что она есть
«соответствие познания с его предметом») двум лицам, «из
которых, как юморили древние, один доит козла, а другой держит
под ним рсшето»182.
От этой печальной участи самоиздевательства
(Selbstverspottung) должна освободить нас критическая философия, и
если верно, конечно, что указанная основная идея или
предположение нуждается в подробном оправдании и доказательстве
(в каком направлении развивается и к какой цели
действительно движется вся аргументация трансцендентального), то общий
смысл решения содержащейся здесь фундаментальной
проблемы все же ясен уже из того, на что было указано в разъяснении
общего принципа как ее постановки, так и ее решения. В самом
деле — вот еще раз, в одно неразрывное целое общего
результата слитые два взаимно проникающие друг [в] друга момента
этого принципиального решения основной проблемы (всей)
трансцендентальной философии в ее теоретической части:
(1) «Предмет должен быть обоснован, в возможности опыта
сам впервые должен стать возможным», этот опыт есть,
однако, не что иное, как познание о предметах вообще, и, как тако-
181 Критика чистого разума, с. 108 (88).
1К2Тамже,с. 104(83).
78
Об основной идее...
вой, как опыт вообще (Erfahrung überhaupt reiner
Naturwissenschaft) всецело обусловливается познанием общих законов
природы, с которой он совпадает, но (2) эти общие законы суть
в свою очередь не что иное, как a priori познаваемые
синтетические «основоположения возможного опыта», а раз это так,
то эти основоположения как «условия возможности опыта
вообще суть в то же время и условия возможности самих
предметов опыта, и именно потому они имеют объективное
значение в синтетическом суждении a priori»181*.
Вот, значит, как и вот почему возможно «синтетически
судить о предметах вообще» (syntetisch über Gegenstände
überhaupt zu urteilen), и вот что значит, что синтетические
суждения имеют предметную, объективную значимость.
Эти синтетические суждения, поскольку они как средства
и пути должны вести к осуществлению познания, к
достижению единой истины о предметах вообще или о том, что
получает у Канта название «природы», — должны и между собой
находиться во внутренней связи и единстве, более того —
будучи возведены к основным типам синтетической функции
суждения, они, получив значение основоположений, должны
выражать в своей связи и единстве систему принципов
познания, всю полноту (Vollständigkeit) связи содержащихся в них
общих законов природы, самую ее закономерность. И
поскольку такая закономерность природы должна допускать,
по крайней мере, мыслить Себя как законченную, точнее, как
подлежащую завершению, постольку и по отношению к
синтетическим суждениям a priori, и чистым понятиям в них
выразимым (категориям) должно сохранить свою силу
трансцендентальное требование полноты их единства и связи,
законченности их системы (Vollständigkeit) (не в смысле на
опыте основанной полноты перечисления их как составных
частей или элементов какого-то агрегата, но как такой
полноты системы их как принципов, которая обосновывается и
проистекает «из идеи рассудочного познания a priori в его
целом»18^, из их «связи в системе»185). Ни через какие извне при-
181 Критика чистого разума, с. 173 (178).
181 Там же, с. 109 (89): «...vermittelst einer Idee des Ganzen der Vcrstandescr-
kenntniss a priori... durch ihren Zusammenhang in einem System möglich».
Ср.: там же, с 111(92).
18*Там же, с. 109-110 (89, 90) и 111 (92).
Часть I
79
входящие дополнения не может быть расширена, не может
быть умножена система этих суждений и в них выражаемых
«элементарных понятий» (категорий, 12 их); в их внутренней
связи и единстве, осуществляемом в системе
основоположений, к которой они тяготеют и ведут, как к своему
завершению, обосновывается единство «самого себя утверждающего
и себе довлеющего рассудка» (fur sich selbst beständige, sich
selbst genügsame... Einheit)18(\ понятого в объективном смысле
системы «основоположений» достоверного знания, чистой
науки о природе. Так в идее «системы основоположений» как
принципов познания природы обосновывается идея единства
самого познания, единства рассудка, как основы всего
теоретического разума, понятого в объективном значении
единства познания или науки о природе, в его прогрессивном,
но своего единства и непрерывности никогда не
утрачивающем развитии. Поэтому несправедливы и неправильны были
направленные против Канта упреки в догматизме
обоснования им его трансцендентальной философии за требование
этой полноты системы основных понятий и [ 1 ел. нрзб.\ всей
совокупности обусловливаемого ими познания (der Inbegriff
seiner Erkenntniss... zu bestimmendes System... dessen
Vollständigkeit und Articulation... )ж: ведь не безусловную
замкнутость и невозможность какого бы то ни было дальнейшего
развития и обогащения этой системы принципов утверждает
Кант, но, как мы видели, — лишь невозможность расширения
и умножения ее через какие-либо извне привходящие
дополнения (durch keine äusserlich hinzukommenden Zusätze)39*.
Проблема опыта есть проблема возможности синтетического
познания a priori о предмете вообще, и только из условий
и принципов этого познания a priori она должна быть
разрешаема, но отнюдь не из каких-либо начал этому познанию
чуждых или внешних, не из ощущения и его субрепций (обманов
чувств), — не из ощущения, потому что оно само есть
проблема предметного познания, а не принцип для ее решения.
Такова основная мысль Канта, которой он стремится обосновать
здесь идею автономности теоретического познания как науки
о природе, даже о мире в его целом, как это становится ясным
из последующего, именно из той части трансцендентальной
логики, которая носит название трансцендентальной диалек-
(i Критика чистого разума, с. 109 (89-90).
80
Об основной идее...
тики187. И всюду остается при этом руководящим принцип
синтетического единства познания, уже здесь намечаемый,
уже здесь провидимый как принцип единства «синтетических
основоположений».
Если чувственность, как Кант говорит188, есть один из
стволов или лучше одна, именно первая, ступень общего корня
человеческого познания о предметах, а рассудок его второй
ствол или вторая ступень, то чувственность, как такая первая
ступень познания о предметах, характеризуется им, как
известно, через термин созерцание (Anschauung), рассудок же, как
второй ствол или ступень познания, — через термин
мышление (Denken). И как чувственность, хотя бы и чистая, всегда
предполагает аффицирование (Affection), следовательно,
некоторое отношение к ощущению, так и мышление как
таковое, то есть как чистое мышление, всегда и прежде всего
характеризуется Кантом как суждение, в свою очередь
предполагающее созерцание, к которому оно, то есть мышление,
«относится как средство» (...worauf alles Denken als Mittel
abzweckt, die Anschauung). Но, как чувственность есть для
Канта не что иное, как «непосредственное отношение
познания к предмету», в котором обнаруживается ее
первоначальность (Ursprûnglichkeit) и ее чистота (Reinheit), то есть
независимость от ощущений в порождении предмета познания
(hervorbringen, erzeugen), так и рассудок суть для Канта не что
иное, как опосредованное познание предметов (das Urtheil ist
also die mittelbare Erkenntniss eines Gegenstandes, mithin die
Vorstellung einer Vorstellung desselben)189, превосходящее
и подчиняющее себе непосредственное к ним отношение
познания, то есть чувственность с ее созерцанием. Это
опосредствованное познание есть поэтому сведение к единству уже
готовых представлений, образуемых на первой ступени
познания предметов через приведение в порядок и объединение
многообразия чувственного созерцания, то есть ощущений,
187 Критика истинного разума, с. 370-371 (446-447), с. 438 (533), особенно
с 332 (391) (der Inbegriff aller Erscheinungen (die Welt) der Gegenstand der
Kosmologie), также с. 274 (311).
,,йТам же, с. 67 (33): « Auf welche Art und durch welche Mittel sich auch immer
eine Erkenntniss auf Gegenstände bezichen mag, so ist doch diejenige,
wodurch sie sich auf dieselben unmittelbar bezieht, und worauf alles Denken
als Mittel abzweckt, die Anschauung».
»«'Там же, с. 112(93).
Часть I
81
посредством его чистых форм, пространства и времени, как
принципов связи. «Все суждения суть поэтому» лишь
«функции единства между нашими представлениями»190, и рассудок
со своими суждениями есть лишь выражение дальнейшей
стадии осуществления того самого дела, которого первой
стадией служит чувственность с ее созерцанием и ее чистыми
формами. Тому, что для чувственности есть аффекция (afficieren,
Affection), для суждения, мышления, рассудка —
соответствует функция. Все созерцания как чувственные предполагают
аффекцию (Affection), все понятия рассудка выражают
функции (Funktionen), а все функции суть функции единства191.
Но и то, что обозначается как чувственность, и то, что
называется рассудком, однако, связывается и объединяется в одном
объективном единстве познания предметов. И чувственность,
и рассудок, и их единство — разум — одинаково имеют
поэтому для Канта всецело объективное значение последовательных
ступеней, стадий и выражения единства все дальше идущего
и непрерывно развивающегося познания о предметах
«надежного и непрерывного хода» научного знания, «науки о
природе» и мире в целом. И даже то, что носит у Канта громкое
название «самодеятельности мышления* (Spontaneität des
Denkens), есть на самом деле не что иное, как выражение
первоначальности, ни от чего независимости, определяющего для
познания значения, [1 ел. нрзб.] суждения как функции
единства, ее не только априорности, но и коренного значения ее для
самой возможности познания предмета, для возможности
опыта, то есть выражение ее трансцендентального значения.
Так, единство мышления, единство разума фиксируется и,
как бы сказать, ориентируется Кантом в единстве познания,
единстве опыта, единстве науки. Это единство предполагает,
однако, все время имеет в виду, как мы знаем, «синтетические
основоположения», как принципы познания, как принципы
опыта или науки. Но если это справедливо, то и проблема
единства познающего сознания, единства мышления, единства разума
неизбежно сводится к проблеме единства системы, единства
внутренней связи «синтетических основоположений» как
коренных условий и принципов научного познания. Поэтому от-
190 Критика истинного разума, с. 112 (94).
191 Taw же, с. 112 (93): « Alle Anschauungen als sinnlich beruhen auf Affectionen,
die Begriffe also auf Funktionen», ср. также с. 113 (94 в конце).
82
Об основной идее...
нгодь не в идее единства сознания, хотя бы то было
надындивидуальное или трансцендентальное «сознание вообще» (Ве-
wusstsein überhaupt)192, еще менее в идее эмпирического
сознания (das empirisch Bewusstsein193 или Besondere organisation194)
и не в идее субъекта, хотя бы трансцендентального,
надындивидуального, хотя бы и абсолютного, творческого субъекта19·1*
(фихтевское единство субъекта как первоначальное
Tat-Handlung40*), еще менее в идее эмпирического субъекта190, но
единственно только в идее принципа объективного единства познания
как принципа системы и внутренней связи всех
«синтетических основоположений» — в идее «верховного
основоположения» всех синтетических суждений a priori — следует искать
высшие выражения и подлинный своеобразный смысл
обоснования Кантом трансцендентальной философии: в ее
теоретической части и ее методе, во всей его новизне и
самостоятельности его значения, в отношении к послужившей для Канта
отправным пунктом всех его исследований проблеме опыта как
внешне достоверного научного знания о предметах, как науки
природы (в смысле чистой математики и чистого
естествознания — по-современному, теоретической физики).
Дальнейшее изложение этой вводной главы предложенного
исследования должно по необходимости лишь в самой сжатой
форме и в самых общих чертах подтвердить правильность
только что высказанной основной идеи в понимании существа
трансцендентальной философии Канта и ее метода, оставляя
подробную аргументацию ее и развитие до следующих глав.
Мы видели уже, какая корреляция устанавливается
Кантом между понятием «синтез», который находит себе
осуществление через посредство суждений в категориях и осново-
192 Prolegomena, § 20, с. 58 (300), §29, с. 73 (312), § 22, с. 63 (305).
,!йТам же, § 20, с. 58 (300), § 24, с. 66 (307), Критика чистого разума, с. 130
(117), а также с. 141 (133, начало).
194 Критика чистого разума, с. 76 (44 f.).
ии Prolegomena § 46 и 47, с. 99-101 (333-335), Критика чистого разума, А:
с. 727-729 (348-351); В: с. 343 (407), 391 (471); А: с. 736 (360): В: с. 463
(567): А: с. 732 (355); В: с. 337 (398), с. 358 (428), с. 503 (623).
196 Критика чистого разума, с. 157 (155), 122 (107); [Immanuel Kant's kleine
logisch-metaphysische Schriften. Hrsg. Von K.Rosenkranz. — Leipzig: Voss,
1838: XIII.] Über die [von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin für das
Jahr 1791 Ausgesetzte Preisfrage: welche sind die wirklichen] Fortschritte,
[die Metaphysik seit Leibniz's und Wolfs zeiten in Deutschland gemacht hat.
18041. С 531.
Часть I 83
положениях, и тем, что он обозначает как чистое созерцание.
Этот синтез уже предполагает «многообразие чистого
созерцания», коего формы, пространство и время, вносят порядок
в это многообразие и тем подготовляют то единство, которое
осуществляется понятиями, более того, эти формы сами уже
выражают некоторое единство и даже начало того синтеза,
посредством которого уже в пределах чувственности, как
первой ступени познания, предмета порождается и возникает
содержание и предмет познания в смысле «явления», то есть
здесь уже [предмет понимается] не только как предмет
математики, но также и как предмет физики, лишь свое
окончательное и полное определение получающий через
посредство суждений как функций единства, в понятиях (категориях)
и последних принципах познания (основоположениях). Так
подходим мы здесь к новому, более глубокому, сравнительно
с чувственностью, моменту первоисточника предмета в
синтетическом познании о нем. В этом и заключается вся суть
так называемой «трансцендентальной дедукции» категорий,
которые, в свою очередь, все свое значение имеют в том, что
ведут к основоположениям, и которую Кант отличает от
дедукции эмпирической. «Поэтому, — говорит Кант, — тот
способ, какидо понятия a priori могут относиться к предметам, я
называю их трансцендентальной дедукцией и отличаю ее от
эмпирической», которая имеет своей задачей показать лишь
служебные причины порождения и возникновения этих
понятий в нашем опыте (die Gelegenheitsursachen ihrer
Erzeugung in der Erfahrung)197. Трансцендентальная
дедукция категорий198 касается не вопроса о факте этих понятий
(quid facti) и их обнаружения в сознании, что составляет
задачу эмпирической дедукции, предпринятой Локком
(physiologische Ableitung), но исключительно только вопроса о
праве (quid juris) этих понятий на роль условий познания
предмета a priori и его разрешение имеет своей целью. Не в факте
обладания (des Besitzes) чистым, познанием, а в зависимости
от него и определяемости им самого предмета познания, за-
197 Критика чистого разума, § 13, с. 129-130 (117-118).
,9НТам же, с. 131 (119): это Локком «предпринятое физиологическое
выведение (physiologische Ableitimg), которое, собственно говоря, совсем не
может быть названо дедукцией, потому что касается quaestionem facti, я
буду называть объяснением самого факта обладания (des Besitzes)
чистым познанием».
84
Об основной идее...
ключается все существо возникающей здесь проблемы,
которая и находит себе принципиальное выражение в
фундаментальной альтернативе, уже подразумеваемой, как мы видели,
в самом определении понятия «трансцендентального»,
а именно, что: «или предмет делает возможигям
представление о нем, или одно это представление (diese allein) делает
возможным предмет»199, поскольку «через него одно (durch
sie allein) становится возможным что-либо познать как
предмет». Впоследствии, в предисловии к «Критике чистого
разума», ко второму изданию, мы находим еще более точную,
уже совершенно законченную, формулировку этой
проблемы200 всей трансцендентальной философии, но здесь мы
имеем ее как бы в действительном, динамическом виде, тем более
интересном и важном, что эта формулировка проливает
яркий свет и на самую характеристику всей системы Канта как
«трансцендентального идеализма». В самом деле, не в
отношении к содержанию явлений, то есть к тому, «что в них
принадлежит к ощущениям» (was an ihnen zur Empfindung
gehört), не «по самому существованию» представление может
само порождать предмет (ihren Gegenstand dem Dasein nach
nicht hervorbringt)41*, но только в отношении того, что
делает предмет предметом познания a priori. Всякий предмет,
поскольку он есть предмет познания, зависит от нашего
представления о нем и в нем содержится, но от этого он не
утрачивает всякую реальность и не теряет единственно
возможного для него как для предмета познания объективного
значения. Такова уже здесь, при формулировке проблемы
трансцендентальной дедукции категорий, замечаемая
Кантом сущность его «трансцендентального идеализма» и
вместе основной нерв его аргументации в знаменитом
«опровержении идеализма», с которым он выступил в
«Пролегоменах» и особой главе 2-го издания «Критики чистого
разума»201, а также в примечании к предисловию к «Критике
чистого разума», ко 2-му изданию202. В интересах краткости
мы приводим здесь формулировку существа «трансценден-
ш Критика истинного разума, с. 135 (125).
200 Там же, с. 21 (XVI): или «наше познание должно сообразоваться с
предметом», или «предмет должен сообразоваться с нашим познанием».
201 Там же. с. 243-244 (274-275).
ш Там же, с. 36 (XXXIX).
Часть I
85
тальиого идеализма» лишь в том ее виде, который она
получила у Канта в «Пролегоменах». «Я оставляю, — говорит здесь
Кант, — вещам, представляемым нами посредством чувств, их
действительность и ограничиваю только наше чувственное
созерцание этих вещей таким образом, что оно во всех своих
частях, не исключая даже чистых созерцаний, пространства
и времени, представляет только явления тех вещей, а
никогда не свойства их самих по себе; следовательно, я вовсе не
приписываю природе совершенной призрачности, и мой
протест против всякого обвинения в идеализме убедителен и
очевиден... Если я сам назвал свою теорию трансцендентальным
идеализмом, то это еще не дает права смешивать ее с
эмпирическим идеализмом Декарта или с мистическим и
мечтательным идеализмом Берклея... Мой идеализм не касался
существования [вещей] (die Existenz der Sachen), сомневаться
в котором мне никогда не приходило и в голову а относился
только к чувственному представлению о вещах, куда прежде
всего принадлежит пространство и время», и «о них-то
только и, следовательно, о всех явлениях, я и показал, что они суть
не вещи и не определения вещей самих по себе, а только
различные роды представлений»203. Уже само слово
«трансцендентальной», которое никогда не означает у Канта
«отношения нашего познания к вещам», а имеет в виду только «наш
способ познания a priori о предметах вообще», должно было
бы предотвратить, по убеждению Канта, возможность
всякого ложного перетолкования его учения. Так как, однако, в
действительности случилось иначе, то, во избежание всяких
недоразумений, можно, как это и предлагает сам Kafrr, заменить
термин «трансцендентальный идеализм» термином
«критический идеализм», от чего, однако, существо дела, конечно,
не изменится и результат, намеченный уже приведенной выше
альтернативой, сформулированной при постановке
проблемы «трансцендентальной дедукции категорий», останется
в полной силе и будет гласить, что, как Кант выразился на
странице 429 (520-521) «Критики чистого разума»,
«эмпирическая истинность явлений в пространстве и времени вполне
обозначена и достаточно отличена от сродства со
сновидением, если они правильно и непрерывно (durchgängig) связаны
друг с другом в опыте, согласно эмпирическим законам»,
'^Prolegomena, § 13, с. 48-49 (293-294).
86
Об основной идее...
и «поэтому предметы опыта никогда не даны нам сами по
себе, но только в опыте, и помимо пего не существуют вовсе».
Так уже по поводу постановки проблемы
трансцендентальной дедукции категорий получается возможность
охарактеризовать существо трансцендентального идеализма Канта и
наметить его отношение к проблеме «вещи в себе» в ее отличии
и даже противоположности с проблемой «предмета познания»
или «опыта» (Gegenstände der Erfahrung). Первая проблема
разрешается если не прямо отрицательно, то, во всяком
случае, скептически, вторая, наоборот, всецело положительно,
и она-то именно содержит в себе, как мы видели, не только
исходный пункт всей трансцендентальной философии и ее
метода, но и необходимость той постановки специальной
проблемы трансцендентальной дедукции категорий, то есть
оправдания значимости их для возможности познания предмета,
коей формулировка была приведена выше и гласила [2 ел.
нрзб], «что или предмет должен делать представление
возможным, или оно одно (diese allein) должно делать возможным
предмет», поскольку по основной идее трансцендентального
метода, именно оно одно и должно, по-видимому, обусловить
возможность познания предмета, если таковое познание
вообще должно и может быть обосновано без явного внутреннего
противоречия, неизбежного, как мы видели, при всякой
другой точке зрения, которая игнорировала бы
трансцендентальный метод исследования в постановке и попытках решения
самой проблемы истины и познания вообще.
Трансцендентальная дедукция категорий развивается далее
в том направлении, что термин «представление»
устанавливается точнее и специализируется как «созерцание» и «понятие».
«Явление», насколько оно дается в созерцании, не есть
полный, настоящий «предмет». Только через чистое понятие
возникает явление как подлинный предмет познания. Понятие
есть поэтому «понятие о предмете» и, как таковое, оно,
наряду с чувственным созерцанием (Gedanken ohne Inhalt sind leer,
Anschauungen ohne Begriffe sind blind)204, обосновывает и
завершает собой опыт, так что без участия понятий ничто не
могло бы и стать «объектом опыта». «Объективная значимость
категорий, как понятий a priori, будет поэтому основываться на
том, что только через них (durch sie allein) возможен опыт (со
Критика чистого разума, с. 99 (75).
Часть I
87
стороны формы мышления)». Принципом всей
трансцендентальной дедукции категорий следует поэтому признать то, что
они «суть условия a priori возможности опыта» или еще
точнее — «объективное основание его возможности»205.
Таким образом, требование отношения понятия к предмету
приводит к понятию «познания» «как опыта» в смысле
«познания a priori о предметах вообще», то есть в ньютоновском
значении этого термина, и отсюда становятся понятными
решительное несогласие и полемика Канта против Локка
и Юма206, поскольку проблему объективной значимости
категорий, то есть каким образом рассудок со своими понятиями
a priori [далее срезано при переплете рукописи: «...может быть
родончальником опыта». — НД.\ (Urheber der Erfahrung), —
поскольку они эти quaestionem juris подменили вопросом
о фактическом происхождении категорий в эмпирическом
сознании индивидуума и тем лишили себя всякой возможности
найти правильный путь к обоснованию науки об опыте или,
как сами они выражались, научных познаний о том, что они
признавали за опыт. «Но эмпирическое выведение
(Ableitung), в которое оба они уклонились (verfielen), — говорил
Кант, — не согласуется с действительностью научных
познаний a priori, которыми мы обладаем, именно с чистой
математикой и общим естествознанием, и, следовательно,
опровергается фактом» этих наук207.
Так, вся трансцендентальная дедукция категорий
сообразуется, как мы видим, для Канта с фактом науки о природе
и в нем обосновывается. Согласно установленной здесь точке
зрения дается теперь и определение трансцендентальной
природы категорий, «как понятий о предмете вообще, через
каковые понятие созерцания предмета рассматривается как
определенное в отношении одной (то есть той или другой) из
логических функций суждения»*2*. Так усиливается внутренняя
трансцендентальная связь понятия с созерцанием^ и вся
неопределенность явления теперь устраняется той
«определенностью*, которая осуществляется разными родами суждения
(Arten des Urtheils) и их последними выражениями —
категориями.
205 Критика чистого разума, с. 136 (126).
2,*Там же, с. 137(127).
2,'7Там же, с. 137-138 (128).
88
Об основной идее...
Но если категории по своему трансцендеетальному
значению как условия возможности опыта, познания о предметах
вообще сообразуются с фактом научного познания как с
проблемой и в нем полумают свое обоснование через решение
этой проблемы применением их к оправданию и
доказательству правомерности этого факта, то тем в большей мере это
имеет силу для основоположений, так как в них впервые и
роды суждения, и самые категории получают все свое значение
и становятся действительными принципами науки о
природе, о возможности которой как предмета познания или
опыта и был поставлен основной вопрос всей
трансцендентальной философии: ведь именно в «синтетических
основоположениях» содержатся, как.мы знаем, все общие законы
природы и даже все частные, так называемые эмпирические
законы (besondere empirische Gesetze)13*, несмотря на их
относительную самостоятельность, предполагают эти общие
законы и даже представляют собой их частные определения как
чистых законов рассудка, или, что то же, «синтетических
основоположений».
Предшествующее изложение имело своей задачей путем
одного только внимательного исследования текста «Критик»,
«Пролегомен» и других сочинений Канта без привнесения
какого бы то ни было субъективного, и постольку всегда
рискованного, толкования, как равно и независимо от ссылок на
какой-либо признанный авторитет в интерпретации Канта,
обосновать все время бывшее для автора руководящим
убеждение в том, 1) что не только отправным пунктом, но и
принципом самой возможности обоснования трансцендентальной
философии и ее метода послужила для Канта проблема
факта науки о природе, как она уже к его времени была налицо
в математическом естествознании Ньютона, и [проблема]
надежности ее непрерывного развития, гарантированного для
нее началами сообщенного ей Ньютоном метода; [а также]
в том, 2) что решение этой проблемы в смысле обоснования
самостоятельной роли и участия — в оправдании самой
возможности этого факта науки о природе — философии с ее
своеобразным, ей только присущим трансцендентальным
Методом сосредоточивается для Канта всецело в его учении
«о синтетических основоположениях» и их единстве в
верховном принципе возможности всякого синтеза в познании
предмета опыта в смысле науки о природе.
Часть I
89
Прежде поэтому чем подвести окончательный итог
исследованиям этой вводной главы предлагаемого на рассмотрение
историко-филологического факультета Московского
университета труда, надлежит, хотя бы в самых кратких чертах и
пока по необходимости лишь в предварительной форме,
рассмотреть оставшийся еще не освещенным вопрос о том, в каком
смысле надлежит понимать учение Канта о единстве
верховного принципа возможности всякого синтеза в познании
предмета, или, что то же, учения Канта о «единстве сознания»
(Einheit des Bewusstseins и Selbstbewußtsein), о его субъекте,
о «я мыслю» (Ich denke) или «первоначальном синтетическом
единстве апперцепции».
При этом едва ли стоило бы даже оговаривать более чем
сомнительную возможность понимать под этим единством
сознания, субъектом или Я — эмпирический, индивидуальный
субъект сознания в том смысле, в каком о нем может идти речь
в психологии. Ведь такой субъект, как подчиненный всем
условиям наблюдения его в пространстве и особенно [во]
времени, как формах или, точнее, принципах формы чистого
созерцания, был бы для Канта только объектом208 среди других
объектов внешнего и внутреннего чувства, между тем как речь
идет у Канта как раз об условии возможности какого бы то ни
было объекта или предмета, «хотя бы и объекта внутреннего
чувства», и под «я», «единством самосознания»,
«апперцепцией» и другими сюда относящимися терминами явно
подразумевается не какой-либо факт, но коренные условия
возможности в познании и для него какого бы то ни было факта, как
это с очевидностью, не оставляющей места и тени сомнения,
бросается в глаза уже по самому заглавию относящегося
сюда, имеющего для решения данного вопроса основоположное
значение, [параграфа] 16 «Критики чистого разума» «О
первоначальном синтетическом единстве апперцепции» и
особенно — из первых слов этого параграфа, которые гласят, что
т Критика чистого разума, с. 156 (134) и особенно с. 157-158 (155 в конце):
«wie ich also sagen könne: Ich, als Intelligenz und denkendes Subject, erkenne
mich selbst aLs gedachtes Object, sofern ich mir noch über àas in der
Anschauung gegeben bin, nur, gleich anderen Phänomenen, nicht, wie ich vor
dem Verstände bin, sondern, wie ich mir erscheine, hat nicht mehr, auch nicht
weniger Schwierigkeit bei sich, als wie ich mir selbst überhaupt ein Object und
zwar der Anschauung und innerer Wahrnehmungen sein könne». Ср.: [Kant I.
Kleine logisch-metaphysische Schriften.l Über die... Fortschritte«. С 531.
90
Об основной идее...
«"я мыслю" должно мочь сопровождать (а отнюдь не
сопровождает) все мои представления»209. Не о факте «нашего я»,
а о «я» как [о] трансцендентальном условии возможности
какого бы то ни было факта идет речь.
Но что же значит, какой смысл имеет термин «я» в этом
последнем значении?
Мы видели, мы знали уже, что «рассудок* есть, по Канту,
«способность суждения» и что все основные типы, все роды
суждений (Arten des Urtheils), все вообще суждения суть
только «функции единства» связи представлений. «Под
"функцией" же, — говорит Кант, — я понимаю единство
действия в упорядочении»210 и связывании представлений. Все
суждения суть, следовательно, функции, а функции суть
выражение «единства» действия в суждении, эти действия суть
действия рассудка, действия мышления, — значит, суждения
как функции единства суть выражение единства мышления.
Но «я мыслю» и есть верховное условие всякого единства.
Не есть ли поэтому и термин «я» только выражение для
самой возможности единства, только оно само, это единство,
как трансцендентальное условие всякого синтеза, как
принцип возможности познания чего-либо как предмета вообще,
не что иное, как «основоположение синтетического единства
апперцепции», как «высочайший принцип всякого
применения рассудка»211, то есть познания предметов a priori, —
опыта в смысле науки о природе? Что дело обстоит у Канта
именно так и никак иначе, не может не быть убедительным для
всякого, кто обратится к соответствующим местам
подлинного текста «Критики» и «Пролегомен», и особенно к
содержанию параграфов с 15 по 25 «Критики чистого разума». Здесь
да будет позволено указать лишь на немногие из
относящихся сюда утверждений Канта.
В §15 «Критики чистого разума» Кант характеризует свое
основное понятие синтеза как связь (die Verbindung,
conjunction связь же он определяет как «представление
синтетического единства многообразного»; этот признак единства и есть су-
209Критика чистого разума, § 16, с. 140-141 (131-132), с. ИЗ (94): «...der
Verstand überhaupt als ein Vermögen zu urtheilen».
2,0Там же, с. 112 (93): «Ich verstehe aber unter Function die Einheit der
Handlung, verschiedene Vorstellungen unter einer gemeinschaftlichen zu
ordnen».
211 Там же, § 17, с. 144 (136).
Часть I
91
щественнейшее содержание понятия синтеза, т. к. через него
впервые становится возможным и самое понятие связи (sie
macht... den Begriff der Verbindung allererst möglich), и не
«категорию единства», которая уже предполагает связь, означает
здесь это единство, но самое «основание единства» (den Grund
der Einheit) различных представлений в суждениях,
следовательно, основание «возможности самого рассудка даже в его
логическом применении» (der Möglichkeit des Verstandes, sogar
in seinem logischen Gebrauche)44*. Это-то «основание единства
и самой возможности рассудка» и обозначается затем в §16,
как «первоначально-синтетическое единство апперцепции»,
но в отличие от Лейбница — как «чистой» и «первоначальной»
апперцепции (rein, ursprünglich), а эта апперцепция в свою
очередь — как самопознание, как представление о «я мыслю»,
долженствующее мочь все другие представления сопровождать,
а само не быть сопровождаемым никаким другим, то есть
составлять условие для всех них. Единство, о котором идет речь,
еще поэтому «трансцендентальное единство самопознания»,
которое для того трансцендентальным и называется, чтобы
этим указать на «возможность из него (aus ihr) познания a
priori». Но познание есть ведь, как мы знаем, познание предмета
вообще, который в возможности опыта о нем или познания
о нем сам впервые должен стать возможным. Значит, не
«внутреннее чувство» (der innere Sinn), не «эмпирическое
сознание» (das empirische Bewusstsein), не «эмпирическая
апперцепция» (die empirische Apperception), а только чистое и «общее
сознание» (das allgemeine Bewusstsein) имеется здесь в виду,
все значение, весь смысл которого, как мы видели, в том и
заключается, что оно есть средство познания предмета, самой его
возможности. Не столько «самосознание», следовательно, как
таковое, сколько его «предмет», «синтез», «связь» есть здесь та
цель, которая все время стоит на первом плане и которая
осуществляется посредством самосознания, оно [самопознание]
же есть только средство. И только через то, говорит Кант, «что
многообразное данных представлений я могу связать в
сознании, возможно для меня самое тождество сознания в этих
представлениях», а это значит, «что аналитическое единство
апперцепции возможно только под предположением единства
синтетического». Самое «тождество» сознания возможно,
следовательно, лишь через отношение к объекту, к предмету, к его
конструкции, и самый принцип анализа подчинен принципу
92
Об основной идее...
объективного синтеза. Отношение к объекту, к возможности
предмета в познании на самой вершине трансцендентальной
философии все время остается доминирующим и
определяющим. Не самопознание есть поэтому для Канта, основание
синтеза, ведь основание было бы только психологическим или
в лучшем случае метафизическим, но, наоборот,
«синтетическое единство многообразного есть, следовательно, основание
тождества самой апперцепции» (Synthetische Einheit des
Mannigfaltigen... ist also der Grund der Identität der Apperception
selbst)212. Вот почему и сама трансцендентальная апперцепция
и ее единство есть не что иное, как «основоположение»
(Grundsatz), «каковое основоположение есть высочайшее (der
oberste [Grundsatz]) во всем человеческом познании»21·'* и вот
в каком смысле: «синтетическое единство апперцепции есть
высочайший пункт, к которому следует возводить все
применение рассудка* даже всю логику, и с ней вместе и всю транс-
цендентальиу ю философию1»214. И все время и на все лады
Кант ие устанет соотносить самосознание с многообразным
в содержании предмета и делает его зависимым от
последнего, пока наконец эта основная мысль его об апперцепции
всего только или, если угодно, даже как об основоположении не
находит своего кульминационного завершения в
знаменательных словах: «Рассудок, в котором всякое многообразное было
бы дано через самосознание (durch das Selbstbewusstsein),
такой рассудок был бы способен к созерцанию (würde
anschauen); наш же рассудок может только мыслить и должен
искать созерцания в сфере чувственного восприятия (in den
Sinnen)»2'5. Так, через понимание «трансцендентального
единства апперцепции» в объективном смысле и значении
верховного основоположения познания устраняется здесь
возможность познания уже не только абсолютного объекта внешнего
созерцания (внешнего чувства), но и всякая возможность
познания абсолютного объекта внутреннего созерцания
(внутреннего чувства). Проблема вещи в себе разрешается в
скептическом смысле не только по линии внешнего опыта, но и в
отношении опыта внутреннего:
212 Критика чистого разума, с. 142 (134).
2':1Тамже,с.144(136).
2МТам же, § 16, с. 142 (134 - примечание).
2,5Тамжс,с. 143(135).
Часть I
93
Наконец, § 17 уже со всей определенностью превращает
«основоположение синтетического единства апперцепции»
в «верховный принцип* всякого применения рассудка*.
Аргументация кратка и вся сосредоточивается в раскрытии того
действительного взаимоотношения, которое связывает объект
и субъект в познании (предмета). Верховное основоположение
возможности всякого созерцания в отношении к рассудку
состоит в том, чтобы «все многообразие созерцания стояло (ster
he) под условиями первоначального единства апперцепции»,
оказывалось связанным в одном сознании, без чего ничто не
может быть мыслимым или познанным, поскольку данные
через чувственность представления сами по себе не были бы еще
подчинены акту апперцепции — «я мыслю» — и, следователъ-
но> не были бы объединены в самосознании. Нужно это
объединение, «объект и есть» как раз «то, в понятии чего
многообразие данного созерцания объединено (vereinigt ist)»45*. Это
объединение осуществляется в синтетическом единстве
понятия, которое и есть «понятие об объекте вообще», и сам
объект есть в конечном счете не что иное, как понятие о нем,
осуществляющееся в синтезе многообразного.
Так, «первоначальное единство апперцепции», «единство
сознания» и «самосознания» фиксируется и оправдывается
здесь в «объекте» и его единстве как единстве синтеза.
Но с другой стороны, синтетическое единство есть ведь
единство апперцепции, и постольку именно «единство
сознания есть то, что одно только и обусловливает отношение
представлений к предмету, а тем самым и их объективную
значимость, то есть то, что они становятся познаниями», и теперь
уже объект обосновывается в единстве сознания.
Однако (так развивается дальше эта аргументация) это
единство сознания есть единство синтеза.
Например, чтобы познать что-либо в пространстве, говорит
Кант, например, линию, «я должен ее провести... так, чтобы
единство этого действия стало в то же время и единством
сознания (в понятии об этой линии), через что впервые объект
(определенное пространство) и оказывается познанным»216.
Таким образом, здесь делается, по-видимому, уже
совершенно не подлежащим какому-либо сомнению, что «единство
сознания» трактуется Кантом исключительно как оснЬвополр-
Крмтика чистого разума, с. 145 (138).
94
Об основной идее...
жение, а отнюдь не как абсолютный субъект или источник
какой-либо себе довлеющей творческой деятельности46*. И
ясно, [что] вся сила, все значение этого «первоначального
единства апперцепции» коренится именно в его значении как
«основоположения», как верховного трансцендентального
принципа и условия познания, поскольку вся природа, вся
суть этого принципа состоит в епхотношении к
обусловливаемому им познанию предмета, в его отношении к
порождаемому им объекту познания, а не в нем самом по себе.
Только в продукте своей деятельности, только в исполнении
своей задачи имеет силу и реальность этот принцип, почему
и может иметь исключительно лишь значение и смысл
верховного основоположения. Единство применения, единство
деятельности (Einheit der Handlung), есть в нем тем самым и
единство сознания, и в этом только [состоит] смысл последнего.
В начале §18 эта аргументация находит свое завершение
и руководящая мысль ее выражается с полнейшей
определенностью. «Трансцендентальное единство апперцепции, —
сказано здесь, — есть то, через которое все многообразное, данное
в созерцании, объединяется в понятии об объекте. Поэтому
оно называется объективным и должно быть отличаемо от
субъективного единства сознания, которое есть определение
внутреннего чувства, через каковое определение упомянутое
многообразие созерцания эмпирически дается для такого
объединения». Только это, то есть трансцендентальное
«единство, имеет объективную значимость; эмпирическое же
единство апперцепции... имеет значимость только субъективную»217.
Так самосознание снова со всей решительностью
фиксируется в объекте, и его значение как верховного основоположения
выражается во всем своем блеске и силе. Невольно
вспоминается при этом аналогичное значение закона непрерывности
в обосновании учения о познании в философии Лейбница, к
которому Кант по духу был ближе и[1сл. нрзб], чем к кому-либо
из предшествующих ему великих философов. Этот свой закон
непрерывности (ma 1оу de la continuité) Лейбниц называл
«суверенным принципом» и в качестве верховного
основоположения возможности предметного познания считал его чисто
идеальным началом, всецело имеющим источник в человеческом
разуме. В одном из мелких своих сочинений Лейбниц говорит,
Критика чистого разума, § 18, с. 146-147 (139-140).
Часть I
95
между прочим, следующее: «...on peut dire en general, que toute
la continuité est une chose idéale», и далее, в заключении
знаменитого рассуждения своего о взаимном обосновании правил
конечного в правилах бесконечного и наоборот, он заявляет:
«...c'est ce que tout se gouverne par raison, et que autrement il n'y
aurait point de science ni règle, ce qui ne serait point conforme avec
la nature du souverain principe»47*, или не менее красноречиво
характеризуя этот закон в другом месте математически как
«principium ordinis générale», Лейбниц говорит про него:
«...nascens ex infiniti et continui notione, acccdente ad illud axioma,
quod datis ordinatis etiam quaesita sunt ordinata»218.
Едва ли есть необходимость в дальнейших еще ссылках на
подлинный текст сочинений Канта для подтверждения и
обоснования в проводимой и развитой здесь основной тенденции
в понимании трансцендентальной философии и ее метода
в строго объективном смысле. Остается лишь подвести итог
и выразить общий результат этой вводной главы
предполагаемого исследования.
Трансцендентальная философия свое методическое
обоснование имеет в исследовании и открытии синтетических
основоположений науки о природе, точнее, математического
естествознания; последнее и есть опыт в том смысле этого
термина, в каком его понимал и на него ссылался уже Ньютон.
И всякое другое значение опыта (в обыденном или даже лок-
ко-юмовском значении) должно быть сводимо к этому, ныо-
тоно-кантовскому опыту, и в нем только может обоснована
в своих притязаниях на значение эмпирического познания
наука о природе. Математическое естествознание было поэтому
для Канта наукой по преимуществу, наукой, если можно так
выразиться, в инстанции метода. Предположения, основания,
принципы, которые она в себе содержит, — это и есть
синтетические основоположения, в которых только устанавливается
и получает свое точное выражение и определение отношение
философии к науке. Содержание науки составляют, прежде
всего, законы природы. И вот философия открывает и обос-
'^[Leibniz G.W.] Mathematische Schriften. [Erste Abth. hrsg. von
CJ.Gerhardt.] Bd. VI. [I860] S. 249 f.: [«общий упорядочивающий принцип»...
«рождается из понятия бесконечности и непрерывности, сближаясь с
основоположением, согласно которому при наличии некоторого порядка
и искомое нами также является упорядоченным»].
96
Об основной идее...
новывает в «синтетических основоположениях» общие
законы природы, проводя в то же время и обосновывая различие
между законами общими и специальными (besondere Gesetze),
или, как их во времена Канта называли, эмпирическими
законами, — классическое различие, проблему которого не
игнорировал ни один из великих представителей философского
идеализма. Синтетические основоположения познания — это
же исторически те самые принципы, которые Лейбниц в
качестве истин разума (vérités de raison) отличал от «истин о
фактах» (vérités de fait)48*, сводя последние к первым и получая,
таким образом, ту «liaison de phénomènes»49*, в которой, то есть
в этой связи, содержится вся гарантия, все ручательство их
реальности как предметов опыта. Не ассоциативная связь
представлений, вопреки Юму, может служить принципом
обоснования связи явлений в опыте, в природе, в ее
закономерности, а, наоборот, лишь разумом, то есть научно познаваемая
необходимая связь явлений природы, то, что еще Декарт
обозначал термином «connexion nécessaire», делает ее предметом
опыта и тем обусловливает возможность самой ассоциации
представлений и ее субъективно необходимой, то есть
привычной, связи. Эти свои «истины разума» Лейбниц
обозначал, как известно, термином «вечные истины» (vérités
éternelles), и они-то и были опознаны Кантом как «синтетические
основоположения», как трансцендентальные «принципы»
самой возможности познания природы, то есть опыта и его
предметов. В качестве «истины a priori» эти основоположения
имеют по существу своему тот же характер, что и лейбницевские
«vérités éternelles»50*; как и эти последние, они универсальны
и необходимы, и потому с известным правом можно сказать,
что, как Лейбниц в своих «Nouveaux essais sur l'entendement
[humain]» своей задачей ставит защиту этих истин против
нападок на них и притязаний отрицать их со стороны
сенсуализма Локка, так Кант в своей трансцендентальной аналитике
берет их под защиту против скептицизма Юма. Главная цель
обоих великих мыслителей та же: установить и обосновать эти
«вечные истины», эти «истины a priori» в значении и силе
основоположений, принципов достоверности универсального
научного знания. Над выработкой и выяснением природы
этого сокровенного, интимнейшего взаимоотношения между
наукой и философией — этой вечной проблемы научной
культуры и прогресса — Кант неустанно работал в тс долгие и труд-
Часть I
97
ные 11 лет, которые протекли без опубликования с его
стороны каких-либо исследований со времени защиты им его
диссертации (Inaugural Dissertation) на занятие должности
ординарного профессора под заглавием «De mundi sensibilis atque
intelligibilis forma et principiis»51* в 1770 г. до момента выхода
в свет «Критики чистого разума» в 1781 г. В «Пролегоменах»
он нашел затем для выражения этой проблемы ту новую,
в строго объективном смысле выдержанную формулировку,
которая обусловила окончательную и несравненную ясность,
с которой проблема трансцендентальной философии
выступает наконец перед нами в предисловии ко второму изданию
«Критики чистого разума». Ни о чем другом, ни о чем менее
важном и значительном не идет здесь речь, как именно о том,
чтобы установить и обосновать эту вечную природу и
характер разума в основоположениях науки в ее принципах.
«Чистый разум» Канта — в объективном смысле системы и
верховного единства всех синтетических основоположений
понятый — это по существу своему все тот же старый «raison
éternelle»52* Лейбница, который обосновывает и объясняет
у него возможность разума человеческого. Эта связь того, что
условно можно назвать разумом универсальным или чистым,
с разумом человеческим, всегда, в конце концов,
эмпирически обусловленным, индивидуальным, у Лейбница имеет
более полный, более интимный характер, а у Канта более
отвлеченный, более скрытый, лишь в историческом прогрессе
непрерывного научного развития раскрывающийся характер.
Но все время цель остается та же — «вечные истины»,
«истины a priori», как синтетические основоположения, как
принципы достоверного научного познания. Все учения
трансцендентальной философии Канта в ее теоретической части суть
только средства, только подступы и подходы к этой цели.
Учение о пространстве и времени не в большей мере, чем учение
о категориях, ничего другого не означает, никакой другой
роли не играет, как только ту, чтобы быть средствами, быть
разъяснением условий возможности «всеобщих законов природы»
(allgemeine Naturgesetze) и формальных условий опыта, а они
и есть ведь «синтетические основоположения».
Б. Фохт.
22 апреля 1921 года,
Москва
ЧАСТЫ1
Более подробное рассмотрение существа
трансцендентального метода и дальнейшее раскрытие содержания
основных понятий теоретической философии Канта, а
именно: понятий об «a priori», о «трансцендентальном*,
«эмпирическом», «метафизическом* и «трансцендентальном»
объяснении или дедукции (empirische Ableitung,
metaphysische Erörterung, transscendentale Erörterung и Deduction),
а также понятий «опыта», «явления», «ощущения»,
«закона», «форм созерцания», «категорий»,
«основоположений», «вещи в себе» и «идеи»
В предшествующей главе была установлена необходимость
признания самостоятельного философского метода для
разработки теоретической философии. Этот метод в отношении
философии Канта был определен нами как
трансцендентальный. Для более полной характеристики этого метода
надлежит, однако, точнее выяснить и определить теперь его
природу через противопоставление его психологическому методу
решения основных проблем теоретической философии, и,
прежде всего, проблемы достоверности научного познания,
научного опыта, или, что то же, точной науки о природе.
Родоначальником психологического метода исследования
и решения философских проблем в новой философии был, как
известно, Локк, а его продолжателями — целый ряд
последующих английских мыслителей, особенно Юм и Джон Стюарт
Милль. В немецкой философии представителями того же
направления, хотя и в сильно измененном виде, в XIX столетии
являются Фриз53* и позднее в особенности LB. Meyer51*, в
настоящее время главным образом Т. Липпс55*, а также Корне-
лиус5в* и многие другие. Критериумом истинности познания
для всех этих мыслителей, как бы в частности ни варьирова-
Часть II
99
лись их точки зрения и ни различались в потребностях их
учения о достоверности знания, является то руководящее и
основное их убеждение, что всякая истинность познания есть,
в конце концов, лишь выражение сознания или даже чувства
субъективной необходимости мышления — связи в нем наших
представлений и мыслей. Соответственно этому главной,
если не исключительной, проблемой всей теоретической
философии является исследование и раскрытие тех
психологических условий, при которых возникает и укрепляется сознание
упомянутой субъективной необходимости связей в нашем
мышлении отдельных представлений и мыслей, понятий
и суждений. И прежде всего должны быть открыты и
оценены в своем значении для познания условия связи между
представлениями. Бесконечно различные ряды представлений
наполняют наше сознание в смене его во времени протекающих
процессов. Отдельные члены этих рядов обособляются от
других и соединяются друг с другом в единстве охватывающего
их сознания. Способность связывать в сознании различные
представления в некоторое единство, соединять их между
собой как различные, называется мышлением, а представление
о таком единстве связи между собой различных
представлений — суждением. Являясь источником всякой высшей
психической деятельности, суждения, в свою очередь, бывают или
такими, в которых единство связываемых в них
представлений оказывается неустойчивым, легко распадающимся в
дальнейшем процессе деятельности сознания на свои
первоначальные элементы, или такими, в которых связь
представлений в сознании удерживается надолго или снова порождается
всякий раз, когда соответствующие представления вновь
вступают в сознание; наконец, есть такие суждения, э коих синтез
их представлений сопровождается или может сопроводиться
сознанием его неразрывности, неизбежности соединения
между собой входящих в него элементов. Такие-то соединения
представлений и есть то, что с психологической точки зрения
следует называть необходимыми суждениями. Этот третий
класс необходимых суждений и составляет содержание
нашего познания. И вопрос о том, возможны ли они и как
возможны, есть, по-видимому, не что иное, как выражение проблемы
возможности самой науки. Но если это справедливо, то не
таково ли в самом деле действительное начало всякой истины,
философии, подлинный, чисто психологический источник всех
too
Об основной идее...
ее исследований? Правда, может показаться, что при таком
понимании существа основной проблемы теоретической
философии мы впадаем в безвыходное противоречие, поскольку,
с одной стороны, сознанием необходимости связи наших
представлений мы пользуемся как критериумом
достоверности познания, с другой же — ставим вопрос, возможны ли
вообще такие связи представлений, такие суждения, и если
возможны, то каким образом. Однако возникающее здесь
недоумение и видимая опасность для теоретической философии
утратить своеобразность и самостоятельность своей основной
проблемы о возможности и условиях достоверности знания
легко устраняется тем соображением, что хотя самый факт
сознания необходимой связи представлений мы, разумеется,
заимствуем из психологии, но при этом отнюдь не лишаем себя
заранее всякого права подвергнуть этот факт самому
тщательному исследованию, ведь сама по себе нисколько не
исключена возможность того, что утверждаемое в психологии
сознание необходимой связи представлений в суждении было бы
с другой, не психологической, точки зрения раскрыто и
обнаружено как только мнимое, как своего рода иллюзия.
Следовательно, факт сознания необходимой связи представлений
мы заимствуем из психологии, как предварительный во всем
его проблематическом значении и со всей определенностью
ставим вопрос о возможности такой необходимой связи. И
если нам не удастся доказать этой возможности и
удовлетворительно объяснить ее, тогда и в самой действительности, в
самом факте такой необходимой связи мы будем иметь право
усомниться, и единственной задачей нашей останется лишь
раскрытие условий ее возможности.
Таким образом, своеобразность и самостоятельность
основной проблемы теоретической философии, как и право на
особый метод для ее решения, еще не утрачиваются, по-видимому,
от характера ее первоначальной психологической постановки.
Предварительное признание факта сознания необходимости
связи между представлениями и мыслями еще не давало бы
права психологический метод Локка и Юма со всей
решительностью противопоставить трансцендентальному методу Канта.
Ведь исходить из чего-либо в нашем сознании имеющегося как
из чего-то такого, что имеет значение проблемы для решения,
необходимо для всякого вообще и, конечно, также и для
трансцендентального метода исследования философских проблем.
Часть II
101
Существо различия психологического и
трансцендентального метода в философии зависит поэтому не столько от
характера и условий самой постановки основной проблемы
теоретической философии о достоверности знания и
отправного пункта относящихся сюда исследований, сколько от того,
ставится ли решение этой проблемы, а не только ее
постановка в зависимость от психологических фактов, условий
деятельности сознания, его процессов и их развития.
В самом деле, не следует ли, быть может, поставить более
общий и коренной вопрос о том, выходит ли вообще
проблема достоверности познания, то есть его первоисточника,
объема и условий объективной значимости219, за пределы
психологии в какую-то новую область, по существу своему
отличную от сферы психологических исследований и наблюдений?
И разве объяснение какого бы то ни было вообще состояния
сознания может не представлять собой всецело и чисто
психологической задачи? В невозможности отрицательного
ответа на содержащийся здесь вопрос и состояло, по-видимому,
основное, и всегда бывшее руководящим, убеждение всех
представителей психологического метода в решении проблем
теоретической философии независимо от того, становилось
ли это решение положительным, по крайней мере,
претендовало на такое значение, как это было у Локка, или
приобретало явно и откровенно скептический характер, как это
справедливо относительно Юма и его многочисленных, под теми или
иными названиями различных направлений современной
философии скрывающихся последователей.
По убеждению мыслителей этого направления, дело с
решением проблемы достоверности научного познания просто
обстоит так: в качестве, как бы сказать, естествоиспытателей
наблюдаем мы развитие с самых первых его зачатков до
состояния его полной зрелости, исследуем психические
процессы в нем протекающие, прослеживаем связи и разъединение
2,9Ср.: Критика чистого разума, с. 45-46 (7-8) и особенно с. 103 (81-82):
«Такая наука, которая определяла бы первоисточник (Ursprung), объем
и объективную значимость таких познаний, называлась бы
трансцендентальной логикой, потому что она имеет дело только с законами рассудка
и разума, однако исключительно насколько они a priori относятся к
предметам в отличие от общей логики, которая имеет одинаковое отношение
как к эмпирическим познаниям, так и к понятиям чистого разума без
различия».
102
Об основной идее...
наших представлений и таким образом стремимся установить
тот закон, которым обусловливается и на усмотрение
которого опирается нагие убеждение в необходимости связи между
теми нашими представлениями, которые мы сознаем как
составляющие содержание нашего достоверного знания, нашей
-науки о природе, о всякой вообще действительности мира
и жизни.
Не может подлежать сомнению, что стремление открыть по
указанному методу такой основной закон необходимой связи
наших представлений и мыслей имеет весьма большую
ценность и значение для раскрытия как условий самого
механизма, так и оценки значения тех процессов, которыми
определяется ход развития нашего познающего сознания. Мы
научаемся распознавать при этом, что среди бесчисленных ассоциаций
наших представлений есть такие, которые постоянно
возобновляются в сознании, и с тем большей убедительностью и не-
предотвратимостыо осуществляют содержащуюся в них связь
представлений, чем в большей мере отличаются они от
других менее устойчивых соединений и чем в более тесную связь
они вступают с уже укоренившимися и упрочившимися в
сознании более прочными соединениями его элементов.
Отсюда получаем мы право заключить, что наша уверенность во
взаимной принадлежности и необходимости связи друг с
другом в суждении известных представлений будет непрерывно
возрастать по мере укрепления привычки видеть такие
представления все вновь и вновь синтезируемыми, все вновь и с
сознанием той же неизбежности соотносимыми в содержании
нашего сознания.
Так именно и понимал, как известно, механизм
познающего сознания, и отсюда исходил в определении ценности его
продуктов для развития научного знания Юм, и так, в конце
концов, понимают проблему достоверности научного
познания и смысл ее решения и его современные последователи,
и явные или скрытые единомышленники.
И все же уместно и даже неизбежно поставить вопрос,
возможно ли с этой точки зрения считать вполне объясненной ту
необходимость связи, то сознание единства в суждении
между определенными представлениями, которые никаким
эмпирически констатируемым случаем или фактом не может быть
устранено, никаким индивидуальным сознанием не может
быть отвергнуто? Если мы, например, утверждаем, что воздух
Часть II
10?
эластичен или что он имеет вес, то формальная необходимость
связи этих представлений о воздухе и весе, поскольку уже
предполагаются имеющими силу суждения «тела тяжелы»
и «воздух есть тело», или материальная необходимость их
создания, в своем значении базирующаяся на представлениет
о единстве самого предмета, — разве такая необходимость, все
равно формальная или материальная, по кантовской
терминологии аналитическая или синтетическая, может быть
удовлетворительно объяснена и понята с точки зрения
психологии? Или, наоборот, такая необходимость остается для
психологии совершенно непонятной и применением ее методов
совершенно необъяснимой? Ведь от привычки, как бы
прочно ни укоренившейся, всегда остается, по крайней мере,
принципиальная возможность отвыкнуть, в силу тех или иных
своеобразных и исключительных данных опыта от нее
освободиться, а с этим вместе пала бы, была бы устранена и якобы
непререкаемая необходимость связи между представлениями
в суждении. Сознание такой необходимости через
упрочившуюся посредством привычки ассоциацию никогда не может
быть поэтому безусловным, но всегда, напротив, имеет
значимость лишь условную, не обеспечивает, следовательно,
общезначимости суждения, не дает гарантии достоверности
научного знания. Как бы плодотворно для психологии ни было
исследование сознания такой необходимости, подлинная
проблема достоверности знания, своеобразная критическая
проблема философии таким способом ее постановки и
решения, в сущности, даже не затрагивается. Ведь даже если бы мы
в совершенстве знали, когда какое-либо суждение
необходимо для нас, и при каких условиях оно мыслится нами с
необходимостью, какими индивидуально психологическими
предпосылками оно в своей значимости для нас определяется,
то ведь всем этим мы еще ни на шаг не были бы подвинуты
к решению вопроса о том, почему именно такое суждение
мыслится нами как необходимое и от чего зависит объективная
значимость связи входящих в него представлений, то есть
каково основание содержащегося в нем познания
(Erkenntnisgrund)220 совершенно независимо от нашего
индивидуального опыта? И ясно, что единственный путь к, решению этого
принципиального вопроса может лежать лишь в исследова-
220 Prolegomena, § 6, с. 33 (280).
104
Об основной идее...
нии суждения со стороны его объективной значимости, в
рассмотрении его по той ценности и роли, которую оно может
иметь в области научного познания и опыта для его
рассмотрения и упрочения совершенно независимо от условий его
возникновения в нашем сознании. Если этот вопрос
правомерен, [и] такое объяснение условий объективной значимости
суждения необходимо и в отношении к 1фоблеме
достоверности познания представляется единственно возможным, тогда
протест Канта против попытки Юма обосновать
необходимость связи в суждениях чисто психологически из
упрочившейся в сознании привычки их соединения221 следует считать
обоснованным и требование особой науки о первоисточнике,
условиях, объеме и границах достоверного познания
доказанным. Из самых недр психологии и должна возникнуть такая
новая, по существу, отличная от нее наука, требующая
своеобразного метода для решения своих проблем. Если научный
скептицизм есть единственно возможный исход, единственно
неизбежная точка зрения, к которой ведет психологический
метод решения основных проблем теоретической философии,
то единственная возможность преодоления этого
скептицизма заключается в решении проблемы обоснования особой
науки об условиях достоверности познания посредством
специфически ей лишь присущего, трансцендентального метода.
Эту Кантом впервые раскрытую и установленную
противоположность трансцендентального и психологического метода
следует постоянно иметь в виду, чтобы быть в состоянии
правильно оценить принципиальное значение отправного
пункта и основных понятий кантовской философии, как и
безусловную самостоятельность и своеобразность ее метода.
«Критика чистого разума» и «Пролегомты» ставят своей основной
задачей исследовать возможность научного опыта, и с этой
именно целью анализируют и рассматривают его состав.
«Прежде всего, — говорит Кант222, — необходимо напомнить
читателю, что здесь речь идет не о происхождении опыта,
а о его составе. Первое принадлежит эмпирической
психологии, но и в ней оно никогда не могло бы быть как следует
развито без исследования состава опыта, что составляет задачу
критики познания и в особенности рассудка». Так проблема
221 Prolegomena. § 27, 28, с. 71-72 (311) и § 29, с. 72-73 (312).
222Там же, §21а, с. 62 (304).
Часть II
105
критики познания, а с ней вместе всей теоретической
философии и ее метода, с классической определенностью ставится
здесь Кантом в полную независимость от эмпирической
психологии и методов ее исследования, и даже, больше того,
сама эта психология в решении важнейших, проблем
оказывается в зависимости от решения основной проблемы критики
познания — проблемы о самом составе научного опыта223.
Каким образом дети, дикари, идиоты, умалишенные или,
напротив, вполне зрелые, психически нормально: развитые,
даже высоко одаренные и гениальные индивидуумы в
постепенном развитии своего индивидуального опыта приходят
к образованию своих представлений и мыслей, являются ли
эти представления и мысли прирожденными или
приобретенными, совпадающими, и в какой мере, с представлениями
и мыслями других индивидуумов, в аналогичных условиях
возникающими57*, *- все эти и другие подобные вопросы не
относятся по существу, не затрагивают истинной ценности
и смысла классических исследований Канта в области
теоретической философии.
Правда, в известном смысле, и про трансцендентальный
метод Канта можно сказать, что и он все же должен быть
психологическим, поскольку до своих основных понятий он
доходит посредством рефлексии, оказывается в обладании
«факта», и всегда ведь не иначе как посредством самонаблюдения,
посредством мысленного анализа содержания познающего
сознания. Конечно, Кант не мог и никогда не имел в виду
отрицать этого, он признавал такой способ предварительного
выведения, точнее, констатирования факта своих основных
понятий и первоначальных элементов в познании, но он отличал
его от психологического метода исследования в собственном
и тесном смысле этого слова, и с этой целью обозначил его
особым термином «метафизической дедукции»
(metaphysische Deduction). Существо этой дедукции Кант видит в
трансцендентальной аналитике совершенно аналогично с тем, что
в трансцендентальной эстетике имело место в отношении
223 Критика чистого разума, с. 110 (90 — 91), ср. также с. 85 (55): «Zeit und
Raum sind demnach zwei Erkenntnissquellen...», также с. 185-186 (195)
и особенно § 26, с. 160 (159): «In der metaphysischen Deduction wurde der
Ursprung der Kategorien a priori überhaupt durch ihre völlige
Zusammentreffung mit den allgemeinen logischen Functionen des Denkens dargethan...»,
также с. 253-255 (288 и 289).
im
Об основной идее...
к чувственности, в «расчленении самой способности рассудка
с целью исследовать возможность понятий a priori через
отыскание их исключительно в рассудке, как месте их
происхождения (ihrem Geburtsorte)», — в прослеживании этих чистых
понятий до их первых зародышей и задатков, в которых они
лежат заранее подготовленными, пока, наконец, не
разовьются по поводу опыта (bei Gelegenheit der Erfahrung) и не будут
затем представлены во всей своей чистоте тем же самым
рассудком», но уже «освобожденные от связанных с ними
эмпирических условий»58*. Уже здесь, таким образом, резко
противопоставляется факт открытия априорных элементов, в
частности понятий a prori, их развитию по поводу опыта, в чем
именно, как мы отчасти знаем уже из предшествующей главы,
Кант усматривает подлинную сущность
психофизиологического исследования, или, как он его называет,
физиологического выведения (physiologische Ableitung), имеющего целью
раскрыть случайные причины образования этих элементов
или понятий в опыте (die Gelegenheitsursachen ihrer Erzeugung
in der Erfahrung) и проследить «первые стремления силы
нашего познания в восхождении от единственных восприятий
к общим понятиям» (Nachspüren der ersten bestrebungen
unserer Erkenntnisskraft, um von einzelnen Wahrnehmungen zu
allgemeinen Begriffen zu steigen)22*. Это физиологическое
выведение Кант понимает исключительно лишь как объяснение
факта обладания чистым познанием (die Erklärung des Besitzes
einer reinen Erkenntniss), не заслуживающее собственно даже
названия. Дедукция придает ему известное значение в
качестве quaestionem facti, то есть расследования этого
факта, — Кант со всей определенностью противополагает ее не
только метафизической дедукции априорных элементов
познания, ставящей своей задачей показать, каким образом
обнаруживается самый факт обладания (Besitz) этими
элементами со стороны нашего познающего сознания, но в
известном смысле даже — эмпирической дедукции таких априорных
элементов, имеющей назначение выяснить, каким путем то
или иное понятие a priori (именно понятие о пространстве
и времени как формах чуйственности и категориях как
понятиях рассудка) «приобретается через опыт и рефлексию
о нем», и, следовательно, касающейся лишь реальных условий
Критика чистого разума, с. 130-131 (118-119).
Часть II
107
в сознании, приводящих к факту обладания этими
понятиями (das Factum betrifft, wodurch der Besitz entsprungen)*25; Το>
что у Канта называется «физиологическое объяснение»,
имеет, таким образом, для дедукции, как мы видим,
исключительно лишь значение расследования уже готового факта
обладания априорными элементами познания, и как таковое оно
приносит, кажется, философии свою несомненную и
неотъемлемую пользу. Но какого-либо другого и большего значения
это «физиологическое выведение», которым философия
обязана «знаменитому Локку», ни в каком случае иметь не
может: вся ее задача должна состоять всецело и исключительно
только в том, чтобы с естественнонаучной точки зрения
исследовать, каким образом возникли в сознании те или иные
элементы его или понятия, например, прирожденными или
приобретенными, и в какой мере и в каком смысле являются
для познающего сознания понятия пространства или
времени. Но дедукция чистых понятий рассудка a priori, как на этом
настаивает Кант, никогда не может быть осуществлена таким
образом, возможность ее осуществления лежит на другом
пути и, поскольку речь будет идти в ней именно о чистом
познании a priori, коих последующее применение должно быть
совершено независимо от опыта, — эта дедукция должна будет
представить для своих чистых понятий совсем другие
«метрические свидетельства» (Geburtsbrief), чем происхождение
их из опыта (als den der Abstammung von Erfahrungen)226.
Настоятельно предостерегает Кант также и против мнения,
будто через это «физиологическое выведение» можно
осуществить или прийти к эмпирической дедукции таких понятий
и что-либо установить о их теоретико-познавательной
ценности или значении их применения для познания. Пытаться
применить в отношении к этим понятиям «эмпирическую
дедукцию» было бы, по словам Канта, совершенно напрасным
предприятием, «ибо в том именно и заключается
своеобразность их природы, что они относятся к своим предметам,
ничего не заимствуя для их представления из опыта»227. Ни
«физиологическое выведение», ни «эмпирическая дедукция»,
ни даже сами по себе и обособленно взятые «метафизическое
225 Критика чистого разума, с. 130 (117).
™Там же. с. 131(119).
я^Там же, с. 130(118).
108
Об основной идее...
объяснение и дедукция» априорных элементов познания, в
частности чистых понятий рассудка, еще недостаточны, еще не
отвечают требованиям основной проблемы критики или,
по современной нам философской терминологии, теории
познания. Но если эта проблема законна, если ее правомерность
определена, как мы можем убедиться, самой идеей и
существом теоретической философии и ее своеобразного метода,
тогда в дополнение и в продолжение, даже в оправдание самого
смысла метафизической дедукции, не говоря уже об
эмпирической, необходимо еще другое выведение, еще другая,
гораздо более далеко идущая дедукция, уже не самих элементов
a priori в нашем познании, в частности чистых понятий
рассудка касающаяся, но возможность их чистого применения а
priori (совершенно независимо от всякого опыта) для
познания предметов вообще, предусматривающая дедукция,
которую Кант называет дедукцией «трансцендентальной»22*. Эта
трансцендентальная дедукция априорных элементов
познания, в частности и в особенности, чистых понятий рассудка,
насколько они находят свое завершенное выражение в
«основоположениях» или принципах познания, и составляет у
Канта подлинное существо критики познания, всего вообще
учения его о достоверности познания и возможности опыта
в смысле науки о природе. Ведь именно объяснение и
обоснование объективной необходимости познания, а не только
всегда колеблющейся и сомнительной
субъективно-психологической необходимости, составляет подлинную задачу и тему
критики познания, то есть учения о его условиях,
возможности и границах объективной значимости, но единственное
возможное объяснение и обоснование такой объективной
необходимости заключается в доказательстве того, что то или иное
суждение или понятие, о которых идет речь, составляет
условия или предположения возможности того, [что] есть опыт,
понятый в смысле науки о природе. И если нам удастся
доказать, что то или иное суждение или понятие действительно
представляет собой такое условие или предположение, без
которых научный опыт (а не чье-либо индивидуальное вос-
Критика чистого разума, с. ПО (90-91): «...die Möglichkeit der Begriffe a
priori dadurch zu erforschen, dass wir sie im Verstände allein, als ihrem
Geburtsorte aufsuchen und dessen reinen Gebrauch überhaupt analysiren»,
ср.такжес. 129-131 (117, 118 и 119).
Часть II
10$
приятие) не может быть осуществлен, не может быть
достоверным знанием о предметах того, что мы называем природой, —
тогда тем самым доказана будет объективная значимость
этого понятия или суждения, его необходимость для самой
возможности науки или опыта как достоверного знания.
В этом доказательстве и заключается все существо
открытого Кантом трансцендентального метода, опираясь на
который он и предпринял обоснование заново всей и, прежде
всего, теоретической философии. И поскольку метод этот есть
единственно плодотворный в отношении к поставленной
задаче — он есть и единственно возможный метод обоснования
философии, в ее теоретической части в особенности.
Этот метод решения теоретико-познавательных проблем
независимо от всяких психологических предпосылок
составляет, как мы старались показать в предшествующем
изложении, самую своеобразную и самую непререкаемую заслугу
Канта перед философией. Вместо того чтобы, как метко
выражается Риль, «критиковать внешний опыт посредством
внутреннего»229, трансцендентальный метод Канта требует
исследования основных понятий и принципов, или, что то же,
основоположений всякого вообще опыта, все равно
внешнего или-внутреннего, по их объективной значимости, то есть
по тому содержанию и смыслу их, которые они имеют для
познания истины о предметах возможного и действительного
опыта, каким бы ни был этот последний59*. Проблема
условий и возможности опыта есть для Канта проблема опыта
в его целом. И это есть последнее основоположение, почему
психологический метод решения философских проблем
всегда был бы не только односторонним, но и принципиально
невозможным.
Кроме этой опасности уклонения в область исследования
элементов, процессов и развития познающего сознания
следует, однако, как на этом не перестает настаивать Кант,
не в меньшей мере остерегаться и другой коренной ошибки
в решении проблемы достоверности научного познания,
именно опасности «эмпиризма*, то есть в корне ложного,
по убеждению Канта, предположения об отношений нашего
229Riel Α. Der philosofhische Kritizismus. [Geschichte und System, Ba'.'fc 3-te
Aufl. Leipzig, 1925.] S. V: «Statt die äußere Erfahrung durch die innere zu kri-
tisiren*.
110
Об основной идее...
познания непосредственно к предметам. Все термины
критической философии и, как мы видим, в особенности понятие
об «а priori» и «трансцендентальном», относится не к самим
предметам, но «к нашему способу познания о предметах
вообще»230. Не только, следовательно, противопоставлением
психологизму, но и противоположностью эмпиризму должен
быть охарактеризован трансцендентальный метод Канта.
И этим именно объясняется, как мы старались показать
в предшествующий главе нашего исследования, в частности
и тот своеобразный характер, который получает у Канта вся
система его философских воззрений, которую он обозначил
термином трансцендентального идеализма. Поскольку Кант
хотел указать, применяя этот термин, не на отношение к
самому «существованию вещей» (die Existenz der Sachen),
сомневаться в которых ему «никогда не приходило и в голову»,
а единственно лишь на наше представление о вещах,
постольку понятие идеализма приобретало у него именно в
зависимости от существа трансцендентального метода, им
обоснованного и введенного, совсем новое значение, в высшей
степени характерное для всей его философской системы,
для всего его мировоззрения, поскольку оно может [быть]
определено как идеалистическое. Этот идеализм есть идеализм
методологический или трансцендентальный, и самое понятие
«трансцендентального» есть не что иное, как постоянное
напоминание и указание на методологический смысл этого
идеализма, на самый метод критики разума, которым все
определяется и от которого зависит как характер постановки, так
и смысл самого решения всех философских проблем и,
следовательно, также общий дух и своеобразность
мировоззрения философского идеализма, насколько он получает
значение идеализма трансцендентального в отличие от всякого
другого (эмпирического — Декарт, мечтательного — Беркли,
метафизического — Лейбниц). Вот почему и вот в каком
смысле сохраняет всю силу своего значения заявление
Канта, обращенное им, как протест, против попыток приписать
ему эти ложные, философски не обоснованные формы
идеализма. Уже «самое слово трансцендентальный, — говорит
Кант, — которое никогда не примет у меня [значение]
отношения нашего познания к вещам, но только отношения к спо-
Критика чистого разума, с. 60 (25).
Часть II
111
собности познания, должно было бы предотвратить это
недоразумение»231.
Так устанавливается Кантом подлинный смысл его
идеализма и настоящее значение трансцендентального метода.
Ближайшее рассмотрение трансцендентального метода
Канта ставит нас перед двумя главными его задачами, которые
Кант в трансцендентальной эстетике выражает терминами:
1) метафизическое объяснение (metaphysische Erörterung),
2) трансцендентальное объяснение (transscendentale
Erörterung)232, а в трансцендентальной аналитике терминами:
метафизическая и трансцендентальная дедукция233.
Обе эти задачи представляют собой, как увидим, лишь две
последовательные ступени одного и того же исследования.
Что же следует понимать, прежде всего, под
метафизическим объяснением и метафизической дедукцией? Сам Кант так
поясняет нам термины: «Под объяснением (Erörterung,
exposition — говорит он, — я понимаю ясное (хотя и не подробное)
представление о том, что принадлежит (содержанию)
понятию, метафизическим же я называю объяснение, поскольку
оно изображает понятие как данное a priori»234. Аналогичное
место находим мы в отношении чистых понятий в
трансцендентальной аналитике. «Мы проследим, — сказано здесь, —
чистые понятия до первых зародышей и задатков в
человеческом рассудке, в которых они заложены и приготовлены
заранее (in denen sie vorbereitet liegen), пока, наконец, в силу тех
или иных случайных обстоятельств опыта (bei Gelegenheit der
Erfahrung) они не разовьются и не будут потом представлены
тем же самым рассудком во всей их чистоте, освобожденные
от связанных с ними эмпирических условий»235. В целом
ряде глав трансцендентальной аналитики (как-то: в главах о
логическом применении рассудка вообще, о логической
функции рассудка в суждениях, о чистых понятиях рассудка или
категориях) развивается затем это понятие метафизической
231 Prolegomena, § 13, с. 49 (293).
232 Критика чистого разума, § 2,3,4 и 5, с. 70-80 (37-49).
2*'Там же, § 26, с. 160 (159), ер. также с. 110-112 (91-92, 93) и § 9, с 113
(95) и с. 122 (106-107); «die Verzeichnung aller ursprünglichen reinen
Begriffe der Synthesis... die Kategorien, als die wahren Stammbegriffe des
reinen Verstandes...».
*мТам же, с. 70-71 (38).
2йТамже,с. 110(91).
112
Об основной идее...
дедукции, но всю формулировку и обозначение находит
странным образом лишь значительно позднее, почти в самом
конце трансцендентальной дедукции категорий, при
сопоставлении этой метафизической дедукции с
трансцендентальной, где, именно в начале § 26, сказано: «...в метафизической
дедукции априорное происхождение (Ursprung) категорий во^-
обще было доказано через полнейшее совпадение их с
логическими функциями мышления»236. Можно спорить и даже
недоумевать по поводу частностей и некоторых своеобразных
особенностей таблицы этих категорий, особенно по поводу
выведения их Кантом, из расчленения «логической функции
рассудка в суждениях»60*, но общий принципиальный смысл
этой дедукции и ее значение как «предисловия» для самой
возможности следующей за ней дедукции
трансцендентальной или, в трансцендентальной эстетике, —
«трансцендентального объяснения» — представляется ясным и, казалось бы,
не может вызывать каких-либо сомнений относительно
существа этой метафизической дедукции или объяснения. H.Cohen,
которому в отношении раскрытия истинного смысла и
взаимоотношения метафизической и трансцендентальной
дедукции или объяснения по праву принадлежит в обширной
литературе исследований о теоретической философии Канта
наибольшая заслуга, следующим образом определяет существо
метафизического объяснения: «То исследование фактов
сознания в познавании (im Erkennen), которое устанавливает
элементы сознания, недоступные психологическому анализу,
а это и значит такие, которые должны быть признаны a priori,
Кант называет "метафизическим объяснением". И оно-то
и есть именно необходимое предусловие
трансцендентального объяснения»237. Под трансцендентальным объяснением
и впоследствии дедукцией следует, понимать поэтому такое
исследование, которое своей задачей ставит раскрыть
основные законы нашего познающего сознания; они должны
показать, что в науке, которая и сама есть не что иное, как
объективное выражение этого познающего сознания, всегда есть
основные понятия, синтетические суждения a priori,
основоположения (Grundsätze). Но это доказательство отнюдь не
есть еще в метафизическом объяснении или дедукции какая-
2:16 Критика чистого разума, с. 160 (159).
ш Cohen И. Kants Theorie der Erfahrung. 2-te Aufl. Brl., 1885. S. 74.
Часть II
113
либо себе довлеющая цель, и даже, более того, взятое само по
себе это объяснение было бы доступно для многих и
серьезных воззрений, если бы оно не предполагало и не вело к
объяснению трансцендентальному. Но в том-то и дело, и в том
весь смысл и значение этого метафизическим объяснением
или дедукцией раскрытого «а priori» («das metaphysische a
priori», по терминологии Cohen'aer), что оно необходимо
предполагает и требует своего дальнейшего расширения и
углубления, которое и сообщает ему трансцендентальное
объяснение, приводя к новому более глубокому и полному смыслу
понятия «а priori» в трансцендентальном значении («das tran-
scendental-a priori» y Cohen'a62*), — составляющему, как мы
знаем из соображений и аргументации предшествующей
главы этого исследования, подлинную суть и центр тяжести
того, что Кант называет своим трансцендентальным методом
в его своеобразности и коренном отличии от философских
проблем.
Мы уже знаем отчасти, что следует понимать под
терминами трансцендентального объяснения, дедукции и «a priori»
в его трансцендентальном значении.
Сам Кант в следующих выражениях поясняет значение
и содержание этих понятий. Так, Кант говорит: «Под
трансцендентальным истолкованием (Erörterung) я понимаю
объяснение понятия как такого принципа, исходя из которого
может быть усмотрена возможность других синтетических
познаний a priori»238, для чего, конечно, требуется, чтобы такие
познания, во-первых, действительно проистекали из данного
понятия и, во-вторых, были возможны только под
предположением данного способа объяснения этого понятия, как их
принципы.
С еще большей определенностью и глубиной Кант
раскрывает затем подлинное содержание и смысл того, что следует
понимать под «a priori» в трансцендентальном значении,
в соответствующем, только что уже упомянутом месте
трансцендентальной аналитики, именно в начале § 26, где
непосредственно после объяснения смысла метафизической
дедукции сказано следующее: «...в трансцендентальной же»
дедукции «была установлена возможность категорий, как
познаний a priori о предметах созерцания вообще», что по-
Критика чистого разума, с. 73 (40).
114
Об основной идее...
дробно было развито и доказано [2 ел. прзб] в § 20 и § 21,
посвященных специальному разъяснению и изложению этой
дедукции. Но самое важное и характерное для этого понятия
об «a priori» в его трансцендентальном значении
содержится в том, что Кант в 26-м же параграфе говорит о всеобщем
возможном применении чистых понятий рассудка к опыту,
именно, что теперь «должна быть объяснена возможность
a priori познавать посредством категорий все предметы,
какие только вообще могут подлежать нашим чувствам (die nur
immer unseren Sinnen vorkommen mögen)», нашему
чувственному восприятию, сказали бы мы, «и притом не со стороны
формы их созерцания, по со стороны законов их связи,
то есть должна быть объявлена возможность того, каким
образом посредством категорий природе может быть
предписываем (ее) закон и как даже сама она может таким образом
быть сделана возможной»а,\ В этих словах
трансцендентальное значение «a priori» выражено уже со всей своей силой
и полнейшей определенностью в отношении
характеристики трансцендентального метода Канта, «принципом и
нормой которого», по словам Cohen'а, и здесь в строгом
соответствии с мыслью и духом философии Канта точно и метко
формулирующим результат его исследований, «является
простая мысль», что «те элементы сознания суть элементы
познающего сознания, которые необходимы и достаточны
для обоснования и установления факта науки», и что
«определенность априорных элементов сообразуется (richtet sich),
следовательно, с их отношением и компетенцией для фактов
научного познания, ими долженствующих быть
обоснованными (für die durch sie zu begründenden Thatsachen der wis-
senschaftkichen Erkenntniss)»6/|\
Бесспорным и не подлежащим никаким сомнениям
представляется нам это трансцендентальное значение «a priori», как
и проистекающая отсюда характеристика основного принципа
всего философского метода Канта и в его собственной
формулировке, и в том более простом и свободном выражении,
который впервые придал этому принципу Cohen в своей «Kant's
Theorie der Erfahrung». Различение троякого смысла понятия
об «а priori», именно, 1) в его психологическом значении,
но как прирожденных (das Angeborene)65* нашему духу
представлений и начал знания (Декарт и отчасти Лейбниц), 2) «а
priori» в метафизическом смысле как элементов, первоначаль-
Часть II
115
но присущих нашему познающему сознанию, но не могущих
быть в нем открытых одним только психологическим
анализом происхождения и развития его содержания и процессов,
3) «a priori» трансцендентальное, понятое в смысле условий
возможности и обоснования предметного познания или
опыта в научном значении этого термина, — это троякое
различение значения термина «a priori», составляющего, как мы
могли убедиться, подлинный центр тяжести всей теоретической
философии Канта, является в современной, необозримой
почти, литературе о Канте едва ли не общепризнанным, несмотря
на поднятые против него, как мы думаем, исключительно по
недоразумению возражения со стороны VaihingerV'6* в его
«Комментарии к "Критике чистого разума" Канта»239, где он
ставит себе неблагодарную и, как увидим, мало осуществимую
задачу так или иначе подорвать все далее укрепляющуюся
в своем влиянии «Cohen-Riehrsche Auffassung»240, деятельно,
с большой проницательностью и талантом поддержанную
также и Штадлером в его «Die Grundsätze der reinen
Erkenntnisstheorie in der kantischen Philosophie» [1876] и позднее
особенно Α. Böhringer'oM в его «Kants erkenntnistheoretischer
Idealismus» (1888) и «Kants erkenntnistheoretischer Monismus.
[Eine Einleitung in das Studium der "Kritik der reinen Vernunft"]»
(1907)(i7*, не говоря уже о целом ряде других исследователей
в общих, по крайней мере, чертах придерживающихся того же,
на упомянутом трояком различении значения термина «а
priori» основывающегося понимания идеи и подлинного
существа всей трансцендентальной философии Канта и ее метода,
из которых здесь достаточно будет упомянуть лишь Е. Cas-
sirer'a («Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und
Wissenschaft der neueren Zeit». Bd. II, 1907)(i8\ К чему в самом
деле сводятся возражения Vaihinger'a против правомерности
этого троякого различения в значении термина «a priori», как
у самого Канта, так особенно и у тех исследователей, которые,
как Cohen, Riehl и др., видят в резком проведении этого
различения основное условие правильного понимания самого
существа всей теоретической философии Канта и ее «трансценден-
239 См.: VaihingerH. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, особенно
том 2 [Bd. 2. Stuttgart, BrL Leipzig, 1892], с 81-96,98-100 и 152,153.154,
155,171,172,174 и 175.
2/,0[*Когено-рилевское понимание». — НД.\ VaihingerH. [Bd. 2J, с. 174.
116
Об основной идее...
тального» метода? Руководящая мысль Vaihinger'a в его
возражениях названным исследователям заключается,
по-видимому, в том, что ни у самого Канта, ни даже у его толкователей
различие между психологическим, метафизическим и
трансцендентальным «a priori» фактически не проведено и не может
быть установлено с какой-либо степенью определенности
и убедительности. В особенности же понятие «a priori» в
метафизическом смысле не ограничено, по мнению Vaihinger'a,
у Канта ни от психологического «a priori», но понятого в
смысле прирожденное™ нашему сознанию чувственных элементов
и начал, ни от трансцендентально-логического «a priori»,
понимаемого как условия познания предмета научного опыта.
В самом деле, Кант и вслед за ним Cohen, с одной стороны,
обозначает, например, пространство и время, как первоначальные
(ursprüngliche) представления2^, причем Cohen даже
поясняет эту первоначальность как состоящую в том, что эти
элементы сознания (пространство и время) оказываются для
психологического анализа недоступными, не могут быть
обнаружены выяснением их «естественноисторического генезиса»242,
но должны быть открыты и признаны в нашем сознании за
нечто «последнее и своеобразное»243, и таким образом сближают
эти представления с прирожденными сознанию элементами;
с другой стороны, и Кант244 в трансцендентальном объяснении
2/11 Критика чистого разума, с. 72 (40): «...die ursprüngliche Vorstellung vom
Räume», с. 79 (48): «...die ursprüngliche Vorstellung Zeit».
ш Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung, с 198.
2/13 Ср. также: Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, с 213, где пространство
(Raum-Form) определяется, как «первоначальная форма деятельности
(ursprüngliche Thätigkeitsform) нашей чувственности», и Кант. Критика
чистого разума, с. 746 (А. 374), где пространство обозначается, как
«представление простой возможности сосуществования» (die Vorstellung einer
blossen Möglichkeit des Beisammenseins), и особенно: Cohen. Kants Theorie
der Erfahrung, c. 254, где говорится, что всякое представление как таковое
приобретено, и тем не менее его формальное основание (formale Grund)
может быть мыслимым как прирожденное, и Кант. [Kleine
logisch-metaphysische Schriften. ХП. Ober eine Entdeckung nach der alle neue Kritik der
reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich Gemacht werden soll, 1790|,
«Gegen [Herr] Eberhard». Hrsg. von K. Rosenkranz. Bd. I. [Lpz.: Voss, 1838].
S. 444 f. и слова: «Критика не допускает никаких прирожденных
представлений... но должно все-таки быть основание в субъекте, которое делает
возможным, что эти (gedachte) представления возникают именно так, а не
иначе... и это основание, по крайней мере, прирожденное» (und dieser
Grund wenigstens ist angeboren).
Часть II
m
пространства и времени**5 не перестает настаивать, что
пространство (и то же справедливо, конечно, относительно
времени) есть только «формальное свойство субъекта», даже
«только форма внешнего чувства вообще», обуславливающая
«возможность геометрии как синтетического познания a priori»,
как и время есть только форма внутреннего чувства,
обусловливающая возможность механики, — что и пространство, и
время как «чистые созерцания» выражают собой лишь
«принципы отношений» предметов до всякого о них опыта,
независимо от того, о каком именно субъекте идет речь (auch von
welchem Subject man wolle), что они обладают, правда,
трансцендентальной идеальностью как принципы синтетических
положений, но ничего ни имеют общего с субъективностью
в психологическом смысле (der besonderen Beschaffenheit des
Sinnes an dem Subjecte... zufällig beigefugte Wirkungen der
besonderen Organisation2™), a Cohen на странице 215 «Kants Theorie
der Erfahrung» даже определенно заявляет «Как мало мыслю
я по поводу понятия опыта о родившихся смертных (geborene
Sterbliche), также мало это значение a priori как формального
и постоянного (constituirender) условия опыта совпадает с
понятием прирожденного». И Кант, и Cohen, таким образом,
то вплотную сближают, по мнению Vaihinger'a, a priori в его
метафизическом значении с психологическим понятием
«прирожденного» (das Angeborene), то поставляют его к нему в
самую резкую противоположность. Vaihinger усматривает в этом
очевидное и несомненное противоречие, коренную
неопределенность и неясность в самой, если так можно выразиться,
диспозиции этих понятий психологического, метафизического
и трансцендентального a priori и их взаимоотношений. В
самом же деле, однако, есть здесь это противоречие, эта
неопределенность и неясность, которые Vaihinger приписывает уже
Канту и, в еще большей мере, Cohen'y, Riehl'y, Stadler'y и
другим исследователям, которые упомянутое различение трех
родов значений понятия «a priori» считают основным и
руководящим для всего понимания теоретической философии Канта
и ее метода? И не объясняется ли, наоборот, тенденция
усмотреть здесь противоречие и неясность расчленения недостаточ-
244 Критика чистого разума, с. 73-76 (41,42,43 и 44).
24<5Там же, § 4, с 78-79 (47. 3) и § 5. с. 79-80 (48).
216Там же, с. 76 (44 — примечание).
118
Об основной идее.·.
ным проникновением у самого Vaihinger'a в существо
трансцендентального метода, неверным пониманием его
подлинного смысла и значения?
Если Кант и, вслед за ним, Cohen и говорят, как мы видели,
о пространстве, времени и категориях, как о первоначальных
«представлениях», и даже обозначают «формальное
основание» этих представлений как прирожденное247, то ведь не
следует забывать, что эти первоначальные представления
пространства, времени и категории, суть для Канта, как и для Коге-
на, нечто гораздо большее, чем только нашему сознанию
прирожденные представления, именно для Канта они суть уже
в трансцендентальной эстетике, и тем более [в] аналитике,
условия и принципы возможности синтетических познаний
о предметах вообще, то есть они суть условия «возможности
опыта» в научном смысле этого термина248, или, как Коген
выражает ту же основную мысль, говоря о формальном
основании всех этих представлений как о «формальном условии
научного сознания»249. Что помянутые первоначальные
представления, в частности пространство и время, имеют значение
и силу «a priori» в метафизическом смысле — это
основывается, следовательно, не на том, что они суть прирожденные
начала, коренится не в их психологическом происхождении,
но в том, что они суть формальные условия познания; смысл «а
priori» в метафизическом значении становится более полным
и ясным и все свое оправдание получает не через его
отношение к психологическому «a priori», то есть к «прирожденному»,
но единственно через его отношение и связь с «a priori» в
трансцендентальном значении. И если о пространстве, времени и
категориях у Канта идет действительно речь как о
первоначальных представлениях, то под этим отнюдь не следует понимать,
конечно, первоначальных цредставлений, элементов или начал
в каком-либо индивидуальном сознании, но единственно
только в «сознании вообще» (Bewusstsein überhaupt)250, или, по
выражению Cohen'a, в «научном сознании» (des wissenschaft-
2A7Kant. I Kleine logisch-metaphysische Schriften. Über eine Entdeckung),
♦Gegen Eberhard», s. 444; Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, c. 254.
248 Критика чистого разума, с. 73-74 (40. 41). 75-76 (44), 78-80 (47, 48),
86-87 (58) [- в трансцендентальной эстетике. — НД.\ и в аналитике:
с. 136-137 (126,127), 161-163 (161), 165 (166).
ш Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, с. 254.
25u prolegomena, [с. 73 (312)].
Часть II
119
lichen Bewusstseins). И единственно и всецело только на
элементах этого «сознания вообще» или «научного сознания»
может лежать здесь логическое ударение, на них только
сосредоточиваться весь интерес исследований трансцендентальной
философии, всей «Критики разума» Канта. Когда поэтому
Cohen, Riehl и другие исследователи того же направления
утверждают, что Кант преодолел бывшую до него в силе
противоположность «прирожденного», с одной стороны, и
«приобретенного» — с другой, если они настаивают, что
«прирожденное» не равносильно «а priori», то этим они вовсе не хотят
сказать, что «основные понятия a priori» не прирожденны,
по крайней мере, в виртуальном смысле, то есть по своей
возможности, в смысле задатков или законов духа,
обусловливающих их обнаружение при соответствующих условиях
воздействия со стороны опыта, как это признавал уже Лейбниц
в своих «Nouveaux Essais»™*, и вслед за ним Кант в своей
диссертации 1770 г., наиболее полно отразившей на себе
влияние70* на него этого главного произведения Лейбница251.
Такую прирожденность своих «основных понятий a priori»
всегда признавал Кант, и ее никогда не отрицали и названные
исследователи, и тем не менее не в ней заключается все
существо дела,- и не на нее должен быть положен центр тяжести
внимания при исследовании основной идеи теоретической
философии Канта и подлинной своеобразности ее метода.
Ведь главной задачей все время остается для Канта
раскрытие основных начал научного, а не индивидуального сознания,
или, по собственной его терминологии, условий опыта,
понятого в смысле науки о природе. При полной
противоположности точки зрения Канта той, которая руководила Локком
в его «Опыте о человеческом уме»73*, следует всегда помнить,
что речь никогда не идет у Канта о генезисе тех или иных
элементов или начал нашего опыта, но всегда лишь о его соста-
Leibniz. Nouveaux Essais, [Кн. 1, гл.1,§ 23], с. 85: «...nous apprenons les idées
et les vérités innées, soit en prenant garde à leur source, soit en les vérifiant
par l'expérience... Et je ne saurois admettre cette proposition: tout ce qu'on
apprend n'est pas inné» |См. примеч. 71*1; Kant. [Kant's Werke. Bd. IL] De
rnundi sensibilis atgnc intclligibilis forma et prineipiis, §15, [s. 406] — конец,
где после противоположения «connatus, an acquisitus» [(12)1 мы читаем:
«...nequealiud hic connatum est nisi /er animi» [(21)], и §4, [s. 393(10)], где
в копне речь идет о «stabiles et innatas leges», а также о времени §14.5, [s.
400-4011. [См. примеч. 72е.]
120 Об основной идее...
ве252. Не то важно, какие из основных понятий нашего
познания имеют для него с самого начала определяющее значение
и потому заслуживают названия априорных и какие нет,
поскольку речь могла бы идти здесь о том или ином
индивидуальном сознании и его особенностях у взрослых, детей,
идиотов или, наоборот, у исключительно одаренных
индивидуумов, но в том исключительно заключается весь смысл
и значение основной проблемы критики разума, что
некоторые понятия должны иметь значение коренных условий
возможности достоверного познания о предметах вообще, или,
что то же, научного опыта, независимо от того, какое и где
именно сознание имеется в виду. И в этом смысле основные
понятия Канта сохранят свое значение принципов a priori,
каково бы ни было их происхождение и как бы ни
варьировались условия их обнаружения в том или ином
индивидуальном сознании. «Не элементы сознания, — так выражает эту
основную мысль Cohen, — имеют для нас в последней инстанции
значение a priori,.но элементы познания и постольку
элементы научного сознания»253. Весь интерес критики познания
в корне отличен, таким образом, от интереса и проблемы
психологии, и только через это противоположение открывается
подлинное существо трансцендентального метода Канта, как
и его отличие от Локка и Юма и превосходство над ними254.
И если тем не менее во всех формулировках мысли при по-
252 Prolegomena, § 21а, с. 62 (304).
25:1 Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, с. 583.
254 Критика чистого разума, с. 136 ( 126): «Трансцендентальная дедукция всех
понятий a priori имеет, следовательно, свой принцип», а именно, «...что
они должны быть познаны как условия a priori возможности опыта...
Понятия, которые дают объективное основание возможности опыта,
именно поэтому необходимы», и с. 137-138 (127), где с уставиовленной им
трансцендентальной точки зрения Кант объясняет принципиальное
различие своей постановки проблемы познания от таковой же у Локка
и Юма: «Знаменитый Локк вследствие того, что он не произвел этого
(следует подразумавать "трансцендентального*') исследования и потому что
ои (в то же время) находил чистые понятия рассудка в опыте, также и
выводил их из опыта; лри этом он был настолько последовательным, что
с этими понятиями отважился сделать попытки осуществить такие но-
знания, которые выходили далеко за границы всякого опыта. Дэвид Юм
понял (erkannte), что для возможности такого предприятия необходимо,
чтобы эти понятия имели свой первоисточник (Ursprung) a priori. Но так
как он не мог для себя выяснить, как это возможно, что рассудок должен
мыслить необходимо связанными в предмете понятия, сами по себе не
Часть II
121
становке любой проблемы трансцендентальной или чистой
философии во всей ее терминологии мы все-таки столько
оказываемся вынужденными пользоваться языком психологии,
прибегать ко всем ее обозначениям и различениям, то этим
в достаточной мере объясняется и то, что и Кант, и вслед за
ним Коген и другие исследователи в области
трансцендентальной философии так часто употребляют выражения вроде
следующих: «первоначальные представления» (ursprüngliche
Vorstellungen) или «форма явлений лежит в сознании
готовой» (im Gemüthe bereit liegen или angetroffen werden)74*, или
даже, как Коген, говорят о «первоначальной форме
деятельности нашей чувственности» (ursprüngliche Thätigkeitsform
unserer Sinnlichkeit). Но при этом никогда не следует
забывать, что и для Канта, и для Когеиа все эти выражения и, в
частности, например, термин «чувственности» (Sinnlichkeit)
имеют не столько психологическое значение способности
познания (Erkenntnissvermögen)75*, сколько служат у них для
обозначения «средства познания» или «условия единства
сознания»255. Не только рассудок, но и чувственность, несмотря
на всю непосредственность ее так называемых чистых созер-
связанные в рассудке, и при этом не напал на мысль, что, быть может,
рассудок с помощью этих понятий сам может быть творцом опыта (Urheber),
в котором он имеет дело с своими предметами, — то вследствие этого он
под давлением необходимости выводил эти понятия из опыта (именно из
привычки, то есть из возникающей вследствие чистой ассоциации в
опыте субъективной необходимости, которая в конце концов ошибочно
принимается за необходимость объективную). Однако при этом он был
настолько последователен, что признал невозможность с этими понятиями
и ими обусловливаемыми основоположениями выходить за пределы
опыта. Однако эмпирическая дедукция (Ableitung), в которую тем не менее
впали оба эти мыслителя, не может быть согласована с
действительностью научных познаний a priori, которыми мы обладаем, [а] именно
чистой математикой и всеобщим естествознанием и, следовательно,
опровергается фактом этих наук». Ср. также: Riehl. Der Philosophische Kritizismus.
[Geschichte und System. 2-te Aufl. Lpz.: Engel mann, 1908], где отношение
Канта к Локку и Юму и его превосходство над ними в решении
проблемы достоверности познания раскрыто с особенной подробностью и уЙе-
дительностыо. Главы 1 и 2 [Bd. I. Geschichte des philosophischen
Kritizismus. Kap. 1. Der Kritizismus in Lockes Essay über den menschlichen
Verstand. S. 19 - 100; Kap. 2. Humes kritischer Positivismus. S. 101-207].
» Критика чистого разума, с. 85 (55): -«Пространство и время суть
соответственно этому два источника познания, из которых могут быть a priori
почерпнуты различные синтетические познания», ср. также: Cohen. Kants
Theorie der Erfahrung, с. 210.
122
Об основной идее...
цаний, как это ни странно звучит, есть в конце концов для
Канта только одно из средств или одна из ступеней познания,
именно поскольку даже чистые созерцания суть ведь только
основные средства или принципы синтетических познаний
a priori в математике, соответственно чему и самая
чувственность понимается Кантом как источник познания
(Erkenntnissquelle) о предметах возможного опыта или, по терминологии
Cohen'a, как «источник научных образов действия» (eine Quelle
wissenschaftlicher Verfahrungsweisen) мысли. И во всяком
случае как пространство и время, так даже и сама чувственность,
имеют для Канта значение не столько способностей, сколько,
прежде всего и главным образом, средств или методов
познания, не говоря уже о таковом же значении рассудка и его
основных или чистых понятий — категорий... Вот почему и «a priori»
всегда, прежде всего, имеет значение у Канта принципа формы
познания, означает приоритет в
трансцендентально-логическом, а отнюдь не во временно-психологическом смысле. И, как
сейчас увидим, это не есть только истолкование учения Канта
со стороны представителей так называемых неокантианских
школ, но такое понимание «a priori» и его значения находится
в полном и самом строгом соответствии с подлинным текстом
«Критики» Канта и «Пролегомен».
Нас могут спросить, правда, каким же образом приходим мы,
например, к «чистым созерцаниям» пространства и времени,
раз они не представляют собой каких-либо эмпирических
данных? Но ответ на этот вопрос легко дать на основании
подлинных слов самого Канта. Если мы мысленно отторгаем от
эмпирического созерцания все, что принадлежит к ощущению,
составляющему материал явления, то у нас все же еще останутся
формы его, пространство и время, от которых мы никогда не
в состоянии отвлечься, как бы далеко ни проводили мы нашу
абстракцию256. Но в пределах эмпирического созерцания
форма и материя, конечно, всегда связаны друг с другом
неразрывно. И тем не менее Кант имел полное основание резко
различать и даже противопоставлять их друг другу при
рассмотрении в целях философского анализа значения их как принципов
познания. Всегда, однако, форма была для него при этом
формой своего содержания257, вносящей порядок и определенность
в многообразие содержания явления. Не самим порядком,
'^Prolegomena, § щ с. 37 (283 в конце).
Часть II
123
а именно только принципом и условием его, было для Канта то,
что он называл формой. По самому существу своему форма
была для него, следовательно, только принципом отношений
многообразного в содержании, выражала собой «деятельность» его
упорядочивания и постольку получала значение «принципа
познания a priori»258. Чистые формы созерцания, пространство
и время, и были для него принципами познаний a priori, и
науку об этих принципах он назвал трансцендентальной
эстетикой. Таким образом, утверждать, по существу, резкое
противопоставление (schroffe Trennung) у Канта формы и содержания
было бы неправильно и, как сейчас увидим, не согласно не
только с духом, но и с самим текстом учения Канта. Против
неразрывности этого взаимоотношения «формы и содержания»,
поднял, однако, как известно, возражение Vaihinger, видя в этом
учении только более или менее произвольное толкование
Канта, удаляющее нас от подлинного содержания его философии.
Так, на странице 67 2-го тома своего «Комментария» он
говорит: «Что материя без формы, форма без содержания суть
только пустые абстракции. Это, правда, признают кантианцы
новейшего времени, как Cohen и Caird76* (neuere Kantianer, wie Cohen
und Caird), но этим они далеко отходят от Канта», По поводу
этой критики уместно, однако, будет самому Vaihinger'y
предложить вопрос: далеко ли и сам Кант отошел от самого себя,
когда в «Критике чистого разума» он по отношению к
пространству написал следующие строки: «Эмпирическое
созерцание не составлено, следовательно, из явления и пространства
(из восприятия и пустого созерцания), но... (и то и другое)
связано в одном и том же эмпирическом созерцании»259. Что же
касается «чистого созерцания», то ничего другого оно явно и не
представляет собой, как только сознание простой формы
явления в указанном выше значении этого термина (то есть фор-
Критика чистого разума, с. 68 (34): «В явлении то, что в нем
соответствует ощущению, я называю материей его, то же, что обусловливает
возможность того, чтобы многообразное в явлении упорядочивалось в известных
отношениях, я называю формой явления (welches macht; dass das
Mannigfaltige... geordnet werden kann)».
Ср. там же, с. 68 (35) и 69 (36): ««Науку о принципах чувственности a
priori я называю трансцендентальной эстетикой»; «две чистые формы... как
принципы познания a priori»; ср. также: с. 74 (42): «Principien der
Verhältnisse».
'Там же, с. 379 (457 — примеч.).
124
Об основной идее...
мы)77*. Так становится, как мы думаем, не подлежащим
никакому сомнению значение «формы» у Канта, как некоторого
принципа a priori, понятого, прежде всего, в смысле
метафизического a priori, и особенно и главным образом, затем также в его
трансцендентально-логическом применении, и лишь редко,
косвенно и совершенно второстепенно получающего у него смысл
«a priori» психологического, то есть значение «прирожденного»
нашему сознанию представления или начала.
Всем предшествующим следует считать достаточно
обоснованным принципиальное и по своему смыслу глубокое и
важное различие между «a priori» в психическом, метафизическом
и трансцендентальном значении этого термина,
основоположения, как мы могли убедиться, не только для
трансцендентального метода Канта, но и для характеристики всей его
теоретической философии. И если, несмотря на всю принципиальность
этого различия, мы тем не менее постоянно встречаемся у
Канта со скрещиванием и даже совпадением трансцендентального
«a priori» с психологическим, то это не должно ни удивлять,
ни казаться странным или противоречивым, поскольку и
научный опыт, а с ним вместе и «a priori» в его трансцендентальном
значении и применении всегда в конце концов суть ведь
только порождение нашего человеческого сознания. Этим не
стирается и не умаляется, однако, существенное различие «a priori»
и «прирожденного», по крайней мере в отношении к методу
научного познания или опыта. Но если в отыскании основных
понятий (Stammbegriffe) человеческого рассудка260 исходим из
субъекта, как это имеет место в каждом психологическом
исследовании, тогда мы тем самым подвергаем себя всем
случайностям и колебаниям, всем неопределенностям, которые
присущи субъективному и всегда связаны с ним, — даже тогда,
когда речь идет о так называемой субъективно-психологической
«необходимости» или «непосредственной очевидности». Ведь
так часто одному кажется «непосредственно очевидным» то,
что другому представляется сомнительным и недостоверным.
Напротив, если мы исходим из объекта, из факта научного
опыта, которого не признать мы не можем, тогда все эти опасности
и сомнения отпадают: в научном опыте, в точной науке о
природе, нормальное человеческое сознание предлежит нам так,
как если бы оно стало внешним фактом, откристаллизованным
Ср.: Критика чистого разума, с. 122 (107 в конце).
Часть II
125
в определенные результаты, легко обозримые и поддающиеся
исследованию во всей их законченности и определенности.
Только при этой точке зрения оказываемся мы в праве
поставить ясный и прямой вопрос: что следует предположить
в качестве необходимых условий, чтобы стал возможен и
получил свое осуществление этот факт научного знания, науки
о природе, от которого мы отправляемся как от факта и в то
же время как от некоторой проблемы. Те основные элементы
нашего познания, которые мы при этом открываем и до
которых доходим как до условий решения этой проблемы и
обоснования этого факта науки, — они-то и есть то, что мы
обозначаем как элементы или представления «a priori» независимо
от того, будут ли эти представления созерцаниями
(Anschauungen) или понятиями (Begriffe, Kategorien) a priori, при этом
мы не ограничиваемся только открытием и установлением
этих элементов a priori, но стараемся перечислить их во всей
их полноте и доказать их истинность, то есть их объективную
значимость для познания предметов научного опыта261.
Относительно каждого из этих элементов в отдельности мы
должны показать, какую роль исполняет он в осуществлении
научного познания и в каком смысле опыт, в строгом научном
значении этого термина, на нем основывается и без него
невозможен. И то же следует доказать затем относительно
связи всех этих элементов между собой в их отношении к
возможному опыту как науке о природе.
Это доказательство и есть то, что превращает и возводит
метафизическое «a priori» к трансцендентальному и в чем
заключается весь смысл трансцендентального метода и его
применения.
Однако и против этой, казалось бы, столь простой и ясной
постановки вопроса — исходить из факта научного знания о
предметах, который (этот факт) в то же время следует рассматривать
как проблему для решения и выяснения условий
достоверности такого знания или опыта—Vaihinger в своем знаменитом ком-
ментарии, главным образом, в связи с полемикой против
Cohen'a и его понимания Канта, поднимает целый ряд
возражений, усматривая в такой его [Когена] постановке основного
вопроса «Критики» Канта, мнимые, как сейчас увидим,
противоречия и неясности262. Vaihinger видит противоречие в том, что
261 Ср.: Критика чистого разума, с. 111 (92) и с. 133-134 (122 и 123).
126
Об основной идее...
основную задачу всей трансцендентальной философии Cohen
в своем понимании Канта, с одной из сторон, видит в
«объяснении несомненно существующего опыта (die "Erklärung" der
unzweifelhaft vorhandenen, gültigen "Erfahrung")», с другой — в
раскрытии его условий, его доказательстве, его значимости или
даже в его конструкции (die "Darlegung", der "Nachweis" [der
Gültigkeit der Erfahrung]... der "Construction" der Erfahrung)78*,
при чем речь идет уже об опыте, как о некотором «искомом
познании, возможность которого должна» еще только «быть
обоснована»2™, что и составляет подлинную цель всего
исследования. К сожалению, ко времени выхода в свет 1-го тома
«Комментария» Vaihinger'a, он мог иметь в виду и принять во
внимание лишь первое издание «Kants Theorie der Erfahrung»
Cohen'a, иначе ему пришлось бы существенно изменить, если не
совсем отказаться, от своих возражений Cohen'y. Vaihinger
считает, что у Cohen'a мы имеем дело с тремя существенно
отличными и между собой несогласованными пониманиями
основной проблемы всей теоретической философии Канта
Поскольку в самом деле речь, во-первых, идет у Cohen'a об «объяснении
несомненно существующего и имеющего значимость опыта
в точном смысле этого слова», постольку весь центр тяжести
исследования должен быть у него, как у Канта, перенесен на
объяснение не того, как опыт возникает, но того, из чего он состо-
ит26*. С этой точки зрения всего яснее и определеннее может
быть сформулировано также и различие между методом
трансцендентальным и психологическим: «...психология ставит
своей задачей показать, каким образом опыт возникает, критика
познания — из чего он состоит и, разумеется, также из чего он
должен состоять, раз только в качестве научного опыта он
претендует [на] crpoiyio необходимость своих утверждений».
Однако в не меньшей мере речь идет у Cohen'a, и это уже во-
вторых, «о гарантии и ручательстве за объективность опыта»265,
и с этой точки зрения «единство опыта в отличие от простого
агрегата восприятий» оказывается, по словам Cohen'a, уже «ис-
Vaihingei' H. Commenter [zu Kants « Kritik der rienen Vernunft»]. [Bd. I.
Stuttgart, 18811, c. 437 и следующие; сравн.: Cohen. Kants Theorie der
Erfahrung. 1-е издание. [Berlin: Dümmler, 18711,c- 98,138,186 и 245, а
также с. 112,140, 228 и 231.
CoJien. Kants Theorie der Erfahrung, 1-е изд., с. 170.
Там же, с. 138; ср.: Кант. Prolegomena, § 21а, с. 62 (304).
Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, 1-е изд., с. 231.
Часть II
127
комым понятием, возможность которого должно доказать
трансцендентальное исследование»266.
Представляется совершенно загадочным, в чем Vaihinger
хочет усмотреть противоречие этой второй формулировки
основной проблемы критики познания по сравнению и в
отношении к первой. Как будто доказательство объективности
опыта возможно как-либо иначе, как через обнаружение того,
что в нем действительно проявляют и должны проявить свою
силу последние основания всякого научного познания —
«синтетические основоположения», по терминологии самого
Канта. Короче говоря, только через раскрытие того, из чего
состоит и должен состоять опыт, может быть обоснована и
гарантирована его объективная значимость.
Что же касается, наконец, третьей формулировки СоЬеп'ом
понимания основной проблемы «Критики» Канта, по которому
опыт является не столько чем-то данным, сколько сам
оказывается в некотором смысле искомым267, то и в ней нет никакого
противоречия или даже только несогласия по сравнению со
второй и первой формулировкой у него той же проблемы. Что, в
самом деле, означает здесь понятие об «искомом» опыте
(Erfahrung die gesuchte Erkenntniss)? Для всякого, кому ясен
истинный смысл трансцендентального доказательства, должно быть
несомненным, что термины «данный опыт» и «искомый опыт»
ни в каком противоречии между собой находиться не могут.
Ведь мы объясняем опыт именно посредством доказательства
того, из чего он в последней инстанции состоит, и для этого нам,
конечно, необходимо держаться «данного опыта», как он
впервые ко времени Канта был открыт и установлен в ньютоновском
естествознании в его «Philosophiae naturalis principia matemati-
ca»79\ Но если, опираясь на этот данный опыт и исходя из него,
мы откроем наконец в том, что выше было обозначено нами как
метафизические «a priori», последние основания научного
познания, тогда немедленно во всей своей своеобразности и силе
станет перед нами дальнейшая задача, показать, что найденные
элементы a priori действительно совершенно необходимы для
научного опыта как его условия. Но чтобы иметь возможность
β Cohen. Kants Theorie der Erfahrung, 1-е изд., с. 231.
7 Там же., с. 170: «...что опыт есть искомое познал не (die gesuchte
Erkenntniss), возможность которого обеновывастся и должна быть обоснована
в формальных условиях» опыта.
128
Об основной идее...
показать это, необходим самый этот данный нам опыт, в свою
очередь, начать рассматривать как проблему, и, в этом смысле,
говорить об опыте не как о чем-то только данном, но как об
искомом (die gesuchte Erkenntniss). Задача трансцендентального
исследования и будет соответственно этому состоять в том,
чтобы показать, как из найденных основных элементов a priori
возникает опыт, но не в психологическом смысле его постепенного
генезиса в нашем сознании, а в смысле критики познания, то есть
в смысле образования его состава как имеющего объективную
значимость научного познания о предметах, науки о природе.
Различие между «данным» и «искомым» опытом есть поэтому,
по существу своему, не что иное, как различие между
метафизическим «a priori» и «трансцендентальным», и, во всяком случае,
всецело к нему возводится. Все три приведенные выше
формулировки СоЬеп'ом основной проблемы «Критики» Канта не
находятся, следовательно, ни в каком решительно противоречии
друг с другом и выражают лишь разные стороны одного и того
же дела соответственно различным точкам зрения при его
рассмотрении: если мы хотим открыть в опыте последние
элементы того, что можно назвать «научным сознанием», то это и
значит, что мы хотим его объяснить, но если мы нашли уже эти
элементы, то затем нам предстоит конструировать опыт из этих
элементов, через что он и становится проблемой, то есть чем-то
подлежащим решению и в этом смысле «искомым». Что это
понимание основной проблемы «Критики» Канта, как и смысла ее
решения, совершенно соответствует не только духу, но и букве
философии Канта, очевидно из следующих собственных его
слов, которыми и нашему исследованию этой проблемы может
быть подведен последний итог. «Чтобы все до сих пор
сказанное, — говорит Кант в начале § 21а своих «Пролегомен», —
соединить в одном понятии, необходимо^ прежде всего, напомнить
читателю, что здесь речь идет не о происхо>вдении опыта, а об
его составе. Первое относится к эмпирической психологии,
но и в ней никогда не могло бы быть как следует развито без
второго, то есть без исследования состава опыта, что
составляет задачу критики познания и в особенности рассудка»2**.
2ftKCp. об этом также: Windelband W. Präludien. [Tübingen, Lpz.: Mohr, 1903.1
Kritische oder genetische Methode? (см. примечание 80*); н Cohen H. Kants
Begründung der Ethik. 1-е изд. (Berlin, 1877), с 24 f.
О прекрасном как предмете
искусства и основных чертах
художественного творчества
Вступительное слово1*, сказанное перед прочтением
доклада в ознаменование 70-летия со дня рождения профессора
философии Марбургского университета Пауля Наторпа, на
тему «О прекрасном как предмете искусства и основных
чертах художественного творчества в учениях главнейших
представителей Марбургской школы философии» в
философской секции Российской академии художественных наук 1
апреля 1924 года.
Решение написать нижеследующие страницы
предлагаемого вниманию собравшихся доклада возникло из душевной
потребности принести по поводу исполнившегося 70-летия со
дня рождения марбургского профессора философии Пауля
Наторпа2* слабую дань уважения и личной благодарности
ученика — этому выдающемуся мыслителю и превосходному
человеку. И есть даже какая-то, как бы символическая, связь
этой попытки автора говорить по данному поводу «о
прекрасном как предмете искусства и основных чертах
художественного творчества» с началом и характером всей последующей
деятельности Наторпа. Известно ведь, что не без некоторой
борьбы и колебаний придал он еще в молодые годы своей
деятельности то направление, которое широко прославило его
имя как философа, как сподвижника и верного друга
знаменитого основателя и вдохновителя того направления в
современной философии, которое носит укрепившееся за ним
название Марбургской школы, — Германа Когена. В начале
своей жизни, в юности, Наторп был предан искусству почти
также безраздельно, как в течение всей последующей своей
жизни — философии. Музыка и творчество композитора
в этой области — вот с чего началась бесконечно
плодотворная деятельность этого человека, этого настоящего героя ду-
Вступительное слово
131
ха и дела; но и в последствии, на протяжении всей долгой
деятельности его на поприще философии, то же вдохновенное
проникновение в ее самые основные проблемы, тот же
истинно платоновский дух свободного исследования и преодоления
все более и более трудных и важных задач познания
характерны для его работы, для всех глубоко принципиальных
достижений его неутомимой мысли, для всей его жизни, всегда
преисполненной кипучей и радостной энергии труда, всегда
бывшей для него светлым подвигом его растущей победы.
Λόγος*, ψυχή, έρως· (разум, душа, любовь) -г этой
платоновской триадой можно было бы, кажется, правильно
охарактеризовать и три основных, сразу и сменяющих друг друга по
периодам, и взаимно друг друга проникающих в каждый
данный период, направления его работы, его настроения, всего
вообще обаятельного существа его личности. Кто, как мы, знал
его вблизи и имел редкое счастье соприкасаться с ним
непосредственно — тот никогда не забудет впечатления того
изящного благородства, которое всегда было вокруг него, и той
непоколебимой уверенности его в конечном торжестве истины
и свободы, которая всегда служила источником его
неутомимой энергии, как в борьбе за новые обновляющие точки
зрения в сфере теоретического исследования и на этом пути
добытые результаты, так в равной, если не в еще большей мере,
за всякое, самое малое хотя бы, достижение в воспитании и
укреплении достоинства и свободы человеческой личности.
Словом, на всем, что он думал и делал, всегда лежала
неизгладимая печать этой благородной уверенности.
Как никто, имел он право считать себя истинным
педагогом и с гордо поднятой головой носить на себе это высокое
звание, потому что всегда был он истинным философом,
всегда беззаветно любил истину, вернее, неуклонное стремление
к ней, все вновь возрождающееся в юных умах и сердцах его
сотрудников, его учеников, среди которых сам он всегда
оставался едва ли не самым юным и чистым. Да, всегда готов он
был быть среди нас, спорить с нами до последней черты, если
бы только в философии могла быть таковая.
Всегда сохранял он первоначальность и
непосредственность интереса к истине и жизни, всегда был молодым и
никогда не давал потухнуть в себе священному огню юности.
И за это она никогда не забудет его и до последних дней, до
последнего вздоха всегда останется с ним прямо ли или через по-
uz О прекрасном как предмете искусства...
средство по всему миру рассеянных его друзей-учеников,
которые тоже ведь всегда с ним.
Так имел оиг как немногие, этот редкий дар всегда быть и
навсегда остаться молодым. Подлинно платоновский Эрос к
порождению детей красоты душевной всегда проникал его самого
и горячо привязывал к нему все молодое, даровитое, светлое...
Прекрасным была проникнута, сама была прекрасной и до
конца, уверены мы, останется таковой его многотрудная,
богатая, глубокая жизнь. На деятельности же его неотъемлемо
лежат и ее собой украшают основные черты
истинно-художественного, потому что платоновски-философского, творчества
Так символически связывается с памятью о нем и любовью
к нему предлагаемая вашему вниманию небольшая работа,
на которой в сильнейшей мере отразились его воззрения и
методологическое влияние.
Но самое главное, самое, думаю, и для него дорогое, нам
остается еще сказать о нем в этих немногих словах
благодарности и безграничного признания и уважения: кто знал его, кто
был с ним, тот навсегда унесет с собой веру в человека
и в смысл человеческой жизни, в возможность искренней
любви к людям и беззаветной преданности самым насущным
интересам их души.
Да примет же он от нас, только пространственно
отдаленных его учеников, и всех, кто нам сочувствует, эти слабые
слова благодарности, и пусть еще раз они напомнят ему, как мы
дорожим его работой, как нуждаемся в его руководстве и
какую светлую память и чистое чувство храним в душе с
каждой мыслью о нем.
Б. Фохт.
1 апреля 1924 года,
Москва
Предисловие
Что касается теперь собственно предлагаемого доклада,
то он не претендует на большую оригинальность, хотя и
представляет собой самостоятельную концепцию, на которой,
кроме основных результатов эстетики Канта и ее дальнейшего
завершения и частичного преобразования у Шиллера,
отразилось в не меньшей мере также влияние 1ère и Шеллинга.
В центре всего рассмотрения поставлен нами тот особый
смысл термина «идеи» у Платона, который можно назвать
эстетическим и коего средоточие состоит в совпадении идеи как
единства созерцания с нею же как единством созерцаемого,
следовательно, — с самим бытием, с самой жизнью, с ее
полнотой, с тем апофеозом ее выражения, который у Платона
носит название Эроса, и нашим термином «любовь» далеко не
точно передается. Отсюда уже, то есть через цосредство
платоновской идеи как методологического фактора, делается
затем попытка перейти, с одной стороны, к «чистому чувству»,
как основному принципу эстетики Германа Когена,
соответствующему ttepœuaHajibnocmu непосредственного переживания
подлинного содержания и глубочайшею смысла платоновской
идеи, с другой стороны — Kjrpop4ecKH построяющей фантазии
и внутреннему самопостроению, самовоплощённого образа
в сознании или душе его творца, поставленш^^ШторпоМ
в центр его эстетики и приводящему его воззрения в
ближайшее родство и связь с Шиллером и Кантом, а не с Кантом
и Шеллингом, как это имеет место у Когена. И если в
последней инстанции оба мыслителя близко подходят друг к другу
в своем основном воззрении, поскольку чувство Когена,
намеренно отмеченное и охарактеризованное им как «чистое
чувство», есть не что иное, как в непосредственном
переживании произведение искусства или восприятие прекрасного
вообще, само себя построяющёе и себя же в сознании осуществ-
134
О прекрасном как предмете искусства...
ляющее чувство, а творчески построяющая фантазия Натор-
па, с другой стороны, всегда есть в то же время и оформление
непосредственно в его изначальной необходимости
переживаемого или имеющегося в сознании чувства, — все же, однако,
логическое ударение Когеном и его последователями,
например Кинкелем, полагается на чувство, как оно идет, если так
можно выразиться, изнутри, из сокровенных глубин сознания,
тогда как Наторп, напротив, все внимание сосредоточивает на
моменте построения и оформления содержания, правда, тоже
не откуда-либо извне, но глубоко изнутри сознания берущем
свое начало. Дать почувствовать взаимоотношение этих двух,
в известной мере,, друг другу противоположных, но и с им-
и экс-прессиоиизмом отнюдь не совпадающих тенденций в
пределах одного основного воззрения, составляло одну из задач,
преследуемых автором предлагаемого доклада.
Возможный со стороны правоверных представителей
школы упрек в отказе «от» или в произвольном изменении
воззрений этих двух мыслителей и их ближайших учеников
автор от себя отклоняет; он имел в виду дать не изложение,
а лишь сообщить, как в его собственном сознании сочетаются
и внутренне связываются между собой основные принципы
современной эстетики в том направлении ее развития,
которое отмечено вышеназванными прославленными именами ее
представителей, начиная с Канта.
Искушение сопоставить это направление с тем, что в
современной эстетике обозначается термином «экспрессионизма»,
могущем объединить, в известном смысле, основную точку
зрения Когена и воззрения Наторпа и, таким образом,
противопоставить импрессионизму и натурализму эту
привлекательную возможность, долженствующую ввести в жгучий
конфликт современных воззрений и интересов эстетики,
пришлось отложить до другого, более подходящего случая, и этим
автор позволяет себе если не извинить, то, по крайней мере,
объяснить несколько старинный, если так позволительно
выразиться, дух и стиль своего изложения, мало считающийся
с новейшей эстетической терминологией.
Б. Фохт
О прекрасном как предмете искусства
в учениях представителей марбургской шкалы
философии — Когена, Наторпа, Кинкеля
и отчасти Кассирера — и об основных чертах
художественного творчества,
преднамечаемых этими учениями
Diogenes(IX. .7):
«ψυχής πείρστα Ιώυ ουκ αν έξεύροιο,
πασαν έπιπορευόμευος 'οδόν ο'ύτω
βαφύν λόγον έχει».
...идя к пределам души —
ne отыщешь их и весь пройдя путь:
так глубоко простирается логос её.
Гераклит**.
Если я беру на себя смелость говорить перед
собравшимися о предмете искусства и тесно с ним связанных основных
чертах художественного творчества или, выражаясь точнее,
о самой деятельности человеческого сознания, направленной
на этот предмет, то это отнюдь не потому, что бы я мог
считать себя достаточно компетентным в исследовании, изучении
и детальном, проникновенном понимании произведений
искусства, как они возникали, каждое в отдельности и в связи
друг с другом, в преемственном ή непрерывном развитии той
могучей ветви общего ствола человеческой культуры, которая
носит название искусства (со всеми его областями и видами,
со всем бесконечно богатым разнообразием его форм и конг
кретных проявлений).
Но потому только решаюсь я приступить перед вами к
изложению, в возможно более простой и ясной форме, весьма,
конечно, несовершенной попытки решения поставленной
здесь задачи, что мной руководило твердое убеждение; что
в основе того направления человеческой культуры, которое
мы называем искусством, лежит и составляет его
первоначальное условие и источник также и особое иаправдениг
человеческого сознания, и что глубочайшие принципы этого
направления сознания, обуславливающие самую возможность
136
О прекрасном как предмете искусства...
возникновения его предметных обнаружений и продуктов —
чем и являются для нас произведения искусства в их
объективной данности, — что эти глубоко в нашем сознании
заложенные принципы (или единый «принцип», если бы таковой
мог быть найден) могут быть все-таки если и не вполне
раскрыты, то, по крайней мере, преднамечены и хотя бы
косвенно обнаружены в своем значении для познания или, лучше
и точнее сказать, проникновения в ту особую, в известном
смысле, быть может, однако, и всеобъемлющую сферу или
аспект бытия, которую мы обозначаем терминами прекрасного,
красоты, или какой еще другой, старый или новый, термин
было бы кому угодно применить или создать для выражения
или намека на эту особую сферу, — этот вечно искомый, хотя
и постоянно все вновь находимый и в сознании более или
менее полно обретаемый, универсальный аспект бытия.
Словом, не с художественно-конкретной, а лишь с
философской стороны и только в философском смысле может
идти здесь для нас с вами речь о предмете и существе
прекрасного, как предмете искусства, и с ним связанных основных
чертах художественного творчества или деятельности, то
есть — единственно только о принципах философской
эстетики, как особой философской дисциплины, и о
закономерности того особого направления сознания, в котором-толькхгиъю-
гут корениться условия объективного смысла и значимости
того, что мы называем прекрасным и ценим как таковое.
Поэтому не столько как «философию искусства», в
распространенном значении этого термина, понимаем мы здесь эстетику
и развитие ее принципов, но скорее, наоборот, искусство со
всеми его конкретными обнаружениями мы хотим
рассматривать, как выражение особого культурного направления
культурного сознания человечества и этому направлению
соответствующего, с ним коррелятивного, и в нем и через него
только устанавлйваелютрсвоеобразно нам открывающегося
и нами постигаемого бытия.
Но что же это, наконец, за особый мир, проблему
постижения существа которого мы здесь перед собой ставим?
Разве сфера научного познания природы или так называемого
эмпирического познания, то есть опыта, во всей,
современным требованиям« философской мысли отвечающей,
критической глубине и утонченности, с одной стороны, и тот
особый мир познания человеческих поступков и деятельности.
О прекрасном как предмете искусства...
137
направляемой по целям, который мы называем познанием
мира нравственного, с другой стороны — разве вместе, в
неразрывной связи и коррелятивном соотношении между
собою взятые, эти два мира познания того, что^сть, и того, что
должно быть, и что опять-таки, всвоюочерёдьГв некотором
смысле есть, — разве не исчерпывают они своего
содержания и смысла бытия в его полноте? Разве область сознания,
а, следовательно, также познания и постижения,
простирается еще куда-либо дальше и еще не вполне исчерпана
этими двумя мирами и родами познания, несмотря на всю
противоположность их содержания, объединенными
методологическим принципом понятия, как общего для них обоих
инструмента осуществления и раскрытия того содержания
познания, которое в каждом из них (то есть этих миров)
предлежит, как проблема предстоящего решения. И вот
сколь ни универсален, казалось бы, этот методологический
принцип понятия, все же нужно решиться сказать,
по-видимому, что бытие, что действительность только
односторонне и всегда неполно, только отчасти оказываются
закрепленными и обеспеченными в истине понятия, и этд не в том
только смысле, что в непрерывности все дальше идущего
развития "развития познания с неизбежностью возникают все
новые проблемы, неотступно требуя для своего решения той
же выработки все новых и новых понятий. Но нет, нечто
другое, принципиально более глубокое и важное, имеется здесь
в виду. А именно п!еред изумленным взором человеческого
сознания в нем же самом открываются для него же целые
новые миры, полные глубокого смысла и значения, но не
допускающие отнести или свести себя ни к миру теоретического
познания природы (сущего) или к познанию мира
нравственного (должного), ни даже как-либо распределить
подлежащее их познанию или постижению своеобразное
содержание между этими двумя более или менее общепринятыми
и ясными методологически, в принципе, понятиями,
несмотря на противоположность своего содержания,
объединенными сферами познания сущего и должного.
Эти новые миры, которые мы имеем здесь в виду, это есть
прежде всего мир прекрасного вообще и искусства в
частности, как выражения особого направления сознания, и е!иу
соответствующего, им предполагаемого и требуемого бытия, и —
еще другой, как бы сверх мировой, то есть прямых конкрет-
Ι3β
О прекрасном как предмете искусства...
ных выражений уже почти не имеющий, мир сознания и
бытия, который мы называем миром религии.
Только о первом из этих новых миров, как бы ни был
связан он со вторым, то есть о мире прекрасного вообще и
искусства в частности, предстоит нам вести речь, согласно
постановленной задаче.
Куда же отнести этот наш новый мир, в каком новом
направлении, или, как выражается Наторп, измерении4*,
сознания имеет быть раскрытым его содержание ив каком
соотношении и связи находится оно с содержанием теоретического,
научного познания сущего как природы, с одной стороны,
и познанием о нравственном, то есть о сущем в значении
должного, — с другой?
Что в какой-то внутренней, но пока еще проблематической
связи этот новый мир познания, или постижения
прекрасного (красоты}, должен находиться с миром научного познания
и познания о нравственном, это уже a priori не может
подлежать сомнению, так как ведь β одном и том же сознании
имеют место все эти миры, все эти сферы познания. И так как
верховной проблемой философии всегда было и останется
«единство сознания», то всегда будет ее задачей искать также
и последних оснований связи в сознании указанных областей
или родов познания или проникновения в существо и
природу разных сторон бытия. Вот почему в истории человеческой
мысли и культуры уже рано неизбежно должна была
возникнуть, а за полтора столетия до наших дней со всей
несомненностью и действительно возникла философия искусства,
даже философия самого существа прекрасного вообще как
особым образом сознанию открывающегося бытия, то есть
получила начало своего обоснования философская эстетика.
С углублением, расчленением и ростом ее основной
проблемы зарождались затем и получали свой все более
определенно очерченный и глубокий смысл также и составляющие ее,
как философскую дисциплину, понятия.
Поэтому вести речь о предмете искусства и прекрасного
вообще, значит, встать перед задачей раскрыть смысл проблемы
и проблем этой философской дисциплины и указать хотя бы
общее направление их решения в понятиях, этими
проблемами требуемых и в соответствии с их смыслом вырабатываемых.
Но может.быть, скажут нам, эта ваша проблема
философской эстетики, то есть проблема прекрасного как особым об-
О нрекрасиом как предмете искусства...
139
разом постигаемого и, как бы сказать, потенцированного
бытия, только мнимая, эфемерная проблема в фундаментальном,
всю европейскую науку и философию фундирующем парме-
нидовском принципе «тождестве мышления и бытия» — не
обоснованная и не предзаложенная, словом, не необходимо
смыслом принципа самой возможности познания требуемая
проблема?
Для устранения, хотя бы предварительного, этого
законного недоумения да будет здесь позволено развить в самых
общих чертах ту руководящую точку зрения, которая делает
в наших глазах возникновение проблемы прекрасного
внутренне неизбежным и в закономерности нашего сознания
глубоко и необходимо обоснованным.
Незыблемым продолжает стоять для нас основной
методологический принцип критической философии, правда, в
новой его, современным успехам и достижениям философского
поздания соответствующей, формулировке, именно что «не
проблемы должны сообразоваться с нашими понятиями,
но, наоборот, наши понятия всегда должны сообразоваться
с проблемами», с необходимой преемственностью в
мышлении возникающими, в законе его непрерывности как пути
познания гдубоко обоснованными.
Стоит только твердо стать на эту точку зрения, чтобы
стало сравнительно легко признать и. увидеть, что во всех
направлениях простирающееся несовершенство окружающего нас
мира (от ущербности которого так трудно приходится и
каждому отдельному человеку, и всему человечеству) служит
достаточным доказательством того, что в нашем познании и
деятельности мы еще далеко не достигли и не обрели того
«лучшего из миров», который и есть ведь то вечно искомое, что как
во всех отношениях безущербное, внутренне целое и единое
составляет подлинный смысл и проблемы познания, и
проблемы деятельности, и косвенно, как увидим, также и проблемы
прекрасного.
Словом, не достигли мы еще и не одним отдельным шагом
нашим вперед никогда, ни в один момент, не достигнем ни
бытия абсолютной истины, ни бытия абсолютной
нравственности. Бесконечным остается это искомое единое бытие,
а вместе с ним в бесконечность отодвигается и задача разума,
имеющего установить и создать действительность этого
бытия своими определениями. Ни абсолютно ценного (по ста-
140
О прекрасном как предмете искусства...
рой терминологии, доброго или Блага), ни абсолютно
истинного мы все еще не знаем. Единственное же, что мы знаем,
есть только как бы линия того направления, при
прослеживании и преследовании которой мы все больше
приближались бы к тому и другому (то есть абсолютно ценному и
абсолютно истинному). Это само по себе ценное (Благо) и эту
истину в ней самой и ее безусловном значении мы
обозначаем платоновски-кантовским термином «идеи». Мы хотим
этим указать только на бесконечно далекую цель
человеческой культуры, на мнимо-конечный путь наших многотрудных
странствований.
Она, эта идея, потому и бесконечна, что как
основополагающая гипотеза ('υπόφεσις*) для решения раньше возникших
и поставленных вопросов, то есть понятий, в стадии
проблемы взятйх и понятых, она сама, в свою очередь, есть
выражение еще более глубокой проблемы постижения бытия в его
целом, в его подлинном искомом единстве, тогда как отдельные
понятия, посредством которых мы в противоположность ей
построяем нашу конечную и изменчивую действительность
данного времени, сами всегда конечны и релятивны, всегда
к временному и местному только относятся.
Эта идея, о которой идет здесь у нас речь, как бы живет и
место своего пребывания имеет в будущем. Но от этого область
компетенции и власть ее не становится эфемерной и
реальность ее отнюдь не меньшей, чем та, что принадлежит
окружающей нас преходящей действительности. Напротив, она
даже реальнее этой последней, ибо все, что теперь стало
действительным, сперва было будущим.
Ведь именно это будущее, это «еще не имеющееся»
порождает из себя действительность, а отнюдь не из прошлого она
возникает.
«Еще нет — уже есть» — таков этот основной в сознании
закон порождений настоящего будущим и из него.
Стало быть, не бичом необходимости прошлого гонимо
вперед настоящее в железные, мертвящие объятия будущего,
но как раз наоборот — из животворящего источника
будущего берет свое начало и с вечной юностью все вновь
возрождается в нем настоящее. Этот вечно юный и свежий родник
будущего, проблематический, как сама жизнь, но в своем
значении вечный и основоположный, потому что полагающий и из
себя дающий основания, этот единый, в смысле первоисгоч-
О прскраспом как предмете искусства...
141
ника, принцип бытия и знания мы, вслед за Платоном и
Кантом, называем «идеей»·5*. В нем обосновывается для нас и
новое, философское понятие времени, в корне отличное от,
по существу, ошибочного и превратного
психологизирующего понимания его как простой последовательности
(succession*. Так, то особое направление сознания, которое мы
называем волею, или практическим разумом, и то, другое, которое
мы называем познанием, или разумом теоретическим,
становятся для нас, хотя и не в одинаковой мере и смысле,
направленными на будущее, всегда вновь и вновь овладевающими им
и из него творимыми или, точнее, его само, то есть это время,
непрерывно претворяющими в настоящее, то есть
действительное: бытие становится действительностью, сущее
переходит в существование.
«Essentia* не «involvit>, но синтетически связывает с собою
в познании «existentiam»7*.
Но идея абсолютно ценного (по старой терминологии,
блага или даже Бога) как выражение основной тенденции того,
что мы называем волею, — что она, в своем подлинном,
единственно мыслимом содержании, как не то, что мы обозначаем
как идею человечески абсолютно-ценного, то есть как идею
абсолютности человеческого!
Но раз так, тогда это абсолютно ирнное7 которое, в былые,
до и после кантовские, времена гипостазировалось и
персонифицировалось как Бог, перестает уже быть чем-то
трансцендентным воле и познанию, но именно в качестве идеи его
становится целью и постоянно искомой, хотя в тоже время в
некотором смысле и руководящей« завершенностью содержания
самого познания и самой воли. В той мере, в какой человек есть
разумное существо, бесспорно его назначение для познания
и осуществление в его деятельности и жизни этого искомого
абсолютно ценного.
Раскрывая в науке, нравственности и искусстве это свое
высшее разумное существо, человек тем самым реализует
нечто «абсолютно ценное!», осуществляет идею его в
действительности своей исторической жизни, во времени. Ведь
реальность этой идеи сама по себе не есть тем самым реальность
временного существования; ее отождествление с
действительностью неправомерно вовлекло бы ее в водоворот времени
и положило бы на нее отпечаток всей ущербности этой
преходящей действительности. Отправная для нас критическая
142
О прекрасном как предмете искусства...
точка зрения вынуждает нас, наоборот, к требованию
преодоления такой текучей и постольку всегда проблематической
действительности. Отнюдь не имеет она, эта
действительность, для нас значения чего-то абсолютно ценного, но всегда
обладает лишь тенденцией к этому, рассматривается лишь как
имеющая, или долженствующая стать непрерывно
приобретающей, такую ценность.
И когда в деятельности нашей воли мы овладеваем идей
этого абсолютно ценного как руководящим принципом, когда
мы становимся борцами за эту идею, тогда-то в нашем
сознании и деятельности это абсолютно ценное начинает
открываться и в непрерывной постепенности становится
осуществляемым.
Но никогда не найдет оно в действительности своего
полного осуществления, ибо выражаемое идеей бытие в
существе своем бесконечно, существование же, напротив, конечно
и ограничено.
Это вечно непреодолимое отстояние идеи от
действительности красноречиво заявляет нам о своей реальности
в проблеме и факте теоретического заблуждения,
ошибочного мнения, дурного поступка, греха и бесчисленных забот
и страданий нашего мирского существования. И все же
несомненная, казалось бы, реальность всего этого отнюдь не есть
выражение вечного бытия, но всегда и везде продолжает оно
нести на себе нестираемую печать проблематичности и
потому временности, условности. Во всем этом непрерывно
открывается и обнаруживается для нас конечность, ущербность
и несовершенство нашего собственного действительного
существования.
Возвыситься над всеми этими заблуждениями и
ошибками, облагородить все эти наши лишения и страдания
возможно, только познавая и прозревая в них будущее,
воспринимая как бы голос этого будущего, предвозвещающего и
настаивающего на новой, более чистой и лучшей для нас
действительности, укрепляемой в вечности и в ней только
порождаемой неуклонно направленной к идее
деятельностью нашей воли — то самое, что и Пушкин имел в виду как
залог бессмертия, —
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
О прекрасном как предмете искусства...
143
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог,
И счастлив тот, кто средь волненья
Их обретать и ведать .мог8*.
Но кто же, однако, в состоянии расширить это ограничение
существа своей личности до проникновения ее абсолютно
ценным и растворения в нем, как в том, что мы выше назвали
«идеей абсолютности человеческого**
Разве фактически всегда руководимся мы в нашем
познании принципом его универсальности и единства или всегда
верными остаемся в деятельности нашей нашим нрадствен-
ным идеалам? Скорее наоборот — мы всегда и во всем
остаемся приуроченными к конечному; и в познании, и в
деятельности цепляемся за действительность момента,
поглощаемого потоком времени, не обращая в нем внимания на вечное
и не удерживая его в нем. А если идея, как лучезарный светоч,
и восстает перед взором нашего духа, то для того только,
чтобы потрясти и привести в смятение нашу мнимую уверенность
в своих силах и тем страшнее заставить нас содрогнуться
перед сознанием нашего совершенства и немощи. Чье сердце
в самом деле не сжимала иногда холодная рука отчаяния,
заставляя его усомниться во всем истинном и ценном? И вот,
вместо того чтобы искать полноты существа нашей личности
в соприкосновении, солидарности и связи со всем
человечеством и его вечными интересами ?и целями, мы, напротив,
изолируем и отторгаем себя от него, принимая преходящее,
в чувственном восприятии данное существо нашего Я за его
подлинную сущность и этим нами самими созданным
одиночеством безмерно увеличиваем и без того страшную пустыню
нашей индивидуальной жизни.
Из этого туника тяжелой нужды нашей души, нашего
сознания, всего нашего существа, или все равно, как бы иначе
ни назвать это обезнадеживающее положение, так просто
и красноречиво выражаемое словами: «стезя недалека,
могила под горою*9*, нас, как бы сжалившись над нами, берет, ма
себя миссию освободить искусство: «и только есть один
цветок волшебный — он в утешенье миру дан*<0*. Но ни о
сожалении и ни об утешении, даже не о свободе только, хотя
косвенно и о ней тоже, идет речь и поднимается вопросов
искусстве и в постижении прекрасного вообще» Но то, что
144
О прекрасном как предмете искусства...
понятию и познанию никогда не может быть дано и
открыто вполне и чего даже самая чистая сила намерения, чистая
воля никогда не могла бы достигнуть, — бесконечно далекая
цель того, что мы назвали идей и ее усмотрением, — это-то
как раз и становится непосредственно наличным и близким
тому, что лежит в основании и обуславливает собою
постижение прекрасного в искусстве, в его произведениях и через
них, во всех вообще способах постижения прекрасного
вообще, где бы ни соприкасались мы с ним, в самой ли природе
посредством восприятия, представления и деятельности
воображения или в претворяющей ее творческой человеческой
деятельности того особого направления сознания, которому
имя «чувство*.
Природа и нравственность поэтому, как в старину уже со
времени Канта принято было говорить, — только материал
для художника: кто постигает прекрасное, тот как бы
сливает их, то есть природу и нравственность, вместе в чистом
чувстве абсолютности человеческого, или, что то же, в
приближаемой к чистому чувству и им усвояемой идее гуманности,
если уж нужно во что бы то ни стало применить этот старый
и на русском языке двусмысленно звучащий термин. Правда,
и художник не умеет, разумеется, дать нам природу и
нравственность в их полном соответствии с идеей, и он не может,
конечно, завершить нашего познания. Но он и не
апеллирует ведь к познанию, к рассудку, обращаясь всецело и
исключительно только к чувству. И если верно, что все наши
понятия, как теоретические, так и практически-нравственные,
сопровождаются чувствами, если мы различаем чувства,
сопровождающие наши представления и понятия, иаши
устремления и поступки — интеллектуальные и нравственные
чувства, то несомненно также и то, что когда художник в
способах своего постижения и в творчестве прекрасного овладевает
содержанием познания природы и нравственности своего
времени* он в известной степени всегда берет их в аспекте
идеи, пробуждая прямо или косвенно в себе и в нас при их
посредстве чистое чувство бесконечности и вечного
значения этой идеи как их·, то есть этих противоположных друг
другу областей — природы и нравственности, всегда
искомого, но теперь для чувства становящегося конкретным
бесконечного их единства или, если угодно, единства их в
бесконечности. Оттого, в известном смысле, прав был Гёте, когда
О прекрасном как предмете искусства...
145
в разговоре 6 мая 1827 года он сказал Эккерману, что «чем
несоизмеримее и непонятнее для рассудка поэтическое
произведение, тем лучше»11*. И не в еще большей ли мере
справедливо это относительно произведения всякого другого
искусства, особенно музыки?
Как бы там ни было, связанные с представлениями и
понятиями о природе и нравственности чувства в сознании того,
кто постигает прекрасное, и в творческом сознании
художника в особенности, всегда прямо или косвенно просветляются
до чистого чувства абсолютности человеческого, к нему так
или иначе возводится и от него, хотя бы через ряд
посредствующих звеньев, оказываются стоящими в той или иной
зависимости. Оттого это и происходит, что в эстетическом
сознании природа и нравственность как бы утрачивают свою
тяжеловесность, свою давящую власть над нами, свою несо-
гласуемость и непримиримость, отражающуюся в
непреодолимой и беспощадной суровости жизненной борьбы. Это и
хотят или должны хотеть выразить, когда говорят, что в
эстетическом сознании природа и нравственность становятся
предметом как бы своеобразной игры, утрачивая в нем,
каждая порознь, свое автономное значение как самоцель. Кто
постигает прекрасное и кто, в особенности, как художник,
творит его в своем сознании, тот именно потому и тем самым не
есть уже более ни теоретический исследователь, ни
проповедник какой-либо морали.
Природа и нравственность из самоцелей превращаются
здесь в средства, и даже все несовершенства и недостатки
окружающей природы и жизни становятся такими средствами,
лишь служат тому, чтобы с тем большей жизненностью
побудить в созерцающем или творящем прекрасное чистое
чувство его вечной ценности и силы.
Но конечна, не просто только схватывать, изображать или
воспроизводить окружающую его действительность имеет
своей задачей эстетическое сознание художника и даже
всякого, кто только просто воспринимает или созерцает
прекрасное. Ведь так не обстоит дело даже и в теоретическом
познании! Всегда и везде природа и жизнь суть, в известном
смысле, только продукты познания, познающего духа или
сознания, в понятиях которого они всецело состоят и
коренятся. Как равно неправильно было бы сказать, что в
эстетическом сознании окружающая нас действительность, приро-
146
О прекрасном как предмете искусства...
да и жизнь идеализируются художником, дополняются им от
себя или, как это иногда выражают в более современном
духе, что он вчувствует12* себя в них. То же, разумеется, лишь
в меньшей мере, будет относиться и к тому, кто просто
только воспринимает и созерцает прекрасное в природе и
искусстве. Словом, ни «схватывание*, ни «изображение», ни
«репродукция» не характерны для подлинного существа
эстетического сознания. Применение этих психологических терминов
всегда выдает лишь тот в корне ложный взгляд на природу,
по которому она рассматривается как какая-то данная
величина, которую художнику остается только принять и в
лучшем случае кое в чем изменить или дополнить. Между тем
художник всегда есть творец своей природы, как равным
образом и того, что есть для него жизнь. И, порождая то и
другое, он тем самым подчиняет их своим целям; но не так,
однако, чтобы он при этом имел и жил в каком-то своем особом
миру, который был бы только миром его личных мнений
и чувств. Напротив, действительность индивидуальной
жизни и творчества всегда есть и остается для него только частью,
только небольшим уголком общей сферы действительности
и культуры. Но даже и это скромное участие наше в
действительности культуры, как выражение абсолютности
человеческого, никогда не дается нам готовым в виде какого-то дара,
но должно быть приобретено и завоевано нами творческим
порождением его (то есть этого участия) из глубин
закономерности нашего сознания.
Ведь сознание порождает и содержит в себе
действительность как всякого коллективного целого, так и каждого
отдельного человеческого существа. И в этом смысле, про
художника можно, следовательно, с полным правом и
основанием сказать, что он должен изучить природу и жизнь, чтобы
таким образом завоевать и обеспечить для себя участие в их
действительности и в строе всего того культурного целого,
которое служит всегда, как сказано, выражением абсолютности
человеческого.
Но одно только всегда надо будет помнить при этом,
именно что вся природа и действительность человеческой жизни
для художника, как и вообще для эстетического сознания, суть
только, как мы видим, средства для единой цели пробудить
чистое чувство бесконечности их всегда искомого, но в то же
время для чувства как чего-то конкретного, предвидимого
О прекрасном как предмете искусства...
147
единства. И этим объясняется также, что в действительности
природы и жизни нет решительно ничего, что так или иначе
не могло бы стать предметом эстетического сознания и
искусства; но что, напротив, вся бесконечно далекая и объемлющая
сфера действительности природы и жизни должна быть
всегда открыта для творчества эстетического сознания, как и для
тех низших ступеней его, которые мы обозначаем терминами
эстетического восприятия или созерцания. И если здесь
всегда остается в силе то ограничение, что эта действительность
никогда не будет для эстетического сознания тем, чем
природа является для теоретического познания науки, или жизнь —
для познания, руководимого точкой зрения нравственной
оценки или, точнее, требования, то все же эстетическое
сознание вообще, как и художественное в частности, всегда будет
иметь дело и с природой, и с человеческой жизнью и
деятельностью, насколько они как предметы этого направления
культурного сознания окажутся способными и годными к тому,
чтобы быть средствами выражения идеи абсолютности
человеческого. Так эстетическое сознание всегда оказывается
призванным дать нам такую действительность, которая
поднимала бы и вела нас к идее и в которой, в этой действительности,
даже все, несовершенства и недостатки существования
продолжали бы свидетельствовать о ее все претворяющей в
чувстве и для чувства силе и значении.
Из всего вышеизложенного ясно поэтому, что и для
искусства, по аналогии с природой и нравственностью, должна быть
признана в качестве предположения его возможности, особая
область деятельности и созидания человеческой культуры в ее
отличии от научного опыта и установления целей
деятельности в сфере нравственности, как и то, что эта особая область
деятельности человеческой культуры является выражением
также и особого направления и закономерности
человеческого сознания наряду с двумя другими направлениями и
формами закономерности того же сознания, нашедшими себе
выражение в науке и нравственной деятельности человеческих
обществ.
Или, быть может, искусство по самой своей природе не в
состоянии быть выражением особой области деятельности
и творчества человеческой культуры? Разве вообще
существует, скажут нам, такое неуклонное направление, в котором
искусство развивало бы свою деятельность в надежном и не-
148
О прекрасном как предмете искусства...
прерывном поступательном движении вперед, разве вообще
следует оно всегда одному и тому же методу; как то
справедливо относительно научного познания и поставления
практических, то есть в конечном счете, всегда нравственных целей?
Разве в сравнении с этими областями человеческой культуры
искусство не является скорее областью полной
независимости, досуга и своеобразной игры, которая художественное
восприятие и творчество отличает от строгой работы научного
исследования и практической деятельности? Нельзя,
конечно, совсем отрицать этой своеобразной черты искусства, как
и того, что в художественном творчестве и восприятии оно,
то есть искусство, действительно создает в своей сфере и
дает своим адептам настроение некоторого рода отреченности
от труда рассудочного искания того, что есть, и борьбы нашей
воли за то, что должно быть.
Но если искусству, как и вообще всякому созерцанию
и восприятию прекрасного в его существе, действительно
чуждо притязание науки познавать действительность, как
она есть, и притязания нраоственности устанавливать
общеобязательные цели для нашей практической деятельности,
то было бы близоруким просмотреть за этим нечто другое,
именно что искусство всегда по-своему методически идет по
определенному пути особой, ему только свойственной
деятельности и творчества, что эта деятельность имеет не менее
серьезное значение, чем всякая другая, и что в ней также, вне
всякого сомнения, осуществляется особый прогресс его
развития, особый род суждения, познания и критики,
характерный для искусства, как особой ветви деятельности
человеческой культуры. И этот «кризис*, как выразился Наторп, это
различение в художественном смысле настоящего от
ненастоящего, даже в своем роде истинного от ложного, во
всяком восприятии прекрасного, как и в искусстве в
собственном смысле, отнюдь не уступает в своей выразительности
и силе тому, с чем мы имеем дело и в науке, и в сфере
познания нравственного.
И если со стороны науки, и особенно со стороны познания
нравственного, сравнительно лишь недавно была признана
вся глубокая серьезность и самостоятельная ценность
искусства и художественного творчества, если верно, что вся
древность осталась, в известной мере, чуждой этому
принципиальному признанию автономности постижения и познания
О прекрасном как предмете искусства..«
149
прекрасного как такового, если ни Платон, ии даже Плотин
не возвысились еще до познания самостоятельности этой
области человеческой культуры и в ее основе лежащего
особого направления человеческого сознания, то тем в большей
мере будем мы склонны высоко оценить заслугу Канта
перед систематической философией и косвенно перед всей
человеческой культурой будущего за то, что именно он
впервые, несмотря на всю чуждость свою непосредственному
пониманию цели области искусства, в своей «Критике
эстетической силы суждения»13* положил основания признанию
равноправности познания и постижения прекрасного
наряду с теоретическим познанием и этикой, как
неотъемлемыми интегральными частями системы «Критики разума», в
которой сосредоточивался для него смысл и значение всей
философии как выражения единства целого всей человеческой
культуры.
Что есть своеобразного и незаменимо ценного в
восприятии прекрасного, в искусстве и творчестве, в познании его
предмета — на эту великую проблему именно Кант дал
впервые глубоко принципиальный ответ в своей «Критике
способности суждения», и его век, эстетически так высоко развитый
и так исключительно одаренный, недаром понял и перед
лицом будущего принял и признал эту его всемирно
историческую заслугу и дело.
И только уже на этой принципиально завоеванной основе
склонны мы видеть теперь и признавать в искусстве и
восприятии прекрасного вообще уже не только неотъемлемую
составную часть человеческой культуры, но, в известном
смысле, даже ее завершение. Мы все признаем теперь глубочайшую
внутреннюю связь искусства с наукой, и притом со всеми ее
областями, начиная с математики и механики до биологии,
и дальше еще до наук о языке и истории; не менее тесную связь
ставим мы искусство Также и с миром познания
нравственного и даже непосредственно с человеческой жизнью в
коллективном и в индивидуальном выражении. И не в том только
усматриваем мы эту двустороннюю связь искусства с наукой
и нравственным, что считаем искусство заимствующим от
прочих двух великих миров подлежащий его обработке и
претворению материал, но не менее также и в том смысле
признаем и подчеркиваем мы эту связь, что она простирается даже
и на самое существо того творческого оформления, которое
150
О прекрасном как предмете искусства...
только и дает предметам того и другого рода (то есть науки
и нравственного) их действительное, первоначальное
зарождение и характер их объективной значимости. Другими
словами, в самом научном творчестве и нравственном созидании
жизни мы усматриваем и отмечаем черты художественного
творчества. Несмотря, однако, на эту двойную связь и по
материалу, и по форме, художественное творчество и
формирование все же отнюдь не сводится для нас ни к научному,
ни к нравственному оформлению, ни даже какому-либо
сочетанию или взаимному проникновению того и другого. Но мы,
напротив, со всей энергией настаиваем и претендуем на
понимание его полной самостоятельности и, как бы сказать,
самоотчетности и самозаконности.
Весь смысл этого художественного формирования мы как
раз в том и полагаем, что по своим собственным, ему только
принадлежащим законам оно создает как бы некоторый
новый третий мир, несводимый ни к природе, ни к
нравственному, но составляющий как бы их продолжение и, даже
больше того, их поднятие и возведение в особый аспект
высшего, внутренне еще более, чем до сих пор, единого и
цельного бытия. При этом отнюдь не как уступающий по своему
смыслу, значению и культурной ценности, сравнительно
с требованиями теоретически истинного и нравственного,
склонны мы рассматривать этот новый мир, но скорее даже
как что-то превосходящее их в указанных отношениях и
возвышающееся над нами. И это несмотря на то, и даже, именно
потому, что мы ясно сознаем, что в своей своеобразности мир
этот, эта новая предметность в сознании, не подчиняется ни
условиям действительности научного познания природы,
или, что то же, опыта, ни требованиям той идеальной
действительности, которая в противоположность природе берет
свое начало иэ смысла требований нравственного. Так, с
неизбежностью возникает пред нами своеобразность проблемы
предмета восприятия прекрасного вообще и искусства в
частности в его самозаконности и полноценности, наряду
с проблемами предметности научного познания и
нравственной оценки. Правда» и в сфере этого нового мира идет
деятельная работа над своеобразным решением косвенно также
и тех проблем, с которыми имела дело наука и познание
нравственного, но, безусловно, новое содержание и смысл решения
этих проблем полагается здесь уже в другом, и те вдохнове-
О прекрасном как предмете искусства...
151
ния, которыми полно восприятие прекрасного и
художественное созидание его в искусстве, уже не имеют своего
значения и оправдания ни в том, чтобы удовлетворить
пытливый, к новым научным открытиям всегда устремленный дух
исследователя, ни в том, чтобы окрылить уверенностью в
победе героическую волю борца за нравственный идеал. И если
к бытию приурочен и па него только направлен этот третий
мир, то в качестве художественного восприятия и
творчества, то есть взятый в аспекте искусства, он со всей
своеобразной деятельностью в нем развивающейся не имеет уже
тенденции к разрешению проблем науки и нравственности, хотя
косвенно и остается с ними связанным и их имеющим в
виду; как и, наоборот, решение этих последних проблем, как бы
ни вдохновляли они художника, какой бы богатый материал
и ценные стимулы не давало оно творчеству художника, все
же взятое само по себе оно (решение этих научных и
нравственных проблем) оказывается ни в какой мере не ведущим не
только к решению, но даже и к постановке хотя бы даже
самой что ни на есть примитивной, собственно художественной
и, в конце концов, значит, эстетической проблемы.
С некоторым правом даже можно поставить вопрос,
применим ли вообще термин «проблема» к обозначению задач
восприятия прекрасного и искусства в том смысле, в каком
он служит для выражения основных задач научного
познания и нравственной жизни и деятельности. С аналогичным
научному смыслу значением термина «проблема»
встречаемся мы в искусстве, по-видимому, только в области техники,
то есть там как раз, где мы собственно не имеем уже дела с
сокровенным и подлинным существом самого искусства,
для которого-то как раз и характерно, что в нем возможность
творческого созидания и достижения дана как бы сама собой,
а не так, как в области техники, где всякое созидание и
достижение могут быть достигнуты только упорным и
неуклонным трудом. Поэтому, в строгом смысле слова, нельзя
собственно говорить в искусстве и восприятии прекрасного даже
и вообще о методе, если понимать этот термин в обычном
(как мы думаем не вполне правомерном) значении везде
и всегда безусловно строго и однозначно выполняемой
всеобщей нормы или предписания апя неуклонно идущей в
известном направлении и одну заранее поставленную цель
преследующей деятельности.
152
О прекрасном как предмете искусства...
А между тем эта аметодичностъ искусства, не
исключающая, впрочем, как увидим, своеобразного и непрерывного
единства направления развивающейся в нем деятельности
творческого созидания, приводит нас и ставит как бы лицом к
лицу с основным и коренным различием этого нового мира
и направления деятельности человеческой культуры
сравнительно с уже известными сферами научного познания и
нравственной деятельности, а именно в области восприятия
прекрасного и искусства мы вообще имеем дело не с чем-то
«закономерно всеобщим», какого бы рода ни было это
всеобщее, но подлинным объектом искусства и восприятия
прекрасного вообще, на который оно направлено во всех своих
творческих актах, всегда является нечто «безусловно
индивидуальное».
Правда, в это индивидуальное неизбежно должны войти
и оказаться как бы вплетенными в него также и элементы
сверхиндивидуального и закономерного, будь то
закономерное научного познания или нравственной оценки,
следовательно — элемента общего, ибо нет и не может быть, конечно,
ничего индивидуального вне и помимо всякого отношения
к сверхиндивидуальному, то есть общему. Но в том-то и дело,
что в объекте прекрасного, предмете искусства, все эти
элементы сверхиндивидуального до такой степени полно
растворяются и претворяются в индивидуальном, что тем самым
всякий характер их общности, все его, то есть этого характера,
черты и особенности оказываются как бы погашенными в нем.
Как ни странно, как ни парадоксально это может прозвучать
здесь, но про предмет, как и про всякое истинное
произведение искусства, можно с большим правом и основанием
сказать, что в нем все сверхиндивидуальное как бы признает над
собой власть и верховное начало индивидуального.
И в известном смысле это индивидуальное действительно
можно и должно признать за нечто высшее, ибо все всеобщее,
будь оно в качестве такового самым что ни на есть высшим,
что только как некоторая «ценность истинного» может быть
достигнуто в сфере теоретического познания или познания
о нравственном, — всегда останется все-таки только
некоторого рода фрагментом, всегда лишь попыткой к
осуществлению подлежащего исполнению, но никогда до конца не
могущего быть исполненным требования, между тем как в сфере
восприятия прекрасного, в области художественного творче-
О прекрасном как предмете искусства...
153
ства, в искусстве, в его предмете, весь смысл и интерес
сосредоточивается, наоборот, как раз именно в осуществленности,
в достигнутое™ и выполненности, казалось бы,
недостижимого: «Das Unzulängliche, hier wird's Ereignis»14*. Этот искомый
предмет восприятия прекрасного и творчества в искусстве как
бы внутренне в себе самом стремится и требует для себя
завершенности, сам как бы хочет и может быть для себя своим
исполнением.
Так что для него как бы навсегда в непререкаемой силе
остается пиндаровское «έπικρατεΐυ δύυασθαι»15*, в котором
чистое построение формы и непосредственное созидание
соответствующего этой форме еще как бы слито воедино.
Природа (сущее) и нравственность (должное) — они
должны быть объединены, точнее, преодолены в нем; и притом не
только по своему первоисточнику и закону, но также и по
своей цели и смыслу; в нем должны они прийти, как бы снова
вернуться к своему первоединству так, чтобы то, что должно быть,
было бы изображено в том, что есть, во всей своей
внутренней правде и действительности. Выражая то же основное
отношение в предмете прекрасного и искусства с субъективной
стороны, можно было бы сказать также, что объект
восприятия прекрасного, предмет искусства, не должен и не может
быть понятым только по методу познания теоретической
истины, как равно не может он быть постигнут и как
нравственная задача, или, другими словами: не мы должны стремиться
и не мы можем овладеть им, предметом, носам он во всей пол-
ноте и непосредственности своей переживаемости, своей
жизненности должен мочь овладеть нами, не растворяясь при
этом, однако, в субъективности переживания и не утрачивая
характера своей объективности, но, напротив, утверждая ее со
всей полнотой притязания ее на необходимость, на
невозможность не быть или быть иначе, чем как он есть. Как ни
странным может это показаться на первый взгляд, но
феноменологически эта необходимость предмета восприятия
прекрасного, предмета искусства заключается не в чем ином, как
в непосредственной созерцаемости его, как образца
«божественно странствующего, — по выражению Шиллера, —
среди Богов» (Göttlich unter Göttern)16* и единственно только
в этой необходимости чистого созерцания и переживаемого,
но зато в этом созерцании для переживающего субъекта стодь
безусловно надежного и необходимого и так твердо, в качест-
154
О прекрасном как предмете искусства...
ве особого рода истины, обоснованного, как не обосновано,
быть может, ни одно научное положение и ни одно
нравственное требование. В самом деле, если где, так именно здесь
должны, кажется, иметь силу слова Шиллера:
Nur der Körper eignet jenen Mächten
Die das dunkle Schicksal flechten,
Aber frei von jeder Zeitgeimlt,
Die Gespielin seliger Naturen
Wandelt oben in des Ltdhtes Muren,
Göttlich unter Göttemf die Gestaltn*.
И если этому божественному образу, этому предмету и не
присуща всеобщность, зато ему, вне всякого сомнения,
присуща известного рода общезначимость — в том смысле, что
подобного рода созерцаемость предмета искусства будет иметь
силу для каждого художественного, воспринимающего или
творчески созидающего свой предмет субъекта в
непререкаемости его значения, всегда, правда, только индивидуального.
Ясно поэтому, что речь идет здесь, собственно, не столько
о субъективности и индивидуальности переживания, сколько,
главным образом и в известном смысле, даже исключительно
только о содержании переживаемого, которое как таковое,
то есть везде и всегда себе равное, очевидно будет иметь
значение и силу также и для всякого другого субъекта,
способного к художественному восприятию и творчеству.
Переходя затем в произведение искусства, это содержание
как бы отделяется от своего творца и живет уже
самостоятельной жизнью общезначимого объекта, отнюдь притом
не в меньшей мере, чем в какой [мере] таковой
общезначимостью обладает любой объект научного познания или какое-
либо долженствование в сфере созидания нравственных
ценностей и оценок.
Отсюда-то, между прочим, становится понятной также и
совершенная недостаточность всякого рода субъективного
описания, анализа или объяснения художественного восприятия
или творчества прекрасного, еще менее — применения такого
субъективного метода к решению всей проблемы философии
прекрасного и искусства в ее целом, то есть в конце
концов — построения философской эстетики как
принципиального обоснования возможности целой области и направления
О прекрасном как предмете искусства...
155
человеческой культуры. Но как бы там ни было, та
постановка проблемы восприятия познания, постижения и творчества
прекрасного, к которой обязывает нас здесь принятая нами
отправная точка зрения критической философии, делает для нас
неизбежным признание и рассмотрение эстетики не как час-
ти психологии, именно психологии художественного
переживания и творчества, но единственно только как
самостоятельной философской дисциплины о той стороне или
направлении закономерности человеческого сознания, в котором
коренится возможность всякого вообще восприятия
прекрасного и условия всякого творчеошго созидания его в
искусстве. Так проблема предмета восприятия, познания и
творчества прекрасного в приводе и искусстве заставляет поставить
в параллель с логикой и этикой также и эстетику и придать
последней равноправное с ними значение самостоятельной
философской дисциплины, своего рода логики познания или
постижения предмета прекрасного вообще и произведения
искусства в частности, поскольку в них обнаруживается и
находит для себя предметное выражение особая область
закономерности человеческого сознания.
Из всего только что сказанного с необходимостью
вытекает, что всякое восприятие того, что мы предварительно и, так
сказать, гипотетически обозначаем как прекрасное, как равно
и всякое произведение искусства, всегда должно быть
выражением как бы особого рода познания некоторого
своеобразного предмета, который, частью устанавливая, частью
антиципируя здесь его признаки, можно назвать эстетическим.
Но если это справедливо, если такая познавательная,
а в расширенном смысле слова даже логическая и
онтологическая ценность или значимость действительно присуща
всякому предмету восприятия прекрасного и всякому
произведению искусства, то отсюда следует также принципиальная
«выразимость в понятии» существа всякого предмета восприятия
прекрасного и произведения искусства: в самом деле, ведь
если то, что как бы предчувствуется в предмете восприятия
прекрасного и уже изображается в предмете произведения
искусства, и не есть, как мы могли убедиться, нечто всеобщее, то не
надо забывать, что возможно ведь также понятие и об
индивидуальном, то есть об однажды только хотя бы имевшем место
некотором «единстве многообразного», осуществляемое,
правда, через взаимоотношение не столько внешних, в прост-
156
О прекрасном как предмете искусства...
ранстве и времени так или иначе определяемых моментов
конкретного художественного образа (реализующих идею
художественного замысла или восприятия), сколько посредством
тесного и закономерного отношения моментов внутренних,
какие бы и сколько бы их ни заключалось в самой этой идее,
как некоторой чисто мысленной антиципации предмета
восприятия, созерцания или творчества прекрасного. И если,
таким образом, с одной стороны, не может подлежать сомнению,
что всякий предмет художественного восприятия и
созерцания, как и всякое произведение искусства, всегда стремится
быть постигнутым и понятым как нечто строго
индивидуальное, в своей конкретной нераздельности цельное, то, с другой
стороны, по своей внутренней сути, [по} своей, как бы сказать,
онтологической природе, всякий предмет и произведение
искусства всегда разложимы все-таки рассудком на свои
составные части и признаки, и потому всегда, до известной степени,
могут быть сделаны понятными и поняты из совместного
взаимоотношения и действия этих мысленных компонентов.
Словом, если не для самого восприятия и творчества прекрасг
ного, то, по крайней мере, для их анализа в природе и в
произведениях искусства всегда будет иметь и сохранять за собой
значение эта постулируемая выразимость в понятии
подлинного, хотя всегда более или менее скрытого и в каждый
данный момент еще далеко не вполне выявленного анализом,
предметного существа такого художественного восприятия
и творчества.
Но именно потому, что этот анализ никогда не доводим,
таким образом, до конца, всякий предмет восприятия
прекрасного и всякое произведение искусства вследствие указанной
совершенной и полной индивидуальности его предмета
никогда не может быть вполне исчерпывающе представлено
каким угодно богатым и тесным переплетением его общих
признаков, но всегда есть и в последней инстанции обречено
остаться, в самом строгом смысле этого термина,
иррациональным: именно не математически только иррациональным,
которое, то есть математическое иррациональное, как таковое
все-таки может быть получено, выведено и, в конце концов,
сделано понятным по закону в бесконечности хотя бы
намечаемого развития его из самих по себе совершенно
рациональных предположений и принципов, но иррациональным в
безусловном смысле невозможности получения его из какого
О прекрасном как предмете искусства...
157
угодно вообще комбинирования самих по себе рациональных
элементов. Вот почему и вот в каком смысле безусловно
правильным кажется утверждение, что настоящим органом
постижения своеобразной природы предмета прекрасного
вообще и искусства в частности и в особенности всегда служит не
рассудочное мышление и не понятие как методологический
инструмент его деятельности, ко единственно, всецело и
исключительно только интуиция, посредством образов фантазии
говорящая чувству и к нему только апеллирующая и
обращенная. Значение же анализа существа предмета восприятия
прекрасного, его созерцания, художественного творчества, как
и самого произведения искусства, о котором только что шла
у нас речь, сводится поэтому к тому, что он (этот анализ)
показывает все-таки, что в иррациональности этого предмета,
как и самого произведения искусства, всегда содержатся
также и рациональные элементы или, если угодно, в конечном
счете даже одни только эти рациональные элементы, но в
таком бесконечно сложном и своеобразном переплетении их,
что само оно, то есть это переплетение, оказывается
недоступным уже ни для какого анализа, но постигается, как сказано,
только интуитивно, чтобы посредством образов фантазии
говорить только чувству и κ нему только обращаться. Если же
вопреки всему этому была бы все-таки сделана во что бы то
ни стало настойчивая попытка выдвинуть и подчеркнуть
в предмете и произведении эстетического восприятия и
творчества именно его рационально схватываемые элементы,
то этим предмет этого восприятия и творчества не только не
был бы достигнут и изображен, но скорее уничтожен и стерт.
Соответственно этому, всякое произведение искусства и
всякий предмет восприятия, созерцания и созидания
прекрасного доступен, на наш взгляд, рассудочному пониманию как раз
лишь настолько, сколько нужно для того, чтобы стало
совершенно несомненным, что в своей целостности и полноте он
всегда остается и навсегда останется непонятым и
непонятным. И снова невольно вспоминаются нам здесь
вышеприведенные слова 1ете, обращенные им к Эккерману, что «чем
несоизмеримее и непонятнее для рассудка поэтическое» — и,
прибавим здесь от себя, всякое вообще произведение
искусства, — «тем лучше».
Однако то, что входит в помянутое бесконечно сложное
сплетение, характерное для содержания предмета и произве-
158
О прекрасном как предмете искусства...
дения искусства, всегда в конечном итоге есть не иное что,
как составные части содержания либо объектов научного
познания, либо того другого, совсем особого мира поступков
и целей, составляющего предмет познания нравственного,
или, наконец, и даже главным образом, именно своеобразная
связь воедино тех и других моментов. Соотношение общего
и индивидуального всегда характерно поэтому и для
предмета, и для всякого произведения искусства — так, однако, что
само это соотношение направлено здесь (то есть в
произведении искусства) как бы в обратную сторону, именно в
сторону индивидуального, и уже не единичное, конкретное
оказывается подчиненным общему и абстрактному, но как раз
наоборот — это последнее подчинено конкретному,
индивидуальному и в нем только и ради него здесь существует. А
отсюда становится, в свою очередь, понятным также и коренное
различие смысла предметности художественного
восприятия и произведений искусства, в отличии и даже в
противоположность их тому смыслу, в каком объекты полагаются
в теоретически научном и в практически-нравственом
познании. В самом деле, в первом общее, как известно, всегда
доминирует* во втором оно равноправно с единичным, а именно
в том, что называется поступком (Haudlung), и лишь в
эстетическом сознании, в художественном восприятии и
творчестве, в предметах искусства безусловно всегда доминирует
и все другие элементы и стороны в себе поглощает и
растворяет индивидуальное. Но если все только что сказанное
справедливо, то верным, по-видимому, будет также и то, что для
нахождения полагания и признания того, что является
прекрасным в природе, кдк равным образом и для порождения
его в качестве предмета в произведениях искусства, не
требуется, строго говоря, никакого особенного, третьего,
сравнительно с научным познанием и признанием чего-либо за
нравственно ценное, направления или как бы измерения (Наторп)
познания, ибо, .как мы могли убедиться в предшествующем,
не только самая материя или, точнее, материал, но даже
и формальная сторона полагания или созидания объектов
прекрасного в художественном восприятии и творчестве
заимствуется и здесь не откуда иначе, как опять-таки только из
сферы научного познания, устанавливающего сущее, или из
познания о нравственном, устанавливающем должное (как,
в свою очередь, совсем особый род сущего). Но новым и бе-
О прекрасном как предмете искусства...
159
зусловно своеобразным является здесь уже нечто гораздо
большее, именно не особое только направление познания
объектов, но тот совершенно особый способ соединения и
взаимного проникновения обоих упомянутых родов познания в одно
неразрывное и, по самому существу своему, совсем новое целое
особого направления всего сознания, которое мы, только
антиципируя, но не определяя здесь его характерные черты,
называем, в отличие от рассудочного (интеллектуального)
познания сущего, как и от разумного установления целей для
деятельности, то есть воли, *- чувством, со всеми присущими ему
способами непосредственного постижения и проникновения
в ту, в известном смысле как бы высшую, универсально и
внутренне целостную, заповедную сферу бытия, которая как
такая в своей полноте,* не ограничена уже ни аспектом
сущего, im аспектами должного, но представляет собою наглядно,
а иногда даже пластически выразимое перевоплощение того
и другого в некоторое,· быть может, по своему значению
и культурной силе высшее единство, — в то «concretum»,
которое составляет самое существо эстетического как предмета
и особого рода познания и творчества.
Оставаясь, как мы видим, всегда индивидуально
оформленной и значимой, своеобразность предметности этого
особого направления всего сознания тем именно и
характеризуется, что роды познания сущего и должного в своеобразном
индивидуально-конкретном сплетении и
взаимопроникновении их друг другом уже не различаются здесь как
самостоятельные направления полагания и установки
соответствующих им особых объектов, но вместе и одинаково подчинены
тому высшему принципу постижения бытия, которое мы
называем чистым или первоначальным чувством, и в нем до
полной неразличимости слиты и как бы расплавлены. В этом-то
первоначальном и, если так позволительно выразиться,
потенцированном объединений всех направлений сознания в
высшем способе и как бы в сосредоточении всякого постижения
и творчества посредством чистого чувства и в нем самом —
в этом и заключается, по нашему убеждению, своеобразная
природа и существо восприятия и творчества прекрасного,
как и его содержания, как в нем же только и только для него
открывается это восприятие и творчество также и в качестве
предмета искусства во всем его возвышенном значении и
чарующей силе. Вот почему искусство сознательно и даже как
160
О прекрасном как предмете искусства...
бы методически никогда не склонно иметь дело со своим
предметом — ни как с тем только, что есть (объект научного
познания), ни как с тем, что только должно быть (объект для
воли), но, решительно отказываясь от такой
односторонности, оно, напротив, всегда имеет дело со своим предметом, как
с чем-то таким, что одинаково возвышается и над тем, и над
другим, и потому ни тем, ни другим не исчерпывается и не
выражается, оставаясь в существе своем невыразимым —
иррациональным. Наконец, не может искусство в своем
предмете также и соединить требований сущего и должного
воедино, то есть как бы примирить их между собой, несмотря и
вопреки их явной непримиримости. Никакого компромисса не
имеет в виду и не стремится достигнуть искусство ни в
своем восприятии, ни в творчестве, — напротив, для него то как
раз и является наиболее характерным, что оно всегда
остается безусловно свободным и самозаконным. Правда, несмотря
на такую свою самостоятельность и своеобразность, предмет
восприятия прекрасного вообще и искусства в частности
всегда допускает таков рассмотрение и понимание, как если бы
в нем все так именно и было, как оно должно быть, и так бы
и должно было быть, как именно в нем все есть. Другими
словами, не само обстояние этого примирения, но в интуиции
чувства при посредстве образов фантазии и ее свободного
комбинирования или игры с ними прямо или косвенно
открывающаяся фикция™* его (то есть этого примирения)
всегда действительно бывает налицо или, по крайней мере,
легко может быть обнаружена во всяком восприятии и
творчестве прекрасного, во всяком произведении искусства,
в© всяком его предмете, во всем вообще, что мы называем
прекрасным. Следовательно, только на [то,] «как если бы нечто
было», а не на то, что «оно действительно есть», указывает
всякое постижение чего-либо как прекрасного и всякое
произведение искусства в своем объекте; за действительность
оно ни что не выдает, кроме самого себя, и потому именно и не
содержит в себе никакой даже тени обмана, если только не
понимать обман в смысле художественной фикции и тогда,
конечно, согласиться со словами нашего великого поэта, что
«тьмы низких истин мне дороже нас возвышающий обман»19*.
Но что действительно содержит в себе всякое созерцание
того проблематичного нечто, которое мы называем
прекрасным, так это как бы предвидение, предвосхищение, своего ро-
О прекрасном как предмете искусства...
161
да чаяние некоторого, всегда все-таки искомого и
вожделенного единства и примирения, — как бы, как это ни странно
сказать, «реальность его возможности*. Но было бы,
конечно, пустой и праздной затеей, если бы искусство и
постижение прекрасного вообще вдруг поставили бы перед собой
задачу и стали бы претендовать на действительное примирение
обособленных самих по себе и по существу различных
требований сущего и должного: тогда, конечно, искусство
потеряло бы себяг утратило бы свое истинное назначение и смысл,
стало бы тенденциозным синтезом двух противоположных,
хотя каждая в своей области, и законных тенденций: научно
познавательной и практически морализующей. Но к
великому благу для постижения идеи абсолютности человеческого,
то есть для всей вообще судьбы человеческой культуры,
постижение прекрасного и искусства, по крайней мере, взятое
в его историческом целом, и he стремится к этому
неосуществимому синтезу, оставаясь, в указанном выше смысле,
и свободным, и автономным. Из сказанного, как мы
надеемся, должностать понятным подлинное значение и особая,
глубоко своеобразная правдивость фикции в искусстве и в
эстетическом сознании вообще. В самом деле, если нет
действительного единства идеи и опыта, должного и сущего, если
они никогда не покрывают друг друга, то было бы, конечно,
обманом утверждать такое единство. Тем не менее в сознании
это мысленно подлежащее осуществлению единство всегда
все-таки неотступно требуется и правдивость этого
требования, «как если бы оно было осуществимым*, и говорит к нам
как раз из всякого истинного произведения искусства, из
всякого художественного восприятия на языке прекрасного;
но она, эта правдивость, говорит, обращаясь только к нашему
чувству, как голос особого рода бытия в особом роде
сознания, называемом первоначальным или чистым чувством, —
его обращения, пусть тысячами самых разнообразных
способов, идут всегда только к нему. Но раз единство идеи и
опыта хотя бы только требуется, тогда оно, значит, может быть
и мыслимо. Ведь все, что чистым мышлением ставится и
требуется как проблема, его же силами должно (мочь) подлежать
и разрешению, согласно принципу Парменида, фундаменти-
рующему собою всю европейскую философию: «ταυτό εστί
υοεΐυ τέ καί εΐυαι»20*. Искомое, чаемое единство друг другу
противоположных миров осуществимо, значит, все-таки
162
О прекрасном как предмете искусства...
в свободе мышления, но только такого, в котором мы
сознательно отказываемся от всякой логичной ценности познания
действительности и которое именно потому и есть то, что мы,
в отличие от мышления, называем фантазией. И недаром
всеобъемлющий ум Гете посетила счастливо и в неподражаемом
юморе брошенная им мысль о какой-то своеобразной, что ни
на есть художественной феноменологии человеческого
сознания с фантазией, во главе всего поставленной, и в основе
всего подразумеваемым чувством, к которому она, в данном
случае —> к чувству смешного, явно апеллирует:
Laßt Phantasie mit allen ihren Chören,
Vernunft, Verstand, Empfindung, Leidenschaft,
Doch, merkt Euch wohl, nicht ohne Narrheit körenf21*
Но как бы там ни было, эта фантазия все-таки претендует
на особую истинность своих построений, своего предмета,
но уже не в том смысле, что «что-нибудь действительно есть»,
а лишь так, что она утверждает истинность про некоторое
нечто в том смысле, «как если бы оно было», и говорит,
обращаясь уже не к рассудочному мышлению и не на его языке,
а только к чувству, помогая осуществиться акту или обстоя-
нию оценки чего-либо как прекрасного, в самых его недрах,
в самом существе его природы. Как ни избитыми поэтому
стали нижеследующие слова Гете, в бесчисленных
цитированиях до утомления и не всегда кстати повторяемые, в них все-
таки верно и глубоко схвачена интересующая нас здесь
универсальность и первоначальность чувства. В ответ на
тревожный вопрос о Боге как существе Фауст, уклоняясь от прямого
ответа, говорит, обращаясь сперва к своей возлюбленной с
целым рядом всем, вероятно, понятных вопросов:
Wölbt sich der Himmel nicht dadrohen?12*
и т. д. и потом уже как бы в итоге только высказывает то
положительное, что ему нужно и единственно важно:
Erfüll davon dein Herz, so gross es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist.
Nenn es dann, wie du willst,
Nenn's Glückt Herz! Liebe! Gott!
О прекрасном как предмете искусства...
163
Ich habe keinen Namen
Dafür! Gefühl ist attest*
и прибавляет:
Name ist Schall und Rauch,
Umnebelnd Himmekglut?A\ —
как бы подчеркивая тем не только универсальность, но
именно первоначальность чувства.
Но все это, то есть это конкретное художественное
осуществление искомого единства, достигается и только и может
быть, как мы видим, достигнутым именно исключительно
посредством индивидуального, в самом существе своем
рационально неисследимого характера изображения того, что в
каждом данном случае в свободном обнаружении сокровенной
глубины и единства человеческого сознания, понятного как
чувство, составляет предмет его предвкушения, постепенного
осуществления и созидания в творчестве сознания, на путях
этого сознания, берущих начало из чувства как своего центра
и в нем только коренящихся.
Глубоко заложенные творческие силы сознания
проявляются при этом свободно и в качестве таковых свободно
проявляющихся и сознаются более или менее интенсивно и
ярко. В этом-то свободном творчестве, или, если угодно
применить кантовский термин, [в] своеобразной и свободной игре
познавательных сил, и получают постепенно свое
индивидуальное, более или менее конкретное, хотя всегда условное
и символическое, изображение в созерцании, в звуках и
слове те требования сознания, которые, как мы видим,
подразумеваются в том, что мы обозначили выше термином идея,
и в ней первоначально содержатся лишь как чисто мыслимые,
постепенно, однако, стимулируемые силами свободного
художественного восприятия и творчества; они (то есть эти в идее
подразумеваемые требования) как бы входят в сферу наших
представлений и здесь получают свое сразу и фиктивное (в
отношении науки и познания о нравственном), и реальное (в
отношении чувства) выполнение и осуществление.
Это загадочно-таинственное осуществление требований
единства сущего и должного, условий опыта и цели, явно
неосуществимое средствами одного только рассудочно
мыслящего сознания, всегда как раз этими противоположностями
164
О прекрасном как предмете искусства...
раздираемого, — оно сразу и отправным своим пунктом,
и кульминационной точкой, или фокусом, имеет то создание
нашего сознания, или, если угодно, ту познавательную его
форму, которая, со времени Платона, закрепляется нами в
термине идея, но не в смысле только единства «мыслимого»
(υοητόυ), устанавливаемого функцией единства мысли,
но в еще более первоначальном, собственно эстетическом
значении этого термина, по которому идея имеет смысл
«выражения единства» и направления познания совершенно
особого рода, — именно единства сразу и созерцания и
созерцаемого, каковой смысл идея действительно и имела если и не
первоначально, то, во всяком случае, все-таки уже у самого
Платона. Ведь идея, кроме ее значения как понятия и
гипотезы, всегда означала у него также «единство
непосредственного усмотрения» нашим духом некоторого, ему только
непосредственно в его собственном созерцании открываемого
единства25* — той типичной, точнее типизирующей и в то же
время индивидуальной формы предмета, которая не из
какого-то сверхмирового и занебесного, умопостигаемого места
берет свое начало и там только и обретается, но, напротив, в
буре жизни, в динамике ее процесса властно выступает и
проявляется в формировании и постоянном претворении природы,
участвует во всяком изменении видимых контуров тел, в
шуме и говоре волн, в струях и брызгах потоков воды себя
обнаруживает, — в таком едва ли не первоначальном и у самого
Платона значении термина идеи, как творческой и
имманентной миру формы, идея и есть как раз то сущностное начало,
тот принцип, который, предъявляя содержанию «очертания
формы» (Gestalt), в то же время и именно тем самым сообщит
ему и красоту, но от этого сам не перестает быть самим собой,
не утрачивает себя как вечное единство, никаким множеством
не поглощаемое и не стираемое.
Так, оставаясь сама собою, эта деятельная форма-идея как
живой первообраз никогда не утрачивает и своего
совершенства в противоположность чувственно воспринимаемому
материалу и своим отображениям в нем. И это именно потому, что,
в силу своего творческого значения как созидающего
принципа, она по отношению ко всем своим порождениям и даже
вопреки их бесконечной множественности остается неизменной
силой и вечным источником всякой жизни и развития, — тем,
про что Гете сказал, как про «Immerwechselnd fest sich blei-
О прекрасном как предмете искусства...
165
bend», — и что так глубокомыслен*) охарактеризовал в своем
стихотворении «ΑΘΡΟΙΣΜΟΣ» как закон свободы и меры, как
своеобразный принцип «подвижного порядка» — beweglicher
Ordnung: «Dieser schöne Begriff«, von Freiheit und Maß, von
beweglicher Ordnung, Vorzug und Mangel erfreue dich hoch...»26*.
На этом-то пути творчества сознания, направляемого
идеей как деятельностной, имманентной миру формой, и предмет
прекрасного, предмет искусства и художественного
восприятия вообще или, точнее, интуитивно, творческим
воображением для чувства созидаемая предметность его, находит свой
первоисточник и принцип своего значения и своей силы.
Вслед за Платоном мы называем этот принцип,
характеризуем его как деятсльностную форму даже более точно — как
подвижный и движущийся закон или порядок этой жизни.
Принцип в некотором смысле и сам становится идеей, чтобы
через нее и благодаря ей стать также предметом, именно
предметом прекрасного во всех зависящих от нее его выявлениях
и воплощениях, будь то в красотах самой природы или в
эстетическом восприятии и воплощениях искусства,
понимаемого в смысле особой стадии развития и форм все той же, но на
новую высоту поднятой природы как того «'όυτως- 'ου»27*,
которое в этой потенцированности своего значения как бытия
высшей стадии возвышается над той первой стадией,
называемой природой в собственном смысле и здесь преодолеваемой
онтологически в пользу чего-то большего и лучшего,
третируя то прежнее, то есть собственно природу, как нечто
преодоленное, как некоторое μη ου28*, про которое и здесь можно
было бы поэтому mutatis mutandis*'* сказать как про,
собственно говоря, не-сущее, по крайней мере, не полностью и не
подлинно сущее по аналогии с горгиевским «Περί τόυ μή
ούτος* ε περί φύσεως"»30*, что его, этого преодоленного, этой
природы в известном смысле уже нет...
Итак, непосредственное усмотрение, увидение, чистота
духовного видения и зримости, сама превращающаяся как бы
в некоторое «мысленное видение» — вот в чем берет свое и
имеет свой подлинный первоисточник то, что Платон обозначает
термином «идея» (Die Sehe), как удачно перевел этот термин
уже Фихте, и что мы полагаем здесь в центр своего метода
рассмотрения прекрасного.
В указанном смысле идея есть, таким образом, всегда
некоторое «вмдение=видвние», в едином центре как бы сфиксиро-
166
О прекрасном как предмете искусства...
ванное, — то, что мы менее точно часто называем теперь
единством созерцания или единством в созерцании
усматриваемого нами объекта.
Этот-то основной и нередко даже доминирующий смысл
платоновской идеи, в котором единство мысленного
созерцания выражает собой в то же время единство мышления, как и,
наоборот, единство мышления получает значение единства
созерцания, — и есть тот смысл ее, который всего вернее и
ближе может подвести нас через посредство Платона к
постижению своеобразного существа и единства искомого нами
предмета искусства, и художественного восприятия, и творчества
вообще. В этой платоновской идее выражается поэтому от-
тодь не только требование издалека, в бесконечном пределе
мысленных устремлений, предвидимого единства познания,
в каком регулятивном смысле идея выступает, как известно
у Канта, но, наоборот, у Платона уже выступает здесь другое,
конкретное и шаивидуальное значение этого руководящего для
понимания основной проблемы эстетики термина. Правда,
и у Платона идея всегда обозначала также и нечто общее
(закон), даже в высшей степени и, как бы сказать, в последней
инстанции общее, именно даже уже не закон только, а самую
закономерность как принцип закона, как его порождающее
условие, как метод. Но в том-то и дело, что уже у Платона идея
обозначала всегда не только эту всеобщность закономерности
и закона, не только само это общее, но в не меньшей мере,
также его конкретное изображение и выражение в
индивидуальном виде, в едином облике и образе видимого, что и
составляет как раз самое существо, подлинную суть и центр
художественного восприятия и творчества, и в нем созидаемого,
своеобразного единства и цельности его предмета, той его
нераздробленной и внутренне-негармонической, хотя, правда,
в известном смысле всегда только фиктивной,
согласованности, которая составляет самое существо объекта искусства
и постижения прекрасного вообще, в художественном
восприятии и творчестве с такими именно чертами и значением
устанавливаемого.
Только в этом, единственно только эстетическому
сознанию и искусству присущем, своеобразном смысле полагания
объекта и может стать для нас понятным, каким образом все,
даже самое что ни на есть общее содержание, может тем не
менее получить здесь ярко индивидуальное, конкретное,
О прекрасном как предмете искусства...
167
в созерцаемой наглядности выявляемое изображение, или,
по крайней мере, может быть хотя бы мыслимо в Такой
индивидуальности и конкретности посредством фантазии,
переживаемой и приближаемой затем к чувству и ему только
доступной и внятной. Следовательно, единственно только
в способе и роде соединения элементов содержания, то есть
только в формальном характере художественного
восприятия и изображения следует искать условия возможности
и гарантии того, хотя бы в известной мере фиктивного
только, преодоления односторонностей опыта и сущего, целей
и должного, которое в той или иной мере, прямо или
косвенно всегда характерно для художественного содержания
и творчества, как, в равной мере, и для его предмета, и
какового преодоления и торжества над указанной
противоположностью и раздором никогда нельзя, наоборот, достигнуть
в человеческой жизни, насколько она стоит вне искусства
и постижения прекрасного вообще и, стало быть, вне сферы
своеобразной свободы таинственных сил художественного
восприятия и творчества.
Итак, отнюдь не в самом содержании предмета искусства
и художественного созерцания или восприятия следует искать
поэтому,-как мы видим, условия примирения, преодоления
и торжества над указанной, в действительной жизни всегда
безраздельно царящей противоположностью природы,
раскрывающейся в научном опыте, и целей, получающих значение
в человеческой жизни и деятельности, но единственно только
в формальной стороне своеобразной закономерности
художественного постижения и творчества, в тех, рационально
никогда вполне не определимых, способах соединения элементов
природы и моментов жизни, которые в их неисследимости
обеспечивают, однако, великие достижения художественного
восприятия и творчества — и в повседневной жизни, и
особенно в произведениях искусства, всегда по своему смыслу либо
уже возвышающихся над всяким конфликтом
противоборствующих начал бытия, либо еще только подсказывающих
чувство возможного преодоления и торжества над всяким
жизненным столкновением и разрывом, хотя бы только
принципиально, хотя бы в мыслимой только возможности лучшего, пусть
бесконечно далекого, но всегда в то же время и близкого,
родного нам будущего:
168
О прекрасном как предмете искусства...
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам.
Туда, где па горе, под иовыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храмм *.
(В. Соловьев)
В этом-то смысле художественное восприятие и
творчество, вообще искусство, и как постижение, и как созидание, и как
предвкушение красоты понятое, всегда оптимистичны. И это
не только у таких представителей его, у которых, как у
Пушкина, как солнце, светлый гений восклицать заставляет: «Да
здравствует солнце, да скроется тьма!»32* — или даже в
отношении России, вопреки Чаадаеву: «В надежде правды и
добра гляжу вперед я без боязни...»33*, но даже и у того, другого,
в глубокой религиозно-мистической тьме своего духа так
часто пессимистически настроенного поэта, каким был
Лермонтов, когда с такой трогательной задушевностью чувства он
говорил: «Мне грозит мой путь глухой злою встречей, битвой...
Но душа полна тобой как светлой молитвой»3"1*, или когда
в победном вдохновении, над теснившейся в его сердце
грустью, обращался он к «непонятной и святой прелести созвучья
слов живых»35*.
И тем не менее в самом содержании каждого данного
произведения искусства может и не быть дано не только
какого-либо фактического примирения, но даже и не намечено
никакого компромисса. Игнорируется ли жизненный
конфликт в художественном произведении или, наоборот, как
в трагедии, выставляется намеренно во всей силе
противоположность борющихся в нем тенденций; дается ли победа
нравственному началу жизни или, напротив, торжество
остается за материальными элементами и от них зависимыми
функциями человеческой природы — все равно во всех этих
случаях, в самрм художественном изображении жизненный
конфликт наших намерений и целей с окружающей
беспощадной действительностью, по крайней мере, на то время,
пока мы вполне и безраздельно отдаемся чистому
художественному впечатлению или творчеству, оказывается если не
прямо, то косвенно, преодоленным. Ведь тем, по-видимому,
и отличается, и отмечается в своем своеобразии всякое
истинное художественное впечатление или деятельность, что
О прекрасном как предмете искусства...
169
того, кто живет этим впечатлением или деятельностью, эти
состояния совсем выносят за пределы обыденной, не
художественной действительности и жизни, возвышая его или,
точнее, вынося за пределы точки зрения, здесь
господствующей, и как бы заставляют погаснуть и исчезнуть, по край*
ней мере, на время художественного переживания всю эту
действительность и обстоятельства окружающей природы
и жизни, все, царящие здесь, конфликты и противоречия.
Едва ли кто когда-либо более глубокомысленно и задушевно
выразил это настроение освобождения, чем Пушкин, когда
невольно, непреднамеренно, а это значит гениально, он
соединил воедино это проникновение чувства с
непосредственностью интуиции платоновского анамнезиса и сказал,
правда про себя, но для всего человечества:
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых днег№*.
Известно, что в последствии он, даже почти уже
философски, выразил идею этого состояния полного освобождения
посредством постижения прекрасного, когда в
противоположность и как бы идеальную отмену пошлости, борьбы и
сумятицы так называемой общественной и политической
человеческой жизни он гордо заявил, подчеркнув значение идеи
абсолютности человеческого: «Иные, лучшие мне дороги права,
иная, лучшая потребна мне свобода», — и далее: «Никому
отчета не давать; себе лишь самому служить и угождать... по
прихоти своей скитаться здесь и там, дивясь божественным
природы красотам и пред созданьями искусств и вдохновенья
безмолвно утопать в восторгах умиленья, — вот счастье! вот
права...»37* Да, но это ведь права всего человечества на
миллионы лет. И не напрасно ли поэтому Георг Брандес упрекал
в политической бесцветности «русского поэта»?38" Если бы
все нынешнее было столь же и в том же смысле русским, как
это инкриминируемое Пушкину презрение его к цветам
политической радуги! Увы, это не так!
Во всяком случае, это само собой осуществляющееся по-
ставление себя вне всего и над всем жизненно
действительным, то есть повседневным, столь характерное для той осо-
17Θ
О прекрасном как предмете искусства..«
бой установки сознания, которая составляет само существо
художественной жизни и деятельности в сфере интересов
искусства и его достижений, — это настроение в том,
по-видимому, имеет свое последнее основание и условие в нашем
сознании, что, отрывая нас от всего единично и изолированно
представимого, оно тем самым возвращает нас от этого
разрозненного и внутренне противоречивого материала наших
переживаний к непосредственной первоначальности
сознания (zu dem Urkonkreten), по терминологии Наторпа, где
сами жизнь и свободное обнаружение ее творческих сил уже
не имеют другой задачи, никакой другой функции, как
только обнаружение самих же себя во всей своей
непосредственности и в том последнем и основном начале сознания, где то,
что есть в опыте, и то, что должно быть в намерении и цели,
еще не разъединены между собой, как два особых
направления сознания, но представляют собой нечто подлинное,
единое и нераздельное, в чем нет поэтому еще и никаких
поводов для какой-либо борьбы за восстановление утраченного
единства, но что, напротив, внутренне едино й цельно, как
чистое, всеохватывающее, ни в каком множестве еще не
дифференцированное» но уже все возможности различий в себе
заключающее, первоначальное, или, что то же, — чистое, —
чувство.
Чем в большей мере достигается такое настроение, чем
чище и полнее оно выступает в произведениях искусства и в
постижении проблемы прекрасного вообще, тем в большей ме*
ре осуществляется внутреннее задание художественного
творчества и созерцания, тем правдивее и адекватнее его интенция
и тем совершеннее и истиннее выражающее это настроение
произведение искусства, тем вернее и соответственнее оно
подлинному духу и предмету искусства
Если бы мы захотели дать здесь психологическую
характеристику этого особого, собственно эстетического направления
культурного человеческого сознания, то для такой, всегда в из*
вестной мере, неизбежной, но в то же время и спорной,
характеристики даа термина и представляются, по-видимому,
наиболее подходящими, именно фантазия и чувство. Элемент
чувства, то есть художественного удовлетворения, или особой
радости, действительно всегда прямо или косвенно
содержится, по-видимому, в эстетическом состоянии, точнее, обстоя*
иии нашего сознания — элемент этот, вне всякого сомнения,
О прекрасном как предмете искусства...
171
неустраним из того направления человеческого сознания,
о котором здесь идет у нас речь, но — другой вопрос —
составляет ли это чувство, если понимать его только как род
удовольствия, радости или удовлетворения, прямо или косвенно,
элемент подлинного существа или даже цель эстетического
состояния или направления сознания. Легко видеть, что ни
вообще радость или удовлетворение, ни даже какая-либо особая
специфическая радость — ни сама по себе* ни в связи даже
с каким-либо другим состоянием удовлетворения низшего
или высшего порядка — еще не составляет чего-либо,
выражающего существо художественного восприятия или
творчества. Момент чувства является здесь, как и везде вообще, на
первый взгляд, по-видимому, только сопровождающим обстояни-
ем, тогда как самая суть эстетического сознания заключается,
по-видимому, не прямо в этом'моменте удовлетворения,
но скорее в творческом построении или, еще точнее, в
свободном обнаружении и раскрытии творческих сил нашего духа,
способствующих выражению и воплощению того, что
интуитивно схватывается сознанием как некоторое нераздельное,
внутренне единое целое, именно так своеобразно, то есть в этом
свободном творчестве, постигаемого содержания.
Следовательно, если речь здесь все-таки может и должна идти о
чувстве, то это будет, конечно, уже не чувство радости или
удовлетворения, но чувство, понятое в коренном и
первоначальном значении этого термина, как то, совсем своеобразное и в то
же время самое глубокое и объемлющее состояние или аспект
сознания, в котором находит себе выражение изначальная
тенденция сознания к чистому, то есть ничем не связанному,
совсем только из себя исходящему творчеству или построению
сознания; таковое свободное творчество построяющего
изначального сознания, которое в силу этого именно и сознается
как то, что само не есть еще какое-либо удовлетворение, ио сяг
ставляет его подлинный источник и сознается как таковой,
именно поэтому и можно было бы, по нашему убеждению,
назвать чистым чувством творческого созидания сознания,
или также чувством собственной свободы, свободы всего
нашего духа, всего нашего человеческого существа в
изначальной интенции его творчества и из него вытекающих постро-
яющих созиданий. Это чувство не столько удовлетворения от
себя, сколько чувство подлинных глубин творческой
деятельности существа самого себя и делает, по-видимому, понятным
172
О прекрасном как предмете искусства...
и объяснимым, что эстетическое сознание, по своему
характеру сразу и индивидуально всеобще, и конкретно жизненно
и универсально в своей сверхиндивидуальной
общезначимости, то есть отмечено как раз теми именно чертами, которые
характерны и так неотвратимо требуются объективной
природой художественного творчества его построений. Это-то
объективно направленное, в пластические образы
представляемого содержания переходящее и их требующее сознание по-
следит глубины своей собственной, самостоятельной,
творческой свободы — это, конечно, не есть уже состояние или
настроение какого-либо удовлетворения, то есть не какое-либо
актуально законченное чувство, понятое как результат или
определение выражения жизни сознания, но скорее самый
принцип возможности чувства и только в этом смысле —
первоначальное им чистое чувство. К нему-то и апеллирует всякая
интуиция, хотя бы и чисто интеллектуальная, и к нему-то она
обращается, конкретизируя и раскрывая себя посредством
образов фантазии, ему только, то есть этому чистому чувству,
говорящих. Но именно потому в силе всегда бывает и обратное
отношение, то есть и само по себе чисто субъективное
чувство в этом направлении сознания всегда объективируется и
эстетически оформляется как в простом художественном
восприятии, так в еще большей мере и в произведениях
искусства. Все же, что прекрасно, в самом себе обнаруживается,
потому как что-то божественное и есть таковое, если бы даже
никто не сознавал этого, не сосредотачивая на нем своего
внимания, не принимал участия в им порождаемом состоянии
блаженства: «Was aber schön ist, selig scheint es in ihm
selbst»'19*, — цитирует поэтому и Наторп в аналогичном
приведенному здесь ходе своих размышлений.
Тот аспект или та сторона единства сознания, которую мы
привыкли обозначать как субъективную здесь, то есть в
сфере эстетической, всегда приобретает вид объективный, и,
наоборот; на всем том, что мы в сознании обозначаем как
объективное, здесь лежит интимная печать субъективного.
Поэтому и всякое истинное произведение искусства всегда носит на
себе все признаки этой первоначальной самоположности и
себе довлеемости, и его отнюдь нельзя понимать,
следовательно, как то только, что пассивно чувствуется, но, напротив, как
то лишь, что [есть] в этом чувстве и [что] сообразно природе
его особой закономерности, в то же самое время силами твор-
О прекрасном как предмете искусства...
173
ческой фантазии также и созидается [и] в его образах (как что-
то чувству дорогое и близкое, то есть его закономерности
адекватное) воплощается.
Если правомерно допущение такой особой
закономерности того, что мы здесь обозначили как первоначальное или
чистое чувство, тогда оно не есть только волнение или
настроение, только эмоция или как еще угодно будет выразить
сюда относящиеся признаки, но оно есть тогда как бы высший
масштаб, критерий и принцип совсем особой, цельной, не
раздробленной, никак еще не аспектированной деятельности
всего сознания, самого сознания в его подлинной
самостоятельности и неисчерпываемой, неисследимой глубине. Среди
всех заблуждений и деятельности, среди ошибок н греха оно
будет тогда возвышаться как непоколебимый оплот и, по
словам нашего поэта, будет всегда хранимо как святой залог
того бессмертия, о котором уже шла речь вначале нашего
рассмотрения.
Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений,
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...*®*
Из него-то, из этого божественного чувства, на которое
сумел указать и наш поэт, будут идти родники творчества — те
ли, что в созидании объективного пластического целого
только на природу будут направлены, —
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
... Иль шепот речки тихоструйной...*1*
(A.C. Пушкин),
или те, что в сторону жизни и деятельности человеческой
будут обращены, -
Подвиг сердца женского,
Тень мужского зла...
Что разрывом тягостным
Мучит каждый миг -
174
О прекрасном как предмете искусства...
Все ты чувством благостным
В красоте постиг!*2*.
(B.C. Соловьев.)
Таково то чувство, о котором здесь идет у нас речь, как
о верховном гипотетическом начале искусства и понимания
его философского принципа и обоснования в эстетике. В этом
чувстве мы видим и над субъективным, и над объективным
в равной мере возвышающееся существо эстетического, его
универсальное concretum. Преследуя и развивая сходный ряд
мыслей и соображений, Наторп указал на то, что в своем
известном сочинении «Проблема формы в изобразительном
искусстве» Адольф Гильдебранд (1910 год, 8-е изд.)43* в
некоторых отношениях близко подошел к изложенным здесь
воззрениям и оперировал с родственным по смыслу термином
«инстинкт», понимая его, по-видимому, в смысле
первоначальной тенденции к закономерному формированию всего
того, что может служить материалом художественного
творчества в безусловной и полной конкретности такого,
подлежащего наглядному установлению, единства, в котором то,
что представляется в образе, уже не различается от того, что
непосредственно воспринимается, и что — так следовало бы,
кажется, дополнить здесь мысль Гильдебранда — обращается
уже не к рефлектирующему сознанию разума, а к
интуитивной закономерности и проникновенности чувства. Но как бы
там ни было — полагать ли логическое ударение на то, что
здесь охарактеризовано нами как понятое в его
первоначальной глубине чистое чувство, или переносить его, как это
делает Наторп, на другой аспект сознания, именно творчески
построяющую свои образы фантазию, — наша мысль о
своеобразном интуитивном характере, единстве и
первоначальной самоположенности, даже самозаконности эстетического
сознания остается руководящей и непоколебимой, словом,
есть и навсегда остается незыблемой, как верховное обстоя-
ние сознания, такая его последняя, в первоначальной
конкретности все объединяющая и в себе содержащая
закономерность — το, о чем и Гераклит сказал как о первоконкретной,
но в то же время и бесконечной основе всего: «Идя к
пределам души, не отыщешь их и весь пройдя путь, так глубоко
простирается Логос ее...»44\ и именно это объединяет
искусство и восприятие прекрасного вообще,не только с направле-
О прекрасном как предмете искусства...
175
ниями научного и нравственного познания, но через
безмерность чувства так же со способами понимания и
откровениями религии.
Еще только немногое остается нам сказать в этом кратком
очерке основных воззрений о положении искусства и
художественного творчества вообще в сфере культурного созидания,
которые этим его положением определяются.
Всегда ведь, как уже не раз было сказано выше,
художественному восприятию и творчеству необходимо быть
поставленным по применяемому и своеобразно преформируемому
им материалу в непосредственное отношение и
нерасторжимую связь с материалом мира рассудочного познания и мира
воли, и притом так, что в специфической форме этого нового
и в известном смысле более глубокого и первоначального
творчества искусства и художественного восприятия вообще
законы формирования предмета тех двух первых областей
(природы и жизни) оказываются слитыми до самого интим-
ного, самого нерасторжимого взаимного проникновения их
друг в друга. Но раз это так, то и ступени развития того
направления сознания, которое называется господствующим
в искусстве, неизбежно должны отразить в себе и идти до
известной степени параллельно с соответствующими ступенями
развития научной и нравственной культуры, как и
направлений сознания, здесь преобладающих (рассудка и воли).
Часто указывалось вопреки этому на детскую как бы
наивность художественного восприятия, постижения и
творчества, на непосредственных данных наших ощущений
основанного или, по крайней мере, на них опирающегося содержания
окружающего нас внешнего и нашего собственного,
внутреннего мира, как и на выражение полной свободы
формирования и перевоплощения материала этих миров чистой, ничем
не препятствуемой, деятельностью нашей творческой
фантазии, и едва ли можно отрицать, что такая, как бы детская,
действительно, наивность и непосредственность постижения,
комбинирования и схватывания — во многом глубоко сродни
художественному пониманию и построениям творческой
фантазии в сфере искусства.
В самом деле, сфера соприкосновения этих двух миров
творчества человеческого сознания в том, по-видимому, й
заключается, что и в детских играх раскрывается перед нами,
только в еще более первоначальном виде, та же свобода твор-
176
О прекрасном как предмете искусства.,
ческих построений, но еще без всяких почти притязаний их
на какую-либо теоретическую или эстетическую значимость,
характерные черты которой рельефно выступают перед нами
и во всех проявлениях художественного творчества, с той
лишь разницей, что здесь нет — не «еще нет», а «уже нет» —
больше никаких притязаний этих проявлений на
общезначимость научного познания или нравственной оценки, как
равно нет здесь уже более и конфликта между
противоположностями теоретической значимости и нравственной ценности,
столь неизбежных в действительной жизни с ее непрерывной
борьбой, столь мало еще ощутимой и понятной для мира
детского сознания и его игр.
В непосредственном восприятии и свободе творчества эти
черты действительно сродни, по-видимому, обоим мирам:
и кругу детских игр, и сфере художественного творчества.
Состояние ничем не стесненной свободы проявлений творчески
построяющего сознания действительно общая, по-видимому,
черта сознания и ребенка, и художественного гения:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом1®*.
Но было бы все-таки большой ошибкой долго
задерживаться на этом, в значительной мере только психологическом,
совладении или сходстве, могущем затемнить подлинное
существо проявлений художественного творчества и их
своеобразного культурного значения. Указанная противоположность
того, чего «еще нет» для детского сознания и «уже нет» для
сознания художественного гения, должна остаться
определяющей и руководящей для понимания и оценки произведений
искусства. Своеобразная свобода и видимая наивность
художественного творчества характерны вообще, как это легко
видеть, только для внешней, к чувственно-воспринимаемому
содержанию обращенной стороны художественного построения
вообще и искусства в частности — только для того, что во
всяком таком восприятии и в каждом произведении искусства
составляет его выразительную, наглядную,
индивидуально-конкретную, чувственно-воспринимаемую природу или сторону,
а отнюдь це для тех более глубоких слоев в глубине сознания
О прекрасном как предмете искусства...
177
органически перерабатываемого и в образе фантазии только
воплощаемого идейного содержания, которым эстетическое
сознание пользуется как своим материалом для порождения
своих произведений и раскрытия природы своего предмета
в типических чертах того своеобразного обстояния или
направления сознания, которое им присуще. Одной свободы
и наивности творчества для выявления всей этой глубины
и богатства подлинного содержания, скрытого в предмете
искусства и его отдельных произведениях и постижениях было
бы, конечно, далеко не достаточно. Кроме непосредственной
первоначальности чувственного восприятия или
представления с их индивидуально-конкретной наглядностью и
изобразимостью, от чего ни искусство, ни вообще восприятие
прекрасного никогда, разумеется, не должны отказываться как от
подлинного источника своей силы, они, то есть всякие
вообще формы и способы постижения прекрасного и искусства,
неизбежно должны прибегать (для выявления указанного
бесконечного богатства и разнообразия своего идейного
содержания) еще и к тому особенному, со всем ходом научного
познания и нравственного развития шаг в шаг параллельно
идущему и совершенствующемуся условному языку форм,
красок, звуков и слов, который, то есть этот условный язык,
всякого рода, все дифференцированнее применяемых знаков, мы
называем техникой.
Без этой техники как посредствующей ступени
использования и обработки подлежащего и вновь находимого материала,
в целях воплощения его в единстве художественной формы,
современное, до такого выгодного совершенства развитое
искусство не может обойтись ни одного мгновенья, нуждаясь
в ней (технике) в еще гораздо большей мере, чем во все стадии
своего предшествующего развития. И если техника как такая
посредствующая и подготовляющая ступень художественного
развития и не есть, конечно, уже само искусство, то все же она
для всякого, сколько-нибудь заметного и сложного
произведения искусства, для всего в нем великого имеет, как тому учил
человечество уже Леонардо, значение неизбежной
подготовительной ступени, в некотором роде —* метода схватывания и
совокупности приемов творческой обработки ему
предносящегося материала.
Эта техническая проработка и расчленение всего
художественного материала, это выявление всех содержащихся в этом
178
О прекрасном как предмете искусства...
материале элементов, поскольку они вообще могут быть
различены и расчлененно установлены, — одно [это] только
и обеспечивает ту, так редко и трудно достижимую стадию
свободы использования и распоряжения этим материалом,
единственно в котором только и может быть достигнута последняя
и высочайшая ступень художественного творчества,
состоящая в строго индивидуальном, даже чувственно-конкретном,
насколько это возможно, изображении самого сокровенного
содержания, самого подлинного смысла или идеи предмета
художественного постижения и искусства, во всей ее, этой
идеи, бесконечности и иррациональности ее содержания. Так
в этой связи с основным существом искусства, как и
художественного постижения вообще, становится ясной и роль его
техники в ее подчиненном, но все же важном значении.
Но центром все же остается, разумеется, его идея.
Найти и дать для этой идеи, для ее общезначимости,
индивидуально-конкретное, чувству говорящее выражение и
воплощение — такова, по-видимому, последняя и высочайшая
задача своеобразного, ни с чем не сравнимого совершенства
и гармонии произведений искусства, — моментов, в зачатке
имеющихся уже во всяком, хотя и примитивном еще
художественном творчестве, — искусство же только сознательно и по-
своему методически двигается к этой цели4«*.
Но именно в этом-то своем основном стремлении
искусство, с другой стороны, становится в теснейшую связь со
всем объемом и полнотой культурного сознания
человечества в его целом и принимает деятельное и могущественное
участие в борьбе этого сознания за выяснение последних
принципов своей работы и творчества, а это, в свою очередь,
приводит искусство к непосредственному соприкосновению
с научным познанием и нравственной жизнью. Таким
образом, устанавливается тесная связь также и между
искусством и философией: с не меньшим, если еще не с гораздо
большим правом, чем философия, искусство становится
выражением мировоззрения культурного человечества данной
эпохи, а ступени в развитии искусства — как бы стадиями
выражения последовательно углубляющегося и ширящегося
самосознания человеческого духа, как на этом так
красноречиво и убедительно настаивал Герман Коген. Так, история
мировоззрений становится в значительной мере, если не
всецело, областью применения того творчества, о котором по-
О прекрасном как предмете искусства...
179
вествует нам в стадиях своего развития история искусств.
Недаром поэтому философию, если понимать ее не «как
строгую науку»47*, а как выражение мировоззрения, то есть
«как мудрость», так часто и не без основания сближают с
искусством. История философской романтики яркий тому
пример и подтверждение. К сожалению, только за этим
аспектом философии как мировоззрения слишком часто
забывают другой ее облик, ее контуры как системы обоснования
из принципов точного научного знания и даже, больше того,
как само это точное и строгое знание в его подлинной
природе, существе и чертах его типического обстояния. Но
даже и с этим более строгим и точным значением философии
искусство (как и всякие вообще художественные
восприятия) стоит в не менее тесной, хотя и не столь легко
уловимой, связи, поскольку именно оно нуждается в выяснении
и обосновании себя из последних оснований и условий
своей возможности в природе, как, с другой стороны, также
и принципов культурного человеческого сознания в его
целом, то есть через то, что мы привыкли называть
философской эстетикой как частью философской системы.
Но как бы то ни было, из сказанного, как думаем мы,
должно стать ясным, что не только искусство представляет собой
и содержит в себе одну из величайших проблем философии,
но что и само оно в лице величайших своих представителей
является как бы некоторого, нового рода философией —
новой, по крайней мере, в том смысле, что все более становится
ясным для сознания значение искусства для выражения того,
что мы называем мировоззрением, хотя, впрочем, и всегда или,
уж по крайней мере, с совершенной истинностью со времени
Платона было налицо фактическое участие художественного
творчества в великих достижениях даже и той подлинной
философии, которая отправлялась от основной сократовско-пла-
тоновской проблемы о том, что есть знание (τι έστι επιστήμη).
И если в другие времена, например у Новалиса и других
романтиков, философия становилась своего рода поэзией
понятий, то теперь, наоборот, мы с известным правом можем
говорить уже не только о философской поэзии, но даже и своего
рода философской музыке, больше того, даже о философских
притязаниях изобразительных искусств. И это не в том
только смысле, что подобно тому, как прежде средства искусства
поставлялись и как бы брались на службу философского ис-
180
О прекрасном как предмете искусства...
следования и изложения, так теперь, наоборот, искусство
стремится овладеть для своих целей всем тем содержанием,
которое дают философски точные науки и все вообще
области развитой человеческой культуры. Нет, связь между
философией и искусством устанавливается, по-видимому, в том
отношении еще гораздо более глубоко и радикально, что одна
и та же человеческая жизнь во всех ее высших напряжениях,
достижениях и потенции стремится найти себе выражение
одинаково и в философии, и в искусстве, которые вместе и во
внутренней связи между собой оказываются как бы самым
существом своим призванными взаимно освещать и дополнять
друг друга.
В этом смысле можно сказать по праву, что и современное
искусство, хотя, конечно, совсем своеобразно и по-новому,
стремится к тому же, что, правда, с большей
односторонностью стремится выразить не только классическая поэзия
конца XVIII и начала XIX века, особенно в лице Шиллера, но
также и более непосредственно, хотя и не менее глубоко по
своему замыслу и содержанию, — Гете в своих позднейших
произведениях, также Бетховен и у нас Пушкин. Разве
творения этих великих гениев не служили выражением все того
же философского самосознания, которое, как бы ни
восставали против этого с усердием, достойнейшим лучшей участи,
наши противники кантовской философии, стремится
охватить в единстве человеческого духа, в абсолютности,
значение человеческого, конкретно выразить затем единство и
внутреннюю связь двух великих и равноправных космосов:
внешнего (звездное небо) и внутреннего (нравственный закон) —
так притом, чтобы и тот и другой космос могли быть поняты
или, по крайней мере, стать доступными чувству, как
порождения все того же человеческого духа, в его нераздельном
и первоначальном единстве, чтобы над общим делом и
подвигами человеческой культуры продолжали звучать как
выражение победной песни человеческого духа знаменательные
слова поэта:
Alles Vergängliche
Ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche,
Hier wird's Ereignis..***
О прекрасном как предмете искусства...
181
Сводя теперь воедино все сказанное выше, все результаты
нашего теоретического рассмотрения, мы должны были бы
сказать приблизительно следующее: всякое восприятие,
всякое постижение, всякое творчество — прекрасное, и потому
всякое искусство всегда и везде предполагает уже и природу,
и то, что мы называем нравственностью, как тот материал,
из познания и претворения которого оно, то есть искусство,
как, впрочем, в известной мере и всякое постижение
прекрасного вообще, создает новый «предмет сознания
эстетического^. Содержанием этого нового предмета, открывающимся
в этом третьем направлении, или измерении, культурного
сознания и одновременно объемлющим в себе в известном
смысле все другие направления сознания, — этим содержанием
служит и его собой составляет первоначальное или, как иногда
говорят, чистое чувство в его изначальной
непосредственности и в его противоположности всякого рода состоянию
простого и сложного удовлетворения сознания, всякой, хотя бы
и как угодно духовно понятой, радости, не говоря уже о
всяком, хотя бы самом что ни на есть утонченном и
рафинированном, состоянии переживания какого-либо
удовлетворения. Понятое в намеченном в нашем предшествующем
рассмотрении смысле это чистое или первоначальное чувство всегда
стоит в непосредственном отношении к тому, что мы, в
согласии с Платоном, пытались охарактеризовать выше как смысл
термина идея вообще и что мы обозначали как идею
абсолютности человеческого, в частности и в особенности. Но если для
научного познания, по старой терминологии Канта,
теоретического разума с его самодеятельностью, а равно и для —
познанием целей — направляемой деятельности человеческой
воли (практический разум Канта с его
самозаконодательством), всякая идея вообще и идея абсолютности человеческого
в особенности всегда остается только проблемой, то для
эстетического восприятия и постижения вообще, для
художественного же творчества, то есть, в конце концов, для
эстетического или чистого чувства, тем более эта идея, а при
известных условиях и всякая вообще идея, есть, наоборот, нечто,
и притом самым непосредственным образом, достовернейшее
и конкретное. В этом-то смысле прав был, по-видимому, lere,
когда сказал: «Wo Künstler von der Natur sprechen, subintel-
ligieren sie immer die Idee», то есть когда и где бы ии шла у
художников речь о природе, всегда при этом идея подразумева-
182
О прекрасном как предмете искусства...
ется ими, с тем добавлением только, что она подразумевается
ими тоже и всегда тогда, когда им приходится иметь дело или
вести речь о человеческой жизни, то есть вообще о человеке,
о его поступках, или, что то же, о нравственном в нем.
Но для науки и человеческой деятельности содержание
постижения прекрасного и искусства всегда остается,
следовательно, и должно навсегда остаться чем-то проблематическим,
невыразимым, непонятным и рационально необъяснимым.
Отсюда смысл и верность положения, обратного прямой,
если можно так выразиться, пропорциональности величия к
эстетической значимости произведения искусства и
постижения прекрасного вообще, с одной стороны, с его
несоизмеримостью для рационального познания, с другой. Но эта
непостижимость для рассудка не только не отнимает у
искусства ничего из его ценности, из той своеобразной
художественной определенности, которой первоначальное, или чистое,
чувство со своей особой закономерностью его подчиняет, но,
напротив, эта рациональная непостижимость даже еще как бы
усиливает непосредственную силу убедительности и полноты
собственно художественной определенности всякого
истинного произведения искусства и эстетического восприятия и
постижения вообще, притупляя в отношении к нему всякое
острие сомнения и критики: пусть не хватает ему
определенности конечного, точно очерченного и отграничивающего
понятия, зато тем в большей мере присуща ему
общезначимость, коренящаяся в чистом, или первоначальном, чувстве
идеи абсолютности человеческого, — та общезначимость,
посредством которой каждое истинно великое произведение
искусства или постижение прекрасного так же безраздельно
и полно овладевает нами, как, по выражению Платона,
любимое существо душою влюбленного.
Переходя теперь, после сделанного здесь сведения к
нескольким основным положениям результатов всего нашего
теоретического исследования о существе прекрасного, к
дальнейшему рассмотрению некоторых вытекающих из всего
приобретенного последствий, следует указать, быть может,
прежде всего на то, что именно в только что отмеченном
своеобразном характере общезначимости всякого подлинного
восприятия и творчества прекрасного, как некоторой в
сокровенных глубинах чистого чувства идеи абсолютности
человеческого коренящейся тайны, надлежит искать объяснение также
О прекрасном как предмете искусства...
183
и того глубокого, но таинственного родства, которое всегда
признавалось или хоть только смутно чувствовалось между
могуществом действия на нас великих произведений
искусства, с одной стороны, и безраздельного обаяния власти над
нами чувства беззаветной любви, с другой. В самом деле,
великие мысли и чувства всегда возникают в нас от встречи с тем
и другим в жизни и в своем единстве образуют особый,
бесконечно дорогой мир, как бы владеющую нами тайну жизни,
которая, однако, не потому тайна, что она скрывается, а потому,
напротив, скрывается, что она тайна, в редкие минуты жизни
только открывающаяся и заявляющая о себе как бы в
некотором «идеальном» воспоминании. Провидящий гений
Пушкина, как, может быть, никто после Платона, сумел проникнуть
и в эту тайну глубокого родства постижения прекрасного
и любви'19*, иеисследимую рассудком, но и неотступно
властную над нашей думой. Так, прежде всего, относительно этой
тайны:
Тогда, в безмолвии трудов,
Делиться не был я готов
С толпою пламенным восторгом
И музы сладостных даров
Не укижал постыдным торгом;
Я был хранитель их скупой:
Так точно, в гордости немой,
От взоров черни лицемерной
Дары любовницы младой
Хранит любовник суеверный™*.
Однако только настоящее, только всепобедное, истинно-
божественное чувство, как один «святой залог», должно
иметь здесь в виду. Обращение только к внешнему, случаями
жизни и встреч подсказанному, великой тайной любви не
проникнутому полу-чувству тотчас же жестоко отомстило бы
за свою беззаконность и низменное происхождение отравой
и ядом неисцелимо-тягостного разрыва души, точно так же,
как оно обесценило бы истинную тайну и самой любви, и
вдохновения:
Когда на память мне невольно
Придет внушенный ими
184
О прекрасном как предмете искусства...
(этими случайными встречами) стих,
Я так и вспыхну, сердцу больно:
Мне стыдно идолов моих.
К чему, несчастный, я стремился?
Пред кем унизил гордый ум?
Кого восторгом чистых дум
Боготворить не устыдился?5**
Совсем так же, как и плохой художник неизбежно, хотя и
суетно, то есть тщетно и только преходяще, обманывал бы нас
относительно самого существа постижения и творчества
прекрасного:
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит
И свой рисунок безоконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуёй;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой52*.
Однако как, в конце концов, высвобождается и рано или
поздно выходит на свет и о себе властно заявляет
человечеству эта неисповедимая тайна истинно прекрасного и нашего
интимного общения с ним, так есть все-таки и себя, хотя бы
и в редкие светлые моменты как бы некоторого идеального,
как сказано, воспоминания, манифестирует в вечность в
корне родственная с тайной мира прекрасного тайна мира
беззаветной любви. Потому-то у того же Пушкина в протест и
осуждение настоящего, миру тайны прекрасного не родственного,
чувства с какой-то горькой тоской торжественности
воспоминания звучат слова:
Зачем поэту
Тревожить cepduß тяжкий сои?
Бесплодно память мучит он.
И что ж? какое дело свету?
Я всем чужой. Душа моя
Хранит ли образ незабвенный?
Любви блаженство знал ли я?
О прекрасном как предмете искусстпа...
185
...С кем поделюсь я вдохновеньем?
Одна бьиш... пред ней одной
Дышал я чистым упоеньем
Любви поэзии святой.
Там, там
Ах, мысль о той душе завялой
Могла бы юность оживить
И сны поэзии бывалой
Толпою снова возмутить!
Она одна бы разумела
Стихи неясные мои;
Одна бы в сердце пламенела
Лампадой чистою любви™*.
Так «чистое чувство» прекрасного и любви как
закономерное и своеобразное сознание «идеи единства и абсолютности
человеческого» здесь оказываются слитыми воедино.., — и все
уже лежит теперь в этом чистом, в этом изначальном чувстве,
и ничего решительно нет вне его. В этом верховном
направлении, или измерении, сознания, уже согласно принципу
Парменида, открывается или постигается поэтому не так или
иначе аспектированное бытие, но в универсальной
непосредственности своего абсолютного единства открываемое
целостное и нераздробленное бытие, именно потому, однако, и не
выразимое в ограниченности понятия, но лишь в
непосредственном, чистом чувстве идеи.
Сознание, взятое в аспекте мышления, отождествляется
с бытием, бытие же в непосредственности своей
универсальности и абсолютном единстве конкретного — с прекрасным.
Оттого, вероятно, так прекрасны и мир, и жизнь, несмотря на
все [плохое], — в их незаинтересованном чистом восприятии
открывается или дает себя, по крайней мере, восчувствовать
это чарующее единство и гармония конкретного.
Вот почему и про искусство можно и должно сказать, что оно
всегда было и навсегда останется единственным и подлинным
языком невыразимого и неисповедимого. Ведь всякое
выражение бытия в его подлинном единстве и абсолютности
неизбежно было бы его ограничением и потому от него отказом (Гете).
Но постижение прекрасного и искусства от него не
отказывается и его языком говорит нам о невыразимой, потому что
186
О прекрасном как предмете искусства...
абсолютной, сущности идеи человеческого, идеи его в нас
и нас в нем, в этом бытии, идеи.
Что касается далее собственно темы настоящего доклада,
находящейся со всем сказанным в непосредственной связи —
характеристики художественного творчества и основных черт
ему присущих, — то этой (второстепенной и подчиненной)
темы нашего рассмотрения мы коснемся здесь, в
заключительной его части, лишь настолько, насколько эта характеристика
будет служить лишь отражением и как бы отзвуком в сфере
субъективного восприятия и творчества прекрасного, самого
существа предмета прекрасного в том его смысле и обстоянии,
как оно было намечено в предшествующем изложении,
следовательно, отнюдь не с психологической, а единственно
только с философской точки зрения. Три момента, по нашему
убеждению, будут иметь здесь существеннейшее, все другие,
более второстепенные и детальные черты художественного
восприятия и творчества, себе подчиняющее, значение.
I. Если верно, что только из сокровенных глубин чистого
чувства и только для него могут брать свое начало и иметь
значение всякое постижение и воссоздание, созидание и
творчество прекрасного, а это значит ведь, в конце концов,
созидание и творчество прекрасного, понятые в объективном
смысле, — то это постижение и творчество всегда, тем самым,
будут интуитивными, и, будучи в этой своей интуитивной
природе направленными на постижение и воссоздание бытия
в его абсолютном единстве и нераздробленной целостности,
они, то есть это постижение и это творчество, именно потому,
то есть вследствие только направленности и только как бы
предвкушения этого, всегда вожделенного, искомого, но
никогда вполне не обретаемого, абсолютного единства, — всегда
будут носить на себе печать идеальности. Они будут,
следовательно, непосредственным постижением того, что как
абсолютное единство бытия только в аспекте будущего и, значит,
только как идея или, вернее, даже как идея, преднамечается,
и притом в своей предметной абсолютности опять-таки
только дугя чистого чувства как глубочайшего первоисточника
абсолютного, а в конце концов, значит, как и всякое созидание
и единство в человеческом сознании, становится постижимым
и как бы внятным. Другими словами, это интуитивное
постижение и творчество прекрасного есть постижение и
творчество прекрасного именно как идеи абсолютности человеческого,
О прекрасном как предмете искусства...
187
прямо или косвенно содержащейся в этой интуиции, в свою
очередь в чистом чувстве коренящейся и к нему только
обращенной, даже больше того — с этим чистым чувством
нераздельной и с ним, как постижением своеобразной
предметности абсолютного, в конце концов, совпадающей.
II. Так как это постижение и творчество чистым чувством
(чистого чувства) не только в своей проникновенности
интуитивно, но в своей предметности, как мы знаем, также
индивидуально, конкретно, а в известном смысле также фиктивно
и ирращюналъно, то способ приведения к сознанию и постав-
ления перед лицом чистого чувства предметности содержания
идеи абсолютности человеческого будет состоять и
осуществляться не в отвлеченно логической мыслимости и
рефлективности (рефлексии), но посредством того другого пути и
способа мысленного схватывания и построения, который можно
назвать (или, точнее, обыкновенно называют)
художественной фантазией и творческим воображением.
Ему только, то есть этому воображению и фантазии,
принадлежит своебразная и таинственная способность говорить
убедительным для чистого чувства языком образов: и
непосредственно напоминающих и выражающих (экспрессия
новейших теорий), и конкретно обобщающих (Гете, Пушкин),
и символически значимых, и непосредственно самой своей
природой и содержанием, как бы сказать, импрессионически
действующих (Гейне, Тютчев и их последователи).
Соответствующие аналогии в сфере других искусств указать было бы
легко, но здесь для всецело [нрзб — принятой?] нашей цели
не представляется необходимым.
[III] Этот язык образов фантазии и воображения, которым
чистое чувство пользуется и как бы заставляет его себе
служить, чтобы приблизить, усвоить и сделать себе бесконечно
и беззаветно дорогим содержание и смысл активно
постигаемой им, все равно прямо или косвенно, идеи абсолютности
человеческого и в его аспекте открывающейся абсолютности
единства конкретного бытия, или, что то же, прекрасного, —
этот язык есть язык постижения, воссоздания и творчества
прекрасного, в эстетическом сознании того, кто его постигает
и творит, прежде всего и преимущественно — язык
художественного гения, а затем косвенно также и язык всякого
произведения искусства, которое, как бы отделившись от своего
творца и зажив отдельной жизнью, чарует нас и зачаровывает нас
188
О прекрасном как предмете искусства...
потом неустанно своей речью, своей неумолкающей повестью
о вечном, бесконечно дорогом, горячо и часто даже нежно,
беззаветно любимом, — и это во всем том, что вокруг нас есть
преходящего, изменчивого, незначимого, суетного, мелочного,
греховного, безобразного, даже отвратительного, или, как еще
назвали бы мы, все то, в чем постижение прекрасного и
искусства призваны спасать и гарантировать ценное и вечное
непосредственностью своего обращения к чистому чувству и
действия на него с помощью рассудочно неисследимой игры
образов фантазии. В самом деле, не это ли все проникновенно
имел в виду и наш несравненный поэт, когда более или менее
безотчетно, то есть интуитивно, по нашей же
терминологии — гениально, он, характеризуя от своего лица существо
художественного творчества, говорил о том, как музу, или, что то
же, вдохновение, то есть непосредственное проникновение
интуиции, призывал он на пир воображения54*, чтобы на этом
пиру оно, это интуитивное проникновение, рассказало чистому
чувству, из которого само же оно и взяло свое начало, обо всем
дорогом и вечном, что в том, что мы назвали идеей
абсолютности человеческого, скрыто содержится и ее собой в каждом
новом вдохновении все полнее и дальше раскрывает:
А ты, младое вдохновенье,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь,
И наконец окаменеть..?**
Но чем же становится собственно художественное
творчество, когда происходит «из вдохновенья, не из платы*56*? Два
раза Пушкин ярко описал нам это в таких незабвенных словах:
Я видел вновь приюты скал
И темный кров уединенья,
1де я па пир воображенья,
Бывало, музу призывал.
Там слаще голос мой звучал;
Там доле яркие виденья,
С неизъяснимой красотой,
Вились, летали предо мной
О прекрасном как предмете искусства...
189
В часы ночного вдохновенья.
Все волновало нежный ум:
Цветущий луг, лупы блистаньс,
В часовне ветхой бури шум,
Старушки чудное преданье.
Какой-то демон обладал
Моими играми, досугом:
За мной повсюду он летал,
Мне звуки дивные шептал,
И тяжким пламенным недугом
Была полна моя глава;
В ней грезы чудные рождались;
В размере стройные стекались
Мои послушные слова
И звонкой рифмой замыкались*1*.
В другом месте он в некотором отношении даже еще
подробнее ff раечяененнее характеризует этот процесс своего
и всякого поэтического творчества:
Под сенью хаты скромной
В часы печали томной
Была ты предо мной
С лампадой и мечтой.
В минуты вдохновенья
К тебе я прибегал
На пир воображенья.
Тебя я посветил
Занятиям досуга
И с ленью примирил:
Otia твоя подруга.
... И под вечер, когда
Перо по книжке бродит,
Без всякого труда
Оно в тебе находит
Концы моих стихов
И верность выраженья;
То звуков или слов
Нежданное стечеиье,
То едкой шутки соль,
190
О прекрасном как предмете искусства...
То правды слог суровый,
То странность рифмы новой,
Неслыханной дотоль58*.
Но все это и многое еще другое, что воскресает и
расцветает в сознании творческого гения, при одном только, как мы
знаем, непременном условии бережной охраны и гарантии
чистого чувства, как единственного оплота и святого залога
этого творчества, может получить свою силу и значение, стать
выражением того горнего пути, поднимаясь по которому,
фантазия связывает и объединяет все свои постижения в
такое целое, чтобы при их посредстве приблизить прекрасное
и сделать его внятным чистому чувству. Как угодно
свободна и на что угодно, самое что ни на есть незначительное или
дурное, может быть направлена эта творческая фантазия,
но один предел имеет она, который не должна дерзать
перейти или им пренебречь, о нем забыть в своем вдохновенном
стремлении, — так, всегда должна она служить постижению
чистым чувством всего бесконечно богатого и разнообразного
содержания идеи абсолютности человеческого, чтобы про нее
всегда с гордостью можно было бы сказать, как про ту
чернильницу, которая послужила поэту ее идилически-юморис-
тическим внешним символом его вдохновения и творческой
фантазии:
Любовница свободы,
Ты с нею заодно
Прославила вино
И прелести природы
И смеху обрекла
Пустых любимцев моды
И речи, и дела.
С глупцов сорвав одежду,
Я весело клеймил
Зоила и невежду
Пятном своих чернил...
Но (и после этого знаменательного многоточия)
их не разводил
Ни тайной злости пеной,
Ни ядом клеветы.
И сердца простоты
О прекрасном как предмете искусства...
191
Ни лестью, пи изменой
Не зсмарала ты™*.
При соблюдении, как непременного условия, этой
простоты сердца, или чистоты чувства, для постижения и
творчества прекрасного все решительно становится приемлемым и
годным в качестве материала и средства, и ничего более для
него уже не запретно, не чуждо ни в действительности мира,
ни в жизни, — все согласуется между собой и служит одной
цели всепоглощающего стремления к восчувствованию мира
и жизни в их нераздельном единстве и целостности, к
постижению, следовательно, идеи абсолютности человеческого,
а в нем уже и в его аспекте — нераздробленного единства и
целостности всего вообще абсолютного бытия во всей его
полноте и жизненности. Прямая или косвенная направленность
того, что мы обозначаем термином первоначальное или
«чистое чувство», на абсолютное и вечное, есть поэтому в наших
глазах неотъемлемая черта всякого истинно художественного
постижения и творчества.
Многое отсюда становится для нас понятным также и в
более подробной его характеристике. Именно:
1 ) Прежде всего, надо всегда помнить, что в
противоположность творениям искусства, как и выражениям всякого
вообще непосредственного восприятия и постижения
прекрасного, всегда направленным на абсолютное и его стремящимся
восчувствовать и конкретно выразить, порождения и способы
выявления так называемого рассудочного, научного познания
неизбежно относительны, внутренне, то есть в себе самих,
резко очерчены, от всего другого отграничены и в этом смысле
конечны или, точнее, гипотетичны, но зато в этой своей
ограниченности и более надежны и, как бы сказать, прочны.
Напротив, в восприятии, постижении, в творческих путях
построения предмета прекрасного, как, следовательно, и в самих
произведениях искусства и предметах восприятия
прекрасного, нет ни этой надежности, ни точной фиксированное™,
в большей или меньшей мере всегда присущих и путям, и
достижениям научного познания. Ведь тогда как продукты
научного познания как таковые есть всегда порождение
мышления и, именно потому и постольку, — выражение того, что
принято понимать как бытие объективное, — здесь, в области
постижения и творчества прекрасного, все им достигаемые
192
О прекрасном как 1федмете искусства«..
предметы и все его создания, то есть и произведения
искусства, и просто художественные восприятия, возникают и
получают силу и жизнь только в субъективности чувства. 2)
Отсюда глубоко проникающая и в себе самой проникновенная
субъективность всякого постижения и творчества
прекрасного. 3) Отсюда и всегда, прямо или нет, присуще искусству и
самому процессу художественного творчества характер
антиципирующего восчувствования последней безусловной цели
мира и жизни, для всего человечества общей и единой, но для
рассудочного познания недостижимой и в его понятиях, как
мы знаем, невыразимой.
Es reden und träumen die Menschen viel
Von bessern künftigen Tagen,
Nach einem glücklichen, goldenen Ziel
Sieht man sie rennen und jagen.
Die Welt wird alt und wird mederjunfr
Doch der Mensch hojjt immer Verbesserung.
Es ist kein leerer, schmeichelnder Wahn,
Erzeugt im Gehirne des Toren,
Im Herzen kündet es laut sich an:
Zu was Besserm sind wir geboren.
Und was die innere Stimme spricht,
Das täuscht die hoffende Seele nicht*0*·
4) Отсюда, наконец, постоянная, прямая или
символическая, но всегда своеобразно-иррациональная речь искусства об
этой последней цели или, по крайней мере, намек на нее, как
равно и (5) интернациональный характер искусства, и его
совсем особенная, то есть также лишь глубоко субъективная,
общезначимость.
6) Словом, субъективность, понятая как
первоначальность, непосредственность и, именно потому, безусловность
самополагания и самораскрытия — такова одна из основных
черт и в то же время одна из неисповедимых тайн всякого
истинного художественного восприятия творчества, как равно
и могущество действия их на наше сознание. И если нельзя не
признать этой субъективности за всяким истинно
художественным восприятием и творчеством прекрасного, то нельзя
забывать, а надо, напротив, всегда иметь в виду также и то, что
О прекрасном как предмете искусства...
193
там, где, как в этой области, речь идет о проникновении в
самую сокровенную глубину жизни нашего духа или, если угодно,
всего нашего существа и о восчувствовании в аспекте его един-
ства-неразделъности и единства всего содержания мира
и жизни, что в сфере этого проникновения только
глубочайшая субъективность будет открывать собою путь также и в
последние глубины так только могущего быть в существе своем
постигнутого или хотя бы преднамечаемого предмета или
объекта.
Сама эта, столь на первый взгляд отпугивающая
субъективность становится поэтому здесь подлинной своей
предметностью, приобретая в чистом чувстве объективность своего
смысла и первоисточник своих творческих выражений и
конкретных воплощений в осязаемом, видимом, слышимом в, так
или иначе, вообще постигаемом содержании прекрасного.
Глубоко онтологическая печать накладывается, таким образом,
в наших глазах на всякое постижение прекрасного, на все
порождения эстетического сознания, на него самого, на это
сознание в его подлинной природе и всеобъемлющем значении
для философского знания в его целом — с тем единственным
только ограничением, что методологически и здесь, в сфере
чистого чувства, как и в области познания научного и
нравственного, пути к бытию всегда идут от того или иного аспекта
или направления сознания, а отнюдь не наоборот и что эти
пути суть пути его созидания и творческого построения, а никак
не принятие чего-либо готового или хотя бы только сознанию
могущего быть как-либо данным и только извне постигнутым.
И здесь, в области эстетического восприятия и творчества,
принцип порождения (Erzeugung) и первоисточника (αρχή,
Ursprung) остается для нас поэтому отправным и
руководящим в противоположность принципу схватывания (Erfassen)
и признания за отправное «какого-то трансцендентного»
(ούτως" ου), то есть сущего в себе и как такового.
Словом, и здесь, в области искусства и художественного
творчества, в сфере постижения существа «эстетического
вообще», основной трансцендентальный принцип критической
философии продолжает сохранять для нас свое определяющее
значение путеводной звезды и в понимании искусства и его
творчества светить нам своим немеркнущим светом.
Из той же направленности чистого чувства на абсолютное
и вечное в бесконечности их единства, то есть в идее, стано-
194
О прекрасном как предмете искусства...
вится для нас понятным также и родство искусства, как и
художественного творчества, с религиозной символикой, с
одной стороны, и их противоположность, и даже как бы
некоторого рода атеистичность основной тенденции искусства и
художественного творчества, с другой.
В самом деле, ведь в силу первоначальности и
непосредственности чистого чувства, помогающего себе и действующего
посредством всегда конкретных образов фантазии, и его
обнаружения, то есть восприятия, постижения, процессы и самые
продукты творческого созидания, то есть самые произведения
искусства, никогда собственно не представляют собою и не
есть, в точном смысле этого слова, символы, а следовательно,
они не суть также и религиозные символы.
Б. Фохпи
1 апреля 1924 г.,
Москва
О постановке основной проблемы
эстетики у Канта и Когена
в связи с критикой основных
понятий и принципов,
примененных Кантом
к ее решению
Читан в философской секции Российской академии
художественных наук 13/17 июня2* 1924 г. в ознаменование 200-летия
со дня рождения К Канта.
Постановка основной проблемы эстетики у Канта может
быть понята, только исходя из самого существа его
трансцендентального метода, принцип коего состоит в том, что
некоторые понятия и основоположения как мысленные
принятия или гипотезы (платоновские идеи) полагаются в
основание решения тех или иных, в самом познании возникающих,
проблем, и, таким образом, условия возможности
предметного познания (или, что, по Канту, то же, опыта) вообще
становятся условиями самих предметов научного познания или
опыта в той или иной из областей его применения: «мы
только то a priori познаем о вещах, что мы сами в них
вкладываем»3*, то есть полагаем в основание их познания, и в нем —
[условиями] самой их возможности. Систематическая дача
(себе) отчета об этих основных полаганиях во всех сферах
проблем научного и философского познания составляет
подлинный дух и смысл трансцендентального метода,
одинаково необходимого как для решения проблем теоретического
знания природы, так в не меньшей мере и для решения
проблем этики и эстетики, даже всех вообще проблем
человеческой культуры**.
ЧАСТЫ
Герман Коген5*
(Сходство и различие в постановке
основной проблемы философской
эстетики у Канта и Когена)
Что понятия как гипотезы (то есть как основополагания,
или, точнее, как полагания некоторых мысленных принятий
в основу разрешения тех или иных проблем, когда они, то есть
эти гипотезы по их проверке или оправдании на самом деле
познания, становятся основоположениями, то есть условиями
возможности самого предмета познания, понятого как
выражение разрешенное™, хотя бы и не окончательной, раньше
поставленной проблемы), что [также] эти
«понятия-гипотезы» или, как их Платон назвал, идеи в их
противоположности, или, что то же, априорности, для познания и в их
применении к созданию и построению предмета познания, или, что
то же, ихтрансцендентальности в собственном смысле слова,
что эти «понятия-гипотезы-идеи» составляют принцип и
самое существо трансцендентального метода философского
исследования и познания как у самого Канта, так, в еще
большей мере и в более ясно выраженной форме, также у всех
почти представителей современного неокантианства всех
направлений, — в этом едва ли можно сомневаться. И дальнейшее
различие в понимании этих «понятий-гипотез-идей», с одной
стороны, как законов устойчивых, хотя и способных к
развитию, обстояний некоторых основных отношений познания
(марбургская школа), с другой стороны, как норм, понятых
в смысле принципов обсуждения и оценки (виндельбандо-
риккертовская школа), уже не имеет столь краеугольного
значения, чтобы за этим, хотя во многих отношениях и важным,
различением упустить из виду и оставить без достаточного
внимания выше указанную основную руководящую мысль
трансцендентального метода как такового.
Поэтому если мы, согласно ставимой нами здесь себе более
узкой задаче, захотели бы выяснить по мере сил, как
философские воззрения Канта, хотя бы пока и в пределах только
198 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когеиа...
более тесной области постановки и решения им основных
проблем философской эстетики, преломились и видоизменились
по своему содержанию и форме в эстетических теориях
представителей современного неокантианства, то для этого нам,
прежде всего, необходимо к самой постановке основной
эстетической проблемы подойти и ее попытаться сформулировать
с точки зрения самого принципа, только что по существу
своему охарактеризованного нами, трансцендентального метода
Канта и его последователей и продолжателей вплоть до наших
дней, так как ведь иначе, то есть при несоблюдении этого
условия, наше исследование постановки основной проблемы
эстетики Канта, как и критика его основных эстетических
воззрений и принципов, тотчас перестали бы быть
имманентными и далеко вывели бы нас за пределы темы нашего
исследования. И если в настоящем нашем докладе мы опираемся
главным образом на те исследования и отдельные замечания,
которые критике основных принципов эстетики Канта
посвятил Герман Коген, то мы делаем это не вследствие нашей
принадлежности к школе, которой мы не скрываем, и чем,
наоборот, мы не перестаем гордиться, но в данном случае
единственно потому только, что критика эстетики Канта
сравнительно с представителями всех других направлений
неокантианства получила именно у Когенай* наиболее принципиальное
выражение, наиболее общую и типическую форму, в
известной мере включающую в себе все те, в большинстве своем
лишь разрозненные критические замечания, которые по
поводу эстетических воззрений Канта были делаемы
представителями других направлений современной философии,
насколько она все еще продолжает и развивается под более или менее
прямым и ярко выраженным влиянием основных начал и
учения кантовской системы. Только, следовательно, в целях
практического удобства и более легкой обозримости основных
положений настоящего доклада, а не для того, чтобы,
воспользовавшись удобным поводом, дать здесь раздаться голосу еще
одного «von den bösen Marburger»7*, как теперь полушутливо
принято нас именовать, — только в этих практических видах,
а также* чтобы не создавать впечатления претензии на
большую оригинальность, чем на какую на самом деле имеешь
право, — вот только почему нижеследующая попытка
сформулировать постановку основной проблемы эстетики Канта
и дать критику ее решения как в отношении основного смыс-
Часть!
199
ла ее, так и со стороны применения к этому решению
основных понятий и принципов, со всей силой впервые выдвинутых
Кантом, ставится нами в связь и даже поставляется в
некоторую зависимость от фундаментальных исследований Когена
в этой области. Как бы ни соблазнительно было писать так
называемые «исследовательские работы» и пролагать новые
пути более углубленного и самостоятельного понимания Канта,
особенно делать героические попытки узнать, как
исторический Кант сам подлинно думал по тому или иному вопросу, —
все же не следует, кажется, забывать, что философия ищет
истины, а не оригинальности, и поэтому не должна в целях
эмансипации нас от мнимого гнета кантовских воззрений и
принципов, освежения и оздоровления атмосферы философских
изысканий, оставления за собой, особенно у нас, так
называемых превзойденных точек зрения, во что бы то ни стало
стремиться ниспровергнуть Канта и противопоставить
непременно «свои воззрения» результатам многолетних изысканий тех,
кто на почве и в результате беспощадной критики
создававшегося частичного признания основных принципов Канта —
недоговоренных, но плодотворных, у него самого не достаточно
развитых и чистых, но неизменно жизненных, — пытался
воздвигнуть, здание собственных учений и систем, ничем, по
существу, не связанных и не от чего не зависимых, в частности,
кроме принципиального следования единому, всегда себе и
искомой истине верному, компасу метода критической
философии, указующему великую и единую магистраль всемирно
исторического развития философии и науки.
Чтобы после этих предварительных и разъясняющих нашу
позицию замечаний подойти теперь к постановке основной
эстетической проблемы, прежде всего, у самого Канта, иметь
возможность выяснить ее преимущества и недостатки, а также
наметить основные черты и направление, в котором должна
пойти критика основных понятий и принципов его эстетики — для
этого, прежде всего, необходимо, следуя трансцендентальному
методу всей философии Канта, найти и для основной
проблемы эстетики, как сказано, подлинный трансцендентальный
смысл ее постановки. А для этого, в свою очередь,
необходимо, хотя бы в самых кратких чертах, напомнить и наметить
здесь трансцендентальный смысл постановки двух других
проблем философии, в неразрывном соотношении и связи между
собой последовательно и непрерывно приводящих к постанов-
200 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена.:.
ке основных проблем философской эстетики. Мы говорим,
разумеется, во-первых, о трансцендентальном смысле поставки
основной проблемы теоретического познания, во-вторых, о
таковом же смысле постановки основной проблемы познания
нравственного или, точнее, о нравственном в отличие от
познания природы, то есть о проблеме этики.
Только по линии последовательного перехода от двух
первых проблем к третьей станет нам понятным подлинный
философский смысл и этой последней, то есть основной,
проблемы философской эстетики Канта и его последователей.
В чем же — так должны мы спросить теперь, прежде
всего, — основной трансцендентальный смысл первой из этих
проблем, то есть проблемы теоретического познания бытия,
предметов, природы, вещей или как еще будет кому-либо
угодно обозначить относящиеся сюда проблемы философского
исследования истины? Попытка дачи систематического
отчета о бытии через посредство мышления и в нем самом для
обоснования именно таким образом и на этом пути познания
бытия — такова, по нашему убеждению, первоначальная, уже
у Платона со всей силой и остротой выраженная тенденция,
преднамечающая основной трансцендентальный смысл
постановки проблемы теоретического познания.
В своих учениях об обосновании субстанции в идее,
полагающей для нее, то есть для самого бытия субстанции,
основание (Декарт), — в этой идее первоначального полагания
основания бытия мышлением, в этом, как впоследствии Лейбниц
выразился, «престабилировании»8* оба названные мыслителя
только с большей силой подчеркнули и выявили все ту же
основную тенденцию: полагания основания бытия и дачи отче-
та о нем в мышлении и через мышление. Особенно Лейбниц
в своем учении о «вечных истинах» близко подошел и
глубоко усвоил себе подлинный дух и смысл платоновского учения
о первоначальности, то есть априорности, основных
элементов и принципов познания бытия. На этой платоновской
тенденции решительного признания априорности и стал за1*ем,
как известно, со всей решительностью настаивать Кант,
всячески отгораживая и защищая ее от другой на первый взгляд,
казалось бы, родственной, но на самом деле затемняющей
и искажающей efe тенденции, взявшей свое нечаянное начало
от Аристотеля, но не успевшей вполне исчезнуть даже у
Лейбница, — именно той, которая помянутое «полагание в основа-
Часть I
201
ние бытия и дачу отчета о нем в мышлении» стала понимать
и истолковывать в смысле предшествования и
предварительного имения (προ νπάρχειν), чем первоначальный смысл
априорности был ослаблен, и в него была внесена пагубная
двусмысленность. Все средневековье несло на себе печать
роковой для критического обоснованного познания
двусмысленности термина «a priori». Отсюда-то и становится
понятным и знаменательным, что Кант уже не удовлетворяется
более этим термином, с которым Лейбниц оперировал по
преимуществу и с полным к нему, как фундирующему
условию возможности обоснования достоверности предметного
познания, доверием. Но теперь только впервые становится
ясным кардинальное для всего последующего развития
философии значение того, другого, нового или, точнее сказать,
по смыслу своему обновленного Кантом термина, которое он
делает девизом всего своего философствования, всей
реформирующей тенденции своих исследований — термина
«трансцендентальный». И если бы оказалось нужным, так сказать,
в упор поставить здесь вопрос: чем же, собственно, в
последнем счете и основании понятие трансцендентального
отличается от, по традиции переданного и с указанной
двусмысленностью усвоенного, понятия априорного, то на этот вопрос
следовало бы без всяких колебаний и с полной ясностью
ответить: да не в чем ином, как в том, что уже Платон обозначил
термином 'νπόφεσις- и что мы переводим здесь словами «по-
лагание в основание»9*.
В этом уже у Платона ясно выраженном понимании его
«идеи» не только как «вечного», вечно сущего, и не только как
истинного, истинно сущего, но именно как гипотезы, как
мысленного полагаиия в основание, и заключается как раз вся
полнота и вся зрелость смысла этого над всем философским
познанием вплоть до наших дней господствующего и его собой
определяющего термина идея. Даже термин «закона» не был
бы вполне адекватным выражением для всей полноты и
глубины того, что в идее подразумевается как первоначальный
смысл не только всякого истинного бытия, но и всякой его
закономерности, — [как смысл] ее, этой закономерности, в ней
самой и как таковой в ее подлинном первоисточнике, и что
обозначается, как раз у Платона уже, этим простым и по
своему смыслу точным и бесспорным термином гипотезы,
ставшим в значении «мысленного принятия» и «полагания в ос-
261 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена.
нование» подлинным принципом всякой методики научного
исследования с Платона по сие время, истинным
средоточием и центром тяжести и «чистого разума» Канта в его
«Критиках» и «чистого мышления» Когена в его «Логике чистого
познания» и за ней последовавших «Этике чистой воли»
и «Эстетике чистого чувства»10*. G давних пор, искони,
следовательно, подготовлялось это определяющее значение
термина гипотезы не только в смысле просто первоначального в
познании, то есть априорного, но и в том, другом,
методологически более глубоком и точном смысле, который Кант впервые
придал термину «трансцендентальный». С разных сторон
подготавливался этот, до «трансцендентального», в кантовском
смысле, постепенно развившийся, смысл Платоном впервые
выдвинутого термина «идеи как гипотезы»11*. Как писаные
законы нуждаются в неписаных как в своем первоисточнике, как
в том первоначальном, в чем они фиксированы, так
развившееся научное познание, науки нуждались и требовали для
себя обоснования, то есть «полагания в основание» в каждом
данном случае того, что в качестве первоначального, в
качестве коренных условий, ему самому (то есть научному
познанию) необходимо присущих, могло служить гарантией его
достоверности, силы и значимости раскрывающих его
содержание утверждений. Равным образом и пробудившаяся в начале
нового времени психологическая рефлексия также нуждалась
в понятии первоначального как того, что она со своей точки
зрения противопоставляла принципу генетического развития
состояний души или, позднее, сознания. Так возник термин
первоначального как прирожденного, скрещивающийся с
термином первоначального в познании, то есть собственно
априорного, и его собою затуманивающий* Упомянутая уже у
Аристотеля, в термине «προυπάρχειν» сосредоточенная
двусмысленность того, что идеей, в смысле гипотезы понятой, обозначалось
как первоначальное, прежде всего, в самом познании, — эта
двусмысленность теперь, таким образом, еще увеличилась: но
самый смысл требования первоначального (априорного) в
познании и для него, все же сохранился и лишь нуждался в
более точном определении и отграничении. Все с большей силой
выдвигалась на первый план проблема о том, следует ли
«первоначальное» понимать через прирожденное, или, наоборот,
само это прирожденное — через первоначальное, или иначе:
в душе или сознании имеется первоначальное как прирожден-
Часть 1
203-
ное, или, напротив, само первоначальное есть то, что
составляет существо души или сознания, так что в первоначальном
сосредоточивается собственно смысл прирожденного и уже
в прирожденном — смысл души или создание. Или еще
иначе: через душу или сознание с прирожденным им и в них
должно быть понимаемо первоначальное в познании, или как раз,
наоборот, через первоначальное и вечное в позцашш — душа
и сознание с их прирожденным? До такой остроты, до такой
универсальности развилась эта проблема первоначального,
априорного, его смысла и искомого подлинного значения его
как трансцендентального, как «полагания в основание» в
мысли, в чистом мышлении, из которого следует, получается
и проистекает обосновываемое, когда, наконец, Кант
одновременно с чересчур поспешным, правда, но в указанном
историческом контексте понятным отрицанием психологии как
строгой науки (провозглашением ее простой географией
человеческого духа — в предисловии ко 2-му изданию «Критики
чистого разума»12*) нашел и установил точное и
недвусмысленное выражение для того, что составляло подлинную
проблему понимания первоначального, уже в платоновской «идее-
гипотезе» намеченного как «полагание в основание», в
известной своей лапидарной формулировке, что «мы только то
a priori познаем о вещах, что мы сами в них вкладываем»,
то есть полагаем в основание их познания, и в нем — [в
основание] самой их возможности. Поэтому все, что только может
иметь для К^нта значение априорного, должно в отношении
каждой данной проблемы иметь значение полагаемого и
положенного в основание, а это и есть искомое значение
априорного как трансцендентального, в кантовском, разумеется,
смысле понятого и весь смысл проблемы обоснования
теоретического познания в себе заключающего, согласно основной идее
и самому принципу того метода, по которому он пошел и
направил философию и который мы с первых же строк
настоящего доклада охарактеризовали как трансцендентальный.
Когда, таким образом, термином «трансцендентальный»,
в кантовском смысле понятом, допущение простого факта
первоначального основания, или, как бы сказать, нахождения,
лежания чего-то в основании, было заменено некоторого
рода динамическим смыслом «полагания некоторого основания*
для решения той или иной подлежащей исследованию
проблемы познания — тогда-то стал понятным и получил свой под-
204 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
линный методологический смысл и столь великие и пагубные
недоразумения так долго порождавший термин «мы сами»ул\
В только что приведенной окончательной формулировке
Кантом основной проблемы теоретического познания, как и
тесно связанного с ней точного смысла термина
«трансцендентальный», понятие, выраженное словами «мы сами», впервые
теряет, наконец, свою роковую двусмысленность, делаЕшую
вместе [с тем] и в известной зависимости от уже выше
разъясненной двусмысленности термина «априорного» до сих пор
(то есть до установления подлинного смысла этого, в словах
«мы сами» выражаемого Кантом, понятия) невозможным
возникновение трансцендентального метода и философского
учения о чистом познании.
Только теперь, когда смысл термина «мы сами» получил,
наконец, это свое подлинное трансцендентальное значение,
впервые был пролит ясный свет и на всю вообще
терминологию Канта, теперь только стало ясным, что эти безобидные
слова «мы сами» на деле выражают глубочайший смысл и
самый сокровенный центр всей терминологии, даже всей
вообще философии Канта. Как последний принцип и условие
возможности всех вообще «полаганий в основание» предстал
теперь вниманию представителей зарождавшейся новой
критической философии этот много оспаривавшийся кантов-
ский термин, это его «мы сами», это трансцендентальное
единство апперцепции, в двойном смысле «единства сознания»
и «единства синтетических основоположений» понятое.
Но только последнее из этих значений выражало собой до
конца доведенное радикальное значение «идеи как гипотезы»
того «полагания в основание», беглый очерк истории
развития которого в самых общих, правда, только чертах мы
пытались наметить здесь для выяснения подлинного смысла
подстановки и преднамечениого им направления решения
основной проблемы теоретического познания.
Итак, «идея как гипотеза», основание как «полагание в
основание» в своей первоначальности и в своем единстве («мы
сами»), самое сознание и его единство обусловливающее и тем
делающее возможным и обосновывающее собой также и
единство предметного познания — вот в чем видим мы подлинный
и все последующее, то есть постановку и других проблем
трансцендентальной философии, собою предиамечающий смысл
постановки основной проблемы теоретического познания.
Часть!
205
Из этих других проблем на первой очереди стоит теперь для
нас формулировка проблемы этической. Какова же должна
быть в трансцендентальном смысле и систематической связи
понятая постановка этой проблемы? Да и может ли эта
проблема быть вообще поставлена и возникнуть всецело из
чистого разума, и на его же путях и его силами быть и решена так
же, как и проблема чистого теоретического познания? Будут
ли для применения трансцендентального метода и здесь
найдены также требуемые условия и понятия, опираясь на
которые, как на некоторые, чистой мыслью делаемые полапшия,
можно было бы по способу и аналогии с предметным
познанием из чистого разума обосновать и построить
соответствующее познание также и из чистого практического разума,
то есть наряду и в систематической связи с возможностью
обоснования и установления закономерности чистого
познания природы, обосновать и установить такую закономерность
также и для воли, или, как на своем языке выразился Коген,
в систематической связи с закономерностью чистого
познания обосновать также и закономерность чистой воли?
Известно, что уже Кант считал эту проблему разрешимой
и после некоторых колебаний всецело и решительно стал на
путь трансцендентального обоснования особого рода
предметности познания также и из чистого практического разума,
хотя применение трансцендентального метода и испытало,
правда, здесь у него известное послабление за отсутствием на
первый взгляд аналогичного природе и науке о природе твердого
отправного опорного пункта для приложения
трансцендентального анализа к открытию условий возможности
предметного познания о нравственном и тем самым также условий
возможности самих предметов такого познания, такого, как бы
сказать, нравственного опыта, в человеческих поступках и их
закономерной связи между собой состоящего. Ясная
проблема познания и установки особой, совсем притом своеобразной
закономерности, богатой раскрывающимся в ней
содержанием, сохранилась, однако, как сейчас увидим, во всем своем
значении и в своем решении привела к важным результатам
также и здесь, в этой новой области познания из чистого, но
теперь уже практического разума.
В самом деле, из «Критики чистого разума» мы знаем, что
трансцендентальная логика, в истории философской мысли
там впервые изложенная, дает нам в качестве основных, чисто
206 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
мысленных принятий, сперва лишь в качестве
проблематических, открываемых и принимаемых нами, и только
впоследствии трансцендентально доказываемых оснований целый ряд
понятий и основоположений, по своей предметной ценности
имеющих первостепенную важность для решения проблемы
познания природы. Так, прежде всего, пространство и время,
а затем также и основоположения субстанции и причинности
выступают в роли таких основных мысленных полаганий или
принятий и получают непосредственное значение для решения
проблем бытия, понятого в смысле природы и истины или
науки о ней. Но не только сами эти синтетические
основоположения у Канта, а также и распространение их на область
безусловного как предмета (если не объективно оправдываемого
и экспериментально предрешаемого, то, по крайней мере)
систематически мыслимого единства природы, то есть те синте-
зирующе-регулятивиые принципы познания, которые Кант
обозначил своим термином «идеи», — и они также, в не
меньшей, чем синтетические основоположения, мере, хотя и по-
иному, получают у него предметное отношение и значимость
для решения проблемы естественнонаучного познания и не
только притом в более тесной области математического
естествознания, но благодаря тому, что все эти идеи во всем их
многообразии объединяются в идее цели, — так же и в биологии
для основной в ней проблемы организма, прежде всего
нуждающейся в значении идеи, как цели. И как раз именно идея как
цель, как принцип цели с особенной убедительностью делает
ясным и не оставляет никакого сомнения в том, что то, о чем
у нас здесь идет речь, как о полаганий в основание, то есть все
эти основные понятия (категории), основоположения и идеи,
особенно же и прежде всего идея цели, суть только логические
правила и определяющие принципы, а отнюдь не какая-либо
сама в себе объективно сущая основа, имманентная вещам и на
них и в них получающая свое осуществление и свое
оправдание. И если теперь мы примем во внимание, что именно идея
цели является определяющим принципом также и для самой
возможности того, что мы называем поступками, и связь чего,
то есть этих поступков, мы только и понимаем как
человеческую деятельность, составляющую единственный предмет
познания о нравственном, — то всем сказанным возможность
трансцендентальной постановки и решения проблем не
только философского познания природы и науки о природе,
Часть I
207
но и проблемы этики окажется достаточно подготовленной
и принципиально обоснованной.
Теперь несомненным становится для нас, что
методологический смысл того, что мы с самого начала, следуя
руководящему указанию платоновской υπόφεοίς*, поняли в смысле
«основного мысленного полагания или принятия» в целях и для
применения и оправдания его на самом деле предметного
познания, — что этот основной платоноЬо-кантовский принцип
по систематически обоснованной выше аналогии его с
проблемой обоснования познания природы не может не сохранить
всей силы своего значения также и для проблемы этики и ее
решения. В самом деле, ведь и здесь, то есть в этике, речь, во-
перйых, может и должна идти об особого рода
закономерности познания, направляемого принципом цели; во-вторь*х —
о свободе как природе и смйсле этой закономерности; и,
в-третьих, наконец — о самом человеке как ее, этой
закономерности, подлинном содержании и предмете. И именно эти
мысленные основоположения, эти понятия целевой закономерности,
свободы, самого человека и, наконец, как руководящие
мысли и составляют ведь б своей внутренней систематической
связи и единстве между собой единственный принцип и
познания, и самой возможности нравственного. Или, быть
может и чего доброго, как, следуя платоновскому Сократу в «Фе-
доне», заострейно вы]5ажает эту проблему Коген, свобода
человека и в самом деле заключается и коренится в членах его
тела, а не является только направляющей мыслью,
регулирующей движения человека и то применение, которое он
делает из своих жил и мускулов, чтобы простое движение своих
органов превратить, таким образом, в поступки?1** Стоит
только дать себе отчет в принципиальной остроте и
радикальности так поставленной и в такой только форме единственно
возможной постановке проблемы этики, чтобы уже не
оставалось сомнения, что в указанных понятиях целевой
закономерности свободы и поступка сам человек, само понятие о нем
становится тем основополаганием, той гипотезой, той идеей,
наконец, которая как идея человека одна только и может
служить принципом возможной этики, если таковая вообще
возможна. И здесь, как и в «Критике чистого разума», как и при
обосновании теоретического познания природы, понятия,
следовательно, становятся основополаганиями, обозначиваю-
щими и раскрывающими содержание и смысл здесь искомой
268 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена.,.
этической закономерности. Трансцендентальная этика
возможна также как трансцендентальная логика.
И только теперь оказываемся мы поставленными лицом
к лицу, наконец, и к нашей основной, собственный предмет
нашего исследования составляющей, проблеме — проблеме
эстетики как обоснования еще особого рода и совсем новой
закономерности, новую υπόφεσις", новое мысленное «полагание
в основание», новую идею, если угодно, для себя
предлагающей как принципиальное условие своей возможности. Или
чтобы, согласно нашей теме, остаться пока в пределах смысла
собственно кантовской постановки этой проблемы: что же
есть, так можно спросить здесь, такие понятия, такие
синтетические основоположения или хотя бы только идеи, которые
бы могли служить надежными принципами обоснования
искомой нами здесь эстетики как особой философской
дисциплины и самостоятельной, хотя с двумя другими выше
указанными и связанной неразрывно части философской системы?
Если вся острота нашей проблемы сводится, таким
образом, к доказательству возможности и необходимости нашей
эстетики как неотъемлемой части философской системы,
то нашей первой задачей является здесь выяснение и
обоснование того, в каком смысле проблема эстетики может быть
сформулирована так, чтобы ее, если так позволено
выразиться, философская самостоятельность была обеспечена на
основании ее систематического характера, то есть
принадлежности к единой в себе философской системе. Если
самостоятельность двух первых частей философской системы, то есть
не только (как это на первый взгляд могло бы показаться
действительно необходимым вследствие кажущегося родства
проблем, особенно проблемы оценки в познании природы
и нравственности) самостоятельность трансцендентальной
этики, но, как увидим, в не меньшей мере также и
трансцендентальной логики должна быть гарантирована по
отношению к имеющей быть обоснованной также в смысле
трансцендентальной дисциплины философской эстетики, — если
такое исследование в самом деле правомерно и необходимо,
то мы тем самым оказываемся поставленными перёд
следующим принципиальным вопросом: как при условии признания
обоснованности требования эстетики на самостоятельное
значение в единстве философского познания это требование
может быть подвинуто к его методическому, в данном случае
Часть!
209
трансцендентальному удовлетворению? Или, другими
словами, каковы будут условия, соответствующие единству
философской системы, для построения эстетики как ее
интегральной составной части?
Чтобы подойти к решению этой основной проблемы,
необходимо, прежде всего, дать себе ясный отчет в том, что
трансцендентальная философия, согласно основному принципу ее
метода, во всех своих, ее как систему составляющих частях
обусловлена и обоснована, по Канту, в понятии
закономерности: не в понятии закона^ тех или иных законов, а именно и
исключительно только в понятии закономерности в ее чистом,
принципиальном значении и смысле;
Отдельные законы могут быть случайными,
традиционными, но даже тогда, когда этого и нет, они всегда все-таки
предполагают для себя некоторую высшую инстанцию, в
отношении к которой и в зависимости от которой, как от своего
первоисточника и принципа, они только и получают свое
значение и из которого [то есть из первоисточника. — НМ-]
только и черпают свою силу. И даже в области чистого
научного мышления и познания, всякий, хотя бы и весьма общий
закон, например, причинности, как прямое выражение его,
то есть познания, основной функции, все-таки всегда
сохраняет на себе печать некоторой относительности, своего
неустранимого отношения к первоисточнику всякой
закономерности. Так субстанция и причинность суть, по Канту, только
категории отношения, то есть выражения смысла некоторых
специальных видов суждений отношения или, точнее, постав-
ления в отношение — основного и первоначального суждения
функции, функционального отношения и связывания. Не о
законе, а о закономерности чистого мышления и познания идет,
следовательно, речь всегда, когда мы говорим или имеем в
виду это основное и первоначальное суждение
функционального отношения и связывания. В своей последней инстанции,
то есть в своей принципиальной первоначальности и чистоте,
эта закономерность выражается, как известно, у Канта
термином трансцендентального единства апперцепции, но только не
в смысле единства сознания, а в значении принципа всех
синтетических основоположений понятого. На своем, от всех
остатков психологизма освобожденном языке выражает эту
основную мысль, этот верховный принцип всей
трансцендентальной философии также и Коген, когда он определенно
210 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когеиа...
подчеркивает, что именно через более общее, чем закон,
понятие функции суждение закона (Urteil des Gesetzes)
превращается в суждение закономерности самого закона (Urteil der
Gesetzlichkeit des Gesetzes)1**.
Но как бы там ни было, и чьей бы терминологии — кантов-
ской или когеиовской — мы здесь не придерживались, одно,
во всяком случае, остается несомненным, что и «Критика
чистого разума», и «Логика чистого познания» — каждая
по-своему и в разной, конечно, степени, соответственно
продвинувшимся вперед успехам научного познания — по своему
основному замыслу стремятся к тому, чтобы в понятиях и методах
математического естествознания открыть и обосновать его (то
есть этого познания) последние основания в качестве
принципов (синтетических основоположений) чистого разума у
Канта или основных полаганий (Grundlagen weil Grundlegungen)
чистого познания у Когена. В полной, затем систематической
аналогии с этим должна и может трансцендентальная
философия применить свой основной метод открытия и обоснования
принципов из чистого разума или чистого познания также
и к проблемам этики. И если мы встречаемся здесь,
разумеется, с известным различием тех и других оснований, как
различием принципов теоретического познания природы, с одной
стороны, и практическим или нравственным познанием
последней цели и ей соответственной закономерности человеческой
деятельности — с другой, то не надо упускать из виду, что это
различие не есть ведь различие по существу, то есть в
отношении чистоты искомых принципов и метода их применения к
соответствующим и разным, конечно, в том и другом случае
предметам познания, а единственно только — различие самих этих
предметов как объектов математического естествознания, с
одной стороны, и объектов всей области наук о духе, то есть,
прежде всего, истории как науки о закономерности человеческой
деятельности, с включением сюда экономики и права, — с
другой16*. И «Критика практического разума» Канта, и «Этика
чистой воли» Когена одинаково должны были поэтому
стремиться, по самому существу и смыслу трансцендентального метода,
к систематическому перенесению и применению выше
развитого основного понятия закономерности как верховного
принципа трансцендентальной философии вообще с проблем
познания природы, то есть логики, на предмет познания
человеческой деятельности, то есть этики. В силу общего принципа
Часть I
211
закономерности неизбежно, прежде всего, этика должна была
получить значение уже у Канта, тем более у Когена, особого
рода логики, стать как бы ее продолжением в новую область
познания и ей соответствующих новых проблем, ожидающих от
применения трансцендентального метода своего единственно
возможного решения. И если Кант в этом отношении еще не
в полной и не в должной мере был в состоянии раскрыть перед
нами смысл и значение этики как своего рода
трансцендентальной логики истории и всех вообще наук о духе, с ней
связанных, то только потому, что эта область знания еще не могла быть
в его время с достаточным основанием поставлена в
методологическую параллель и аналогию с математическим
естествознанием, хотя разработка проблемы права уже у Канта пролагала
к этому путь и предиамечала то дальнейшее развитие
систематического решения проблем трансцендентальной философии
в новых, сравнительно с наукой о природе, областях
человеческого познания и культуры, которое обосновать не только в его
принципиальной возможности — как это уже было сделано
Кантом в «Критике чистого разума», «Метафизике нравов»
и к ним примыкающих сочинениях, трактующих проблемы
истории и права, — но и в его осуществимости составляло
основную задачу Когена в «Этике чистой воли» при трактовании им
смысла проблемы наук о праве, а затем также Штаммлера и На-
торпа в их известных, этой сферы проблемам посвященных,
исследованиях17*.
Но во всяком случае и «Критика практического разума», и
в еще гораздо большей мере «Этика чистой воли» свою
основную задачу должны были полагать и действительно
поставили не в чем ином, как в обосновании не столько законов
разумно направляемой по целям человеческой деятельности,
или, что то же, воли, сколько именно самой этой
деятельности первоначально присущей закономерности,
закономерности чистого практического разума — чистой воли.
Единственно в этой самой закономерности воли, а отнюдь
не в содержании отдельных законов ее деятельности
заключается и осуществляется поэтому чистота воли, последнее
трансцендентальное условие ее возможности, подлинный
принцип обоснования философской этики, в силу указанных
оснований не только возможной, но и необходимой, в
качестве неотъемлемой части системы философского познания в его
универсальном, принципиальном единстве понятой.
212 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когсна...
Принципиальная обоснованность проблем закономерности
чистого практического разума (кантовское Selbstgesetzgebung
der reinen praktischen Vernunft) или чистой воли, и в смысле
ее постановки, и в смысле единства по возможности
направления ее решения намеченная в предшествующем, с
систематической необходимостью приводит нас теперь и ставит
вплотную перед проблемой той другой, в порядке
трансцендентального исследования еще дальше лежащей и еще более
глубокую сферу применения трансцендентального метода
собой представляющей, закономерности, которую мы ищем
и стремимся определить и обосновать как эстетическую и
которую мы рассматриваем как последовательное продолжение
и углубление и закономерности теоретического, и
закономерности нравственного познания, несмотря на глубокое
различие ее и по содержанию, и по смыслу и от той, и от другой.
Мы ищем, словом, обоснования своеобразной закономерности
эстетического познания и оценки, несмотря на внутреннюю
и систематически неразрывную связь ее с закономерностью
и теоретического, и нравственного познания. А это и есть ведь
во всей ее глубине проблема философской scmemuKUÏ
Возможно ли, однако, (и как) принципиальное обоснование
такой эстетики, такой своеобразной закономерности,
делающей ее возможной?
Для эстетики камнем преткновения при решении этой
проблемы издавна служил вопрос о взаимоотношении отдельных
законов и принципов закономерности вообще и как таковой.
В самом деле, разве должны, разве могут какие-либо
определенные законы иметь в эстетике значение предписаний для
художественного постижения и творчества, служить в
качестве непререкаемых норм содержанием и целью эстетики?
Такие предписания разве не поставили бы эстетику в
рамки узкой шаблонности внешнего педантизма, который и
самого гения хотел бы научить тому, как должны быть
созидаемы им его творения? Недаром и Шекспира отрицали ведь
в свое время за недостаточно строгое следование или даже
игнорирование им определенных законов драматической
композиции. Против таких «определенных законов»18*
восставали в свое время представители всех направлений
романтизма в искусстве, восстают и в настоящее время представители
изысканно претенциозных течений и модернистских
устремлений.
Часть I
213
Но истинной, хотя и скрытой или не сразу, по крайней
мере, явной причиной всех этих протестов всегда служил,
по-видимому, именно тот роковой предрассудок смешения понятий
закона и закономерности, о котором шла у нас выше речь.
И весь смысл, и все великое значение учения Канта о
художественном гении™' в том как раз и заключается, что гений он
понимает как откровение самой закономерности творчества,
почему только он, то есть гений, и оказывается, по взгляду
Канта, способным открыть и поведать миру новые законы, новые
пути и обновляющие нормы и в постижении прекрасного,
и в его творчестве в искусстве. В непонимании этого
коренного различия того или другого закона от законности в ней
самой и по ее внутреннему существу, отдельного закона от
принципа законосообразности и заключается причина всех
недоразумений относительно возможности принципиального
обоснования эстетики как особой трансцендентальной
дисциплины единой системы принципов философского познания.
Художнику, не достигшему высоты творческого гения, может
быть поэтому инкриминируемо нарушение только самого
принципа законосообразности, а отнюдь не тех или иных
отдельных законов, ни для какого подлинно художественного
творчества необязательных, но как раз посредственные-то
дарования стесняющих, тогда как свободное творчество гения,
напротив, всегда есть обнаружение и раскрытие именно
самого существа закономерности, ее глубочайшего принципа
и смысла. Не об отдельных законах тех или иных искусств,
а об их внутренней гармонии, согласованности в самом
принципе закономерности какого бы то ни было искусства и всех
вообще искусств в их единстве только и может поэтому идти
речь как об основной предпосылке эстетики, в смысле
неотъемлемой части единой в себе системы принципов
философского познания понятой.
Поэтому уже у Канта в «Критике способности суждения»
и в еще большей мере у Когена в «Эстетике чистого чувства»
все сводится, все клонится к тому, чтобы открыть, определить
и обосновать понятие эстетической закономерности в ее
связи, соответствии, своеобразном различии и в то же время
внутреннем сходстве с понятием закономерности вообще как
общей базы и принципа всей трансцендентальной философии;
и именно основной принцип трансцендентального метода
делает невозможным смешение закономерности с законами и по-
214 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когевд...
тому незыблемой возможность принципиального обоснования
философской эстетики; разве только в интересах проведения
радикального скепсиса был бы поднят вопрос о самой
закономерности в каком бы то ни было и во всех вообще областях
научного познания и человеческой культуры в их связи и
непрерывном единстве. Но ни «Критика чистого разума», ни
«Логика чистого познания» никогда не могли бы пойти, конечно,
по наклонной плоскости такого крайнего скепсиса, поскольку
именно проникновение в методическую связь науки и разума,
или чистого познания, как выражение закономерной связи
и единства того и другого, составляет отправной пункт и
основную критическую, то есть в смысле проблемы, подлежащей
решению, понятую, предпосылку всей и всякой вообще
трансцендентальной философии. Все возражения против
принципиальной возможности эстетики и во время Канта и после него суть
поэтому только более или менее приправленные выражения
непонимания самой идеи искусства, его разумного смысла, его,
если так можно выразиться, логоса. То, наоборот, что мы
обозначаем, пока, правда, только как и Кантом, и Когеном
искомую закономерность эстетики — это и есть как раз разум
искусства, его разумный смыл, его логос не в относительных законах,
всегда изменчивых, к времени и месту приуроченных, себя
обнаруживающий, а только в той высшей искомой
закономерности коренящийся, которая и сменою индивидуальности гения
никогда не исчерпывается и не стирается.
Никогда не растворяется эта искомая закономерность в тех
законах, в тех ее, хотя бы и типичных, но все же
индивидуально-конкретных обнаружениях, которые составляют теневую
сторону всякого, хотя и самого выдающегося, произведения
искусства, насколько оно еще носит на себе местную печать
индивидуальности ее творца, будь то отдельный человек или
даже целый народ.
Не следование определенному закону делает поэтому
художника гением, но как раз искомая нами закономерность
в ней самой и как таковая есть то, из чего возникает и чем
определяется та неизбежная относительность каждого
отдельного закона, от власти которой вполне свободным не бывает,
быть может, ни одно, даже самое великое произведение
искусства. Но если закон каждого отдельного произведения
искусства, как и восприятия, и творчества прекрасного вообще,
и имеет на себе всегда печать своей исторической обусловлен-
Часть I
215
ности и потому несовершенства, то сама искомая
эстетическая закономер7юсть все же обнаруживается в творениях
настоящего гения в своей подлинной природе и в своем
систематическом значении и своеобразности. Только так, только
двигаясь по этому пути, можем мы вообще подойти к самой
проблеме возможности эстетической закономерности и ее
решения. Другими словами, только следуя направляющим
указаниям трансцендентального метода, в трансцендентальной
логике берущего свое начало, должны мы стремиться открыть
и установить понятие закономерности эстетической и в этой
области, по аналогии с этикой и теоретическим познанием
наук о природе, то есть логикой, выдвинуть требование своего
рода «неписаных законов»20*, как того последнего основания
в сфере чистого мышления и познания, на которое, как на
дальше уже не обосновываемое и ни откуда уже не выводимое
предположение, как на платоновское «αρχή άνυρόφεΐος*»21*,
должно опираться и из него, как своего первоисточника,
заимствовать свою силу и достоверность всякое научное
познание о природе, всякое познание нравственного, как в не
меньшей, наконец, мере также и всякое эстетическое познание
и оценка.
Если по систематической аналогии с истинным и должным
и в сфере прекрасного следует утвердить вечное, невидимое,
первоначальное, то требование своего рода «неписаных
законов» как полагание в основание некоторого первоначального
и основополагающего принципа, платоновской идеи в ее
значении не только вечно и истинно сущего, но также и в
смысле и силе идеи как гипотезы ('υπόφεσις*), как краеугольного
основания для решения проблем прекрасного и раскрытия его
закономерности, должно сохранить всю свою определяющую
роль и философское значение также и здесь, то есть в
области философской эстетики, не в меньшей мере, чем,
соответственно, в сфере логики и этики.
Если Кант, прежде всего и главным образом, выдвинул
вперед логику й на ее обосновании с особенной силой
настаивал, характеризуя ее, как своего рода «островок опыта в
океане мнимой видимости» (Insel der Erfahrung im Ozean des
Scheins)22*, и если в известной противоположности с логикой,
хотя и во внутренней связи с ней, он и свою этику не менее
энергично отстаивал и обосновывал, в отличие от всегда
условной компетенции закономерности опыта, на безусловно-
216 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
сти нравственных идей, как краеугольном камне ее
непререкаемого значения, — если эту свою этику он всегда
характеризовал как этику закона, нравственного закона самого
разума, его автономии, его самозаконодательства и потому
свободы, его самопознания и потому его свободной воли или
практическим ставшего разума как выразителя не человека
уже, а всего человечества, вернее, его, этого человечества, идеи
как абсолютной самоцели; если, словом, принцип некоторой
универсальной закономерности уже царил и, по самой своей
идее, был направляющим фактором одинаково в области
и трансцендентальной логики, и этики, то соответственно
основной идее трансцендентального метода и вопреки всем
традиционным недоразумениям, трудностям и поднятым
возражениям систематическая последовательность философского
исследования и от Канта со всей силой требовала, и перед Ко-
геном в его «Эстетике чистого разума» ставила неустранимую
задачу: искать определения эстетической закономерности как
такой, которая могла бы служить основополагающим
принципом как для всех исследований в области чистого мышления
о прекрасном, так и для познания искусства со стороны его
предмета, то есть в отношении тех понятий и тех законов,
которые могут быть найдены и раскрыты при исследовании
сюда относящихся проблем.
Прежде чем мы пойдем дальше, да будет нам позволено еще
раз сформулировать здесь методологический результат
предшествующего рассмотрения в качестве отправного пункта
и руководящего принципа всего последующего изложения.
Всякое мышление, всякое исследование, всякое познание,
направленное на так называемые факты культуры, все равно
будет ли при этом иметься в виду исследование отдельной
проблемы или целое направление научного исследования,
в ряде между собою связанных проблем той или иной
области культуры своей методологической предпосылкой всегда
должно иметь не столько некоторое готовое основание,
сколько полагание или принятие чего-либо за основание.
Ведь всякое основание как таковое всегда должно было бы
быть принятым в качестве готового, чего-то само по себе
данного, а не впервые только понятого, найденного и открытого
как основание. Никакое основание само по себе не могло бы
поэтому ни оправдать себя логически, ни сделать
правомерным свое применение. Основание всегда осталось бы фунда-
Часть I
217
ментом и никогда не могло бы стать принципом. Если же мы
рискнули бы на то, чтобы вынести это основание совсем за
пределы разума, то есть сделать его, как принято говорить,
иррациональным, тогда оно тем не менее стало бы правомерным
для разума и из него обосновываемым.
Единственное, что нам остается, следовательно, это
принять основание за «полагание в основание», то есть сделать его
платоновской идеей, понятой в смысле гипотезы (υπόφεσνς·),
или кантовским a priori, понятым в смысле
трансцендентального в указанном им выше значении.
Но из предшествующего мы могли убедиться, что таким
основанием, понятым как основополагание, Может быть только
сама закономерность познания в той или другой из его областей.
Стало быть, как всякий другой род закономерности в
систематическом единстве философского познания, так, в
частности, и эстетическая закономерность должна получить
значение некоторого принятия, некоторого полагания особого
рода основания, и как таковое принятие или полагание она
должна получить для нас свое определение. Таково
принципиальное требование, уже Кантом, хотя, правда, и не с полной
определенностью, выдвинутое в «Критике способности
суждения»23*.-Но было ли уже самим Кантом выполнено это
требование и в какой мере, что каждое направленное на
удовлетворение известного требования исследование должно, как
мы только что видели, иметь своим предположением
некоторое принятие чего-нибудь за основание, в нашем случае —
некоторой совсем особого рода закономерности для в высшей
степени своеобразного рода постижения или познания совсем
особого предмета. Словом, для постижения и познания
прекрасного вообще и искусства в частности требуется
некоторого особого рода закономерность познания в соответствии
с двумя другими родами систематической закономерности
для осуществления и обоснования природы и
нравственности. И как исполнение этого требования в отношении науки
и нравственности может быть предпринято лишь через поЛас
гание некоторого основания, так тоже должно быть в силе
и иметь значение и для постижения и творчества
прекрасного, то есть для того направления человеческой культурны,
которое принято обозначать термином «искусство».
Дадим себе теперь, хотя бы в самых общих чертах, отчет
о том, таков ли был в самом деле подлинный смысл постанов-
218 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когсиа...
ки основной проблемы философской эстетики, прежде всего
у Канта.
Мы знаем уже, что трансцендентальная логика через
посредство развитого в ней учения об идеях, в отличие их от
категорий и основоположений, прямым путем привела Канта
к его этике. Но если дух и смысл этического сознания, точнее,
познания нравственного стал уже со времени Сократа
основным признаком и как бы коэффициентом внутренней
жизненности и силы человеческой культуры, ее вдохновляющим
фактором и универсальным мотивом, то прекрасное, его
восприятие, творчество, как и искусство по своему предмету и форме,
напротив, издавна служили на путях культурного развития
человечества настоящим камнем преткновения, ареной
бесконечных споров, недоразумений, даже страстного,
фанатического отрицания. Известно, к какой чудовищной
парадоксальности конечного отрицания за прекрасным, и особенно за его
выражением и творчеством в искусстве, всяких прав на
разумное существование привел Платона его
эстетически-этический энтузиазм сразу и признания, и отрицания, и
преклонения, даже боготворения чувственного начала и его полного
элиминирования, как чего-то чуть ли не христиански
греховного. На почву грубого эмпирико-реалистического, даже
утилитарного отрицания искусства стал затем, как известно, в
новое время Бэкон, не умея ни признать, ни тем более обосно*
вать нравственного, то есть подлинно человеческого, значения
и смысла искусства. В мелководье английского эмпиризма
долго затем, чуть ли не вплоть до Шефтсбери24*, то есть до
реставрации античного духа, не проявлялось, как кажется, ни
непосредственного чутья, ни интереса к познанию прекрасного.
А эпоха Возрождения с ее не только истинно платоновским
пафосом, но и зачатками науки воплощения красоты у
Леонардо, так и осталась со своими устремлениями вечным и
поучительным выражением напоминания о роковом
противоречии творческого духа истинного платонизма с его
стремлением к последнему лервоконкретному, с одной стороны, и его
рационалистически категоричной формой учения об
идеях — с другой. Несмотря на восстановление подлинного
смысла идеи Платона не только как единства созерцания, но и как
единства созерцаемого, не только как принципа умозрения,
но и как умозримого конкретного содержания, обоснования
смысла, существа и закономерности постижения и познания
Часть I
219
прекрасного не удалось достигнуть ни представителям самой
этой эпохи Возрождения, ни ее эпигонам. Философской
эстетики все ие возникало... Не дали ее и великие рационалисты
XVII века, а намеки Лейбница, развитые Баумгартеном25\
привели к пониманию ее только как «gnoseologiae inférions»26*,
то есть всецело подчинили ее интересу теоретического
познания, лишив ее, таким образом, на мнимо логически*
основаниях всякого права на самостоятельное существование в
единстве системы принципов философского познания. Только во
второй половине XVIII столетия с началом будущего
расцвета немецкой поэзии и музыки, тесно слитой с религиозным
духом немецкого народа и служащей к его выражению, —
только к этому времени и через косвенную связь с
продолжавшимся развитием блеска религиозной живописи и
изобразительных искусств вообще стала все более становиться
Несомненной связь искусства с нравственностью и делаться
бесспорным его нравственный и, следовательно, культурный
смысл и значение, хотя из такого отношения и возникла
новая трудность и новое существенное препятствие к
признанию самостоятельности культурной роли искусства и
возможности его философского обоснования и оправдания в
качестве самостоятельного направления человеческой культуры.
Возникал неотступно новый вопрос: не находится ли
искусство в прямой зависимости от нравственности, даже в
подчинении ему, и не растворяется ли поэтому и самое
эстетическое наслаждение всецело и безраздельно в смысле
нравственного суждения, в суждении ö нравственном. И только
Мендельсону27*, развивавшему предуказания Лессинга2**,
впервые удалось, по-видимому, наметить путь к
положительному решению этой ставшей теперь во главу угла проблемы
своим различением смысла выражений эстетического и
нравственного чувства и, соответственно, эстетической и
нравственной оценки (Beurteilung)29*. Так была подготовлена
возможность самостоятельного обоснования эстетики
обособлением ее и постановлением, по крайней мере, вне прямой
зависимости от руководящих моральным поведением целей.
Однако, с другой стороны, и наслаждение, удовольствие и
даже бескорыстная радость, выдвинутые теперь в качестве
(с разных сторон в этом именно смысле подготовленного
к своему провозглашению) единственного якобы
эстетического принципа, тоже не могли, как скоро все более становится
220 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когсна...
ясным, остаться единственной, над всем господствующей
целью искусства, как и восприятия прекрасного вообще. На эту-
то сторону проблемы и отсюда уже также и на самое искомое
нами сокровенное существо ее и обратил свое внимание Кант.
Но на первом плане и для него до поры до времени, как и для
современных ему великих поэтов Германии, все еще стояла
и на первых порах только о себе неотвязно заявляла та,
другая, первая сторона нашей проблемы, именно: какой
нравственный, какой духовный смысл вообще имеет искусство, в чем
должно и может заключаться подлинное оправдание веры
в прекрасное, незыблемое убеждение в его культурном
значении и силе? В двух направлениях идет затем расчленение этой
проблемы в отношении смысла ее постановки и преднамеча-
емого решения: теоретическом и этическом. В самом деле, ведь
восприятие прекрасного и искусство, если они должны быть
по своему культурному смыслу и значению философски
обоснованы, не могут быть постижением и искусством простой
видимости; но только в соответствии с наукой и сообразно с ее
законами, с самой закономерностью научного сознания, мо1ут
они стать верными своему содержанию и найти пути овладеть
им. Никакой и ни в какой, хотя бы и самой что ни на есть
художественной фантазии, не может, не должна быть искажена
природа, и всякая так называемая идеализация природы есть
только возвышение ее в каждом из ее проявлений до ее
типичной родовой формы. Но в еще меньшей, конечно, если только
это вообще возможно, мере и с еще меньшим правом,
безграничная сама по себе, свобода художественной творческой
фантазии могла бы быть использована «для» или только
допущена «до» хотя бы самого наималейшего, что ни на есть,
искажения или нанесения .ущерба нравственности. Но нет, те чистые
формы или образы, которые при всяком постижении и
творчестве прекрасного выступают на первый план и во всяком
искусстве как предносящиеся и безраздельно здесь царящие,
хотя чувству только внятно говорящие, конкретные цели
играют доминирующую роль — они, эти чистые формы, про
которые и.Шиллер сказал, что «они божественно странствуют
среди богов»30*, — они есть ведь не что иное, как все те же,
первоначальному платоновскому смыслу верные и Кантом
только как бы вновь открытые, идеи, здесь, в эстетике, условно
обозначаемые им как «эстетические идеи*. В своем еще неполном,
не вполне выявленном смысле они возникают и впервые по-
Часть I
221
являются у Канта в качестве объединяющих принципов
познания природы во второй части трансцендентальной логики и
затем господствуют, как известно, во всей его этике; в познании
и при творчестве прекрасного, в эстетике, они только новый,
еще более богатый конкретным содержанием аспект своего
смысла и значения приобретают, но как в логике и этике, так
и здесь, в эстетике, ни в какие тени, ни в какие мнимые
видимости или тешащие обманы отнюдь не превращаются, до них
не низводятся. Так как ведь иначе все разумные цели жизни,
ее идеал и вместе с ним и сама жизнь — все превратилось бы
в царство теней, в сферу мнимой хаотической видимости.
Применение и следование трансцендентальному методу
обоснования возможности последовательно разных родов
познания в их непрерывной связи между собой делает для
Канта такой скептический вывод и в отношении эстетики, в
частности, совершенно невозможным. Но в том, наоборот, и
заключается как раз методический принцип обоснования Кантом
эстетики, что, следуя своему методу, он открыл ее в системе
и для системы философии как необходимую самостоятельную
часть последней. И именно этим объясняется и только отсюда
становится понятной подлинная суть того, что (и в каком
смысле) нет и не может для него быть никакого искусства — ни
без нравственности, ни без природы, которые одинаково
должны быть святы и неприкосновенны для всякого искусства,
даже больше того — для всякого вообще восприятия и познания
прекрасного, для самой его возхможности.
В самом духе трансцендентальной логики
непредотвратимо заложен уже этот основной вывод эстетики Канта. Как
всякая трансцендентально необоснованная тенденция, так
и стремление исправлять природу или нравственность,
одинаково были бы для него в силу того же принципиального
основания только проявлением грубого варварства,
художественной дикости, незрелости. Если природа и нравственность
суть порождения разума, объективно выраженного в научном
и нравственном познании, то искусство, как порождение
творческой фантазии, есть продукт фантазии все того же, только
еще дальше и полнее здесь себя объективирующего разума.
Но если так велики, как, по-видимому, бросается в глаза,
притязания природы и нравственности на свободу и
самостоятельность искусства» то не значит ли это, что последпее
должно потерять свое самостоятельное значение и особый пред-
222 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
мет? Нет, отвечает Кант, наоборот, только тогда и может
возникнуть настоящее искусство во всей силе и
самостоятельности своего значения для человеческой культуры, когда и
поскольку оно не потеряет этого своего корня и не даст
заглохнуть источнику этой животворящей связи своей с природой
и нравственностью. Как же, однако, это возможно? Есть или
нет здесь противоречия?
Прежде чем в решении нашей проблемы продвинуться
теперь еще на один, и притом самый решительный, шаг вперед,
мы должны прочно фиксировать только что приобретенный
нами для дальнейшего исследования твердый отправной
пункт: ненарушимую связь искусства (как и постижения
прекрасного вообще) с природой и нравственностью. В какую
тесную связь поставил Кант свою эстетику с принципами
понимания и изучения природы, видно из того, что он изложил ее
не только в одном сочинении, но и в непосредственном
систематическом единстве с телеологией природы, вследствие
чего и искусство с самого начала было неотторжимо связано им
с природой, с ее восприятием и истолкованием смысла
господствующих в ней отношений. И, как известно, в этой
именно непосредственной связи искусства с природой Гете
усмотрел подлинный принцип свободы эстетического творчества.
Трансцендентальное сродство и систематическая аналогия
функций эстетической и телеологической силы суждения
составляли как раз тот пункт, в котором Гете примкнул к
учению Канта.
Что, с другой стороны, в не менее интимной и неразрывной
связи принципы эстетической оценки мыслились Кантом
также и с нравственностью, с той обетованной страной свободы
и царством целей, откуда Шиллер заимствовал мотивы для
придания методологической ясности и эстетической силы
своим чистым формам, — об этом после развитого в
предшествующем едва ли есть надобность говорить подробно. И все
же, несмотря на эту теснейшую связь с нравственностью, Кант
исключил, как известно, из сферы значимости эстетического
суждения всякий, не только практический, но и вообще
всякий жизненный (биологический) интерес, — все это было бы
материей, которая, несмотря на теснейшую связь
эстетического суждения и оценки (также и) с познанием природы,
должна быть в смысле определяющего фактора устранена
с его пути в не меньшей мере, чем всякое предписание теоре-
Часть!
223
тического исследования или какой бы то ни было вообще
объективный прообраз предмета или вещи — эта, если так можно
выразиться, теоретическая материя.
Ни нравственная, ни эта теоретическая материя не нужны
для эстетического суждения и оценки, больше того — всякая
такая материя, если рассматривать ее как определяющий
фактор суждения, затемнила и уничтожила бы даже самый смысл
эстетического суждения, в какой бы тесной систематической
и трансцендентальной связи принципы эстетики ни
находились с принципами этики и логики, то есть принципами
познания природы и нравственности.
Но один род интереса все-таки остался, по-видимому, и
сохранил для Канта свое, хотя, правда, косвенно только и
издалека определяющее значение также и в области эстетики,
в сфере значимости эстетического суждения и оценки — это
именно моральный интерес к прекрасному. Однако даже
и нравственные идеи стали для него в эстетике, несмотря на
связанный с ними чистый интерес, опять-таки только
материалом, на который эстетическое суждение оценки (Beurteilung)
и, следовательно, искусство, могли бы быть направлены в
методологическом отношении лишь в том же смысле, как и на
природу, то есть без прямой зависимости даже и от этого
чистого интереса и за ним стоящих идей, как и вне
непосредственного влияния со стороны природы и ею обусловливаемых
интересов вожделения и борьбы за жизнь, или существование.
Так природа и нравственность для Канта становятся двумя
родами материала, даже, можно сказать, просто материалом
искусства.
Но если так, то теперь-то и возникает как раз та, по
преимуществу, трансцендентальная проблема кантовской эстетики,
разрешение которой, пока в пределах только его же
собственных утверждений и еще без отношения к дальней разработке
этой проблемы Когеном, должно показать нам, правильно ли
на с. 216 настоящего доклада был выражен (сформулирован)
нами подлинный смысл основной проблемы эстетики Канта
как принятия или полагания особого рода закономерности,
или, в кантовской терминологии, разума, для объяснения
и обоснования в высшей степени своеобразного рода и
способности постижения или познания совсем особого предмета,
который в эстетике издавна обозначается и ищется как
прекрасное. Трансцендентальная, по преимуществу, проблема
224 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когена...
эстетики, о которой в порядке нашего исследования идет
теперь у нас речь, может быть предварительно сформулирована
так: если природа и нравственность суть только два рода
материала или даже просто материал для искусства, то что есть
тогда искомая эстетическая форма, которая самое содержание
природы и нравственности впервые делает возможным и
трактуемым как такие два рода материала или даже просто как
один цельный материал, который этой нашей искомой форме
подчиняется, ею все более определяется и дифференцируется
и в конце концов, быть может, частично или полностью
растворяется, и в ней до полного уничтожения поглощается,
согласно коренному принципу всего учения Канта о взаимной
обусловленности и взаимопроникновении начал —
содержания и определения, материи и формы познания и разума?
Итак, что же есть в только что указанном нами смысле
искомая нами эстетическая форма?
Ясно, прежде всего, что эта форма, для которой природа
и нравственность представляют собой и служат только в
качестве мотивов, только в качестве двух родов никакому
искажению не подлежащего материала, — что эта чистая эстети*
ческая форма сама по себе не есть ни какая-либо вещь,
ни предмет, обладающий самостоятельным существованием
или действительностью, и если эта форма проявляется и
рельефно выступает все-таки перед нами на каком-либо
предмете природы или произведении искусства, то она всегда
бывает только выражением того, что мы обозначаем как
принадлежащее к существу самого субъекта, и притом даже как на-
исубъективнейшее из того, что составляет подлинную суть
и природу субъекта — именно его чувство, эстетическое
у Канта или, как впоследствии Коген назвал его, чистое
чувство, единственно в котором прекрасное только и
становится объектом и Приобретает реальность действительного
существования.
Эстетическое сознание есть поэтому уже для Канта
сознание чувства или, точнее, сознание как чувство. Это тот особый
род или аспект сознания, в котором всякая объективность,
какие бы формы и очертания она ни приобретала, всегда
растворяется все-таки или становится, по крайней мере, под власть
чистой объективности чувства. Ни познание природы, ни
познание нравственного не составляет поэтому цели,
содержания и предмета искусства, но то и другое представляет собой
Часть I
225
лишь необходимый и, по своему источнику, чистый материал
для искусства, как и для восприятия и познания прекрасного
вообще.
Предметом и содержанием эстетического сознания служит
поэтому не что иное, как само это эстетическое, или, по
терминологии Когена, чистое чувство, — как чистый
практический разум или чистая воля суть выражения сознания этики,
так точно чувство представляет собой сознание эстетики.
И мы знаем уже, что выражением воли, или практического
разума, является его нравственный закон, его, как Кант
выражается, самозаконодательство (Selbstgesetzgebung der reinen
praktischen Vernunft), его автономия/
Но если так, то каков же по систематической аналогии
с этим должен быть закон эстетики как закон чувства? Что
в том и другом случае может, разумеется, иметься в виду не
какой-либо определенный закон, а именно только сама
закономерность воли (самозаконодательство чистого
практического разума) и таковая же, пока, правда, только искомая,
закономерность чувства, — это бросается в глаза само собой, так
как речь идет ведь не о специфических, конкретных
определениях той или иной стороны предмета этического и, в нашем
случае, эстетического сознания, а о нем самом в принципе его
возможности. Не будь такого искомого нами здесь закона или,
точнее, закономерности — не была бы возможна вообще и
никакая эстетика, тем менее таковая в качестве особой,
неотъемлемой части единой философской системы.
Есть, стало быть, должны быть законы, закономерность
прекрасного, но ни наука и ни познание о нравственном, ни
логика и ни этика имеют своей задачей открыть эти законы, эту
закономерность. Задача, открыть и выразить ее есть дело
гения. Только гений дает поэтому закон своему искусству,
открывает его особую закономерность в соприкосновении и
конечном единстве ее с закономерностью всех других искусств
и, наконец, самого искусства, даже больше того — всякого
восприятия, постижения и познания прекрасного^ вообще.
Искусство есть искусство гения!
Чтобы в своем ответе на основную трансцендентальную
проблему самой возможности восприятия, постижения,
наконец, познания прекрасного как такового и особенно
творческого воссоздания или вновь созидания его в искусстве из
материала природы и нравственности (Schaffung gleichsam einer
226 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когена...
anderen Natur)1, — [чтобы] глубже и полнее раскрыть
существо помянутой искомой закономерности эстетического
сознания, для этого Кант, как известно, вводит и пользуется
посредствующими понятиями «эстетической идеи» и «духа» (Geist)
в своеобразном, эстетическом значении этого термина,
понятого им как «оживляющий принцип сознания» (das belebende
Prinzip im Gemûte)2 — посредством эстетических идей или,
вернее, их изображения (Der Darstellung ästhetischer Ideen),
приводящий «силы сознания» (die Gemutskräfte) «в
целесообразное движение», то есть такую свободную игру их,
которая сама себя поддерживает и сама же укрепляет свои силы3.
Что же следует понимать у Канта под этим термином
«эстетических идей» и их «изображения» (Darstellung)?
Только вкратце и не придерживаясь слишком буквально
и строго собственной терминологии Канта, наметим мы здесь
лишь насколько это необходимо для дальнейшего ход и смысл
его размышлений.
На с. 177 (192-193) «Kritik der Urteilskraft» Кант говорит:
«Под эстетической идеей я понимаю такое представление
силы воображения, которое дает повод к долгим
размышлениям (viel zu denken veranlasst), без того, однако, чтобы какая-
либо определенная мысль или понятие могло быть ему
вполне адекватным, и которым, следовательно, никакой язык
(keine Sprache) не может вполне овладеть (völlig erreicht)
и сделать его понятным». Но что же это, в свою очередь,
такое, о чем побуждает нас думать эстетическая идея? Ответ на
этот вопрос мы читаем у Канта несколько далее, именно на
с. 177-178 (193-194) он говорит: «...такие представления
силы воображения можно назвать идеями отчасти потому, что
они по крайней мере стремятся к чему-то, лежащему за
пределами границы опыта, и, таким образом, выражают
тенденцию приблизиться (nahezukommen suchen) к изображению
идей разума (интеллектуальных идей), что дает им видимость
объективной реальности, частью же, и притом главным
образом, потому, что как внутренним созерцаниям им не может
вполне соответствовать (adäquat sein) никакое понятие».
! Kant /. Kritik der Urteilskraft. Hrsg. von K. Vorländer. 3. Aufl. - Lpz., 1902.
S. 177 (193).
2 Ibid. § 49. S. 177 (192 B).
:,Ibid.S. 177 (192 B).
Часть I
227
Две стороны, как мы думаем, следует особенно отметить
здесь, в этом понятии «эстетической идеи»: во-первых, то, что
никакое — ни теоретическое, ни практическое понятие
действительности, то есть ни понятие о предметах природы
(движениях), ни понятие о предметах свободы (поступках), — не будет
ему вполне соответствовать, ибо восприятие прекрасного, как
и художественные произведения, не хотят поучать и,
следовательно, давать познания через посредство понятий, но
единственной целью — это и есть вторая сторона, на которую мы
обращаем здесь наше особенное внимание, — [целью] произведения
искусства и даже всякого вообще восприятия и постижения
прекрасного, насколько они служат выражением эстетических
идей, является изображение эстетической идеи, или, по крайней
мере, возможное приближение к такому изображению.
Но в каком же смысле имеется здесь в виду изображение?
В том ли, в каком и наука, со своей стороны, стремится
изобразить и сделать представимой теоретическую идею и
нравственность, то есть познание нравственного, практическую
идею, — каждая в своей области? Но из «Критики чистого...»
и «Критики практического разума» мы знаем уже, что наука
и нравственность, то есть система понятий и
основоположений как-теоретического, так и практического познания, всегда
могут служить собственно выражением познания лишь
определенного времени и определенной культурной эпохи, и
потому всегда неизбежно представляют собой лишь более или
менее несовершенную попытку овладеть содержанием идеи и
воплотить его в действительности и жизни; другими словами,
идея всегда в громадной степени остается здесь, притом даже
и в области познания нравственного, не столько
конститутивным, сколько регулятивным, направляющим принципом
познания и поведения. Если бы восприятие, постижение и
творчество прекрасного, то есть искусство, только в этом же
смысле стремилось бы выразить и изобразить «эстетические идеи»,
тогда оно ничем не отличалось бы, ничем не превосходило бы
ни науку, ни нравственность, и тогда оставалось бы
непонятным, почему его продукты, его творения нельзя было бы
исчерпать в рассудочном познании, то есть свести его на
понятия. Что^ы ответить на этот вопрос и тем самым проникнуть
в самое существо учения Канта о постижении прекрасного
и его творчестве, схватить глубочайший нерв его эстетики,
для этого сосредоточим здесь еще раз свое внимание на том
228 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
последнем, наиболее полном у Канта определении
«эстетической идеи», в котором указана и та последняя инсташщя,
единственно к которой эстетическая идея и может стремиться
и для которой голос ее только и может быть внятным и
убедительным.
Вот это замечательное, впервые подлинный смысл эстетики
Канта раскрывающее, окончательное определение им
«эстетической идеи». «Эстетическая идея, — говорит здесь Кант, —
есть некоторое такое, к данному понятию присоединенное
(beigesellte) представление силы воображения, которое в
свободном применении последнего {то есть воображения)
связано с таким многообразием частичных представлений, что для
него нельзя подыскать уже никакого выражения,
обозначающего определенное понятие, и которое дает поэтому повод
мыслить в связи с этим понятием (hinzudenken lässt) много
невыразимого (собственно, несказанного (Unnenbares)), чем
чувство оживляет познавательные силы (Erkenntnisvermögen)
и с языком (речью) как простой буквой соединяет дух»4.
Это, ни с каким чувственным содержанием прямо не
связанное, им не затемненное, а наоборот, условия возможности
его одухотворения, как видим, в себе содержащее, — оно-то,
это эстетическое, или, как Коген впоследствии обозначает его,
чистое чувство, и есть тот верховный в эстетике Канта
трансцендентальный принцип ее, признанием и применением
которого она впервые как интегральная часть системы принципов
философского познания становится возможной в ее
подлинной самостоятельности и в ее коренном отличии от всякой
эстетики, так или иначе базирующейся на содержании области
чувственного и на него, как на нечто данное,
направленной, — все равно будет ли то бауМгартеновская «gnoseologiae
inférions» или эстетика одухотворенного чувства Шефтсбери
и его английских предшественников и продолжателей. Теперь
только становится понятной для нас в своем подлинном
трансцендентальном значении эта верховная инстанция
чувства', к нему-то обращает, к нему только апеллирует всякое
восприятие и творчество прекрасного, всякое искусство в
своей истинной природе и назначении. Это чувство есть
эстетическое, или чистое, чувство прекрасного, уже у Канта со всей
несомненностью выступающее в значении особого направле-
< Kant L Kritik der Urteilskraft S. 180 (197 В).
Часть I
229
ния культурного сознания, проблема закономерности
которого становится поэтому основной.
А природа, познаваемая в понятиях, и то особое
направление сознания, которое называется волей, или практическим
разумом с его закономерностью или нравственностью, — это
все только материал, при помощи которого искусство, как
и всякое вообще постижение прекрасного, действует на
чувство и его, в указанном трансцендентальном значении его,
пробуждает.
В этом смысле всякий истинный художник и друг искусства
посредством силы воображения, обращенной к чувству, как бы
заново создает природу и нравственность, но только новую,
иную, лучшую, безущербно-цельную, нераздробленно-единую,
сравнительно с той, что в качестве действительной природы
и нравственности служила ему только материалом для
творчества «in Schaffung, — как Кант говорит5,—gleichsam einer anderen
Natur aus den Stoffe, den ihr die wirkliche gibt»31*, — служила
только для того, чтобы пробудить в нем самом и в других чувство
бесконечного, вечного, чувство «идеи» абсолютности
человеческого, как, по-видимому, всего вернее в духе Канта можно было бы
охарактеризовать это чувство со стороны содержания, на
которое оно направлено и которое оно призвано созидать как
выражение особого направления культурного сознания человечества.
Тот своеобразный способ, каким каждое художественное
произведение стремится осуществить это основное
эстетическое стремление, Кант и обозначает поэтому термином
«эстетическая идея», каковое выражение нет основания оспаривать,
если только помнить, что изображение (Darstellung)
эстетических идей, о котором говорит здесь Кант, есть изображение для
чувств, для эстетического, или чистого, чувства прекрасного.
Но кто же тот, кто овладевает эстетическими идеями,
творит их и в постижении и творчестве прекрасного, в
произведениях искусства поставляет их перед нашим чувственным
взором, делает их видимыми, слышимыми, осязаемыми?
Художник-творец, насколько сила и настроение творчества
получают у него преобладающее значение, — есть гений.
Поэтому прекрасное искусство есть, по Канту, искусство гения.
И окончательное определение гения, из которого, как
сейчас увидим, в сущности, только и становится понятным
*Kant /. Kritik der Urteilskraft. S. 177 (193).
230 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
и первое, обыкновенно цитируемое определение, — это
окончательное определение гласит у Канта так: «Сообразно
сказанному, — говорит он на с. 213 (242В) «Kritik der
Urteilskraft», — гений можно объяснить также и как способность
эстетических идей, чем сразу указывается и основание, почему
в продуктах гения его собственная природа (то есть природа
субъекта), а не какая-нибудь извне привходящая цель (nicht
ein überlegter Zweck), дает искусству (как порождению
прекрасного) его правила».
Впервые отсюда получает полную ясность и первое столь
известное определение, что «гений есть талант (естественный
дар), который дает искусству правила», или, так как талант,
как прирожденная творческая способность художника, сам
есть принадлежность природы, то можно было выразиться
и так: «гений есть прирожденное предрасположение души
(Gemütsanlage), через посредство которого сама природа дает
искусству правила»6.
Мы не будем критиковать здесь этого определения, хотя
выражения «природа» и «прирожденный» дают повод к самым
большим и многочисленным недоразумениям.
Согласно ходу и цели нашего рассмотрения, нам важнее
остановиться здесь на первом определении, по которому гений
есть, как мы видели, способность к эстетическим идеям.
Художник в том и проявляет свою своеобразность, свою
оригинальность, что посредством своего произведения он
стремится пробудить в человеческом сознании чистое чувство— да
позволено нам будет прибегнуть здесь к этому необычному
выражению, — чистое чувство абсолютности человеческого.
Ибо что другое могли бы означать известные слова Канта,
когда на с. 224 (258) «Критики способности суждения» он
говорит о «прекрасном, как о символе нравственно-доброго»,
и о том, что «только в этом отношении оно может справиться
с притязанием на его всеобщее признание, причем все наше
духовное существо (Gemüt) сознает себя при этом, в
известном смысле, облагороженным и возвышающимся над простой
восприимчивостью от воздействия чувственных впечатлений,
и ценность других (человеческих существ) рассматривается
с точки зрения подобного же правила (максимы), присущей
им силы суждения», что, далее, может значить, что он говорит
*KantL Kritik der Urteilskraft. S. 169 (181).
Часть I
231
об этом, как о только умопостигаемом (интеллигибильном),
на которое в конечном итоге направлена всякая эстетическая
оценка и в отношении к которому только и может быть
достигнуто согласование «наших высших познавательных
способностей» с «притязаниями, обнаруживаемыми нашим
вкусом», как прямым фактором (принципом) эстетической
значимости и оценки.
Но с особенной убедительностью и ясностью вся глубина
подлинно трансцендентального смысла и значения того
принципа, который обозначается Кантом термином «силы
суждения», как и того предмета, на который она направлена
и который ее применением все с большей полнотой должен
быть порождаем, — с особенной силой выражается вся
трансцендентальная глубина в знаменательных и не всегда в
должной мере оцениваемых по достоинству словах Канта, когда,
характеризуя силу суждения в ее противоположности всякой
гетерономности законов опыта, он говорит про нее, что «в
отношении предметов столь чистого (то есть эстетического)
удовлетворения она сама дает себе свои законы*, в такой же
мере, как разум делает это в отношении способности
вожделения. Свое полное завершение, наконец, вся эта, на
пробуждение чистого чувства абсолютности человеческого, как мы
выразились, направленная основная эстетическая тенденция
силы суждения находит себе в заключительном утверждении
Канта, согласно которому эта, как и чистый практический
разум, автономная сила суждения «постигает свое отношение
(sieht sich... bezogen) к чему-то такому, что и в самом
субъекте, и вне его не есть ни природа, ни свобода, но что связано
с основанием того и другого, именно со сверхчувственным,
в чем теоретическая способность связана с практической
некоторым обшим и неизвестным способом, приводящим их
к единству»7.
И в самом художнике, в творческом гении как выразителе
всей полноты эстетического сознания, в его раскрытой теперь
самозаконности должно быть живо, следовательно, это
непосредственное и в тоже время творческое отношение к
сверхчувственному или то, что мы взяли на себя смелость пояснить
или выразить в термине «чистого чувства абсолютности
человеческого». В творениях гения это эстетическое, по Канту,
7 Капе I. Kritik der Urteilskraft. S. 224 (258-259).
232 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
или чистое, по Когену, чувство находит свое выражение и
приобретает для себя объективное оформление, переходит в те
«höheren Regionen, wo die reinen Formen wohnen»32*. С
достигнутой теперь высоты ясным становится и возможный смысл
решения проблемы изучимости или неизучимости искусства:
его изучимость и усвояемость только в смысле техники и не
подражаемая оригинальность эстетических идей,
характеризующая собой творческого гения. Начало и конец эстетики
Канта сходятся здесь в ее основном положении: «es ist kein
objectives Prinzip des Geschmacks möglich»33*, — только в
начале ее такой принцип был еще невозможен, не предвиделся еще
в своей возможности из трансцендентальных условий, теперь
же, в конце ее, он стал уже невозможным в силу, как бы
сказать, неисповедимое™ и бездонной глубины эстетического
сознания гения, в его, хотя и необходимом, но бесконечно
оригинальном в каждом данном случае, в своем роде
естественном отношении к умопостигаемому, к сверхчувственному,
к абсолютному.
Отнюдь не произвол, однако, не субъективное настроение,
не случай представляют собой, как мы могли убедиться, силы
гения, но единственно только законы, коих значимость и
притязания на всеобщность, несмотря на всю их творческую
оригинальность и своеобразность, гений выражает и как бы
провозглашает миру как свои силы, как свою мировую мощь.
И как предмет прекрасного всегда переходит и поглощается,
по Канту, в чистом субъективном эстетическом чувстве, так
и понятие эстетического закона переходит в индивидуально-
своеобразный закон, коего единственным носителем
является нигде не повторимая, бесподобная личность гения. Что же
от этого такой зенсон разве менее будет законом?
Скорее, напротив, искусство никогда не могло бы быть тем,
за что его считал и каким показал его миру Кант, если бы в нем
не раскрывалась чистая, никакому сомнению и спору не
подлежащая достоверность эстетического закона, и в самой и для
Канта только искомой закономерности эстетического
сознания обеспеченная и коренящаяся.
Вот почему и для Канта предположение, некоторое
предварительное мысленное принятие эстетической
закономерности всегда было и навсегда осталось руководящим. И именно
это предположение, эта платоновская «идея-гипотеза», этот не
только априорный, но и трансцендентальный в специфичес-
Часть I
233
ком кантовском смысле принцип закономерности
эстетического сознания, им всегда искомый, им требуемый в качестве
подлинного творческого условия всякого эстетического
познания и творчества предостерег й самого Канта, и
впоследствии Шиллера от методологически в корне своем ложной
тенденции искать объективного принципа эстетической оценки,
или, как тогда выражались, вкуса. От этой методологической
иллюзии в стремлении обосновать
ценность*художественного произведения, как и всякого вообще постижения
прекрасного, в каком-либо объективно-данном законе только эта
гипотеза, только эта идея закономерности эстетического
сознания, в смысле трансцендентального условия понятая, могли
освободить и в лице Кайта действительно освободили
философию в смысле системы достоверного познания из
принципов, со времени Канта же рассматриваемую. Если мы "теперь
поставим вопрос, что же, собственно, означает собой эта
эстетическая закономерность, то самый общий, по крайней мере,
ответ на него будет заключаться в том, что эта закономерность
должна служить первоисточником и определять собой те
законы или тот, все их в себе объединяющий, закон, с которым
должно сообразовываться и требованиям которого
удовлетворять всякое восприятие прекрасного, как и особ>енно всякое
произведение искусства. В отрица1-ел£ном же смысле это
будет означать, что таким законом для восприятия и
творчества прекрасного не может быть никакое, в понятиях выразимое
и формулируемое, Правило, каковым каждый закон природы
является для познания теоретического. Далее представляется
ясным также, что искомая закономерность должна*
мыслиться универсальной, тогда как всякий объективный принцип
вкуса или эстетической оценки, наоборот, всегда неизбежно
был бы относительным.
И здесь, следовательно, в области философской эстетики,
подтверждается, таким образом, как мы видим, основной
принцип критического, или, как стало принятым говорить,
трансцендентального, метода Канта: отправляться от
понятого в смысле проблемы и в качестве таковой, разумеется,
Только предварительно принятого факта, в данном случае
искусства и восприятия прекрасного вообще, как в других случаях
точной науки или в истории развивающейся культурной
деятельности человечества и продвигаться затем к отысканию
и все более полному открытию и применению той закономер-
234 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
ности, тех основных принятий или полаганий в сознании,
отправляясь от которых и самый факт первоначально
поставленной проблемы, в нашем случае, искусства, и смысл, и
направления ее решения впервые становятся понятными и
возможными. И едва ли не самым большим триумфом этого
метода является то, что, как на это справедливо, по нашему
убеждению, указал в своей интерпретации Канта Коген, и
природа, и нравственность как прообразы всякой
закономерности некоторым образом преобразуются в содержание
эстетического чувства прекрасного и в его закономерности
растворяются. И если так, то как этому преобразованию и его
продукту могло бы не хватить той чистой созидающей
закономерности, которая составляла основной характер природы
и нравственности, в созидающем их и их из своих же
основных принципов конструирующем познании?
Не останется, таким образом, как мы думаем, ни малейшего
сомнения в том, что проблема философской эстетики была
действительно принципиально разрешена Кантом или, по крайней
мере, преднамечена к своему решению в том как раз смысле
и направлении, в каком мы сформулировали постановку этой
проблемы в начале нашего рассмотрения ее на с. 216
настоящего доклада, именно: «искать определения эстетической
закономерности как такой, которая могла бы служить
основополагающим принципом как для всех исследований в области чистого
мышления о прекрасном, так и для познания искусства со
стороны его предмета, то есть в отношении тех понятий и законов,
которые могут быть найдены и раскрыты при исследовании
сюда относящихся проблем, и, соответственно этому, в решении
основной эстетической проблемы отправляться от некоторого
предположения или принятия чего-либо в частном мышлении
за основание, — в данном случае некоторой, совсем особой
закономерности сознания, для обоснования в высшей степени
своеобразного рода постижения, познания и творческого
созидания совсем особого предмета».
К этому именно обоснованию Кантом эстетического
закона из первоначальной закономерности эстетического
сознания и связанному с ним освобождению последнего от всякой
авторитарности твердо установленных и извне привносимых
критериев и масштабов обсуждения и оценки каждого
отдельного восприятия прекрасного и каждого произведения
искусства — к этому великому делу Канта примыкает и с ним здесь,
Часть!
235
то есть в области философской эстетики, оказывается
связанным также и другое, для философии, в качестве строгой
науки понятой, не менее, как мы думаем, ценное приобретение
столь же принципиального характера: именно понимание
и истолкование и здесь, в эстетике, идеи об абсолютном
в смысле проблемы, в смысле задачи все более полного
проникновения и, как бы сказать, восчувствования и
художественного воплощения в прекрасном абсолютности
человеческого, его идеи, его, как Кант бы сказал, интеллигибельного
нравственного существа или субстрата, но не в смысле «вещи
в себе», а только в смысле ноумена, не за которым как за
каким-то субстанциальным субстратом свобода и автономность
обеспечивались бы как свойства, но который, то есть этот
ноумен, сам, наоборот, принимается как мысленное, как
трансцендентальное условие возможности всякого
самозаконодательства всякой, в том числе в не меньшей мере, также и
эстетической автономии или, как сам Кант выражается в выше
приведенном месте из «Критики способности суждения»,
самозаконодательства эстетической силы суждения.
Так и идея абсолютного становится только последней
гипотезой, только тем «αρχή άνυρόφετος>, в котором, как в
высшем трансцендентальном принципе, философский гений
Канта соприкасается с исполинским духом Платона, в
бесконечную даль провиденциально устремленным.
Если мы вспомним, что со времен расцвета греческой
философии, особенно же с эпохи эстетической тенденцией
насквозь проникнутого неоплатонизма, оказавшего такое
громадное влияние на искусство эпохи Возрождения, и далее через
весь период романтизма начала XIX столетия вплоть до
символизма наших дней абсолютное, по крайней мере, его идея,
в особенности как идея абсолютности человеческого, всегда
постулировалась и принималась как первооснова
прекрасного, то нам станет ясным какое не только историческое, но и
систематическое значение имело и продолжает иметь и для
современной эстетики признание Кантом интеллигибельного
субстрата прекрасного, им, однако, впервые радикально
освобожденного от объективно-субстанциального, вещно-транс-
цендентного значения и смысла. С тех пор идея
абсолютности человеческого стала принципом эстетического воспитания
человечества, его жизненным руководящим началом:
содержание абсолютного стало мыслиться как идея абсолютности
236 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
человеческого и в этом смысле получило определяющее
значение для эстетического сознания.
До Канта, в особенности в английской эстетике, в силе
оставалось затемняющее и сбивающее предположение, что
эстетическое сознание, поскольку оно, прежде всего, есть чувство,
субъективно, текуче и изменчиво. Теперь же, благодаря
Канту, впервые стало ясным, что это эстетическое сознание, это
чистое чувство ни в чем ином имеет свой первоисточник и
гарантию своего содержания и своей особой закономерности,
как именно в идее абсолютности человеческого, на которую
оно непосредственно направлено и с ней неразрывно связано.
Субъективнейшая сторона человеческой природы, это его
[человечества. — НД.] интимнейшее чувство прекрасного и
предрасположение к нему — оно оказалось коренящимся в идее
человечества, ее собой выражающим и в своих обнаружениях
воплощающим, как эта идея послужила также и последним
основанием нравственности, принципом обоснования этики.
Приблизить к чистому чувству и сделать его
непосредственным достоянием все содержание этой идеи абсолютности
человеческого в ее соотношений и единстве с содержанием
идеи универсальности природы и космического мирового
целого, сделать это единство конкретным и в этой его
конкретности — дорогим, близким и прекрасным как в его целом, так
и в каждом из его отдельных аспектов и обнаружений —
такова высокая задача прекрасного как искусства гения, и только
в этом своем значении может сохранить оно в течение
столетий свое Неувядающее значение и чарующую силу в
противоположность изменчивым вкусам дня и десятилетий с их
феерически исчезающим модернизмом.
Только это кантовское «прекрасное искусство гения»
объединяет народы и целые столетия братски связывает в одном
чувстве человечности, в единой лгобвй к человечеству. Перед
творениями художественного гения смолкают сомнения, в
отношении к ним притупляется всякое острие критики, исчезает
рознь межйу людьми, народами, временами и странами. Идея
единства человечества в этих творениях гения все полнее и все
очевиднее открывается и в пользу этого единства часто говорит
в них убедительнее и красноречивее, чем в какой-либо мере
человеческой истории этого удалось достигнуть в области
нравственности. Познание гения есть поэтому тот
кульминационный пункт, которого Кант достиг в своей системе философии
Часть II 237
как выражения достоверного познания из принципов, и то, что
он назвал гением, стало для него только живым выражением
конкретного единства этих принципов в их применении, в их
творческом значении и силе.
В характеристике эстетики Канта рамки настоящего
доклада заставляют нас ограничиться сказанным.
ЧАСТЫ1
Своеобразность постановки основной
проблемы эстетики у Г Когена
Нам предстоит рассмотреть теперь, в каком направлении
и смысле постановка основной проблемы эстетики получила
у Когена, по сравнению с Кантом, не только дальнейшее
развитие, но во многих отношениях также более или менее
радикальную переработку и изменение, подготовивши существенно иное,
хотя в общем трансцендентальном смысле и сходное ее решение.
Общей платоновской, если так можно выразиться, базой
постановки основной эстетической проблемы и для Когена,
и для Канта является, как это самым смыслом применения
трансцендентального метода неотвратимо требуется,
проблема обоснования особого рода совсем новой, сравнительно с
закономерностью теоретического и нравственного познания,
закономерности сознания — обоснования, требующего и
предполагающего для себя также и совсем нового мысленного
полагания в основание, новой βυπόφεσις~, новой идеи, если
угодно применить платоновский термин, наконец, новых
понятий, основоположений и систематически объединяющих
высших понятий разума или трансцендентальных идей, если
держаться терминологии Канта. Словом, и у Когена, как
и у Канта, речь первоначально идет, конечно, и должна идти
не о чем ийом, как о мысленно принимаемом
принципиальном условий в сознании для самой возможности
эстетического восприятия, познания и творчества, или в короткой
формулировке: и у Когена, как и у Канта, rio только с гораздо
большей ясностью, определенностью и радикальностью выводов
речь идет при постановке и решении основной проблемы
эстетики не столько об основании, сколько о полагают в
основание или первоисточнике сшои возможности эстетического по-
238 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
знания и творчества, то есть о принципиальном
трансцендентальном условии самой возможности эстетики как искомой
систематической части единой философской системы, в
смысле системы принципов достоверного познания понятой.
Но этой общей трансцендентальной базой, в сущности, и
ограничивается сходство эстетических воззрений обоих
мыслителей.
Ибо, если бы мы, прежде всего, поставив в духе Канта
основную проблему эстетики в смысле вопроса, есть ли и могут ли
быть установлены для обоснования такой искомой и
подлежащей обоснованию эстетики соответствующие, значение
трансцендентальных условий имеющие понятия, основоположения
и идеи, ответили бы на этот вопрос в том смысле, что указали
бы в качестве таковых условий на традиционно данные и
принятые эстетические понятия, например, как это и Кант делает,
на понятия прекрасного и возвышенного, то это означало бы
ведь, как справедливо указывает Коген, собственно говоря,
не ответ, не решение, а только повторение все тою же основно-
го вопроса, все той же проблемы, только в более раскрытой и
потому ясной форме и выражении. «В самом деле» в том ведь и
заключается вопрос, — говорит Коген8, — существует ли
прекрасное и возвышенное в том смысле, чтобы ими эстетическая
проблема была обоснована в своем своеобразном значении (in
seiner Eigenart)». Разве уже заранее исключена всякая
возможность отождествления прекрасного с истинным или также
подчинение возвышенного истинному через посредство понятия
величины или, наконец, включение возвышенного в сферу
содержания понятия о нравственном? Между тем стоит только
допустить это, и возможность усмотреть в указанных понятиях
(прекрасного и возвышенного) условия возможности
обоснования эстетического, понять их как основные полегания
эстетического сознания, познания и творчества тотчас отпала бы.
Методического подхода к решению эстетической проблемы
применением этих понятий мы, следовательно, отнюдь еще не имели бы,
а в лучшем случае — только более ясную ее постановку.
Но если так, то, спрашивается, какие же другие понятия
были бы годны для решения и не шла ли бы при этом речь
всегда и только о видоизменении все тех же основных понятий
и их видовых подразделений?
8 Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 77.
Часть II
239
Таково первое, бросающееся в глаза затруднение в
постановке Кантом основной проблемы эстетики, на которое
указывает Коген.
Но еще, с другой стороны, именно со стороны обоснования
особого эстетического предмета в чистом эстетическом
сознании, в его систематической связи с таковым же обоснованием
предмета теоретического познания в логике и предмета
практического или нравственного познания в этике поднимаются,
как мы сейчас увидим, не менее важные затруднения и
сомнения относительно общего направления и смысла указанной
выше постановки основной проблемы эстетики у Канта.
В самом деле, если, прослеживая систематическую связь
постановки основной проблемы эстетики как, по крайней мере,
по замыслу своему трансцендентальной дисциплины с
постановкой таковой же основной проблемы трансцендентальной
логики и этики, мы отвлечемся пока намеренно от обращения
внимания на самые методы познания, то проблема предмета
познания будет прежде всего той проблемой, на которой в
одинаковой мере сосредоточиваются как все основные вопросы
логики, так в не меньшей мере также и вопросы этики.
Ведь именно предмет и есть та подлинная цель, то
содержание всякого познания, без которого оно осталось бы пустым
и ничего не значащим. Как природа для логики, так человек
для этики есть тот предмет познания, о котором идет речь во
всех вопросах познания о нравственном или, как Коген
называет его, чистой воли. Ни в логике, ни в этике никогда не
может, никогда не должно поэтому не хватить предмета как
содержания для познания, который, то есть этот предмет, один
только и делает теоретическое познание познанием, и притом
чистым познанием, и волю — волей, притом чистой волей.
Поэтому, согласно основному смыслу всякой истинно
трансцендентальной философии, требуемому ее методом, следует
сказать, что «без предмета нет вообще никакой чистоты»34*
познания ни в логике, ни в этике, нигде вообще, где только может
возникнуть проблема чистого познания.
Самым опасным для философии выражением и принципом
является поэтому, по убеждению Когена, утверждение, что
предмет непосредственно дан познанию, тогда как именно для
познания-то он как раз никогда и не может быть данным,
но всегда должен быть только порожден в нем, точнее, сама
данность его должна быть порождена познанием и из него. Не-
240 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когепа...
даром уже и сам Кант на с. 92 (65) «Критики чистого разума»
провозгласил: «Ihr gebt euch also einen Gegenstand in der
Anschauung»35*, — и на с. 185 (195) и 241 (271) подробно
развил затем этот единственно возможный смысл «данности»
в смысле «порожденное™» самим же познанием и из его же
собственных средств. Когек только дальше и систематически
развивает это основное воззрение Канта, подробно показывая
в своей « Логике» и здесь, в «Эстетике чистого чувства»9, что это
понятие «данности», именно только как порожденное™ в
познании, необходимо требуется со времен Платона самым
понятием чистоты познания (платоновское «катарсос οραν»36*) и им
только приводится к своей методологической истинности.
Поэтому предмет всегда и везде, во всех областях философского
познания всегда должен, всегда только и может быть чистым
предметом. И так это и есть действительно в логике, где
чистое познание В; собственном смысле этого слова
действительно никогда и «è терпит нужды в чистом предмете, но всегда
в нужной мере и располагает им. В аналогичном же смысле
имеет это силу, по-видимому, также и в отношении этики, где
имеющее тенденцию перейти и выразиться в поступках
познание нравственного, или чистая воля, также имеет дело с
некоторым чистым предметом, на который она направляется.
И именно проблема, составляющая содержание идеи
человека, содержит в себе и обеспечивает для воли этот ее чистый
предмет. С другой стороны, именно эта чистота предмета
познания о нравственном, или чистой воле, требует и
обусловливает методологическую независимость этого ее чистого
предмета от такового же предмета чистого теоретического
познания, выражением постановки и решения совсем другой
проблемы служащего, именно — проблемы познания природы.
Но если это справедливо, то в порядке систематического
исследования необходимо должен возникнуть вопрос: может ли
быть и для стоящей здесь на очереди искомой и требуемой
эстетики, как неотъемлемой части единой философской
системы принципов достоверного познания в его целом, также
обособлен и обеспечен соответствующий чистый предмет ей
только свойственного, своеобразного рода познания? Есть ли
такой особый, чистый предмет, который мог бы,
следовательно, быть порожден из особого, своеобразного, эстетической
9 Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 78.
Часть II
241
проблеме соответствующего полагают чего-либо — [из пола-
пшия] какой-то новой закономерности в качестве
порождающего основания или принципа?
На первый взгляд могло бы показаться — и в этом» по
убеждению Когена, как сейчас увидим, состоит второе существенное
затруднение, сомнительность и, если угодно, ошибка в
постановке Кантом основной проблемы эстетики, — на первый взгляд
можно было бы подумать, что таким искомым чистым
предметом эстетического познания и творчества могло бы быть, могло
бы служить произведение искусства. Однако, как показывает
Коген, такой ответ и на этот кардинальный вопрос философской
эстетики о своеобразном, ей только принадлежащем предмете
на самом деле вовсе не был бы путем к разрешению проблемы,
а только выражением повторения все того же вопроса о
подлинной природе эстетического предмета, лишь более ясно и остро
сформулированного. Ведь не только остался бы при этом во всей
своей силе вопрос, является ли именно произведение искусства
своеобразным предметным порождением, соответствующим
смыслу эстетической проблемы, а не какой-либо, например,
естественный продукт природных, в конце концов, биологических
стремлений человека или какое-либо свободное проявление
нравственного чутья и деятельности, — не только этот вопрос,
но и еще более глубокая, уже собственно эстетическая
проблема о подлинной природе произведения искусства как
своеобразного, совсем нового предмета познания и творчества, даже если
бы мы захотели сделать его, то естьпроизведение искусства,
отправным пунктом своего рассмотрения эстетической
проблемы, — даже этот коренной вопрос о своеобразной природе
произведения искусства как такового остался бы, как и прежде,
неразрешенным, и мы, в сущности, не подвинулись бы в нашем
исследовании ни на шаг вперед!
И эти затруднения и сомнения, направленные против кан-
товской постановки проблемы и ему сродных других
[вопросов], еще до крайности возрастут и примут чрезвычайную
остроту, если мы сообразим, что ведь речь, собственно» идет здесь
не столько об искусстве как творческой деятельности,
сколько именно о ставших объективными произведениях
искусства. Но тогда каждое такое произведение в своей истинной
действительности должно быть в то же время и предметом
природы и как таковое подлежать всем условиям понимания
и обсуждения его как предмета теоретического познания в ло-
242 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
гике. Ведь мрамор, полотно, оптические условия
перспективы, света и тени, непрерывность цветовых оттенков — во всем
этом каждый пластический образ и изваяние, каждое
произведение живописи нуждается как в свойствах и
определениях природы, и все это есть природа, без которой они не могут
обойтись и с ней как будто совпадают.
Но что же есть тогда то, чем именно каждое произведение
искусства отличается от объекта природы, в котором он
всегда воплощается и осуществляется? Прямого ответа на этот
вопрос мы не находим в эстетике Канта.
Ответить же на этот вопрос в том смысле, как к этому
отчасти был, по-видимому, склонен и Кант, что во всяком
произведении искусства и даже просто восприятии прекрасного есть
то, что мы обыкновенно называем духом данного
художественного произведения или восприятия, точнее, его
одухотворенностью, а также его душой или одушевленностью, какового
духа или души нет ни в мраморе, ни в полотне, взятых самих по
себе, вообще ни в каком сыром, еще не обработанном
материале, — дать такой ответ на вопрос о своеобразной природе
произведения искусства было бы явно недостаточно.
Не говоря уже о том, что то, что здесь обозначается как дух,
в сущности, имеется налицо и во всяком познании любого
материала, будь то мрамор или что-то другое, рассматриваемое
просто как объект, именно как познаваемый объект природы, и
потому не может служить надежным отличительным признаком
своеобразной природы произведений искусства, но даже и то, что
мы называем душой, то есть своеобразным соединением мыслей
и связанных с ними чувств и желаний, направленных не
столько на природу, сколько на жизнь и деятельность человека,
следовательно, на его нравственность, — даже и эта душа, или
одушевленность, именно в силу своего по преимуществу
нравственного смысла, также не может служить признаком,
характеризующим природу произведения искусства во всем его
своеобразии. И можно сказать даже, что указанными признаками духа
и души проблема раскрытия своеобразной природы искусства
как будто не только не приближается к своему решению, но,
наоборот, еще более осложняется и затрудняется.
Мы стоим, таким образом, здесь перед тем затруднением,
которое и Канта заставило пойти на признание не только
теснейшей связи, но даже и некоторого рода зависимости
прекрасного от нравственного, эстетики не только от логики (по-
Часть II
243
знания природы), но и от этики (то есть познания идеи
человека как принципа нравственной деятельности). Выходит так,
что эстетический предмет каким-то роковым для его
самостоятельности образом неудержимо растворяется не только в
познании предмета природы, но и особенно в познании
предмета нравственного познания, то есть человеческой
деятельности. В самом деле, «нет ведь, — говорит Коген, — ни одного
содрогания мускула без того, чтобы не получила при этом
обнаружение некоторая нравственная иннервация. Так обстоит
дело и в живописи, и в поэзии, и в музыке»10.
Но если эти признаки одухотворенности и одушевленности
недостаточны, как мы только что видели, для характеристики
своеобразной природы эстетического предмета, то возникает
вопрос: есть ли и может ли вообще быть таковой особый
предмет? Если же бы мы, хоть на мгновение, допустили, что его,
именно как своеобразного предмета для совсем особого
направления сознания и столь же особого рода познания, может
и не быть, тогда согласно руководящему здесь принципу
чистоты сознания и познания, гласящему, что «без предмета нет
и никакой чистоты» сознания и познания, тотчас отпала бы
и методологическая возможность для трансцендентального
обоснования такого эстетического предмета в особом полага-
нии, в мысленном принятии для него особой закономерности
сознания, и возможность эстетики как третьего
систематического звена в системе философии была бы тогда исключена.
Как велика возникающая здесь трудность, видно, как
указывает Коген, из того, что «дело обстоит не только так, что
произведение искусства, с одной стороны, есть предмет природы,
а с другой — предмет нравственности (auch sittlicher
Gegenstand), и, таким образом, под вопрос ставится только
эстетическая своеобразность предмета в отношении к этим двум
родам предметности»; но существо вопроса состоит в следующем:
«не только фактически произведение искусства связано с
этими двумя родами предметов, но и методически оно
оказывается ими обусловленным. Произведение искусства должно во что
бы то ни стало быть, во-первых, предметом природы и в
качестве такового предметом познания природы. И оно должно
быть, во-вторых, и при этом наряду с первым условием и во
внутренней связи с ним, — также предметом нравственности
10 Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 79.
244 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когеяа...
и в качестве чистого предмета нравственного познания оно как
таковой предмет должно быть и порождаемо. Эти оба условия
остаются непререкаемыми основными условиями и самого
произведения искусства, и художественного творчества»*1, и
всякого вообще восприятия прекрасного.
Так обостряется проблема возможности своеобразной
природы эстетического предмета: как возможно, в самом деле;
чтобы на основе предмета природы, который в то же время*
есть и предмет нравственности, возник еще особый и притом
своеобразной природой обладающий эстетический принцип?
Чтобы приблизиться к решению этой основной проблемы
философской эстетики, для этого, как указывает Коген,
необходимо дать себе прежде всего ясный отчет в том, может ли су-<
щественная своеобразность эстетического предмета быть
обоснована, так сказать, совсем вне природы и нравственности, что-*
бы последние играли в отношении к нему только роль
подготовительных ступеней и инстанций, или дело, напротив,
обстоит так, что эти предварительные условия (Vorbedingung
gen) суть в то же время и постоянные условия (bleibende
Bedingungen), как бы составные части самого произведения ис*
кусства? Казалось бы ведь, что природа и нравственность тольн
ко в методическом смысле и, следовательно, лишь как
предусловия могли бы иметь значение и служить только как бы бан
зой для их эстетического завершения, а между тем они,
с другой стороны, остаются для каждой ступени в развитии ис^
кусства чем-то неизмеримо великим и неисчерпаемым, вплоть
до того последнего штриха, которым завершается каждое проп
изведеиие искусства. «Как же могут они в таком случае быть
только предусловиями? Как разрешить эту великую загадку?
Все трудности, — говорит Коген, — содержащиеся в постанов*
ке основной эстетической проблемы, таятся в этом вопросе»*^
Наконец, еще большую трудность постановка проблемы
обоснования эстетического предмета получает, как поясняет
Коген, в том случае, если ставить и рассматривать эту
проблему не только в отношении произведения искусства и как бы
в нем только, но также и в природе, все равно будет ли она при
этом понимаема как прекрасная или возвышенная. Ибо ни ма->
тематическая правильность линий, царящая в природе (если бУ
11 Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 80.
12 Ibid.
Часть II
245
даже чувство изумления перед ней мы стали истолковывать как
эстетическое удовлетворение), не дала бы нам в руки никакой
путеводной нити для обоснования на почве познания природы
своеобразного содержания и смысла проблемы эстетического
предмета, ни идиллическая простота или ужасающая мощь
великих потрясений в природе не дали бы нам никаких указаний
на то, почему эту простоту можно было бы оценивать как
прекрасное или эти гигантские потрясения как возвышенное?
И чем более делается при этом ясным, что не только
произведение искусства, но и сама природа, насколько она
становится предметом познания, уже таит в себе два упомянутых
выше основных рода предметности, именно предметность
в смысле познания природы и в смысле познания
нравственного, и продолжает как бы удерживать и охватывать их в
себе и тогда, когда в отношении к ним и на их основе
возникает новая эстетическая проблема, — тем труднее становится эта
последняя проблема для обоснования своеобразности своего
смысла и содержания.
Если природа для того, чтобы быть прекрасной или
возвышенной, не может исключить из своей сферы ни
нравственного, ни теоретического познания ее самой, то какое же еще
возможно тогда своеобразное полагание и чего же именно — в
основание, чтобы оно могло самостоятельно стать наряду с теми
двумя основными рядами «полагания оснований» для
познания теоретического и нравственного? Ведь ищется не только
новое название, но подлинное> новое полагание основания для
обоснования возможности совсем особого рода предмета.
Такова чрезвычайная трудность, коренящаяся в
неизбежном расширении постановки основной эстетической
проблемы перенесением ее с произведения искусства на саму
природу в ее целом — также, по-видимому, или мало предвиденная,
либо совсем не оцененная Кантом.
В особенности ясным становится это в отношении
нравственности. Если в произведении искусства элемент
нравственного разоблачить было бы сравнительно легко; поскольку сам
человек прямо или косвенно обнаруживает в «ем свою дея^
тельность и, стало быть, нравственность, то в отношении
к природе, безгранично перерастающей всегда сферу
человеческого, такое констатирование в ней стороны нравственного
не представляются ни сразу убедительным, ни очевидным. И
однако эта нравственная сторона все же раскрывается в той
246 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
самой природе, которая ее скрывает, ее собой маскирует! Как
это возможно и как разрешается это противоречие?
Ведь только при условии и путем устранения этого
противоречия мог бы быть, по-видимому, найден или хотя бы только
намечен путь,- идя по которому можно было иметь надежду или
найти требуемый принцип или, напротив, быть вынужденным
совсем отказаться от возможности обоснования своеобразного
содержания и смысла проблемы эстетического предмета
Но именно здесь, на этой вершине трудности в постановке
эстетической проблемы, и начинает, как думает Коген,
мало-помалу пробиваться слабый пока еще свет ее новой, более ясной
и здесь еще только, так сказать, издали предвидимой, более
глубокой постановки и возможного правильного ее решения.
В самом деле, сама по себе природа столь же мало могла бы
быть носительницей нравственности, сколько мало планеты
могли бы что-либо знать об эллипсисах, по которым они
совершают свои пути. Но если так, то, может быть, вовсе не
нравственность есть то, что мы мним себя в праве вложить в
природу, чего доброго, только навязать ей! Ведь когда мы говорим
о математической закономерности, мы отнюдь не только
навязываем ее природе, как бы вкладывая ее извне, но,
напротив, эта математическая закономерность и есть как раз то, что
мы полагали в основание самой возможности познания
природы и из каковой закономерности это познание впервые
только и порождается, из ее применения к решению
проблемы познания природы всецело развиваясь. Но нравственность
есть проблема познания человека, а вовсе не природы. Наше
мнимое усмотрение в природе идиллической простоты,
безмятежного мира, таинственных предуказаний, грозных
потрясений и т. д. — все это следует признать поэтому лишь за
простую иллюзию, содержание которой мы только навязали
природе, а вовсе не извлекли из нее, не прочли в ней.
Следовательно, это отнюдь не обоснование этики, что, таким
образом, только как мнимое обнаруживается здесь перед нами;
однако если это не относится к числу условий обоснования
этики и в то же время как бы находится в природе и чуть ли не
наблюдается в ней, то что же это такое? Если это не предмет
теоретического познания и не нравственность и в то же
время находится в связи с природой, ей как бы подсказывается,
требуется и на ее основе развивается — то что же такое это
новое, это третье?
Часть II
247
Мы видим, таким образом, что сама природа вплотную
приводит нас к некоторой новой, третьей, скажем прямо,
эстетической проблеме, в порядке связи и соотношения проблем
здесь естественно и систематически возникающей. Больше
того, можно с известным правом сказать, что проблема
природы даже в гораздо большей мере, чем проблема произведения
искусства приводит нас к постановке, обоснованию и,
косвенно, даже [к] решению эстетической проблемы. Только на этом
пути исследования становится постепенно все более ясным,
что дело не так обстоит, чтобы «эстетическая проблема была,
в сущности своей, только этической проблемой, но, наоборот,
так, что в этической проблеме уже содержится и в скрытом
виде заключается эстетическая проблема»13.
И теперь, только после того, как направление и общий смысл
проблемы философской эстетики, по крайней мере, намечен, —
теперь только встает перед нами, как выражается Коген, и
«великий ее основной вопрос»: как найти основание (Grundlegung),
могущее быть положенным, для решения возникающей здесь
новой, совсем своеобразной проблемы? И здесь опять все та же
природа, но только взятая и понятая в смысле прекрасной
природы, наводит нас, по крайней мере, на верный след решения
этого вопроса. В самом деле, ведь в самой этой так называемой
прекрасной природе как таковой не может еще содержаться
условия для решения нашей проблемы, так как сама она и есть
ведь лишь выражение этой проблемы. Простое рассмотрение
этой «прекрасной природы» еще не может поэтому привести нас
к открытию или принятию для нее некоторого ее
обусловливающего принципиального основания. Тем менее можно было
заимствовать для нее, то есть для этой «прекрасной природы»,
такое обусловливающее основание из сферы нравственности,
про которую мы ведь знаем уже, что мы только ошибочно вду-
мали ее в природу и ей, так сказать, только навязали.
Но откуда же, из какой же, наконец, сферы заимствовать нам
принцип искомого обоснования, если его нельзя взять ни из
области принципов теоретического познания, ни из условий
познания о нравственном? Или, как формулирует эту проблему
сам Коген в ее окончательном виде, «какой другой род аналога
к (теоретическому и нравственному) познанию может быть
допущен, может быть мыслим для возможности правильной по-
п Cohen H, Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 82.
248 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
становки эстетической проблемы?»14. Трудность этой, так
сформулированной проблемы с тем большей силой должна
выступить перед нами, если мы примем во внимание, что ведь самое
понятие «полагания в основание» мойсет, по-видимому, потерять
в отношении эстетической проблемы всякий смысл и значение,
поскольку оказалось бы, что по сравнению с теоретическим
познанием природы или познанием о нравственном в отношении
эстетической проблемы не может быть найдено
соответствующего аналога в качестве отправного пункта для ее постановки
и решения. Ведь и природа, и нравственность должны, как мы
видим, implicite37* содержаться уже в самом смысле и предмете
новой, сравнительно с ними, эстетической проблемы. Но как же
аналогия к ним, то есть к природе и нравственности, может быть
мыслима в этом искомом ήοθομ нечто, и притом именно, как это
новое, и как оно может, наконец, дать повод или стимул к
допущению, принятию или открытию обусловливающего его, это
новое, принципиального обоснования?
Все эти вопросы снова приводят нас к нашей основной
проблеме и теперь ее в самом средоточии ее смысла выражают как
проблему нового, Совсем особого, собственно эстетического
предмета
Такова более радикальная и точная, сравнительно с Кантом,
постановка основной проблемы эстетики у Когена.
Попытаемся наметить теперь, в самых общих хотя бы
чертах, основное направление и смысл ее решения Когеном, в его
сродстве и в то же время существенном различии от такового
же решения этой проблемы, данного Кантом.
: Если в предшествующем мы пришли, как это только что
было показано, к проблеме эстетического предмета, то мы
думаем, с другой стороны, что мы не можем, так сказать,
остановиться на этом предмете, взять и допустить его, как готовый,
тогда как он; напротив, всегда есть в чистоте своегтэ
трансцендентального смысла только предмет порождаемый, a Ht уже
готовый· Но в'таком случае то, чем предмет только и может быть
обусловлеи, есть всегда не что иное, как чистый способ его по-
рождения. Но что же представляет собой, что же есть такое,
чем вообще может быть этот чистый способ порождения
предмета? Если мы отвлечемся здесь пока от тех специальных,
на предмет теоретического познания (то есть на природу) пре-
м Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 80
Часть II
249
имущественно направленных, понятий и основоположений
как средств и путей чистого порождения предмета, которые
в их совокупности и внутреннем систематическом единстве
уже Кант выразил и объединил в «верховном», как он
выражался, «основоположении всех синтетических суждений»» —
как равно оставим на время в стороне также и все понятия и
основоположения познания о нравственном вместе с
объединением всех их в верховном, для них последнем принципе, и
станем рассматривать «верховное основоположение» или
принцип всех вообще возможных способов чистое порождения
предмета, независимо отчего уклона или направленности на
порождение специально того или иного рода предметов
познания, как это и требуется как раз по намеченному в
предшествующем существу и смыслу эстетической проблемы,
в,искомой своеобразности своего нового предмета одинаково
возвышающейся, как мы видим, и над предметностью
природы, и над предметностью нравственности, — если мы
произведем это методологически необходимое здесь отвлечение,
то придем к тому всеобъемлющему термину, к тому
последнему, наиобщейшему выражению или к той, как Коген
выражается, высшей «категории» — именно категории — самого
сознания, котррой уже и Кант воспользовался как верховным
принципом, характеризующим собою всю вообще новую
философию, и который, то есть тот тердоин, он в параллель с
объективным смыслом принципа или основоположения всех
синтетических суждений обозначил как, по существу своему,
прежде всего субъективный принцип единствс сознания.
Этот-то принцип самого сознания, прежде всего, в смысле
единства сознания понятого, несмотря на всю опасность
искажения его строго методического значения как субъективного
коррелята единства опыта, ц вопреки стремлению философской
романтики (Фихте, Шеллинг, Шлегель, Гегель) превратить его
в какую-то чудодейственную, мистически-метафизическую
силу или основу всякого вообще бытия в сознании, — sjtot-to
принцип сознания и его единства, в строгом,
трансцендентально-методическом значении этогр термина как чистого сознания, как
универсального выраж^рия принципа самой возможности чего
бы то ни было в созцании — [этот принцип] и должецдггать,
по убеждению Когена, отправным пунктом и подлинным
принципиальным основанием для единственно правильной
постановки и решения всех вопросов, объединенных и связанных
250 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
между собой всей полнотой смысла и содержания единой в
себе эстетической проблемы, в частности и в особенности, — для
решения вопроса о своеобразном существе эстетического
предмета, в котором эта проблема находит свое сосредоточие и
наиболее полное и адекватное выражение. Вся принципиальная
и глубокая новизна в постановке основной эстетической
проблемы у Когена, сравнительно с Кантом, в том именно и
заключается, что тогда как для Канта в постановке этой проблемы
характерны в качестве ее выражения лишь термины закона и
в лучшем случае своеобразной закономерности или, точнее,
гармонии, понятой в смысле так называемой им
«целесообразности без цели» и связанного с ней особого аспекта
незаинтересованного или чистого чувства как представителя особого рода
или направления сознания, не выдвинутого, однако, им со всей
решительностью в качестве собственно эстетического
сознания, — у Когена, напротив, именно термин сознания со всей
энергией выдвигается на первый план, и все существо
эстетической проблемы сосредоточивается и формулируется именно
и прежде всего как вопрос о «возможности эстетического
сознания и предмета для эстетического сознания»^*, который этому
аспекту, этому направлению сознания или, лучше, самому
сознанию, в его полноте и целостности понятому как эстетическое
сознание, вполне бы соответствовал.
Какой глубокой новизной, сравнительно с Кантом,
обладает эта принципиальная позиция Когена в постановке
основной проблемы эстетики, а также в какой мере сближает она
его точку зрения с родственным ей новейшим направлением
современной эстетики, находящимся в связи с «Идеями к
чистой феноменологии познания»38* — в этом едва ли может
возникнуть какое-либо сомнение и для людей посвященных
едва ли может оставаться скрытым и неясным!
Правда, на первый взгляд могло бы, пожалуй, показаться,
что такой новой постановкой эстетической проблемы все
выше формулированные сомнения и затруднения, в сущности,
отнюдь не устраняются и не преодолеваются, а, пожалуй,
только с еще большей силой повторяются на самом сознании и в
отношении к нему как таковому Не так ли в самом деле обстоит
существо нашей проблемы, в более глубоком смысле
поставленной, «что под вопрос и под сомнение должна быть постав-
15 Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 84.
Часть II
251
лена самая возможность эстетического сознания», насколько
она находит себе выражение в произведении искусства или
восприятии так называемой «прекрасной природы»,
одинаково долженствующих удовлетворять обоим основным
требованиям и теоретического познания, и познания о нравственном?
Ведь если сознание в своем методическом значении
единства сознания означает только чистый способ порождения
чистого предмета, то на первый взгляд кажется непонятным, каким
образом наряду с теоретическим познанием и познанием
о нравственном мог бы иметь место еще особый, с ними
равноправный способ чистого порождения еще какого-то третьего,
особого, нового предмета познания, тем более если мы примем
во внимание, что произведение искусства, как и постижение
прекрасного в природе вообще — для чего и требовался он, как
раз этот новый способ чистого порождения в сознании, — сами
обусловлены теми двумя первыми способами познания. Или,
другими словами, с каким правом можно решиться на
попытку обоснования возможности еще какого-то третьего способа
чистого порождения особого предмета, затребования или пола-
гания в мысли основания его и принципов для него?
Чтобы наметить путь к выходу из возникшего здесь
существенного затруднения, для этого необходимо отчасти
вопреки, отчасти в дальнейшее развитие воззрения Канта,
провести более глубокое, чем у него, различие между терминами
сознание и единство сознания. Понимание единства сознания
только или главным образом в смысле единства
синтетических основоположений познания было бы слишком
односторонним и потому не отвечающим всему богатству и
разнообразию возникающих перед сознанием проблем.
Единство сознания должно быть поэтому понято
по-новому, в более широком и универсальном значении единства
всего сознания в его целом как всеобъемлющий принцип
трансцендентальной или, по терминологии Когена, чистой
Систематической Психологии, не те или иные определения того или
иного сознания имеющей в виду, а всего и самого сознания как
такового. Не психологию того или иного рода познания, того
или иного рода бытия следует поэтому иметь здесь в виду,
но психологию как науку о том, как бытие вообще стало быть.
«Die Psychologie, — так говорит Коген, — ist die Lehre von dem
wie das Sein geworden ist», — и в этом смысле возглавляет
собой всякое вообще философское познание, выражая и содер-
252 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
жа в себе его систематическое единство. Только с этой точки
зрения, возвышающей нас в учении о природе чистого
сознания как такового почти что до основ феноменологии чистого
сознания, могли бы мы надеяться продвинуться далее также
и в решении все еще, как неодолимая, предстоящей нам
основной проблемы эстетического сознания и его предмета.
Правда, единство сознания остается и здесь для нас
регулирующим принципом для всякого, следовательно, и для
эстетического способа познания. Недаром ведь уже у Канта наряду с
основоположениями единства сознания были подчинены и в него
включены также и идеи. Эти идеи не только принадлежали при
этом у Канта к единству сознания, но и сами, каждая в
соответствующей ей сфере проблем, выражали это единство и как бы
помогали его осуществлению. И как это справедливо о всех идеях,
так в особенности имело это у него значение также и для идеи
цели в офере нравственного сознания, то есть в сфере чистой
воли, основных лолаганий в ней и се чистых порождений.
И вот, в соответствии с этим, перед нами возникает теперь,
но уже независимо от Канта, такой вопрос: что же сознание
и в отношении к эстетической проблеме вступает в силу и
раскрывает себя в этом своем объединяющем значении в
качестве условия возможности эстетического предмета — больше
того, в качестве принципа возможности самого эстетического
сознания в его своеобразном единстве?
Но такая постановка проблемы не грозит ли нам опасностью,
так сказать, возвращения вспять к субъективным процессам и
отношениям в сознании, что неизбежно лишило бы нас всех,
доселе достигнутых в ее формулировке» ценных приобретений.
При ближайшем рассмотрении открывается, однако, что эта
опасность мнимая, ибо единство сознания всегда имеет ведь, как
мы знаем, отношение к предмету и Потому не можрт и здесь, в
области эстетической проблемы, отклонить нас от нащей основной,
на чистое порождение чистого предмета направленной
трансцендентальной директивы в понимании подлинной природы и
высшей функциональной роли сознания, как вообще в его целом, так
и здесь специально в отношении эстетического сознания.
С другой стороны, в самой проблеме эстетического предмета
мы всегда имеем дело с чем-то таким, что не только имеет
значение и ценность такого содержания, которое выражает обладание
известными свойствами и право на своеобразную устойчивость,
но что в то же время, особенно в произведении искусства, полу-
Часть II
253
чает значение как бы некоторой авторитетной преграды или
особого нормирующего, извне превходящего определения, всегда
присущего, в той или иной мере, предмету как образцу, как
некоторому прообразу А этот-то своеобразный род объективности
всегда и служил как раз в эстетике камнем преткновения для
возможности признания в ней особой закономерности и тем самым
служил сильнейшим возражением также и против нее самой как
особой философской дисциплины. Является поэтому
совершенно необходимым для преодоления этого нового затруднения,
если таковое вообще возможно, перенести рассмотрение сознания
в совсем новую плоскость, то есть попытаться выяснить,
насколько, взятое в своем субъективном значении, оно и в этом своем
аспекте могло бы открыть нам путь для раскрытия и установления
того особого рода единства, которое могло бы быть обеспечено
самим же сознанием для искомой, совсем особого рода,
собственно эстетической закономерности»
Так, для взятия правильного курса в постановке и решении
эстетической проблемы является необходимым, как видим,
прибегнуть к некоторому планомерному и методическому
ограничению объективности, как единственно возможной на
первый взгляд основы для установления искомого
специального значения и предметной ценности в сфере эстетического
сознания. Такое ограничение, хотя уже и было провозглашено
Кантом, не было им, однако, методически, в достаточной мере
обосновано* оставшись, как бы сказать, лишь девизом его
эстетики, именно в известном положении его долженствовавшим
и могущим служить к ее обоснованию, гласившим, как
известно, что «никакой объективный принцип вкуса невозможен».
Известно, какое плодотворное влияние имел этот принцип
для дальнейшего развития эстетики, послужив у Кернера3*4*
и особенно у Шиллера к освобождению от сомнений по поводу
«гармонического характера художественного творчества»40*,
насколько оно оказывается подчиненным единству всего
вообще культурного творчества, и с ним всегда должно быть прямо
или косвенно связано. От всякой узкой шаблонности, внешней
авторитарности, слепого преклонения перед раз
установленными образцами древних канонов и правил в их произведениях,
от всякого вообще, как выражается Коген, мифологического
суеверия и эстетических мистерий философская эстетика раз и
навсегда была освобождена влиянием этого кантовского
принципа. На очереди стояло только теперь его обоснование.
254 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когена...
В этом обосновании и заключается, как сказано, главная
заслуга Когена в решении основной эстетической проблемы,
по сравнению с ее положением у Канта.
Лишь в самых общих и кратких чертах имеем мы здесь
возможность наметить план этого решения.
Что касается выдвинутого уже Кантом и Когеном принятого
только что упомянутого основоположения, что «никакой
объективный принцип вкуса невозможен», то здесь прежде всего
должно быть устранено то недоразумение, по которому в
эстетику вместе с этим принципом грозит, как может на первый
взгляд показаться, проникнуть всякого рода произвол,
случайность, превознесение и т. п. Между тем при таком допущении
тотчас оказалось бы ведь утраченным сознание того единства,
которое должно незыблемо оставаться в нем, то есть в сознании,
его руководящим методологическим принципом. И тотчас
исчезла бы тогда самая возможность постановки также и
эстетической проблемы, ибо тогда неизбежно должна была бы отпасть
также и эстетическая закономерность, как закономерность
собственно эстетического сознания. Без единства невозможна ведь
никакая закономерность вообще. Не от закономерности и
объективности вообще должно предохранять нас признание этого
кантовского принципа, а лишь от принятия на веру мнимой
объективности готового произведения искусства, как и от всякого
некритического преклонения перед авторитетом, хотя бы и
самого великого, представителя того или иного искусства, как
перед автором каких-то мнимо нормативных предписаний.
Ведь всякая такая объективность на деле легко может быть
разоблачена как лишь некоторая утонченная субъективность,
поскольку в каждом объекте любого истинно
художественного произведения, в сущности, лишь из ряда вон выходящая
субъективность гения есть то, что сообщает мнимо
объективную значимость порождающему данное произведение
искусства эстетическому сознанию.
Поэтому, чтобы раскрыть подлинную природу и значимость
чистого эстетического сознания и ему соответствующего и им
порождаемого особого предмета, для этого нельзя при
философском рассматривании этого сознания ограничиться ни
узкообъективной, ни узкосубъективной точкой зрения, но нужно сделать
попытку рассмотреть это сознание и присущее ему единство не
только в отношении к порождаемому им особому предмету, но +-
и в этом то существенно новое, что отличает позицию Когена от
Часть II
255
Кант, — в отношении этого сознания к нему самому. Но что
же, собственно, может означать и что подразумевается под таким
рассмотрением? Да не что иное, как взятие сознания в его
собственном, внутреннем обстоянии как такового, то есть в его
процессах, актах, способах деятельности и обнаружения, поскольку
в них по отношению к эстетической проблеме осуществляется
его единство. Это-то обстояние (das Verhalten) сознания в его
деятельностях и обозначает искомое здесь отношение
эстетического сознания к нему самому и в нем самом.
И не только, конечно, в отношении эстетической проблемы,
но в не меньшей мере также и для теоретического познания,
и для воли должно быть принято во внимание соответствующее
обстояние или отношение к самому себе каждого из
соответствующих родов или направлений сознания. Ни в отношении
к теоретическому, ни особенно в отношении к нравственному
познанию или воле, не могло бы найти себе осуществления то,
что было понято или охарактеризовано выше, как чистота
сознания и познания, если бы всякое отношение к порождаемому
предмету не было обусловлено этим первоначальным обстоя-
нием каждого данного рода сознания в его отношении, прежде
всего, к самому себе. И если не может подлежать сомнению, что
направленность на подлежащий порождению предмет не может
быть игнорирована ни на какой стадии характеристики
чистоты того или иного рода или направления сознания, то в не
меньшей мере будет сохранять свою силу также и то, что для
понимания этой чистоты требуется всесторонне выявление и точная
оценка значения деятельности сознания, также и в его
собственном внутреннем обстоянии и отношении к самому себе как к
таковому, так как иначе и чистота порождения предмета не могла
бы найти для себя никакого надежного начала.
Правда, это обстояние, чтобы его как различие, так и прямое
отношение к порождению отнюдь не было ни утрачено, ни
затемнено, само должно взять на себя роль и сохранить за собой
характер методического основополагания для самой
возможности порождения соответствующего ему предмета, однако в не
меньшей мере здесь должно быть подчеркнуто и то основное
методологическое соображение, что всякая вообще
систематическая закономерность того или иного из основных
направлений сознания не есть и не может быть не чем иным — даже
и в смысле первоначального обстояния будучи понятой, — как
опять-таки некоторого рода основополаганием.
256 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
Только когда эта основная мысль платоновско-критической
философии, что все вообще законы только есть и только и могут
быть основополаганиями, станет общим достоянием для всех
вообще областей научного познания, только тогда, по убеждению
Когена, и для эстетики отпадет опасность господства в ней
всякого рода как положительных (непререкаемые законы в
исторических данных образцовых произведениях искусства), так и
отрицательных (художественное всемогущество и
безответственность произвола отдельных особо одаренных индивидуумов)
предрассудков, только тогда будет она, наконец, в состоянии
выбраться на торный путь непрерывного научного развития.
Основополагание как критерий разума — таков
достигнутый здесь результат и в то же время отправной пункт даль^
нейшего исследования путей, долженствующих привести
к решению эстетической проблемы.
Основная проблема эстетики сводится поэтому по
убеждению Когена, к следующему радикальному вопросу: может ли
само обстояние сознания как единство тех его актов и деятель-
ностей, которые должны иметь значение для эстетической
проблемы, — может ли само оно, это обстояние, быть раскрыто
и показано как имеющее силу и значение основополагание
Отнюдь не о психологическом освещении или описании идет
здесь, следовательно, речь, ни даже о единстве в многообразии
тех деятельностей, которые входят в состав этого обстояния*
но единственно только о своеобразности той области созна~
пия, которая манифестируется, как бы сказать, в этом обстоя-1
нии, и о том единстве и закономерности, которыми эта своеоб^
разная область сознания обозначается и характеризуется* \
Не о единстве сознания в его целом, что собственно состав*
ляло бы предмет чистой или трансцендентальной психологии}
взятой в смысле систематического завершения всего
философского познания во всей его полноте, но единственно толь·*
ко об эстетическом единстве сознания в отношении к эстети*
ческой проблеме должна идти речь и вестись исследование
при правильной постановке этой проблемы: только о сообраз-»
ноети и применимости основололагания, понятого в смысле
эстетического обстояния сознания.
Принцип основопалагания, понятого в смысле критериума[
и здесь должен остаться руководящим.
И если, вопреки всякой авторитативной объективности»
здесь делается попытка начать исследование, отправляясь от
Часть H
257
субъективного, по-видимому, обстояния сознания, то сама эта
точка зрения должна быть оправдана, должна мочь обнаружить
свою силу в качестве основополагания, в противном случае, она
должна быть признана несостоятельной, как
несоответствующая раз навсегда нами принятому методологическому
принципу. Отнюдь не о субъективном в обычном, Или даже кантовском,
смысле чувства возвышенного по поводу восприятия природы,
ни о комическом, ни о трагическом в смысле известного
определения сознания или чувства, ни, наконец* о сентиментальном
или непосредственно-наивном способе понимания и
постижения, свойственном художественному сознанию, ни о чем
вообще подобном не идет и не может здесь идти речь, так как во всех
этих определениях и подразделениях решение эстетической
проблемы неизбежно уже предполагалось бы в определенном
материальном смысле, между тем как по смыслу поставленной
проблемы задача может состоять здесь пока еще единственно
только в методическом искании путей к ее решению.
Принятый Когеном к руководству метод полагания в
основание требует поэтому совершенно другого рода,
сравнительно с только что приведенным, определения сознания в том об-
стоянии, которое должно иметь значение для эстетической
проблемы'и для эстетической закономерности как условия
этой закономерности соответствующего, искомого,
эстетического предмета.
Однако сомнения по поводу применимости принципа
полагания в основание в отношении к тому или иному роду
обстояния самого сознания, как и [к] некоторому
субъективному его аспекту или состоянию, — эти сомнения все же
остаются, по-видимому, весьма значительными и пока что как будто
непреодолимыми. Ибо как, в самом деле, можно было бы
метод «полагания в основание» приложить к чему-нибудь
другому, кроме проблемы порождения предмета? Как применить
этот метод к порождению — не предмета, а обстояния самого
сознания, то есть к порождению обстояния, по-видимому,
всецело субъективного? Что же может получиться при этом, что,
собственно, могло бы быть таким образом порождено?16 К че*
му другому могли бы мы при этом продвинуться, как не к
самому же этому субъективному обстоянию, раз отношение
к предмету намеренно оставляется здесь нами в стороне?
,e Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. S. 89.
258 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когена.
При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что
такой ответ или, точнее, такая более глубокая и заостренная
постановка основной проблемы эстетики не таит в себе никакой
несообразности. Ибо на поставленный так остро вопрос: что же,
собственно, может быть при этом порождено? —
представляется возможным даже вполне точный и ясный ответ —
порождено будет не что иное, как закономерность самого же этого
эстетического сознания. И если на это находят возразить в том
смысле, что эта закономерность и есть сама не что иное, как некоторое
основополагание, как всякая вообще закономерность всегда
только и может быть таковым, то на самом деле это не только
не будет возражением, но как раз доказательством
правильности нашей постановки и даже началом ее решения. В самом
деле, ведь если про некоторое обстояние сознания может быть
показано, что оно представляет собою и есть не что иное, как
закономерность эстетического сознания, то этим и доказывается
как раз правомерность применения основополагания, как
выражения методологического принципа, к характеристике в
качестве такого и самого данного обстояния сознания. Другими
словами, закономерность эстетического сознания именно таким
образом и раскрывается перед нами как содержание некоторого ее
выражающего собою основополагания, а содержания
отдельных произведений искусства, как и все традиционные мнимо-
эстетические понятия вследствие этого и перестают как раз
быть, как до сих пор, единственным якобы содержанием,
порождаемым этим основополаганием. Теперь, напротив, речь
впервые идет о самой закономерности, и только она сама и
рассматривается теперь как единственное подлинное содержание, все
же другие содержания, в противоположность ей оцениваются
лишь как относительные и второстепенные; ни одно из них не
признается уже более за непосредственное порождение из
самого основополагания как такового.
Так, после целого ряда тончайших соображений и
последовательно все более углубленных формулировок постановки
основной проблемы эстетики Коген приходит наконец к своему
последнему выводу относительно методологического смысла
постановки этой проблемы, долженствующему подготовить ее
к возможности ее принципиального решения. Вывод этот таков:
только в отношении субъективного обстояния сознания может
быть в конечном счете оправдан трансцендентальный или, как
Коген выражается, платоновасо-критический метод «полагания
Часть II
259
в основание», если только и поскольку верно, что именно
закономерность эстетического познания есть в данном случае его
чистое порождение и его единственно подлинное содержание.
Но даже и в этой, казалось бы, окончательной
формулировке проблемы эстетики она все еще оказывается поставленной
перед большим и грозным для нее вопросом: может ли
эстетическая закономерность быть обоснованной в такой
субъективности соответствующего обстояния сознания, о которой,
по-видимому, все же идет здесь речь?
Из логики мы знаем, что чистая закономерность
формулируется там только в чистых категориях и соответствующих
родах суждений, которые и объективируются затем в связях
между собой и отдельных явлениях тел природы. Аналогично
происходит также и необходимая объективация нравственных
законов в учреждениях, служащих в истории народов к
выражению и закреплению достигнутых в сфере их нравственной
жизни успехов и результатов. Но здесь, в области эстетики, мы,
по-видимому, не имеем права, как было показано выше,
рассчитывать на те объективации, которыми мы, казалось, могли
бы располагать в произведениях искусства — напротив, здесь,
в эстетике, мы, согласно сказанному, должны опираться
всецело и исключительно только на то своеобразное обстойние
сознания, Kotорое здесь должно иметь в виду, как
соответствующее содержанию и смыслу эстетической проблемы.
Но если дело в действительности обстоит так, то не
впадаем ли мы здесь в противоречие с самым принципом методики
закономерности, как для всего вообще чистого познания во
всех его областях руководящим и основным? Как, в самом
деле, понять и обосновать мысль, что и эстетическая
закономерность должна и может получить для своих чистых форм
соответствующую им объективацию, раз принципиальное
обоснование для нее может быть заложено исключительно только
в субъективности соответствующего обстояния сознания?
С другой стороны, если совсем отказаться от мысли о
возможности сформулировать искомую эстетическую закономерность
в таких объективно выразимых чистых формах, то не будет ли
этим вообще уничтожено всякое их значение как
законосообразных форм, как правомерного выражения и осуществление
эстетической закономерности? И все же мы видим, что; ЙеЫотря Аа
эту грозную, казалось бы, для решения эстетической1 йроблеаГы
опасность, обращение к «субъективному обсгоянйю5саз*йния»,
260 О постановке основной проблемы эстетики у Канта н Когсна...
о котором все время шла речь, оказалось необходимым, так как
иначе против возможности эстетической оценки тотчас
поднялись бы и для нее стали бы непреодолимыми все фантомы
мнимо-объективных законов, против которых было ведь направлено
уже и кантовское «основное положение» о невозможности
какого бы то ни было объективного принципа вкуса. Такова
возникающая здесь альтернатива: [только] поставим мы себе задачу
проследить основные формы эстетической закономерности, — как
это прямым текстом приведет нас к Сцилле авторитативных
предписаний, станем мы, наоборот, двигаться по наклонной
плоскости субъективного обстояния сознания — как это тотчас
ввергнет нас в Харибду опасности совсем лишиться всякой
закономерности и, таким образом, самую проблему эстетической
закономерности разложить и уничтожить во внутреннем
противоречии. Ведь всякая закономерность должна иметь в виду
законы, и без объективации в них не может найти для себя
осуществления также и никакая эстетическая закономерность.
Проблема эстетики и «полатание в основание» для нее
должны быть поэтому поняты в том смысле, что уже в
субъективном на первый взгляд обстоянии особого рода сознания
должна корениться и из него должна быть развитой особого
рода объективная закономерность, а следовательно, и
раскрытие этой закономерности в отдельных законах ее выражающих
и осуществляющих.
Но только своеобразность самой этой эстетической
закономерности могла бы и должна была бы при этом требовать,
чтобы те законы, в которых ей предстоит раскрыть себя, были в
методическом смысле отличны от того, в каком смысле должны
и могли бы быть поняты логические и эстетические законы,
сообразно с их особым, им только свойственным,
методологическим значением и смыслом. И это своеобразие эстетических
законов должно было бы быть раскрытым и понятым из
своеобразия самого обстояния сознания, которое здесь служит «ос-
новополаганием» — принципом самой возможности
эстетической закономерности вообще и как таковой.
Следовательно, не самый смысл и типическая форма того,
что мы вообще называем законом, должны быть или грозят
быть здесь, утраченными нами, ибо тогда исчезла бы, конечно,
и самая закономерность, — но нет, речь идет здесь только о том,
чтобы соответственно своеобразно искомой эстетической
закономерности и отдельные чистые формы, и законы, из нее
Часть II
261
порождаемые, также сохраняли своеобразное, им только
свойственное методическое значение.
Систематический характер эстетической закономерности
непредотвратимо этого требует: ее законы должны
отличиться от законов логики и этики, должны выражать собой и иметь
за собой в качестве принципа их возможности свою совсем
особого рода закономерность.
Таково, в самых общих чертах, направление, по которому
должно пойти, по убеждению Когена, решение основной
эстетической проблемы.
Два трудных вопроса возникают и во что бы то ни стало
должны быть преодолены на пути к этому решению.
Во-первых, вопрос о самой возможности и совсем особого рода
закономерности, здесь искомой, поскольку закономерности двух
первых родов (логическая и этическая) необходимо при этом
предполагаются содержащимися в искомой, новой
закономерности — эстетической — и никоим образом не должны из нее
исчезнуть; во-вторых, вопрос о возможности нового рода
самого сознания, в котором, в свою очередь, согласно
требуемому условию закономерности, должны содержаться оба первые
рода сознания, также ни под каким видом не подлежащие
исключению из искомого нового рода сознания.
При этом главным камнем преткновения в решении этих
вопросов является, по-видимому, как раз то, как мы видели,
необходимое значение сознания как субъективного обстояния,
которое требовалось самым своеобразием смысла и
содержания эстетической проблемы. Ибо с первого взгляда неясно,
какой еще новый род обстояния сознания мог бы быть принят
и доказан в своем особом значении наряду с двумя другими
родами обстояния сознания, лежащими каждый соответственно
в основании познания и воли, тем более что и для нового,
искомого обстояния сознания остаются в силе условия, что оба
первые рода обстояния сознания необходимо должны входить
по самому содержанию и смыслу эстетической проблемы в это
новое обстояние сознания и его содержание собой, по крайней
мере отчасти, каждое со своей стороны образовывать.
Указанное здесь коренное затруднение в более обобщенной
форме может быть выражено и так: ведь все возможные
области сознания, по-видимому, уже распределены между
познанием и волей. Деление это представляется полным, как в
отношении родов субъективного обстояния сознания, так в не
262 О постановке основной проблемы эстетики у Канта и Когена...
меньшей мере также и в отношении той чистой деятельности
сознания, которая должна служить условием порождения тех
или иных законов и им соответствующих предметов. И эта
трудность, и это сомнение еще тем более возрастают, что в
искомой новой области сознания старые, уже известные нам
большие его провинции — познания и воли — не должны ни
быть упущены из снимания, ни вообще быть из него изъяты,
так как онм составляют м представляют собой интегральные
части и моменты искомой новой области сознания, той новой
большой провинции, а может быть, и царства, которое мы
обозначаем термином «эстетическое».
Отсюда и становится, между прочим, понятным, почему в
попытках определить эстетическое сознание так часто
наблюдалось в истории эстетики либо сосредоточение всего внимания
на познании, хотя бы и с учетом значения нравственности как
его особого вида в разных направлениях искусства, либо
обращение к таким пустым и крайне расплывчатым по своему
содержанию терминам, как личность, индивидуальность, даже гений,
утрачивающий в таком случае строго методическое значение,
приданное ему Кантом, как, наконец, и это в особенности,
стремление найти мнимое убежище от всех трудностей в апелляции
к таким субъективным состояниям сознания, как удовольствие,
наслаждение, художественный инстинкт, вдохновение и т. п.
Все эти метания только выдают со всей силой ту
громадную трудность, которая должна быть во что бы то ни стало
преодолена в искании новой области или рода сознания, того
нового обстояния его, которое необходимо установить, дабы
решение основной проблемы эстетики в ее своеобразности
и систематическом значении стало вообще возможным,
согласно старому девизу, стремящемуся поставить эту
проблему со стороны искусства: «Part pour Tart»41*.
Известно» что сам Коген нашел это решение в принципе,
понятии и термине чистого чувства с его особой, своеобразной
закономерностью и предметами.
Но нашей задачей не может здесь быть уже ни изложение,
ни критика этого учения, как далеко выходящего за пределы
темы нашего доклада, имевшего в виду выяснить лишь
основное различие и частичное родство в постановке основной
проблемы у Канта и Когена.
Б. Фохт
10 июня 1924 г., Москва
Пауль Наторп
П. Наторп (24 января 1854 г. — 17 августа 1924 г.), один из
выдающихся мыслителей современной Европы, выступил
в качестве исследователя в области теоретической философии
и педагогики уже с начала 80-х годов прошлого столетия. Свое
образование он получил в классической гимназии родного
города (Дюссельдорф) и затем в университетах Берлина, Бонна
и Страсбурга. Схоластический метод преподавания
философии, почти повсеместно царивший тогда в германских
университетах, оттолкнул его, заставив, несмотря на сильный
у него с самого начала интерес к собственно философским
проблемам, на целые годы отойти от непосредственного
изучения философии, чтобы посвятить себя изучению
математики, истории культуры и особенно искусства, а также, и даже
главным образом, филологии как самой по себе, так и в ее
применении к решению важных проблем общего,
историко-культурного характера, как-то: проблемы мифа, происхождение
религиозных представлений, зарождение элементов строго
научного знания и т. п.
Специализировавшись в Бонне в области классической
филологии и став учеником Узенера1*, он на всю жизнь сохранил
это ценное приобретение и плодотворно развил его
впоследствии в своих историко-критических исследованиях по
разным периодам античной философии, из каковых наиболее
выдающимися можно считать исследование об этике
Демокрита (критика текста)2*, о метафизике Аристотеля'**, об идеях
Платона**, по истории античного скептицизма5*, — чтобы не
называть многочисленнейших, более мелких исследований
и статей по самым разнообразным вопросам из области
античной философии, разбросанных в разных периодических
органах по классической филологии и истории философии,
например в «Philosophische Monatschrift»6*, «Enzyklopädie».
Пауль Наторп
265
В течение всей своей студенческой жизни до самых ее
последних лет в Страсбурге он много энергии и увлечения
отдавал также занятиям музыкой Баха и Бетховена, а также
проникновению в суть и смысл «нового искусства» Р.Вагнера.
В этой области сам он уже с молодых лет проявил себя
самостоятельным творчеством, написав и тогда, и в течение всей
последующей жизни значительное число музыкальных
композиций, главным образом, для камерной музыки.
Изучение законов и форм языка и всей вообще природы
человеческой речи, прирожденная музыкальность, общая
художественная одаренность и тонкое чувство эстетической
формы вообще — все время поддерживали в Наторпе актуальный
интерес к основным проблемам эстетики, к их
систематизации и обоснованию. Проблема человеческого, то есть чисто
нравственного, смысла религии как выражения единства
и внутренней общности (Gemeinschaft) человеческого рода,
как и проблема гуманности, понятой в смысле всегда, правда,
только искомого начала разумного самоопределения
человечества к осуществлению конечного торжества истины,
свободы и социальной справедливости7*, — также никогда, даже уже
в студенческие годы не переставали иметь для него самый
непосредственный жизненный интерес.
Но не одни эти проблемы, а прежде всего другая,
актуальнейшая проблема философии как строгой науки,
разрабатываемой по единому, плодотворность своих применений в
непрерывном развитии гарантирующему методу, привела Наторпа
в последние годы его университетской жизни в Страсбурге
к поколебленному было решению в его первые годы (в
Берлине) снова всецело посвятить себя философии.
Только отчасти и только косвенно могла подвигнуть к
этому молодого Наторпа материалистическая философия того
времени, поскольку она была известна ему или принималась
им не как диалектический материализм, а в сравнительно
мало развитой и еще не свободной от догматических элементов
форме учения Бюхнера о материи и силе, за каковым
учением он уже и тогда признавал, однако, значение культурного
фактора, способного поддержать и усилить интерес к
некоторым важным научным и философским проблемам, особенно
к проблеме достоверности научного познания8*.
Как раз в это время, после долгого скептического периода
колебаний и неуверенности, совсем было отдалившего от на-
266
Пауль Наторп
дежды на осуществление идеи философии как строгой науки/
он от одного из друзей в Марбурге получил письмо, в
котором тот писал ему, что там, в Марбургском университете,
под руководством профессора Ф.А. Ланге и молодого
ученого, доцента того же университета Германа Когсна9*
зарождается новое направление в философии, ставящее своей задачей
на основе изучения и дальнейшей критической разработки
я развития основных начал философии Канта и его метода
создать прочный фундамент для обоснования возможности
такой философии, которая по единому методу, последовательно
применяемому к решению всех ее, систематически одна
другую вызывающих проблем, могла бы непрерывно двигаться
вперед «по надежному пути науки»10* (Кант).
Вдохновленный этими сведениями, Наторп, следуя
внутреннему, всегда бывшему в нем изначальным, жизненным,
стремлению и интересу к философии, теперь принимает так
свойственное юности, быстрое и окончательное решение
посвятить себя философии; он делает в этом смысле заявление
профессору Э. Лаасу11* в Страсбурге и терпеливо отдает себя
во власть его требовательного преподавания и строгой
дисциплины руководимых им семинарских занятий.
С этого-то именно времени, о котором он на всю жизнь
сохранил благодарную память, начинается второй период
философского развития Наторпа, отмеченный в первые годы его
(середина 70-х годов прошлого столетия) ревностным
изучением как сочинений Ланге и Когена, посвященных
интерпретации и критической разработке учения Канта о познании во
всем его целом, то есть включая сюда также этику (познание
нравственного), эстетику (познание прекрасного) и другие
части системы трансцендентальных принципов и их
применение, так и сочинений Лааса и косвенно также других
позитивистов, направленных, прежде всего, на критику априоризма
Канта не только в его собственном учении, но, как это
особенно имело место у самого Лааса, вплоть до самых его корней
(через Лейбница и Декарта) в учении Платона об идеях.
С одной стороны, стоит перед ним теперь как идеал новая
строгая форма возрожденной в Марбурге философии Канта
с ее на универсальность претендующим трансцендентальным
методом, с другой — стремительная и проницательная
критика основных позиций этой философии и всех исторических
корней ее, включая сюда и учение Платона о познании и иде-
Пауль Наторп
267
ях, со стороны системы воззрений позитивизма и его метода,
представленных Лаасом.
Скептическая тенденция его ума помогает ему продумать до
конца лаасовский позитивизм и оценить по существу
содержащиеся в нем возражения против основных принципов учения
о познании Канта и Платона. Предстояло решить, может ли
этот позитивизм с его признанием первоначальных и
непосредственных данных познания в виде восприятий и
ощущений как не только отправных моментов во времени, но и
первоначальных будто бы элементов и условий самой
возможности познания, в свою очередь, устоять против кантовской
критики с ее резко выраженным антипсихологизмом,
априоризмом и трансцендентальным методом применения и
оправдания принятых и открытых Кантом начал и элементов
познания. Так ли обстоит дело, что во всяком познании и для самой
его возможности всегда в качестве коренного условия
имеется нечто первоначально данное в виде восприятий и
ощущений, так что все наши представления и понятия суть только
продукты чрезвычайно тонкой и сложной обработки в
последнем счете всегда перв№ачш1ыю и непосредственно данного со-
держания мира наших ощущений, и всякая необходимость
и всеобщность научных суждений всегда имеет поэтому лишь
вводный, производный, заимствованный характер
закономерно проведенной абстракции от первоначально данного
содержания и материала наших ощущений, или дело, наоборот,
обстоит так, что сами эти ощущения, со всем их материалом,
содержанием и проистекающей из него предметностью, сами
зависят от основных тенденций, элементов и условий, в
структуре, составе и закономерности научного познания
коренящихся и без него невозможных и нереальных?
Такова дилемма, такова основная контраверза между
Лаасом и Кантом, психологизмом и априоризмом, позитивизмом
и критицизмом, которую предстояло решить Наторпу. Ряд
оснований, принципиальный смысл которых станет ясным из
последующего, заставил Наторпа склониться к критицизму
Канта и к признанию прав трансцендентального метода в
отношении обоснования научного, нравственного,
художественного и, как увидим, даже психологического познания.
Краткая формула, в которой в этот второй период
философского развития Наторпа (начавшегося в конце 70-х годов
прошлого столетия) может быть сосредоточено все существо и си-
268
Пауль Наторп
ла влияния на него возрожденной в трудах Ланге и особенно
Германа Когена философии Канта, гласит в известном
выражении, данном Когеном проблеме познания предмета, так:
предмет должен быть обоснован в возможности опыта
Хв смысле научного, расширяющего познания предмета
понятного), в нем сам впервые должен стать возможным.
Но отнюдь не только предмет научного, теоретического
познания, но не в меньшей мере так же предмет практического,
нравственного, эстетического, художественного, как и всякого
вообще другого возможного рода предметного познания
имеется здесь в виду. Ни для Наторпа, ни для Германа Когена,
влияние которого теперь сказывается в полной мере, Кант
вообще никогда не был только критиком, тем более только
критиком теоретического познания. Естественно поэтому, что
трансцендентальный метод Канта в понимании и углублении
смысла и значения его Г. Когеном как принципа и пути
закономерного построения и определения всяческого вообще
возможного предмета познания побуждает Наторпа обратиться
теперь к применению этого метода в той области, которая, как
мы видели, издавна, чуть не с первых дней юности, была для
него особенно близкой и дорогой, именно — к применению его
к области искусства и познания принципов и условий его
обоснования как особого, совсем своеобразного родгмтознания.
Так на этой, сравнительно ранней, стадий развития
философии Наторпа возникла у него неотступная и впредь
потребность к обоснованию и построению философской эстетики,
преимущественно в смысле философии искусства им
понятой, а эта потребность, в свою очередь, привела к другой,
именно—к проблеме познания нравственного как в чистой форме
его закономерности (этика), так и в его прикладном значении
(социальная педагогика).
Таким образом, во внутренней связи этих, одна другую
необходимо вызывающих проблем, к которым скоро
присоединилась еще новая, философски не менее важная и
фундаментальная, в некотором роде даже высшая и завершающая
проблема психологии, то есть познания субъективного как
такового, как первоначального и непосредственного в
сознании, стали уже тогда рельефно намечаться контуры той
всеобъемлющей философской системы, проникнутой духом
единого, в строжайшей последовательности проведенного и к
решению всех, даже второстепенных сравнительно, проблем
Пауль Наторп
269
примененного метода, которая, то есть эта система,
выступает перед нами, правда, все еще не вполне законченной, в
последнее десятилетие жизни Наторпа.
Нет сомнения, конечно, что отправные пункты для
построения этой системы в будущем были даны отчасти уже в
рассматриваемый второй период развития философских воззрений
Наторпа и даже уже в первую его половину, в 80-х годах прошлого
столетия, в философии Канта или, вернее, [в] том дальнейшем
развитии и очищении ее от остатков тетенсовского12*
психологизма и вольфовой онтологии13*, которые они получили уже
тогда в главнейших сочинениях Г. Когена, но не менее несомненно
также и то, что даже и этой громадной работы прошлого все еще
было недостаточно для дальнейшего развития тогда уже, правда,
рельефно наметившихся и начавших приходить в систему
философских воззрений Наторпа, в своей подлинной
оригинальности пришедших, однако, в окончательную ясность лишь в
последний период его деятельности, именно после 1912 года. То же,
о чем здесь идет пока речь, было только второй стадией всего его
философского развития и только еще первой стадией влияния
на него философии Канта и особенно Когена. К этому же
приблизительно времени, именно к 1881 году, относится и хабили-
тиция (получение доцентуры) Наторпа в Марбурге17.
Теперь предстояло дальнейшее углубление, переработка
и систематическое объединение этих исторически
завещанных и систематически так глубоко важных, принципиальных
и фундирующих основ.
Это углубление и развитие указанных отправных основ
пошло у Наторпа по несколько своеобразному, однако,
продолжающимся влиянием произведений Когена подсказанному
ему окольному пути историко-философского, потому что
систематическую цель никогда не перестававшего иметь в виду,
исследования самих корней этих основ трансцендентальной
философии Канта и ее метода, — сперва у ближайших
предшественников Канта, именно Лейбница и Декарта, а затем
также у Галилея, Кеплера, Николая Кузанского и, наконец, и это
в особенности и главным образом, Платона1 *\
Кроме художественных сторон и тенденций в философии
Платона, всегда бывших Наторпу с его изощренным филоло-
17 В 1885 г. Иаторп стал там же экстраординарным, а через семь лет затем
(1892) ординарным профессором.
270
Пауль Наторп
гическим чутьем и общей художественной одаренностью,
особенно близкими, понятными и дорогими, настойчивые
указания Г.Когена помогают ему теперь сперва открыть, а потом
и систематически все более плодотворно развить собственно-
научную, строго логическую и диалектическую сторону в
учении Платона о познании и идеях, — ту, которая в целом ряде
диалогов Платона, начиная с «Менона», помогает Наторпу
с классической неопровержимостью доказать наличность
в учении Платона о познании не только элементов
позднейшего (кантовского) априоризма, но также, правда еще в
весьма зачаточной форме, и основную идею, и принцип смысла
кантовского трансцендентального метода15*.
Уже Когеном определенно поставленная на очередь
необходимость углубления принципиальных основ и предстоящая
затем радикальная реформа теоретической, а в связи с ней и всей
вообще философии на основе и в направлении углубления
и развития как смысла, так и применения
трансцендентального метода, — эта фундаментальная задача, а не мнимое
«одностороннее кантианство», в котором именно Наторп никогда не
был грешен, заставили его предпринять и филологически,
и философски весьма ответственный труд выделения и
предварительного обобщения в учении Платона, прежде всего,
того содержания и той тенденции, которые имеют
первостепенную важность для строго научного обоснования и раскрытия
смысла применения ко всем областям человеческого познания
и исследования культуры трансцендентального метода.
Как бы там ни было, углубление и обоснование основных
приобретений философии Канта, как и ее частичное
исправление, и очищение от продолжавших еще тяготеть над нею
пережитков догматического прошлого философии в виде, прежде
всего, рецептивности чувственного познания и готовой
данности многообразного в чистом созерцании и его основных
формах yi законах (пространство и время) — это необходимое
исправление и частичное преобразование учения Канта могло
пойти и действительно пошло единственно только по пути
и при посредстве более глубокого, в трудах Г. Когена и
особенно Наторпа впервые достигнутого, проникновения в
подлинный смысл [учения Платона о познании или, по крайней мере,
той стороны этого учения, с точки зрения которой «идеи»
понимаются как первоначальные элементы и условия самой воз-
можности познания («Менон», «Теэтет»), как его основные
Пауль Наторп
271
предположения или законы (гипотезы в диалоге «Федон»)
и принципы («Государство», «Тимей») без обращения
внимания пока или, вернее, с намеренным' отвлечением его до
времени от всех других аспектов значения этого термина, какими
могли бы быть и действительно были у Платона метафизический
(идеи как вещные сущности), эстетический (идеи как
созерцаемые единства) и даже мистический смысл идей (как
творческих начал жизни). Только в аспекте этого новою, точнее, вновь
открытого в трудах Когена и особенно Наторпа]* значения
термина «идея» у Платона как гипотезы ('ύπόφεσις*), закона или
логического принципа познания в исторической связи этого
понятия с учением Декарта о чистой мысленной природе
пространства и учением Лейбница о чистой мысленной или
«идеальной» природе непрерывности стало, наконец, возможным
придание учению Канта о познании той законченности и свободной
от противоречий формы, которую мы особенно ясной находим
в трудах конца этого второго периода развития философских
воззрений Наторпа. К этому же периоду и даже уже ближе к
началу его (1888) относится так же применение и
распространение Наторпом критического (трансцендентального) метода
Канта на новую область обоснования психологии как науки,
хотя, правда, о субъективном, непосредственном и
первоначальном в нашем сознании, однако в то же время и как о чем-то
таком, что в этой своей субъективности, первоначальности и
непосредственности для нашего познания о нем всегда лишь
реконструируется как таковое из разных родов объективного
познания и их внутреннего систематического единства
Вопреки распространенным в то время воззрениям на
психологию с почти исключительным признанием в ней метода
личного самонаблюдения, Наторп, едва ли не первый в
истории этой сравнительно новой тогда философской
дисциплины, делает весьма богатую своими последствиями попытку
доказать, что субъективное, первоначальное и непосредственное
в сознании само по се(хГеще отнюдь не является таковым же
для познания о нем и что только при этом условии и только
с этой точки зрения разрабатываемая психология могла бы
стать наряду с логикой, этикой и эстетикой строго
философской дисциплиной, построенной по одному с ними, хотя
* Фрагмент приводится по рукописному варианту текста, где
зачеркнут. - НЛ
liJL
Пауль Наторл
и в особом направлении примененному и развитому методу,
как наука о самом субъективном как таковом и тем самым как
наука о предмете, в некотором смысле даже объединяющем
в себе все вообще возможности предметного философского
познания.
Вместо совокупности простых описаний субъективного,
чем психология была еще во времена Канта и чем оставалась,
в сущности, у всех его последователей и противников до
середины последней четверти XIX века, она теперь должна
стать, по убеждению Наторпа, не только в ряду с другими
философскими дисциплинами, но даже завершающим и
увенчивающим звеном единой философской системы, построенной
по единому философскому методу, [так, чтобы к ней, в этом
ее новом аспекте, приложимо было, в известной мере,
определение JKorera, не оставшееся, как можно думать, без влияния
на Наторпа: «Die Psychologie ist die Lehre von dem, wie das Sein
geworden ist» — «Психология есть наука о том, как бытие
стало быть». Во всяком случаеГтолыш^
му пути, психология может, по убеждению Наторпа, стать
строгой наукой]*.
В теснейшей методологической и идейной связи с этим
обоснованием психологии на принципах и по методу
критической философии находится также и (в свое время
значительное влияние оказавшая) статья Наторпа в XXIII томе
«Philosophische Monatshefte» — «Об объективном и
субъективном обосновании познания»16*, где он впервые со всей
определенностью высказывается против психологического
обоснования познания, являясь в этом отношении прямым
предшественником Гуссерля.
Не вдаваясь здесь в подробности, мы обратим внимание
читателя лишь на общую, руководящую мысль этой статьи
Наторпа, имевшей такое большое влияние на все последующее
развитие теории познания и разработку психологии: «То, что
мы называем субъективной стороной^сознания и его
субъективным единством (нашего Я), и что мы понимаем как
таковое, ни в каком случае не может быть_принципом объяснения
и, следовательно, познания чего-лиёо^ поскольку это
субъективное и его единство само может быть познано нами единст-
'Фрагмент приводится по рукописному варианту текста, где
зачеркнут. - H Д.
Пауль Наторп
273
венно только путем реконструкции, то есть путем обратных
заключений (Rückschlüsse) от того, что составляет его же
порождение, то есть тот или иной род из него проистекающих
объективных познаний. Творческая и порождающая
активность нашего сожашвд, miu^^H^nj^^'né iaiisi нам
непосредственно. Если бы это имело место, наше сознание, наше
Я, само превратилось бы в явление, тогда; как оно, напротив,
есть то, в отношении к чему что-либо только и может быть
явлением. Науки о сознании как таковом (о душе) в строгом,
прямом смысле этого слова нет и быть не может, а раз это так,
то она явно не может быть для нас и отправным пунктом
учения о познании. Непосредственно данными являются для нас
единственно только фактъиюзнания, и ими мы должны,
следовательно, удовлетворяться и только от них отправляться».
Но какие же именно факты сознания следует признать
наиболее подходящими, чтобы в них получить и обеспечить
себе надежную базу для обоснования познания? Единственным
принципом для решения этого вопроса может быть,
по-видимому, только попытка найти и установить наиболее
элементарные первоначальньш и именно поэтому основоположные
для самой возможности обоснования факты. Найти и
установить такие первоначальные факты представляется, однако,
делом весьма трудным, тем более что их элементарность
и первоначальность может быть понята в двояком смысле:
так, позитивисты склонны, как известно, понять и защищать
первоначальность этих элементов в смысле отправного
начала познания во времени, и тогда этими элементами,
естественно, будут служйТьдля них ощцгцения как то, что во времени,
быть может, действительно является первым и играет роль
стимула, пробуждающего к жизни всякое вообще познание.
Психологическая первоначальность ощущений была бы
таким образом установлена. Но чтобы эта субъективная
первоначальность ощущений во времени могла быть также
первоначальностью познгитя и для него — это ниоткуда не
следует, и утверждение этого содержит в себе явное заблуждение
относительно самой природы и познавательного характера
этих элементов. [Первоначально данными во времени могут,
конечно, быть ощущения, но каким образом и через что
может быть фиксировано и установлено их содержание? Чем бы
ощущения ни были сами по себе, то, что в них становится
выразимым и раскрывается как содержание, может быть ис-
274
Пауль НаторА
пользовано для познания, лишь поскольку оно становится
доступным фиксации и выражению, а это происходит не иначе
как через посредство суждения — в_понятии. Поэтому, не гог
воря уже о том, что ощущения и вообще представляют собою
собственно вовсе не элементы познания, а только стимулы
к его возникновению, но, даже и будучи фиксированы в
своем содержании, они оказываются вовсе не элементарными
понятиями, а, напротив, понятиями, выражающими те или
иные, более или менее сложные отношения, как-то:
отношения числовые, пространственные, отношения движения чего-
либо, обладания чем-либо, какими-либо свойствами и т.п.
Но если все только что сказанное справедливо, то
утверждение позитивистов, что в ощущениях, как отправном начале
познания во времени, тем самым содержатся и элементы
самого познания, должно быть признано в корне ошибочным.
Психологическая и логическая первоначальность явно не
совпадают друг с другом.]*
В самом деле, ведь в качестве чисто субъективных
переживаний ощущения, очевидно, це могут быть объектами, а в
лучшем случае только их знаками, истолковываемыми
посредством их обработки в понятиях и лишь таким образом
могущими вести к познанию лежащих в их основе предметов. Так
называемые явления вещей со всей их случайности и
бесконечном многообразии должны быть поэтому в целях по^ма-
ния, прежде всего, приведены к некоторому объединяющему
их закону, чтобы таким образом впервые получить вообще для
познания какое бы то ни было значение. И только
возникающие на этой почве «единства*, в смысле понятий, есть уже
действительные элементы познания, не заключенные уже
в более узкие рамки субъективного переживания и именно
поэтому могущие быть общепонятными и общезначимыми.
«Этим, — говорит Наторп, — в достаточной мере можно
считать установленной априорность объективного обоснования
познания в противоположность субъективному. Наука не
имеет и ни из каких вообще других единств, кроме объективных,
исходить не может, никакого другого возможного начала
познания для нее не существует. Субъективное в последней
инстанции вообще как таковое никаким способом установлено
'Фрагмент приводится по рукописному варианту текста, где
зачеркнут. — ИД.
Пауль Наторп
275
быть не может, но подлежит определению единственно
только через объективные единства в понятиях; а то, что как
таковое вообще не может быть установлено в соответствии с
условиями познания, — на то познание и стремиться не может
опереться»17*.
Если теперь свести мысленно воедино все до сих пор
наметившиеся и уже успевшие получить логическую
определенность тенденции этого второго периода философского
развития Наторпа, то общие контуры — не его мировоззрения,
основная ищущая тенденция которого шла и захватывала и тогда
уже гораздо дальше и глубже, но основные черты и грани
того, чем была тогда его философия, насколько она нашла себе
точное, абстрактное выражение в опубликованных к тому
времени (конец 90-х годов XIX столетия) сочинениях его, — эти
контуры и эти грани могут быть обрисованы и намечены уже
с достаточной определенностью как к этому же
приблизительно времени определилось и глубокое расхождение Наторпа
с Г. Когеном по одной из самых важных проблем,
относящейся к самой природе трансцендентального метода и его
применения. Вместе с Г. Когеном и отчасти под влиянием изучения
его поздйейших произведений, посвященных исследованию
основных'начал философии Канта (особенно [«Kants Theorie
der Erfahrung»] по 2-му изданию 1885 г.), Наторп, никогда не
переставая, впрочем, и здесь быть самостоятельным и
оригинальным, признает в полном согласии с Когеном
необходимость такого преобразования и дальнейшего развития
основных принципов в философии Канта и такого углубления
и расширения смысла применения трансцендентального
метода, по которому все, что в учении Канта оставалось еще для
познания первоначально-данным и готовым, теперь получило
бы лишь значение проблемы данности, чтобы еще
неопределенное и двойственное учение Канта о способностях познания,
особенно о чувственности как рецептивной способности
получать или иметь дело с готовым материалом многообразия
ощущений, превратилось в определенное и ясное учение об
этих «quasi-способностях» как, на самом деле, только о
средствах, направлениях и путях (методах) разных родов
прогрессивно и синтетически непрерывно развивающегося научного
познания и его организации; чтобы «вещь в себе» мыслилась
только как бесконечная задача, то есть как никогда вполне не
достижимый «идеал» такого прогрессивно развивающегося
276
Пауль Наторп
процесса научного познания, чтобы наука как объективное
выражение «опыта» всегда понималась бы как
ориентирующий познание «факт» — только в смысле «Fieri»18*, а не
в смысле готового и законченного результата и чтобы, нако:
нец, в связи со всем этим между терминами «врожденный»,
«априорный» и «трансцендентальный» было проведено ясное,
никаких недоразумений не допускающее различие, а
трансцендентальный метод в самом существе своем, своей идее
и своем применении был бы раз навсегда обособлен от всех
родов психологического генетизма (Локк) и ему [генетиз-
му. — Н.Д. | со всей определенностью противопоставлен как
более первоначальный и в отношении ко всякому другому
возможному методу познания основоположный.
Но если, таким образом, относительно понимания и
оценки одной из двух главных исторических основ возникающей
в трудах Когена и Наторпа новой философии
преобразованного кантианства, именно относительного подлинного,
жизненного смысла важнейших постижений философии Канта,
между обоими мыслителями было достигнуто к этому
времени более или менее полное согласие, то этого отнюдь нельзя
было сказать относительно другой, не менее важной
исторической основы, подлежащей в их трудах обоснованию, новой
или по крайней мере глубоко и в корне обновленной
философии, именно относительно понимания основных начал
философии Платона, то есть его учения об идеях, в частности об
«идее Блага».
С точки зрения Г. Когена, действительное понимание
учения Платона об идеях вообще и идее Блага в особенности, в
котором Коген видел главный отправной пункт для — отчасти
исправления, отчасти углубления — как всего учения Канта
в его систематическом единстве, так, в частности и даже
главным образом, в отношении более глубокого понимания
смысла и применения трансцендентального метода, — это
понимание Платона Когеном в самых общих чертах сводится к
следующему: платоновская идея есть, прежде всего, выражение
требования~«дачи отчета» о смысле и силе познавательного
значения и ценности «понятия», поскольку в ней, то есть
в идее, методическое, предметное мышление закладывает как
бы основание для самого себя, для самой своей
осуществимости, а следовательно, для понятий, в которых оно находит свое
предметное выражение. «Давать отчет» (λόγον διδόναι) и «по-
Пауль Наторп
277
лагать» или «закладывать основания» ('υποφίφεσφαι) суть
поэтому для Платона однозначащие термины. И в этом-то
именно смысле понятия, то есть основополагание как гипотеза
('υπόφεσις-), идея, обозначают собой и обеспечивают истинное,
подлинное бытие совершенно аналогично тому, какую роль
играет «гипотеза» и в современной физике. Помимо и за
пределами так понятой «идеи» нет для Платона и никакого
познания, и никакого бытия* как равным образом нет никакого
бытия и никакой науки о нем, так сказать, и до или
независимо от такого понимания «идеи», как принципа познания.
И вот эта-то именно своеобразная платоновская логика
субстанции (сущности) как подлинной сути и средоточии бытия
и стала, как известно, со времени эпохи Возрождения
подлинным и бесспорным рационалистическим основанием не
только математики, но и всего, по крайней мере, математического
естествознания, с более или менее ясно выраженной
тенденцией стать в процессе своего развития таким основанием
также и для всей вообще науки о природе в ее целом, включая
сюда и природу органическую.
До сих пор и в этих пределах между Когеном и Наторпом,
в рассматриваемый период его философского развития,
заметного расхождения в понимании учения Платона об идеях как
отправного пункта для переработки, углубления и развития
основных начал учения Канта о познании, а также о смысле
и пределах применения трансцендентального метода, как
будто не замечается.
И в своем «так много возражений» вызвавшем «Учении
Платона об идеях»18, и в «Логических основаниях точных наук»19
Наторп, подобно Когену, и не без влияния с его стороны, со всей
последовательностью и энергией проводит долго остававшееся
забытым и в целях обоснования познания неиспользованным
понимание платоновской идеи как «гипотезы — закона», то есть
как некоторого, в основе своей чисто логического отношения
предиката к субъекту (όνομα — ρήμα), отношения «предициро-
вания», в котором для каждой идеи как бы фиксируется
гипотетически ее смысловое содержание; причем от одних йдейТэу-
дет возможен и необходим закономерный переход как от отно-
18 [Piatos ldecnlehre], 2-е изд. 1921 г.
19 [Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. — Leipzig: Teubner],
2-е изд. 1921 г.
278
Пауль Наторп
шений менее общих и фундирующих к отношениям все более
общим и фундаментальным в понимании Наторпа — вплоть до
фундаментальнейшего и уже последнего, верховного
отношения закона уже самой законосообразности (Gesetz der
Gesetzlichkeit), «верховной идеи всех идей» (по терминологии
Платона совпадающей с идеей Блага), как последнего, уже
негипотетического начала (άνύποφεφν) всяческого познания
и бытия, «по своей силе и достоинству» (значению) стоящему
выше или, точнее, «по ту сторону» (έπέκεινα της* ουσίας"),
глубже и того и другого.
Но как раз в этом последнем пункте, в этом на первый
взгляд, казалось бы, в высшей степени последовательном
развитии Наторпа, впервые Когеном в новейшее время
выдвинутой интерпретации платоновской идеи как гипотезы19*, вплоть
до понимания и истолкования «негипотетического», по
Платону, начала «идеи Блага» так же лищь_„э_£МЫ£ле некоторой
высшей гипотезы, идеи Блага как идеи всех идей — в смысле
верховного «закона сообразности», в этом как раз отношении
между обоими мыслителями свое решительное и для всего
последующего развития философских воззрений Наторпа
чрезвычайно важное и своими последствиями фгатое
разногласие, заставившее его, в конце концов, не только в корне
изменить все свое понимание учения Платона об идеях, но наряду
с другими факторами, косвенно побудившее его впоследствии
пересмотреть, изменить и существенно углубить также и весь
строй, всю систему и даже самый принцип объединения и
систематизации своих философских воззрений, каковым
принципом все в большей мере становится для него идея уже не
как «гипотеза», а как непосредственное усмотрение или
умозаключение20.
Важное принципиальное разногласие между обоими
мыслителями, о котором здесь идет речь, состояло в том, что
значение платоновской идеи как гипотезы, закона или
отношения предицирования строго .ограничивалось у Когена
областью познания математического и того, что могло служить
выражением более или менее непосредственного применения
математики к познанию природы, но такое значение «идеи»
См. об этом, как и (об) усилившемся влиянии на Наторпа учения
Гераклита о Логосе, Metakritischer Anhang (1920) к «Piatos Idecnlchre» по 2-му
изд. 1921 г. под заглавием «Logos — Psyche-Eros» (S. 457-513].
Пауль Наторл
279
у Платона отнюдь не простиралось, по убеждению Когеиа,
на область познания нравственного, на безусловное, как то,
что у Платона находит себе выражение в термине «идеи
Блага» и что сам Платон характеризует, как принцип, «стоящий
выше всех чисто мысленных предположений». Этот
верховный принцип не есть уже дело чистого мышления, понятого
как отношение предицирования, но требует высшего
потенцирования его (мышления) до возможности непосредственного
охватывания им предмета познания в его безусловном, а не
гипотетическом только значении и смысле. Поэтому и метод
философского познания не должен быть односторонне
абстрактным или, точнее, абстрагирующим и потому — только
дискурсивным, но он должен включать в себя также и момент
непосредственного интуитивного познания. На высшей
стадии своего применения чистое мышление должно мочь* стать
чистым созерцанием; как и, наоборот, чистое созерцание как
момент или метод непосредственного творческого полагания
предмета должно так или иначе найти себе место и
применение в сфере чистого мышления. Словом, познание не все и не
до последних своих корней, не до своего первоисточника, есть
продукт или дело чистого мышления, понятого в смысле
простого установления логических отношений предицирования,
но в своем подлинном первоисточнике направленном уже не
на бытие природы только, а_на безусловное, или
«абсолютное», оно, в этом своем соотнесении, с этим своим перво-пред-
метом, не есть уже, по взгляду Когена, дело чистого
мышления, понятого в смысле простого мысленного полагания
(νοειν, das reine Denken), но той высшей потенции его или
аспекта, которая (эта потенция или направление) должна быть
понята как непосредственное усматривайте, как чистое,
то есть свой предмет производящее, умозрение (καφαρώς*
'opöv, das reine Schauen). А соответственно этому и идея
Платона не есть уже только «мысленное принятие и полагание»,
только гипотеза некоторого закономерного, хотя бы и самого
общего, что ни на есть, логического отношения
предицирования, словом, не мысленное основание или «полагание в
основание» — υπόφεσις* — только, но нечто непосредственно^хо-
тя, правда, все же творчески, порождгюще усматриваемое как
«первоисточник», как «верховный принцип» (αρχή άνύποφε-
τος~20*) всякой предметности, всякого бытия и закона, как
принцип самого смысла того и другого, именно потому стоя-
280
Пауль Наторп
щего выше или, лучше сказать, лежащего трансцендентально,
глубже бытия и познания.
Заслуга Платона перед философией в том как раз и
заключается, по мнению Когена, что посредством понятия
«чистоты» или, что то же, творческой производящей
первоначальности (Ursprung), он и понятию познания придал значение
и смысл пластической определенности, впервые самый
предмет устанавливающего принципа, а не простого метода
абстрагирования и отвлеченного полагания предмета. В этом-то
именно смысле «идея», и только она, означает истинное
бытие, подлинное содержание познания. И несомненно, что идея
приобретается и, как бы сказать, завоевывается у Платона для
познания только в чистом созерцании, но это созерцание
именно в силу своей чистоты, своего производящего характера есть
в то же время и чистое мышление, как и, наоборот, чистое
мышление есть в этом смысле чистое созерцание — умозрение.
Таков, по убеждению Когена, подлинный, истинный и
вечный смысл учения Платона об идеях, преднамечающий в то
же время и требование того направления, в каком должно
пойти углубление и дальнейшее развитие применения
трансцендентального метода: вместо прежнего кантовского дуализма —
между чистым созерцанием и чистым мышлением — должно
быть установлено внутреннее методологическое равновесие
и даже единство со всеми вытекающими отсюда
последствиями, но в то же время с сохранением своеобразного характера
и момента созерцания, и момента мышления в едином
методе чистого философского познания. Таково настойчивое
предупреждающее напоминание, обращенное к Наторпу со
стороны Когена в вопросе о понимании и установлении
подлинного смысла учения Платона об идеях как принципах
достоверного познания.
Между тем Наторп в рассматриваемый второй период его
философского развития остается все еще более или менее глух
к этим указаниям, продолжая в понимании учения Платона об
идеях и познании держаться в гораздо большей мере той
первоначальной трансцендентально-логической схемы, по которой
«идеи» рассматриваются им почти исключительно или, во
всяком случае, преимущественно как мысленные основрположе-
ни&Жадта._Словом, Наторп все еще остается в понимании
этого, для всего его философского развития бывшего руководящим
учения Платона об идеях ближе к априоризму Канта, чем к ис-
Пауль Наторп
281
толкованию этого учения Когеном и к подлинному Платону,
и этим в значительной мере обусловливается и определяется
также и общий, несколько слишком отвлеченный, характер всех
его философских произведений вплоть до конца этого периода
развития его философии, то есть приблизительно до 1910 г.
Правда, другая, более глубокая и всеобъемлющая
тенденция к универсальному синтезу и проникновенному
пониманию более глубокого и коренного единства не только
теоретического познания, но и всей культурной жизни
человечества в его целом, заметно пробивается и все плодотворнее о себе
заявляет уже и в этот период его философского развития,
но полное преобладание эта тенденция, сделавшая Наторпа
впоследствии не только творцом новой, более глубокой и
методологически несравненно более гибкой теоретической
философии, но даже самым решительным,·красноречивым и
даже вдохновенным провозвестником, защитником и
проводником нового, более глубокого понимания основной проблемы
жизни и связанных с ним социалистических и даже
коммунистических идеалов, — такого полного преобладания эта
тенденция у него все же пока еще не получает: он все еще
остается в этот период, прежде всего, мыслителем теоретического
познания,-философом математического естествознания в
духе Канта и его морали долга, хотя последнюю в своей
«Социальной педагогике»21 он уже и теперь всячески стремится
освободить от ее формализма и все еще сильно выраженной
в ней односторонне-индивидуалистической тенденции.
Идея нещэдьганой связи и взаимоотношения индивидуума
и общш^сти^1ли «об
«жизни в общем деле» (κοινωνία)21*, уже теперь становится для
него руководящим принципом, девизом всего его последующего
развитии по пути к осуществлению сперва
«последовательного педагогического социализма» (der konsequente pädagogische
Socialismus), а потом и социализма вообще, во всей его
универсальности, как принципа всего вообще человеческого, всякой
истинной человеческой общественности и ее прогресса в
развитии государственных форм в общемировом масштабе22.
21 См. особенно [Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf aer
Grundlage der Gemeinschaft. Stuttgart: Frommann], 5-е изд. 1922.
22См. об этом особенно: [Gesammelte Abhandlungen zur Sozialpâdagogik.
Stuttgart], 2-е изд. 1922 г., и [Sozialidealismus. Berlin: Springer], 1920 г.).
282
Пауль Наторп
Тем не менее преимущественное внимание и все творческие
силы Наторпа сосредоточены в этот период, как мы видели, все
еще, главным образом, хотя теперь уже не исключительно,
на разработке теоретической философии, в методе познания
которой, его обосновании, разработке и развитии он видит
главный опорный пункт для преодоления препятствий и развития
целостного мира и жизнепонимания. Впоследствии, уже перед
концом своей деятельности, сам Наторп, вспоминая этот
преодоленный им период развития и протестуя против запоздалых
упреков его в крайнем абстракционизме, к которым он когда-
то сам подал повод, говорит: «...в_методе точной науки я и
тогда уже усматривал только, хотя, правда, и прочнейшую, ступень
для прогрессивного развития все дальше и выше некоторой еди~
ной, но в себе не однородной, а многообразной по многим
измерениям и продвигающейся логической методики, которая, беря
свое начало отсюда, должна подняться затем до самых
отдаленных, по-видимому, от математики и логики вершин духовного
развития человеческой культуры»22*. И он поясняет, что для
такого бесконечно саморасчленяющегося метода, прежде всего,
но не исключительно, объективного познания, основание,
которое могло бы держать на себе все это имеющее быть
воздвигнутым грандиозное здание, не только объективного в узком
смысле, но и всякого вообще познания, — что такое основание
должно быть заложено в некоторой новой, во всей широте
поставленной задаче отвечающей, психологии.
Но прежде чем быть в состоянии перейти к окончательному
решению этой, давно уже стоявшей перед ним, с 1888 г.
непрерывно им разрабатываемой и теперь приобретшей только
большую определенность проблемы — нового обоснования
психологии23*, решение каковой проблемы впоследствии привело, как
увидим, Наторпа вместе с возникшей в связи с этим задачей
радикального преобразования логики, к коренному изменению
всего его философского мировоззрения, — прежде всего этого
Наторп, в рассматриваемый нами период его развития, стремится
упрочить для своей философской системы теоретическую базу
на почве преобразованного, очищенного и углубленного
исследованиями Ф. Ланге и Г. Когена учения Канта о познании по
единому, так же Когеном впервые со всей определенностью
развитому и обоснованному, трансцендентальному методу Канта23.
См. об этом особенно:... гл. 1 и 2 [См. примечание 22*].
Пауль Наторп
283
Так, за период времени с 1888 по 1909 гг. возникает первая,
но как бы еще только предварительная система философских
воззрений Наторпа, уже охватывающая в^ебе решение, хотя
бы и не окончательное, всех основных проблем философии:
и критики, или теории познания, и этики, и эстетики, и
педагогики, и философии истории и т. д.
Проблему единой, по единому методу разрабатываемой
философии, как синтетической и постоянно дальнейшему
развитию открытой системы принципов всех помянутых родов
философского познания, Наторп с полной определенностью
осознает и формулирует уже в первую половину этого периода
своего философского развития. «Если современным
положением вещей, — так писал Наторп уже в 1894 г., — вопросы
поставлены радикально, то нужны и радикальные ответы на них,
следовательно, нужна наука, но не та или другая наука, а
радикальная наука — философия»24*.
Та философия, однако, которую в последующие 15 лет
своей жизни развивает Наторп в целом ряде своих выдающихся
по таланту и повсюду приобретших влияние философских
и педагогических произведений (особенно в его ...25*), — эта
философия не есть еще окончательная, его собственная,
вполне оригинальная философия, но та, которая служит
выражением «основных начал всего мировоззрения» той
неокантианской школы, которая стала известна под именем марбургской
школы философии, основанной Г. Когеном в 80-х годах
прошлого столетия.
Не вдаваясь и здесь в подробности, мы наметим только
общую схему синтетической связи и единства принципов этой,
во многом, правда, преобразованной, очищенной от ошибок
и углубленной, но в существе своем все еще платоно-кантов-
ской системы воззрений на бытие, познание, нравственность,
прекрасное, воспитание и связанные со всем этим более
второстепенные проблемы философии.
Преобразованная в указанном выше направлении на
основе платонизма эта платоно-кантовская философия есть
философия человеческой культуры и в этом смысле представляет
собой как бы некоторую высшую педагогику, по отношению
к которой сами они есть её обЬсйовывающая и именно
потому — философская сторона: истинная философия имеет свою
(конкретную) педагогическую сторону, истинная педагогика,
педагогика мировой культуры, — философскую сторону.
284
Пауль Наторп
Понятой в этом смысле философии предстоит критически
обосновать самую возможность прогрессивно развивающейся
мировой культуры и для этой цели, прежде всего, решить,
руководствуясь единым философским методом
(методологический монизм всей школы) основные проблемы бытия и
познания, чтобы уже и на этой почве и отсюда перейти затем к
решению также и всех других проблем, сразу и в их чисто
философском, и в прикладном, или педагогическом
значении. И бытие^ и познание, и человеческая культура, нее,
выражение в воспитании рассматриваются при этом
процессуально, то есть не как нечто законченное, готовое, как раз
навсегда данное, но как нечто всегда cτaнoвящeecяJ растущее,
разевающееся. Теория этого процессуально понятого бытия
есть поэтому одновременно и теория свободы, автономии или,
но крайней мере, — все дальше идущего освобождения
человечества в развитии его культуры24.
Но это процессуально понимаемое бытие есть бытие жизни,
стало быть — бытие сознания, а познание этого бытия есть
познание все дальше развивающегося сознания
человечества — его самосознание, его культура, с развитием которой шаг
в шаг идет и планомерно направляемый и методически
охраняемый рост этой человеческой культуры, то есть воспитание
человеческого рода. Необходима поэтому наука об этом
развивающемся сознании и самосознании, и при этом — не какаяглибо
наука о той или иной стороне сознания, но основная
универсальная наука о всем сознании в его целостной полноте и
единстве, радикальная, фундирующая центральное, нет,
центрирующее единство познания собой выражающая наука —
философия. [Первый, кто во всей глубине понял эту подлинную
природу философии и ее единство с педагогикой, понятой
в указанном широком смысле, был Платон. Основатель в
равной мере и философии, и педагогики как науки, Платон,
единственный, по мнению Наторпа, из философов до Канта, и в этом
отношении прямой его предшественник, впервые со всей
определенностью понимал философию как указание пути достовер-
21 Это явно антиметафизическое истолкопание Канта Наторпом,
несомненно, сильно сближает его в этом пункте с основной руководящей точкой
зрения диалектического материализма, с его энергичным протестом
против неправильной попытки некоторых правых гегельянцев представить
познание бытия как Принципиально замкнутое в себе и законченное,
а процесс мировой истории — как раз и навсегда предопределенный.
Пауль Наторп
285
ного познания, то есть как метод в равной мере и
«образования» человеческого рода, и развития наук. Воспитание и для
него уже, как впоследствии и для Руссо, Канта и Песталоцци,
было только единством всех социальных установлений и
потому в существе своем совпадало с социальной жизнью
человечества и его развитием; педагогика и им мыслилась уже только
как практическая сторона и применение философии, притом не
только как этики, но и как логики.]* Но так как всякое позна-
ние, даже и теоретическое, есть самопознание, то есть в
конечном счете всегда некоторое приведение себя в согласие с самим
собой и другими, то познавание (Lernen) и обучение (Lehren)
все^^в корне совпадают^д^^^^угом («Менон» Платона).
Самосознание само еще должно быть только пробуждено в
общении с самим собой и другими. Принцип общения и
взаимной критики является поэтому и для педагогики, и для
философии в не меньшей мере основным и руководящим, чем
принцип индивидуальной самодеятельности (спонтанности) и
самозаконодательства (автономии). Философствовать всегда,
в бюльшейили меньшей мере, можно только совместно
^другими (συμφιλοσοφεΐν), и учить философии значит учить ^жло-
с6$ствованию (Кант)2Г)\ Человек становится мудрым, то есть
образованным, только в общении и через общение, только в
совместном творческом порождении духовных, или, что то же,
культурных, ценностей (Платон). Путь (метод) к этому лежит
через логику и математику в их глубокой и неразрывной связи
с этикой, как науки о последнем принципе всякого
культурного прогресса и образования. Сознание глубокой связи этих
дисциплин одно только и может поэтому раскрыть и укрепить
подлинную социальную основу действительной, соответствующей
своему назначению человеческой жизни и деятельности.
Таков общий дух и отправной пункт системы философских
воззрений Наторпа в этот период его философского развития,
отразивший* объединивший и глубоко претворивший в себе
основные тенденции учения Платона, Канта и Песталоцци,
но в общем оставшийся им верным.
В строгом и полном соответствии с этим (общим духом и
отправным пунктом философских воззрений Наторпа) в
рассматриваемый период находится также и все, во внутренней не-
* Фрагмент приводится по рукописному варианту, где был зачеркнут.
Напротив фрагмента на полях сделана пометка: «нужно». — НД.
286
Пауль Наторп
прерывной последовательности между собой связанные,
отделы единого в себе учения о познании бытия, единой, как бы
сказать, всеобщей логики сущего, именно: логика, или теория
познания в узком смысле, этика, эстетика и другие аналогичные
отделы познания единого в себе бытия, если бы таковые
могли быть указаны, и необходимость их надлежаще обоснована.
[В самом деле, то, что с намеченной здесь отправной точки
зрения можно было бы обозначить термином «бытие» и
понимать как таковое, есть нечто иное, как смысл и содержание
логического высказывания или суждения, но ни того или
другого рода высказывания и суждения, что привело бы только
к тому или иному особому роду или виду бытия, но —
логического высказывания или суждения как такового или
вообще; как и, наоборот, то, что единственно только и можно
подразумевать под смыслом или смысловым содержанием
такого высказывания вообще, и есть бытие. Бытие есть смысл
высказывания, и смысл высказывания есть бытие.]*
Что касается теперь логики ЬПс6бствённом,^более узком
значении слова, то существенный смысл всех вообще логических
высказываний, суждений и положений (Setzungen) есть
утверждение й бытия тоже в собственном, более тесном значении,
именно бытия в смысле высказывания о том, что есть, в
отличие от того, что должно быть, и что в известном смысле, в свою
очередь, опять-таки есть. Смысл собственно логических
высказываний и суждений есть поэтому не выражение того, что так-
то и так-то должно мыслить, а лишь раскрытие условий, при
которых мышление становится или оказывается правильным.
Другими словами: «правильно мыслимое не потому
правильно, что так должно мыслить, а, наоборот, так должно мыслить,
потому, что так мыслить правильно* (то есть, мысля так, мы
мыслим о том, что есть; мысля иначе, мы мыслим о том, чего
нет, так, как если· бы orto было, то есть неправильно).
Как основная философская дисциплина, фундирующая все
другие роды философского познания (этику, эстетику и др.),
логика как наука о познании бытия, понятого в смысле бытия
природы, есть наука не нормативная, а законоустанавливаю-
щая11*, законы которой только во вторичном и производном,
стало быть, не собственном и не точном смысле могли бы быть
* Фрагмент пропущен в машинописи. Приводится по рукописному
варианту. - H Д.
Пауль Наторп
287
названы нормами. Так, например, даже закон недопустимости
в мышлении противоречия не есть, как это на первый взгляд
может показаться, предписание или норма, но — только
простое, объективное выражение того, как обстоит дело в мыш-
лении, когда оно правильно, то есть когда и поскольку оно есть
мышление о том, что есть. И только уже в производном
смысле регулирующего и руководящего принципа поведения (то
есть, в сущности, только психологически) закон этот может
получить значение и стать нормой.
Совершенно в том же смысле и эстетика не есть
нормативная дисциплина, но всего только законоустанавливающая наука
о бытии того, что есть или не есть прекрасное в природе,
прекрасное художественное произведение лди данное в частности;
и ее, эстетики, основная функция также не в том, чтобы
что-либо предписывать, но лишь в том, чтобы располагать и
указывать признаки художественно прекрасного, как и п^красного
в дрироде. Предписывать, чтобы что-нибудь новое, имеющее
возникнуть, было как раз таким* как это уже есть в
каком-либо великом произведении искусства или художественном
восприятии природы, было бы здесь, то есть в области эстетики,
даже особенно абсурдным, так как к самому существу
прекрасного в каждом истинно художественном восприятии природы
всегда относится его безусловная неподражаемость, его на
абсолютность, по крайней мере, претендующая
индивидуальность, делающая его не мнимым образцом для подражания,
а лишь фактором для пробуждения в другом его собственного,
по возможности столь же оригинального творчества или
воспроизведения прекрасного. Поэтому и эстетические законы,
поскольку таковые вообще есть или могут быть установлены,
могли бы иметь значение норм и здесь, как и в логике, тоже лишь
в производном и несобственном смысле слова. Смысл чистого
эстетического закона гласил бы, следовательно, единственно
только, что так-то и так-то обстоит дело в художественном
произведении или восприятии, поскольку оно таково, иначе же его
вообще нет, то есть только в этом вот, а не в ином в чем
заключается эстетическое единство и закономерность.
Но если так обстоит дело со смыслом логической и
эстетической закономерности в философском познании логики и
эстетики, то отсюда не трудно уже вывести аналогичное последствие
и для этики, как ни сильно именно в ней, как в философском
выражении самопознания того особого направления сознания, ко-
288
Пауль Наторп
торое называется волей, должно быть искушение признать и
понять ее, в действительности также только устанавливающие
особое бытие должного, законы как нормы и предписания для самой
этой воли. В самом деле, поскольку этика есть наука, она может
быть таковой лишь как наука о той особой (высшей) форме
бытия, которая называется должным и, следовательно,
устанавливает законы этого должного как особого, пусть даже высшего,
рода сущего. Подобно эстетике и логике она, в конце концов, может
иметь своей задачей лишь следующее: показать, что так-то и так-
то обстоит дело с тем, чего вообще можно хотеть именно с
содержанием и смыслом того, что может быть предметом и целью
того особого направления сознания, которое называется волей, что
при таких-то вот условиях эта воля согласна сама с собой и в
себе самой, в противном случае — нет, так-то вот она возможна,
иначе — нет. Значение же этического закона как нормы, как
предписания, что так-то вот должно хотеть, — есть только следствие
из сказанного и не имеет самостоятельного значения и
первоначальности. Только само это «обстояние», что так-то и при таких-
то условиях воля согласна сама с собой, имеет значение и смысл
«первоначального» для воли, основного закона ее как бытия
особого направления сознания. И этика, подобно логике и эстетике,
также есть, следовательно, строго объективная, законоустанав-
ливающая, а не нормативная, субъективная и, в конце концов,
только психологическая дисциплина.
Все эти три философские дисциплины: логика, этика и
эстетика, — суть поэтому, согласно выражению Наторпа, чистые
законоустанавливающие науки, в которых закон только в
производном и вторичном смысле может получить значение
нормы, значение, однако, вполне допустимое и даже необходимое,
поскольку эти обстояния чистой закономерности во всех трех
указанных областях: чистого мышления, воления и
художественного построения (и восприятия), — могут и даже должны
противопоставляться хаотическому течению фактически
имеющихся в каждом данном случае представлений о
действительности окружающего мира и собственного существа,
неурегулированной и случайной смене стремлений воли и,
наконец, свободной и часто причудливой смене продуктов
творческой фантазии и чувства25.
См. обо всем этом «(название пропущено. — ЯЛ-]» 2-е изд. 1924 г. и
особенно первую статью этого сборника.
Так вполне естественно и правомерно возникает в
философии Наторпа и само по себе, и для обновления его
педагогики особенно важное и руководящее противопоставление идеи
и ее осуществления, цели и пути к ней, наконец, нормы и
направляемой ею деятельности или поведения. Но
методологически в основе так построенной системы философского
познания все же остаются лежащими три строго объективные зако-
ноустанавливающие, а не нормативные науки: чистая логика,
чистая этика и чистая эстетика.
По отношению к этим, методологически теснейшим
образом между собой связанным и одна в другую непрерывно
переходящим, объективным, чистым, законоустанавливающим
наукам, психология, по убеждению Наторпа, напротив, есть на->
ука о субъективном, именно о единстве непрерывно
развивающейся закономерности этих трех наук, но взятой и понятой
не в объективном смысле установления при ее посредстве и на
ее основе соответствующих родов объектов, а в субъективном
смысле сведения ее, этой закономерности, к единому, в этой
же закономерности, в свою очередь, раскрывающемуся
центру сознания, к так называемому центру нашего Я, через
основные отношения к которому все вообще только и может
становиться сознаваемым, в качестве такового подлежащим
оформлению и объективированию в помянутых трех основных
и других, если бы таковые оказались методологически
возможными, законоустанавливающих философских науках.
Продолжающее оставаться основным и руководящим
требование центрального и центрирующего единства всего
философского познания в его целом, то есть единства самой
философии, от такого методологического расчленения ее на
отдельные области не только не пострадало бы, а, наоборот, выиграло
бы, поскольку непрерывный переход логики в этику и
эстетику и, следовательно, внутреннее единство их, как
законоустанавливающих наук, только еще больше и полнее завершилось
бы и центрировалось в новом аспекте их психологического
единства, именно как последовательных и непрерывно
развивающихся объективации этого субъективного единства
сознания, восстанавливаемого и могущего быть обнаруженным,
правда, всегда лишь через обратные, так сказать, заключения
(Rückschlüsse) от разных родов объективного познания и их
единства — к первоначальному источнику все с большей
полнотой, таким образом, раскрываемого и, следовательно, в ко-
10 — 9303
290
Пауль Наторп
нечном счете всегда лишь искомого субъективного единства
сознания как такового.
Возникающую уже здесь и всем существом дела с
необходимостью подсказываемую коренную задачу — представить
этику и эстетику и другие аналогичные философские дисциплины
как методологически необходимое распространение логики на
соответствующие новые области предметного
(синтетического) познания — эту задачу построения единой всеобъемлющей
логики идеи, по терминологии Канта, или «всеобщей логики»,
по позднейшей терминологии самого Наторпа, он сделал, как
увидим, главной темой у всех своих воедино сведенных
исследований последнего, уже всецело самостоятельного и
оригинального периода своего философского развития. Но в
рассматриваемый нами второй период философского развития
Наторпа все эти великие начинания его находятся еще в неразвитом
виде [в этой], впервые только в конце этого периода (около
1909 г.) со всей определенностью высказанной, основной
тенденции его философии» здесь же еще далеко не получившей
своего полного выражения и осуществления.
[Если ко всему здесь сказанному о философских
воззрениях Наторпа этого периода присоединить еще указание на все
возраставшее стремление его к углублению в ряде небольших
произведений этого времени постановки и решения уже
в 1888 г. самостоятельно и своеобразно сформулированной им
проблемы психологии как науки о субъективном как таковом,
в духе все наиболее полного раскрытия внутреннего
взаимоотношения и, в конце концов, конкретного единства всех трех
главных направлений объективирующего, предметного
оформления субъективно-сознаваемого содержания в логике,
этике и эстетике, то картина систематического единства
воззрений Наторпа к концу второго периода (1909 г.) его
философского развития станет более или менее полной.]*
К последним годам этого периода относятся также и
энергичные усилия Наторпа, проявленные им в целом ряде
относящихся к этому времени сочинений, к освобождению от
последних следов до еих пор все еще в известной мере
тяготевшего над ним формализма кантовской этики и эстетики.
Все глубже и всестороннее разрабатываемое им понятие
жизни как внутреннего, проникнутого чувством конкретного един-
* Фрагмент приводится по рукописному варианту. — IIД.
Пауль Наторп
291
ства формально поставляемых для воли нравственных целей
(сосредоточенных, как в своем кульминационном пункте, в идее
нравственного достоинства автономной человеческой личности)
с непосредственным содержанием окружающей действительное-
ти социального и, только уже в его пределах, индивидуального
опыта, — это новое, развитое понятие жизни и ее непрерывного
творческого созидания все более решительно поставляется
теперь на передний план в мировоззрении Наторпа, чтобы в
третий период его философского развития, испытав еще новое
преобразование и дальнейшее углубление, занять, как увидим, уже
безусловно центральное и доминирующе положение.
Равным образом и в области эстетики Наторп стремится
уже теперь к все большей конкретизации и жизненности в
понимании существа и принципов познания прекрасного в
природе и искусстве; он далеко не ограничивается уже
установлением только самого предмета и закономерности построяю-
щего свой объект эстетического сознания в идее, хотя бы
и фиктивного только, единства бытия природы и бытия
нравственного, то есть должного, в духе Канта и Шиллера, но все
с большей силой убеждения стремится он теперь к
творческому одухотворению и жизненной конкретизации этой идеи
прекрасного как актуального фактора человеческой культуры.
Не только своеобразная закономерность творческого
художественного воображения (фантазии) как путь к построению
и конкретизации эстетического предмета, сообразно идее
о нем, но и момент чувства в трансцендентальном значении
его как чистого чувства все больше входит в круг его
внимания и интереса при разработке философской эстетики.
[Воззрения Наторпа в этой области развиваются теперь
в тесном соприкосновении и под влиянием
непрерывающегося обмена мнениями и дискуссии с Г. Когеном, тогда уже
подготовлявшим выход в свет своей «Эстетики чистого чувства»,
при этом он [Наторп] не переставал преследовать и развивать
одну главную, ставшую для него теперь во всем руководящей,
тенденцию к преодолению всякого абстрактного формализма,
к конкретизации и жизненной актуальности развиваемых им
воззрений.]*
То же, наконец, направление к конкретизации, к
установлению связи с неотступными, ставшими неотложными задача-
* Фрагмент прн иоднтся по рукописному варианту; где был зачеркнут.—H Д.
292
Пауль Наторп
ми и интересами окружающей социальной жизни,
проявляется у него в эти годы и в разработке философии истории, где
социалистический, даже коммунистический, идеал, в качестве
всемирно-исторического фактора развития человеческой
общественности, все в большей мере становится для него
направляющим принципом в пламенной и неустанной борьбе за
настоящую свободу и равенство в человечестве — против всех
форм узкого, явно антикультурного капиталистического
эгоизма, против угнетения и порабощения светлого начала
радостного труда империалистическими побуждениями до
грубого и беззастенчивого хищничества развившегося уже тогда
в Европе капиталистического строя и хозяйства, к все
большим вожделениям близоруко подстрекаемого и в своих
мнимых интересах во что бы то ни стало поддерживаемого со
стороны тогда, особенно в Германии, усилившегося режима почти
бесконтрольной императорской власти с ее все
возраставшими, поистине безумными притязаниями26.
Теоретическим завершением этого и по числу вышедших
в свет капитальных произведений27, и по богатству развитого
в них идейного содержания, и во многих других отношениях
замечательного периода философского развития Наторпа
можно считать то углубление, систематизацию и во многом
коренное обновление его психологических и логических воззрений
и теорий, которые, наряду с продолжающимся влиянием на
него в 1902 г. появившейся в первом издании «Логики чистого
познания» Когена, особенно же впервые изложенного в ней
учения о «бесконечном суждении» (das unendliche Urtheil) как
трансцендентальном источнике (Ursprung) познания, а также
в связи с упомянутым протестом Наторпа против основных,
таящих в себе гибель, черт современной ему эпохи, —
подготовили постепенный, правда, переход Наторпа к третьему и
последнему периоду его философского развития, длившемуся
целых 15 лет (1909-1924) и представляющему для нас не
только в теоретическом отношении, но также по идейной связи его
с основными вопросами современной общественной
действительности, особенный актуальный интерес.
26 Характеристика эта составлена из выражений самого Наторпа,
заимствованных из разных eix) сочинений и здесь связанных воедино.
27 «Социальная педагогика», «Философия и педагогика», «Логические
основы точных наук», «Философия и ее проблемы», «Культура народа
и культура личности», «Песталоцци» и др.
Пауль Наторп
293
Что касается прежде всего теоретического углубления
психологических и в связи с ними отчасти также логических
воззрений конца второго периода философского развития Натор-
па, о котором здесь идет речь как о преддверии в новый
период его развития и которое в связи с указанным влиянием
логики Когена привело Наторпа к изданию в 1912 г. его
«Allgemeine Psychologie»28* и непосредственно возникшему
затем в связи с ней замыслу его «всеобщей логики» («Allgemeine
Logik»), то это углубление и развитие его психологии,
долженствовавшее привести к полной ее реформе, а вместе с тем
и к новому обоснованию всей философии Наторпа может быть
охарактеризовано указанием следующих, уже тогда в
достаточной мере определившихся, весьма важных моментов:
1) В еще большей, чем до сих пор, мере становится для
Наторпа ясной и убедительной необходимость признания
глубокого, коренного единства всех отдельных областей психологии:
психологии представлений, направляемых на
действительность окружающего мира, психологии стремлений воли,
реализуемых в человеческом поведении, психологии эстетической
фантазии, находящей свое применение в постижении
прекрасного в природе и создании произведений искусства — в
единстве сознания субъективного как такового и в его
всеобъемлющей, правда, только еще искомой, закономерности.
2) Субъективное единство сознания само возможно лишь
на основе и, так сказать, лишь как обратная сторона единства
сознания объективного, выражающего внутреннюю
предметную связь, объединение и на этом пути впервые получаемое
синтетически-систематическое единство разных родов
познания объекта законоустанавливающих и именно таким
образом и самый предмет свой впервые устанавливающих наук:
логики как выражения предметной, объективной истины
научного познания; этики как такового же выражения такой же
объективной истины познания о нравственном (добром) в его
отношении к направленной на него воле, эстетики как
выражения истины и познания об эстетически-прекрасном,
содержащемся в художественном постижении и творческом
построении прекрасного как объекта и т. д.
3) Всякое познание и наука есть только тот или иной род,
вид или отдельное данное содержание сознания на
достигнутой в каждом данном случае ступени ясности его
определения.
294
Пауль Наторп
4) Психология как наука о субъективной стороне разных
родов закономерности объективного сознания и их единства
и сама есть тем самым наука о субъективной закономерности
и субъективном единстве сознания, не оторванном и не
противопоставляемом объективной закономерности, но
представляющем собой лишь как бы развитие этой исходной
объективной закономерности и единства научного познания
в сферу, как бы сказать, нового, более глубокого и
первоначального измерения, самого в себе всегда единого и
целостного, но не во всех своих глубинах сразу постижимого сознания,
со всеми его также прогрессивно все более глубокий смысл
получающими определениями: единства, закономерности,
непрерывности, первоначальности и т. д.
5) Между всеми этими слоями, направлениями или
измерениями сознания и, прежде всего, между так называемой
объективной и так называемой субъективной его сторонами,
несмотря на всю их видимую противоположность, есть
непрерывный переход их между собой, как и со всеми другими
слоями, или измерениями, сознания, если таковые есть и
могут быть открыты, — связывающая непрерывность, все полнее
и все глубже себя раскрывающего первоначального единства
сознания, так что все эти стороны, объективная и субъективная
прежде всего, только взаимно дополняют друг друга и только
в соединении между собой могли бы дать исчерпывающую
картину того, что мы, объединяя все эти стороны, условно
называем человечеким духом или человеческим сознанием в его
первоначальном единстве и непрерывности его развития.
Таков общий дух, содержание и характер этого долгого
и плодотворного периода философского развития Наторпа,
поставившего его наконец перед основной проблемой всей его
философии во всей ее глубине и принципиальном значении:
если сознание или так называемый человеческий дух,
понимаемый в смысле совокупности непрерывно и закономерно
порождаемого в сознании его же собственного содержания, —
если так, в смысле такой совокупности и единства понятое
сознание или дух в самом деле есть целостное первоначальное
единство, по отношению к которому «объективное и
субъективное» суть только возможные и, быть может, не
единственные его стороны, направления или измерения его проявления,
то закономерность этого самораскрытия, этого
манифестирования себя сознанием, уже не может быть понята по типу за-
Пауль Наторп
2*5
кономерности развития только стороны или аспекта сознания,
но эта закономерность первоначального, в себе единого, все
в себе центрирующего и из себя порождающего сознания
должна быть понята совершенно иначе, а именно она должна быть
понята в совсем новом смысле такой закономерности
творчески себя манифестирующего единства первоисточника всякого
сознания, которая, то есть эта закономерность, впервые
обусловливала бы самую возможность какого бы то ни было — для
дальнейшего самораскрытия сознания требуемого —
отправного полагания, то есть первоначального исходного принципа
всего сознания во всем его дальнейшем развитии.
Не основополагание ('υπόφεσις'), а принцип смысла самой его
возможности, не закон, хотя бы самый что ни на есть
универсальный, как принцип, а, наоборот, принцип смысла всякого закона,
всякой вообще закономерности, в познании и бытии себя
раскрывающего сознания — вот в чем сосредоточивается теперь
задача непосредственного проникновения в первоисточник единой,
и субъективную, и объективную закономерность в себе
фундирующей, универсальной, коренной закономерности сознания
вообще. Чистое созерцание (das reine Schauen), точнее, в
непосредственном усматривании самый путь, самую основную
магистраль порождения какового бы то ни было содержания творчески
преднамечающая интуиция (Erschauen) — вот что во всех
областях, слоях, аспектах и измерениях сознания, как, в частности,
и в объективирующей предметно-полагающей его стороне,
должно, по меньшей мере, уравновесить собой до си* пор бывшее у На-
торпа доминирующим, даже почти исключительно повсюду
властвующим, чистое мышление (voéfv, das reine Denken).
В преддверии и подготовлении намечающегося здесь
совсем нового, как видим, решения всей проблемы философии,
в последние годы (1908-1909) в существе своем уже
завершенного и уже в прошлое отходящего второго периода
философского развития Наторпа, еще раз со всей силой
сказывается влияние на него «Логики чистого познания» Г. Когена,
своим учением о первоисточнике познания, впервые
поставившего Наторпа лицом к лицу перед проблемой и
грандиозным замыслом его «Всеобщей логики» (Allgemeine Logik) и,
в связи с ней и для нее, с соответствующим, не менее
грандиозным замыслом обоснования и построения той новой
«Всеобщей психологии» (1912), на базе которой можно было бы
попытаться обосновать и сделать понятным смысл только что
296
Пауль Наторп
упомянутой всеобщей закономерности творческого
порождения из первоначального принципа единства сознания какого
бы то ни было, в каких бы то ни было слоях и измерениях
сознания ни подлежащего установлению, содержания.
Методологический путь к осуществлению широких
философских замыслов Наторпа должен был быть найден затем
и получить для себя обоснование или, по крайней мере, идею
такового в учении Гераклита о Логосе как верховном, и чистую
интуицию, и чистое мышление в себе одинаково включающем,
первоисточнике и познания, и бытия, и жизни, и самой сути
и смысла их развития. Начинающееся с этого времени влияние
философии Гераклита на развитие основных воззрений
Наторпа — на бытие и познание, ö последующем непрерывно
возрастает. С точки зрения гераклитовского учения о Логосе, во всей
его доселе не оцененной им глубине, Наторп иначе начинает
теперь оценивать всю историю развития человеческой мысли,
иначе и глубже рассматривать значение принципа Парменида
о тождестве мышления и бытия, но иначе — глубже, шире и
всестороннее понимать учение Платона об идеях28 и в своей
собственной философии все решительнее переносить логическое
ударение с методологического принципа «чистого мышления»
на таковой же принцип «чистого созерцания».
Так оказываемся мы почти вплотную поставленными теперь
перед началом новой философии Наторпа, лишь частично
обоснованной им в сочинениях последних 15 лет его жизни
(Allgemeine Psychologie, 1912 г., и очерк Allegmeine Logik,
1923 г.29*), но в общих чертах развитой им все же с
проникновенной глубиной и присущей ему неподражаемой ясностью,
в полной мере предоставляющей нам возможность усвоить
своеобразный синтетический конкретный и ярко жизненный
характер этой его новой системы и мировоззрения, в центре
которого на место раньше преобладавших у него принципов
теоретического познания и анализа со всей силой становятся теперь
принципы жизни и творческого синтетического построения,
всецело подчиняя и заставляя как бы служить себе только что
помянутые принципы более ранних стадий его развития.
Прежде, однако, чем в полной мере учесть все эти условия
влияния, особенно указанное влияние Г. Когена, и через его по-
28 См. [Metakritischer Anhang] 1920 г. ко 2-му нзд. [«Piatos Ideenlehre»]
1921 г.
Пауль Наторп
297
средство, но иначе и глубже понятых30* Платона, Гераклита
и Гегеля, на возникновение, развитие и систематизацию,
философских воззрений Наторпа в третий период его развития
и творчества, а равно — принять во внимание отчасти
обновленные, отчасти совсем новые влияния на него со стороны
Мейстера Экхарта31* и немецких мистиков, а также со
стороны Достоевского32* и Рабиндраната Тагора33*, с особенной
силой отразившиеся на углубленном понимании им
философской проблемы жизни вообще, — прежде всего следует указать
здесь, как на психологически едва ли не главную и решающую
причину коренного изменения, по крайней мере, по форме
выражения, если не по первоначальной тенденции, всего его,
совсем новый аспект принявшего теперь мировоззрения, — на то,
все существо его охватившее настроение пламенного
негодующего протеста против общего характера того пагубного
направления общественного и государственного развития
Европы, которое оно приняло в последние десятилетия,
предшествовавшие разразившейся над ней катастрофой мировой войны.
Вот в каких приблизительно словах сам Наторп выразил это,
тогда охватившее его настроение, приведшее не только к
непредвиденному раньше углублению, но и к существенной
реформе и перемещению центра тяжести и всего его
мировоззрения на проблему и понятие жизни.
«К главной же цели, — так писал Наторп впоследствии об
этом поворотном пункте своего развития, — к внутреннему
постижению культурной жизни в ее целом, в истории, в
настоящем и прошлом, по столь же заманчивому, сколь и
предостерегающему примеру Гердера и Гегеля я, рассчитывая подойти
лишь после того, как мне удастся выковать соответствующее
оружие для преодоления той главной линии окопов, за которой
преобладавшее тогда понимание природы, культуры и вся
внешне столь претенциозная, а внутренне пустая, культурная
жизнь императорской эпохи, считая себя достаточно
защищенной от предостережений философской критики, — при этом я
имею в виду не бесплодный индифферентизм и не в высшей
степени отвечавший тогда духу времени натурализм и
эмпиризм, который для сколько-нибудь проницательного взгляда
уже тогда мог считаться ликвидированным или.~ близким
к своему крушению, но гораздо более опасный, со стороны
Ницше особенно энергично поддерживаемый и питаемый,
самообман непосредственного, и над разумом, и над опытом одинако-
298
Пауль Наторп
во стремящегося возвыситься понимания на себе только
всецело сосредоточенной жизни каждого отдельного человека в
заострении этой жизни на отдельном мгновении, то есть я имею
в виду всеобщий, а нехудожественный только «импрессионизм».
А это, в свою очередь, как нельзя более действенной связью
сочеталось тогда посредством блестящих, но мнимых
достижений, с неудержимо все дальше продвигавшимся и
возраставшим стремлением к беззастенчивому захвату всех внешних
и внутренних благ жизни для себя и только для себя. Изо дня
в день поселяло это стремление все большую внутреннюю
рознь не только между человеком и человеком, классом и
классом, народом и народом, но и между человеком и землею,
человеком и космосом, человеком и богом, и это — в собственной
груди каждого отдельного человека, в самом что ни на есть
"интимно личном" каждого переживаемого им момента, власть над
которым так уверенно себе приписывали, и перед которым на
самом деле стояли на коленях в отвратительном самообожании,
пока, наконец, вся музыка души и так возомнивших о себе
"людей сверху", и тех, "глубоко презираемых", до значения
машинных частей низведенных, и душевно, и жизненно принесенных
в жертву, людей из внизу находящихся масс, — не оборвалась,
наконец, в кричащих диссонансах дикой войны всех против
всех и каждого внутри себя против себя. Не производило при
этом все положение дел и такого впечатления, чтобы можно
было надеяться, что немалое все еще число тех, кто в самой по
себе высоко ценной и серьезной работе стремился создать
условия для возрождения философии, были бы способны
действительно достичь чего-то такого, что в какой-либо реальной мере
соответствовало бы той невероятной задаче, которая этим
внутренним положением вещей того времени, все внятнее себя
обнаруживающим, была поставлена перед философией. Я уже не
говорю о том, что не могли, разумеется, соответствовать моей
глубокой внутренней потребности и те неуверенные еще
отправные пункты подлежащего заново обоснованию
философского идеализма, до которых сам я успел доработаться к тому
времени. Я искал, неотступно искал непоколебимых основ
такого безраздельно единого познания и жизнепонимания, в
котором в непререкаемой, неразрывной связи были бы
внутренне согласованы разум, опыт, природа и человеческий дух,
общественность и индивидуум, наука и жизнь, последнее
рациональное и последнее индивидуальное»3^.
Пауль Наторп
299
К этому-то жизненно-универсальному синтезу,
долженствовавшему положить начало полного обновления философии,
уже давно, как мы видим, издали предвидимому Наторпом,
его, кроме выше перечисленных теоретических влияний со
стороны Гераклита, Платона, Канта, Гегеля и Когена, в самой
решительной мере подвигнуло то общее настроение
протеста, красноречивое выражение которого находим мы в только
что приведенных словах Наторпа, в статье его от 1923 года35*,
посвященной изображению главных этапов его собственного
философского развития.
Во всяком случае, с момента, когда это настроение
протеста и полной горечи неудовлетворенности всеми мнимыми
достижениями европейской культуры вполне определилось,
для Наторпа стало уже невозможным придерживаться
прежних форм абстрактно-аналитического изложения своих
философских воззрений. Теперь, то есть третий период своего
философского развития, он уже со всей энергиею и в
теоретической философии, и в решении основных проблем социальной
этики, и в эстетике, и в философии истории, сознательно
и строго методически стремится провести принцип
синтетический — построяющего, конкретно-жизненного понимания
и изложения всего, что только может стать для философии
темой или проблемой его исследования.
Проблема перво-конкретного источника и единства
познания и жизни становится для него теперь основной и
руководящей. Мы стоим перед решением великой проблемы того, что
сам Наторп назвал «всеобщей логикой» и что со времен
Гегеля никогда не переставало быть главной целью всех
философских стремлений и исследований. Превосходный по ясности
и глубине очерк этой «Всеобщей логики» Наторп успел дать
нам за год до своей кончины.
Только отправной пункт и самая общая тенденция и
направление этого решения могут быть вкратце намечены в
пределах этой статьи.
Основную идею и задачу предвносящегося теперь
умственному взору Наторпа замысла его «Всеобщей Логики» можно
определить двояко: отрицательно и положительно.
Прежде всего, ни в каком случае не может быть, по
убеждению Наторпа, осуществлена эта задача путем простого
проведения аналогии или приспособления методов исследования
культуры к методам исследования природы, вообще никоим
300
Пауль Наторп
образом не в предположении какой-либо сплошной
однородности единого метода, какой-либо отвлеченной конструкции,
наподобие спинозовской (more geometrico), что неизбежно
привело бы философию в логический тупик (circulus vitiosus).
Но скорее, наоборот, метод математики, математического
естествознания, как и всякий другой, аналогичный метод
научного познания, в его применении к данностям человеческой
культуры как актам и продуктам человеческого духа сам
должен быть включен, стать интегральным методологическим
звеном, бесконечно более богатого целого, бесконечно
длинной цепи человеческого духа, или, что то же, культуры, на
протяжении их истории, из каковой истории этого духа и сам он,
этот математически-естественнонаучный метод, должен быть
понят, оправдан и развит, как в ней же, в этой истории, —
получить и определение границ своего применения. Проблема
этого универсального методологического целого, как
некоторого до времени остающегося еще непонятным «чуда», и есть
проблема «Всеобщей Логики», в ее, этой проблемы,
отрицательном аспекте. Влияние общего плана и замысла «Логики»
Гегеля на эти методологические построения Наторпа едва ли
может подлежать сомнению, если только не упускать при этом
из виду их существеннейшего различия («Науки Логики»
Гегеля и «Всеобщей Логики» Наторпа): первая, несмотря на
свое, казалось бы, столь ярко выраженное стремление всюду
опираться на «процесс», то есть на «движение понятий», — все
же есть абсолютизм, в конце концов приводящий мышление
к остановке, к завершению его в известных четырех периодах,
тогда как вторая имеет смысл и выражает собой только
систематизирующее, упорядочивающее, прежде же всего
порождающее единство методологического целого, направляемого
к решению все новых и новых проблем познания. Но что же
такое это искомое и единое методологическое целое, это
недоступное как будто овладению чудо?
Так как философское исследование явно не может
остаться удовлетворенным этим скептическим решением признания
непонятного чуда, а с другой стороны, не может
остановиться и на дуализме непосредственной противоположности
методов наук о природе и наук о культуре или того, что иначе
обозначается терминами логического и психологического,
науками о бытии и науками о ценностях, то отсюда-то и
вытекает собственная, уже положительная задача «Всеобщей Ло-
Пауль Наторп
3dl
гики»: найти основания и условия развития для в конечном
счете, правда, необходимо единой, но не по одному и не по
многим, а по бесконечному числу измерений развертывающейся
логической методики, — так при этом, чтобы от простейших форм
математически-естественнонаучного познания она
непрерывно развивалась бы и восходила в своем применении до самых
отдаленных от математики и, по первоначальной видимости
своей, даже совершенно вне ее компетенции и применения
лежащих, последних вершин сознания человеческого духа,
в смысле совокупности и внутреннего единства всех
творческих и в своем значении на устойчивость, по крайней мере,
претендующих порождений человеческой культуры понятого.
Но чтобы такое до бесконечности внутренне
саморасчленяющееся единство логически построяющей методы и, прежде
всего, конечно, объективного познания было вообще
возможным и осуществимым — для этого, как мы отчасти уже знаем
это из предшествующего изложения, основание, которое было
бы способно держать на себе все грандиозное здание этой
новой логической методики, должно быть, по убеждению Натор-
па, заложено в заново обоснованной и в гораздо более
широком смысле, чем до сих пор, понятой психологии. При этом
новая психология, о которой здесь идет речь, ко всему
логическому построению этой новой методики познания мира
и бытия в его целом, развивающемуся и в работе всех точных
наук об объектах, и в работе с этими науками, по существу
однородных, но только по построению своему неизмеримо
более сложных наук о творчески созидающей свой предмет
жизни, — должна стоять в отношении, как бы сказать, полного
и прямого обращения всего этого логического построения
«вовнутрь», в более глубоко в сознании лежащее измерение
субъективного — так, чтобы при этом то, что примитивно
логическое построение, в узком смысле слова, стремилось выработать
и установить преимущественно аналитически, шаг за шагом
определяя и устанавливая отдельные части своего
построения, — теперь предстояло бы умственному взору в его
нераздельном единстве, внутренне спаянным во всей полноте
своих взаимоотношений, следовательно, в синтетическом
и притом до конкретной цельности доведенном единстве
логического построения, понятом в высшем, собственно
философском, потому что всем проблемам знания и жизни
способном удовлетворить, значении этого термина.
302
Пауль Наторп
Так, правда, все еще в принципиальном согласии с
основным учением критицизма Канта о первоначальности синтеза
перед анализом и особенно — о «единстве синтеза» как
высшем «факте», доказывающем и обосновывающем эту
первоначальность, но в то же время существенно углубляя,
преобразуя это учение и, в конце концов, далеко выходя за его
пределы в совсем новую область принципиально бесконечно
более глубокого, как мы видели, обоснования «познания»
и «жизни», — Наторп приходит наконец к основной, в тесной
связи с учением о неразрывном, внутреннем
взаимоотношении анализа и синтеза находящейся, идее своей «всеобщей
логики» и вместе — всей своей, отныне новый аспект
принимающей философии, именно к провозглашению требования
такой универсальной методики логического познания, которая,
через планомерное и полное раскрытие первоначальной силы
синтеза в его первоисточнике и во всех бесконечно
разнообразных формах его применения, оказалась бы в состоянии не
беспомощно стоять, как до сих пор, перед всей неимоверной
сложностью, в самую глубь бытия уходящих проблем жизни
и сознания, но — методически подойти к их решению во всей
нераздельной целостности и полноте их смысла и значения,
для чего, в свою очередь, в качестве предварительного метода
разработки, разумеется, потребовалась бы и вся полнота
анализа этой, в своей абсолютной целостности и логическую,
и этическую, и эстетическую, и все другие стороны в себе
заключающей, по существу, единой и универсальной проблемы.
Если задача «всеобщей логики» как фундаментальнейшей
философской науки не сводится, таким образом, по убеждению
Наторпа, ни к простому логическому сглаживанию основной,
по общепринятому мнению, противоположности объективного
и субъективного, ни к снятию находящейся с таковой в связи
другой противоположности рационального и
иррационального, индивидуального и надындивидуального, каковые
противоположности должны быть, наоборот, объяснены и впервые
поняты в своем значении именно из принципов «всеобщей
логики», и если, с другой стороны, принять также во внимание
настойчивое указание Наторпа, глубоко обоснованное, как мы
видели, в самом понимании им природы сознания и
закономерности единства его первоисточника, что логическое, а с ним
вместе и психологическое, имеет большее, чем обыкновенно
предполагают, число измерений36', — то все эти моменты в их связи
Пауль Наторп
303
и единстве окажутся уже достаточным для того, чтобы дать
наконец точное определение самого понятия этой науки и тем
положить начало ее систематической разработке.
Это определение содержания понятия «всеобщей логики»
действительно и дается Наторпом нам в основе только что
указанных соображений в следующих словах: «Под "Всеобщей
Логикой", — говорит Наторп, — я подразумеваю строгое,
внутренне в себе единое (einheitliche) обоснование не только,
прежде всего, точных наук, далее — описательного
естествознания, затем наук о человеке, или все равно какое-либо
другое деление не считалось целесообразным* принять, — как
если бы все это были отдельные области предметов,
расположенных рядом или одна под другой, но как бы там ни было,
лежащие одна вне другой, лишь впоследствии друг с другом
соотносительные и лишь вторично только, в производном
смысле слова, между собой объединяемые, — но я понимаю под
ней строгое и внутреннее, в себе единое обоснование полага-
ния какой бы то ни было предметности вообще, больше того,
всякое вообще, каким бы то ни было способом логически
выразимое полагание, будь то даже вне-, под- или сверх-
предметное полагание. Все относящееся к области духа, равно как и все
далеко простирающиеся сферы поведения, творчества,
самопостроения (des Selbstaufbaus), относительной
индивидуальности и абсолютной индивидуальности, относительной
универсальности и абсолютной универсальности, вплоть до
последнейшей из последних перво-ипдивидуалъности (Ur-In-
dividualität), которая в то же время есть и перво-универсалъ-
ность (Ur-Universität), в чем заключается, по-видимому,
последний логический смысл религии, — все это должно
подлежать познанию, поскольку все это имеет отношение к
духовному (а это значит уже, что к одному, к единому духовному),
должно быть познано в строгом безусловном единстве, из
какового все эти обособления, или какие другие вместо них ни
были бы признаны, должны вытекать в никакому сомнению не
подлежащей полноте и точном определении как их
различимости, так и4 их сопричастности, в положительных и
отрицательных отношениях и их границах, как и прочнейшем их
объединении в иервоединстве всего духовного»37*.
Из этого-то первоединства всего духовного как из
последнего верховного принципа и должны, по убеждению Наторпа,
стать объяснимы все, даже и самые сложные порождения че-
304
Пауль Наторп
ловеческой культуры. Но как же это возможно? Как должен
развиваться и через что лежать и проходить восходящий к
решению всех этих проблем путь?
Чтобы ответить на этот кардинальный вопрос — для этого
прежде всего, говорит Наторп, надо обеспечить себе такое
начало, такой отправной пункт и принцип всего исследования,
который ничего не предвосхищал бы заранее, чтобы быть
открытым всему. И вот, в качестве таких последних понятий-
принципов, к которым философия всегда снова и снова
возвращалась, всякий раз как она дерзала поставить проблему
обоснования познания в целом, — всегда выступали три
основных: мышление, бытие, познание.
И действительно, каждое из этих трех понятий охватывает,
как бы исходя из некоторого центрального пункта, всю
полноту и весь смысл обоснования проблемы познания в его целом.
Тем не менее основной интерес философского познания
неизбежно остался бы глубоко неудовлетворенным, если бы для
решения этой верховной проблемы (познания в его целом)
пришлось бы в качестве принципа и условия возможности
такового решения выбирать и полагать в основание какое-нибудь одно
из указанных трех основных понятий, и это потому, что по
самому смыслу этой проблемы речь может идти не о трех
понятиях и не о выборе из них какого-либо одного, а об одном в
самом корне своем едином, принципе ее решения и,
следовательно, о первоначально едином, а не об одном из трех понятий.
Недаром уже Гераклит выступил с требованием о «[Έν το σοφόν
μοΰνον]», то есть об «Едином — все-мудром». Но этим
«[σοφόν]», этим «все-мудрым», искание которого и есть
философия, явно может быть только одно: «[Έν]». Но что же такое
это одно? Ведь не «[σοφία]» же, поскольку она, по-видимому,
обозначает уже само знание, а не искомый принцип его
возможности и обоснования. Так что же тогда? Познание? Но речь ведь
идет как раз о его принципе, о том, из чего оно, об его «[άρχη]».
Что же значит мышление? Но и оно ведь еще не вполне
первоначально, поскольку оно всегда есть мышление о чем-нибудь,
о бытии. Так значит — бытие? И в самом деле, ведь познается
что-нибудь только тогда, когда мыслится что-нибудь, что есть.
Однако Гераклит в своем требовании вечного становления
имел, по-видимому, в виду и не бытие, и не мышление, и не
познание, а что-то более» чем все они и чем даже само «бытие»,
основное и первоначальное. Что же это такое? Наторп не ви-
Пауль Наторп
305
дит для [этого] более подходящего выражения, чем «последнее,
дающее смысл»38*. Правда, это «последнее, дающее смысл»
выражается в словах: «так есть», «это есть» или даже просто —
«есть», однако только оно, это «последнее, дающее смысл»,
делает это «есть», это «бытие» «им самим», [дает] «бытию» его
собственный, как бы сказать, [бытийственный] смысл, делает
выражение этого бытия выражением мышления, и само это
мышление, поскольку оно мыслит то, что есть, — познанием. Это-
то и есть то, что и для Гераклита, и для Платона обозначает
термин «Логос». И тогда сразу становится понятным, как и в
каком смысле Платон свое последнее, что возвышается и над
бытием, и над познанием, и что самому даже мышлению как раз
едва только доступно, мог назвать Логосом, но именно самим
Логосом как таковым, а не тем или иным, каким-нибудь
Логосом, Логос — это высказывание, речение, но здесь — не в
смысле такого высказывания, речения, которое высказывается,
изрекается, но в смысле такого высказывания, которое само
говорит, и такого речения, которое как бы само произносит свой
смысл, высказывает то, что составляет как раз самую суть
высказывания, то есть оказывается таким высказыванием,
которое высказывает то, что есть.
Так именно и понимает Наторп термин «Логос», когда
говорит о нем и делает верховным принципом своей «Всеобщей
Логики». Но именно потому и именно поскольку основная
отправная точка зрения этой логики уже не может и не должна быть
смешиваема с отправной точкой зрения какой бы то ни было
другой философии или логики, которая полагала бы, что она
имеет право отправляться от мышления так, как если бы она
имела его, располагала им до и независимо от бытия; или — от
бытия так, как если бы она имела его и располагала им до и
независимо от мышления-, или — от познания так, как если бы она
имела его до и независимо от них обоих, то есть и от бытия, и от
мышления. Но отправная точка зрения этой, то есть наторпов-
ской, «всеобщей логики», наоборот, такова, что своим началом
она берет и имеет тот «пункт единства», ту единящую,
центрирующую точку, для которой нет никакого мышления, которое
не было бы мышлением бытия, никакого бытия, которое не
было бы «бытием мышления», как равно нет для нее, для этой
точки зрения, как и между ними обоими, то есть этим
«мышлением бытия» и «бытием мышления», а также между ними и
какой-либо точкой вне их обоих, именно точкой их соотнесения
306
Пауль Наторп
(корреляции), решительно никакого разделения или
разобщения: ни с ними, ни между ними самими. Но для нее дело
обстоит так, что есть только последнее единое, коего единство не есть
какое-либо другое единство, как только единство этой их
двойственности, неустранимая корреляция их обоих. Конечно, лишь
предварительно и только образно, но это отношение могло быть
все-таки здесь выражено как отношение покоящегося в себе
центра к его излучению на периферию. Как центр tie был бы
центром без периферии, периферия не была бы периферией
иначе как в отношении к центру, поскольку последний всегда
ведь остается все-таки единым, несмотря на бесконечное
множество лучей, которые он излучает на периферию, а
периферия — всегда бесконечной, вопреки своему единству и как раз
в нем, в силу отношения к единому центру, — так точно и
бытие есть только бытие мышления, мышление — только
мышление бытия, ни одного из них без другого, и каждое из н"их то,
что оно есть, не иначе как в отношении к другому.
Основную тенденцию этой логики в ее зародыше предвидел,
по мнению Наторпа, уже Гераклит, великое открытие
которого в том как раз и состояло, что он впервые и вопреки Парме-
ниду понял, что единое потому только, что оно едино, вовсе еще
не исключает (тем самым) многое, становление и распад на
противоположности, а бытие потому только, что оно бытие, вовсе
еще не исключает небытие] но, что, напротив, единое только
потому и постольку только и есть единое, что оно есть единое
многого, покой движения, совпадение противоположностей,
а бытие только потому и бытие, что оно есть бытие небытия,
то есть не что иное, как то последнее, что из себя порождает
и в себя же вновь поглощает те самые противоположности,
которые оно с самого начала в себе же таило: полная аналогия,
хотя и совершенной методологической противоположности,
с построением логики Гегеля и в знаменательном соответствии
с тем, 4ΐο, сообразно нашему современному способу
мышления, мы часто описываем и изображаем как деятельность,
тогда как на самом деле в себе самом это, так описываемое и
изображаемое, есть только вечное обстояние.
Все, что было написано Наторпом до выражения этой, лишь
в последнее десятилетие его жизни вполне определенное
очертание принявшей идеи «всеобщей логики» и что в
философском мире принималось за главные его сочинения, как-то: его
исследование о теории познании Декарта39*, о логических ос-
Пауль Наторп
307
нованиях точных наук40*, о научном идеализме Платона41*,
о нравственном идеализме Песталоцци42*, о социальном и
общем учении о воспитании43*, — все это он сам оценивает теперь
лишь как подступы и подходы, лишь как материал и
предварительные попытки приближения к тому целому, которое до
сих пор представало ему лишь издали и как бы в тумане. Если
до этого времени исследования велись Наюрпом
преимущественно по аналитическому методу и излагались иногда в
крайне абстрактной форме, создав ему.несколько сомнительную
славу выдающегося отвлеченного теоретика, до крайности
доведшего этот свой теоретизм, то теперь, наоборот, все более
могущественно развивавшееся стремление последних
десятилетий его жизни к внутренней концентрации и к постижению
всей целостности жизни из самого центра и средоточия ее, а не
только на основе «наук* и тауки о пауке», чем до сих была
философия, — это стремление к широкому конкретному
философскому синтезу, способному и теоретически стать в
уровень со всей полнотой содержания жизни, чтобы решить
наконец ее основную проблему, всецело овладевает теперь всем
сознанием и творчеством Наторпа, сосредоточиваясь на проблеме
социального строительства жизни, на иных, не
буржуазно-капиталистических основах построения и .организации
человеческого общения (Gemeinschaft) и выражаясь в сочинениях,
стиль изложения и конкретная жизненность содержания
которых скоро стало предметом всеобщего удивления.
Старый, но в то же время юношески свежий профессор
Наторп, всецело отдавшийся общению с молодежью, почти не
покидавший теперь ее рядов, все сочинения последних лет своей
жизни написал под влиянием интересов и чувств,
пробужденных в нем кипевшей вокруг него молодой жизнью и им самим
созданной для себя атмосферы непосредственной близости
с настроением ему и другим идущей на смену молодости. На
насущные нужды этой молодежи он горячо откликнулся в целом
ряде небольших сочинений этого времени, для ее воспитания
в тяжелых условиях политического и экономического
разгрома Германии он разработал и предложил для свободной
всеобщей дискуссии целую систему положений организованного на
свободном товарищеском сотрудничестве всех отдельных
семей и всех отдельных членов общества основанного попечения
о детях и их образовании, стремясь проведением в жизнь этой
новой организации и ее возможно широким распространением
308
Пауль Наторп
заложить действительный фундамент также и для совершенно
нового «социалистически-коммунистического» строительства
и народной и общечеловеческой жизни. Наконец, в своем
«Социал-идеализме»44* он с особенным подъемом и убеждением
выступил с широким замыслом всеобщего плана такого
воспитания и организации общественной жизни человечества,
которая если и не скорейшим, то, по крайней мере, вернейшим
путем, привели бы человечество к осуществлению сощалистиче-
ского идеала жизни, в котором одном и его научно проводимой,
на началах коренной реформы всех основ общественного
воспитания недавнего еще прошлого осиовжноиреализации он
видит теперь единственное спасение человечества и его культуры.
Признавая материалистическое понимание истории,
выдвинутое Карлом Марксом и его школой лишь отчасти,
именно лишь в смысле учения о совокупности и системе
материальных средств и условий развития исторически данной
социальной действительности, в которой на этой
материальной-экономической базе, по его убеждению, могли бы быть
помечены разве лишь самые ближайшие цели исторического
развития человеческой культуры, а не ее общая
направленность на более отдаленные, в конце концов в одной
руководящей цели разума объединяемые и как бы на одной с ней и к ней
ведущей линии расположенные цели, — он, тем не менее все
еще продолжая в согласии с Кантом и Когеном считать этику
за ту философскую дисциплину, единственно из которой
можно почерпнуть понимание не средств только (как в
материалистическом понимании истории), но и руководящей цели
развития человеческой культуры, со всей энергией выдвигает
теперь на первый план идеал подлинного, как он думает, на науке
о социальном воспитании основанного социализма, как
принципа и руководящего начала в понимании и построении
системы, исключительно с этой точки зрения, по его воззрению,
возможной философии истории.
Этический формализм Канта он понимает, разрабатывает
и развивает теперь, реформируя его в духе самой решительной
конкретизации и такого раскрытия содержащегося в нем
и в его основе лежащего понятия человечества, которое дало
бы наконец возможность, не оставляя идеи и не отказываясь
от нее как трансцендентального принципа в равной мере и кан-
товской, и платоновской философии, подойти с точки зрения
так реформированной им платоно-кантовской этики и с нею
Пауль Наторп
309
связанной философии истории к решению проблемы
социальной жизни человечества, со всеми ее современными ужасами,
противоречиями и опасностями, роковым образом грозящими
погубить и свести на нет последний остаток смысла и без того
глубоко извращенной человеческой культуры, если только
философской критике и ею руководимой и направляемой
системе социального воспитания не удастся вовремя положить
предел развитию злых семян и обезвредить успевшие стать уже
почти неисцелимыми язвы общественной человеческой
жизни, всецело порожденные, по убеждению Наторпа,
господством в Европе капиталистических форм хозяйства и на нем
основанного, не только всякую справедливость и культуру,
но и самую жизнь безвозвратно способного погубить, к этому
как бы злым гением истории призванного империализма и из
него вытекающего строя международных отношений.
Не только от всякого утопизма, но даже и от прежних
глубокой верой в человечество проникнутых форм кантовского,
когеновского и его собственного идеализма, от уверенности
«в конечном торжестве в человечестве истины и свободы»
Наторп теперь стоит уже далеко, поставляя главной задачей
своей философии в ее теперешней, измененной, преобразованной
и бесконечно углубленной форме — в самой жизни, в
непосредственном деятельном участии в ней, принятием на себя
и готовностью претерпеть все ее раздирающие противоречия
и ужасы — найти или, по крайней мере, подойти к решению
ее основной и, в сущности, для всякой истинной философии
единственной проблемы самой этой жизни.
И «всеобщая логика» Наторпа имеет поэтому своей
главной задачей не что иное, как именно и прежде всего, только
выработку философского метода для решения этой
универсальной проблемы. Уже не разделяя поэтому с Кантом и его
веком когда-то, казалось бы, непоколебимой в нем веры в
разум и того, преисполненного эфемерными надеждами
настроения политическо-республиканского оптимизма с его
обманчивой верой в магическую якобы силу принципа
«политической свободы», которая даже Канта при всей его трезвости
и признании радикального зла в человеческой природе все
еще побуждала уповать на светлое будущее организации
человеческой жизни на началах социальной свободы, равенс^йа
и справедливости, — Наторп, в противоположность всему
этому в 1924 г., незадолго до своей смерти, говорит ira этому по-
310
Пауль Наторп
воду в одном из последних своих сочинений45* следующие,
в высокой степени характерные для него слова:
«При всей убежденности своей в радикальной злобности
(Bosheit), присущей человеческой природе (вместо чего мы
теперь склонны были бы говорить скорее об узколобости и узко-
сердечии, о душевной вялости и слабости характера), Кант все
еще далеко недооценивал опасности тех страшных, всеми
новыми способами от всякой узды освобожденных страстей —
честолюбия, жадности, властолюбия и, посредством манящих к
себе прелестей "культуры", все более подстегиваемого
"себялюбия" всех возможных сортов. Кант не имел еще, как мы, перед
своими глазами того ужасающего телесного, духовного и осей
бенно душевного опустошения, которое гсапиталистическое
хозяйство, с самого начала бывшее и оставшееся не чем иным, как
плохо замаскированной, непрерывно продолжающейся
всеобщей войной, давно уже обуславливает собой не только в,,
прежде всего и главным образом, захваченных (им) странах крупной
индустрии, но чуть ли ни во всех последних уголках, даже и в
самых темных (в культурном отношении) частях света, отрезая
почти всякую надежду на возможность исцеления. Во времена
Канта не была еще столь непосредственно-грозной опасность
насилия над "природой" во всех ее формах и, прежде всего,
в форме человеческой природы посредством техники, в какой
мере мы теперь имеем ее стоящей перед нашими глазами. И
потому он все еще мог рассчитывать на остаток добра в
человеческой природе, а равно мнить, что в развитии культуры, как ни
ясно открыл ему глаза на ее опасности уже Руссо и как сам он
ни был далек от того, чтобы принимать ее за выражение чистой
нравственности, — все еще можно распознать, в конце концов,
движущее эту культуру вперед воспитательное "намерение"
(Absicht) природы, "высшей мудрости" или "провидения",
тогда как мы, к горю нашему, во всем видим перед собой только все
возрастающую порчу и гибель».
Таково настроение Наторпа в последний период его
философского развития и в последние годы его жизни, делающее
для нас, русских, особенно понятным, близким и дорогим тот
факт, что именно эти последние годы его жизни приводили,
как мы видели, к полному обновлению всего его
мировоззрения и открытию того пути «всеобщей логики», по которому
он хотел «идти сам» и вести за собой других к решению
основной проблемы жизни, — что в этом великом деле всей его
Пауль Наторп
311
жизни и деятельности, которое в то же время было и великим,
вечным делом самой философии, не последним, а во многих
отношениях даже особенно глубоким, решительным и
плодотворным, было влияние на него нашего великого
соотечественника, великого представителя нашей великой русской
литературы и того глубокого, сокровенного, человеческую жизнь
призванного возродить и воскресить смысла, которого в
своем роде тоже философским, потому что ко всему
человечеству обращавшимся, выразителем был Достоевский.
Это влияние Достоевского на Наторпа как раз в самом
важном вопросе о судьбе и смысле человеческой культуры, а
следовательно, и всей жизни человечества так глубоко, важно
и интересно, что требовало бы особенного рассмотрения.
Здесь же в заключении нашей статьи, посвященной Наторпу,
мы скажем об этом влиянии лишь немногое и далеко,
конечно, не исчерпывающим образом, для чего в свободной
передаче воспользуемся словами самого Наторпа, в которых
отразилось это влияние на него Достоевского или, может быть,
точнее говоря, нашло себе выражение глубокое во многих
отношениях родство понимания сокровенных глубин жизни
и того особенно благородного, искреннего и мужественного
отношение к ней, которое так характерно для них обоих.
«Во времена Канта, — пишет Наторп в конце своего
небольшого сочинения от 1924 г. под заглавием "Кант о войне и ми-
pelw, — было еще невозможно постичь, в какой мере именно
слишком далеко захватывающее и слишком быстро
продвигающееся "господство человека" над силами природы окажется
свободным разнуздать и выпустить на свободу
жутко-соблазнительную силу "прелести мочь" (Reiz des Könnens). "Ты
можешь, потому что ты должен" — так гласила известная
максима Канта, столь в то время влиятельная, а в наши дни многие,
слишком многие, стоят под непреодолимой почти властью
противоположной максимы: "Ты должен, потому что ты можешь".
И многих, вероятно, посетил уже жуткий сон: если бы
человечество овладело возможностью взорвать на воздух земной шар,
оно сделало бы это, хотя бы лишь для того, чтобы
насладиться гордым сознанием, что оно может это сделать! Во всяком
случае, изумительной высотой культуры, представляющей
возможность сделать земное существование адомцпя
большого и постоянно все возрастающего множества людей, — этой
достигнутой высотой "культуры" человечество пользуется уже
312
Паулъ Наторп
теперь в такой мере, что для прогрессивного хода так высоко
поставленного "развития" от этого применения ее можно
ожидать наихудшего. Даже благороднейшие силы интеллекта
и воли, которые и без того находятся в процессе явного
исчезновения, должны были, наконец, уступить перед этим
преуспеванием "культуры". Воспитание не есть, как мы знаем,
независимый фактор в устроении человеческих вещей, но,
напротив, зависимейший из всех. Отдельному человеку этот фактор
в настоящее время еще может, пожалуй, принести спасение,
но для целого и от него нельзя уже больше ожидать спасения.
Так, если принять во внимание все это в целом, придется
признать, что вера в прогресс человечества, от которой даже
и столь критически настроенный Кант еще не совсем
отрешился, что эта вера ныне исчезла до последнего своего остатка.
И дело почти уже приобретает такой вид, что все, что еще есть
достойного внимания в современном человечестве, все это есть
только со дня на день все больше исчезающее наследие его
лучших времен. Непредотвратимым представляется развитие
к худшему, к такой розни, которая не чем другим,
по-видимому, уже не может кончиться, как только веком всеобщей
поножовщины, как о том повествует буддийская сказка, или — тем
ужасающим состоянием, в которое, согласно захватывающей
фантастике сна Достоевского47*, должна была быть ввергнута
райская жизнь "тех" когда-то невинных обитателей "островов
блаженных" вследствие отравления их соприкосновением
с тем, что у нас называется "культурой"».
И вот, как бы противопоставляя это настроение, впервые с
такой силой выраженное Достоевским, еще несвободному от
утопического оптимизма настроению Канта, которое он теперь
критикует, Наторп говорит: «В.конце концов, главная ошибка
Канта заключается в том, что как ни высоко стояло в его глазах
долженствование перед хотением (Wollen), идея — перед
действительностью, раскрывающейся в опыте, он все же не мог
всецело отрешиться от вопроса: на что можно надеяться и чего ожи-
датьот будущего человеческого рода? — он все еще не преодолел
соблазна всецело расстаться с тем философским осшшагмом,
который от какой-то, хотя бы невесть как далекой, цели развития
все же ожидает спасения для человечества, тогда как она (эта
цель) ничто для woe, если мы сами здесь, в нашей жизни, в
каждый ее момент не узнаем ее на опыте и не будем в состоянии
осуществить ее в себе самих. Разве не поставляем мы себя та-
Паулъ Наторп
313
ким образом, то есть следуя взгляду Канта, снова "в зависимость
от конечных вещей", от каковой зависимости уже первое
великое произведение Канта должно было нас как раз освободить?
"Оно", это спасение — "не вне тебя... оно в тебе". Каким же
образом мы постоянно попадаем в одну и ту же опасность —
забывать об этом?» И далее руководимый все тем же новым
настроением, он еще более решительно восстает против некогда
бывшего для него столь высоко авторитетным мнения Канта: «Раз
навсегда: философия не пророчество. Ни звездное небо над нами
не должно увлекать нас во что-то подобное астрологическому
истолкованию будущего, все равно — здешних, мирских или
над-мирных судеб человечества, исходя из мнимо постигнутых
законов мирового развития, ни моральный закон в нас не должен
убаюкивать нас в преисполненном мечтаний сне о некогда
имеющей быть достигнутой победе в человеке доброго начала над
злым. Это было бы только уклонением в сторону "Теодицеи",
которое всегда приводит вспять к методике несостоятельной
"конструктивной" телеологии, в неизбежности крушения
которой нас, казалось бы, должно было убедить как раз серьезное
и прекрасное сочинение самого Канта по этому вопросу. Не
будем же долее искать нашего спасения в неведомых далях:
останемся лучше, согласно неоднократному и настойчивому
напоминанию самого же Канта, при близком, непосредственном,
при том, что лежит перед нашими глазами и о чем сами мы
можем дать себе самим ясный отчет. Сосредоточимся как раз
в практическом на "ближайшем, что подсказывает любовь",
согласно золотым словам Мейстера Экхарта. Тогда в нашей
собственной душе откроется небо для нас. Небо? — быть может,
и преисподняя (ад!). Но и перед ней мы уже не отступим тогда,
недаром ведь все спасители человечества умели из преисподней
подняться до неба и смерть превратить в жизнь. Свершится
это — тогда окажутся заклятыми все ее ужасы, тогда и сами
окажемся в раю и будем вправе с уверенностью сказать нашему
брату: завтра ты будешь со мною и я с тобой буду в раю. Такое
возвращение нас к нам самим и такое презрение к миру вне нас не
заключает, однако, в себе никакой опасности нашего
разъединения, отрыва нас от общения с другими, от всеобщего общения
всех, от наших братьев (Достоевский), не человеческих братьев
только, но всех братьев наших рядом с нами, над нами, под
нами (Достоевский). Наоборот, через это как раз открылось бы для
нас глубочайшее и последнее основание всякого общения, ибо
314
Пауль Наторп
тоже самое основание заложено ведь во всех и во всем, будь оно
близко человеку или далеко от него. Одно, во всяком случае,
должны мы знать и помнить всегда: нет никакой мертвой
массы, — первооснова жизни — она живет во всех и во всем.
Открылась она нам, прежде всего, в нас самих, в сокровенной глубине
нашего собственного существа (unseres Selbst), тогда откроется
оно для нас и в других (ведь не нечто же большее мы, чем
другие), — в общении мы и себя самих, только чище и вернее,
будем в состоянии осознать. Тогда-то окажемся мы у себя в доме
своем и никогда уже не будем стремиться выйти из него, чтобы
заблудиться вне его, выйдя из этого тесного,
непосредственного, безусловно первоначального общения с перво-жизныо и все-
жизнью, как бы мы не называли это или предпочли бы оставить
это совсем без названия, потому что никакое имя не было бы
ведь достаточно велико для него. Довольно уже, что мы знаем,
что внутренне, в самих себе, мы уверенны: оно есть».
Таков последний аккорд мыслей и чувств Наторпа, его
философии, его жизни. Не какой-либо предвыспренный
мистицизм, а простая, для всех ясная человеческая
нравственность — любовь!
Как бы ни относиться к этому последнему периоду
развития философии Наторпа, как и ко всей ней в ее целом, —
нельзя, однако, как мы думаем, не признать за ней большого и
научного и, главное, общественного значения. В течение всей
жизни был и до конца остался он убежденным социалистом.
Святость труда была для него высшим практическим
принципом жизни, и единственно, что ои ненавидел, была
порабощающая эксплуатация гнетущих и мрачных сил так называемой
современной «культуры». «Последовательный педагогический
социализм», в деле, в непосредственном труде, в упражнении
глаза и руки (Песталоцци) и тем самым рассудка и воли
находящий свое осуществление, — вот в чем видел он
единственный верный путь развития истинной культуры человечества,
истинного, по самому существу своему исключительно
трудового образования. Такое мировоззрение не может не быть нам
близким» и такой философии человечество навсегда останется
обязанным благодарностью. Если кто, так именно Наторп имел
право вместе с Эпикуром сказать: «смерть — ничто для нас».
Б. Фохт,
1924 г.
Система эстетических
воззрений Наторпа
ЧАСТЫ
О проблеме и понятии индивидуального
в системе эстетических воззрений Наторпа
1
Одно предварительное замечание я решаюсь сделать
прежде прочтения моего настоящего доклада секции во избежание
могущих возникнуть недоразумений. Не без некоторого
внутреннего удовлетворения я имею заявить, что предлагаемая
работа обладает некоторой оригинальность^ в том, правда,
скромном значении этого слова, что здесь речь идет отнюдь не
о простом изложении системы эстетических воззрений
Наторпа, но дана попытка самостоятельного построения первой
главы такой системы, самим автором нигде полностью не
развитой1*. И если ученику при этом построении пришлось, быть
может, в некоторых отношениях пойти несколько дальше
учителя, то, с другой стороны, я все же сохраняю твердое
убеждение и даже уверенность, что в общем я везде остался
верным подлинному духу и смыслу учения Наторпа,
самостоятельно соединяя и синтезируя (но всегда исходя при этом из
единого, принятого им принципа) отдельные и разрозненные
части его эстетических воззрений в одно систематическое
целое. Только такая работа и может быть в ду#е и достойна
того, чьи взгляды дали повод к ее возникновению. Коротко
говоря, не изложение или интерпретация только, а некоторого
рода историко-систематическое исследование предлагается
мною на этот раз вниманию собравшихся в память истекшей
недавно годовщины со дня смерти Наторпа.
Представить эстетические воззрения Наторпа в системе
потому представляется делом не вполне легким, что воззрения
эти слагались, развивались и видоизменялись на протяжении
более четырех десятилетий, ни разу не будучи намеренно
приведены к систематическому единству самим творцом их.
Ни одного, хотя бы краткого, систематического очерка этих
воззрений мы не имеем, а между тем они богато, творчески
и плодотворно отразили на себе различные направления в раз-
Часть I
317
витии эстетики за последнее столетие. Больше того, почти все
эти направления были критически исследованы и
объединены Наторпом в одно стройное целое, для внимательного
взора заметно проступающее во всех четырех, последовательно
сменявших у Наторпа одна другую, но так и оставшихся не
объединенными, формах изложения его эстетики, — как
и в многочисленных отдельных экскурсах и замечаниях,
рассеянных по его многочисленным более крупным сочинениям
и статьям.
Одна, с самого начала преобладавшая и все более
выявлявшаяся тенденция к объективно-конкретному и в то же время
из самых сокровенных глубин творческого настроения
субъекта берущему свое начало, жизненному пониманию или
постижению предмета прекрасного (прекрасного как предмета
эстетики и, в зависимости от нее, искусства как особой
области творческого созидания культуры и жизни) — эта не
только объединяющая, но и внутренне центрирующая, творческая
тенденция в развитии эстетических воззрений Наторпа всегда
была и осталась для него руководящей.
Проследить своеобразную закономерность эволюции этой,
непрерывно все новым содержанием обогащавшейся и его из
себя порождающей тенденции, значит привести эстетические
воззрения Наторпа в систему так, чтобы она, эта система, в то
же время представляла собой естественный результат и как
бы достигнутую, хотя дальнейшему развитию все же
постоянно остающуюся открытой, цель (в своем внутреннем развитии
все новым содержанием обогащающегося) принципиального
смысла этих воззрений, — задача тем более важная, что
именно на эстетических воззрениях Наторпа с особенной яркостью
отразились также и все последовательные моменты все с
большей многосторонностью и глубиной раскрывающегося
смысла всей вообще европейской философии в последней стадии
ее исторического развития, то есть со времени возникновения
в 70-х годах прошлого столетия так называемого
неокантианского движения.
Чтобы подлинный смысл намеченной здесь основной
тенденции в развитии и систематизации основных воззрений
Наторпа в области эстетики предстал перед нами во всей
своей полноте и определяющем значении, для этого необходимо
с самого начала обратить здесь особенное внимание на то, что
принципом, от которого взяло свое начало самое существо по-
318
Система эстетических воззрений Наторпа
нимания «эстетического» в его объективно-конкретной сути,
значении и силе, как особого предмета философского
познания, — особого рода жизненного творчества, называемого
художественным и составляющего как бы динамическую
природу всякого произведения искусства*, — что этим
принципом и первоисточником прекрасного в его первоначальном,
никакими субъективно-психологическими, историческими
и иными привнесениями еще не затемненном значении,
всегда была для Наторпа и навсегда сохранила свою силу
коренного эстетического принципа платоно-плотиновская идея,
взятая и понятая в ее основном, по преимуществу
эстетическом, значении.
Нашей задачей не может быть здесь точное установление
понятия платоновской «идеи» в ее собственно эстетическом
значении, но для ее, хотя бы предварительного, описания
в этом смысле необходимо напомнить, что как эстетический
принцип идея должна быть взята и понята здесь не как
гипотеза только (υπόφεσις*) с вытекающей из нее и ею
требуемой чистомысленной закономерностью того или иного
рода сущего, а равно и не как это вот, то есть то или иное, той
или иной закономерности чистого мышления
соответствующее сущее (ουσία или ούσ'ιαι), наконец, даже и не как
начало (αρχή) или причина (αιτία) той или иной предметности
того или иного рода или вида бытия (είδος*), но единственно
только как та, значением творческой нормы, по крайней
мере, претендующая обладать, подвижная, живая сущность
или, еще точнее, живой и действенный масштаб или образец
сущего (παράδειγμα), в котором, то есть в этом, подвижный
закон или порядок (гетевское «bewegliche Ordnung»2*) собой
представляющем сущем, его чистой мыслью лишь
схватываемая, развиваемая и оправдываемая закономерность
нераздельно сливается и даже совпадает с непосредственно
(также в чистомысленном, но в то же время конкретном и
живом, созерцании) постигаемым содержанием этого сущего
как в себе единого, неразрывного и целостного. И вот это-то
именно всеобъемлющее и своеобразное содержание этого
единого в себе сущего, именно потому, что оно таково, будет
удовлетворять уже не только требованиям чистого мышле-
* Со слов «для этого необходимо» на полях рукописи автором отчеркнуто
и приписано: «NB».
Часть I
319
ния (νοεΐν) и его начало (νους*)3* вызывать к деятельности*,
но гораздо более глубокому, сокровенному существу духа во
всей его целостности и нераздробленности будет
соответствовать, пробуждая к творческому волнению все его силы и
потенции, перед изумленным взором, внутренним созерцанием
в себя углубившегося человека являясь сразу и
универсальным, и конкретно-жизненным, и всеобщим, и
индивидуальным принципом, и базой не только внутренней организации
всего в справедливости и добре, но и ко вне направленного,
непосредственно, даже чувственно созерцаемого, устроения
всего в красоте.
Если бы это, принимаемое Наторпом и для него служащее
отправным пунктом, в эстетическом аспекте платоновской
идеи выраженное понимание или постижение существа бытия
«эстетического», — если бы самую эту суть бытия его, еще не
раскрытую, но уже все в себе содержащую, мы,
воспользовавшись здесь в целях наибольшей инструктивное™ гегелевской
терминологией, назвали бы «бытием в себе» (das An-sich-sein)
эстетического, тогда основной проблемой и самой эстетики,
и ее систематического развития и изложения стало бы для На-
торпа раскрытие и обоснование перехода от этого «в себе
бытия эстетического» к его «для себя бытию» (das Für-sich-sein),
то есть раскрытие всего богатства его внутреннего
содержания и смысла**, — не из закономерности того или иного
направления культурного сознания человека и человечества
и даже не из единства закономерности всех направлений
этого сознания, но единственного из закономерности
первоисточника самого сознания как такового в его творческой
деятельной природе***, через что только, то есть через такое
принципиальное выведение, «эстетическому» и могла бы быть придана
искомая для него и в нем творческая динамика его
внутренней сути, его подлинной первоначальности, конкретности
и индивидуальной оформленности**** с сохранением притом
* Сбоку на полях авторская приписка карандашом: «В ответ Когену и Сак-
кстги». [См. примеч. 4\]
Со слов «стало бы для Наторпа» па полях отчеркнуто карандашом и
рукой автора приписано: «Жинкииу но поводу чувств». [См. примеч. 5*.]
*** Со слов «единственного из закономерности* на полях отчеркнуто и
приписано: «Чистое чувство*.
**"* Со слов «творческая динамика» на полях отчеркнуто и приписано:
«Чистое чувство и индивидуальность]».
320
Система эстетических воззрений Наторпа
в нем также и всей его универсальности и всеобщности, без
чего оно тоже не было бы «эстетическим» (как все это я
старался показать в моем предшествующем докладе, прочитанном
в секции истории эстетических учений ГАХН в мае месяце с.г.
и озаглавленном «О принципе философского обоснования
эстетики у Наторпа до возникновения его идеи "всеобщей логи-
ки"ив отношении к этой идее»)6*.
Не повторяя приведенной там аргументации, я напомню
здесь только общую диалектическую схему движения мысли
Наторпа в исследовании проблемы «эстетического».
Отправляясь от непосредственного восприятия прекрасного в поэзии
и особенно в музыке, он стремится проникнуть сперва до его
своеобразного, особой закономерностью познания
отмеченного и в ней выраженного, логического существа его
предметности, до особого объективного смысла этой предметности в ее
взаимоотношении со смыслом предметности в других
областях культуры (в науке и нравственности) и в единстве
культурного сознания человечества* в его целом (психологии), —
до того, что можно было бы назвать «в себе бытием»
эстетического, чтобы отсюда уже подняться или, вернее, углубиться
до более коренной проблемы эстетического как того, что не
только составляет предмет познания или постижения особого
(в своей универсальности сразу и всеобъемлющего и в то же
время конкретно-жизненного и индивидуального) содержа-
ния особого рода сущего, но что в этой своей первоконкретно-
сти есть одинаково и первоначальный акт творчества, и им
созидаемое содержание или предмет, наглядно созерцаемый
и непосредственно обретаемый в первоначальной глубине
духа**, и это потому, что в этом своем новом, более глубоко
заложенном, по преимуществу эстетическом, аспекте предмет
этот, это сразу и универсальное и конкретно-жизненное
(содержание его, не есть уже нечто только объективное), некое
«в себе бытие», но обращено также и во внутрь, к себе, к
своему первообнаружению в первоакте или первоисточнике
сознания, хотя в этом своем качестве оно и не есть как таковое
нечто только или чисто субъективное.
* Со слов «логического сушества» на полях отчеркнуто и приписано:
«Образ Жинкина». [См. примеч. 7*.]
Со слов «наглядно созерцаемый» на полях отчеркнуто и приписано:
«Чистое чувство».
Часть I
32t
Сохраняя свою объективную природу и значимость как
особого рода индивидуальной закономерности сущего,
эстетическое в своем последнем смысле, то есть в отношении к
закономерности первоисточника самого сознания как такового,
выходит уже за пределы всякого специфически аспектирован-
ного бытия, не впадая, однако, от этого и в область чего-либо
в узком смысле субъективного*, то есть психологического,
или, точнее, антропологически-индивидуального.
Но если верно, что в теоретической области общее (закон)
всегда доминирует над индивидуальным (как отдельным
случаем или примером закона), а в практической или
нравственной области общность закона находится (как в этом легко
убедиться) в одинаково равноправном отношении к
индивидуальному, так же как и это последнее — к общему, то есть оба
начала как бы уравновешиваются в том, что называется
человеческим поступком, то относительно сферы
эстетического мы вправе сказать, что только здесь впервые
индивидуальное получает свою непосредственную подлинную
значимость, становится теперь, в свою очередь, определяющим
и доминирующим, поскольку (все)общность закона как
таковая не имеет здесь уже самостоятельного значения, но
получает его лишь в той мере, в какой сама она входит в
индивидуальное, тем самым приобретая значение эстетической
закономерности**.
Что же такое есть, однако — так следовало бы,
по-видимому, спросить теперь, — это индивидуальное в эстетическом
аспекте, раз оно не есть таковое только в психологическом (или
по старой, во многих отношениях более точной,
терминологии, в антропологическом) значении этого термина.
Для приведения к систематическому единству
эстетических воззрений Наторпа этот искомый смысл индивидуальною
в его эстетическом значении, в развивающихся одна из
другой стадиях его углубления, имеет во многих отношениях
определяющее значение и в дальнейшем изложении будет
играть важную руководящую роль наряду с другим, уже указаи-
ным принципом — платоновской идеей как началом и услови-
* Со слов «выходит уже за пределы» на полях отчеркнуто и приписано:
«Жинкнну».
** Со слов «поскольку всеобщность закона* на полях отчеркнуто и
приписано: «Это индивидуальное и есть настоящее всеобщее».
322
Система эстетических воззрений Наторпа
ем своеобразного объективного смысла эстетического
предмета или, точнее, предметности эстетического сознания, в его
специфической направленности и закономерности.
Какие же стадии в пониманий природы «эстетического»
были пройдены Наторпом на протяжении 50 лет его
философского развития и какова внутренняя, то есть в философском
смысле систематическая, связь их последовательного и
непрерывного перехода одной в другую?8* Три таких, непрерывнейшим
образом между собою связанных, стадии можно отметить в
смене и видоизменении его эстетических воззрений: первую,
приблизительно до 1910 г., когда он является еще выразителем,
хотя и весьма самостоятельным, мировоззрения платоно-кантов-
ского критического рационализма с почти безраздельным
господством в нем трансцендентального метода, в
специфически кантовском смысле и применении этого термина (так
называемое ортодоксальное неокантианство марбургской
школы — Marburger Observanz); вторую, по своему началу
совпадающую, с одной стороны, с выходом в свет и влиянием на него
«Эстетики чистого чувства» Г. Когена (1912 г.), с другой
стороны — с возникновением его собственной идеи «всеобщей
психологии» (1912 г.) и особенно «Всеобщей логики», и
длившуюся приблизительно до 1921 г., когда прогрессивно все время
усиливавшееся и, наконец, сделавшееся кэсподствующим влияние
его идеи «всеобщей логики» определило собой и в области
эстетики ту новую, более глубокую, и уже вполне оригинальную,
точку зрения, принцип которой, в применении к обоснованию
эстетики, я пытался развить в упомянутом моем
предшествующем докладе секции истории Эстетических учений.
Общий дух философского исследования и основная
направленность философии на решение проблемы бытия вообще и
эстетического бытия в частности и в особенности на первой из
намеченных стадий (или, если угодно, периодов) развития
эстетических воззрений Наторпа могут быть охарактеризованы
как выражение настойчивого искания синтетической связи
и единства принципов, хотя во многом, правда,
преобразованной, очищенной от ошибок и углубленной, но по существу все
еще платоно-кантовской, применением трансцендентального
метода в кантовском же смысле разрабатываемой системы
воззрений на бытие, познание, нравственность, прекрасное (в
природе и искусстве), религию, воспитание и связанные со всем
этим более второстепенные проблемы философии.
Часть I
323
Преобразованная и углубленная на основе платонизма,
то есть всеми новейшими исследованиями обоснованного,
многостороннего и в то же время точно специфицированного
понимания платоновской «идеи», в^интересующем нас
случае — ее эстетического значения и смысла в особенности и
прежде всего, — эта платоно-каитовская философия есть, как
мы знаем, философия человеческой культуры, имеющая
своей главной задачей обосновать самую возможность этой
прогрессивно развивающейся мировой человеческой культуры,
и для этой цели прежде всего — решить, руководясь единым
философским методом, основные проблемы бытия и
познания, чтобы уже отсюда и на этой почве перейти затем также
к решению проблемы жизни и всех других проблем, в их
сразу и чисто философском и прикладном, то есть
культурно-педагогическом, значении*.
И бытие, и познание, и человеческая культура, и их
выражение в воспитании человеческого рода рассматриваются при
этом процессуально, то есть не как нечто законченное,
готовое, раз навсегда данное (Factum), но как нечто всегда только
становящееся, растущее, развивающееся, как некоторое
постоянное (Fieri). Теория этого процессуально понятого бытия
есть поэтому одновременно и теория свободы, автономии
или, по крайней мере, все дальше, во всех направлениях,
идущего освобождения, становящегося возможным и все
плодотворнее развивающегося, именно и прежде всего, через
теоретическое обоснование самой возможности человеческой
культуры и ее роста.
Но это процессуально понятое бытие есть бытие жизни,
следовательно —бытие сознания, а познание этого бытия есть
познание все дальше развивающегося сознания
человечества** — его самосознание, с развитием которого шаг в шаг идет
и рост человеческой культуры, или, что то же, воспитания,
человеческого рода. Необходима поэтому наука об этом
развивающемся сознании и самосознании, и притом не какая-либо
наука о той или другой стороне сознания, но основная наука
о всем сознании в его целостной полноте и единстве, в его пер-
"* Со слов «отсюда и на этой почве» на полях отчеркнуто и приписано:
«Недостающая категория в определении образа у Жинкина».
** Со слов «но это процессуально понятое бытие» на полях рукописи
автором дважды отчеркнуто и помечено «NB».
324
Система эстетических воззрений Наторпа
воисточнике, радикальная, фундирующая центральное,
больше того — центрирующее единство познания собою
выражающая наука — философия.
Так как, однако, всякое познание, даже и теоретическое, есть,
как сказано, самосознание, то есть в конечном счете всегда
некоторое приведение себя в согласие с самим собой и другими,
тихий разговор души с самой собой и громкий разговор ее
с другими, как говорит Платон, то отсюда вытекает, что это
самосознание само всегда должно быть еще только побуждение
в общении каждого индивидуума с самим собой (обращение
к самому себе как к ты) и другими. Принцип общения и
взаимной критики является поэтому для философии в не
меньшей мере основным и руководящим, чем принцип
индивидуальной самодеятельности (спонтанности) и
самозаконодательства (автономии). Почему философствовать всегда,
в большей или меньшей мере, можно только совместно с
другими (συμφιλοσοφείν), и учить философии значит побуждать
или, если угодно, учить философскому исследованию?
Человек становится мудрым, то есть образованным, только в
общении и через общение, только в совместном, творческом
порождении духовных, или, что то же, культурных, ценностей. Путь
или метод у этому лежит через логику и математику в их
глубокой и неразрывной связи с этикой как наукой о последнем
принципе всякого культурного процесса и обновления, и
отсюда уже — с эстетикой и другими философскими
дисциплинами, поскольку таковые возможны.
Сознание глубокой внутренней связи этих дисциплин одно
только и может поэтому раскрыть и укрепить подлинную
основу действительной, соответствующей своему смыслу и
назначению человеческой жизни и деятельности, как, в
частности, и значения в ней эстетического сознания и из него
вытекающего художественного творчества* и при восприятии
природы, и в искусстве.
В строгом и полном соответствии с только что указанным
общим духом философских воззрений Наторпа в целом в
рассматриваемый период их развития находится также и все,
во внутренней непрерывной последовательности между собой
связанные отделы единого в себе учения о познании бытия, еди-
*Со слов «значения в ней» на полях рукописи отчеркнуто н помечено:
«ΝΒ».
Часть!
325
ной, как бы сказать, всеобщей логики сущего, именно: логика,
или критика и теория знания в узком смысле, затем этика,
эстетика и другие аналогичные отделы познания единого в
себе бытия, если бы таковые могли быть указаны и
необходимость их надлежаще обоснована.
В самом-то деле, то, что с намеченной здесь отпраоной
точки зрения можно было бы обозначить термином «бытие» и
понимать как таковое, есть не что иное, как смысл и содержание
логического высказывания или суждения, не того или другого
рода высказывания или суждения, что привело бы опять
только к тому или иному особому роду или виду бытия, но —
логического высказывания или суждения как такового или
вообще; как и, наоборот, то, что единственно только и можно
подразумевать под смыслом или смысловым содержанием
такого высказывания вообще, и есть бытие. Бытие есть смысл
высказывания и смысл высказывания есть бытие.
Соответственно этому, основная проблема о самой
возможности эстетики, в ее, то есть этой проблемы, наиболее
первоначальной форме, а равно и проблема о месте эстетики
в систематическом целом учения о бытии как таковом
сводилась бы к постановке и попыткам решения вопроса о том,
какому оообому роду высказывания или суждения, какой
части разговора души с самой собой, выражаясь платоновским
языком, должен был бы соответствовать также и тот особый
род бытия, который бы заслуживал названия бытия
эстетического, то есть бытия особого рода познания, которое
существенно отличалось бы, хотя и продолжало бы находиться во
внутренней непрерывной связи как с бытием того другого,
особого, фундаментального рода познания, которое мы
называем логическим познанием, так и с тем, опять-таки
особого совсем рода бытием, которое было бы координировано
с познанием этическим, то есть с познанием о нравственном
и должном.
И уже здесь, до всякого специального исследования, чисто
a priori можно1 было бы с уверенностью сказать, что если
эстетика как философская дисциплина вообще должна быть
возможной, то она может быть таковой по строгой аналогии с
логикой как наукой о том, что есть, в отличие от того, что
должно быть (и что в известном смысле, в свою очередь, опят^-таки
есть) лишь законоустанавливающей, а отнюдь не
нормативной философской наукой об особого рода сущем, об особого
326
Система эстетических воззрений Наторпа
рода смысле высказывания, как равно такой же
исключительно законоустанавливающей, а отнюдь не нормативной наукой
должна быть и этика, так как даже и она свое должное будет
в конце концов рассматривать лишь как бытие особого рода,
именно как бытие того особого рода направления
человеческого познания и сознания, которое называется волей.
Критико-онтологический характер эстетики в этот первый
период философского развития Наторпа является, таким
образом, ее основной чертой, ее существенным признаком. Сама
же эта искомая здесь нами философская эстетика будет, как
только что было показано, явно лишь
законоустанавливающей, но отнюдь не нормативной наукой о том, что в отличие
от «бытия» логики, как бытия природы, в узком смысле этого
слова, как и в отличие от «бытия должного», составляющего
предмет этики, есть то особого рода бытие, которое
обыкновенно называют «бытием прекрасного*, как бы в частности
и в подробностях не понимался и не обосновывался смысл
этого многооспариваемого термина, служащий нам здесь пока
только для обозначения «особого рода сущего» и особой
философской науки о нем. Эта последняя, то есть эстетика, могла
бы поэтому быть здесь единственно только наукой о самом
смысле высказывания чего-либо как прекрасного и о чем-либо
как прекрасном, все равно, будет ли при этом таковое
подразумеваться нами в восприятии природы или иметься в виду как
созидаемое — творимое в художественном произведении, в
искусстве. Самый же смысл этого высказывания о чисто
эстетическом бытии и его закономерности мог бы гласить,
следовательно, и гласил бы единственно только: что так-то вот и так
обстоит дело с восприятием и творчеством того, что условно
называется прекрасным в восприятии природы или в
художественном произведении искусства, поскольку оно таково,
иначе же его и вообще нет, то есть только в этом вот (упомянутое
выше «das an sich Selbst»9* прекрасного или эстетического), а не
в чем ином заключается его (то есть прекрасного)
эстетическое единство и закономерность, иначе же его и нет вовсе.
Равным образом совершенно a priori, исходя из
намеченного определения самого существа философии, можно было бы
установить также и систематическое место эстетики в учении
о бытии в его целом. В самом деле, поскольку в сфере
эстетического речь идет и вопрос ставится и не непосредственно
о бытии, и не о должном, больше того, даже, собственно гово-
Часть!
327
ря, вообще ни о чем не ставится вопроса, поскольку то, что
есть, по крайней мере претендует здесь на рассмотрение его
как долженствующего быть, и, наоборот, то, что должно быть,
рассматривается здесь так, как если бы оно было тем, что есть>
постольку систематическое место' эстетики в учении о бытии
в его целом должно следовать и за логикой как наукой о
познании бытия, в тесном смысле — природы, и за этикой как
наукой о познании должного, а сама эстетика [должна]
выражать собою науку о внутреннем единстве бытия того и
другого в некотором высшем, и то, и другое, как бы сказать,
потенцирующем аспекте или смысле.
Так обстоит, по-видимому, Дело с общей характеристикой
эстетики как одной из законоустанавливающих наук о бытии
и с указанием ее систематического места в общем учении о
бытии в целом, то есть в систематическом единстве философии
как таковой. Можно ли, однако, считать эту характеристику
исчерпывающей и ей о!*раничиться, как равно и указанием
того систематического места ее, которое вытекает для нее из
установленного до сих пор содержания понятия философии?
Чтобы ответить на этот вопрос мы должны глубже
вникнуть теперь в содержание самого понятия философии, как оно
было развито Наторпом уже в течение второго из
упомянутых выше трех периодое его философского развития, чтобы,
двигаясь по этому пути, посмотреть, не содержится ли в этом,
более развитом понятии философии, кроме указанных, еще
какого-либо важного существенного признака, могущего
бросить новый свет как на понимание самого существа и
природы эстетики как философской дисциплины, так и на смысл
ее постановления в систематическом целом философии после
логики и этики, в качестве их собой завершающей и
объединяющей области познания.
2
Указание только что, упомянутого нового существенного
признака в содержании понятия философии поможет нам также
ориентироваться относительно того отправного пункта в
обосновании и постепенном дальнейшем развитии эстетических
воззрений Наторпа, которым был намечен и в нем как бы предза-
ложен также весь путь непрерывного перехода от того, что с са-
328
Система эстетических воззрений Наторпа
мого начала в целях инструктивное™ в постановке и решении
проблемы систематизации эстетических воззрений Наторпа мы
обозначили как «в себе бытие* эстетического предмета, — к
тому, что в отличие от него мы тогда же имели в виду как искомое
«для себя бытие* этого предмета и чем наряду с более развитым
содержанием самого понятия философии намечался бы также
и решительный переход ко второму из вышеупомянутых
периодов развития и систематизации эстетических воззрений
Наторпа, когда проблема этого «для себя бытия» эстетического
предмета становится для него уже вполне актуальной.
Мы знаем уже, что то первоначальное и в некотором роде
как бы предварительное еще определение философии Натор-
пом, о котором в предшествующем [повествовании] шла речь,
сводилось в существе своем к следующему: самозаконность
(автономия) науки и таковая же самозаконность всей вообще
культурной работы человечества, в неменьшей мере
распространяющаяся, в частности, также и на искусство, — вот что
прежде всего есть неотъемлемое и нерушимое предположение
всякой настоящей философии. В утверждении этой
автономии и состоит подлинный дух философии и в науке, и в
общественной деятельности, и в искусстве, и во всякой вообще
культурной работе, на что бы она ни распространялась.
Не вне науки и не вне всей совокупности культурной
работы должна стоять философия, чтобы только извне влиять на
эту работу, но, напротив, она должна быть жизненно
действенной в самой этой науке и культурной работе, доводя ее, таким
образом, до сознания господствующей в ней ее же
собственной внутренней тенденции, до познания ее собственного,
то есть этой науки и культуры, внутреннего закона — ее
предположений и начал. Существо философии коренится
поэтому в самой науке, в культурной работе, взятой в ее целом,
и представляет собой не что иное, как только сознательное
выявление и выработку действующей в ней, то есть в этой науке
и культуре, основной тенденции — тенденции культурной
жизни или, если угодно, преисполненной жизни, — культуры.
Философия не есть, следовательно, какая-либо особая
наука наряду с Другими науками, но она выражает собой
единство науки в науках, и притом единство, проникающее все их
без исключения, — не особое направление культуры среди
других разнообразных направлений представляет она собой,
но ее своеобразная и единственная задача состоит в том, что-
Часть I
329
бы утвердить и отстаивать единство культуры в
противоположность ее отдельным направлениям или, точнее говоря,
в том, чтобы в самом многообразии их утвердить их
единство, открыть по возможности тот основной закон, сообразно
которому единая сама в себе культура развертывается в
многообразии ее направлений.
Не объединять, а тем более — предвосхищать или
исправлять результаты отдельйых наук имеет поэтому в виду
философия, но, в качестве критической философии, она, напротив,
вся целиком направлена к тому, чтобы охранить от
нарушающего влияния притязаний извне самостоятельность научной
работы в каждой специальной области, во что бы то ни стало
отстоять права опыта, представляющие собою не что иное,
как права в суровой борьбе окрепшей культурной работы
человечества.
Таково первоначальное и еще неполное, как мы на этом
настаиваем, определение Наторпом философии, и если бы
только от него зависело определение существа и
систематического места эстетики как принципиального обоснования
и выражения возможности особого направления или области
культурной работы человечества во всеобъемлющей сфере
обоснования и выражения культурной работы человечества во
всем ее целом, то есть в философии, — тогда и определение
эстетического в подлинной сути и существе его природы
сводилось бы только к раскрытию его (этого эстетического) «в
себе бытия», то есть своеобразной природы или аспекта его об-
стояния в единстве культурного человеческого сознания, чем
соответственно определялось бы и систематическое место
эстетики в единстве философского знания.
Так или, вернее, только так не может, однако, обстоять
дело, если мы вспомним, что речь идет здесь как раз об
указании еще некоторого нового, искомого существенного признака
в определении понятия философии и, в необходимой связи
с этим находящегося, иного, более глубокого понимания
существа «эстетического», чем какое могло быть нами
установлено до сих пор в связи эстетических воззрений Наторпа
в первый период их развития.
Какой же этот новый существенный признак философии?
С некоторого ли только основоположного обстояния сознания
начинается философия, и в нем ли только заключается ее
существо, или само это обстояние нуждается в принципе его по-
330
Система эстетических воззрений Наторпа
рождающем*, как нечто, что если и не есть фихтевский «пер-
во~акт», «перво-акт-действие», «первоначальный поступок
сознания» (Tathandlung), то все же есть нечто большее, чем
простое начало, именно первоисточник в познании этого
начала, через что тогда и вопрос о существе «эстетического»
сводился бы неизбежно к чему-то принципиально большему, чем
к вопросу просто о «том, что есть эстетическое», и этим
принципиально большим был бы тогда вопрос о «том, из чего есть
эстетическое», то есть вопрос о принципе самой возмоэ/сности
познания, а стало быть, и бытия эстетического, каковое бытие
было бы тогда понятно в более первоначальном и коренном
смысле, чем бытие в смысле простой, той или иной, или даже
всякой, данности в сознании или обстояния в нем. Словом,
возник бы, как сказано, вопрос уже не только о том, что есть ( Ап-
sich-sein), но и о том, из чего и для чего (Für-sich-sein), то есть
о том, как именно есть эстетическое, чем был бы в то же
время, как мы отчасти могли в этом убедиться уже выше,
намечен и переход ко второму из упомянутых периодов развития
эстетических воззрений Наторпа, и был бы сделан
дальнейший важный шаг в их систематизации.
В самом деле, если не в простом обстоянии, но в некотором
первоначальном «деянии или действовании» сознания
(фаустовское «Im Anfang war die Tat»10*) заключается самое
существо проблемы философии, тогда такая основная ее и, в
сущности, единственная проблема будет сводиться к вопросу: как из
этого первоначального акта, деяния или действования,
которое в то же время есть уже и некоторое «дело», то есть нечто,
уже приобретающее объективный смысл, — как проистекает из
него мысль, мышление (в частности, мысль об эстетическом
и понимание его), как из «Tat» становится «Gedanke» без
того, однако, чтобы эта «мысль-мышление» оказалась бы
оторванной от «дела-действоз?шия», так как ведь явно, что эта
изначальная «мысль-мышление» должна корениться в этом
изначальном «действовании-деле» (Tat), притом в нем навсегда
и изначально оставаться коренящейся**, и в нем же составлять
его подлинный» творческий, больше того — творящий момент!
* Со слов «с некоторого ли только»- на полях отчеркнуто и приписано:
«Жинкин».
" Со слов «без того, однако» на полях отчеркнуто и сделана приписка:
«Чистое чувство*.
Часть I
331
Надо уже в проблеме о самом существе философии в ее
целом, а следовательно, и в каждой из ее специальных областей
проводить поэтому строгое различие в трансцендентальном
смысле между простым «начинать» и подлинным
«проистекать», между «началом» и «первоисточником» — «изначалом»
(Ursprung). Начало, то есть некоторое основное обетояние,
например, в нашем случае, содержание эстетического сознания,
в его объективном выражении в природе и искусстве не есть
еще тем самым «первоисточник»* принцип; но дело скорее
обстоит так, что в самом этом «начале» предстоит и необходимо
еще только открыть «первоисточник» — принцип, который
вместе с началом уже содержит в себе также и основание
всего бесконечного процесса его постепенного и непрерывного
раскрытия, основной закон его развития*.
Этот-то первоисточник всякой и всей культуры, всей науки
и жизни и есть как раз то, что философия и в целом, и в
каждой из своих специальных областей, в данном случае в
эстетике, должна выследить и, так сказать, вырыть из своей
подпочвы: во всяком познании науки, во всяком познании и
постижении культуры любой сферы жизни, во всяком даже
переживании культуры — внутри всего этого, а «не перед этим
и не позади этого, и не рядом-с этим и не сверх этого»1 f \ —
должен быть отыскиваем и найден этот первоисточник.
От своего «начала» должна, следовательно, и философия
вообще, и эстетика в частности идти к своему «перво-началу»,
к своему первоисточнику и принципу, и только так, и только
на этом пути искания этого принципа могут быть поэтому
не внешне только, а по самому существу систематизированы
и философские вообще и в частности эстетические воззрения
Наторпа.
И нам предстоит теперь показать, как и в каком смысле
развивается основная линия философских исследований Натор-
па в направлении от эстетического «то, что», то есть от обсто-
яния эстетического в природе и искусстве, к эстетическому
«то, из чего», следовательно, — к принципу эстетического^
чтобы, исходя затем из этого принципа, из его закономерности
и в ней, объяснить все моменты раскрытия и познания
эстетического — то самое, что и Коген обозначил как «das Erzeugen
* Со слов «вместе с началом* на полях отчеркнуто и приписано: «Чистое
чувство*.
332
Система эстетических воззрений Наториа
aus dem Ursprung»12*, в данном случае — «das Erzeugen des Äes-
thetischen»13\ Сделать это значило бы дать очерк системы
эстетических воззрений Наторпа, чем задача наша была бы,
хотя, правда, в самых лишь общих чертах, выполнена.
Итак, что же является для Цаторпа отправным пунктом
обоснования познания эстетического, проникновения в суть
его бытия!
Что, прежде всего, есть это, само, в известном смысле,
искомое, «то, что» в эстетике и для нее, от чего и Наторпу
предстояло отправляться в своем исследовании, в попытке,
по крайней мере, наметить общие контуры системы своих
эстетических воззрений. Как для последователя Канта и Коге-
на, хотя и весьма самостоятельного, Наторпу в первый, и
отчасти даже еще и во второй период его философского
развития неизбежно пришлось отправляться от той исторической
данности, от той области и того направления работы
человеческой культуры, которая называется искусством и берется
им в рассмотрение, разумеется, не только как законченный
уже факт современного ему состояния культуры (Factum),
но и здесь также, главным образом, как все дальше
развивающийся прогресс (Fieri) этого направления и этой области
саму себя в неустанной и непрерывной работе созидающей
человеческой культуры*.
Правда, на первый взгляд может показаться, что искусство
в гораздо меньшей степени, чем наука и жизнь, может
нуждаться и требовать для себя философского исследования как дачи
отчета о принципиальных основаниях и условиях своей
возможности, о том, чт;о, выходя за пределы опыта в искусстве (как
и во всяком простом восприятии прекрасного в природе), тем
самым его, то есть самый этот опыт в искусстве, самое его
созидание, как даже и простое восприятие прекрасного в
природе, — впервые делает возможным и обосновывает. А между тем
это выхождение за пределы опыта, с целью сделать его
возможным и обосновать, и составляет ведь как раз главный
действующий нерв всякого философского исследования, поскольку
оно стремится стать радикальным, или, что в данном случае
значит то же самое, — трансцендентальным. Но как раз для не-
* Со слов «от той исторической данности» на полях отчеркнуто н
приписано: «отправляться] от искусства как процесса для постижения "для
себя бытия" эстетического».
Часть I
333
посредственности-то и наивности художественного
творчества и в искусстве, и в непосредственном восприятии природы
такая философская рефлексия, как часто думают, может,
напротив, показаться не только лишней, но, пожалуй, даже вредной,
стать помехой его свободного развития. И тем не менее уже
Шиллер в полной мере понял необходимость применить и
сделать плодотворным для художественного творчества Кантом
впервые достигнутое понимание оснований эстетического
суждения или, точнее, познания «эстетического»*.
В самом деле, ведь и само художественное творчество есть,
несомненно, некоторого рода познание, которое как таковое
должно стоять в необходимом и прямом отношении к двум,
уже известным основным родам познания, именно к
теоретическому познанию науки и к так называемому практическому
познанию о нравственном или должном, то есть в конце
концов о самом человеке в глубокой своеобразности его разумной
природы**. Правда, сознание этого фундаментального
отношения может и не быть налицо у художника в каждый данный
момент или в самом процессе его художественного творчества
или восприятия, однако «всякий раз как и там, где*
творчество художника достигает своей высшей степени, — становится
необходимым и это сознание. И разве, спрашивает Наторп,
не является отличительным признаком как раз современной
поэзии и даже искусства вообще, в его целом, что в своем
художественном творчестве они, то есть и поэзия, и искусство
вообще, в лице лучших своих выразителей, к этой именно
высшей сознательности и стремятся, это искомое отношение как
раз и хотят постигнуть? Но это явно неосуществимо уже и
даже немыслимо без философской рефлексии. И потому если
только верно, что современная поэзия и даже искусство
вообще, в его целом, стремятся, как это принято думать, к
установлению более глубокого отношения к современной жизни и
науке, тогда нельзя будет не признать и того, что именно это
более глубокое отношение указует также и на некоторое
последнее основание единства, в котором все это, то есть и
искусство, и жизнь, и наука, в конце концов коренятся и связы-
* Со слов «понимание оснований» дважды отчеркнуто и приписано:
«Основное], почему отправляются] от искусства, — оно [есть] позн(ание)».
** Со слов «к так называемому* дважды отчеркнуто и приписано:
«Человек».
334
Система эстетических воззрений Наторпа
ваются. Но это и есть как раз то, чего, как мы знаем,
неустанно ищет философия или в данном случае та область ее
принципиальных исследований, которая носит имя эстетики и
которая именно поэтому отнюдь не есть только психология
художественного переживания, но учение о законах самого
искусства, как бы некоторая логика объективно данного
произведения искусства, ибо всякое такое произведение содержит
в себе познание, подчиненное собственным, особым законам.
Так, отправляясь от факта искусства и непосредственного
восприятия прекрасного в природе как некоторой данности
или, точнее, «как бы данности» (gleichsam eine Tatsache) в
культуре и жизни, философия, в настоящем же случае та часть ее,
которую представляет собою эстетика, с неизбежностью
углубляется и проникает до исследования, порождающего и
искусство, и восприятие прекрасного в природе из их первоисг
точника или принципа, через что и то и другое впервые
получают значение выражения «того, из чего» оба они берут свое
начало*, становятся доступными познанию в творческой
динамике своей подлинно живой, то есть первоисточник сознания
собой выражающей, природе. И в том как раз, в частности,
и философия Канта послужила образцом и в известной мере
предметом подражания для всей последующей философии,
что она впервые стала философией человеческой, человечество
в себе объединяющей культуры (menschheitlichen Kultur).
Если поэтому современное искусство стремится к воплощению
в себе более глубокого культурного сознания, чем какое
искусству удавалось отразить и выразить в себе до сих пор, то этим
самым оно и стремится как раз к тому, к чему со времени
Канта стремится и вся философия вообще, — к принципиальному
обоснованию самой своей возможности, каковым
обоснованием в данном случае и будет эстетика в ее неразрывной
методологической связи с этикой и логикой.
Что же касается самого искусства^ то оно оказывается при
этом не только одной из величайших проблем философии, но,
в своих величайших творениях, чем-то даже гораздо большим,
а именно искусство само оказывается некоторого рода
философией, но только развиваемой не в виде логической системы
понятий, но как некоторое целостное и конкретное оформле-
* Со слов «проникает до исследования» дважды отчеркнуто и приписано:
«NB: экспрессио[низм]».
Часть I
335
ние бытия в непосредственной наглядности созерцания
(Hinschauen der Gestaltung) для чувства.
Так, достигнув высочайших вершин, философия и
искусство взаимно дополняют и освещают друг друга, становясь
выражением одного, внутренне в себе единого, культурного
целого. Не только всегда, как и в наши дан особенно, возникала
и возникает поэтому некоторая философская поэзия, но
гораздо больше того — нечто вроде философской музыки и
философским духом и смыслом проникнутых изобразительных
искусств, и это не в том только смысле, что средства искусства
делаются орудиями служения философским целям или даже
само искусство стремится овладеть идейным философским
содержанием и его по-своему выразить, но в том гораздо более
глубоком смысле, что одна и та же, сокровеннейшим
содержанием духа обогащенная и им порождаемая, повышенная,
потенцированная жизнь культурного человечества пульсирует
и в философии, и в искусстве, углубляя таким образом
понимание одной через проникновение в другое, и это, в свою
очередь, не только в лице тех избранных, кто является творцом
в той или иной из этих областей, но и в каждом из тех, кто
хотя бы только с некоторым пониманием и чувством способен
откликнуться на это двустороннее творчество и его в себе
воспроизвести, — во всяком, кто понимает философию и
наслаждается искусством: Впервые это интимное взаимоотношение
философии, то есть эстетики, с одной стороны, и искусства,
с другой, со всей силой проявилось, как известно, в Шиллере,
поскольку ему суждено было быть одновременно и философом
и поэтом. Но ив более непосредственных и наивных формах
творчества Гете и Бетховена, по крайней мере в наиболее
высокие моменты этого, творчества, всегда обнаруживалось, как
старается показать Наторп, нечто вроде философии — той
философии самосознания человеческой культуры или духа,
которая оба великие мира — и внешний, и внутренний (кантовское
звездное небо надо мной и нравственный закон во мне) —
приводит к сокровеннейшему и в то же время непосредственному
переживанию человеческой дугой, делает оба их собственным
творческим обнаружением человеческого сознания, даже
просто сознания* в первоначальности его природы как такового.
* Со слов «переживанию человеческой души» дважды отчерчено и
отмечено: «NB».
336
Система эстетических воззрений Наторпа
Так уже Кантом предвозвещенный факт проблемы этого
интимнейшего взаимоотношения философии и искусства, как
и обратно, — проблема этого факта, — стала для Наторпа,
вместо простой исторической данности так называемого факта,
отправным пунктом постановки проблемы философской
эстетики и в равной мере обоснования ее решения в указанном
нами с самого начала нашего изложения направлении
перехода от объективно-данного обстояния «эстетического» в
искусстве и восприятии природы к отысканию закономерности
и единства первоисточника его в сознании (от An-sich-sein
«эстетического» к его Für-sich-sein).
В каждом, следовательно, великом произведении
искусства, могущем служить таким отправным, в объективном
смысле, пунктом тенденции к обоснованию эстетики, необходимо
должно поэтому заключаться выражение этого
взаимопроникновения искусства и философии, или, что то же, —
объективно данного и субъективно искомого, то есть
закономерности специфически аспектированного предметного
выражения, с одной стороны, и закономерности сознания, в единстве
своего первоисточника восходящего к принципу самой
возможности всякого выражения, с другой. Не будь этого, тогда
оно, то есть великое произведение искусства, и не было бы
великим, или, что то же, не стояло бы на высоте культуры
человеческого духа, со времени Канта завоеванного для
человечества через обоснование философии как учения о принципах
и, в конце концов, о едином верховном принципе
возможности всяческой культурной работы и творчества вообще,
художественного же, следовательно, эстетического творчества
в искусстве в частности и даже в особенности.
Но если все сказанное справедливо, то есть если в указанном
смысле именно искусство прежде всего является, как мы виде-
ли, отправным пунктом самой возможности тенденции к
обоснованию эстетики, то как же должна быть тогда поставлена,
соответственно этому, в своей первоначальной форме и как
окончательно сформулирована самая проблема эстетики!
Чтобы ответить на этот основной здесь вопрос, мы должны
теперь в развитии системы эстетических воззрений Наторпа
продвинуться еще на один шаг вперед и с этой целью от
сочинений в своем идейном содержании использованных нами до
сих пор (именно: «Über Philosophie als Grundwissenschaft der
Pädagogik»M#, «Sozialpädagogik»15", «Religion innerhalb der
Часть I
337
Grenzen der Humanität» Hi*, «Zum Gedächtnis Kant», «Was uns
die Griechen sind»17*, «Über Philosophie und philosophisches
Studium. Ein Gespräch»18* и некоторые др.) перейти теперь
к тому сочинению Наторпа, которое через посредство
понятия индивидуального и индивидуума ближе подходит и
подвигнет нас к подлинному, более глубокому смыслу постановки
проблемы познания «эстетического», я имею в виду
сочинение «Individuum und Gemeinschaft»19* в его двух,
существенно и даже в корне различных редакциях и содержании —
первоначальной от 1909 года и новой от 1921 года.
з
Мы видели уже, что своего высшего значения
«индивидуальное» достигает впервые в области «эстетического», где оно не
только равноправно с общим, то есть [с} законом, но даже
занимает по отношению к нему доминирующее положение,
поскольку общее уже не имеет здесь значения как таковое, но, как
помним, обладает им лишь постольку, поскольку входит в
индивидуальное. И этим как раз объясняется, почему в сфере
эстетического, то есть прежде всего в искусстве, в указанном
смысле понятом, не существует закона в смысле такого общего,
которое имело бы определяющее значение, то есть было бы нор-
мой. То же, что в качестве таковой фигурирует в области
искусства, есть в действительности всегда только выражение
совершенства достигнутой ступени техники, то есть, в конце концов,
выражение такого отношения, которое составляет содержание
некоторого закона природы, и, следовательно, относится к
искусству и вообще к сфере эстетического лишь в качестве
средства, а не как что-то худо>кественно-ценное само по себе, то есть
в самом существе своем «эстетическое». Так, например, законы
консонанса и диссонанса в музыке и все, что есть аналогичного
этому в сфере красок, в живописи, или в области оформления,
в пространственных очертаниях (Gestalten), в изобразительных
искусствах, — все это само по себе еще не есть нечто
художественное, собственно эстетически ценное, но входит в это
последнее лишь в качестве средства и материала*.
И если верно, конечно, что соответствующее музыкальным
правилам или принципам гармонии разрешение диссонанса,
* Со слов «так например» на полях отчеркнуто и приписано: «техника».
338
Система эстетических воззрений Наторпа
вообще говоря* и удовлетворяет примитивное эстетическое
чувство, то, с другой стороны, вся, как бы сказать, интенция
художественного произведения в его целом, то есть общество
эстетического в нем, может требовать, чтобы это
удовлетворение все же осталось в пренебрежении, чтобы от него была
налицо готовность отказаться и им пожертвовать в пользу
чего-то эстетически высшего и потому более ценного, подобно
тому, как такое же или аналогичное пожертвование
логически правильным ответом или решением какого-либо вопроса
может иметь место в поэзии (в нашей русской
литературе — знаменитое пушкинское: «Тьмы низких истин мне
дороже нас возвышающий обман»20*), и точно так же и во всякой
вообще сфере или направлении художественного творчества,
в любой области искусства.
Ничто не обладает поэтому в искусстве, поскольку речь
идет о целях, а не только о средствах и материале, значением
и силой всеобщей необходимости, но дело обстоит здесь так,
что необходимость, в смысле невозможности быть иначе,
определяется для каждого художественного произведения и
образа, как и для каждого художественного восприятия
природы, особо, сообразно законам данного, вот этого, так вот
именно существующего и возникающего, хотя и всегда подвижного,
то есть внутренне развивающегося, образа , или вообще —
всякого художественного порождения и построения.
С известным правом можно поэтому сказать, конечно, что
и в области художественного, то есть в конечном счете
всегда — эстетического, также царит своего рода строжайшая
закономерность, однако не в смысле подчиняющего общего,
но в том смысле, что всякое, по самой природе своей
индивидуальное, художественное произведение или просто
восприятие прекрасного, имеет всегда свой собственный особый закон,
то есть в самом себе содержит свою собственную
эстетическую необходимость, или, другими словами: содержащееся
и коренящееся в нем многообразное должно мочь допустить
постижение себя в некотором внутреннем умственном
видении, в идее, как нечто неделимо в себе единое, как своего рода
недробимое и внутренне целостное видение, каковые оба
смысла (видение — видение) несомненно включает уже в
себе термин платоио-плотиновской «идеи», в ее первоначаль-
* Со слов «особо, сообразно» отчеркнуто и на полях приписано: «NB».
Часть I
339
ном, собственно эстетическом аспекте здесь понятной] и этим-
то и обусловливается как раз то, что во всяком истинно
художественном произведении и восприятии ни что отдельное,
ни одна частная черта, не может ни быть, ни стать иной без
того, чтобы и все вообще не стало в нем другим, не
изменился бы, стало быть, и, пожалуй, даже исчез и весь образ, в его
нераздробленной и нераздробимой художественной
цельности и эстетическом единстве.
Не столько поэтому то, о чем здесь идет речь, есть
индивидуальность художественного произведения, всегда
указующая на нечто общее, чего именно она есть индивидуальность
и что в нем индивидуализируется, сколько здесь имеется в
виду то, что можно было бы назвать индивидуащей (Individui-
tät), то есть невозможностью, недопустимостью разложения
художественного произведения, resp.2** простого
художественного восприятия предмета природы и заключающегося
в нем существа эстетического (das Wesen22* des Ästhetischen)
на его составные части, из которых каждая для себя, без
целого, имела бы какое-либо эстетическое значение.
И как индивидуальное даже и в логическом смысле, строго
говоря, разложимо не по объему, а всегда лишь по
содержанию, и только на этом пути и может быть логически
определено, так точно, и даже в еще более точном смысле, и всякое
индивидуальное художественное порождение, то есть
индивидуальное в эстетическом смысле, допускает разложение
себя на свои составные части опять-таки и исключительно лишь
логически, а отнюдь не собственно эстетически. Напротив, его
эстетическая значимость через это разложение безусловно бы
уничтожалась, подобно тому, как любой цветок уничтожается
в качестве цельного предмета эстетического восприятия
природы его расчленением*.
Вот почему анализ художественного произведения или
восприятия не то что бы вообще был не нужен и не имел
значения, но имеет таковое и необходим единственно только с
точки зрения науки и техники: При этом никогда на следует
упускать из виду, что даже самая задача такого анализа остается
исключительно научной (в теоретическом смысле) и
технической и в качестве таковой относится всецело в сферу
«логического», а не «эстетического». Подчиняющее общее всегда
* Вверху страницы над абзацем приписано: «наука об искусстве».
340
Система эстетических воззрений Наторпа
имеет поэтому место и право гражданства в науке об
искусстве, но отнюдь еще тем самым не в самом искусстве, — в
рефлексии об эстетическом, но не в самом эстетическом*.
Но если художественному произведению приходится,
таким образом, безусловно отказать в праве притязания на
общезначимую ценность в логическом смысле, то оно тем не
менее имеет неоспоримое право притязания на общезначимость
в том смысле, что «одно и то же», выражаясь кантовским
языком, «единство синтеза» или «единство непосредственно
усматриваемого содержания» платоновской идеи в указанном
эстетическом значении ее, что это единство должно мочь
в принципе стать доступным всем, способным к его
восприятию и постижению** в равной притом мере, если и поскольку
одинакова будет у всех эта способность восприятия или
постижения эстетического в природе или художественном
произведении. Не в смысле нормы, следовательно, с которой
надлежит сообразоваться, может претендовать на
общезначимость произведение искусства и эстетическое в нем, не в
смысле правила, которому надо следовать, даже не в смысле
образца, которому надо подражать и до которого стремиться
возвыситься и доработаться. Всякое подражание, напротив,
должно находиться здесь под запретом, во всяком случае, быть
нежелательным: каждое художественное произведение и
восприятие безусловно целостно и самодовлеюще в себе и
должно таковым остаться. Но, с другой стороны, как раз в этой
своей исключительно индивидуальной ценности оно и
претендует на признание, на общезначимость в качестве эстетического
объекта, в качестве некоего неотъемлемого звена в мире
эстетического бытия.
Совершенно неправильным, вводящим в пагубное
заблуждение и подлинному смыслу эстетического в корне
противоречащим было бы поэтому пытаться подвести эстетику,
придав ей предварительно значение нормативной науки, под одну
эгиду с этикой, а тем более с логикой, превратив
соответственно и их тоже в некоторого рода нормативные науки, как
равным образом безусловно недопустимым являлось бы,
конечно, и стремление всецело растворить или слить эстетику
* Со слов подчиняющее общее» дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
* Со слов «неоспоримое право» отчеркнуто и приписано: «общезначимость
эстетического]».
Часть!
341
на этой почве, в частности, с этикой. И если Гербарт,
например, был поэтому в известном смысле глубоко прав, когда
отрицал за эстетическим признак «долженствования» и
отказывал ему в праве на императивную форму своего выражения,
то, с другой стороны, истолкованное даже только как
всеобщим образом нравящееся эстетическое все-таки слишком
сильно сближалось бы таким образом с логическим,
неизбежно получая при этом еще и психологическое истолкование
и смысл, как это с особенной ясностью и сказалось у того же
Гербарта23*.
И если тот же Гербарт решается, например, в музыке так
называемый «генерал-бас», то есть техническую и, в конце
концов, в природе, следовательно, коренящуюся закономерность,
будь то хотя бы закономерность психологическая, что здесь
не составляло бы разницы, — если этот свой «генерал-бас» он
решается провозгласить и понять, как необходимость
художественную, то есть в последнем счете эстетическую, то, с точки
зрения Наторпа, он впадает здесь в самое пагубное и опасное
заблуждение, делает роковую ошибку, слишком легко, правда,
постигающую теоретическую науку, когда она пытается стать
наукой об искусстве и художественном, следовательно,
эстетическом восприятии природы.
Правда, в качестве теоретической науки и эстетика как
философская база науки об искусстве, если только она вообще
должна быть возможной, не может, конечно, не стремиться
к отысканию общезначимого и, стремясь к нему, разумеется,
находит такое общезначимое, но с тем, однако, существенным
ограничением, что найденное таким образом общезначимое для
самого-то искусства всегда есть только средство и материал,
но отнюдь еще не то, что составляет подлинное существо
всякого произведения искусства, никоим образом не
аристотелевское — τ6 τί ήν είναι24* — в нем, не его онтологический
смысл, имеющий определенное обстояние, как мы могли бы
сказать теперь с современной нам точки зрения*. Как нигде
оправдалось бы поэтому при таком анализе фаустовское
изречение:
Dann hat er die Teile in seiner Hand,
Fehlt leider nur das geistige Band25*.
* Со слов «но отнюдь еще* дважды отчерчено на полях и приписано: «NB».
342
Система эстетических воззрений Наторпа
Но могут возразить, и Наторп предвидит это возражение,
что ведь тогда, то есть при столь резко сформулированной им
точке зрения на существо эстетического, невозможным станет,
пожалуй, никакой прогресс в искусстве, никакое его развитие:
нечему и некуда будет развиваться, если не будет никакого
подчиняющего общего и, следовательно, никакой идеальной
вершины» к которой все тендировало бы и восходило, — если
бы в самом деле пришлось признать, согласно всему
вышесказанному, только единичные, всецело и исключительно только
за себя говорящие и только в себе ценные, безусловно
индивидуальные произведения искусства, — художественные
образования, каждое в себе, ни с чем не сравнимые и
неподражаемые, — если бы в самом деле не было никакой
общезначимостью [не] обладающего мира искусства, который включал
бы и подчинял бы себе все отдельные художественные
образования как интегральные свои моменты и звенья.
Ответ, который Наторп со своей точки зрения дает на это
возражение, звучит радикально: если под прогрессом или
развитием хотят понимать нечто такое, в чем и через что
предшествующее отменялось бы в пользу последующего, оказывалось
бы преодоленным или низведенным до относительного лишь
значения, в качестве простого момента продвижения к
лучшему, будто бы более совершенному, — то такого прогресса в
самом искусстве нет и быть не может, но таковое развитие есть
и может быть констатировано исключительно в технике.
В этой технике многое, конечно, может устареть и даже
вовсе отпасть, но в самом искусстве художественное как
таковое, то есть «собственно эстетическое», никогда не
устаревает. Своего совершенства ему нечего искать где-либо вне себя,
в далеком, в конце концов, даже бесконечном прогрессе
своего развития, но оно, то есть само это художественное
произведение или восприятие, может и должно быть законченно-
совершенным в себе самом, больше того — можно сказать
даже, что и всякому научному достижению, всякому
нравственному деянию, можно, строго говоря, лишь настолько
приписать вечное значение и совершенство, поскольку сами они
оцениваются не только научно, строго рационально, но также
и эстетически или, по крайней мере, носят на себе как бы
некоторую печать эстетического.
В одном только разве смысле могло бы научное
достижение или нравственное деяние иметь значение образца или
Часть I
343
быть выражением совершенства — это именно в значении
более или менее чистого выражения метода исследования или
познания, но в этом-то как раз смысле произведение
искусства, в свою очередь, отнюдь не имеет и не может иметь
значение образца или масштаба оценки. В самом деле, ведь уже по
тому одному не может быть оно таким методическим
образцом, что здесь, в сфере искусства, в эстетическом, не только
не требуется, но даже решительно недопустимо никакое
подражание (манера): искомый образец здесь не нечто
статически данное, даже не определенная какая-либо тенденция или
направление, но нечто в самом строгом смысле безусловно
подвижное, в своем единстве внутренне и неудержимо в себе
изменчивое (variabel), в своей целостности неуловимое, хотя
в ней же, по-своему, определенное, конкретное, красноречиво
и непреодолимо властное, чарующее*.
Если поэтому понятие развития или даже вообще
становления должно получить в сфере искусства и восприятия
прекрасного какое-либо применение, то таковое может касаться
лишь его материи и его средств, а не существа эстетического
в нем.
Задачи, предначертания, сюжеты, разумеется, могут
развиваться, как равным образом подлежат развитию также и
технические средства, но совершенство самого произведения
искусства в нем самом, его эстетическое существо, никакому
развитию подлежать не может, как равно сразу дано, и никаким
изменениям в принципе не подвержено и никакое вообще
восприятие и созерцание прекрасного, никакое достигшее
выражения, творчество его, словом, ничто эстетическое, будь оно
взято со своей объективной или субъективной стороны,
развитию не подлежит, и если [не] где-либо, так именно здесь
справедливо утверждение, что «сущее не потому есть, что оно
становится, а потому только и постольку становится,
поскольку оно есть».
Но что ж^1 однако, все это означает? Быть может,
художественное цроизведение и существо эстетического в нем,
согласно всему сказанному, вовсе не подлежит даже и никакому
познанию. Уж не так ли обстоит дело, что произведение
искусства, как и простое восприятие прекрасного, даже вовсе ус-
* Со слов «но нечто* дважды отчеркнуто и приписано: «существо
эстетического».
344
Система эстетических воззрений Наторпа
кользает от власти понятия? Никаким образом, отвечает На-
торп, ибо как тогда могло бы оно вообще быть объектом, а оно
несомненно ведь таковым является?
Разрешение возникающей здесь важной проблемы,
служащее нам в то же время надежным оплотом для существа
продвижения вперед по пути систематизации эстетических
воззрений Наторпа, состоит в том, что понятие принципиально
возможно ведь также и об индивидуальном, а не только об
общем. Постижение «единства многообразного в индивидууме»
также ведь есть понятие.
Правда, не может быть никакого сомнения в том, что
сказанное о принципиальной возможности познания существа
эстетического в произведении искусства и восприятии цриро-
ды немедленно же подлежит и существенному ограничению
и оговорке, хотя и не колеблющему этой принципиальной
возможности, но требующему, однако, существенного углубления
самой постановки проблемы познания эстетического в
понятии и через понятие.
В самом деле: когда в качестве органа для постижения
художественного объекта и существа эстетического в нем
указывают обыкновенно как раз не на понятие, а на фантазию
или чувство, понимаемое в его первоначальности, то есть как
чистое чувство, то нельзя ведь, по-видимому, отрицать
известной правомерности этого утверждения, и в основе его
несомненно лежит верный взгляд, что понятие никогда не может,
конечно, вполне исчерпать существа индивидуального ни
в произведении искусства, ни в художественном восприятии
природы, то есть подлинно эстетического в том и другом.
Единственно ведь, что, по-видимому, может достичь
понятие, — это наложить известные грани на свободное, в
бесконечность все дальше развивающееся движение
представлений. Подлинное существо произведения искусства и
восприятия прекрасного в природе никогда не может быть поэтому
высчитано и до конца расчленено анализом — иначе оно не
было бы индивидуальным. Правда, многое в нем можно и
высчитать и вымерить, так как несомненно много в нем есть
и всеобщего и даже логически общезначимого, но все это
входит в него только в качестве отдельных факторов, а отнюдь не
определяет собой всего целого того движения, связи и
своеобразного единства представлений и образов в их отношении
к чувству, которое составляет самое существо произведения
Часть I
345
искусства, как и художественного восприятия вообще, — его
собственно эстетическую значимость*.
Вся трудность в большей, чем до сих пор, глубине
возникающей здесь эстетической проблемы заключается поэтому
в необходимости ответить на вопрос: каким образом
творческая художественная фантазия или чувство, если бы захотели
взять его органом постижения эстетического, в своей
бесконечной подвижности, могли бы достичь тем не менее
непререкаемой определенности, требуемой для постижения или
познания существа эстетического, или, другими словами, что
вообще есть то, что могло бы,установить и определить существо
эстетического, раз этим определяющим началом не может
быть, по-видимому, общее, всегда некоторое основное
отношение или закон собой выражающее понятие, как это имеет
место во всех других философских дисциплинах и точных
науках? Совсем ли следует отказаться от понятия как
принципа определения или по-новому понять самую природу
и существо понятия, чтобы на этом новом пути мочь
все-таки установить и определить существо эстетического, и, в
последнем случае, — в чем заключается существо этого,
по-новому понятого понятия, как принципа познания существа
эстетического?**
Выдвинуть вопрос в такой радикальной форме — это и
значит поставить проблему познания эстетического в самом
глубочайшем его существе.. К разрешению этой проблемы два
других принципа, именно проблема и понятие
индивидуального и должны, в конце концов, привести. Это они именно
должны, как мы уже отчасти могли убедиться в этом из
предшествующего, показать нам и сделать возможным переход от
эстетического в себе (его смысл как объекта) к эстетическому для
себя (его более глубокий, и субъективное и объективное
преодолевающий и в первоисточнике того и другого их
объединяющий смысл). Но здесь пока это искомое разрешение
основной проблемы эстетического в его существе
рассмотрением проблемы и понятия индивидуального, как мы видели, еще
только как бы издали систематически преднамечается и под-
* Со слов: «а отнюдь не определяет» отчеркнуто и приписано: «существо
эстетического».
'* Со слов: «по-новому понять» дважды отчеркнуто и приписано: «понятие
в зависимости от чувств».
346
Система эстетических воззрений Наторпа
готовляется. Необходимость иначе и более глубоко понять
и постигнуть проблему познания «эстетического» ведет,
следовательно, также и к иному, более глубокому проникновению
в природу того, что есть понятие вообще, как орудие и метод
познания. Необходимость коренной реформы эстетики с
неизбежностью ведет за собою таковую же реформу логики,
и уже только отсюда может получить, как увидим, свое
решение также и основная проблема существа «эстетического».
Но на данной стадии нашего изложения или, вернее,
свободной реконструкции системы эстетических воззрений
Наторпа мы не можем еще проследить решение этой проблемы во
всех подробностях. Для нашей цели пока достаточно было
выяснить, что дело обстоит именно так, и что эстетическое по
самому существу своей природы (онтологически) отличается
и от этического, и от логического в обычном, принятом
значении этих терминов, и что это различие коренится в его, то есть
эстетического, индивидуальном характере и природе.
Правда, с другой стороны, эстетическое не должно
стремиться также и к полному отрыву от этического и
логического. Единство человеческого существа, единство человеческой
культуры, или, что то же, единство взаимоотношения всех
основных направлений, или, если угодно, измерений
объективного построения предмета познания — это основное и
руководящее единство, конечно, никоим образом не должно быть
поставлено под вопрос или быть угрожаемым со стороны
притязаний эстетического на абсолютную обособленность.
Такое притязание, если бы оно возникало* было бы
неправомерным. Закономерность сущего (бытия) и закономерность
должного (нравственного) никоим образом не могут всецело
потерять всей своей силы и своего значения, как только
будут взяты в их применении и отношении к области
восприятия и созидания прекрасного, то есть к той области культуры,
которую составляет искусство и существо эстетического
в нем. Как равным образом, с другой стороны, было бы
недостаточным и неправильным признать за закономерностью
«этического» и «логического» значение лишь материала для
«эстетического», как это ошибочно утверждали и пытались
доказать Кант и за ним Шиллер.
Но дело скорее обстоит так, что эстетический объект, хотя
и притязает для себя на ценность познания и ценность
истины, существенно отличающую его от аналогичной ценности
Часть I
347
объекта этического и логического, однако в то же время
остается тем не менее и в связи и в согласии с ценностью
познания и ценностью истины и в сфере этики, и в сфере логики.
Ибо не может же ведь в самом деле одна истина иметь свое
обстояние в противоречии с другой истиной или стоять с ней
рядом без всякого внутреннего к ней отношения, но есть и
может быть вообще только одна истина.
И действительно, своеобразность «эстетического», по
крайней мере в его первом аспекте как «в себе бытия», и состоит
как раз в той идеальной связи и соотношении, в которое оно
как некоторое «concretum» поставляет сущее с должным:
метод познания сущего с методом познания должного,
поскольку именно оно, то есть эстетическое, и тот и другой метод,
которые, сами по себе взятые, представляются скорее
противоречащими друг другу — ибо то, что есть, не должно быть,
а то, что должно быть, не есть, — объединяет в образе, как бы
заранее предвосхищая идеальный конец их вечного между
собой спора. И вот сущее представляется в эстетическом, хотя,
правда, не как долженствующее быть, ибо это был бы явный
обман, но как если бы оно долженствовало быть*» и, наоборот,
долженствующее быть опять-таки не как сущее, ибо это тоже
был бы обман, но как если бы оно было сущим. Момент, как
бы сказать, некоторой трансцендентальной фикции, стало
быть, здесь налицо и, как мы видели, существенно относится
к самой сути бытия эстетического как того «concretum», в
котором ни сущее, ни должное, ни реальное, ни идеальное,
ни объект, ни субъект не только не созерцаются, но даже и не
мыслятся разъединенными, хотя, конечно, и не
отождествляются логически, оставаясь, несмотря на свое различие,
соединенными в помянутой трансцендентальной фикции,
обеспечивающей целостность, хотя и не дающей тождества.
И тем не менее эта фикция правомерна, и своеобразная
истина такого измышления (Dichtung) заключается в том, что
указанное объединение сущего и должного в действительности
несомненно постулируется мыслью и имеется в созерцании для
чувства. Но что чистой мыслью постулируется, то, по
принципу Парменида, должно быть и мыслимым и, стало быть, в
известном смысле, по крайней мере, сущим: «Без сущего мысль
не найти, она изрекается в сущем»2В\ Искомое нами объедине-
* Со слов «объединяет в образе» дважды отчеркнуто и приписано: *NB».
348
Система эстетических воззрений Наторпа
ние сущего и должного и его право на притязание коренится,
следовательно, в известной свободе мысли и представления,
именно такой мысли и представления, которые
узкологической ценностью действительности сознательно пренебрегают,
но из-за одного этого еще вовсе не обязаны отказываться от
притязания на ценность истины вообще, да и не могут даже,
так сказать, желать для себя такого отказа.
Ήο если так именно станем мы рассматривать
эстетическое, а только так и можно, по-видимому, его рассматривать,
тогда во всей своей индивидуальности оно никоим образом
не окажется чуждым ни общему, ни вообще закономерному,
тем менее им противоположным или от них совсем
отторгнутым. Напротив, как раз в нем, в эстетическом, ничего уже не
будет обособленным, в себе от всего оторванным и
специфически замкнутым, ничто не будет в нем противопоставлено
другому или только безразлично и безучастно поставлено
рядом с другим. Но таково, наоборот, обстояние существа
эстетического, что безраздельно царит в нем сплошное
взаимное соотношение всех форм и потенций бытия, всего в нем
вплоть до самых глубочайших и именно потому наиболее
общих корней сущего, вплоть до первоисточника бытия всего
нашего существа, чем здесь уже намечается, как видим,
переход эстетического ко второму, из вышенамеченных,
принципиально более глубокому аспекту его** как того, что не
только «есть в себе, как объект, но и для себя», как нечто гораздо
большее, и первоначальное, чем существо эстетического
только в объективном смысле и, следовательно, ограничительно
понятое.
При этом как раз именно бесконечность, и в то же время
полная жизненность и непосредственность указанного выше
сплошного взаимоотношения элементов и признаковой
обусловливает собою как раз подлинную индивидуальность
всякого художественного восприятия и каждого произведения
искусства, а с ним вместе и в нем — также и самое существо
эстетического, суть его бытия***.
* Сверху приписано: «второй момент».
** Со слов «обстояние существа эстетического* отчеркнуто и приписано:
«ΝΒ*.
*"* Со слов «при этом как раз» отчеркнуто и приписано:
«бесконечное-индивидуальное».
Часть I
349
Каждое произведение искусства, как бы ни было оно
замкнуто в себе и закончено, стремится поэтому представить под
определенным углом зрения весь мир, все сознание в его
целом, как бы сведенным воедино к одному центру (Uni-versum),
этим углом зрения определяемому, и только так и в этом лишь
смысле и само оно является совершенным и себе довлеющим,
особым миром. Оно стремится быть, следовательно,
индивидуальным изображением, в конце концов, чего-то в высшей
мере всеобщего — того, что Платон назвал «идеей*, в этом ее
первоначальном, собственно эстетическом значении. Недаром
ведь и самое слово «идея» уже у Платона свое начало берет из
эстетического направления мысли, а именно оно прежде всего
означает у него внутреннее видение (Ιδεΐν, οραν, Schauen),
созерцание (Anschauung), созерцающий взгляд, как бы
внутренне устремленный на что-то (Hinschauen, по терминологии На-
торпа), и, в последнем счете, следовательно, некоторое
видение или изображение чего-то в индивидуальном или,
по крайней мере, как бы в индивидуальном, целостно-едином.
При этом, однако, в качестве ее, то есть этой идеи, содержания,
как ни индивидуально казалось бы она аспектированной,
всегда мыслится все же нечто в высшей степени всеобщее,
не только «закон», но нечто даже гораздо большее — «закон за-
конаъ, закон законосообразности, или то, что можно бы назвать
методом, а еще точнее было бы сказать — в чистом созерцании
(καφαρώς* οραν) открывающимся принципом метода in
concrete — чувством, первоначальным, чистым чувством.
Только надо всегда помнить при этом, что описанное здесь
существо эстетического созерцания необходимо строго
отличать от созерцания математического и что это коренное
различие состоит в том, что здесь, то есть в эстетическом
созерцании, не общее должно быть мыслимо в единичном как его
существо, так что единичное служило бы тогда только
некоторой точкой опоры для, в направление к общему собственно
всегда интендированного, созерцающего и мыслящего
сознания, но, наоборот, здесь, в сфере эстетического, так скорее
обстоит дело, что само общее представляется здесь как бы
вошедшим в индивидуальное, чтобы тем содействовать
выражению всей полноты его содержания. Там, то есть в
математическом созерцании, единичное получает свое значение только
ради общего (этот вот треугольник, круг, данное уравнение),
здесь же, то есть в эстетическом созерцании, наоборот, общее
350
Система эстетических воззрений Наторпа
имеет смысл и значение только ради индивидуального и лишь
в нем. Так, эта своеобразная логика познания
эстетически-индивидуального становится здесь его онтологией.
Таким образом эстетическое, в известном смысле и под
некоторым своеобразным углом зрения выражая весь мир в его
целом, вступает в связь и с этическим и логическим, притом
не только, как бы сказать, вторично, но как раз именно
первоначальная и внутренняя гармония всех означенных форм
объективного оформления сознания* и есть его, то есть этого
сознания, собственное и коренное действие, его основная в этом
аспекте функция, эстетическая по преимуществу.
Но даже если все это и так, то теперь перед нами возникает
новая, для систематического объединения эстетических
воззрений Наторпа еще более важная и глубоко захватывающая,
поистине радикальная проблема. В самом деле, до сих пор мы
имели в виду и рассматривали эстетический объект в нем
самом как нечто индивидуальное, как некоторое, печатью
индивидуального отмеченное, непосредственно, хотя и творчески,
созерцаемое «concretum». Но теперь нам предстоит сделать еще
дальнейший важный шаг вперед в прослеживании с самого
начала намеченного нами перехода от эстетического в
объективном смысле (эстетическое как «в себе бытие») к более
глубокому аспекту эстетического, в котором опосредствованная
объективность эстетического уже преодолена в пользу некоторого
более глубокого и всеобъемлющего смысла его,
возвышающегося в равной мере и над узкообъективным и над
узкосубъективным его значением (эстетическое как «для себя бытие»).
И вот здесь-то, на пути к этой нашей руководящей цели перед
нами возникает еще один предварительный, но тем не менее
чрезвычайно важный и не могущий быть обойденным вопрос,
а именно: спрашивается уже не только об эстетическом
объекте как индивидуальном, но и о «значении эстетического» для
индивидуального «субъекта**.
Выше мы оставили, как, вероятно, помнят присутствующие,
неприкосновенным для области искусства и восприятия
прекрасного в природе их притязания на своего рода
общезначимость. И мы не затронем его и теперь, если скажем, что
«непосредственный объект эстетического познания так глубоко
■ С начала абзаца отчеркнуто и приписано: «NB».
'■ Со слов «а именно» дважды отчеркнуто и приписано: «NB*.
Часть!
351
коренится в индивидуальном переживании или, точнее,
сознании, из которого он возник и которое его создало, что
постижение произведения
искусстваиливоспройзведениехудожественного восприятия природы должно быть не чем иным, как
переживанием вновь подлинного переживания самого творца
произведения искусства или худьжественйого восприятия,
ибо и зто последнее есть здесь всегда творчество». И даже
более того — в том как раз и заключается общезначимость
всякого художественного переживания ö искусстве и восприятии
природы, что оно способно быть вновь пережитым,
воспроизведенным. Так существует оно всегда, имеет некоторое'вечное
обстояние в идеальном мире эстетического познания или
постижения как нечто, возникающее из идеи (aus der Sehe, как
перевел Фихте), или, точнее, ее, эту идею, эту Sehe, собою
манифестирующее. Нельзя только забывать, что само-то это
эстетическое познание феноменологически обстоит при этом
всегда, как слагающееся, состоящее и выразимое не в
ценностях общего, а в ценностях индивидуального, и что отнюдь не
какая-либо психология этого индивидуального в его отношении
и противоположности к общему имеется здесь в виду. Словом,
манифестируя идею, оно все-таки в известном смысле всегда
остается индивидуальным.
Постоянно и неуклонно нужно быть поэтому настороже,
чтобы искомому здесь нами художественному, в конце концов,
эстетическому, не дать как-либо испариться или
превратиться в психологическое, чтобы, растворившись в его мелких
водах, оно не Цотеряло бы в нем навсегда своего подлинного,
вечного значения, не стало бы индивидуальным в
психологическом смысле переживания.
Ведь не переживание как таковое есть то, чему присуща
эстетическая ценность и значимость, а единственно только
содержание этого переживания — именно его, пусть как угодно
индивидуально определенное, оформляющее' построение,
оформленность содержания. Правда, и эта оформленность
отнесена, конечно, и относима к какому-либо Я или центру (auf
das Selbst), но только это Я и этот центр, это Selbst, не будет
здесь центром или Я единичного субъекта*, да и вообще не
субъекта в психологическом, хотя бы и самом что ни на есть
общем значении этого термина, то есть в конце концов оформ-
* Со слов «и эта оформленность» отчеркнуто и приписано: «NB».
352
Система эстетических воззрений Наторла
ленность эта никоим образом не будет допускать отнесения
ее к тому, что выражает собой термин сознательность —
Bewusstheit, но, напротив, та эстетическая оформлеиность
содержания, о котором идет речь здесь, будет отнесена и
относима единственно только к самому сознанию — Bewusstsein,
то есть к сознанию как к всеобъемлющему, творческому
началу и как к подлинной внутренней совокупности всего
содержания объективно оформляющего построения, в чем и
заключалась бы подлинная и единственно возможная
онтология эстетического.
Так и в эстетической области, как и во всех других, остается
в силе положение, что высота, которой достигает способность
к индивидуальному оформляющему построению (Gestalt —
Gestaltung), не стоит и, в существе дела, не может стоять ни в
каком противоречии с той высотой, которая в таком построении
могла бы быть достигнута* в общении людей между
собой, — в каком угодно большом коллективном целом, будь то
хоть весь человеческий род, все историческое человечество,
даже само человеческре сознание, даже просто сознание.
**И это происходит от того, что как ни индивидуально
эстетическое построение во всяком мыслимом для него
отношении, а все же оно всегда есть оформляющее построение
содержания идеи, то есть чего-то в высшей, даже в последней
степени общего. Да и высшей степени своей индивидуальности оно
достигает опять-таки единственно через то, что в то же время
оно есть ведь и наиболее богатое по своему содержанию
всеобщее, в этом как раз эстетическом оформляющем построении
представленное в наиболее индивидуальном своем аспекте.
И здесь снова стоим мы перед платоновской идеей, перед
этим видением (die Sehe, ιδέα, ιδεϊν), которое в то же время
есть и увидение и, следовательно, как бы некоторый объект,
своего рода видение, не в смысле призрака, однако, то есть как
выражение недостатка реальности понятое, но, наоборот,
в смысле избытка и чрезвычайной, активной полноты и даже
источника всякой реальности о себе заявляющее. Только уже
не статическая реальность какой-то, хотя бы и самой что ни
на есть, общей вещи будет иметься здесь в виду — не «в себе
бытие» эстетического, но другая реальность и иной ее «не-
* Со слов «что высота» отчеркнуто и приписано: «ΝΒ».
* Вверху страницы надписано: «третий момент».
Часть!
35S
вещный источник», и субъективное и объективное одинаково
в себе представляющий и потенцирующий, — вот перед чем
оказываемся мы здесь поставленными, как перед тем более
глубоким и новым, что можно было бы, терминологически
примыкая здесь к старой шеллинго-гегелевской традиции,
обозначить как «для себя бытие эстетического».
Так стоим мы здесь вплотную перед тем новым
направлением или измерением эстетического, о котором с самого начала
в систематических целях как о верховном принципе системы
шла у нас речь. Другими словами, мы впервые имеем здесь
дело с великой задачей перенесения точки зрения всего нашего
рассмотрения прежде всего во внутрь, в нас самих как
рассматривающих и видящих*. И через это и то, что мы
рассматриваем, мы будем видеть теперь уже не как нечто внешнее, нам
противостоящее, вещное, реальное, но как нечто «сверх-вещное»,
сверх-реальное и, в этом смысле, — идеальное.
Это значит, что центр тяжести всего нашего рассмотрения
вновь, теперь уже в третий раз, радикально переносится с
извне созерцаемого, даже и в его первоначальности понятого, в
само чистое созерцание (καφαρωςτ ορδν)*\ в чистый взгляд
самого духа, который, то есть этот взгляд, есть в то же время и
облик, — в тог чистое «видение — увидение — видение», в чистую
идею — die Sehe, как Фихте удачно и убедительно передал этот
коренной смысл платоновскотплотиновского принципа идеи
в ее эстетическом по преимуществу аспекте и значении.
Никаких черт *не-истинности> отнюдь не содержится
в этом принципе, но, разумеется, он выражает собою нечто
«пе-вещное» и в этом смысле — *не-реалъное*, но как раз это-
то та именно «мнимая» его «не-реальность» и содержит в
себе подлиннейшую, над всякой областью вещного
возвышающуюся истину, истину в равной мере как всякого речения,
высказывания (Spruch), так и всякого «противо-речения» —
противоречия (Widerspruch), одинаково над обоими
возвышающуюся, но не вне обоих стоящую, а внутренне в них
присутствующую, по милости и в силу высшей компетенции
которой получает свое значение и силу и условная истинность
утвердительного высказывания (Spruch) и отнюдь не менее его
* Со слов «имеем здесь дело» дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
"Со слов «радикально переносится» дважды отчеркнуто и приписано:
«NB*.
354
Система эстетических воззрений Наторпа
имеющее значение, но также всегда лишь условной
истинностью обладающее, отрицательное
высказывание-противоречие (Gegen-u[nd]-Widerspruch).
Ибо тот высший, эстетический по преимуществу принцип,
та истина, о которой как об идее идет здесь у нас речь, стоит
по ту сторону всякого да и нет в сфере вечного мира, над
ними царящего, по ту сторону всякого действия и
противодействия, всех поступков, всех актов — в настоящем вечном
покое. И это есть глубочайшее основание*, почему всякого рода
моментам раздвоения и раздора, всякому безостановочному
движению борьбы, всякой трагике бытия и жизни — почему
всему этому верховный принцип идеи не только может
предоставить и оставить за всем этим относительное право на
существование, но, больше того, всему этому дать начало, вечно
и изначально порождая из себя всякое «да» и «нет», всякое
речение и противоречение, чтобы снова вечно принимать их
в себя и в себе их мирить между собой, отражая in concreto
достигаемое таким образом внутреннее единство в созерцании
и творчестве прекрасного**, и в то же время над всем этим в
чистом, потому что эстетическом, в эстетическом, потому что
чистом созерцании, то есть [в] нераздробленной целостности,
первоначале, безмерно возвышаясь.
***В таком идеальном освобождении от мира, от всей
трагики его борьбы, противоречий и бедствий — не простым
устранением их, а своеобразным перенесением в некоторое иное,
новое измерение чистого творческого сознания, которое в
глубине своего вечно вновь нарождающегося содержания есть
в то же время и изначальное, чистое чувство, — этим
перенесением всех вообще индивидуальных и коллективных
переживаний в сферу нового, более глубоко заложенного
измерения сознания, посредством иначе и более глубоко понятого
принципа платоновской идеи, не только то достигается, что
центрирующее, творческое единство нашего сознания, наша
душа впервые после абстрагирующей отчужденности ее от
самой себя во всех родах объективного познания снова оказы-
* Со слов «по ту сторону всякого действия» дважды отчеркнуто и
приписано: «NB».
'* Со слов «чтобы снова» дважды отчеркнуто и приписано: «существо
эстетического».
* Вверху страницы надписано: «чистое чувство и существо эстетического».
Часть 1
355
вается как бы возвращенной себе самой*, вновь нам отданной
во внутренней форме творческого созерцания, но, гораздо
более того, весь мир, вся жизнь, все бытие оказывается
возвращенным ей, этой, так недавно еще бывшей как бы потерянной
для нас нашей душе.
Неповрежденная, в некотором смысле снова детски
невинная, не предвзятая, ко всему открытая, творчески радостная,
какой она была и есть изначала, эта наша человеческая душа
теперь вновь оказывается свободной от всякой
насильственной абстракции, как бы искупленной, не готовой только,
но и неудержимо стремящейся к неисчерпаемо-новому, все
более богатому, в творческом волнении чистого чувства и
оформляющем построении фантазии себя непрерывно
обнаруживающему и все полнее раскрывающему созиданию и бытия
и жизни, и их непосредственно-схватываемого, в чистом
эстетическом созерцании укрепляемого единства**.
Подлинное существо эстетического в только что сказанном
находит свое полное выражение, и в третий раз вместе с
углублением самого понятия философии через решительное по-
ставление в центр его содержания принципа платоновской
идеи изменяется здесь, как видим, и определение существа
эстетического*** и, в известной мере, даже и место этого
определения в системе эстетических воззрений Наторпги Эти
воззрения, как даже и философские воззрения Наторпа вообще,
как бы все более возглавляются и центрируются в этом
постепенно достигнутом им понимании существа эстетического.
""Если теперь присутствующие соблаговолят вернуться
назад к поставленной нами выше кардинальной проблеме
о том, в каком смысле эстетическое как по преимуществу
«индивидуально-сущее» может подлежать познанию и, стало
быть, нуждается в фиксировании его посредством понятия,
то после всего вышесказанного о новом понимании идеи как
верховного принципа познания нам станет ясным также и то
направление, в каком должна пойти подсказываемая и
требуемая необходимостью углубления проблемы эстетического
* Со слов «что центрирующее» дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
** Со слов «неудержимо стремящейся» дважды отчеркнуто и приписано:
«NB».
'*" С начала абзаца дважды отчеркнуто и приписано: «Nß».
'*** Вверху страницы приписано: «познание эстетического*, ,
356
Система эстетических воззрений Наторпа
познания реформа и углубление учения о понятии вообще
и как таковом, то есть реформа логики.
В самом деле, если мы спросим теперь, чем же будет это
новое, искомое нами понятие, в котором и через которое
существо «эстетического в себе», его объективный смысл по
преимуществу возвысится или, точнее, углубится до «эстетического
для себя»* — его в новое измерение рассмотрения
перенесенный потенцированный смысл, — то, по крайней мере, общий
смысл ответа на этот основной вопрос уже не представит
непреодолимых трудностей.
Эстетическое в понятии о нем как об объекте перейдет
в сферу эстетического в более глубоком аспекте о нем как
о чем-то таком, в чем утрачена и изначальная субъективная
сторона фантазии и чувства, и что тем не менее все же
остается в то же время и объектом, но только в высшем значении
чего-то не просто данного, но творчески вытекающего или
порождаемого из его (этого данного) первоисточника**.
Другими словами: принципом понятия станет идея, само же понятие
должно будет быть понято уже не только как
систематическое единство признаков («единство многообразия» в
суждении, по Канту), но как такое в творческой интенции духа
непосредственно усматриваемое единство, в котором входящие
в него черты или признаки не только преднамечаются,
но и творчески из него, из этого единства идеи как «Sehe»,
оказываются развиваемыми, или, выражаясь словами Гегеля,
[такими, что] когда, говоря про общие понятия, он
противополагает их «всеобщему в себе и для себя», [то] и резко
подчеркивает, что «общность всем есть только внешняя форма
всеобщего» (Энциклопедия, § 20)27*.
А всем этим, по крайней мере, в принципе оказывается
открытым и достигнутым также и абсолютное основание
возможности всякой относительной только стороны в природе
эстетического, всего эстетически условного и
ограниченного — всякой внешней эстетической формы в ее отличии от
формы внутренней, равно как и различия между собой всех
стадий внутренней формы в последовательные моменты ее
раскрытия теперь лишь становятся ясными и принципиально
обоснованными. Абсолютным же принципом всех этих разли-
* С начала абзаца дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
** С начала абзаца дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
Часть!
357
чий, как и относительности их значения, является подлинная
(всеобъемлющая) индивидуальность, «перво-индивидуаль-
ное» как «перво-всеобщее» и «перво-конкретное» —
'индивидуальность, понятая в смысле принципиального исключения
всего частичного, которая именно потому, что она для всех
одна и та же, то есть общезначима и всеедина, и есть
действительно подлинная последняя инстанция всеобщности.
Так эстетическое, оставаясь индивидуальным, становится
и всеобщим и в полноте своего жизненного содержания и
значения оказывается возвышающимся над всякой пустотой
абстракции, от всякого вреда простой (ограниченной)
относительности изъятым и исцеленным.
Поэтому и способы выражения эстетического в
художественном творчестве и восприятии — «дух и работа, работа и дух,
искусство и техника, форма и масса, масса и форма» — уже не
будут более друг от друга оторванными, враждебно друг другу
противопоставленными, но они должны будут слиться между собой
в верной, взаимной поддержке друг друга, ибо все это
проистекает ведь из творческого начала своеобразной закономерности
первоисточника всякого и всего сознания как такового.
Зарождающийся творческий трепет и безмерное волнение
порождаемого из этого первоисточника содержания, есть то
изначальное или чистое чувство, к которому апеллирует и
которое к оформляемому фантазией творчеству пробуждает
идея.
Принцип чистого чувстёа есть поэтому то, чем для Натор-
па, как и для Когена, приобретшая внутреннее единство
система эстетических воззрений завершается, и что
«эстетическое» вплотную придвигает и переводит в «религиозное»,
но что, то есть это отношение эстетического к религиозному,
уже не подлежит здесь нашему рассмотрению. Но как бы то
ни было, закономерность эстетического и для Когена, и для
Наторпа, и, как мы в этом убеждены, также и для Гегеля, есть,
во всяком случае, закономерность идеи в ее отношении к
тому наиболее глубокому из всех измерений сознания, которое
называется чувством**, причем эта закономерность идеи
реализуется в отношении к чувству через посредство
оформляющих построений творческой фантазии и в них.
* Вверху страницы надписано: «Бог. Наторп».
** Со слов «есть, по всяком случае» дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
358
Система эстетических воззрений Наторпа
Наше изложение в существе закончено, нов интересах
полной объективности и беспристрастия нашей реконструкции
основных принципов системы эстетических воззрений
Наторпа нам не хотелось бы закончить попытки построения первой
главы этой системы без того, чтобы привести здесь в
качестве подтверждения и иллюстрации принятой нами основной
точки зрения две цитаты из Гегеля, которыми
характеризуется, на наш взгляд, также и та относительная близость
воззрений Наторпа к учению Гегеля об искусстве, к которой он был
приведен, по-видимому, ходом своего философского
развития. *Не что-либо доказать, а только ближе раскрыть или
даже только в общих чертах наметить перед присутствующими
широкую перспективу историко-философского развития
претендуют здесь эти особняком стоящие цитаты. 4 Религиозная
концентрация сознания (des Gemüts), — говорит Гегель в
своих лекциях по философии истории29, — обнаруживается как
чувство, и, однако, концентрация эта становится предметом
обсуждения (das Nachdenken) (собственно,] переходит в
область обсуждения); культ есть внешнее выражение этого об*
суждения. Второе оформляющее построение (так я перевожу
здесь слово Gestalt) соединения объективного и
субъективного в духе есть искусство**: оно в большей мере переходит в
действительность и в сферу чувственно-воспринимаемого
(Sinnlichkeit), чем религия; в возвышеннейших формах своего
выражения (in ihrer würdigsten Haltung) оно имеет своей задачей
раскрыть, правда, не самый дух Бога, но — образ Бога (die
Gestalt des Gottes), а затем также — Божественное и духовное
вообще. Божественное должно через посредство искусства
стать созерцаемым, оно (то есть искусство) раскрывает его для
фантазии и созерцания».
Такова первая цитата. Что существо эстетического, как и
религиозного, есть здесь чувство, что образ Бога (die Gestalt des
Gottes) есть здесь выражение принципа идеи и что эта идея есть
источник творческого оформления чувства посредством
фантазии в созерцании — это представляется нам едва ли подлежащим
* Вверху страницы надписано: «чистое чувство».
у] [Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Philosophic der Geschichte. — Leipzig:]
Reclam,[1924.S.89]-90.
"Со слов «второе оформляющее построение» отчеркнуто и приписано:
«NB».
Часть!
359
какому-либо сомнению, как равно и то, что чувство понимается
здесь явно не эмпирически, не психологически, но как
изначальное или, по современной терминологии, чистое чувство*.
Не менее характерными, как для определения
первоначального существа духа или, согласно принятому нами в этом
докладе выражению, единства первоисточника самого сознания,
так и для выяснения значения и смысла понятия
индивидуального в его универсальном значении и в его применении
к сфере эстетического, представляются нам также следующие
знаменательные слова Гегеля в том же сочинении, по своему
смыслу как бы имевшиеся в виду Наторпом: «Дух в своем
сознании о себе должен быть для себя предметом, и его
объективность непосредственно содержит в себе на первый план
выдвинутыми (das Hervortreten) те различия, которые вообще
существуют как целокупность (или в целокупности)
различных сфер объективного духа, подобно тому, как и душа есть
лишь постольку, поскольку она есть система своих членов
(Glieder), продуцирующих эту душу через свое взаимное
соединение в простое единство. Таким образом, некоторой
индивидуальностью (eine Individualität) является moi что в
своей существенности (Wesentlichkeit) как Бог представляется**,
почитается и служит предметом упоения (genossen wird) в
религии, что как образ и созерцание (als Bild und Anschauung)
раскрывается в искусстве, познается и понимается как мысль
в философии»28*.
Естественная, непредвзятая близость и даже известное
родство обоих мыслителей [во взглядах] на существо
эстетического и его первоисточник в сознании представляется нам на
основании только что приведенных текстов Гегеля
убедительным, даже бросающимся в глаза, хотя о каком-либо прямом
влиянии Гегеля на Наторпа едва ли могла бы идти речь29*.
Но как бы там ни было, ссылка на приведенные места для
нас служит косвенным подтверждением правильности или,
по крайней мере, допустимости нашей попытки предпринять
в указанном духе реконструкцию системы эстетических
воззрений Наторпа в их внутреннем единстве.
Все предшествующее должно было убедить нас в том, что
систематическое единство эстетических воззрений Наторпа
* С начала абзаца отчеркнуто и приписано: «Гегель».
'* Со слов «таким образом» дважды отчеркнуто и приписано: «NB».
360
Система эстетических воззрений Наторпа
в принципе было им осуществлено, хотя в каком-то особом
труде и не выявлено в подробностях.
Свести теперь специальные начала этой системы, как-то:
интуитивное, индивидуальное, конкретное, фиктивное,
жизненное и т. д. — в одно стройное архитектоническое целое не
представляло бы, однако, уже существенных затруднений, как
равно сравнительно легко могло бы быть показано и то, что
с точки зрения достигнутого понимания идеи и чистого
чувства как верховных принципов эстетического никакая
эстетика, которая пыталась бы найти для себя обоснование в
психологическом учении о каком-либо, хотя бы и самом что ни
на есть рафинированном, удовольствии, удовлетворении,
чистой интеллектуальной радости или чем-либо подобном,
будет заранее обречена на самую жестокую неудачу и крушение.
Однако представить вниманию присутствующих хотя бы
только краткий очерк этой критики Наторпом других
эстетических учений, теорий и принципов, не лежащих в
направлении принятого им трансцендентального и
феноменологического способа рассмотрения, как равно поставить перед их
взором то стройное архитектоническое целое системы его
эстетических воззрений во всех подробностях, о котором
только что было говорено, уже не представляется возможным
в границах и без того затянувшегося доклада и должно быть
отложено до более благоприятного случая, если таковой
вообще представится.
Б. Фохт.
18 ноября 1925 г.,
Москва
ЧАСТЬ II
О постановке проблемы философской
эстетики у П. Наторпа до возникновения
его идеи «всеобщей логики»
и в отношении к ней
Лейбниц: «..,on peut dire en general, que toute
la continuité est une chose idéale... et il
se trouve que les règles du fini réussissent
dans l'infini... et que vice les règles de
l'infini réussissent dans le fini...»30*
Основная проблема эстетики, по убеждению Наторпа, есть,
со времени Канта, проблема особого рода познания совсем
особого предмета, точнее, своеобразной предметности того
направления сознания, которое, находя свое выражение в
объектах, или, что то же, продуктах, творческого воображения
(фантазиу) и в чистом, то есть в первоначальном, чувстве,
к которому эти объекты как бы апеллируют й
обращаются, — [направление сознания] именно потому, то есть
вследствие этого центрального положения в нем чувства, и
называется эстетическим. Предмет или предметность, о которой
здесь идет речь, своеобразна ύ том отношении, что это не есть
ни предметность природы (сущего), ни предметность
человеческой свободы, поскольку она, имея свой принцип в разуме
и его самоопределении или самозаконодательстве
(автономии), оказывается источником и условием возможности
направленных на разумно поставляемую, в последнем счете,
конечную цель человеческих поступков (должного). Но не
будучи ни предметностью сущего, ни предметностью должного,
новая предметность эта, в отличие от строго логически, то есть
научно, познаваемой предметности бытия природы, как и в
отличие ее от этически™ познаваемой предметности бытия
нравственного или должного, и познается совсем особым
способом, по существенно иному, сравнительно с методом логи-
:V} Этика — только особый высший род логики в ее применении к ноной
области бытия, именно бытия должного.
362
Система эстетических воззрений Наторпа
ческого и этического познания, методу познания. И вот эта-
то совсем своеобразно познаваемая предметность и есть та,
которую со времени Баумгартена31* принято характеризовать,
как предметность эстетически (то есть для чувства)
прекрасного. Закономерность познания, в которой и через которую
устанавливается эта своеобразная предметность
эстетического, будет, следовательно, также закономерностью совсем
особого рода, хотя и находящейся в непрерывной связи с
закономерностью познания этического, то есть нравственного,
или должного, и через ее посредство также — с
закономерностью познания собственно логического, то есть относящегося
к природе, сущего в собственном, точном смысле этого слова.
Таким образом, примененная к новой области бытия
должного, логика становится этикой, а примененная дальше к еще
новой области бытия прекрасного логика становится уже
эстетикой. Непрерывно развивающаяся, в корне своем
логическая закономерность познания становится этической, затем
эстетической, затем, может быть, закономерностью познания
того, что относится к религии и так далее, если бы были или
могли быть открыты еще новые области познания (еще новые
роды) сущего. Число этих направлений или, если угодно,
измерений познания принципиально бесконечно. Можно было
бы сказать также, что закономерность познания логического
в собственном, шестом значении этого слова есть
закономерность познания отдельного, конечного или обусловленного из
общего, все более имеющего тенденцию стать безусловно
общим, так что отдельное, конечное, единичное,
индивидуальное есть здесь только до последней степени обусловленное,
ограниченное общее, только его отдельный случай, пример или
экземпляр, на котором общее, в конце концов, безусловно
общее, развертывает и обнаруживает свою познавательную
силу, далее — что закономерность познания нравственного или
этического есть, напротив, закономерность познания
безусловного, бесконечного, общего, именно безусловно общего,
однако не в его абстрактной обособленности, не в нем самом
как таковом, а в его отношении к отдельному, конечному,
единичному, индивидуальному как, хотя определяемому общим,
однако сохраняющему самостоятельное значение и смысл
равноправного с общим термина отношения. Если в
логическом преобладало дискурсивное, опосредствованное, все
дальше и выше обусловливающее познание обусловленного,
Часть II
363
то в этическом его по меньшей мере уравновешивало собой
непосредственное, в некотором роде, как бы сказать,
мысленно-интуитивное, умозрительное познание безусловного, как
принципа всякого обусловливания и определения.
Наконец, с не меньшим правом можно было бы сказать, что
закономерность познания прекрасного или эстетического
есть закономерность познания безусловного, именно
безусловно общего, даже уже не в его равновесии или равноправии
с обусловленным, конечным, единичным, индивидуальным,
как это было в области познания этического, но так, что
общее познается здесь как обусловленное и «в виде* обусловлен-
но-конечного, отдельного, единичного, индивидуального;
безусловно общее — «как и в форме» конечного,
индивидуального, или, по иной терминологии, как идея в явлении. Но как
бы там ни было, во всех этих родах или областях познания
логического, этического, эстетического речь, как мы видим, идет
всегда и всецело только о «познаваемом», о так или иначе оп-
редмеченном или, по крайней мере, опредмечиваемом уже
содержании сознания и даже о непрерывно развивающемся
и раскрывающемся единстве этого, в принципе всегда и с
самого начала уже подлежащего опредмечению, содержания,
если только и поскольку для этого единства принять во
внимание могущий быть обоснованным непрерывный переход от
закономерности предметного познания «логического» к
таковой же — «этического» и «эстетического». Но ни в одном из
этих родов или областей познания, ни во всех их вместе и
воедино взятых речь явно не идет о содержании сознания как
такового до и независимо от его опредмеченности, от его
объективации в той или иной форме или виде. Словом, речь,
самое большее, идет всегда лишь о центрированном единстве
предметного познания всех этих областей, вместе взятых
и каждой их них в отдельности, в интересующем нас случае —
области познания эстетического, но отнюдь еще не о
центрирующем единстве всех этих областей познаваемого из
первоначального корня, из первоисточника всего содержания
сознания в нем самом и как такового. Между тем
закономерности и единству предметности всех этих областей познаваемого
и других, какие бы ни были еще допущены или найдены,
новых областей не может не соответствовать и не протекать или
развиваться, им по крайней мере параллельно,
закономерность и единство иного порядка, иного, более глубоко лежа-
364
Система эстетических воззрений Наторпа
щего измерения сознания, именно закономерность и
единство субъективного содержания сознания как такового, в его
непосредственности еще не успевшего, так сказать,
подвернуться и оказаться подлежащим объективированию, тому опред-
мечению, с которым, как с чем-то уже совершившимся,
встречаемся мы в закономерности и единстве помянутых трех,
а может быть, и большего числа областей познания.
Проблемой этого, во всей строгости соответствующего и с первым
(предметным) как бы параллельно развивающегося единства
закономерности не познания, а сознания была бы проблема
уже не только центрированного единства закономерности
предметного познания, но, если так позволено будет
выразиться, — проблема центрирующей закономерности
содержания самого сознания, в его, сравнительно с познанием, более
глубоко лежащей непосредственности, сравнительной
первоначальности.
Раскрытие природы, характера, смысла и значения этого
центрирующего единства закономерности всякого вообще
содержания сознания в его, в отличие от опосредствованного
или от объективного, более непосредственном субъективном
аспекте есть, следовательно, задача не универсальной науки
о единстве закономерности познаваемого в трех стадиях ее
развития как логики, этики и эстетики, но — науки о
субъективном, непосредственном и «первоначальном» сознания
в нем самом, то есть психологии, реконструирующей путем
обратных заключений (Rückschlüsse) от опредмеченного,
объективированного уже содержания сознания, называемого
познанием во всех его областях, само это сознание в
непосредственности и единстве его, непрерывно развивающегося во
времени, содержания, — выявляющей Логос самой «ψυχή»·'12*
в научном знании о ней.
Такое, с объективным как бы параллельно идущее,
раскрытие субъективного для области познания логического в узком
смысле дало бы его, как бы во внутрь обращенный, аспект:
прогресс дискурсивного мышления как субъективную сторону
объективного, предметного, в ведении логики находящегося
познания сущего как природы. Было ли бы, однако, таким
проведением все более тесного параллелизма и взаимоотношения
объективного с субъективным, доходящего даже до
обнаружения их полного внутреннего единства — было ли бы всем этим
искомое единство закономерности объективного познания су-
Часть II
365
щего как природы сделано в полной мере понятным,
объяснено, выведено, развито и обосновано в корне — не из сознания
и единства его закономерности, но из закономерности
единства первоисточника самого сознания, то есть в строгой
непрерывности из более глубоко лежащего, чем субъективное, его
нового, в большую глубь сущего проникающего измерения? На
этот радикальный вопрос пришлось бы, по-видимому» дать
отрицательный ответ даже и в том случае, если бы, как это и
правильно, понять единство закономерности субъективного
содержания развивающимся не во времени, как в какой-то
готовой форме или русле, а, наоборот, само это время понять как
первоначально находящееся в сознании и развивающееся из
него. Ведь даже и в этом случае мы были бы поставлены
только перед единством закономерности субъективного
содержания сознания и его развития лишь как такого, то есть
поднялись бы или, вернее, углубились бы лишь, так сказать, до
второго измерения сознания, не обязанного ведь быть последним
из возможных и окончательным, да и не являющегося таковым
в действительности, поскольку проблема единства
первоисточника всякого вообще сознания (Problem des Ursprungs)
возникает правомерно и непредотвратимо. Но то же рассуждение
и тот же ряд соображений будет явно справедливым и
повторится со всей силой также и для области познания
нравственного или познания этического: ведь и здесь в теснейшем хотя
бы параллелизме и взаимоотношении с «объективным»
идущее и развивающееся раскрытие «субъективного» дало бы
опять-таки в лучшем случае только вовнутрь обращенный
аспект этой области объективного познания закономерности
этического и его единства — процесс не дискурсивного только
мышления, как в тесной области логического в собственном
смысле слова (познание сущего как природы), но процесс или
акт непосредственного, мысленно-интуитивного,
умозрительного постижения безусловного в его отношении к
обусловленному, мышлениябезусловно-общего в его равновесии,
взаимоотношении и координации с мышлением об индивидуальном.
Но было ли бы, оказалось ли бы таким образом искомое
единство закономерности объективного познания сущего, теперь
уже не как природы, а как должного, понятым в полной мере,
объясненным, выведенным, развитым и обоснованным в
корне, то есть строго принципиально — не прямо из сознания
и единства закономерности его содержания как такового,
366
Система эстетических воззрений Наторпа
но и здесь опять-таки из более глубоко заложенной
закономерности единства первоисточника самого сознания в
строжайшей непрерывности его методического самораскрытия? На
этот принципиальный вопрос придется отвечать явным «нет»
и здесь, поскольку и здесь в отношении обоснования
объективного познания должного мы на самом деле оказываемся
поставленными только, так сказать, лицом к лицу с более
глубоко лежащим в сознании, как бы вовнутрь обращенным
субъективным, — перед вторым измерением его в сознании,
не обязанным быть непременно последним, поскольку
неотступный вопрос о непрерывном выведении из
закономерности единства первоисточника всякого вообще сознания в его
целом продолжает оставаться в силе и в этой области
принципиального обоснования объективного познания сущего, только
понятого теперь уже в смысле должного.
Что касается, наконец, собственно интересующей нас
области познания сущего как прекрасного или эстетического, то,
как это подсказывается всем только что сказанным и как
этого неизбежно ожидать в систематическом порядке развития
смысла и специального применения поставленной в общей
форме проблемы к своеобразной сфере познания
эстетического, — [то] и здесь какое бы то ни было, хотя бы и
наитеснейшее, взаимоотношение и параллелизм объективной и
субъективной стороны познания и постижения эстетического,
прекрасного в природе ли или произведениях искусства могло бы,
самое большее, привести только к дополнительному, как бы
сказать, аспекту обращения этой области объективного
познания закономерности эстетического и его единства вовнутрь,
к субъективной стороне или измерению сознания,
проникающему в большую глубь его бытия, более непосредственному
и, быть может, более первоначальному, но все же не
необходимо и необязательно последнему. Ведь проблема
принципиального обоснования искомого здесь единства закономерности
объективного познания сущего, теперь уже и не как природы
и не как должного, а как эстетически прекрасное понятого —
не из закономерности и единства содержания сознания как
такового, а из закономерности непрерывно себя
манифестирующего единства первоисточника самого сознания, —
продолжала бы и здесь стоять перед нами во всей своей неумолимо
властной силе. Что получили бы мы, в самом деле, иеною
проведения одного только, указанного выше, теснейшего вза-
Часть II
367
имоотношения и координированного параллелизма
субъективного и объективного в сфере этического? Да, мы, конечно,
имели бы перед собой уже не только «безусловно общее»
изображенным в «индивидуальном» и в нем как бы
фиксированным, типично раскрытым для конкретного созерцания,
жизненно непосредственным, властно захватывающим и
чарующим, несмотря на свою фиктивность, все известные черты
закономерности и единства эстетической предметности, —
словом, мы имели бы перед собой уже не только
непосредственно созерцаемую «идею» безусловно воплощенной в
«явлении», как говорили в старину, согласно традиции канто-шил-
леровской эстетики, но мы несомненно имели бы, оказались
бы теперь в обладании и чего-то гораздо большего — в нашей
власти оказался бы и самый процесс или акт этого
непосредственного созерцания идеи в ее конкретно-индивидуальной
жизненности; этот процесс или акт был бы сознаваемым, как
равно и процесс, и своеобразная субъективная
закономерность художественной игры творческого воображения или
фантазии, своими образами конкретизирующей и
приближающей эту идею к творческому волнению первоначального или
чистого чувства, постигающего и усваивающего посредством
этих образов фантазии эту непосредственно созерцаемую
идею, — наконец, мы обладали бы сознанием и этого
творческого процесса самого чувства... Но что же, разве от этого
и всем этим проблема эстетического как особого рода сущего
и его познания была бы решена в полной мере? Разве искомое
единство закономерности объективного познания сущего как
эстетически прекрасного было бы тем самым объяснено
вполне, выведено, развито и обосновано в самом своем корне
и дальнейшем непрерывном развитии из него (то есть строго
методологически и принципиально, всего его содержания
притом) — не прямо из сознания как такового и единства все
дальше развивающейся и раскрывающейся закономерности
его творческих порождений, но и здесь, в области
эстетического, из более глубокого в еще более глубоком сознании
заложенной закономерности единства первоисточника самого
сознания, в его субъективности, непосредственности и даже
относительной, как видим, первоначальности понятого?
Не ясно ли, что и здесь, в области философской эстетики,
ответ на этот, так радикально поставленный вопрос, должен
быть отрицательным и что и здесь мы стоим все перед той же
368
Система эстетических воззрений Наторпа
проблемой в последней глубине своей принципиального
обоснования эстетического, как мы столь же беспомощно стояли
перед этой проблемой и в сфере последнего обоснования
этического и даже логического!
Как же, однако, быть, по какому философскому компасу и по
какой магистрали направить нам дальнейшее исследование
этой коренной, так неумолимо, казалось бы, вставшей перед
нами, проблемы и в ее универсальном виде, и в ее
специальных применениях? Или, может быть, вся эта проблема, чего
доброго, является мнимой и дальше единства закономерности
содержания сознания как такового, дальше этого, как бы
сказать, второго, по сравнению с объективным, измерения
сознания как субъективного в его отличии и даже относительной
противоположности к объективному аспекту сознания,
называемому познанием, нельзя и не нужно идти? Между тем уже
руководящая для всей истории новой, и особенно новейшей,
философии точка зрения развития, понятая в смысле
возникновения из первоисточника и непрерывного дальнейшего
раскрытия его в прохождении по, одна другую обусловливающим,
ступеням и моментам, должна была предостеречь от
поспешного и необдуманного отказа от этой проблемы во всей ее
на первый взгляд пусть даже ультрарадикальной форме.
В самом деле, ведь если проблема центрального и даже
центрирующего единства познания искони есть и навсегда, как
можно думать, останется основной, руководящей и
универсальной, объединяющей проблемой философии, то
первоначальный, как сама философия, как ее смысл, как ее «Logos»
(λόγος-), принцип (αρχή) в значении первоисточника не той
или иной формы или рода бытия, а всяческого и всего бытия
вообще, в его целостности и единстве, — этот принцип и это
αρχή не перестанет проявлять свою негибнущую,
неувядающую и ничем не ослабляемую силу, прежде всего, в
отношении проблемы подлинного понимания, выведения, развития,
объяснения и обоснования всех родов принципиально
познаваемого бытия из одного первоисточника (и того, что есть
бытие, и того, что есть его познание, и что то же, то есть само это
познание, в свою очередь, есть, следовательно, бытие) — из
одного творческого первоисточника того и другого, то есть и
бытия и познания, как равно не перестанет эта проблема
проявлять свои силы также и в отношении самой возможности
возникновения и непрерывности развития из него, то есть [из]
Часть II
369
этого первоисточника, даже всего, что только вообще может
иметь смысл бытия или хоть только претендовать на него (на
этот смысл) в качестве проблемы о чем-нибудь, о чем бы то
ни было! В отношении же к тому, о чем здесь и вообще идет
у нас речь как о проблеме обоснования всех родов познания
бытия в его целом — не из закономерности и единства
содержания сознания как такового, как уже имеющегося, а [из]
закономерности единства первоисточника всякого сознания
вообще и всякой возможности даже какого бы то ни было
вообще его содержания, как равно, в частности и в
особенности, — в отношении к проблеме такого же коренного
обоснования, познания специально эстетически-прекрасного, то есть
бытия совсем особого рода, — то в отношении ко всему этому
из приведенных здесь принципиальных соображений
вытекает следующее: раз и то, что есть объективно мыслимое и
познаваемое бытие, и то, что есть субъективно мыслимое и
познаваемое бытие, в равной мере есть, по убеждению Наторпа,
не что иное, как только смысл так именно мыслимого и так
высказываемого, так именно направленного суждения и
познания, так что и, вообще говоря, всякое бытие есть только
смысл высказывания, как и, наоборот, смысл высказывания
есть быт^е, — то отсюда с неизбежностью вытекает, что все
вообще, что в мышлении возникает или только даже может
возникнуть с необходимостью как его требование, как тенденция
к выражению искомого им смысла, то есть как проблема,
должно допускать и, в конце концов, находить для себя
разрешение на его же, этого мышления, собственных путях и из
его же собственных коренных условий, согласно старому, в
основе всей европейской философии лежащему положению
Парменида о принципиальном тождестве мышления и бытия,
не поколебленном, а только еще более развитом, углубленном
и укрепленном всем последующим развитием философии и ее
метода вплоть до наших дней. Но указанная нами проблема
не только центрированного, но и центрирующего, то есть из
единого первоисточника методически отправляющегося и
непрерывно развивающегося, обоснования всех родов
объективного познания бытия в их систематическом единстве, как
и специальная проблема обоснования объективного познания
эстетически прекрасного как бытия совсем особого рода нас
здесь особенно интересующая, — эта основная проблема, и в ее
общей радикальной форме, и в указанном специальном отно-
370
Система эстетических воззрений Наторпа
шении, возникает в философском мышлении со строгой
необходимостью. В самом деле, ведь простого установления, даже
и теснейшего взаимоотношения и даже строжайше
координированного во всех своих моментах и звеньях параллелизма
объективирующей стороны или аспекта предметного
сознания, то есть познания, с субъективирующей стороной или
аспектом, как бы вовнутрь обращенного, непосредственного
переживания той или иной стадии предметного познания
соответствующего процесса или акта, — было бы, как мы могли
в этом убедиться выше, явно недостаточно для требуемого
и искомого коренного объяснения самой возможности для
выведения развития и методического обоснования как всех
родов объективного познания бытия в их систематическом
единстве, так и каждого из них в отдельности и в его собственном
специальном значении, — поскольку никакое
взаимоотношение или параллелизм объективного и субъективного не
устраняли бы ведь неисцелимого в таком случае дуализма всего
сознания в целом и в самой его основе, лишь внешне
прикрывая его, а с другой стороны — и мнимое фундирование
систематического единства закономерности всех родов
объективного познания бытия в единстве закономерности субъективного
содержания сознания как такового также ни в какой мере не
достигало бы цели, поскольку это единство закономерности
субъективного содержания сознания само требовало бы в
таком случае понимания, объяснения, выведения, развития и
даже обоснования самой своей возможности из какого-то, более
глубоко заложенного принципа, постольку выходящего за его
пределы, поскольку этот новый принцип был бы призван
и оказывался бы способным к его обоснованию, именно
к обоснованию этого, как некоторое готовое, данное обстоя-
ние обретаемого, единства закономерности субъективного
содержания сознания как такового. Искомый принцип, о
котором идет речь, неизбежно принадлежал бы тогда к более
глубокому или, вернее, сам выражал бы собою это более
глубокое» чем объективное и субъективное, измерение
сознания и был бы, то есть служил бы, выражением того
методологического требования единства первоисточника, из
непрерывно развивающейся и все полнее себя манифестирующей
закономерности] которого и должно было быть
объяснимым, выводимым и обосновываемым и само это, в свою
очередь, всегда, правда, только искомое единство закономерное-
Часть II
371
ти субъективного содержания сознания как такового, то есть
как некоторого, как бы данного, фундирующего обстояния,
и дальнейшее прогрессивное и систематически-расчленяемое
его объективирование в разных родах объективного познания
бытия природы, должного, эстетически прекрасного,
религиозного и какие бы еще другие могли быть предположены или
найдены новые, неслыханные доселе, роды объективного
познания сущего.
Но раз все это так, то мы стоим перед нашей основной
проблемой в ее общей форме и в ее специальном применении или
аспекте как проблемы радикального обоснования
объективного познания сущего, в смысле эстетически-прекрасного здесь
понятого, — не как перед мнимой проблемой, но как перед
такой, которая выражает неустранимое требование
философского мышления, возникает с непререкаемой необходимостью
и потому во что бы то ни стало подлежит решению как
проблема подлинного первоисточника всяческого бытия в его,
этого первоисточника, единстве, как проблема единого — «то,
из чего» (εξ ου) всякое бытие — и той закономерности этого
единства первоисточника, из строго методического развития
и применения которой должны быть в непрерывной
логической последовательности и связи решаемы, принципиально
подлежать решению, как все вообще философские проблемы,
так, в частности, и для нас здесь в особенности, также и
проблема философского, то есть, в конце концов, в высшем
смысле этого слова, «логического» обоснования эстетики.
Что же, однако, за философская наука будет эта верховная
дисциплина познания, или, что то же, — раскрытия смысла,
разоблачения подлинного бытия этой искомой
закономерности единства первоисточника всякого вообще сознания чего
бы то ни было, всякой возможности и реальности какого бы
то ни было смысла, то есть бытия чего бы то ни было?
Если «бытие» вообще есть только и не что иное, как смысл
мыслимого, его Logos, смысл высказывания — не того или
иного высказывания, а самого высказывания как такового в самом
его существе и безусловной общности, и если, наоборот, смысл
мыслимого, самый этот логос, самый этот смысл высказывания
вообще как таковой есть бытие, но не то или иное, а само
бытие, в его сути, в его первоисточнике и в закономерности
непрерывно раскрывающегося единства этого первоисточника,
то наука обо всем этом, об этом всеобщем логосе бытия и о все-
372
Система эстетических воззрений Наторпа
общем бытии этого логоса, о смысле высказывания вообще,
[необходимая] для того, чтобы на его [смысле высказывания
вообще. — НД.] основе и через него был возможен также
и смысл того или иного рода или.вида, даже смысл всякого
отдельного высказывания, — такая наука как может называться
иначе, как не «всеобщей логикой» — наукой о смысле всего
и чего бы то ни было вообще, прежде же всего — наукой о
смысле, о λόγος"'ε закономерности единства первоисточника
всякого смысла, всякого и всего бытия вообще в его целости, как
и о смысле его непрерывного развития и раскрытия из
единства своего первоисточника или из смысла своего смысла?
Перед великой проблемой этой универсальной
философской науки по преимуществу мы стоим не потому, что ее
сформулировал и в общих чертах, как увидим, развил Наторп, но
потому, что к определенной постановке этой проблемы пришла
сама европейская и мировая философия, силу свою и значение
имеющая, по выражению Наторпа, на биллионы лет! И пусть
нам не возражают и не стараются подорвать нас старым
схематическим аргументом формальной логики, что-де третье
измерение сознания, чего доброго, не последнее, и что может быть
допущено и даже затребовано в философском мышлении еще
и измерение этого измерения и измерение измерениязтого
измерения, и что, следовательно, наука о закономерности
единства первоисточника сознания неизбежно поведет к науке о
закономерности единства первоисточника этого
первоисточника сознания. Кто стал бы так возражать, тот обнаружил бы, что
он еще не усвоил себе смысла поставленной здесь великой
проблемы философии, и не мы, а он вращался бы при этом со
своим возражением нам в порочном кругу. Ему достаточно было
бы напомнить тогда, что первоисточник на то ведь и потому
только «перво-источник» (αρχή), насколько для себя он уже не
может иметь никакого источника, и что не два, не три и не
четыре, а бесконечное число измерений сознания — все —
находятся не где-то до своего первоисточника и как бы перед ним,
что было бы абсурдом, а, напротив, все в своей бесконечности
берут свое начало и в непрерывной связи развивают из него,
свидетельствуя и о нем поэтому как о бесконечном и именно
потому, как о первоисточнике не в смысле, однако, «вещного»
бытия элеахского «единого», а в методическом смысле
платоновского принщта, за которым его единство обеспечивается
развивающейся из него бесконечностью его определений, как
Часть II
373
математическая задача от того не теряет своей силы, что
допускает и даже требует для себя бесконечного числа ее решений.
Речь идет ведь о «логосе» как смысле бытия и о «логосе
логоса» как принципе смысла бытия, оттого поистине не
становящимся бессмыслицей, а только требованием дачи отчета обо
всем, что уже имеет смысл или еще только претендует на
таковой. Наука о принципиальной даче отчета в смысле и, стало
быть, в бытии и есть «Всеобщая логика», и только через нее,
на ее основе, в строго определенном систематическом месте
может быть поэтому решена и каждая отдельная, хотя бы и
весьма общая по своему смыслу, проблема, как в нашем
случае — проблема эстетическая.
Но ее решение должно быть уже не то или не совсем то, а
может быть, даже и совсем не то, которое мы знаем из
посвященных решению этой проблемы сочинений Наторпа,
вышедших в свет, если и не до возникновения, то все же до
определенного выражения Наторпом «идеи» его «Всеобщей логики»,
краткий, но превосходный по глубине и ясности очерк
которой мы имеем от 1923 года33*, следовательно, приблизительно
за год до его кончины.
Развить в кратких чертах понятие и содержание этой новой
философской науки потому представляется нам здесь
необходимым, что только из ее замысла и содержания может стать
ясным то направление, по которому должна впредь пойти
разработка интересующей нас здесь проблемы философской
эстетики как обоснования особого рода объективного познания
сущего, в значении эстетически прекрасного здесь понятой.
Эстетически прекрасного — это значит для чувства
прекрасного и в отношении к нему. Но раз так, то должно быть,
прежде всего, понято само сознание и все стороны, направления
и измерения в нем, в частности, и то направление, которому
имя «Чувство». Но понять — значит вывести, развить,
обосновать. Путь или »метод такого выведения, по которому На-
торп хотел бы «идти сам и вести за собой других»34*, этот путь
есть путь «Всеобщей логики». Философия же есть метод, но не
«только» метод, а «даже» метод, — не меньшее, а самое
большее, чем что-либо вообще может быть. Большее — не в
смысле «полезного» и «хорошего», а в смысле того, ради чего все
хорошо, что хорошо, и что только по пути к нему все больше
и больше узнается и раскрывается. Таким все больше по пути
к нему раскрываемым является и тот высший аспект того, ра-
374
Система эстетических воззрений Наторпа
ди чего все хорошо, что хорошо, который — этот «высший
аспект бытия» — называется «прекрасным» и к которому тоже
есть «только» или «даже», всегда открытый, все в гору
поднимающийся и все новые великолепные перспективы
открывающий путь — путь художественного восприятия и творчества
прекрасного, в равной мере и в бытии, называемом природой,
и в бытии, называемом искусством.
Но этот горний путь лежит через «Всеобщую логику», и мы
поэтому теперь приступаем к ней. Итак: in médias res!35*
Проблема перво-конкретного источника и единства
познания, природы и жизни и тем самым понимания всего бытия
в целом, в основных стадиях и моментах его самораскрытия,
следовательно, дачи отчета о внутреннем смысле, логосе этих
моментов и стадий, в непрерывной связи их между собой
именно в сфере этого понимания и методической дачи отчета
находящихся, — такова, как мы можем убедиться уже из
сказанного, должна быть основная и руководящая проблема
«Всеобщей логики».
Нам предстоит теперь прежде всего наметить здесь
отправной пункт и хотя бы самую общую тенденцию и направление
решения этой проблемы. К определению самой идеи и задачи
«Всеобщей логики», то есть того как раз, что можно назвать
ее отправным пунктом, можно подойти двояко: отрицательно
и положительно.
Что касается первого, то для Наторпа не подлежит
никакому сомнению, что ни в коем случае не может быть эта задача
осуществлена путем простого проведения какой-либо
аналогии или приспособления методов исследования и
логического понимания культуры к таковым же методам исследования
и понимания природы, вообще никоим образом не в
предположении какой-либо сплошной однородности единого
метода, какой-либо универсальной конструкции, наподобие спи-
нозовского построения «more geometrico». Но поскольку
«Всеобщая логика» должна, однако, иметь в виду если и не
внутренне однородный, то все же единый в себе метод
философского познания, дело будет обстоять скорее наоборот:
именно метод математики, математического естествознания,
как и всякий другой аналогичный метод научного познания
в его отношении и применении к данностям человеческой
культуры как актам и продуктам человеческого духа, сам
должен быть включен, стать интегральным, хотя и не однород-
Часть II
375
ным с другими звеньями, методологическим звеном
бесконечно более богатого целого, бесконечно длинной цепи
порождений человеческого духа на протяжении его истории, из
каковой истории этого духа в его внутреннем методическом
развитии сам он, этот математически-естественнонаучный метод,
как и всякий другой ему аналогичный метод объективного
познания бытия природы, должен быть понят, оправдан и
развит, — как в ней же, в этой истории, «получить* определение
границ своего применения. Проблема этого универсального
методологического целого, в указанном смысле понятого как
некоторого, до времени остающегося еще непонятым «чуда»,
и есть проблема «Всеобщей логики», в ее, этой проблемы,
отрицательном аспекте.
Так как, однако, философское исследование явно не может
остаться удовлетворенным этим скептическим решением
признания «непонятого чуда», а с другой стороны, не может
остановиться и на дуализме непосредственной
противоположности методов наук о природе и наук о культуре или того, что
иначе обозначается терминами логического и
психологического, науками о бытии и науками о ценностях, то отсюда-то
и вытекает собственная, уже положительная задача
«Всеобщей логики»: найти основание и условия развития для в
конечном счете, правда, необходимо единой, но не по одному и не
по многим, а по бесконечному числу измерений
развертывающейся логической методики, — так при том, чтобы от
простейших форм математически-естественнонаучного познания
она непрерывно развивалась бы и восходила в своем
применении до самых отдаленных от математики и, по
первоначальной, видимости своей, даже совершенно вне ее компетенции
и применении лежащих — [до] последних вершин познания
человеческого духа, или, что то же, его культуры, одной из
каковых вершин и была бы, в частности, нас здесь в
особенности интересующая проблема обоснования возможности
объективного познания особого рода или той области сущего,
которая известна как бытие эстетически-прекрасного в природе
и в искусстве, со всеми характерными для нее особенностями
и специфическими признаками.
Но чтобы такое, до бесконечности внутренне-саморасчле-
няющееся единство логически построяющей методы в
принципе своем всякого, но прежде всего, конечно, объективного
познания было бы вообще возможным и осуществимым — для
376
Система эстетических воззрений Натерла
этого основание, которое было бы способно держать на себе
все грандиозное здание этой новой, на все конкретно
переживаемое, а не только отвлеченно мыслимое направленной
логической методики, должно быть, по убеждению Наторпа,
заложено в заново и совсем по иному, чем до сих пор, методу
обоснованной психологии, которая ко всему логическому
построению познания мира в его целом, развивающемуся и в
работе всех точных наук об объектах, и в работе с этими
науками по существу и в глубочайшем принципе своем
родственных, но только по построению своему неизмеримо более
сложных наук о творчески создающей свой предмет жизни,
включая сюда и художественное восприятие природы, и
создание произведений искусства, — стояла бы в отношении, как
бы сказать, полного обращения этого логического и
жизненного построения вовнутрь, в более глубоко в сознании,
сравнительно с объективным, лежащее «измерение
субъективного»: так, чтобы при этом то, что «примитивно-логическое»
построение в узком смысле слова точнык наук о природе.,
стремилось выработать и установить преимущественно
аналитически, шаг за шагом определяя отдельные части своего
построения, теперь предстало бы умственному взору в его
непосредственном единстве, внутренне спаянном во всей
полноте своих взаимоотношений, следовательно, в синтетическом,
и притом до конкретной цельности доведенном, единстве
логического построения, понятого в высшем, собственно
философском, потому что всем проблемам знания и жизни
способном удовлетворять, значении этого термина.
Так, правда, все еще в принципиальном согласии с
основным учением критицизма Канта о первоначальности синтеза
перед анализом и особенно о «единстве синтеза» как высшем
«факте», доказывающем и обосновывающем эту
первоначальность, но в то же время существенно углубляя, преобразуя это
учение и, в конце концов, далеко выходя за его пределы в
совсем новую область принципиально бесконечно более
глубокого, как мы видели, обоснования «познания» и «жизни», — На-
торп приходит, наконец, к основной, в тесной связи с
учением о неразрывном внутреннем взаимоотношении анализа
и синтеза находящейся идее своей «Всеобщей логики» и
вместе [с тем ко] всей своей, отныне новый аспект принимающей,
философии: именно к провозглашению требования такой
универсальной методики логического познания, которая через
Часть II
377
планомерное и полное раскрытие первоначальной силы
синтеза в его первоисточнике и во всех
бесконечно-разнообразных формах его применения оказалась бы в состоянии не
беспомощно стоять, как до сих пор, перед всей неимоверной
сложностью в самую глубь бытия ухфшщих проблем жизни
и сознания, но методически подойти к их решению во всей
нераздельной целостности и полноте их смысла и значения,
для чего, в свою очередь, в качестве предварительного метода
этой основной и всеобъемлющей проблемы философии,
разумеется, потребовалась бы и вся полнота анализа этой, в своей
абсолютной целостности и логическую, и этическую, и
эстетическую, и религиозную сторону в себе заключающей, но по
существу единой и универсальной, проблемы.
Если задача «Всеобщей логики» как фундаментальнейшей
философской науки не сводится, таким образом, по убеждению
Наторпа, как мы видели, ни к простому логическому
сглаживанию основной, по общепринятому мнению,
противоположности объективного и субъективного, ни к снятию находящейся
с таковой в связи, другой противоположности —
рационального и иррационального, индивидуального и
надындивидуального, каковые противоположности должны быть, наоборот,
объяснены и впервые поняты в своем значении именно из
принципов «Всеобщей логики»; и если, с другой стороны, принять
также во внимание настойчивое указание Наторпа, глубоко
обоснованное, как мы видели, в самом понимании им природы
сознания и закономерности единства его первоисточника, — что
«логическое, а с ним вместе и психологическое имеют
большее», чем обыкновенно предполагают, «число измерений»30*, —
то все эти моменты в их связи и единстве окажутся уже
достаточными для того, чтобы дать, наконец, точное определение
самого понятия этой науки и тем положить начало ее
систематической разработки.
Это определение содержания самого понятия «Всеобщей
логики» действительно и дается Наторпом на основе только
что указанных соображений в следующих словах: «Под
"Всеобщей логикой", — говорит Наторп, — я подразумеваю
строгое внутреннее* в себе единое (einheitliche) обоснование не
только прежде всего точных наук, далее описательного
естествознания, затем наук о человеке, или все равно какое бы
другое деление не считалось целесообразным принять: как
если бы все эти отдельные области предметов, расположенные
37S
Система эстетических воззрений Наторла
рядом или одна над другой, лишь впоследствии друг с
другом соотносимые и лишь вторично только, в производном
смысле слова, между собой объединяемые, — но я понимаю
под ней строгое и внутренне в себе единое обоснования по-
лагания какой бы то ни было предметности вообще, больше
того — всякое вообще, каким бы то ни было способом
логически выразимое (erfaßlichen) полагание, будь то даже ewe-,
под- или сверл'-предметное полагание. Все относящееся к
области духа, равно как и все далеко простирающиеся сферы
поведения, творчества, самопостроения (des Selbstaufbaus)
относительной индивидуальности и абсолютной
индивидуальности, относительной универсальности и абсолютной
универсальности, вплоть до последнейшей из последних пер-
во-индивидуальностей (Ur-Individuitat), в чем заключается,
по-видимому, последний (логический) смысл религии, — все
это должно подлежать познанию, поскольку все это имеет
отношение к духовному (а это значит уже, что к одному, к
единому духовному), должно быть познано в строгом,
безусловном единстве, из какового все эти обособления или какие
другие вместо них ни были бы признаны, должны вытекать
в никакому сомнению не подлежащей полноте и точном
определении как их различимости, так и их сопринадлежности,
их положительных и отрицательных отношениях — в их
границах, как и прочнейшем их объединении в перво-единстве
всего духовного»37*.
Из этого-то первоединства всего духовного как из
последнего верховного принципа должны, по убеждению Наторпа,
стать, таким образом, объяснимыми все, даже и самые что ни
на есть сложные, порождения человеческой культуры,
какими в особенности служат все проявления художественного
восприятия и творчества, и, наконец, даже и высочайшие
обнаружения религиозного сознания.
Но как же это возможно? Как должен развиваться и через
что лежать и проходить восходящий к решению этих великих
проблем путь познания? Чтобы ответить на этот
кардинальный вопрос — для этого прежде всего, говорит Наторп, надо
обеспечить себе такое начало, такой отправной пункт и
принцип всего исследования, который ничего не предвосхищал бы
заранее, чтобы быть открытым всему И вот, в качестве таких
последних понятий, к которым философия всегда снова и
снова возвращалась всякий раз, как она дерзала поставить про-
Часть II
379
блему обоснования познания в его целом, всегда выступали
три основных: мышление, бытие, познание.
И действительно, каждое из этих трех понятий охватывает,
как бы исходя из некоторого центрального пункта, всю
полноту и весь смысл обоснования проблемы познания в его
целом. Тем fie менее основной интерес философского познания
неизбежно остался бы глубоко неудовлетворенным, если бы
для решения этой верховной проблемы познания в его целом
пришлось бы в качестве принципа и условия возможности
такого решения выбирать и полагать в основание какое-нибудь
одно из указанных трех основных понятий, — и это потому,
что по самому смыслу этой проблемы речь может идти не
о трех понятиях и не о выборе из них какого-нибудь одного,
а об одном едином, в самом корне своем, принципе ее решения
и, следовательно, о первоначально-едином, а не об одном из
трех понятий. Недаром уже Гераклит выступил с
требованием об «'έ τό σοφόν μοΰνον», об «Едином все-мудром». Но этим
σοφόν, этим «все-мудрым», искание которого и есть
философия, явно может быть только что-то одно: εν. Но что же
такое это одно? Ведь не «σοφία» же, поскольку она,
по-видимому, обозначает уже самое знание, а не искомый принцип его
возможности и обоснования. Так что же тогда? Познание? Но
речь идет ведь как раз о его принципе, о том, из чего оно, об его
αρχή? Что же, значит, мышление? Но и оно ведь еще не
вполне первоначально, поскольку оно всегда и есть мышление
о чем-нибудь, о бытии. Так, значит, бытие! В самом деле, ведь
познается что-нибудь только тогда, когда мыслится
что-нибудь, что есть. Однако Гераклит в своем требовании имел, по-
видимому, в виду и не бытие, и не мышление, и не познание,
а что-то более, чем все это и чем даже «бытие», основное и
первоначальное. Что же это такое? Наторп не видит для него
более подходящего выражения, чем «последнее дающее смысл».
Правда, это «последнее, дающее смысл» выражается в словах:
«так есть», «это есть» или даже просто — «есть», однако
только оно, это «последнее дающее смысл» делает это «есть», это
«бытие» «им самим» бытием, только оно запечатлевает ему,
этому «есть», этому «бытию» его собственный, как бы сказать,
бытийственный смысл, делает выражение этого бытия
выражением мышления, и само это мышление, поскольку оно
мыслит то, что есть, — познанием. Это-то и есть то, что и для
Гераклита и для Платона обозначает термин логос; и тогда ера-
380
Система эстетических воззрений Наторпа
зу становится понятным, как и в каком смысле Платон свое
последнее, что возвышается и над бытием и над познанием
и что и самому даже мышлению как раз едва только
доступно, мог назвать логосом, но именно самим логосом как
таковым, а не тем или иным каким-нибудь логосом. Логос — это
высказывание, речение (Spruch), но здесь — не в смысле
такого высказывания, речения, которое высказывается,
изрекается, но в смысле такого высказывания, которое само говорит,
и такого речения, которое как бы само произносит свой смысл,
высказывает то, что составляет как раз самую суть
высказывания, то есть оказывается таким высказыванием, которое
высказывает то, что есть.
Так именно и понимает Наторп термин «логос», когда
говорит о нем и делает его верховным принципом своей
«Всеобщей логики». Но именно потому и именно постольку основная
отправная точка зрения этой логики уже не может и не
должна быть смешиваема с отправной точкой зрения какой бы то
ни было другой философии или логики, которая полагала бы,
что она имеет право отправляться от мышления так, как если
бы она имела его и располагала им уже до и независимо от
бытия; или — от бытия так, как если бы она имела его и
располагала им до и независимо от мышления; или — от познания так,
как если бы она имела его до и независимо от них обоих, то есть
и от бытия, и от мышления. Но отправная точка зрения этой,
то есть наторповской, «Всеобщей логики», наоборот, такова,
что своим началом она берет и имеет тот «пункт единства», ту
единяющую, центрирующую точку, для которой нет никакого
мышления, которое не было бы «мышлением бытия»
(Seindenken), никакого бытия, которое не было бы «бытием
мышлением» (Denk-sein)38*, как равно нет для нее, для этой точки
зрения, и между ними обоими, то есть этим «мышлением
бытия» и «бытием мышления», а также [между] ними и какой-
либо точкой вне их обоих, именно точкой их соотношения
(корреляции), — [нет] решительно никакого разделения или
разобщения с ними и между ними самими. Но для нее дело
обстоит так, что есть только последнее единое, коего единство не
есть какое-либо другое единство* как только единство этой их
двойственности, неустранимая корреляция их обоих. Конечно,
лишь предварительно и только образно, но это отношение
могло бы все-таки быть здесь выражено как отношение
покоящегося в себе центра к его излучению на периферию. Как центр
Часть II
381
не был бы центром без периферии, периферия не была
периферией иначе как в отношении к центру, поскольку последний
всегда ведь остается все-таки единым, несмотря на
бесконечное число лучей, которые он излучает на периферию, и
периферия всегда — бесконечной, вопреки своему единству и как
раз в нем в силу своего отношения к единому центру: так
точно и бытие есть только бытие мышления, мышление — только
мышление бытия, ни одно из них [не существует] без другого,
и каждое из них то, что оно есть, [су ществуетJ не иначе как в
отношении к другому.
Основную тенденцию этой логики, в ее зародыше,
предвидел, по мнению Наторпа, уже Гераклит, великое открытие
которого в том как раз и состояло, что он впервые, и вопреки
Пармениду, понял, что единое потому только, что оно едино,
вовсе еще не исключает тем самым множество, становление
и распад на противоположности, а бытие потому только, что
оно [бытие], вовсе еще не исключает небытие; но что,
напротив, единое только потому и постольку только и есть единое,
что оно есть единое многого, покой движения, совпадение
(Koinzidenz) противоположностей, а бытие только потому
и бытие* что оно есть бытие небытия, то есть не что иное, как
то последнее, что из себя порождает и в себя же все вновь
поглощает те самые противоположности, которые оно с самого
начала в себе же таило; совершенно аналогично тому, как мы
теперь сообразно нашему способу мышления описываем как
деятельность то, что в себе самом есть только вечное обстоя-
ние. Не Парменид поэтому исправил, по мнению Наторпа,
Гераклита, но, наоборот, Гераклит, вопреки столь
распространенному противоположному мнению, исправил Парменида.
Платон же в своем «Софисте» целиком воспринял эту
великую мысль Гераклита и только дальше и глубже развил
в строго логической разработке то, что у эфесского философа
имело еще вид чрезвычайного парадокса, с трудом лишь
прокладывавшего себе дорогу к свету посредством загадочных,
оракулоподобных изречений. И конечно, Платон,
оказывается, [понимал], как это подробно выясняет и показывает На-
торп уже почти в полном обладании, по крайней мере,
основным принципом «Всеобщей логики», ибо для него стало уже
в полной мере ясно, «что не из бытия следует исходить так,
как если оно "уже имелось" (готовым) и как если бы "было"
только "оно", "небытия" же как будто бы ни в каком смысле
382
Система эстетических воззрений Наторпа
и не было "вовсе", но что скорее, напротив, дело обстоит так,
что самого этого бытия в известном смысле опять-таки и нет,
и, наоборот, небытие в известном смысле опять-таки
есть»39*, — равным образом Платон уже понимал и со всей
силой и неотразимой убедительностью оказался в состоянии
выразить, что только корреляция того и другого по отношению
к «одному», и «одного» как одного по отношению к
«другому», — что только эта корреляция делает возможным и
обосновывает и то и другое, как она же обосновывает «собой и в
себе» и самый логос, самое суждение мышления, как подлинное,
вперед продвигающееся и тем самым действительное
познавательное суждение, то есть такое, которое судит не только,
что А есть А, но и что А есть В — «нечто есть нечто другое»;
что, т. е. эту принципиальную координацию их, так много
позднее, как известно, и Кант, пробужденный от
догматического сна «напоминанием» Юма, снова открывает во всей
полноте ее значения и смысла, хотя и в недостаточной мере
глубоко выражает ее как первоначальную, «синтетическую»
функцию мышления в ее отличии и в ее противоположности
с функцией аналитической. Через это-то впервые становится
также вполне ясным и то, о чем Платон в своем
«Государстве» говорит еще как о чем-то загадочном, вызывающем
изумление, но что он в то же время считает за единственно
спасающее откровение и что выразить оказывается в состоянии
только как бы лепечущим языком, поскольку в сверх-светлом
свете бытия, или, вернее, «сверх-бытия», и философ с такой
же малой степенью ясности может видеть что-нибудь, как
и «софист в полнейшем мраке своего абсолютного
небытия»40*. Во всяком случае, со времени платоновского диалога
«Софист» ясным, как день, должно бы быть, по мнению
Наторпа, то, что собственно может и должен означать этот
переход, или, вернее, выход, за пределы радикальных начал —
познания и бытия — к еще более радикальному, что значит снять
все предположения для того, чтобы впервые мочь прийти ко
всем ним, и в конце концов — дойти или возвыситься не до
предположения только всех предположений, но до принципа
самой возможности что бы то ни было вообще предполагать.
Но как бы там ни было, знал ли и имел ли в виду это
выразить уже Платон или кто-либо другой до или после него,
или никто до сей поры, — во всяком случае, это
радикальнейшее соображение есть то первое, отправное, что «Всеобщая ло-
Часть II
383
гика» должна, по убеждению Наторпа, во что бы то ни стало
требовать именно потому, что она есть логика, и именно для
того, чтобы ей быть «Всеобщей логикой». Смысл же этого
радикальнейшего соображения в том, чтобы «требовать
восхождения к даче отчета о том последнем, что наполняет смыслом
всякое изречение — "так есть", "это есть" или даже просто
"есть", и что, таким образом, как бы входит в соображение
всякого логоса, впервые дает ему смысл, больше того — впервые
дает и обусловливает собой самую эту двусторонность бытия
и его выражения или высказывания О'Нем. В этом точном
смысле, — говорит Наторп, — и должна быть понята
"Всеобщая логика" как давание, раскрытие всякого смысла и даже
смысла самого смысла»41*.
Но, поскольку «Всеобщая логика» берет и упрочивает,
таким образом, свой отправной пункт и свою основную точку
зрения до всякого предположения, до всего вообще могущего
быть принятым и допущенным, постольку она в то же время
твердо знает, что это ее «до всего» не есть, не означает собой
«вне всего». Ведь целое как таковое не может вообще иметь
для себя никакого «вне», от чего в самом деле находящегося
«вне» можно было бы надеяться впервые прийти к самому
целому в не*! самом. Не об этом, следовательно, но только о
последнем основании единства, о целостности в самом целом
может идти речь ßo «Всеобщей логике». Но что же это такое за
основание? Да, явно, что не иное что, как именно только тот
первоначальный, центрирующий, и над мышлением, и над
бытием возвышающийся отправной пункт, который назвать или
обозначить, пожалуй, можно было бы — так как как-нибудь
нужно же все-таки назвать его — как простое первоначальное
нолагание (die «schlichte Setzung»), тезис полагание самого
смысла, как и смысл самого полагания. Этот тезис, это
полагание должно на первых порах оставаться еще совершенно
пустым, чтобы для всего быть открытым. В эту бедность
должно оно погрузиться как раз для того, чтобы быть способным
принять в себя потом и все богатство мышления, и все
богатство бытия. Потому-то и нельзя заранее уже полагать в нем
что-то определенное, могущее отличить его от другого, его
насильственно обособляющее, абстрагирующее единство или
множество, движение или покой, конечное или бесконечное,
универсальное или индивидуальное, бытие или становление,
бытие или мышление, объект или субъект и т.д. Ведь полага-
384
Система эстетических воззрений Наторпа
ние чего-нибудь одного из всего этого тотчас повлекло бы за
собой и другое, ему противоположное. Но и самую
«противоположность» или общее, самое это отношение одного к
другому, также нельзя было бы сделать выражением
первоначального смысла и содержания этого «простого полагапия»,
поскольку эта противоположность сама и в «одном» и в
«другом» явно предполагала бы уже это «простое» полагание.
Но простое полагание есть ведь действительно и безусловно
последнее, и притом — не в смысле акта или действия
субъекта, ибо тогда сейчас же субъект сам оказался бы этим первым,
или, что то же, искомым, здесь последним, но «простое
полагание» может быть искомым здесь «безусловно последним»
явно лишь по содержащемуся в нем смыслу, каковой здесь не
может быть не чем иным, как только «смыслом самого
смысла» и который уже и выражен не может быть не как иначе, как
только в этой простейшей форме — «так есть» или даже
просто «есть» (es ist), то есть есть смысл самого смысла, он
имеется, он не фикция. Но в этой бедности принимаемого
«Всеобщей логикой» начала на самом деле в скрытой форме
содержится уже все его неисчерпаемое богатство. Недаром поэтому
и Платон в фундаментальнейшем положении Гераклита о вы-
хождении всех противоположностей из единого и о
возвращении всех их в него обратно, которое Наторп для краткости
называет основоположением коинциденции (взаимного
совпадения), подчеркивает слово αεί — «всегда»; не только просто
сменяя друг друга выходят протвоположности из единого,
остающегося в .существе своем в себе пребывающим, не просто
только это единое, оставаясь в своем единстве верным себе,
развертывается в сменяющих друг друга противоположностях
и из них опять-таки и вместе с тем возвращается к своему
единству, но в том главная сила этого фундаментальнейшего
основоположения Гераклита, что так происходит, точнее, что
это имеет место «всегда». Вечное обстояние этого порядка,
этого закона, на которое указует слово «всегда», — оно-то
и есть ведь выражение искомого здесь «смысла самого
смысла». Жизненная, конкретная, а не отвлеченная только, на
части рассеченная полнота акта совпадения или, точнее,
обстояние совладения всего, в котором все сходится, как в
последнем своем первоисточнике или, лучше, первооснове, — вот что
имеется здесь в виду и через что только и может быть
понято, что всякое «ни то, ни другое» (Weder- noch) есть в то же
Часть II
385
время как то, так и другое (Sowohl-als-auch). «Мышление,
не только направленное на бытие, но само по себе
находящееся по сю сторону его и как бы под ним, — но, напротив,
мышление, обитающее в нем самом, непосредственное
"бытие-мышление" (Sein-denken); бытие не только для
мышления, но само по себе находящееся по ту сторону от него и над
ним, — но, напротив, непосредственное "мышление-бытие"
(Denk~sein)»42# — таков основной принцип и гераклитовской,
и платоновской, и наторповской «Всеобщей логики»,
верховный принцип коипциденции или перйоисточник всего. В какой
мере уже отсюда должно стать ясным, что, только исходя из
этого принципа, можно было бы надеяться найти верный путь
к проникновению в самые сокровенные глубины не только
познания, но и жизни, а следовательно, и в то творческое
средоточие той напряженной полноты и в то же время полной
свободы и легкости жизни, которое составляет существо всякого
художественного восприятия и творчества, — это станет для
нас тем более понятным и убедительным, чем в большей
мере дадим мы себе отчет, что ведь только так понятое
мышление, а с ним вместе и познание, и всякая деятельность, может
открыть нам возможность сделать это мышление не пустым,
но до самой безусловной полноты его преисполненным
смысла, жизненным в самом его первоисточнике (Urlebendige), а не
только отвлеченным дискурсивным.
Понятое так мышление будет открытым для всего,
бесконечным, над всем конечным возвышающимся и в то же время
ничего не оставляющим вне себя, а, напротив, все способным
вовлечь в себя, все принуждающим стать своим, его, этого
мышления, собственным достоянием. Изумление — φαυμάζειν —
служило бы тогдаь как уже у Платона, выражением
готовности открыто стать перед всем и все быть готовым принять в
себя. Тогда глубокий смысл получило бы и изумление перед
чудом собственного бытия, только детям и гениям свойственное,
так как ведь только они способны понести навстречу бытию
наивность этого последнего изумления и веру в чудо! И
прежде, говорит Наторп, чем философия не восстановит в себе это
состояние детства, не овладеет она и творческой силой
юности, в ней успевшей ослабнуть. Ведь творческая сила эта
заключается не в чем ином, как только в дерзновении полага-
ния «есть». Все заключается уже в этом простом полагании:
и единство всего, и всеобщность единого. Вот почему для са-
386
Система эстетических воззрений Наторпа
мой первоначальнейшей из философий превыше всего было
несомненным и достоверным старое положение: «Бытие есть,
небытия нет». Не иное что, как именно «простое полагание»
высказывалось этим основоположением Парменида с
полнейшей притом достоверностью убеждения, что только таким
именно способом и только на этом пути можно схватить и
объять целое, ни перед которым, ни над которым уже нет ничего,
но которое, будучи замкнутым в себе, подобно хорошо
округленному шару. Да и что могло бы быть перед ним или за ним
следовать? Мышление? Но ведь именно только в простом
полагавши «это есть» или даже просто «есть» («есть» здесь
предикат), и только вместе с ним и возникает впервые само
мышление. «Без бытия», причем имеется в виду как раз простое
бытие, выражаемое этим словом «есть», «не найти тебе
мышления», говорит уже Парменид! И наоборот: в нем, в
мышлении, имеется оно, это простое бытие, именно оно «высказано»
в нем; и опять-таки оно, мышление, есть ради него, ради
этого бытия, а не бытие ради мышления или по его милости; и
далее: оба они — и бытие, и мышление — суть одно и то же, — нет,
вернее даже будет сказать: «одно и то же есть», — оба они есть
бытие, с одной стороны, мышление — с другой стороны, ни
одно из них [не] преимущественно перед другим, но ни одно из
них и без другого [не существует] — ни фактически, ни в
возможности.
Так именно всегда понимал это, по убеждению Наторпа,
и Платон, наиболее же ясное выражение этому он дал в
своем седьмом письме43*. Там на первом плане стоит у него
«дело» (πράγμα), именно все то же простейшее «так вот» или «это
есть», даже просто — «есть», «имеется», далее — всего ближе
к нему, на него непосредственно направленное мышление или,
поскольку речь идет о мышлении, «того, что есть» — познание.
Но познание, в свою очередь, опирается далее на нечто третье,
именно на полный нераздробленный образ созерцания. А это
уже дальше сообщает свой свет четвертому, расчленяющему
«определению». И уже только самое последнее, что ни на есть
низшее, способное стать только предметом «кивка» или
«слова», есть в каждом данном случае предлежащее единичное в
отдельном восприятии: «там-то вот и там-то», «это вот и это».
Но то, что это «есть», выражается и перед самим собой
оправдывается не иной какой инстанцией, как все тем же логосом,
речением (ρήμα, Spruch), высказыванием суждения, следова-
Часть II
387
тельно, поскольку мы именно это здесь под логосом
подразумеваем, «мыслью» (νόημα), мышлением (νόησις-) в его
первоисточнике (νους*). «Решай, суди по силе Логоса!» (Κρϊναι δε
λόγω) — требует поэтому уже Парменид. Что же, значит ли
это, что последнее слово решения должно остаться за
мышлением? Нисколько, ибо логос сам ведь есть не что иное, как
безусловно-первоначальное полагание: «это есть», даже просто
«есть». Никакой другой решающей инстанции, называемой
мышлением, уже не стоит над этим простым полаганием, но,
наоборот, оно-то и есть то, что единственно и в последнем
счете оказывается решающим и что впервые служит
оправданием и самого мышления. И именно это-то и хотел,
по-видимому, выразить Парменид в своем основоположении. Или,
по крайней мере, каждое отдельное «это есть», каждое
отдельное «бытие» проверяется и оправдывается из «единой в себе
связи бытия», которая, вне сомнения, полагается
«мышлением», как в то же время и его, собственная его связь,
подлежащая гарантии и охране; но ведь от этого связь эта будет не тем
менее, а тем более такой связью, которая полагается как что-
то такое, что «есть». Само суждение есть ведь не что иное, как
только полагание, гласящее: «это есть» или даже, точнее,
просто «есть»: И если бы суждение вздумало как бы вытащить из-
под себя это «есть», то ведь тем самым оно лишило бы себя
всякой почвы, на которой одной оно только и может стоять
и держаться. Так оказывается бытие твердо и надежно
обеспеченным против всяких сомнений и подозрений
субъективизма. Все до сих пор сказанное об отправном пункте и
верховном принципе «Всеобщей логики» заставляет, однако,
Наторпа, в целях еще более глубокого обоснования ее
возможности, поставить и разрешить следующую на первый взгляд,
казалось бы, могущую служить против нее отрицательной
инстанцией, проблему: «каким образом, — так могли бы
спросить противники этой логики, — бытие, после всего
сказанного выше о его первоначальности, может все же быть и играть
роль для мышления только некоего X, быть только
символическим выражением некоторой проблемы, подлежащей
решению всецело и исключительно только из средств самого же
мышления? И каким же образом мышление может быть
только ради бытия и только на него направленным, когда само же
бытие в нем, в мышлении, оказывается сполна и всецело
выраженным или, по крайней мере, выразимым, да, в сущности,
388
Система эстетических воззрений Наторпа
только в этом выражении и состоит, ибо "бытие" есть ведь,
да и всегда остается, только словом человеческого языка?!»44*
Такова подлежащая здесь решению важная проблема,
ставящая как бы на карту всю судьбу «Всеобщей логики».
Между тем ясный ответ на это недоумение дал, по мнению
Наторпа, уже Платон, и притом весьма рано, в диалоге «Ме-
нон». Сущность этого ответа заключается в следующем: самое
искание предполагает уже, что есть то, что это искание ищет,
и притом даже, так сказать, в пределах нашего кругозора,
нашего мысленного поля зрения. Точка зрения на познание,
развитая Платоном в «Меноне», по существу, та же, объясняет
Наторп, что и та, которая, под влиянием Канта, была
провозглашена в новейшее время с такой непосредственной
убедительностью, например, Шиллером:
Es ist nicht draußen, da sucht es der [Tor],
Es ist in dir, du hingst es ewig hervor*5*.
То, что мыслится не за пределами компетенции мышления,
хотя, правда, подлежит выявлению из скрытого состояния,
пробуждению из дремоты, и притом не кто-либо другой, а ты сам
вызываешь и высвобождаешь его из этого состояния, и не
откуда-нибудь, а из тебя же самого, ибо оно — это то, что ты
имеешь в тебе; мало того — оно вечно (ewig) в тебе. Мысль
Шиллера совпадает здесь с принципом платоновского «анамнези-
са», и лейбницевская монада служит только более образным
и наглядным выражением той же тенденции. Наконец и
Гераклит, как это впервые показал Наторп, также всецело
придерживается того же воззрения. «Έδιζησάμην έμεωυτον» — «я пошел
на поиски за самим собой»40*, — говорит Гераклит. Но что же,
собственно, значит это изречение и как бы мог пойти я на
поиски за самим собой? Разве я не нахожусь у себя самого, с
самим собой? Между тем два других изречения философа дают,
как показывает Наторп, ничего не оставляющий желать со
стороны ясности ответ на этот вопрос: «Пределов души не
отыщешь ты и весь пройдя путь, так глубоко лежит логос ее»47*,
то есть содержательный смысл того, что она есть. И другое:
«Логос души таков, что имеет тенденцию сам себя умножать»40*,
потенцировать. В этом ответе Гераклита нет, говорит Наторп,
и тени субъективного, а между тем ответ содержит в себе и
означает раскрытие самого существа субъективности, даже в по-
Часть II
389
следней глубине ее, в глубине ее внутренней бесконечности.
Больше того, можно даже сказать, что этим указанием
Гераклита душа (сознание) сама оказывается поставленной всецело
в сферу бьггая, ее логос, правда, принадлежит ей, но он
оказывается общим всем и всему (ξι>νός-), и потому смешно было бы
желать обособиться от него, как это бывает со спящим или
дремлющим, из которых каждый, правда, живет в своем особом
мире. Но именно потому-то углубиться в самого себя и значит
спуститься в глубины самого логоса, который все охватывает
и все собой проникает, хотя, правда, в последних глубинах
своих этот логос оказывается скрытым и от всего обособленным,
тем единым-мудрым (*έν το σοφόν), который один только
всему впервые дает смысл, но сам ни от чего другого не получил
его. Так, в согласии с Гераклитом, опираясь на него и развивая
основной принцип его воззрения на природу сознания, Наторп
отклоняет могущее быть поднятым вышеуказанное возражение
против отправного пункта его «Всеобщей логики».
Следовательно, все общее, что душа когда-либо созерцает в себе, а
созерцать она может только в себе самой, — все это есть
прозрение (Durchschau) до последнего ее основания, из какового
основания до нее доходит, для нее становится доступным и ее
собой освещающим, правда, всегда только какой-либо
отдельный луч ее сперва сокровенного еще света, который, если бы он
целиком стал для нее доступным, ослепил бы ее, и она ничего
не могла бы видеть уже. И все же силой восприятия
солнечного света обладает взор ее, неспособный, правда, без ослепления
вынести всю полноту этого света, но оказывающийся, однако,
в состоянии видеть в этом свете то и только то, что есть,
хотя бы это «есть» и было бы смешано до известной степени с тем,
что «не есть», и, наоборот, оказывающийся не в состоянии
видеть то, чего вообще нет, ибо в абсолютной тьме и нельзя ведь
ничего видеть.
Так чистое мышление бытия — того, что есть, то есть
мышление, ставшее уже познанием, — поднимается и
потенцируется у Наторпа до значения и силы чистого созерцания как
верховного принципа, не абстрактного уже только и
дискурсивного, но целостного, конкретного познания, способного
схватить бытие не только во всеобщей форме его закона и не
только в индивидуальной форме до последней
обособленности доведенного единичного, наконец, даже и не во
взаимоотношении равноправия того и другого, то есть всеобщего и ин-
390
Система эстетических воззрений Наторпа
дивидуального, но так, что общее уже не только соотносится
теперь с индивидуальным и мыслится в закономерном, в свою
очередь, взаимоотношении с ним, но гораздо больше
того — так, что всеобщее уже как бы прямо сливается с
индивидуальным, воплощаясь и находя в нем свое непосредственное,
конкретное выражение, — эстетический, как видим, по
преимуществу, аспект познания, делающий возможным познание
не того или другого бытия только так или иначе, но всего,
всячески, во всей его полноте и целостности, — [то есть
воплощаясь] в том, что составляет нераздробленное целое жизни,
полное глубокого, никогда, правда, вполне не исчерпаемого
смысла, и что только в художественном восприятии и творчестве
приближается в некоторой, иногда, впрочем, в творениях
гения в весьма большой мере к постижению всегда, правда,
условному, символическому, но в то же время властно
убедительному, всей полноты смысла бытия и даже как бы к вос-
чувствованию смысла самого смысла сущего. Но как бы там
ни было, смысл и право всякого искания, всякого
спрашивания о бытии как искомом выше указанным ходом
исследования и прогрессивного углубления понимания принципа
самого смысла бытия — этот смысл и это право оказывается теперь
в глазах Наторпа поставленным вне всякого сомнения,
обеспеченным в своей методологической правоте, недоступным
никакому принципиальному возражению: «Есть смысл и он
должен быть найден»49* — таков бесспорный принцип
«Всеобщей логики» и с ней вместе и всякой вообще философии,
не только в качестве так называемой «строгой науки» о сущем
в смысле бытия природы или вселенского целого, то есть о
сущем как таковом в узком смысле, но и в смысле столь же
строгой науки о «бытии жизни» и ее творчестве, как и о бытии
сущего того особого рода творчества жизни, которое
называется постижением бытия в смысле эстетически (то есть для
чувства) прекрасного — в природе, в искусстве, где бы то ни
было вообще в сущем.
Но если бесспорно, что есть этот смысл, этот логос
сущего, и не подлежит сомнению, что он должен быть найден, —
тогда несомненным станет и то, что всякое знание незнания,
всякая «docta ignorantia», как и всякое вообще сомнение, в
качестве последнего основания и стимулирующего начала
искания достоверности, — все это уже предполагает тот
искомый смысл, о котором с самого начала идет речь во "Всеоб-
Часть II
391
щей логике" и которого, этого смысла, этого логоса, сама она
есть только путь или метод: разговор души самой с собой,
внутренняя, в спрашивании и отвечании состоящая речь души
(διάλογλς-, διάλεκτος', διαλεκτική), к себе самой обращенная
и в себе самой развивающаяся, которую, эту речь, в
мышлении каждого не он сам так разговаривающий ведет, а «сам
логос» в нем ведет ее с самим собой, — этот разговор, эту
диалектику логоса и ее закономерность и имеет в виду, и ее
только и ищет «Всеобщая логика». Как наука она есть,
следовательно, наука о вечно развивающемся «Всеобщем логосе
всего», себя непрерывно и все полнее манифестирующем,
в последних глубинах своих, правда, скрытом, но в более
поверхностно — в душе или сознании — лежащих
обнаружениях своих явном, на все, что подлинно есть, свой свет
проливающем, всему смысл дающем и в бытии, таким образом,
укрепляющем, — наука, ничем, как мы видим, не опровергнутая и не
поколебленная, потому что верховное условие возможности
и метод всякой возможной науки, — философской же
эстетики, в частности и для нас здесь в особенности, — в себе
содержащая. «Всеобщая логика» и имеющая на ней быть
основанной философия вправе назвать себя «идеализмом»,
поскольку на «прозрение идеи» (Durchschau der «Idee») она, как мы
видели, опирается, и в такой же мере вправе назвать она себя
идеализмом «критическим», поскольку всецело на себя берет
она задачу обоснования всякого суждения, как равно
рассмотрение и исследование (кризис) выше охарактеризованного,
само себя перед самим собой во всей всесторонности своих
взаимоотношений оправдывающего мышления.
Критически настроена она против всякого не в достаточной
степени радикального полагания бытия, но отнюдь не против
требования чистого бытия, наукой о познании которого она
по преимуществу является* И именно, поскольку требование
этого чистого бытия является для нее основным, превыше
всего и единственно руководящим, — и не мирится она ни с
какой попыткой утверждения такого бытия, которое не в
полной мере могло бы отвечать всей серьезности предъявляемых
к нему принципиальных требований.
Старому требованию кантовского критицизма, по которому
всякое установление какого бы то ни было «а priori» должно
мочь оправдать себя на каком-либо твердо установленном
факте науки или культуры, «Всеобщая логика» удовлетворяете из-
392
Система эстетических воззрений Наторпа
бытком, однако при том лишь условии и с той существенной
оговоркой, что этот, служащий критериумом проверки для «а
priori» перво-факт, она понимает не как когда-либо могущий
быть завершенным и предлежащим в готовом виде, но как
такой, который вечно сам себя осуществляет, не как «Factum»,
но как «Fieri», не как сделанное (Getanes), а как «себя-дела-
ние» (Sichtun). Коротко говоря, своим предположением
делает она и берет «всю жизненную полноту актуальности самопо-
лагания» (die volle Aktlebendigkeit des Sichsetzens); на нее
только она опирается, ее только стремится описать, ее только
проследить во всей совокупности функциональных связей,
в которых она до бесконечности раскрывается в бесконечно
многообразной их бесконечности (in die sie sich unendlich,
unendlichfach unendlich entwickelt), главное же — пройти,
нет — идти до конца по тропам, все в большую глубь бытия
ведущего, себя самого, как говорит Гераклит, потенцирующего
логоса души или сознания с полной, однако, дачей отчета себе
при этом, что никогда не удастся все же пройти эти стези до
конца, достигнуть на пути их чего-то последнего50*.
Такова «Всеобщая логика»! Безосновательным и пустым
было бы поэтому всякое подозрение ее в произвольном
конструировании. «Правда, всякая логика, — говорит На-
торп, — должна конструировать в том смысле, в каком и
грамматика конструирует строй предложения в каждом образце
написанного или произнесенного»·'51*. Но тем, что она
описывает бытие как чистое самотворчество логоса и в этом
смысле говорит о порождении и даже порождении
порождения, — этим сама она не делается, да и не претендует,
конечно, быть самочинной создательницей бытия (Selbstschöpferin
des Seins). Делать такой упрек «Всеобщей логике» значило бы
обнаружить полное ее непонимание и дать, как говорит На-
торп, свидетельство лишь о том, как мало проникли еще
в культурное сознание человечества и успели стать в нем
жизненными факторами мысли великих философов, начиная от
Парменида и кончая Гегелем. Но если сделанные до сих пор
против «Всеобщей логики» и всей классической философии,
на которую она везде опирается и выражением которой
служит, возражения оказались, как мы могли убедиться, против
нее бессильными, то не будет ли, спрашивает Наторп, иметь
для ее судьбы большее значение другое возражение, из самых
глубин жизни как будто против нее поднимающее свою голо-
Часть II
ЗДЗ
ву и как бы требующее ее к ответу? Смысл этого возражения
можно было бы выразить приблизительно так: во «Всеобщей
логике» речь, прежде всего, идет о единстве, об
однозначности и внутренней согласованности смысла мышления и
познания. Но разве мышление и познание — это все? Разве
исключительно только их единство есть то, чего требует жизнь?
А воля, а поступки, а поведение, а творческое созидание, все
вообще целое бытия и жизни, всей полноты того, что есть,
всему этому безоглядочно себя отдающая и всем этим себя
наполняющая жизнь, — разве все это — ничто? Однако если мы
вдумаемся в смысл этого возражения, то нам скоро станет
ясным, что именно. «Всеобщая логика» не только не
игнорирует, но даже всячески идет навстречу жизненным интересам и,
вне всякого сомнения, глубоко в самом существе дела
обоснованным и законченным требованиям, в этом возражении
нашедшим себе выражение.
Правда, совершенно недостаточным было бы ответить на
это возражение в том смысле, что об этом как раз и шла ведь
только речь во «Всеобщей логике», — о том именно, чтобы
мысляще понять все это, всю эту полноту жизни и
творчества, все это прямое участие их в целостном бытии. Ведь смысл
возражения шел явно гораздо глубже и подразумевал в себе
указание на то, что самым второстепенным, быть может,
делом являлось бы предложение «Всеобщей логики» и ее
претензия только продумать, понять и познать всю эту полноту
жизни и все это непосредственное, практическое, действенное
и творческое участие познания в целостном составе и
единстве бытия. Что в том, что все это оказалось бы познанным? Ведь
все это само по себе есть и развивается, живет и в совсем
своеобразной деятельности себя проявляет, которая сама не
есть — по крайней мере, не есть только и всецело — мысль
и познание* В самом деле, не ясно ли, что в отношении к
последним глубинам бытия мышление и познание всегда
призваны играть только посредствующую роль, что они вовсе и не
проникают в него в его непосредственности и
первоначальности. Познание всегда расчленяет жизнь, жизнь, напротив,
всегда хочет остаться целостной! Познание есть что-то подобное
набрасыванию градусной сети на географическую карту.
Конечно, это хорошо для всякого рода точных измерений, для
определения места, для ориентировки, но кто в данной стране
у себя дома, тому не нужна ни географическая сеть, ни карта!
394
Система эстетических воззрений Наторпа
Если этими «измерениями» и «ориентировками» хотят
исчерпать жизнь, то это есть, как могут возразить нам, явная се
фальсификация, насилие над жизнью, вгоняющее ее в чуждые
ей формы, ее искажающее, изламывающее.
Правда, и жизнь, может быть, — даже наверное, таит в
своих недрах своеобразное внутреннее согласование, которое
в своей последней сокровенной основе мы иногда, в редкие
минуты, способны бываем прозреть, расслышать,
восчувствовать. Но что это имеет общего с познанием, которое только
обманывает нас мнимым поверхностным единством, для него
самого несомненно ценным, но отнюдь еще не для того, что оно
мнит схватить и постигнуть и мимо чего оно на самом деле
всегда безнадежно проходит, — именно для жизни? Ведь то
единство, которым так похваляется познание, есть единство
им же самим построяемое, но это и значит — привнесенное,
вдуманное в жизнь, ей произвольно навязанное. В лучшем
случае — это только единство структуры, метода, быть может,
даже системы, но как бы то ни было, это только формальное,
только, как бы сказать, инструментальное единство. Оно
хорошо для работы, но не годится для творчества. С материалом
можно орудовать при его помощи, но в жизни с ним
неизбежно просчитаешься, на подлинную форму ее оно, это
теоретическое единство, явно не простирается.
Таково это возражение, еще усиливаемое указанием на
применение методов научного, стало быть, логического познания
и [на] их результаты. Чего, в самом деле, может достигнуть это
логическое познание с его схематизмом, эта ваша, хотя бы и
самая что ни на есть «всеобщая, логика»? Не ясно ли, что
наиболее осязательных результатов достигает она там, где будет
в состоянии работать своими схемами и методами, так сказать,
как самодовлеющими, то есть в чисто-формальной области,
прежде всего, в логике, понятой в узком смысле учения о
суждении, понятии и умозаключении, затем, пожалуй, в такой же
мере почти, еще в математике, но чем дальше от
формального — от математики и чисто математического естествознания,
тем все беднее становятся ее применения: в биологии, в
психологии, во всей необъятно широкой области познания о
человеке, в области культуры и истории. В особенности же на
высочайших вершинах культуры, в области религии и
искусства, то есть в заповеднейшей, полной тайн области
последнего, неразложимого, индивидуального, — чему поможет здесь
Часть II
395
и чего в состоянии окажется достичь эта ваша логическая,
пусть как угодно универсальная методика? Словом, чем
больше жизнь как бы приходит к себе самой и сосредоточивается
в себе, в своей подлинной действительности и полноте, тем
решительнее отклоняет она все попытки логического
схематизма выступать в отношении к ней в роли решающей инстанции
и тем с большей несомненностью обнаруживается вся тщета
логических притязаний, если они, несмотря на этот протест
против них со стороны жизни, тем не менее продолжаются.
Все очевиднее становится бессилие такой формы, пустота
такого чисто внешнего формирования, которое наполнение
формы ожидает откуда-то извне. Все эти чисто логические
методы и схемы — не победоносны ли они только и
исключительно там, где речь идет о выработке материала, о средствах
и средствах для новых средств, об ориентировании,
планировании, упорядочении, предуготовлении почвы, материала
и обнаружении его свойств, и не оказываются ли эти методы
и схемы явно немощными и бесплодными всякий раз, как речь
зайдет о живом, непосредственно деятельном, особенно же
созидающем, творческом?
Не является ли поэтому логика с ее методами и
принципами особенно беспомощной именно в решении проблемы
художественного восприятия, понимания и творчества, то есть
как раз той проблемы, которая нас здесь особенно интересует
и в отношении к которой мы ставим себе специальной
задачей показать не тщету, а, напротив, решающую роль и
безусловное значение «Всеобщей логики», — или мы должны
отказаться от этого нашего намерения, даже не приступив к его
исполнению?
Правда, мы говорим о практическом, художественном,
даже религиозном познании, но ведь практическим,
художественным, религиозным никогда не является собственно
самопознание, которое всегда только извне подходит ко всем этим
областям и их порождениям, — ведь ни в одной из этих
областей познание собственно не творит решительно ничего,
а стремится »только орудовать над всем этим, часто» если не
всегда, входя при этом в явный конфликт с самой природой
этих областей сущего, искажая и уродуя продукты их
деятельности. Словом, познание не есть жизнь, а жизнь не есть по-
знание\ И если познание даже и принимает известное участие
в жизни, то для самой-то жизни и творчества в ней это учас-
3*6
Система эстетических воззрений Наторпа
тие познания есть нечто безусловно второстепенное,
незначительное, явно убывающее, притом в своей силе и значении по
мере усиления проявления самой жизни и развития ее во всей
полноте: чем больше жизни — тем меньше познания! О каком
же обосновании эстетически прекрасного и его творчества,
всегда жизненного по преимуществу, из холодных, чтобы уже
не сказать мертвящих, принципов «Всеобщей логики» может
идти после этого речь? И если всегда была сильна в
человечестве эта отрицательная тенденция жизни в отношении
притязаний познания, то в наши дни она возросла до неимоверных
размеров. Неужели и теперь, после всего над ним
сотрясшегося, мы все еще будем стремиться найти в жизни единство
и гармонию, познать ее и на этом познании обосновать все
эстетическое, как его следствие? Неужели не безумно желать
знать и иметь эту «Гармонию» после того, как и младенцу
стала ясна ее неосуществимость? Неужели к такой
сентиментальности направлена магистраль пути «Всеобщей логики»?
Пусть гармония целого доступна Богу и для Него внятна,
да будет приветствуема она везде, где мы мним, что слышим
ее: в каждом отдельном, редко счастливом случае нашей
жизни, но требовать ее для всего целого, возводить ее в ранг
общеобязательного принципа жизни было бы и рискованно,
и неправомерно.
Не будет ли поэтому более согласным с истиной и более
мужественным с нашей стороны с полной решимостью стать
лицом к лицу со всеми противоречиями, которые со всей
неотразимостью открывает перед нами окружающая нас
действительность, чтобы принять эти противоречия как факт и
посчитаться с ними, не пытаясь маскировать их, уловляя их в
цепкие петли логической сети. Коротко говоря, не взять ли нам
и в философии новый курс и не заменить ли принцип
логического понимания, практической деятельности,
художественного творчества, религиозного опыта и всей вообще полноты
жизни — началом открытого алогизма, непосредственного вос-
чувствования и дивинаторного52* предугадывания
неисповедимых путей жизни и бытия? Недаром ведь уже Гераклит учил
о войне и раздоре как отце всех вещей53* — недаром и он, и
другие не раз проповедовали решимость и величие воли, силу
духа, готовность к борьбе и жажду победы вместо тихих путей
рассуждения и медленного кропотливого анализа; для
миролюбия, справедливости, простоты душевной, для любви с ее
Часть II
397
тихими радостями, для «жажды размышлений» останется еще
достаточно места в интимной жизни отдельных людей, но для
полной драматизма борьбы, для трагики целого человеческой
и мировой жизни нужно другое начало! Всеобщность и
единство, к которым стремится философия, должны быть найдены
по пути борьбы и непосредственно,
интуитивно-схватываемого постижения ее путей. Загадку бытия мира и жизни не
следует ли искать скорее на этом пути безудержного вторжения
в недра их существа, чем по избранному нами пути всеобщей
логики сущего. Тем более, быть может, необходимо это в
отношении нашей проблемы художественного понимания и
творчества эстетически прекрасного как бытия особого рода —
именно бытия для чувства с его, то естьэтого чувства,
безмерным, никаких границ и определений не знающим, творческим
волнением и неисповедимым предвкушением неизвестного?
В самом деле, ведь не только энергия практической
деятельности всецело рассчитана на борьбу, но и истинное
художественное творчество также не знает никакой другой гармонии,
кроме той, которая исторгнута из борьбы противоречий и
оказывается достаточно сильной, чтобы их преодолеть. И даже
всякая истинная религия говорит не только о мире и любви,
но, напротив, из смерти почерпает она настоящую, более
глубокую жизнь, из греха и отчаяния удаленности от Бога
неимоверными страданиями и отречениями покупаемое
освобождение и близость к нему, из безусловного, наконец, подчинения
вечной воли — подлинную свободу. Как раз именно религия
почерпает свою жизненную силу из настроения Трагедии, в
которой не только искусство, но и сама она имеет свое последнее
основание, чем обусловливается и ее родство с искусством,
вообще — с эстетическим. И как ни бесспорно, что верховным
законом логоса, ratio является закон внутреннего согласования,
гармонии, все же остается в силе роковой вопрос: как и в
какой мере может быть согласован этот закон, этот «souverain
principe»54*, как назвал его Лейбниц, с глубочайшим
сокровенным содержанием жизни, также претендующим стать
суверенным. Не ясно ли, что именно жизнь всегда оказывается
противоположной, иррациональной, антиномичнои, трагичной до
последних своих основ!
Так, из самой глубины универсальной проблемы жизни
и творчества в его целом, со стороны же «эстетического», быть
может, прежде всего и с особенной силой, «Всеобщая логика»
398
Система эстетических воззрений Наторпа
оказывается как будто оспариваемой, гонимой,
опровергаемой. Следует ли поэтому от нее отказаться или тем
грандиознее, тем импонирующе должна быть ее окончательная победа
и в особенности ее полное торжество в отношении
единственно только с ее точки зрения возможного решения проблем
эстетики и религии?
Чтобы ответить на этот вопрос, следует развить несколько
подробнее основную тенденцию главного, против «Всеобщей
логики» и ее метода направляемого, возражения о противологич-
ности, иррациональности, антиномичности жизни, и о том, что
можно назвать глубочайшей основой трагического и в жизни
и в творчестве — самым корнем, последним первоисточником
того и другого. Стоит только со всей последовательностью
сделать это, чтобы стало ясным, как увидим, что само это на
первый взгляд «а- и антилогическое», иррациональное начало
жизни и ее непрерывно развивающегося творчества в
действительности есть только высшая потенция и аспект логического.
Что, в самом деле, есть это, ни в какие логические
определения, по-видимому, не укладывающееся и никаким
логическим схемам не подчиняемое творческое начало и сила жизни?
Индивидуально [ли] оно, и если да, то в каком же смысле? Уж
we в ницшевском ли или
модернистски-импрессионистическом? Или оно социально, и тогда опять в каком же,
собственно, смысле? Что это — само за себя говорящее, никакому
трансцендентальному обоснованию недоступное, да в нем и не
нуждающееся начало непосредственного трудового общения
исто, из естественных (материальных) условий
саморазвивающейся, организации — социализма? Или это искомое
творческое начало жизни есть ни то, ни другое, так как ведь если
бы оно было одним из них, тогда оно было бы началом,
абстрагированным искусственно, то есть, в конце концов, лишь
формальнологически, и, стало быть, лишь мнимо
изолированным, лишь приписанной ему самостоятельностью
обладающим? Но против этого, то есть против этого метода
абстрагирования, и направлено ведь как раз все возражение, которого
«Всеобщая логика» не может и не должна игнорировать, если
хочет не только отстоять свое право на существование,
»о и стать действительной руководительницей не только
научного познания, но также и самой жизни во всех областях се
TBGpif6CTBa, включая и высшие сферы творчества
художественного и даже религиозного. Если поэтому искомое творче-
Часть II
399
ское начало жизни вообще должно быть как-нибудь понято,
постигнуто и усвоено сознанием, то, как это не может не
признать и «Всеобщая логика», оно должно быть постигнуто
отнюдь не по пути абстракции или, в конце концов, всегда
только формально-логического обособления, но, наоборот, — в его
первоначальной целостности и нераздробленности- Но тогда
оно явно должно быть понято как такая подлинная
индивидуальность, которая в то же время есть и столь же подлинная
общность. В самом деле, ведь смысл подлинной
индивидуальности заключается как раз в предположении преодоления
«растворения в общем», то есть в чистой и полной
своеобразности не отдельного, единичного, всегда реального, так
сказать, только в кредит общего (именно через искусственное
обособление от него), но в своеобразности «единственного»
как такового, не единственного «в своем роде», а полностью,
в чистом виде единственного, или, другими словами, не в
предположении многих, от которых условно и всегда неполно
отделяется единичное, но в предположении такой
«Всеобщности» (Allheit), которая сама опять становится, как бы
потенцируется, до единичности высшей степени или порядка.
Поскольку эта искомая здесь подлинная индивидуальность
отказывается как раз и протестует против всякого растворения
в общем, поскольку каждому она стремится гарантировать
и сохранить за ним его незаменимую своеобразность,
постольку как раз и избегает она опасности похитить и отнять
что-нибудь от своеобразности другого, его обездолить, как и,
наоборот, всякая неподлинная индивидуальность, неполная, неиод-
линная, некоренная своеобразность неизбежно вырождается
во взаимное обездоление, тенденцию к ограничению другого*
в зависимость, принуждение и насилие над ним этим другим.
Для всякой подлинной индивидуальности, для всего
подлинного, своеобразного всегда есть место в сфере
«бесконечного», — наоборот, для неподлинной индивидуальности*
ненастоящей и неглубокой своеобразности узкого эгоизма и
себялюбия, и эту неподлинную индивидуальность всегда
сопровождающей мнимой общности и извне принуждающего
закона, — для такой неподлинной индивидуальности и лишь
обратную сторону ее составляющей столь же неподлинной
гетерономной общности нигде нет ни места, ни признания, так
как таковая может вести только к непрерывным
столкновениям и взаимному вытеснению. Такая мнимая индивидуаль-
400
Система эстетических воззрений Наторпа
ность, как и ее обратная сторона — мнимая общность, отнюдь
не может быть поэтому выражением той, искомой здесь,
универсальной творческой силы жизни, которую и «Всеобщая
логика» не может не сделать своей главной проблемой. Не об этой
мнимой силе мнимой индивидуальности и столь же мнимой
силе мнимой общности, которая на самом деле есть только
выражение полного бессилия и гибели, должна поэтому идти
в дальнейшем речь, но о подлинной, настоящей, творческий
источник жизни собой выражающей силе, должна поставить
проблему «Всеобщая логика». Но эта настоящая творческая
сила жизни не дает, как мы видели, уложить себя в
прокрустово ложе пустой согласованности чисто логических,
абстрактных и абстрагирующих отношений, ей противна вялая
и безвкусная традиционная логика, преследующая цель
простой гармонизации и готовая ограничиться установлением
только формальной согласованности отвлеченных
отношений, как также противна ей и вялая, пустая этика уклонения
от борьбы и трусливой капитуляции перед раздирающими
жизнь противоречиями, как противна и чужда ей и вялая
эстетика, робко избегающая всяких диссонансов, из которых на
самом деле только и возникает истинная гармония, как
чужда ей, наконец, и вялая религия, охотно склонная говорить
о Боге и его милосердии, но чурающаяся всякой мысли о
гневе Божием, грехе, преисподней и диаволе. Нет, с
обоснованием в таких науках, в этой, подлежащей сдаче в архив истории,
неосхоластической философии не помирится искомая,
универсальная, творческая сила жизни, но она потребует для
себя обоснования в другой, новой, более глубокой логике,
новой этике, новой эстетике, новой религии — в той вообще
новой, еще только имеющей возникнуть философии, имя
которой «Всеобщая логика», и где только впервые должны
получить для себя полное право голоса не одни лишь
«согласование» и «гармония», но и «противоречие» с его раздорами,
и где ие в формальном согласовании, а в живом
собеседовании, в диалогической борьбе противоречий должно созреть,
наконец, и приобрести для себя адекватную форму их, в ином
теперь совсем смысле понятое, согласование, как творчески
жизненных, свое противоборство никогда не прекращающих,
а не абстрактных только, мертвенных факторов. И все это не
для того, чтобы на* этом новом пути найти окончательное ре-
шение проблемы жизни, и не для того, чтобы только искать то,
Часть II
401
что найдено быть не может, но для того, чтобы о всех этих
противоречиях, во всей их безмерной глубине и силе, иметь все-
таки право сказать, как о некотором из бесконечного числа
измерений состоящем, целом, что оно «есть*, подобно тому, как
Бетховен сделал и дал почувствовать это миру в своей
«многомерной музыке».
И если не сразу о том, что такое есть это целое, то, по
крайней мере, о том, что оно есть, должна мочь дать нам отчет
«Всеобщая логика», — если не о логосе качеств, то, по крайней
мере, о логосе факта или, вернее, самого акта бытия этого
целого. В начале всего было дело (Tat) и смысл, или «логос», этого
дела!55* О нем-то, прежде всего, и должна трактовать «Bteoö-
щая логика», без которой не обойтись, следовательно, и самой
о себе заявляющей и к своему пониманию как-никак
апеллирующей творческой силе жизни во всей ее универсальности.
Но как бы там ни было, всем сказанным основное сомнение
и возражение против «Всеобщей логики» должно быть
признано принципиально устраненным. Ведь отрицательной
Инстанцией против этой логики было, в отличие и в
противоположность гармонии и согласованию, всюду царящий в жизни
принцип раздора и противоречия.
Мы видели, однако, что мнимый и настоящий, подлинный
логос, как равно и подлинный "φοςτ56*, и подлинный
творческий rEpcoç"57*, и подлинная уверенность, наконец, в
реальности Бога и любви к Нему, — что все эти формы и области
постижения сущего, все эти стадии саморазвития логоса, о чем
только и должна трактовать «Всеобщая логика», — что все они
отнюдь не избегают противоречия, а, напротив, всецело берут
его на себя, стремятся проникнуть в него, бесстрашно
проработать его до последних глубин, Чтобы, не идя [ни] мимо
него, ни над ним и не оставляя его за собой, а через него, усвояя
его себе и преисполняясь им, — выйти на верный путь все
более полного обладания истинным единством целого, — и это
уже не при: посредстве только отвлеченной мысли, но всем
творческим существом нашего духа, раз навсегда
освобожденного от страха перед его собственными внутренйими
противоречиями.
Но если все сказанное справедливо, то первая задача,
которую «Всеобщая логика» должна будет себе поставить, будет
заключаться в необходимости объяснить, как и в каком смысле
именно она — логика — должна признать «противоречие» и да-
«*2
Система эстетических воззрений Наторпа
же, больше того, возвести его в ранг одного из самых важных
своих принципов. И вот первым шагом к решению этой
трудной проблемы будет, как объясняет Наторп, то простое, в
сущности, соображение, что противоречие само ведь есть нечто
логическое, и притом только и исключительно логическое, а
потому именно только ее (логики) компетенции и подлежащее,
для нее только могущее стать понятным и только ею
признаваемым. В само деле, ведь противоречие [, которое] существует
в логическом смысле термина существования, ничем не хуже,
чем то, что высказывается без всякого противоречия — не как
«противо-речение» (Wider-Spruch), а как простое речение
(Spruch), но раз существует это последнее, то тем самым
признано уже и существование «противо-речения» в смысле
высказывания, имеющего свой, вполне определенный,
непререкаемый смысл, именно смысл особого, положительным смыслом
обладающего отрицания того, первого, так сказать, отправного
речения (schlichter Spruch). Что противоречиво, то, правда, «не
есть» в обычном смысле свободного от противоречия «это есть»
(es ist), но это не-бытие само опять-таки «есть» именно в
последнем смысле логического бытия, то есть бытия самого
смысла высказывания. Больше того, тот смысл, которым обладает
само это «небытие» — его логический и только логический
смысл, — даже богаче по таящемуся в нем содержанию, чем
смысл простого бытия, не снабженного отрицанием и, если так
позволено будет выразиться, не отравленного им, то есть бытия
первоначального высказывания. И можно даже сказать, что
особый смысл бытия, присущий «небытию», объемлет в себе
и как бы из себя порождает, обусловливает смысл «бытия»
просто, наподобие того, как понятие кривой содержит в себе и из
себя порождает понятие прямой линии, как такой кривой,
кривизна которой равна нулю, или подобно тому, как понятие
неравенства ведет к понятию равенства, как бы подсказывает
и обусловливает его собой, или, чтобы взять самый
поразительный пример, — подобно тому, как отрицание жизни,
называемое смертью, само, в некотором роде, обусловливает жизнь и
наполняет ее несомненным напряженно-ценным содержанием.
Во цвете лет свободы верный воин,
Перед собой кто смерти не видал,
Тот полного веселья не вкушал
И милых жен лобзаний недостоин. (Пушкин)™*
Часть II
403
«Посеянное не оживет, если не умрет», и «умри,-чтоб стать
и жить». Эти изречения — только выражение глубоко
положительного смысла отрицания собой представляют. И эта
участь возрождения ценою смерти постигает и кантовскую
философию. Поэтому-то, говорит Наторп, мы не боимся
похоронить тело этой философии, чтобы тем больше жил ее дух.
Но чтобы этот позитивный смысл отрицания (oîmc, non,
nicht, не, с одной стороны, и μη, in, un, без — с другой),
противоречия и связанного с ним «небытия», стал вполне ясным
и в своей плодотворности для решения всех важнейших
проблем философского познания не подлежащим уже никакому
сомнению, для этого Наторп считает нужным привести еще
следующий ряд решающих соображений и аргументов.
«Полагание, позитивное утверждение (Position), — говорит
он, — есть всегда полагание границы (отграничение) в самом
по себе, то есть независимо от этого отграничения
безграничном, от всякого полагания границ свободном целом. И мы уже
натолкнулись в предшествующем на факт этого свободного
витания в безграничном, предшествующего
ограничивающему полаганию, именно: на вопрос, на это нам ведомое, так зна-
емое нами "Я-не-знаю", в котором "да" и "нет" находятся в
равновесии, а суждение, значит, "самый логос", еще не
высказанное, витает в каком-то невыразимом "между", как "дух Бога
над водами". И вот в этом-то как раз радикальном значении
"логоса", лежащем как бы еще по сю сторону всякого да и нет,
всякого бытия и небытия и заключается вся загадка знания,
а следовательно, кроется и ее решение. Именно в самом
понятии границы, как это всего яснее понял Платон,
осуществляется уже решение. В самом деле, граница ведь уже по самому
существу своему двустороння: она сразу и разделяет, и
соединяет. В ней совпадают различные области, которые она в то
же время и разобщает друг с другом, поскольку именно она
стремится принадлежать сразу обеим пограничным областям,
но тем самым и ии одной из них, поскольку каждая ведь
исключает другую. Так противоположность становится проти-
восторонностью. Противоположность исключает, противо-
сторонность, напротив, как бы снова соединяет разобщенные
друг с другом области, как две стороны одного и того же.
Граница двулика, как Янус, бог начала, точнее, начинания
заново; она возвышается над противоположением, подобно тому,
как взор полуночи видит уравновешенными золотые весы вре-
404
Система эстетических воззрений Наторпа
мени. Свое местопребывание она (граница) имеет в
невыразимом "между" (μεταξύ), в неделимом "теперь" (νυν), в
"сразу", в том, что выражается словом "внезапно", в платоновском
εξαίφνης-, на повороте, так сказать, каждого момента времени
(καιρός·) — так, что это "между" хотя и относится к времени,
но не находится в нем, не включено в него, так как само
время второстепенно в отношении к нему и производно от него.
Таким образом, граница означает сразу и отклонение от чего-
нибудь, исключение, следовательно, отрицание, и возврат
назад, переход, утверждение, некое равномерно витающее
проникновение друг в друга "да" и "нет"»59*. В этом суть «логоса»,
сущность дела, суть и смысл жизни. Противоречие
(отрицание), будучи основной категорией всего логоса, всего «бытия»,
есть тем самым и именно через это, также и основная
категория и определение жизни.
Поставленная выше основная проблема о том, в состоянии
ли — й, если да, то как, — наше мышление, наше познание,
вообще наш дух, овладеть той первоначальной творческой
силой жизни и бытия, о которой все время шла у нас речь — эта
проблема всеми приведенными соображениями и
аргументами может теперь, если не в подробностях, то в принципе,
считаться разрешенной в утвердительном смысле. Ибо
раскрытый здесь радикальный смысл логоса делает мышление и
познание бытия уже лишенными той односторонности и того
узкого характера их, который определялся неверным и
недостаточно глубоким пониманием значения и смысла отрицания,
обрекавшим мышление и познание на роль по преимуществу
только абстрагирующих и анализирующих начал и методов,
тогда как подлинная природа их, наоборот, должна быть
понята как преимущественно и по существу синтетическая,
единственно только вследствие этого могущая оказаться
способной не извне только, формально-логически, но
проникновенно, вникая в самую природу сущего, постигнуть и его
подлинный смысл, и в нем коренящиеся живые творческие
потенциалы. Момент перехода посредством противоречия — это,
как теперь доказано, есть самое существо, корень, принцип,
смысл самого смысла логоса, бытия, жизни... И именно
проникновение в подлинный смысл противоречия и отрицания
должно, как мы уже отчасти могли в этом убедиться и как это
теперь станет еще яснее, создать для нас реальную
возможность и дать нам в руки надежный метод для проникновения
Часть II
405
также и в сокровенный смысл того простого и
первоначального полагания логоса, которое синтетически объединяет
и в равной мере содержит в себе и «бытие», и «небытие», —
бытие небытия, которое тем самым есть в то же время и небытие
узко понятого, только к утверждению стремящегося и всякое
«нет» склонного исключить и отвергнуть бытия. Между тем
как Платон уже неопровержимо показал это в своем
«Софисте», это исключительное, всякий смысл отрицания
отклоняющее «да» или положительное «нечто бытия» (δεν в отличие
от μηδέν60*) не только в такой же, но даже еще в гораздо
большей мере трудно усвонмо по своему смыслу, чем безусловно
отрицающее всякий смысл «да», игнорирующее «нет»
чистого отрицания (ουκ, non). И если тем не менее в «бытии»
небытия окончательную победу удерживает за собой «да»,
то есть положительный момент бытия, то это происходит
только потому, что это. «да» в полной мере признает и за «нет»
его особое право и его строго оберегает, подобно тому, как
всякий истинный победитель охраняет и защищает права
побежденного. Это и есть великий принцип коинциденции (то есть
внутренне обусловленного, закономерного совпадения),
в равной мере принадлежащий и Платону, и Гераклиту и
долженствующий быть положенным в основу всякого истинного
бытия, то есть его смысла или логоса, открывающегося нам
в мышлении, в познании, во всей, наконец, целостной
полноте нашего духа, в его устремлении на бытие и овладение им,
а именно: «бытие» и «небытие» оба одинаково суть, они суть
одной то же или, вернее, одно и то же есть они оба, и это-то
и есть глубочайшее условие всякого логосау условие
возможности для того, чтобы «нечто одно становилось другим* или
чтобы, выражаясь в старых кантовских терминах, стало
возможным «синтетическре суждение», синтез в мышлении сущего,
синтетическое сознание как единственный надежный путь
к усвоению смысла бытия и жизни, не в их раздробленности
и раздроблении, а в их целостности и единении, столь
бесконечно важных, как мы видели, особенно для постижения
и проникновения в смысл и суть высших форм культурной
деятельности, художественного и религиозного творчества, как
и в смысл им соответствующих родов сущего. С другой
стороны, только отсюда, из этого же принципа коинциденции,
может стать понятным и получить свое оправдание также и то,
что и всякое заблуждение (Schein), ошибка (Irrtum), невер-
406
Система эстетических воззрений Наторпа
ность (Falschheit), противоречие (Widerspruch) тоже «есть»
нечто и притом нечто логически столь же существенное, как
и истина, как простое позитивное утверждение — «это есть».
Познание, гласящее «Так это не есть», — это познание не
только проба или путь к проверке познания: «Так это есть», но это
действительный, новый шаг познания вперед за мнимо
неподвижную границу, которую как будто хотело воздвигнуть
познание, гласившее: «Так это есть». Именно в этом познании
самого смысла отрицания впервые познается, что есть нечто
вне первоначально принятого нечто, что возможен переход за
его пределы к другому, что нет этих пределов, что познание
и бытие непрерывны, хотя бы и верным осталось
утверждение: que toute la continuité est une chose idéale61* — ведь
только идеальное и есть подлинно реальное. В познании смысла
отрицания «Логос» овладевает изначала присущим ему
внутренним движением, или, точнее говоря, он приходит к
сознанию — к даче самому себе отчета об этом. Но как раз через это,
вместе с этим и в этом, становится возможным и
осуществляется движение, жизнь, душа или сознание, божество,
словом, — творчество во всей полноте и разнообразии его
проявлений. Не будь этого, то есть не будь логос отрицания
осознанным и постигнутым, — тогда и сам логос как таковой остался
бы неподвижным и мертвым; тогда «абсолютное бытие» и
«абсолютное "нет"» (небытие в смысле ничто, ούκ ύν ) остались
бы стоять, как у Парменида, «в своем величии и святости»,
но они стали бы бесплодными, упраздняя все и, прежде всего,
всякое мышление и познание, всякое творчество и жизнь.
Ни о каком объяснении эстетически прекрасного как
такового для чувства и его творчества не могло бы тогда быть и
речи. Абсолютное бытие и абсолютное небытие, исключая собой
и жизнь и творчество, сделали бы невозможным их понимание
и обоснование! Но не так плохо, как мы видели, обстоит дело
логоса! В единственно действительном, промежуточном,
срединном между абсолютным бытием и абсолютным небытием
царстве жизни и жизненного, царит только относительное
бытие, которое в такой же мере есть и относительное небытие;
относительное небытие, которое в такой же мере означает собой
и относительное бытие, как раз в противоречии этом — без
противоречия. Так становится возможной жизнь и творчество,
рациональность иррационального, а вместе с ней не только
наука о нравственном, должном, но и религия, и искусство, и не-
Часть II
407
исповедимость прекрасного как бытия иррационального,
жизненного и творчески только постигаемого, и так в особую
высшую рациональность снова возвращаемого!
Таковы задачи, путь и таковы, здесь уже, достижения
принципа «Всеобщей логики» в универсальности его применения!
Но и более подробное и точное обоснование бытия жизни,
а с ней и творчества — логоса их обоих в их единстве — На-
торп дает нам, исходя из верховного принципа «Всеобщей
логики» и развивая понятие иррационального. «В том, —
говорит он, — и заключается рациональность иррационального,
что последнее отрицает только исключительную
рациональность и, напротив, утверждает рациональность настоящую.
Частичность только позитивно полагающего "Ratio"
растворяется в нераздробленной целостности единства (Integrität)
"Ratio" настоящего, подлинного, который всецело вбирает
в себя отрицание и противоречие для того, чтобы все снова
и снова преодолевать их во все новом "да". Отсюда и
проистекает непрерывное взаимное превращение полагания
относительного и безотносительного,
"относительно-безотносительного" и "безотносительно-относительного", которые все
совпали бы в последнем абсолютном полагании (если бы
только было в силе таковое); но в области саморазвивающегося
логоса все эти моменты никогда не могут совпасть абсолютно,
но зато столь же мало могут и окончательно распасться или
только отделиться друг от друга; но и те, и другие (моменты)
живут только в вечном переходе сокровеннейшего
взаимопроникновения. Если это именно подразумевают под жизнью,
тогда логос стоит не вне жизни и жизнь не вне логоса»62*.
Но это и значит, что «Всеобщая логика», верная своему
замыслу объяснить непрерывно и синтетически все бытие из
единого, его всюду проникающего логоса, а не какую-либо сторону
только или стороны бытия, выполнила свою задачу, тем
самым положив, однако, основу и для философского
обоснования познания каждой отдельной области сущего, связанного
систематически со всякой другой и всеми вообще в их
единстве областями познания единого сущего. Такой отдельной
областью познания сущего в нашем случае была бы область
познания «эстетического». Правда, еще одно, и уже последнее,
возражение принципиального характера можно было бы
попытаться поднять, как против всей этой «Всеобщей логики»
в целом, так и против применения ее к обоснованию познания
4*8
Система эстетических воззрений Наторпа
отдельных областей сущего, именно — можно было бы
поднять вопрос о принципиальном основании и праве
утверждения этого последнего закона «логического», который Наторп,
в отличие от кантовского верховного принципа синтеза в
познании, называет законом коинциденции. Но на такой вопрос
был бы возможен только один ответ, что «единственно
только под предположением этого верховного закона можно было
бы сказать полное и решительное "да" жизни, бытию, всему
вообще, потому что единственно только это предположение
ничего не отрицает и все, наоборот, обьемлет в себе»63*.
Так «Всеобщая логика» остается, как видим, и
трансцендентальной. И не так при этом обстоит дело, что можно сказать
и не сказать это «да», что это будто бы дело мнения или
настроения, но в том и заключается как раз сила и убедительность
этого верховного принципа, что, раскрывая самую суть того,
что живет и что есть, он тем самым показывает и разоблачает
необходимость того, что все, что живет и что есть, неизбежно
самым фактом своей жизни и бытия уже произносит
последнее и решительное «да» и своей жизни и бытию, и жизни и
бытию вообще, что самый смысл этого верховного закона ведет
к тому, что ничто, что живет и есть, и не может даже не
служить вообще выражением этого «да». Но если так, то закон
этот выражает и утверждает собой также и самый логос,
притом в абсолютной его, на все простирающейся всеобщности.
Нечего и говорить, конечно, что эта всеобщность как
выражение принципа смысла всего не будет допускать никакой
возможности понять себя в смысле пустой абстракции, но,
напротив, должна будет быть понятой в смысле всеобъемлющего,
на все простирающегося, центрального, коренного, сплошь
заполненного содержанием конкретного единства
универсального, в буквальном смысле — к одному центру или во едино
обращенного. Правда, обособления, на которые это единое, это
перво-логическое будет как бы дифференцироваться, будет
неизбежно носить абстрактный характер, как все вообще
собственно и в узком смысле логическое. Но в таких
абстракциях «Всеобщая логика» будет нуждаться только для того,
чтобы, при их посредстве, овладеть самим логосом как таковым
в полноте его всякую абстракцию преодолевающего
содержания, в его все в себе включающей плодотворности, во всех его
бесконечных и бесчисленных творческих обнаружениях.
Для «Всеобщей логики» абстракция будет иметь поэтому зна-
Часть II
409
чение только метода выработки конкретного, без которого
она не может обойтись, но который всегда останется для нее
только средством, как для Плотина его "Αφελε πάντα64* имело
значение только первого этажа на пути приближения к
конкретному. Конкретное же всегда останется для «Всеобщей
логики» целью, и там, где она этого конкретного достигнет, — там
выступит она перед нами в значении тех систематических
частей ее, которые мы называем философской эстетикой и
философией религии, с полным преобладанием в них
конкретного и индивидуального, впитавших как бы в себя, в себе
воплотивших все абстрактное и общее, не так, однако, чтобы оно
растворилось и исчезло в конкретном и индивидуальном,
но так, чтобы оно с ним и в нем согласовалось, в
непосредственности единого жизненного целого творчески с ним слилось.
Не было бы поэтому более несправедливого упрека по
отношению к «Всеобщей логике», как если бы кто-нибудь, не
овладев истинным смыслом ее замысла, упрямо стал бы
настаивать на ее мнимо абстрактном характере или сближать ее,
хотя бы только по форме, с диалектической конструкцией
логики Гегеля. Единственная в своем роде, «Всеобщая
логика» не конструирует, а раскрывает и обнаруживает! Бытие для
нее есть смысл высказывания, и смысл высказывания есть для
нее бытие, основной же закон ее не есть закон синтеза, а
закон коинцидепции, или, что то же, закон мышления,
насколько оно есть мышление бытия, и закон бытия, насколько оно
есть бытие мышления. Основные диалектические моменты
этого закона суть полагание, противополагание, полагание
воедино или, лучше и точнее, — индифферентность,
дифференцирование, коинциденция. Момент коинциденции, то есть
этого единства неисчерпаемого первоисточника, которому
и Коген в своем принципе «первоисточника» (Ursprung) такое
дал сильное и ясное выражение, является при этом главным
и составляет «differentiam specificam»65* «Всеобщей логики»,
как по отношению к кантовской, так и по отношению к
гегелевской, да и всякой другой из существующих.
Коинциденция не есть выражение только привходящего к
объединяемому материалу синтеза, не интегрирование, не интеграл, ко
первоначальный принцип всякой интеграции, действующей до
всякого разделения и его обусловливающей, — он означает,
что ничто не может быть рассматриваемо как данное без
сведения или, по крайней мере, предусматриваемой сводимости
410
Система эстетических воззрений Наторпа
его к последнему основанию единства в корне своем
творческого принципа познания. Как бы поэтому в других
отношениях «Всеобщая логика» не отличалась от «логики чистого
познания», но принцип единства первоисточника, выраженный
Германом Когеном в термине «Ursprung» и всей его логике
придавший значение «Logik des Ursprungs», — этот принцип
остается общим им обоим, руководящим для Наторпа так же,
как и для всей нашей школы. Принцип этот составляет
вечную перед философией заслугу ее основателя и твердый
оплот нашей дальнейшей работы. То трансцендентное единство
первоначальности акта суждения (прежде всего, особого рода
отрицательного суждения, со времен Канта известного как
бесконечное суждение), единство творчества (Schöpfung) или
порождения (Erzeugung), о котором [Наторп] неустанно
говорит на протяжении всех своих произведений, оно и есть как
раз то, что Наторп понимает под своим верховным законом
коинциденции. Закон этот отнюдь ие выражает собой только
нечто первое отправное, но он служит к выражению сразу
и первого, и последнего — «перво-последнего»,
единственного; не «прежде и потом», не «откуда и куда», но «в центре»,
«внутри» (Mitten-darin), именно внутри акта, внутри дела
(Tat) самого логоса, «изнутри», из него самого (логоса) — вот
что означает этот закон. Все [эти] неточные, правда,
мимические выражения, достаточны, однако, для того, чтобы дать
понять, что речь идет не просто о начале, а именно о
первоисточнике, о принципе всякого познания и бытия, о том
безусловно первоначальном корне логоса, из которого все берет
свое начало, как из источника, как из родника, откуда все бьет
ключом, и даже самое это биение.
Во всей истории философии нельзя найти менее
отвлеченного, менее абстрактного, по крайней мере, по своему
замыслу, принципа. И только если не в нем самом, а в продуктах и
порождениях его в познании, в науке и культуре рассматривать
этот принцип — только тогда получает свое относительное
значение всякое «перед» и «после», «внутри» и «вне», то есть
всякая вообще абстракция. Здесь же, то есть в отношении
этого принципа в нем самом, в буквальном смысле будет иметь
силу изречение Гёте:
Nichts ist dnnnen, nichts ist draußen:
Denn was innen, das ist außen.m*
Часть II
411
Но раз уже начался анализ, разделение, тогда в качестве
путеводной звезды его, в качестве единящего центра, к которому
все, в конце концов, сходится и из которого все исходит, как
в своих продуктах лишь анализируемого, а по существу, все
собой направляющего начала, — во главу угла всего
неизбежно должен быть поставлен этот наторповский принцип коин-
циденции, из которого уже и будет следовать или, вернее,
проистекать потом и логический (в узком смысле) «prius»67* и
логическое «posterius»68', «откуда-куда», направление «вовне»
и «вперед» и, уже в качестве совсем последнего результата,
и логической абстракции, и синтеза, и анализа, и им
подготовляемой новой интеграции отдельно и изолированно
полагаемое, каждо-разное вот «это вот там и тогда-то», вот эта вот
вещь, вот это нечто, индифферентное в отношении всего
другого, просто только оно само: там, где и тогда, когда, что и как
оно есть, то есть самое что ни на есть пустое,
бессодержательное и бессвязное из всех способов фундаментального полага-
ния бытия в мышлении — последний внешний предел
анализа и чисто логически, в узком смысле объединения понятого
синтеза, — следовательно, не нечто в познании первое,
первоначальное, а, наоборот, последнее, производное, — то самое,
что составляет «каждо-разный предмет» исследования в
геометрии, механике, физике и т.д.. но что только такое условное
значение и имеет, и тотчас затемняет и искажает подлинное
существо и силу познания, когда незаконно с последнего
места, ему подобающего, пытается протиснуться на первое.
Тогда-то и наступает опасность бесплодного теоретизма и
невозможность понять и познать нечто первоначальное,
наполненное жизнью и дышащее биением в нем творческого начала,
каким всегда бывает всякое художественное восприятие
и творчество, всякий отдельный предмет или произведение
искусства, любое глубокое переживание религиозного
сознания и им соответствующие роды бытия.
Тогда и наступает опасность натурализации не только
этики, но и эстетики, и философии религии, и философии
истории, — водворяется бесплоднейшая из бесплодных
абстракций: философская схоластика новейшего времени во всех ее
разнообразных видах. Об обосновании философской
эстетики, как познания бытия особого рода, преисполненного
жизнью, одушевления, творчества, непосредственного значения
для чувства, не может быть тогда более и речи.
412
Система эстетических воззрений Наторпа
Но не так, к счастью и гордости нашей, обстоит дело в
философии Наторпа, в его, нет — в нашей, «Всеобщей логике»
с ее выше развитым основным законом или, вернее,
принципом «коинциденции». Сам представитель, творческий и
самостоятельный, глубочайшего из всех видов искусства —
музыки, Наторп хорошо понимал значение непосредственного,
нераздельного, целостного, первоначального в художественном
восприятии и творчестве, в самом логосе бытия того особого
рода сущего, которое зовется эстетически-прекрасным, и вся
его философия, весь метод и вся магистральная линия ее
развития были направлены не на игнорирование, а на решение
этой проблемы и ей подобных. Как никто другой понимал он
поэтому и требовал обоснования принципа возможности
познания непосредственного, творческим началом жизни
проникнутого бытия прекрасного, во всех его в бесконечную
глубь сущего уходящих измерениях!
Этому требованию и удовлетворял смысл его принципа или
закона коинциденции: подобно творческой силе все из себя
порождающего, ко всему остающегося близким и во всем
продолжающего присутствовать платоновского «блага», и его
принцип коинциденции есть выражение вечно порождающего
первоисточника, последнего родника жизни, который таков, что,
уже по самой природе своей, не перестает гнать из недр своих
все новые и новые «вечные струи» жизни и творчества,
изливаться в этих своих струях, давать, сам себя отдавая, дарить
жизнь всем и всему, щедро раздаривая себя в неисчерпаемом
своем богатстве, все увеличивающемся без конца.
И нельзя уже спрашивать, откуда все это, но это есть как
нечто, не подлежащее уже никакому вопросу, всякое
спрашивание, наоборот, собой предваряющее и обусловливающее,
ибо всякое спрашивание предполагает уже раздвоение на «да»
и «нет», на «бытие» и «небытие», само впервые
проистекающее из того перво-единства, о котором одном здесь только
и идет речь. Само же оно, это первоединство, не есть ведь, как
мы видели, только простая связь, самих по себе разобщенных
или хоть только могущих подлежать разобщению членов, но,
наоборот, все эти звенья находятся всецело в нем, в нем
только содержатся и из него только проистекают. Не что-нибудь
данное, или могущее быть данным, означает поэтому это «пер-
воединство», но только первоначальное отдавание, раздари-
вание себя всему, — то самое, что составляет также и подлин-
Часть II
413
ное существо творчества гения в искусстве и религии. И не
о каком-либо построении, конструировании, не о кладке
камня за камнем, идет здесь речь, — так, как если бы камни эти
были уже готовыми, и не о том также, чтобы, искупив
первоначальный грех отпадения от единого первоисточника,
только вернуться в него обратно по пути какой-то философской
аскезы или как иначе, но о том только и единственно идет
речь в этом принципе, чтобы, отправляясь от него и из него,
все далее продвигаться в творчестве и жизни к последней,
издали только предвещаемой и предвкушаемой, но всегда все
еще скрытой гармонии и единству всего, — то самое, о чем
и Пушкин говорит, восклицая: «Туда б, в заоблачную келью,
в соседство БоТа скрыться мне!..»69* Это первоначальное
«творческое в бытии» творит и здесь, на земле, в тех, кто
имеет в себе «признак Бога, вдохновенье»70*, оно творит в них,
то есть выражает то, что есть гармония, что есть прекрасное
и его единство во всем, и оно делает это не ради чего-нибудь,
но потому только, что само творчество, сама жизнь, само
бытие хороши в себе, то есть внутренно достойны того, чтобы
быть утверждаемыми, чтобы самим себе сказать вечное «да»,
все, решительно все творить, впрочем, везде эту гармонию. Все
до последней былинки, так как нигде нет мертвой,
нежизненной, нетворческой массы. Недаром и Пушкин поэтому, как
выразитель бытия прекрасного по преимуществу, сказал нам
с простой, ему только свойственной, неподражаемой
убедительностью:
В гармонии соперник мой
Был шум лесов, иль вихорь буйный,
Иль иволги напев живой,
[Иль ночью моря гул глухой,]
Иль шепот речки тихоструйной7**.
Но только тот мог так непосредственно выражать это, как
Пушкин, или так философски мыслить об этом, как Наторп,
кто для этого чистого утверждения всего мог взять себе
отправной пункт и черпать силы свои из чистой жизни
творческого акта бытия, из принципа его непрерывного порождения,
его, себя, все дальше и богаче манифестирующего «перво-
единства», потому что только в нем одном коренится та жизнь,
которая не признает никакой смерти, которая во всем, даже
414
Система эстетических воззрений Наторпа
самом временном, видит только «бессмертья, может быть,
залог»72*, всему говорит свое вечное «да», поглощающее в себе
всякое «нет», торжествующее над всякой смертью,
знаменующее вечную победу дела (Tat) над сделанным (Getanes),
возвышающееся над всякой судьбой или слепым роком.
Таков этот основной принцип всей философии Наторпа,
в ее новом аспекте, — в «троякой бесконечности индифферен-
ции, дифференцировании и коинциденции»73*,
обосновывающий полную, не абстрактную, но самую что ни на есть
жизненную и «конкретную Всеобщность логического», не только
извне охватывающую в себе всякий смысл и смысл всякого
смысла и даже не только заставляющую проистекать из себя
этот смысл, как уже готовый, но творчески, внутренно в себе
и из себя, из своего верховного принципа этот смысл
развивающую. Развитие этого смысла во всех направлениях и
составляет задачу «Всеобщей логики сущего», развитие же его
в специальном направлении познания и постижения сущего,
как прекрасного, составляет задачу той части ее, которая
носит название «философской эстетики». Но об этом, то есть [о]
системе эстетики Наторпа, мы скажем в другой раз74*. Здесь
же имелось в виду показать только возможность ее
обоснования из основного принципа философского познания, в корне
своем не абстрактного только и не аналитического, но
творчески конкретизирующего, синтезирующего, и именно потому
ко всей нераздельной целостности бытия эстетического
способного стать в непосредственную близость и им овладеть для
дачи о нем философского отчета, что и было бы искомым
решением проблемы эстетики.
Я позволю себе закончить этот, так затянувшийся, доклад
подлинными словами Наторпа: «Der Weg, den ich gehe — des
bin ich gewiß — ist nicht mein Weg, sondern der der Philosophie,
seit es solche gibt, und wird es bleiben, wäre es in Jahrbillionen,
wäre es in Sternenweiten, wann und wo immer es Philosophie
geben wird»75*.
Б. Фохт.
7 мая 1925 г.,
Москва
Комментарии
416
Комментарии
При публикации по всех работах использопались единые принципы
передачи авторских знаков. Все подчеркивания в авторском тексте здесь и далее
передаются курсивом, а при двойном подчеркивании — полужирным
курсивом; все слова, данные автором прописными буквами, обозначаются
полужирным шрифтом. Авторская русская орфография и пунктуация, в некоторых
случаях затрудняющая восприятие текста, исправлена с учетом современных
грамматических требований. В передаче немецких цитат сохранена
орфография источника. Все цитируемые фрагменты даются в авторском переводе.
Пропущенные слова и сокращенные названия даются публикатором
в тексте в квадратных скобках.
Все сноски, расположенные внизу страниц, — авторские. В тексте
цифрой со звездочкой обозначен соответствующий номер комментария.
ОБ ОСНОВНОЙ ИДЕЕ, СУЩЕСТВЕ И ГЛАВНЕЙШИХ МОМЕНТАХ
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА В ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ КАНТА
Полностью работа публикуется впервые (см. приложение к мопшрафии:
Дмитриева НА. Борис Александрович Фохт: к истории русского
неокантианства. — М.: Прометей, 1999. С. 56-98, где в сокращении напечатана
первая часть) и представляет собой рукопись доклада Б.А.Фохта под общим
названием «О трансцендентальном методе в теоретической философии Канта
и его отношении к методу психологическому», которому предпосланы
«Положения к докладу» на ту же тему 4преподавателя философии 1-го
Московского государственного университитета Б.А.Фохта». Доклад был
представлен для защиты на диспуте «в заседании Философского отделения
Историко-филологического Факультета 30-го Мая 1921 г.» при оппонентах проф.
Георгии Ивановиче Челпанопе и проф. Николас Дмитриевиче Виноградове
(pro venia legendi — на право чтения лекций и профессорское звание).
Общий объем рукописи — 73 страницы в восьмую долю листа, писанных
рукой автора, 37 из которых составляет первая часть и 25 страниц — вторая.
Рукопись содержит следы последующей авторской правки, ряд вставок
и особых пометок (подчеркиваний), которые учтены при публикации, а
также несколько нечитаемых слов. Название «Критика чистого разума»,
которым пользуется в ссылках автор, указывает немецкое издание: Kant /. Kritik
der reinen Vernunft. Hrsg. von K. Vorländer. — Halle, 1899, а название
•♦Prolegomena» — издание: Kant I. Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik,
die als Wissenschaft wird auftreten können. 4-te Aufl., hrsg. von K. Vorländer. —
Leipzig, 1905. В скобках автором указаны строфы «Критики чистого разума»
и «Пролегомсн» Канта, на которые разделен текст в немецких изданиях.
Номера страниц восстановлены публикатором по тем же изданиям. Сочинение
Г. Когена, кроме специально оговоренных случаев, цитируется по изданию:
Cohen И. Kants Theorie der Erfahrung. 2-te neul>earl)citetc Aufl. — Berlin, 1885.
''«Тот, кто осуждает Микеланджело, посрамляет лишь самого себя» {нем.).
Источник цитаты не установлен.
2V*Kairra недостаточно читать, а нужно в него углубляться": Lectio lecta
placet. Tlcciés repetita placcbit». — В таком варианте без ссылки на автора
Комментарии
417
Фохт приводит эту цитату в предисловии к своему переводу сочинения
И. Шульца «Разъясняющее изложение "Критики чистого разума":
Руководство для чтения». (Персв. со 2-го нем» изд. 1897 г. М., 1910. Kantiana.
Сер. руководств к изуч. философии Канта; Вып. 2.) Первоисточник пита*
ты не установлен.
v Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 595,222. — Б.Ф. «Природу мы
узнаем только через естествознание» (нем.). В эпиграфе цитата дана в
сокращении.
^Görland Л. Aristoteles und Kant [bezüglich der Idee der theoretischen
Erkenntnis. — Giessen: Töpplmaun, 1909. (Philosophische Arbeiten; Bd. 2. H.
2)J. Vorrede. — Б.Ф. «Итак, бытие паучного произведения есть условие
бытия науки» (нем.). Страница не уточнена, поскольку эта работа 1ерлап-
да труднодоступна.
у Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 78. — Б.Ф. «Таким образом,
Лейбниц вызревает из очищенного Юма, а Канта поддерживает Ньютон»
(нем.).
ъ'Вундт (Wundt), Вильгельм (1832-1920) — известный немецкий
психофизиолог, этнограф и философ. Создал первую η мире психологическую
лабораторию, которая стала международным цен^ро^
психологии. В своем философском учении исходит из разделения
познания на три ступени: непосредственное восприятие, рассудочное познание
(область специальных наук) и разумное познание (философия). В
философии как третьей и высшей ступени познания снимается дуализм
естественнонаучных и психологических методов, свойственный области
частных иаук. Метафизика объединяет в себе идеализм и материализм,
рассматривая бытие как систему духовных существ, наделенных волей,
а материальный мир — как внешнее условие духовной активности.
(Подробнее см.: Вупдт В. Система философии. Поли, перев. с 2-го нем. изд.
Г.А. Котляра. - М., 1902.)
гПаульсен (Paulsen), Фридрих (1846-1908) — немецкий философ и
педагог, автор работ по истории философии, зтике, педагогике. Вслед за Р. Лот-
це, Э. Гартманом и В. Вуидтом пытался возродить философию как
метафизику, как общую теорию действительности, как всеобъемлющую,
синтетическую и универсальную систему знания о мире, как науку наук. (См.
подробнее: Паульсен Ф. Введение в философию. Перев. под ред. В.П»
Преображенского. 4-е изд. — М.: Изд*во Моск. псих, о-ва, 1914.)
**Кюльпе (Külpe), Освальд (1862-1915) — немецкий философ и психолог,
один из основоположников «критического реализма», основатель вац-
бургской школы в психологии. Считал, что научное познание возможно
благодаря использованию категорий, которые являются одновреме!ι но
и формами самого бытия и^орК|амУГмышлсния. Мышление
высвобождает предмет из его субъёкт11В1Ю-чувствен11ой"оболочки и далее
обращается с ним как с объектом, независимым от сознания. Так, реальный
предает и мысль о нем совпадают только частично, мысль выходит за свои
(собственные пределы в трансцендентное бытие. (См. подробнее: Кюль-
*~пе О. Введение в философию. Перев. с 2-го нем. изд. С. Штейнберга
418
Комментарии
и А. Водена. СПб., 1901; он же. Современная философия в Германии.
Характеристика ее главных направлений. Псрев. с нем. Лемберка. М.: Изд.
кн. скл. Д.П. Ефимова, 1903.)
г Вундт реагирует таким образом на изменение роли и задачи философии
» XIX веке по сравнению с ее исторически сложившимся положением
основной науки, из которой отпочковывались науки специальные. Теперь
«...ввиду того, что все отдельные науки постепенно отдалились от нее
[философии] и стали самостоятельными, возникла потребность, — считает
Вундт, — в одной общей науке, которая должна ставить себе такие задачи,
которые, именно в следствие их общности, не могут иметь места ни в
одной нз этих отдельных наук». (Вундт В. Введение в философию. Поли,
нерев. со 2-го нем. изд. ГА. Котляра под ред. кн. С.Н. Трубецкого. М.: Т-во
Мамонтова, 1902. С. 16.) Как психолог Вундт приближается здесь к
позитивизму.
п)* Коген (Cohen), Герман (1842-1918) — знаменитый немецкий философ,
глава марбургской школы неокантианства. Автор большого числа работ,
в том числе двух трилогий, заложивших основу учения этой
философской школы. Каждое их сочинений первой трилогии посвящено анализу
и интерпретации соответствующей «Критики» Канта («Kants Theorie der
Erfahrung», 1871, «Kants Begründung der Ethik», 1877, «Kants Begründung
der Aesthetik>, 1889). Здесь Коген столкнулся с целым рядом «догмати-
[ ческих остатков» в кантовской системе, которые необходимо должны бы-
I ли быть преодолены с помощью последовательного применения транс-
; цендентального метода. В 1883 г. Коген пишет работу «Das Princip der
^Infinitesimal-Methode und seine Geschichte», в которой свою мысль об
«имманентности» бытия сознанию стремится утвердить в математическом
понятии бесконечно малого, отождествляя его с логическим понятием
первоначала и объясняя с его помощью существование движения. Вторая
трилогия представляет собственную философскую систему Когена,
изложенную параллельно каитовским «Критикам» («Logik der reinen Ег-
kenntis», 1902, «Ethik des reinen Willens», 1904, «Aesthetik des reinen
Gefühls», 1912), в которой окончательно оформляется панлогизм н мето-
дологизм его мысли, а также обосновывается ценность научного знания
как вечной проблемы.
%ГШтадлер (Stadler), Август (1850-1910) — немецкий
философ-неокантианец, ученик Германа Когена, был персонально рекомендован иоследне-
му Фридрихом Ланге. Известен работами по проблемам кантовской
телеологии, гносеологии и логики, в том числе — «Die Grundsätze der reinen
Erkenntnistheorie in der kantischen Philosophie. Kritische Darstellung»
(1876) («Основные положения чистой теории познания в кантовской
философии. Критическое изложение»).
]2'Наторп (Natorp), Пауль (1854-1924) — знаменитый теоретик марбургской
школы неокантианства, коллега и друг Г. Когена. О его философских
взглядах и принципах см., например: Натарп П. Кант и Марбургская школа
//Новые идеи в философии. Непериодическое издание под ред. Н.О. Лос-
ского и ЭЛ. Радлова. Сб. J& 5. СПб.: Образование, 1913. С. 93-132, а
также работы о нем Б.А. Фохта в настоящем издании.
Комментарии
419
п* Риль (Riehl), Алоиз (1844-1924) — немецкий философ, представитель
реалистического направления в неокантианстве, один из основателей
«критического (или трансцендентального) реализма». Риль считает
ошибочным любое противопоставление философии науке («философия жизни»)
и наук о природе наукам о духе (ёаденское неокантианство). В отличие
от марбургских неокантианцев он признает существование реальных
вещей, которые составляют основу нашего знания, дают опыту человека
содержание и образуют материал его знания и действия. Философию Риль
понимает как «познание сущего» и одновременно «познание должного».
(См. подробнее: Риль Л. Введение в современную философию. Персп.
с нем. Г.А. Котляра. М.: Д.П. Ефимов, 1903; он же. Теория науки и
метафизика с точки зрения философского критицизма. Перев. с нем, Е.Кор-
ша. M.: К.Т. Солдатенков, 1887.)
и* Дословно: «Со времен Канта под метафизикой вообще нельзя понимать
ничего другого, кроме как проблему возможности научного опыта» (см.
сноску 129 в тексте).
i5*Kaccupep (Cassirer), Эрнст (1874-1945) — один из наиболее известных
немецких философов первой пловины XX века, ученик Г. Когена и П. Натор-
па, представитель второго поколения нсокантаицев марбургской школы.
О нюансах эволюции неокантианских идей в философии Кассирера см.
комментарии Ю.А. Муравьева к работе Кассирера «Опыт о человеке» в кн.:
Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарика, 1998. С. 710-722.
xb*Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 186-187 (195-197); Prolegomena. S.
81 (319).
i7*Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Vorrede zur 2-ten Aufl. S. 19 (XIV).
,н* «Об очевидности в метафизических науках». — Работы Канта с таким
названием иет. Фохт имеет в виду его конкурсное сочинение «Untersuchung
über der Deutlichkeit der Grundsätze der Natürlichen Theologie und der
Moral» (1763) — «Исследование отчетливости принципов естественной
теологии и морали», — написанное на предложенную Берлинской
академией тему: «Способны ли метафизические науки к такой же
очевидности, как и математические?» Работа Канта получила вторую премию
и в 1764 г. была напечатана в одном томе с награжденным первой
премией «Трактатом об очевидности...» Мозеса Мендельсона.
,9* «Физическая монадология» (1756).
20*«Опыт введения в философию понятия отрицательных величин» (1763).
21 Хм.: Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 55,68-69.
^Хвои принципы, или начала, как известно, Ньютон устанавливает на
основе опыта или эксперимента путем индукции, обобщает с помощью
наведения и после этого излагает, каким образом свойства и действия всех
тел, например, небесных, вытекают из этих начал. (См.: Ньютон И.
Оптика. М.-Л., 1927. С. 314; он же. Математические начала натуральной
философии // Крылов AM. Сборник трудов. Т. VII. М.—Л.: Изд-во Академии
наук СССР. 1936. С. 662.)
420
Комментарии
2,*См/. Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 14-15.
WKantL Kritik der reinen Vernunft. S. 18-19 (XII, XIII).
^Ibid.S. 22 (XVIII).
2(i*Cp.: «Философия написана в величественной книге (я имею в виду
Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может
лишь тот, кто сначала научится постигать ее язык и толковать знаки,
которыми она написана. Написана же она на языке математики...»
(Галилей Г. Пробирных дел мастер. Перев. Ю.А. Данилова. М.: Наука, 1987. С.
41); тот же фрагмент в сокращении цитирует Коген: «Galilei sagt: "Im
Buche der Natur ist die Philosophie mit mathematischen Charakteren
geschrieben V (Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 416.)
2rKant /. Kritik der reinen Vernunft. S. 52 (14).
2К#См.: Кант И. Критика чистого разума. Введение. VII. С. 120.
29*«Изменчивый опыт; опыт — матерь наук».
жКаМ I. Kritik der reinen Vernunft. S. 18 (XII).
3,4bid. S. 56 (20).
:i2*Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 18 (XII).
:ö*Cm.: Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 102 (79-80).
***Ibid.S. 106-107(86).
™'Kant I. Prolegomena. § 36, s. 82 (320).
™'Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 266 (303).
"4bid. S. 23 (XVIII).
ж Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 109 (90).
™4bid.
^«Tathandlung/. — бувк. дело-действие: первоначальный действенный акт,
мыслимый как основа всего сознания, как некоторое абсолютное и
необходимое полаганис Я. На этом первоначальном акте базируется и в нем
коренится как всякое бытие (понимаемое здесь как деятельность), так и его
познание (Фихте, Мюнстерберг, Эйкен и др.)». (Фохт Б А.
Немецко-русский словарь философских терминов. 1937. Рукопись. Архив A.A. Гаревой).
^KantL Kritik der reinen Vernunft. S. 135 (125).
«'Ibid. S. 138(128).
n'Kant I. Prolegomena. § 36, s. 82 (320).
мХм.: Kant. Kritik der reinen Vernunft. S. 140 (131).
«· Ibid. S. 144(137).
46* Вероятно, Фохт здесь полемизирует с Фихте и Гегелем, учения которых
значительно повлияли на формирование неокантианской философии.
Комментарии
421
в то время как сами представители этого течения старались обращаться
в своих построениях непосредственно к учению Канта. Между тем даже
современники зачастую называли ту или иную разновидность
неокантианства «неофихтеаиством» (баденскую школу) или «неогегельянством»
(марбургскую и!Колу).
'"'«Вообще говоря, всякая непрерывность есть нечто идеальное», «...то
обстоятельство, что все управляется разумом, и что иначе не было бы ни
науки, ни правила, вовсе не соответствует природе главнейшего принципа»
(φρ.). (Leibniz G.W. Mathematische Schriften. Erste Abth. Bd. IV. S. 89.)
48*0 двух родах истин см.: Leibniz G.W. Philosophische Schriften. Bd. 6.
Nouveaux essais sur l'entendement humain. Brl.: Akademie-Verlag, 1962. S. 361.
19# «Связь явлений». (Ibid. S. 374.) Ср.: «Истинным критерием по
отношению к чувственным предметам я считаю связь явлении... А связь явлений,
гарантирующая фактические истины относительно чувственных вещей
вие нас, проверяется при помощи рациональных истин». (Лейбниц Г.В.
Новые опыты о человеческом разуме. М.-Л., 1936. С. 329-330.)
■^См.: Лейбниц. Указ. соч. С. 394-395»
51*«0 форме и принципах чувственно воспринимаемого и
интеллигибельного мира». См. подробнее об этом сочинении Канта работу
неокантианского периода Э. Кассирера: Жизнь и учение Канта. СПб.:
Университетская книга. 1997. С. 83-102.
5Г «Вечный разум». (Leibniz. S. 415.)
53· фриз (Fries), Якоб Фридерик (1773-1843) — немецкий
философ-кантианец, основатель так называемого геттингенского направления в псокан-
тианстве, разрабатывал психологическую трактовку учения Канта
в ущерб трансцендеталыюму методу.
5i*Meuep (Meyer), Йорген Бона (1829-1897) — последователь Я. Фриза,
автор «Kants Psychologie» (Berlin, 1870).
^Лыппс (üpps), Теодор (1851-1914) — немецкий философ, психолог и
эстетик, работал в Мюнхенском университете, примыкал к
неокантианскому движению.
^Корнелиус (Cornelius), Ганс (1863-1947) — немецкий философ,
последователь психологической линии в неокантианстве. (См. подробнее: Корне-
лиус Г. Введение в философию. Перев. с нем. ГА. Котляра. Москва, 1905.)
57* Поиску ответов на эти вопросы посвящена первая книга «Новых опытов
о человеческом разуме» Лейбница — «О врожденных понятиях». См.
особенно: с. 80-81.
™Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. HO (90-91).
59* А. Риль, в свою очередь, в понимании этой проблемы приближался к
позитивизму, признавая метафизический метод и в то же время отвергая
классическую спекулятивную метафизику в пользу «научной» — в кан-
товском понимании — философии. См. также примеч. 13*.
422
Комментарии
м· См.: Kant L Kritik der reinen Vernunft. S. 138 (128).
61Xm.: Cohen tf. Kants Theorie der Erfahrung. 2-tc Aufl. S. 1885. S. 77,134.
«2-Ibid. S. 134,254.
™*Kant L Kritik der reinen Vernunft. S. 160 (159).
^ Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. S. 77.
654bid.S.29-30.
^"B истории развития неокантианского движения laue Фаихишер (Vaihin-
ger) (1852-1933) стоит отчасти особняком. Основатель Кантовского
общества (1904) и журнала «Kant-Studien» (1896), он разработал
собственное направление, получившее название «фикционализма». Основные
понятия различных областей знания — от физики до социологии — он
объявил «фикциями», то есть психическими образами, объекты которых
реальны als ob («как если бы»). Они имеют лишь практическое значение
для ориентировки в мире, но не теоретическое, поскольку ничего общего
не имеют с предметами объективного мира и их отношениями.
ь1*Берингер (Bohringer), Адольф — немецкий ученый, близкий марбургско-
му неокантианству. Автор критико-аналитических работ по философии
Канта: «Идеализм кантовской теории познания», «Монизм кантовской
теории познания. Руководство к изучению "Критики чистого разума*'».
О Штадлере см. примеч. 1Г.
^"«Проблема познания в философии и науке Нового времени» (в 2-х т.).
Здесь Кассирер «стилизует» учения великих философов, начиная с
эпохи Возрождения, как предысторию марбургского трансенденталыюго
идеализма, для рассмотрения которой виртуозно применяет
исторический и систематичский методы.
69*Ср.: «Их [наук] знание не врождено, но врождеио то, что можно назвать
виртуальным знанием... Истины — не мысли, а естественные или
приобретенные склонности и предрасположения... Врожденные принципы
обнаруживаются лишь благодаря уделяемому им вниманию...» (Лейбниц.
Указ. соч. С. 80-81.)
70*См. об этом последний абзац первой части настоящей работы.
7Г«...Мы узнаем врожденные идеи и истины, либо обращая внимание на их
источник, либо проверяя их с помощью опыта. ...И я не могу признать
также, будто все, что мы узнаем, не врождено». (См.: Лейбниц. Указ. соч.
С. 79.)
•т^См. примеч. 5Г к настоящей работе. С лат.: (§15) «[понятия] прождены
или приобретены»... «и врожденным здесь будет только закон духа», (§4)
о «неизменных и врожденных законах».
7:гСр.: ЛоккДж. Сочинения. В 3-х т. Т. 1. Опыт о человеческом разумении.
С. 91-92: «...моей целью является исследование происхождения,
достоверности и объема человеческого познания. ...Я исследую происхождение
тех идей, или понятий (как вам будет угодно называть их), которые че-
Комментарии
423
ловек замечает и сознает наличествующими в своей душе, а затем те
пути, через которые разум получаст их»; см. также: Кн. 2. Гл. 1. Об идеях
вообще и их происхождении (С. 154 — 168).
"'Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 68 (34).
75"Kant I. Kleine logisch-metaphysische Schriften. Hrsg. Von KRosenkranz: XII.
Über eine Entdeckung. S. 444 f.
7в*Кэрд (Caird), Эдвард (1835-1908) — профессор философии морали в
университетах Глазго и Оксфорда, один из лидеров неогегельянского
движения в Великобритании. Автор работ.по проблемам философии морали
и религии, а также двухтомного труда «The critical philosophy of I. Kant».
(2 vol. Glasgow, 1889.654 a. 660 p.) и сочинения «A critical account of the
philosophy of Kant. With a historical intriduction» (Glasgow: Maclehose,
1877. XX, 673 p.).
ΊΊΛΚαηί I. Kritik der reinen Vernunft. S. 68-69 (35-36).
78* VaihingèrH. Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Bd. 1. S. 437.
79*См. об этом прим. 22*.
тВиндельбанд (Windclband), Вильгельм (1848-915) — немецкий философ,
глава баденской школы неокантианства. Задача философии, по Виндель-
баиду, состоит в классификации научных суждений и методов
исследования. Согласно двум типам суждений: абстрактно-логическому и
оценочному, методы делятся на номотетический (законоустанавливающий)
и идиографический (описывающий особенное), а науки — на науки о
природе и исторические науки. Проблеме различения норм и законов
посвящен очерк «Критический или генетический метод?» (см.: Виндельбанд В.
Избранное. Дух и история. М.: Юрист, 1995. С. 209-231).
О ПРЕКРАСНОМ КАК ПРЕДМЕТЕ ИСКУССТВА И ОСНОВНЫХ
ЧЕРТАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
Работа «О прекрасном как предмете искусства в учениях представителей
Марбургской школы философии Когена, Наторпа, Кинкеля и отчасти Кас-
сирсра и об основных чертах художественного творчества, нреднамечаеммх
этими учениями» сохранилась в архиве А.А Гаревой в трех редакциях. Это
объясняется тем, что с докладом подобного содержания Фохт выступал, как
минимум, трижды: 1 и 9 апреля 1924 года на заседаниях философской
секции Российское (затем Государственной) академии художественных лаук
в ознаменование 70-летня со дня рождения npo(f)eccopa философии Мар-
бургского университета Пауля Наторпа (можно предположить, что
выступление было разнесено на два дня, поскольку рукопись и машинописный
вариант не тождествены по размеру и содержанию — машинопись объемнее
и заключает в себе содержание рукописного текста, однако датирована 1
апреля, а рукопись — 9-м), и третий раз этот доклад — в сокращении (как
изложение, почти дословное, второй части основного текста) — под
названием «О некоторых основных чертах художественного творчества» прозвучал
в Доме ученых в 1927 году.
424
Комментарии
В основу публикации положен машинописный текст (1924 г.), который
представляет собой [3+J52 страницы в восьмую долю листа со значительным
количеством авторских пометок синим карандашом н красными чернилами.
и«Вступительное слово» было переведено на немецкий язык и отослало
в Марбург Паулю Наториу. Оно сохранилось в архиве его внучки
Маргарет Трост )i было напечатано в кн.: Fleishman L·, Harder Н.-В., DorzweilerS.
Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты
и заметки Бориса Пастернака. Т. II. Stanford: Department of Slavic
Languages and Litratures, Stanford University, 1996. C. 388-391. «Слово»
датировано 28 мая 1924 г. и подписано Б. Фохтом, Г. Гордоном, М.
Каганом, А. Саккетти, Б. Пастернаком и М. Горбунковым. Здесь же было
опубликовано (С. 392-393) менее официальное письмо из архива Трост за то
же число с подписями Б. Фохта, А. Кубицкого, Г. Гордона, М. Кагана,
А. Саккетти, Б. Пастернака, М. Поливанова, А. Топоркова, Н. Вильяма,
Якобсона, И. Левина, А. Соловьевой и М. Горбункова. Русскоязычный
вариант этого текста находится в личном архиве A.A. Гаревой. В частности,
в нем говорится: «Зная, что Ваша научная работа была всегда для Вас
живым совместным творчеством с Вашими более молодыми друзьями и
учениками, среди которых Вы всегда умели остаться самым молодым и
вдохновенным, зная это, мы уверены, что и наш слабый голос благодарности
и признания найдет доступ к Вашему сердцу и вызовет в нем чистое,
истинно платоновское чувство любви и дружбы, которое своим принципом
имеет "рождение детей красоты душевной** и составляет лучшее и
кратчайшее звено связи между Вами и нами — тот "святой залог", на котором
зиждется единство нашей школы, во главе которой, после кончины
Германа Когска, Вы теперь стоите не только как ее новый, всеми
безгранично любимый и чтимый, схоларх, но и как его верный друг, которому в
известных словах он сам передал руководство школой [,..] Пройдут годы,
пройдут десятилетия, и в Ваших и наших учениках псе будет жить дух
свободного исследования философской школы, Германом Когеном и
Вами основанной в маленьком н дорогом Марбурге, но успевшей уже стать
с тех пор фактором мировой культуры, которому суждено со всей силой
участвовать в той великой организации человечества, на торжествующе
развевающемся знамени которого будут красоваться знаменательные
слова "об уверенности в торжестве истицы и свободы", из светлой мечты и
надежды успевшей стать свершившимся фактом».
2*И. Наторп родился 24 января 1854 года.
гСр.: «Пределов души не отыщешь, по какому пути не иди, — так глубок
ее Разум». (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях
знаменитых философов / АН СССР, Ин-т философии; Общ. ред. и вступит,
статья А.Ф. Лосева. М.: Мысль, 1979. С. 361.)
**Natorp Р. Seibstdarstcilung//Die deutsche Philosophie der Gegenwart. 1921.
S. 157. См. об этом также 4-ю главу «Третье измерение логического» в
посмертно изданном сочинении «Философская систематика»: Natorp Ρ,
Philosophische Systematik. Hamburg: Meiner, 1958. S. 383-408.
5*Cm.: Cohen И. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. I. Brl., 1912. S. 243-244.
Комментарии
42S
^ Cohen К Logik der reinen Erkenntnis*. — Brl., 1902, S. 231,24&
r «Сущность* ne «включает*, по синтетически связывает с собою в
познании «существование* (лат,).
** Пушкин A.C. Пир во время чумы.
^Старинная французская песенка. Перев. МИ. Чайковского. (см>
либретто к онере «Орлеанская дева» П.И. Чайковского).
ш*То же.
п#Ср.: «..л считаю: чем поэтическое произведение несуразнее и
непостижимее для разума» тем оно лучше». (Эккерман И.-Н. Разговоры с 1ете /
Перев. с нем. Н. Man. M.: Художественная литература* 1981. С. 534».)
|2*Термин «вчувствование» (Einfülung) взят из эстетики ТЛитшеа и нредг
ставляет ее основной принцип, который Липпс определил как
«объективированное самочувствие». См.: Lipps Th. Zut Einfülung. Leipzig; 1913,
а также примеч. 63* к работе «Об основной идее...».
,:г Название первой части «Критики способности суждения» И. Канта:
«Kritik der ästhetischen Urteilskraft».
^GoetheJ.W. Faust. Teil II. Akt 4. Chorus »ysticus (12106-12107> Ср.: «Цель
бесконечная здесь в достиженье». (Перев. Б. Пастернака;)
|5#«...дано царить...» (Перев. с греч. М.Л. Гаспарова). См.: Пиндар Вакхшшд:
Оды, фрагменты. М.: Наука, 1980. С. 144 (1с; 5); Pindan. Carmina. et
fragmenta. Ncmea. Carmin VIIL (5/8).
,ß*Schiller F. Das Ideal and das Leben («Идеал и жизнь»).
174bid. Ср.:
Лишь над телом властвуют жестоко
Силы гибельного рока.
Но, с косой Сатурна незнаком.
Однодомен духом совершенных,
Первообраз там, в кругах блаженных,
Меж богов сияет божеством.
(Перев. В. Левика)
,8*См. приме«!. 66* к работе «Об основной идее...».
,9'Пушкин A.C. Герой.
20* «Мыслить и быть одно и то же» (греч.). (См.: Парменид. В. Фрагменты»
О природе. 3 // Фрагменты ранних греческих философов. Часть I.
Москва: Наука, 1989. С. 287.)
2I"GoetheJ.W. Faust Teil I. (86-88). Ср.:
Соедините только в каждой роли
Воображенье, чувство, ум и страсть
И юмора достаточную долю.
(Перев. Б. Пастернака)
426
Комментарии
я* Goethe J.W. Faust. Teil I. Marthens Garten. (3442). Ср.: «Или над нами
неба нет...» (Перев. с нем. Б. Пастернака.)
»•Ibid. (3451-3456). Ср.:
...Почуистиуй па ее свету
Существованья полноту
И это назови потом
Любовью, счастьем, божеством.
Нет подходящих соответствий,
И нет достаточных имен,
Все дело в чувстве...
"•Ibid. (3457-3458). Ср.:
...а названье
Лишь дым, которым блеск сиянья
Без надобности затемнен.
25"См.: Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 2. М.: Мысль, 1993.
С. 353-354.
26* «Всегда изменчивое постоянно остающееся»... «Это прекрасное понятие...
свободы и предела, подвижного порядка, преимущества и недостатка
пусть весьма обрадует тебя... (нем.) См. Goethe. ΑΘΡΟΙΣΜΟΣ (Из
сочинения «Zur Morphologie. Bd. 1. Erste Entwurf. Einer allgemeinen Einleitung
in die vergleichende Anatomie, ausgehend von der Osteologies. Jena, 1795).
21" «Истинно сущее» (греч.).
2B* «Небытие» (греч.).
ъг «Изменив то, что следует изменить» (лат.).
:,0*«О несуществующем, или о природе» (греч.).
ЛГ Соловьев ß. С. «В тумане утреннем неверными шагами...»
7,14 Пушкин A.C. Вакхическая песня.
'^Пушкин A.C. Стансы («В надежде славы и добра...»). Фохт неточно
цитирует первую строчку.
■Ή*Φοχτ ошибочно приписывает эти стихи Лермонтову. На самом леле они
были написаны М.Л. Михайловым в альбом Л.П. Щслгуновой.
•^ Лермонтов MJO. Молитва. Фохт вольно цитирует второе четверостишие.
Ср.:
Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.
ж Пушкин A.C. Возрождение.
л1* Пушкин A.C. Из Пнндемонтн. Фохт неточно цитирует предпоследнюю
строчку. Следует читать: «...Трепеща радостно η вострогах умиленья...»
Комментарии
427
'^См.: Брандес Г. Собрание сочинений в 20-ти т. Перев. с дат. М.В. Лучиц-
кой. Т. XIX. Россия. Наблюдения и размышления.Литературные
впечатления. СПб.: Просвещение, б.г. С. 140,143,148,152.
:id'Mötike Ed. Auf eine Lampe («Лампа»). Ср.:
...но прекрасному
Довольно для блаженства красоты его.
(Перев. С. Ошерова)
wПушкин A.C. Бахчисарайский фонтан.
лг Пушкин A.C. Разговор книгопродавца с поэтом.
*2* Соловьев B.C. На смерть Я.П. Полонского.
43*См.: Гильдебрапд А. Проблема формы в изобразительном искусстве и
собрание статей о Гансе фон Море. — М: Изд-во МПИ, 1991. С. 21.
44*См. примеч. 3* к настоящей работе.
45* Пушкин A.C. Руслан и Людмила.
46* Подробнее об этом см.: Фохт Б А. О философском значении лирики
Пушкина. Предмсл. к публикации A.A. Гаревой // Вопросы философии. М.
1997. №11. С. 142.
47* Название сочинения Э. Гуссерля. См.: Гуссерль Э. Философия как строгая
наука. Новочеркасск: Агентство «Сагуна», 1994. С. 127-174.
M'Goethe.faust. Teil IL Akt 4. Chorus mysticus (12104-12107). Ср.: «Все
быстротечное — Символ, сравненье. Цель бесконечная Здесь — в
достиженье». (Перев. Б. Пастернака.)
49*Фсшя Б.А. О философском значении лирики Пушкина // Вопросы
философии. 1997. № И. С. 137-138.
™* Пушкин A.C. Разговор книгопродавца с поэтом.
и*То же.
5Г Пушкин A.C. Возрождение.
5:ί*Пушкин A.C. Разговор книгопродавца с поэтом. Стихи «С кем поделюсь
я вдохновеньем? ... Там, там...» приводятся Фохтом по ранней редакции.
5ГПушкин A.C. К моей чернильнице.
55,9Пушкин A.C. Евгений Онегин. Глава шестая. XLVI.
•w·Пушкин A.C. Разговор книгопродавца с поэтом.
57*То же.
™* Пушкин A.C. К моей чернильнице.
Л!>*То же. Стихи «Любовница свободы... И речи и дела» приводятся по
ранней редакции.
™*Schiller Ε Hoffnung. («Надежда»). Ср.:
ш
Комментарии
Надеются люди, мечтают весь век
Судьбу покорить роковую,
И хочет поставить себе человек
Цель счастия — цель золотую.
За днями несчастий дни счастья идут,
А люди все лучшего, лучшего ждут.
Нет, нет! Не пустым, не безумным мечтам
Мы дух предаем с колыбели,
Не даром* твердит сердце вещее нам:
Для высшей мы созданы цели!
Что внутренний голос нам внятно твердит,
То нам неизменной судьбою горит.
(Перев. А. Фета).
О ПОСТАНОВКЕ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ У КАНТА
И У КОГЕНА В СВЯЗИ С КРИТИКОЙ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ
И ПРИНЦИПОВ, ПРИМЕНЕННЫХ КАНТОМ К ЕЕ РЕШЕНИЮ
Работа «О постановке основной проблемы эстетики у Канта и у Когена
в связи с критикой основных понятий и принципов, примененных Кантом
к се решению» была написана как доклад для выступления в философской
секции ΡΑΧΗ (потом — ГАХН) на двух заседаниях 13 и 17 (20?) июня 1924 г.,
посвященных 200-летию со дня рождения Иммануила Канта. Б личном
архиве A.A. Гаревой находится рукопись этого доклада и его машинописная
копия с последующей авторской правкой. Оба варианта датированы 10 июня
1924 г. Публикатору в ходе расшифровки и набора текстов пришлось
прибегать к их соспоставлснию, что оказалось необходимым из-за «слепого»
и местами путаного машинописного набора или же «нечитаемости»
отдельных фрагментов рукописи. Ссылки на страницы «Критики способности
суждения» даны по изданиям: Кант И. Критика способности суждения. М.:
Наука, 2001; Kant I. Kritik der Urteibkraft. Hrsg. von K. Vorländer. 3. Aufl. Lpz.:
Verlag der Dürr'schen Buchhandlung, 1902. Сочинение Г Когена «Эстетика
чистого чувства» цитируется по изданию: Cohen Η. System der Philosophie. 3.
Teil. Ästhetik des reinen Gefühls. 2 Bd. Berlin: Bruno Cassirer, 1912.
r Такое название вынесено автором на титульный лист и рукописи, и
машинописи. Непосредственно перед началом текста доклада значится
другое название: «Критика основных принципов эстетики Канта у
главнейших представителей неокантианского направления в развитии
современной философии».
2* Вторая цифра вписана, видимо, позднее, причем если в рукописи
значится 17 июня, то в машинописи — 20-е.
у Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 22 (XVIII).
* Шиллер Φ. Собр. соч. в 7 томах. Под ред. H.H. Внльмопта и P.M.
Самарина. Т. 1. М., Гос. изд-во худ. литература, 1955: С. 280.
Комментарии
429
4* Данный фрагмент не содержится в основном тексте доклада, но
приводится в качестве первого — и единственного — тезиса к этому докладу.
5* За время работы над текстом доклада акценты сместились, так что
первую часть логичнее было бы назвать «Иммануил Кант», оставив данный
подзаголовок.
6* У Г. Когена критике кантовской эстетики посвящена работа «Kants
Begründung der Ästhetik». — Berlin, 1889, а собственная эстетическая
теория, выросшая из принципов Канта и на критике этих принципов,
разработана в книге «Ästhetik des reinen Gefühls». 2 Bd. Berlin, 1912.
т «Злобного марбуржца» {нем.).
к* От нем. «prästahilieren» — предопределять, заранее устанавливать.
Использовано Лейбницем для объяснения всеобщей взаимосвязи и
согласованности в мире (учение о «предустановленной гармонии»).
9* Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 73.
I0* Сочинения Германа Когена, составившие трилогию под общим
названием «System der Philosophie». Подробнее см. прим. 10* к работе «Об
основной идее...».
м* Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 1: Мснон. С. 597 (86e-87b). См.
об этом также: Cohen H. Kants Theorie der Erfhrung. 2. Aufl. S. 14-15; Logik
der reinen Erkenntnis. S. 6-7; Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 22,73-74,
243.
,2* См. об'этом: Кант И. Критика чистого разума. М.: Мысль, 1994. С. 14,251.
"" «Wir selbst». См.: Kantl. Kritik der reinen Vernunft. S. 22 (XVIII).
M' Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 76-77.
■5Ф Ibid. S- 69.
,6* Фохт использует классификацию наук, данную бадеискими
неокантианцами и В. Дильтеем. См. об этом, например: Windelband W.
Geschichtswissenschaft und Naturwissenschaft. 3. Aufl., 1904; Риккерт Г.
Философия жизни: Псрсв. с нем. К.: Ника-Центр, 1998, а также прим. 80* к
тексту «Об основной идее...».
,7* См.: Natorp Р. Die Ethika des Demokritos. Marburg, 1893; Jemand und Ich.
Ein Gespräch über Monismus, Ethik und Christentum. Stuttgart, 1906; атак-
жс: Stammler R. Die Lehre von dem richtigen Richte. Berlin, 1902; Recht-
sphilosophischc Abhandlungen und Vortrage. 2 Bd. Charlottenburg, Î&25.
I8* Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 70.
,î)# Kant I. Kritik der Urteilskraft. S. 169-184 (181-203).
2l)· Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 71.
21 · «Беспрсдпосылочное начало» (греч.). См.: Платон. Собрание сочинений
в 4-х т. Т. 3: Государство. Кн. 6. С. 292 (510Ь).
п* Kant I. Kritik der reinen Vernunft. S. 258 (294-295).
43*
Комментарии
Zi* См.: Kaum И. Критика способности суждения. С. 39.
2А* Шефтсбери (Shaftesbury), Антоны Эшли Купер (1671-1713) —
английским философ-моралист, эстетик, ученик Локка, представитель раннего
Просвещения. Используя неоплатонические образы, представлял космос
вечно творящим и творимым, в первоисточнике которого соединились
истинное, благое и прекрасное, и утверждал эстетический характер
нравственного совершенства, неразрывное единство красоты и нравственности.
2S* Баумгартен (Baumgarten), Александр Готлиб (1714-1762) — немецкий
философ-оольфианец, основатель эстетики как философской
дисциплины, которую понимал как теорию низшего (чувственного) познания и
одновременно как теорию прекрасного.
2Г>* «Гносеология низшего порядка» (шт.).
ll* Мендельсон (Mendelssohn), Мозес (1729-1786) — немецкий
философ-просветитель, издатель. Друг Лессинга. Пропагандировал идеи гуманности,
всротершшости, свободы совести. См. также прим. 19* к работе «Об
основной идее..>.
2Я* Лессыкг {Lessing), Тотхольд Эфраим (1729 — 1781) — немецкий философ-
просветитедЕь, писатель, критик, эстетик. Вслед за Шефтсбери выступал
против отвлеченности в искусстве барокко и классицизма и вместе
«с тем — за новое понимание художественного символа и глубинное по-
стмавезвде произведений искусства через их «внутерннюю форму».
20# Cohen H. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 101.
ж Шиллер Φ. Идеал и жизнь («Das Ideal und das Leben»). Ср.:
Первообраз там, в кругу блаженных,
Меж богов сияет божеством.
(Перев. В. Левика)
м* 4..М создании как бы другой природы из материала, который ей дает
действительная природа» (нем.). (Кант И. Критика способности суждения.
С. 187.)
а2* «~.высшис сферы, где обитают чистые формы» (нем.).
хг «Никакиссбъективньгс принципы вкуса невозможны». См.: KantL Kritik
der Urteilskraft. S. 143 (143 f>
34* Cohen Ά Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 78.
:*5* «Предмет должен быть дан вам в созерцании [a priori]» (tieM.). (Кант И.
Критика чистого разума. С. 65.)
36* «Созерцать в чистоте» (греч.) См.: Платон. Собрание сочинений в 4-х тт.
Т. 2: Фсдр. С 159 (250с).
-37* «Неявно» (лат.).
зк* Имеется в виду сочинение Э. Гуссерля «Идеи к чистой феноменологии
«феноменологической философии» («Ideen zu einer reinen Phänomenolo-
gie and phäromenologischea Philosophie») (1913). (См. русск. изд.: Гус-
Комментарии
4SI
серль Э. Идеи к чистой феноменологии... / Псрев. с нем. A.B.
Михайлова. М: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 336.)
•™* Кернер (Körner), Христиан 1отфрид ( 1756- ί 831 )—немецкий общеетвив-
нын деятель эпохи Просвещения, издатель, близкий друг Ф_ Шиллера.
Автор работ по вопросам эстетики и художественного творчества
(например, Ästhetische Ansichen, 1808), но наибольшую известность получил как
эпистолярный собеседник Ф. Шиллера.
/,°* Cohen Я. Ästhetik des reinen Gefühls. Bd. 1. S. 86.
41 * «Искусство ради искусства» (фр).
ПАУЛЬ НАТОРП
Работа Б.А. Фохта «Пауль Наторп» написана в 1924 г. осенью,, видимо*
в сентябре. Неизвестно, создавалась ли она как доклад или предназначалась
для печати. По сообщению А А Гаревой, Фохт неоднократно в 1924-1926 гг.
в ГАХН'е и в Доме ученых читал доклады, посвященные Наторпу.
В архиве сохранилось два текста с одинаковым названием: рукогоись и
машинопись. Машинопись датирована 1924 г. и представляет собой 52
страницы в восьмую долю листа с незначительной авторской правкой. В рукогатеи,
датированной 20 апреля 1925 г., 38 страниц текста с большим количеством
исправлении и пометок. Большая часть пометок касается исключения матек-
ста ряда фрагментов. По содержанию машинописный текст в целом
совпадает с рукописью, отличия касаются вступления,, заключения и некоторых
моментов изложения. Текст рукописи был опубликован в 1991 г. АХ Ваше-
стовым в «Историко-философском ежегоднике^!» (М.: «Наука», 1991.
С. 232-270) под названием «Памяти Наторпа».
В основу настоящей статьи положен маншнописный вариант работы, в
который из соображений целостности и полноты включены некоторые части
рукописи: прежде всего, большинство исключенных автором фрагментов
(в тексте даны в квадратных скобках со звездочкой) и некоторые значимые
отрывки, отсутствующие в машинописи. Благодаря сопоставлению двух
текстов удалось устранить ряд неточностей, допущенных при публикации
в «Историко-философском ежсгодннке?91».
Немецкие и греческие названия и термины, пропущенные в тексте
машинописи, восстановлены по рукописному варианту или по произведениям На-
торпа.
г Узенер (Usener), Герман (1834-1905) — немецкий филолог, сиацмалист
в области классической филологии, античной истории, философии и
религии, а также народной культуры и фольклора Древней Греции,,
профессор университетов Берна, Грайфсвальда и Бонна (с 1866 п).
2* Die Ethika des Demokritos. Text und Untersuchungefi. Marburg: Erweirt,
1893. VI, 198 s.
3" Thema und Disposition der aristotelischen Metaphysik // Phitosor>hiscrie
Monatshefte. Heidelberg, 1888. Bd. XXIV. H. 1-2. S. 37-65; H.9-10. S. 540-574.
*32
Комментарии
4* Piatos Ideenlehre. Eine Einfuhrung in den Idealismus. Leipzig: Dürr, 1903;
2-te, durchgesehene u. um einen metakritischen Anhang vermehrte
Ausgabe. Lpz.: Meiner, 1921; см. также статью о диалоге Платона «Горгий»: Über
Gnmdabsîcht und Entstehiingszeit von Piatons Gorgias // Archiv für
Geschichte der Philosophie in Gemeinschaft mit H. Dicls, W. Dilthey, B.
Erdmann und E. Zeller. Brl, 1889, Bd. IL S. 394-413.
5* Forschungen zur Geschichte des Erkenntnissproblems im Altertum:
Protagoras, Demokrit, Epikur und die Skepsis. Berlin: Herz, 1884.
fi* См.: Über das Princip und die Kosmologie Anaximanders (In Bezug auf
S. Neuhaeuscr, Anaximander Milesius etc.) // Philosophische Monatshefte.
1884. Bd. XX. H. VI-VII. S. 367-398; Aristoteles und die Elcatcn // Ph. M.
1890. Bd. XXVI. H. 1-2. S. 1-16; H. 3-4. S. 147-169; Neue Heraklitforschun-
gen. (Rec: P/leiderer E. Die Philosophie des Heraklit; Gompers T. Zu Herak-
lit's Lehre und den Überresten seines Werkes) // Ph. M. 1888. Bd. XXIV.
H. 1-2. S. 88-02; Rec.: Lasswitz K. Geschichte der Atomistik vom Mittelalter
bis Newton // Ph. M. 1891. Bd. XXVII: H. 5-6. S. 334-350; Rec.: BaeumkerC.
Das Problem der Materie in der griechischen Philosophie // Ph. M. 1891. Bd.
XXVII, H. 7-8. S. 458-475.
7* Видимо, Фохт имеет в виду работу Наторпа «Religion innerhalb der
Grenzender Humanität». (Freiburg, 1894).
β* Популярность идей вульгарного материализма в образованных слоях
европейского общества была огромной. Так, книга Бюхнера «Сила и
материя» (1855) стала бестселлером, выдержав к 1898 г. девятнадцать
изданий. Грубый материализм и монизм продолжали преобладать в'общест-
венном сознании еще долго после того, как ученые опровергли базовые
положения этого философского направления.
9* По всей видимости, речь идет о том времени, когда Герман Коген,
будучи приват-доцентом, слушал лекции Фридриха Альберта Лангс, которые
последний с большим успехом читал в^арбургскеш университете
в 1873-1875 гг.
*°т KaritI: Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von K. Vorländer. Halle, 1899. S. 22
(xviii).
M" Лаос (Laas), Эрнст — (1837-1885) — немецкий философ, больше
известный как педагог. С1872 г. преподавал философию в Страсбурге. Называл
свою субъективио-идсалнстическую теорию познания «коррелятивиз-
мом». Основное сочинение «Kants Analogien der Erfahrung* («Кантовские
аналогии опыта») (1876).
,2* Тетенс (Tetens), Иоганн Николаус (1736-1807) — немецкий психолог,
экономист, математик, философ-эмпирист. Сформулировл принцип
скрытой, или виртуальной, врожденности, согласно которому «акты
мышления»- суть первоначальные «идеи отношения» н в то же
время — естественные законы мышления. Истины, лежащие в основе
познания, представляют собой поэтому «субъективные необходимости»,
благодаря которым в сознание проникает" сущность мыслящей'души.
Основное сочинение «Philosophische Versuche über die menschliche
Комментарии
433
Natur und ihre Entwicklung* (1777) («Философские опыты о
человеческой природе и их развитие») написано под влиянием идей
диссертации И. Канта.
!3* Вольф (Wolff). Христиан (1679-1754) — немецкий математик и философ-
рационалист. Вслед за Аристотелем и Лейбницем считал форму
определяющим деятельиостным началом, а материю, подобно Декаргту,
отождествлял с телесной протяженностью. Из сочинений наиболее известна
серия эссе 4Vernünftige Gedanken» («Рациональные Идеи»), которые
в популярной форме разъясняют основные положения теории Лейбница.
В полемике с учением Вольфа выкристаллизовывалась критическая
философия Канта.
и* См., например: Descartes' Erkenntnisstheoric. Eine Studie zur Vorgeschichte
des Kriticismus. Marburg: Elwert, 1882; Galilei als Philosoph. Eine Skizze //
Philosophische Monatshefte. 1882 Bd. XVIIL Ц, 3-4; Zu den, logischen
Grundlagen der neueren Mathematik // Archiv fur systematische Philosophie.
1901. Bd. VII; Piatos Ideenlehre. Eine Einführung in den Idealismus. Leipzig,
1902.
15* См. прим. 6* κ тексту «О прекрасном...».
,6* Natorp Р. Über objective und subjective Begründung der Erkcnntntss //
Philosophischen Monatshefte. 1887. Bd. XXIII. H. 5-6. S. 257-286.
t7* Natorp P. Über objective und subjective Begründung der Erkenntnis //
Philosophischen Monatshefte S. 284-285.
1H* «Становление, прогресс» {лат.).
!9* См.: Cohen Η. Kants Theorie der Erfahrung. 2. Aufl., 1885. S. 8-№ «Piatos
Begründung der Erkenntnisskritik», и особенно s. 15, а также: Cohen H.
Piatos Ideenlehre und die Mathematik, 1879.
20* «Бсспредпосылочное начало* (грен.).
21* См. особенно: Natorp P. Individuum und Gemeinschaft. Jena: Diedçrich,
1921; Sozialpädagogik. Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der
Gemeinschaft. Stuttgart. 1899.
22· Natorp P. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart, in
Selbstdarstellungen. Hrsg. von P. Schmidt. Bd. 1. Lpz.: Meiner, 1921. S. 156.
23* См.: Natorp P. Einleitung in die Psychologie nach kritischer Methode.; 1Ç88.
M* Natorp P, Religion innerhalb der Grenzen der Humanität. Ein Kapitel'zur
Grundlegung der Sozialpädagogik. 2-te durchgesehene u. um ein Nachwort
vermehrte Aufl. Tübingen: Mohr, 1908. Vorwort zur ersten Auflage. S. IV.
25* Название пропущено. Речь идет, наверное, о «Die logischen Grundlagen
der exakten Wissenschaften» н «Sozialpädagogik*.
26* Кант И. Критика чистого разума. M.: Мысль, 1994. С. 489.
27* См. прим. 80* к тексту «Об основной идее...», а также прим. 16* к работе
«О постановке основной проблемы...».
434
Комментарии
28* См.: Natotp Р. Allgemeine Psychokjgie nach kritischer Methode. Buch 1.
Tübingen: Mohr, 1912.
*9* О каком очерке Наторна идет речь, не ясно. Известно, однако, что идею
«Всеобщей логики* Натори вынашивал уже в 1917 г. (начиная с летнего
семестра 1917 г- в течение четырех лет он читал в Марбургском
университете цикл лекций с таким названием). В 1920-1921 гг. он в письмах
и личных записях продолжает эту тему, размышляя о соответствии
выбранного термина содержанию самой идеи и, возможно, будущей книги.
См. подробнее предисловие (S. V) и «Историю возникновения
"Философской систематики** Г. Книттсрмайера^. XXIX-XXXI) в кн.: Natotp Р.
Philosophische Systematik. Рассуждения о «всеобщей логике» находятся
также в статье Наторпа «Самоизложейие» в сборнике: Die deutsche
Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellimgen. 1921. S. 151-176; 2. Aufl.,
1923. S. 161-190. Возможно, именно этот текст из 2-го издания имеет в
виду Фохт, говоря об «очерке 1923 г.».
ж Важное отличие Наторпа от Когена Фохт, так же как и Гадамср, видел
в формулировке идеи всеобщей логики, которая выражается в единстве
теории и практики, причем не просто в корреляции объективных и
субъективных методик, что уже разрабатывалось Наторпом во «Всеобщей
психологии», но шире и существеннее — в корреляции бытия и
мышления, предполагающей их исходное как единство. (См.: Gadamer H.-G. Die
philosophische Bedeutung Paul Natorps // Natorp P. Philosophische
Systematik. S. XIII.)
3|* См.: Natorp P. Deutscher Weltberuf. Geschichtsphilosophische Richtlinien. II.
Die Seele des Deutschen. Jena: Dicderich, 1918.
:,2# См.: Natorp P. Fjedor Dostojewskis Bedeutung fur die gegenwärtige Kultur-
krisis mit einem Anhang zur geistigen Krisis der Gegenwart. Jena: Diederich,
1923.
лз* Смл Natorp P. Stunden mit Rabindranath Takkur. Jena: Diederich, 1921.
:M* Natorp P. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart in
Selbstdarstellungen. S. 154-155.
-15* Имеется в виду эта же статья («Selbstdarstellung»), перепечатанная во
втором издании сборника «Die deutsche Philosophie der Gegenwart...» (1923).
ж Natorp P. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart.
S. 157. См. об этом также прим. 4* к работе «О прекрасном...».
:17* NatorpP.Selbstdarstellung//DîedeutschePhilosophiederGegenwart, 1921.
S. 157-158.
w* «Das letzte Sinngebende». (Natorp P. Selbstdarstellung // Die deutsche
Philosophie der Gegenwart. S. 160.)
:49* Descartes' Erkenntnistheorie. 1882.
40* Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften, 1910.
4I# Piatos Ideenlehre, 1902,19212.
Комментарии
435
42# Pestalozzi. Sein Leben und seine Ideen. Leipzig, 1909. В рус. тдлНаторпП-
Песталоцци. Его жизнь и его идеи. Перев. с нем. М. А. Эмгельгардтх СПб.,
1912,1-е изд.; Пг., 1918,2-е изд.; 1920,3-е изд.
43* Sozialpädagogik, 1899. В русск. нзд.: Наторп П. Социальная педагогика.
Теория воспитания воли на основе общности. Перев. A.A. Громбаха с 3-п>
доп. нем. изд-я. СПб., 1911.; Gesammelte Abhandlungen zur Soztalpadagpgîk.
Stuttgart, 1907. В русск. изд.: Наторп Л. Общая педагогика. Перев.
Б.А. Фохта. М, 1910; Philosophie und Pädagogik, 1909.
АЛ* Sozialidealismus. Neue Richtlinien sozialer Erziehung. Berlin, 1920. В рус.
изд.: Наторп П. Социальный идеализм. Пер. М.И. Кагана// Диалог.
Карнавал. Хронотоп. 1995. N° 1. С. 55^126.
45* Возможно, речь идет об эссе «Kant über Krieg und Frieden: ein geschichts-
philosophischer Essay» (Erlangen: Verl. der Philosophischen Akademie,
1924.)
4ß· Ibid.
A1* См.: Достоевский Φ,Λί. Сон смешного человека (1877).
СИСТЕМА ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ П. НАТОРПА
Произведение под общим названием «Система эстетических воззрений
Наторпа» состоит из двух частей: часть первая «О проблеме
индивидуального в системе эстетических воззрений Наторпа» была написана 18 ноября
1925 г. и прочитана в качестве доклада на заседаниях секции истории
эстетических учений ГАХН И февраля 1926 г.; часть вторая «О постановке
проблемы философской эстетики у Наторпа до возникновения идеи "Всеобщей
логики" и в отношении к ней* датирована 7 мая 1925 г. По всей видимости,
в ходе работы над текстом второй (а хронологически — первой) части созрел
замысел единого, целостного научного исследования.
Первая часть работы представляет собой машинопись объемом 42
страницы, а вторая часть — 82 рукописные страницы в восьмую долю листа с по-
следущей авторской правкой. Почерк, которым выполнена рукопись,
заставляет предположить, что текст доклада или надиктовывался, или был
переписан, что вероятнее, кем-то (возможно, женой Еленой Яковлевной)
впоследствии — наличие подписи Фохта в конце текста не оставляет
сомнений в авторстве.
'* Фохт не знал и не мог знать о существовании работы Наторпа
«Философская систематика», которая была опубликована лишь в 1958 г.,
спустя много лет после смерти ее автора.
Т «Подвижный порядок». См. стихотворение 1ère «ΑΘΡΟΙΣΜΟΣ».
3* «Разум, мысль».
4* Саккетти Александр Ливериевич (1881-1966) — российский ученый,
близкий неокантианству. Окончил юридический факультет
Петербургского университета (1908). Прослушал курс философии у Виндельбанда
436
Комментарии
в Геидсльбергском университете (1905), занимался в семинарах A.C. Лап-
ио-Данилевского. С 1914 г. — приват-доцент. В 1918 г. Саккетти одним из
первых в России откликнулся на известие о смерти Германа Когепа (4
апреля 1918 г.) работой «Обоснование систематического идеализма.
Философия Германа Когепа» (8.07.1918), авторизованная машинописная копия
которой хранится в архиве Э.Л. Радлова в отделе рукописей РПБ (см.: Ф.
626, Ед. хр. 126,30 лл.). Из опубликованных работ по философии
известна рецензия Саккетти на диссертацию В.А. Савальского «Основы
философии права в научном идеализме» (см.: Журнал министерства
народного просвещения. Новая серия. СПб. 1909. Ч. XXI, май. С. 178-185). Был
действительным членом ГАХН по философскому отделению, где
выступал с докладами. Вероятно, на одно из таких выступлении ссылается
Фохт. Соответствующее вопросу место есть и в упомянутом выше
очерке Саккетти о философии Г. Когепа (см. с. 10-11). См. также: Cohen H.
Logik (1er reinen Erkenntnis. Bri.f 1902. S. 23-28.
г>* Жинкип Николай Иванович (1893-1979) — российский психолог и
философ, член Московского лингвистического кружка P.O. Якобсона, которым
затем руководил ГГ. Шпет, действительный член отделения философии
ГАХН. Возможно, Фохт имеет в виду позицию, изложенную Жинкиным
в докладе «Проблемы эстетической формы* 22.04.1924 г. на комиссии по
нзучеда!© проблем художественной формы ( Ρ ГАЛИ. Ф. 941. ГАХН. Оп.
14. Ед. хр. 7. Л. 22) или в статье «Вещь» (1925) из неопубликованного
сборника «Квартет», которая могла быть известна Фохту. Жинкип вслед
за JX Шпетом отказывается от идеи чистой перцептивности и
трансцендентальной субъективности. (См. об этом: Чубарое ИМ. Московская
феноменологическая школа «Квартет» //Логос. 1998. № 1. С. 58-63;
Жинкип # Вещь // Там же. С. 68-102.)
к* Фохт имеет в виду вторую (а хронологически — первую) часть
публикуемого сочинения, которая в качестве доклада была прочитана в ГАХНе
в мае 1925 г. Можно предположить, что в ходе работы над этими
докладами созрел замысел единого, целостного научного исследования, и
автору тгредставилось логичным изменить порядок расположения частей.
7* Видимо» Фохт ссылается на неопубликованную работу Н.И. Жинкнна
«Образ» (1921). (См.: Мазур С.Жннкин Николай Иванович // Русская
философия. Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995. С. 181.)
8* Об этом подробно см. очерк «Пауль Наторп» настоящего издания.
9* «Самость сама по себе» (И. Кант).
lir «В начале было дело». Goethe. Faust. Teil I. Studierzimmer (1237).
n* Фохт вольно цитирует строки стихотворения Гете «Epirrhema».
|2* «Порождение из первоначала» (нем.).
,:<* «Порождение эстетического» (нем.).
м* См..рус. перевод: Наторп П. Философия как основа педагогики. Псрев.
с нем., предисл. Г.Г. Шпета. М.: Изд-е H.H. Клочкова, 1910.106, [1] с.
Комментарии
437
|5* См. прнм. 19* н 4Г к работе «Пауль Наторп».
16* См. прим. 23" там же.
I7* Natorp Р. Was uns die Griechen sind: akademische Festrede zur Feier des 200-
jährigen Bestehens des Königreichs Preußen. Marburg: El went, 1901.
w* В кн.: Natorp P. Philosophie und Pädagogik. Untersuchungen auf ihreiw
Grenzgebiet. 1909.
If>* См. прим. 19* к работе «Пауль Наторп».
2°* Пушкин A.C. Герой.
21 * Respective (лат.) — соответственно.
22* Das Wesen п. (ср. Essenz) — существо» сущность; у 1егеля и в его игколе
существо (сущность) понимается как некоторого рода единство
противоположного, а это противоположное — как некоторого рода противоречие,
почему и самое существо (сущность) есть, по воззрениям этой школы,
некоторое противоречие, то есть содержит в себе внутреннюю
противоположность, доходящую до противоречия. Ср. Купо Фишер. Система
логики и метафизики, с. 303. (Фохт Б А. Немецко-русский словарь
философских терминов. 1937. Рукопись.)
234 Иоганн Гербарт в самом деле пытался объяснить процессы
эстетического представле!тя, используя возможности конкретной психологии, в том
числе и психологический эксперимент. (Гербарт И. Психология. СПб.»
1895. С. 221.)
24* «Суть бытия», «чтойность* (греч.).
25# GoetheJ.W. Faust. Teil I. Studierzimmer (1938-1939). Реплика
Мефистофеля. Дословно: «И держит ои части в своей руке, Не хватает только, увы,
духовной связи». Ср.:
...Спешат явленья обездушить,.
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать.
(Перев. Б. Пастернака)
26* Ср.: «...То же самое — мысль и то, о чем мысль возникает, Ибо без бытия,
о котором ее изрекают, Мысли тебе не найти...». (Парменид. О природе //
Фрагменты ранних греческих философов. Часть I. От эпических теокос-
могоний до возниковения атомистики. М.: Наука, 1989. С. 297 (34-36).)
эт* Hegd G.W.F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften in Grunrisse.
Neu hrsg. von F. Nicolin und O. Pöggeler. Brl.: Akademie-Verlag, 1975. Teil I.
Die Wissenschaft der Logik. § 20. S. 56 (16-18).
2a* Hegel G.W f. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Leipzig:
Reclam, 1924. S. 94.
29# Фохт отметил родство концепции Наторпа учению Гегеля и тем самым
обозначил обитую тенденцию сближения неокантианства и гегельянства.
438
Комментарии
3Ü# «...Вообще говоря, всякая непрерывность есть нечто идеальное... и можно
полагать, что все правила конечны и находят исток в бесконечном... и что,
наоборот, правила бесконечного находятся в конечном...» (фр.)
(Leibniz G.W. Mathematische Schriften. Hrsg. von C.J. Gerhardt. Hannover, 1859.
Bd. IV. S. 89 ff.)
31 * Александр Баумгартеп — родоначальник эсстики как особой
философской дисциплины, как науки о совершенстве чувства и, следовательно,
о прекрасном, которая трактовалась им как «младшая сестра* логики и
основывалась на сенсуалистическом принципе подражания природе. См.
также прим. 25* к работе «О постановке основной проблемы...».
й* «Душа, дух» (греч.).
"* См. прим. 29* к работе «Пауль Наторп».
:м* NatorpP. Selbstdarstellung//Die deutsche Philosophie der Gegenwart. 1921.
S. 160. Далее Фохт подробно пересказывает, а местами скрыто цитирует
указанную статью Наторпа.
35* «В суть вещей!» (лат.)
ж NatorpP. Selbstdarstellung//Die deutsche Philosophie der Gegenwart. 1921.
S. 157. См. также прим. Â* к работе *D прекрасном...* и прим. 3d* к
работе «Пауль Наторп». Здесь и далее, объясняя происхождение и смысл
«всеобщей логики», Фохт повторяет аргументацию н цитаты, уже
приведенные им в очерке «Пауль Наторп».
37* Ibid. S. 157-158.
зв* Ibid. S. 161; см. также: Natorp Р. Philosophische Systematik. S. 31.
a*· Natorp P. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie... S. 162.
40* Ibid.
«· Ibid.
«· Ibid. S. 163.
Л'Л* Платон. Собрание сочинений в 4-х т. Т. 4. М.: Наука, 1994. С. 493-494
(342).
н* Natorp Р. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart...
S. 165.
45* Schüler F. Die Worte des Wahns. («Слова безумия»), Cpv:
Пусть в мире ищет его [прекрасное. — ЯД] глупец,
Оно растет из самых сердец!»
Перев/**
Или:
«Наруже безумец лишь ищет того,
Что вечно таится в груди у него.
(Перев. Д. Цсртелева)
4Б* Гераклит. Фрагменты. 15 (101 DK) а, а\е // Фрагменты ранних
греческих философов. С. 194-195.
Комментарии
439
А7* Там же. 67 (45 DK). С. 23 t; см. также прим. 3* к работе «О прекрасном
как предмете искусства...».
т* Гераклит. Фрагменты. 112 (115 DK) а // Фрагменты ранних греческих
философов. С. 250.
4Э* Natotp Р. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der Gegenwart...
S. 166.
*■* Ibkl. S. 166-167.
5,4 Ibid. S. 167.
52* От нем. «divinatorisch» — предвидящий.
53* См.: Гераклит. Фрагменты. 29 (53 DK) а, с // Фрагменты ранних
греческих философов. С. 202-203.
5Г «Суверенный принцип» (φρ.). См. прим. 52* к работе «Об основной
идее...».
55* Фохт вольно цитирует монолог Фауста. См.: Goethe J.W. Faust. Teil I.
Studierzimmer. (1224,1229, 1237). Ср.: «"В начале было Слово"... "В
начале Мысль была". Вот перевод. Он ближе этот стих передаст... "В начале
было Дело" — стих гласит». (Перев. Б. Пастернака)
м* «Привычка, нрав» (греч.).
57" «Любовь» (греч.).
м* Пушкин A.C. «Мне бой знаком — люблю я звук мечей...»
5Э* Natorp Р. Selbstdarstellung //Die deutsche Philosophie der Gegenwart... S.
171.
m* «Что-то* в отличие от «ничто* (греч.)
6|* «Всякая непрерывность есть нечто идеальное» (φρ.). (Leibniz G.W.
Mathematische Schriften. Bd. IV. S. 89 ff.)
m* Natorp P. Selbstdarstellung //Die deutsche Philosophie der Gegenwart...
S. 172.
«· Ibid.
ei* «Отбрось все!» (греч.) См.: Антология мировой философии. ТТЛ. 4.1. М„
1969. С 554.
fï5* «Специфическое отличие» (лат.).
т* Goethe J.W. Epirrhema. («Müsset im Naturbetrachten und Freuet euch des
wahren Scheins...»). Ср.: «...ничто не внутренне, ничто не наружно, что
внутреннее также есть и наружное». (См.: Наторп П. Социальный
идеализм. Перев. М.И. Кагана//Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1995. N° 1.
С. 83-84.
г'7* «Первичное» (лат.).
**·* «Последующее» (лат.).
MO
Комментарии
**** Пушкин A.C. Монастырь на Казбеке.
70* Пушкин A.C. Разговор книгопродавца с поэтом.
л* Там же.
τι" Пушкин A.C. Пир во время чумы.
7V Natorp Р. Selbstdarstellung //Die deutsche Philosophie der Gegenwart.
S. 176.
74* См. первую часть настоящей работы.
7îi* «Путь, которым я иду — и которому я верен, — это не мой путь, но путь
философии, с тех пор как она существует, и так останется, будь это через
биллионы лет и в звездной далн, когда бы н где философия ни
существовала». (Natorp Р. Selbstdarstellung // Die deutsche Philosophie der
Gegenwart. S. 176).
Именной указатель
Александров Георгий Федорович (1908-1961) — советский
политический деятель, автор работ по истории философии
32
Алексеев Николай Николаевич (1879-1964) — философ, правовед
9,10
Аристотель (384-322 до и. э.) — древнегреческий философ
17,36,49,200,202,264,432
Ах {Ach) Нарцисс (1871-1946) — немецкий психолог
16
Базанкур Шарлотта де — виконтесса, бабка Б.А. Фохта
11
Безродный М.В. — исследователь в области истории философии
26
Баумгартен {Baumgarten) Александр Готлиб (1714-1762) — немецкий
философ, основатель эстетики как философской дисциплины
219,362,430,438
Бах Иоганн Себастьян (1685-1750) — немецкий композитор
265
Бахтин Михаил Михайлович (1895-1975) — философ, литературовед
31
Белый Андрей (Бугаев Борис Николаевич) (1880-1934) — поэт,
писатель, литературный критик
14, 15, 18-24,27,42
Бенюх Петр Сазонтьевнч — директор Московского городского
педагогического института им. В.П. Потемкина
12,32
Бердников А.И. — философ-диалектик начала XX в.
24,25
Бердяев Николай Александрович (1874-1948) — религиозный
мыслитель, публицист
26
Беркли (Берклей, Berkley) Джордж (1685-1753) — английский философ
14,85, 110
442
Именной указатель
Бсршнтенн Эдаурд (1850-1932) — немецкий социал-демократ,
близкий марбургскому неокантианству, идеолог ревизионизма
6
Бетховен Людвнг ван (1770-1827) — немецкий композитор
180,265,335
Бсрингср (Böhnnger) Адольф — немецкий философ марбургской
школы неокантианства
115,422
Блок Александр Александрович (1880-1921) — поэт
19,20
Бониц (Bonite) Герман (1814-1888) — немецкий филолог
16
БоричевскиЙ Еагений Иванович — философ, близкий марбургскому
неокантианству
9.24, 29, 42
БоричевскиЙ Иван Адамович (1892-1942) — историк философии и
науки
25?
Брандес Георг (1842-1927) — датский литературный критик, публицист
169, 427
Браидис А. — немецкий филолог и философ-аристотелевед первой
половины XIX в.
16
Брюсов Валерий Яковлевич (1873-1924) — поэт, прозаик,
литературный критик, переводчик
23
Бубнов Николай Николаевич (1880-1962) — философ баденской
школы неокантианства, славист
8
Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ
218
Бюхиер Людвиг (1824-1899) — немецкий философ,
естествоиспытатель, врач
265, 432
Вагнер Рихард (1813-1883) — немецкий композитор, дирижер,
публицист
265
Вашестов Андрей Григорьевич — исследователь в области истории
философии
14, 431
Введенский Александр Иванович (1856-1925) — философ-кантианец,
логик
5
Именной указатель
443
Всйдсман Александр Викторович (1879 — после 1939) — философ-
неокантианец
10,17,31
Вернадский Владимир Иванович (1863-1945) — естествоиспытатель
и мыслитель
34
Виндельбанд (Windelband) Вильгельм (1848-1915) — немецкий
философ, глава баденской школы неокантианства
7,26, 128,423,429,435
Виноградов Николай Дмитриевич (1868 — ?) — философ, педагог,
психолог
29,416
Волконский Сергей Михайлович, кн. (1860-1937) — писатель,
искусствовед, театральный деятель
28
Вольф Христиан (1679-1754) — немецкий математик и философ
433
Вульфсрт Александр Анатольевич (р. 1911) — племянник Б.А. Фохта
11,18,35,48
Вундт (Wundt) Вильгельм (1832-1920) — немецкий философ,
психолог, физиолог
53-56,417-418
Вышеславцев Борис Петрович (1877-1954) — философ, юрист,
религиозный мыслитель
8,9
Гавронская Амалия Осиповна (в замужестве Фондамицская) — сестра
Д.О. Гавронского
8
Гавронский Дмитрий Осипович (1883-1949) — философ, близкий
марбургской школе неокантианства, политический деятель, эсер
9
Гадамер Ханс-Георг (1900-2002) — немецкий философ
36,434
Галилей {Galilei) Галилсо (1564-1642) — итальянский ученый
60,61,269,420,433
Гарева Анна Аркадьевна (1918-2002) — ученица Б.А. Фохта,
хранительница архива, автор воспоминаний и публикатор его работ
10, 11, 15, 17,23-25,27,28,30,32,36,47-49,423-424,428,431
Гартман Николай Августович (1882-1950) — немецкий философ
российского происхождения
9,17
Гегель (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831) — немецкий
философ
17,32-34,36,44,46,249,297,299-300,306,357-359,392,409,420,437
444
Именной указатель
Гейне Генрих (1797-1856) — немецкий поэт, прозаик, публицист
187
Гераклит (коней VI — начало V в. ло н. э.) — древнегреческий
философ
135, 174,296-297,299,304-306,379,381,384,388t 389,392,396,
405,432,438,439
Гельдер (Hohler) Альфред — немецкий философ вт. пол. XIX — начала
XX в.
25,34
Гсрбарт Иоганн Фридрих (1776-1841) — немецкий философ и педагог
341,437
Гердер Иоганн Готфрид (1744-1803) — немецкий философ-просветитель
297
Герланд (Görland) Альберт (1869-1952) — немецкий философ-
нсокантиансц марбургской школы
52, 417
Гессен Сергей Иосифович (1887-1950) — философ, близкий
баденскому неокантианству, редактор ж-ла «Логос»
5,8,19,31
Гете (Goetiie) Иоганн Вольфганг (1749-1832) — немецкий писатель,
естествоиспытатель, мыслитель
133, 144, 157, 162, 164, 180, 181, 185, 187,222,335,410,425-427,
435-437,439
Гильдебранд Адольф фон (1847-1921) — немецкий архитектор,
скульптор, теоретик искусства
174, 427
Гордой Гаорнил Осипович (1885-1942) — философ-неокантианец,
историк, педагог, общественный деятель
9~11,17,23,24,ЗЬ424
Горнунг Борис Владимирович (1899-1976) — филолог, лингвист,
ученик Б.А. Фохта
37
Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) (1868-1936) —
писатель, публицист, общественный деятель
31
Гоц Абрам Рафанлович (1882-1940) — политический деятель, член
ЦК партии эсеров
8
Грот Николай Яковлевич (1852-1899) — философ, председатель
Московского психологического общества, редактор ж-ла 4Вопросы
философии и психологии»
12
Именной указатель
445
Гурова Ирина Гавриловна (урожд. Гордон) (р. 1924) — дочь
ГО. Гордона, переводчик с английского
31
Гуссерль Эдмунд (1859-1938) — немецкий философ
272,427,430,431
Давыдов Николай Васильевич (1848-1920) — публицист, горист,
приват-доцент Московского университета
13
Декарт Рене (1596-1650) — французский философ, математик, физиолог
44,59, 85,96, 110, 114,200,266,269,306f 433, 434
Демокрит (ок. 460 до н. э. — ?) — древнегреческий философ
264,431,432
Достоевский Федор Михайлович (1821-1881) — писатель,
публицист, общественный деятель
45,297,311-313,434,435
Дубенская Елизавета Николаевна (в замужестве Лопатина) — тетка
Б А Фохта, жена Александра Михайловича Лопатина
18
Дубенская Мария Николаевна (о замужестве Фохт) — мать
Б.А. Фохта
11,12
Жинкин Николай Иванович (1893-1979) — психолог, философ
319-321,323,330,436
Зелинский Николай Дмитриевич (1861-1953) — химик-органик
12
Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953) — публицист, видный
деятель партии эсеров
7,8,17
Зибек {Siebeck) Пауль (1855-1920) — первый издатель
немецкоязычного журнала «Логос», близкий кругу баденских
неокантианцев
19
Зиммель Георг (1858-1918) — немецкий философ, социолог
7
Иванов-Разумник (Иванов Разумник Васильевич) (187Ç-|946) —
литературовед, критик, публицист
21
Игнатова Валентина Алексеевна (? — 1927) — один из основателей и
активных участников Московского филосо^мжого общества
(1922-1927)
31
Ильин Иван Александрович (1882-1954) — философ, публицист,
религиозный мыслитель
8
446
Именной указатель
Каган Матвей Исаевич (1889-1937) — философ, представитель
марбургского неокантианства, друг М.М. Бахтина
9,31,41,42,424,435,439
Калбфлейш Карл (1868-1946) — npocjieccop классической филологии
π Гиссепс, коллекционер латинских папирусов
14
Кант (Kant) Иммануил (1724-1804) - немецкий философ
5, 6, 8, 11. 13-15, 19-ЗЬ 34,35,38-44, 46, 51-58, 60-65, 66-76,
78-9S, 100-128, 133, 141, 144, 149, 166, 181, 195-206,209-211,
213-218,220-240,242,245,248-255,262,266-272,275-278,
280-282,284-285, 290-291,299,302,308-313,332-334,336,346,
356,361,376,382,410,416-425,428-433,436
Касснрер (Cassirer) Эрнст (1874-1945) — немецкий философ и
культуролог, представитель марбургской школы неокантианства
30, 40, 42, 49,54, 115f 135,419, 422, 423
Каутский Карл (1854-1938) — немецкий политик, лидер и теоретик
германской социал-демократической партии
6
Кеплер Иоганн (1571-1630) — немецкий математик, астроном
269
Кернер (Körner) Христиан Готфрнд (1756-1831) — немецкий
общественный деятель, издатель, публицист
253, 431
Кинкель Вальтер (1871 — ?) — немецкий философ-иеокалтианец
134-135,423
Кнстяковскнй Богдан Александрович (1868-1920) — философ права,
социолог, юрист
8,26
Когсн (Cohen) Герман (1842-1918) — немецкий философ, основатель
\\ тзшул марбургской школы игокатстиаистъа
7, 10, 11, 15, 16,20,21, 23,25,26,30,33,38-45, 49,52, 54,55,
112-123, 125-128,130, 135,178, 195, 197-199,202,205, 207,
209-211, 213-214,216,223-225,228,232, 234, 237-241,243-244,
247-251,253-254,257-258,261-262,266-272,275-283,291-293,
295-296,299,308,319,322,331-332,357,409-410, 416-420,
422-425, 428-430, 4)2-434, 436
Копнин Павел Васильевич (1922-1971) — философ, методолог, логик,
ученик Б.А. Фохта
37
Корнелиус (Cornelius) Ганс (1863-1947) — немецкий философ
98, 421
Крамме Рюдигер — немецкий исследователь в области истории
философии
19
Именной указатель
447
Крупская Надежда Константиновна (1869-1939) — реполюционерка,
советский общественный деятель
31
Кубицкий Александр Владиславович (1880 — ?) — историк
философии, переводчик
13,25,424
Кзрд (Caird) Эдвард (1835-1908) — английский философ морали
423
Кюльпс (Küipe) Освальд (1862-1915) — немецкий философ и
психолог
53,417
Лаас {Laos) Эрнст (1837-1885) — немецкий философ и педагог
266,267,432
Лангс Фридрих Альберт (1828-1875) — немецкий философ,
экономист, один из основателей марбургской школы
266,282,418,432
Лапшнн Иван Иванович (1870-1952) — фшюсоф-кантиансн,
музыковед
5
Левин Иосиф Давидович (1901-1984) — философ, юрист, ученик
Б.А. Фохта
30,31,37,424
Лейбниц (Ldbniz) Готфрид Вильгельм (1646-1716) — немецкий
философ, математик, языковед
13,44,52, 59-61,91,94-97, 110, 114, 119, 200-201, 219,266,269,
361,397, 417, 421-422,429, 438, 439
Леонардо да Винчи (1452-1519) — итальянский художник,
мыслитель, изобретатель
177
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) — поэт, прозаик
168,426
Лесков Николай Семенович (1831-1895) — прозаик, публицист
31
Лессинг Готхольд Эфранм (1729-1781) — немецкий философ-
просветитель, писатель, критик, эстетик
219,430
Лнппс Теодор (1851-1914) — немецкий философ, психолог
98,421
Локк Джон (1632-1704) — английский философ
83,87,96,98, 100, 101, 104, 107, 119, 120-121, 422
Лопатин Лев Михайлович (1855-1920) — философ, психолог,
редактор ж-ла «Вопросы философии и психологии»
12-15,18,24
us
Именной указатель
Лосев Алексей Федорович (1897-1988) — философ, филолог,
историк античном эстетики
32,35,424
Лотце Рудольф Герман (1817-1881) — немецкий естествоиспытатель,
врач, философ
15, 417
Мандельштам Осип Эмильсвич (1891-1938) — поэт, прозаик
8
Маркс Карл (1818-1883) — немецкий философ, экономист
308
Мсйер {Meyer) Йорген Бона (1829-1897) — немецкий философ и
психолог
98,421
Мендельсон {Mendelssohn) Мозес (1729-1786) — немецкий философ-
н роспстнтсль, издатель
219, 419, 430
Метнер Эмилий Карлович (1872-1936) — публицист, музыкальный
критик, владелец издательства «Мусагет»
26
Мёрике {Möiike) Эдуард (1804-1875) — немецкий поэт
427
Микеланджсло {Michelangelo) Буонарроти (1475-1564) —
итальянский живописец, скульптор, архитектор, поэт
52, 416
Милль Джон Стюарт (1806-1873) — английский философ,
общественный деятель
98
Милюков Павел Николаевич (1859-1943) — историк, публицист, член
ЦК конституционно-демократической партии
29
Минин Сергей Константинович (1882-1962) — советский
политический деятель и публицист
28
Михайлов Михаил Ларионовнч (1829-1865) — поэт, публицист,
общественный деятель
426, 431
Морозова Маргарита Кирилловна (урожд. Мамонтова)
(t873-1958) — меценатка, учредительница издательства «Путь» и
Московского религиозно-фшюсофского общества
23,24
Натори {Natorp) Пауль (1854-1924) — немецкий философ, один из
лидеров марбургской школы неокантианства
10,16,21,24-26,30,41-43,45,49-54, 130,133-135, 138,158, 170,
172, 174, 263-414, 418, 423-424, 429, 431-440
Именной указатель
449
Николай Кузанский (1401-1464) — немецкий философ, теолог
269
Ницше Фридрих (1844-1900) — немецкий философ, филолог, публицист
21,31
Новалис (Фридрих фон Харденберг) (1772-1801) — немецкий поэт,
прозаик, философ
179
Ньютон (Newton) Исаак (1643-1727) — английский математик,
физик, астроном
39,52,57,59-61,63,88,417,419
Ольдекоп Роман Владимирович (1902-?) — один из основателей
Московского философского общества (1922-1927), в 1930-1935 г.
сидел в лагерях, впоследствии бухгалтер
31
Парменид (вт. пол. VI в. — сер. V в. до н. э.) — древнегреческий
философ
161, 185,296,306,347,381,386-387,392, 406, 425, 437
Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — поэт, писатель,
переводчик
9,37,424-425,437,439
Паульсеи (Pauken) Фридрих (1846-1908) — немецкий педагог и
философ, близкий неокантианству
7,53,417
Песталоцци Энрико (1746-1827) — швейцарский педагог
258,307,314,435
Петровская Нина Ивановна (1884 — 1928) - .писательница,
переводчик, близкая подруга и «муза» А. Белого и В Л. Брюсова
23
Пиндар (518-438) — древнегреческий поэт .
425
Платон (Plato) (428 или 427-348 или 347 до н. э.) — древнегреческий
философ
14,17,31,32,34,39,42, 44,59,133, 141, 149, 164-166, 181-183, 197,
200-202,218,235,240,264,266-267,269-271,276-281, 284-285,
297,299,305,307,324,349,379-382,384-386,388, 403, 405,426,
429, 430,432,438
Плотин (204/205-270) — древнегрсческий философ
32,149,409
Поливанов Михаил Павлович — философ, последователь
марбургского неокантианства, юрист
13, 424
Потемкин Владимир Петрович (1874-1946) — политический деятель,
академик АН СССР, с 1940 г. — нарком просвещения РСФСР
32,37
Именной указатель
Прокл (412-485) — древнегреческий философ-неоплатоник
32
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837) — поэт, прозаик,
публицист
30,31, 44,50, 142, 169, 173, 180, 183-184,187-188,402,413,
425-427, 437, 439-440
Рескнн Джон (1819-1900) — английский писатель, теоретик
искусства, публицист
31
Риккерт Генрих (1863-1936) — немецкий философ, один из лидеров
баденской школы неокантианства
14,15,19,429
Риль {Rieh!) Алоиз (1844-1924) — немецкий философ-неокаитианец
7,54,109, 115, 117, 119, 121, 419,421
Рубинштейн Сергей Леонидович (1889-1960) — философ, близкий'
шрбургскому неокантианству, психолог
9
Руссо Жан-Жак (1712-1778) — французский философ, писатель,
публицист
285,310
Сабэтьев А.П. — профессор химии Московского университета
12
Савальскин Василий Александрович (1874-1915) — философ,
последователь марбургской школы неокантианства
8,9,26, 49, 436
Саккетти Александр Ливерневич (1881-1966) — философ права,
близкий неокантианству
8,42,319,424,435
Сеземан Василий Эмильевич (1884-1963) — философ, последователь
марбургского неокантианства
9,10,17,31\ 44
Сковорода Григорий Саввич (1722-1794) — украинский философ и
поэт
21
Скрябин Александр Николаевич (1871/2-1915) — композитор,
пианист, философ-мистик
23
Сократ (470/469-399 до н. э.) — древнегреческий философ
14,207,218
Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — философ, поэт,
публицист, религиозный мыслитель
7,8,20,24,31, 168, 174,426-427
Именной указатель
451
Степун Федор Августович (1884-1965) — философ, близкий
баденскому неокантианству, социолог культуры, публицист, редактор
ж-ла «Логос»
5,8,18,19,26.31
Стратонов Всеволод Викторович (1869-1938) — математик,
астрофизик
29
Тагор Рабиндранат (1861-1941) — индийский поэт
45,297,434
Тахо-Годи Аза Алибековна (р. 1922) — филолог, переводчик и
комментатор философских текстов
32
Тетенс Иоганн Николаус (1736-1807) — немецкий психолог,
экономист, математик» философ
432
Тихомиров Дмитрий Иванович (1844-1915) — педагог
23
Толстой Лев Николаевич, граф (1828-1910) — писатель, мыслитель
31
Топорков Алексей Константинович (1882 — ?) — философ, публицист
24,424
Торричелли Эванджелиста (1608-1647) — итальянский физик,
математик.
60
Треиделенбург Фридрих Адольф (1802-1872) — немецкий философ и
филолог
36
Трубецкой Евгений Николаевич, кн. (1863-1920) — философ,
религиозный мыслитель, общественный деятель
13,29
Трубецкой Сергей Николаевич, кн. (1862-1905) — философ, историк
античной философии, публицист, общественный деятель, первый
выборный ректор Московского ун-та
13-16,23,49
Туровский Марк Борисович (1922-1994) — философ культуры,
ученик Б.А. Фохта
37
Тэн Ипполит (1828-1893) — французский литературовед н теоретик
искусства
31
Тютчев Федор Иванович (1803-1873) — поэт, публицист
187
452
Именной указатель
Узенер (Usener) Герман (1834-1905) — немецкий филолог
264, 431
Файхингср (Файгингер, Vaihinger) Ханс (1852-1933) — немецкий
философ, близкий неокантианству
16,21, 41. 43. 115-118, 123, 125-127.422-423
Фигнер Вера Николаевна (1852-1942) — революционерка-народница
20
Фигнер Николай Николаевич (1857-1918) — оперный певец, брат
В.Н. Фигнер
20
Фихте Иоганн Готлиб (1762-1814) — немецкий философ
17,165,249,351,353,420
Фишер Куно (1824-1907) — немецкий историк философии
7, 12, 14,437
Фондамииский Илья Исидорович (псевд. Бунаков) (1881-1942) —
общественный деятель, публицист, член ЦК партии эсеров
8,18
Фохт Александр Богданович (1848-1930) — профессор медицины
Московского университета, общественный деятель, отец Б.А. Фохта
11,18,21
Фохт Всеволод Борисович (1895-1941) — сын (вероятно, приемный)
Б.А, Фохта от первого брака, поэт, редактор журнала «Новый дом»
(Париж)
15
Фохт Готлиб (Богдан) — дед Б.А. Фохта, женатый на Ш. де Базанкур
11
Фохт Елена Александровна (? — 1915) — вторая жена Б.А. Фохта
26
Фохт Елена Яковлевна (урожд. Аронсон) (1896-1965) — жена Б.А.
Фохта в третьем браке
35.47,435
Фохт Кирилл Борисович (1909/1911 — ок. 1941) — сын Б.А. Фохта и
Е.А. Фохт
26,35
Фохт-Сударская Раиса Марковна (урожд. Меерсон) (1869 — ?) —
первая жена Б.А. Фохта, пианистка
15, 18,26
Фраик Семен Людвигович (1877-1950) — философ, публицист
26
Фриз (Fries) Якоб Фридсрик (1773-1843) — немецкий философ-
кантианец
98, 421
Хпостов Вениамин Михаилович (1868-1920) — социолог, правовед
19
Именной указатель
453
Ходасевич Владислав Фелицнанопич (1886-1939) — поэт, публицист,
литературный критик
31
Христиансен Бродер (1869-1958) — немецкий философ-иеокаитианец
баденской школы
29
Христофорова Клеопатра Петровиа — держательница одного и»
московских интеллектуальных салонов
21,23
Целлер {Relief) Эдуард (1814-1908) — немецкий историк античной
философии
16, 432
Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856) — философ, публицист
168
Челпанов Георгий Иванович (1862-1936) — философ, логик,
психолог, основатель Психологического института при Московском
университете
5,19,29,416
Чичерин Алексей Владимирович (1800 — ?) — филолог, публицист,
ученик Б.А. Фохта
22,37
Шаламов Варлам Тихонович (1907-1982) — писатель, публицист
30
Шекспир Вильям (1564-1616) — английский драматург, поэт
212
Шелер Макс (1874-1928) — немецкий философ
37
Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозсф (1775-1854) — немецкий
философ
17, 133,249
Шефтсбери (Shaftesbury) Антони Эшли Купер (1671-1713) —
английский философ-моралист, эстетик
218,228,430
Шиллер (Schiller) Иоганн Фридрих (1759-1805) — немецкий поэт,
драматург, теоретик искусства
133, 153-154, 180,220,222,253,291,333,335,346,388, 425, 427,
428, 430, 431, 438
Шлегель Фридрих (1772-1829) — немецкий критик, филолог,
философ
249
Шопенгауэр Артур (1788-1860) — немецкий философ
15,31,436
Шпст Густаа Густавович (1879-1937) — философ, психолог,
искусствовед, переводчик
454
Именной указатель
21,31
Штадлер (Stadler) Август (1850-1910) — немецкий философ-
неокантианец марбургской школы
54, 115, 117,418,422
Шталь Георг Эрнст (1660-1734) — немецкий химнк-экспериментатор,
прач
60
Штаммлер (Stammler) Рудольф (1856-1938) — немецкий философ
лраиа, представитель марбургского неокантианства
26,49,429
Штанге Карл — немецкий философ
24
Штейнср Рудольф (1861-1925) — немецкий религиозный мыслитель,
основатель и руководитель Антропософского общества
22
Шульц Иоганн — кенигсбергскнй теолог и философ, современник и
комментатор И. Канта
24
Эйснер Курт (1867-1919) — немецкий социал-демократ, публицист
6
Экксрман Иоганн Петер (1792-1854) — немецкий писатель, секретарь
И.-В. Гете
145, 157,425
Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт) (ок. 1260-1327) — немецкий
мыслитель-мистик
297, 313
Эпикур (341-270 до н. а.) — древнегреческий философ
314,432
Эрдмаи (Erdmann) Бенио (1851-1921) — немецкий философ-
пеокантианец, психолог
16, 432
Эрн Владимир Францевич (1882-1917) — религиозный мыслитель,
публицист
13,22
Юм (Hume) Дэвид (1711-1776) — английский философ
52, 87,96, 100-101, 103-104, 120-121,382, 417
Яковенко Борис Валентинович (1884-1949) — философ-
неокантианец, публицист, редактор журнала «Логос»
5,8-11,31
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие 5
Опубликованные работы Б.А. Фохта 49
Работы о Б.А. Фохте 50
Об основной идее, существе и главнейших моментах
траисцедентального метода в теоретической
философии Канта 51
Часть I 53
Часть II 98
О прекрасном как предмете искусства и основных
чертах художественного творчества 129
О постановке основной проблемы эстетики у Канта
и Когена в связи с критикой основных понятий
и принципов, примененных Кантом к ее решению 195
Часть I 197
Часть II 237
Пауль Наторп 263
Система эстетических воззрений Наторпа 315
Часть I 31G
Часть II 361
Комментарии 415
Именной указатель 441
Фохт Борис Александрович
Из философского наследия