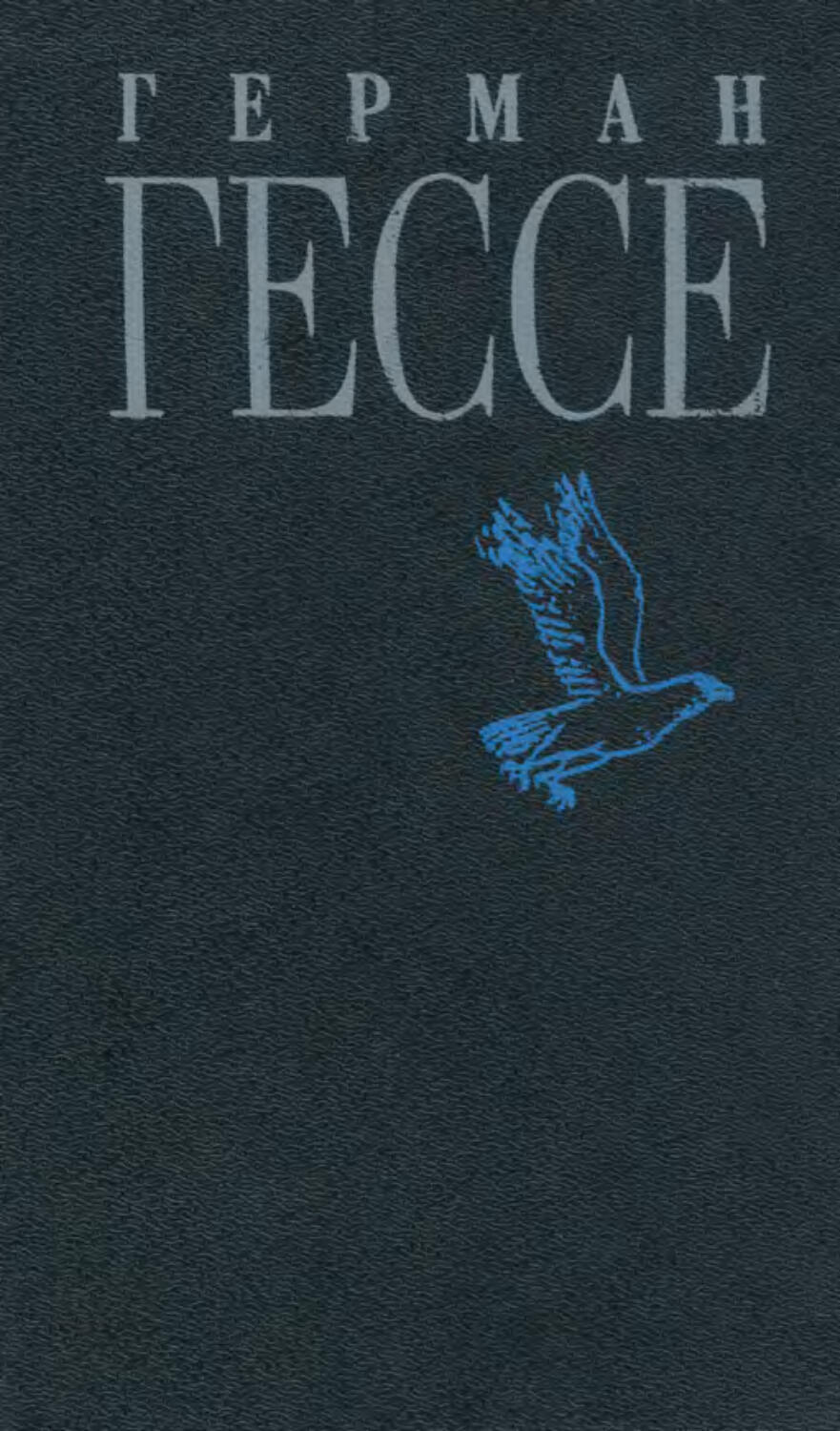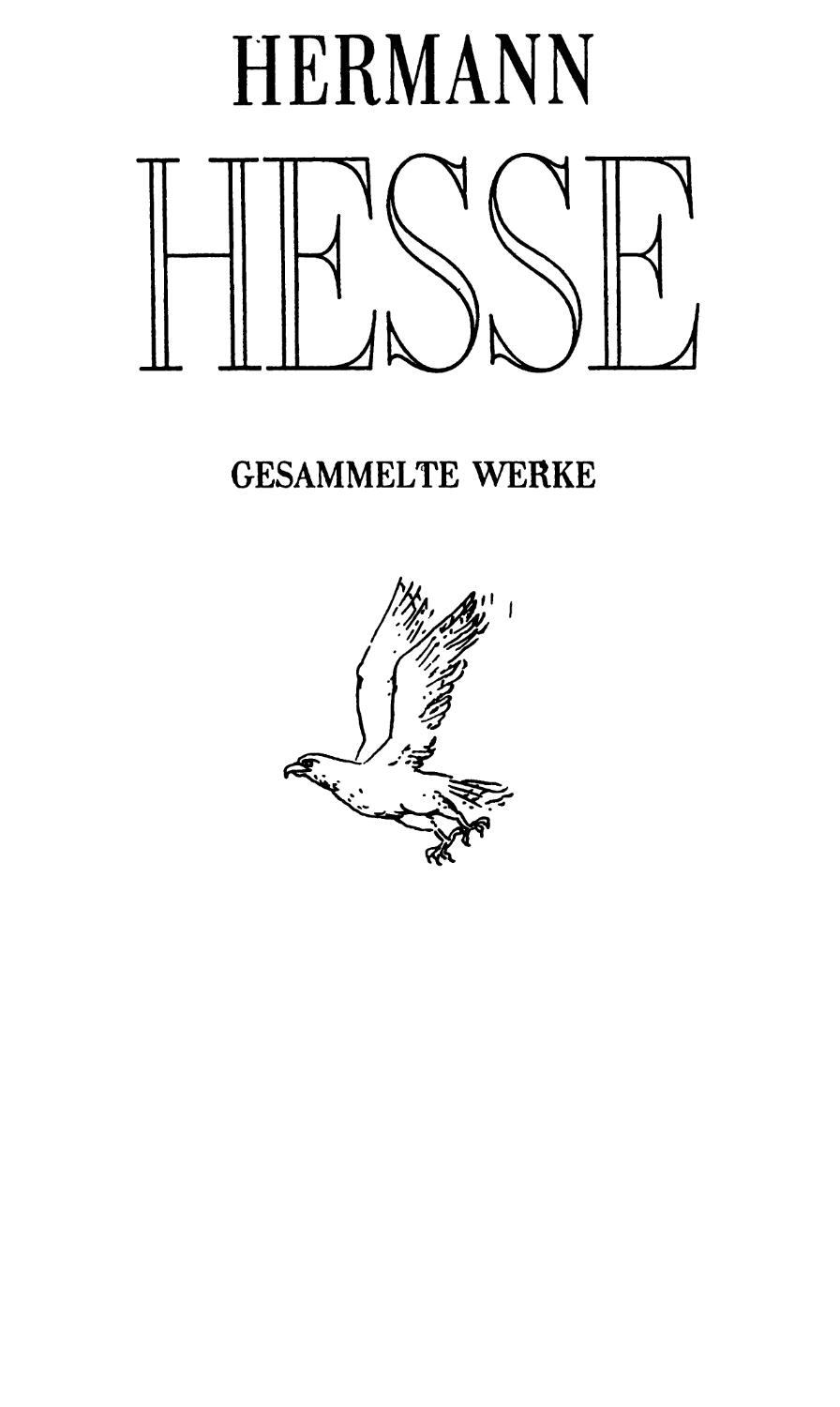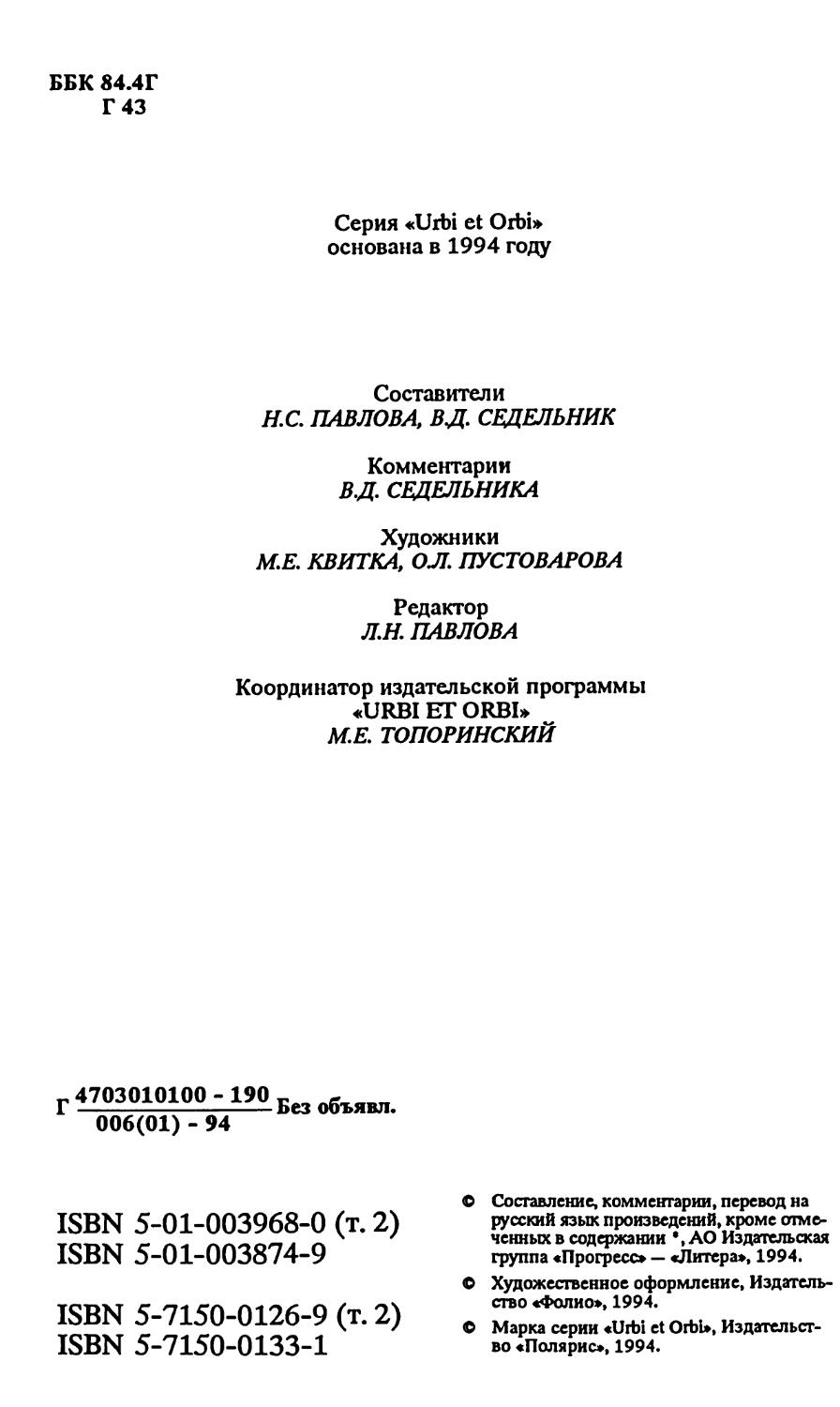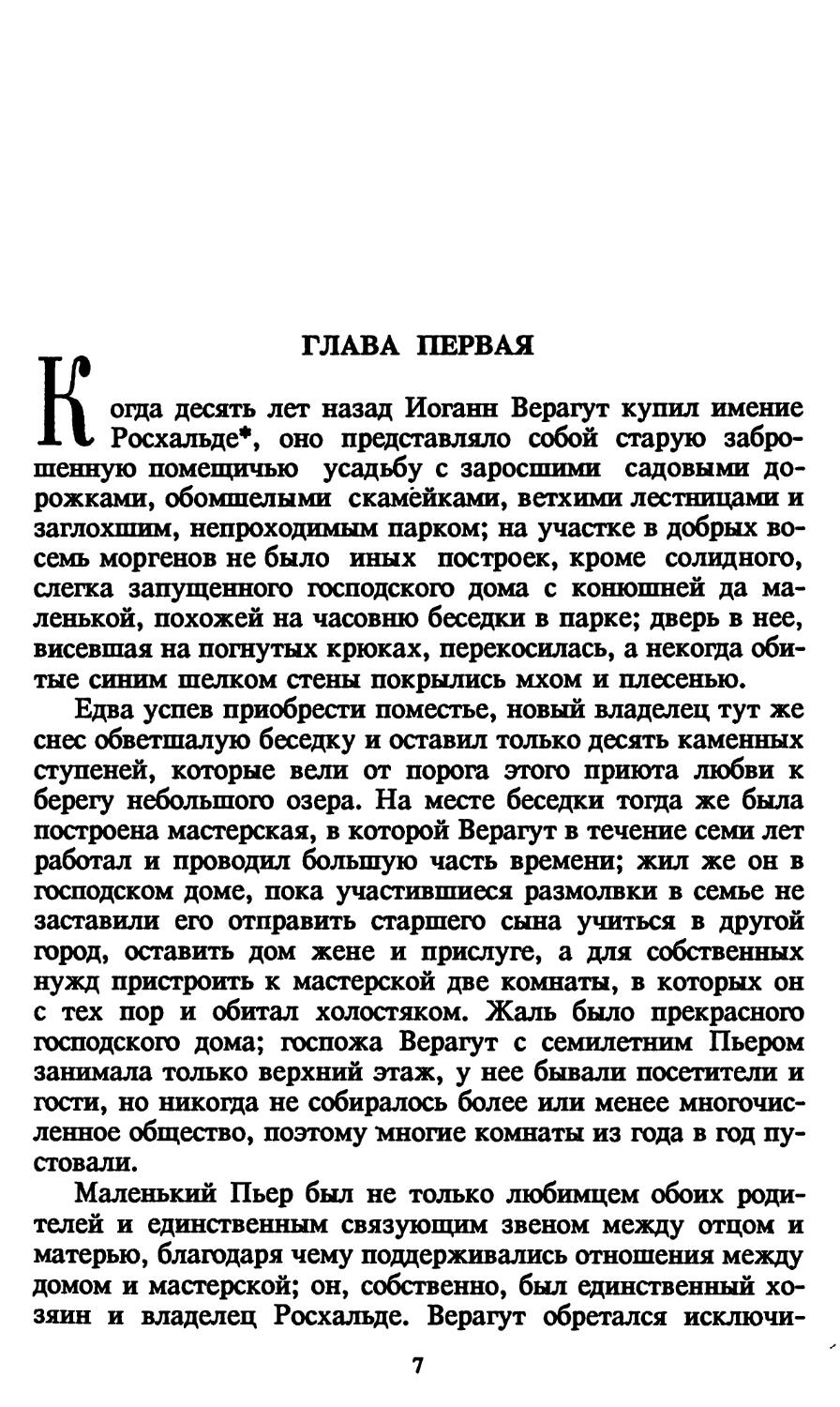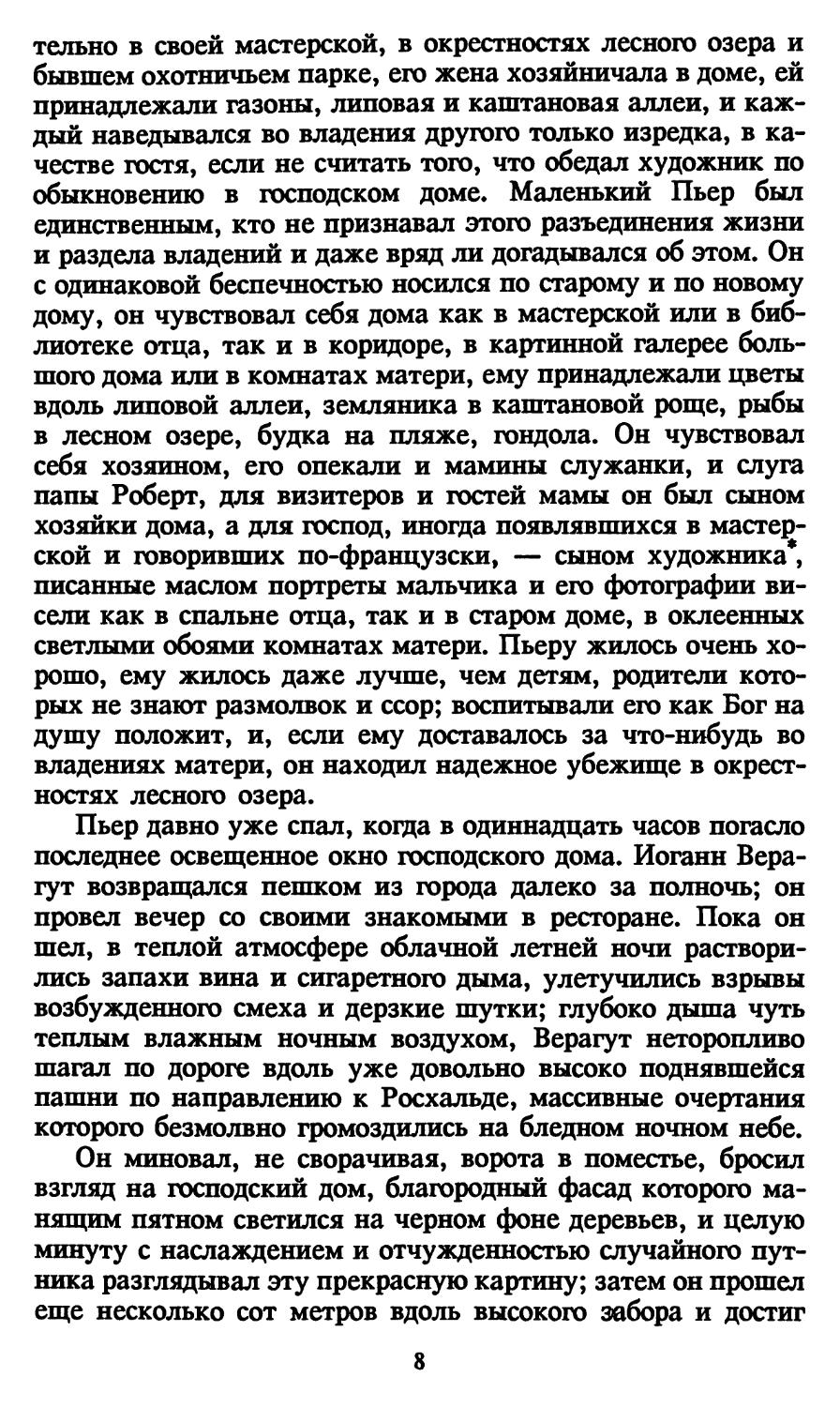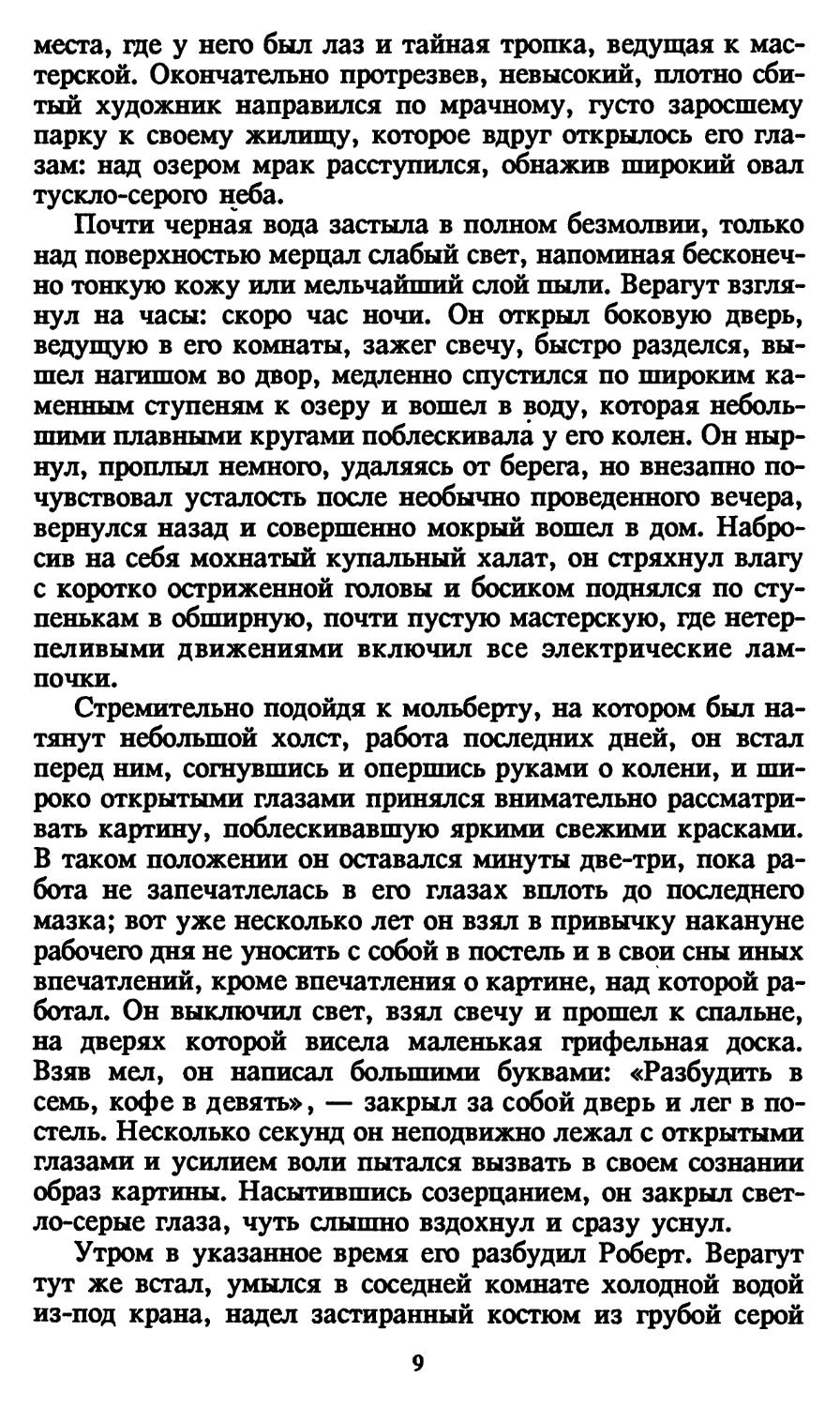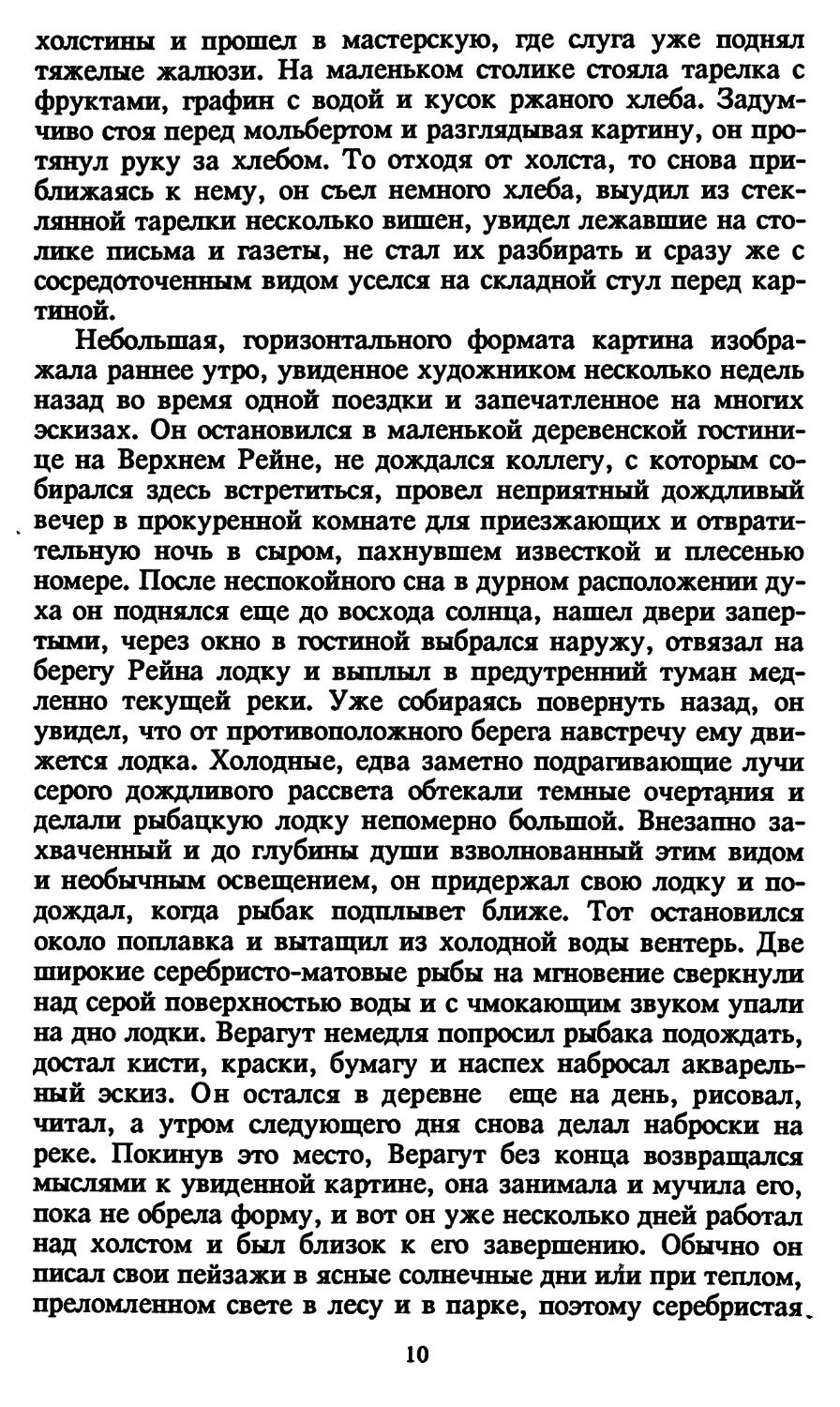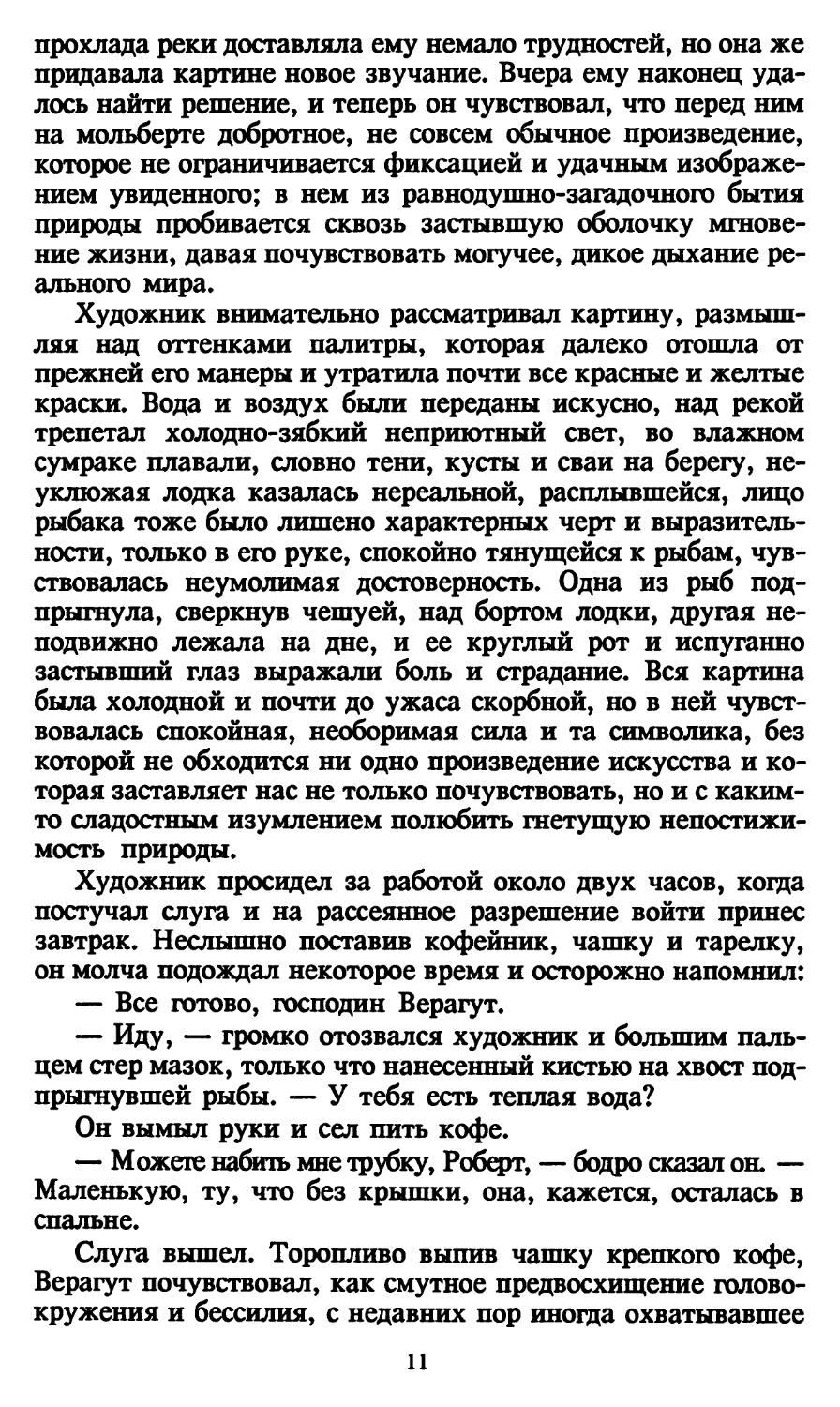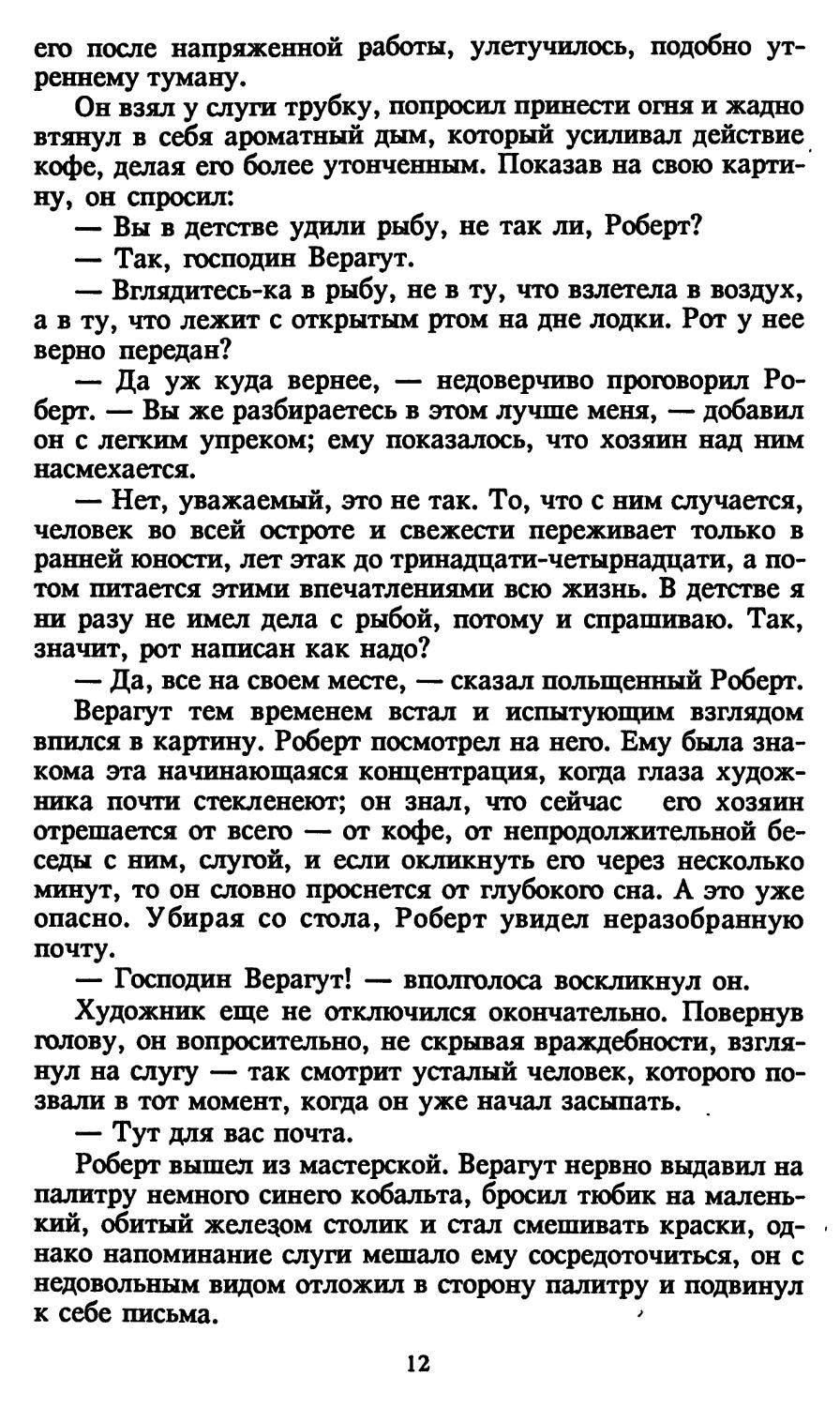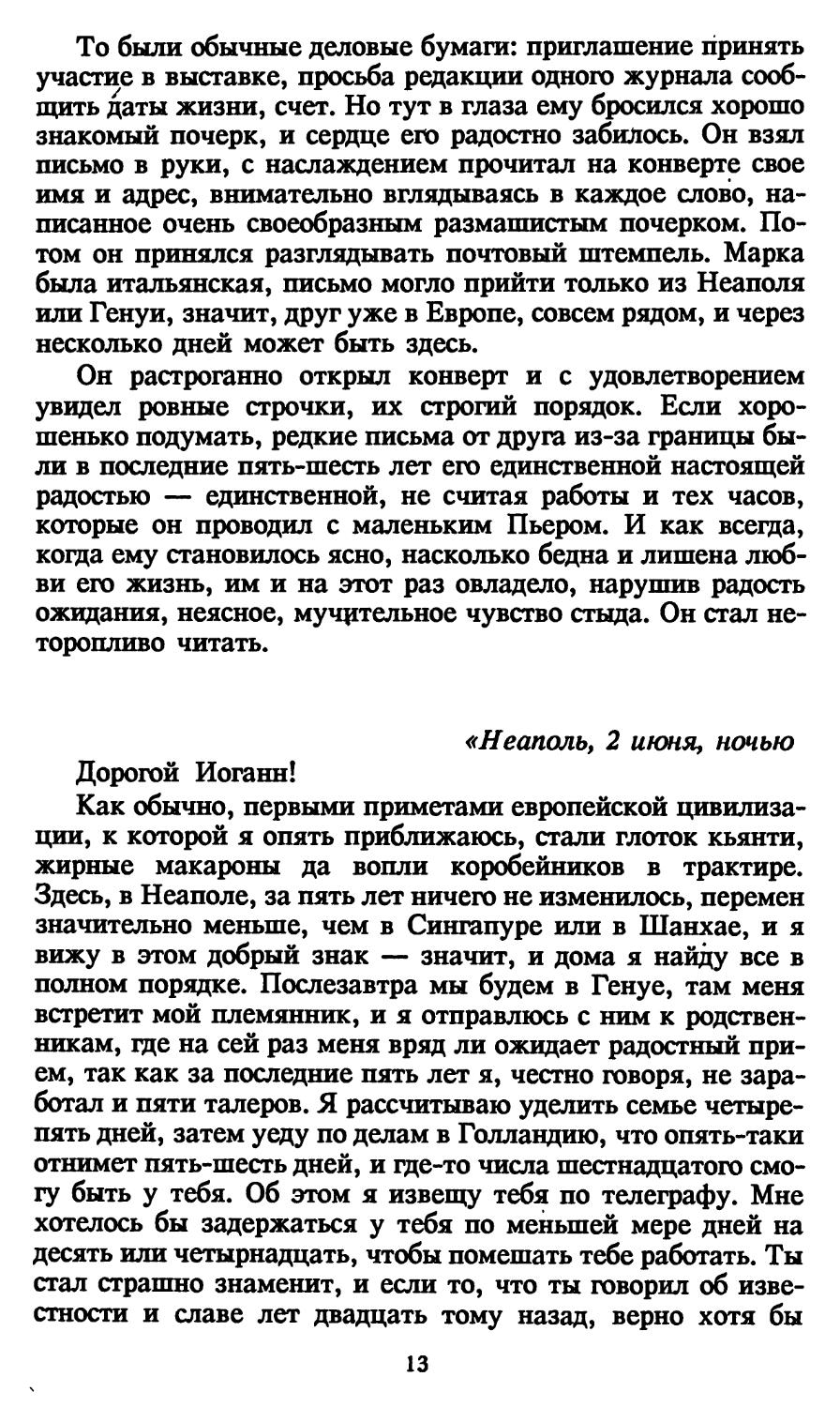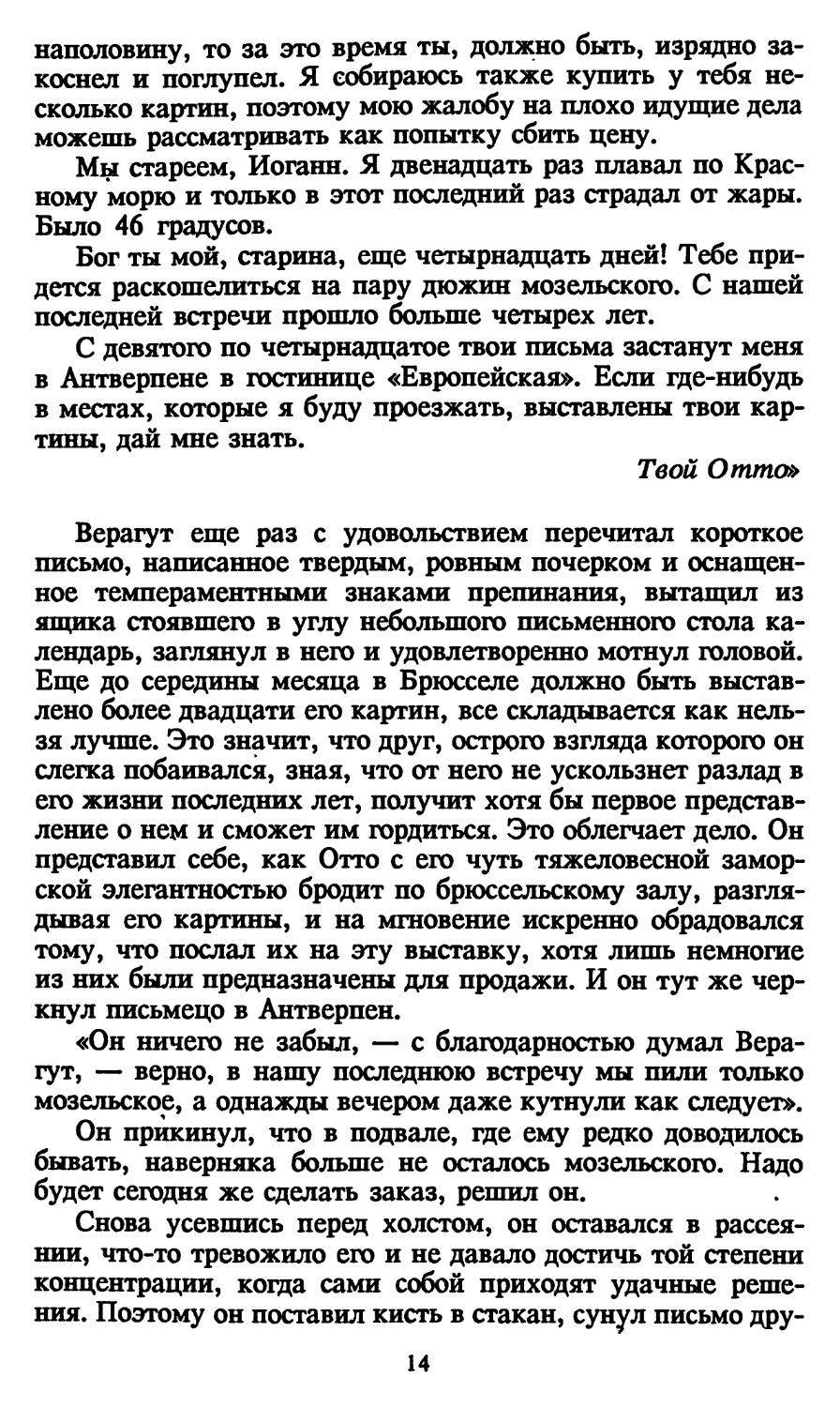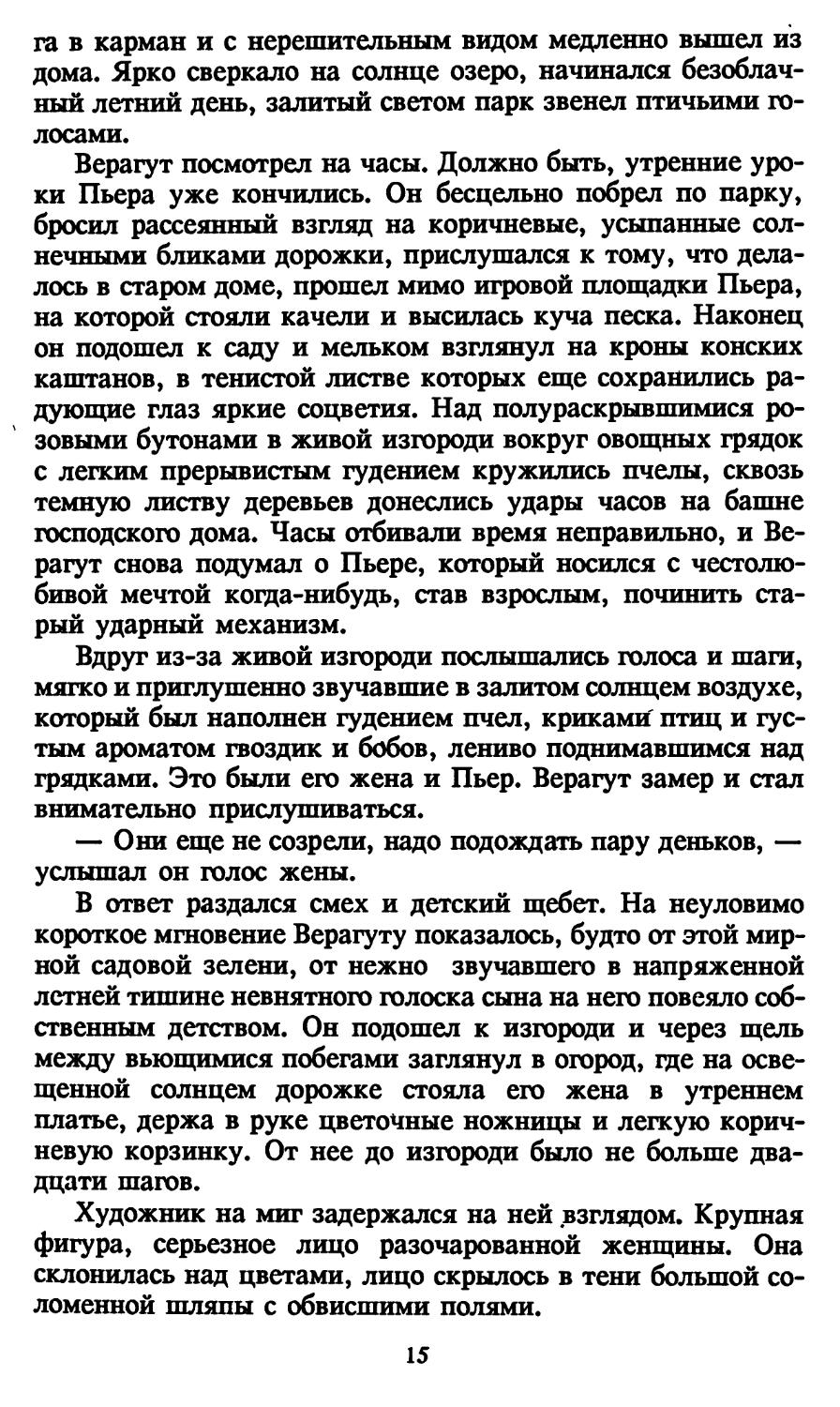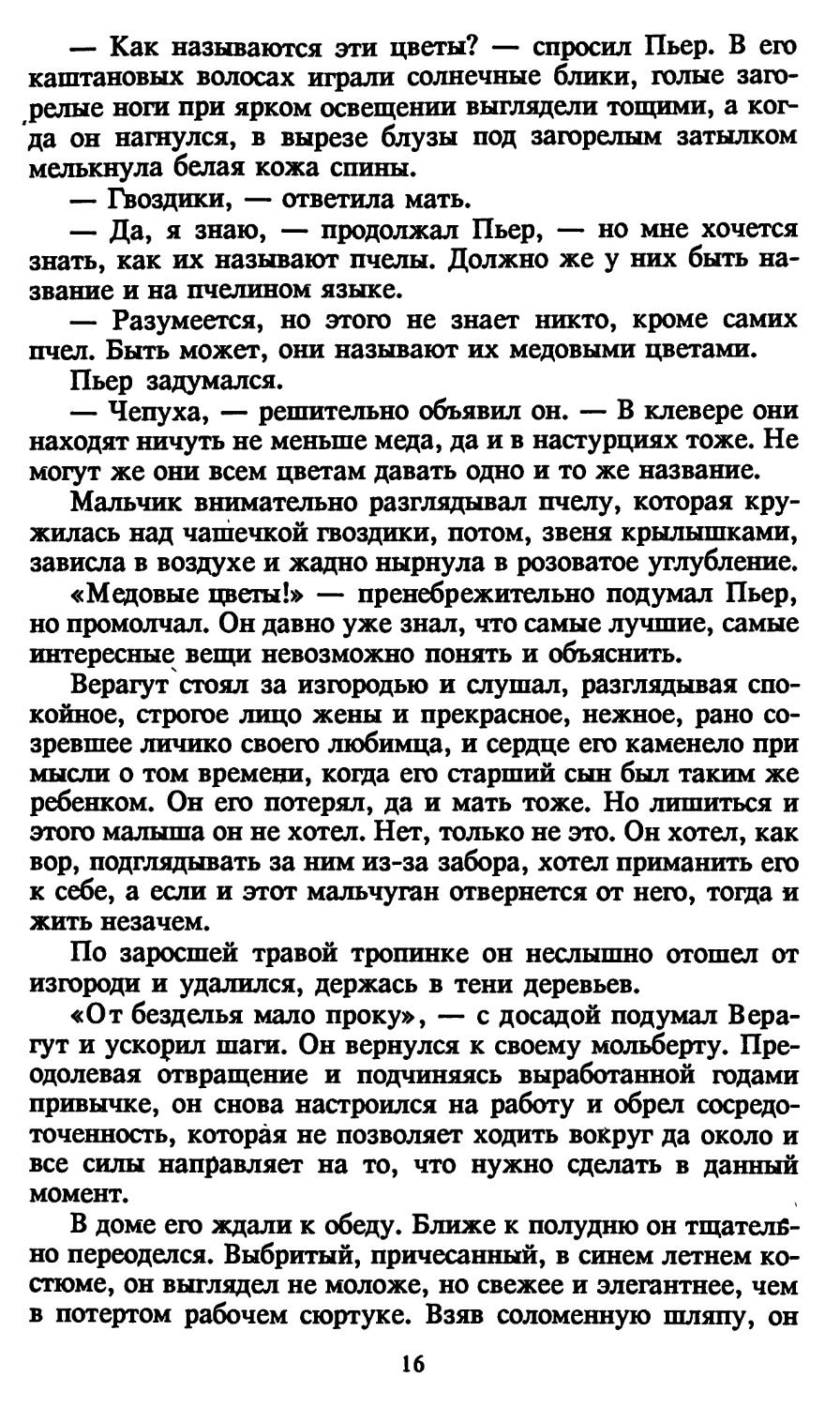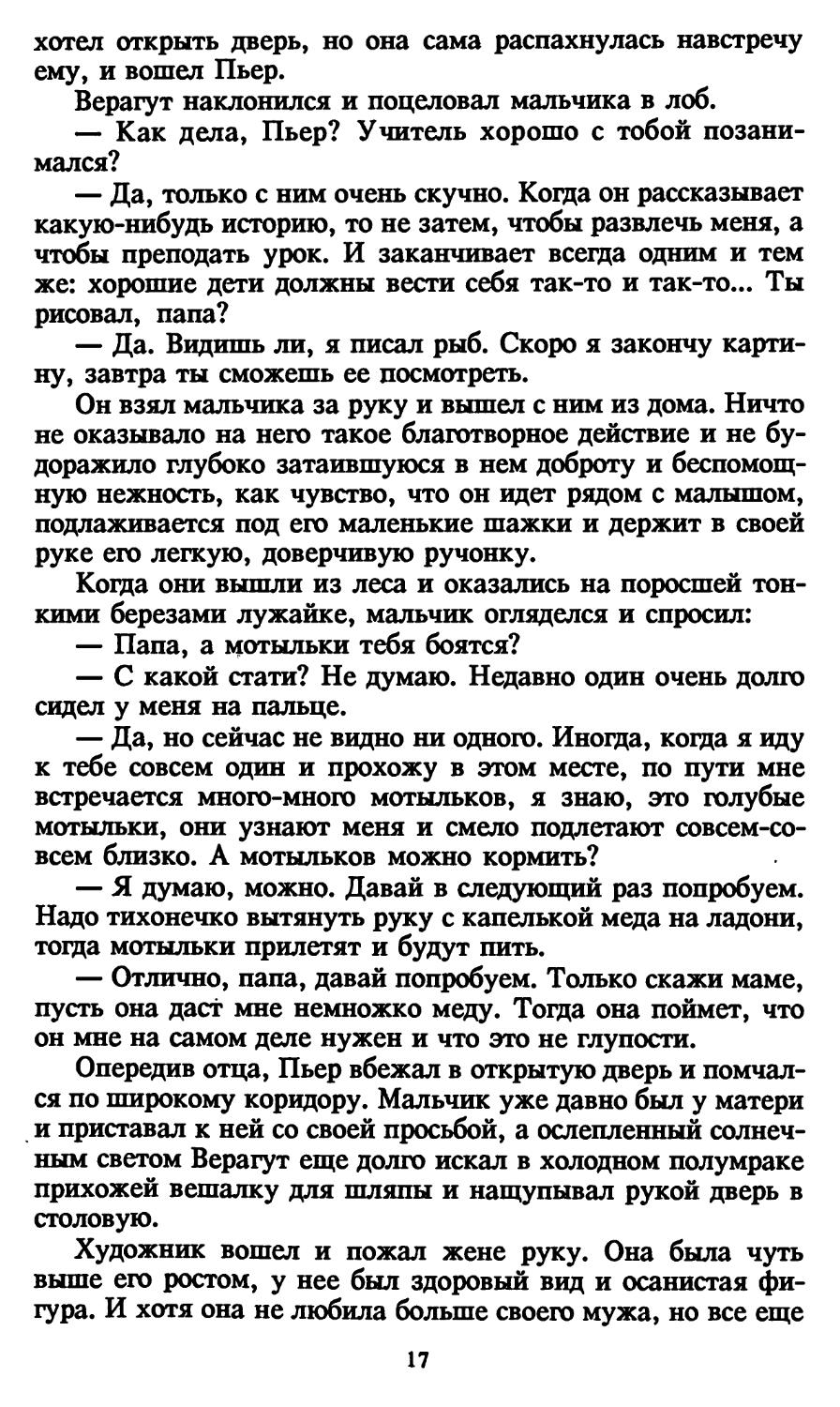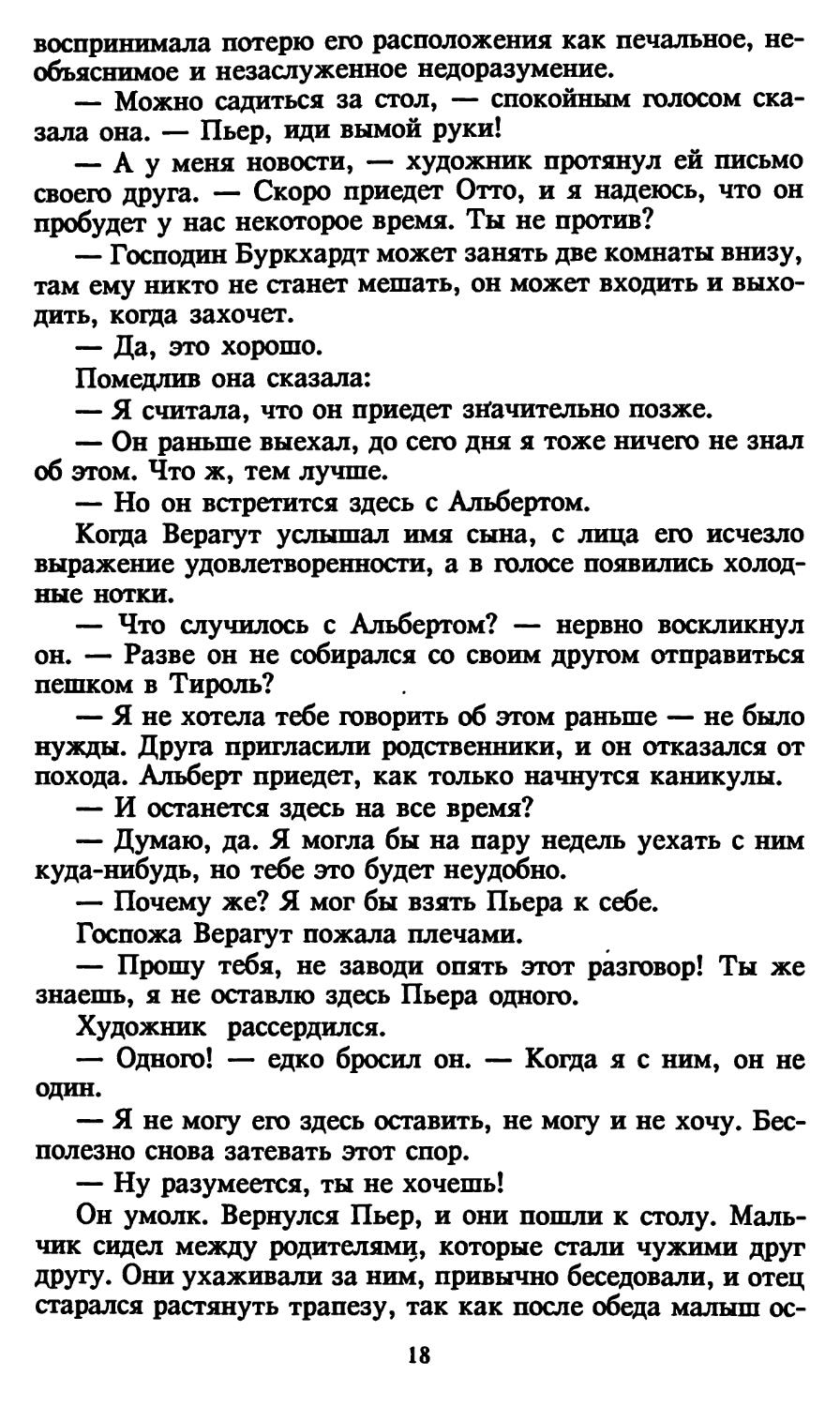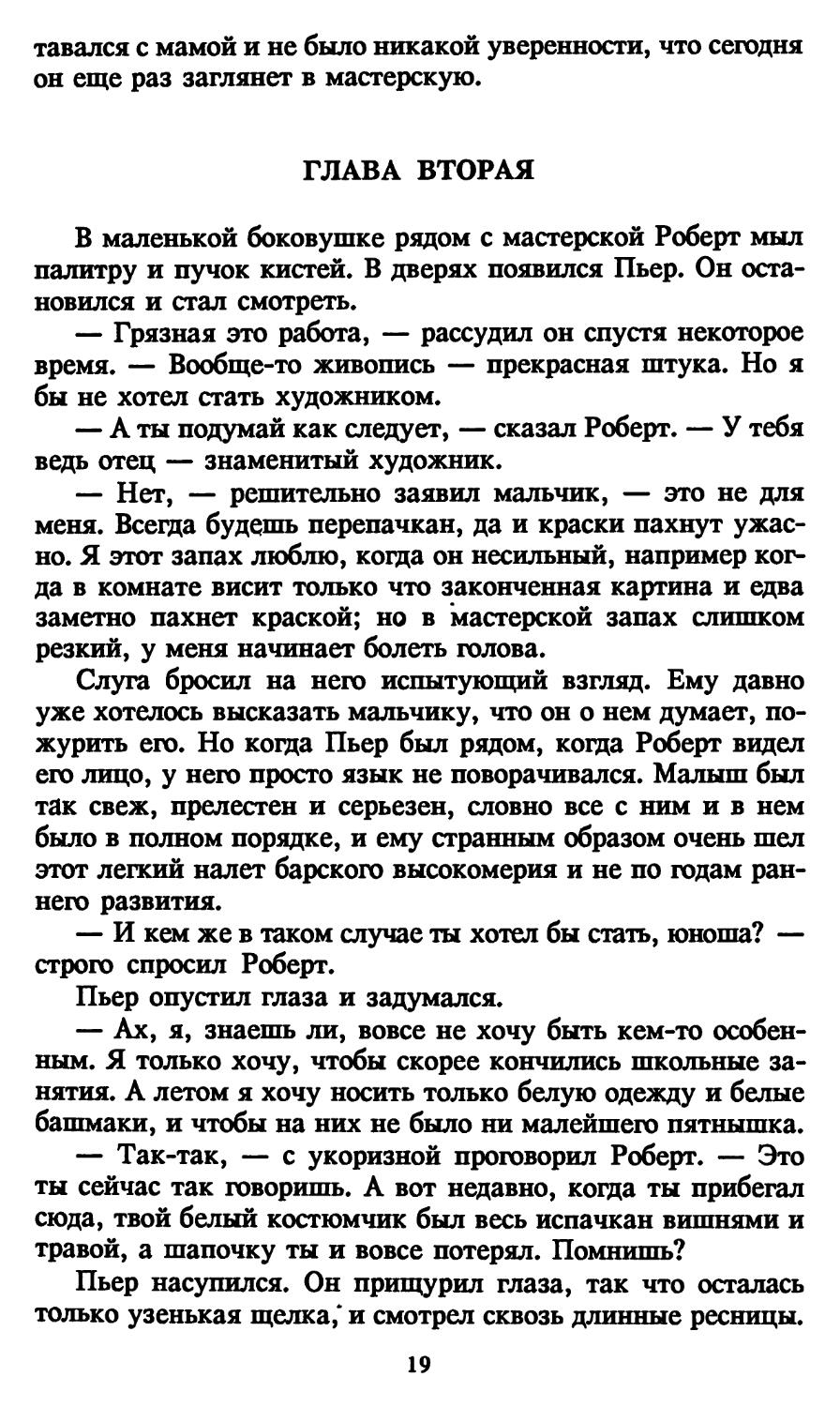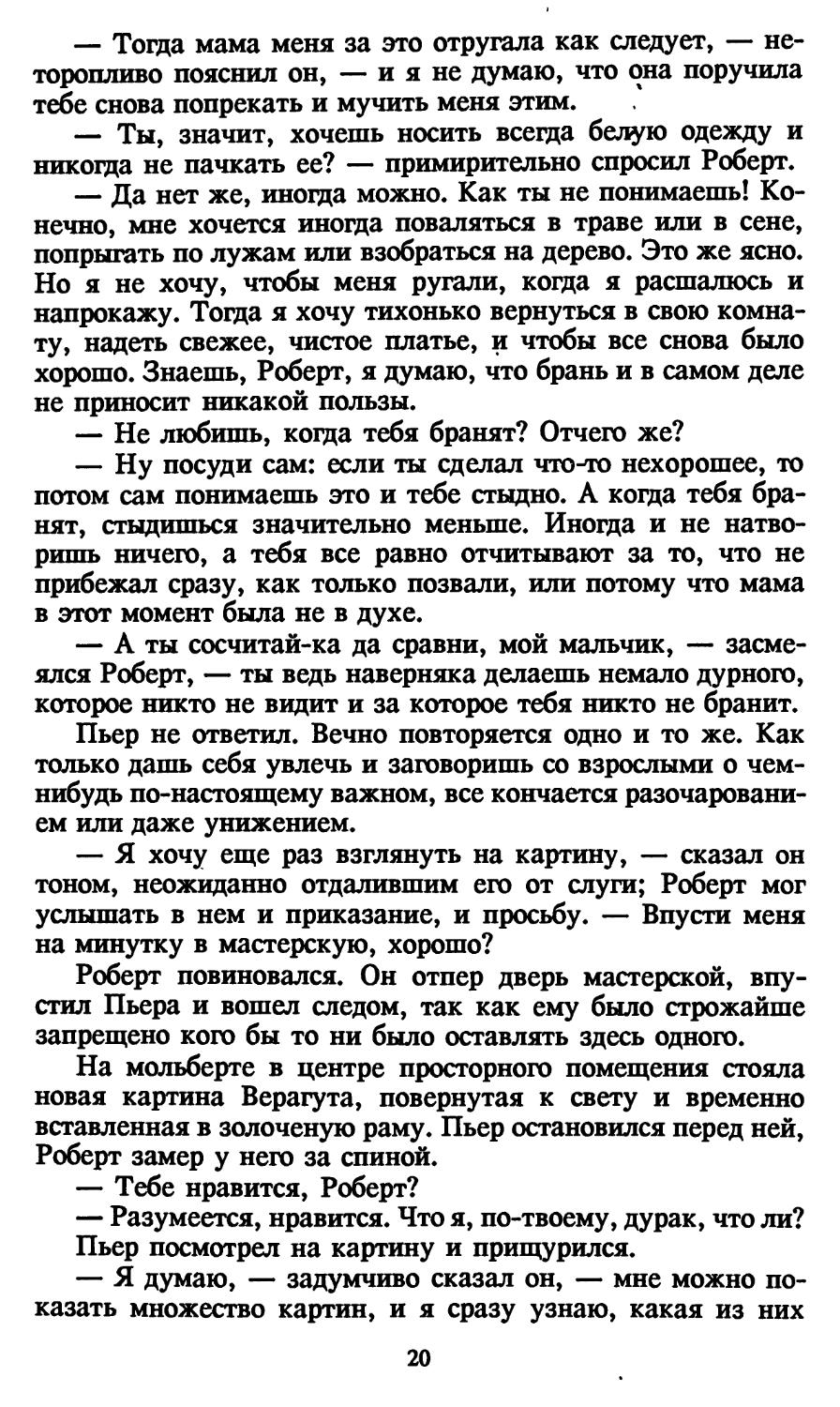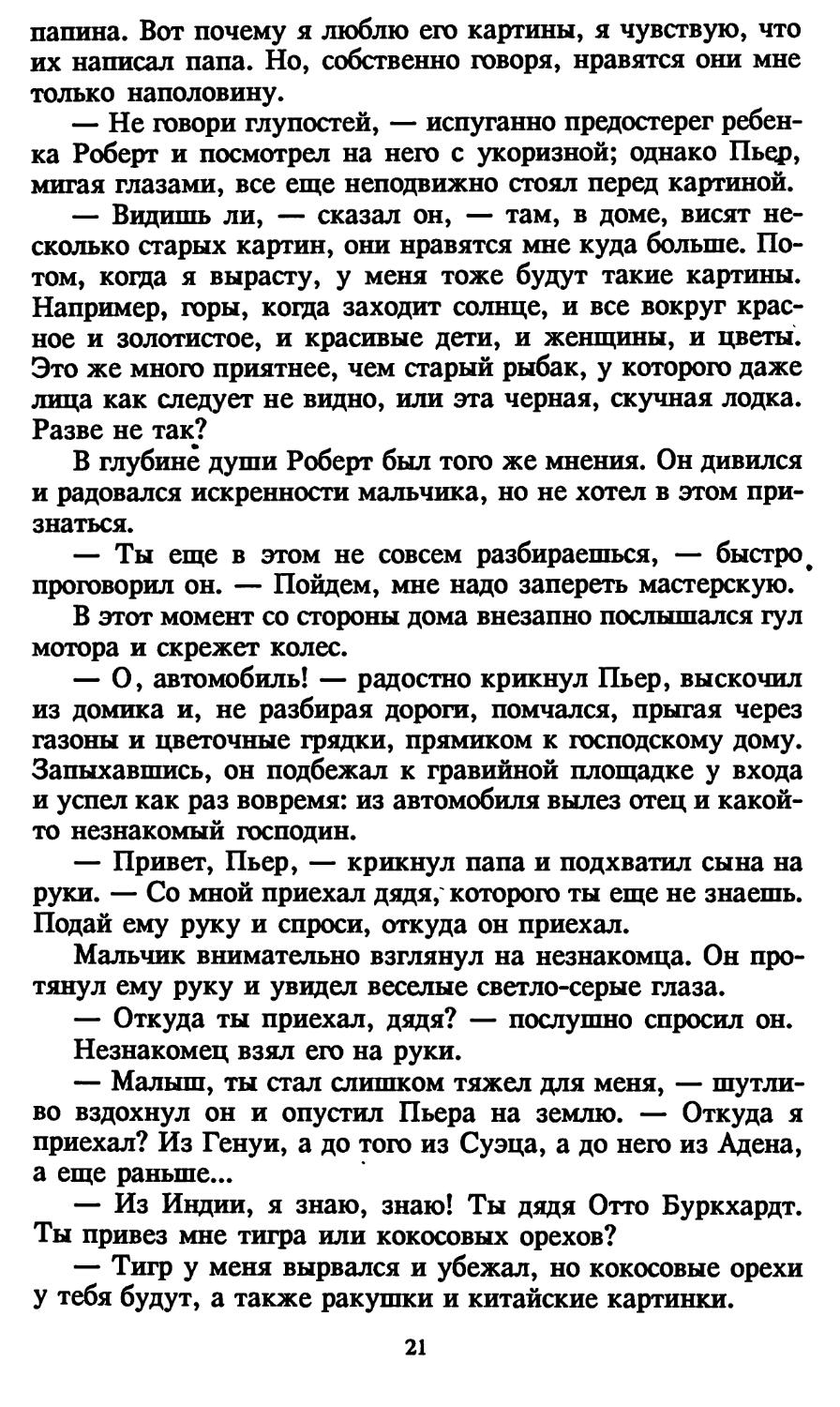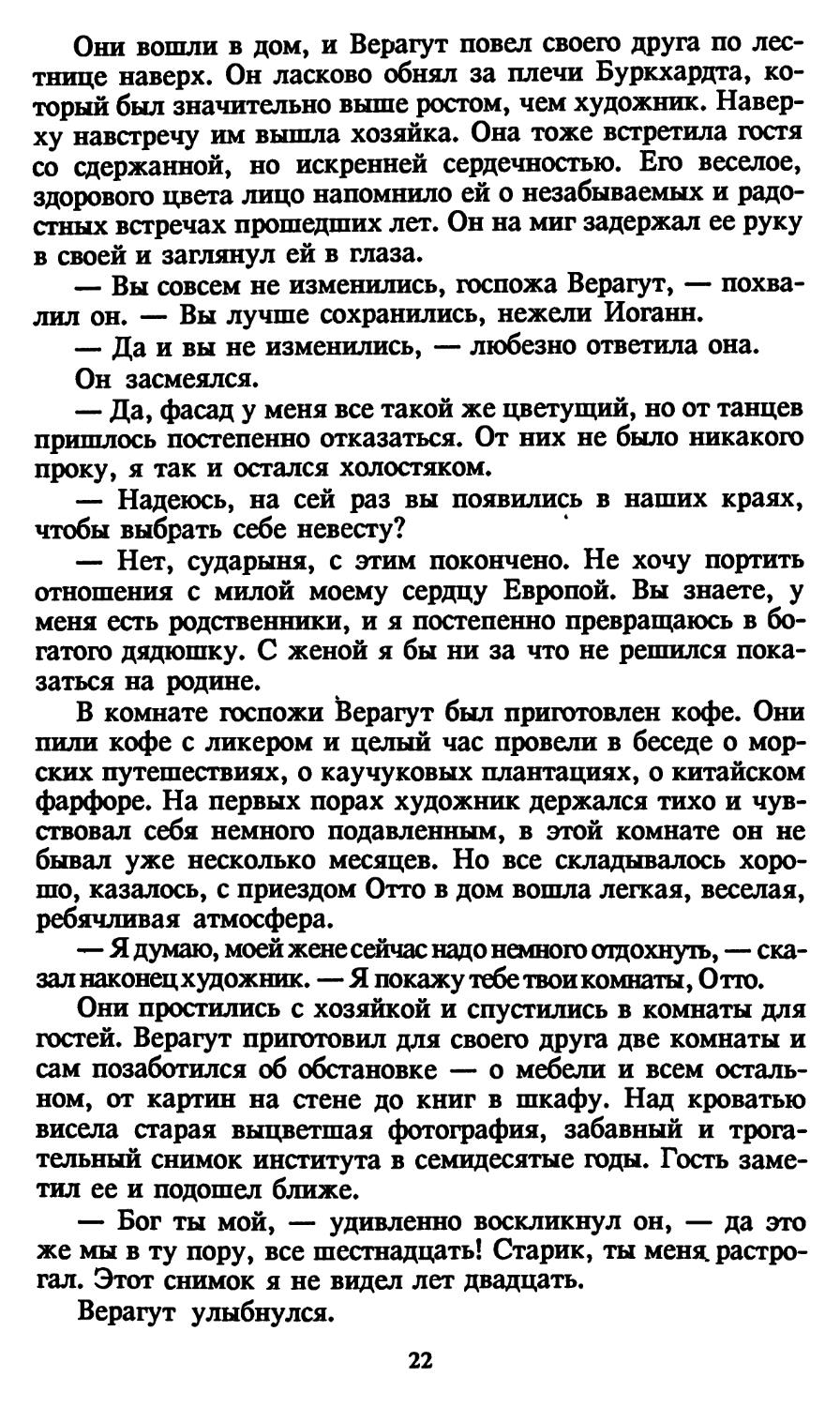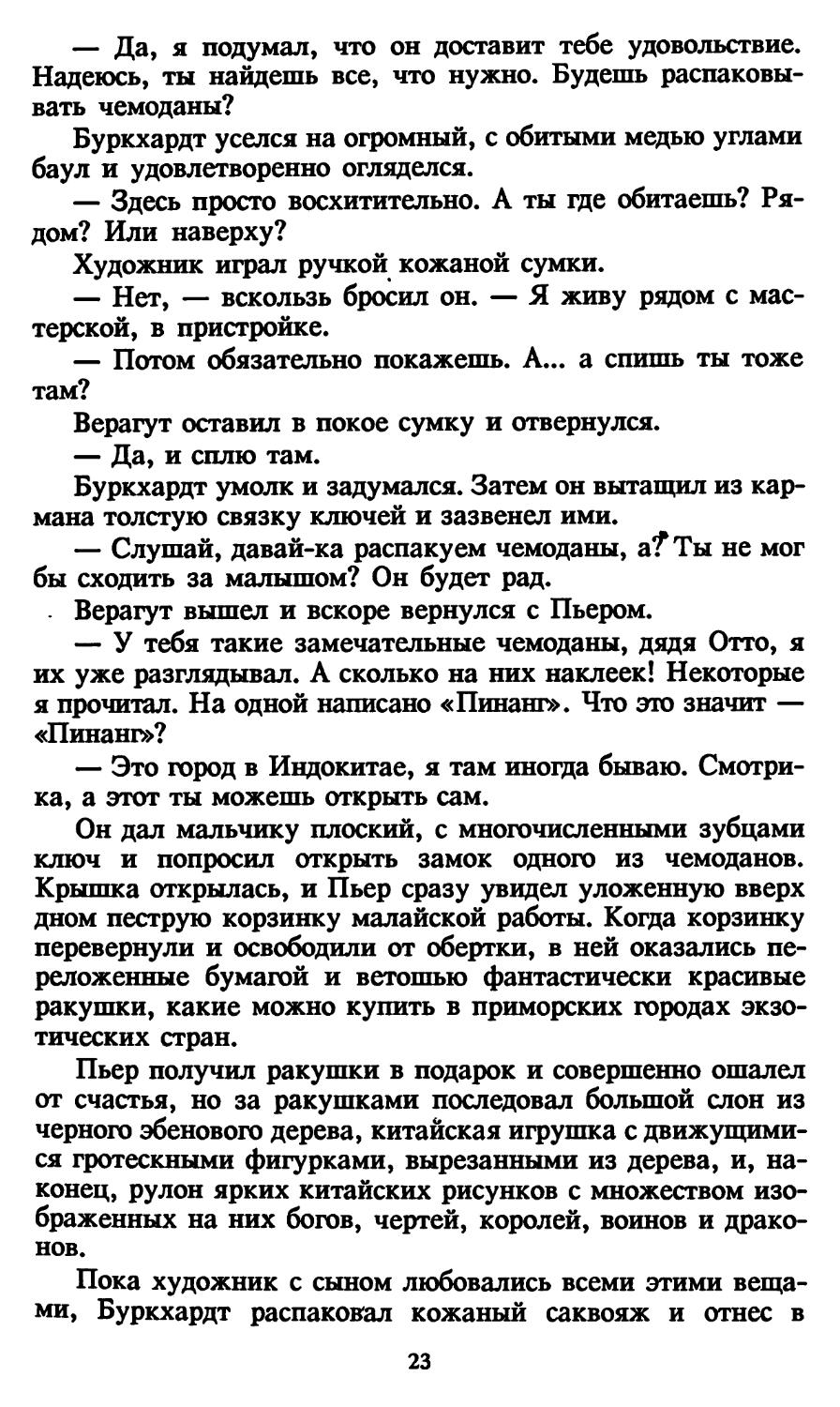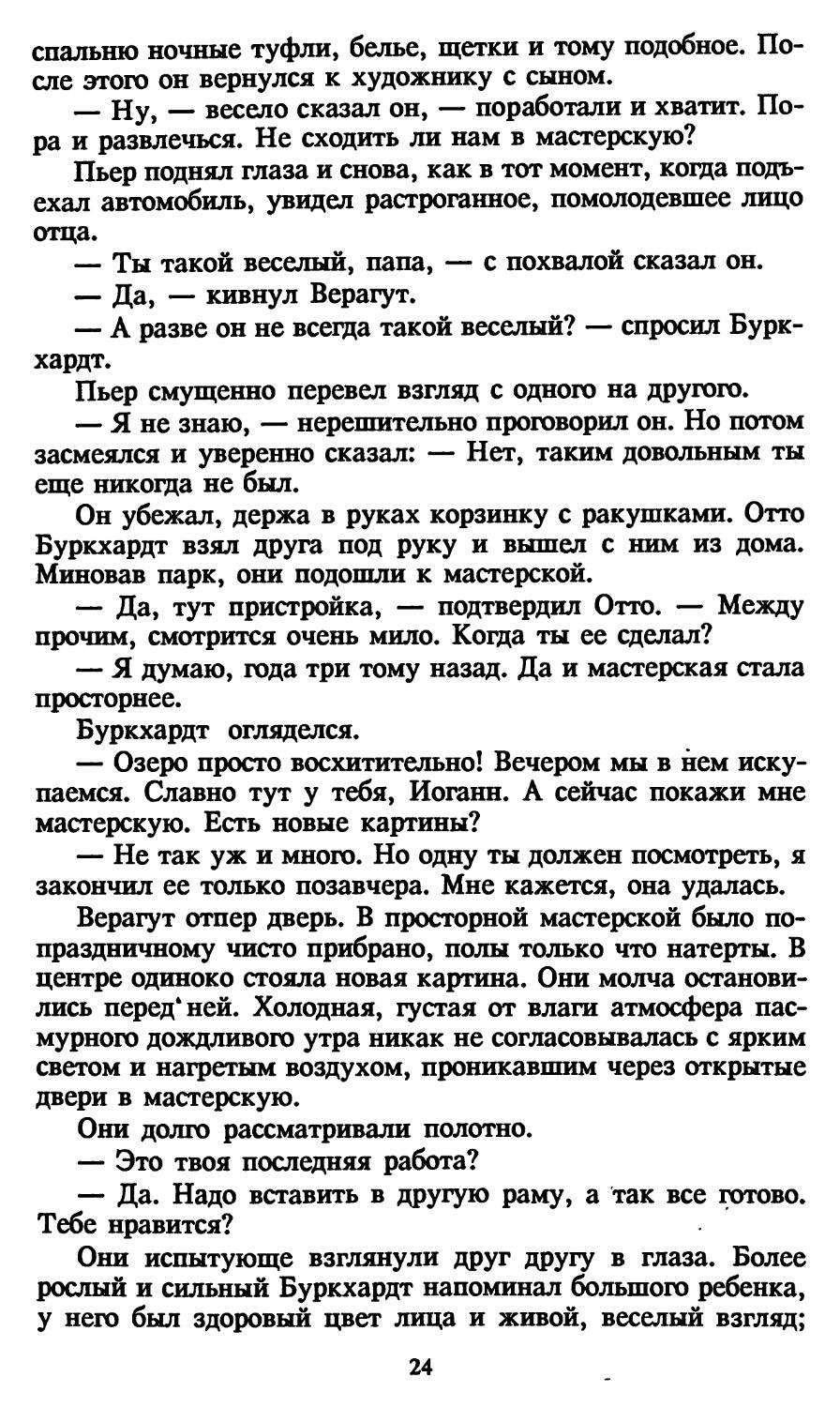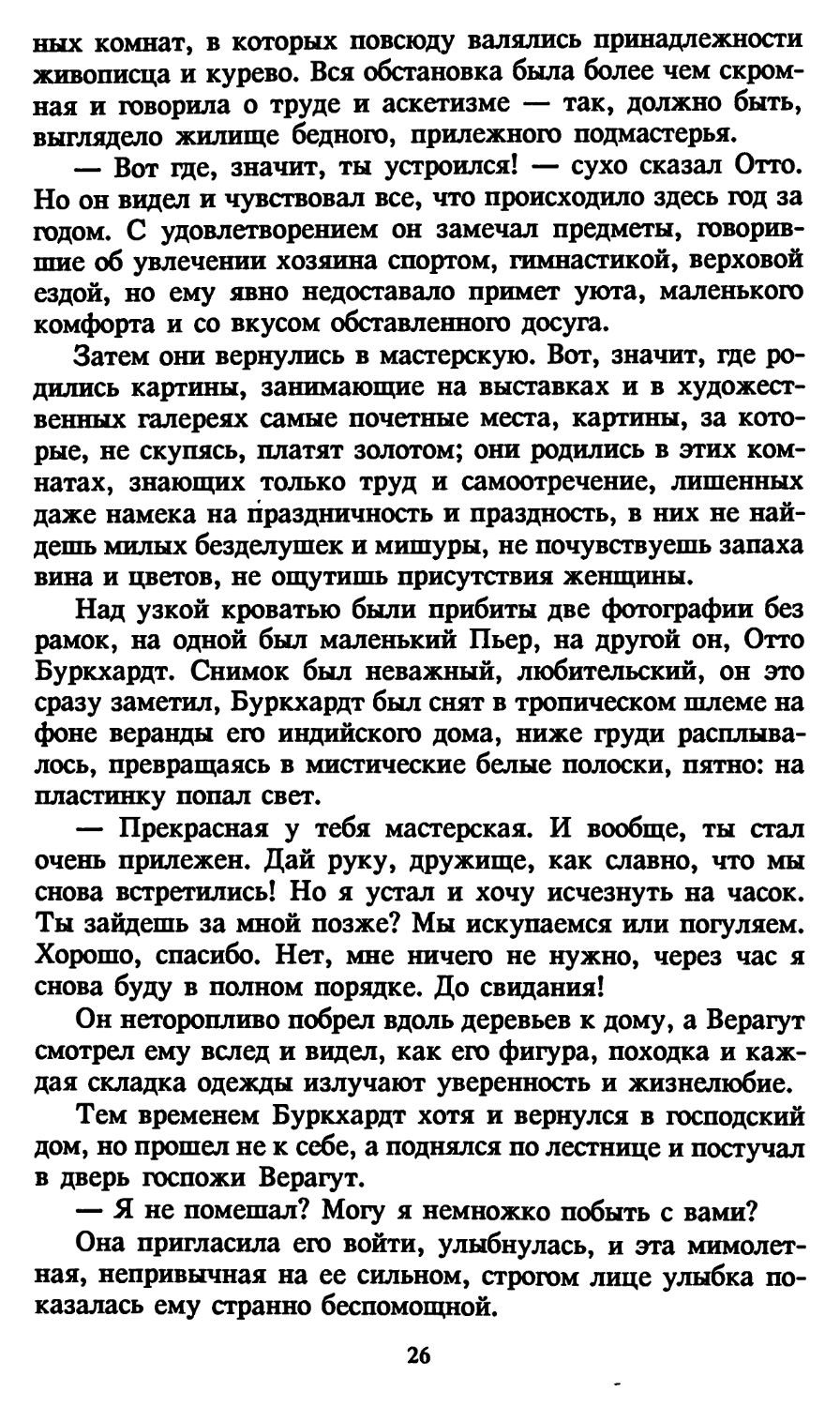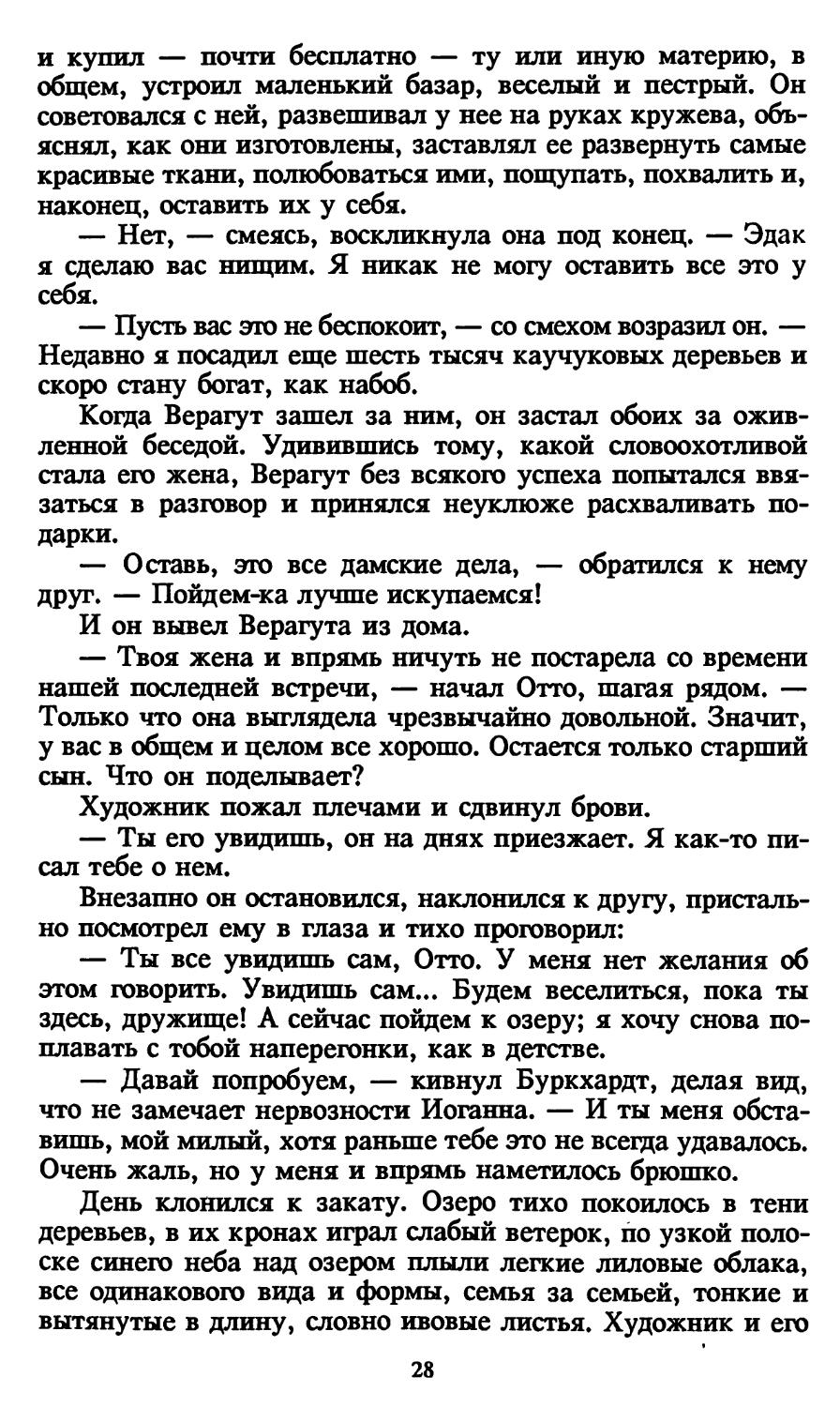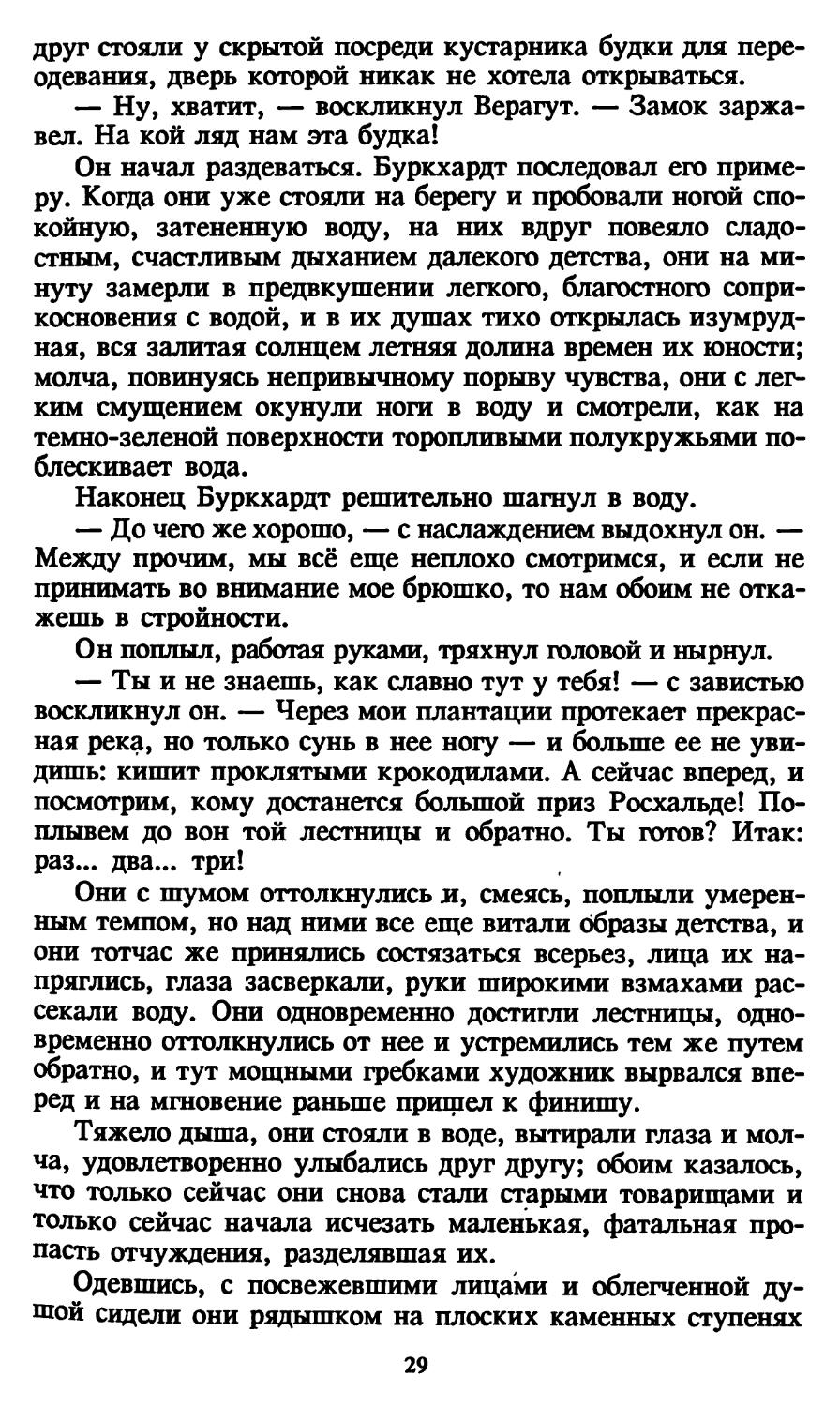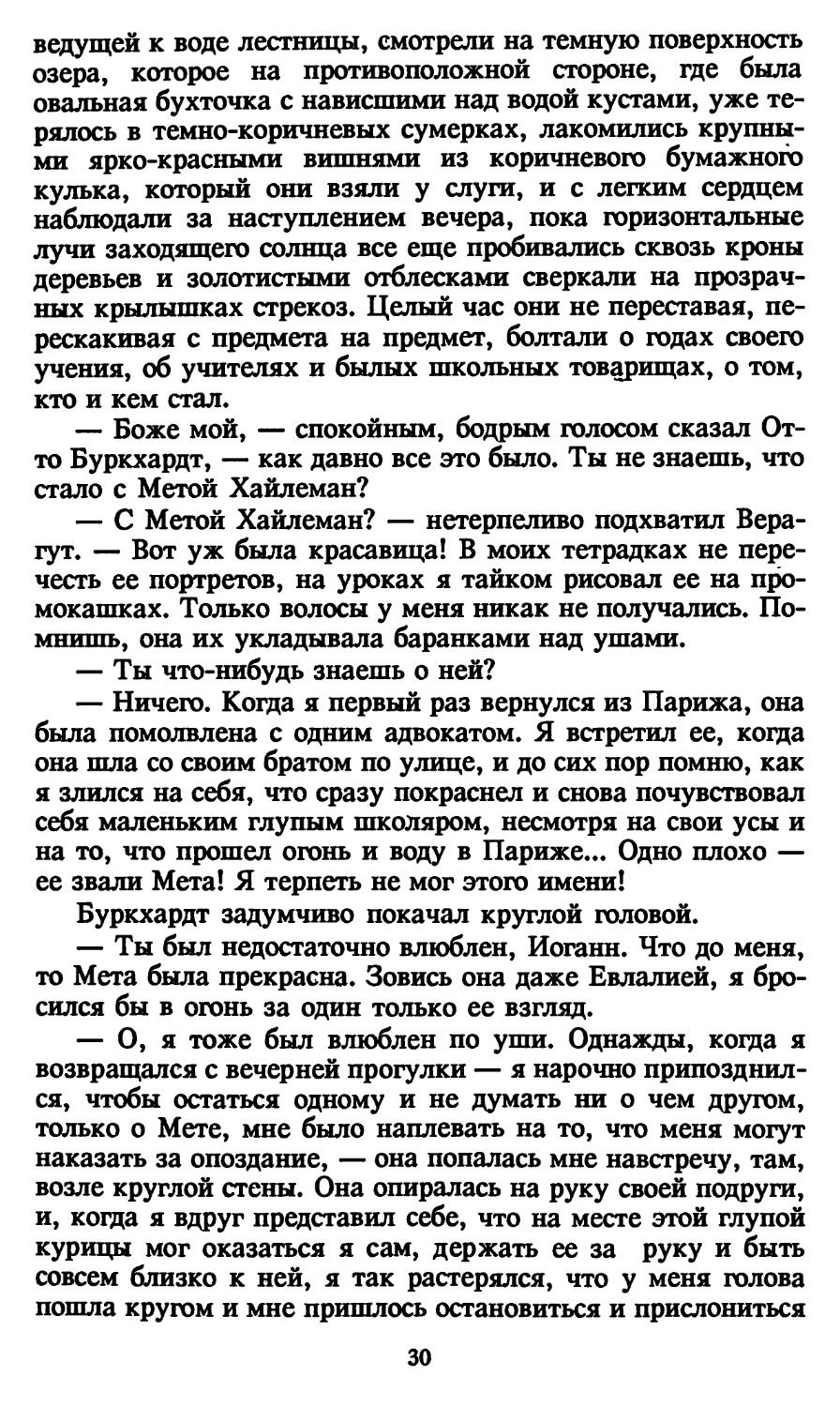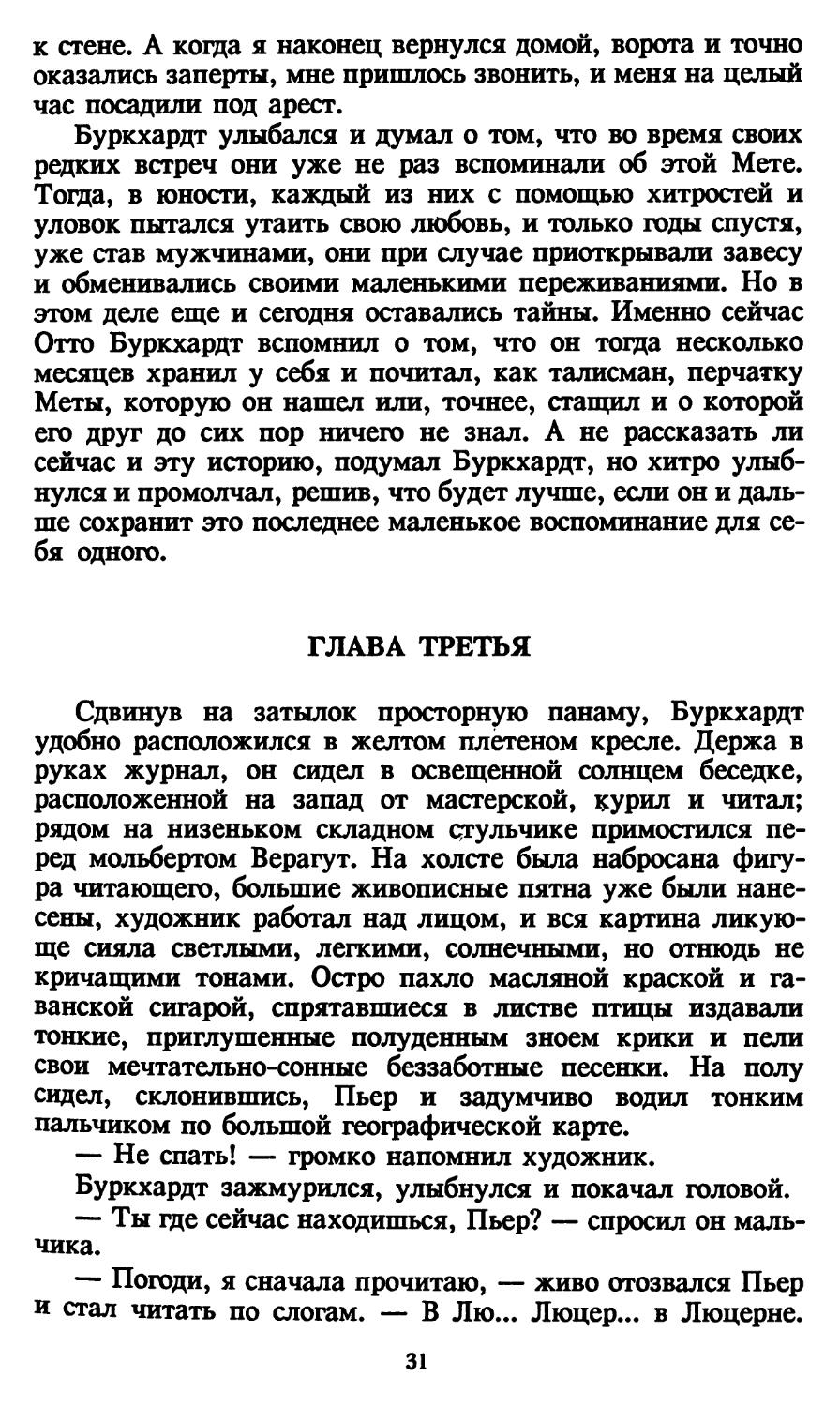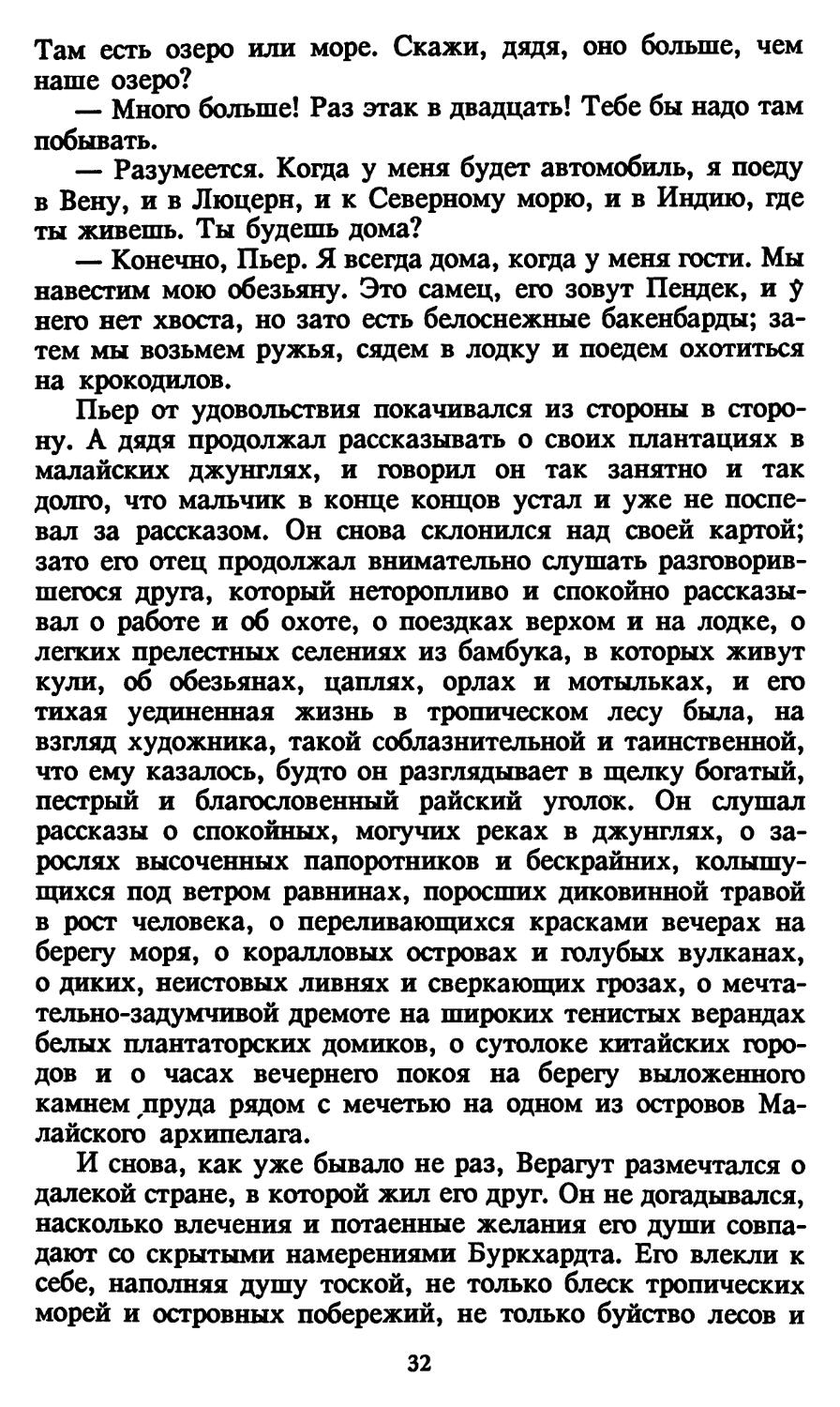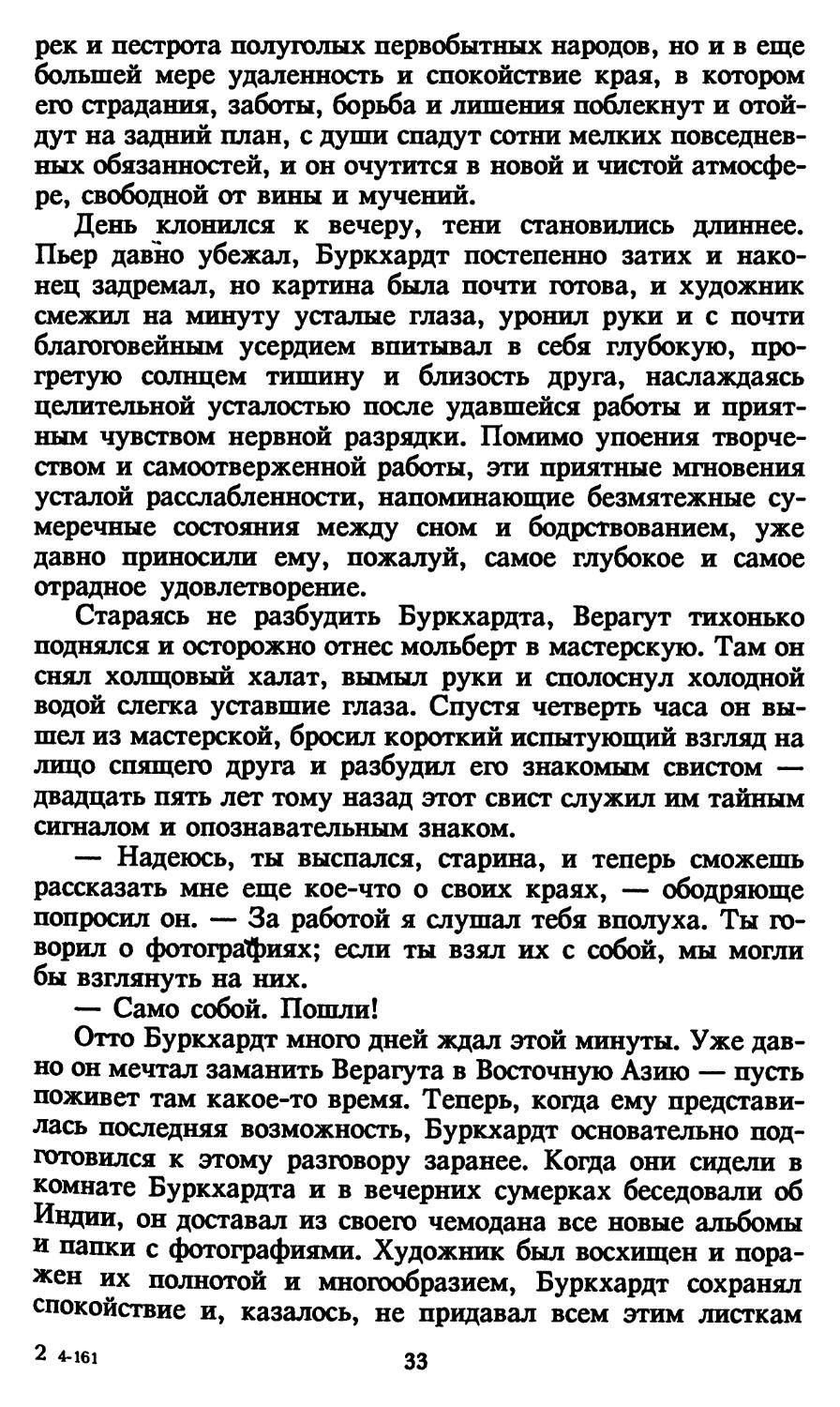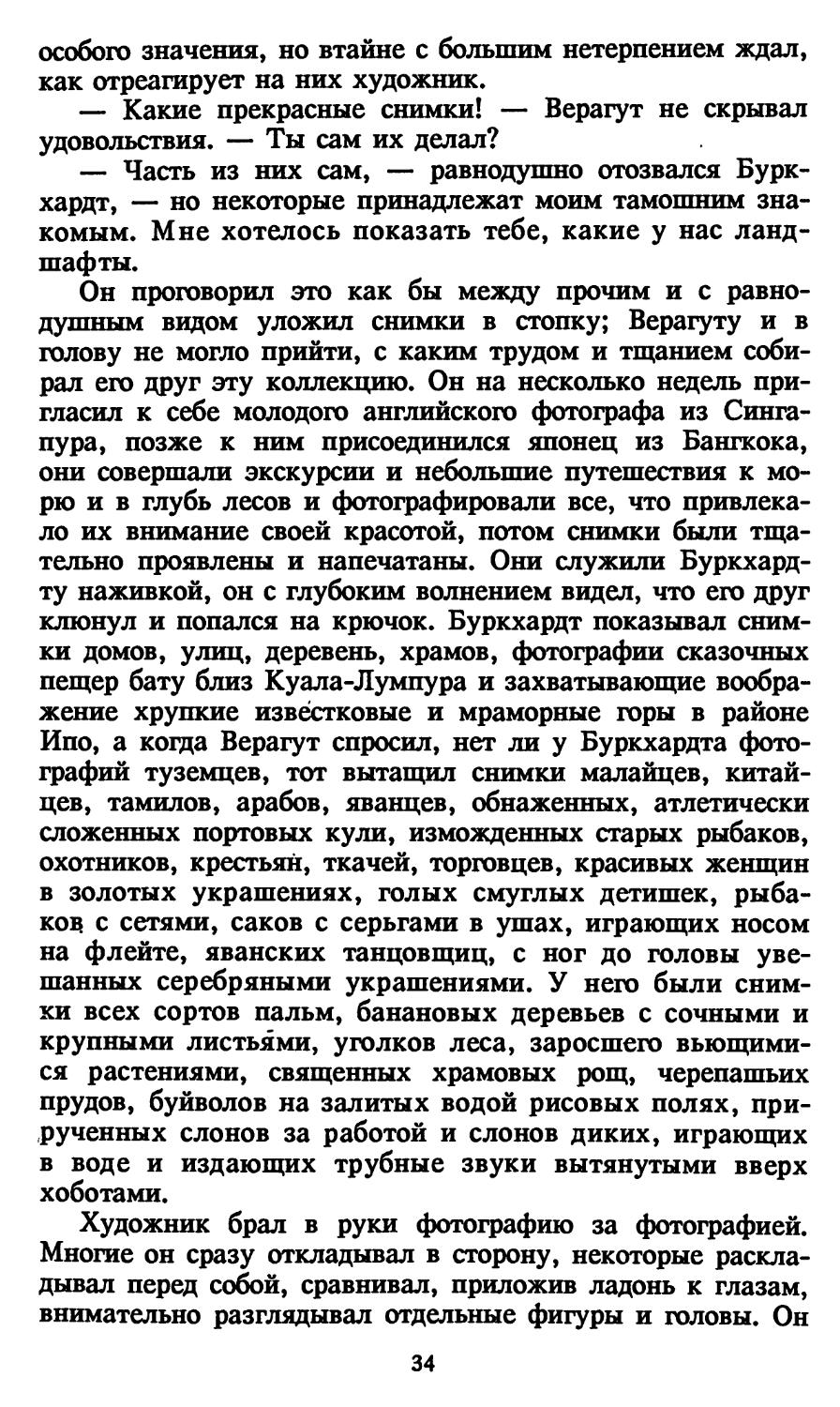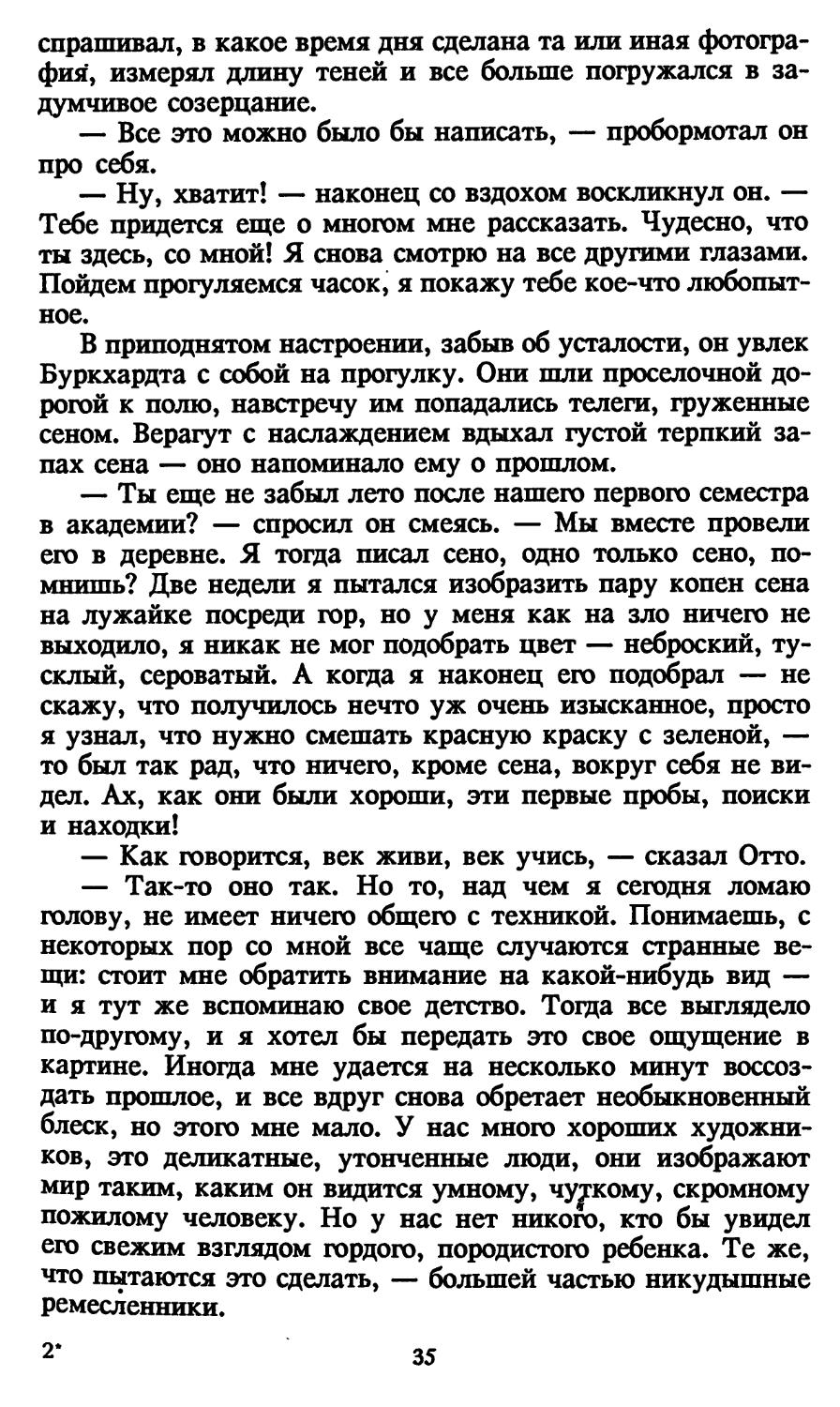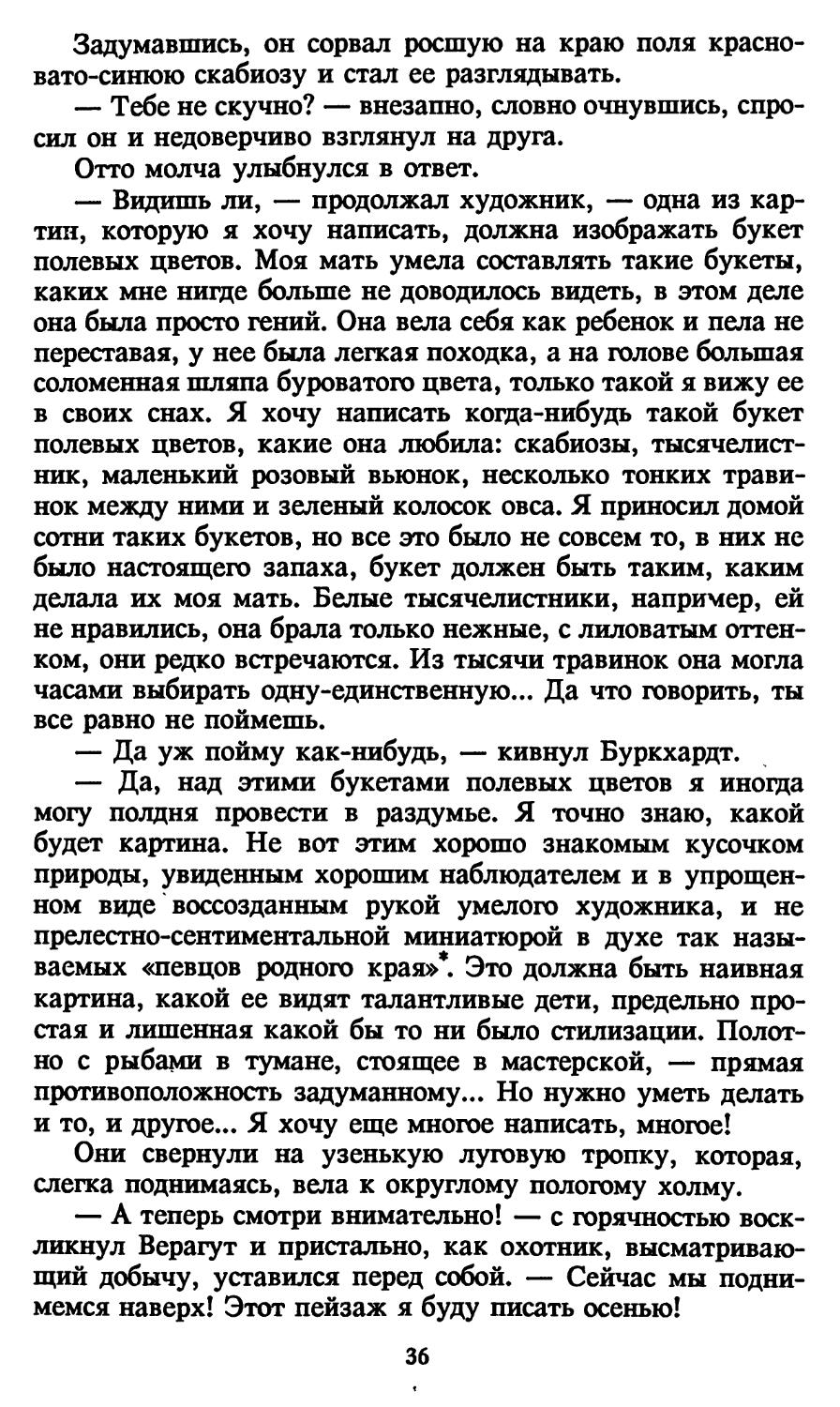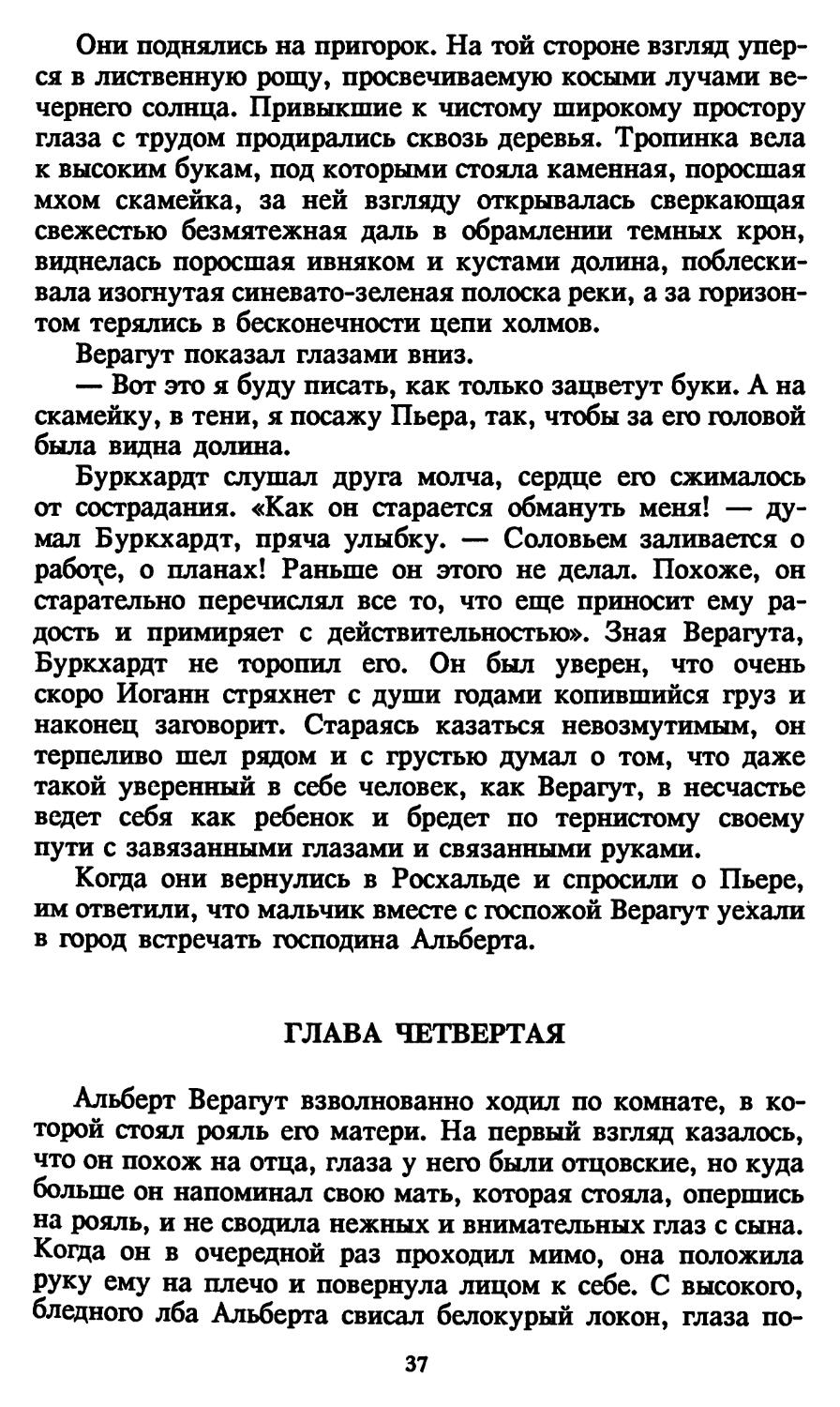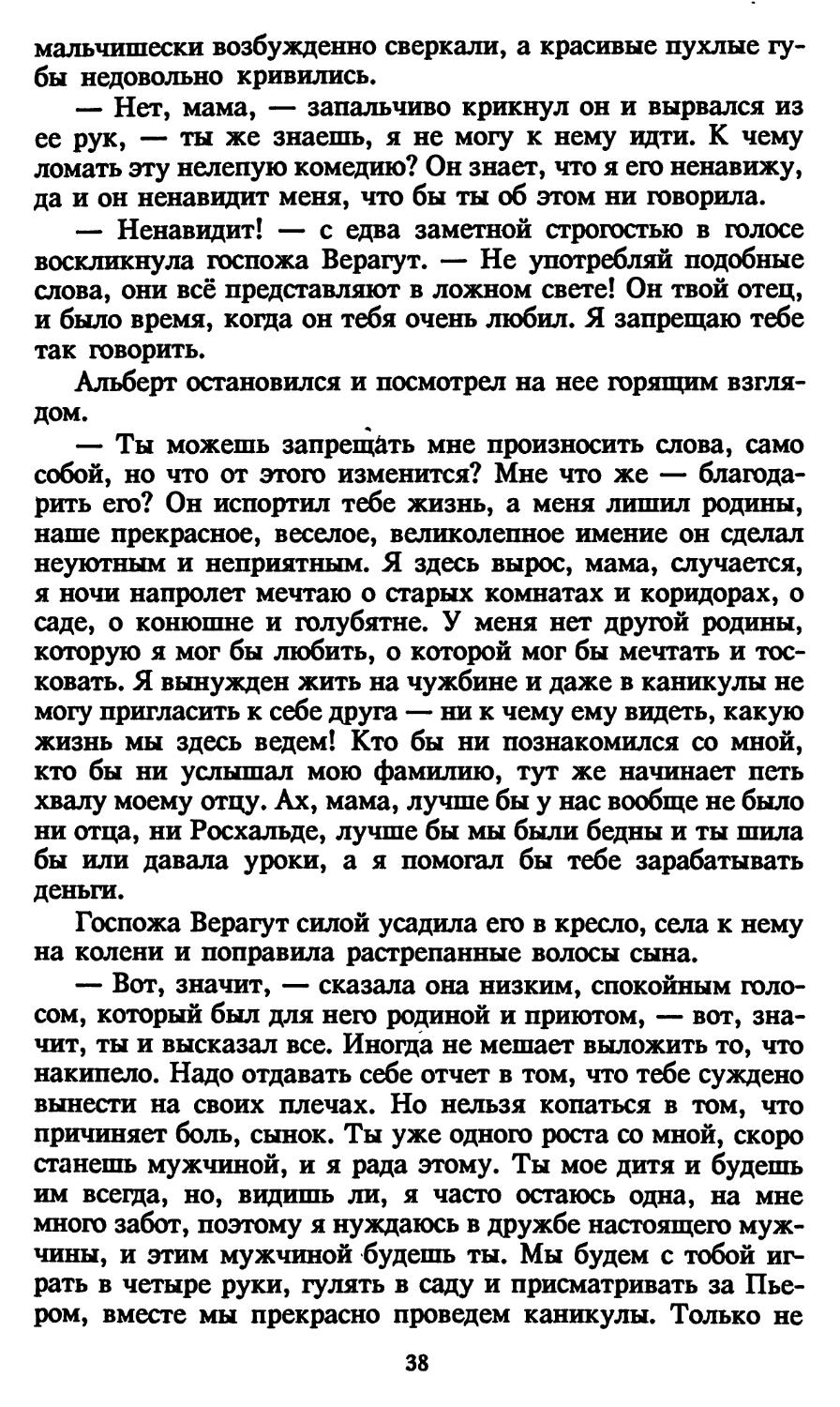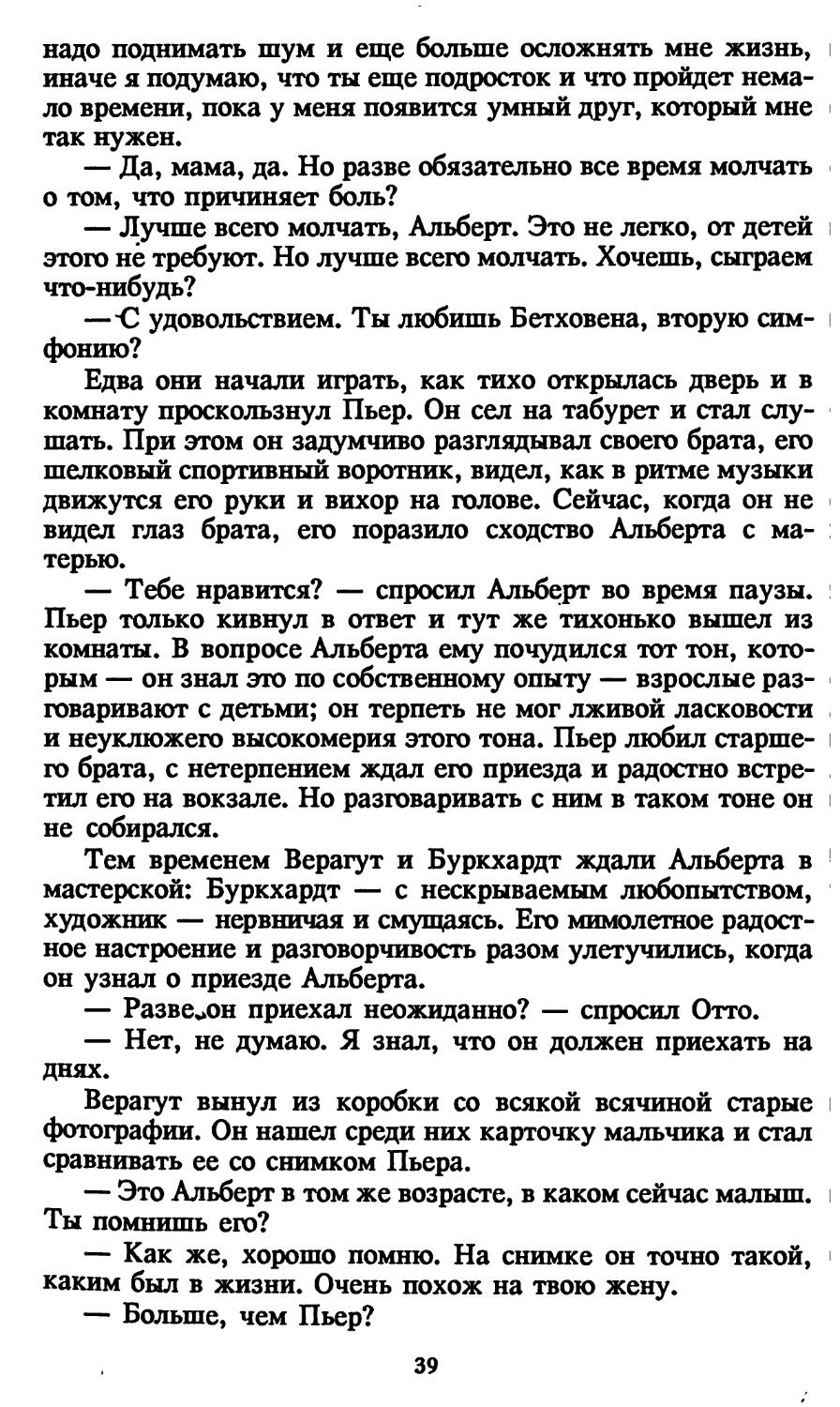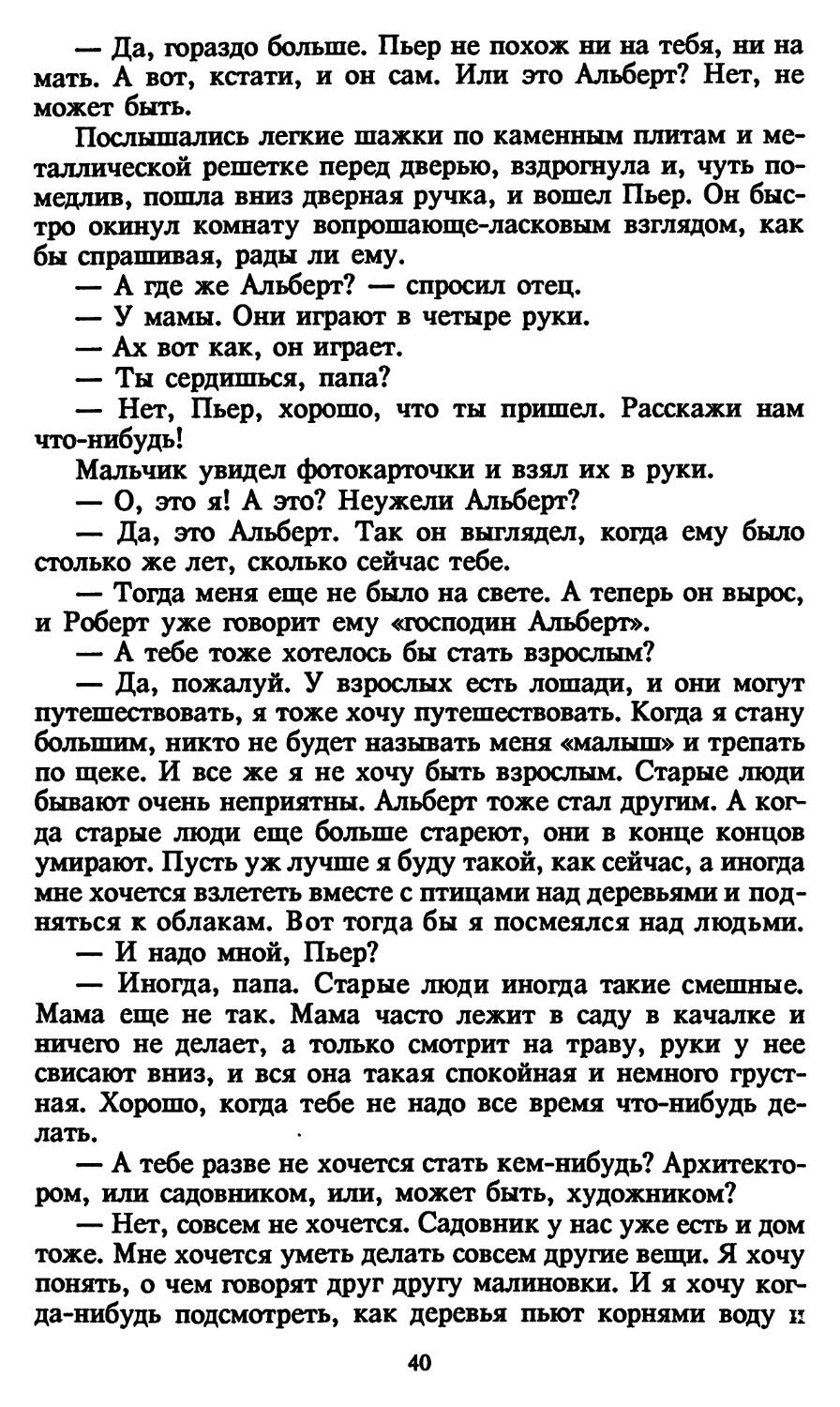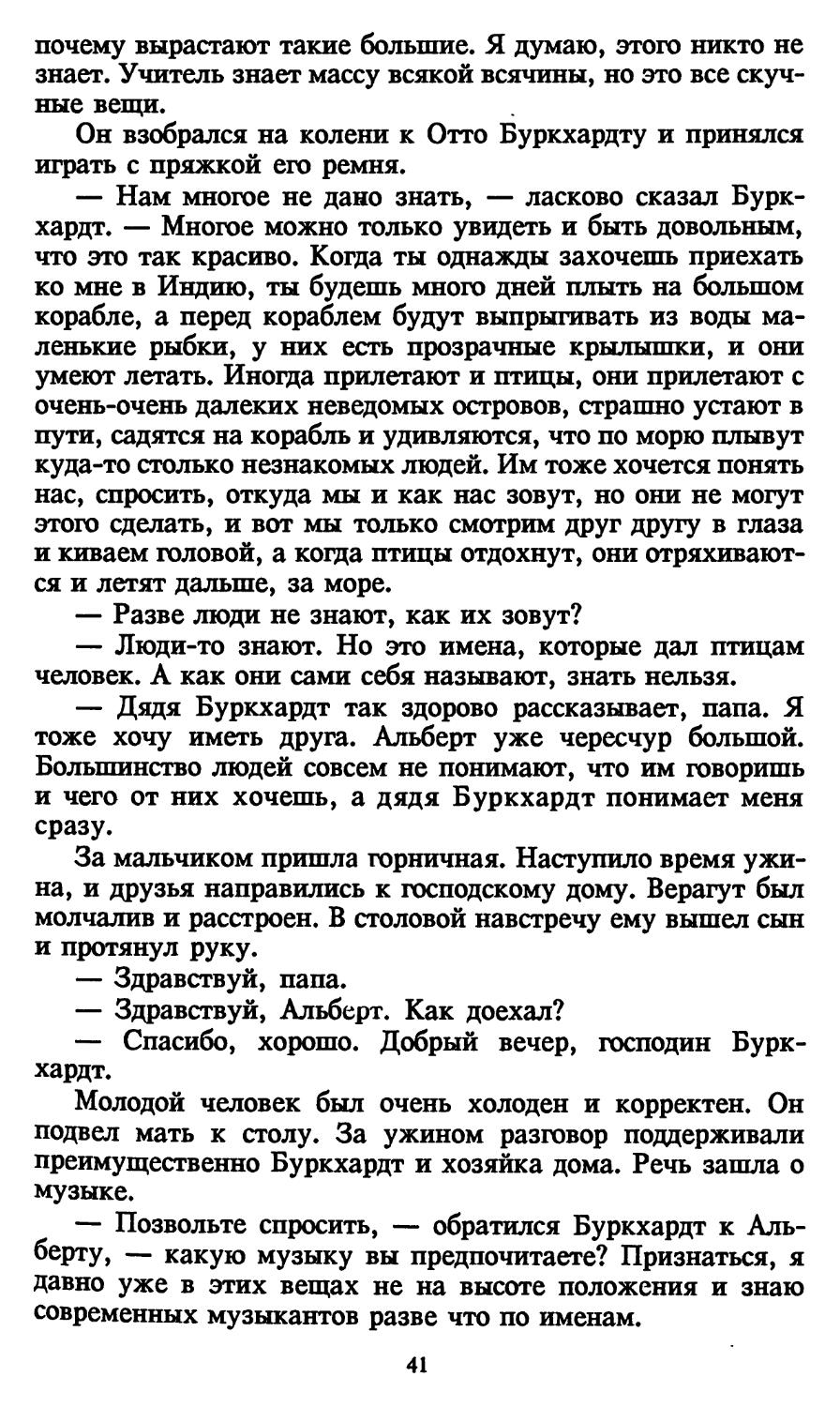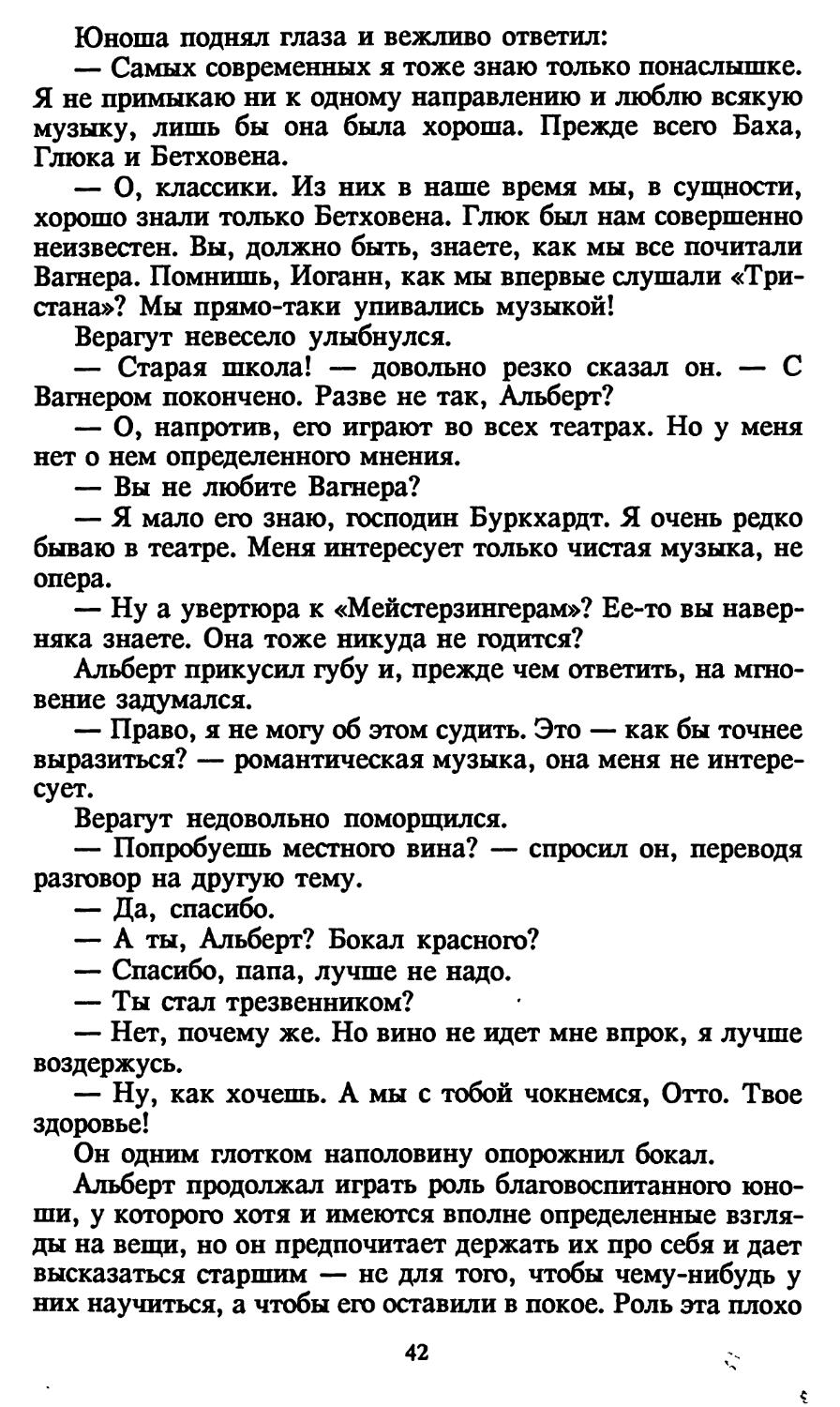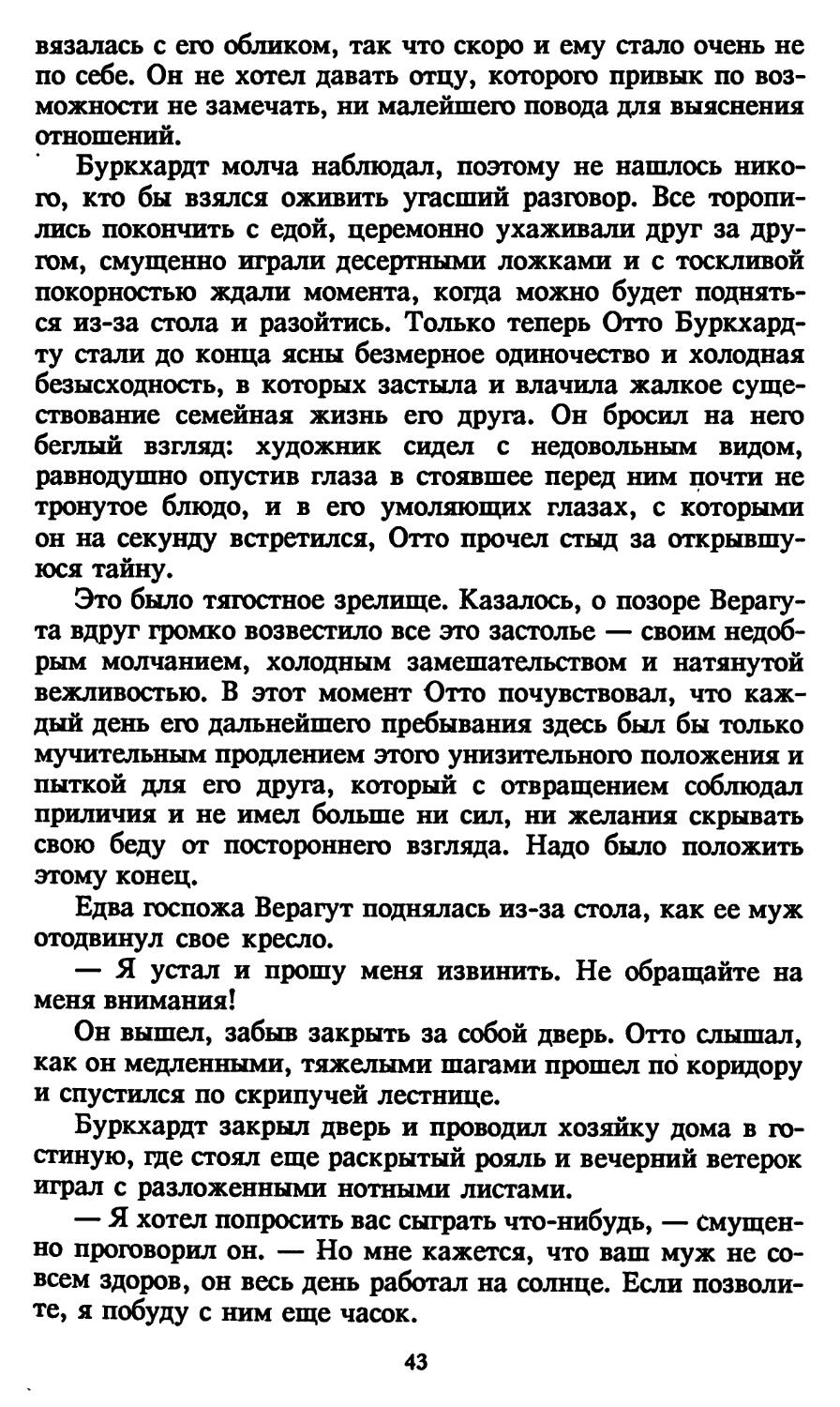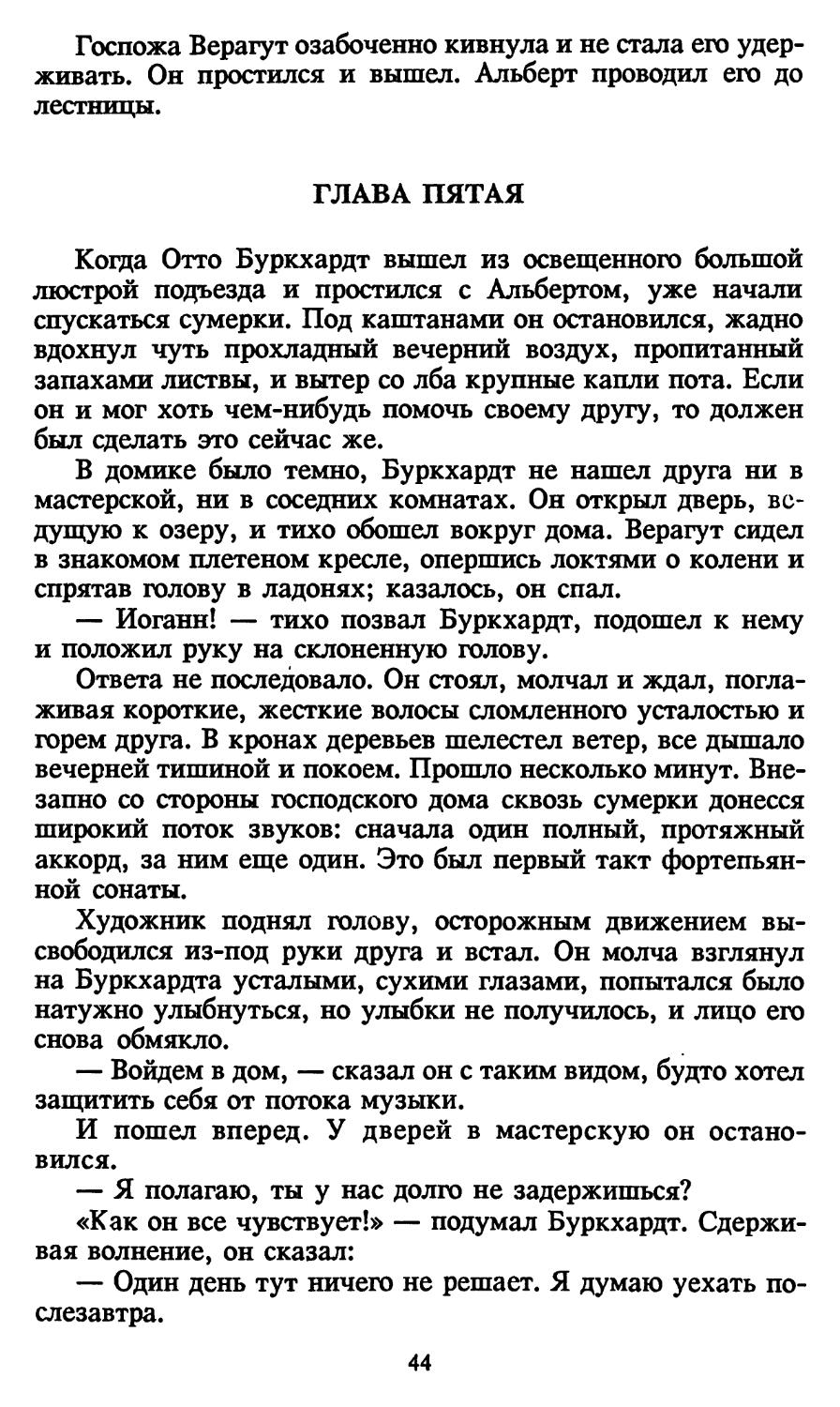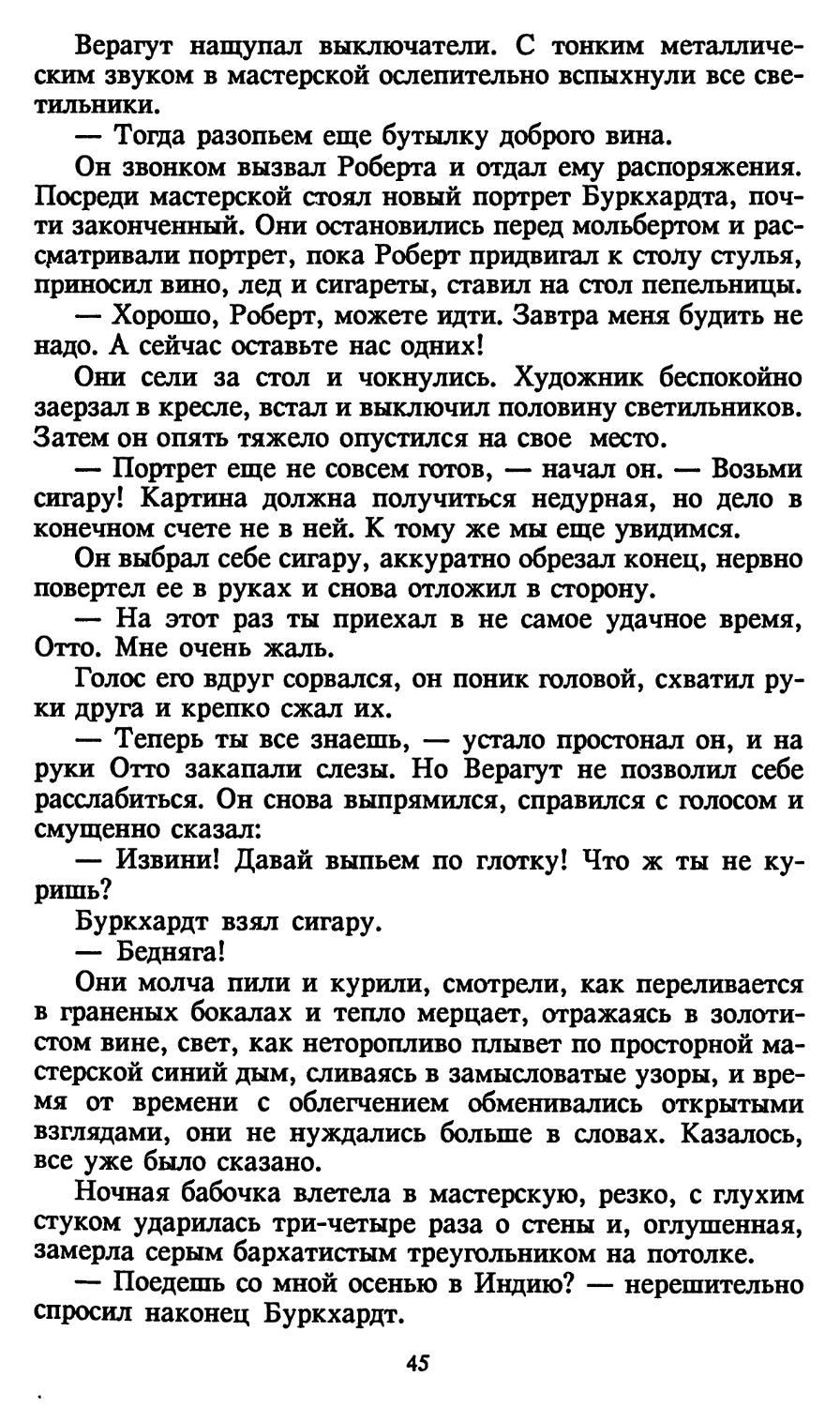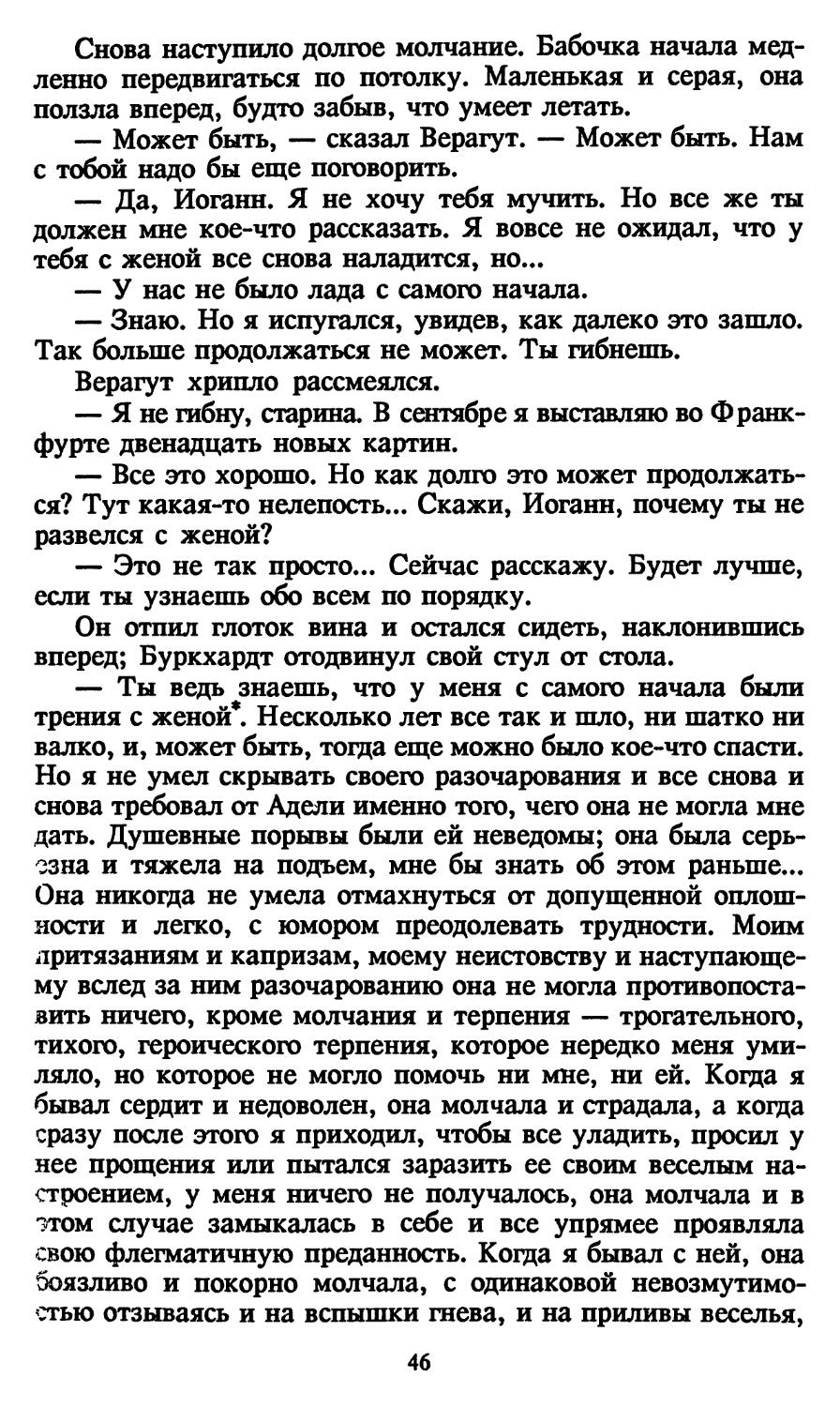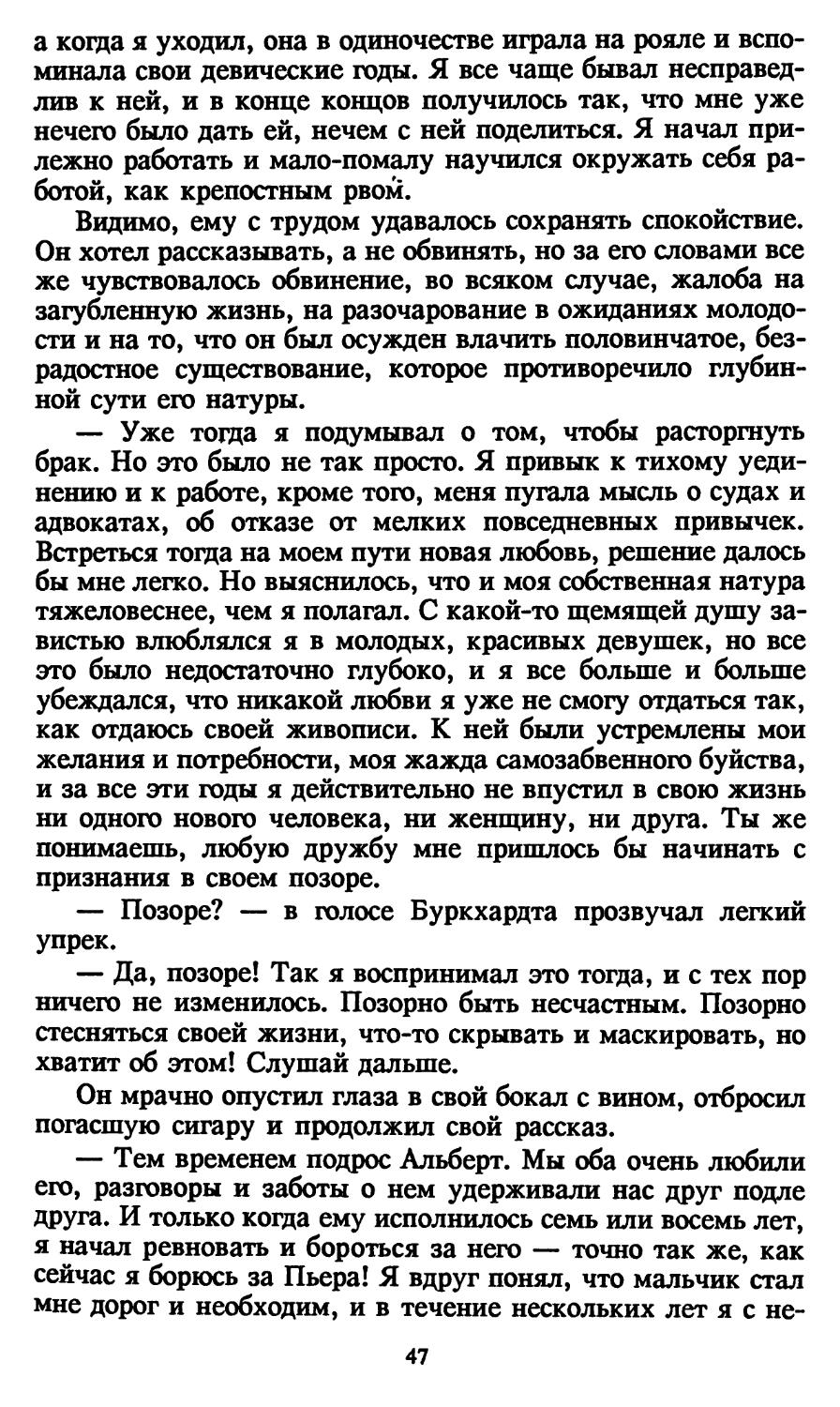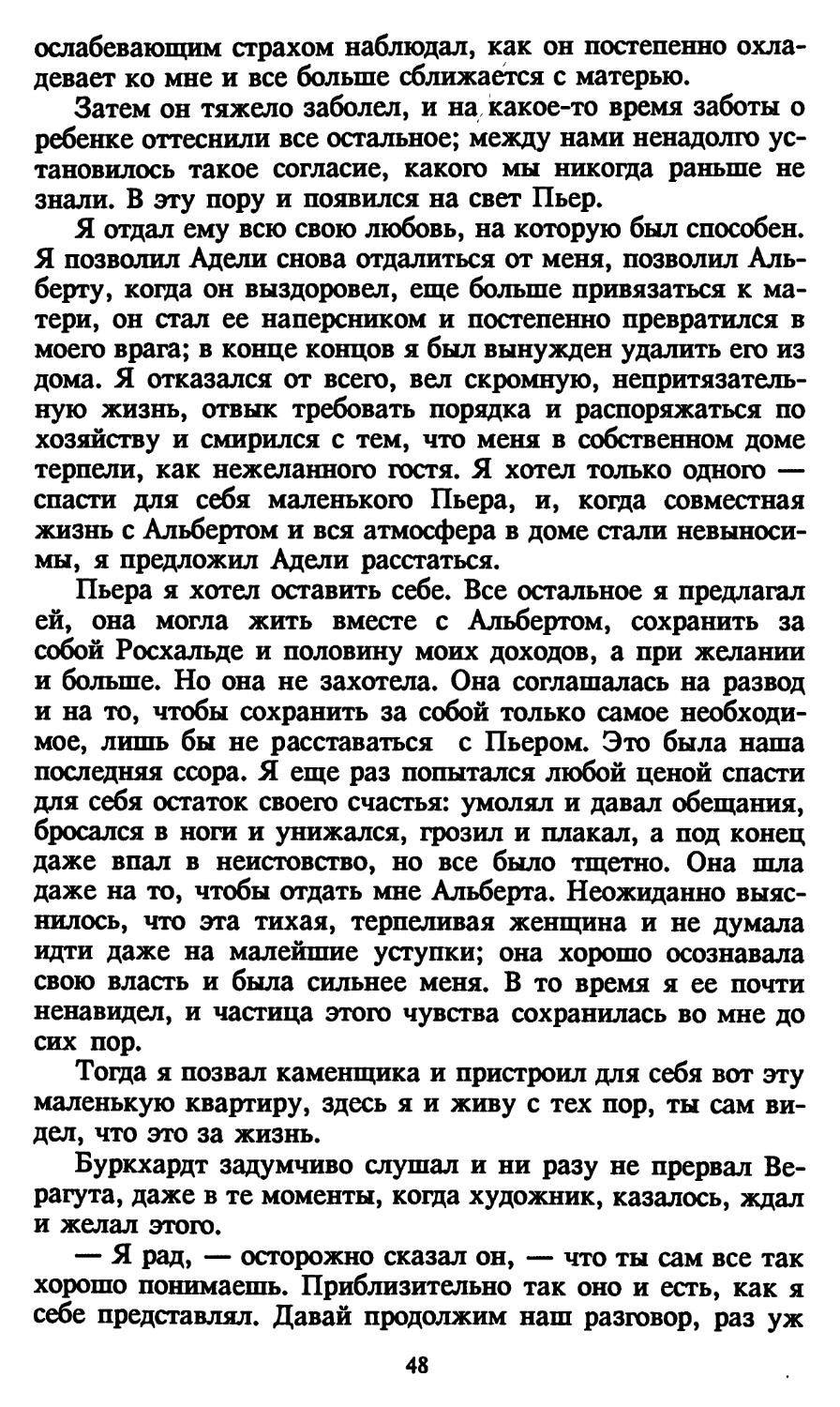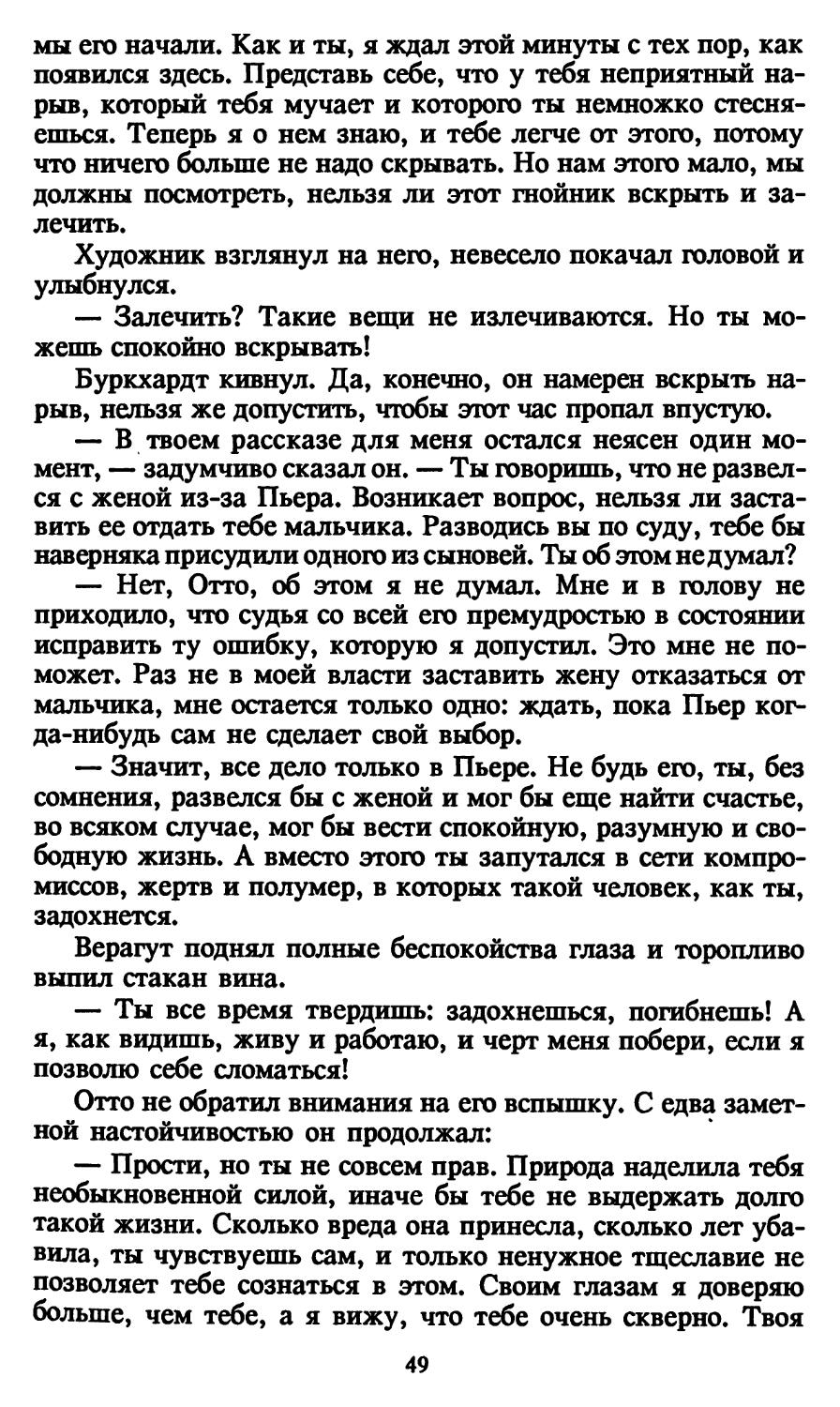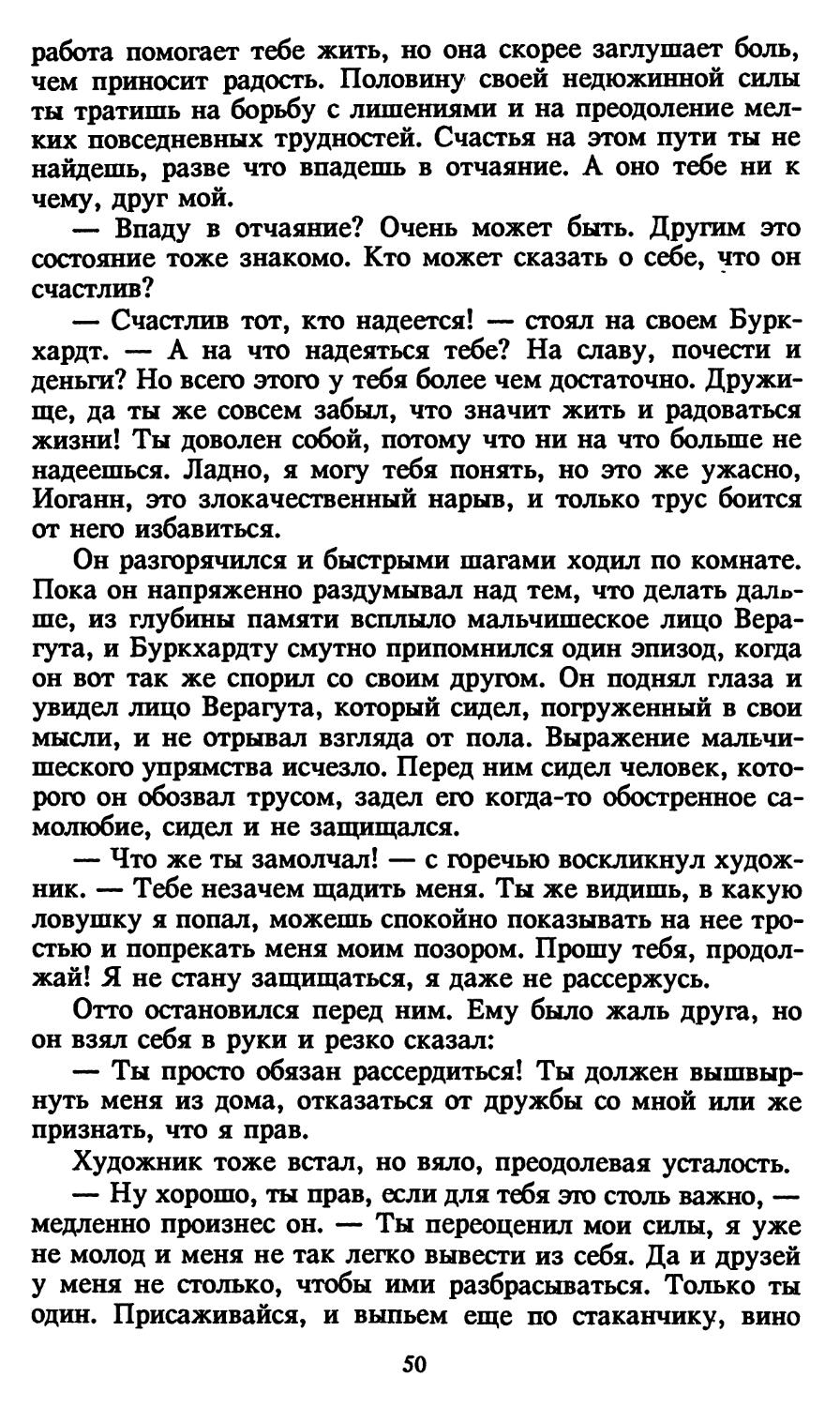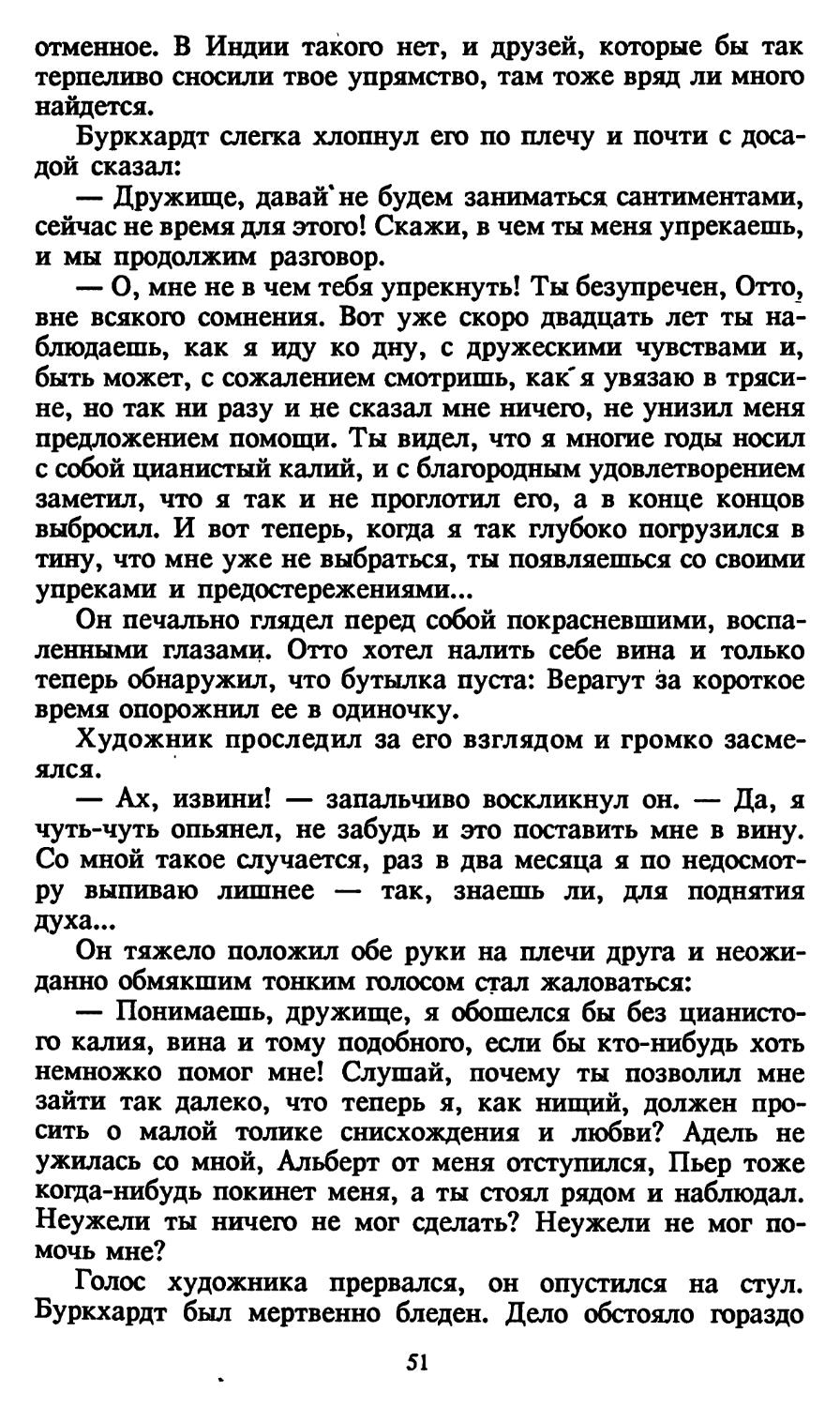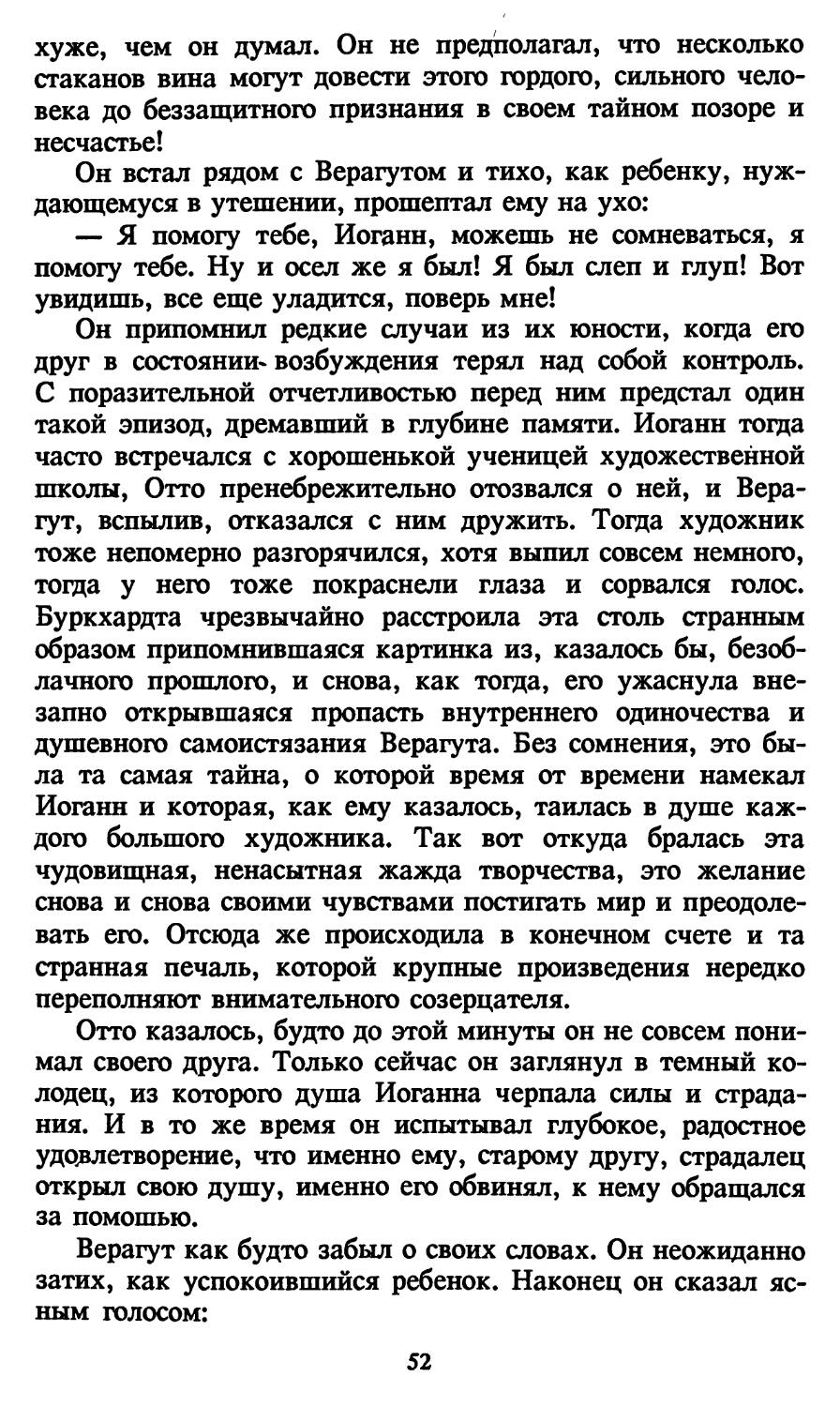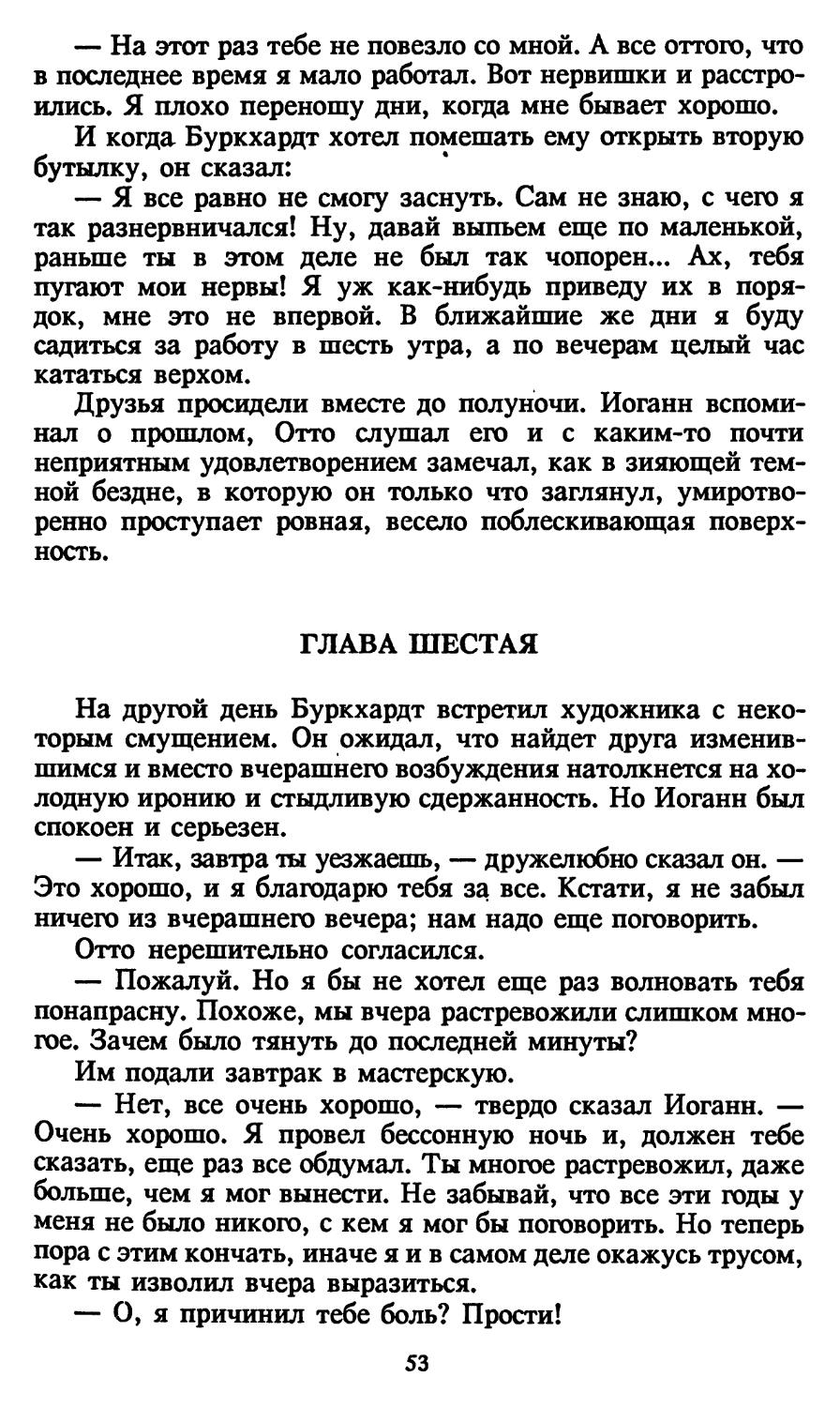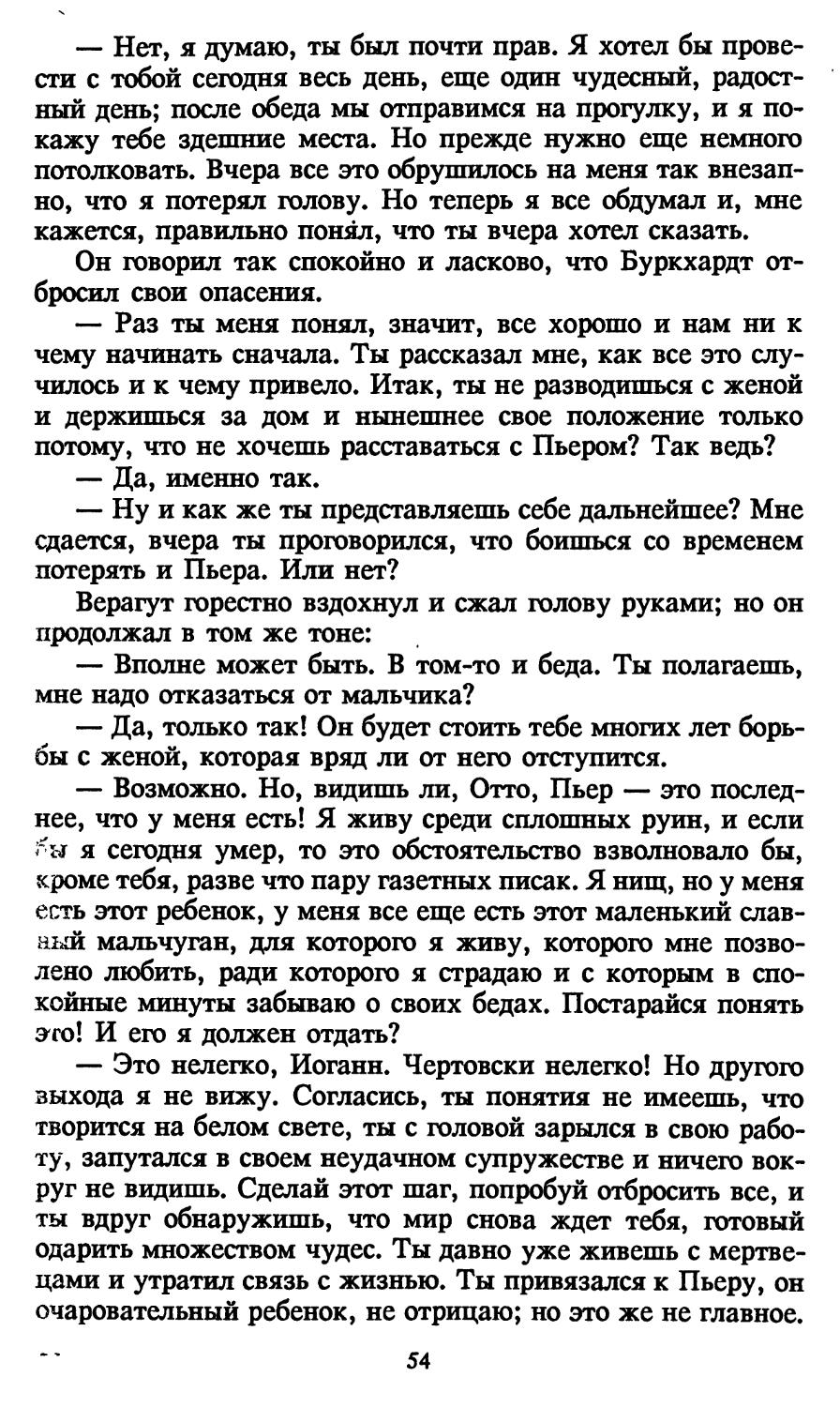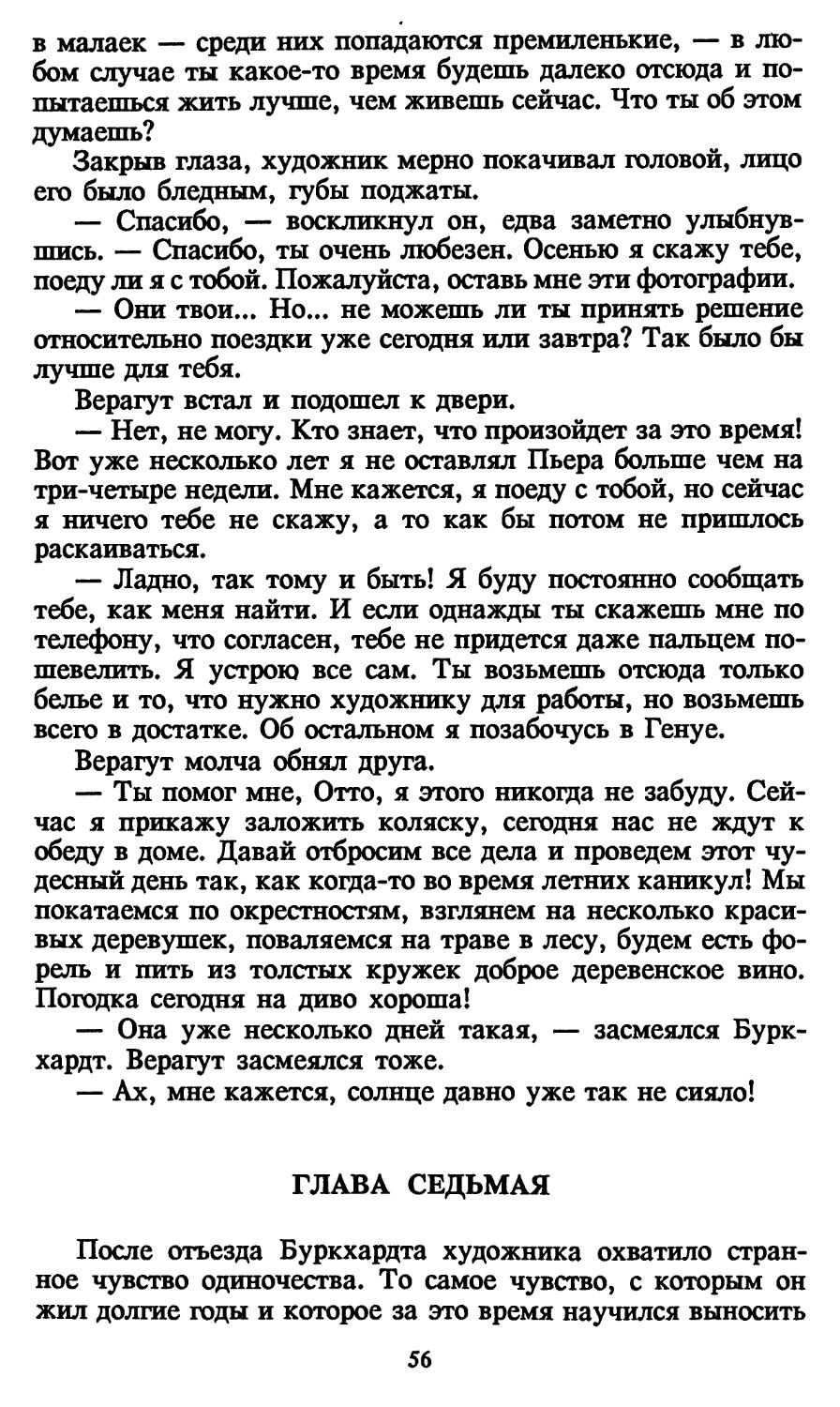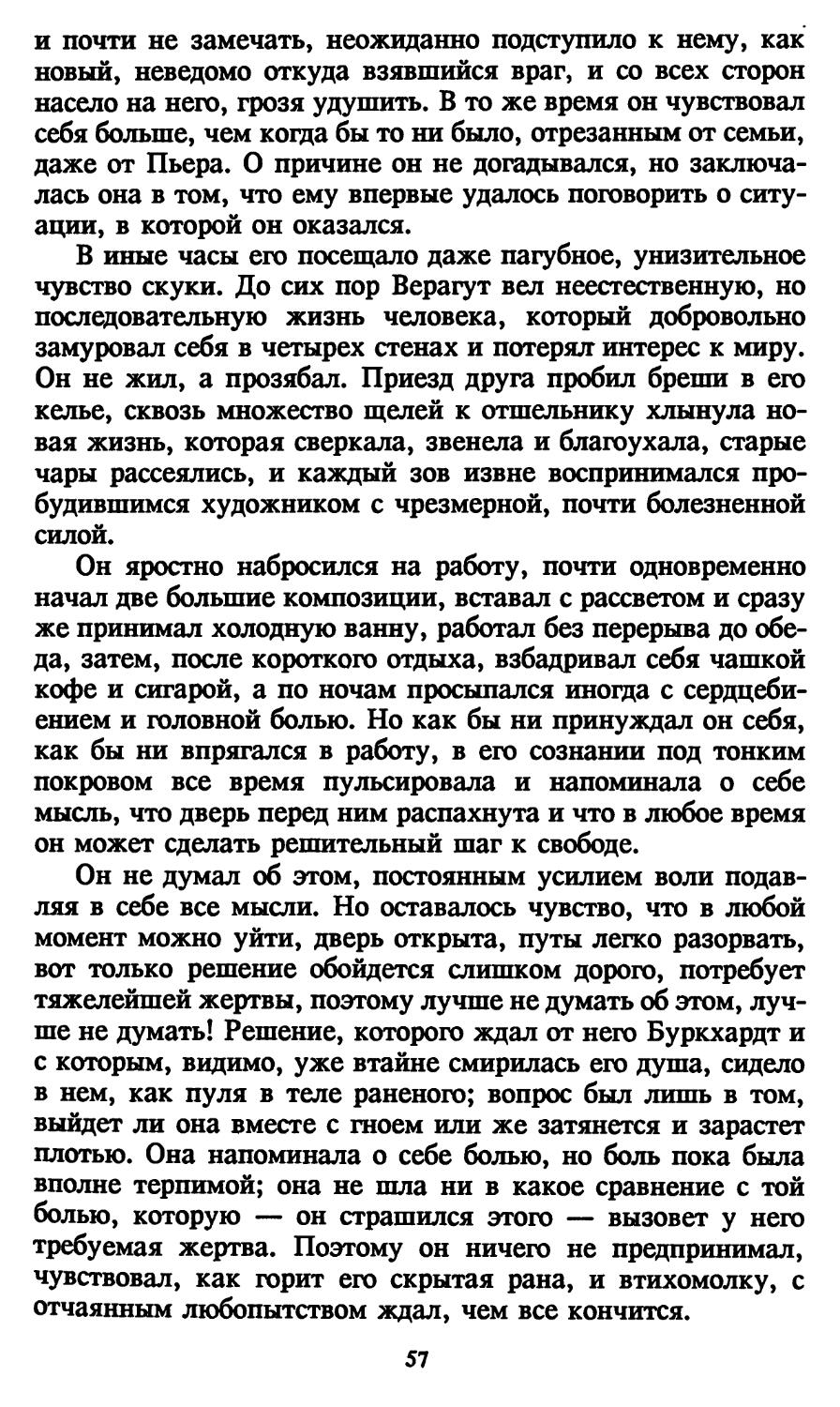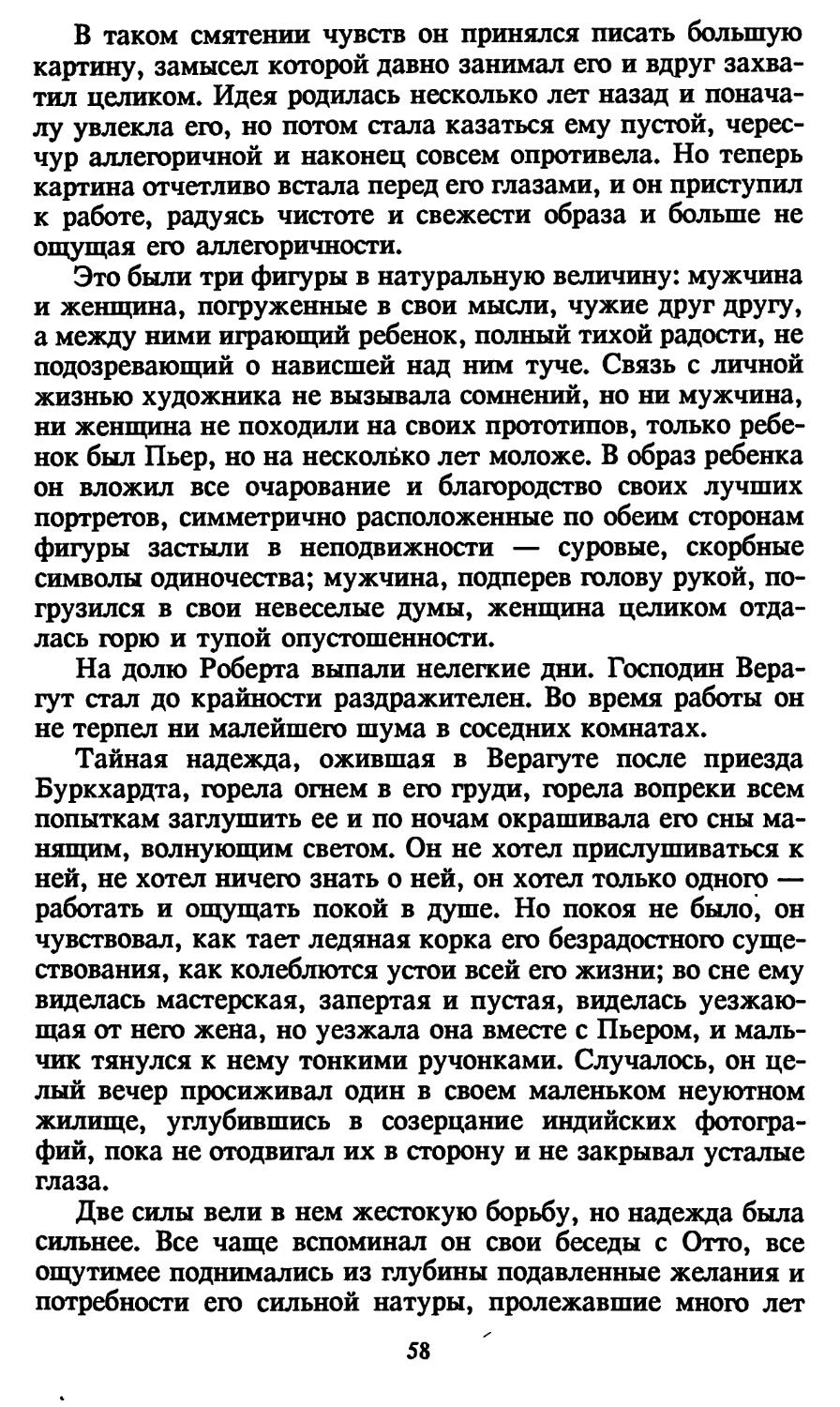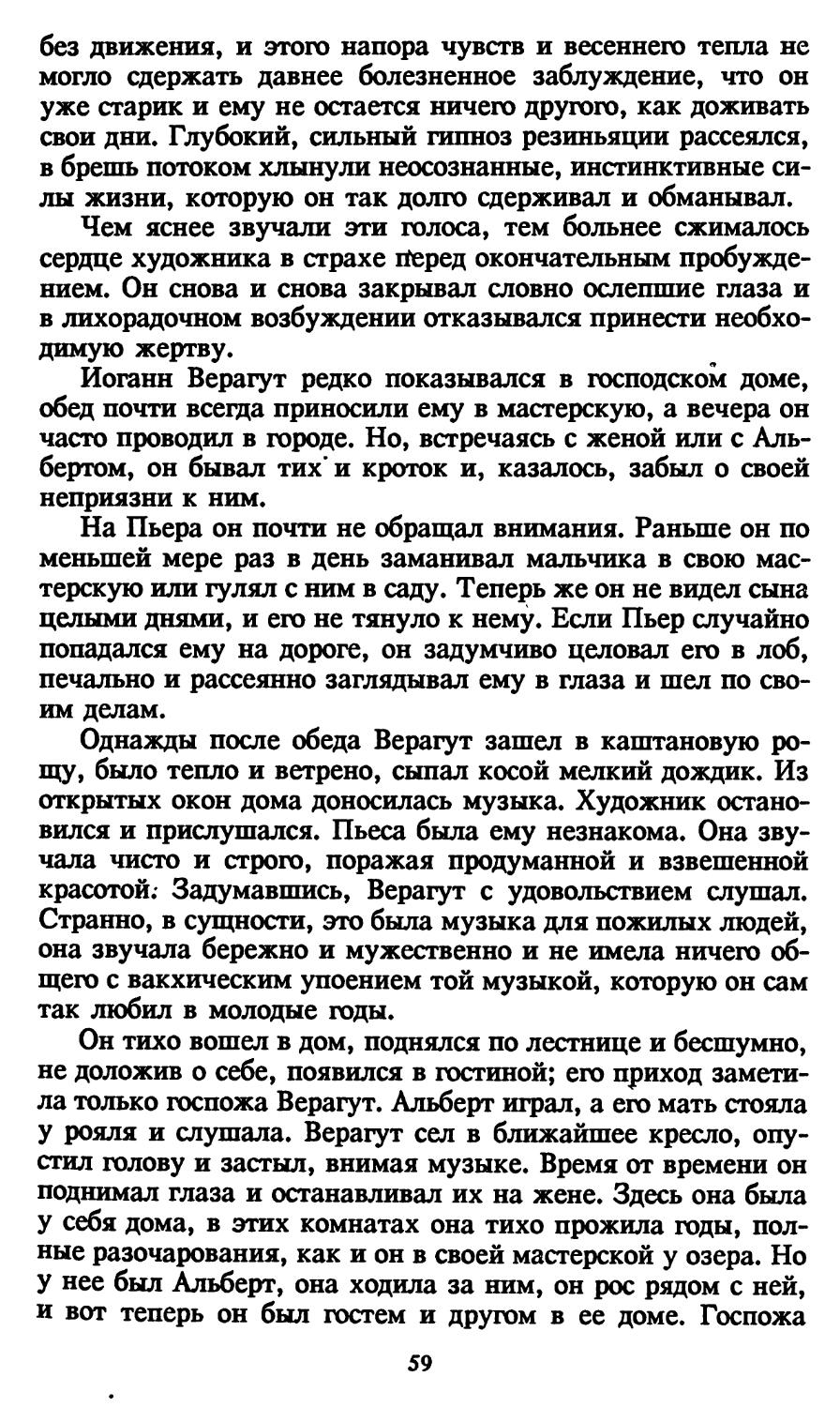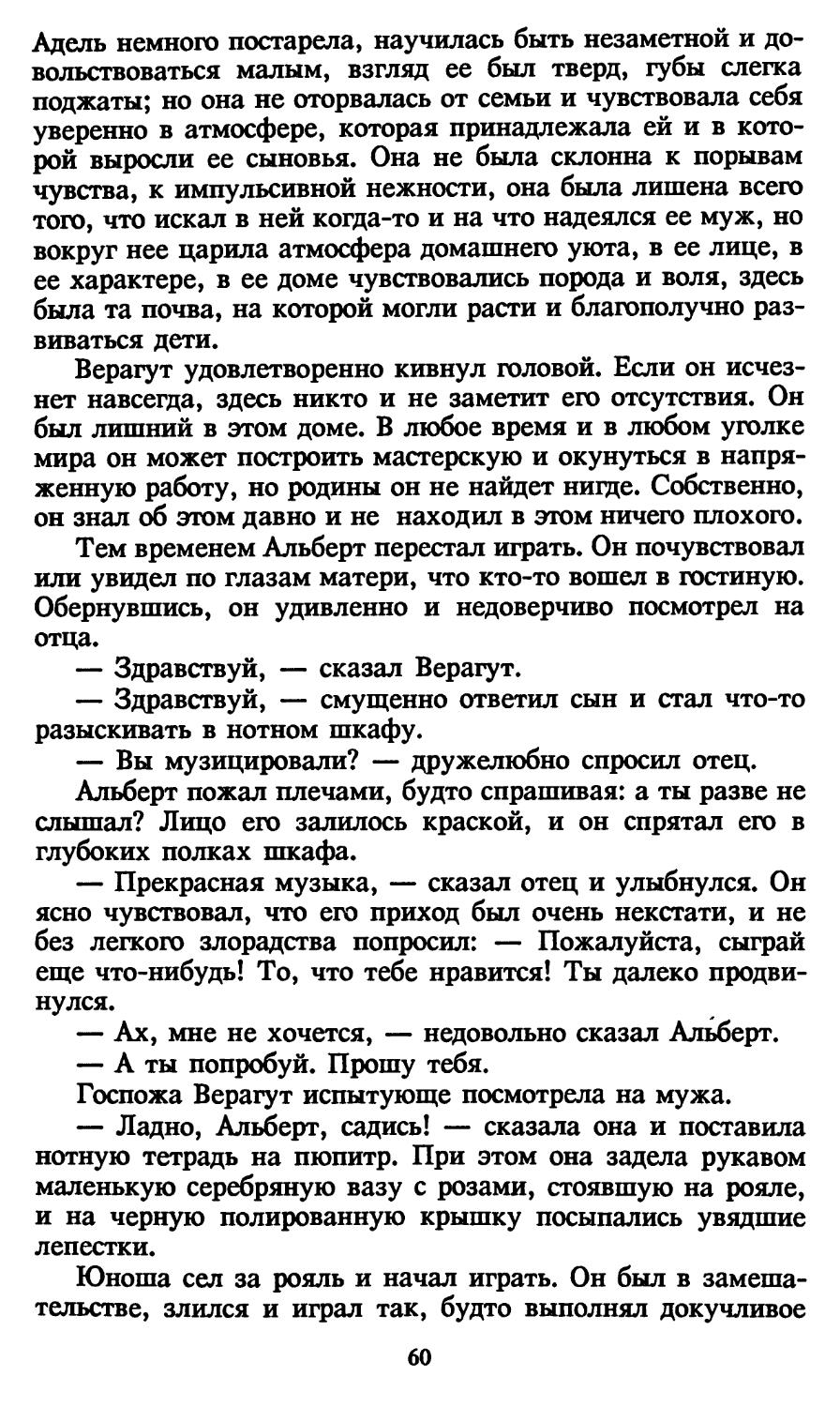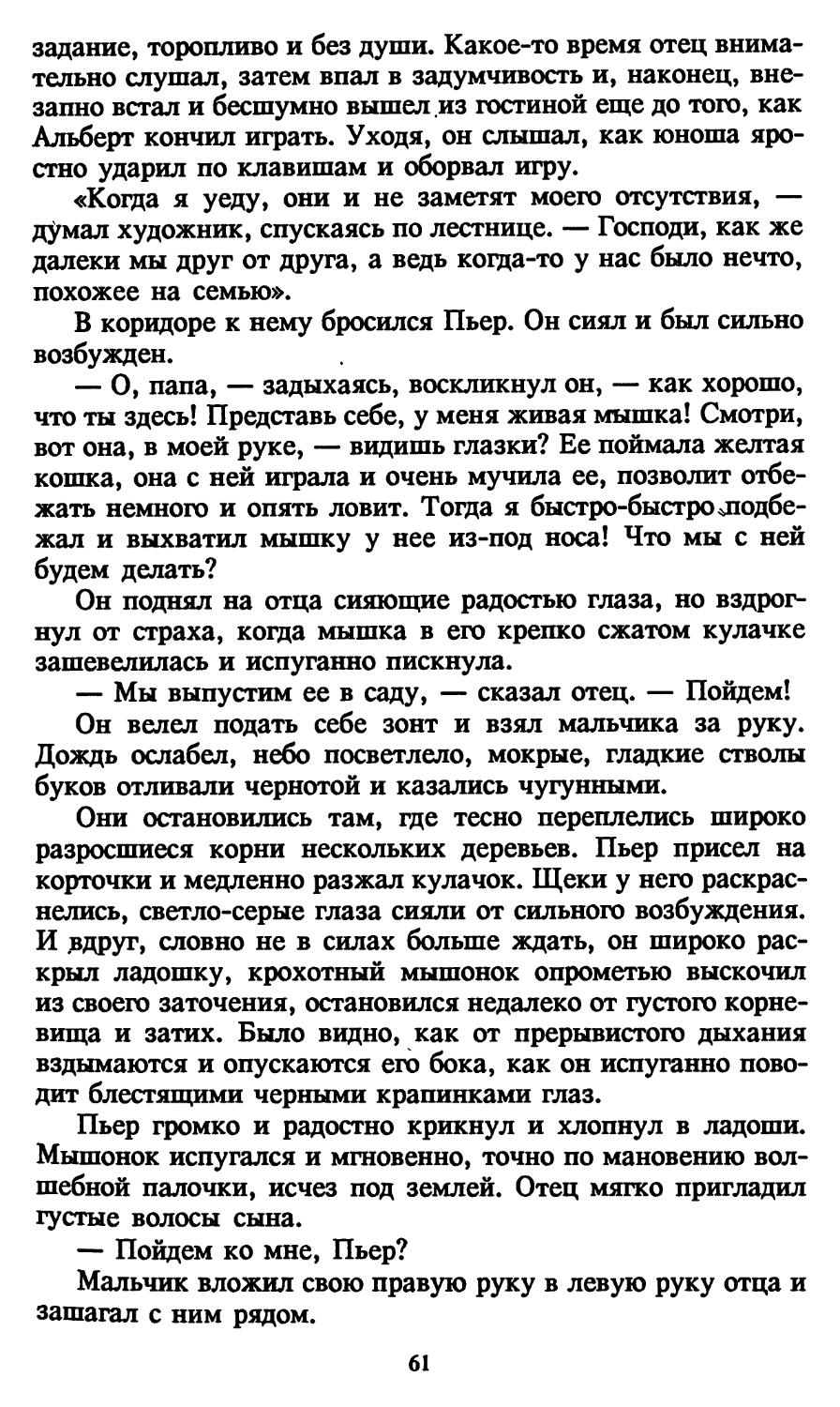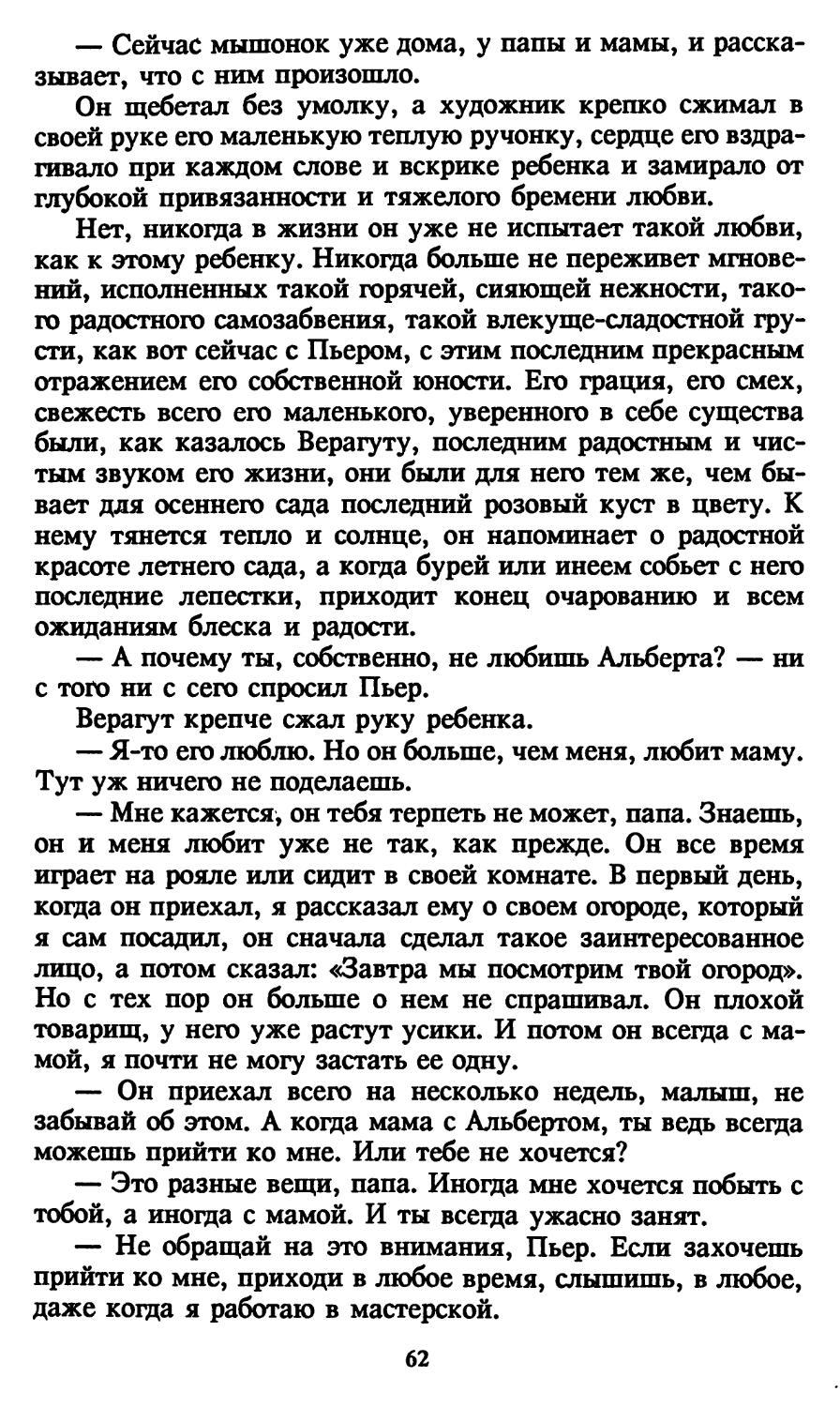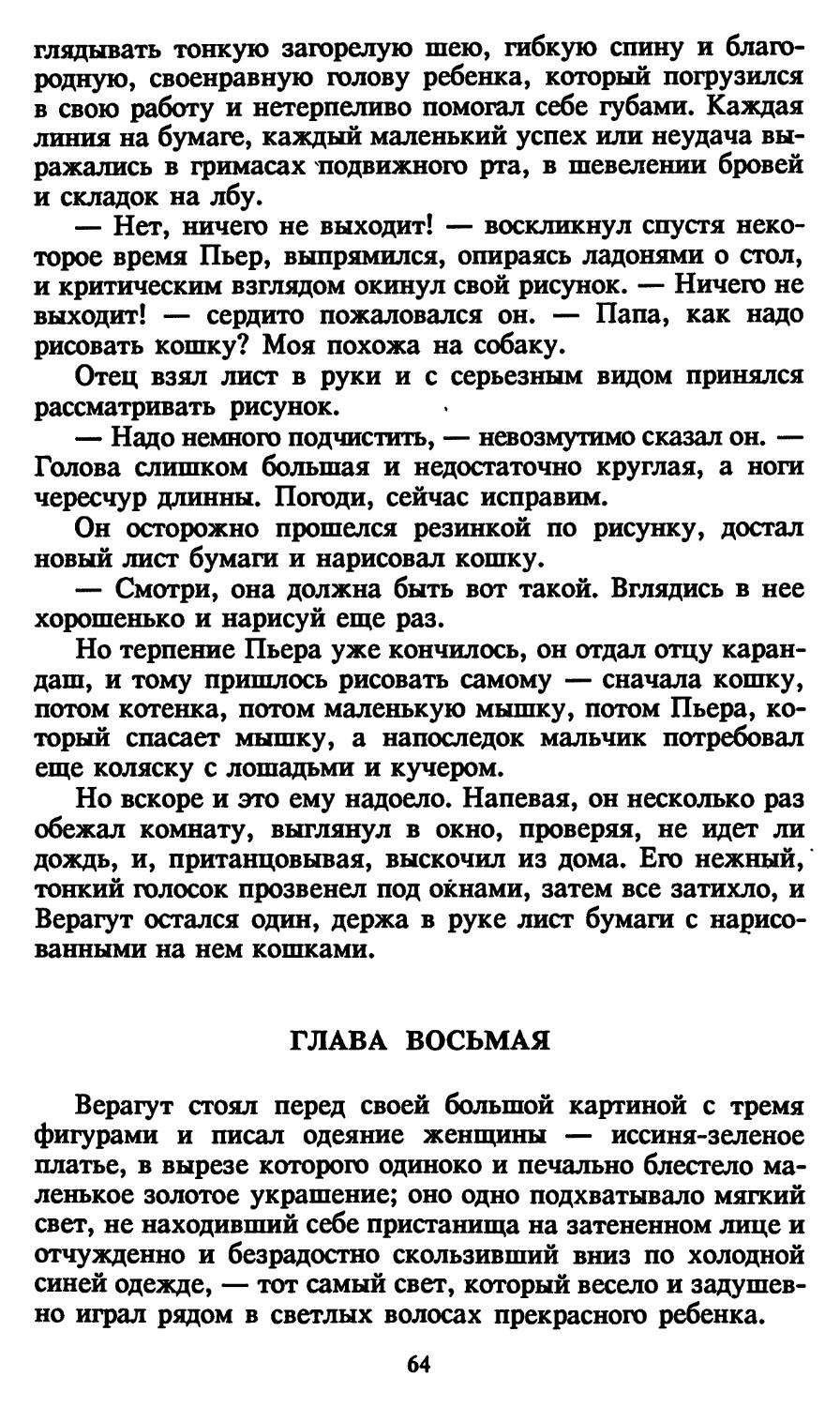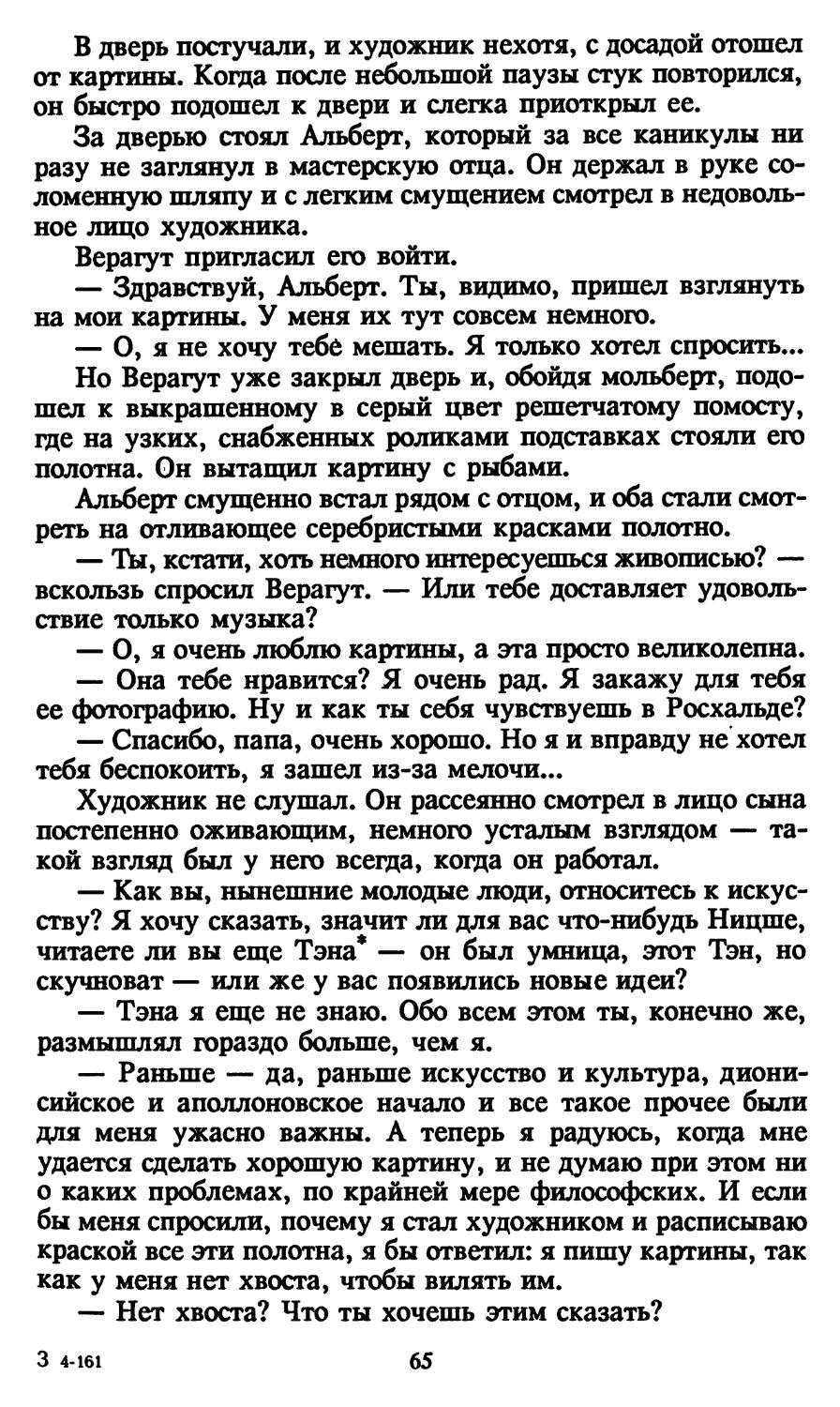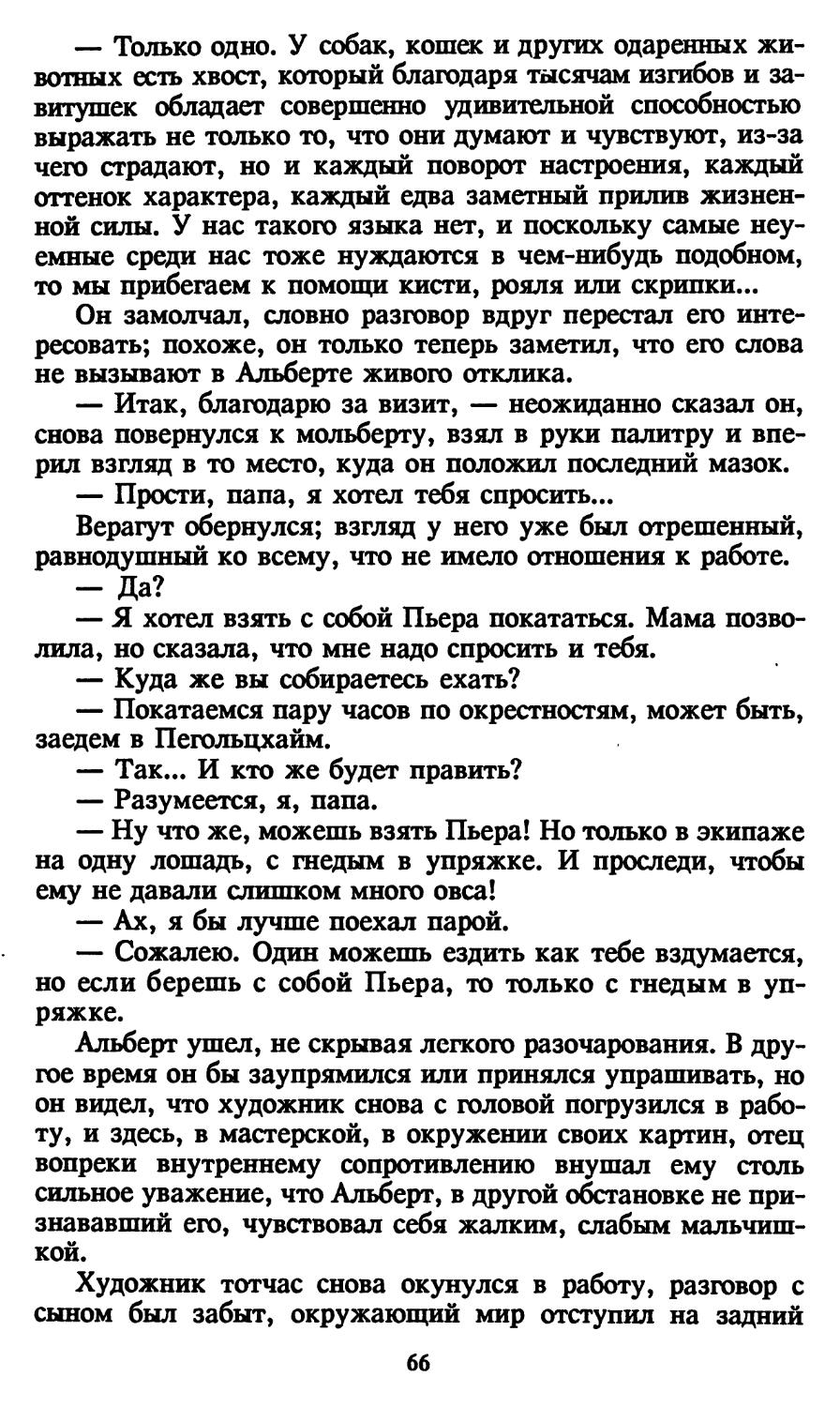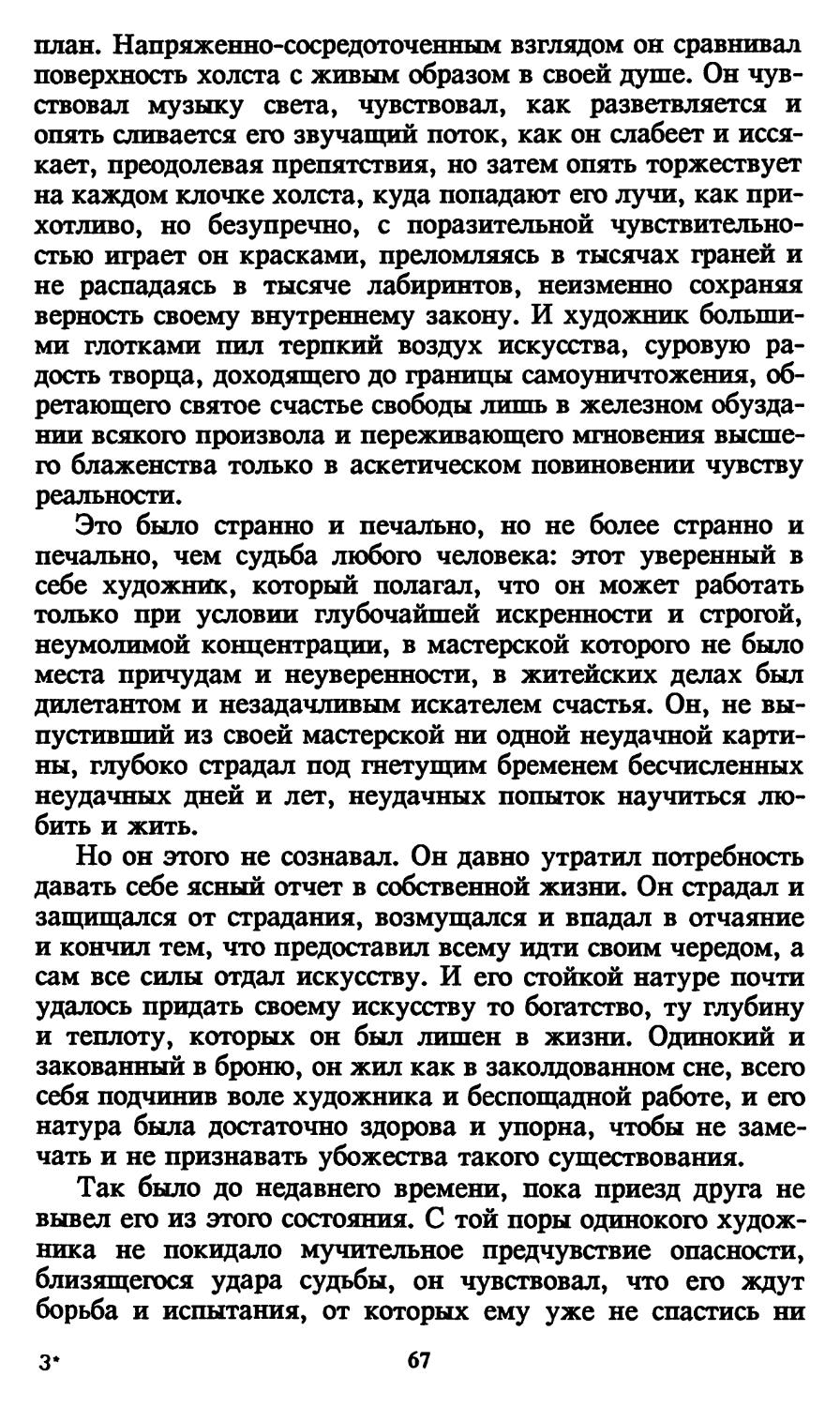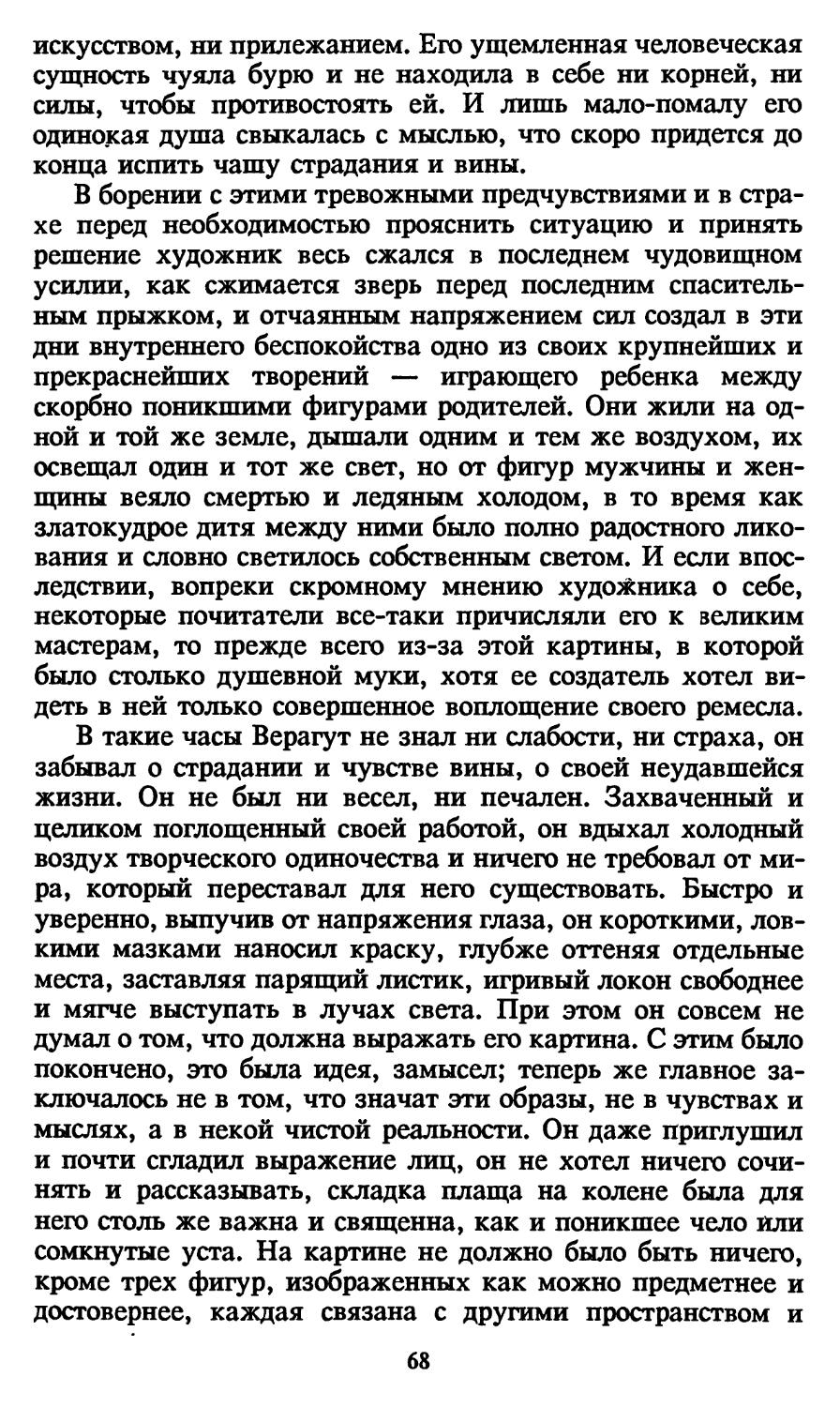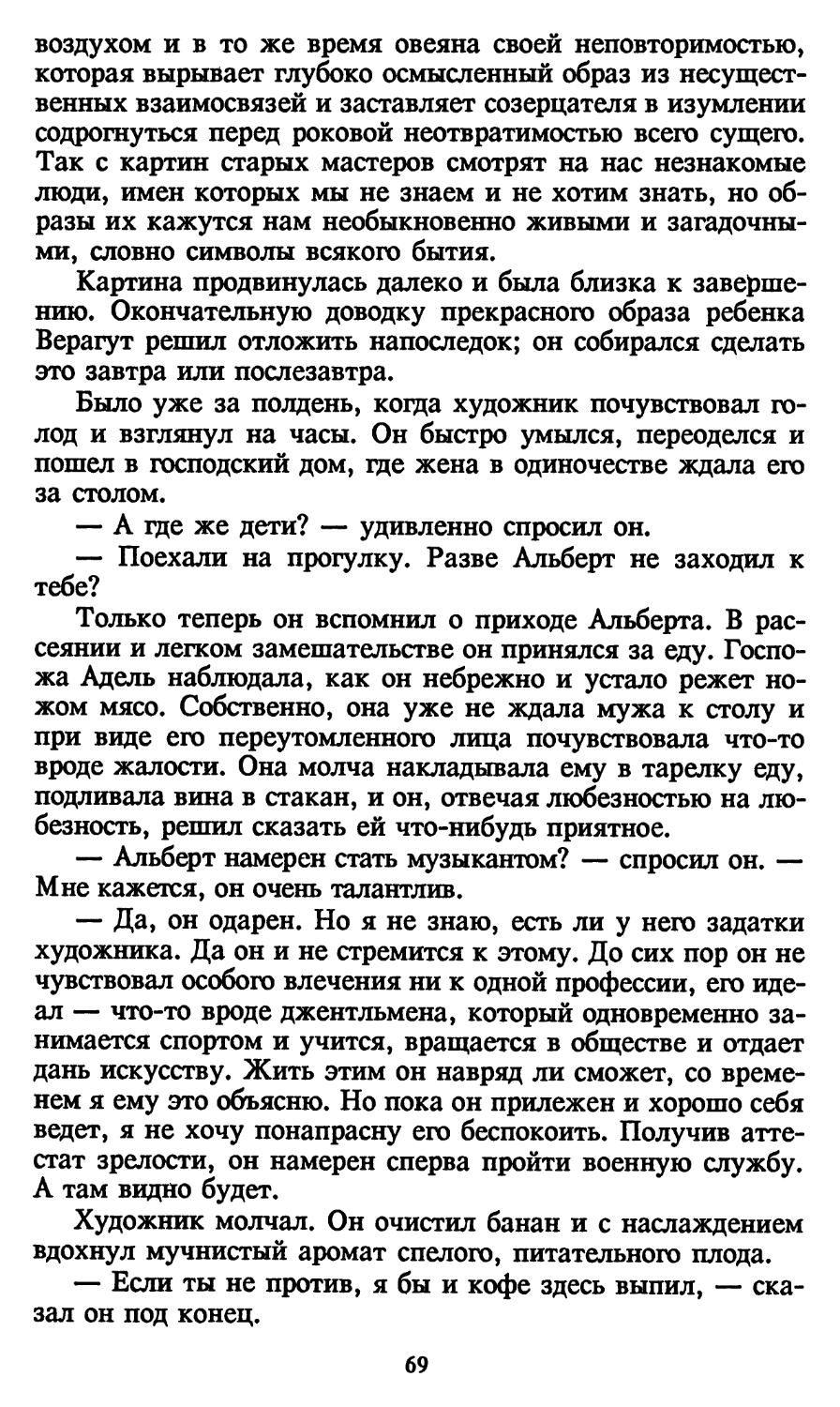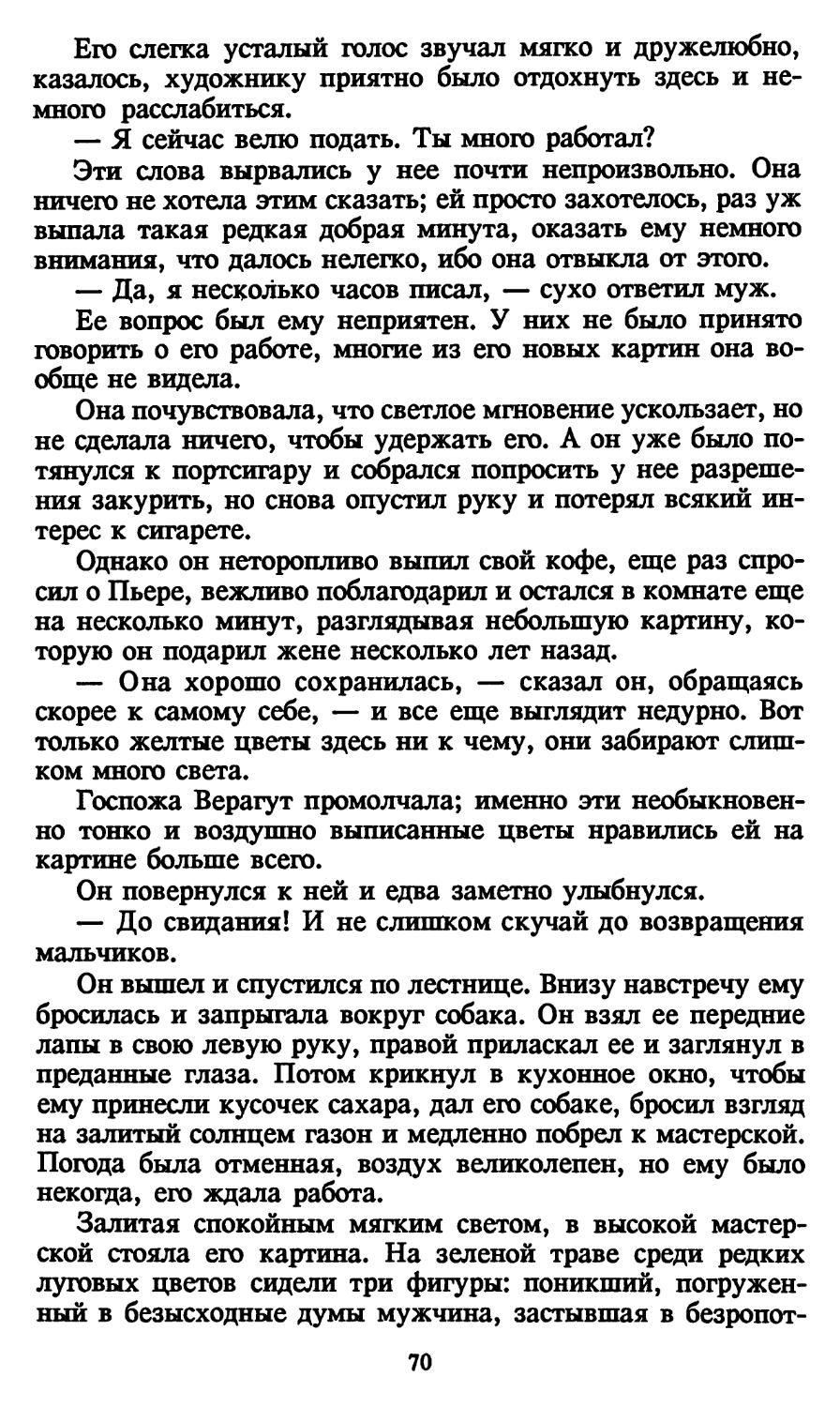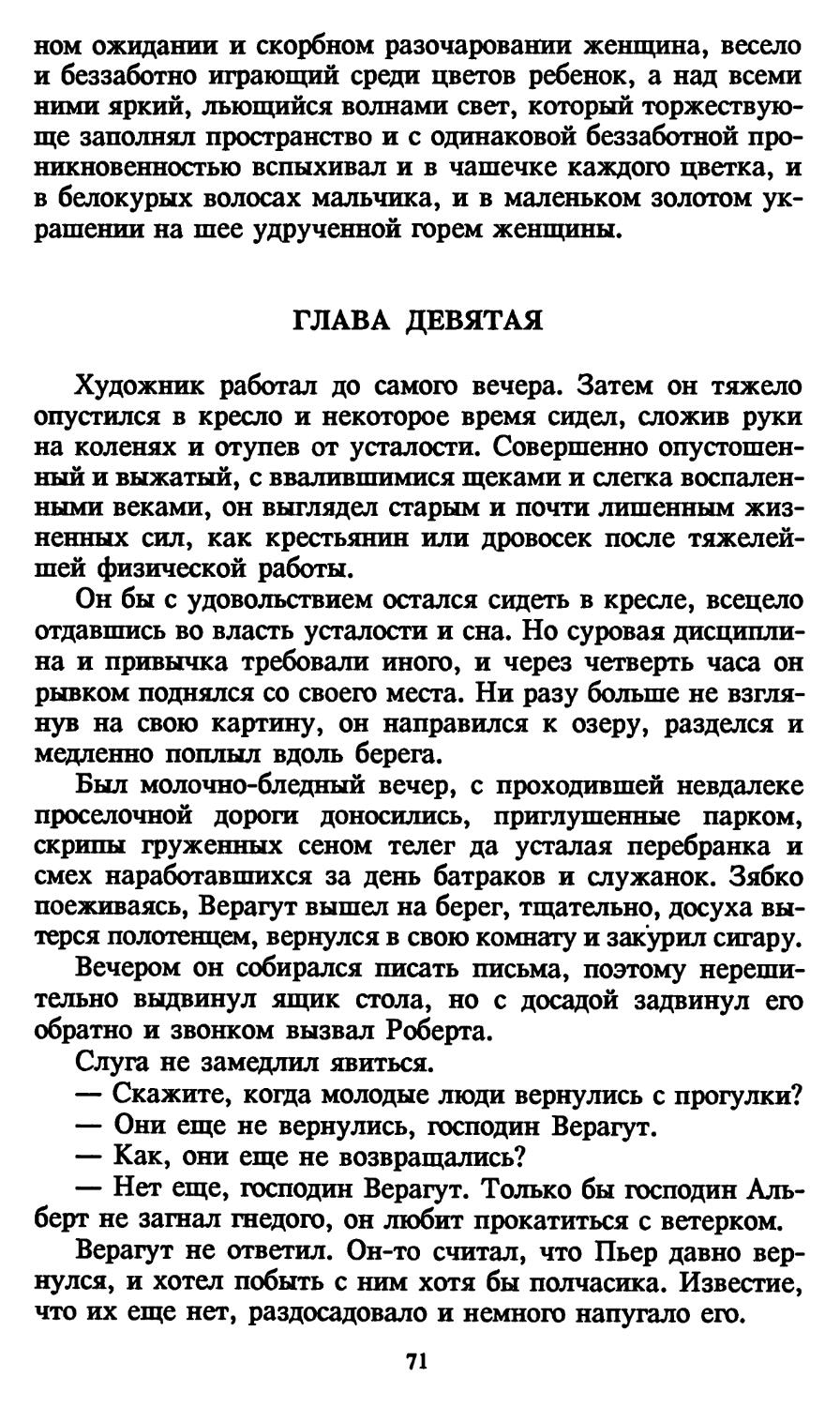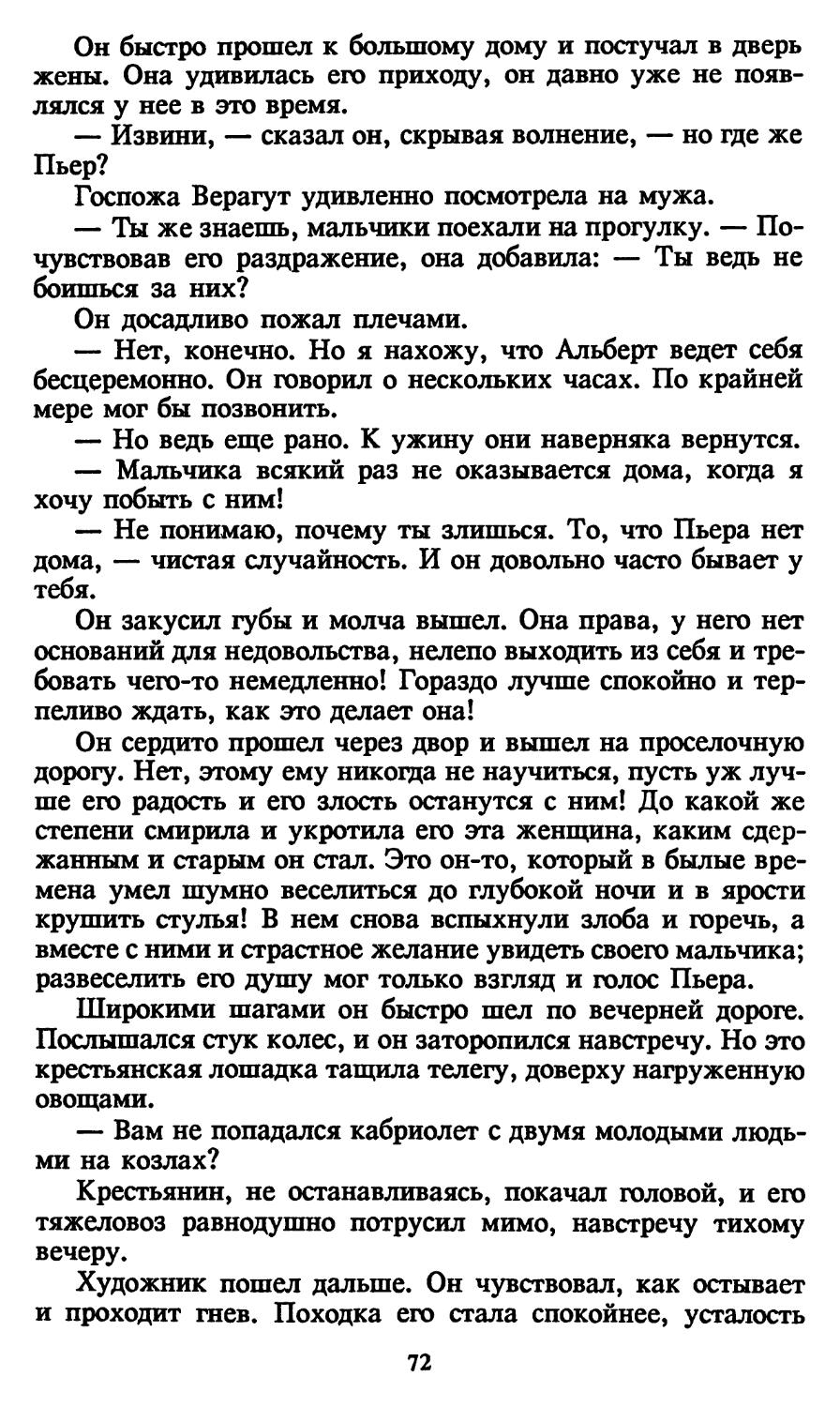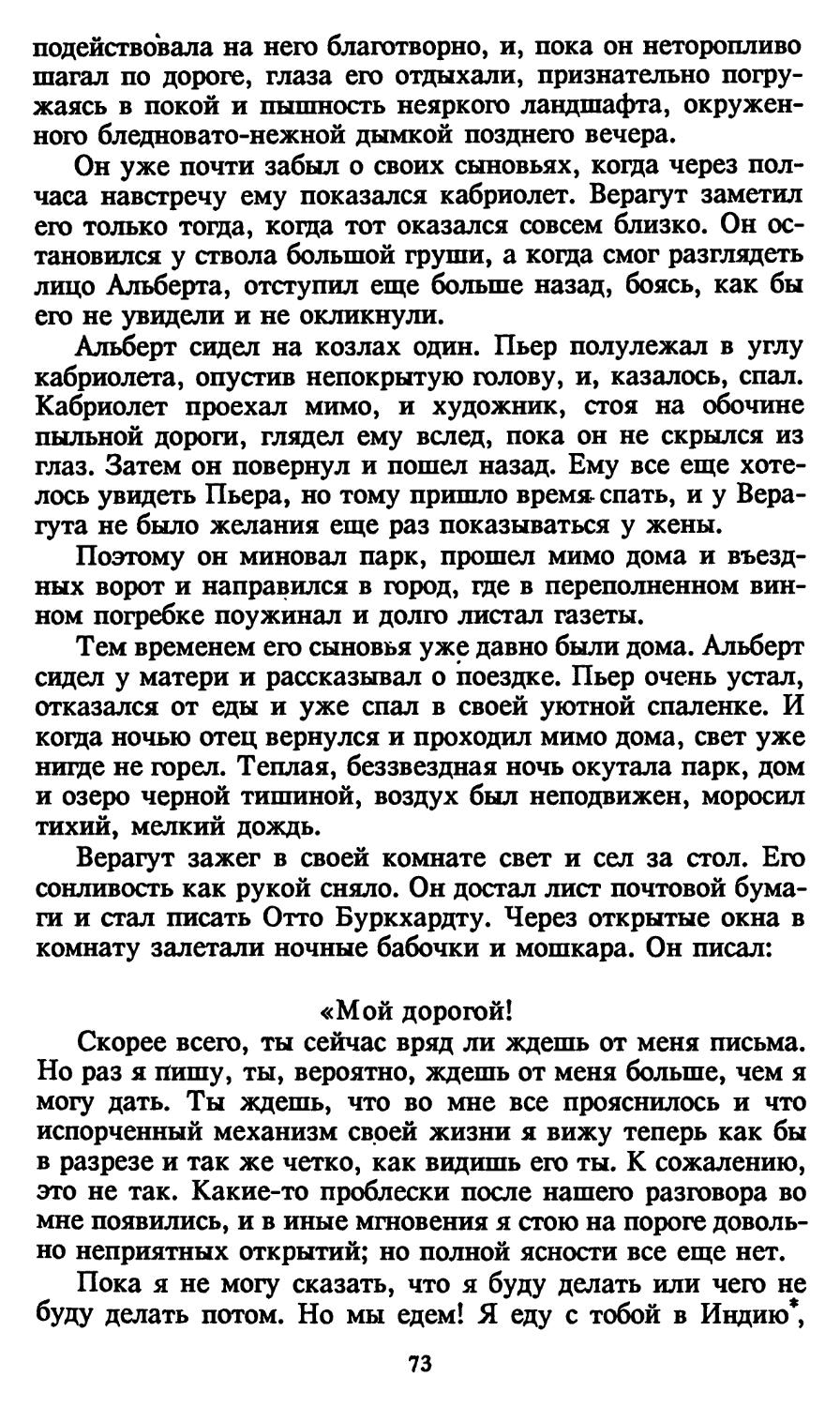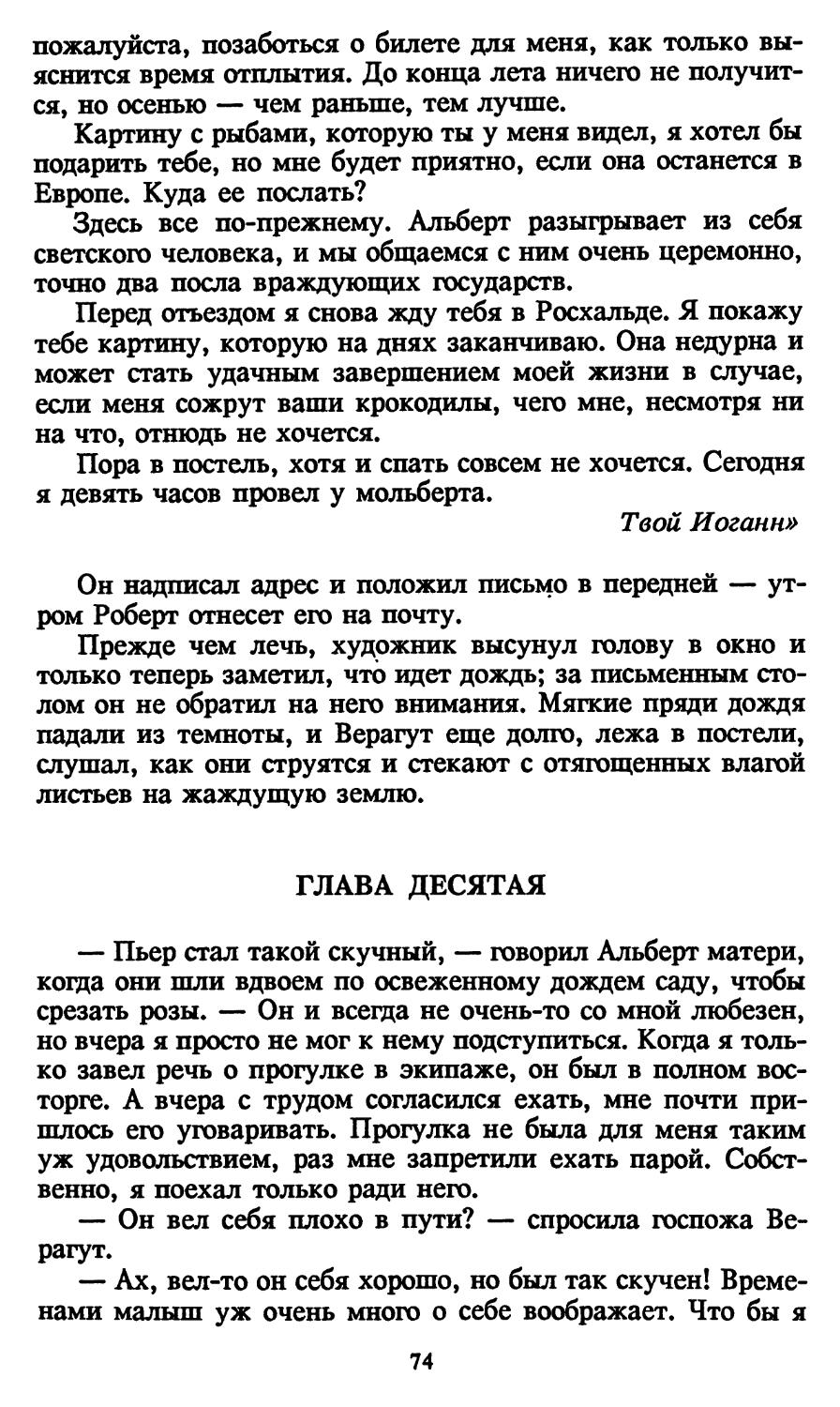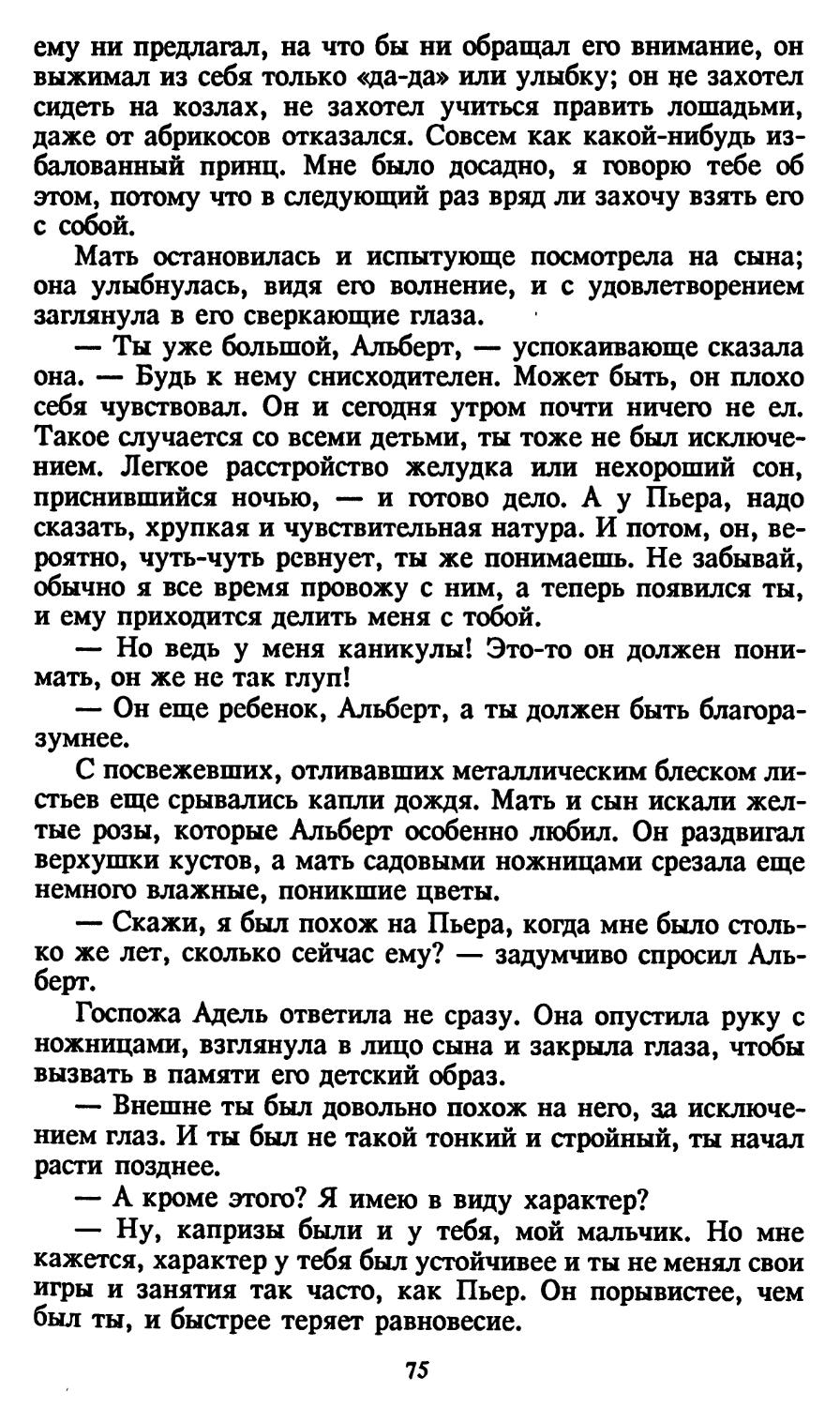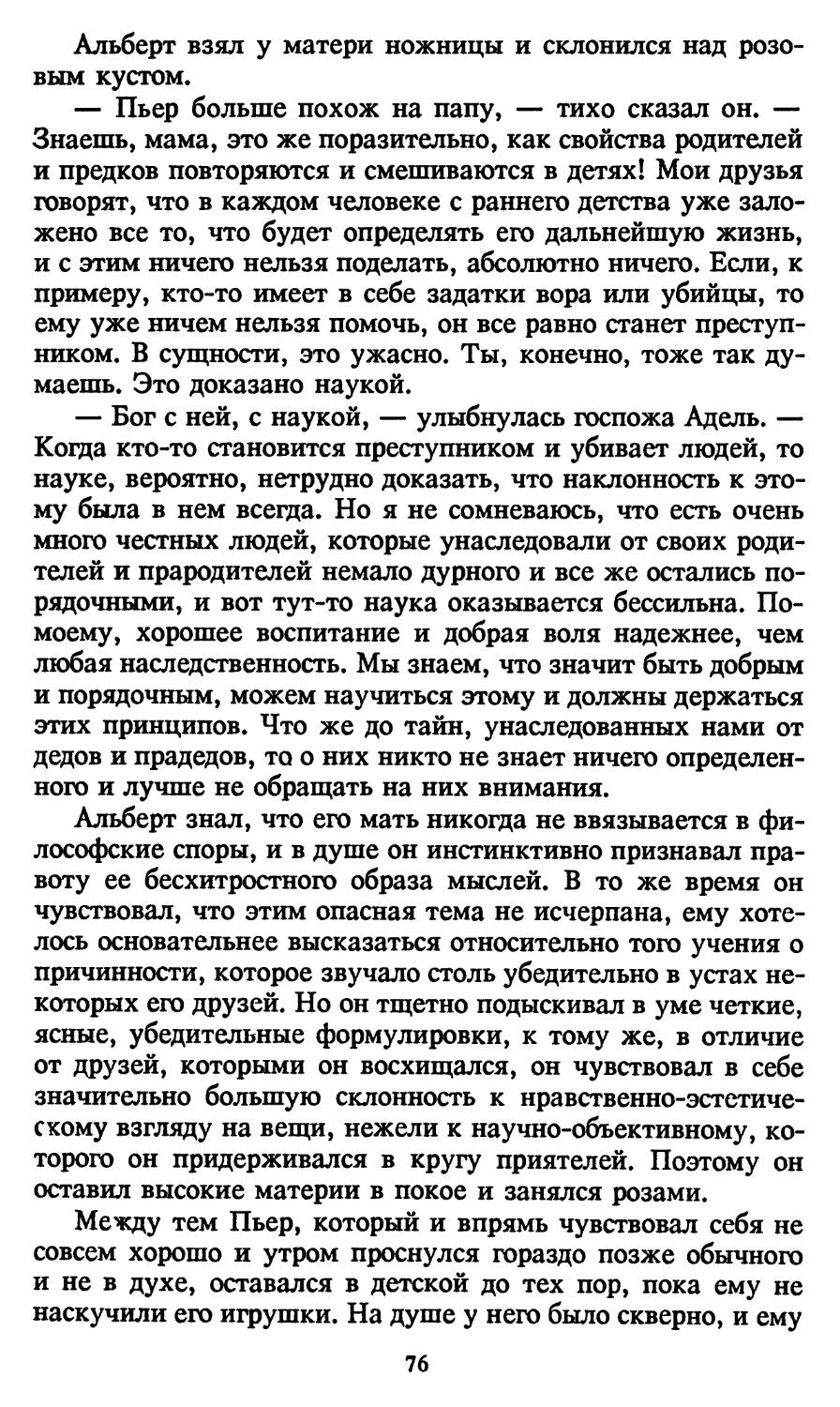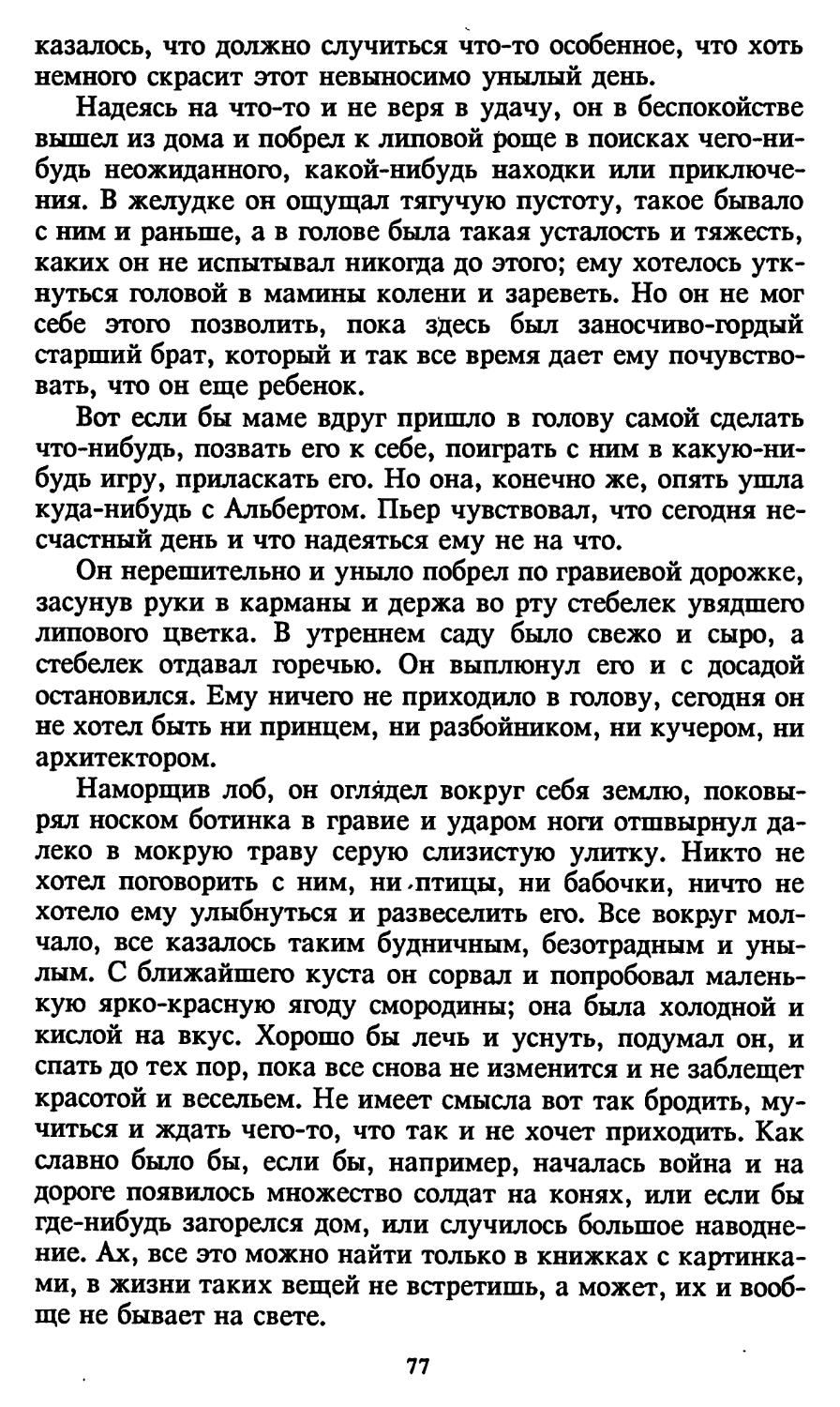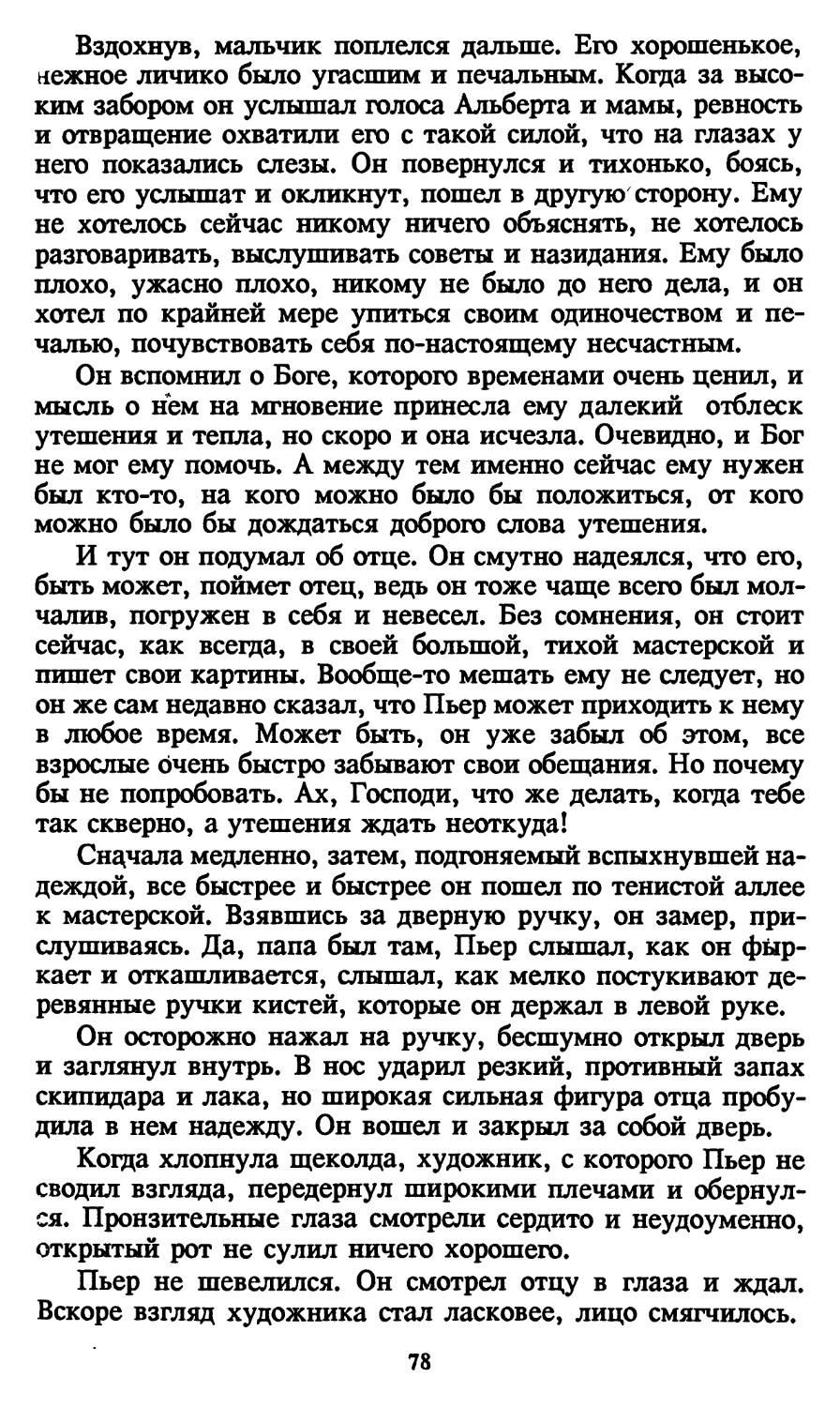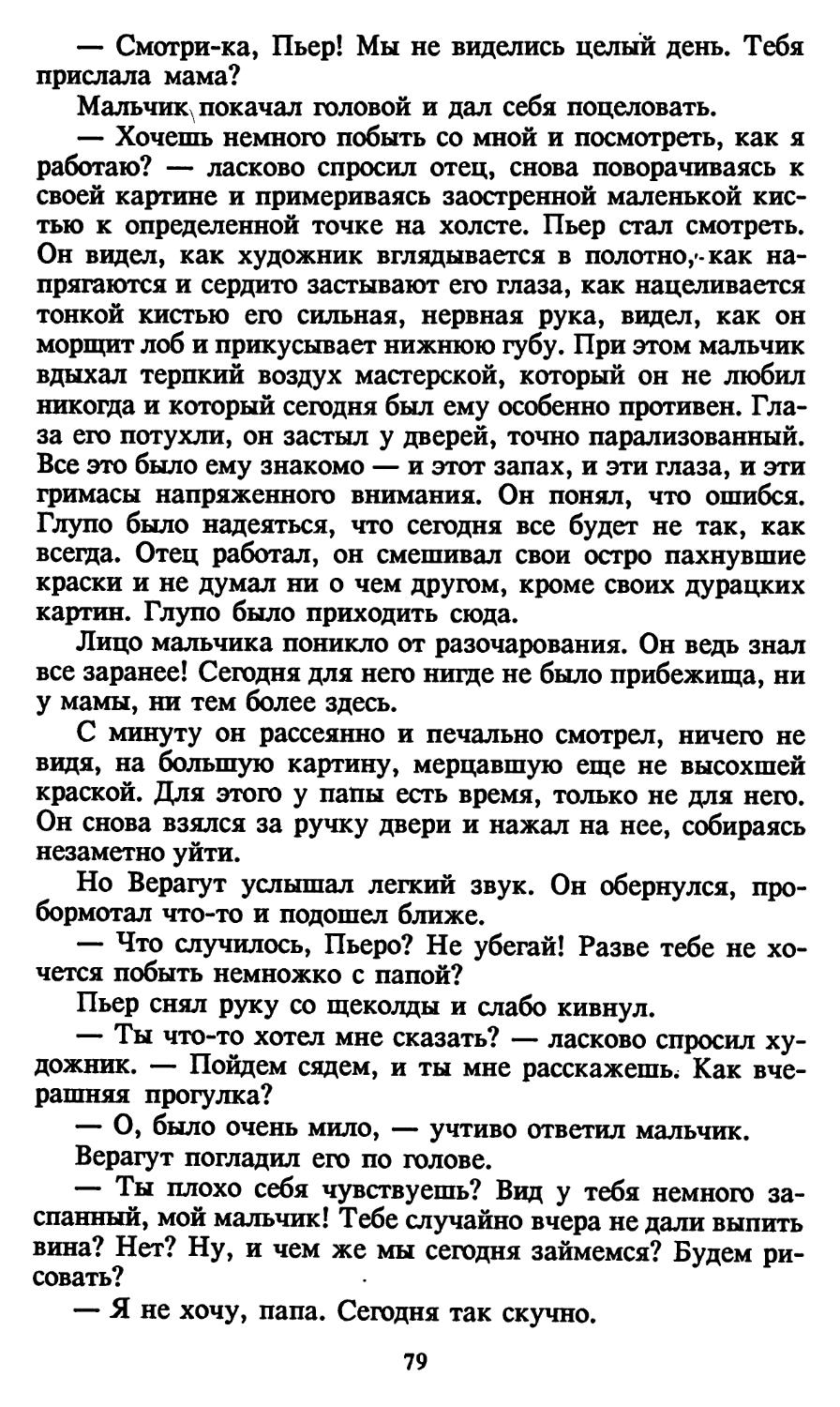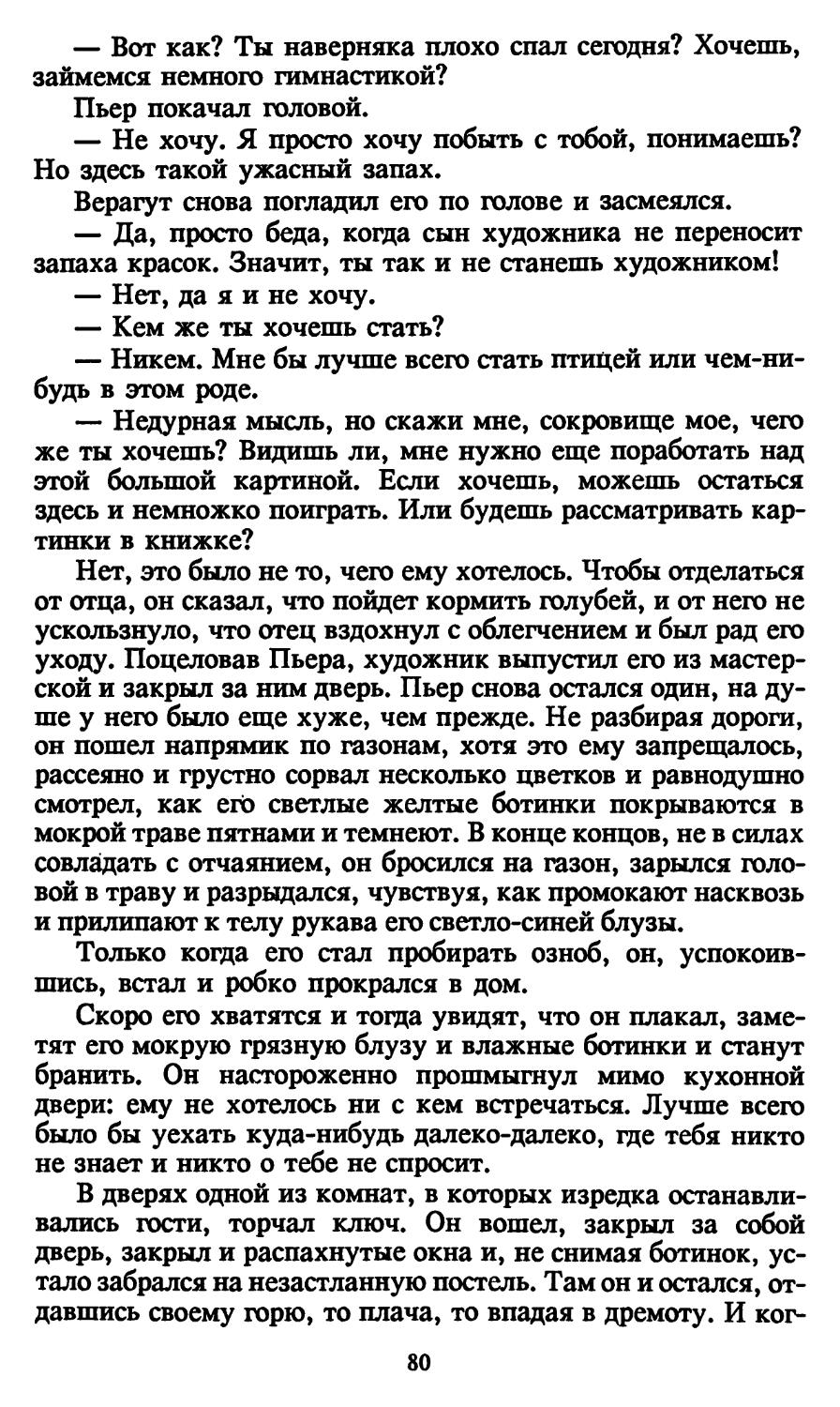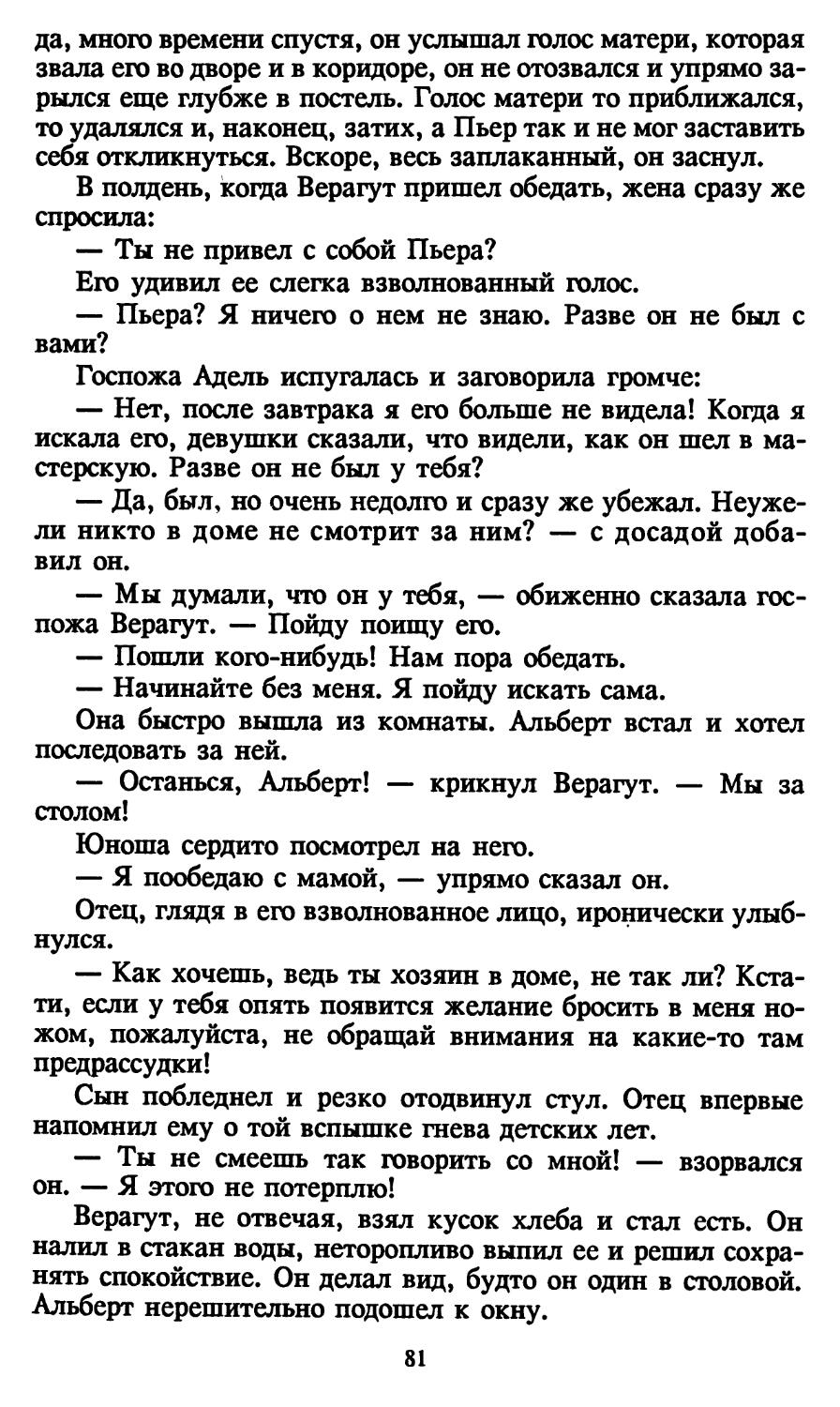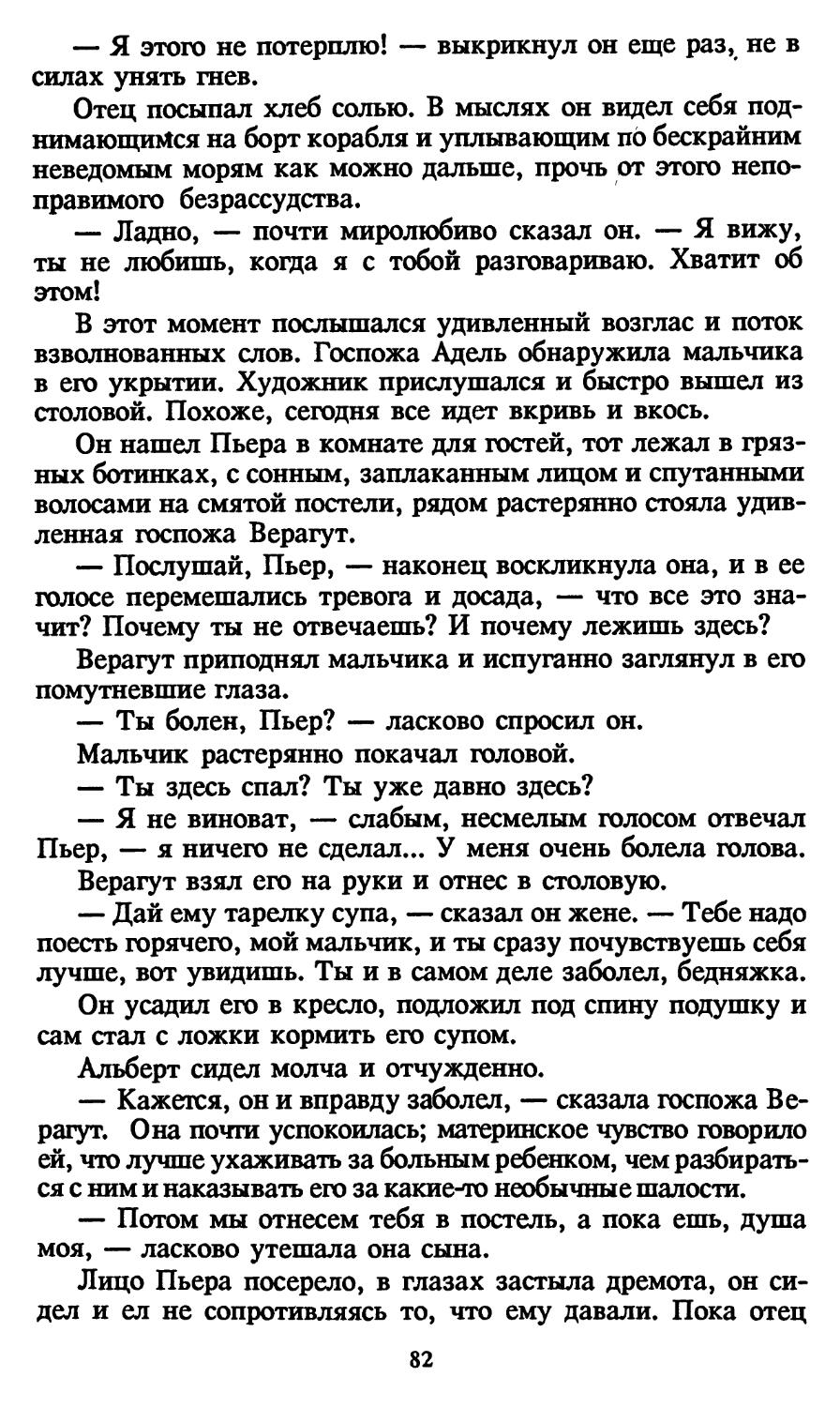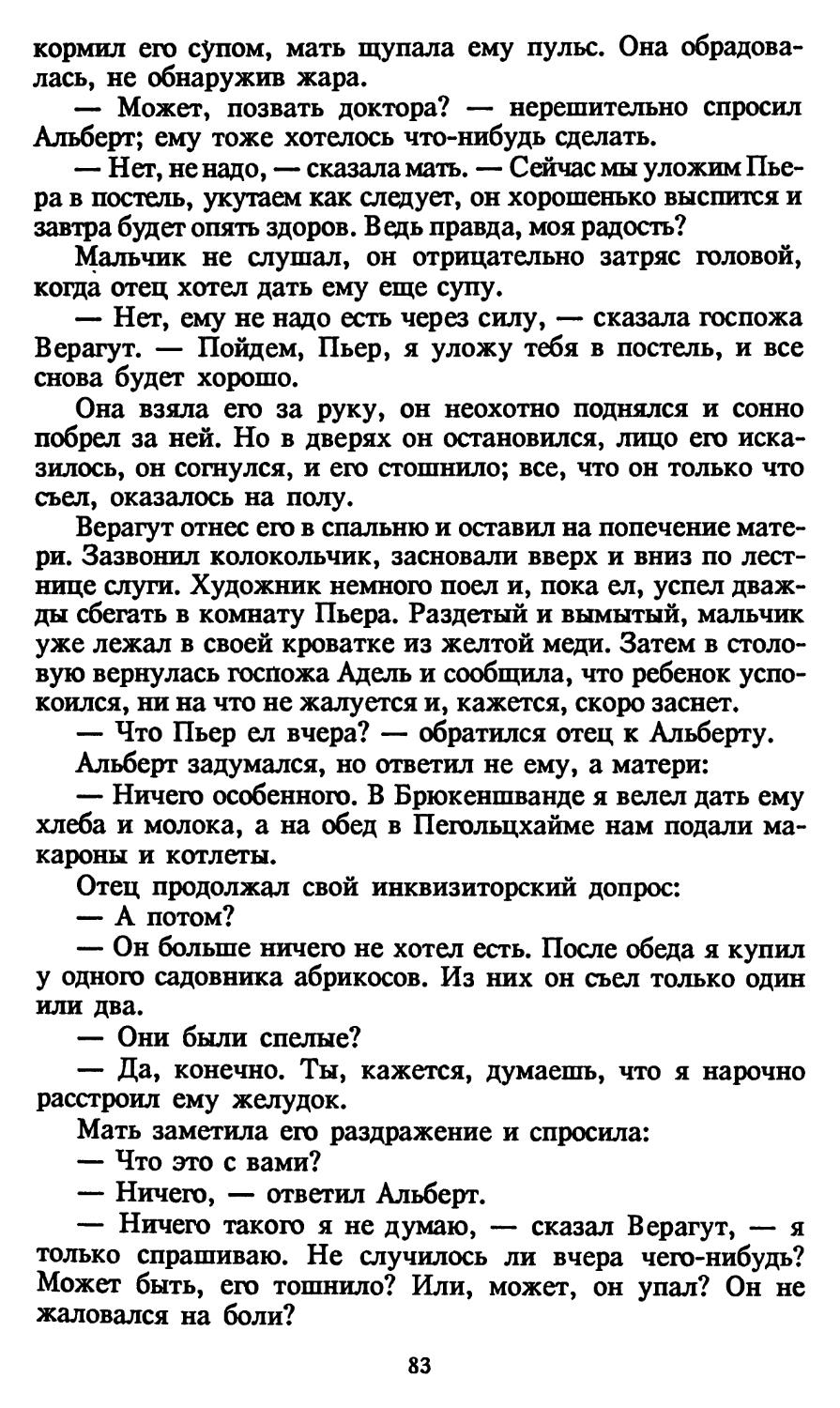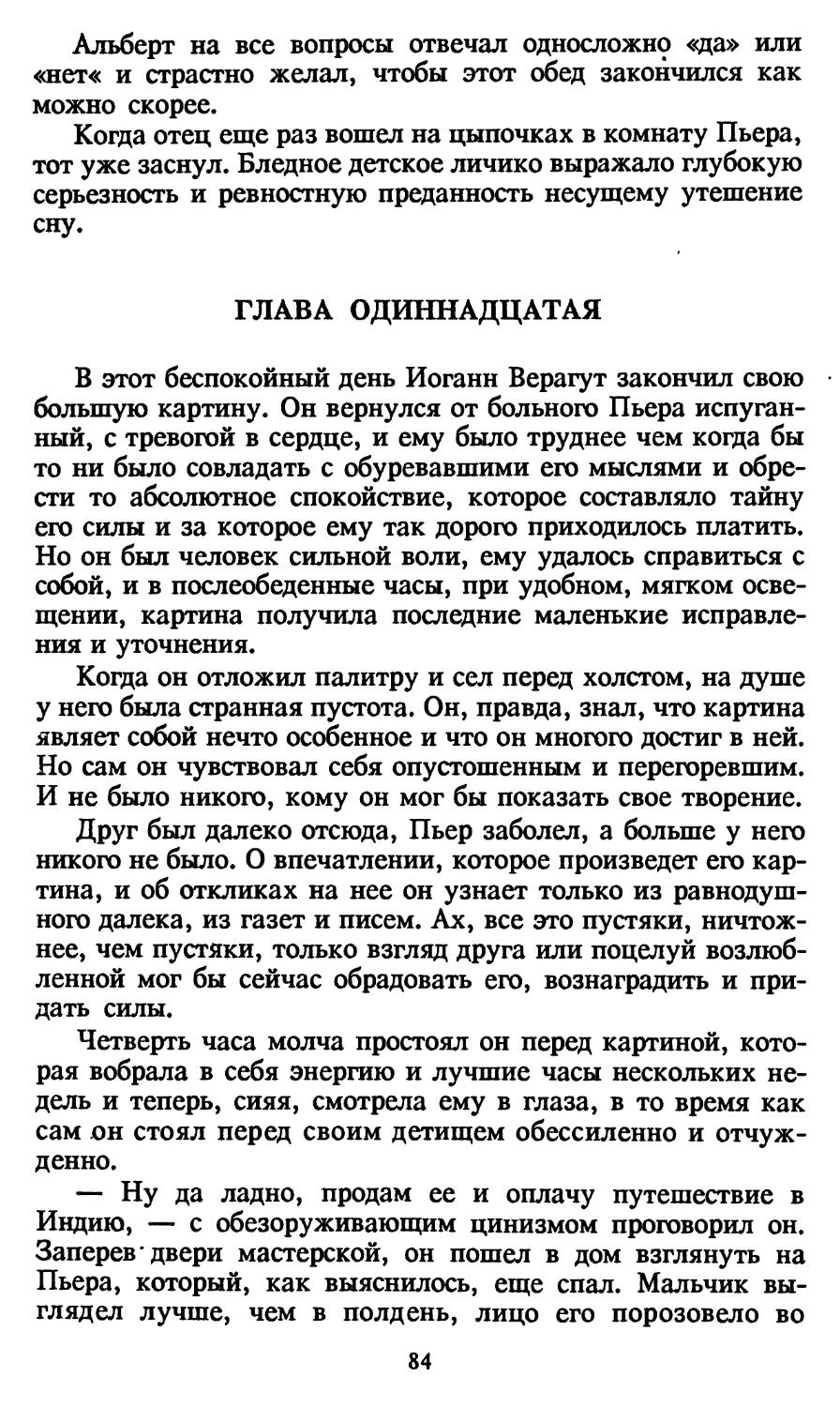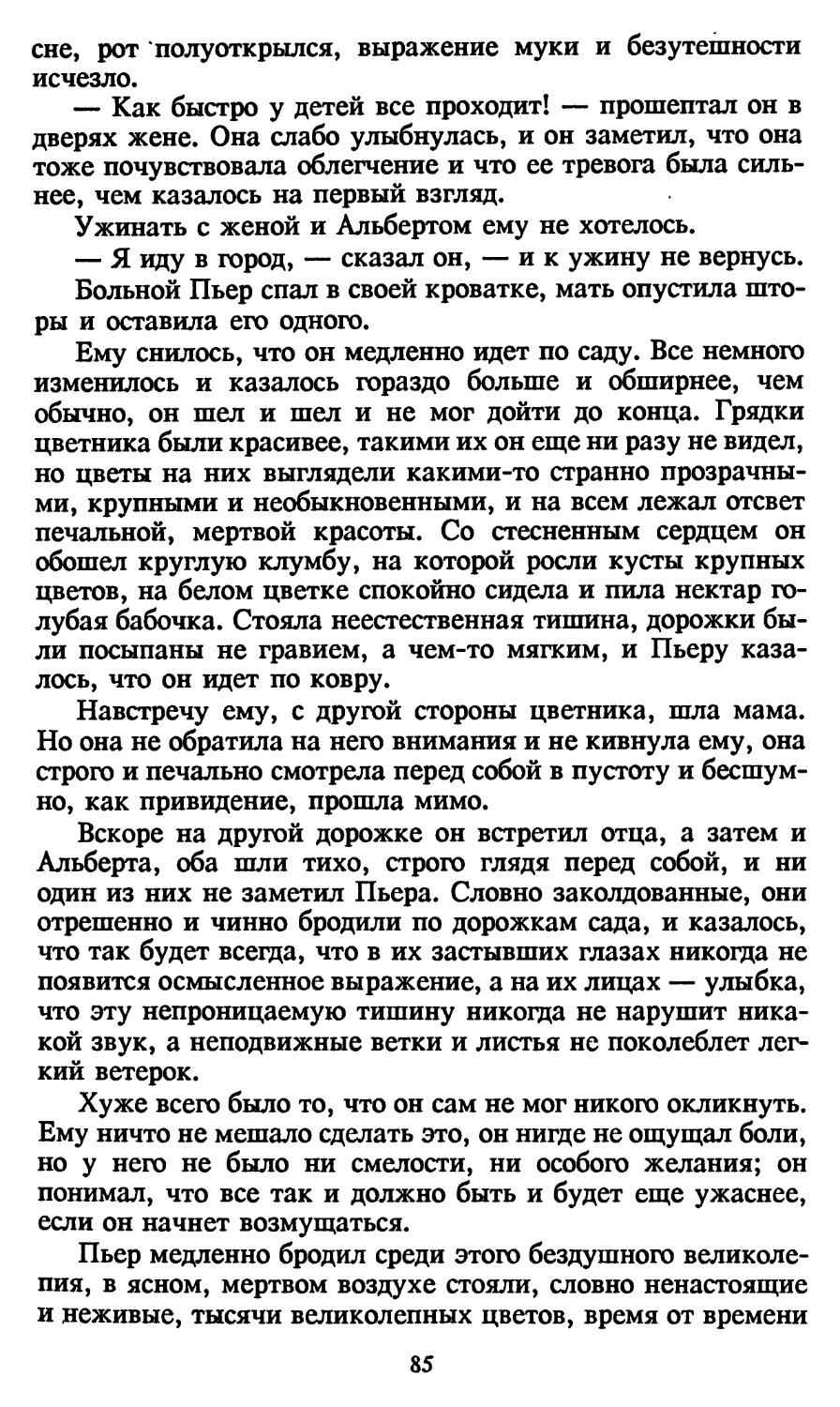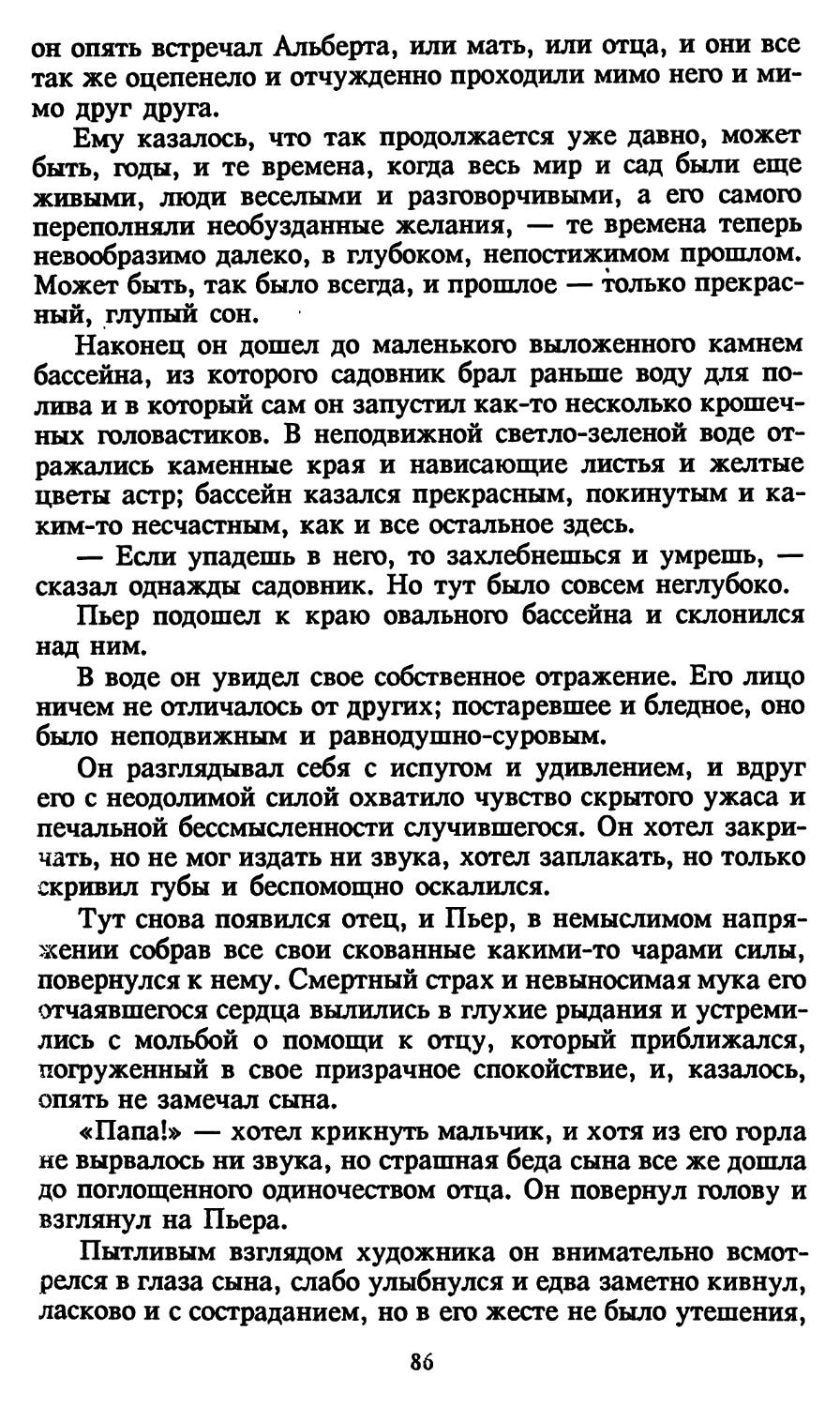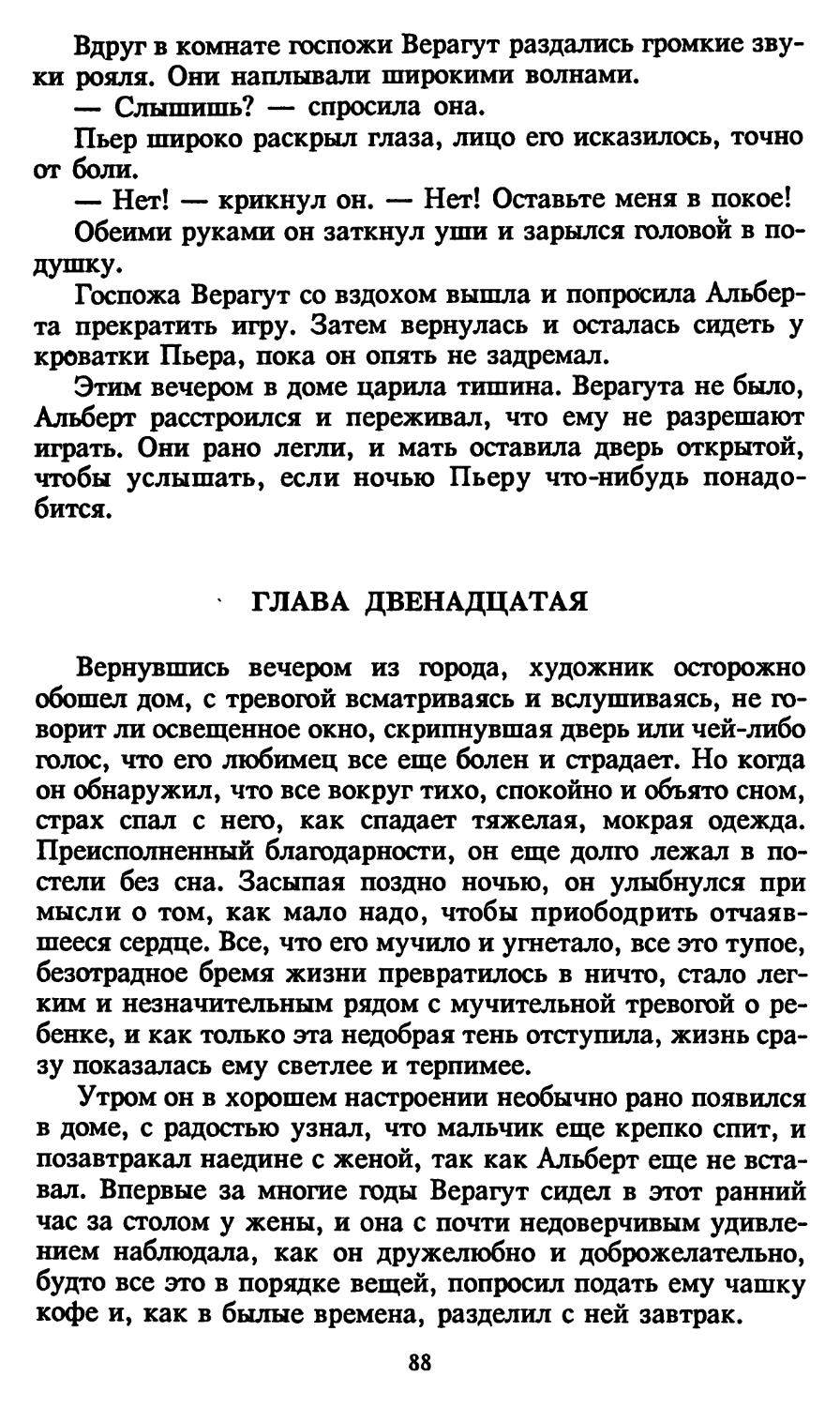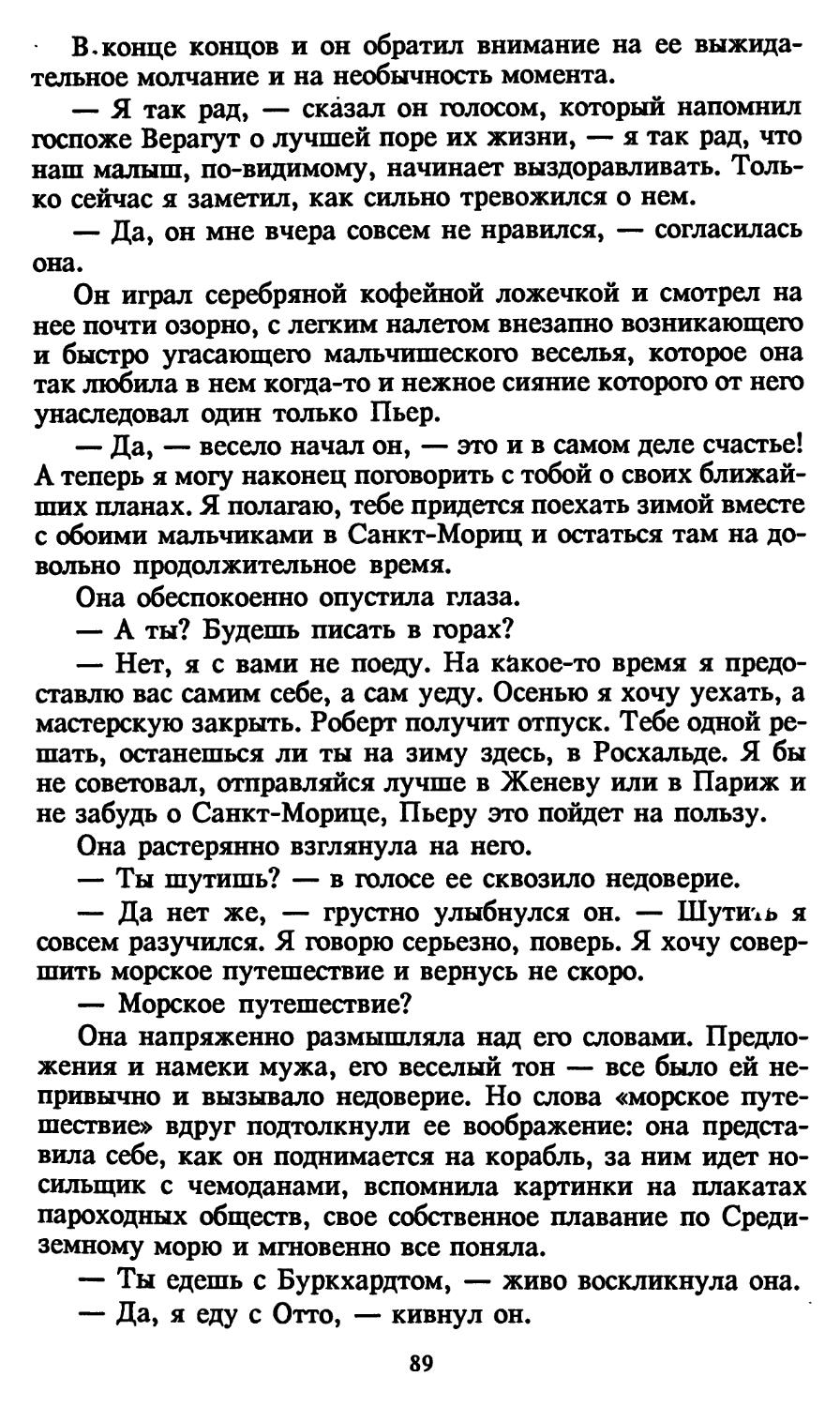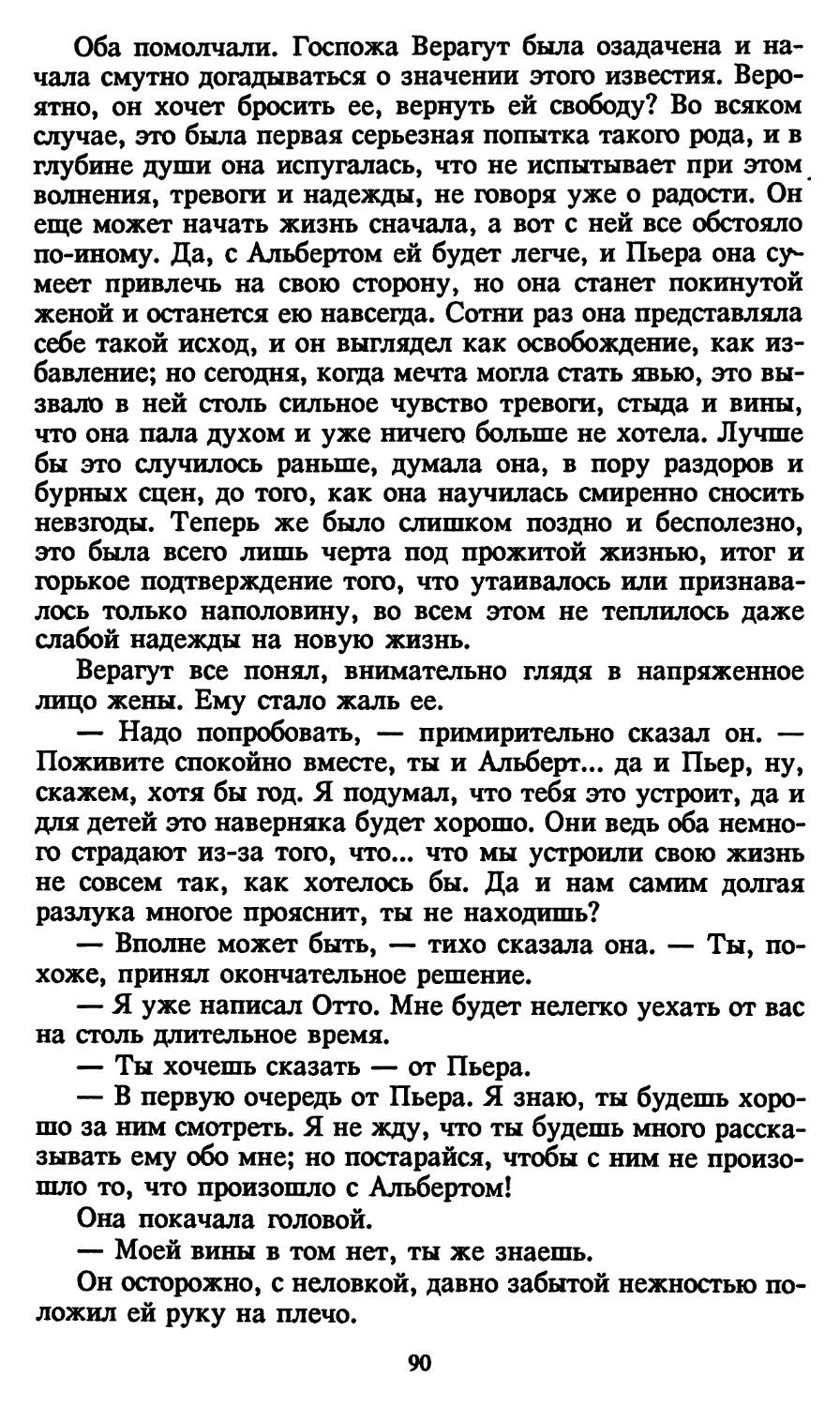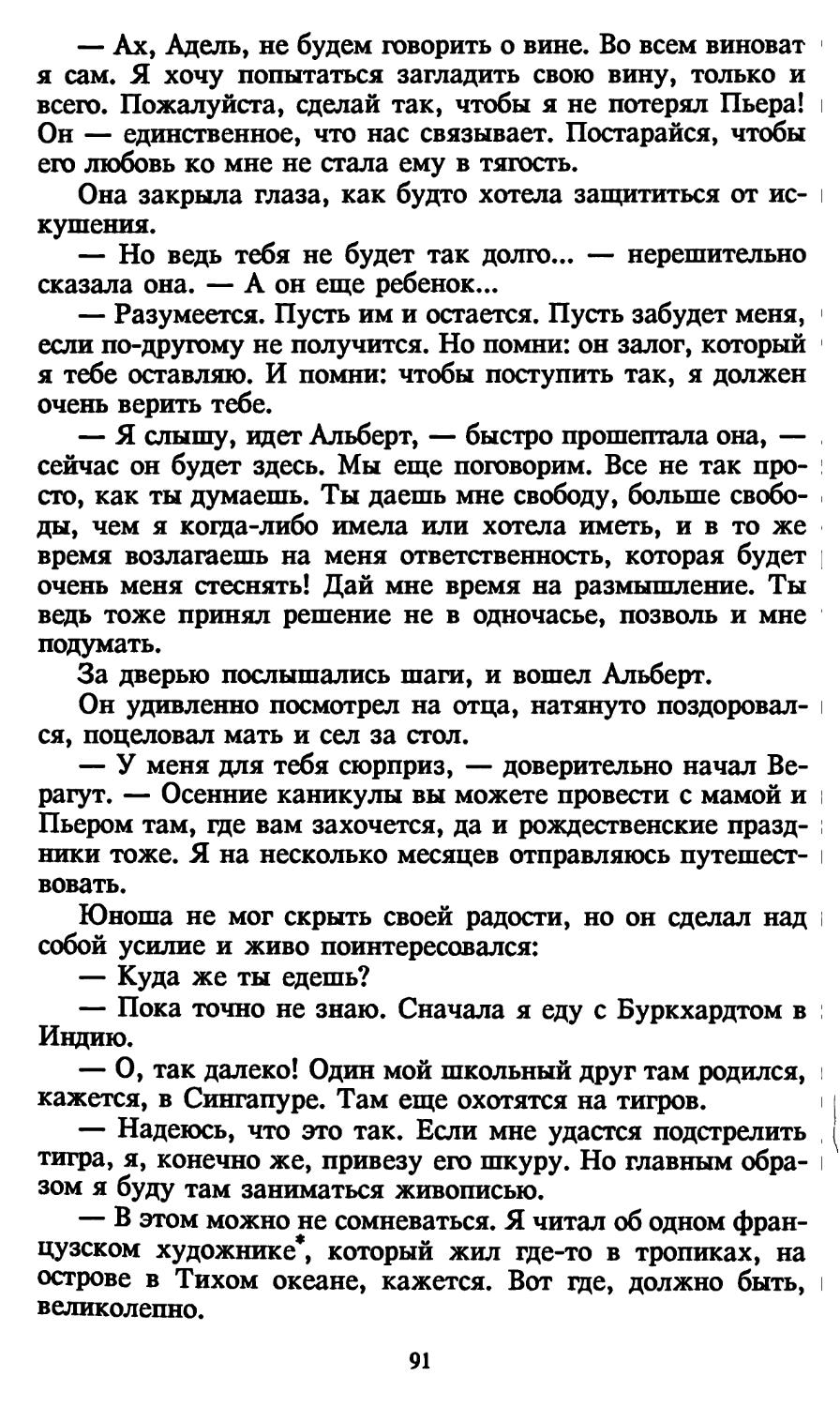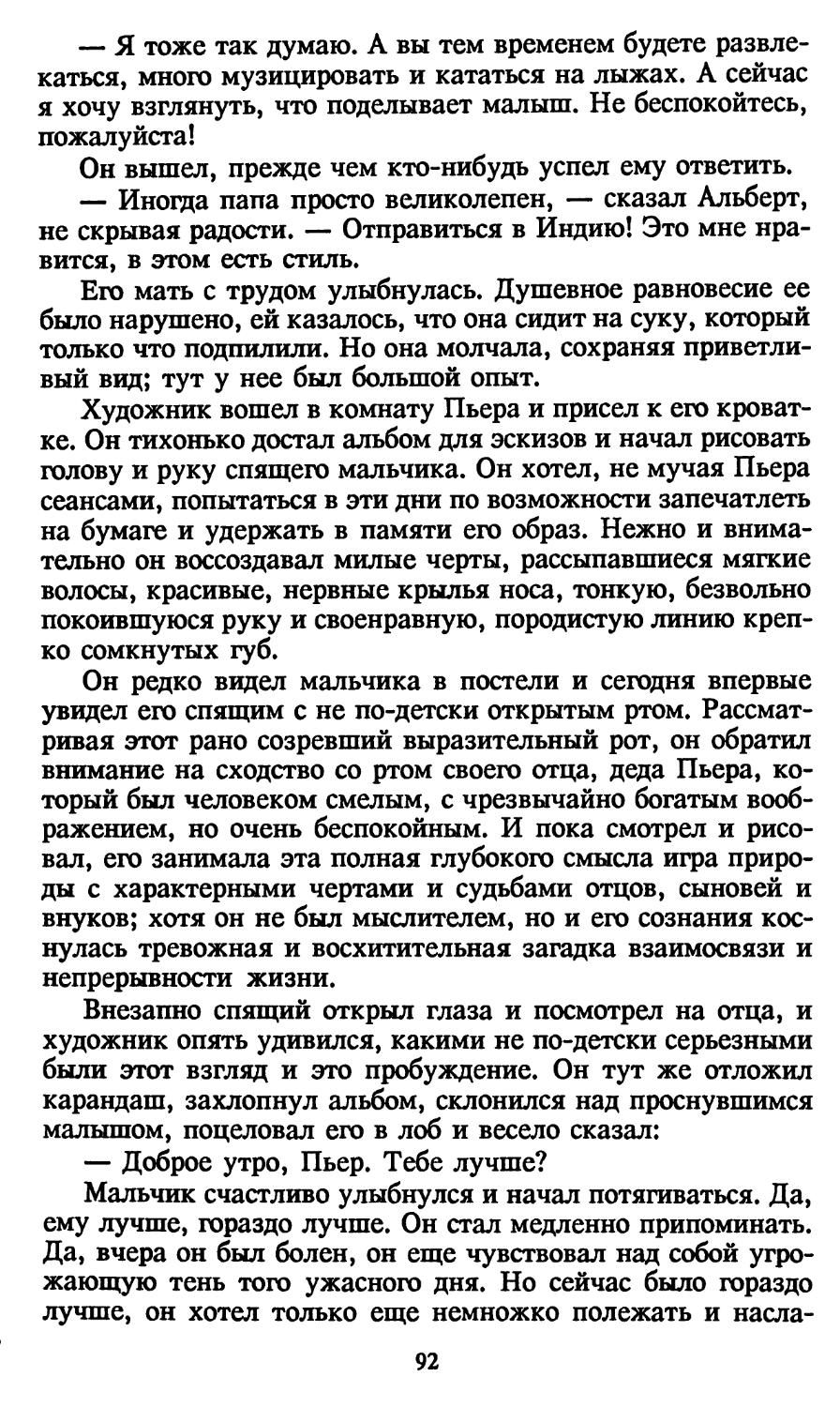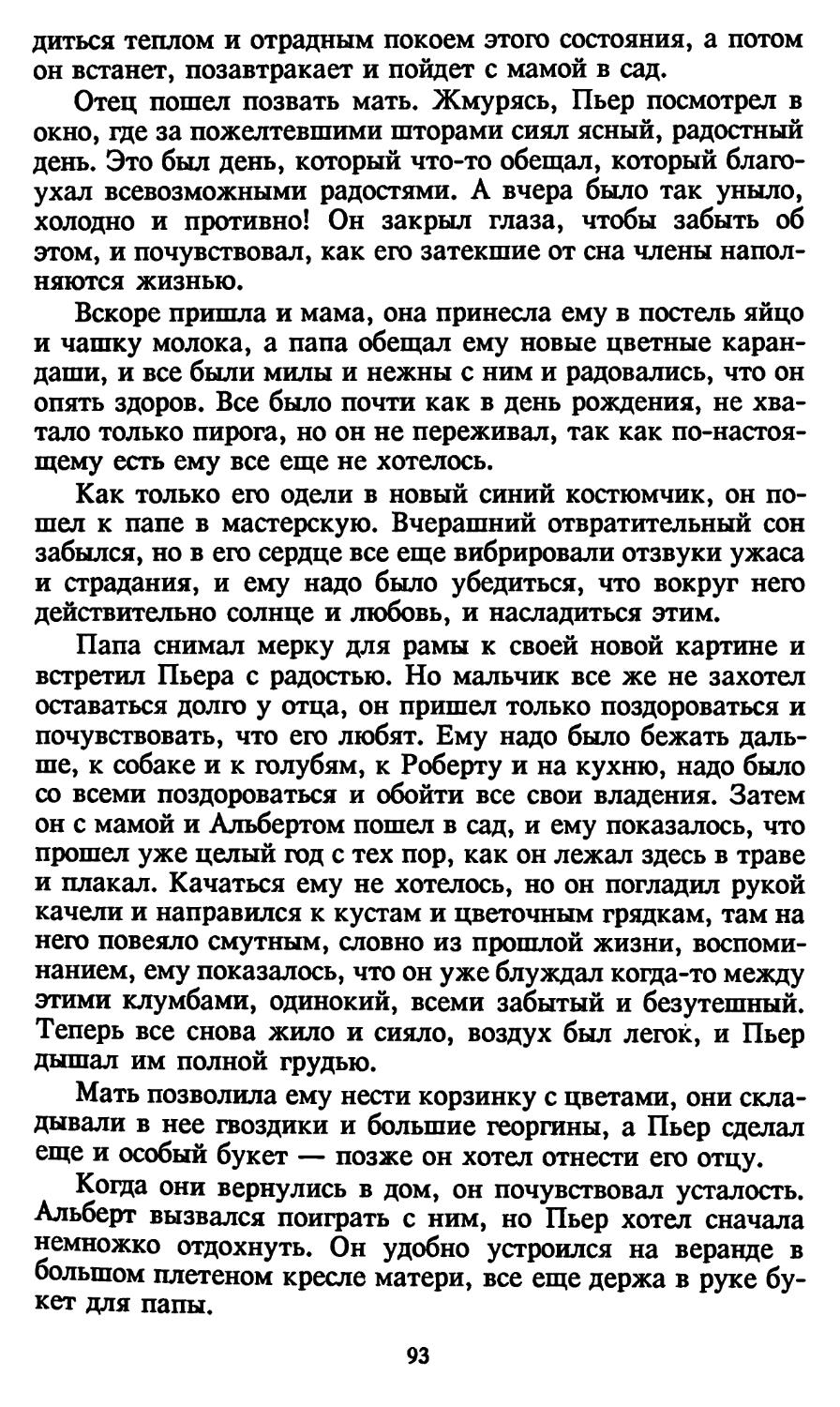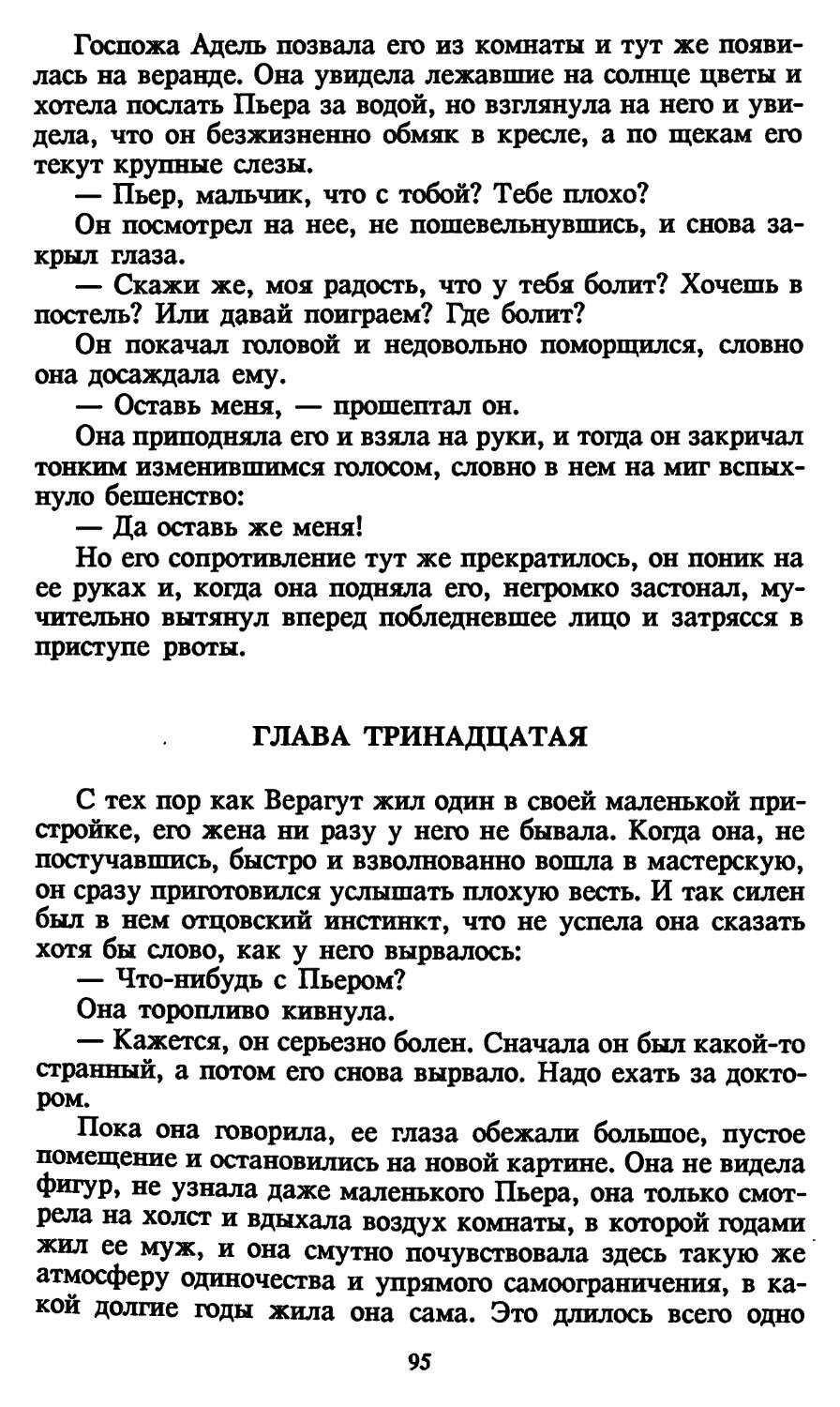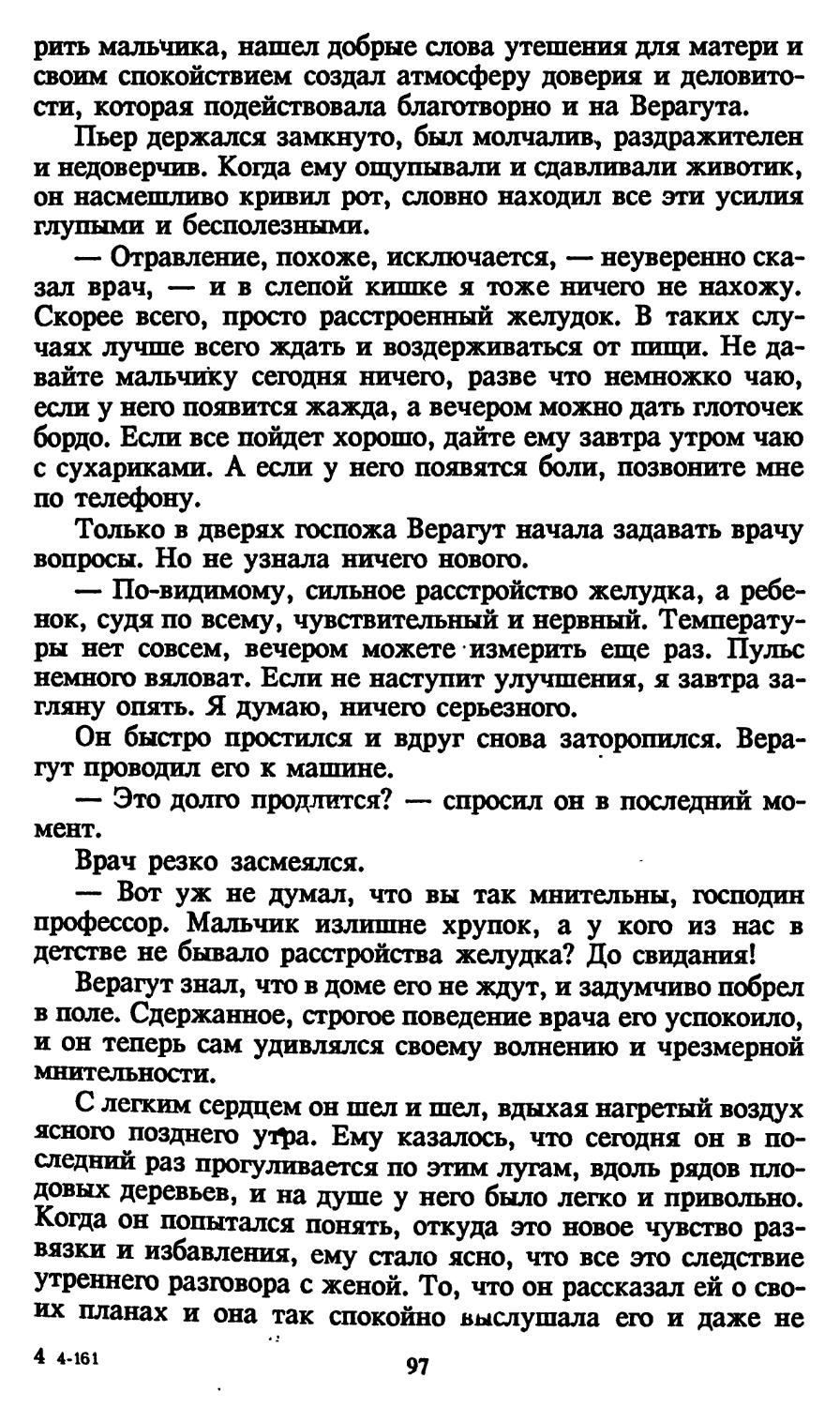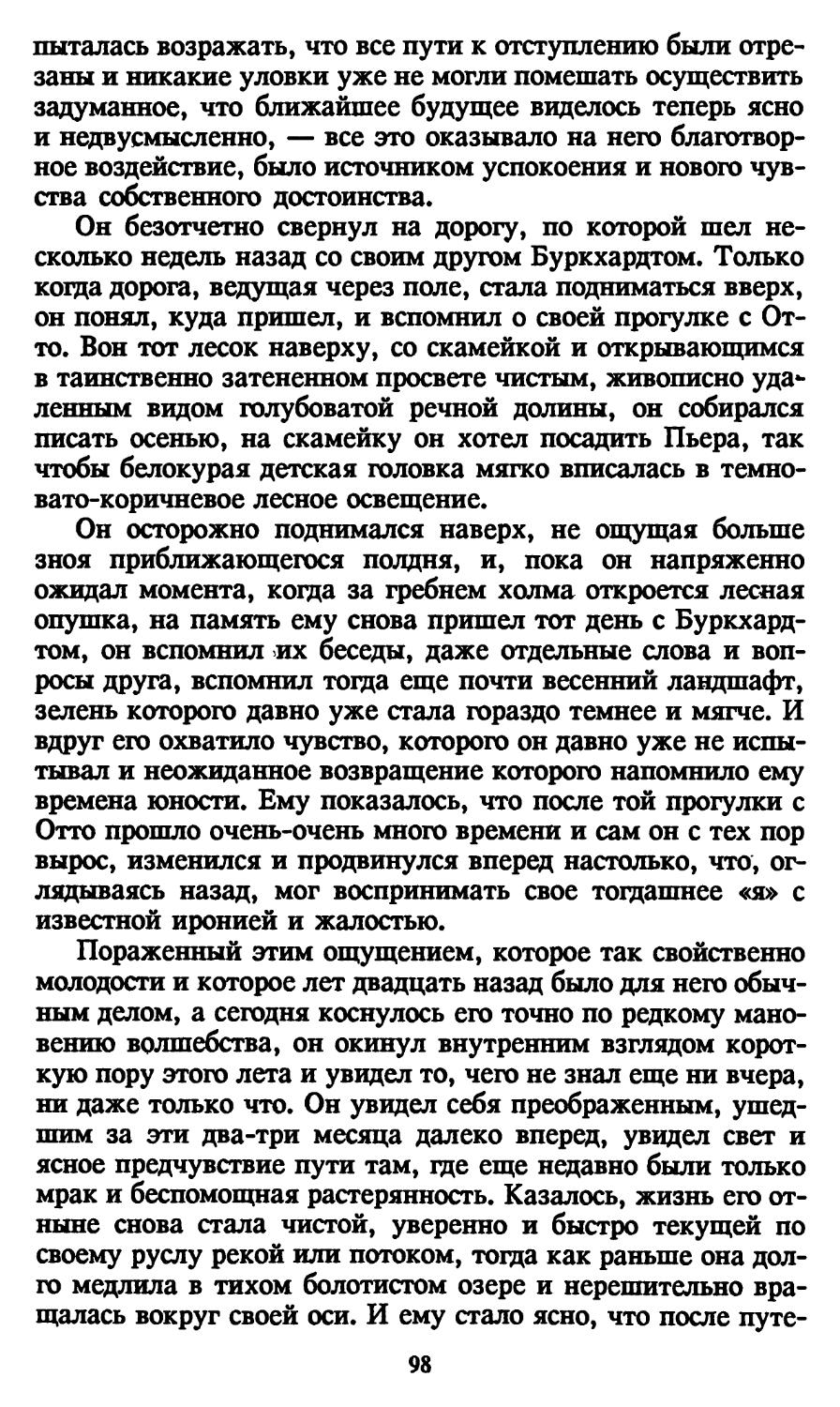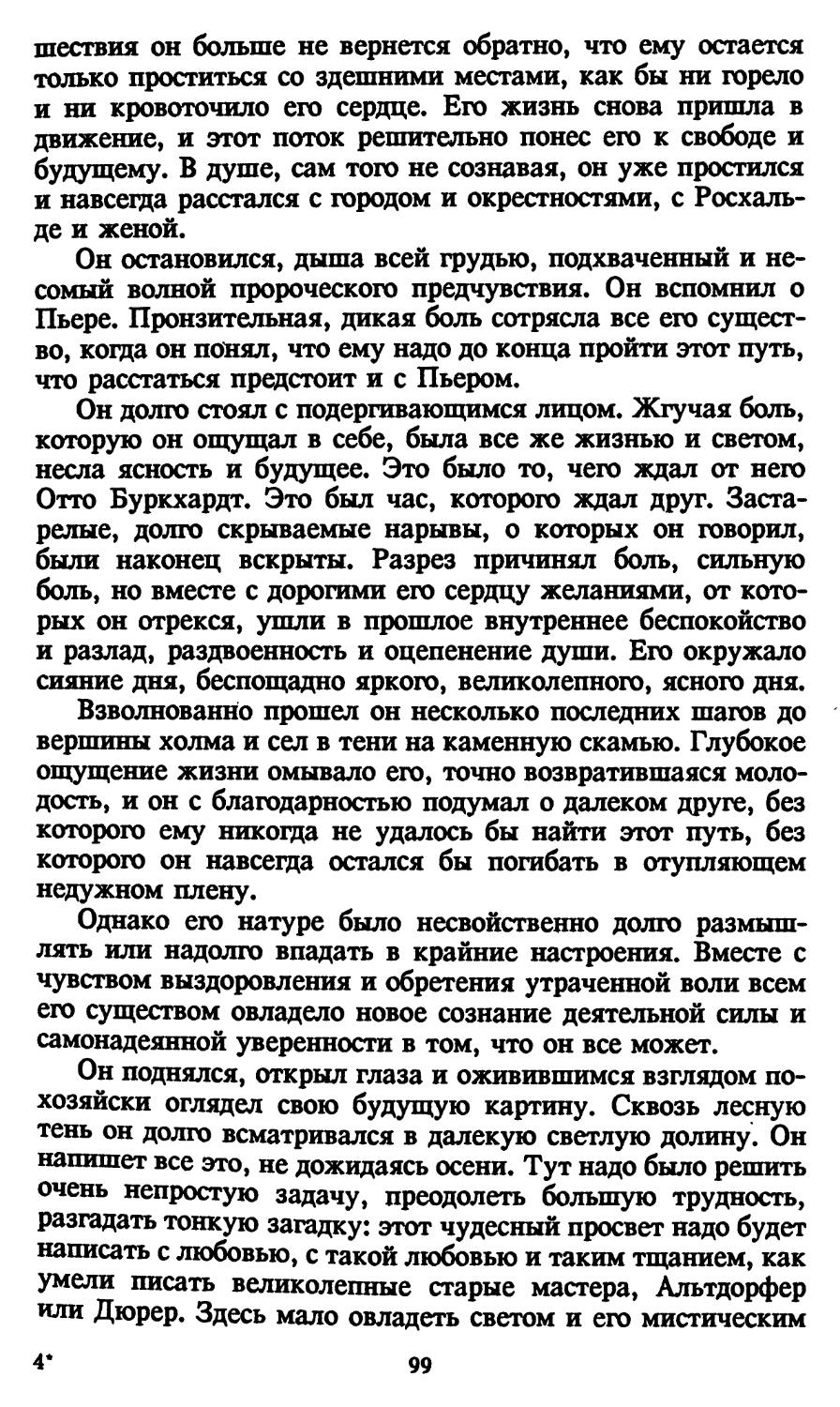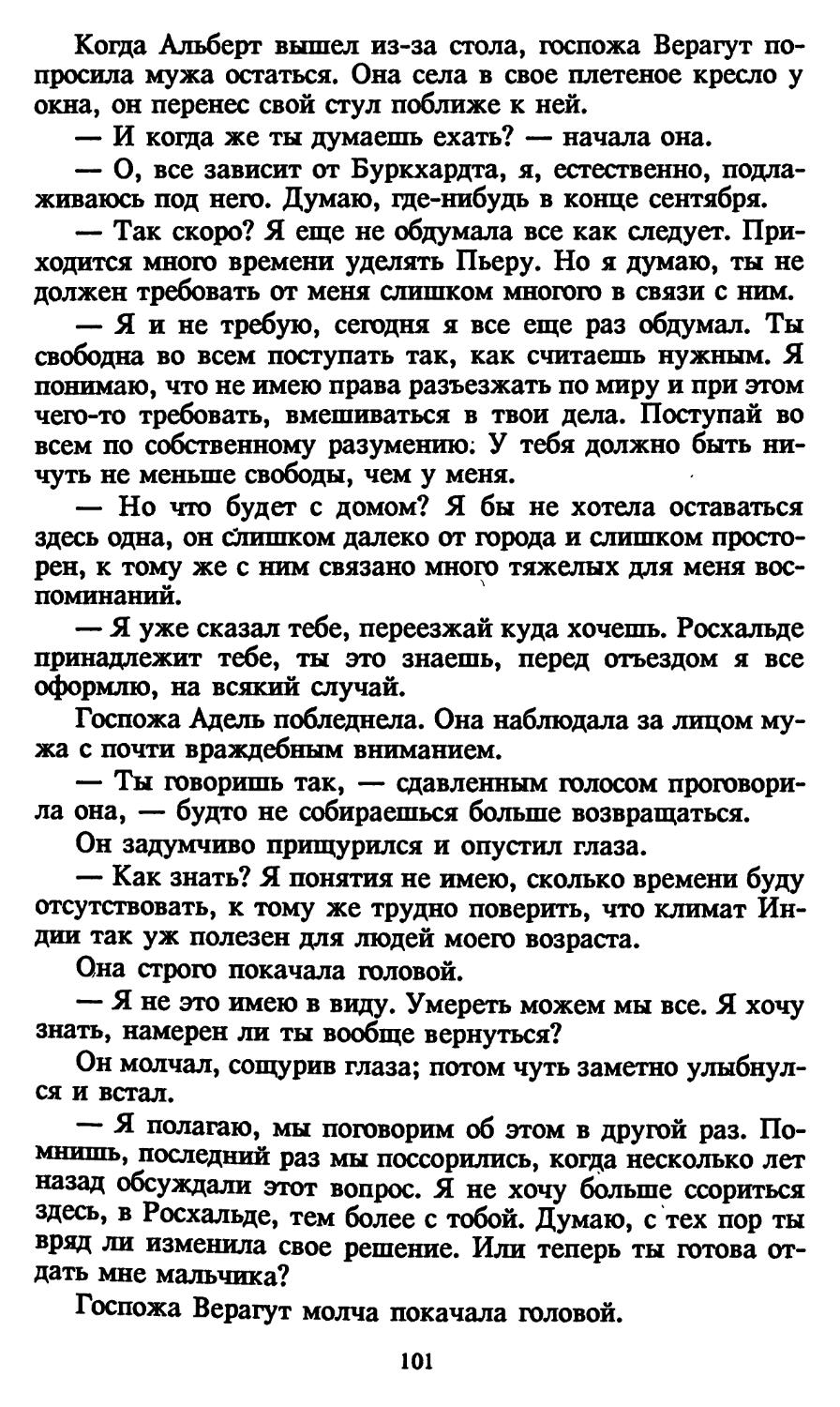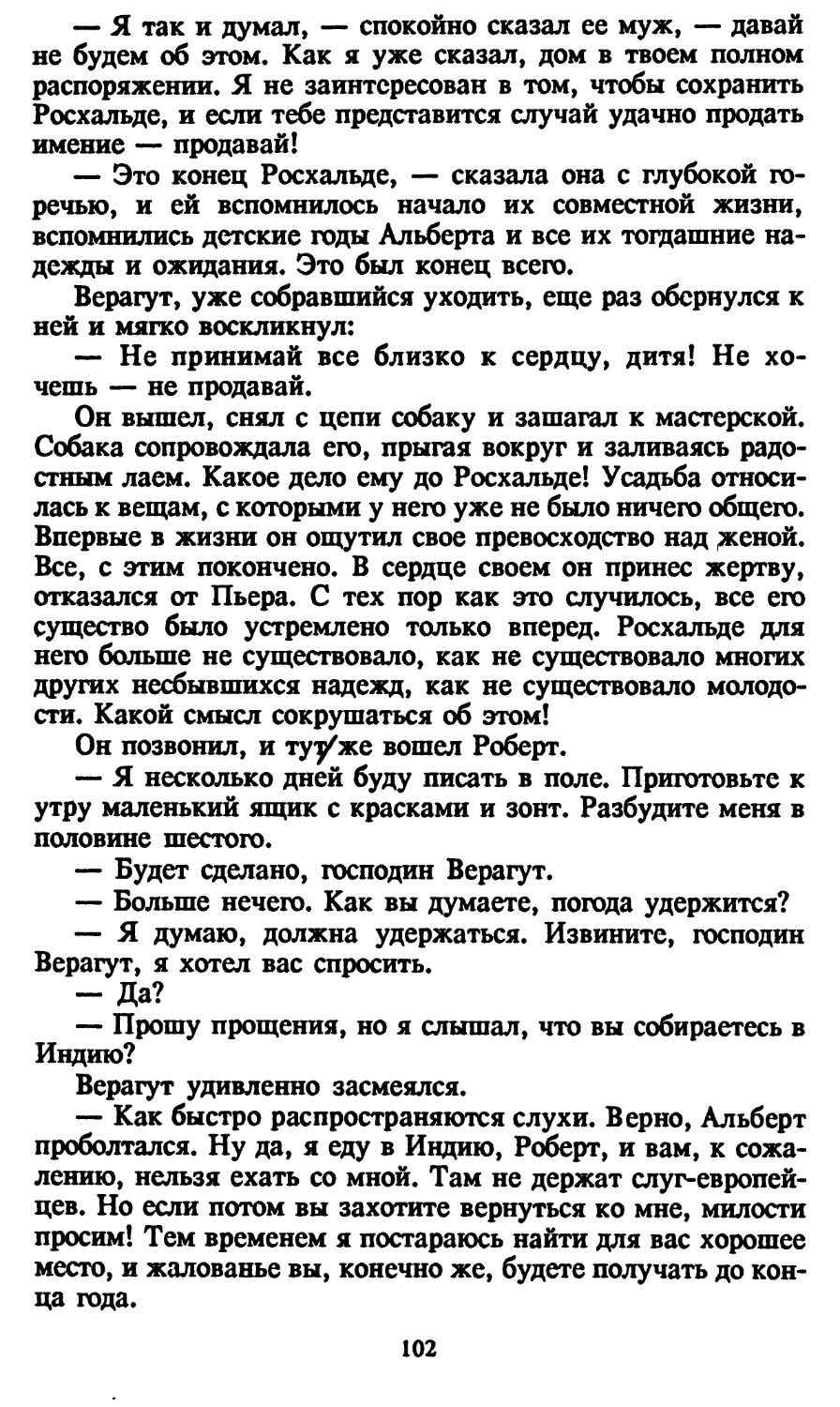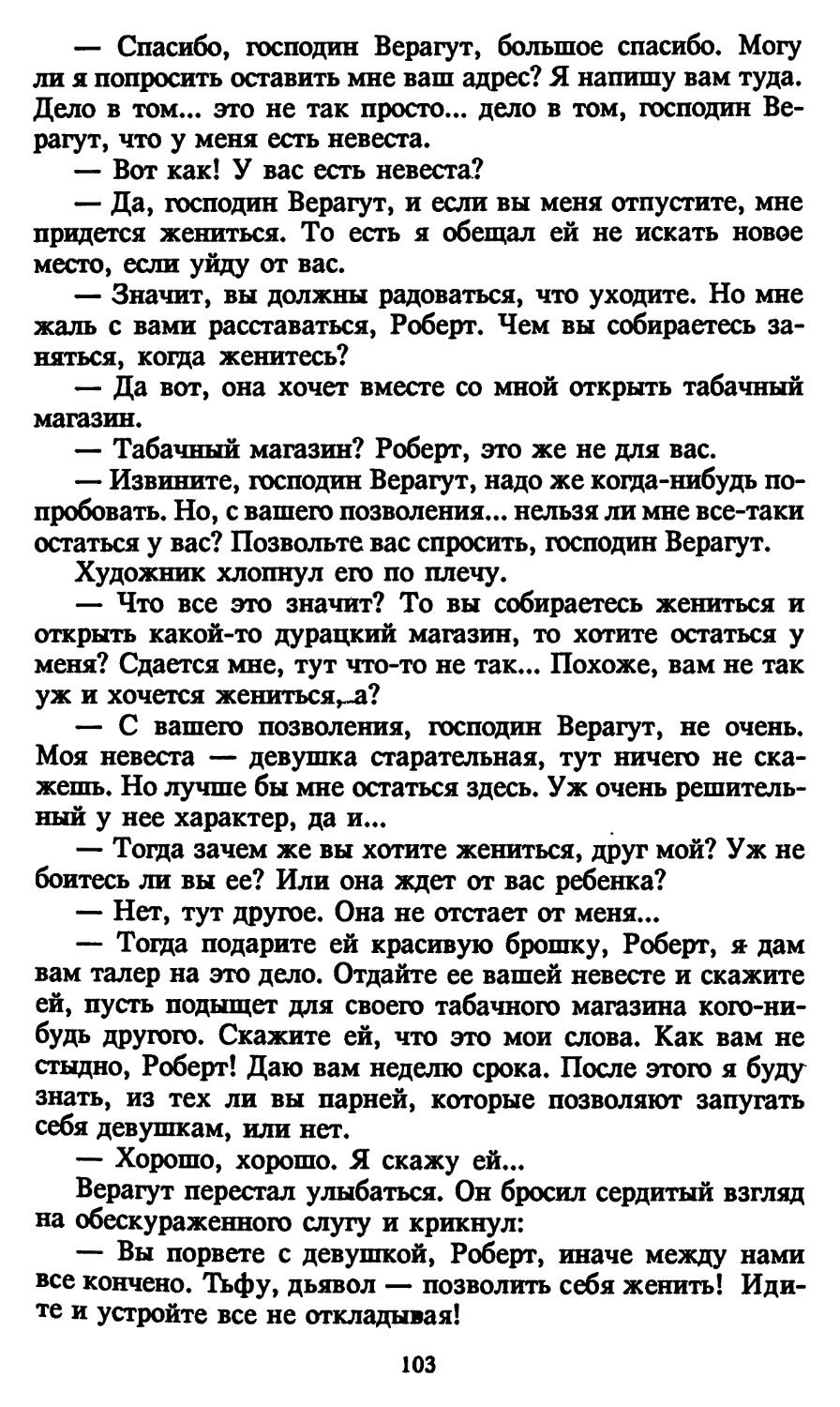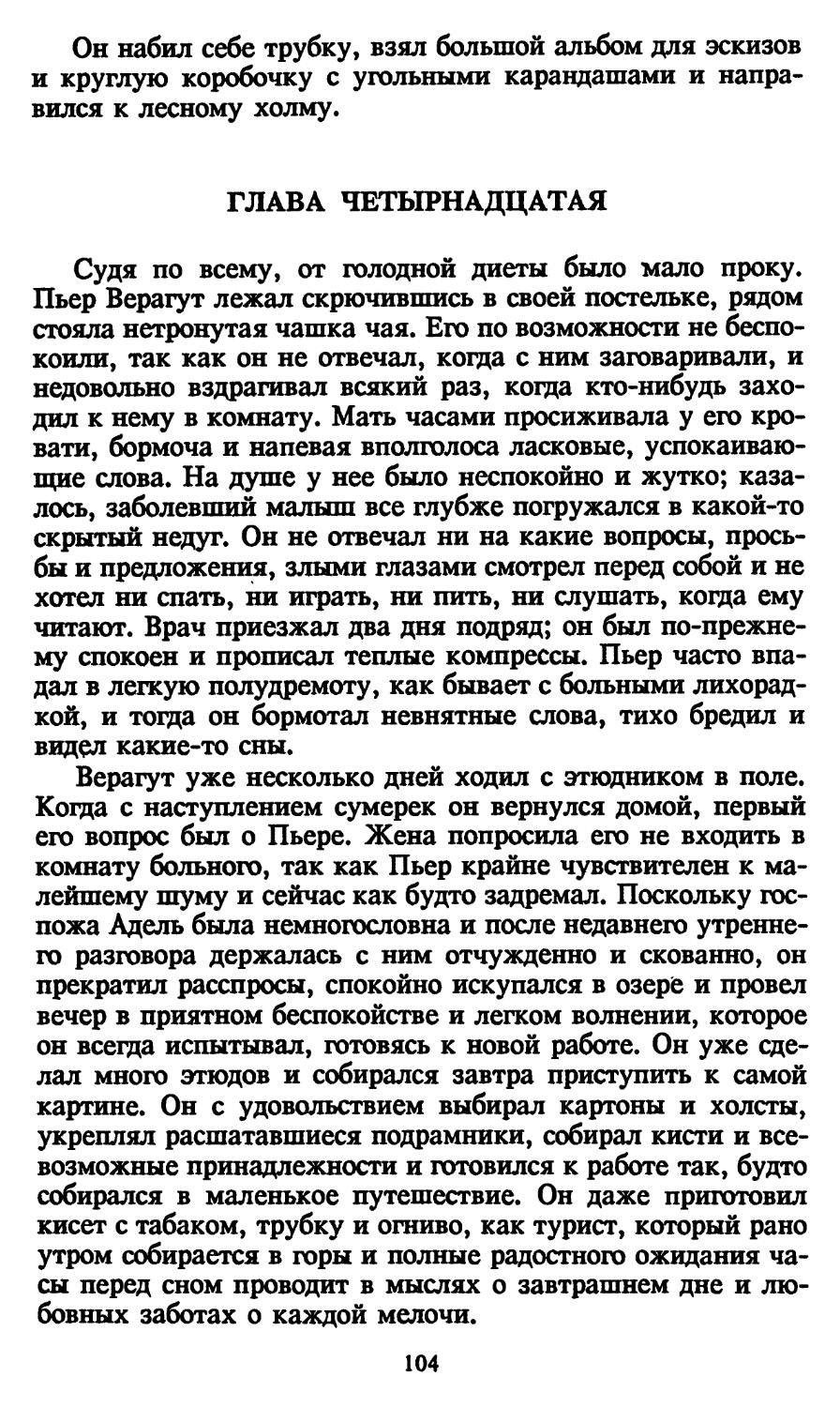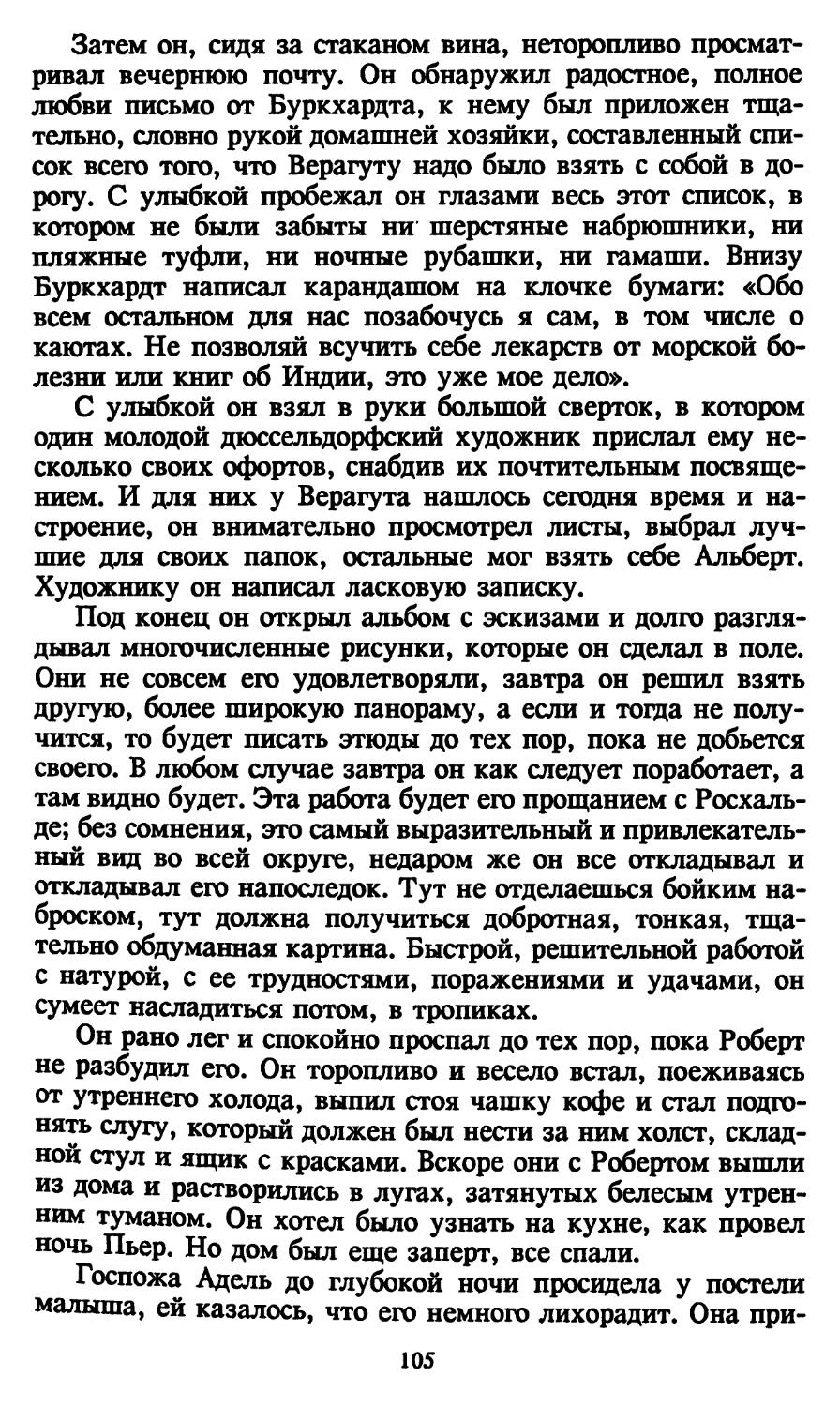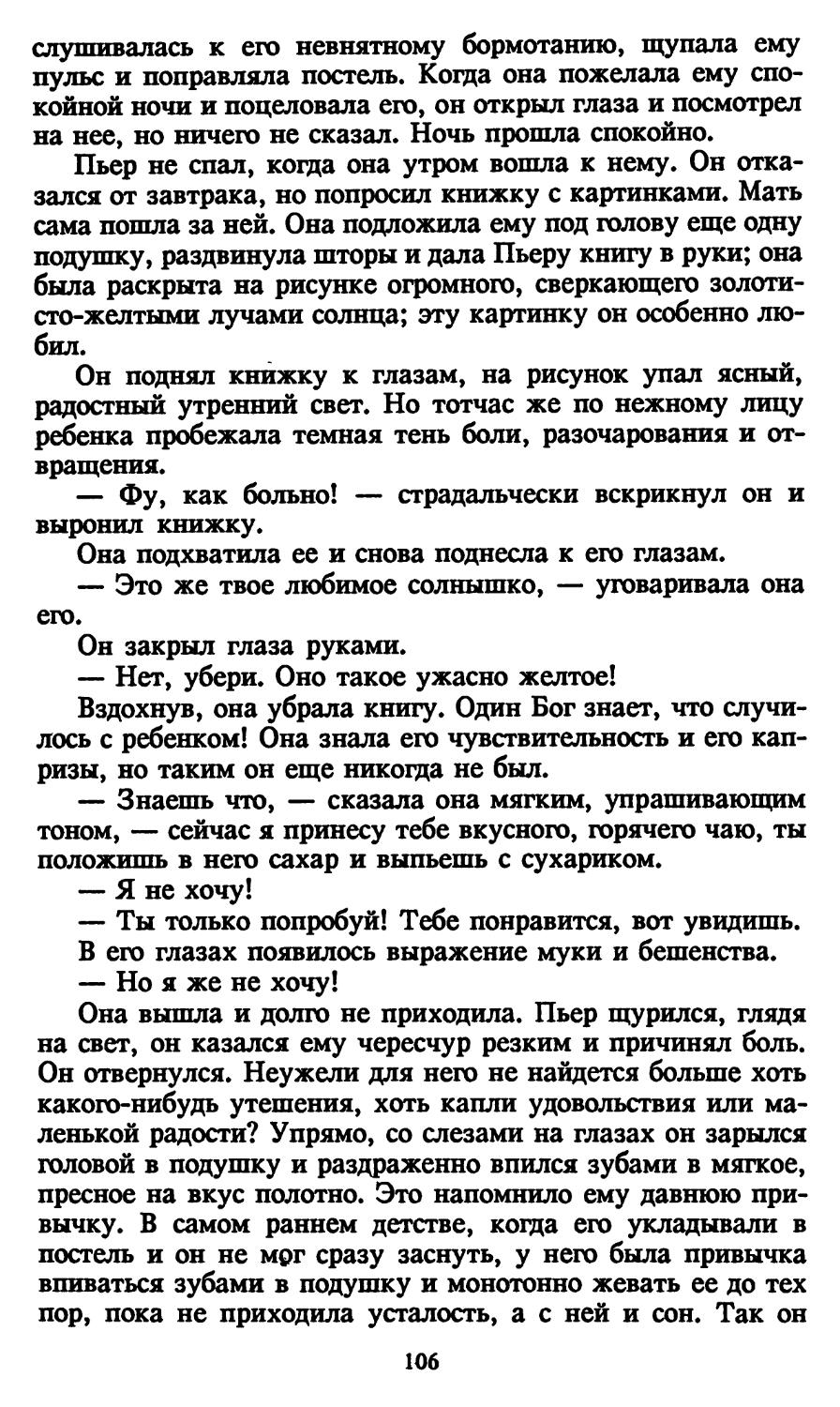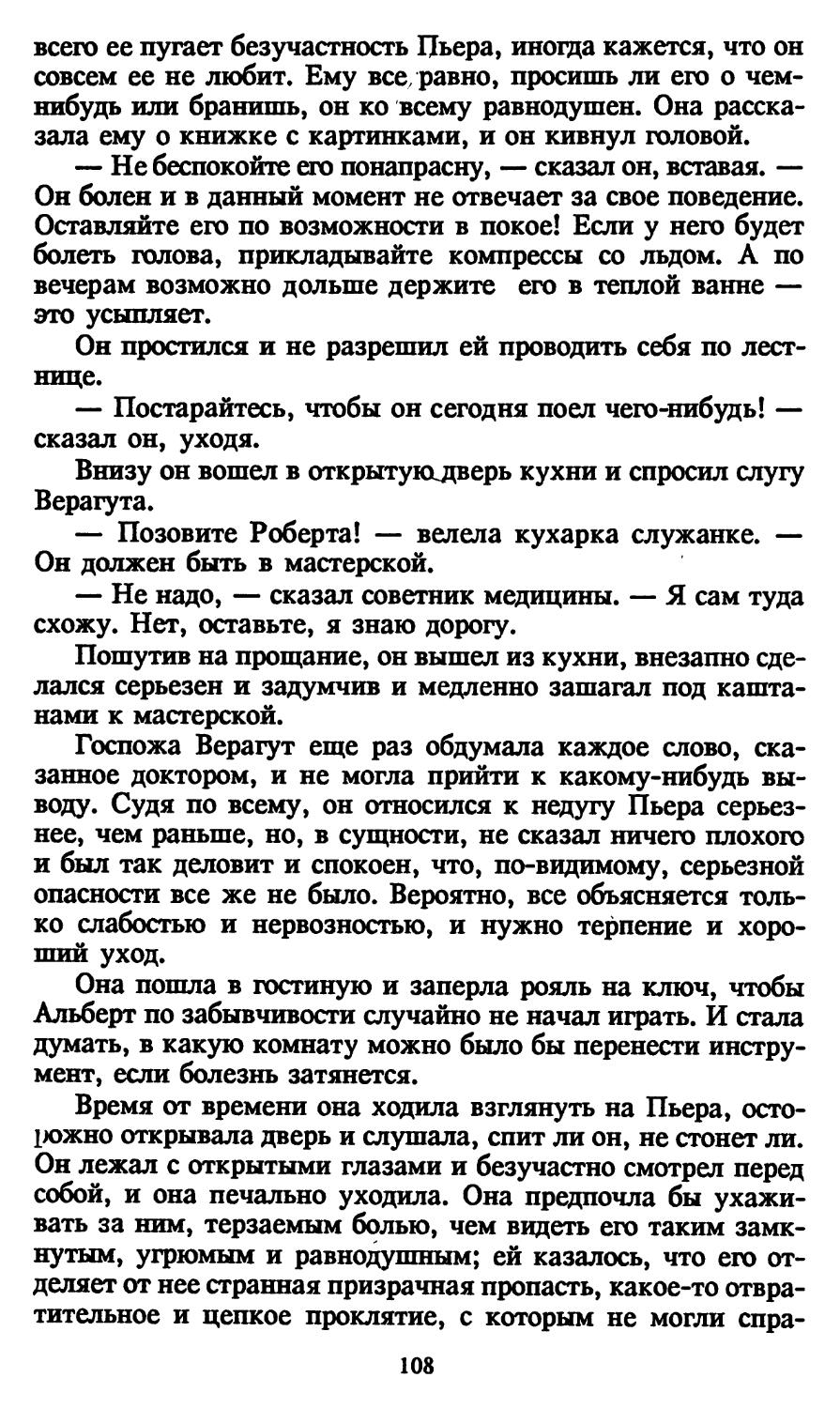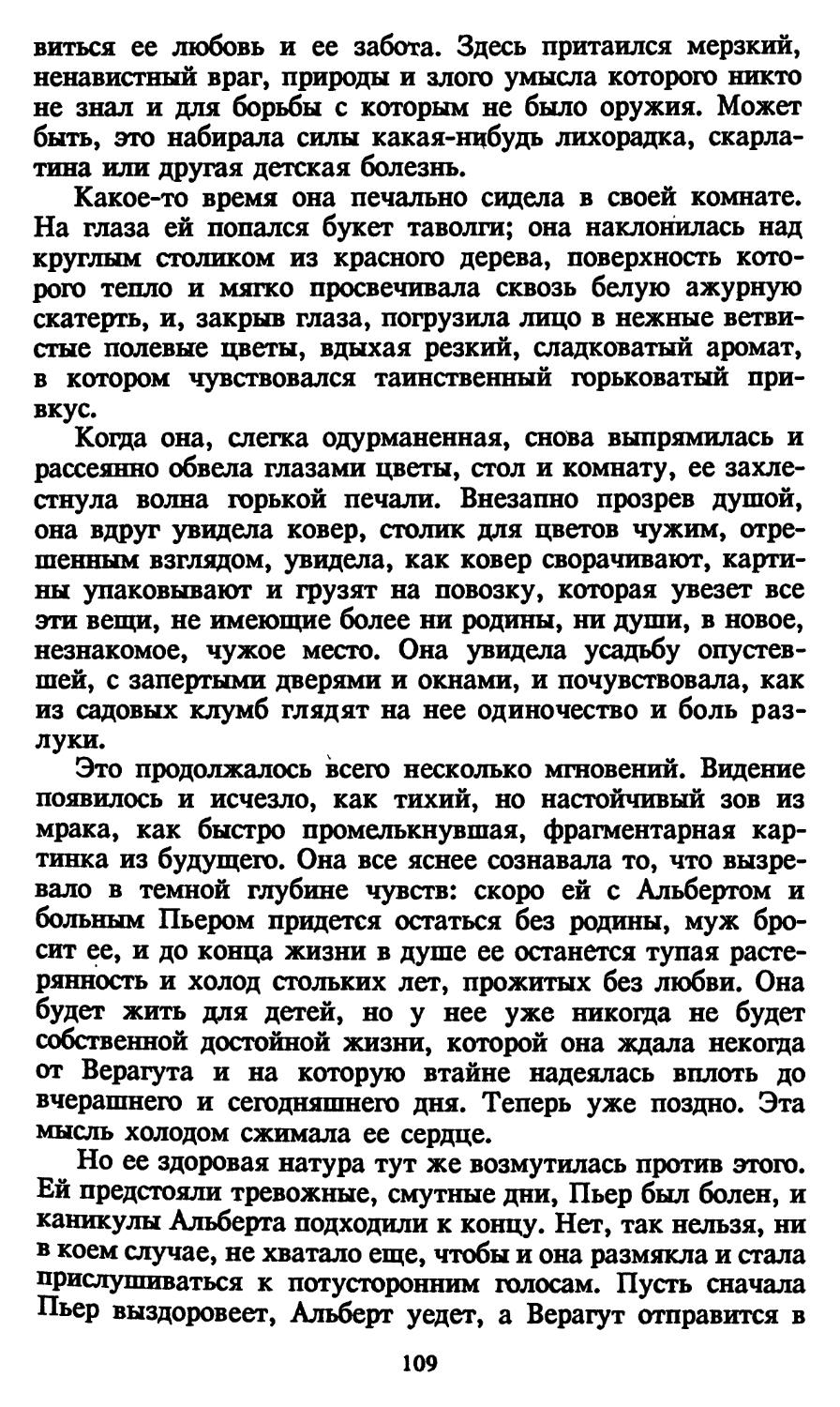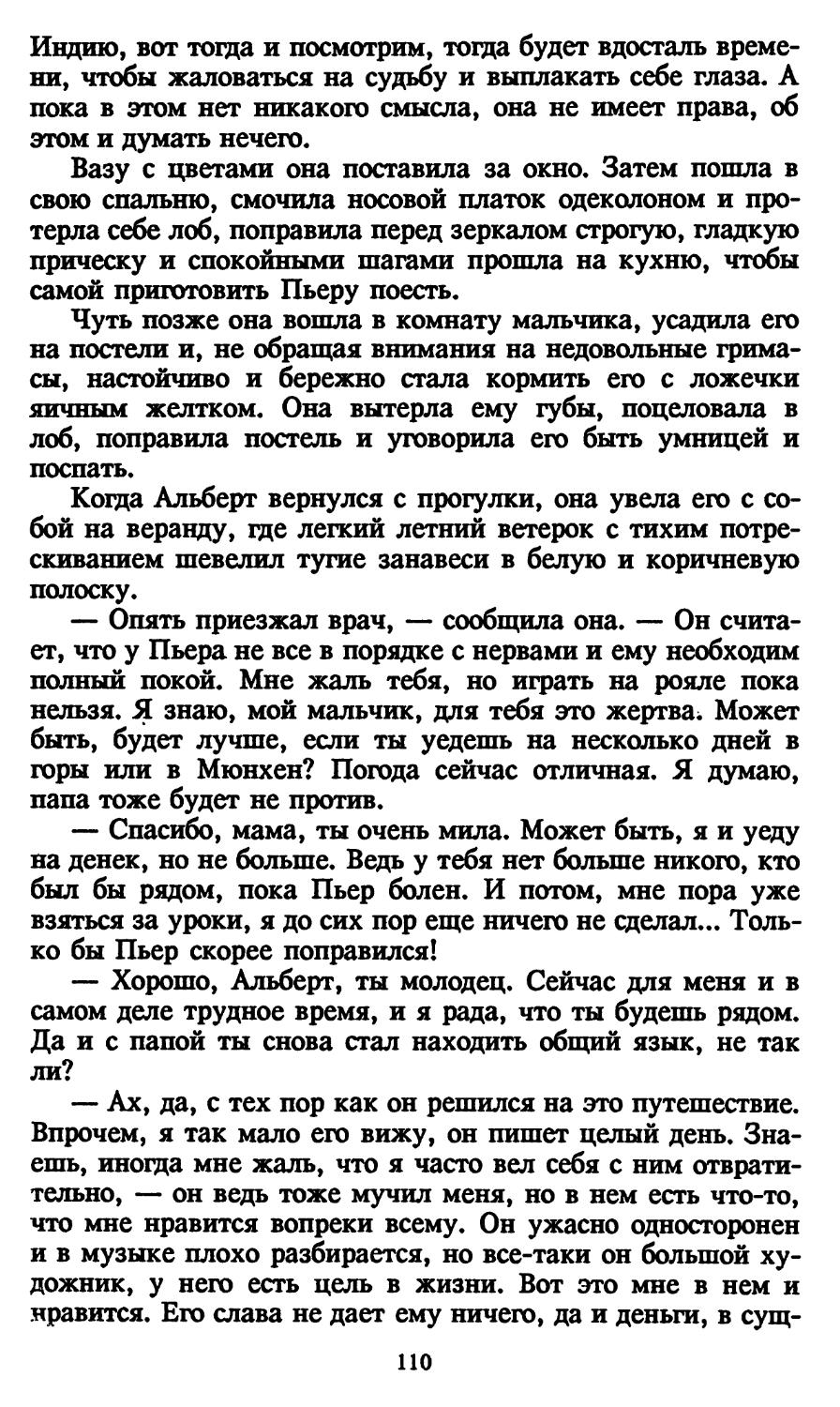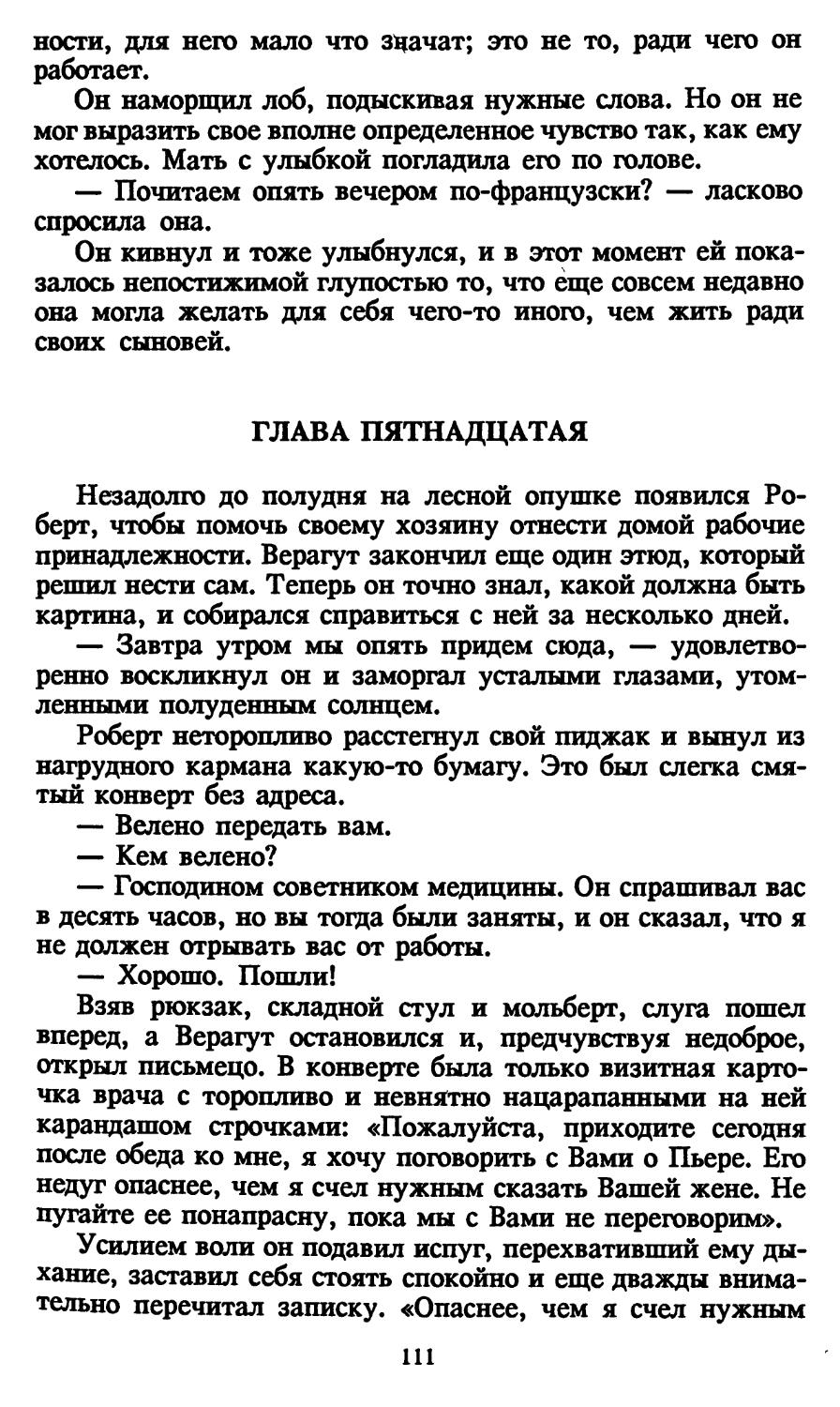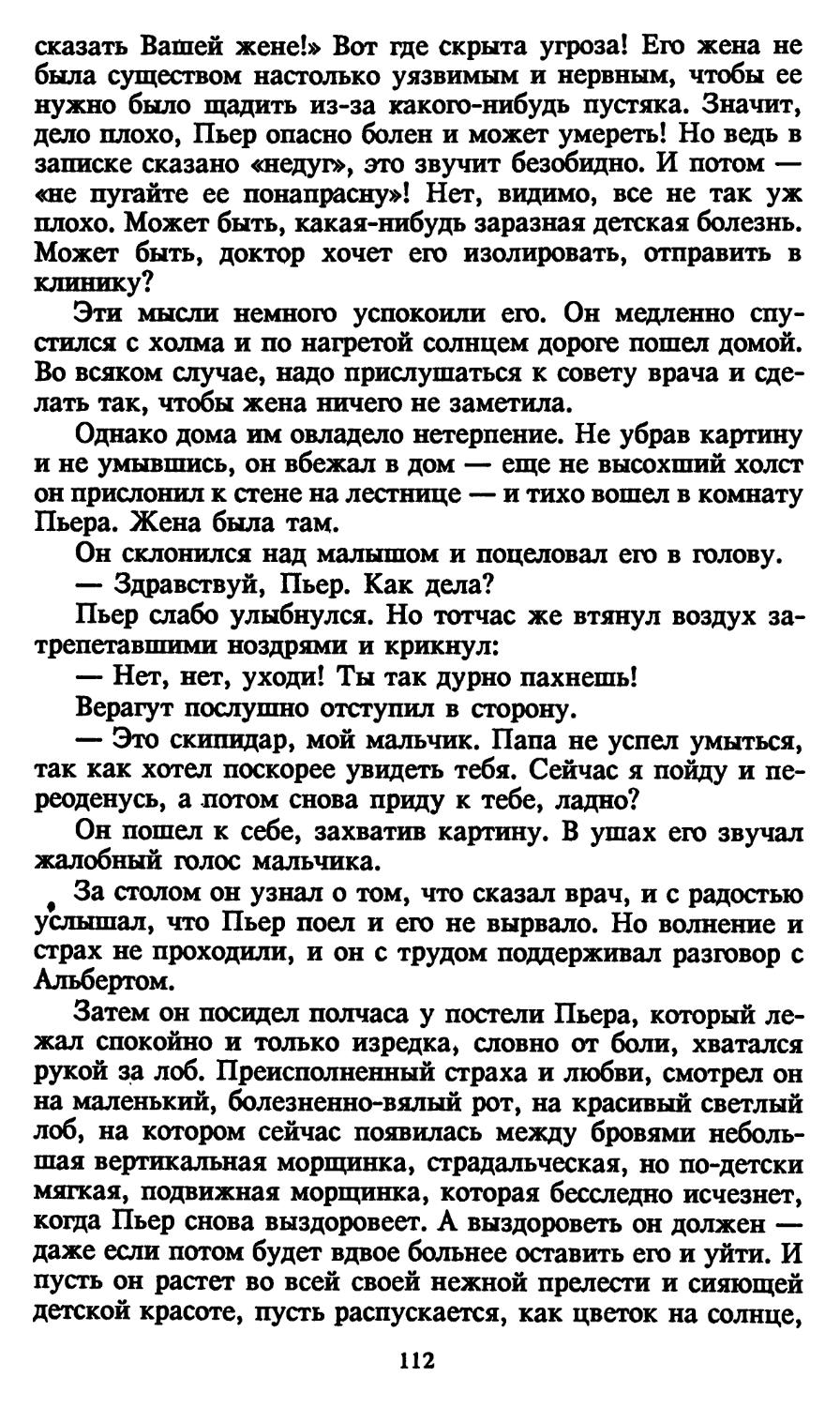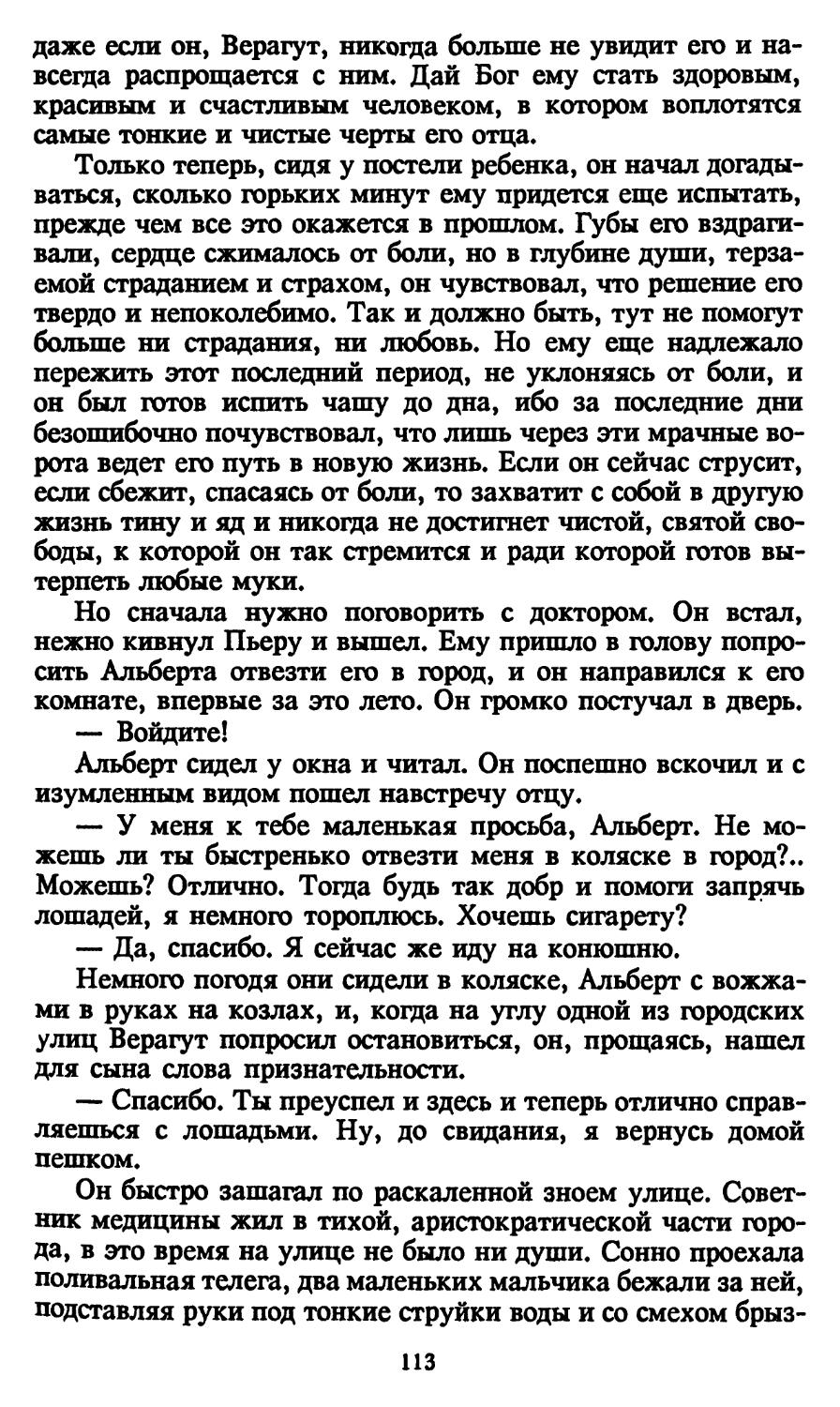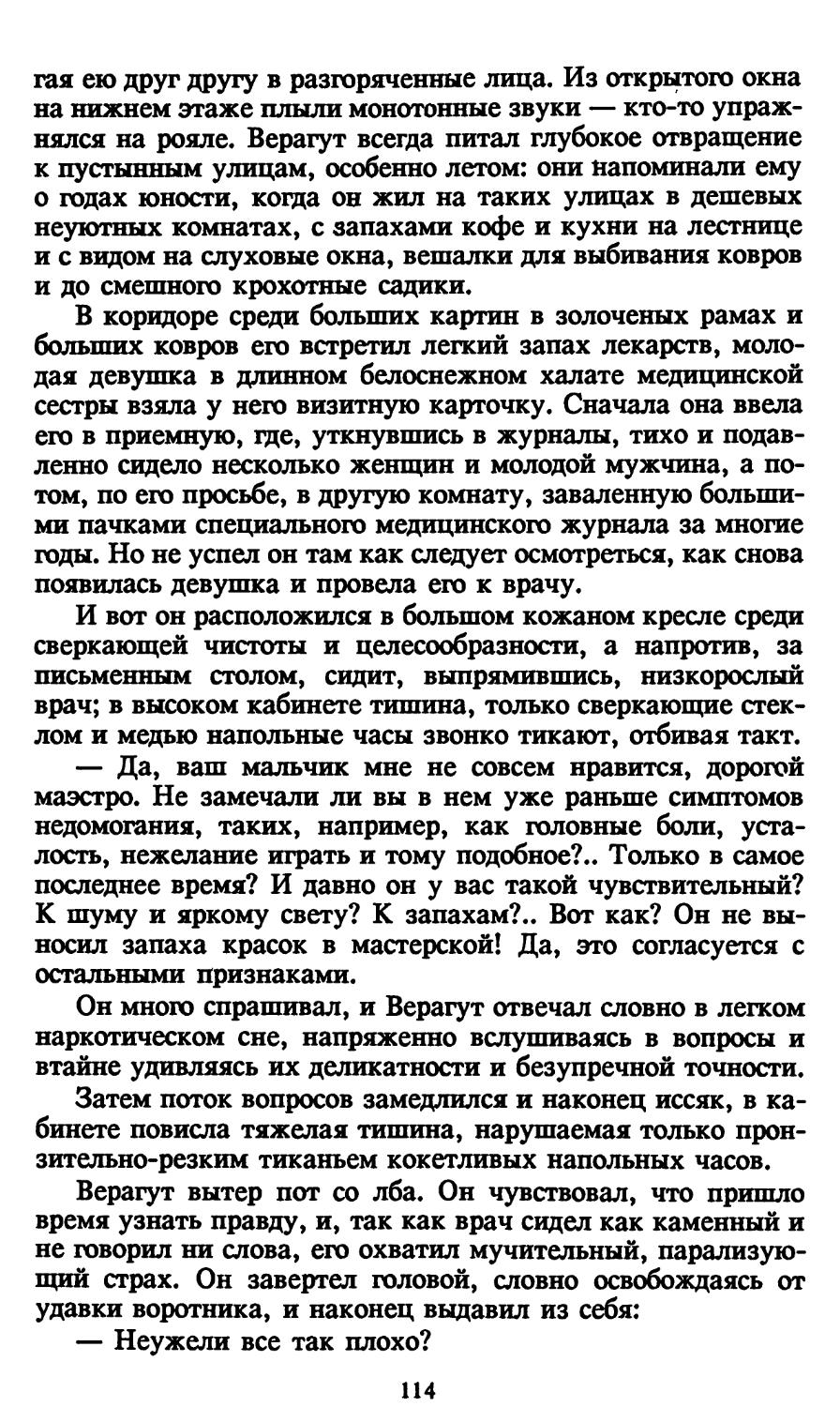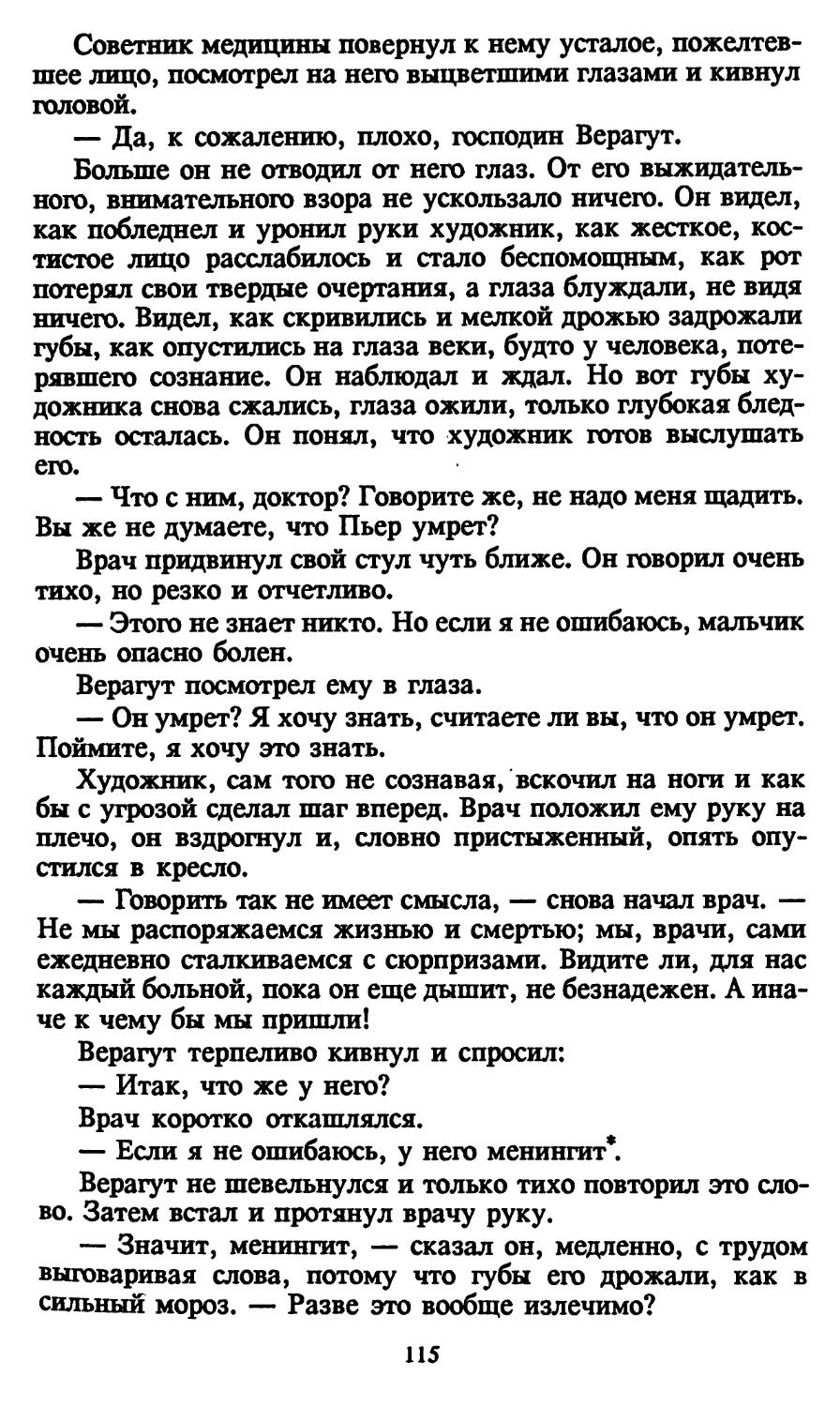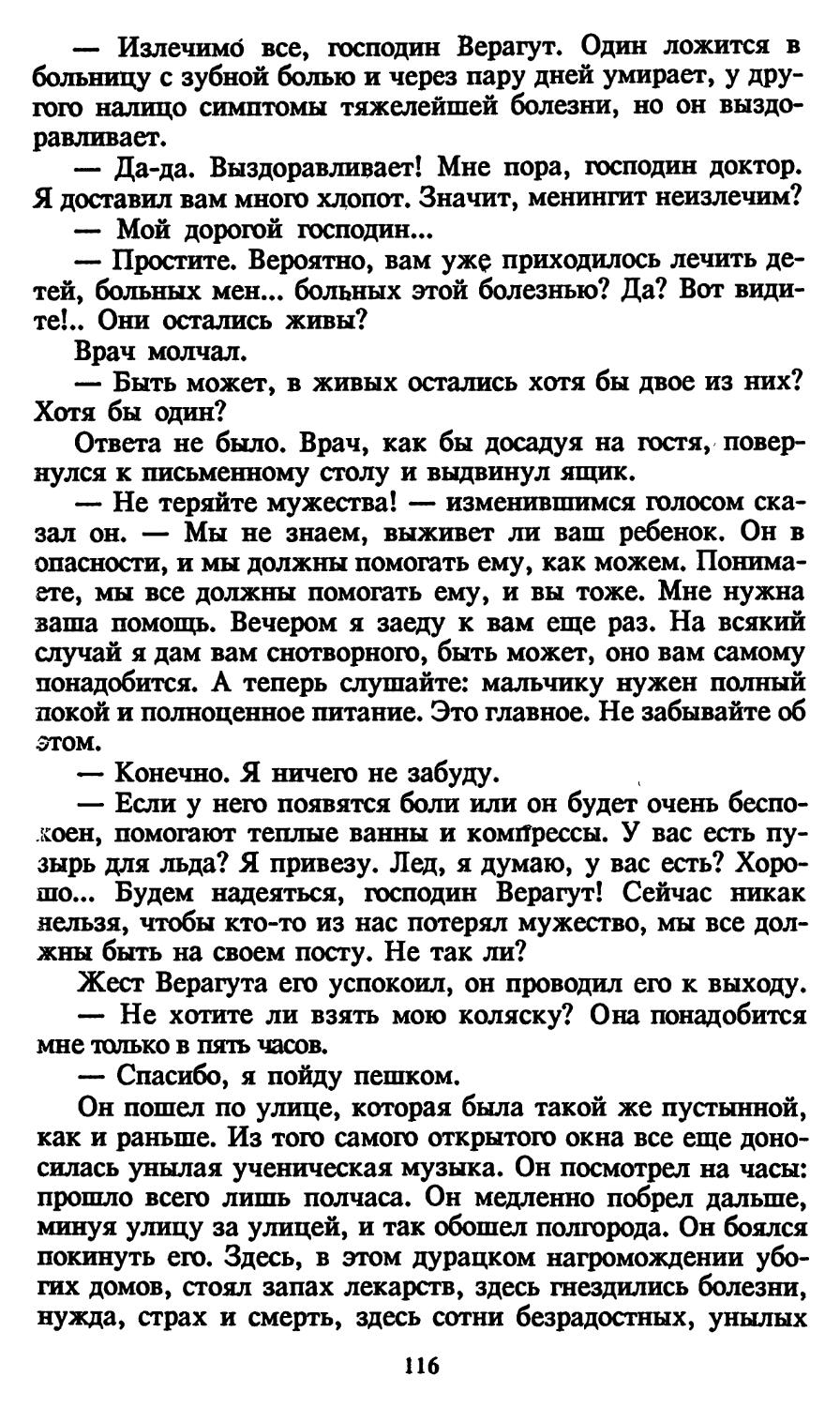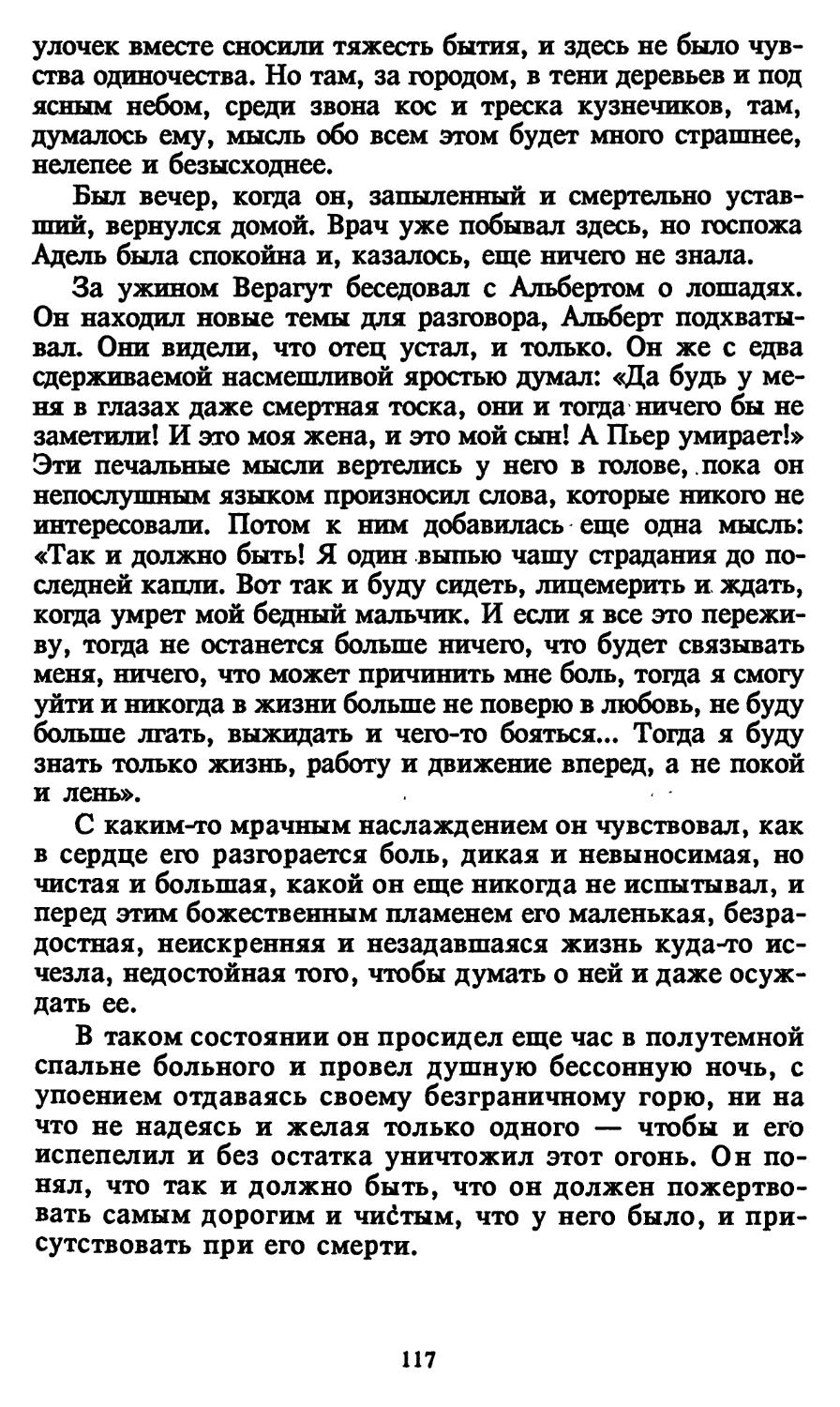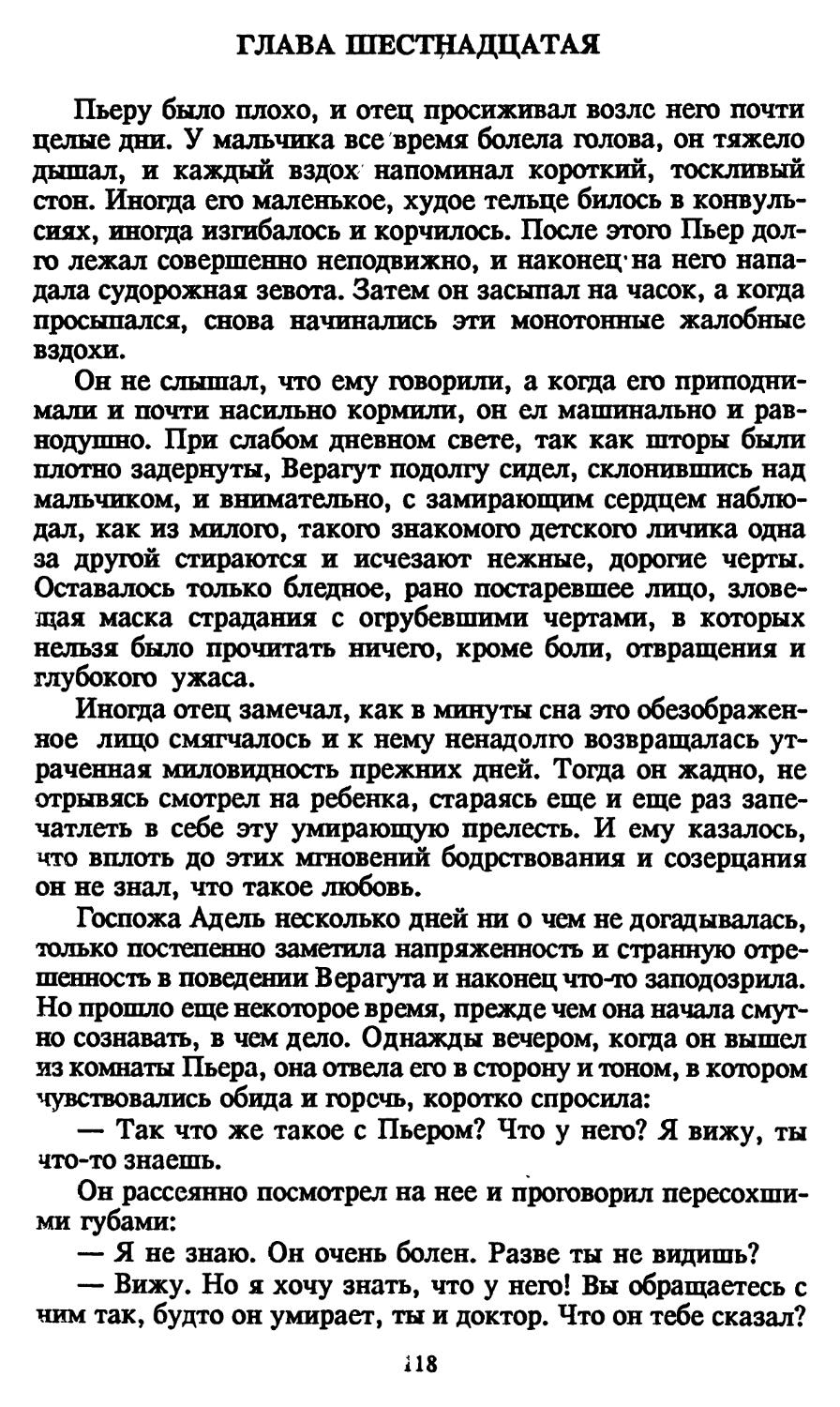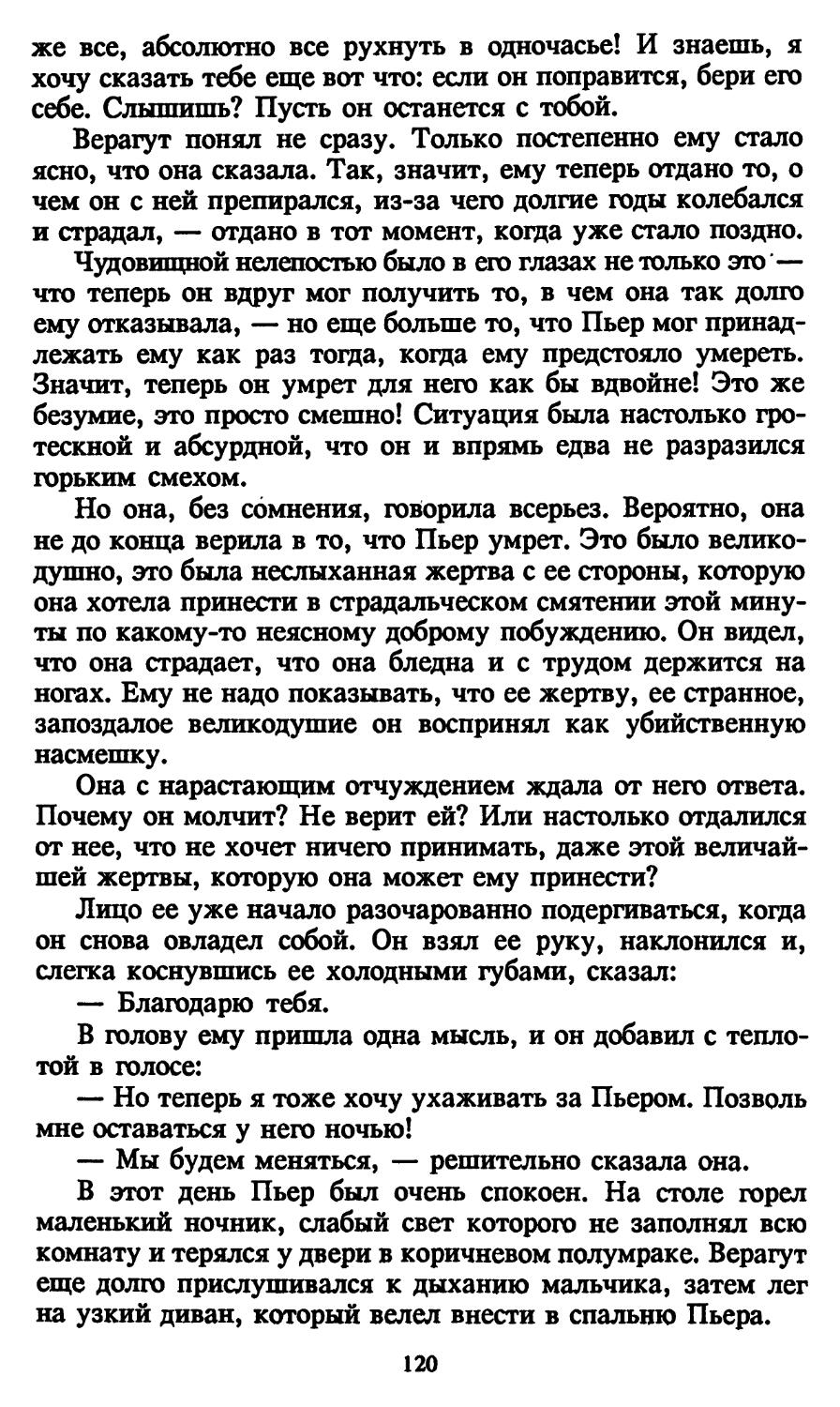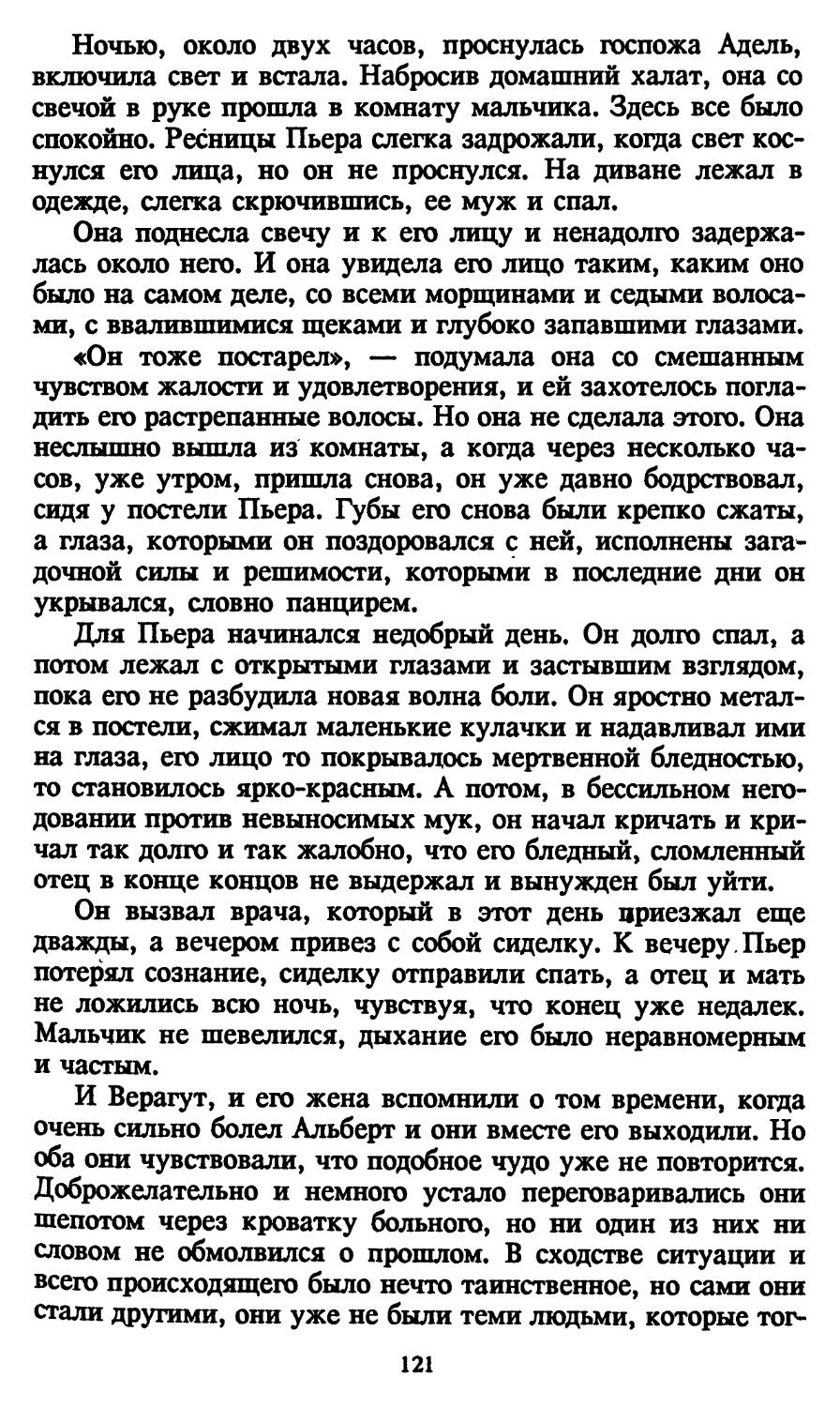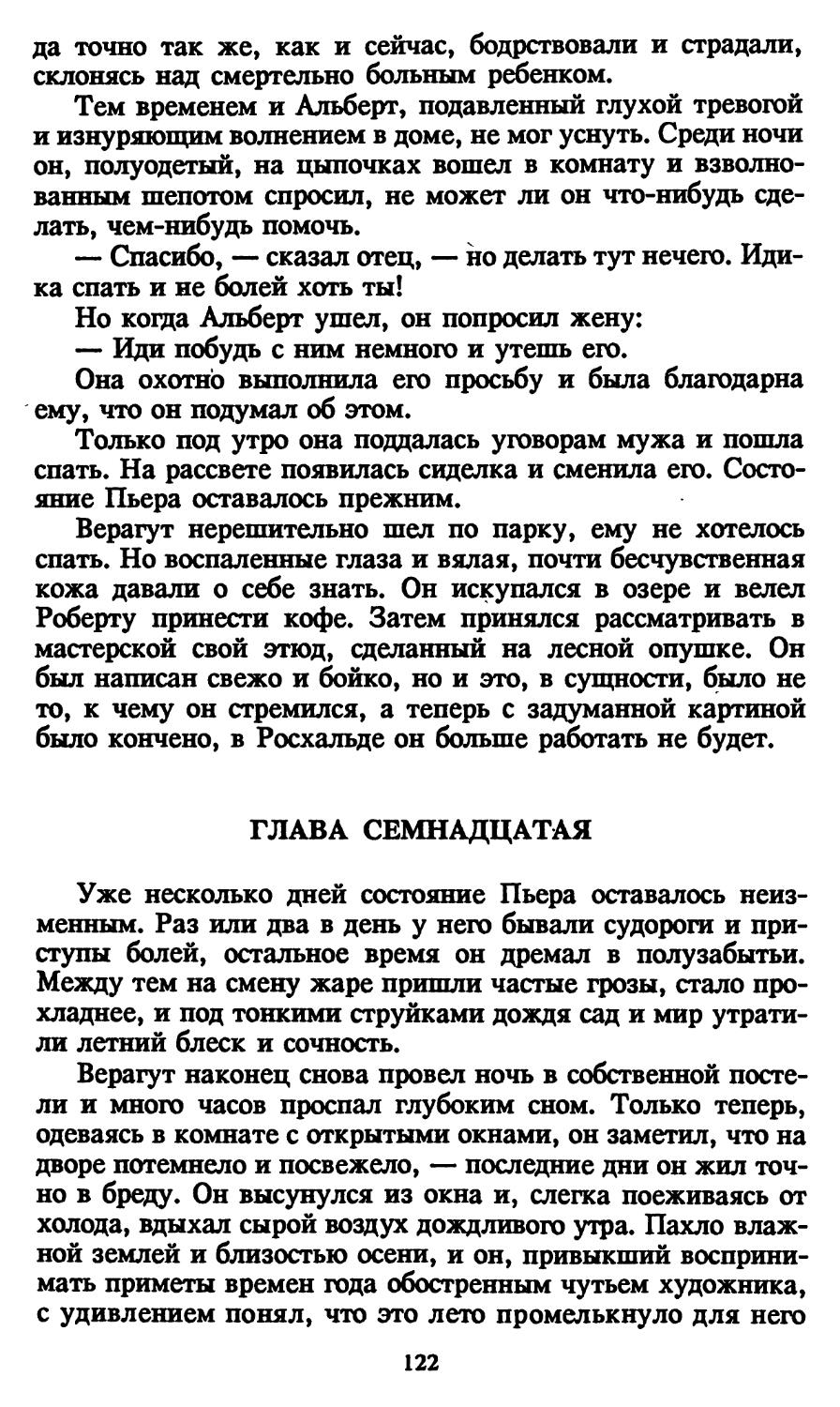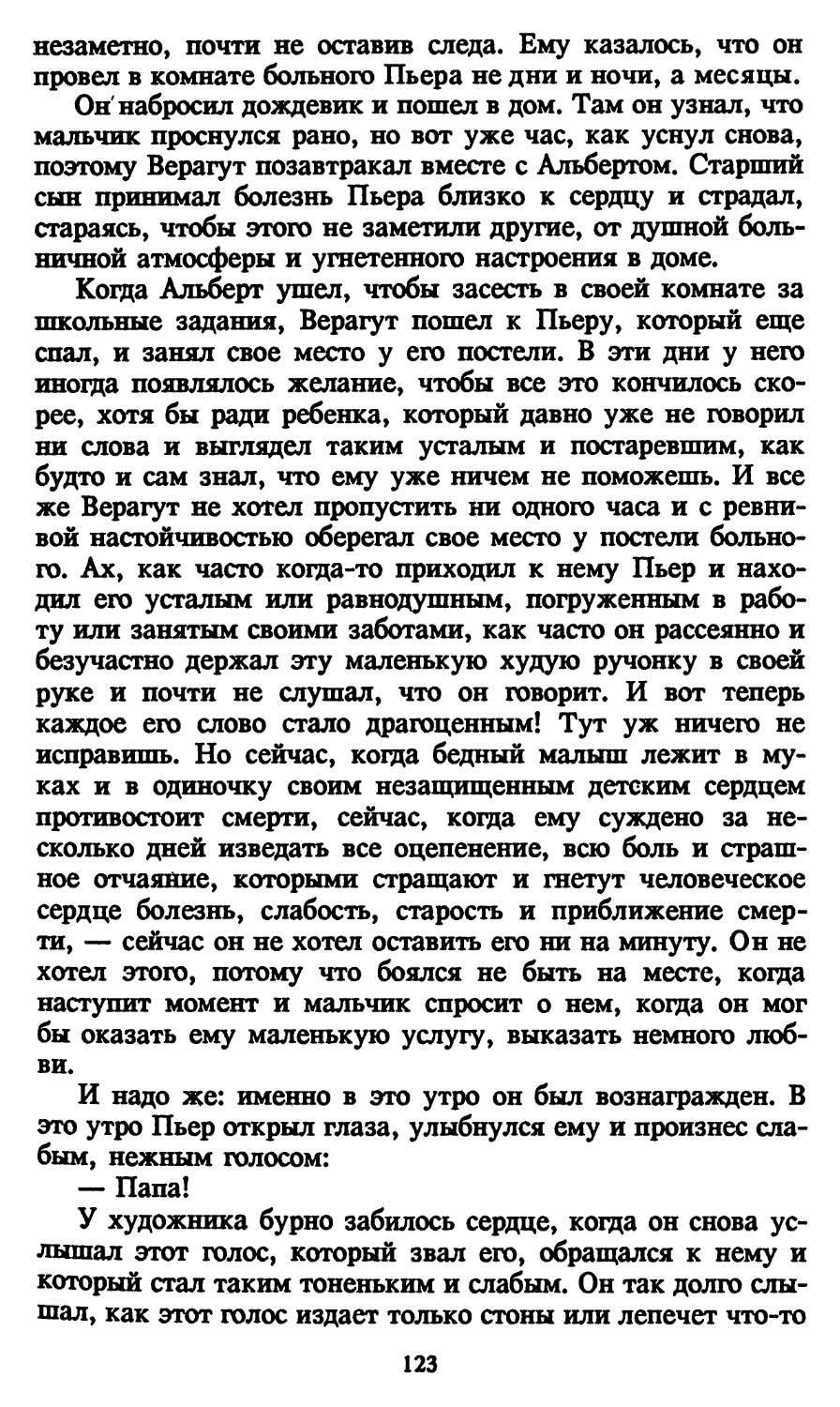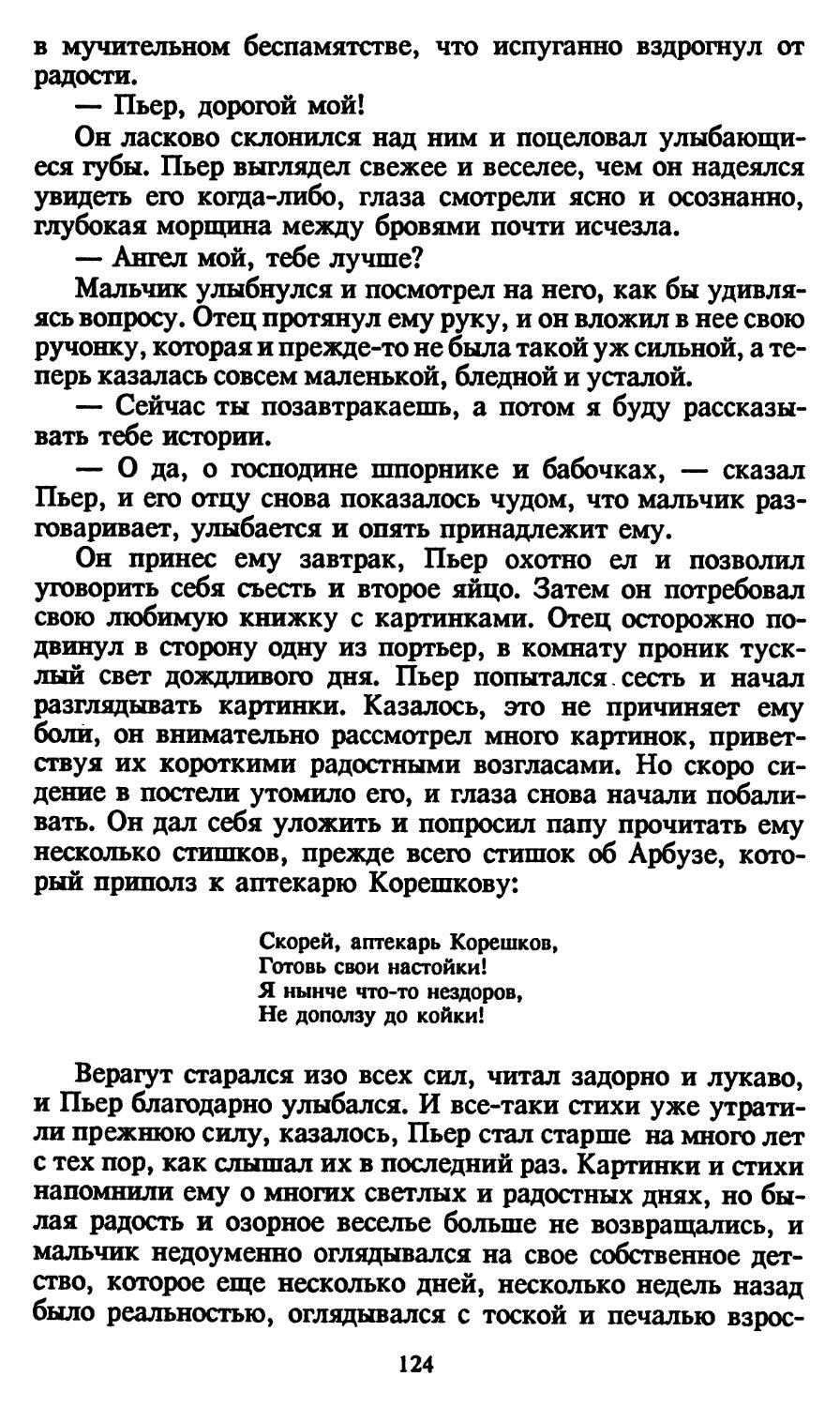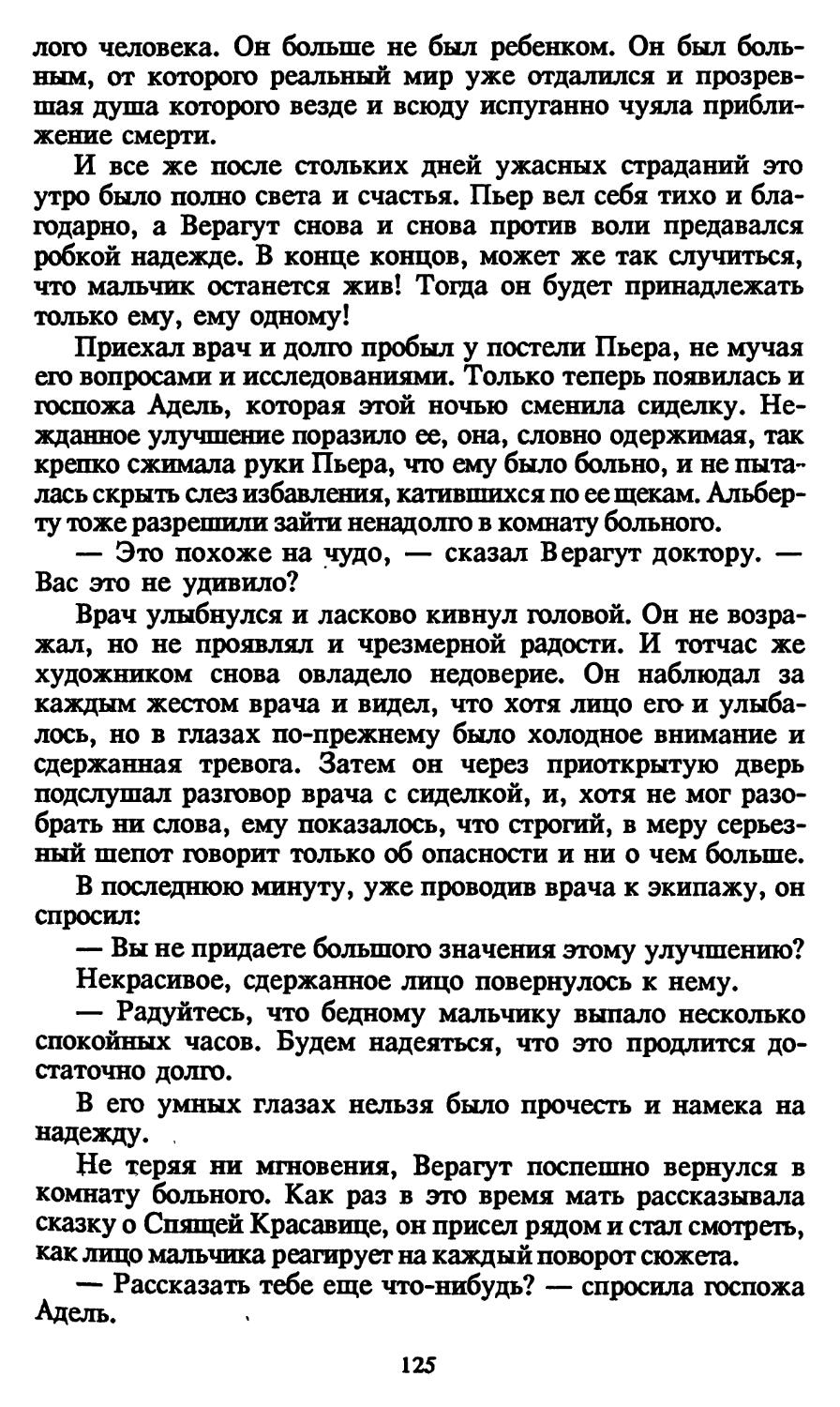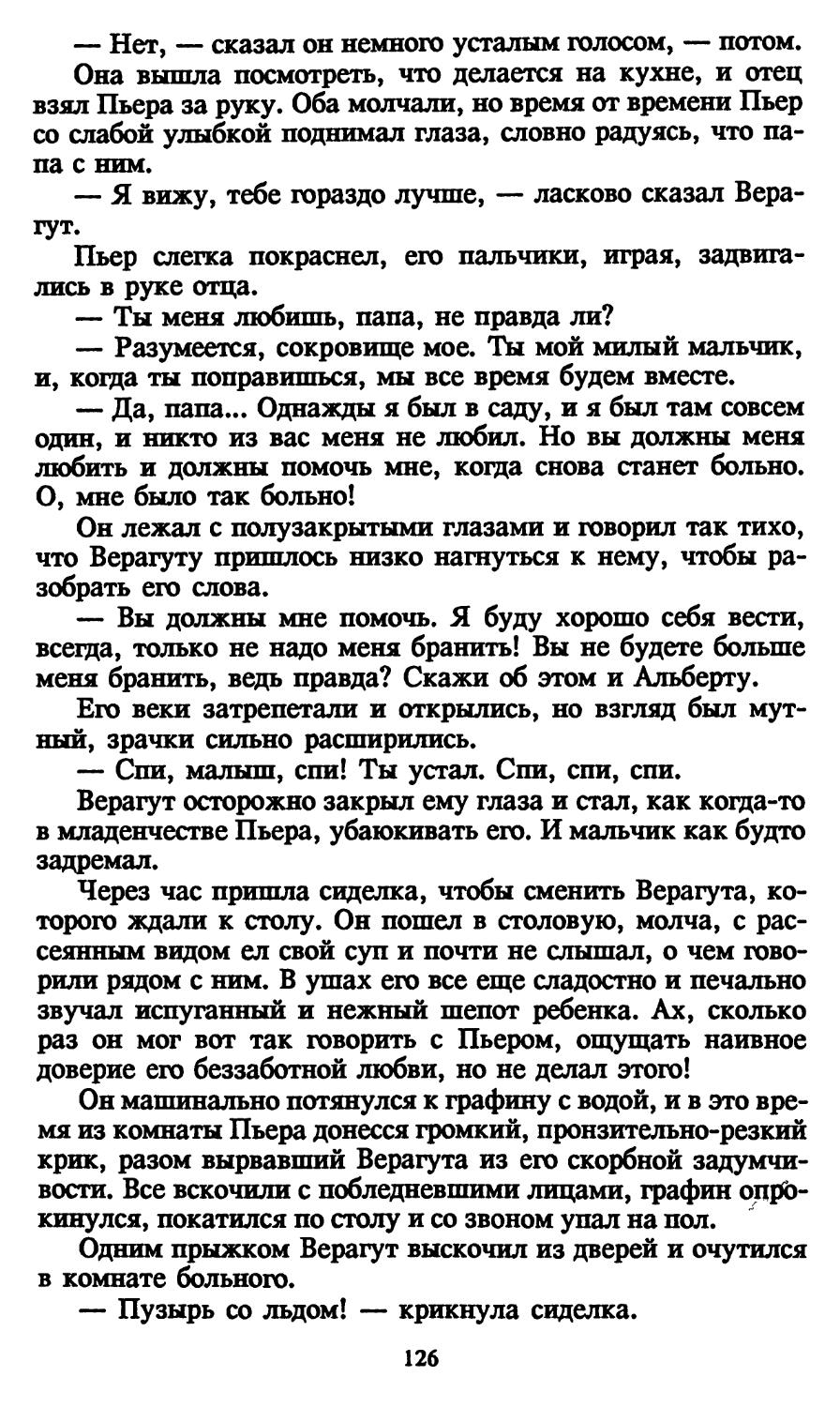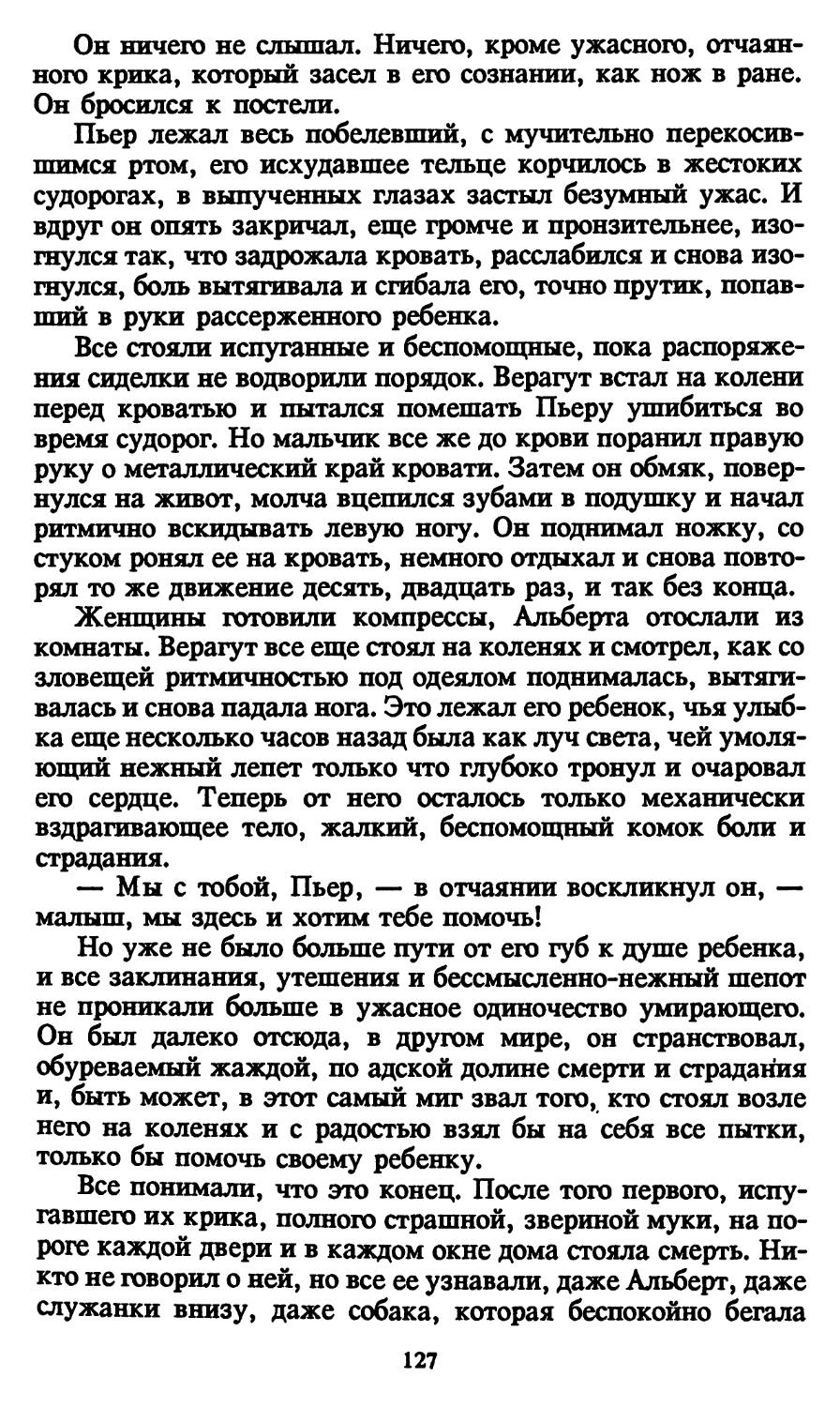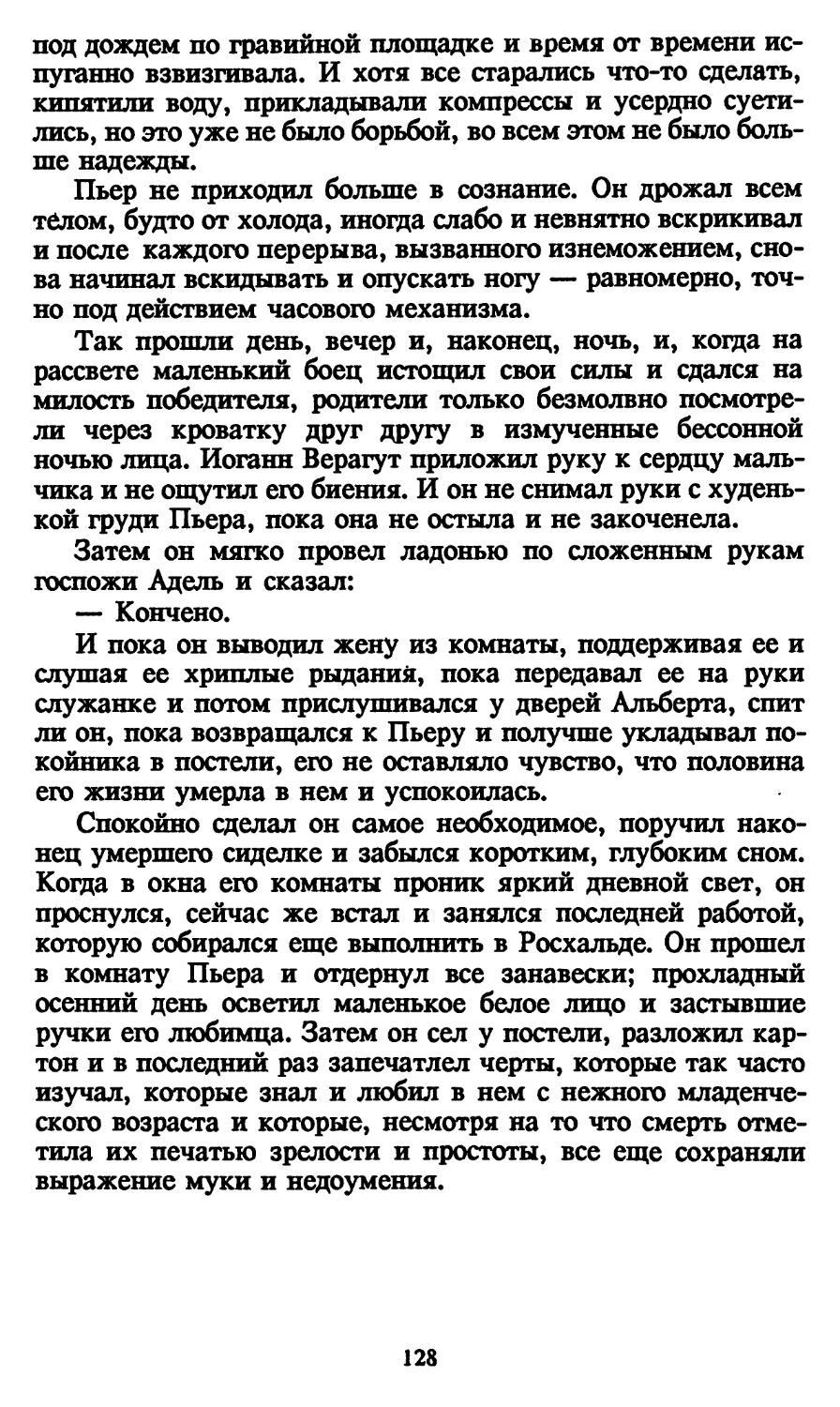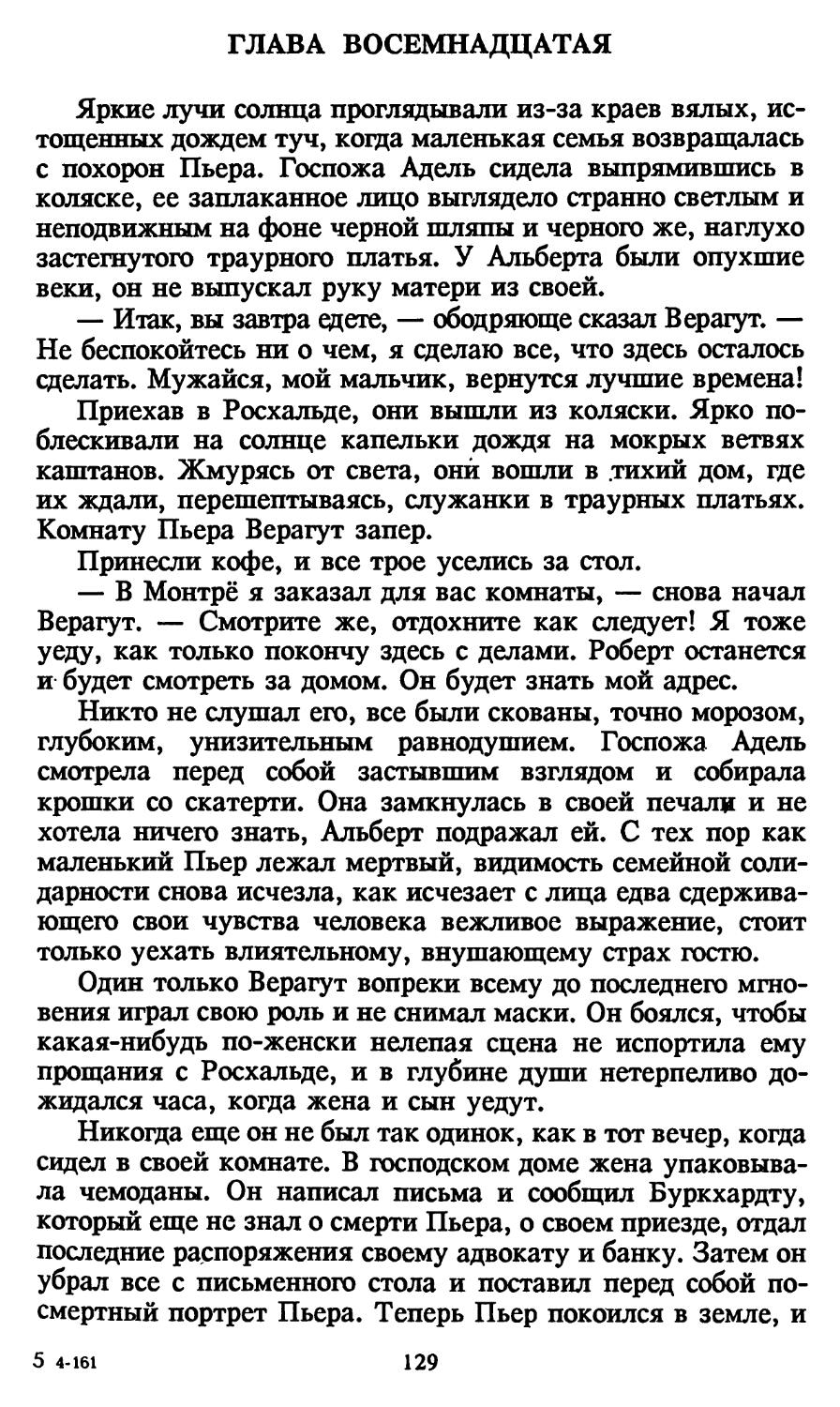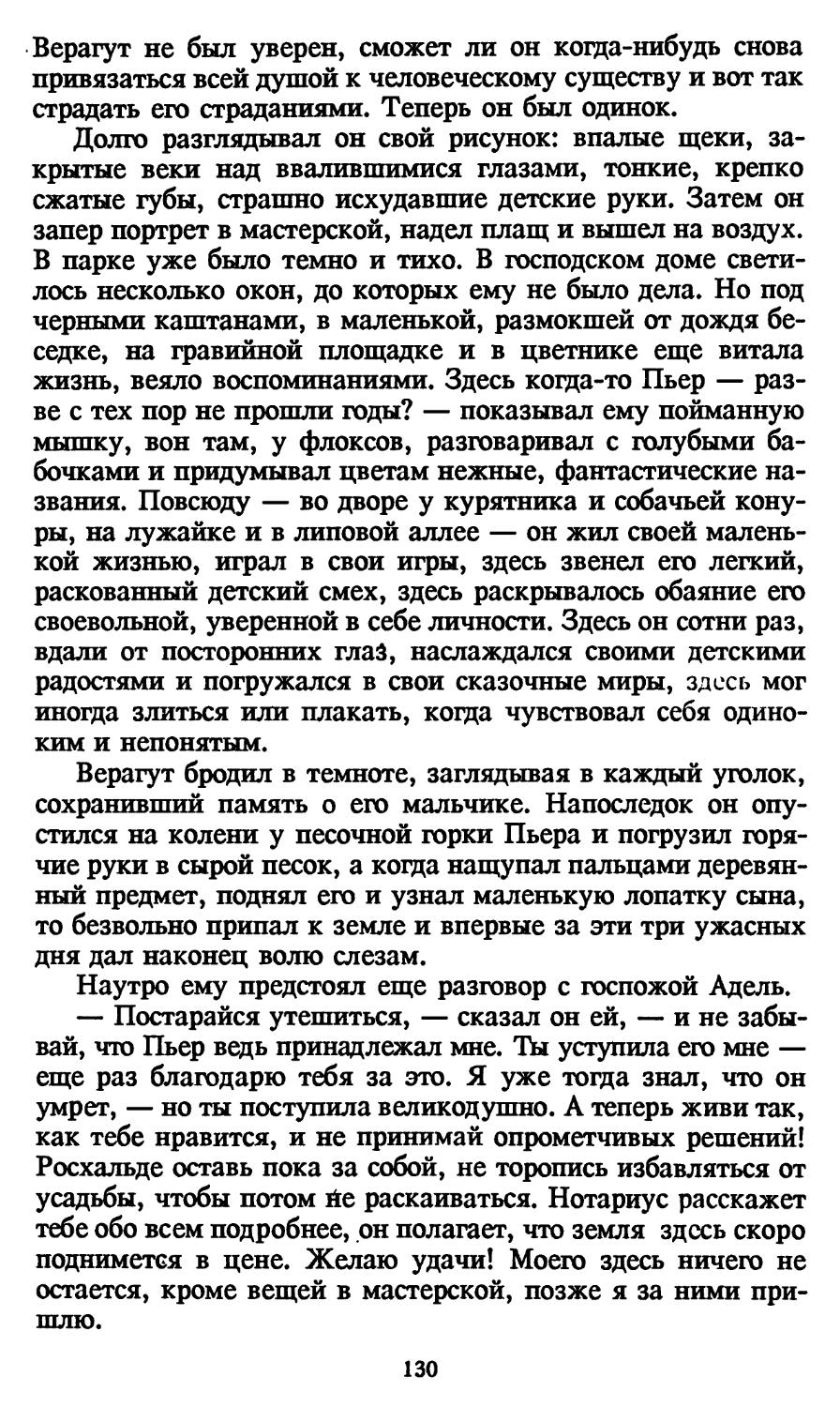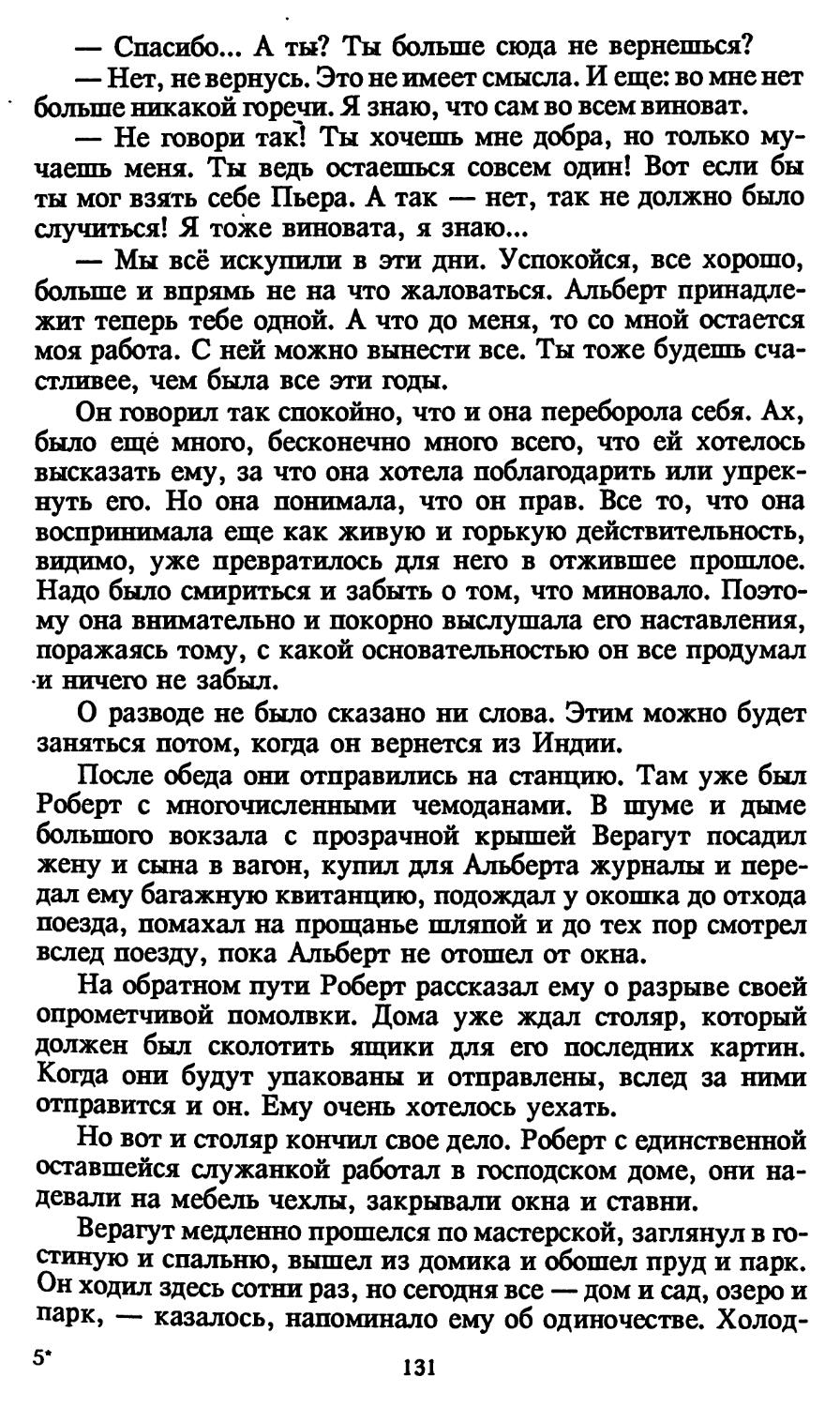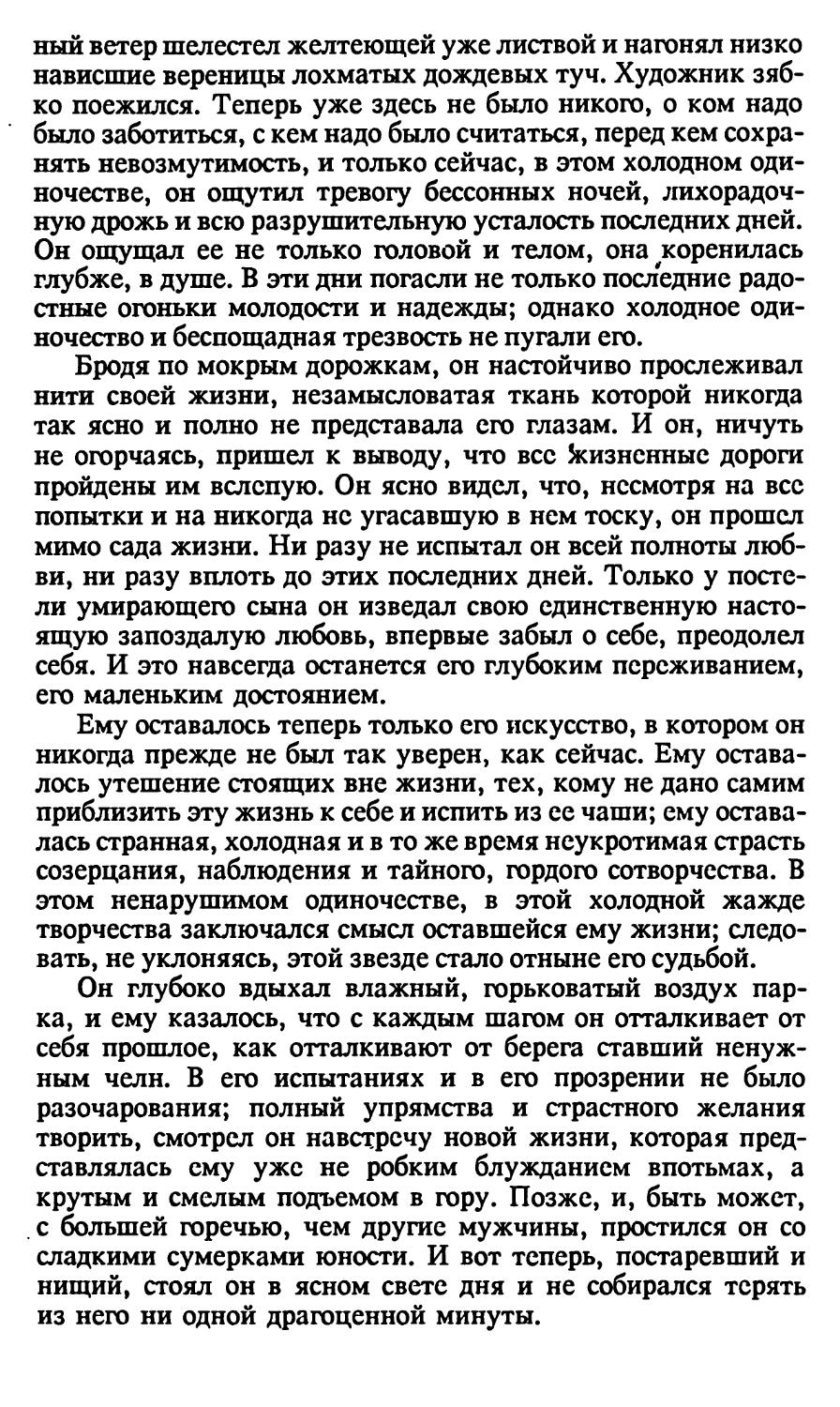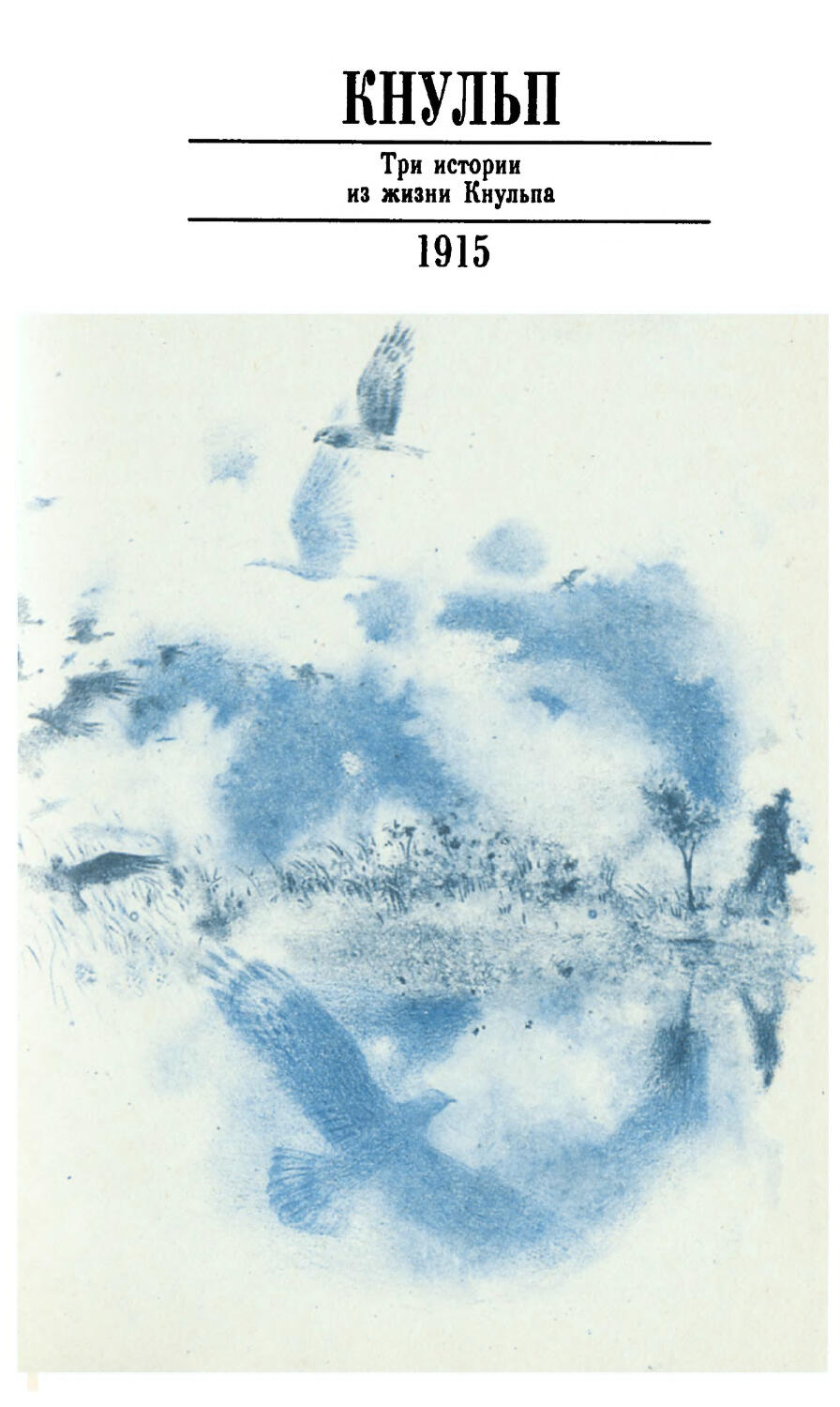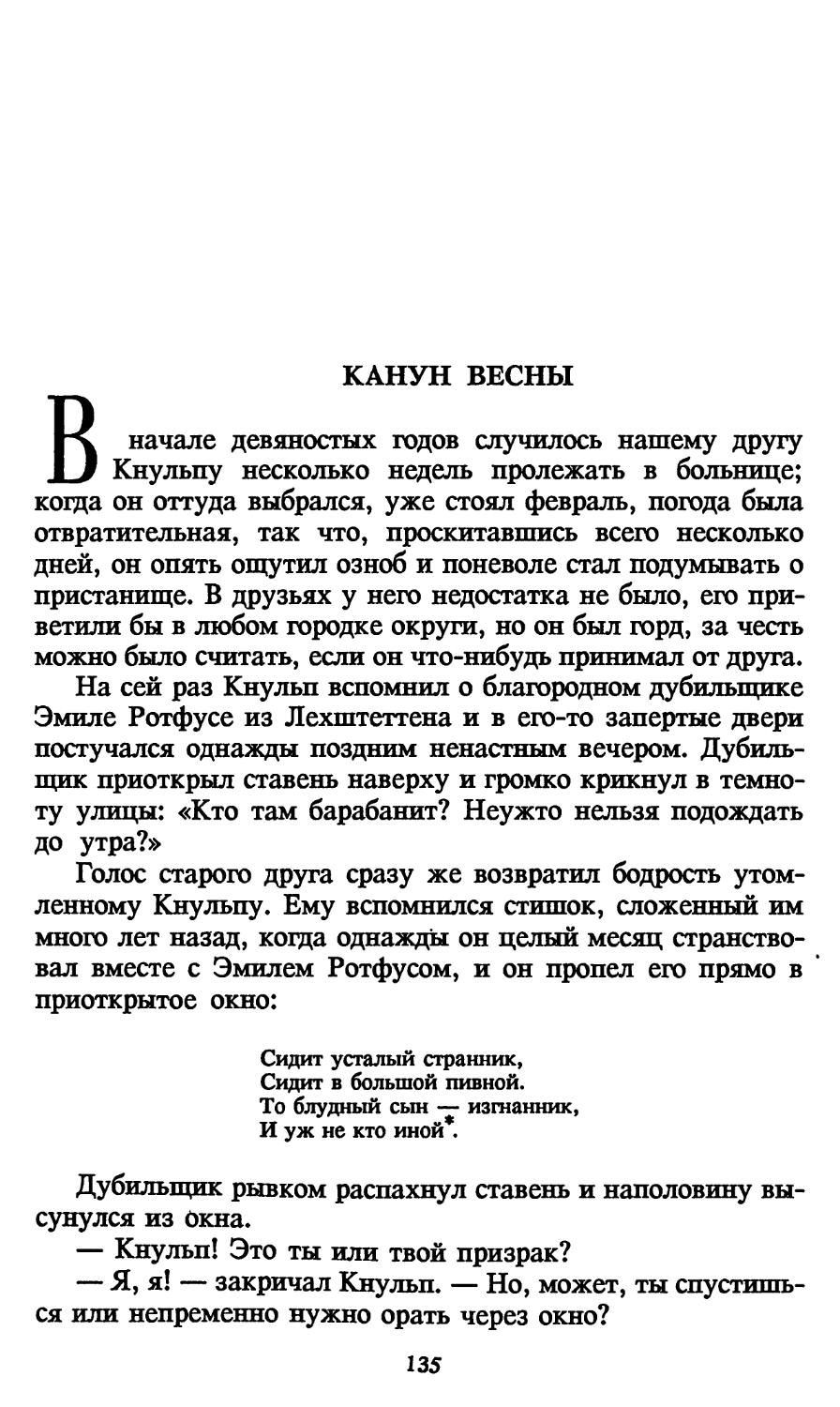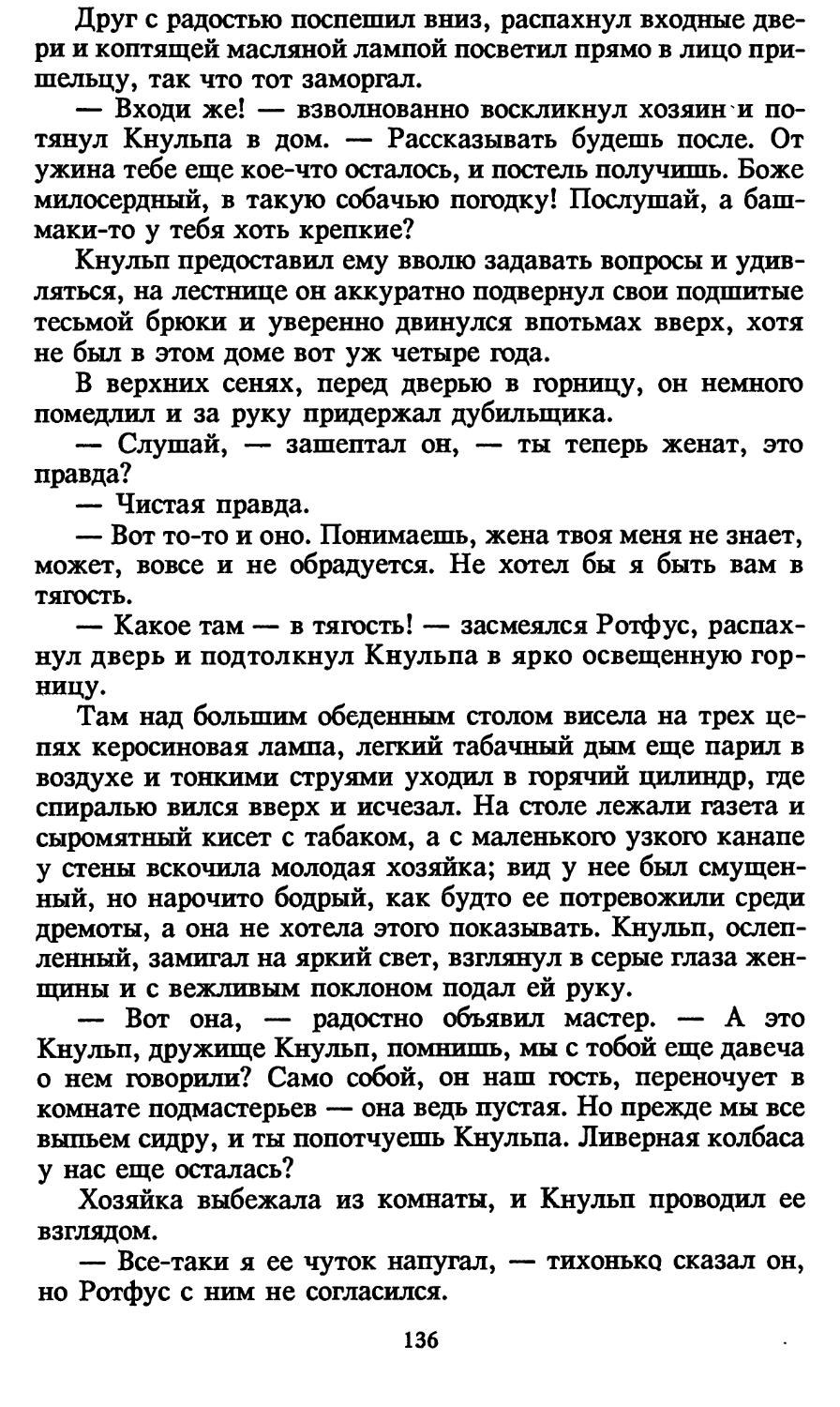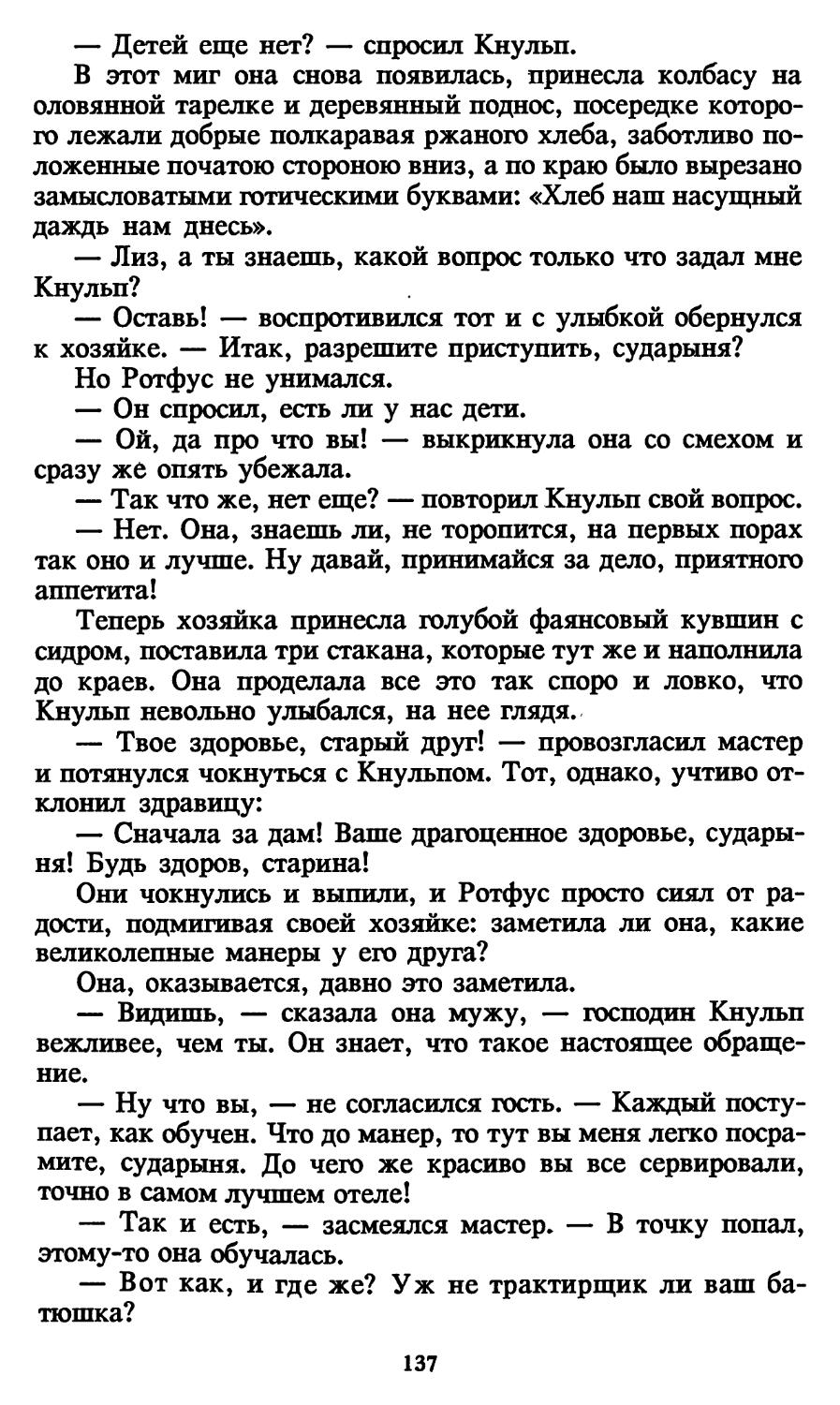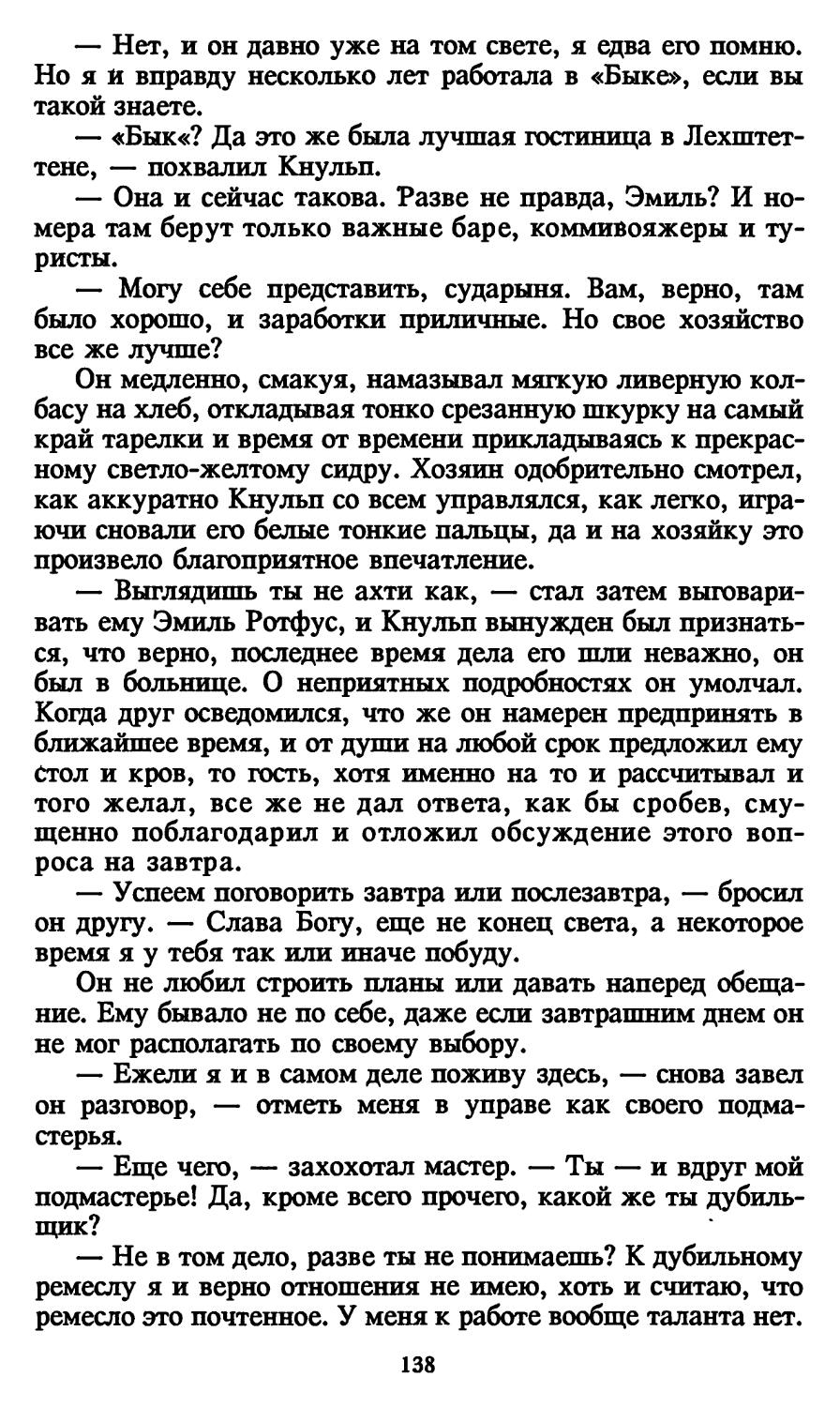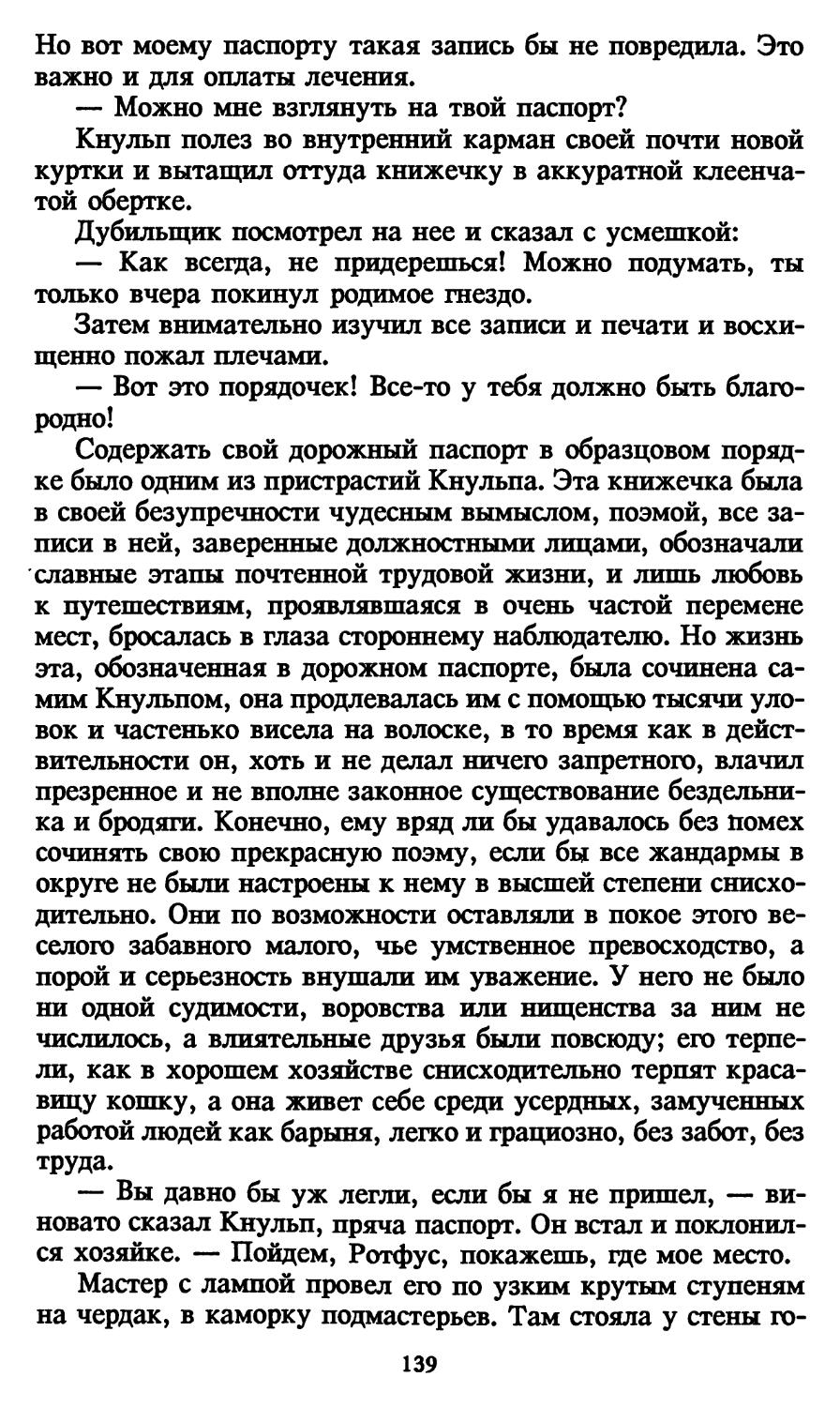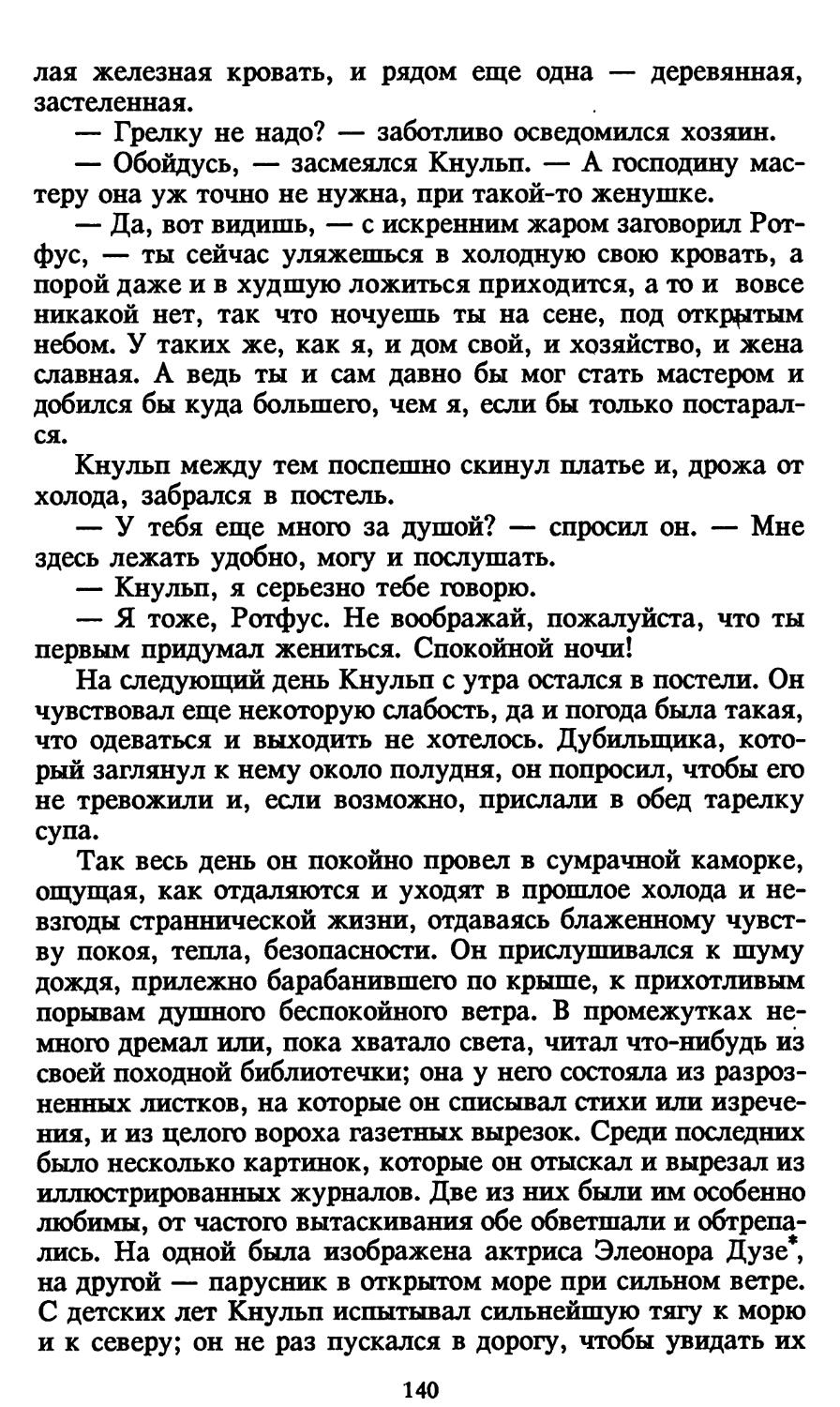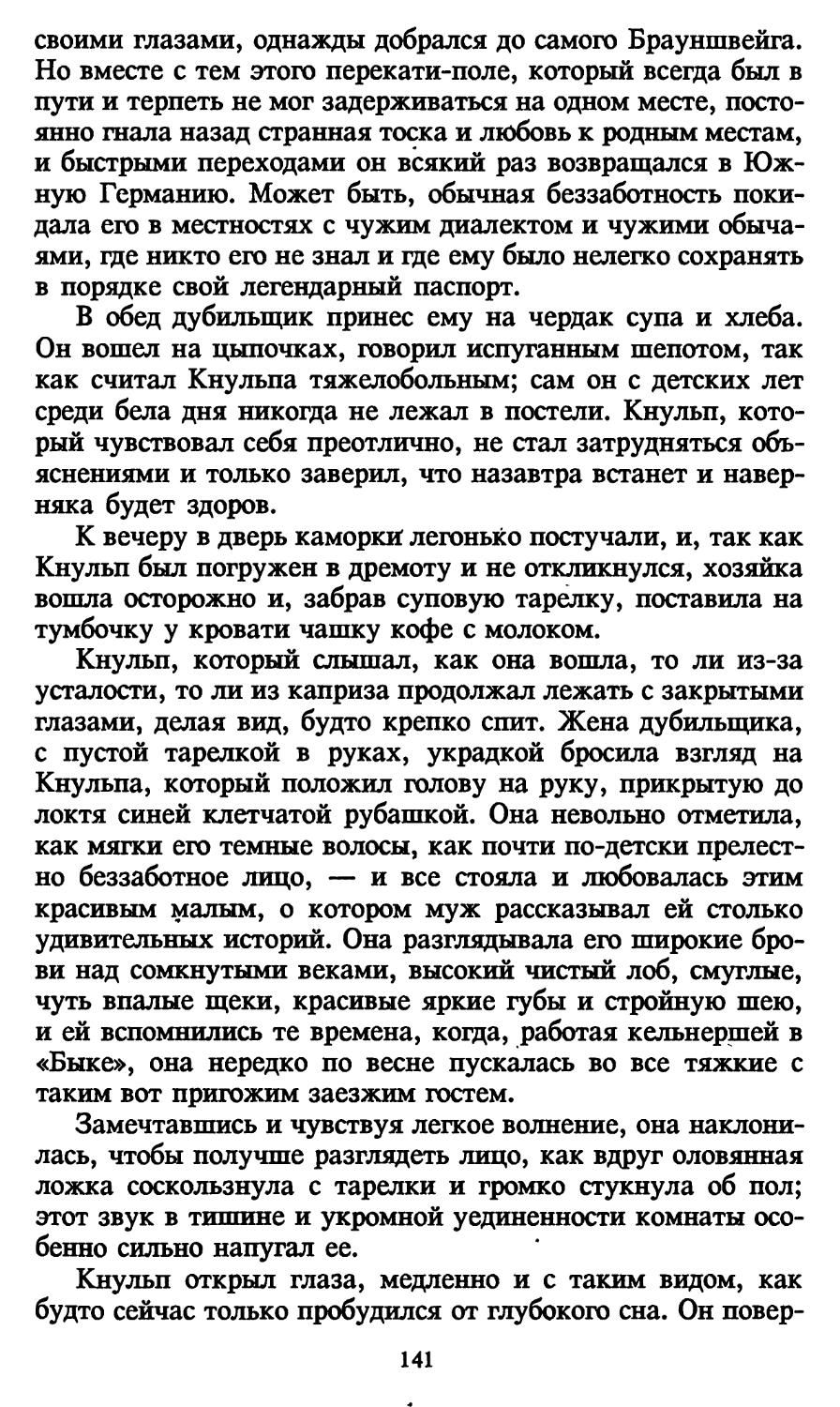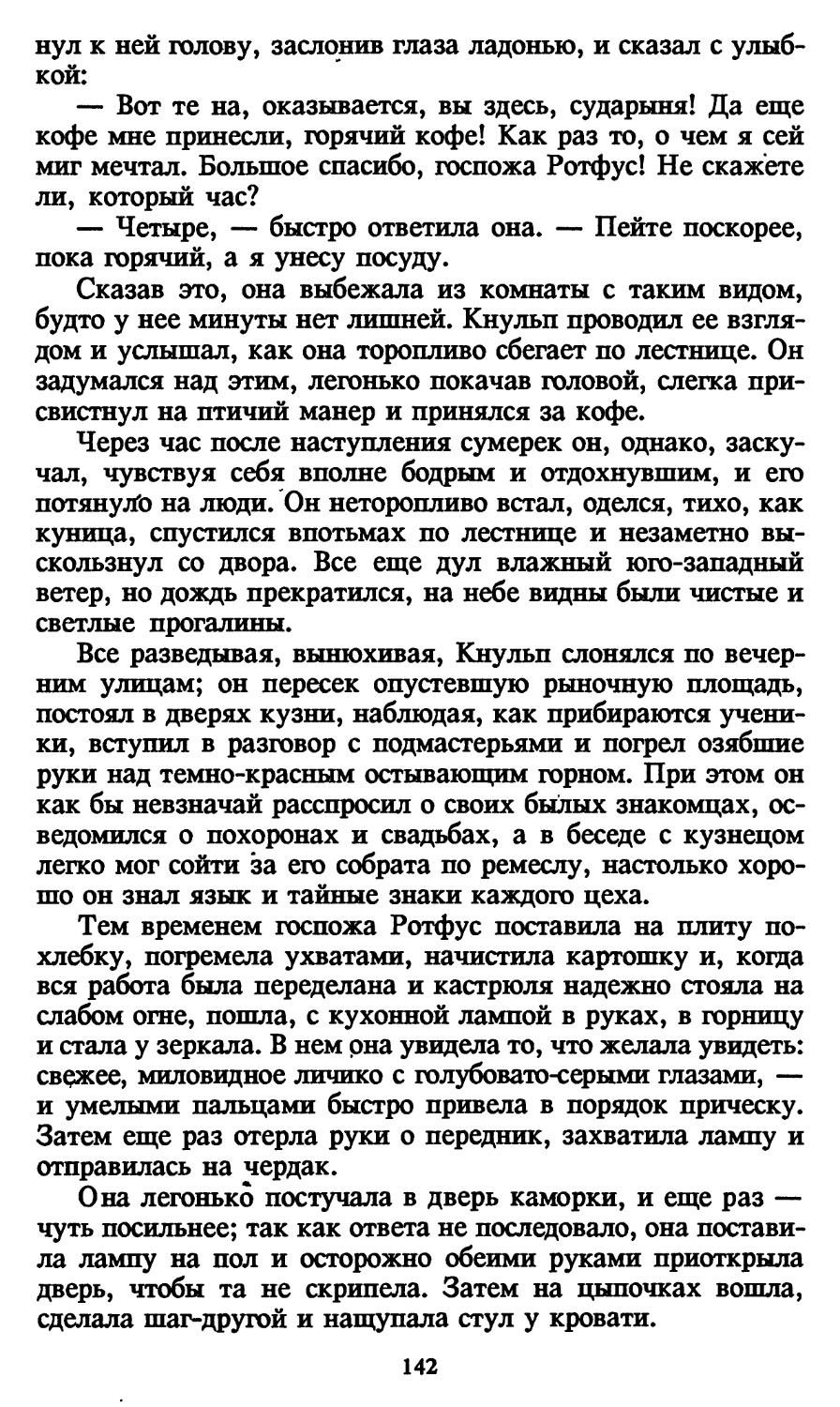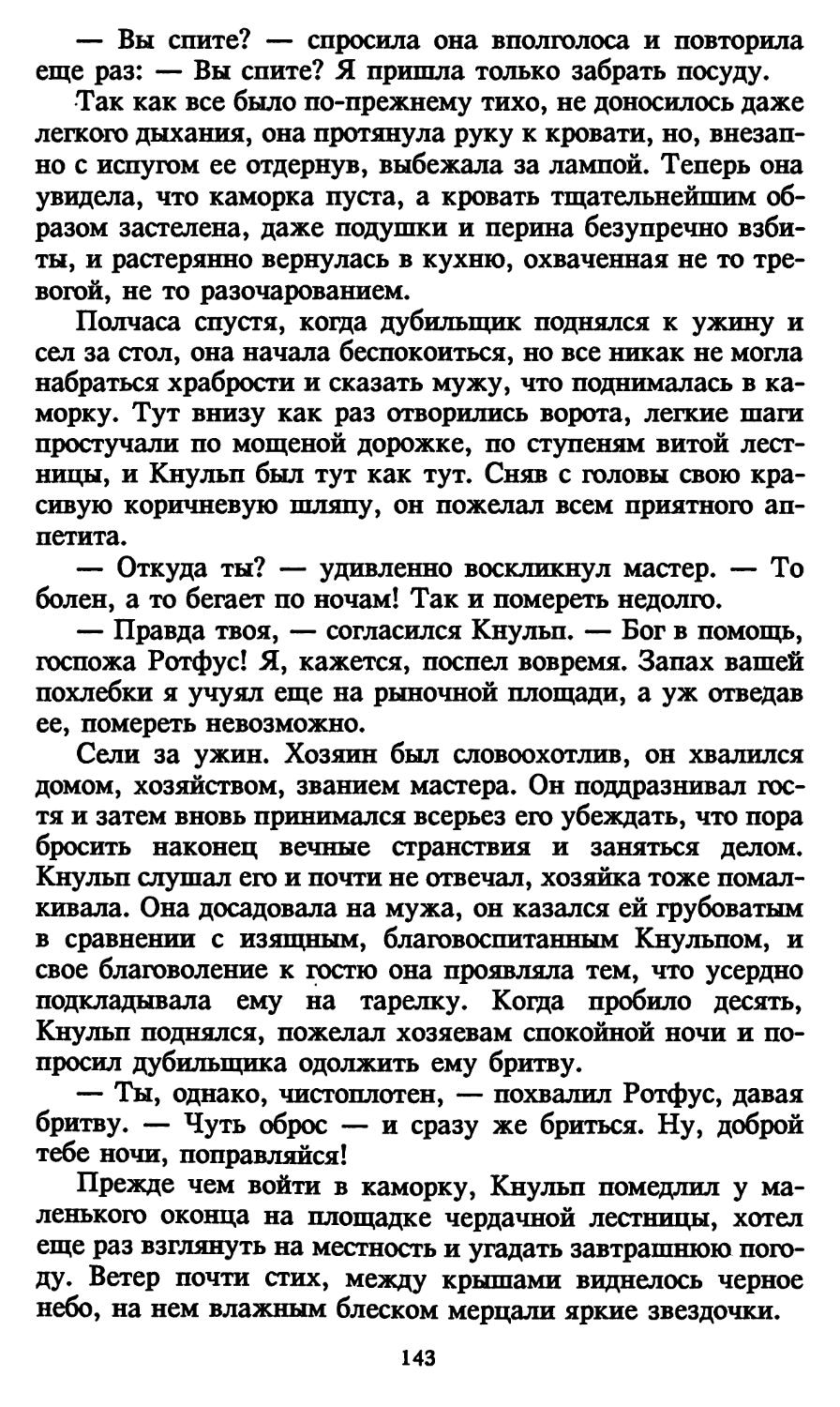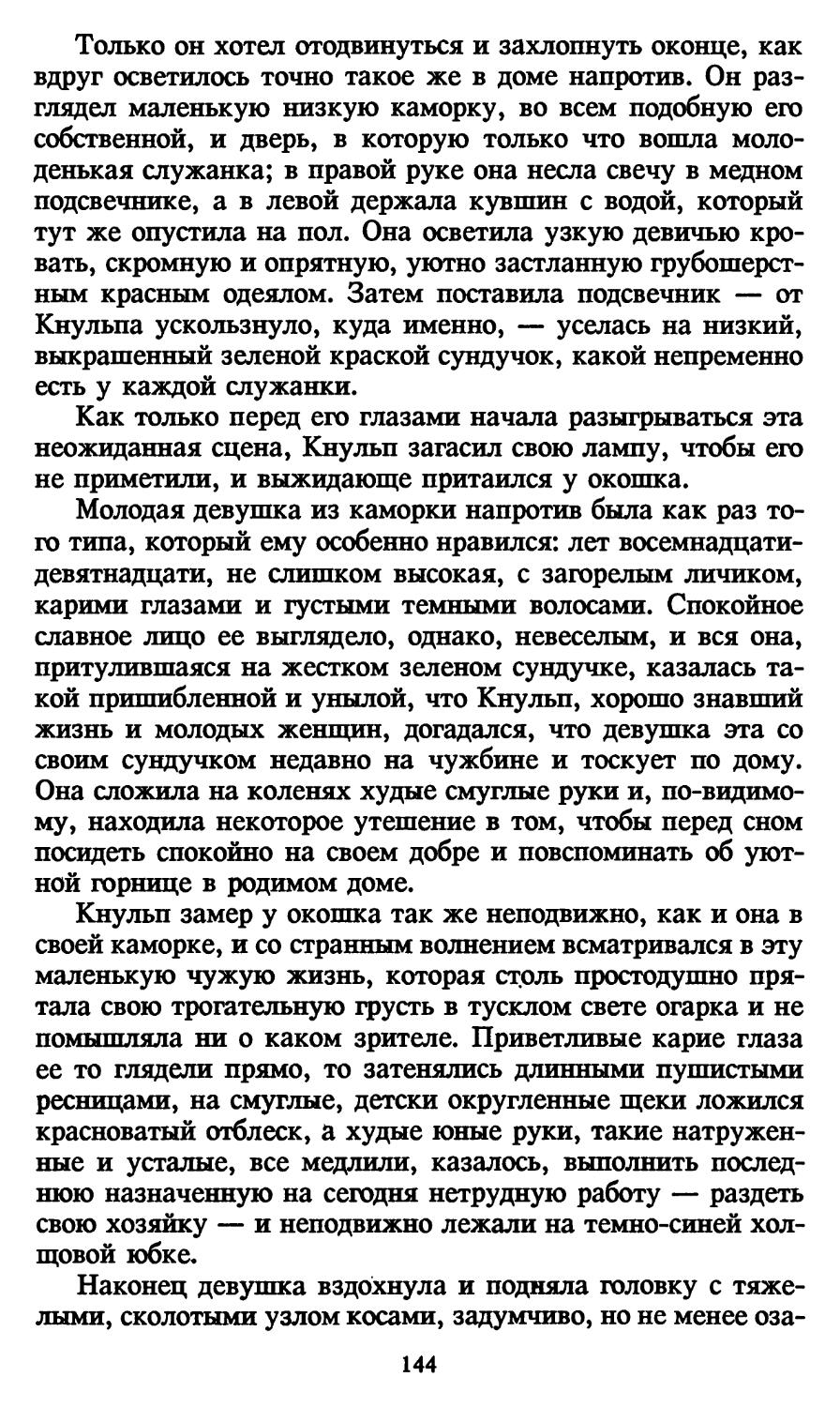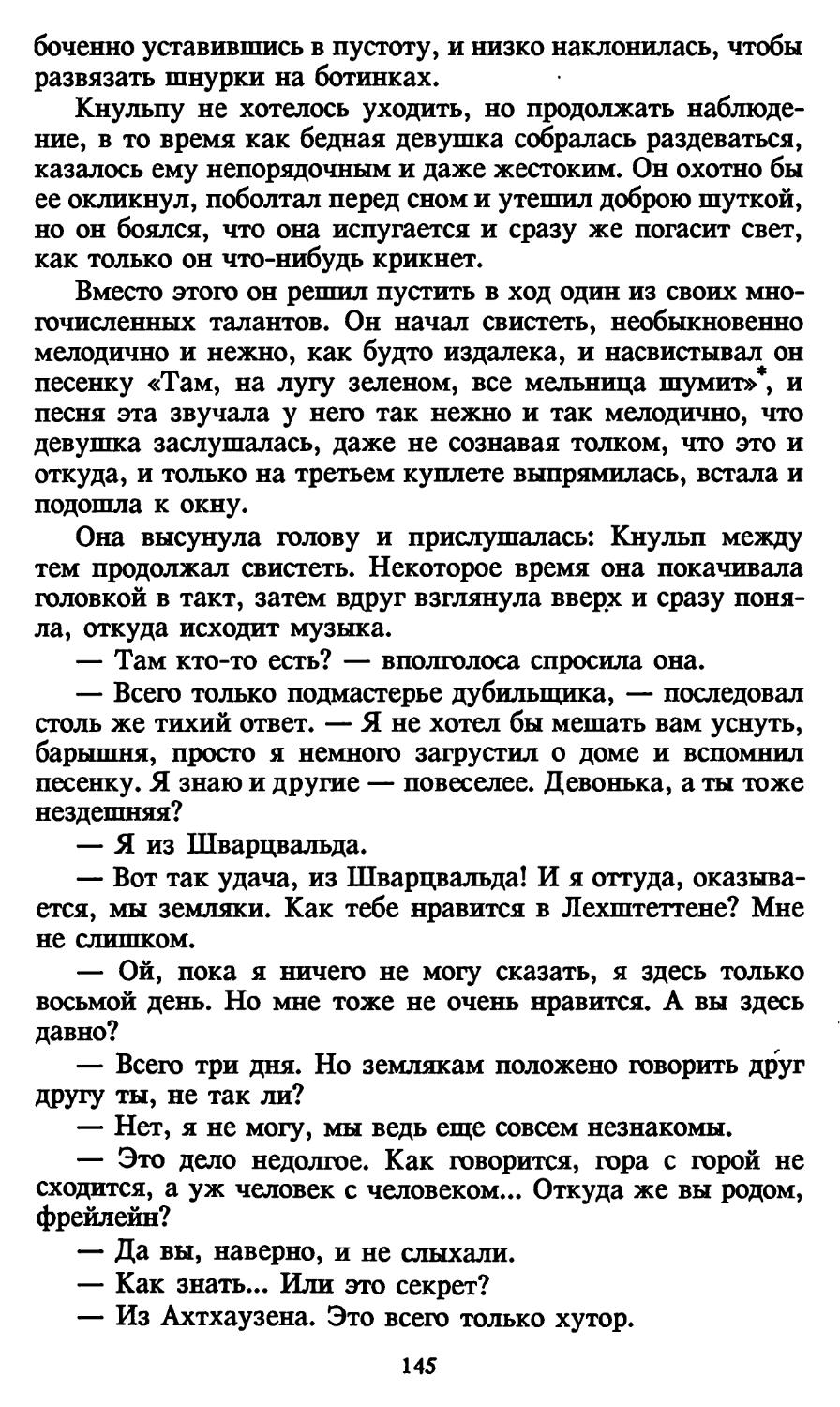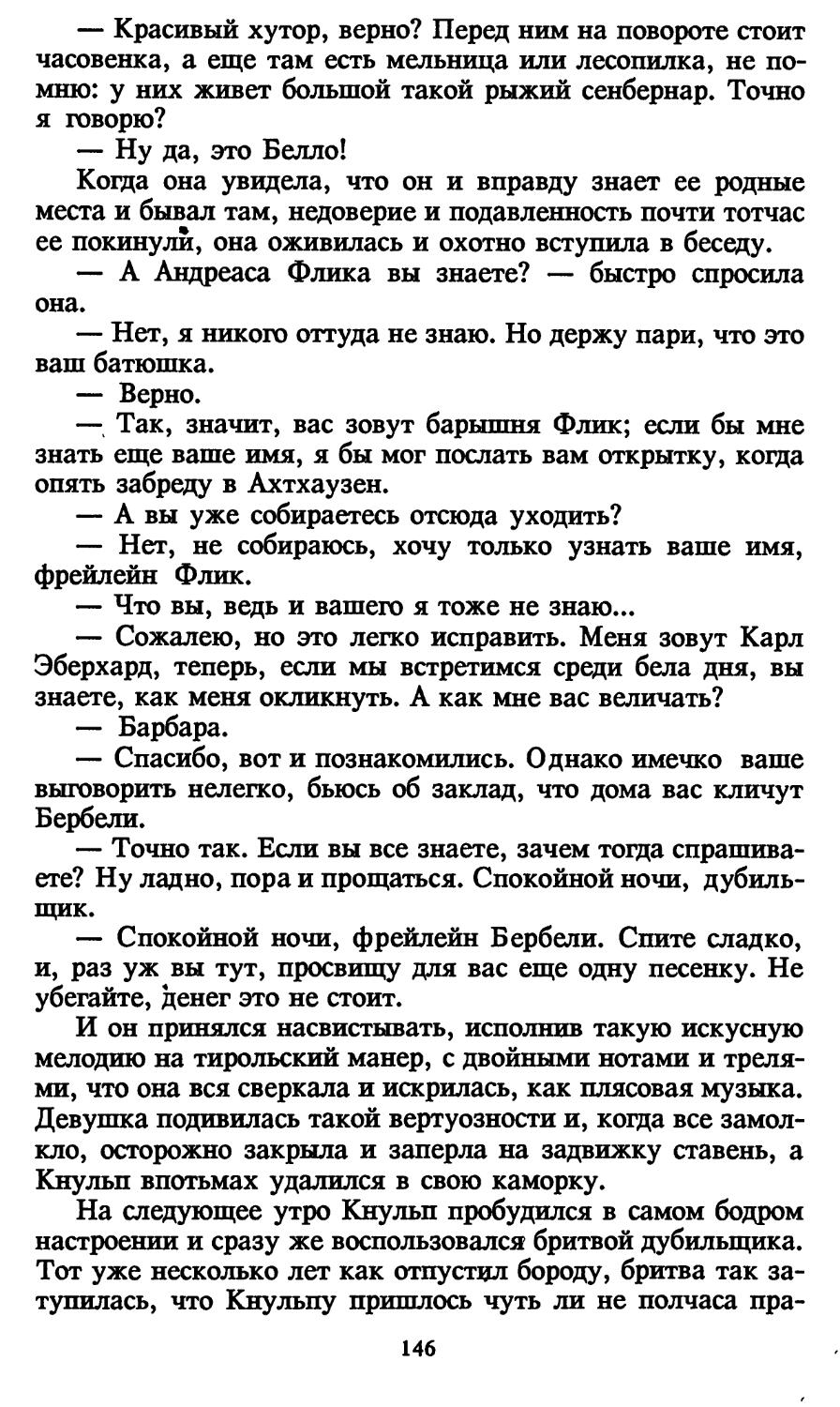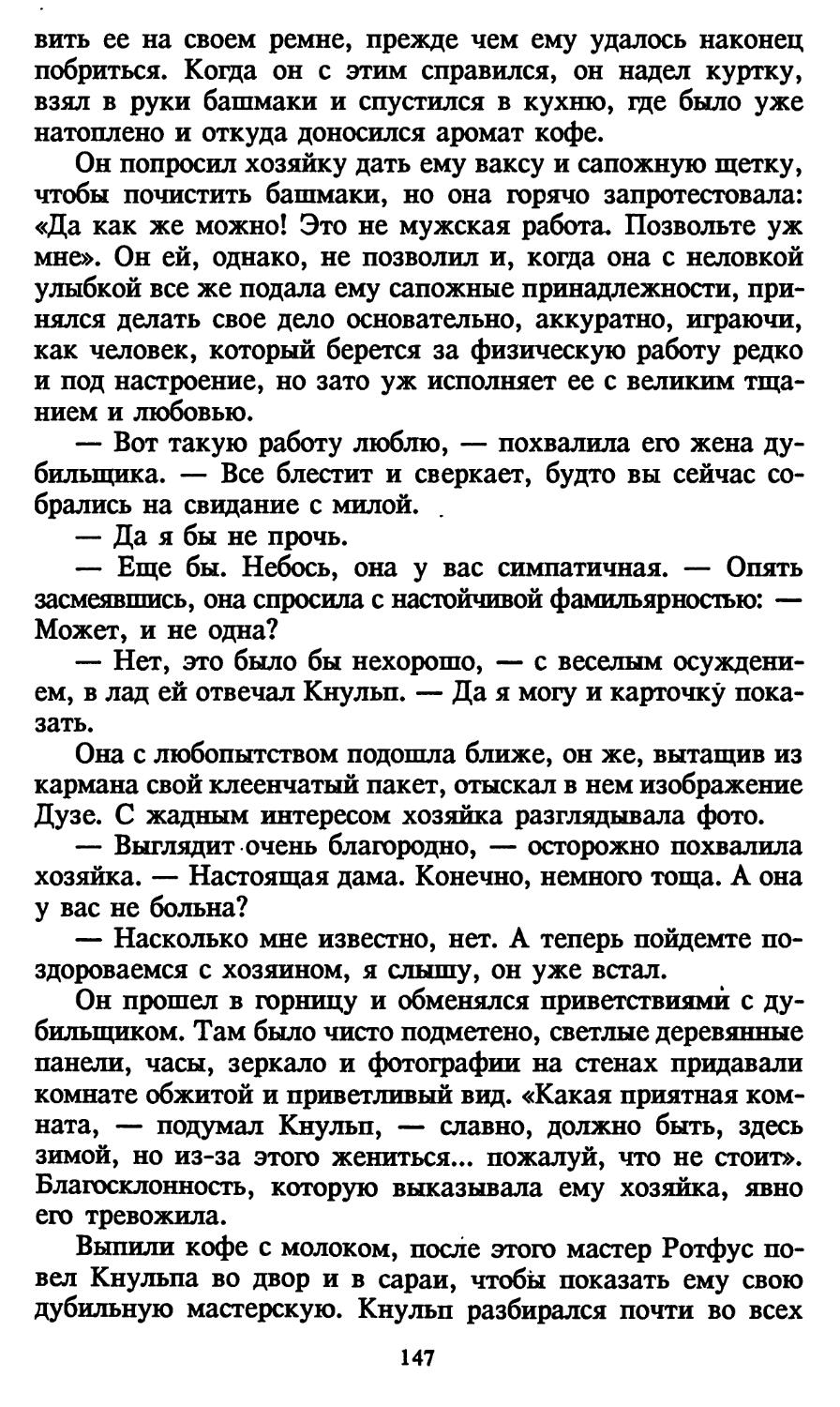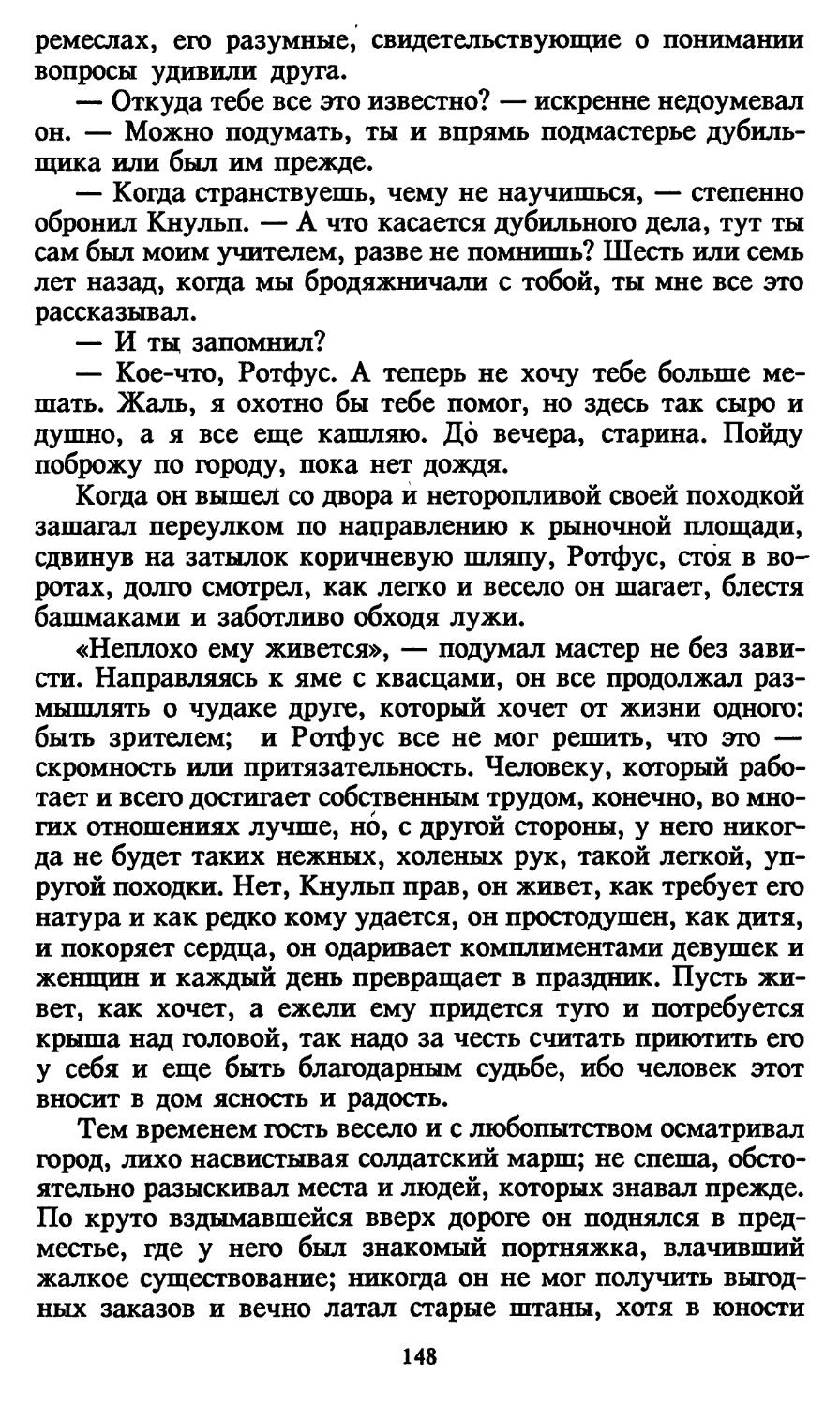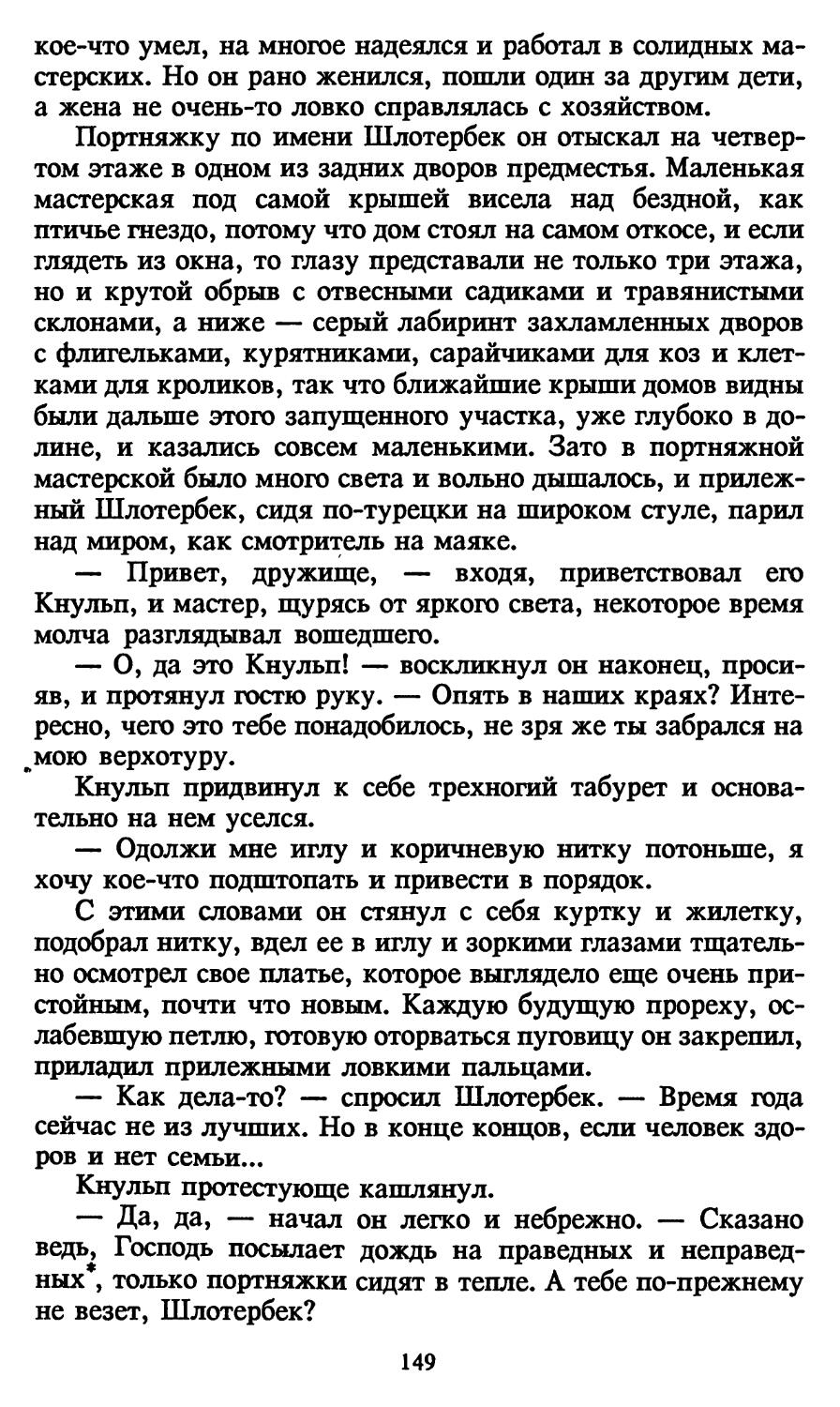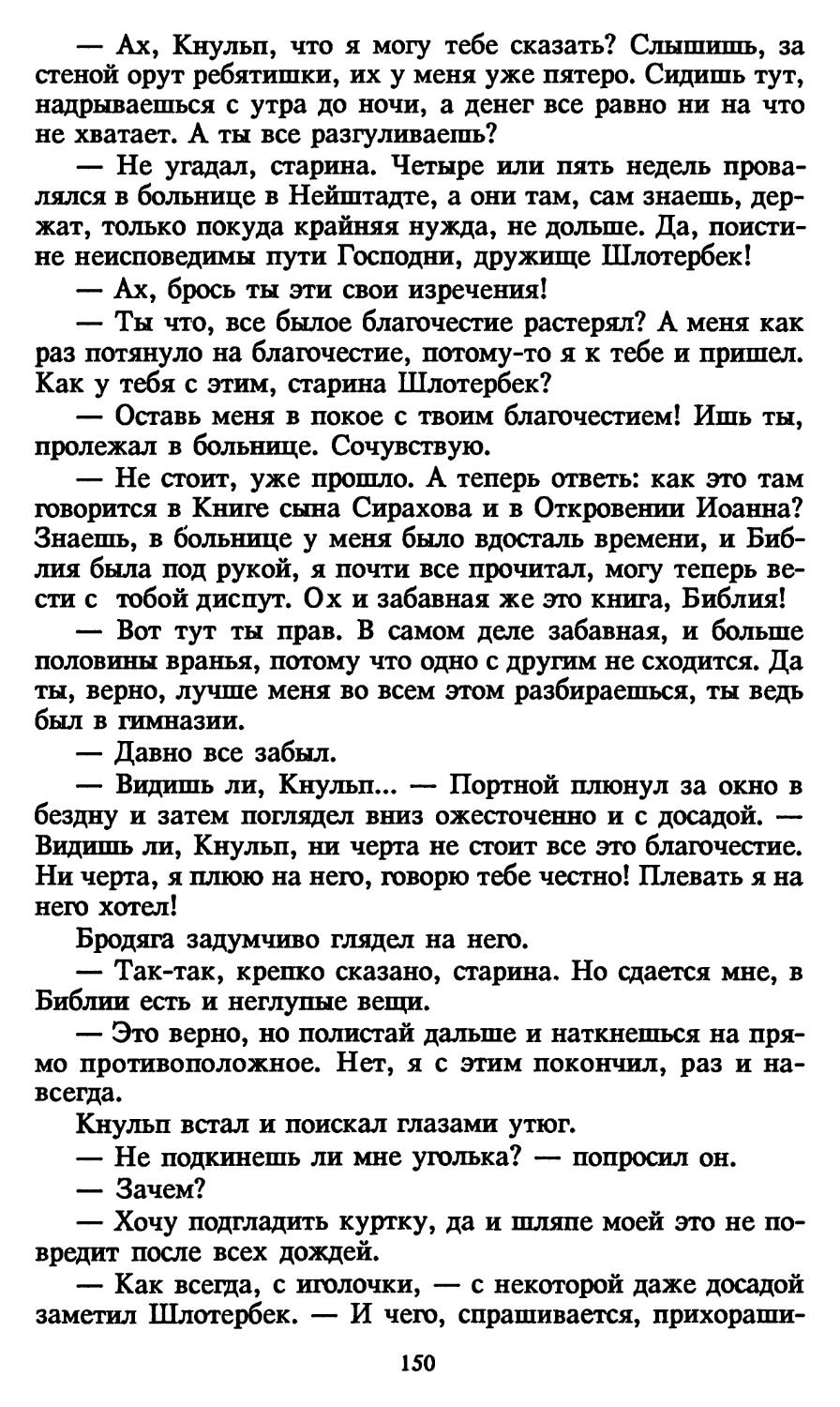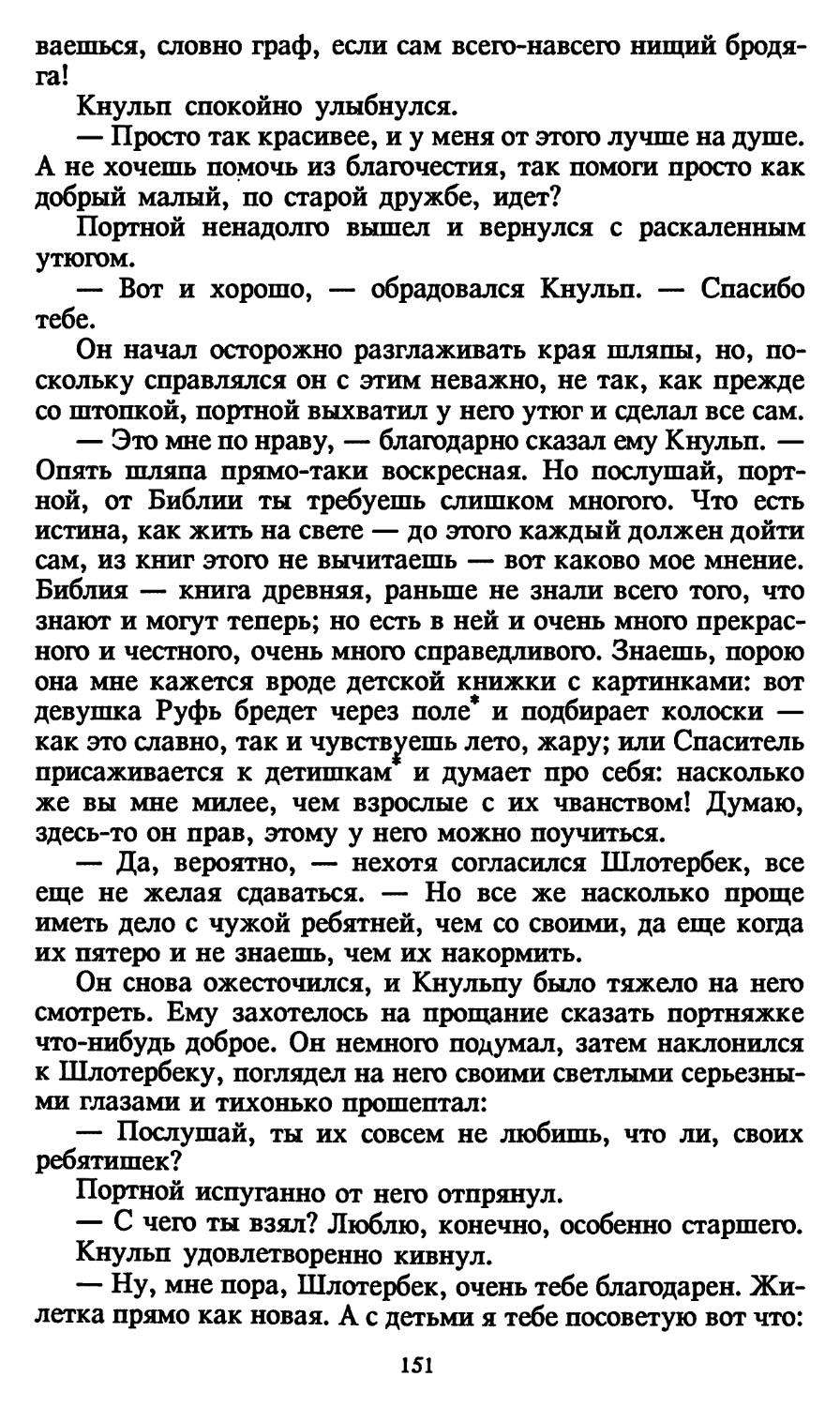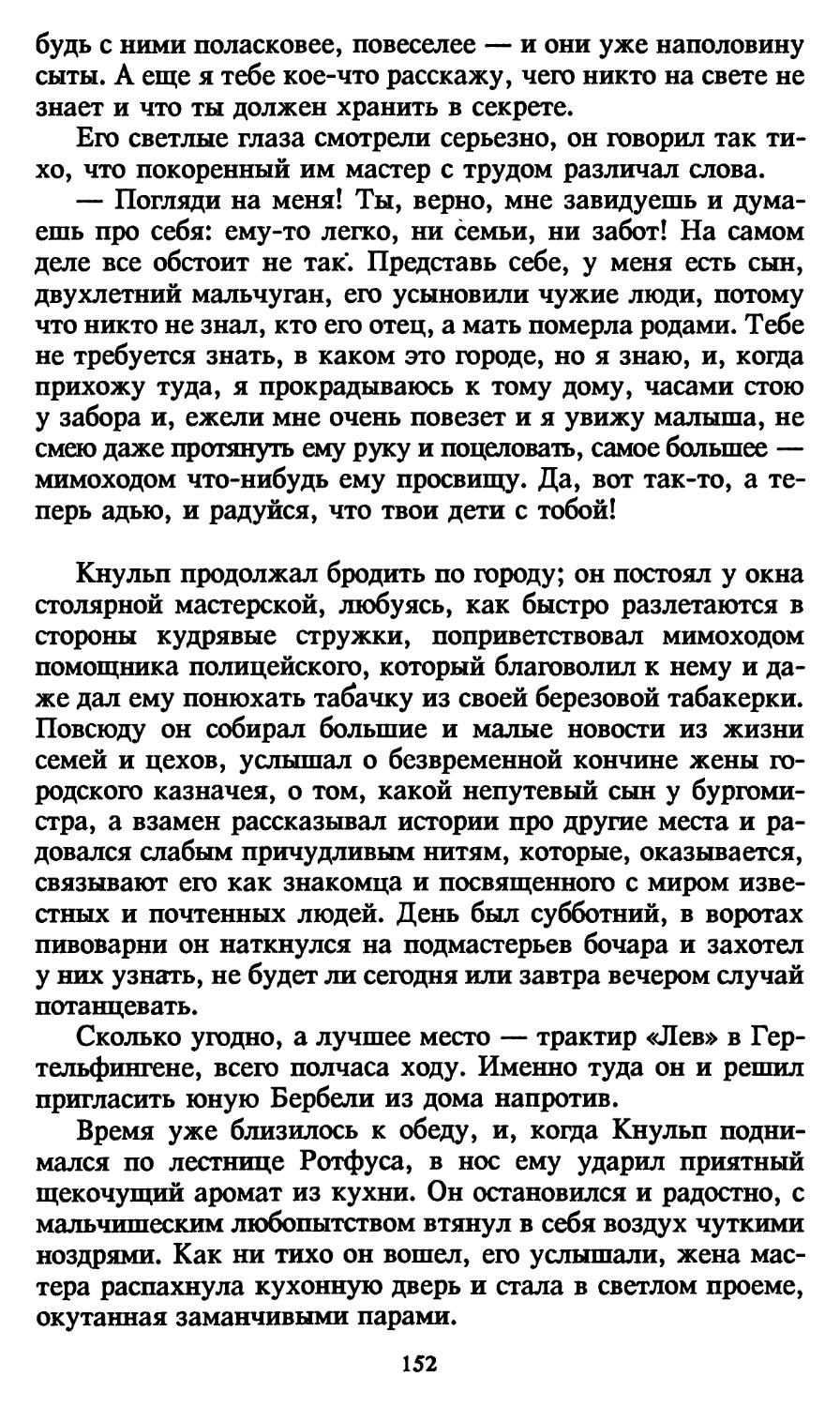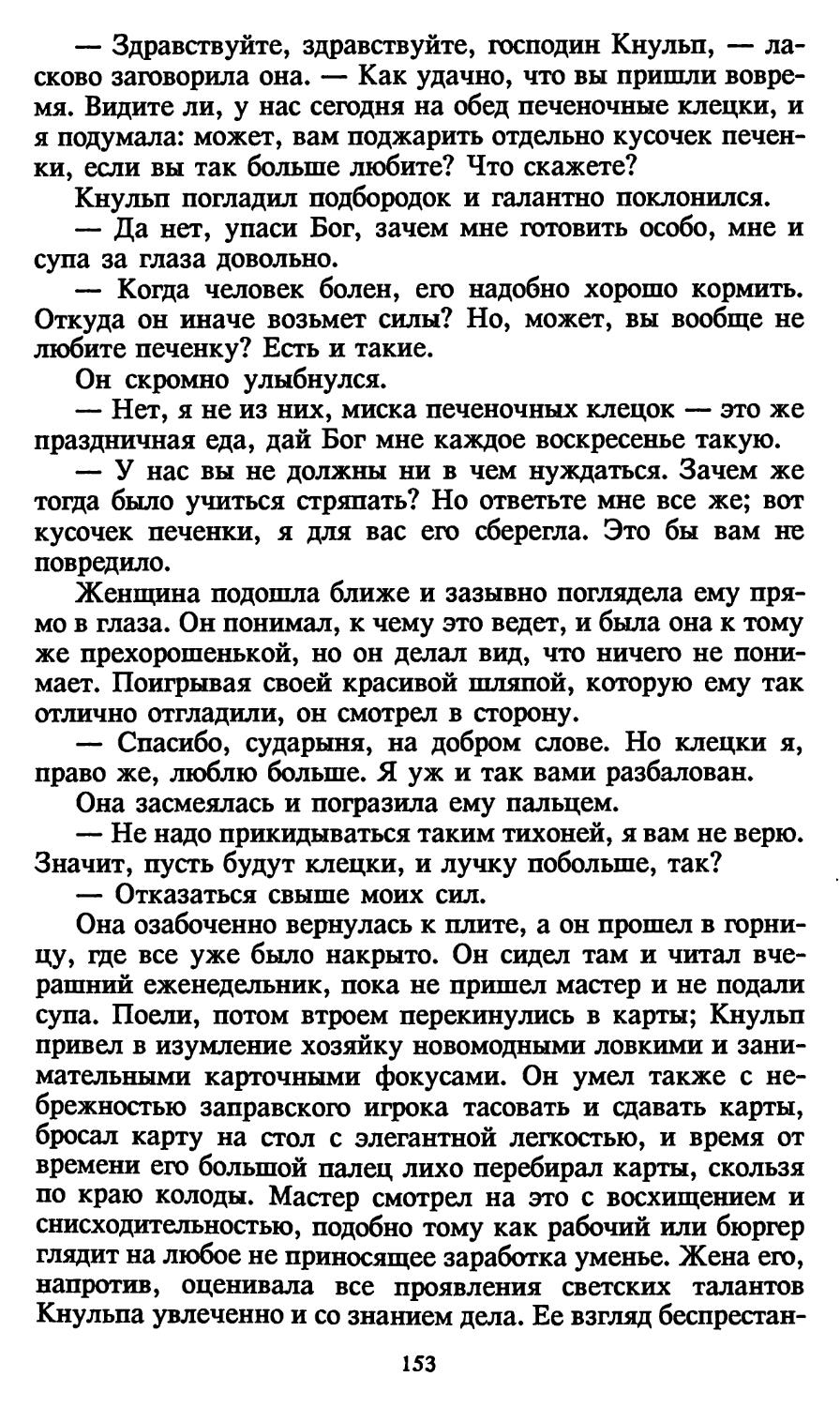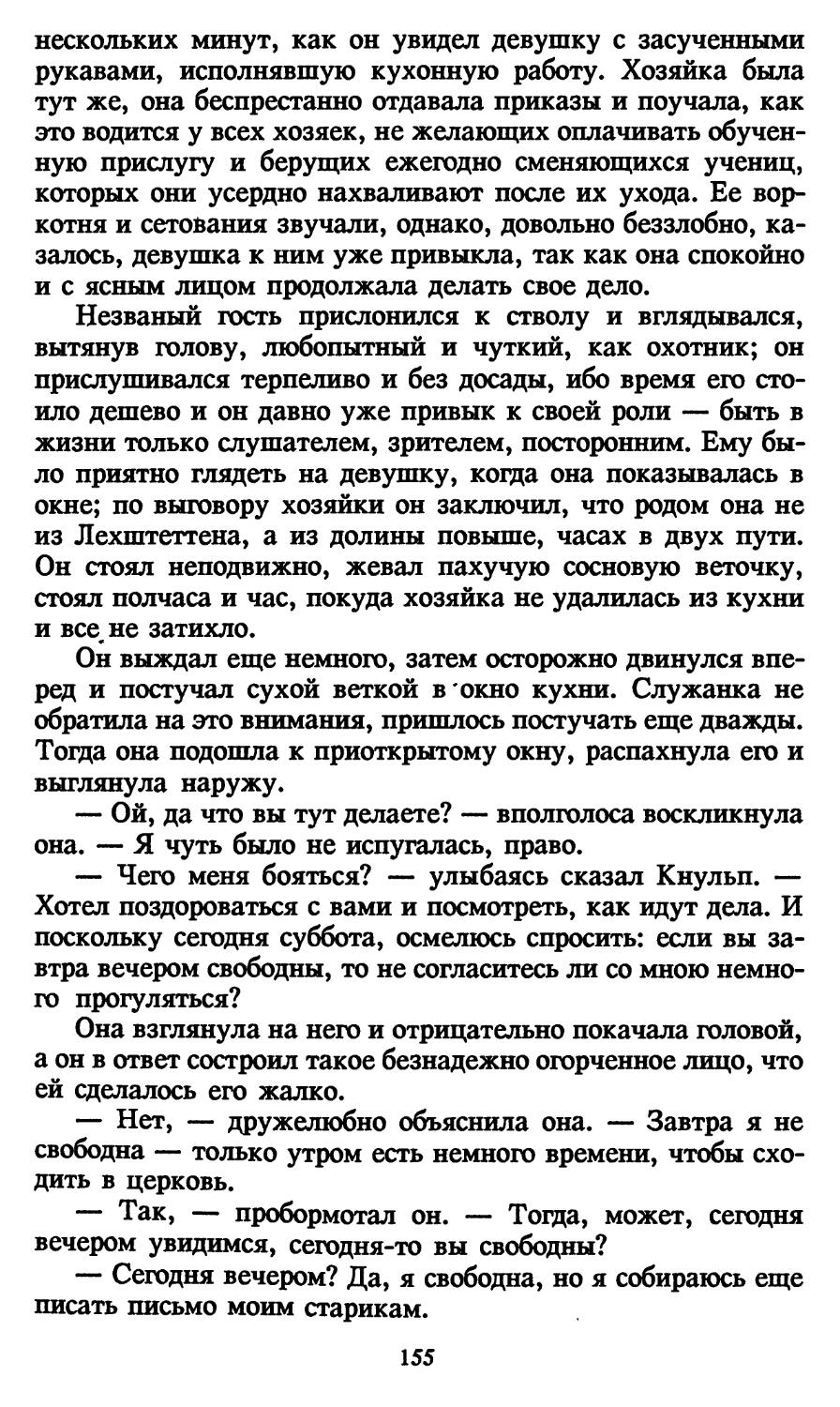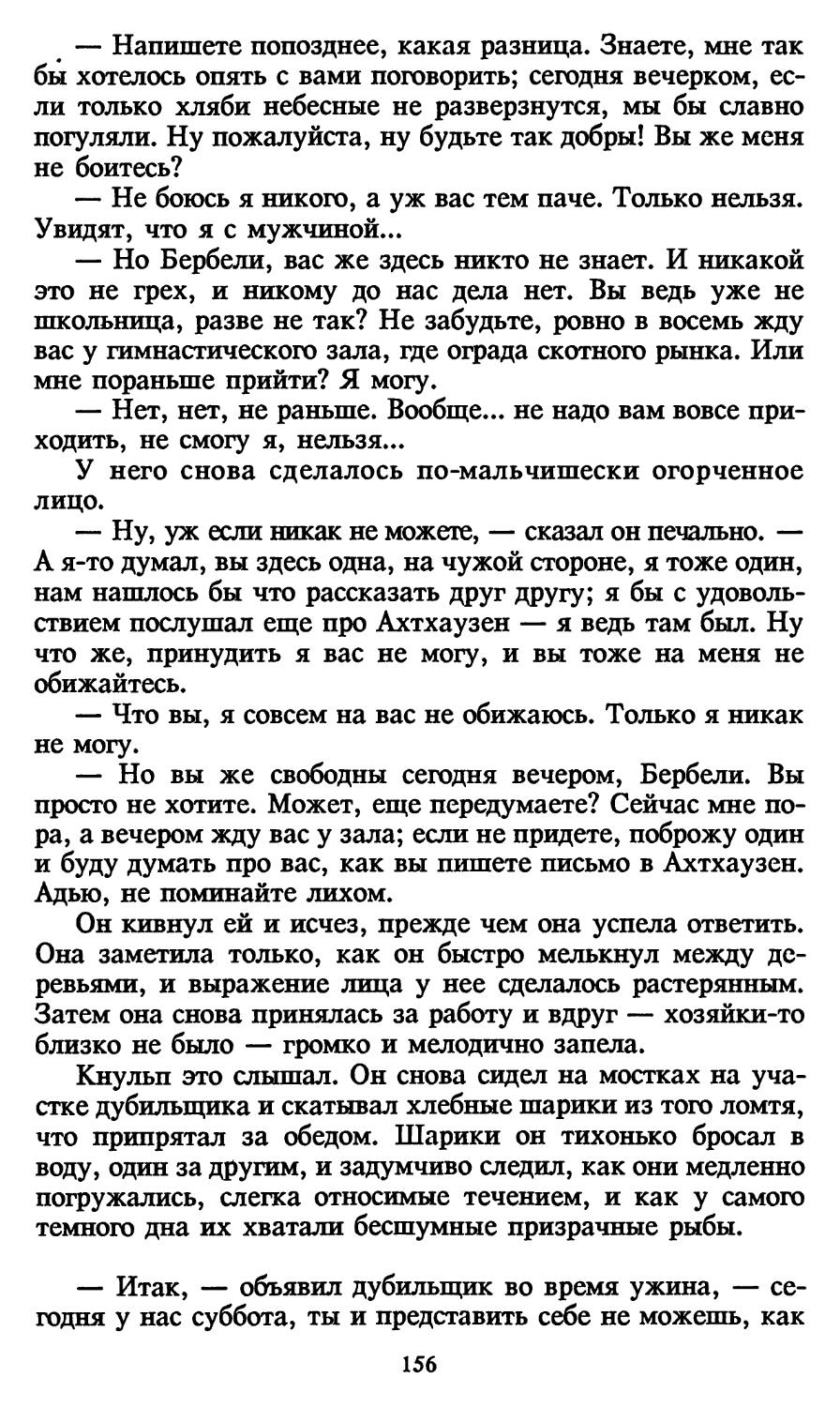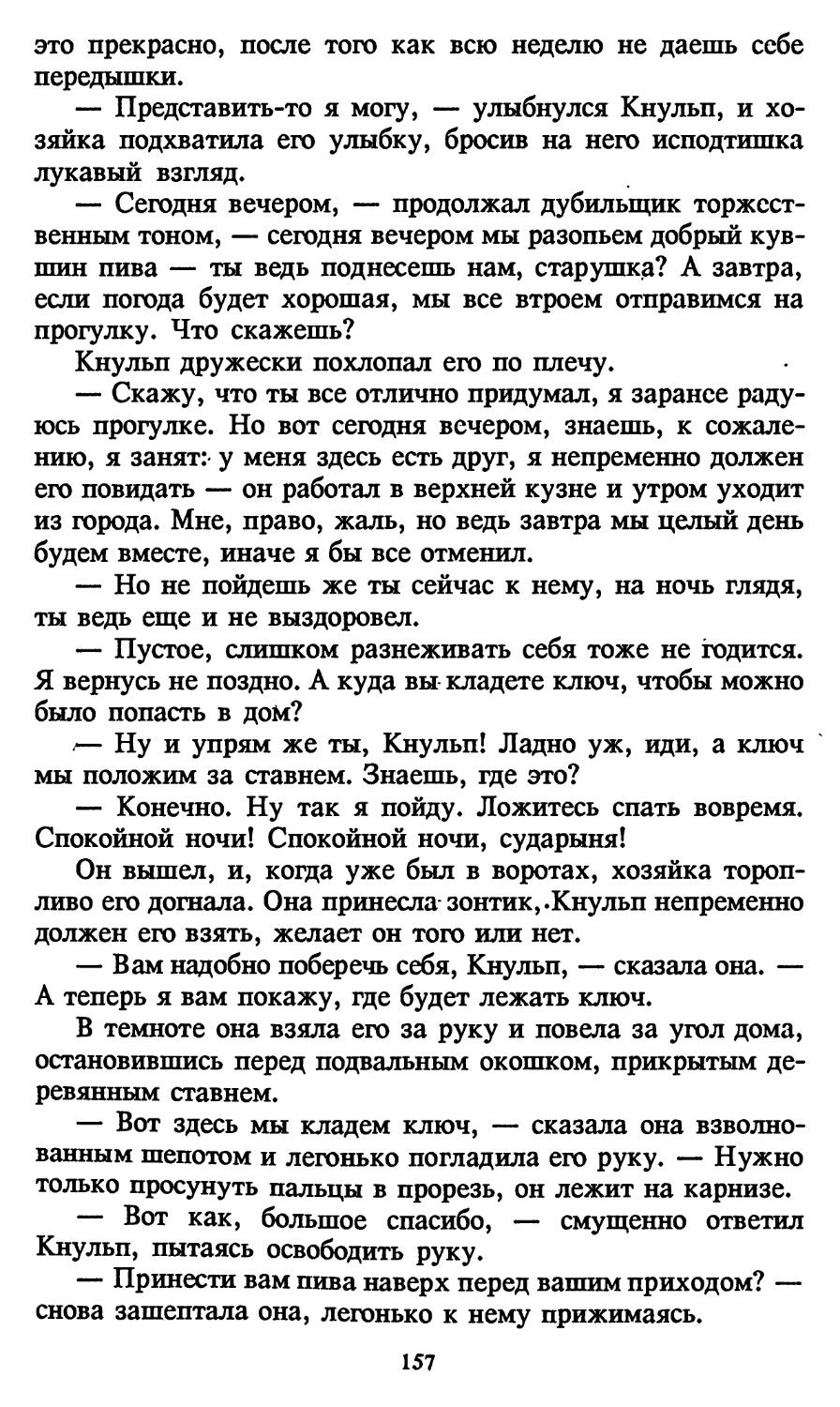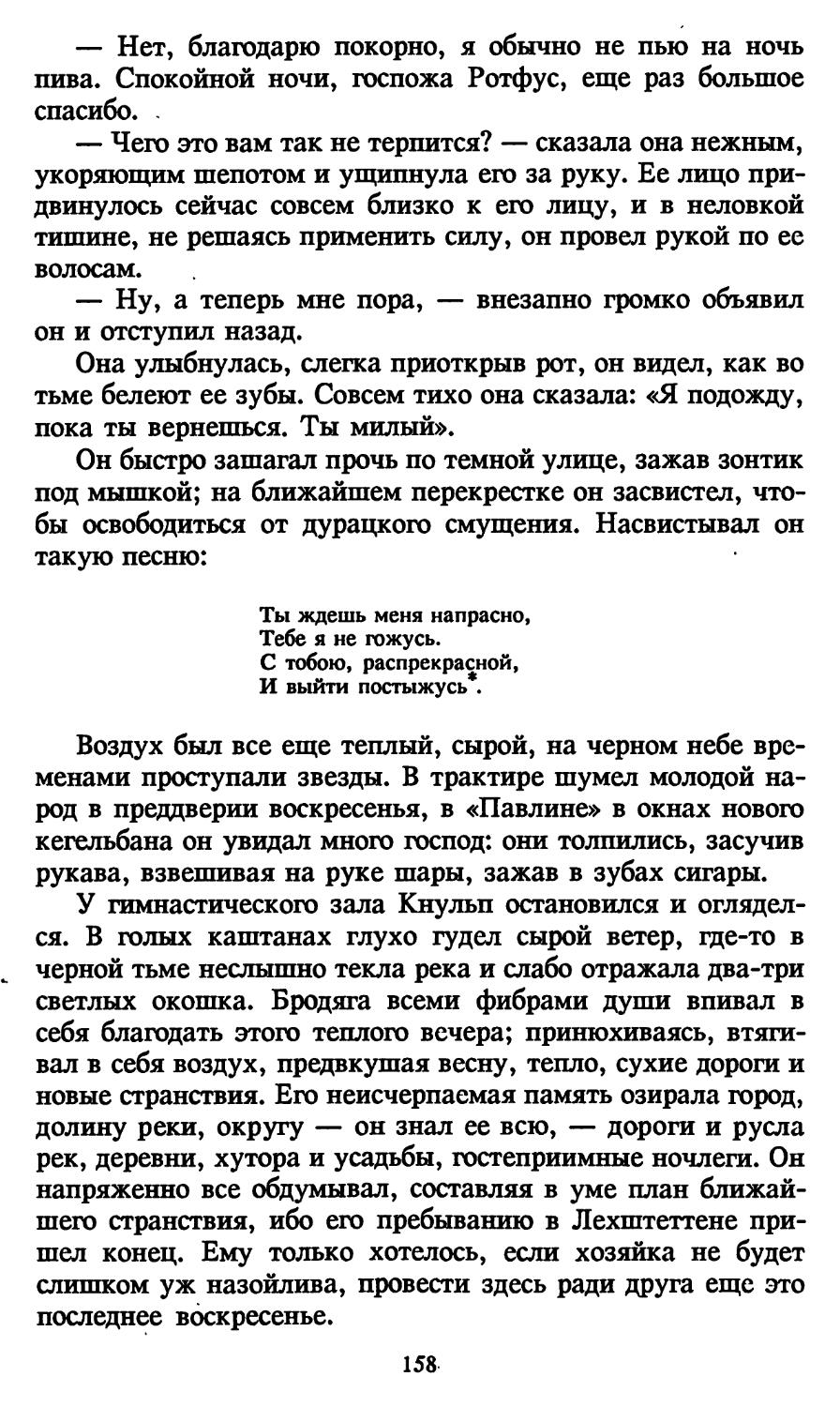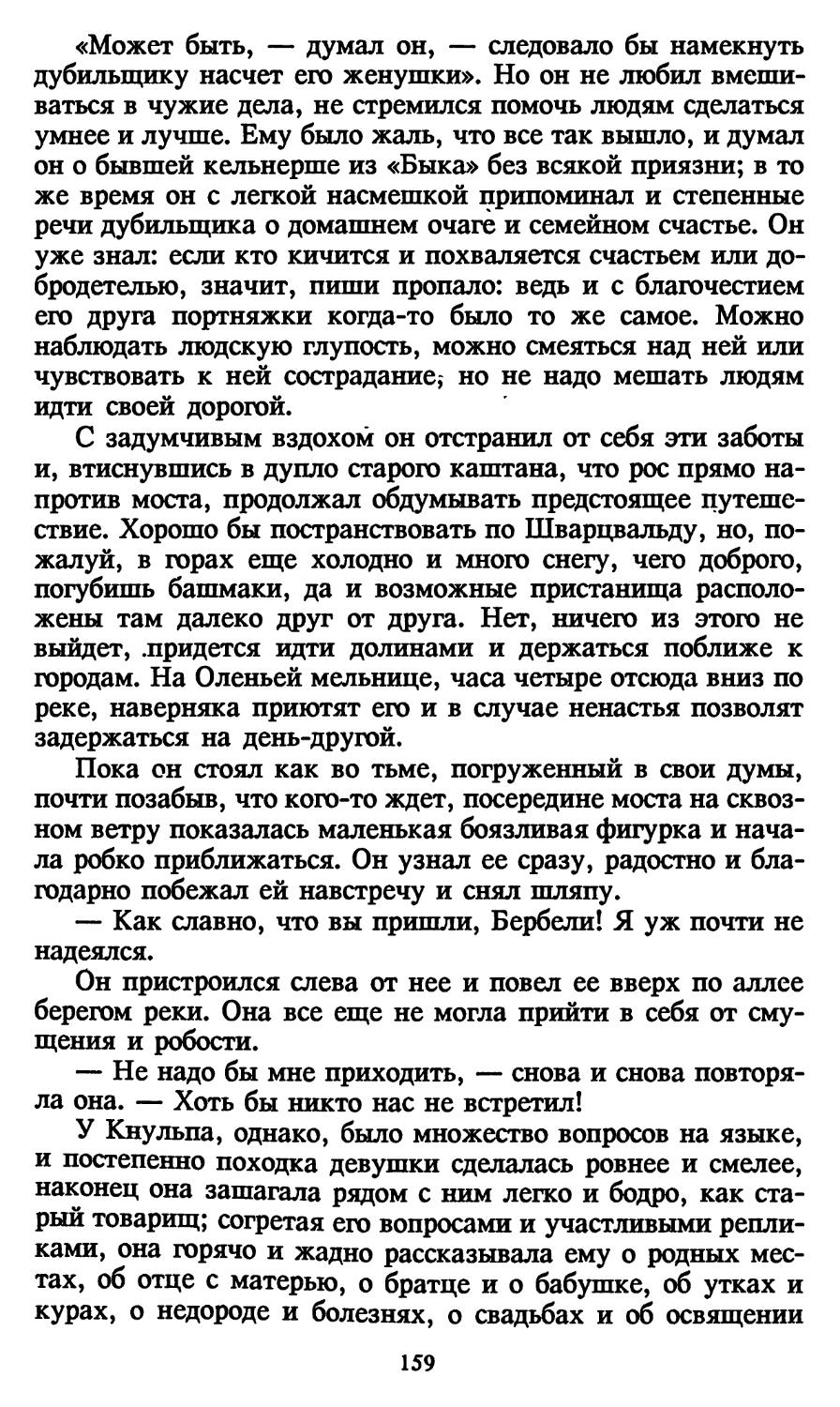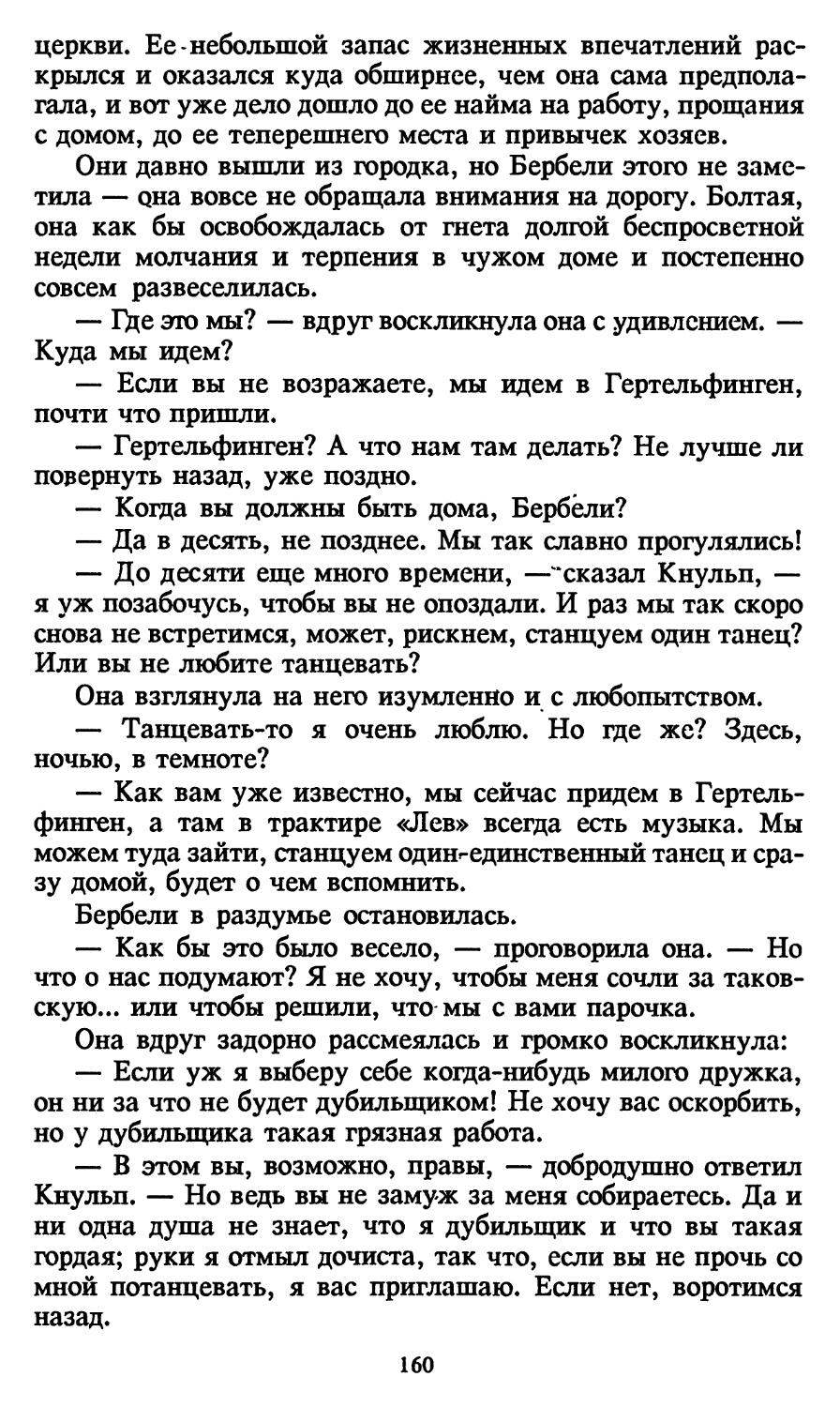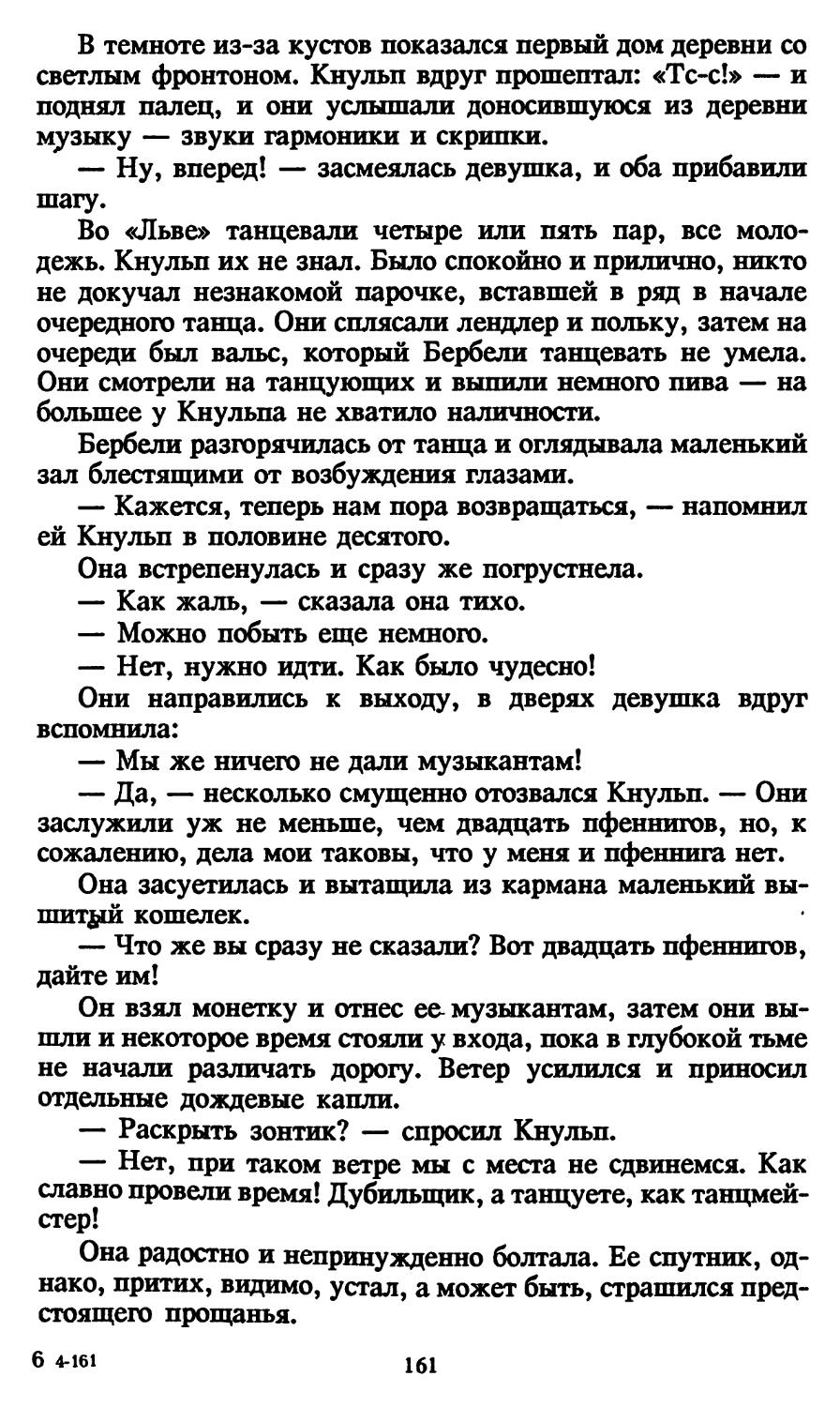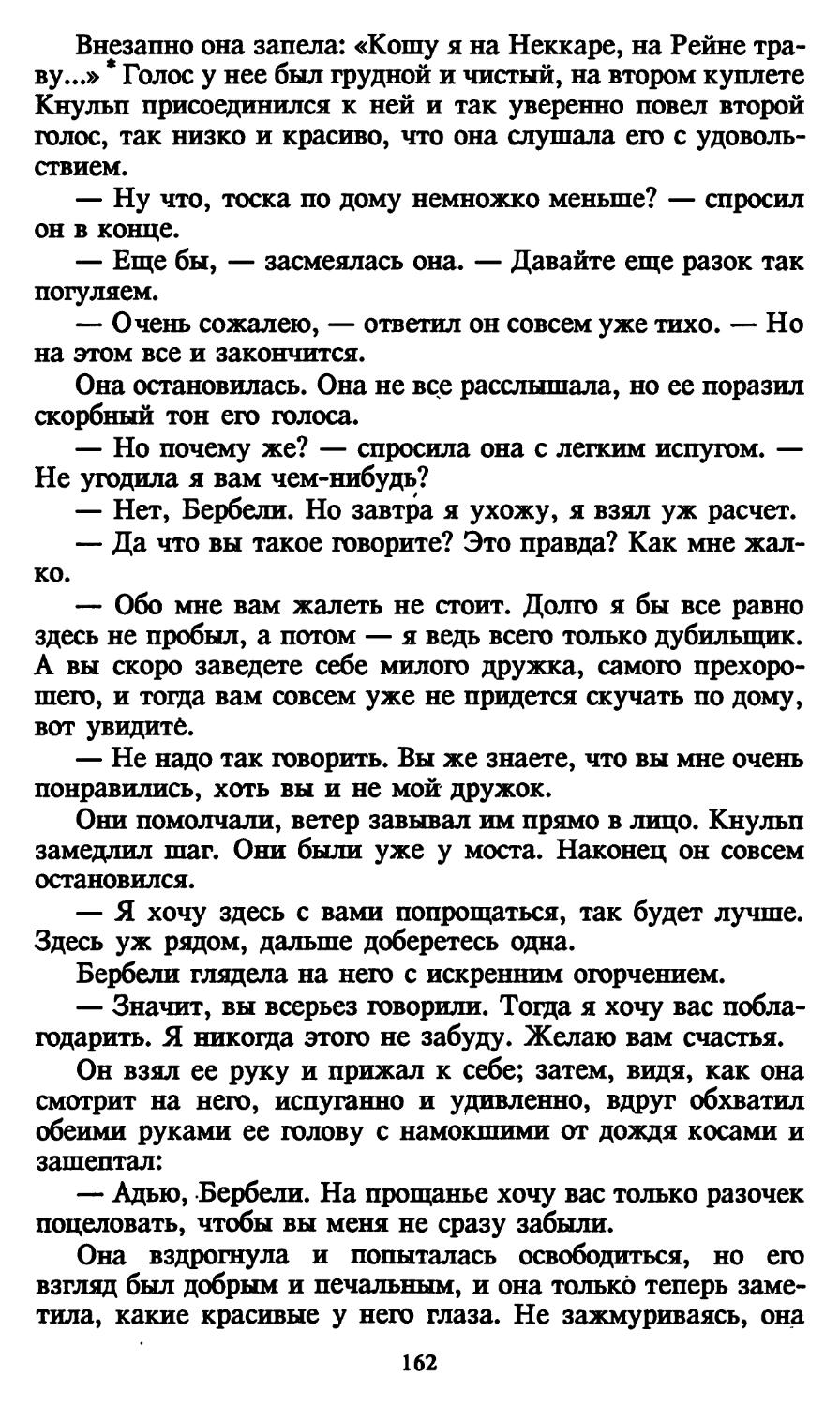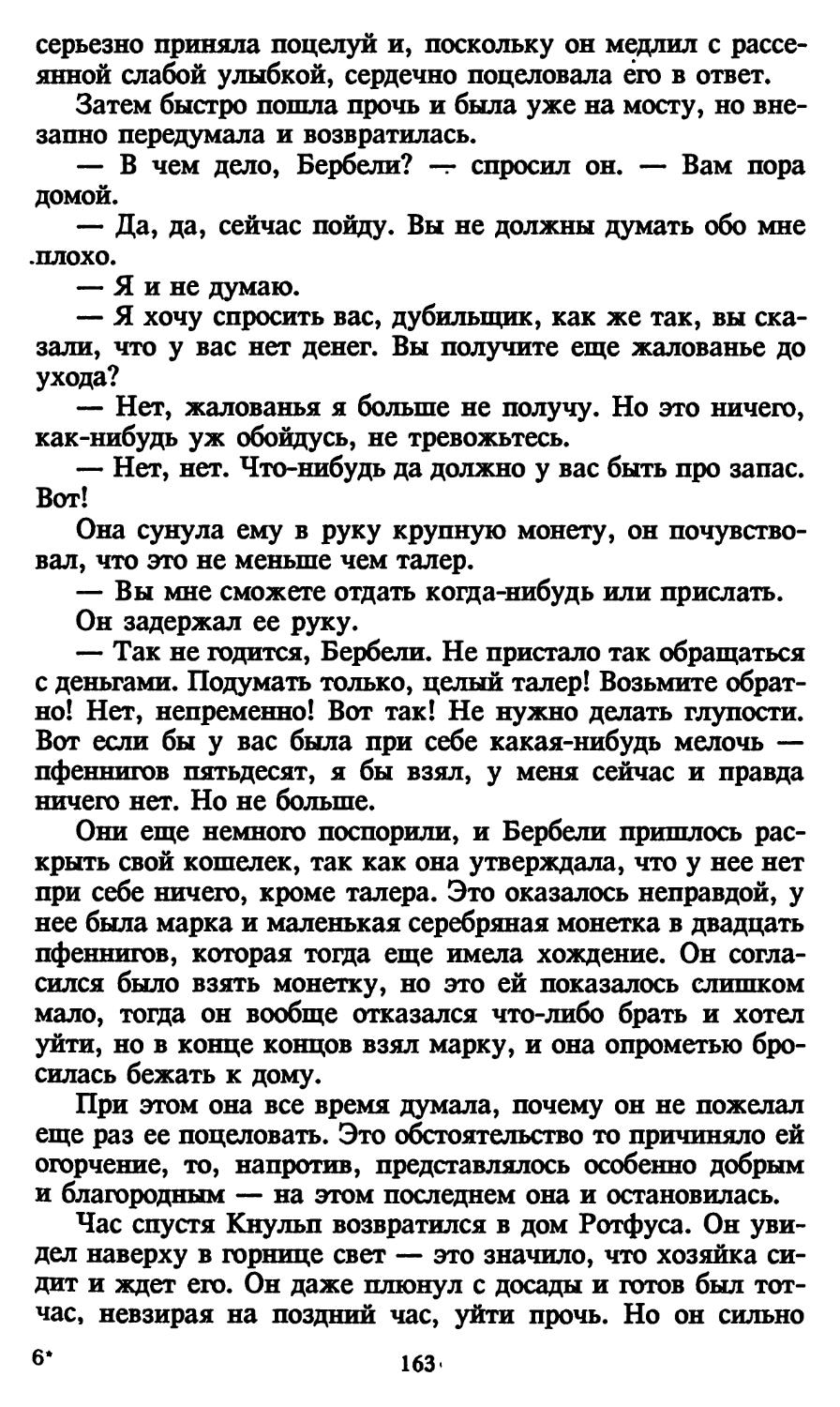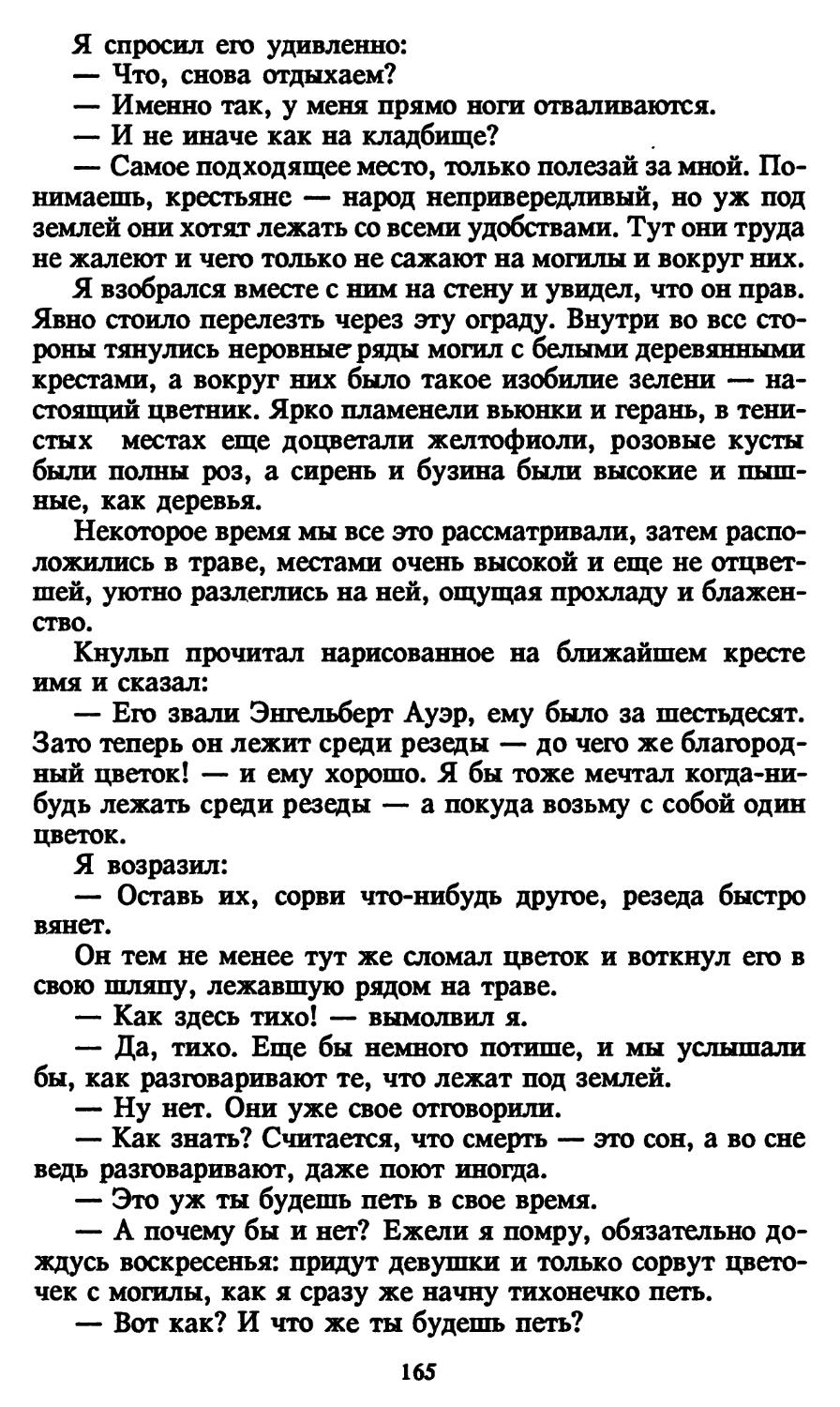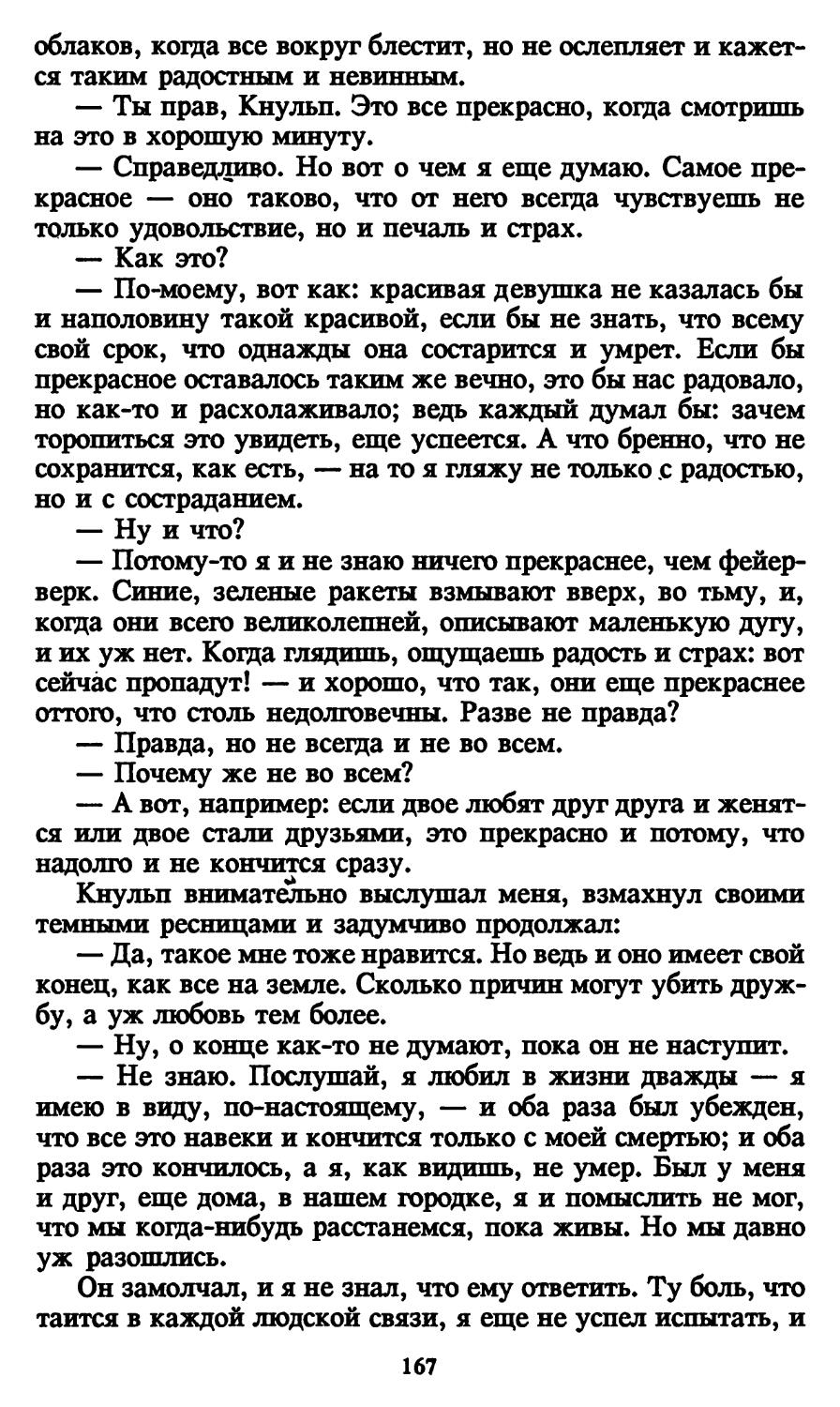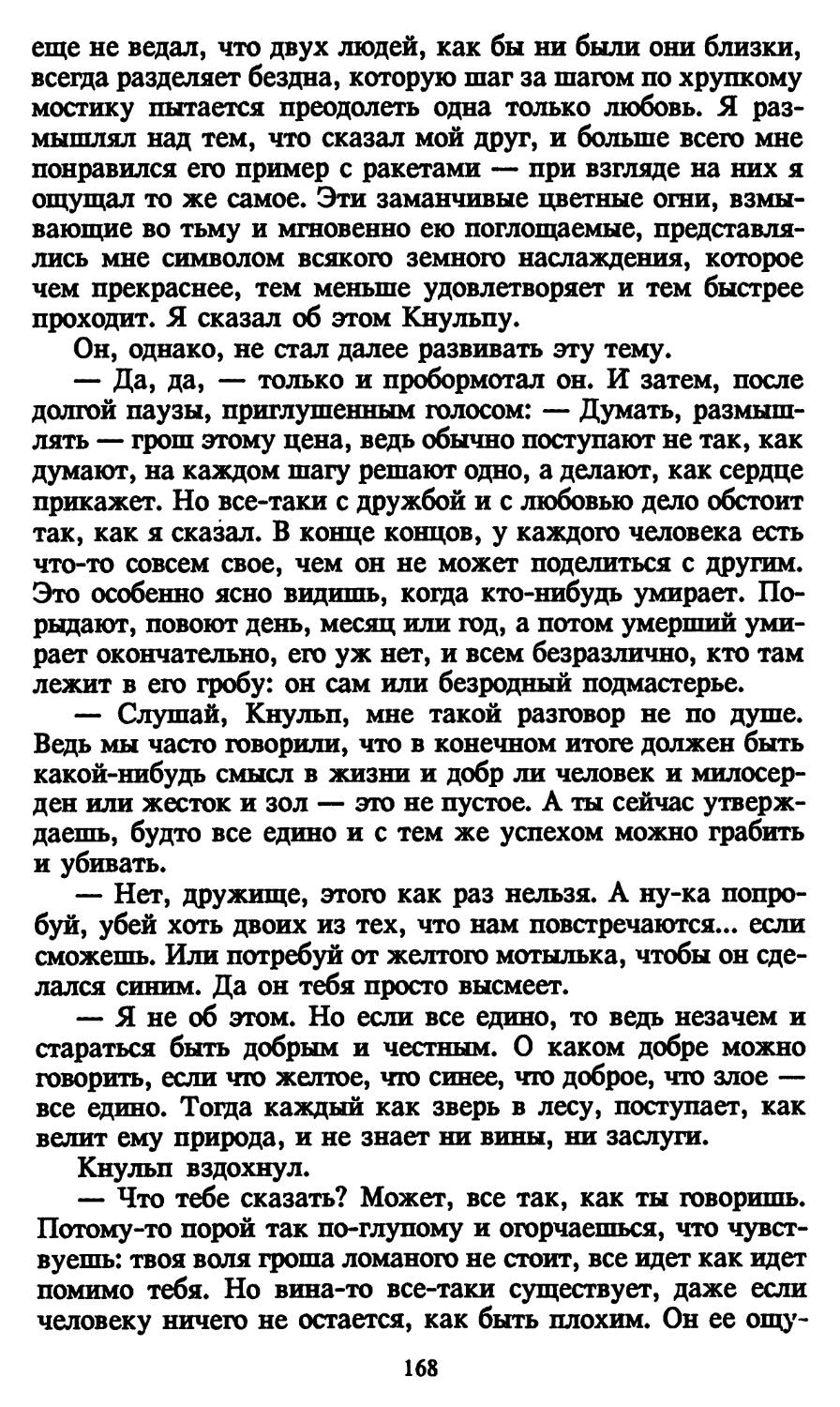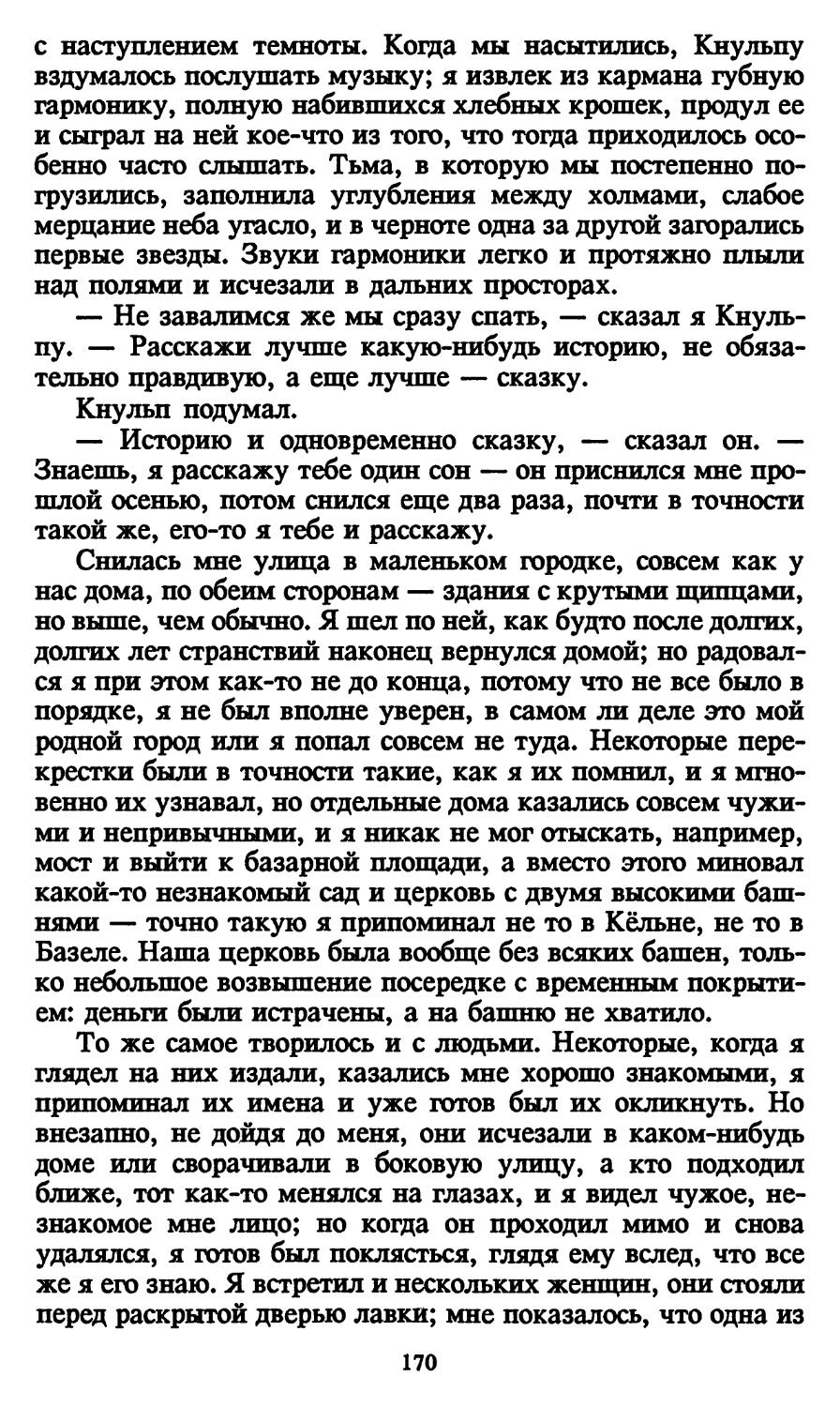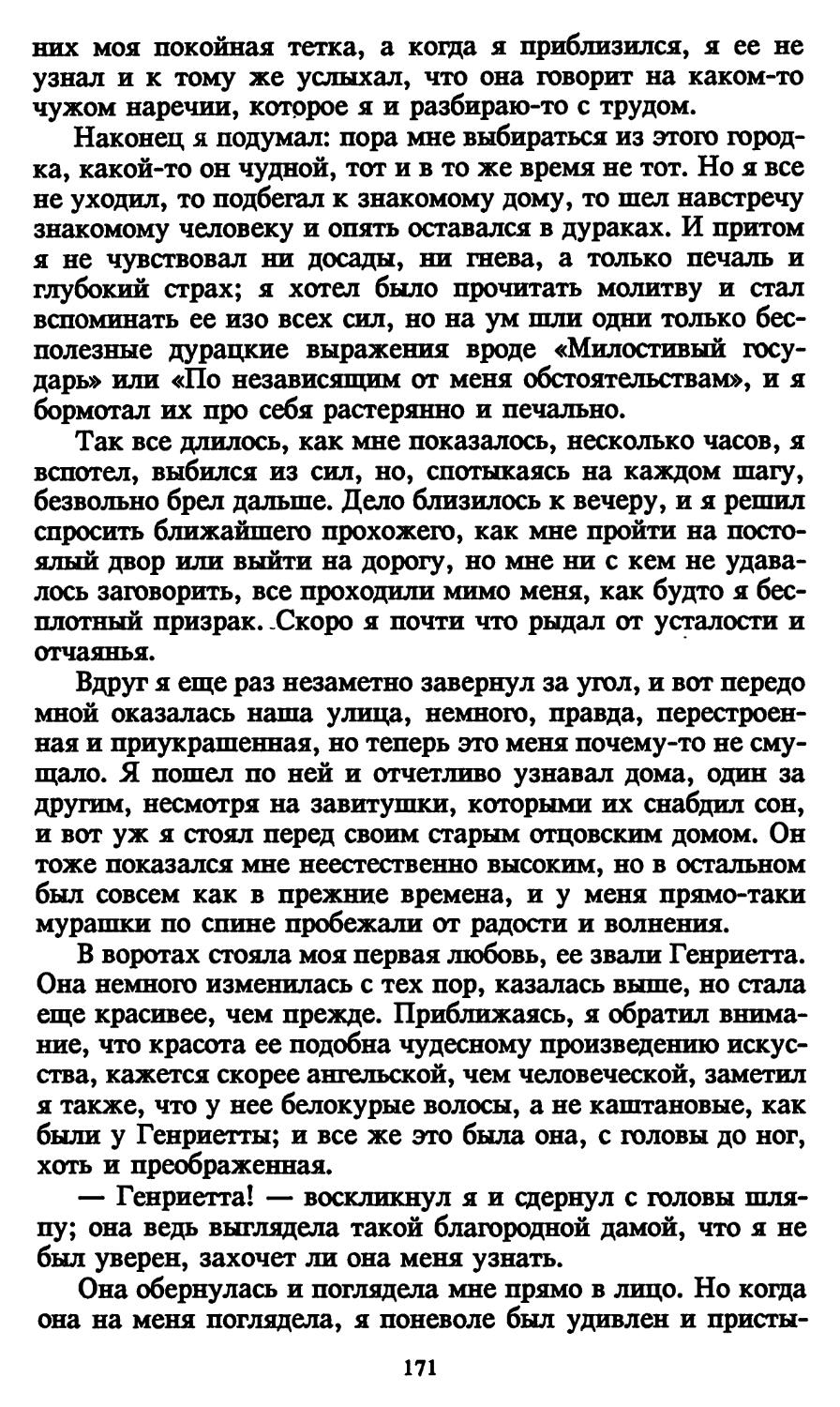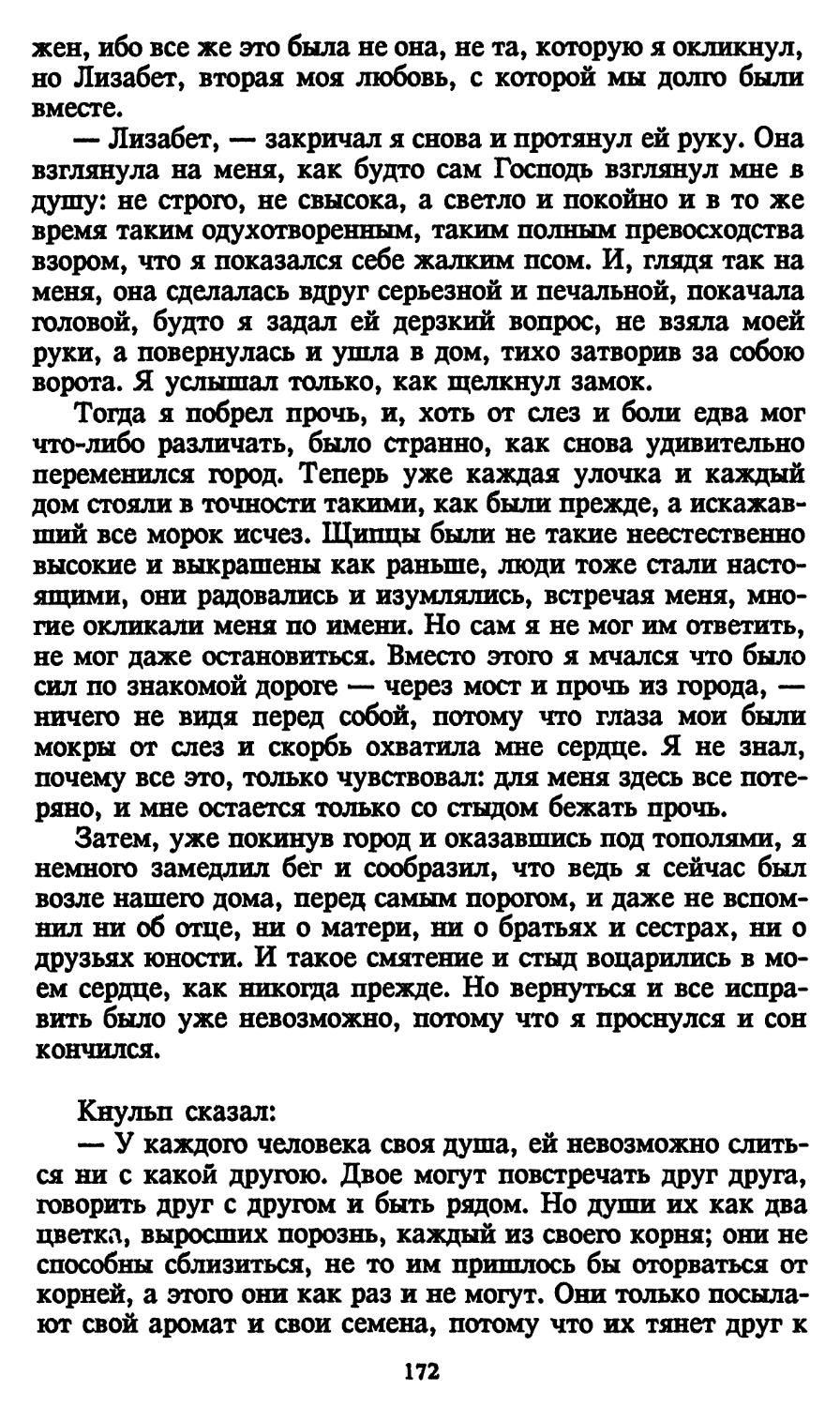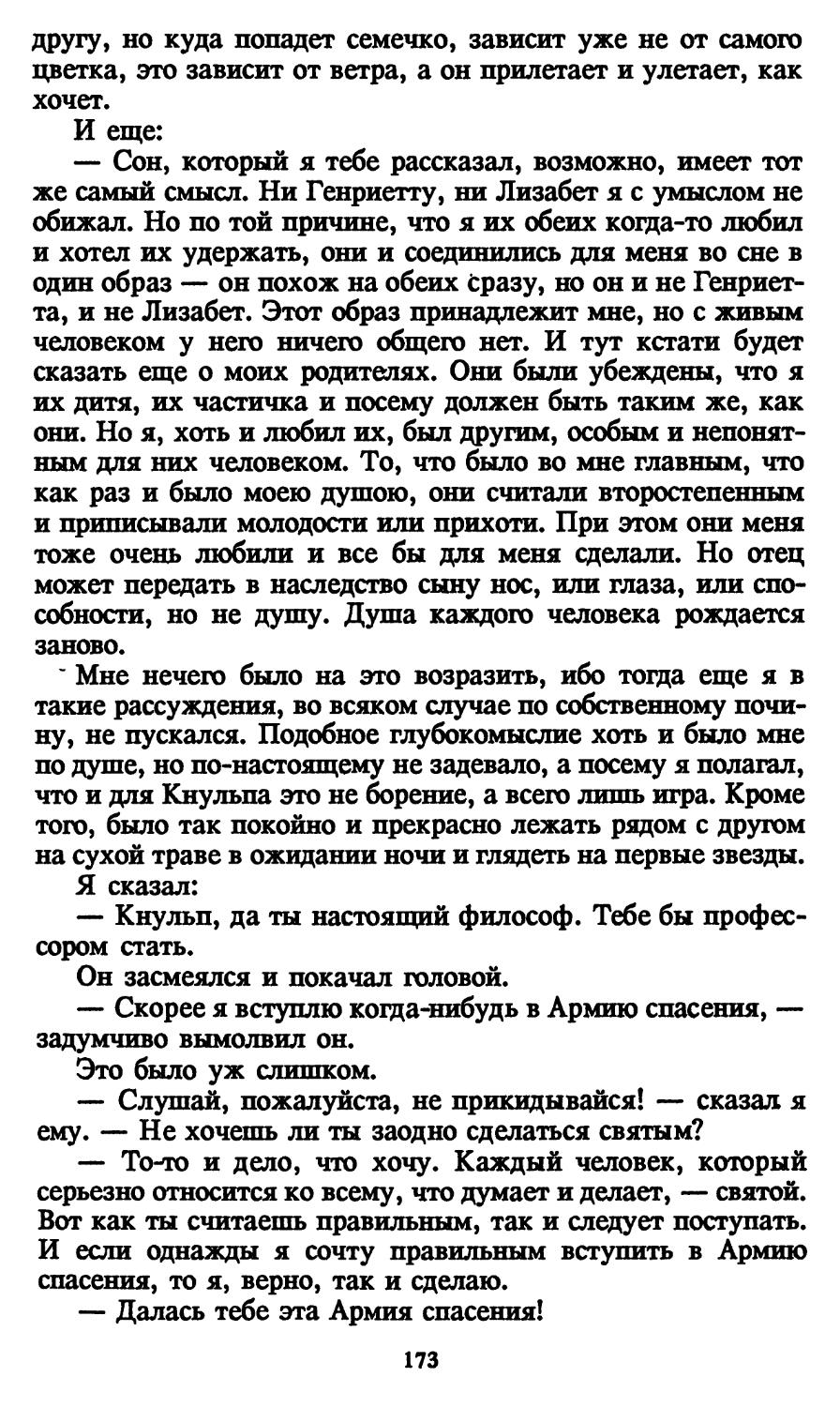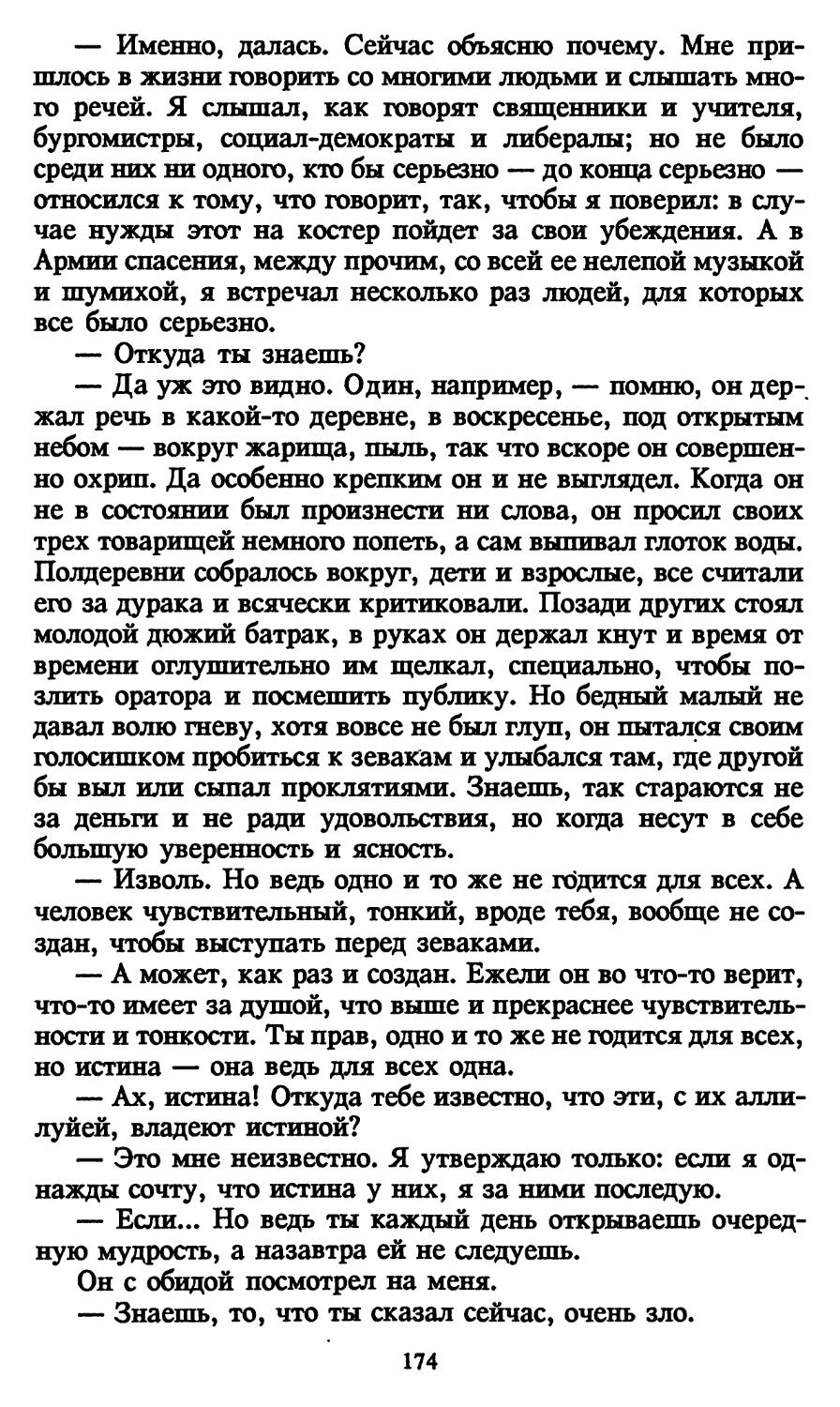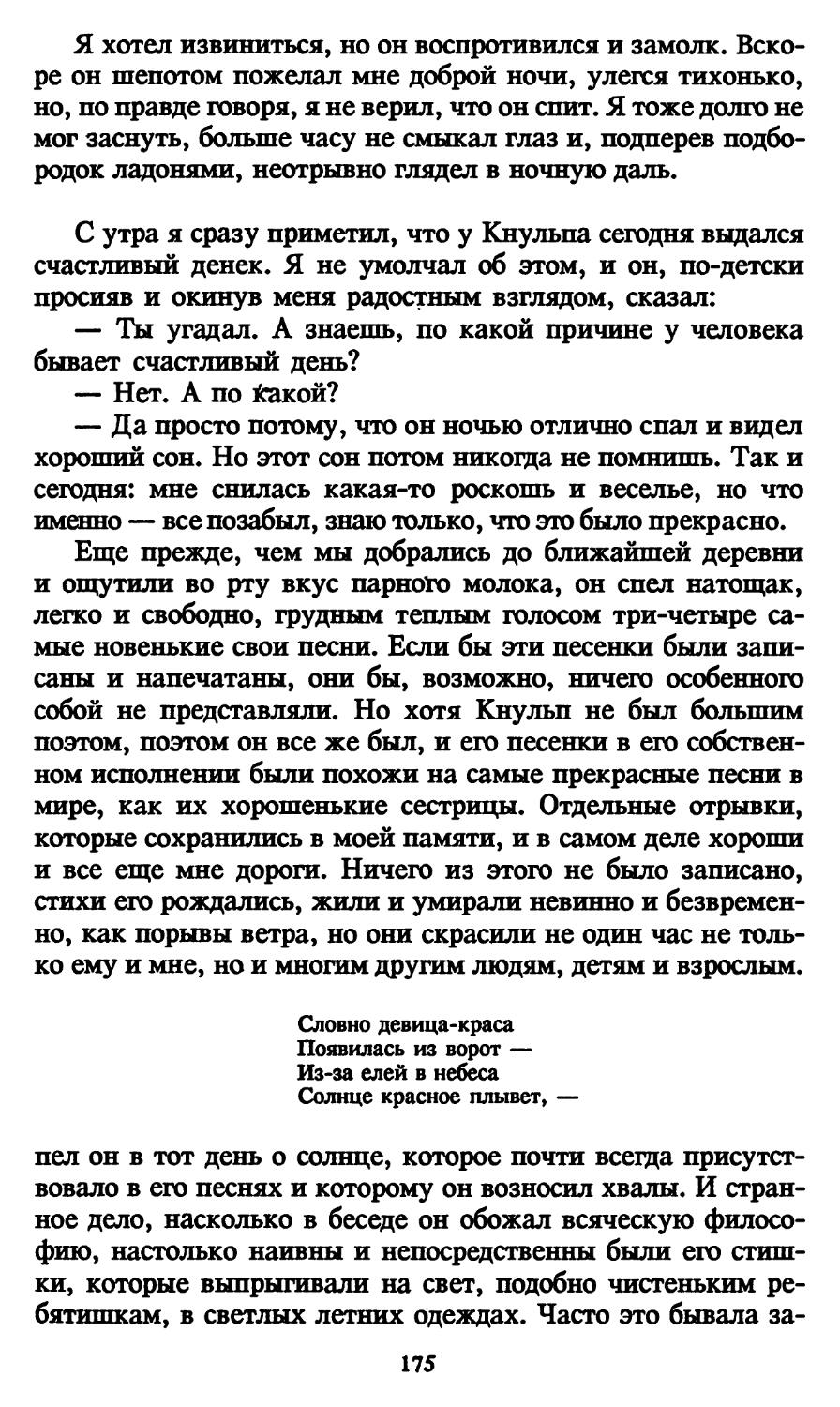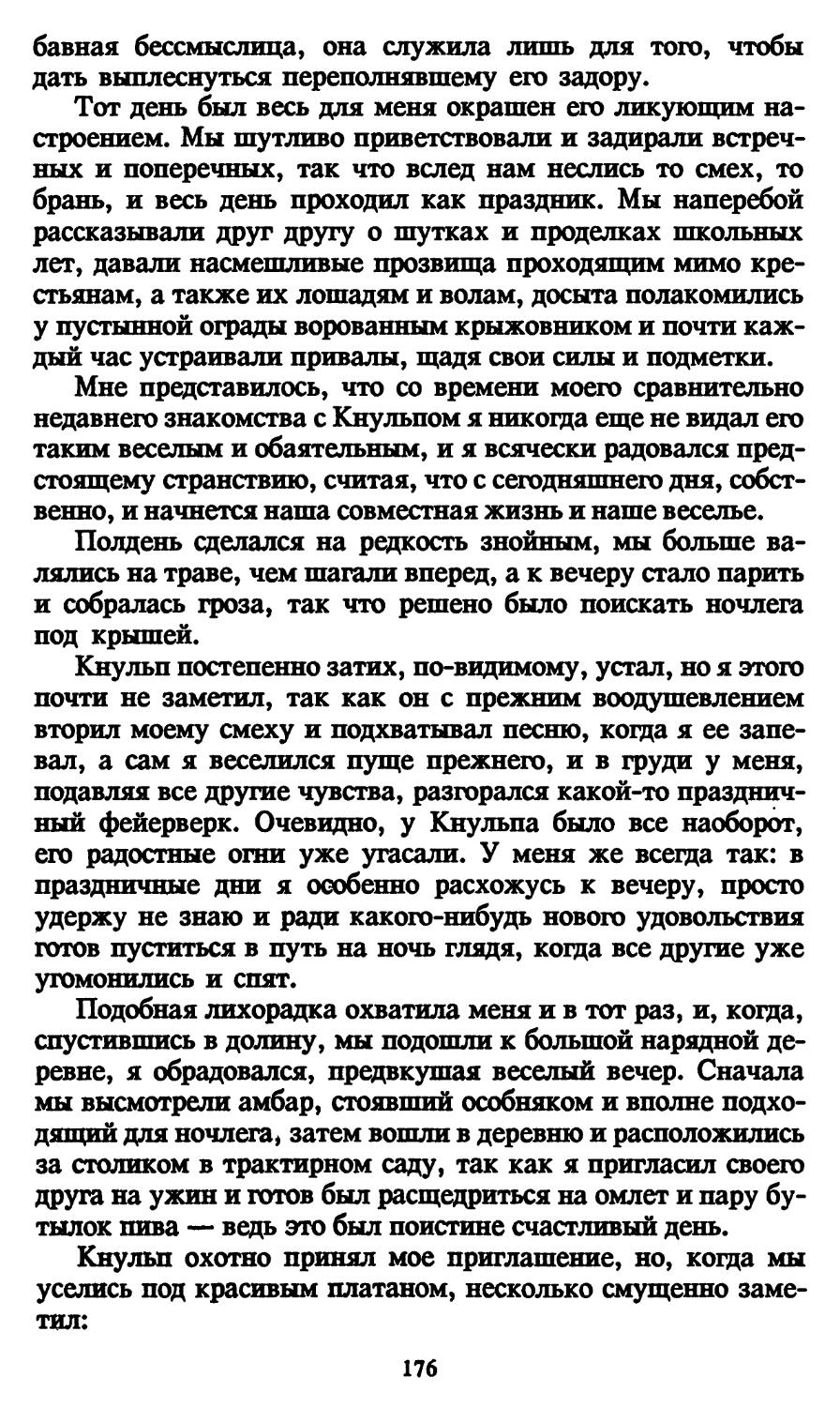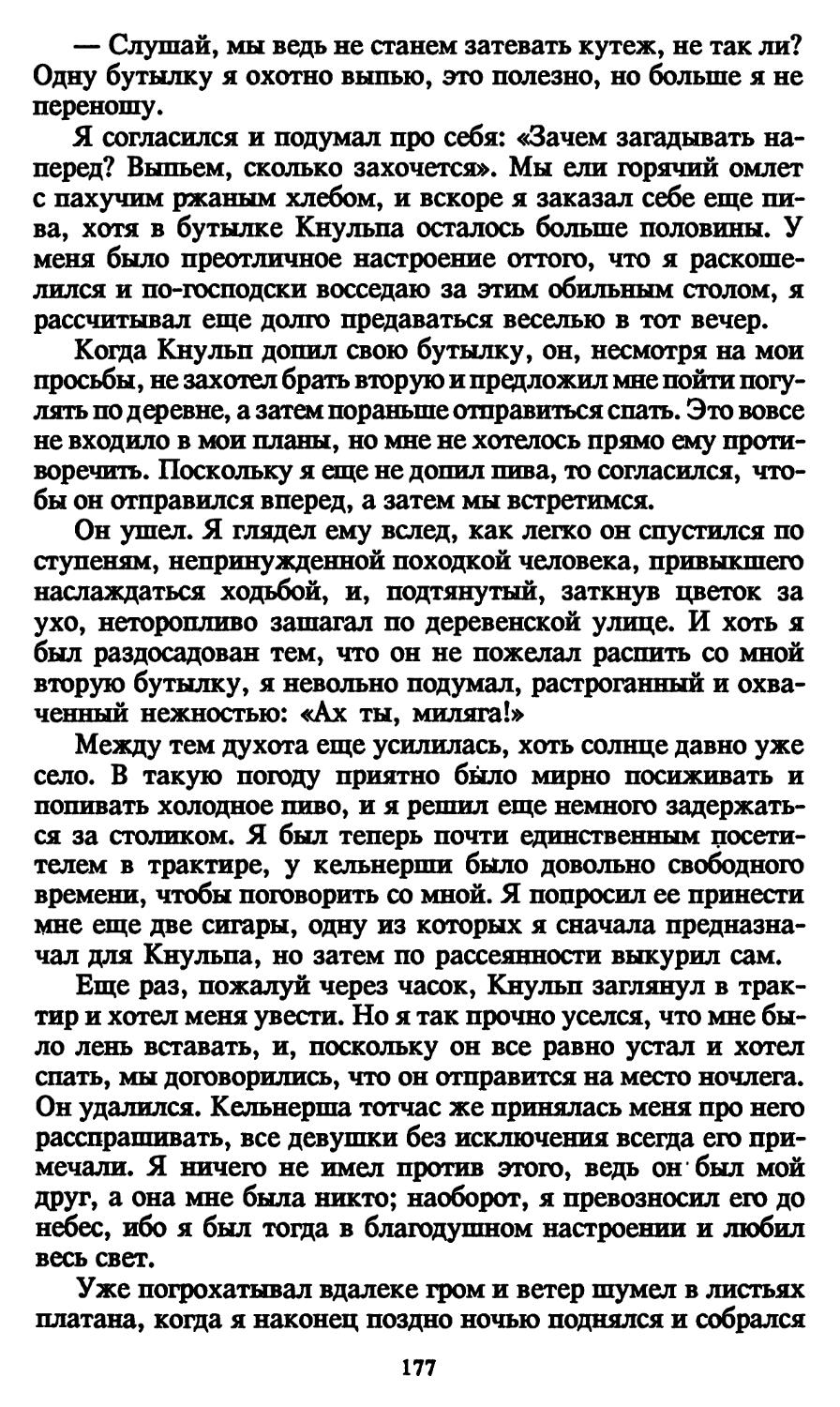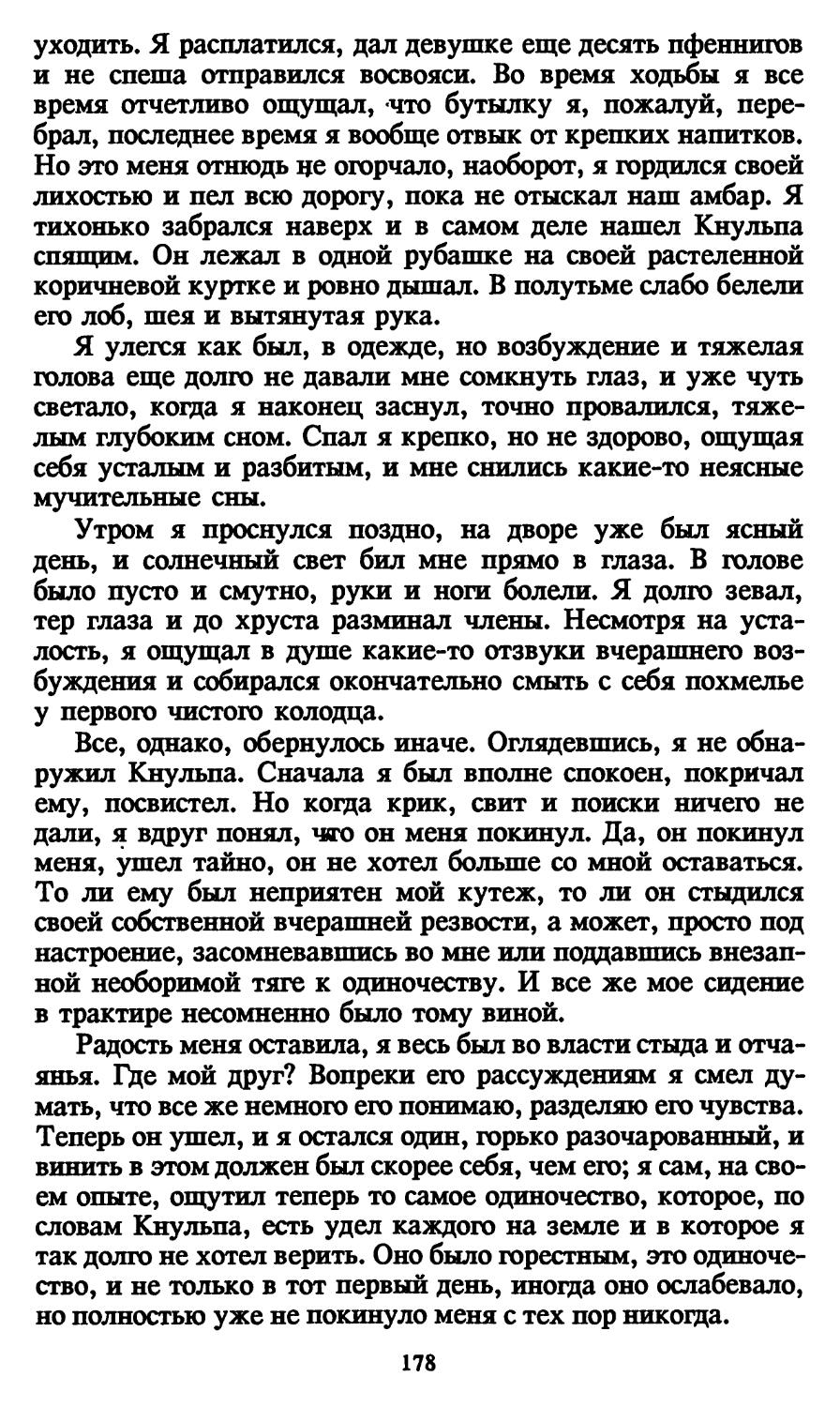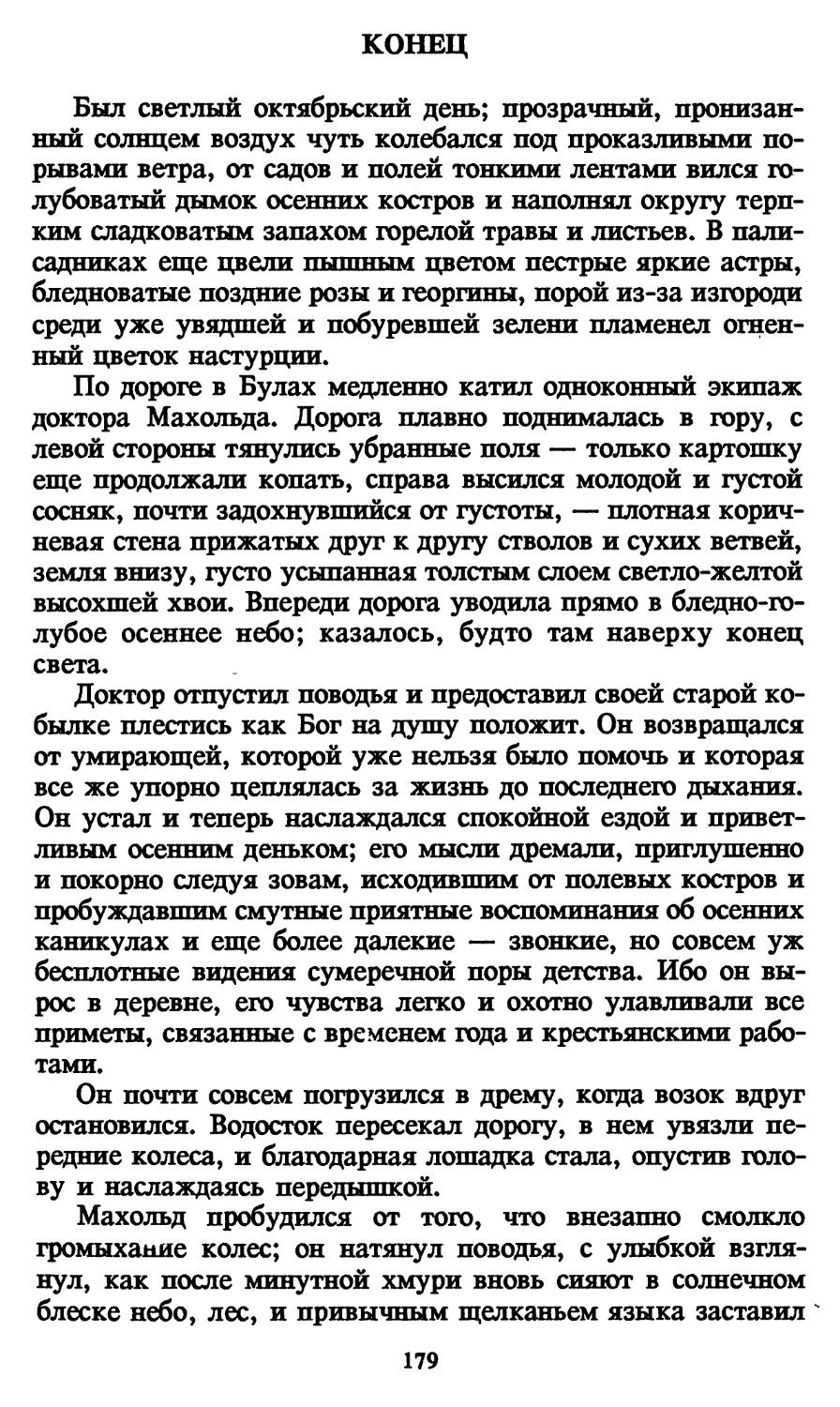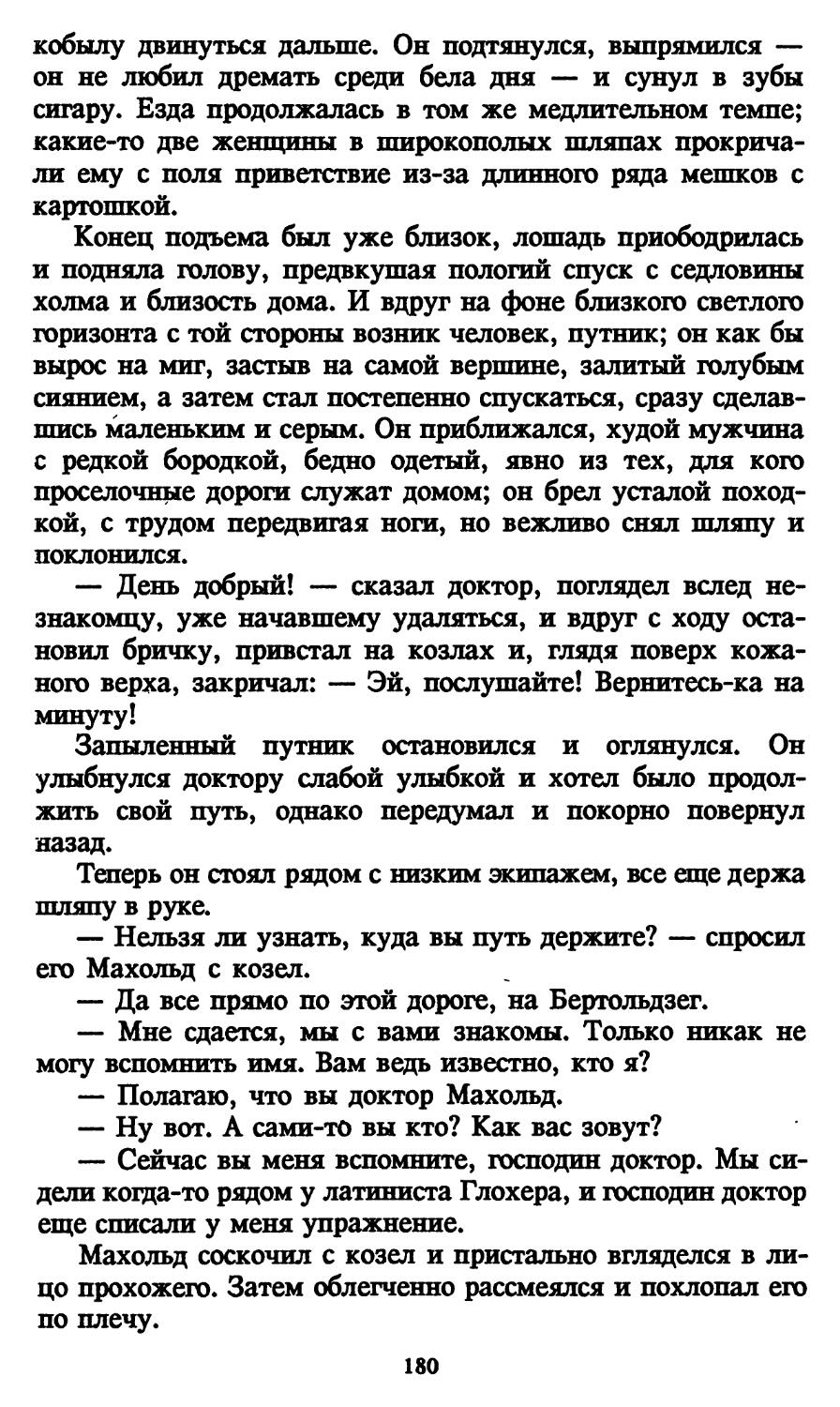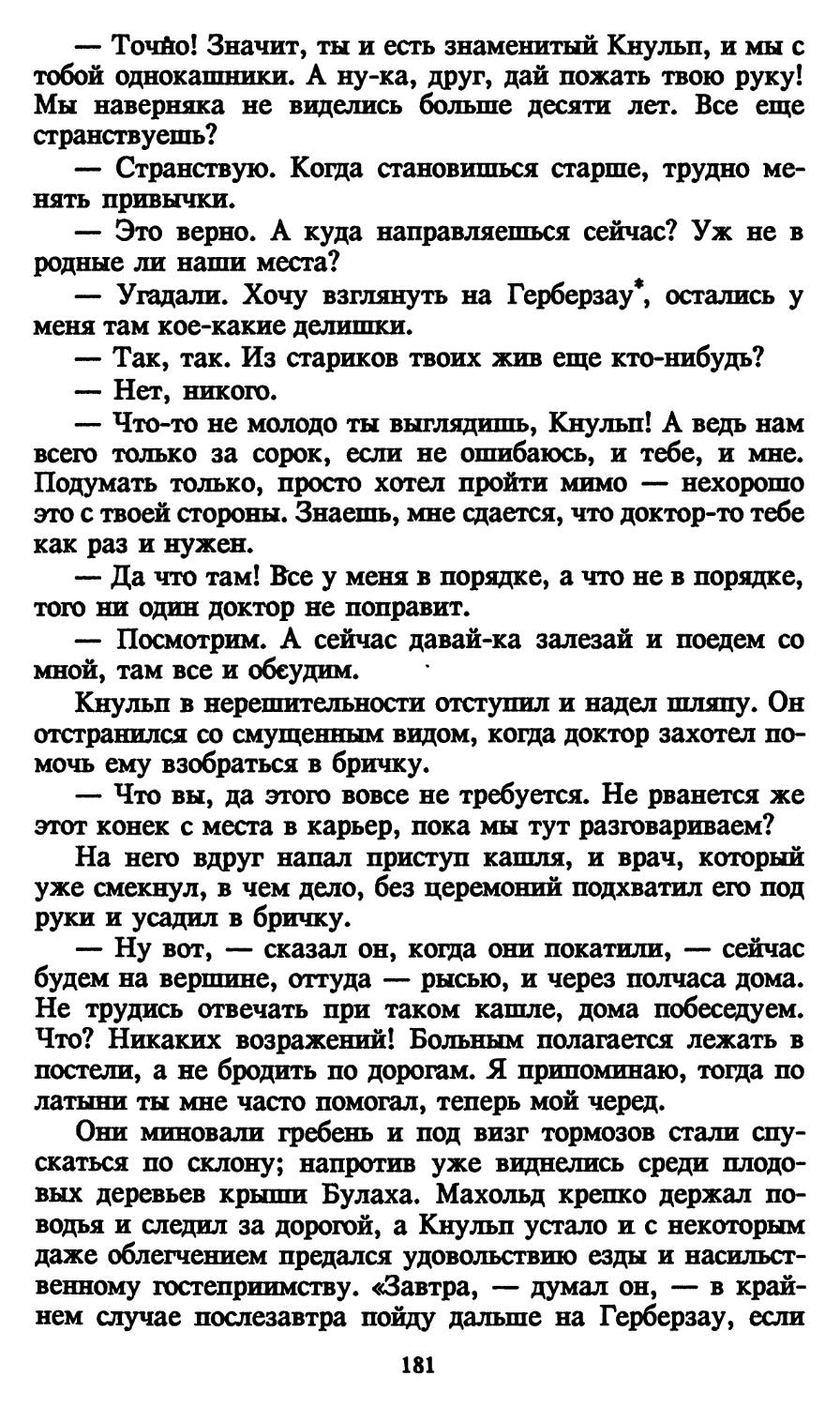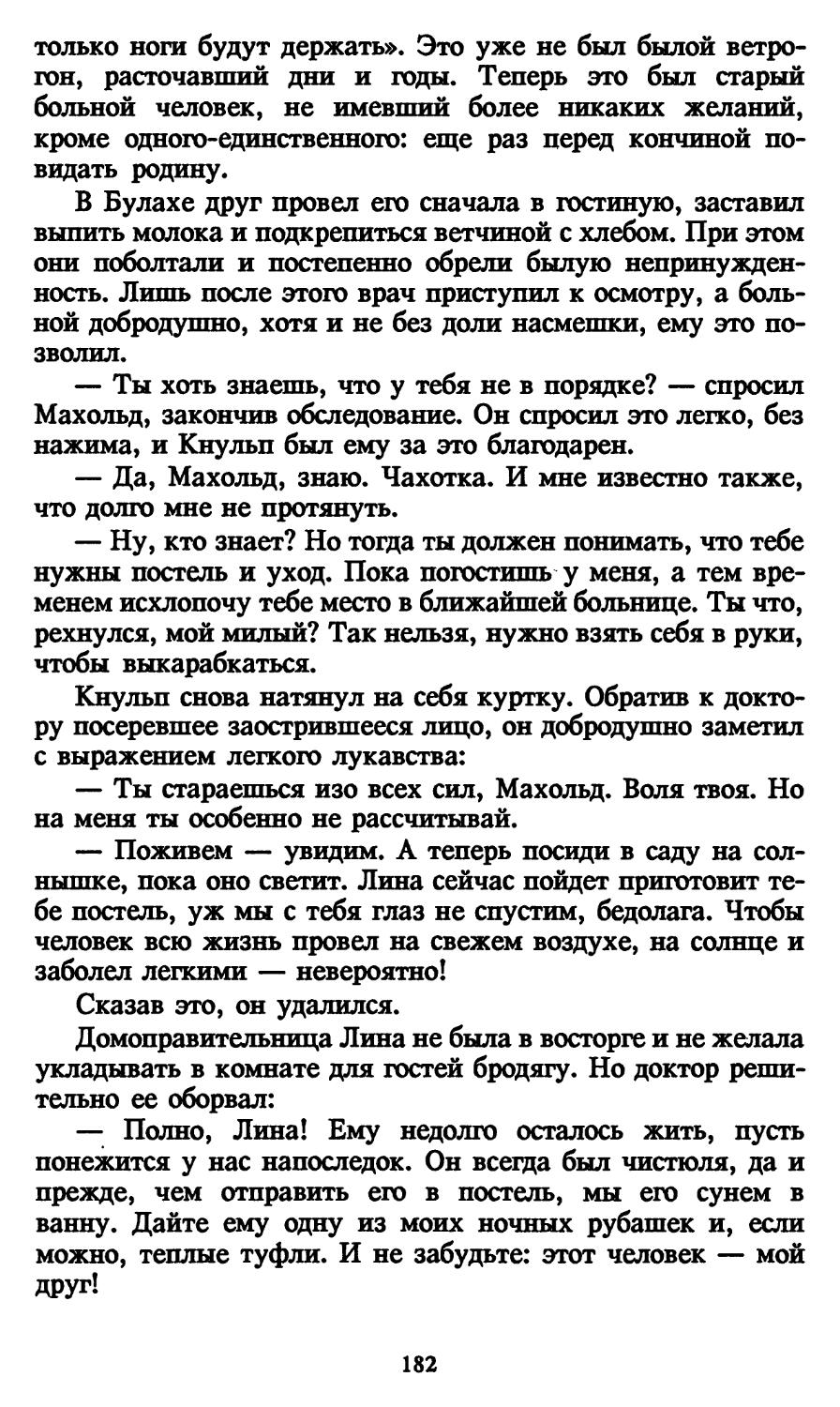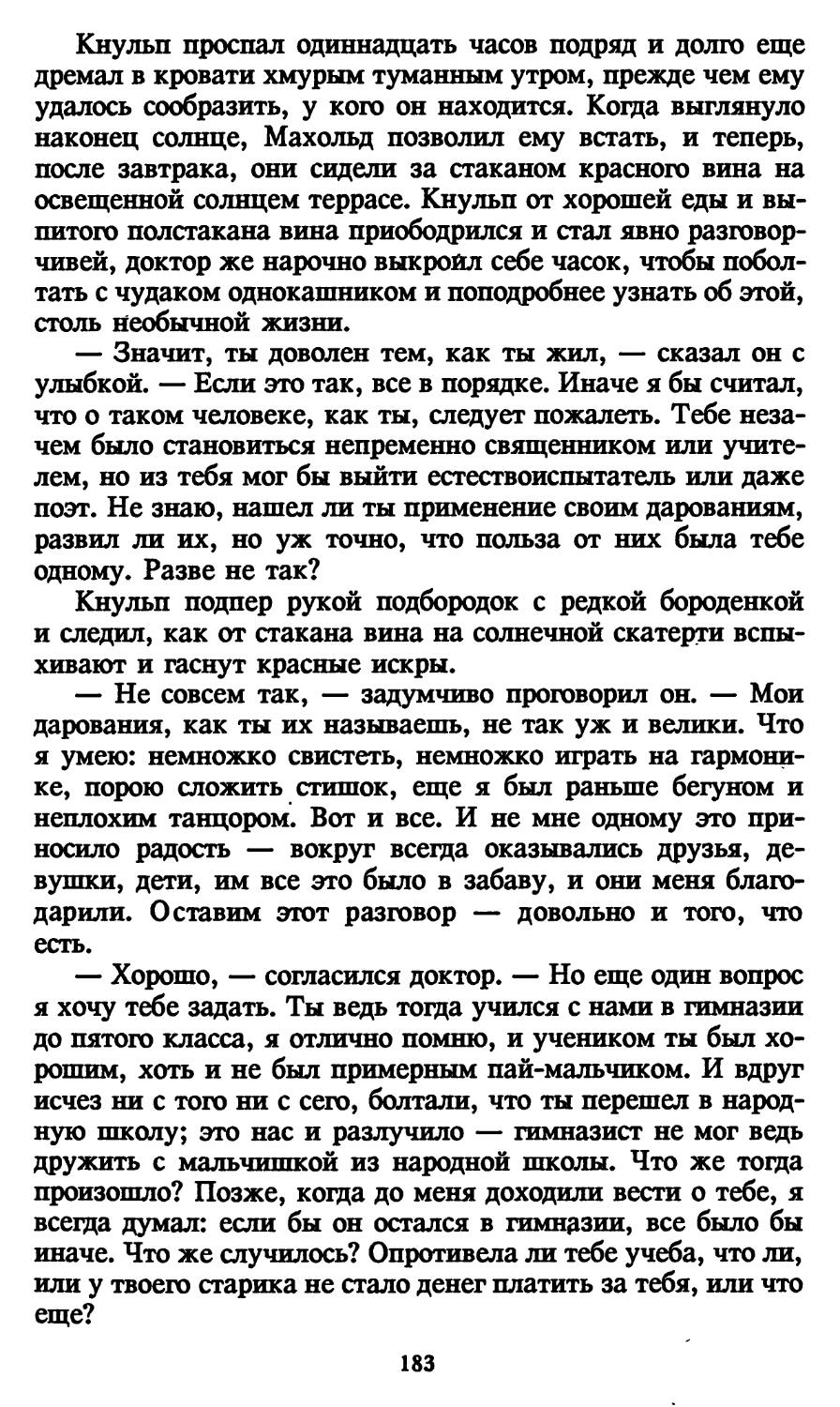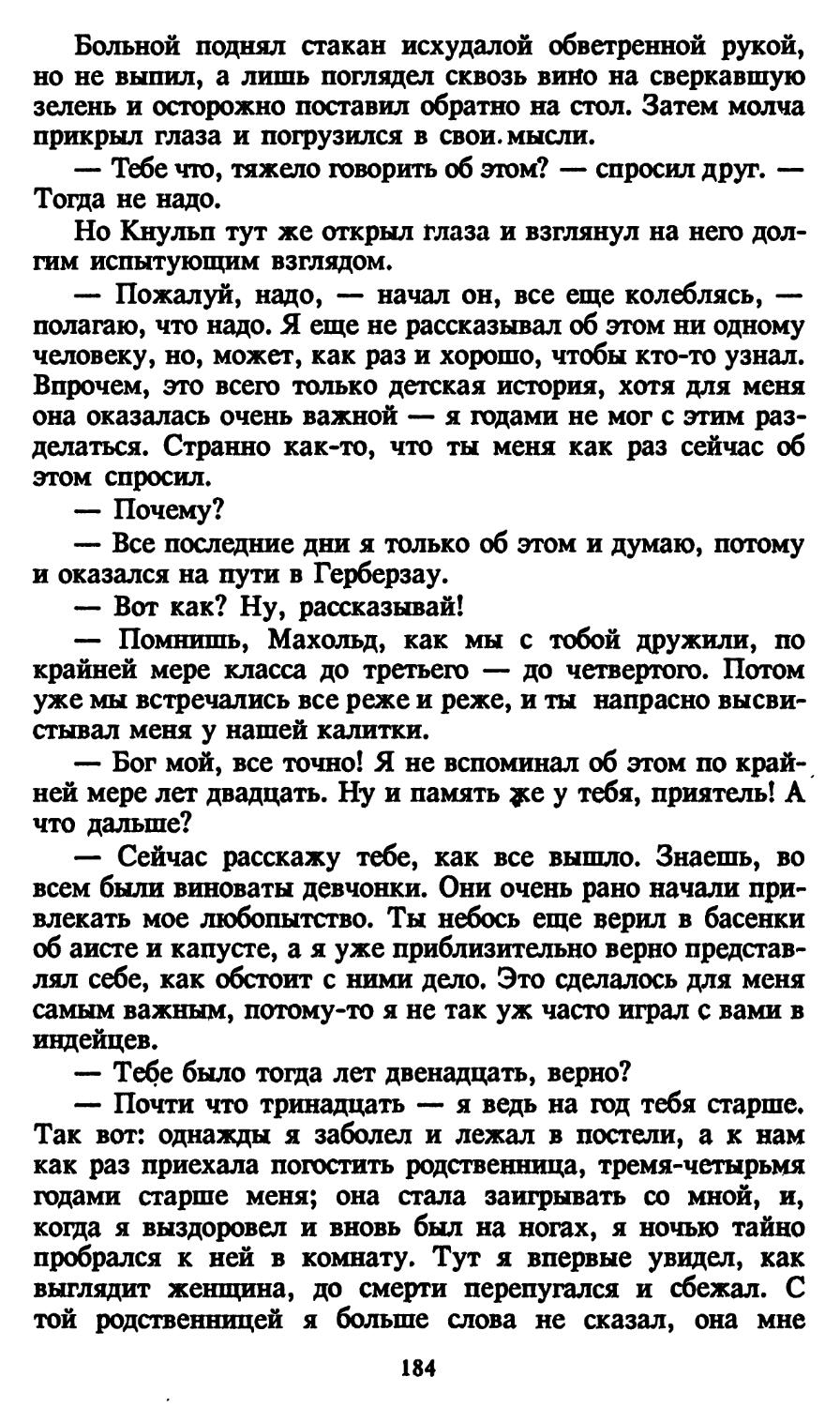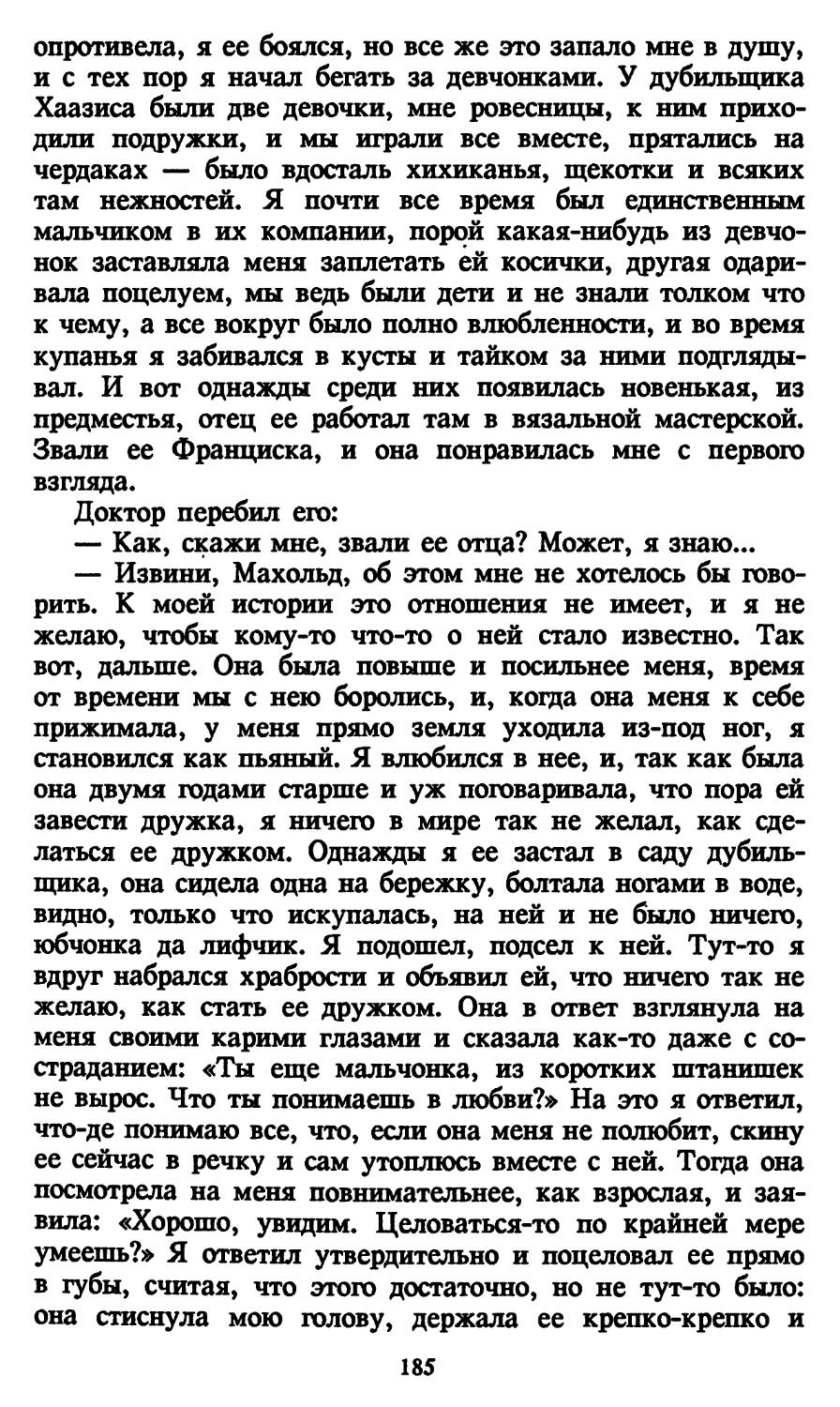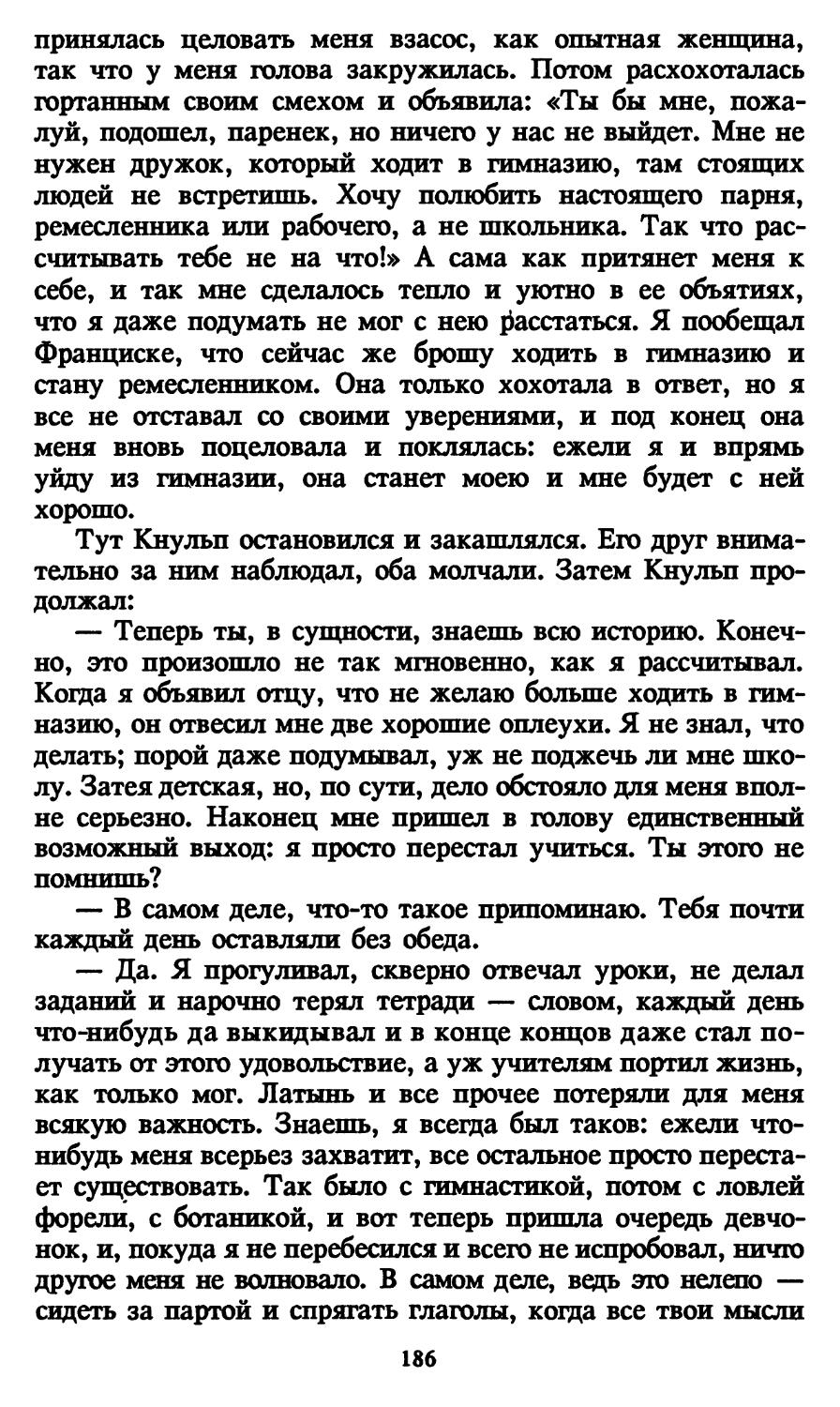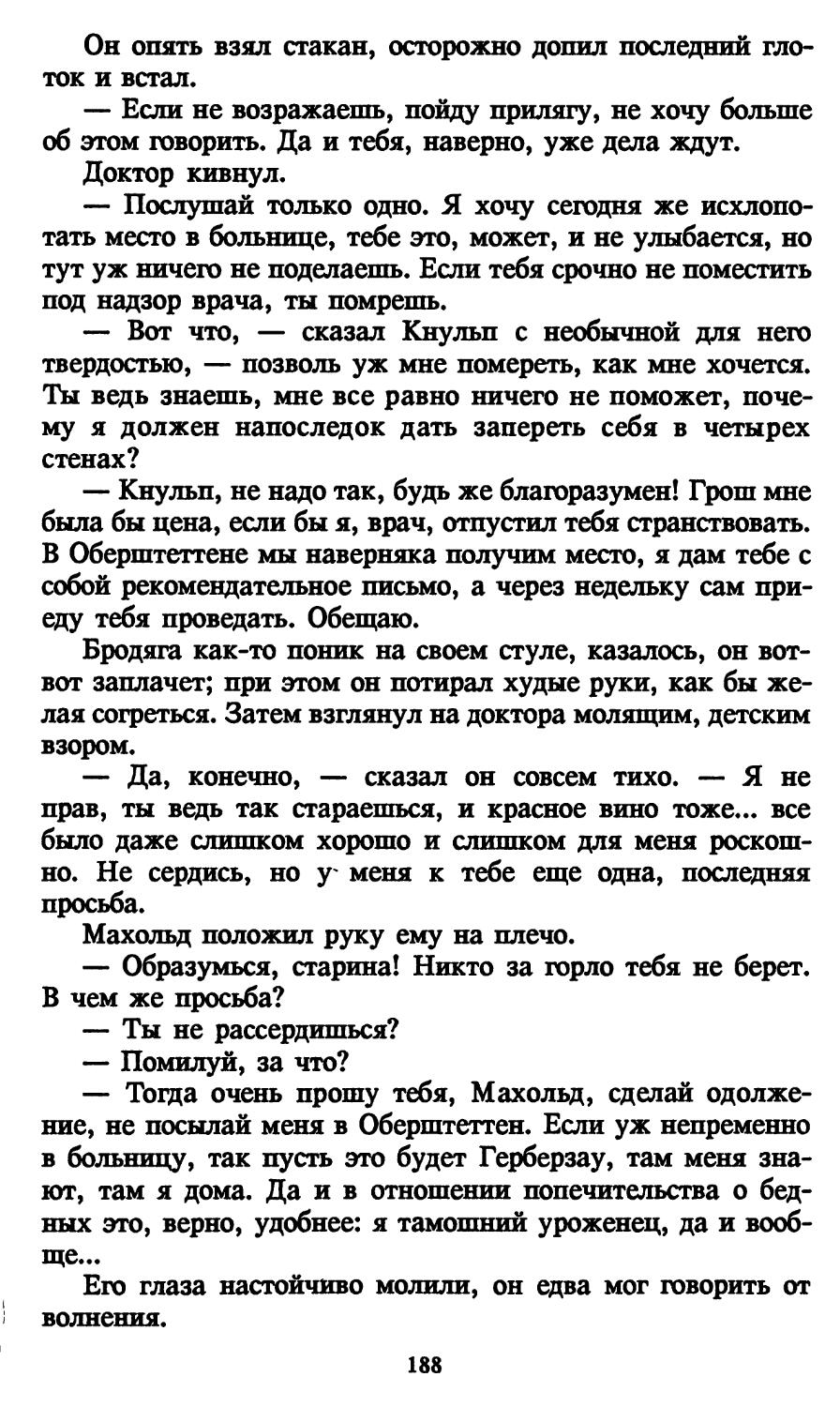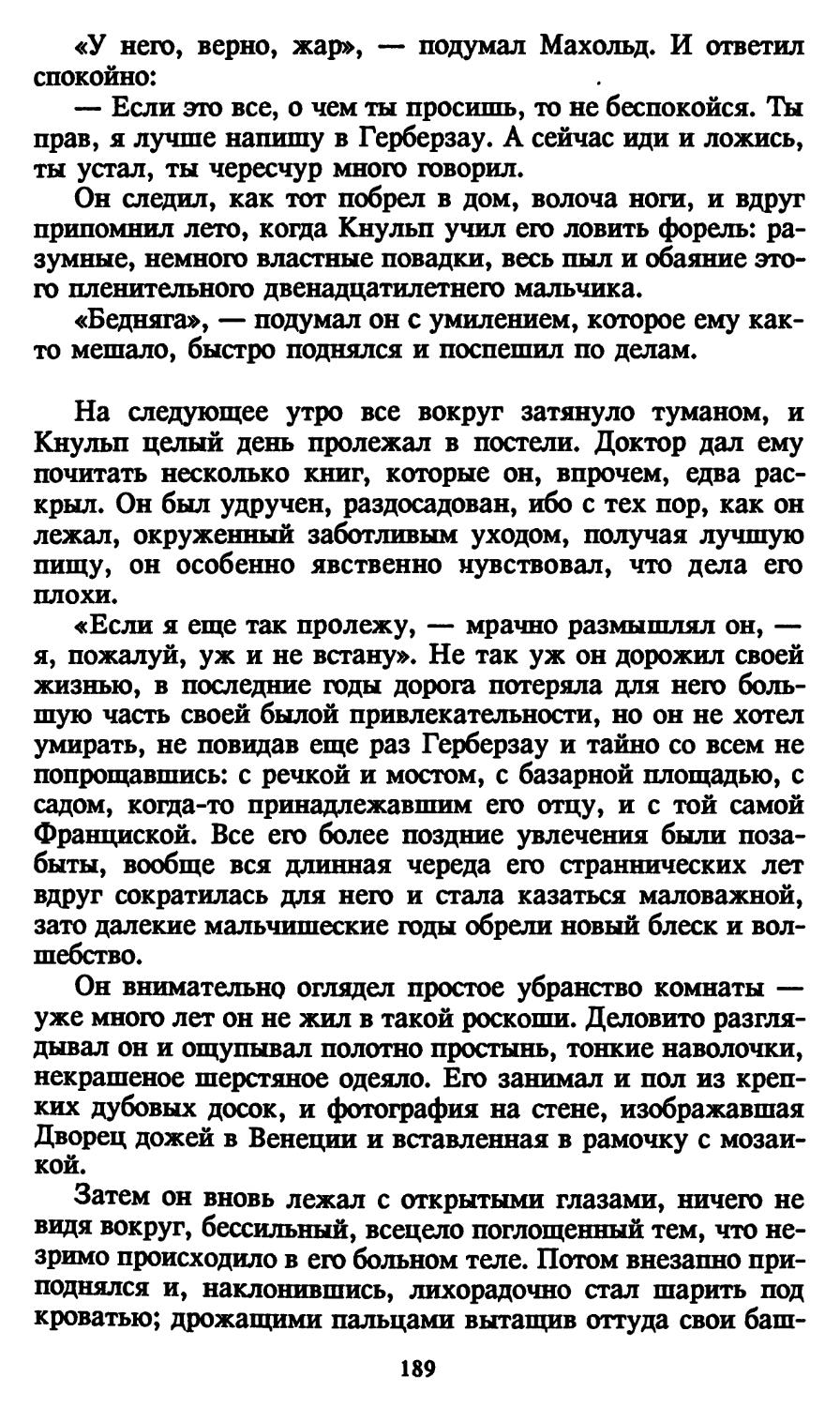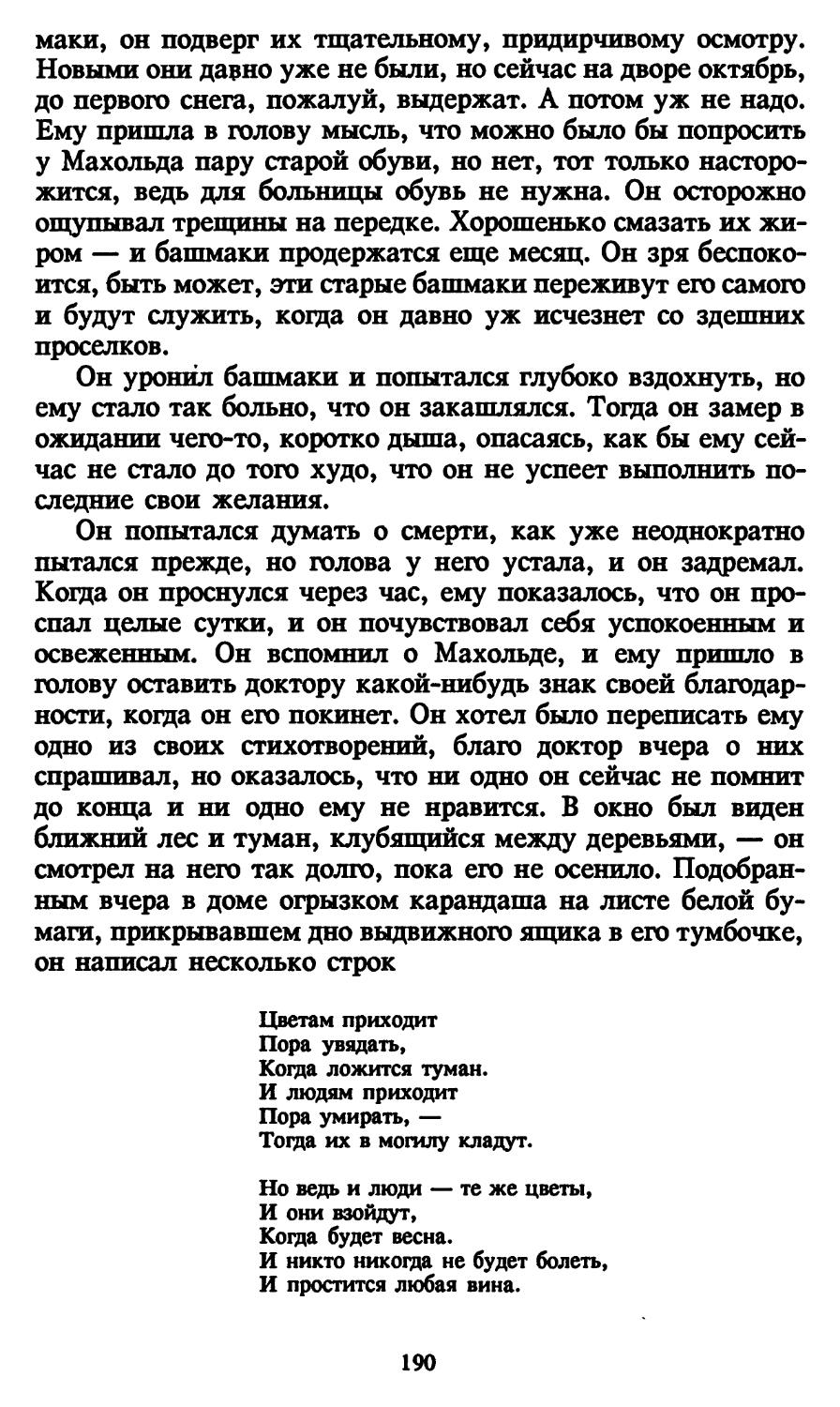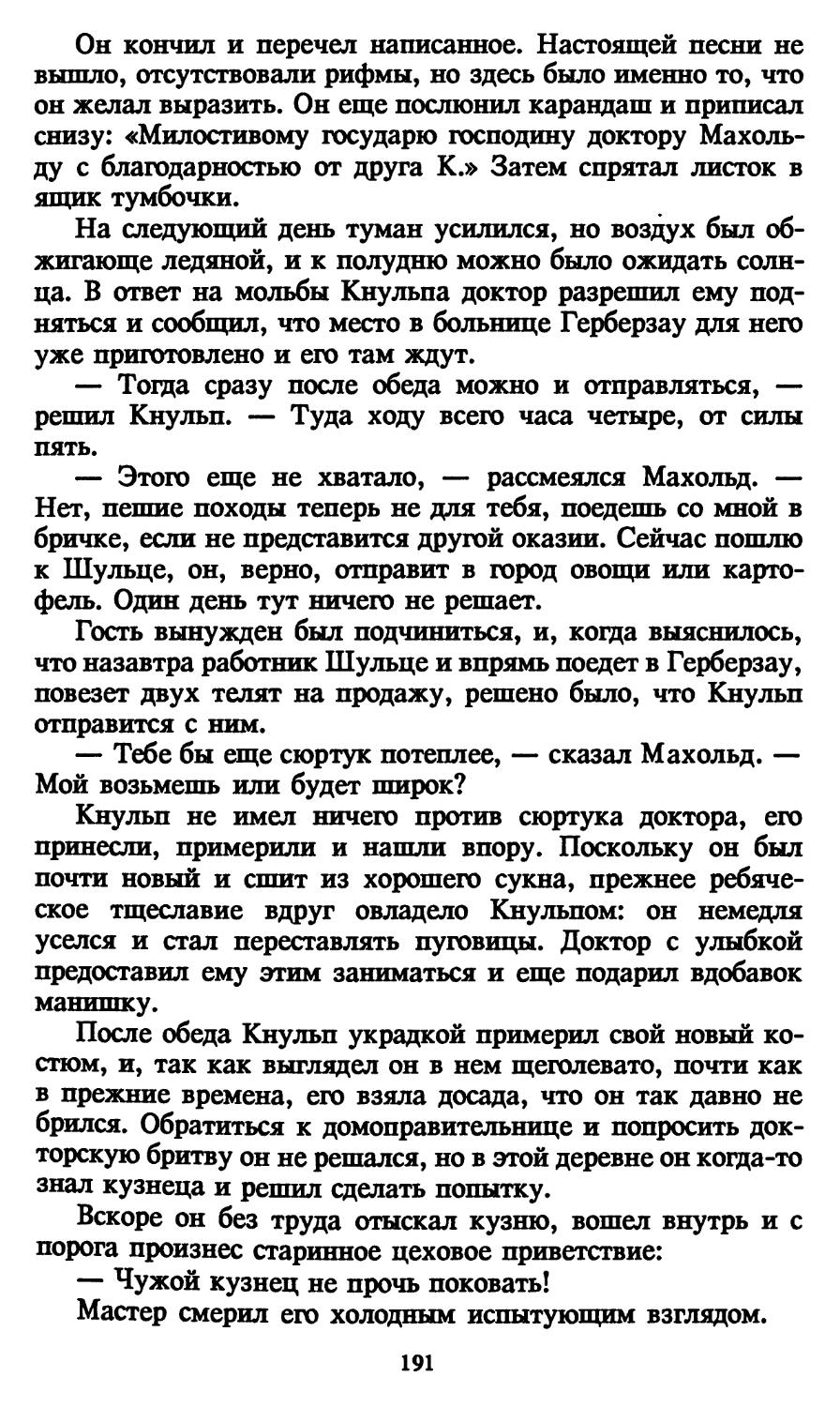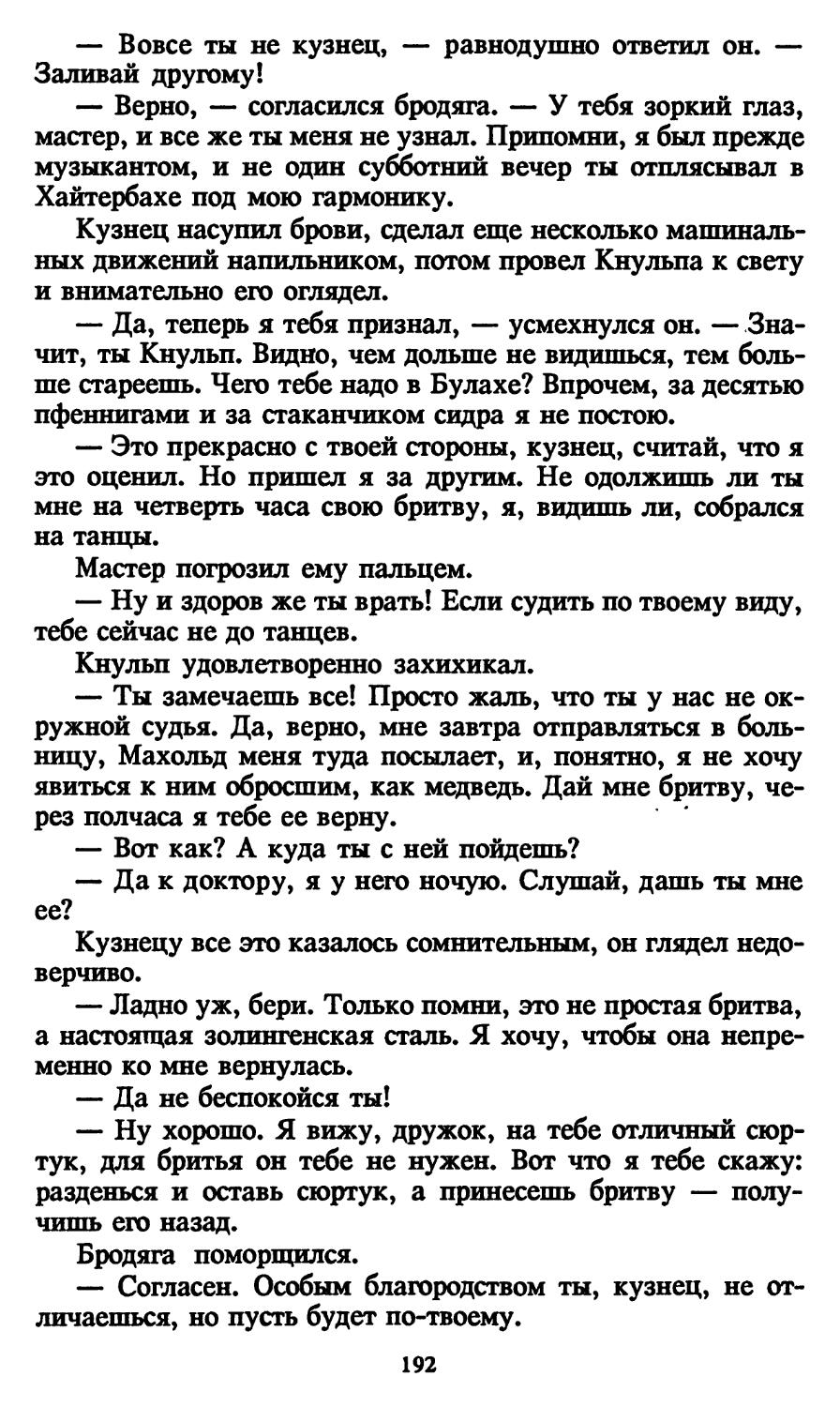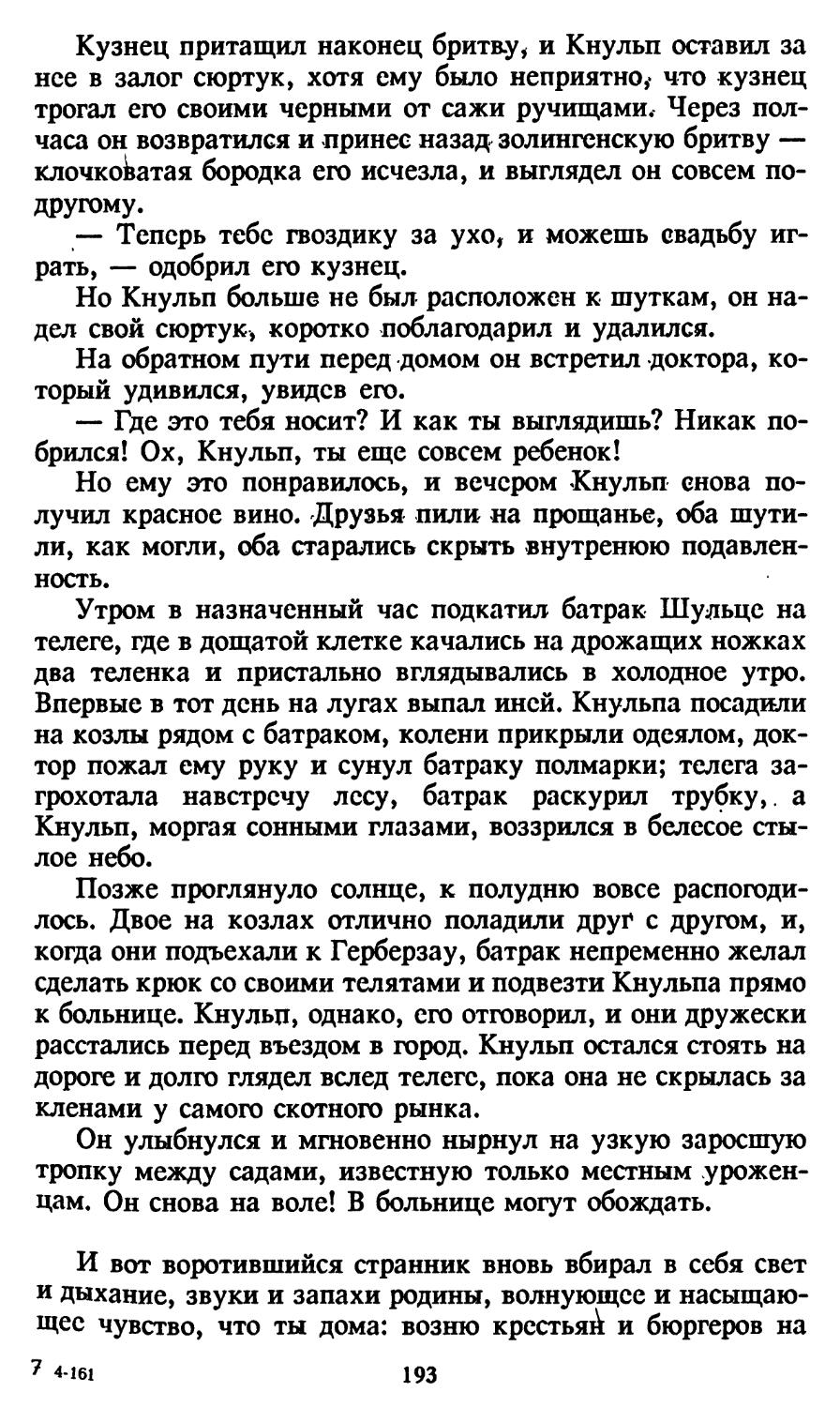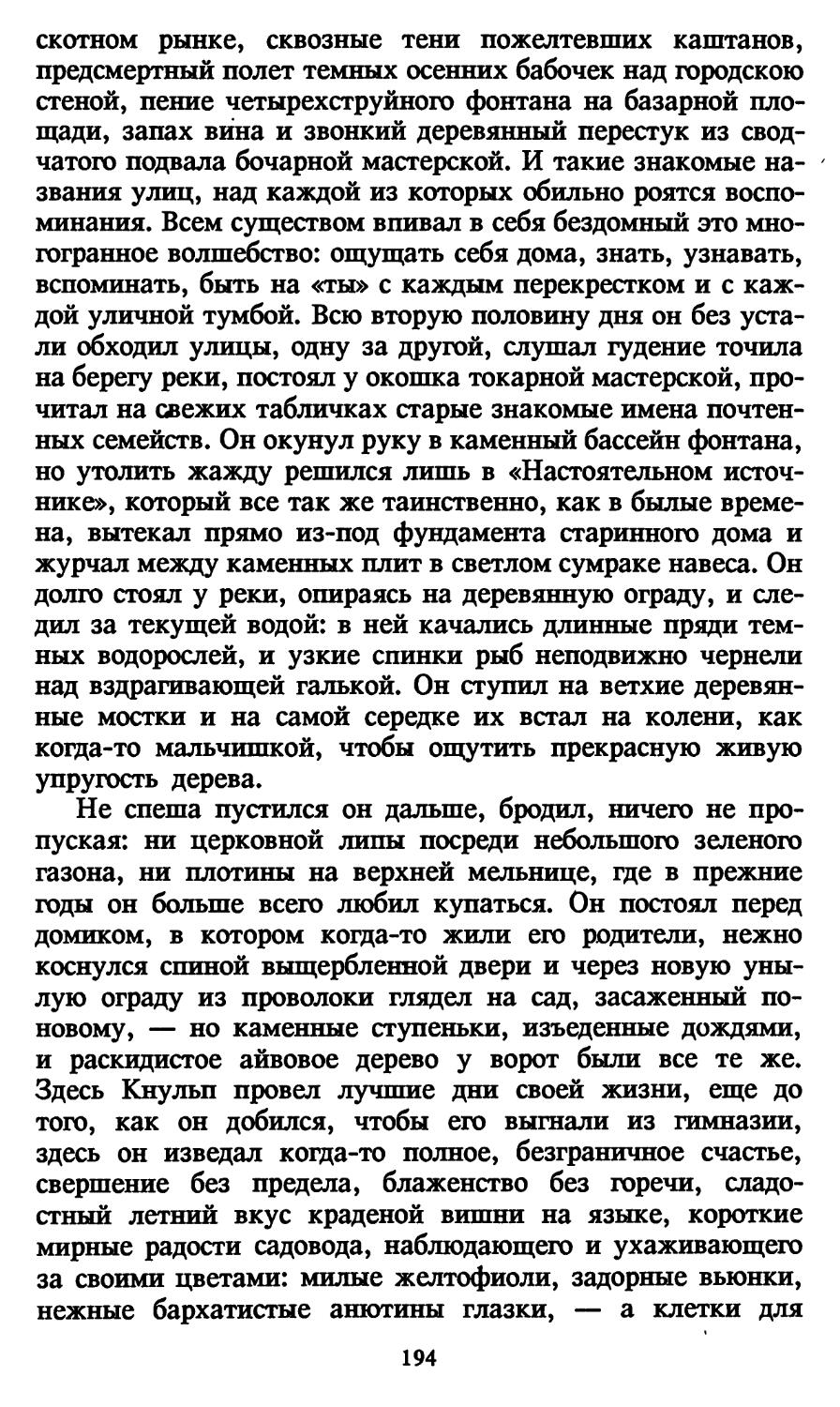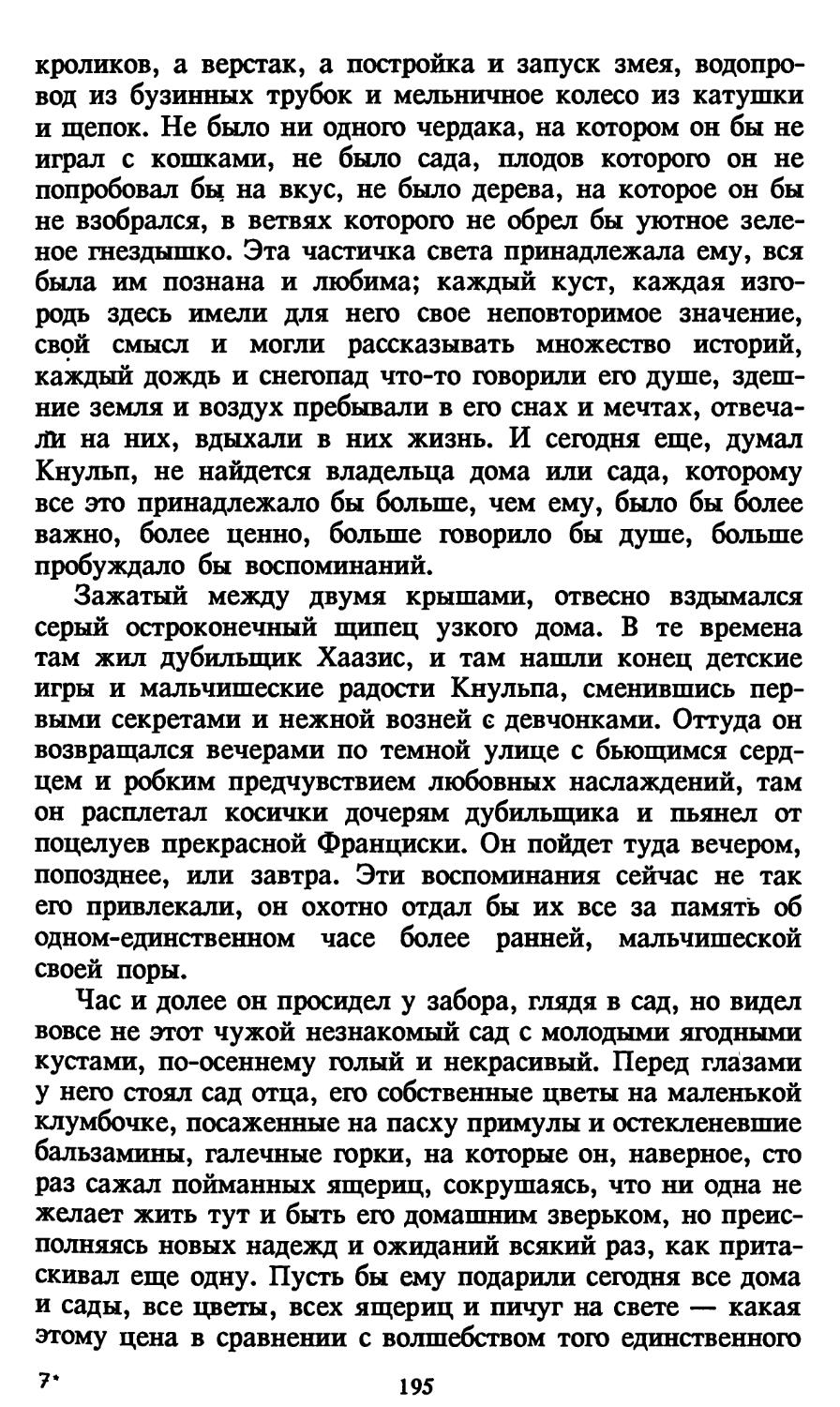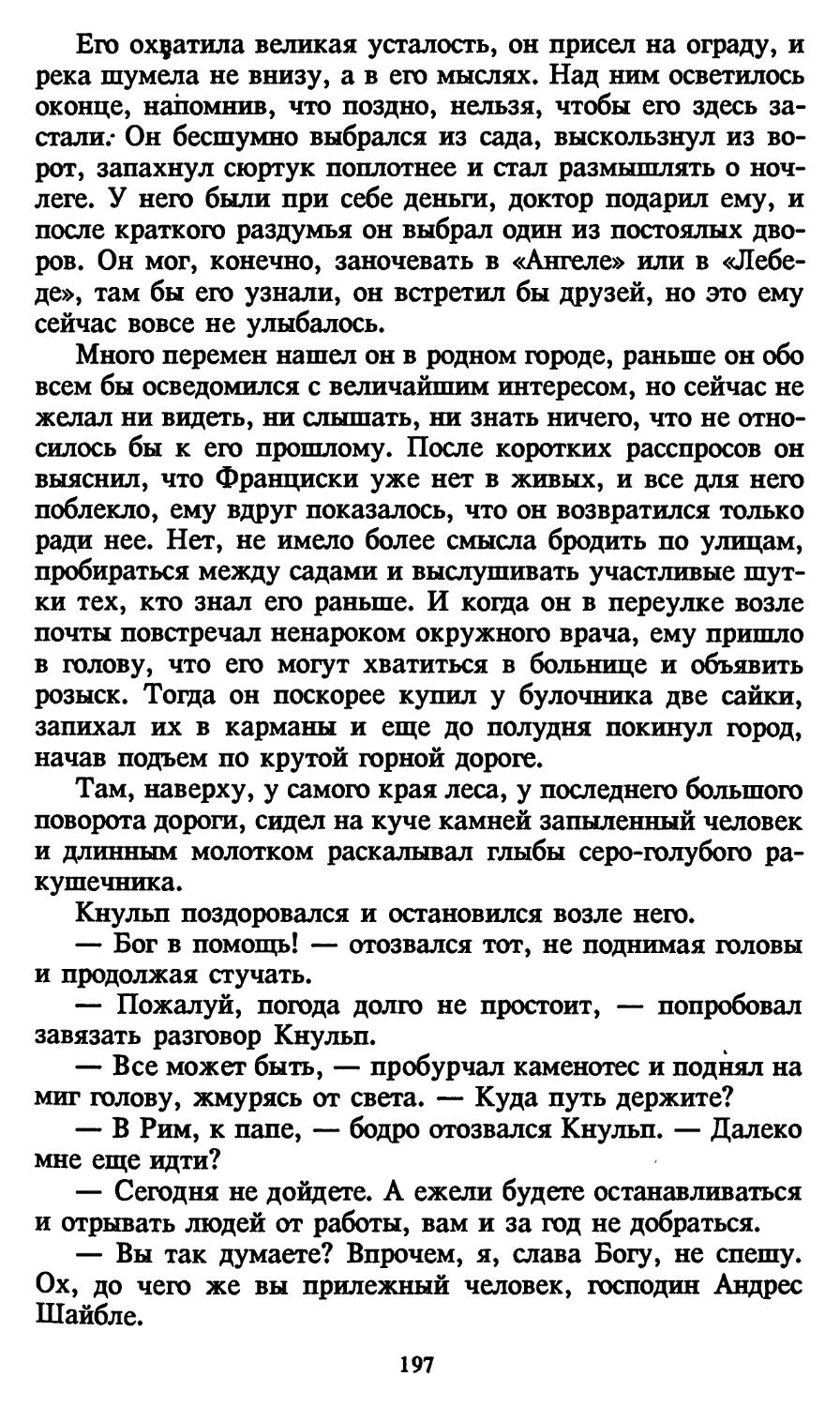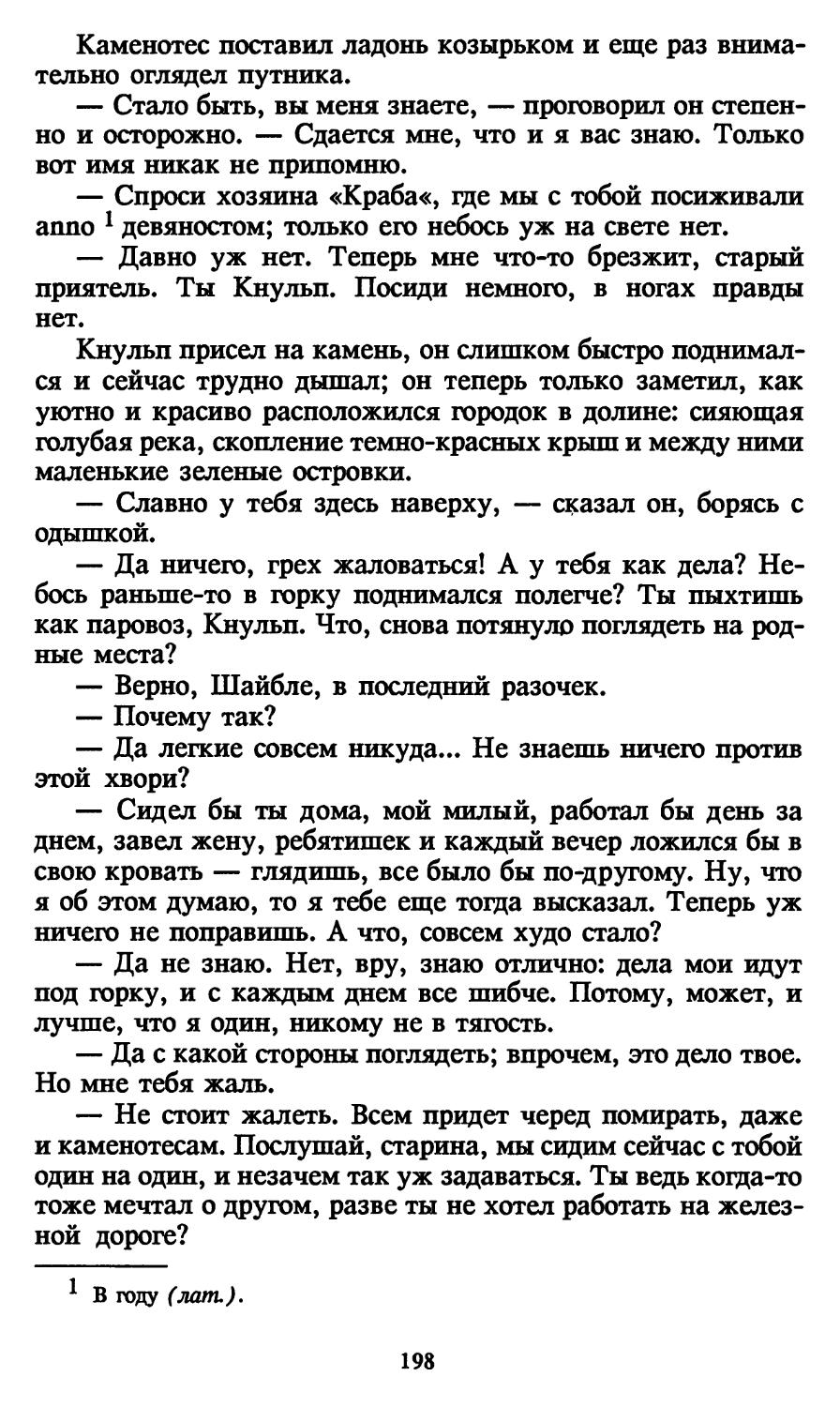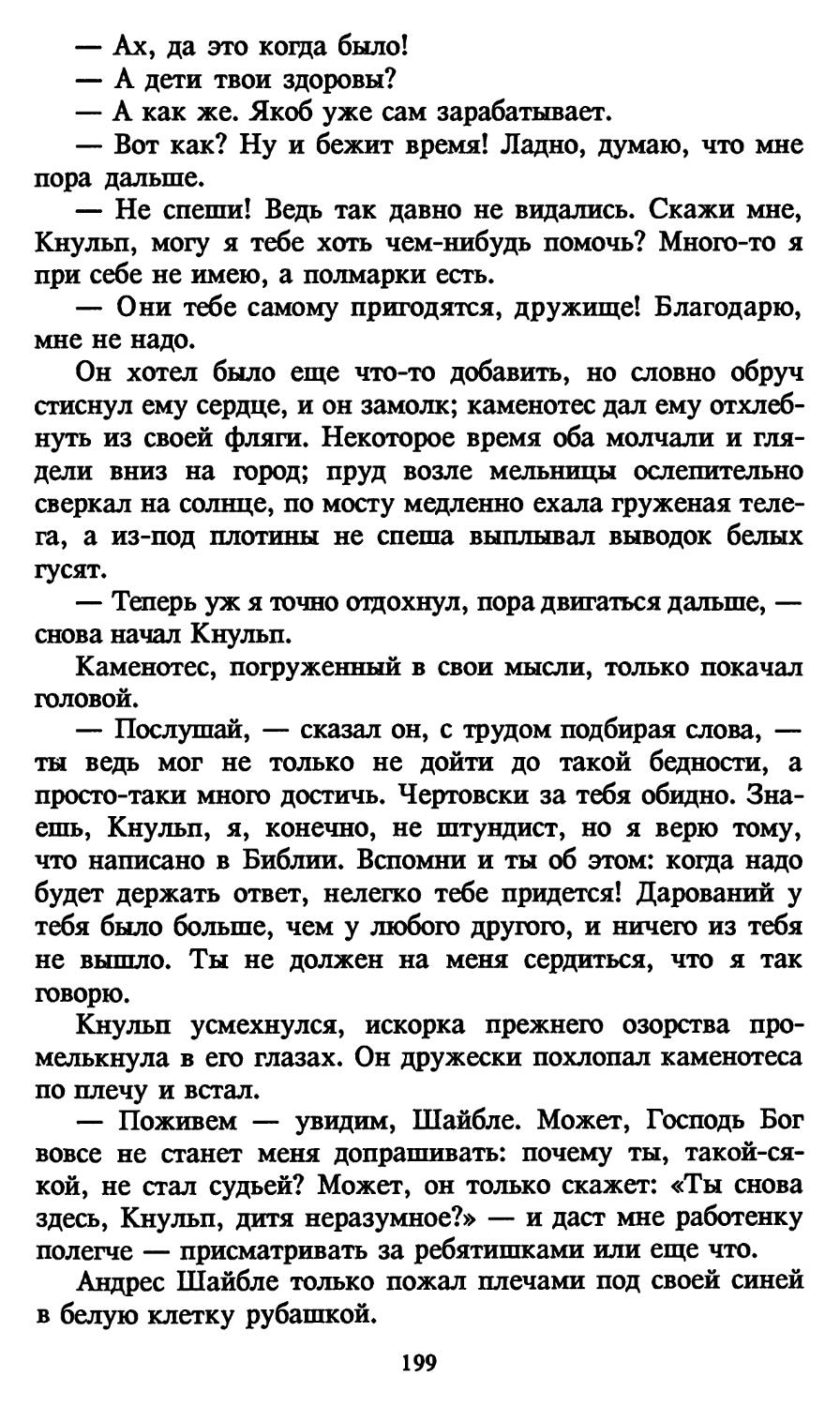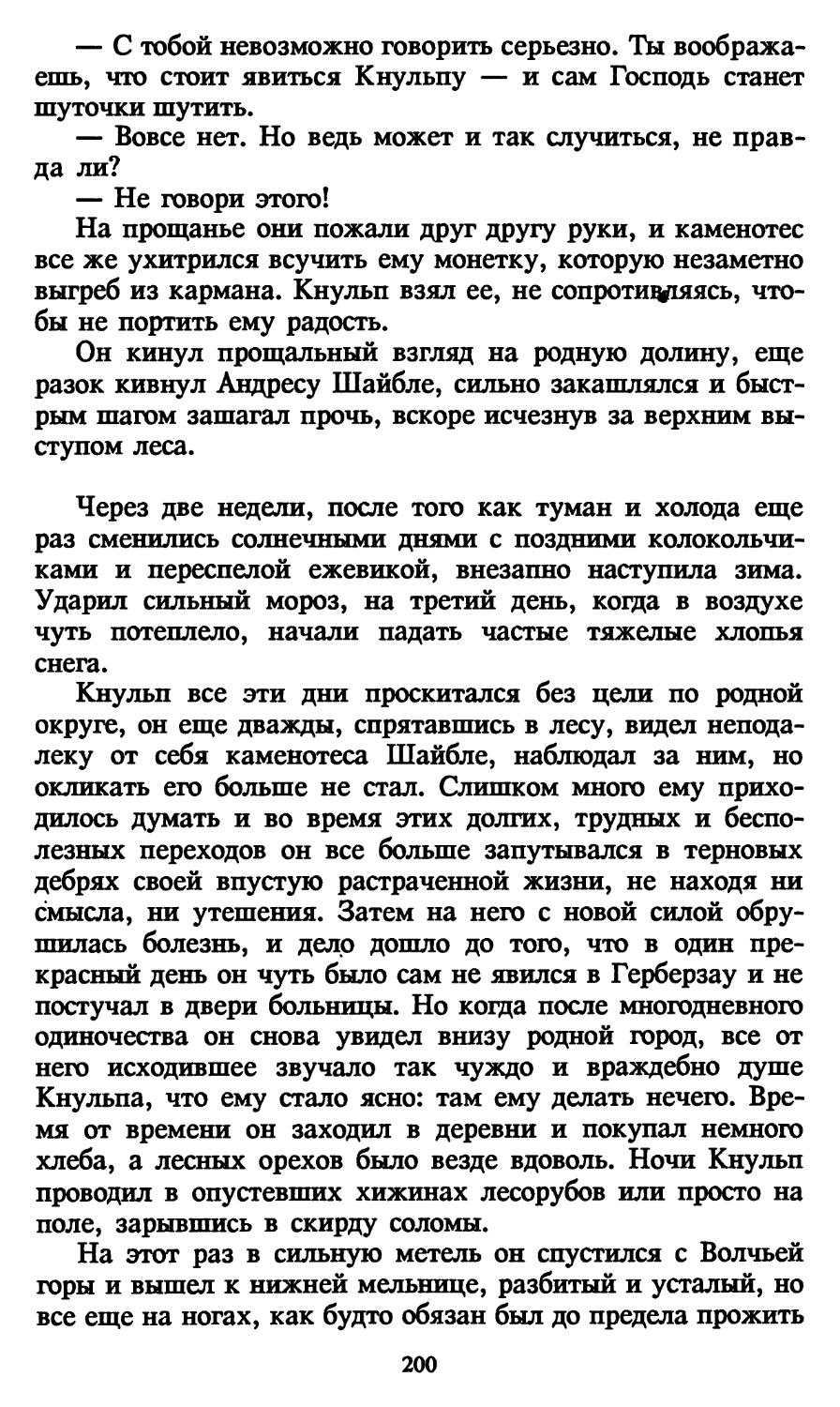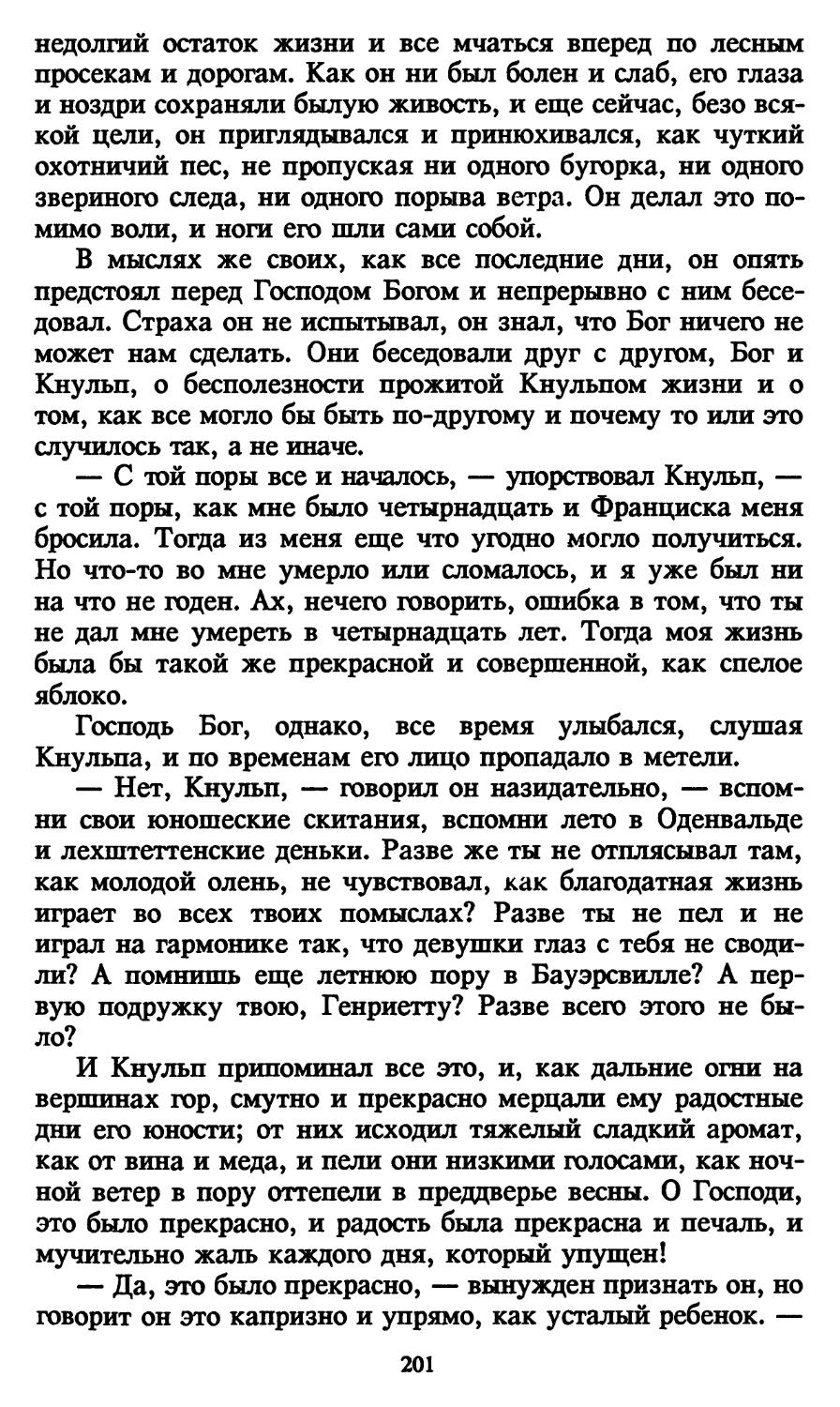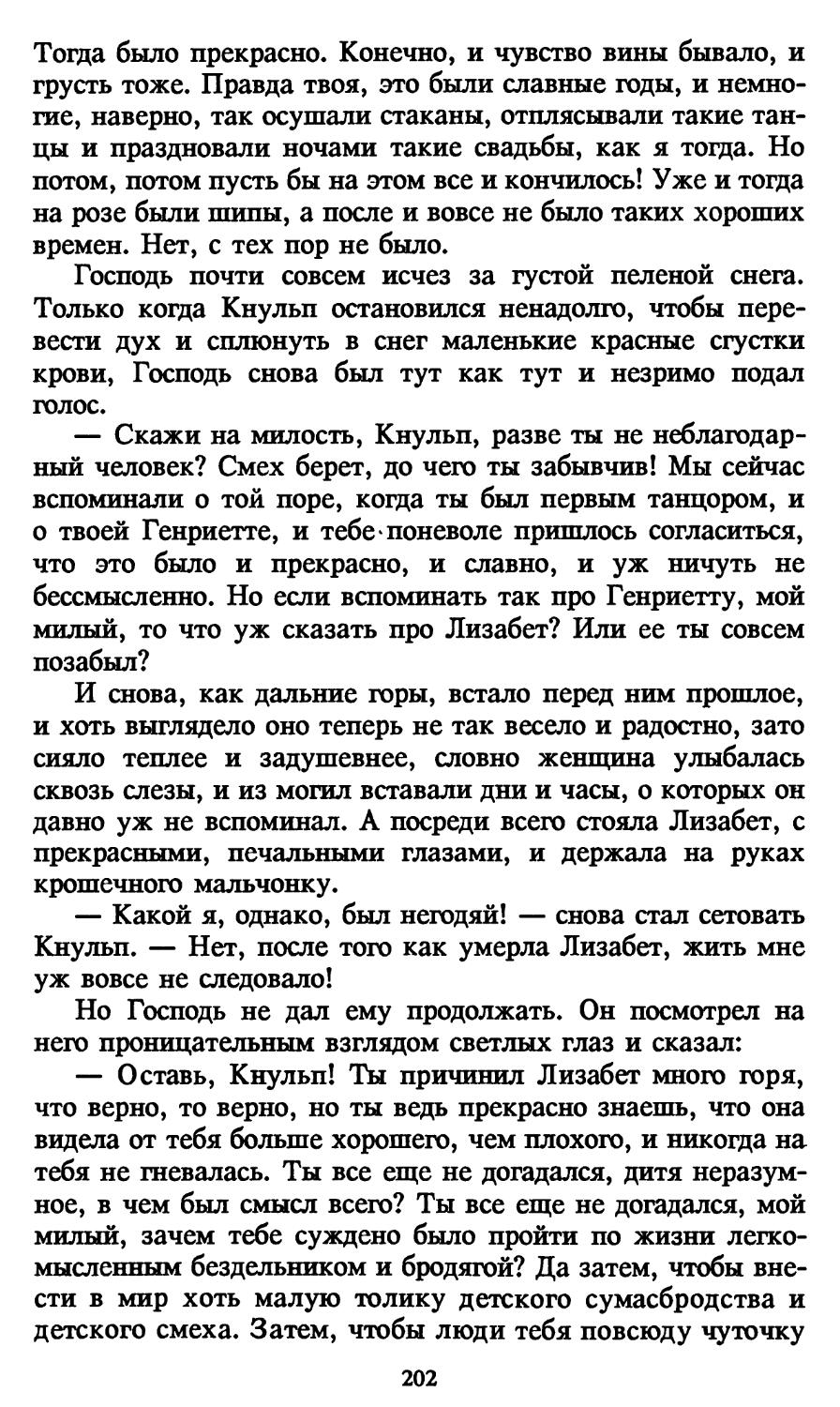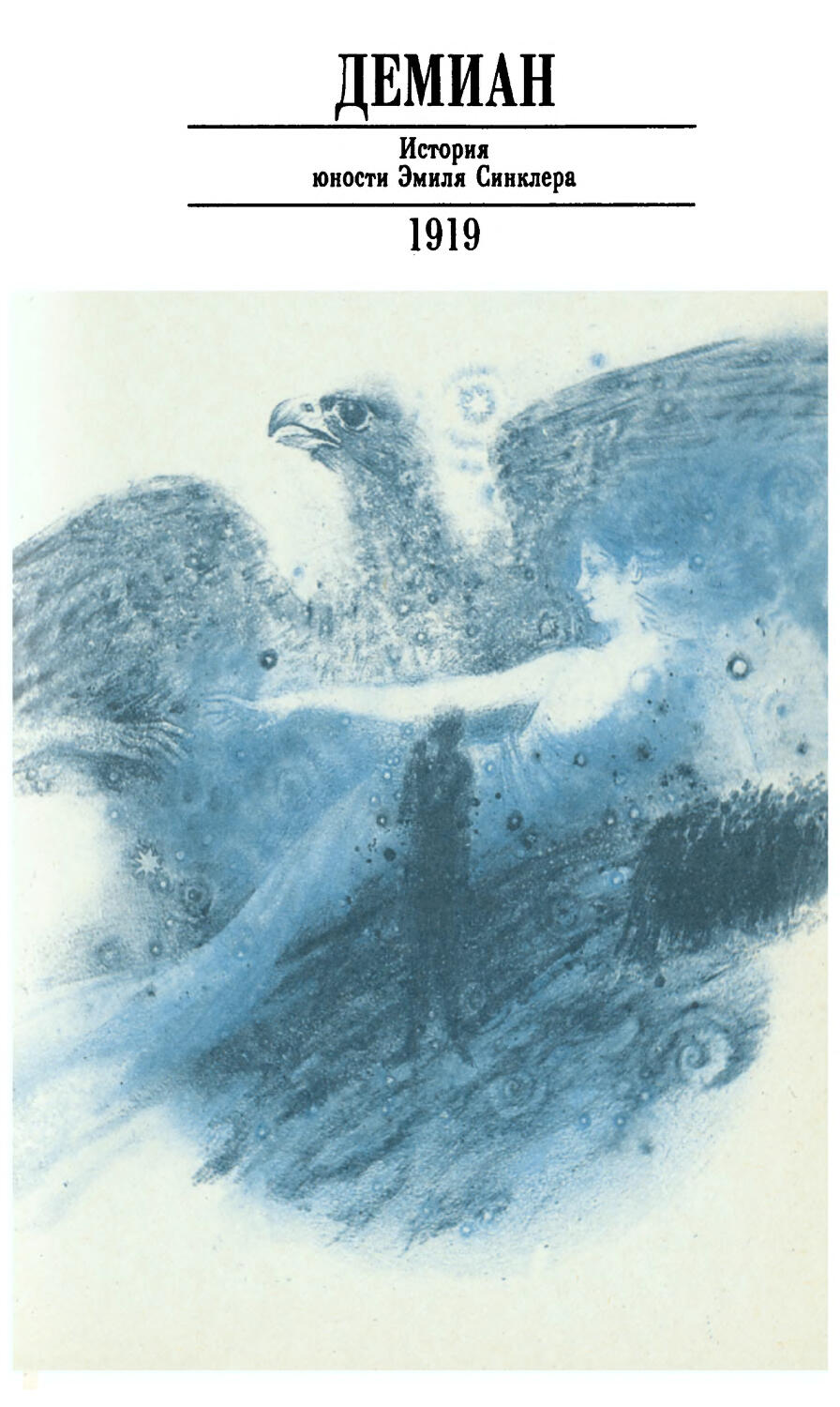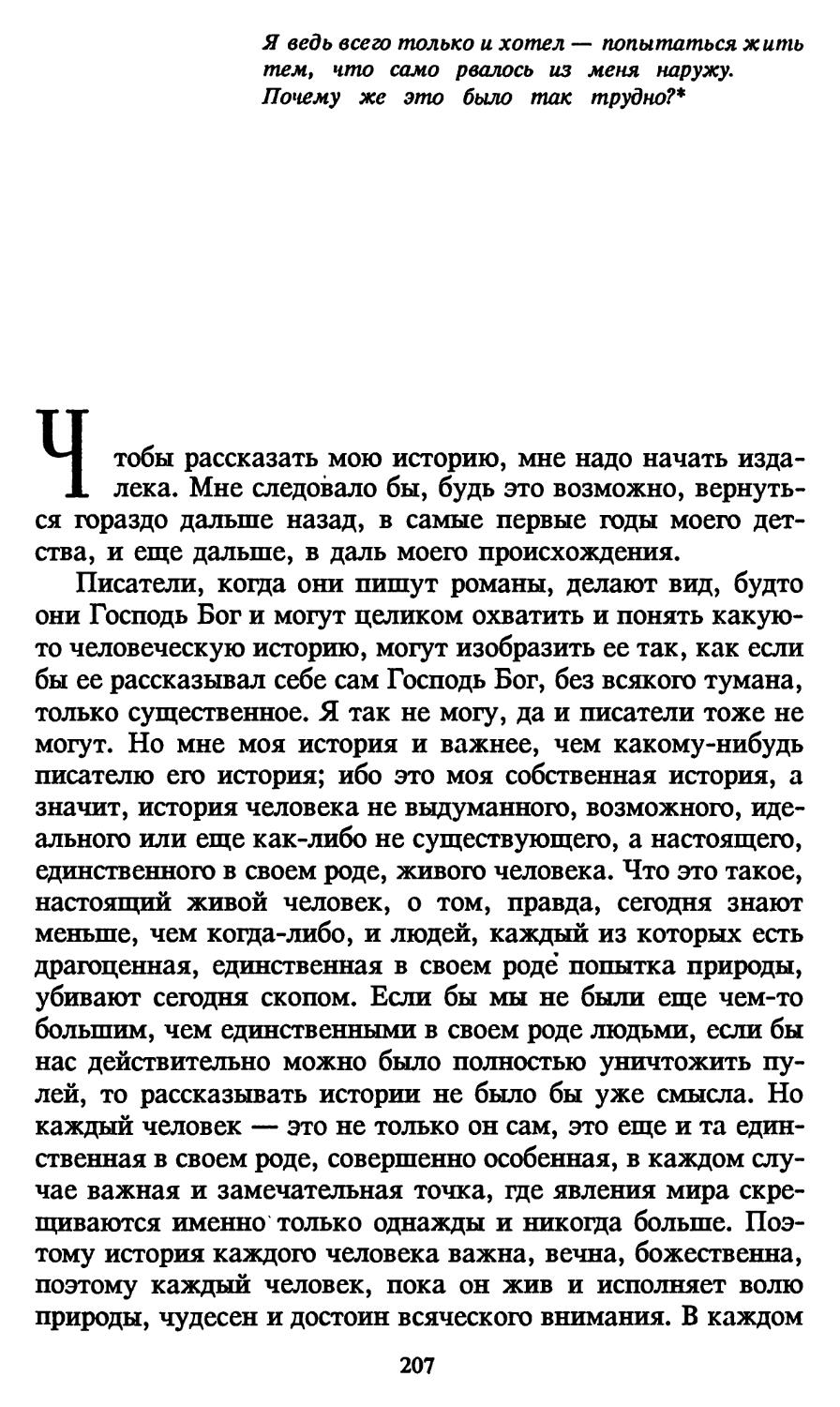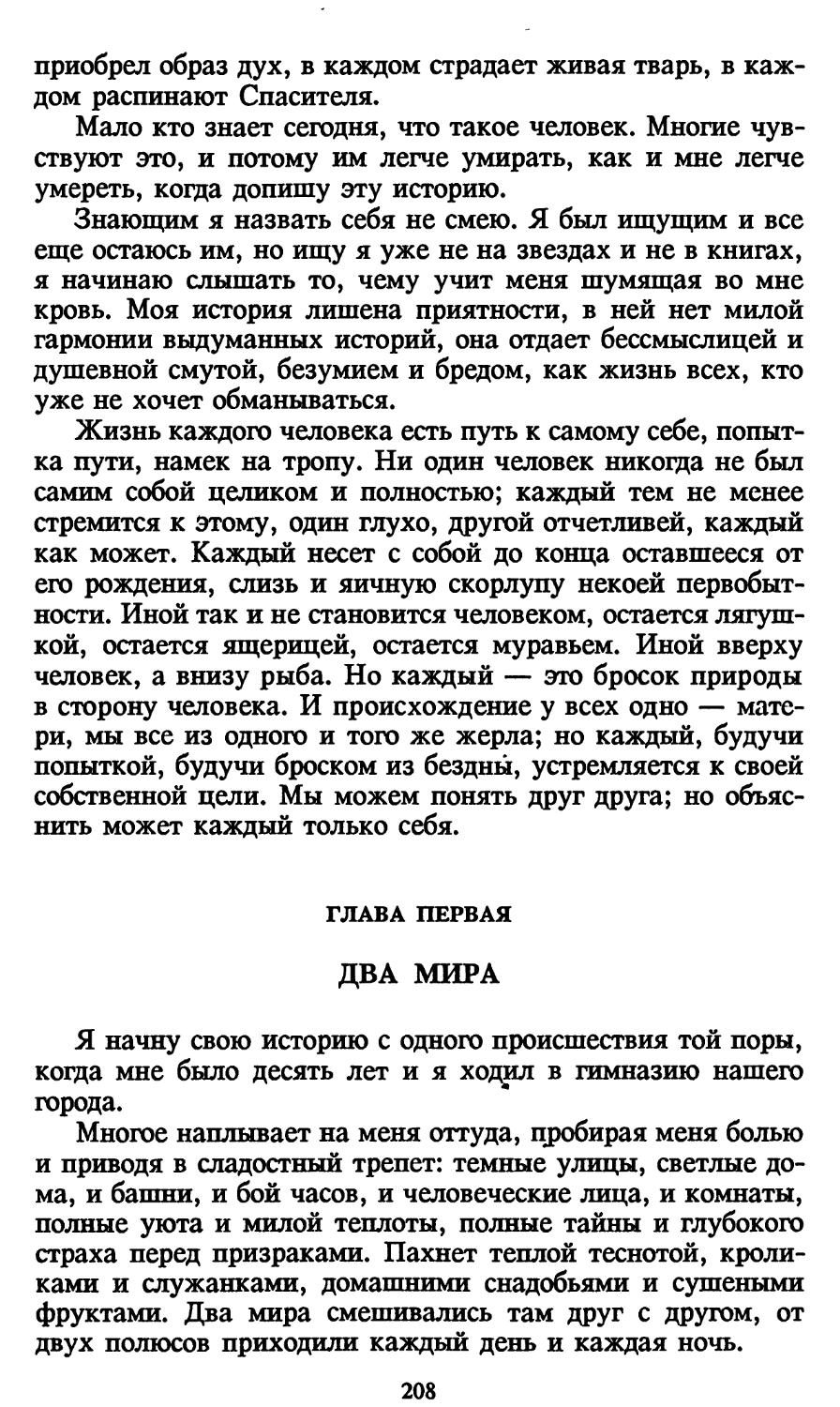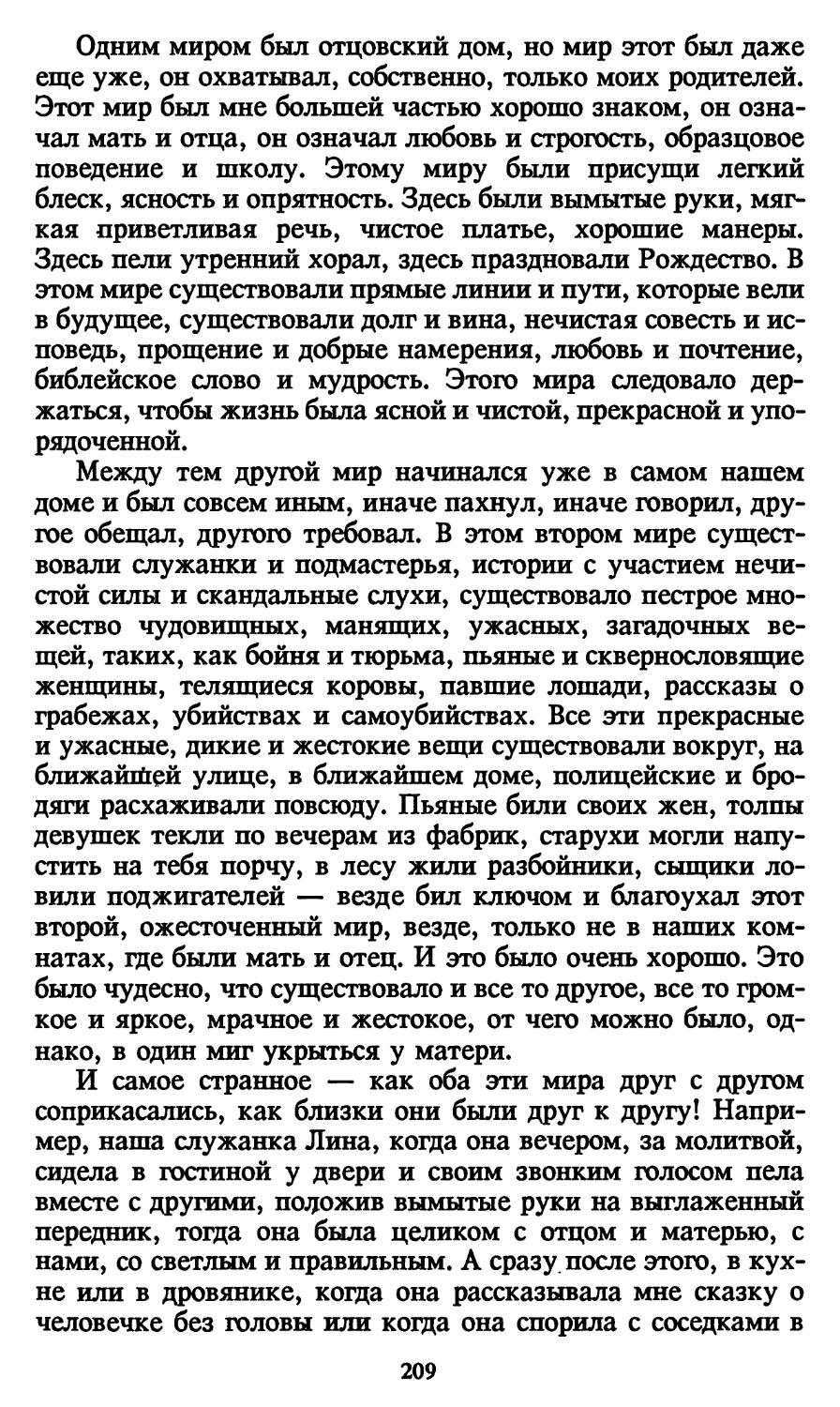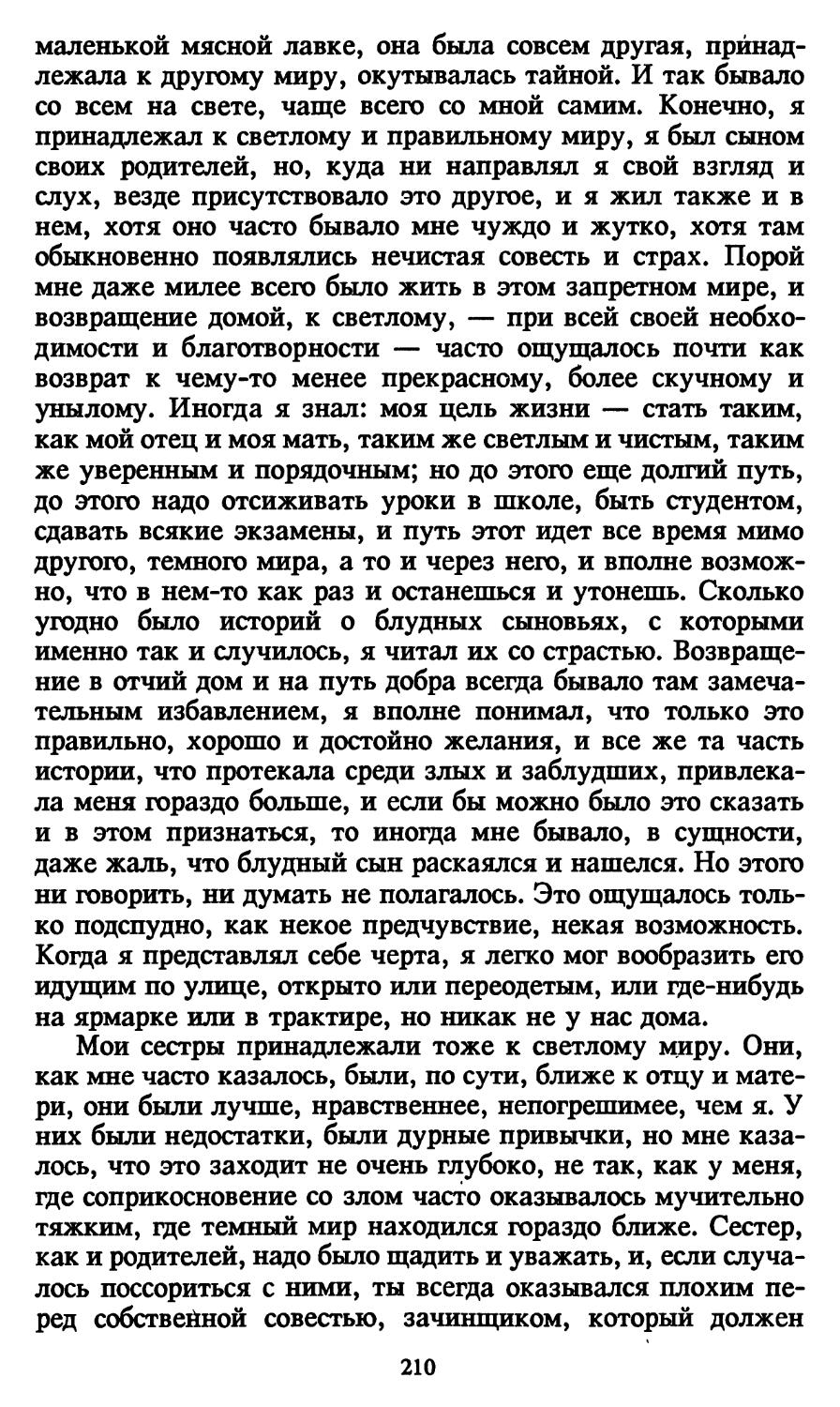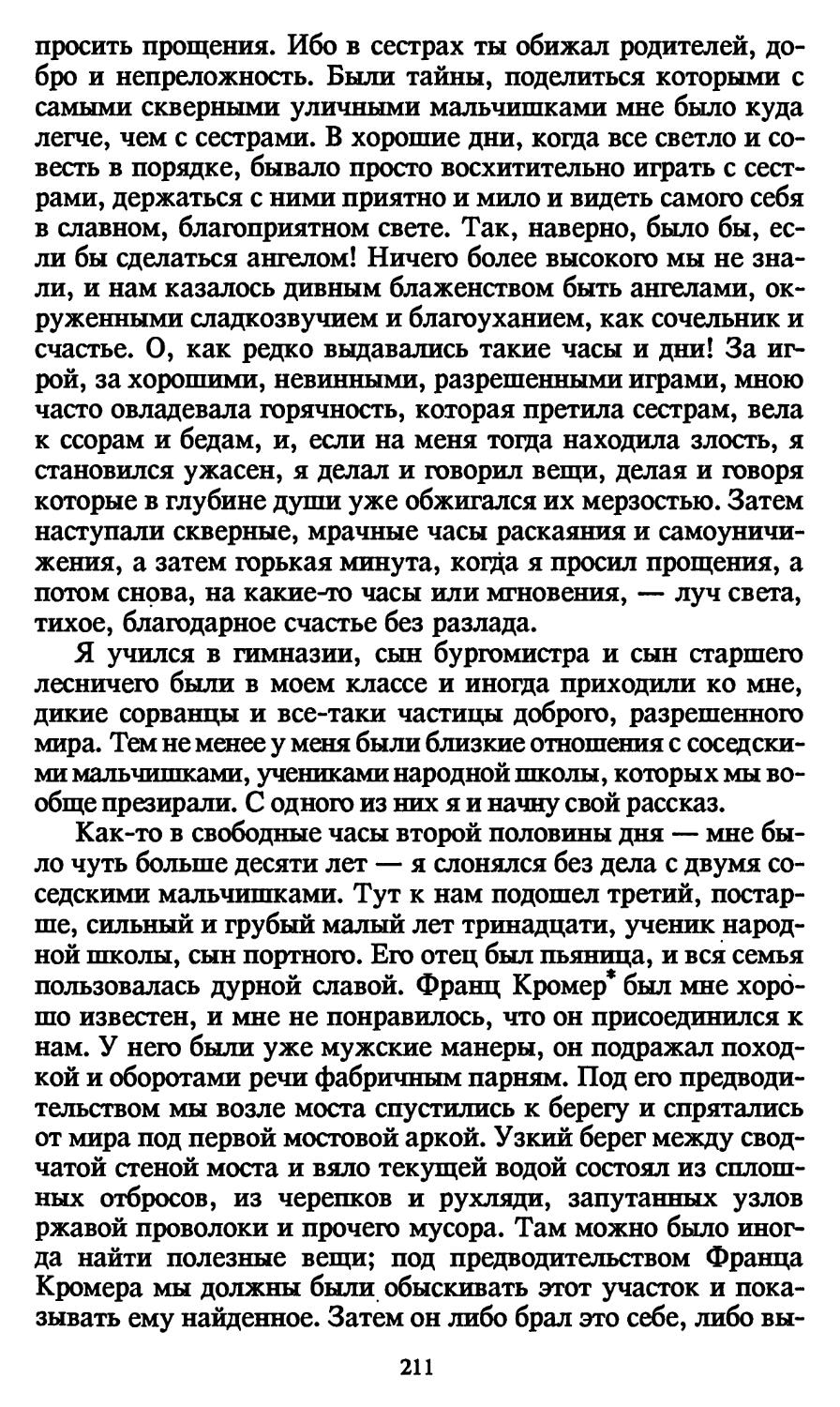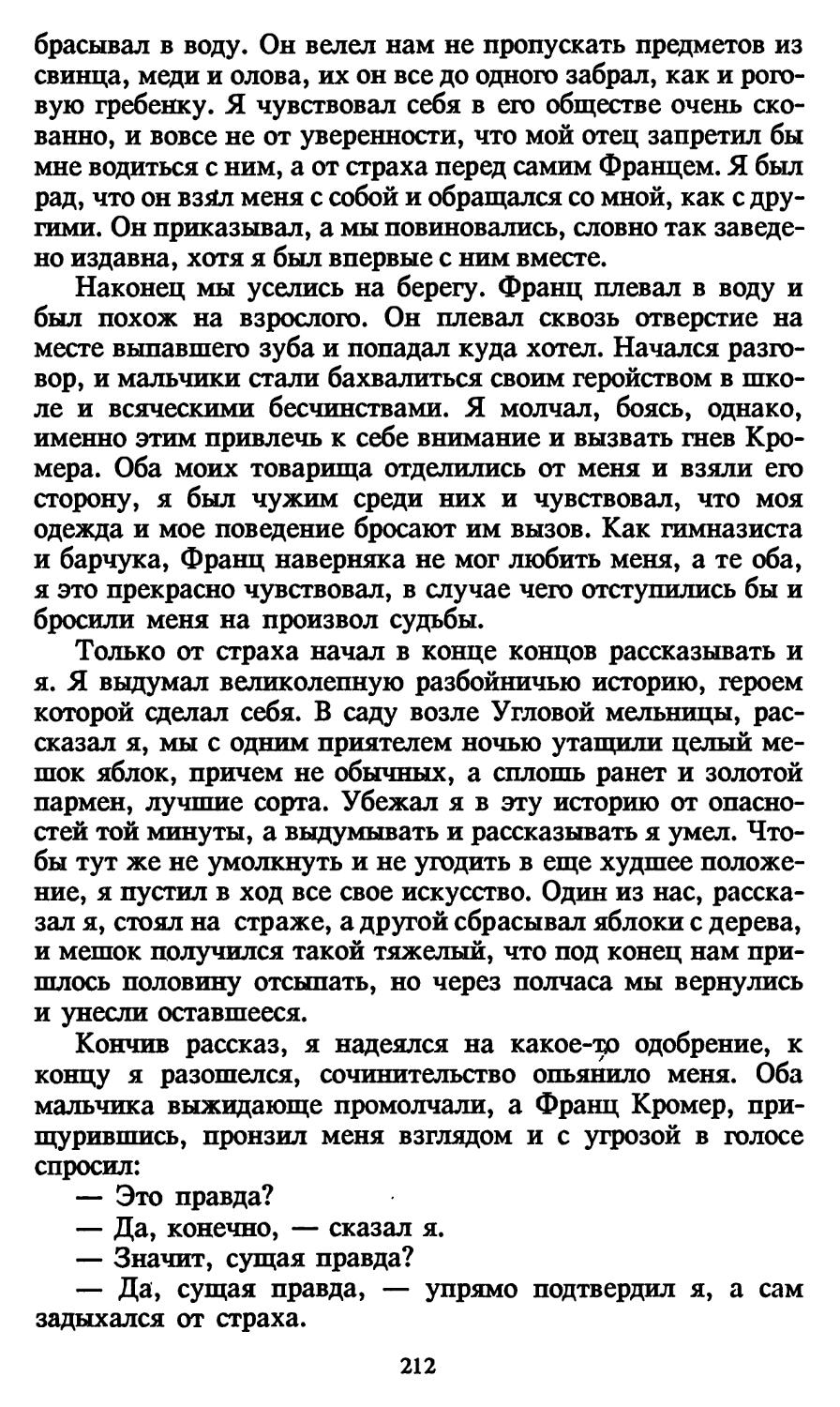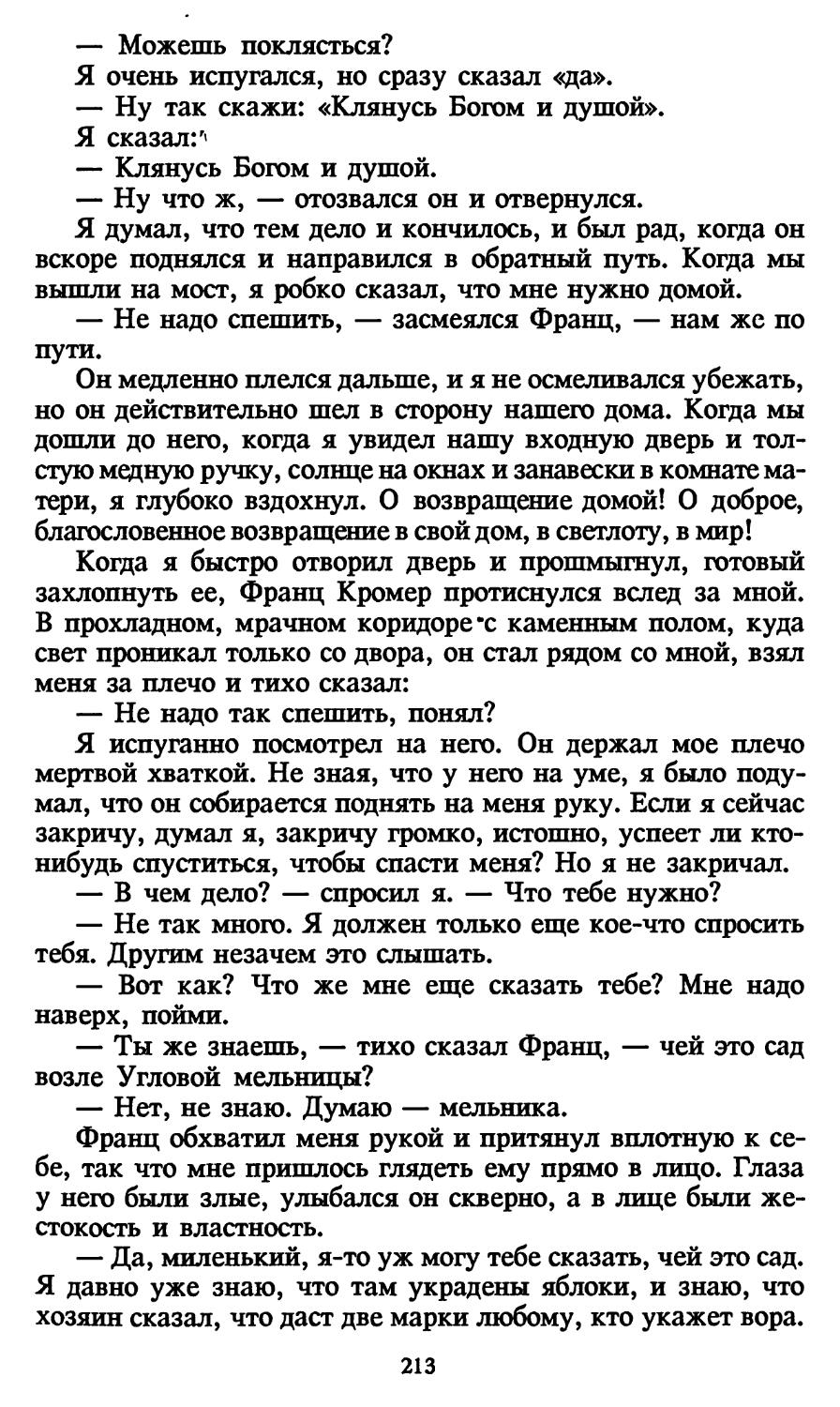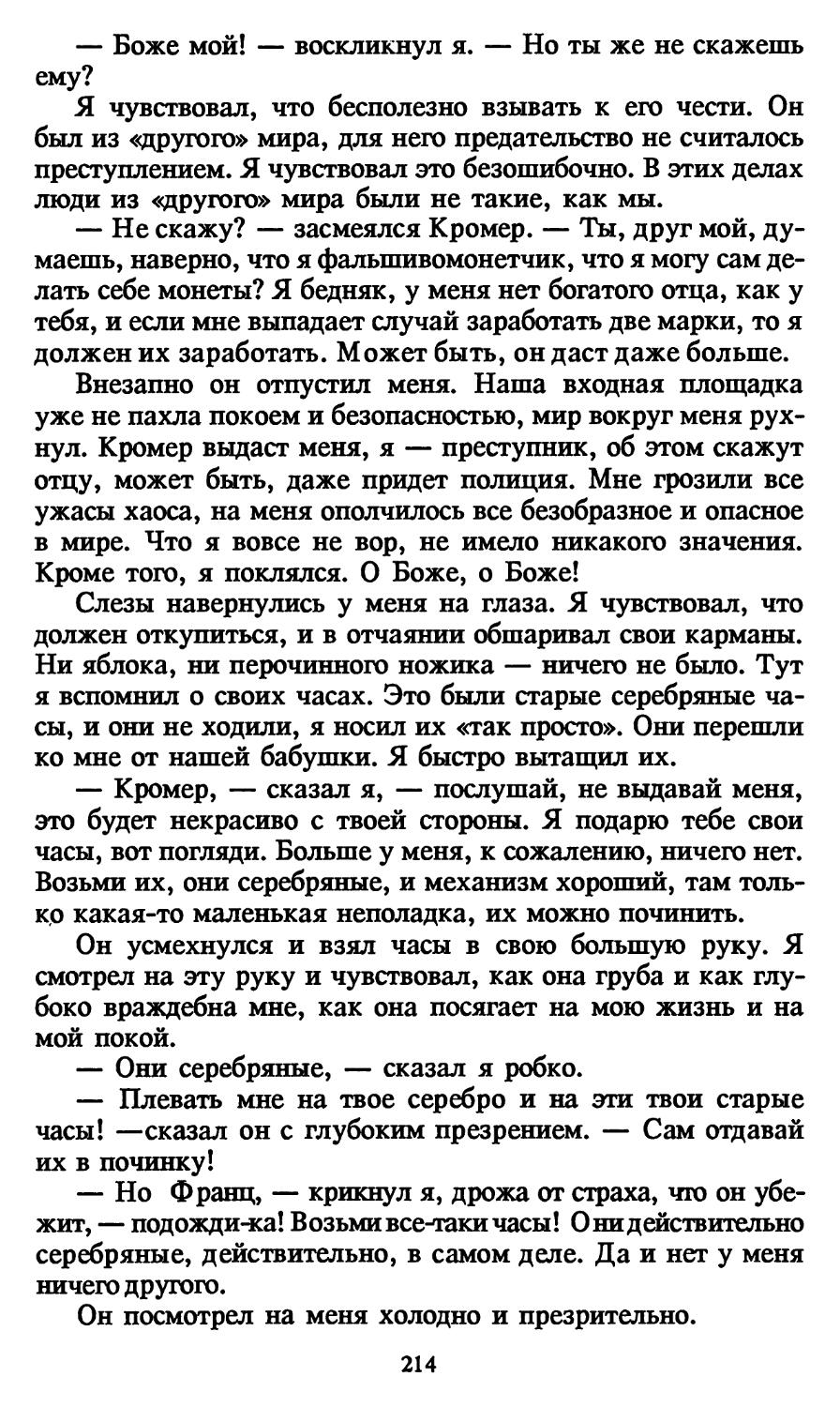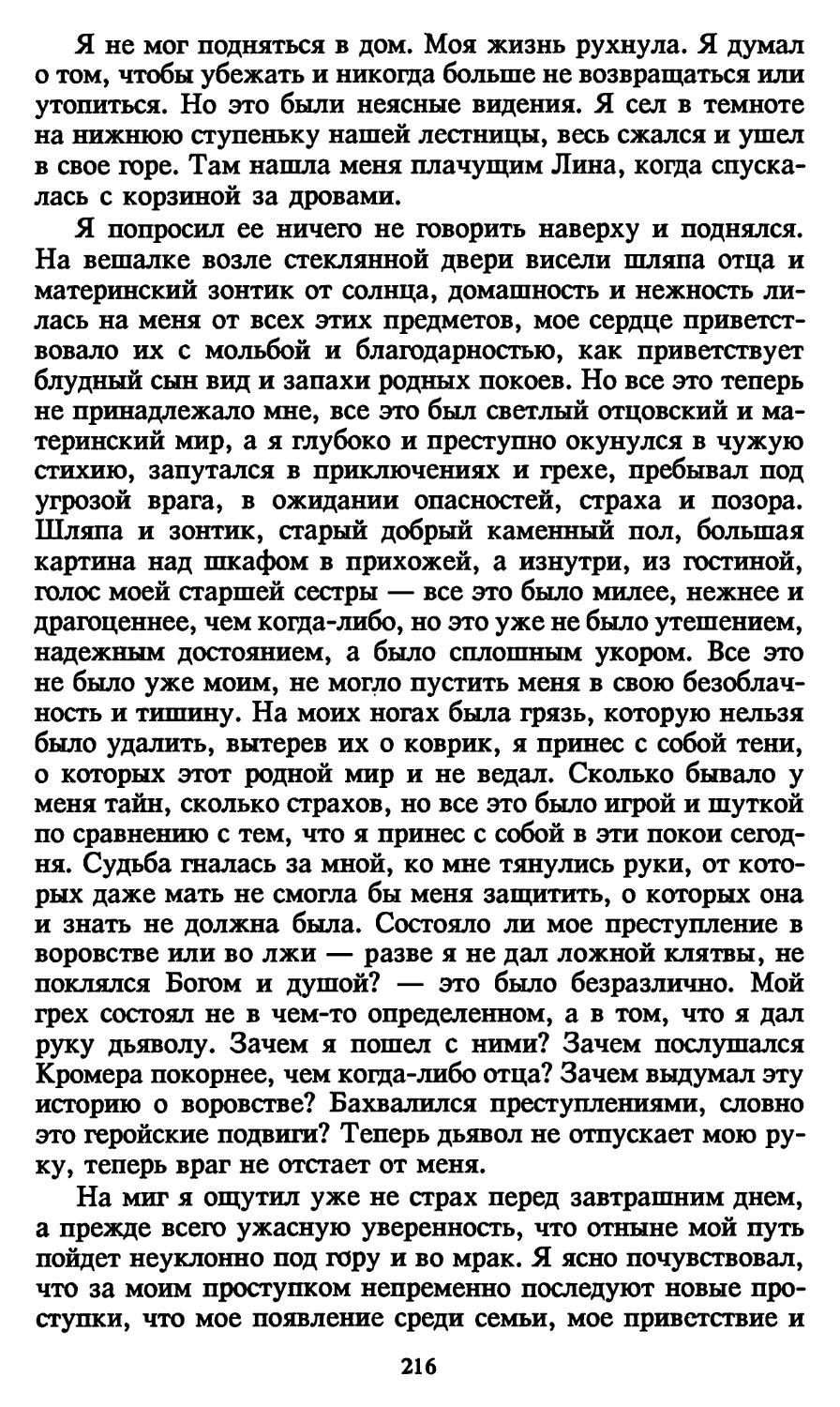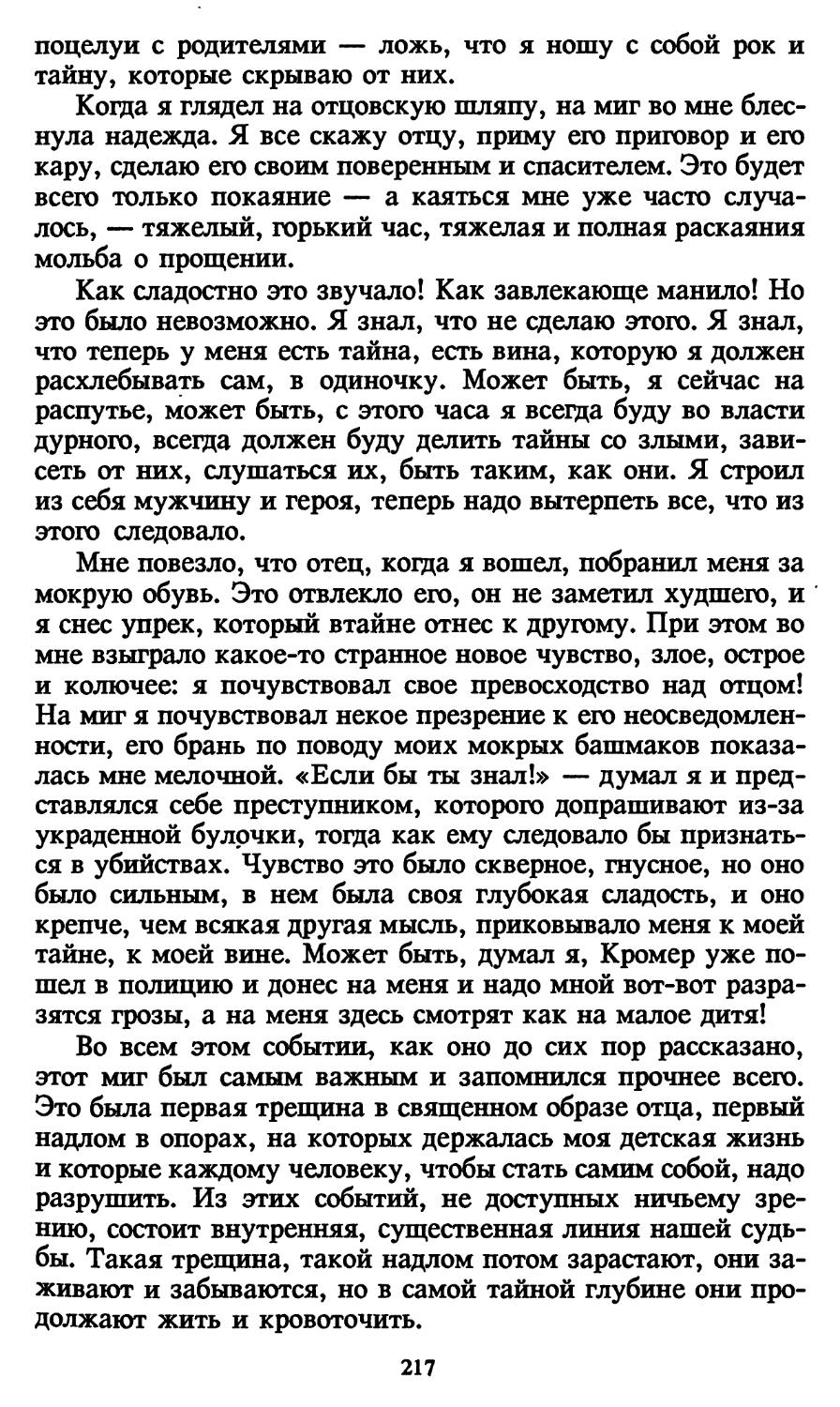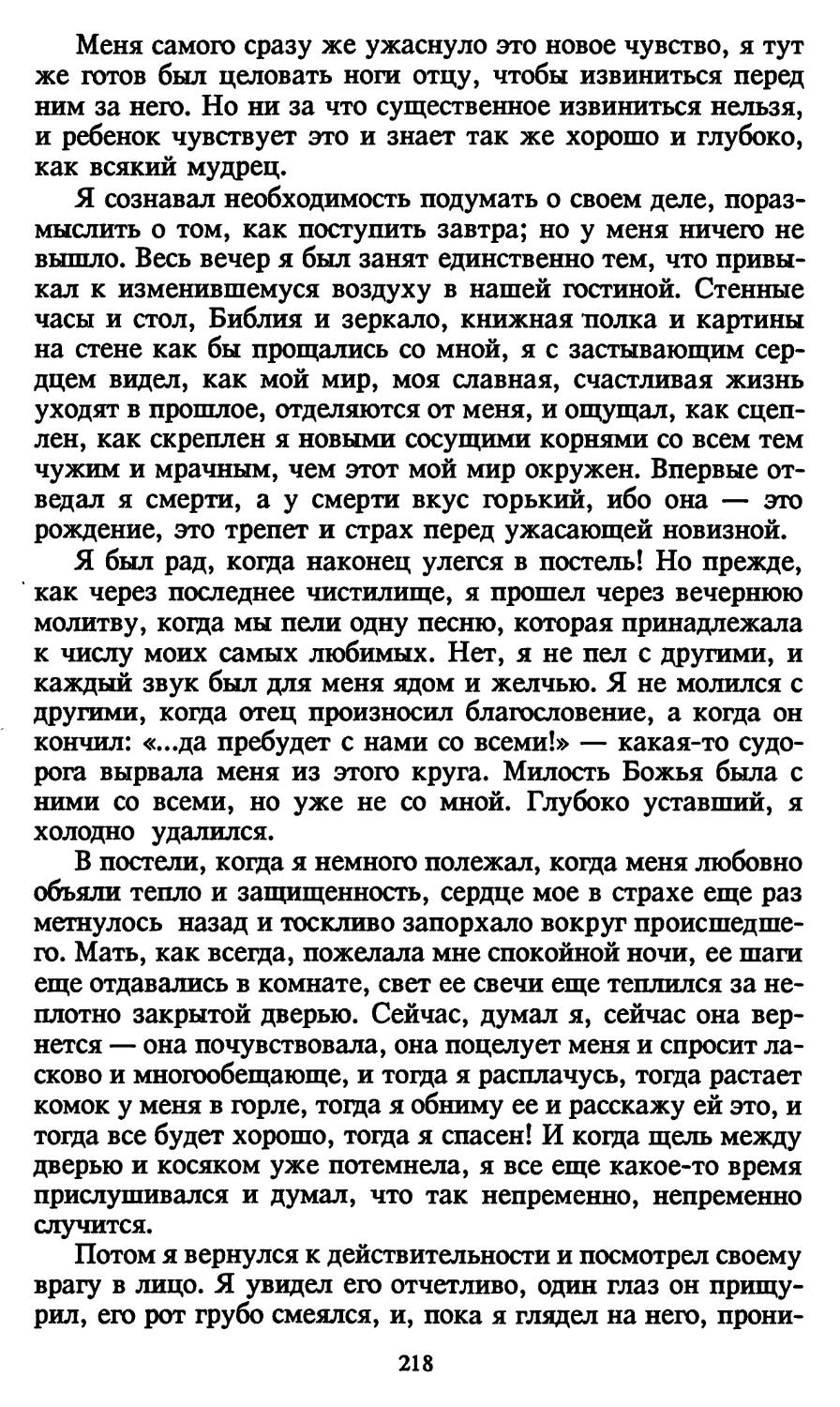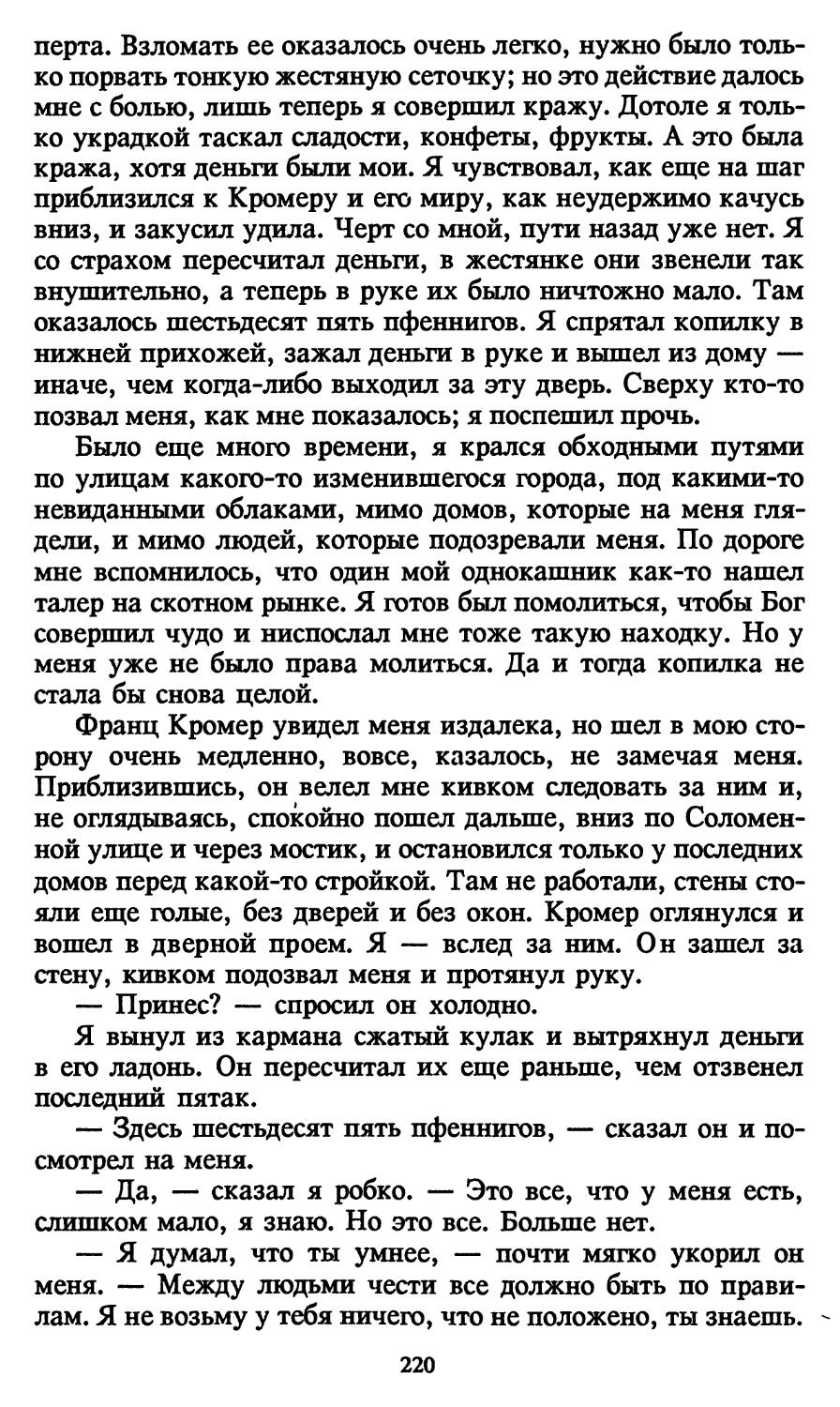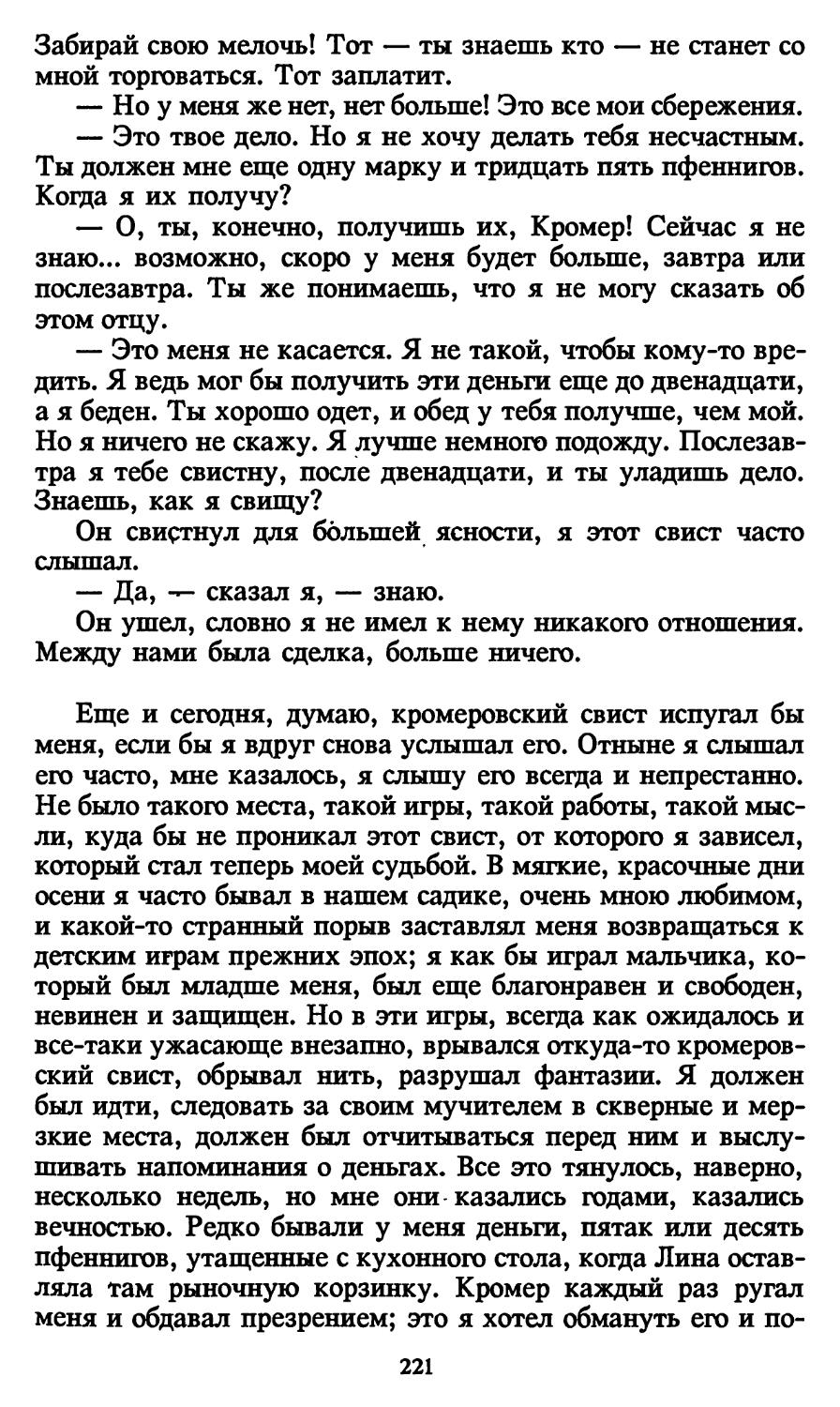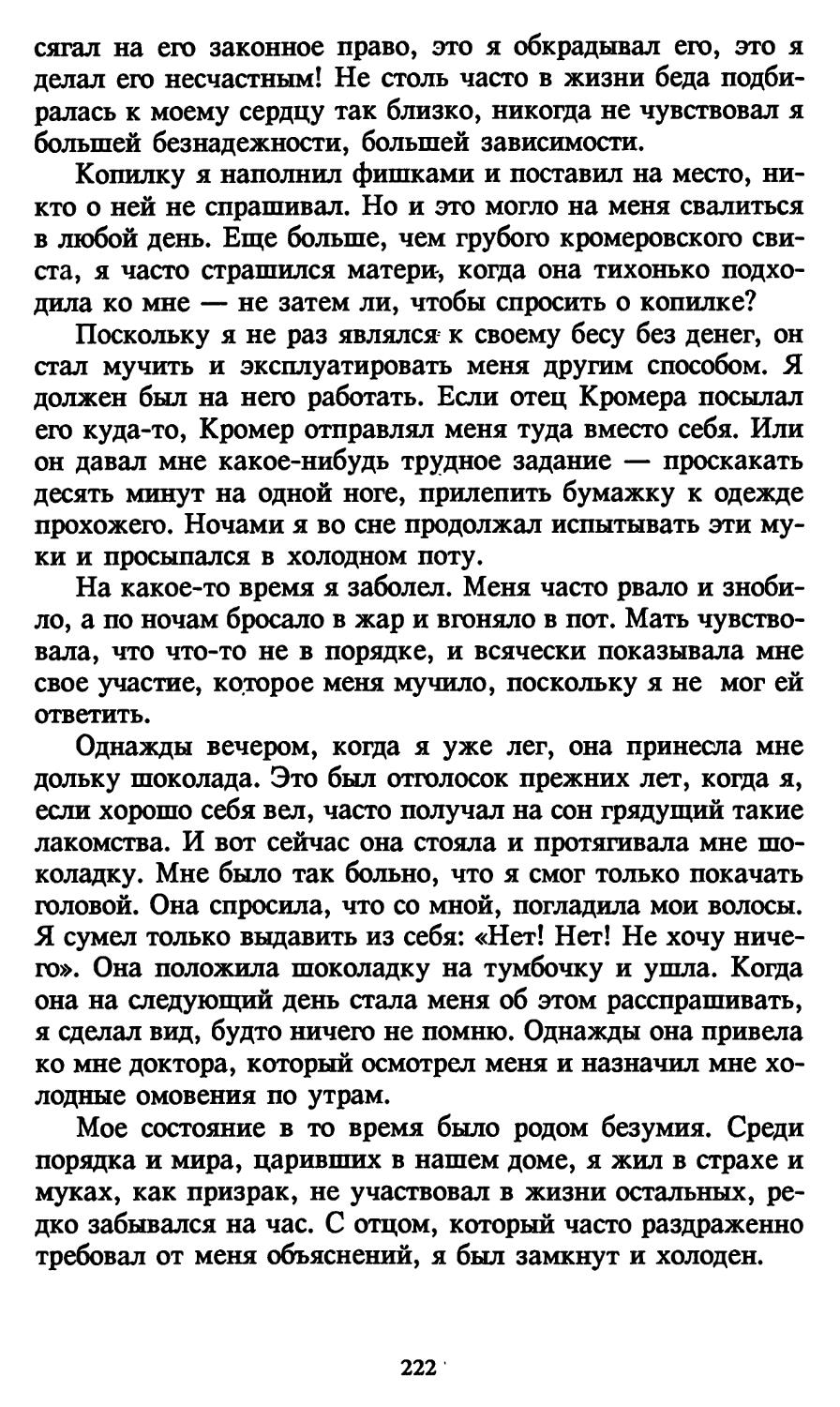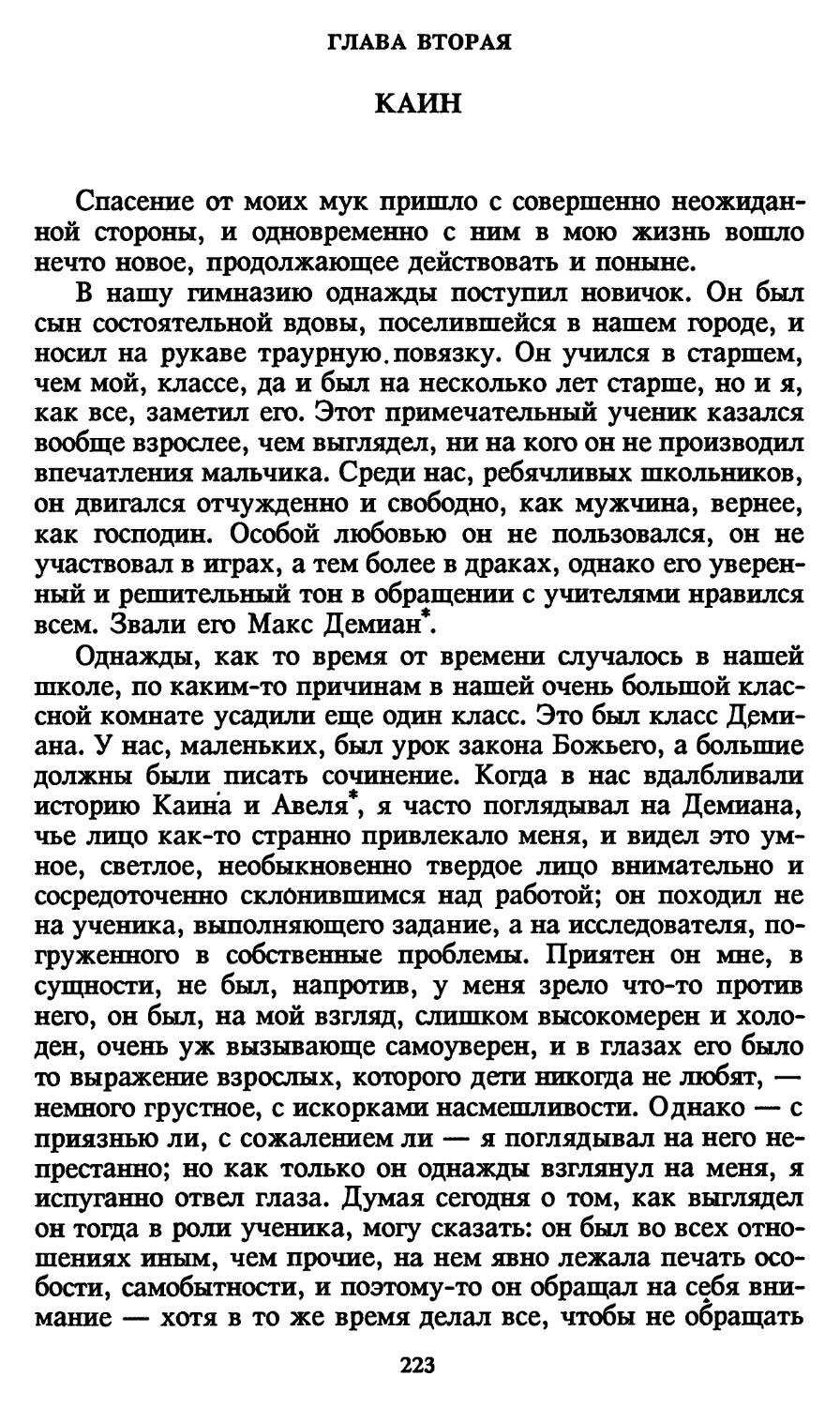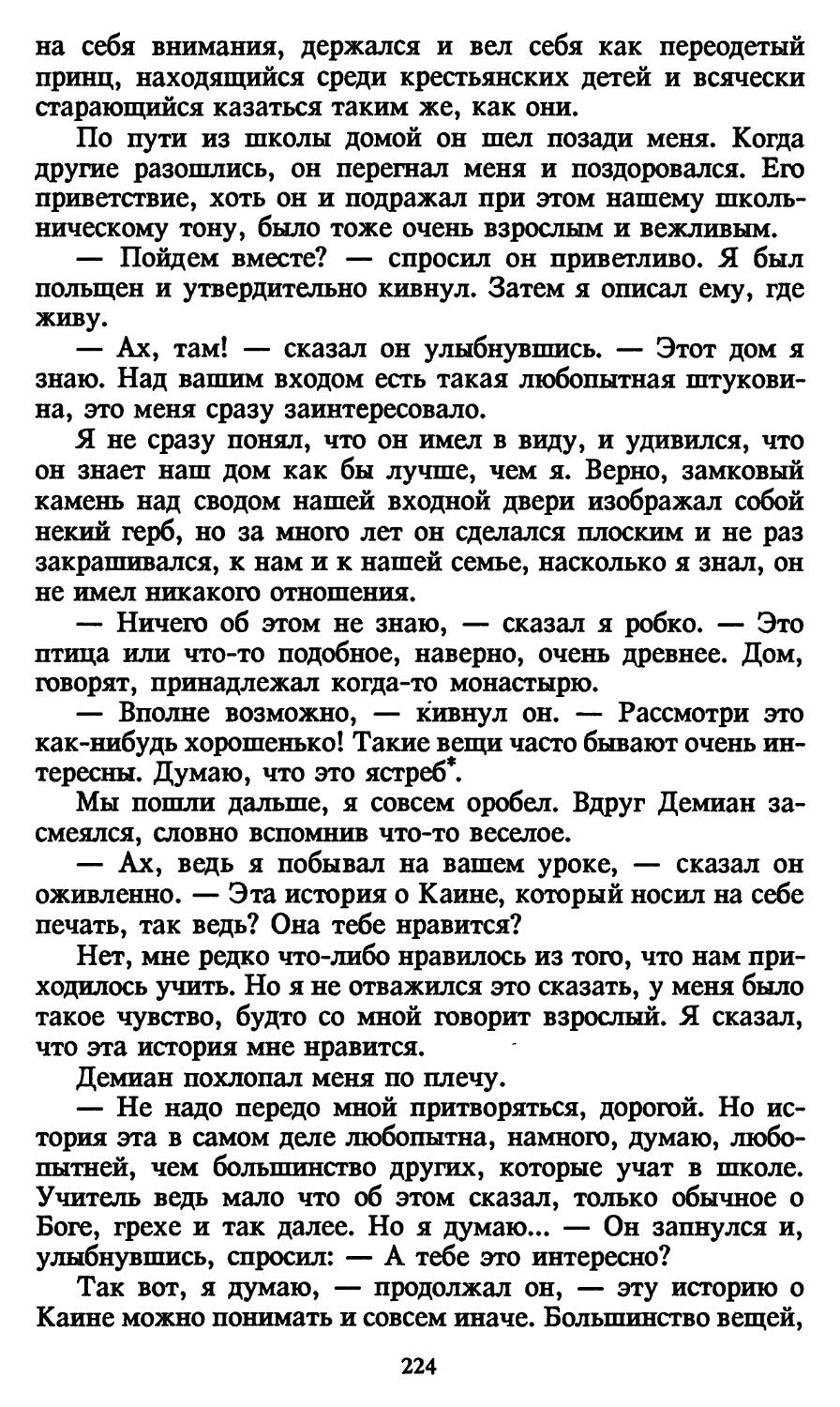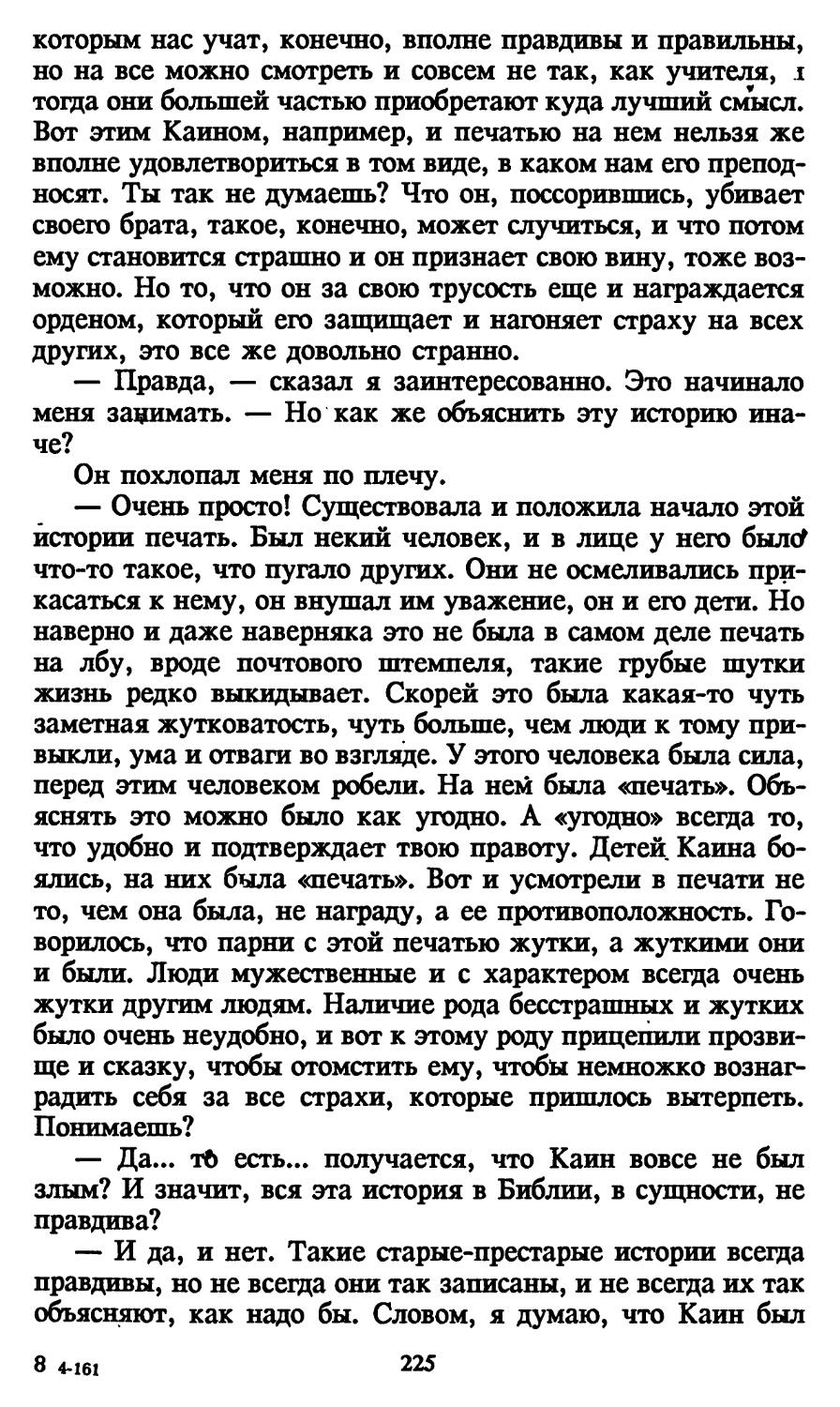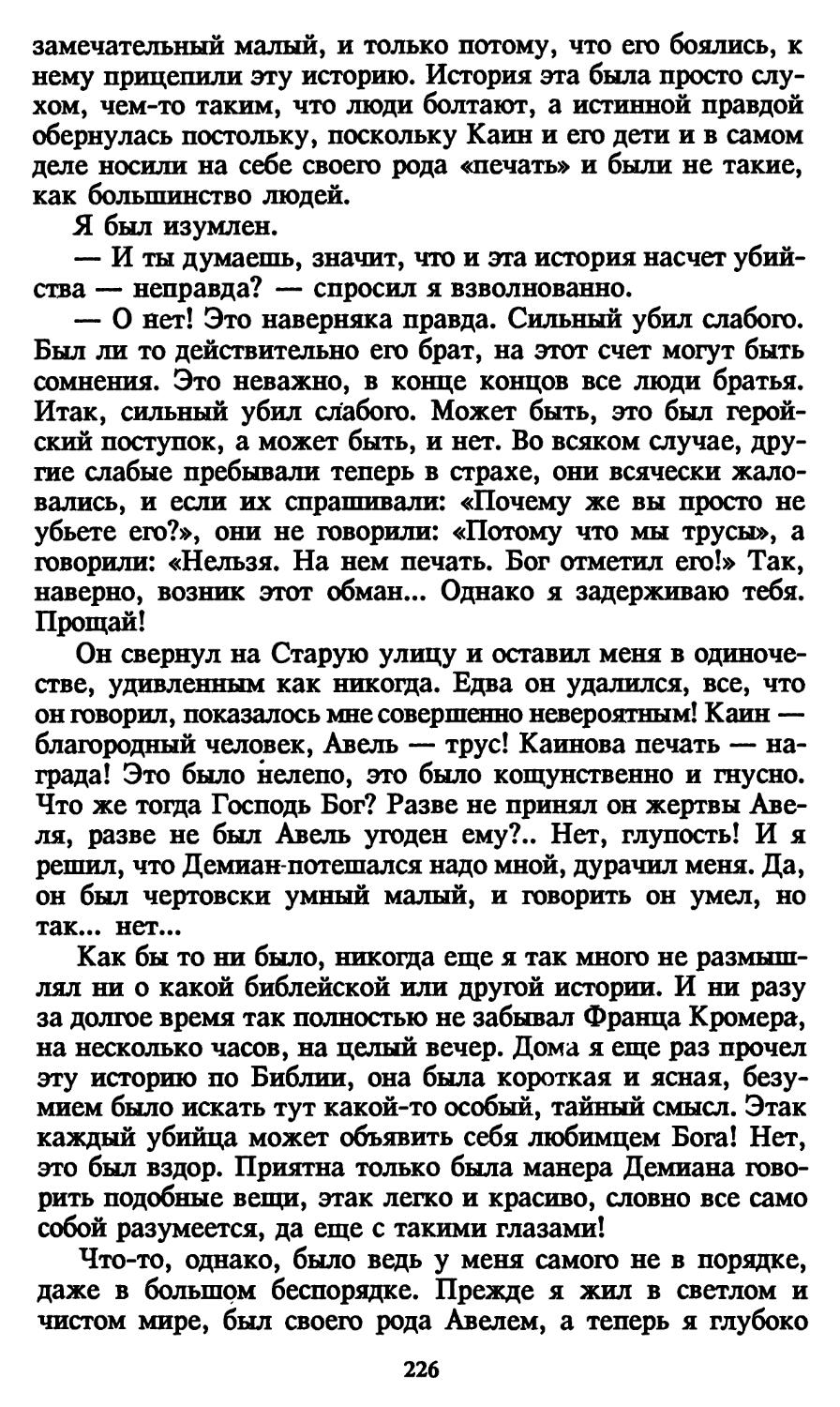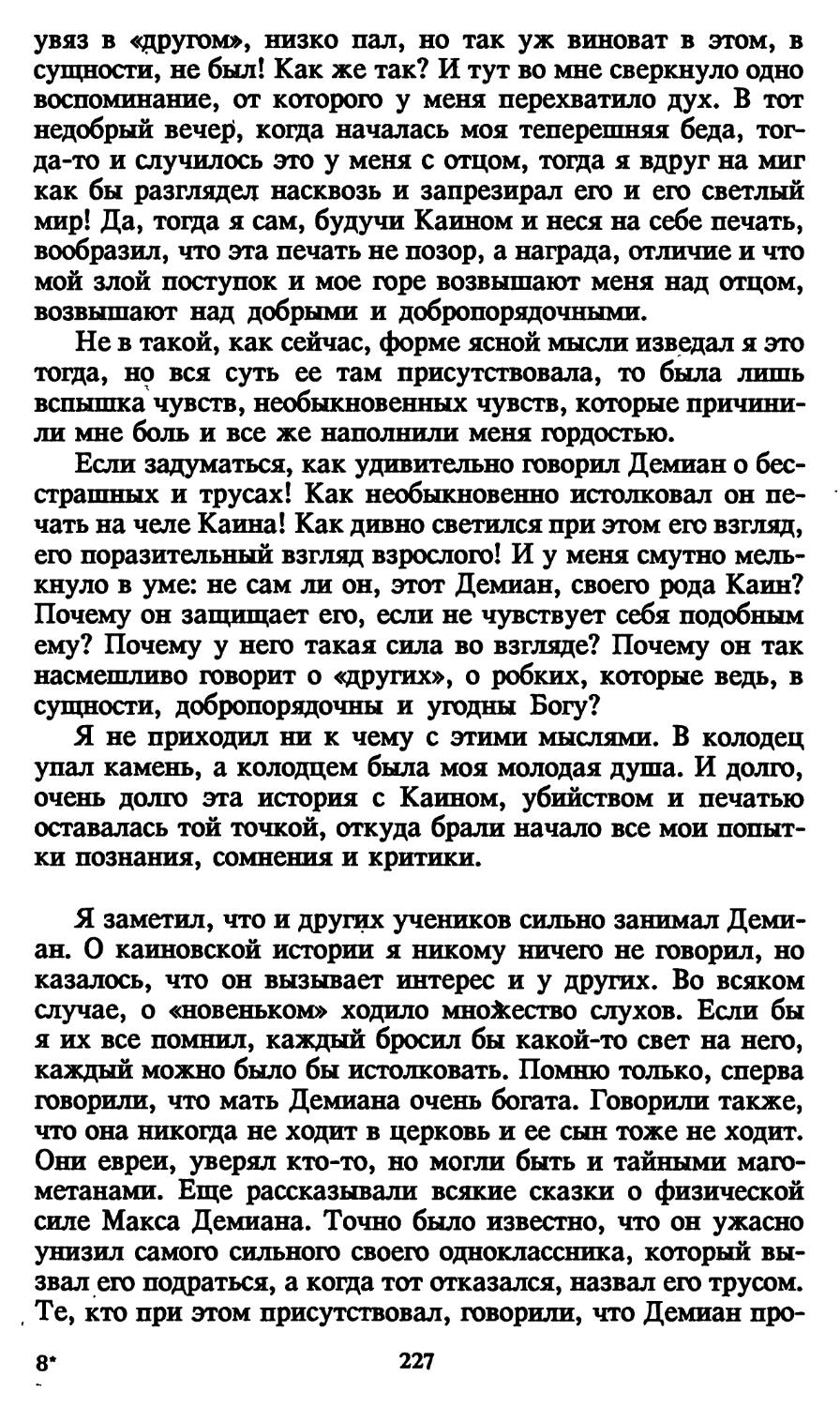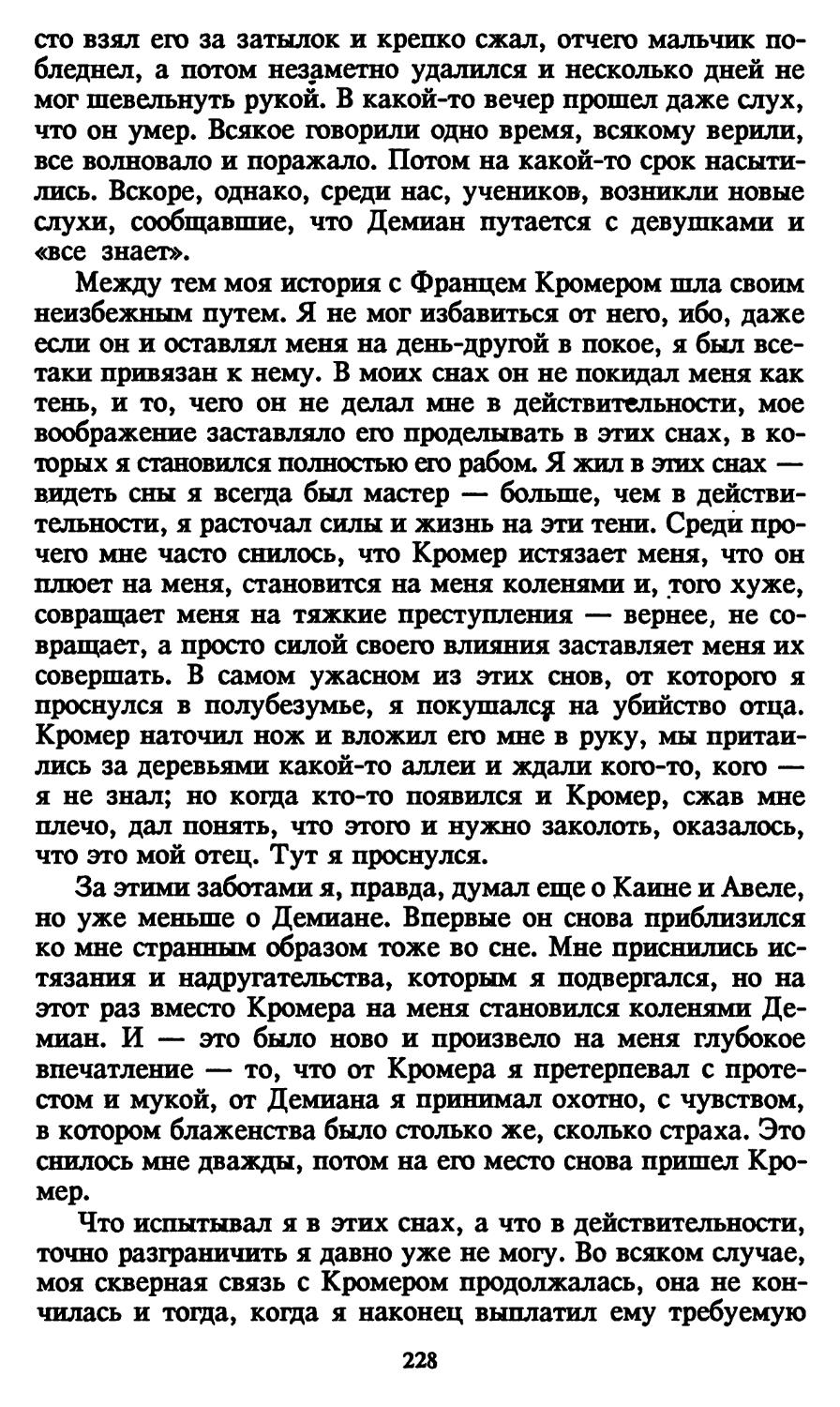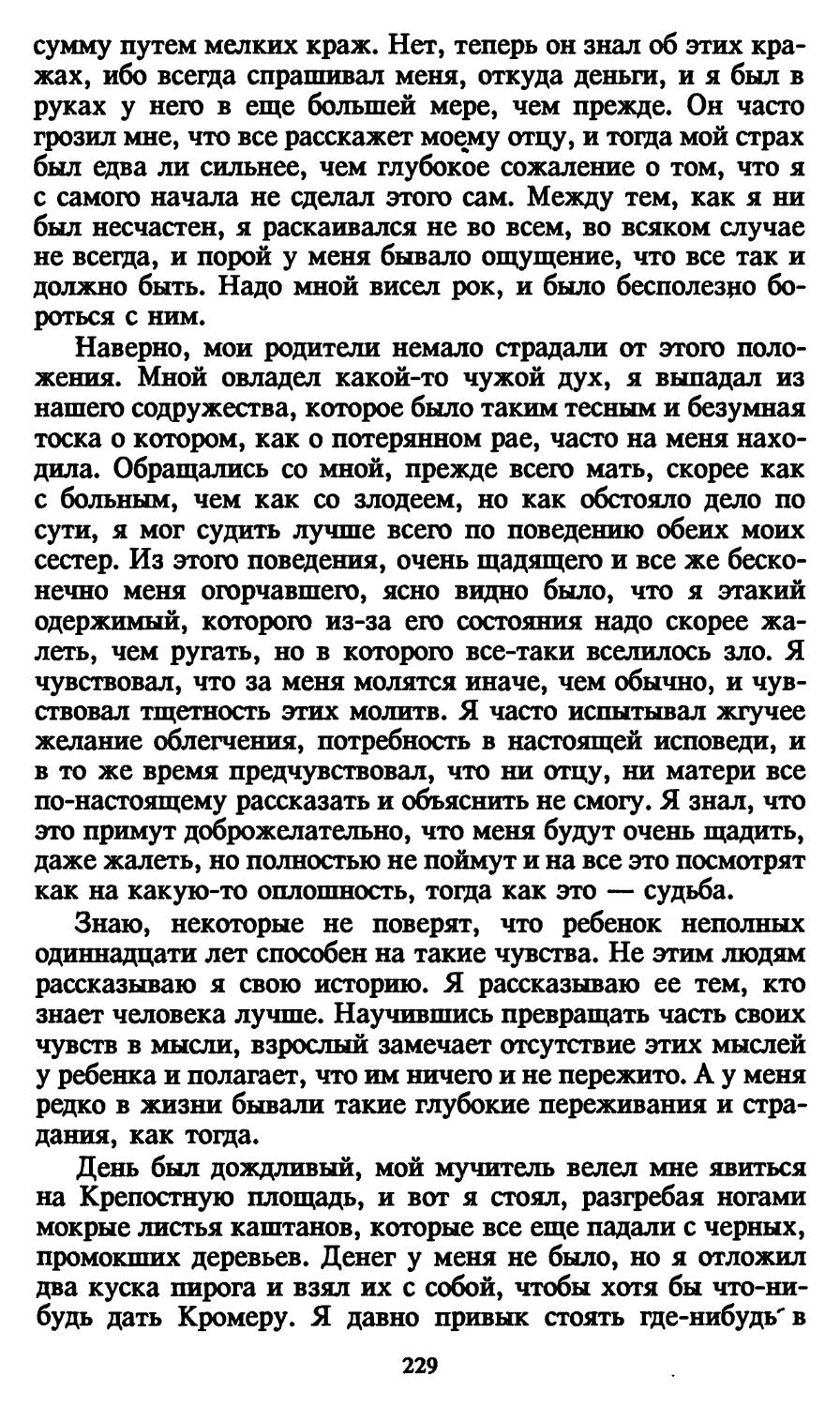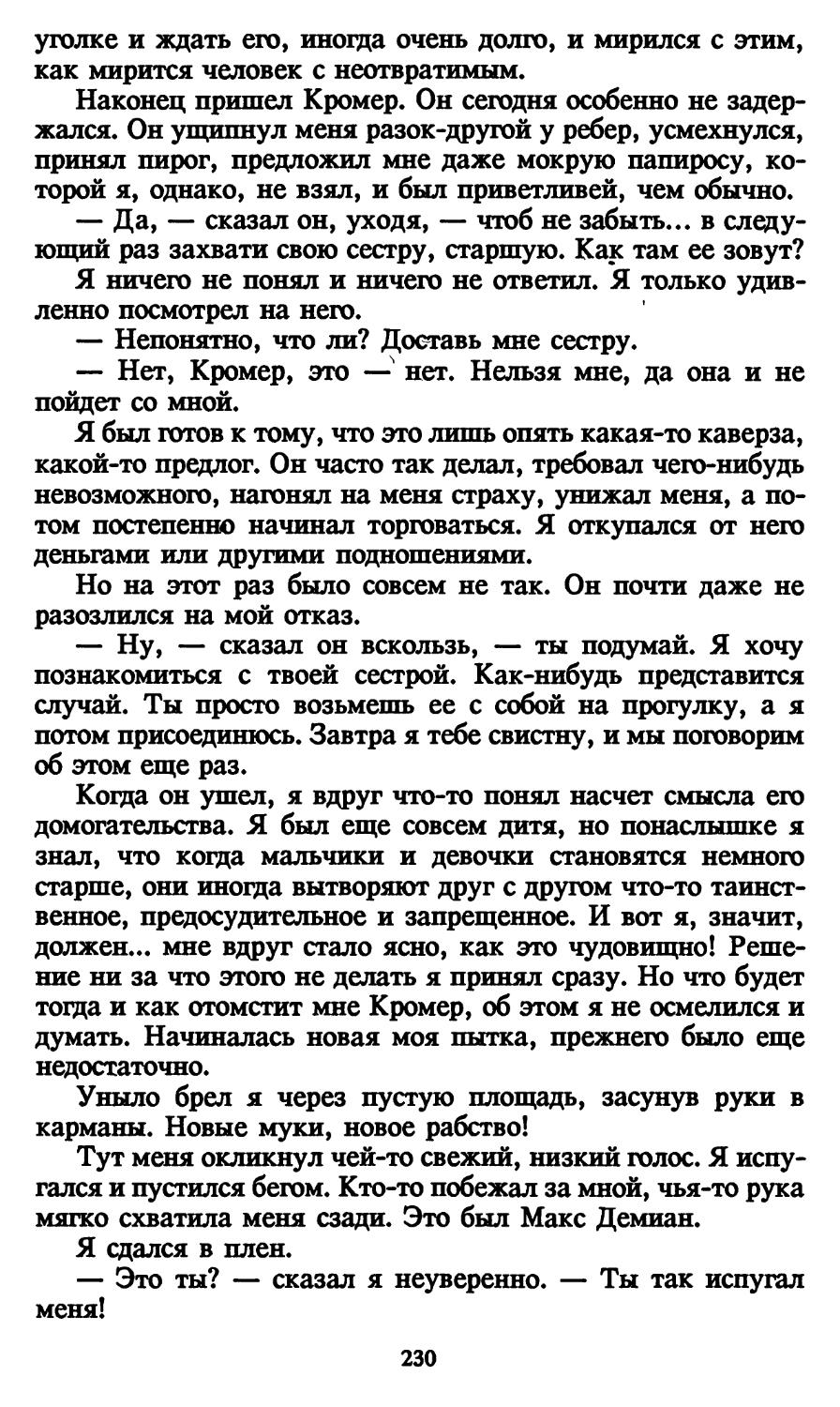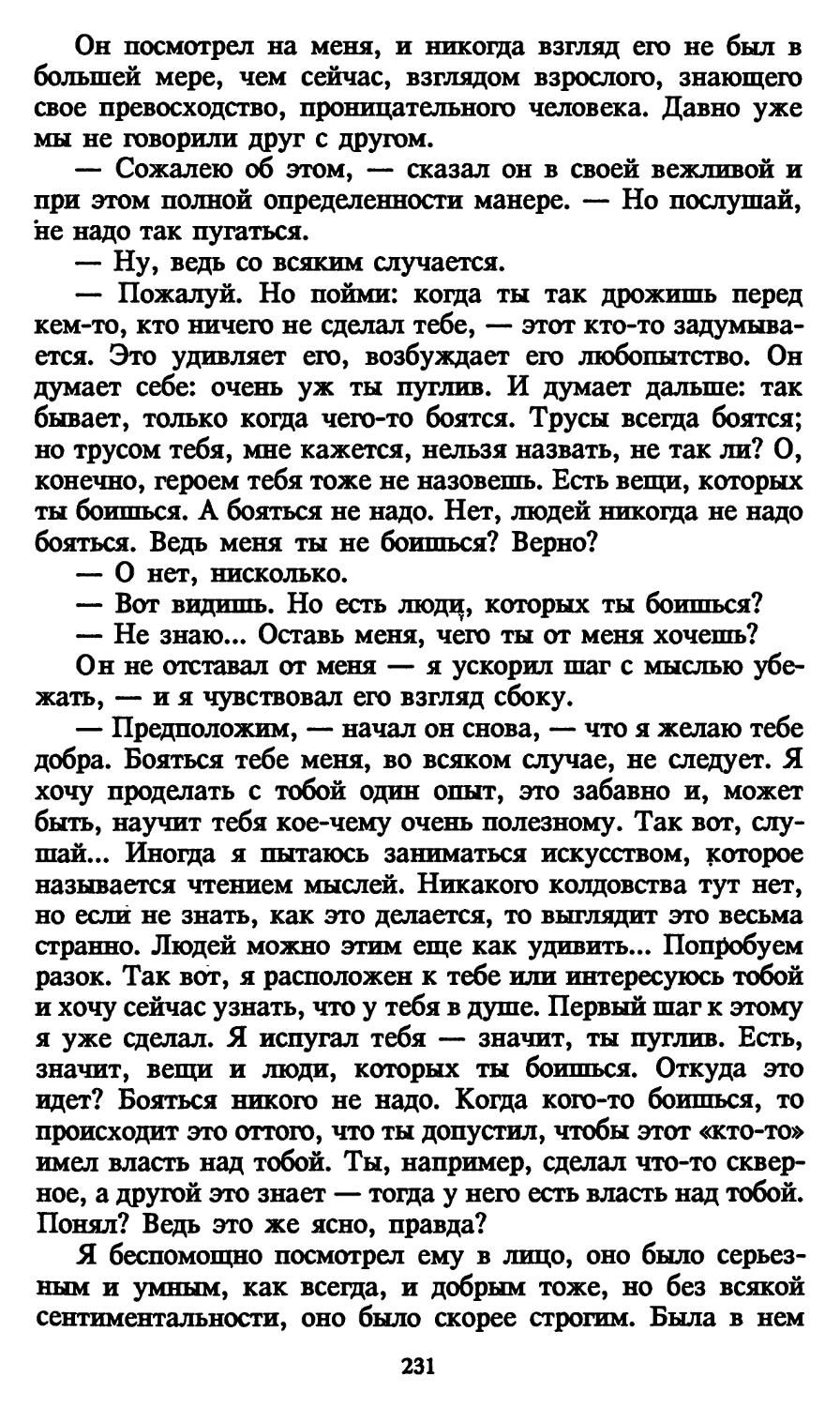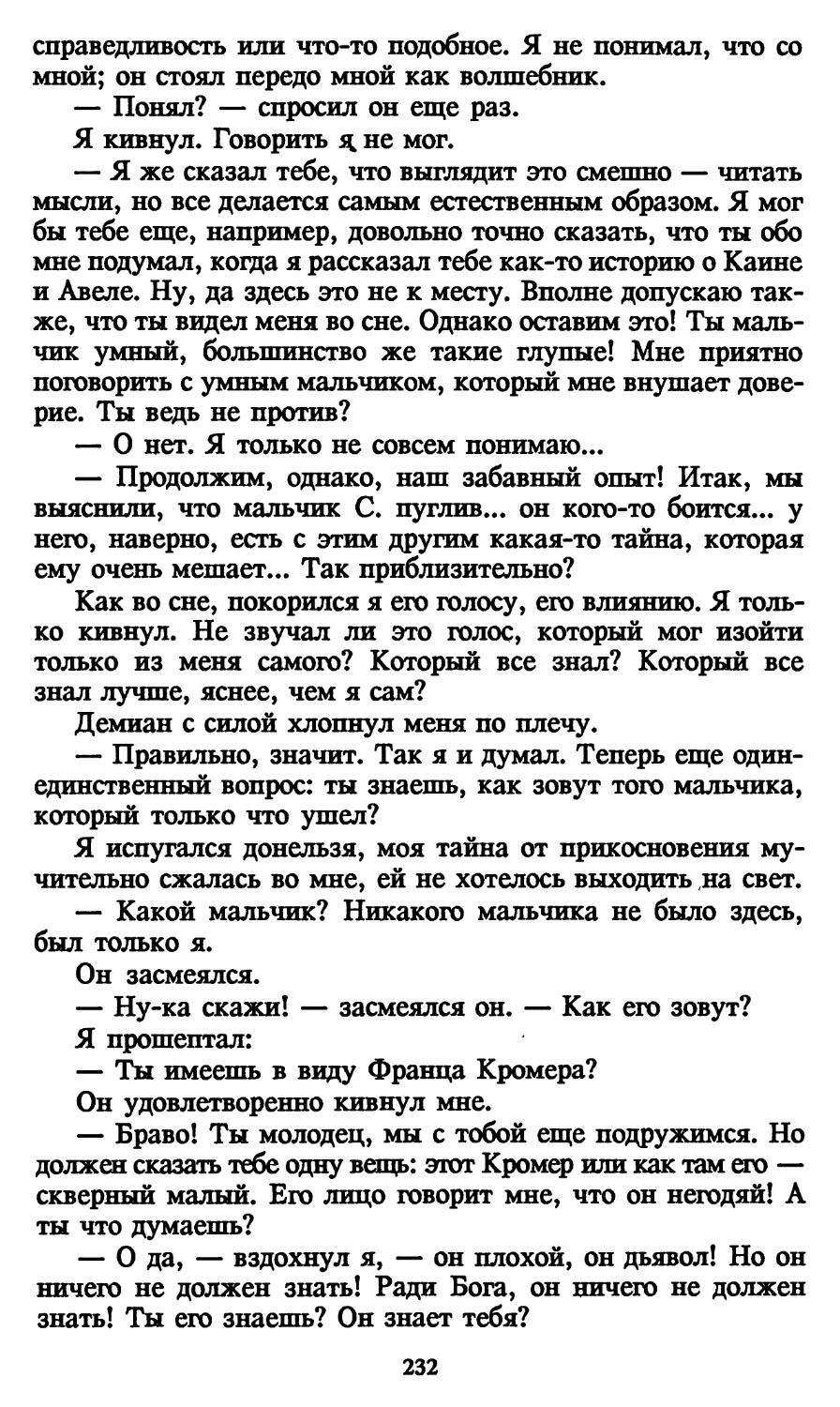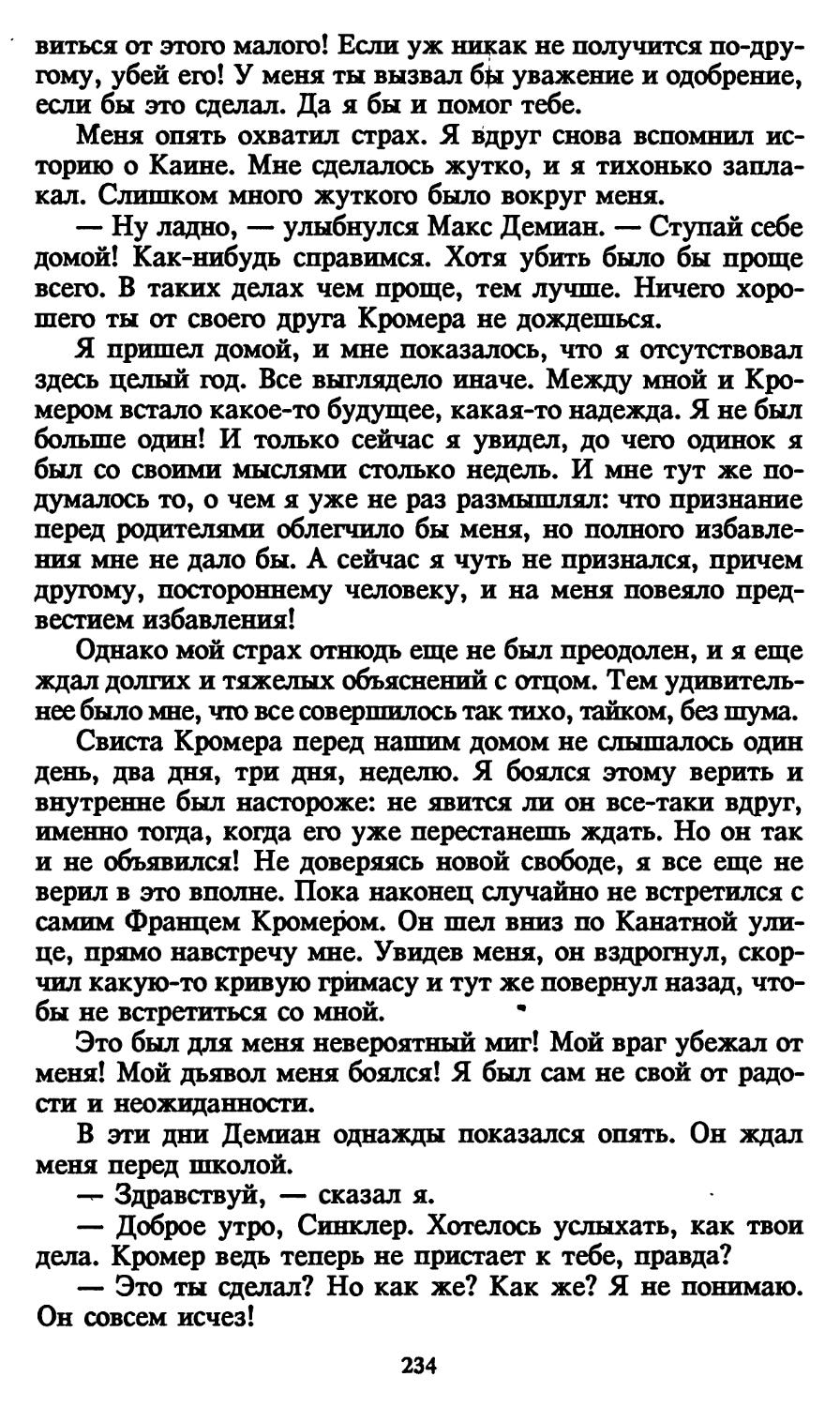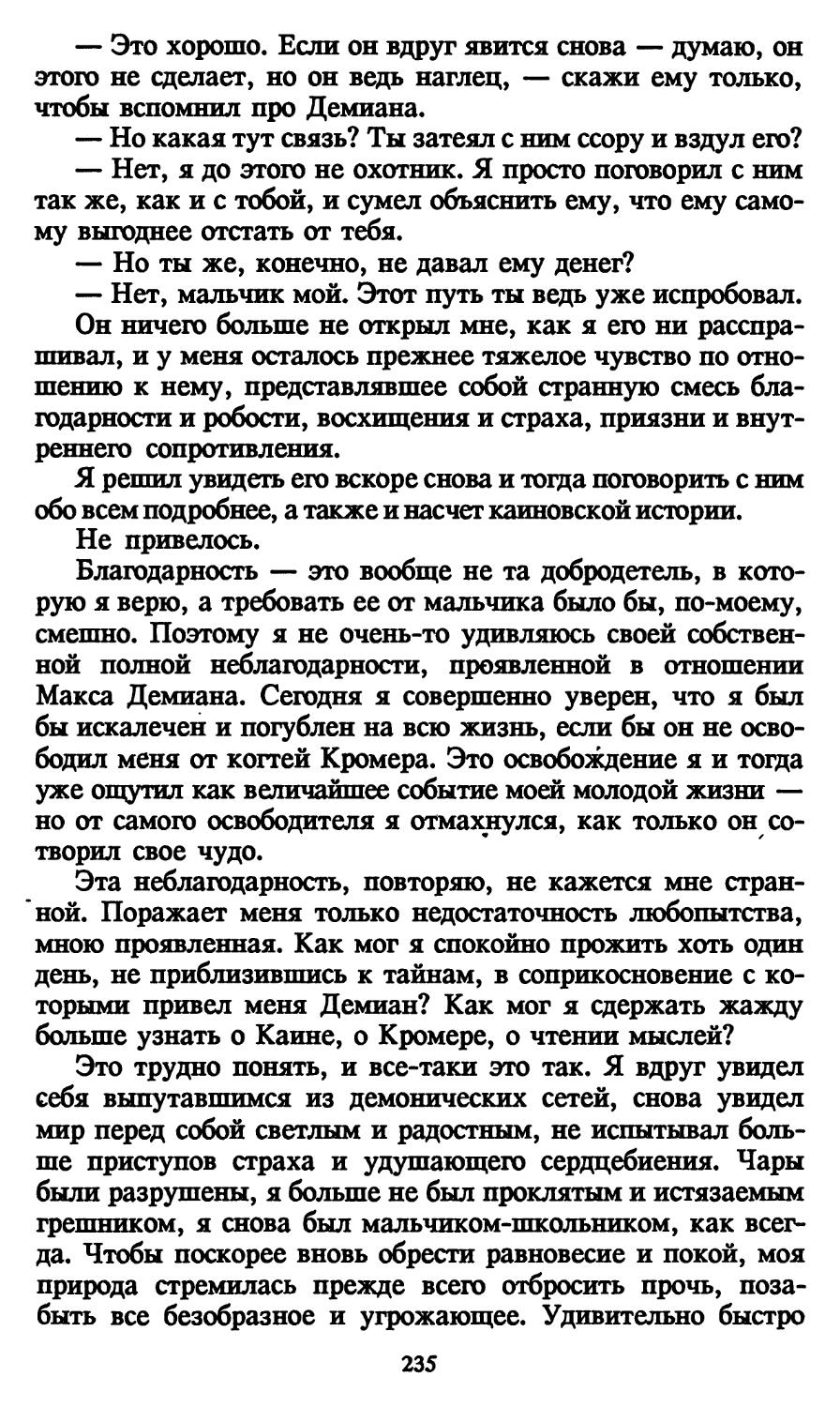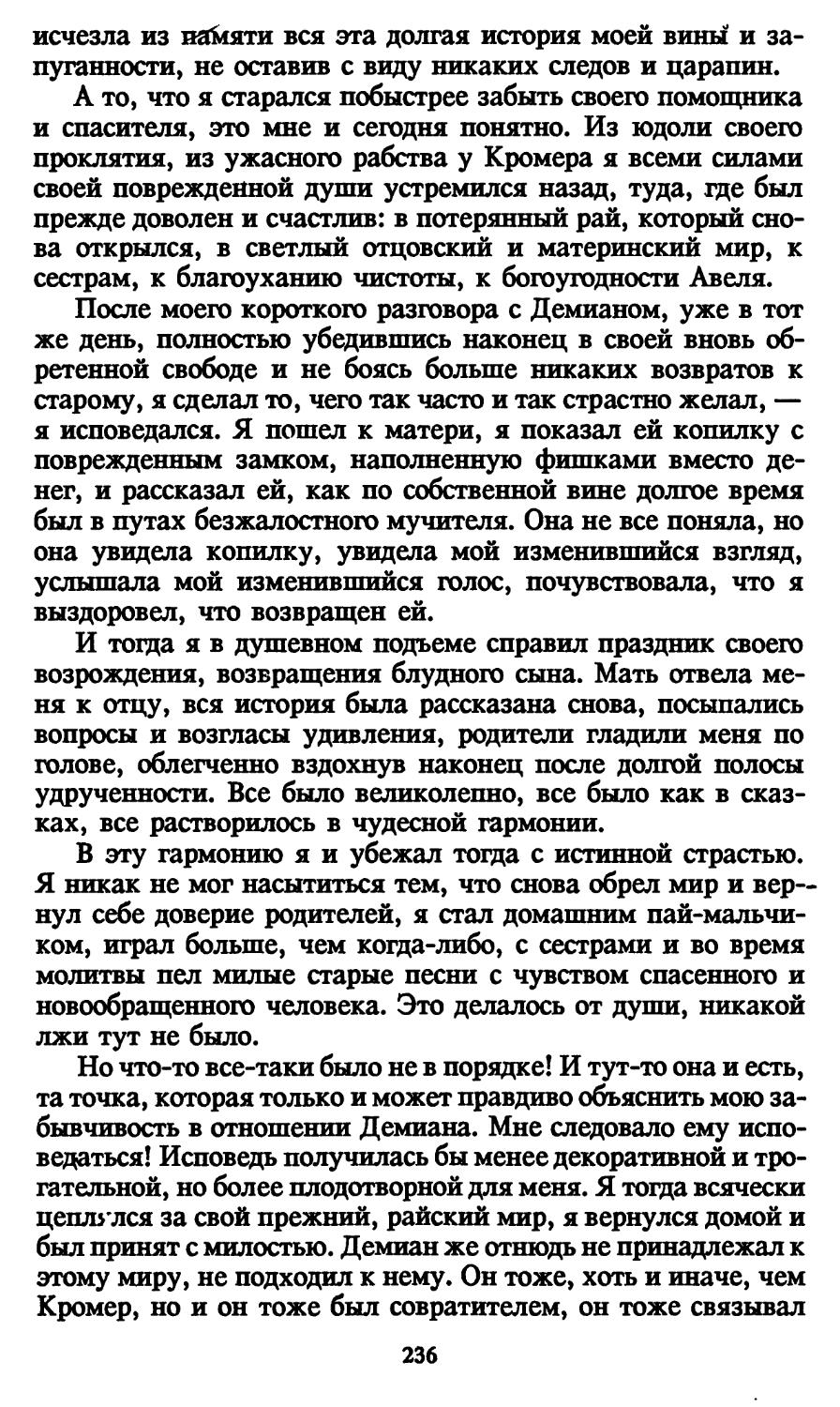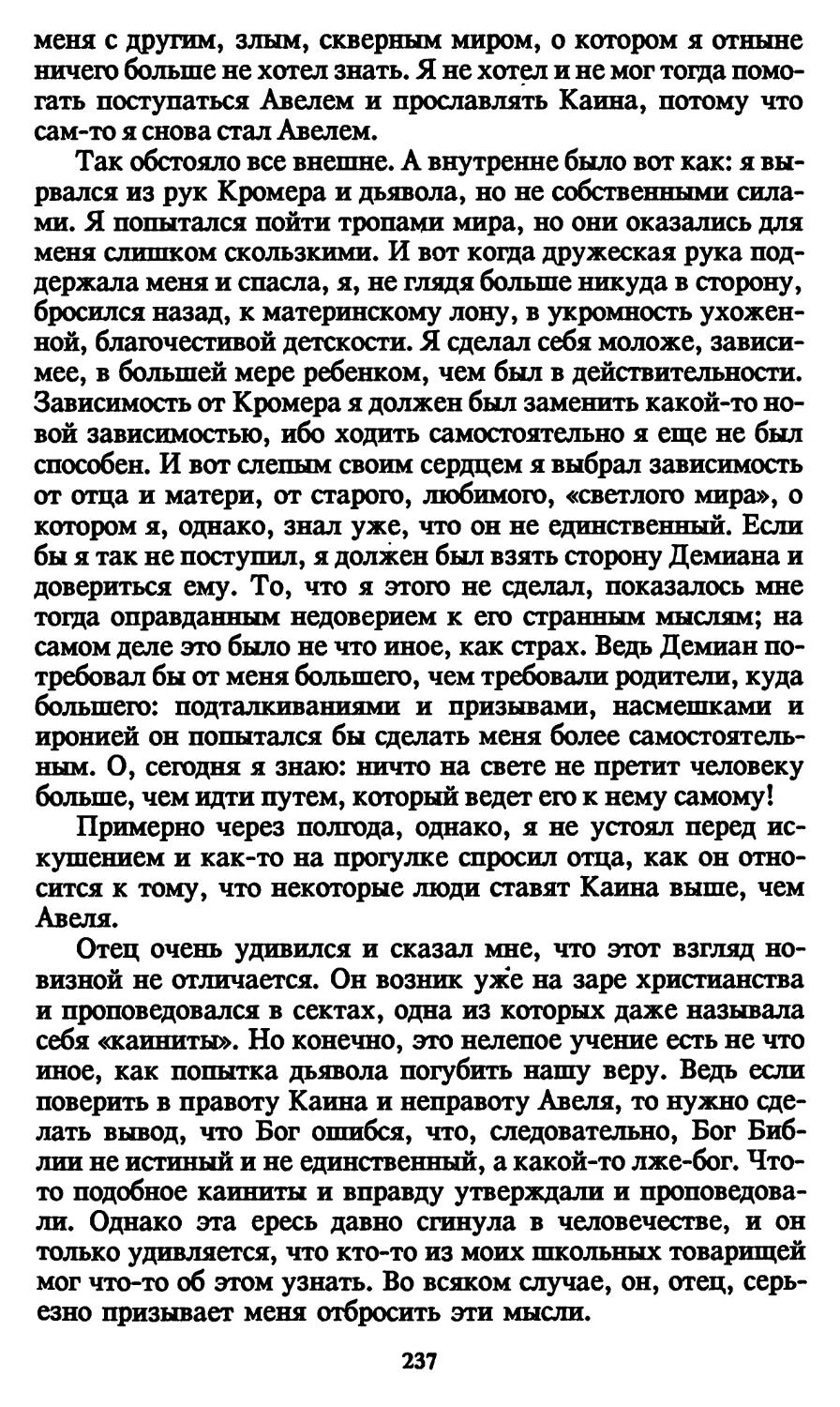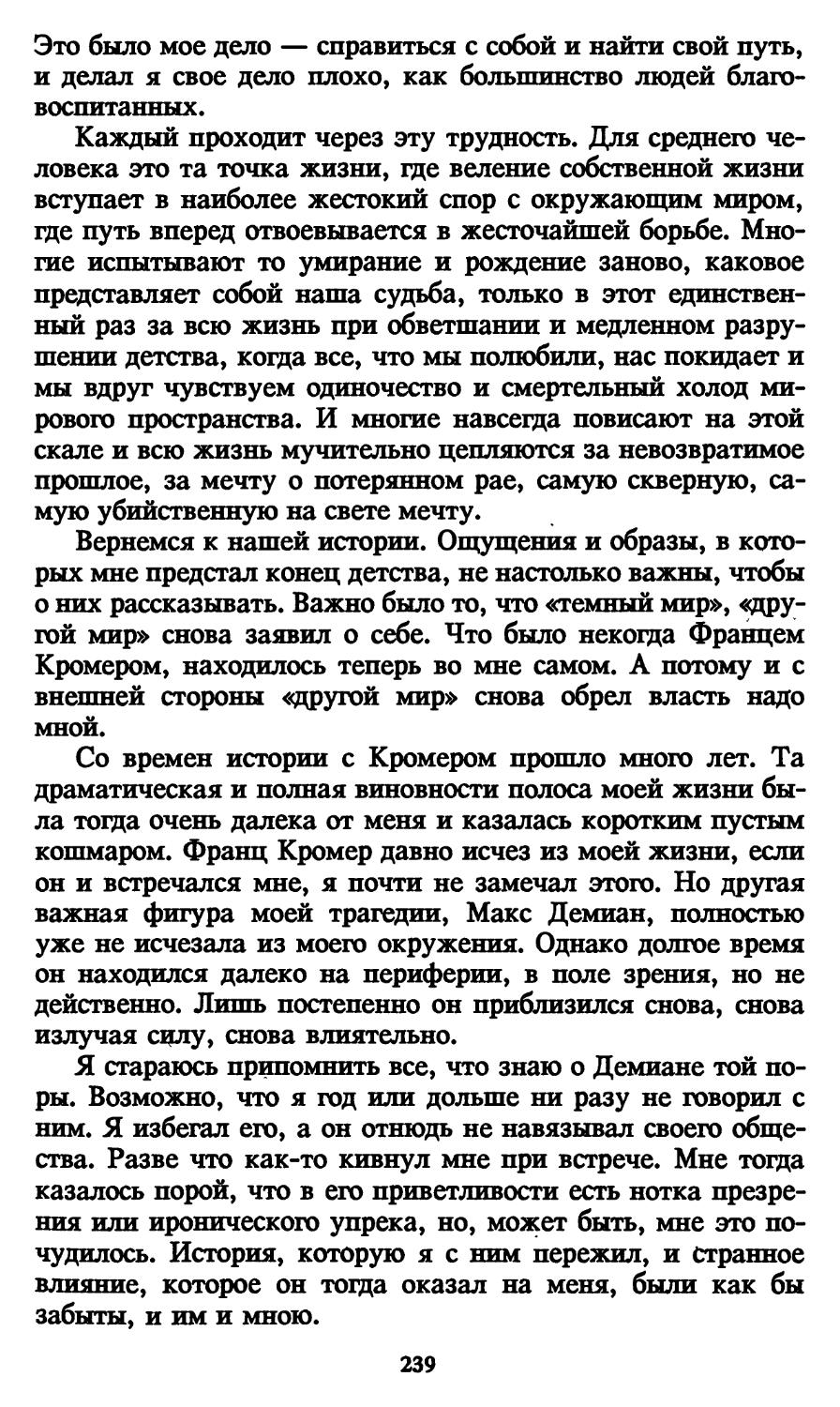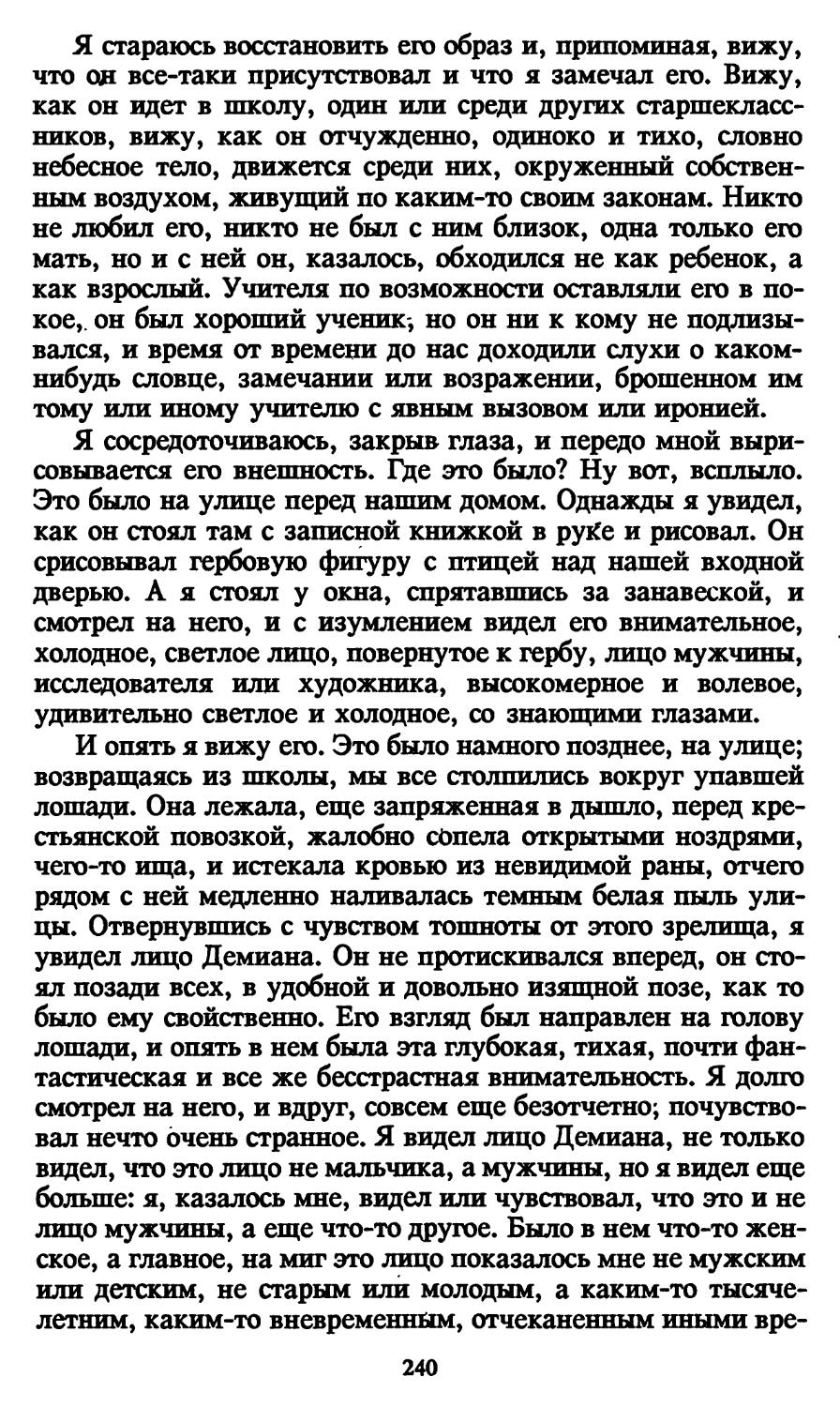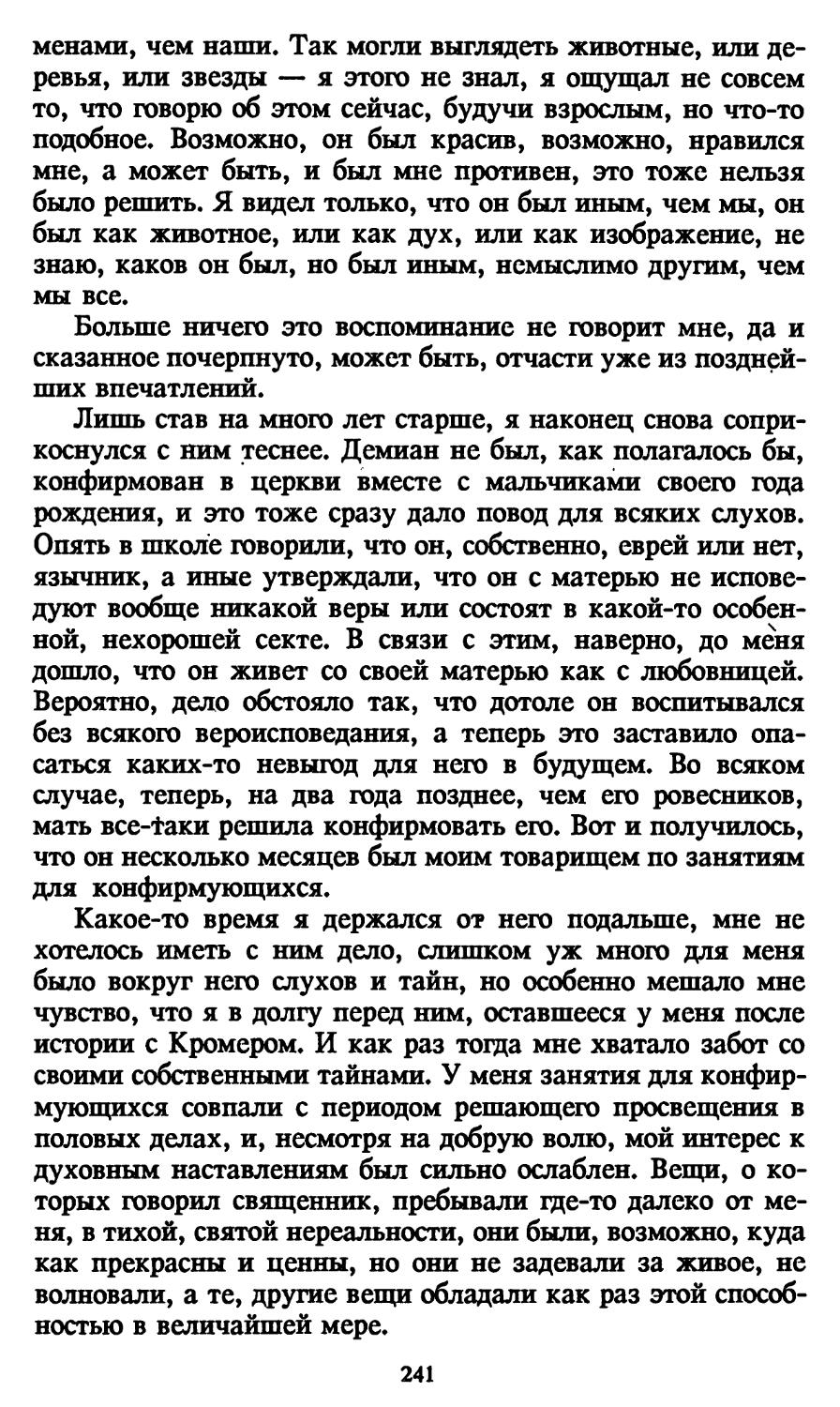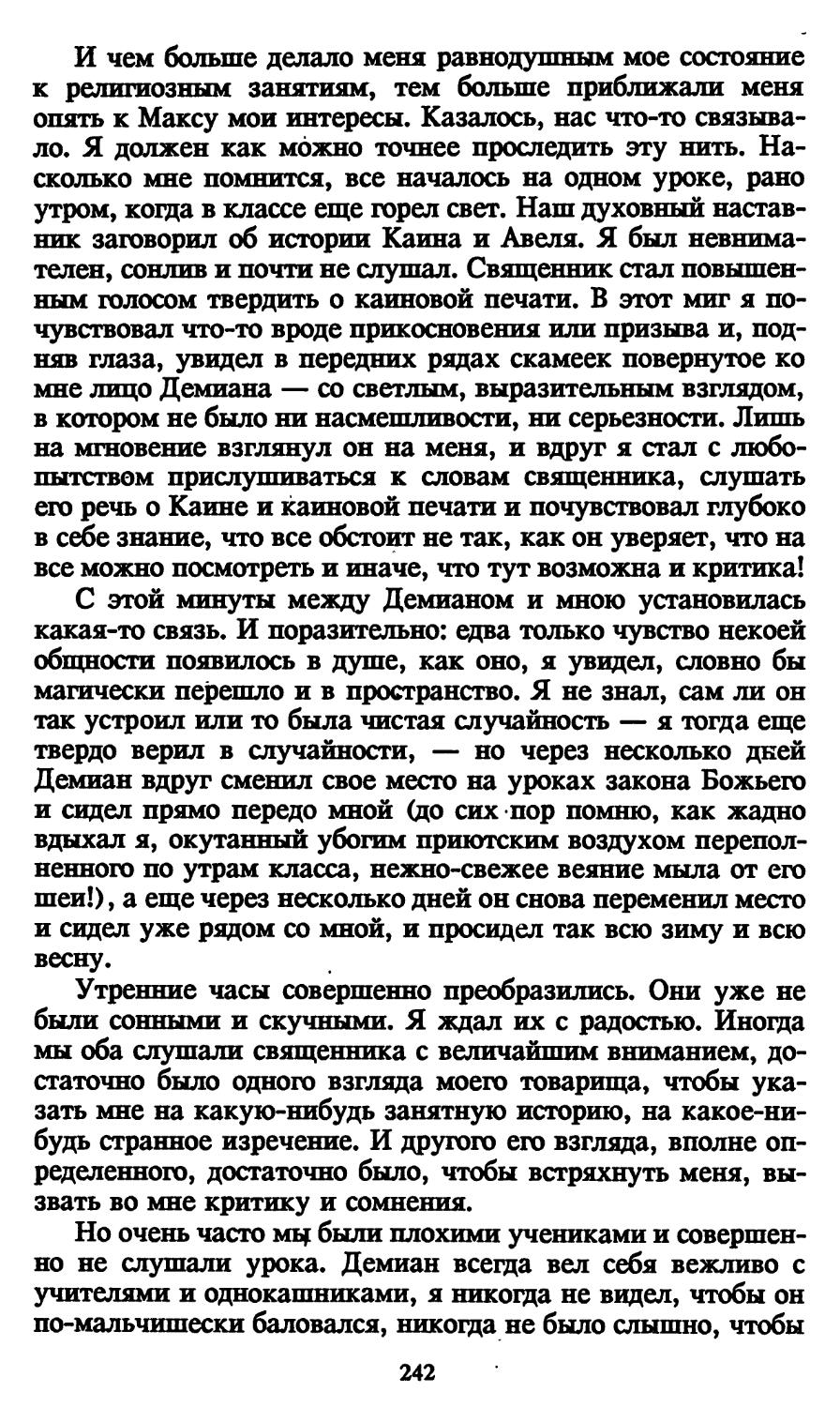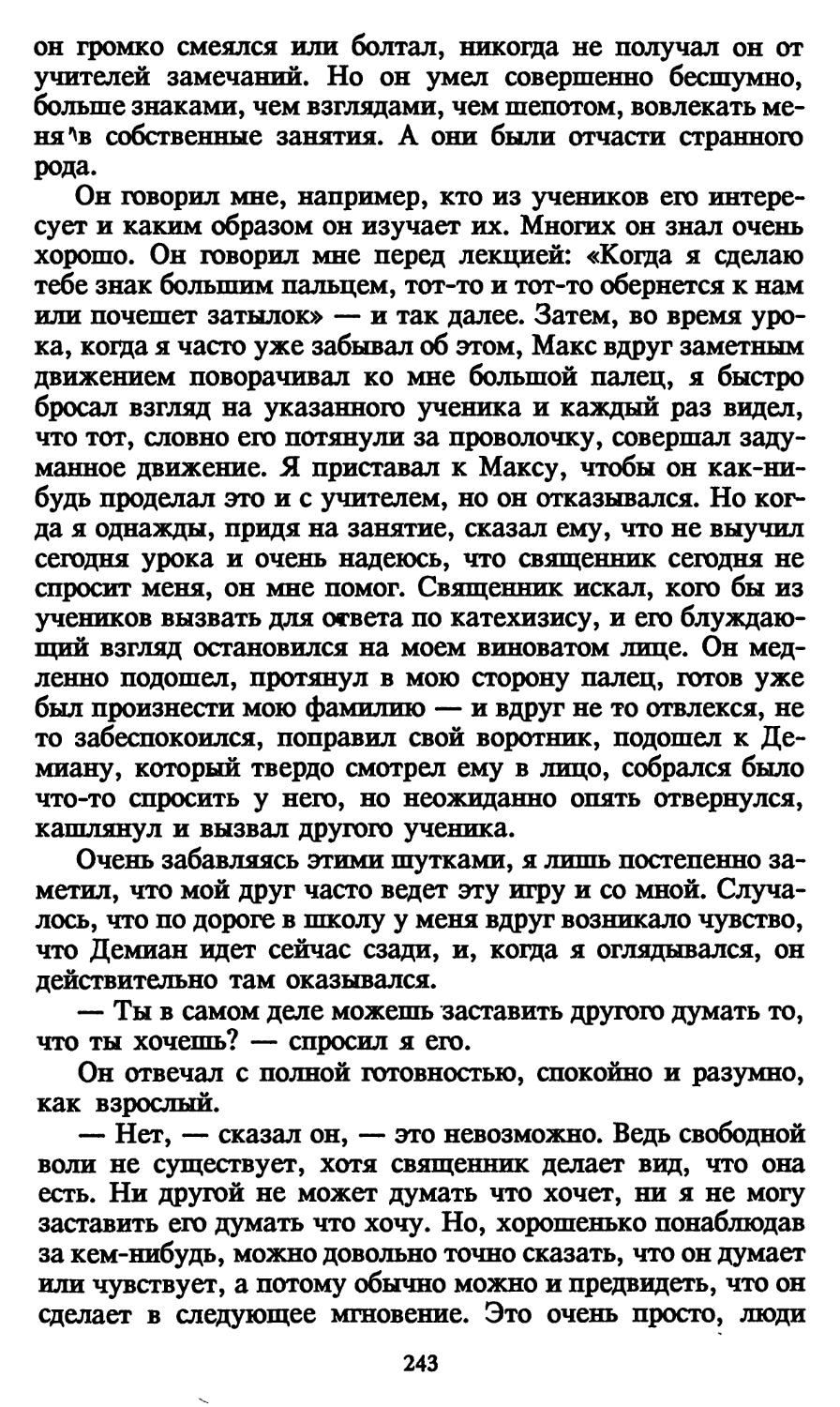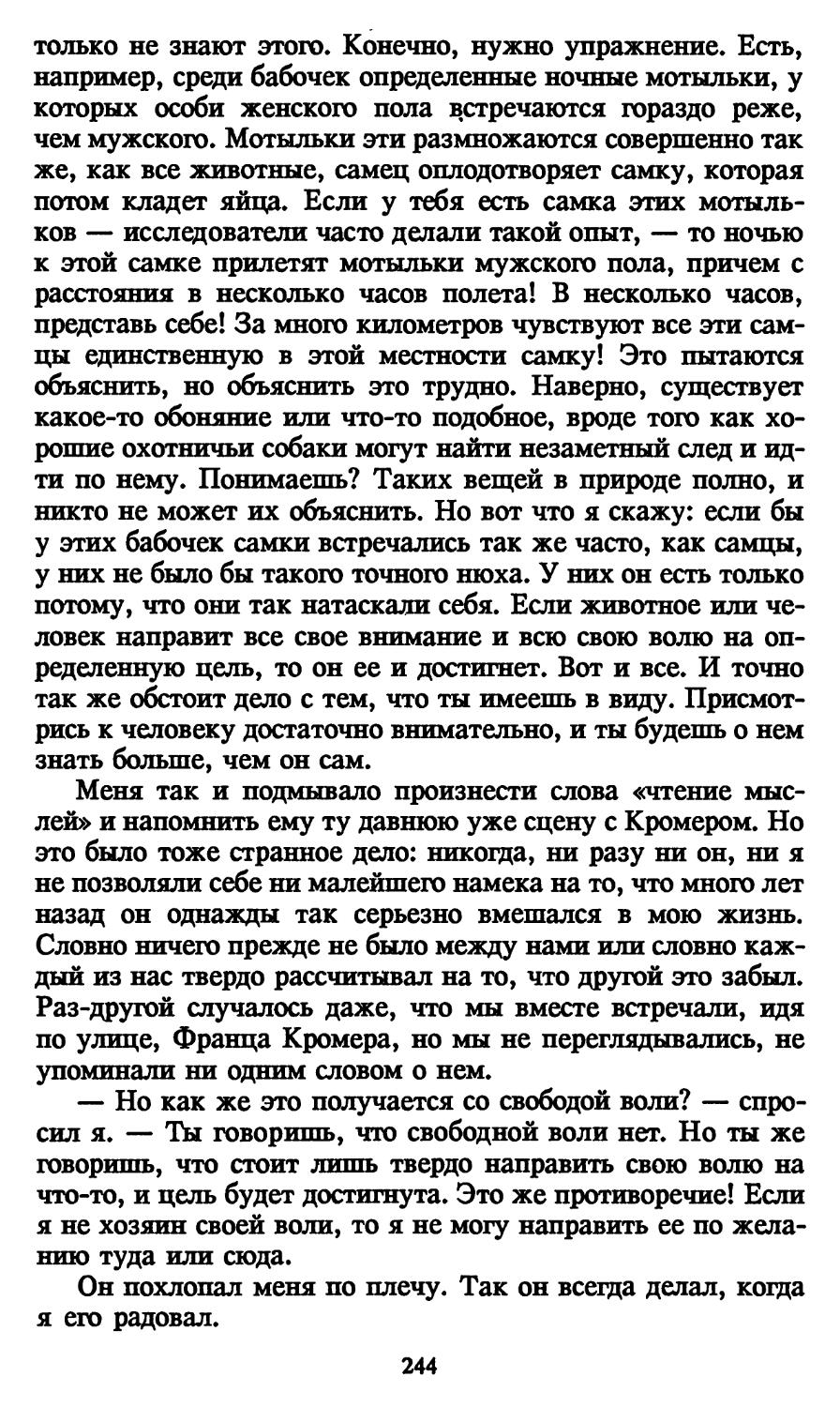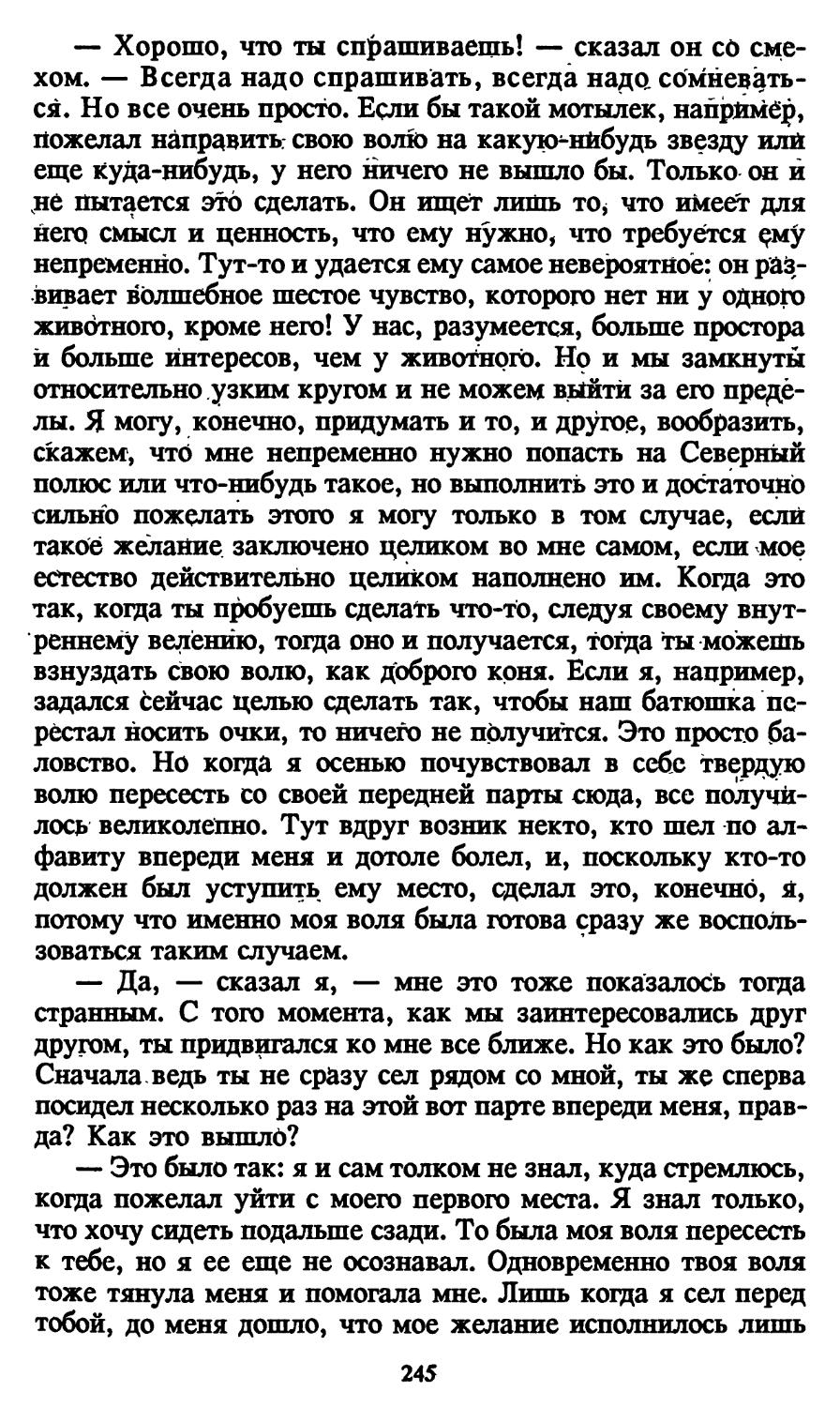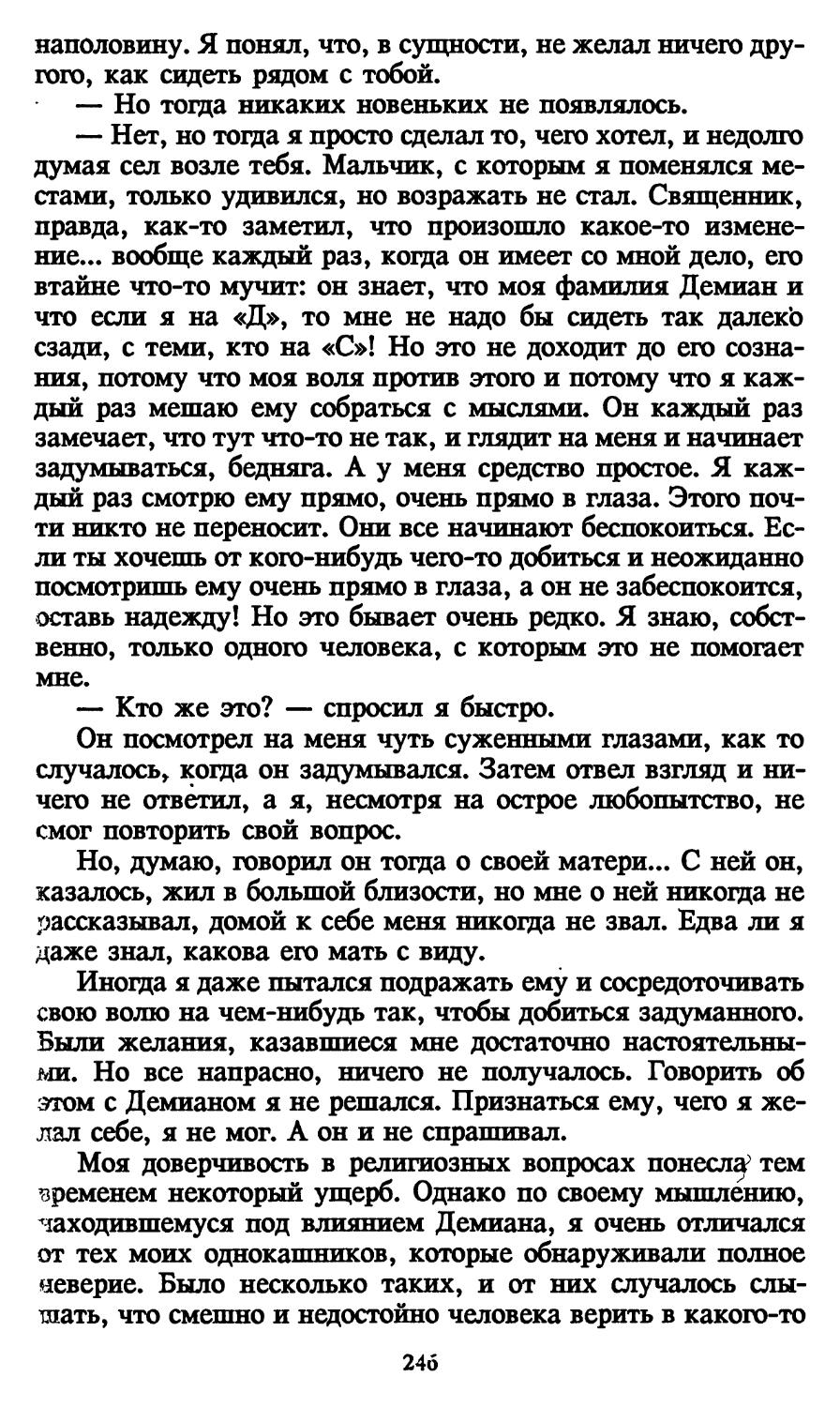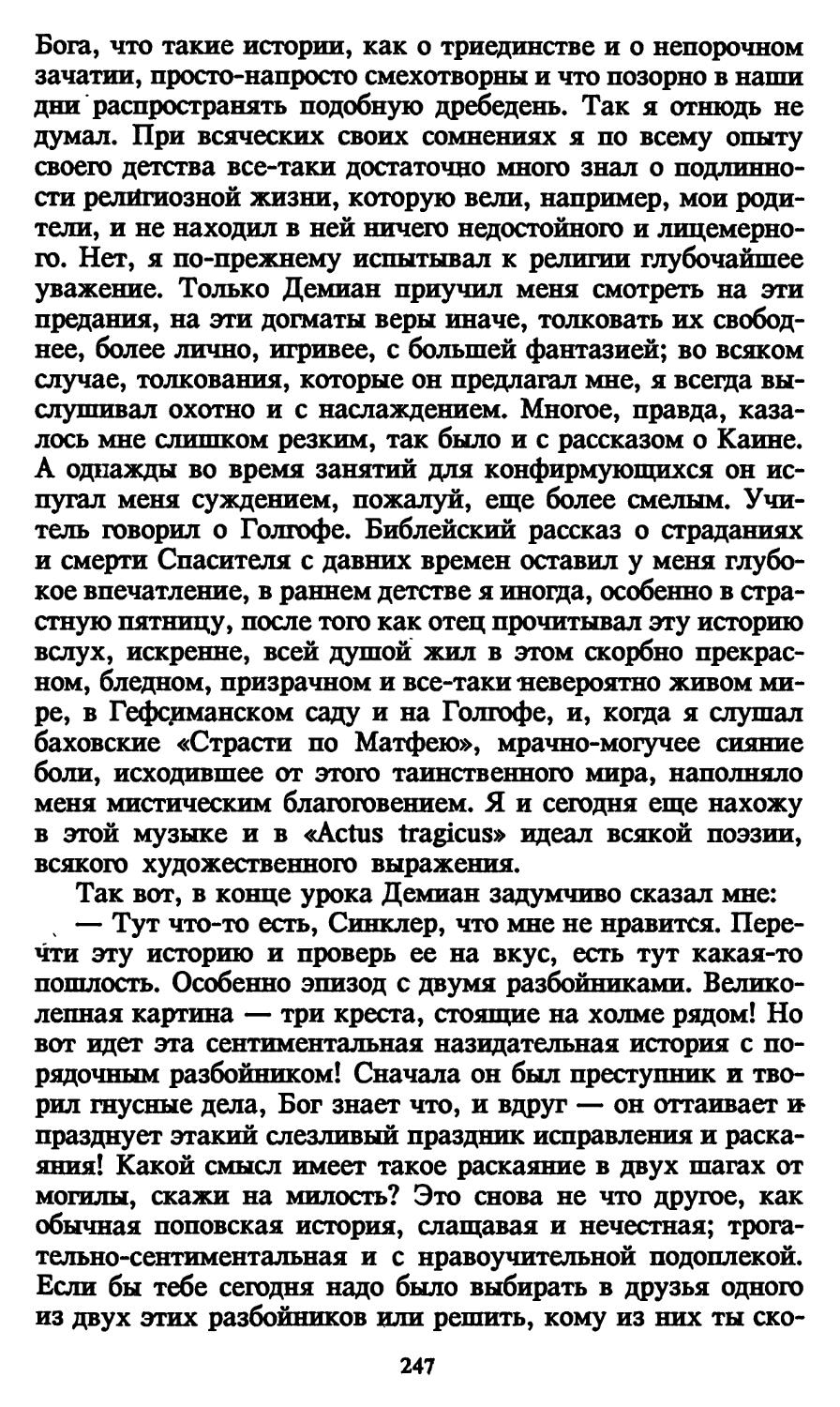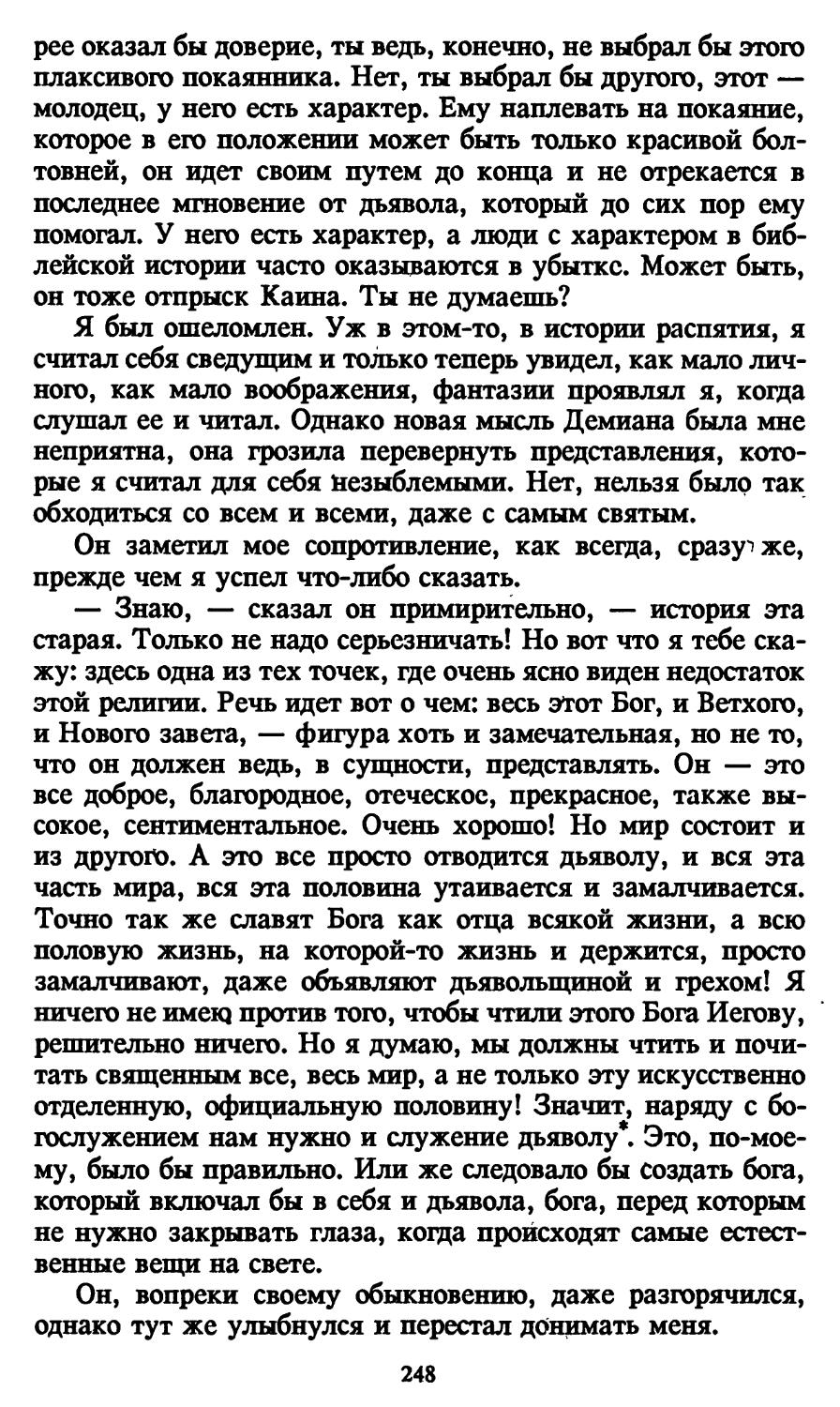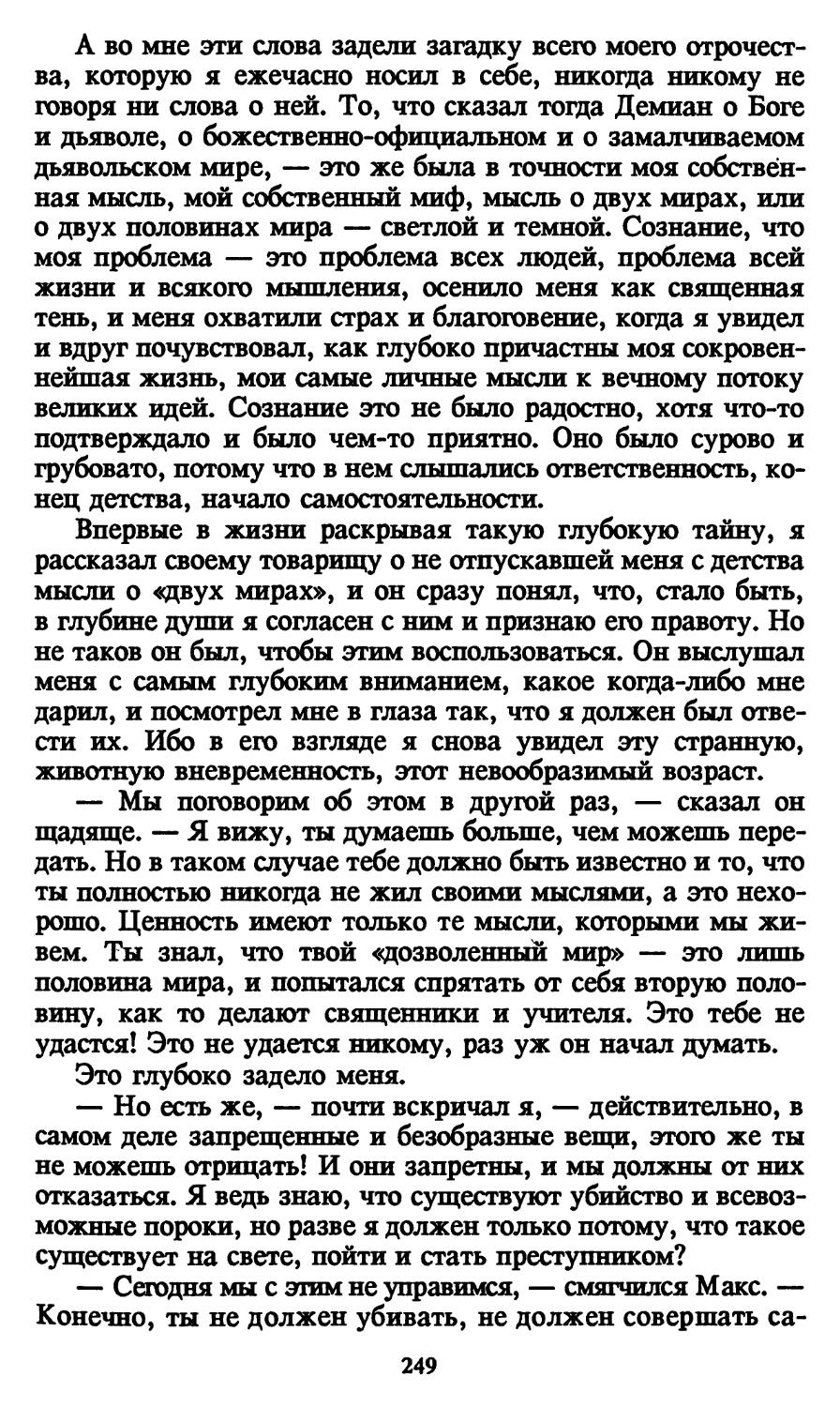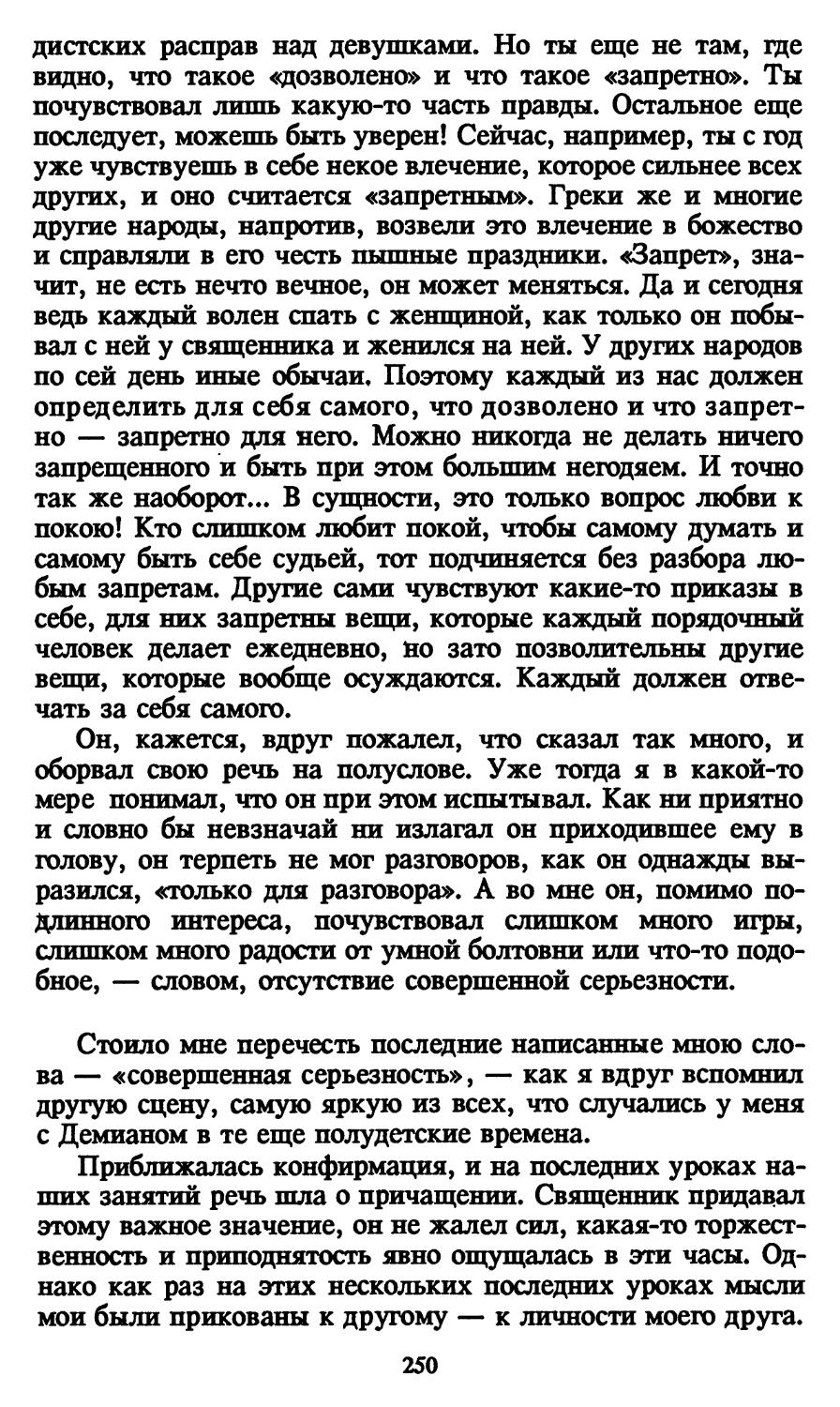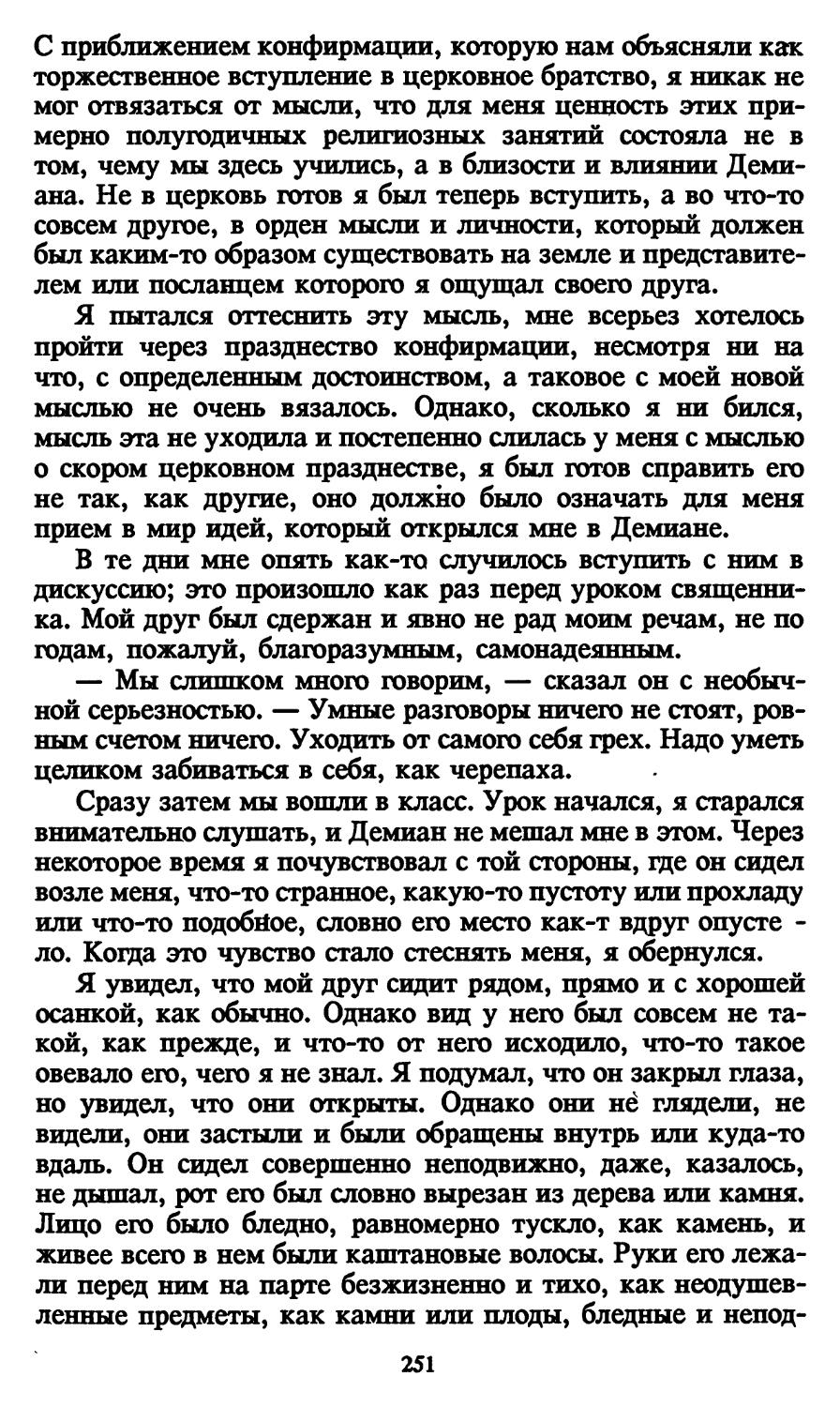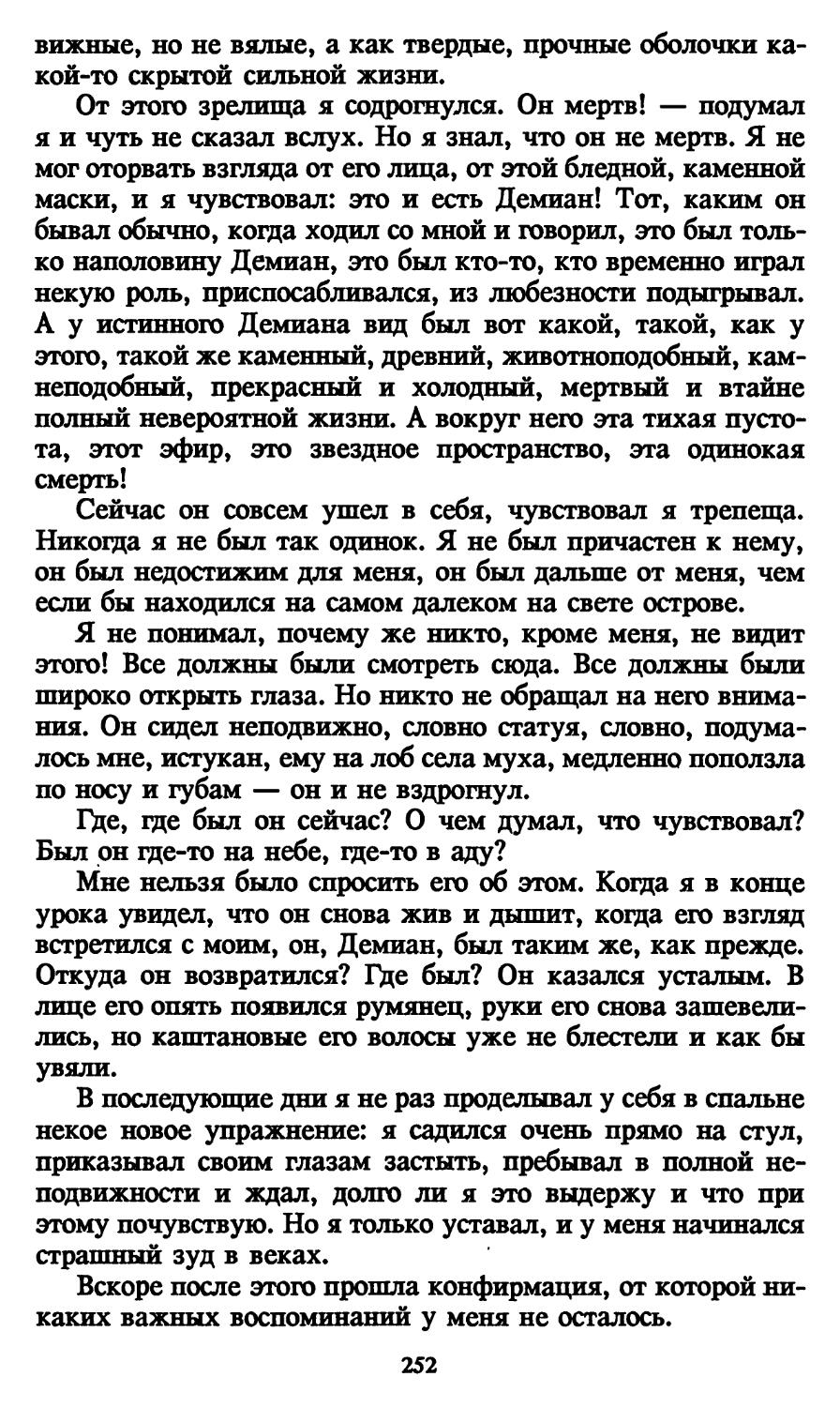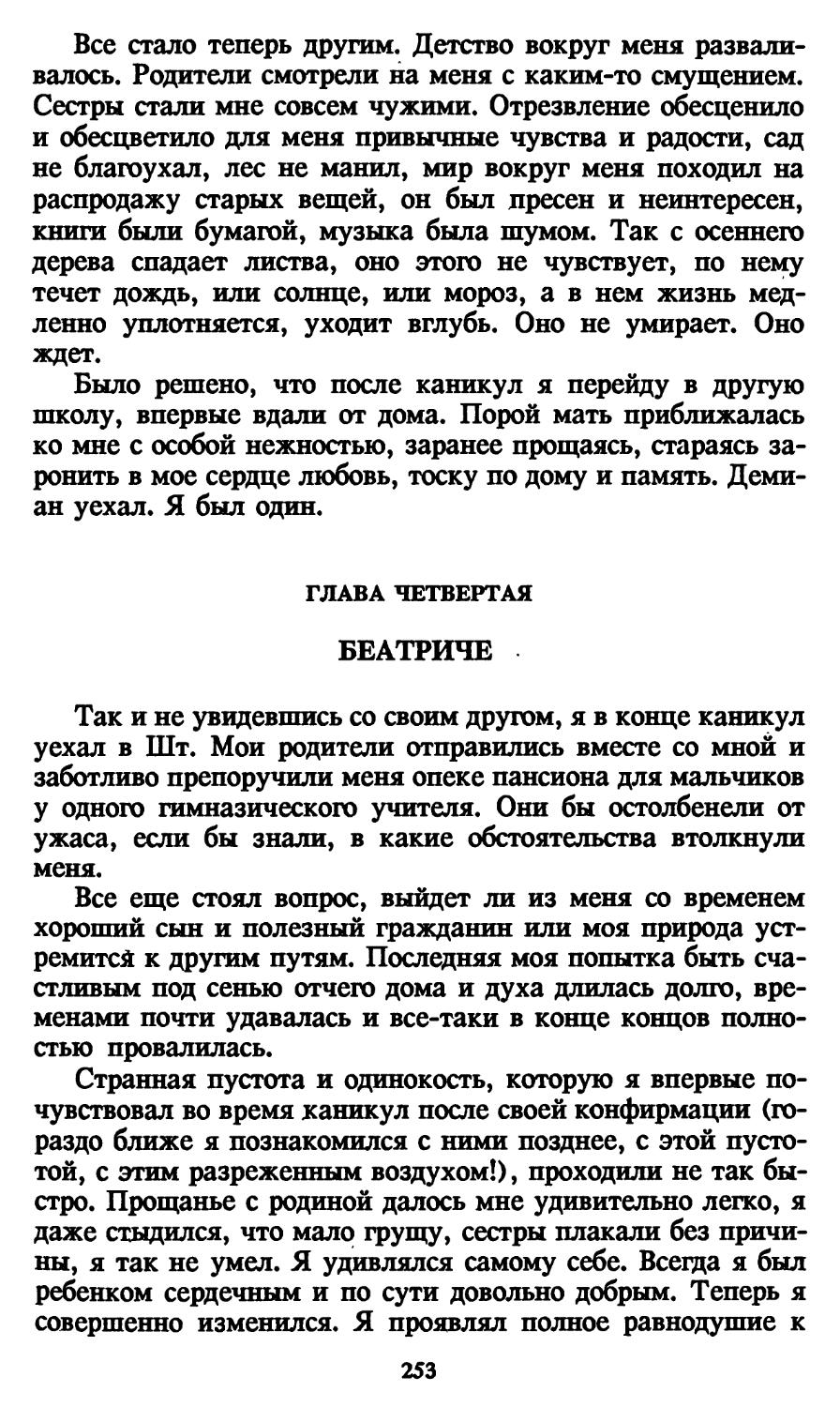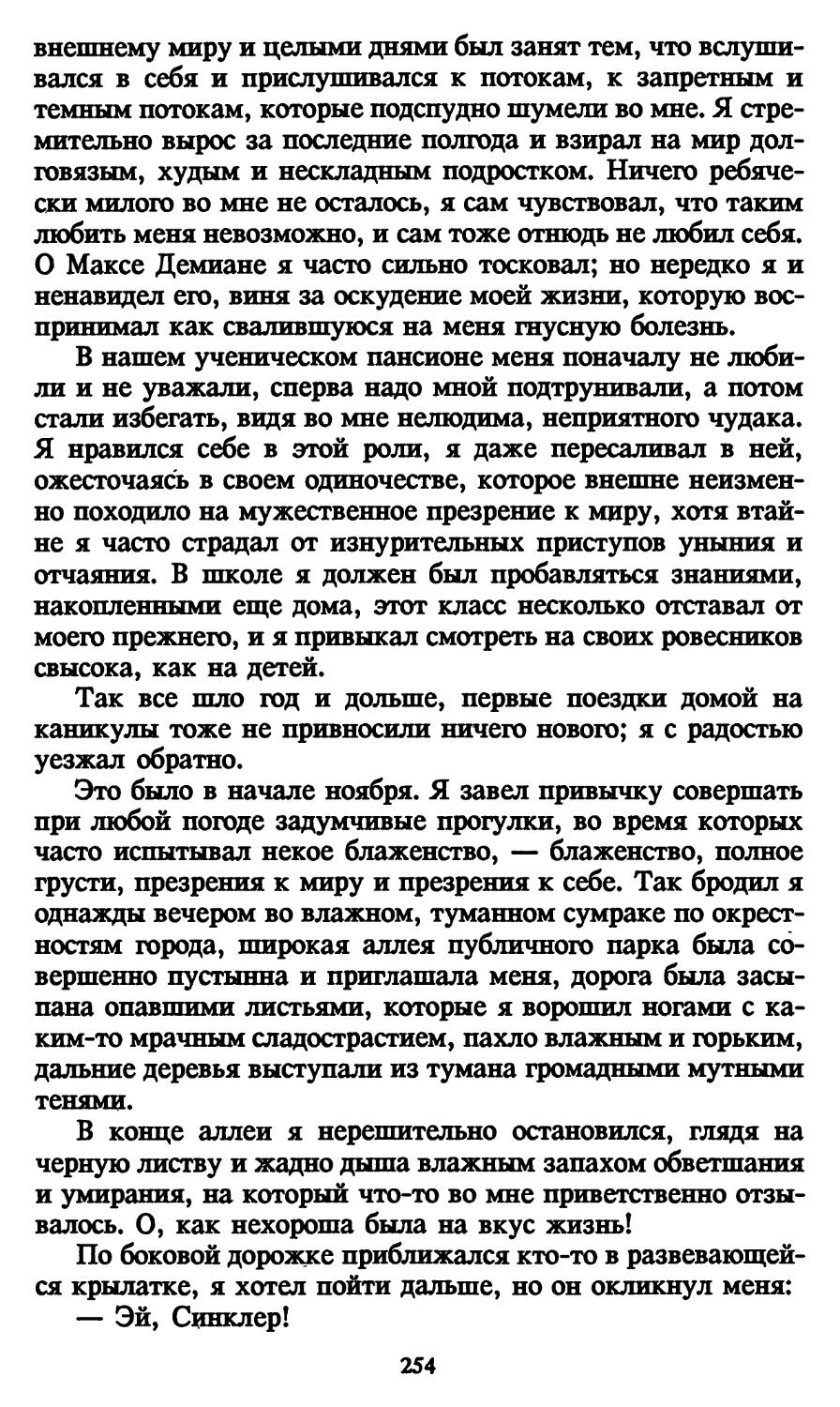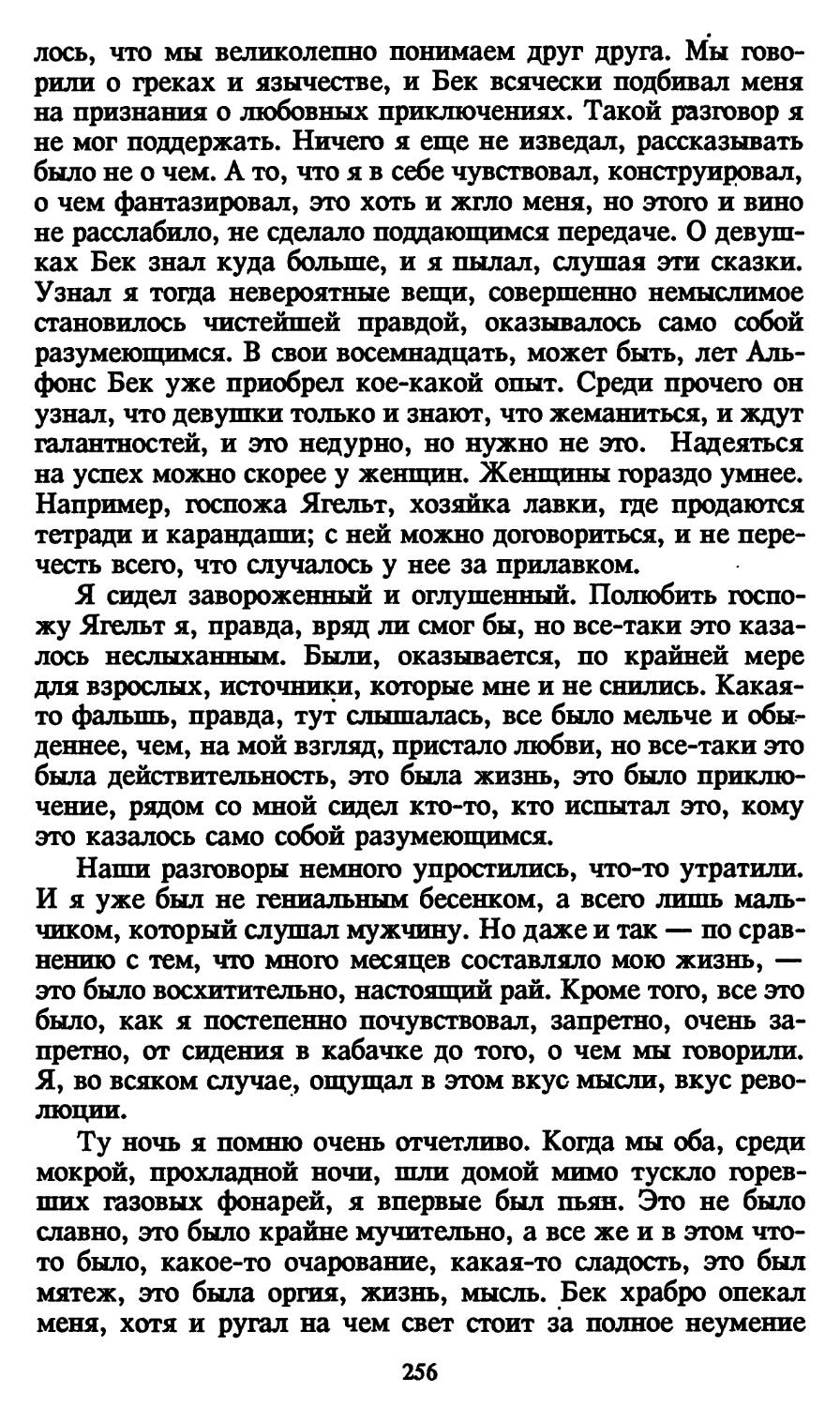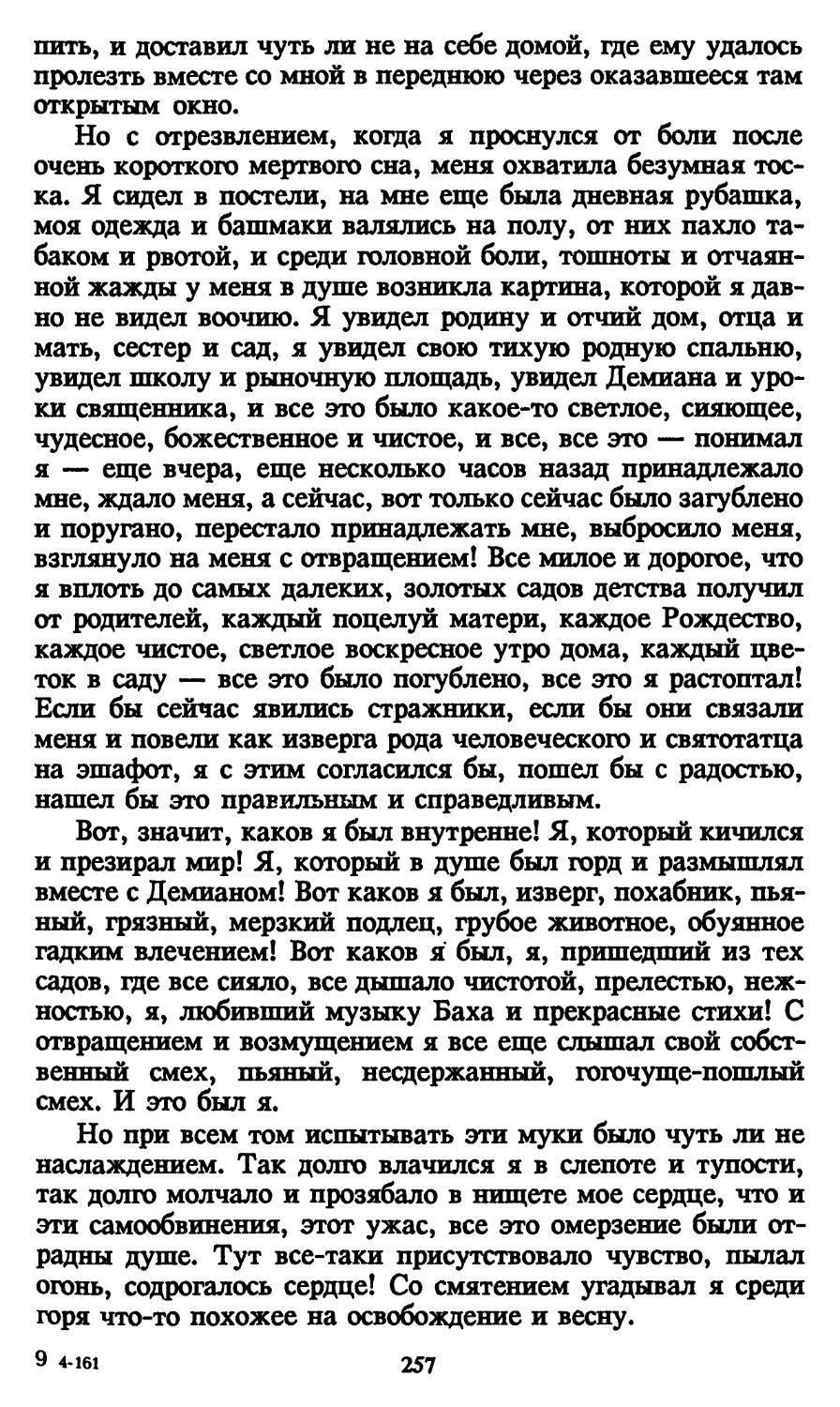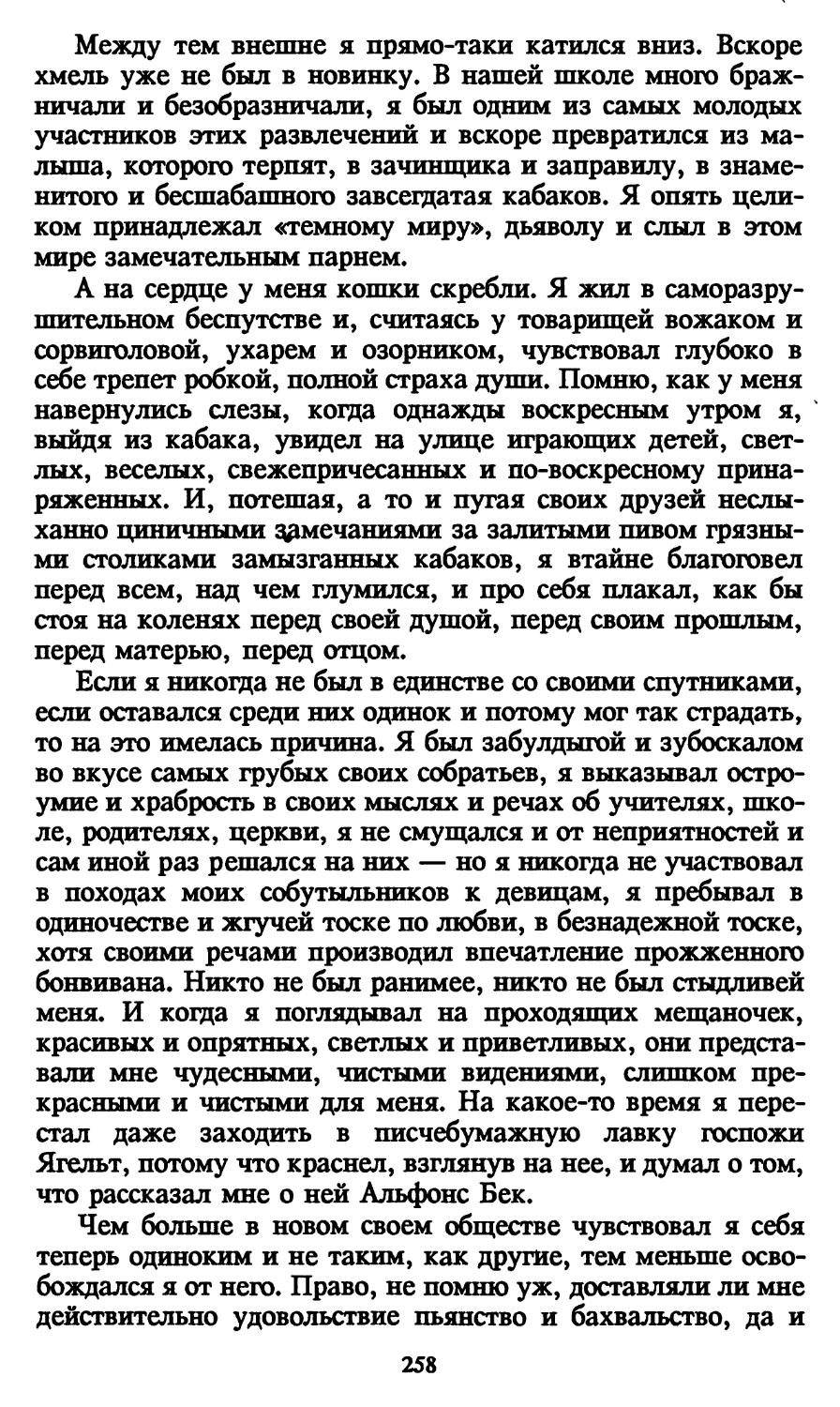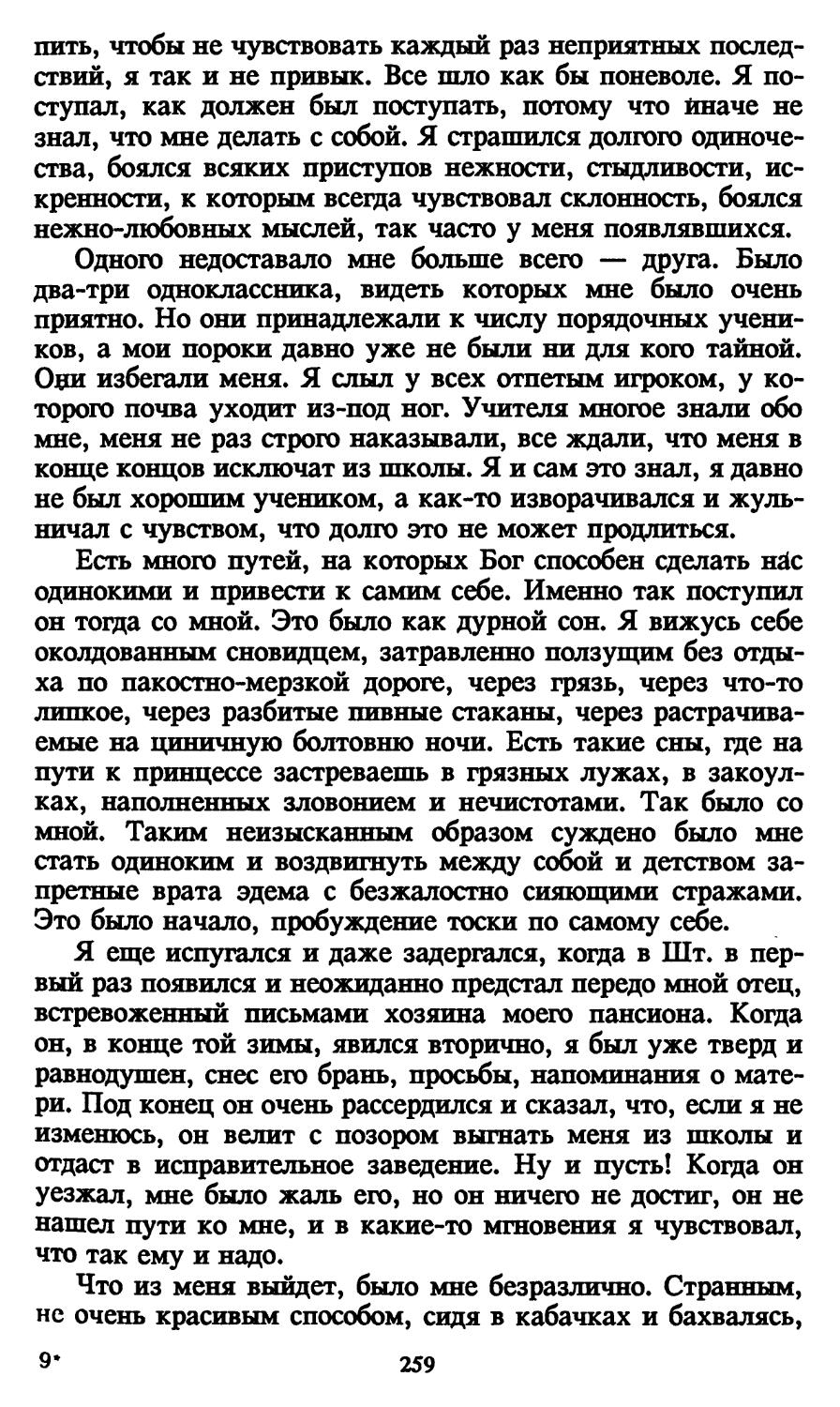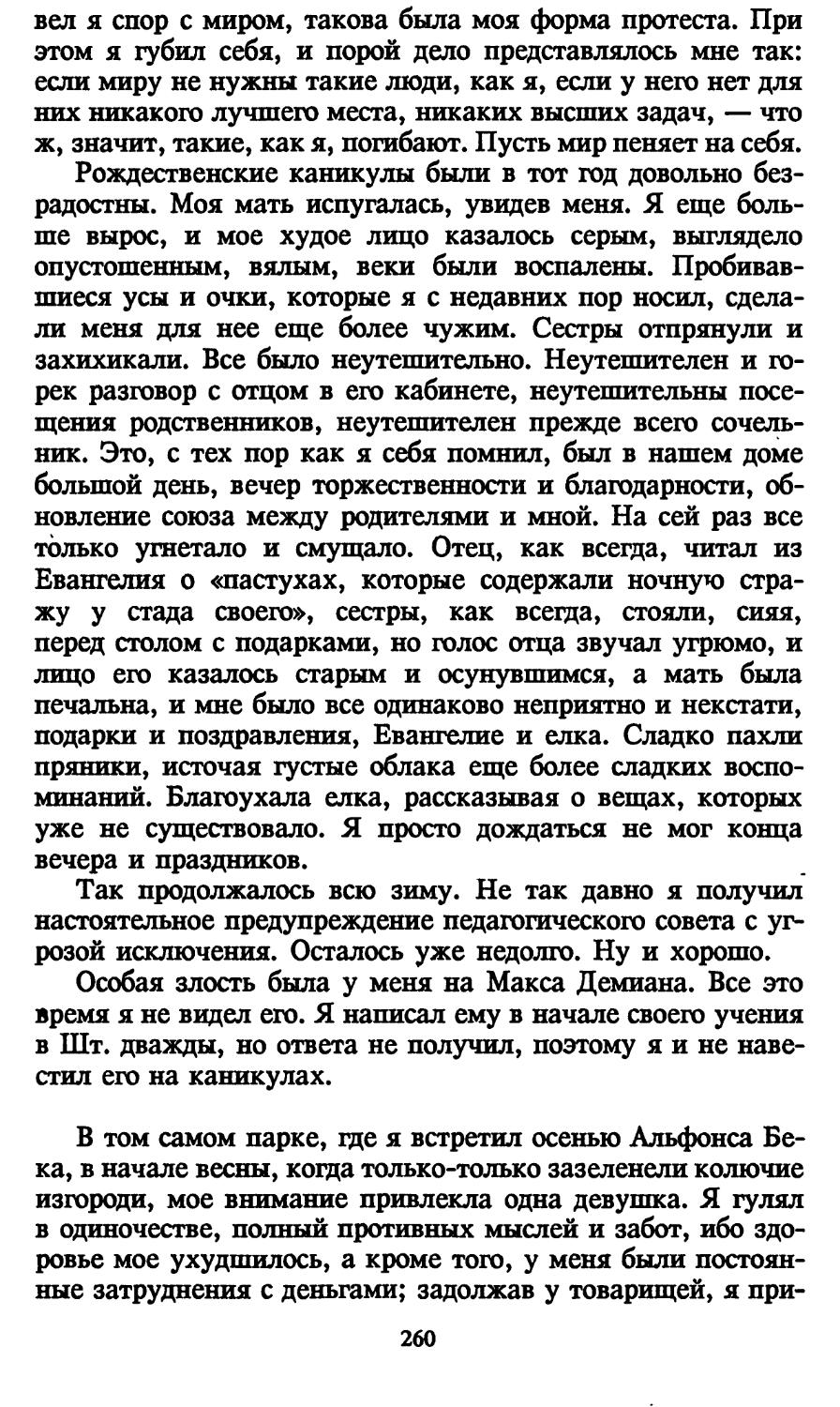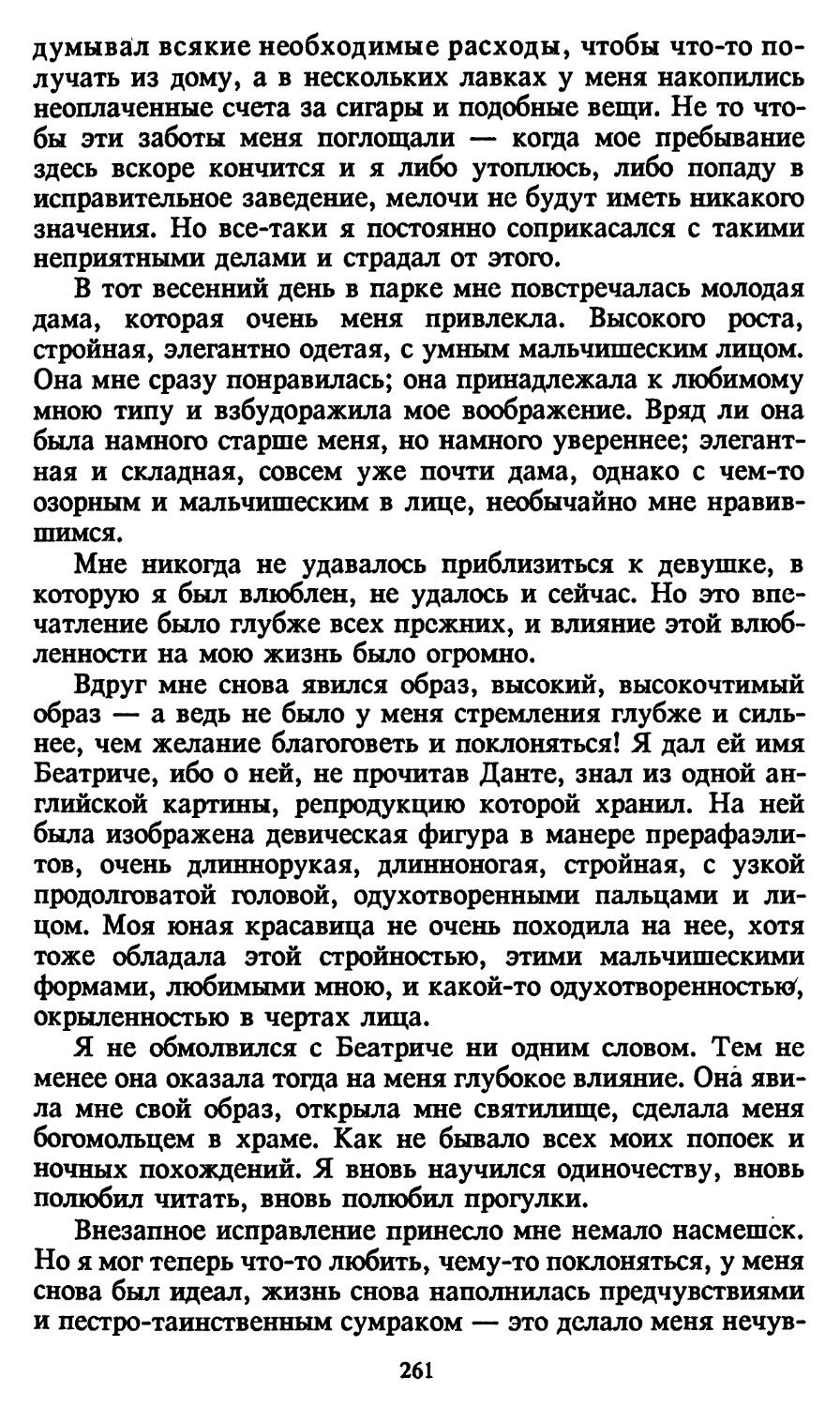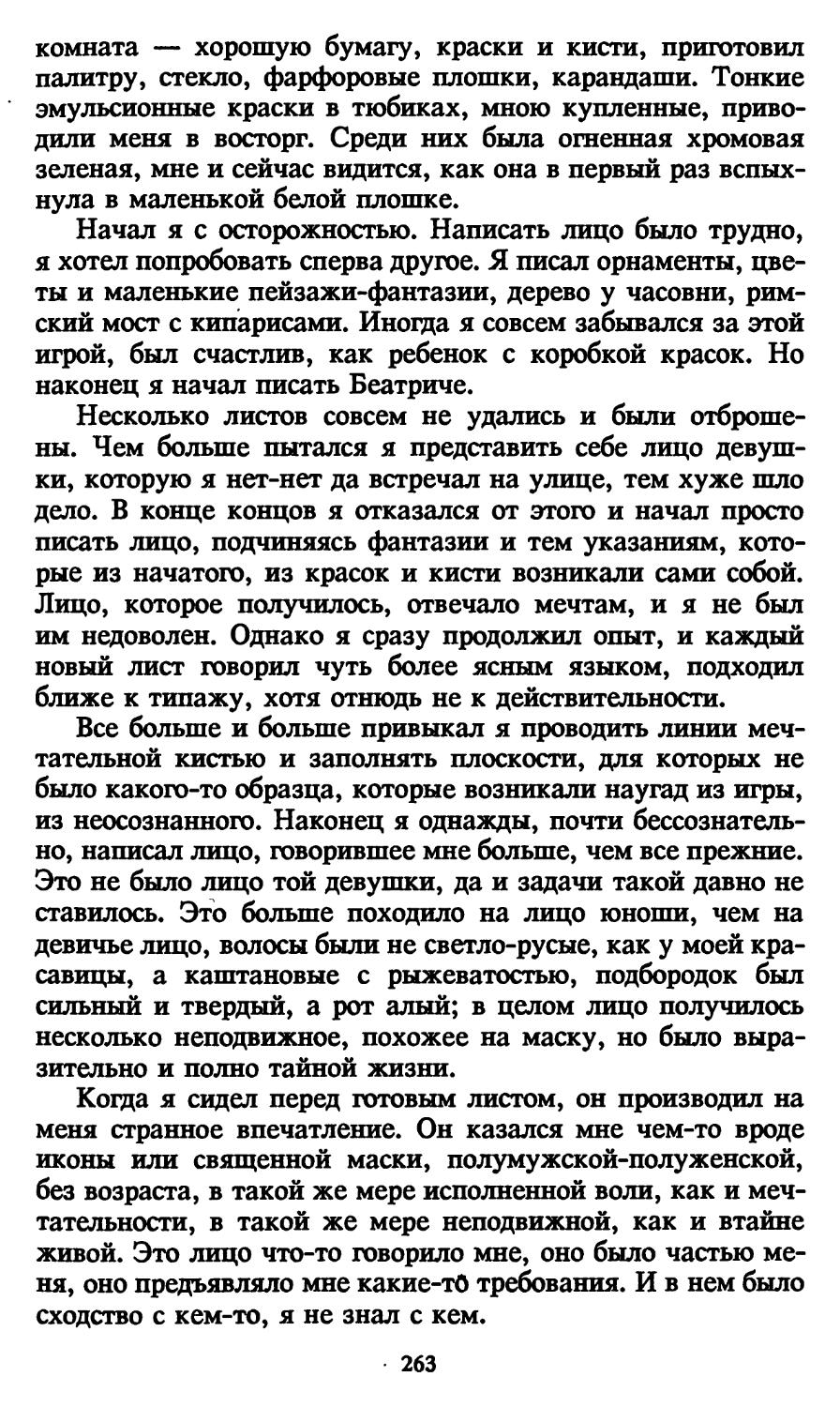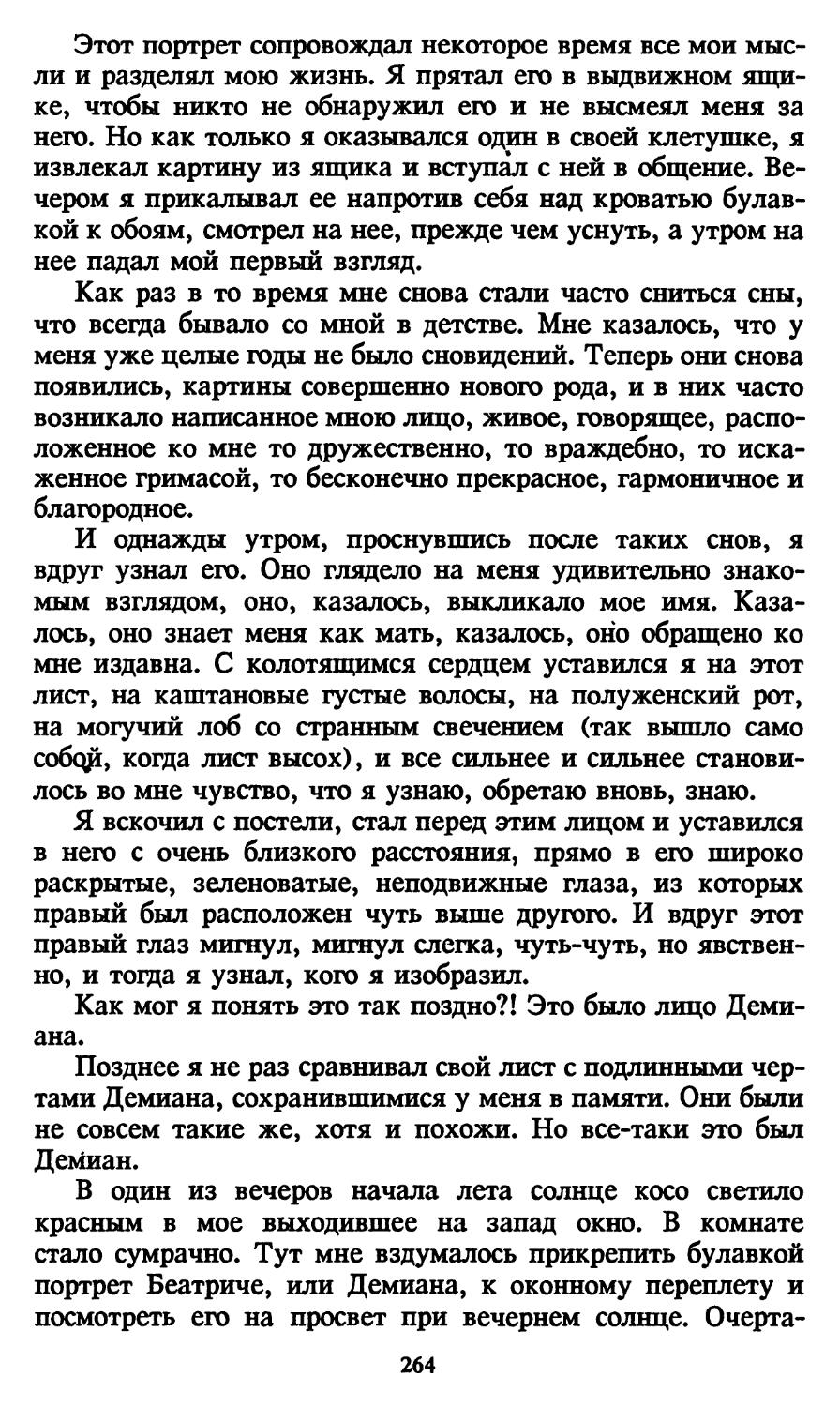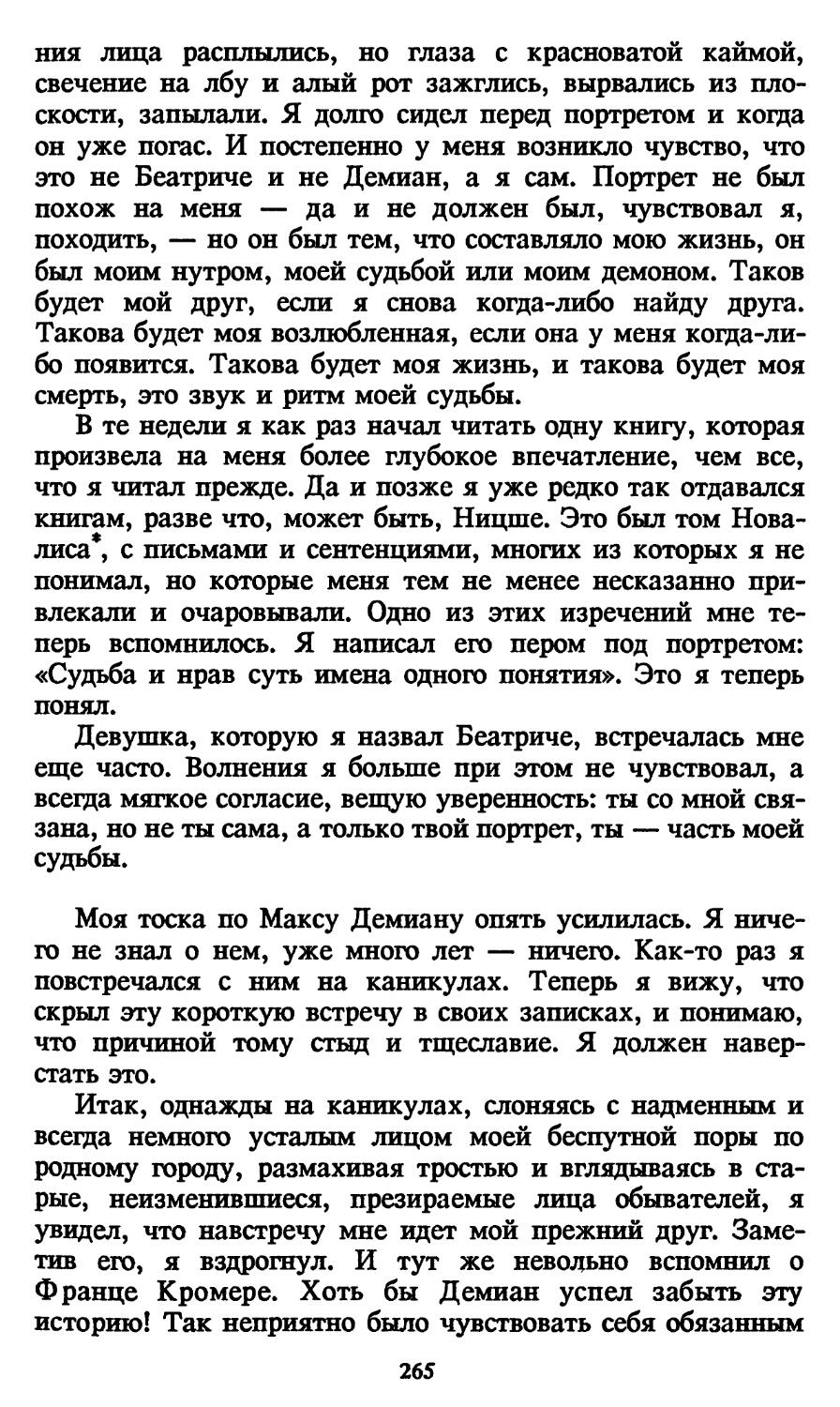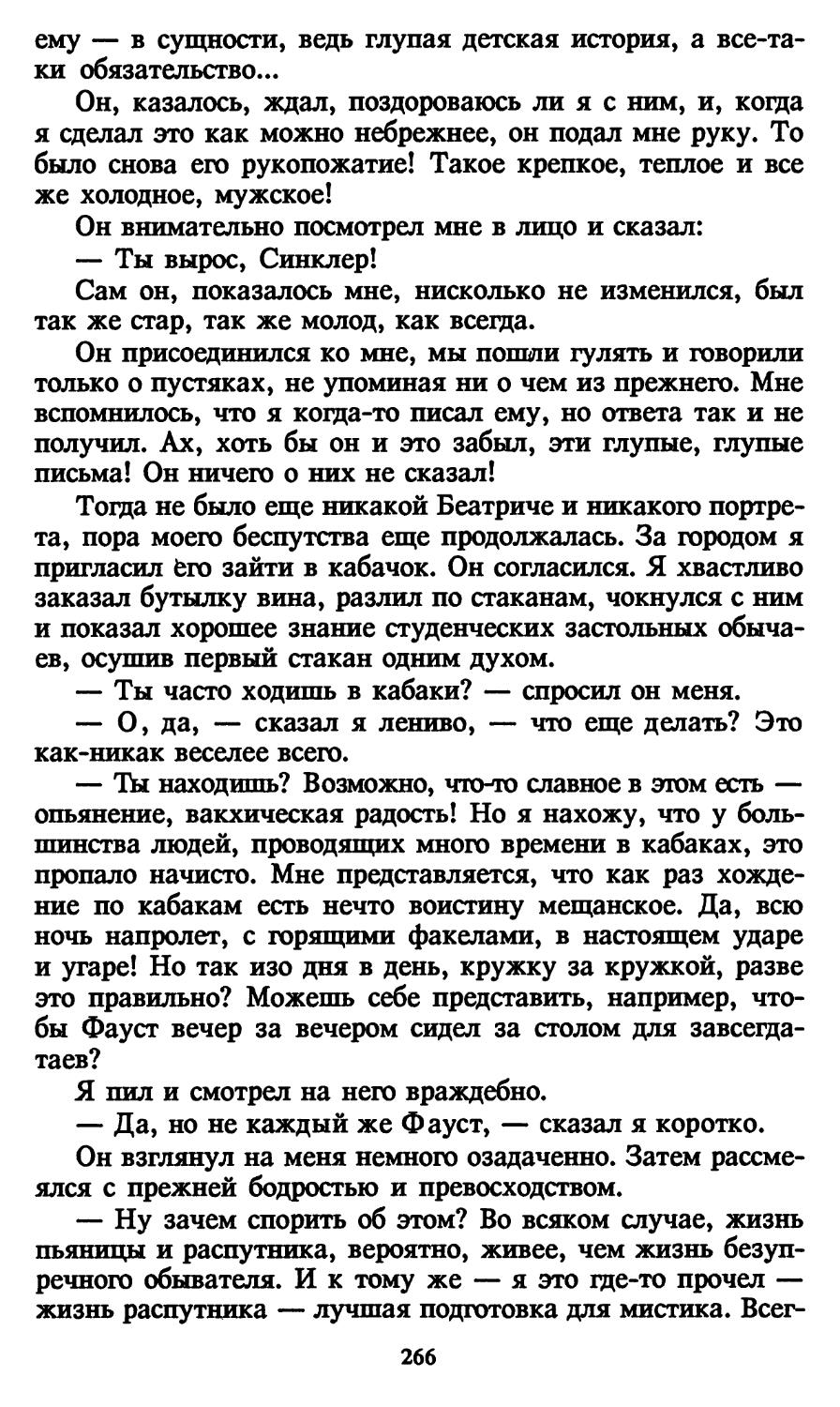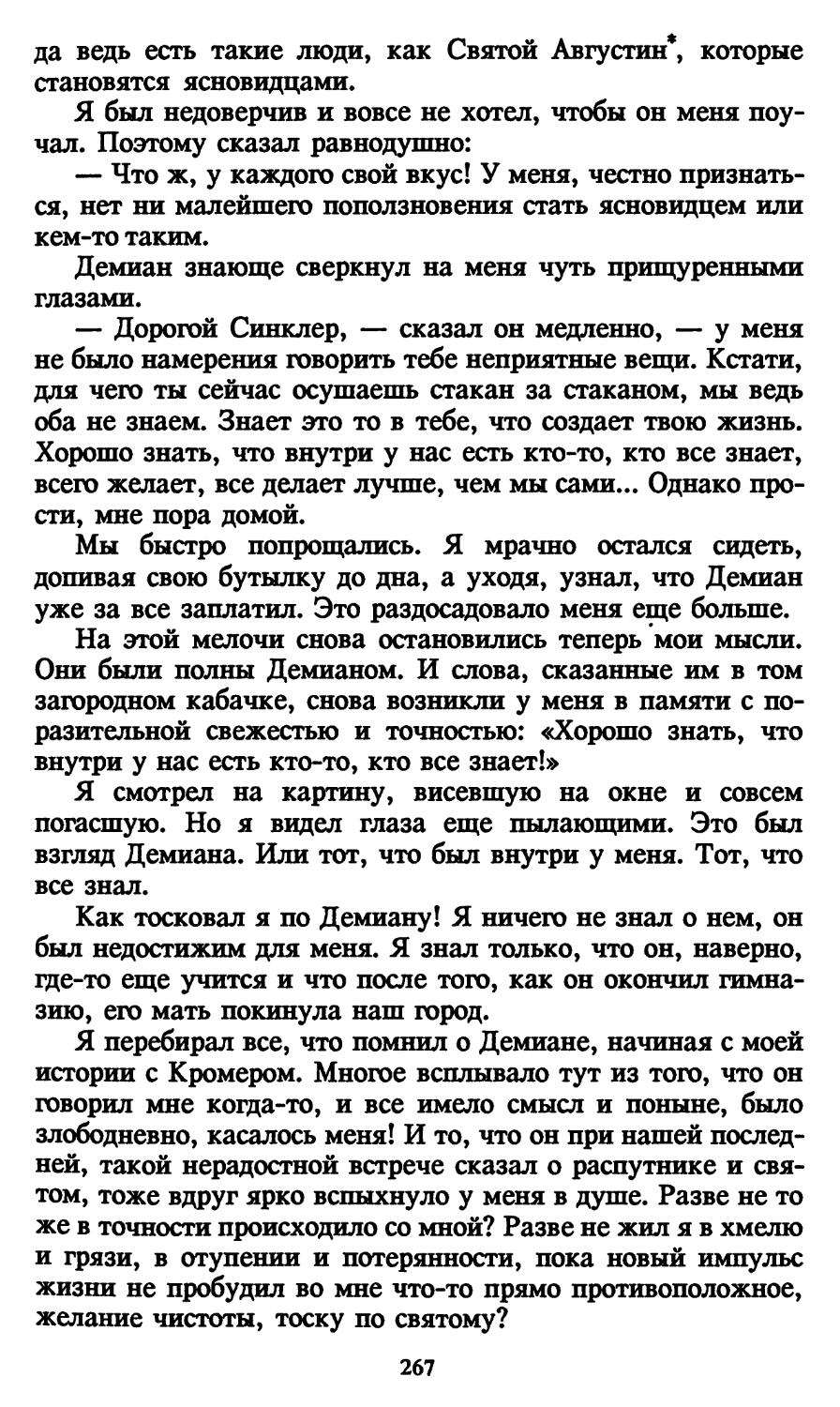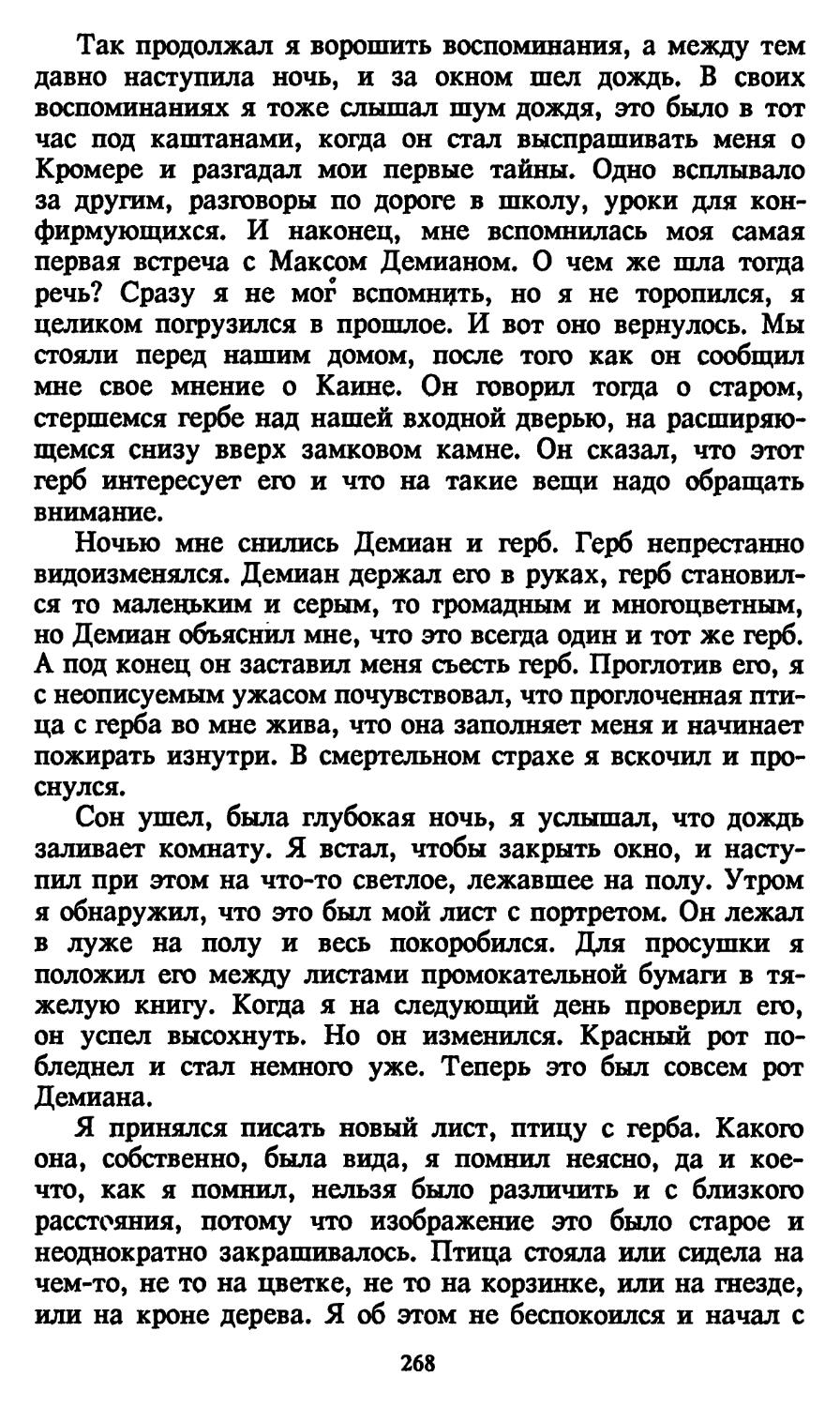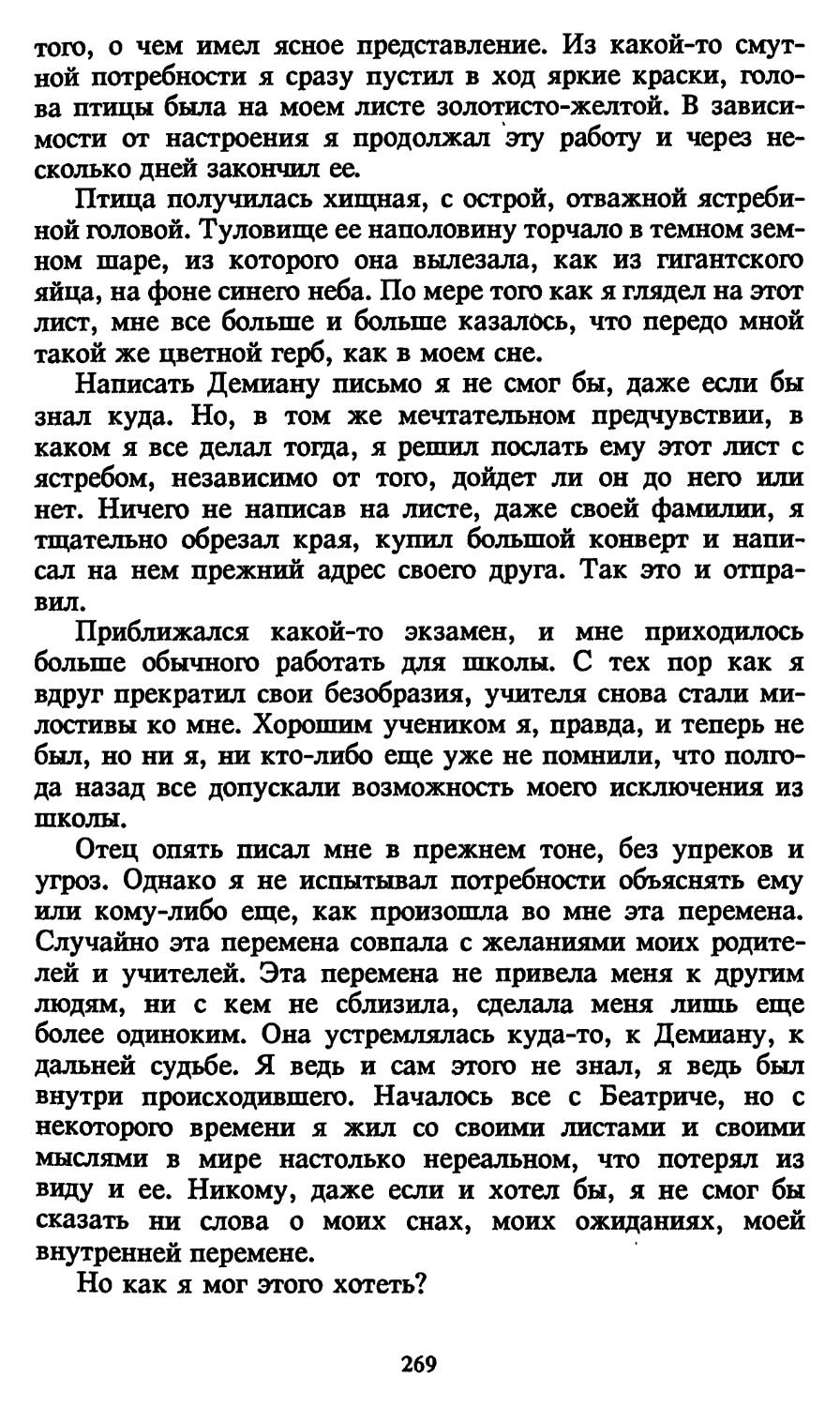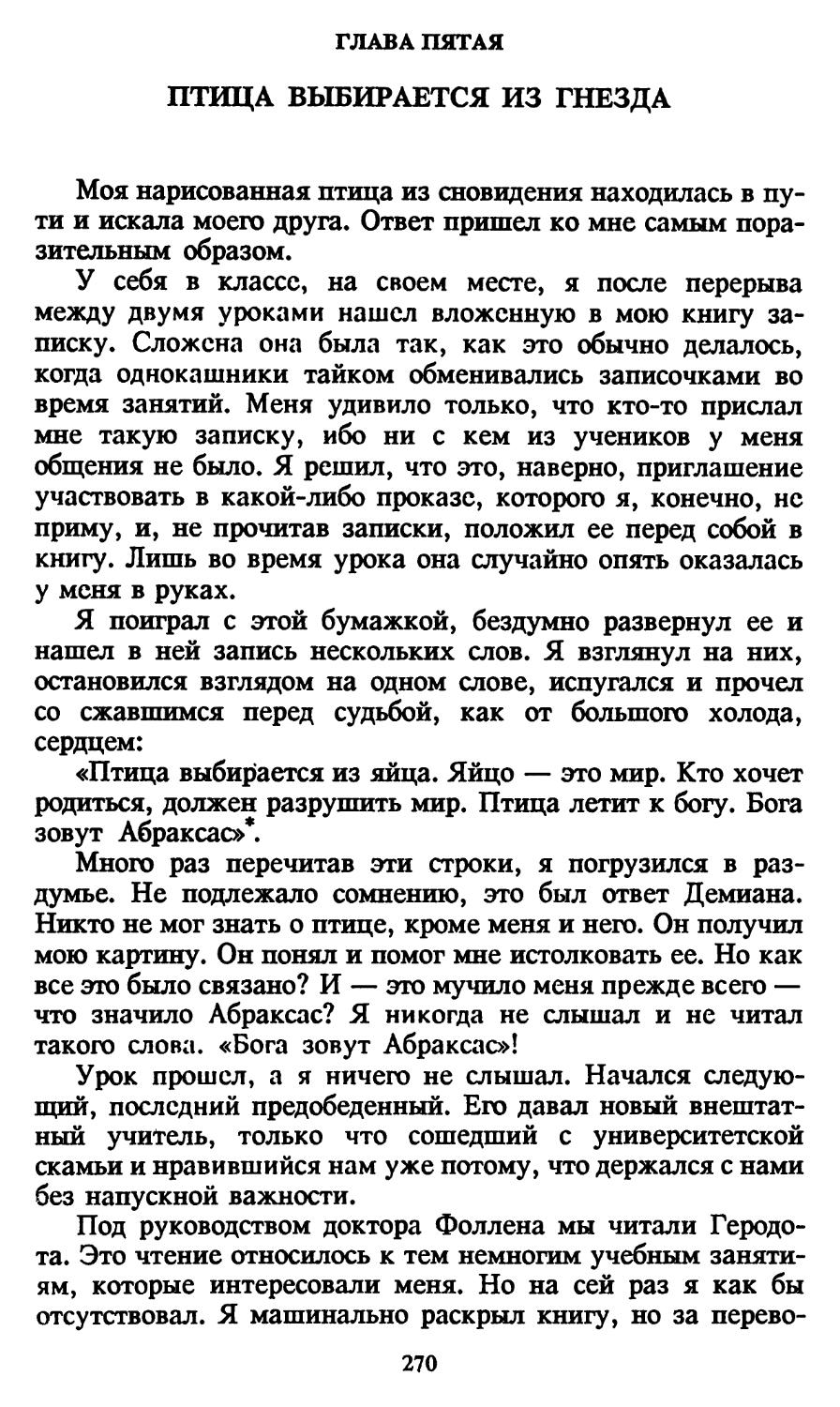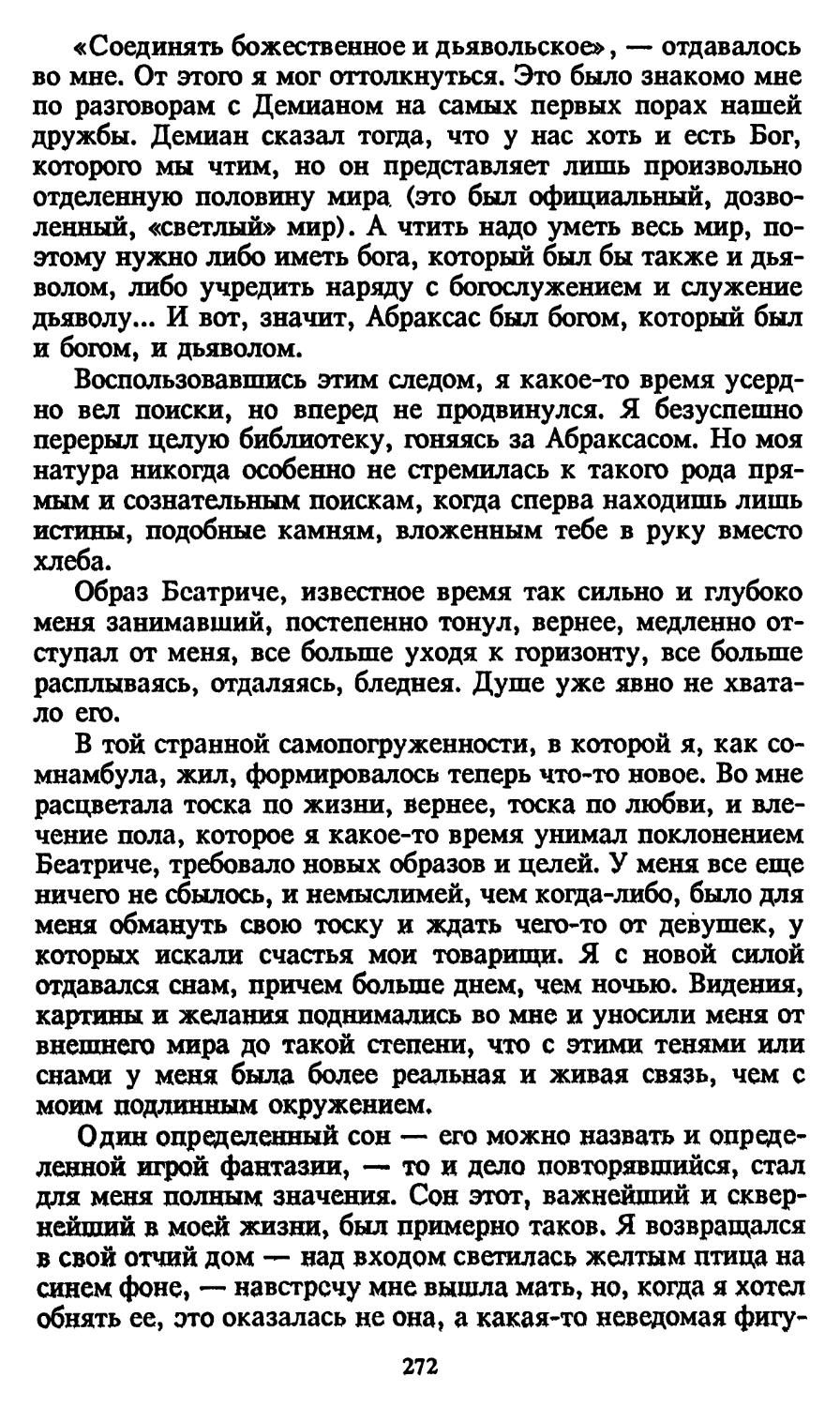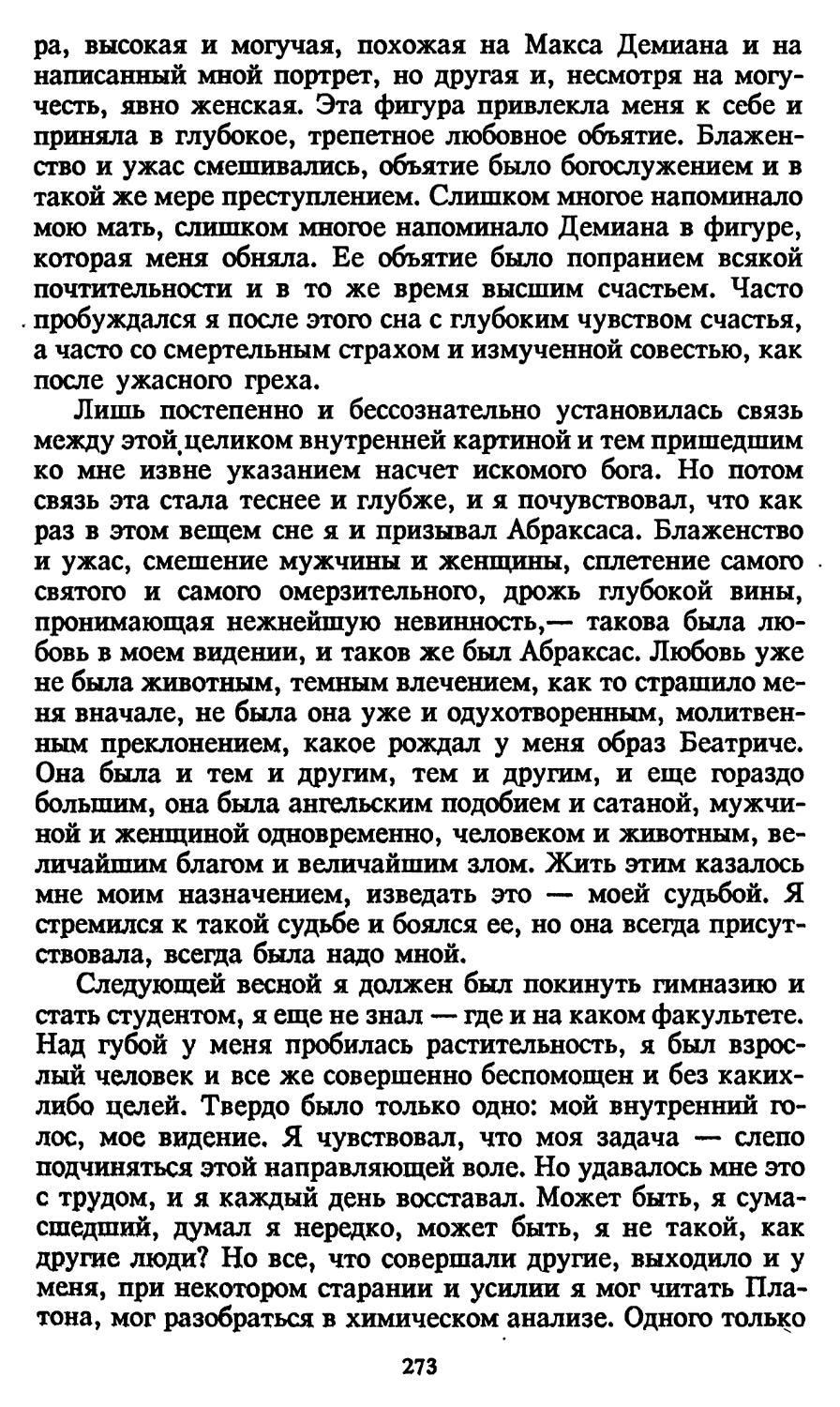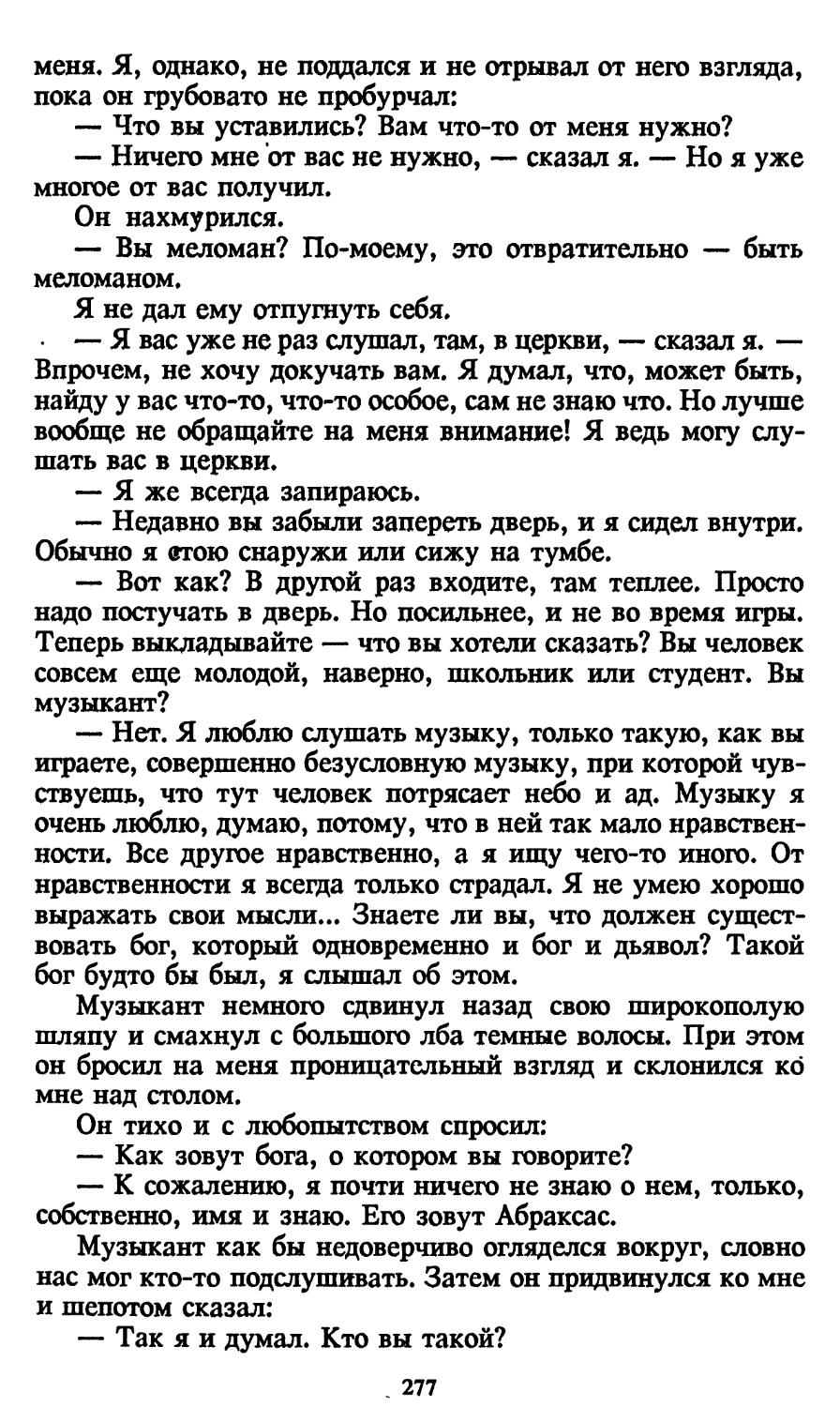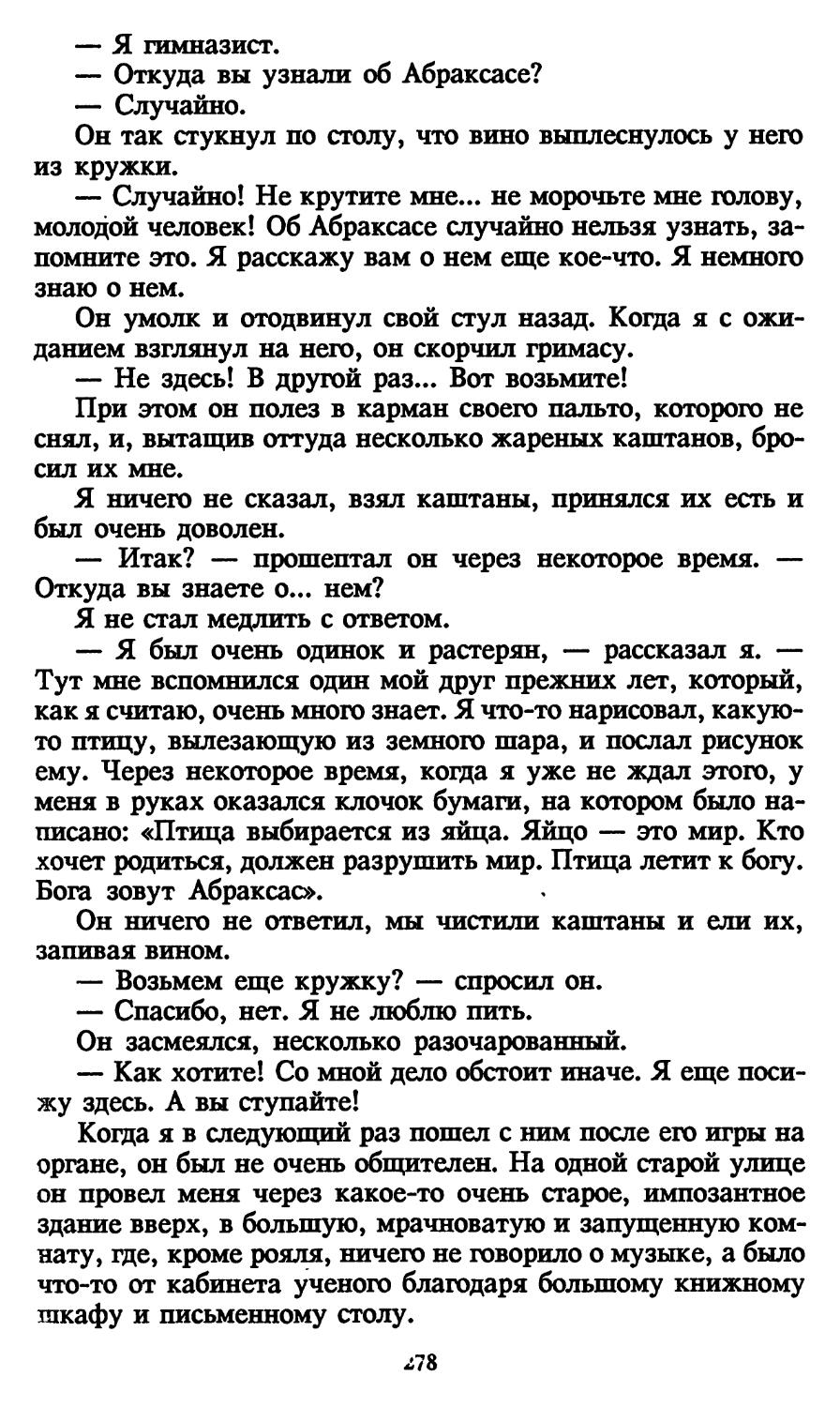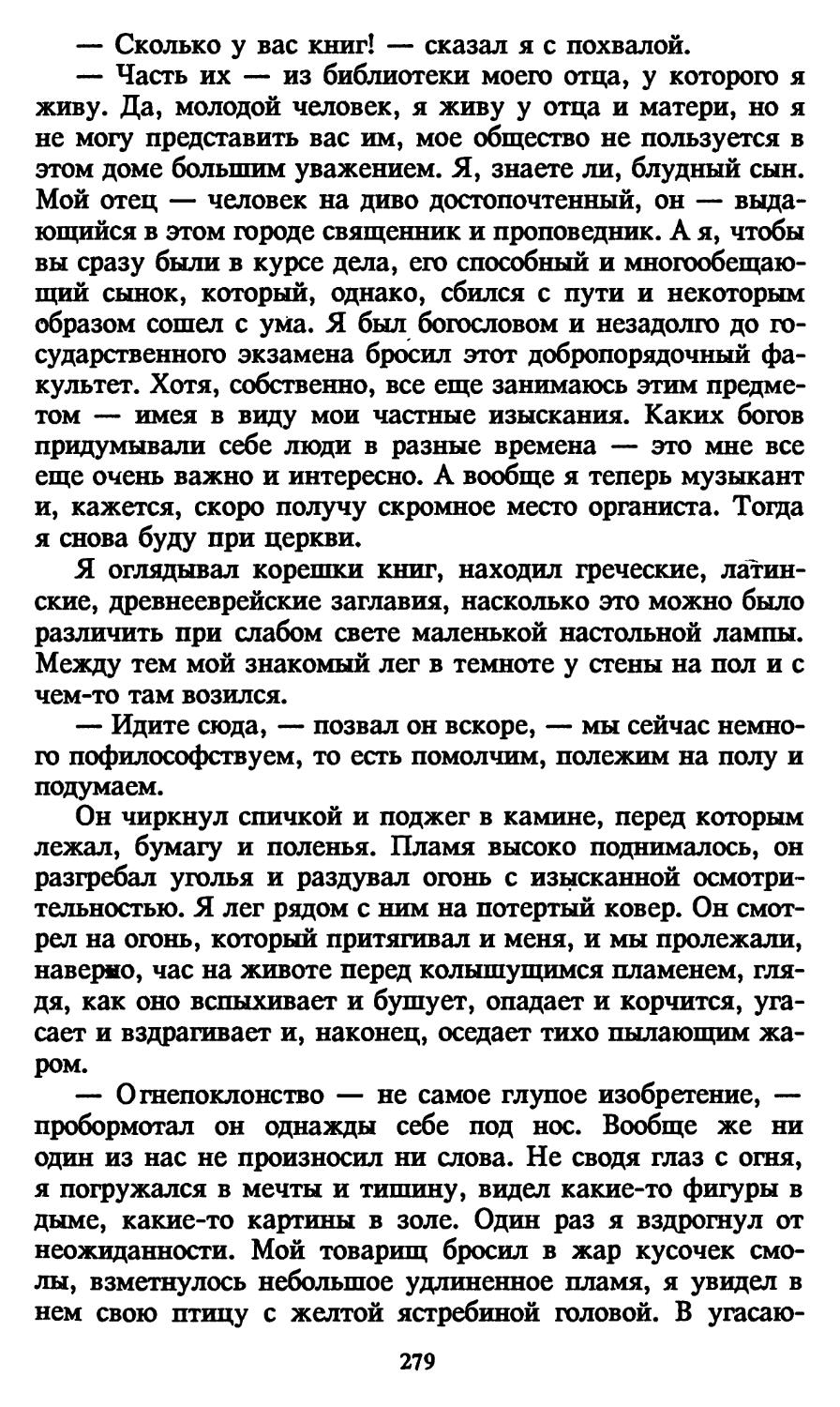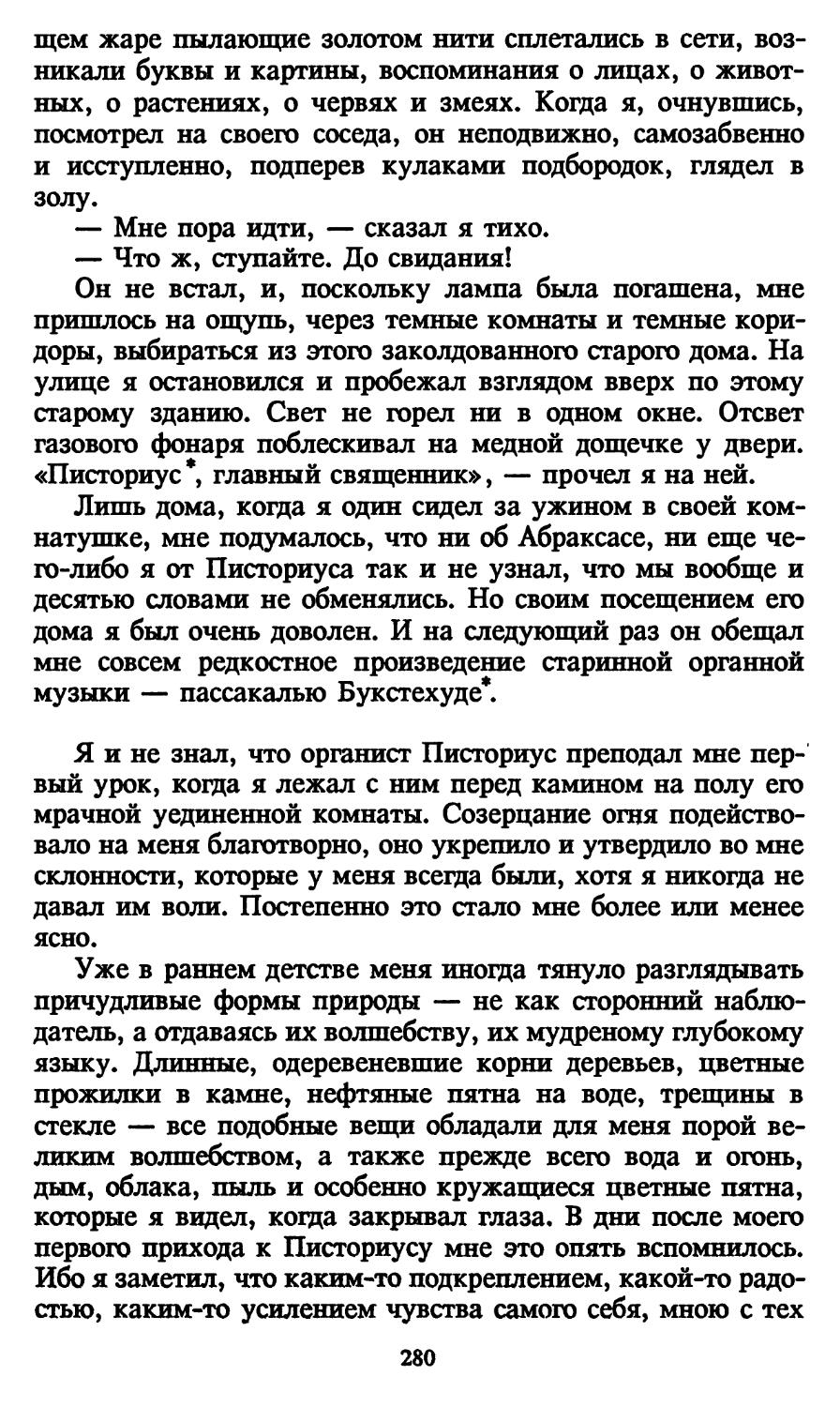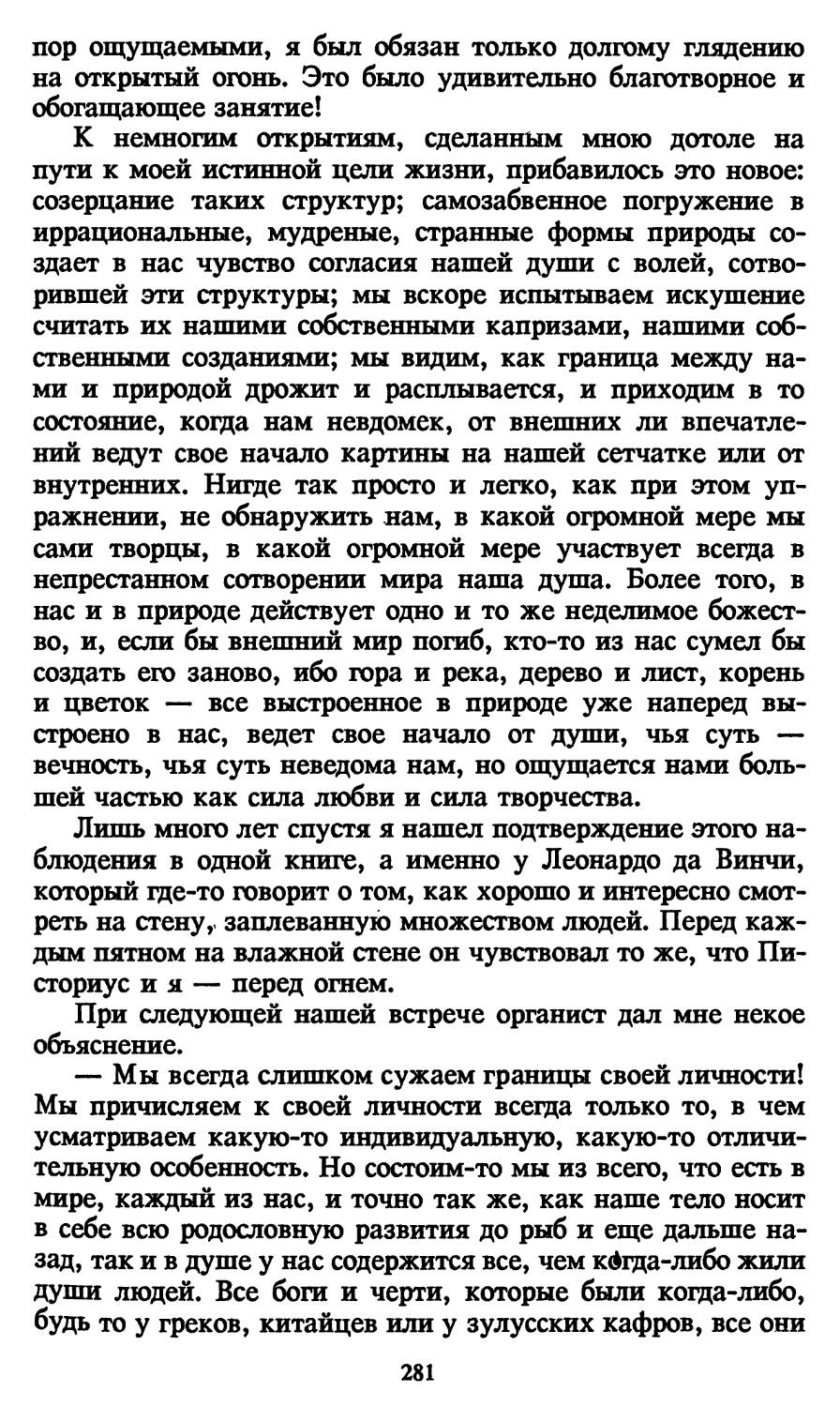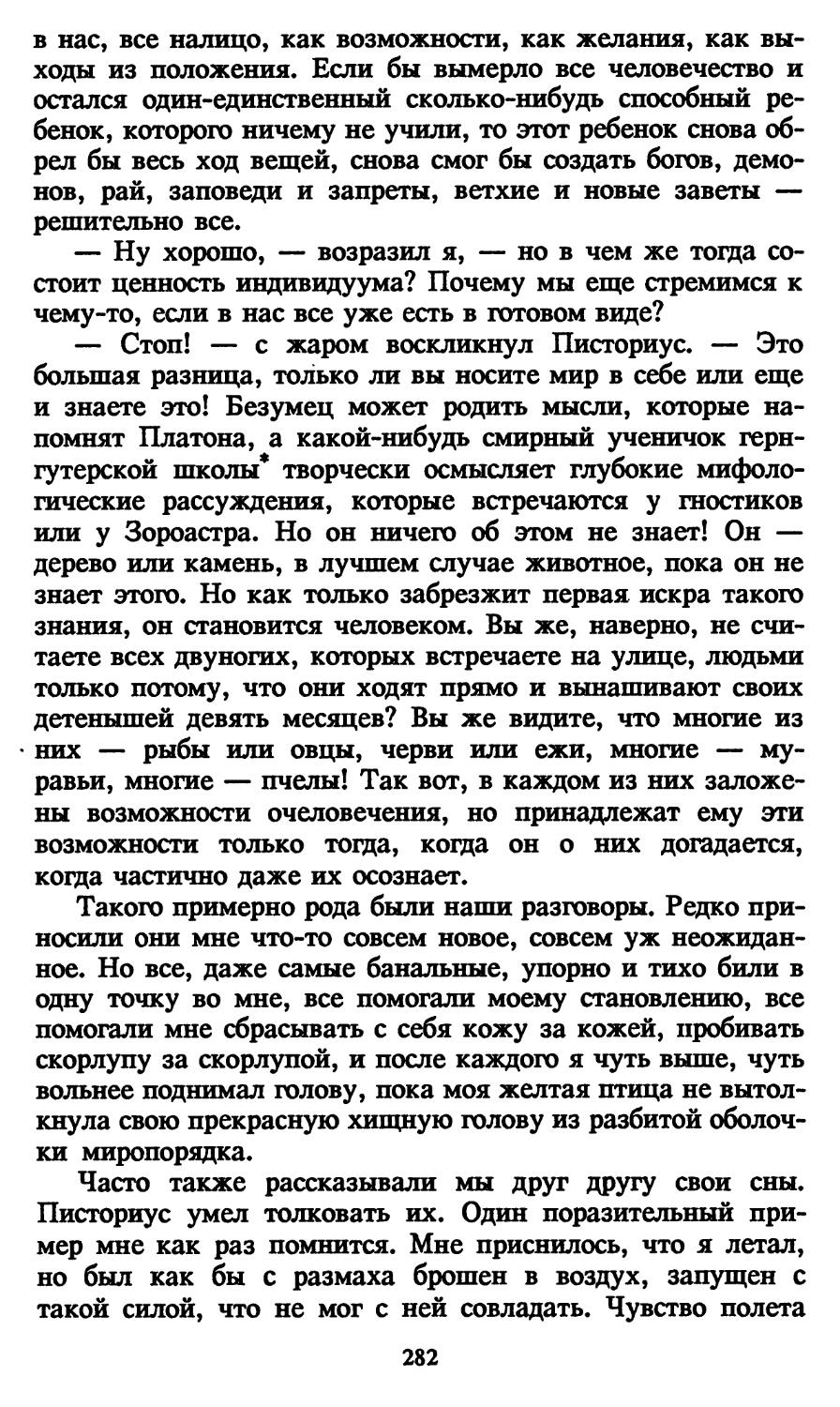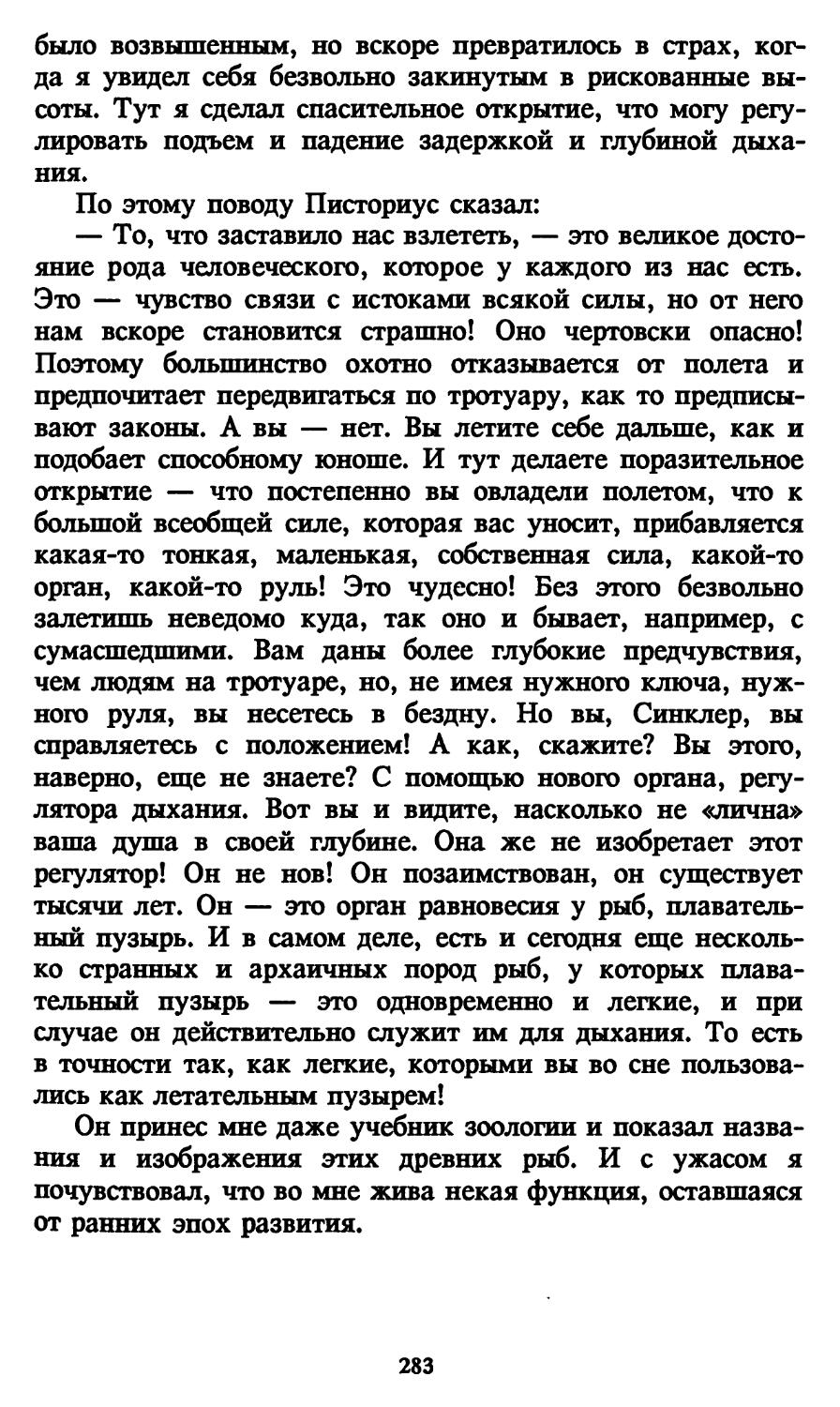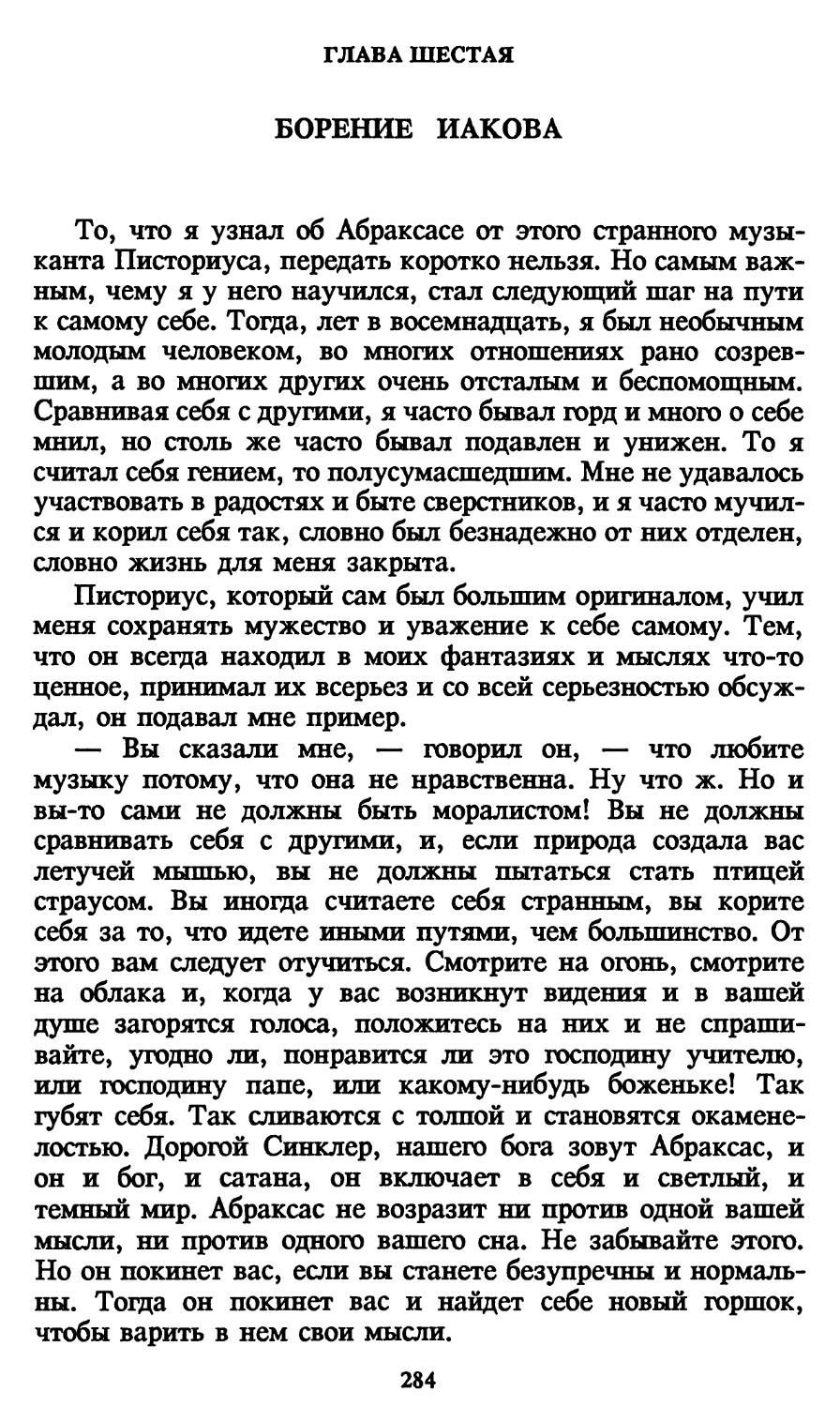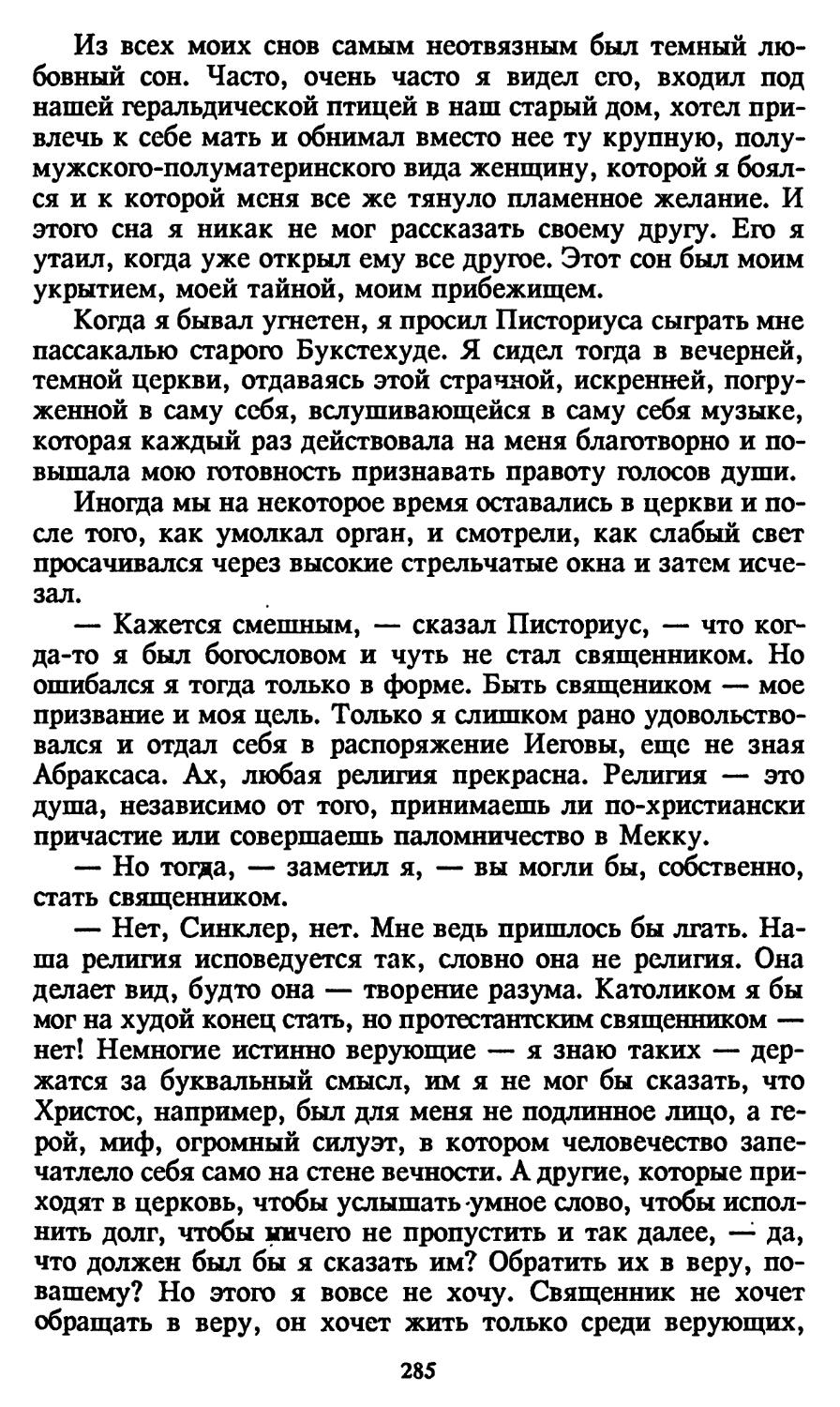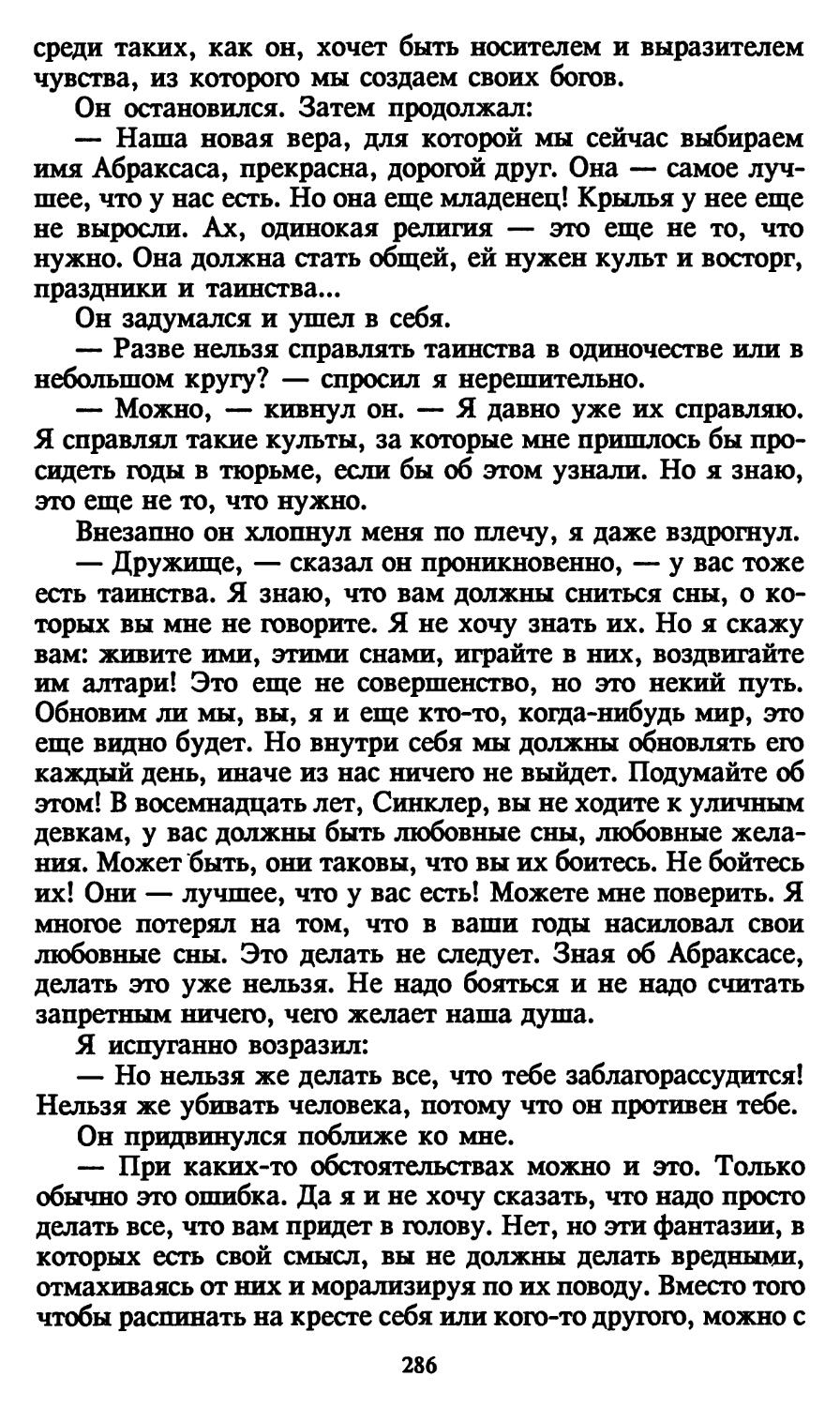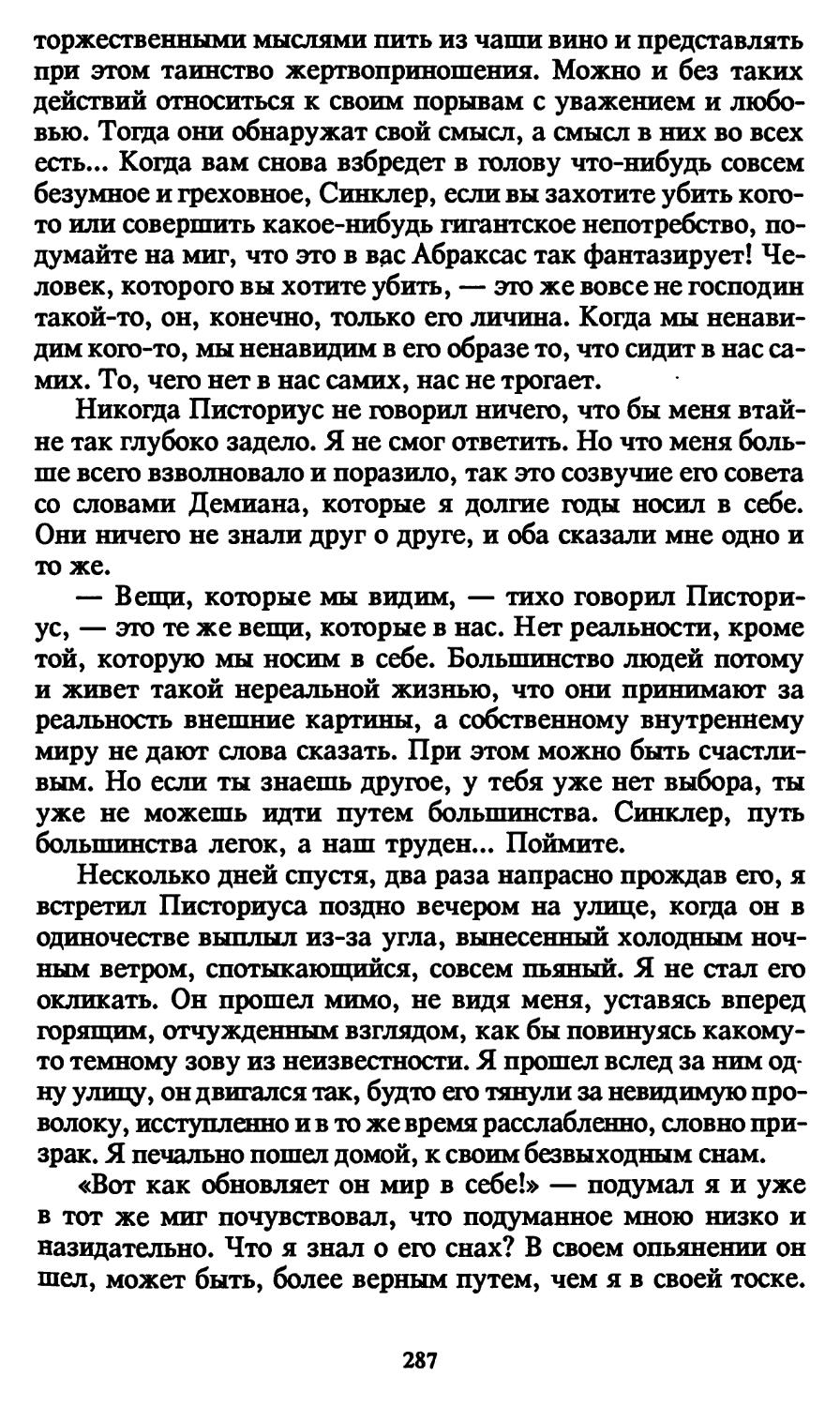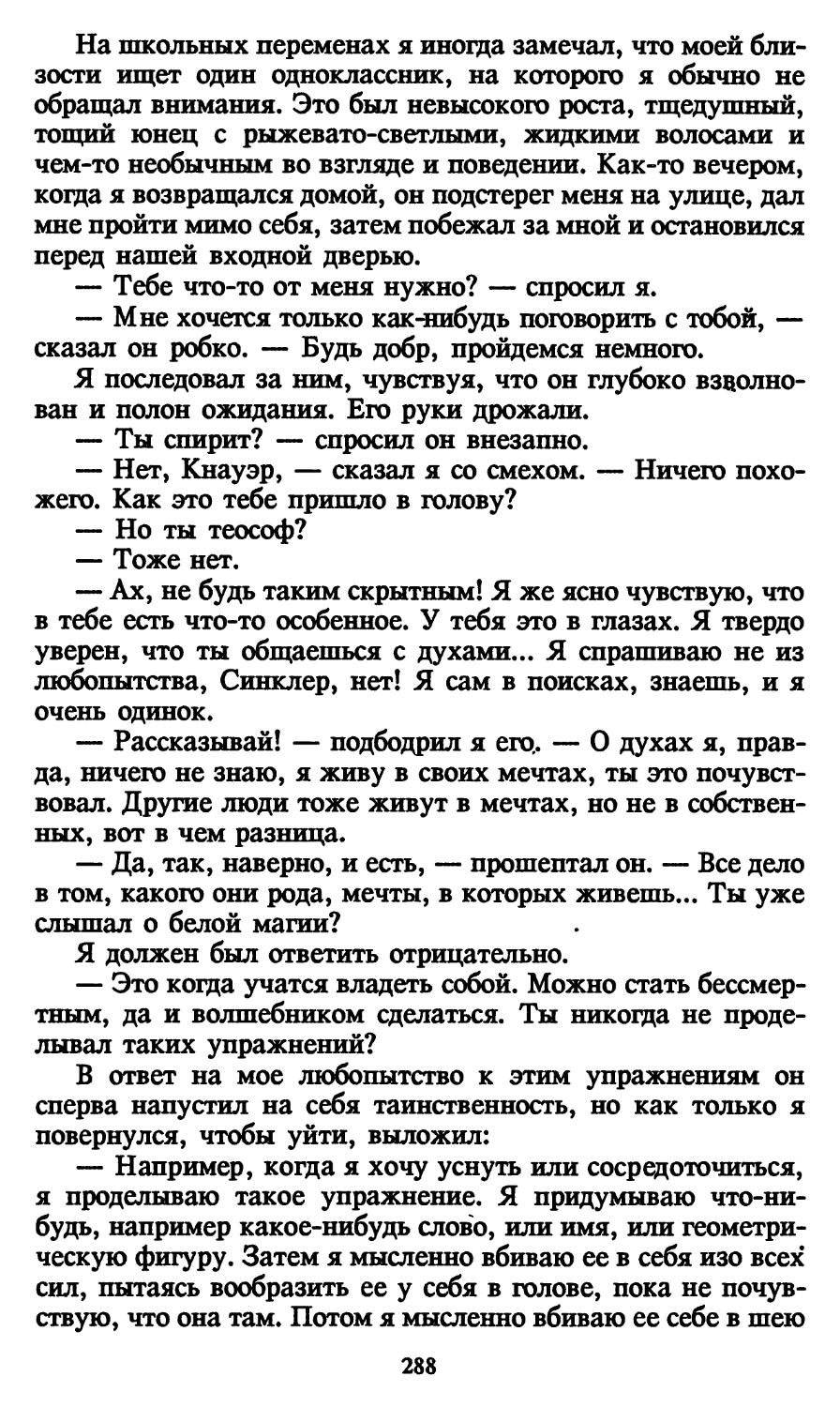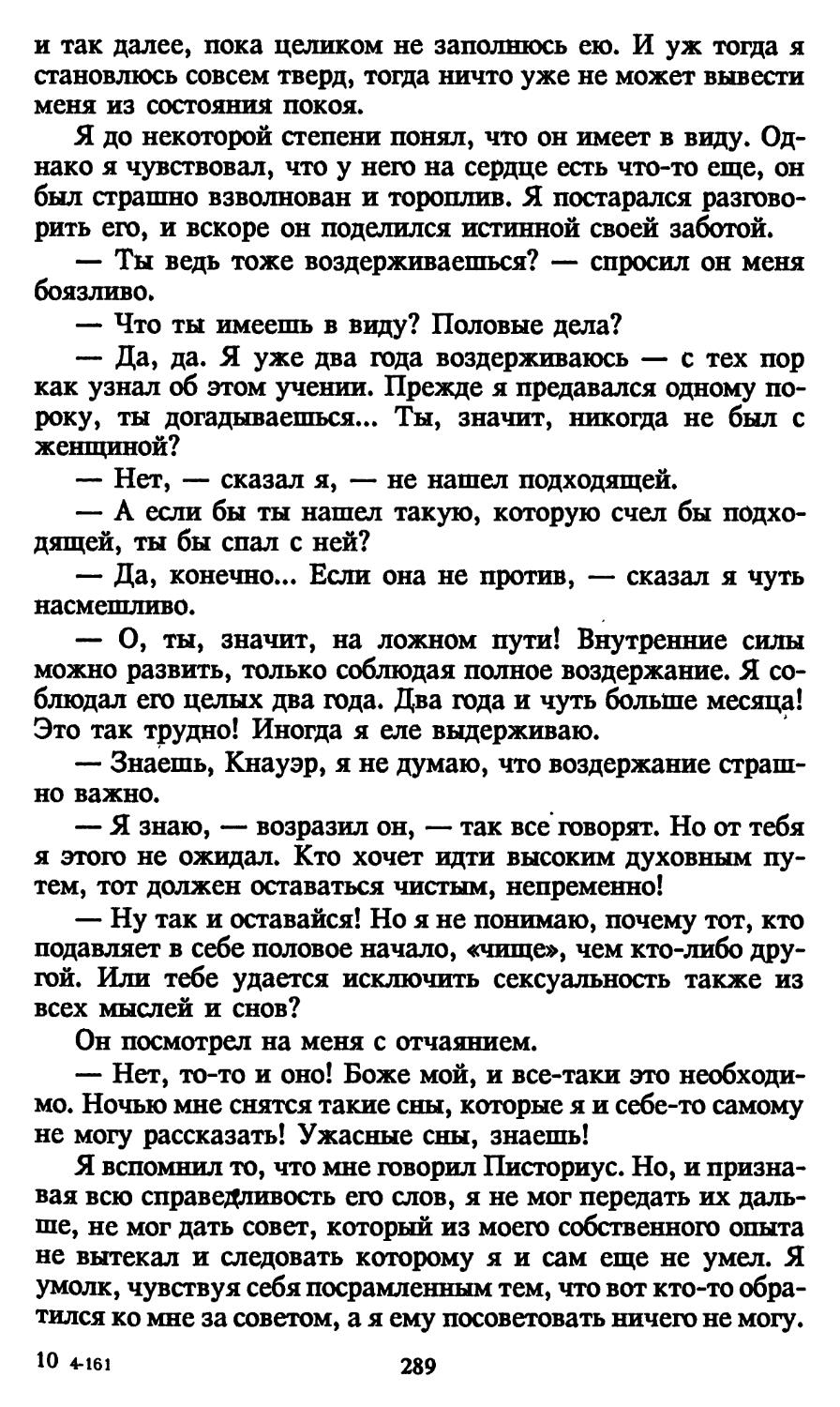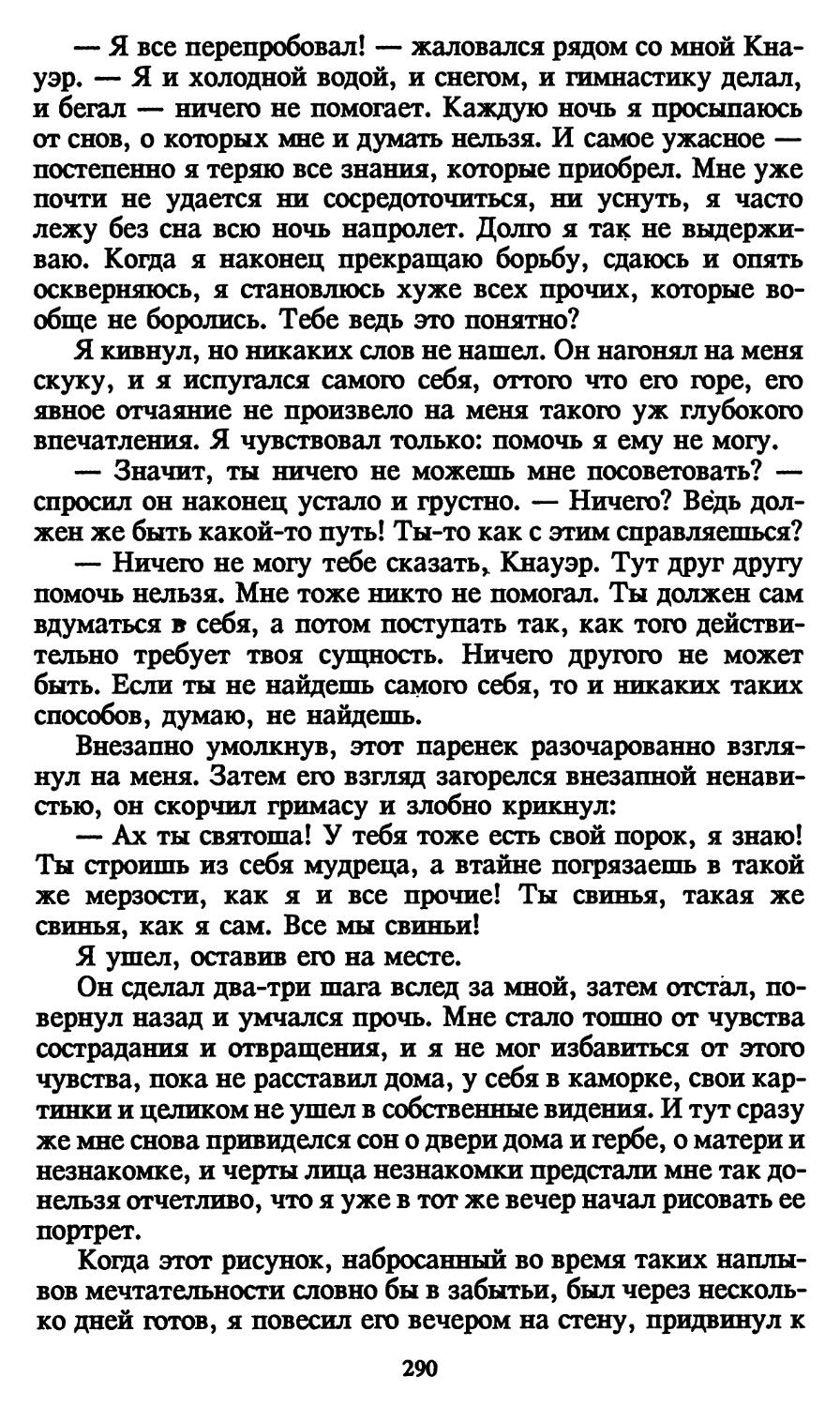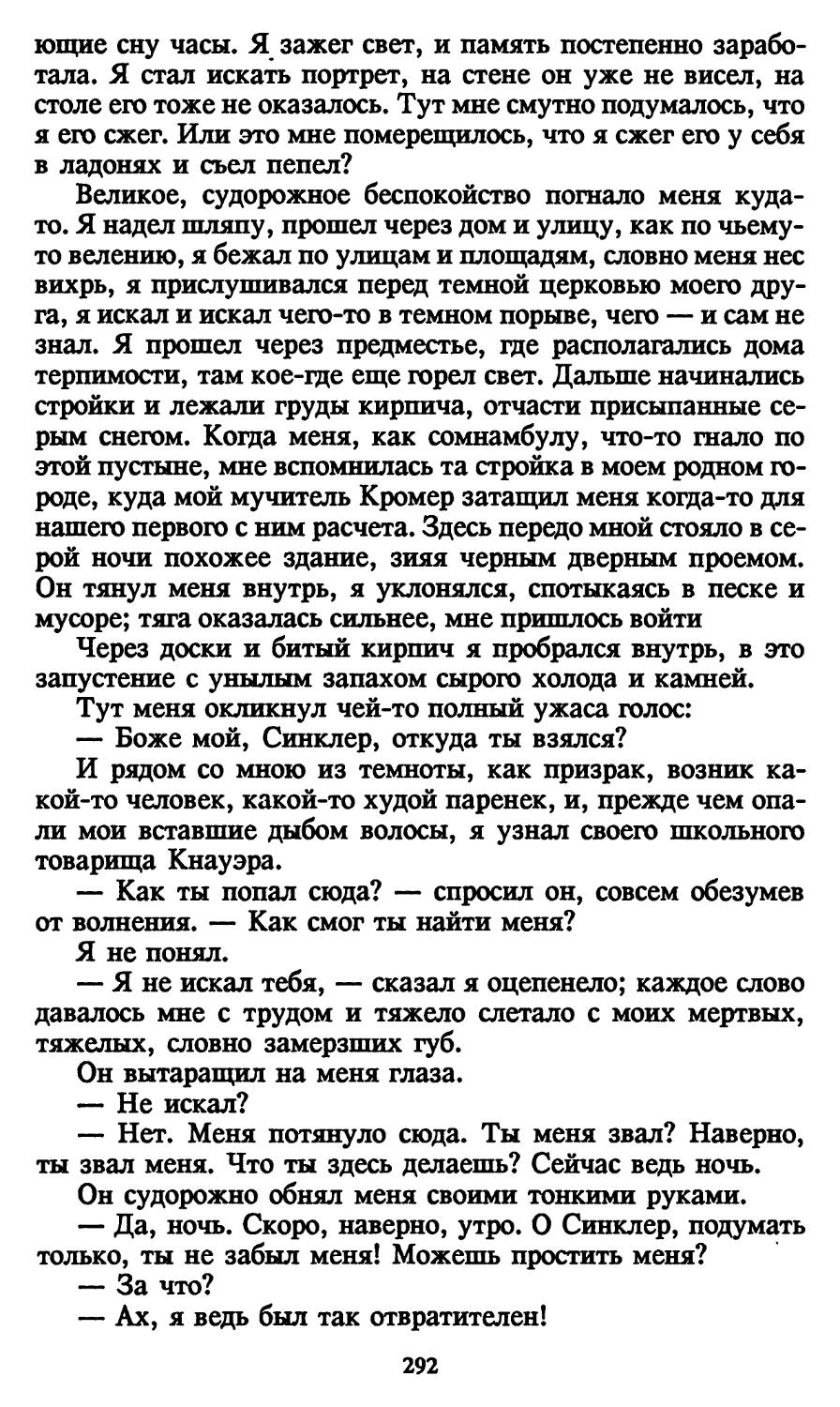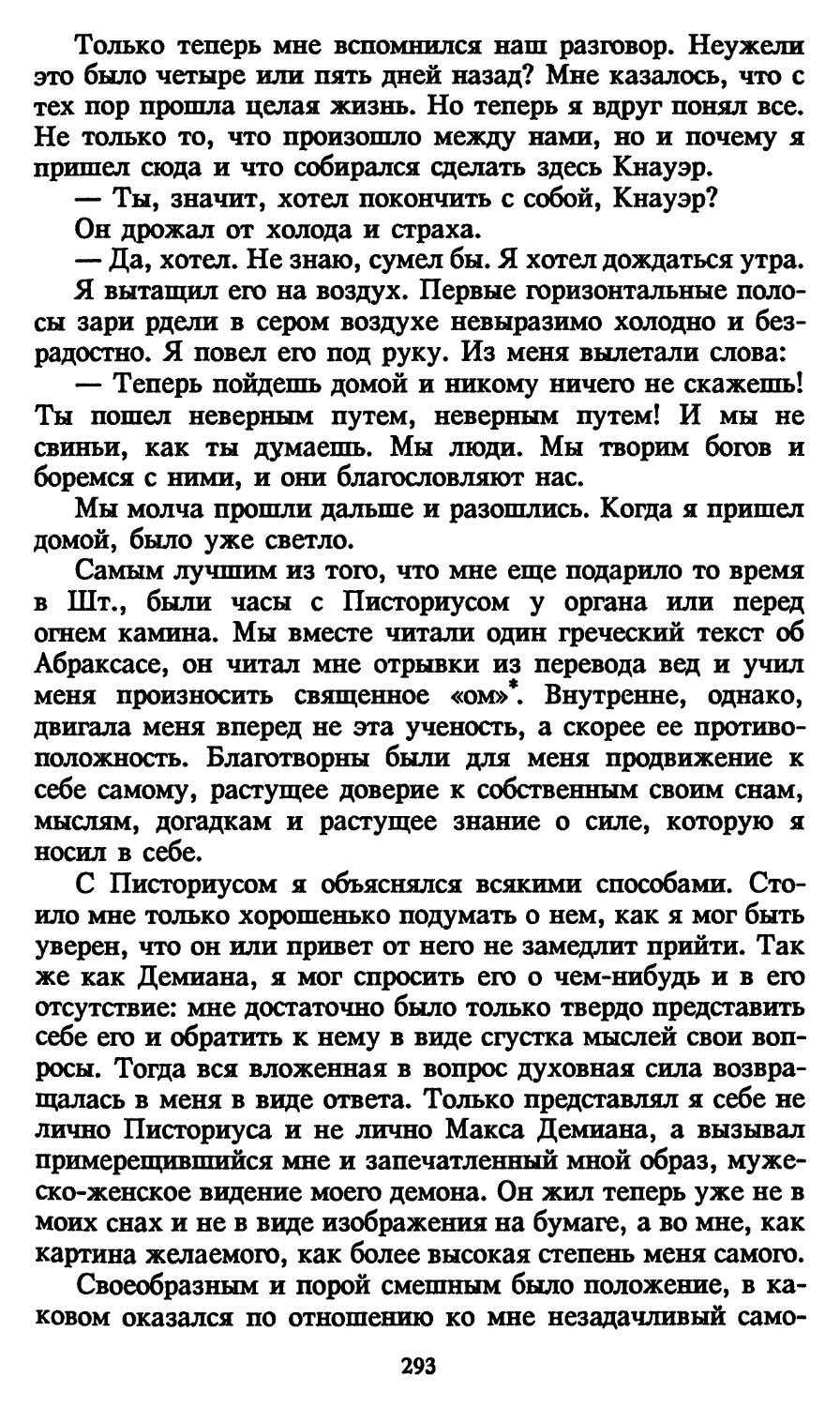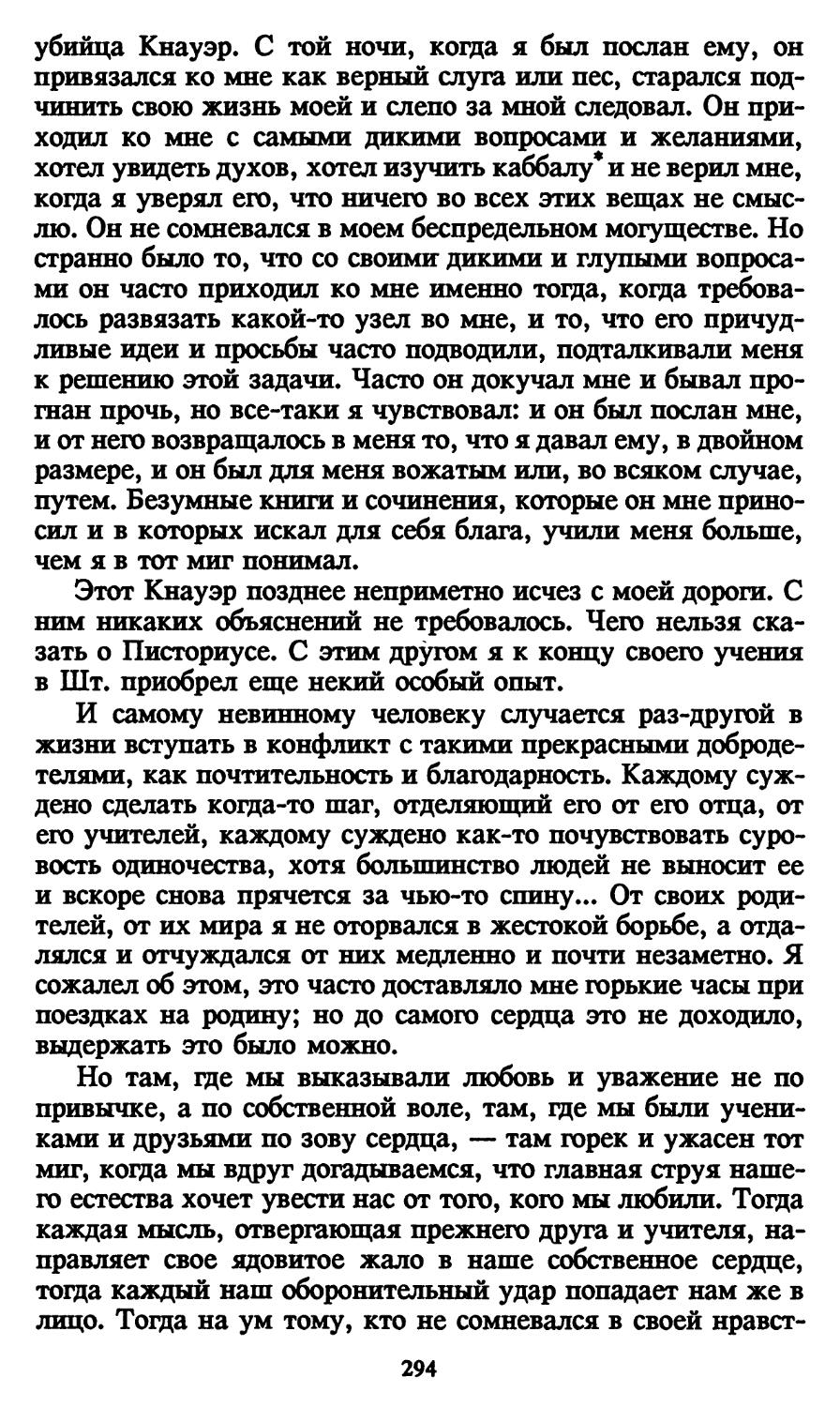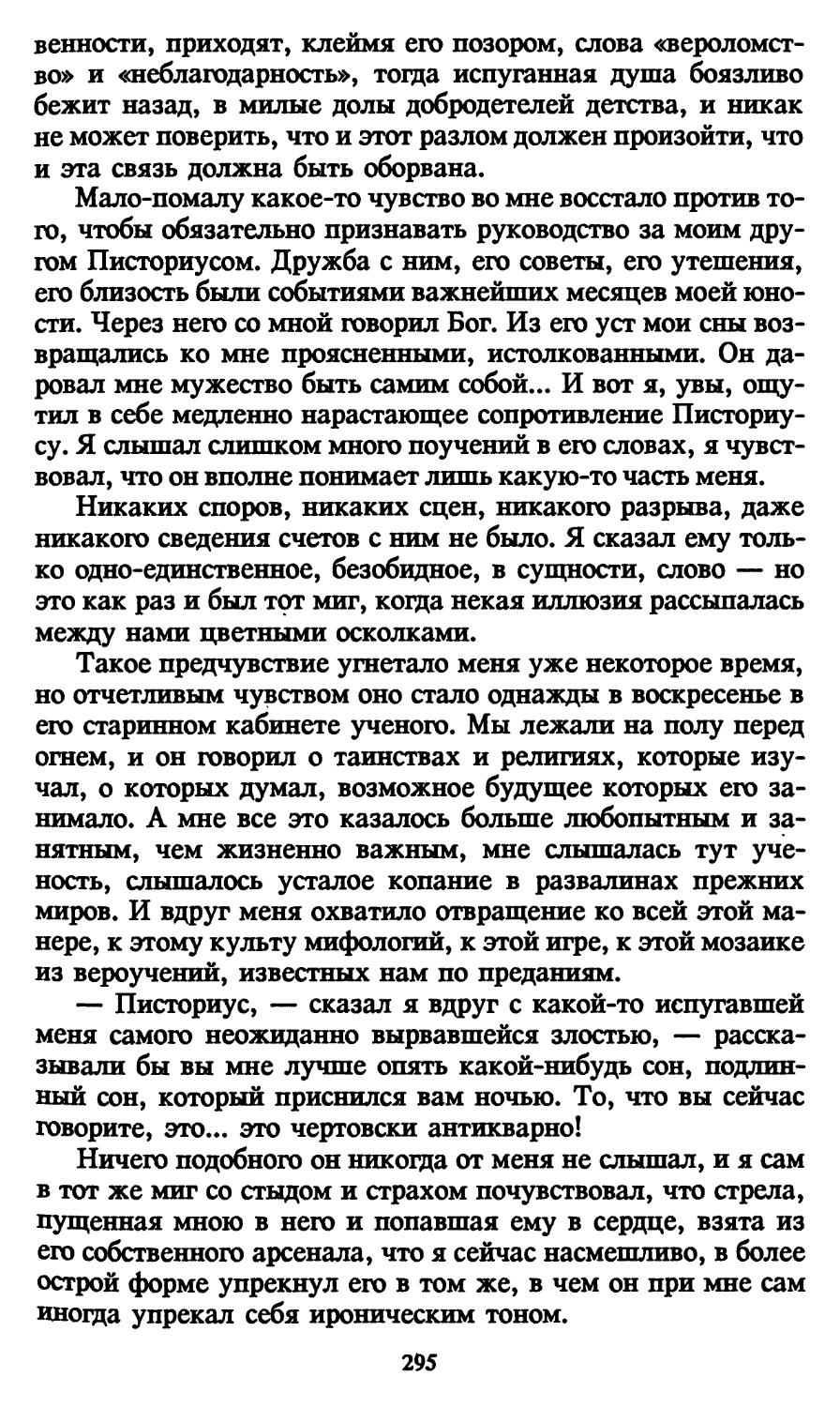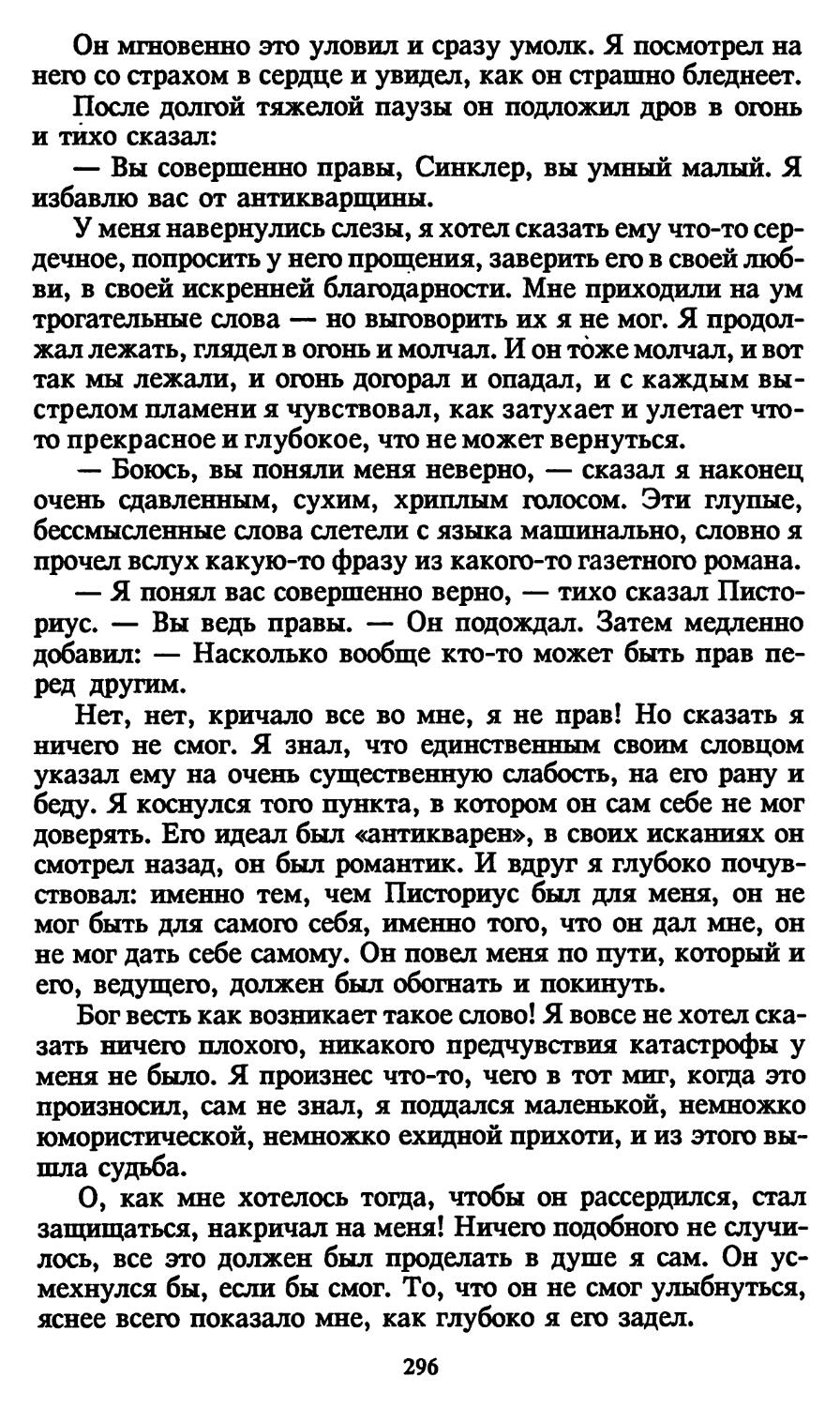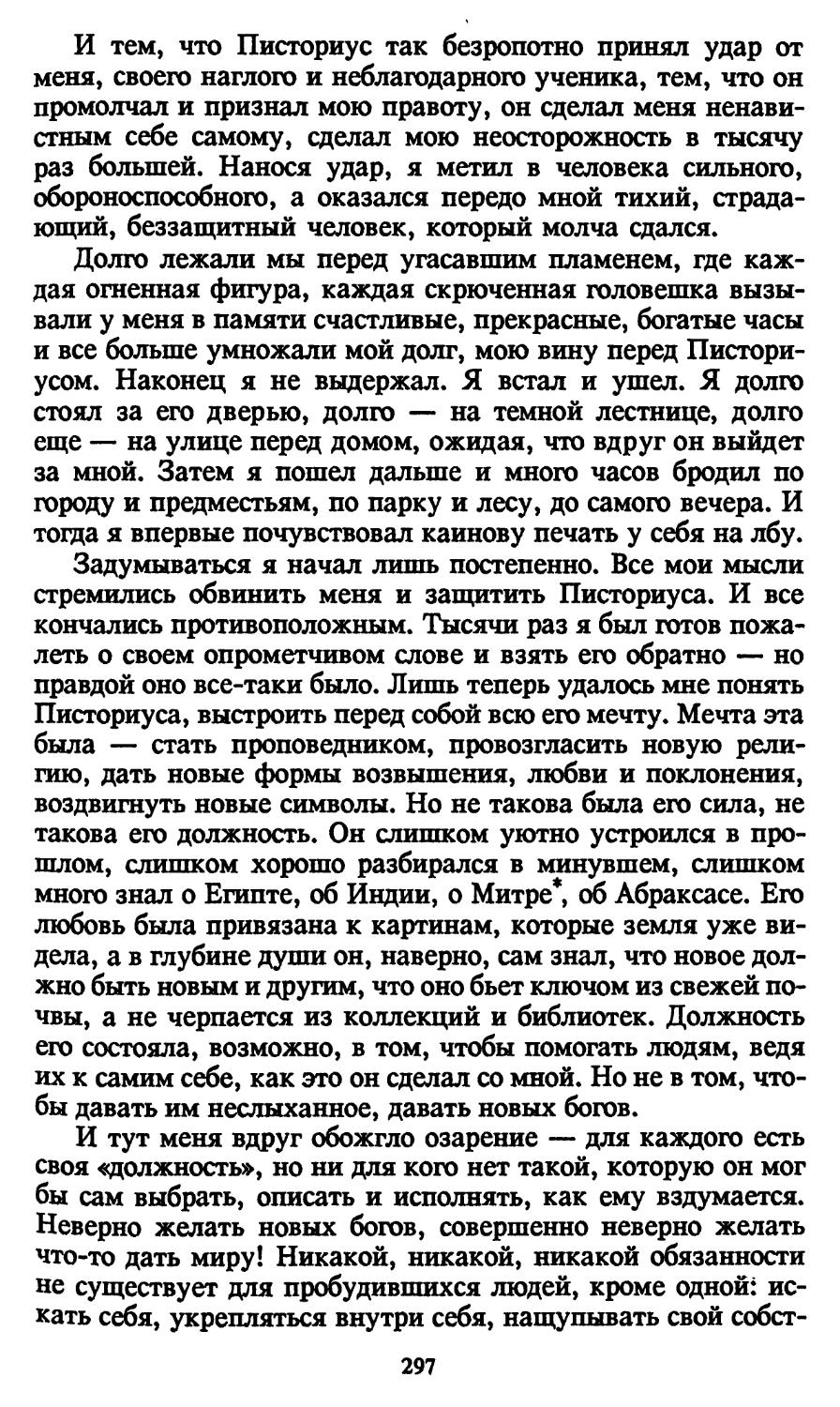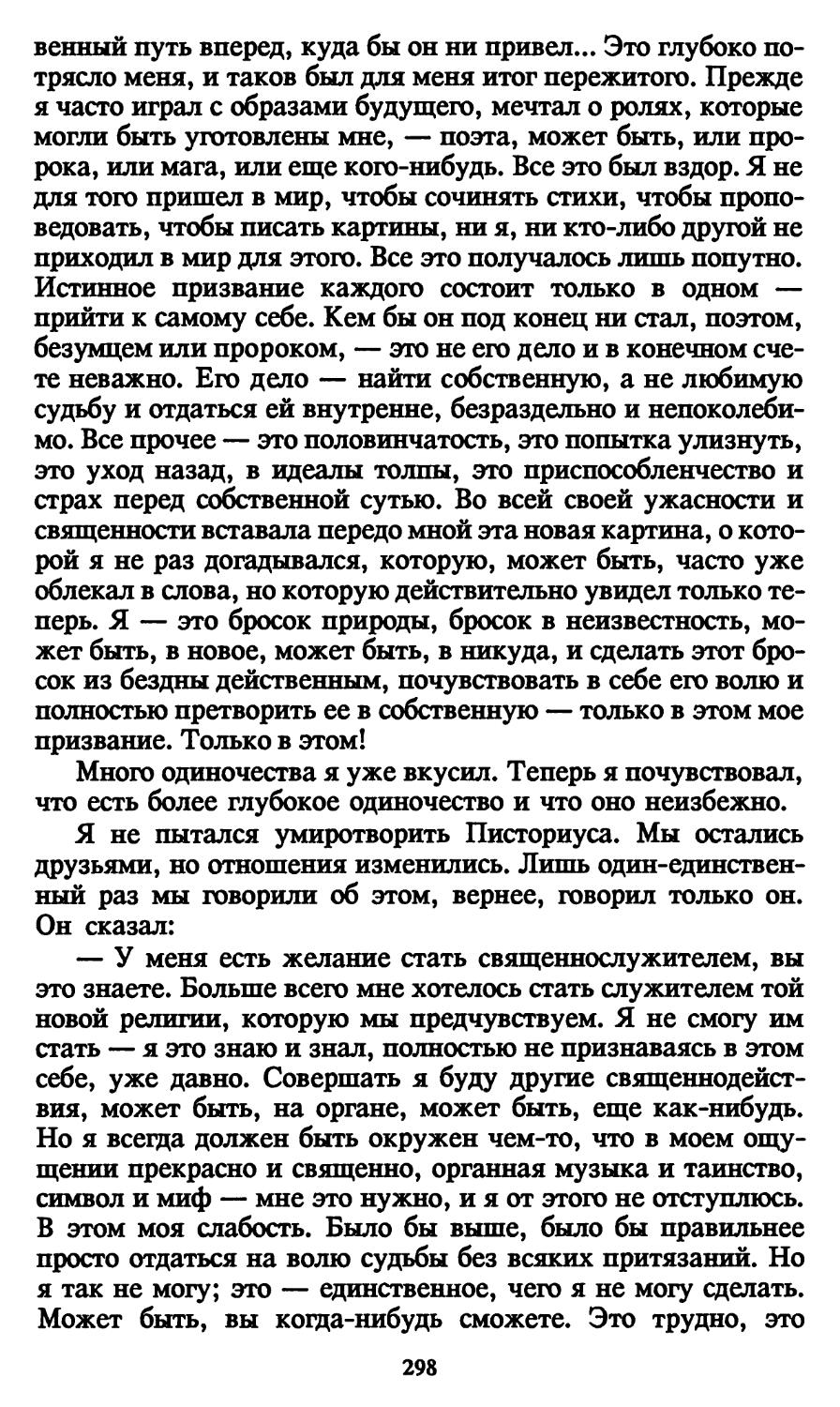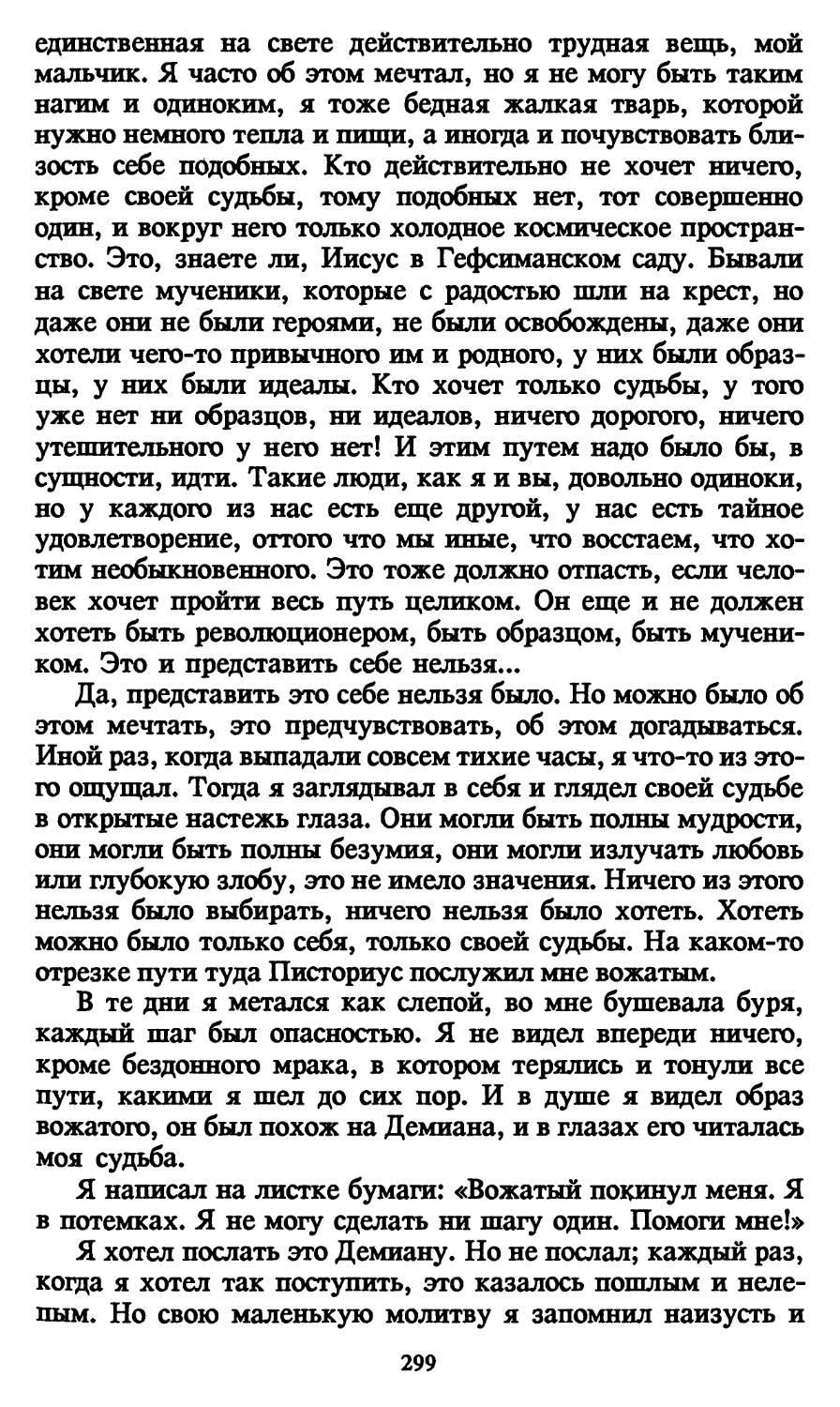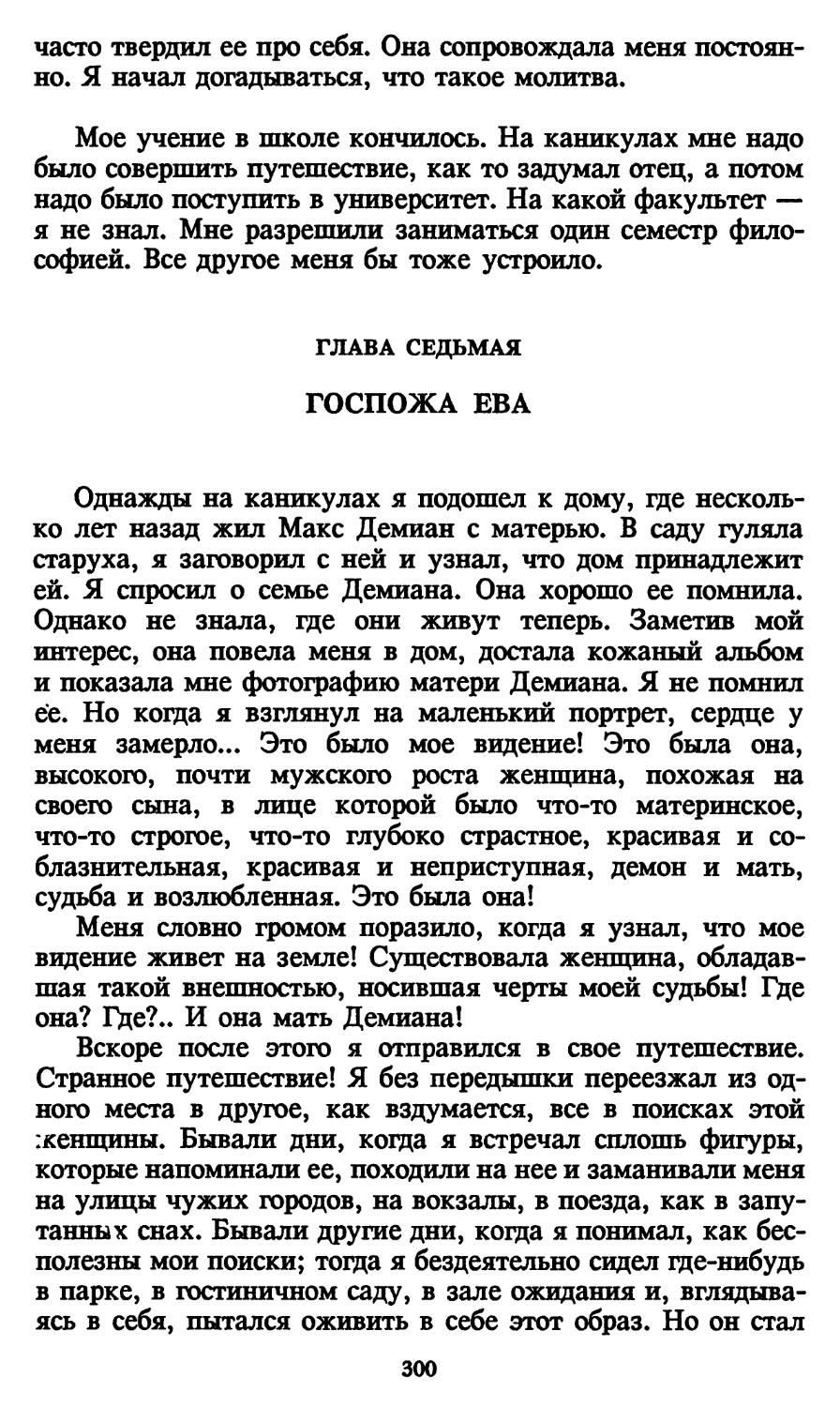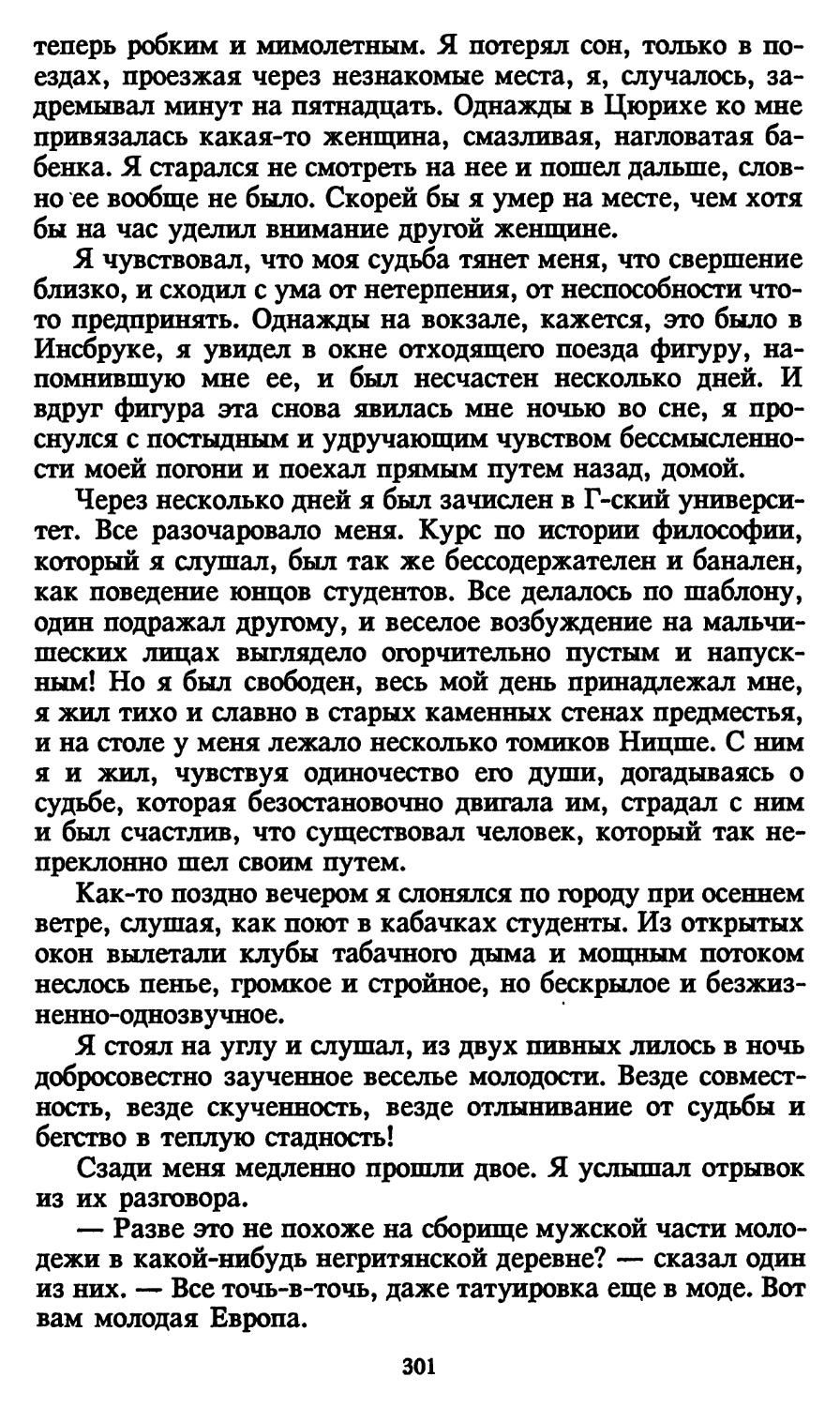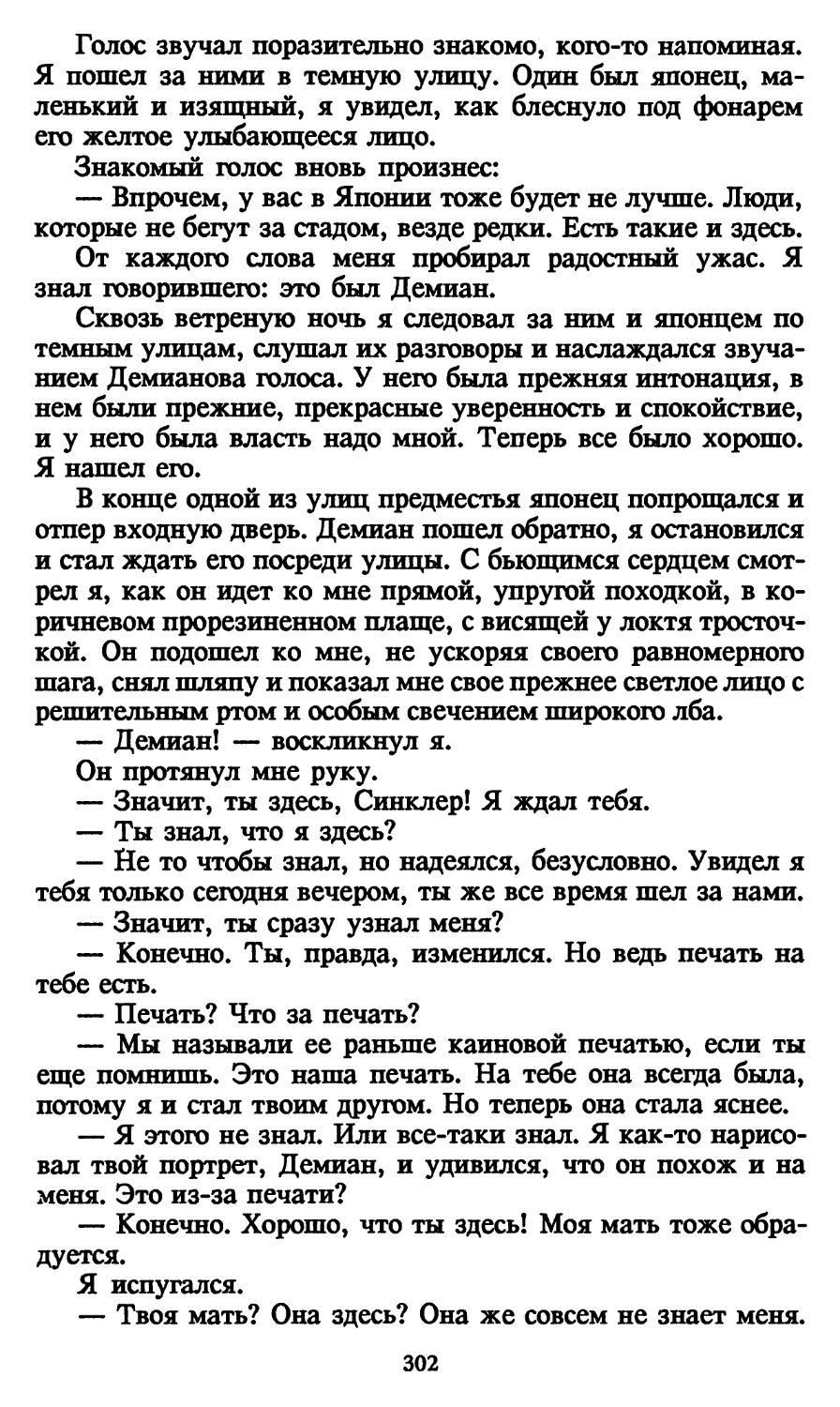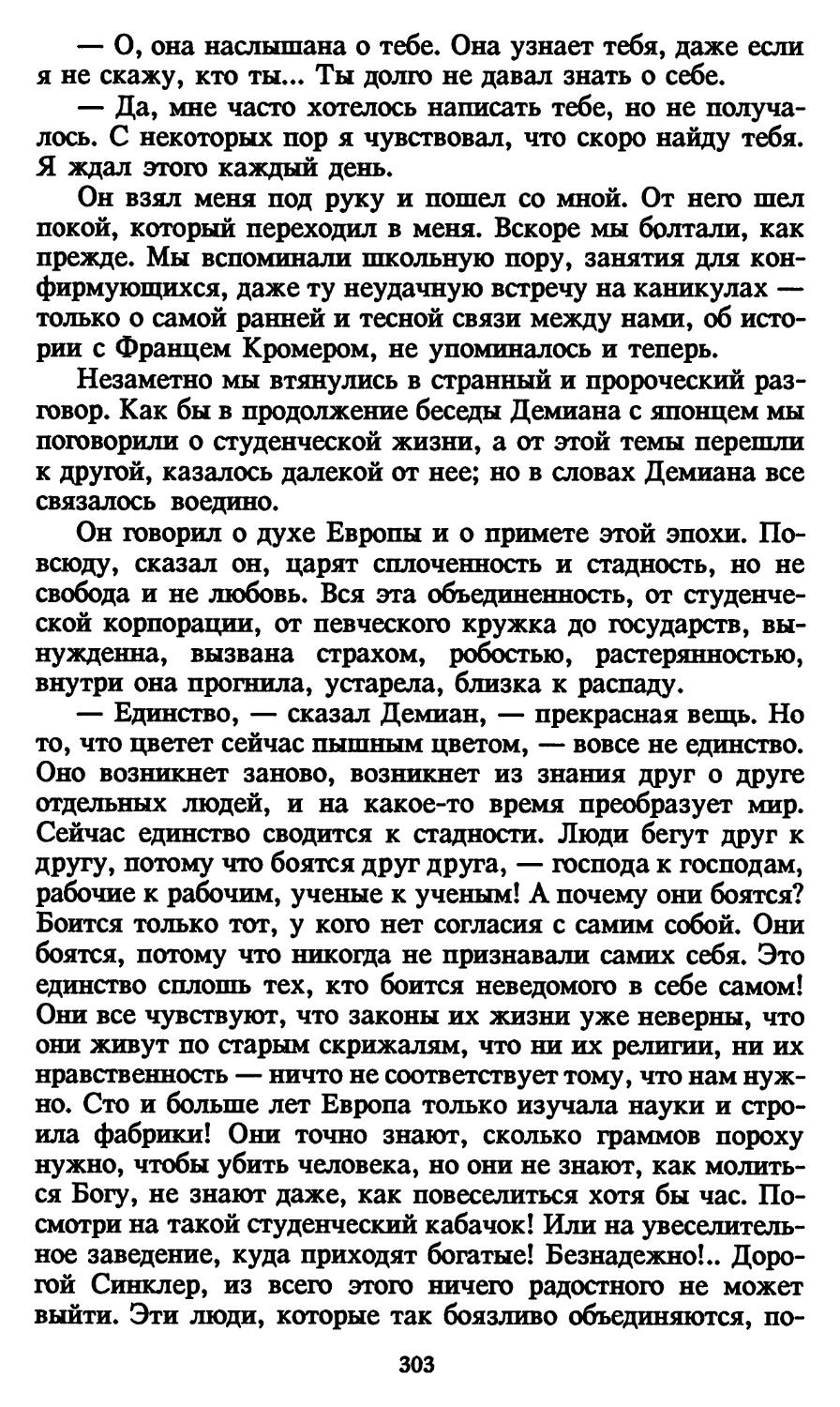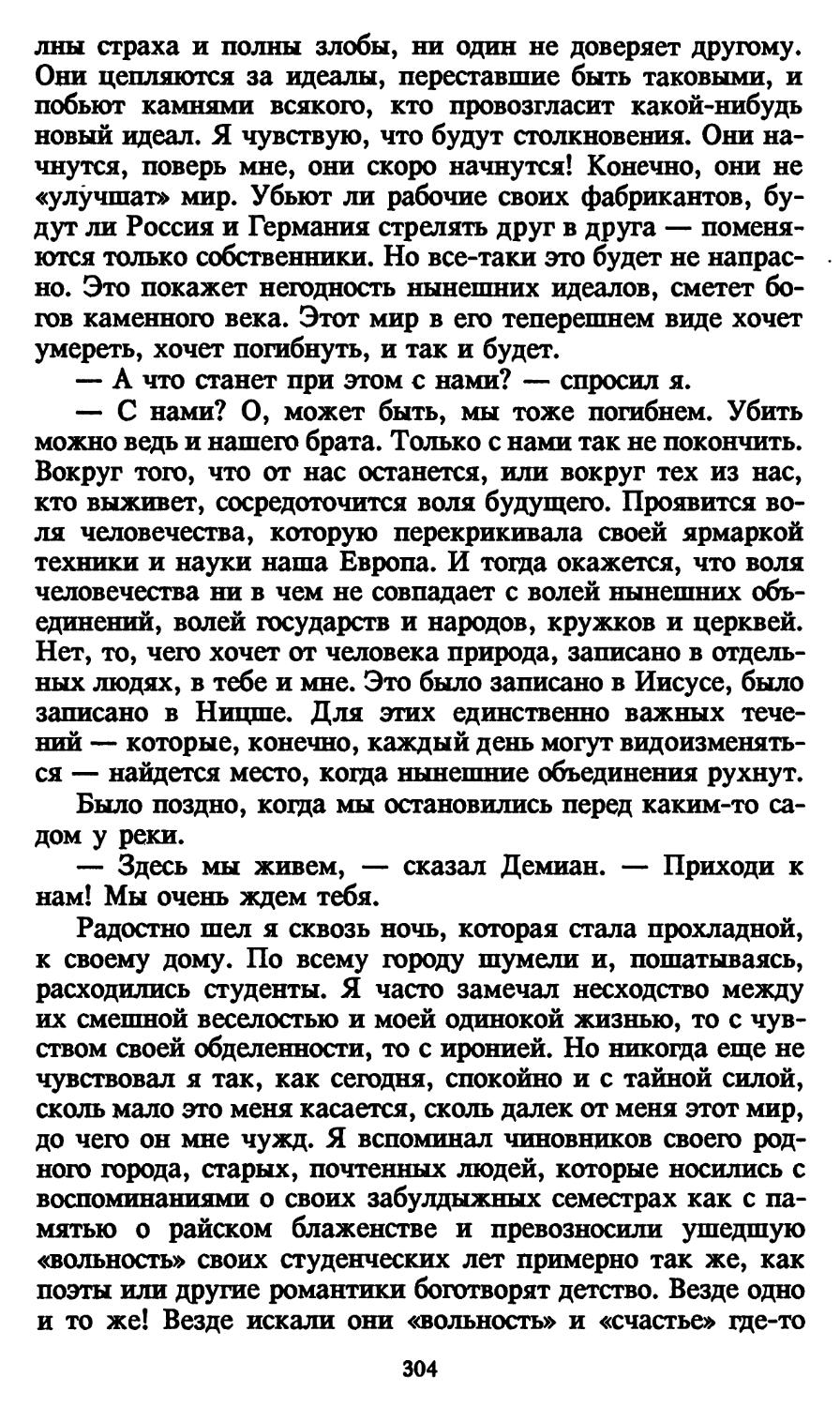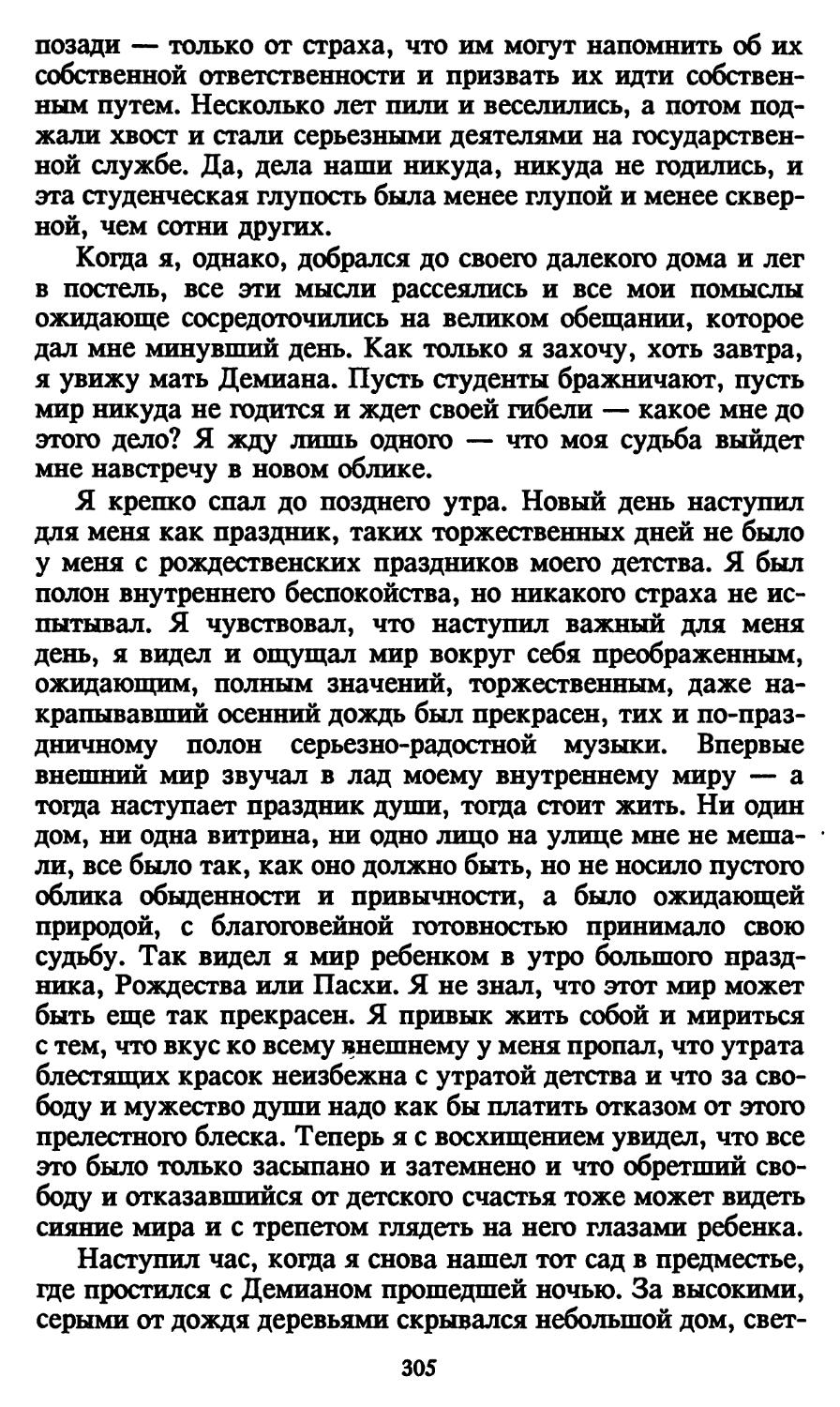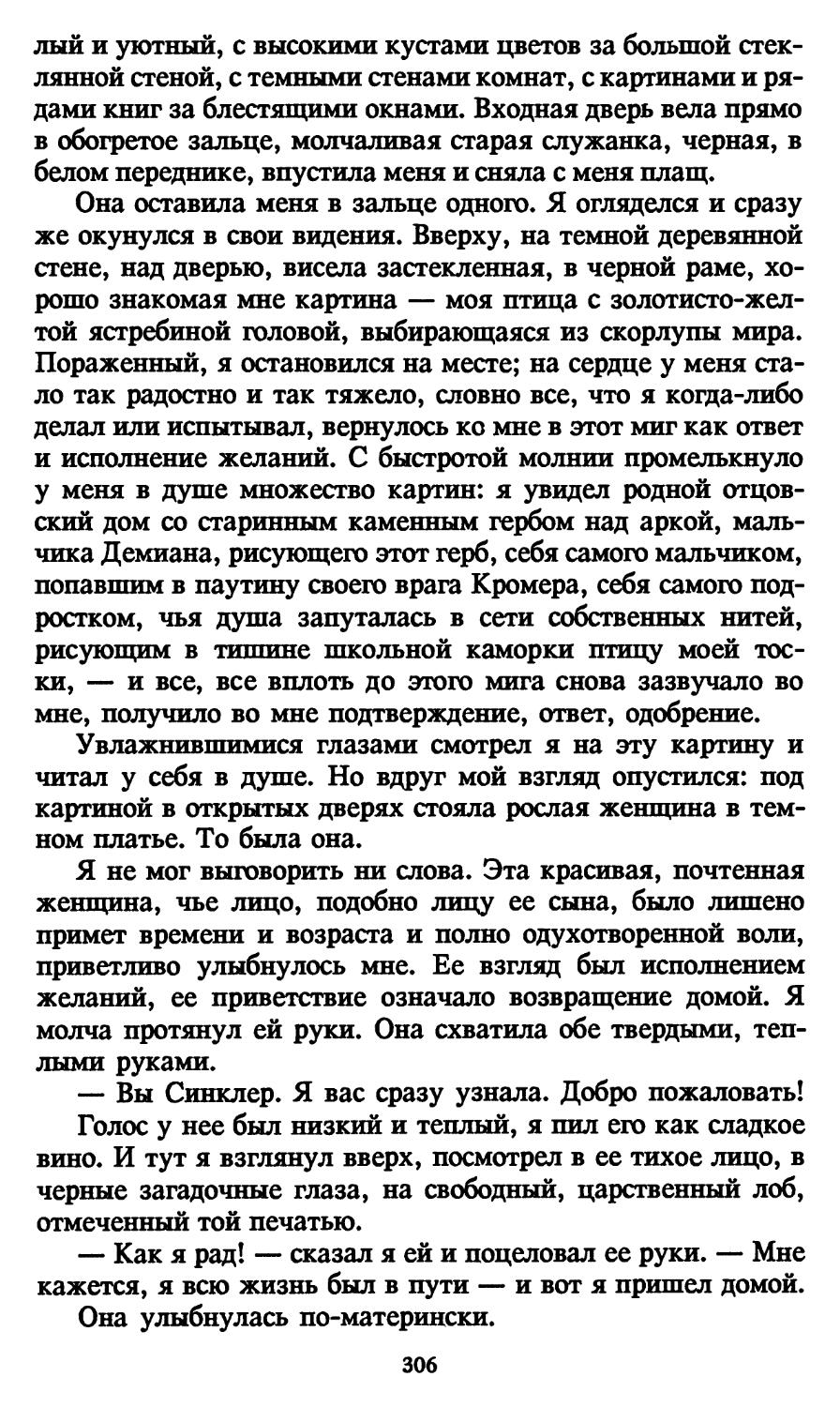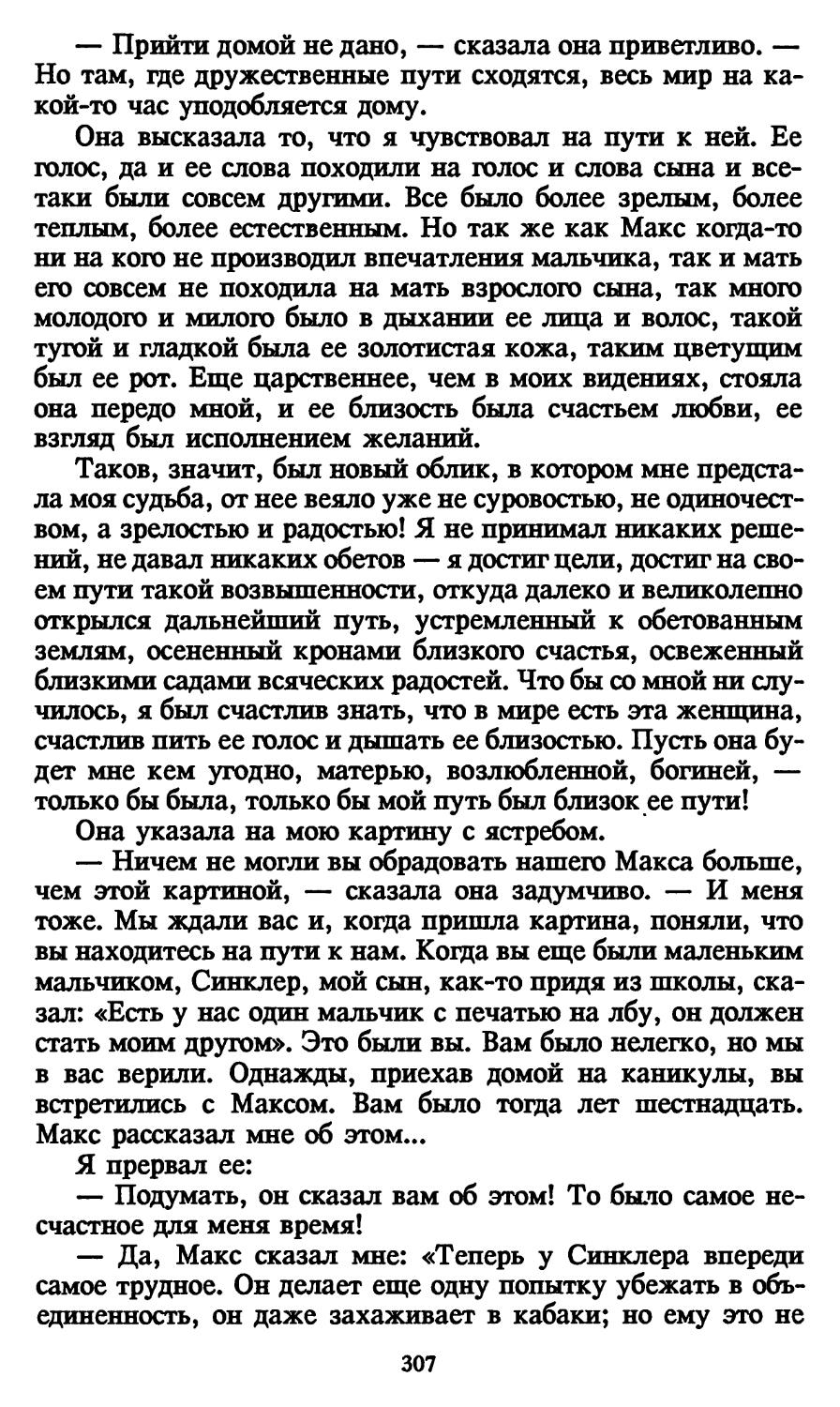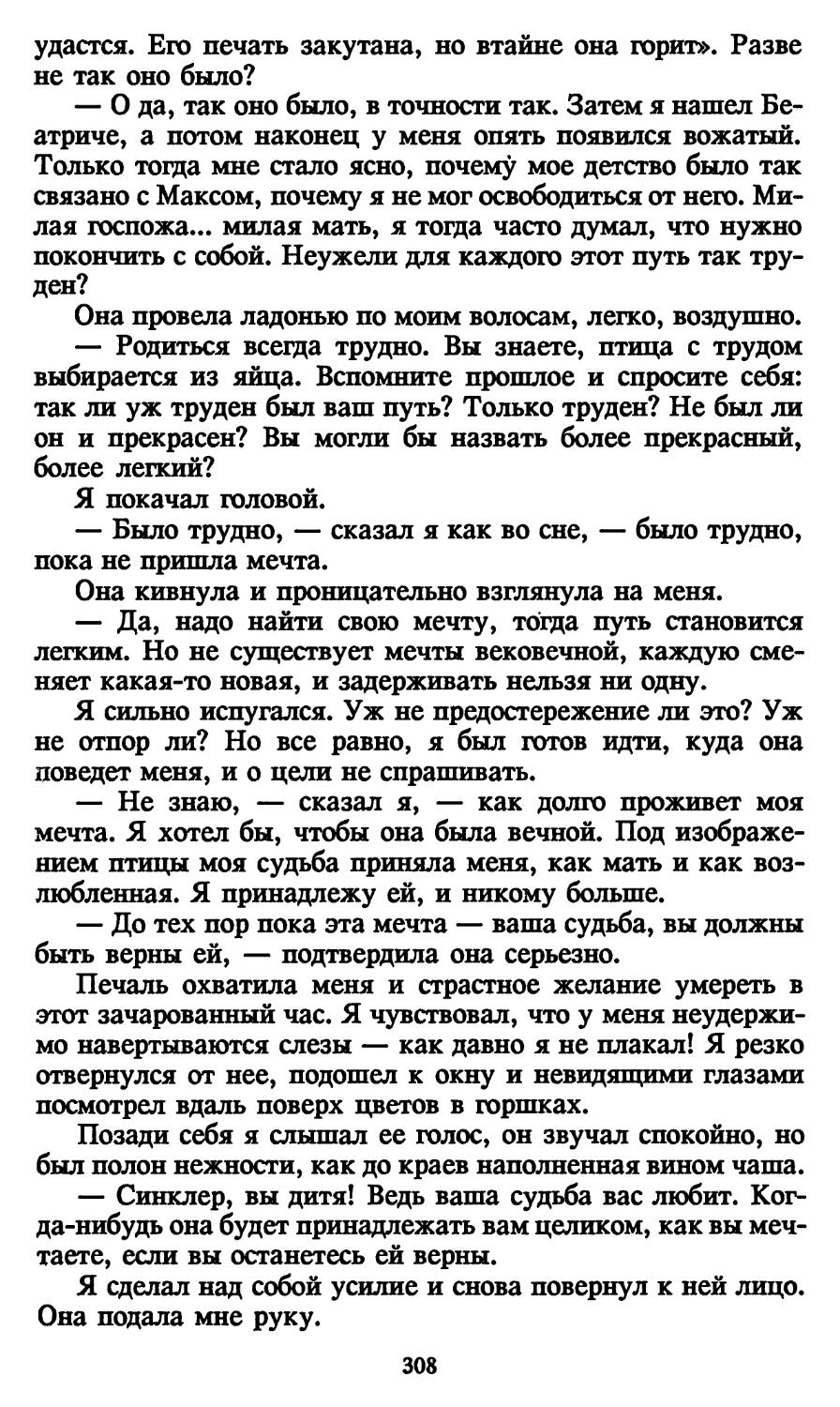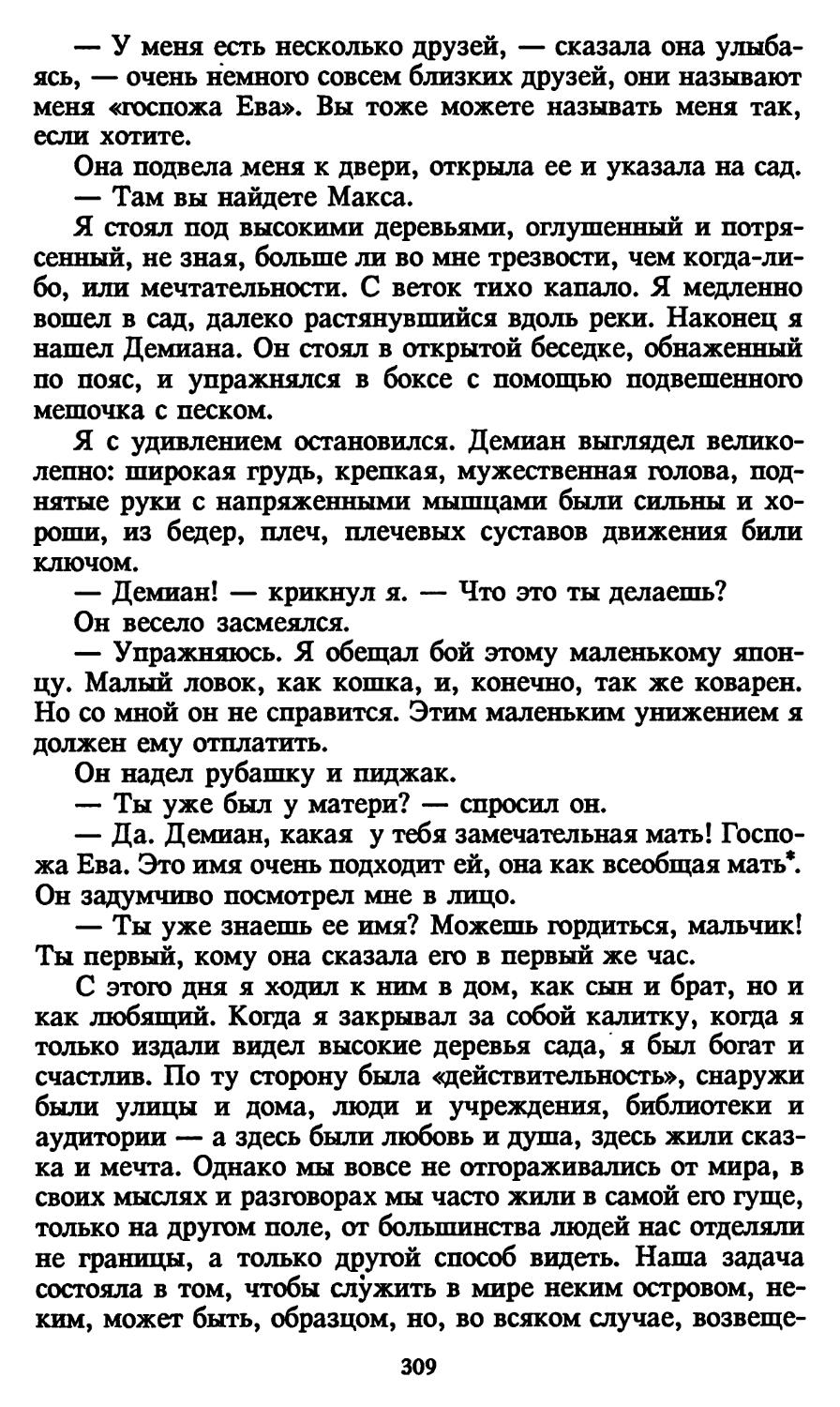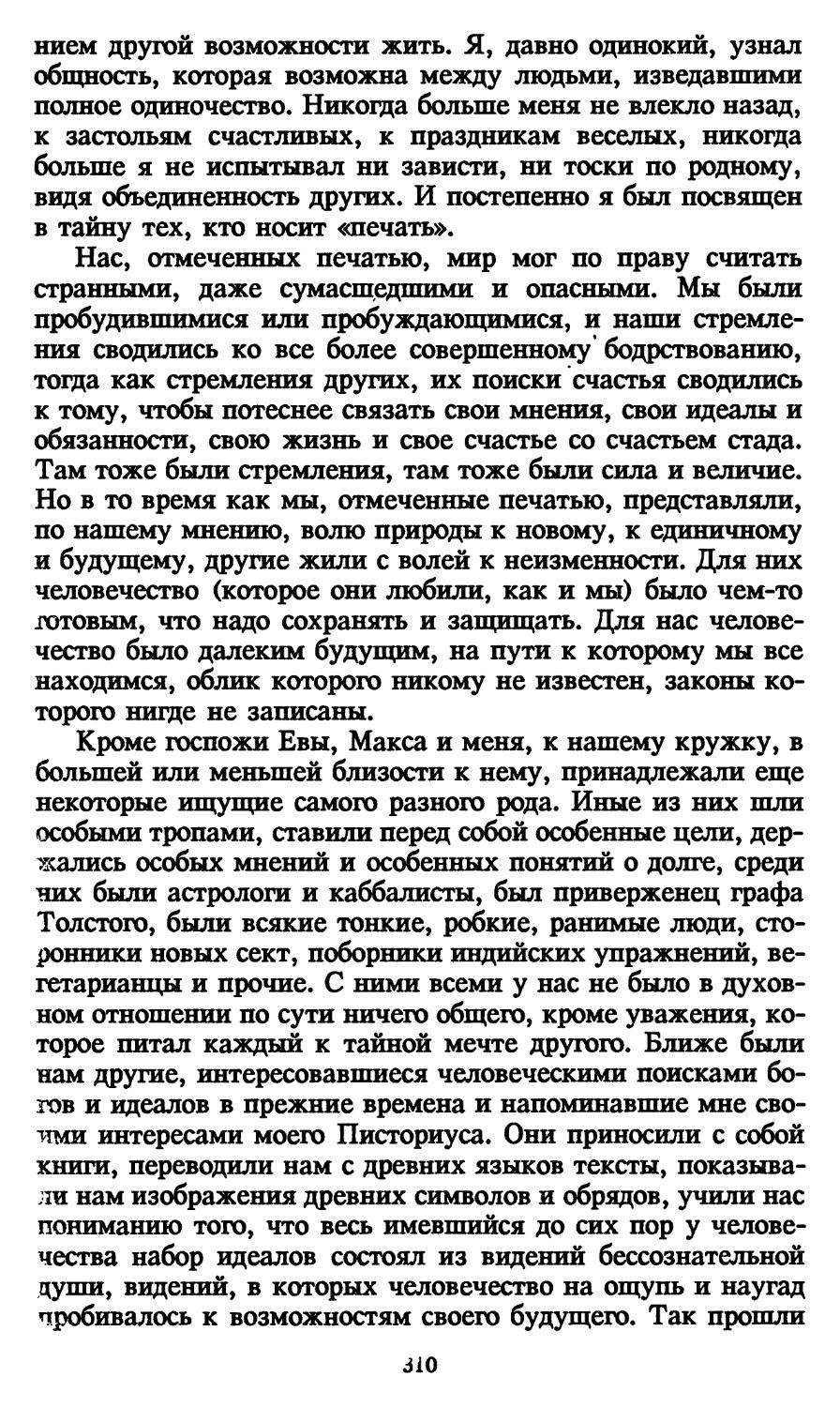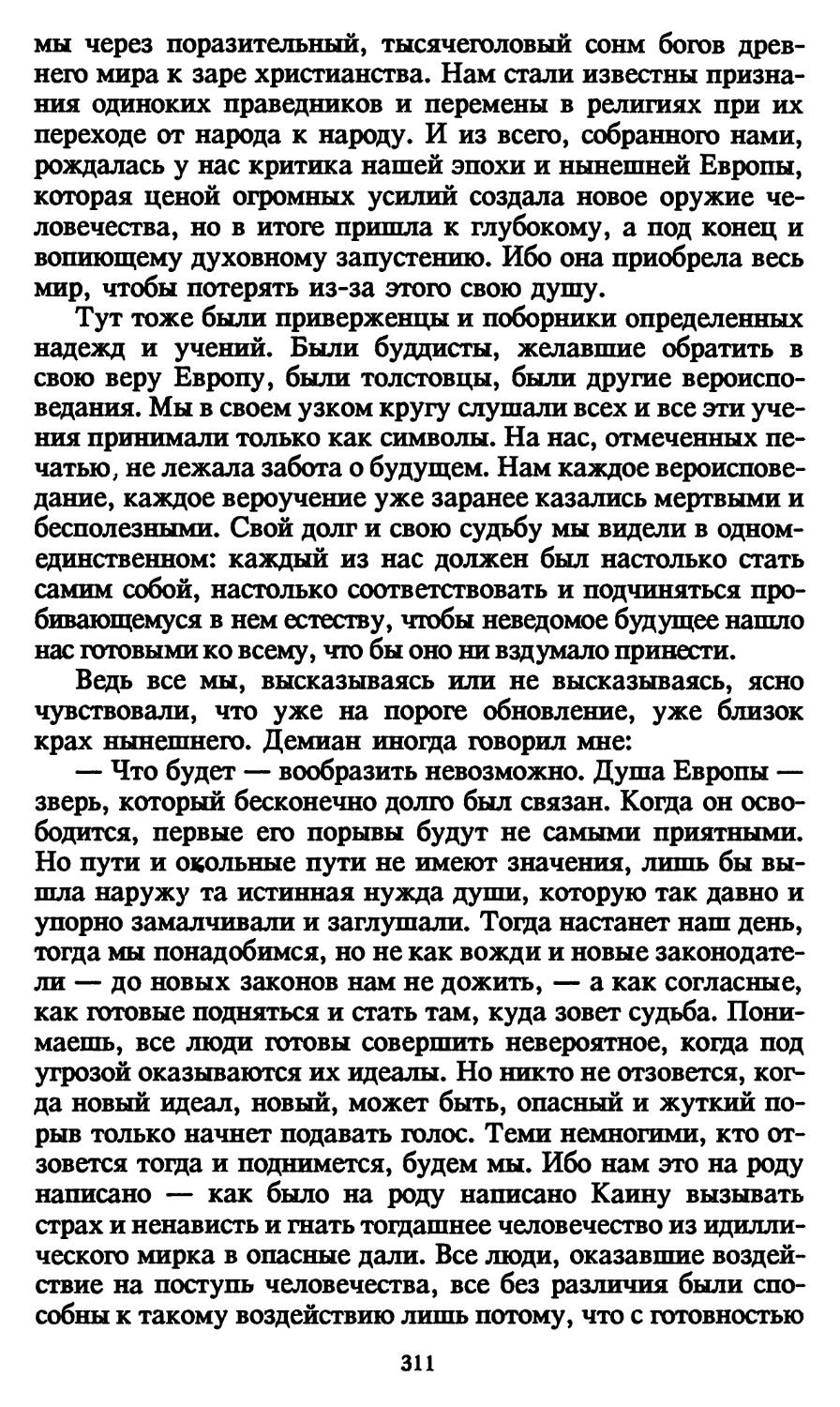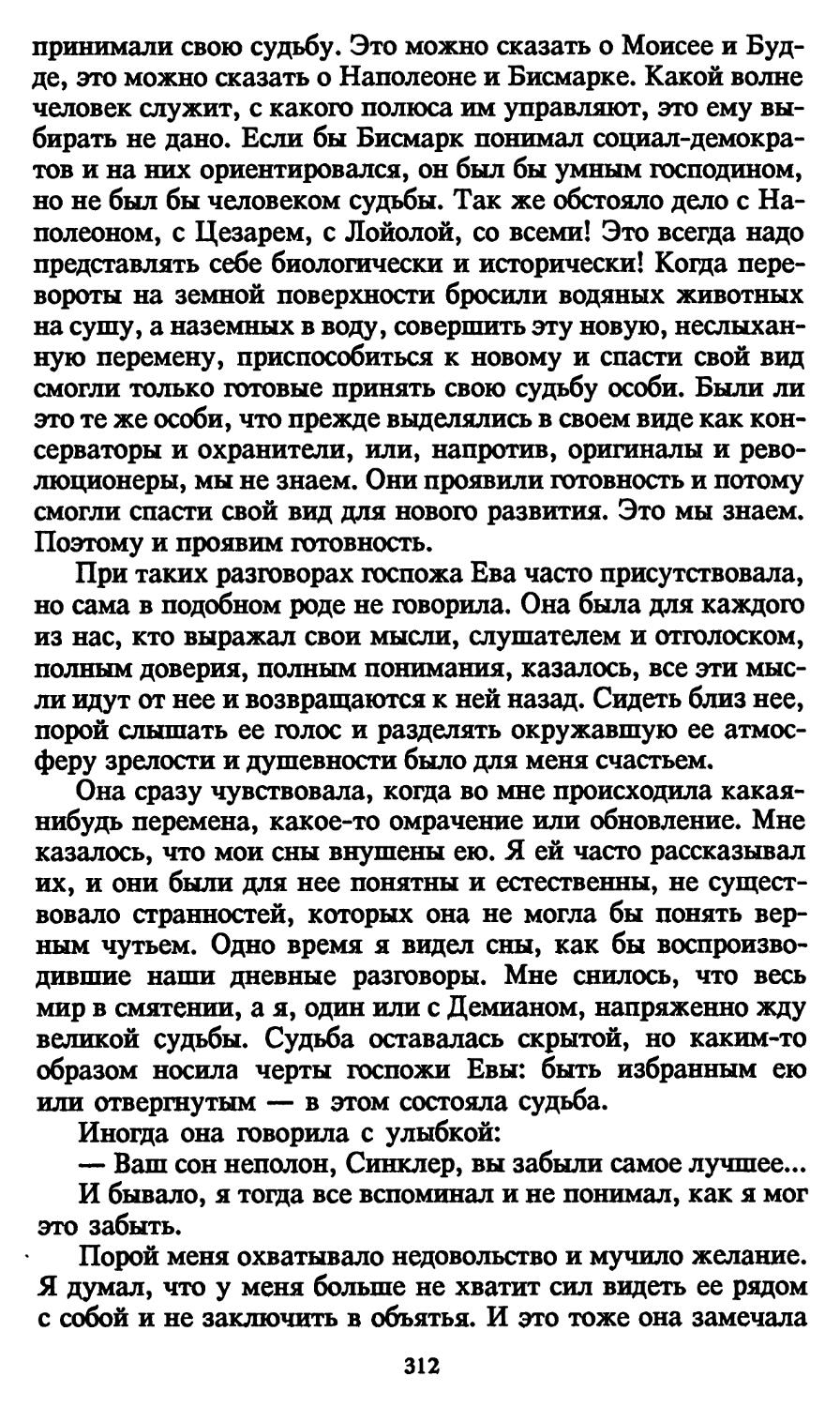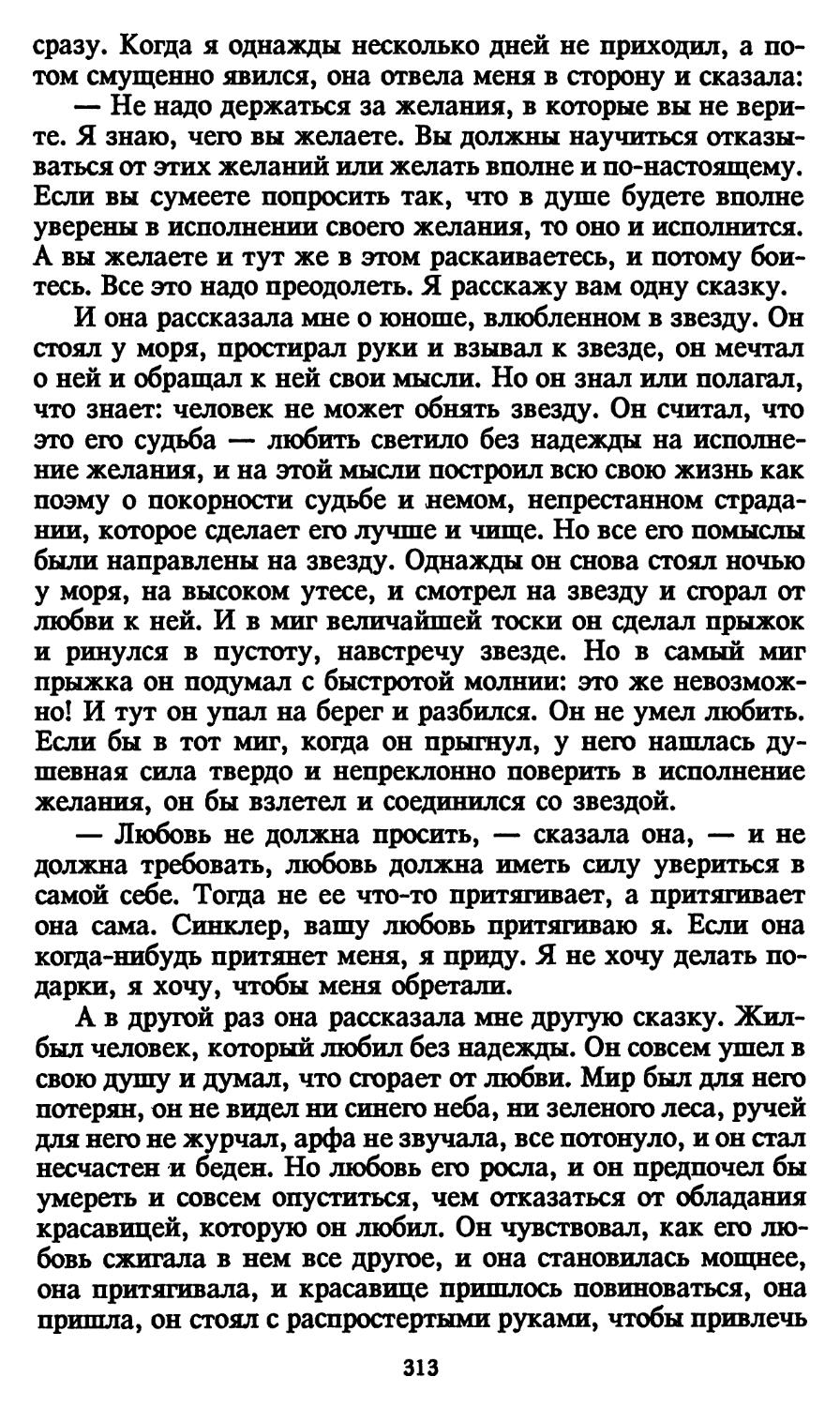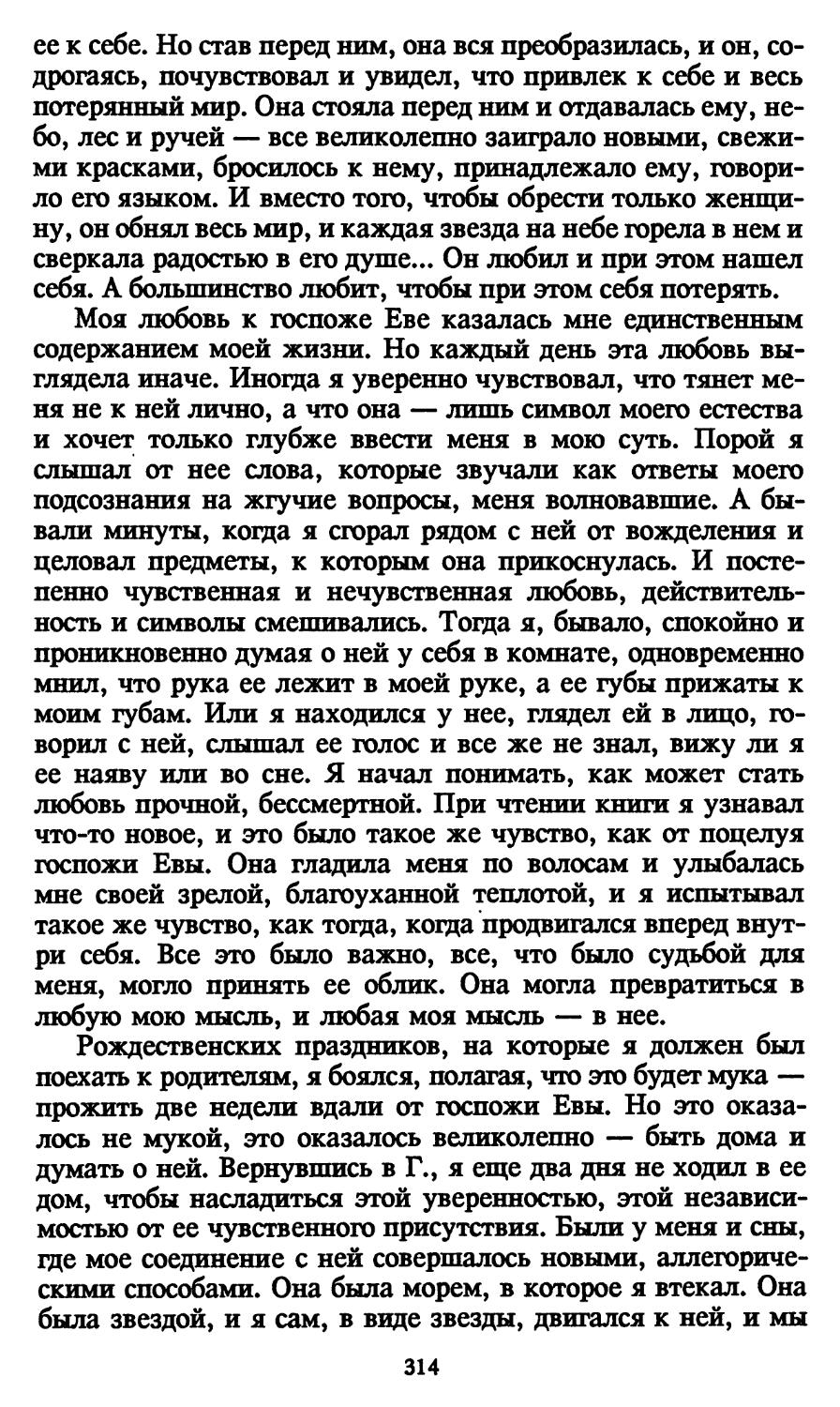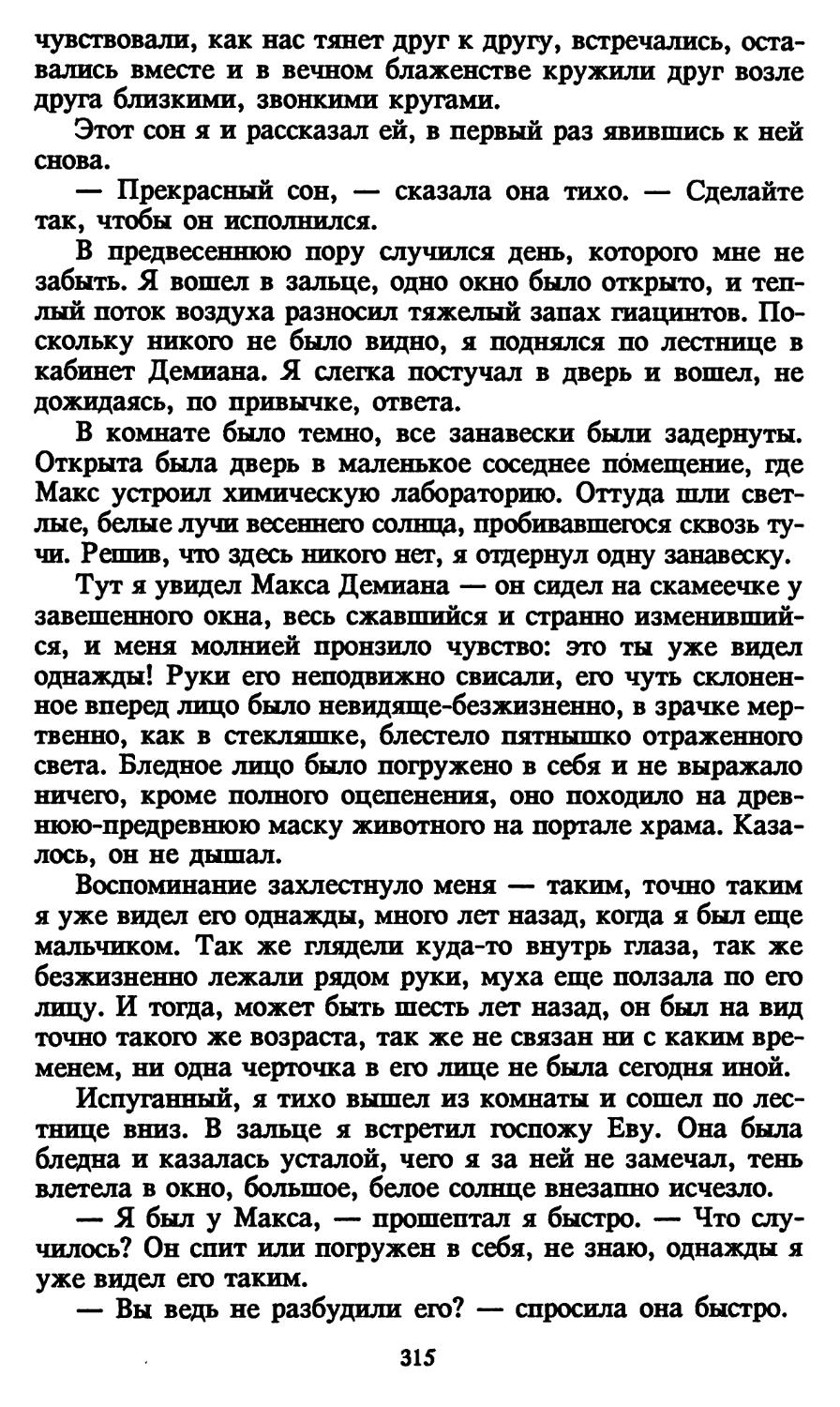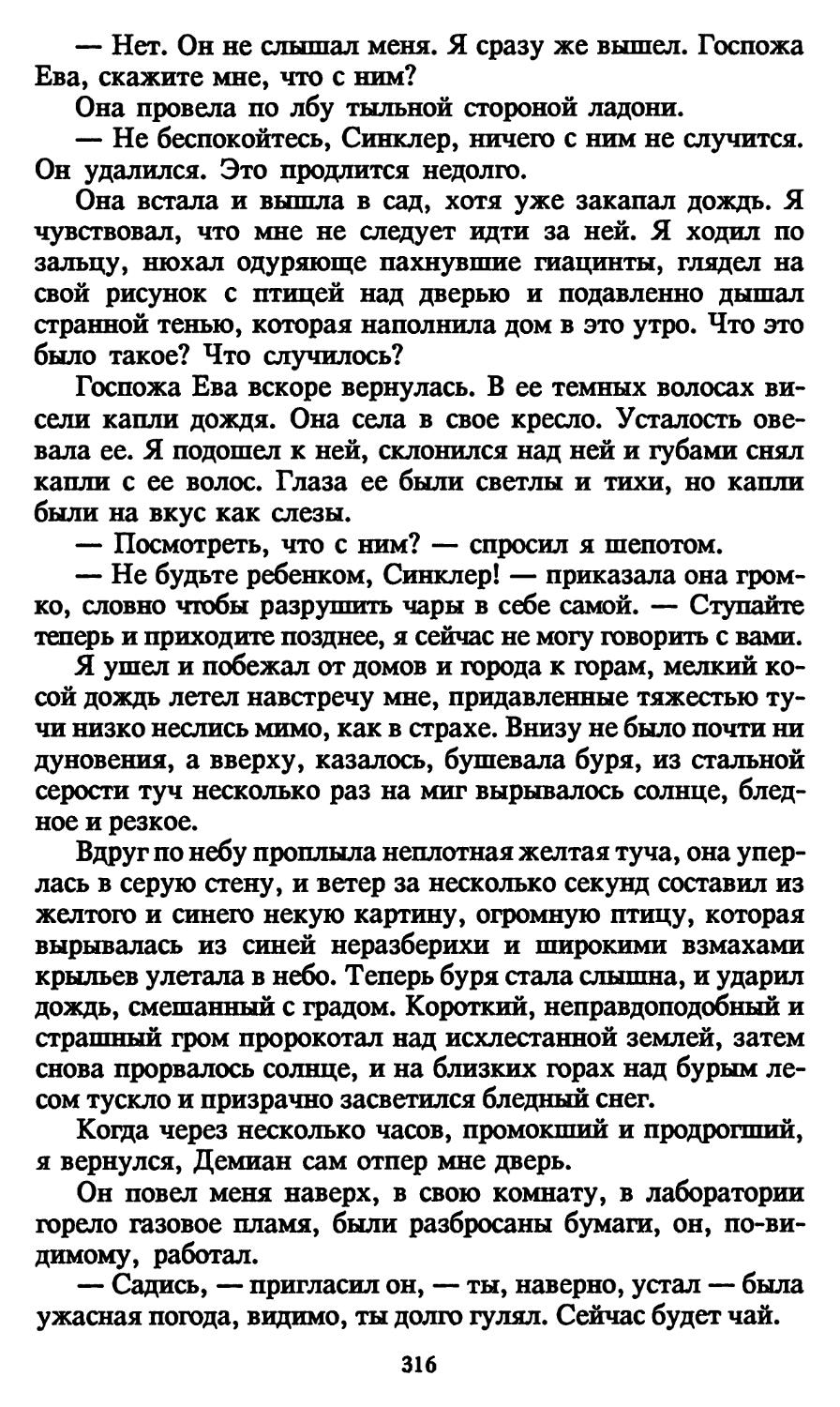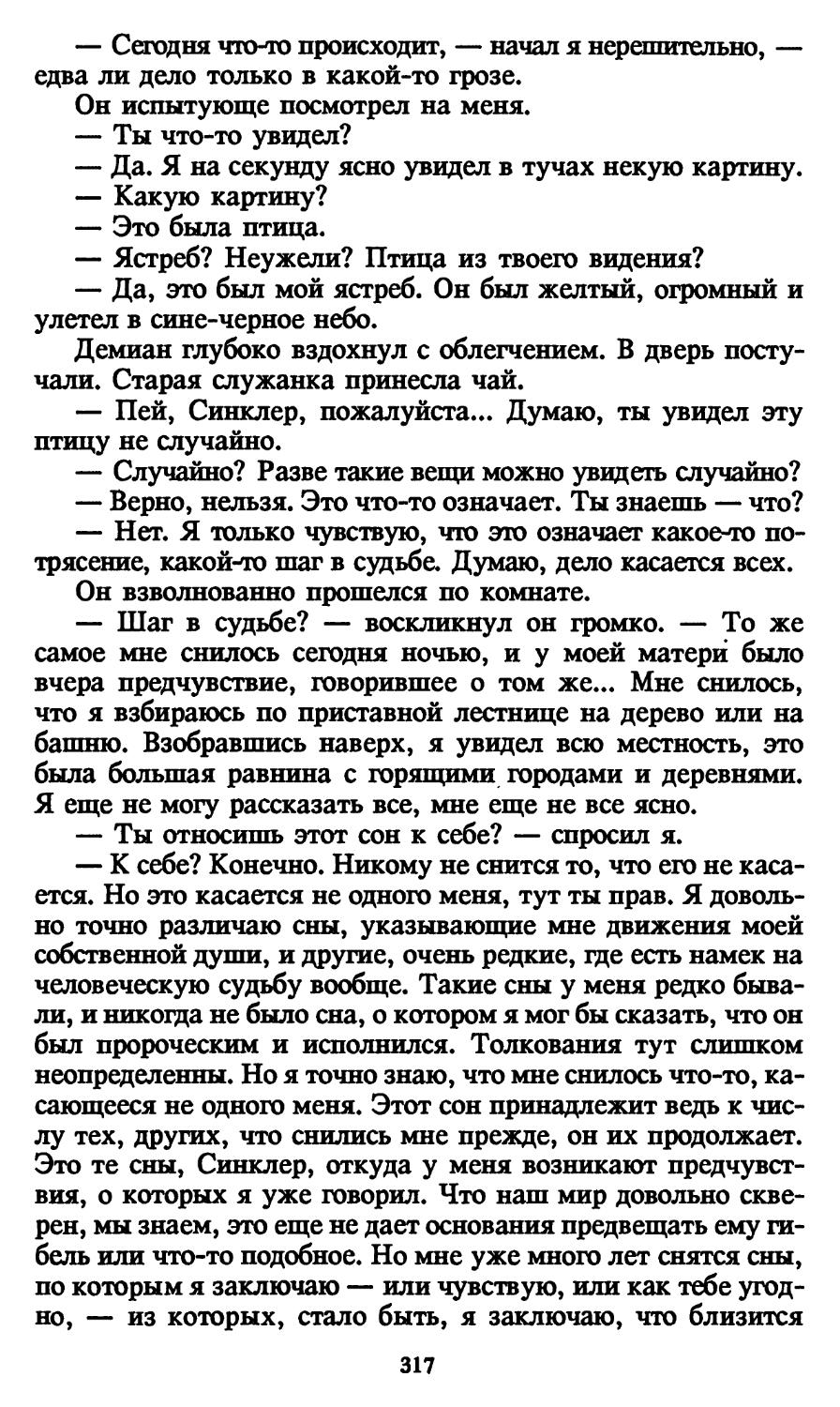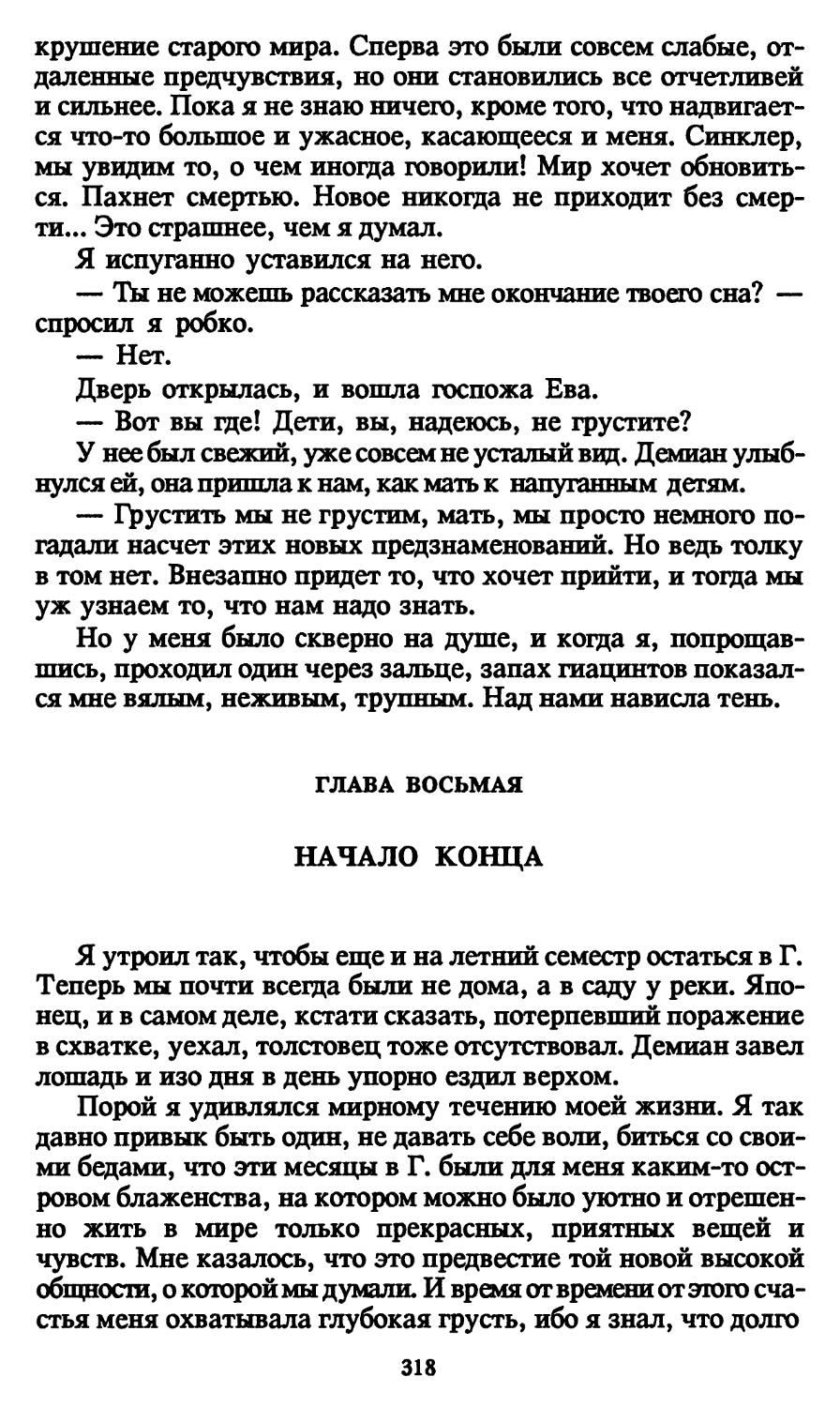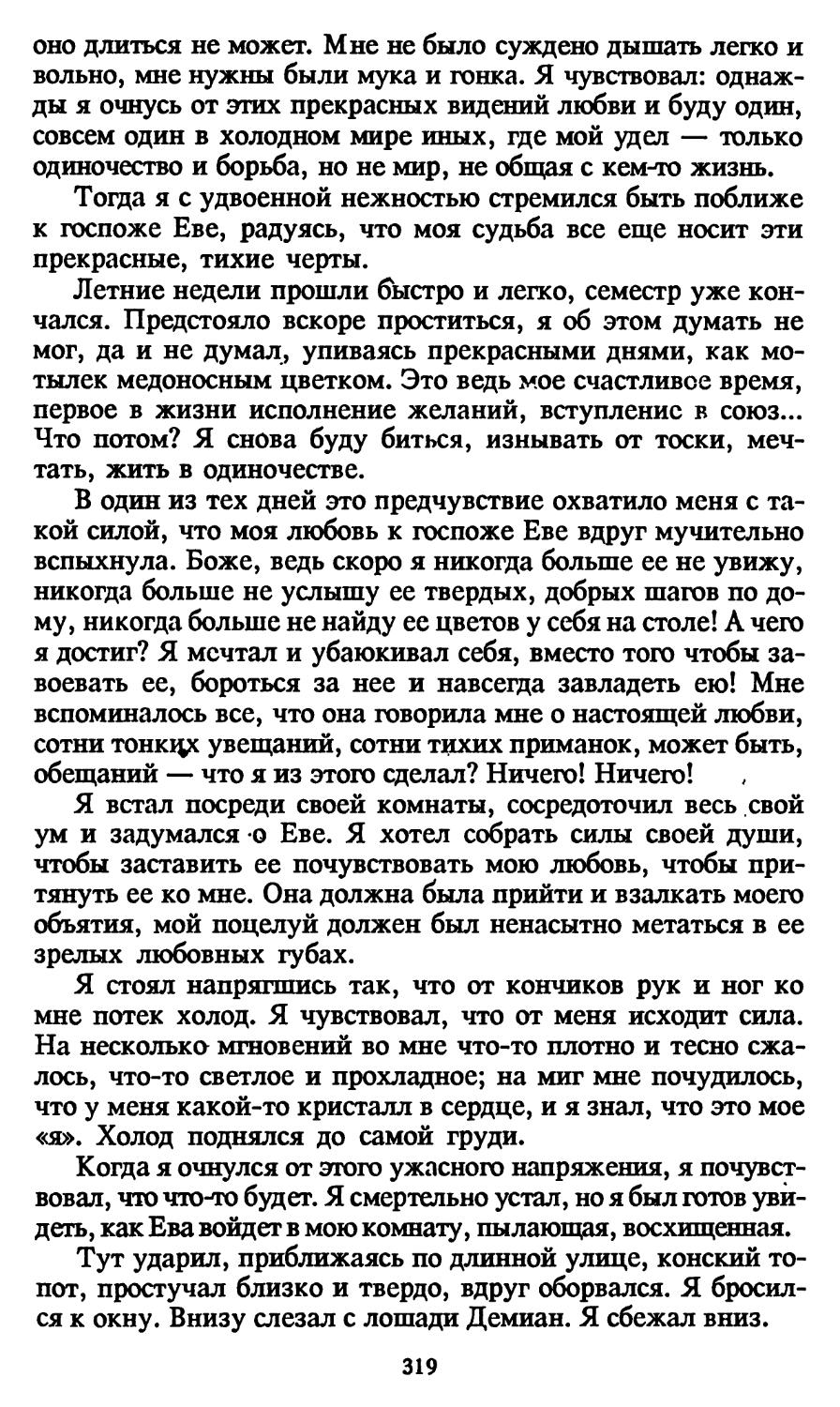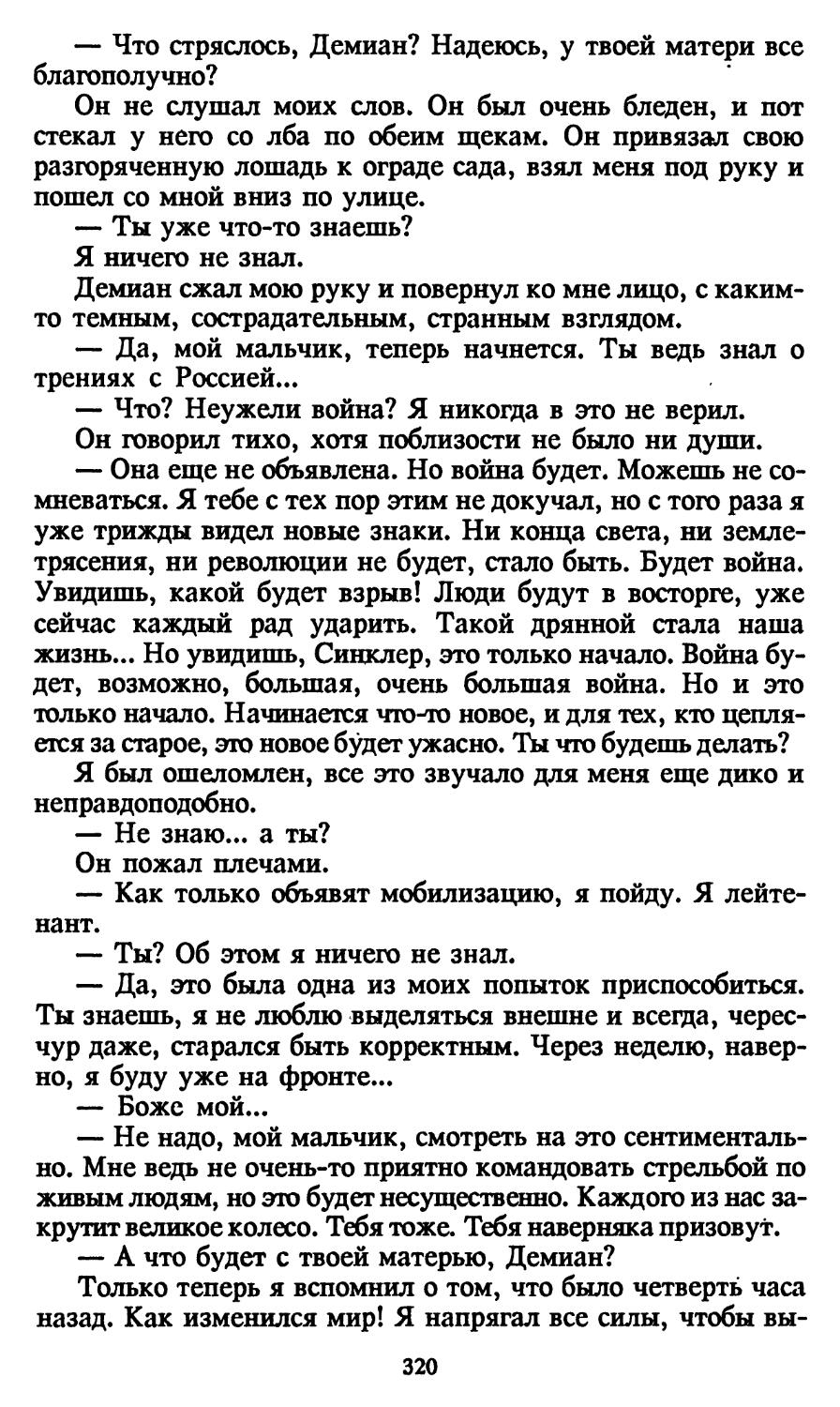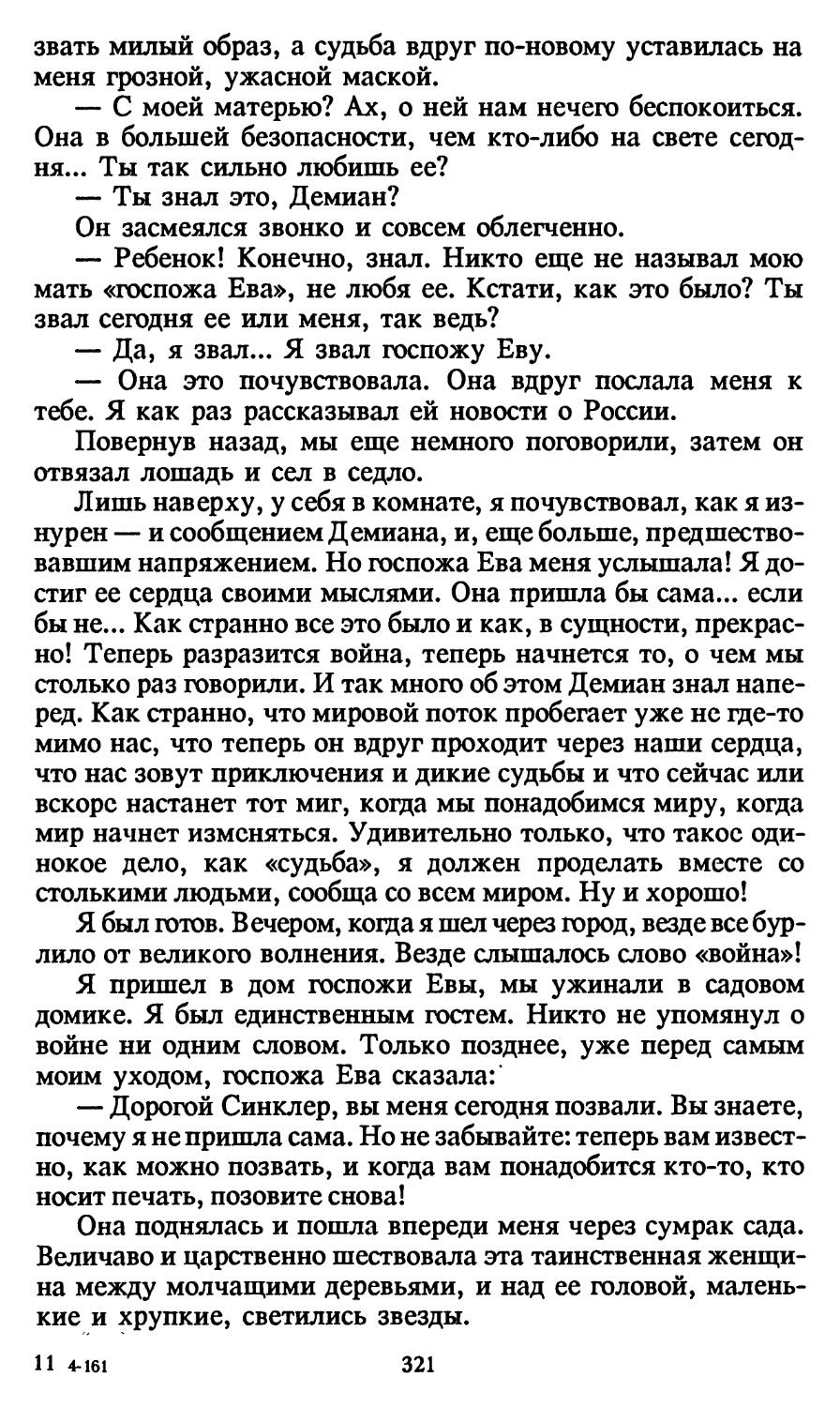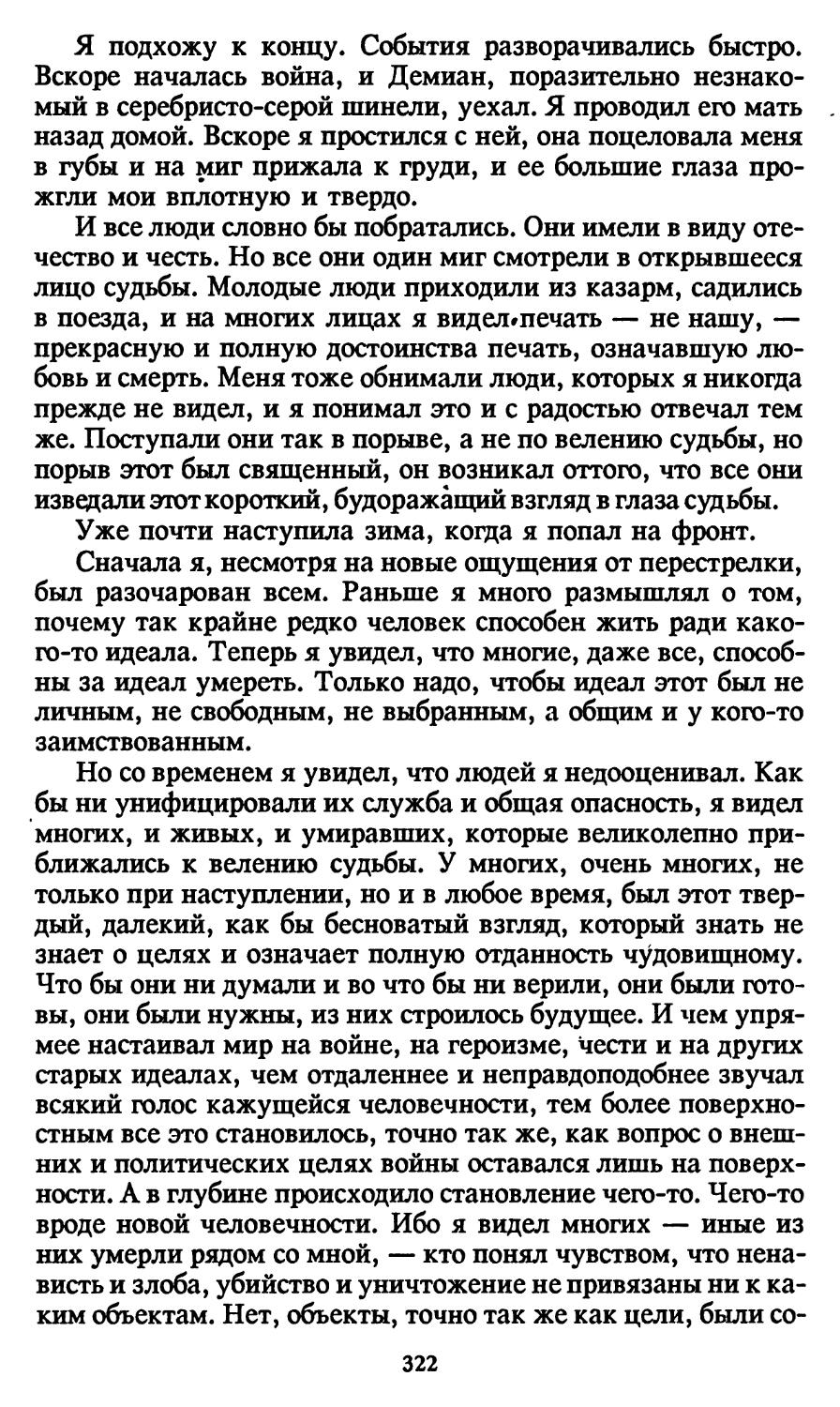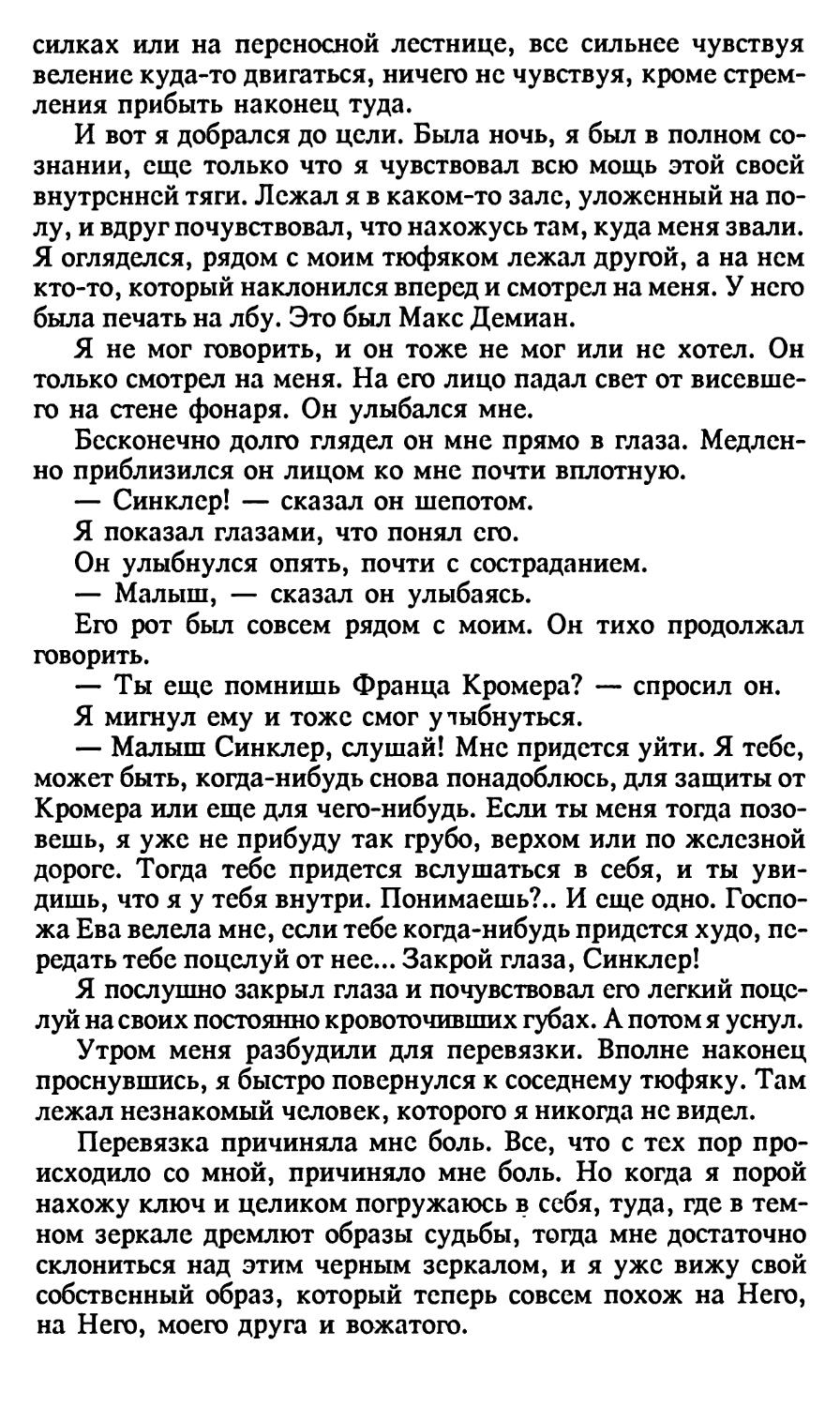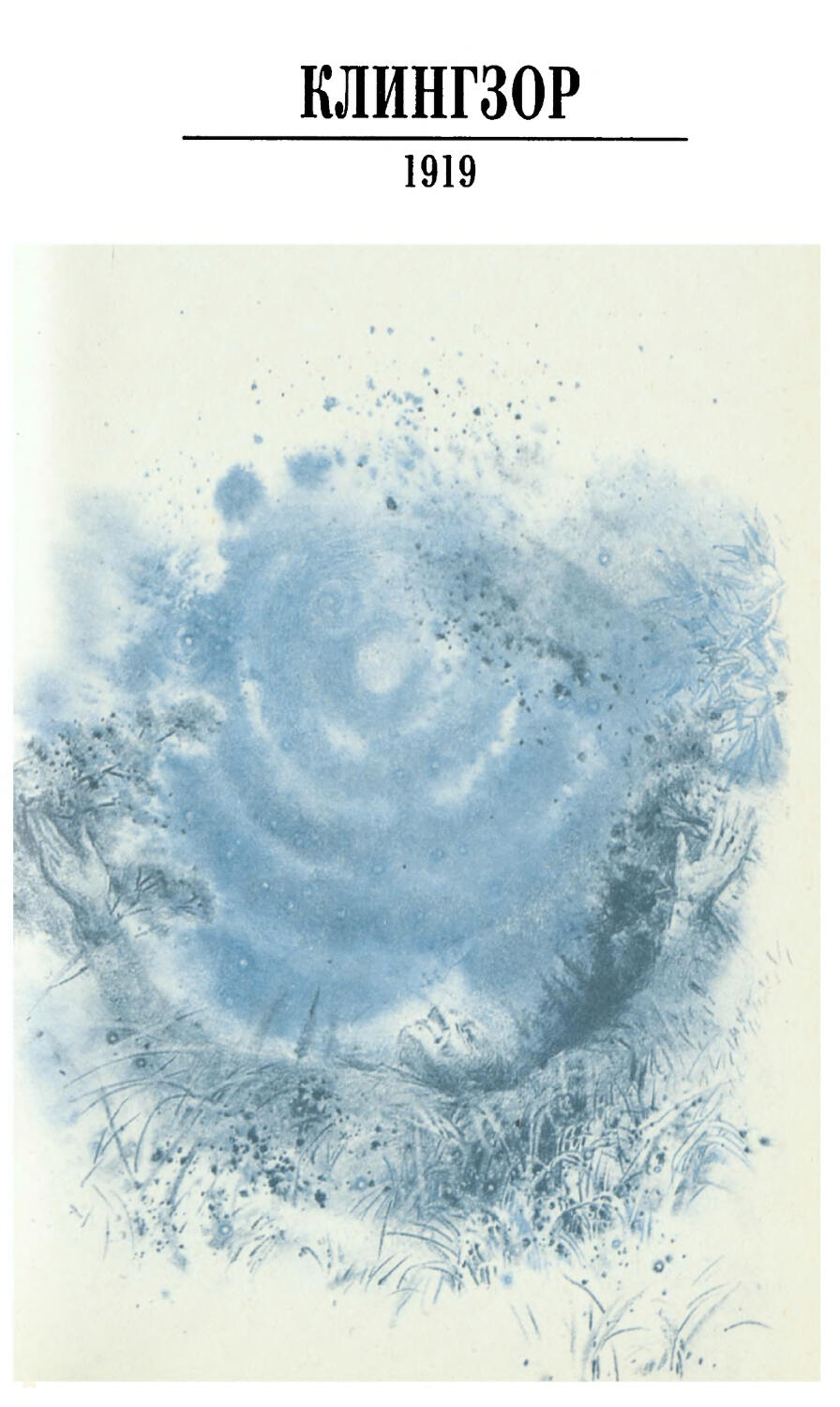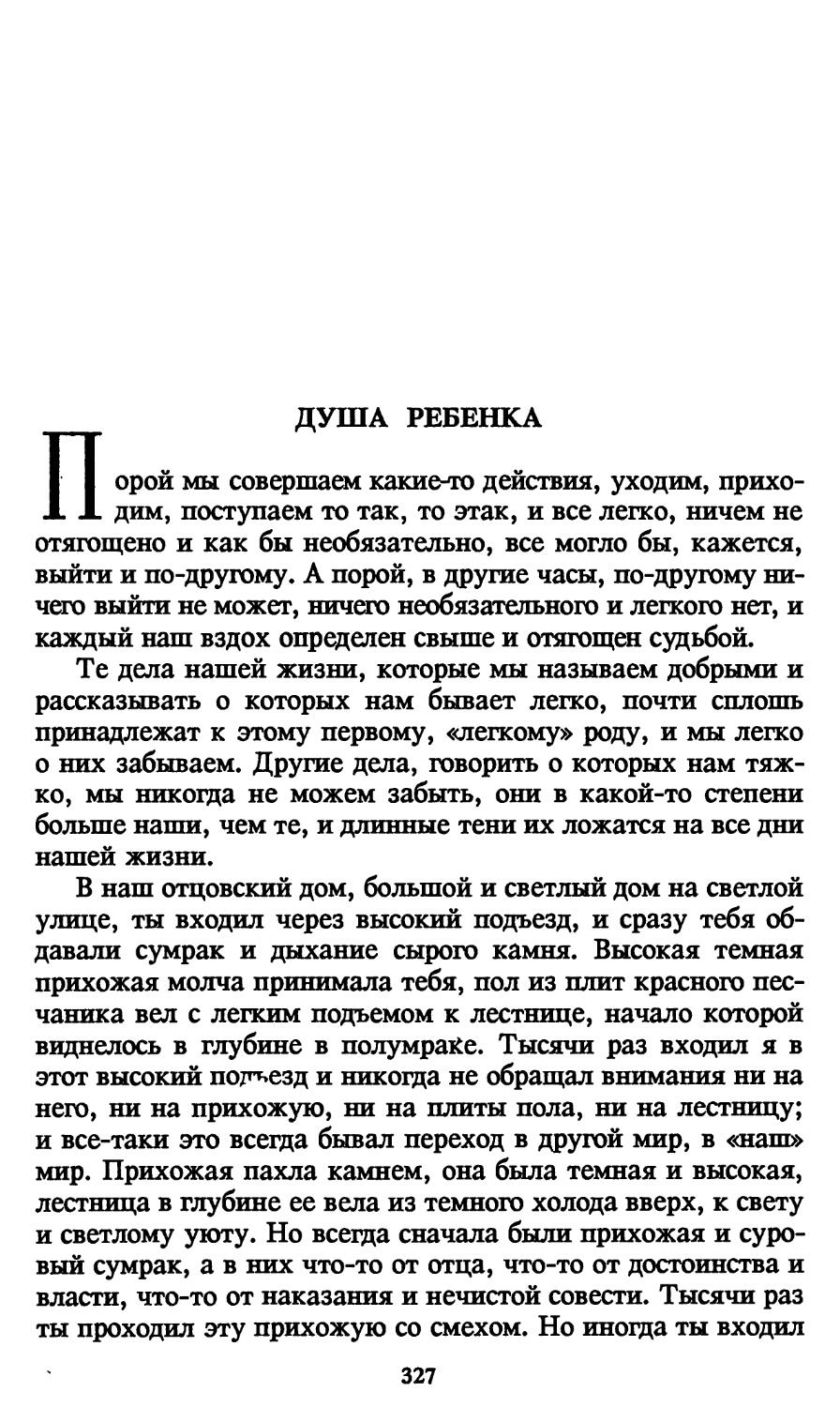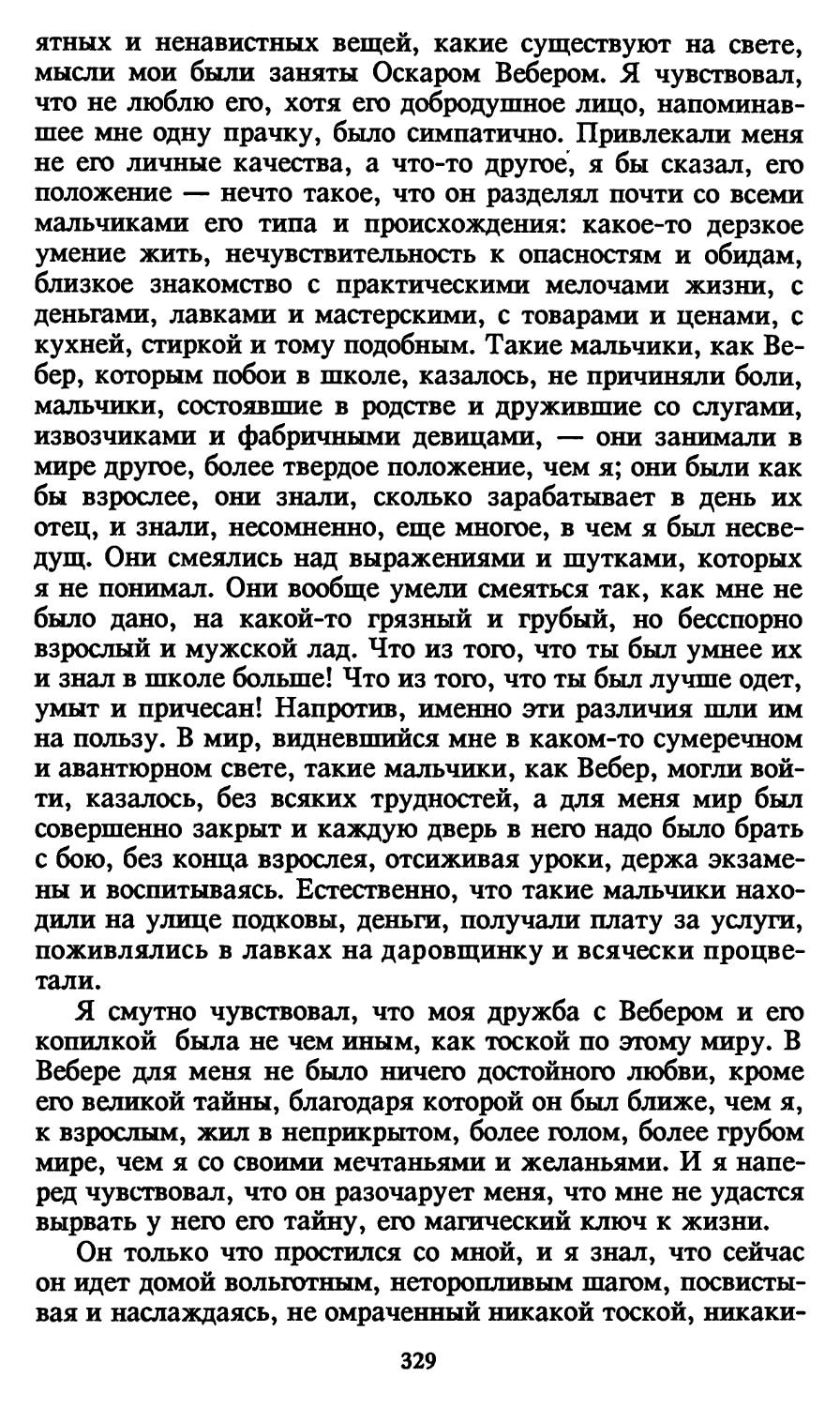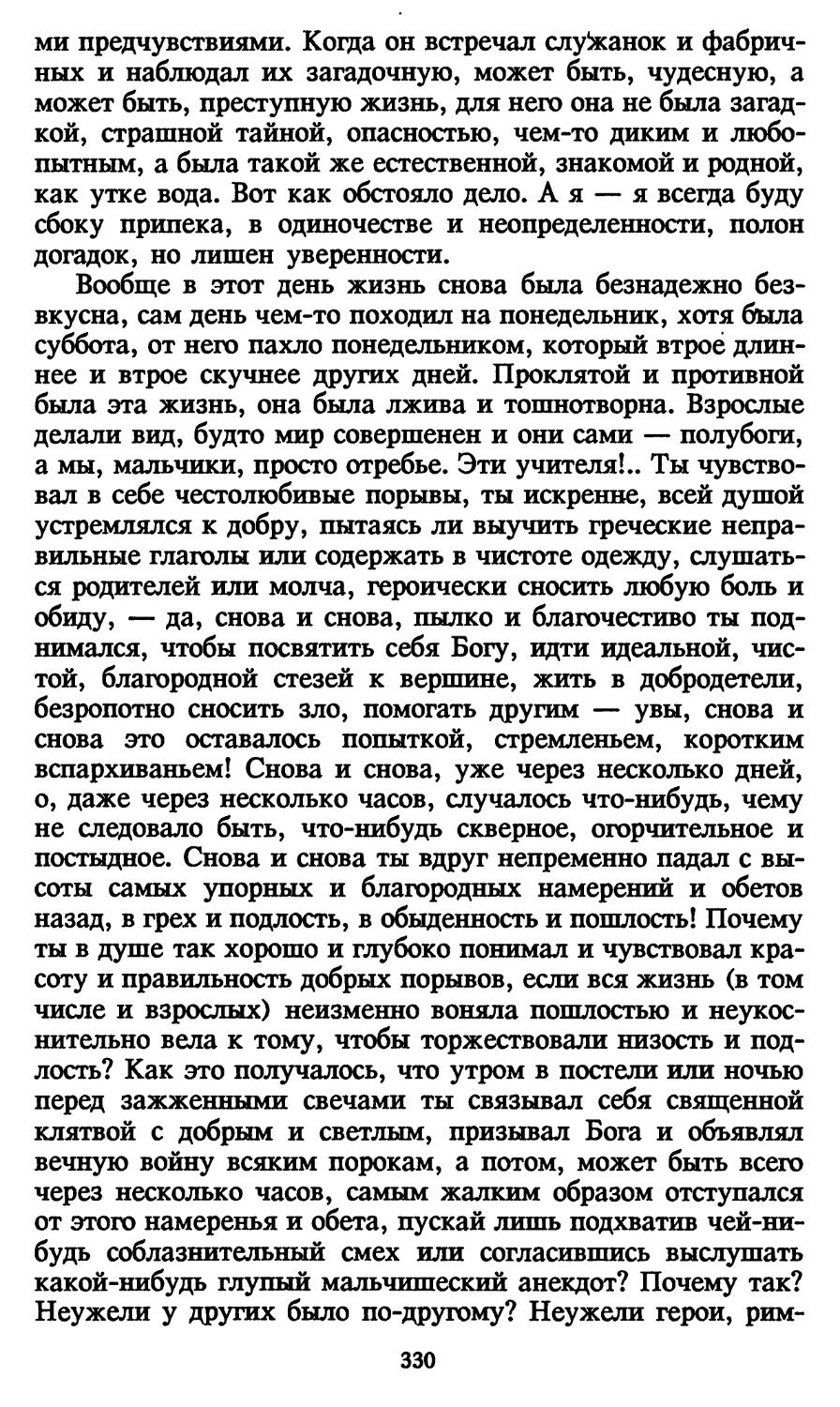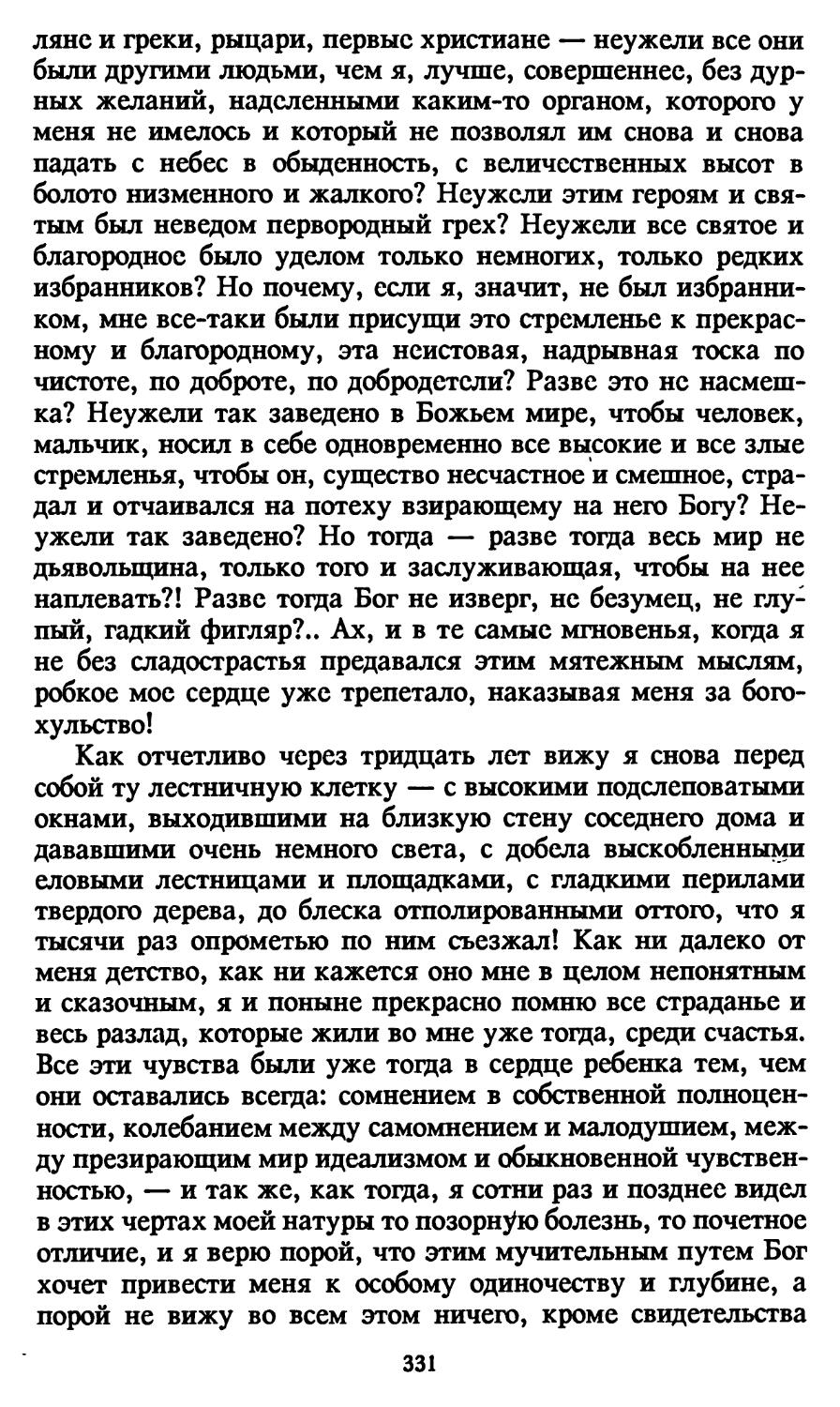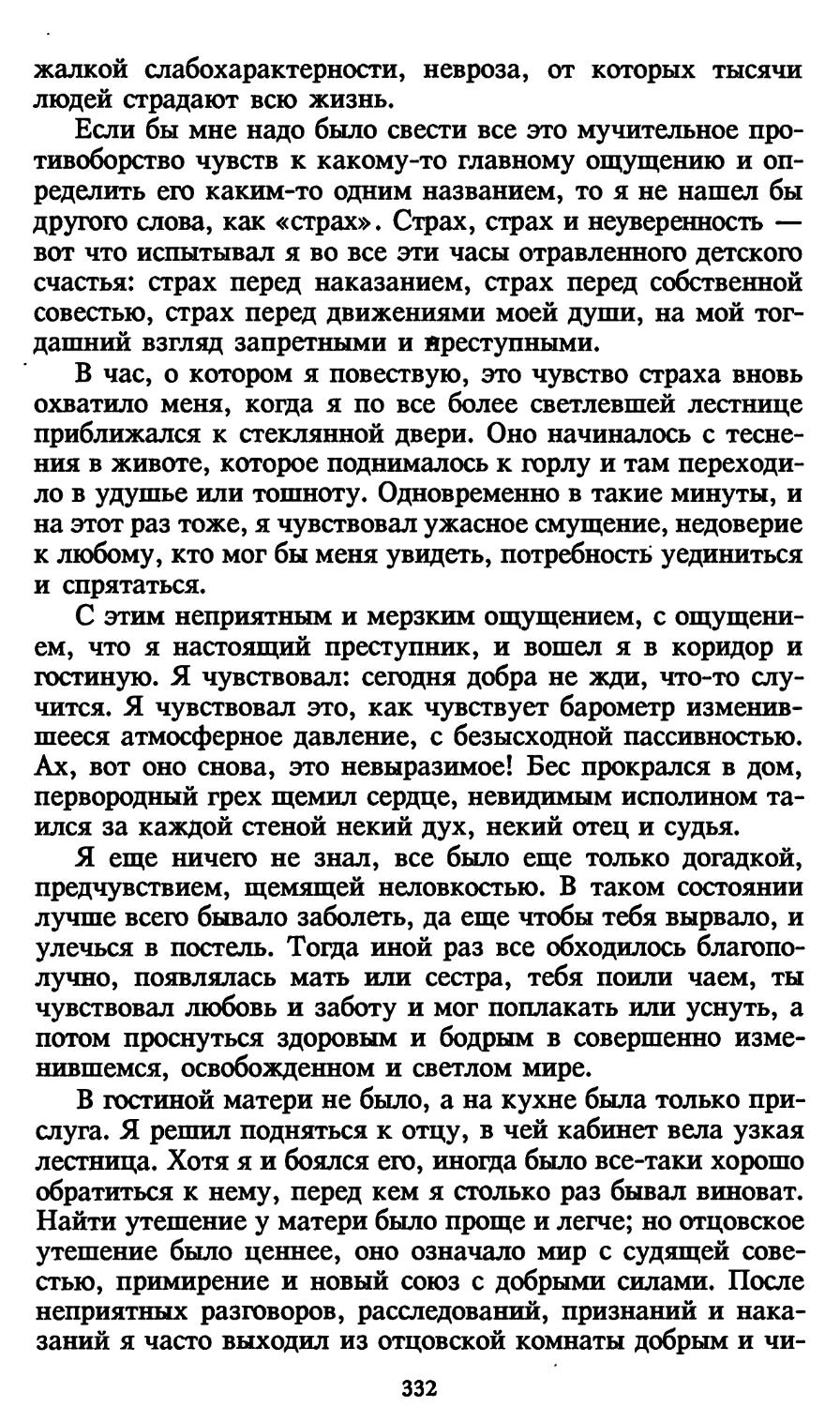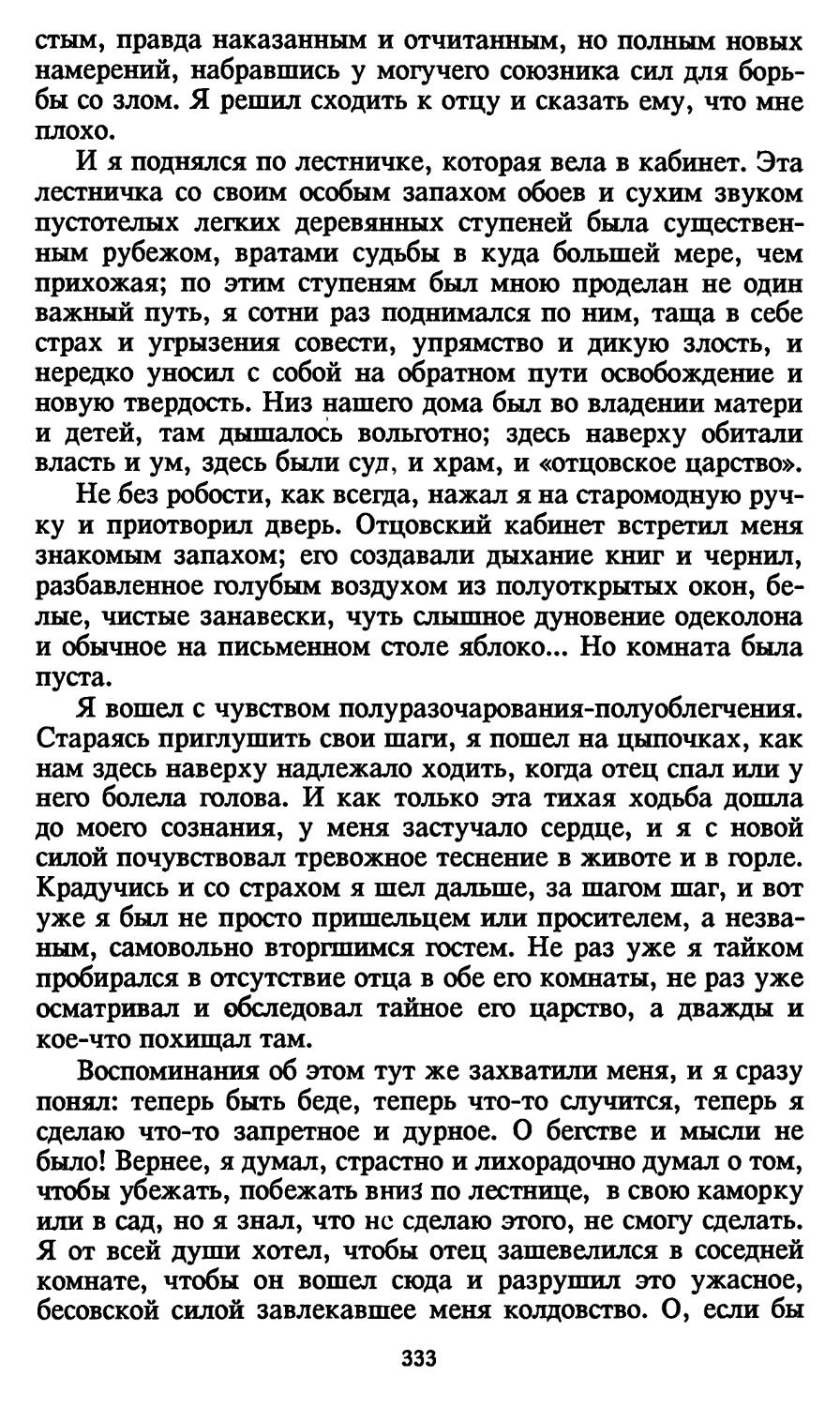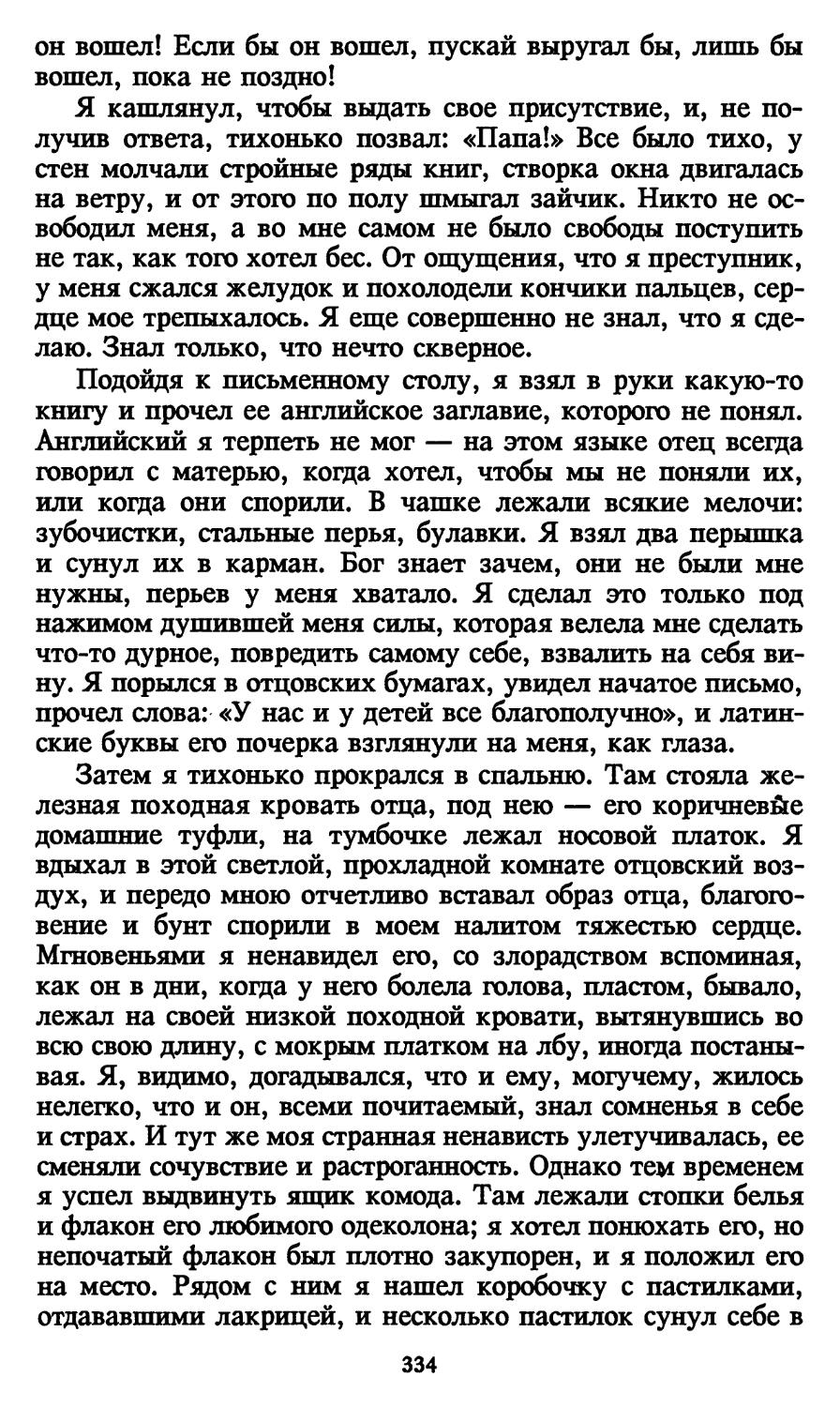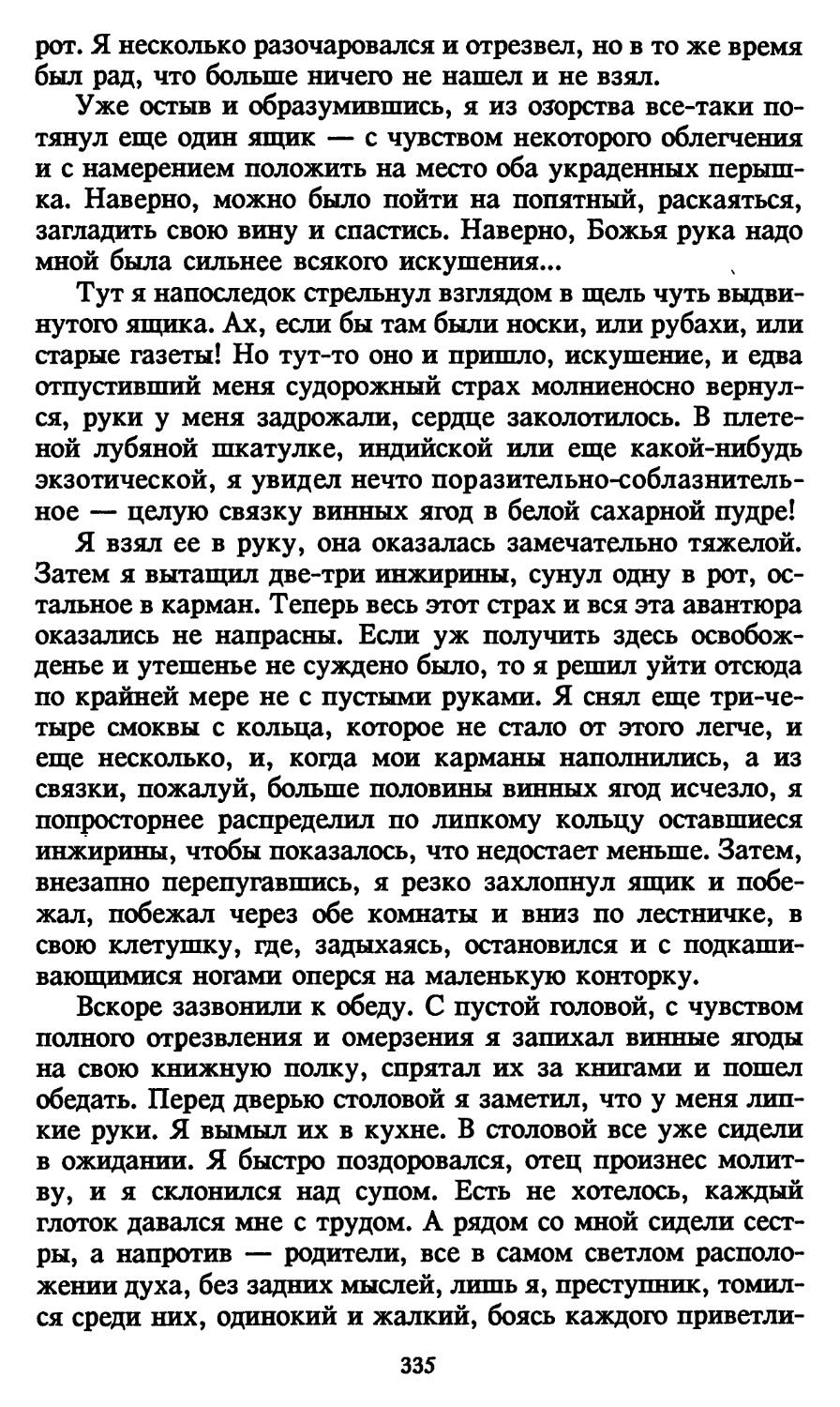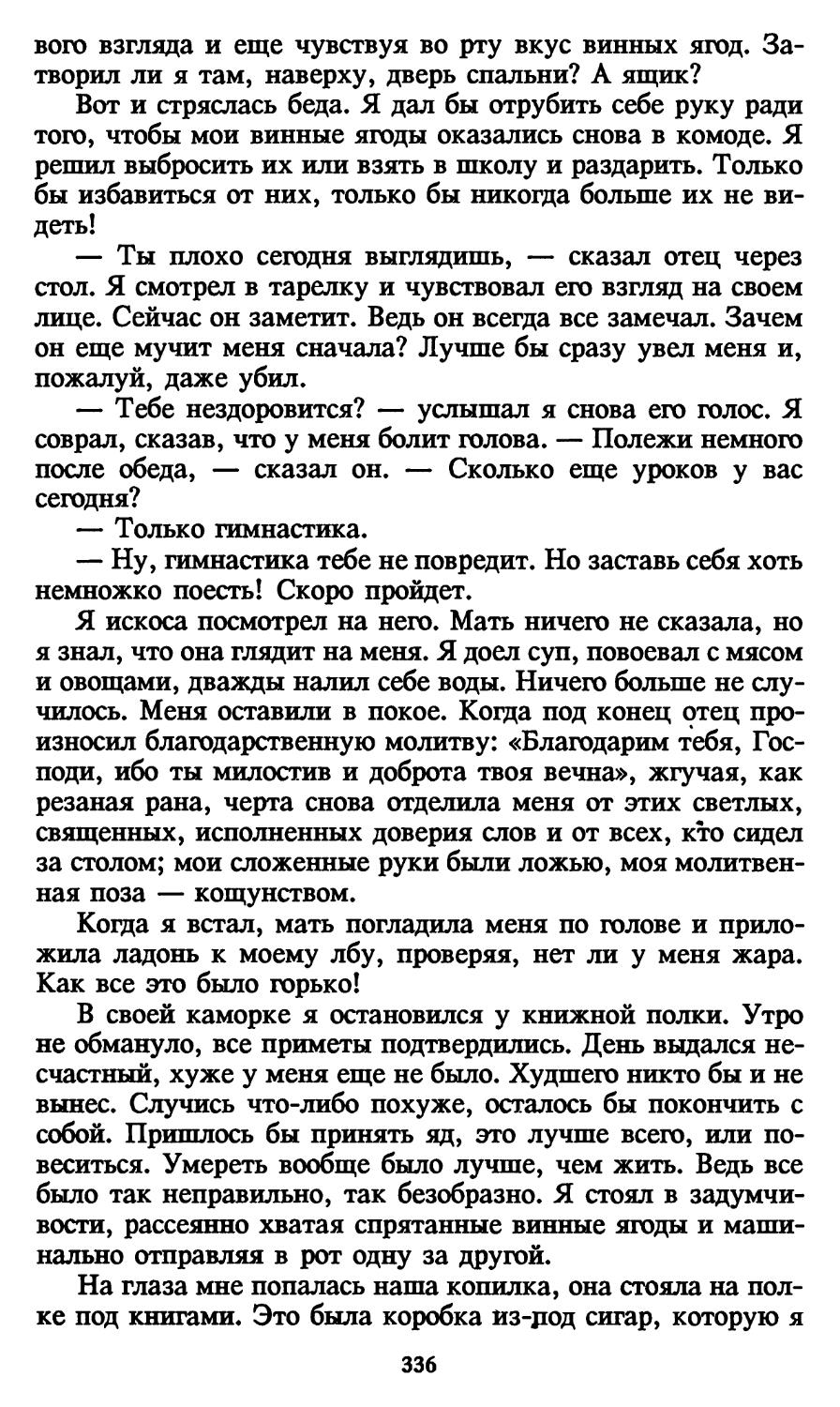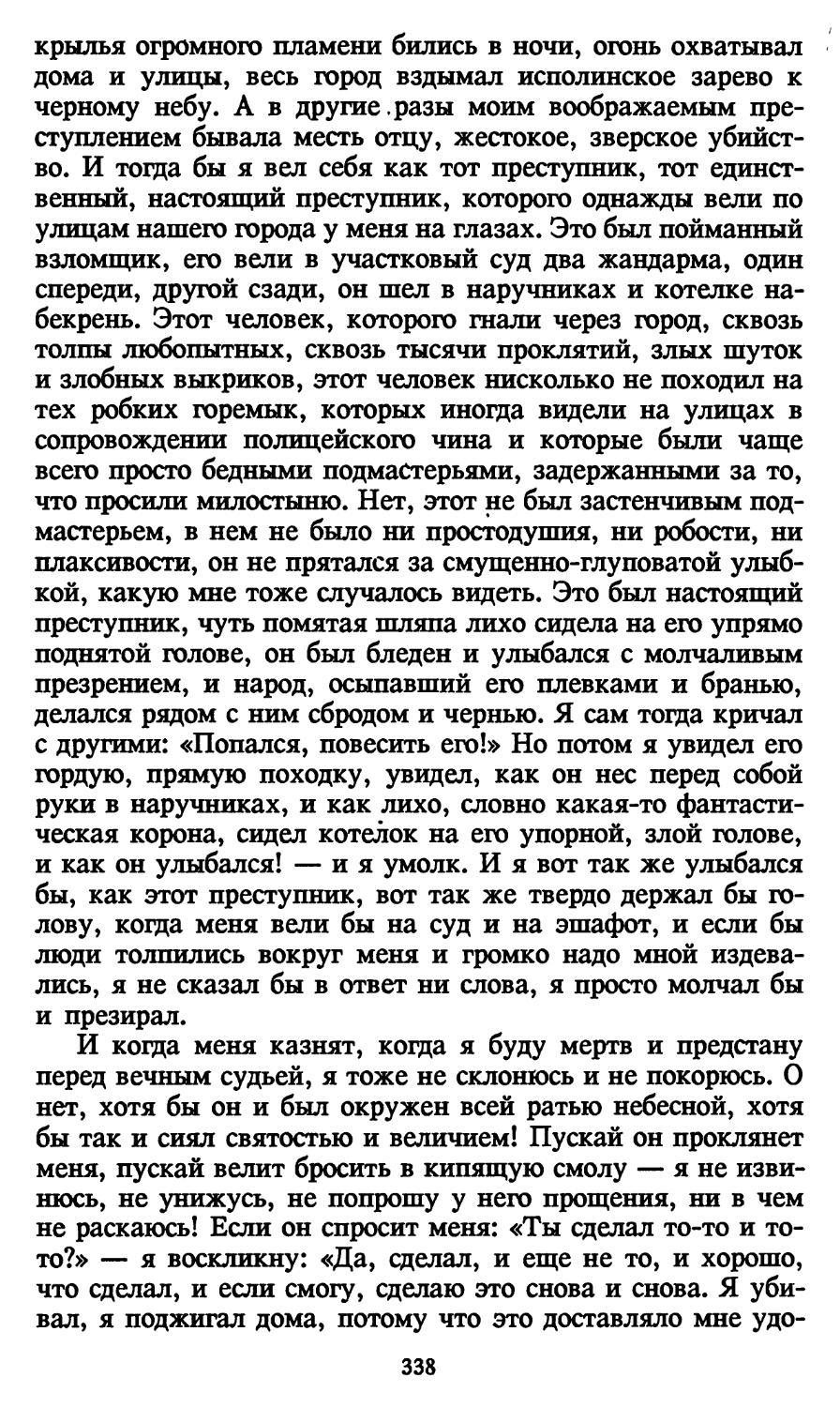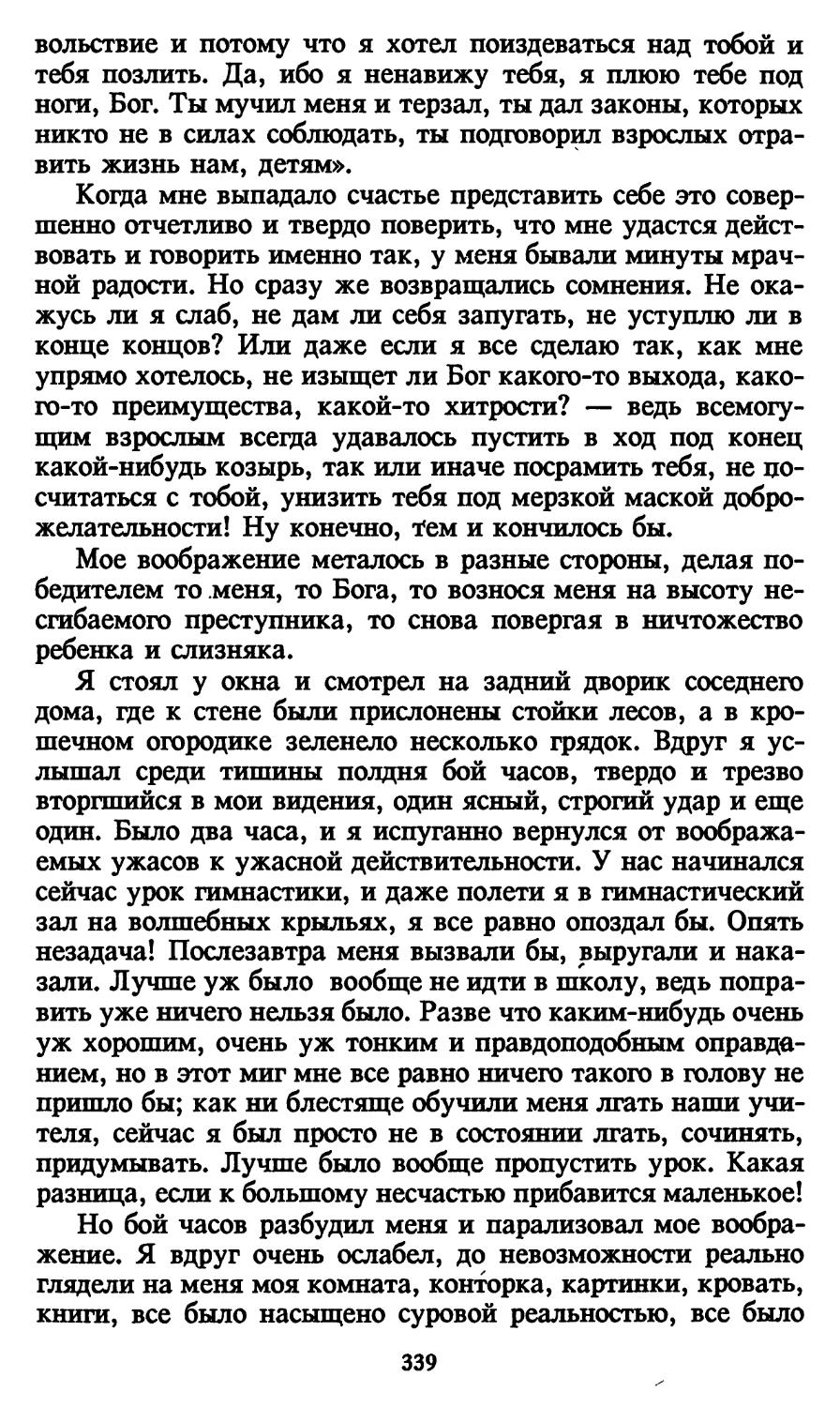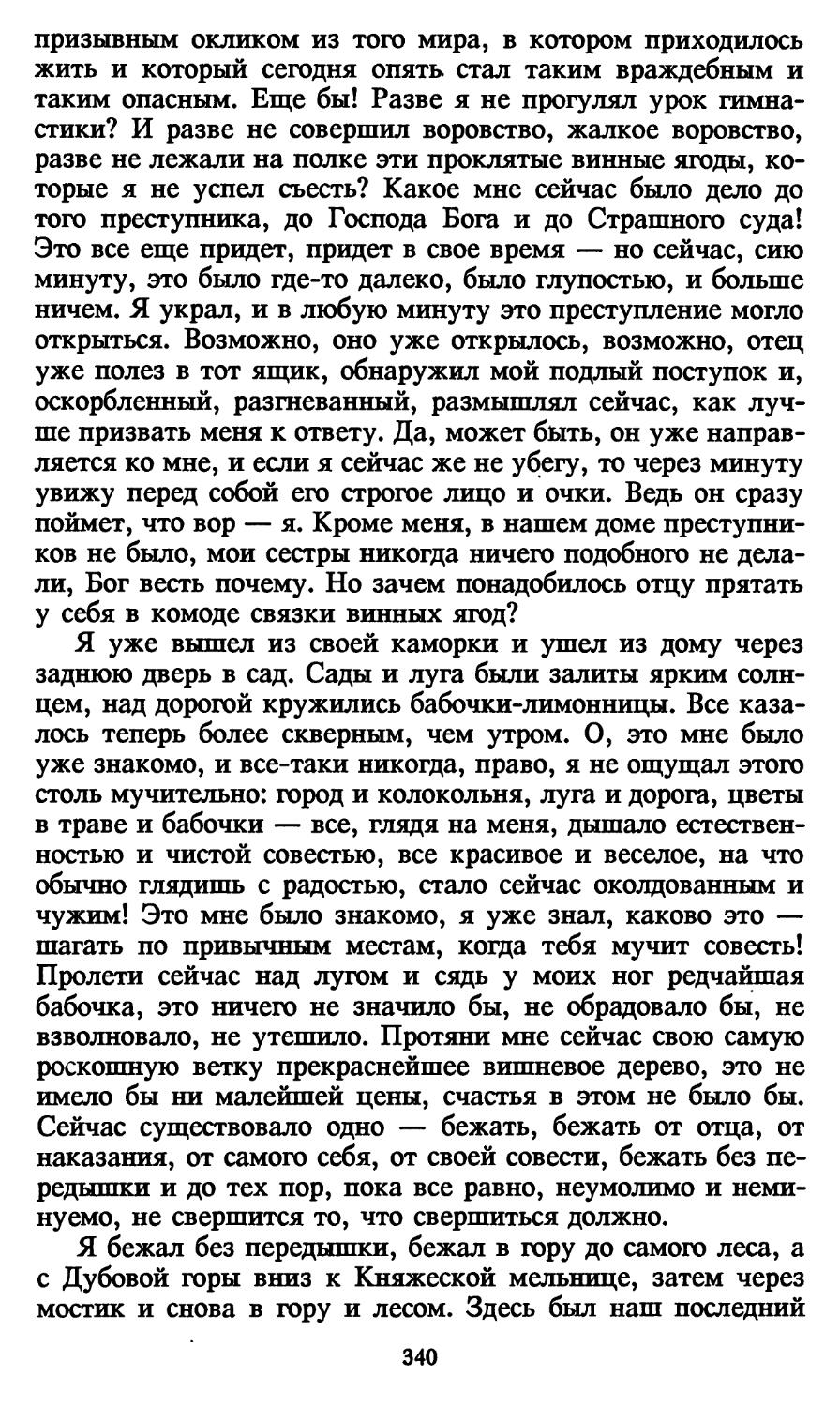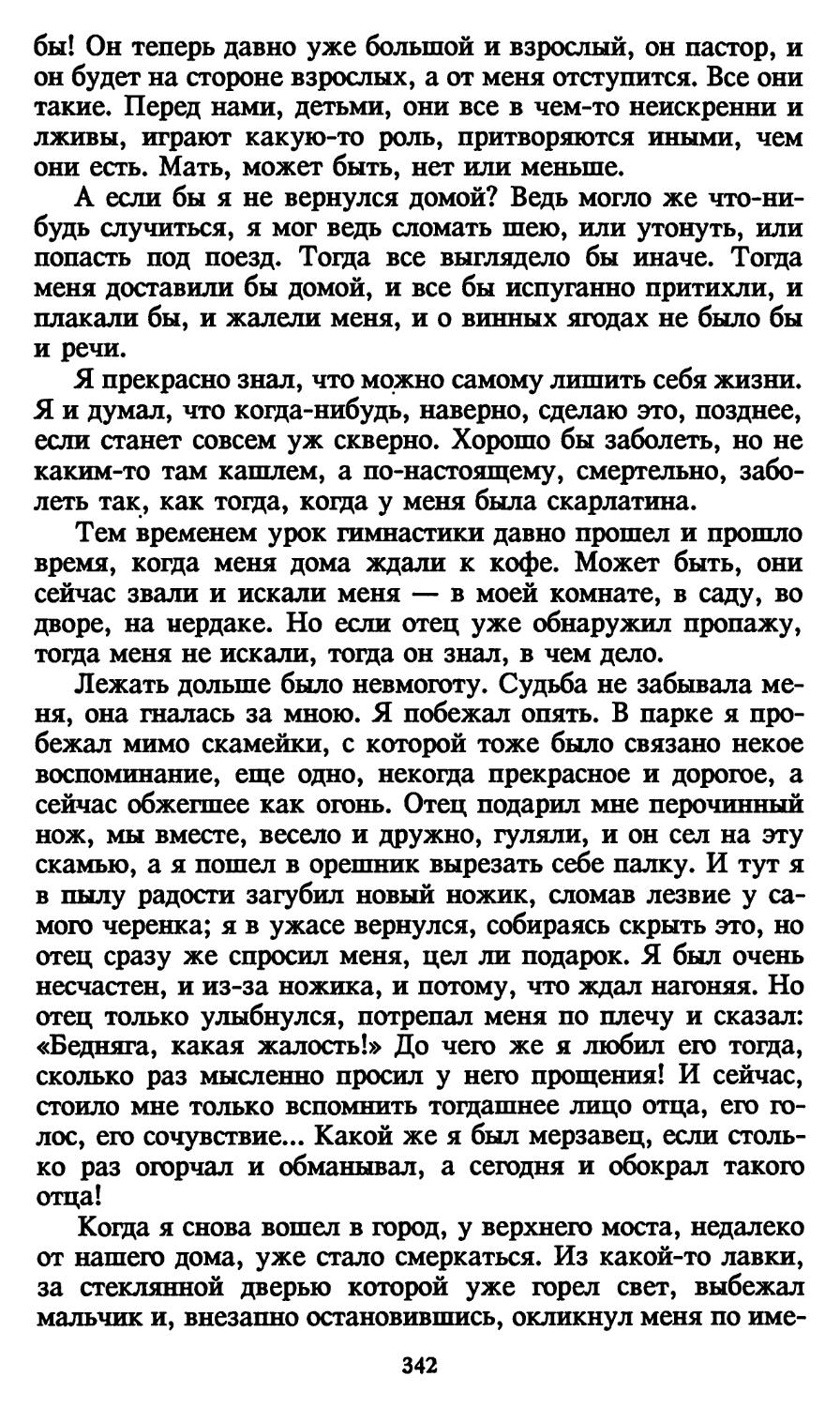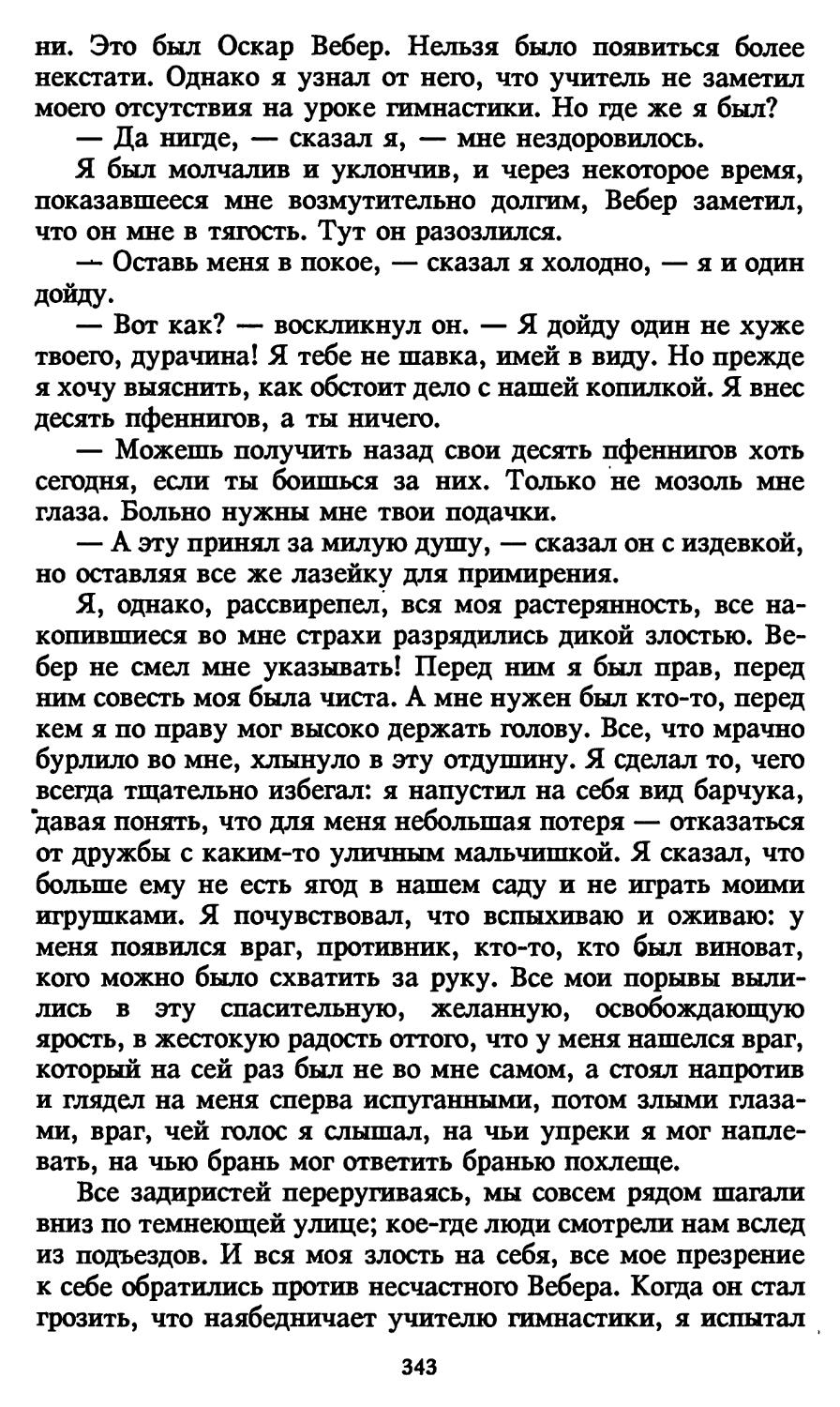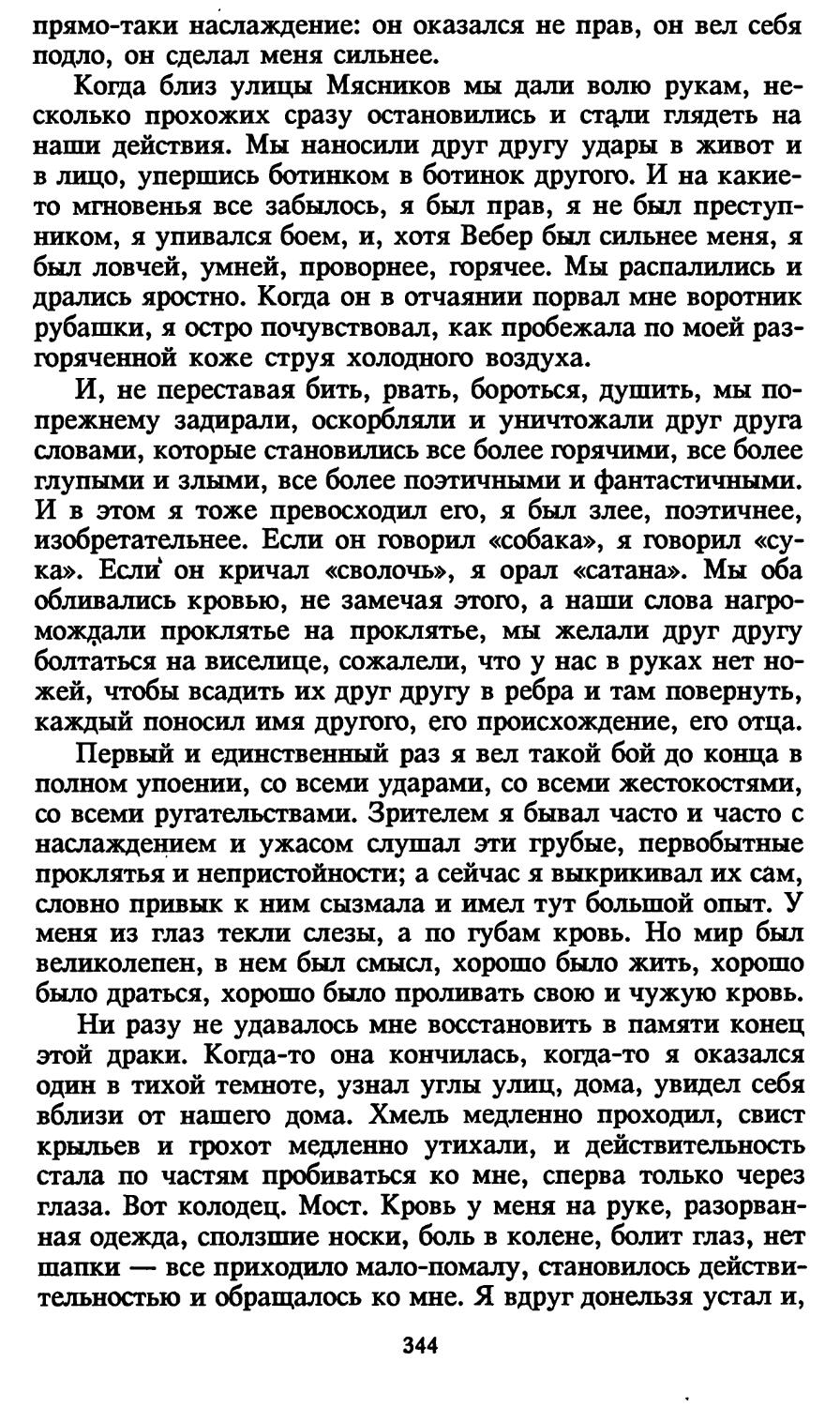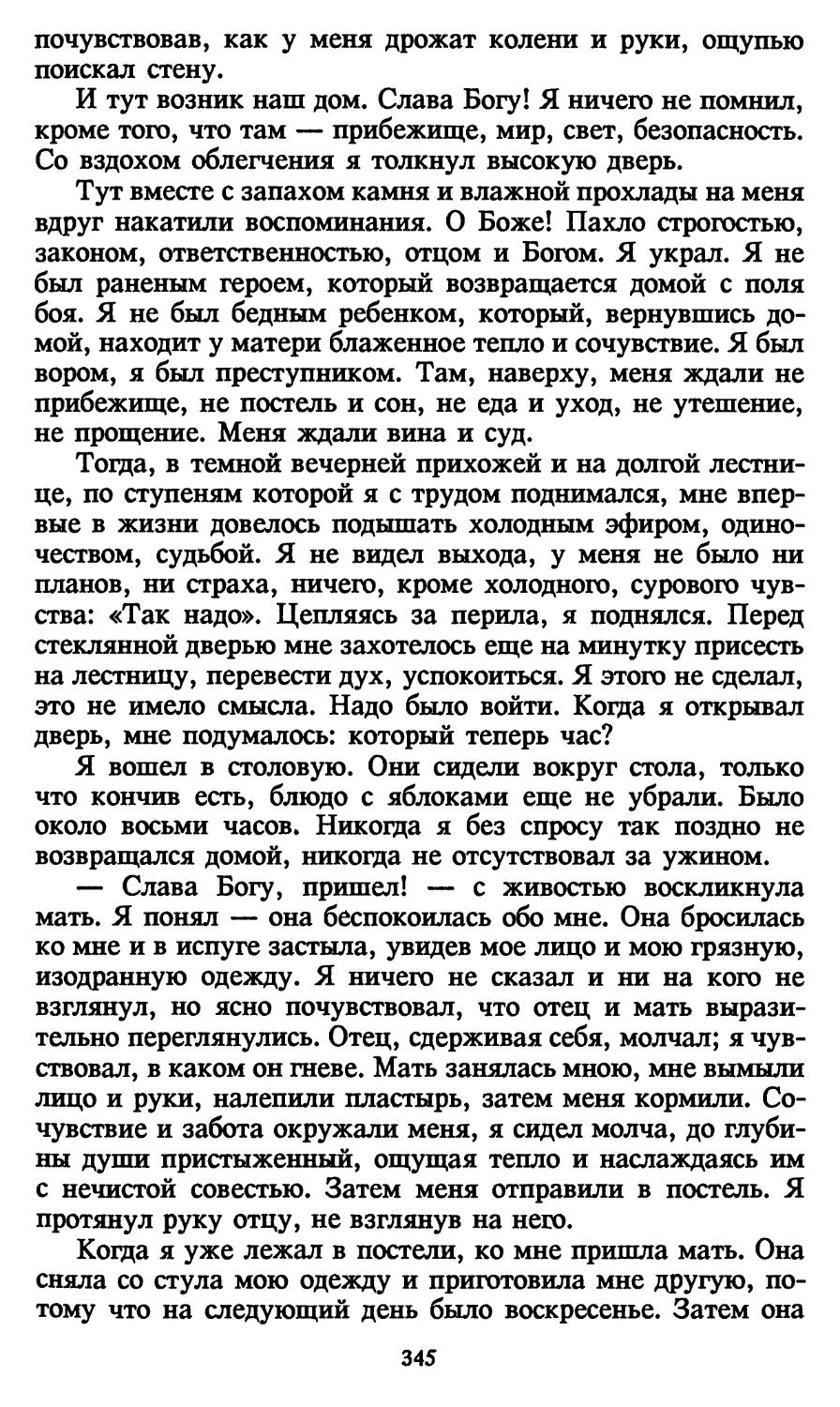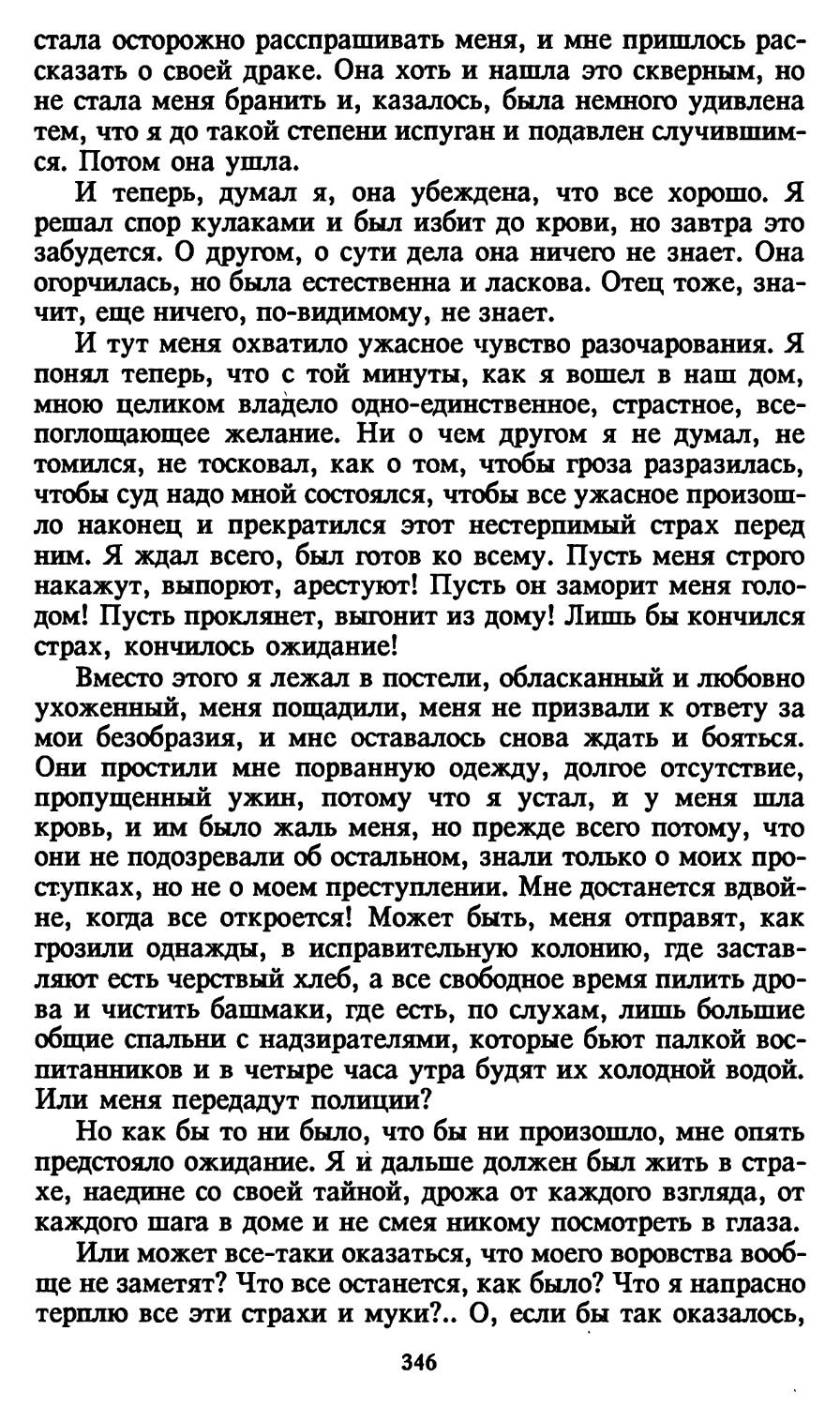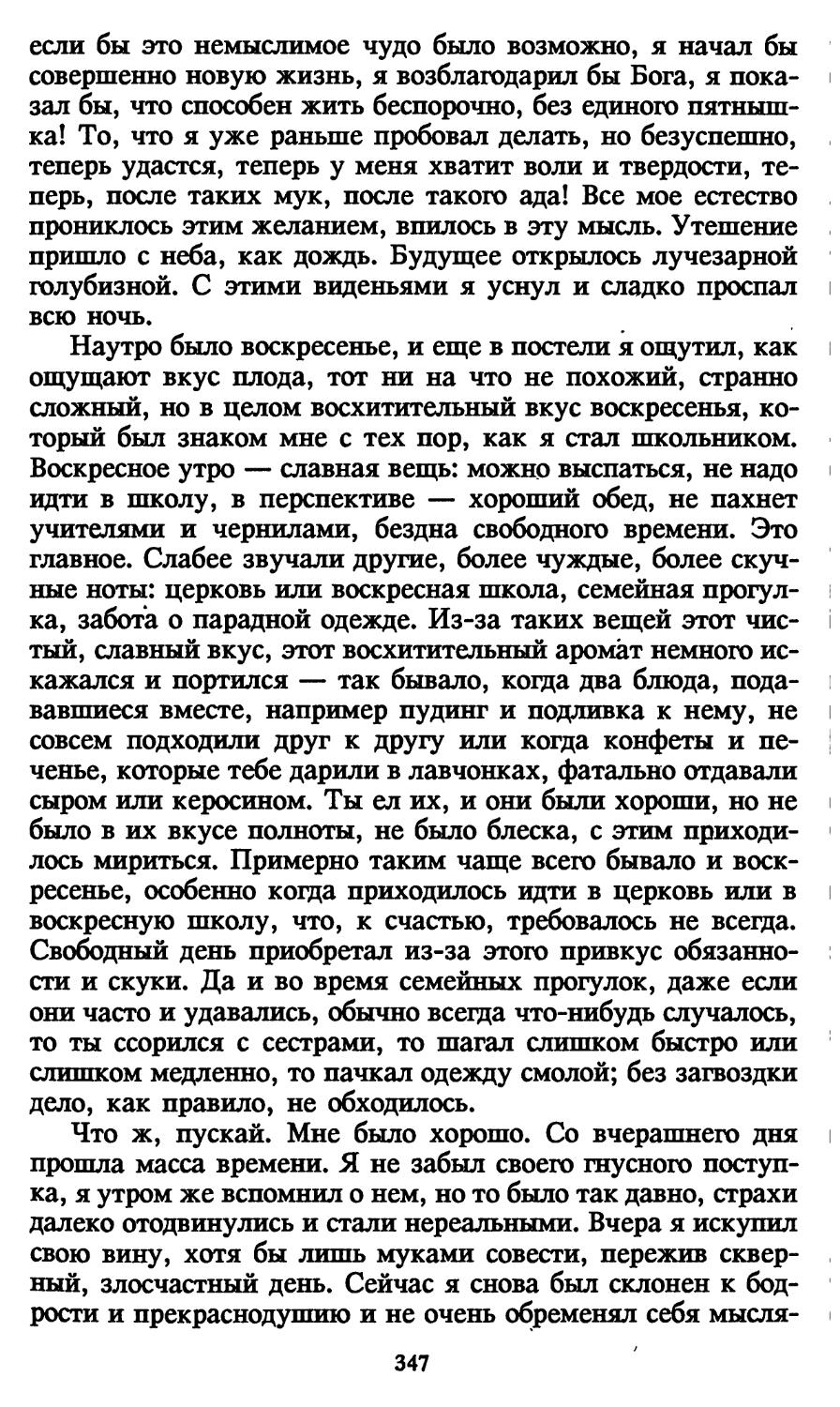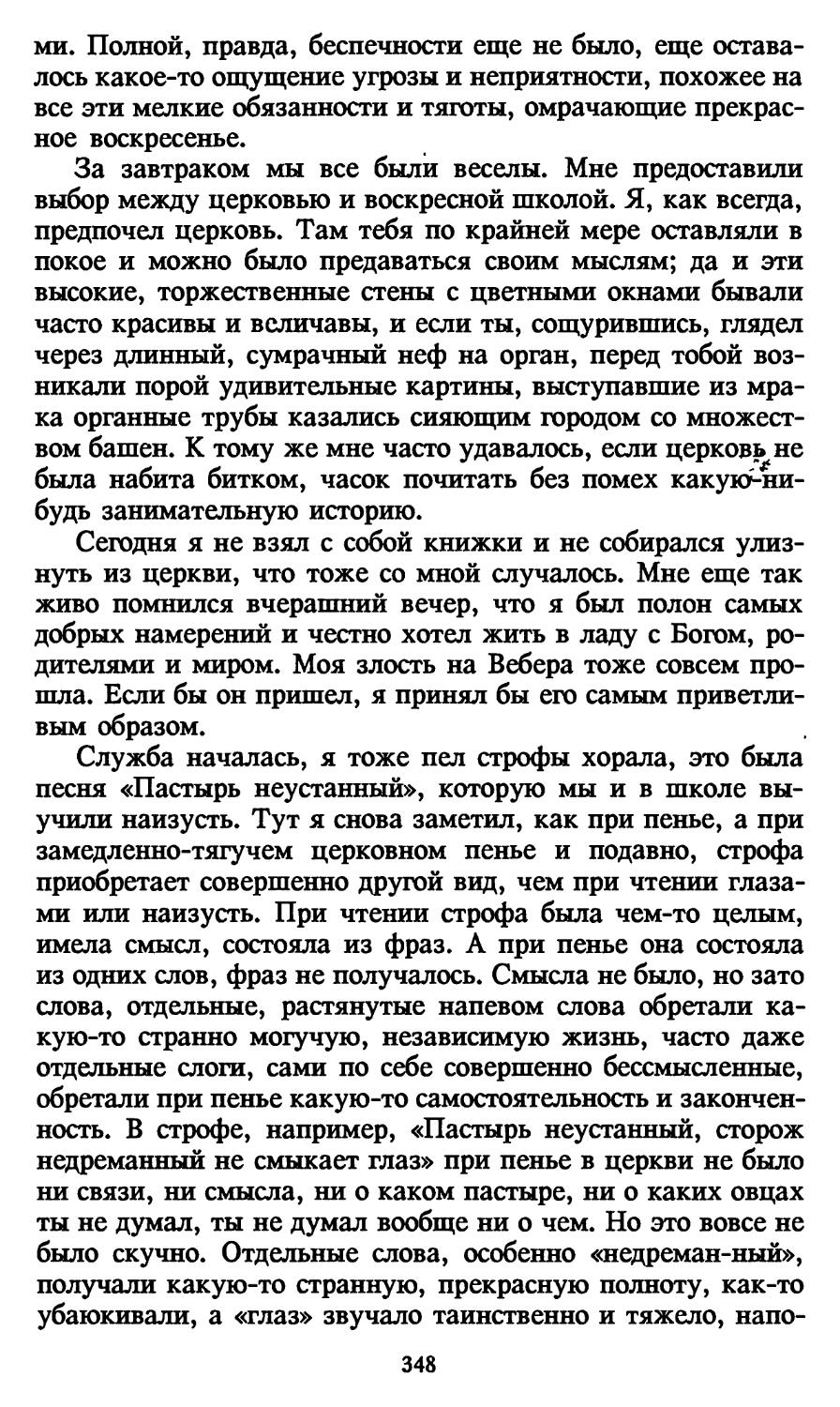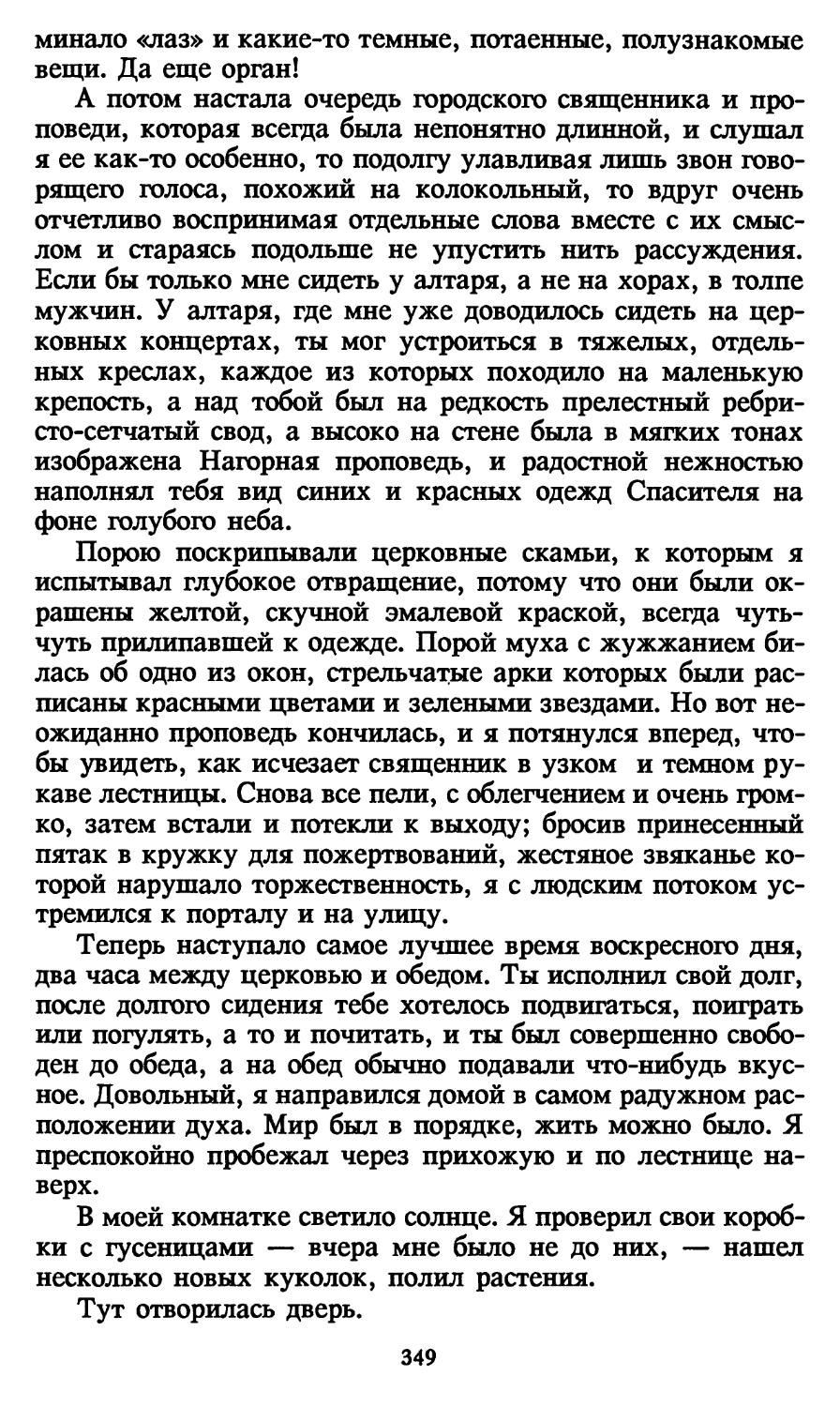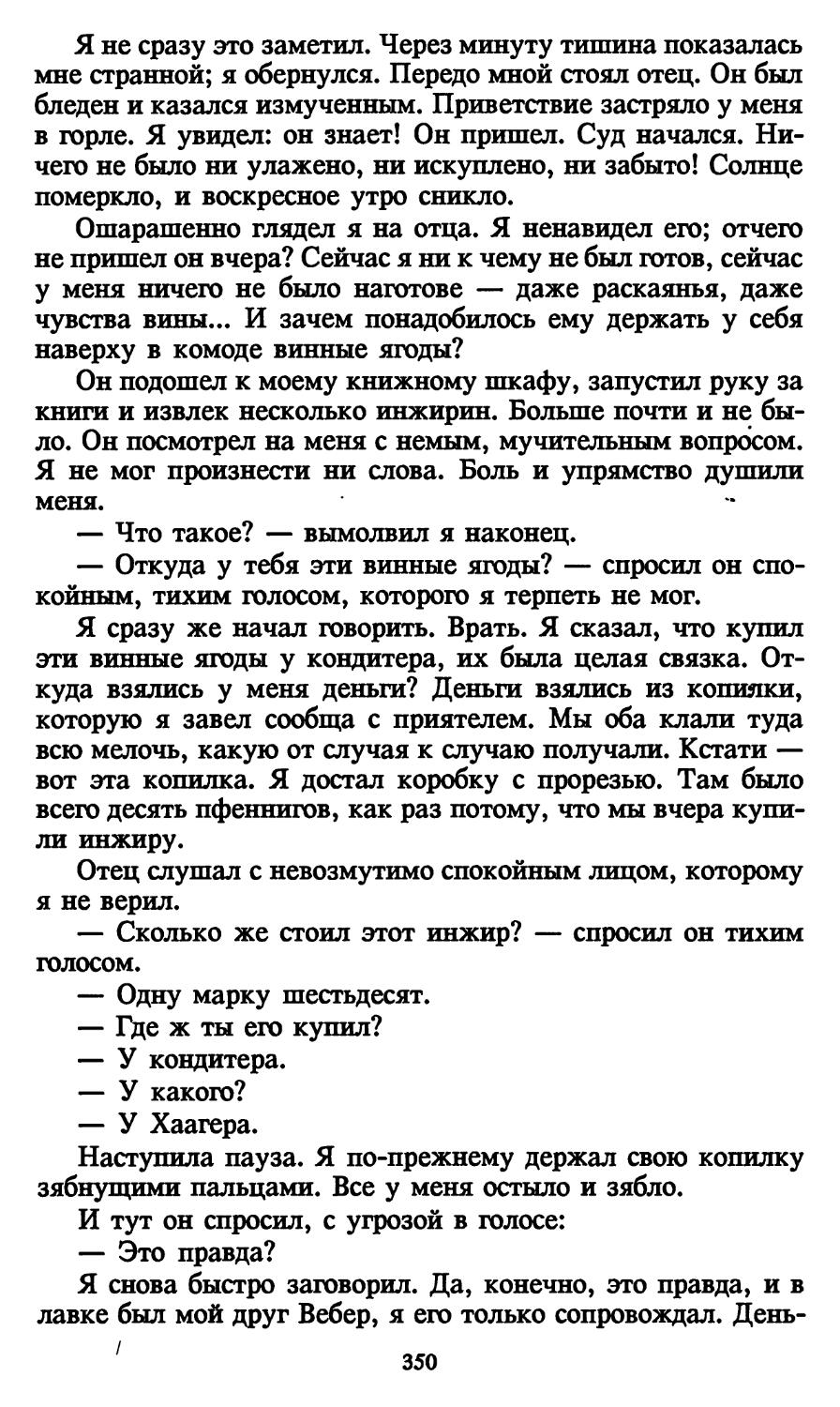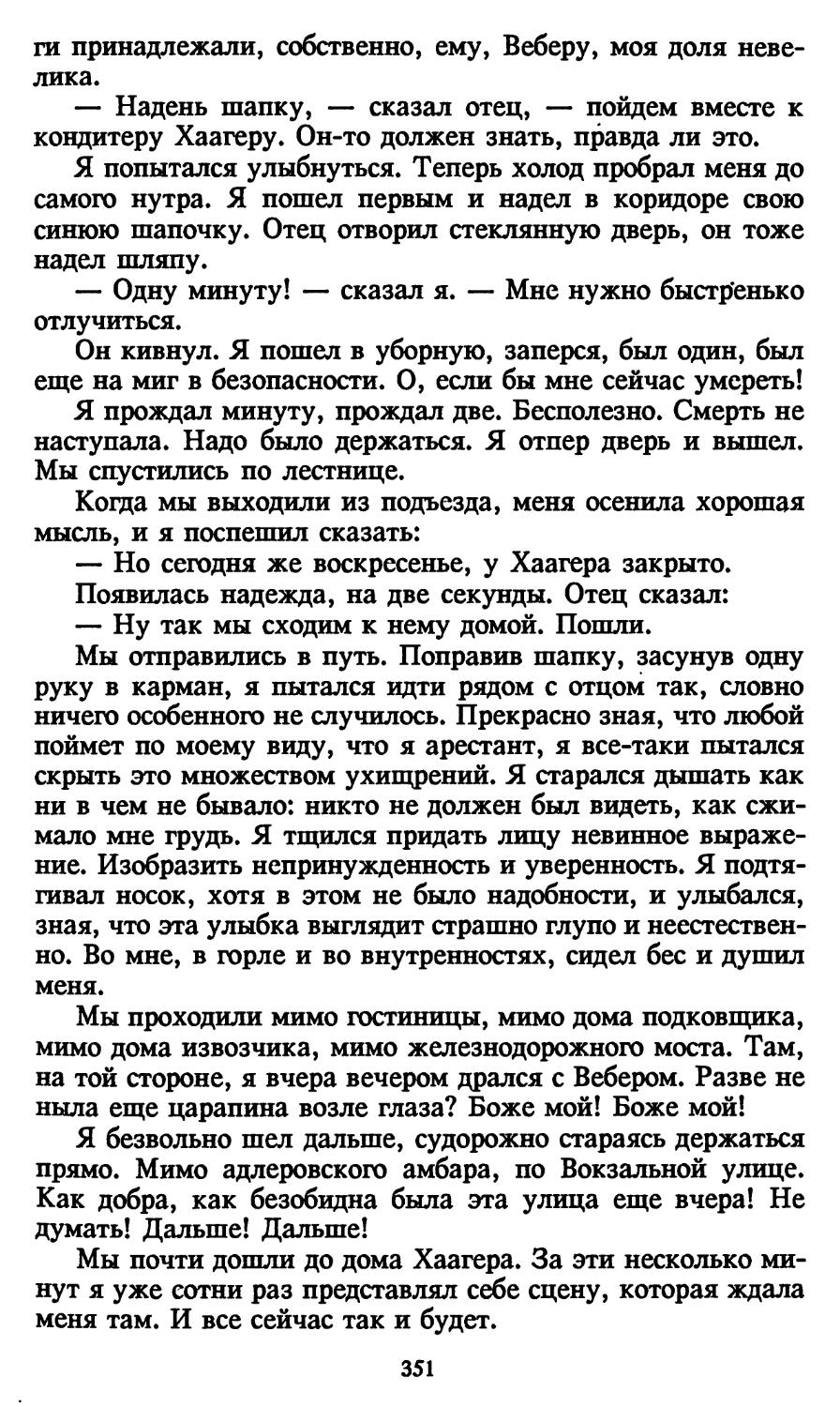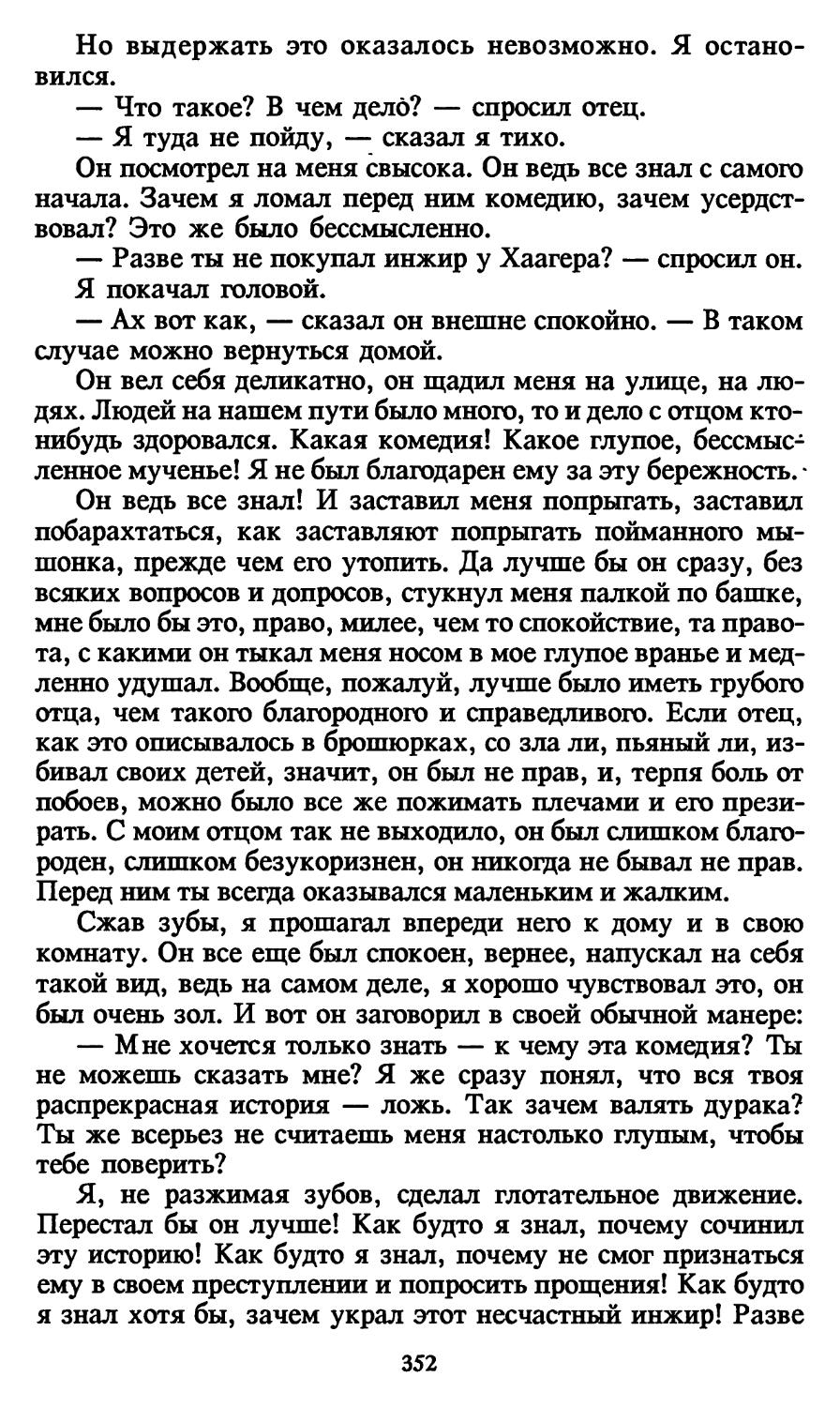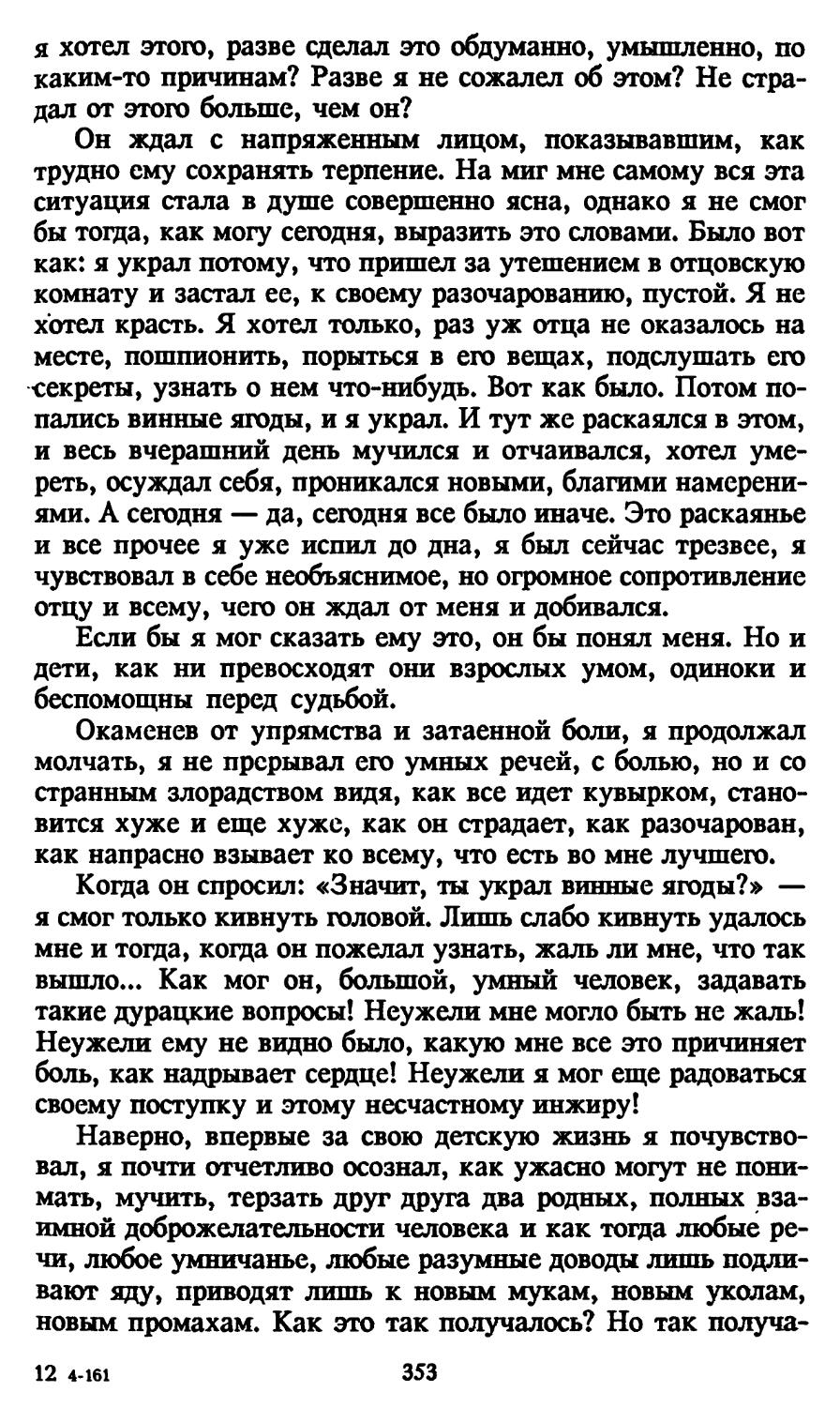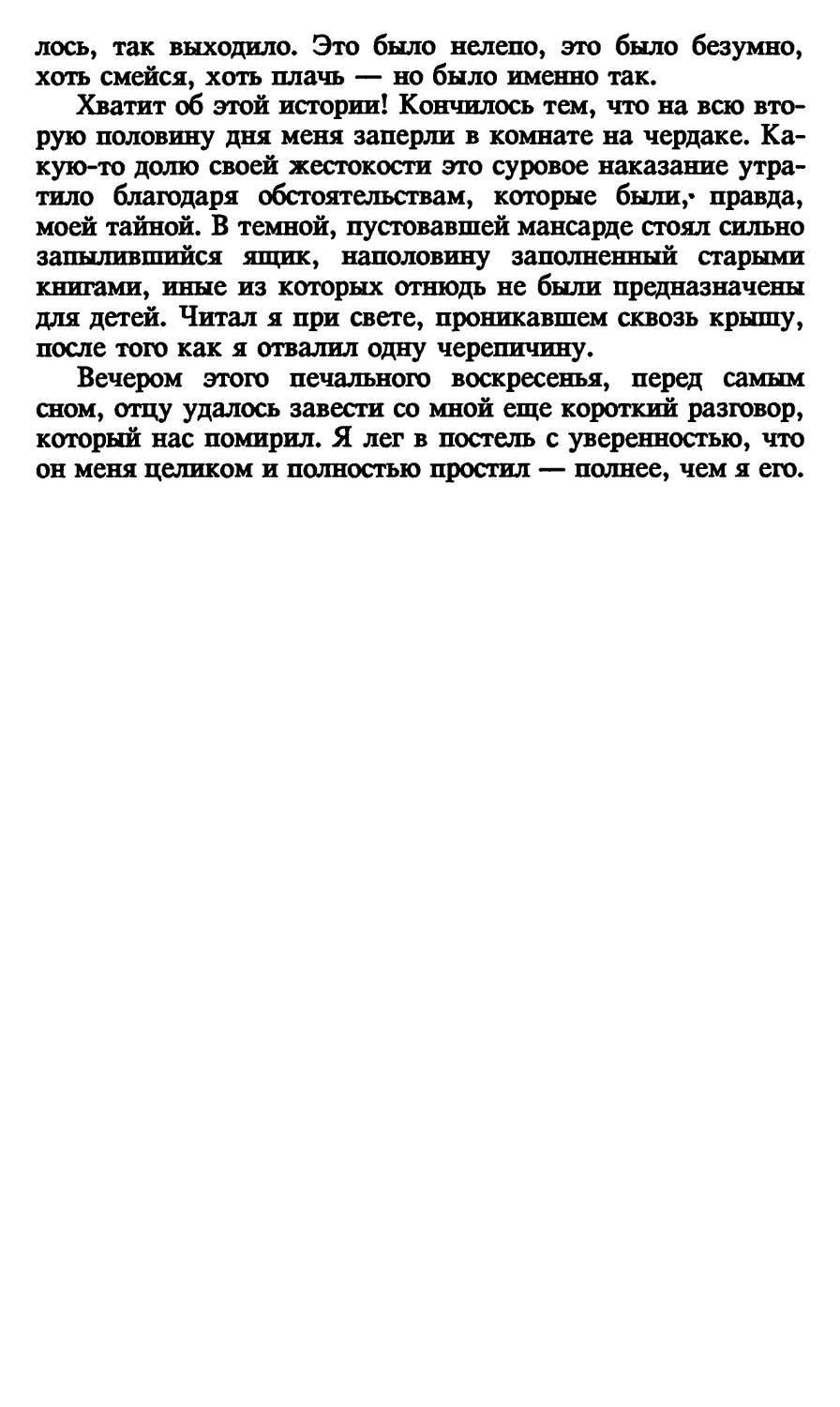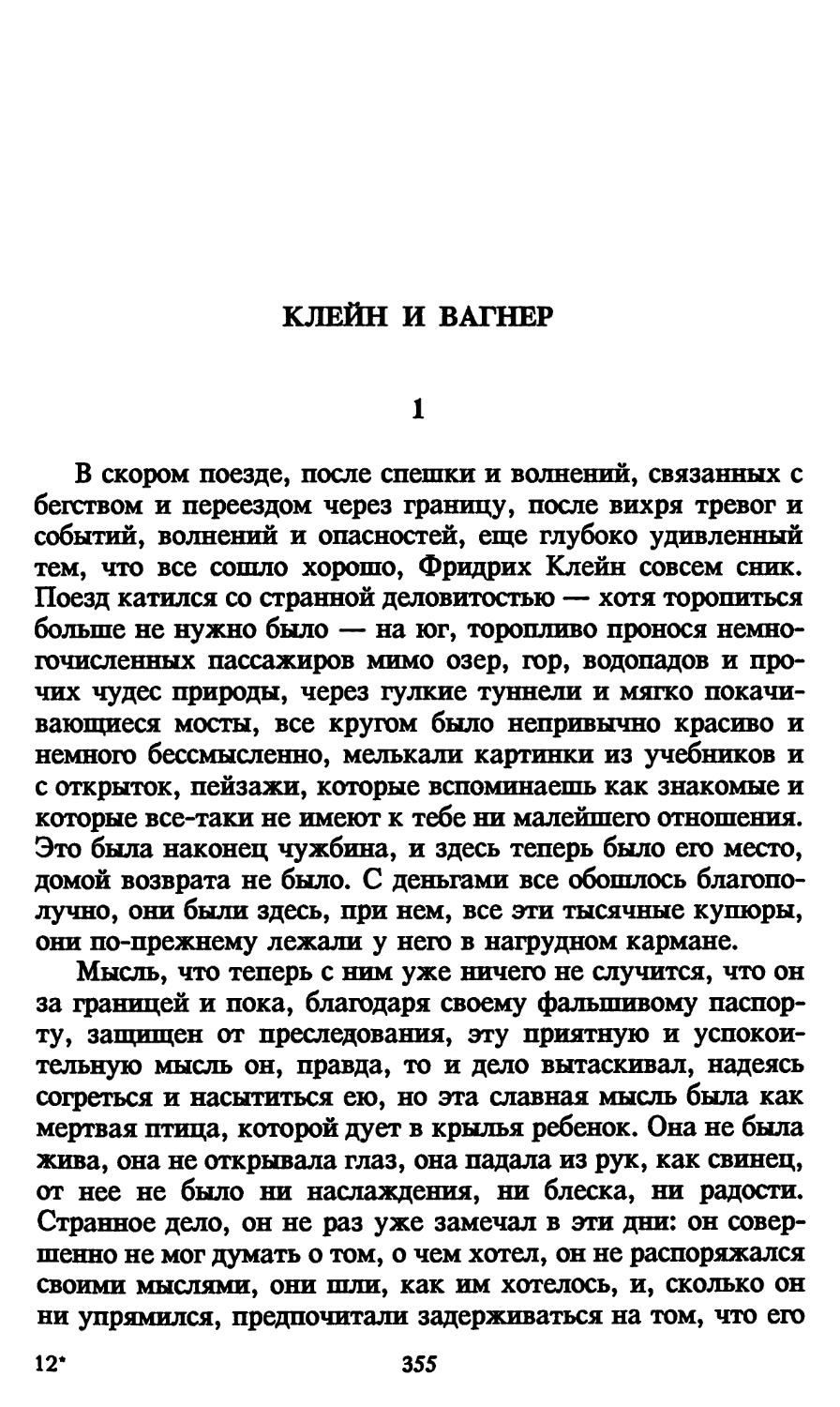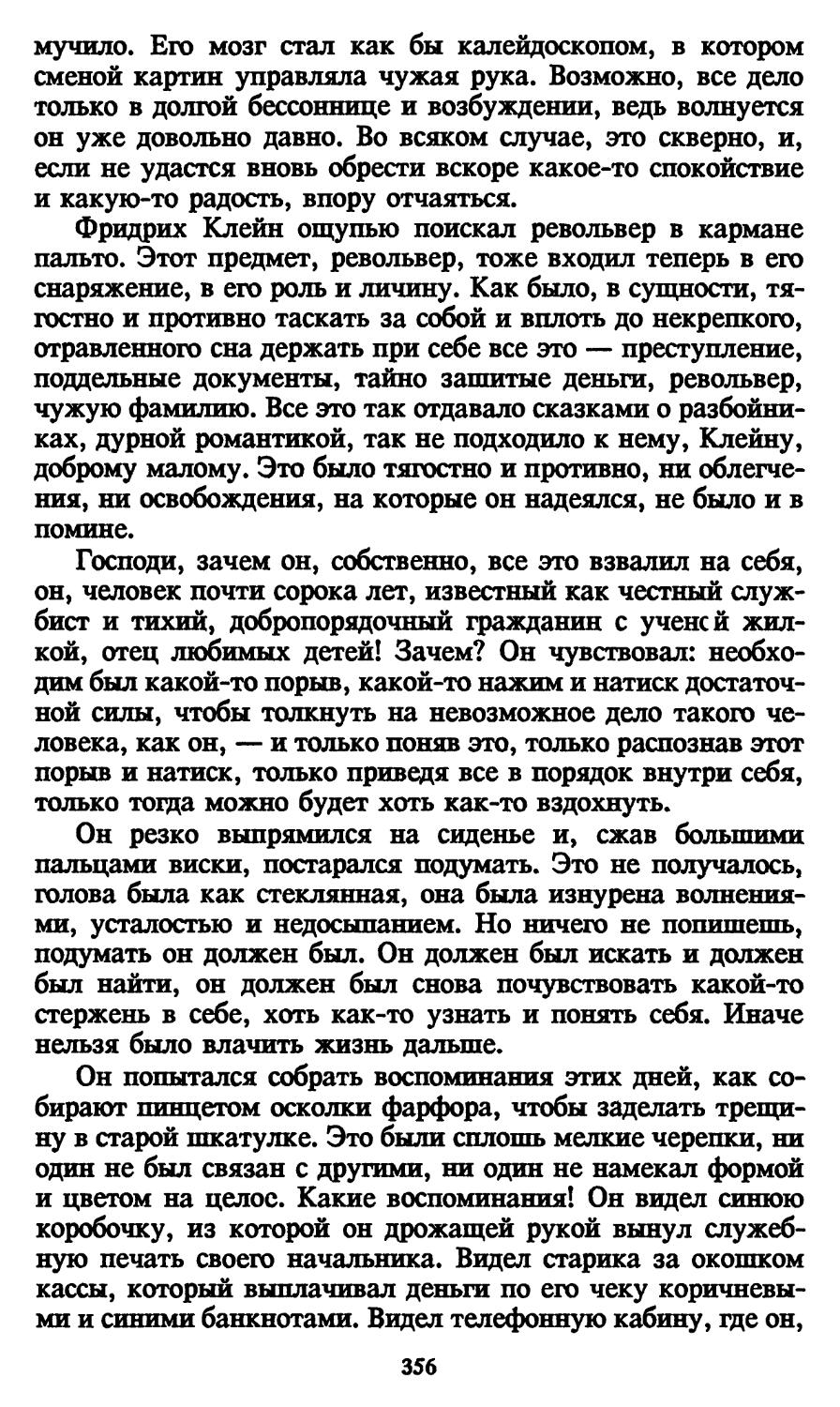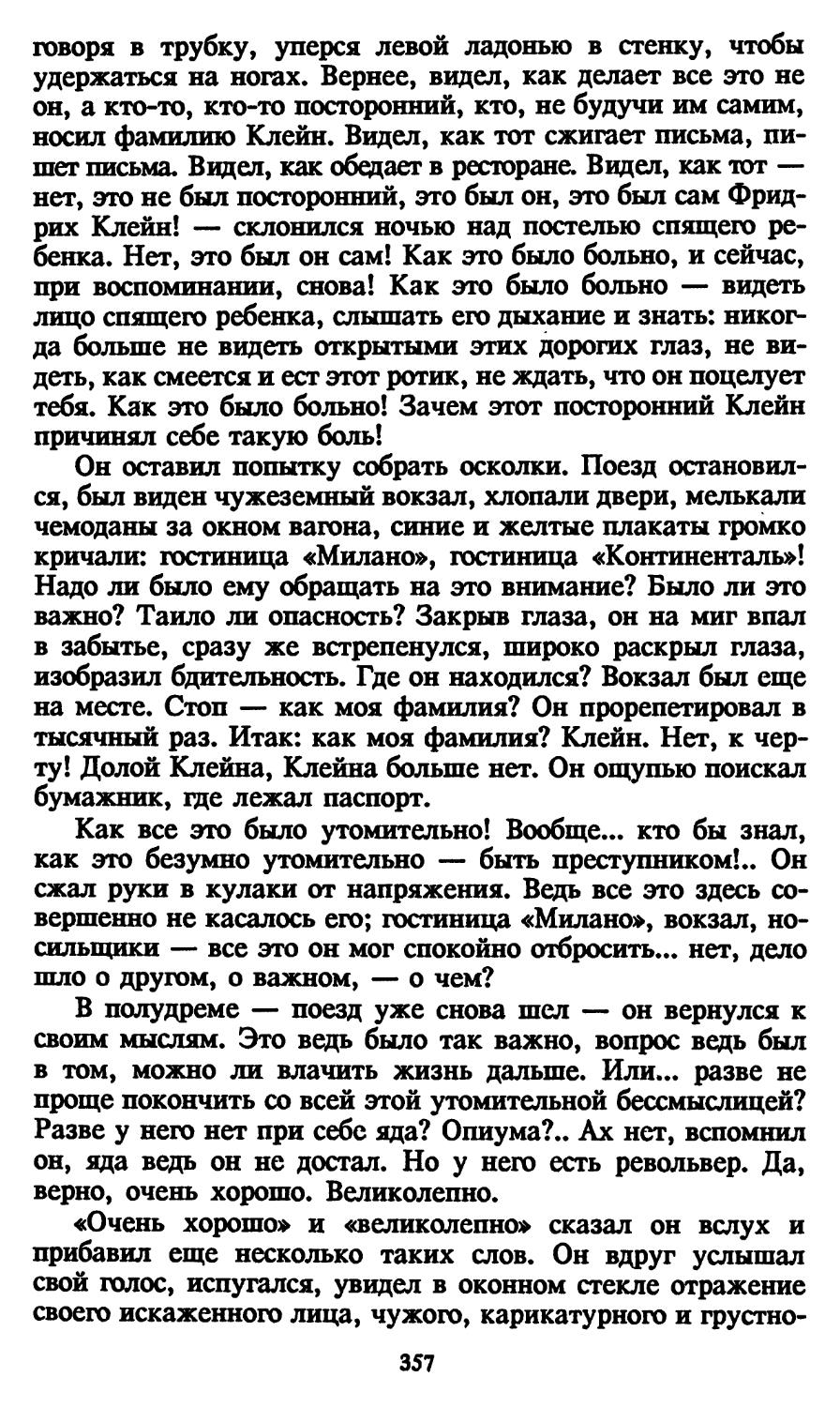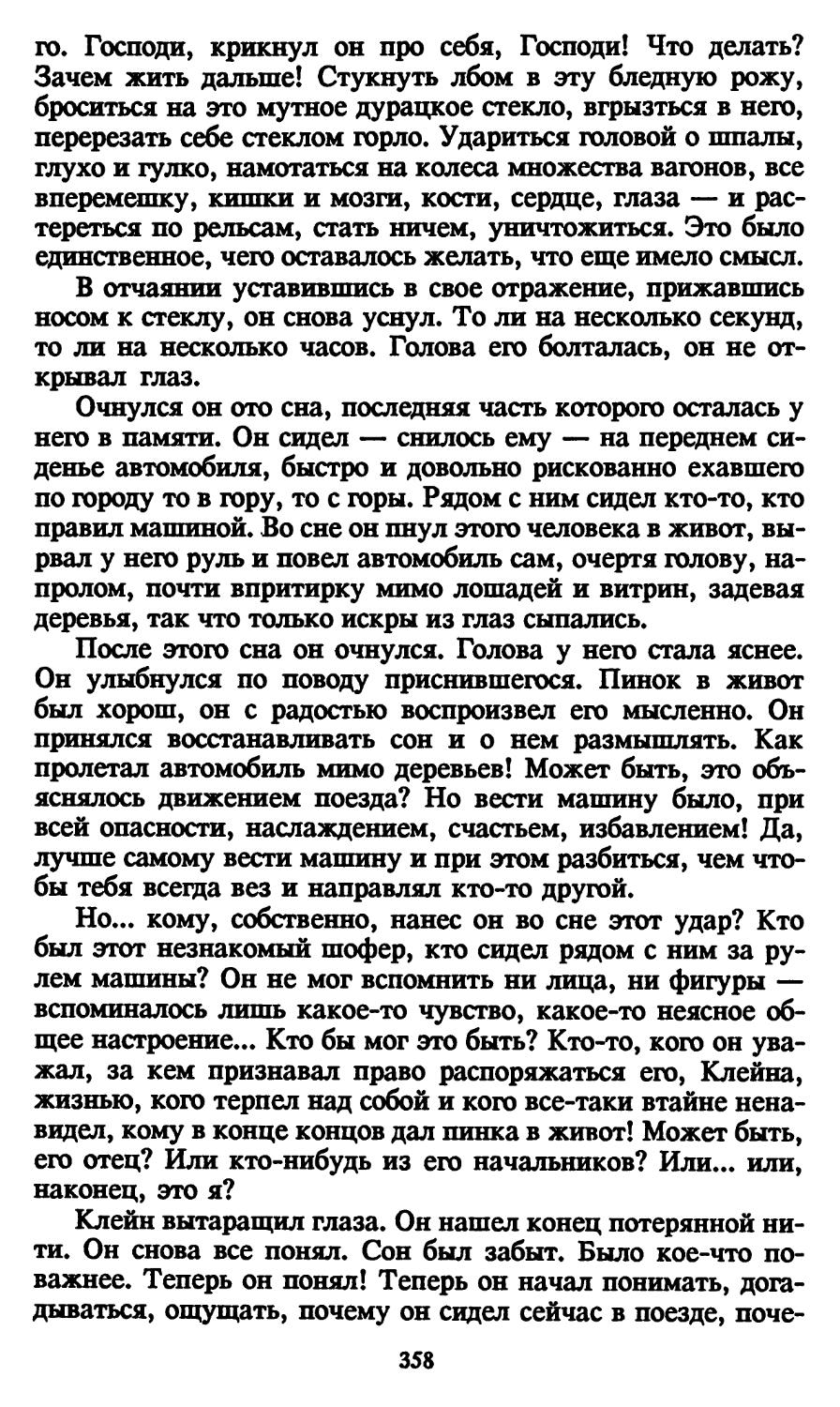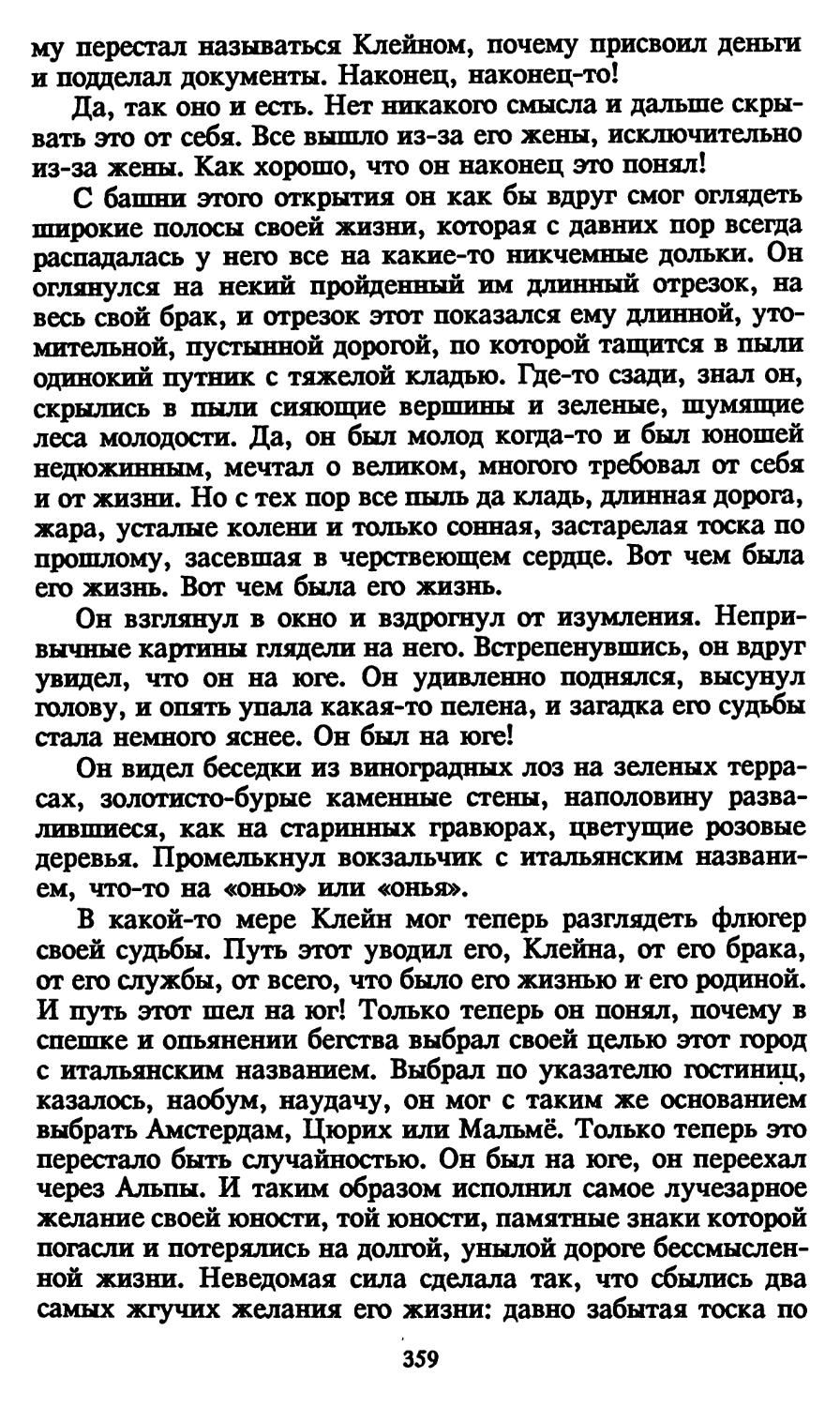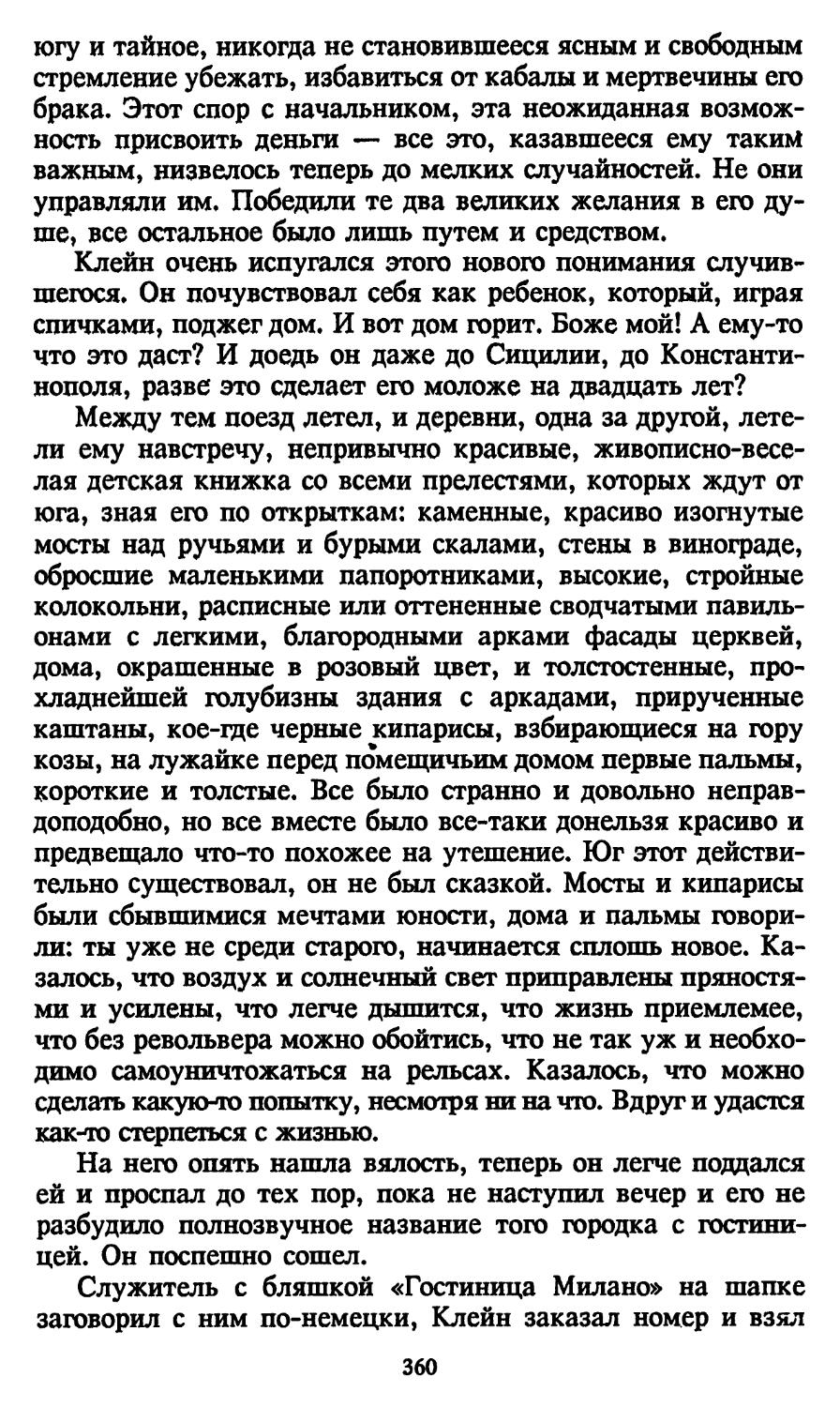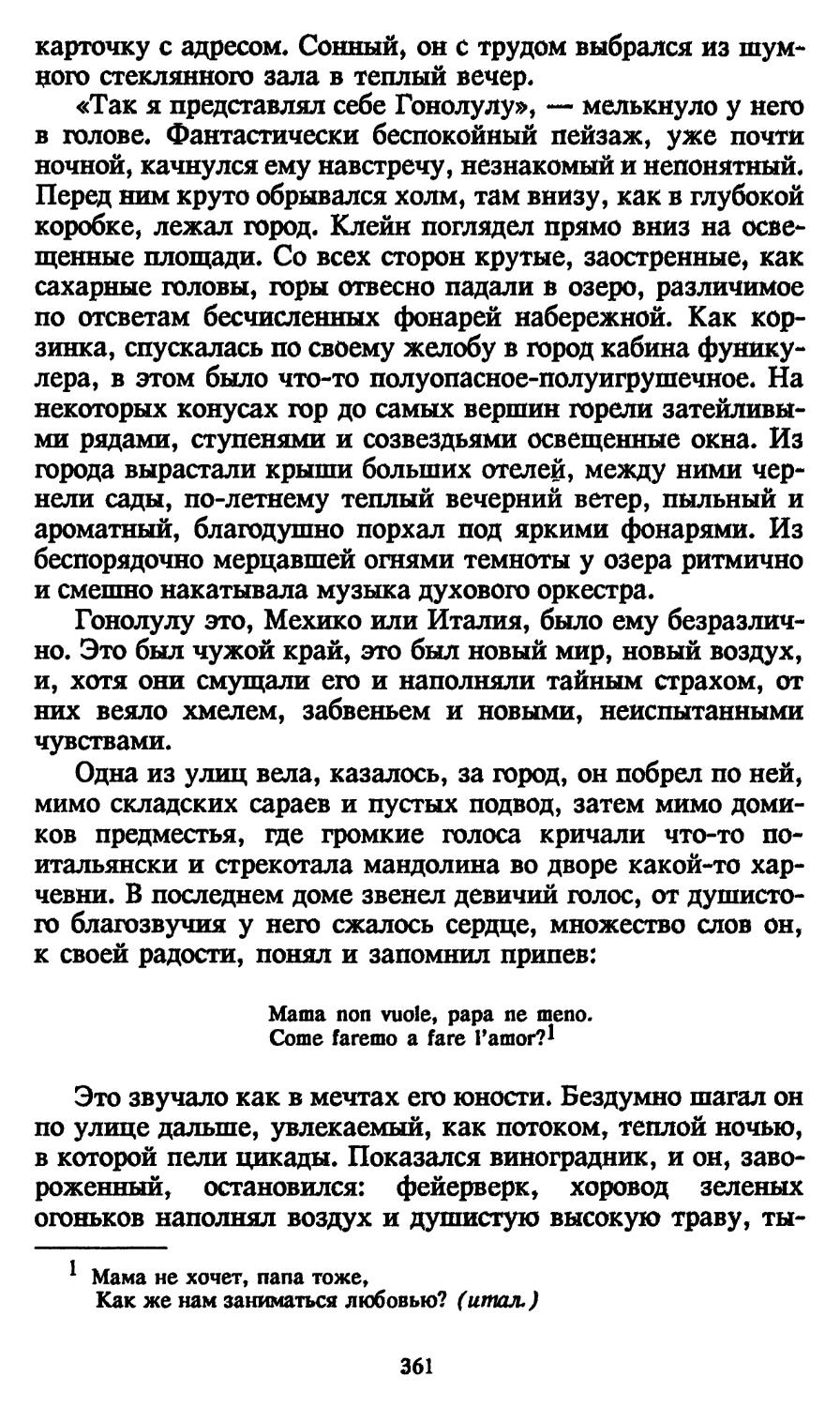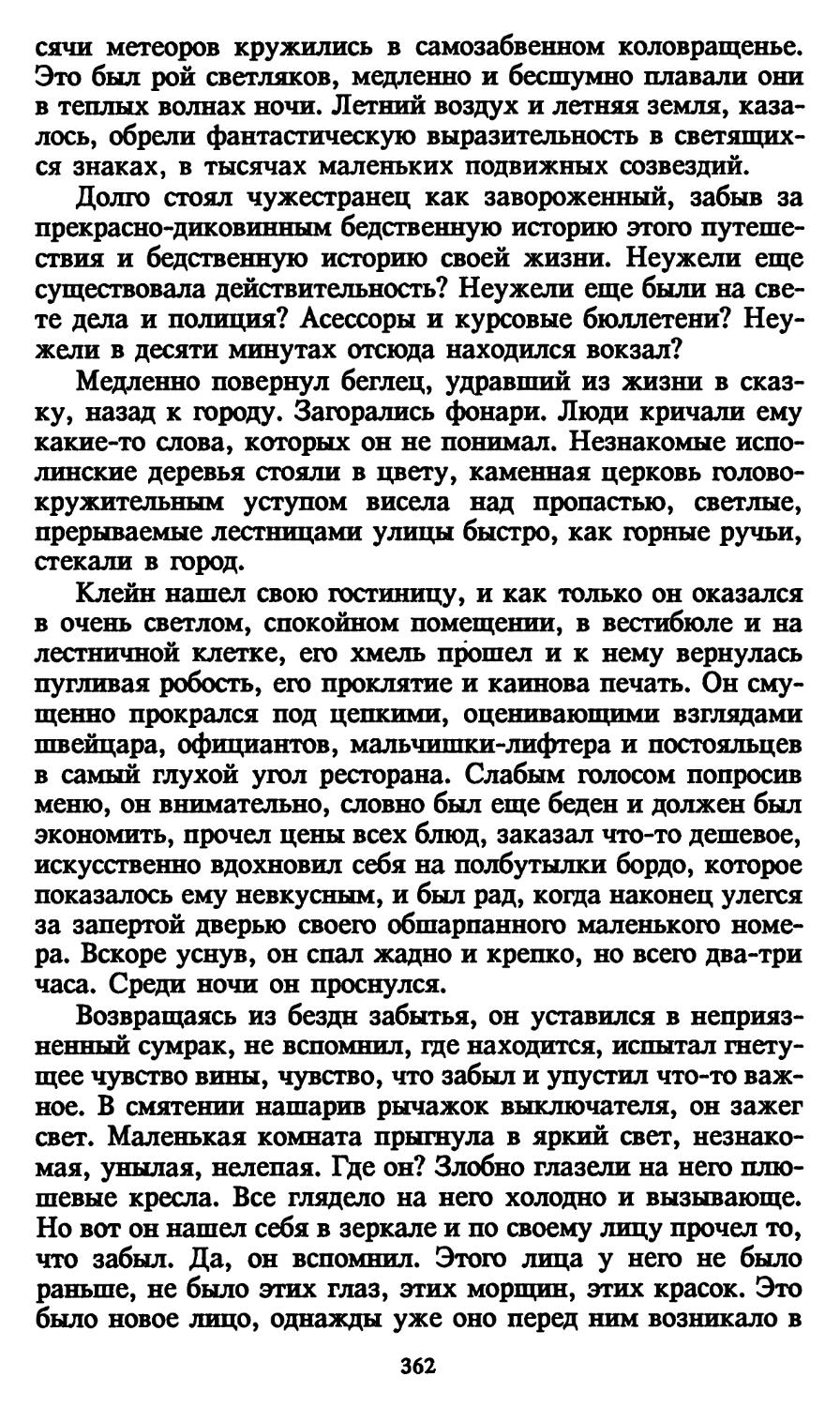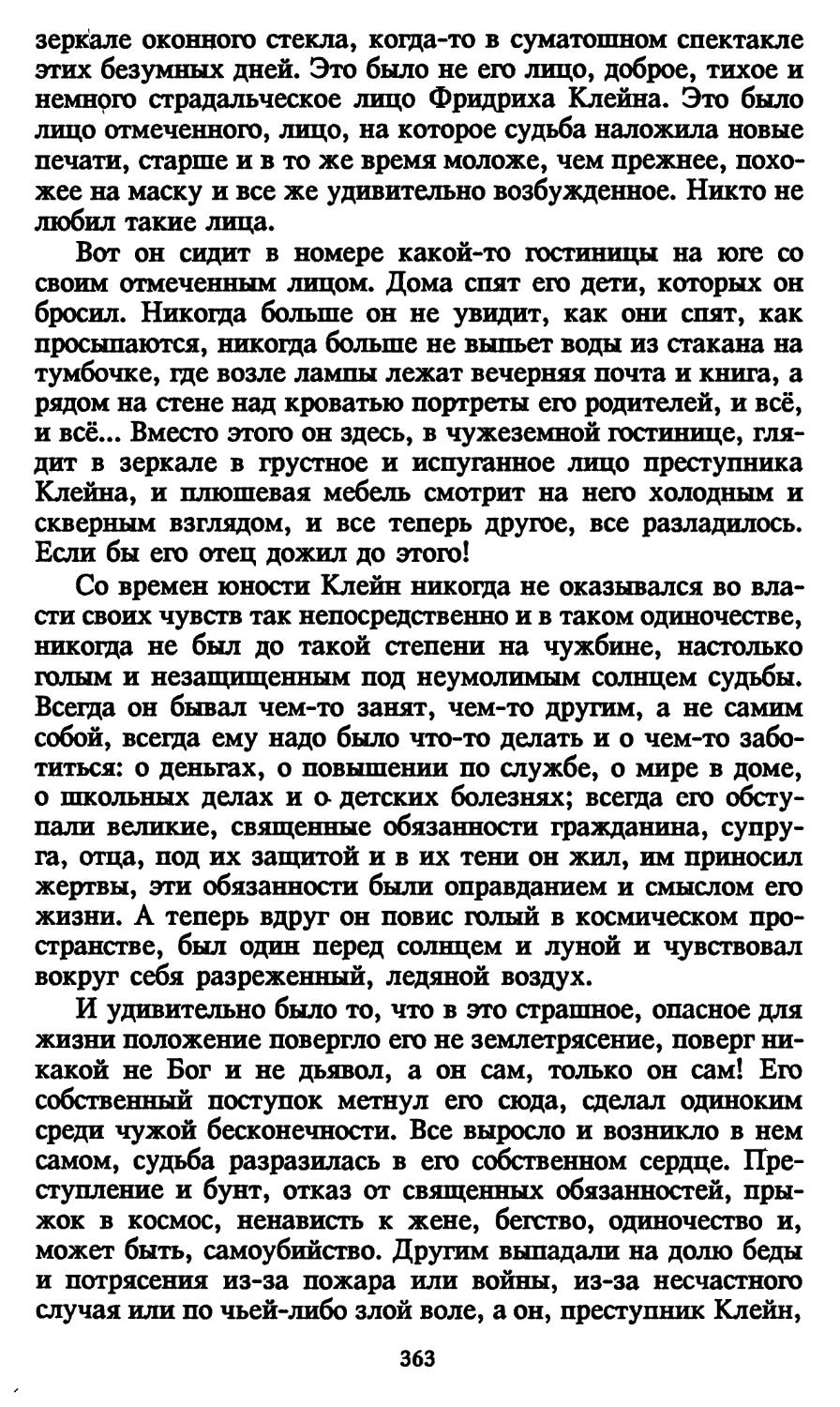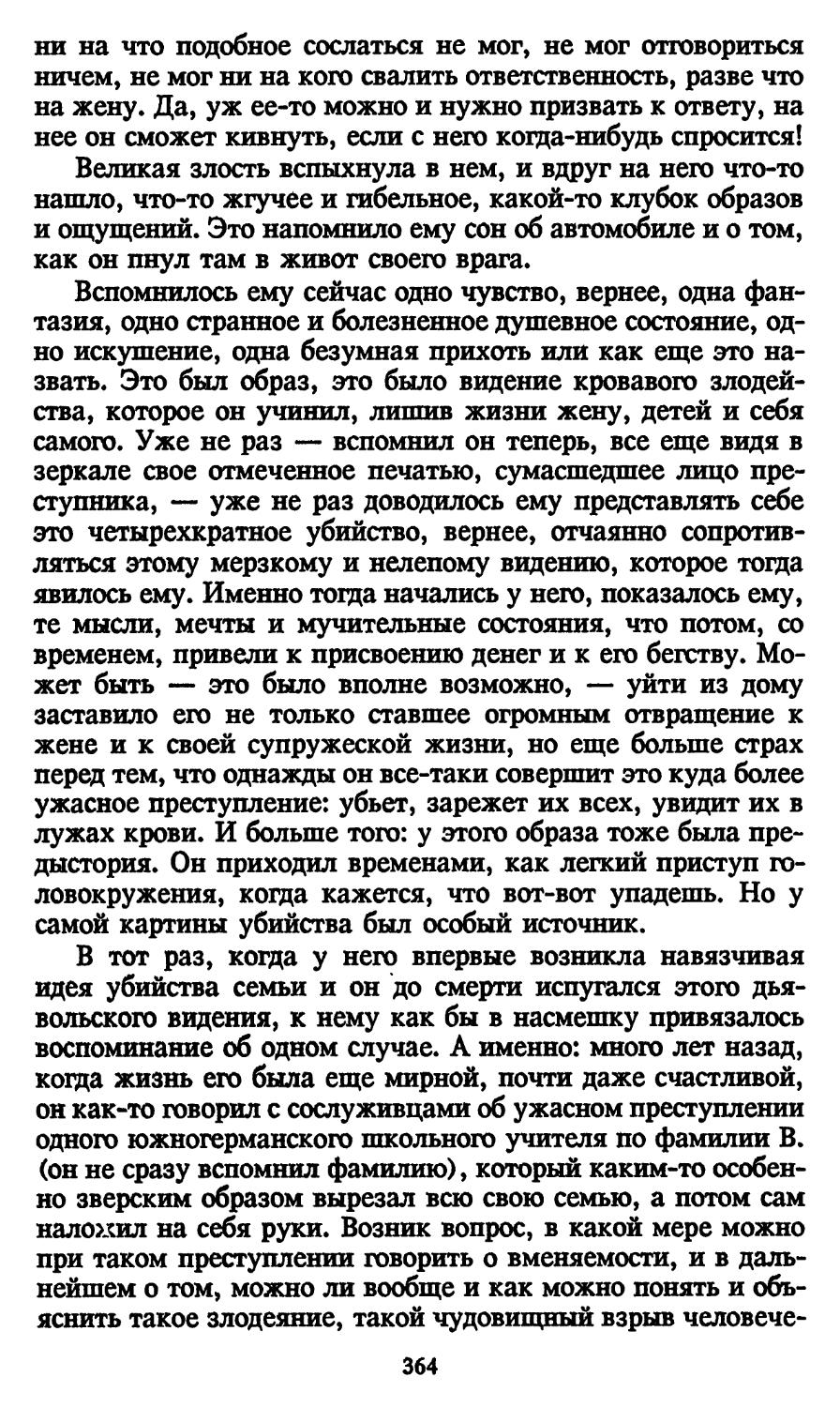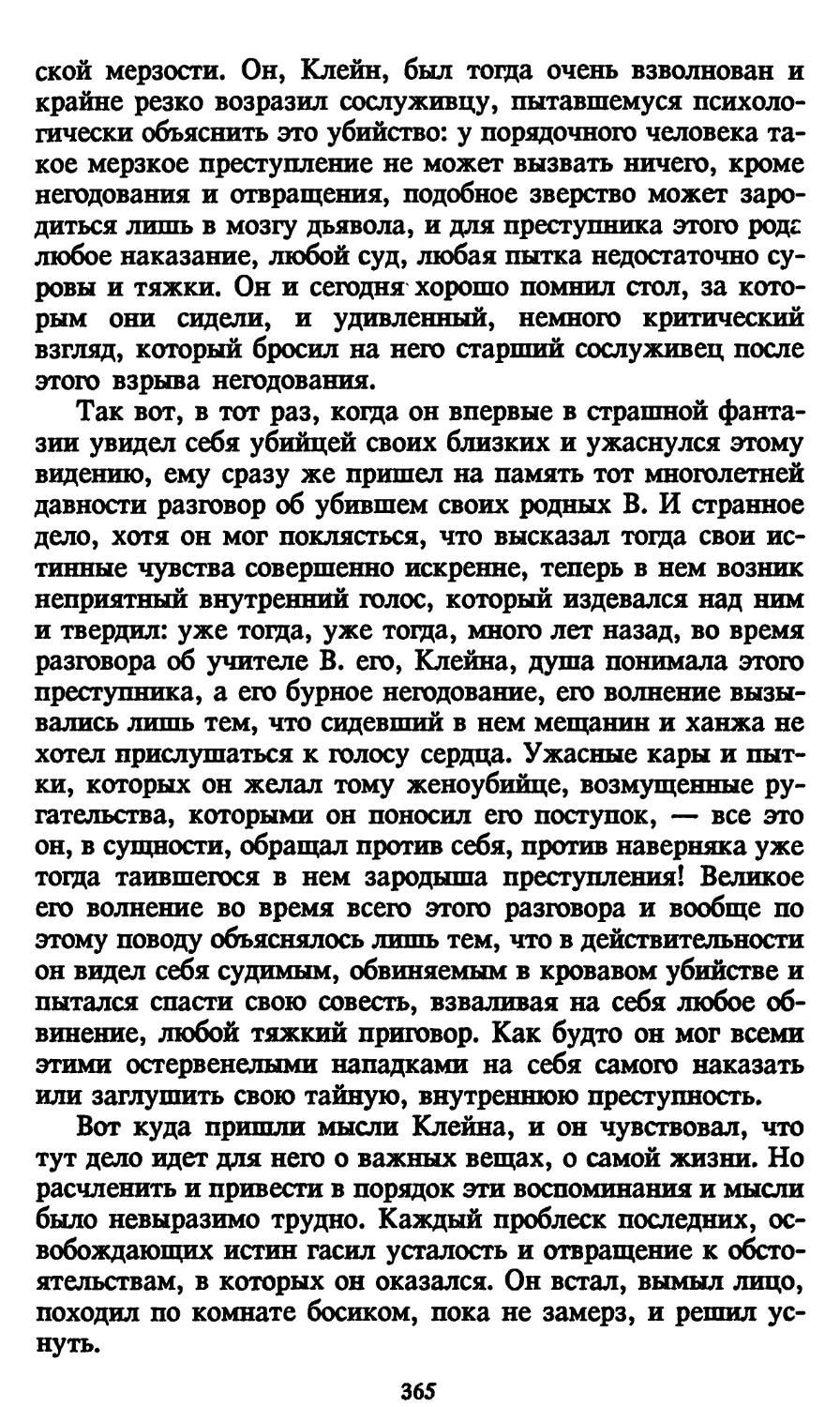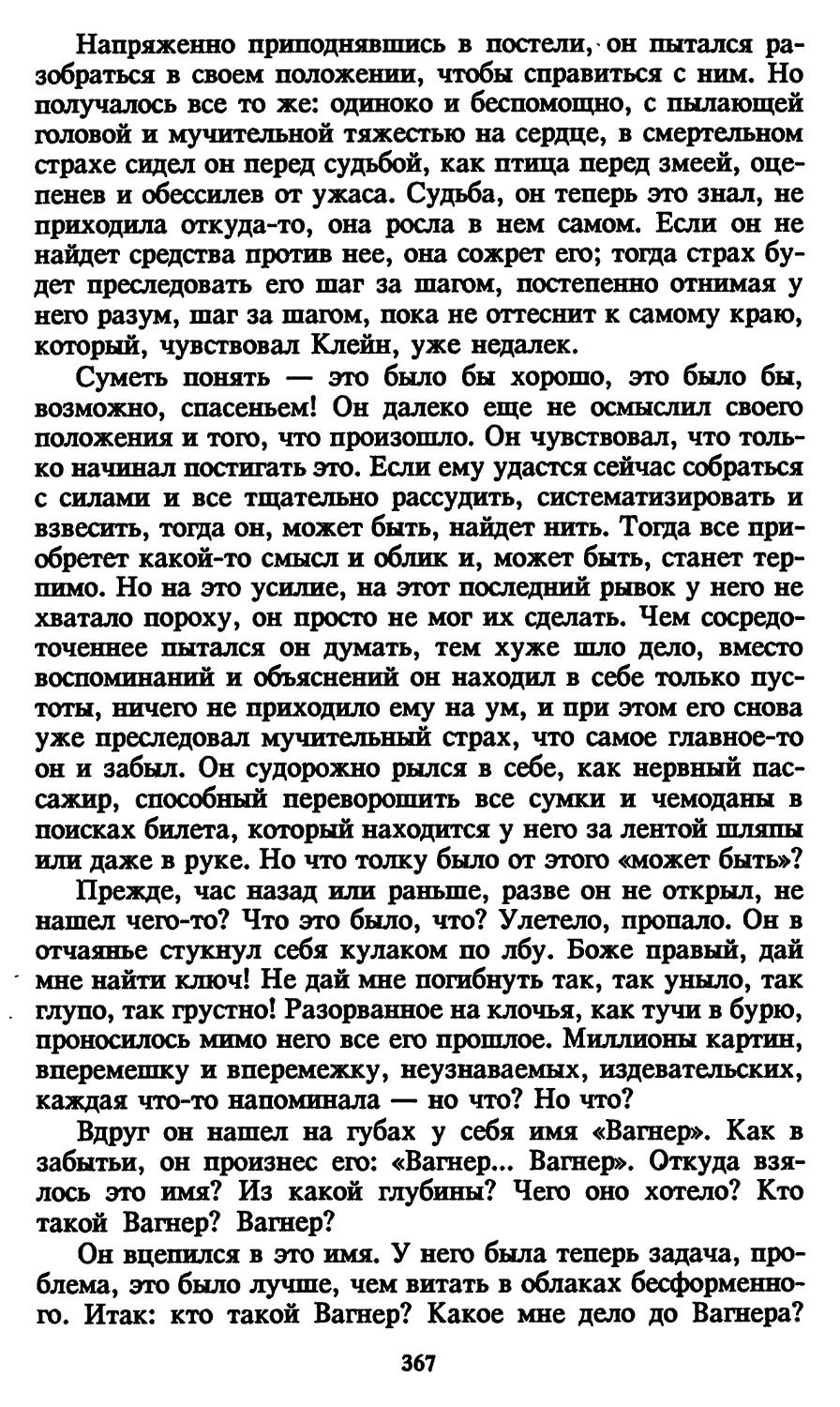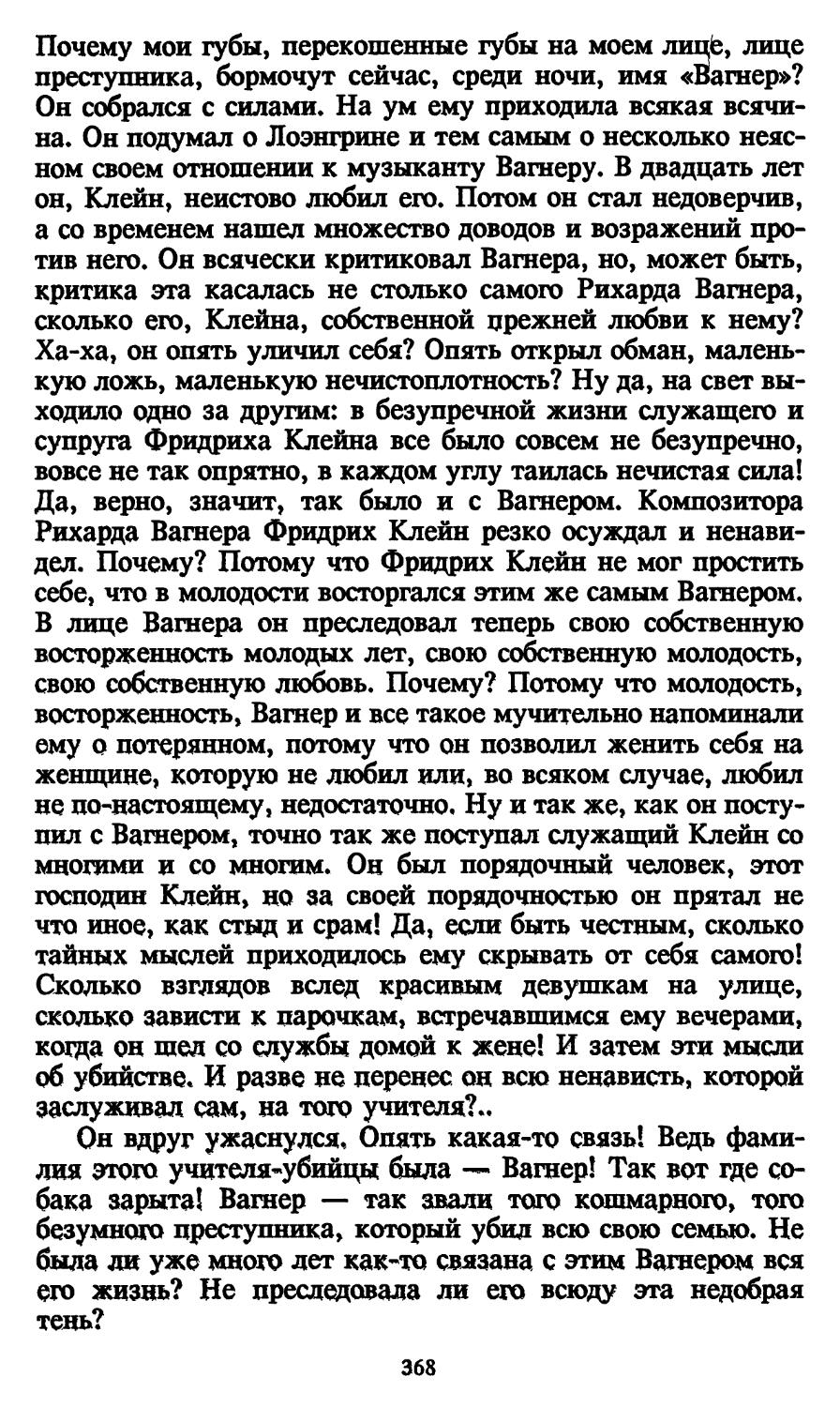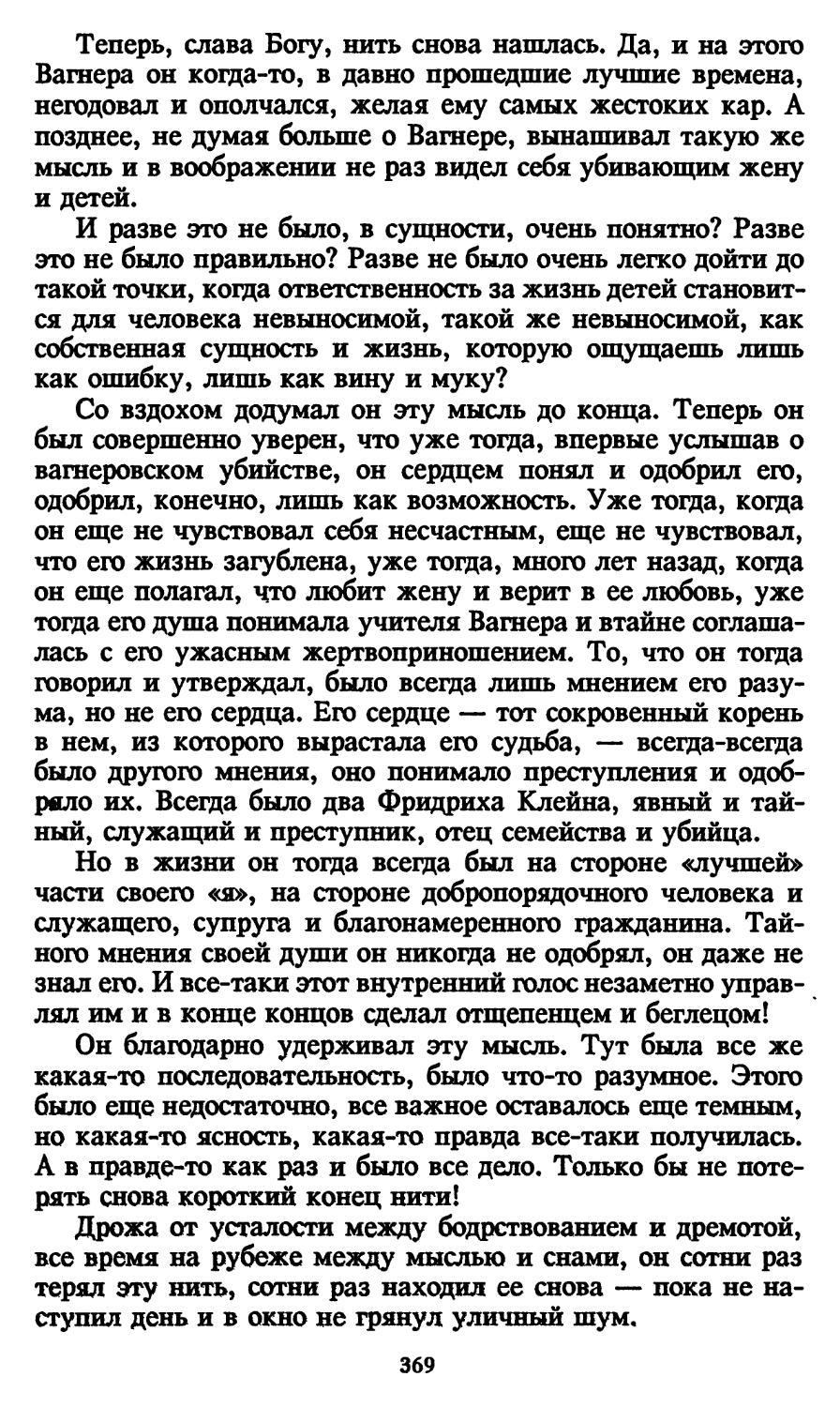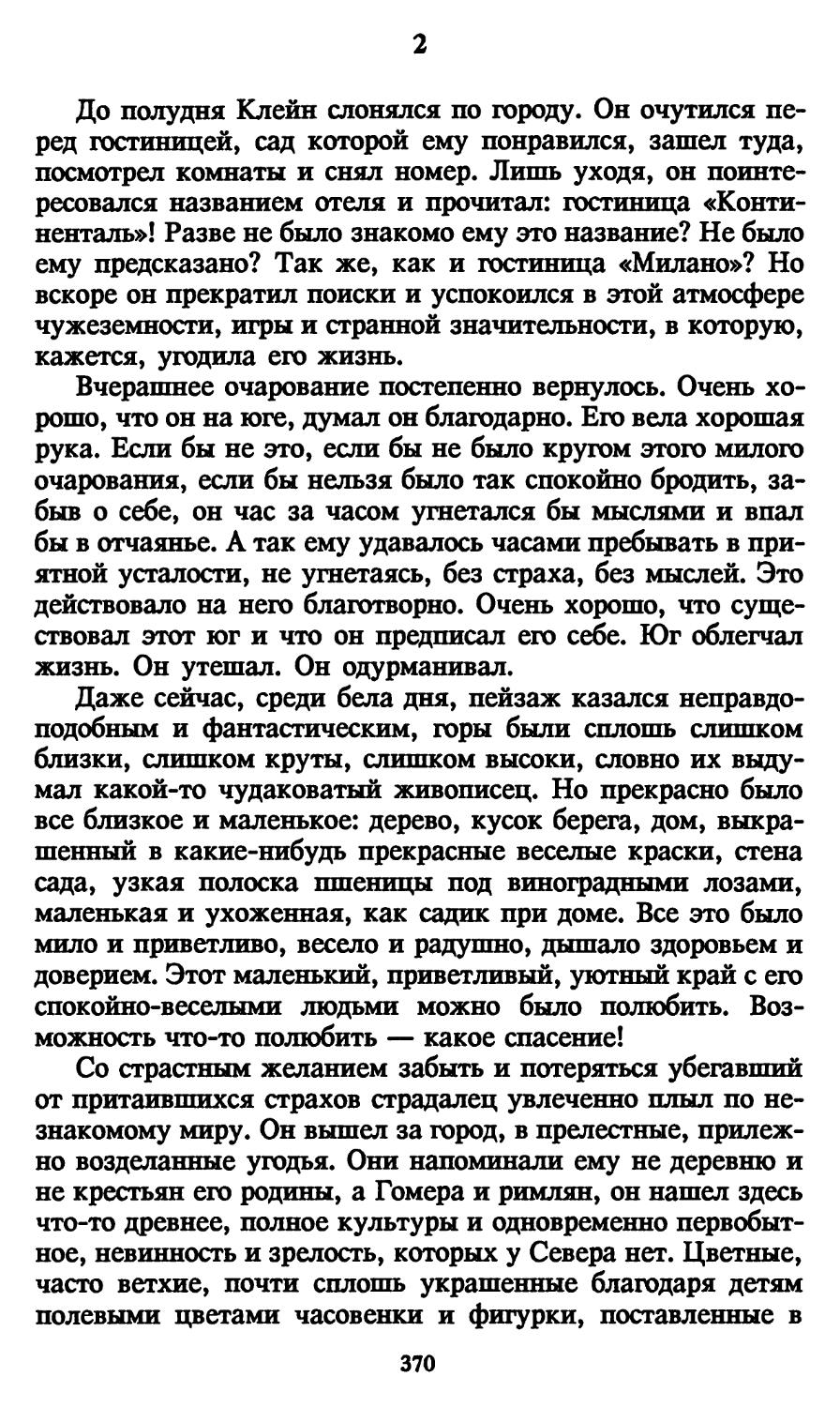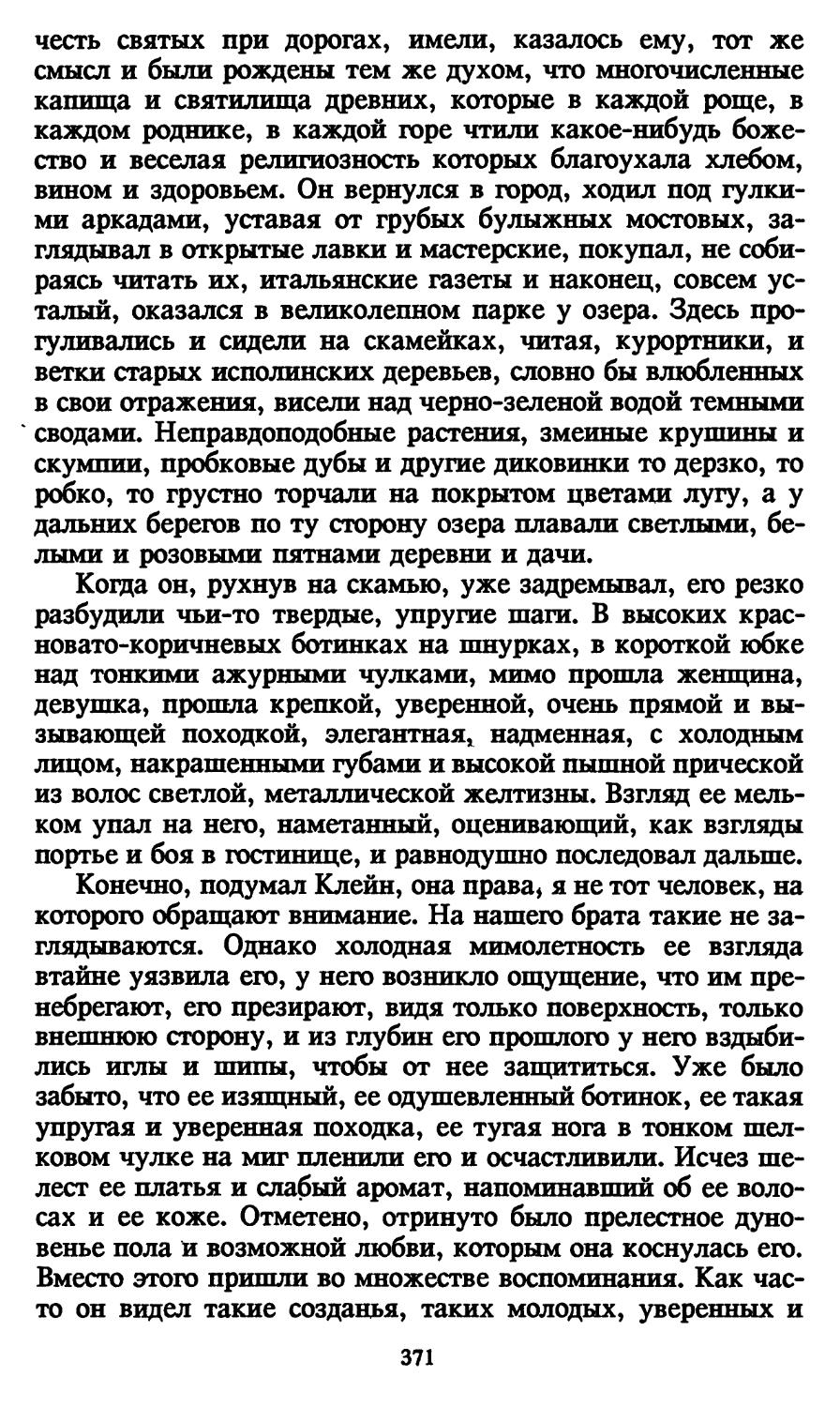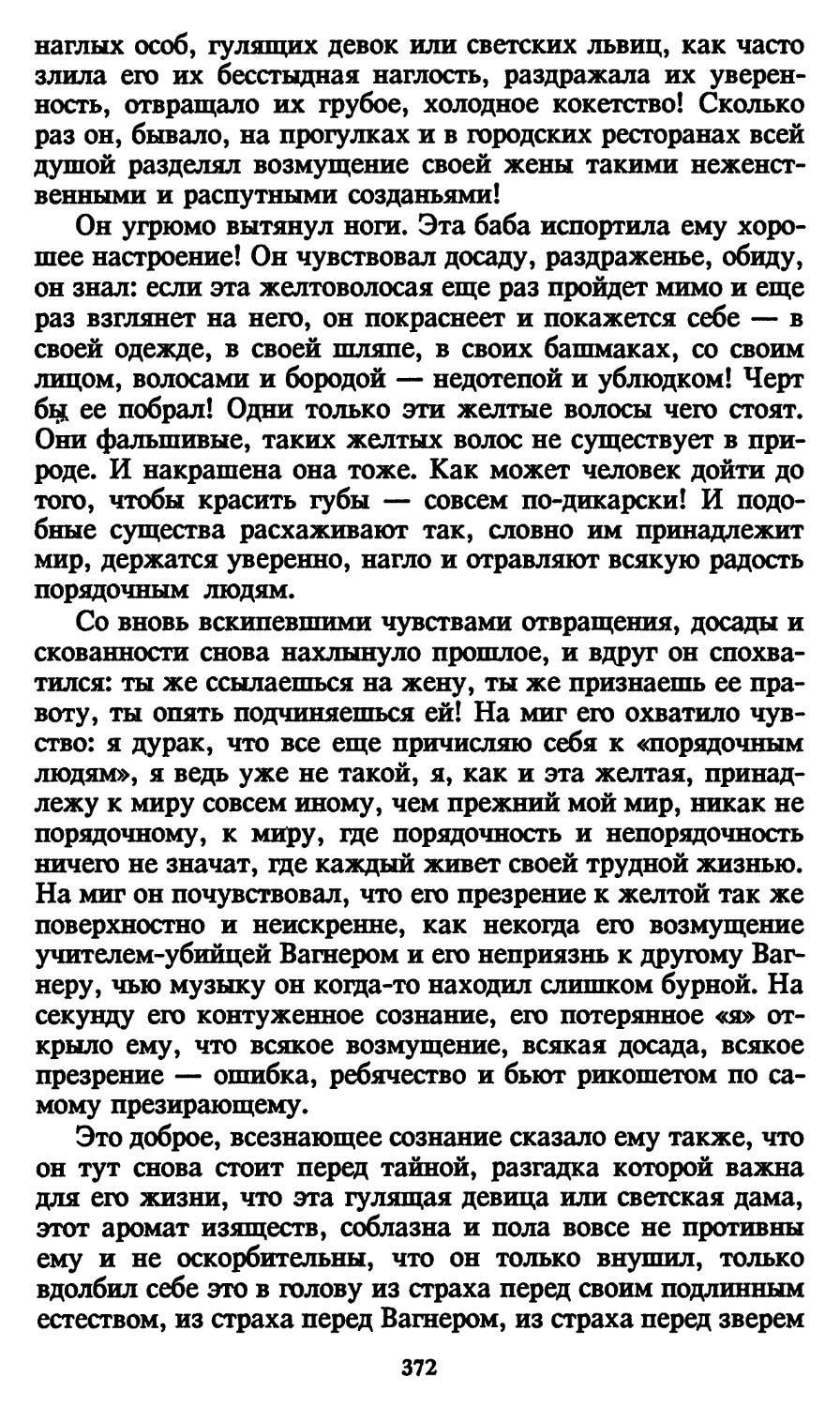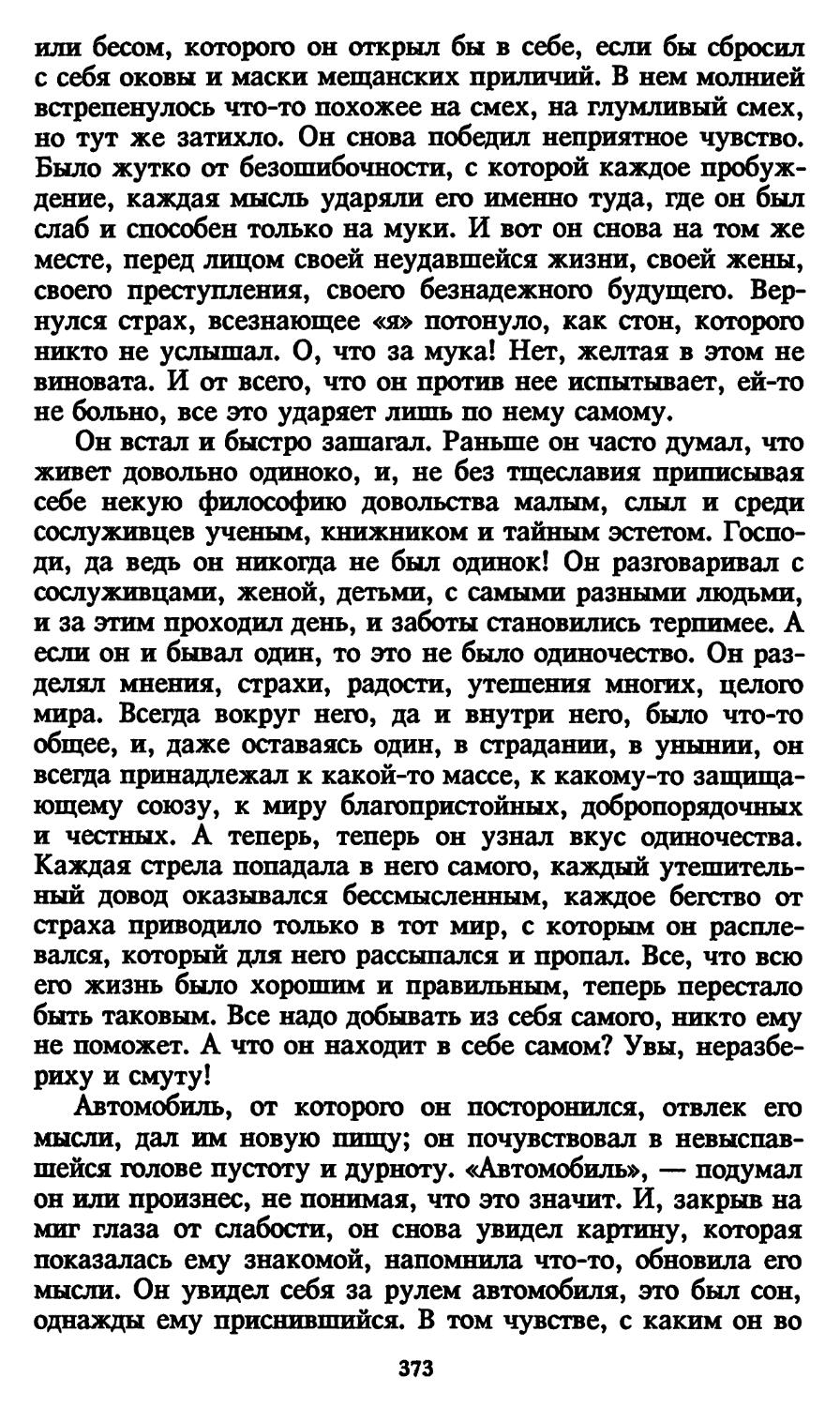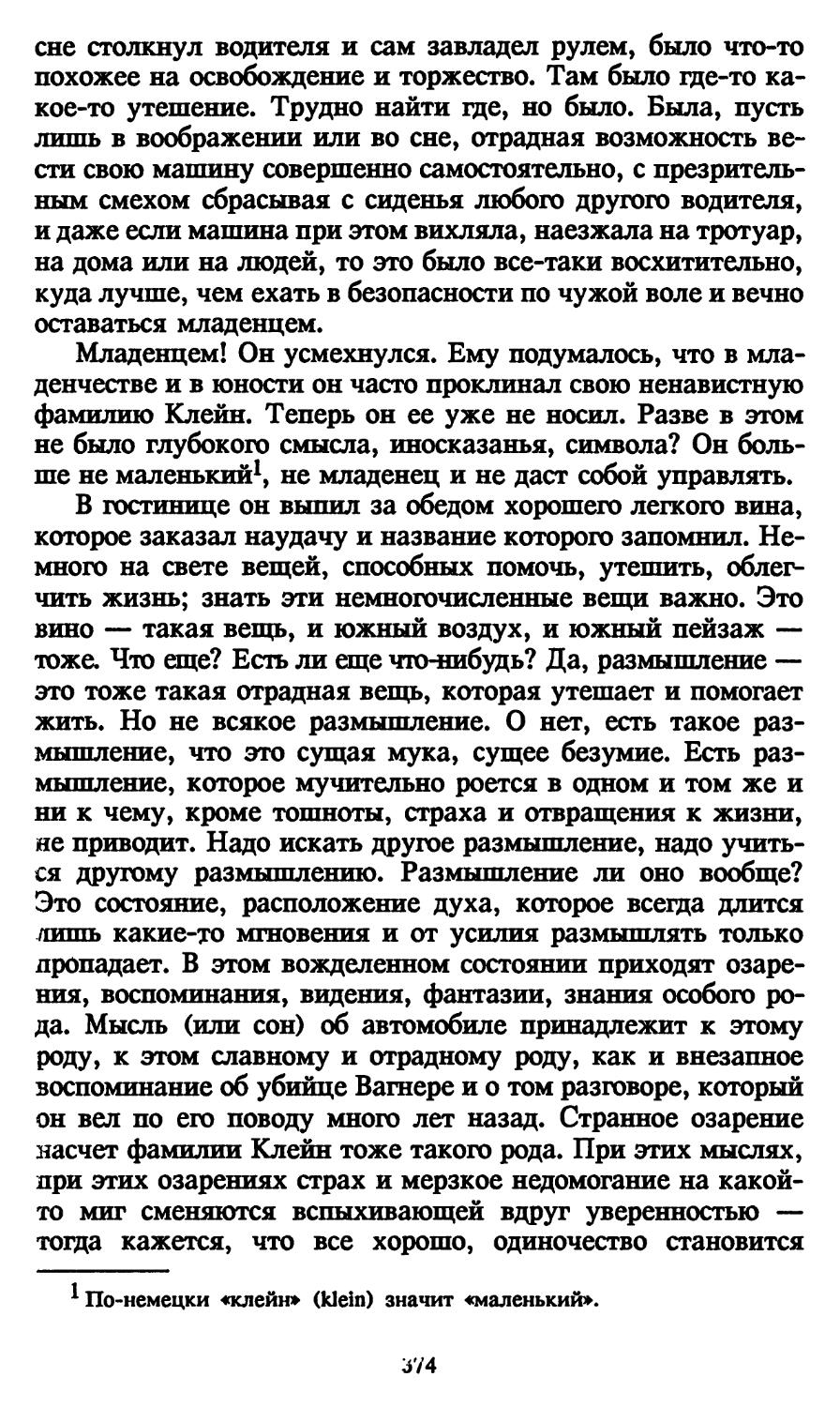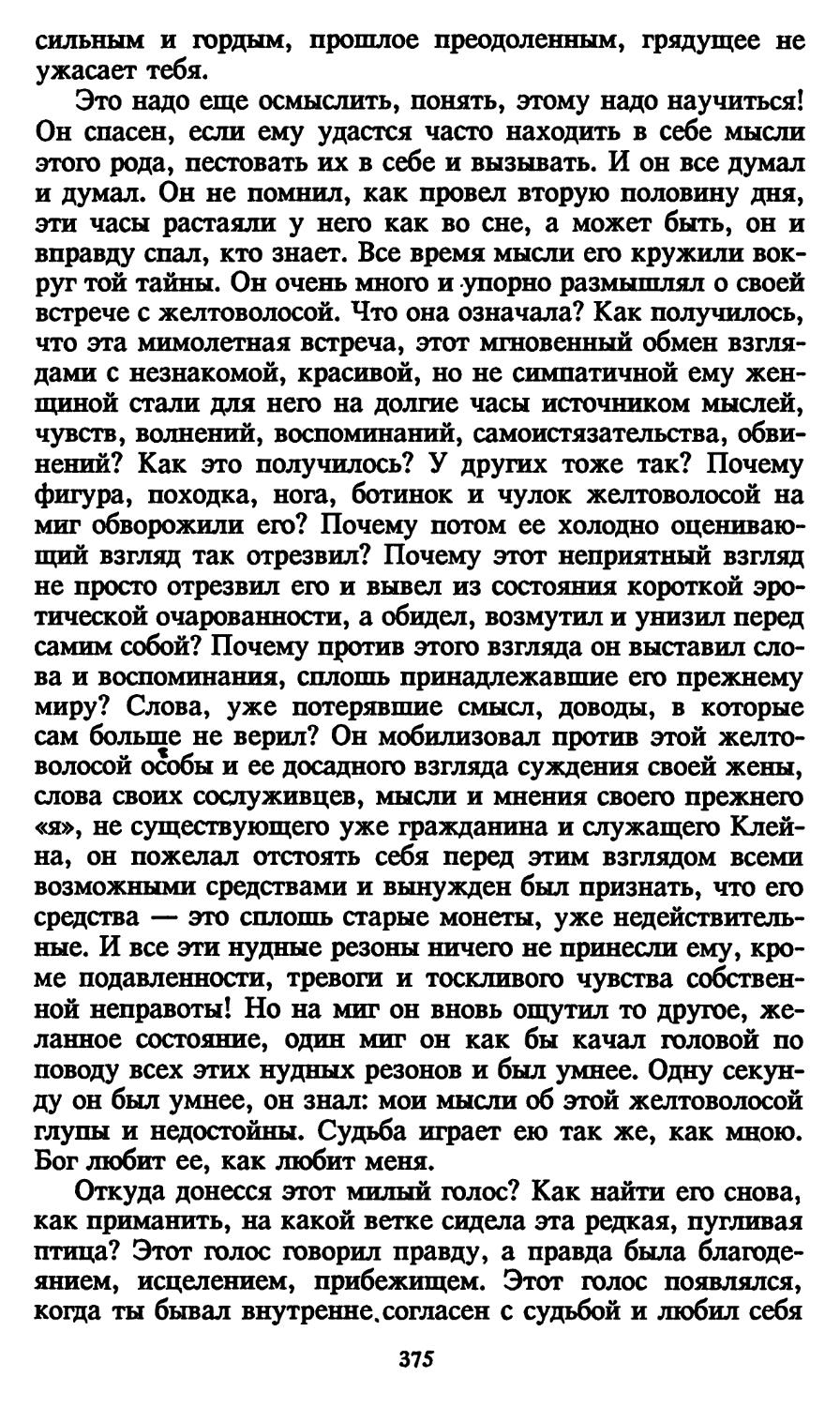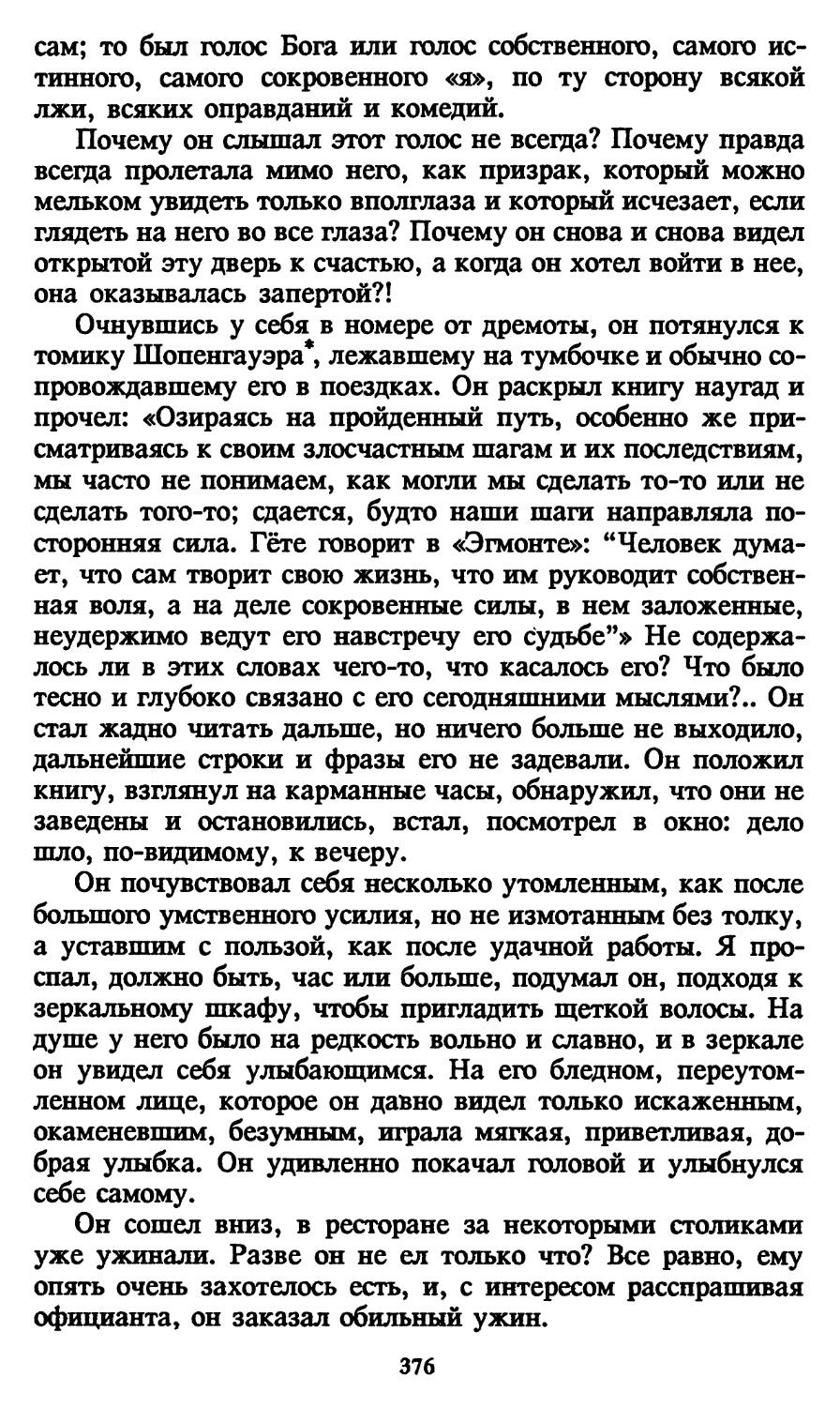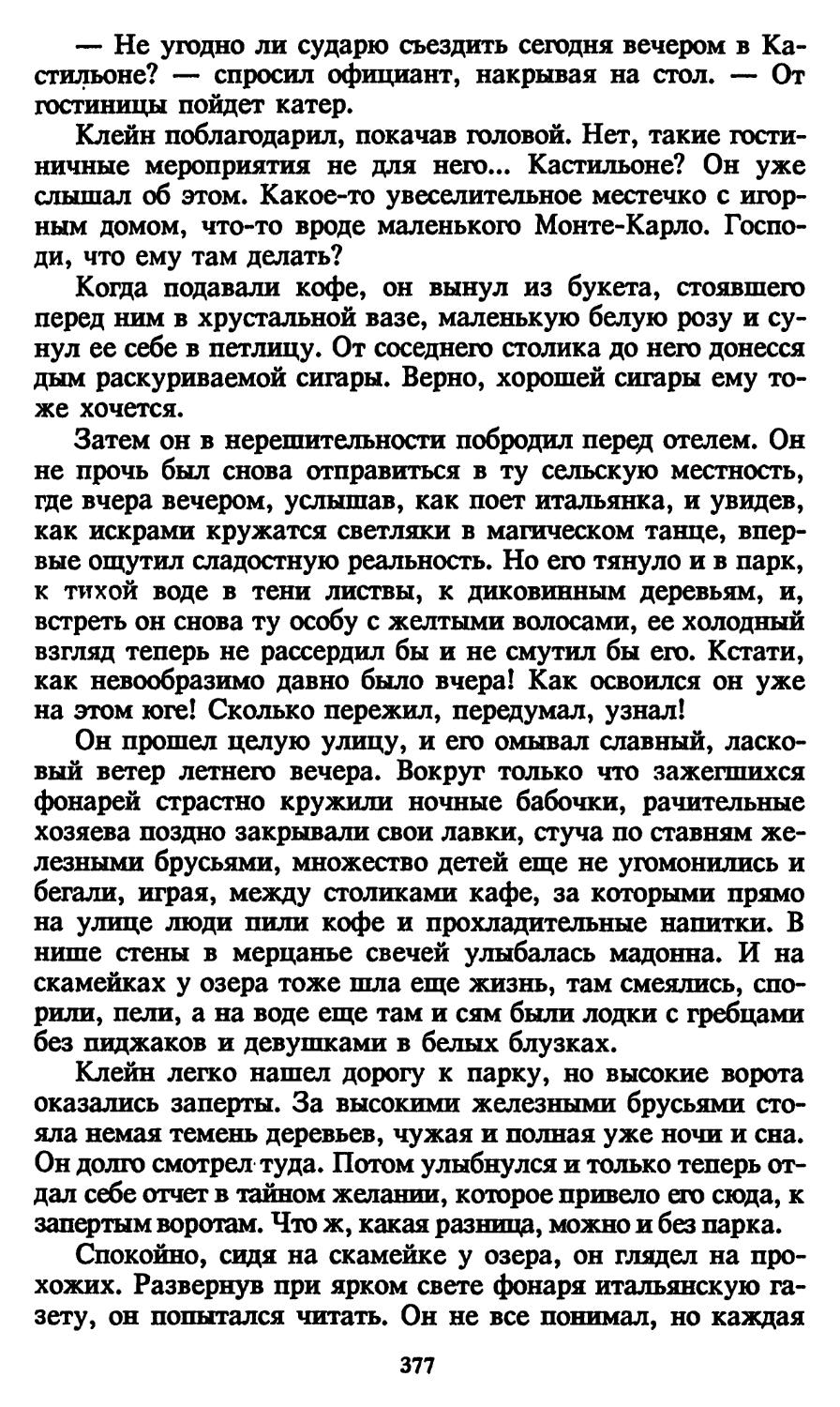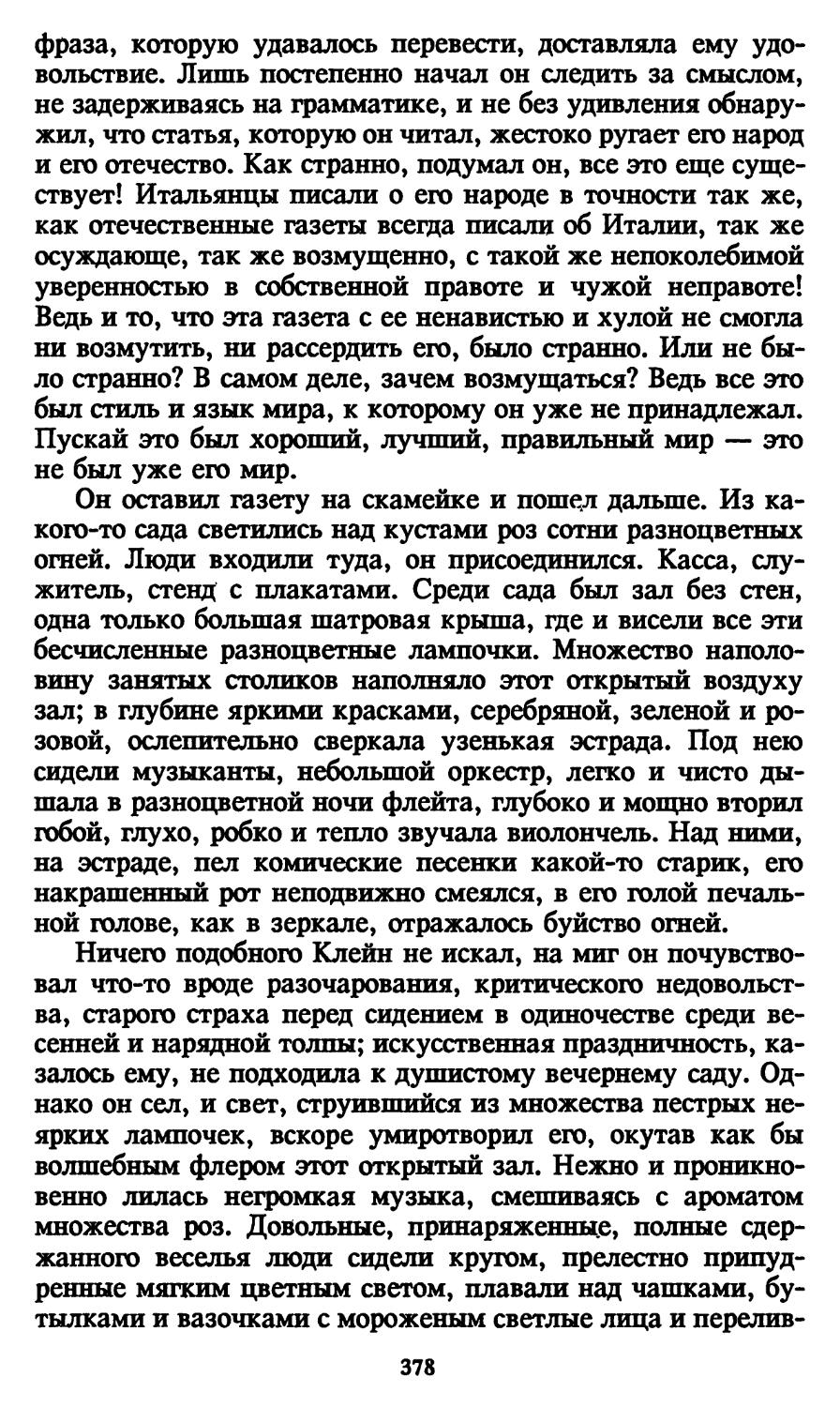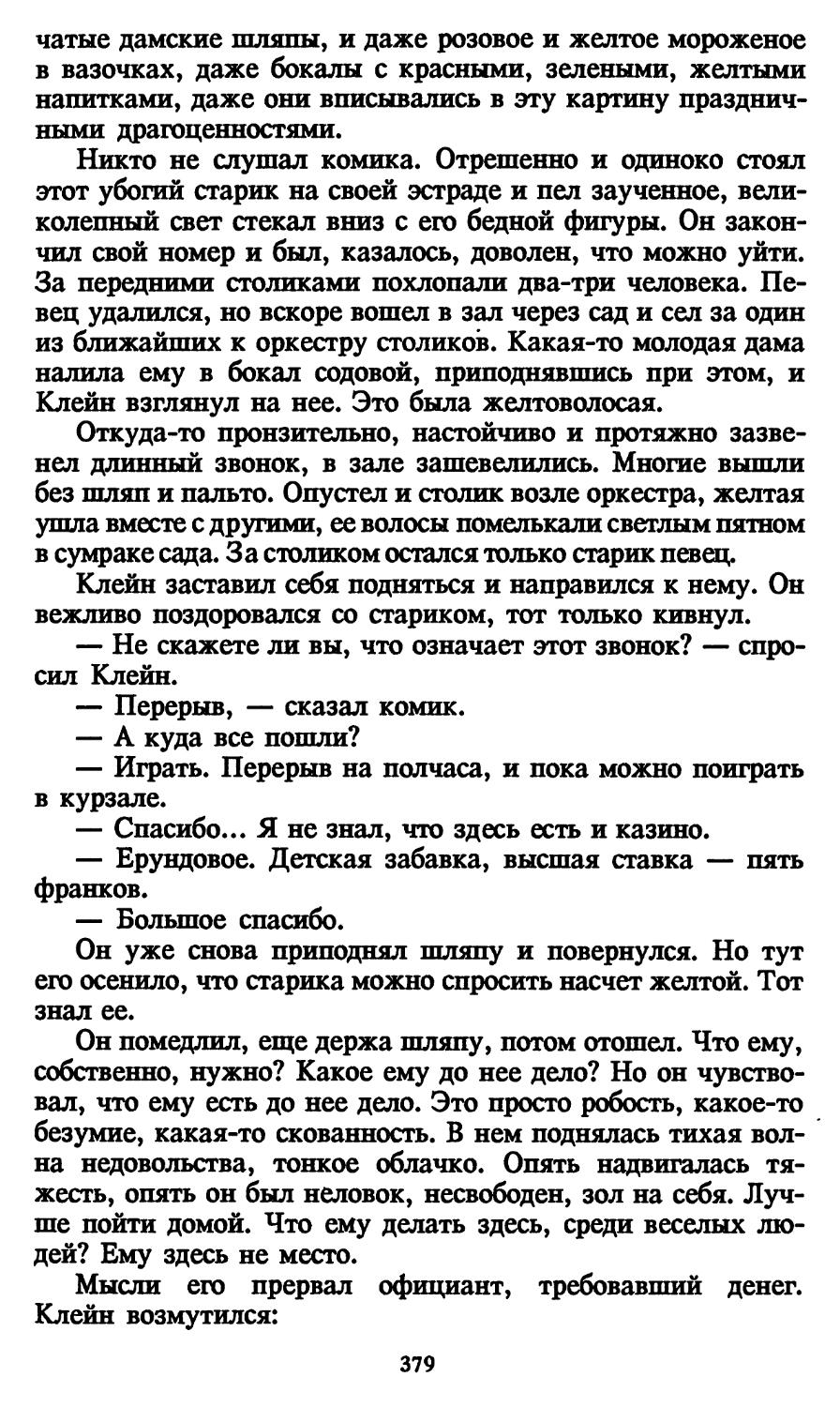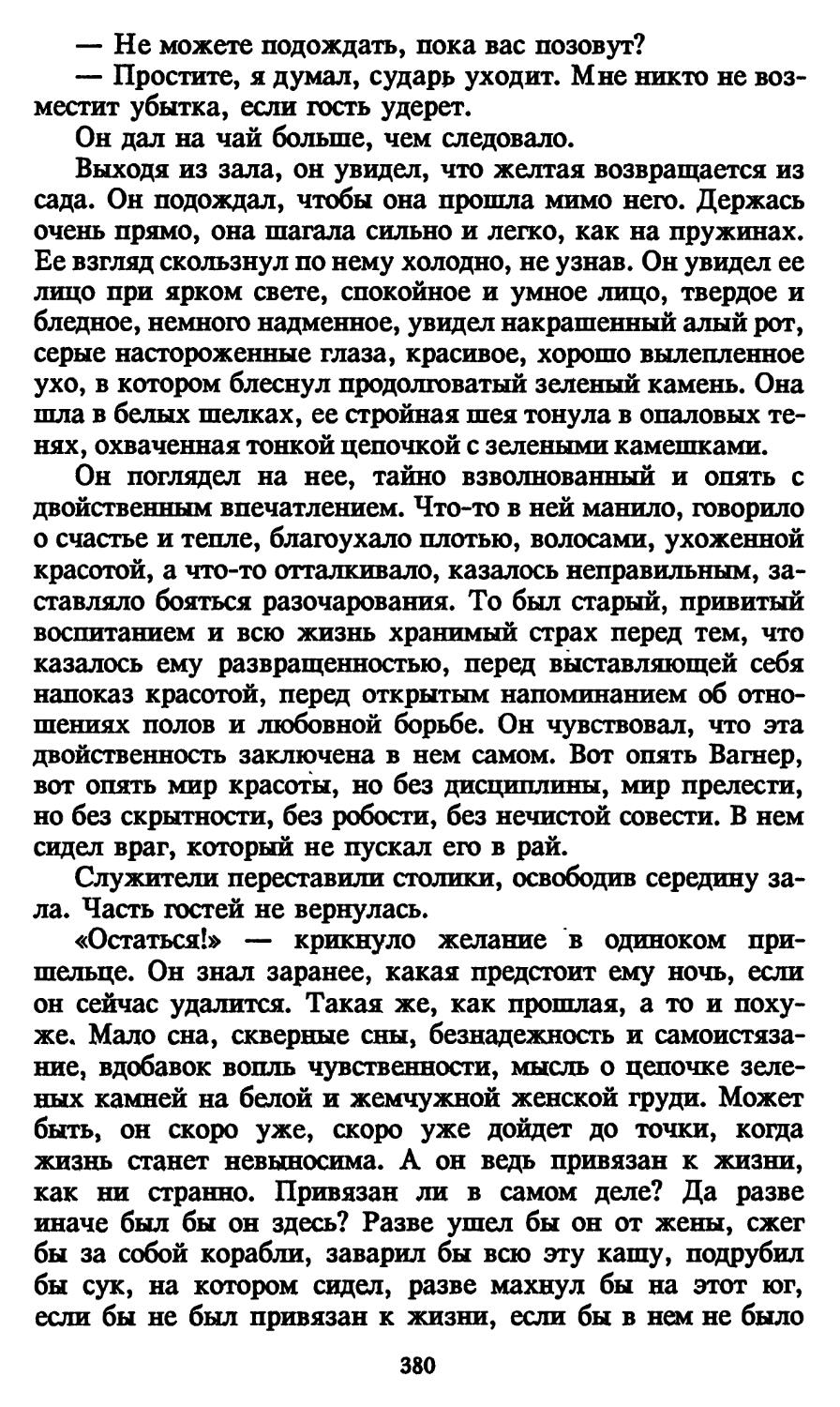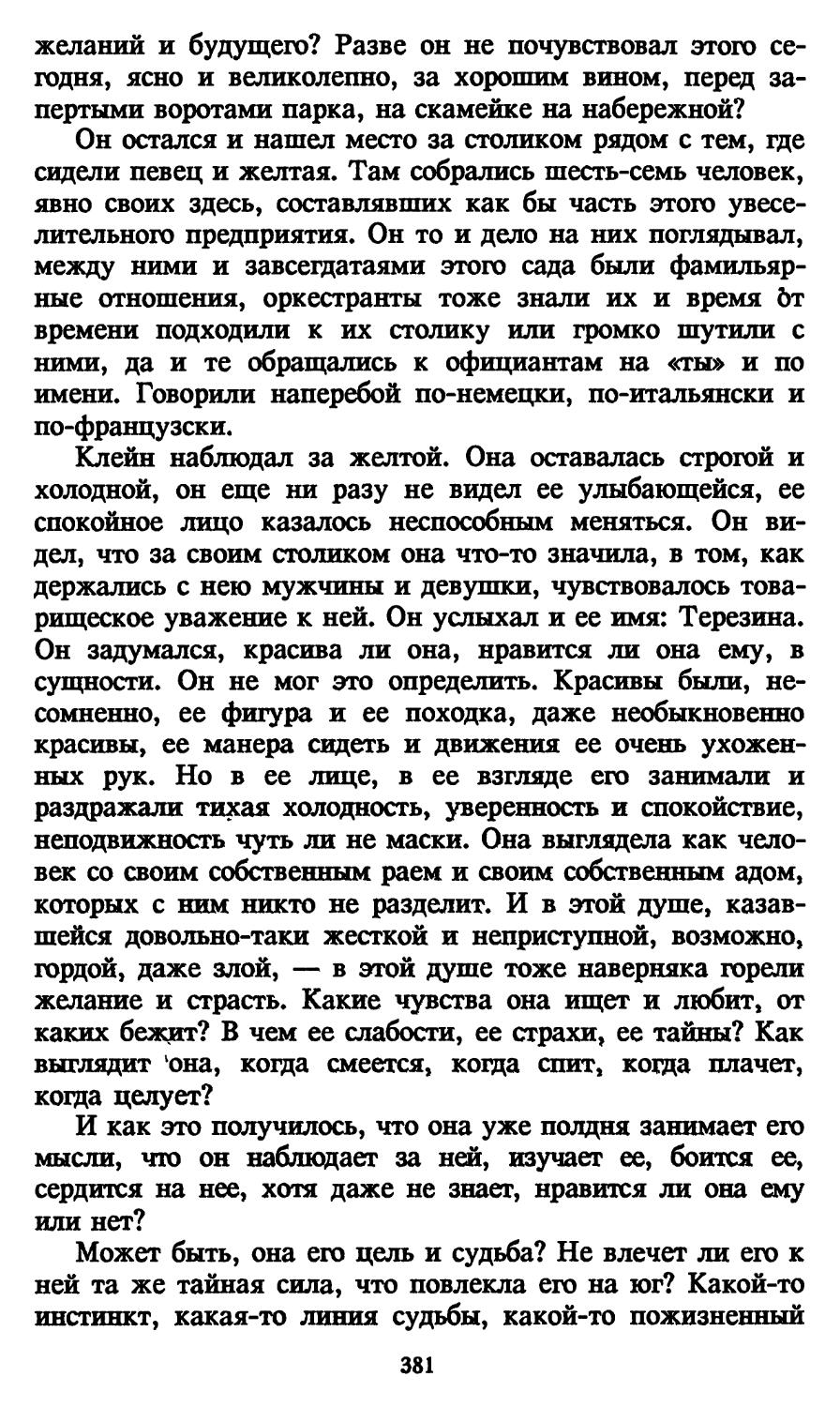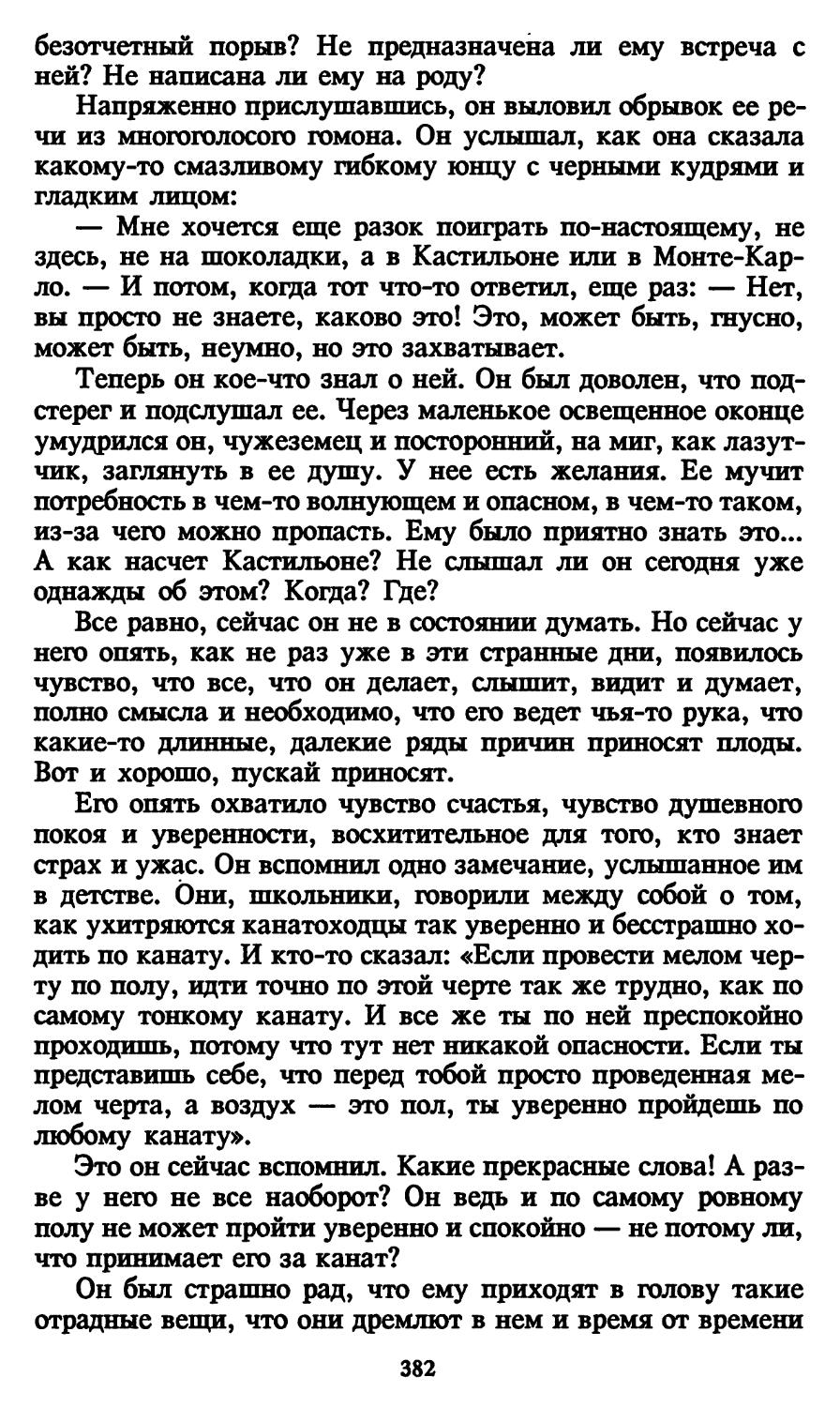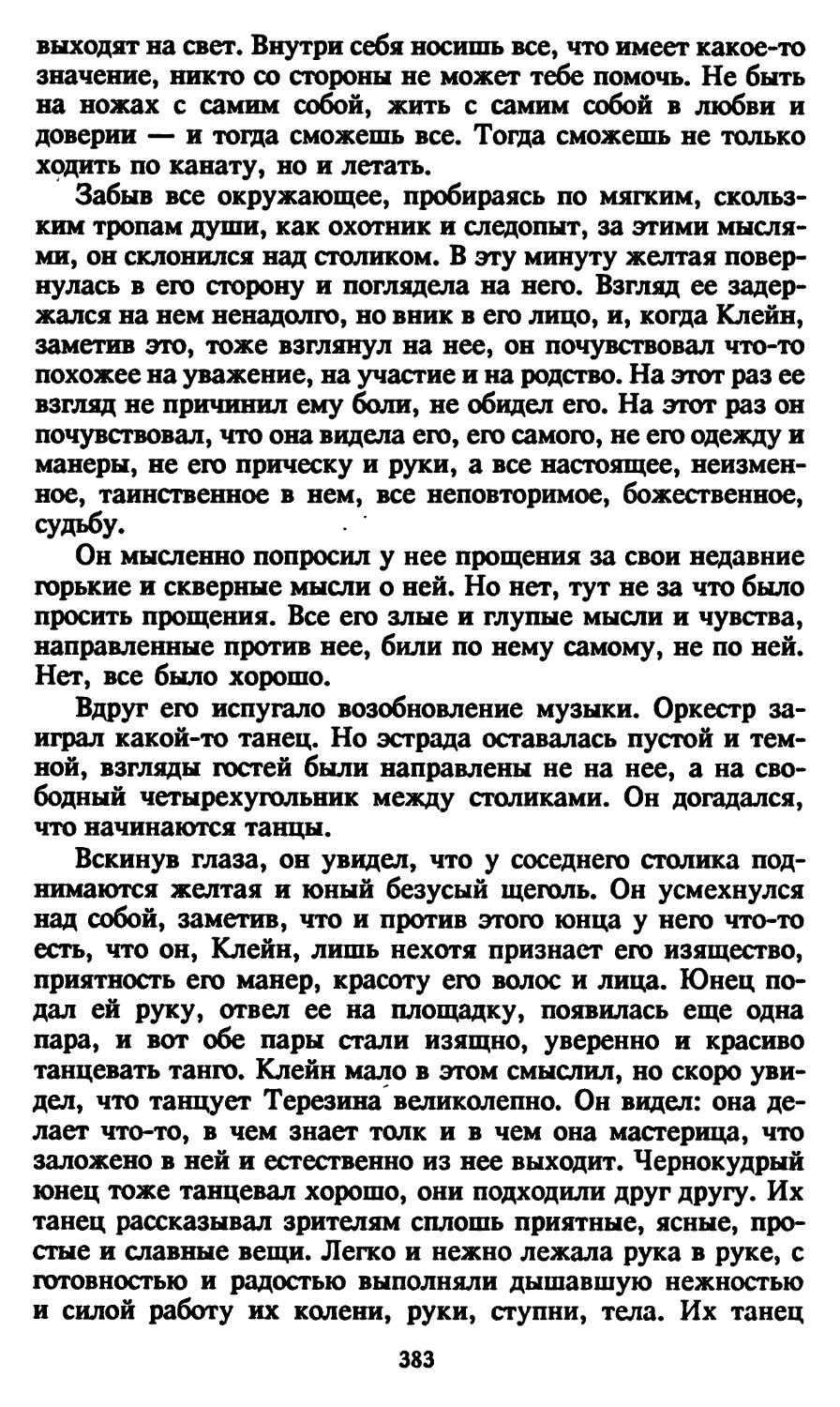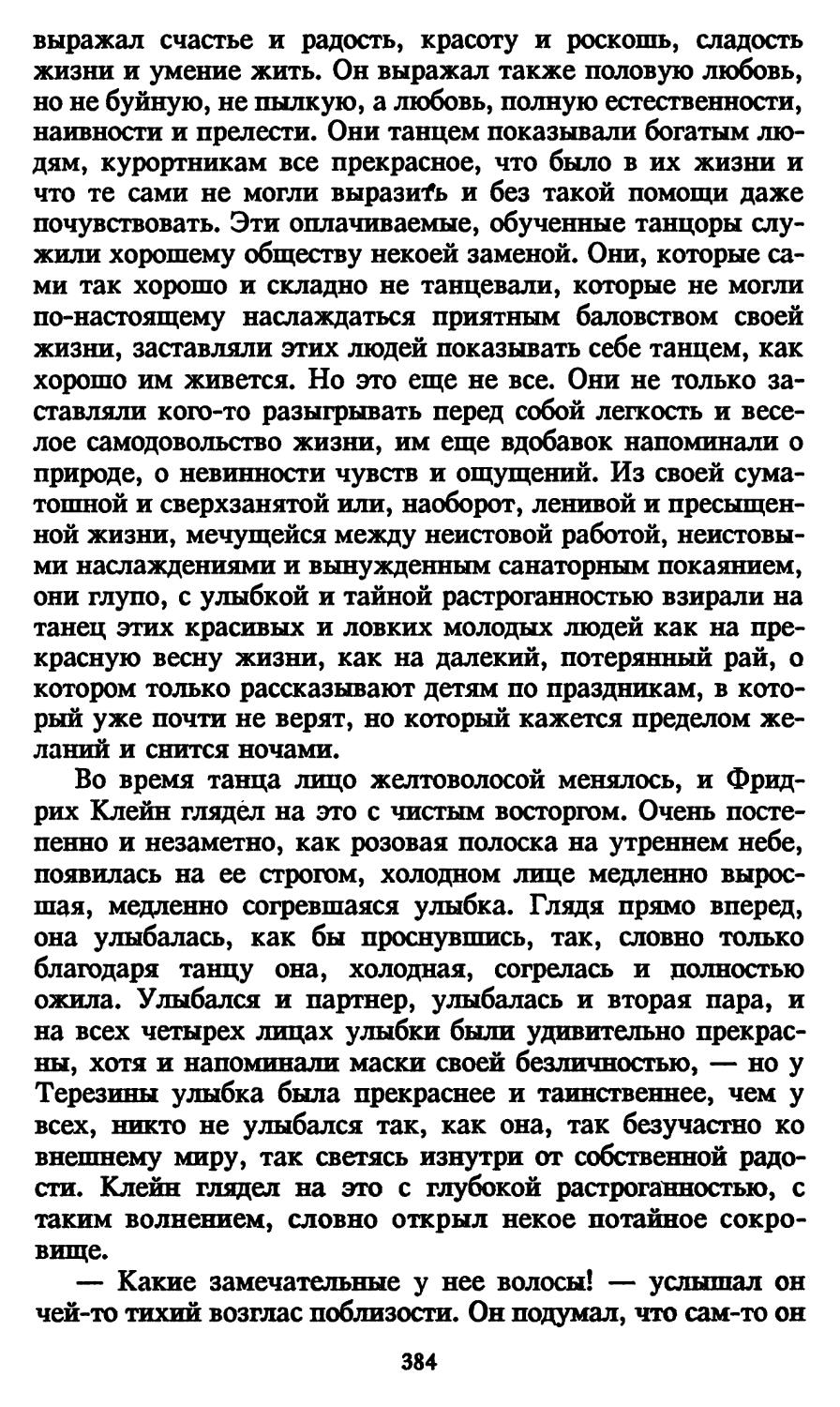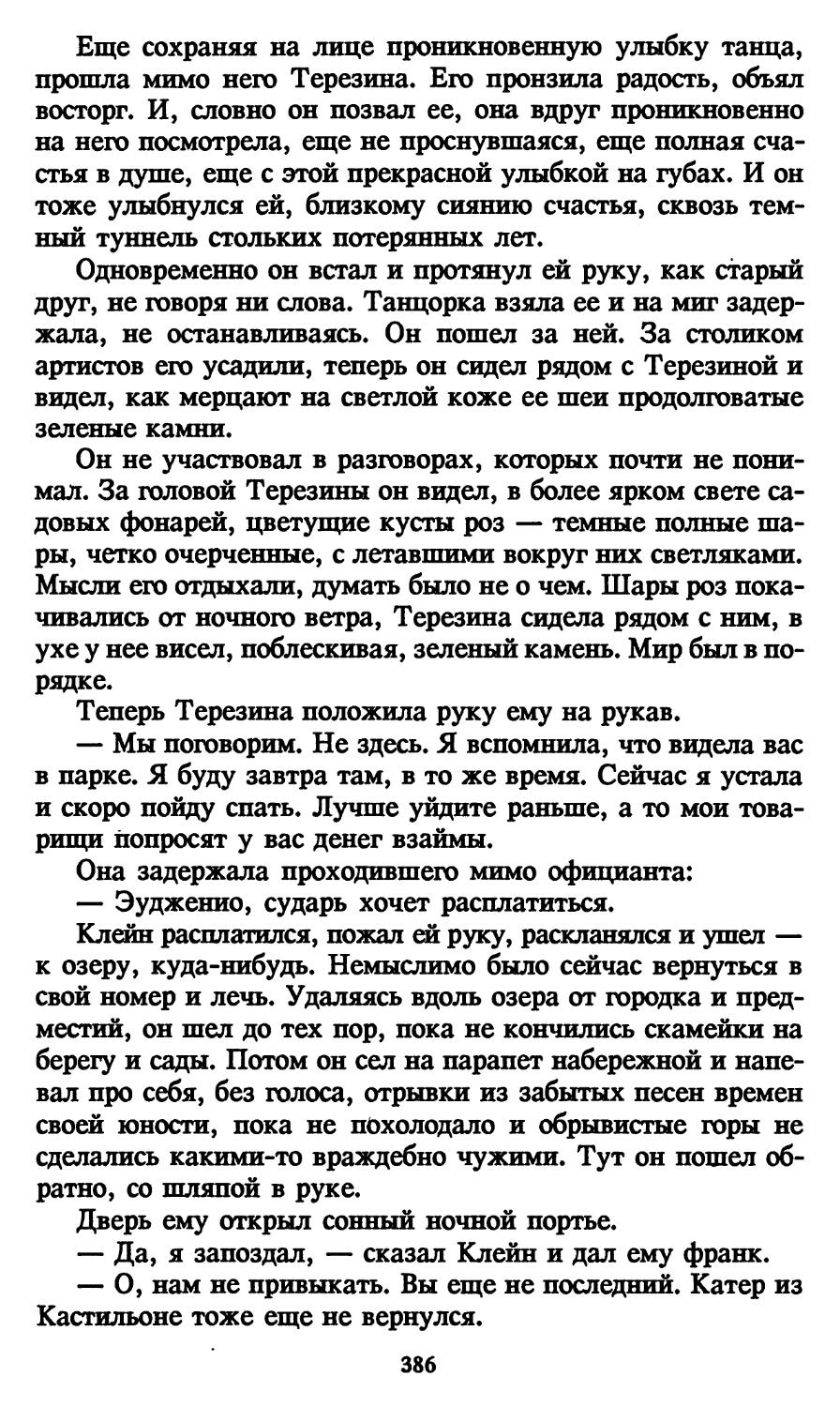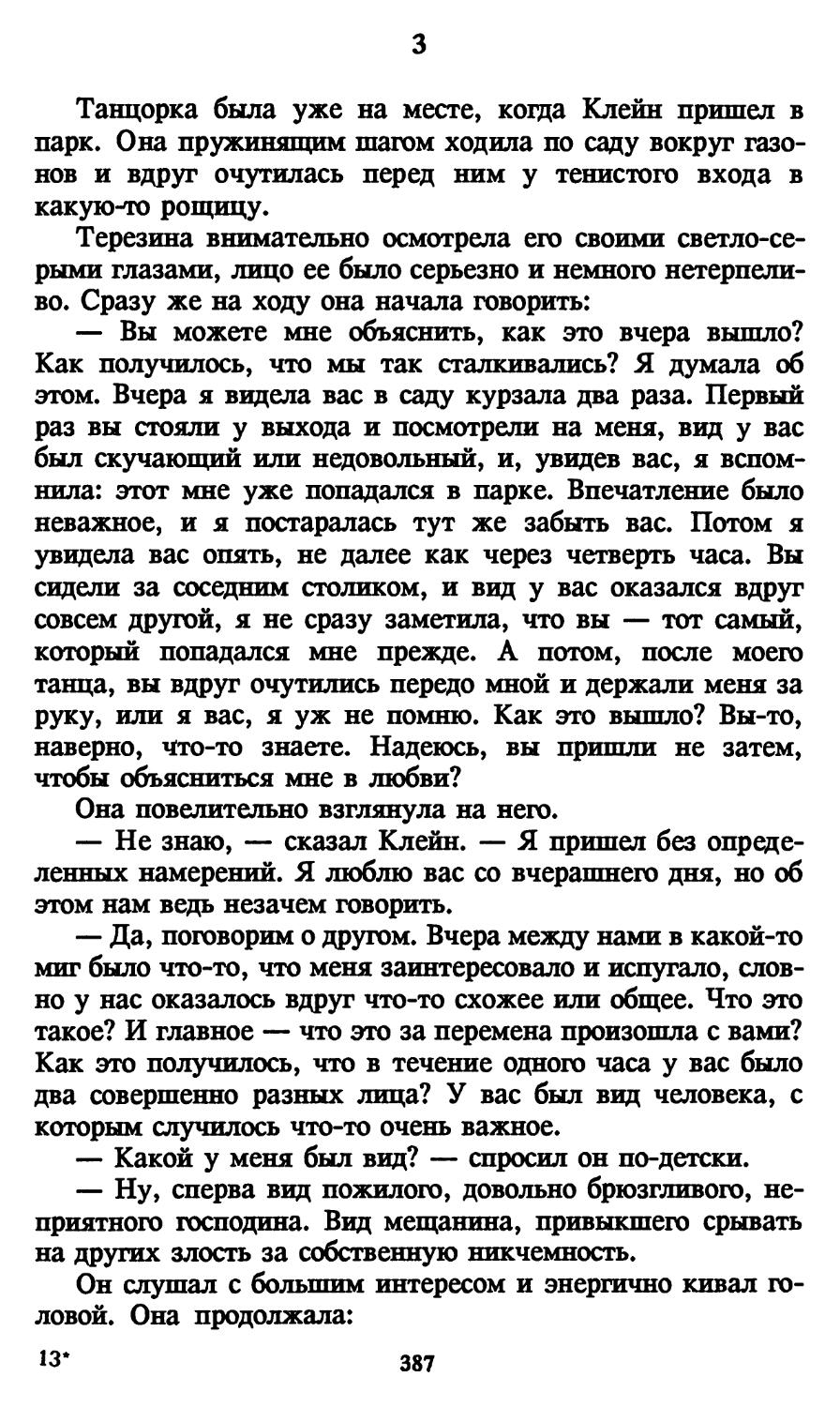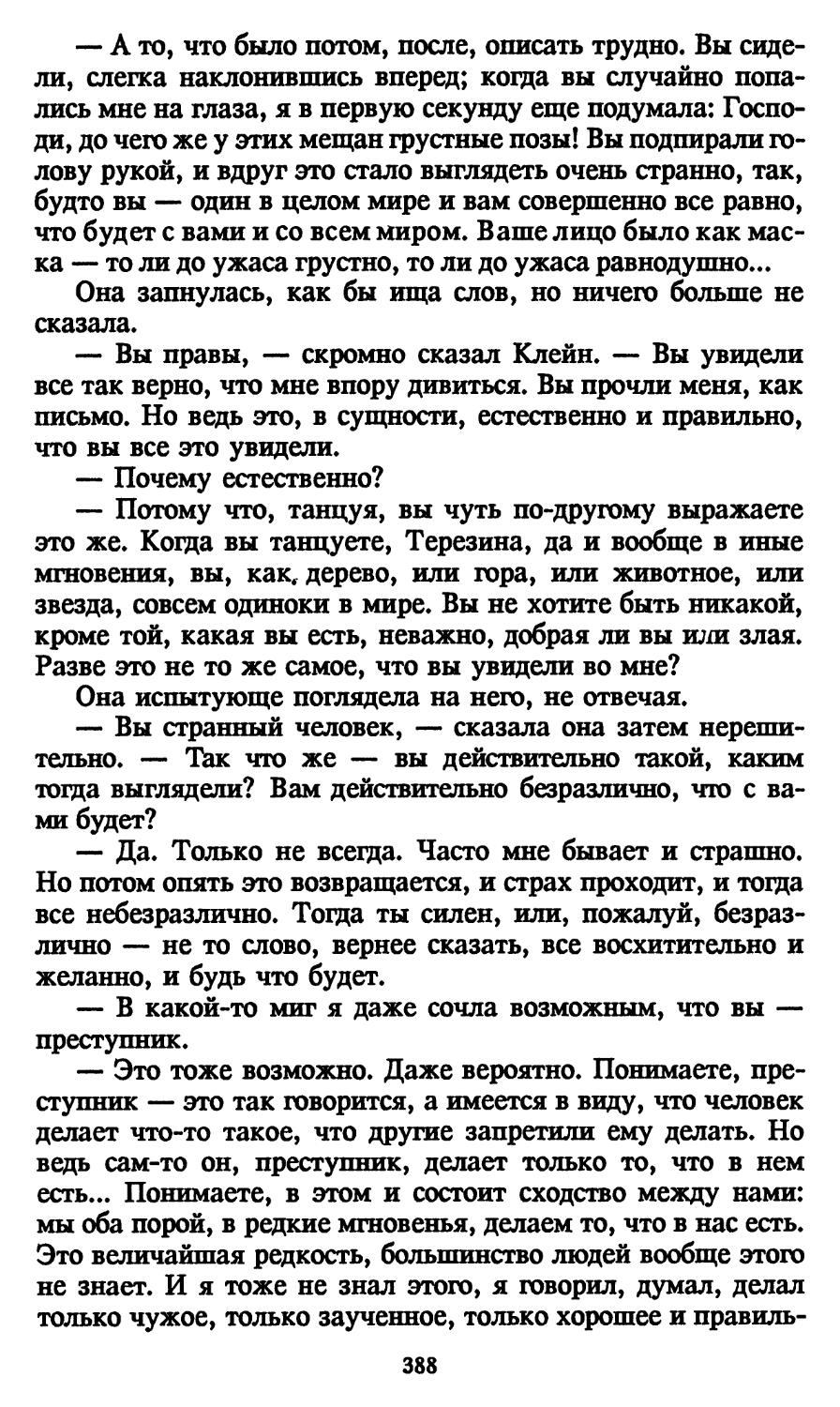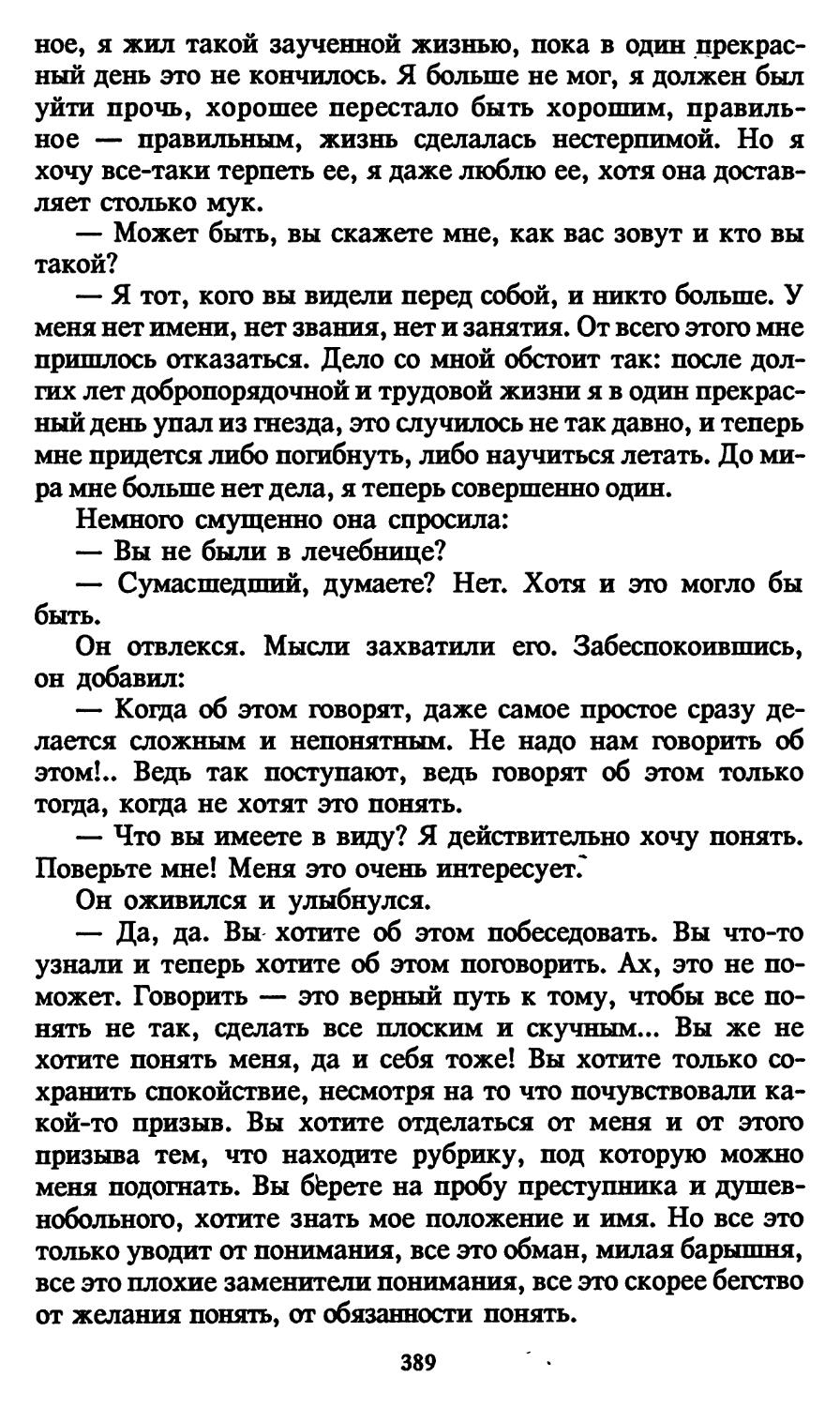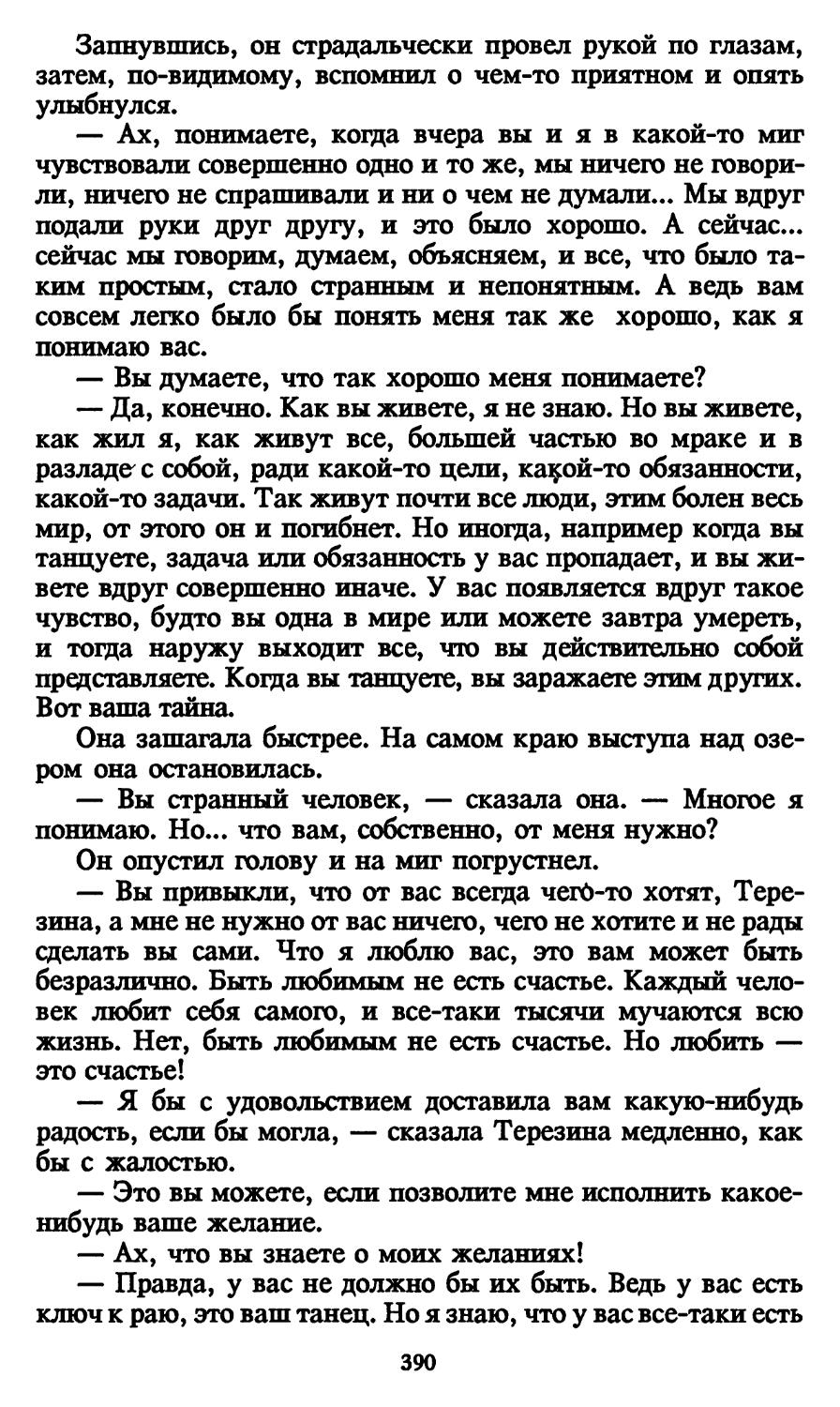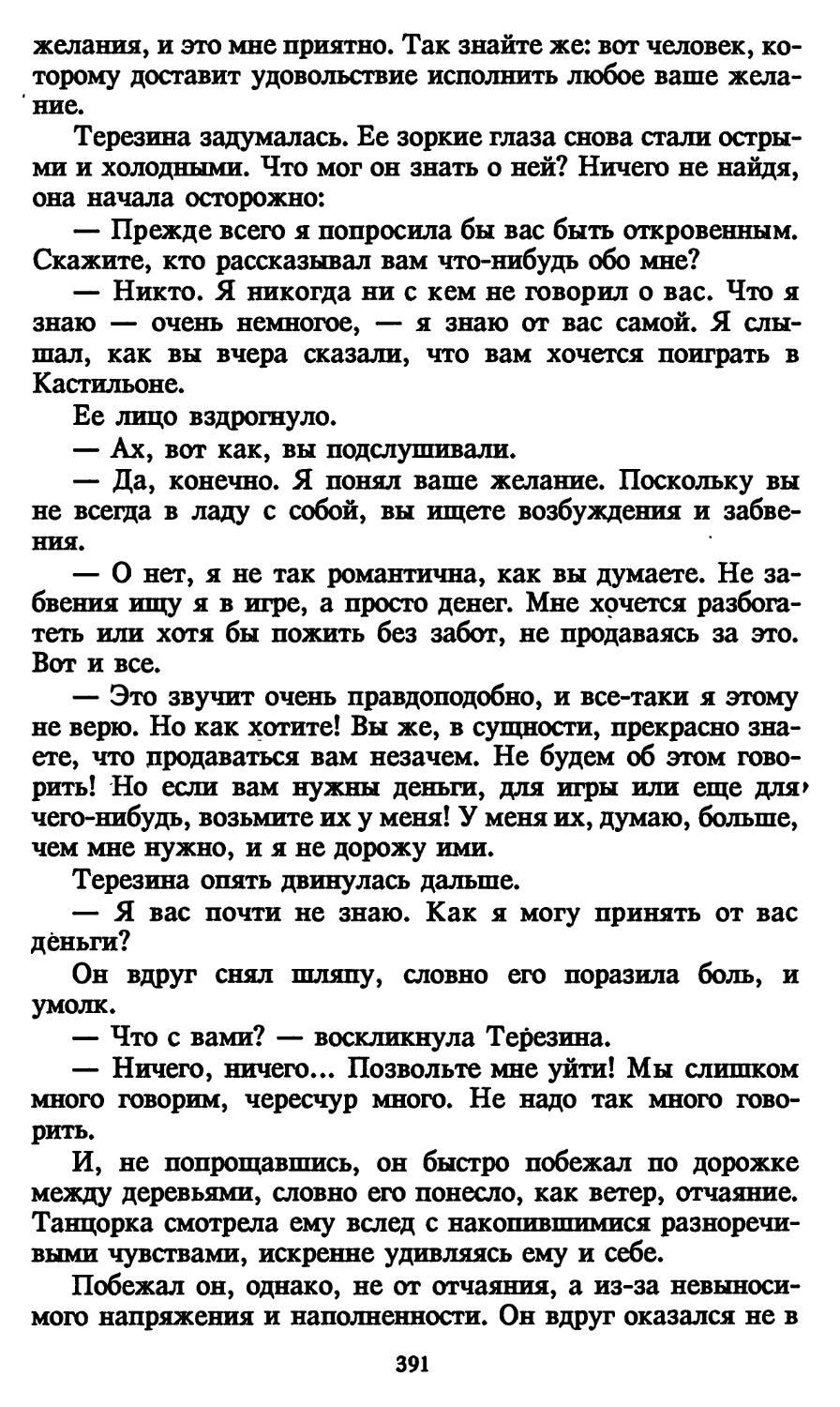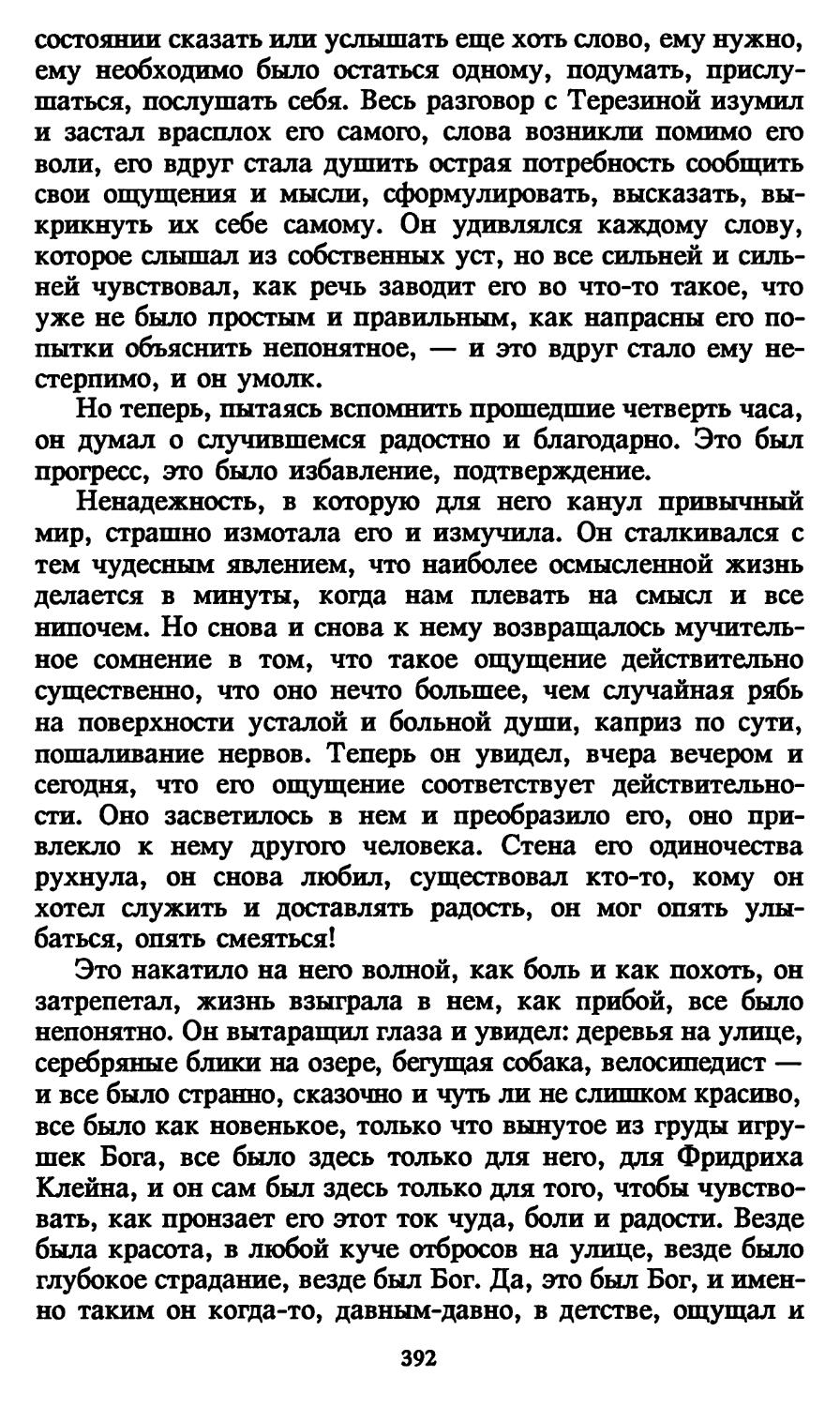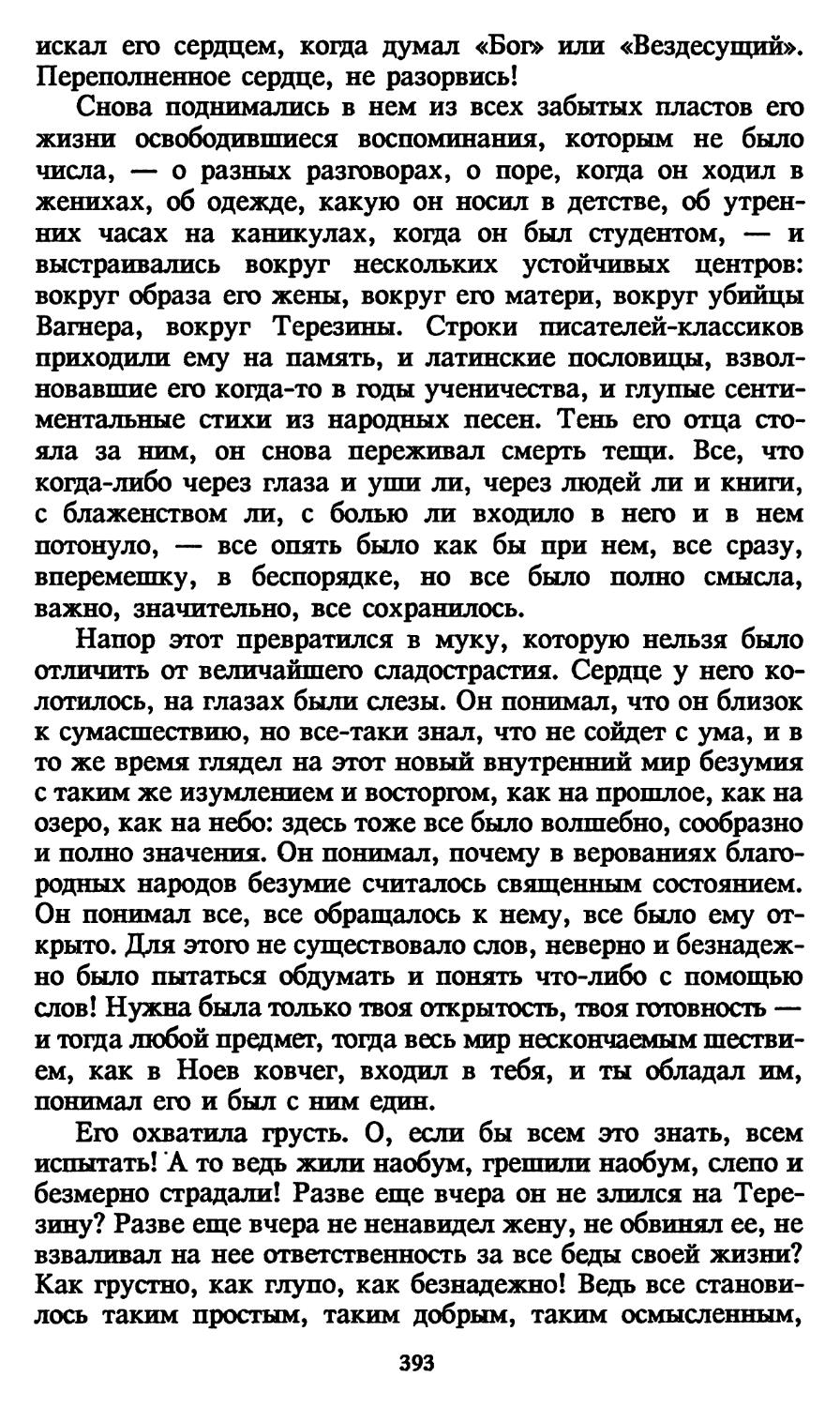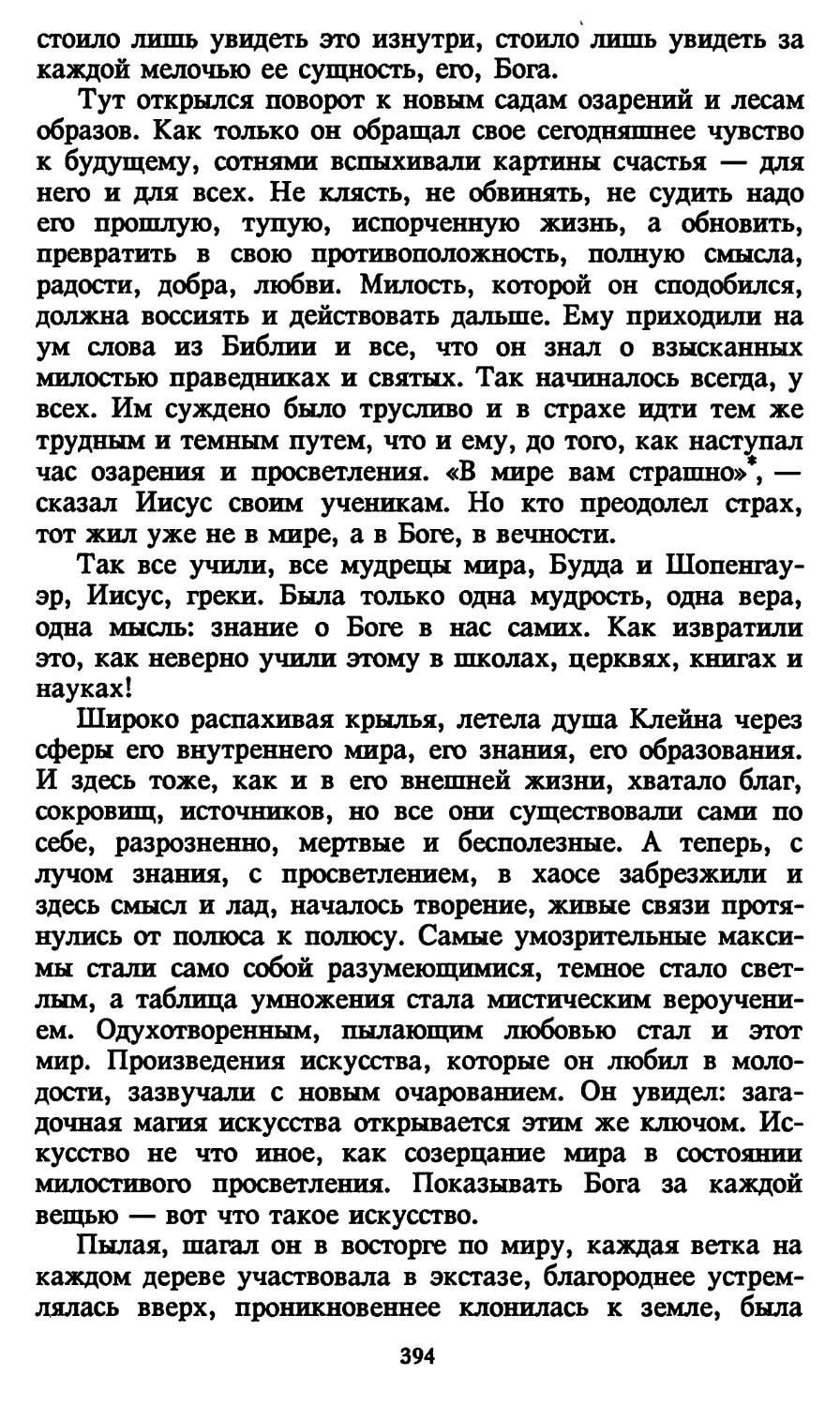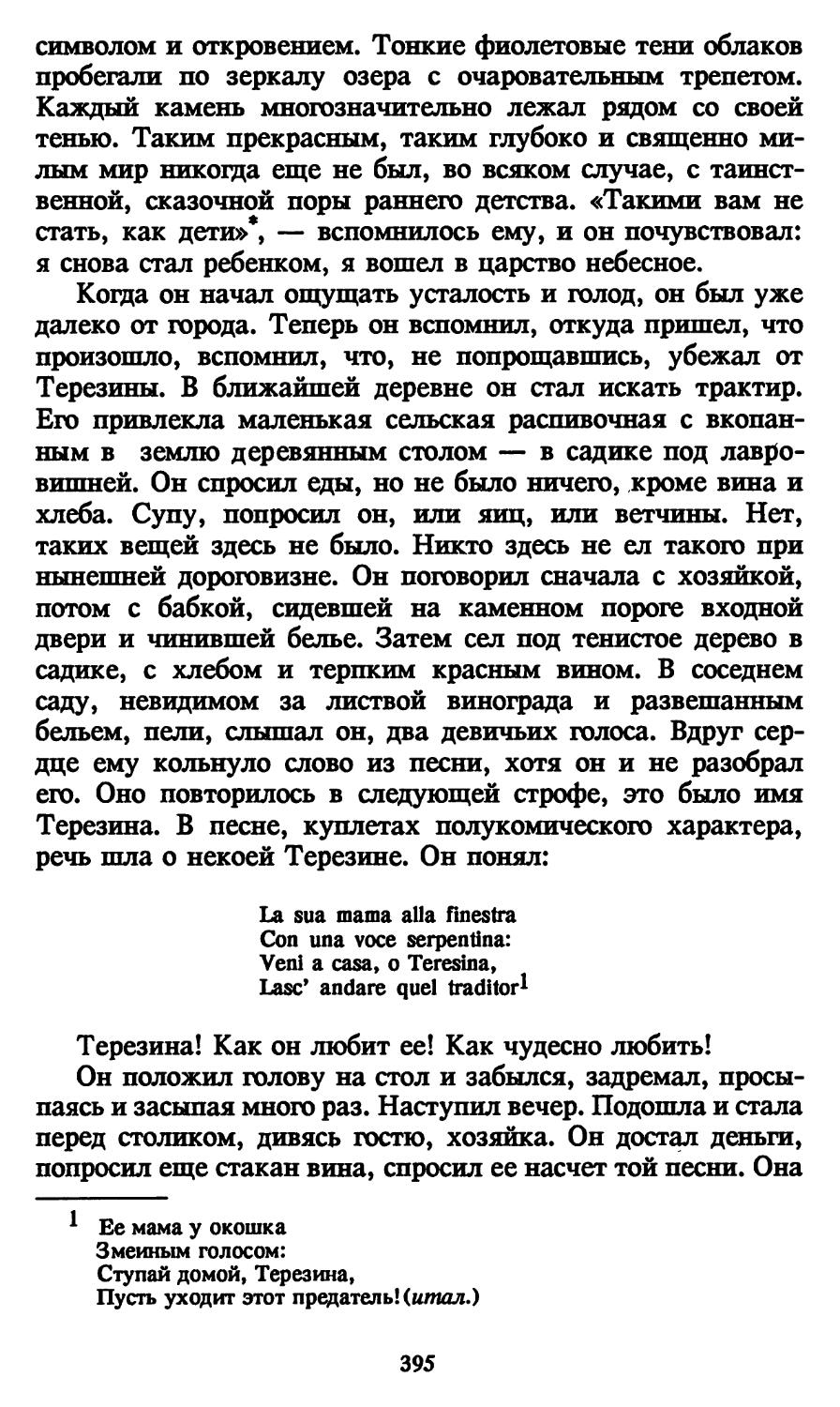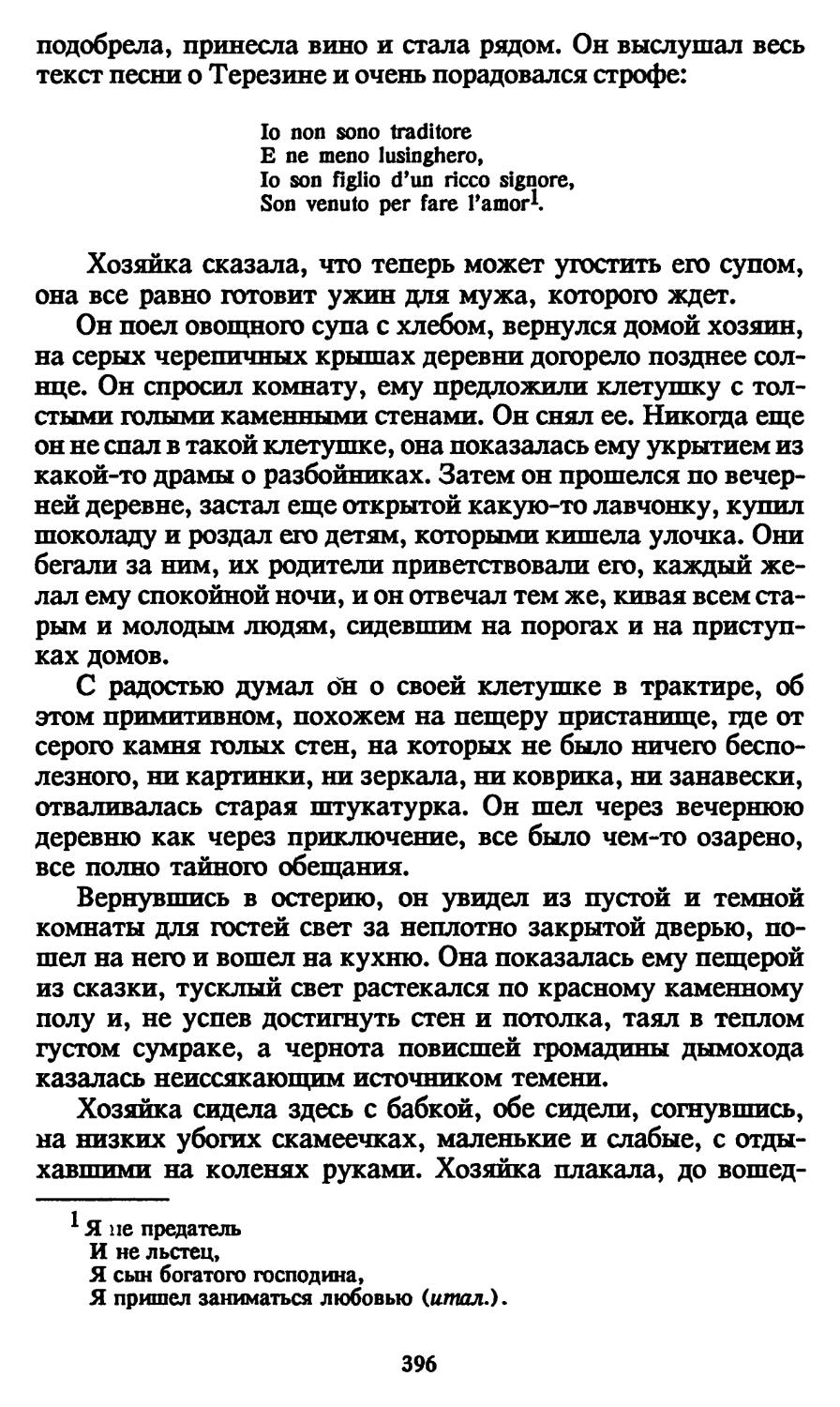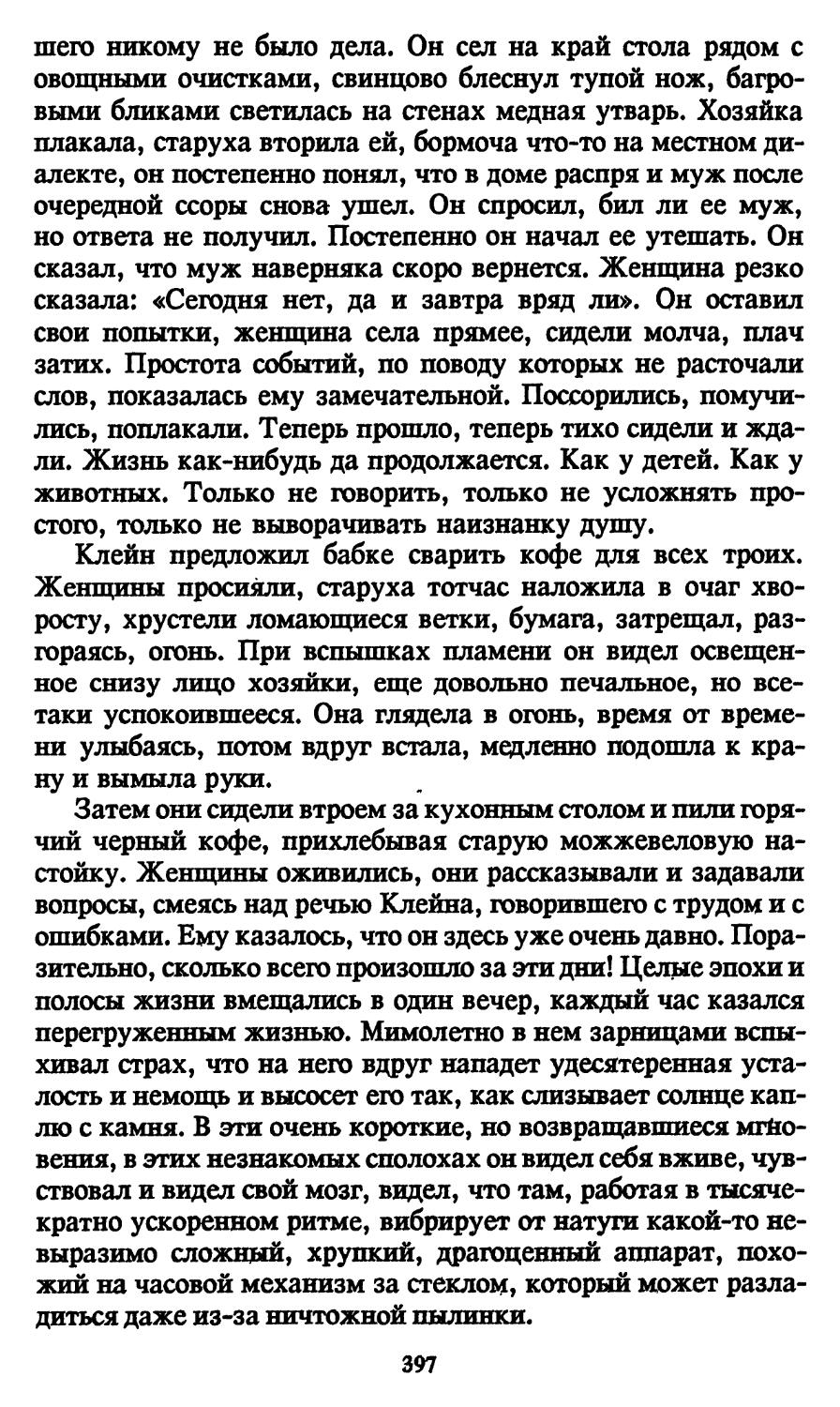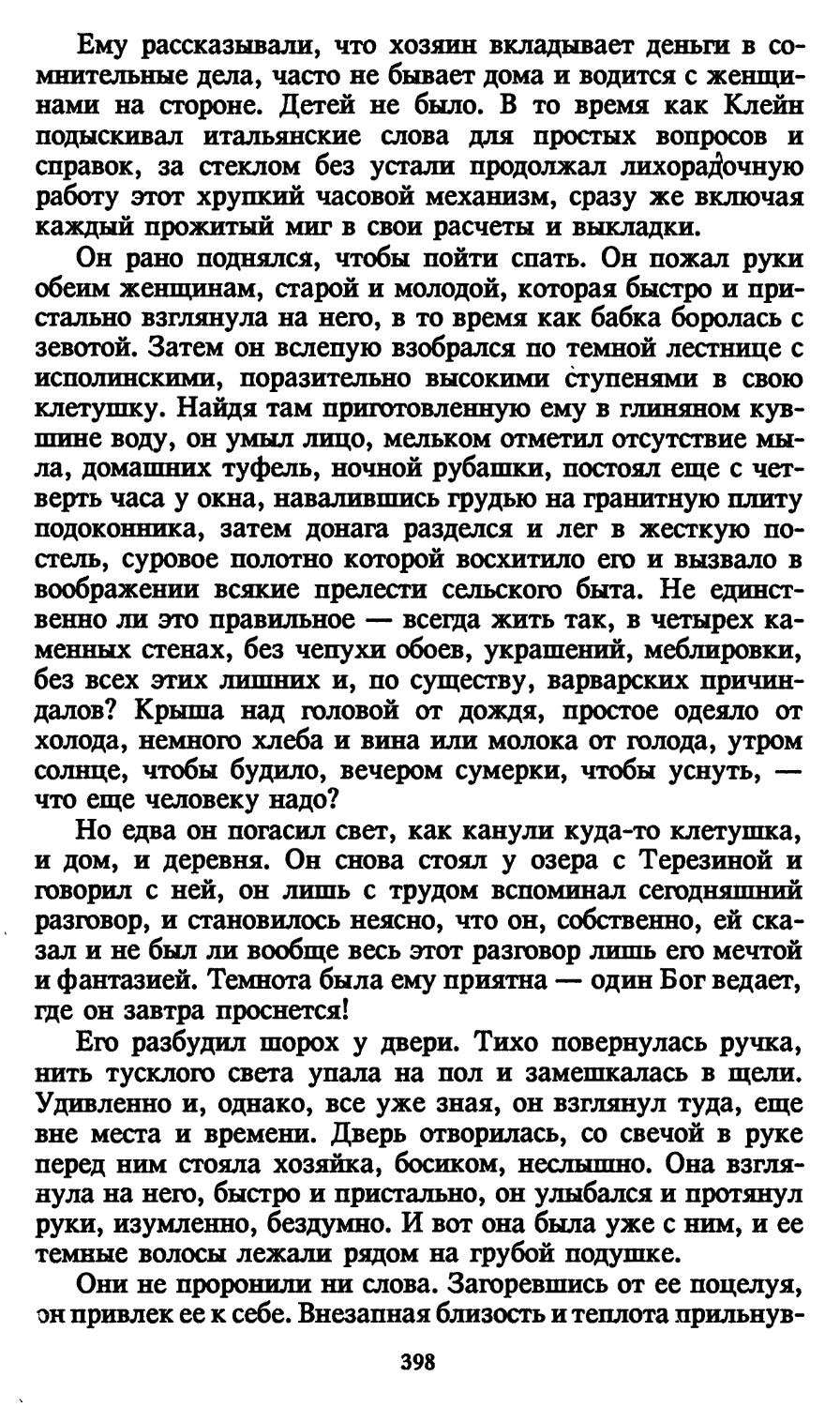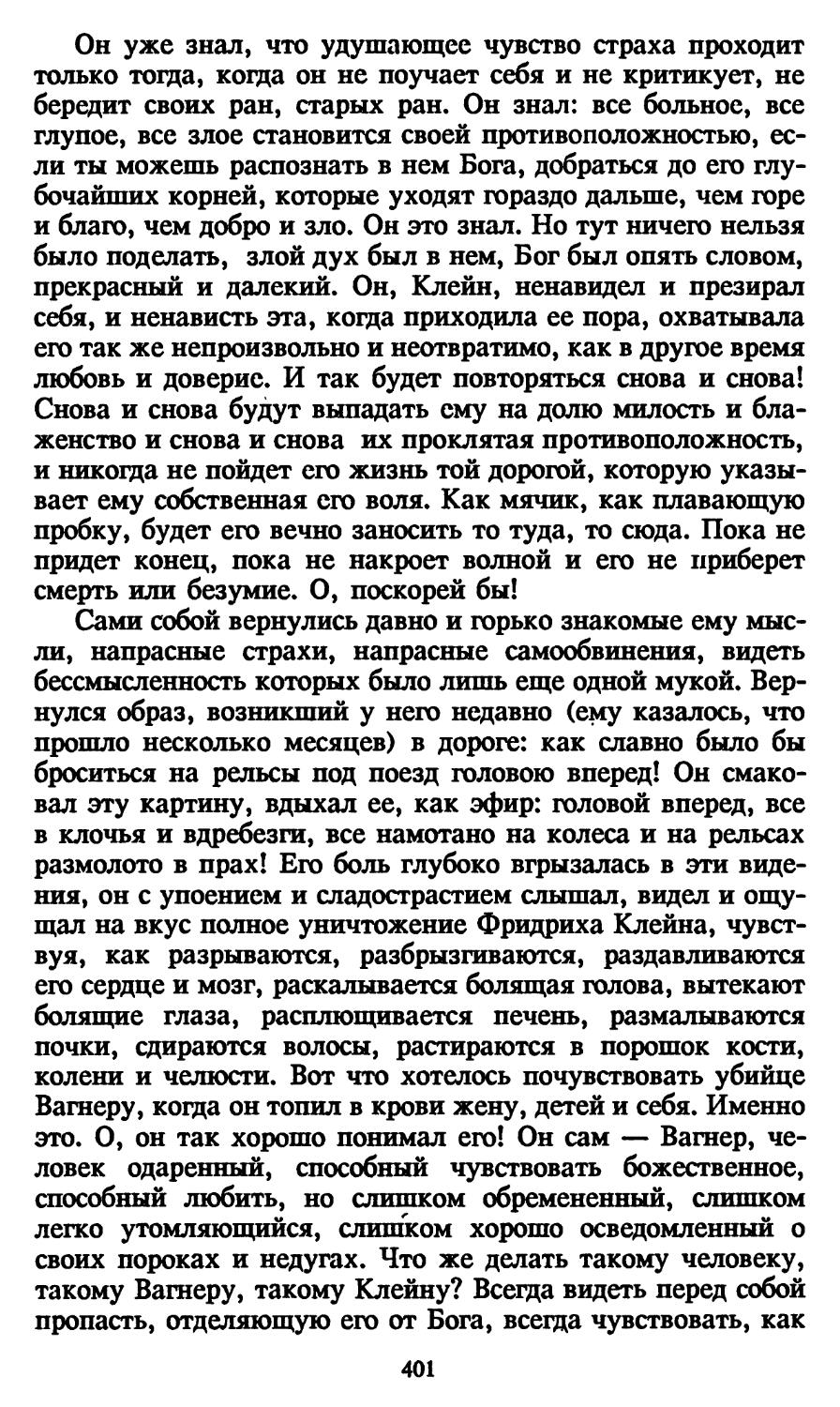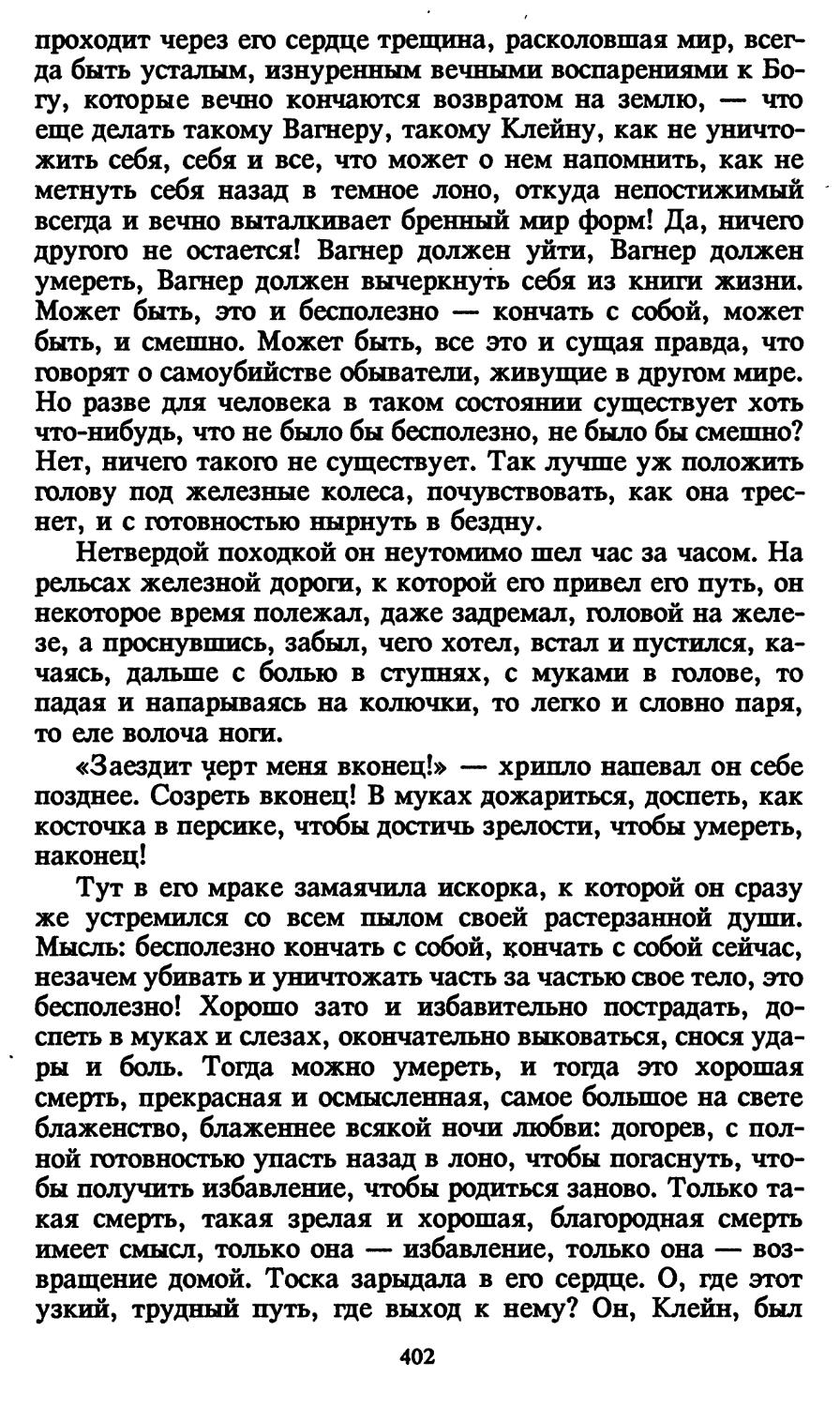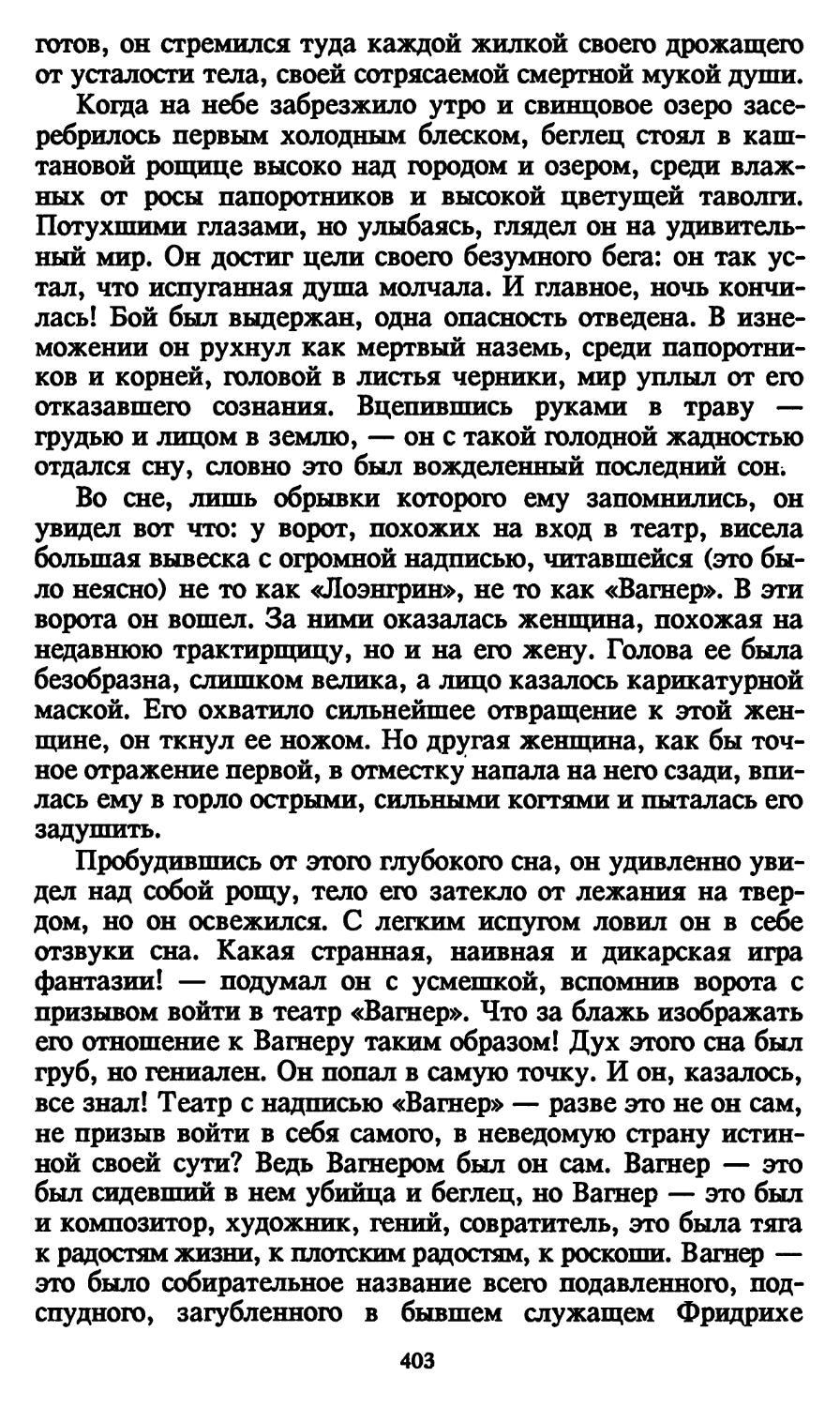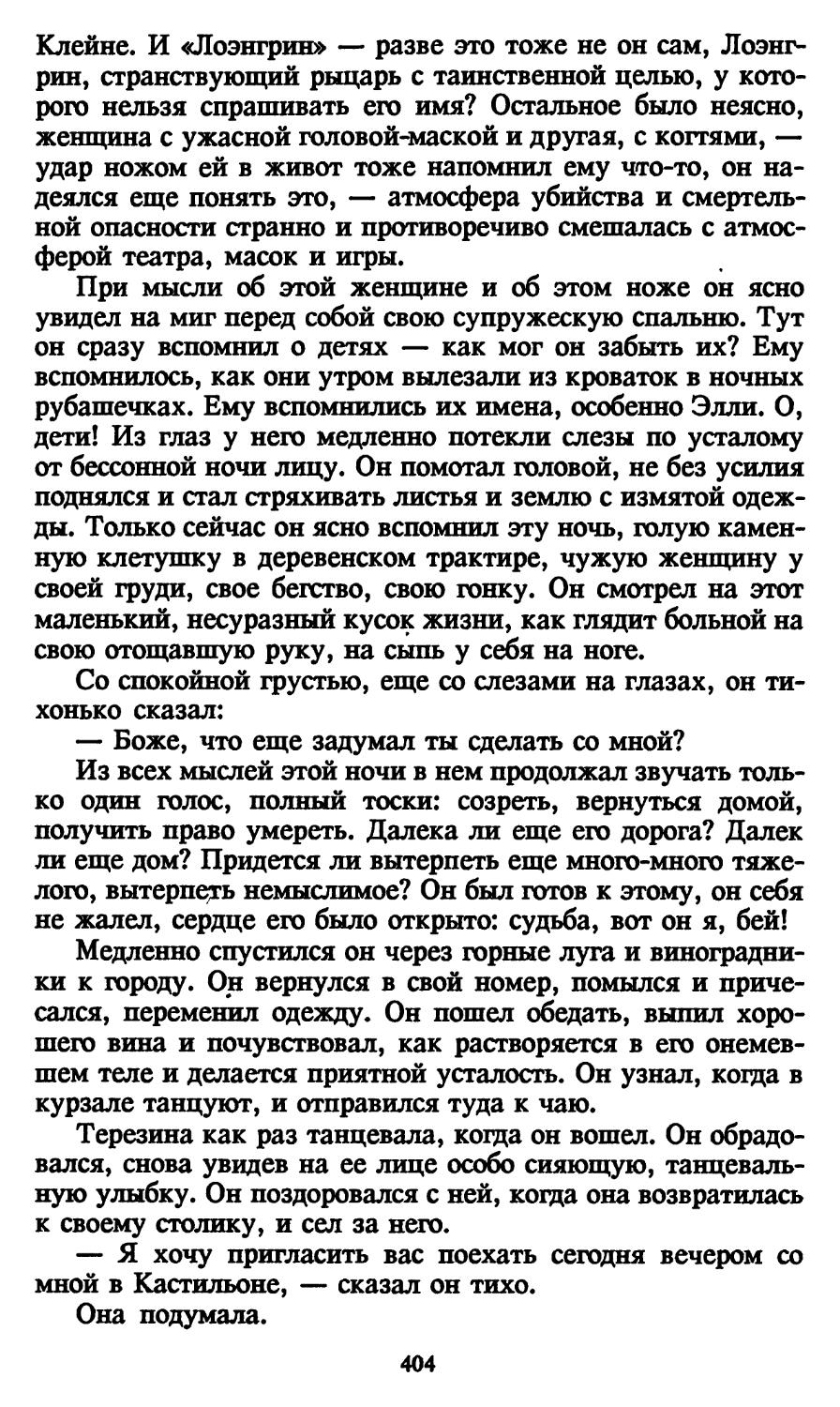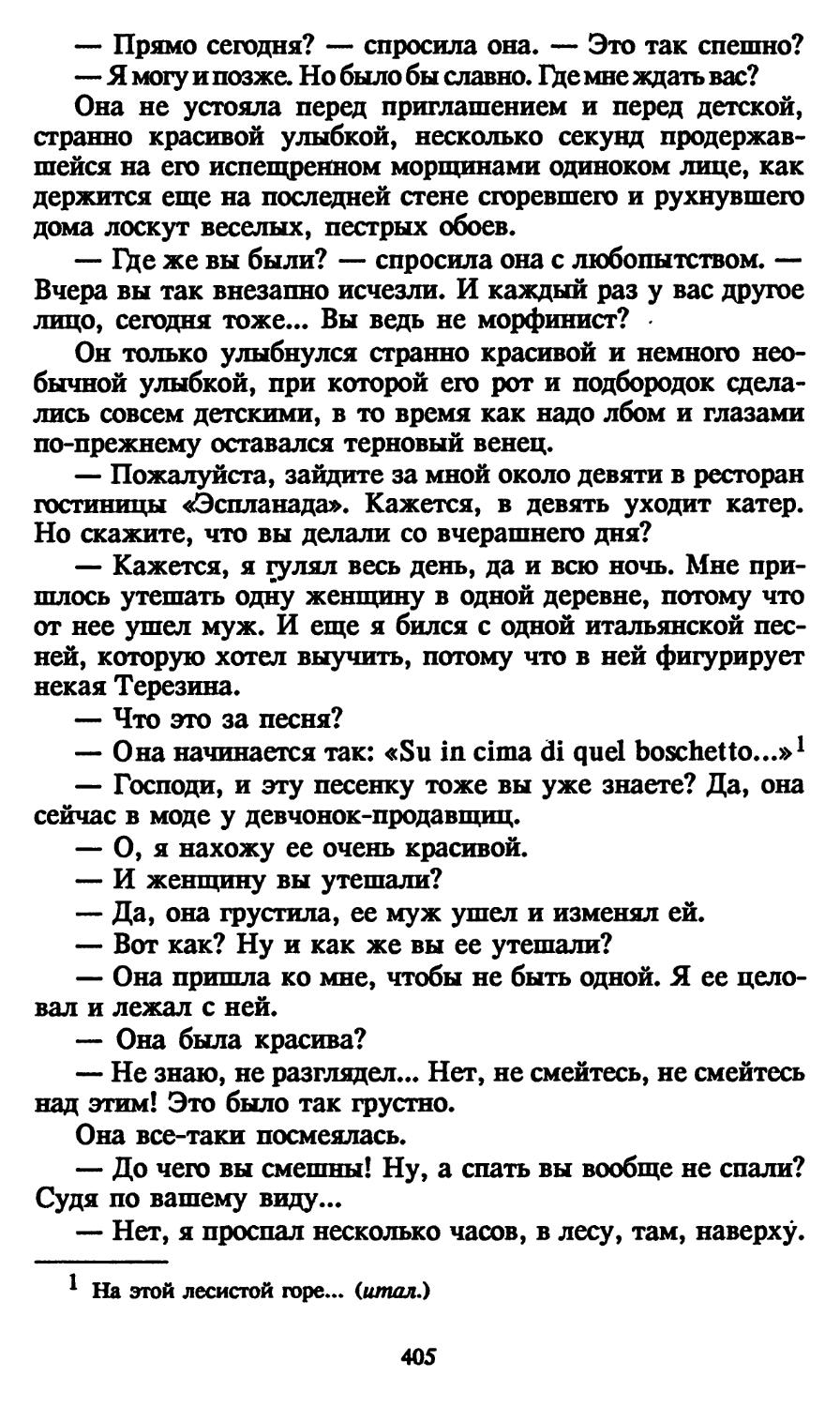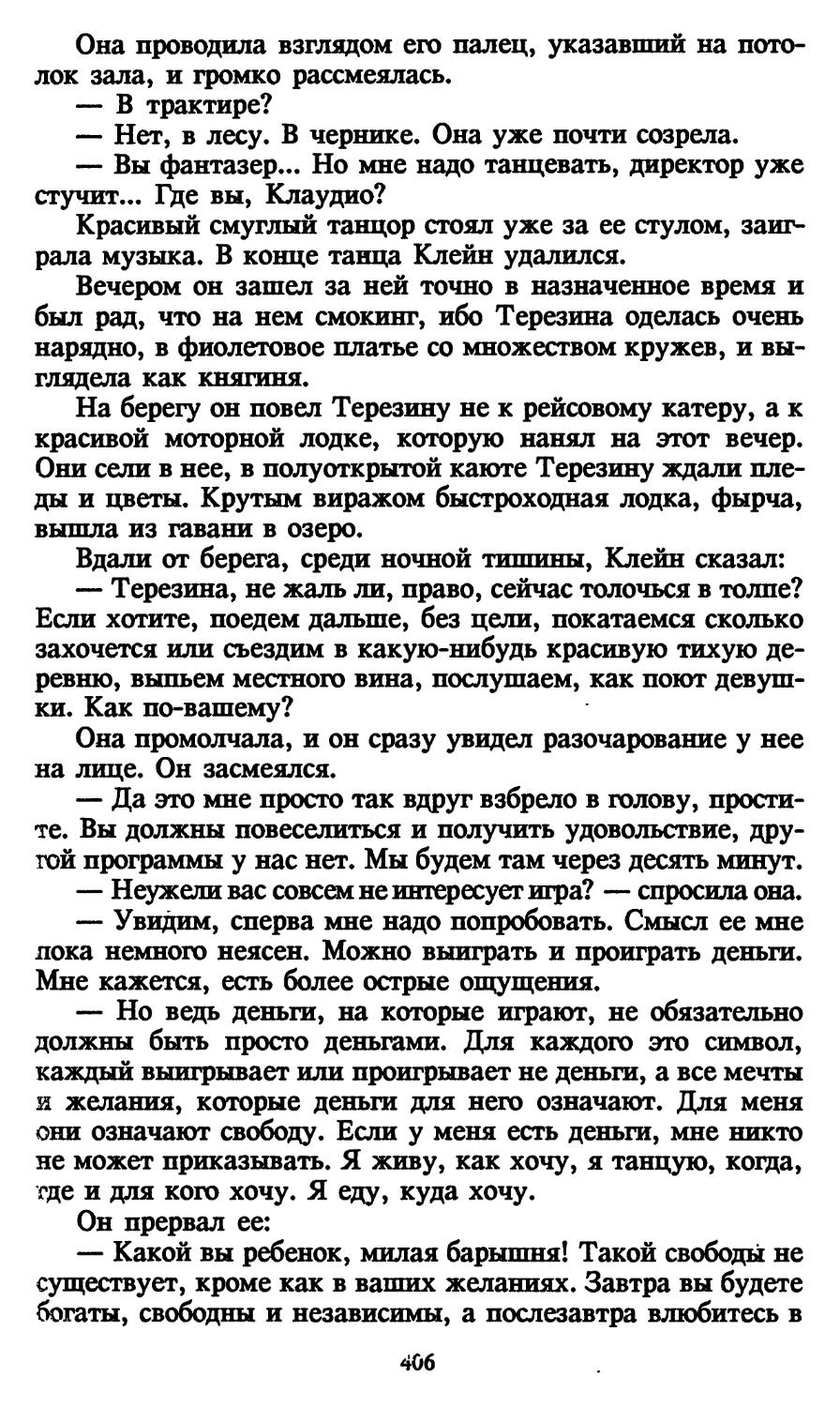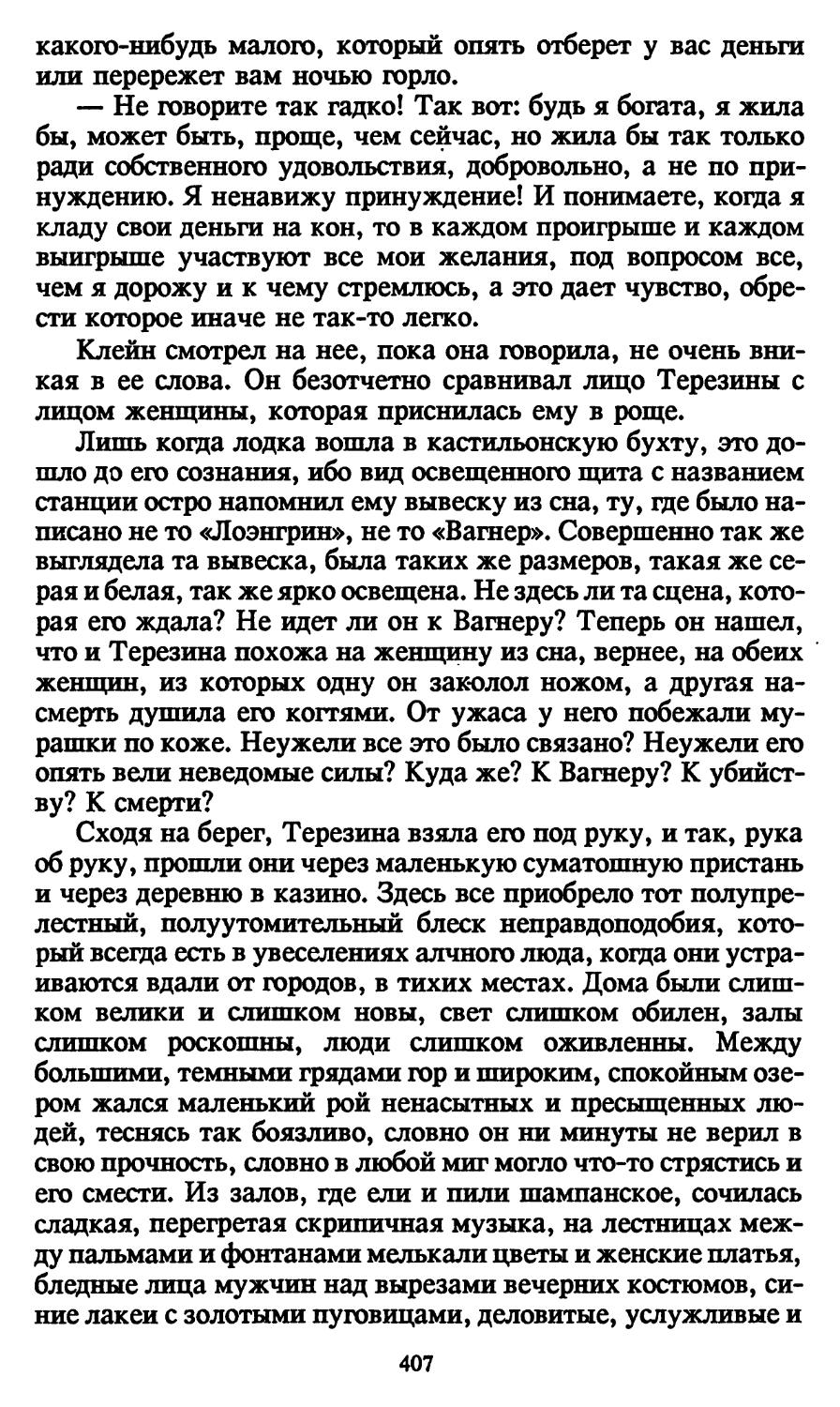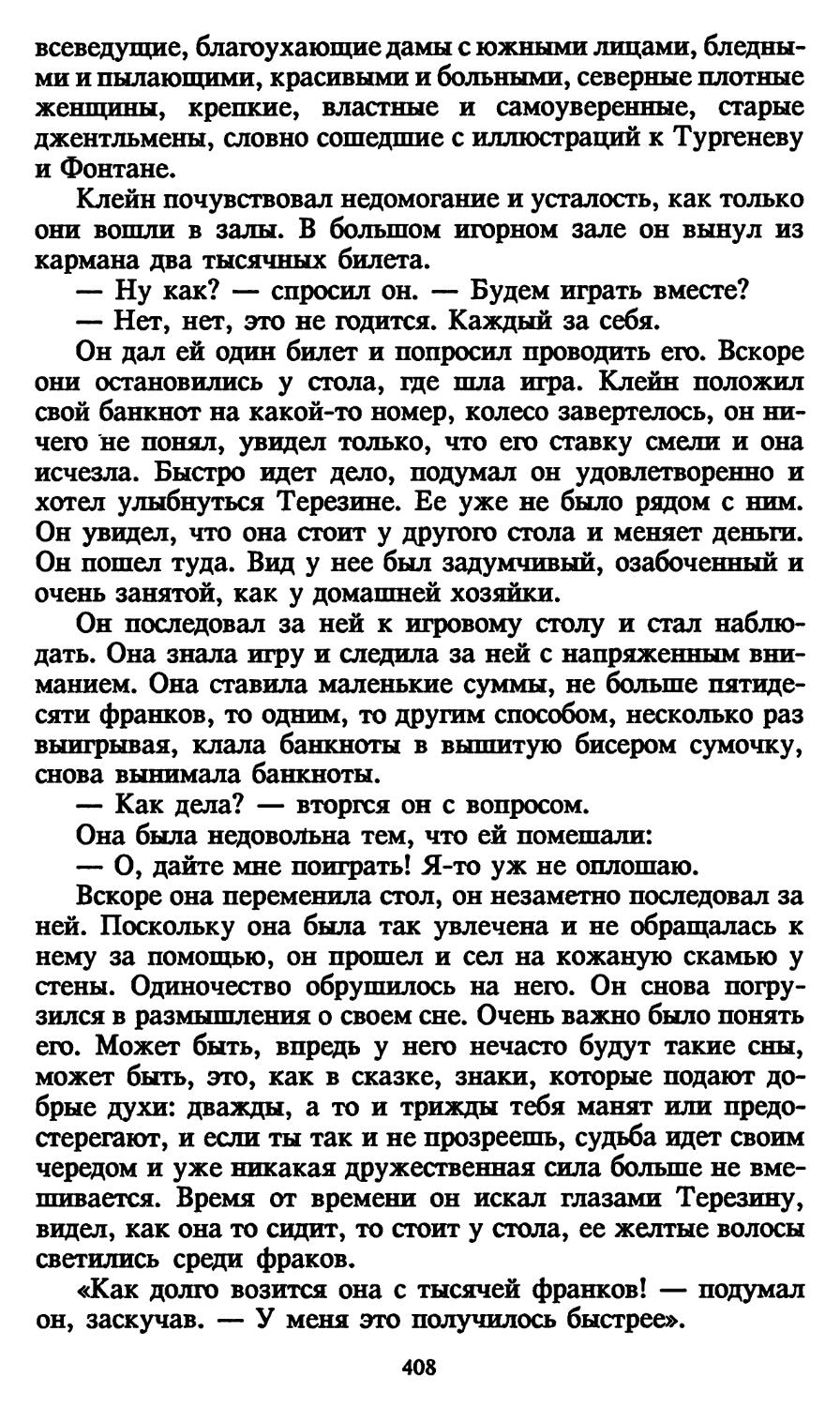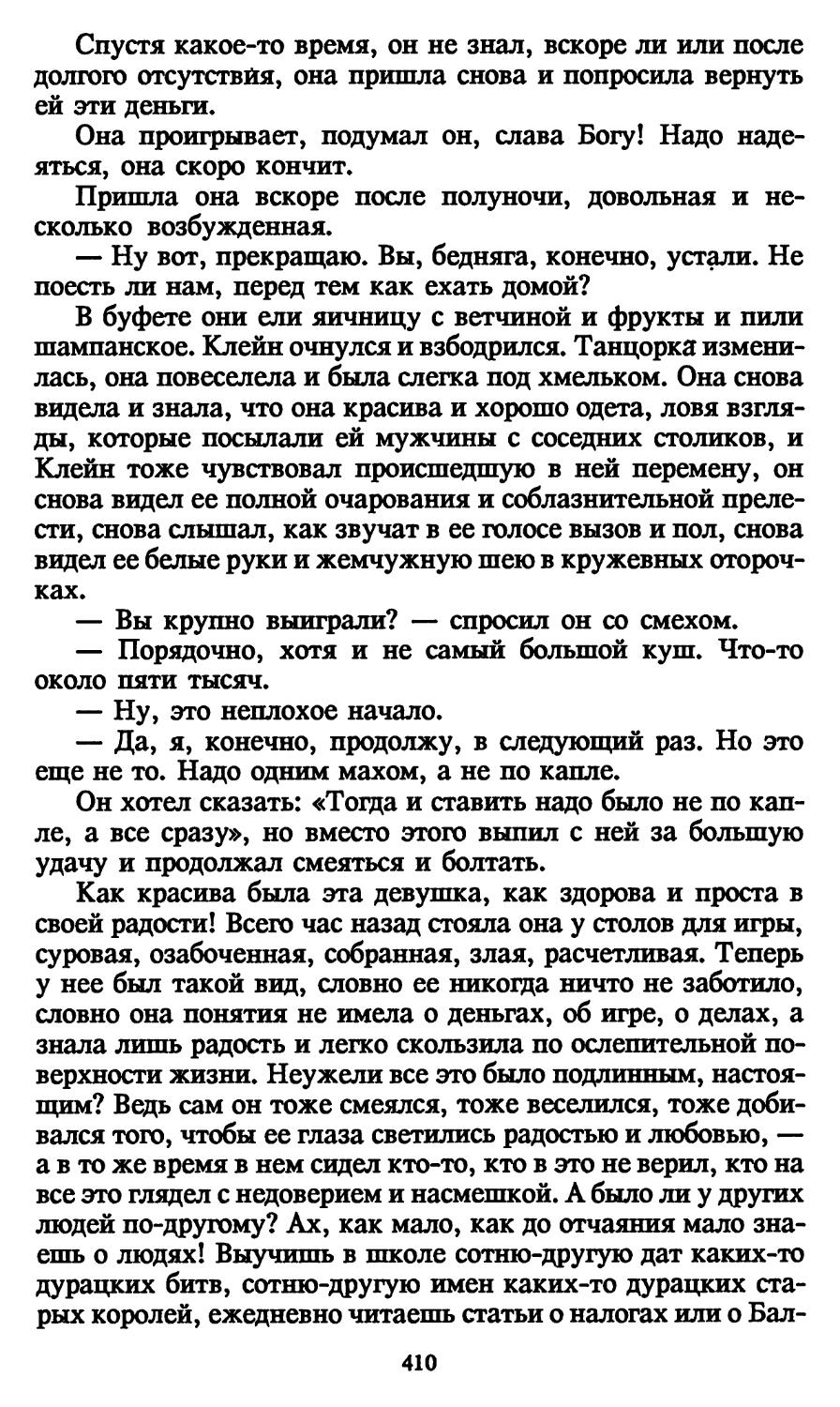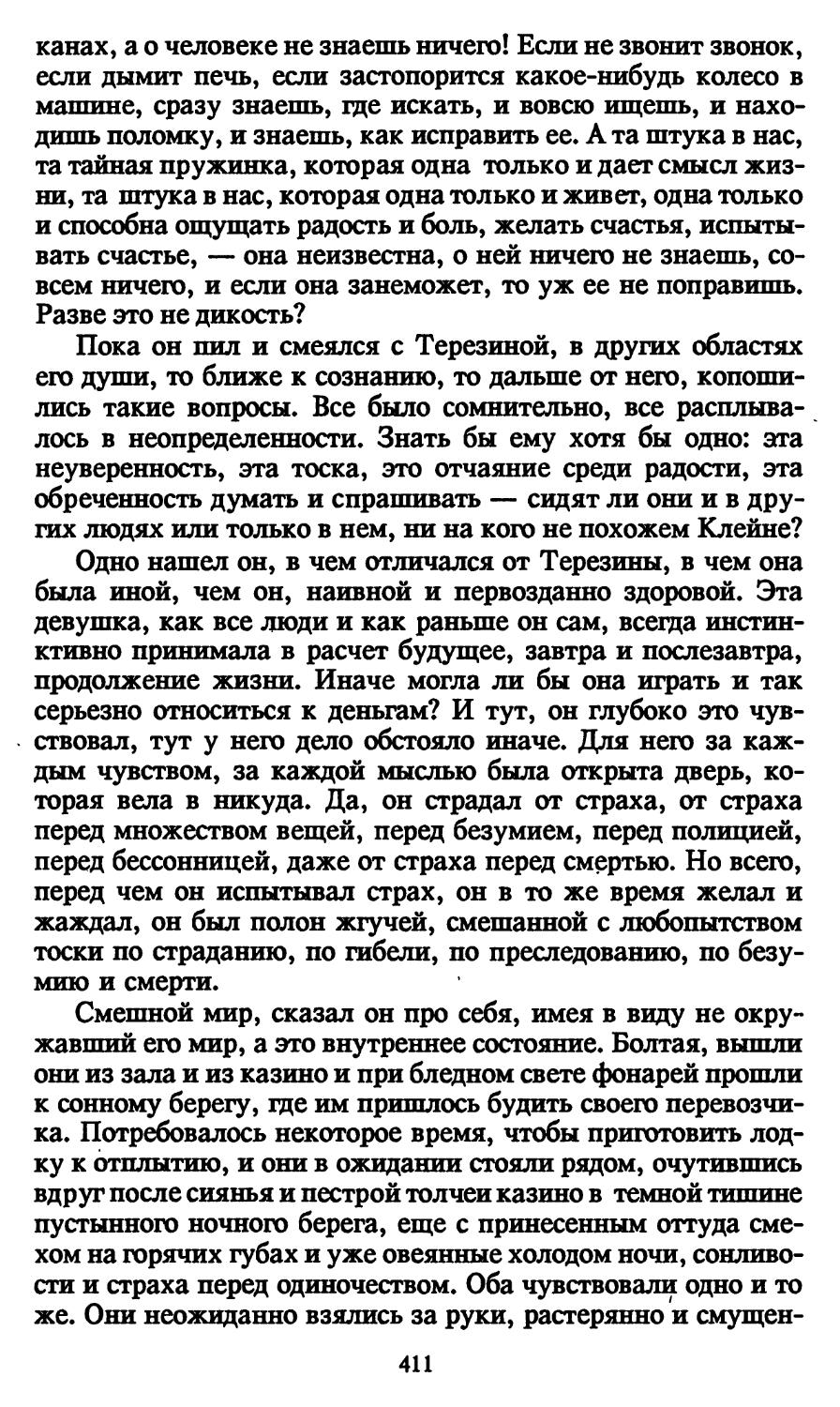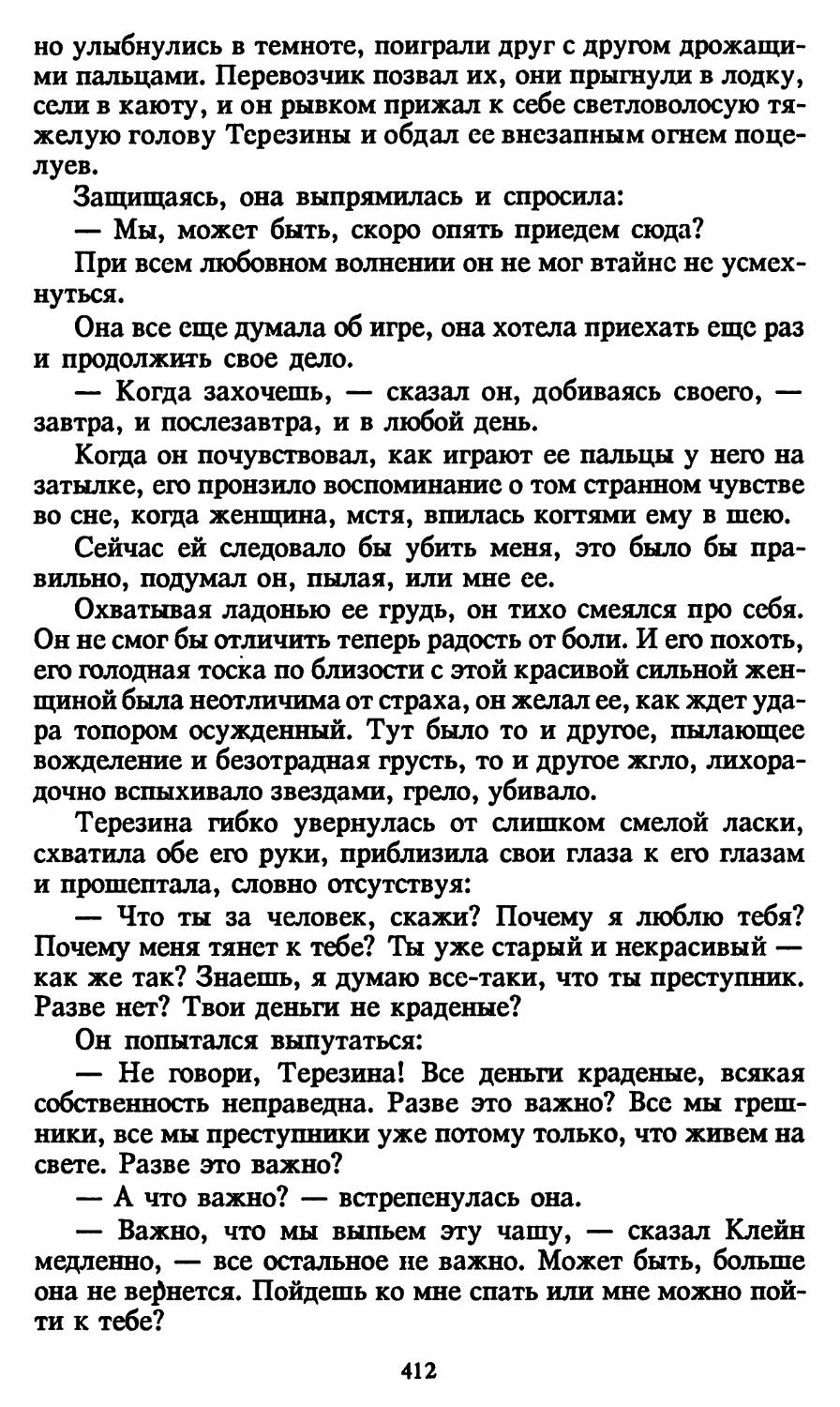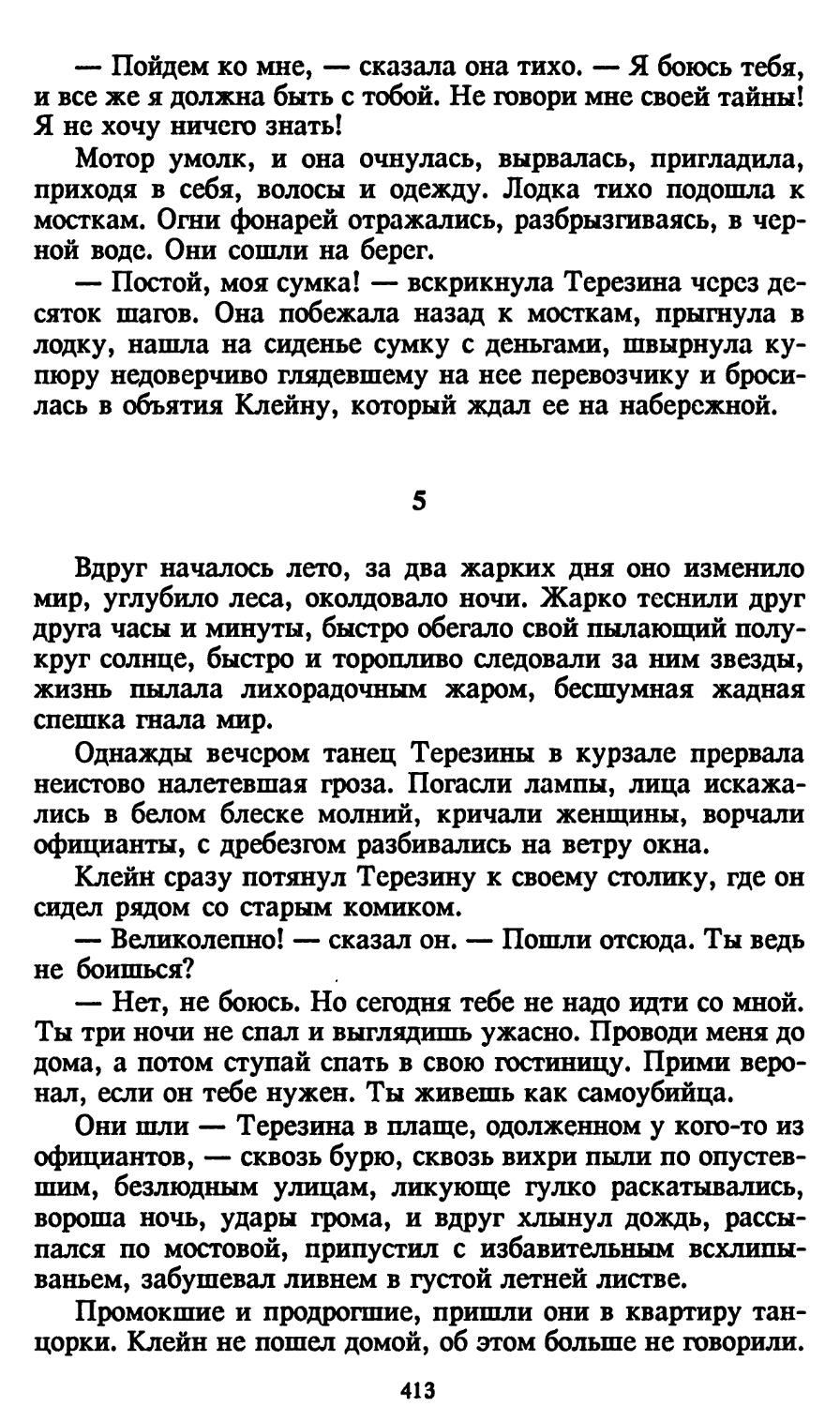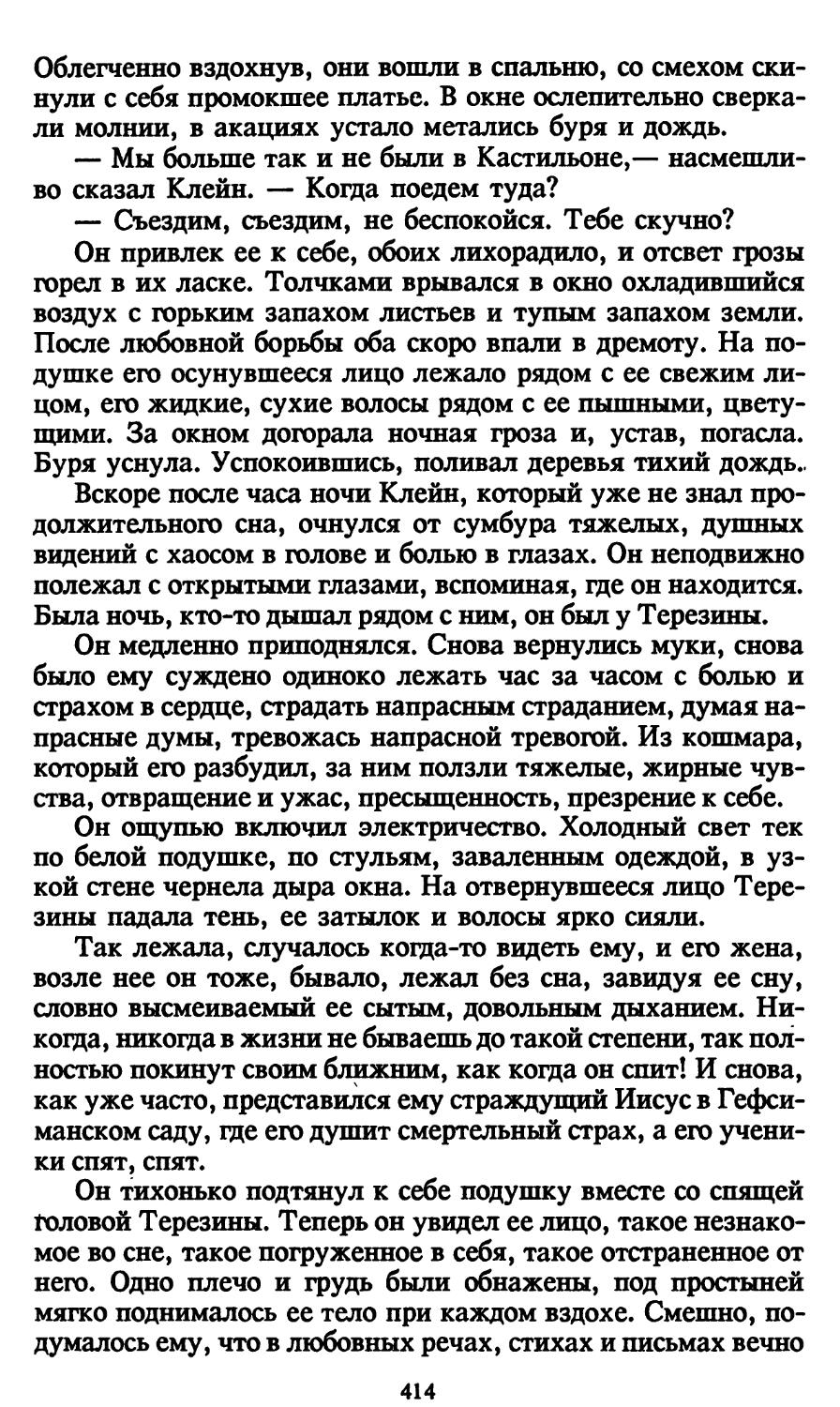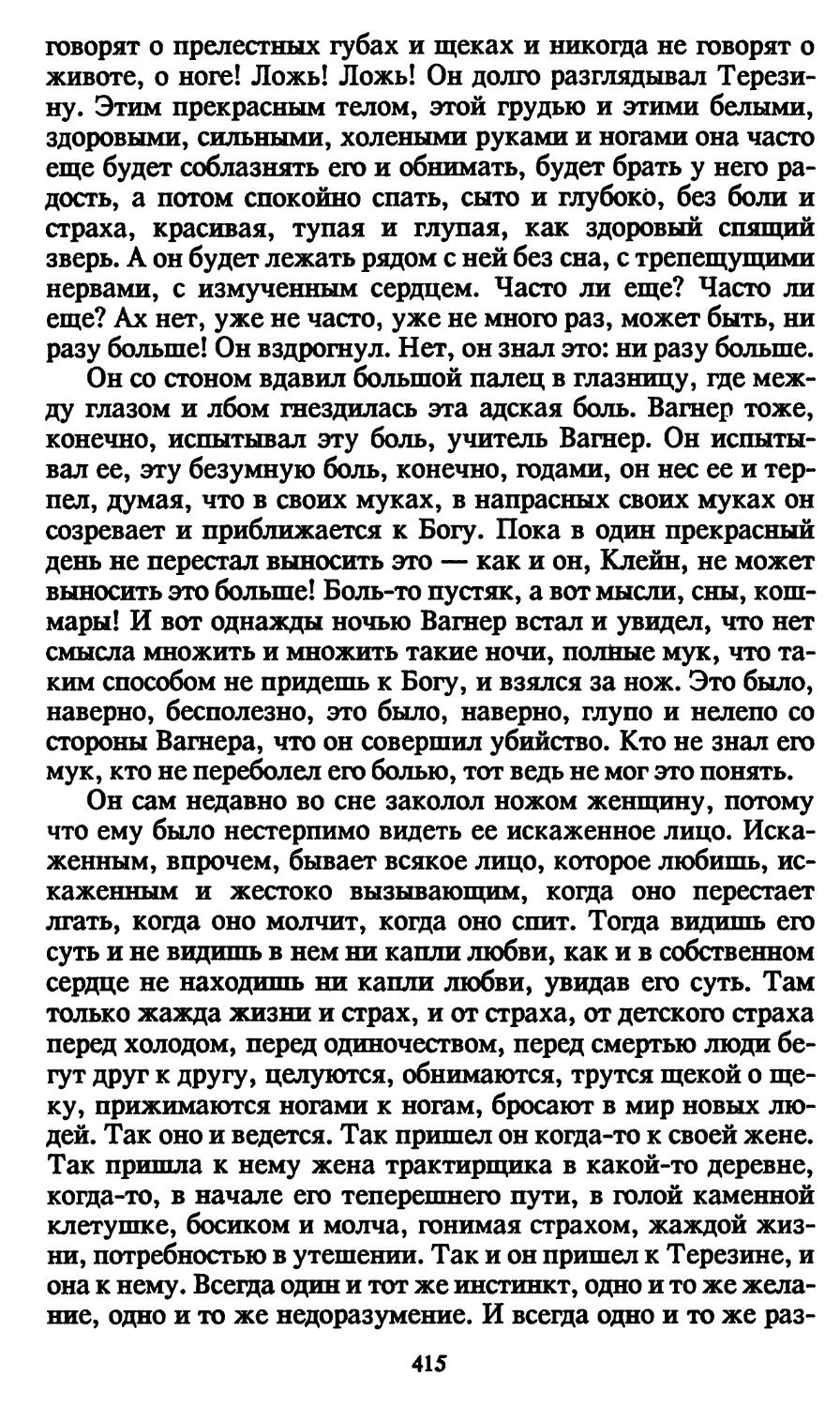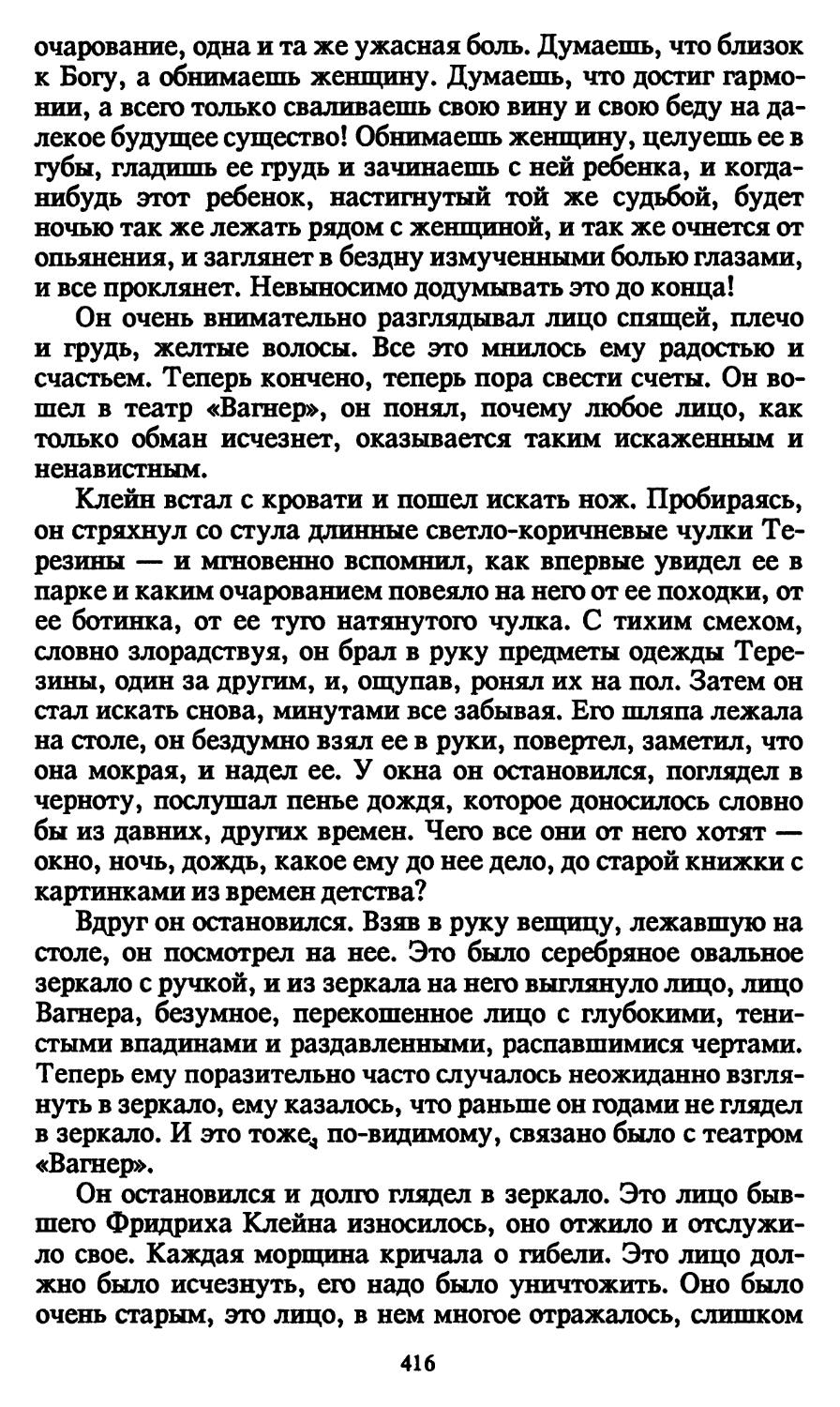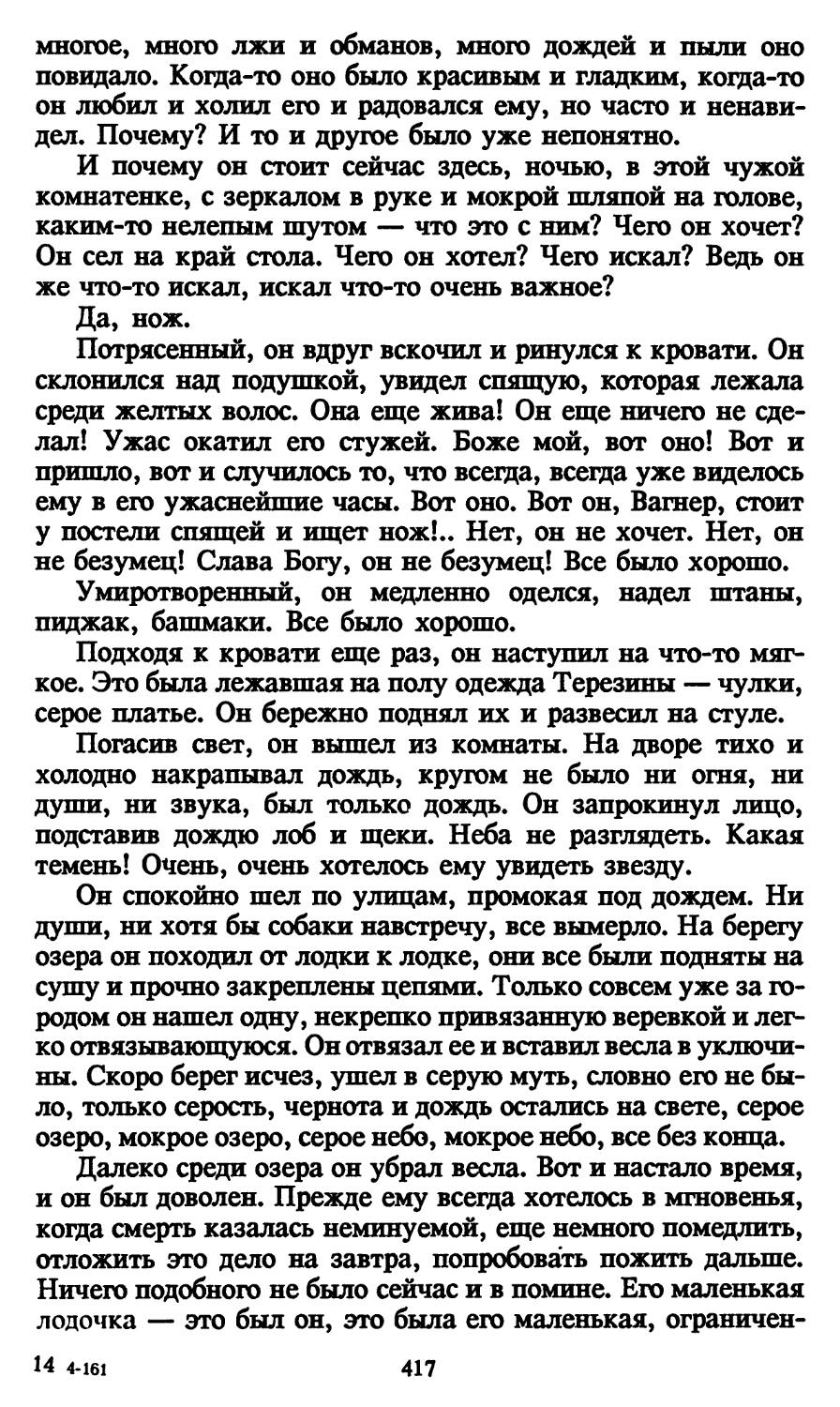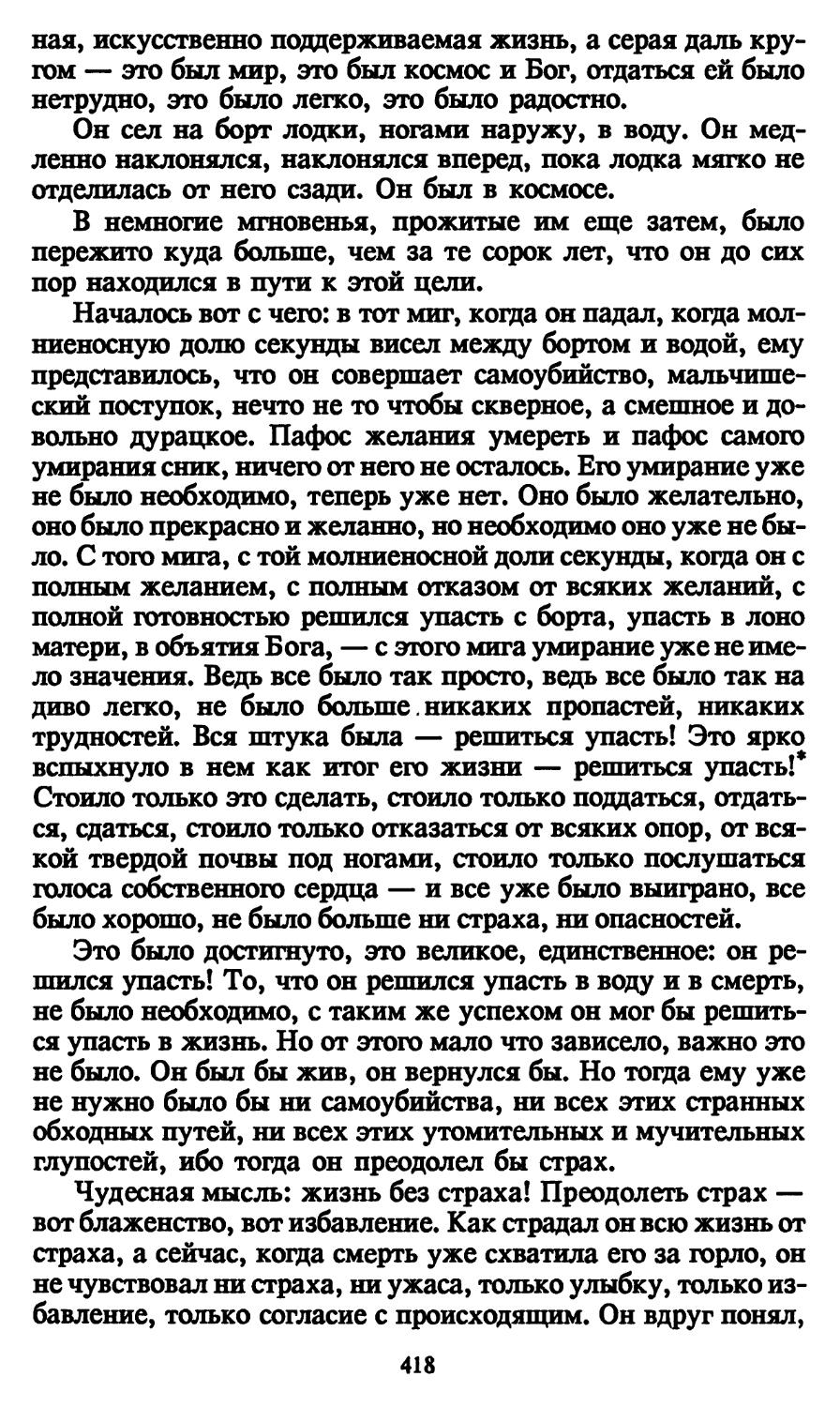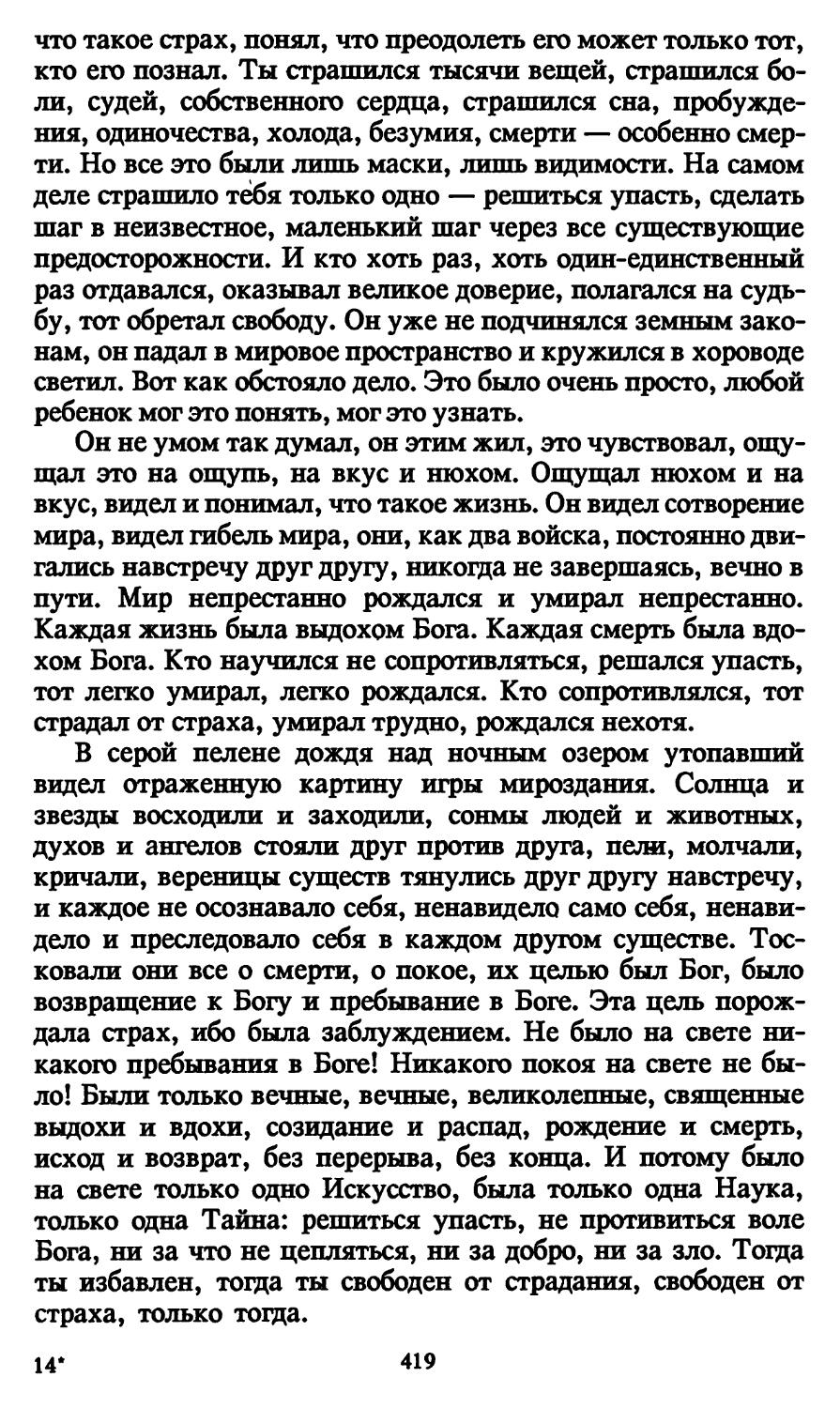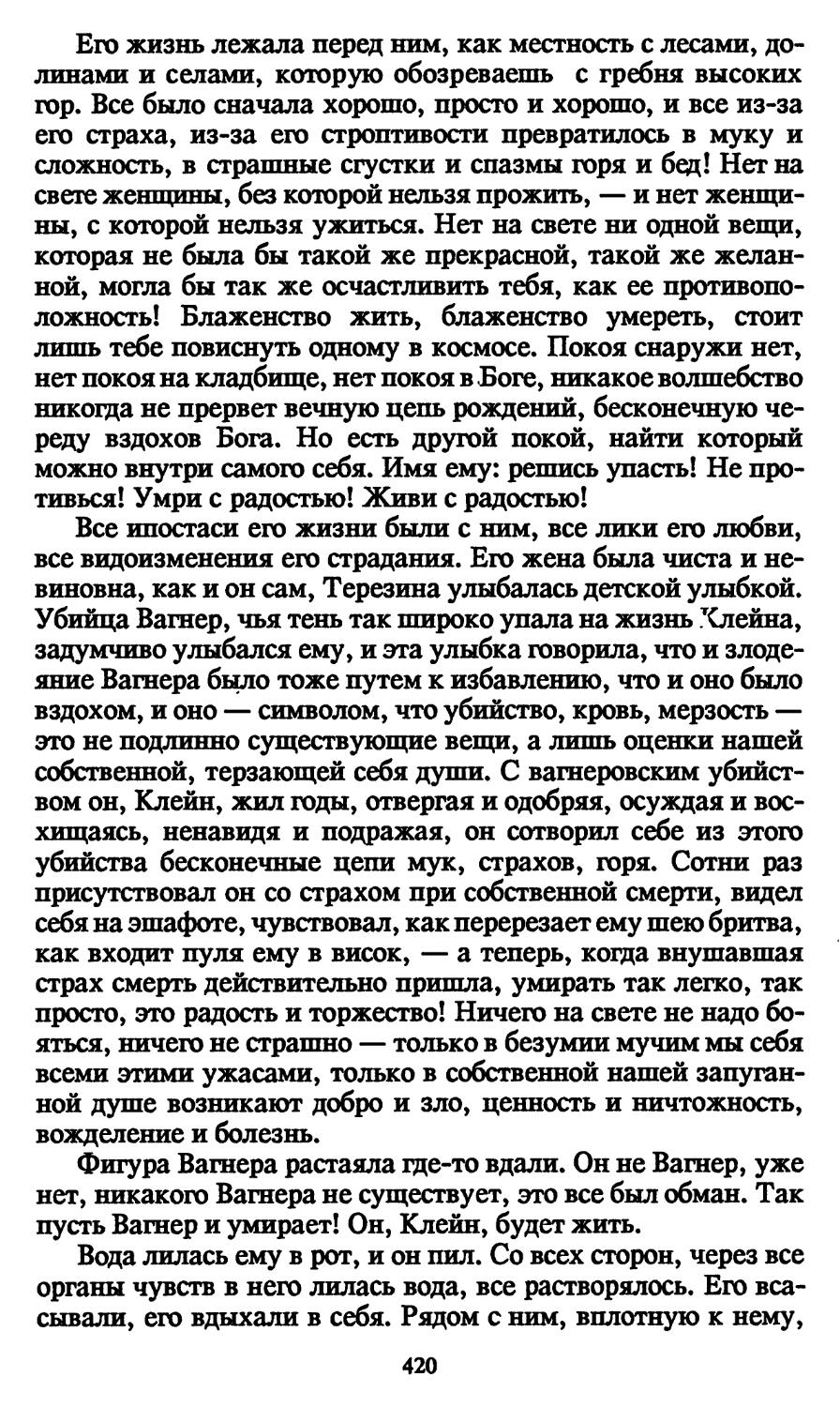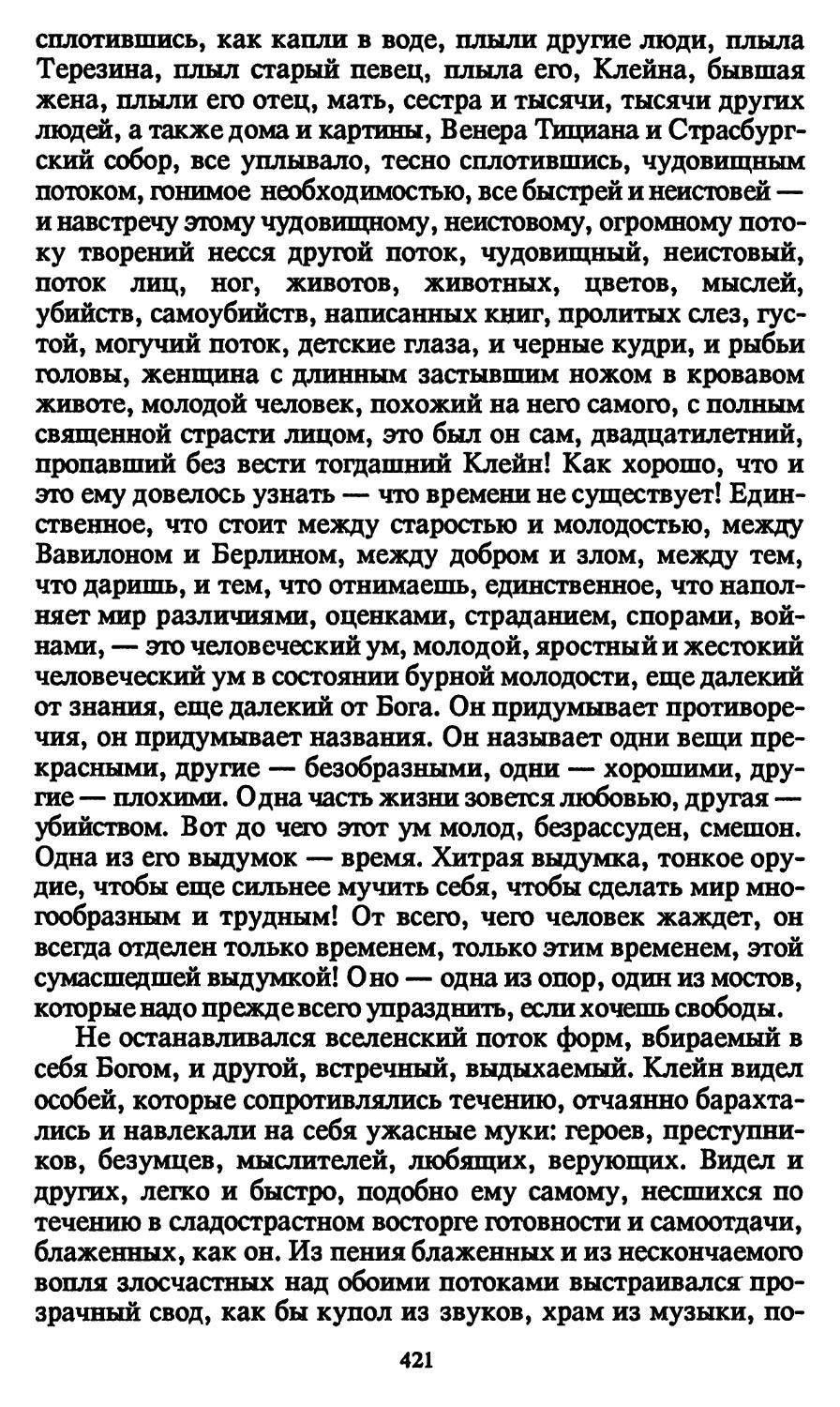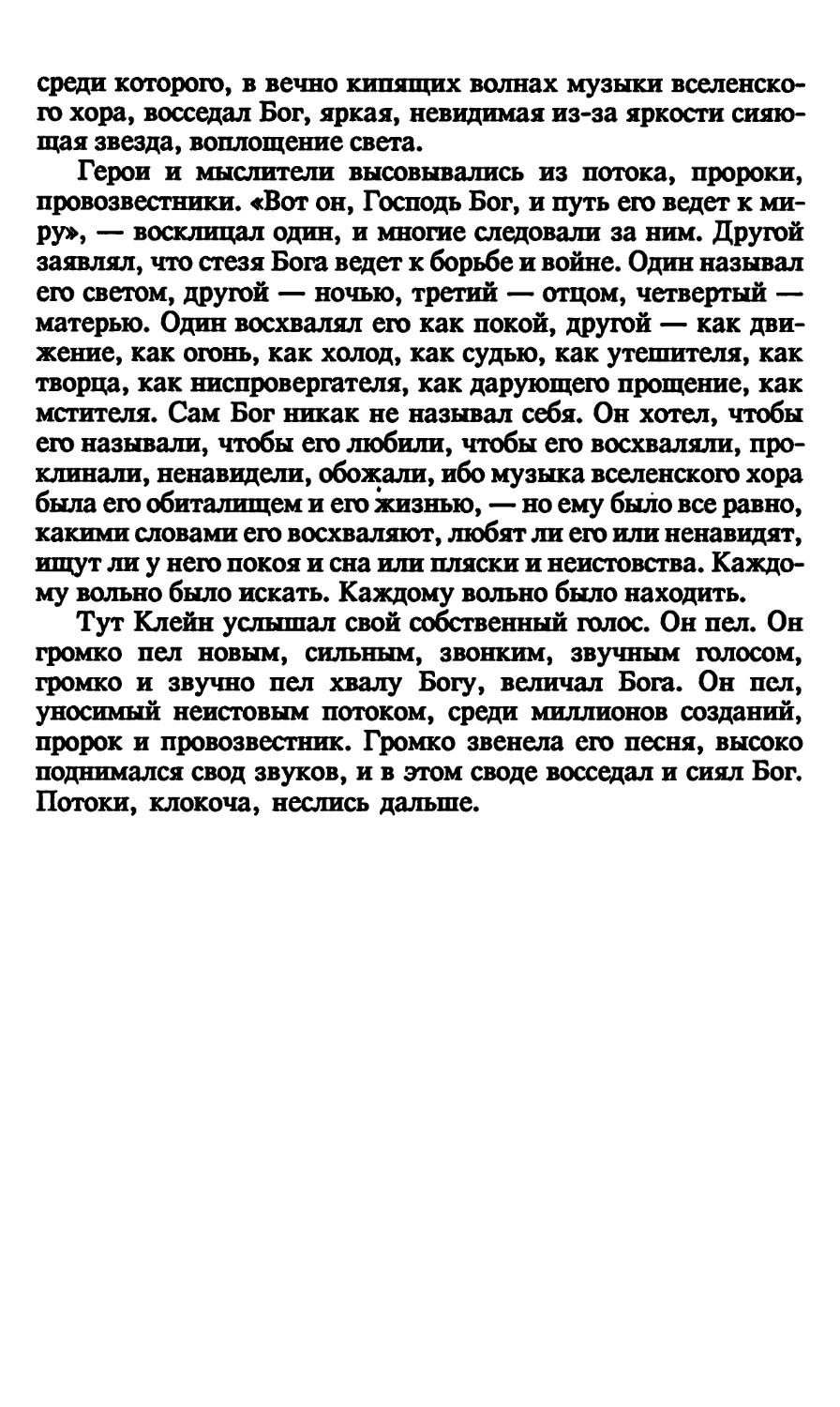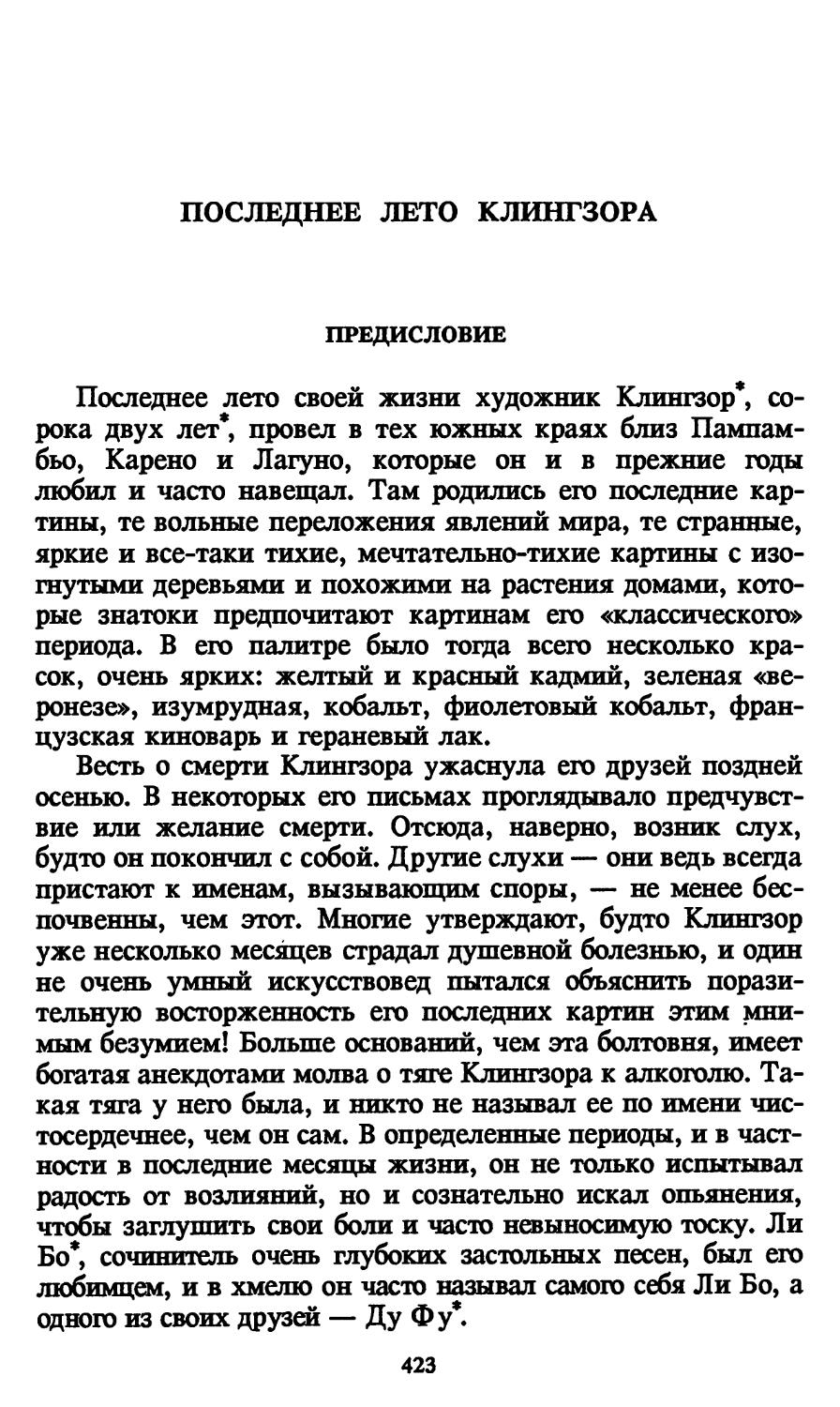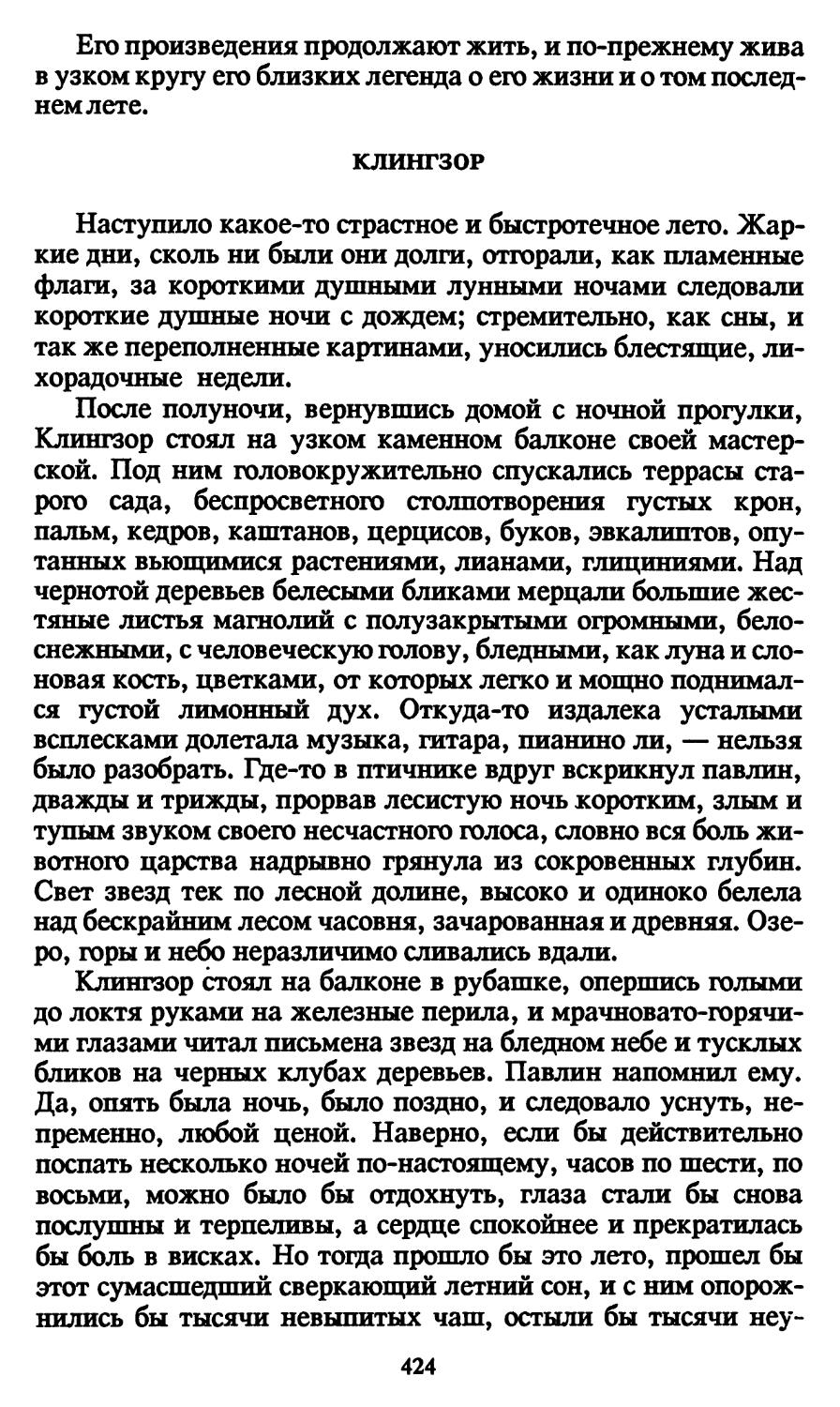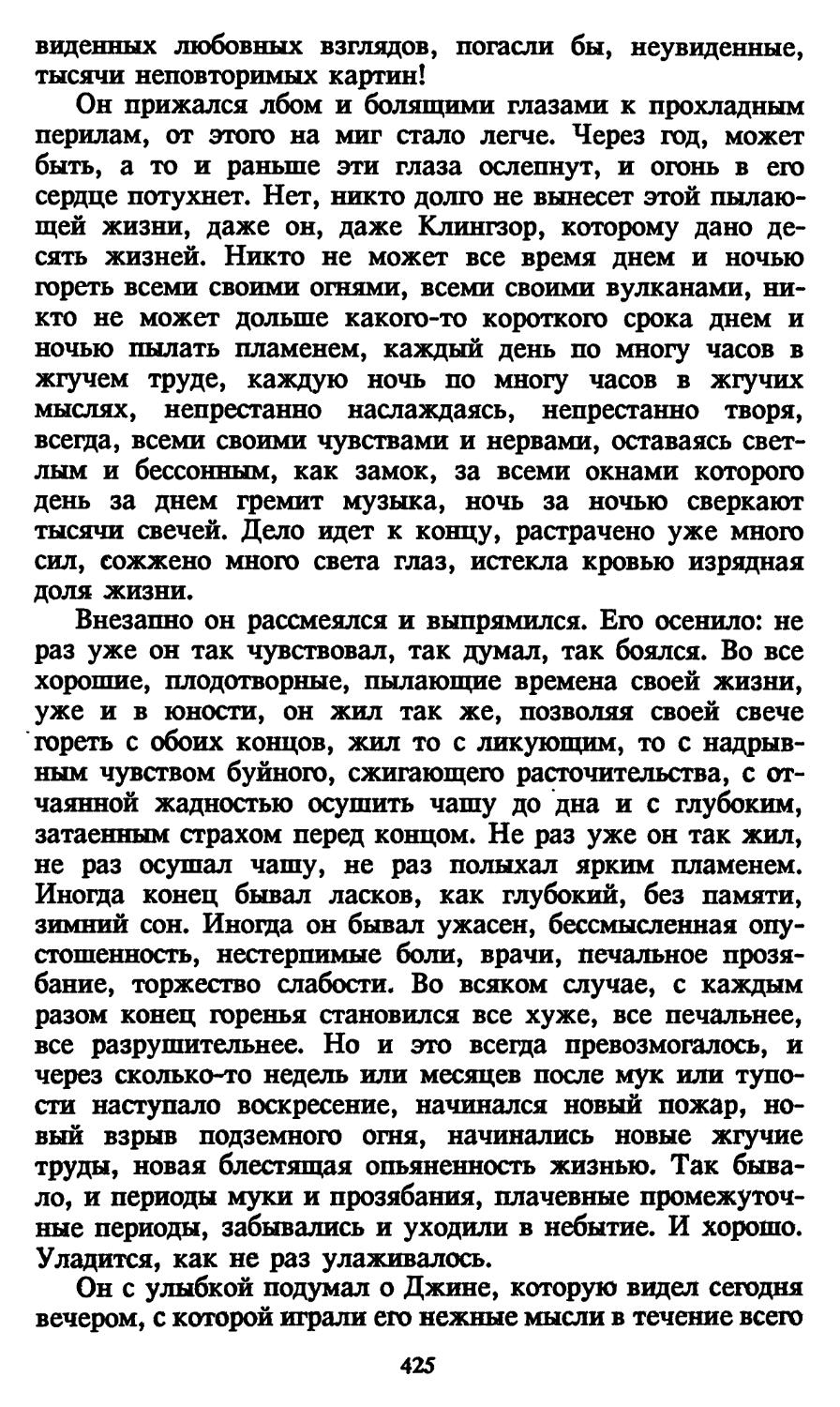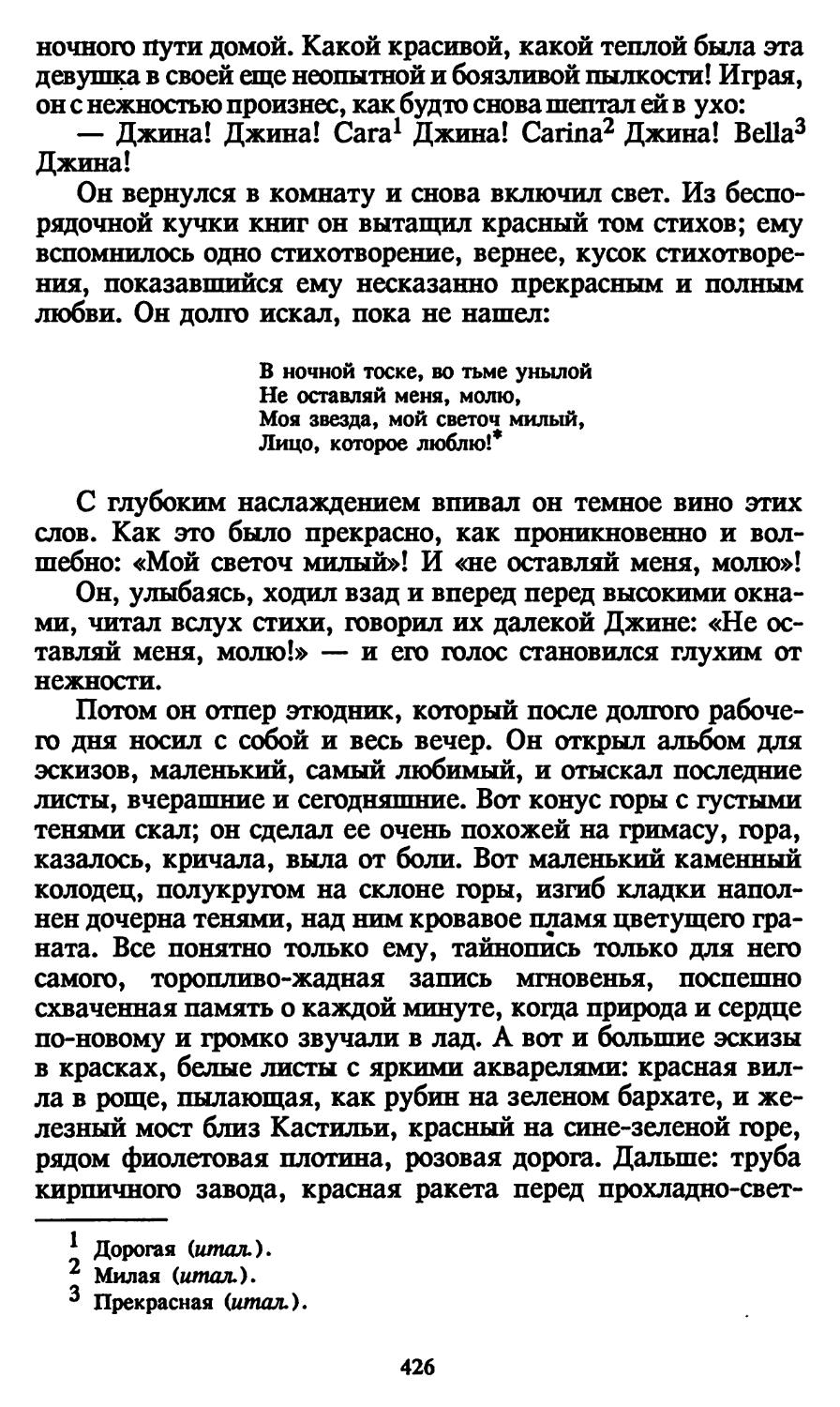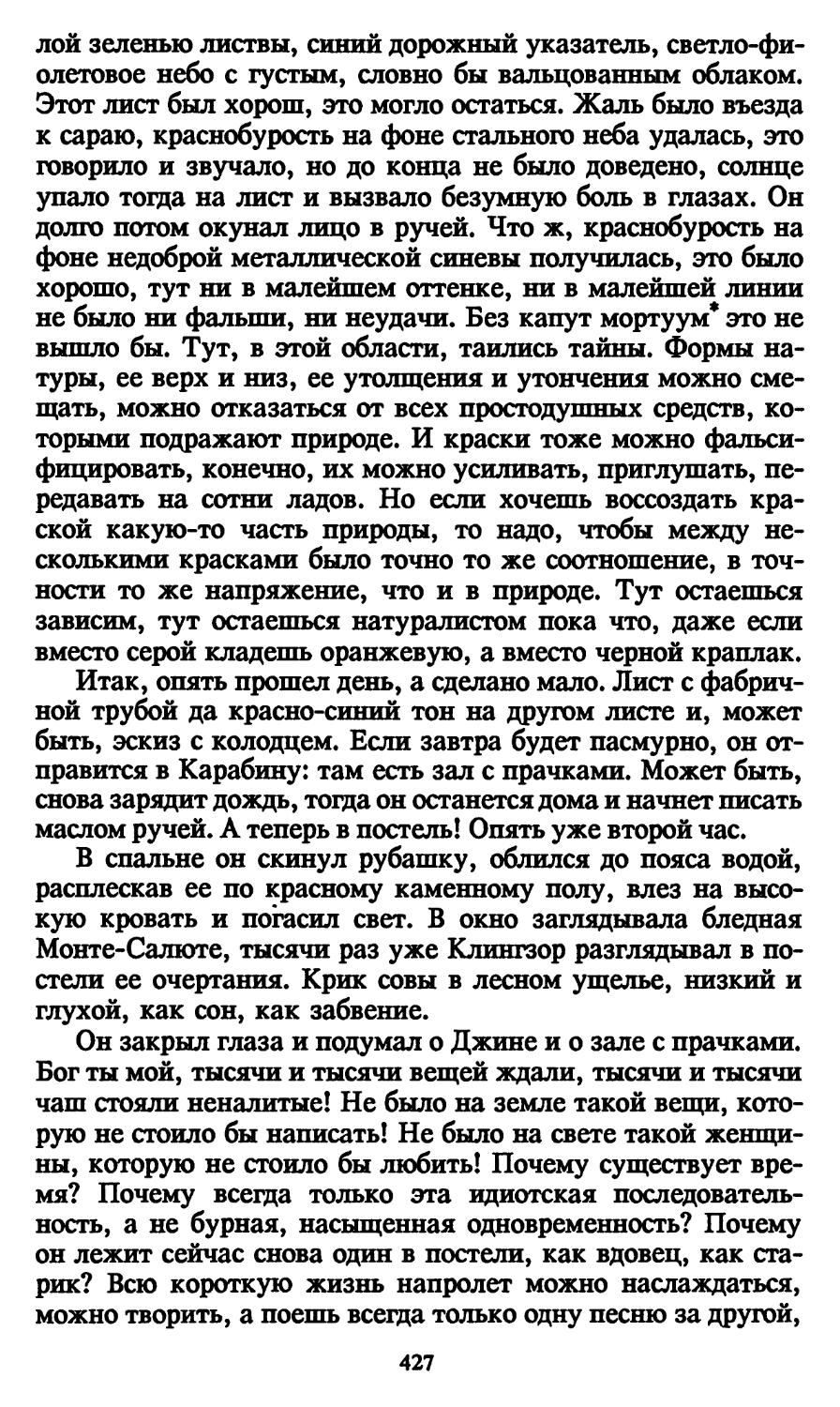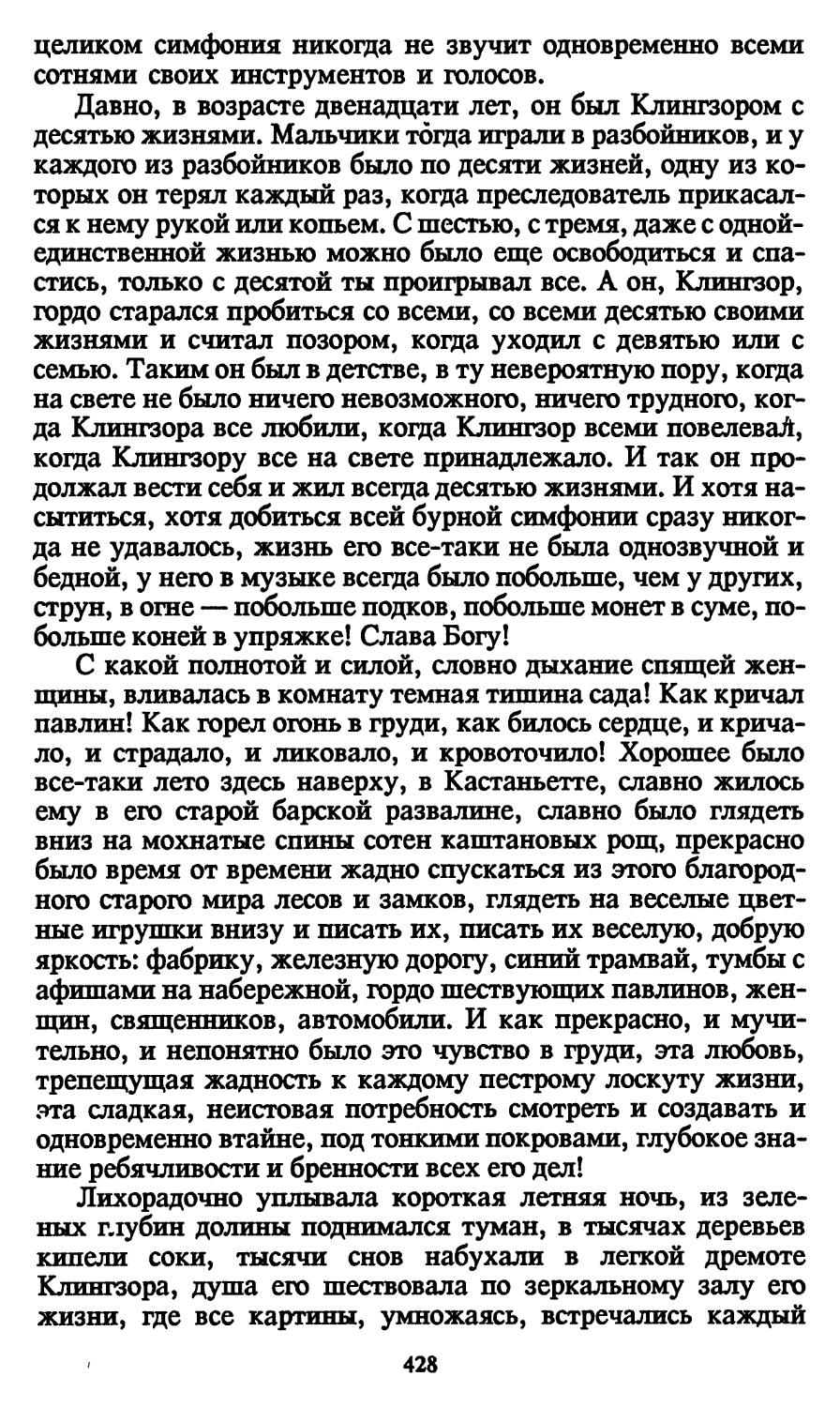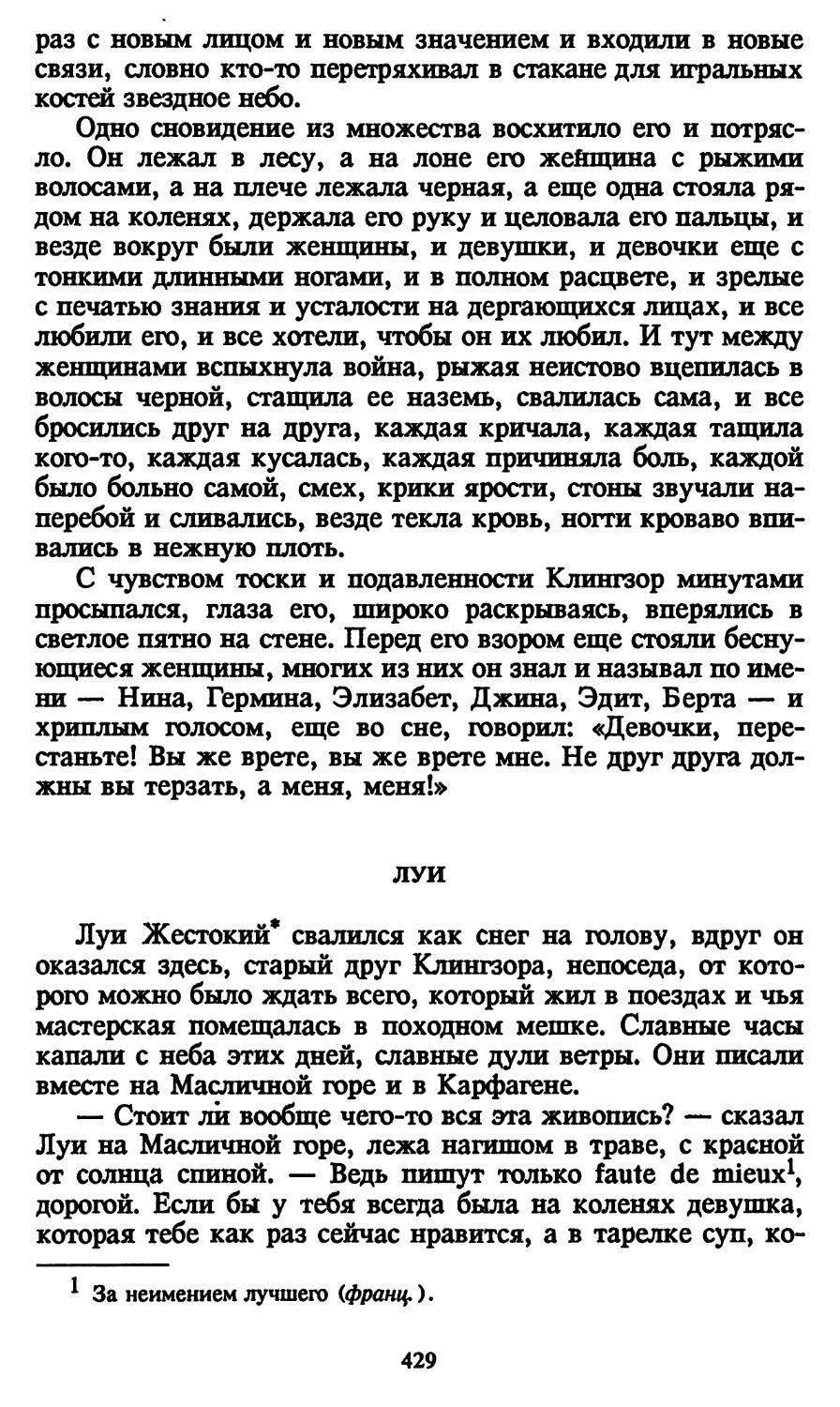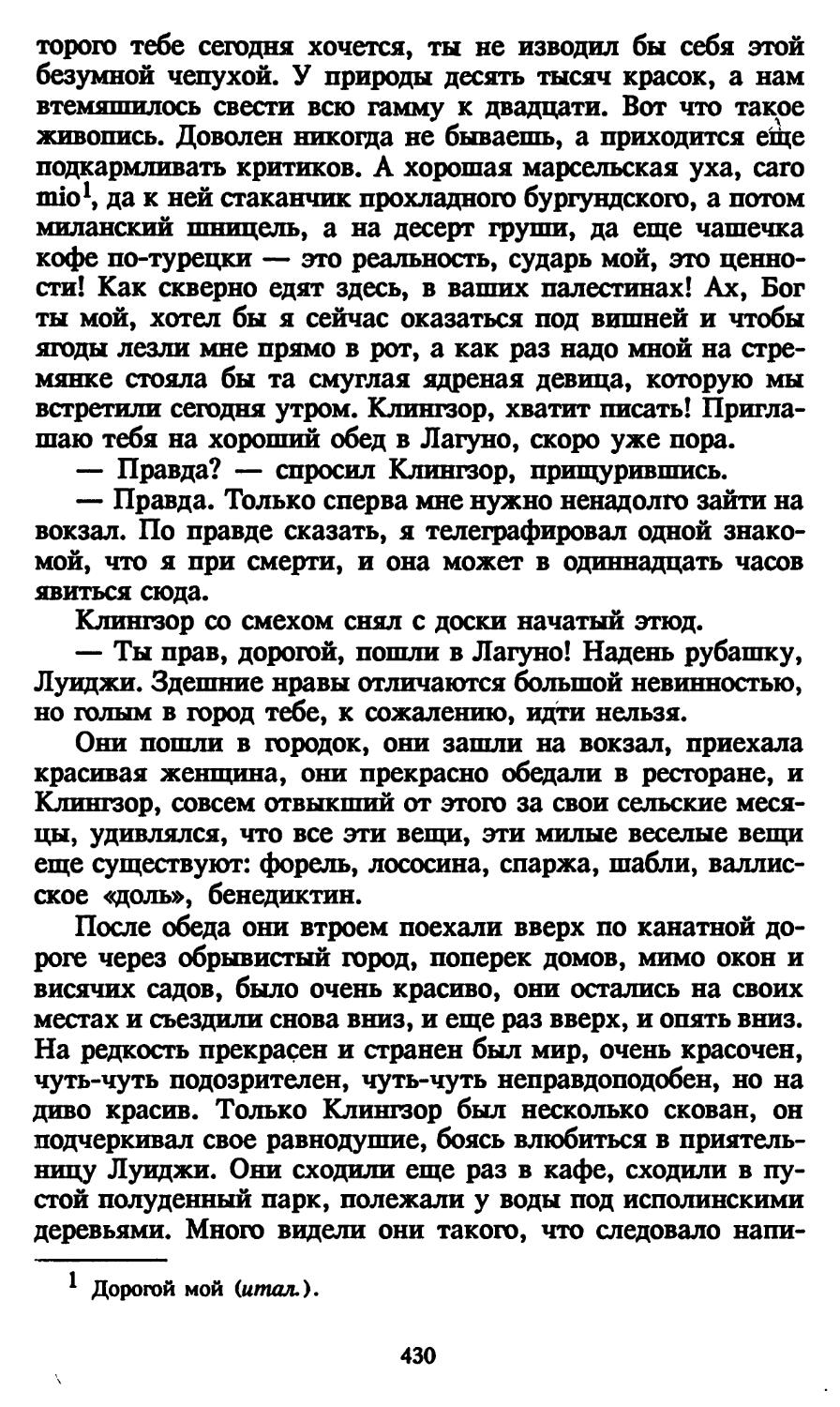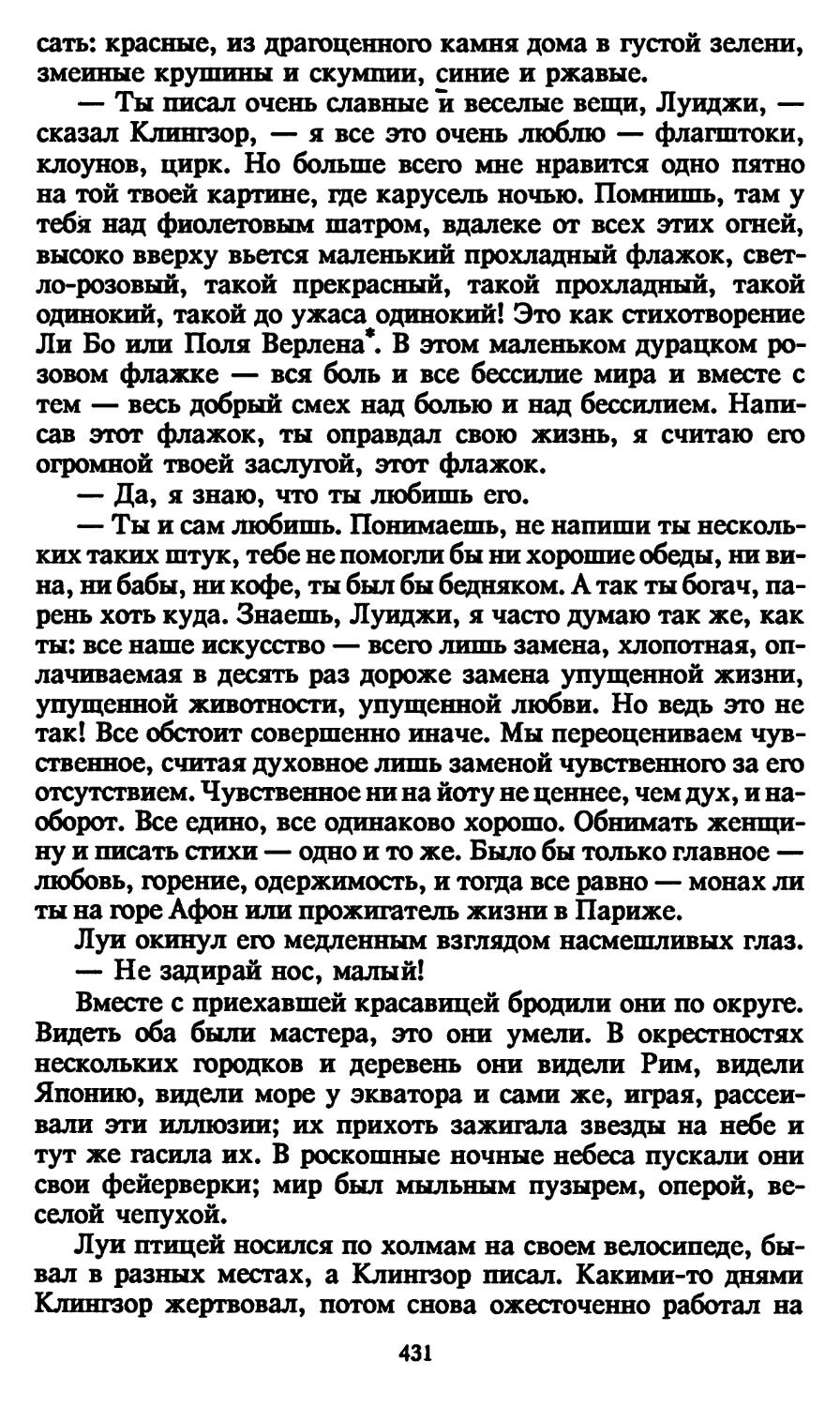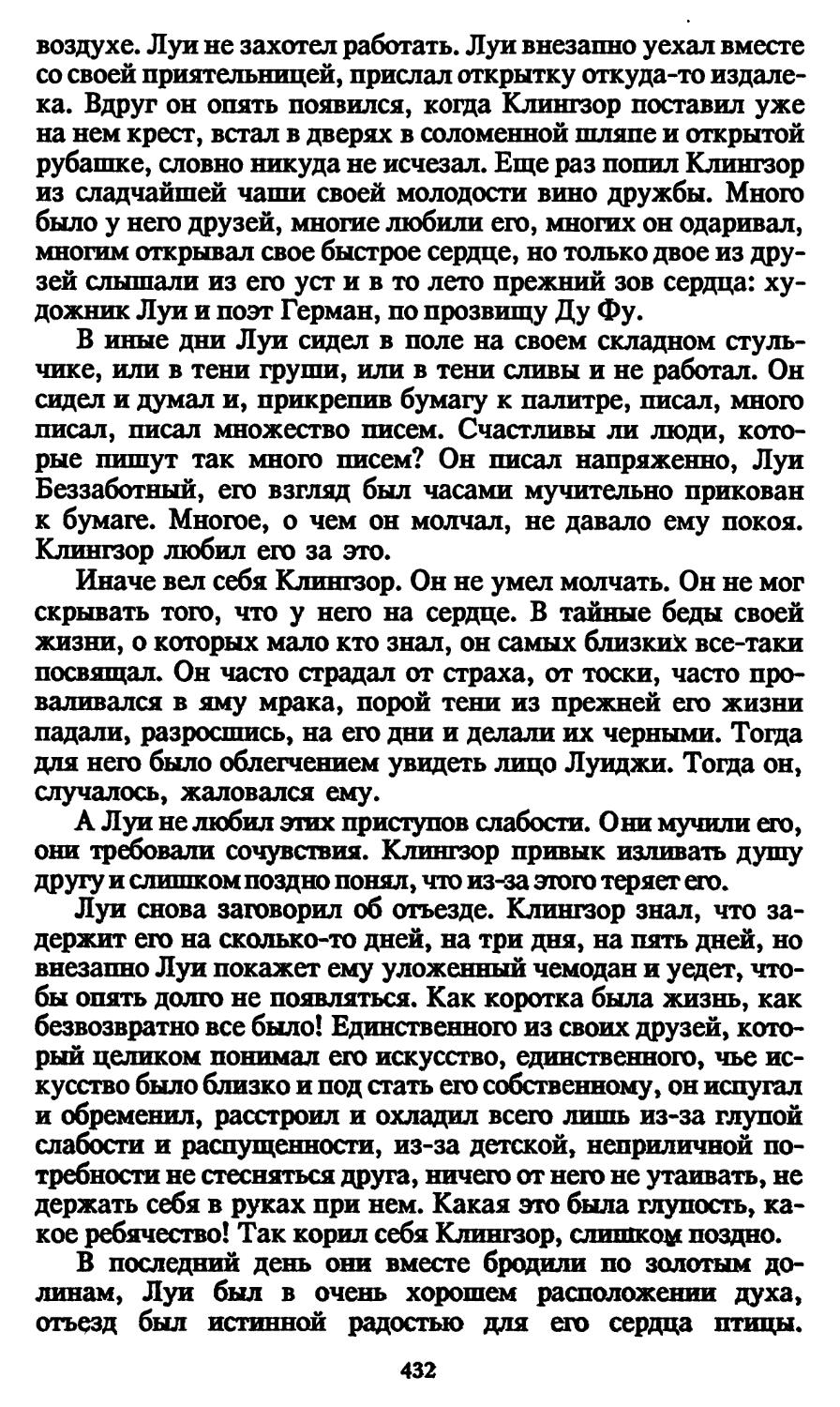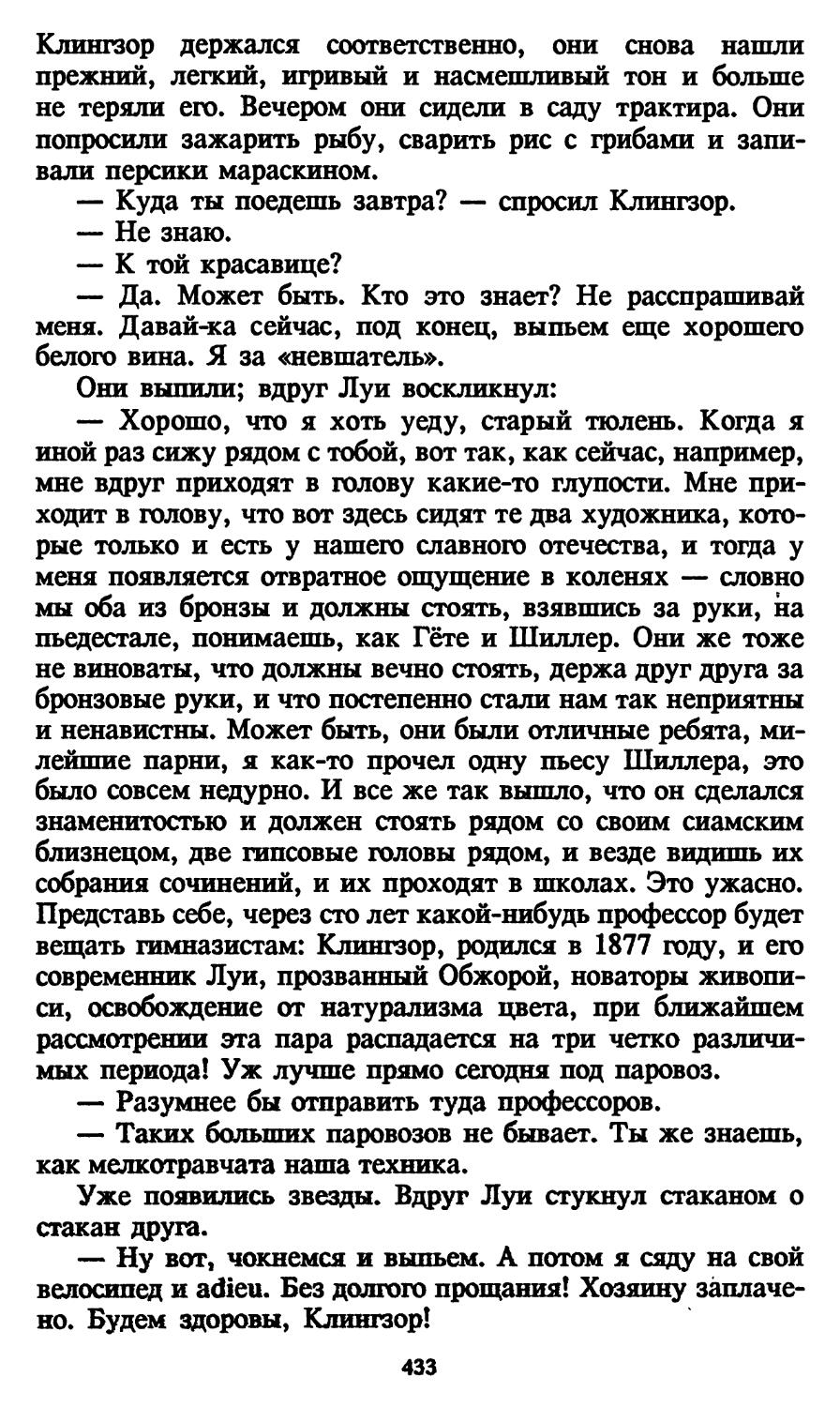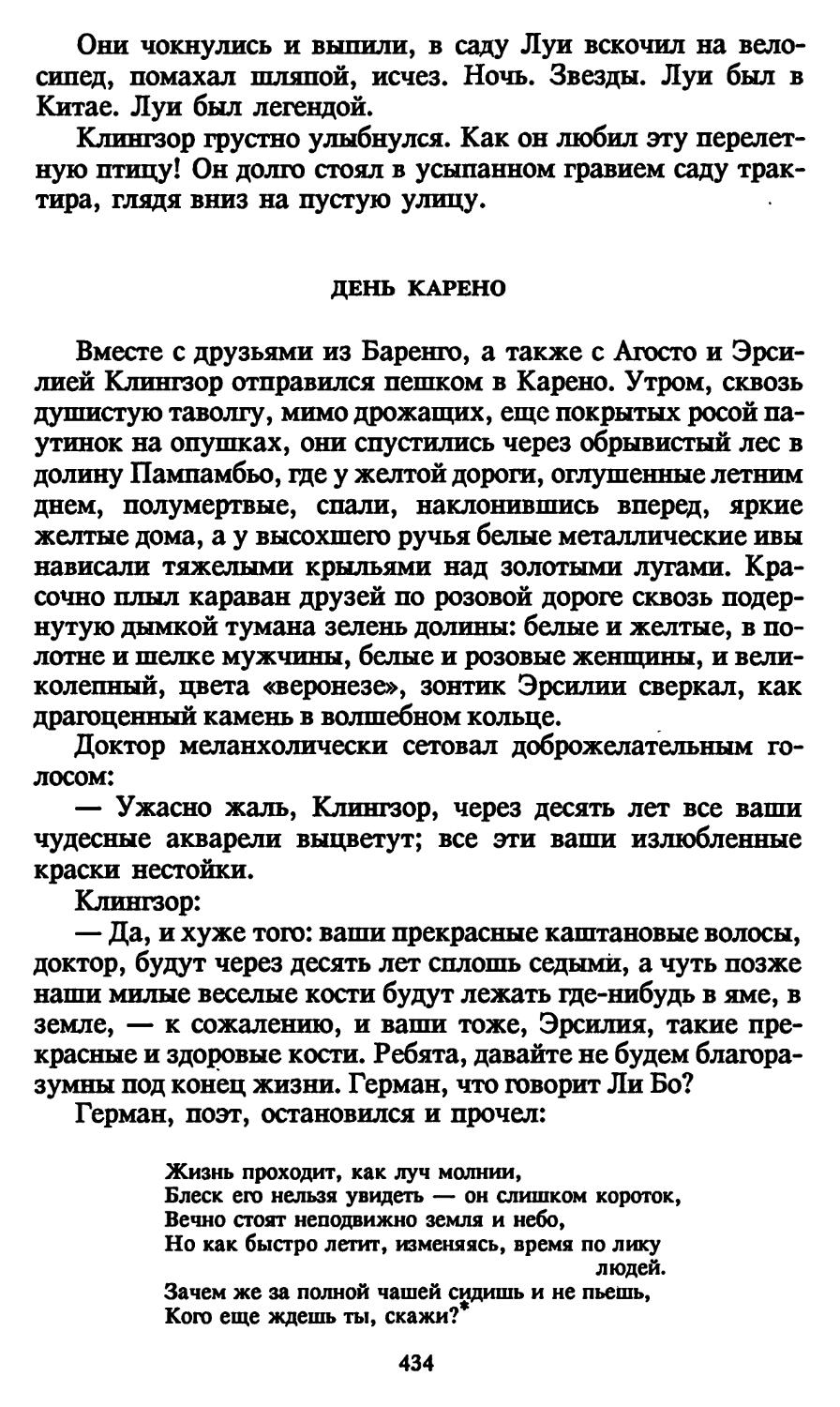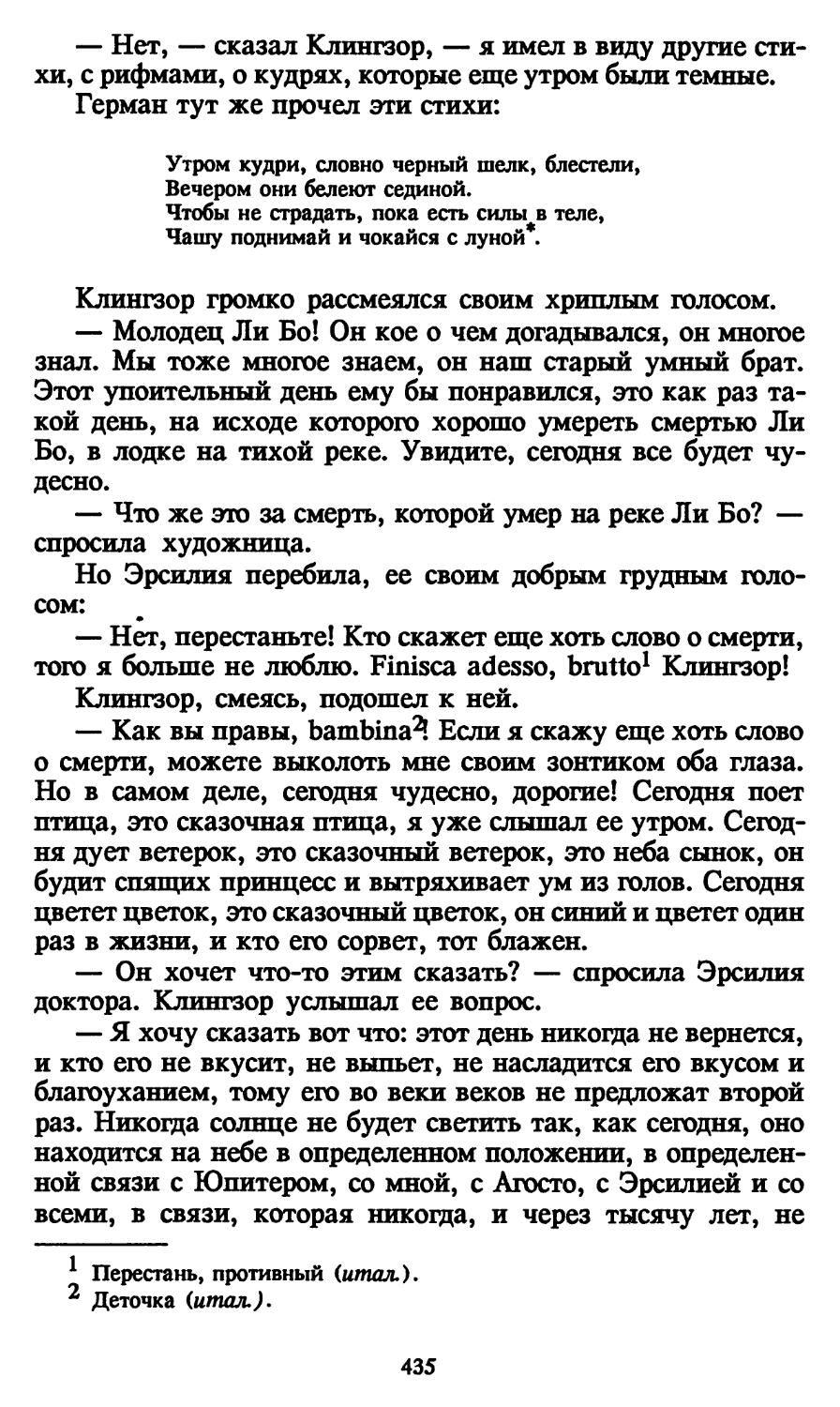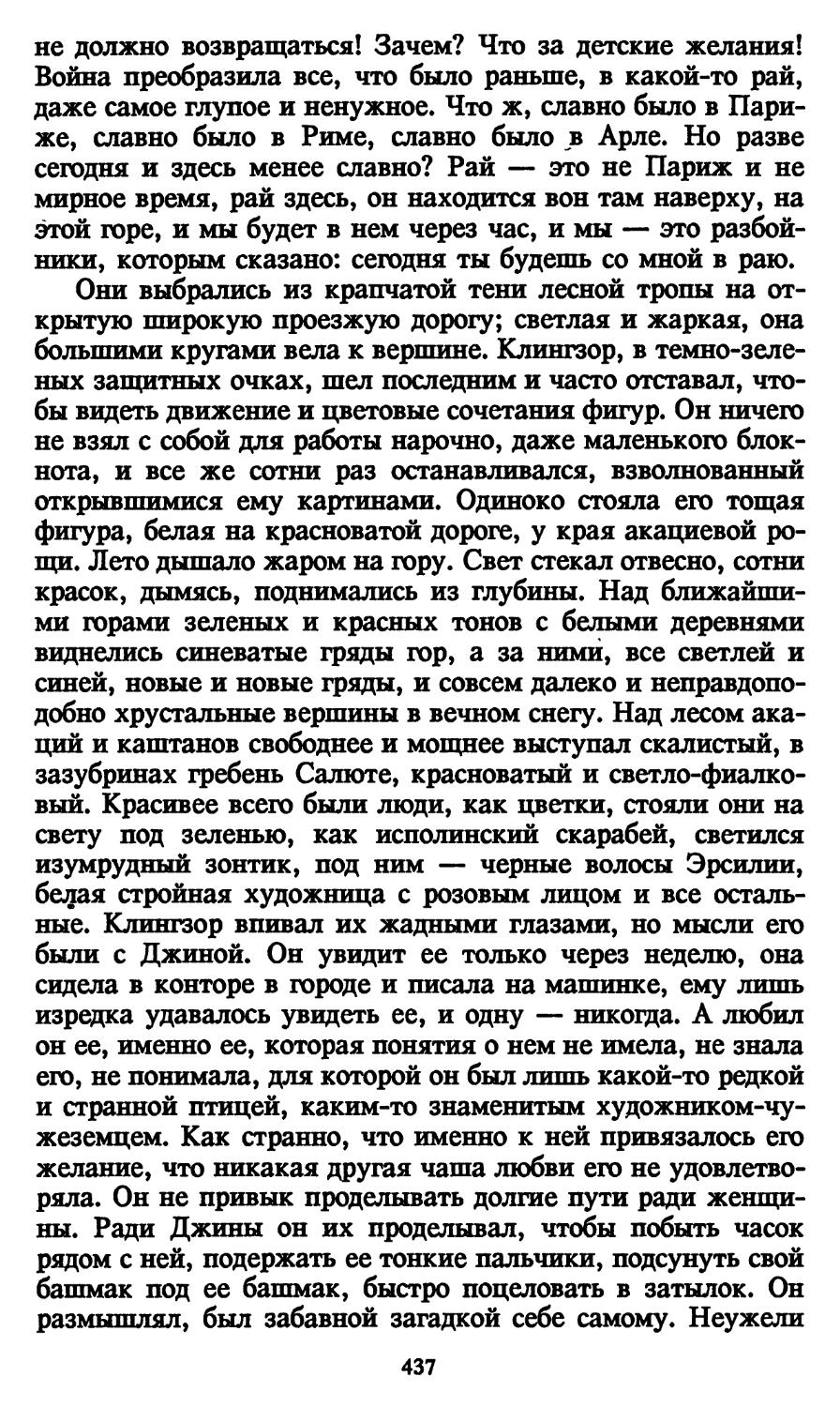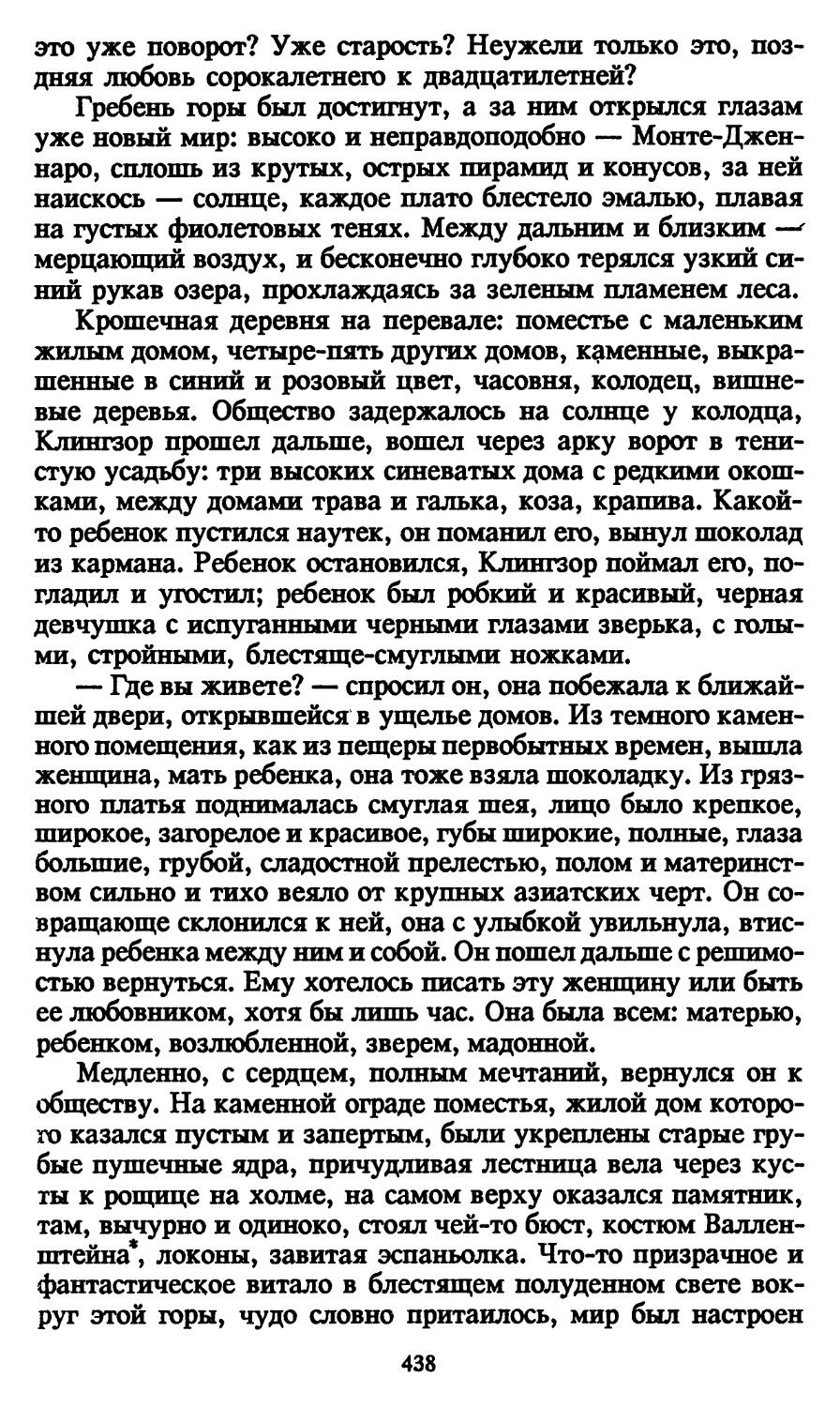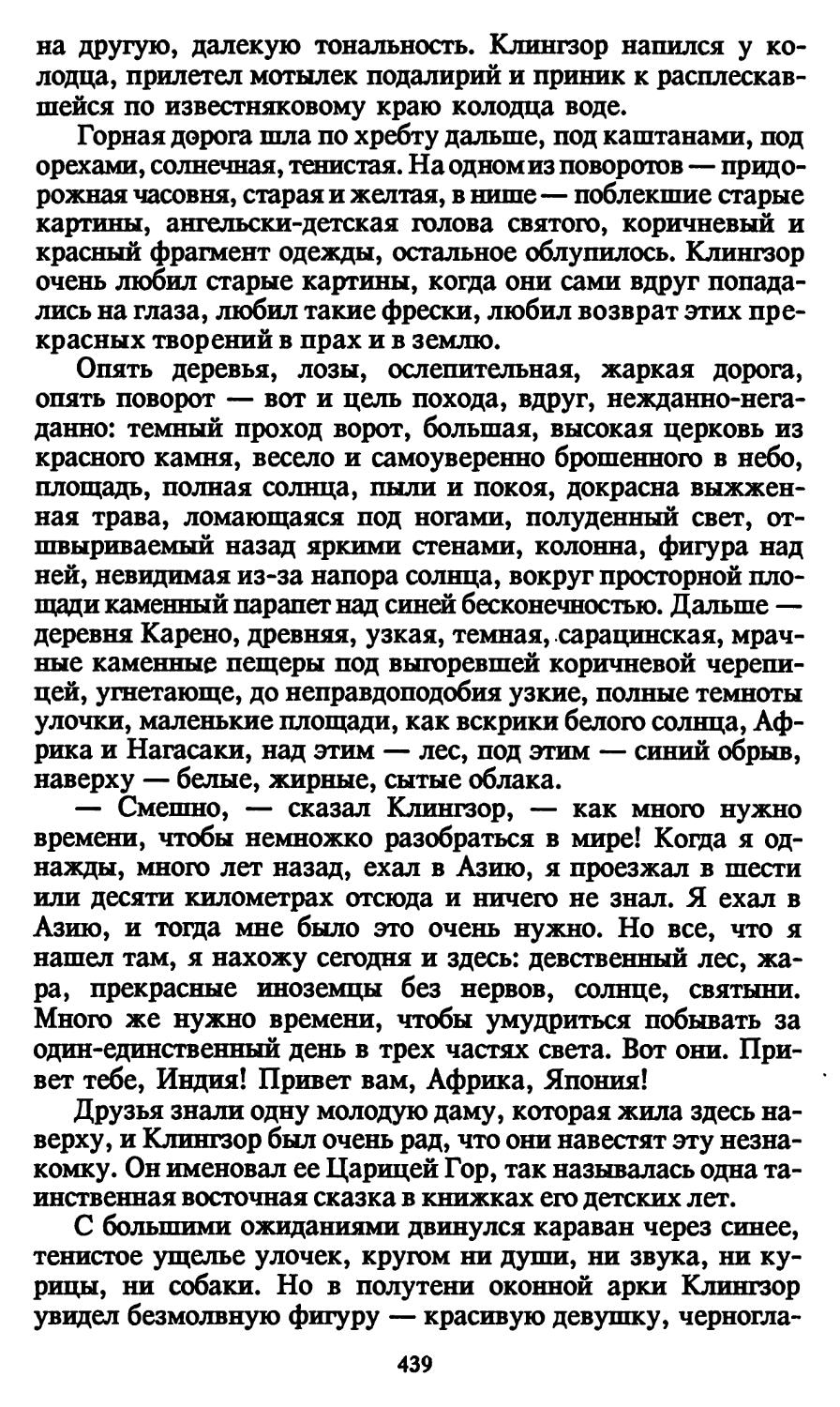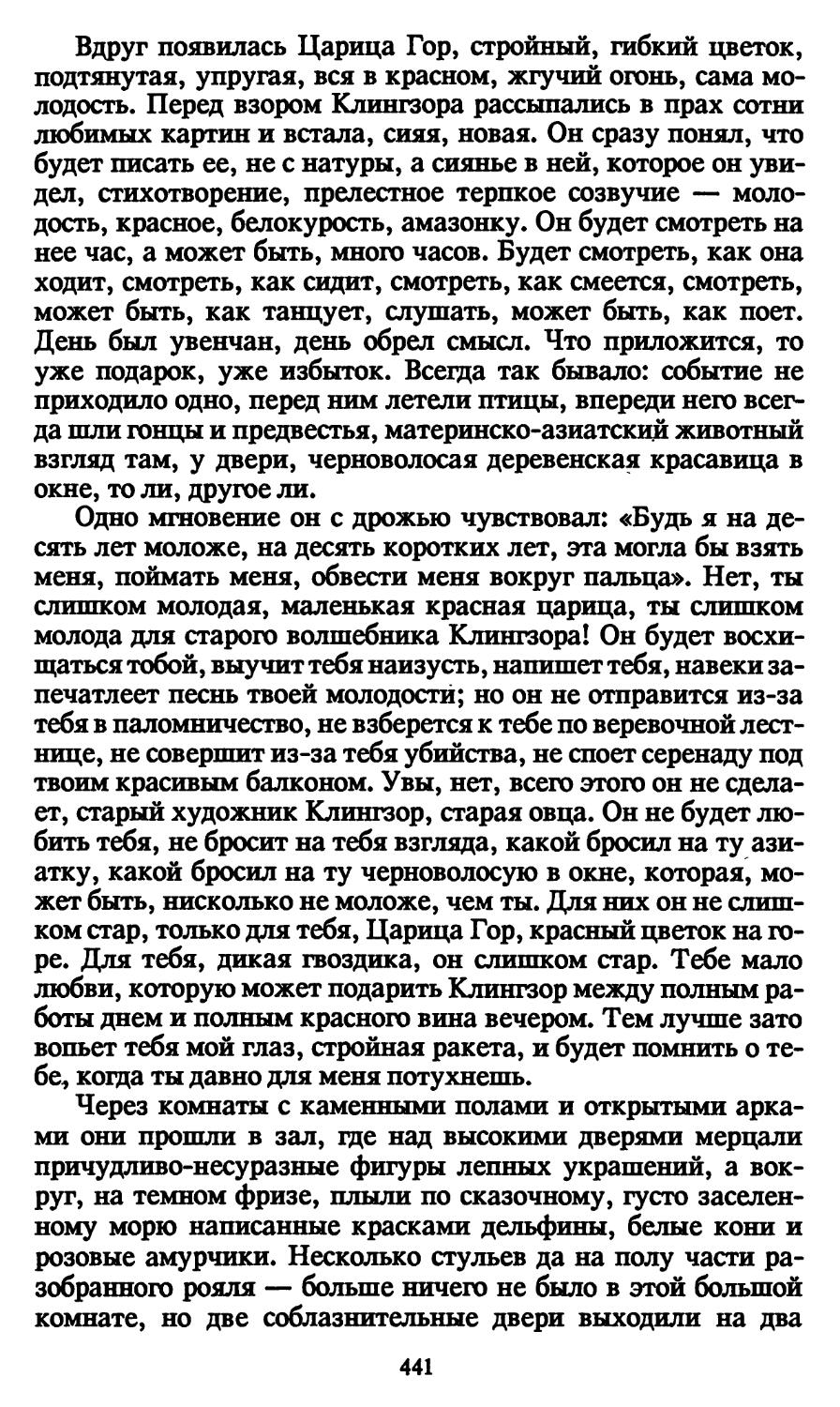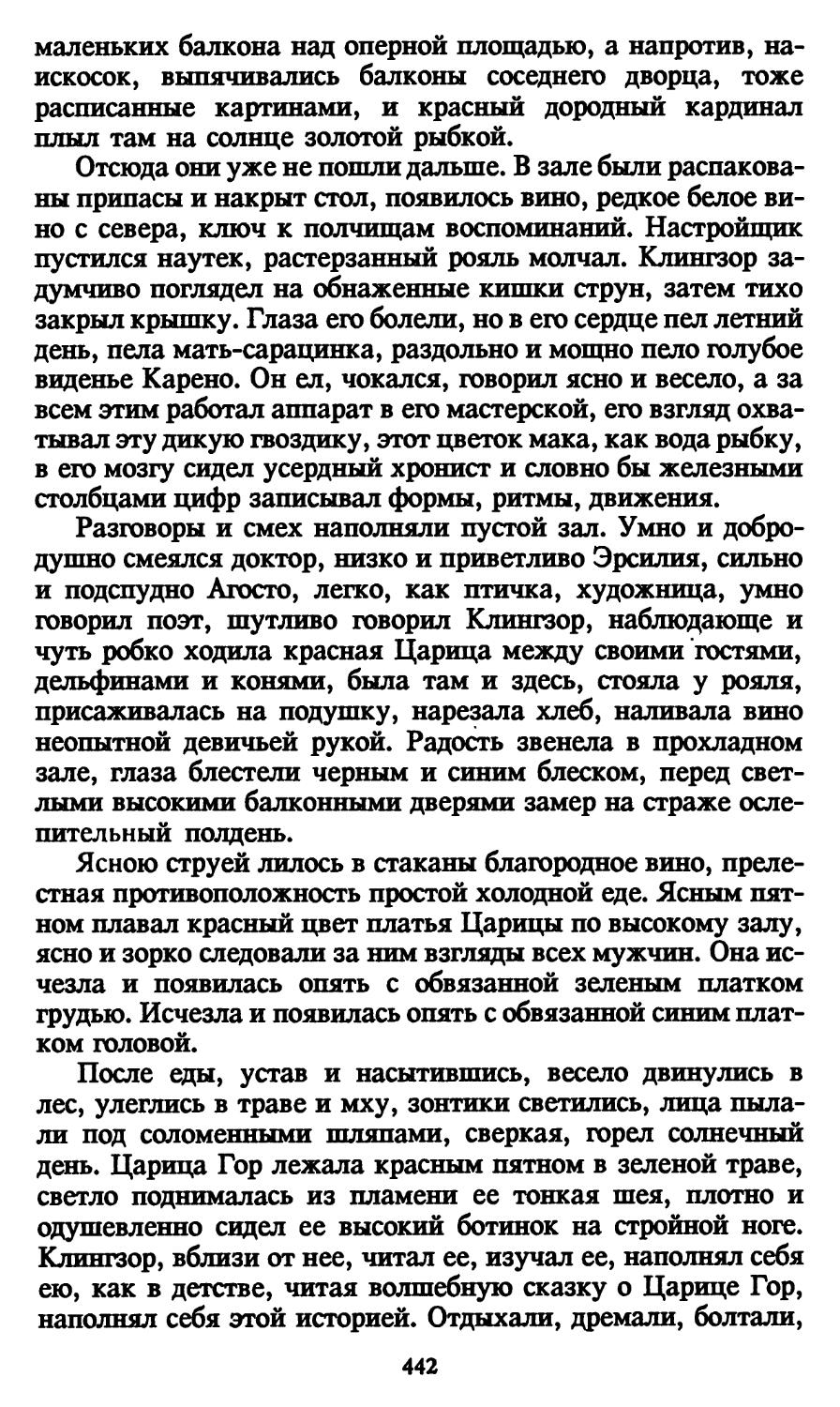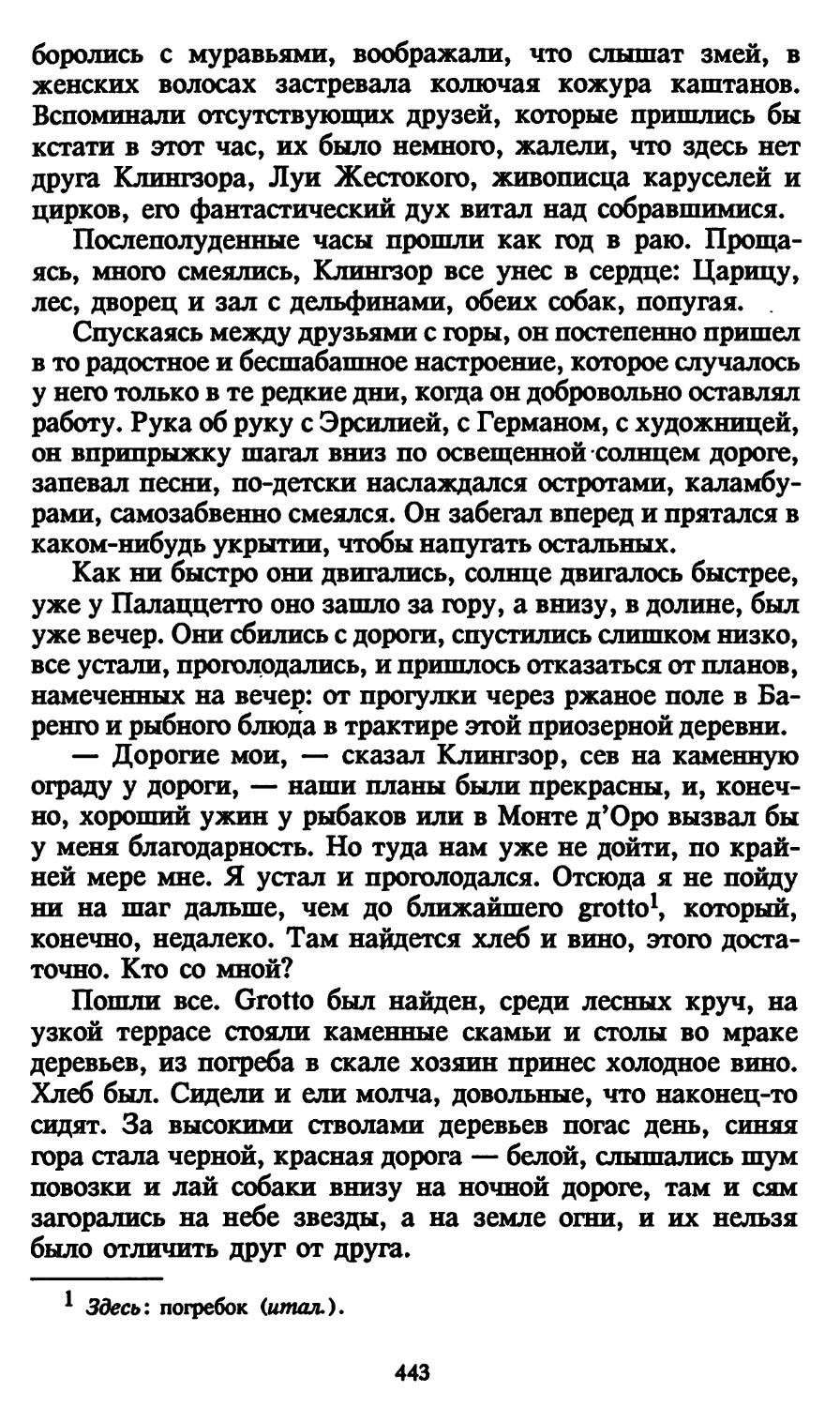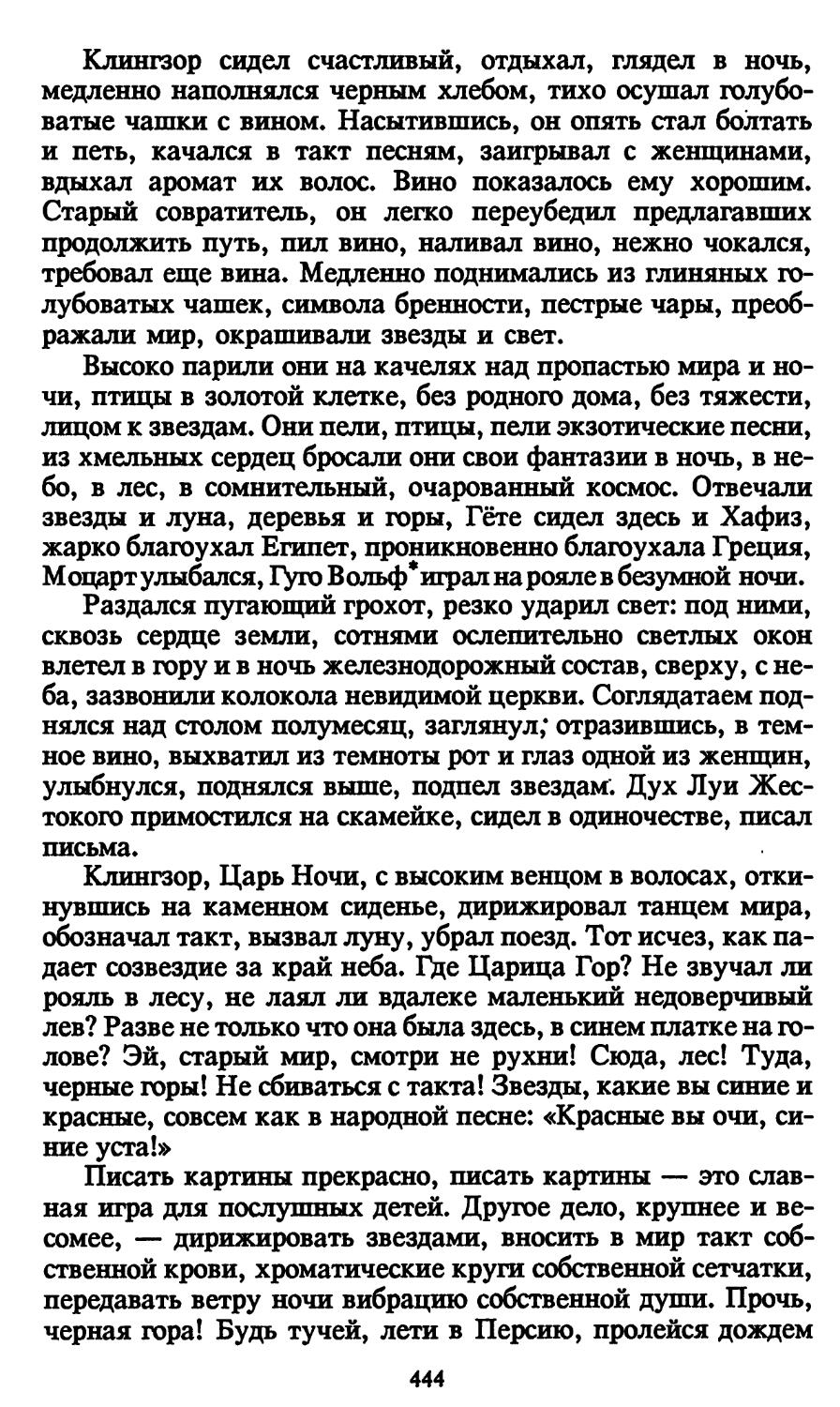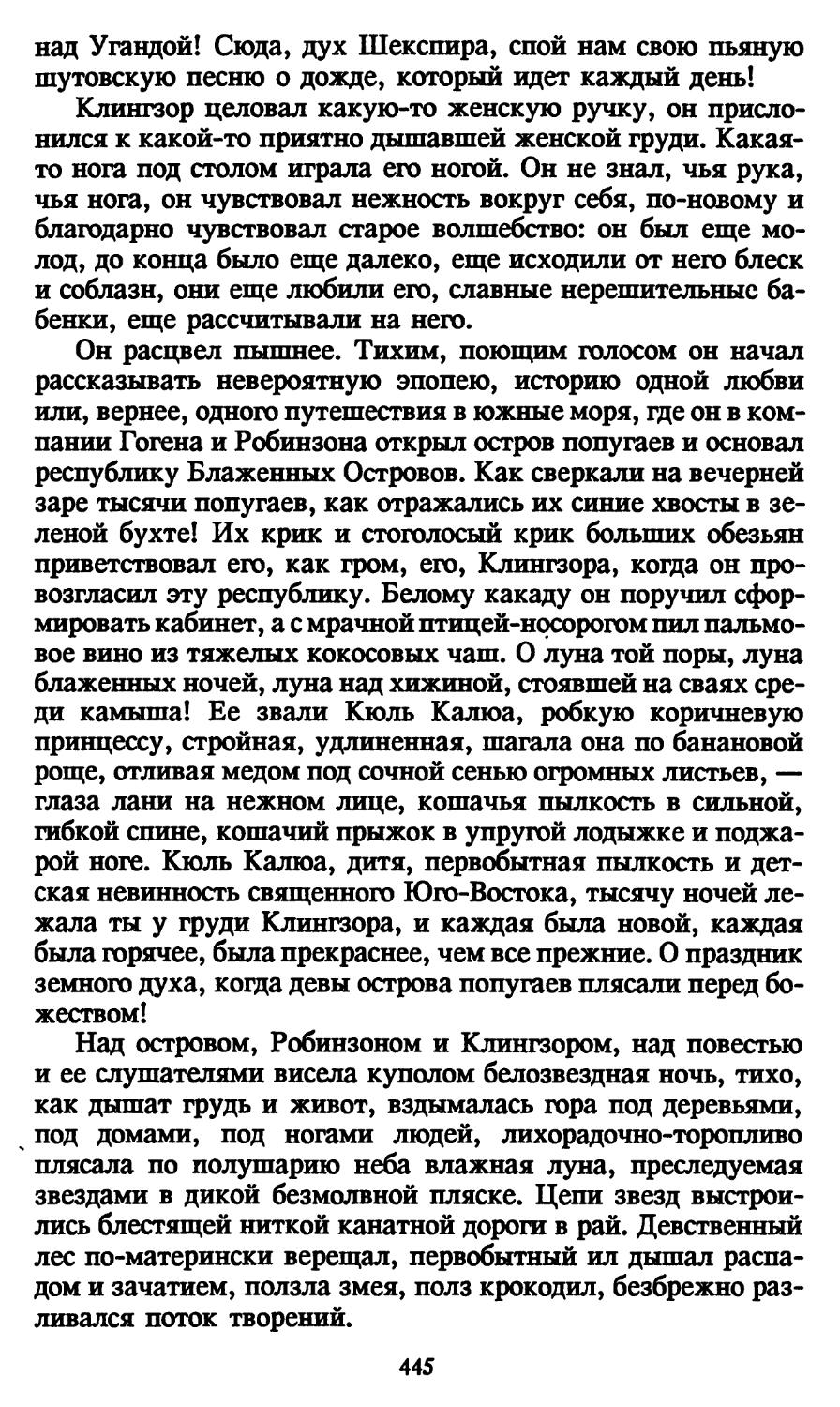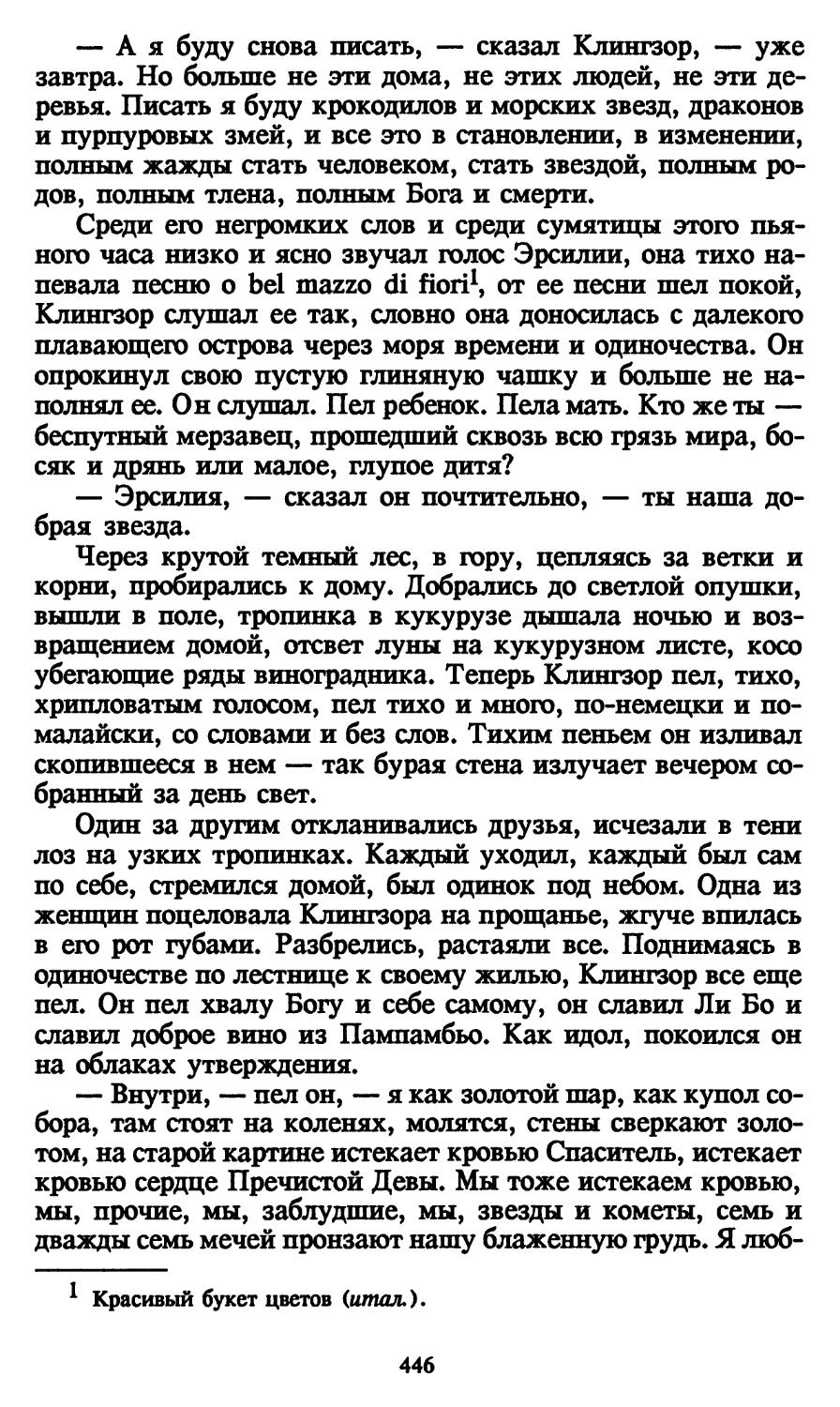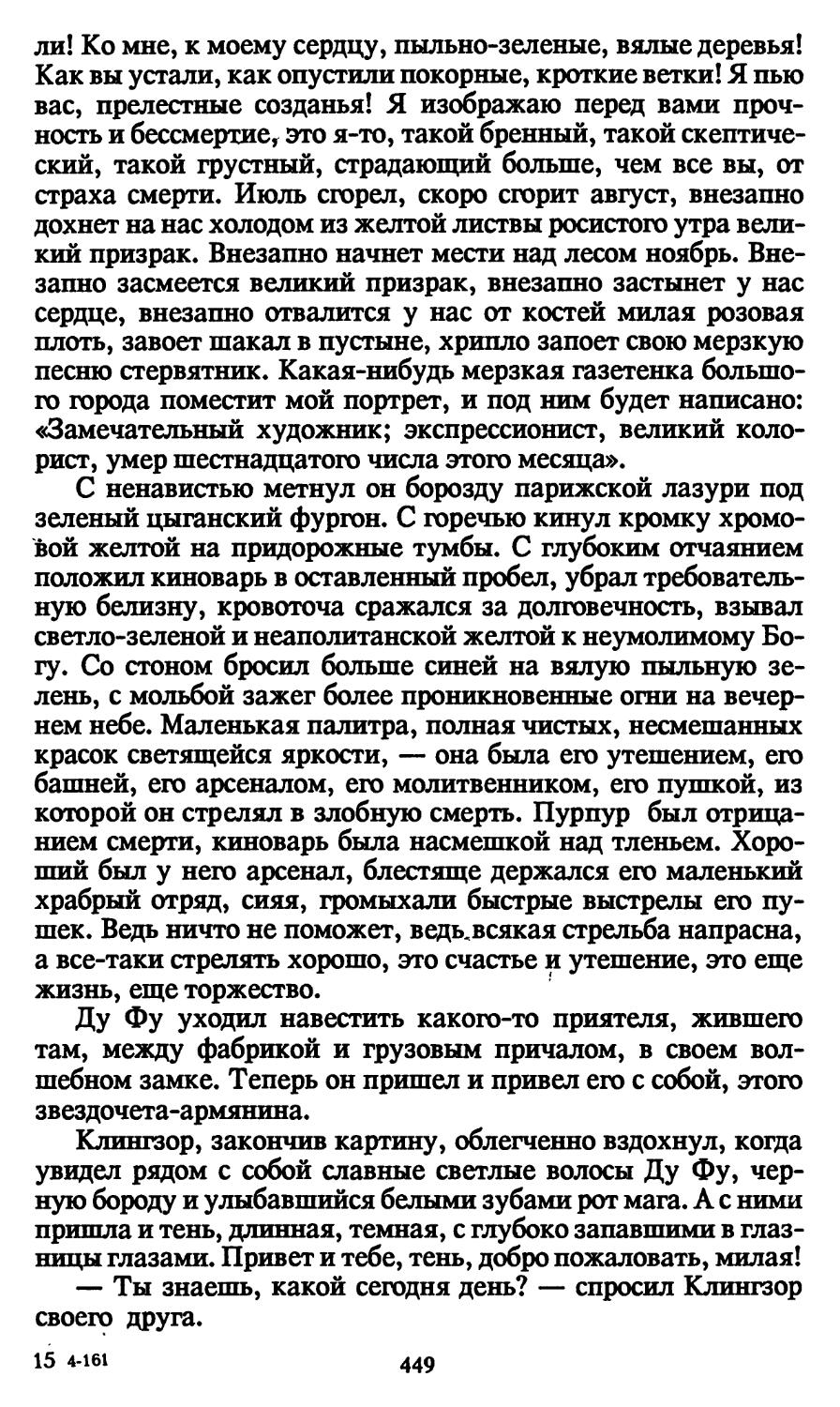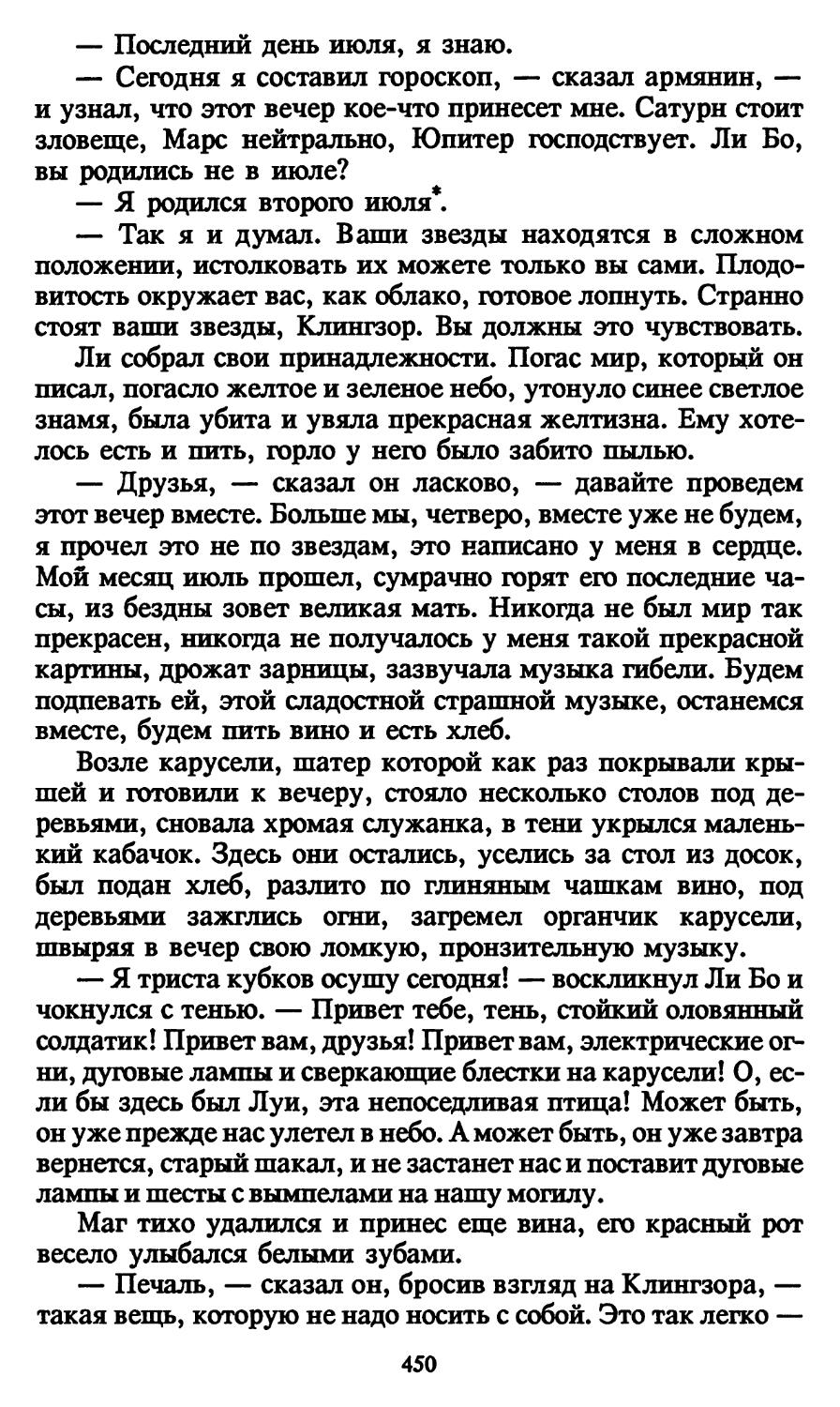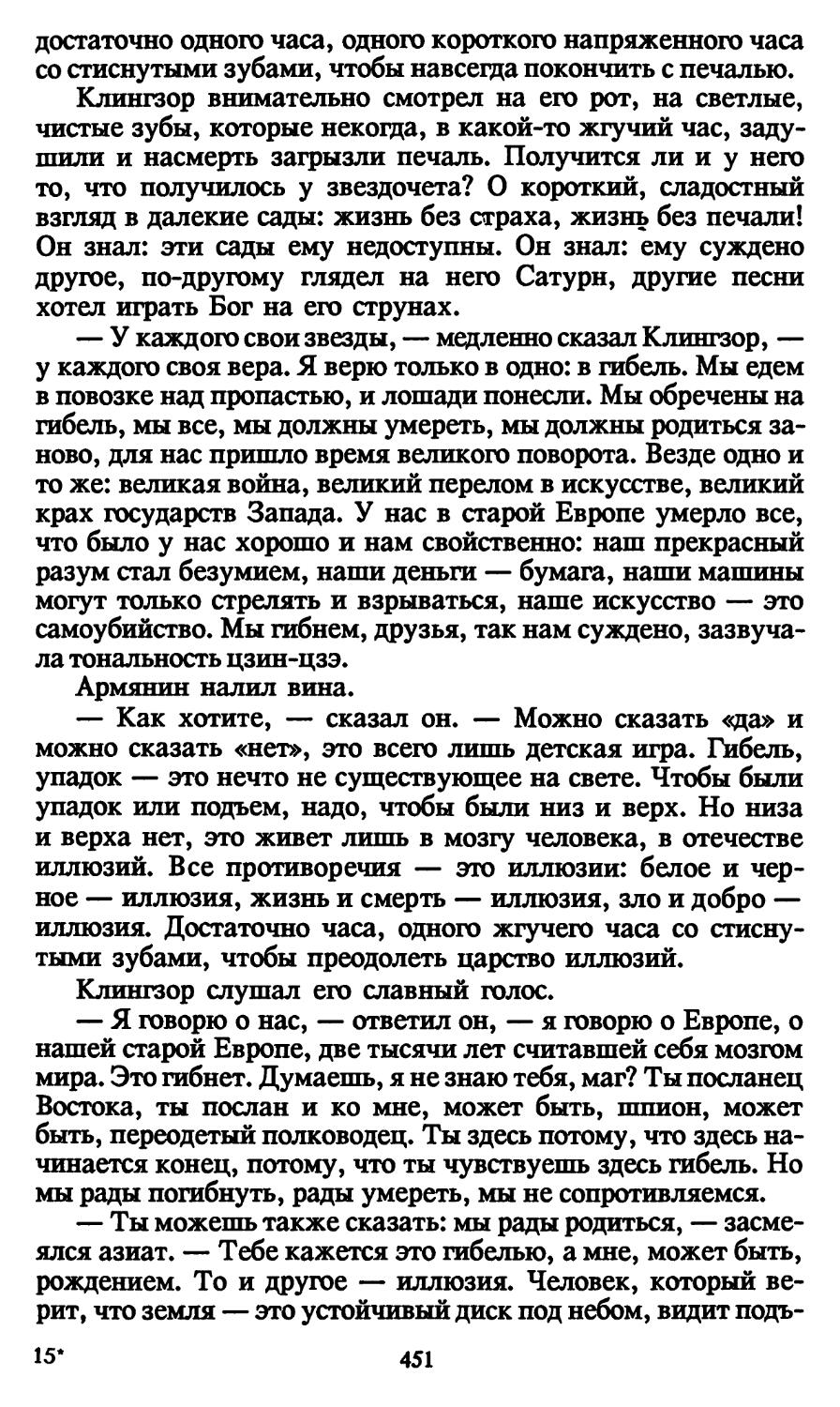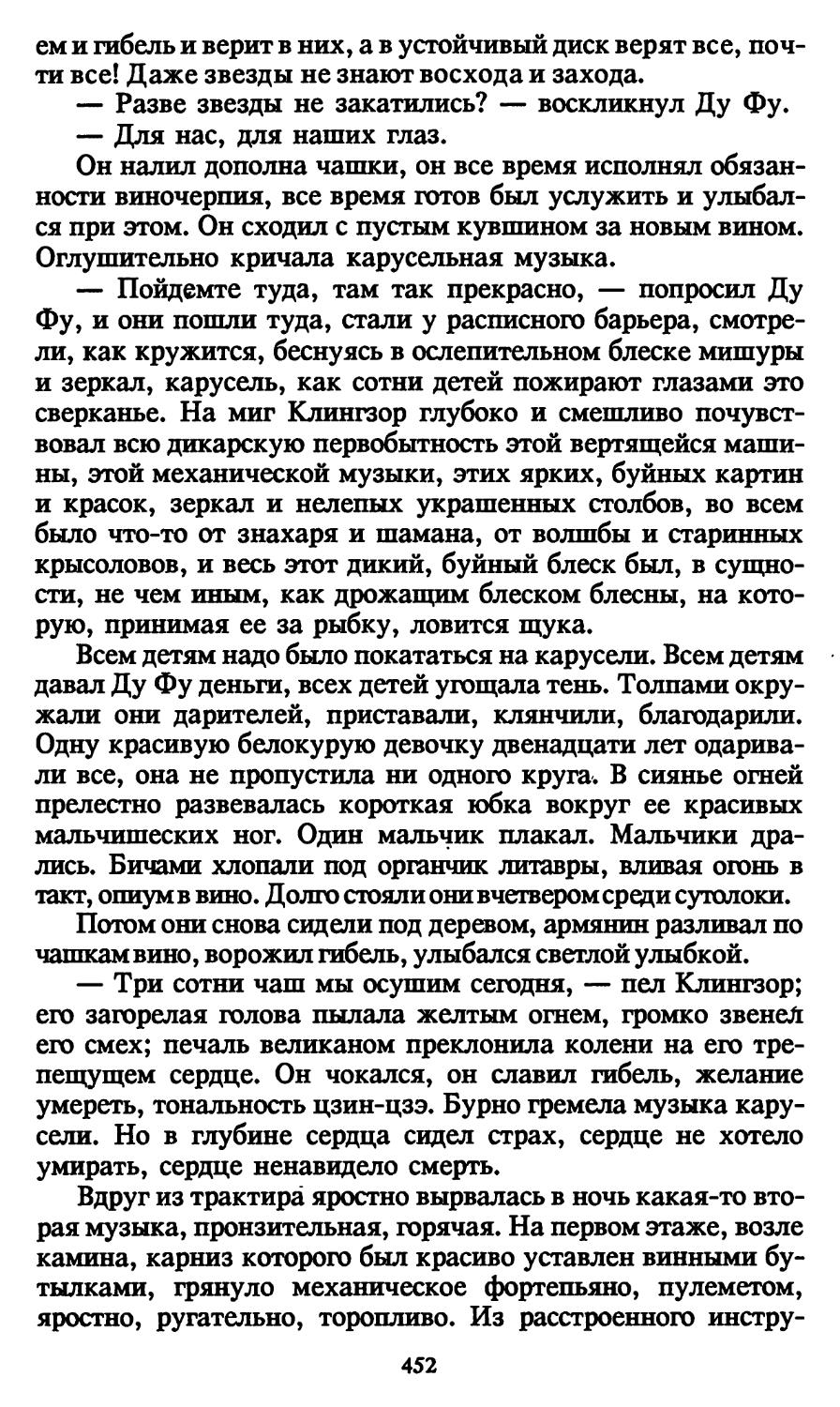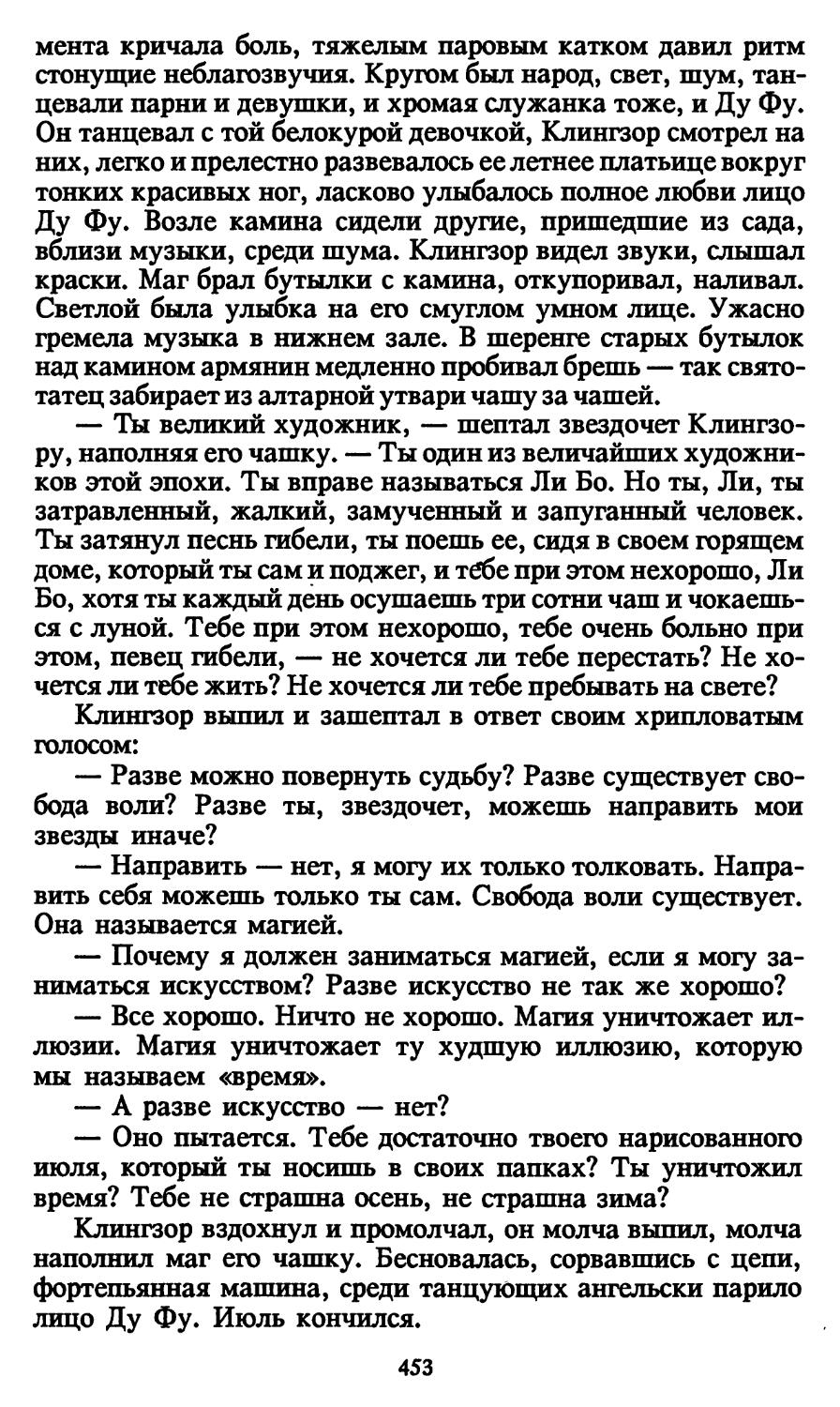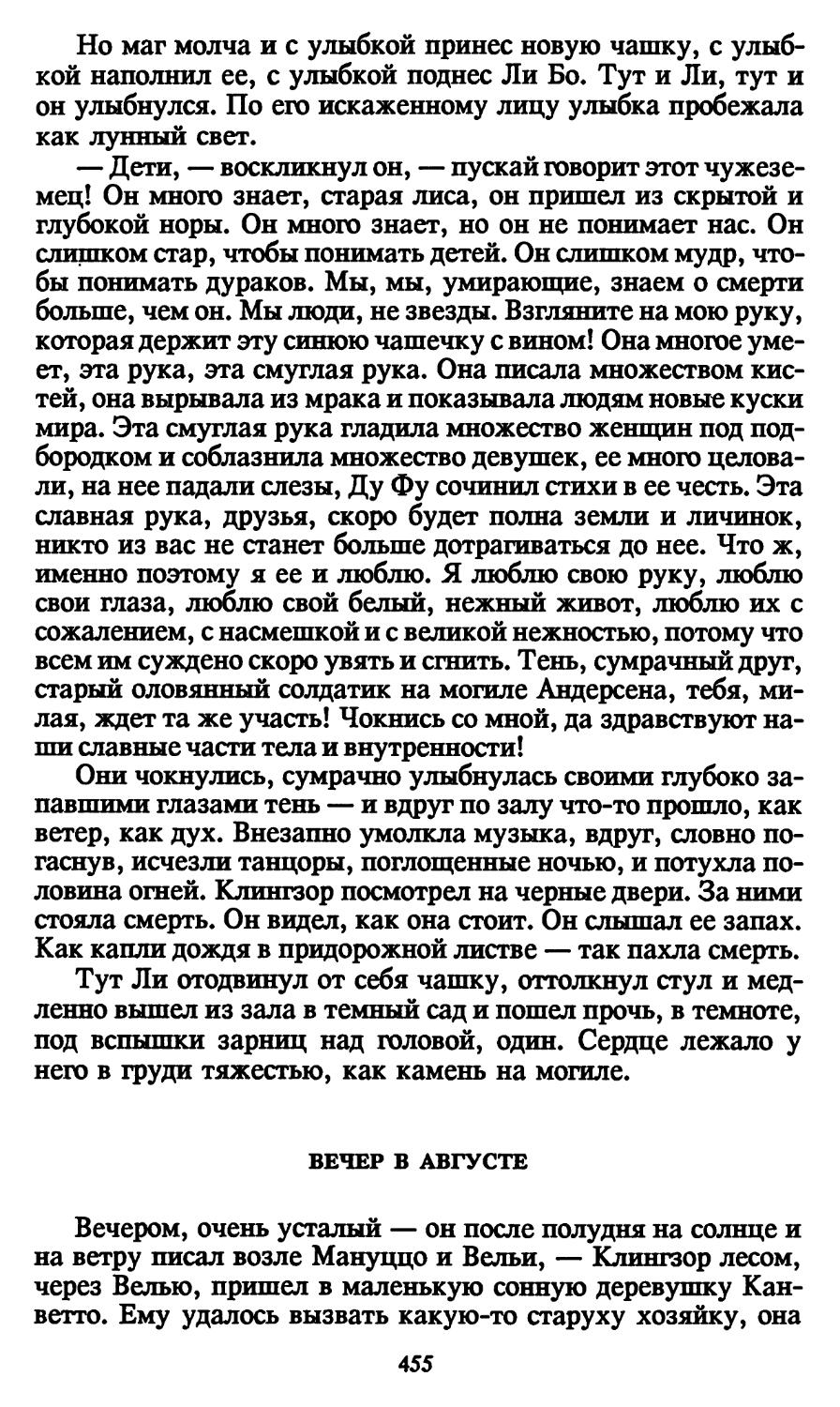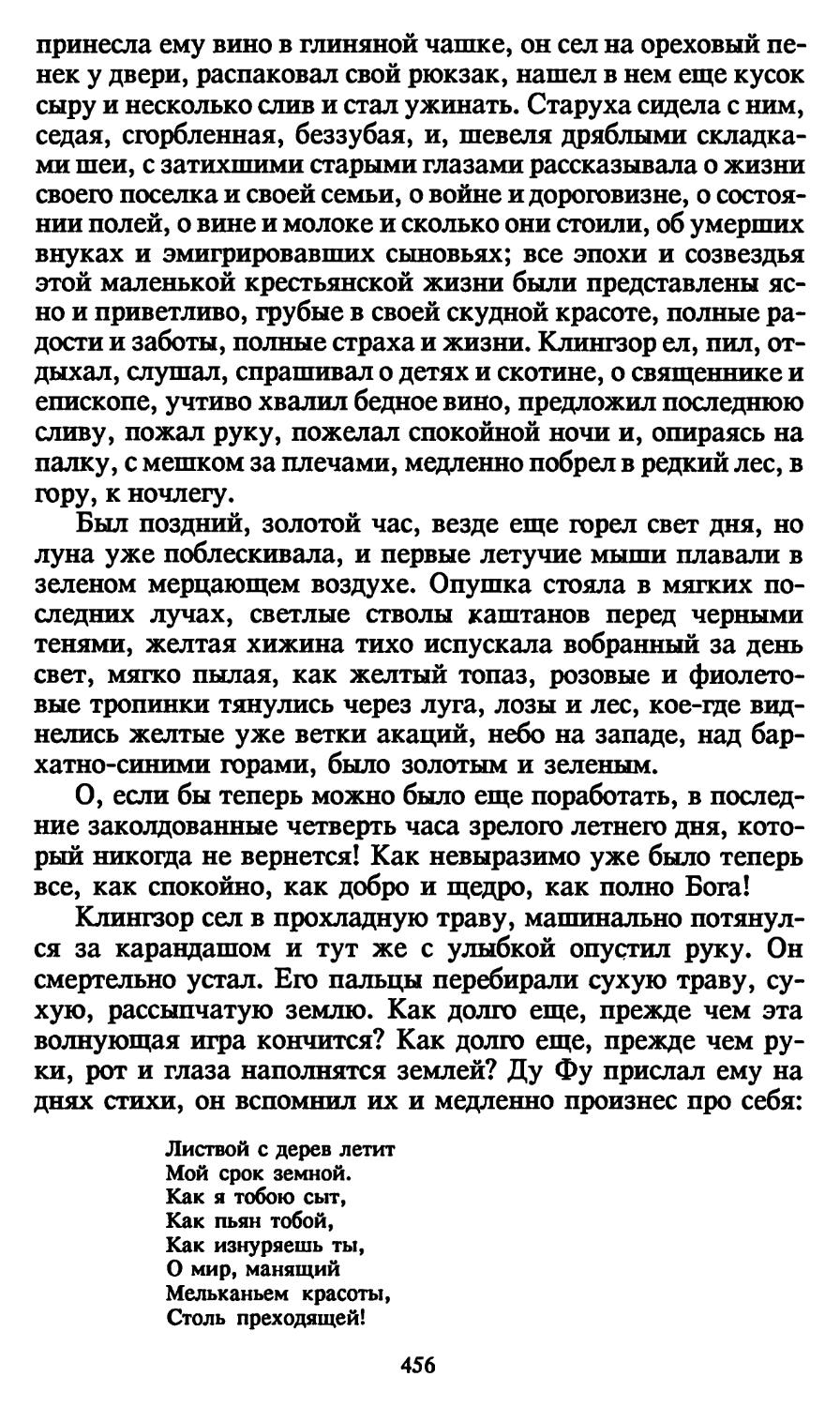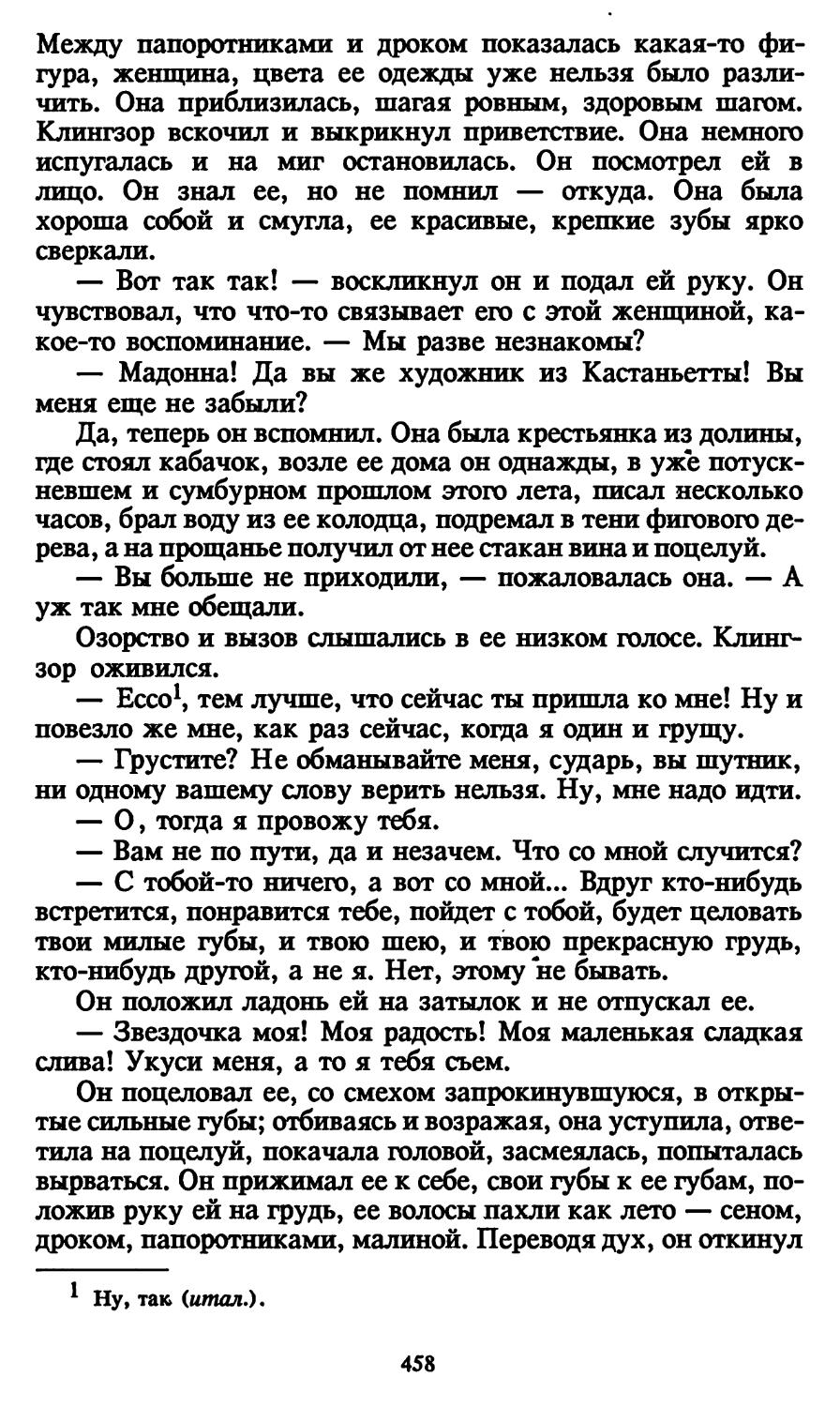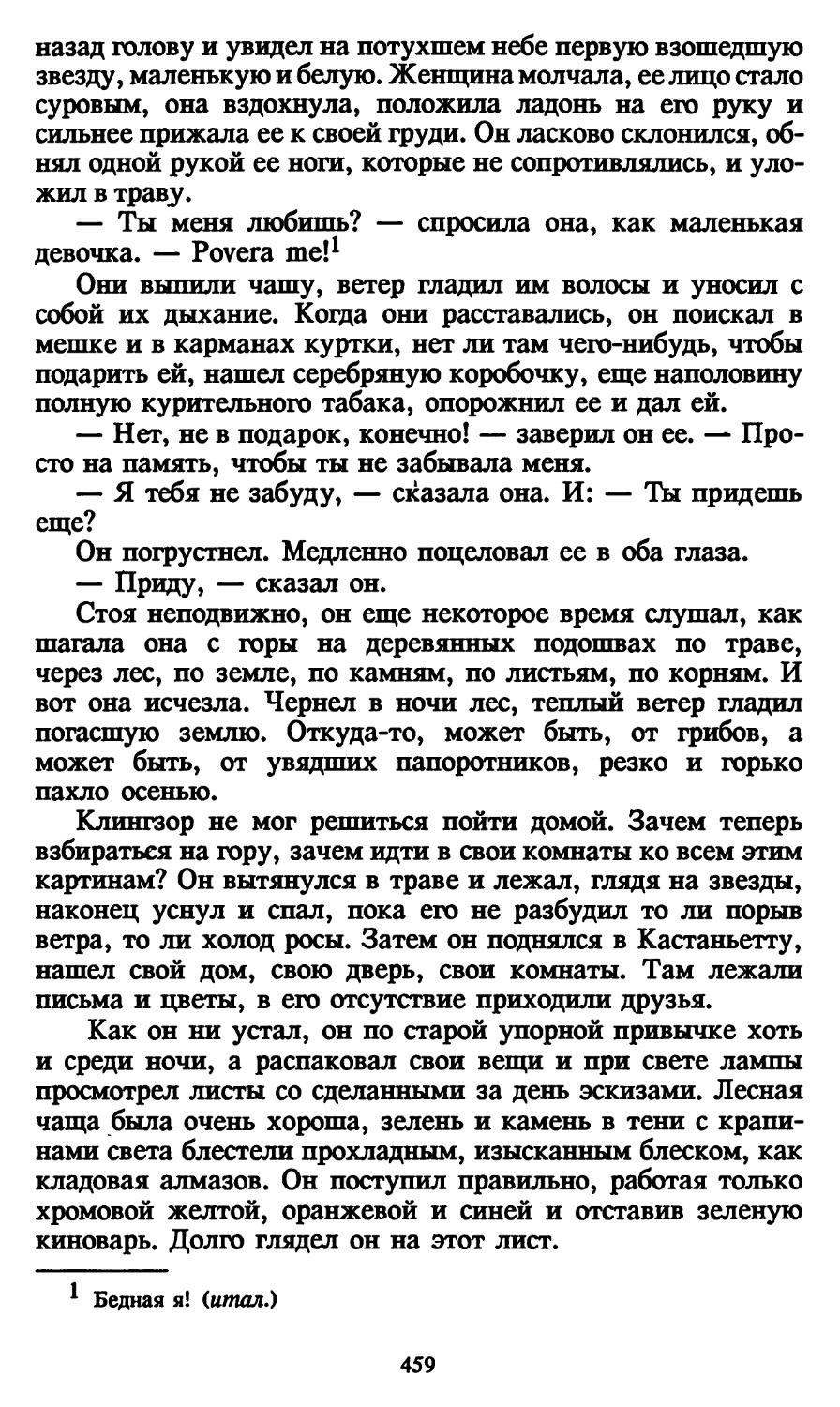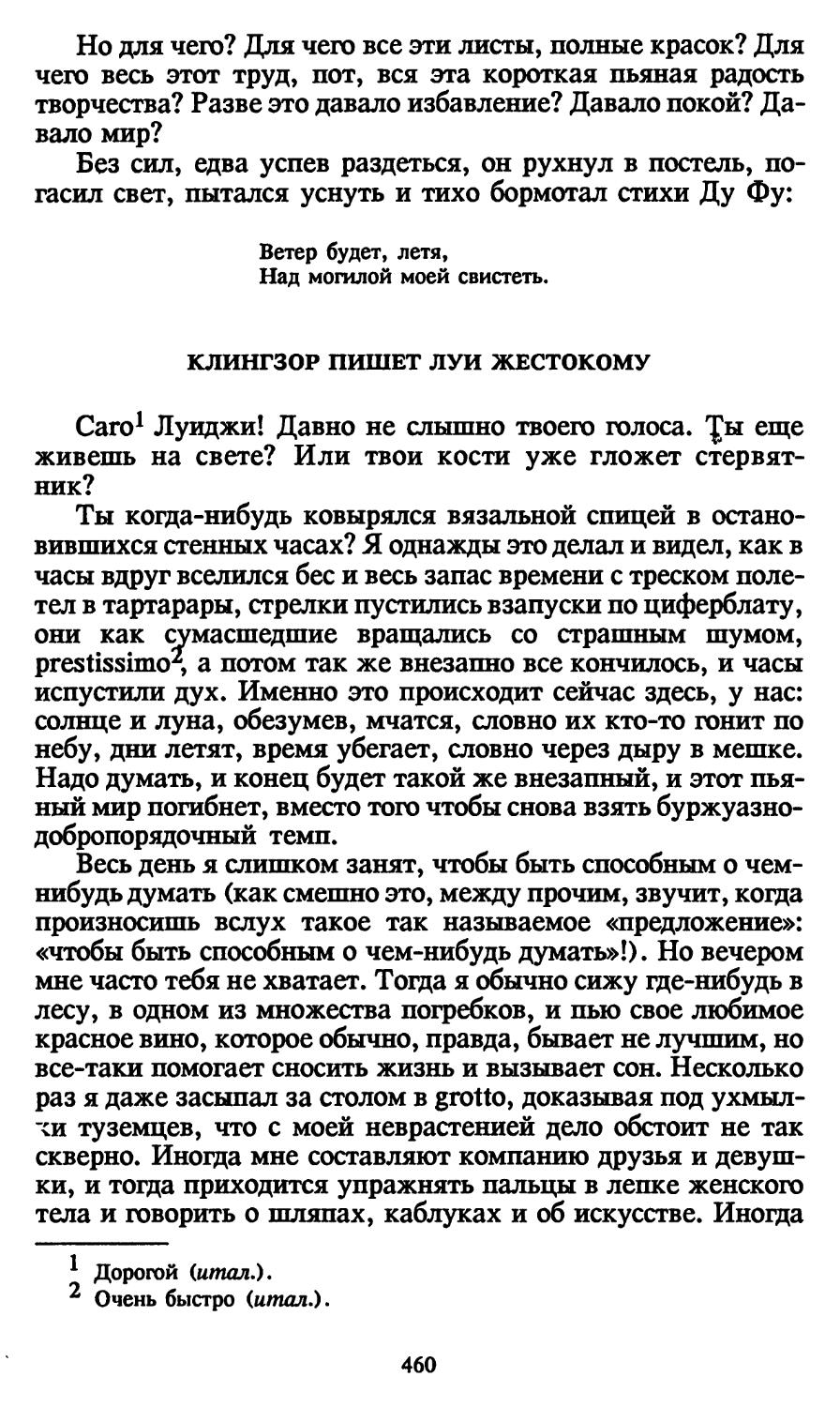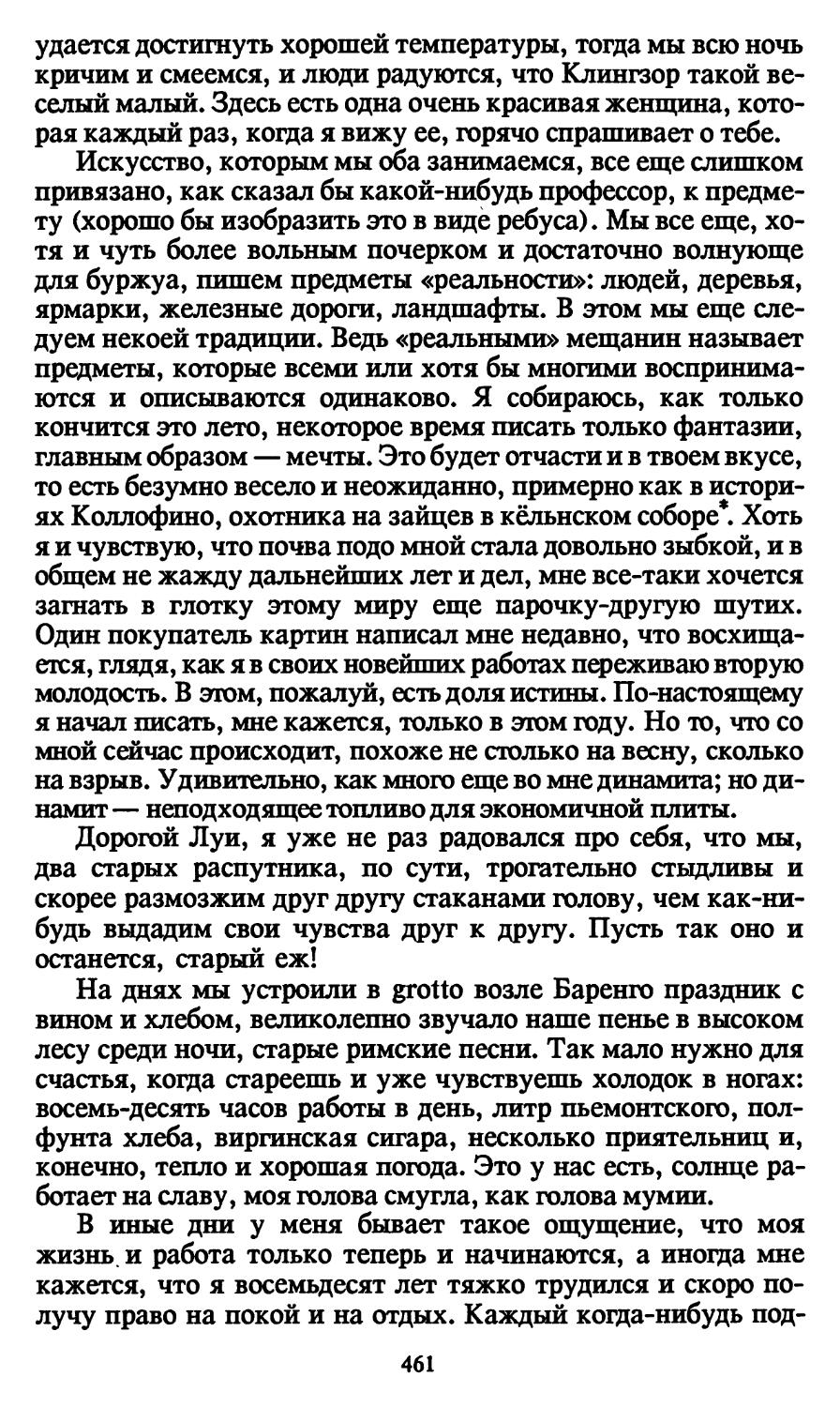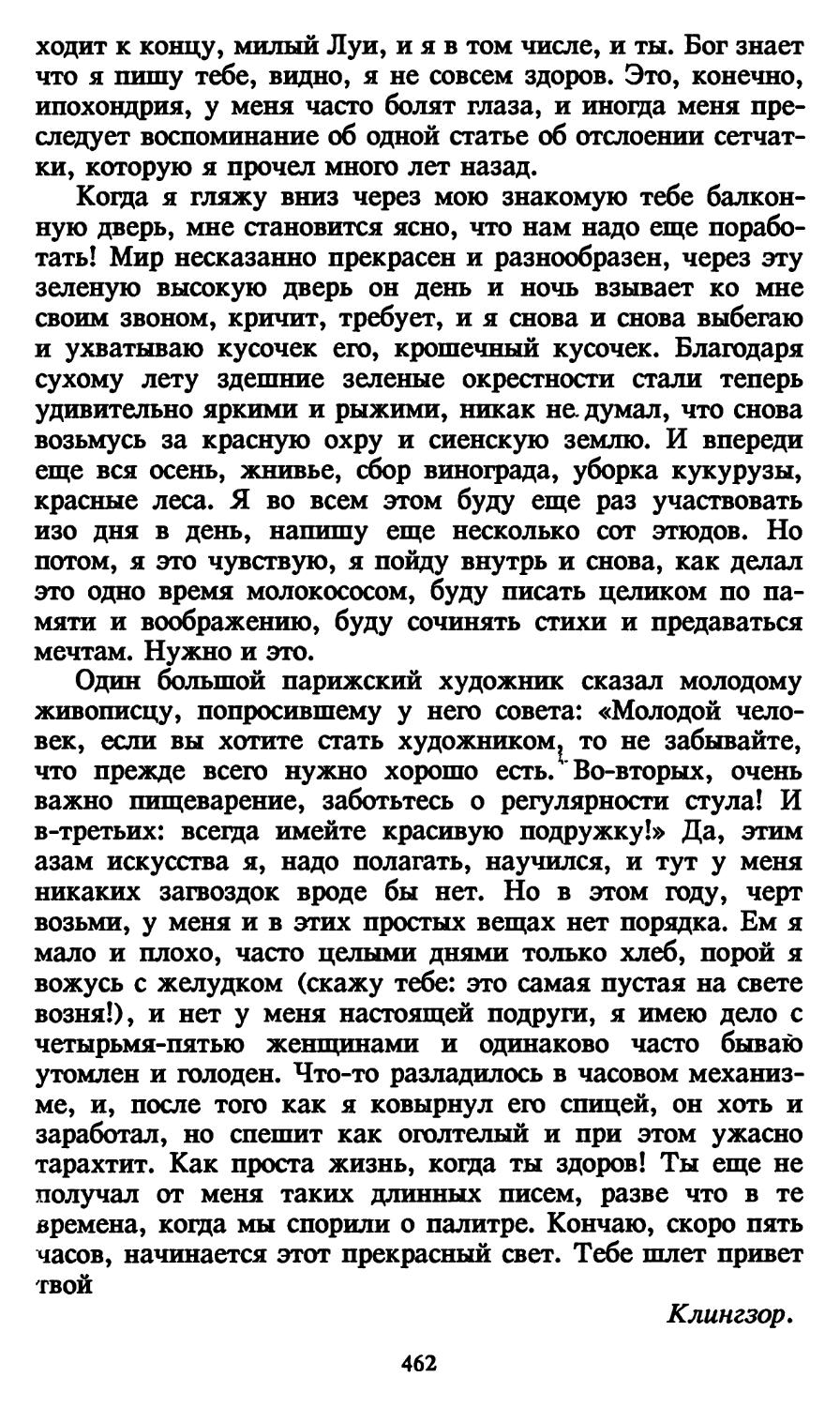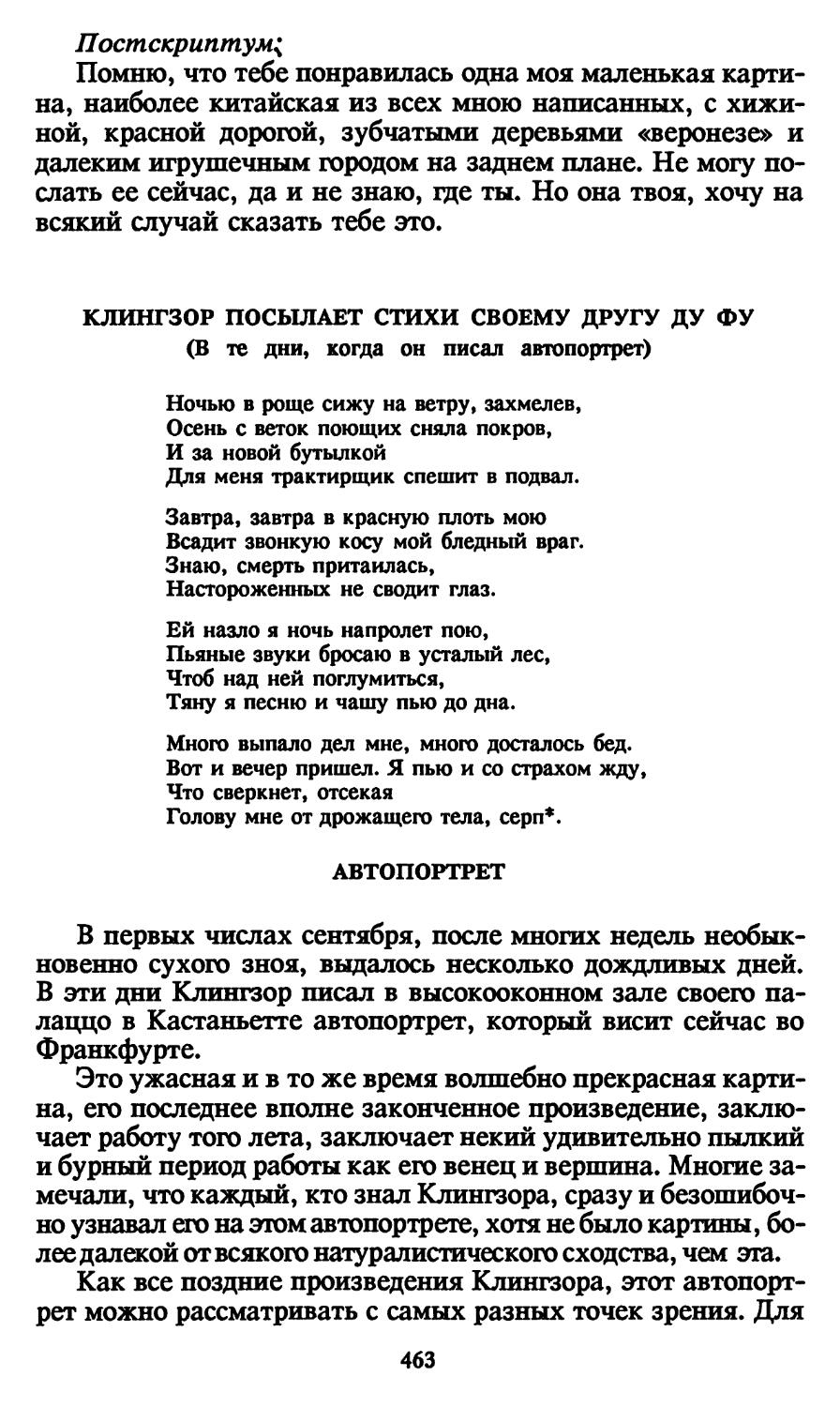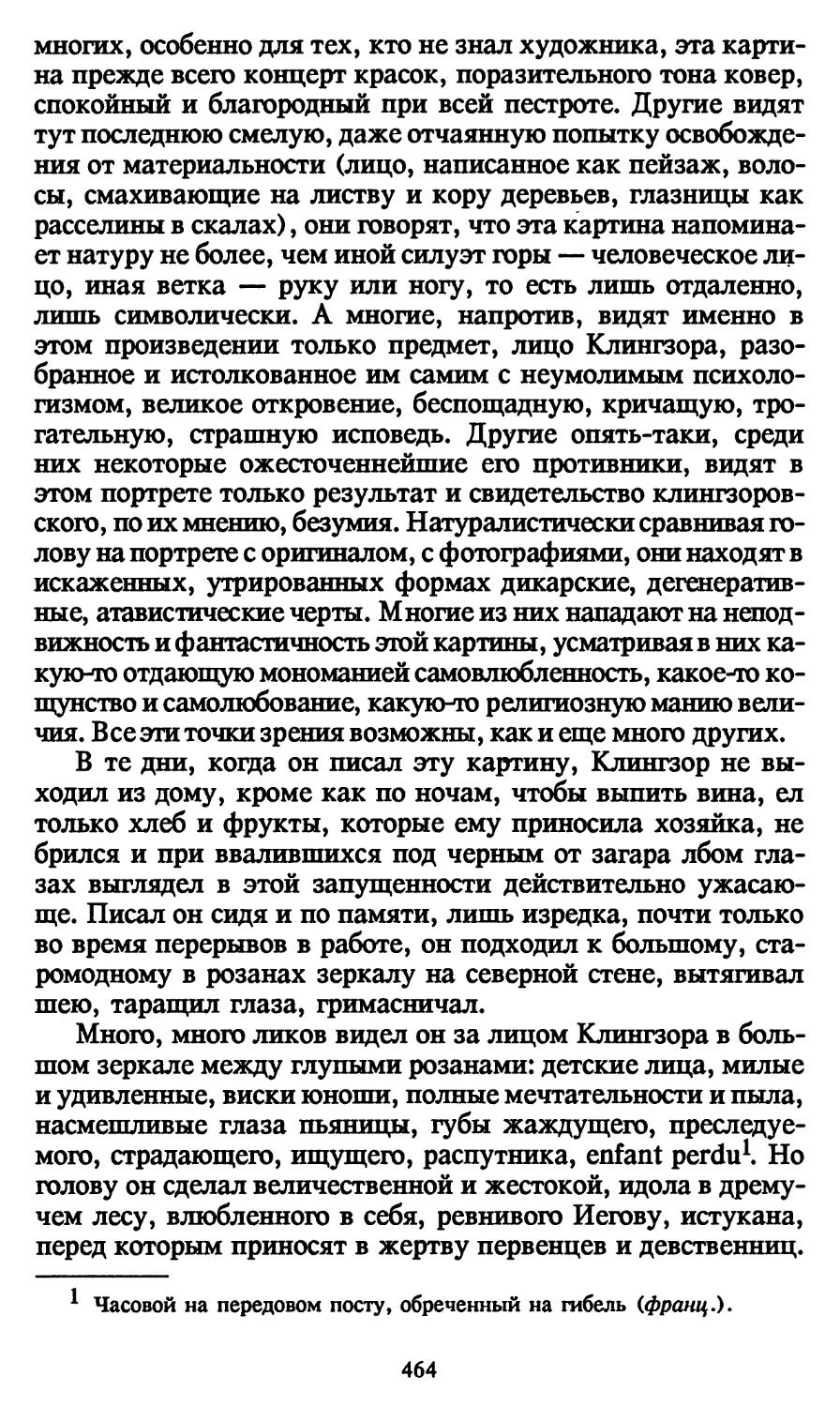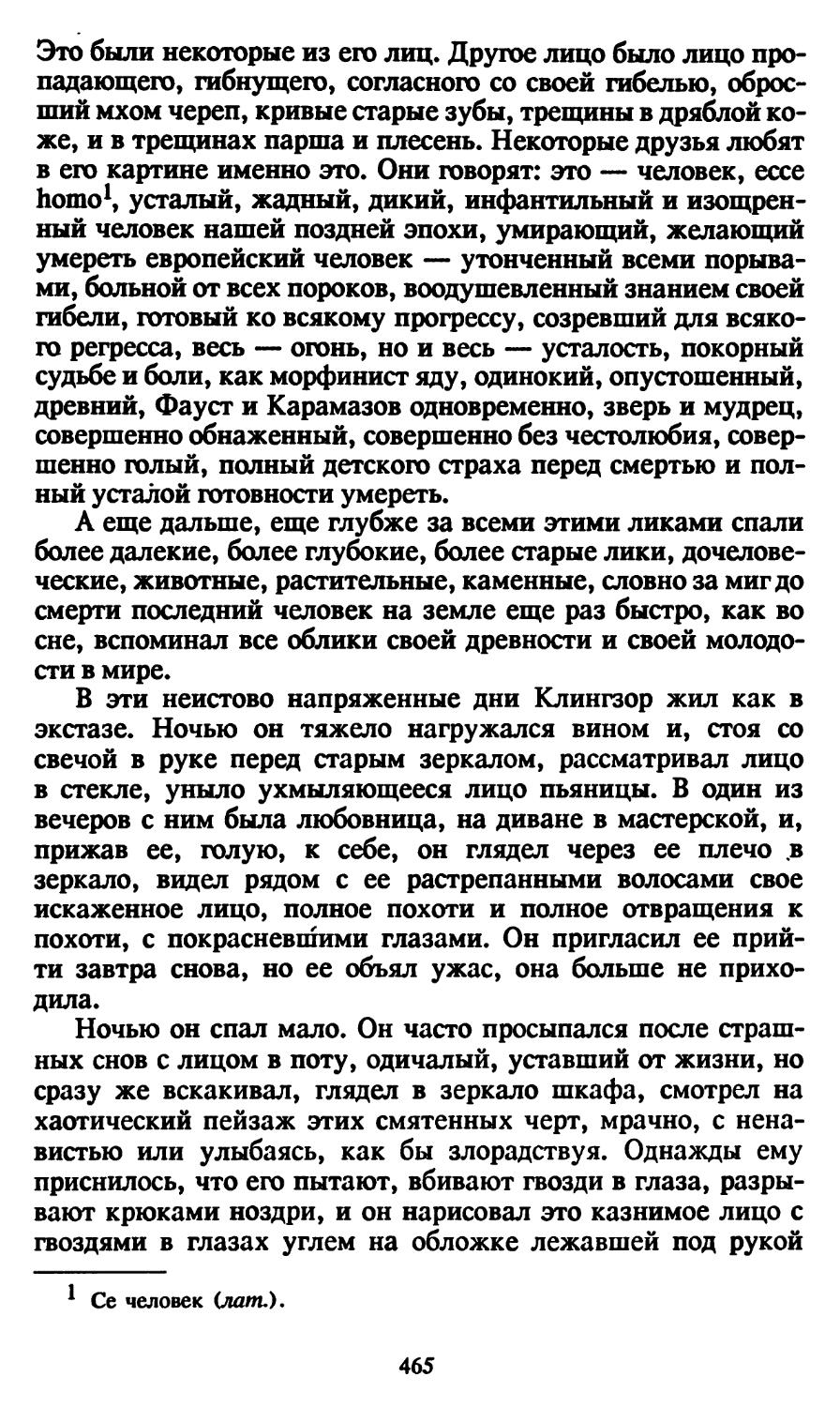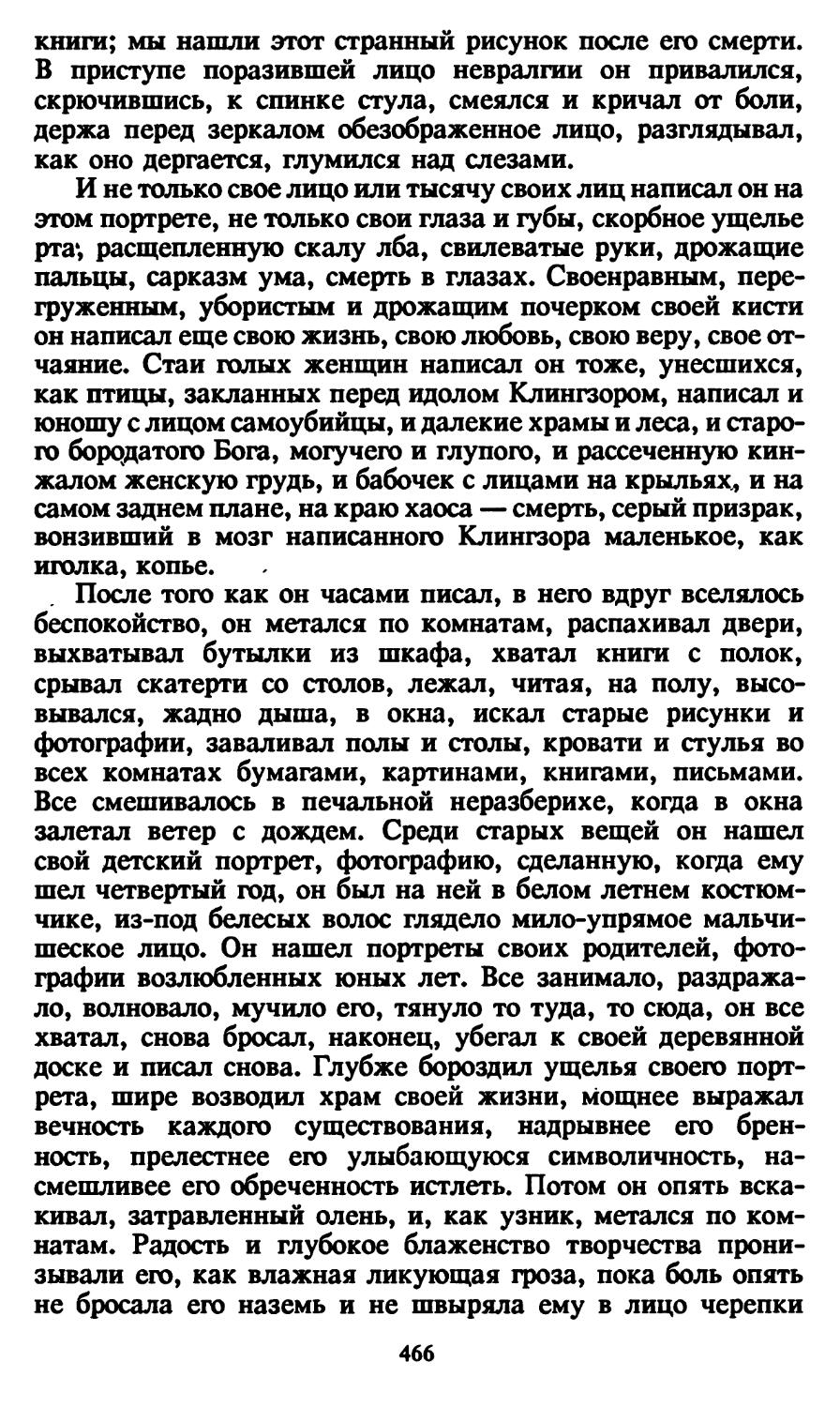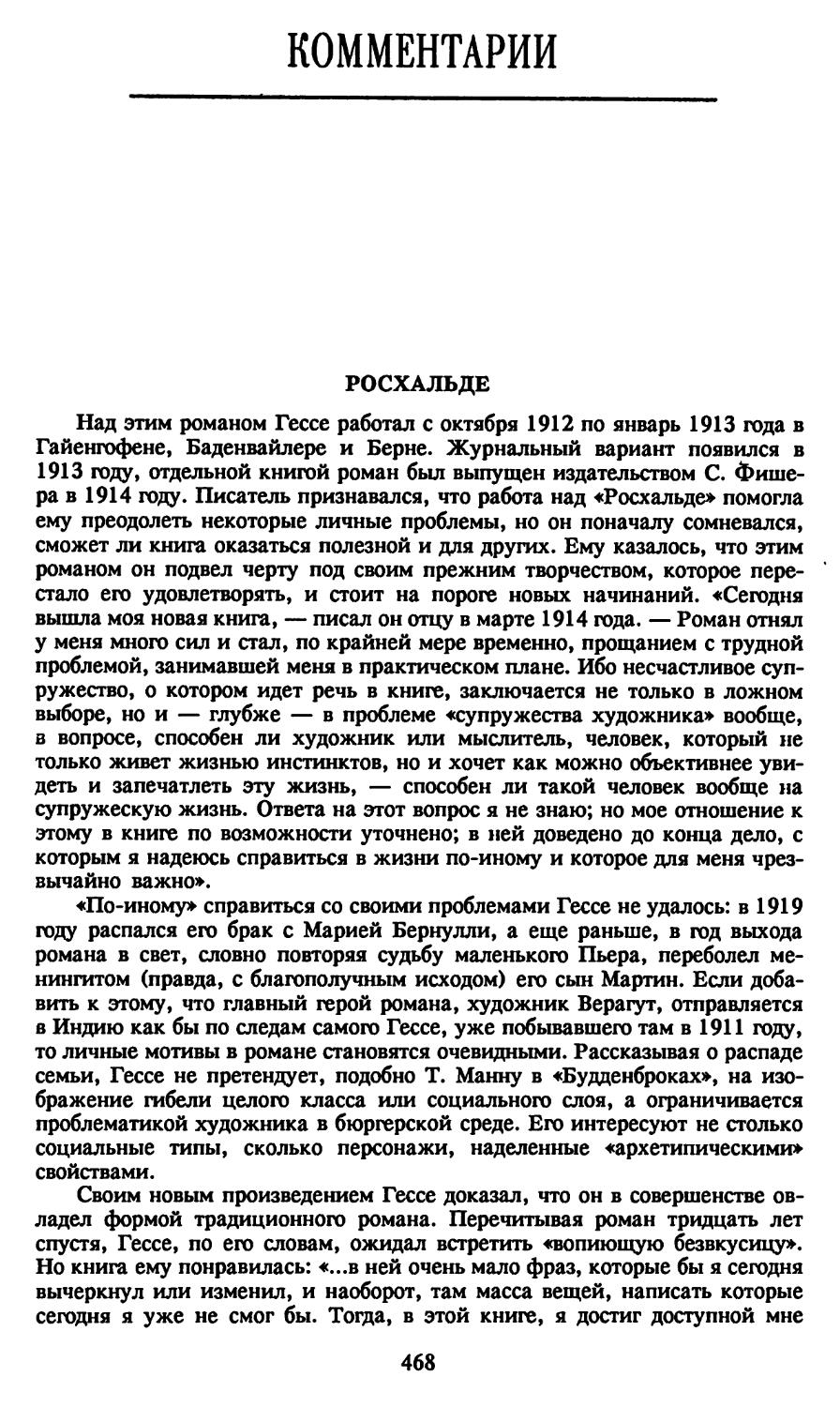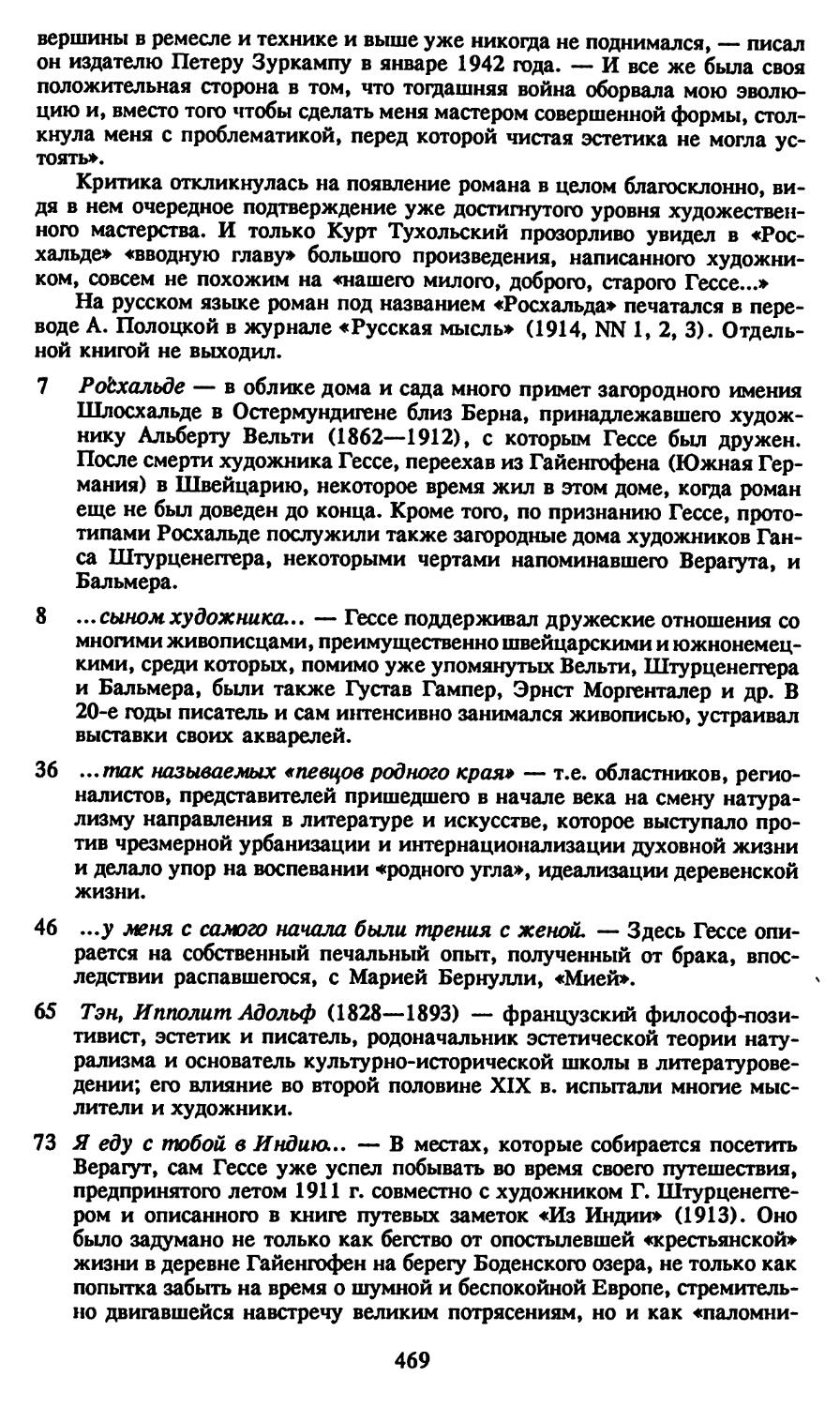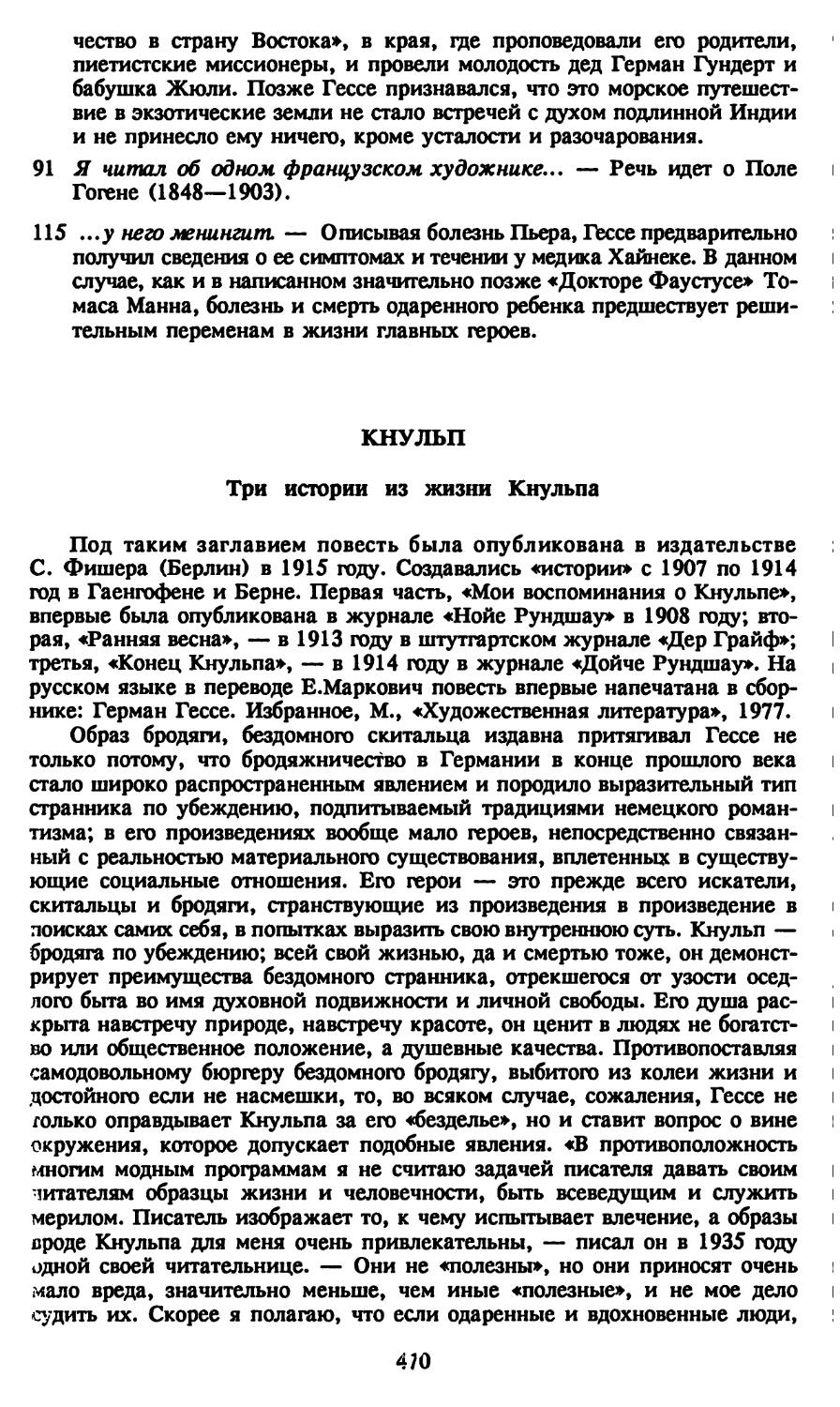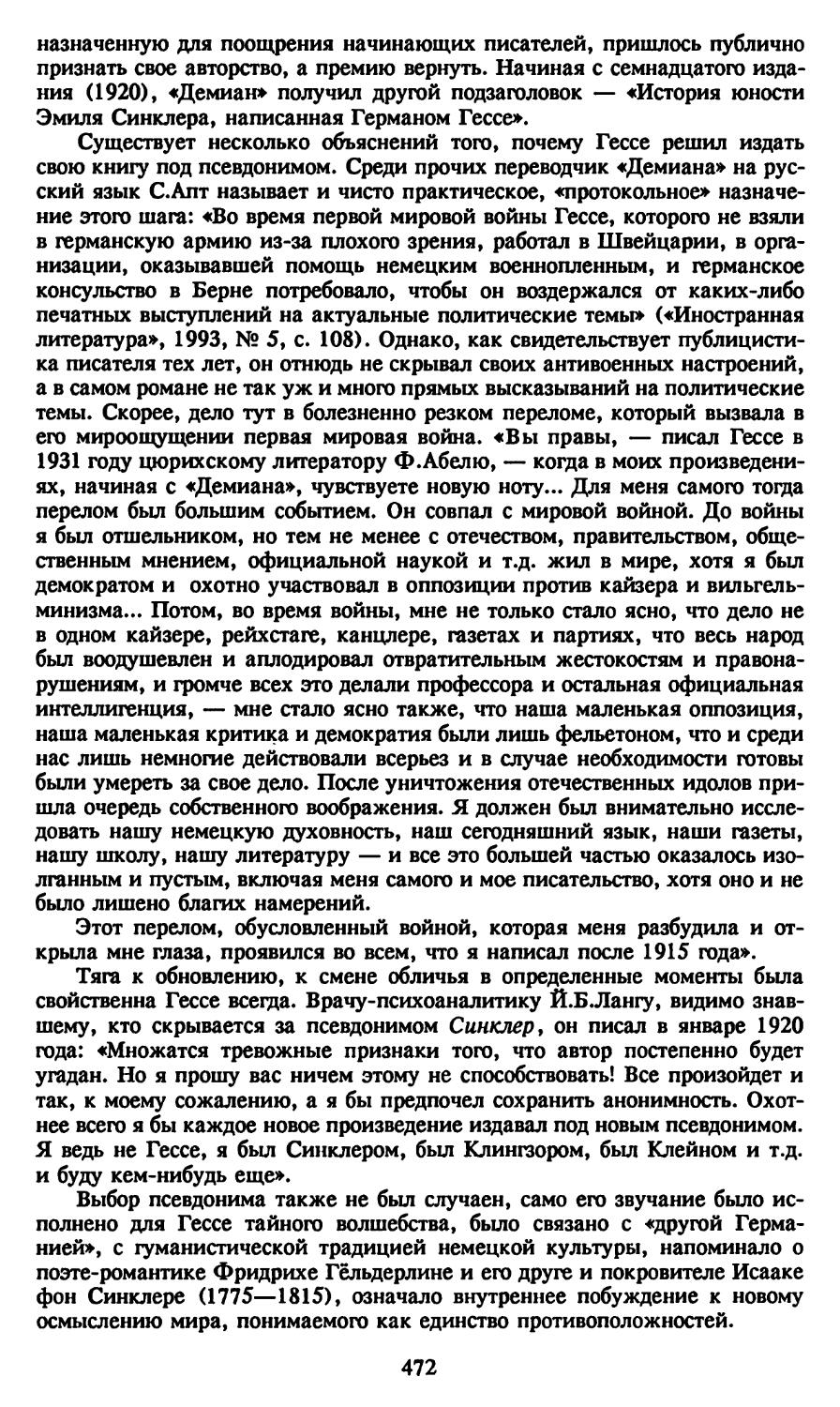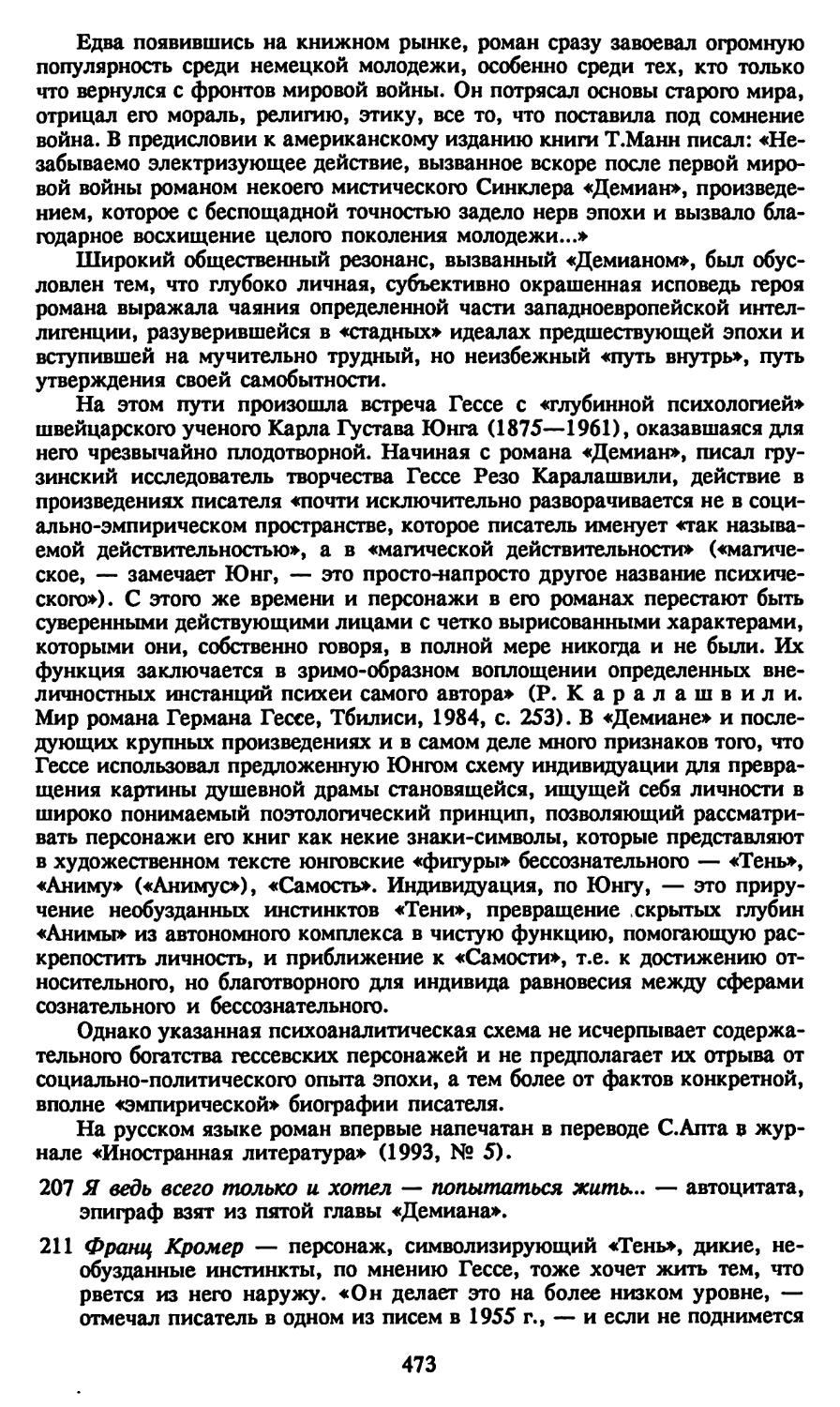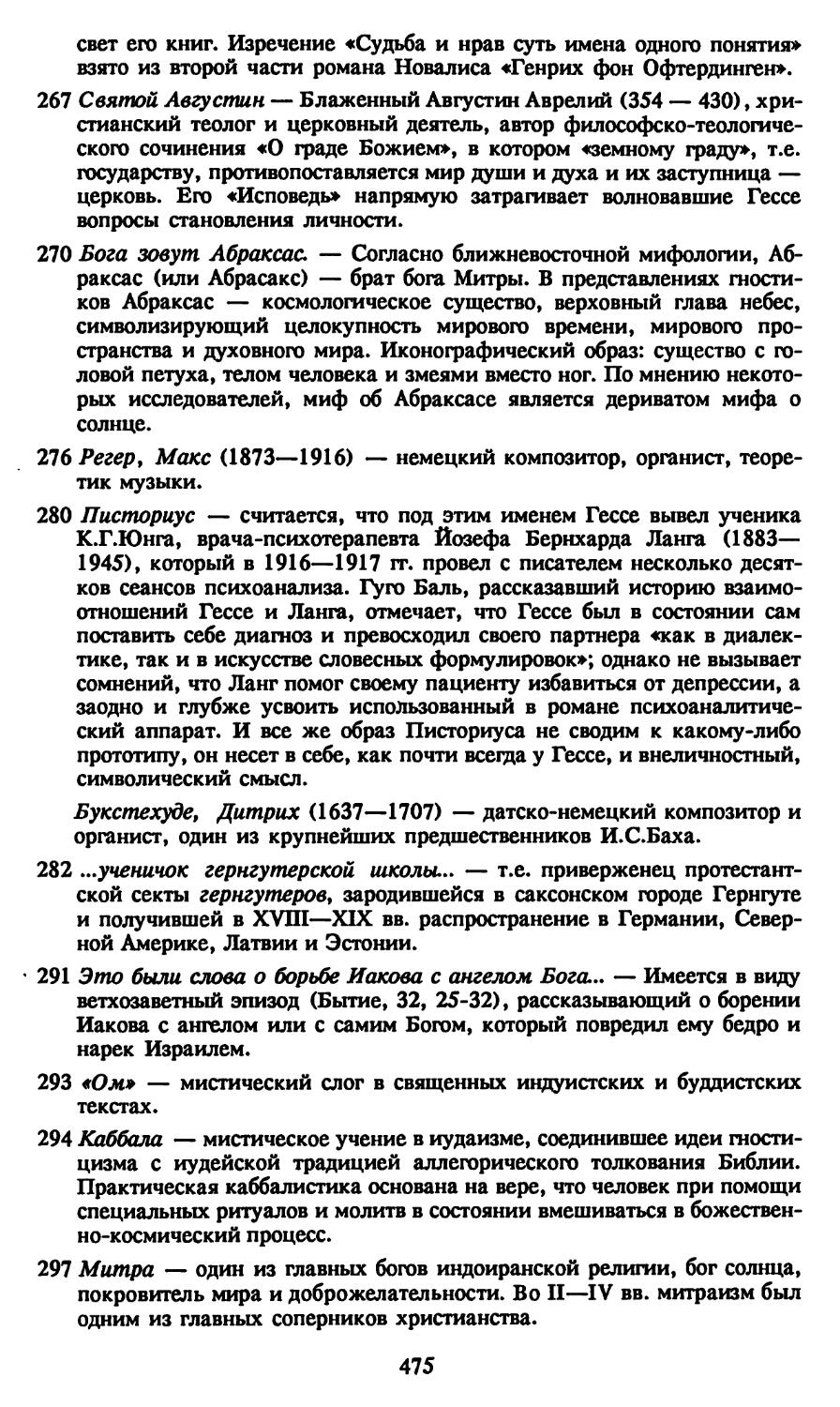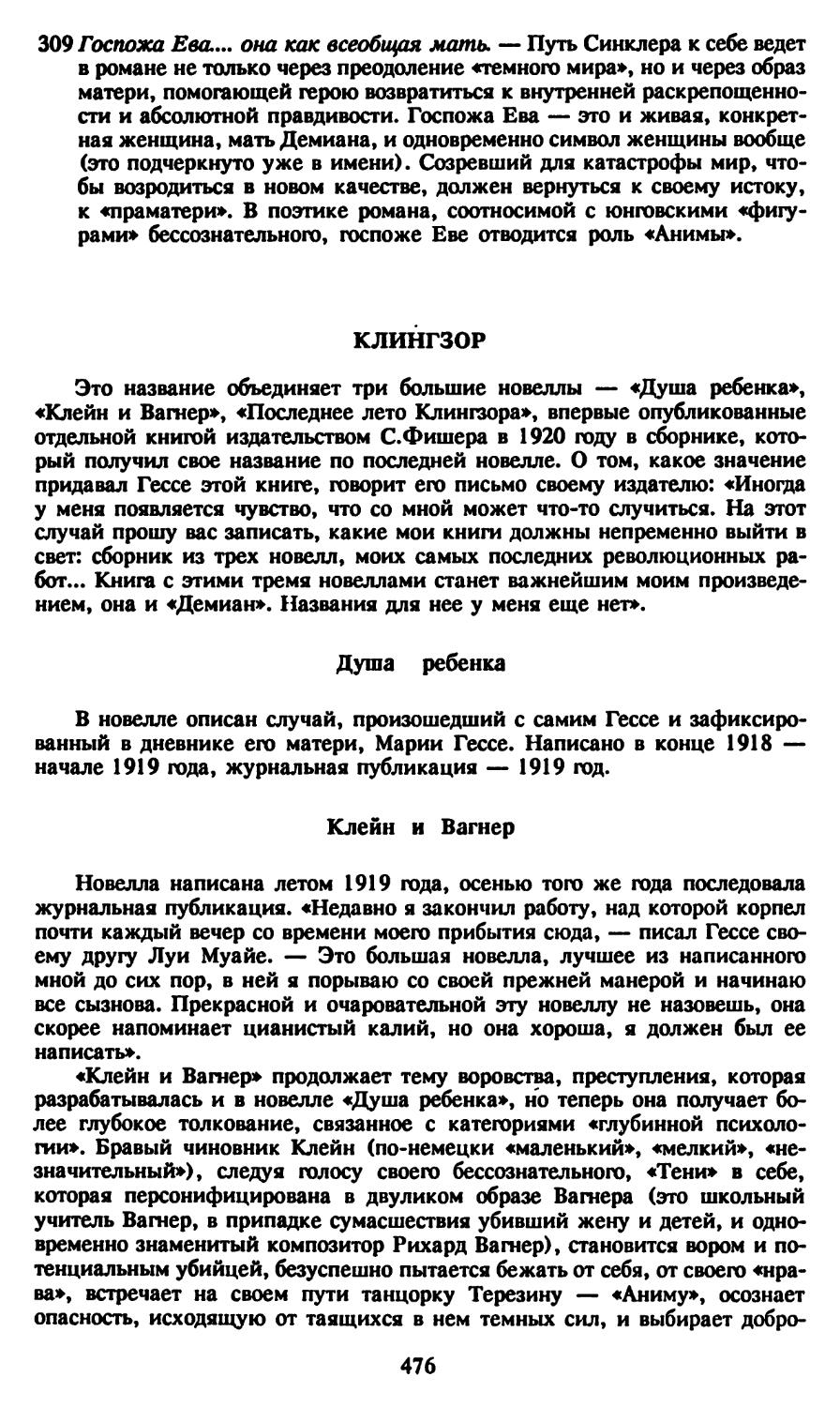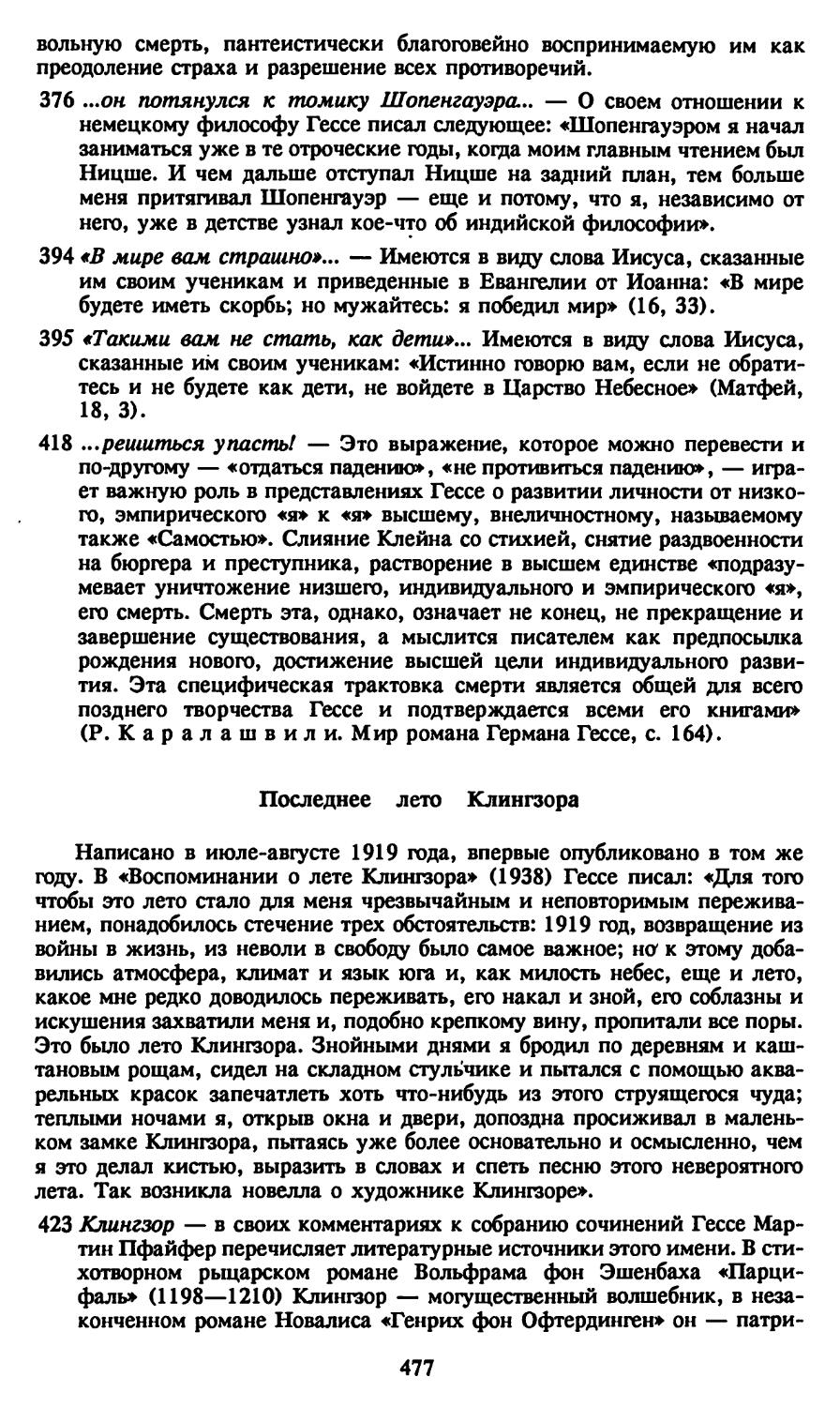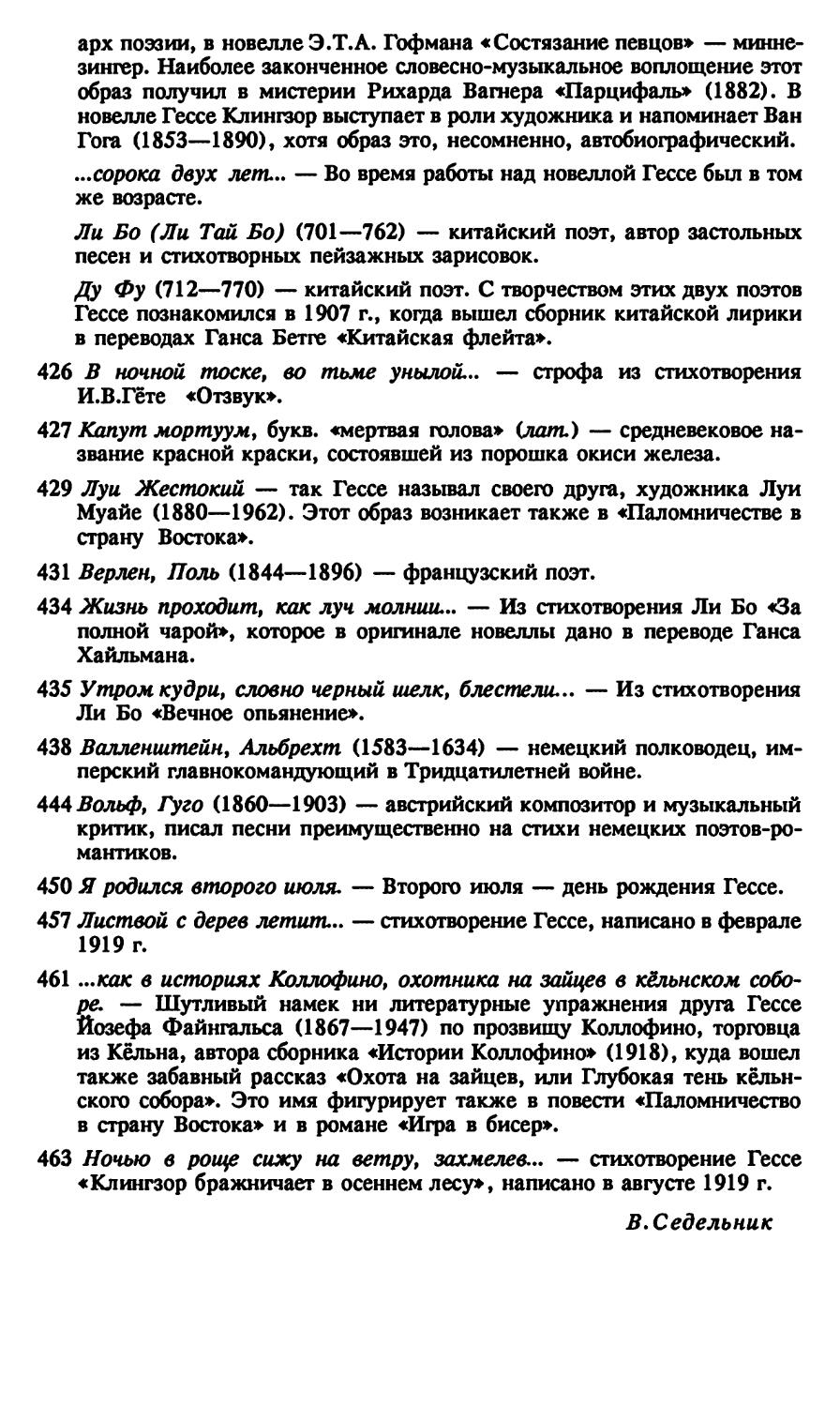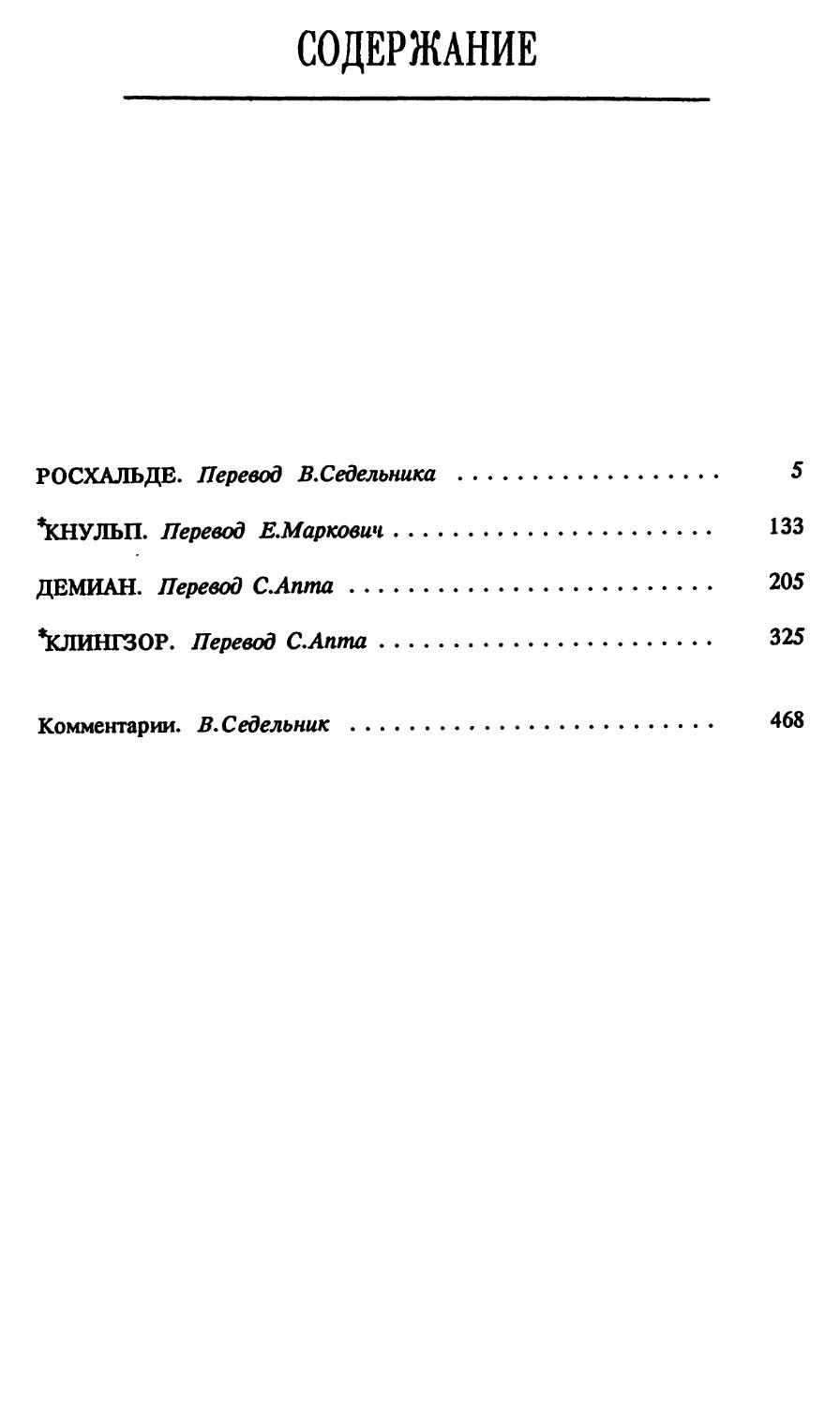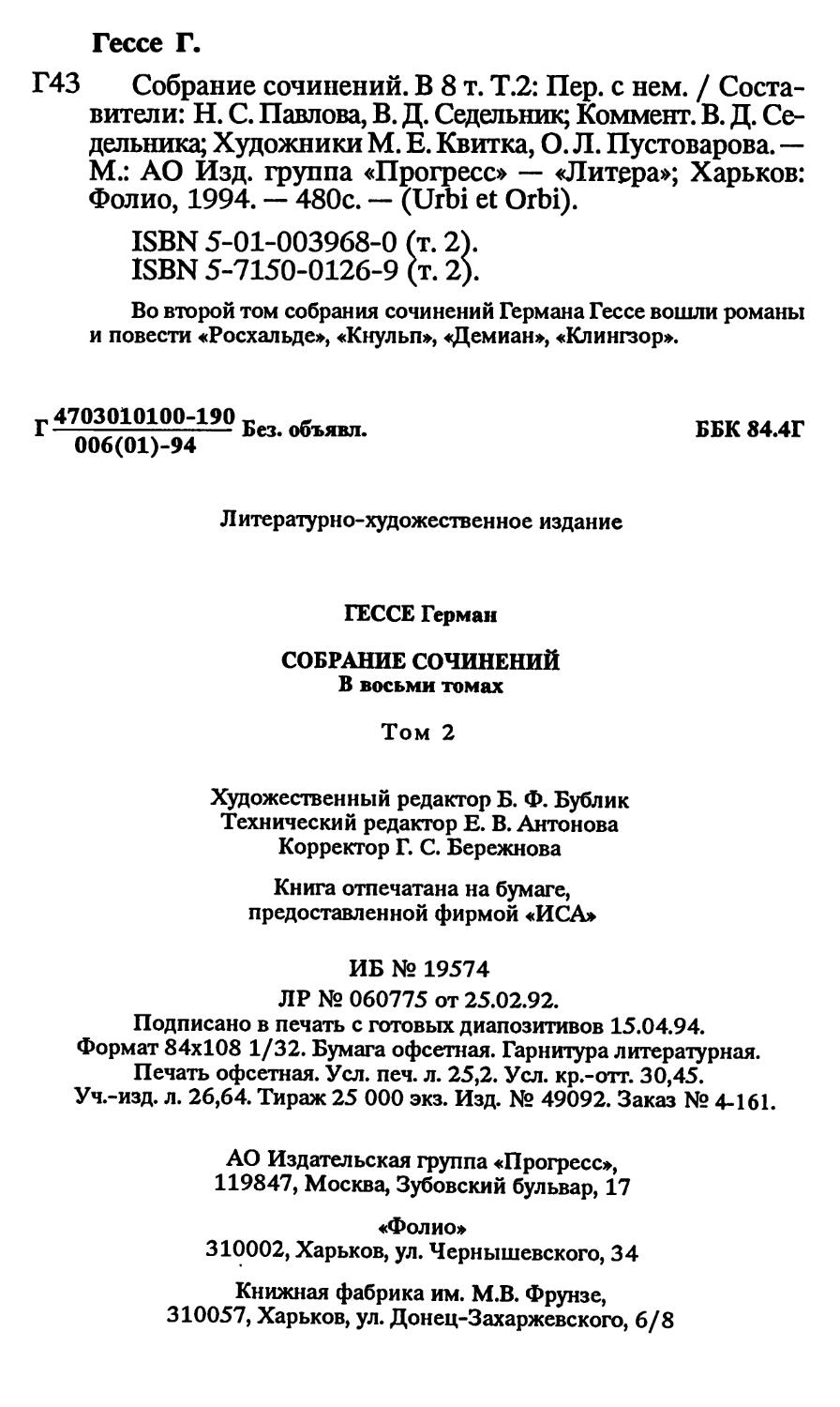Текст
URB1 ET0RB1
HERMANN
J
-i
1
GESAMMELTE WERKE
ГЕРМАН
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
в восьми томах
2
Перевод с немецкого
МОСКВА ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ПРОГРЕСС*-«ЛИТЕРА*
ХАРЬКОВ «ФОЛИО*
1994
ББК 84.4Г
Г 43
Серия «Urbi et Orbi»
основана в 1994 году
Составители
Я.С. ПАВЛОВА, ВЛ СЕДЕЛЬНИК
Комментарии
В. Д. СЕДЕЛЬНИКА
Художники
М.Е. КВИТКА, ОЛ. ПУСТОВАРОВА
Редактор
Л.Н. ПАВЛОВА
Координатор издательской программы
«URBI ET ORBI»
М.Е. ТОПОРИНСКИЙ
.4703010100-190 Безобъявл
006(01)- 94
ISBN 5-01-003968-0 (т. 2)
ISBN 5-01-003874-9
е
ISBN 5-7150-0126-9 (т. 2)
ISBN 5-7150-0133-1
Составление, комментарии» перевод на
русский язык произведений, кроме отме¬
ченных в содержании •, АО Издательская
группа «Прогресс» — «Литера», 1994.
Художественное оформление, Издатель¬
ство «Фолио», 1994.
Марка серии «Uibi et Oibi», Издательст¬
во «Полярно*, 1994.
РОСХАЛЬДЕ
1914
; în» :
nrt^^nrwîi 4>ïtTiff? iT H т Г^ ürHV , .**
ROSSHALDE
1914
ГЛАВА ПЕРВАЯ
оща десять лет назад Иоганн Верагут купил имение
Росхальде*, оно представляло собой старую забро¬
шенную помещичью усадьбу с заросшими садовыми до¬
рожками, обомшелыми скамейками, ветхими лестницами и
заглохшим, непроходимым парком; на участке в добрых во¬
семь моргенов не было иных построек, кроме солидного,
слегка запущенного господского дома с конюшней да ма¬
ленькой, похожей на часовню беседки в парке; дверь в нее,
висевшая на погнутых крюках, перекосилась, а некогда оби¬
тые синим шелком стены покрылись мхом и плесенью.
Едва успев приобрести поместье, новый владелец тут же
снес обветшалую беседку и оставил только десять каменных
ступеней, которые вели от порога этого приюта любви к
берегу небольшого озера. На месте беседки тоща же была
построена мастерская, в которой Верагут в течение семи лет
работал и проводил большую часть времени; жил же он в
господском доме, пока участившиеся размолвки в семье не
заставили его отправить старшего сына учиться в другой
город, оставить дом жене и прислуге, а для собственных
нужд пристроить к мастерской две комнаты, в которых он
с тех пор и обитал холостяком. Жаль было прекрасного
господского дома; госпожа Верагут с семилетним Пьером
занимала только верхний этаж, у нее бывали посетители и
гости, но никогда не собиралось более или менее многочис¬
ленное общество, поэтому многие комнаты из года в год пу¬
стовали.
Маленький Пьер был не только любимцем обоих роди¬
телей и единственным связующим звеном между отцом и
матерью, благодаря чему поддерживались отношения между
домом и мастерской; он, собственно, был единственный хо¬
зяин и владелец Росхальде. Верагут обретался исключи¬
тельно в своей мастерской, в окрестностях лесного озера и
бывшем охотничьем парке, его жена хозяйничала в доме, ей
принадлежали газоны, липовая и каштановая аллеи, и каж¬
дый наведывался во владения другого только изредка, в ка¬
честве гостя, если не считать того, что обедал художник по
обыкновению в господском доме. Маленький Пьер был
единственным, кто не признавал этого разъединения жизни
и раздела владений и даже вряд ли догадывался об этом. Он
с одинаковой беспечностью носился по старому и по новому
дому, он чувствовал себя дома как в мастерской или в биб¬
лиотеке отца, так и в коридоре, в картинной галерее боль¬
шого дома или в комнатах матери, ему принадлежали цветы
вдоль липовой аллеи, земляника в каштановой роще, рыбы
в лесном озере, будка на пляже, гондола. Он чувствовал
себя хозяином, его опекали и мамины служанки, и слуга
папы Роберт, для визитеров и гостей мамы он был сыном
хозяйки дома, а для господ, иногда появлявшихся в мастер¬
ской и говоривших по-французски, — сыном художника*,
писанные маслом портреты мальчика и его фотографии ви¬
сели как в спальне отца, так и в старом доме, в оклеенных
светлыми обоями комнатах матери. Пьеру жилось очень хо¬
рошо, ему жилось даже лучше, чем детям, родители кото¬
рых не знают размолвок и ссор; воспитывали его как Бог на
душу положит, и, если ему доставалось за что-нибудь во
владениях матери, он находил надежное убежище в окрест¬
ностях лесного озера.
Пьер давно уже спал, коща в одиннадцать часов погасло
последнее освещенное окно господского дома. Иоганн Вера¬
гут возвращался пешком из города далеко за полночь; он
провел вечер со своими знакомыми в ресторане. Пока он
шел, в теплой атмосфере облачной летней ночи раствори¬
лись запахи вина и сигаретного дыма, улетучились взрывы
возбужденного смеха и дерзкие шутки; глубоко дыша чуть
теплым влажным ночным воздухом, Верагут неторопливо
шагал по дороге вдоль уже довольно высоко поднявшейся
пашни по направлению к Росхальде, массивные очертания
которого безмолвно громоздились на бледном ночном небе.
Он миновал, не сворачивая, ворота в поместье, бросил
взгляд на господский дом, благородный фасад которого ма¬
нящим пятном светился на черном фоне деревьев, и целую
минуту с наслаждением и отчужденностью случайного пут¬
ника разглядывал эту прекрасную картину; затем он прошел
еще несколько сот метров вдоль высокого забора и достиг
8
места, ще у него был лаз и тайная тропка, ведущая к мас¬
терской. Окончательно протрезвев, невысокий, плотно сби¬
тый художник направился по мрачному, густо заросшему
парку к своему жилищу, которое вдруг открылось его гла¬
зам: над озером мрак расступился, обнажив широкий овал
тускло-серого неба.
Почти черная вода застыла в полном безмолвии, только
над поверхностью мерцал слабый свет, напоминая бесконеч¬
но тонкую кожу или мельчайший слой пыли. Верагут взгля¬
нул на часы: скоро час ночи. Он открыл боковую дверь,
ведущую в его комнаты, зажег свечу, быстро разделся, вы¬
шел нагишом во двор, медленно спустился по широким ка¬
менным ступеням к озеру и вошел в воду, которая неболь¬
шими плавными кругами поблескивала у его колен. Он ныр¬
нул, проплыл немного, удаляясь от берега, но внезапно по¬
чувствовал усталость после необычно проведенного вечера,
вернулся назад и совершенно мокрый вошел в дом. Набро¬
сив на себя мохнатый купальный халат, он стряхнул влагу
с коротко остриженной головы и босиком поднялся по сту¬
пенькам в обширную, почти пустую мастерскую, ще нетер¬
пеливыми движениями включил все электрические лам¬
почки.
Стремительно подойдя к мольберту, на котором был на¬
тянут небольшой холст, работа последних дней, он встал
перед ним, согнувшись и опершись руками о колени, и ши¬
роко открытыми глазами принялся внимательно рассматри¬
вать картину, поблескивавшую яркими свежими красками.
В таком положении он оставался минуты две-три, пока ра¬
бота не запечатлелась в его глазах вплоть до последнего
мазка; вот уже несколько лет он взял в привычку накануне
рабочего дня не уносить с собой в постель и в свои сны иных
впечатлений, кроме впечатления о картине, над которой ра¬
ботал. Он выключил свет, взял свечу и прошел к спальне,
на дверях которой висела маленькая грифельная доска.
Взяв мел, он написал большими буквами: «Разбудить в
семь, кофе в девять», — закрыл за собой дверь и лег в по¬
стель. Несколько секунд он неподвижно лежал с открытыми
глазами и усилием воли пытался вызвать в своем сознании
образ картины. Насытившись созерцанием, он закрыл свет¬
ло-серые глаза, чуть слышно вздохнул и сразу уснул.
Утром в указанное время его разбудил Роберт. Верагут
тут же встал, умылся в соседней комнате холодной водой
из-под крана, надел застиранный костюм из грубой серой
9
холстины и прошел в мастерскую, ще слуга уже поднял
тяжелые жалюзи. На маленьком столике стояла тарелка с
фруктами, графин с водой и кусок ржаного хлеба. Задум¬
чиво стоя перед мольбертом и разглядывая картину, он про¬
тянул руку за хлебом. То отходя от холста, то снова при¬
ближаясь к нему, он съел немного хлеба, выудил из стек¬
лянной тарелки несколько вишен, увидел лежавшие на сто¬
лике письма и газеты, не стал их разбирать и сразу же с
сосредоточенным видом уселся на складной стул перед кар¬
тиной.
Небольшая, горизонтального формата картина изобра¬
жала раннее утро, увиденное художником несколько недель
назад во время одной поездки и запечатленное на многих
эскизах. Он остановился в маленькой деревенской гостини¬
це на Верхнем Рейне, не дождался коллегу, с которым со¬
бирался здесь встретиться, провел неприятный дождливый
вечер в прокуренной комнате для приезжающих и отврати¬
тельную ночь в сыром, пахнувшем известкой и плесенью
номере. После неспокойного сна в дурном расположении ду¬
ха он поднялся еще до восхода солнца, нашел двери запер¬
тыми, через окно в гостиной выбрался наружу, отвязал на
берегу Рейна лодку и выплыл в предутренний туман мед¬
ленно текущей реки. Уже собираясь повернуть назад, он
увидел, что от противоположного берега навстречу ему дви¬
жется лодка. Холодные, едва заметно подрагивающие лучи
серого дождливого рассвета обтекали темные очертания и
делали рыбацкую лодку непомерно большой. Внезапно за¬
хваченный и до глубины души взволнованный этим видом
и необычным освещением, он придержал свою лодку и по¬
дождал, коща рыбак подплывет ближе. Тот остановился
около поплавка и вытащил из холодной воды вентерь. Две
широкие серебристо-матовые рыбы на мгновение сверкнули
над серой поверхностью воды и с чмокающим звуком упали
на дно лодки. Верагут немедля попросил рыбака подождать,
достал кисти, краски, бумагу и наспех набросал акварель¬
ный эскиз. Он остался в деревне еще на день, рисовал,
читал, а утром следующего дня снова делал наброски на
реке. Покинув это место, Верагут без конца возвращался
мыслями к увиденной картине, она занимала и мучила его,
пока не обрела форму, и вот он уже несколько дней работал
над холстом и был близок к его завершению. Обычно он
писал свои пейзажи в ясные солнечные дни или при теплом,
преломленном свете в лесу и в парке, поэтому серебристая.
ю
прохлада реки доставляла ему немало трудностей, но она же
придавала картине новое звучание. Вчера ему наконец уда¬
лось найти решение, и теперь он чувствовал, что перед ним
на мольберте добротное, не совсем обычное произведение,
которое не ограничивается фиксацией и удачным изображе¬
нием увиденного; в нем из равнодушно-загадочного бытия
природы пробивается сквозь застывшую оболочку мгнове¬
ние жизни, давая почувствовать могучее, дикое дыхание ре¬
ального мира.
Художник внимательно рассматривал картину, размыш¬
ляя над оттенками палитры, которая далеко отошла от
прежней его манеры и утратила почти все красные и желтые
краски. Вода и воздух были переданы искусно, над рекой
трепетал холодно-зябкий неприютный свет, во влажном
сумраке плавали, словно тени, кусты и сваи на берегу, не¬
уклюжая лодка казалась нереальной, расплывшейся, лицо
рыбака тоже было лишено характерных черт и выразитель¬
ности, только в его руке, спокойно тянущейся к рыбам, чув¬
ствовалась неумолимая достоверность. Одна из рыб под¬
прыгнула, сверкнув чешуей, над бортом лодки, другая не¬
подвижно лежала на дне, и ее круглый рот и испуганно
застывший глаз выражали боль и страдание. Вся картина
была холодной и почти до ужаса скорбной, но в ней чувст¬
вовалась спокойная, необоримая сила и та символика, без
которой не обходится ни одно произведение искусства и ко¬
торая заставляет нас не только почувствовать, но и с каким-
то сладостным изумлением полюбить гнетущую непостижи¬
мость природы.
Художник просидел за работой около двух часов, коща
постучал слуга и на рассеянное разрешение войти принес
завтрак. Неслышно поставив кофейник, чашку и тарелку,
он молча подождал некоторое время и осторожно напомнил:
— Все готово, господин Верагут.
— Иду, — громко отозвался художник и большим паль¬
цем стер мазок, только что нанесенный кистью на хвост под¬
прыгнувшей рыбы. — У тебя есть теплая вода?
Он вымыл руки и сел пить кофе.
— Можете набить мне трубку, Роберт, — бодро сказал он. —
Маленькую, ту, что без крышки, она, кажется, осталась в
спальне.
Слуга вышел. Торопливо выпив чашку крепкого кофе,
Верагут почувствовал, как смутное предвосхищение голово¬
кружения и бессилия, с недавних пор иноща охватывавшее
11
его после напряженной работы, улетучилось, подобно ут¬
реннему туману.
Он взял у слуги трубку, попросил принести огня и жадно
втянул в себя ароматный дым, который усиливал действие
кофе, делая его более утонченным. Показав на свою карти¬
ну, он спросил:
— Вы в детстве удили рыбу, не так ли, Роберт?
— Так, господин Верагут.
— Вглядитесь-ка в рыбу, не в ту, что взлетела в воздух,
а в ту, что лежит с открытым ртом на дне лодки. Рот у нее
верно передан?
— Да уж куда вернее, — недоверчиво проговорил Ро¬
берт. — Вы же разбираетесь в этом лучше меня, — добавил
он с легким упреком; ему показалось, что хозяин над ним
насмехается.
— Нет, уважаемый, это не так. То, что с ним случается,
человек во всей остроте и свежести переживает только в
ранней юности, лет этак до тринадцати-четырнадцати, а по¬
том питается этими впечатлениями всю жизнь. В детстве я
ни разу не имел дела с рыбой, потому и спрашиваю. Так,
значит, рот написан как надо?
— Да, все на своем месте, — сказал польщенный Роберт.
Верагут тем временем встал и испытующим взглядом
впился в картину. Роберт посмотрел на него. Ему была зна¬
кома эта начинающаяся концентрация, когда глаза худож¬
ника почти стекленеют; он знал, что сейчас его хозяин
отрешается от всего — от кофе, от непродолжительной бе¬
седы с ним, слугой, и если окликнуть его через несколько
минут, то он словно проснется от глубокого сна. А это уже
опасно. Убирая со стола, Роберт увидел неразобранную
почту.
— Господин Верагут! — вполголоса воскликнул он.
Художник еще не отключился окончательно. Повернув
голову, он вопросительно, не скрывая враждебности, взгля¬
нул на слугу — так смотрит усталый человек, которого по¬
звали в тот момент, когда он уже начал засыпать.
— Тут для вас почта.
Роберт вышел из мастерской. Верагут нервно выдавил на
палитру немного синего кобальта, бросил тюбик на малень¬
кий, обитый железом столик и стал смешивать краски, од¬
нако напоминание слуги мешало ему сосредоточиться, он с
недовольным видом отложил в сторону палитру и подвинул
к себе письма.
12
То были обычные деловые бумаги: приглашение принять
участие в выставке, просьба редакции одного журнала сооб¬
щить даты жизни, счет. Но тут в глаза ему бросился хорошо
знакомый почерк, и сердце его радостно забилось. Он взял
письмо в руки, с наслаждением прочитал на конверте свое
имя и адрес, внимательно вглядываясь в каждое слово, на¬
писанное очень своеобразным размашистым почерком. По¬
том он принялся разглядывать почтовый штемпель. Марка
была итальянская, письмо могло прийти только из Неаполя
или Генуи, значит, друг уже в Европе, совсем рядом, и через
несколько дней может быть здесь.
Он растроганно открыл конверт и с удовлетворением
увидел ровные строчки, их строгий порядок. Если хоро¬
шенько подумать, редкие письма от друга из-за границы бы¬
ли в последние пять-шесть лет его единственной настоящей
радостью — единственной, не считая работы и тех часов,
которые он проводил с маленьким Пьером. И как всеща,
коща ему становилось ясно, насколько бедна и лишена люб¬
ви его жизнь, им и на этот раз овладело, нарушив радость
ожидания, неясное, мучительное чувство стыда. Он стал не¬
торопливо читать.
«Неаполь, 2 июня, ночью
Дорогой Иоганн!
Как обычно, первыми приметами европейской цивилиза¬
ции, к которой я опять приближаюсь, стали глоток кьянти,
жирные макароны да вопли коробейников в трактире.
Здесь, в Неаполе, за пять лет ничего не изменилось, перемен
значительно меньше, чем в Сингапуре или в Шанхае, и я
вижу в этом добрый знак — значит, и дома я найду все в
полном порядке. Послезавтра мы будем в Генуе, там меня
встретит мой племянник, и я отправлюсь с ним к родствен¬
никам, ще на сей раз меня вряд ли ожидает радостный при¬
ем, так как за последние пять лет я, честно говоря, не зара¬
ботал и пяти талеров. Я рассчитываю уделить семье четыре-
пять дней, затем уеду по делам в Голландию, что опять-таки
отнимет пять-шесть дней, и где-то числа шестнадцатого смо¬
гу быть у тебя. Об этом я извещу тебя по телеграфу. Мне
хотелось бы задержаться у тебя по меньшей мере дней на
десять или четырнадцать, чтобы помешать тебе работать. Ты
стал страшно знаменит, и если то, что ты говорил об изве¬
стности и славе лет двадцать тому назад, верно хотя бы
13
наполовину, то за это время ты, должно быть, изрядно за¬
коснел и поглупел. Я собираюсь также купить у тебя не¬
сколько картин, поэтому мою жалобу на плохо идущие дела
можешь рассматривать как попытку сбить цену.
Мы стареем, Иоганн. Я двенадцать раз плавал по Крас¬
ному морю и только в этот последний раз страдал от жары.
Было 46 градусов.
Бог ты мой, старина, еще четырнадцать дней! Тебе при¬
дется раскошелиться на пару дюжин мозельского. С нашей
последней встречи прошло больше четырех лет.
С девятого по четырнадцатое твои письма застанут меня
в Антверпене в гостинице «Европейская». Если где-нибудь
в местах, которые я буду проезжать, выставлены твои кар¬
тины, дай мне знать.
Твой Отто»
Верагут еще раз с удовольствием перечитал короткое
письмо, написанное твердым, ровным почерком и оснащен¬
ное темпераментными знаками препинания, вытащил из
ящика стоявшего в углу небольшого письменного стола ка¬
лендарь, заглянул в него и удовлетворенно мотнул головой.
Еще до середины месяца в Брюсселе должно быть выстав¬
лено более двадцати его картин, все складывается как нель¬
зя лучше. Это значит, что друг, острого взгляда которого он
слегка побаивался, зная, что от него не ускользнет разлад в
его жизни последних лет, получит хотя бы первое представ¬
ление о нем и сможет им гордиться. Это облегчает дело. Он
представил себе, как Отто с его чуть тяжеловесной замор¬
ской элегантностью бродит по брюссельскому залу, разгля¬
дывая его картины, и на мгновение искренно обрадовался
тому, что послал их на эту выставку, хотя лишь немногие
из них были предназначены для продажи. И он тут же чер¬
кнул письмецо в Антверпен.
«Он ничего не забыл, — с благодарностью думал Вера¬
гут, — верно, в нашу последнюю встречу мы пили только
мозельское, а однажды вечером даже кутнули как следует».
Он прикинул, что в подвале, ще ему редко доводилось
бывать, наверняка больше не осталось мозельского. Надо
будет сегодня же сделать заказ, решил он.
Снова усевшись перед холстом, он оставался в рассея¬
нии, что-то тревожило его и не давало достичь той степени
концентрации, коща сами собой приходят удачные реше¬
ния. Поэтому он поставил кисть в стакан, сунул письмо дру¬
14
га в карман и с нерешительным видом медленно вышел из
дома. Ярко сверкало на солнце озеро, начинался безоблач¬
ный летний день, залитый светом парк звенел птичьими го¬
лосами.
Верагут посмотрел на часы. Должно быть, утренние уро¬
ки Пьера уже кончились. Он бесцельно побрел по парку,
бросил рассеянный взгляд на коричневые, усыпанные сол¬
нечными бликами дорожки, прислушался к тому, что дела¬
лось в старом доме, прошел мимо игровой площадки Пьера,
на которой стояли качели и высилась куча песка. Наконец
он подошел к саду и мельком взглянул на кроны конских
каштанов, в тенистой листве которых еще сохранились ра¬
дующие глаз яркие соцветия. Над полураскрывшимися ро¬
зовыми бутонами в живой изгороди вокруг овощных грядок
с легким прерывистым гудением кружились пчелы, сквозь
темную листву деревьев донеслись удары часов на башне
господского дома. Часы отбивали время неправильно, и Ве¬
рагут снова подумал о Пьере, который носился с честолю¬
бивой мечтой когда-нибудь, став взрослым, починить ста¬
рый ударный механизм.
Вдруг из-за живой изгороди послышались голоса и шаги,
мягко и приглушенно звучавшие в залитом солнцем воздухе,
который был наполнен гудением пчел, криками птиц и гус¬
тым ароматом гвоздик и бобов, лениво поднимавшимся над
грядками. Это были его жена и Пьер. Верагут замер и стал
внимательно прислушиваться.
— Они еще не созрели, надо подождать пару деньков, —
услышал он голос жены.
В ответ раздался смех и детский щебет. На неуловимо
короткое мгновение Верагуту показалось, будто от этой мир¬
ной садовой зелени, от нежно звучавшего в напряженной
летней тишине невнятного голоска сына на него повеяло соб¬
ственным детством. Он подошел к изгороди и через щель
между вьющимися побегами заглянул в огород, где на осве¬
щенной солнцем дорожке стояла его жена в утреннем
платье, держа в руке цветочные ножницы и легкую корич¬
невую корзинку. От нее до изгороди было не больше два¬
дцати шагов.
Художник на миг задержался на ней взглядом. Крупная
фигура, серьезное лицо разочарованной женщины. Она
склонилась над цветами, лицо скрылось в тени большой со¬
ломенной шляпы с обвисшими полями.
15
— Как называются эти цветы? — спросил Пьер. В его
каштановых волосах играли солнечные блики, голые заго¬
релые ноги при ярком освещении выглядели тощими, а ког¬
да он нагнулся, в вырезе блузы под загорелым затылком
мелькнула белая кожа спины.
— Гвоздики, — ответила мать.
— Да, я знаю, — продолжал Пьер, — но мне хочется
знать, как их называют пчелы. Должно же у них быть на¬
звание и на пчелином языке.
— Разумеется, но этого не знает никто, кроме самих
пчел. Быть может, они называют их медовыми цветами.
Пьер задумался.
— Чепуха, — решительно объявил он. — В клевере они
находят ничуть не меньше меда, да и в настурциях тоже. Не
могут же они всем цветам давать одно и то же название.
Мальчик внимательно разглядывал пчелу, которая кру¬
жилась над чашечкой гвоздики, потом, звеня крылышками,
зависла в воздухе и жадно нырнула в розоватое углубление.
«Медовые цветы!» — пренебрежительно подумал Пьер,
но промолчал. Он давно уже знал, что самые лучшие, самые
интересные вещи невозможно понять и объяснить.
Верагут стоял за изгородью и слушал, разглядывая спо¬
койное, строгое лицо жены и прекрасное, нежное, рано со¬
зревшее личико своего любимца, и сердце его каменело при
мысли о том времени, коща его старший сын был таким же
ребенком. Он его потерял, да и мать тоже. Но лишиться и
этого малыша он не хотел. Нет, только не это. Он хотел, как
вор, подглядывать за ним из-за забора, хотел приманить его
к себе, а если и этот мальчуган отвернется от него, тоща и
жить незачем.
По заросшей травой тропинке он неслышно отошел от
изгороди и удалился, держась в тени деревьев.
«От безделья мало проку», — с досадой подумал Вера¬
гут и ускорил шаги. Он вернулся к своему мольберту. Пре¬
одолевая отвращение и подчиняясь выработанной годами
привычке, он снова настроился на работу и обрел сосредо¬
точенность, которая не позволяет ходить вокруг да около и
все силы направляет на то, что нужно сделать в данный
момент.
В доме его ждали к обеду. Ближе к полудню он тщателй-
но переоделся. Выбритый, причесанный, в синем летнем ко¬
стюме, он выглядел не моложе, но свежее и элегантнее, чем
в потертом рабочем сюртуке. Взяв соломенную шляпу, он
16
хотел открыть дверь, но она сама распахнулась навстречу
ему, и вошел Пьер.
Верагут наклонился и поцеловал мальчика в лоб.
— Как дела, Пьер? Учитель хорошо с тобой позани¬
мался?
— Да, только с ним очень скучно. Коща он рассказывает
какую-нибудь историю, то не затем, чтобы развлечь меня, а
чтобы преподать урок. И заканчивает всеща одним и тем
же: хорошие дети должны вести себя так-то и так-то... Ты
рисовал, папа?
— Да. Видишь ли, я писал рыб. Скоро я закончу карти¬
ну, завтра ты сможешь ее посмотреть.
Он взял мальчика за руку и вышел с ним из дома. Ничто
не оказывало на него такое благотворное действие и не бу¬
доражило глубоко затаившуюся в нем доброту и беспомощ¬
ную нежность, как чувство, что он идет рядом с малышом,
подлаживается под его маленькие шажки и держит в своей
руке его легкую, доверчивую ручонку.
Коща они вышли из леса и оказались на поросшей тон¬
кими березами лужайке, мальчик огляделся и спросил:
— Папа, а мотыльки тебя боятся?
— С какой стати? Не думаю. Недавно один очень долго
сидел у меня на пальце.
— Да, но сейчас не видно ни одного. Иноща, коща я иду
к тебе совсем один и прохожу в этом месте, по пути мне
встречается много-много мотыльков, я знаю, это голубые
мотыльки, они узнают меня и смело подлетают совсем-со-
всем близко. А мотыльков можно кормить?
— Я думаю, можно. Давай в следующий раз попробуем.
Надо тихонечко вытянуть руку с капелькой меда на ладони,
тоща мотыльки прилетят и будут пить.
— Отлично, папа, давай попробуем. Только скажи маме,
пусть она даст мне немножко меду. Тоща она поймет, что
он мне на самом деле нужен и что это не глупости.
Опередив отца, Пьер вбежал в открытую дверь и помчал¬
ся по широкому коридору. Мальчик уже давно был у матери
и приставал к ней со своей просьбой, а ослепленный солнеч¬
ным светом Верагут еще долго искал в холодном полумраке
прихожей вешалку для шляпы и нащупывал рукой дверь в
столовую.
Художник вошел и пожал жене руку. Она была чуть
выше его ростом, у нее был здоровый вид и осанистая фи¬
гура. И хотя она не любила больше своего мужа, но все еще
17
воспринимала потерю его расположения как печальное, не¬
объяснимое и незаслуженное недоразумение.
— Можно садиться за стол, — спокойным голосом ска¬
зала она. — Пьер, иди вымой руки!
— А у меня новости, — художник протянул ей письмо
своего друга. — Скоро приедет Отто, и я надеюсь, что он
пробудет у нас некоторое время. Ты не против?
— Господин Буркхардт может занять две комнаты внизу,
там ему никто не станет мешать, он может входить и выхо¬
дить, коща захочет.
— Да, это хорошо.
Помедлив она сказала:
— Я считала, что он приедет значительно позже.
— Он раньше выехал, до сего дня я тоже ничего не знал
об этом. Что ж, тем лучше.
— Но он встретится здесь с Альбертом.
Когда Верагут услышал имя сына, с лица его исчезло
выражение удовлетворенности, а в голосе появились холод¬
ные нотки.
— Что случилось с Альбертом? — нервно воскликнул
он. — Разве он не собирался со своим другом отправиться
пешком в Тироль?
— Я не хотела тебе говорить об этом раньше — не было
нужды. Друга пригласили родственники, и он отказался от
похода. Альберт приедет, как только начнутся каникулы.
— И останется здесь на все время?
— Думаю, да. Я могла бы на пару недель уехать с ним
куда-нибудь, но тебе это будет неудобно.
— Почему же? Я мог бы взять Пьера к себе.
Госпожа Верагут пожала плечами.
— Прошу тебя, не заводи опять этот разговор! Ты же
знаешь, я не оставлю здесь Пьера одного.
Художник рассердился.
— Одного! — едко бросил он. — Коща я с ним, он не
один.
— Я не могу его здесь оставить, не могу и не хочу. Бес¬
полезно снова затевать этот спор.
— Ну разумеется, ты не хочешь!
Он умолк. Вернулся Пьер, и они пошли к столу. Маль¬
чик сидел между родителями, которые стали чужими друг
другу. Они ухаживали за ним, привычно беседовали, и отец
старался растянуть трапезу, так как после обеда малыш ос¬
18
тавался с мамой и не было никакой уверенности, что сегодня
он еще раз заглянет в мастерскую.
ГЛАВА ВТОРАЯ
В маленькой боковушке рядом с мастерской Роберт мыл
палитру и пучок кистей. В дверях появился Пьер. Он оста¬
новился и стал смотреть.
— Грязная это работа, — рассудил он спустя некоторое
время. — Вообще-то живопись — прекрасная штука. Но я
бы не хотел стать художником.
— А ты подумай как следует, — сказал Роберт. — У тебя
ведь отец — знаменитый художник.
— Нет, — решительно заявил мальчик, — это не для
меня. Всеща будешь перепачкан, да и краски пахнут ужас¬
но. Я этот запах люблю, коща он несильный, например ког¬
да в комнате висит только что законченная картина и едва
заметно пахнет краской; но в мастерской запах слишком
резкий, у меня начинает болеть голова.
Слуга бросил на него испытующий взгляд. Ему давно
уже хотелось высказать мальчику, что он о нем думает, по¬
журить его. Но когда Пьер был рядом, коща Роберт видел
его лицо, у него просто язык не поворачивался. Малыш был
так свеж, прелестен и серьезен, словно все с ним и в нем
было в полном порядке, и ему странным образом очень шел
этот легкий налет барского высокомерия и не по годам ран¬
него развития.
— И кем же в таком случае ты хотел бы стать, юноша? —
строго спросил Роберт.
Пьер опустил глаза и задумался.
— Ах, я, знаешь ли, вовсе не хочу быть кем-то особен¬
ным. Я только хочу, чтобы скорее кончились школьные за¬
нятия. А летом я хочу носить только белую одежду и белые
башмаки, и чтобы на них не было ни малейшего пятнышка.
— Так-так, — с укоризной проговорил Роберт. — Это
ты сейчас так говоришь. А вот недавно, коща ты прибегал
сюда, твой белый костюмчик был весь испачкан вишнями и
травой, а шапочку ты и вовсе потерял. Помнишь?
Пьер насупился. Он прищурил глаза, так что осталась
только узенькая щелка/ и смотрел сквозь длинные ресницы.
19
— Тоща мама меня за это отругала как следует, — не¬
торопливо пояснил он, — и я не думаю, что она поручила
тебе снова попрекать и мучить меня этим.
— Ты, значит, хочешь носить всеща белую одежду и
никоща не пачкать ее? — примирительно спросил Роберт.
— Да нет же, иноща можно. Как ты не понимаешь! Ко¬
нечно, мне хочется иноща поваляться в траве или в сене,
попрыгать по лужам или взобраться на дерево. Это же ясно.
Но я не хочу, чтобы меня ругали, коща я расшалюсь и
напрокажу. Тоща я хочу тихонько вернуться в свою комна¬
ту, надеть свежее, чистое платье, и чтобы все снова было
хорошо. Знаешь, Роберт, я думаю, что брань и в самом деле
не приносит никакой пользы.
— Не любишь, когда тебя бранят? Отчего же?
— Ну посуди сам: если ты сделал что-то нехорошее, то
потом сам понимаешь это и тебе стыдно. А когда тебя бра¬
нят, стыдишься значительно меньше. Иноща и не натво¬
ришь ничего, а тебя все равно отчитывают за то, что не
прибежал сразу, как только позвали, или потому что мама
в этот момент была не в духе.
— А ты сосчитай-ка да сравни, мой мальчик, — засме¬
ялся Роберт, — ты ведь наверняка делаешь немало дурного,
которое никто не видит и за которое тебя никто не бранит.
Пьер не ответил. Вечно повторяется одно и то же. Как
только дашь себя увлечь и заговоришь со взрослыми о чем-
нибудь по-настоящему важном, все кончается разочаровани¬
ем или даже унижением.
— Я хочу еще раз взглянуть на картину, — сказал он
тоном, неожиданно отдалившим его от слуги; Роберт мог
услышать в нем и приказание, и просьбу. — Впусти меня
на минутку в мастерскую, хорошо?
Роберт повиновался. Он отпер дверь мастерской, впу¬
стил Пьера и вошел следом, так как ему было строжайше
запрещено кого бы то ни было оставлять здесь одного.
На мольберте в центре просторного помещения стояла
новая картина Верагута, повернутая к свету и временно
вставленная в золоченую раму. Пьер остановился перед ней,
Роберт замер у него за спиной.
— Тебе нравится, Роберт?
— Разумеется, нравится. Что я, по-твоему, дурак, что ли?
Пьер посмотрел на картину и прищурился.
— Я думаю, — задумчиво сказал он, — мне можно по¬
казать множество картин, и я сразу узнаю, какая из них
20
папина. Вот почему я люблю его картины, я чувствую, что
их написал папа. Но, собственно говоря, нравятся они мне
только наполовину.
— Не говори глупостей, — испуганно предостерег ребен¬
ка Роберт и посмотрел на него с укоризной; однако Пьер,
мигая глазами, все еще неподвижно стоял перед картиной.
— Видишь ли, — сказал он, — там, в доме, висят не¬
сколько старых картин, они нравятся мне куда больше. По¬
том, коща я вырасту, у меня тоже будут такие картины.
Например, горы, коща заходит солнце, и все вокруг крас¬
ное и золотистое, и красивые дети, и женщины, и цветы.
Это же много приятнее, чем старый рыбак, у которого даже
лица как следует не видно, или эта черная, скучная лодка.
Разве не так?
В глубине души Роберт был того же мнения. Он дивился
и радовался искренности мальчика, но не хотел в этом при¬
знаться.
— Ты еще в этом не совсем разбираешься, — быстро в
проговорил он. — Пойдем, мне надо запереть мастерскую.
В этот момент со стороны дома внезапно послышался гул
мотора и скрежет колес.
— О, автомобиль! — радостно крикнул Пьер, выскочил
из домика и, не разбирая дороги, помчался, прыгая через
газоны и цветочные грядки, прямиком к господскому дому.
Запыхавшись, он подбежал к гравийной площадке у входа
и успел как раз вовремя: из автомобиля вылез отец и какой-
то незнакомый господин.
— Привет, Пьер, — крикнул папа и подхватил сына на
руки. — Со мной приехал дядя, которого ты еще не знаешь.
Подай ему руку и спроси, откуда он приехал.
Мальчик внимательно взглянул на незнакомца. Он про¬
тянул ему руку и увидел веселые светло-серые глаза.
— Откуда ты приехал, дядя? — послушно спросил он.
Незнакомец взял его на руки.
— Малыш, ты стал слишком тяжел для меня, — шутли¬
во вздохнул он и опустил Пьера на землю. — Откуда я
приехал? Из Генуи, а до того из Суэца, а до него из Адена,
а еще раньше...
— Из Индии, я знаю, знаю! Ты дядя Отто Буркхардт.
Ты привез мне тигра или кокосовых орехов?
— Тигр у меня вырвался и убежал, но кокосовые орехи
у тебя будут, а также ракушки и китайские картинки.
21
Они вошли в дом, и Верагут повел своего друга по лес¬
тнице наверх. Он ласково обнял за плечи Буркхардта, ко¬
торый был значительно выше ростом, чем художник. Навер¬
ху навстречу им вышла хозяйка. Она тоже встретила гостя
со одержанной, но искренней сердечностью. Его веселое,
здорового цвета лицо напомнило ей о незабываемых и радо¬
стных встречах прошедших лет. Он на миг задержал ее руку
в своей и заглянул ей в глаза.
— Вы совсем не изменились, госпожа Верагут, — похва¬
лил он. — Вы лучше сохранились, нежели Иоганн.
— Да и вы не изменились, — любезно ответила она.
Он засмеялся.
— Да, фасад у меня все такой же цветущий, но от танцев
пришлось постепенно отказаться. От них не было никакого
проку, я так и остался холостяком.
— Надеюсь, на сей раз вы появились в наших краях,
чтобы выбрать себе невесту?
— Нет, сударыня, с этим покончено. Не хочу портить
отношения с милой моему сердцу Европой. Вы знаете, у
меня есть родственники, и я постепенно превращаюсь в бо¬
гатого дядюшку. С женой я бы ни за что не решился пока¬
заться на родине.
В комнате госпожи Верагут был приготовлен кофе. Они
пили кофе с ликером и целый час провели в беседе о мор¬
ских путешествиях, о каучуковых плантациях, о китайском
фарфоре. На первых порах художник держался тихо и чув¬
ствовал себя немного подавленным, в этой комнате он не
бывал уже несколько месяцев. Но все складывалось хоро¬
шо, казалось, с приездом Отто в дом вошла легкая, веселая,
ребячливая атмосфера.
— Я думаю, моей жене сейчас надо немного отдохнуть, — ска¬
зал наконецхудожник. —Я покажу тебе твоикомнаты, Отто.
Они простились с хозяйкой и спустились в комнаты для
гостей. Верагут приготовил для своего друга две комнаты и
сам позаботился об обстановке — о мебели и всем осталь¬
ном, от картин на стене до книг в шкафу. Над кроватью
висела старая выцветшая фотография, забавный и трога¬
тельный снимок института в семидесятые годы. Гость заме¬
тил ее и подошел ближе.
— Бог ты мой, — удивленно воскликнул он, — да это
же мы в ту пору, все шестнадцать! Старик, ты меня растро¬
гал. Этот снимок я не видел лет двадцать.
Верагут улыбнулся.
22
— Да, я подумал, что он доставит тебе удовольствие.
Надеюсь, ты найдешь все, что нужно. Будешь распаковы¬
вать чемоданы?
Буркхардт уселся на огромный, с обитыми медью углами
баул и удовлетворенно огляделся.
— Здесь просто восхитительно. А ты ще обитаешь? Ря¬
дом? Или наверху?
Художник играл ручкой кожаной сумки.
— Нет, — вскользь бросил он. — Я живу рядом с мас¬
терской, в пристройке.
— Потом обязательно покажешь. А... а спишь ты тоже
там?
Верагут оставил в покое сумку и отвернулся.
— Да, и сплю там.
Буркхардт умолк и задумался. Затем он вытащил из кар¬
мана толстую связку ключей и зазвенел ими.
— Слушай, давай-ка распакуем чемоданы, аТ Ты не мог
бы сходить за малышом? Он будет рад.
■ Верагут вышел и вскоре вернулся с Пьером.
— У тебя такие замечательные чемоданы, дядя Отто, я
их уже разглядывал. А сколько на них наклеек! Некоторые
я прочитал. На одной написано «Пинанг». Что это значит —
«Пинанг»?
— Это город в Индокитае, я там иноща бываю. Смотри-
ка, а этот ты можешь открыть сам.
Он дал мальчику плоский, с многочисленными зубцами
ключ и попросил открыть замок одного из чемоданов.
Крышка открылась, и Пьер сразу увидел уложенную вверх
дном пеструю корзинку малайской работы. Коща корзинку
перевернули и освободили от обертки, в ней оказались пе¬
реложенные бумагой и ветошью фантастически красивые
ракушки, какие можно купить в приморских городах экзо¬
тических стран.
Пьер получил ракушки в подарок и совершенно ошалел
от счастья, но за ракушками последовал большой слон из
черного эбенового дерева, китайская игрушка с движущими¬
ся гротескными фигурками, вырезанными из дерева, и, на¬
конец, рулон ярких китайских рисунков с множеством изо¬
браженных на них богов, чертей, королей, воинов и драко¬
нов.
Пока художник с сыном любовались всеми этими веща¬
ми, Буркхардт распаковал кожаный саквояж и отнес в
23
спальню ночные туфли, белье, щетки и тому подобное. По¬
сле этого он вернулся к художнику с сыном.
— Ну, — весело сказал он, — поработали и хватит. По¬
ра и развлечься. Не сходить ли нам в мастерскую?
Пьер поднял глаза и снова, как в тот момент, коща подъ¬
ехал автомобиль, увидел растроганное, помолодевшее лицо
отца.
— Ты такой веселый, папа, — с похвалой сказал он.
— Да, — кивнул Верагут.
— А разве он не всеща такой веселый? — спросил Бурк¬
хардт.
Пьер смущенно перевел взгляд с одного на другого.
— Я не знаю, — нерешительно проговорил он. Но потом
засмеялся и уверенно сказал: — Нет, таким довольным ты
еще никогда не был.
Он убежал, держа в руках корзинку с ракушками. Отто
Буркхардт взял друга под руку и вышел с ним из дома.
Миновав парк, они подошли к мастерской.
— Да, тут пристройка, — подтвердил Отто. — Между
прочим, смотрится очень мило. Коща ты ее сделал?
— Я думаю, года три тому назад. Да и мастерская стала
просторнее.
Буркхардт огляделся.
— Озеро просто восхитительно! Вечером мы в нем иску¬
паемся. Славно тут у тебя, Иоганн. А сейчас покажи мне
мастерскую. Есть новые картины?
— Не так уж и много. Но одну ты должен посмотреть, я
закончил ее только позавчера. Мне кажется, она удалась.
Верагут отпер дверь. В просторной мастерской было по-
праздничному чисто прибрано, полы только что натерты. В
центре одиноко стояла новая картина. Они молча останови¬
лись перед* ней. Холодная, густая от влаги атмосфера пас¬
мурного дождливого утра никак не согласовывалась с ярким
светом и нагретым воздухом, проникавшим через открытые
двери в мастерскую.
Они долго рассматривали полотно.
— Это твоя последняя работа?
— Да. Надо вставить в другую раму, а так все готово.
Тебе нравится?
Они испытующе взглянули друг другу в глаза. Более
рослый и сильный Буркхардт напоминал большого ребенка,
у него был здоровый цвет лица и живой, веселый взгляд;
24
лицо художника обрамляли преждевременно поседевшие
волосы, глаза смотрели пристально и серьезно.
— Я думаю, это лучшая твоя картина, — задумчиво про¬
говорил гость. — Те, что в Брюсселе, я тоже видел, и оба
полотна в Париже. Трудно поверить, но за эти несколько
лет ты сильно продвинулся вперед.
— Рад твоим словам. Я тоже так думаю. Я основательно
потрудился, иноща мне кажется, что раньше я был просто
дилетантом. Работать по-настоящему я научился позже, но
теперь я умею это делать. И все же достичь большего мне
не дано. Написать лучше, чем вот это, я не смогу.
— Понимаю. Ну, ты и так достаточно знаменит, даже на
нашем старом пароходе, плывшем из Восточной Азии, я
слышал разговоры о тебе и очень тобой гордился. Так како¬
ва же она на вкус, слава? Радует она тебя?
— Я бы не сказал, что радует. Все это в порядке вещей.
Есть два, три, четыре художника, которые значат больше и
могут дать больше, чем я. К великим я себя никогда не
причислял, и то, что говорят об этом литераторы, — пол¬
нейшая чепуха. Я вправе требовать, чтобы меня принимали
всерьез, и если это происходит, я доволен. Все остальное —
газетная слава или вопрос заработка.
— Так-то оно так. Но кого ты имел в виду, коща говорил
о великих?
— Я имел в виду королей и князей живописи. Наш брат
поднимается до генерала или министра, дальше — потолок.
Видишь ли, все, что мы можем, — это прилежно трудиться
и как можно серьезнее относиться к природе. А короли —
это братья и товарищи природы, они играют с ней и могут
творить там, ще мы только подражаем. Но короли — штука
редкая, они появляются не каждое столетие.
Они прохаживались по мастерской. Подыскивая слова,
художник напряженно смотрел себе под ноги, его друг ша¬
гал рядом и пытался заглянуть в изможденное, загорелое
лицо Иоганна, на котором сильно выдавались скулы.
У дверей, ведущих в соседнюю комнату, Отто остано¬
вился.
— Открой-ка эту дверь, — попросил он, — и позволь
мне взглянуть на комнаты. Ты угостишь меня сигарой?
Верагут открыл дверь. Они прошли через комнату и ос¬
мотрели другие помещения. Буркхардт раскурил сигару.
Он вошел в маленькую спальню друга, увидел его кровать,
внимательно осмотрел несколько других скромно обставлен¬
25
ных комнат, в которых повсюду валялись принадлежности
живописца и курево. Вся обстановка была более чем скром¬
ная и говорила о труде и аскетизме — так, должно быть,
выглядело жилище бедного, прилежного подмастерья.
— Вот ще, значит, ты устроился! — сухо сказал Отто.
Но он видел и чувствовал все, что происходило здесь год за
годом. С удовлетворением он замечал предметы, говорив¬
шие об увлечении хозяина спортом, гимнастикой, верховой
ездой, но ему явно недоставало примет уюта, маленького
комфорта и со вкусом обставленного досуга.
Затем они вернулись в мастерскую. Вот, значит, ще ро¬
дились картины, занимающие на выставках и в художест¬
венных галереях самые почетные места, картины, за кото¬
рые, не скупясь, платят золотом; они родились в этих ком¬
натах, знающих только труд и самоотречение, лишенных
даже намека на праздничность и праздность, в них не най¬
дешь милых безделушек и мишуры, не почувствуешь запаха
вина и цветов, не ощутишь присутствия женщины.
Над узкой кроватью были прибиты две фотографии без
рамок, на одной был маленький Пьер, на другой он, Отто
Буркхардт. Снимок был неважный, любительский, он это
сразу заметил, Буркхардт был снят в тропическом шлеме на
фоне веранды его индийского дома, ниже груди расплыва¬
лось, превращаясь в мистические белые полоски, пятно: на
пластинку попал свет.
— Прекрасная у тебя мастерская. И вообще, ты стал
очень прилежен. Дай руку, дружище, как славно, что мы
снова встретились! Но я устал и хочу исчезнуть на часок.
Ты зайдешь за мной позже? Мы искупаемся или погуляем.
Хорошо, спасибо. Нет, мне ничего не нужно, через час я
снова буду в полном порядке. До свидания!
Он неторопливо побрел вдоль деревьев к дому, а Верагут
смотрел ему вслед и видел, как его фигура, походка и каж¬
дая складка одежды излучают уверенность и жизнелюбие.
Тем временем Буркхардт хотя и вернулся в господский
дом, но прошел не к себе, а поднялся по лестнице и постучал
в дверь госпожи Верагут.
— Я не помешал? Могу я немножко побыть с вами?
Она пригласила его войти, улыбнулась, и эта мимолет¬
ная, непривычная на ее сильном, строгом лице улыбка по¬
казалась ему странно беспомощной.
26
— Здесь, в Росхальде, восхитительно. Я побывал в пар¬
ке и у озера. А как вырос Пьер! Славный мальчуган! Увидев
его, я почти пожалел, что остался холостяком.
— Он хорошо выглядит, не правда ли? Как вы думаете,
он похож на моего мужа?
— Немножко похож. Собственно говоря, даже больше,
чем немножко. В таком возрасте мне не довелось видеть
Иоганна, но я хорошо помню, как он выглядел в одинна-
дцать-двенадцать лет... Кстати, мне кажется, что он слегка
переутомился. Что? Нет, я говорю об Иоганне. Он много
работал в последнее время?
Госпожа Адель посмотрела ему в глаза; она почувствова¬
ла, что он хочет кое-что выведать.
— Я полагаю, это так, — спокойно сказала она. — Он
очень редко говорит о своей работе.
— А что он сейчас пишет? Пейзажи?
— Он часто работает в парке, как правило, пишет с на¬
туры. Вы видели его картины?
— Да, те, что в Брюсселе.
— Разве он выставил свои полотна в Брюсселе?
— Да, и немало. Я привез каталог. Видите ли, я хотел
бы приобрести одну из них и был бы рад услышать, что вы
думаете об этой вещи?
Он протянул ей каталог и показал на маленькую репро¬
дукцию. Она внимательно разглядела ее, полистала каталог
и вернула его Буркхардту.
— Ничем не могу вам помочь, господин Буркхардт, мне
эта картина неизвестна. Я думаю, он написал ее прошлой
осенью в Пиренеях, но сюда не привозил.
Она выдержала паузу и сменила тему:
— Вы привезли Пьеру много подарков, очень мило с
вашей стороны. Я благодарю вас.
— О, это пустяки. Но я прошу вашего позволения и вам
подарить что-нибудь на память об Азии. Вы не против? Я
привез кое-какие ткани. Хотите, я покажу их вам и вы вы¬
берете то, что вам понравится?
Ему удалось преодолеть ее вежливое сопротивление, за¬
вязать шутливый обмен галантными любезностями и приве¬
сти замкнутую женщину в хорошее расположение духа. Из
своих запасов он выбрал и принес наверх целую охапку
индийских тканей, разложил малайский батик и холсты
ручной выработки, повесил на спинки стульев кружева и
шелка и при этом не переставая рассказывал, ще он увидел
27
и купил — почти бесплатно — ту или иную материю, в
общем, устроил маленький базар, веселый и пестрый. Он
советовался с ней, развешивал у нее на руках кружева, объ¬
яснял, как они изготовлены, заставлял ее развернуть самые
красивые ткани, полюбоваться ими, пощупать, похвалить и,
наконец, оставить их у себя.
— Нет, — смеясь, воскликнула она под конец. — Эдак
я сделаю вас нищим. Я никак не могу оставить все это у
себя.
— Пусть вас эго не беспокоит, — со смехом возразил он. —
Недавно я посадил еще шесть тысяч каучуковых деревьев и
скоро стану богат, как набоб.
Коща Верагут зашел за ним, он застал обоих за ожив¬
ленной беседой. Удивившись тому, какой словоохотливой
стала его жена, Верагут без всякого успеха попытался ввя¬
заться в разговор и принялся неуклюже расхваливать по¬
дарки.
— Оставь, это все дамские дела, — обратился к нему
друг. — Пойдем-ка лучше искупаемся!
И он вывел Верагута из дома.
— Твоя жена и впрямь ничуть не постарела со времени
нашей последней встречи, — начал Отто, шагая рядом. —
Только что она выглядела чрезвычайно довольной. Значит,
у вас в общем и целом все хорошо. Остается только старший
сын. Что он поделывает?
Художник пожал плечами и сдвинул брови.
— Ты его увидишь, он на днях приезжает. Я как-то пи¬
сал тебе о нем.
Внезапно он остановился, наклонился к другу, присталь¬
но посмотрел ему в глаза и тихо проговорил:
— Ты все увидишь сам, Отто. У меня нет желания об
этом говорить. Увидишь сам... Будем веселиться, пока ты
здесь, дружище! А сейчас пойдем к озеру; я хочу снова по¬
плавать с тобой наперегонки, как в детстве.
— Давай попробуем, — кивнул Буркхардт, делая вид,
что не замечает нервозности Иоганна. — И ты меня обста¬
вишь, мой милый, хотя раньше тебе это не всеща удавалось.
Очень жаль, но у меня и впрямь наметилось брюшко.
День клонился к закату. Озеро тихо покоилось в тени
деревьев, в их кронах играл слабый ветерок, по узкой поло¬
ске синего неба над озером плыли легкие лиловые облака,
все одинакового вида и формы, семья за семьей, тонкие и
вытянутые в длину, словно ивовые листья. Художник и его
28
друг стояли у скрытой посреди кустарника будки для пере¬
одевания, дверь которой никак не хотела открываться.
— Ну, хватит, — воскликнул Верагут. — Замок заржа¬
вел. На кой ляд нам эта будка!
Он начал раздеваться. Буркхардт последовал его приме¬
ру. Коща они уже стояли на берегу и пробовали ногой спо¬
койную, затененную воду, на них вдруг повеяло сладо¬
стным, счастливым дыханием далекого детства, они на ми¬
нуту замерли в предвкушении легкого, благостного сопри¬
косновения с водой, и в их душах тихо открылась изумруд¬
ная, вся залитая солнцем летняя долина времен их юности;
молча, повинуясь непривычному порыву чувства, они с лег¬
ким смущением окунули ноги в воду и смотрели, как на
темно-зеленой поверхности торопливыми полукружьями по¬
блескивает вода.
Наконец Буркхардт решительно шагнул в воду.
— До чего же хорошо, — с наслаждением выдохнул он. —
Между прочим, мы всё еще неплохо смотримся, и если не
принимать во внимание мое брюшко, то нам обоим не отка¬
жешь в стройности.
Он поплыл, работая руками, тряхнул головой и нырнул.
— Ты и не знаешь, как славно тут у тебя! — с завистью
воскликнул он. — Через мои плантации протекает прекрас¬
ная река, но только сунь в нее ногу — и больше ее не уви¬
дишь: кишит проклятыми крокодилами. Л сейчас вперед, и
посмотрим, кому достанется большой приз Росхальде! По¬
плывем до вон той лестницы и обратно. Ты готов? Итак:
раз... два... три!
Они с шумом оттолкнулись и, смеясь, поплыли умерен¬
ным темпом, но над ними все еще витали образы детства, и
они тотчас же принялись состязаться всерьез, лица их на¬
пряглись, глаза засверкали, руки широкими взмахами рас¬
секали воду. Они одновременно достигли лестницы, одно¬
временно оттолкнулись от нее и устремились тем же путем
обратно, и тут мощными гребками художник вырвался впе¬
ред и на мгновение раньше пришел к финишу.
Тяжело дыша, они стояли в воде, вытирали глаза и мол¬
ча, удовлетворенно улыбались друг другу; обоим казалось,
что только сейчас они снова стали старыми товарищами и
только сейчас начала исчезать маленькая, фатальная про¬
пасть отчуждения, разделявшая их.
Одевшись, с посвежевшими лицами и облегченной ду¬
шой сидели они рядышком на плоских каменных ступенях
29
ведущей к воде лестницы, смотрели на темную поверхность
озера, которое на противоположной стороне, ще была
овальная бухточка с нависшими над водой кустами, уже те¬
рялось в темно-коричневых сумерках, лакомились крупны¬
ми ярко-красными вишнями из коричневого бумажного
кулька, который они взяли у слуги, и с легким сердцем
наблюдали за наступлением вечера, пока горизонтальные
лучи заходящего солнца все еще пробивались сквозь кроны
деревьев и золотистыми отблесками сверкали на прозрач¬
ных крылышках стрекоз. Целый час они не переставая, пе¬
рескакивая с предмета на предмет, болтали о годах своего
учения, об учителях и былых школьных товарищах, о том,
кто и кем стал.
— Боже мой, — спокойным, бодрым голосом сказал От¬
то Буркхардт, — как давно все это было. Ты не знаешь, что
стало с Метой Хайлеман?
— С Метой Хайлеман? — нетерпеливо подхватил Вера¬
гут. — Вот уж была красавица! В моих тетрадках не пере¬
честь ее портретов, на уроках я тайком рисовал ее на про¬
мокашках. Только волосы у меня никак не получались. По¬
мнишь, она их укладывала баранками над ушами.
— Ты что-нибудь знаешь о ней?
— Ничего. Коща я первый раз вернулся из Парижа, она
была помолвлена с одним адвокатом. Я встретил ее, когда
она шла со своим братом по улице, и до сих пор помню, как
я злился на себя, что сразу покраснел и снова почувствовал
себя маленьким глупым школяром, несмотря на свои усы и
на то, что прошел огонь и воду в Париже... Одно плохо —
ее звали Мета! Я терпеть не мог этого имени!
Буркхардт задумчиво покачал круглой головой.
— Ты был недостаточно влюблен, Иоганн. Что до меня,
то Мета была прекрасна. Зовись она даже Евлалией, я бро¬
сился бы в огонь за один только ее взгляд.
— О, я тоже был влюблен по уши. Однажды, коща я
возвращался с вечерней прогулки — я нарочно припозднил¬
ся, чтобы остаться одному и не думать ни о чем другом,
только о Мете, мне было наплевать на то, что меня могут
наказать за опоздание, — она попалась мне навстречу, там,
возле круглой стены. Она опиралась на руку своей подруги,
и, коща я вдруг представил себе, что на месте этой глупой
курицы мог оказаться я сам, держать ее за руку и быть
совсем близко к ней, я так растерялся, что у меня голова
пошла кругом и мне пришлось остановиться и прислониться
30
к стене. А коща я наконец вернулся домой, ворота и точно
оказались заперты, мне пришлось звонить, и меня на целый
час посадили под арест.
Буркхардт улыбался и думал о том, что во время своих
редких встреч они уже не раз вспоминали об этой Мете.
Тоща, в юности, каждый из них с помощью хитростей и
уловок пытался утаить свою любовь, и только годы спустя,
уже став мужчинами, они при случае приоткрывали завесу
и обменивались своими маленькими переживаниями. Но в
этом деле еще и сегодня оставались тайны. Именно сейчас
Отто Буркхардт вспомнил о том, что он тоща несколько
месяцев хранил у себя и почитал, как талисман, перчатку
Меты, которую он нашел или, точнее, стащил и о которой
его друг до сих пор ничего не знал. А не рассказать ли
сейчас и эту историю, подумал Буркхардт, но хитро улыб¬
нулся и промолчал, решив, что будет лучше, если он и даль¬
ше сохранит это последнее маленькое воспоминание для се¬
бя одного.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Сдвинув на затылок просторную панаму, Буркхардт
удобно расположился в желтом плетеном кресле. Держа в
руках журнал, он сидел в освещенной солнцем беседке,
расположенной на запад от мастерской, курил и читал;
рядом на низеньком складном стульчике примостился пе¬
ред мольбертом Верагут. На холсте была набросана фигу¬
ра читающего, большие живописные пятна уже были нане¬
сены, художник работал над лицом, и вся картина ликую¬
ще сияла светлыми, легкими, солнечными, но отнюдь не
кричащими тонами. Остро пахло масляной краской и га¬
ванской сигарой, спрятавшиеся в листве птицы издавали
тонкие, приглушенные полуденным зноем крики и пели
свои мечтательно-сонные беззаботные песенки. На полу
сидел, склонившись, Пьер и задумчиво водил тонким
пальчиком по большой географической карте.
— Не спать! — громко напомнил художник.
Буркхардт зажмурился, улыбнулся и покачал головой.
— Ты ще сейчас находишься, Пьер? — спросил он маль¬
чика.
— Погоди, я сначала прочитаю, — живо отозвался Пьер
и стал читать по слогам. — В Лю... Люцер... в Люцерне.
31
Там есть озеро или море. Скажи, дядя, оно больше, чем
наше озеро?
— Много больше! Раз этак в двадцать! Тебе бы надо там
побывать.
— Разумеется. Коща у меня будет автомобиль, я поеду
в Вену, и в Люцерн, и к Северному морю, и в Индию, ще
ты живешь. Ты будешь дома?
— Конечно, Пьер. Я всеща дома, коща у меня гости. Мы
навестим мою обезьяну. Это самец, его зовут Пендек, и ÿ
него нет хвоста, но зато есть белоснежные бакенбарды; за¬
тем мы возьмем ружья, сядем в лодку и поедем охотиться
на крокодилов.
Пьер от удовольствия покачивался из стороны в сторо¬
ну. А дядя продолжал рассказывать о своих плантациях в
малайских джунглях, и говорил он так занятно и так
долго, что мальчик в конце концов устал и уже не поспе¬
вал за рассказом. Он снова склонился над своей картой;
зато его отец продолжал внимательно слушать разговорив¬
шегося друга, который неторопливо и спокойно рассказы¬
вал о работе и об охоте, о поездках верхом и на лодке, о
легких прелестных селениях из бамбука, в которых живут
кули, об обезьянах, цаплях, орлах и мотыльках, и его
тихая уединенная жизнь в тропическом лесу была, на
взгляд художника, такой соблазнительной и таинственной,
что ему казалось, будто он разглядывает в щелку богатый,
пестрый и благословенный райский уголок. Он слушал
рассказы о спокойных, могучих реках в джунглях, о за¬
рослях высоченных папоротников и бескрайних, колышу¬
щихся под ветром равнинах, поросших диковинной травой
в рост человека, о переливающихся красками вечерах на
берегу моря, о коралловых островах и голубых вулканах,
о диких, неистовых ливнях и сверкающих грозах, о мечта¬
тельно-задумчивой дремоте на широких тенистых верандах
белых плантаторских домиков, о сутолоке китайских горо¬
дов и о часах вечернего покоя на берегу выложенного
камнем пруда рядом с мечетью на одном из островов Ма¬
лайского архипелага.
И снова, как уже бывало не раз, Верагут размечтался о
далекой стране, в которой жил его друг. Он не догадывался,
насколько влечения и потаенные желания его души совпа¬
дают со скрытыми намерениями Буркхардта. Его влекли к
себе, наполняя душу тоской, не только блеск тропических
морей и островных побережий, не только буйство лесов и
32
рек и пестрота полуголых первобытных народов, но и в еще
большей мере удаленность и спокойствие края, в котором
его страдания, заботы, борьба и лишения поблекнут и отой¬
дут на задний план, с души спадут сотни мелких повседнев¬
ных обязанностей, и он очутится в новой и чистой атмосфе¬
ре, свободной от вины и мучений.
День клонился к вечеру, тени становились длиннее.
Пьер давно убежал, Буркхардт постепенно затих и нако¬
нец задремал, но картина была почти готова, и художник
смежил на минуту усталые глаза, уронил руки и с почти
благоговейным усердием впитывал в себя глубокую, про¬
гретую солнцем тишину и близость друга, наслаждаясь
целительной усталостью после удавшейся работы и прият¬
ным чувством нервной разрядки. Помимо упоения творче¬
ством и самоотверженной работы, эти приятные мгновения
усталой расслабленности, напоминающие безмятежные су¬
меречные состояния между сном и бодрствованием, уже
давно приносили ему, пожалуй, самое глубокое и самое
отрадное удовлетворение.
Стараясь не разбудить Буркхардта, Верагут тихонько
поднялся и осторожно отнес мольберт в мастерскую. Там он
снял холщовый халат, вымыл руки и сполоснул холодной
водой слегка уставшие глаза. Спустя четверть часа он вы¬
шел из мастерской, бросил короткий испытующий взгляд на
лицо спящего друга и разбудил его знакомым свистом —
двадцать пять лет тому назад этот свист служил им тайным
сигналом и опознавательным знаком.
— Надеюсь, ты выспался, старина, и теперь сможешь
рассказать мне еще кое-что о своих краях, — ободряюще
попросил он. — За работой я слушал тебя вполуха. Ты го¬
ворил о фотографиях; если ты взял их с собой, мы могли
бы взглянуть на них.
— Само собой. Пошли!
Отто Буркхардт много дней ждал этой минуты. Уже дав¬
но он мечтал заманить Верагута в Восточную Азию — пусть
поживет там какое-то время. Теперь, коща ему представи¬
лась последняя возможность, Буркхардт основательно под¬
готовился к этому разговору заранее. Коща они сидели в
комнате Буркхардта и в вечерних сумерках беседовали об
Индии, он доставал из своего чемодана все новые альбомы
и папки с фотографиями. Художник был восхищен и пора¬
жен их полнотой и многообразием, Буркхардт сохранял
спокойствие и, казалось, не придавал всем этим листкам
2 4-161
33
особого значения, но втайне с большим нетерпением ждал,
как отреагирует на них художник.
— Какие прекрасные снимки! — Верагут не скрывал
удовольствия. — Ты сам их делал?
— Часть из них сам, — равнодушно отозвался Бурк¬
хардт, — но некоторые принадлежат моим тамошним зна¬
комым. Мне хотелось показать тебе, какие у нас ланд¬
шафты.
Он проговорил это как бы между прочим и с равно¬
душным видом уложил снимки в стопку; Верагуту и в
голову не могло прийти, с каким трудом и тщанием соби¬
рал его друг эту коллекцию. Он на несколько недель при¬
гласил к себе молодого английского фотографа из Синга¬
пура, позже к ним присоединился японец из Бангкока,
они совершали экскурсии и небольшие путешествия к мо¬
рю и в глубь лесов и фотографировали все, что привлека¬
ло их внимание своей красотой, потом снимки были тща¬
тельно проявлены и напечатаны. Они служили Буркхард-
ту наживкой, он с глубоким волнением видел, что его друг
клюнул и попался на крючок. Буркхардт показывал сним¬
ки домов, улиц, деревень, храмов, фотографии сказочных
пещер бату близ Куала-Лумпура и захватывающие вообра¬
жение хрупкие известковые и мраморные горы в районе
Ипо, а коща Верагут спросил, нет ли у Буркхардта фото¬
графий туземцев, тот вытащил снимки малайцев, китай¬
цев, тамилов, арабов, яванцев, обнаженных, атлетически
сложенных портовых кули, изможденных старых рыбаков,
охотников, крестьян, ткачей, торговцев, красивых женщин
в золотых украшениях, голых смуглых детишек, рыба-
код с сетями, саков с серьгами в ушах, играющих носом
на флейте, яванских танцовщиц, с ног до головы уве¬
шанных серебряными украшениями. У него были сним¬
ки всех сортов пальм, банановых деревьев с сочными и
крупными листьями, уголков леса, заросшего вьющими¬
ся растениями, священных храмовых рощ, черепашьих
прудов, буйволов на залитых водой рисовых полях, при¬
рученных слонов за работой и слонов диких, играющих
в воде и издающих трубные звуки вытянутыми вверх
хоботами.
Художник брал в руки фотографию за фотографией.
Многие он сразу откладывал в сторону, некоторые раскла¬
дывал перед собой, сравнивал, приложив ладонь к глазам,
внимательно разглядывал отдельные фигуры и головы. Он
34
спрашивал, в какое время дня сделана та или иная фотогра¬
фия, измерял длину теней и все больше погружался в за¬
думчивое созерцание.
— Все это можно было бы написать, — пробормотал он
про себя.
— Ну, хватит! — наконец со вздохом воскликнул он. —
Тебе придется еще о многом мне рассказать. Чудесно, что
ты здесь, со мной! Я снова смотрю на все другими глазами.
Пойдем прогуляемся часок, я покажу тебе кое-что любопыт¬
ное.
В приподнятом настроении, забыв об усталости, он увлек
Буркхардта с собой на прогулку. Они шли проселочной до¬
рогой к полю, навстречу им попадались телеги, груженные
сеном. Верагут с наслаждением вдыхал густой терпкий за¬
пах сена — оно напоминало ему о прошлом.
— Ты еще не забыл лето после нашего первого семестра
в академии? — спросил он смеясь. — Мы вместе провели
его в деревне. Я тогда писал сено, одно только сено, по¬
мнишь? Две недели я пытался изобразить пару копен сена
на лужайке посреди гор, но у меня как на зло ничего не
выходило, я никак не мог подобрать цвет — неброский, ту¬
склый, сероватый. А когда я наконец его подобрал — не
скажу, что получилось нечто уж очень изысканное, просто
я узнал, что нужно смешать красную краску с зеленой, —
то был так рад, что ничего, кроме сена, вокруг себя не ви¬
дел. Ах, как они были хороши, эти первые пробы, поиски
и находки!
— Как говорится, век живи, век учись, — сказал Отто.
— Так-то оно так. Но то, над чем я сегодня ломаю
голову, не имеет ничего общего с техникой. Понимаешь, с
некоторых пор со мной все чаще случаются странные ве¬
щи: стоит мне обратить внимание на какой-нибудь вид —
и я тут же вспоминаю свое детство. Тоща все выглядело
по-другому, и я хотел бы передать это свое ощущение в
картине. Иноща мне удается на несколько минут воссоз¬
дать прошлое, и все вдруг снова обретает необыкновенный
блеск, но этого мне мало. У нас много хороших художни¬
ков, это деликатные, утонченные люди, они изображают
мир таким, каким он видится умному, чуткому, скромному
пожилому человеку. Но у нас нет никого, кто бы увидел
его свежим взглядом гордого, породистого ребенка. Те же,
что пытаются это сделать, — большей частью никудышные
ремесленники.
2*
35
Задумавшись, он сорвал росшую на краю поля красно-
вато-синюю скабиозу и стал ее разглядывать.
— Тебе не скучно? — внезапно, словно очнувшись, спро¬
сил он и недоверчиво взглянул на друга.
Отто молча улыбнулся в ответ.
— Видишь ли, — продолжал художник, — одна из кар¬
тин, которую я хочу написать, должна изображать букет
полевых цветов. Моя мать умела составлять такие букеты,
каких мне нище больше не доводилось видеть, в этом деле
она была просто гений. Она вела себя как ребенок и пела не
переставая, у нее была легкая походка, а на голове большая
соломенная шляпа буроватого цвета, только такой я вижу ее
в своих снах. Я хочу написать коща-нибудь такой букет
полевых цветов, какие она любила: скабиозы, тысячелист¬
ник, маленький розовый вьюнок, несколько тонких трави¬
нок между ними и зеленый колосок овса. Я приносил домой
сотни таких букетов, но все это было не совсем то, в них не
было настоящего запаха, букет должен быть таким, каким
делала их моя мать. Белые тысячелистники, например, ей
не нравились, она брала только нежные, с лиловатым оттен¬
ком, они редко встречаются. Из тысячи травинок она могла
часами выбирать одну-единственную... Да что говорить, ты
все равно не поймешь.
— Да уж пойму как-нибудь, — кивнул Буркхардт.
— Да, над этими букетами полевых цветов я иногда
могу полдня провести в раздумье. Я точно знаю, какой
будет картина. Не вот этим хорошо знакомым кусочком
природы, увиденным хорошим наблюдателем и в упрощен¬
ном виде воссозданным рукой умелого художника, и не
прелестно-сентиментальной миниатюрой в духе так назы¬
ваемых «певцов родного края»*. Это должна быть наивная
картина, какой ее видят талантливые дети, предельно про¬
стая и лишенная какой бы то ни было стилизации. Полот¬
но с рыбами в тумане, стоящее в мастерской, — прямая
противоположность задуманному... Но нужно уметь делать
и то, и другое... Я хочу еще многое написать, многое!
Они свернули на узенькую луговую тропку, которая,
слегка поднимаясь, вела к округлому пологому холму.
— А теперь смотри внимательно! — с горячностью воск¬
ликнул Верагут и пристально, как охотник, высматриваю¬
щий добычу, уставился перед собой. — Сейчас мы подни¬
мемся наверх! Этот пейзаж я буду писать осенью!
36
Они поднялись на пригорок. На той стороне взгляд упер¬
ся в лиственную рощу, просвечиваемую косыми лучами ве¬
чернего солнца. Привыкшие к чистому широкому простору
глаза с трудом продирались сквозь деревья. Тропинка вела
к высоким букам, под которыми стояла каменная, поросшая
мхом скамейка, за ней взгляду открывалась сверкающая
свежестью безмятежная даль в обрамлении темных крон,
виднелась поросшая ивняком и кустами долина, поблески¬
вала изогнутая синевато-зеленая полоска реки, а за горизон¬
том терялись в бесконечности цепи холмов.
Верагут показал глазами вниз.
— Вот это я буду писать, как только зацветут буки. А на
скамейку, в тени, я посажу Пьера, так, чтобы за его головой
была видна долина.
Буркхардт слушал друга молча, сердце его сжималось
от сострадания. «Как он старается обмануть меня! — ду¬
мал Буркхардт, пряча улыбку. — Соловьем заливается о
работе, о планах! Раньше он этого не делал. Похоже, он
старательно перечислял все то, что еще приносит ему ра¬
дость и примиряет с действительностью». Зная Верагута,
Буркхардт не торопил его. Он был уверен, что очень
скоро Иоганн стряхнет с души годами копившийся груз и
наконец заговорит. Стараясь казаться невозмутимым, он
терпеливо шел рядом и с грустью думал о том, что даже
такой уверенный в себе человек, как Верагут, в несчастье
ведет себя как ребенок и бредет по тернистому своему
пути с завязанными глазами и связанными руками.
Коща они вернулись в Росхальде и спросили о Пьере,
им ответили, что мальчик вместе с госпожой Верагут уехали
в город встречать господина Альберта.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Альберт Верагут взволнованно ходил по комнате, в ко¬
торой стоял рояль его матери. На первый взгляд казалось,
что он похож на отца, глаза у него были отцовские, но куда
больше он напоминал свою мать, которая стояла, опершись
на рояль, и не сводила нежных и внимательных глаз с сына.
Коща он в очередной раз проходил мимо, она положила
руку ему на плечо и повернула лицом к себе. С высокого,
бледного лба Альберта свисал белокурый локон, глаза по-
37
мальчишески возбужденно сверкали, а красивые пухлые гу¬
бы недовольно кривились.
— Нет, мама, — запальчиво крикнул он и вырвался из
ее рук, — ты же знаешь, я не могу к нему идти. К чему
ломать эту нелепую комедию? Он знает, что я его ненавижу,
да и он ненавидит меня, что бы ты об этом ни говорила.
— Ненавидит! — с едва заметной строгостью в голосе
воскликнула госпожа Верагут. — Не употребляй подобные
слова, они всё представляют в ложном свете! Он твой отец,
и было время, коща он тебя очень любил. Я запрещаю тебе
так говорить.
Альберт остановился и посмотрел на нее горящим взгля¬
дом.
— Ты можешь запрещать мне произносить слова, само
собой, но что от этого изменится? Мне что же — благода¬
рить его? Он испортил тебе жизнь, а меня лишил родины,
наше прекрасное, веселое, великолепное имение он сделал
неуютным и неприятным. Я здесь вырос, мама, случается,
я ночи напролет мечтаю о старых комнатах и коридорах, о
саде, о конюшне и голубятне. У меня нет другой родины,
которую я мог бы любить, о которой мог бы мечтать и тос¬
ковать. Я вынужден жить на чужбине и даже в каникулы не
могу пригласить к себе друга — ни к чему ему видеть, какую
жизнь мы здесь ведем! Кто бы ни познакомился со мной,
кто бы ни услышал мою фамилию, тут же начинает петь
хвалу моему отцу. Ах, мама, лучше бы у нас вообще не было
ни отца, ни Росхальде, лучше бы мы были бедны и ты шила
бы или давала уроки, а я помогал бы тебе зарабатывать
деньги.
Госпожа Верагут силой усадила его в кресло, села к нему
на колени и поправила растрепанные волосы сына.
— Вот, значит, — сказала она низким, спокойным голо¬
сом, который был для него родиной и приютом, — вот, зна¬
чит, ты и высказал все. Иноща не мешает выложить то, что
накипело. Надо отдавать себе отчет в том, что тебе суждено
вынести на своих плечах. Но нельзя копаться в том, что
причиняет боль, сынок. Ты уже одного роста со мной, скоро
станешь мужчиной, и я рада этому. Ты мое дитя и будешь
им всегда, но, видишь ли, я часто остаюсь одна, на мне
много забот, поэтому я нуждаюсь в дружбе настоящего муж¬
чины, и этим мужчиной будешь ты. Мы будем с тобой иг¬
рать в четыре руки, гулять в саду и присматривать за Пье¬
ром, вместе мы прекрасно проведем каникулы. Только не
38
надо поднимать шум и еще больше осложнять мне жизнь, i
иначе я подумаю, что ты еще подросток и что пройдет нема- :
ло времени, пока у меня появится умный друг, который мне >
так нужен.
— Да, мама, да. Но разве обязательно все время молчать
о том, что причиняет боль?
— Лучше всего молчать, Альберт. Это не легко, от детей i
этого не требуют. Но лучше всего молчать. Хочешь, сыграем
что-нибудь?
—-С удовольствием. Ты любишь Бетховена, вторую сим- i
фонию?
Едва они начали играть, как тихо открылась дверь и в
комнату проскользнул Пьер. Он сел на табурет и стал слу- :
шать. При этом он задумчиво разглядывал своего брата, его
шелковый спортивный воротник, видел, как в ритме музыки :
движутся его руки и вихор на голове. Сейчас, коща он не <
видел глаз брата, его поразило сходство Альберта с ма- :
терью.
— Тебе нравится? — спросил Альберт во время паузы. :
Пьер только кивнул в ответ и тут же тихонько вышел из
комнаты. В вопросе Альберта ему почудился тот тон, кото¬
рым — он знал это по собственному опыту — взрослые раз- <
говаривают с детьми; он терпеть не мог лживой ласковости ;
и неуклюжего высокомерия этого тона. Пьер любил старше- i
го брата, с нетерпением ждал его приезда и радостно ветре- :
тил его на вокзале. Но разговаривать с ним в таком тоне он i
не собирался.
Тем временем Верагут и Буркхардт ждали Альберта в 1
мастерской: Буркхардт — с нескрываемым любопытством,
художник — нервничая и смущаясь. Его мимолетное радост¬
ное настроение и разговорчивость разом улетучились, коща
он узнал о приезде Альберта.
— Разве„он приехал неожиданно? — спросил Отто.
— Нет, не думаю. Я знал, что он должен приехать на :
днях.
Верагут вынул из коробки со всякой всячиной старые i
фотографии. Он нашел среди них карточку мальчика и стал
сравнивать ее со снимком Пьера.
— Это Альберт в том же возрасте, в каком сейчас малыш, i
Ты помнишь его?
— Как же, хорошо помню. На снимке он точно такой, '
каким был в жизни. Очень похож на твою жену.
— Больше, чем Пьер?
39
— Да, гораздо больше. Пьер не похож ни на тебя, ни на
мать. А вот, кстати, и он сам. Или это Альберт? Нет, не
может быть.
Послышались легкие шажки по каменным плитам и ме¬
таллической решетке перед дверью, вздрогнула и, чуть по¬
медлив, пошла вниз дверная ручка, и вошел Пьер. Он быс¬
тро окинул комнату вопрошающе-ласковым взглядом, как
бы спрашивая, рады ли ему.
— А ще же Альберт? — спросил отец.
— У мамы. Они играют в четыре руки.
— Ах вот как, он играет.
— Ты сердишься, папа?
— Нет, Пьер, хорошо, что ты пришел. Расскажи нам
что-нибудь!
Мальчик увидел фотокарточки и взял их в руки.
— О, это я! А это? Неужели Альберт?
— Да, это Альберт. Так он выглядел, коща ему было
столько же лет, сколько сейчас тебе.
— Тоща меня еще не было на свете. А теперь он вырос,
и Роберт уже говорит ему «господин Альберт».
— А тебе тоже хотелось бы стать взрослым?
— Да, пожалуй. У взрослых есть лошади, и они могут
путешествовать, я тоже хочу путешествовать. Коща я стану
большим, никто не будет называть меня «малыш» и трепать
по щеке. И все же я не хочу быть взрослым. Старые люди
бывают очень неприятны. Альберт тоже стал другим. А ког¬
да старые люди еще больше стареют, они в конце концов
умирают. Пусть уж лучше я буду такой, как сейчас, а иноща
мне хочется взлететь вместе с птицами над деревьями и под¬
няться к облакам. Вот тогда бы я посмеялся над людьми.
— И надо мной, Пьер?
— Иноща, папа. Старые люди иноща такие смешные.
Мама еще не так. Мама часто лежит в саду в качалке и
ничего не делает, а только смотрит на траву, руки у нее
свисают вниз, и вся она такая спокойная и немного груст¬
ная. Хорошо, коща тебе не надо все время что-нибудь де¬
лать.
— А тебе разве не хочется стать кем-нибудь? Архитекто¬
ром, или садовником, или, может быть, художником?
— Нет, совсем не хочется. Садовник у нас уже есть и дом
тоже. Мне хочется уметь делать совсем другие вещи. Я хочу
понять, о чем говорят друг другу малиновки. И я хочу ког-
да-нибудь подсмотреть, как деревья пьют корнями воду и
40
почему вырастают такие большие. Я думаю, этого никто не
знает. Учитель знает массу всякой всячины, но это все скуч¬
ные вещи.
Он взобрался на колени к Отто Буркхардту и принялся
играть с пряжкой его ремня.
— Нам многое не дано знать, — ласково сказал Бурк¬
хардт. — Многое можно только увидеть и быть довольным,
что это так красиво. Коща ты однажды захочешь приехать
ко мне в Индию, ты будешь много дней плыть на большом
корабле, а перед кораблем будут выпрыгивать из воды ма¬
ленькие рыбки, у них есть прозрачные крылышки, и они
умеют летать. Иноща прилетают и птицы, они прилетают с
очень-очень далеких неведомых островов, страшно устают в
пути, садятся на корабль и удивляются, что по морю плывут
куда-то столько незнакомых людей. Им тоже хочется понять
нас, спросить, откуда мы и как нас зовут, но они не могут
этого сделать, и вот мы только смотрим друг другу в глаза
и киваем головой, а коща птицы отдохнут, они отряхивают¬
ся и летят дальше, за море.
— Разве люди не знают, как их зовут?
— Люди-то знают. Но это имена, которые дал птицам
человек. А как они сами себя называют, знать нельзя.
— Дядя Буркхардт так здорово рассказывает, папа. Я
тоже хочу иметь друга. Альберт уже чересчур большой.
Большинство людей совсем не понимают, что им говоришь
и чего от них хочешь, а дядя Буркхардт понимает меня
сразу.
За мальчиком пришла горничная. Наступило время ужи¬
на, и друзья направились к господскому дому. Верагут был
молчалив и расстроен. В столовой навстречу ему вышел сын
и протянул руку.
— Здравствуй, папа.
— Здравствуй, Альберт. Как доехал?
— Спасибо, хорошо. Добрый вечер, господин Бурк¬
хардт.
Молодой человек был очень холоден и корректен. Он
подвел мать к столу. За ужином разговор поддерживали
преимущественно Буркхардт и хозяйка дома. Речь зашла о
музыке.
— Позвольте спросить, — обратился Буркхардт к Аль¬
берту, — какую музыку вы предпочитаете? Признаться, я
давно уже в этих вещах не на высоте положения и знаю
современных музыкантов разве что по именам.
41
Юноша поднял глаза и вежливо ответил:
— Самых современных я тоже знаю только понаслышке.
Я не примыкаю ни к одному направлению и люблю всякую
музыку, лишь бы она была хороша. Прежде всего Баха,
Глюка и Бетховена.
— О, классики. Из них в наше время мы, в сущности,
хорошо знали только Бетховена. Глюк был нам совершенно
неизвестен. Вы, должно быть, знаете, как мы все почитали
Вагнера. Помнишь, Иоганн, как мы впервые слушали «Три¬
стана»? Мы прямо-таки упивались музыкой!
Верагут невесело улыбнулся.
— Старая школа! — довольно резко сказал он. — С
Вагнером покончено. Разве не так, Альберт?
— О, напротив, его играют во всех театрах. Но у меня
нет о нем определенного мнения.
— Вы не любите Вагнера?
— Я мало его знаю, господин Буркхардт. Я очень редко
бываю в театре. Меня интересует только чистая музыка, не
опера.
— Ну а увертюра к «Мейстерзингерам»? Ее-то вы навер¬
няка знаете. Она тоже никуда не годится?
Альберт прикусил губу и, прежде чем ответить, на мгно¬
вение задумался.
— Право, я не могу об этом судить. Это — как бы точнее
выразиться? — романтическая музыка, она меня не интере¬
сует.
Верагут недовольно поморщился.
— Попробуешь местного вина? — спросил он, переводя
разговор на другую тему.
— Да, спасибо.
— А ты, Альберт? Бокал красного?
— Спасибо, папа, лучше не надо.
— Ты стал трезвенником?
— Нет, почему же. Но вино не идет мне впрок, я лучше
воздержусь.
— Ну, как хочешь. А мы с тобой чокнемся, Отто. Твое
здоровье!
Он одним глотком наполовину опорожнил бокал.
Альберт продолжал играть роль благовоспитанного юно¬
ши, у которого хотя и имеются вполне определенные взгля¬
ды на вещи, но он предпочитает держать их про себя и дает
высказаться старшим — не для того, чтобы чему-нибудь у
них научиться, а чтобы его оставили в покое. Роль эта плохо
42
«
вязалась с его обликом, так что скоро и ему стало очень не
по себе. Он не хотел давать отцу, которого привык по воз¬
можности не замечать, ни малейшего повода для выяснения
отношений.
Буркхардт молча наблюдал, поэтому не нашлось нико¬
го , кто бы взялся оживить угасший разговор. Все торопи¬
лись покончить с едой, церемонно ухаживали друг за дру¬
гом, смущенно играли десертными ложками и с тоскливой
покорностью ждали момента, коща можно будет поднять¬
ся из-за стола и разойтись. Только теперь Отто Буркхард-
ту стали до конца ясны безмерное одиночество и холодная
безысходность, в которых застыла и влачила жалкое суще¬
ствование семейная жизнь его друга. Он бросил на него
беглый взгляд: художник сидел с недовольным видом,
равнодушно опустив глаза в стоявшее перед ним почти не
тронутое блюдо, и в его умоляющих глазах, с которыми
он на секунду встретился, Отто прочел стыд за открывшу¬
юся тайну.
Это было тягостное зрелище. Казалось, о позоре Верагу-
та вдруг громко возвестило все это застолье — своим недоб¬
рым молчанием, холодным замешательством и натянутой
вежливостью. В этот момент Отто почувствовал, что каж¬
дый день его дальнейшего пребывания здесь был бы только
мучительным продлением этого унизительного положения и
пыткой для его друга, который с отвращением соблюдал
приличия и не имел больше ни сил, ни желания скрывать
свою беду от постороннего взгляда. Надо было положить
этому конец.
Едва госпожа Верагут поднялась из-за стола, как ее муж
отодвинул свое кресло.
— Я устал и прошу меня извинить. Не обращайте на
меня внимания!
Он вышел, забыв закрыть за собой дверь. Отто слышал,
как он медленными, тяжелыми шагами прошел по коридору
и спустился по скрипучей лестнице.
Буркхардт закрыл дверь и проводил хозяйку дома в го¬
стиную, ще стоял еще раскрытый рояль и вечерний ветерок
играл с разложенными нотными листами.
— Я хотел попросить вас сыграть что-нибудь, — смущен¬
но проговорил он. — Но мне кажется, что ваш муж не со¬
всем здоров, он весь день работал на солнце. Если позволи¬
те, я побуду с ним еще часок.
43
Госпожа Верагут озабоченно кивнула и не стала его удер¬
живать. Он простился и вышел. Альберт проводил его до
лестницы.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Коща Отто Буркхардт вышел из освещенного большой
люстрой подъезда и простился с Альбертом, уже начали
спускаться сумерки. Под каштанами он остановился, жадно
вдохнул чуть прохладный вечерний воздух, пропитанный
запахами листвы, и вытер со лба крупные капли пота. Если
он и мог хоть чем-нибудь помочь своему другу, то должен
был сделать это сейчас же.
В домике было темно, Буркхардт не нашел друга ни в
мастерской, ни в соседних комнатах. Он открыл дверь, ве¬
дущую к озеру, и тихо обошел вокруг дома. Верагут сидел
в знакомом плетеном кресле, опершись локтями о колени и
спрятав голову в ладонях; казалось, он спал.
— Иоганн! — тихо позвал Буркхардт, подошел к нему
и положил руку на склоненную голову.
Ответа не последовало. Он стоял, молчал и ждал, погла¬
живая короткие, жесткие волосы сломленного усталостью и
горем друга. В кронах деревьев шелестел ветер, все дышало
вечерней тишиной и покоем. Прошло несколько минут. Вне¬
запно со стороны господского дома сквозь сумерки донесся
широкий поток звуков: сначала один полный, протяжный
аккорд, за ним еще один. Это был первый такт фортепьян¬
ной сонаты.
Художник поднял голову, осторожным движением вы¬
свободился из-под руки друга и встал. Он молча взглянул
на Буркхардта усталыми, сухими глазами, попытался было
натужно улыбнуться, но улыбки не получилось, и лицо его
снова обмякло.
— Войдем в дом, — сказал он с таким видом, будто хотел
защитить себя от потока музыки.
И пошел вперед. У дверей в мастерскую он остано¬
вился.
— Я полагаю, ты у нас долго не задержишься?
«Как он все чувствует!» — подумал Буркхардт. Сдержи¬
вая волнение, он сказал:
— Один день тут ничего не решает. Я думаю уехать по¬
слезавтра.
44
Верагут нащупал выключатели. С тонким металличе¬
ским звуком в мастерской ослепительно вспыхнули все све¬
тильники.
— Тоща разопьем еще бутылку доброго вина.
Он звонком вызвал Роберта и отдал ему распоряжения.
Посреди мастерской стоял новый портрет Буркхардта, поч¬
ти законченный. Они остановились перед мольбертом и рас¬
сматривали портрет, пока Роберт придвигал к столу стулья,
приносил вино, лед и сигареты, ставил на стол пепельницы.
— Хорошо, Роберт, можете идти. Завтра меня будить не
надо. А сейчас оставьте нас одних!
Они сели за стол и чокнулись. Художник беспокойно
заерзал в кресле, встал и выключил половину светильников.
Затем он опять тяжело опустился на свое место.
— Портрет еще не совсем готов, — начал он. — Возьми
сигару! Картина должна получиться недурная, но дело в
конечном счете не в ней. К тому же мы еще увидимся.
Он выбрал себе сигару, аккуратно обрезал конец, нервно
повертел ее в руках и снова отложил в сторону.
— На этот раз ты приехал в не самое удачное время,
Отто. Мне очень жаль.
Голос его вдруг сорвался, он поник головой, схватил ру¬
ки друга и крепко сжал их.
— Теперь ты все знаешь, — устало простонал он, и на
руки Отто закапали слезы. Но Верагут не позволил себе
расслабиться. Он снова выпрямился, справился с голосом и
смущенно сказал:
— Извини! Давай выпьем по глотку! Что ж ты не ку¬
ришь?
Буркхардт взял сигару.
— Бедняга!
Они молча пили и курили, смотрели, как переливается
в граненых бокалах и тепло мерцает, отражаясь в золоти¬
стом вине, свет, как неторопливо плывет по просторной ма¬
стерской синий дым, сливаясь в замысловатые узоры, и вре¬
мя от времени с облегчением обменивались открытыми
взглядами, они не нуждались больше в словах. Казалось,
все уже было сказано.
Ночная бабочка влетела в мастерскую, резко, с глухим
стуком ударилась три-четыре раза о стены и, оглушенная,
замерла серым бархатистым треугольником на потолке.
— Поедешь со мной осенью в Индию? — нерешительно
спросил наконец Буркхардт.
45
Снова наступило долгое молчание. Бабочка начала мед¬
ленно передвигаться по потолку. Маленькая и серая, она
ползла вперед, будто забыв, что умеет летать.
— Может быть, — сказал Верагут. — Может быть. Нам
с тобой надо бы еще поговорить.
— Да, Иоганн. Я не хочу тебя мучить. Но все же ты
должен мне кое-что рассказать. Я вовсе не ожидал, что у
тебя с женой все снова наладится, но...
— У нас не было лада с самого начала.
— Знаю. Но я испугался, увидев, как далеко это зашло.
Так больше продолжаться не может. Ты гибнешь.
Верагут хрипло рассмеялся.
— Я не гибну, старина. В сентябре я выставляю во Франк¬
фурте двенадцать новых картин.
— Все это хорошо. Но как долго это может продолжать¬
ся? Тут какая-то нелепость... Скажи, Иоганн, почему ты не
развелся с женой?
— Это не так просто... Сейчас расскажу. Будет лучше,
если ты узнаешь обо всем по порядку.
Он отпил глоток вина и остался сидеть, наклонившись
вперед; Буркхардт отодвинул свой стул от стола.
— Ты ведь знаешь, что у меня с самого начала были
трения с женой*. Несколько лет все так и шло, ни шатко ни
валко, и, может быть, тоща еще можно было кое-что спасти.
Но я не умел скрывать своего разочарования и все снова и
снова требовал от Адели именно того, чего она не могла мне
дать. Душевные порывы были ей неведомы; она была серь¬
езна и тяжела на подъем, мне бы знать об этом раньше...
Она никогда не умела отмахнуться от допущенной оплош¬
ности и легко, с юмором преодолевать трудности. Моим
притязаниям и капризам, моему неистовству и наступающе¬
му вслед за ним разочарованию она не могла противопоста¬
вить ничего, кроме молчания и терпения — трогательного,
тихого, героического терпения, которое нередко меня уми¬
ляло, но которое не могло помочь ни мне, ни ей. Когда я
бывал сердит и недоволен, она молчала и страдала, а коща
сразу после этого я приходил, чтобы все уладить, просил у
нее прощения или пытался заразить ее своим веселым на¬
строением, у меня ничего не получалось, она молчала и в
этом случае замыкалась в себе и все упрямее проявляла
свою флегматичную преданность. Коща я бывал с ней, она
боязливо и покорно молчала, с одинаковой невозмутимо¬
стью отзываясь и на вспышки гнева, и на приливы веселья,
46
а коща я уходил, она в одиночестве играла на рояле и вспо¬
минала свои девические годы. Я все чаще бывал несправед¬
лив к ней, и в конце концов получилось так, что мне уже
нечего было дать ей, нечем с ней поделиться. Я начал при¬
лежно работать и мало-помалу научился окружать себя ра¬
ботой, как крепостным рвом.
Видимо, ему с трудом удавалось сохранять спокойствие.
Он хотел рассказывать, а не обвинять, но за его словами все
же чувствовалось обвинение, во всяком случае, жалоба на
загубленную жизнь, на разочарование в ожиданиях молодо¬
сти и на то, что он был осужден влачить половинчатое, без¬
радостное существование, которое противоречило глубин¬
ной сути его натуры.
— Уже тоща я подумывал о том, чтобы расторгнуть
брак. Но это было не так просто. Я привык к тихому уеди¬
нению и к работе, кроме того, меня пугала мысль о судах и
адвокатах, об отказе от мелких повседневных привычек.
Встреться тоща на моем пути новая любовь, решение далось
бы мне легко. Но выяснилось, что и моя собственная натура
тяжеловеснее, чем я полагал. С какой-то щемящей душу за¬
вистью влюблялся я в молодых, красивых девушек, но все
это было недостаточно глубоко, и я все больше и больше
убеждался, что никакой любви я уже не смогу отдаться так,
как отдаюсь своей живописи. К ней были устремлены мои
желания и потребности, моя жажда самозабвенного буйства,
и за все эти годы я действительно не впустил в свою жизнь
ни одного нового человека, ни женщину, ни друга. Ты же
понимаешь, любую дружбу мне пришлось бы начинать с
признания в своем позоре.
— Позоре? — в голосе Буркхардта прозвучал легкий
упрек.
— Да, позоре! Так я воспринимал это тоща, и с тех пор
ничего не изменилось. Позорно быть несчастным. Позорно
стесняться своей жизни, что-то скрывать и маскировать, но
хватит об этом! Слушай дальше.
Он мрачно опустил глаза в свой бокал с вином, отбросил
погасшую сигару и продолжил свой рассказ.
— Тем временем подрос Альберт. Мы оба очень любили
его, разговоры и заботы о нем удерживали нас друг подле
друга. И только когда ему исполнилось семь или восемь лет,
я начал ревновать и бороться за него — точно так же, как
сейчас я борюсь за Пьера! Я вдруг понял, что мальчик стал
мне дорог и необходим, и в течение нескольких лет я с не¬
47
ослабевающим страхом наблюдал, как он постепенно охла¬
девает ко мне и все больше сближается с матерью.
Затем он тяжело заболел, и на какое-то время заботы о
ребенке оттеснили все остальное; между нами ненадолго ус¬
тановилось такое согласие, какого мы никоща раньше не
знали. В эту пору и появился на свет Пьер.
Я отдал ему всю свою любовь, на которую был способен.
Я позволил Адели снова отдалиться от меня, позволил Аль¬
берту, коща он выздоровел, еще больше привязаться к ма¬
тери, он стал ее наперсником и постепенно превратился в
моего врага; в конце концов я был вынужден удалить его из
дома. Я отказался от всего, вел скромную, непритязатель¬
ную жизнь, отвык требовать порядка и распоряжаться по
хозяйству и смирился с тем, что меня в собственном доме
терпели, как нежеланного гостя. Я хотел только одного —
спасти для себя маленького Пьера, и, коща совместная
жизнь с Альбертом и вся атмосфера в доме стали невыноси¬
мы, я предложил Адели расстаться.
Пьера я хотел оставить себе. Все остальное я предлагал
ей, она могла жить вместе с Альбертом, сохранить за
собой Росхальде и половину моих доходов, а при желании
и больше. Но она не захотела. Она соглашалась на развод
и на то, чтобы сохранить за собой только самое необходи¬
мое, лишь бы не расставаться с Пьером. Это была наша
последняя ссора. Я еще раз попытался любой ценой спасти
для себя остаток своего счастья: умолял и давал обещания,
бросался в ноги и унижался, грозил и плакал, а под конец
даже впал в неистовство, но все было тщетно. Она шла
даже на то, чтобы отдать мне Альберта. Неожиданно выяс¬
нилось, что эта тихая, терпеливая женщина и не думала
идти даже на малейшие уступки; она хорошо осознавала
свою власть и была сильнее меня. В то время я ее почти
ненавидел, и частица этого чувства сохранилась во мне до
сих пор.
Тоща я позвал каменщика и пристроил для себя вот эту
маленькую квартиру, здесь я и живу с тех пор, ты сам ви¬
дел, что это за жизнь.
Буркхардт задумчиво слушал и ни разу не прервал Ве-
рагута, даже в те моменты, коща художник, казалось, ждал
и желал этого.
— Я рад, — осторожно сказал он, — что ты сам все так
хорошо понимаешь. Приблизительно так оно и есть, как я
себе представлял. Давай продолжим наш разговор, раз уж
48
мы его начали. Как и ты, я ждал этой минуты с тех пор, как
появился здесь. Представь себе, что у тебя неприятный на¬
рыв, который тебя мучает и которого ты немножко стесня¬
ешься. Теперь я о нем знаю, и тебе легче от этого, потому
что ничего больше не надо скрывать. Но нам этого мало, мы
должны посмотреть, нельзя ли этот гнойник вскрыть и за¬
лечить.
Художник взглянул на него, невесело покачал головой и
улыбнулся.
— Залечить? Такие вещи не излечиваются. Но ты мо¬
жешь спокойно вскрывать!
Буркхардт кивнул. Да, конечно, он намерен вскрыть на¬
рыв, нельзя же допустить, чтобы этот час пропал впустую.
— В твоем рассказе для меня остался неясен один мо¬
мент, — задумчиво сказал он. — Ты говоришь, что не развел¬
ся с женой из-за Пьера. Возникает вопрос, нельзя ли заста¬
вить ее отдать тебе мальчика. Разводись вы по суду, тебе бы
наверняка присудили одного из сыновей. Ты об этом не думал?
— Нет, Отто, об этом я не думал. Мне и в голову не
приходило, что судья со всей его премудростью в состоянии
исправить ту ошибку, которую я допустил. Это мне не по¬
может. Раз не в моей власти заставить жену отказаться от
мальчика, мне остается только одно: ждать, пока Пьер ког¬
да-нибудь сам не сделает свой выбор.
— Значит, все дело только в Пьере. Не будь его, ты, без
сомнения, развелся бы с женой и мог бы еще найти счастье,
во всяком случае, мог бы вести спокойную, разумную и сво¬
бодную жизнь. А вместо этого ты запутался в сети компро¬
миссов, жертв и полумер, в которых такой человек, как ты,
задохнется.
Верагут поднял полные беспокойства глаза и торопливо
выпил стакан вина.
— Ты все время твердишь: задохнешься, погибнешь! А
я, как видишь, живу и работаю, и черт меня побери, если я
позволю себе сломаться!
Отто не обратил внимания на его вспышку. С едва замет¬
ной настойчивостью он продолжал:
— Прости, но ты не совсем прав. Природа наделила тебя
необыкновенной силой, иначе бы тебе не выдержать долго
такой жизни. Сколько вреда она принесла, сколько лет уба¬
вила, ты чувствуешь сам, и только ненужное тщеславие не
позволяет тебе сознаться в этом. Своим глазам я доверяю
больше, чем тебе, а я вижу, что тебе очень скверно. Твоя
49
работа помогает тебе жить, но она скорее заглушает боль,
чем приносит радость. Половину своей недюжинной силы
ты тратишь на борьбу с лишениями и на преодоление мел¬
ких повседневных трудностей. Счастья на этом пути ты не
найдешь, разве что впадешь в отчаяние. А оно тебе ни к
чему, друг мой.
— Впаду в отчаяние? Очень может быть. Другим это
состояние тоже знакомо. Кто может сказать о себе, что он
счастлив?
— Счастлив тот, кто надеется! — стоял на своем Бурк¬
хардт. — А на что надеяться тебе? На славу, почести и
деньги? Но всего этого у тебя более чем достаточно. Дружи¬
ще, да ты же совсем забыл, что значит жить и радоваться
жизни! Ты доволен собой, потому что ни на что больше не
надеешься. Ладно, я могу тебя понять, но это же ужасно,
Иоганн, это злокачественный нарыв, и только трус боится
от него избавиться.
Он разгорячился и быстрыми шагами ходил по комнате.
Пока он напряженно раздумывал над тем, что делать даль¬
ше, из глубины памяти всплыло мальчишеское лицо Вера-
гута, и Буркхардту смутно припомнился один эпизод, коща
он вот так же спорил со своим другом. Он поднял глаза и
увидел лицо Верагута, который сидел, погруженный в свои
мысли, и не отрывал взгляда от пола. Выражение мальчи¬
шеского упрямства исчезло. Перед ним сидел человек, кото¬
рого он обозвал трусом, задел его коща-то обостренное са¬
молюбие, сидел и не защищался.
— Что же ты замолчал! — с горечью воскликнул худож¬
ник. — Тебе незачем щадить меня. Ты же видишь, в какую
ловушку я попал, можешь спокойно показывать на нее тро¬
стью и попрекать меня моим позором. Прошу тебя, продол¬
жай! Я не стану защищаться, я даже не рассержусь.
Отто остановился перед ним. Ему было жаль друга, но
он взял себя в руки и резко сказал:
— Ты просто обязан рассердиться! Ты должен вышвыр¬
нуть меня из дома, отказаться от дружбы со мной или же
признать, что я прав.
Художник тоже встал, но вяло, преодолевая усталость.
— Ну хорошо, ты прав, если для тебя это столь важно, —
медленно произнес он. — Ты переоценил мои силы, я уже
не молод и меня не так легко вывести из себя. Да и друзей
у меня не столько, чтобы ими разбрасываться. Только ты
один. Присаживайся, и выпьем еще по стаканчику, вино
50
отменное. В Индии такого нет, и друзей, которые бы так
терпеливо сносили твое упрямство, там тоже вряд ли много
найдется.
Буркхардт слегка хлопнул его по плечу и почти с доса¬
дой сказал:
— Дружище, давай не будем заниматься сантиментами,
сейчас не время для этого! Скажи, в чем ты меня упрекаешь,
и мы продолжим разговор.
— О, мне не в чем тебя упрекнуть! Ты безупречен, Отто,
вне всякого сомнения. Вот уже скоро двадцать лет ты на¬
блюдаешь, как я иду ко дну, с дружескими чувствами и,
быть может, с сожалением смотришь, как" я увязаю в тряси¬
не, но так ни разу и не сказал мне ничего, не унизил меня
предложением помощи. Ты видел, что я многие годы носил
с собой цианистый калий, и с благородным удовлетворением
заметил, что я так и не проглотил его, а в конце концов
выбросил. И вот теперь, коща я так глубоко погрузился в
тину, что мне уже не выбраться, ты появляешься со своими
упреками и предостережениями...
Он печально глядел перед собой покрасневшими, воспа¬
ленными глазами. Отто хотел налить себе вина и только
теперь обнаружил, что бутылка пуста: Верагут за короткое
время опорожнил ее в одиночку.
Художник проследил за его взглядом и громко засме¬
ялся.
— Ах, извини! — запальчиво воскликнул он. — Да, я
чуть-чуть опьянел, не забудь и это поставить мне в вину.
Со мной такое случается, раз в два месяца я по недосмот¬
ру выпиваю лишнее — так, знаешь ли, для поднятия
духа...
Он тяжело положил обе руки на плечи друга и неожи¬
данно обмякшим тонким голосом стал жаловаться:
— Понимаешь, дружище, я обошелся бы без цианисто¬
го калия, вина и тому подобного, если бы кто-нибудь хоть
немножко помог мне! Слушай, почему ты позволил мне
зайти так далеко, что теперь я, как нищий, должен про¬
сить о малой толике снисхождения и любви? Адель не
ужилась со мной, Альберт от меня отступился, Пьер тоже
коща-нибудь покинет меня, а ты стоял рядом и наблюдал.
Неужели ты ничего не мог сделать? Неужели не мог по¬
мочь мне?
Голос художника прервался, он опустился на стул.
Буркхардт был мертвенно бледен. Дело обстояло гораздо
51
хуже, чем он думал. Он не предполагал, что несколько
стаканов вина могут довести этого гордого, сильного чело¬
века до беззащитного признания в своем тайном позоре и
несчастье!
Он встал рядом с Верагутом и тихо, как ребенку, нуж¬
дающемуся в утешении, прошептал ему на ухо:
— Я помогу тебе, Иоганн, можешь не сомневаться, я
помогу тебе. Ну и осел же я был! Я был слеп и глуп! Вот
увидишь, все еще уладится, поверь мне!
Он припомнил редкие случаи из их юности, когда его
друг в состоянии-возбуждения терял над собой контроль.
С поразительной отчетливостью перед ним предстал один
такой эпизод, дремавший в глубине памяти. Иоганн тогда
часто встречался с хорошенькой ученицей художественной
школы, Отто пренебрежительно отозвался о ней, и Вера¬
гут, вспылив, отказался с ним дружить. Тоща художник
тоже непомерно разгорячился, хотя выпил совсем немного,
тоща у него тоже покраснели глаза и сорвался голос.
Буркхардта чрезвычайно расстроила эта столь странным
образом припомнившаяся картинка из, казалось бы, безоб¬
лачного прошлого, и снова, как тоща, его ужаснула вне¬
запно открывшаяся пропасть внутреннего одиночества и
душевного самоистязания Верагута. Без сомнения, это бы¬
ла та самая тайна, о которой время от времени намекал
Иоганн и которая, как ему казалось, таилась в душе каж¬
дого большого художника. Так вот откуда бралась эта
чудовищная, ненасытная жажда творчества, это желание
снова и снова своими чувствами постигать мир и преодоле¬
вать его. Отсюда же происходила в конечном счете и та
странная печаль, которой крупные произведения нередко
переполняют внимательного созерцателя.
Отто казалось, будто до этой минуты он не совсем пони¬
мал своего друга. Только сейчас он заглянул в темный ко¬
лодец, из которого душа Иоганна черпала силы и страда¬
ния. И в то же время он испытывал глубокое, радостное
удовлетворение, что именно ему, старому другу, страдалец
открыл свою душу, именно его обвинял, к нему обращался
за помошью.
Верагут как будто забыл о своих словах. Он неожиданно
затих, как успокоившийся ребенок. Наконец он сказал яс¬
ным голосом:
52
— На этот раз тебе не повезло со мной. А все оттого, что
в последнее время я мало работал. Вот нервишки и расстро¬
ились. Я плохо переношу дни, когда мне бывает хорошо.
И когда Буркхардт хотел помешать ему открыть вторую
бутылку, он сказал:
— Я все равно не смогу заснуть. Сам не знаю, с чего я
так разнервничался! Ну, давай выпьем еще по маленькой,
раньше ты в этом деле не был так чопорен... Ах, тебя
пугают мои нервы! Я уж как-нибудь приведу их в поря¬
док, мне это не впервой. В ближайшие же дни я буду
садиться за работу в шесть утра, а по вечерам целый час
кататься верхом.
Друзья просидели вместе до полуночи. Иоганн вспоми¬
нал о прошлом, Отто слушал его и с каким-то почти
неприятным удовлетворением замечал, как в зияющей тем¬
ной бездне, в которую он только что заглянул, умиротво¬
ренно проступает ровная, весело поблескивающая поверх¬
ность.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На другой день Буркхардт встретил художника с неко¬
торым смущением. Он ожидал, что найдет друга изменив¬
шимся и вместо вчерашнего возбуждения натолкнется на хо¬
лодную иронию и стыдливую сдержанность. Но Иоганн был
спокоен и серьезен.
— Итак, завтра ты уезжаешь, — дружелюбно сказал он. —
Это хорошо, и я благодарю тебя за все. Кстати, я не забыл
ничего из вчерашнего вечера; нам надо еще поговорить.
Отто нерешительно согласился.
— Пожалуй. Но я бы не хотел еще раз волновать тебя
понапрасну. Похоже, мы вчера растревожили слишком мно¬
гое. Зачем было тянуть до последней минуты?
Им подали завтрак в мастерскую.
— Нет, все очень хорошо, — твердо сказал Иоганн. —
Очень хорошо. Я провел бессонную ночь и, должен тебе
сказать, еще раз все обдумал. Ты многое растревожил, даже
больше, чем я мог вынести. Не забывай, что все эти годы у
меня не было никого, с кем я мог бы поговорить. Но теперь
пора с этим кончать, иначе я и в самом деле окажусь трусом,
как ты изволил вчера выразиться.
— О, я причинил тебе боль? Прости!
53
— Нет, я думаю, ты был почти прав. Я хотел бы прове¬
сти с тобой сегодня весь день, еще один чудесный, радост¬
ный день; после обеда мы отправимся на прогулку, и я по¬
кажу тебе здешние места. Но прежде нужно еще немного
потолковать. Вчера все это обрушилось на меня так внезап¬
но, что я потерял голову. Но теперь я все обдумал и, мне
кажется, правильно понял, что ты вчера хотел сказать.
Он говорил так спокойно и ласково, что Буркхардт от¬
бросил свои опасения.
— Раз ты меня понял, значит, все хорошо и нам ни к
чему начинать сначала. Ты рассказал мне, как все это слу¬
чилось и к чему привело. Итак, ты не разводишься с женой
и держишься за дом и нынешнее свое положение только
потому, что не хочешь расставаться с Пьером? Так ведь?
— Да, именно так.
— Ну и как же ты представляешь себе дальнейшее? Мне
сдается, вчера ты проговорился, что боишься со временем
потерять и Пьера. Или нет?
Верагут горестно вздохнул и сжал голову руками; но он
продолжал в том же тоне:
— Вполне может быть. В том-то и беда. Ты полагаешь,
мне надо отказаться от мальчика?
— Да, только так! Он будет стоить тебе многих лет борь¬
бы с женой, которая вряд ли от него отступится.
— Возможно. Но, видишь ли, Отто, Пьер — это послед¬
нее, что у меня есть! Я живу среди сплошных руин, и если
tu я сегодня умер, то это обстоятельство взволновало бы,
кроме тебя, разве что пару газетных писак. Я нищ, но у меня
есть этот ребенок, у меня все еще есть этот маленький слав¬
ный мальчуган, для которого я живу, которого мне позво¬
лено любить, ради которого я страдаю и с которым в спо¬
койные минуты забываю о своих бедах. Постарайся понять
эго! И его я должен отдать?
— Это нелегко, Иоганн. Чертовски нелегко! Но другого
выхода я не вижу. Согласись, ты понятия не имеешь, что
творится на белом свете, ты с головой зарылся в свою рабо¬
ту, запутался в своем неудачном супружестве и ничего вок¬
руг не видишь. Сделай этот шаг, попробуй отбросить все, и
ты вдруг обнаружишь, что мир снова ждет тебя, готовый
одарить множеством чудес. Ты давно уже живешь с мертве¬
цами и утратил связь с жизнью. Ты привязался к Пьеру, он
очаровательный ребенок, не отрицаю; но это же не главное.
54
Отрешись на минуту от своего чувства и подумай, действие
теяьно ли ты нужен мальчику!
— Нужен ли я ему?..
— Да. Ты можешь дать ему немного любви, нежности,
внимания, но это все вещи, в которых ребенок нуждается
меньше, чем мы, взрослые, думаем. Зато он растет в доме,
ще отец и мать уже почти не знаются друг с другом и даже
соперничают из-за него! Он не воспитывается на примере
счастливой, здоровой семьи, поэтому он и развит не по ле¬
там и вырастает чудаком... И потом, прости, в один прекрас¬
ный день ему придется выбирать между тобой и матерью.
Разве ты этого не понимаешь?
— Быть может, ты и прав. Даже наверняка прав. Но
здесь у меня кончается власть рассудка. Я привязан к ре¬
бенку и цепляюсь за эту привязанность, потому что уже
давно не знаю другого тепла и другого луча света. Быть
может, через несколько лег он отвернется от меня, быть мо¬
жет, обманет мои ожидания, даже возненавидит, как нена¬
видит меня Альберт, который в четырнадцать лет как-то
швырнул в меня столовым ножом. Но мне останутся все же
эти несколько лет, коща я буду рядом с ним и смогу любить
его, смогу держать его маленькие ручонки в своих руках и
слушать его звонкий, как у птички, голосок. Скажи: и это
я должен отдать? Да?
Буркхардт страдальчески пожал плечами и наморщил
лоб.
— Должен, Иоганн, — очень тихо сказал он. — Мне
кажется, должен. Пусть не сегодня, но скоро ты должен
отказаться от всего, что у тебя есть, должен очиститься от
прошлого, иначе тебе никогда больше не удастся взглянуть
на мир ясным, свободным взглядом. Поступай как знаешь,
и даже если ты не решишься на этот шаг, оставайся здесь и
живи, как жил до сих пор, — я и тогда останусь верен тебе,
ты это знаешь. Но мне будет жаль тебя.
— Посоветуй, что делать! Мое будущее в тумане.
— Хорошо, посоветую. Сейчас июль; осенью я возвра¬
щаюсь в Индию. Но прежде я еще раз навещу тебя, и я
надеюсь, что к тому времени ты уже уложишь чемоданы и
будешь готов к отъезду. Если ты решишься и скажешь «да» —
тем лучше! Если же не решишься, все равно поезжай со
мной на год или хотя бы на полгода, тебе надо вырваться из
этой атмосферы. У меня ты можешь писать свои картины и
ездить верхом, можешь охотиться на тигров или влюбляться
55
в малаек — среди них попадаются премиленькие, — в лю¬
бом случае ты какое-то время будешь далеко отсюда и по¬
пытаешься жить лучше, чем живешь сейчас. Что ты об этом
думаешь?
Закрыв глаза, художник мерно покачивал головой, лицо
его было бледным, губы поджаты.
— Спасибо, — воскликнул он, едва заметно улыбнув¬
шись. — Спасибо, ты очень любезен. Осенью я скажу тебе,
поеду ли я с тобой. Пожалуйста, оставь мне эти фотографии.
— Они твои... Но... не можешь ли ты принять решение
относительно поездки уже сегодня или завтра? Так было бы
лучше для тебя.
Верагут встал и подошел к двери.
— Нет, не могу. Кто знает, что произойдет за это время!
Вот уже несколько лет я не оставлял Пьера больше чем на
три-четыре недели. Мне кажется, я поеду с тобой, но сейчас
я ничего тебе не скажу, а то как бы потом не пришлось
раскаиваться.
— Ладно, так тому и быть! Я буду постоянно сообщать
тебе, как меня найти. И если однажды ты скажешь мне по
телефону, что согласен, тебе не придется даже пальцем по¬
шевелить. Я устрою все сам. Ты возьмешь отсюда только
белье и то, что нужно художнику для работы, но возьмешь
всего в достатке. Об остальном я позабочусь в Генуе.
Верагут молча обнял друга.
— Ты помог мне, Отто, я этого никогда не забуду. Сей¬
час я прикажу заложить коляску, сегодня нас не ждут к
обеду в доме. Давай отбросим все дела и проведем этот чу¬
десный день так, как коща-то во время летних каникул! Мы
покатаемся по окрестностям, взглянем на несколько краси¬
вых деревушек, поваляемся на траве в лесу, будем есть фо¬
рель и пить из толстых кружек доброе деревенское вино.
Погодка сегодня на диво хороша!
— Она уже несколько дней такая, — засмеялся Бурк¬
хардт. Верагут засмеялся тоже.
— Ах, мне кажется, солнце давно уже так не сияло!
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
После отъезда Буркхардта художника охватило стран¬
ное чувство одиночества. То самое чувство, с которым он
жил долгие годы и которое за это время научился выносить
56
и почти не замечать, неожиданно подступило к нему, как
новый, неведомо откуда взявшийся враг, и со всех сторон
насело на него, грозя удушить. В то же время он чувствовал
себя больше, чем коща бы то ни было, отрезанным от семьи,
даже от Пьера. О причине он не догадывался, но заключа¬
лась она в том, что ему впервые удалось поговорить о ситу¬
ации, в которой он оказался.
В иные часы его посещало даже пагубное, унизительное
чувство скуки. До сих пор Верагут вел неестественную, но
последовательную жизнь человека, который добровольно
замуровал себя в четырех стенах и потерял интерес к миру.
Он не жил, а прозябал. Приезд друга пробил бреши в его
келье, сквозь множество щелей к отшельнику хлынула но¬
вая жизнь, которая сверкала, звенела и благоухала, старые
чары рассеялись, и каждый зов извне воспринимался про¬
будившимся художником с чрезмерной, почти болезненной
силой.
Он яростно набросился на работу, почти одновременно
начал две большие композиции, вставал с рассветом и сразу
же принимал холодную ванну, работал без перерыва до обе¬
да, затем, после короткого отдыха, взбадривал себя чашкой
кофе и сигарой, а по ночам просыпался иноща с сердцеби¬
ением и головной болью. Но как бы ни принуждал он себя,
как бы ни впрягался в работу, в его сознании под тонким
покровом все время пульсировала и напоминала о себе
мысль, что дверь перед ним распахнута и что в любое время
он может сделать решительный шаг к свободе.
Он не думал об этом, постоянным усилием воли подав¬
ляя в себе все мысли. Но оставалось чувство, что в любой
момент можно уйти, дверь открыта, путы легко разорвать,
вот только решение обойдется слишком дорого, потребует
тяжелейшей жертвы, поэтому лучше не думать об этом, луч¬
ше не думать! Решение, которого ждал от него Буркхардт и
с которым, видимо, уже втайне смирилась его душа, сидело
в нем, как пуля в теле раненого; вопрос был лишь в том,
выйдет ли она вместе с гноем или же затянется и зарастет
плотью. Она напоминала о себе болью, но боль пока была
вполне терпимой; она не шла ни в какое сравнение с той
болью, которую — он страшился этого — вызовет у него
требуемая жертва. Поэтому он ничего не предпринимал,
чувствовал, как горит его скрытая рана, и втихомолку, с
отчаянным любопытством ждал, чем все кончится.
57
В таком смятении чувств он принялся писать большую
картину, замысел которой давно занимал его и вдруг захва¬
тил целиком. Идея родилась несколько лет назад и понача¬
лу увлекла его, но потом стала казаться ему пустой, черес¬
чур аллегоричной и наконец совсем опротивела. Но теперь
картина отчетливо встала перед его глазами, и он приступил
к работе, радуясь чистоте и свежести образа и больше не
ощущая его аллегоричности.
Это были три фигуры в натуральную величину: мужчина
и женщина, погруженные в свои мысли, чужие друг другу,
а между ними играющий ребенок, полный тихой радости, не
подозревающий о нависшей над ним туче. Связь с личной
жизнью художника не вызывала сомнений, но ни мужчина,
ни женщина не походили на своих прототипов, только ребе¬
нок был Пьер, но на несколько лет моложе. В образ ребенка
он вложил все очарование и благородство своих лучших
портретов, симметрично расположенные по обеим сторонам
фигуры застыли в неподвижности — суровые, скорбные
символы одиночества; мужчина, подперев голову рукой, по¬
грузился в свои невеселые думы, женщина целиком отда¬
лась горю и тупой опустошенности.
На долю Роберта выпали нелегкие дни. Господин Вера¬
гут стал до крайности раздражителен. Во время работы он
не терпел ни малейшего шума в соседних комнатах.
Тайная надежда, ожившая в Верагуте после приезда
Буркхардта, горела огнем в его груди, горела вопреки всем
попыткам заглушить ее и по ночам окрашивала его сны ма¬
нящим, волнующим светом. Он не хотел прислушиваться к
ней, не хотел ничего знать о ней, он хотел только одного —
работать и ощущать покой в душе. Но покоя не было, он
чувствовал, как тает ледяная корка его безрадостного суще¬
ствования, как колеблются устои всей его жизни; во сне ему
виделась мастерская, запертая и пустая, виделась уезжаю¬
щая от него жена, но уезжала она вместе с Пьером, и маль¬
чик тянулся к нему тонкими ручонками. Случалось, он це¬
лый вечер просиживал один в своем маленьком неуютном
жилище, углубившись в созерцание индийских фотогра¬
фий, пока не отодвигал их в сторону и не закрывал усталые
глаза.
Две силы вели в нем жестокую борьбу, но надежда была
сильнее. Все чаще вспоминал он свои беседы с Отто, все
ощутимее поднимались из глубины подавленные желания и
потребности его сильной натуры, пролежавшие много лет
58
без движения, и этого напора чувств и весеннего тепла не
могло сдержать давнее болезненное заблуждение, что он
уже старик и ему не остается ничего другого, как доживать
свои дни. Глубокий, сильный гипноз резиньяции рассеялся,
в брешь потоком хлынули неосознанные, инстинктивные си¬
лы жизни, которую он так долго сдерживал и обманывал.
Чем яснее звучали эти голоса, тем больнее сжималось
сердце художника в страхе йеред окончательным пробужде¬
нием. Он снова и снова закрывал словно ослепшие глаза и
в лихорадочном возбуждении отказывался принести необхо¬
димую жертву.
Иоганн Верагут редко показывался в господском доме,
обед почти всеща приносили ему в мастерскую, а вечера он
часто проводил в городе. Но, встречаясь с женой или с Аль¬
бертом, он бывал тих’ и кроток и, казалось, забыл о своей
неприязни к ним.
На Пьера он почти не обращал внимания. Раньше он по
меньшей мере раз в день заманивал мальчика в свою мас¬
терскую или гулял с ним в саду. Теперь же он не видел сына
целыми днями, и его не тянуло к нему. Если Пьер случайно
попадался ему на дороге, он задумчиво целовал его в лоб,
печально и рассеянно заглядывал ему в глаза и шел по сво¬
им делам.
Однажды после обеда Верагут зашел в каштановую ро¬
щу, было тепло и ветрено, сыпал косой мелкий дождик. Из
открытых окон дома доносилась музыка. Художник остано¬
вился и прислушался. Пьеса была ему незнакома. Она зву¬
чала чисто и строго, поражая продуманной и взвешенной
красотой; Задумавшись, Верагут с удовольствием слушал.
Странно, в сущности, это была музыка для пожилых людей,
она звучала бережно и мужественно и не имела ничего об¬
щего с вакхическим упоением той музыкой, которую он сам
так любил в молодые годы.
Он тихо вошел в дом, поднялся по лестнице и бесшумно,
не доложив о себе, появился в гостиной; его приход замети¬
ла только госпожа Верагут. Альберт играл, а его мать стояла
у рояля и слушала. Верагут сел в ближайшее кресло, опу¬
стил голову и застыл, внимая музыке. Время от времени он
поднимал глаза и останавливал их на жене. Здесь она была
у себя дома, в этих комнатах она тихо прожила годы, пол¬
ные разочарования, как и он в своей мастерской у озера. Но
у нее был Альберт, она ходила за ним, он рос рядом с ней,
и вот теперь он был гостем и другом в ее доме. Госпожа
59
Адель немного постарела, научилась быть незаметной и до¬
вольствоваться малым, взгляд ее был тверд, губы слегка
поджаты; но она не оторвалась от семьи и чувствовала себя
уверенно в атмосфере, которая принадлежала ей и в кото¬
рой выросли ее сыновья. Она не была склонна к порывам
чувства, к импульсивной нежности, она была лишена всего
того, что искал в ней когда-то и на что надеялся ее муж, но
вокруг нее царила атмосфера домашнего уюта, в ее лице, в
ее характере, в ее доме чувствовались порода и воля, здесь
была та почва, на которой могли расти и благополучно раз¬
виваться дети.
Верагут удовлетворенно кивнул головой. Если он исчез¬
нет навсегда, здесь никто и не заметит его отсутствия. Он
был лишний в этом доме. В любое время и в любом уголке
мира он может построить мастерскую и окунуться в напря¬
женную работу, но родины он не найдет нигде. Собственно,
он знал об этом давно и не находил в этом ничего плохого.
Тем временем Альберт перестал играть. Он почувствовал
или увидел по глазам матери, что кто-то вошел в гостиную.
Обернувшись, он удивленно и недоверчиво посмотрел на
отца.
— Здравствуй, — сказал Верагут.
— Здравствуй, — смущенно ответил сын и стал что-то
разыскивать в нотном шкафу.
— Вы музицировали? — дружелюбно спросил отец.
Альберт пожал плечами, будто спрашивая: а ты разве не
слышал? Лицо его залилось краской, и он спрятал его в
глубоких полках шкафа.
— Прекрасная музыка, — сказал отец и улыбнулся. Он
ясно чувствовал, что его приход был очень некстати, и не
без легкого злорадства попросил: — Пожалуйста, сыграй
еще что-нибудь! То, что тебе нравится! Ты далеко продви¬
нулся.
— Ах, мне не хочется, — недовольно сказал Альберт.
— А ты попробуй. Прошу тебя.
Госпожа Верагут испытующе посмотрела на мужа.
— Ладно, Альберт, садись! — сказала она и поставила
нотную тетрадь на пюпитр. При этом она задела рукавом
маленькую серебряную вазу с розами, стоявшую на рояле,
и на черную полированную крышку посыпались увядшие
лепестки.
Юноша сел за рояль и начал играть. Он был в замеша¬
тельстве, злился и играл так, будто выполнял докучливое
60
задание, торопливо и без души. Какое-то время отец внима¬
тельно слушал, затем впал в задумчивость и, наконец, вне¬
запно встал и бесшумно вышел из гостиной еще до того, как
Альберт кончил играть. Уходя, он слышал, как юноша яро¬
стно ударил по клавишам и оборвал игру.
«Коща я уеду, они и не заметят моего отсутствия, —
думал художник, спускаясь по лестнице. — Господи, как же
далеки мы друг от друга, а ведь когда-то у нас было нечто,
похожее на семью».
В коридоре к нему бросился Пьер. Он сиял и был сильно
возбужден.
— О, папа, — задыхаясь, воскликнул он, — как хорошо,
что ты здесь! Представь себе, у меня живая мышка! Смотри,
вот она, в моей руке, — видишь глазки? Ее поймала желтая
кошка, она с ней играла и очень мучила ее, позволит отбе¬
жать немного и опять ловит. Тоща я быстро-быстро шодбе-
жал и выхватил мышку у нее из-под носа! Что мы с ней
будем делать?
Он поднял на отца сияющие радостью глаза, но вздрог¬
нул от страха, когда мышка в его крепко сжатом кулачке
зашевелилась и испуганно пискнула.
— Мы выпустим ее в саду, — сказал отец. — Пойдем!
Он велел подать себе зонт и взял мальчика за руку.
Дождь ослабел, небо посветлело, мокрые, гладкие стволы
буков отливали чернотой и казались чугунными.
Они остановились там, ще тесно переплелись широко
разросшиеся корни нескольких деревьев. Пьер присел на
корточки и медленно разжал кулачок. Щеки у него раскрас¬
нелись, светло-серые глаза сияли от сильного возбуждения.
И вдруг, словно не в силах больше ждать, он широко рас¬
крыл ладошку, крохотный мышонок опрометью выскочил
из своего заточения, остановился недалеко от густого корне¬
вища и затих. Было видно, как от прерывистого дыхания
вздымаются и опускаются его бока, как он испуганно пово¬
дит блестящими черными крапинками глаз.
Пьер громко и радостно крикнул и хлопнул в ладоши.
Мышонок испугался и мгновенно, точно по мановению вол¬
шебной палочки, исчез под землей. Отец мягко пригладил
густые волосы сына.
— Пойдем ко мне, Пьер?
Мальчик вложил свою правую руку в левую руку отца и
зашагал с ним рядом.
61
— Сейчас мышонок уже дома, у папы и мамы, и расска¬
зывает, что с ним произошло.
Он щебетал без умолку, а художник крепко сжимал в
своей руке его маленькую теплую ручонку, сердце его вздра¬
гивало при каждом слове и вскрике ребенка и замирало от
глубокой привязанности и тяжелого бремени любви.
Нет, никоща в жизни он уже не испытает такой любви,
как к этому ребенку. Никоща больше не переживет мгнове¬
ний, исполненных такой горячей, сияющей нежности, тако¬
го радостного самозабвения, такой влекуще-сладостной гру¬
сти, как вот сейчас с Пьером, с этим последним прекрасным
отражением его собственной юности. Его грация, его смех,
свежесть всего его маленького, уверенного в себе существа
были, как казалось Верагуту, последним радостным и чис¬
тым звуком его жизни, они были для него тем же, чем бы¬
вает для осеннего сада последний розовый куст в цвету. К
нему тянется тепло и солнце, он напоминает о радостной
красоте летнего сада, а когда бурей или инеем собьет с него
последние лепестки, приходит конец очарованию и всем
ожиданиям блеска и радости.
— А почему ты, собственно, не любишь Альберта? — ни
с того ни с сего спросил Пьер.
Верагут крепче сжал руку ребенка.
— Я-то его люблю. Но он больше, чем меня, любит маму.
Тут уж ничего не поделаешь.
— Мне кажется, он тебя терпеть не может, папа. Знаешь,
он и меня любит уже не так, как прежде. Он все время
играет на рояле или сидит в своей комнате. В первый день,
коща он приехал, я рассказал ему о своем огороде, который
я сам посадил, он сначала сделал такое заинтересованное
лицо, а потом сказал: «Завтра мы посмотрим твой огород».
Но с тех пор он больше о нем не спрашивал. Он плохой
товарищ, у него уже растут усики. И потом он всеща с ма¬
мой, я почти не могу застать ее одну.
— Он приехал всего на несколько недель, малыш, не
забывай об этом. А коща мама с Альбертом, ты ведь всеща
можешь прийти ко мне. Или тебе не хочется?
— Это разные вещи, папа. Иногда мне хочется побыть с
тобой, а иноща с мамой. И ты всеща ужасно занят.
— Не обращай на это внимания, Пьер. Если захочешь
прийти ко мне, приходи в любое время, слышишь, в любое,
даже коща я работаю в мастерской.
62
Мальчик не ответил. Он взглянул на отца, чуть слышно
вздохнул и, казалось, остался чем-то недоволен.
— Тебя что-то не устраивает? — спросил Верагут, обес¬
покоенный выражением детского лица, которое несколько
мгновений назад еще сияло бурной мальчишеской радостью,
а теперь вдруг стало каким-то отрешенным и постаревшим.
— Скажи же мне, Пьер! — повторил он свой вопрос. —
Ты недоволен мной?
— Нет, папа. Но я не очень люблю приходить к тебе,
коща ты рисуешь. Раньше я иноща приходил...
— Ну и что же тебе не понравилось?
— Знаешь, папа, когда я прихожу к тебе в мастерскую,
ты всеща гладишь меня по голове и ничего не говоришь. И
глаза у тебя другие, иной раз даже злые, да. А когда я
говорю тебе что-нибудь, то по глазам вижу, что ты не слу¬
шаешь, отвечаешь только «да-да» и пропускаешь все мимо
ушей. Но коща я прихожу и хочу что-то сказать тебе, мне
надо, чтобы ты меня выслушал.
— И все же приходи ко мне, милый. Постарайся понять:
коща я чем-нибудь очень-очень сильно занят и коща я креп¬
ко думаю над тем, как лучше сделать свою работу, мне бы¬
вает трудно оторваться от своих мыслей и слушать тебя. Но
я попробую, коща ты придешь снова.
— Да, я понимаю. Часто я тоже задумываюсь над чем-
нибудь, а в это время меня окликнут, и надо отозваться, это
очень неприятно. Иноща мне хочется целый день сидеть не
двигаясь и думать, но именно в это время я должен играть,
учиться или делать еще что-нибудь, и тогда я ужасно злюсь.
Пьер напряженно смотрел перед собой, пытаясь выра¬
зить то, что он имел в виду. Это нелегко сделать, чаще всего
тебя так до конца и не понимают.
Они уже были в комнате Верагута. Он сел и привлек
мальчика к себе.
— Я понимаю, что ты хочешь сказать, — ласково прого¬
ворил он. — А сейчас что будешь делать: рассматривать
картинки или рисовать? Я думаю, ты мог бы нарисовать эту
историю с мышонком.
— Да, я попробую. Но мне нужен большой, красивый
лист бумаги.
Отец достал из ящика стола лист бумаги для рисования,
заточил карандаш и пододвинул мальчику стул. Пьер тут же
взобрался на него с коленями и начал рисовать мышку и
кошку. Чтобы не мешать ему, Верагут сел сзади и стал раз¬
63
глядывать тонкую загорелую шею, гибкую спину и благо¬
родную, своенравную голову ребенка, который погрузился
в свою работу и нетерпеливо помогал себе губами. Каждая
линия на бумаге, каждый маленький успех или неудача вы¬
ражались в гримасах подвижного рта, в шевелении бровей
и складок на лбу.
— Нет, ничего не выходит! — воскликнул спустя неко¬
торое время Пьер, выпрямился, опираясь ладонями о стол,
и критическим взглядом окинул свой рисунок. — Ничего не
выходит! — сердито пожаловался он. — Папа, как надо
рисовать кошку? Моя похожа на собаку.
Отец взял лист в руки и с серьезным видом принялся
рассматривать рисунок.
— Надо немного подчистить, — невозмутимо сказал он. —
Голова слишком большая и недостаточно круглая, а ноги
чересчур длинны. Погоди, сейчас исправим.
Он осторожно прошелся резинкой по рисунку, достал
новый лист бумаги и нарисовал кошку.
— Смотри, она должна быть вот такой. Вглядись в нее
хорошенько и нарисуй еще раз.
Но терпение Пьера уже кончилось, он отдал отцу каран¬
даш, и тому пришлось рисовать самому — сначала кошку,
потом котенка, потом маленькую мышку, потом Пьера, ко¬
торый спасает мышку, а напоследок мальчик потребовал
еще коляску с лошадьми и кучером.
Но вскоре и это ему надоело. Напевая, он несколько раз
обежал комнату, выглянул в окно, проверяя, не идет ли
дождь, и, пританцовывая, выскочил из дома. Его нежный,
тонкий голосок прозвенел под окнами, затем все затихло, и
Верагут остался один, держа в руке лист бумаги с нарисо¬
ванными на нем кошками.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Верагут стоял перед своей большой картиной с тремя
фигурами и писал одеяние женщины — иссиня-зеленое
платье, в вырезе которого одиноко и печально блестело ма¬
ленькое золотое украшение; оно одно подхватывало мягкий
свет, не находивший себе пристанища на затененном лице и
отчужденно и безрадостно скользивший вниз по холодной
синей одежде, — тот самый свет, который весело и задушев¬
но играл рядом в светлых волосах прекрасного ребенка.
64
В дверь постучали, и художник нехотя, с досадой отошел
от картины. Коща после небольшой паузы стук повторился,
он быстро подошел к двери и слегка приоткрыл ее.
За дверью стоял Альберт, который за все каникулы ни
разу не заглянул в мастерскую отца. Он держал в руке со¬
ломенную шляпу и с легким смущением смотрел в недоволь¬
ное лицо художника.
Верагут пригласил его войти.
— Здравствуй, Альберт. Ты, видимо, пришел взглянуть
на мои картины. У меня их тут совсем немного.
— О, я не хочу тебе мешать. Я только хотел спросить...
Но Верагут уже закрыл дверь и, обойдя мольберт, подо¬
шел к выкрашенному в серый цвет решетчатому помосту,
ще на узких, снабженных роликами подставках стояли его
полотна. Он вытащил картину с рыбами.
Альберт смущенно встал рядом с отцом, и оба стали смот¬
реть на отливающее серебристыми красками полотно.
— Ты, кстати, хоть немного интересуешься живописью? —
вскользь спросил Верагут. — Или тебе доставляет удоволь¬
ствие только музыка?
— О, я очень люблю картины, а эта просто великолепна.
— Она тебе нравится? Я очень рад. Я закажу для тебя
ее фотографию. Ну и как ты себя чувствуешь в Росхальде?
— Спасибо, папа, очень хорошо. Но я и вправду не хотел
тебя беспокоить, я зашел из-за мелочи...
Художник не слушал. Он рассеянно смотрел в лицо сына
постепенно оживающим, немного усталым взглядом — та¬
кой взгляд был у него всеща, коща он работал.
— Как вы, нынешние молодые люди, относитесь к искус¬
ству? Я хочу сказать, значит ли для вас что-нибудь Ницше,
читаете ли вы еще Тэна* — он был умница, этот Тэн, но
скучноват — или же у вас появились новые идеи?
— Тэна я еще не знаю. Обо всем этом ты, конечно же,
размышлял гораздо больше, чем я.
— Раньше — да, раньше искусство и культура, диони¬
сийское и аполлоновское начало и все такое прочее были
для меня ужасно важны. А теперь я радуюсь, когда мне
удается сделать хорошую картину, и не думаю при этом ни
о каких проблемах, по крайней мере философских. И если
бы меня спросили, почему я стал художником и расписываю
краской все эти полотна, я бы ответил: я пишу картины, так
как у меня нет хвоста, чтобы вилять им.
— Нет хвоста? Что ты хочешь этим сказать?
3 4-161
65
— Только одно. У собак, кошек и других одаренных жи¬
вотных есть хвост, который благодаря тысячам изгибов и за¬
витушек обладает совершенно удивительной способностью
выражать не только то, что они думают и чувствуют, из-за
чего страдают, но и каждый поворот настроения, каждый
оттенок характера, каждый едва заметный прилив жизнен¬
ной силы. У нас такого языка нет, и поскольку самые неу¬
емные среди нас тоже нуждаются в чем-нибудь подобном,
то мы прибегаем к помощи кисти, рояля или скрипки...
Он замолчал, словно разговор вдруг перестал его инте¬
ресовать; похоже, он только теперь заметил, что его слова
не вызывают в Альберте живого отклика.
— Итак, благодарю за визит, — неожиданно сказал он,
снова повернулся к мольберту, взял в руки палитру и впе¬
рил взгляд в то место, куда он положил последний мазок.
— Прости, папа, я хотел тебя спросить...
Верагут обернулся; взгляд у него уже был отрешенный,
равнодушный ко всему, что не имело отношения к работе.
— Да?
— Я хотел взять с собой Пьера покататься. Мама позво¬
лила, но сказала, что мне надо спросить и тебя.
— Куда же вы собираетесь ехать?
— Покатаемся пару часов по окрестностям, может быть,
заедем в Пегольцхайм.
— Так... И кто же будет править?
— Разумеется, я, папа.
— Ну что же, можешь взять Пьера! Но только в экипаже
на одну лошадь, с гнедым в упряжке. И проследи, чтобы
ему не давали слишком много овса!
— Ах, я бы лучше поехал парой.
— Сожалею. Один можешь ездить как тебе вздумается,
но если берешь с собой Пьера, то только с гнедым в уп¬
ряжке.
Альберт ушел, не скрывая легкого разочарования. В дру¬
гое время он бы заупрямился или принялся упрашивать, но
он видел, что художник снова с головой погрузился в рабо¬
ту, и здесь, в мастерской, в окружении своих картин, отец
вопреки внутреннему сопротивлению внушал ему столь
сильное уважение, что Альберт, в другой обстановке не при¬
знававший его, чувствовал себя жалким, слабым мальчиш¬
кой.
Художник тотчас снова окунулся в работу, разговор с
сыном был забыт, окружающий мир отступил на задний
66
план. Напряженно-сосредоточенным взглядом он сравнивал
поверхность холста с живым образом в своей душе. Он чув¬
ствовал музыку света, чувствовал, как разветвляется и
опять сливается его звучащий поток, как он слабеет и исся¬
кает, преодолевая препятствия, но затем опять торжествует
на каждом клочке холста, куда попадают его лучи, как при¬
хотливо, но безупречно, с поразительной чувствительно¬
стью играет он красками, преломляясь в тысячах граней и
не распадаясь в тысяче лабиринтов, неизменно сохраняя
верность своему внутреннему закону. И художник больши¬
ми глотками пил терпкий воздух искусства, суровую ра¬
дость творца, доходящего до границы самоуничтожения, об¬
ретающего святое счастье свободы лишь в железном обузда¬
нии всякого произвола и переживающего мгновения высше¬
го блаженства только в аскетическом повиновении чувству
реальности.
Это было странно и печально, но не более странно и
печально, чем судьба любого человека: этот уверенный в
себе художник, который полагал, что он может работать
только при условии глубочайшей искренности и строгой,
неумолимой концентрации, в мастерской которого не было
места причудам и неуверенности, в житейских делах был
дилетантом и незадачливым искателем счастья. Он, не вы¬
пустивший из своей мастерской ни одной неудачной карти¬
ны, глубоко страдал под гнетущим бременем бесчисленных
неудачных дней и лет, неудачных попыток научиться лю¬
бить и жить.
Но он этого не сознавал. Он давно утратил потребность
давать себе ясный отчет в собственной жизни. Он страдал и
защищался от страдания, возмущался и впадал в отчаяние
и кончил тем, что предоставил всему идти своим чередом, а
сам все силы отдал искусству. И его стойкой натуре почти
удалось придать своему искусству то богатство, ту глубину
и теплоту, которых он был лишен в жизни. Одинокий и
закованный в броню, он жил как в заколдованном сне, всего
себя подчинив воле художника и беспощадной работе, и его
натура была достаточно здорова и упорна, чтобы не заме¬
чать и не признавать убожества такого существования.
Так было до недавнего времени, пока приезд друга не
вывел его из этого состояния. С той поры одинокого худож¬
ника не покидало мучительное предчувствие опасности,
близящегося удара судьбы, он чувствовал, что его ждут
борьба и испытания, от которых ему уже не спастись ни
з*
67
искусством, ни прилежанием. Его ущемленная человеческая
сущность чуяла бурю и не находила в себе ни корней, ни
силы, чтобы противостоять ей. И лишь мало-помалу его
одинокая душа свыкалась с мыслью, что скоро придется до
конца испить чашу страдания и вины.
В борении с этими тревожными предчувствиями и в стра¬
хе перед необходимостью прояснить ситуацию и принять
решение художник весь сжался в последнем чудовищном
усилии, как сжимается зверь перед последним спаситель¬
ным прыжком, и отчаянным напряжением сил создал в эти
дни внутреннего беспокойства одно из своих крупнейших и
прекраснейших творений — играющего ребенка между
скорбно поникшими фигурами родителей. Они жили на од¬
ной и той же земле, дышали одним и тем же воздухом, их
освещал один и тот же свет, но от фигур мужчины и жен¬
щины веяло смертью и ледяным холодом, в то время как
златокудрое дитя между ними было полно радостного лико¬
вания и словно светилось собственным светом. И если впос¬
ледствии, вопреки скромному мнению художника о себе,
некоторые почитатели все-таки причисляли его к великим
мастерам, то прежде всего из-за этой картины, в которой
было столько душевной муки, хотя ее создатель хотел ви¬
деть в ней только совершенное воплощение своего ремесла.
В такие часы Верагут не знал ни слабости, ни страха, он
забывал о страдании и чувстве вины, о своей неудавшейся
жизни. Он не был ни весел, ни печален. Захваченный и
целиком поглощенный своей работой, он вдыхал холодный
воздух творческого одиночества и ничего не требовал от ми¬
ра, который переставал для него существовать. Быстро и
уверенно, выпучив от напряжения глаза, он короткими, лов¬
кими мазками наносил краску, глубже оттеняя отдельные
места, заставляя парящий листик, игривый локон свободнее
и мягче выступать в лучах света. При этом он совсем не
думал о том, что должна выражать его картина. С этим было
покончено, это была идея, замысел; теперь же главное за¬
ключалось не в том, что значат эти образы, не в чувствах и
мыслях, а в некой чистой реальности. Он даже приглушил
и почти сгладил выражение лиц, он не хотел ничего сочи¬
нять и рассказывать, складка плаща на колене была для
него столь же важна и священна, как и поникшее чело или
сомкнутые уста. На картине не должно было быть ничего,
кроме трех фигур, изображенных как можно предметнее и
достовернее, каждая связана с другими пространством и
68
воздухом и в то же время овеяна своей неповторимостью,
которая вырывает глубоко осмысленный образ из несущест¬
венных взаимосвязей и заставляет созерцателя в изумлении
содрогнуться перед роковой неотвратимостью всего сущего.
Так с картин старых мастеров смотрят на нас незнакомые
люди, имен которых мы не знаем и не хотим знать, но об¬
разы их кажутся нам необыкновенно живыми и загадочны¬
ми, словно символы всякого бытия.
Картина продвинулась далеко и была близка к заверше¬
нию. Окончательную доводку прекрасного образа ребенка
Верагут решил отложить напоследок; он собирался сделать
это завтра или послезавтра.
Было уже за полдень, коща художник почувствовал го¬
лод и взглянул на часы. Он быстро умылся, переоделся и
пошел в господский дом, где жена в одиночестве ждала его
за столом.
— А где же дети? — удивленно спросил он.
— Поехали на прогулку. Разве Альберт не заходил к
тебе?
Только теперь он вспомнил о приходе Альберта. В рас¬
сеянии и легком замешательстве он принялся за еду. Госпо¬
жа Адель наблюдала, как он небрежно и устало режет но¬
жом мясо. Собственно, она уже не ждала мужа к столу и
при виде его переутомленного лица почувствовала что-то
вроде жалости. Она молча накладывала ему в тарелку еду,
подливала вина в стакан, и он, отвечая любезностью на лю¬
безность, решил сказать ей что-нибудь приятное.
— Альберт намерен стать музыкантом? — спросил он. —
Мне кажется, он очень талантлив.
— Да, он одарен. Но я не знаю, есть ли у него задатки
художника. Да он и не стремится к этому. До сих пор он не
чувствовал особого влечения ни к одной профессии, его иде¬
ал — что-то вроде джентльмена, который одновременно за¬
нимается спортом и учится, вращается в обществе и отдает
дань искусству. Жить этим он навряд ли сможет, со време¬
нем я ему это объясню. Но пока он прилежен и хорошо себя
ведет, я не хочу понапрасну его беспокоить. Получив атте¬
стат зрелости, он намерен сперва пройти военную службу.
А там видно будет.
Художник молчал. Он очистил банан и с наслаждением
вдохнул мучнистый аромат спелого, питательного плода.
— Если ты не против, я бы и кофе здесь выпил, — ска¬
зал он под конец.
69
Его слегка усталый голос звучал мягко и дружелюбно,
казалось, художнику приятно было отдохнуть здесь и не¬
много расслабиться.
— Я сейчас велю подать. Ты много работал?
Эти слова вырвались у нее почти непроизвольно. Она
ничего не хотела этим сказать; ей просто захотелось, раз уж
выпала такая редкая добрая минута, оказать ему немного
внимания, что далось нелегко, ибо она отвыкла от этого.
— Да, я несколько часов писал, — сухо ответил муж.
Ее вопрос был ему неприятен. У них не было принято
говорить о его работе, многие из его новых картин она во¬
обще не видела.
Она почувствовала, что светлое мгновение ускользает, но
не сделала ничего, чтобы удержать его. А он уже было по¬
тянулся к портсигару и собрался попросить у нее разреше¬
ния закурить, но снова опустил руку и потерял всякий ин¬
терес к сигарете.
Однако он неторопливо выпил свой кофе, еще раз спро¬
сил о Пьере, вежливо поблагодарил и остался в комнате еще
на несколько минут, разглядывая небольшую картину, ко¬
торую он подарил жене несколько лет назад.
— Она хорошо сохранилась, — сказал он, обращаясь
скорее к самому себе, — и все еще выглядит недурно. Вот
только желтые цветы здесь ни к чему, они забирают слиш¬
ком много света.
Госпожа Верагут промолчала; именно эти необыкновен¬
но тонко и воздушно выписанные цветы нравились ей на
картине больше всего.
Он повернулся к ней и едва заметно улыбнулся.
— До свидания! И не слишком скучай до возвращения
мальчиков.
Он вышел и спустился по лестнице. Внизу навстречу ему
бросилась и запрыгала вокруг собака. Он взял ее передние
лапы в свою левую руку, правой приласкал ее и заглянул в
преданные глаза. Потом крикнул в кухонное окно, чтобы
ему принесли кусочек сахара, дал его собаке, бросил взгляд
на залитый солнцем газон и медленно побрел к мастерской.
Погода была отменная, воздух великолепен, но ему было
некоща, его ждала работа.
Залитая спокойным мягким светом, в высокой мастер¬
ской стояла его картина. На зеленой траве среди редких
луговых цветов сидели три фигуры: поникший, погружен¬
ный в безысходные думы мужчина, застывшая в безропот¬
70
ном ожидании и скорбном разочаровании женщина, весело
и беззаботно играющий среди цветов ребенок, а над всеми
ними яркий, льющийся волнами свет, который торжествую¬
ще заполнял пространство и с одинаковой беззаботной про¬
никновенностью вспыхивал и в чашечке каждого цветка, и
в белокурых волосах мальчика, и в маленьком золотом ук¬
рашении на шее удрученной горем женщины.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Художник работал до самого вечера. Затем он тяжело
опустился в кресло и некоторое время сидел, сложив руки
на коленях и отупев от усталости. Совершенно опустошен¬
ный и выжатый, с ввалившимися щеками и слегка воспален¬
ными веками, он выглядел старым и почти лишенным жиз¬
ненных сил, как крестьянин или дровосек после тяжелей¬
шей физической работы.
Он бы с удовольствием остался сидеть в кресле, всецело
отдавшись во власть усталости и сна. Но суровая дисципли¬
на и привычка требовали иного, и через четверть часа он
рывком поднялся со своего места. Ни разу больше не взгля¬
нув на свою картину, он направился к озеру, разделся и
медленно поплыл вдоль берега.
Был молочно-бледный вечер, с проходившей невдалеке
проселочной дороги доносились, приглушенные парком,
скрипы груженных сеном телег да усталая перебранка и
смех наработавшихся за день батраков и служанок. Зябко
поеживаясь, Верагут вышел на берег, тщательно, досуха вы¬
терся полотенцем, вернулся в свою комнату и закурил сигару.
Вечером он собирался писать письма, поэтому нереши¬
тельно выдвинул ящик стола, но с досадой задвинул его
обратно и звонком вызвал Роберта.
Слуга не замедлил явиться.
— Скажите, коща молодые люди вернулись с прогулки?
— Они еще не вернулись, господин Верагут.
— Как, они еще не возвращались?
— Нет еще, господин Верагут. Только бы господин Аль¬
берт не загнал гнедого, он любит прокатиться с ветерком.
Верагут не ответил. Он-то считал, что Пьер давно вер¬
нулся, и хотел побыть с ним хотя бы полчасика. Известие,
что их еще нет, раздосадовало и немного напугало его.
71
Он быстро прошел к большому дому и постучал в дверь
жены. Она удивилась его приходу, он давно уже не появ¬
лялся у нее в это время.
— Извини, — сказал он, скрывая волнение, — но где же
Пьер?
Госпожа Верагут удивленно посмотрела на мужа.
— Ты же знаешь, мальчики поехали на прогулку. — По¬
чувствовав его раздражение, она добавила: — Ты ведь не
боишься за них?
Он досадливо пожал плечами.
— Нет, конечно. Но я нахожу, что Альберт ведет себя
бесцеремонно. Он говорил о нескольких часах. По крайней
мере мог бы позвонить.
— Но ведь еще рано. К ужину они наверняка вернутся.
— Мальчика всякий раз не оказывается дома, коща я
хочу побыть с ним!
— Не понимаю, почему ты злишься. То, что Пьера нет
дома, — чистая случайность. И он довольно часто бывает у
тебя.
Он закусил губы и молча вышел. Она права, у него нет
оснований для недовольства, нелепо выходить из себя и тре¬
бовать чего-то немедленно! Гораздо лучше спокойно и тер¬
пеливо ждать, как это делает она!
Он сердито прошел через двор и вышел на проселочную
дорогу. Нет, этому ему никогда не научиться, пусть уж луч¬
ше его радость и его злость останутся с ним! До какой же
степени смирила и укротила его эта женщина, каким сдер¬
жанным и старым он стал. Это он-то, который в былые вре¬
мена умел шумно веселиться до глубокой ночи и в ярости
крушить стулья! В нем снова вспыхнули злоба и горечь, а
вместе с ними и страстное желание увидеть своего мальчика;
развеселить его душу мог только взгляд и голос Пьера.
Широкими шагами он быстро шел по вечерней дороге.
Послышался стук колес, и он заторопился навстречу. Но это
крестьянская лошадка тащила телегу, доверху нагруженную
овощами.
— Вам не попадался кабриолет с двумя молодыми людь¬
ми на козлах?
Крестьянин, не останавливаясь, покачал головой, и его
тяжеловоз равнодушно потрусил мимо, навстречу тихому
вечеру.
Художник пошел дальше. Он чувствовал, как остывает
и проходит гнев. Походка его стала спокойнее, усталость
72
подействовала на него благотворно, и, пока он неторопливо
шагал по дороге, глаза его отдыхали, признательно погру¬
жаясь в покой и пышность неяркого ландшафта, окружен¬
ного бледновато-нежной дымкой позднего вечера.
Он уже почти забыл о своих сыновьях, коща через пол¬
часа навстречу ему показался кабриолет. Верагут заметил
его только тоща, когда тот оказался совсем близко. Он ос¬
тановился у ствола большой груши, а коща смог разглядеть
лицо Альберта, отступил еще больше назад, боясь, как бы
его не увидели и не окликнули.
Альберт сидел на козлах один. Пьер полулежал в углу
кабриолета, опустив непокрытую голову, и, казалось, спал.
Кабриолет проехал мимо, и художник, стоя на обочине
пыльной дороги, глядел ему вслед, пока он не скрылся из
глаз. Затем он повернул и пошел назад. Ему все еще хоте¬
лось увидеть Пьера, но тому пришло время спать, и у Вера-
гута не было желания еще раз показываться у жены.
Поэтому он миновал парк, прошел мимо дома и въезд¬
ных ворот и направился в город, где в переполненном вин¬
ном погребке поужинал и долго листал газеты.
Тем временем его сыновья уже давно были дома. Альберт
сидел у матери и рассказывал о поездке. Пьер очень устал,
отказался от еды и уже спал в своей уютной спаленке. И
когда ночью отец вернулся и проходил мимо дома, свет уже
нище не горел. Теплая, беззвездная ночь окутала парк, дом
и озеро черной тишиной, воздух был неподвижен, моросил
тихий, мелкий дождь.
Верагут зажег в своей комнате свет и сел за стол. Его
сонливость как рукой сняло. Он достал лист почтовой бума¬
ги и стал писать Отто Буркхардту. Через открытые окна в
комнату залетали ночные бабочки и мошкара. Он писал:
«Мой дорогой!
Скорее всего, ты сейчас вряд ли ждешь от меня письма.
Но раз я пишу, ты, вероятно, ждешь от меня больше, чем я
могу дать. Ты ждешь, что во мне все прояснилось и что
испорченный механизм своей жизни я вижу теперь как бы
в разрезе и так же четко, как видишь его ты. К сожалению,
это не так. Какие-то проблески после нашего разговора во
мне появились, и в иные мгновения я стою на пороге доволь¬
но неприятных открытий; но полной ясности все еще нет.
Пока я не могу сказать, что я буду делать или чего не
буду делать потом. Но мы едем! Я еду с тобой в Индию*,
73
пожалуйста, позаботься о билете для меня, как только вы¬
яснится время отплытия. До конца лета ничего не получит¬
ся, но осенью — чем раньше, тем лучше.
Картину с рыбами, которую ты у меня видел, я хотел бы
подарить тебе, но мне будет приятно, если она останется в
Европе. Куда ее послать?
Здесь все по-прежнему. Альберт разыгрывает из себя
светского человека, и мы общаемся с ним очень церемонно,
точно два посла враждующих государств.
Перед отъездом я снова жду тебя в Росхальде. Я покажу
тебе картину, которую на днях заканчиваю. Она недурна и
может стать удачным завершением моей жизни в случае,
если меня сожрут ваши крокодилы, чего мне, несмотря ни
на что, отнюдь не хочется.
Пора в постель, хотя и спать совсем не хочется. Сегодня
я девять часов провел у мольберта.
Твой Иоганн»
Он надписал адрес и положил письмо в передней — ут¬
ром Роберт отнесет его на почту.
Прежде чем лечь, художник высунул голову в окно и
только теперь заметил, что идет дождь; за письменным сто¬
лом он не обратил на него внимания. Мягкие пряди дождя
падали из темноты, и Верагут еще долго, лежа в постели,
слушал, как они струятся и стекают с отягощенных влагой
листьев на жаждущую землю.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
— Пьер стал такой скучный, — говорил Альберт матери,
коща они шли вдвоем по освеженному дождем саду, чтобы
срезать розы. — Он и всеща не очень-то со мной любезен,
но вчера я просто не мог к нему подступиться. Коща я толь¬
ко завел речь о прогулке в экипаже, он был в полном вос¬
торге. А вчера с трудом согласился ехать, мне почти при¬
шлось его уговаривать. Прогулка не была для меня таким
уж удовольствием, раз мне запретили ехать парой. Собст¬
венно, я поехал только ради него.
— Он вел себя плохо в пути? — спросила госпожа Ве¬
рагут.
— Ах, вел-то он себя хорошо, но был так скучен! Време¬
нами малыш уж очень много о себе воображает. Что бы я
74
ему ни предлагал, на что бы ни обращал его внимание, он
выжимал из себя только «да-да» или улыбку; он не захотел
сидеть на козлах, не захотел учиться править лошадьми,
даже от абрикосов отказался. Совсем как какой-нибудь из¬
балованный принц. Мне было досадно, я говорю тебе об
этом, потому что в следующий раз вряд ли захочу взять его
с собой.
Мать остановилась и испытующе посмотрела на сына;
она улыбнулась, видя его волнение, и с удовлетворением
заглянула в его сверкающие глаза.
— Ты уже большой, Альберт, — успокаивающе сказала
она. — Будь к нему снисходителен. Может быть, он плохо
себя чувствовал. Он и сегодня утром почти ничего не ел.
Такое случается со всеми детьми, ты тоже не был исключе¬
нием. Легкое расстройство желудка или нехороший сон,
приснившийся ночью, — и готово дело. А у Пьера, надо
сказать, хрупкая и чувствительная натура. И потом, он, ве¬
роятно, чуть-чуть ревнует, ты же понимаешь. Не забывай,
обычно я все время провожу с ним, а теперь появился ты,
и ему приходится делить меня с тобой.
— Но ведь у меня каникулы! Это-то он должен пони¬
мать, он же не так глуп!
— Он еще ребенок, Альберт, а ты должен быть благора¬
зумнее.
С посвежевших, отливавших металлическим блеском ли¬
стьев еще срывались капли дождя. Мать и сын искали жел¬
тые розы, которые Альберт особенно любил. Он раздвигал
верхушки кустов, а мать садовыми ножницами срезала еще
немного влажные, поникшие цветы.
— Скажи, я был похож на Пьера, коща мне было столь¬
ко же лет, сколько сейчас ему? — задумчиво спросил Аль¬
берт.
Госпожа Адель ответила не сразу. Она опустила руку с
ножницами, взглянула в лицо сына и закрыла глаза, чтобы
вызвать в памяти его детский образ.
— Внешне ты был довольно похож на него, за исключе¬
нием глаз. И ты был не такой тонкий и стройный, ты начал
расти позднее.
— А кроме этого? Я имею в виду характер?
— Ну, капризы были и у тебя, мой мальчик. Но мне
кажется, характер у тебя был устойчивее и ты не менял свои
игры и занятия так часто, как Пьер. Он порывистее, чем
был ты, и быстрее теряет равновесие.
75
Альберт взял у матери ножницы и склонился над розо¬
вым кустом.
— Пьер больше похож на папу, — тихо сказал он. —
Знаешь, мама, это же поразительно, как свойства родителей
и предков повторяются и смешиваются в детях! Мои друзья
говорят, что в каждом человеке с раннего детства уже зало¬
жено все то, что будет определять его дальнейшую жизнь,
и с этим ничего нельзя поделать, абсолютно ничего. Если, к
примеру, кто-то имеет в себе задатки вора или убийцы, то
ему уже ничем нельзя помочь, он все равно станет преступ¬
ником. В сущности, это ужасно. Ты, конечно, тоже так ду¬
маешь. Это доказано наукой.
— Бог с ней, с наукой, — улыбнулась госпожа Адель. —
Коща кто-то становится преступником и убивает людей, то
науке, вероятно, нетрудно доказать, что наклонность к это¬
му была в нем всеща. Но я не сомневаюсь, что есть очень
много честных людей, которые унаследовали от своих роди¬
телей и прародителей немало дурного и все же остались по¬
рядочными, и вот тут-то наука оказывается бессильна. По-
моему, хорошее воспитание и добрая воля надежнее, чем
любая наследственность. Мы знаем, что значит быть добрым
и порядочным, можем научиться этому и должны держаться
этих принципов. Что же до тайн, унаследованных нами от
дедов и прадедов, то о них никто не знает ничего определен¬
ного и лучше не обращать на них внимания.
Альберт знал, что его мать никогда не ввязывается в фи¬
лософские споры, и в душе он инстинктивно признавал пра¬
воту ее бесхитростного образа мыслей. В то же время он
чувствовал, что этим опасная тема не исчерпана, ему хоте¬
лось основательнее высказаться относительно того учения о
причинности, которое звучало столь убедительно в устах не¬
которых его друзей. Но он тщетно подыскивал в уме четкие,
ясные, убедительные формулировки, к тому же, в отличие
от друзей, которыми он восхищался, он чувствовал в себе
значительно большую склонность к нравственно-эстетиче-
схому взгляду на вещи, нежели к научно-объективному, ко¬
торого он придерживался в кругу приятелей. Поэтому он
оставил высокие материи в покое и занялся розами.
Между тем Пьер, который и впрямь чувствовал себя не
совсем хорошо и утром проснулся гораздо позже обычного
и не в духе, оставался в детской до тех пор, пока ему не
наскучили его игрушки. На душе у него было скверно, и ему
76
казалось, что должно случиться что-то особенное, что хоть
немного скрасит этот невыносимо унылый день.
Надеясь на что-то и не веря в удачу, он в беспокойстве
вышел из дома и побрел к липовой роще в поисках чего-ни¬
будь неожиданного, какой-нибудь находки или приключе¬
ния. В желудке он ощущал тягучую пустоту, такое бывало
с ним и раньше, а в голове была такая усталость и тяжесть,
каких он не испытывал никоща до этого; ему хотелось утк¬
нуться головой в мамины колени и зареветь. Но он не мог
себе этого позволить, пока здесь был заносчиво-гордый
старший брат, который и так все время дает ему почувство¬
вать, что он еще ребенок.
Вот если бы маме вдруг пришло в голову самой сделать
что-нибудь, позвать его к себе, поиграть с ним в какую-ни-
будь игру, приласкать его. Но она, конечно же, опять ушла
куда-нибудь с Альбертом. Пьер чувствовал, что сегодня не¬
счастный день и что надеяться ему не на что.
Он нерешительно и уныло побрел по гравиевой дорожке,
засунув руки в карманы и держа во рту стебелек увядшего
липового цветка. В утреннем саду было свежо и сыро, а
стебелек отдавал горечью. Он выплюнул его и с досадой
остановился. Ему ничего не приходило в голову, сегодня он
не хотел быть ни принцем, ни разбойником, ни кучером, ни
архитектором.
Наморщив лоб, он оглядел вокруг себя землю, поковы¬
рял носком ботинка в гравие и ударом ноги отшвырнул да¬
леко в мокрую траву серую слизистую улитку. Никто не
хотел поговорить с ним, ни*птицы, ни бабочки, ничто не
хотело ему улыбнуться и развеселить его. Все вокруг мол¬
чало, все казалось таким будничным, безотрадным и уны¬
лым. С ближайшего куста он сорвал и попробовал малень¬
кую ярко-красную ягоду смородины; она была холодной и
кислой на вкус. Хорошо бы лечь и уснуть, подумал он, и
спать до тех пор, пока все снова не изменится и не заблещет
красотой и весельем. Не имеет смысла вот так бродить, му¬
читься и ждать чего-то, что так и не хочет приходить. Как
славно было бы, если бы, например, началась война и на
дороге появилось множество солдат на конях, или если бы
где-нибудь загорелся дом, или случилось большое наводне¬
ние. Ах, все это можно найти только в книжках с картинка¬
ми, в жизни таких вещей не встретишь, а может, их и вооб¬
ще не бывает на свете.
77
Вздохнув, мальчик поплелся дальше. Его хорошенькое,
нежное личико было угасшим и печальным. Коща за высо¬
ким забором он услышал голоса Альберта и мамы, ревность
и отвращение охватили его с такой силой, что на глазах у
него показались слезы. Он повернулся и тихонько, боясь,
что его услышат и окликнут, пошел в другую сторону. Ему
не хотелось сейчас никому ничего объяснять, не хотелось
разговаривать, выслушивать советы и назидания. Ему было
плохо, ужасно плохо, никому не было до него дела, и он
хотел по крайней мере упиться своим одиночеством и пе¬
чалью, почувствовать себя по-настоящему несчастным.
Он вспомнил о Боге, которого временами очень ценил, и
мысль о нем на мгновение принесла ему далекий отблеск
утешения и тепла, но скоро и она исчезла. Очевидно, и Бог
не мог ему помочь. А между тем именно сейчас ему нужен
был кто-то, на кого можно было бы положиться, от кого
можно было бы дождаться доброго слова утешения.
И тут он подумал об отце. Он смутно надеялся, что его,
быть может, поймет отец, ведь он тоже чаще всего был мол¬
чалив, погружен в себя и невесел. Без сомнения, он стоит
сейчас, как всеща, в своей большой, тихой мастерской и
пишет свои картины. Вообще-то мешать ему не следует, но
он же сам недавно сказал, что Пьер может приходить к нему
в любое время. Может быть, он уже забыл об этом, все
взрослые очень быстро забывают свои обещания. Но почему
бы не попробовать. Ах, Господи, что же делать, коща тебе
так скверно, а утешения ждать неоткуда!
Снцчала медленно, затем, подгоняемый вспыхнувшей на¬
деждой, все быстрее и быстрее он пошел по тенистой аллее
к мастерской. Взявшись за дверную ручку, он замер, при¬
слушиваясь. Да, папа был там, Пьер слышал, как он фыр¬
кает и откашливается, слышал, как мелко постукивают де¬
ревянные ручки кистей, которые он держал в левой руке.
Он осторожно нажал на ручку, бесшумно открыл дверь
и заглянул внутрь. В нос ударил резкий, противный запах
скипидара и лака, но широкая сильная фигура отца пробу¬
дила в нем надежду. Он вошел и закрыл за собой дверь.
Коща хлопнула щеколда, художник, с которого Пьер не
сводил взгляда, передернул широкими плечами и обернул¬
ся. Пронзительные глаза смотрели сердито и неудоуменно,
открытый рот не сулил ничего хорошего.
Пьер не шевелился. Он смотрел отцу в глаза и ждал.
Вскоре взгляд художника стал ласковее, лицо смягчилось.
78
— Смотри-ка, Пьер! Мы не виделись целый день. Тебя
прислала мама?
Мальчик^ покачал головой и дал себя поцеловать.
— Хочешь немного побыть со мной и посмотреть, как я
работаю? — ласково спросил отец, снова поворачиваясь к
своей картине и примериваясь заостренной маленькой кис¬
тью к определенной точке на холсте. Пьер стал смотреть.
Он видел, как художник вглядывается в полотно/- как на¬
прягаются и сердито застывают его глаза, как нацеливается
тонкой кистью его сильная, нервная рука, видел, как он
морщит лоб и прикусывает нижнюю губу. При этом мальчик
вдыхал терпкий воздух мастерской, который он не любил
никоща и который сегодня был ему особенно противен. Гла¬
за его потухли, он застыл у дверей, точно парализованный.
Все это было ему знакомо — и этот запах, и эти глаза, и эти
гримасы напряженного внимания. Он понял, что ошибся.
Глупо было надеяться, что сегодня все будет не так, как
всеща. Отец работал, он смешивал свои остро пахнувшие
краски и не думал ни о чем другом, кроме своих дурацких
картин. Глупо было приходить сюда.
Лицо мальчика поникло от разочарования. Он ведь знал
все заранее! Сегодня для него нище не было прибежища, ни
у мамы, ни тем более здесь.
С минуту он рассеянно и печально смотрел, ничего не
видя, на большую картину, мерцавшую еще не высохшей
краской. Для этого у папы есть время, только не для него.
Он снова взялся за ручку двери и нажал на нее, собираясь
незаметно уйти.
Но Верагут услышал легкий звук. Он обернулся, про¬
бормотал что-то и подошел ближе.
— Что случилось, Пьеро? Не убегай! Разве тебе не хо¬
чется побыть немножко с папой?
Пьер снял руку со щеколды и слабо кивнул.
— Ты что-то хотел мне сказать? — ласково спросил ху¬
дожник. — Пойдем сядем, и ты мне расскажешь^ Как вче¬
рашняя прогулка?
— О, было очень мило, — учтиво ответил мальчик.
Верагут погладил его по голове.
— Ты плохо себя чувствуешь? Вид у тебя немного за¬
спанный, мой мальчик! Тебе случайно вчера не дали выпить
вина? Нет? Ну, и чем же мы сегодня займемся? Будем ри¬
совать?
— Я не хочу, папа. Сегодня так скучно.
79
— Вот как? Ты наверняка плохо спал сегодня? Хочешь,
займемся немного гимнастикой?
Пьер покачал головой.
— Не хочу. Я просто хочу побыть с тобой, понимаешь?
Но здесь такой ужасный запах.
Верагут снова погладил его по голове и засмеялся.
— Да, просто беда, когда сын художника не переносит
запаха красок. Значит, ты так и не станешь художником!
— Нет, да я и не хочу.
— Кем же ты хочешь стать?
— Никем. Мне бы лучше всего стать птицей или чем-ни-
будь в этом роде.
— Недурная мысль, но скажи мне, сокровище мое, чего
же ты хочешь? Видишь ли, мне нужно еще поработать над
этой большой картиной. Если хочешь, можешь остаться
здесь и немножко поиграть. Или будешь рассматривать кар¬
тинки в книжке?
Нет, это было не то, чего ему хотелось. Чтобы отделаться
от отца, он сказал, что пойдет кормить голубей, и от него не
ускользнуло, что отец вздохнул с облегчением и был рад его
уходу. Поцеловав Пьера, художник выпустил его из мастер¬
ской и закрыл за ним дверь. Пьер снова остался один, на ду¬
ше у него было еще хуже, чем прежде. Не разбирая дороги,
он пошел напрямик по газонам, хотя это ему запрещалось,
рассеяно и грустно сорвал несколько цветков и равнодушно
смотрел, как его светлые желтые ботинки покрываются в
мокрой траве пятнами и темнеют. В конце концов, не в силах
совладать с отчаянием, он бросился на газон, зарылся голо¬
вой в траву и разрыдался, чувствуя, как промокают насквозь
и прилипают к телу рукава его светло-синей блузы.
Только когда его стал пробирать озноб, он, успокоив¬
шись, встал и робко прокрался в дом.
Скоро его хватятся и тогда увидят, что он плакал, заме¬
тят его мокрую грязную блузу и влажные ботинки и станут
бранить. Он настороженно прошмыгнул мимо кухонной
двери: ему не хотелось ни с кем встречаться. Лучше всего
было бы уехать куда-нибудь далеко-далеко, ще тебя никто
не знает и никто о тебе не спросит.
В дверях одной из комнат, в которых изредка останавли¬
вались гости, торчал ключ. Он вошел, закрыл за собой
дверь, закрыл и распахнутые окна и, не снимая ботинок, ус¬
тало забрался на незастланную постель. Там он и остался, от¬
давшись своему горю, то плача, то впадая в дремоту. И ког¬
80
да, много времени спустя, он услышал голос матери, которая
звала его во дворе и в коридоре, он не отозвался и упрямо за¬
рылся еще глубже в постель. Голос матери то приближался,
то удалялся и, наконец, затих, а Пьер так и не мог заставить
себя откликнуться. Вскоре, весь заплаканный, он заснул.
В полдень, коща Верагут пришел обедать, жена сразу же
спросила:
— Ты не привел с собой Пьера?
Его удивил ее слегка взволнованный голос.
— Пьера? Я ничего о нем не знаю. Разве он не был с
вами?
Госпожа Адель испугалась и заговорила громче:
— Нет, после завтрака я его больше не видела! Коща я
искала его, девушки сказали, что видели, как он шел в ма¬
стерскую. Разве он не был у тебя?
— Да, был, но очень недолго и сразу же убежал. Неуже¬
ли никто в доме не смотрит за ним? — с досадой доба¬
вил он.
— Мы думали, что он у тебя, — обиженно сказала гос¬
пожа Верагут. — Пойду поищу его.
— Пошли кого-нибудь! Нам пора обедать.
— Начинайте без меня. Я пойду искать сама.
Она быстро вышла из комнаты. Альберт встал и хотел
последовать за ней.
— Останься, Альберт! — крикнул Верагут. — Мы за
столом!
Юноша сердито посмотрел на него.
— Я пообедаю с мамой, — упрямо сказал он.
Отец, глядя в его взволнованное лицо, иронически улыб¬
нулся.
— Как хочешь, ведь ты хозяин в доме, не так ли? Кста¬
ти, если у тебя опять появится желание бросить в меня но¬
жом, пожалуйста, не обращай внимания на какие-то там
предрассудки!
Сын побледнел и резко отодвинул стул. Отец впервые
напомнил ему о той вспышке гнева детских лет.
— Ты не смеешь так говорить со мной! — взорвался
он. — Я этого не потерплю!
Верагут, не отвечая, взял кусок хлеба и стал есть. Он
налил в стакан воды, неторопливо выпил ее и решил сохра¬
нять спокойствие. Он делал вид, будто он один в столовой.
Альберт нерешительно подошел к окну.
81
— Я этого не потерплю! — выкрикнул он еще раз, не в
силах унять гнев.
Отец посыпал хлеб солью. В мыслях он видел себя под¬
нимающимся на борт корабля и уплывающим по бескрайним
неведомым морям как можно дальше, прочь от этого непо¬
правимого безрассудства.
— Ладно, — почти миролюбиво сказал он. — Я вижу,
ты не любишь, когда я с тобой разговариваю. Хватит об
этом!
В этот момент послышался удивленный возглас и поток
взволнованных слов. Госпожа Адель обнаружила мальчика
в его укрытии. Художник прислушался и быстро вышел из
столовой. Похоже, сегодня все идет вкривь и вкось.
Он нашел Пьера в комнате для гостей, тот лежал в гряз¬
ных ботинках, с сонным, заплаканным лицом и спутанными
волосами на смятой постели, рядом растерянно стояла удив¬
ленная госпожа Верагут.
— Послушай, Пьер, — наконец воскликнула она, и в ее
голосе перемешались тревога и досада, — что все это зна¬
чит? Почему ты не отвечаешь? И почему лежишь здесь?
Верагут приподнял мальчика и испуганно заглянул в его
помутневшие глаза.
— Ты болен, Пьер? — ласково спросил он.
Мальчик растерянно покачал головой.
— Ты здесь спал? Ты уже давно здесь?
— Я не виноват, — слабым, несмелым голосом отвечал
Пьер, — я ничего не сделал... У меня очень болела голова.
Верагут взял его на руки и отнес в столовую.
— Дай ему тарелку супа, — сказал он жене. — Тебе надо
поесть горячего, мой мальчик, и ты сразу почувствуешь себя
лучше, вот увидишь. Ты и в самом деле заболел, бедняжка.
Он усадил его в кресло, подложил под спину подушку и
сам стал с ложки кормить его супом.
Альберт сидел молча и отчужденно.
— Кажется, он и вправду заболел, — сказала госпожа Ве¬
рагут. Она почти успокоилась; материнское чувство говорило
ей, что лучше ухаживать за больным ребенком, чем разбирать¬
ся с ним и наказывать его за какие-то необычные шалости.
— Потом мы отнесем тебя в постель, а пока ешь, душа
моя, — ласково утешала она сына.
Лицо Пьера посерело, в глазах застыла дремота, он си¬
дел и ел не сопротивляясь то, что ему давали. Пока отец
82
кормил его супом, мать щупала ему пульс. Она обрадова¬
лась, не обнаружив жара.
— Может, позвать доктора? — нерешительно спросил
Альберт; ему тоже хотелось что-нибудь сделать.
— Нет, не надо, — сказала мать. — Сейчас мы уложим Пье¬
ра в постель, укутаем как следует, он хорошенько выспится и
завтра будет опять здоров. Ведь правда, моя радость?
Мальчик не слушал, он отрицательно затряс головой,
коща отец хотел дать ему еще супу.
— Нет, ему не надо есть через силу, — сказала госпожа
Верагут. — Пойдем, Пьер, я уложу тебя в постель, и все
снова будет хорошо.
Она взяла его за руку, он неохотно поднялся и сонно
побрел за ней. Но в дверях он остановился, лицо его иска¬
зилось, он согнулся, и его стошнило; все, что он только что
съел, оказалось на полу.
Верагут отнес его в спальню и оставил на попечение мате¬
ри. Зазвонил колокольчик, засновали вверх и вниз по лест¬
нице слуги. Художник немного поел и, пока ел, успел дваж¬
ды сбегать в комнату Пьера. Раздетый и вымытый, мальчик
уже лежал в своей кроватке из желтой меди. Затем в столо¬
вую вернулась госпожа Адель и сообщила, что ребенок успо¬
коился, ни на что не жалуется и, кажется, скоро заснет.
— Что Пьер ел вчера? — обратился отец к Альберту.
Альберт задумался, но ответил не ему, а матери:
— Ничего особенного. В Брюкеншванде я велел дать ему
хлеба и молока, а на обед в Пегольцхайме нам подали ма¬
кароны и котлеты.
Отец продолжал свой инквизиторский допрос:
— А потом?
— Он больше ничего не хотел есть. После обеда я купил
у одного садовника абрикосов. Из них он съел только один
или два.
— Они были спелые?
— Да, конечно. Ты, кажется, думаешь, что я нарочно
расстроил ему желудок.
Мать заметила его раздражение и спросила:
— Что это с вами?
— Ничего, — ответил Альберт.
— Ничего такого я не думаю, — сказал Верагут, — я
только спрашиваю. Не случилось ли вчера чего-нибудь?
Может быть, его тошнило? Или, может, он упал? Он не
жаловался на боли?
83
Альберт на все вопросы отвечал односложно «да» или
«нет« и страстно желал, чтобы этот обед закончился как
можно скорее.
Когда отец еще раз вошел на цыпочках в комнату Пьера,
тот уже заснул. Бледное детское личико выражало глубокую
серьезность и ревностную преданность несущему утешение
сну.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В этот беспокойный день Иоганн Верагут закончил свою
большую картину. Он вернулся от больного Пьера испуган¬
ный, с тревогой в сердце, и ему было труднее чем когда бы
то ни было совладать с обуревавшими его мыслями и обре¬
сти то абсолютное спокойствие, которое составляло тайну
его силы и за которое ему так дорого приходилось платить.
Но он был человек сильной воли, ему удалось справиться с
собой, и в послеобеденные часы, при удобном, мягком осве¬
щении, картина получила последние маленькие исправле¬
ния и уточнения.
Когда он отложил палитру и сел перед холстом, на душе
у него была странная пустота. Он, правда, знал, что картина
являет собой нечто особенное и что он многого достиг в ней.
Но сам он чувствовал себя опустошенным и перегоревшим.
И не было никого, кому он мог бы показать свое творение.
Друг был далеко отсюда, Пьер заболел, а больше у него
никого не было. О впечатлении, которое произведет его кар¬
тина, и об откликах на нее он узнает только из равнодуш¬
ного далека, из газет и писем. Ах, все это пустяки, ничтож¬
нее, чем пустяки, только взгляд друга или поцелуй возлюб¬
ленной мог бы сейчас обрадовать его, вознаградить и при¬
дать силы.
Четверть часа молча простоял он перед картиной, кото¬
рая вобрала в себя энергию и лучшие часы нескольких не¬
дель и теперь, сияя, смотрела ему в глаза, в то время как
сам он стоял перед своим детищем обессиленно и отчуж¬
денно.
— Ну да ладно, продам ее и оплачу путешествие в
Индию, — с обезоруживающим цинизмом проговорил он.
Заперев* двери мастерской, он пошел в дом взглянуть на
Пьера, который, как выяснилось, еще спал. Мальчик вы¬
глядел лучше, чем в полдень, лицо его порозовело во
84
сне, рот полуоткрылся, выражение муки и безутешности
исчезло.
— Как быстро у детей все проходит! — прошептал он в
дверях жене. Она слабо улыбнулась, и он заметил, что она
тоже почувствовала облегчение и что ее тревога была силь¬
нее, чем казалось на первый взгляд.
Ужинать с женой и Альбертом ему не хотелось.
— Я иду в город, — сказал он, — и к ужину не вернусь.
Больной Пьер спал в своей кроватке, мать опустила што¬
ры и оставила его одного.
Ему снилось, что он медленно идет по саду. Все немного
изменилось и казалось гораздо больше и обширнее, чем
обычно, он шел и шел и не мог дойти до конца. Грядки
цветника были красивее, такими их он еще ни разу не видел,
но цветы на них выглядели какими-то странно прозрачны¬
ми, крупными и необыкновенными, и на всем лежал отсвет
печальной, мертвой красоты. Со стесненным сердцем он
обошел круглую клумбу, на которой росли кусты крупных
цветов, на белом цветке спокойно сидела и пила нектар го¬
лубая бабочка. Стояла неестественная тишина, дорожки бы¬
ли посыпаны не гравием, а чем-то мягким, и Пьеру каза¬
лось, что он идет по ковру.
Навстречу ему, с другой стороны цветника, шла мама.
Но она не обратила на него внимания и не кивнула ему, она
строго и печально смотрела перед собой в пустоту и бесшум¬
но, как привидение, прошла мимо.
Вскоре на другой дорожке он встретил отца, а затем и
Альберта, оба шли тихо, строго глядя перед собой, и ни
один из них не заметил Пьера. Словно заколдованные, они
отрешенно и чинно бродили по дорожкам сада, и казалось,
что так будет всеща, что в их застывших глазах никогда не
появится осмысленное выражение, а на их лицах — улыбка,
что эту непроницаемую тишину никогда не нарушит ника¬
кой звук, а неподвижные ветки и листья не поколеблет лег¬
кий ветерок.
Хуже всего было то, что он сам не мог никого окликнуть.
Ему ничто не мешало сделать это, он нигде не ощущал боли,
но у него не было ни смелости, ни особого желания; он
понимал, что все так и должно быть и будет еще ужаснее,
если он начнет возмущаться.
Пьер медленно бродил среди этого бездушного великоле¬
пия, в ясном, мертвом воздухе стояли, словно ненастоящие
и неживые, тысячи великолепных цветов, время от времени
85
он опять встречал Альберта, или мать, или отца, и они все
так же оцепенело и отчужденно проходили мимо него и ми¬
мо друг друга.
Ему казалось, что так продолжается уже давно, может
быть, годы, и те времена, коща весь мир и сад были еще
живыми, люди веселыми и разговорчивыми, а его самого
переполняли необузданные желания, — те времена теперь
невообразимо далеко, в глубоком, непостижимом прошлом.
Может быть, так было всегда, и прошлое — только прекрас¬
ный, глупый сон.
Наконец он дошел до маленького выложенного камнем
бассейна, из которого садовник брал раньше воду для по¬
лива и в который сам он запустил как-то несколько крошеч¬
ных головастиков. В неподвижной светло-зеленой воде от¬
ражались каменные края и нависающие листья и желтые
цветы астр; бассейн казался прекрасным, покинутым и ка-
ким-то несчастным, как и все остальное здесь.
— Если упадешь в него, то захлебнешься и умрешь, —
сказал однажды садовник. Но тут было совсем неглубоко.
Пьер подошел к краю овального бассейна и склонился
над ним.
В воде он увидел свое собственное отражение. Его лицо
ничем не отличалось от других; постаревшее и бледное, оно
было неподвижным и равнодушно-суровым.
Он разглядывал себя с испугом и удивлением, и вдруг
его с неодолимой силой охватило чувство скрытого ужаса и
печальной бессмысленности случившегося. Он хотел закри¬
чать, но не мог издать ни звука, хотел заплакать, но только
скривил губы и беспомощно оскалился.
Тут снова появился отец, и Пьер, в немыслимом напря¬
жении собрав все свои скованные какими-то чарами силы,
повернулся к нему. Смертный страх и невыносимая мука его
отчаявшегося сердца вылились в глухие рыдания и устреми¬
лись с мольбой о помощи к отцу, который приближался,
погруженный в свое призрачное спокойствие, и, казалось,
опять не замечал сына.
«Папа!» — хотел крикнуть мальчик, и хотя из его горла
не вырвалось ни звука, но страшная беда сына все же дошла
до поглощенного одиночеством отца. Он повернул голову и
взглянул на Пьера.
Пытливым взглядом художника он внимательно всмот¬
релся в глаза сына, слабо улыбнулся и едва заметно кивнул,
ласково и с состраданием, но в его жесте не было утешения,
86
он как бы давал понять, что ничем не может помочь. По его
суровому лицу быстро скользнула тень любви и сочувствия,
и в этот миг он был уже не всесильным отцом, а скорее
несчастным, беспомощным братом.
Затем он опять вперил взгляд в пространство перед со¬
бой и, не останавливаясь, медленно удалился прежним раз¬
меренным шагом.
Пьер смотрел ему вслед, пока он не скрылся; маленький
бассейн и дорожка в саду потемнели перед его глазами и,
точно клубы тумана, испарились куда-то. Он проснулся с
болью в висках и с чувством жжения в пересохшем горле.
Обнаружив, что лежит один в постели в полутемной комна¬
те, он удивился и попытался вспомнить, что с ним приклю¬
чилось, но память не шла ему на помощь, и он обессиленно
и покорно повернулся на другой бок.
Мало-помалу сознание вернулось к нему, и он с облегче¬
нием вздохнул. Отвратительно, когда ты болен, коща у тебя
болит голова, но все это можно перенести, все это пустяки
по сравнению с чувством тоскливой обреченности, навеян¬
ным кошмарным сном.
«И зачем только все эти мучения? — думал Пьер, ежась
под одеялом. — Зачем нужно болеть? Если болезнь — на¬
казание, то за какой проступок? Я даже не съел ничего за¬
прещенного, как когда-то, когда я заболел, поев недозрелых
слив. Мне запретили их есть, но я все же поел и должен был
отвечать за последствия. Это понятно. Но теперь? Почему
я лежу в постели, почему меня вырвало, почему так ужасно
болит голова?»
Прошло немало времени, прежде чем в комнату снова
зашла мать. Она подняла шторы на окне, и комнату залил
мягкий вечерний свет.
— Как твои дела, милый? Ты хорошо спал?
Он не ответил. Лежа на боку, он поднял глаза на мать.
Она удивленно выдержала его взгляд: он был странно ис¬
пытующий и серьезный.
«Хорошо хоть, что нет жара», — с облегчением подума¬
ла она.
— Хочешь чего-нибудь поесть?
Пьер едва заметно покачал головой.
— Принести тебе чего-нибудь?
— Воды, — тихо проговорил он.
Она дала ему воды, но он сделал один маленький глоток
и снова закрыл глаза.
87
Вдруг в комнате госпожи Верагут раздались громкие зву¬
ки рояля. Они наплывали широкими волнами.
— Слышишь? — спросила она.
Пьер широко раскрыл глаза, лицо его исказилось, точно
от боли.
— Нет! — крикнул он. — Нет! Оставьте меня в покое!
Обеими руками он заткнул уши и зарылся головой в по¬
душку.
Госпожа Верагут со вздохом вышла и попросила Альбер¬
та прекратить игру. Затем вернулась и осталась сидеть у
кроватки Пьера, пока он опять не задремал.
Этим вечером в доме царила тишина. Верагута не было,
Альберт расстроился и переживал, что ему не разрешают
играть. Они рано легли, и мать оставила дверь открытой,
чтобы услышать, если ночью Пьеру что-нибудь понадо¬
бится.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Вернувшись вечером из города, художник осторожно
обошел дом, с тревогой всматриваясь и вслушиваясь, не го¬
ворит ли освещенное окно, скрипнувшая дверь или чей-либо
голос, что его любимец все еще болен и страдает. Но коща
он обнаружил, что все вокруг тихо, спокойно и объято сном,
страх спал с него, как спадает тяжелая, мокрая одежда.
Преисполненный благодарности, он еще долго лежал в по¬
стели без сна. Засыпая поздно ночью, он улыбнулся при
мысли о том, как мало надо, чтобы приободрить отчаяв¬
шееся сердце. Все, что его мучило и угнетало, все это тупое,
безотрадное бремя жизни превратилось в ничто, стало лег¬
ким и незначительным рядом с мучительной тревогой о ре¬
бенке, и как только эта недобрая тень отступила, жизнь сра¬
зу показалась ему светлее и терпимее.
Утром он в хорошем настроении необычно рано появился
в доме, с радостью узнал, что мальчик еще крепко спит, и
позавтракал наедине с женой, так как Альберт еще не вста¬
вал. Впервые за многие годы Верагут сидел в этот ранний
час за столом у жены, и она с почти недоверчивым удивле¬
нием наблюдала, как он дружелюбно и доброжелательно,
будто все это в порядке вещей, попросил подать ему чашку
кофе и, как в былые времена, разделил с ней завтрак.
88
В.конце концов и он обратил внимание на ее выжида¬
тельное молчание и на необычность момента.
— Я так рад, — сказал он голосом, который напомнил
госпоже Верагут о лучшей поре их жизни, — я так рад, что
наш малыш, по-видимому, начинает выздоравливать. Толь¬
ко сейчас я заметил, как сильно тревожился о нем.
— Да, он мне вчера совсем не нравился, — согласилась
она.
Он играл серебряной кофейной ложечкой и смотрел на
нее почти озорно, с легким налетом внезапно возникающего
и быстро угасающего мальчишеского веселья, которое она
так любила в нем коща-то и нежное сияние которого от него
унаследовал один только Пьер.
— Да, — весело начал он, — это и в самом деле счастье!
А теперь я могу наконец поговорить с тобой о своих ближай¬
ших планах. Я полагаю, тебе придется поехать зимой вместе
с обоими мальчиками в Санкт-Мориц и остаться там на до¬
вольно продолжительное время.
Она обеспокоенно опустила глаза.
— А ты? Будешь писать в горах?
— Нет, я с вами не поеду. На какое-то время я предо¬
ставлю вас самим себе, а сам уеду. Осенью я хочу уехать, а
мастерскую закрыть. Роберт получит отпуск. Тебе одной ре¬
шать, останешься ли ты на зиму здесь, в Росхальде. Я бы
не советовал, отправляйся лучше в Женеву или в Париж и
не забудь о Санкт-Морице, Пьеру это пойдет на пользу.
Она растерянно взглянула на него.
— Ты шутишь? — в голосе ее сквозило недоверие.
— Да нет же, — грустно улыбнулся он. — Шутить я
совсем разучился. Я говорю серьезно, поверь. Я хочу совер¬
шить морское путешествие и вернусь не скоро.
— Морское путешествие?
Она напряженно размышляла над его словами. Предло¬
жения и намеки мужа, его веселый тон — все было ей не¬
привычно и вызывало недоверие. Но слова «морское путе¬
шествие» вдруг подтолкнули ее воображение: она предста¬
вила себе, как он поднимается на корабль, за ним идет но¬
сильщик с чемоданами, вспомнила картинки на плакатах
пароходных обществ, свое собственное плавание по Среди¬
земному морю и мгновенно все поняла.
— Ты едешь с Буркхардтом, — живо воскликнула она.
— Да, я еду с Отто, — кивнул он.
89
Оба помолчали. Госпожа Верагут была озадачена и на¬
чала смутно догадываться о значении этого известия. Веро¬
ятно, он хочет бросить ее, вернуть ей свободу? Во всяком
случае, это была первая серьезная попытка такого рода, и в
глубине души она испугалась, что не испытывает при этом
волнения, тревоги и надежды, не говоря уже о радости. Он
еще может начать жизнь сначала, а вот с ней все обстояло
по-иному. Да, с Альбертом ей будет легче, и Пьера она су¬
меет привлечь на свою сторону, но она станет покинутой
женой и останется ею навсеща. Сотни раз она представляла
себе такой исход, и он выглядел как освобождение, как из¬
бавление; но сегодня, коща мечта могла стать явью, это вы¬
звало в ней столь сильное чувство тревоги, стыда и вины,
что она пала духом и уже ничего больше не хотела. Лучше
бы это случилось раньше, думала она, в пору раздоров и
бурных сцен, до того, как она научилась смиренно сносить
невзгоды. Теперь же было слишком поздно и бесполезно,
это была всего лишь черта под прожитой жизнью, итог и
горькое подтверждение того, что утаивалось или признава¬
лось только наполовину, во всем этом не теплилось даже
слабой надежды на новую жизнь.
Верагут все понял, внимательно глядя в напряженное
лицо жены. Ему стало жаль ее.
— Надо попробовать, — примирительно сказал он. —
Поживите спокойно вместе, ты и Альберт... да и Пьер, ну,
скажем, хотя бы год. Я подумал, что тебя это устроит, да и
для детей это наверняка будет хорошо. Они ведь оба немно¬
го страдают из-за того, что... что мы устроили свою жизнь
не совсем так, как хотелось бы. Да и нам самим долгая
разлука многое прояснит, ты не находишь?
— Вполне может быть, — тихо сказала она. — Ты, по¬
хоже, принял окончательное решение.
— Я уже написал Отто. Мне будет нелегко уехать от вас
на столь длительное время.
— Ты хочешь сказать — от Пьера.
— В первую очередь от Пьера. Я знаю, ты будешь хоро¬
шо за ним смотреть. Я не жду, что ты будешь много расска¬
зывать ему обо мне; но постарайся, чтобы с ним не произо¬
шло то, что произошло с Альбертом!
Она покачала головой.
— Моей вины в том нет, ты же знаешь.
Он осторожно, с неловкой, давно забытой нежностью по¬
ложил ей руку на плечо.
90
— Ах, Адель, не будем говорить о вине. Во всем виноват
я сам. Я хочу попытаться загладить свою вину, только и
всего. Пожалуйста, сделай так, чтобы я не потерял Пьера! i
Он — единственное, что нас связывает. Постарайся, чтобы
его любовь ко мне не стала ему в тягость.
Она закрыла глаза, как будто хотела защититься от ис- i
кушения.
— Но ведь тебя не будет так долго... — нерешительно
сказала она. — А он еще ребенок...
— Разумеется. Пусть им и остается. Пусть забудет меня,
если по-другому не получится. Но помни: он залог, который
я тебе оставляю. И помни: чтобы поступить так, я должен
очень верить тебе.
— Я слышу, идет Альберт, — быстро прошептала она, —
сейчас он будет здесь. Мы еще поговорим. Все не так про- !
сто, как ты думаешь. Ты даешь мне свободу, больше свобо¬
ды, чем я коща-либо имела или хотела иметь, и в то же
время возлагаешь на меня ответственность, которая будет ]
очень меня стеснять! Дай мне время на размышление. Ты
ведь тоже принял решение не в одночасье, позволь и мне
подумать.
За дверью послышались шаги, и вошел Альберт.
Он удивленно посмотрел на отца, натянуто поздоровал- i
ся, поцеловал мать и сел за стол.
— У меня для тебя сюрприз, — доверительно начал Ве¬
рагут. — Осенние каникулы вы можете провести с мамой и
Пьером там, ще вам захочется, да и рождественские празд- ;
ники тоже. Я на несколько месяцев отправляюсь путешест-
вовать.
Юноша не мог скрыть своей радости, но он сделал над i
собой усилие и живо поинтересовался:
— Куда же ты едешь?
— Пока точно не знаю. Сначала я еду с Буркхардтом в :
Индию.
— О, так далеко! Один мой школьный друг там родился, i
кажется, в Сингапуре. Там еще охотятся на тигров. 11
— Надеюсь, что это так. Если мне удастся подстрелить , ^
тигра, я, конечно же, привезу его шкуру. Но главным обра- i
зом я буду там заниматься живописью.
— В этом можно не сомневаться. Я читал об одном фран¬
цузском художнике*, который жил где-то в тропиках, на
острове в Тихом океане, кажется. Вот где, должно быть, i
великолепно.
91
— Я тоже так думаю. А вы тем временем будете развле¬
каться, много музицировать и кататься на лыжах. А сейчас
я хочу взглянуть, что поделывает малыш. Не беспокойтесь,
пожалуйста!
Он вышел, прежде чем кто-нибудь успел ему ответить.
— Иногда папа просто великолепен, — сказал Альберт,
не скрывая радости. — Отправиться в Индию! Это мне нра¬
вится, в этом есть стиль.
Его мать с трудом улыбнулась. Душевное равновесие ее
было нарушено, ей казалось, что она сидит на суку, который
только что подпилили. Но она молчала, сохраняя приветли¬
вый вид; тут у нее был большой опыт.
Художник вошел в комнату Пьера и присел к его кроват¬
ке. Он тихонько достал альбом для эскизов и начал рисовать
голову и руку спящего мальчика. Он хотел, не мучая Пьера
сеансами, попытаться в эти дни по возможности запечатлеть
на бумаге и удержать в памяти его образ. Нежно и внима¬
тельно он воссоздавал милые черты, рассыпавшиеся мягкие
волосы, красивые, нервные крылья носа, тонкую, безвольно
покоившуюся руку и своенравную, породистую линию креп¬
ко сомкнутых губ.
Он редко видел мальчика в постели и сегодня впервые
увидел его спящим с не по-детски открытым ртом. Рассмат¬
ривая этот рано созревший выразительный рот, он обратил
внимание на сходство со ртом своего отца, деда Пьера, ко¬
торый был человеком смелым, с чрезвычайно богатым вооб¬
ражением, но очень беспокойным. И пока смотрел и рисо¬
вал, его занимала эта полная глубокого смысла игра приро¬
ды с характерными чертами и судьбами отцов, сыновей и
внуков; хотя он не был мыслителем, но и его сознания кос¬
нулась тревожная и восхитительная загадка взаимосвязи и
непрерывности жизни.
Внезапно спящий открыл глаза и посмотрел на отца, и
художник опять удивился, какими не по-детски серьезными
были этот взгляд и это пробуждение. Он тут же отложил
карандаш, захлопнул альбом, склонился над проснувшимся
малышом, поцеловал его в лоб и весело сказал:
— Доброе утро, Пьер. Тебе лучше?
Мальчик счастливо улыбнулся и начал потягиваться. Да,
ему лучше, гораздо лучше. Он стал медленно припоминать.
Да, вчера он был болен, он еще чувствовал над собой угро¬
жающую тень того ужасного дня. Но сейчас было гораздо
лучше, он хотел только еще немножко полежать и насла¬
92
диться теплом и отрадным покоем этого состояния, а потом
он встанет, позавтракает и пойдет с мамой в сад.
Отец пошел позвать мать. Жмурясь, Пьер посмотрел в
окно, ще за пожелтевшими шторами сиял ясный, радостный
день. Это был день, который что-то обещал, который благо¬
ухал всевозможными радостями. А вчера было так уныло,
холодно и противно! Он закрыл глаза, чтобы забыть об
этом, и почувствовал, как его затекшие от сна члены напол¬
няются жизнью.
Вскоре пришла и мама, она принесла ему в постель яйцо
и чашку молока, а папа обещал ему новые цветные каран¬
даши, и все были милы и нежны с ним и радовались, что он
опять здоров. Все было почти как в день рождения, не хва¬
тало только пирога, но он не переживал, так как по-настоя¬
щему есть ему все еще не хотелось.
Как только его одели в новый синий костюмчик, он по¬
шел к папе в мастерскую. Вчерашний отвратительный сон
забылся, но в его сердце все еще вибрировали отзвуки ужаса
и страдания, и ему надо было убедиться, что вокруг него
действительно солнце и любовь, и насладиться этим.
Папа снимал мерку для рамы к своей новой картине и
встретил Пьера с радостью. Но мальчик все же не захотел
оставаться долго у отца, он пришел только поздороваться и
почувствовать, что его любят. Ему надо было бежать даль¬
ше, к собаке и к голубям, к Роберту и на кухню, надо было
со всеми поздороваться и обойти все свои владения. Затем
он с мамой и Альбертом пошел в сад, и ему показалось, что
прошел уже целый год с тех пор, как он лежал здесь в траве
и плакал. Качаться ему не хотелось, но он погладил рукой
качели и направился к кустам и цветочным грядкам, там на
него повеяло смутным, словно из прошлой жизни, воспоми¬
нанием, ему показалось, что он уже блуждал когда-то между
этими клумбами, одинокий, всеми забытый и безутешный.
Теперь все снова жило и сияло, воздух был легок, и Пьер
дышал им полной грудью.
Мать позволила ему нести корзинку с цветами, они скла¬
дывали в нее гвоздики и большие георгины, а Пьер сделал
еще и особый букет — позже он хотел отнести его отцу.
Коща они вернулись в дом, он почувствовал усталость.
Альберт вызвался поиграть с ним, но Пьер хотел сначала
немножко отдохнуть. Он удобно устроился на веранде в
большом плетеном кресле матери, все еще держа в руке бу¬
кет для папы.
93
Ощущая приятное изнеможение, он закрыл глаза, повер¬
нулся лицом к солнцу и с удовольствием почувствовал, как
красные теплые лучи света пробиваются к нему сквозь опу¬
щенные веки. Затем он удовлетворенно оглядел свой краси¬
вый, чистый костюмчик и стал протягивать к свету свои
начищенные желтые ботинки, то правый, то левый. Так хо¬
рошо было тихо и слегка утомленно сидеть в этом уюте и
чистоте, вот только гвоздики пахли слишком сильно. Он
положил их на стол и отодвинул от себя как можно дальше,
насколько хватило руки. Надо бы скорее поставить их в
воду, иначе они завянут прежде, чем их увидит отец.
Он думал о нем с непривычной нежностью. Как все про¬
изошло вчера? Он пришел к нему в мастерскую, папа рабо¬
тал, ему было некоща, и он стоял перед своей картиной
такой одинокий, прилежный и немного грустный. Все это он
помнил совершенно точно. А потом? Разве потом он не
встретил отца в саду? Он напряженно пытался вспомнить.
Да, отец ходил взад и вперед по саду, один, с каким-то
отчужденным, страдальческим лицом, и он хотел позвать
его... Как это было? То ли вчера и в самом деле произошло
нечто ужасное, то ли кто-то говорил об этом, — он никак не
мог вспомнить.
Откинувшись в глубоком кресле, он погрузился в свои
мысли. Солнце золотило и грело его колени, но радостное
чувство постепенно отступало от него. Он чувствовал, как
его мысли все больше и больше приближаются к тому ужас¬
ному событию, и он знал, что, как только он вспомнит, эта
жуть снова завладеет им; она стоит за спиной и ждет. Каж¬
дый раз, коща он в своих воспоминаниях подходил к этой
границе, в нем поднималось гнетущее ощущение, напомина¬
ющее тошноту и головокружение, а в голове появлялась лег¬
кая боль.
Резкий запах гвоздик раздражал его. Они лежали на за¬
литом солнцем плетеном столе и увядали; надо было не от¬
кладывая подарить их отцу. Но он больше не хотел, точнее,
все же хотел, но его сковала такая усталость, и свет так
резал глаза. И ему надо было во что бы то ни стало вспом¬
нить, что же случилось вчера. Он чувствовал, что уже бли¬
зок к этому, надо было только ухватиться за что-то, но это
«что-то» всякий раз ускользало и исчезало.
Головная боль нарастала. Ах, зачем все это? Ведь ему
сегодня было так хорошо!
94
Госпожа Адель позвала его из комнаты и тут же появи¬
лась на веранде. Она увидела лежавшие на солнце цветы и
хотела послать Пьера за водой, но взглянула на него и уви¬
дела, что он безжизненно обмяк в кресле, а по щекам его
текут крупные слезы.
— Пьер, мальчик, что с тобой? Тебе плохо?
Он посмотрел на нее, не пошевельнувшись, и снова за¬
крыл глаза.
— Скажи же, моя радость, что у тебя болит? Хочешь в
постель? Или давай поиграем? Г^е болит?
Он покачал головой и недовольно поморщился, словно
она досаждала ему.
— Оставь меня, — прошептал он.
Она приподняла его и взяла на руки, и тогда он закричал
тонким изменившимся голосом, словно в нем на миг вспых¬
нуло бешенство:
— Да оставь же меня!
Но его сопротивление тут же прекратилось, он поник на
ее руках и, коща она подняла его, негромко застонал, му¬
чительно вытянул вперед побледневшее лицо и затрясся в
приступе рвоты.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
С тех пор как Верагут жил один в своей маленькой при¬
стройке, его жена ни разу у него не бывала. Коща она, не
постучавшись, быстро и взволнованно вошла в мастерскую,
он сразу приготовился услышать плохую весть. И так силен
был в нем отцовский инстинкт, что не успела она сказать
хотя бы слово, как у него вырвалось:
— Что-нибудь с Пьером?
Она торопливо кивнула.
— Кажется, он серьезно болен. Сначала он был какой-то
странный, а потом его снова вырвало. Надо ехать за докто¬
ром.
Пока она говорила, ее глаза обежали большое, пустое
помещение и остановились на новой картине. Она не видела
фигур, не узнала даже маленького Пьера, она только смот¬
рела на холст и вдыхала воздух комнаты, в которой годами
жил ее муж, и она смутно почувствовала здесь такую же
атмосферу одиночества и упрямого самоограничения, в ка¬
кой долгие годы жила она сама. Это длилось всего одно
95
мгновение, затем она оторвала взгляд от картины и попыта¬
лась ответить на торопливые вопросы художника.
— Пожалуйста, сейчас же вызови по телефону автомо¬
биль, — наконец сказал он, — так будет быстрее, чем на
лошадях. Я сам поеду в город, вот только вымою руки. Я
сейчас приду в дом. Ты уложила его в постель?
Спустя четверть часа он сидел в автомобиле и разыски¬
вал единственного врача, которого он знал и который рань¬
ше бывал у них в доме. В старой квартире он его не нашел,
врач переехал. В поисках новой квартиры Верагут встретил
его коляску, советник медицины поздоровался с ним, он
кивнул в ответ и уже проехал было мимо, но вспомнил, что
это тот самый человек, которого он ищет. Он повернул об¬
ратно и нашел коляску врача у дома одного из его пациен¬
тов, ще ему пришлось провести какое-то время в мучитель¬
ном ожидании. Затем он перехватил врача в дверях дома и
усадил в свой автомобиль. Врач отказывался и сопротивлял¬
ся, Верагуту пришлось заполучить его почти силой.
В автомобиле, который сразу же стремительно помчался
по направлению к Росхальде, врач положил ему руку на
колено и сказал:
— Ну что ж, я ваш пленник. Меня ждут другие, нужда¬
ющиеся в моей помощи, вы это знаете. Итак, в чем же дело?
Заболела жена? Нет? Значит, мальчик. Как бишь его зовут?
Пьер, точно. Я давно уже его не видел. Так что же с ним?
Несчастный случай?
— Он болен, со вчерашнего дня. Сегодня утром ему как
будто бы стало лучше, он поднялся и немного поел. А теперь
его опять рвет и, видимо, появились боли.
Врач провел худощавой рукой по умному, некрасивому
лицу.
— Значит, что-то с желудком. Ну, мы увидим. А в ос¬
тальном у вас все хорошо? Прошлой зимой я видел вашу
выставку в Мюнхене. Мы гордимся вами, почтеннейший.
Он посмотрел на часы. Оба замолчали. Автомобиль сме¬
нил скорость и с громким пыхтением стал подниматься в
гору. Вскоре они были на месте. Ворота оказались заперты,
и им пришлось выйти из автомобиля.
— Подождите меня! — крикнул врач шоферу. Они бы¬
стро прошли через двор и вошли в дом. Мать сидела у по¬
стели Пьера.
Неожиданно у врача оказалось много времени. Он не
торопясь приступил к исследованию, попытался разгово¬
96
рить мальчика, нашел добрые слова утешения для матери и
своим спокойствием создал атмосферу доверия и деловито¬
сти, которая подействовала благотворно и на Верагута.
Пьер держался замкнуто, был молчалив, раздражителен
и недоверчив. Коща ему ощупывали и сдавливали животик,
он насмешливо кривил рот, словно находил все эти усилия
глупыми и бесполезными.
— Отравление, похоже, исключается, — неуверенно ска¬
зал врач, — ив слепой кишке я тоже ничего не нахожу.
Скорее всего, просто расстроенный желудок. В таких слу¬
чаях лучше всего ждать и воздерживаться от пищи. Не да¬
вайте мальчику сегодня ничего, разве что немножко чаю,
если у него появится жажда, а вечером можно дать глоточек
бордо. Если все пойдет хорошо, дайте ему завтра утром чаю
с сухариками. А если у него появятся боли, позвоните мне
по телефону.
Только в дверях госпожа Верагут начала задавать врачу
вопросы. Но не узнала ничего нового.
— По-видимому, сильное расстройство желудка, а ребе¬
нок, судя по всему, чувствительный и нервный. Температу¬
ры нет совсем, вечером можете измерить еще раз. Пульс
немного вяловат. Если не наступит улучшения, я завтра за¬
гляну опять. Я думаю, ничего серьезного.
Он быстро простился и вдруг снова заторопился. Вера¬
гут проводил его к машине.
— Это долго продлится? — спросил он в последний мо¬
мент.
Врач резко засмеялся.
— Вот уж не думал, что вы так мнительны, господин
профессор. Мальчик излишне хрупок, а у кого из нас в
детстве не бывало расстройства желудка? До свидания!
Верагут знал, что в доме его не ждут, и задумчиво побрел
в поле. Сдержанное, строгое поведение врача его успокоило,
и он теперь сам удивлялся своему волнению и чрезмерной
мнительности.
С легким сердцем он шел и шел, вдыхая нагретый воздух
ясного позднего yiÿa. Ему казалось, что сегодня он в по¬
следний раз прогуливается по этим лугам, вдоль рядов пло¬
довых деревьев, и на душе у него было легко и привольно.
Коща он попытался понять, откуда это новое чувство раз¬
вязки и избавления, ему стало ясно, что все это следствие
утреннего разговора с женой. То, что он рассказал ей о сво¬
их планах и она так спокойно выслушала его и даже не
4 4-161 97
пыталась возражать, что все пути к отступлению были отре¬
заны и никакие уловки уже не могли помешать осуществить
задуманное, что ближайшее будущее виделось теперь ясно
и недвусмысленно, — все это оказывало на него благотвор¬
ное воздействие, было источником успокоения и нового чув¬
ства собственного достоинства.
Он безотчетно свернул на дорогу, по которой шел не¬
сколько недель назад со своим другом Буркхардтом. Только
коща дорога, ведущая через поле, стала подниматься вверх,
он понял, куда пришел, и вспомнил о своей прогулке с От¬
то. Вон тот лесок наверху, со скамейкой и открывающимся
в таинственно затененном просвете чистым, живописно уда¬
ленным видом голубоватой речной долины, он собирался
писать осенью, на скамейку он хотел посадить Пьера, так
чтобы белокурая детская головка мягко вписалась в темно-
вато-коричневое лесное освещение.
Он осторожно поднимался наверх, не ощущая больше
зноя приближающегося полдня, и, пока он напряженно
ожидал момента, коща за гребнем холма откроется лесная
опушка, на память ему снова пришел тот день с Буркхард¬
том, он вспомнил их беседы, даже отдельные слова и воп¬
росы друга, вспомнил тоща еще почти весенний ландшафт,
зелень которого давно уже стала гораздо темнее и мягче. И
вдруг его охватило чувство, которого он давно уже не испы¬
тывал и неожиданное возвращение которого напомнило ему
времена юности. Ему показалось, что после той прогулки с
Отто прошло очень-очень много времени и сам он с тех пор
вырос, изменился и продвинулся вперед настолько, что, ог¬
лядываясь назад, мог воспринимать свое тощашнее «я» с
известной иронией и жалостью.
Пораженный этим ощущением, которое так свойственно
молодости и которое лет двадцать назад было для него обыч¬
ным делом, а сегодня коснулось его точно по редкому мано¬
вению волшебства, он окинул внутренним взглядом корот¬
кую пору этого лета и увидел то, чего не знал еще ни вчера,
ни даже только что. Он увидел себя преображенным, ушед¬
шим за эти два-три месяца далеко вперед, увидел свет и
ясное предчувствие пути там, ще еще недавно были только
мрак и беспомощная растерянность. Казалось, жизнь его от¬
ныне снова стала чистой, уверенно и быстро текущей по
своему руслу рекой или потоком, тоща как раньше она дол¬
го медлила в тихом болотистом озере и нерешительно вра¬
щалась вокруг своей оси. И ему стало ясно, что после путе¬
98
шествия он больше не вернется обратно, что ему остается
только проститься со здешними местами, как бы ни горело
и ни кровоточило его сердце. Его жизнь снова пришла в
движение, и этот поток решительно понес его к свободе и
будущему. В душе, сам того не сознавая, он уже простился
и навсевда расстался с городом и окрестностями, с Росхаль¬
де и женой.
Он остановился, дыша всей грудью, подхваченный и не¬
сомый волной пророческого предчувствия. Он вспомнил о
Пьере. Пронзительная, дикая боль сотрясла все его сущест¬
во, коща он понял, что ему надо до конца пройти этот путь,
что расстаться предстоит и с Пьером.
Он долго стоял с подергивающимся лицом. Жгучая боль,
которую он ощущал в себе, была все же жизнью и светом,
несла ясность и будущее. Это было то, чего ждал от него
Отто Буркхардт. Это был час, которого ждал друг. Заста¬
релые, долго скрываемые нарывы, о которых он говорил,
были наконец вскрыты. Разрез причинял боль, сильную
боль, но вместе с дорогими его сердцу желаниями, от кото¬
рых он отрекся, ушли в прошлое внутреннее беспокойство
и разлад, раздвоенность и оцепенение души. Его окружало
сияние дня, беспощадно яркого, великолепного, ясного дня.
Взволнованно прошел он несколько последних шагов до
вершины холма и сел в тени на каменную скамью. Глубокое
ощущение жизни омывало его, точно возвратившаяся моло¬
дость, и он с благодарностью подумал о далеком друге, без
которого ему никоща не удалось бы найти этот путь, без
которого он навсеща остался бы погибать в отупляющем
недужном плену.
Однако его натуре было несвойственно долго размыш¬
лять или надолго впадать в крайние настроения. Вместе с
чувством выздоровления и обретения утраченной воли всем
его существом овладело новое сознание деятельной силы и
самонадеянной уверенности в том, что он все может.
Он поднялся, открыл глаза и оживившимся взглядом по-
хозяйски оглядел свою будущую картину. Сквозь лесную
тень он долго всматривался в далекую светлую долину. Он
напишет все это, не дожидаясь осени. Тут надо было решить
очень непростую задачу, преодолеть большую трудность,
разгадать тонкую загадку: этот чудесный просвет надо будет
написать с любовью, с такой любовью и таким тщанием, как
умели писать великолепные старые мастера, Альтдорфер
или Дюрер. Здесь мало овладеть светом и его мистическим
4*
99
ритмом, здесь каждая самая маленькая форма должна быть
тщательно обдумана и взвешена, должна обрести свое место,
как обретали его травинки в чудесном полевом букете мате¬
ри. Холодновато-светлая даль долины, отодвинутая назад
теплым потоком света на переднем плане и лесной тенью,
должна сверкать в глубине картины, как драгоценный ка¬
мень — так же равнодушно и обворожительно, так же от¬
чужденно и заманчиво.
Он посмотрел на часы: пора идти домой. Сегодня ему не
хотелось заставлять жену ждать. Но он все же достал ма¬
ленький альбом для эскизов и, стоя на солнцепеке у края
холма, резкими штрихами набросал остов своей картины:
общую перспективу, фрагмент целого и многообещающий
овал очаровательного вида вдали.
Он уже немного опаздывал и, не обращая внимания на
жару, торопливо побежал вниз по крутой, залитой солнцем
дороге; на бегу он прикидывал, что ему понадобится для
работы, и решил встать на другой день пораньше, чтобы
увидеть ландшафт еще и в утреннем освещении. На душе у
него было легко и весело, так как его снова ждала грекрас-
ная, манящая задача.
— Что с Пьером? — спросил он, едва успев войти в дом.
Мальчик спокоен, но вид у него усталый, сообщила гос¬
пожа Адель, кажется, у него ничего не болит, он лежит ти¬
хо. Лучше всего его не тревожить, он как-то странно чувст¬
вителен и вздрагивает, чуть скрипнет дверь или вдруг раз¬
дастся какой-нибудь шорох.
— Хорошо, — благодарно кивнул он головой, — я зайду
к нему позже, может быть, ближе к вечеру. Извини, я не¬
много опоздал, я был в поле. В ближайшие дни я буду ра¬
ботать на воздухе.
Они тихо и мирно обедали, сквозь опущенные жалюзи в
прохладную комнату лился зеленоватый свет, все окна были
открыты, и в полуденной тишине было слышно, как плещет¬
ся вода в маленьком фонтанчике во дворе.
— Для Индии тебе понадобится много всякого снаряже¬
ния. Ты возьмешь с собой охотничьи принадлежности? —
спросил Альберт.
— Не думаю, у Буркхардта есть все. Уж он-то даст мне
нужный совет. Мне кажется, рисовальные принадлежности
надо будет уложить в оцинкованные ящики.
— Ты будешь носить тропический шлем?
— Обязательно. Его можно будет купить по дороге.
100
Коща Альберт вышел из-за стола, госпожа Верагут по¬
просила мужа остаться. Она села в свое плетеное кресло у
окна, он перенес свой стул поближе к ней.
— И коща же ты думаешь ехать? — начала она.
— О, все зависит от Буркхардта, я, естественно, подла¬
живаюсь под него. Думаю, ще-нибудь в конце сентября.
— Так скоро? Я еще не обдумала все как следует. При¬
ходится много времени уделять Пьеру. Но я думаю, ты не
должен требовать от меня слишком многого в связи с ним.
— Я и не требую, сегодня я все еще раз обдумал. Ты
свободна во всем поступать так, как считаешь нужным. Я
понимаю, что не имею права разъезжать по миру и при этом
чего-то требовать, вмешиваться в твои дела. Поступай во
всем по собственному разумению; У тебя должно быть ни¬
чуть не меньше свободы, чем у меня.
— Но что будет с домом? Я бы не хотела оставаться
здесь одна, он слишком далеко от города и слишком просто¬
рен, к тому же с ним связано много тяжелых для меня вос¬
поминаний.
— Я уже сказал тебе, переезжай куда хочешь. Росхальде
принадлежит тебе, ты это знаешь, перед отъездом я все
оформлю, на всякий случай.
Госпожа Адель побледнела. Она наблюдала за лицом му¬
жа с почти враждебным вниманием.
— Ты говоришь так, — сдавленным голосом проговори¬
ла она, — будто не собираешься больше возвращаться.
Он задумчиво прищурился и опустил глаза.
— Как знать? Я понятия не имею, сколько времени буду
отсутствовать, к тому же трудно поверить, что климат Ин¬
дии так уж полезен для людей моего возраста.
Она строго покачала головой.
— Я не это имею в виду. Умереть можем мы все. Я хочу
знать, намерен ли ты вообще вернуться?
Он молчал, сощурив глаза; потом чуть заметно улыбнул¬
ся и встал.
— Я полагаю, мы поговорим об этом в другой раз. По¬
мнишь, последний раз мы поссорились, когда несколько лет
назад обсуждали этот вопрос. Я не хочу больше ссориться
здесь, в Росхальде, тем более с тобой. Думаю, с тех пор ты
вряд ли изменила свое решение. Или теперь ты готова от¬
дать мне мальчика?
Госпожа Верагут молча покачала головой.
101
— Я так и думал, — спокойно сказал ее муж, — давай
не будем об этом. Как я уже сказал, дом в твоем полном
распоряжении. Я не заинтересован в том, чтобы сохранить
Росхальде, и если тебе представится случай удачно продать
имение — продавай!
— Это конец Росхальде, — сказала она с глубокой го¬
речью, и ей вспомнилось начало их совместной жизни,
вспомнились детские годы Альберта и все их тощашние на¬
дежды и ожидания. Это был конец всего.
Верагут, уже собравшийся уходить, еще раз обернулся к
ней и мягко воскликнул:
— Не принимай все близко к сердцу, дитя! Не хо¬
чешь — не продавай.
Он вышел, снял с цепи собаку и зашагал к мастерской.
Собака сопровождала его, прыгая вокруг и заливаясь радо¬
стным лаем. Какое дело ему до Росхальде! Усадьба относи¬
лась к вещам, с которыми у него уже не было ничего общего.
Впервые в жизни он ощутил свое превосходство над женой.
Все, с этим покончено. В сердце своем он принес жертву,
отказался от Пьера. С тех пор как это случилось, все его
существо было устремлено только вперед. Росхальде для
него больше не существовало, как не существовало многих
других несбывшихся надежд, как не существовало молодо¬
сти. Какой смысл сокрушаться об этом!
Он позвонил, и туу'же вошел Роберт.
— Я несколько дней буду писать в поле. Приготовьте к
утру маленький ящик с красками и зонт. Разбудите меня в
половине шестого.
— Будет сделано, господин Верагут.
— Больше нечего. Как вы думаете, погода удержится?
— Я думаю, должна удержаться. Извините, господин
Верагут, я хотел вас спросить.
— Да?
— Прошу прощения, но я слышал, что вы собираетесь в
Индию?
Верагут удивленно засмеялся.
— Как быстро распространяются слухи. Верно, Альберт
проболтался. Ну да, я еду в Индию, Роберт, и вам, к сожа¬
лению, нельзя ехать со мной. Там не держат слуг-европей-
цев. Но если потом вы захотите вернуться ко мне, милости
просим! Тем временем я постараюсь найти для вас хорошее
место, и жалованье вы, конечно же, будете получать до кон¬
ца года.
102
— Спасибо, господин Верагут, большое спасибо. Могу
ли я попросить оставить мне ваш адрес? Я напишу вам туда.
Дело в том... это не так просто... дело в том, господин Ве¬
рагут, что у меня есть невеста.
— Вот как! У вас есть невеста?
— Да, господин Верагут, и если вы меня отпустите, мне
придется жениться. То есть я обещал ей не искать новое
место, если уйду от вас.
— Значит, вы должны радоваться, что уходите. Но мне
жаль с вами расставаться, Роберт. Чем вы собираетесь за¬
няться, коща женитесь?
— Да вот, она хочет вместе со мной открыть табачный
магазин.
— Табачный магазин? Роберт, это же не для вас.
— Извините, господин Верагут, надо же коща-нибудь по¬
пробовать. Но, с вашего позволения... нельзя ли мне все-таки
остаться у вас? Позвольте вас спросить, господин Верагут.
Художник хлопнул его по плечу.
— Что все это значит? То вы собираетесь жениться и
открыть какой-то дурацкий магазин, то хотите остаться у
меня? Сдается мне, тут что-то не так... Похоже, вам не так
уж и хочется жениться^а?
— С вашего позволения, господин Bepaiyr, не очень.
Моя невеста — девушка старательная, тут ничего не ска¬
жешь. Но лучше бы мне остаться здесь. Уж очень решитель¬
ный у нее характер, да и...
— Тоща зачем же вы хотите жениться, друг мой? Уж не
боитесь ли вы ее? Или она ждет от вас ребенка?
— Нет, тут другое. Она не отстает от меня...
— Тоща подарите ей красивую брошку, Роберт, я дам
вам талер на это дело. Отдайте ее вашей невесте и скажите
ей, пусть подыщет для своего табачного магазина кого-ни¬
будь другого. Скажите ей, что это мои слова. Как вам не
стыдно, Роберт! Даю вам неделю срока. После этого я буду
знать, из тех ли вы парней, которые позволяют запугать
себя девушкам, или нет.
— Хорошо, хорошо. Я скажу ей...
Верагут перестал улыбаться. Он бросил сердитый взгляд
на обескураженного слугу и крикнул:
— Вы порвете с девушкой, Роберт, иначе между нами
все кончено. Тьфу, дьявол — позволить себя женить! Иди¬
те и устройте все не откладывая!
юз
Он набил себе трубку, взял большой альбом для эскизов
и круглую коробочку с угольными карандашами и напра¬
вился к лесному холму.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Судя по всему, от голодной диеты было мало проку.
Пьер Верагут лежал скрючившись в своей постельке, рядом
стояла нетронутая чашка чая. Его по возможности не беспо¬
коили, так как он не отвечал, коща с ним заговаривали, и
недовольно вздрагивал всякий раз, коща кто-нибудь захо¬
дил к нему в комнату. Мать часами просиживала у его кро¬
вати, бормоча и напевая вполголоса ласковые, успокаиваю¬
щие слова. На душе у нее было неспокойно и жутко; каза¬
лось, заболевший малыш все глубже погружался в какой-то
скрытый недуг. Он не отвечал ни на какие вопросы, прось¬
бы и предложения, злыми глазами смотрел перед собой и не
хотел ни спать, ни играть, ни пить, ни слушать, коща ему
читают. Врач приезжал два дня подряд; он был по-прежне-
му спокоен и прописал теплые компрессы. Пьер часто впа¬
дал в легкую полудремоту, как бывает с больными лихорад¬
кой, и тоща он бормотал невнятные слова, тихо бредил и
видел какие-то сны.
Верагут уже несколько дней ходил с этюдником в поле.
Коща с наступлением сумерек он вернулся домой, первый
его вопрос был о Пьере. Жена попросила его не входить в
комнату больного, так как Пьер крайне чувствителен к ма¬
лейшему шуму и сейчас как будто задремал. Поскольку гос¬
пожа Адель была немногословна и после недавнего утренне¬
го разговора держалась с ним отчужденно и скованно, он
прекратил расспросы, спокойно искупался в озере и провел
вечер в приятном беспокойстве и легком волнении, которое
он всеща испытывал, готовясь к новой работе. Он уже сде¬
лал много этюдов и собирался завтра приступить к самой
картине. Он с удовольствием выбирал картоны и холсты,
укреплял расшатавшиеся подрамники, собирал кисти и все¬
возможные принадлежности и готовился к работе так, будто
собирался в маленькое путешествие. Он даже приготовил
кисет с табаком, трубку и огниво, как турист, который рано
утром собирается в горы и полные радостного ожидания ча¬
сы перед сном проводит в мыслях о завтрашнем дне и лю¬
бовных заботах о каждой мелочи.
104
Затем он, сидя за стаканом вина, неторопливо просмат¬
ривал вечернюю почту. Он обнаружил радостное, полное
любви письмо от Буркхардта, к нему был приложен тща¬
тельно, словно рукой домашней хозяйки, составленный спи¬
сок всего того, что Верагуту надо было взять с собой в до¬
рогу. С улыбкой пробежал он глазами весь этот список, в
котором не были забыты ни шерстяные набрюшники, ни
пляжные туфли, ни ночные рубашки, ни гамаши. Внизу
Буркхардт написал карандашом на клочке бумаги: «Обо
всем остальном для нас позабочусь я сам, в том числе о
каютах. Не позволяй всучить себе лекарств от морской бо¬
лезни или книг об Индии, это уже мое дело».
С улыбкой он взял в руки большой сверток, в котором
один молодой дюссельдорфский художник прислал ему не¬
сколько своих офортов, снабдив их почтительным посвяще¬
нием. И для них у Верагута нашлось сегодня время и на¬
строение, он внимательно просмотрел листы, выбрал луч¬
шие для своих папок, остальные мог взять себе Альберт.
Художнику он написал ласковую записку.
Под конец он открыл альбом с эскизами и долго разгля¬
дывал многочисленные рисунки, которые он сделал в поле.
Они не совсем его удовлетворяли, завтра он решил взять
другую, более широкую панораму, а если и тоща не полу¬
чится, то будет писать этюды до тех пор, пока не добьется
своего. В любом случае завтра он как следует поработает, а
там видно будет. Эта работа будет его прощанием с Росхаль¬
де; без сомнения, это самый выразительный и привлекатель¬
ный вид во всей округе, недаром же он все откладывал и
откладывал его напоследок. Тут не отделаешься бойким на¬
броском, тут должна получиться добротная, тонкая, тща¬
тельно обдуманная картина. Быстрой, решительной работой
с натурой, с ее трудностями, поражениями и удачами, он
сумеет насладиться потом, в тропиках.
Он рано лег и спокойно проспал до тех пор, пока Роберт
не разбудил его. Он торопливо и весело встал, поеживаясь
от утреннего холода, выпил стоя чашку кофе и стал подго¬
нять слугу, который должен был нести за ним холст, склад¬
ной стул и ящик с красками. Вскоре они с Робертом вышли
из дома и растворились в лугах, затянутых белесым утрен¬
ним туманом. Он хотел было узнать на кухне, как провел
ночь Пьер. Но дом был еще заперт, все спали.
Госпожа Адель до глубокой ночи просидела у постели
малыша, ей казалось, что его немного лихорадит. Она при¬
105
слушивалась к его невнятному бормотанию, щупала ему
пульс и поправляла постель. Коща она пожелала ему спо¬
койной ночи и поцеловала его, он открыл глаза и посмотрел
на нее, но ничего не сказал. Ночь прошла спокойно.
Пьер не спал, коща она утром вошла к нему. Он отка¬
зался от завтрака, но попросил книжку с картинками. Мать
сама пошла за ней. Она подложила ему под голову еще одну
подушку, раздвинула шторы и дала Пьеру книгу в руки; она
была раскрыта на рисунке огромного, сверкающего золоти-
сто-желтыми лучами солнца; эту картинку он особенно лю¬
бил.
Он поднял книжку к глазам, на рисунок упал ясный,
радостный утренний свет. Но тотчас же по нежному лицу
ребенка пробежала темная тень боли, разочарования и от¬
вращения.
— Фу, как больно! — страдальчески вскрикнул он и
выронил книжку.
Она подхватила ее и снова поднесла к его глазам.
— Это же твое любимое солнышко, — уговаривала она
его.
Он закрыл глаза руками.
— Нет, убери. Оно такое ужасно желтое!
Вздохнув, она убрала книгу. Один Бог знает, что случи¬
лось с ребенком! Она знала его чувствительность и его кап¬
ризы, но таким он еще никоща не был.
— Знаешь что, — сказала она мягким, упрашивающим
тоном, — сейчас я принесу тебе вкусного, горячего чаю, ты
положишь в него сахар и выпьешь с сухариком.
— Я не хочу!
— Ты только попробуй! Тебе понравится, вот увидишь.
В его глазах появилось выражение муки и бешенства.
— Но я же не хочу!
Она вышла и долго не приходила. Пьер щурился, глядя
на свет, он казался ему чересчур резким и причинял боль.
Он отвернулся. Неужели для него не найдется больше хоть
какого-нибудь утешения, хоть капли удовольствия или ма¬
ленькой радости? Упрямо, со слезами на глазах он зарылся
головой в подушку и раздраженно впился зубами в мягкое,
пресное на вкус полотно. Это напомнило ему давнюю при¬
вычку. В самом раннем детстве, когда его укладывали в
постель и он не мрг сразу заснуть, у него была привычка
впиваться зубами в подушку и монотонно жевать ее до тех
пор, пока не приходила усталость, а с ней и сон. Так он
106
поступил и теперь и постепенно впал в состояние легкого
оцепенения. Он успокоился и, долго лежал неподвижно.
Через час снова вошла мать. Она наклонилась над ним и
сказала:
— Ну как, теперь Пьер снова будет умницей? Накануне
ты вел себя очень плохо и очень огорчил маму.
В другое время это средство действовало почти безотказ¬
но, и, произнеся эти слова, она не без тревоги ждала, что он
примет их близко к сердцу и расплачется. Но он, казалось,
не обратил на ее слова никакого внимания, и, коща она
довольно строго спросила: «Ты же понимаешь, что вел себя
нехорошо?» — он почти насмешливо скривил губы и остал¬
ся совершенно равнодушен.
Вскоре появился советник медицины.
— Его опять рвало? Нет? Прекрасно. А< как прошла
ночь? Что он ел на завтрак?
Коща он приподнял мальчика и повернул его лицом к
окну, Пьер снова содрогаулся, как от боли, и закрыл глаза.
Врач внимательно наблюдал за необычно сильным выраже¬
нием отвращения и муки на детском лице.
— Он так же чувствителен и к звукам? — шепотом спро¬
сил он госпожу Верагут.
— Да, — тихо ответила она, — мы совсем перестали
играть на рояле, иначе он просто выходит из себя.
Врач кивнул и наполовину задернул занавески. Затем он
поднял мальчика, выслушал сердце и осторожно постучал
молоточком по сухожилиям под коленными чашечками.
— Прекрасно, — ласково сказал он, — сейчас мы оста¬
вим тебя в покое, мой мальчик.
Он снова бережно уложил его в постель, взял его руку
и с улыбкой кивнул ему.
— Могу я на минутку зайти к вам? — галантно спросил
он и вошел вслед за госпожой Верагут в ее комнату.
— Ну-с, расскажите мне подробнее о вашем мальчи¬
ке, — ободряюще сказал он. — Мне кажется, он очень нерв¬
ный, и нам придется еще какое-то время хорошенько за ним
поухаживать, и вам, и мне. О желудке не стоит беспокоить¬
ся. Ему обязательно надо кушать. Вкусные, питательные
вещи: яйца, бульон, свежую сметану. Попробуйте дать ему
яичный желток. Если он любит сладкое, взбейте его в чашке
с сахаром. Что еще бросилось вам в глаза?
Встревоженная и в то же время успокоенная его ласко¬
вым, уверенным тоном, она начала рассказывать. Больше
107
всего ее пугает безучастность Пьера, иноща кажется, что он
совсем ее не любит. Ему все/равно, просишь ли его о чем-
нибудь или бранишь, он ко всему равнодушен. Она расска¬
зала ему о книжке с картинками, и он кивнул головой.
— Не беспокойте его понапрасну, — сказал он, вставая. —
Он болен и в данный момент не отвечает за свое поведение.
Оставляйте его по возможности в покое! Если у него будет
болеть голова, прикладывайте компрессы со льдом. А по
вечерам возможно дольше держите его в теплой ванне —
это усыпляет.
Он простился и не разрешил ей проводить себя по лест¬
нице.
— Постарайтесь, чтобы он сегодня поел чего-нибудь! —
сказал он, уходя.
Внизу он вошел в открытукхдверь кухни и спросил слугу
Верагута.
— Позовите Роберта! — велела кухарка служанке. —
Он должен быть в мастерской.
— Не надо, — сказал советник медицины. — Я сам туда
схожу. Нет, оставьте, я знаю дорогу.
Пошутив на прощание, он вышел из кухни, внезапно сде¬
лался серьезен и задумчив и медленно зашагал под кашта¬
нами к мастерской.
Госпожа Верагут еще раз обдумала каждое слово, ска¬
занное доктором, и не могла прийти к какому-нибудь вы¬
воду. Судя по всему, он относился к недугу Пьера серьез¬
нее, чем раньше, но, в сущности, не сказал ничего плохого
и был так деловит и спокоен, что, по-видимому, серьезной
опасности все же не было. Вероятно, все объясняется толь¬
ко слабостью и нервозностью, и нужно терпение и хоро¬
ший уход.
Она пошла в гостиную и заперла рояль на ключ, чтобы
Альберт по забывчивости случайно не начал играть. И стала
думать, в какую комнату можно было бы перенести инстру¬
мент, если болезнь затянется.
Время от времени она ходила взглянуть на Пьера, осто-
1южно открывала дверь и слушала, спит ли он, не стонет ли.
Он лежал с открытыми глазами и безучастно смотрел перед
собой, и она печально уходила. Она предпочла бы ухажи¬
вать за ним, терзаемым болью, чем видеть его таким замк¬
нутым, угрюмым и равнодушным; ей казалось, что его от¬
деляет от нее странная призрачная пропасть, какое-то отвра¬
тительное и цепкое проклятие, с которым не могли спра¬
108
виться ее любовь и ее забота. Здесь притаился мерзкий,
ненавистный враг, природы и злого умысла которого никто
не знал и для борьбы с которым не было оружия. Может
быть, это набирала силы какая-нибудь лихорадка, скарла¬
тина или другая детская болезнь.
Какое-то время она печально сидела в своей комнате.
На глаза ей попался букет таволги; она наклонилась над
круглым столиком из красного дерева, поверхность кото¬
рого тепло и мягко просвечивала сквозь белую ажурную
скатерть, и, закрыв глаза, погрузила лицо в нежные ветви¬
стые полевые цветы, вдыхая резкий, сладковатый аромат,
в котором чувствовался таинственный горьковатый при¬
вкус.
Коща она, слегка одурманенная, снова выпрямилась и
рассеянно обвела глазами цветы, стол и комнату, ее захле¬
стнула волна горькой печали. Внезапно прозрев душой,
она вдруг увидела ковер, столик для цветов чужим, отре¬
шенным взглядом, увидела, как ковер сворачивают, карти¬
ны упаковывают и грузят на повозку, которая увезет все
эти вещи, не имеющие более ни родины, ни души, в новое,
незнакомое, чужое место. Она увидела усадьбу опустев¬
шей, с запертыми дверями и окнами, и почувствовала, как
из садовых клумб глядят на нее одиночество и боль раз¬
луки.
Это продолжалось всего несколько мгновений. Видение
появилось и исчезло, как тихий, но настойчивый зов из
мрака, как быстро промелькнувшая, фрагментарная кар¬
тинка из будущего. Она все яснее сознавала то, что вызре¬
вало в темной глубине чувств: скоро ей с Альбертом и
больным Пьером придется остаться без родины, муж бро¬
сит ее, и до конца жизни в душе ее останется тупая расте¬
рянность и холод стольких лет, прожитых без любви. Она
будет жить для детей, но у нее уже никоща не будет
собственной достойной жизни, которой она ждала некоща
от Верагута и на которую втайне надеялась вплоть до
вчерашнего и сегодняшнего дня. Теперь уже поздно. Эта
мысль холодом сжимала ее сердце.
Но ее здоровая натура тут же возмутилась против этого.
Ей предстояли тревожные, смутные дни, Пьер был болен, и
каникулы Альберта подходили к концу. Нет, так нельзя, ни
в коем случае, не хватало еще, чтобы и она размякла и стала
прислушиваться к потусторонним голосам. Пусть сначала
Пьер выздоровеет, Альберт уедет, а Верагут отправится в
109
Индию, вот тогда и посмотрим, тоща будет вдосталь време¬
ни, чтобы жаловаться на судьбу и выплакать себе глаза. А
пока в этом нет никакого смысла, она не имеет права, об
этом и думать нечего.
Вазу с цветами она поставила за окно. Затем пошла в
свою спальню, смочила носовой платок одеколоном и про¬
терла себе лоб, поправила перед зеркалом строгую, гладкую
прическу и спокойными шагами прошла на кухню, чтобы
самой приготовить Пьеру поесть.
Чуть позже она вошла в комнату мальчика, усадила его
на постели и, не обращая внимания на недовольные грима¬
сы, настойчиво и бережно стала кормить его с ложечки
яичным желтком. Она вытерла ему губы, поцеловала в
лоб, поправила постель и уговорила его быть умницей и
поспать.
Коща Альберт вернулся с прогулки, она увела его с со¬
бой на веранду, ще легкий летний ветерок с тихим потре¬
скиванием шевелил тугие занавеси в белую и коричневую
полоску.
— Опять приезжал врач, — сообщила она. — Он счита¬
ет, что у Пьера не все в порядке с нервами и ему необходим
полный покой. Мне жаль тебя, но играть на рояле пока
нельзя. Я знаю, мой мальчик, для тебя это жертва. Может
быть, будет лучше, если ты уедешь на несколько дней в
горы или в Мюнхен? Погода сейчас отличная. Я думаю,
папа тоже будет не против.
— Спасибо, мама, ты очень мила. Может быть, я и уеду
на денек, но не больше. Ведь у тебя нет больше никого, кто
был бы рядом, пока Пьер болен. И потом, мне пора уже
взяться за уроки, я до сих пор еще ничего не сделал... Толь¬
ко бы Пьер скорее поправился!
— Хорошо, Альберт, ты молодец. Сейчас для меня и в
самом деле трудное время, и я рада, что ты будешь рядом.
Да и с папой ты снова стал находить общий язык, не так
ли?
— Ах, да, с тех пор как он решился на это путешествие.
Впрочем, я так мало его вижу, он пишет целый день. Зна¬
ешь, иноща мне жаль, что я часто вел себя с ним отврати¬
тельно, — он ведь тоже мучил меня, но в нем есть что-то,
что мне нравится вопреки всему. Он ужасно односторонен
и в музыке плохо разбирается, но все-таки он большой ху¬
дожник, у него есть цель в жизни. Вот это мне в нем и
нравится. Его слава не дает ему ничего, да и деньги, в сущ-
110
носги, для него мало что значат; это не то, ради чего он
работает.
Он наморщил лоб, подыскивая нужные слова. Но он не
мог выразить свое вполне определенное чувство так, как ему
хотелось. Мать с улыбкой погладила его по голове.
— Почитаем опять вечером по-французски? — ласково
спросила она.
Он кивнул и тоже улыбнулся, и в этот момент ей пока¬
залось непостижимой глупостью то, что еще совсем недавно
она могла желать для себя чего-то иного, чем жить ради
своих сыновей.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Незадолго до полудня на лесной опушке появился Ро¬
берт, чтобы помочь своему хозяину отнести домой рабочие
принадлежности. Верагут закончил еще один этюд, который
решил нести сам. Теперь он точно знал, какой должна быть
картина, и собирался справиться с ней за несколько дней.
— Завтра утром мы опять придем сюда, — удовлетво¬
ренно воскликнул он и заморгал усталыми глазами, утом¬
ленными полуденным солнцем.
Роберт неторопливо расстегнул свой пиджак и вынул из
нагрудного кармана какую-то бумагу. Это был слегка смя¬
тый конверт без адреса.
— Велено передать вам.
— Кем велено?
— Господином советником медицины. Он спрашивал вас
в десять часов, но вы тоща были заняты, и он сказал, что я
не должен отрывать вас от работы.
— Хорошо. Пошли!
Взяв рюкзак, складной стул и мольберт, слуга пошел
вперед, а Верагут остановился и, предчувствуя недоброе,
открыл письмецо. В конверте была только визитная карто¬
чка врача с торопливо и невнятно нацарапанными на ней
карандашом строчками: «Пожалуйста, приходите сегодня
после обеда ко мне, я хочу поговорить с Вами о Пьере. Его
недуг опаснее, чем я счел нужным сказать Вашей жене. Не
пугайте ее понапрасну, пока мы с Вами не переговорим».
Усилием воли он подавил испуг, перехвативший ему ды¬
хание, заставил себя стоять спокойно и еще дважды внима¬
тельно перечитал записку. «Опаснее, чем я счел нужным
ill
сказать Вашей жене!» Вот ще скрыта угроза! Его жена не
была существом настолько уязвимым и нервным, чтобы ее
нужно было щадить из-за какого-нибудь пустяка. Значит,
дело плохо, Пьер опасно болен и может умереть! Но ведь в
записке сказано «недуг», это звучит безобидно. И потом —
«не пугайте ее понапрасну»! Нет, видимо, все не так уж
плохо. Может быть, какая-нибудь заразная детская болезнь.
Может быть, доктор хочет его изолировать, отправить в
клинику?
Эти мысли немного успокоили его. Он медленно спу¬
стился с холма и по нагретой солнцем дороге пошел домой.
Во всяком случае, надо прислушаться к совету врача и сде¬
лать так, чтобы жена ничего не заметила.
Однако дома им овладело нетерпение. Не убрав картину
и не умывшись, он вбежал в дом — еще не высохший холст
он прислонил к стене на лестнице — и тихо вошел в комнату
Пьера. Жена была там.
Он склонился над малышом и поцеловал его в голову.
— Здравствуй, Пьер. Как дела?
Пьер слабо улыбнулся. Но тотчас же втянул воздух за¬
трепетавшими ноздрями и крикнул:
— Нет, нет, уходи! Ты так дурно пахнешь!
Верагут послушно отступил в сторону.
— Это скипидар, мой мальчик. Папа не успел умыться,
так как хотел поскорее увидеть тебя. Сейчас я пойду и пе¬
реоденусь, а лотом снова приду к тебе, ладно?
Он пошел к себе, захватив картину. В ушах его звучал
жалобный голос мальчика.
' За столом он узнал о том, что сказал врач, и с радостью
услышал, что Пьер поел и его не вырвало. Но волнение и
страх не проходили, и он с трудом поддерживал разговор с
Альбертом.
Затем он посидел полчаса у постели Пьера, который ле¬
жал спокойно и только изредка, словно от боли, хватался
рукой за лоб. Преисполненный страха и любви, смотрел он
на маленький, болезненно-вялый рот, на красивый светлый
лоб, на котором сейчас появилась между бровями неболь¬
шая вертикальная морщинка, страдальческая, но по-детски
мягкая, подвижная морщинка, которая бесследно исчезнет,
коща Пьер снова выздоровеет. А выздороветь он должен —
даже если потом будет вдвое больнее оставить его и уйти. И
пусть он растет во всей своей нежной прелести и сияющей
детской красоте, пусть распускается, как цветок на солнце,
112
даже если он, Верагут, никоща больше не увидит его и на¬
всегда распрощается с ним. Дай Бог ему стать здоровым,
красивым и счастливым человеком, в котором воплотятся
самые тонкие и чистые черты его отца.
Только теперь, сидя у постели ребенка, он начал догады¬
ваться, сколько горьких минут ему придется еще испытать,
прежде чем все это окажется в прошлом. Губы его вздраги¬
вали, сердце сжималось от боли, но в глубине души, терза¬
емой страданием и страхом, он чувствовал, что решение его
твердо и непоколебимо. Так и должно быть, тут не помогут
больше ни страдания, ни любовь. Но ему еще надлежало
пережить этот последний период, не уклоняясь от боли, и
он был готов испить чашу до дна, ибо за последние дни
безошибочно почувствовал, что лишь через эти мрачные во¬
рота ведет его путь в новую жизнь. Бели он сейчас струсит,
если сбежит, спасаясь от боли, то захватит с собой в другую
жизнь тину и яд и никоща не достигнет чистой, святой сво¬
боды, к которой он так стремится и ради которой готов вы¬
терпеть любые муки.
Но сначала нужно поговорить с доктором. Он встал,
нежно кивнул Пьеру и вышел. Ему пришло в голову попро¬
сить Альберта отвезти его в город, и он направился к его
комнате, впервые за это лето. Он громко постучал в дверь.
— Войдите!
Альберт сидел у окна и читал. Он поспешно вскочил и с
изумленным видом пошел навстречу отцу.
— У меня к тебе маленькая просьба, Альберт. Не мо¬
жешь ли ты быстренько отвезти меня в коляске в город?..
Можешь? Отлично. Тоща будь так добр и помоги запрячь
лошадей, я немного тороплюсь. Хочешь сигарету?
— Да, спасибо. Я сейчас же иду на конюшню.
Немного погодя они сидели в коляске, Альберт с вожжа¬
ми в руках на козлах, и, коща на углу одной из городских
улиц Верагут попросил остановиться, он, прощаясь, нашел
для сына слова признательности.
— Спасибо. Ты преуспел и здесь и теперь отлично справ¬
ляешься с лошадьми. Ну, до свидания, я вернусь домой
пешком.
Он быстро зашагал по раскаленной зноем улице. Совет¬
ник медицины жил в тихой, аристократической части горо¬
да, в это время на улице не было ни души. Сонно проехала
поливальная телега, два маленьких мальчика бежали за ней,
подставляя руки под тонкие струйки воды и со смехом брыз-
113
гая ею друг другу в разгоряченные лица. Из открытого окна
на нижнем этаже плыли монотонные звуки — кто-то упраж¬
нялся на рояле. Верагут всегда питал глубокое отвращение
к пустынным улицам, особенно летом: они напоминали ему
о годах юности, коща он жил на таких улицах в дешевых
неуютных комнатах, с запахами кофе и кухни на лестнице
и с видом на слуховые окна, вешалки для выбивания ковров
и до смешного крохотные садики.
В коридоре среди больших картин в золоченых рамах и
больших ковров его встретил легкий запах лекарств, моло¬
дая девушка в длинном белоснежном халате медицинской
сестры взяла у него визитную карточку. Сначала она ввела
его в приемную, ще, уткнувшись в журналы, тихо и подав¬
ленно сидело несколько женщин и молодой мужчина, а по¬
том, по его просьбе, в другую комнату, заваленную больши¬
ми пачками специального медицинского журнала за многие
годы. Но не успел он там как следует осмотреться, как снова
появилась девушка и провела его к врачу.
И вот он расположился в большом кожаном кресле среди
сверкающей чистоты и целесообразности, а напротив, за
письменным столом, сидит, выпрямившись, низкорослый
врач; в высоком кабинете тишина, только сверкающие стек¬
лом и медью напольные часы звонко тикают, отбивая такт.
— Да, ваш мальчик мне не совсем нравится, дорогой
маэстро. Не замечали ли вы в нем уже раньше симптомов
недомогания, таких, например, как головные боли, уста¬
лость, нежелание играть и тому подобное?.. Только в самое
последнее время? И давно он у вас такой чувствительный?
К шуму и яркому свету? К запахам?.. Вот как? Он не вы¬
носил запаха красок в мастерской! Да, это согласуется с
остальными признаками.
Он много спрашивал, и Верагут отвечал словно в легком
наркотическом сне, напряженно вслушиваясь в вопросы и
втайне удивляясь их деликатности и безупречной точности.
Затем поток вопросов замедлился и наконец иссяк, в ка¬
бинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая только прон¬
зительно-резким тиканьем кокетливых напольных часов.
Верагут вытер пот со лба. Он чувствовал, что пришло
время узнать правду, и, так как врач сидел как каменный и
не говорил ни слова, его охватил мучительный, парализую¬
щий страх. Он завертел головой, словно освобождаясь от
удавки воротника, и наконец выдавил из себя:
— Неужели все так плохо?
114
Советник медицины повернул к нему усталое, пожелтев¬
шее лицо, посмотрел на него выцветшими глазами и кивнул
головой.
— Да, к сожалению, плохо, господин Верагут.
Больше он не отводил от него глаз. От его выжидатель¬
ного, внимательного взора не ускользало ничего. Он видел,
как побледнел и уронил руки художник, как жесткое, кос¬
тистое лицо расслабилось и стало беспомощным, как рот
потерял свои твердые очертания, а глаза блуждали, не видя
ничего. Видел, как скривились и мелкой дрожью задрожали
губы, как опустились на глаза веки, будто у человека, поте¬
рявшего сознание. Он наблюдал и ждал. Но вот губы ху¬
дожника снова сжались, глаза ожили, только глубокая блед¬
ность осталась. Он понял, что художник готов выслушать
его.
— Что с ним, доктор? Говорите же, не надо меня щадить.
Вы же не думаете, что Пьер умрет?
Врач придвинул свой стул чуть ближе. Он говорил очень
тихо, но резко и отчетливо.
— Этого не знает никто. Но если я не ошибаюсь, мальчик
очень опасно болен.
Верагут посмотрел ему в глаза.
— Он умрет? Я хочу знать, считаете ли вы, что он умрет.
Поймите, я хочу это знать.
Художник, сам того не сознавая, вскочил на ноги и как
бы с угрозой сделал шаг вперед. Врач положил ему руку на
плечо, он вздрогнул и, словно пристыженный, опять опу¬
стился в кресло.
— Говорить так не имеет смысла, — снова начал врач. —
Не мы распоряжаемся жизнью и смертью; мы, врачи, сами
ежедневно сталкиваемся с сюрпризами. Видите ли, для нас
каждый больной, пока он еще дышит, не безнадежен. А ина¬
че к чему бы мы пришли!
Верагут терпеливо кивнул и спросил:
— Итак, что же у него?
Врач коротко откашлялся.
— Если я не ошибаюсь, у него менингит*.
Верагут не шевельнулся и только тихо повторил это сло¬
во. Затем встал и протянул врачу руку.
— Значит, менингит, — сказал он, медленно, с трудом
выговаривая слова, потому что губы его дрожали, как в
сильный мороз. — Разве это вообще излечимо?
115
— Излечимо все, господин Верагут. Один ложится в
больницу с зубной болью и через пару дней умирает, у дру¬
гого налицо симптомы тяжелейшей болезни, но он выздо¬
равливает.
— Да-да. Выздоравливает! Мне пора, господин доктор.
Я доставил вам много хлопот. Значит, менингит неизлечим?
— Мой дорогой господин...
— Простите. Вероятно, вам уже приходилось лечить де¬
тей, больных мен... больных этой болезнью? Да? Вот види¬
те!.. Они остались живы?
Врач молчал.
— Быть может, в живых остались хотя бы двое из них?
Хотя бы один?
Ответа не было. Врач, как бы досадуя на гостя, повер¬
нулся к письменному столу и выдвинул ящик.
— Не теряйте мужества! — изменившимся голосом ска¬
зал он. — Мы не знаем, выживет ли ваш ребенок. Он в
опасности, и мы должны помогать ему, как можем. Понима¬
ете, мы все должны помогать ему, и вы тоже. Мне нужна
ваша помощь. Вечером я заеду к вам еще раз. На всякий
случай я дам вам снотворного, быть может, оно вам самому
понадобится. А теперь слушайте: мальчику нужен полный
покой и полноценное питание. Это главное. Не забывайте об
этом.
— Конечно. Я ничего не забуду.
— Если у него появятся боли или он будет очень беспо¬
коен, помогают теплые ванны и компрессы. У вас есть пу¬
зырь для льда? Я привезу. Лед, я думаю, у вас есть? Хоро¬
шо... Будем надеяться, господин Верагут! Сейчас никак
нельзя, чтобы кто-то из нас потерял мужество, мы все дол¬
жны быть на своем посту. Не так ли?
Жест Верагута его успокоил, он проводил его к выходу.
— Не хотите ли взять мою коляску? Она понадобится
мне только в пять часов.
— Спасибо, я пойду пешком.
Он пошел по улице, которая была такой же пустынной,
как и раньше. Из того самого открытого окна все еще доно¬
силась унылая ученическая музыка. Он посмотрел на часы:
прошло всего лишь полчаса. Он медленно побрел дальше,
минуя улицу за улицей, и так обошел полгорода. Он боялся
покинуть его. Здесь, в этом дурацком нагромождении убо¬
гих домов, стоял запах лекарств, здесь гнездились болезни,
нужда, страх и смерть, здесь сотни безрадостных, унылых
116
улочек вместе сносили тяжесть бытия, и здесь не было чув¬
ства одиночества. Но там, за городом, в тени деревьев и под
ясным небом, среди звона кос и треска кузнечиков, там,
думалось ему, мысль обо всем этом будет много страшнее,
нелепее и безысходнее.
Был вечер, коща он, запыленный и смертельно устав¬
ший, вернулся домой. Врач уже побывал здесь, но госпожа
Адель была спокойна и, казалось, еще ничего не знала.
За ужином Верагут беседовал с Альбертом о лошадях.
Он находил новые темы для разговора, Альберт подхваты¬
вал. Они видели, что отец устал, и только. Он же с едва
одерживаемой насмешливой яростью думал: «Да будь у ме¬
ня в глазах даже смертная тоска, они и тоща ничего бы не
заметили! И это моя жена, и это мой сын! А Пьер умирает!»
Эти печальные мысли вертелись у него в голове, пока он
непослушным языком произносил слова, которые никого не
интересовали. Потом к ним добавилась еще одна мысль:
«Так и должно быть! Я один выпью чашу страдания до по¬
следней капли. Вот так и буду сидеть, лицемерить и ждать,
коща умрет мой бедный мальчик. И если я все это пережи¬
ву, тоща не останется больше ничего, что будет связывать
меня, ничего, что может причинить мне боль, тоща я смогу
уйти и никогда в жизни больше не поверю в любовь, не буду
больше лгать, выжидать и чего-то бояться... Тоща я буду
знать только жизнь, работу и движение вперед, а не покой
и лень».
С каким-то мрачным наслаждением он чувствовал, как
в сердце его разгорается боль, дикая и невыносимая, но
чистая и большая, какой он еще никогда не испытывал, и
перед этим божественным пламенем его маленькая, безра¬
достная, неискренняя и незадавшаяся жизнь куда-то ис¬
чезла, недостойная того, чтобы думать о ней и даже осуж¬
дать ее.
В таком состоянии он просидел еще час в полутемной
спальне больного и провел душную бессонную ночь, с
упоением отдаваясь своему безграничному горю, ни на
что не надеясь и желая только одного — чтобы и его
испепелил и без остатка уничтожил этот огонь. Он по¬
нял, что так и должно быть, что он должен пожертво¬
вать самым дорогим и чистым, что у него было, и при¬
сутствовать при его смерти.
117
ГЛАВА ШЕСТЦАДЦАТАЯ
Пьеру было плохо, и отец просиживал возле него почти
целые дни. У мальчика все время болела голова, он тяжело
дышал, и каждый вздох напоминал короткий, тоскливый
стон. Иноща его маленькое, худое тельце билось в конвуль¬
сиях, иноща изгибалось и корчилось. После этого Пьер дол¬
го лежал совершенно неподвижно, и наконец* на него напа¬
дала судорожная зевота. Затем он засыпал на часок, а коща
просыпался, снова начинались эти монотонные жалобные
вздохи.
Он не слышал, что ему говорили, а коща его приподни¬
мали и почти насильно кормили, он ел машинально и рав¬
нодушно. При слабом дневном свете, так как шторы были
плотно задернуты, Верагут подолгу сидел, склонившись над
мальчиком, и внимательно, с замирающим сердцем наблю¬
дал, как из милого, такого знакомого детского личика одна
за другой стираются и исчезают нежные, дорогие черты.
Оставалось только бледное, рано постаревшее лицо, злове¬
щая маска страдания с огрубевшими чертами, в которых
нельзя было прочитать ничего, кроме боли, отвращения и
глубокого ужаса.
Иноща отец замечал, как в минуты сна это обезображен¬
ное лицо смягчалось и к нему ненадолго возвращалась ут¬
раченная миловидность прежних дней. Тоща он жадно, не
отрывясь смотрел на ребенка, стараясь еще и еще раз запе¬
чатлеть в себе эту умирающую прелесть. И ему казалось,
что вплоть до этих мгновений бодрствования и созерцания
он не знал, что такое любовь.
Госпожа Адель несколько дней ни о чем не догадывалась,
только постепенно заметила напряженность и странную отре¬
шенность в поведении Верагута и наконец что-то заподозрила.
Но прошло еще некоторое время, прежде чем она начала смут¬
но сознавать, в чем дело. Однажды вечером, когда он вышел
из комнаты Пьера, она отвела его в сторону и тоном, в котором
чувствовались обида и горечь, коротко спросила:
— Так что же такое с Пьером? Что у него? Я вижу, ты
что-то знаешь.
Он рассеянно посмотрел на нее и проговорил пересохши¬
ми губами:
— Я не знаю. Он очень болен. Разве ты не видишь?
— Вижу. Но я хочу знать, что у него! Вы обращаетесь с
ним так, будто он умирает, ты и доктор. Что он тебе сказал?
118
— Он сказал, что Пьер тяжело болен и что мы должны
как можно лучше за ним ухаживать. Что-то воспалилось в
его бедной головке. Завтра мы попросим доктора рассказать
нам подробнее.
Она прислонилась к книжному шкафу и ухватилась ру¬
кой за складки зеленой портьеры. Так как она молчала, он
продолжал терпеливо стоять; лицо его посерело, глаза были
воспалены. Руки его чуть заметно дрожали, на лице застыло
нечто похожее на улыбку — странная смесь покорности,
терпения и вежливости.
Она медленно подошла к нему и положила руку ему на
плечо. Казалось, у нее подгибаются колени. Чуть слышно
она прошептала:
— Ты думаешь, он умрет?
На лице Верагута все еще стыла слабая, глупая улыбка,
но по его щекам торопливо катились мелкие слезы. В ответ
он только слегка кивнул головой. Она потеряла равновесие
и осела на пол, он поднял ее и усадил на стул.
— Этого нельзя знать точно, — медленно, с трудом про¬
говорил он, как будто повторял, преодолевая отвращение,
старый, давно надоевший урок. — Мы не должны терять
мужества.
Мы не должны терять мужества, — машинально повто¬
рил он, коща она собралась с силами и выпрямилась на
стуле.
— Да, — сказала она, — ты прав. — И после паузы
добавила: — Этого не может быть. Этого не может быть.
Внезапно она встала, глаза ее оживились, на лице поя¬
вилось выражение понимания и скорби.
— Не правда ли, — громко сказала она, — ты не вер¬
нется? Я знаю. Ты хочешь нас оставить?
Он понимал, что в такой момент нельзя быть неискрен¬
ним. Поэтому он ответил коротко и глухо:
— Да.
Она закачала головой, как будто погрузилась в свои
мысли и никак не могла с ними справиться. Но то, что она
сказала, родилось не из раздумий, а выплеснулось бессоз¬
нательно из мрачной, безутешной подавленности этой мину¬
ты, из усталости, но прежде всего из смутной потребности
что-то поправить, оказать добрую услугу кому-то, кто еще
был в состоянии этой услугой воспользоваться.
— Да, — сказала она, — так я это себе и представляла.
Но послушай, Иоганн, Пьер не должен умереть! Не должно
119
же все, абсолютно все рухнуть в одночасье! И знаешь, я
хочу сказать тебе еще вот что: если он поправится, бери его
себе. Слышишь? Пусть он останется с тобой.
Верагут понял не сразу. Только постепенно ему стало
ясно, что она сказала. Так, значит, ему теперь отдано то, о
чем он с ней препирался, из-за чего долгие годы колебался
и страдал, — отдано в тот момент, коща уже стало поздно.
Чудовищной нелепостью было в его глазах не только это '—
что теперь он вдруг мог получить то, в чем она так долго
ему отказывала, — но еще больше то, что Пьер мог принад¬
лежать ему как раз тоща, коща ему предстояло умереть.
Значит, теперь он умрет для него как бы вдвойне! Это же
безумие, это просто смешно! Ситуация была настолько гро¬
тескной и абсурдной, что он и впрямь едва не разразился
горьким смехом.
Но она, без сомнения, говорила всерьез. Вероятно, она
не до конца верила в то, что Пьер умрет. Это было велико¬
душно, это была неслыханная жертва с ее стороны, которую
она хотела принести в страдальческом смятении этой мину¬
ты по какому-то неясному доброму побуждению. Он видел,
что она страдает, что она бледна и с трудом держится на
ногах. Ему не надо показывать, что ее жертву, ее странное,
запоздалое великодушие он воспринял как убийственную
насмешку.
Она с нарастающим отчуждением ждала от него ответа.
Почему он молчит? Не верит ей? Или настолько отдалился
от нее, что не хочет ничего принимать, даже этой величай¬
шей жертвы, которую она может ему принести?
Лицо ее уже начало разочарованно подергиваться, коща
он снова овладел собой. Он взял ее руку, наклонился и,
слегка коснувшись ее холодными губами, сказал:
— Благодарю тебя.
В голову ему пришла одна мысль, и он добавил с тепло¬
той в голосе:
— Но теперь я тоже хочу ухаживать за Пьером. Позволь
мне оставаться у него ночью!
— Мы будем меняться, — решительно сказала она.
В этот день Пьер был очень спокоен. На столе горел
маленький ночник, слабый свет которого не заполнял всю
комнату и терялся у двери в коричневом полумраке. Верагут
еще долго прислушивался к дыханию мальчика, затем лег
на узкий диван, который велел внести в спальню Пьера.
120
Ночью, около двух часов, проснулась госпожа Адель,
включила свет и встала. Набросив домашний халат, она со
свечой в руке прошла в комнату мальчика. Здесь все было
спокойно. Ресницы Пьера слегка задрожали, коща свет кос¬
нулся его лица, но он не проснулся. На диване лежал в
одежде, слегка скрючившись, ее муж и спал.
Она поднесла свечу и к его лицу и ненадолго задержа¬
лась около него. И она увидела его лицо таким, каким оно
было на самом деле, со всеми морщинами и седыми волоса¬
ми, с ввалившимися щеками и глубоко запавшими глазами.
«Он тоже постарел», — подумала она со смешанным
чувством жалости и удовлетворения, и ей захотелось погла¬
дить его растрепанные волосы. Но она не сделала этого. Она
неслышно вышла из комнаты, а коща через несколько ча¬
сов, уже утром, пришла снова, он уже давно бодрствовал,
сидя у постели Пьера. Губы его снова были крепко сжаты,
а глаза, которыми он поздоровался с ней, исполнены зага¬
дочной силы и решимости, которыми в последние дни он
укрывался, словно панцирем.
Для Пьера начинался недобрый день. Он долго спал, а
потом лежал с открытыми глазами и застывшим взглядом,
пока его не разбудила новая волна боли. Он яростно метал¬
ся в постели, сжимал маленькие кулачки и надавливал ими
на глаза, его лицо то покрывалось мертвенной бледностью,
то становилось ярко-красным. А потом, в бессильном него¬
довании против невыносимых мук, он начал кричать и кри¬
чал так долго и так жалобно, что его бледный, сломленный
отец в конце концов не выдержал и вынужден был уйти.
Он вызвал врача, который в этот день приезжал еще
дважды, а вечером привез с собой сиделку. К вечеру.Пьер
потерял сознание, сиделку отправили спать, а отец и мать
не ложились всю ночь, чувствуя, что конец уже недалек.
Мальчик не шевелился, дыхание его было неравномерным
и частым.
И Верагут, и его жена вспомнили о том времени, коща
очень сильно болел Альберт и они вместе его выходили. Но
оба они чувствовали, что подобное чудо уже не повторится.
Доброжелательно и немного устало переговаривались они
шепотом через кроватку больного, но ни один из них ни
словом не обмолвился о прошлом. В сходстве ситуации и
всего происходящего было нечто таинственное, но сами они
стали другими, они уже не были теми людьми, которые тог¬
121
да точно так же, как и сейчас, бодрствовали и страдали,
склонясь над смертельно больным ребенком.
Тем временем и Альберт, подавленный глухой тревогой
и изнуряющим волнением в доме, не мог уснуть. Среди ночи
он, полуодетый, на цыпочках вошел в комнату и взволно¬
ванным шепотом спросил, не может ли он что-нибудь сде¬
лать, чем-нибудь помочь.
— Спасибо, — сказал отец, — но делать тут нечего. Иди-
ка спать и ие болей хоть ты!
Но коща Альберт ушел, он попросил жену:
— Иди побудь с ним немного и утешь его.
Она охотно выполнила его просьбу и была благодарна
ему, что он подумал об этом.
Только под утро она поддалась уговорам мужа и пошла
спать. На рассвете появилась сиделка и сменила его. Состо¬
яние Пьера оставалось прежним.
Верагут нерешительно шел по парку, ему не хотелось
спать. Но воспаленные глаза и вялая, почти бесчувственная
кожа давали о себе знать. Он искупался в озере и велел
Роберту принести кофе. Затем принялся рассматривать в
мастерской свой этюд, сделанный на лесной опушке. Он
был написан свежо и бойко, но и это, в сущности, было не
то, к чему он стремился, а теперь с задуманной картиной
было кончено, в Росхальде он больше работать не будет.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Уже несколько дней состояние Пьера оставалось неиз¬
менным. Раз или два в день у него бывали судороги и при¬
ступы болей, остальное время он дремал в полузабытьи.
Между тем на смену жаре пришли частые грозы, стало про¬
хладнее, и под тонкими струйками дождя сад и мир утрати¬
ли летний блеск и сочность.
Верагут наконец снова провел ночь в собственной посте¬
ли и много часов проспал глубоким сном. Только теперь,
одеваясь в комнате с открытыми окнами, он заметил, что на
дворе потемнело и посвежело, — последние дни он жил точ¬
но в бреду. Он высунулся из окна и, слегка поеживаясь от
холода, вдыхал сырой воздух дождливого утра. Пахло влаж¬
ной землей и близостью осени, и он, привыкший восприни¬
мать приметы времен года обостренным чутьем художника,
с удивлением понял, что это лето промелькнуло для него
122
незаметно, почти не оставив следа. Ему казалось, что он
провел в комнате больного Пьера не дни и ночи, а месяцы.
Он'набросил дождевик и пошел в дом. Там он узнал, что
мальчик проснулся рано, но вот уже час, как уснул снова,
поэтому Верагут позавтракал вместе с Альбертом. Старший
сын принимал болезнь Пьера близко к сердцу и страдал,
стараясь, чтобы этого не заметили другие, от душной боль¬
ничной атмосферы и угнетенного настроения в доме.
Коща Альберт ушел, чтобы засесть в своей комнате за
школьные задания, Верагут пошел к Пьеру, который еще
спал, и занял свое место у его постели. В эти дни у него
иноща появлялось желание, чтобы все это кончилось ско¬
рее, хотя бы ради ребенка, который давно уже не говорил
ни слова и выглядел таким усталым и постаревшим, как
будто и сам знал, что ему уже ничем не поможешь. И все
же Верагут не хотел пропустить ни одного часа и с ревни¬
вой настойчивостью оберегал свое место у постели больно¬
го. Ах, как часто когда-то приходил к нему Пьер и нахо¬
дил его усталым или равнодушным, погруженным в рабо¬
ту или занятым своими заботами, как часто он рассеянно и
безучастно держал эту маленькую худую ручонку в своей
руке и почти не слушал, что он говорит. И вот теперь
каждое его слово стало драгоценным! Тут уж ничего не
исправишь. Но сейчас, коща бедный малыш лежит в му¬
ках и в одиночку своим незащищенным детским сердцем
противостоит смерти, сейчас, когда ему суждено за не¬
сколько дней изведать все оцепенение, всю боль и страш¬
ное отчаяние, которыми стращают и гнетут человеческое
сердце болезнь, слабость, старость и приближение смер¬
ти, — сейчас он не хотел оставить его ни на минуту. Он не
хотел этого, потому что боялся не быть на месте, когда
наступит момент и мальчик спросит о нем, когда он мог
бы оказать ему маленькую услугу, выказать немного люб¬
ви.
И надо же: именно в это утро он был вознагражден. В
это утро Пьер открыл глаза, улыбнулся ему и произнес сла¬
бым, нежным голосом:
— Папа!
У художника бурно забилось сердце, коща он снова ус¬
лышал этот голос, который звал его, обращался к нему и
который стал таким тоненьким и слабым. Он так долго слы¬
шал, как этот голос издает только стоны или лепечет что-то
123
в мучительном беспамятстве, что испуганно вздрогнул от
радости.
— Пьер, дорогой мой!
Он ласково склонился над ним и поцеловал улыбающи¬
еся губы. Пьер выглядел свежее и веселее, чем он надеялся
увидеть его коща-либо, глаза смотрели ясно и осознанно,
глубокая морщина между бровями почти исчезла.
— Ангел мой, тебе лучше?
Мальчик улыбнулся и посмотрел на него, как бы удивля¬
ясь вопросу. Отец протянул ему руку, и он вложил в нее свою
ручонку, которая и прежде-то не была такой уж сильной, а те¬
перь казалась совсем маленькой, бледной и усталой.
— Сейчас ты позавтракаешь, а потом я буду рассказы¬
вать тебе истории.
— О да, о господине шпорнике и бабочках, — сказал
Пьер, и его отцу снова показалось чудом, что мальчик раз¬
говаривает, улыбается и опять принадлежит ему.
Он принес ему завтрак, Пьер охотно ел и позволил
уговорить себя съесть и второе яйцо. Затем он потребовал
свою любимую книжку с картинками. Отец осторожно по¬
двинул в сторону одну из портьер, в комнату проник туск¬
лый свет дождливого дня. Пьер попытался , сесть и начал
разглядывать картинки. Казалось, это не причиняет ему
боли, он внимательно рассмотрел много картинок, привет¬
ствуя их короткими радостными возгласами. Но скоро си¬
дение в постели утомило его, и глаза снова начали побали¬
вать. Он дал себя уложить и попросил папу прочитать ему
несколько стишков, прежде всего стишок об Арбузе, кото¬
рый приполз к аптекарю Корешкову:
Скорей, аптекарь Корешков,
Готовь свои настойки!
Я нынче что-то нездоров,
Не доползу до койки!
Верагут старался изо всех сил, читал задорно и лукаво,
и Пьер благодарно улыбался. И все-таки стихи уже утрати¬
ли прежнюю силу, казалось, Пьер стал старше на много лет
с тех пор, как слышал их в последний раз. Картинки и стихи
напомнили ему о многих светлых и радостных днях, но бы¬
лая радость и озорное веселье больше не возвращались, и
мальчик недоуменно оглядывался на свое собственное дет¬
ство, которое еще несколько дней, несколько недель назад
было реальностью, оглядывался с тоской и печалью взрос¬
124
лого человека. Он больше не был ребенком. Он был боль¬
ным, от которого реальный мир уже отдалился и прозрев¬
шая душа которого везде и всюду испуганно чуяла прибли¬
жение смерти.
И все же после стольких дней ужасных страданий это
утро было полно света и счастья. Пьер вел себя тихо и бла¬
годарно, а Верагут снова и снова против воли предавался
робкой надежде. В конце концов, может же так случиться,
что мальчик останется жив! Тоща он будет принадлежать
только ему, ему одному!
Приехал врач и долго пробыл у постели Пьера, не мучая
его вопросами и исследованиями. Только теперь появилась и
госпожа Адель, которая этой ночью сменила сиделку. Не¬
жданное улучшение поразило ее, она, словно одержимая, так
крепко сжимала руки Пьера, что ему было больно, и не пыта¬
лась скрыть слез избавления, катившихся по ее щекам. Альбер¬
ту тоже разрешили зайти ненадолго в комнату больного.
— Это похоже на чудо, — сказал Верагут доктору. —
Вас это не удивило?
Врач улыбнулся и ласково кивнул головой. Он не возра¬
жал, но не проявлял и чрезмерной радости. И тотчас же
художником снова овладело недоверие. Он наблюдал за
каждым жестом врача и видел, что хотя лицо его и улыба¬
лось, но в глазах по-прежнему было холодное внимание и
сдержанная тревога. Затем он через приоткрытую дверь
подслушал разговор врача с сиделкой, и, хотя не мог разо¬
брать ни слова, ему показалось, что строгий, в меру серьез¬
ный шепот говорит только об опасности и ни о чем больше.
В последнюю минуту, уже проводив врача к экипажу, он
спросил:
— Вы не придаете большого значения этому улучшению?
Некрасивое, сдержанное лицо повернулось к нему.
— Радуйтесь, что бедному мальчику выпало несколько
спокойных часов. Будем надеяться, что это продлится до¬
статочно долго.
В его умных глазах нельзя было прочесть и намека на
надежду.
Не теряя ни мгновения, Верагут поспешно вернулся в
комнату больного. Как раз в это время мать рассказывала
сказку о Спящей Красавице, он присел рядом и стал смотреть,
как лицо мальчика реагирует на каждый поворот сюжета.
— Рассказать тебе еще что-нибудь? — спросила госпожа
Адель.
125
— Нет, — сказал он немного усталым голосом, — потом.
Она вышла посмотреть, что делается на кухне, и отец
взял Пьера за руку. Оба молчали, но время от времени Пьер
со слабой улыбкой поднимал глаза, словно радуясь, что па¬
па с ним.
— Я вижу, тебе гораздо лучше, — ласково сказал Вера¬
гут.
Пьер слегка покраснел, его пальчики, играя, задвига¬
лись в руке отца.
— Ты меня любишь, папа, не правда ли?
— Разумеется, сокровище мое. Ты мой милый мальчик,
и, коща ты поправишься, мы все время будем вместе.
— Да, папа... Однажды я был в саду, и я был там совсем
один, и никто из вас меня не любил. Но вы должны меня
любить и должны помочь мне, коща снова станет больно.
О, мне было так больно!
Он лежал с полузакрытыми глазами и говорил так тихо,
что Верагуту пришлось низко нагнуться к нему, чтобы ра¬
зобрать его слова.
— Вы должны мне помочь. Я буду хорошо себя вести,
всеща, только не надо меня бранить! Вы не будете больше
меня бранить, ведь правда? Скажи об этом и Альберту.
Его веки затрепетали и открылись, но взгляд был мут¬
ный, зрачки сильно расширились.
— Спи, малыш, спи! Ты устал. Спи, спи, спи.
Верагут осторожно закрыл ему глаза и стал, как коща-то
в младенчестве Пьера, убаюкивать его. И мальчик как будто
задремал.
Через час пришла сиделка, чтобы сменить Верагута, ко¬
торого ждали к столу. Он пошел в столовую, молча, с рас¬
сеянным видом ел свой суп и почти не слышал, о чем гово¬
рили рядом с ним. В ушах его все еще сладостно и печально
звучал испуганный и нежный шепот ребенка. Ах, сколько
раз он мог вот так говорить с Пьером, ощущать наивное
доверие его беззаботной любви, но не делал этого!
Он машинально потянулся к графину с водой, и в это вре¬
мя из комнаты Пьера донесся громкий, пронзительно-резкий
крик, разом вырвавший Верагута из его скорбной задумчи¬
вости. Все вскочили с побледневшими лицами, графин опро¬
кинулся, покатился по столу и со звоном упал на пол.
Одним прыжком Верагут выскочил из дверей и очутился
в комнате больного.
— Пузырь со льдом! — крикнула сиделка.
126
Он ничего не слышал. Ничего, кроме ужасного, отчаян¬
ного крика, который засел в его сознании, как нож в ране.
Он бросился к постели.
Пьер лежал весь побелевший, с мучительно перекосив¬
шимся ртом, его исхудавшее тельце корчилось в жестоких
судорогах, в выпученных глазах застыл безумный ужас. И
вдруг он опять закричал, еще громче и пронзительнее, изо¬
гнулся так, что задрожала кровать, расслабился и снова изо¬
гнулся, боль вытягивала и сгибала его, точно прутик, попав¬
ший в руки рассерженного ребенка.
Все стояли испуганные и беспомощные, пока распоряже¬
ния сиделки не водворили порядок. Верагут встал на колени
перед кроватью и пытался помешать Пьеру ушибиться во
время судорог. Но мальчик все же до крови поранил правую
руку о металлический край кровати. Затем он обмяк, повер¬
нулся на живот, молча вцепился зубами в подушку и начал
ритмично вскидывать левую ногу. Он поднимал ножку, со
стуком ронял ее на кровать, немного отдыхал и снова повто¬
рял то же движение десять, двадцать раз, и так без конца.
Женщины готовили компрессы, Альберта отослали из
комнаты. Верагут все еще стоял на коленях и смотрел, как со
зловещей ритмичностью под одеялом поднималась, вытяги¬
валась и снова падала нога. Это лежал его ребенок, чья улыб¬
ка еще несколько часов назад была как луч света, чей умоля¬
ющий нежный лепет только что глубоко тронул и очаровал
его сердце. Теперь от него осталось только механически
вздрагивающее тело, жалкий, беспомощный комок боли и
страдания.
— Мы с тобой, Пьер, — в отчаянии воскликнул он, —
малыш, мы здесь и хотим тебе помочь!
Но уже не было больше пути от его губ к душе ребенка,
и все заклинания, утешения и бессмысленно-нежный шепот
не проникали больше в ужасное одиночество умирающего.
Он был далеко отсюда, в другом мире, он странствовал,
обуреваемый жаждой, по адской долине смерти и страдания
и, быть может, в этот самый миг звал того, кто стоял возле
него на коленях и с радостью взял бы на себя все пытки,
только бы помочь своему ребенку.
Все понимали, что это конец. После того первого, испу¬
гавшего их крика, полного страшной, звериной муки, на по¬
роге каждой двери и в каждом окне дома стояла смерть. Ни¬
кто не говорил о ней, но все ее узнавали, даже Альберт, даже
служанки внизу, даже собака, которая беспокойно бегала
127
под дождем по гравийной площадке и время от времени ис¬
пуганно взвизгивала. И хотя все старались что-то сделать,
кипятили воду, прикладывали компрессы и усердно суети¬
лись, но это уже не было борьбой, во всем этом не было боль¬
ше надежды.
Пьер не приходил больше в сознание. Он дрожал всем
телом, будто от холода, иноща слабо и невнятно вскрикивал
и после каждого перерыва, вызванного изнеможением, сно¬
ва начинал вскидывать и опускать ногу — равномерно, точ¬
но под действием часового механизма.
Так прошли день, вечер и, наконец, ночь, и, коща на
рассвете маленький боец истощил свои силы и сдался на
милость победителя, родители только безмолвно посмотре¬
ли через кроватку друг другу в измученные бессонной
ночью лица. Иоганн Верагут приложил руку к сердцу маль¬
чика и не ощутил его биения. И он не снимал руки с худень¬
кой груди Пьера, пока она не остыла и не закоченела.
Затем он мягко провел ладонью по сложенным рукам
госпожи Адель и сказал:
— Кончено.
И пока он выводил жену из комнаты, поддерживая ее и
слушая ее хриплые рыдания, пока передавал ее на руки
служанке и потом прислушивался у дверей Альберта, спит
ли он, пока возвращался к Пьеру и получше укладывал по¬
койника в постели, его не оставляло чувство, что половина
его жизни умерла в нем и успокоилась.
Спокойно сделал он самое необходимое, поручил нако¬
нец умершего сиделке и забылся коротким, глубоким сном.
Коща в окна его комнаты проник яркий дневной свет, он
проснулся, сейчас же встал и занялся последней работой,
которую собирался еще выполнить в Росхальде. Он прошел
в комнату Пьера и отдернул все занавески; прохладный
осенний день осветил маленькое белое лицо и застывшие
ручки его любимца. Затем он сел у постели, разложил кар¬
тон и в последний раз запечатлел черты, которые так часто
изучал, которые знал и любил в нем с нежного младенче¬
ского возраста и которые, несмотря на то что смерть отме¬
тила их печатью зрелости и простоты, все еще сохраняли
выражение муки и недоумения.
128
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Яркие лучи солнца проглядывали из-за краев вялых, ис¬
тощенных дождем туч, коща маленькая семья возвращалась
с похорон Пьера. Госпожа Адель сидела выпрямившись в
коляске, ее заплаканное лицо выглядело странно светлым и
неподвижным на фоне черной шляпы и черного же, наглухо
застегнутого траурного платья. У Альберта были опухшие
веки, он не выпускал руку матери из своей.
— Итак, вы завтра едете, — ободряюще сказал Верагут. —
Не беспокойтесь ни о чем, я сделаю все, что здесь осталось
сделать. Мужайся, мой мальчик, вернутся лучшие времена!
Приехав в Росхальде, они вышли из коляски. Ярко по¬
блескивали на солнце капельки дождя на мокрых ветвях
каштанов. Жмурясь от света, они вошли в .тихий дом, ще
их ждали, перешептываясь, служанки в траурных платьях.
Комнату Пьера Верагут запер.
Принесли кофе, и все трое уселись за стол.
— В Монтрё я заказал для вас комнаты, — снова начал
Верагут. — Смотрите же, отдохните как следует! Я тоже
уеду, как только покончу здесь с делами. Роберт останется
и будет смотреть за домом. Он будет знать мой адрес.
Никто не слушал его, все были скованы, точно морозом,
глубоким, унизительным равнодушием. Госпожа Адель
смотрела перед собой застывшим взглядом и собирала
крошки со скатерти. Она замкнулась в своей печали и не
хотела ничего знать, Альберт подражал ей. С тех пор как
маленький Пьер лежал мертвый, видимость семейной соли¬
дарности снова исчезла, как исчезает с лица едва сдержива¬
ющего свои чувства человека вежливое выражение, стоит
только уехать влиятельному, внушающему страх гостю.
Один только Верагут вопреки всему до последнего мгно¬
вения играл свою роль и не снимал маски. Он боялся, чтобы
какая-нибудь по-женски нелепая сцена не испортила ему
прощания с Росхальде, и в глубине души нетерпеливо до¬
жидался часа, коща жена и сын уедут.
Никоща еще он не был так одинок, как в тот вечер, коща
сидел в своей комнате. В господском доме жена упаковыва¬
ла чемоданы. Он написал письма и сообщил Буркхардту,
который еще не знал о смерти Пьера, о своем приезде, отдал
последние распоряжения своему адвокату и банку. Затем он
убрал все с письменного стола и поставил перед собой по¬
смертный портрет Пьера. Теперь Пьер покоился в земле, и
5 4-161
129
Верагут не был уверен, сможет ли он коща-нибудь снова
привязаться всей душой к человеческому существу и вот так
страдать его страданиями. Теперь он был одинок.
Долго разглядывал он свой рисунок: впалые щеки, за¬
крытые веки над ввалившимися глазами, тонкие, крепко
сжатые губы, страшно исхудавшие детские руки. Затем он
запер портрет в мастерской, надел плащ и вышел на воздух.
В парке уже было темно и тихо. В господском доме свети¬
лось несколько окон, до которых ему не было дела. Но под
черными каштанами, в маленькой, размокшей от дождя бе¬
седке, на гравийной площадке и в цветнике еще витала
жизнь, веяло воспоминаниями. Здесь коща-то Пьер — раз¬
ве с тех пор не прошли годы? — показывал ему пойманную
мышку, вон там, у флоксов, разговаривал с голубыми ба¬
бочками и придумывал цветам нежные, фантастические на¬
звания. Повсюду — во дворе у курятника и собачьей кону¬
ры, на лужайке и в липовой аллее — он жил своей малень¬
кой жизнью, играл в свои игры, здесь звенел его легкий,
раскованный детский смех, здесь раскрывалось обаяние его
своевольной, уверенной в себе личности. Здесь он сотни раз,
вдали от посторонних глад, наслаждался своими детскими
радостями и погружался в свои сказочные миры, здесь мог
иногда злиться или плакать, коща чувствовал себя одино¬
ким и непонятым.
Верагут бродил в темноте, заглядывая в каждый уголок,
сохранивший память о его мальчике. Напоследок он опу¬
стился на колени у песочной горки Пьера и погрузил горя¬
чие руки в сырой песок, а коща нащупал пальцами деревян¬
ный предмет, поднял его и узнал маленькую лопатку сына,
то безвольно припал к земле и впервые за эти три ужасных
дня дал наконец волю слезам.
Наутро ему предстоял еще разговор с госпожой Адель.
— Постарайся утешиться, — сказал он ей, — и не забы¬
вай, что Пьер ведь принадлежал мне. Ты уступила его мне —
еще раз благодарю тебя за это. Я уже тоща знал, что он
умрет, — но ты поступила великодушно. А теперь живи так,
как тебе нравится, и не принимай опрометчивых решений!
Росхальде оставь пока за собой, не торопись избавляться от
усадьбы, чтобы потом йе раскаиваться. Нотариус расскажет
тебе обо всем подробнее, он полагает, что земля здесь скоро
поднимется в цене. Желаю удачи! Моего здесь ничего не
остается, кроме вещей в мастерской, позже я за ними при¬
шлю.
130
— Спасибо... А ты? Ты больше сюда не вернешься?
— Нет, не вернусь. Это не имеет смысла. И еще: во мне нет
больше никакой горечи. Я знаю, что сам во всем виноват.
— Не говори так! Ты хочешь мне добра, но только му¬
чаешь меня. Ты ведь остаешься совсем один! Вот если бы
ты мог взять себе Пьера. А так — нет, так не должно было
случиться! Я тоже виновата, я знаю...
— Мы всё искупили в эти дни. Успокойся, все хорошо,
больше и впрямь не на что жаловаться. Альберт принадле¬
жит теперь тебе одной. А что до меня, то со мной остается
моя работа. С ней можно вынести все. Ты тоже будешь сча¬
стливее, чем была все эти годы.
Он говорил так спокойно, что и она переборола себя. Ах,
было еще много, бесконечно много всего, что ей хотелось
высказать ему, за что она хотела поблагодарить или упрек¬
нуть его. Но она понимала, что он прав. Все то, что она
воспринимала еще как живую и горькую действительность,
видимо, уже превратилось для него в отжившее прошлое.
Надо было смириться и забыть о том, что миновало. Поэто¬
му она внимательно и покорно выслушала его наставления,
поражаясь тому, с какой основательностью он все продумал
•и ничего не забыл.
О разводе не было сказано ни слова. Этим можно будет
заняться потом, коща он вернется из Индии.
После обеда они отправились на станцию. Там уже был
Роберт с многочисленными чемоданами. В шуме и дыме
большого вокзала с прозрачной крышей Верагут посадил
жену и сына в вагон, купил для Альберта журналы и пере¬
дал ему багажную квитанцию, подождал у окошка до отхода
поезда, помахал на прощанье шляпой и до тех пор смотрел
вслед поезду, пока Альберт не отошел от окна.
На обратном пути Роберт рассказал ему о разрыве своей
опрометчивой помолвки. Дома уже ждал столяр, который
должен был сколотить ящики для его последних картин.
Коща они будут упакованы и отправлены, вслед за ними
отправится и он. Ему очень хотелось уехать.
Но вот и столяр кончил свое дело. Роберт с единственной
оставшейся служанкой работал в господском доме, они на¬
девали на мебель чехлы, закрывали окна и ставни.
Верагут медленно прошелся по мастерской, заглянул в го¬
стиную и спальню, вышел из домика и обошел пруд и парк.
Он ходил здесь сотни раз, но сегодня все — дом и сад, озеро и
парк, — казалось, напоминало ему об одиночестве. Холод¬
5*
131
ный ветер шелестел желтеющей уже листвой и нагонял низко
нависшие вереницы лохматых дождевых туч. Художник зяб¬
ко поежился. Теперь уже здесь не было никого, о ком надо
было заботиться, с кем надо было считаться, перед кем сохра¬
нять невозмутимость, и только сейчас, в этом холодном оди¬
ночестве, он ощутил тревогу бессонных ночей, лихорадоч¬
ную дрожь и всю разрушительную усталость последних дней.
Он ощущал ее не только головой и телом, она ^коренилась
глубже, в душе. В эти дни погасли не только последние радо¬
стные огоньки молодости и надежды; однако холодное оди¬
ночество и беспощадная трезвость не пугали его.
Бродя по мокрым дорожкам, он настойчиво прослеживал
нити своей жизни, незамысловатая ткань которой никогда
так ясно и полно не представала его глазам. И он, ничуть
не огорчаясь, пришел к выводу, что все кизненные дороги
пройдены им вслепую. Он ясно видел, что, несмотря на все
попытки и на никогда не угасавшую в нем тоску, он прошел
мимо сада жизни. Ни разу не испытал он всей полноты люб¬
ви, ни разу вплоть до этих последних дней. Только у посте¬
ли умирающего сына он изведал свою единственную насто¬
ящую запоздалую любовь, впервые забыл о себе, преодолел
себя. И это навсеща останется его глубоким переживанием,
его маленьким достоянием.
Ему оставалось теперь только его искусство, в котором он
никоща прежде не был так уверен, как сейчас. Ему остава¬
лось утешение стоящих вне жизни, тех, кому не дано самим
приблизить эту жизнь к себе и испить из ее чаши; ему остава¬
лась странная, холодная и в то же время неукротимая страсть
созерцания, наблюдения и тайного, гордого сотворчества. В
этом ненарушимом одиночестве, в этой холодной жажде
творчества заключался смысл оставшейся ему жизни; следо¬
вать, не уклоняясь, этой звезде стало отныне его судьбой.
Он глубоко вдыхал влажный, горьковатый воздух пар¬
ка, и ему казалось, что с каждым шагом он отталкивает от
себя прошлое, как отталкивают от берега ставший ненуж¬
ным челн. В его испытаниях и в его прозрении не было
разочарования; полный упрямства и страстного желания
творить, смотрел он навстречу новой жизни, которая пред¬
ставлялась ему уже не робким блужданием впотьмах, а
крутым и смелым подъемом в гору. Позже, и, быть может,
. с большей горечью, чем другие мужчины, простился он со
сладкими сумерками юности. И вот теперь, постаревший и
нищий, стоял он в ясном свете дня и не собирался терять
из него ни одной драгоценной минуты.
КНУЛЬП
Три истории
из жизни Кнульпа
1915
ш
W
зй»-
Æl
'Ш* ш
mÊS& ^v т
■ш *rv
. - s ^ Jjjb* • '
£#Г V •
ЕШШ,
п&х-«*4|ВЖН
ш
-, Vf ♦ *
KNULP
Drei Geschichten
aus Knulps Lebens
1915
КАНУН ВЕСНЫ
Вначале девяностых годов случилось нашему другу
Кнульпу несколько недель пролежать в больнице;
когда он оттуда выбрался, уже стоял февраль, погода была
отвратительная, так что, проскитавшись всего несколько
дней, он опять ощутил озноб и поневоле стал подумывать о
пристанище. В друзьях у него недостатка не было, его при¬
ветили бы в любом городке округи, но он был горд, за честь
можно было считать, если он что-нибудь принимал от друга.
На сей раз Кнульп вспомнил о благородном дубильщике
Эмиле Ротфусе из Лехштеттена и в его-то запертые двери
постучался однажды поздним ненастным вечером. Дубиль¬
щик приоткрыл ставень наверху и громко крикнул в темно¬
ту улицы: «Кто там барабанит? Неужто нельзя подождать
до утра?»
Голос старого друга сразу же возвратил бодрость утом¬
ленному Кнульпу. Ему вспомнился стишок, сложенный им
много лет назад, коща однажды он целый месяц странство¬
вал вместе с Эмилем Ротфусом, и он пропел его прямо в
приоткрытое окно:
Сидит усталый странник,
Сидит в большой пивной.
То блудный сын — изгнанник,
И уж не кто иной .
Дубильщик рывком распахнул ставень и наполовину вы¬
сунулся из Окна.
— Кнульп! Это ты или твой призрак?
— Я, я! — закричал Кнульп. — Но, может, ты спустишь¬
ся или непременно нужно орать через окно?
135
Друг с радостью поспешил вниз, распахнул входные две¬
ри и коптящей масляной лампой посветил прямо в лицо при¬
шельцу, так что тот заморгал.
— Входи же! — взволнованно воскликнул хозяин и по¬
тянул Кнульпа в дом. — Рассказывать будешь после. От
ужина тебе еще кое-что осталось, и постель получишь. Боже
милосердный, в такую собачью погодку! Послушай, а баш-
маки-то у тебя хоть крепкие?
Кнульп предоставил ему вволю задавать вопросы и удив¬
ляться, на лестнице он аккуратно подвернул свои подшитые
тесьмой брюки и уверенно двинулся впотьмах вверх, хотя
не был в этом доме вот уж четыре года.
В верхних сенях, перед дверью в горницу, он немного
помедлил и за руку придержал дубильщика.
— Слушай, — зашептал он, — ты теперь женат, это
правда?
— Чистая правда.
— Вот то-то и оно. Понимаешь, жена твоя меня не знает,
может, вовсе и не обрадуется. Не хотел бы я быть вам в
тягость.
— Какое там — в тягость! — засмеялся Ротфус, распах¬
нул дверь и подтолкнул Кнульпа в ярко освещенную гор¬
ницу.
Там над большим обеденным столом висела на трех це¬
пях керосиновая лампа, легкий табачный дым еще парил в
воздухе и тонкими струями уходил в горячий цилиндр, ще
спиралью вился вверх и исчезал. На столе лежали газета и
сыромятный кисет с табаком, а с маленького узкого канапе
у стены вскочила молодая хозяйка; вид у нее был смущен¬
ный, но нарочито бодрый, как будто ее потревожили среди
дремоты, а она не хотела этого показывать. Кнульп, ослеп¬
ленный, замигал на яркий свет, взглянул в серые глаза жен¬
щины и с вежливым поклоном подал ей руку.
— Вот она, — радостно объявил мастер. — А это
Кнульп, дружище Кнульп, помнишь, мы с тобой еще давеча
о нем говорили? Само собой, он наш гость, переночует в
комнате подмастерьев — она ведь пустая. Но прежде мы все
выпьем сидру, и ты попотчуешь Кнульпа. Ливерная колбаса
у нас еще осталась?
Хозяйка выбежала из комнаты, и Кнульп проводил ее
взглядом.
— Все-таки я ее чуток напугал, — тихонько сказал он,
но Ротфус с ним не согласился.
136
— Детей еще нет? — спросил Кнульп.
В этот миг она снова появилась, принесла колбасу на
оловянной тарелке и деревянный поднос, посередке которо¬
го лежали добрые полкаравая ржаного хлеба, заботливо по¬
ложенные початою стороною вниз, а по краю было вырезано
замысловатыми готическими буквами: «Хлеб наш насущный
даждь нам днесь».
— Лиз, а ты знаешь, какой вопрос только что задал мне
Кнульп?
— Оставь! — воспротивился тот и с улыбкой обернулся
к хозяйке. — Итак, разрешите приступить, сударыня?
Но Ротфус не унимался.
— Он спросил, есть ли у нас дети.
— Ой, да про что вы! — выкрикнула она со смехом и
сразу же опять убежала.
— Так что же, нет еще? — повторил Кнульп свой вопрос.
— Нет. Она, знаешь ли, не торопится, на первых порах
так оно и лучше. Ну давай, принимайся за дело, приятного
аппетита!
Теперь хозяйка принесла голубой фаянсовый кувшин с
сидром, поставила три стакана, которые тут же и наполнила
до краев. Она проделала все это так споро и ловко, что
Кнульп невольно улыбался, на нее глядя.
— Твое здоровье, старый друг! — провозгласил мастер
и потянулся чокнуться с Кнульпом. Тот, однако, учтиво от¬
клонил здравицу:
— Сначала за дам! Ваше драгоценное здоровье, судары¬
ня! Будь здоров, старина!
Они чокнулись и выпили, и Ротфус просто сиял от ра¬
дости, подмигивая своей хозяйке: заметила ли она, какие
великолепные манеры у его друга?
Она, оказывается, давно это заметила.
— Видишь, — сказала она мужу, — господин Кнульп
вежливее, чем ты. Он знает, что такое настоящее обраще¬
ние.
— Ну что вы, — не согласился гость. — Каждый посту¬
пает, как обучен. Что до манер, то тут вы меня легко посра¬
мите, сударыня. До чего же красиво вы все сервировали,
точно в самом лучшем отеле!
— Так и есть, — засмеялся мастер. — В точку попал,
этому-то она обучалась.
— Вот как, и где же? Уж не трактирщик ли ваш ба¬
тюшка?
137
— Нет, и он давно уже на том свете, я едва его помню.
Но я й вправду несколько лет работала в «Быке», если вы
такой знаете.
— «Бык«? Да это же была лучшая гостиница в Лехштет-
тене, — похвалил Кнульп.
— Она и сейчас такова. Разве не правда, Эмиль? И но¬
мера там берут только важные баре, коммивояжеры и ту¬
ристы.
— Могу себе представить, сударыня. Вам, верно, там
было хорошо, и заработки приличные. Но свое хозяйство
все же лучше?
Он медленно, смакуя, намазывал мягкую ливерную кол¬
басу на хлеб, откладывая тонко срезанную шкурку на самый
край тарелки и время от времени прикладываясь к прекрас¬
ному светло-желтому сидру. Хозяин одобрительно смотрел,
как аккуратно Кнульп со всем управлялся, как легко, игра¬
ючи сновали его белые тонкие пальцы, да и на хозяйку это
произвело благоприятное впечатление.
— Выглядишь ты не ахти как, — стал затем выговари¬
вать ему Эмиль Ротфус, и Кнульп вынужден был признать¬
ся, что верно, последнее время дела его шли неважно, он
был в больнице. О неприятных подробностях он умолчал.
Коща друг осведомился, что же он намерен предпринять в
ближайшее время, и от души на любой срок предложил ему
Стол и кров, то гость, хотя именно на то и рассчитывал и
того желал, все же не дал ответа, как бы сробев, сму¬
щенно поблагодарил и отложил обсуждение этого воп¬
роса на завтра.
— Успеем поговорить завтра или послезавтра, — бросил
он другу. — Слава Богу, еще не конец света, а некоторое
время я у тебя так или иначе побуду.
Он не любил строить планы или давать наперед обеща¬
ние. Ему бывало не по себе, даже если завтрашним днем он
не мог располагать по своему выбору.
— Ежели я и в самом деле поживу здесь, — снова завел
он разговор, — отметь меня в управе как своего подма¬
стерья.
— Еще чего, — захохотал мастер. — Ты — и вдруг мой
подмастерье! Да, кроме всего прочего, какой же ты дубиль¬
щик?
— Не в том дело, разве ты не понимаешь? К дубильному
ремеслу я и верно отношения не имею, хоть и считаю, что
ремесло это почтенное. У меня к работе вообще таланта нет.
138
Но вот моему паспорту такая запись бы не повредила. Это
важно и для оплаты лечения.
— Можно мне взглянуть на твой паспорт?
Кнульп полез во внутренний карман своей почти новой
куртки и вытащил оттуда книжечку в аккуратной клеенча¬
той обертке.
Дубильщик посмотрел на нее и сказал с усмешкой:
— Как всегда, не придерешься! Можно подумать, ты
только вчера покинул родимое гнездо.
Затем внимательно изучил все записи и печати и восхи¬
щенно пожал плечами.
— Вот это порядочек! Все-то у тебя должно быть благо¬
родно!
Содержать свой дорожный паспорт в образцовом поряд¬
ке было одним из пристрастий Кнульпа. Эта книжечка была
в своей безупречности чудесным вымыслом, поэмой, все за¬
писи в ней, заверенные должностными лицами, обозначали
славные этапы почтенной трудовой жизни, и лишь любовь
к путешествиям, проявлявшаяся в очень частой перемене
мест, бросалась в глаза стороннему наблюдателю. Но жизнь
эта, обозначенная в дорожном паспорте, была сочинена са¬
мим Кнульпом, она продлевалась им с помощью тысячи уло¬
вок и частенько висела на волоске, в то время как в дейст¬
вительности он, хоть и не делал ничего запретного, влачил
презренное и не вполне законное существование бездельни¬
ка и бродяги. Конечно, ему вряд ли бы удавалось без помех
сочинять свою прекрасную поэму, если бы все жандармы в
округе не были настроены к нему в высшей степени снисхо¬
дительно. Они по возможности оставляли в покое этого ве¬
селого забавного малого, чье умственное превосходство, а
порой и серьезность внушали им уважение. У него не было
ни одной судимости, воровства или нищенства за ним не
числилось, а влиятельные друзья были повсюду; его терпе¬
ли, как в хорошем хозяйстве снисходительно терпят краса¬
вицу кошку, а она живет себе среди усердных, замученных
работой людей как барыня, легко и грациозно, без забот, без
труда.
— Вы давно бы уж легли, если бы я не пришел, — ви¬
новато сказал Кнульп, пряча паспорт. Он встал и поклонил¬
ся хозяйке. — Пойдем, Ротфус, покажешь, ще мое место.
Мастер с лампой провел его по узким крутым ступеням
на чердак, в каморку подмастерьев. Там стояла у стены го-
13 9
лая железная кровать, и рядом еще одна — деревянная,
застеленная.
— Грелку не надо? — заботливо осведомился хозяин.
— Обойдусь, — засмеялся Кнульп. — А господину мас¬
теру она уж точно не нужна, при такой-то женушке.
— Да, вот видишь, — с искренним жаром заговорил Рот¬
фус, — ты сейчас уляжешься в холодную свою кровать, а
порой даже и в худшую ложиться приходится, а то и вовсе
никакой нет, так что ночуешь ты на сене, под открытым
небом. У таких же, как я, и дом свой, и хозяйство, и жена
славная. А ведь ты и сам давно бы мог стать мастером и
добился бы куда большего, чем я, если бы только постарал¬
ся.
Кнульп между тем поспешно скинул платье и, дрожа от
холода, забрался в постель.
— У тебя еще много за душой? — спросил он. — Мне
здесь лежать удобно, могу и послушать.
— Кнульп, я серьезно тебе говорю.
— Я тоже, Ротфус. Не воображай, пожалуйста, что ты
первым придумал жениться. Спокойной ночи!
На следующий день Кнульп с утра остался в постели. Он
чувствовал еще некоторую слабость, да и погода была такая,
что одеваться и выходить не хотелось. Дубильщика, кото¬
рый заглянул к нему около полудня, он попросил, чтобы его
не тревожили и, если возможно, прислали в обед тарелку
супа.
Так весь день он покойно провел в сумрачной каморке,
ощущая, как отдаляются и уходят в прошлое холода и не¬
взгоды страннической жизни, отдаваясь блаженному чувст¬
ву покоя, тепла, безопасности. Он прислушивался к шуму
дождя, прилежно барабанившего по крыше, к прихотливым
порывам душного беспокойного ветра. В промежутках не¬
много дремал или, пока хватало света, читал что-нибудь из
своей походной библиотечки; она у него состояла из разроз¬
ненных листков, на которые он списывал стихи или изрече¬
ния, и из целого вороха газетных вырезок. Среди последних
было несколько картинок, которые он отыскал и вырезал из
иллюстрированных журналов. Две из них были им особенно
любимы, от частого вытаскивания обе обветшали и обтрепа¬
лись. На одной была изображена актриса Элеонора Дузе*,
на другой — парусник в открытом море при сильном ветре.
С детских лет Кнульп испытывал сильнейшую тягу к морю
и к северу; он не раз пускался в дорогу, чтобы увидать их
140
своими глазами, однажды добрался до самого Брауншвейга.
Но вместе с тем этого перекати-поле, который всеща был в
пути и терпеть не мог задерживаться на одном месте, посто¬
янно гнала назад странная тоска и любовь к родным местам,
и быстрыми переходами он всякий раз возвращался в Юж¬
ную Германию. Может быть, обычная беззаботность поки¬
дала его в местностях с чужим диалектом и чужими обыча¬
ями, где никто его не знал и где ему было нелегко сохранять
в порядке свой легендарный паспорт.
В обед дубильщик принес ему на чердак супа и хлеба.
Он вошел на цыпочках, говорил испуганным шепотом, так
как считал Кнульпа тяжелобольным; сам он с детских лет
среди бела дня никогда не лежал в постели. Кнульп, кото¬
рый чувствовал себя преотлично, не стал затрудняться объ¬
яснениями и только заверил, что назавтра встанет и навер¬
няка будет здоров.
К вечеру в дверь каморки: легонько постучали, и, так как
Кнульп был погружен в дремоту и не откликнулся, хозяйка
вошла осторожно и, забрав суповую тарелку, поставила на
тумбочку у кровати чашку кофе с молоком.
Кнульп, который слышал, как она вошла, то ли из-за
усталости, то ли из каприза продолжал лежать с закрытыми
глазами, делая вид, будто крепко спит. Жена дубильщика,
с пустой тарелкой в руках, украдкой бросила взгляд на
Кнульпа, который положил голову на руку, прикрытую до
локтя синей клетчатой рубашкой. Она невольно отметила,
как мягки его темные волосы, как почти по-детски прелест¬
но беззаботное лицо, — и все стояла и любовалась этим
красивым малым, о котором муж рассказывал ей столько
удивительных историй. Она разглядывала его широкие бро¬
ви над сомкнутыми веками, высокий чистый лоб, смуглые,
чуть впалые щеки, красивые яркие губы и стройную шею,
и ей вспомнились те времена, коща, работая кельнершей в
«Быке», она нередко по весне пускалась во все тяжкие с
таким вот пригожим заезжим гостем.
Замечтавшись и чувствуя легкое волнение, она наклони¬
лась, чтобы получше разглядеть лицо, как вдруг оловянная
ложка соскользнула с тарелки и громко стукнула об пол;
этот звук в тишине и укромной уединенности комнаты осо¬
бенно сильно напугал ее.
Кнульп открыл глаза, медленно и с таким видом, как
будто сейчас только пробудился от глубокого сна. Он повер¬
141
нул к ней голову, заслонив глаза ладонью, и сказал с улыб¬
кой:
— Вот те на, оказывается, вы здесь, сударыня! Да еще
кофе мне принесли, горячий кофе! Как раз то, о чем я сей
миг мечтал. Большое спасибо, госпожа Ротфус! Не скажете
ли, который час?
— Четыре, — быстро ответила она. — Пейте поскорее,
пока горячий, а я унесу посуду.
Сказав это, она выбежала из комнаты с таким видом,
будто у нее минуты нет лишней. Кнульп проводил ее взгля¬
дом и услышал, как она торопливо сбегает по лестнице. Он
задумался над этим, легонько покачав головой, слегка при¬
свистнул на птичий манер и принялся за кофе.
Через час после наступления сумерек он, однако, заску¬
чал, чувствуя себя вполне бодрым и отдохнувшим, и его
потянулЪ на люди. Он неторопливо встал, оделся, тихо, как
куница, спустился впотьмах по лестнице и незаметно вы¬
скользнул со двора. Все еще дул влажный юго-западный
ветер, но дождь прекратился, на небе видны были чистые и
светлые прогалины.
Все разведывая, вынюхивая, Кнульп слонялся по вечер¬
ним улицам; он пересек опустевшую рыночную площадь,
постоял в дверях кузни, наблюдая, как прибираются учени¬
ки, вступил в разговор с подмастерьями и погрел озябшие
руки над темно-красным остывающим горном. При этом он
как бы невзначай расспросил о своих былых знакомцах, ос¬
ведомился о похоронах и свадьбах, а в беседе с кузнецом
легко мог сойти за его собрата по ремеслу, настолько хоро¬
шо он знал язык и тайные знаки каждого цеха.
Тем временем госпожа Ротфус поставила на плиту по¬
хлебку, погремела ухватами, начистила картошку и, коща
вся работа была переделана и кастрюля надежно стояла на
слабом огне, пошла, с кухонной лампой в руках, в горницу
и стала у зеркала. В нем она увидела то, что желала увидеть:
свежее, миловидное личико с голубовато-серыми глазами, —
и умелыми пальцами быстро привела в порядок прическу.
Затем еще раз отерла руки о передник, захватила лампу и
отправилась на чердак.
Она легонько постучала в дверь каморки, и еще раз —
чуть посильнее; так как ответа не последовало, она постави¬
ла лампу на пол и осторожно обеими руками приоткрыла
дверь, чтобы та не скрипела. Затем на цыпочках вошла,
сделала шаг-другой и нащупала стул у кровати.
142
— Вы спите? — спросила она вполголоса и повторила
еще раз: — Вы спите? Я пришла только забрать посуду.
Так как все было по-прежнему тихо, не доносилось даже
легкого дыхания, она протянула руку к кровати, но, внезап¬
но с испугом ее отдернув, выбежала за лампой. Теперь она
увидела, что каморка пуста, а кровать тщательнейшим об¬
разом застелена, даже подушки и перина безупречно взби¬
ты, и растерянно вернулась в кухню, охваченная не то тре¬
вогой, не то разочарованием.
Полчаса спустя, коща дубильщик поднялся к ужину и
сел за стол, она начала беспокоиться, но все никак не могла
набраться храбрости и сказать мужу, что поднималась в ка¬
морку. Тут внизу как раз отворились ворота, легкие шаги
простучали по мощеной дорожке, по ступеням витой лест¬
ницы, и Кнульп был тут как тут. Сняв с головы свою кра¬
сивую коричневую шляпу, он пожелал всем приятного ап¬
петита.
— Откуда ты? — удивленно воскликнул мастер. — То
болен, а то бегает по ночам! Так и помереть недолго.
— Правда твоя, — согласился Кнульп. — Бог в помощь,
госпожа Ротфус! Я, кажется, поспел вовремя. Запах вашей
похлебки я учуял еще на рыночной площади, а уж отведав
ее, помереть невозможно.
Сели за ужин. Хозяин был словоохотлив, он хвалился
домом, хозяйством, званием мастера. Он поддразнивал гос¬
тя и затем вновь принимался всерьез его убеждать, что пора
бросить наконец вечные странствия и заняться делом.
Кнульп слушал его и почти не отвечал, хозяйка тоже помал¬
кивала. Она досадовала на мужа, он казался ей грубоватым
в сравнении с изящным, благовоспитанным Кнульпом, и
свое благоволение к гостю она проявляла тем, что усердно
подкладывала ему на тарелку. Коща пробило десять,
Кнульп поднялся, пожелал хозяевам спокойной ночи и по¬
просил дубильщика одолжить ему бритву.
— Ты, однако, чистоплотен, — похвалил Ротфус, давая
бритву. — Чуть оброс — и сразу же бриться. Ну, доброй
тебе ночи, поправляйся!
Прежде чем войти в каморку, Кнульп помедлил у ма¬
ленького оконца на площадке чердачной лестницы, хотел
еще раз взглянуть на местность и угадать завтрашнюю пого¬
ду. Ветер почти стих, между крышами виднелось черное
небо, на нем влажным блеском мерцали яркие звездочки.
143
Только он хотел отодвинуться и захлопнуть оконце, как
вдруг осветилось точно такое же в доме напротив. Он раз¬
глядел маленькую низкую каморку, во всем подобную его
собственной, и дверь, в которую только что вошла моло¬
денькая служанка; в правой руке она несла свечу в медном
подсвечнике, а в левой держала кувшин с водой, который
тут же опустила на пол. Она осветила узкую девичью кро¬
вать, скромную и опрятную, уютно застланную грубошерст¬
ным красным одеялом. Затем поставила подсвечник — от
Кнульпа ускользнуло, куда именно, — уселась на низкий,
выкрашенный зеленой краской сундучок, какой непременно
есть у каждой служанки.
Как только перед его глазами начала разыгрываться эта
неожиданная сцена, Кнульп загасил свою лампу, чтобы его
не приметили, и выжидающе притаился у окошка.
Молодая девушка из каморки напротив была как раз то¬
го типа, который ему особенно нравился: лет восемнадцати¬
девятнадцати, не слишком высокая, с загорелым личиком,
карими глазами и густыми темными волосами. Спокойное
славное лицо ее выглядело, однако, невеселым, и вся она,
притулившаяся на жестком зеленом сундучке, казалась та¬
кой пришибленной и унылой, что Кнульп, хорошо знавший
жизнь и молодых женщин, догадался, что девушка эта со
своим сундучком недавно на чужбине и тоскует по дому.
Она сложила на коленях худые смуглые руки и, по-видимо¬
му, находила некоторое утешение в том, чтобы перед сном
посидеть спокойно на своем добре и повспоминать об уют¬
ной горнице в родимом доме.
Кнульп замер у окошка так же неподвижно, как и она в
своей каморке, и со странным волнением всматривался в эту
маленькую чужую жизнь, которая столь простодушно пря¬
тала свою трогательную грусть в тусклом свете огарка и не
помышляла ни о каком зрителе. Приветливые карие глаза
ее то глядели прямо, то затенялись длинными пушистыми
ресницами, на смуглые, детски округленные щеки ложился
красноватый отблеск, а худые юные руки, такие натружен¬
ные и усталые, все медлили, казалось, выполнить послед¬
нюю назначенную на сегодня нетрудную работу — раздеть
свою хозяйку — и неподвижно лежали на темно-синей хол¬
щовой юбке.
Наконец девушка вздохнула и подняла головку с тяже¬
лыми, сколотыми узлом косами, задумчиво, но не менее оза¬
144
боченно уставившись в пустоту, и низко наклонилась, чтобы
развязать шнурки на ботинках.
Кнульпу не хотелось уходить, но продолжать наблюде¬
ние, в то время как бедная девушка собралась раздеваться,
казалось ему непорядочным и даже жестоким. Он охотно бы
ее окликнул, поболтал перед сном и утешил доброю шуткой,
но он боялся, что она испугается и сразу же погасит свет,
как только он что-нибудь крикнет.
Вместо этого он решил пустить в ход один из своих мно¬
гочисленных талантов. Он начал свистеть, необыкновенно
мелодично и нежно, как будто издалека, и насвистывал он
песенку «Там, на лугу зеленом, все мельница шумит»*, и
песня эта звучала у него так нежно и так мелодично, что
девушка заслушалась, даже не сознавая толком, что это и
откуда, и только на третьем куплете выпрямилась, встала и
подошла к окну.
Она высунула голову и прислушалась: Кнульп между
тем продолжал свистеть. Некоторое время она покачивала
головкой в такт, затем вдруг взглянула вверх и сразу поня¬
ла, откуда исходит музыка.
— Там кто-то есть? — вполголоса спросила она.
— Всего только подмастерье дубильщика, — последовал
столь же тихий ответ. — Я не хотел бы мешать вам уснуть,
барышня, просто я немного загрустил о доме и вспомнил
песенку. Я знаю и другие — повеселее. Девонька, а ты тоже
нездешняя?
— Я из Шварцвальда.
— Вот так удача, из Шварцвальда! И я оттуда, оказыва¬
ется, мы земляки. Как тебе нравится в Лехштеттене? Мне
не слишком.
— Ой, пока я ничего не могу сказать, я здесь только
восьмой день. Но мне тоже не очень нравится. А вы здесь
давно?
— Всего три дня. Но землякам положено говорить друг
другу ты, не так ли?
— Нет, я не могу, мы ведь еще совсем незнакомы.
— Это дело недолгое. Как говорится, гора с горой не
сходится, а уж человек с человеком... Откуда же вы родом,
фрейлейн?
— Да вы, наверно, и не слыхали.
— Как знать... Или это секрет?
— Из Ахтхаузена. Это всего только хутор.
145
— Красивый хутор, верно? Перед ним на повороте стоит
часовенка, а еще там есть мельница или лесопилка, не по¬
мню: у них живет большой такой рыжий сенбернар. Точно
я говорю?
— Ну да, это Белло!
Когда она увидела, что он и вправду знает ее родные
места и бывал там, недоверие и подавленность почти тотчас
ее покинули, она оживилась и охотно вступила в беседу.
— А Андреаса Флика вы знаете? — быстро спросила
она.
— Нет, я никого оттуда не знаю. Но держу пари, что это
ваш батюшка.
— Верно.
— Так, значит, вас зовут барышня Флик; если бы мне
знать еще ваше имя, я бы мог послать вам открытку, коща
опять забреду в Ахтхаузен.
— А вы уже собираетесь отсюда уходить?
— Нет, не собираюсь, хочу только узнать ваше имя,
фрейлейн Флик.
— Что вы, ведь и вашего я тоже не знаю...
— Сожалею, но это легко исправить. Меня зовут Карл
Эберхард, теперь, если мы встретимся среди бела дня, вы
знаете, как меня окликнуть. А как мне вас величать?
— Барбара.
— Спасибо, вот и познакомились. Однако имечко ваше
выговорить нелегко, бьюсь об заклад, что дома вас кличут
Бербели.
— Точно так. Если вы все знаете, зачем тоща спрашива¬
ете? Ну ладно, пора и прощаться. Спокойной ночи, дубиль¬
щик.
— Спокойной ночи, фрейлейн Бербели. Спите сладко,
и, раз уж вы тут, просвищу для вас еще одну песенку. Не
убегайте, денег это не стоит.
И он принялся насвистывать, исполнив такую искусную
мелодию на тирольский манер, с двойными нотами и треля¬
ми, что она вся сверкала и искрилась, как плясовая музыка.
Девушка подивилась такой вертуозности и, коща все замол¬
кло, осторожно закрыла и заперла на задвижку ставень, а
Кнульп впотьмах удалился в свою каморку.
На следующее утро Кнульп пробудился в самом бодром
настроении и сразу же воспользовался бритвой дубильщика.
Тот уже несколько лет как отпустил бороду, бритва так за¬
тупилась, что Кнульпу пришлось чуть ли не полчаса пра¬
146
вить ее на своем ремне, прежде чем ему удалось наконец
побриться. Когда он с этим справился, он надел куртку,
взял в руки башмаки и спустился в кухню, ще было уже
натоплено и откуда доносился аромат кофе.
Он попросил хозяйку дать ему ваксу и сапожную щетку,
чтобы почистить башмаки, но она горячо запротестовала:
«Да как же можно! Это не мужская работа. Позвольте уж
мне». Он ей, однако, не позволил и, коща она с неловкой
улыбкой все же подала ему сапожные принадлежности, при¬
нялся делать свое дело основательно, аккуратно, играючи,
как человек, который берется за физическую работу редко
и под настроение, но зато уж исполняет ее с великим тща¬
нием и любовью.
— Вот такую работу люблю, — похвалила его жена ду¬
бильщика. — Все блестит и сверкает, будто вы сейчас со¬
брались на свидание с милой.
— Да я бы не прочь.
— Еще бы. Небось, она у вас симпатичная. — Опять
засмеявшись, она спросила с настойчивой фамильярностью: —
Может, и не одна?
— Нет, это было бы нехорошо, — с веселым осуждени¬
ем, в лад ей отвечал Кнульп. — Да я могу и карточку пока¬
зать.
Она с любопытством подошла ближе, он же, вытащив из
кармана свой клеенчатый пакет, отыскал в нем изображение
Дузе. С жадным интересом хозяйка разглядывала фото.
— Выглядит очень благородно, — осторожно похвалила
хозяйка. — Настоящая дама. Конечно, немного тоща. А она
у вас не больна?
— Насколько мне известно, нет. А теперь пойдемте по¬
здороваемся с хозяином, я слышу, он уже встал.
Он прошел в горницу и обменялся приветствиями с ду¬
бильщиком. Там было чисто подметено, светлые деревянные
панели, часы, зеркало и фотографии на стенах придавали
комнате обжитой и приветливый вид. «Какая приятная ком¬
ната, — подумал Кнульп, — славно, должно быть, здесь
зимой, но из-за этого жениться... пожалуй, что не стоит».
Благосклонность, которую выказывала ему хозяйка, явно
его тревожила.
Выпили кофе с молоком, после этого мастер Ротфус по¬
вел Кнульпа во двор и в сараи, чтобы показать ему свою
дубильную мастерскую. Кнульп разбирался почти во всех
147
ремеслах, его разумные, свидетельствующие о понимании
вопросы удивили друга.
— Откуда тебе все это известно? — искренне недоумевал
он. — Можно подумать, ты и впрямь подмастерье дубиль¬
щика или был им прежде.
— Коща странствуешь, чему не научишься, — степенно
обронил Кнульп. — А что касается дубильного дела, тут ты
сам был моим учителем, разве не помнишь? Шесть или семь
лет назад, когда мы бродяжничали с тобой, ты мне все это
рассказывал.
— И ты запомнил?
— Кое-что, Ротфус. А теперь не хочу тебе больше ме¬
шать. Жаль, я охотно бы тебе помог, но здесь так сыро и
душно, а я все еще кашляю. До вечера, старина. Пойду
поброжу по городу, пока нет дождя.
Когда он вышел со двора и неторопливой своей походкой
зашагал переулком по направлению к рыночной площади,
сдвинув на затылок коричневую шляпу, Ротфус, стоя в во¬
ротах, долго смотрел, как легко и весело он шагает, блестя
башмаками и заботливо обходя лужи.
«Неплохо ему живется», — подумал мастер не без зави¬
сти. Направляясь к яме с квасцами, он все продолжал раз¬
мышлять о чудаке друге, который хочет от жизни одного:
быть зрителем; и Ротфус все не мог решить, что это —
скромность или притязательность. Человеку, который рабо¬
тает и всего достигает собственным трудом, конечно, во мно¬
гих отношениях лучше, но, с другой стороны, у него никог¬
да не будет таких нежных, холеных рук, такой легкой, уп¬
ругой походки. Нет, Кнульп прав, он живет, как требует его
натура и как редко кому удается, он простодушен, как дитя,
и покоряет сердца, он одаривает комплиментами девушек и
женщин и каждый день превращает в праздник. Пусть жи¬
вет, как хочет, а ежели ему придется туго и потребуется
крыша над головой, так надо за честь считать приютить его
у себя и еще быть благодарным судьбе, ибо человек этот
вносит в дом ясность и радость.
Тем временем гость весело и с любопытством осматривал
город, лихо насвистывая солдатский марш; не спеша, обсто¬
ятельно разыскивал места и людей, которых знавал прежде.
По круто вздымавшейся вверх дороге он поднялся в пред¬
местье, где у него был знакомый портняжка, влачивший
жалкое существование; никоща он не мог получить выгод¬
ных заказов и вечно латал старые штаны, хотя в юности
148
кое-что умел, на многое надеялся и работал в солидных ма¬
стерских. Но он рано женился, пошли один за другим дети,
а жена не очень-то ловко справлялась с хозяйством.
Портняжку по имени Шлотербек он отыскал на четвер¬
том этаже в одном из задних дворов предместья. Маленькая
мастерская под самой крышей висела над бездной, как
птичье гнездо, потому что дом стоял на самом откосе, и если
глядеть из окна, то глазу представали не только три этажа,
но и крутой обрыв с отвесными садиками и травянистыми
склонами, а ниже — серый лабиринт захламленных дворов
с флигельками, курятниками, сарайчиками для коз и клет¬
ками для кроликов, так что ближайшие крыши домов видны
были дальше этого запущенного участка, уже глубоко в до¬
лине, и казались совсем маленькими. Зато в портняжной
мастерской было много света и вольно дышалось, и прилеж¬
ный Шлотербек, сидя по-турецки на широком стуле, парил
над миром, как смотритель на маяке.
— Привет, дружище, — входя, приветствовал его
Кнульп, и мастер, щурясь от яркого света, некоторое время
молча разглядывал вошедшего.
— О, да это Кнульп! — воскликнул он наконец, проси¬
яв, и протянул гостю руку. — Опять в наших краях? Инте¬
ресно, чего это тебе понадобилось, не зря же ты забрался на
лмою верхотуру.
Кнульп придвинул к себе трехногий табурет и основа¬
тельно на нем уселся.
— Одолжи мне иглу и коричневую нитку потоньше, я
хочу кое-что подштопать и привести в порядок.
С этими словами он стянул с себя куртку и жилетку,
подобрал нитку, вдел ее в иглу и зоркими глазами тщатель¬
но осмотрел свое платье, которое выглядело еще очень при¬
стойным, почти что новым. Каждую будущую прореху, ос¬
лабевшую петлю, готовую оторваться пуговицу он закрепил,
приладил прилежными ловкими пальцами.
— Как дела-то? — спросил Шлотербек. — Время года
сейчас не из лучших. Но в конце концов, если человек здо¬
ров и нет семьи...
Кнульп протестующе кашлянул.
— Да, да, — начал он легко и небрежно. — Сказано
ведь, Господь посылает дождь на праведных и неправед¬
ных , только портняжки сидят в тепле. А тебе по-прежнему
не везет, Шлотербек?
149
— Ах, Кнульп, что я могу тебе сказать? Слышишь, за
стеной орут ребятишки, их у меня уже пятеро. Сидишь тут,
надрываешься с утра до ночи, а денег все равно ни на что
не хватает. А ты все разгуливаешь?
— Не угадал, старина. Четыре или пять недель прова¬
лялся в больнице в Нейштадте, а они там, сам знаешь, дер¬
жат, только покуда крайняя нужда, не дольше. Да, поисти-
не неисповедимы пути Господни, дружище Шлотербек!
— Ах, брось ты эти свои изречения!
— Ты что, все былое благочестие растерял? А меня как
раз потянуло на благочестие, потому-то я к тебе и пришел.
Как у тебя с этим, старина Шлотербек?
— Оставь меня в покое с твоим благочестием! Ишь ты,
пролежал в больнице. Сочувствую.
— Не стоит, уже прошло. А теперь ответь: как это там
говорится в Книге сына Сирахова и в Откровении Иоанна?
Знаешь, в больнице у меня было вдосталь времени, и Биб¬
лия была под рукой, я почти все прочитал, могу теперь ве¬
сти с тобой диспут. Ох и забавная же это книга, Библия!
— Вот тут ты прав. В самом деле забавная, и больше
половины вранья, потому что одно с другим не сходится. Да
ты, верно, лучше меня во всем этом разбираешься, ты ведь
был в гимназии.
— Давно все забыл.
— Видишь ли, Кнульп... — Портной плюнул за окно в
бездну и затем поглядел вниз ожесточенно и с досадой. —
Видишь ли, Кнульп, ни черта не стоит все это благочестие.
Ни черта, я плюю на него, говорю тебе честно! Плевать я на
него хотел!
Бродяга задумчиво глядел на него.
— Так-так, крепко сказано, старина. Но сдается мне, в
Библии есть и неглупые вещи.
— Это верно, но полистай дальше и наткнешься на пря¬
мо противоположное. Нет, я с этим покончил, раз и на¬
всегда.
Кнульп встал и поискал глазами утюг.
— Не подкинешь ли мне уголька? — попросил он.
— Зачем?
— Хочу подгладить куртку, да и шляпе моей это не по¬
вредит после всех дождей.
— Как всегда, с иголочки, — с некоторой даже досадой
заметил Шлотербек. — И чего, спрашивается, прихораши¬
150
ваешься, словно граф, если сам всего-навсего нищий бродя¬
га!
Кнульп спокойно улыбнулся.
— Просто так красивее, и у меня от этого лучше на душе.
А не хочешь помочь из благочестия, так помоги просто как
добрый малый, по старой дружбе, идет?
Портной ненадолго вышел и вернулся с раскаленным
утюгом.
— Вот и хорошо, — обрадовался Кнульп. — Спасибо
тебе.
Он начал осторожно разглаживать края шляпы, но, по¬
скольку справлялся он с этим неважно, не так, как прежде
со штопкой, портной выхватил у него утюг и сделал все сам.
— Это мне по нраву, — благодарно сказал ему Кнульп. —
Опять шляпа прямо-таки воскресная. Но послушай, порт¬
ной, от Библии ты требуешь слишком многого. Что есть
истина, как жить на свете — до этого каждый должен дойти
сам, из книг этого не вычитаешь — вот каково мое мнение.
Библия — книга древняя, раньше не знали всего того, что
знают и могут теперь; но есть в ней и очень много прекрас¬
ного и честного, очень много справедливого. Знаешь, порою
она мне кажется вроде детской книжки с картинками: вот
девушка Руфь бредет через поле* и подбирает колоски —
как это славно, так и чувствуешь лето, жару; или Спаситель
присаживается к детишкам и думает про себя: насколько
же вы мне милее, чем взрослые с их чванством! Думаю,
здесь-то он прав, этому у него можно поучиться.
— Да, вероятно, — нехотя согласился Шлотербек, все
еще не желая сдаваться. — Но все же насколько проще
иметь дело с чужой ребятней, чем со своими, да еще коща
их пятеро и не знаешь, чем их накормить.
Он снова ожесточился, и Кнульпу было тяжело на него
смотреть. Ему захотелось на прощание сказать портняжке
что-нибудь доброе. Он немного подумал, затем наклонился
к Шлотербеку, поглядел на него своими светлыми серьезны¬
ми глазами и тихонько прошептал:
— Послушай, ты их совсем не любишь, что ли, своих
ребятишек?
Портной испуганно от него отпрянул.
— С чего ты взял? Люблю, конечно, особенно старшего.
Кнульп удовлетворенно кивнул.
— Ну, мне пора, Шлотербек, очень тебе благодарен. Жи¬
летка прямо как новая. А с детьми я тебе посоветую вот что:
151
будь с ними поласковее, повеселее — и они уже наполовину
сыты. А еще я тебе кое-что расскажу, чего никто на свете не
знает и что ты должен хранить в секрете.
Его светлые глаза смотрели серьезно, он говорил так ти¬
хо, что покоренный им мастер с трудом различал слова.
— Погляди на меня! Ты, верно, мне завидуешь и дума¬
ешь про себя: ему-то легко, ни семьи, ни забот! На самом
деле все обстоит не так. Представь себе, у меня есть сын,
двухлетний мальчуган, его усыновили чужие люди, потому
что никто не знал, кто его отец, а мать померла родами. Тебе
не требуется знать, в каком это городе, но я знаю, и, коща
прихожу туда, я прокрадываюсь к тому дому, часами стою
у забора и, ежели мне очень повезет и я увижу малыша, не
смею даже протянуть ему руку и поцеловать, самое большее —
мимоходом что-нибудь ему просвищу. Да, вот так-то, а те¬
перь адью, и радуйся, что твои дети с тобой!
Кнульп продолжал бродить по городу; он постоял у окна
столярной мастерской, любуясь, как быстро разлетаются в
стороны кудрявые стружки, поприветствовал мимоходом
помощника полицейского, который благоволил к нему и да¬
же дал ему понюхать табачку из своей березовой табакерки.
Повсюду он собирал большие и малые новости из жизни
семей и цехов, услышал о безвременной кончине жены го¬
родского казначея, о том, какой непутевый сын у бургоми¬
стра, а взамен рассказывал истории про другие места и ра¬
довался слабым причудливым нитям, которые, оказывается,
связывают его как знакомца и посвященного с миром изве¬
стных и почтенных людей. День был субботний, в воротах
пивоварни он наткнулся на подмастерьев бочара и захотел
у них узнать, не будет ли сегодня или завтра вечером случай
потанцевать.
Сколько угодно, а лучшее место — трактир «Лев» в Гер-
тельфингене, всего полчаса ходу. Именно туда он и решил
пригласить юную Бербели из дома напротив.
Время уже близилось к обеду, и, коща Кнульп подни¬
мался по лестнице Ротфуса, в нос ему ударил приятный
щекочущий аромат из кухни. Он остановился и радостно, с
мальчишеским любопытством втянул в себя воздух чуткими
ноздрями. Как ни тихо он вошел, его услышали, жена мас¬
тера распахнула кухонную дверь и стала в светлом проеме,
окутанная заманчивыми парами.
152
— Здравствуйте, здравствуйте, господин Кнульп, — ла¬
сково заговорила она. — Как удачно, что вы пришли вовре¬
мя. Видите ли, у нас сегодня на обед печеночные клецки, и
я подумала: может, вам поджарить отдельно кусочек печен¬
ки, если вы так больше любите? Что скажете?
Кнульп погладил подбородок и галантно поклонился.
— Да нет, упаси Бог, зачем мне готовить особо, мне и
супа за глаза довольно.
— Коща человек болен, его надобно хорошо кормить.
Откуда он иначе возьмет силы? Но, может, вы вообще не
любите печенку? Есть и такие.
Он скромно улыбнулся.
— Нет, я не из них, миска печеночных клецок — это же
праздничная еда, дай Бог мне каждое воскресенье такую.
— У нас вы не должны ни в чем нуждаться. Зачем же
тоща было учиться стряпать? Но ответьте мне все же; вот
кусочек печенки, я для вас его сберегла. Это бы вам не
повредило.
Женщина подошла ближе и зазывно поглядела ему пря¬
мо в глаза. Он понимал, к чему это ведет, и была она к тому
же прехорошенькой, но он делал вид, что ничего не пони¬
мает. Поигрывая своей красивой шляпой, которую ему так
отлично отгладили, он смотрел в сторону.
— Спасибо, сударыня, на добром слове. Но клецки я,
право же, люблю больше. Я уж и так вами разбалован.
Она засмеялась и погразила ему пальцем.
— Не надо прикидываться таким тихоней, я вам не верю.
Значит, пусть будут клецки, и лучку побольше, так?
— Отказаться свыше моих сил.
Она озабоченно вернулась к плите, а он прошел в горни¬
цу, ще все уже было накрыто. Он сидел там и читал вче¬
рашний еженедельник, пока не пришел мастер и не подали
супа. Поели, потом втроем перекинулись в карты; Кнульп
привел в изумление хозяйку новомодными ловкими и зани¬
мательными карточными фокусами. Он умел также с не¬
брежностью заправского игрока тасовать и сдавать карты,
бросал карту на стол с элегантной легкостью, и время от
времени его большой палец лихо перебирал карты, скользя
по краю колоды. Мастер смотрел на это с восхищением и
снисходительностью, подобно тому как рабочий или бюргер
глядит на любое не приносящее заработка уменье. Жена его,
напротив, оценивала все проявления светских талантов
Кнульпа увлеченно и со знанием дела. Ее взгляд беспрестан¬
153
но останавливался на его длинных белых кистях рук, не
изуродованных тяжелой работой.
Сквозь маленькие оконца в комнату неуверенно проби¬
вался вечерний солнечный луч, падал на стол и на карты,
причудливо и бессильно перемежал светлые блики на полу
с серыми расплывчатыми тенями, подрагивал легкими пау¬
тинками на голубом оштукатуренном потолке. Кнульп жму¬
рился, вбирая в себя все это взглядом: игру февральского
солнца, уют тихого дома, честное, достойное лицо мастера
Ротфуса и тайные взгляды, которые бросала на него хоро¬
шенькая жена друга. Последнее его не радовало, он отнюдь
к этому не стремился. «Был бы я только здоров, — думал
он, — да лето бы на дворе стояло — и часу бы здесь не
остался».
— Пойду захвачу последнее солнышко, — сказал он,
коща Ротфус смешал карты и посмотрел на часы. Вместе с
мастером он спустился по лестнице, оставил его в сарайчи¬
ке, где сушились кожи, и побрел в глубь пустынного участ¬
ка, заросшего травой, на котором там и сям чернели ямы с
дубильным раствором. Добравшись до небольшой речки,
ще дубильщик соорудил мостки для замачиванья кож,
Кнульп уселся на досках, свесив ноги над привольно и бы¬
стро текущей водой, и с удовольствием наблюдал за юркими
темными рыбешками, которые сновали прямо под ним, а
затем стал с любопытством изучать местность, так как искал
возможность повстречаться с молоденькой служанкой из со¬
седнего дома.
Участки двух домов вплотную примыкали друг к другу,
разделенные лишь шатким заборчиком из штакетника; вни¬
зу, у воды, ще столбы давно уже подгнили и упали, можно
было беспрепятственно проникнуть к соседям. Соседский
участок казался более ухоженным по сравнению с пустын¬
ным, заросшим травой участком дубильщика. Там видне¬
лись четыре грядки, на которых господствовали сорняки;
грядки сильно осели, как всеща бывает после зимы. На
двух из них торчали редкие кустики латука и перезимовав¬
шего шпината; розовые кусты стояли поникшие, с вкопав¬
шимися в землю верхушками. Перед самым домом, скрывая
его от посторонних взглядов, росло несколько живописных
сосен.
Кнульп, осмотрев чужой сад, бесшумно вторгся в него,
прошел до самых сосен и теперь, стоя между деревьями, мог
разглядеть дом, кухню, выходящую во двор, и не прошло и
154
нескольких минут, как он увидел девушку с засученными
рукавами, исполнявшую кухонную работу. Хозяйка была
тут же, она беспрестанно отдавала приказы и поучала, как
это водится у всех хозяек, не желающих оплачивать обучен¬
ную прислугу и берущих ежегодно сменяющихся учениц,
которых они усердно нахваливают после их ухода. Ее вор¬
котня и сетования звучали, однако, довольно беззлобно, ка¬
залось, девушка к ним уже привыкла, так как она спокойно
и с ясным лицом продолжала делать свое дело.
Незваный гость прислонился к стволу и вглядывался,
вытянув голову, любопытный и чуткий, как охотник; он
прислушивался терпеливо и без досады, ибо время его сто¬
ило дешево и он давно уже привык к своей роли — быть в
жизни только слушателем, зрителем, посторонним. Ему бы¬
ло приятно глядеть на девушку, коща она показывалась в
окне; по выговору хозяйки он заключил, что родом она не
из Лехштеттена, а из долины повыше, часах в двух пути.
Он стоял неподвижно, жевал пахучую сосновую веточку,
стоял полчаса и час, покуда хозяйка не удалилась из кухни
и все#не затихло.
Он выждал еще немного, затем осторожно двинулся впе¬
ред и постучал сухой веткой в окно кухни. Служанка не
обратила на это внимания, пришлось постучать еще дважды.
Тоща она подошла к приоткрытому окну, распахнула его и
выглянула наружу.
— Ой, да что вы тут делаете? — вполголоса воскликнула
она. — Я чуть было не испугалась, право.
— Чего меня бояться? — улыбаясь сказал Кнульп. —
Хотел поздороваться с вами и посмотреть, как идут дела. И
поскольку сегодня суббота, осмелюсь спросить: если вы за¬
втра вечером свободны, то не согласитесь ли со мною немно¬
го прогуляться?
Она взглянула на него и отрицательно покачала головой,
а он в ответ состроил такое безнадежно огорченное лицо, что
ей сделалось его жалко.
— Нет, — дружелюбно объяснила она. — Завтра я не
свободна — только утром есть немного времени, чтобы схо¬
дить в церковь.
— Так, — пробормотал он. — Тоща, может, сегодня
вечером увидимся, сегодня-то вы свободны?
— Сегодня вечером? Да, я свободна, но я собираюсь еще
писать письмо моим старикам.
155
— Напишете попозднее, какая разница. Знаете, мне так
бы хотелось опять с вами поговорить; сегодня вечерком, ес¬
ли только хляби небесные не разверзнутся, мы бы славно
погуляли. Ну пожалуйста, ну будьте так добры! Вы же меня
не боитесь?
— Не боюсь я никого, а уж вас тем паче. Только нельзя.
Увидят, что я с мужчиной...
— Но Бербели, вас же здесь никто не знает. И никакой
это не грех, и никому до нас дела нет. Вы ведь уже не
школьница, разве не так? Не забудьте, ровно в восемь жду
вас у гимнастического зала, где ограда скотного рынка. Или
мне пораньше прийти? Я могу.
— Нет, нет, не раньше. Вообще... не надо вам вовсе при¬
ходить, не смогу я, нельзя...
У него снова сделалось по-мальчишески огорченное
лицо.
— Ну, уж если никак не можете, — сказал он печально. —
А я-то думал, вы здесь одна, на чужой стороне, я тоже один,
нам нашлось бы что рассказать друг другу; я бы с удоволь¬
ствием послушал еще про Ахтхаузен — я ведь там был. Ну
что же, принудить я вас не могу, и вы тоже на меня не
обижайтесь.
— Что вы, я совсем на вас не обижаюсь. Только я никак
не могу.
— Но вы же свободны сегодня вечером, Бербели. Вы
просто не хотите. Может, еще передумаете? Сейчас мне по¬
ра, а вечером жду вас у зала; если не придете, поброжу один
и буду думать про вас, как вы пишете письмо в Ахтхаузен.
Адью, не поминайте лихом.
Он кивнул ей и исчез, прежде чем она успела ответить.
Она заметила только, как он быстро мелькнул между де¬
ревьями, и выражение лица у нее сделалось растерянным.
Затем она снова принялась за работу и вдруг — хозяйки-то
близко не было — громко и мелодично запела.
Кнульп это слышал. Он снова сидел на мостках на уча¬
стке дубильщика и скатывал хлебные шарики из того ломтя,
что припрятал за обедом. Шарики он тихонько бросал в
воду, один за другим, и задумчиво следил, как они медленно
погружались, слегка относимые течением, и как у самого
темного дна их хватали бесшумные призрачные рыбы.
— Итак, — объявил дубильщик во время ужина, — се¬
годня у нас суббота, ты и представить себе не можешь, как
156
это прекрасно, после того как всю неделю не даешь себе
передышки.
— Представить-то я могу, — улыбнулся Кнульп, и хо¬
зяйка подхватила его улыбку, бросив на него исподтишка
лукавый взгляд.
— Сегодня вечером, — продолжал дубильщик торжест¬
венным тоном, — сегодня вечером мы разопьем добрый кув¬
шин пива — ты ведь поднесешь нам, старушка? А завтра,
если погода будет хорошая, мы все втроем отправимся на
прогулку. Что скажешь?
Кнульп дружески похлопал его по плечу.
— Скажу, что ты все отлично придумал, я заранее раду¬
юсь прогулке. Но вот сегодня вечером, знаешь, к сожале¬
нию, я занят: у меня здесь есть друг, я непременно должен
его повидать — он работал в верхней кузне и утром уходит
из города. Мне, право, жаль, но ведь завтра мы целый день
будем вместе, иначе я бы все отменил.
— Но не пойдешь же ты сейчас к нему, на ночь глядя,
ты ведь еще и не выздоровел.
— Пустое, слишком разнеживать себя тоже не годится.
Я вернусь не поздно. А куда вы кладете ключ, чтобы можно
было попасть в дом?
-— Ну и упрям же ты, Кнульп! Ладно уж, иди, а ключ
мы положим за ставнем. Знаешь, ще это?
— Конечно. Ну так я пойду. Ложитесь спать вовремя.
Спокойной ночи! Спокойной ночи, сударыня!
Он вышел, и, когда уже был в воротах, хозяйка тороп¬
ливо его догнала. Она принесла зонтик,.Кнульп непременно
должен его взять, желает он того или нет.
— Вам надобно поберечь себя, Кнульп, — сказала она. —
А теперь я вам покажу, где будет лежать ключ.
В темноте она взяла его за руку и повела за угол дома,
остановившись перед подвальным окошком, прикрытым де¬
ревянным ставнем.
— Вот здесь мы кладем ключ, — сказала она взволно¬
ванным шепотом и легонько погладила его руку. — Нужно
только просунуть пальцы в прорезь, он лежит на карнизе.
— Вот как, большое спасибо, — смущенно ответил
Кнульп, пытаясь освободить руку.
— Принести вам пива наверх перед вашим приходом? —
снова зашептала она, легонько к нему прижимаясь.
157
— Нет, благодарю покорно, я обычно не пью на ночь
пива. Спокойной ночи, госпожа Ротфус, еще раз большое
спасибо. -
— Чего это вам так не терпится? — сказала она нежным,
укоряющим шепотом и ущипнула его за руку. Ее лицо при¬
двинулось сейчас совсем близко к его лицу, и в неловкой
тишине, не решаясь применить силу, он провел рукой по ее
волосам.
— Ну, а теперь мне пора, — внезапно громко объявил
он и отступил назад.
Она улыбнулась, слегка приоткрыв рот, он видел, как во
тьме белеют ее зубы. Совсем тихо она сказала: «Я подожду,
пока ты вернешься. Ты милый».
Он быстро зашагал прочь по темной улице, зажав зонтик
под мышкой; на ближайшем перекрестке он засвистел, что¬
бы освободиться от дурацкого смущения. Насвистывал он
такую песню:
Ты ждешь меня напрасно,
Тебе я не гожусь.
С тобою, распрекрасной,
И выйти постыжусь .
Воздух был все еще теплый, сырой, на черном небе вре¬
менами проступали звезды. В трактире шумел молодой на¬
род в преддверии воскресенья, в «Павлине» в окнах нового
кегельбана он увидал много господ: они толпились, засучив
рукава, взвешивая на руке шары, зажав в зубах сигары.
У гимнастического зала Кнульп остановился и оглядел¬
ся. В голых каштанах глухо гудел сырой ветер, где-то в
черной тьме неслышно текла река и слабо отражала два-три
светлых окошка. Бродяга всеми фибрами души впивал в
себя благодать этого теплого вечера; принюхиваясь, втяги¬
вал в себя воздух, предвкушая весну, тепло, сухие дороги и
новые странствия. Его неисчерпаемая память озирала город,
долину реки, округу — он знал ее всю, — дороги и русла
рек, деревни, хутора и усадьбы, гостеприимные ночлеги. Он
напряженно все обдумывал, составляя в уме план ближай¬
шего странствия, ибо его пребыванию в Лехштеттене при¬
шел конец. Ему только хотелось, если хозяйка не будет
слишком уж назойлива, провести здесь ради друга еще это
последнее воскресенье.
158
«Может быть, — думал он, — следовало бы намекнуть
дубильщику насчет его женушки». Но он не любил вмеши¬
ваться в чужие дела, не стремился помочь людям сделаться
умнее и лучше. Ему было жаль, что все так вышло, и думал
он о бывшей кельнерше из «Быка» без всякой приязни; в то
же время он с легкой насмешкой припоминал и степенные
речи дубильщика о домашнем очаге и семейном счастье. Он
уже знал: если кто кичится и похваляется счастьем или до¬
бродетелью, значит, пиши пропало: ведь и с благочестием
его друга портняжки когда-то было то же самое. Можно
наблюдать людскую глупость, можно смеяться над ней или
чувствовать к ней сострадание,- но не надо мешать людям
идти своей дорогой.
С задумчивым вздохом он отстранил от себя эти заботы
и, втиснувшись в дупло старого каштана, что рос прямо на¬
против моста, продолжал обдумывать предстоящее путеше¬
ствие. Хорошо бы постранствовать по Шварцвальду, но, по¬
жалуй, в горах еще холодно и много снегу, чего доброго,
погубишь башмаки, да и возможные пристанища располо¬
жены там далеко друг от друга. Нет, ничего из этого не
выйдет, .придется идти долинами и держаться поближе к
городам. На Оленьей мельнице, часа четыре отсюда вниз по
реке, наверняка приютят его и в случае ненастья позволят
задержаться на день-другой.
Пока он стоял как во тьме, погруженный в свои думы,
почти позабыв, что кого-то ждет, посередине моста на сквоз¬
ном ветру показалась маленькая боязливая фигурка и нача¬
ла робко приближаться. Он узнал ее сразу, радостно и бла¬
годарно побежал ей навстречу и снял шляпу.
— Как славно, что вы пришли, Бербели! Я уж почти не
надеялся.
Он пристроился слева от нее и повел ее вверх по аллее
берегом реки. Она все еще не могла прийти в себя от сму¬
щения и робости.
— Не надо бы мне приходить, — снова и снова повторя¬
ла она. — Хоть бы никто нас не встретил!
У Кнульпа, однако, было множество вопросов на языке,
и постепенно походка девушки сделалась ровнее и смелее,
наконец она зашагала рядом с ним легко и бодро, как ста¬
рый товарищ; согретая его вопросами и участливыми репли¬
ками, она горячо и жадно рассказывала ему о родных мес¬
тах, об отце с матерью, о братце и о бабушке, об утках и
курах, о недороде и болезнях, о свадьбах и об освящении
159
церкви. Ее-небольшой запас жизненных впечатлений рас¬
крылся и оказался куда обширнее, чем она сама предпола¬
гала, и вот уже дело дошло до ее найма на работу, прощания
с домом, до ее теперешнего места и привычек хозяев.
Они давно вышли из городка, но Бербели этого не заме¬
тила — она вовсе не обращала внимания на дорогу. Болтая,
она как бы освобождалась от гнета долгой беспросветной
недели молчания и терпения в чужом доме и постепенно
совсем развеселилась.
— Г^е это мы? — вдруг воскликнула она с удивлением. —
Куда мы идем?
— Если вы не возражаете, мы идем в Гертельфинген,
почти что пришли.
— Гертельфинген? А что нам там делать? Не лучше ли
порернуть назад, уже поздно.
— Когда вы должны быть дома, Бербели?
— Да в десять, не позднее. Мы так славно прогулялись!
— До десяти еще много времени, —‘сказал Кнульп, —
я уж позабочусь, чтобы вы не опоздали. И раз мы так скоро
снова не встретимся, может, рискнем, станцуем один танец?
Или вы не любите танцевать?
Она взглянула на него изумленно и с любопытством.
— Танцевать-то я очень люблю. Но ще же? Здесь,
ночью, в темноте?
— Как вам уже известно, мы сейчас придем в Гертель¬
финген, а там в трактире «Лев» всегда есть музыка. Мы
можем туда зайти, станцуем один-единственный танец и сра¬
зу домой, будет о чем вспомнить.
Бербели в раздумье остановилась.
— Как бы это было весело, — проговорила она. — Но
что о нас подумают? Я не хочу, чтобы меня сочли за таков¬
скую... или чтобы решили, что мы с вами парочка.
Она вдруг задорно рассмеялась и громко воскликнула:
— Если уж я выберу себе коща-нибудь милого дружка,
он ни за что не будет дубильщиком! Не хочу вас оскорбить,
но у дубильщика такая грязная работа.
— В этом вы, возможно, правы, — добродушно ответил
Кнульп. — Но ведь вы не замуж за меня собираетесь. Да и
ни одна душа не знает, что я дубильщик и что вы такая
гордая; руки я отмыл дочиста, так что, если вы не прочь со
мной потанцевать, я вас приглашаю. Если нет, воротимся
назад.
160
В темноте из-за кустов показался первый дом деревни со
светлым фронтоном. Кнульп вдруг прошептал: «Тс-с!» — и
поднял палец, и они услышали доносившуюся из деревни
музыку — звуки гармоники и скрипки.
— Ну, вперед! — засмеялась девушка, и оба прибавили
шагу.
Во «Льве» танцевали четыре или пять пар, все моло¬
дежь. Кнульп их не знал. Было спокойно и прилично, никто
не докучал незнакомой парочке, вставшей в ряд в начале
очередного танца. Они сплясали лецдлер и польку, затем на
очереди был вальс, который Бербеяи танцевать не умела.
Они смотрели на танцующих и выпили немного пива — на
большее у Кнульпа не хватило наличности.
Бербели разгорячилась от танца и оглядывала маленький
зал блестящими от возбуждения глазами.
— Кажется, теперь нам пора возвращаться, — напомнил
ей Кнульп в половине десятого.
Она встрепенулась и сразу же по1рустнела.
— Как жаль, — сказала она тихо.
— Можно побыть еще немного.
— Нет, нужно идти. Как было чудесно!
Они направились к выходу, в дверях девушка вдруг
вспомнила:
— Мы же ничего не дали музыкантам!
— Да, — несколько смущенно отозвался Кнульп. — Они
заслужили уж не меньше, чем двадцать пфеннигов, но, к
сожалению, дела мои таковы, что у меня и пфеннига нет.
Она засуетилась и вытащила из кармана маленький вы¬
шитой кошелек.
— Что же вы сразу не сказали? Вот двадцать пфеннигов,
дайте им!
Он взял монетку и отнес ее- музыкантам, затем они вы¬
шли и некоторое время стояли у входа, пока в глубокой тьме
не начали различать дорогу. Ветер усилился и приносил
отдельные дождевые капли.
— Раскрыть зонтик? — спросил Кнульп.
— Нет, при таком ветре мы с места не сдвинемся. Как
славно провели время! Дубильщик, а танцуете, как танцмей¬
стер!
Она радостно и непринужденно болтала. Ее спутник, од¬
нако, притих, видимо, устал, а может быть, страшился пред¬
стоящего прощанья.
6 4-161
161
Внезапно она запела: «Кошу я на Неккаре, на Рейне тра¬
ву...» * Голос у нее был грудной и чистый, на втором куплете
Кнульп присоединился к ней и так уверенно повел второй
голос, так низко и красиво, что она слушала его с удоволь¬
ствием.
— Ну что, тоска по дому немножко меньше? — спросил
он в конце.
— Еще бы, — засмеялась она. — Давайте еще разок так
погуляем.
— Очень сожалею, — ответил он совсем уже тихо. — Но
на этом все и закончится.
Она остановилась. Она не все расслышала, но ее поразил
скорбный тон его голоса.
— Но почему же? — спросила она с легким испугом. —
Не угодила я вам чем-нибудь?
— Нет, Бербели. Но завтра я ухожу, я взял уж расчет.
— Да что вы такое говорите? Это правда? Как мне жал¬
ко.
— Обо мне вам жалеть не стоит. Долго я бы все равно
здесь не пробыл, а потом — я ведь всего только дубильщик.
А вы скоро заведете себе милого дружка, самого прехоро-
шего, и тоща вам совсем уже не придется скучать по дому,
вот увидитб.
— Не надо так говорить. Вы же знаете, что вы мне очень
понравились, хоть вы и не мой дружок.
Они помолчали, ветер завывал им прямо в лицо. Кнульп
замедлил шаг. Они были уже у моста. Наконец он совсем
остановился.
— Я хочу здесь с вами попрощаться, так будет лучше.
Здесь уж рядом, дальше доберетесь одна.
Бербели глядела на него с искренним огорчением.
— Значит, вы всерьез говорили. Тоща я хочу вас побла¬
годарить. Я никоща этого не забуду. Желаю вам счастья.
Он взял ее руку и прижал к себе; затем, видя, как она
смотрит на него, испуганно и удивленно, вдруг обхватил
обеими руками ее голову с намокшими от дождя косами и
зашептал:
— Адью, Бербели. На прощанье хочу вас только разочек
поцеловать, чтобы вы меня не сразу забыли.
Она вздрогнула и попыталась освободиться, но его
взгляд был добрым и печальным, и она только теперь заме¬
тила, какие красивые у него глаза. Не зажмуриваясь, она
162
серьезно приняла поцелуй и, поскольку он медлил с рассе¬
янной слабой улыбкой, сердечно поцеловала его в ответ.
Затем быстро пошла прочь н была уже на мосту, но вне¬
запно передумала и возвратилась.
— В чем дело, Бербели? -г спросил он. — Вам пора
домой.
— Да, да, сейчас пойду. Вы не должны думать обо мне
.плохо.
— Я и не думаю.
— Я хочу спросить вас, дубильщик, как же так, вы ска¬
зали, что у вас нет денег. Вы получите еще жалованье до
ухода?
— Нет, жалованья я больше не получу. Но это ничего,
как-нибудь уж обойдусь, не тревожьтесь.
— Нет, нет. Что-нибудь да должно у вас быть про запас.
Вот!
Она сунула ему в руку крупную монету, он почувство¬
вал, что это не меньше чем талер.
— Вы мне сможете отдать коща-нибудь или прислать.
Он задержал ее руку.
— Так не годится, Бербели. Не пристало так обращаться
с деньгами. Подумать только, целый талер! Возьмите обрат¬
но! Нет, непременно! Вот так! Не нужно делать глупости.
Вот если бы у вас была при себе какая-нибудь мелочь —
пфеннигов пятьдесят, я бы взял, у меня сейчас и правда
ничего нет. Но не больше.
Они еще немного поспорили, и Бербели пришлось рас¬
крыть свой кошелек, так как она утверждала, что у нее нет
при себе ничего, кроме талера. Это оказалось неправдой, у
нее была марка и маленькая серебряная монетка в двадцать
пфеннигов, которая тоща еще имела хождение. Он согла¬
сился было взять монетку, но это ей показалось слишком
мало, тоща он вообще отказался что-либо брать и хотел
уйти, но в конце концов взял марку, и она опрометью бро¬
силась бежать к дому.
При этом она все время думала, почему он не пожелал
еще раз ее поцеловать. Это обстоятельство то причиняло ей
огорчение, то, напротив, представлялось особенно добрым
и благородным — на этом последнем она и остановилась.
Час спустя Кнульп возвратился в дом Ротфуса. Он уви¬
дел наверху в горнице свет — это значило, что хозяйка си¬
дит и ждет его. Он даже плюнул с досады и готов был тот¬
час, невзирая на поздний час, уйти прочь. Но он сильно
6*
устал, на дворе собирался дождь, и неприятно было так
обижать дубильщика, а кроме того, он вдруг почувствовал
охоту сыграть небольшую шутку.
Он выудил ключ из укрытия, осторожно, как вор, отпер
входные двери, запер их тихонько, со сжатыми губами, за¬
ботливо положив ключ на прежнее место. Затем поднялся
по лестнице в одних носках, держа башмаки в руке, увидел
полоску света, пробивающуюся из-под двери, и услышал,
как протяжно дышит на канапе хозяйка, заснувшая от дол¬
гого ожидания. Он неслышно пробрался в каморку, тща¬
тельно заперся изнутри и улегся в постель. Но уж завтра,
решено, он уходит.
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О КНУЛЬПЕ
Это было в пору моей прекрасной юности, и Кнульп тог¬
да был ёще жив. Мы странствовали, он и я, не зная забот,
в разгар жаркого лета по плодородной местности. Днем мы
медленно брели вдоль пожелтевших хлебов либо отлежива¬
лись в тени под кустом орешника или на лесной опушке;
вечером я слушал обычно, как Кнульп рассказывал кресть¬
янам удивительные истории, показывал ребятишкам китай¬
ские тени и пел девушкам песни, которых знал без счета. Я
с удовольствием его слушал и нисколько ему не завидовал,
только порой, коща он оживленный стоял в кольце девушек
и смуглое лицо его светилось радостью, а барышни, хоть и
шутили и насмешничали, провожали его упорными взгляда¬
ми, мне казалось, что либо Кнульп редкий счастливчик, ли¬
бо, наоборот, мне особенно не везет, и я незаметно отходил
в сторонку, чтобы не быть в тягость, напрашивался на визит
к какому-нибудь священнику ради умной беседы или ночле¬
га, а то надолго усаживался в трактире, потягивая вино.
Помню, как-то в послеполуденные часы мы подошли к
одинокому кладбищу с часовенкой, затерявшемуся вдали от
деревень, среди полей; оно было окружено каменной сте¬
ной, через которую перевешивались темно-зеленые кусты, и
среди голой жаркой долины от него веяло необыкновенной
прохладой и миром. У решетчатых железных ворот росли
два высоких каштана, ворота были заперты, и я уж хотел
пройти мимо, но Кнульп этому воспротивился. Он проявил
явное намерение перелезть через стену.
164
Я спросил его удивленно:
— Что, снова отдыхаем?
— Именно так, у меня прямо ноги отваливаются.
— И не иначе как на кладбище?
— Самое подходящее место, только полезай за мной. По¬
нимаешь, крестьяне — народ непривередливый, но уж под
землей они хотят лежать со всеми удобствами. Тут они труда
не жалеют и чего только не сажают на могилы и вокруг них.
Я взобрался вместе с ним на стену и увидел, что он прав.
Явно стоило перелезть через эту ограду. Внутри во все сто¬
роны тянулись неровные ряды могил с белыми деревянными
крестами, а вокруг них было такое изобилие зелени — на¬
стоящий цветник. Ярко пламенели вьюнки и герань, в тени¬
стых местах еще доцветали желтофиоли, розовые кусты
были полны роз, а сирень и бузина были высокие и пыш¬
ные, как деревья.
Некоторое время мы все это рассматривали, затем распо¬
ложились в траве, местами очень высокой и еще не отцвет¬
шей, уютно разлеглись на ней, ощущая прохладу и блажен¬
ство.
Кнульп прочитал нарисованное на ближайшем кресте
имя и сказал:
— Его звали Энгельберт Ауэр, ему было за шестьдесят.
Зато теперь он лежит среди резеды — до чего же благород¬
ный цветок! — и ему хорошо. Я бы тоже мечтал когда-ни¬
будь лежать среди резеды — а покуда возьму с собой один
цветок.
Я возразил:
— Оставь их, сорви что-нибудь другое, резеда быстро
вянет.
Он тем не менее тут же сломал цветок и воткнул его в
свою шляпу, лежавшую рядом на траве.
— Как здесь тихо! — вымолвил я.
— Да, тихо. Еще бы немного потише, и мы услышали
бы, как разговаривают те, что лежат под землей.
— Ну нет. Они уже свое отговорили.
— Как знать? Считается, что смерть — это сон, а во сне
ведь разговаривают, даже поют инода.
— Это уж ты будешь петь в свое время.
— А почему бы и нет? Ежели я помру, обязательно до¬
ждусь воскресенья: придут девушки и только сорвут цвето¬
чек с могилы, как я сразу же начну тихонечко петь.
— Вот как? И что же ты будешь петь?
165
— Да какую-нибудь песню.
Он растянулся на земле, прикрыл глаза и стал напевать
тоненьким детским голоском:
Я умер рано по весне.
О барышни, пропойте мне
Песню на прощанье.
Тоща я снова возвращусь,
Пригожим парнем возврарусь,
Приду к вам на свиданье
Я невольно расхохотался, хотя песенка мне понравилась.
Он пел ее хорошо и с чувством, и, хотя слова были порой
чуть ли не бессмысленны, мелодия была исполнена благо¬
родства и все скрашивала.
— Кнульп, — сказал я ему, — не обещай барышням
слишком многр, иначе они и слушать тебя не захотят. Воз¬
вратиться было бы неплохо, но ни один человек этого не
испытал, и еще вопрос, будешь ли ты тоща снова пригожим
парнем.
— Ты прав, это вопрос. Но как бы мне этого хотелось!
Помнишь, позавчера мы встретили мальчонку с коровой, мы
еще дорогу у него спрашивали. Таким вот мальчонкой я и
хотел бы вернуться. А ты разве нет?
— Я — нет. Я часто вспоминаю одного старика, ему уже
за семьдесят, и глаза у него такие добрые и спокойные, что
мне кажется, все в нем — ум, доброта и покой. Мне иноща
приходит в голову, что вот таким стариком мне хотелось бы
стать.
— Ну, тебе еще придется малость подождать. Вообще
странная вещь — желания. Если бы мне сейчас достаточно
было кивнуть, чтобы стать тем мальчонкой, а тебе достаточ¬
но было бы кивнуть, и ты бы стал тем ласковым кротким
стариком, я уверен — ни один из нас не кивнул бы. Мы
предпочли бы остаться такими, каковы мы сейчас.
— Это верно.
— Ну еще бы. А вот тебе и другое. Я часто думаю: самое
прекрасное, самое привлекательное на земле — это строй¬
ная белокурая девица. Но ведь это не так, часто видишь
темноволосую, которая еще красивее. И, кроме того, иноща
мне сдается совсем другое: самое прекрасное и возвышенное —
это птица, вольно парящая в вышине. А другой раз всего
удивительнее бабочка: вон та, например, белая с красными
глазками на крыльях; или вечерний солнечный луч из-за
166
облаков, коща все вокруг блестит, но не ослепляет и кажет¬
ся таким радостным и невинным.
— Ты прав, Кнульп. Это все прекрасно, коща смотришь
на это в хорошую минуту.
— Справедливо. Но вот о чем я еще думаю. Самое пре¬
красное — оно таково, что от него всеща чувствуешь не
только удовольствие, но и печаль и страх.
— Как это?
— По-моему, вот как: красивая девушка не казалась бы
и наполовину такой красивой, если бы не знать, что всему
свой срок, что однажды она состарится и умрет. Если бы
прекрасное оставалось таким же вечно, это бы нас радовало,
но как-то и расхолаживало; ведь каждый думал бы: зачем
торопиться это увидеть, еще успеется. А что бренно, что не
сохранится, как есть, — на то я гляжу не только с радостью,
но и с состраданием.
— Ну и что?
— Потому-то я и не знаю ничего прекраснее, чем фейер¬
верк. Синие, зеленые ракеты взмывают вверх, во тьму, и,
коща они всего великолепней, описывают маленькую дугу,
и их уж нет. Коща глядишь, ощущаешь радость и страх: вот
сейчас пропадут! — и хорошо, что так, они еще прекраснее
оттого, что столь недолговечны. Разве не правда?
— Правда, но не всеща и не во всем.
— Почему же не во всем?
— А вот, например: если двое любят друг друга и женят¬
ся или двое стали друзьями, это прекрасно и потому, что
надолго и не кончится сразу.
Кнульп внимательно выслушал меня, взмахнул своими
темными ресницами и задумчиво продолжал:
— Да, такое мне тоже нравится. Но ведь и оно имеет свой
конец, как все на земле. Сколько причин могут убить друж¬
бу, а уж любовь тем более.
— Ну, о конце как-то не думают, пока он не наступит.
— Не знаю. Послушай, я любил в жизни дважды — я
имею в виду, по-настоящему, — и оба раза был убежден,
что все это навеки и кончится только с моей смертью; и оба
раза это кончилось, а я, как видишь, не умер. Был у меня
и друг, еще дома, в нашем городке, я и помыслить не мог,
что мы коща-нибудь расстанемся, пока живы. Но мы давно
уж разошлись.
Он замолчал, и я не знал, что ему ответить. Ту боль, что
таится в каждой людской связи, я еще не успел испытать, и
167
еще не ведал, что двух людей, как бы ни были они близки,
всеща разделяет бездна, которую шаг за шагом по хрупкому
мостику пытается преодолеть одна только любовь. Я раз¬
мышлял над тем, что сказал мой друг, и больше всего мне
понравился его пример с ракетами — при взгляде на них я
ощущал то же самое. Эти заманчивые цветные огни, взмы¬
вающие во тьму и мгновенно ею поглощаемые, представля¬
лись мне символом всякого земного наслаждения, которое
чем прекраснее, тем меньше удовлетворяет и тем быстрее
проходит. Я сказал об этом Кнульпу.
Он, однако, не стал далее развивать эту тему.
— Да, да, — только и пробормотал он. И затем, после
долгой паузы, приглушенным голосом: — Думать, размыш¬
лять — грош этому цена, ведь обычно поступают не так, как
думают, на каждом шагу решают одно, а делают, как сердце
прикажет. Но все-таки с дружбой и с любовью дело обстоит
так, как я сказал. В конце концов, у каждого человека есть
что-то совсем свое, чем он не может поделиться с другим.
Это особенно ясно видишь, коща кто-нибудь умирает. По¬
рыдают, повоют день, месяц или год, а потом умерший уми¬
рает окончательно, его уж нет, и всем безразлично, кто там
лежит в его гробу: он сам или безродный подмастерье.
— Слушай, Кнульп, мне такой разговор не по душе.
Ведь мы часто говорили, что в конечном итоге должен быть
какой-нибудь смысл в жизни и добр ли человек и милосер¬
ден или жесток и зол — это не пустое. А ты сейчас утверж¬
даешь, будто все едино и с тем же успехом можно грабить
и убивать.
— Нет, дружище, этого как раз нельзя. А ну-ка попро¬
буй, убей хоть двоих из тех, что нам повстречаются... если
сможешь. Или потребуй от желтого мотылька, чтобы он сде¬
лался синим. Да он тебя просто высмеет.
— Я не об этом. Но если все едино, то ведь незачем и
стараться быть добрым и честным. О каком добре можно
говорить, если что желтое, что синее, что доброе, что злое —
все едино. Тоща каждый как зверь в лесу, поступает, как
велит ему природа, и не знает ни вины, ни заслуги.
Кнульп вздохнул.
— Что тебе сказать? Может, все так, как ты говоришь.
Потому-то порой так по-глупому и огорчаешься, что чувст¬
вуешь: твоя воля гроша ломаного не стоит, все идет как идет
помимо тебя. Но вина-то все-таки существует, даже если
человеку ничего не остается, как быть плохим. Он ее ощу¬
168
щает внутри себя. И наверняка только добро праведно, хотя
бы потому, что от него нам радостно и совесть спокойна.
Я видел по его лицу, что ему опостылели эти разгово¬
ры. С .гам часто так бывало: сам пустится рассуждать,
разберет все доказательства за и против какого-нибудь по¬
ложения, им же провозглашенного, и вдруг сам все обор¬
вет. Раньше я полагал, что его раздражают мои неуклю¬
жие ответы и возражения. Но на самом деле было не так,
просто он чувствовал, что склонность к умствованию за¬
влекает его в те области, ще его знаний и его словаря явно
недостаточно. Ибо хотя он чихал немало, среди прочего
даже Толстого*, он не всеща мог отличить истинные выво¬
ды от ложных и сам это сознавал. О людях образованных
он судил, как способный ребенок о взрослых, признавая,
что они сильнее и могущественнее его, но втайне презирая
их за то, что, при всем их могуществе, они ни на что
путное не способны и, при всех своих талантах, так и не
решили ни одной загадки.
Он снова лег, положив руки под голову, стал глядеть
сквозь черную на солнце листву бузины в белесое жаркое
небо и замурлыкал песенку, старинную песенку с Рейна. Я
помню еще ее последний куплет:
Я красною юбкой бывала горда,
Теперь мое платье черней, чем беда,
Семь лет подряд ^
Ношу я черный наряд .
Поздно вечером мы сидели с ним друг против друга на
прохладной лесной опушке, каждый с ломтем хлеба и кус¬
ком охотничьей колбасы, усердно жевали и следили, как
постепенно настает ночь. Только что дальние холмы еще
сверкали отблесками желтого вечернего неба, и контуры их
расплывались в густеющей световой дымке, но вот уж они
темные, совсем черные, и их гребни, кусты и деревья четко
вырисовываются на фоне неба, сохранившего остатки днев¬
ной голубизны, которая уже побеждена, однако, густой си¬
невою ночи.
Пока было еще светло, мы читали друг другу вслух раз¬
ные разности из забавной книжечки, украшенной гравюра¬
ми и носившей причудливое название «Напевы муз из не¬
мецкой шарманки», она содержала незатейливые веселые
песенки из ходячего репертуара. Это занятие прекратилось
169
с наступлением темноты. Коща мы насытились, Кнульпу
вздумалось послушать музыку; я извлек из кармана губную
гармонику, полную набившихся хлебных крошек, продул ее
и сыграл на ней кое-что из того, что тоща приходилось осо¬
бенно часто слышать. Тьма, в которую мы постепенно по¬
грузились, заполнила углубления между холмами, слабое
мерцание неба угасло, и в черноте одна за другой загорались
первые звезды. Звуки гармоники легко и протяжно плыли
над полями и исчезали в дальних просторах.
— Не завалимся же мы сразу спать, — сказал я Кнуль¬
пу. — Расскажи лучше какую-нибудь историю, не обяза¬
тельно правдивую, а еще лучше — сказку.
Кнульп подумал.
— Историю и одновременно сказку, — сказал он. —
Знаешь, я расскажу тебе один сон — он приснился мне про¬
шлой осенью, потом снился еще два раза, почти в точности
такой же, его-то я тебе и расскажу.
Снилась мне улица в маленьком городке, совсем как у
нас дома, по обеим сторонам — здания с крутыми щипцами,
но выше, чем обычно. Я шел по ней, как будто после долгих,
долгих лет странствий наконец вернулся домой; но радовал¬
ся я при этом как-то не до конца, потому что не все было в
порядке, я не был вполне уверен, в самом ли деле это мой
родной город или я попал совсем не туда. Некоторые пере¬
крестки были в точности такие, как я их помнил, и я мгно¬
венно их узнавал, но отдельные дома казались совсем чужи¬
ми и непривычными, и я никак не мог отыскать, например,
мост и выйти к базарной площади, а вместо этого миновал
какой-то незнакомый сад и церковь с двумя высокими баш¬
нями — точно такую я припоминал не то в Кёльне, не то в
Базеле. Наша церковь была вообще без всяких башен, толь¬
ко небольшое возвышение посередке с временным покрыти¬
ем: деньги были истрачены, а на башню не хватило.
То же самое творилось и с людьми. Некоторые, коща я
глядел на них издали, казались мне хорошо знакомыми, я
припоминал их имена и уже готов был их окликнуть. Но
внезапно, не дойдя до меня, они исчезали в каком-нибудь
доме или сворачивали в боковую улицу, а кто подходил
ближе, тот как-то менялся на глазах, и я видел чужое, не¬
знакомое мне лицо; но коща он проходил мимо и снова
удалялся, я готов был поклясться, глядя ему вслед, что все
же я его знаю. Я встретил и нескольких женщин, они стояли
перед раскрытой дверью лавки; мне показалось, что одна из
170
них моя покойная тетка, а коща я приблизился, я ее не
узнал и к тому же услыхал, что она говорит на каком-то
чужом наречии, которое я и разбираю-то с трудом.
Наконец я подумал: пора мне выбираться из этого город¬
ка, какой-то он чудной, тот и в то же время не тот. Но я все
не уходил, то подбегал к знакомому дому, то шел навстречу
знакомому человеку и опять оставался в дураках. И притом
я не чувствовал ни досады, ни гнева, а только печаль и
глубокий страх; я хотел было прочитать молитву и стал
вспоминать ее изо всех сил, но на ум шли одни только бес¬
полезные дурацкие выражения вроде «Милостивый госу¬
дарь» или «По независящим от меня обстоятельствам», и я
бормотал их про себя растерянно и печально.
Так все длилось, как мне показалось, несколько часов, я
вспотел, выбился из сил, но, спотыкаясь на каждом шагу,
безвольно брел дальше. Дело близилось к вечеру, и я решил
спросить ближайшего прохожего, как мне пройти на посто¬
ялый двор или выйти на дорогу, но мне ни с кем не удава¬
лось заговорить, все проходили мимо меня, как будто я бес¬
плотный призрак. -Скоро я почти что рыдал от усталости и
отчаянья.
Вдруг я еще раз незаметно завернул за угол, и вот передо
мной оказалась наша улица, немного, правда, перестроен¬
ная и приукрашенная, но теперь это меня почему-то не сму¬
щало. Я пошел по ней и отчетливо узнавал дома, один за
другим, несмотря на завитушки, которыми их снабдил сон,
и вот уж я стоял перед своим старым отцовским домом. Он
тоже показался мне неестественно высоким, но в остальном
был совсем как в прежние времена, и у меня прямо-таки
мурашки по спине пробежали от радости и волнения.
В воротах стояла моя первая любовь, ее звали Генриетта.
Она немного изменилась с тех пор, казалась выше, но стала
еще красивее, чем прежде. Приближаясь, я обратил внима¬
ние, что красота ее подобна чудесному произведению искус¬
ства, кажется скорее ангельской, чем человеческой, заметил
я также, что у нее белокурые волосы, а не каштановые, как
были у Генриетты; и все же это была она, с головы до ног,
хоть и преображенная.
— Генриетта! — воскликнул я и сдернул с головы шля¬
пу; она ведь выглядела такой благородной дамой, что я не
был уверен, захочет ли она меня узнать.
Она обернулась и поглядела мне прямо в лицо. Но коща
она на меня поглядела, я поневоле был удивлен и присты¬
171
жен, ибо все же это была не она, не та, которую я окликнул,
но Лизабет, вторая моя любовь, с которой мы долго были
вместе.
— Лизабет, — закричал я снова и протянул ей руку. Она
взглянула на меня, как будто сам Господь взглянул мне в
душу: не строго, не свысока, а светло и покойно и в то же
время таким одухотворенным, таким полным превосходства
взором, что я показался себе жалким псом. И, глядя так на
меня, она сделалась вдруг серьезной и печальной, покачала
головой, будто я задал ей дерзкий вопрос, не взяла моей
руки, а повернулась и ушла в дом, тихо затворив за собою
ворота. Я услышал только, как щелкнул замок.
Тоща я побрел прочь, и, хоть от слез и боли едва мог
что-либо различать, было странно, как снова удивительно
переменился город. Теперь уже каждая улочка и каждый
дом стояли в точности такими, как были прежде, а искажав¬
ший все морок исчез. Щипцы были не такие неестественно
высокие и выкрашены как раньше, люди тоже стали насто¬
ящими, они радовались и изумлялись, встречая меня, мно¬
гие окликали меня по имени. Но сам я не мог им ответить,
не мог даже остановиться. Вместо этого я мчался что было
сил по знакомой дороге — через мост и прочь из города, —
ничего не видя перед собой, потому что глаза мои были
мокры от слез и скорбь охватила мне сердце. Я не знал,
почему все это, только чувствовал: для меня здесь все поте¬
ряно, и мне остается только со стыдом бежать прочь.
Затем, уже покинув город и оказавшись под тополями, я
немного замедлил бег и сообразил, что ведь я сейчас был
возле нашего дома, перед самым порогом, и даже не вспом¬
нил ни об отце, ни о матери, ни о братьях и сестрах, ни о
друзьях юности. И такое смятение и стыд воцарились в мо¬
ем сердце, как никогда прежде. Но вернуться и все испра¬
вить было уже невозможно, потому что я проснулся и сон
кончился.
Кнульп сказал:
— У каждого человека своя душа, ей невозможно слить¬
ся ни с какой другою. Двое могут повстречать друг друга,
говорить друг с другом и быть рядом. Но души их как два
цветка, выросших порознь, каждый из своего корня; они не
способны сблизиться, не то им пришлось бы оторваться от
корней, а этого они как раз и не могут. Они только посыла¬
ют свой аромат и свои семена, потому что их тянет друг к
172
другу, но куда попадет семечко, зависит уже не от самого
цветка, это зависит от ветра, а он прилетает и улетает, как
хочет.
И еще:
— Сон, который я тебе рассказал, возможно, имеет тот
же самый смысл. Ни Генриетту, ни Лизабет я с умыслом не
обижал. Но по той причине, что я их обеих коща-то любил
и хотел их удержать, они и соединились для меня во сне в
один образ — он похож на обеих Сразу, но он и не Генриет¬
та, и не Лизабет. Этот образ принадлежит мне, но с живым
человеком у него ничего общего нет. И тут кстати будет
сказать еще о моих родителях. Они были убеждены, что я
их дитя, их частичка и посему должен быть таким же, как
они. Но я, хоть и любил их, был другим, особым и непонят¬
ным для них человеком. То, что было во мне главным, что
как раз и было моею душою, они считали второстепенным
и приписывали молодости или прихоти. При этом они меня
тоже очень любили и все бы для меня сделали. Но отец
может передать в наследство сыну нос, или глаза, или спо¬
собности, но не душу. Душа каждого человека рождается
заново.
~ Мне нечего было на это возразить, ибо тоща еще я в
такие рассуждения, во всяком случае по собственному почи¬
ну, не пускался. Подобное глубокомыслие хоть и было мне
по душе, но по-настоящему не задевало, а посему я полагал,
что и для Кнульпа это не борение, а всего лишь игра. Кроме
того, было так покойно и прекрасно лежать рядом с другом
на сухой траве в ожидании ночи и глядеть на первые звезды.
Я сказал:
— Кнульп, да ты настоящий философ. Тебе бы профес¬
сором стать.
Он засмеялся и покачал головой.
— Скорее я вступлю коща-нибудь в Армию спасения, —
задумчиво вымолвил он.
Это было уж слишком.
— Слушай, пожалуйста, не прикидывайся! — сказал я
ему. — Не хочешь ли ты заодно сделаться святым?
— То-то и дело, что хочу. Каждый человек, который
серьезно относится ко всему, что думает и делает, — святой.
Вот как ты считаешь правильным, так и следует поступать.
И если однажды я сочту правильным вступить в Армию
спасения, то я, верно, так и сделаю.
— Далась тебе эта Армия спасения!
173
— Именно, далась. Сейчас объясню почему. Мне при¬
шлось в жизни говорить со многими людьми и слышать мно¬
го речей. Я слышал, как говорят священники и учителя,
бургомистры, социал-демократы и либералы; но не было
среди них ни одного, кто бы серьезно — до конца серьезно —
относился к тому, что говорит, так, чтобы я поверил: в слу¬
чае нужды этот на костер пойдет за свои убеждения. А в
Армии спасения, между прочим, со всей ее нелепой музыкой
и шумихой, я встречал несколько раз людей, для которых
все было серьезно.
— Откуда ты знаешь?
— Да уж это видно. Один, например, — помню, он дер¬
жал речь в какой-то деревне, в воскресенье, под открытым
небом — вокруг жарища, пыль, так что вскоре он совершен¬
но охрип. Да особенно крепким он и не выглядел. Коща он
не в состоянии был произнести ни слова, он просил своих
трех товарищей немного попеть, а сам выпивал глоток воды.
Полдеревни собралось вокруг, дети и взрослые, все считали
его за дурака и всячески критиковали. Позади других стоял
молодой дюжий батрак, в руках он держал кнут и время от
времени оглушительно им щелкал, специально, чтобы по¬
злить оратора и посмешить публику. Но бедный малый не
давал волю гневу, хотя вовсе не был глуп, он пытался своим
голосишком пробиться к зевакам и улыбался там, ще другой
бы выл или сыпал проклятиями. Знаешь, так стараются не
за деньги и не ради удовольствия, но коща несут в себе
большую уверенность и ясность.
— Изволь. Но ведь одно и то же не годится для всех. А
человек чувствительный, тонкий, вроде тебя, вообще не со¬
здан, чтобы выступать перед зеваками.
— А может, как раз и создан. Ежели он во что-то верит,
что-то имеет за душой, что выше и прекраснее чувствитель¬
ности и тонкости. Ты прав, одно и то же не годится для всех,
но истина — она ведь для всех одна.
— Ах, истина! Откуда тебе известно, что эти, с их алли¬
луйей, владеют истиной?
— Это мне неизвестно. Я утверждаю только: если я од¬
нажды сочту, что истина у них, я за ними последую.
— Если... Но ведь ты каждый день открываешь очеред¬
ную мудрость, а назавтра ей не следуешь.
Он с обидой посмотрел на меня.
— Знаешь, то, что ты сказал сейчас, очень зло.
174
Я хотел извиниться, но он воспротивился и замолк. Вско¬
ре он шепотом пожелал мне доброй ночи, улегся тихонько,
но, по правде говоря, я не верил, что он спит. Я тоже долго не
мог заснуть, больше часу не смыкал глаз и, подперев подбо¬
родок ладонями, неотрывно глядел в ночную даль.
С утра я сразу приметил, что у Кнульпа сегодня выдался
счастливый денек. Я не умолчал об этом, и он, по-детски
просияв и окинув меня радостным взглядом, сказал:
— Ты угадал. А знаешь, по какой причине у человека
бывает счастливый день?
— Нет. А по *акой?
— Да просто потому, что он ночью отлично спал и видел
хороший сон. Но этот сон потом никоща не помнишь. Так и
сегодня: мне снилась какая-то роскошь и веселье, но что
именно — все позабыл, знаю только, что это было прекрасно.
Еще прежде, чем мы добрались до ближайшей деревни
и ощутили во рту вкус парною молока, он спел натощак,
легко и свободно, грудным теплым голосом три-четыре са¬
мые новенькие свои песни. Если бы эти песенки были запи¬
саны и напечатаны, они бы, возможно, ничего особенного
собой не представляли. Но хотя Кнульп не был большим
поэтом, поэтом он все же был, и его песенки в его собствен¬
ном исполнении были похожи на самые прекрасные песни в
мире, как их хорошенькие сестрицы. Отдельные отрывки,
которые сохранились в моей памяти, и в самом деле хороши
и все еще мне дороги. Ничего из этого не было записано,
стихи его рождались, жили и умирали невинно и безвремен¬
но, как порывы ветра, но они скрасили не один час не толь¬
ко ему и мне, но и многим другим людям, детям и взрослым.
Словно девица-краса
Появилась из ворот —
Из-за елей в небеса
Солнце красное плывет, —
пел он в тот день о солнце, которое почти всеща присутст¬
вовало в его песнях и которому он возносил хвалы. И стран¬
ное дело, насколько в беседе он обожал всяческую филосо¬
фию, настолько наивны и непосредственны были его стиш¬
ки, которые выпрыгивали на свет, подобно чистеньким ре¬
бятишкам, в светлых летних одеждах. Часто это бывала за¬
175
бавная бессмыслица, она служила лишь для того, чтобы
дать выплеснуться переполнявшему его задору.
Тот день был весь для меня окрашен его ликующим на¬
строением. Мы шутливо приветствовали и задирали встреч¬
ных и поперечных, так что вслед нам неслись то смех, то
брань, и весь день проходил как праздник. Мы наперебой
рассказывали друг другу о шутках и проделках школьных
лет, давали насмешливые прозвища проходящим мимо кре¬
стьянам, а также их лошадям и волам, досыта полакомились
у пустынной ограды ворованным крыжовником и почти каж¬
дый час устраивали привалы, щадя свои силы и подметки.
Мне представилось, что со времени моего сравнительно
недавнего знакомства с Кнулыюм я никоща еще не видал его
таким веселым и обаятельным, и я всячески радовался пред¬
стоящему странствию, считая, что с сегодняшнего дня, собст¬
венно, и начнется наша совместная жизнь и наше веселье.
Полдень сделался на редкость знойным, мы больше ва¬
лялись на траве, чем шагали вперед, а к вечеру стало парить
и собралась гроза, так что решено было поискать ночлега
под крышей.
Кнульп постепенно затих, по-видимому, устал, но я этого
почти не заметил, так как он с прежним воодушевлением
вторил моему смеху и подхватывал песню, коща я ее запе¬
вал, а сам я веселился пуще прежнего, и в груди у меня,
подавляя все другие чувства, разгорался какой-то празднич¬
ный фейерверк. Очевидно, у Кнульпа было все наоборот,
его радостные огни уже угасали. У меня же всеща так: в
праздничные дни я особенно расхожусь к вечеру, просто
удержу не знаю и ради какого-нибудь нового удовольствия
готов пуститься в путь на ночь глядя, коща все другие уже
угомонились и спят.
Подобная лихорадка охватила меня и в тот раз, и, коща,
спустившись в долину, мы подошли к большой нарядной де¬
ревне, я обрадовался, предвкушая веселый вечер. Сначала
мы высмотрели амбар, стоявший особняком и вполне подхо¬
дящий для ночлега* затем вошли в деревню и расположились
за столиком в трактирном саду, так как я пригласил своего
друга на ужин и готов был расщедриться на омлет и пару бу¬
тылок пива — ведь это был пошлине счастливый день.
Кнульп охотно принял мое приглашение, но, коща мы
уселись под красивым платаном, несколько смущенно заме¬
тил:
176
— Слушай, мы ведь не станем затевать кутеж, не так ли?
Одну бутылку я охотно выпью, это полезно, но больше я не
переношу.
Я согласился и подумал про себя: «Зачем загадывать на¬
перед? Выпьем, сколько захочется». Мы ели горячий омлет
с пахучим ржаным хлебом, и вскоре я заказал себе еще пи¬
ва, хотя в бутылке Кнульпа осталось больше половины. У
меня было преотличное настроение оттого, что я раскоше¬
лился и по-господски восседаю за этим обильным столом, я
рассчитывал еще долго предаваться веселью в тот вечер.
Коща Кнульп допил свою бутылку, он, несмотря на мои
просьбы, не захотел брать вторую и предложил мне пойти погу¬
лять по деревне, а затем пораньше отправиться спать. Это вовсе
не входило в мои планы, но мне не хотелось прямо ему проти¬
воречить. Поскольку я еще не допил пива, то согласился, что¬
бы он отправился вперед, а затем мы встретимся.
Он ушел. Я глядел ему вслед, как легко он спустился по
ступеням, непринужденной походкой человека, привыкшего
наслаждаться ходьбой, и, подтянутый, заткнув цветок за
ухо, неторопливо зашагал по деревенской улице. И хоть я
был раздосадован тем, что он не пожелал распить со мной
вторую бутылку, я невольно подумал, растроганный и охва¬
ченный нежностью: «Ах ты, миляга!»
Между тем духота еще усилилась, хоть солнце давно уже
село. В такую погоду приятно было мирно посиживать и
попивать холодное пиво, и я решил еще немного задержать¬
ся за столиком. Я был теперь почти единственным посети¬
телем в трактире, у кельнерши было довольно свободного
времени, чтобы поговорить со мной. Я попросил ее принести
мне еще две сигары, одну из которых я сначала предназна¬
чал для Кнульпа, но затем по рассеянности выкурил сам.
Еще раз, пожалуй через часок, Кнульп заглянул в трак¬
тир и хотел меня увести. Но я так прочно уселся, что мне бы¬
ло лень вставать, и, поскольку он все равно устал и хотел
спать, мы договорились, что он отправится на место ночлега.
Он удалился. Кельнерша тотчас же принялась меня про него
расспрашивать, все девушки без исключения всеща его при¬
мечали. Я ничего не имел против этого, ведь он был мой
друг, а она мне была никто; наоборот, я превозносил его до
небес, ибо я был тоща в благодушном настроении и любил
весь свет.
Уже погрохатывал вдалеке гром и ветер шумел в листьях
платана, коща я наконец поздно ночью поднялся и собрался
177
уходить. Я расплатился, дал девушке еще десять пфеннигов
и не спеша отправился восвояси. Во время ходьбы я все
время отчетливо ощущал, что бутылку я, пожалуй, пере¬
брал, последнее время я вообще отвык от крепких напитков.
Но это меня отнюдь це огорчало, наоборот, я гордился своей
лихостью и пел всю дорогу, пока не отыскал наш амбар. Я
тихонько забрался наверх и в самом деле нашел Кнульпа
спящим. Он лежал в одной рубашке на своей растеленной
коричневой куртке и ровно дышал. В полутьме слабо белели
его лоб, шея и вытянутая рука.
Я улегся как был, в одежде, но возбуждение и тяжелая
голова еще долго не давали мне сомкнуть глаз, и уже чуть
светало, коща я наконец заснул, точно провалился, тяже¬
лым глубоким сном. Спал я крепко, но не здорово, ощущая
себя усталым и разбитым, и мне снились какие-то неясные
мучительные сны.
Утром я проснулся поздно, на дворе уже был ясный
день, и солнечный свет бил мне прямо в глаза. В голове
было пусто и смутно, руки и ноги болели. Я долго зевал,
тер глаза и до хруста разминал члены. Несмотря на уста¬
лость, я ощущал в душе какие-то отзвуки вчерашнего воз¬
буждения и собирался окончательно смыть с себя похмелье
у первого чистого колодца.
Все, однако, обернулось иначе. Оглядевшись, я не обна¬
ружил Кнульпа. Сначала я был вполне спокоен, покричал
ему, посвистел. Но коща крик, свит и поиски ничего не
дали, я вдруг понял, что он меня покинул. Да, он покинул
меня, ушел тайно, он не хотел больше со мной оставаться.
То ли ему был неприятен мой кутеж, то ли он стыдился
своей собственной вчерашней резвости, а может, просто под
настроение, засомневавшись во мне или поддавшись внезап¬
ной необоримой тяге к одиночеству. И все же мое сидение
в трактире несомненно было тому виной.
Радость меня оставила, я весь был во власти стыда и отча¬
янья. Где мой друг? Вопреки его рассуждениям я смел ду¬
мать, что все же немного его понимаю, разделяю его чувства.
Теперь он ушел, и я остался один, горько разочарованный, и
винить в этом должен был скорее себя, чем его; я сам, на сво¬
ем опыте, ощутил теперь то самое одиночество, которое, по
словам Кнульпа, есть удел каждого на земле и в которое я
так долго не хотел верить. Оно было горестным, это одиноче¬
ство, и не только в тот первый день, иноща оно ослабевало,
но полностью уже не покинуло меня с тех пор никоща.
178
КОНЕЦ
Был светлый октябрьский день; прозрачный, пронизан¬
ный солнцем воздух чуть колебался под проказливыми по¬
рывами ветра, от садов и полей тонкими лентами вился го¬
лубоватый дымок осенних костров и наполнял округу терп¬
ким сладковатым запахом горелой травы и листьев. В пали¬
садниках еще цвели пышным цветом пестрые яркие астры,
бледноватые поздние розы и георгины, порой из-за изгороди
среди уже увядшей и побуревшей зелени пламенел огнен¬
ный цветок настурции.
По дороге в Булах медленно катил одноконный экипаж
доктора Махольда. Дорога плавно поднималась в гору, с
левой стороны тянулись убранные поля — только картошку
еще продолжали копать, справа высился молодой и густой
сосняк, почти задохнувшийся от густоты, — плотная корич¬
невая стена прижатых друг к другу стволов и сухих ветвей,
земля внизу, густо усыпанная толстым слоем светло-желтой
высохшей хвои. Впереди дорога уводила прямо в бледно-го-
лубое осеннее небо; казалось, будто там наверху конец
света.
Доктор отпустил поводья и предоставил своей старой ко¬
былке плестись как Бог на душу положит. Он возвращался
от умирающей, которой уже нельзя было помочь и которая
все же упорно цеплялась за жизнь до последнего дыхания.
Он устал и теперь наслаждался спокойной ездой и привет¬
ливым осенним деньком; его мысли дремали, приглушенно
и покорно следуя зовам, исходившим от полевых костров и
пробуждавшим смутные приятные воспоминания об осенних
каникулах и еще более далекие — звонкие, но совсем уж
бесплотные видения сумеречной поры детства. Ибо он вы¬
рос в деревне, его чувства легко и охотно улавливали все
приметы, связанные с временем года и крестьянскими рабо¬
тами.
Он почти совсем погрузился в дрему, коща возок вдруг
остановился. Водосток пересекал дорогу, в нем увязли пе¬
редние колеса, и благодарная лошадка стала, опустив голо¬
ву и наслаждаясь передышкой.
Махольд пробудился от того, что внезапно смолкло
громыхание колес; он натянул поводья, с улыбкой взгля¬
нул, как после минутной хмури вновь сияют в солнечном
блеске небо, лес, и привычным щелканьем языка заставил
179
кобылу двинуться дальше. Он подтянулся, выпрямился —
он не любил дремать среди бела дня — и сунул в зубы
сигару. Езда продолжалась в том же медлительном темпе;
какие-то две женщины в широкополых шляпах прокрича¬
ли ему с поля приветствие из-за длинного ряда мешков с
картошкой.
Конец подъема был уже близок, лошадь приободрилась
и подняла голову, предвкушая пологий спуск с седловины
холма и близость дома. И вдруг на фоне близкого светлого
горизонта с той стороны возник человек, путник; он как бы
вырос на миг, застыв на самой вершине, залитый голубым
сиянием, а затем стал постепенно спускаться, сразу сделав¬
шись маленьким и серым. Он приближался, худой мужчина
с редкой бородкой, бедно одетый, явно из тех, для кого
проселочные дороги служат домом; он брел усталой поход¬
кой, с трудом передвигая ноги, но вежливо снял шляпу и
поклонился.
— День добрый! — сказал доктор, поглядел вслед не¬
знакомцу, уже начавшему удаляться, и вдруг с ходу оста¬
новил бричку, привстал на козлах и, глядя поверх кожа¬
ного верха, закричал: — Эй, послушайте! Вернитесь-ка на
минуту!
Запыленный путник остановился и оглянулся. Он
улыбнулся доктору слабой улыбкой и хотел было продол¬
жить свой путь, однако передумал и покорно повернул
назад.
Теперь он стоял рядом с низким экипажем, все еще держа
шляпу в руке.
— Нельзя ли узнать, куда вы путь держите? — спросил
его Махольд с козел.
— Да все прямо по этой дороге, на Бертольдзег.
— Мне сдается, мы с вами знакомы. Только никак не
могу вспомнить имя. Вам ведь известно, кто я?
— Полагаю, что вы доктор Махольд.
— Ну вот. А сами-то вы кто? Как вас зовут?
— Сейчас вы меня вспомните, господин доктор. Мы си¬
дели коща-то рядом у латиниста Глохера, и господин доктор
еще списали у меня упражнение.
Махольд соскочил с козел и пристально вгляделся в ли¬
цо прохожего. Затем облегченно рассмеялся и похлопал его
по плечу.
180
— Точйо! Значит, ты и есть знаменитый Кнульп, и мы с
тобой однокашники. А ну-ка, друг, дай пожать твою руку!
Мы наверняка не виделись больше десяти лет. Все еще
странствуешь?
— Странствую. Коща становишься старше, трудно ме¬
нять привычки.
— Это верно. А куда направляешься сейчас? Уж не в
родные ли наши места?
— Угадали. Хочу взглянуть на Герберзау*, остались у
меня там кое-какие делишки.
— Так, так. Из стариков твоих жив еще кто-нибудь?
— Нет, никого.
— Что-то не молодо ты выглядишь, Кнульп! А ведь нам
всего только за сорок, если не ошибаюсь, и тебе, и мне.
Подумать только, просто хотел пройти мимо — нехорошо
это с твоей стороны. Знаешь, мне сдается, что доктор-то тебе
как раз и нужен.
— Да что там! Все у меня в порядке, а что не в порядке,
того ни один доктор не поправит.
— Посмотрим. А сейчас давай-ка залезай и поедем со
мной, там все и обсудим.
Кнульп в нерешительности отступил и надел шляпу. Он
отстранился со смущенным видом, коща доктор захотел по¬
мочь ему взобраться в бричку.
— Что вы, да этого вовсе не требуется. Не рванется же
этот конек с места в карьер, пока мы тут разговариваем?
На него вдруг напал приступ кашля, и врач, который
уже смекнул, в чем дело, без церемоний подхватил его под
руки и усадил в бричку.
— Ну вот, — сказал он, коща они покатили, — сейчас
будем на вершине, оттуда — рысью, и через полчаса дома.
Не трудись отвечать при таком кашле, дома побеседуем.
Что? Никаких возражений! Больным полагается лежать в
постели, а не бродить по дорогам. Я припоминаю, тоща по
латыни ты мне часто помогал, теперь мой черед.
Они миновали гребень и под визг тормозов стали спу¬
скаться по склону; напротив уже виднелись среди плодо¬
вых деревьев крыши Булаха. Махольд крепко держал по¬
водья и следил за дорогой, а Кнульп устало и с некоторым
даже облегчением предался удовольствию езды и насильст¬
венному гостеприимству. «Завтра, — думал он, — в край¬
нем случае послезавтра пойду дальше на Герберзау, если
181
только ноги будут держать». Это уже не был былой ветро¬
гон, расточавший дни и годы. Теперь это был старый
больной человек, не имевший более никаких желаний,
кроме одного-единсгвенного: еще раз перед кончиной по¬
видать родину.
В Булахе друг провел его сначала в гостиную, заставил
выпить молока и подкрепиться ветчиной с хлебом. При этом
они поболтали и постепенно обрели былую непринужден¬
ность. Лишь после этого врач приступил к осмотру, а боль¬
ной добродушно, хотя и не без доли насмешки, ему это по¬
зволил.
— Ты хоть знаешь, что у тебя не в порядке? — спросил
Махольд, закончив обследование. Он спросил это легко, без
нажима, и Кнульп был ему за это благодарен.
— Да, Махольд, знаю. Чахотка. И мне известно также,
что долго мне не протянуть.
— Ну, кто знает? Но тоща ты должен понимать, что тебе
нужны постель и уход. Пока погостишь у меня, а тем вре¬
менем исхлопочу тебе место в ближайшей больнице. Ты что,
рехнулся, мой милый? Так нельзя, нужно взять себя в руки,
чтобы выкарабкаться.
Кнульп снова натянул на себя куртку. Обратив к докто¬
ру посеревшее заострившееся лицо, он добродушно заметил
с выражением легкого лукавства:
— Ты стараешься изо всех сил, Махольд. Воля твоя. Но
на меня ты особенно не рассчитывай.
— Поживем — увидим. А теперь посиди в саду на сол¬
нышке, пока оно светит. Лина сейчас пойдет приготовит те¬
бе постель, уж мы с тебя глаз не спустим, бедолага. Чтобы
человек всю жизнь провел на свежем воздухе, на солнце и
заболел легкими — невероятно!
Сказав это, он удалился.
Домоправительница Лина не была в восторге и не желала
укладывать в комнате для гостей бродягу. Но доктор реши¬
тельно ее оборвал:
— Полно, Лина! Ему недолго осталось жить, пусть
понежится у нас напоследок. Он всеща был чистюля, да и
прежде, чем отправить его в постель, мы его сунем в
ванну. Дайте ему одну из моих ночных рубашек и, если
можно, теплые туфли. И не забудьте: этот человек — мой
друг!
182
Кнульп проспал одиннадцать часов подряд и долго еще
дремал в кровати хмурым туманным утром, прежде чем ему
удалось сообразить, у кого он находится. Коща выглянуло
наконец солнце, Махольд позволил ему встать, и теперь,
после завтрака, они сидели за стаканом красного вина на
освещенной солнцем террасе. Кнульп от хорошей еды и вы¬
питого полстакана вина приободрился и стал явно разговор¬
чивей, доктор же нарочно выкроил себе часок, чтобы побол¬
тать с чудаком однокашником и поподробнее узнать об этой,
столь необычной жизни.
— Значит, ты доволен тем, как ты жил, — сказал он с
улыбкой. — Если это так, все в порядке. Иначе я бы считал,
что о таком человеке, как ты, следует пожалеть. Тебе неза¬
чем было становиться непременно священником или учите¬
лем, но из тебя мог бы выйти естествоиспытатель или даже
поэт. Не знаю, нашел ли ты применение своим дарованиям,
развил ли их, но уж точно, что польза от них была тебе
одному. Разве не так?
Кнульп подпер рукой подбородок с редкой бороденкой
и следил, как от стакана вина на солнечной скатерти вспы¬
хивают и гаснут красные искры.
— Не совсем так, — задумчиво проговорил он. — Мои
дарования, как ты их называешь, не так уж и велики. Что
я умею: немножко свистеть, немножко играть на гармони¬
ке, порою сложить стишок, еще я был раньше бегуном и
неплохим танцором. Вот и все. И не мне одному это при¬
носило радость — вокруг всеща оказывались друзья, де¬
вушки, дети, им все это было в забаву, и они меня благо¬
дарили. Оставим этот разговор — довольно и того, что
есть.
— Хорошо, — согласился доктор. — Но еще один вопрос
я хочу тебе задать. Ты ведь тоща учился с нами в гимназии
до пятого класса, я отлично помню, и учеником ты был хо¬
рошим, хоть и не был примерным пай-мальчиком. И вдруг
исчез ни с того ни с сего, болтали, что ты перешел в народ¬
ную школу; это нас и разлучило — гимназист не мог ведь
дружить с мальчишкой из народной школы. Что же тоща
произошло? Позже, коща до меня доходили вести о тебе, я
всеща думал: если бы он остался в гимназии, все было бы
иначе. Что же случилось? Опротивела ли тебе учеба, что ли,
или у твоего старика не стало денег платить за тебя, или что
еще?
183
Больной поднял стакан исхудалой обветренной рукой,
но не выпил, а лишь поглядел сквозь вино на сверкавшую
зелень и осторожно поставил обратно на стол. Затем молча
прикрыл глаза и погрузился в свои, мысли.
— Тебе что, тяжело говорить об этом? — спросил друг. —
Тоща не надо.
Но Кнульп тут же открыл глаза и взглянул на него дол¬
гим испытующим взглядом.
— Пожалуй, надо, — начал он, все еще колеблясь, —
полагаю, что надо. Я еще не рассказывал об этом ни одному
человеку, но, может, как раз и хорошо, чтобы кто-то узнал.
Впрочем, это всего только детская история, хотя для меня
она оказалась очень важной — я годами не мог с этим раз¬
делаться. Странно как-то, что ты меня как раз сейчас об
этом спросил.
— Почему?
— Все последние дни я только об этом и думаю, потому
и оказался на пути в Герберзау.
— Вот как? Ну, рассказывай!
— Помнишь, Махольд, как мы с тобой дружили, по
крайней мере класса до третьего — до четвертого. Потом
уже мы встречались все реже и реже, и ты напрасно высви¬
стывал меня у нашей калитки.
— Бог мой, все точно! Я не вспоминал об этом по край¬
ней мере лет двадцать. Ну и память $се у тебя, приятель! А
что дальше?
— Сейчас расскажу тебе, как все вышло. Знаешь, во
всем были виноваты девчонки. Они очень рано начали при¬
влекать мое любопытство. Ты небось еще верил в басенки
об аисте и капусте, а я уже приблизительно верно представ¬
лял себе, как обстоит с ними дело. Это сделалось для меня
самым важным, потому-то я не так уж часто играл с вами в
индейцев.
— Тебе было тоща лет двенадцать, верно?
— Почти что тринадцать — я ведь на год тебя старше.
Так вот: однажды я заболел и лежал в постели, а к нам
как раз приехала погостить родственница, тремя-четырьмя
годами старше меня; она стала заигрывать со мной, и,
коща я выздоровел и вновь был на ногах, я ночью тайно
пробрался к ней в комнату. Тут я впервые увидел, как
выглядит женщина, до смерти перепугался и сбежал. С
той родственницей я больше слова не сказал, она мне
184
опротивела, я ее боялся, но все же это запало мне в душу,
и с тех пор я начал бегать за девчонками. У дубильщика
Хаазиса были две девочки, мне ровесницы, к ним прихо¬
дили подружки, и мы играли все вместе, прятались на
чердаках — было вдосталь хихиканья, щекотки и всяких
там нежностей. Я почти все время был единственным
мальчиком в их компании, порой какая-нибудь из девчо¬
нок заставляла меня заплетать ей косички, другая одари¬
вала поцелуем, мы ведь были дети и не знали толком что
к чему, а все вокруг было полно влюбленности, и во время
купанья я забивался в кусты и тайком за ними подгляды¬
вал. И вот однажды среди них появилась новенькая, из
предместья, отец ее работал там в вязальной мастерской.
Звали ее Франциска, и она понравилась мне с первого
взгляда.
Доктор перебил его:
— Как, скажи мне, звали ее отца? Может, я знаю...
— Извини, Махольд, об этом мне не хотелось бы гово¬
рить. К моей истории это отношения не имеет, и я не
желаю, чтобы кому-то что-то о ней стало известно. Так
вот, дальше. Она была повыше и посильнее меня, время
от времени мы с нею боролись, и, коща она меня к себе
прижимала, у меня прямо земля уходила из-под ног, я
становился как пьяный. Я влюбился в нее, и, так как была
она двумя годами старше и уж поговаривала, что пора ей
завести дружка, я ничего в мире так не желал, как сде¬
латься ее дружком. Однажды я ее застал в саду дубиль¬
щика, она сидела одна на бережку, болтала ногами в воде,
видно, только что искупалась, на ней и не было ничего,
юбчонка да лифчик. Я подошел, подсел к ней. Тут-то я
вдруг набрался храбрости и объявил ей, что ничего так не
желаю, как стать ее дружком. Она в ответ взглянула на
меня своими карими глазами и сказала как-то даже с со¬
страданием: «Ты еще мальчонка, из коротких штанишек
не вырос. Что ты понимаешь в любви?» На это я ответил,
что-де понимаю все, что, если она меня не полюбит, скину
ее сейчас в речку и сам утоплюсь вместе с ней. Тоща она
посмотрела на меня повнимательнее, как взрослая, и зая¬
вила: «Хорошо, увидим. Целоваться-то по крайней мере
умеешь?» Я ответил утвердительно и поцеловал ее прямо
в губы, считая, что этого достаточно, но не тут-то было:
она стиснула мою голову, держала ее крепко-крепко и
185
принялась целовать меня взасос, как опытная женщина,
так что у меня голова закружилась. Потом расхохоталась
гортанным своим смехом и объявила: «Ты бы мне, пожа¬
луй, подошел, паренек, но ничего у нас не выйдет. Мне не
нужен дружок, который ходит в гимназию, там стоящих
людей не встретишь. Хочу полюбить настоящего парня,
ремесленника или рабочего, а не школьника. Так что рас¬
считывать тебе не на что!» А сама как притянет меня к
себе, и так мне сделалось тепло и уютно в ее объятиях,
что я даже подумать не мог с нею расстаться. Я пообещал
Франциске, что сейчас же брошу ходить в гимназию и
стану ремесленником. Она только хохотала в ответ, но я
все не отставал со своими уверениями, и под конец она
меня вновь поцеловала и поклялась: ежели я и впрямь
уйду из гимназии, она станет моею и мне будет с ней
хорошо.
Тут Кнульп остановился и закашлялся. Его друг внима¬
тельно за ним наблюдал, оба молчали. Затем Кнульп про¬
должал:
— Теперь ты, в сущности, знаешь всю историю. Конеч¬
но, это произошло не так мгновенно, как я рассчитывал.
Коща я объявил отцу, что не желаю больше ходить в гим¬
назию, он отвесил мне две хорошие оплеухи. Я не знал, что
делать; порой даже подумывал, уж не поджечь ли мне шко¬
лу. Затея детская, но, по сути, дело обстояло для меня впол¬
не серьезно. Наконец мне пришел в голову единственный
возможный выход: я просто перестал учиться. Ты этого не
помнишь?
— В самом деле, что-то такое припоминаю. Тебя почти
каждый день оставляли без обеда.
— Да. Я прогуливал, скверно отвечал уроки, не делал
заданий и нарочно терял тетради — словом, каждый день
что-нибудь да выкидывал и в конце концов даже стал по¬
лучать от этого удовольствие, а уж учителям портил жизнь,
как только мог. Латынь и все прочее потеряли для меня
всякую важность. Знаешь, я всеща был таков: ежели что-
нибудь меня всерьез захватит, все остальное просто переста¬
ет существовать. Так было с гимнастикой, потом с ловлей
форели, с ботаникой, и вот теперь пришла очередь девчо¬
нок, и, покуда я не перебесился и всего не испробовал, ничто
другое меня не волновало. В самом деле, ведь это нелепо —
сидеть за партой и спрягать глаголы, коща все твои мысли
186
там, возле купальни, ще ты вчера подглядывал за девчон¬
ками. Ну, item1. Учителя, по-видимому, кое-что смекнули,
они неплохо ко мне относились и щадили меня, пока было
возможно, так что из моих замыслов ничего бы не вышло,
если бы я не свел дружбу с братом Франциски. Он учился
в народной школе в последнем классе и был в самом деле
испорченным парнишкой; я многому у него научился, но
ничему хорошему, и много от него натерпелся. Но за полго¬
да я достиг своей цели: отец избил меня до полусмерти,
однако из гимназии меня исключили, и я учился теперь в
том же классе, что и брат Франциски.
— А она? Эта девушка? — спросил Махольд.
— Да в том-то и беда. Она так и не сделалась моей
подружкой. С тех пор как я стал приходить к ним с ее
братом, она начала обходиться со мной все хуже, как
будто я теперь стоил еще меньше, чем прежде, только на
второй месяц моего учения в новой школе, коща я излов¬
чился удирать по вечерам из дому, я узнал всю правду.
Как-то поздно вечером я, по моему недавнему обыкнове¬
нию, шатался по Ридервальду и приметил на скамейке
какую-то парочку, а коща подкрался поближе, обнару¬
жил, что это Франциска с подмастерьем механика. Они
меня и не заметили, он обнял ее за шею, в руке — сига¬
ретка, блузка у нее расстегнута, противно смотреть. Так
что все оказалось напрасно.
Махольд ободряюще похлопал друга по плечу.
— Слушай, может, все вышло к лучшему.
Кнульп яростно затряс головой.
— Нет, не так. Я бы и сегодня отдал правую руку, толь¬
ко бы все тоща обернулось по-другому. Не смей мне ничего
плохого говорить про Франциску, я не желаю. Если бы все
было как надо, я узнал бы любовь иначе — прекрасную,
счастливую — и, может, тоща бы поладил и с отцом и со
школой. Потому что, знаешь, — как бы эго тебе объяснить? —
были у меня с тех пор друзья, и приятели, и женщины тоже,
но ни разу я уже не полагался на человеческое слово и себя
самого словом не связывал. Ни разу. Я прожил жизнь, как
было мне по нраву, была у меня свобода, было немало хо¬
рошего, но с тех пор я всеща был один.
1 Так вот (лат.).
187
Он опять взял стакан, осторожно допил последний гло¬
ток и встал.
— Если не возражаешь, пойду прилягу, не хочу больше
об этом говорить. Да и тебя, наверно, уже дела ждут.
Доктор кивнул.
— Послушай только одно. Я хочу сегодня же исхлопо¬
тать место в больнице, тебе это, может, и не улыбается, но
тут уж ничего не поделаешь. Если тебя срочно не поместить
под надзор врача, ты помрешь.
— Вот что, — сказал Кнульп с необычной для него
твердостью, — позволь уж мне помереть, как мне хочется.
Ты ведь знаешь, мне все равно ничего не поможет, поче¬
му я должен напоследок дать запереть себя в четырех
стенах?
— Кнульп, не надо так, будь же благоразумен! Грош мне
была бы цена, если бы я, врач, отпустил тебя странствовать.
В Оберштеттене мы наверняка получим место, я дам тебе с
собой рекомендательное письмо, а через недельку сам при¬
еду тебя проведать. Обещаю.
Бродяга как-то поник на своем стуле, казалось, он вот-
вот заплачет; при этом он потирал худые руки, как бы же¬
лая согреться. Затем взглянул на доктора молящим, детским
взором.
— Да, конечно, — сказал он совсем тихо. — Я не
прав, ты ведь так стараешься, и красное вино тоже... все
было даже слишком хорошо и слишком для меня роскош¬
но. Не сердись, но у- меня к тебе еще одна, последняя
просьба.
Махольд положил руку ему на плечо.
— Образумься, старина! Никто за горло тебя не берет.
В чем же просьба?
— Ты не рассердишься?
— Помилуй, за что?
— Тоща очень прошу тебя, Махольд, сделай одолже¬
ние, не посылай меня в Оберштеттен. Если уж непременно
в больницу, так пусть это будет Герберзау, там меня зна¬
ют, там я дома. Да и в отношении попечительства о бед¬
ных это, верно, удобнее: я тамошний уроженец, да и вооб-
ще...
Его глаза настойчиво молили, он едва мог говорить от
волнения.
«У него, верно, жар», — подумал Махольд. И ответил
спокойно:
— Если это все, о чем ты просишь, то не беспокойся. Ты
прав, я лучше напишу в Герберзау. А сейчас иди и ложись,
ты устал, ты чересчур много говорил.
Он следил, как тот побрел в дом, волоча нога, и вдруг
припомнил лето, коща Кнульп учил его ловить форель: ра¬
зумные, немного властные повадки, весь пыл и обаяние это¬
го пленительного двенадцатилетнего мальчика.
«Бедняга», — подумал он с умилением, которое ему как-
то мешало, быстро поднялся и поспешил по делам.
На следующее утро все вокруг затянуло туманом, и
Кнульп целый день пролежал в постели. Доктор дал ему
почитать несколько книг, которые он, впрочем, едва рас¬
крыл. Он был удручен, раздосадован, ибо с тех пор, как он
лежал, окруженный заботливым уходом, получая лучшую
пищу, он особенно явственно чувствовал, что дела его
плохи.
«Если я еще так пролежу, — мрачно размышлял он, —
я, пожалуй, уж и не встану». Не так уж он дорожил своей
жизнью, в последние годы дорога потеряла для него боль¬
шую часть своей былой привлекательности, но он не хотел
умирать, не повидав еще раз Герберзау и тайно со всем не
попрощавшись: с речкой и мостом, с базарной площадью, с
садом, коща-то принадлежавшим его отцу, и с той самой
Франциской. Все его более поздние увлечения были поза¬
быты, вообще вся длинная череда его страннических лет
вдруг сократилась для него и стала казаться маловажной,
зато далекие мальчишеские годы обрели новый блеск и вол¬
шебство.
Он внимательно оглядел простое убранство комнаты —
уже много лет он не жил в такой роскоши. Деловито разгля¬
дывал он и ощупывал полотно простынь, тонкие наволочки,
некрашеное шерстяное одеяло. Его занимал и пол из креп¬
ких дубовых досок, и фотография на стене, изображавшая
Дворец дожей в Венеции и вставленная в рамочку с мозаи¬
кой.
Затем он вновь лежал с открытыми глазами, ничего не
видя вокруг, бессильный, всецело поглощенный тем, что не¬
зримо происходило в его больном теле. Потом внезапно при¬
поднялся и, наклонившись, лихорадочно стал шарить под
кроватью; дрожащими пальцами вытащив оттуда свои баш¬
189
маки, он подверг их тщательному, придирчивому осмотру.
Новыми они дарно уже не были, но сейчас на дворе октябрь,
до первого снега, пожалуй, выдержат. А потом уж не надо.
Ему пришла в голову мысль, что можно было бы попросить
у Махольда пару старой обуви, но нет, тот только насторо¬
жится, ведь для больницы обувь не нужна. Он осторожно
ощупывал трещины на передке. Хорошенько смазать их жи¬
ром — и башмаки продержатся еще месяц. Он зря беспоко¬
ится, быть может, эти старые башмаки переживут его самого
и будут служить, коща он давно уж исчезнет со здешних
проселков.
Он уронил башмаки и попытался глубоко вздохнуть, но
ему стало так больно, что он закашлялся. Тоща он замер в
ожидании чего-то, коротко дыша, опасаясь, как бы ему сей¬
час не стало до того худо, что он не успеет выполнить по¬
следние свои желания.
Он попытался думать о смерти, как уже неоднократно
пытался прежде, но голова у него устала, и он задремал.
Коща он проснулся через час, ему показалось, что он про¬
спал целые сутки, и он почувствовал себя успокоенным и
освеженным. Он вспомнил о Махольде, и ему пришло в
голову оставить доктору какой-нибудь знак своей благодар¬
ности, коща он его покинет. Он хотел было переписать ему
одно из своих стихотворений, благо доктор вчера о них
спрашивал, но оказалось, что ни одно он сейчас не помнит
до конца и ни одно ему не нравится. В окно был виден
ближний лес и туман, клубящийся между деревьями, — он
смотрел на него так долго, пока его не осенило. Подобран¬
ным вчера в доме огрызком карандаша на листе белой бу¬
маги, прикрывавшем дно выдвижного ящика в его тумбочке,
он написал несколько строк
Цветам приходит
Пора увядать,
Коща ложится туман.
И людям приходит
Пора умирать, —
Тоща их в могилу кладут.
Но ведь и люди — те же цветы,
И они взойдут,
Коща будет весна.
И никто никоща не будет болеть,
И простится любая вина.
190
Он кончил и перечел написанное. Настоящей песни не
вышло, отсутствовали рифмы, но здесь было именно то, что
он желал выразить. Он еще послюнил карандаш и приписал
снизу: «Милостивому государю господину доктору Махоль-
ду с благодарностью от друга К.» Затем спрятал листок в
ящик тумбочки.
На следующий день туман усилился, но воздух был об¬
жигающе ледяной, и к полудню можно было ожидать солн¬
ца. В ответ на мольбы Кнульпа доктор разрешил ему под¬
няться и сообщил, что место в больнице Герберзау для него
уже приготовлено и его там ждут.
— Тоща сразу после обеда можно и отправляться, —
решил Кнульп. — Туда ходу всего часа четыре, от силы
пять.
— Этого еще не хватало, — рассмеялся Махольд. —
Нет, пешие походы теперь не для тебя, поедешь со мной в
бричке, если не представится другой оказии. Сейчас пошлю
к Шульце, он, верно, отправит в город овощи или карто¬
фель. Один день тут ничего не решает.
Гость вынужден был подчиниться, и, коща выяснилось,
что назавтра работник Шульце и впрямь поедет в Герберзау,
повезет двух телят на продажу, решено было, что Кнульп
отправится с ним.
— Тебе бы еще сюртук потеплее, — сказал Махольд. —
Мой возьмешь или будет широк?
Кнульп не имел ничего против сюртука доктора, его
принесли, примерили и нашли впору. Поскольку он был
почти новый и сшит из хорошего сукна, прежнее ребяче¬
ское тщеславие вдруг овладело Кнульпом: он немедля
уселся и стал переставлять пуговицы. Доктор с улыбкой
предоставил ему этим заниматься и еще подарил вдобавок
манишку.
После обеда Кнульп украдкой примерил свой новый ко¬
стюм, и, так как выглядел он в нем щеголевато, почти как
в прежние времена, его взяла досада, что он так давно не
брился. Обратиться к домоправительнице и попросить док¬
торскую бритву он не решался, но в этой деревне он коща-то
знал кузнеца и решил сделать попытку.
Вскоре он без труда отыскал кузню, вошел внутрь и с
порога произнес старинное цеховое приветствие:
— Чужой кузнец не прочь поковать!
Мастер смерил его холодным испытующим взглядом.
191
— Вовсе ты не кузнец, — равнодушно ответил он. —
Заливай другому!
— Верно, — согласился бродяга. — У тебя зоркий глаз,
мастер, и все же ты меня не узнал. Припомни, я был прежде
музыкантом, и не один субботний вечер ты отплясывал в
Хайтербахе под мою гармонику.
Кузнец насупил брови, сделал еще несколько машиналь¬
ных движений напильником, потом провел Кнульпа к свету
и внимательно его оглядел.
— Да, теперь я тебя признал, — усмехнулся он. — Зна¬
чит, ты Кнульп. Видно, чем дольше не видишься, тем боль¬
ше стареешь. Чего тебе надо в Булахе? Впрочем, за десятью
пфеннигами и за стаканчиком сидра я не постою.
— Это прекрасно с твоей стороны, кузнец, считай, что я
это оценил. Но пришел я за другим. Не одолжишь ли ты
мне на четверть часа свою бритву, я, видишь ли, собрался
на танцы.
Мастер погрозил ему пальцем.
— Ну и здоров же ты врать! Если судить по твоему виду,
тебе сейчас не до танцев.
Кнульп удовлетворенно захихикал.
— Ты замечаешь все! Просто жаль, что ты у нас не ок¬
ружной судья. Да, верно, мне завтра отправляться в боль¬
ницу, Махольд меня туда посылает, и, понятно, я не хочу
явиться к ним обросшим, как медведь. Дай мне бритву, че¬
рез полчаса я тебе ее верну.
— Вот как? А куда ты с ней пойдешь?
— Да к доктору, я у него ночую. Слушай, дашь ты мне
ее?
Кузнецу все это казалось сомнительным, он глядел недо¬
верчиво.
— Ладно уж, бери. Только помни, это не простая бритва,
а настоящая золингенская сталь. Я хочу, чтобы она непре¬
менно ко мне вернулась.
— Да не беспокойся ты!
— Ну хорошо. Я вижу, дружок, на тебе отличный сюр¬
тук, для бритья он тебе не нужен. Вот что я тебе скажу:
разденься и оставь сюртук, а принесешь бритву — полу¬
чишь его назад.
Бродяга поморщился.
— Согласен. Особым благородством ты, кузнец, не от¬
личаешься, но пусть будет по-твоему.
192
Кузнец притащил наконец бритву, и Кнульп оставил за
нее в залог сюртук, хотя ему было неприятно,* что кузнец
трогал его своими черными от сажи ручищами. Через пол¬
часа он возвратился и принес назад золингенскую бритву —
клочковатая бородка его исчезла, и выглядел он совсем по-
другому.
— Теперь тебе гвоздику за ухо, и можешь свадьбу иг¬
рать, — одобрил его кузнец.
Но Кнульп больше не был расположен к шуткам, он на¬
дел свой сюртук, коротко поблагодарил и удалился.
На обратном пути перед домом он встретил доктора, ко¬
торый удивился, увидев его.
— Где это тебя носит? И как ты выглядишь? Никак по¬
брился! Ох, Кнульп, ты еще совсем ребенок!
Но ему это понравилось, и вечером Кнульп снова по¬
лучил красное вино* Друзья пили на прощанье, оба шути¬
ли, как могли, оба старались скрыть внутренние подавлен¬
ность.
Утром в назначенный час подкатил батрак Шульце на
телеге, где в дощатой клетке качались на дрожащих ножках
два теленка и пристально вглядывались в холодное утро.
Впервые в тот день на лугах выпал иней. Кнульпа посадшш
на козлы рядом с батраком, колени прикрыли одеялом, док¬
тор пожал ему руку и сунул батраку полмарки; телега за¬
грохотала навстречу лесу, батрак раскурил трубку,, а
Кнульп, моргая сонными глазами, воззрился в белесое сты¬
лое небо.
Позже проглянуло солнце, к полудню вовсе распогоди¬
лось. Двое на козлах отлично поладили друг с другом, и,
коща они подъехали к Герберзау, батрак непременно желал
сделать крюк со своими телятами и подвезти Кнульпа прямо
к больнице. Кнульп, однако, его отговорил, и они дружески
расстались перед въездом в город. Кнульп остался стоять на
дороге и долго глядел вслед телеге, пока она не скрылась за
кленами у самого скотного рынка.
Он улыбнулся и мгновенно нырнул на узкую заросшую
тропку между садами, известную только местным урожен¬
цам. Он снова на воле! В больнице могут обождать.
И вот воротившийся странник вновь вбирал в себя свет
и дыхание, звуки и запахи родины, волнующее и насыщаю¬
щее чувство, что ты дома: возню крестьян^ и бюргеров на
7 4-161
193
скотном рынке, сквозные тени пожелтевших каштанов,
предсмертный полет темных осенних бабочек над городского
стеной, пение четырехструйного фонтана на базарной пло¬
щади, запах вина и звонкий деревянный перестук из свод¬
чатого подвала бочарной мастерской. И такие знакомые на¬
звания улиц, над каждой из которых обильно роятся воспо¬
минания. Всем существом впивал в себя бездомный это мно¬
гогранное волшебство: ощущать себя дома, знать, узнавать,
вспоминать, быть на «ты» с каждым перекрестком и с каж¬
дой уличной тумбой. Всю вторую половину дня он без уста¬
ли обходил улицы, одну за другой, слушал гудение точила
на берегу реки, постоял у окошка токарной мастерской, про¬
читал на свежих табличках старые знакомые имена почтен¬
ных семейств. Он окунул руку в каменный бассейн фонтана,
но утолить жажду решился лишь в «Настоятельном источ¬
нике», который все так же таинственно, как в былые време¬
на, вытекал прямо из-под фундамента старинного дома и
журчал между каменных плит в светлом сумраке навеса. Он
долго стоял у реки, опираясь на деревянную ограду, и сле¬
дил за текущей водой: в ней качались длинные пряди тем¬
ных водорослей, и узкие спинки рыб неподвижно чернели
над вздрагивающей галькой. Он ступил на ветхие деревян¬
ные мостки и на самой середке их встал на колени, как
коща-то мальчишкой, чтобы ощутить прекрасную живую
упругость дерева.
Не спеша пустился он дальше, бродил, ничего не про¬
пуская: ни церковной липы посреди небольшого зеленого
газона, ни плотины на верхней мельнице, где в прежние
годы он больше всего любил купаться. Он постоял перед
домиком, в котором когда-то жили его родители, нежно
коснулся спиной выщербленной двери и через новую уны¬
лую ограду из проволоки глядел на сад, засаженный по-
новому, — но каменные ступеньки, изъеденные дождями,
и раскидистое айвовое дерево у ворот были все те же.
Здесь Кнульп провел лучшие дни своей жизни, еще до
того, как он добился, чтобы его выгнали из гимназии,
здесь он изведал коща-то полное, безграничное счастье,
свершение без предела, блаженство без горечи, сладо¬
стный летний вкус краденой вишни на языке, короткие
мирные радости садовода, наблюдающего и ухаживающего
за своими цветами: милые желтофиоли, задорные вьюнки,
нежные бархатистые анютины глазки, — а клетки для
194
кроликов, а верстак, а постройка и запуск змея, водопро¬
вод из бузинных трубок и мельничное колесо из катушки
и щепок. Не было ни одного чердака, на котором он бы не
играл с кошками, не было сада, плодов которого он не
попробовал бы на вкус, не было дерева, на которое он бы
не взобрался, в ветвях которого не обрел бы уютное зеле¬
ное гнездышко. Эта частичка света принадлежала ему, вся
была им познана и любима; каждый куст, каждая изго¬
родь здесь имели для него свое неповторимое значение,
свой смысл и могли рассказывать множество историй,
каждый дождь и снегопад что-то говорили его душе, здеш¬
ние земля и воздух пребывали в его снах и мечтах, отвеча¬
ли на них, вдыхали в них жизнь. И сегодня еще, думал
Кнульп, не найдется владельца дома или сада, которому
все это принадлежало бы больше, чем ему, было бы более
важно, более ценно, больше говорило бы душе, больше
пробуждало бы воспоминаний.
Зажатый между двумя крышами, отвесно вздымался
серый остроконечный щипец узкого дома. В те времена
там жил дубильщик Хаазис, и там нашли конец детские
игры и мальчишеские радости Кнульпа, сменившись пер¬
выми секретами и нежной возней с девчонками. Оттуда он
возвращался вечерами по темной улице с бьющимся серд¬
цем и робким предчувствием любовных наслаждений, там
он расплетал косички дочерям дубильщика и пьянел от
поцелуев прекрасной Франциски. Он пойдет туда вечером,
попозднее, или завтра. Эти воспоминания сейчас не так
его привлекали, он охотно отдал бы их все за память об
одном-единственном часе более ранней, мальчишеской
своей поры.
Час и долее он просидел у забора, глядя в сад, но видел
вовсе не этот чужой незнакомый сад с молодыми ягодными
кустами, по-осеннему голый и некрасивый. Перед глазами
у него стоял сад отца, его собственные цветы на маленькой
клумбочке, посаженные на пасху примулы и остекленевшие
бальзамины, галечные горки, на которые он, наверное, сто
раз сажал пойманных ящериц, сокрушаясь, что ни одна не
желает жить тут и быть его домашним зверьком, но преис¬
полняясь новых надежд и ожиданий всякий раз, как прита¬
скивал еще одну. Пусть бы ему подарили сегодня все дома
и сады, все цветы, всех ящериц и пичуг на свете — какая
этому цена в сравнении с волшебством того единственного
7*
195
цветка, который рос в его садике и медленно распускал из
бутона свои драгоценные лепестки. А смородиновые кусты,
каждый из которых он знал на память! Их больше нет, они
не были вечными, неистребимыми, и вот кто-то выкопал их
из земли и вырвал с корнем, развел костер, и все разом
сгорело — ветви, корни, увядшие листья, — и никто о них
не пожалел.
Да, здесь у него бывал Махольд. Теперь он доктор и
важный господин, ездит в собственной бричке с визитами
к больным и при этом остался добрым искренним челове¬
ком; но даже он, даже этот умный подтянутый мужчина —
какая цена ему в сравнении с тем доверчивым, робким,
полным ожиданий и нежности мальчуганом? Здесь Кнульп
учил его искусству строить клетки для мух и домики для
улиток, был его наставником, его старшим, умным, обожа¬
емым другом.
Соседская сирень состарилась и высохла, а дощатый до¬
мик в соседнем саду развалился, и что ни построй взамен,
оно никоща не будет так радовать взгляд, не будет таким
прекрасным и уместным, каким все было коща-то.
Начало смеркаться и похолодало, коща Кнульп покинул
наконец заросшую тропку между садами. С башни новой
церкви, сильно изменившей вид города, громко и отчетливо
бил новый колокол.
Через ворота он прокрался в сад дубильщика, был суб¬
ботний вечер, в этот час здесь не было ни души. Неслышно
прошел он по мягкой раскисшей земле, меж зияющих ям со
щелочным раствором, ще мокли кожи, до невысокой огра¬
ды, за которой уже темнела река, обтекая большие, оброс¬
шие мохом зеленые камни. Это было то самое место — здесь
в вечерний час сидела тоща Франциска, болтая в воде го¬
лыми ногами.
Если бы только она меня не морочида понапрасну, думал
Кнульп, все могло бы быть иначе. Пусть я упустил гимна¬
зию, учение, — у меня бы достало сил и воли хоть кем-то
стать. Как проста, как ясна была жизнь! Тоща он отказался
от всего, ни о чем не захотел знать, и жизнь легко с этим
согласилась и ничего от него не потребовала. И он оказался
вне ее, бездельник, сторонний наблюдатель, столь любимый
в щедрые юные годы и столь одинокий в старении и бо¬
лезни.
196
Его охватила великая усталость, он присел на ограду, и
река шумела не внизу, а в его мыслях. Над ним осветилось
оконце, напомнив, что поздно, нельзя, чтобы его здесь за¬
стали.* Он бесшумно выбрался из сада, выскользнул из во¬
рот, запахнул сюртук поплотнее и стал размышлять о ноч¬
леге. У него были при себе деньги, доктор подарил ему, и
после краткого раздумья он выбрал один из постоялых дво¬
ров. Он мог, конечно, заночевать в «Ангеле» или в «Лебе¬
де», там бы его узнали, он встретил бы друзей, но это ему
сейчас вовсе не улыбалось.
Много перемен нашел он в родном городе, раньше он обо
всем бы осведомился с величайшим интересом, но сейчас не
желал ни видеть, ни слышать, ни знать ничего, что не отно¬
силось бы к его прошлому. После коротких расспросов он
выяснил, что Франциски уже нет в живых, и все для него
поблекло, ему вдруг показалось, что он возвратился только
ради нее. Нет, не имело более смысла бродить по улицам,
пробираться между садами и выслушивать участливые шут¬
ки тех, кто знал его раньше. И коща он в переулке возле
почты повстречал ненароком окружного врача, ему пришло
в голову, что его могут хватиться в больнице и объявить
розыск. Тоща он поскорее купил у булочника две сайки,
запихал их в карманы и еще до полудня покинул город,
начав подъем по крутой горной дороге.
Там, наверху, у самого края леса, у последнего большого
поворота дороги, сидел на куче камней запыленный человек
и длинным молотком раскалывал глыбы серо-голубого ра¬
кушечника.
Кнульп поздоровался и остановился возле него.
— Бог в помощь! — отозвался тот, не поднимая головы
и продолжая стучать.
— Пожалуй, погода долго не простоит, — попробовал
завязать разговор Кнульп.
— Все может быть, — пробурчал каменотес и поднял на
миг голову, жмурясь от света. — Куда путь держите?
— В Рим, к папе, — бодро отозвался Кнульп. — Далеко
мне еще идти?
— Сегодня не дойдете. А ежели будете останавливаться
и отрывать людей от работы, вам и за год не добраться.
— Вы так думаете? Впрочем, я, слава Богу, не спешу.
Ох, до чего же вы прилежный человек, господин Андрес
Шайбле.
197
Каменотес поставил ладонь козырьком и еще раз внима¬
тельно оглядел путника.
— Стало быть, вы меня знаете, — проговорил он степен¬
но и осторожно. — Сдается мне, что и я вас знаю. Только
вот имя никак не припомню.
— Спроси хозяина «Краба«, где мы с тобой посиживали
anno 1 девяностом; только его небось уж на свете нет.
— Давно уж нет. Теперь мне что-то брезжит, старый
приятель. Ты Кнульп. Посиди немного, в ногах правды
нет.
Кнульп присел на камень, он слишком быстро поднимал¬
ся и сейчас трудно дышал; он теперь только заметил, как
уютно и красиво расположился городок в долине: сияющая
голубая река, скопление темно-красных крыш и между ними
маленькие зеленые островки.
— Славно у тебя здесь наверху, — сказал он, борясь с
одышкой.
— Да ничего, грех жаловаться! А у тебя как дела? Не¬
бось раныпе-то в горку поднимался полегче? Ты пыхтишь
как паровоз, Кнульп. Что, снова потянуло поглядеть на род¬
ные места?
— Верно, Шайбле, в последний разочек.
— Почему так?
— Да легкие совсем никуда... Не знаешь ничего против
этой хвори?
— Сидел бы ты дома, мой милый, работал бы день за
днем, завел жену, ребятишек и каждый вечер ложился бы в
свою кровать — глядишь, все было бы по-другому. Ну, что
я об этом думаю, то я тебе еще тоща высказал. Теперь уж
ничего не поправишь. А что, совсем худо стало?
— Да не знаю. Нет, вру, знаю отлично: дела мои идут
под горку, и с каждым днем все шибче. Потому, может, и
лучше, что я один, никому не в тягость.
— Да с какой стороны поглядеть; впрочем, это дело твое.
Но мне тебя жаль.
— Не стоит жалеть. Всем придет черед помирать, даже
и каменотесам. Послушай, старина, мы сидим сейчас с тобой
один на один, и незачем так уж задаваться. Ты ведь коща-то
тоже мечтал о другом, разве ты не хотел работать на желез¬
ной дороге?
1 В году (лат).
198
— Ах, да это коща было!
— А дети твои здоровы?
— А как же. Якоб уже сам зарабатывает.
— Вот как? Ну и бежит время! Ладно, думаю, что мне
пора дальше.
— Не спеши! Ведь так давно не видались. Скажи мне,
Кнульп, могу я тебе хоть чем-нибудь помочь? Много-то я
при себе не имею, а полмарки есть.
— Они тебе самому пригодятся, дружище! Благодарю,
мне не надо.
Он хотел было еще что-то добавить, но словно обруч
стиснул ему сердце, и он замолк; каменотес дал ему отхлеб¬
нуть из своей фляги. Некоторое время оба молчали и гля¬
дели вниз на город; пруд возле мельницы ослепительно
сверкал на солнце, по мосту медленно ехала груженая теле¬
га, а из-под плотины не спеша выплывал выводок белых
гусят.
— Теперь уж я точно отдохнул, пора двигаться дальше, —
снова начал Кнульп.
Каменотес, погруженный в свои мысли, только покачал
головой.
— Послушай, — сказал он, с трудом подбирая слова, —
ты ведь мог не только не дойти до такой бедности, а
просто-таки много достичь. Чертовски за тебя обидно. Зна¬
ешь, Кнульп, я, конечно, не штундист, но я верю тому,
что написано в Библии. Вспомни и ты об этом: когда надо
будет держать ответ, нелегко тебе придется! Дарований у
тебя было больше, чем у любого другого, и ничего из тебя
не вышло. Ты не должен на меня сердиться, что я так
говорю.
Кнульп усмехнулся, искорка прежнего озорства про¬
мелькнула в его глазах. Он дружески похлопал каменотеса
по плечу и встал.
— Поживем — увидим, Шайбле. Может, Господь Бог
вовсе не станет меня допрашивать: почему ты, такой-ся-
кой, не стал судьей? Может, он только скажет: «Ты снова
здесь, Кнульп, дитя неразумное?» — и даст мне работенку
полегче — присматривать за ребятишками или еще что.
Андрес Шайбле только пожал плечами под своей синей
в белую клетку рубашкой.
199
— С тобой невозможно говорить серьезно. Ты вообража¬
ешь, что стоит явиться Кнульпу — и сам Господь станет
шуточки шутить.
— Вовсе нет. Но ведь может и так случиться, не прав¬
да ли?
— Не говори этого!
На прощанье они пожали друг другу руки, и каменотес
все же ухитрился всучить ему монетку, которую незаметно
выгреб из кармана. Кнульп взял ее, не сопротивдяясь, что¬
бы не портить ему радость.
Он кинул прощальный взгляд на родную долину, еще
разок кивнул Андресу Шайбле, сильно закашлялся и быст¬
рым шагом зашагал прочь, вскоре исчезнув за верхним вы¬
ступом леса.
Через две недели, после того как туман и холода еще
раз сменились солнечными днями с поздними колокольчи¬
ками и переспелой ежевикой, внезапно наступила зима.
Ударил сильный мороз, на третий день, коща в воздухе
чуть потеплело, начали падать частые тяжелые хлопья
снега.
Кнульп все эти дни проскитался без цели по родной
округе, он еще дважды, спрятавшись в лесу, видел непода¬
леку от себя каменотеса Шайбле, наблюдал за ним, но
окликать его больше не стал. Слишком много ему прихо¬
дилось думать и во время этих долгих, трудных и беспо¬
лезных переходов он все больше запутывался в терновых
дебрях своей впустую растраченной жизни, не находя ни
смысла, ни утешения. Затем на него с новой силой обру¬
шилась болезнь, и дело дошло до того, что в один пре¬
красный день он чуть было сам не явился в Герберзау и не
постучал в двери больницы. Но коща после многодневного
одиночества он снова увидел внизу родной город, все от
него исходившее звучало так чуждо и враждебно душе
Кнульпа, что ему стало ясно: там ему делать нечего. Вре¬
мя от времени он заходил в деревни и покупал немного
хлеба, а лесных орехов было везде вдоволь. Ночи Кнульп
проводил в опустевших хижинах лесорубов или просто на
поле, зарывшись в скирду соломы.
На этот раз в сильную метель он спустился с Волчьей
горы и вышел к нижней мельнице, разбитый и усталый, но
все еще на ногах, как будто обязан был до предела прожить
200
недолгий остаток жизни и все мчаться вперед по лесным
просекам и дорогам. Как он ни был болен и слаб, его глаза
и ноздри сохраняли былую живость, и еще сейчас, безо вся¬
кой цели, он приглядывался и принюхивался, как чуткий
охотничий пес, не пропуская ни одного бугорка, ни одного
звериного следа, ни одного порыва ветра. Он делал это по¬
мимо воли, и ноги его шли сами собой.
В мыслях же своих, как все последние дни, он опять
предстоял перед Господом Богом и непрерывно с ним бесе¬
довал. Страха он не испытывал, он знал, что Бог ничего не
может нам сделать. Они беседовали друг с другом, Бог и
Кнульп, о бесполезности прожитой Кнульпом жизни и о
том, как все могло бы быть по-другому и почему то или это
случилось так, а не иначе.
— С той поры все и началось, — упорствовал Кнульп, —
с той поры, как мне было четырнадцать и Франциска меня
бросила. Тоща из меня еще что угодно могло получиться.
Но что-то во мне умерло или сломалось, и я уже был ни
на что не годен. Ах, нечего говорить, ошибка в том, что ты
не дал мне умереть в четырнадцать лет. Тоща моя жизнь
была бы такой же прекрасной и совершенной, как спелое
яблоко.
Господь Бог, однако, все время улыбался, слушая
Кнульпа, и по временам его лицо пропадало в метели.
— Нет, Кнульп, — говорил он назидательно, — вспом¬
ни свои юношеские скитания, вспомни лето в Оденвальде
и лехштеттенские деньки. Разве же ты не отплясывал там,
как молодой олень, не чувствовал, как благодатная жизнь
играет во всех твоих помыслах? Разве ты не пел и не
играл на гармонике так, что девушки глаз с тебя не своди¬
ли? А помнишь еще летнюю пору в Бауэрсвилле? А пер¬
вую подружку твою, Генриетту? Разве всего этого не бы¬
ло?
И Кнульп припоминал все это, и, как дальние огни на
вершинах гор, смутно и прекрасно мерцали ему радостные
дни его юности; от них исходил тяжелый сладкий аромат,
как от вина и меда, и пели они низкими голосами, как ноч¬
ной ветер в пору оттепели в преддверье весны. О Господи,
это было прекрасно, и радость была прекрасна и печаль, и
мучительно жаль каждого дня, который упущен!
— Да, это было прекрасно, — вынужден признать он, но
говорит он это капризно и упрямо, как усталый ребенок. —
201
Тогда было прекрасно. Конечно, и чувство вины бывало, и
грусть тоже. Правда твоя, это были славные годы, и немно¬
гие, наверно, так осушали стаканы, отплясывали такие тан¬
цы и праздновали ночами такие свадьбы, как я тоща. Но
потом, потом пусть бы на этом все и кончилось! Уже и тоща
на розе были шипы, а после и вовсе не было таких хороших
времен. Нет, с тех пор не было.
Господь почти совсем исчез за густой пеленой снега.
Только когда Кнульп остановился ненадолго, чтобы пере¬
вести дух и сплюнуть в снег маленькие красные сгустки
крови, Господь снова был тут как тут и незримо подал
голос.
— Скажи на милость, Кнульп, разве ты не неблагодар¬
ный человек? Смех берет, до чего ты забывчив! Мы сейчас
вспоминали о той поре, когда ты был первым танцором, и
о твоей Генриетте, и тебе поневоле пришлось согласиться,
что это было и прекрасно, и славно, и уж ничуть не
бессмысленно. Но если вспоминать так про Генриетту, мой
милый, то что уж сказать про Лизабет? Или ее ты совсем
позабыл?
И снова, как дальние горы, встало перед ним прошлое,
и хоть выглядело оно теперь не так весело и радостно, зато
сияло теплее и задушевнее, словно женщина улыбалась
сквозь слезы, и из могил вставали дни и часы, о которых он
давно уж не вспоминал. А посреди всего стояла Лизабет, с
прекрасными, печальными глазами, и держала на руках
крошечного мальчонку.
— Какой я, однако, был негодяй! — снова стал сетовать
Кнульп. — Нет, после того как умерла Лизабет, жить мне
уж вовсе не следовало!
Но Господь не дал ему продолжать. Он посмотрел на
него проницательным взглядом светлых глаз и сказал:
— Оставь, Кнульп! Ты причинил Лизабет много горя,
что верно, то верно, но ты ведь прекрасно знаешь, что она
видела от тебя больше хорошего, чем плохого, и никоща на
тебя не гневалась. Ты все еще не догадался, дитя неразум¬
ное, в чем был смысл всего? Ты все еще не догадался, мой
милый, зачем тебе суждено было пройти по жизни легко¬
мысленным бездельником и бродягой? Да затем, чтобы вне¬
сти в мир хоть малую толику детского сумасбродства и
детского смеха. Затем, чтобы люди тебя повсюду чуточку
202
любили, чуточку поддразнивали и чуточку были тебе благо¬
дарны.
— В конечном счете это правда, — чуть слышно согла¬
сился Кнульп, немного помолчав. — Но все это было рань¬
ше, когда я был еще молод. Почему, ну почему ничто меня
не научило и я так и не стал порядочным человеком? Еще
можно было успеть.
Снегопад на некоторое время прекратился. Кнульп пе¬
редохнул и хотел было смахнуть с одежды и шляпы тол¬
стый слой снега, но так и не сделал этого, он был слиш¬
ком утомлен и рассеян. Господь стоял теперь совсем близ¬
ко, светлые его глаза были широко раскрыты и сияли, как
солнце.
— Когда же ты будешь доволен, — наставлял его Гос¬
подь, — к чему эти непрерывные жалобы? Ты что, и в самом
деле не понимаешь, что все было хорошо и не могло быть
иначе? Неужто тебе сейчас хочется быть почтенным госпо¬
дином или мастером, иметь жену и детей, читать по вечерам
газету? Да разве мог бы ты не удрать от всего этого куда
глаза глядят, в чащу лесную спать вместе с лисами, ставить
ловушки на птиц и дрессировать ящерок?
Кнульп снова побрел вперед, от усталости он качался из
стороны в сторону, но не замечал этого. На душе у него
стало теперь гораздо легче, и он благодарно кивал головой
на все, что говорил Господь.
— Слушай, — говорил ему Господь, — ты мне был ну¬
жен такой, какой ты есть. Во имя мое ты странствовал и
пробуждал в оседлых людях смутную тоску по свободе. Во
имя мое ты делал глупости и бывал осмеян; это я сам был
осмеян в тебе и в тебе любим. Ты дитя мое, брат мой, ты
частица меня самого, все, что ты испытал и выстрадал, я
испытал вместе с тобой.
— Да, — отвечал Кнульп, с трудом кивая головой. —
Да, это так, я всеща это знал.
Он спокойно лежал в снегу, усталые члены его обрели
необыкновенную легкость, а воспаленные глаза улыба¬
лись.
И коща он их закрыл, чтобы хоть немного поспать, он
все еще продолжал слышать голос и видеть ясные глаза Гос¬
пода.
— Значит, жаловаться больше не на что? — спрашивал
голос.
203
— Не на что, — послушно кивал Кнульп и смущенно
смеялся.
— И все хорошо? Все как должно быть?
— Да, — кивал он. — Все как должно быть.
Голос Господа становился все тише и звучал теперь то
как голос его матери, то как голос Генриетты, то как добрый'
мелодичный голос Лизабет.
Когда Кнульп вновь приоткрыл глаза, сияло солнце и
так слепило, что он опять быстро сомкнул веки. Он почув¬
ствовал, как на его руках тяжело лежит снег, и хотел было
сбросить его, но непобедимое желание уснуть пересилило в
нем все другие желания.
ДЕМИАН
История
юности Эмиля Синклера
1919
DEMIAN
Die Geschichte
einer Jugend von Emil Sinclairs
1919
Я ведь всего только и хотел — попытаться жить
тем, что само рвалось из меня наружу.
Почему же это было так трудно?*
Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать изда¬
лека, Мне следовало бы, будь это возможно, вернуть¬
ся гораздо дальше назад, в самые первые годы моего дет¬
ства, и еще дальше, в даль моего происхождения.
Писатели, коща они пишут романы, делают вид, будто
они Господь Бог и могут целиком охватить и понять какую-
то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если
бы ее рассказывал себе сам Господь Бог, без всякого тумана,
только существенное. Я так не могу, да и писатели тоже не
могут. Но мне моя история и важнее, чем какому-нибудь
писателю его история; ибо это моя собственная история, а
значит, история человека не выдуманного, возможного, иде¬
ального или еще как-либо не существующего, а настоящего,
единственного в своем роде, живого человека. Что это такое,
настоящий живой человек, о том, правда, сегодня знают
меньше, чем коща-либо, и людей, каждый из которых есть
драгоценная, единственная в своем роде попытка природы,
убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то
большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы
нас действительно можно было полностью уничтожить пу¬
лей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но
каждый человек — это не только он сам, это еще и та един¬
ственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом слу¬
чае важная и замечательная точка, где явления мира скре¬
щиваются именно только однажды и никоща больше. Поэ¬
тому история каждого человека важна, вечна, божественна,
поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю
природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом
207
приобрел образ дух, в каждом страдает живая тварь, в каж¬
дом распинают Спасителя.
Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чув¬
ствуют это, и потому им легче умирать, как и мне легче
умереть, когда допишу эту историю.
Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все
еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах,
я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне
кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой
гармонии выдуманных историй, она отдает бессмыслицей и
душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто
уже не хочет обманываться.
Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попыт¬
ка пути, намек на тропу. Ни один человек никоща не был
самим собой целиком и полностью; каждый тем не менее
стремится к этому, один глухо, другой отчетливей, каждый
как может. Каждый несет с собой до конца оставшееся от
его рождения, слизь и яичную скорлупу некоей первобыт¬
ности. Иной так и не становится человеком, остается лягуш¬
кой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху
человек, а внизу рыба. Но каждый — это бросок природы
в сторону человека. И происхождение у всех одно — мате¬
ри, мы все из одного и того же жерла; но каждый, будучи
попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей
собственной цели. Мы можем понять друг друга; но объяс¬
нить может каждый только себя.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ДВА МИРА
Я начну свою историю с одного происшествия той поры,
коща мне было десять лет и я ходил в гимназию нашего
города.
Многое наплывает на меня оттуда, пробирая меня болью
и приводя в сладостный трепет: темные улицы, светлые до¬
ма, и башни, и бой часов, и человеческие лица, и комнаты,
полные уюта и милой теплоты, полные тайны и глубокого
страха перед призраками. Пахнет теплой теснотой, кроли¬
ками и служанками, домашними снадобьями и сушеными
фруктами. Два мира смешивались там друг с другом, от
двух полюсов приходили каждый день и каждая ночь.
208
Одним миром был отцовский дом, но мир этот был даже
еще уже, он охватывал, собственно, только моих родителей.
Этот мир был мне большей частью хорошо знаком, он озна¬
чал мать и отца, он означал любовь и строгость, образцовое
поведение и школу. Этому миру были присущи легкий
блеск, ясность и опрятность. Здесь были вымытые руки, мяг¬
кая приветливая речь, чистое платье, хорошие манеры.
Здесь пели утренний хорал, здесь праздновали Рождество. В
этом мире существовали прямые линии и пути, которые вели
в будущее, существовали долг и вина, нечистая совесть и ис¬
поведь, прощение и добрые намерения, любовь и почтение,
библейское слово и мудрость. Этого мира следовало дер¬
жаться, чтобы жизнь была ясной и чистой, прекрасной и упо¬
рядоченной.
Между тем другой мир начинался уже в самом нашем
доме и был совсем иным, иначе пахнул, иначе говорил, дру¬
гое обещал, другого требовал. В этом втором мире сущест¬
вовали служанки и подмастерья, истории с участием нечи¬
стой силы и скандальные слухи, существовало пестрое мно¬
жество чудовищных, манящих, ужасных, загадочных ве¬
щей, таких, как бойня и тюрьма, пьяные и сквернословящие
женщины, телящиеся коровы, павшие лошади, рассказы о
грабежах, убийствах и самоубийствах. Все эти прекрасные
и ужасные, дикие и жестокие вещи существовали вокруг, на
ближайшей улице, в ближайшем доме, полицейские и бро¬
дяги расхаживали повсюду. Пьяные били своих жен, толпы
девушек текли по вечерам из фабрик, старухи могли напу¬
стить на тебя порчу, в лесу жили разбойники, сыщики ло¬
вили поджигателей — везде бил ключом и благоухал этот
второй, ожесточенный мир, везде, только не в наших ком¬
натах, где были мать и отец. И это было очень хорошо. Это
было чудесно, что существовало и все то другое, все то гром¬
кое и яркое, мрачное и жестокое, от чего можно было, од¬
нако, в один миг укрыться у матери.
И самое странное — как оба эти мира друг с другом
соприкасались, как близки они были друг к другу! Напри¬
мер, наша служанка Лина, коща она вечером, за молитвой,
сидела в гостиной у двери и своим звонким голосом пела
вместе с другими, положив вымытые руки на выглаженный
передник, тоща она была целиком с отцом и матерью, с
нами, со светлым и правильным. А сразу после этого, в кух¬
не или в дровянике, коща она рассказывала мне сказку о
человечке без головы или коща она спорила с соседками в
209
маленькой мясной лавке, она была совсем другая, принад¬
лежала к другому миру, окутывалась тайной. И так бывало
со всем на свете, чаще всего со мной самим. Конечно, я
принадлежал к светлому и правильному миру, я был сыном
своих родителей, но, куда ни направлял я свой взгляд и
слух, везде присутствовало это другое, и я жил также и в
нем, хотя оно часто бывало мне чуждо и жутко, хотя там
обыкновенно появлялись нечистая совесть и страх. Порой
мне даже милее всего было жить в этом запретном мире, и
возвращение домой, к светлому, — при всей своей необхо¬
димости и благотворности — часто ощущалось почти как
возврат к чему-то менее прекрасному, более скучному и
унылому. Иногда я знал: моя цель жизни — стать таким,
как мой отец и моя мать, таким же светлым и чистым, таким
же уверенным и порядочным; но до этого еще долгий путь,
до этого надо отсиживать уроки в школе, быть студентом,
сдавать всякие экзамены, и путь этот идет все время мимо
другого, темного мира, а то и через него, и вполне возмож¬
но, что в нем-то как раз и останешься и утонешь. Сколько
угодно было историй о блудных сыновьях, с которыми
именно так и случилось, я читал их со страстью. Возвраще¬
ние в отчий дом и на путь добра всеща бывало там замеча¬
тельным избавлением, я вполне понимал, что только это
правильно, хорошо и достойно желания, и все же та часть
истории, что протекала среди злых и заблудших, привлека¬
ла меня гораздо больше, и если бы можно было это сказать
и в этом признаться, то иноща мне бывало, в сущности,
даже жаль, что блудный сын раскаялся и нашелся. Но этого
ни говорить, ни думать не полагалось. Это ощущалось толь¬
ко подспудно, как некое предчувствие, некая возможность.
Коща я представлял себе черта, я легко мог вообразить его
идущим по улице, открыто или переодетым, или где-нибудь
на ярмарке или в трактире, но никак не у нас дома.
Мои сестры принадлежали тоже к светлому миру. Они,
как мне часто казалось, были, по сути, ближе к отцу и мате¬
ри, они были лучше, нравственнее, непогрешимее, чем я. У
них были недостатки, были дурные привычки, но мне каза¬
лось, что это заходит не очень глубоко, не так, как у меня,
ще соприкосновение со злом часто оказывалось мучительно
тяжким, где темный мир находился гораздо ближе. Сестер,
как и родителей, надо было щадить и уважать, и, если случа¬
лось поссориться с ними, ты всегда оказывался плохим пе¬
ред собствейной совестью, зачинщиком, который должен
210
просить прощения. Ибо в сестрах ты обижал родителей, до¬
бро и непреложность. Были тайны, поделиться которыми с
самыми скверными уличными мальчишками мне было куда
легче, чем с сестрами. В хорошие дни, когда все светло и со¬
весть в порядке, бывало просто восхитительно играть с сест¬
рами, держаться с ними приятно и мило и видеть самого себя
в славном, благоприятном свете. Так, наверно, было бы, ес¬
ли бы сделаться ангелом! Ничего более высокого мы не зна¬
ли, и нам казалось дивным блаженством быть ангелами, ок¬
руженными сладкозвучием и благоуханием, как сочельник и
счастье. О, как редко выдавались такие часы и дни! За иг¬
рой, за хорошими, невинными, разрешенными играми, мною
часто овладевала горячность, которая претила сестрам, вела
к ссорам и бедам, и, если на меня тогда находила злость, я
становился ужасен, я делал и говорил вещи, делая и говоря
которые в глубине души уже обжигался их мерзостью. Затем
наступали скверные, мрачные часы раскаяния и самоуничи¬
жения, а затем горькая минута, коща я просил прощения, а
потом снова, на какие-то часы или мгновения, — луч света,
тихое, благодарное счастье без разлада.
Я учился в гимназии, сын бургомистра и сын старшего
лесничего были в моем классе и иногда приходили ко мне,
дикие сорванцы и все-таки частицы доброго, разрешенного
мира. Тем не менее у меня были близкие отношения с соседски¬
ми мальчишками, учениками народной школы, которых мы во¬
обще презирали. С одного из них я и начну свой рассказ.
Как-то в свободные часы второй половины дня — мне бы¬
ло чуть больше десяти лет — я слонялся без дела с двумя со¬
седскими мальчишками. Тут к нам подошел третий, постар¬
ше, сильный и грубый малый лет тринадцати, ученик народ¬
ной школы, сын портного. Его отец был пьяница, и вся семья
пользовалась дурной славой. Франц Кромер* был мне хоро¬
шо известен, и мне не понравилось, что он присоединился к
нам. У него были уже мужские манеры, он подражал поход¬
кой и оборотами речи фабричным парням. Под его предводи¬
тельством мы возле моста спустились к берегу и спрятались
от мира под первой мостовой аркой. Узкий берег между свод¬
чатой стеной моста и вяло текущей водой состоял из сплош¬
ных отбросов, из черепков и рухляди, запутанных узлов
ржавой проволоки и прочего мусора. Там можно было иног¬
да найти полезные вещи; под предводительством Франца
Кромера мы должны были обыскивать этот участок и пока¬
зывать ему найденное. Затем он либо брал это себе, либо вы¬
211
брасывал в воду. Он велел нам не пропускать предметов из
свинца, меди и олова, их он все до одного забрал, как и рого¬
вую гребенку. Я чувствовал себя в его обществе очень ско¬
ванно, и вовсе не от уверенности, что мой отец запретил бы
мне водиться с ним, а от страха перед самим Францем. Я был
рад, что он B35üi меня с собой и обращался со мной, как с дру¬
гими. Он приказывал, а мы повиновались, словно так заведе¬
но издавна, хотя я был впервые с ним вместе.
Наконец мы уселись на берегу. Франц плевал в воду и
был похож на взрослого. Он плевал сквозь отверстие на
месте выпавшего зуба и попадал куда хотел. Начался разго¬
вор, и мальчики стали бахвалиться своим геройством в шко¬
ле и всяческими бесчинствами. Я молчал, боясь, однако,
именно этим привлечь к себе внимание и вызвать гнев Кро¬
мера. Оба моих товарища отделились от меня и взяли его
сторону, я был чужим среди них и чувствовал, что моя
одежда и мое поведение бросают им вызов. Как гимназиста
и барчука, Франц наверняка не мог любить меня, а те оба,
я это прекрасно чувствовал, в случае чего отступились бы и
бросили меня на произвол судьбы.
Только от страха начал в конце концов рассказывать и
я. Я выдумал великолепную разбойничью историю, героем
которой сделал себя. В саду возле Угловой мельницы, рас¬
сказал я, мы с одним приятелем ночью утащили целый ме¬
шок яблок, причем не обычных, а сплошь ранет и золотой
пармен, лучшие сорта. Убежал я в эту историю от опасно¬
стей той минуты, а выдумывать и рассказывать я умел. Что¬
бы тут же не умолкнуть и не угодить в еще худшее положе¬
ние, я пустил в ход все свое искусство. Один из нас, расска¬
зал я, стоял на страже, а другой сбрасывал яблоки с дерева,
и мешок получился такой тяжелый, что под конец нам при¬
шлось половину отсыпать, но через полчаса мы вернулись
и унесли оставшееся.
Кончив рассказ, я надеялся на какое-то одобрение, к
концу я разошелся, сочинительство опьянило меня. Оба
мальчика выжидающе промолчали, а Франц Кромер, при¬
щурившись, пронзил меня взглядом и с угрозой в голосе
спросил:
— Это правда?
— Да, конечно, — сказал я.
— Значит, сущая правда?
— Да, сущая правда, — упрямо подтвердил я, а сам
задыхался от страха.
212
— Можешь поклясться?
Я очень испугался, но сразу сказал «да».
— Ну так скажи: «Клянусь Богом и душой».
Я сказал:''
— Клянусь Богом и душой.
— Ну что ж, — отозвался он и отвернулся.
Я думал, что тем дело и кончилось, и был рад, когда он
вскоре поднялся и направился в обратный путь. Коща мы
вышли на мост, я робко сказал, что мне нужно домой.
— Не надо спешить, — засмеялся Франц, — нам же по
пути.
Он медленно плелся дальше, и я не осмеливался убежать,
но он действительно шел в сторону нашего дома. Когда мы
дошли до него, когда я увидел нашу входную дверь и тол¬
стую медную ручку, солнце на окнах и занавески в комнате ма¬
тери, я глубоко вздохнул. О возвращение домой! О доброе,
благословенное возвращение в свой дом, в светлоту, в мир!
Коща я быстро отворил дверь и прошмыгнул, готовый
захлопнуть ее, Франц Кромер протиснулся вслед за мной.
В прохладном, мрачном коридоре *с каменным полом, куда
свет проникал только со двора, он стал рядом со мной, взял
меня за плечо и тихо сказал:
— Не надо так спешить, понял?
Я испуганно посмотрел на него. Он держал мое плечо
мертвой хваткой. Не зная, что у него на уме, я было поду¬
мал, что он собирается поднять на меня руку. Если я сейчас
закричу, думал я, закричу громко, истошно, успеет ли кто-
нибудь спуститься, чтобы спасти меня? Но я не закричал.
— В чем дело? — спросил я. — Что тебе нужно?
— Не так много. Я должен только еще кое-что спросить
тебя. Другим незачем это слышать.
— Вот как? Что же мне еще сказать тебе? Мне надо
наверх, пойми.
— Ты же знаешь, — тихо сказал Франц, — чей это сад
возле Угловой мельницы?
— Нет, не знаю. Думаю — мельника.
Франц обхватил меня рукой и притянул вплотную к се¬
бе, так что мне пришлось глядеть ему прямо в лицо. Глаза
у него были злые, улыбался он скверно, а в лице были же¬
стокость и властность.
— Да, миленький, я-то уж могу тебе сказать, чей это сад.
Я давно уже знаю, что там украдены яблоки, и знаю, что
хозяин сказал, что даст две марки любому, кто укажет вора.
213
— Боже мой! — воскликнул я. — Но ты же не скажешь
ему?
Я чувствовал, что бесполезно взывать к его чести. Он
был из «другого» мира, для него предательство не считалось
преступлением. Я чувствовал это безошибочно. В этих делах
люди из «другого» мира были не такие, как мы.
— Не скажу? — засмеялся Кромер. — Ты, друг мой, ду¬
маешь, наверно, что я фальшивомонетчик, что я могу сам де¬
лать себе монеты? Я бедняк, у меня нет богатого отца, как у
тебя, и если мне выпадает случай заработать две марки, то я
должен их заработать. Может быть, он даст даже больше.
Внезапно он отпустил меня. Наша входная площадка
уже не пахла покоем и безопасностью, мир вокруг меня рух¬
нул. Кромер выдаст меня, я — преступник, об этом скажут
отцу, может быть, даже придет полиция. Мне грозили все
ужасы хаоса, на меня ополчилось все безобразное и опасное
в мире. Что я вовсе не вор, не имело никакого значения.
Кроме того, я поклялся. О Боже, о Боже!
Слезы навернулись у меня на глаза. Я чувствовал, что
должен откупиться, и в отчаянии обшаривал свои карманы.
Ни яблока, ни перочинного ножика — ничего не было. Тут
я вспомнил о своих часах. Это были старые серебряные ча¬
сы, и они не ходили, я носил их «так просто». Они перешли
ко мне от нашей бабушки. Я быстро вытащил их.
— Кромер, — сказал я, — послушай, не выдавай меня,
это будет некрасиво с твоей стороны. Я подарю тебе свои
часы, вот погляди. Больше у меня, к сожалению, ничего нет.
Возьми их, они серебряные, и механизм хороший, там толь¬
ко какая-то маленькая неполадка, их можно починить.
Он усмехнулся и взял часы в свою большую руку. Я
смотрел на эту руку и чувствовал, как она груба и как глу¬
боко враждебна мне, как она посягает на мою жизнь и на
мой покой.
— Они серебряные, — сказал я робко.
— Плевать мне на твое серебро и на эти твои старые
часы! —сказал он с глубоким презрением. — Сам отдавай
их в починку!
— Но Франц, — крикнул я, дрожа от страха, что он убе¬
жит, — подожди-ка! Возьми все-таки часы! О ни действительно
серебряные, действительно, в самом деле. Да и нет у меня
ничего другого.
Он посмотрел на меня холодно и презрительно.
214
— Значит, ты знаешь, к кому я пойду. А могу сообщить
и в полицию. Их унтер-офицера я хорошо знаю.
Он повернулся, чтобы уйти. Я держал его за рукав. Это¬
го нельзя было допустить. Мне куда легче было умереть,
чем вынести все, что последует, если он так уйдет.
— Франц, — взмолился я, охрипнув от волнения, — не
дури! Ведь это же просто шутка!
— Ну конечно, шутка, но тебе она может дорого обой¬
тись.
— Скажи, Франц, что мне сделать? Я сделаю все!
Он осмотрел меня своими прищуренными глазами и
опять засмеялся.
— Не будь дураком! — сказал он притворно добродуш¬
но. — Ты же все понимаешь не хуже моего. Я могу зарабо¬
тать две марки, и я не богач, чтобы бросаться ими, ты это
знаешь. А ты богатый, у тебя есть даже часы. Тебе нужно
только дать две марки, и все в порядке.
Я понимал его логику. Но две марки! Это казалось мне та¬
ким же огромным и таким же недостижимым богатством, как
десять, как сто, как тысяча марок. У меня денег не было. Бы¬
ла копилка, стоявшая у матери, в ней, благодаря приездам
дядюшки и другим подобным поводам, лежало несколько де¬
сяти- и пятипфенниговых монет. Больше у меня ничего не
было. Карманных денег я в том возрасте еще не получал.
— У меня ничего нет, — сказал я грустно. — У меня нет
никаких денег. А вообще я тебе все отдам. У меня есть книга
про индейцев, и солдатики, и компас. Я принесу его тебе.
Кромер только искривил свой наглый злой рот и плюнул
на пол.
— Не болтай! — сказал он повелительно. — Свой хлам
можешь оставить себе. Компас! Лучше не зли меня сейчас,
слышишь, и выкладывай деньги!
— Но у меня нет их, мне никогда не дают денег. Я же
не виноват в этом!
— Ну так принесешь мне завтра эти две марки. Я буду
ждать тебя после школы внизу на рынке. И кончено. Не
принесешь денег — увидишь!
— Да, но где же мне взять их? Господи, коща у меня
ничего нет...
— У вас в доме денег хватает. Это твое дело. Итак, за¬
втра после школы. И повторяю: если не принесешь...
Он метнул мне в глаза ужасный взгляд, еще раз сплюнул
и исчез как тень.
215
Я не мог подняться в дом. Моя жизнь рухнула. Я думал
о том, чтобы убежать и никоща больше не возвращаться или
утопиться. Но это были неясные видения. Я сел в темноте
на нижнюю ступеньку нашей лестницы, весь сжался и ушел
в свое горе. Там нашла меня плачущим Лина, коща спуска¬
лась с корзиной за дровами.
Я попросил ее ничего не говорить наверху и поднялся.
На вешалке возле стеклянной двери висели шляпа отца и
материнский зонтик от солнца, домашность и нежность ли¬
лась на меня от всех этих предметов, мое сердце приветст¬
вовало их с мольбой и благодарностью, как приветствует
блудный сын вид и запахи родных покоев. Но все это теперь
не принадлежало мне, все это был светлый отцовский и ма¬
теринский мир, а я глубоко и преступно окунулся в чужую
стихию, запутался в приключениях и грехе, пребывал под
угрозой врага, в ожидании опасностей, страха и позора.
Шляпа и зонтик, старый добрый каменный пол, большая
картина над шкафом в прихожей, а изнутри, из гостиной,
голос моей старшей сестры — все это было милее, нежнее и
драгоценнее, чем коща-либо, но это уже не было утешением,
надежным достоянием, а было сплошным укором. Все это
не было уже моим, не могло пустить меня в свою безоблач¬
ность и тишину. На моих ногах была грязь, которую нельзя
было удалить, вытерев их о коврик, я принес с собой тени,
о которых этот родной мир и не ведал. Сколько бывало у
меня тайн, сколько страхов, но все это было игрой и шуткой
по сравнению с тем, что я принес с собой в эти покои сегод¬
ня. Судьба гналась за мной, ко мне тянулись руки, от кото¬
рых даже мать не смогла бы меня защитить, о которых она
и знать не должна была. Состояло ли мое преступление в
воровстве или во лжи — разве я не дал ложной клятвы, не
поклялся Богом и душой? — это было безразлично. Мой
грех состоял не в чем-то определенном, а в том, что я дал
руку дьяволу. Зачем я пошел с ними? Зачем послушался
Кромера покорнее, чем коща-либо отца? Зачем выдумал эту
историю о воровстве? Бахвалился преступлениями, словно
это геройские подвиги? Теперь дьявол не отпускает мою ру¬
ку, теперь враг не отстает от меня.
На миг я ощутил уже не страх перед завтрашним днем,
а прежде всего ужасную уверенность, что отныне мой путь
пойдет неуклонно под гору и во мрак. Я ясно почувствовал,
что за моим проступком непременно последуют новые про¬
ступки, что мое появление среди семьи, мое приветствие и
216
поцелуи с родителями — ложь, что я ношу с собой рок и
тайну, которые скрываю от них.
Коща я глядел на отцовскую шляпу, на миг во мне блес¬
нула надежда. Я все скажу отцу, приму его приговор и его
кару, сделаю его своим поверенным и спасителем. Это будет
всего только покаяние — а каяться мне уже часто случа¬
лось, — тяжелый, горький час, тяжелая и полная раскаяния
мольба о прощении.
Как сладостно это звучало! Как завлекающе манило! Но
это было невозможно. Я знал, что не сделаю этого. Я знал,
что теперь у меня есть тайна, есть вина, которую я должен
расхлебывать сам, в одиночку. Может быть, я сейчас на
распутье, может быть, с этого часа я всегда буду во власти
дурного, всеща должен буду делить тайны со злыми, зави¬
сеть от них, слушаться их, быть таким, как они. Я строил
из себя мужчину и героя, теперь надо вытерпеть все, что из
этого следовало.
Мне повезло, что отец, когда я вошел, побранил меня за
мокрую обувь. Это отвлекло его, он не заметил худшего, и
я снес упрек, который втайне отнес к другому. При этом во
мне взыграло какое-то странное новое чувство, злое, острое
и колючее: я почувствовал свое превосходство над отцом!
На миг я почувствовал некое презрение к его неосведомлен¬
ности, его брань по поводу моих мокрых башмаков показа¬
лась мне мелочной. «Если бы ты знал!» — думал я и пред¬
ставлялся себе преступником, которого допрашивают из-за
украденной булочки, тоща как ему следовало бы признать¬
ся в убийствах. Чувство это было скверное, гнусное, но оно
было сильным, в нем была своя глубокая сладость, и оно
крепче, чем всякая другая мысль, приковывало меня к моей
тайне, к моей вине. Может быть, думал я, Кромер уже по¬
шел в полицию и донес на меня и надо мной вот-вот разра¬
зятся грозы, а на меня здесь смотрят как на малое дитя!
Во всем этом событии, как оно до сих пор рассказано,
этот миг был самым важным и запомнился прочнее всего.
Это была первая трещина в священном образе отца, первый
надлом в опорах, на которых держалась моя детская жизнь
и которые каждому человеку, чтобы стать самим собой, надо
разрушить. Из этих событий, не доступных ничьему зре¬
нию, состоит внутренняя, существенная линия нашей судь¬
бы. Такая трещина, такой надлом потом зарастают, они за¬
живают и забываются, но в самой тайной глубине они про¬
должают жить и кровоточить.
217
Меня самого сразу же ужаснуло это новое чувство, я тут
же готов был целовать ноги отцу, чтобы извиниться перед
ним за него. Но ни за что существенное извиниться нельзя,
и ребенок чувствует это и знает так же хорошо и глубоко,
как всякий мудрец.
Я сознавал необходимость подумать о своем деле, пораз¬
мыслить о том, как поступить завтра; но у меня ничего не
вышло. Весь вечер я был занят единственно тем, что привы¬
кал к изменившемуся воздуху в нашей гостиной. Стенные
часы и стол, Библия и зеркало, книжная полка и картины
на стене как бы прощались со мной, я с застывающим сер¬
дцем видел, как мой мир, моя славная, счастливая жизнь
уходят в прошлое, отделяются от меня, и ощущал, как сцеп¬
лен, как скреплен я новыми сосущими корнями со всем тем
чужим и мрачным, чем этот мой мир окружен. Впервые от¬
ведал я смерти, а у смерти вкус горький, ибо она — это
рождение, это трепет и страх перед ужасающей новизной.
Я был рад, коща наконец улегся в постель! Но прежде,
как через последнее чистилище, я прошел через вечернюю
молитву, когда мы пели одну песню, которая принадлежала
к числу моих самых любимых. Нет, я не пел с другими, и
каждый звук был для меня ядом и желчью. Я не молился с
другими, коща отец произносил благословение, а когда он
кончил: «...да пребудет с нами со всеми!» — какая-то судо¬
рога вырвала меня из этого круга. Милость Божья была с
ними со всеми, но уже не со мной. Глубоко уставший, я
холодно удалился.
В постели, коща я немного полежал, коща меня любовно
объяли тепло и защищенность, сердце мое в страхе еще раз
метнулось назад и тоскливо запорхало вокруг происшедше¬
го. Мать, как всеща, пожелала мне спокойной ночи, ее шаги
еще отдавались в комнате, свет ее свечи еще теплился за не¬
плотно закрытой дверью. Сейчас, думал я, сейчас она вер¬
нется — она почувствовала, она поцелует меня и спросит ла¬
сково и многообещающе, и тоща я расплачусь, тогда растает
комок у меня в горле, тогда я обниму ее и расскажу ей это, и
тоща все будет хорошо, тоща я спасен! И когда щель между
дверью и косяком уже потемнела, я все еще какое-то время
прислушивался и думал, что так непременно, непременно
случится.
Потом я вернулся к действительности и посмотрел своему
врагу в лицо. Я увидел его отчетливо, один глаз он прищу¬
рил, его рот грубо смеялся, и, пока я глядел на него, прони¬
218
каясь неизбежным, он делался больше и безобразнее, а его
злобный глаз бесовски сверкал. Он стоял вплотную ко мне,
пока я не уснул, но потом сны мои были не о нем и не о сегод¬
няшнем, нет, мне снилось, что мы катаемся на лодке, родите¬
ли, сестры и я, а вокруг только покой и сияние дня летних
каникул. Проснувшись среди ночи, еще ощущая оставшийся
вкус блаженства, еще видя, как светятся на солнце белые
платья сестер, я низвергнулся из всего этого рая в действитель¬
ность и снова стоял напротив врага с его злобным глазом.
Утром, когда торопливо вошла мать и громко удивилась,
почему я, хотя уже поздно, еще в постели, вид у меня был
скверный, а когда она спросила, здоров ли я, меня стошнило.
Этим, казалось, было что-то выиграно. Я оченьлюбил
прихворнуть и все утро попивать лежа настой ромашки, слу¬
шая, как мать убирает соседнюю комнату, а Лина принимает
мясника в прихожей.
В утренних часах без школы было какое-то очарование,
что-то сказочное, солнце заглядывало тогда в комнату и бы¬
ло не тем же солнцем, от которого в школе опускали зеленые
занавески. Но и это сегодня не радовало и приобрело какой-
то фальшивый оттенок.
Вот если бы я умер! Но мне только немного нездорови¬
лось, как то часто случалось, и это ничего не меняло. Это
защищало меня от школы, но отнюдь не от Кромера, кото¬
рый в одиннадцать ждал меня на рынке. И в материнской
ласке тоже не было на этот раз ничего утешительного: она
тяготила и причиняла боль. Вскоре я притворился, что сно¬
ва уснул, и стал думать. Ничего не помогло, в одиннадцать
мне нужно было быть на рынке. Поэтому в десять я тихо
встал и сказал, что чувствую себя лучше. Это значило, как
обычно в таких случаях, что я должен либо снова лечь, либо
пойти в школу после обеда. Я сказал, что хочу пойти в шко¬
лу. Я составил себе некий план.
Без денег мне нельзя было прийти к Кромеру. Я должен
был заполучить принадлежавшую мне копилку. В ней было
недостаточно денег, я это знал, далеко не достаточно; но
что-то там было, а чутье говорило мне, что что-то все же
лучше, чем ничего, и должно Кромера хотя бы задобрить.
У меня было скверно на душе, коща я на цыпочках крал¬
ся в комнату матери и вытаскивал из ее письменного стола
свою жестянку; но это было не так скверно, как вчерашнее.
Сердцебиение душило меня, и лучше не стало, коща я внизу
на лестнице с первого же взгляда обнаружил, что копилка за¬
219
перта. Взломать ее оказалось очень легко, нужно было толь¬
ко порвать тонкую жестяную сеточку; но это действие далось
мне с болью, лишь теперь я совершил кражу. Дотоле я толь¬
ко украдкой таскал сладости, конфеты, фрукты. А это была
кража, хотя деньги были мои. Я чувствовал, как еще на шаг
приблизился к Кромеру и его миру, как неудержимо качусь
вниз, и закусил удила. Черт со мной, пути назад уже нет. Я
со страхом пересчитал деньги, в жестянке они звенели так
внушительно, а теперь в руке их было ничтожно мало. Там
оказалось шестьдесят пять пфеннигов. Я спрятал копилку в
нижней прихожей, зажал деньги в руке и вышел из дому —
иначе, чем когда-либо выходил за эту дверь. Сверху кто-то
позвал меня, как мне показалось; я поспешил прочь.
Было еще много времени, я крался обходными путями
по улицам какого-то изменившегося города, под какими-то
невиданными облаками, мимо домов, которые на меня гля¬
дели, и мимо людей, которые подозревали меня. По дороге
мне вспомнилось, что один мой однокашник как-то нашел
талер на скотном рынке. Я готов был помолиться, чтобы Бог
совершил чудо и ниспослал мне тоже такую находку. Но у
меня уже не было права молиться. Да и тоща копилка не
стала бы снова целой.
Франц Кромер увидел меня издалека, но шел в мою сто¬
рону очень медленно, вовсе, казалось, не замечая меня.
Приблизившись, он велел мне кивком следовать за ним и,
не оглядываясь, спокойно пошел дальше, вниз по Соломен¬
ной улице и через мостик, и остановился только у последних
домов перед какой-то стройкой. Там не работали, стены сто¬
яли еще голые, без дверей и без окон. Кромер оглянулся и
вошел в дверной проем. Я — вслед за ним. Он зашел за
стену, кивком подозвал меня и протянул руку.
— Принес? — спросил он холодно.
Я вынул из кармана сжатый кулак и вытряхнул деньги
в его ладонь. Он пересчитал их еще раньше, чем отзвенел
последний пятак.
— Здесь шестьдесят пять пфеннигов, — сказал он и по¬
смотрел на меня.
— Да, — сказал я робко. — Это все, что у меня есть,
слишком мало, я знаю. Но это все. Больше нет.
— Я думал, что ты умнее, — почти мягко укорил он
меня. — Между людьми чести все должно быть по прави¬
лам. Я не возьму у тебя ничего, что не положено, ты знаешь. -
220
Забирай свою мелочь! Тот — ты знаешь кто — не станет со
мной торговаться. Тот заплатит.
— Но у меня же нет, нет больше! Это все мои сбережения.
— Это твое дело. Но я не хочу делать тебя несчастным.
Ты должен мне еще одну марку и тридцать пять пфеннигов.
Коща я их получу?
— О, ты, конечно, получишь их, Кромер! Сейчас я не
знаю... возможно, скоро у меня будет больше, завтра или
послезавтра. Ты же понимаешь, что я не могу сказать об
этом отцу.
— Это меня не касается. Я не такой, чтобы кому-то вре¬
дить. Я ведь мог бы получить эти деньги еще до двенадцати,
а я беден. Ты хорошо одет, и обед у тебя получше, чем мой.
Но я ничего не скажу. Я лучше немного подожду. Послезав¬
тра я тебе свистну, после двенадцати, и ты уладишь дело.
Знаешь, как я свищу?
Он свиртнул для большей ясности, я этот свист часто
слышал.
— Да, — сказал я, — знаю.
Он ушел, словно я не имел к нему никакого отношения.
Между нами была сделка, больше ничего.
Еще и сегодня, думаю, кромеровский свист испугал бы
меня, если бы я вдруг снова услышал его. Отныне я слышал
его часто, мне казалось, я слышу его всеща и непрестанно.
Не было такого места, такой игры, такой работы, такой мыс¬
ли, куда бы не проникал этот свист, от которого я зависел,
который стал теперь моей судьбой. В мягкие, красочные дни
осени я часто бывал в нашем садике, очень мною любимом,
и какой-то странный порыв заставлял меня возвращаться к
детским играм прежних эпох; я как бы играл мальчика, ко¬
торый был младше меня, был еще благонравен и свободен,
невинен и защищен. Но в эти игры, всеща как ожидалось и
все-таки ужасающе внезапно, врывался откуда-то кромеров¬
ский свист, обрывал нить, разрушал фантазии. Я должен
был идти, следовать за своим мучителем в скверные и мер¬
зкие места, должен был отчитываться перед ним и выслу¬
шивать напоминания о деньгах. Все это тянулось, наверно,
несколько недель, но мне они казались годами, казались
вечностью. Редко бывали у меня деньги, пятак или десять
пфеннигов, утащенные с кухонного стола, коща Лина остав¬
ляла там рыночную корзинку. Кромер каждый раз ругал
меня и обдавал презрением; это я хотел обмануть его и по¬
221
сягал на его законное право, это я обкрадывал его, это я
делал его несчастным! Не столь часто в жизни беда подби¬
ралась к моему сердцу так близко, никоща не чувствовал я
большей безнадежности, большей зависимости.
Копилку я наполнил фишками и поставил на место, ни¬
кто о ней не спрашивал. Но и это могло на меня свалиться
в любой день. Еще больше, чем грубого кромеровского сви¬
ста, я часто страшился матер», когда она тихонько подхо¬
дила ко мне — не затем ли, чтобы спросить о копилке?
Поскольку я не раз являлся к своему бесу без денег, он
стал мучить и эксплуатировать меня другим способом. Я
должен был на него работать. Если отец Кромера посылал
его куда-то, Кромер отправлял меня туда вместо себя. Или
он давал мне какое-нибудь трудное задание — проскакать
десять минут на одной ноге, прилепить бумажку к одежде
прохожего. Ночами я во сне продолжал испытывать эти му¬
ки и просыпался в холодном поту.
На какое-то время я заболел. Меня часто рвало и зноби¬
ло, а по ночам бросало в жар и вгоняло в пот. Мать чувство¬
вала, что что-то не в порядке, и всячески показывала мне
свое участие, которое меня мучило, поскольку я не мог ей
ответить.
Однажды вечером, коща я уже лег, она принесла мне
дольку шоколада. Это был отголосок прежних лет, коща я,
если хорошо себя вел, часто получал на сон грядущий такие
лакомства. И вот сейчас она стояла и протягивала мне шо¬
коладку. Мне было так больно, что я смог только покачать
головой. Она спросила, что со мной, погладила мои волосы.
Я сумел только выдавить из себя: «Нет! Нет! Не хочу ниче¬
го». Она положила шоколадку на тумбочку и ушла. Когда
она на следующий день стала меня об этом расспрашивать,
я сделал вид, будто ничего не помню. Однажды она привела
ко мне доктора, который осмотрел меня и назначил мне хо¬
лодные омовения по утрам.
Мое состояние в то время было родом безумия. Среди
порядка и мира, царивших в нашем доме, я жил в страхе и
муках, как призрак, не участвовал в жизни остальных, ре¬
дко забывался на час. С отцом, который часто раздраженно
требовал от меня объяснений, я был замкнут и холоден.
222
ГЛАВА ВТОРАЯ
КАИН
Спасение от моих мук пришло с совершенно неожидан¬
ной стороны, и одновременно с ним в мою жизнь вошло
нечто новое, продолжающее действовать и поныне.
В нашу гимназию однажды поступил новичок. Он был
сын состоятельной вдовы, поселившейся в нашем городе, и
носил на рукаве траурную, повязку. Он учился в старшем,
чем мой, классе, да и был на несколько лет старше, но и я,
как все, заметил его. Этот примечательный ученик казался
вообще взрослее, чем выглядел, ни на кого он не производил
впечатления мальчика. Среди нас, ребячливых школьников,
он двигался отчужденно и свободно, как мужчина, вернее,
как господин. Особой любовью он не пользовался, он не
участвовал в играх, а тем более в драках, однако его уверен¬
ный и решительный тон в обращении с учителями нравился
всем. Звали его Макс Демиан*.
Однажды, как то время от времени случалось в нашей
школе, по каким-то причинам в нашей очень большой клас¬
сной комнате усадили еще один класс. Это был класс Дрми-
ана. У нас, маленьких, был урок закона Божьего, а большие
должны были писать сочинение. Когда в нас вдалбливали
историю Каина и Авеля*, я часто поглядывал на Демиана,
чье лицо как-то странно привлекало меня, и видел это ум¬
ное, светлое, необыкновенно твердое лицо внимательно и
сосредоточенно склонившимся над работой; он походил не
на ученика, выполняющего задание, а на исследователя, по¬
груженного в собственные проблемы. Приятен он мне, в
сущности, не был, напротив, у меня зрело что-то против
него, он был, на мой взгляд, слишком высокомерен и холо¬
ден, очень уж вызывающе самоуверен, и в глазах его было
то выражение взрослых, которого дети никоща не любят, —
немного грустное, с искорками насмешливости. Однако — с
приязнью ли, с сожалением ли — я поглядывал на него не¬
престанно; но как только он однажды взглянул на меня, я
испуганно отвел глаза. Думая сегодня о том, как выглядел
он тоща в роли ученика, могу сказать: он был во всех отно¬
шениях иным, чем прочие, на нем явно лежала печать осо-
бости, самобытности, и поэтому-то он обращал на себя вни¬
мание — хотя в то же время делал все, чтобы не обращать
223
на себя внимания, держался и вел себя как переодетый
принц, находящийся среди крестьянских детей и всячески
старающийся казаться таким же, как они.
По пути из школы домой он шел позади меня. Когда
другие разошлись, он перегнал меня и поздоровался. Его
приветствие, хоть он и подражал при этом нашему школь¬
ническому тону, было тоже очень взрослым и вежливым.
— Пойдем вместе? — спросил он приветливо. Я был
польщен и утвердительно кивнул. Затем я описал ему, где
живу.
— Ах, там! — сказал он улыбнувшись. — Этот дом я
знаю. Над вашим входом есть такая любопытная штукови¬
на, это меня сразу заинтересовало.
Я не сразу понял, что он имел в виду, и удивился, что
он знает наш дом как бы лучше, чем я. Верно, замковый
камень над сводом нашей входной двери изображал собой
некий герб, но за много лет он сделался плоским и не раз
закрашивался, к нам и к нашей семье, насколько я знал, он
не имел никакого отношения.
— Ничего об этом не знаю, — сказал я робко. — Это
птица или что-то подобное, наверно, очень древнее. Дом,
говорят, принадлежал когда-то монастырю.
— Вполне возможно, — кивнул он. — Рассмотри это
как-нибудь хорошенько! Такие вещи часто бывают очень ин¬
тересны. Думаю, что это ястреб*.
Мы пошли дальше, я совсем оробел. Вдруг Демиан за¬
смеялся, словно вспомнив что-то веселое.
— Ах, ведь я побывал на вашем уроке, — сказал он
оживленно. — Эта история о Каине, который носил на себе
печать, так ведь? Она тебе нравится?
Нет, мне редко что-либо нравилось из того, что нам при¬
ходилось учить. Но я не отважился это сказать, у меня было
такое чувство, будто со мной говорит взрослый. Я сказал,
что эта история мне нравится.
Демиан похлопал меня по плечу.
— Не надо передо мной притворяться, дорогой. Но ис¬
тория эта в самом деле любопытна, намного, думаю, любо¬
пытней, чем большинство других, которые учат в школе.
Учитель ведь мало что об этом сказал, только обычное о
Боге, грехе и так далее. Но я думаю... — Он запнулся и,
улыбнувшись, спросил: — А тебе это интересно?
Так вот, я думаю, — продолжал он, — эту историю о
Каине можно понимать и совсем иначе. Большинство вещей,
224
которым нас учат, конечно, вполне правдивы и правильны,
но на все можно смотреть и совсем не так, как учителя, i
тоща они большей частью приобретают куда лучший смысл.
Вот этим Каином, например, и печатью на нем нельзя же
вполне удовлетвориться в том виде, в каком нам его препод¬
носят. Ты так не думаешь? Что он, поссорившись, убивает
своего брата, такое, конечно, может случиться, и что потом
ему становится страшно и он признает свою вину, тоже воз¬
можно. Но то, что он за свою трусость еще и награждается
орденом, который его защищает и нагоняет страху на всех
других, это все же довольно странно.
— Правда, — сказал я заинтересованно. Это начинало
меня занимать. — Но как же объяснить эту историю ина¬
че?
Он похлопал меня по плечу.
— Очень просто! Существовала и положила начало этой
истории печать. Был некий человек, и в лице у него был (У
что-то такое, что пугало других. Они не осмеливались при¬
касаться к нему, он внушал им уважение, он и его дети. Но
наверно и даже наверняка это не была в самом деле печать
на лбу, вроде почтового штемпеля, такие грубые шутки
жизнь редко выкидывает. Скорей это была какая-то чуть
заметная жутковатость, чуть больше, чем люди к тому при¬
выкли, ума и отваги во взгляде. У этого человека была сила,
перед этим человеком робели. На нем была «печать». Объ¬
яснять это можно было как угодно. А «угодно» всеща то,
что удобно и подтверждает твою правоту. Детей. Каина бо¬
ялись, на них была «печать». Вот и усмотрели в печати не
то, чем она была, не награду, а ее противоположность. Го¬
ворилось, что парни с этой печатью жутки, а жуткими они
и были. Люди мужественные и с характером всеща очень
жутки другим людям. Наличие рода бесстрашных и жутких
было очень неудобно, и вот к этому роду прицепили прозви¬
ще и сказку, чтобы отомстить ему, чтобы немножко вознаг¬
радить себя за все страхи, которые пришлось вытерпеть.
Понимаешь?
— Да... тб есть... получается, что Каин вовсе не был
злым? И значит, вся эта история в Библии, в сущности, не
правдива?
— И да, и нет. Такие старые-престарые истории всеща
правдивы, но не всеща они так записаны, и не всеща их так
объясняют, как надо бы. Словом, я думаю, что Каин был
8 4-161
225
замечательный малый, и только потому, что его боялись, к
нему прицепили эту историю. История эта была просто слу¬
хом, чем-то таким, что люди болтают, а истинной правдой
обернулась постольку, поскольку Каин и его дети и в самом
деле носили на себе своего рода «печать» и были не такие,
как большинство людей.
Я был изумлен.
— И ты думаешь, значит, что и эта история насчет убий¬
ства — неправда? — спросил я взволнованно.
— О нет! Это наверняка правда. Сильный убил слабого.
Был ли то действительно его брат, на этот счет могут быть
сомнения. Это неважно, в конце концов все люди братья.
Итак, сильный убил слабого. Может быть, это был герой¬
ский поступок, а может быть, и нет. Во всяком случае, дру¬
гие слабые пребывали теперь в страхе, они всячески жало¬
вались, и если их спрашивали: «Почему же вы просто не
убьете его?», они не говорили: «Потому что мы трусы», а
говорили: «Нельзя. На нем печать. Бог отметил его!» Так,
наверно, возник этот обман... Однако я задерживаю тебя.
Прощай!
Он свернул на Старую улицу и оставил меня в одиноче¬
стве, удивленным как никоща. Едва он удалился, все, что
он говорил, показалось мне совершенно невероятным! Каин —
благородный человек, Авель — трус! Каинова печать — на¬
града! Это было нелепо, это было кощунственно и гнусно.
Что же тоща Господь Бог? Разве не принял он жертвы Аве¬
ля, разве не был Авель угоден ему?.. Нет, глупость! И я
решил, что Демиан-потешался надо мной, дурачил меня. Да,
он был чертовски умный малый, и говорить он умел, но
так... нет...
Как бы то ни было, никоща еще я так много не размыш¬
лял ни о какой библейской или другой истории. И ни разу
за долгое время так полностью не забывал Франца Кромера,
на несколько часов, на целый вечер. Дома я еще раз прочел
эту историю по Библии, она была короткая и ясная, безу¬
мием было искать тут какой-то особый, тайный смысл. Этак
каждый убийца может объявить себя любимцем Бога! Нет,
это был вздор. Приятна только была манера Демиана гово¬
рить подобные вещи, этак легко и красиво, словно все само
собой разумеется, да еще с такими глазами!
Что-то, однако, было ведь у меня самого не в порядке,
даже в большом беспорядке. Прежде я жил в светлом и
чистом мире, был своего рода Авелем, а теперь я глубоко
226
увяз в «другом», низко пал, но так уж виноват в этом, в
сущности, не был! Как же так? И тут во мне сверкнуло одно
воспоминание, от которого у меня перехватило дух. В тот
недобрый вечер), коща началась моя теперешняя беда, тог¬
да-то и случилось это у меня с отцом, тоща я вдруг на миг
как бы разглядел насквозь и запрезирал его и его светлый
мир! Да, тоща я сам, будучи Каином и неся на себе печать,
вообразил, что эта печать не позор, а награда, отличие и что
мой злой поступок и мое горе возвышают меня над отцом,
возвышают над добрыми и добропорядочными.
Не в такой, как сейчас, форме ясной мысли изведал я это
тоща, но вся суть ее там присутствовала, то была лишь
вспышка чувств, необыкновенных чувств, которые причини¬
ли мне боль и все же наполнили меня гордостью.
Если задуматься, как удивительно говорил Демиан о бес¬
страшных и трусах! Как необыкновенно истолковал он пе¬
чать на челе Каина! Как дивно светился при этом его взгляд,
его поразительный взгляд взрослого! И у меня смутно мель¬
кнуло в уме: не сам ли он, этот Демиан, своего рода Каин?
Почему он защищает его, если не чувствует себя подобным
ему? Почему у него такая сила во взгляде? Почему он так
насмешливо говорит о «других», о робких, которые ведь, в
сущности, добропорядочны и угодны Богу?
Я не приходил ни к чему с этими мыслями. В колодец
упал камень, а колодцем была моя молодая душа. И долго,
очень долго эта история с Каином, убийством и печатью
оставалась той точкой, откуда брали начало все мои попыт¬
ки познания, сомнения и критики.
Я заметил, что и других учеников сильно занимал Деми¬
ан. О каиновской истории я никому ничего не говорил, но
казалось, что он вызывает интерес и у других. Во всяком
случае, о «новеньком» ходило множество слухов. Если бы
я их все помнил, каждый бросил бы какой-то свет на него,
каждый можно было бы истолковать. Помню только, сперва
говорили, что мать Демиана очень богата. Говорили также,
что она никоща не ходит в церковь и ее сын тоже не ходит.
Они евреи, уверял кто-то, но могли быть и тайными маго¬
метанами. Еще рассказывали всякие сказки о физической
силе Макса Демиана. Точно было известно, что он ужасно
унизил самого сильного своего одноклассника, который вы¬
звал его подраться, а коща тот отказался, назвал его трусом.
Те, кто при этом присутствовал, говорили, что Демиан про¬
8*
227
сто взял его за затылок и крепко сжал, отчего мальчик по¬
бледнел, а потом незаметно удалился и несколько дней не
мог шевельнуть рукой. В какой-то вечер прошел даже слух,
что он умер. Всякое говорили одно время, всякому верили,
все волновало и поражало. Потом на какой-то срок насыти¬
лись. Вскоре, однако, среди нас, учеников, возникли новые
слухи, сообщавшие, что Демиан путается с девушками и
«все знает».
Между тем моя история с Францем Кромером шла своим
неизбежным путем. Я не мог избавиться от него, ибо, даже
если он и оставлял меня на день-другой в покое, я был все-
таки привязан к нему. В моих снах он не покидал меня как
тень, и то, чего он не делал мне в действительности, мое
воображение заставляло его проделывать в этих снах, в ко¬
торых я становился полностью его рабом. Я жил в этих снах —
видеть сны я всеща был мастер — больше, чем в действи¬
тельности, я расточал силы и жизнь на эти тени. Среди про¬
чего мне часто снилось, что Кромер истязает меня, что он
плюет на меня, становится на меня коленями и, того хуже,
совращает меня на тяжкие преступления — вернее, не со¬
вращает, а просто силой своего влияния заставляет меня их
совершать. В самом ужасном из этих снов, от которого я
проснулся в полубезумье, я покушался на убийство отца.
Кромер наточил нож и вложил его мне в руку, мы притаи¬
лись за деревьями какой-то аллеи и ждали кого-то, кого —
я не знал; но коща кто-то появился и Кромер, сжав мне
плечо, дал понять, что этого и нужно заколоть, оказалось,
что это мой отец. Тут я проснулся.
За этими заботами я, правда, думал еще о Каине и Авеле,
но уже меньше о Демиане. Впервые он снова приблизился
ко мне странным образом тоже во сне. Мне приснились ис¬
тязания и надругательства, которым я подвергался, но на
этот раз вместо Кромера на меня становился коленями Де¬
миан. И — это было ново и произвело на меня глубокое
впечатление — то, что от Кромера я претерпевал с проте¬
стом и мукой, от Демиана я принимал охотно, с чувством,
в котором блаженства было столько же, сколько страха. Это
снилось мне дважды, потом на его место снова пришел Кро¬
мер.
Что испытывал я в этих снах, а что в действительности,
точно разграничить я давно уже не могу. Во всяком случае,
моя скверная связь с Кромером продолжалась, она не кон¬
чилась и тоща, коща я наконец выплатил ему требуемую
228
сумму путем мелких краж. Нет, теперь он знал об этих кра¬
жах, ибо всеща спрашивал меня, откуда деньги, и я был в
руках у него в еще большей мере, чем прежде. Он часто
грозил мне, что все расскажет моему отцу, и тоща мой страх
был едва ли сильнее, чем глубокое сожаление о том, что я
с самого начала не сделал этого сам. Между тем, как я ни
был несчастен, я раскаивался не во всем, во всяком случае
не всеща, и порой у меня бывало ощущение, что все так и
должно быть. Надо мной висел рок, и было бесполезно бо¬
роться с ним.
Наверно, мои родители немало страдали от этого поло¬
жения. Мной овладел какой-то чужой дух, я выпадал из
нашего содружества, которое было таким тесным и безумная
тоска о котором, как о потерянном рае, часто на меня нахо¬
дила. Обращались со мной, прежде всего мать, скорее как
с больным, чем как со злодеем, но как обстояло дело по
сути, я мог судить лучше всего по поведению обеих моих
сестер. Из этого поведения, очень щадящего и все же беско¬
нечно меня огорчавшего, ясно видно было, что я этакий
одержимый, которого из-за его состояния надо скорее жа¬
леть, чем ругать, но в которого все-таки вселилось зло. Я
чувствовал, что за меня молятся иначе, чем обычно, и чув¬
ствовал тщетность этих молитв. Я часто испытывал жгучее
желание облегчения, потребность в настоящей исповеди, и
в то же время предчувствовал, что ни отцу, ни матери все
по-настоящему рассказать и объяснить не смогу. Я знал, что
это примут доброжелательно, что меня будут очень щадить,
даже жалеть, но полностью не поймут и на все это посмотрят
как на какую-то оплошность, тоща как это — судьба.
Знаю, некоторые не поверят, что ребенок неполных
одиннадцати лет способен на такие чувства. Не этим людям
рассказываю я свою историю. Я рассказываю ее тем, кто
знает человека лучше. Научившись превращать часть своих
чувств в мысли, взрослый замечает отсутствие этих мыслей
у ребенка и полагает, что им ничего и не пережито. А у меня
редко в жизни бывали такие глубокие переживания и стра¬
дания, как тоща.
День был дождливый, мой мучитель велел мне явиться
на Крепостную площадь, и вот я стоял, разгребая ногами
мокрые листья каштанов, которые все еще падали с черных,
промокших деревьев. Денег у меня не было, но я отложил
два куска пирога и взял их с собой, чтобы хотя бы что-ни-
будь дать Кромеру. Я давно привык стоять где-нибудь'в
229
уголке и ждать его, иноща очень долго, и мирился с этим,
как мирится человек с неотвратимым.
Наконец пришел Кромер. Он сегодня особенно не задер¬
жался. Он ущипнул меня разок-другой у ребер, усмехнулся,
принял пирог, предложил мне даже мокрую папиросу, ко¬
торой я, однако, не взял, и был приветливей, чем обычно.
— Да, — сказал он, уходя, — чтоб не забыть... в следу¬
ющий раз захвати свою сестру, старшую. Как там ее зовут?
Я ничего не понял и ничего не ответил. Я только удив¬
ленно посмотрел на него.
— Непонятно, что ли? Доставь мне сестру.
— Нет, Кромер, это — нет. Нельзя мне, да она и не
пойдет со мной.
Я был готов к тому, что это лишь опять какая-то каверза,
какой-то предлог. Он часто так делал, требовал чего-нибудь
невозможного, нагонял на меня страху, унижал меня, а по¬
том постепенно начинал торговаться. Я откупался от него
деньгами или другими подношениями.
Но на этот раз было совсем не так. Он почти даже не
разозлился на мой отказ.
— Ну, — сказал он вскользь, — ты подумай. Я хочу
познакомиться с твоей сестрой. Как-нибудь представится
случай. Ты просто возьмешь ее с собой на прогулку, а я
потом присоединюсь. Завтра я тебе свистну, и мы поговорим
об этом еще раз.
Коща он ушел, я вдруг что-то понял насчет смысла его
домогательства. Я был еще совсем дитя, но понаслышке я
знал, что коща мальчики и девочки становятся немного
старше, они иноща вытворяют друг с другом что-то таинст¬
венное, предосудительное и запрещенное. И вот я, значит,
должен... мне вдруг стало ясно, как это чудовищно! Реше¬
ние ни за что этого не делать я принял сразу. Но что будет
тоща и как отомстит мне Кромер, об этом я не осмелился и
думать. Начиналась новая моя пытка, прежнего было еще
недостаточно.
Уныло брел я через пустую площадь, засунув руки в
карманы. Новые муки, новое рабство!
Тут меня окликнул чей-то свежий, низкий голос. Я испу¬
гался и пустился бегом. Кто-то побежал за мной, чья-то рука
мягко схватила меня сзади. Это был Макс Демиан.
Я сдался в плен.
— Это ты? — сказал я неуверенно. — Ты так испугал
меня!
230
Он посмотрел на меня, и никоща взгляд его не был в
большей мере, чем сейчас, взглядом взрослого, знающего
свое превосходство, проницательного человека. Давно уже
мы не говорили друг с другом.
— Сожалею об этом, — сказал он в своей вежливой и
при этом полной определенности манере. — Но послушай,
не надо так пугаться.
— Ну, ведь со всяким случается.
— Пожалуй. Но пойми: коща ты так дрожишь перед
кем-то, кто ничего не сделал тебе, — этот кто-то задумыва¬
ется. Это удивляет его, возбуждает его любопытство. Он
думает себе: очень уж ты пуглив. И думает дальше: так
бывает, только коща чего-то боятся. Трусы всеща боятся;
но трусом тебя, мне кажется, нельзя назвать, не так ли? О,
конечно, героем тебя тоже не назовешь. Есть вещи, которых
ты боишься. А бояться не надо. Нет, людей никоща не надо
бояться. Ведь меня ты не боишься? Верно?
— О нет, нисколько.
— Вот видишь. Но есть люди, которых ты боишься?
— Не знаю... Оставь меня, чего ты от меня хочешь?
Он не отставал от меня — я ускорил шаг с мыслью убе¬
жать, — и я чувствовал его взгляд сбоку.
— Предположим, — начал он снова, — что я желаю тебе
добра. Бояться тебе меня, во всяком случае, не следует. Я
хочу проделать с тобой один опыт, это забавно и, может
быть, научит тебя кое-чему очень полезному. Так вот, слу¬
шай... Иноща я пытаюсь заниматься искусством, которое
называется чтением мыслей. Никакого колдовства тут нет,
но если не знать, как это делается, то выглядит это весьма
странно. Людей можно этим еще как удивить... Попробуем
разок. Так вот, я расположен к тебе или интересуюсь тобой
и хочу сейчас узнать, что у тебя в душе. Первый шаг к этому
я уже сделал. Я испугал тебя — значит, ты пуглив. Есть,
значит, вещи и люди, которых ты боишься. Откуда это
идет? Бояться никого не надо. Коща кого-то боишься, то
происходит это оттого, что ты допустил, чтобы этот «кто-то»
имел власть над тобой. Ты, например, сделал что-то сквер¬
ное, а другой это знает — тоща у него есть власть над тобой.
Понял? Ведь это же ясно, правда?
Я беспомощно посмотрел ему в лицо, оно было серьез¬
ным и умным, как всеща, и добрым тоже, но без всякой
сентиментальности, оно было скорее строгим. Была в нем
231
справедливость или что-то подобное. Я не понимал, что со
мной; он стоял передо мной как волшебник.
— Понял? — спросил он еще раз.
Я кивнул. Говорить я не мог.
— Я же сказал тебе, что выглядит это смешно — читать
мысли, но все делается самым естественным образом. Я мог
бы тебе еще, например, довольно точно сказать, что ты обо
мне подумал, коща я рассказал тебе как-то историю о Каине
и Авеле. Ну, да здесь это не к месту. Вполне допускаю так¬
же, что ты видел меня во сне. Однако оставим это! Ты маль¬
чик умный, большинство же такие глупые! Мне приятно
поговорить с умным мальчиком, который мне внушает дове¬
рие. Ты ведь не против?
— О нет. Я только не совсем понимаю...
— Продолжим, однако, наш забавный опыт! Итак, мы
выяснили, что мальчик С. пуглив... он кого-то боится... у
него, наверно, есть с этим другим какая-то тайна, которая
ему очень мешает... Так приблизительно?
Как во сне, покорился я его голосу, его влиянию. Я толь¬
ко кивнул. Не звучал ли это голос, который мог изойти
только из меня самого? Который все знал? Который все
знал лучше, яснее, чем я сам?
Демиан с силой хлопнул меня по плечу.
— Правильно, значит. Так я и думал. Теперь еще один-
единственный вопрос: ты знаешь, как зовут того мальчика,
который только что ушел?
Я испугался донельзя, моя тайна от прикосновения му¬
чительно сжалась во мне, ей не хотелось выходить на свет.
— Какой мальчик? Никакого мальчика не было здесь,
был только я.
Он засмеялся.
— Ну-ка скажи! — засмеялся он. — Как его зовут?
Я прошептал:
— Ты имеешь в виду Франца Кромера?
Он удовлетворенно кивнул мне.
— Браво! Ты молодец, мы с тобой еще подружимся. Но
должен сказать тебе одну вещь: этот Кромер или как там его —
скверный малый. Его лицо говорит мне, что он негодяй! А
ты что думаешь?
— О да, — вздохнул я, — он плохой, он дьявол! Но он
ничего не должен знать! Ради Бога, он ничего не должен
знать! Ты его знаешь? Он знает тебя?
232
— Успокойся! Он ушел, и он не знает меня... Еще не
знает. Но я бы не прочь познакомиться с ним. Он учится в
народной школе?
— Да.
— В каком классе?
— В пятом... Но не говори ему ничего! Пожалуйста, по¬
жалуйста, ничего не говори!
— Успокойся, ничего тебе не будет. Наверно, у тебя нет
желания рассказать мне об этом Кромере немного больше?
— Не могу! Оставь меня!
Он помолчал.
— Жаль, — сказал он затем, — мы могли бы продол¬
жить наш опыт. Однако я не хочу тебя мучить. Но ты же
знаешь, не правда ли, что твой страх перед ним неправилен?
Такой страх нас изводит совсем, от него надо избавляться.
Ты должен избавиться от него, если хочешь стать парнем
что надо. Понимаешь?
— Конечно, ты прав... но не выходит. Ты же не знаешь...
— Ты же видел, что я кое-что знаю, больше, чем ты мог
думать... Уж не должен ли ты ему отдать какие-то деньги?
— Да, это тоже, но это не главное. Я не могу это сказать,
не могу!
— Не поможет, значит, если я дам тебе столько денег,
сколько ты ему должен?.. Я бы вполне мог дать их тебе.
— Нет, нет, не в этом дело. И прошу тебя: никому об
этом не говори! Ни слова! Ты сделаешь меня несчастным!
— Положись на меня, Синклер. Ваши тайны откроешь
мне как-нибудь позже...
— Никоща, никоща! — воскликнул я с жаром.
— Как угодно. Я говорю только, что коща-нибудь, мо¬
жет быть, ты расскажешь мне больше. Только добровольно,
разумеется! Ты же не думаешь, что я поступлю так же, как
сам Кромер?
— О нет... но ты же ничего не знаешь об этом!
— Ровным счетом ничего. Я только размышляю об этом.
И я никоща не поступлю так, как Кромер, можешь пове¬
рить. Да ты и не должен мне ничего.
Мы довольно долго молчали, и я успокоился. Но осве¬
домленность Демиана становилась все более загадочной для
меня.
— Теперь я пойду домой, — сказал он и плотнее запах¬
нул под дождем грубошерстное непромокаемое пальто. —
Хочу только еще раз сказать тебе одно — ты должен изба¬
233
виться от этого малого! Если уж никак не получится по-дру-
гому, убей его! У меня ты вызвал б{* уважение и одобрение,
если бы это сделал. Да я бы и помог тебе.
Меня опять охватил страх. Я вдруг снова вспомнил ис¬
торию о Каине. Мне сделалось жутко, и я тихонько запла¬
кал. Слишком много жуткого было вокруг меня.
— Ну ладно, — улыбнулся Макс Демиан. — Ступай себе
домой! Как-нибудь справимся. Хотя убить было бы проще
всего. В таких делах чем проще, тем лучше. Ничего хоро¬
шего ты от своего друга Кромера не дождешься.
Я пришел домой, и мне показалось, что я отсутствовал
здесь целый год. Все выглядело иначе. Между мной и Кро¬
мером встало какое-то будущее, какая-то надежда. Я не был
больше один! И только сейчас я увидел, до чего одинок я
был со своими мыслями столько недель. И мне тут же по¬
думалось то, о чем я уже не раз размышлял: что признание
перед родителями облегчило бы меня, но полного избавле¬
ния мне не дало бы. А сейчас я чуть не признался, причем
другому, постороннему человеку, и на меня повеяло пред¬
вестием избавления!
Однако мой страх отнюдь еще не был преодолен, и я еще
ждал долгих и тяжелых объяснений с отцом. Тем удивитель¬
нее было мне, что все совершилось так тихо, тайком, без шума.
Свиста Кромера перед нашим домом не слышалось один
день, два дня, три дня, неделю. Я боялся этому верить и
внутренне был настороже: не явится ли он все-таки вдруг,
именно тоща, коща его уже перестанешь ждать. Но он так
и не объявился! Не доверяясь новой свободе, я все еще не
верил в это вполне. Пока наконец случайно не встретился с
самим Францем Кромером. Он шел вниз по Канатной ули¬
це, прямо навстречу мне. Увидев меня, он вздрогнул, скор¬
чил какую-то кривую гримасу и тут же повернул назад, что¬
бы не встретиться со мной.
Это был для меня невероятный миг! Мой враг убежал от
меня! Мой дьявол меня боялся! Я был сам не свой от радо¬
сти и неожиданности.
В эти дни Демиан однажды показался опять. Он ждал
меня перед школой.
— Здравствуй, — сказал я.
— Доброе утро, Синклер. Хотелось услыхать, как твои
дела. Кромер ведь теперь не пристает к тебе, правда?
— Это ты сделал? Но как же? Как же? Я не понимаю.
Он совсем исчез!
234
— Это хорошо. Если он вдруг явится снова — думаю, он
этого не сделает, но он ведь наглец, — скажи ему только,
чтобы вспомнил про Демиана.
— Но какая тут связь? Ты затеял с ним ссору и вздул его?
— Нет, я до этого не охотник. Я просто поговорил с ним
так же, как и с тобой, и сумел объяснить ему, что ему само¬
му выгоднее отстать от тебя.
— Но ты же, конечно, не давал ему денег?
— Нет, мальчик мой. Этот путь ты ведь уже испробовал.
Он ничего больше не открыл мне, как я его ни расспра¬
шивал, и у меня осталось прежнее тяжелое чувство по отно¬
шению к нему, представлявшее собой странную смесь бла¬
годарности и робости, восхищения и страха, приязни и внут¬
реннего сопротивления.
Я решил увидеть его вскоре снова и тоща поговорить с ним
обо всем подробнее, а также и насчет каиновской истории.
Не привелось.
Благодарность — это вообще не та добродетель, в кото¬
рую я верю, а требовать ее от мальчика было бы, по-моему,
смешно. Поэтому я не очень-то удивляюсь своей собствен¬
ной полной неблагодарности, проявленной в отношении
Макса Демиана. Сегодня я совершенно уверен, что я был
бы искалечен и погублен на всю жизнь, если бы он не осво¬
бодил меня от когтей Кромера. Это освобождение я и тоща
уже ощутил как величайшее событие моей молодой жизни —
но от самого освободителя я отмахнулся, как только он со¬
творил свое чудо.
Эта неблагодарность, повторяю, не кажется мне стран¬
ной. Поражает меня только недостаточность любопытства,
мною проявленная. Как мог я спокойно прожить хоть один
день, не приблизившись к тайнам, в соприкосновение с ко¬
торыми привел меня Демиан? Как мог я сдержать жажду
больше узнать о Каине, о Кромере, о чтении мыслей?
Это трудно понять, и все-таки это так. Я вдруг увидел
себя выпутавшимся из демонических сетей, снова увидел
мир перед собой светлым и радостным, не испытывал боль¬
ше приступов страха и удушающего сердцебиения. Чары
были разрушены, я больше не был проклятым и истязаемым
грешником, я снова был мальчиком-школьником, как всег¬
да. Чтобы поскорее вновь обрести равновесие и покой, моя
природа стремилась прежде всего отбросить прочь, поза¬
быть все безобразное и угрожающее. Удивительно быстро
235
исчезла из изкяти вся эта долгая история моей вины и за¬
пуганности, не оставив с виду никаких следов и царапин.
А то, что я старался побыстрее забыть своего помощника
и спасителя, это мне и сегодня понятно. Из юдоли своего
проклятия, из ужасного рабства у Кромера я всеми силами
своей поврежденной души устремился назад, туда, ще был
прежде доволен и счастлив: в потерянный рай, который сно¬
ва открылся, в светлый отцовский и материнский мир, к
сестрам, к благоуханию чистоты, к богоугодности Авеля.
После моего короткого разговора с Демианом, уже в тот
же день, полностью убедившись наконец в своей вновь об¬
ретенной свободе и не боясь больше никаких возвратов к
старому, я сделал то, чего так часто и так страстно желал, —
я исповедался. Я пошел к матери, я показал ей копилку с
поврежденным замком, наполненную фишками вместо де¬
нег, и рассказал ей, как по собственной вине долгое время
был в путах безжалостного мучителя. Она не все поняла, но
она увидела копилку, увидела мой изменившийся взгляд,
услышала мой изменившийся голос, почувствовала, что я
выздоровел, что возвращен ей.
И тоща я в душевном подъеме справил праздник своего
возрождения, возвращения блудного сына. Мать отвела ме¬
ня к отцу, вся история была рассказана снова, посыпались
вопросы и возгласы удивления, родители гладили меня по
голове, облегченно вздохнув наконец после долгой полосы
удрученности. Все было великолепно, все было как в сказ¬
ках, все растворилось в чудесной гармонии.
В эту гармонию я и убежал тоща с истинной страстью.
Я никак не мог насытиться тем, что снова обрел мир и вер¬
нул себе доверие родителей, я стал домашним пай-мальчи-
ком, играл больше, чем коща-либо, с сестрами и во время
молитвы пел милые старые песни с чувством спасенного и
новообращенного человека. Это делалось от души, никакой
лжи тут не было.
Но что-то все-таки было не в порядке! И тут-то она и есть,
та точка, которая только и может правдиво объяснить мою за¬
бывчивость в отношении Демиана. Мне следовало ему испо¬
ведаться! Исповедь получилась бы менее декоративной и тро¬
гательной, но более плодотворной для меня. Я тоща всячески
цеплглся за свой прежний, райский мир, я вернулся домой и
был принят с милостью. Демиан же отнюдь не принадлежал к
этому миру, не подходил к нему. Он тоже, хоть и иначе, чем
Кромер, но и он тоже был совратителем, он тоже связывал
236
меня с другим, злым, скверным миром, о котором я отныне
ничего больше не хотел знать. Я не хотел и не мог тоща помо¬
гать поступаться Авелем и прославлять Каина, потому что
сам-то я снова стал Авелем.
Так обстояло все внешне. А внутренне было вот как: я вы¬
рвался из рук Кромера и дьявола, но не собственными сила¬
ми. Я попытался пойти тропами мира, но они оказались для
меня слишком скользкими. И вот коща дружеская рука под¬
держала меня и спасла, я, не гладя больше никуда в сторону,
бросился назад, к материнскому лону, в укромность ухожен¬
ной, благочестивой детскости. Я сделал себя моложе, зависи¬
мее, в большей мере ребенком, чем был в действительности.
Зависимость от Кромера я должен был заменить какой-то но¬
вой зависимостью, ибо ходить самостоятельно я еще не был
способен. И вот слепым своим сердцем я выбрал зависимость
от отца и матери, от старого, любимого, «светлого мира», о
котором я, однако, знал уже, что он не единственный. Если
бы я так не поступил, я должен был взять сторону Демиана и
довериться ему. То, что я этого не сделал, показалось мне
тоща оправданным недоверием к его странным мыслям; на
самом деле это было не что иное, как страх. Ведь Демиан по¬
требовал бы от меня большего, чем требовали родители, куда
большего: подталкиваниями и призывами, насмешками и
иронией он попытался бы сделать меня более самостоятель¬
ным. О, сегодня я знаю: ничто на свете не претит человеку
больше, чем идти путем, который ведет его к нему самому!
Примерно через полгода, однако, я не устоял перед ис¬
кушением и как-то на прогулке спросил отца, как он отно¬
сится к тому, что некоторые люди ставят Каина выше, чем
Авеля.
Отец очень удивился и сказал мне, что этот взгляд но¬
визной не отличается. Он возник уже на заре христианства
и проповедовался в сектах, одна из которых даже называла
себя «каиниты». Но конечно, это нелепое учение есть не что
иное, как попытка дьявола погубить нашу веру. Ведь если
поверить в правоту Каина и неправоту Авеля, то нужно сде¬
лать вывод, что Бог ошибся, что, следовательно, Бог Биб¬
лии не истиный и не единственный, а какой-то лже-бог. Что-
то подобное каиниты и вправду утверждали и проповедова¬
ли. Однако эта ересь давно сгинула в человечестве, и он
только удивляется, что кто-то из моих школьных товарищей
мог что-то об этом узнать. Во всяком случае, он, отец, серь¬
езно призывает меня отбросить эти мысли.
237
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
РАЗБОЙНИК
Можно было бы рассказать много прекрасного, нежно¬
го и милого о моем детстве, о моей защищенности в доме
отца и матери, о любви к родителям и легком житье-бытье
в уютном, славном, светлом окружении. Но меня интере¬
суют только те шаги, которые я сделал в своей жизни для
того, чтобы пробиться к себе самому. Все эти прелестные
пристанища, островки счастья и райские уголки я остав¬
ляю в сияющей дали и не хочу возвращаться туда еще
раз.
А потому, повествуя о своем отрочестве, я буду говорить
только о том, что случилось у меня нового, что гнало меня
вперед, что вырвало меня из привычного круга.
Всеща сыпались эти удары из «другого мира», всеща
они приносили с собой страх, гнет и нечистую совесть, всег¬
да они были революционны и угрожали покою, в котором я
охотно пребывал бы и дальше.
Прошли годы, прежде чем мне суждено было снова от¬
крыть, что во мне самом находится некий двигатель, кото¬
рый в дозволенном, светлом мире должен скрываться и пря¬
таться. Как на всякого человека, так и на меня медленно
пробуждающееся чувство пола находило как враг и губи¬
тель, как нечто запретное, как соблазн и грех. То, чего ис¬
кало мое любопытство, что творило мне мечты, наслаждение
и страх, великая тайна возмужания, — это никак не вяза¬
лось с укромным блаженством моего детского покоя. Я по¬
ступал как все. Я вел двойную жизнь ребенка, который все-
таки уже не ребенок. Мое сознание жило в родном и дозво¬
ленном, мое сознание отвергало этот забрезживший новый
мир. Но одновременно я жил в мечтах, порывах, желаниях
адского свойства, через которые та сознательная жизнь со¬
оружала себе все более ненадежные мосты, ибо мир детства
во мне уже рушился. Как почти все родители, так и мои не
помогали тем пробудившимся инстинктам, о которых не го¬
ворили. Помогали они только, с беспредельной заботливо¬
стью, моим безнадежным попыткам отвергнуть реальность
и по-прежнему жить в мире детства, который становился все
нереальнее и лживее. Не знаю, многое ли тут способны сде¬
лать родители, и своих родителей нисколько не упрекаю.
238
Это было мое дело — справиться с собой и найти свой путь,
и делал я свое дело плохо, как большинство людей благо¬
воспитанных.
Каждый проходит через эту трудность. Для среднего че¬
ловека это та точка жизни, ще веление собственной жизни
вступает в наиболее жестокий спор с окружающим миром,
ще путь вперед отвоевывается в жесточайшей борьбе. Мно¬
гие испытывают то умирание и рождение заново, каковое
представляет собой наша судьба, только в этот единствен¬
ный раз за всю жизнь при обветшании и медленном разру¬
шении детства, коща все, что мы полюбили, нас покидает и
мы вдруг чувствуем одиночество и смертельный холод ми¬
рового пространства. И многие навсеща повисают на этой
скале и всю жизнь мучительно цепляются за невозвратимое
прошлое, за мечту о потерянном рае, самую скверную, са¬
мую убийственную на свете мечту.
Вернемся к нашей истории. Ощущения и образы, в кото¬
рых мне предстал конец детства, не настолько важны, чтобы
о них рассказывать. Важно было то, что «темный мир», «дру¬
гой мир» снова заявил о себе. Что было некоща Францем
Кромером, находилось теперь во мне самом. А потому и с
внешней стороны «другой мир» снова обрел власть надо
мной.
Со времен истории с Кромером прошло много лет. Та
драматическая и полная виновности полоса моей жизни бы¬
ла тоща очень далека от меня и казалась коротким пустым
кошмаром. Франц Кромер давно исчез из моей жизни, если
он и встречался мне, я почти не замечал этого. Но другая
важная фигура моей трагедии, Макс Демиан, полностью
уже не исчезала из моего окружения. Однако долгое время
он находился далеко на периферии, в поле зрения, но не
действенно. Лишь постепенно он приблизился снова, снова
излучая сцлу, снова влиятельно.
Я стараюсь припомнить все, что знаю о Демиане той по¬
ры. Возможно, что я год или дольше ни разу не говорил с
ним. Я избегал его, а он отнюдь не навязывал своего обще¬
ства. Разве что как-то кивнул мне при встрече. Мне тоща
казалось порой, что в его приветливости есть нотка презре¬
ния или иронического упрека, но, может быть, мне это по¬
чудилось. История, которую я с ним пережил, и странное
влияние, которое он тоща оказал на меня, были как бы
забыты, и им и мною.
239
Я стараюсь восстановить его образ и, припоминая, вижу,
что од все-таки присутствовал и что я замечал его. Вижу,
как он идет в школу, один или среди других старшекласс¬
ников, вижу, как он отчужденно, одиноко и тихо, словно
небесное тело, движется среди них, окруженный собствен¬
ным воздухом, живущий по каким-то своим законам. Никто
не любил его, никто не был с ним близок, одна только его
мать, но и с ней он, казалось, обходился не как ребенок, а
как взрослый. Учителя по возможности оставляли его в по¬
кое,. он был хороший ученик-, но он ни к кому не подлизы¬
вался, и время от времени до нас доходили слухи о каком-
нибудь словце, замечании или возражении, брошенном им
тому или иному учителю с явным вызовом или иронией.
Я сосредоточиваюсь, закрыв глаза, и передо мной выри¬
совывается его внешность. Где это было? Ну вот, всплыло.
Это было на улице перед нашим домом. Однажды я увидел,
как он стоял там с записной книжкой в pytfe и рисовал. Он
срисовывал гербовую фигуру с птицей над нашей входной
дверью. А я стоял у окна, спрятавшись за занавеской, и
смотрел на него, и с изумлением видел его внимательное,
холодное, светлое лицо, повернутое к гербу, лицо мужчины,
исследователя или художника, высокомерное и волевое,
удивительно светлое и холодное, со знающими глазами.
И опять я вижу его. Это было намного позднее, на улице;
возвращаясь из школы, мы все столпились вокруг упавшей
лошади. Она лежала, еще запряженная в дышло, перед кре¬
стьянской повозкой, жалобно сопела открытыми ноздрями,
чего-то ища, и истекала кровью из невидимой раны, отчего
рядом с ней медленно наливалась темным белая пыль ули¬
цы. Отвернувшись с чувством тошноты от этого зрелища, я
увидел лицо Демиана. Он не протискивался вперед, он сто¬
ял позади всех, в удобной и довольно изящной позе, как то
было ему свойственно. Его взгляд был направлен на голову
лошади, и опять в нем была эта глубокая, тихая, почти фан¬
тастическая и все же бесстрастная внимательность. Я долго
смотрел на него, и вдруг, совсем еще безотчетно; почувство¬
вал нечто очень странное. Я видел лицо Демиана, не только
видел, что это лицо не мальчика, а мужчины, но я видел еще
больше: я, казалось мне, видел или чувствовал, что это и не
лицо мужчины, а еще что-то другое. Было в нем что-то жен¬
ское, а главное, на миг это лицо показалось мне не мужским
или детским, не старым или молодым, а каким-то тысяче¬
летним, каким-то вневременным, отчеканенным иными вре¬
240
менами, чем наши. Так могли выглядеть животные, или де¬
ревья, или звезды — я этого не знал, я ощущал не совсем
то, что говорю об этом сейчас, будучи взрослым, но что-то
подобное. Возможно, он был красив, возможно, нравился
мне, а может быть, и был мне противен, это тоже нельзя
было решить. Я видел только, что он был иным, чем мы, он
был как животное, или как дух, или как изображение, не
знаю, каков он был, но был иным, немыслимо другим, чем
мы все.
Больше ничего это воспоминание не говорит мне, да и
сказанное почерпнуто, может быть, отчасти уже из поздней¬
ших впечатлений.
Лишь став на много лет старше, я наконец снова сопри¬
коснулся с ним теснее. Демиан не был, как полагалось бы,
конфирмован в церкви вместе с мальчиками своего года
рождения, и это тоже сразу дало повод для всяких слухов.
Опять в школе говорили, что он, собственно, еврей или нет,
язычник, а иные утверждали, что он с матерью не испове¬
дуют вообще никакой веры или состоят в какой-то особен¬
ной, нехорошей секте. В связи с этим, наверно, до меня
дошло, что он живет со своей матерью как с любовницей.
Вероятно, дело обстояло так, что дотоле он воспитывался
без всякого вероисповедания, а теперь это заставило опа¬
саться каких-то невыгод для него в будущем. Во всяком
случае, теперь, на два года позднее, чем его ровесников,
мать все-taKH решила конфирмовать его. Вот и получилось,
что он несколько месяцев был моим товарищем по занятиям
для конфирмующихся.
Какое-то время я держался от него подальше, мне не
хотелось иметь с ним дело, слишком уж много для меня
было вокруг него слухов и тайн, но особенно мешало мне
чувство, что я в долгу перед ним, оставшееся у меня после
истории с Кромером. И как раз тоща мне хватало забот со
своими собственными тайнами. У меня занятия для конфир¬
мующихся совпали с периодом решающего просвещения в
половых делах, и, несмотря на добрую волю, мой интерес к
духовным наставлениям был сильно ослаблен. Вещи, о ко¬
торых говорил священник, пребывали ще-то далеко от ме¬
ня, в тихой, святой нереальности, они были, возможно, куда
как прекрасны и ценны, но они не задевали за живое, не
волновали, а те, другие вещи обладали как раз этой способ¬
ностью в величайшей мере.
241
И чем больше делало меня равнодушным мое состояние
к религиозным занятиям, тем больше приближали меня
опять к Максу мои интересы. Казалось, нас что-то связыва¬
ло. Я должен как можно точнее проследить эту нить. На¬
сколько мне помнится, все началось на одном уроке, рано
утром, коща в классе еще горел свет. Наш духовный настав¬
ник заговорил об истории Каина и Авеля. Я был невнима¬
телен, сонлив и почти не слушал. Священник стал повышен¬
ным голосом твердить о каиновой печати. В этот миг я по¬
чувствовал что-то вроде прикосновения или призыва и, под¬
няв глаза, увидел в передних рядах скамеек повернутое ко
мне лицо Демиана — со светлым, выразительным взглядом,
в котором не было ни насмешливости, ни серьезности. Лишь
на мгновение взглянул он на меня, и вдруг я стал с любо¬
пытством прислушиваться к словам священника, слушать
его речь о Каине и каиновой печати и почувствовал глубоко
в себе знание, что все обстоит не так, как он уверяет, что на
все можно посмотреть и иначе, что тут возможна и критика!
С этой минуты между Демианом и мною установилась
какая-то связь. И поразительно: едва только чувство некоей
общности появилось в душе, как оно, я увидел, словно бы
магически перешло и в пространство. Я не знал, сам ли он
так устроил или то была чистая случайность — я тогда еще
твердо верил в случайности, — но через несколько дней
Демиан вдруг сменил свое место на уроках закона Божьего
и сидел прямо передо мной (до сих пор помню, как жадно
вдыхал я, окутанный убогим приютским воздухом перепол¬
ненного по утрам класса, нежно-свежее веяние мыла от его
шеи!), а еще через несколько дней он снова переменил место
и сидел уже рядом со мной, и просидел так всю зиму и всю
весну.
Утренние часы совершенно преобразились. Они уже не
были сонными и скучными. Я ждал их с радостью. Иноща
мы оба слушали священника с величайшим вниманием, до¬
статочно было одного взгляда моего товарища, чтобы ука¬
зать мне на какую-нибудь занятную историю, на какое-ни-
будь странное изречение. И другого его взгляда, вполне оп¬
ределенного, достаточно было, чтобы встряхнуть меня, вы¬
звать во мне критику и сомнения.
Но очень часто ъщ были плохими учениками и совершен¬
но не слушали урока. Демиан всеща вел себя вежливо с
учителями и однокашниками, я никоща не видел, чтобы он
по-мальчишески баловался, никоща не было слышно, чтобы
242
он громко смеялся или болтал, никоща не получал он от
учителей замечаний. Но он умел совершенно бесшумно,
больше знаками, чем взглядами, чем шепотом, вовлекать ме¬
ня ^в собственные занятия. А они были отчасти странного
рода.
Он говорил мне, например, кто из учеников его интере¬
сует и каким образом он изучает их. Многих он знал очень
хорошо. Он говорил мне перед лекцией: «Коща я сделаю
тебе знак большим пальцем, тот-то и тот-то обернется к нам
или почешет затылок» — и так далее. Затем, во время уро¬
ка, коща я часто уже забывал об этом, Макс вдруг заметным
движением поворачивал ко мне большой палец, я быстро
бросал взгляд на указанного ученика и каждый раз видел,
что тот, словно его потянули за проволочку, совершал заду¬
манное движение. Я приставал к Максу, чтобы он как-ни-
будь проделал это и с учителем, но он отказывался. Но ког¬
да я однажды, придя на занятие, сказал ему, что не выучил
сегодня урока и очень надеюсь, что священник сегодня не
спросит меня, он мне помог. Священник искал, кого бы из
учеников вызвать для ответа по катехизису, и его блуждаю¬
щий взгляд остановился на моем виноватом лице. Он мед¬
ленно подошел, протянул в мою сторону палец, готов уже
был произнести мою фамилию — и вдруг не то отвлекся, не
то забеспокоился, поправил свой воротник, подошел к Де-
миану, который твердо смотрел ему в лицо, собрался было
что-то спросить у него, но неожиданно опять отвернулся,
кашлянул и вызвал другого ученика.
Очень забавляясь этими шутками, я лишь постепенно за¬
метил, что мой друг часто ведет эту игру и со мной. Случа¬
лось, что по дороге в школу у меня вдруг возникало чувство,
что Демиан идет сейчас сзади, и, коща я оглядывался, он
действительно там оказывался.
— Ты в самом деле можешь заставить другого думать то,
что ты хочешь? — спросил я его.
Он отвечал с полной готовностью, спокойно и разумно,
как взрослый.
— Нет, — сказал он, — это невозможно. Ведь свободной
воли не существует, хотя священник делает вид, что она
есть. Ни другой не может думать что хочет, ни я не могу
заставить его думать что хочу. Но, хорошенько понаблюдав
за кем-нибудь, можно довольно точно сказать, что он думает
или чувствует, а потому обычно можно и предвидеть, что он
сделает в следующее мгновение. Это очень просто, люди
243
только не знают этого. Конечно, нужно упражнение. Есть,
например, среди бабочек определенные ночные мотыльки, у
которых особи женского пола встречаются гораздо реже,
чем мужского. Мотыльки эти размножаются совершенно так
же, как все животные, самец оплодотворяет самку, которая
потом кладет яйца. Если у тебя есть самка этих мотыль¬
ков — исследователи часто делали такой опыт, — то ночью
к этой самке прилетят мотыльки мужского пола, причем с
расстояния в несколько часов полета! В несколько часов,
представь себе! За много километров чувствуют все эти сам¬
цы единственную в этой местности самку! Это пытаются
объяснить, но объяснить это трудно. Наверно, существует
какое-то обоняние или что-то подобное, вроде того как хо¬
рошие охотничьи собаки могут найти незаметный след и ид¬
ти по нему. Понимаешь? Таких вещей в природе полно, и
никто не может их объяснить. Но вот что я скажу: если бы
у этих бабочек самки встречались так же часто, как самцы,
у них не было бы такого точного нюха. У них он есть только
потому, что они так натаскали себя. Если животное или че¬
ловек направит все свое внимание и всю свою волю на оп¬
ределенную цель, то он ее и достигнет. Вот и все. И точно
так же обстоит дело с тем, что ты имеешь в виду. Присмот¬
рись к человеку достаточно внимательно, и ты будешь о нем
знать больше, чем он сам.
Меня так и подмывало произнести слова «чтение мыс¬
лей» и напомнить ему ту давнюю уже сцену с Кромером. Но
это было тоже странное дело: никоща, ни разу ни он, ни я
не позволяли себе ни малейшего намека на то, что много лет
назад он однажды так серьезно вмешался в мою жизнь.
Словно ничего прежде не было между нами или словно каж¬
дый из нас твердо рассчитывал на то, что другой это забыл.
Раз-другой случалось даже, что мы вместе встречали, идя
по улице, Франца Кромера, но мы не переглядывались, не
упоминали ни одним словом о нем.
— Но как же это получается со свободой воли? — спро¬
сил я. — Ты говоришь, что свободной воли нет. Но ты же
говоришь, что стоит лишь твердо направить свою волю на
что-то, и цель будет достигнута. Это же противоречие! Если
я не хозяин своей воли, то я не могу направить ее по жела¬
нию туда или сюда.
Он похлопал меня по плечу. Так он всеща делал, коща
я его радовал.
244
— Хорошо, что ты спрашиваешь! — сказал он со сме¬
хом. — Всегда надо спрашивать, всегда надо сомневать¬
ся. Но все очень просто. Если бы такой мотылек, напрймбр,
Пожелал направить: свою волю на какую-нйбудь звезду илй
еще куда-нибудь, у него ничего не вышло бы. Только он й
не пытается это сделать. Он ищет лишь то, что имеет для
него смысл и ценность, что ему нужно, что требуется çMÿ
непременно. Тут-то и удается ему самое невероятное: он раз¬
вивает волшебное шестое чувство, которого нет ни у одного
животного, кроме него! У нас, разумеется, больше простора
и больше интересов, чем у животного. Но и мы замкнуты
относительно узким кругом и не можем выйти за его предё-
лы. Я могу, конечно, придумать и то, и другое, вообразить,
скажем, что мне непременно нужно попасть на Северный
полюс или что-нибудь такое, но выполнить это и достаточно
сильно пожелать этого я могу только в том случае, если
такое желание заключено целиком во мне самом, если мое
естество действительно целиком наполнено им. Коща это
так, коща ты пробуешь сделать что-то, следуя своему внут¬
реннему велению, тоща оно и получается, тогда ты можешь
взнуздать свою волю, как доброго коня. Если я, например,
задался сейчас целью сделать так, чтобы наш батюшка пе¬
рестал носить очки, то ничего не получатся. Это просто ба¬
ловство. Но коща я осенью почувствовал в себе твердую
волю пересесть со своей передней парты сюда, все получи¬
лось великолепно. Тут вдруг возник некто, кто шел по ал¬
фавиту впереди меня и дотоле болел, и, поскольку кто-то
должен был уступить ему место, сделал это, конечно, я,
потому что именно моя воля была готова сразу же восполь¬
зоваться таким случаем.
— Да, — сказал я, — мне это тоже показалось тоща
странным. С того момента, как мы заинтересовались друг
другом, ты придвигался ко мне все ближе. Но как это было?
Сначала, ведь ты не сразу сел рядом со мной, ты же сперва
посидел несколько раз на этой вот парте впереди меня, прав¬
да? Как это вышл0?
— Это было так: я и сам толком не знал, куда стремлюсь,
коща пожелал уйти с моего первого места. Я знал только,
что хочу сидеть подальше сзади. То была моя воля пересесть
к тебе, но я ее еще не осознавал. Одновременно твоя воля
тоже тянула меня и помогала мне. Лишь коща я сел перед
тобой, до меня дошло, что мое желание исполнилось лишь
245
наполовину. Я понял, что, в сущности, не желал ничего дру¬
гого, как сидеть рядом с тобой.
— Но тоща никаких новеньких не появлялось.
— Нет, но тоща я просто сделал то, чего хотел, и недолго
думая сел возле тебя. Мальчик, с которым я поменялся ме¬
стами, только удивился, но возражать не стал. Священник,
правда, как-то заметил, что произошло какое-то измене¬
ние... вообще каждый раз, коща он имеет со мной дело, его
втайне что-то мучит: он знает, что моя фамилия Демиан и
что если я на «Д», то мне не надо бы сидеть так далек’о
сзади, с теми, кто на «С»! Но это не доходит до его созна¬
ния, потому что моя воля против этого и потому что я каж¬
дый раз мешаю ему собраться с мыслями. Он каждый раз
замечает, что тут что-то не так, и глядит на меня и начинает
задумываться, бедняга. А у меня средство простое. Я каж¬
дый раз смотрю ему прямо, очень прямо в глаза. Этого поч¬
ти никто не переносит. Они все начинают беспокоиться. Ес¬
ли ты хочешь от кого-нибудь чего-то добиться и неожиданно
посмотришь ему очень прямо в глаза, а он не забеспокоится,
оставь надежду! Но это бывает очень редко. Я знаю, собст¬
венно, только одного человека, с которым это не помогает
мне.
— Кто же это? — спросил я быстро.
Он посмотрел на меня чуть суженными глазами, как то
случалось, коща он задумывался. Затем отвел взгляд и ни¬
чего не ответил, а я, несмотря на острое любопытство, не
смог повторить свой вопрос.
Но, думаю, говорил он тоща о своей матери... С ней он,
казалось, жил в большой близости, но мне о ней никоща не
рассказывал, домой к себе меня никоща не звал. Едва ли я
даже знал, какова его мать с виду.
Иноща я даже пытался подражать ему и сосредоточивать
свою волю на чем-нибудь так, чтобы добиться задуманного.
Были желания, казавшиеся мне достаточно настоятельны¬
ми. Но все напрасно, ничего не получалось. Говорить об
этом с Демианом я не решался. Признаться ему, чего я же¬
лал себе, я не мог. А он и не спрашивал.
Моя доверчивость в религиозных вопросах понесл^ тем
временем некоторый ущерб. Однако по своему мышлению,
находившемуся под влиянием Демиана, я очень отличался
от тех моих однокашников, которые обнаруживали полное
неверие. Было несколько таких, и от них случалось слы¬
шать, что смешно и недостойно человека верить в какого-то
24о
Бога, что такие истории, как о триединстве и о непорочном
зачатии, просто-напросто смехотворны и что позорно в наши
дни распространять подобную дребедень. Так я отнюдь не
думал. При всяческих своих сомнениях я по всему опыту
своего детства все-таки достаточцо много знал о подлинно¬
сти релйгиозной жизни, которую вели, например, мои роди¬
тели, и не находил в ней ничего недостойного и лицемерно¬
го. Нет, я по-прежнему испытывал к религии глубочайшее
уважение. Только Демиан приучил меня смотреть на эти
предания, на эти догматы веры иначе, толковать их свобод¬
нее, более лично, игривее, с большей фантазией; во всяком
случае, толкования, которые он предлагал мне, я всеща вы¬
слушивал охотно и с наслаждением. Многое, правда, каза¬
лось мне слишком резким, так было и с рассказом о Каине.
А однажды во время занятий для конфирмующихся он ис¬
пугал меня суждением, пожалуй, еще более смелым. Учи¬
тель говорил о Голгофе. Библейский рассказ о страданиях
и смерти Спасителя с давних времен оставил у меня глубо¬
кое впечатление, в раннем детстве я иноща, особенно в стра¬
стную пятницу, после того как отец прочитывал эту историю
вслух, искренне, всей душой жил в этом скорбно прекрас¬
ном, бледном, призрачном и все-таки-невероятно живом ми¬
ре, в Гефсиманском саду и на Голгофе, и, коща я слушал
баховские «Страсти по Матфею», мрачно-могучее сияние
боли, исходившее от этого таинственного мира, наполняло
меня мистическим благоговением. Я и сегодня еще нахожу
в этой музыке и в «Actus tragicus» идеал всякой поэзии,
всякого художественного выражения.
Так вот, в конце урока Демиан задумчиво сказал мне:
— Тут что-то есть, Синклер, что мне не нравится. Пере¬
чти эту историю и проверь ее на вкус, есть тут какая-то
пошлость. Особенно эпизод с двумя разбойниками. Велико¬
лепная картина — три креста, стоящие на холме рядом! Но
вот идет эта сентиментальная назидательная история с по¬
рядочным разбойником! Сначала он был преступник и тво¬
рил гнусные дела, Бог знает что, и вдруг — он оттаивает »
празднует этакий слезливый праздник исправления и раска¬
яния! Какой смысл имеет такое раскаяние в двух шагах от
могилы, скажи на милость? Это снова не что другое, как
обычная поповская история, слащавая и нечестная; трога-
тельно-сентиментальная и с нравоучительной подоплекой.
Если бы тебе сегодня надо было выбирать в друзья одного
из двух этих разбойников или решить, кому из них ты ско¬
247
рее оказал бы доверие, ты ведь, конечно, не выбрал бы этого
плаксивого покаянника. Нет, ты выбрал бы другого, этот —
молодец, у него есть характер. Ему наплевать на покаяние,
которое в его положении может быть только красивой бол¬
товней, он идет своим путем до конца и не отрекается в
последнее мгновение от дьявола, который до сих пор ему
помогал. У него есть характер, а люди с характером в биб¬
лейской истории часто оказываются в убытке. Может быть,
он тоже отпрыск Каина. Ты не думаешь?
Я был ошеломлен. Уж в этом-то, в истории распятия, я
считал себя сведущим и только теперь увидел, как мало лич¬
ного, как мало воображения, фантазии проявлял я, коща
слушал ее и читал. Однако новая мысль Демиана была мне
неприятна, она грозила перевернуть представления, кото¬
рые я считал для себя незыблемыми. Нет, нельзя было так
обходиться со всем и всеми, даже с самым святым.
Он заметил мое сопротивление, как всеща, сразу^же,
прежде чем я успел что-либо сказать.
— Знаю, — сказал он примирительно, — история эта
старая. Только не надо серьезничать! Но вот что я тебе ска¬
жу: здесь одна из тех точек, ще очень ясно виден недостаток
этой религии. Речь идет вот о чем: весь этот Бог, и Ветхого,
и Нового завета, — фигура хоть и замечательная, но не то,
что он должен ведь, в сущности, представлять. Он — это
все доброе, благородное, отеческое, прекрасное, также вы¬
сокое, сентиментальное. Очень хорошо! Но мир состоит и
из другого. А это все просто отводится дьяволу, и вся эта
часть мира, вся эта половина утаивается и замалчивается.
Точно так же славят Бога как отца всякой жизни, а всю
половую жизнь, на которой-то жизнь и держится, просто
замалчивают, даже объявляют дьявольщиной и грехом! Я
ничего не имею против того, чтобы чтили этого Бога Иегову,
решительно ничего. Но я думаю, мы должны чтить и почи¬
тать священным все, весь мир, а не только эту искусственно
отделенную, официальную половину! Значит, наряду с бо¬
гослужением нам нужно и служение дьяволу*. Это, по-мое-
му, было бы правильно. Или же следовало бы создать бога,
который включал бы в себя и дьявола, бога, перед которым
не нужно закрывать глаза, коща происходят самые естест¬
венные вещи на свете.
Он, вопреки своему обыкновению, даже разгорячился,
однако тут же улыбнулся и перестал донимать меня.
248
А во мне эти слова задели загадку всего моего отрочест¬
ва, которую я ежечасно носил в себе, никоща никому не
говоря ни слова о ней. То, что сказал тоща Демиан о Боге
и дьяволе, о божественно-официальном и о замалчиваемом
дьявольском мире, — это же была в точности моя собствен¬
ная мысль, мой собственный миф, мысль о двух мирах, или
о двух половинах мира — светлой и темной. Сознание, что
моя проблема — это проблема всех людей, проблема всей
жизни и всякого мышления, осенило меня как священная
тень, и меня охватили страх и благоговение, коща я увидел
и вдруг почувствовал, как глубоко причастны моя сокровен¬
нейшая жизнь, мои самые личные мысли к вечному потоку
великих идей. Сознание это не было радостно, хотя что-то
подтверждало и было чем-то приятно. Оно было сурово и
грубовато, потому что в нем слышались ответственность, ко¬
нец детства, начало самостоятельности.
Впервые в жизни раскрывая такую глубокую тайну, я
рассказал своему товарищу о не отпускавшей меня с детства
мысли о «двух мирах», и он сразу понял, что, стало быть,
в глубине души я согласен с ним и признаю его правоту. Но
не таков он был, чтобы этим воспользоваться. Он выслушал
меня с самым глубоким вниманием, какое когда-либо мне
дарил, и посмотрел мне в глаза так, что я должен был отве¬
сти их. Ибо в его взгляде я снова увидел эту странную,
животную вневременность, этот невообразимый возраст.
— Мы поговорим об этом в другой раз, — сказал он
щадяще. — Я вижу, ты думаешь больше, чем можешь пере¬
дать. Но в таком случае тебе должно быть известно и то, что
ты полностью никоща не жил своими мыслями, а это нехо¬
рошо. Ценность имеют только те мысли, которыми мы жи¬
вем. Ты знал, что твой «дозволенный мир» — это лишь
половина мира, и попытался спрятать от себя вторую поло¬
вину, как то делают священники и учителя. Это тебе не
удастся! Это не удается никому, раз уж он начал думать.
Это глубоко задело меня.
— Но есть же, — почти вскричал я, — действительно, в
самом деле запрещенные и безобразные вещи, этого же ты
не можешь отрицать! И они запретны, и мы должны от них
отказаться. Я ведь знаю, что существуют убийство и всевоз¬
можные пороки, но разве я должен только потому, что такое
существует на свете, пойти и стать преступником?
— Сегодня мы с этим не управимся, — смягчился Макс. —
Конечно, ты не должен убивать, не должен совершать са¬
249
дистских расправ над девушками. Но ты еще не там, ще
видно, что такое «дозволено» и что такое «запретно». Ты
почувствовал лишь какую-то часть правды. Остальное еще
последует, можешь быть уверен! Сейчас, например, ты с год
уже чувствуешь в себе некое влечение, которое сильнее всех
других, и оно считается «запретным». Греки же и многие
другие народы, напротив, возвели это влечение в божество
и справляли в его честь пышные праздники. «Запрет», зна¬
чит, не есть нечто вечное, он может меняться. Да и сегодня
ведь каждый волен спать с женщиной, как только он побы¬
вал с ней у священника и женился на ней. У других народов
по сей день иные обычаи. Поэтому каждый из нас должен
определить для себя самого, что дозволено и что запрет¬
но — запретно для него. Можно никоща не делать ничего
запрещенного и быть при этом большим негодяем. И точно
так же наоборот... В сущности, это только вопрос любви к
покою! Кто слишком любит покой, чтобы самому думать и
самому быть себе судьей, тот подчиняется без разбора лю¬
бым запретам. Другие сами чувствуют какие-то приказы в
себе, для них запретны вещи, которые каждый порядочный
человек делает ежедневно, йо зато позволительны другие
вещи, которые вообще осуждаются. Каждый должен отве¬
чать за себя самого.
Он, кажется, вдруг пожалел, что сказал так много, и
оборвал свою речь на полуслове. Уже тоща я в какой-то
мере понимал, что он при этом испытывал. Как ни приятно
и словно бы невзначай ни излагал он приходившее ему в
голову, он терпеть не мог разговоров, как он однажды вы¬
разился, «только для разговора». А во мне он, помимо по¬
длинного интереса, почувствовал слишком много игры,
слишком много радости от умной болтовни или что-то подо¬
бное, — словом, отсутствие совершенной серьезности.
Стоило мне перечесть последние написанные мною сло¬
ва — «совершенная серьезность», — как я вдруг вспомнил
другую сцену, самую яркую из всех, что случались у меня
с Демианом в те еще полудетские времена.
Приближалась конфирмация, и на последних уроках на¬
ших занятий речь шла о причащении. Священник придавал
этому важное значение, он не жалел сил, какая-то торжест¬
венность и приподнятость явно ощущалась в эти часы. Од¬
нако как раз на этих нескольких последних уроках мысли
мои были прикованы к другому — к личности моего друга.
250
С приближением конфирмации, которую нам объясняли как
торжественное вступление в церковное братство, я никак не
мог отвязаться от мысли, что для меня ценность этих при¬
мерно полугодичных религиозных занятий состояла не в
том, чему мы здесь учились, а в близости и влиянии Деми-
ана. Не в церковь готов я был теперь вступить, а во что-то
совсем другое, в орден мысли и личности, который должен
был каким-то образом существовать на земле и представите¬
лем или посланцем которого я ощущал своего друга.
Я пытался оттеснить эту мысль, мне всерьез хотелось
пройти через празднество конфирмации, несмотря ни на
что, с определенным достоинством, а таковое с моей новой
мыслью не очень вязалось. Однако, сколько я ни бился,
мысль эта не уходила и постепенно слилась у меня с мыслью
о скором церковном празднестве, я был готов справить его
не так, как другие, оно должно было означать для меня
прием в мир идей, который открылся мне в Демиане.
В те дни мне опять как-то случилось вступить с ним в
дискуссию; это произошло как раз перед уроком священни¬
ка. Мой друг был сдержан и явно не рад моим речам, не по
годам, пожалуй, благоразумным, самонадеянным.
— Мы слишком много говорим, — сказал он с необыч¬
ной серьезностью. — Умные разговоры ничего не стоят, ров¬
ным счетом ничего. Уходить от самого себя грех. Надо уметь
целиком забиваться в себя, как черепаха.
Сразу затем мы вошли в класс. Урок начался, я старался
внимательно слушать, и Демиан не мешал мне в этом. Через
некоторое время я почувствовал с той стороны, ще он сидел
возле меня, что-то странное, какую-то пустоту или прохладу
или что-то подобное, словно его место как-т вдруг опусте -
ло. Коща это чувство стало стеснять меня, я обернулся.
Я увидел, что мой друг сидит рядом, прямо и с хорошей
осанкой, как обычно. Однако вид у него был совсем не та¬
кой, как прежде, и что-то от него исходило, что-то такое
овевало его, чего я не знал. Я подумал, что он закрыл глаза,
но увидел, что они открыты. Однако они нё глядели, не
видели, они застыли и были обращены внутрь или куда-то
вдаль. Он сидел совершенно неподвижно, даже, казалось,
не дышал, рот его был словно вырезан из дерева или камня.
Лицо его было бледно, равномерно тускло, как камень, и
живее всего в нем были каштановые волосы. Руки его лежа¬
ли перед ним на парте безжизненно и тихо, как неодушев¬
ленные предметы, как камни или плоды, бледные и непод¬
251
вижные, но не вялые, а как твердые, прочные оболочки ка-
кой-то скрытой сильной жизни.
От этого зрелища я содрогнулся. Он мертв! — подумал
я и чуть не сказал вслух. Но я знал, что он не мертв. Я не
мог оторвать взгляда от его лица, от этой бледной, каменной
маски, и я чувствовал: это и есть Демиан! Тот, каким он
бывал обычно, коща ходил со мной и говорил, это был толь¬
ко наполовину Демиан, это был кто-то, кто временно играл
некую роль, приспосабливался, из любезности подыгрывал.
Л у истинного Демиана вид был вот какой, такой, как у
этого, такой же каменный, древний, животноподобный, кам¬
неподобный, прекрасный и холодный, мертвый и втайне
полный невероятной жизни. А вокруг него эта тихая пусто¬
та, этот эфир, это звездное пространство, эта одинокая
смерть!
Сейчас он совсем ушел в себя, чувствовал я трепеща.
Никоща я не был так одинок. Я не был причастен к нему,
он был недостижим для меня, он был дальше от меня, чем
если бы находился на самом далеком на свете острове.
Я не понимал, почему же никто, кроме меня, не видит
этого! Все должны были смотреть сюда. Все должны были
широко открыть глаза. Но никто не обращал на него внима¬
ния. Он сидел неподвижно, словно статуя, словно, подума¬
лось мне, истукан, ему на лоб села муха, медленно поползла
по носу и губам — он и не вздрогнул.
Где, ще был он сейчас? О чем думал, что чувствовал?
Был он ще-то на небе, ще-то в аду?
Мне нельзя было спросить его об этом. Коща я в конце
урока увидел, что он снова жив и дышит, коща его взгляд
встретился с моим, он, Демиан, был таким же, как прежде.
Откуда он возвратился? Где был? Он казался усталым. В
лице его опять появился румянец, руки его снова зашевели¬
лись, но каштановые его волосы уже не блестели и как бы
увяли.
В последующие дни я не раз проделывал у себя в спальне
некое новое упражнение: я садился очень прямо на стул,
приказывал своим глазам застыть, пребывал в полной не¬
подвижности и ждал, долго ли я это выдержу и что при
этому почувствую. Но я только уставал, и у меня начинался
страшный зуд в веках.
Вскоре после этого прошла конфирмация, от которой ни¬
каких важных воспоминаний у меня не осталось.
252
Все стало теперь другим. Детство вокруг меня развали¬
валось. Родители смотрели на меня с каким-то смущением.
Сестры стали мне совсем чужими. Отрезвление обесценило
и обесцветило для меня привычные чувства и радости, сад
не благоухал, лес не манил, мир вокруг меня походил на
распродажу старых вещей, он был пресен и неинтересен,
книги были бумагой, музыка была шумом. Так с осеннего
дерева спадает листва, оно этого не чувствует, по нему
течет дождь, или солнце, или мороз, а в нем жизнь мед¬
ленно уплотняется, уходит вглубь. Оно не умирает. Оно
ждет.
Было решено, что после каникул я перейду в другую
школу, впервые вдали от дома. Порой мать приближалась
ко мне с особой нежностью, заранее прощаясь, стараясь за¬
ронить в мое сердце любовь, тоску по дому и память. Деми¬
ан уехал. Я был один.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
БЕАТРИЧЕ
Так и не увидевшись со своим другом, я в конце каникул
уехал в Шт. Мои родители отправились вместе со мной и
заботливо препоручили меня опеке пансиона для мальчиков
у одного гимназического учителя. Они бы остолбенели от
ужаса, если бы знали, в какие обстоятельства втолкнули
меня.
Все еще стоял вопрос, выйдет ли из меня со временем
хороший сын и полезный гражданин или моя природа уст¬
ремится к другим путям. Последняя моя попытка быть сча¬
стливым под сенью отчего дома и духа длилась долго, вре¬
менами почти удавалась и все-таки в конце концов полно¬
стью провалилась.
Странная пустота и одинокость, которую я впервые по¬
чувствовал во время каникул после своей конфирмации (го¬
раздо ближе я познакомился с ними позднее, с этой пусто¬
той, с этим разреженным воздухом!), проходили не так бы¬
стро. Прощанье с родиной далось мне удивительно легко, я
даже стыдился, что мало грущу, сестры плакали без причи¬
ны, я так не умел. Я удивлялся самому себе. Всеща я был
ребенком сердечным и по сути довольно добрым. Теперь я
совершенно изменился. Я проявлял полное равнодушие к
253
внешнему миру и целыми днями был занят тем, что вслуши¬
вался в себя и прислушивался к потокам, к запретным и
темным потокам, которые подспудно шумели во мне. Я стре¬
мительно вырос за последние полгода и взирал на мир дол¬
говязым, худым и нескладным подростком. Ничего ребяче¬
ски милого во мне не осталось, я сам чувствовал, что таким
любить меня невозможно, и сам тоже отнюдь не любил себя.
О Максе Демиане я часто сильно тосковал; но нередко я и
ненавидел его, виня за оскудение моей жизни, которую вос¬
принимал как свалившуюся на меня гнусную болезнь.
В нашем ученическом пансионе меня поначалу не люби¬
ли и не уважали, сперва надо мной подтрунивали, а потом
стали избегать, видя во мне нелюдима, неприятного чудака.
Я нравился себе в этой роли, я даже пересаливал в ней,
ожесточаясь в своем одиночестве, которое внешне неизмен¬
но походило на мужественное презрение к миру, хотя втай¬
не я часто страдал от изнурительных приступов уныния и
отчаяния. В школе я должен был пробавляться знаниями,
накопленными еще дома, этот класс несколько отставал от
моего прежнего, и я привыкал смотреть на своих ровесников
свысока, как на детей.
Так все шло год и дольше, первые поездки домой на
каникулы тоже не привносили ничего нового; я с радостью
уезжал обратно.
Это было в начале ноября. Я завел привычку совершать
при любой погоде задумчивые прогулки, во время которых
часто испытывал некое блаженство, — блаженство, полное
грусти, презрения к миру и презрения к себе. Так бродил я
однажды вечером во влажном, туманном сумраке по окрест¬
ностям города, широкая аллея публичного парка была со¬
вершенно пустынна и приглашала меня, дорога была засы¬
пана опавшими листьями, которые я ворошил ногами с ка-
ким-то мрачным сладострастием, пахло влажным и горьким,
дальние деревья выступали из тумана громадными мутными
тенями.
В конце аллеи я нерешительно остановился, глядя на
черную листву и жадно дыша влажным запахом обветшания
и умирания, на который что-то во мне приветственно отзы¬
валось. О, как нехороша была на вкус жизнь!
По боковой дорожке приближался кто-то в развевающей¬
ся крылатке, я хотел пойти дальше, но он окликнул меня:
— Эй, Синклер!
254
Он подошел, это был Альфонс Бек, староста нашего пан¬
сиона. Я всеща рад был его видеть и ничего против него не
имел, кроме того, что он держался со мной, как со всеми
младшими, иронически-покровительственно. Он слыл сила¬
чом, о нем ходило много слухов среди гимназистов, говори¬
ли, что хозяин нашего пансиона его побаивается.
— Что ты здесь делаешь? — воскликнул он приветливо,
таким тоном, какой бывает у старших, коща они порой
снисходят до кого-то из нас. — Ну, держу пари, ты сочиня¬
ешь стихи?
— И думать не думал, — резко ответил я.
Он засмеялся, пошел рядом со мной и стал болтать, от
чего я уже отвык.
— Не бойся, Синклер, что я этого не пойму. Тут что-то
такое есть, коща вот так вечером бродишь в тумане, с осен¬
ними мыслями, хочется и впрямь сочинять стихи, я знаю.
Об умирающей природе, конечно, и об ушедшей юности,
которая сходна с ней. Смотри Генриха Гейне.
— Я не так сентиментален, — сказал я обороняясь.
— Да ладно! Но в такую погоду, по-моему, человеку не¬
вредно поискать тихого местечка, ще можно получить ста¬
кан вина или что-нибудь подобное. Пойдем? Я сейчас как
раз совсем один... Или тебе неохота? Мне не хотелось бы
совращать тебя, если тебе надо быть примерным мальчиком.
Вскоре мы сидели в каком-то захудалом кабачке, пили
сомнительное вино и чокались толстыми стаканами. Снача¬
ла мне это мало нравилось, но все же здесь было что-то
новое. Вскоре, однако, я, с непривычки к вину, стал очень
разговорчив. Во мне словно бы распахнулось какое-то окно,
и мир словно бы озарил меня своим светом — как давно,
как ужасно давно не изливал я душу! Я ударился в фанта¬
стические рассуждения и в ходе их щегольнул историей о
Каине и Авеле!
Бек слушал меня с удовольствием — наконец нашелся
кто-то, кому я что-то мог дать! Он хлопал меня по плечу,
называл молодцом, и мое сердце наполнялось блаженством
оттого, что я выплеснул наболевшее, дал выход потребности
высказаться, снискал признание, что-то значил для старше¬
го. Коща он назвал меня гениальным нахалом, эти слова
пролились мне в душу как сладкое, крепкое вино. Мир за¬
горелся новыми красками, мысли нахлынули на меня из
сотни дерзких источников, ум и огонь так и запылали во
мне. Мы говорили об учителях и товарищах, и мне каза¬
255
лось, что мы великолепно понимаем друг друга. Мы гово¬
рили о греках и язычестве, и Бек всячески подбивал меня
на признания о любовных приключениях. Такой разговор я
не мог поддержать. Ничего я еще не изведал, рассказывать
было не о чем. А то, что я в себе чувствовал, конструировал,
о чем фантазировал, это хоть и жгло меня, но этого и вино
не расслабило, не сделало поддающимся передаче. О девуш¬
ках Бек знал куда больше, и я пылал, слушая эти сказки.
Узнал я тоща невероятные вещи, совершенно немыслимое
становилось чистейшей правдой, оказывалось само собой
разумеющимся. В свои восемнадцать, может быть, лет Аль¬
фонс Бек уже приобрел кое-какой опыт. Среди прочего он
узнал, что девушки только и знают, что жеманиться, и ждут
галантностей, и это недурно, но нужно не это. Надеяться
на успех можно скорее у женщин. Женщины гораздо умнее.
Например, госпожа Ягельт, хозяйка лавки, ще продаются
тетради и карандаши; с ней можно договориться, и не пере¬
честь всего, что случалось у нее за прилавком.
Я сидел завороженный и оглушенный. Полюбить госпо¬
жу Ягельт я, правда, вряд ли смог бы, но все-таки это каза¬
лось неслыханным. Были, оказывается, по крайней мере
для взрослых, источники, которые мне и не снились. Какая-
то фальшь, правда, тут слышалась, все было мельче и обы¬
деннее, чем, на мой взгляд, пристало любви, но все-таки это
была действительность, это была жизнь, это было приклю¬
чение, рядом со мной сидел кто-то, кто испытал это, кому
это казалось само собой разумеющимся.
Наши разговоры немного упростились, что-то утратили.
И я уже был не гениальным бесенком, а всего лишь маль¬
чиком, который слушал мужчину. Но даже и так — по срав¬
нению с тем, что много месяцев составляло мою жизнь, —
это было восхитительно, настоящий рай. Кроме того, все это
было, как я постепенно почувствовал, запретно, очень за¬
претно, от сидения в кабачке до того, о чем мы говорили.
Я, во всяком случае, ощущал в этом вкус мысли, вкус рево¬
люции.
Ту ночь я помню очень отчетливо. Коща мы оба, среди
мокрой, прохладной ночи, шли домой мимо тускло горев¬
ших газовых фонарей, я впервые был пьян. Это не было
славно, это было крайне мучительно, а все же и в этом что-
то было, какое-то очарование, какая-то сладость, это был
мятеж, это была оргия, жизнь, мысль. Бек храбро опекал
меня, хотя и ругал на чем свет стоит за полное неумение
256
пить, и доставил чуть ли не на себе домой, ще ему удалось
пролезть вместе со мной в переднюю через оказавшееся там
открытым окно.
Но с отрезвлением, коща я проснулся от боли после
очень короткого мертвого сна, меня охватила безумная тос¬
ка. Я сидел в постели, на мне еще была дневная рубашка,
моя одежда и башмаки валялись на полу, от них пахло та¬
баком и рвотой, и среди головной боли, тошноты и отчаян¬
ной жажды у меня в душе возникла картина, которой я дав¬
но не видел воочию. Я увидел родину и отчий дом, отца и
мать, сестер и сад, я увидел свою тихую родную спальню,
увидел школу и рыночную площадь, увидел Демиана и уро¬
ки священника, и все это было какое-то светлое, сияющее,
чудесное, божественное и чистое, и все, все это — понимал
я — еще вчера, еще несколько часов назад принадлежало
мне, ждало меня, а сейчас, вот только сейчас было загублено
и поругано, перестало принадлежать мне, выбросило меня,
взглянуло на меня с отвращением! Все милое и дорогое, что
я вплоть до самых далеких, золотых садов детства получил
от родителей, каждый поцелуй матери, каждое Рождество,
каждое чистое, светлое воскресное утро дома, каждый цве¬
ток в саду — все это было погублено, все это я растоптал!
Если бы сейчас явились стражники, если бы они связали
меня и повели как изверга рода человеческого и святотатца
на эшафот, я с этим согласился бы, пошел бы с радостью,
нашел бы это правильным и справедливым.
Вот, значит, каков я был внутренне! Я, который кичился
и презирал мир! Я, который в душе был горд и размышлял
вместе с Демианом! Вот каков я был, изверг, похабник, пья¬
ный, грязный, мерзкий подлец, грубое животное, обуянное
гадким влечением! Вот каков я был, я, пришедший из тех
садов, ще все сияло, все дышало чистотой, прелестью, неж¬
ностью, я, любивший музыку Баха и прекрасные стихи! С
отвращением и возмущением я все еще слышал свой собст¬
венный смех, пьяный, несдержанный, гогочуще-пошлый
смех. И это был я.
Но при всем том испытывать эти муки было чуть ли не
наслаждением. Так долго влачился я в слепоте и тупости,
так долго молчало и прозябало в нищете мое сердце, что и
эти самообвинения, этот ужас, все это омерзение были от¬
радны душе. Тут все-таки присутствовало чувство, пылал
огонь, содрогалось сердце! Со смятением угадывал я среди
горя что-то похожее на освобождение и весну.
9 4-161
257
Между тем внешне я прямо-таки катился вниз. Вскоре
хмель уже не был в новинку. В нашей школе много браж¬
ничали и безобразничали, я был одним из самых молодых
участников этих развлечений и вскоре превратился из ма¬
лыша, которого терпят, в зачинщика и заправилу, в знаме¬
нитого и бесшабашного завсегдатая кабаков. Я опять цели¬
ком принадлежал «темному миру», дьяволу и слыл в этом
мире замечательным парнем.
А на сердце у меня кошки скребли. Я жил в саморазру¬
шительном беспутстве и, считаясь у товарищей вожаком и
сорвиголовой, ухарем и озорником, чувствовал глубоко в
себе трепет робкой, полной страха души. Помню, как у меня
навернулись слезы, коща однажды воскресным утром я,
выйдя из кабака, увидел на улице играющих детей, свет¬
лых, веселых, свежепричесанных и по-воскресному прина¬
ряженных. И, потешая, а то и пугая своих друзей неслы¬
ханно циничными замечаниями за залитыми пивом грязны¬
ми столиками замызганных кабаков, я втайне благоговел
перед всем, над чем глумился, и про себя плакал, как бы
стоя на коленях перед своей душой, перед своим прошлым,
перед матерью, перед отцом.
Если я никоща не был в единстве со своими спутниками,
если оставался среди них одинок и потому мог так страдать,
то на это имелась причина. Я был забулдыгой и зубоскалом
во вкусе самых грубых своих собратьев, я выказывал остро¬
умие и храбрость в своих мыслях и речах об учителях, шко¬
ле, родителях, церкви, я не смущался и от неприятностей и
сам иной раз решался на них — но я никогда не участвовал
в походах моих собутыльников к девицам, я пребывал в
одиночестве и жгучей тоске по любви, в безнадежной тоске,
хотя своими речами производил впечатление прожженного
бонвивана. Никто не был ранимее, никто не был стыдливей
меня. И коща я поглядывал на проходящих мещаночек,
красивых и опрятных, светлых и приветливых, они предста¬
вали мне чудесными, чистыми видениями, слишком пре¬
красными и чистыми для меня. На какое-то время я пере¬
стал даже заходить в писчебумажную лавку госпожи
Ягельт, потому что краснел, взглянув на нее, и думал о том,
что рассказал мне о ней Альфонс Бек.
Чем больше в новом своем обществе чувствовал я себя
теперь одиноким и не таким, как другие, тем меньше осво¬
бождался я от него. Право, не помню уж, доставляли ли мне
действительно удовольствие пьянство и бахвальство, да и
258
пить, чтобы не чувствовать каждый раз неприятных послед¬
ствий, я так и не привык. Все шло как бы поневоле. Я по¬
ступал, как должен был поступать, потому что йначе не
знал, что мне делать с собой. Я страшился долгого одиноче¬
ства, боялся всяких приступов нежности, стыдливости, ис¬
кренности, к которым всеща чувствовал склонность, боялся
нежно-любовных мыслей, так часто у меня появлявшихся.
Одного недоставало мне больше всего — друга. Было
два-три одноклассника, видеть которых мне было очень
приятно. Но они принадлежали к числу порядочных учени¬
ков, а мои пороки давно уже не были ни для кого тайной.
Оци избегали меня. Я слыл у всех отпетым игроком, у ко¬
торого почва уходит из-под ног. Учителя многое знали обо
мне, меня не раз строго наказывали, все ждали, что меня в
конце концов исключат из школы. Я и сам это знал, я давно
не был хорошим учеником, а как-то изворачивался и жуль¬
ничал с чувством, что долго это не может продлиться.
Есть много путей, на которых Бог способен сделать Häc
одинокими и привести к самим себе. Именно так поступил
он тоща со мной. Это было как дурной сон. Я вижусь себе
околдованным сновидцем, затравленно ползущим без отды¬
ха по пакостно-мерзкой дороге, через грязь, через что-то
липкое, через разбитые пивные стаканы, через растрачива¬
емые на циничную болтовню ночи. Есть такие сны, ще на
пути к принцессе застреваешь в грязных лужах, в закоул¬
ках, наполненных зловонием и нечистотами. Так было со
мной. Таким неизысканным образом суждено было мне
стать одиноким и воздвигнуть между собой и детством за¬
претные врата эдема с безжалостно сияющими стражами.
Это было начало, пробуждение тоски по самому себе.
Я еще испугался и даже задергался, коща в Шт. в пер¬
вый раз появился и неожиданно предстал передо мной отец,
встревоженный письмами хозяина моего пансиона. Коща
он, в конце той зимы, явился вторично, я был уже тверд и
равнодушен, снес его брань, просьбы, напоминания о мате¬
ри. Под конец он очень рассердился и сказал, что, если я не
изменюсь, он велит с позором выгнать меня из школы и
отдаст в исправительное заведение. Ну и пусть! Коща он
уезжал, мне было жаль его, но он ничего не достиг, он не
нашел пути ко мне, и в какие-то мгновения я чувствовал,
что так ему и надо.
Что из меня выйдет, было мне безразлично. Странным,
не очень красивым способом, сидя в кабачках и бахвалясь,
9*
259
вел я спор с миром, такова была моя форма протеста. При
этом я губил себя, и порой дело представлялось мне так:
если миру не нужны такие люди, как я, если у него нет для
них никакого лучшего места, никаких высших задач, — что
ж, значит, такие, как я, погибают. Пусть мир пеняет на себя.
Рождественские каникулы были в тот год довольно без¬
радостны. Моя мать испугалась, увидев меня. Я еще боль¬
ше вырос, и мое худое лицо казалось серым, выглядело
опустошенным, вялым, веки были воспалены. Пробивав¬
шиеся усы и очки, которые я с недавних пор носил, сдела¬
ли меня для нее еще более чужим. Сестры отпрянули и
захихикали. Все было неутешительно. Неутешителен и го¬
рек разговор с отцом в его кабинете, неутешительны посе¬
щения родственников, неутешителен прежде всего сочель¬
ник. Это, с тех пор как я себя помнил, был в нашем доме
большой день, вечер торжественности и благодарности, об¬
новление союза между родителями и мной. На сей раз все
только угнетало и смущало. Отец, как всеща, читал из
Евангелия о «пастухах, которые содержали ночную стра¬
жу у стада своего», сестры, как всеща, стояли, сияя,
перед столом с подарками, но голос отца звучал угрюмо, и
лицо его казалось старым и осунувшимся, а мать была
печальна, и мне было все одинаково неприятно и некстати,
подарки и поздравления, Евангелие и елка. Сладко пахли
пряники, источая густые облака еще более сладких воспо¬
минаний. Благоухала елка, рассказывая о вещах, которых
уже не существовало. Я просто дождаться не мог конца
вечера и праздников.
Так продолжалось всю зиму. Не так давно я получил
настоятельное предупреждение педагогического совета с уг¬
розой исключения. Осталось уже недолго. Ну и хорошо.
Особая злость была у меня на Макса Демиана. Все это
время я не видел его. Я написал ему в начале своего учения
в Шт. дважды, но ответа не получил, поэтому я и не наве¬
стил его на каникулах.
В том самом парке, ще я встретил осенью Альфонса Бе¬
ка, в начале весны, коща только-только зазеленели колючие
изгороди, мое внимание привлекла одна девушка. Я гулял
в одиночестве, полный противных мыслей и забот, ибо здо¬
ровье мое ухудшилось, а кроме того, у меня были постоян¬
ные затруднения с деньгами; задолжав у товарищей, я при-
260
думывал всякие необходимые расходы, чтобы что-то по¬
лучать из дому, а в нескольких лавках у меня накопились
неоплаченные счета за сигары и подобные вещи. Не то что¬
бы эти заботы меня поглощали — когда мое пребывание
здесь вскоре кончится и я либо утоплюсь, либо попаду в
исправительное заведение, мелочи не будут иметь никакого
значения. Но все-таки я постоянно соприкасался с такими
неприятными делами и страдал от этого.
В тот весенний день в парке мне повстречалась молодая
дама, которая очень меня привлекла. Высокого роста,
стройная, элегантно одетая, с умным мальчишеским лицом.
Она мне сразу понравилась; она принадлежала к любимому
мною типу и взбудоражила мое воображение. Вряд ли она
была намного старше меня, но намного увереннее; элегант¬
ная и складная, совсем уже почти дама, однако с чем-то
озорным и мальчишеским в лице, необычайно мне нравив¬
шимся.
Мне никогда не удавалось приблизиться к девушке, в
которую я был влюблен, не удалось и сейчас. Но это впе¬
чатление было глубже всех прежних, и влияние этой влюб¬
ленности на мою жизнь было огромно.
Вдруг мне снова явился образ, высокий, высокочтимый
образ — а ведь не было у меня стремления глубже и силь¬
нее, чем желание благоговеть и поклоняться! Я дал ей имя
Беатриче, ибо о ней, не прочитав Данте, знал из одной ан¬
глийской картины, репродукцию которой хранил. На ней
была изображена девическая фигура в манере прерафаэли¬
тов, очень длиннорукая, длинноногая, стройная, с узкой
продолговатой головой, одухотворенными пальцами и ли¬
цом. Моя юная красавица не очень походила на нее, хотя
тоже обладала этой стройностью, этими мальчишескими
формами, любимыми мною, и какой-то одухотворенностью;
окрыленностью в чертах лица.
Я не обмолвился с Беатриче ни одним словом. Тем не
менее она оказала тоща на меня глубокое влияние. Она яви¬
ла мне свой образ, открыла мне святилище, сделала меня
богомольцем в храме. Как не бывало всех моих попоек и
ночных похождений. Я вновь научился одиночеству, вновь
полюбил читать, вновь полюбил прогулки.
Внезапное исправление принесло мне немало насмешек.
Но я мог теперь что-то любить, чему-то поклоняться, у меня
снова был идеал, жизнь снова наполнилась предчувствиями
и пестро-таинственным сумраком — это делало меня нечув¬
261
ствительным. Я снова вернулся к себе домой, хотя лишь
рабом и прислужником боготворимого образа.
О том времени я не могу думать без какой-то растро¬
ганности. Я снова искренне старался построить на разва¬
линах рухнувшей жизни некий «светлый мир», снова жил
одним-единственным желанием освободиться от темного и
злого в себе и целиком пребывать в светлом, преклонив
колена перед богами. Этот теперешний «светлый мир» был
все же в какой-то мере сотворен мною самим; это не было
уже убегание к матери, в безответственную укрытосгь и
защищенность, это было новое, выдуманное и потребован¬
ное мною самим служение, с ответственностью и самодис¬
циплиной. Сексуальность, от которой я страдал и всеща
бежал, должна была в этом священном огне преобразиться
в дух и благоговение. Не должно было больше быть ниче¬
го темного, ничего безобразного, никаких ночных стонов,
никакого сердцебиения перед непристойными картинами,
никаких подслушиваний у запретных ворот, никакой по¬
хотливости. Вместо всего этого я воздвиг свой алтарь с
образом Беатриче и, посвятив себя ей, посвятил себя и
богам. Ту долю жизни, которую я отобрал у темных сил,
я принес в жертву светлым. Не наслаждение было моей
целью, а чистота, не счастье, а красота и духовность.
Этот культ Беатриче изменил мою жизнь целиком и пол¬
ностью. Вчера еще скороспелый циник, я был теперь при¬
служником в храме, задавшимся целью стать святым. Я не
только бросил скверную жизнь, к которой привык, я старал¬
ся изменить все, старался внести во все чистоту, благород¬
ство и достоинство, стремился к этому в еде и питье, в языке
и одежде. Я начинал утро с холодных омовений, к которым
сперва с трудом себя принуждал. Я вел себя строго и с до¬
стоинством, держался прямо и придал своей походке мед¬
ленность и степенность. Внешне это выглядело, наверно,
смешно — а у меня в душе это было сплошным богослуже¬
нием.
Из всех этих новых упражнений, в которых я старался
выразить свои новые взгляды, одно сделалось для меня важ¬
ным. Я стал рисовать. Началось с того, что имевшийся у
меня английский портрет Беатриче был недостаточно похож
на ту девушку. Я решил попробовать нарисовать ее для се¬
бя. С совершенно новой радостью и надеждой я принес в
свою комнату — с недавних пор у меня была собственная
262
комната — хорошую бумагу, краски и кисти, приготовил
палитру, стекло, фарфоровые плошки, карандаши. Тонкие
эмульсионные краски в тюбиках, мною купленные, приво¬
дили меня в восторг. Среди них была огненная хромовая
зеленая, мне и сейчас видится, как она в первый раз вспых¬
нула в маленькой белой плошке.
Начал я с осторожностью. Написать лицо было трудно,
я хотел попробовать сперва другое. Я писал орнаменты, цве¬
ты и маленькие пейзажи-фантазии, дерево у часовни, рим¬
ский мост с кипарисами. Иноща я совсем забывался за этой
игрой, был счастлив, как ребенок с коробкой красок. Но
наконец я начал писать Беатриче.
Несколько листов совсем не удались и были отброше¬
ны. Чем больше пытался я представить себе лицо девуш¬
ки, которую я нет-нет да встречал на улице, тем хуже шло
дело. В конце концов я отказался от этого и начал просто
писать лицо, подчиняясь фантазии и тем указаниям, кото¬
рые из начатого, из красок и кисти возникали сами собой.
Лицо, которое получилось, отвечало мечтам, и я не был
им недоволен. Однако я сразу продолжил опыт, и каждый
новый лист говорил чуть более ясным языком, подходил
ближе к типажу, хотя отнюдь не к действительности.
Все больше и больше привыкал я проводить линии меч¬
тательной кистью и заполнять плоскости, для которых не
было какого-то образца, которые возникали наугад из игры,
из неосознанного. Наконец я однажды, почти бессознатель¬
но, написал лицо, говорившее мне больше, чем все прежние.
Это не было лицо той девушки, да и задачи такой давно не
ставилось. Это больше походило на лицо юноши, чем на
девичье лицо, волосы были не светло-русые, как у моей кра¬
савицы, а каштановые с рыжеватостью, подбородок был
сильный и твердый, а рот алый; в целом лицо получилось
несколько неподвижное, похожее на маску, но было выра¬
зительно и полно тайной жизни.
Коща я сидел перед готовым листом, он производил на
меня странное впечатление. Он казался мне чем-то вроде
иконы или священной маски, полумужской-полуженской,
без возраста, в такой же мере исполненной воли, как и меч¬
тательности, в такой же мере неподвижной, как и втайне
живой. Это лицо что-то говорило мне, оно было частью ме¬
ня, оно предъявляло мне какие-тО требования. И в нем было
сходство с кем-то, я не знал с кем.
263
Этот портрет сопровождал некоторое время все мои мыс¬
ли и разделял мою жизнь. Я прятал его в выдвижном ящи¬
ке, чтобы никто не обнаружил его и не высмеял меня за
него. Но как только я оказывался одт в своей клетушке, я
извлекал картину из ящика и вступал с ней в общение. Ве¬
чером я прикалывал ее напротив себя над кроватью булав¬
кой к обоям, смотрел на нее, прежде чем уснуть, а утром на
нее падал мой первый взгляд.
Как раз в то время мне снова стали часто сниться сны,
что всеща бывало со мной в детстве. Мне казалось, что у
меня уже целые годы не было сновидений. Теперь они снова
появились, картины совершенно нового рода, и в них часто
возникало написанное мною лицо, живое, говорящее, распо¬
ложенное ко мне то дружественно, то враждебно, то иска¬
женное гримасой, то бесконечно прекрасное, гармоничное и
благородное.
И однажды утром, проснувшись после таких снов, я
вдруг узнал его. Оно глядело на меня удивительно знако¬
мым взглядом, оно, казалось, выкликало мое имя. Каза¬
лось, оно знает меня как мать, казалось, оно обращено ко
мне издавна. С колотящимся сердцем уставился я на этот
лист, на каштановые густые волосы, на полуженский рот,
на могучий лоб со странным свечением (так вышло само
co6qp, когда лист высох), и все сильнее и сильнее станови¬
лось во мне чувство, что я узнаю, обретаю вновь, знаю.
Я вскочил с постели, стал перед этим лицом и уставился
в него с очень близкого расстояния, прямо в его широко
раскрытые, зеленоватые, неподвижные глаза, из которых
правый был расположен чуть выше другого. И вдруг этот
правый глаз мигнул, мигнул слегка, чуть-чуть, но явствен¬
но, и тоща я узнал, кого я изобразил.
Как мог я понять это так поздно?! Это было лицо Деми-
ана.
Позднее я не раз сравнивал свой лист с подлинными чер¬
тами Демиана, сохранившимися у меня в памяти. Они были
не совсем такие же, хотя и похожи. Но все-таки это был
Демиан.
В один из вечеров начала лета солнце косо светило
красным в мое выходившее на запад окно. В комнате
стало сумрачно. Тут мне вздумалось прикрепить булавкой
портрет Беатриче, или Демиана, к оконному переплету и
посмотреть его на просвет при вечернем солнце. Очерта¬
264
ния лица расплылись, но глаза с красноватой каймой,
свечение на лбу и алый рот зажглись, вырвались из пло¬
скости, запылали. Я долго сидел перед портретом и коща
он уже погас. И постепенно у меня возникло чувство, что
это не Беатриче и не Демиан, а я сам. Портрет не был
похож на меня — да и не должен был, чувствовал я,
походить, — но он был тем, что составляло мою жизнь, он
был моим нутром, моей судьбой или моим демоном. Таков
будет мой друг, если я снова когда-либо найду друга.
Такова будет моя возлюбленная, если она у меня коща-ли-
бо появится. Такова будет моя жизнь, и такова будет моя
смерть, это звук и ритм моей судьбы.
В те недели я как раз начал читать одну книгу, которая
произвела на меня более глубокое впечатление, чем все,
что я читал прежде. Да и позже я уже редко так отдавался
книгам, разве что, может быть, Ницше. Это был том Нова-
лиса*, с письмами и сентенциями, многих из которых я не
понимал, но которые меня тем не менее несказанно при¬
влекали и очаровывали. Одно из этих изречений мне те¬
перь вспомнилось. Я написал его пером под портретом:
«Судьба и нрав суть имена одного понятия». Это я теперь
понял.
Девушка, которую я назвал Беатриче, встречалась мне
еще часто. Волнения я больше при этом не чувствовал, а
всеща мягкое согласие, вещую уверенность: ты со мной свя¬
зана, но не ты сама, а только твой портрет, ты — часть моей
судьбы.
Моя тоска по Максу Демиану опять усилилась. Я ниче¬
го не знал о нем, уже много лет — ничего. Как-то раз я
повстречался с ним на каникулах. Теперь я вижу, что
скрыл эту короткую встречу в своих записках, и понимаю,
что причиной тому стыд и тщеславие. Я должен навер¬
стать это.
Итак, однажды на каникулах, слоняясь с надменным и
всеща немного усталым лицом моей беспутной поры по
родному городу, размахивая тростью и вглядываясь в ста¬
рые, неизменившиеся, презираемые лица обывателей, я
увидел, что навстречу мне идет мой прежний друг. Заме¬
тив его, я вздрогнул. И тут же невольно вспомнил о
Франце Кромере. Хоть бы Демиан успел забыть эту
историю! Так неприятно было чувствовать себя обязанным
265
ему — в сущности, ведь глупая детская история, а все-та-
ки обязательство...
Он, казалось, ждал, поздороваюсь ли я с ним, и, коща
я сделал это как можно небрежнее, он подал мне руку. То
было снова его рукопожатие! Такое крепкое, теплое и все
же холодное, мужское!
Он внимательно посмотрел мне в лицо и сказал:
— Ты вырос, Синклер!
Сам он, показалось мне, нисколько не изменился, был
так же стар, так же молод, как всеща.
Он присоединился ко мне, мы попши гулять и говорили
только о пустяках, не упоминая ни о чем из прежнего. Мне
вспомнилось, что я коща-то писал ему, но ответа так и не
получил. Ах, хоть бы он и это забыл, эти глупые, глупые
письма! Он ничего о них не сказал!
Тоща не было еще никакой Беатриче и никакого портре¬
та, пора моего беспутства еще продолжалась. За городом я
пригласил fero зайти в кабачок. Он согласился. Я хвастливо
заказал бутылку вина, разлил по стаканам, чокнулся с ним
и показал хорошее знание студенческих застольных обыча¬
ев, осушив первый стакан одним духом.
— Ты часто ходишь в кабаки? — спросил он меня.
— О, да, — сказал я лениво, — что еще делать? Это
как-никак веселее всего.
— Ты находишь? Возможно, что-то славное в этом есть —
опьянение, вакхическая радость! Но я нахожу, что у боль¬
шинства людей, проводящих много времени в кабаках, это
пропало начисто. Мне представляется, что как раз хожде¬
ние по кабакам есть нечто воистину мещанское. Да, всю
ночь напролет, с горящими факелами, в настоящем ударе
и угаре! Но так изо дня в день, кружку за кружкой, разве
это правильно? Можешь себе представить, например, что¬
бы Фауст вечер за вечером сидел за столом для завсегда¬
таев?
Я пил и смотрел на него враждебно.
— Да, но не каждый же Фауст, — сказал я коротко.
Он взглянул на меня немного озадаченно. Затем рассме¬
ялся с прежней бодростью и превосходством.
— Ну зачем спорить об этом? Во всяком случае, жизнь
пьяницы и распутника, вероятно, живее, чем жизнь безуп¬
речного обывателя. И к тому же — я это ще-то прочел —
жизнь распутника — лучшая подготовка для мистика. Всег¬
266
да ведь есть такие люди, как Святой Августин*, которые
становятся ясновидцами.
Я был недоверчив и вовсе не хотел, чтобы он меня поу¬
чал. Поэтому сказал равнодушно:
— Что ж, у каждого свой вкус! У меня, честно признать¬
ся, нет ни малейшего поползновения стать ясновидцем или
кем-то таким.
Демиан знающе сверкнул на меня чуть прищуренными
глазами.
— Дорогой Синклер, — сказал он медленно, — у меня
не было намерения говорить тебе неприятные вещи. Кстати,
для чего ты сейчас осушаешь стакан за стаканом, мы ведь
оба не знаем. Знает это то в тебе, что создает твою жизнь.
Хорошо знать, что внутри у нас есть кто-то, кто все знает,
всего желает, все делает лучше, чем мы сами... Однако про¬
сти, мне пора домой.
Мы быстро попрощались. Я мрачно остался сидеть,
допивая свою бутылку до дна, а уходя, узнал, что Демиан
уже за все заплатил. Это раздосадовало меня еще больше.
На этой мелочи снова остановились теперь мои мысли.
Они были полны Демианом. И слова, сказанные им в том
загородном кабачке, снова возникли у меня в памяти с по¬
разительной свежестью и точностью: «Хорошо знать, что
внутри у нас есть кто-то, кто все знает!»
Я смотрел на картину, висевшую на окне и совсем
погасшую. Но я видел глаза еще пылающими. Это был
взгляд Демиана. Или тот, что был внутри у меня. Тот, что
все знал.
Как тосковал я по Демиану! Я ничего не знал о нем, он
был недостижим для меня. Я знал только, что он, наверно,
ще-то еще учится и что после того, как он окончил гимна¬
зию, его мать покинула наш город.
Я перебирал все, что помнил о Демиане, начиная с моей
истории с Кромером. Многое всплывало тут из того, что он
говорил мне коща-то, и все имело смысл и поныне, было
злободневно, касалось меня! И то, что он при нашей послед¬
ней, такой нерадостной встрече сказал о распутнике и свя¬
том, тоже вдруг ярко вспыхнуло у меня в душе. Разве не то
же в точности происходило со мной? Разве не жил я в хмелю
и грязи, в отупении и потерянности, пока новый импульс
жизни не пробудил во мне что-то прямо противоположное,
желание чистоты, тоску по святому?
267
Так продолжал я ворошить воспоминания, а между тем
давно наступила ночь, и за окном шел дождь. В своих
воспоминаниях я тоже слышал шум дождя, это было в тот
час под каштанами, когда он стал выспрашивать меня о
Кромере и разгадал мои первые тайны. Одно всплывало
за другим, разговоры по дороге в школу, уроки для кон¬
фирмующихся. И наконец, мне вспомнилась моя самая
первая встреча с Максом Демианом. О чем же шла тоща
речь? Сразу я не мог вспомнить, но я не торопился, я
целиком погрузился в прошлое. И вот оно вернулось. Мы
стояли перед нашим домом, после того как он сообщил
мне свое мнение о Каине. Он говорил тоща о старом,
стершемся гербе над нашей входной дверью, на расширяю¬
щемся снизу вверх замковом камне. Он сказал, что этот
герб интересует его и что на такие вещи надо обращать
внимание.
Ночью мне снились Демиан и герб. Герб непрестанно
видоизменялся. Демиан держал его в руках, герб становил¬
ся то маленьким и серым, то громадным и многоцветным,
но Демиан объяснил мне, что это всеща один и тот же герб.
А под конец он заставил меня съесть герб. Проглотив его, я
с неописуемым ужасом почувствовал, что проглоченная пти¬
ца с герба во мне жива, что она заполняет меня и начинает
пожирать изнутри. В смертельном страхе я вскочил и про¬
снулся.
Сон ушел, была глубокая ночь, я услышал, что дождь
заливает комнату. Я встал, чтобы закрыть окно, и насту¬
пил при этом на что-то светлое, лежавшее на полу. Утром
я обнаружил, что это был мой лист с портретом. Он лежал
в луже на полу и весь покоробился. Для просушки я
положил его между листами промокательной бумаги в тя¬
желую книгу. Коща я на следующий день проверил его,
он успел высохнуть. Но он изменился. Красный рот по¬
бледнел и стал немного уже. Теперь это был совсем рот
Демиана.
Я принялся писать новый лист, птицу с герба. Какого
она, собственно, была вида, я помнил неясно, да и кое-
что, как я помнил, нельзя было различить и с близкого
расстояния, потому что изображение это было старое и
неоднократно закрашивалось. Птица стояла или сидела на
чем-то, не то на цветке, не то на корзинке, или на гнезде,
или на кроне дерева. Я об этом не беспокоился и начал с
268
того, о чем имел ясное представление. Из какой-то смут¬
ной потребности я сразу пустил в ход яркие краски, голо¬
ва птицы была на моем листе золотисто-желтой. В зависи¬
мости от настроения я продолжал эту работу и через не¬
сколько дней закончил ее.
Птица получилась хищная, с острой, отважной ястреби¬
ной головой. Туловище ее наполовину торчало в темном зем¬
ном шаре, из которого она вылезала, как из гигантского
яйца, на фоне синего неба. По мере того как я глядел на этот
лист, мне все больше и больше казалось, что передо мной
такой же цветной герб, как в моем сне.
Написать Демиану письмо я не смог бы, даже если бы
знал куда. Но, в том же мечтательном предчувствии, в
каком я все делал тоща, я решил послать ему этот лист с
ястребом, независимо от того, дойдет ли он до него или
нет. Ничего не написав на листе, даже своей фамилии, я
тщательно обрезал края, купил большой конверт и напи¬
сал на нем прежний адрес своего друга. Так это и отпра¬
вил.
Приближался какой-то экзамен, и мне приходилось
больше обычного работать для школы. С тех пор как я
вдруг прекратил свои безобразия, учителя снова стали ми¬
лостивы ко мне. Хорошим учеником я, правда, и теперь не
был, но ни я, ни кто-либо еще уже не помнили, что полго¬
да назад все допускали возможность моего исключения из
школы.
Отец опять писал мне в прежнем тоне, без упреков и
угроз. Однако я не испытывал потребности объяснять ему
или кому-либо еще, как произошла во мне эта перемена.
Случайно эта перемена совпала с желаниями моих родите¬
лей и учителей. Эта перемена не привела меня к другим
людям, ни с кем не сблизила, сделала меня лишь еще
более одиноким. Она устремлялась куда-то, к Демиану, к
дальней судьбе. Я ведь и сам этого не знал, я ведь был
внутри происходившего. Началось все с Беатриче, но с
некоторого времени я жил со своими листами и своими
мыслями в мире настолько нереальном, что потерял из
виду и ее. Никому, даже если и хотел бы, я не смог бы
сказать ни слова о моих снах, моих ожиданиях, моей
внутренней перемене.
Но как я мог этого хотеть?
269
ГЛАВА ПЯТАЯ
ПТИЦА ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ГНЕЗДА
Моя нарисованная птица из сновидения находилась в пу¬
ти и искала моего друга. Ответ пришел ко мне самым пора¬
зительным образом.
У себя в классе, на своем месте, я после перерыва
между двумя уроками нашел вложенную в мою книгу за¬
писку. Сложена она была так, как это обычно делалось,
когда однокашники тайком обменивались записочками во
время занятий. Меня удивило только, что кто-то прислал
мне такую записку, ибо ни с кем из учеников у меня
общения не было. Я решил, что это, наверно, приглашение
участвовать в какой-либо проказе, которого я, конечно, не
приму, и, не прочитав записки, положил ее перед собой в
книгу. Лишь во время урока она случайно опять оказалась
у меня в руках.
Я поиграл с этой бумажкой, бездумно развернул ее и
нашел в ней запись нескольких слов. Я взглянул на них,
остановился взглядом на одном слове, испугался и прочел
со сжавшимся перед судьбой, как от большого холода,
сердцем:
«Птица выбирается из яйца. Яйцо — это мир. Кто хочет
родиться, должен разрушить мир. Птица летит к богу. Бога
зовут Абраксас»*.
Много раз перечитав эти строки, я погрузился в раз¬
думье. Не подлежало сомнению, это был ответ Демиана.
Никто не мог знать о птице, кроме меня и него. Он получил
мою картину. Он понял и помог мне истолковать ее. Но как
все это было связано? И — это мучило меня прежде всего —
что значило Абраксас? Я никогда не слышал и не читал
такого слова. «Бога зовут Абраксас»!
Урок прошел, а я ничего не слышал. Начался следую¬
щий, последний предобеденный. Его давал новый внештат¬
ный учитель, только что сошедший с университетской
скамьи и нравившийся нам уже потому, что держался с нами
без напускной важности.
Под руководством доктора Фоллена мы читали Геродо¬
та. Это чтение относилось к тем немногим учебным заняти¬
ям, которые интересовали меня. Но на сей раз я как бы
отсутствовал. Я машинально раскрыл книгу, но за перево-
270
дом не следил, по-прежнему погруженный в свои мысли.
Кстати сказать, я не раз уже убеждался на опыте, как верно
было то, что сказал мне тогда, на занятиях для конфирму¬
ющихся, Демиан. Чего желаешь достаточно сильно, то уда¬
ется. Если я во время урока бывал очень сильно занят соб¬
ственными мыслями, я мог быть уверен, что учитель оставит
меня в покое. А если ты рассеян и сонлив, он тут как тут —
это уже тоже со мной случалось. Но если ты действительно
задумался, действительно ушел в свои мысли, ты был защи¬
щен. И сказанное насчет пристального взгляда я уже прове¬
рял, и все подтверждалось. Тогда, во времена Демиана, у
меня это не получалось, а теперь я часто чувствовал, что
взглядами и мыслями можно добиться очень многого.
И вот я сидел и был далеко-далеко от Геродота и от
школы. Но вдруг до меня дошел, молнией ударил меня го¬
лос учителя, и я в страхе очнулся. Я услыхал его голос, он
стоял совсем рядом со мной, я уже подумал, что он оклик¬
нул меня по фамилии. Но он и не смотрел на меня. Я облег¬
ченно вздохнул.
Тут я услыхал его голос опять. Он громко произнес сло¬
во «Абраксас».
В своем комментарии, начало которого от меня ускольз¬
нуло, доктор Фоллсн продолжал:
— Не надо представлять себе взгляды этих сект и мис¬
тических объединений древности такими наивными, какими
они кажутся с рационалистической точки зрения. Науки в
нашем понимании древность вообще не знала. Зато очень
высоко развит был интерес к философско-мистическим ис¬
тинам. Отчасти отсюда возникли магия и игра, которые,
бывало, вели и к обману, и к преступлению. Но и у магии
было благородное происхождение и глубокие мысли. Тако¬
во и учение об Абраксасе, которое я сейчас привел в пример.
Это имя называют в связи с греческими волшебными фор¬
мулами, и многие считают его именем какого-то беса-вол-
шебника, какие и поныне есть у диких народов. Кажется,
однако, что Абраксас означает гораздо больше. Мы можем
считать его именем божества, символической задачей кото¬
рого было соединять божественное и дьявольское.
Маленький ученый ревностно продолжал свою тонкую
речь, никто не был очень внимателен, и, поскольку это имя
больше не упоминалось, мое внимание тоже вскоре опять
переключилось на меня самого.
271
«Соединять божественное и дьявольское», — отдавалось
во мне. От этого я мог оттолкнуться. Это было знакомо мне
по разговорам с Демианом на самых первых порах нашей
дружбы. Демиан сказал тоща, что у нас хоть и есть Бог,
которого мы чтим, но он представляет лишь произвольно
отделенную половину мира (это был официальный, дозво¬
ленный, «светлый» мир). А чтить надо уметь весь мир, по¬
этому нужно либо иметь бога, который был бы также и дья¬
волом, либо учредить наряду с богослужением и служение
дьяволу... И вот, значит, Абраксас был богом, который был
и богом, и дьяволом.
Воспользовавшись этим следом, я какое-то время усерд¬
но вел поиски, но вперед не продвинулся. Я безуспешно
перерыл целую библиотеку, гоняясь за Абраксасом. Но моя
натура никоща особенно не стремилась к такого рода пря¬
мым и сознательным поискам, коща сперва находишь лишь
истины, подобные камням, вложенным тебе в руку вместо
хлеба.
Образ Беатриче, известное время так сильно и глубоко
меня занимавший, постепенно тонул, вернее, медленно от¬
ступал от меня, все больше уходя к горизонту, все больше
расплываясь, отдаляясь, бледнея. Душе уже явно не хвата¬
ло его.
В той странной самопогруженности, в которой я, как со¬
мнамбула, жил, формировалось теперь что-то новое. Во мне
расцветала тоска по жизни, вернее, тоска по любви, и вле¬
чение пола, которое я какое-то время унимал поклонением
Беатриче, требовало новых образов и целей. У меня все еще
ничего не сбылось, и немыслимей, чем коща-либо, было для
меня обмануть свою тоску и ждать чего-то от девушек, у
которых искали счастья мои товарищи. Я с новой силой
отдавался снам, причем больше днем, чем ночью. Видения,
картины и желания поднимались во мне и уносили меня от
внешнего мира до такой степени, что с этими тенями или
снами у меня была более реальная и живая связь, чем с
моим подлинным окружением.
Один определенный сон — его можно назвать и опреде¬
ленной игрой фантазии, — то и дело повторявшийся, стал
для меня полным значения. Сон этот, важнейший и сквер¬
нейший в моей жизни, был примерно таков. Я возвращался
в свой отчий дом — над входом светилась желтым птица на
синем фоне, — навстречу мне вышла мать, но, коща я хотел
обнять ее, ото оказалась не она, а какая-то неведомая фигу¬
272
ра, высокая и могучая, похожая на Макса Демиана и на
написанный мной портрет, но другая и, несмотря на могу¬
честь, явно женская. Эта фигура привлекла меня к себе и
приняла в глубокое, трепетное любовное объятие. Блажен¬
ство и ужас смешивались, объятие было богослужением и в
такой же мере преступлением. Слишком многое напоминало
мою мать, слишком многое напоминало Демиана в фигуре,
которая меня обняла. Ее объятие было попранием всякой
почтительности и в то же время высшим счастьем. Часто
пробуждался я после этого сна с глубоким чувством счастья,
а часто со смертельным страхом и измученной совестью, как
после ужасного греха.
Лишь постепенно и бессознательно установилась связь
между этой целиком внутренней картиной и тем пришедшим
ко мне извне указанием насчет искомого бога. Но потом
связь эта стала теснее и глубже, и я почувствовал, что как
раз в этом вещем сне я и призывал Абраксаса. Блаженство
и ужас, смешение мужчины и женщины, сплетение самого
святого и самого омерзительного, дрожь глубокой вины,
пронимающая нежнейшую невинность,— такова была лю¬
бовь в моем видении, и таков же был Абраксас. Любовь уже
не была животным, темным влечением, как то страшило ме¬
ня вначале, не была она уже и одухотворенным, молитвен¬
ным преклонением, какое рождал у меня образ Беатриче.
Она была и тем и другим, тем и другим, и еще гораздо
большим, она была ангельским подобием и сатаной, мужчи¬
ной и женщиной одновременно, человеком и животным, ве¬
личайшим благом и величайшим злом. Жить этим казалось
мне моим назначением, изведать это — моей судьбой. Я
стремился к такой судьбе и боялся ее, но она всегда присут¬
ствовала, всеща была надо мной.
Следующей весной я должен был покинуть гимназию и
стать студентом, я еще не знал — где и на каком факультете.
Над губой у меня пробилась растительность, я был взрос¬
лый человек и все же совершенно беспомощен и без каких-
либо целей. Твердо было только одно: мой внутренний го¬
лос, мое видение. Я чувствовал, что моя задача — слепо
подчиняться этой направляющей воле. Но удавалось мне это
с трудом, и я каждый день восставал. Может быть, я сума¬
сшедший, думал я нередко, может быть, я не такой, как
другие люди? Но все, что совершали другие, выходило и у
меня, при некотором старании и усилии я мог читать Пла¬
тона, мог разобраться в химическом анализе. Одного только
273
я не мог — вырвать из темноты скрытую во мне цель и
нарисовать ее где-то перед собой, как это делали другие,
которые точно знали, что они хотят стать профессором или
судьей, врачом или художником, сколько на это уйдет вре¬
мени и какие это сулит преимущества. Я так не мог. Может
быть, я тоже стану коща-нибудь кем-то таким, но откуда
мне это знать? Может быть, я тоже должен искать, искать
годами, и так и не стану никем, так и не приду ни к какой
цели. А может быть, к какой-то и приду, но это окажется
злая, опасная, ужасная цель.
Я ведь всего только и хотел — попытаться жить тем, что
само рвалось из меня наружу. Почему же это было так
трудно?
Часто я делал попытки нарисовать фигуру, в которой
предстала любовь в моем сновидении. Но это ни разу не
удавалось. Если бы удалось, я послал бы свой лист Демиа-
ну. Где он был? Я этого не знал. Я знал только, что он был
связан со мной. Коща я увижу его снова?
Приятное спокойствие тех недель и месяцев, которые
составили эпоху Беатриче, давно прошло. Тоща я думал,
что достиг какого-то острова, обрел какой-то мир. Но так
бывало всеща: едва только какое-то состояние становилось
мне мило, едва только какая-то мечта оказывала на меня
благотворное действие, как они уже увядали, тускнели. На¬
прасное дело — вздыхать о них! Я жил теперь в огне неу¬
толенного желания, напряженного ожидания, который час¬
то приводил меня в полное неистовство. Образ приснившей¬
ся возлюбленной я видел теперь часто перед собой с неверо¬
ятной ясностью, гораздо яснее, чем собственную руку, я го¬
ворил с ним, плакал перед ним, клял его. Я называл его
матерью и в слезах становился перед ним на колени, я на¬
зывал его любимой и предугадывал его зрелый, все испол¬
няющий поцелуй, я называл его чертом и потаскухой, вам¬
пиром и убийцей. Он соблазнял меня на нежные любовные
мечтанья и на всяческие бесстыдства, он не знал границ ни
в добром и великолепном, ни в скверном и низком.
Всю ту зиму я прожил во внутренней буре, описать ко¬
торую мне трудно. К одиночеству я привык давно, оно не
угнетало меня, я жил с Демианом, с ястребом, с образом
приснившейся мне высокой фигуры, которая была моей
судьбой и моей возлюбленной. Этого было достаточно, что¬
бы в этом жить, ибо все дышало чем-то большим, далеким,
все указывало на Абраксаса. Но ни один мой сон, ни одна
274
моя мысль не были мне послушны, ни одной я не мог вы¬
звать, ни одну не мог расцветить по своему желанию. Они
приходили и захватывали меня, управляли мною, составля¬
ли мою жизнь.
Внешне я, правда, был защищен. Перед людьми страха
я не испытывал, это усвоили и мои однокашники и относи¬
лись ко мне с тайным уважением, часто вызывавшим у меня
улыбку. Если я хотел, я мог разглядеть насквозь большин¬
ство из них, чем, случалось, и вызывал изумление. Только
хотел я этого редко или вообще не хотел. Я был занят всеща
собой, всеща самим собой. И я страстно желал пожить на-
конец-то тоже, выпустить что-то из себя в мир, вступить с
ним в какие-то отношения, в борьбу. Иной раз, коща я ве¬
чером бродил по улицам и от беспокойства не мог до полуно¬
чи вернуться домой, иной раз я думал, что вот сейчас встре¬
тится мне моя возлюбленная, возникнет у следующего угла,
позовет меня из ближайшего окна. А иной раз все это каза¬
лось мне невыносимо мучительным, и я бывал готов покон¬
чить с собой.
Некое своеобразное прибежище нашел я в ту пору —
«случайно», как принято говорить. Но таких случайностей
не бывает. Когда тот, кому что-то необходимо, находит это
необходимое, то дает ему это не случайность, а он сам,
ведет его к этому его собственная потребность, собствен¬
ная неволя.
Во время моих прогулок по городу до меня уже два или
три раза доносились из одной церквушки на окраине звуки
органа, но я там не задерживался. Проходя мимо этой цер¬
кви в очередной раз, я снова услышал орган и узнал музыку
Баха. Я подошел к входной двери, которую нашел запертой,
и, поскольку улица была почти безлюдна, сел возле церкви
на защитную тумбу, поднял воротник пальто и стал слу¬
шать. Орган был небольшой, но хороший, а играли на нем
замечательно, с необыкновенным, очень личным выражени¬
ем воли и упорства, звучавшим как молитва. У меня было
такое чувство, что играющий знает о спрятанном в этой му¬
зыке сокровище и домогается этого сокровища, бьется и бо¬
рется за него как за собственную жизнь. В музыке, если
иметь в виду технику, я мало что понимаю, но именно это
выражение души я инстинктивно понимал с детства и музы¬
кальность чувствовал в себе как нечто само собой разумею¬
щееся.
275
Музыкант сыграл потом и что-то современное, возможно
Регера*. В церкви было почти совсем темно, только ближай¬
шее окно слабо светилось. Я дождался конца музыки, а по¬
том прохаживался возле церкви, пока не увидел выходяще¬
го органиста. Это был человек еще молодой, однако старше,
чем я, неуклюжий, приземистый, он быстро, энергично и
как бы недовольно зашагал прочь.
С тех пор я иногда сидел в вечерние часы перед цер¬
ковью или прогуливался возле нее. Однажды я застал дверь
открытой и, счастливый, просидел, замерзая, полчаса на
скамье, пока органист играл наверху при скудном газовом
свете. В музыке, которую он играл, я слышал не только его
самого. Все, что он играл, было, казалось’мне также, связа¬
но каким-то родством, какой-то тайной связью. Все, что он
играл, было религиозно, было истово и благочестиво, но
благочестиво не как прихожане и пасторы, а благочестиво,
как паломники и нищие в средние века, благочестиво со всей
безоглядной полнотой того мироощущения, которое превы¬
ше всех вероисповеданий. Усердно игрались добаховские
мастера и старые итальянцы. И все говорили одно и то же,
все говорили то, что было и у музыканта в душе: тоска,
проникновенное приятие мира и буйный разрыв с ним, жгу¬
чая напряженность вслушивающегося в собственную душу,
опьянение отдающегося и глубокое любопытство к чудес¬
ному.
Тайком преследуя однажды органиста после его ухода
из церкви, я увидел, как на самом краю города он зашел в
маленький кабачок. Я не удержался и последовал за ним.
Здесь я впервые как следует его рассмотрел. Он сидел за
столиком в углу небольшой комнаты, не сняв черной фет¬
ровой шляпы, за кружкой вина, и лицо его было таким,
как я ожидал. Оно было некрасиво и диковато, пытливо и
упрямо, своенравно и полно воли, хотя вокруг рта виде¬
лось что-то мягкое и детское. Все мужское и сильное со¬
средоточилось в глазах и во лбу, нижняя часть лица была
нежная и незрелая, несобранная и отчасти рыхловатая,
полный нерешительности подбородок как бы противоречил
своим мальчишеским видом лбу и выражению взгляда.
Мне были приятны его темно-карие глаза, полные гордо¬
сти и враждебности.
Я молча сел напротив него, никого больше в кабачке не
было. Он сверкнул на меня глазами, словно хотел прогнать
276
меня. Я, однако, не поддался и не отрывал от него взгляда,
пока он грубовато не пробурчал:
— Что вы уставились? Вам что-то от меня нужно?
— Ничего мне от вас не нужно, — сказал я. — Но я уже
многое от вас получил.
Он нахмурился.
— Вы меломан? По-моему, это отвратительно — быть
меломаном.
Я не дал ему отпугнуть себя.
— Я вас уже не раз слушал, там, в церкви, — сказал я. —
Впрочем, не хочу докучать вам. Я думал, что, может быть,
найду у вас что-то, что-то особое, сам не знаю что. Но лучше
вообще не обращайте на меня внимание! Я ведь могу слу¬
шать вас в церкви.
— Я же всеща запираюсь.
— Недавно вы забыли запереть дверь, и я сидел внутри.
Обычно я отою снаружи или сижу на тумбе.
— Вот как? В другой раз входите, там теплее. Просто
надо постучать в дверь. Но посильнее, и не во время игры.
Теперь выкладывайте — что вы хотели сказать? Вы человек
совсем еще молодой, наверно, школьник или студент. Вы
музыкант?
— Нет. Я люблю слушать музыку, только такую, как вы
траете, совершенно безусловную музыку, при которой чув¬
ствуешь, что тут человек потрясает небо и ад. Музыку я
очень люблю, думаю, потому, что в ней так мало нравствен¬
ности. Все другое нравственно, а я ищу чего-то иного. От
нравственности я всеща только страдал. Я не умею хорошо
выражать свои мысли... Знаете ли вы, что должен сущест¬
вовать бог, который одновременно и бог и дьявол? Такой
бог будто бы был, я слышал об этом.
Музыкант немного сдвинул назад свою широкополую
шляпу и смахнул с большого лба темные волосы. При этом
он бросил на меня проницательный взгляд и склонился ко
мне над столом.
Он тихо и с любопытством спросил:
— Как зовут бога, о котором вы говорите?
— К сожалению, я почти ничего не знаю о нем, только,
собственно, имя и знаю. Его зовут Абраксас.
Музыкант как бы недоверчиво огляделся вокруг, словно
нас мог кто-то подслушивать. Затем он придвинулся ко мне
и шепотом сказал:
— Так я и думал. Кто вы такой?
277
— Я гимназист.
— Откуда вы узнали об Абраксасе?
— Случайно.
Он так стукнул по столу, что вино выплеснулось у него
из кружки.
— Случайно! Не крутите мне... не морочьте мне голову,
молодой человек! Об Абраксасе случайно нельзя узнать, за¬
помните это. Я расскажу вам о нем еще кое-что. Я немного
знаю о нем.
Он умолк и отодвинул свой стул назад. Когда я с ожи¬
данием взглянул на него, он скорчил гримасу.
— Не здесь! В другой раз... Вот возьмите!
При этом он полез в карман своего пальто, которого не
снял, и, вытащив оттуда несколько жареных каштанов, бро¬
сил их мне.
Я ничего не сказал, взял каштаны, принялся их есть и
был очень доволен.
— Итак? — прошептал он через некоторое время. —
Откуда вы знаете о... нем?
Я не стал медлить с ответом.
— Я был очень одинок и растерян, — рассказал я. —
Тут мне вспомнился один мой друг прежних лет, который,
как я считаю, очень много знает. Я что-то нарисовал, какую-
то птицу, вылезающую из земного шара, и послал рисунок
ему. Через некоторое время, когда я уже не ждал этого, у
меня в руках оказался клочок бумаги, на котором было на¬
писано: «Птица выбирается из яйца. Яйцо — это мир. Кто
хочет родиться, должен разрушить мир. Птица летит к богу.
Бога зовут Абраксас».
Он ничего не ответил, мы чистили каштаны и ели их,
запивая вином.
— Возьмем еще кружку? — спросил он.
— Спасибо, нет. Я не люблю пить.
Он засмеялся, несколько разочарованный.
— Как хотите! Со мной дело обстоит иначе. Я еще поси¬
жу здесь. А вы ступайте!
Коща я в следующий раз пошел с ним после его игры на
органе, он был не очень общителен. На одной старой улице
он провел меня через какое-то очень старое, импозантное
здание вверх, в большую, мрачноватую и запущенную ком¬
нату, ще, кроме рояля, ничего не говорило о музыке, а было
что-то от кабинета ученого благодаря большому книжному
шкафу и письменному столу.
278
— Сколько у вас книг! — сказал я с похвалой.
— Часть их — из библиотеки моего отца, у которого я
живу. Да, молодой человек, я живу у отца и матери, но я
не могу представить вас им, мое общество не пользуется в
этом доме большим уважением. Я, знаете ли, блудный сын.
Мой отец — человек на диво достопочтенный, он — выда¬
ющийся в этом городе священник и проповедник. А я, чтобы
вы сразу были в курсе дела, его способный и многообещаю¬
щий сынок, который, однако, сбился с пути и некоторым
образом сошел с ума. Я был богословом и незадолго до го¬
сударственного экзамена бросил этот добропорядочный фа¬
культет. Хотя, собственно, все еще занимаюсь этим предме¬
том — имея в виду мои частные изыскания. Каких богов
придумывали себе люди в разные времена — это мне все
еще очень важно и интересно. А вообще я теперь музыкант
и, кажется, скоро получу скромное место органиста. Тоща
я снова буду при церкви.
Я оглядывал корешки книг, находил греческие, латин¬
ские, древнееврейские заглавия, насколько это можно было
различить при слабом свете маленькой настольной лампы.
Между тем мой знакомый лег в темноте у стены на пол и с
чем-то там возился.
— Идите сюда, — позвал он вскоре, — мы сейчас немно¬
го пофилософствуем, то есть помолчим, полежим на полу и
подумаем.
Он чиркнул спичкой и поджег в камине, перед которым
лежал, бумагу и поленья. Пламя высоко поднималось, он
разгребал уголья и раздувал огонь с изысканной осмотри¬
тельностью. Я лег рядом с ним на потертый ковер. Он смот¬
рел на огонь, который притягивал и меня, и мы пролежали,
навермо, час на животе перед колышущимся пламенем, гля¬
дя, как оно вспыхивает и бушует, опадает и корчится, уга¬
сает и вздрагивает и, наконец, оседает тихо пылающим жа¬
ром.
— Огнепоклонство — не самое глупое изобретение, —
пробормотал он однажды себе под нос. Вообще же ни
один из нас не произносил ни слова. Не сводя глаз с огня,
я погружался в мечты и тишину, видел какие-то фигуры в
дыме, какие-то картины в золе. Один раз я вздрогнул от
неожиданности. Мой товарищ бросил в жар кусочек смо¬
лы, взметнулось небольшое удлиненное пламя, я увидел в
нем свою птицу с желтой ястребиной головой. В угасаю¬
279
щем жаре пылающие золотом нити сплетались в сети, воз¬
никали буквы и картины, воспоминания о лицах, о живот¬
ных, о растениях, о червях и змеях. Когда я, очнувшись,
посмотрел на своего соседа, он неподвижно, самозабвенно
и исступленно, подперев кулаками подбородок, глядел в
золу.
— Мне пора идти, — сказал я тихо.
— Что ж, ступайте. До свидания!
Он не встал, и, поскольку лампа была погашена, мне
пришлось на ощупь, через темные комнаты и темные кори¬
доры, выбираться из этого заколдованного старого дома. На
улице я остановился и пробежал взглядом вверх по этому
старому зданию. Свет не горел ни в одном окне. Отсвет
газового фонаря поблескивал на медной дощечке у двери.
«Писториус*, главный священник», — прочел я на ней.
Лишь дома, коща я один сидел за ужином в своей ком¬
натушке, мне подумалось, что ни об Абраксасе, ни еще че-
го-либо я от Писториуса так и не узнал, что мы вообще и
десятью словами не обменялись. Но своим посещением его
дома я был очень доволен. И на следующий раз он обещал
мне совсем редкостное произведение старинной органной
музыки — пассакалью Букстехуде*.
Я и не знал, что органист Писториус преподал мне пер¬
вый урок, когда я лежал с ним перед камином на полу его
мрачной уединенной комнаты. Созерцание огня подейство¬
вало на меня благотворно, оно укрепило и утвердило во мне
склонности, которые у меня всеща были, хотя я никоща не
давал им воли. Постепенно это стало мне более или менее
ясно.
Уже в раннем детстве меня иноща тянуло разглядывать
причудливые формы природы — не как сторонний наблю¬
датель, а отдаваясь их волшебству, их мудреному глубокому
языку. Длинные, одеревеневшие корни деревьев, цветные
прожилки в камне, нефтяные пятна на воде, трещины в
стекле — все подобные вещи обладали для меня порой ве¬
ликим волшебством, а также прежде всего вода и огонь,
дым, облака, пыль и особенно кружащиеся цветные пятна,
которые я видел, коща закрывал глаза. В дни после моего
первого прихода к Писториусу мне это опять вспомнилось.
Ибо я заметил, что каким-то подкреплением, какой-то радо¬
стью, каким-то усилением чувства самого себя, мною с тех
280
пор ощущаемыми, я был обязан только долгому глядению
на открытый огонь. Это было удивительно благотворное и
обогащающее занятие!
К немногим открытиям, сделанным мною дотоле на
пути к моей истинной цели жизни, прибавилось это новое:
созерцание таких структур; самозабвенное погружение в
иррациональные, мудреные, странные формы природы со¬
здает в нас чувство согласия нашей души с волей, сотво¬
рившей эти структуры; мы вскоре испытываем искушение
считать их нашими собственными капризами, нашими соб¬
ственными созданиями; мы видим, как граница между на¬
ми и природой дрожит и расплывается, и приходим в то
состояние, коща нам невдомек, от внешних ли впечатле¬
ний ведут свое начало картины на нашей сетчатке или от
внутренних. Нигде так просто и легко, как при этом уп¬
ражнении, не обнаружить нам, в какой огромной мере мы
сами творцы, в какой огромной мере участвует всеща в
непрестанном сотворении мира наша душа. Более того, в
нас и в природе действует одно и то же неделимое божест¬
во, и, если бы внешний мир погиб, кто-то из нас сумел бы
создать его заново, ибо гора и река, дерево и лист, корень
и цветок — все выстроенное в природе уже наперед вы¬
строено в нас, ведет свое начало от души, чья суть —
вечность, чья суть неведома нам, но ощущается нами боль¬
шей частью как сила любви и сила творчества.
Лишь много лет спустя я нашел подтверждение этого на¬
блюдения в одной книге, а именно у Леонардо да Винчи,
который ще-то говорит о том, как хорошо и интересно смот¬
реть на стену,, заплеванную множеством людей. Перед каж¬
дым пятном на влажной стене он чувствовал то же, что Пи-
сториус и я — перед огнем.
При следующей нашей встрече органист дал мне некое
объяснение.
— Мы всегда слишком сужаем границы своей личности!
Мы причисляем к своей личности всеща только то, в чем
усматриваем какую-то индивидуальную, какую-то отличи¬
тельную особенность. Но состоим-то мы из всего, что есть в
мире, каждый из нас, и точно так же, как наше тело носит
в себе всю родословную развития до рыб и еще дальше на¬
зад, так и в душе у нас содержится все, чем кфща-либо жили
души людей. Все боги и черти, которые были коща-либо,
будь то у греков, китайцев или у зулусских кафров, все они
281
в нас, все налицо, как возможности, как желания, как вы¬
ходы из положения. Если бы вымерло все человечество и
остался один-единственный сколько-нибудь способный ре¬
бенок, которого ничему не учили, то этот ребенок снова об¬
рел бы весь ход вещей, снова смог бы создать богов, демо¬
нов, рай, заповеди и запреты, ветхие и новые заветы —
решительно все.
— Ну хорошо, — возразил я, — но в чем же тоща со¬
стоит ценность индивидуума? Почему мы еще стремимся к
чему-то, если в нас все уже есть в готовом виде?
— Стоп! — с жаром воскликнул Писториус. — Это
большая разница, только ли вы носите мир в себе или еще
и знаете это! Безумец может родить мысли, которые на¬
помнят Платона, а какой-нибудь смирный ученичок герн-
гутерской школы* творчески осмысляет глубокие мифоло¬
гические рассуждения, которые встречаются у гностиков
или у Зороастра. Но он ничего об этом не знает! Он —
дерево или камень, в лучшем случае животное, пока он не
знает этого. Но как только забрезжит первая искра такого
знания, он становится человеком. Вы же, наверно, не счи¬
таете всех двуногих, которых встречаете на улице, людьми
только потому, что они ходят прямо и вынашивают своих
детенышей девять месяцев? Вы же видите, что многие из
них — рыбы или овцы, черви или ежи, многие — му¬
равьи, многие — пчелы! Так вот, в каждом из них заложе¬
ны возможности очеловечения, но принадлежат ему эти
возможности только тоща, коща он о них догадается,
коща частично даже их осознает.
Такого примерно рода были наши разговоры. Редко при¬
носили они мне что-то совсем новое, совсем уж неожидан¬
ное. Но все, даже самые банальные, упорно и тихо били в
одну точку во мне, все помогали моему становлению, все
помогали мне сбрасывать с себя кожу за кожей, пробивать
скорлупу за скорлупой, и после каждого я чуть выше, чуть
вольнее поднимал голову, пока моя желтая птица не вытол¬
кнула свою прекрасную хищную голову из разбитой оболоч¬
ки миропорядка.
Часто также рассказывали мы друг другу свои сны.
Писториус умел толковать их. Один поразительный при¬
мер мне как раз помнится. Мне приснилось, что я летал,
но был как бы с размаха брошен в воздух, запущен с
такой силой, что не мог с ней совладать. Чувство полета
282
было возвышенным, но вскоре превратилось в страх, ког¬
да я увидел себя безвольно закинутым в рискованные вы¬
соты. Тут я сделал спасительное открытие, что могу регу¬
лировать подъем и падение задержкой и глубиной дыха¬
ния.
По этому поводу Писториус сказал:
— То, что заставило нас взлететь, — это великое досто¬
яние рода человеческого, которое у каждого из нас есть.
Это — чувство связи с истоками всякой силы, но от него
нам вскоре становится страшно! Оно чертовски опасно!
Поэтому большинство охотно отказывается от полета и
предпочитает передвигаться по тротуару, как то предписы¬
вают законы. А вы — нет. Вы летите себе дальше, как и
подобает способному юноше. И тут делаете поразительное
открытие — что постепенно вы овладели полетом, что к
большой всеобщей силе, которая вас уносит, прибавляется
какая-то тонкая, маленькая, собственная сила, какой-то
орган, какой-то руль! Это чудесно! Без этого безвольно
залетишь неведомо куда, так оно и бывает, например, с
сумасшедшими. Вам даны более глубокие предчувствия,
чем людям на тротуаре, но, не имея нужного ключа, нуж¬
ного руля, вы несетесь в бездну. Но вы, Синклер, вы
справляетесь с положением! А как, скажите? Вы этого,
наверно, еще не знаете? С помощью нового органа, регу¬
лятора дыхания. Вот вы и видите, насколько не «лична»
ваша душа в своей глубине. Она же не изобретает этот
регулятор! Он не нов! Он позаимствован, он существует
тысячи лет. Он — это орган равновесия у рыб, плаватель¬
ный пузырь. И в самом деле, есть и сегодня еще несколь¬
ко странных и архаичных пород рыб, у которых плава¬
тельный пузырь — это одновременно и легкие, и при
случае он действительно служит им для дыхания. То есть
в точности так, как легкие, которыми вы во сне пользова¬
лись как летательным пузырем!
Он принес мне даже учебник зоологии и показал назва¬
ния и изображения этих древних рыб. И с ужасом я
почувствовал, что во мне жива некая функция, оставшаяся
от ранних эпох развития.
283
ГЛАВА ШЕСТАЯ
БОРЕНИЕ ИАКОВА
То, что я узнал об Абраксасе от этого странного музы¬
канта Писториуса, передать коротко нельзя. Но самым важ¬
ным, чему я у него научился, стал следующий шаг на пути
к самому себе. Тоща, лет в восемнадцать, я был необычным
молодым человеком, во многих отношениях рано созрев¬
шим, а во многих других очень отсталым и беспомощным.
Сравнивая себя с другими, я часто бывал горд и много о себе
мнил, но столь же часто бывал подавлен и унижен. То я
считал себя гением, то полусумасшедшим. Мне не удавалось
участвовать в радостях и быте сверстников, и я часто мучил¬
ся и корил себя так, словно был безнадежно от них отделен,
словно жизнь для меня закрыта.
Писториус, который сам был большим оригиналом, учил
меня сохранять мужество и уважение к себе самому. Тем,
что он всеща находил в моих фантазиях и мыслях что-то
ценное, принимал их всерьез и со всей серьезностью обсуж¬
дал, он подавал мне пример.
— Вы сказали мне, — говорил он, — что любите
музыку потому, что она не нравственна. Ну что ж. Но и
вы-то сами не должны быть моралистом! Вы не должны
сравнивать себя с другими, и, если природа создала вас
летучей мышью, вы не должны пытаться стать птицей
страусом. Вы иноща считаете себя странным, вы корите
себя за то, что идете иными путями, чем большинство. От
этого вам следует отучиться. Смотрите на огонь, смотрите
на облака и, коща у вас возникнут видения и в вашей
душе загорятся голоса, положитесь на них и не спраши¬
вайте, угодно ли, понравится ли это господину учителю,
или господину папе, или какому-нибудь боженьке! Так
губят себя. Так сливаются с толпой и становятся окамене¬
лостью. Дорогой Синклер, нашего бога зовут Абраксас, и
он и бог, и сатана, он включает в себя и светлый, и
темный мир. Абраксас не возразит ни против одной вашей
мысли, ни против одного вашего сна. Не забывайте этого.
Но он покинет вас, если вы станете безупречны и нормаль¬
ны. Тоща он покинет вас и найдет себе новый горшок,
чтобы варить в нем свои мысли.
284
Из всех моих снов самым неотвязным был темный лю¬
бовный сон. Часто, очень часто я видел его, входил под
нашей геральдической птицей в наш старый дом, хотел при¬
влечь к себе мать и обнимал вместо нее ту крупную, полу-
мужского-полуматеринского вида женщину, которой я боял¬
ся и к которой меня все же тянуло пламенное желание. И
этого сна я никак не мог рассказать своему другу. Его я
утаил, когда уже открыл ему все другое. Этот сон был моим
укрытием, моей тайной, моим прибежищем.
Когда я бывал угнетен, я просил Писториуса сыграть мне
пассакалью старого Букстехуде. Я сидел тогда в вечерней,
темной церкви, отдаваясь этой странной, искренней, погру¬
женной в саму себя, вслушивающейся в саму себя музыке,
которая каждый раз действовала на меня благотворно и по¬
вышала мою готовность признавать правоту голосов души.
Иноща мы на некоторое время оставались в церкви и по¬
сле того, как умолкал орган, и смотрели, как слабый свет
просачивался через высокие стрельчатые окна и затем исче¬
зал.
— Кажется смешным, — сказал Писториус, — что ког-
да-то я был богословом и чуть не стал священником. Но
ошибался я тогда только в форме. Быть священиком — мое
призвание и моя цель. Только я слишком рано удовольство¬
вался и отдал себя в распоряжение Иеговы, еще не зная
Абраксаса. Ах, любая религия прекрасна. Религия — это
душа, независимо от того, принимаешь ли по-христиански
причастие или совершаешь паломничество в Мекку.
— Но тоща, — заметил я, — вы могли бы, собственно,
стать священником.
— Нет, Синклер, нет. Мне ведь пришлось бы лгать. На¬
ша религия исповедуется так, словно она не религия. Она
делает вид, будто она — творение разума. Католиком я бы
мог на худой конец стать, но протестантским священником —
нет! Немногие истинно верующие — я знаю таких — дер¬
жатся за буквальный смысл, им я не мог бы сказать, что
Христос, например, был для меня не подлинное лицо, а ге¬
рой, миф, огромный силуэт, в котором человечество запе¬
чатлело себя само на стене вечности. А другие, которые при¬
ходят в церковь, чтобы услышать умное слово, чтобы испол¬
нить долг, чтобы ничего не пропустить и так далее, — да,
что должен был бы я сказать им? Обратить их в веру, по-
вашему? Но этого я вовсе не хочу. Священник не хочет
обращать в веру, он хочет жить только среди верующих,
285
среди таких, как он, хочет быть носителем и выразителем
чувства, из которого мы создаем своих богов.
Он остановился. Затем продолжал:
— Наша новая вера, для которой мы сейчас выбираем
имя Абраксаса, прекрасна, дорогой друг. Она — самое луч¬
шее, что у нас есть. Но она еще младенец! Крылья у нее еще
не выросли. Ах, одинокая религия — это еще не то, что
нужно. Она должна стать общей, ей нужен культ и восторг,
праздники и таинства...
Он задумался и ушел в себя.
— Разве нельзя справлять таинства в одиночестве или в
небольшом кругу? — спросил я нерешительно.
— Можно, — кивнул он. — Я давно уже их справляю.
Я справлял такие культы, за которые мне пришлось бы про¬
сидеть годы в тюрьме, если бы об этом узнали. Но я знаю,
это еще не то, что нужно.
Внезапно он хлопнул меня по плечу, я даже вздрогнул.
— Дружище, — сказал он проникновенно, — у вас тоже
есть таинства. Я знаю, что вам должны сниться сны, о ко¬
торых вы мне не говорите. Я не хочу знать их. Но я скажу
вам: живите ими, этими снами, играйте в них, воздвигайте
им алтари! Это еще не совершенство, но это некий путь.
Обновим ли мы, вы, я и еще кто-то, когда-нибудь мир, это
еще видно будет. Но внутри себя мы должны обновлять его
каждый день, иначе из нас ничего не выйдет. Подумайте об
этом! В восемнадцать лет, Синклер, вы не ходите к уличным
девкам, у вас должны быть любовные сны, любовные жела¬
ния. Может быть, они таковы, что вы их боитесь. Не бойтесь
их! Они — лучшее, что у вас есть! Можете мне поверить. Я
многое потерял на том, что в ваши годы насиловал свои
любовные сны. Это делать не следует. Зная об Абраксасе,
делать это уже нельзя. Не надо бояться и не надо считать
запретным ничего, чего желает наша душа.
Я испуганно возразил:
— Но нельзя же делать все, что тебе заблагорассудится!
Нельзя же убивать человека, потому что он противен тебе.
Он придвинулся поближе ко мне.
— При каких-то обстоятельствах можно и это. Только
обычно это ошибка. Да я и не хочу сказать, что надо просто
делать все, что вам придет в голову. Нет, но эти фантазии, в
которых есть свой смысл, вы не должны делать вредными,
отмахиваясь от них и морализируя по их поводу. Вместо того
чтобы распинать на кресте себя или кого-то другого, можно с
286
торжественными мыслями пить из чаши вино и представлять
при этом таинство жертвоприношения. Можно и без таких
действий относиться к своим порывам с уважением и любо¬
вью. Тоща они обнаружат свой смысл, а смысл в них во всех
есть... Коща вам снова взбредет в голову что-нибудь совсем
безумное и греховное, Синклер, если вы захотите убить кого-
то или совершить какое-нибудь гигантское непотребство, по¬
думайте на миг, что это в вас Абраксас так фантазирует! Че¬
ловек, которого вы хотите убить, — это же вовсе не господин
такой-то, он, конечно, только его личина. Когда мы ненави¬
дим кого-то, мы ненавидим в его образе то, что сидит в нас са¬
мих. То, чего нет в нас самих, нас не трогает.
Никоща Писториус не говорил ничего, что бы меня втай¬
не так глубоко задело. Я не смог ответить. Но что меня боль¬
ше всего взволновало и поразило, так это созвучие его совета
со словами Демиана, которые я долгие годы носил в себе.
Они ничего не знали друг о друге, и оба сказали мне одно и
то же.
— Вещи, которые мы видим, — тихо говорил Пистори¬
ус, — это те же вещи, которые в нас. Нет реальности, кроме
той, которую мы носим в себе. Большинство людей потому
и живет такой нереальной жизнью, что они принимают за
реальность внешние картины, а собственному внутреннему
миру не дают слова сказать. При этом можно быть счастли¬
вым. Но если ты знаешь другое, у тебя уже нет выбора, ты
уже не можешь идти путем большинства. Синклер, путь
большинства легок, а наш труден... Поймите.
Несколько дней спустя, два раза напрасно прождав его, я
встретил Писториуса поздно вечером на улице, коща он в
одиночестве выплыл из-за угла, вынесенный холодным ноч¬
ным ветром, спотыкающийся, совсем пьяный. Я не стал его
окликать. Он прошел мимо, не видя меня, усгавясь вперед
горящим, отчужденным взглядом, как бы повинуясь какому-
то темному зову из неизвестности. Я прошел вслед за ним од*
ну улицу, он двигался так, будто его тянули за невидимую про¬
волоку, исступленно и в то же время расслабленно, словно при¬
зрак. Я печально пошел домой, к своим безвыходным снам.
«Вот как обновляет он мир в себе!» — подумал я и уже
в тот же миг почувствовал, что подуманное мною низко и
назидательно. Что я знал о его снах? В своем опьянении он
шел, может быть, более верным путем, чем я в своей тоске.
287
На школьных переменах я иноща замечал, что моей бли¬
зости ищет один одноклассник, на которого я обычно не
обращал внимания. Это был невысокого роста, тщедушный,
тощий юнец с рыжевато-светлыми, жидкими волосами и
чем-то необычным во взгляде и поведении. Как-то вечером,
коща я возвращался домой, он подстерег меня на улице, дал
мне пройти мимо себя, затем побежал за мной и остановился
перед нашей входной дверью.
— Тебе что-то от меня нужно? — спросил я.
— Мне хочется только как-нибудь поговорить с тобой, —
сказал он робко. — Будь добр, пройдемся немного.
Я последовал за ним, чувствуя, что он глубоко взволно¬
ван и полон ожидания. Его руки дрожали.
— Ты спирит? — спросил он внезапно.
— Нет, Кнауэр, — сказал я со смехом. — Ничего похо¬
жего. Как это тебе пришло в голову?
— Но ты теософ?
— Тоже нет.
— Ах, не будь таким скрытным! Я же ясно чувствую, что
в тебе есть что-то особенное. У тебя это в глазах. Я твердо
уверен, что ты общаешься с духами... Я спрашиваю не из
любопытства, Синклер, нет! Я сам в поисках, знаешь, и я
очень одинок.
— Рассказывай! — подбодрил я его.. — О духах я, прав¬
да, ничего не знаю, я живу в своих мечтах, ты это почувст¬
вовал. Другие люди тоже живут в мечтах, но не в собствен¬
ных, вот в чем разница.
— Да, так, наверно, и есть, — прошептал он. — Все дело
в том, какого они рода, мечты, в которых живешь... Ты уже
слышал о белой магии?
Я должен был ответить отрицательно.
— Это коща учатся владеть собой. Можно стать бессмер¬
тным, да и волшебником сделаться. Ты никоща не проде¬
лывал таких упражнений?
В ответ на мое любопытство к этим упражнениям он
сперва напустил на себя таинственность, но как только я
повернулся, чтобы уйти, выложил:
— Например, когда я хочу уснуть или сосредоточиться,
я проделываю такое упражнение. Я придумываю что-ни-
будь, например какое-нибудь слово, или имя, или геометри¬
ческую фигуру. Затем я мысленно вбиваю ее в себя изо всех
сил, пытаясь вообразить ее у себя в голове, пока не почув¬
ствую, что она там. Потом я мысленно вбиваю ее себе в шею
288
и так далее, пока целиком не заполнюсь ею. И уж тогда я
становлюсь совсем тверд, тоща ничто уже не может вывести
меня из состояния покоя.
Я до некоторой степени понял, что он имеет в виду. Од¬
нако я чувствовал, что у него на сердце есть что-то еще, он
был страшно взволнован и тороплив. Я постарался разгово¬
рить его, и вскоре он поделился истинной своей заботой.
— Ты ведь тоже воздерживаешься? — спросил он меня
боязливо.
— Что ты имеешь в виду? Половые дела?
— Да, да. Я уже два года воздерживаюсь — с тех пор
как узнал об этом учении. Прежде я предавался одному по¬
року, ты догадываешься... Ты, значит, никоща не был с
женщиной?
— Нет, — сказал я, — не нашел подходящей.
— А если бы ты нашел такую, которую счел бы подхо¬
дящей, ты бы спал с ней?
— Да, конечно... Если она не против, — сказал я чуть
насмешливо.
— О, ты, значит, на ложном пути! Внутренние силы
можно развить, только соблюдая полное воздержание. Я со¬
блюдал его целых два года. Два года и чуть больше месяца!
Это так трудно! Иноща я еле выдерживаю.
— Знаешь, Кнауэр, я не думаю, что воздержание страш¬
но важно.
— Я знаю, — возразил он, — так все говорят. Но от тебя
я этого не ожидал. Кто хочет идти высоким духовным пу¬
тем, тот должен оставаться чистым, непременно!
— Ну так и оставайся! Но я не понимаю, почему тот, кто
подавляет в себе половое начало, «чище», чем кто-либо дру¬
гой. Или тебе удается исключить сексуальность также из
всех мыслей и снов?
Он посмотрел на меня с отчаянием.
— Нет, то-то и оно! Боже мой, и все-таки это необходи¬
мо. Ночью мне снятся такие сны, которые я и себе-то самому
не могу рассказать! Ужасные сны, знаешь!
Я вспомнил то, что мне говорил Писториус. Но, и призна¬
вая всю справедливость его слов, я не мог передать их даль¬
ше, не мог дать совет, который из моего собственного опыта
не вытекал и следовать которому я и сам еще не умел. Я
умолк, чувствуя себя посрамленным тем, что вот кто-то обра¬
тился ко мне за советом, а я ему посоветовать ничего не могу.
10 4-161
289
— Я все перепробовал! — жаловался рядом со мной Кна-
уэр. — Я и холодной водой, и снегом, и гимнастику делал,
и бегал — ничего не помогает. Каждую ночь я просыпаюсь
от снов, о которых мне и думать нельзя. И самое ужасное —
постепенно я теряю все знания, которые приобрел. Мне уже
почти не удается ни сосредоточиться, ни уснуть, я часто
лежу без сна всю ночь напролет. Долго я так не выдержи¬
ваю. Коща я наконец прекращаю борьбу, сдаюсь и опять
оскверняюсь, я становлюсь хуже всех прочих, которые во¬
обще не боролись. Тебе ведь это понятно?
Я кивнул, но никаких слов не нашел. Он нагонял на меня
скуку, и я испугался самого себя, оттого что его горе, его
явное отчаяние не произвело на меня такого уж глубокого
впечатления. Я чувствовал только: помочь я ему не могу.
— Значит, ты ничего не можешь мне посоветовать? —
спросил он наконец устало и грустно. — Ничего? Ведь дол¬
жен же быть какой-то путь! Ты-то как с этим справляешься?
— Ничего не могу тебе сказать > Кнауэр. Тут друг другу
помочь нельзя. Мне тоже никто не помогал. Ты должен сам
вдуматься в себя, а потом поступать так, как того действи¬
тельно требует твоя сущность. Ничего другого не может
быть. Если ты не найдешь самого себя, то и никаких таких
способов, думаю, не найдешь.
Внезапно умолкнув, этот паренек разочарованно взгля¬
нул на меня. Затем его взгляд загорелся внезапной ненави¬
стью, он скорчил гримасу и злобно крикнул:
— Ах ты святоша! У тебя тоже есть свой порок, я знаю!
Ты строишь из себя мудреца, а втайне погрязаешь в такой
же мерзости, как я и все прочие! Ты свинья, такая же
свинья, как я сам. Все мы свиньи!
Я ушел, оставив его на месте.
Он сделал два-три шага вслед за мной, затем отстал, по¬
вернул назад и умчался прочь. Мне стало тошно от чувства
сострадания и отвращения, и я не мог избавиться от этого
чувства, пока не расставил дома, у себя в каморке, свои кар¬
тинки и целиком не ушел в собственные видения. И тут сразу
же мне снова привиделся сон о двери дома и гербе, о матери и
незнакомке, и черты лица незнакомки предстали мне так до¬
нельзя отчетливо, что я уже в тот же вечер начал рисовать ее
портрет.
Коща этот рисунок, набросанный во время таких наплы¬
вов мечтательности словно бы в забытьи, был через несколь¬
ко дней готов, я повесил его вечером на стену, придвинул к
290
нему настольную лампу и стал перед ним, как перед каким-то
духом, с которым мне нужно бороться до решительного кой-
ца. Это было лицо, похожее на прежнее, похожее на моего
друга Демиана, а некоторыми чертами и на меня самого.
Один глаз был заметно выше другого, взгляд уходил надо
мной вдаль в своей отрешенной, дышавшей судьбой при¬
стальности.
Я стоял перед рисунком, и от внутреннего напряженця
грудь мою .пробирал холод. Я вопрошал портрет, обвинял
его, ласкал его, молился ему; я называл его матерью, назы¬
вал любимой, называл шлюхой и девкой, называл Абракса-
сом. При этбм мне приходили на ум слова Писториуса т-
или Демиана? Я не мог вспомнить, коща они были сказаны,
но мне казалось, что я слышу их снова. Это были слова о
борьбе Иакова с ангелом Бога* и фраза: «Не отпущу тебя,
пока не благословишь меня».
Освещенное лампой лицо преображалось от каждого мо¬
его зова. Оно светлело и начинало светиться, чернело и
мрачнело, смыкало мертвенные веки над погасшими глаза¬
ми, вновь раскрывало их и сверкало жаркими взглядами,
было женщиной, было мужчиной, было девушкой, было ре¬
бенком, было животным, расплывалось пятном, снова ста¬
новилось большим и отчетливым. Под конец, повинуясь мо¬
гучему внутреннему голосу, я закрыл глаза и увидел этот
портрет внутри себя, в нем было еще больше силы и мощи.
Я хотел упасть церед ним на колени, но он был настолько
внутри меня, что я уже не мог отделить его от себя, он
словно бы стал мною.
Тут я услышал глухой, тяжелый шум, как при весенней
буре, и затрепетал от неописуемого чувства страха и велико¬
го события. Звезды мерцали передо мной и гасли, воспоми¬
нания, уносясь к первой, самой забытой поре детства и еще
дальше, к прабытию, к первым ступеням моего становления,
теснясь, проносились мимо меня. Но эти воспоминания, по***
вторявшие, казалось мне, всю мою жизнь до самых сокро¬
венных тайн, не останавливались на вчерашнем и сегодняш¬
нем дне, они шли дальше, отражали будущее, отрывали меня
от нынешнего, уносили к новым формам жизни, картины ко¬
торых были невероятно ярки и ослепительны, хотя позднее я
ни одной из них не мог по-настоящему вспомнить.
Ночью я проснулся после глубокого сна, я был в одежде
и лежал поперек кровати. Я зажег свет, чувствуя, что дол¬
жен вспомнить что-то важное, но совсем забыв предшеству¬
ют
291
ющие сну часы. Я зажег свет, и память постепенно зарабо¬
тала. Я стал искать портрет, на стене он уже не висел, на
столе его тоже не оказалось. Тут мне смутно подумалось, что
я его сжег. Или это мне померещилось, что я сжег его у себя
в ладонях и съел пепел?
Великое, судорожное беспокойство погнало меня куда-
то. Я надел шляпу, прошел через дом и улицу, как по чьему-
то велению, я бежал по улицам и площадям, словно меня нес
вихрь, я прислушивался перед темной церковью моего дру¬
га, я искал и искал чего-то в темном порыве, чего — и сам не
знал. Я прошел через предместье, ще располагались дома
терпимости, там кое-ще еще горел свет. Дальше начинались
стройки и лежали груды кирпича, отчасти присыпанные се¬
рым снегом. Коща меня, как сомнамбулу, что-то гнало по
этой пустыне, мне вспомнилась та стройка в моем родном го¬
роде, куда мой мучитель Кромер затащил меня коща-то для
нашего первого с ним расчета. Здесь передо мной стояло в се¬
рой ночи похожее здание, зияя черным дверным проемом.
Он тянул меня внутрь, я уклонялся, спотыкаясь в песке и
мусоре; тяга оказалась сильнее, мне пришлось войти
Через доски и битый кирпич я пробрался внутрь, в это
запустение с унылым запахом сырого холода и камней.
Тут меня окликнул чей-то полный ужаса голос:
— Боже мой, Синклер, откуда ты взялся?
И рядом со мною из темноты, как призрак, возник ка-
кой-то человек, какой-то худой паренек, и, прежде чем опа¬
ли мои вставшие дыбом волосы, я узнал своего школьного
товарища Кнауэра.
— Как ты попал сюда? — спросил он, совсем обезумев
от волнения. — Как смог ты найти меня?
Я не понял.
— Я не искал тебя, — сказал я оцепенело; каждое слово
давалось мне с трудом и тяжело слетало с моих мертвых,
тяжелых, словно замерзших губ.
Он вытаращил на меня глаза.
— Не искал?
— Нет. Меня потянуло сюда. Ты меня звал? Наверно,
ты звал меня. Что ты здесь делаешь? Сейчас ведь ночь.
Он судорожно обнял меня своими тонкими руками.
— Да, ночь. Скоро, наверно, утро. О Синклер, подумать
только, ты не забыл меня! Можешь простить меня?
— За что?
— Ах, я ведь был так отвратителен!
292
Только теперь мне вспомнился наш разговор. Неужели
это было четыре или пять дней назад? Мне казалось, что с
тех пор прошла целая жизнь. Но теперь я вдруг понял все.
Не только то, что произошло между нами, но и почему я
пришел сюда и что собирался сделать здесь Кнауэр.
— Ты, значит, хотел покончить с собой, Кнауэр?
Он дрожал от холода и страха.
— Да, хотел. Не знаю, сумел бы. Я хотел дождаться утра.
Я вытащил его на воздух. Первые горизонтальные поло¬
сы зари рдели в сером воздухе невыразимо холодно и без¬
радостно. Я повел его под руку. Из меня вылетали слова:
— Теперь пойдешь домой и никому ничего не скажешь!
Ты пошел неверным путем, неверным путем! И мы не
свиньи, как ты думаешь. Мы люди. Мы творим богов и
боремся с ними, и они благословляют нас.
Мы молча прошли дальше и разошлись. Коща я пришел
домой, было уже светло.
Самым лучшим из того, что мне еще подарило то время
в Шт., были часы с Писториусом у органа или перед
огнем камина. Мы вместе читали один греческий текст об
Абраксасе, он читал мне отрывки из перевода вед и учил
меня произносить священное «ом»*. Внутренне, однако,
двигала меня вперед не эта ученость, а скорее ее противо¬
положность. Благотворны были для меня продвижение к
себе самому, растущее доверие к собственным своим снам,
мыслям, догадкам и растущее знание о силе, которую я
носил в себе.
С Писториусом я объяснялся всякими способами. Сто¬
ило мне только хорошенько подумать о нем, как я мог быть
уверен, что он или привет от него не замедлит прийти. Так
же как Демиана, я мог спросить его о чем-нибудь и в его
отсутствие: мне достаточно было только твердо представить
себе его и обратить к нему в виде сгустка мыслей свои воп¬
росы. Тоща вся вложенная в вопрос духовная сила возвра¬
щалась в меня в виде ответа. Только представлял я себе не
лично Писториуса и не лично Макса Демиана, а вызывал
примерещившийся мне и запечатленный мной образ, муже-
ско-женское видение моего демона. Он жил теперь уже не в
моих снах и не в виде изображения на бумаге, а во мне, как
картина желаемого, как более высокая степень меня самого.
Своеобразным и порой смешным было положение, в ка¬
ковом оказался по отношению ко мне незадачливый само¬
293
убийца Кнауэр. С той ночи, коща я был послан ему, он
привязался ко мне как верный слуга или пес, старался под¬
чинить свою жизнь моей и слепо за мной следовал. Он при¬
ходил ко мне с самыми дикими вопросами и желаниями,
хотел увидеть духов, хотел изучить каббалу* и не верил мне,
коща я уверял его, что ничего во всех этих вещах не смыс¬
лю. Он не сомневался в моем беспредельном могуществе. Но
странно было то, что со своими: дикими и глупыми вопроса¬
ми он часто приходил ко мне именно тоща, коща требова¬
лось развязать какой-то узел во мне, и то, что его причуд¬
ливые идеи и просьбы часто подводили, подталкивали меня
к решению этой задачи. Часто он докучал мне и бывал про¬
гнан прочь, но все-таки я чувствовал: и он был послан мне,
и от него возвращалось в меня то, что я давал ему, в двойном
размере, и он был для меня вожатым или, во всяком случае,
путем. Безумные книги и сочинения, которые он мне прино¬
сил и в которых искал для себя блага, учили меня больше,
чем я в тот миг понимал.
Этот Кнауэр позднее неприметно исчез с моей дороги. С
ним никаких объяснений не требовалось. Чего нельзя ска¬
зать о Писториусе. С этим другом я к концу своего учения
в Шт. приобрел еще некий особый опыт.
И самому невинному человеку случается раз-другой в
жизни вступать в конфликт с такими прекрасными доброде¬
телями, как почтительность и благодарность. Каждому суж¬
дено сделать коща-то шаг, отделяющий его от его отца, от
его учителей, каждому суждено как-то почувствовать суро¬
вость одиночества, хотя большинство людей не выносит ее
и вскоре снова прячется за чью-то спину... От своих роди¬
телей, от их мира я не оторвался в жестокой борьбе, а отда¬
лялся и отчуждался от них медленно и почти незаметно. Я
сожалел об этом, это часто доставляло мне горькие часы при
поездках на родину; но до самого сердца это не доходило,
выдержать это было можно.
Но там, ще мы выказывали любовь и уважение не по
привычке, а по собственной воле, там, ще мы были учени¬
ками и друзьями по зову сердца, — там горек и ужасен тот
миг, коща мы вдруг догадываемся, что главная струя наше¬
го естества хочет увести нас от того, кого мы любили. Тоща
каждая мысль, отвергающая прежнего друга и учителя, на¬
правляет свое ядовитое жало в наше собственное сердце,
тоща каждый наш оборонительный удар попадает нам же в
лицо. Тоща на ум тому, кто не сомневался в своей нравст¬
294
венности, приходят, клеймя его позором, слова «вероломст¬
во» и «неблагодарность», тоща испуганная душа боязливо
бежит назад, в милые долы добродетелей детства, и никак
не может поверить, что и этот разлом должен произойти, что
и эта связь должна быть оборвана.
Мало-помалу какое-то чувство во мне восстало против то¬
го, чтобы обязательно признавать руководство за моим дру¬
гом Писториусом. Дружба с ним, его советы, его утешения,
его близость были событиями важнейших месяцев моей юно¬
сти. Через него со мной говорил Бог. Из его уст мои сны воз¬
вращались ко мне проясненными, истолкованными. Он да¬
ровал мне мужество быть самим собой... И вот я, увы, ощу¬
тил в себе медленно нарастающее сопротивление Писториу-
су. Я слышал слишком много поучений в его словах, я чувст¬
вовал, что он вполне понимает лишь какую-то часть меня.
Никаких споров, никаких сцен, никакого разрыва, даже
никакого сведения счетов с ним не было. Я сказал ему толь¬
ко одно-единственное, безобидное, в сущности, слово — но
это как раз и был тот миг, коща некая иллюзия рассыпалась
между нами цветными осколками.
Такое предчувствие угнетало меня уже некоторое время,
но отчетливым чувством оно стало однажды в воскресенье в
его старинном кабинете ученого. Мы лежали на полу перед
огнем, и он говорил о таинствах и религиях, которые изу¬
чал, о которых думал, возможное будущее которых его за¬
нимало. А мне все это казалось больше любопытным и за¬
нятным, чем жизненно важным, мне слышалась тут уче¬
ность, слышалось усталое копание в развалинах прежних
миров. И вдруг меня охватило отвращение ко всей этой ма¬
нере, к этому культу мифологий, к этой игре, к этой мозаике
из вероучений, известных нам по преданиям.
— Писториус, — сказал я вдруг с какой-то испугавшей
меня самого неожиданно вырвавшейся злостью, — расска¬
зывали бы вы мне лучше опять какой-нибудь сон, подлин¬
ный сон, который приснился вам ночью. То, что вы сейчас
говорите, это... это чертовски антикварно!
Ничего подобного он никоща от меня не слышал, и я сам
в тот же миг со стыдом и страхом почувствовал, что стрела,
пущенная мною в него и попавшая ему в сердце, взята из
его собственного арсенала, что я сейчас насмешливо, в более
острой форме упрекнул его в том же, в чем он при мне сам
иноща упрекал себя ироническим тоном.
295
Он мгновенно это уловил и сразу умолк. Я посмотрел на
него со страхом в сердце и увидел, как он страшно бледнеет.
После долгой тяжелой паузы он подложил дров в огонь
и тихо сказал:
— Вы совершенно правы, Синклер, вы умный малый. Я
избавлю вас от антикварщины.
У меня навернулись слезы, я хотел сказать ему что-то сер¬
дечное, попросить у него прощения, заверить его в своей люб¬
ви, в своей искренней благодарности. Мне приходили на ум
трогательные слова — но выговорить их я не мог. Я продол¬
жал лежать, глядел в огонь и молчал. И он тоже молчал, и вот
так мы лежали, и огонь догорал и опадал, и с каждым вы¬
стрелом пламени я чувствовал, как затухает и улетает что-
то прекрасное и глубокое, что не может вернуться.
— Боюсь, вы поняли меня неверно, — сказал я наконец
очень сдавленным, сухим, хриплым голосом. Эти глупые,
бессмысленные слова слетели с языка машинально, словно я
прочел вслух какую-то фразу из какого-то газетного романа.
— Я понял вас совершенно верно, — тихо сказал Писто¬
риус. — Вы ведь правы. — Он подождал. Затем медленно
добавил: — Насколько вообще кто-то может быть прав пе¬
ред другим.
Нет, нет, кричало все во мне, я не прав! Но сказать я
ничего не смог. Я знал, что единственным своим словцом
указал ему на очень существенную слабость, на его рану и
беду. Я коснулся того пункта, в котором он сам себе не мог
доверять. Его идеал был «антикварен», в своих исканиях он
смотрел назад, он был романтик. И вдруг я глубоко почув¬
ствовал: именно тем, чем Писториус был для меня, он не
мог быть для самого себя, именно того, что он дал мне, он
не мог дать себе самому. Он повел меня по пути, который и
его, ведущего, должен был обогнать и покинуть.
Бог весть как возникает такое слово! Я вовсе не хотел ска¬
зать ничего плохого, никакого предчувствия катастрофы у
меня не было. Я произнес что-то, чего в тот миг, коща это
произносил, сам не знал, я поддался маленькой, немножко
юмористической, немножко ехидной прихоти, и из этого вы¬
шла судьба.
О, как мне хотелось тоща, чтобы он рассердился, стал
защищаться, накричал на меня! Ничего подобного не случи¬
лось, все это должен был проделать в душе я сам. Он ус¬
мехнулся бы, если бы смог. То, что он не смог улыбнуться,
яснее всего показало мне, как глубоко я его задел.
296
И тем, что Писториус так безропотно принял удар от
меня, своего наглого и неблагодарного ученика, тем, что он
промолчал и признал мою правоту, он сделал меня ненави¬
стным себе самому, сделал мою неосторожность в тысячу
раз большей. Нанося удар, я метил в человека сильного,
обороноспособного, а оказался передо мной тихий, страда¬
ющий, беззащитный человек, который молча сдался.
Долго лежали мы перед угасавшим пламенем, где каж¬
дая огненная фигура, каждая скрюченная головешка вызы¬
вали у меня в памяти счастливые, прекрасные, богатые часы
и все больше умножали мой долг, мою вину перед Пистори-
усом. Наконец я не выдержал. Я встал и ушел. Я долго
стоял за его дверью, долго — на темной лестнице, долго
еще — на улице перед домом, ожидая, что вдруг он выйдет
за мной. Затем я пошел дальше и много часов бродил по
городу и предместьям, по парку и лесу, до самого вечера. И
тоща я впервые почувствовал каинову печать у себя на лбу.
Задумываться я начал лишь постепенно. Все мои мысли
стремились обвинить меня и защитить Писториуса. И все
кончались противоположным. Тысячи раз я был готов пожа¬
леть о своем опрометчивом слове и взять его обратно — но
правдой оно все-таки было. Лишь теперь удалось мне понять
Писториуса, выстроить перед собой всю его мечту. Мечта эта
была — стать проповедником, провозгласить новую рели¬
гию, дать новые формы возвышения, любви и поклонения,
воздвигнуть новые символы. Но не такова была его сила, не
такова его должность. Он слишком уютно устроился в про¬
шлом, слишком хорошо разбирался в минувшем, слишком
много знал о Египте, об Индии, о Митре*, об Абраксасе. Его
любовь была привязана к картинам, которые земля уже ви¬
дела, а в глубине души он, наверно, сам знал, что новое дол¬
жно быть новым и другим, что оно бьет ключом из свежей по¬
чвы, а не черпается из коллекций и библиотек. Должность
его состояла, возможно, в том, чтобы помогать людям, ведя
их к самим себе, как это он сделал со мной. Но не в том, что¬
бы давать им неслыханное, давать новых богов.
И тут меня вдруг обожгло озарение — для каждого есть
своя «должность», но ни для кого нет такой, которую он мог
бы сам выбрать, описать и исполнять, как ему вздумается.
Неверно желать новых богов, совершенно неверно желать
что-то дать миру! Никакой, никакой, никакой обязанности
не существует для пробудившихся людей, кроме одной: ис¬
кать себя, укрепляться внутри себя, нащупывать свой собст¬
297
венный путь вперед, куда бы он ни привел... Это глубоко по¬
трясло меня, и таков был для меня итог пережитого. Прежде
я часто играл с образами будущего, мечтал о ролях, которые
могли быть уготовлены мне, — поэта, может быть, или про¬
рока, или мага, или еще кого-нибудь. Все это был вздор. Я не
для того пришел в мир, чтобы сочинять стихи, чтобы пропо¬
ведовать, чтобы писать картины, ни я, ни кто-либо другой не
приходил в мир для этого. Все это получалось лишь попутно.
Истинное призвание каждого состоит только в одном —
прийти к самому себе. Кем бы он под конец ни стал, поэтом,
безумцем или пророком, — это не его дело и в конечном сче¬
те неважно. Его дело — найти собственную, а не любимую
судьбу и отдаться ей внутренне, безраздельно и непоколеби¬
мо. Все прочее — это половинчатость, это попытка улизнуть,
это уход назад, в идеалы толпы, это приспособленчество и
страх перед собственной сутью. Во всей своей ужасности и
священности вставала передо мной эта новая картина, о кото¬
рой я не раз догадывался, которую, может быть, часто уже
облекал в слова, но которую действительно увидел только те¬
перь. Я — это бросок природы, бросок в неизвестность, мо¬
жет быть, в новое, может быть, в никуда, и сделать этот бро¬
сок из бездны действенным, почувствовать в себе его волю и
полностью претворить ее в собственную — только в этом мое
призвание. Только в этом!
Много одиночества я уже вкусил. Теперь я почувствовал,
что есть более глубокое одиночество и что оно неизбежно.
Я не пытался умиротворить Писториуса. Мы остались
друзьями, но отношения изменились. Лишь один-единствен-
ный раз мы говорили об этом, вернее, говорил только он.
Он сказал:
— У меня есть желание стать священнослужителем, вы
это знаете. Больше всего мне хотелось стать служителем той
новой религии, которую мы предчувствуем. Я не смогу им
стать — я это знаю и знал, полностью не признаваясь в этом
себе, уже давно. Совершать я буду другие священнодейст¬
вия, может быть, на органе, может быть, еще как-нибудь.
Но я всеща должен быть окружен чем-то, что в моем ощу¬
щении прекрасно и священно, органная музыка и таинство,
символ и миф — мне это нужно, и я от этого не отступлюсь.
В этом моя слабость. Было бы выше, было бы правильнее
просто отдаться на волю судьбы без всяких притязаний. Но
я так не могу; это — единственное, чего я не могу сделать.
Может быть, вы коща-нибудь сможете. Это трудно, это
298
единственная на свете действительно трудная вещь, мой
мальчик. Я часто об этом мечтал, но я не могу быть таким
нагим и одиноким, я тоже бедная жалкая тварь, которой
нужно немного тепла и пищи, а иноща и почувствовать бли¬
зость себе подобных. Кто действительно не хочет ничего,
кроме своей судьбы, тому подобных нет, тот совершенно
один, и вокруг него только холодное космическое простран¬
ство. Это, знаете ли, Иисус в Гефсиманском саду. Бывали
на свете мученики, которые с радостью шли на крест, но
даже они не были героями, не были освобождены, даже они
хотели чего-то привычного им и родного, у них были образ¬
цы, у них были идеалы. Кто хочет только судьбы, у того
уже нет ни образцов, ни идеалов, ничего дорогого, ничего
утешительного у него нет! И этим путем надо было бы, в
сущности, идти. Такие люди, как я и вы, довольно одиноки,
но у каждого из нас есть еще другой, у нас есть тайное
удовлетворение, оттого что мы иные, что восстаем, что хо¬
тим необыкновенного. Это тоже должно отпасть, если чело¬
век хочет пройти весь путь целиком. Он еще и не должен
хотеть быть революционером, быть образцом, быть мучени¬
ком. Это и представить себе нельзя...
Да, представить это себе нельзя было. Но можно было об
этом мечтать, это предчувствовать, об этом догадываться.
Иной раз, коща выпадали совсем тихие часы, я что-то из это¬
го ощущал. Тоща я заглядывал в себя и глядел своей судьбе
в открытые настежь глаза. Они могли быть полны мудрости,
они могли быть полны безумия, они могли излучать любовь
или глубокую злобу, это не имело значения. Ничего из этого
нельзя было выбирать, ничего нельзя было хотеть. Хотеть
можно было только себя, только своей судьбы. На каком-то
отрезке пути туда Писториус послужил мне вожатым.
В те дни я метался как слепой, во мне бушевала буря,
каждый шаг был опасностью. Я не видел впереди ничего,
кроме бездонного мрака, в котором терялись и тонули все
пути, какими я шел до сих пор. И в душе я видел образ
вожатого, он был похож на Демиана, и в глазах его читалась
моя судьба.
Я написал на листке бумаги: «Вожатый покинул меня. Я
в потемках. Я не могу сделать ни шагу один. Помоги мне!»
Я хотел послать это Демиану. Но не послал; каждый раз,
коща я хотел так поступить, это казалось пошлым и неле¬
пым. Но свою маленькую молитву я запомнил наизусть и
299
часто твердил ее про себя. Она сопровождала меня постоян¬
но. Я начал догадываться, что такое молитва.
Мое учение в школе кончилось. На каникулах мне надо
было совершить путешествие, как то задумал отец, а потом
надо было поступить в университет. На какой факультет —
я не знал. Мне разрешили заниматься один семестр фило¬
софией. Все другое меня бы тоже устроило.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГОСПОЖА ЕВА
Однажды на каникулах я подошел к дому, ще несколь¬
ко лет назад жил Макс Демиан с матерью. В саду гуляла
старуха, я заговорил с ней и узнал, что дом принадлежит
ей. Я спросил о семье Демиана. Она хорошо ее помнила.
Однако не знала, ще они живут теперь. Заметив мой
интерес, она повела меня в дом, достала кожаный альбом
и показала мне фотографию матери Демиана. Я не помнил
ее. Но коща я взглянул на маленький портрет, сердце у
меня замерло... Это было мое видение! Это была она,
высокого, почти мужского роста женщина, похожая на
своего сына, в лице которой было что-то материнское,
что-то строгое, что-то глубоко страстное, красивая и со¬
блазнительная, красивая и неприступная, демон и мать,
судьба и возлюбленная. Это была она!
Меня словно громом поразило, когда я узнал, что мое
видение живет на земле! Существовала женщина, обладав¬
шая такой внешностью, носившая черты моей судьбы! Где
она? Где?.. И она мать Демиана!
Вскоре после этого я отправился в свое путешествие.
Странное путешествие! Я без передышки переезжал из од¬
ного места в другое, как вздумается, все в поисках этой
:кенщины. Бывали дни, коща я встречал сплошь фигуры,
которые напоминали ее, походили на нее и заманивали меня
на улицы чужих городов, на вокзалы, в поезда, как в запу¬
танных снах. Бывали другие дни, коща я понимал, как бес¬
полезны мои поиски; тоща я бездеятельно сидел ще-нибудь
в парке, в гостиничном саду, в зале ожидания и, вглядыва¬
ясь в себя, пытался оживить в себе этот образ. Но он стал
зоо
теперь робким и мимолетным. Я потерял сон, только в по¬
ездах, проезжая через незнакомые места, я, случалось, за¬
дремывал минут на пятнадцать. Однажды в Цюрихе ко мне
привязалась какая-то женщина, смазливая, нагловатая ба¬
бенка. Я старался не смотреть на нее и пошел дальше, слов¬
но ее вообще не было. Скорей бы я умер на месте, чем хотя
бы на час уделил внимание другой женщине.
Я чувствовал, что моя судьба тянет меня, что свершение
близко, и сходил с ума от нетерпения, от неспособности что-
то предпринять. Однажды на вокзале, кажется, это было в
Инсбруке, я увидел в окне отходящего поезда фигуру, на¬
помнившую мне ее, и был несчастен несколько дней. И
вдруг фигура эта снова явилась мне ночью во сне, я про¬
снулся с постыдным и удручающим чувством бессмысленно¬
сти моей погони и поехал прямым путем назад, домой.
Через несколько дней я был зачислен в Г-ский универси¬
тет. Все разочаровало меня. Курс по истории философии,
который я слушал, был так же бессодержателен и банален,
как поведение юнцов студентов. Все делалось по шаблону,
один подражал другому, и веселое возбуждение на мальчи¬
шеских лицах выглядело огорчительно пустым и напуск¬
ным! Но я был свободен, весь мой день принадлежал мне,
я жил тихо и славно в старых каменных стенах предместья,
и на столе у меня лежало несколько томиков Ницше. С ним
я и жил, чувствуя одиночество его души, догадываясь о
судьбе, которая безостановочно двигала им, страдал с ним
и был счастлив, что существовал человек, который так не¬
преклонно шел своим путем.
Как-то поздно вечером я слонялся по городу при осеннем
ветре, слушая, как поют в кабачках студенты. Из открытых
окон вылетали клубы табачного дыма и мощным потоком
неслось пенье, громкое и стройное, но бескрылое и безжиз¬
ненно-однозвучное.
Я стоял на углу и слушал, из двух пивных лилось в ночь
добросовестно заученное веселье молодости. Везде совмест¬
ность, везде скученность, везде отлынивание от судьбы и
бегство в теплую стадность!
Сзади меня медленно прошли двое. Я услышал отрывок
из их разговора.
— Разве это не похоже на сборище мужской части моло¬
дежи в какой-нибудь негритянской деревне? — сказал один
из них. — Все точь-в-точь, даже татуировка еще в моде. Вот
вам молодая Европа.
301
Голос звучал поразительно знакомо, кого-то напоминая.
Я пошел за ними в темную улицу. Один был японец, ма¬
ленький и изящный, я увидел, как блеснуло под фонарем
его желтое улыбающееся лицо.
Знакомый голос вновь произнес:
— Впрочем, у вас в Японии тоже будет не лучше. Люди,
которые не бегут за стадом, везде редки. Есть такие и здесь.
От каждого слова меня пробирал радостный ужас. Я
знал говорившего: это был Демиан.
Сквозь ветреную ночь я следовал за ним и японцем по
темным улицам, слушал их разговоры и наслаждался звуча¬
нием Демианова голоса. У него была прежняя интонация, в
нем были прежние, прекрасные уверенность и спокойствие,
и у него была власть надо мной. Теперь все было хорошо.
Я нашел его.
В конце одной из улиц предместья японец попрощался и
отпер входную дверь. Демиан пошел обратно, я остановился
и стал ждать его посреди улицы. С бьющимся сердцем смот¬
рел я, как он идет ко мне прямой, упругой походкой, в ко¬
ричневом прорезиненном плаще, с висящей у локтя тросточ¬
кой. Он подошел ко мне, не ускоряя своего равномерного
шага, снял шляпу и показал мне свое прежнее светлое лицо с
решительным ртом и особым свечением широкого лба.
— Демиан! — воскликнул я.
Он протянул мне руку.
— Значит, ты здесь, Синклер! Я ждал тебя.
— Ты знал, что я здесь?
— Не то чтобы знал, но надеялся, безусловно. Увидел я
тебя только сегодня вечером, ты же все время шел за нами.
— Значит, ты сразу узнал меня?
— Конечно. Ты, правда, изменился. Но ведь печать на
тебе есть.
— Печать? Что за печать?
— Мы называли ее раньше каиновой печатью, если ты
еще помнишь. Это наша печать. На тебе она всеща была,
потому я и стал твоим другом. Но теперь она стала яснее.
— Я этого не знал. Или все-таки знал. Я как-то нарисо¬
вал твой портрет, Демиан, и удивился, что он похож и на
меня. Это из-за печати?
— Конечно. Хорошо, что ты здесь! Моя мать тоже обра¬
дуется.
Я испугался.
— Твоя мать? Она здесь? Она же совсем не знает меня.
302
— О, она наслышана о тебе. Она узнает тебя, даже если
я не скажу, кто ты... Ты долго не давал знать о себе.
— Да, мне часто хотелось написать тебе, но не получа¬
лось. С некоторых пор я чувствовал, что скоро найду тебя.
Я ждал этого каждый день.
Он взял меня под руку и пошел со мной. От него шел
покой, который переходил в меня. Вскоре мы болтали, как
прежде. Мы вспоминали школьную пору, занятия для кон¬
фирмующихся, даже ту неудачную встречу на каникулах —
только о самой ранней и тесной связи между нами, об исто¬
рии с Францем Кромером, не упоминалось и теперь.
Незаметно мы втянулись в странный и пророческий раз¬
говор. Как бы в продолжение беседы Демиана с японцем мы
поговорили о студенческой жизни, а от этой темы перешли
к другой, казалось далекой от нее; но в словах Демиана все
связалось воедино.
Он говорил о духе Европы и о примете этой эпохи. По¬
всюду, сказал он, царят сплоченность и стадность, но не
свобода и не любовь. Вся эта объединенность, от студенче¬
ской корпорации, от певческого кружка до государств, вы¬
нужденна, вызвана страхом, робостью, растерянностью,
внутри она прогнила, устарела, близка к распаду.
— Единство, — сказал Демиан, — прекрасная вещь. Но
то, что цветет сейчас пышным цветом, — вовсе не единство.
Оно возникнет заново, возникнет из знания друг о друге
отдельных людей, и на какое-то время преобразует мир.
Сейчас единство сводится к стадности. Люди бегут друг к
другу, потому что боятся друг друга, — господа к господам,
рабочие к рабочим, ученые к ученым! А почему они боятся?
Боится только тот, у кого нет согласия с самим собой. Они
боятся, потому что никоща не признавали самих себя. Это
единство сплошь тех, кто боится неведомого в себе самом!
Они все чувствуют, что законы их жизни уже неверны, что
они живут по старым скрижалям, что ни их религии, ни их
нравственность — ничто не соответствует тому, что нам нуж¬
но. Сто и больше лет Европа только изучала науки и стро¬
ила фабрики! Они точно знают, сколько граммов пороху
нужно, чтобы убить человека, но они не знают, как молить¬
ся Богу, не знают даже, как повеселиться хотя бы час. По¬
смотри на такой студенческий кабачок! Или на увеселитель¬
ное заведение, куда приходят богатые! Безнадежно!.. Доро¬
гой Синклер, из всего этого ничего радостного не может
выйти. Эти люди, которые так боязливо объединяются, по¬
303
лны страха и полны злобы, ни один не доверяет другому.
Они цепляются за идеалы, переставшие быть таковыми, и
побьют камнями всякого, кто провозгласит какой-нибудь
новый идеал. Я чувствую, что будут столкновения. Они на¬
чнутся, поверь мне, они скоро начнутся! Конечно, они не
«улучшат» мир. Убьют ли рабочие своих фабрикантов, бу¬
дут ли Россия и Германия стрелять друг в друга — поменя¬
ются только собственники. Но все-таки это будет не напрас¬
но. Это покажет негодность нынешних идеалов, сметет бо¬
гов каменного века. Этот мир в его теперешнем виде хочет
умереть, хочет погибнуть, и так и будет.
— А что станет при этом с нами? — спросил я.
— С нами? О, может быть, мы тоже погибнем. Убить
можно ведь и нашего брата. Только с нами так не покончить.
Вокруг того, что от нас останется, или вокруг тех из нас,
кто выживет, сосредоточится воля будущего. Проявится во¬
ля человечества, которую перекрикивала своей ярмаркой
техники и науки наша Европа. И тоща окажется, что воля
человечества ни в чем не совпадает с волей нынешних объ¬
единений, волей государств и народов, кружков и церквей.
Нет, то, чего хочет от человека природа, записано в отдель¬
ных людях, в тебе и мне. Это было записано в Иисусе, было
записано в Ницше. Для этих единственно важных тече¬
ний — которые, конечно, каждый день могут видоизменять¬
ся — найдется место, коща нынешние объединения рухнут.
Было поздно, коща мы остановились перед каким-то са¬
дом у реки.
— Здесь мы живем, — сказал Демиан. — Приходи к
нам! Мы очень ждем тебя.
Радостно шел я сквозь ночь, которая стала прохладной,
к своему дому. По всему городу шумели и, пошатываясь,
расходились студенты. Я часто замечал несходство между
их смешной веселостью и моей одинокой жизнью, то с чув¬
ством своей обделенности, то с иронией. Но никоща еще не
чувствовал я так, как сегодня, спокойно и с тайной силой,
сколь мало это меня касается, сколь далек от меня этот мир,
до чего он мне чужд. Я вспоминал чиновников своего род¬
ного города, старых, почтенных людей, которые носились с
воспоминаниями о своих забулдыжных семестрах как с па¬
мятью о райском блаженстве и превозносили ушедшую
«вольность» своих студенческих лет примерно так же, как
поэты или другие романтики боготворят детство. Везде одно
и то же! Везде искали они «вольность» и «счастье» ще-то
304
позади — только от страха, что им могут напомнить об их
собственной ответственности и призвать их идти собствен¬
ным путем. Несколько лет пили и веселились, а потом под¬
жали хвост и стали серьезными деятелями на государствен¬
ной службе. Да, дела наши никуда, никуда не годились, и
эта студенческая глупость была менее глупой и менее сквер¬
ной, чем сотни других.
Коща я, однако, добрался до своего далекого дома и лег
в постель, все эти мысли рассеялись и все мои помыслы
ожидающе сосредоточились на великом обещании, которое
дал мне минувший день. Как только я захочу, хоть завтра,
я увижу мать Демиана. Пусть студенты бражничают, пусть
мир никуда не годится и ждет своей гибели — какое мне до
этого дело? Я жду лишь одного — что моя судьба выйдет
мне навстречу в новом облике.
Я крепко спал до позднего утра. Новый день наступил
для меня как праздник, таких торжественных дней не было
у меня с рождественских праздников моего детства. Я был
полон внутреннего беспокойства, но никакого страха не ис¬
пытывал. Я чувствовал, что наступил важный для меня
день, я видел и ощущал мир вокруг себя преображенным,
ожидающим, полным значений, торжественным, даже на¬
крапывавший осенний дождь был прекрасен, тих и по-праз¬
дничному полон серьезно-радостной музыки. Впервые
внешний мир звучал в лад моему внутреннему миру — а
тоща наступает праздник души, тоща стоит жить. Ни один
дом, ни одна витрина, ни одно лицо на улице мне не меша¬
ли, все было так, как оно должно быть, но не носило пустого
облика обыденности и привычности, а было ожидающей
природой, с благоговейной готовностью принимало свою
судьбу. Так видел я мир ребенком в утро большого празд¬
ника, Рождества или Пасхи. Я не знал, что этот мир может
быть еще так прекрасен. Я привык жить собой и мириться
с тем, что вкус ко всему внешнему у меня пропал, что утрата
блестящих красок неизбежна с утратой детства и что за сво¬
боду и мужество души надо как бы платить отказом от этого
прелестного блеска. Теперь я с восхищением увидел, что все
это было только засыпано и затемнено и что обретший сво¬
боду и отказавшийся от детского счастья тоже может видеть
сияние мира и с трепетом глядеть на него глазами ребенка.
Наступил час, коща я снова нашел тот сад в предместье,
ще простился с Демианом прошедшей ночью. За высокими,
серыми от дождя деревьями скрывался небольшой дом, свет¬
305
лый и уютный, с высокими кустами цветов за большой стек¬
лянной стеной, с темными стенами комнат, с картинами и ря¬
дами книг за блестящими окнами. Входная дверь вела прямо
в обогретое зальце, молчаливая старая служанка, черная, в
белом переднике, впустила меня и сняла с меня плащ.
Она оставила меня в зальце одного. Я огляделся и сразу
же окунулся в свои видения. Вверху, на темной деревянной
стене, над дверью, висела застекленная, в черной раме, хо¬
рошо знакомая мне картина — моя птица с золотисто-жел-
той ястребиной головой, выбирающаяся из скорлупы мира.
Пораженный, я остановился на месте; на сердце у меня ста¬
ло так радостно и так тяжело, словно все, что я когда-либо
делал или испытывал, вернулось ко мне в этот миг как ответ
и исполнение желаний. С быстротой молнии промелькнуло
у меня в душе множество картин: я увидел родной отцов¬
ский дом со старинным каменным гербом над аркой, маль¬
чика Демиана, рисующего этот герб, себя самого мальчиком,
попавшим в паутину своего врага Кромера, себя самого под¬
ростком, чья душа запуталась в сети собственных нитей,
рисующим в тишине школьной каморки птицу моей тос¬
ки, — и все, все вплоть до этого мига снова зазвучало во
мне, получило во мне подтверждение, ответ, одобрение.
Увлажнившимися глазами смотрел я на эту картину и
читал у себя в душе. Но вдруг мой взгляд опустился: под
картиной в открытых дверях стояла рослая женщина в тем¬
ном платье. То была она.
Я не мог выговорить ни слова. Эта красивая, почтенная
женщина, чье лицо, подобно лицу ее сына, было лишено
примет времени и возраста и полно одухотворенной воли,
приветливо улыбнулось мне. Ее взгляд был исполнением
желаний, ее приветствие означало возвращение домой. Я
молча протянул ей руки. Она схватила обе твердыми, теп¬
лыми руками.
— Вы Синклер. Я вас сразу узнала. Добро пожаловать!
Голос у нее был низкий и теплый, я пил его как сладкое
вино. И тут я взглянул вверх, посмотрел в ее тихое лицо, в
черные загадочные глаза, на свободный, царственный лоб,
отмеченный той печатью.
— Как я рад! — сказал я ей и поцеловал ее руки. — Мне
кажется, я всю жизнь был в пути — и вот я пришел домой.
Она улыбнулась по-матерински.
306
— Прийти домой не дано, — сказала она приветливо. —
Но там, ще дружественные пути сходятся, весь мир на ка-
кой-то час уподобляется дому.
Она высказала то, что я чувствовал на пути к ней. Ее
голос, да и ее слова походили на голос и слова сына и все-
таки были совсем другими. Все было более зрелым, более
теплым, более естественным. Но так же как Макс когда-то
ни на кого не производил впечатления мальчика, так и мать
его совсем не походила на мать взрослого сына, так много
молодого и милого было в дыхании ее лица и волос, такой
тугой и гладкой была ее золотистая кожа, таким цветущим
был ее рот. Еще царственнее, чем в моих видениях, стояла
она передо мной, и ее близость была счастьем любви, ее
взгляд был исполнением желаний.
Таков, значит, был новый облик, в котором мне предста¬
ла моя судьба, от нее веяло уже не суровостью, не одиночест¬
вом, а зрелостью и радостью! Я не принимал никаких реше¬
ний, не давал никаких обетов — я достиг цели, достиг на сво¬
ем пути такой возвышенности, откуда далеко и великолепно
открылся дальнейший путь, устремленный к обетованным
землям, осененный кронами близкого счастья, освеженный
близкими садами всяческих радостей. Что бы со мной ни слу¬
чилось, я был счастлив знать, что в мире есть эта женщина,
счастлив пить ее голос и дышать ее близостью. Пусть она бу¬
дет мне кем угодно, матерью, возлюбленной, богиней, —
только бы была, только бы мой путь был близок ее пути!
Она указала на мою картину с ястребом.
— Ничем не могли вы обрадовать нашего Макса больше,
чем этой картиной, — сказала она задумчиво. — И меня
тоже. Мы ждали вас и, когда пришла картина, поняли, что
вы находитесь на пути к нам. Когда вы еще были маленьким
мальчиком, Синклер, мой сын, как-то придя из школы, ска¬
зал: «Есть у нас один мальчик с печатью на лбу, он должен
стать моим другом». Это были вы. Вам было нелегко, но мы
в вас верили. Однажды, приехав домой на каникулы, вы
встретились с Максом. Вам было тоща лет шестнадцать.
Макс рассказал мне об этом...
Я прервал ее:
— Подумать, он сказал вам об этом! То было самое не¬
счастное для меня время!
— Да, Макс сказал мне: «Теперь у Синклера впереди
самое трудное. Он делает еще одну попытку убежать в объ-
единенность, он даже захаживает в кабаки; но ему это не
307
удастся. Его печать закутана, но втайне она горит». Разве
не так оно было?
— О да, так оно было, в точности так. Затем я нашел Бе¬
атриче, а потом наконец у меня опять появился вожатый.
Только тоща мне стало ясно, почему мое детство было так
связано с Максом, почему я не мог освободиться от него. Ми¬
лая госпожа... милая мать, я тоща часто думал, что нужно
покончить с собой. Неужели для каждого этот путь так тру¬
ден?
Она провела ладонью по моим волосам, легко, воздушно.
— Родиться всеща трудно. Вы знаете, птица с трудом
выбирается из яйца. Вспомните прошлое и спросите себя:
так ли уж труден был ваш путь? Только труден? Не был ли
он и прекрасен? Вы могли бы назвать более прекрасный,
более легкий?
Я покачал головой.
— Было трудно, — сказал я как во сне, — было трудно,
пока не пришла мечта.
Она кивнула и проницательно взглянула на меня.
— Да, надо найти свою мечту, тогда путь становится
легким. Но не существует мечты вековечной, каждую сме¬
няет какая-то новая, и задерживать нельзя ни одну.
Я сильно испугался. Уж не предостережение ли это? Уж
не отпор ли? Но все равно, я был готов идти, куда она
поведет меня, и о цели не спрашивать.
— Не знаю, — сказал я, — как долго проживет моя
мечта. Я хотел бы, чтобы она была вечной. Под изображе¬
нием птицы моя судьба приняла меня, как мать и как воз¬
любленная. Я принадлежу ей, и никому больше.
— До тех пор пока эта мечта — ваша судьба, вы должны
быть верны ей, — подтвердила она серьезно.
Печаль охватила меня и страстное желание умереть в
этот зачарованный час. Я чувствовал, что у меня неудержи¬
мо навертываются слезы — как давно я не плакал! Я резко
отвернулся от нее, подошел к окну и невидящими глазами
посмотрел вдаль поверх цветов в горшках.
Позади себя я слышал ее голос, он звучал спокойно, но
был полон нежности, как до краев наполненная вином чаша.
— Синклер, вы дитя! Ведь ваша судьба вас любит. Ког¬
да-нибудь она будет принадлежать вам целиком, как вы меч¬
таете, если вы останетесь ей верны.
Я сделал над собой усилие и снова повернул к ней лицо.
Она подала мне руку.
308
— У меня есть несколько друзей, — сказала она улыба¬
ясь, — очень немного совсем близких друзей, они называют
меня «госпожа Ева». Вы тоже можете называть меня так,
если хотите.
Она подвела меня к двери, открыла ее и указала на сад.
— Там вы найдете Макса.
Я стоял под высокими деревьями, оглушенный и потря¬
сенный, не зная, больше ли во мне трезвости, чем когда-ли¬
бо, или мечтательности. С веток тихо капало. Я медленно
вошел в сад, далеко растянувшийся вдоль реки. Наконец я
нашел Демиана. Он стоял в открытой беседке, обнаженный
по пояс, и упражнялся в боксе с помощью подвешенного
мешочка с песком.
Я с удивлением остановился. Демиан выглядел велико¬
лепно: широкая грудь, крепкая, мужественная голова, под¬
нятые руки с напряженными мышцами были сильны и хо¬
роши, из бедер, плеч, плечевых суставов движения били
ключом.
— Демиан! — крикнул я. — Что это ты делаешь?
Он весело засмеялся.
— Упражняюсь. Я обещал бой этому маленькому япон¬
цу. Малый ловок, как кошка, и, конечно, так же коварен.
Но со мной он не справится. Этим маленьким унижением я
должен ему отплатить.
Он надел рубашку и пиджак.
— Ты уже был у матери? — спросил он.
— Да. Демиан, какая у тебя замечательная мать! Госпо¬
жа Ева. Это имя очень подходит ей, она как всеобщая мать*.
Он задумчиво посмотрел мне в лицо.
— Ты уже знаешь ее имя? Можешь гордиться, мальчик!
Ты первый, кому она сказала его в первый же час.
С этого дня я ходил к ним в дом, как сын и брат, но и
как любящий. Коща я закрывал за собой калитку, когда я
только издали видел высокие деревья сада, я был богат и
счастлив. По ту сторону была «действительность», снаружи
были улицы и дома, люди и учреждения, библиотеки и
аудитории — а здесь были любовь и душа, здесь жили сказ¬
ка и мечта. Однако мы вовсе не отгораживались от мира, в
своих мыслях и разговорах мы часто жили в самой его гуще,
только на другом поле, от большинства людей нас отделяли
не границы, а только другой способ видеть. Наша задача
состояла в том, чтобы служить в мире неким островом, не¬
ким, может быть, образцом, но, во всяком случае, возвеще¬
309
нием другой возможности жить. Я, давно одинокий, узнал
общность, которая возможна между людьми, изведавшими
полное одиночество. Никоща больше меня не влекло назад,
к застольям счастливых, к праздникам веселых, никогда
больше я не испытывал ни зависти, ни тоски по родному,
видя объединенность других. И постепенно я был посвящен
в тайну тех, кто носит «печать».
Нас, отмеченных печатью, мир мог по праву считать
странными, даже сумасшедшими и опасными. Мы были
пробудившимися или пробуждающимися, и наши стремле¬
ния сводились ко все более совершенному* бодрствованию,
тоща как стремления других, их поиски счастья сводились
к тому, чтобы потеснее связать свои мнения, свои идеалы и
обязанности, свою жизнь и свое счастье со счастьем стада.
Там тоже были стремления, там тоже были сила и величие.
Но в то время как мы, отмеченные печатью, представляли,
по нашему мнению, волю природы к новому, к единичному
и будущему, другие жили с волей к неизменности. Для них
человечество (которое они любили, как и мы) было чем-то
готовым, что надо сохранять и защищать. Для нас челове¬
чество было далеким будущим, на пути к которому мы все
находимся, облик которого никому не известен, законы ко¬
торого нище не записаны.
Кроме госпожи Евы, Макса и меня, к нашему кружку, в
большей или меньшей близости к нему, принадлежали еще
некоторые ищущие самого разного рода. Иные из них шли
особыми тропами, ставили перед собой особенные цели, дер¬
жались особых мнений и особенных понятий о долге, среди
них были астрологи и каббалисты, был приверженец графа
Толстого, были всякие тонкие, робкие, ранимые люди, сто¬
ронники новых сект, поборники индийских упражнений, ве¬
гетарианцы и прочие. С ними всеми у нас не было в духов¬
ном отношении по сути ничего общего, кроме уважения, ко¬
торое питал каждый к тайной мечте другого. Ближе были
нам другие, интересовавшиеся человеческими поисками бо¬
гов и идеалов в прежние времена и напоминавшие мне сво¬
ими интересами моего Писториуса. Они приносили с собой
книги, переводили нам с древних языков тексты, показыва¬
ли нам изображения древних символов и обрядов, учили нас
пониманию того, что весь имевшийся до сих пор у челове¬
чества набор идеалов состоял из видений бессознательной
души, видений, в которых человечество на ощупь и наугад
пробивалось к возможностям своего будущего. Так прошли
310
мы через поразительный, тысячеголовый сонм богов древ¬
него мира к заре христианства. Нам стали известны призна¬
ния одиноких праведников и перемены в религиях при их
переходе от народа к народу. И из всего, собранного нами,
рождалась у нас критика нашей эпохи и нынешней Европы,
которая ценой огромных усилий создала новое оружие че¬
ловечества, но в итоге пришла к глубокому, а под конец и
вопиющему духовному запустению. Ибо она приобрела весь
мир, чтобы потерять из-за этого свою душу.
Тут тоже были приверженцы и поборники определенных
надежд и учений. Были буддисты, желавшие обратить в
свою веру Европу, были толстовцы, были другие вероиспо¬
ведания. Мы в своем узком кругу слушали всех и все эти уче¬
ния принимали только как символы. На нас, отмеченных пе¬
чатью, не лежала забота о будущем. Нам каждое вероиспове¬
дание, каждое вероучение уже заранее казались мертвыми и
бесполезными. Свой долг и свою судьбу мы видели в одном-
единственном: каждый из нас должен был настолько стать
самим собой, настолько соответствовать и подчиняться про¬
бивающемуся в нем естеству, чтобы неведомое будущее нашло
нас готовыми ко всему, что бы оно ни вздумало принести.
Ведь все мы, высказываясь или не высказываясь, ясно
чувствовали, что уже на пороге обновление, уже близок
крах нынешнего. Демиан иногда говорил мне:
— Что будет — вообразить невозможно. Душа Европы —
зверь, который бесконечно долго был связан. Коща он осво¬
бодится, первые его порывы будут не самыми приятными.
Но пути и окольные пути не имеют значения, лишь бы вы¬
шла наружу та истинная нужда души, которую так давно и
упорно замалчивали и заглушали. Тоща настанет наш день,
тогда мы понадобимся, но не как вожди и новые законодате¬
ли — до новых законов нам не дожить, — а как согласные,
как готовые подняться и стать там, куда зовет судьба. Пони¬
маешь, все люди готовы совершить невероятное, коща под
угрозой оказываются их идеалы. Но никто не отзовется, ког¬
да новый идеал, новый, может быть, опасный и жуткий по¬
рыв только начнет подавать голос. Теми немногими, кто от¬
зовется тоща и поднимется, будем мы. Ибо нам это на роду
написано — как было на роду написано Каину вызывать
страх и ненависть и гнать тогдашнее человечество из идилли¬
ческого мирка в опасные дали. Все люди, оказавшие воздей¬
ствие на поступь человечества, все без различия были спо¬
собны к такому воздействию лишь потому, что с готовностью
311
принимали свою судьбу. Это можно сказать о Моисее и Буд¬
де, это можно сказать о Наполеоне и Бисмарке. Какой волне
человек служит, с какого полюса им управляют, это ему вы¬
бирать не дано. Если бы Бисмарк понимал социал-демокра¬
тов и на них ориентировался, он был бы умным господином,
но не был бы человеком судьбы. Так же обстояло дело с На¬
полеоном, с Цезарем, с Лойолой, со всеми! Это всегда надо
представлять себе биологически и исторически! Коща пере¬
вороты на земной поверхности бросили водяных животных
на сушу, а наземных в воду, совершить эту новую, неслыхан¬
ную перемену, приспособиться к новому и спасти свой вид
смогли только готовые принять свою судьбу особи. Были ли
это те же особи, что прежде выделялись в своем виде как кон¬
серваторы и охранители, или, напротив, оригиналы и рево¬
люционеры, мы не знаем. Они проявили готовность и потому
смогли спасти свой вид для нового развития. Это мы знаем.
Поэтому и проявим готовность.
При таких разговорах госпожа Ева часто присутствовала,
но сама в подобном роде не говорила. Она была для каждого
из нас, кто выражал свои мысли, слушателем и отголоском,
полным доверия, полным понимания, казалось, все эти мыс¬
ли идут от нее и возвращаются к ней назад. Сидеть близ нее,
порой слышать ее голос и разделять окружавшую ее атмос¬
феру зрелости и душевности было для меня счастьем.
Она сразу чувствовала, коща во мне происходила какая-
нибудь перемена, какое-то омрачение или обновление. Мне
казалось, что мои сны внушены ею. Я ей часто рассказывал
их, и они были для нее понятны и естественны, не сущест¬
вовало странностей, которых она не могла бы понять вер¬
ным чутьем. Одно время я видел сны, как бы воспроизво¬
дившие наши дневные разговоры. Мне снилось, что весь
мир в смятении, а я, один или с Демианом, напряженно жду
великой судьбы. Судьба оставалась скрытой, но каким-то
образом носила черты госпожи Евы: быть избранным ею
или отвергнутым — в этом состояла судьба.
Иноща она говорила с улыбкой:
— Ваш сон неполон, Синклер, вы забыли самое лучшее...
И бывало, я тоща все вспоминал и не понимал, как я мог
это забыть.
Порой меня охватывало недовольство и мучило желание.
Я думал, что у меня больше не хватит сил видеть ее рядом
с собой и не заключить в объятья. И это тоже она замечала
312
сразу. Когда я однажды несколько дней не приходил, а по¬
том смущенно явился, она отвела меня в сторону и сказала:
— Не надо держаться за желания, в которые вы не вери¬
те. Я знаю, чего вы желаете. Вы должны научиться отказы¬
ваться от этих желаний или желать вполне и по-настоящему.
Если вы сумеете попросить так, что в душе будете вполне
уверены в исполнении своего желания, то оно и исполнится.
Л вы желаете и тут же в этом раскаиваетесь, и потому бои¬
тесь. Все это надо преодолеть. Я расскажу вам одну сказку.
И она рассказала мне о юноше, влюбленном в звезду. Он
стоял у моря, простирал руки и взывал к звезде, он мечтал
о ней и обращал к ней свои мысли. Но он знал или полагал,
что знает: человек не может обнять звезду. Он считал, что
это его судьба — любить светило без надежды на исполне¬
ние желания, и на этой мысли построил всю свою жизнь как
поэму о покорности судьбе и немом, непрестанном страда¬
нии, которое сделает его лучше и чище. Но все его помыслы
были направлены на звезду. Однажды он снова стоял ночью
у моря, на высоком утесе, и смотрел на звезду и сгорал от
любви к ней. И в миг величайшей тоски он сделал прыжок
и ринулся в пустоту, навстречу звезде. Но в самый миг
прыжка он подумал с быстротой молнии: это же невозмож¬
но! И тут он упал на берег и разбился. Он не умел любить.
Если бы в тот миг, коща он прыгнул, у него нашлась ду¬
шевная сила твердо и непреклонно поверить в исполнение
желания, он бы взлетел и соединился со звездой.
— Любовь не должна просить, — сказала она, — и не
должна требовать, любовь должна иметь силу увериться в
самой себе. Тоща не ее что-то притягивает, а притягивает
она сама. Синклер, вашу любовь притягиваю я. Если она
коща-нибудь притянет меня, я приду. Я не хочу делать по¬
дарки, я хочу, чтобы меня обретали.
А в другой раз она рассказала мне другую сказку. Жил-
был человек, который любил без надежды. Он совсем ушел в
свою душу и думал, что сгорает от любви. Мир был для него
потерян, он не видел ни синего неба, ни зеленого леса, ручей
для него не журчал, арфа не звучала, все потонуло, и он стал
несчастен и беден. Но любовь его росла, и он предпочел бы
умереть и совсем опуститься, чем отказаться от обладания
красавицей, которую он любил. Он чувствовал, как его лю¬
бовь сжигала в нем все другое, и она становилась мощнее,
она притягивала, и красавице пришлось повиноваться, она
пришла, он стоял с распростертыми руками, чтобы привлечь
313
ее к себе. Но став перед ним, она вся преобразилась, и он, со¬
дрогаясь, почувствовал и увидел, что привлек к себе и весь
потерянный мир. Она стояла перед ним и отдавалась ему, не¬
бо, лес и ручей — все великолепно заиграло новыми, свежи¬
ми красками, бросилось к нему, принадлежало ему, говори¬
ло его языком. И вместо того, чтобы обрести только женщи¬
ну, он обнял весь мир, и каждая звезда на небе горела в нем и
сверкала радостью в его душе... Он любил и при этом нашел
себя. А большинство любит, чтобы при этом себя потерять.
Моя любовь к госпоже Еве казалась мне единственным
содержанием моей жизни. Но каждый день эта любовь вы¬
глядела иначе. Иноща я уверенно чувствовал, что тянет ме¬
ня не к ней лично, а что она — лишь символ моего естества
и хочет только глубже ввести меня в мою суть. Порой я
слышал от нее слова, которые звучали как ответы моего
подсознания на жгучие вопросы, меня волновавшие. А бы¬
вали минуты, коща я сгорал рядом с ней от вожделения и
целовал предметы, к которым она прикоснулась. И посте¬
пенно чувственная и нечувсгвенная любовь, действитель¬
ность и символы смешивались. Тоща я, бывало, спокойно и
проникновенно думая о ней у себя в комнате, одновременно
мнил, что рука ее лежит в моей руке, а ее губы прижаты к
моим губам. Или я находился у нее, глядел ей в лицо, го¬
ворил с ней, слышал ее голос и все же не знал, вижу ли я
ее наяву или во сне. Я начал понимать, как может стать
любовь прочной, бессмертной. При чтении книги я узнавал
что-то новое, и это было такое же чувство, как от поцелуя
госпожи Евы. Она гладила меня по волосам и улыбалась
мне своей зрелой, благоуханной теплотой, и я испытывал
такое же чувство, как тоща, коща продвигался вперед внут¬
ри себя. Все это было важно, все, что было судьбой для
меня, могло принять ее облик. Она могла превратиться в
любую мою мысль, и любая моя мысль — в нее.
Рождественских праздников, на которые я должен был
поехать к родителям, я боялся, полагая, что это будет мука —
прожить две недели вдали от госпожи Евы. Но это оказа¬
лось не мукой, это оказалось великолепно — быть дома и
думать о ней. Вернувшись в Г., я еще два дня не ходил в ее
дом, чтобы насладиться этой уверенностью, этой независи¬
мостью от ее чувственного присутствия. Были у меня и сны,
ще мое соединение с ней совершалось новыми, аллегориче¬
скими способами. Она была морем, в которое я втекал. Она
была звездой, и я сам, в виде звезды, двигался к ней, и мы
314
чувствовали, как нас тянет друг к другу, встречались, оста¬
вались вместе и в вечном блаженстве кружили друг возле
друга близкими, звонкими кругами.
Этот сон я и рассказал ей, в первый раз явившись к ней
снова.
— Прекрасный сон, — сказала она тихо. — Сделайте
так, чтобы он исполнился.
В предвесеннюю пору случился день, которого мне не
забыть. Я вошел в зальце, одно окно было открыто, и теп¬
лый поток воздуха разносил тяжелый запах гиацинтов. По¬
скольку никого не было видно, я поднялся по лестнице в
кабинет Демиана. Я слегка постучал в дверь и вошел, не
дожидаясь, по привычке, ответа.
В комнате было темно, все занавески были задернуты.
Открыта была дверь в маленькое соседнее помещение, где
Макс устроил химическую лабораторию. Оттуда шли свет¬
лые, белые лучи весеннего солнца, пробивавшегося сквозь ту¬
чи. Решив, что здесь никого нет, я отдернул одну занавеску.
Тут я увидел Макса Демиана — он сидел на скамеечке у
завешенного окна, весь сжавшийся и странно изменивший¬
ся, и меня молнией пронзило чувство: это ты уже видел
однажды! Руки его неподвижно свисали, его чуть склонен¬
ное вперед лицо было невидяще-безжизненно, в зрачке мер¬
твенно, как в стекляшке, блестело пятнышко отраженного
света. Бледное лицо было погружено в себя и не выражало
ничего, кроме полного оцепенения, оно походило на древ-
нюю-предревнюю маску животного на портале храма. Каза¬
лось, он не дышал.
Воспоминание захлестнуло меня — таким, точно таким
я уже видел его однажды, много лет назад, коща я был еще
мальчиком. Так же глядели куда-то внутрь глаза, так же
безжизненно лежали рядом руки, муха еще ползала по его
лицу. И тоща, может быть шесть лет назад, он был на вид
точно такого же возраста, так же не связан ни с каким вре¬
менем, ни одна черточка в его лице не была сегодня иной.
Испуганный, я тихо вышел из комнаты и сошел по лес¬
тнице вниз. В зальце я встретил госпожу Еву. Она была
бледна и казалась усталой, чего я за ней не замечал, тень
влетела в окно, большое, белое солнце внезапно исчезло.
— Я был у Макса, — прошептал я быстро. — Что слу¬
чилось? Он спит или погружен в себя, не знаю, однажды я
уже видел его таким.
— Вы ведь не разбудили его? — спросила она быстро.
315
— Нет. Он не слышал меня. Я сразу же вышел. Госпожа
Ева, скажите мне, что с ним?
Она провела по лбу тыльной стороной ладони.
— Не беспокойтесь, Синклер, ничего с ним не случится.
Он удалился. Это продлится недолго.
Она встала и вышла в сад, хотя уже закапал дождь. Я
чувствовал, что мне не следует идти за ней. Я ходил по
зальцу, нюхал одуряюще пахнувшие гиацинты, глядел на
свой рисунок с птицей над дверью и подавленно дышал
странной тенью, которая наполнила дом в это утро. Что это
было такое? Что случилось?
Госпожа Ева вскоре вернулась. В ее темных волосах ви¬
сели капли дождя. Она села в свое кресло. Усталость ове¬
вала ее. Я подошел к ней, склонился над ней и губами снял
капли с ее волос. Глаза ее были светлы и тихи, но капли
были на вкус как слезы.
— Посмотреть, что с ним? — спросил я шепотом.
— Не будьте ребенком, Синклер! — приказала она гром¬
ко, словно чтобы разрушить чары в себе самой. — Ступайте
теперь и приходите позднее, я сейчас не могу говорить с вами.
Я ушел и побежал от домов и города к горам, мелкий ко¬
сой дождь летел навстречу мне, придавленные тяжестью ту¬
чи низко неслись мимо, как в страхе. Внизу не было почти ни
дуновения, а вверху, казалось, бушевала буря, из стальной
серости туч несколько раз на миг вырывалось солнце, блед¬
ное и резкое.
Вдруг по небу проплыла неплотная желтая туча, она упер¬
лась в серую стену, и ветер за несколько секунд составил из
желтого и синего некую картину, огромную птицу, которая
вырывалась из синей неразберихи и широкими взмахами
крыльев улетала в небо. Теперь буря стала слышна, и ударил
дождь, смешанный с градом. Короткий, неправдоподобный и
страшный гром пророкотал над исхлестанной землей, затем
снова прорвалось солнце, и на близких горах над бурым ле¬
сом тускло и призрачно засветился бледный снег.
Коща через несколько часов, промокший и продрогший,
я вернулся, Демиан сам отпер мне дверь.
Он повел меня наверх, в свою комнату, в лаборатории
горело газовое пламя, были разбросаны бумаги, он, по-ви-
димому, работал.
— Садись, — пригласил он, — ты, наверно, устал — была
ужасная погода, видимо, ты долго гулял. Сейчас будет чай.
316
— Сегодня что-то происходит, — начал я нерешительно, —
едва ли дело только в какой-то грозе.
Он испытующе посмотрел на меня.
— Ты что-то увидел?
— Да. Я на секунду ясно увидел в тучах некую картину.
— Какую картину?
— Это была птица.
— Ястреб? Неужели? Птица из твоего видения?
— Да, это был мой ястреб. Он был желтый, огромный и
улетел в сине-черное небо.
Демиан глубоко вздохнул с облегчением. В дверь посту¬
чали. Старая служанка принесла чай.
— Пей, Синклер, пожалуйста... Думаю, ты увидел эту
птицу не случайно.
— Случайно? Разве такие вещи можно увидеть случайно?
— Верно, нельзя. Это что-то означает. Ты знаешь — что?
— Нет. Я только чувствую, что это означает какое-то по¬
трясение, какой-то шаг в судьбе. Думаю, дело касается всех.
Он взволнованно прошелся по комнате.
— Шаг в судьбе? — воскликнул он громко. — То же
самое мне снилось сегодня ночью, и у моей матери было
вчера предчувствие, говорившее о том же... Мне снилось,
что я взбираюсь по приставной лестнице на дерево или на
башню. Взобравшись наверх, я увидел всю местность, это
была большая равнина с горящими городами и деревнями.
Я еще не могу рассказать все, мне еще не все ясно.
— Ты относишь этот сон к себе? — спросил я.
— К себе? Конечно. Никому не снится то, что его не каса¬
ется. Но это касается не одного меня, тут ты прав. Я доволь¬
но точно различаю сны, указывающие мне движения моей
собственной души, и другие, очень редкие, ще есть намек на
человеческую судьбу вообще. Такие сны у меня редко быва¬
ли, и никоща не было сна, о котором я мог бы сказать, что он
был пророческим и исполнился. Толкования тут слишком
неопределенны. Но я точно знаю, что мне снилось что-то, ка¬
сающееся не одного меня. Этот сон принадлежит ведь к чис¬
лу тех, других, что снились мне прежде, он их продолжает.
Это те сны, Синклер, откуда у меня возникают предчувст¬
вия, о которых я уже говорил. Что наш мир довольно скве¬
рен, мы знаем, это еще не дает основания предвещать ему ги¬
бель или что-то подобное. Но мне уже много лет снятся сны,
по которым я заключаю — или чувствую, или как тебе угод¬
но, — из которых, стало быть, я заключаю, что близится
317
крушение старого мира. Сперва это были совсем слабые, от¬
даленные предчувствия, но они становились все отчетливей
и сильнее. Пока я не знаю ничего, кроме того, что надвигает¬
ся что-то большое и ужасное, касающееся и меня. Синклер,
мы увидим то, о чем иноща говорили! Мир хочет обновить¬
ся. Пахнет смертью. Новое никоща не приходит без смер¬
ти... Это страшнее, чем я думал.
Я испуганно уставился на него.
— Ты не можешь рассказать мне окончание твоего сна? —
спросил я робко.
— Нет.
Дверь открылась, и вошла госпожа Ева.
— Вот вы ще! Дети, вы, надеюсь, не грустите?
У нее был свежий, уже совсем не усталый вид. Демиан улыб¬
нулся ей, она пришла к нам, как мать к напуганным детям.
— Грустить мы не грустим, мать, мы просто немного по¬
гадали насчет этих новых предзнаменований. Но ведь толку
в том нет. Внезапно придет то, что хочет прийти, и тоща мы
уж узнаем то, что нам надо знать.
Но у меня было скверно на душе, и коща я, попрощав¬
шись, проходил один через зальце, запах гиацинтов показал¬
ся мне вялым, неживым, трупным. Над нами нависла тень.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
НАЧАЛО КОНЦА
Я утроил так, чтобы еще и на летний семестр остаться в Г.
Теперь мы почти всеща были не дома, а в саду у реки. Япо¬
нец, и в самом деле, кстати сказать, потерпевший поражение
в схватке, уехал, толстовец тоже отсутствовал. Демиан завел
лошадь и изо дня в день упорно ездил верхом.
Порой я удивлялся мирному течению моей жизни. Я так
давно привык быть один, не давать себе воли, биться со свои¬
ми бедами, что эти месяцы в Г. были для меня каким-то ост¬
ровом блаженства, на котором можно было уютно и отрешен¬
но жить в мире только прекрасных, приятных вещей и
чувств. Мне казалось, что это предвестие той новой высокой
общности, о которой мы думали. И время от времени от этою сча¬
стья меня охватывала глубокая грусть, ибо я знал, что долго
318
оно длиться не может. Мне не было суждено дышать легко и
вольно, мне нужны были мука и гонка. Я чувствовал: однаж¬
ды я очнусь от этих прекрасных видений любви и буду один,
совсем один в холодном мире иных, где мой удел — только
одиночество и борьба, но не мир, не общая с кем-то жизнь.
Тоща я с удвоенной нежностью стремился быть поближе
к госпоже Еве, радуясь, что моя судьба все еще носит эти
прекрасные, тихие черты.
Летние недели прошли быстро и легко, семестр уже кон¬
чался. Предстояло вскоре проститься, я об этом думать не
мог, да и не думал, упиваясь прекрасными днями, как мо¬
тылек медоносным цветком. Это ведь мое счастливое время,
первое в жизни исполнение желаний, вступление в союз...
Что потом? Я снова буду биться, изнывать от тоски, меч¬
тать, жить в одиночестве.
В один из тех дней это предчувствие охватило меня с та¬
кой силой, что моя любовь к госпоже Еве вдруг мучительно
вспыхнула. Боже, ведь скоро я никогда больше ее не увижу,
никогда больше не услышу ее твердых, добрых шагов по до¬
му, никогда больше не найду ее цветов у себя на столе! А чего
я достиг? Я мечтал и убаюкивал себя, вместо того чтобы за¬
воевать ее, бороться за нее и навсегда завладеть ею! Мне
вспоминалось все, что она говорила мне о настоящей любви,
сотни тонких увещаний, сотни тихих приманок, может быть,
обещаний — что я из этого сделал? Ничего! Ничего!
Я встал посреди своей комнаты, сосредоточил весь свой
ум и задумался о Еве. Я хотел собрать силы своей души,
чтобы заставить ее почувствовать мою любовь, чтобы при¬
тянуть ее ко мне. Она должна была прийти и взалкать моего
объятия, мой поцелуй должен был ненасытно метаться в ее
зрелых любовных губах.
Я стоял напрягшись так, что от кончиков рук и ног ко
мне потек холод. Я чувствовал, что от меня исходит сила.
На несколько мгновений во мне что-то плотно и тесно сжа¬
лось, что-то светлое и прохладное; на миг мне почудилось,
что у меня какой-то кристалл в сердце, и я знал, что это мое
«я». Холод поднялся до самой груди.
Когда я очнулся от этого ужасного напряжения, я почувст¬
вовал, что что-то будет. Я смертельно устал, но я был готов уви¬
деть, как Ева войдет в мою комнату, пылающая, восхищенная.
Тут ударил, приближаясь по длинной улице, конский то¬
пот, простучал близко и твердо, вдруг оборвался. Я бросил¬
ся к окну. Внизу слезал с лошади Демиан. Я сбежал вниз.
319
— Что стряслось, Демиан? Надеюсь, у твоей матери все
благополучно?
Он не слушал моих слов. Он был очень бледен, и пот
стекал у него со лба по обеим щекам. Он привязал свою
разгоряченную лошадь к ограде сада, взял меня под руку и
пошел со мной вниз по улице.
— Ты уже что-то знаешь?
Я ничего не знал.
Демиан сжал мою руку и повернул ко мне лицо, с каким-
то темным, сострадательным, странным взглядом.
— Да, мой мальчик, теперь начнется. Ты ведь знал о
трениях с Россией...
— Что? Неужели война? Я никогда в это не верил.
Он говорил тихо, хотя поблизости не было ни души.
— Она еще не объявлена. Но война будет. Можешь не со¬
мневаться. Я тебе с тех пор этим не докучал, но с того раза я
уже трижды видел новые знаки. Ни конца света, ни земле¬
трясения, ни революции не будет, стало быть. Будет война.
Увидишь, какой будет взрыв! Люди будут в восторге, уже
сейчас каждый рад ударить. Такой дрянной стала наша
жизнь... Но увидишь, Синклер, это только начало. Война бу¬
дет, возможно, большая, очень большая война. Но и это
только начало. Начинается что-то новое, и для тех, кто цепля¬
ется за старое, это новое будет ужасно. Ты что будешь делать?
Я был ошеломлен, все это звучало для меня еще дико и
неправдоподобно.
— Не знаю... а ты?
Он пожал плечами.
— Как только объявят мобилизацию, я пойду. Я лейте¬
нант.
— Ты? Об этом я ничего не знал.
— Да, это была одна из моих попыток приспособиться.
Ты знаешь, я не люблю выделяться внешне и всеща, черес¬
чур даже, старался быть корректным. Через неделю, навер¬
но, я буду уже на фронте...
— Боже мой...
— Не надо, мой мальчик, смотреть на это сентименталь¬
но. Мне ведь не очень-то приятно командовать стрельбой по
живым людям, но это будет несущественно. Каждого из нас за¬
крутит великое колесо. Тебя тоже. Тебя наверняка призовут.
— А что будет с твоей матерью, Демиан?
Только теперь я вспомнил о том, что было четверть часа
назад. Как изменился мир! Я напрягал все силы, чтобы вы¬
320
звать милый образ, а судьба вдруг по-новому уставилась на
меня грозной, ужасной маской.
— С моей матерью? Ах, о ней нам нечего беспокоиться.
Она в большей безопасности, чем кто-либо на свете сегод¬
ня... Ты так сильно любишь ее?
— Ты знал это, Демиан?
Он засмеялся звонко и совсем облегченно.
— Ребенок! Конечно, знал. Никто еще не называл мою
мать «госпожа Ева», не любя ее. Кстати, как это было? Ты
звал сегодня ее или меня, так ведь?
— Да, я звал... Я звал госпожу Еву.
— Она это почувствовала. Она вдруг послала меня к
тебе. Я как раз рассказывал ей новости о России.
Повернув назад, мы еще немного поговорили, затем он
отвязал лошадь и сел в седло.
Лишь наверху, у себя в комнате, я почувствовал, как я из¬
нурен — и сообщением Демиана, и, еще больше, предшество¬
вавшим напряжением. Но госпожа Ева меня услышала! Я до¬
стиг ее сердца своими мыслями. Она пришла бы сама... если
бы не... Как странно все это было и как, в сущности, прекрас¬
но! Теперь разразится война, теперь начнется то, о чем мы
столько раз говорили. И так много об этом Демиан знал напе¬
ред. Как странно, что мировой поток пробегает уже не ще-то
мимо нас, что теперь он вдруг проходит через наши сердца,
что нас зовут приключения и дикие судьбы и что сейчас или
вскоре настанет тот миг, коща мы понадобимся миру, когда
мир начнет изменяться. Удивительно только, что такое оди¬
нокое дело, как «судьба», я должен проделать вместе со
столькими людьми, сообща со всем миром. Ну и хорошо!
Я был готов. Вечером, коща я шел через город, везде все бур¬
лило от великого волнения. Везде слышалось слово «война»!
Я пришел в дом госпожи Евы, мы ужинали в садовом
домике. Я был единственным гостем. Никто не упомянул о
войне ни одним словом. Только позднее, уже перед самым
моим уходом, госпожа Ева сказала:
— Дорогой Синклер, вы меня сегодня позвали. Вы знаете,
почему я не пришла сама. Но не забывайте: теперь вам извест¬
но, как можно позвать, и когда вам понадобится кто-то, кто
носит печать, позовите снова!
Она поднялась и пошла впереди меня через сумрак сада.
Величаво и царственно шествовала эта таинственная женщи¬
на между молчащими деревьями, и над ее головой, малень¬
кие и хрупкие, светились звезды.
11 4-161
321
Я подхожу к концу. События разворачивались быстро.
Вскоре началась война, и Демиан, поразительно незнако¬
мый в серебристо-серой шинели, уехал. Я проводил его мать
назад домой. Вскоре я простился с ней, она поцеловала меня
в губы и на миг прижала к груди, и ее большие глаза про¬
жгли мои вплотную и твердо.
И все люди словно бы побратались. Они имели в виду оте¬
чество и честь. Но все они один миг смотрели в открывшееся
лицо судьбы. Молодые люди приходили из казарм, садились
в поезда, и на многих лицах я видел»печатъ — не нашу, —
прекрасную и полную достоинства печать, означавшую лю¬
бовь и смерть. Меня тоже обнимали люди, которых я никогда
прежде не видел, и я понимал это и с радостью отвечал тем
же. Поступали они так в порыве, а не по велению судьбы, но
порыв этот был священный, он возникал оттого, что все они
изведали этот короткий, будоражащий взгляд в глаза судьбы.
Уже почти наступила зима, когда я попал на фронт.
Сначала я, несмотря на новые ощущения от перестрелки,
был разочарован всем. Раньше я много размышлял о том,
почему так крайне редко человек способен жить ради како-
го-то идеала. Теперь я увидел, что многие, даже все, способ¬
ны за идеал умереть. Только надо, чтобы идеал этот был не
личным, не свободным, не выбранным, а общим и у кого-то
заимствованным.
Но со временем я увидел, что людей я недооценивал. Как
бы ни унифицировали их служба и общая опасность, я видел
многих, и живых, и умиравших, которые великолепно при¬
ближались к велению судьбы. У многих, очень многих, не
только при наступлении, но и в любое время, был этот твер¬
дый, далекий, как бы бесноватый взгляд, который знать не
знает о целях и означает полную отданность чудовищному.
Что бы они ни думали и во что бы ни верили, они были гото¬
вы, они были нужны, из них строилось будущее. И чем упря¬
мее настаивал мир на войне, на героизме, чести и на других
старых идеалах, чем отдаленнее и неправдоподобнее звучал
всякий голос кажущейся человечности, тем более поверхно¬
стным все это становилось, точно так же, как вопрос о внеш¬
них и политических целях войны оставался лишь на поверх¬
ности. А в глубине происходило становление чего-то. Чего-то
вроде новой человечности. Ибо я видел многих — иные из
них умерли рядом со мной, — кто понял чувством, что нена¬
висть и злоба, убийство и уничтожение не привязаны ни к ка¬
ким объектам. Нет, объекты, точно так же как цели, были со¬
322
вершенно случайны. Глубинные чувства, даже самые дикие,
не относились к врагу, их кровавое дело было лишь излуче¬
нием внутреннего мира, расколовшейся души, которая хоте¬
ла буйствовать и убивать, уничтожать и умирать, чтобы ро¬
диться заново. Гигантская птица выбиралась из яйца, и
яйцо было миром, и мир должен был развалиться.
Возле усадьбы, которую мы заняли, я стоял на часах пред¬
весенней ночью. Прихотливыми порывами дул ветерок, по
высокому небу Фландрии неслись полчища туч, ще-то за ни¬
ми угадывалась луна. Уже весь день я был неспокоен, меня
донимала какая-то забота. Сейчас, на своем темном посту, я
проникновенно вспоминал картины прежней жизни, госпожу
Еву, Демиана. Я стоял, прислонившись к тополю, и глядел в
беспокойное небо, просветы в котором, украдкой вздрагивая,
превращались вскоре в большие, текучие вереницы картин.
По странной вялости пульса, по нечувствительности кожи к
дождю и ветру, по искрящейся внутренней свежести я чувст¬
вовал, что меня объяло чье-то водительство.
В тучах был виден большой город, из него выливались
миллионы людей, которые толпами растекались по широким
просторам. В их гуще возникла какая-то могучая, божествен¬
но-величественная фигура, со сверкающими звездами в воло¬
сах, громадная, как гора, с чертами госпожи Евы. В нее, как в
исполинскую пещеру, стали вплывать, исчезая, людские тол¬
пы. Богиня села наземь, печать на ее челе светилась. Каза¬
лось, ею овладел сон, она закрыла глаза, и ее большое лицо
исказилось болью. Вдруг она громко вскрикнула, и из ее чела
посыпались звезды, тысячи горящих звезд, которые разлета¬
лись по черному небу великолепными извивами и полукругами.
Одна из звезд, звеня, метнулась ко мне, она, казалось,
искала меня... И вдруг она с треском рассыпалась на тысячи
искр, меня рвануло вверх и швырнуло снова на землю, мир
надо мной с грохотом рухнул.
Меня нашли близ тополя, засыпанным землей и со мно¬
жеством ран.
Я лежал в подвале, надо мной грохотали орудия. Я ле¬
жал на повозке и трясся в пустынных полях. Большей час¬
тью я спал или был без сознания. Но чем крепче я спал, тем
сильнее я чувствовал, что что-то тянет меня, что я повину¬
юсь какой-то силе, которой подвластен.
Я лежал в сарае на соломе, было темно, кто-то наступил
мне на руку. Но моя душа рвалась куда-то, меня сильнее
тянуло прочь. Снова я лежал на повозке, а позднее на но¬
11*
323
силках или на переносной лестнице, все сильнее чувствуя
веление куда-то двигаться, ничего не чувствуя, кроме стрем¬
ления прибыть наконец туда.
И вот я добрался до цели. Была ночь, я был в полном со¬
знании, еще только что я чувствовал всю мощь этой своей
внутренней тяги. Лежал я в каком-то зале, уложенный на по¬
лу, и вдруг почувствовал, что нахожусь там, куда меня звали.
Я огляделся, рядом с моим тюфяком лежал другой, а на нем
кто-то, который наклонился вперед и смотрел на меня. У него
была печать на лбу. Это был Макс Демиан.
Я не мог говорить, и он тоже не мог или не хотел. Он
только смотрел на меня. На его лицо падал свет от висевше¬
го на стене фонаря. Он улыбался мне.
Бесконечно долго глядел он мне прямо в глаза. Медлен¬
но приблизился он лицом ко мне почти вплотную.
— Синклер! — сказал он шепотом.
Я показал глазами, что понял его.
Он улыбнулся опять, почти с состраданием.
— Малыш, — сказал он улыбаясь.
Его рот был совсем рядом с моим. Он тихо продолжал
говорить.
— Ты еще помнишь Франца Кромера? — спросил он.
Я мигнул ему и тоже смог учыбнуться.
— Малыш Синклер, слушай! Мне придется уйти. Я тебе,
может быть, коща-нибудь снова понадоблюсь, для защиты от
Кромера или еще для чего-нибудь. Если ты меня тогда позо¬
вешь, я уже не прибуду так грубо, верхом или по железной
дороге. Тогда тебе придется вслушаться в себя, и ты уви¬
дишь, что я у тебя внутри. Понимаешь?.. И еще одно. Госпо¬
жа Ева велела мне, если тебе когда-нибудь придется худо, пе¬
редать тебе поцелуй от нее... Закрой глаза, Синклер!
Я послушно закрыл глаза и почувствовал его легкий поце¬
луй на своих постоянно кровоточивших губах. А потом я уснул.
Утром меня разбудили для перевязки. Вполне наконец
проснувшись, я быстро повернулся к соседнему тюфяку. Там
лежал незнакомый человек, которого я никогда не видел.
Перевязка причиняла мне боль. Все, что с тех пор про¬
исходило со мной, причиняло мне боль. Но когда я порой
нахожу ключ и целиком погружаюсь в себя, туда, где в тем¬
ном зеркале дремлют образы судьбы, тогда мне достаточно
склониться над этим черным зеркалом, и я уже вижу свой
собственный образ, который теперь совсем похож на Него,
на Него, моего друга и вожатого.
КЛИНГЗОР
1919
KLINGSOR
1919
ДУША РЕБЕНКА
гт
I I орои мы совершаем какие-то действия, уходим, прихо-
J. J. дим, поступаем то так, то этак, и все легко, ничем не
отягощено и как бы необязательно, все могло бы, кажется,
выйти и по-другому, А порой, в другие часы, по-другому ни¬
чего выйти не может, ничего необязательного и легкого нет, и
каждый наш вздох определен свыше и отягощен судьбой.
Те дела нашей жизни, которые мы называем добрыми и
рассказывать о которых нам бывает легко, почти сплошь
принадлежат к этому первому, «легкому» роду, и мы легко
о них забываем. Другие дела, говорить о которых нам тяж¬
ко, мы никоща не можем забыть, они в какой-то степени
больше наши, чем те, и длинные тени их ложатся на все дни
нашей жизни.
В наш отцовский дом, большой и светлый дом на светлой
улице, ты входил через высокий подъезд, и сразу тебя об¬
давали сумрак и дыхание сырого камня. Высокая темная
прихожая молча принимала тебя, пол из плит красного пес¬
чаника вел с легким подъемом к лестнице, начало которой
виднелось в глубине в полумраке. Тысячи раз входил я в
этот высокий подъезд и никоща не обращал внимания ни на
него, ни на прихожую, ни на плиты пола, ни на лестницу;
и все-таки это всеща бывал переход в другой мир, в «наш»
мир. Прихожая пахла камнем, она была темная и высокая,
лестница в глубине ее вела из темного холода вверх, к свету
и светлому уюту. Но всеща сначала были прихожая и суро¬
вый сумрак, а в них что-то от отца, что-то от достоинства и
власти, что-то от наказания и нечистой совести. Тысячи раз
ты проходил эту прихожую со смехом. Но иноща ты входил
327
и сразу оказывался подавлен, чувствовал страх, спешил к
освобождающей лестнице. Когда мне было одиннадцать лет,
я какого пришел из школы домой в один из тех дней, когда
судьба подстерегает нас в каждом углу, когда легко может
что-нибудь произойти. В такие дни любая душевная неуря¬
дица и незадача словно бы отражается в нашем окружении,
обезображивая его. Недовольство и страх гнетут наше сер¬
дце, и мы, ища и находя вне себя мнимые их причины,
видим мир плохо устроенным и всюду натыкаемся на пре¬
пятствия.
Так было и в тот день. С самого утра меня угнетало »—
кто знает почему, может быть, из-за ночных снов — чувство,
похожее на нечистую совесть, хотя я ничего особенного не
натворил. У отца было утром страдальческое и упрекающее
выражение лица, молоко за завтраком было теплое и не¬
вкусное. В школе, правда, никаких огорчений на мою долю
не выпало, но и там все опять казалось безотрадным, мерт¬
вым и удручающим, соединившись в том уже знакомом мне
чувстве бессилия и отчаяния, которое говорит нам, что вре¬
мя бесконечно, что мы на годы, навеки останемся маленьки¬
ми и безответными под гнетом этой дурацкой, противной
школы и что вся жизнь бессмысленна и отвратительна.
Досадовал я в тот день и на моего тощашнего друга. С
недавних пор я дружил с Оскаром Вебером, сыном маши¬
ниста, не зная толком, что тянет меня к нему. Недавно он
хвастался тем, что его отец зарабатывает семь марок в день,
а я наудачу ответил, что мой — четырнадцать. Он сразу
поверил и проникся ко мне уважением; с этого все и нача¬
лось. Несколько дней спустя мы с Вебером заключили союз,
заведя общую копилку, чтобы потом купить пистолет. Пис¬
толет лежал в витрине скобяной лавки, тяжелая штука с
двумя синеватыми стальными стволами. И Вебер подсчитал,
что если экономить по-настоящему, то можно будет доволь¬
но скоро купить его. Ведь деньги случаются всегда, он часто
получает по десять пфеннигов на карманные расходы, а
иногда находишь прямо на улице или деньги, или какие-ни-
будь ценные вещи, например подкову, слиток свинца и тому
подобное, которые вполне можно продать. Десять пфенни¬
гов он тут же и дал для нашей копилки, и они убедили меня,
и весь наш план показался мне осуществимым и многообе¬
щающим.
Когда я в тот день входил в нашу переднюю и холодный,
как в погребе, воздух смутно напомнил мне тысячи нспри-
328
ятных и ненавистных вещей, какие существуют на свете,
мысли мои были заняты Оскаром Вебером. Я чувствовал,
что не люблю его, хотя его добродушное лицо, напоминав¬
шее мне одну прачку, было симпатично. Привлекали меня
не его личные качества, а что-то другое, я бы сказал, его
положение — нечто такое, что он разделял почти со всеми
мальчиками его типа и происхождения: какое-то дерзкое
умение жить, нечувствительность к опасностям и обидам,
близкое знакомство с практическими мелочами жизни, с
деньгами, лавками и мастерскими, с товарами и ценами, с
кухней, стиркой и тому подобным. Такие мальчики, как Ве¬
бер, которым побои в школе, казалось, не причиняли боли,
мальчики, состоявшие в родстве и дружившие со слугами,
извозчиками и фабричными девицами, — они занимали в
мире другое, более твердое положение, чем я; они были как
бы взрослее, они знали, сколько зарабатывает в день их
отец, и знали, несомненно, еще многое, в чем я был несве¬
дущ. Они смеялись над выражениями и шутками, которых
я не понимал. Они вообще умели смеяться так, как мне не
было дано, на какой-то грязный и грубый, но бесспорно
взрослый и мужской лад. Что из того, что ты был умнее их
и знал в школе больше! Что из того, что ты был лучше одет,
умыт и причесан! Напротив, именно эти различия шли им
на пользу. В мир, видневшийся мне в каком-то сумеречном
и авантюрном свете, такие мальчики, как Вебер, могли вой¬
ти, казалось, без всяких трудностей, а для меня мир был
совершенно закрыт и каждую дверь в него надо было брать
с бою, без конца взрослея, отсиживая уроки, держа экзаме¬
ны и воспитываясь. Естественно, что такие мальчики нахо¬
дили на улице подковы, деньги, получали плату за услуги,
поживлялись в лавках на даровщинку и всячески процве¬
тали.
Я смутно чувствовал, что моя дружба с Вебером и его
копилкой была не чем иным, как тоской по этому миру. В
Вебере для меня не было ничего достойного любви, кроме
его великой тайны, благодаря которой он был ближе, чем я,
к взрослым, жил в неприкрытом, более голом, более грубом
мире, чем я со своими мечтаньями и желаньями. И я напе¬
ред чувствовал, что он разочарует меня, что мне не удастся
вырвать у него его тайну, его магический ключ к жизни.
Он только что простился со мной, и я знал, что сейчас
он идет домой вольготным, неторопливым шагом, посвисты¬
вая и наслаждаясь, не омраченный никакой тоской, никаки¬
329
ми предчувствиями. Коща он встречал слу!жанок и фабрич¬
ных и наблюдал их загадочную, может быть, чудесную, а
может быть, преступную жизнь, для него она не была загад¬
кой, страшной тайной, опасностью, чем-то диким и любо¬
пытным, а была такой же естественной, знакомой и родной,
как утке вода. Вот как обстояло дело. А я — я всегда буду
сбоку припека, в одиночестве и неопределенности, полон
догадок, но лишен уверенности.
Вообще в этот день жизнь снова была безнадежно без¬
вкусна, сам день чем-то походил на понедельник, хотя была
суббота, от него пахло понедельником, который втрое длин¬
нее и втрое скучнее других дней. Проклятой и противной
была эта жизнь, она была лжива и тошнотворна. Взрослые
делали вид, будто мир совершенен и они сами — полубоги,
а мы, мальчики, просто отребье. Эти учителя!.. Ты чувство¬
вал в себе честолюбивые порывы, ты искренне, всей душой
устремлялся к добру, пытаясь ли выучить греческие непра¬
вильные глаголы или содержать в чистоте одежду, слушать¬
ся родителей или молча, героически сносить любую боль и
обиду, — да, снова и снова, пылко и благочестиво ты под¬
нимался, чтобы посвятить себя Богу, идти идеальной, чис¬
той, благородной стезей к вершине, жить в добродетели,
безропотно сносить зло, помогать другим — увы, снова и
снова это оставалось попыткой, стремленьем, коротким
вспархиваньем! Снова и снова, уже через несколько дней,
о, даже через несколько часов, случалось что-нибудь, чему
не следовало быть, что-нибудь скверное, огорчительное и
постыдное. Снова и снова ты вдруг непременно падал с вы¬
соты самых упорных и благородных намерений и обетов
назад, в грех и подлость, в обыденность и пошлость! Почему
ты в душе так хорошо и глубоко понимал и чувствовал кра¬
соту и правильность добрых порывов, если вся жизнь (в том
числе и взрослых) неизменно воняла пошлостью и неукос¬
нительно вела к тому, чтобы торжествовали низость и под¬
лость? Как это получалось, что утром в постели или ночью
перед зажженными свечами ты связывал себя священной
клятвой с добрым и светлым, призывал Бога и объявлял
вечную войну всяким порокам, а потом, может быть всего
через несколько часов, самым жалким образом отступался
от этого намеренья и обета, пускай лишь подхватив чей-ни-
будь соблазнительный смех или согласившись выслушать
какой-нибудь глупый мальчишеский анекдот? Почему так?
Неужели у других было по-другому? Неужели герои, рим¬
330
ляне и греки, рыцари, первые христиане — неужели все они
были другими людьми, чем я, лучше, совершеннее, без дур¬
ных желаний, наделенными каким-то органом, которого у
меня не имелось и который не позволял им снова и снова
падать с небес в обыденность, с величественных высот в
болото низменного и жалкого? Неужели этим героям и свя¬
тым был неведом первородный грех? Неужели все святое и
благородное было уделом только немногих, только редких
избранников? Но почему, если я, значит, не был избранни¬
ком, мне все-таки были присущи это стремленье к прекрас¬
ному и благородному, эта неистовая, надрывная тоска по
чистоте, по доброте, по добродетели? Разве это не насмеш¬
ка? Неужели так заведено в Божьем мире, чтобы человек,
мальчик, носил в себе одновременно все высокие и все злые
стремленья, чтобы он, существо несчастное и смешное, стра¬
дал и отчаивался на потеху взирающему на него Богу? Не¬
ужели так заведено? Но тоща — разве тоща весь мир не
дьявольщина, только того и заслуживающая, чтобы на нее
наплевать?! Разве тоща Бог не изверг, не безумец, не глу¬
пый, гадкий фигляр?.. Ах, и в те самые мгновенья, коща я
не без сладострастья предавался этим мятежным мыслям,
робкое мое сердце уже трепетало, наказывая меня за бого¬
хульство!
Как отчетливо через тридцать лет вижу я снова перед
собой ту лестничную клетку — с высокими подслеповатыми
окнами, выходившими на близкую стену соседнего дома и
дававшими очень немного света, с добела выскобленными
еловыми лестницами и площадками, с гладкими перилами
твердого дерева, до блеска отполированными оттого, что я
тысячи раз опрометью по ним съезжал! Как ни далеко от
меня детство, как ни кажется оно мне в целом непонятным
и сказочным, я и поныне прекрасно помню все страданье и
весь разлад, которые жили во мне уже тоща, среди счастья.
Все эти чувства были уже тогда в сердце ребенка тем, чем
они оставались всеща: сомнением в собственной полноцен¬
ности, колебанием между самомнением и малодушием, меж¬
ду презирающим мир идеализмом и обыкновенной чувствен¬
ностью, — и так же, как тоща, я сотни раз и позднее видел
в этих чертах моей натуры то позорную болезнь, то почетное
отличие, и я верю порой, что этим мучительным путем Бог
хочет привести меня к особому одиночеству и глубине, а
порой не вижу во всем этом ничего, кроме свидетельства
331
жалкой слабохарактерности, невроза, от которых тысячи
людей страдают всю жизнь.
Если бы мне надо было свести все это мучительное про¬
тивоборство чувств к какому-то главному ощущению и оп¬
ределить его каким-то одним названием, то я не нашел бы
другого слова, как «страх». Страх, страх и неуверенность —
вот что испытывал я во все эти часы отравленного детского
счастья: страх перед наказанием, страх перед собственной
совестью, страх перед движениями моей души, на мой тог¬
дашний взгляд запретными и преступными.
В час, о котором я повествую, это чувство страха вновь
охватило меня, когда я по все более светлевшей лестнице
приближался к стеклянной двери. Оно начиналось с тесне-
ния в животе, которое поднималось к горлу и там переходи¬
ло в удушье или тошноту. Одновременно в такие минуты, и
на этот раз тоже, я чувствовал ужасное смущение, недоверие
к любому, кто мог бы меня увидеть, потребность уединиться
и спрятаться.
С этим неприятным и мерзким ощущением, с ощущени¬
ем, что я настоящий преступник, и вошел я в коридор и
гостиную. Я чувствовал: сегодня добра не жди, что-то слу¬
чится. Я чувствовал это, как чувствует барометр изменив¬
шееся атмосферное давление, с безысходной пассивностью.
Ах, вот оно снова, это невыразимое! Бес прокрался в дом,
первородный грех щемил сердце, невидимым исполином та¬
ился за каждой стеной некий дух, некий отец и судья.
Я еще ничего не знал, все было еще только догадкой,
предчувствием, щемящей неловкостью. В таком состоянии
лучше всего бывало заболеть, да еще чтобы тебя вырвало, и
улечься в постель. Тоща иной раз все обходилось благопо¬
лучно, появлялась мать или сестра, тебя поили чаем, ты
чувствовал любовь и заботу и мог поплакать или уснуть, а
потом проснуться здоровым и бодрым в совершенно изме¬
нившемся, освобожденном и светлом мире.
В гостиной матери не было, а на кухне была только при¬
слуга. Я решил подняться к отцу, в чей кабинет вела узкая
лестница. Хотя я и боялся его, иноща было все-таки хорошо
обратиться к нему, перед кем я столько раз бывал виноват.
Найти утешение у матери было проще и легче; но отцовское
утешение было ценнее, оно означало мир с судящей сове¬
стью, примирение и новый союз с добрыми силами. После
неприятных разговоров, расследований, признаний и нака¬
заний я часто выходил из отцовской комнаты добрым и чи¬
332
стым, правда наказанным и отчитанным, но полным новых
намерений, набравшись у могучего союзника сил для борь¬
бы со злом. Я решил сходить к отцу и сказать ему, что мне
плохо.
И я поднялся по лестничке, которая вела в кабинет. Эта
лестничка со своим особым запахом обоев и сухим звуком
пустотелых легких деревянных ступеней была существен¬
ным рубежом, вратами судьбы в куда большей мере, чем
прихожая; по этим ступеням был мною проделан не один
важный путь, я сотни раз поднимался по ним, таща в себе
страх и угрызения совести, упрямство и дикую злость, и
нередко уносил с собой на обратном пути освобождение и
новую твердость. Низ нашего дома был во владении матери
и детей, там дышалось вольготно; здесь наверху обитали
власть и ум, здесь были суд, и храм, и «отцовское царство».
Не без робости, как всегда, нажал я на старомодную руч¬
ку и приотворил дверь. Отцовский кабинет встретил меня
знакомым запахом; его создавали дыхание книг и чернил,
разбавленное голубым воздухом из полуоткрытых окон, бе¬
лые, чистые занавески, чуть слышное дуновение одеколона
и обычное на письменном столе яблоко... Но комната была
пуста.
Я вошел с чувством полуразочарования-полуоблегчения.
Стараясь приглушить свои шаги, я пошел на цыпочках, как
нам здесь наверху надлежало ходить, коща отец спал или у
него болела голова. И как только эта тихая ходьба дошла
до моего сознания, у меня застучало сердце, и я с новой
силой почувствовал тревожное теснение в животе и в горле.
Крадучись и со страхом я шел дальше, за шагом шаг, и вот
уже я был не просто пришельцем или просителем, а незва¬
ным, самовольно вторгшимся гостем. Не раз уже я тайком
пробирался в отсутствие отца в обе его комнаты, не раз уже
осматривал и обследовал тайное его царство, а дважды и
кое-что похищал там.
Воспоминания об этом тут же захватили меня, и я сразу
понял: теперь быть беде, теперь что-то случится, теперь я
сделаю что-то запретное и дурное. О бегстве и мысли не
было! Вернее, я думал, страстно и лихорадочно думал о том,
чтобы убежать, побежать вниз по лестнице, в свою каморку
или в сад, но я знал, что не сделаю этого, не смогу сделать.
Я от всей души хотел, чтобы отец зашевелился в соседней
комнате, чтобы он вошел сюда и разрушил это ужасное,
бесовской силой завлекавшее меня колдовство. О, если бы
ззз
он вошел! Если бы он вошел, пускай выругал бы, лишь бы
вошел, пока не поздно!
Я кашлянул, чтобы выдать свое присутствие, и, не по¬
лучив ответа, тихонько позвал: «Папа!» Все было тихо, у
стен молчали стройные ряды книг, створка окна двигалась
на ветру, и от этого по полу шмыгал зайчик. Никто не ос¬
вободил меня, а во мне самом не было свободы поступить
не так, как того хотел бес. От ощущения, что я преступник,
у меня сжался желудок и похолодели кончики пальцев, сер¬
дце мое трепыхалось. Я еще совершенно не знал, что я сде¬
лаю. Знал только, что нечто скверное.
Подойдя к письменному столу, я взял в руки какую-то
книгу и прочел ее английское заглавие, которого не понял.
Английский я терпеть не мог — на этом языке отец всеща
говорил с матерью, когда хотел, чтобы мы не поняли их,
или коща они спорили. В чашке лежали всякие мелочи:
зубочистки, стальные перья, булавки. Я взял два перышка
и сунул их в карман. Бог знает зачем, они не были мне
нужны, перьев у меня хватало. Я сделал это только под
нажимом душившей меня силы, которая велела мне сделать
что-то дурное, повредить самому себе, взвалить на себя ви¬
ну. Я порылся в отцовских бумагах, увидел начатое письмо,
прочел слова: «У нас и у детей все благополучно», и латин¬
ские буквы его почерка взглянули на меня, как глаза.
Затем я тихонько прокрался в спальню. Там стояла же¬
лезная походная кровать отца, под нею — его коричневое
домашние туфли, на тумбочке лежал носовой платок. Я
вдыхал в этой светлой, прохладной комнате отцовский воз¬
дух, и передо мною отчетливо вставал образ отца, благого¬
вение и бунт спорили в моем налитом тяжестью сердце.
Мгновеньями я ненавидел его, со злорадством вспоминая,
как он в дни, коща у него болела голова, пластом, бывало,
лежал на своей низкой походной кровати, вытянувшись во
всю свою длину, с мокрым платком на лбу, иногда постаны¬
вая. Я, видимо, догадывался, что и ему, могучему, жилось
нелегко, что и он, всеми почитаемый, знал сомненья в себе
и страх. И тут же моя странная ненависть улетучивалась, ее
сменяли сочувствие и растроганность. Однако тем временем
я успел выдвинуть ящик комода. Там лежали стопки белья
и флакон его любимого одеколона; я хотел понюхать его, но
непочатый флакон был плотно закупорен, и я положил его
на место. Рядом с ним я нашел коробочку с пастилками,
отдававшими лакрицей, и несколько пастилок сунул себе в
334
рот. Я несколько разочаровался и отрезвел, но в то же время
был рад, что больше ничего не нашел и не взял.
Уже остыв и образумившись, я из озорства все-таки по¬
тянул еще один ящик — с чувством некоторого облегчения
и с намерением положить на место оба украденных перыш¬
ка. Наверно, можно было пойти на попятный, раскаяться,
загладить свою вину и спастись. Наверно, Божья рука надо
мной была сильнее всякого искушения...
Тут я напоследок стрельнул взглядом в щель чуть выдви¬
нутого ящика. Ах, если бы там были носки, или рубахи, или
старые газеты! Но тут-то оно и пришло, искушение, и едва
отпустивший меня судорожный страх молниеносно вернул¬
ся, руки у меня задрожали, сердце заколотилось. В плете¬
ной лубяной шкатулке, индийской или еще какой-нибудь
экзотической, я увидел нечто поразительно-соблазнитель-
ное — целую связку винных ягод в белой сахарной пудре!
Я взял ее в руку, она оказалась замечательно тяжелой.
Затем я вытащил две-три инжирины, сунул одну в рот, ос¬
тальное в карман. Теперь весь этот страх и вся эта авантюра
оказались не напрасны. Если уж получить здесь освобож¬
денье и утешенье не суждено было, то я решил уйти отсюда
по крайней мере не с пустыми руками. Я снял еще три-че-
тыре смоквы с кольца, которое не стало от этого легче, и
еще несколько, и, коща мои карманы наполнились, а из
связки, пожалуй, больше половины винных ягод исчезло, я
попросторнее распределил по липкому кольцу оставшиеся
инжирины, чтобы показалось, что недостает меньше. Затем,
внезапно перепугавшись, я резко захлопнул ящик и побе¬
жал, побежал через обе комнаты и вниз по лестничке, в
свою клетушку, ще, задыхаясь, остановился и с подкаши¬
вающимися ногами оперся на маленькую конторку.
Вскоре зазвонили к обеду. С пустой головой, с чувством
полного отрезвления и омерзения я запихал винные ягоды
на свою книжную полку, спрятал их за книгами и пошел
обедать. Перед дверью столовой я заметил, что у меня лип¬
кие руки. Я вымыл их в кухне. В столовой все уже сидели
в ожидании. Я быстро поздоровался, отец произнес молит¬
ву, и я склонился над супом. Есть не хотелось, каждый
глоток давался мне с трудом. А рядом со мной сидели сест¬
ры, а напротив — родители, все в самом светлом располо¬
жении духа, без задних мыслей, лишь я, преступник, томил¬
ся среди них, одинокий и жалкий, боясь каждого приветли¬
335
вого взгляда и еще чувствуя во рту вкус винных ягод. За¬
творил ли я там, наверху, дверь спальни? А ящик?
Вот и стряслась беда. Я дал бы отрубить себе руку ради
того, чтобы мои винные ягоды оказались снова в комоде. Я
решил выбросить их или взять в школу и раздарить. Только
бы избавиться от них, только бы никоща больше их не ви¬
деть!
— Ты плохо сегодня выглядишь, — сказал отец через
стол. Я смотрел в тарелку и чувствовал его взгляд на своем
лице. Сейчас он заметит. Ведь он всегда все замечал. Зачем
он еще мучит меня сначала? Лучше бы сразу увел меня и,
пожалуй, даже убил.
— Тебе нездоровится? — услышал я снова его голос. Я
соврал, сказав, что у меня болит голова. — Полежи немного
после обеда, — сказал он. — Сколько еще уроков у вас
сегодня?
— Только гимнастика.
— Ну, гимнастика тебе не повредит. Но заставь себя хоть
немножко поесть! Скоро пройдет.
Я искоса посмотрел на него. Мать ничего не сказала, но
я знал, что она глядит на меня. Я доел суп, повоевал с мясом
и овощами, дважды налил себе воды. Ничего больше не слу¬
чилось. Меня оставили в покое. Коща под конец отец про¬
износил благодарственную молитву: «Благодарим тебя, Гос¬
поди, ибо ты милостив и доброта твоя вечна», жгучая, как
резаная рана, черта снова отделила меня от этих светлых,
священных, исполненных доверия слов и от всех, кто сидел
за столом; мои сложенные руки были ложью, моя молитвен¬
ная поза — кощунством.
Коща я встал, мать погладила меня по голове и прило¬
жила ладонь к моему лбу, проверяя, нет ли у меня жара.
Как все это было горько!
В своей каморке я остановился у книжной полки. Утро
не обмануло, все приметы подтвердились. День выдался не¬
счастный, хуже у меня еще не было. Худшего никто бы и не
вынес. Случись что-либо похуже, осталось бы покончить с
собой. Пришлось бы принять яд, это лучше всего, или по¬
веситься. Умереть вообще было лучше, чем жить. Ведь все
было так неправильно, так безобразно. Я стоял в задумчи¬
вости, рассеянно хватая спрятанные винные ягоды и маши¬
нально отправляя в рот одну за другой.
На глаза мне попалась наша копилка, она стояла на пол¬
ке под книгами. Это была коробка йз-дод сигар, которую я
336
крепко заколотил гвоздями; в крышке я прорезал перочин¬
ным ножом малоизящную щель для монет. Прорезана она
была, эта щель, неловко и неряшливо, со множеством зау¬
сениц. Даже это у меня не получилось как следует. У меня
были товарищи, делавшие такие вещи усердно, терпеливо и
безупречно, наводя лоск не хуже заправского столяра. Я
всегда был небрежен, торопился и ничего по-настоящему не
доводил до конца. Так было с моими поделками из дерева,
с моим почерком, с моими рисунками, с моими коллекциями
бабочек, со всем. Я ни на что не годился. И вот я опять
украл, хуже, чем коща-либо. И перья были у меня в карма¬
не. Зачем? Зачем я их взял — зачем надо было их брать?
Зачем надо делать то, чего вовсе не хочешь?
В коробке дребезжала единственная монета, десять
пфеннигов Оскара Вебера. С тех пор ничего не прибави¬
лось. Эта история с копилкой тоже была моей затеей! Ни¬
чего не выходило, ничего не ладилось, все стопорилось в
самом начале, за что б я ни брался! Черт бы взял эту дурац¬
кую копилку! Я знать о ней больше не хотел.
В такие дни, как сегодня, это время между обедом и
школой всеща было тягостно и томительно. В хорошие дни,
в мирные, разумные, милые дни это был прекрасный и же¬
ланный час; я либо читал у себя в комнате про индейцев,
либо сразу после еды отправлялся обратно на школьную
площадку, ще всеща заставал каких-нибудь предприимчи¬
вых однокашников, и там мы играли, кричали, бегали, ре¬
звились, пока звонок не возвращал нас к начисто забытой
«действительности». Но в такие дни, как сегодня... С кем
тут станешь играть и как утихомиришь бесов в своей душе?
Я чувствовал, что дело идет к тому: не сегодня, так в сле¬
дующий раз, может быть скоро, моя судьба разразится окон¬
чательным взрывом. Ведь достаточно еще одной капли, еще
одной капельки страха, страдания и растерянности, и чаша
переполнится, и кончится ужас. Когда-нибудь, как раз в
такой же день, как сегодня, я вконец погрязну в трясине зла
и в строптивой ярости от невыносимой бессмыслицы этой
жизни совершу нечто ужасное и решительное, нечто ужас¬
ное, но сулящее свободу и способное навсегда положить ко¬
нец мученьям и страхам. Неизвестно было, во что это выль¬
ется; но фантастические, но навязчивые прообразы этого
уже не раз кружили мне голову, картины преступлений,
которыми я отомщу миру и в то же время загублю, уничто¬
жу себя. Иногда мне чудилось, что я поджигаю наш дом:
337
крылья огромного пламени бились в ночи, огонь охватывал
дома и улицы, весь город вздымал исполинское зарево к
черному небу. А в другие.разы моим воображаемым пре¬
ступлением бывала месть отцу, жестокое, зверское убийст¬
во. И тоща бы я вел себя как тот преступник, тот единст¬
венный, настоящий преступник, которого однажды вели по
улицам нашего города у меня на глазах. Это был пойманный
взломщик, его вели в участковый суд два жандарма, один
спереди, другой сзади, он шел в наручниках и котелке на¬
бекрень. Этот человек, которого гнали через город, сквозь
толпы любопытных, сквозь тысячи проклятий, злых шуток
и злобных выкриков, этот человек нисколько не походил на
тех робких горемык, которых иноща видели на улицах в
сопровождении полицейского чина и которые были чаще
всего просто бедными подмастерьями, задержанными за то,
что просили милостыню. Нет, этот не был застенчивым под¬
мастерьем, в нем не было ни простодушия, ни робости, ни
плаксивости, он не прятался за смущенно-глуповатой улыб¬
кой, какую мне тоже случалось видеть. Это был настоящий
преступник, чуть помятая шляпа лихо сидела на его упрямо
поднятой голове, он был бледен и улыбался с молчаливым
презрением, и народ, осыпавший его плевками и бранью,
делался рядом с ним сбродом и чернью. Я сам тоща кричал
с другими: «Попался, повесить его!» Но потом я увидел его
гордую, прямую походку, увидел, как он нес перед собой
руки в наручниках, и как лихо, словно какая-то фантасти¬
ческая корона, сидел котелок на его упорной, злой голове,
и как он улыбался! — и я умолк. И я вот так же улыбался
бы, как этот преступник, вот так же твердо держал бы го¬
лову, коща меня вели бы на суд и на эшафот, и если бы
люди толпились вокруг меня и громко надо мной издева¬
лись, я не сказал бы в ответ ни слова, я просто молчал бы
и презирал.
И коща меня казнят, коща я буду мертв и предстану
перед вечным судьей, я тоже не склонюсь и не покорюсь. О
нет, хотя бы он и был окружен всей ратью небесной, хотя
бы так и сиял святостью и величием! Пускай он проклянет
меня, пускай велит бросить в кипящую смолу — я не изви¬
нюсь, не унижусь, не попрошу у него прощения, ни в чем
не раскаюсь! Если он спросит меня: «Ты сделал то-то и то-
то?» — я воскликну: «Да, сделал, и еще не то, и хорошо,
что сделал, и если смогу, сделаю это снова и снова. Я уби¬
вал, я поджигал дома, потому что это доставляло мне удо¬
338
вольствие и потому что я хотел поиздеваться над тобой и
тебя позлить. Да, ибо я ненавижу тебя, я плюю тебе под
ноги, Бог. Ты мучил меня и терзал, ты дал законы, которых
никто не в силах соблюдать, ты подговорил взрослых отра¬
вить жизнь нам, детям».
Коща мне выпадало счастье представить себе это совер¬
шенно отчетливо и твердо поверить, что мне удастся дейст¬
вовать и говорить именно так, у меня бывали минуты мрач¬
ной радости. Но сразу же возвращались сомнения. Не ока¬
жусь ли я слаб, не дам ли себя запугать, не уступлю ли в
конце концов? Или даже если я все сделаю так, как мне
упрямо хотелось, не изыщет ли Бог какого-то выхода, како-
го-то преимущества, какой-то хитрости? — ведь всемогу¬
щим взрослым всеща удавалось пустить в ход под конец
какой-нибудь козырь, так или иначе посрамить тебя, не по¬
считаться с тобой, унизить тебя под мерзкой маской добро¬
желательности! Ну конечно, т*ем и кончилось бы.
Мое воображение металось в разные стороны, делая по¬
бедителем то меня, то Бога, то вознося меня на высоту не¬
сгибаемого преступника, то снова повергая в ничтожество
ребенка и слизняка.
Я стоял у окна и смотрел на задний дворик соседнего
дома, ще к стене были прислонены стойки лесов, а в кро¬
шечном огородике зеленело несколько грядок. Вдруг я ус¬
лышал среди тишины полдня бой часов, твердо и трезво
вторгшийся в мои видения, один ясный, строгий удар и еще
один. Было два часа, и я испуганно вернулся от вообража¬
емых ужасов к ужасной действительности. У нас начинался
сейчас урок гимнастики, и даже полети я в гимнастический
зал на волшебных крыльях, я все равно опоздал бы. Опять
незадача! Послезавтра меня вызвали бы, выругали и нака¬
зали. Лучше уж было вообще не идти в школу, ведь попра¬
вить уже ничего нельзя было. Разве что каким-нибудь очень
уж хорошим, очень уж тонким и правдоподобным оправда¬
нием, но в этот миг мне все равно ничего такого в голову не
пришло бы; как ни блестяще обучили меня лгать наши учи¬
теля, сейчас я был просто не в состоянии лгать, сочинять,
придумывать. Лучше было вообще пропустить урок. Какая
разница, если к большому несчастью прибавится маленькое!
Но бой часов разбудил меня и парализовал мое вообра¬
жение. Я вдруг очень ослабел, до невозможности реально
глядели на меня моя комната, конторка, картинки, кровать,
книги, все было насыщено суровой реальностью, все было
339
призывным окликом из того мира, в котором приходилось
жить и который сегодня опять стал таким враждебным и
таким опасным. Еще бы! Разве я не прогулял урок гимна¬
стики? И разве не совершил воровство, жалкое воровство,
разве не лежали на полке эти проклятые винные ягоды, ко¬
торые я не успел съесть? Какое мне сейчас было дело до
того преступника, до Господа Бога и до Страшного суда!
Это все еще придет, придет в свое время — но сейчас, сию
минуту, это было где-то далеко, было глупостью, и больше
ничем. Я украл, и в любую минуту это преступление могло
открыться. Возможно, оно уже открылось, возможно, отец
уже полез в тот ящик, обнаружил мой подлый поступок и,
оскорбленный, разгневанный, размышлял сейчас, как луч¬
ше призвать меня к ответу. Да, может быть, он уже направ¬
ляется ко мне, и если я сейчас же не убегу, то через минуту
увижу перед собой его строгое лицо и очки. Ведь он сразу
поймет, что вор — я. Кроме меня, в нашем доме преступни¬
ков не было, мои сестры никогда ничего подобного не дела¬
ли, Бог весть почему. Но зачем понадобилось отцу прятать
у себя в комоде связки винных ягод?
Я уже вышел из своей каморки и ушел из дому через
заднюю дверь в сад. Сады и луга были залиты ярким солн¬
цем, над дорогой кружились бабочки-лимонницы. Все каза¬
лось теперь более скверным, чем утром. О, это мне было
уже знакомо, и все-таки никогда, право, я не ощущал этого
столь мучительно: город и колокольня, луга и дорога, цветы
в траве и бабочки — все, глядя на меня, дышало естествен¬
ностью и чистой совестью, все красивое и веселое, на что
обычно глядишь с радостью, стало сейчас околдованным и
чужим! Это мне было знакомо, я уже знал, каково это —
шагать по привычным местам, коща тебя мучит совесть!
Пролети сейчас над лугом и сядь у моих ног редчайшая
бабочка, это ничего не значило бы, не обрадовало бы, не
взволновало, не утешило. Протяни мне сейчас свою самую
роскошную ветку прекраснейшее вишневое дерево, это не
имело бы ни малейшей цены, счастья в этом не было бы.
Сейчас существовало одно — бежать, бежать от отца, от
наказания, от самого себя, от своей совести, бежать без пе¬
редышки и до тех пор, пока все равно, неумолимо и неми¬
нуемо, не свершится то, что свершиться должно.
Я бежал без передышки, бежал в гору до самого леса, а
с Дубовой горы вниз к Княжеской мельнице, затем через
мостик и снова в гору и лесом. Здесь был наш последний
340
индейский лагерь. Здесь в прошлом году, когда отец был в
отъезде, мать праздновала с нами, детьми, Пасху и прятала
для нас яйца во мху. Здесь я однажды в каникулы построил
со своими двоюродными братьями крепость, она еще сохра¬
нилась наполовину. Везде остатки других дней, везде зер¬
кала, из которых на меня глядел не тот, кем я был сегодня!
Неужели это был я? Такой веселый, такой довольный, та¬
кой благодарный, такой общительный, такой нежный с ма¬
терью, такой свободный от страхов, такой непонятно счаст¬
ливый? Я ли это был? И как мог я стать таким, как сейчас,
настолько другим, совершенно другим, таким злым, таким
испуганным, таким несчастным? Все было обычным: лес и
река, папоротники и цветы, крепость и муравейник, — и,
однако же, все было как бы отравлено и разорено. Неужели
нет никакого пути назад, туда, где остались невинность и
счастье? Неужели никогда больше не будет так, как было?
Суждено ли мне коща-нибудь снова смеяться, как прежде,
играть с сестрами, искать пасхальные яйца?
Я бежал и бежал, на лбу у меня выступил пот, а за мной
бежала моя вина, бежала, преследуя меня, тень отца, огром¬
ная и чудовищная.
Мимо меня пробегали аллеи, спускались лесные опушки.
На каком-то холме я остановился, в стороне от дороги, и
бросился в траву с сильным сердцебиеньем — оно было вы¬
звано, вероятно, тем, что я бежал в гору, и я полагал, что
оно скоро пройдет. Внизу я видел город и реку, видел гим¬
настический зал, ще сейчас кончался урок и мальчики раз¬
бегались, видел длинную крышу отцовского дома. Там была
спальня отца, был ящик, откуда исчезли винные ягоды. Там
была моя комнатка. Там, коща я вернусь, меня настигнет
кара. А если я не вернусь?
Я знал, что вернусь. Всеща возвращаешься, каждый раз.
Кончается всеща этим. Нельзя уйти, нельзя удрать в Афри¬
ку или в Берлин. Ты мал, у тебя нет денег, тебе никто не
поможет. Вот если бы все дети соединились и помогали друг
другу! Их много, детей на свете больше, чем родителей. Но
не все дети воры и преступники. Таких, как я, мало. Может
быть, я единственный в своем роде. Но нет, я знал, такие
вещи, как у меня, случаются часто — один мой дядя в дет¬
стве тоже что-то украл и натворил бед, это я как-то узнал,
тайком, подслушав разговор родителей, тайком, как прихо¬
дится узнавать все интересное. Но все это мне не поможет,
и даже окажись здесь сам этот дядя, он тоже мне не помог
341
бы! Он теперь давно уже большой и взрослый, он пастор, и
он будет на стороне взрослых, а от меня отступится. Все они
такие. Перед нами, детьми, они все в чем-то неискренни и
лживы, играют какую-то роль, притворяются иными, чем
они есть. Мать, может быть, нет или меньше.
А если бы я не вернулся домой? Ведь могло же что-ни¬
будь случиться, я мог ведь сломать шею, или утонуть, или
попасть под поезд. Тоща все выглядело бы иначе. Тогда
меня доставили бы домой, и все бы испуганно притихли, и
плакали бы, и жалели меня, и о винных ягодах не было бы
и речи.
Я прекрасно знал, что можно самому лишить себя жизни.
Я и думал, что коща-нибудь, наверно, сделаю это, позднее,
если станет совсем уж скверно. Хорошо бы заболеть, но не
каким-то там кашлем, а по-настоящему, смертельно, забо¬
леть так, как тоща, коща у меня была скарлатина.
Тем временем урок гимнастики давно прошел и прошло
время, когда меня дома ждали к кофе. Может быть, они
сейчас звали и искали меня — в моей комнате, в саду, во
дворе, на чердаке. Но если отец уже обнаружил пропажу,
тоща меня не искали, тоща он знал, в чем дело.
Лежать дольше было невмоготу. Судьба не забывала ме¬
ня, она гналась за мною. Я побежал опять. В парке я про¬
бежал мимо скамейки, с которой тоже было связано некое
воспоминание, еще одно, некоща прекрасное и дорогое, а
сейчас обжегшее как огонь. Отец подарил мне перочинный
нож, мы вместе, весело и дружно, гуляли, и он сел на эту
скамью, а я пошел в орешник вырезать себе палку. И тут я
в пылу радости загубил новый ножик, сломав лезвие у са¬
мого черенка; я в ужасе вернулся, собираясь скрыть это, но
отец сразу же спросил меня, цел ли подарок. Я был очень
несчастен, и из-за ножика, и потому, что ждал нагоняя. Но
отец только улыбнулся, потрепал меня по плечу и сказал:
«Бедняга, какая жалость!» До чего же я любил его тоща,
сколько раз мысленно просил у него прощения! И сейчас,
стоило мне только вспомнить тощашнее лицо отца, его го¬
лос, его сочувствие... Какой же я был мерзавец, если столь¬
ко раз огорчал и обманывал, а сегодня и обокрал такого
отца!
Коща я снова вошел в город, у верхнего моста, недалеко
от нашего дома, уже стало смеркаться. Из какой-то лавки,
за стеклянной дверью которой уже горел свет, выбежал
мальчик и, внезапно остановившись, окликнул меня по име¬
342
ни. Это был Оскар Вебер. Нельзя было появиться более
некстати. Однако я узнал от него, что учитель не заметил
моего отсутствия на уроке гимнастики. Но ще же я был?
— Да нище, — сказал я, — мне нездоровилось.
Я был молчалив и уклончив, и через некоторое время,
показавшееся мне возмутительно долгим, Вебер заметил,
что он мне в тягость. Тут он разозлился.
— Оставь меня в покое, — сказал я холодно, — я и один
дойду.
— Вот как? — воскликнул он. — Я дойду один не хуже
твоего, дурачина! Я тебе не шавка, имей в виду. Но прежде
я хочу выяснить, как обстоит дело с нашей копилкой. Я внес
десять пфеннигов, а ты ничего.
— Можешь получить назад свои десять пфеннигов хоть
сегодня, если ты боишься за них. Только не мозоль мне
глаза. Больно нужны мне твои подачки.
— А эту принял за милую душу, — сказал он с издевкой,
но оставляя все же лазейку для примирения.
Я, однако, рассвирепел, вся моя растерянность, все на¬
копившиеся во мне страхи разрядились дикой злостью. Ве¬
бер не смел мне указывать! Перед ним я был прав, перед
ним совесть моя была чиста. А мне нужен был кто-то, перед
кем я по праву мог высоко держать голову. Все, что мрачно
бурлило во мне, хлынуло в эту отдушину. Я сделал то, чего
всеща тщательно избегал: я напустил на себя вид барчука,
давая понять, что для меня небольшая потеря — отказаться
от дружбы с каким-то уличным мальчишкой. Я сказал, что
больше ему не есть ягод в нашем саду и не играть моими
игрушками. Я почувствовал, что вспыхиваю и оживаю: у
меня появился враг, противник, кто-то, кто был виноват,
кого можно было схватить за руку. Все мои порывы выли¬
лись в эту спасительную, желанную, освобождающую
ярость, в жестокую радость оттого, что у меня нашелся враг,
который на сей раз был не во мне самом, а стоял напротив
и глядел на меня сперва испуганными, потом злыми глаза¬
ми, враг, чей голос я слышал, на чьи упреки я мог напле¬
вать, на чью брань мог ответить бранью похлеще.
Все задиристей переругиваясь, мы совсем рядом шагали
вниз по темнеющей улице; кое-ще люди смотрели нам вслед
из подъездов. И вся моя злость на себя, все мое презрение
к себе обратились против несчастного Вебера. Коща он стал
грозить, что наябедничает учителю гимнастики, я испытал
343
прямо-таки наслаждение: он оказался не прав, он вел себя
подло, он сделал меня сильнее.
Коща близ улицы Мясников мы дали волю рукам, не¬
сколько прохожих сразу остановились и ст^ли глядеть на
наши действия. Мы наносили друг другу удары в живот и
в лицо, упершись ботинком в ботинок другого. И на какие-
то мгновенья все забылось, я был прав, я не был преступ¬
ником, я упивался боем, и, хотя Вебер был сильнее меня, я
был ловчей, умней, проворнее, горячее. Мы распалились и
дрались яростно. Коща он в отчаянии порвал мне воротник
рубашки, я остро почувствовал, как пробежала по моей раз¬
горяченной коже струя холодного воздуха.
И, не переставая бить, рвать, бороться, душить, мы по-
прежнему задирали, оскорбляли и уничтожали друг друга
словами, которые становились все более горячими, все более
глупыми и злыми, все более поэтичными и фантастичными.
И в этом я тоже превосходил его, я был злее, поэтичнее,
изобретательнее. Если он говорил «собака», я говорил «су¬
ка». Если он кричал «сволочь», я орал «сатана». Мы оба
обливались кровью, не замечая этого, а наши слова нагро¬
мождали проклятье на проклятье, мы желали друг другу
болтаться на виселице, сожалели, что у нас в руках нет но¬
жей, чтобы всадить их друг другу в ребра и там повернуть,
каждый поносил имя другого, его происхождение, его отца.
Первый и единственный раз я вел такой бой до конца в
полном упоении, со всеми ударами, со всеми жестокостями,
со всеми ругательствами. Зрителем я бывал часто и часто с
наслаждением и ужасом слушал эти грубые, первобытные
проклятья и непристойности; а сейчас я выкрикивал их сам,
словно привык к ним сызмала и имел тут большой опыт. У
меня из глаз текли слезы, а по губам кровь. Но мир был
великолепен, в нем был смысл, хорошо было жить, хорошо
было драться, хорошо было проливать свою и чужую кровь.
Ни разу не удавалось мне восстановить в памяти конец
этой драки. Коща-то она кончилась, коща-то я оказался
один в тихой темноте, узнал углы улиц, дома, увидел себя
вблизи от нашего дома. Хмель медленно проходил, свист
крыльев и грохот медленно утихали, и действительность
стала по частям пробиваться ко мне, сперва только через
глаза. Вот колодец. Мост. Кровь у меня на руке, разорван¬
ная одежда, сползшие носки, боль в колене, болит глаз, нет
шапки — все приходило мало-помалу, становилось действи¬
тельностью и обращалось ко мне. Я вдруг донельзя устал и,
344
почувствовав, как у меня дрожат колени и руки, ощупью
поискал стену.
И тут возник наш дом. Слава Богу! Я ничего не помнил,
кроме того, что там — прибежище, мир, свет, безопасность.
Со вздохом облегчения я толкнул высокую дверь.
Тут вместе с запахом камня и влажной прохлады на меня
вдруг накатили воспоминания. О Боже! Пахло строгостью,
законом, ответственностью, отцом и Богом. Я украл. Я не
был раненым героем, который возвращается домой с поля
боя. Я не был бедным ребенком, который, вернувшись до¬
мой, находит у матери блаженное тепло и сочувствие. Я был
вором, я был преступником. Там, наверху, меня ждали не
прибежище, не постель и сон, не еда и уход, не утешение,
не прощение. Меня ждали вина и суд.
Тоща, в темной вечерней прихожей и на долгой лестни¬
це, по ступеням которой я с трудом поднимался, мне впер¬
вые в жизни довелось подышать холодным эфиром, одино¬
чеством, судьбой. Я не видел выхода, у меня не было ни
планов, ни страха, ничего, кроме холодного, сурового чув¬
ства: «Так надо». Цепляясь за перила, я поднялся. Перед
стеклянной дверью мне захотелось еще на минутку присесть
на лестницу, перевести дух, успокоиться. Я этого не сделал,
это не имело смысла. Надо было войти. Коща я открывал
дверь, мне подумалось: который теперь час?
Я вошел в столовую. Они сидели вокруг стола, только
что кончив есть, блюдо с яблоками еще не убрали. Было
около восьми часов. Никоща я без спросу так поздно не
возвращался домой, никоща не отсутствовал за ужином.
— Слава Богу, пришел! — с живостью воскликнула
мать. Я понял — она беспокоилась обо мне. Она бросилась
ко мне и в испуге застыла, увидев мое лицо и мою грязную,
изодранную одежду. Я ничего не сказал и ни на кого не
взглянул, но ясно почувствовал, что отец и мать вырази¬
тельно переглянулись. Отец, сдерживая себя, молчал; я чув¬
ствовал, в каком он гневе. Мать занялась мною, мне вымыли
лицо и руки, налепили пластырь, затем меня кормили. Со¬
чувствие и забота окружали меня, я сидел молча, до глуби¬
ны души пристыженный, ощущая тепло и наслаждаясь им
с нечистой совестью. Затем меня отправили в постель. Я
протянул руку отцу, не взглянув на него.
Коща я уже лежал в постели, ко мне пришла мать. Она
сняла со стула мою одежду и приготовила мне другую, по¬
тому что на следующий день было воскресенье. Затем она
345
стала осторожно расспрашивать меня, и мне пришлось рас¬
сказать о своей драке. Она хоть и нашла это скверным, но
не стала меня бранить и, казалось, была немного удивлена
тем, что я до такой степени испуган и подавлен случившим¬
ся. Потом она ушла.
И теперь, думал я, она убеждена, что все хорошо. Я
решал спор кулаками и был избит до крови, но завтра это
забудется. О другом, о сути дела она ничего не знает. Она
огорчилась, но была естественна и ласкова. Отец тоже, зна¬
чит, еще ничего, по-видимому, не знает.
И тут меня охватило ужасное чувство разочарования. Я
понял теперь, что с той минуты, как я вошел в наш дом,
мною целиком владело одно-единственное, страстное, все¬
поглощающее желание. Ни о чем другом я не думал, не
томился, не тосковал, как о том, чтобы гроза разразилась,
чтобы суд надо мной состоялся, чтобы все ужасное произош¬
ло наконец и прекратился этот нестерпимый страх перед
ним. Я ждал всего, был готов ко всему. Пусть меня строго
накажут, выпорют, арестуют! Пусть он заморит меня голо¬
дом! Пусть проклянет, выгонит из дому! Лишь бы кончился
страх, кончилось ожидание!
Вместо этого я лежал в постели, обласканный и любовно
ухоженный, меня пощадили, меня не призвали к ответу за
мои безобразия, и мне оставалось снова ждать и бояться.
Они простили мне порванную одежду, долгое отсутствие,
пропущенный ужин, потому что я устал, и у меня шла
кровь, и им было жаль меня, но прежде всего потому, что
они не подозревали об остальном, знали только о моих про¬
ступках, но не о моем преступлении. Мне достанется вдвой¬
не, когда все откроется! Может быть, меня отправят, как
грозили однажды, в исправительную колонию, ще застав¬
ляют есть черствый хлеб, а все свободное время пилить дро¬
ва и чистить башмаки, ще есть, по слухам, лишь большие
общие спальни с надзирателями, которые бьют палкой вос¬
питанников и в четыре часа утра будят их холодной водой.
Или меня передадут полиции?
Но как бы то ни было, что бы ни произошло, мне опять
предстояло ожидание. Я й дальше должен был жить в стра¬
хе, наедине со своей тайной, дрожа от каждого взгляда, от
каждого шага в доме и не смея никому посмотреть в глаза.
Или может все-таки оказаться, что моего воровства вооб¬
ще не заметят? Что все останется, как было? Что я напрасно
терплю все эти страхи и муки?.. О, если бы так оказалось,
346
если бы это немыслимое чудо было возможно, я начал бы
совершенно новую жизнь, я возблагодарил бы Бога, я пока- i
зал бы, что способен жить беспорочно, без единого пятныш¬
ка! То, что я уже раньше пробовал делать, но безуспешно,
теперь удастся, теперь у меня хватит воли и твердости, те¬
перь, после таких мук, после такого ада! Все мое естество
прониклось этим желанием, впилось в эту мысль. Утешение
пришло с неба, как дождь. Будущее открылось лучезарной
голубизной. С этими виденьями я уснул и сладко проспал i
всю ночь.
Наутро было воскресенье, и еще в постели я ощутил, как i
ощущают вкус плода, тот ни на что не похожий, странно
сложный, но в целом восхитительный вкус воскресенья, ко¬
торый был знаком мне с тех пор, как я стал школьником.
Воскресное утро — славная вещь: можно выспаться, не надо i
идти в школу, в перспективе — хороший обед, не пахнет
учителями и чернилами, бездна свободного времени. Это
главное. Слабее звучали другие, более чуждые, более скуч¬
ные ноты: церковь или воскресная школа, семейная прогул- i
ка, забота о парадной одежде. Из-за таких вещей этот чис- i
тый, славный вкус, этот восхитительный аромат немного ис¬
кажался и портился — так бывало, коща два блюда, пода- i
вавшиеся вместе, например пудинг и подливка к нему, не i
совсем подходили друг к другу или когда конфеты и пе- |
ченье, которые тебе дарили в лавчонках, фатально отдавали
сыром или керосином. Ты ел их, и они были хороши, но не i
было в их вкусе полноты, не было блеска, с этим приходи¬
лось мириться. Примерно таким чаще всего бывало и воск¬
ресенье, особенно коща приходилось идти в церковь или в i
воскресную школу, что, к счастью, требовалось не всеща.
Свободный день приобретал из-за этого привкус обязанно¬
сти и скуки. Да и во время семейных прогулок, даже если
они часто и удавались, обычно всеща что-нибудь случалось,
то ты ссорился с сестрами, то шагал слишком быстро или
слишком медленно, то пачкал одежду смолой; без загвоздки
дело, как правило, не обходилось.
Что ж, пускай. Мне было хорошо. Со вчерашнего дня i
прошла масса времени. Я не забыл своего гнусного поступ¬
ка, я утром же вспомнил о нем, но то было так давно, страхи
далеко отодвинулись и стали нереальными. Вчера я искупил
свою вину, хотя бы лишь муками совести, пережив сквер¬
ный, злосчастный день. Сейчас я снова был склонен к бод¬
рости и прекраснодушию и не очень обременял себя мысля-
347
ми. Полной, правда, беспечности еще не было, еще остава¬
лось какое-то ощущение угрозы и неприятности, похожее на
все эти мелкие обязанности и тяготы, омрачающие прекрас¬
ное воскресенье.
За завтраком мы все были веселы. Мне предоставили
выбор между церковью и воскресной школой. Я, как всеща,
предпочел церковь. Там тебя по крайней мере оставляли в
покое и можно было предаваться своим мыслям; да и эти
высокие, торжественные стены с цветными окнами бывали
часто красивы и величавы, и если ты, сощурившись, глядел
через длинный, сумрачный неф на орган, перед тобой воз¬
никали порой удивительные картины, выступавшие из мра¬
ка органные трубы казались сияющим городом со множест¬
вом башен. К тому же мне часто удавалось, если церковь не
была набита битком, часок почитать без помех какую-ни¬
будь занимательную историю.
Сегодня я не взял с собой книжки и не собирался улиз¬
нуть из церкви, что тоже со мной случалось. Мне еще так
живо помнился вчерашний вечер, что я был полон самых
добрых намерений и честно хотел жить в ладу с Богом, ро¬
дителями и миром. Моя злость на Вебера тоже совсем про¬
шла. Если бы он пришел, я принял бы его самым приветли¬
вым образом.
Служба началась, я тоже пел строфы хорала, это была
песня «Пастырь неустанный», которую мы и в школе вы¬
учили наизусть. Тут я снова заметил, как при пенье, а при
замедленно-тягучем церковном пенье и подавно, строфа
приобретает совершенно другой вид, чем при чтении глаза¬
ми или наизусть. При чтении строфа была чем-то целым,
имела смысл, состояла из фраз. А при пенье она состояла
из одних слов, фраз не получалось. Смысла не было, но зато
слова, отдельные, растянутые напевом слова обретали ка¬
кую-то странно могучую, независимую жизнь, часто даже
отдельные слоги, сами по себе совершенно бессмысленные,
обретали при пенье какую-то самостоятельность и закончен¬
ность. В строфе, например, «Пастырь неустанный, сторож
недреманный не смыкает глаз» при пенье в церкви не было
ни связи, ни смысла, ни о каком пастыре, ни о каких овцах
ты не думал, ты не думал вообще ни о чем. Но это вовсе не
было скучно. Отдельные слова, особенно «недреман-ный»,
получали какую-то странную, прекрасную полноту, как-то
убаюкивали, а «глаз» звучало таинственно и тяжело, напо¬
348
минало «лаз» и какие-то темные, потаенные, полузнакомые
вещи. Да еще орган!
А потом настала очередь городского священника и про¬
поведи, которая всеща была непонятно длинной, и слушал
я ее как-то особенно, то подолгу улавливая лишь звон гово¬
рящего голоса, похожий на колокольный, то вдруг очень
отчетливо воспринимая отдельные слова вместе с их смыс¬
лом и стараясь подольше не упустить нить рассуждения.
Если бы только мне сидеть у алтаря, а не на хорах, в толпе
мужчин. У алтаря, где мне уже доводилось сидеть на цер¬
ковных концертах, ты мог устроиться в тяжелых, отдель¬
ных креслах, каждое из которых походило на маленькую
крепость, а над тобой был на редкость прелестный ребри-
сто-сетчатый свод, а высоко на стене была в мягких тонах
изображена Нагорная проповедь, и радостной нежностью
наполнял тебя вид синих и красных одежд Спасителя на
фоне голубого неба.
Порою поскрипывали церковные скамьи, к которым я
испытывал глубокое отвращение, потому что они были ок¬
рашены желтой, скучной эмалевой краской, всегда чуть-
чуть прилипавшей к одежде. Порой муха с жужжанием би¬
лась об одно из окон, стрельчатые арки которых были рас¬
писаны красными цветами и зелеными звездами. Но вот не¬
ожиданно проповедь кончилась, и я потянулся вперед, что¬
бы увидеть, как исчезает священник в узком и темном ру¬
каве лестницы. Снова все пели, с облегчением и очень гром¬
ко, затем встали и потекли к выходу; бросив принесенный
пятак в кружку для пожертвований, жестяное звяканье ко¬
торой нарушало торжественность, я с людским потоком ус¬
тремился к порталу и на улицу.
Теперь наступало самое лучшее время воскресного дня,
два часа между церковью и обедом. Ты исполнил свой долг,
после долгого сидения тебе хотелось подвигаться, поиграть
или погулять, а то и почитать, и ты был совершенно свобо¬
ден до обеда, а на обед обычно подавали что-нибудь вкус¬
ное. Довольный, я направился домой в самом радужном рас¬
положении духа. Мир был в порядке, жить можно было. Я
преспокойно пробежал через прихожую и по лестнице на¬
верх.
В моей комнатке светило солнце. Я проверил свои короб¬
ки с гусеницами — вчера мне было не до них, — нашел
несколько новых куколок, полил растения.
Тут отворилась дверь.
349
Я не сразу это заметил. Через минуту тишина показалась
мне странной; я обернулся. Передо мной стоял отец. Он был
бледен и казался измученным. Приветствие застряло у меня
в горле. Я увидел: он знает! Он пришел. Суд начался. Ни¬
чего не было ни улажено, ни искуплено, ни забыто! Солнце
померкло, и воскресное утро сникло.
Ошарашенно глядел я на отца. Я ненавидел его; отчего
не пришел он вчера? Сейчас я ни к чему не был готов, сейчас
у меня ничего не было наготове — даже раскаянья, даже
чувства вины... И зачем понадобилось ему держать у себя
наверху в комоде винные ягоды?
Он подошел к моему книжному шкафу, запустил руку за
книги и извлек несколько инжирин. Больше почти и не бы¬
ло. Он посмотрел на меня с немым, мучительным вопросом.
Я не мог произнести ни слова. Боль и упрямство душили
меня.
— Что такое? — вымолвил я наконец.
— Откуда у тебя эти винные ягоды? — спросил он спо¬
койным, тихим голосом, которого я терпеть не мог.
Я сразу же начал говорить. Врать. Я сказал, что купил
эти винные ягоды у кондитера, их была целая связка. От¬
куда взялись у меня деньги? Деньги взялись из кошшки,
которую я завел сообща с приятелем. Мы оба клали туда
всю мелочь, какую от случая к случаю получали. Кстати —
вот эта копилка. Я достал коробку с прорезью. Там было
всего десять пфеннигов, как раз потому, что мы вчера купи¬
ли инжиру.
Отец слушал с невозмутимо спокойным лицом, которому
я не верил.
— Сколько же стоил этот инжир? — спросил он тихим
голосом.
— Одну марку шестьдесят.
— Где ж ты его купил?
— У кондитера.
— У какого?
— У Хаагера.
Наступила пауза. Я по-прежнему держал свою копилку
зябнущими пальцами. Все у меня остыло и зябло.
И тут он спросил, с угрозой в голосе:
— Это правда?
Я снова быстро заговорил. Да, конечно, это правда, и в
лавке был мой друг Вебер, я его только сопровождал. День¬
1 350
ги принадлежали, собственно, ему, Веберу, моя доля неве¬
лика.
— Надень шапку, — сказал отец, — пойдем вместе к
кондитеру Хаагеру. Он-то должен знать, правда ли это.
Я попытался улыбнуться. Теперь холод пробрал меня до
самого нутра. Я пошел первым и надел в коридоре свою
синюю шапочку. Отец отворил стеклянную дверь, он тоже
надел шляпу.
— Одну минуту! — сказал я. — Мне нужно быстренько
отлучиться.
Он кивнул. Я пошел в уборную, заперся, был один, был
еще на миг в безопасности. О, если бы мне сейчас умереть!
Я прождал минуту, прождал две. Бесполезно. Смерть не
наступала. Надо было держаться. Я отпер дверь и вышел.
Мы спустились по лестнице.
Коща мы выходили из подъезда, меня осенила хорошая
мысль, и я поспешил сказать:
— Но сегодня же воскресенье, у Хаагера закрыто.
Появилась надежда, на две секунды. Отец сказал:
— Ну так мы сходим к нему домой. Пошли.
Мы отправились в путь. Поправив шапку, засунув одну
руку в карман, я пытался идти рядом с отцом так, словно
ничего особенного не случилось. Прекрасно зная, что любой
поймет по моему виду, что я арестант, я все-таки пытался
скрыть это множеством ухищрений. Я старался дышать как
ни в чем не бывало: никто не должен был видеть, как сжи¬
мало мне грудь. Я тщился придать лицу невинное выраже¬
ние. Изобразить непринужденность и уверенность. Я подтя¬
гивал носок, хотя в этом не было надобности, и улыбался,
зная, что эта улыбка выглядит страшно глупо и неестествен¬
но. Во мне, в горле и во внутренностях, сидел бес и душил
меня.
Мы проходили мимо гостиницы, мимо дома подковщика,
мимо дома извозчика, мимо железнодорожного моста. Там,
на той стороне, я вчера вечером дрался с Вебером. Разве не
ныла еще царапина возле глаза? Боже мой! Боже мой!
Я безвольно шел дальше, судорожно стараясь держаться
прямо. Мимо адлеровского амбара, по Вокзальной улице.
Как добра, как безобидна была эта улица еще вчера! Не
думать! Дальше! Дальше!
Мы почти дошли до дома Хаагера. За эти несколько ми¬
нут я уже еотни раз представлял себе сцену, которая ждала
меня там. И все сейчас так и будет.
351
Но выдержать это оказалось невозможно. Я остано¬
вился.
— Что такое? В чем дело? — спросил отец.
— Я туда не пойду, — сказал я тихо.
Он посмотрел на меня свысока. Он ведь все знал с самого
начала. Зачем я ломал перед ним комедию, зачем усердст¬
вовал? Это же было бессмысленно.
— Разве ты не покупал инжир у Хаагера? — спросил он.
Я покачал головой.
— Ах вот как, — сказал он внешне спокойно. — В таком
случае можно вернуться домой.
Он вел себя деликатно, он щадил меня на улице, на лю¬
дях. Людей на нашем пути было много, то и дело с отцом кто-
нибудь здоровался. Какая комедия! Какое глупое, бессмыс¬
ленное мученье! Я не был благодарен ему за эту бережность. *
Он ведь все знал! И заставил меня попрыгать, заставил
побарахтаться, как заставляют попрыгать пойманного мы¬
шонка, прежде чем его утопить. Да лучше бы он сразу, без
всяких вопросов и допросов, стукнул меня палкой по башке,
мне было бы это, право, милее, чем то спокойствие, та право¬
та, с какими он тыкал меня носом в мое глупое вранье и мед¬
ленно удушал. Вообще, пожалуй, лучше было иметь грубого
отца, чем такого благородного и справедливого. Если отец,
как это описывалось в брошюрках, со зла ли, пьяный ли, из¬
бивал своих детей, значит, он был не прав, и, терпя боль от
побоев, можно было все же пожимать плечами и его прези¬
рать. С моим отцом так не выходило, он был слишком благо¬
роден, слишком безукоризнен, он никогда не бывал не прав.
Перед ним ты всеща оказывался маленьким и жалким.
Сжав зубы, я прошагал впереди него к дому и в свою
комнату. Он все еще был спокоен, вернее, напускал на себя
такой вид, ведь на самом деле, я хорошо чувствовал это, он
был очень зол. И вот он заговорил в своей обычной манере:
— Мне хочется только знать — к чему эта комедия? Ты
не можешь сказать мне? Я же сразу понял, что вся твоя
распрекрасная история — ложь. Так зачем валять дурака?
Ты же всерьез не считаешь меня настолько глупым, чтобы
тебе поверить?
Я, не разжимая зубов, сделал глотательное движение.
Перестал бы он лучше! Как будто я знал, почему сочинил
эту историю! Как будто я знал, почему не смог признаться
ему в своем преступлении и попросить прощения! Как будто
я знал хотя бы, зачем украл этот несчастный инжир! Разве
352
я хотел этого, разве сделал это обдуманно, умышленно, по
каким-то причинам? Разве я не сожалел об этом? Не стра¬
дал от этого больше, чем он?
Он ждал с напряженным лицом, показывавшим, как
трудно ему сохранять терпение. На миг мне самому вся эта
ситуация стала в душе совершенно ясна, однако я не смог
бы тоща, как могу сегодня, выразить это словами. Было вот
как: я украл потому, что пришел за утешением в отцовскую
комнату и застал ее, к своему разочарованию, пустой. Я не
хотел красть. Я хотел только, раз уж отца не оказалось на
месте, пошпионить, порыться в его вещах, подслушать его
секреты, узнать о нем что-нибудь. Вот как было. Потом по¬
пались винные ягоды, и я украл. И тут же раскаялся в этом,
и весь вчерашний день мучился и отчаивался, хотел уме¬
реть, осуждал себя, проникался новыми, благими намерени¬
ями. А сегодня — да, сегодня все было иначе. Это раскаянье
и все прочее я уже испил до дна, я был сейчас трезвее, я
чувствовал в себе необъяснимое, но огромное сопротивление
отцу и всему, чего он ждал от меня и добивался.
Если бы я мог сказать ему это, он бы понял меня. Но и
дети, как ни превосходят они взрослых умом, одиноки и
беспомощны перед судьбой.
Окаменев от упрямства и затаенной боли, я продолжал
молчать, я не прерывал его умных речей, с болью, но и со
странным злорадством видя, как все идет кувырком, стано¬
вится хуже и еще хуже, как он страдает, как разочарован,
как напрасно взывает ко всему, что есть во мне лучшего.
Коща он спросил: «Значит, ты украл винные ягоды?» —
я смог только кивнуть головой. Лишь слабо кивнуть удалось
мне и тоща, коща он пожелал узнать, жаль ли мне, что так
вышло... Как мог он, большой, умный человек, задавать
такие дурацкие вопросы! Неужели мне могло быть не жаль!
Неужели ему не видно было, какую мне все это причиняет
боль, как надрывает сердце! Неужели я мог еще радоваться
своему поступку и этому несчастному инжиру!
Наверно, впервые за свою детскую жизнь я почувство¬
вал, я почти отчетливо осознал, как ужасно могут не пони¬
мать, мучить, терзать друг друга два родных, полных вза¬
имной доброжелательности человека и как тоща любые ре¬
чи, любое умничанье, любые разумные доводы лишь подли¬
вают яду, приводят лишь к новым мукам, новым уколам,
новым промахам. Как это так получалось? Но так получа¬
12 4-161
353
лось, так выходило. Это было нелепо, это было безумно,
хоть смейся, хоть плачь — но было именно так.
Хватит об этой истории! Кончилось тем, что на всю вто¬
рую половину дня меня заперли в комнате на чердаке. Ка-
кую-то долю своей жестокости это суровое наказание утра¬
тило благодаря обстоятельствам, которые были,- правда,
моей тайной. В темной, пустовавшей мансарде стоял сильно
запылившийся ящик, наполовину заполненный старыми
книгами, иные из которых отнюдь не были предназначены
для детей. Читал я при свете, проникавшем сквозь крышу,
после того как я отвалил одну черепичину.
Вечером этого печального воскресенья, перед самым
сном, отцу удалось завести со мной еще короткий разговор,
который нас помирил. Я лег в постель с уверенностью, что
он меня целиком и полностью простил — полнее, чем я его.
КЛЕЙН И ВАГНЕР
1
В скором поезде, после спешки и волнений, связанных с
бегством и переездом через границу, после вихря тревог и
событий, волнений и опасностей, еще глубоко удивленный
тем, что все сошло хорошо, Фридрих Клейн совсем сник.
Поезд катился со странной деловитостью — хотя торопиться
больше не нужно было — на юг, торопливо пронося немно¬
гочисленных пассажиров мимо озер, гор, водопадов и про¬
чих чудес природы, через гулкие туннели и мягко покачи¬
вающиеся мосты, все кругом было непривычно красиво и
немного бессмысленно, мелькали картинки из учебников и
с открыток, пейзажи, которые вспоминаешь как знакомые и
которые все-таки не имеют к тебе ни малейшего отношения.
Это была наконец чужбина, и здесь теперь было его место,
домой возврата не было. С деньгами все обошлось благопо¬
лучно, они были здесь, при нем, все эти тысячные купюры,
они по-прежнему лежали у него в нагрудном кармане.
Мысль, что теперь с ним уже ничего не случится, что он
за границей и пока, благодаря своему фальшивому паспор¬
ту, защищен от преследования, эту приятную и успокои¬
тельную мысль он, правда, то и дело вытаскивал, надеясь
согреться и насытиться ею, но эта славная мысль была как
мертвая птица, которой дует в крылья ребенок. Она не была
жива, она не открывала глаз, она падала из рук, как свинец,
от нее не было ни наслаждения, ни блеска, ни радости.
Странное дело, он не раз уже замечал в эти дни: он совер¬
шенно не мог думать о том, о чем хотел, он не распоряжался
своими мыслями, они шли, как им хотелось, и, сколько он
ни упрямился, предпочитали задерживаться на том, что его
12*
355
мучило. Его мозг стал как бы калейдоскопом, в котором
сменой картин управляла чужая рука. Возможно, все дело
только в долгой бессоннице и возбуждении, ведь волнуется
он уже довольно давно. Во всяком случае, это скверно, и,
если не удастся вновь обрести вскоре какое-то спокойствие
и какую-то радость, впору отчаяться.
Фридрих Клейн ощупью поискал револьвер в кармане
пальто. Этот предмет, револьвер, тоже входил теперь в его
снаряжение, в его роль и личину. Как было, в сущности, тя¬
гостно и противно таскать за собой и вплоть до некрепкого,
отравленного сна держать при себе все это — преступление,
поддельные документы, тайно зашитые деньги, револьвер,
чужую фамилию. Все это так отдавало сказками о разбойни¬
ках, дурной романтикой, так не подходило к нему, Клейну,
доброму малому. Это было тягостно и противно, ни облегче¬
ния, ни освобождения, на которые он надеялся, не было и в
помине*
Господи, зачем он, собственно, все это взвалил на себя,
он, человек почти сорока лет, известный как честный служ¬
бист и тихий, добропорядочный гражданин с ученей жил¬
кой, отец любимых детей! Зачем? Он чувствовал: необхо¬
дим был какой-то порыв, какой-то нажим и натиск достаточ¬
ной силы, чтобы толкнуть на невозможное дело такого че¬
ловека, как он, — и только поняв это, только распознав этот
порыв и натиск, только приведя все в порядок внутри себя,
только тоща можно будет хоть как-то вздохнуть.
Он резко выпрямился на сиденье и, сжав большими
пальцами виски, постарался подумать. Это не получалось,
голова была как стеклянная, она была изнурена волнения¬
ми, усталостью и недосыпанием. Но ничего не попишешь,
подумать он должен был. Он должен был искать и должен
был найти, он должен был снова почувствовать какой-то
стержень в себе, хоть как-то узнать и понять себя. Иначе
нельзя было влачить жизнь дальше.
Он попытался собрать воспоминания этих дней, как со¬
бирают пинцетом осколки фарфора, чтобы заделать трещи¬
ну в старой шкатулке. Это были сплошь мелкие черепки, ни
один не был связан с другими, ни один не намекал формой
и цветом на целое. Какие воспоминания! Он видел синюю
коробочку, из которой он дрожащей рукой вынул служеб¬
ную печать своего начальника. Видел старика за окошком
кассы, который выплачивал деньги по его чеку коричневы¬
ми и синими банкнотами. Видел телефонную кабину, где он,
356
говоря в трубку, уперся левой ладонью в стенку, чтобы
удержаться на ногах. Вернее, видел, как делает все это не
он, а кто-то, кто-то посторонний, кто, не будучи им самим,
носил фамилию Клейн. Видел, как тот сжигает письма, пи¬
шет письма. Видел, как обедает в ресторане. Видел, как тот —
нет, это не был посторонний, это был он, это был сам Фрид¬
рих Клейн! — склонился ночью над постелью спящего ре¬
бенка. Нет, это был он сам! Как это было больно, и сейчас,
при воспоминании, снова! Как это было больно — видеть
лицо спящего ребенка, слышать его дыхание и знать: никог¬
да больше не видеть открытыми этих дорогих глаз, не ви¬
деть, как смеется и ест этот ротик, не ждать, что он поцелует
тебя. Как это было больно! Зачем этот посторонний Клейн
причинял себе такую боль!
Он оставил попытку собрать осколки. Поезд остановил¬
ся, был виден чужеземный вокзал, хлопали двери, мелькали
чемоданы за окном вагона, синие и желтые плакаты громко
кричали: гостиница «Милано», гостиница «Континенталь»!
Надо ли было ему обращать на это внимание? Было ли это
важно? Таило ли опасность? Закрыв глаза, он на миг впал
в забытье, сразу же встрепенулся, широко раскрыл глаза,
изобразил бдительность. Где он находился? Вокзал был еще
на месте. Стоп — как моя фамилия? Он прорепетировал в
тысячный раз. Итак: как моя фамилия? Клейн. Нет, к чер¬
ту! Долой Клейна, Клейна больше нет. Он ощупью поискал
бумажник, ще лежал паспорт.
Как все это было утомительно! Вообще... кто бы знал,
как это безумно утомительно — быть преступником!.. Он
сжал руки в кулаки от напряжения. Ведь все это здесь со¬
вершенно не касалось его; гостиница «Милано», вокзал, но¬
сильщики — все это он мог спокойно отбросить... нет, дело
шло о другом, о важном, — о чем?
В полудреме — поезд уже снова шел — он вернулся к
своим мыслям. Это ведь было так важно, вопрос ведь был
в том, можно ли влачить жизнь дальше. Или... разве не
проще покончить со всей этой утомительной бессмыслицей?
Разве у него нет при себе яда? Опиума?.. Ах нет, вспомнил
он, яда ведь он не достал. Но у него есть револьвер. Да,
верно, очень хорошо. Великолепно.
«Очень хорошо» и «великолепно» сказал он вслух и
прибавил еще несколько таких слов. Он вдруг услышал
свой голос, испугался, увидел в оконном стекле отражение
своего искаженного лица, чужого, карикатурного и грустно¬
357
го. Господи, крикнул он про себя, Господи! Что делать?
Зачем жить дальше! Стукнуть лбом в эту бледную рожу,
броситься на это мутное дурацкое стекло, вгрызться в него,
перерезать себе стеклом горло. Удариться головой о шпалы,
глухо и гулко, намотаться на колеса множества вагонов, все
вперемешку, кишки и мозги, кости, сердце, глаза — и рас¬
тереться по рельсам, стать ничем, уничтожиться. Это было
единственное, чего оставалось желать, что еще имело смысл.
В отчаянии уставившись в свое отражение, прижавшись
носом к стеклу, он снова уснул. То ли на несколько секунд,
то ли на несколько часов. Голова его болталась, он не от¬
крывал глаз.
Очнулся он ото сна, последняя часть которого осталась у
него в памяти. Он сидел — снилось ему — на переднем си¬
денье автомобиля, быстро и довольно рискованно ехавшего
по городу то в гору, то с горы. Рядом с ним сидел кто-то, кто
правил машиной. Во сне он пнул этого человека в живот, вы¬
рвал у него руль и повел автомобиль сам, очертя голову, на¬
пролом, почти впритирку мимо лошадей и витрин, задевая
деревья, так что только искры из глаз сыпались.
После этого сна он очнулся. Голова у него стала яснее.
Он улыбнулся по поводу приснившегося. Пинок в живот
был хорош, он с радостью воспроизвел его мысленно. Он
принялся восстанавливать сон и о нем размышлять. Как
пролетал автомобиль мимо деревьев! Может быть, это объ¬
яснялось движением поезда? Но вести машину было, при
всей опасности, наслаждением, счастьем, избавлением! Да,
лучше самому вести машину и при этом разбиться, чем что¬
бы тебя всеща вез и направлял кто-то другой.
Но... кому, собственно, нанес он во сне этот удар? Кто
был этот незнакомый шофер, кто сидел рядом с ним за ру¬
лем машины? Он не мог вспомнить ни лица, ни фигуры —
вспоминалось лишь какое-то чувство, какое-то неясное об¬
щее настроение... Кто бы мог это быть? Кто-то, кого он ува¬
жал, за кем признавал право распоряжаться его, Клейна,
жизнью, кого терпел над собой и кого все-таки втайне нена¬
видел, кому в конце концов дал пинка в живот! Может быть,
его отец? Или кто-нибудь из его начальников? Или... или,
наконец, это я?
Клейн вытаращил глаза. Он нашел конец потерянной ни¬
ти. Он снова все понял. Сон был забыт. Было кое-что по¬
важнее. Теперь он понял! Теперь он начал понимать, дога¬
дываться, ощущать, почему он сидел сейчас в поезде, поче¬
358
му перестал называться Клейном, почему присвоил деньги
и подделал документы. Наконец, наконец-то!
Да, так оно и есть. Нет никакого смысла и дальше скры¬
вать это от себя. Все вышло из-за его жены, исключительно
из-за жены. Как хорошо, что он наконец это понял!
С башни этого открытия он как бы вдруг смог оглядеть
широкие полосы своей жизни, которая с давних пор всеща
распадалась у него все на какие-то никчемные дольки. Он
оглянулся на некий пройденный им длинный отрезок, на
весь свой брак, и отрезок этот показался ему длинной, уто¬
мительной, пустынной дорогой, по которой тащится в пыли
одинокий путник с тяжелой кладью. Где-то сзади, знал он,
скрылись в пыли сияющие вершины и зеленые, шумящие
леса молодости. Да, он был молод коща-то и был юношей
недюжинным, мечтал о великом, многого требовал от себя
и от жизни. Но с тех пор все пыль да кладь, длинная дорога,
жара, усталые колени и только сонная, застарелая тоска по
прошлому, засевшая в черствеющем сердце. Вот чем была
его жизнь. Вот чем была его жизнь.
Он взглянул в окно и вздрогнул от изумления. Непри¬
вычные картины глядели на него. Встрепенувшись, он вдруг
увидел, что он на юге. Он удивленно поднялся, высунул
голову, и опять упала какая-то пелена, и загадка его судьбы
стала немного яснее. Он был на юге!
Он видел беседки из виноградных лоз на зеленых терра¬
сах, золотисто-бурые каменные стены, наполовину разва¬
лившиеся, как на старинных гравюрах, цветущие розовые
деревья. Промелькнул вокзальчик с итальянским названи¬
ем, что-то на «оньо» или «онья».
В какой-то мере Клейн мог теперь разглядеть флюгер
своей судьбы. Путь этот уводил его, Клейна, от его брака,
от его службы, от всего, что было его жизнью и его родиной.
И путь этот шел на юг! Только теперь он понял, почему в
спешке и опьянении бегства выбрал своей целью этот город
с итальянским названием. Выбрал по указателю гостиниц,
казалось, наобум, наудачу, он мог с таким же основанием
выбрать Амстердам, Цюрих или Мальмё. Только теперь это
перестало быть случайностью. Он был на юге, он переехал
через Альпы. И таким образом исполнил самое лучезарное
желание своей юности, той юности, памятные знаки которой
погасли и потерялись на долгой, унылой дороге бессмыслен¬
ной жизни. Неведомая сила сделала так, что сбылись два
самых жгучих желания его жизни: давно забытая тоска по
359
югу и тайное, никогда не становившееся ясным и свободным
стремление убежать, избавиться от кабалы и мертвечины его
брака. Этот спор с начальником, эта неожиданная возмож¬
ность присвоить деньги — все это, казавшееся ему таким
важным, низвелось теперь до мелких случайностей. Не они
управляли им. Победили те два великих желания в его ду¬
ше, все остальное было лишь путем и средством.
Клейн очень испугался этого нового понимания случив¬
шегося. Он почувствовал себя как ребенок, который, играя
спичками, поджег дом. И вот дом горит. Боже мой! А ему-то
что это даст? И доедь он даже до Сицилии, до Константи¬
нополя, разве это сделает его моложе на двадцать лет?
Между тем поезд летел, и деревни, одна за другой, лете¬
ли ему навстречу, непривычно красивые, живописно-весе-
лая детская книжка со всеми прелестями, которых ждут от
юга, зная его по открыткам: каменные, красиво изогнутые
мосты над ручьями и бурыми скалами, стены в винограде,
обросшие маленькими папоротниками, высокие, стройные
колокольни, расписные или оттененные сводчатыми павиль¬
онами с легкими, благородными арками фасады церквей,
дома, окрашенные в розовый цвет, и толстостенные, про¬
хладнейшей голубизны здания с аркадами, прирученные
каштаны, кое-ще черные кипарисы, взбирающиеся на гору
козы, на лужайке перед помещичьим домом первые пальмы,
короткие и толстые. Все было странно и довольно неправ¬
доподобно, но все вместе было все-таки донельзя красиво и
предвещало что-то похожее на утешение. Юг этот действи¬
тельно существовал, он не был сказкой. Мосты и кипарисы
были сбывшимися мечтами юности, дома и пальмы говори¬
ли: ты уже не среди старого, начинается сплошь новое. Ка¬
залось, что воздух и солнечный свет приправлены пряностя¬
ми и усилены, что легче дышится, что жизнь приемлемее,
что без револьвера можно обойтись, что не так уж и необхо¬
димо самоуничтожаться на рельсах. Казалось, что можно
сделать какую-то попытку, несмотря ни на что. Вдруг и удастся
как-то стерпеться с жизнью.
На него опять нашла вялость, теперь он легче поддался
ей и проспал до тех пор, пока не наступил вечер и его не
разбудило полнозвучное название того городка с гостини¬
цей. Он поспешно сошел.
Служитель с бляшкой «Гостиница Милано» на шапке
заговорил с ним по-немецки, Клейн заказал номер и взял
360
карточку с адресом. Сонный, он с трудом выбрался из шум¬
ного стеклянного зала в теплый вечер.
«Так я представлял себе Гонолулу», — мелькнуло у него
в голове. Фантастически беспокойный пейзаж, уже почти
ночной, качнулся ему навстречу, незнакомый и непонятный.
Перед ним круто обрывался холм, там внизу, как в глубокой
коробке, лежал город. Клейн поглядел прямо вниз на осве¬
щенные площади. Со всех сторон крутые, заостренные, как
сахарные головы, горы отвесно падали в озеро, различимое
по отсветам бесчисленных фонарей набережной. Как кор¬
зинка, спускалась по своему желобу в город кабина фунику¬
лера, в этом было что-то полуопасное-полуигрушечное. На
некоторых конусах гор до самых вершин горели затейливы¬
ми рядами, ступенями и созвездьями освещенные окна. Из
города вырастали крыши больших отелей, между ними чер¬
нели сады, по-летнему теплый вечерний ветер, пыльный и
ароматный, благодушно порхал под яркими фонарями. Из
беспорядочно мерцавшей огнями темноты у озера ритмично
и смешно накатывала музыка духового оркестра.
Гонолулу это, Мехико или Италия, было ему безразлич¬
но. Это был чужой край, это был новый мир, новый воздух,
и, хотя они смущали его и наполняли тайным страхом, от
них веяло хмелем, забвеньем и новыми, неиспытанными
чувствами.
Одна из улиц вела, казалось, за город, он побрел по ней,
мимо складских сараев и пустых подвод, затем мимо доми¬
ков предместья, ще громкие голоса кричали что-то по-
итальянски и стрекотала мандолина во дворе какой-то хар¬
чевни. В последнем доме звенел девичий голос, от душисто¬
го благозвучия у него сжалось сердце, множество слов он,
к своей радости, понял и запомнил припев:
Маша non vuole, papa ne meno.
Come faremo a fare P amor? 1
Это звучало как в мечтах его юности. Бездумно шагал он
по улице дальше, увлекаемый, как потоком, теплой ночью,
в которой пели цикады. Показался виноградник, и он, заво¬
роженный, остановился: фейерверк, хоровод зеленых
огоньков наполнял воздух и душистую высокую траву, ты-
* Мама не хочет, папа тоже,
Как же нам заниматься любовью? (итал)
361
сячи метеоров кружились в самозабвенном коловращенье.
Это был рой светляков, медленно и бесшумно плавали они
в теплых волнах ночи. Летний воздух и летняя земля, каза¬
лось, обрели фантастическую выразительность в светящих¬
ся знаках, в тысячах маленьких подвижных созвездий.
Долго стоял чужестранец как завороженный, забыв за
прекрасно-диковинным бедственную историю этого путеше¬
ствия и бедственную историю своей жизни. Неужели еще
существовала действительность? Неужели еще были на све¬
те дела и полиция? Асессоры и курсовые бюллетени? Неу¬
жели в десяти минутах отсюда находился вокзал?
Медленно повернул беглец, удравший из жизни в сказ¬
ку, назад к городу. Загорались фонари. Люди кричали ему
какие-то слова, которых он не понимал. Незнакомые испо¬
линские деревья стояли в цвету, каменная церковь голово¬
кружительным уступом висела над пропастью, светлые,
прерываемые лестницами улицы быстро, как горные ручьи,
стекали в город.
Клейн нашел свою гостиницу, и как только он оказался
в очень светлом, спокойном помещении, в вестибюле и на
лестничной клетке, его хмель прошел и к нему вернулась
пугливая робость, его проклятие и каинова печать. Он сму¬
щенно прокрался под цепкими, оценивающими взглядами
швейцара, официантов, мальчишки-лифтера и постояльцев
в самый глухой угол ресторана. Слабым голосом попросив
меню, он внимательно, словно был еще беден и должен был
экономить, прочел цены всех блюд, заказал что-то дешевое,
искусственно вдохновил себя на полбутылки бордо, которое
показалось ему невкусным, и был рад, коща наконец улегся
за запертой дверью своего обшарпанного маленького номе¬
ра. Вскоре уснув, он спал жадно и крепко, но всего два-три
часа. Среди ночи он проснулся.
Возвращаясь из бездн забытья, он уставился в неприяз¬
ненный сумрак, не вспомнил, ще находится, испытал гнету¬
щее чувство вины, чувство, что забыл и упустил что-то важ¬
ное. В смятении нашарив рычажок выключателя, он зажег
свет. Маленькая комната прыгнула в яркий свет, незнако¬
мая, унылая, нелепая. Где он? Злобно глазели на него плю¬
шевые кресла. Все глядело на него холодно и вызывающе.
Но вот он нашел себя в зеркале и по своему лицу прочел то,
что забыл. Да, он вспомнил. Этого лица у него не было
раньше, не было этих глаз, этих морщин, этих красок. Это
было новое лицо, однажды уже оно перед ним возникало в
362
зеркале оконного стекла, коща-то в суматошном спектакле
этих безумных дней. Это было не его лицо, доброе, тихое и
немного страдальческое лицо Фридриха Клейна. Это было
лицо отмеченного, лицо, на которое судьба наложила новые
печати, старше и в то же время моложе, чем прежнее, похо¬
жее на маску и все же удивительно возбужденное. Никто не
любил такие лица.
Вот он сидит в номере какой-то гостиницы на юге со
своим отмеченным лицом. Дома спят его дети, которых он
бросил. Никоща больше он не увидит, как они спят, как
просыпаются, никоща больше не выпьет воды из стакана на
тумбочке, ще возле лампы лежат вечерняя почта и книга, а
рядом на стене над кроватью портреты его родителей, и всё,
и всё... Вместо этого он здесь, в чужеземной гостинице, гля¬
дит в зеркале в грустное и испуганное лицо преступника
Клейна, и плюшевая мебель смотрит на него холодным и
скверным взглядом, и все теперь другое, все разладилось.
Если бы его отец дожил до этого!
Со времен юности Клейн никоща не оказывался во вла¬
сти своих чувств так непосредственно и в таком одиночестве,
никоща не был до такой степени на чужбине, настолько
голым и незащищенным под неумолимым солнцем судьбы.
Всеща он бывал чем-то занят, чем-то другим, а не самим
собой, всеща ему надо было что-то делать и о чем-то забо¬
титься: о деньгах, о повышении по службе, о мире в доме,
о школьных делах и о- детских болезнях; всеща его обсту¬
пали великие, священные обязанности гражданина, супру¬
га, отца, под их защитой и в их тени он жил, им приносил
жертвы, эти обязанности были оправданием и смыслом его
жизни. А теперь вдруг он повис голый в космическом про¬
странстве, был один перед солнцем и луной и чувствовал
вокруг себя разреженный, ледяной воздух.
И удивительно было то, что в это страшное, опасное для
жизни положение повергло его не землетрясение, поверг ни¬
какой не Бог и не дьявол, а он сам, только он сам! Его
собственный поступок метнул его сюда, сделал одиноким
среди чужой бесконечности. Все выросло и возникло в нем
самом, судьба разразилась в его собственном сердце. Пре¬
ступление и бунт, отказ от священных обязанностей, пры¬
жок в космос, ненависть к жене, бегство, одиночество и,
может быть, самоубийство. Другим выпадали на долю беды
и потрясения из-за пожара или войны, из-за несчастного
случая или по чьей-либо злой воле, а он, преступник Клейн,
363
ни на что подобное сослаться не мог, не мог отговориться
ничем, не мог ни на кого свалить ответственность, разве что
на жену. Да, уж ее-то можно и нужно призвать к ответу, на
нее он сможет кивнуть, если с него коща-нибудь спросится!
Великая злость вспыхнула в нем, и вдруг на него что-то
нашло, что-то жгучее и гибельное, какой-то клубок образов
и ощущений. Это напомнило ему сон об автомобиле и о том,
как он пнул там в живот своего врага.
Вспомнилось ему сейчас одно чувство, вернее, одна фан¬
тазия, одно странное и болезненное душевное состояние, од¬
но искушение, одна безумная прихоть или как еще это на¬
звать. Это был образ, это было видение кровавого злодей¬
ства, которое он учинил, лишив жизни жену, детей и себя
самого. Уже не раз — вспомнил он теперь, все еще видя в
зеркале свое отмеченное печатью, сумасшедшее лицо пре¬
ступника, — уже не раз доводилось ему представлять себе
это четырехкратное убийство, вернее, отчаянно сопротив¬
ляться этому мерзкому и нелепому видению, которое тоща
явилось ему. Именно тоща начались у него, показалось ему,
те мысли, мечты и мучительные состояния, что потом, со
временем, привели к присвоению денег и к его бегству. Мо¬
жет быть — это было вполне возможно, — уйти из дому
заставило его не только ставшее огромным отвращение к
жене и к своей супружеской жизни, но еще больше страх
перед тем, что однажды он все-таки совершит это куда более
ужасное преступление: убьет, зарежет их всех, увидит их в
лужах крови. И больше того: у этого образа тоже была пре¬
дыстория. Он приходил временами, как легкий приступ го¬
ловокружения, коща кажется, что вот-вот упадешь. Но у
самой картины убийства был особый источник.
В тот раз, коща у него впервые возникла навязчивая
идея убийства семьи и он до смерти испугался этого дья¬
вольского видения, к нему как бы в насмешку привязалось
воспоминание об одном случае. Л именно: много лет назад,
коща жизнь его была еще мирной, почти даже счастливой,
он как-то говорил с сослуживцами об ужасном преступлении
одного южногерманского школьного учителя по фамилии В.
(он не сразу вспомнил фамилию), который каким-то особен¬
но зверским образом вырезал всю свою семью, а потом сам
наложил на себя руки. Возник вопрос, в какой мере можно
при таком преступлении говорить о вменяемости, и в даль¬
нейшем о том, можно ли вообще и как можно понять и объ¬
яснить такое злодеяние, такой чудовищный взрыв человече-
364
ской мерзости. Он, Клейн, был тогда очень взволнован и
крайне резко возразил сослуживцу, пытавшемуся психоло¬
гически объяснить это убийство: у порядочного человека та¬
кое мерзкое преступление не может вызвать ничего, кроме
негодования и отвращения, подобное зверство может заро¬
диться лишь в мозгу дьявола, и для преступника этого роде
любое наказание, любой суд, любая пытка недостаточно су¬
ровы и тяжки. Он и сегодня хорошо помнил стол, за кото¬
рым они сидели, и удивленный, немного критический
взгляд, который бросил на него старший сослуживец после
этого взрыва негодования.
Так вот, в тот раз, коща он впервые в страшной фанта¬
зии увидел себя убийцей своих близких и ужаснулся этому
видению, ему сразу же пришел на память тот многолетней
давности разговор об убившем своих родных В. И странное
дело, хотя он мог поклясться, что высказал тоща свои ис¬
тинные чувства совершенно искренне, теперь в нем возник
неприятный внутренний голос, который издевался над ним
и твердил: уже тоща, уже тоща, много лет назад, во время
разговора об учителе В. его, Клейна, душа понимала этого
преступника, а его бурное негодование, его волнение вызы¬
вались лишь тем, что сидевший в нем мещанин и ханжа не
хотел прислушаться к голосу сердца. Ужасные кары и пыт¬
ки, которых он желал тому женоубийце, возмущенные ру¬
гательства, которыми он поносил его поступок, — все это
он, в сущности, обращал против себя, против наверняка уже
тоща таившегося в нем зародыша преступления! Великое
его волнение во время всего этого разговора и вообще по
этому поводу объяснялось лишь тем, что в действительности
он видел себя судимым, обвиняемым в кровавом убийстве и
пытался спасти свою совесть, взваливая на себя любое об¬
винение, любой тяжкий приговор. Как будто он мог всеми
этими остервенелыми нападками на себя самого наказать
или заглушить свою тайную, внутреннюю преступность.
Вот куда пришли мысли Клейна, и он чувствовал, что
тут дело идет для него о важных вещах, о самой жизни. Но
расчленить и привести в порядок эти воспоминания и мысли
было невыразимо трудно. Каждый проблеск последних, ос¬
вобождающих истин гасил усталость и отвращение к обсто¬
ятельствам, в которых он оказался. Он встал, вымыл лицо,
походил по комнате босиком, пока не замерз, и решил ус¬
нуть.
365
Но сна не было. Он лежал весь во власти своих ощуще¬
ний, а это были чувства сплошь гнусные, болезненные и
унизительные: ненависть к жене, жалость к себе, растерян¬
ность, потребность в объяснениях, оправданиях, утешитель¬
ных доводах. И поскольку сейчас никаких других утеши¬
тельных доводов у него не возникало, а путь к пониманию
случившегося так далеко и так беспощадно уводил в самые
тайные и самые опасные закоулки воспоминаний и сон не
возвращался, он пролежал остаток ночи в состоянии, какого
в столь гнусной степени еще не испытывал. Все гадкие чув¬
ства, в нем спорившие, соединились в ужасном, удушаю¬
щем, смертельном страхе, в дьявольской тяжести на сердце
и на легких, которая, вырастая, достигала все новых и но¬
вых пределов. Что такое страх, это он давно знал, уже много
лет, а в последние недели и дни узнал и подавно! Но так,
горлом, он его еще никоща не чувствовал! Помимо воли он
думал о пустяках, о забытом ключе, о гостиничном счете,
создавая из этого горы забот и мучительных ожиданий. Воп¬
рос, обойдется ли эта замызганная комнатушка больше чем
в три с половиной франка за ночь и следует ли ему в таком
случае здесь задерживаться, мучил его добрый час, вгонял
в пот, вызывал сердцебиение. При этом он прекрасно знал,
сколь глупы подобные мысли, и то и дело урезонивал себя,
как упрямого ребенка, перечисляя себе все доказательства
полной неосновательности своих забот, — безуспешно, со¬
вершенно безуспешно! Больше того, за этими утешениями и
уговорами мерещилось что-то вроде жестокой издевки, слов¬
но и это лишь позерство и притворство, такое же в точности,
как его позерство по поводу убийцы В. Что этот смертель¬
ный страх, что это ужасное чувство удушья, обреченности
мучительно задохнуться вызваны не заботой о нескольких
франках и не подобного рода причинами, было ему ясно. За
этим таилось нечто худшее, нечто более серьезное — но что?
Какие-то вещи, наверно связанные с тем кровожадным учи¬
телем, с его, Клейна, собственными кровавыми желаниями,
со всем больным и беспорядочным в нем самом. Но как к
этому подступиться? Как найти причину? Внутри у него не
было места, которое бы не кровоточило, не болело, не ныло,
не было безумно чувствительно к боли. Он понимал: долго
этого не выдержать. Если так пойдет дальше, особенно если
повторятся такие ночи, он сойдет с ума или покончит с со¬
бой.
366
Напряженно приподнявшись в постели, он пытался ра¬
зобраться в своем положении, чтобы справиться с ним. Но
получалось все то же: одиноко и беспомощно, с пылающей
головой и мучительной тяжестью на сердце, в смертельном
страхе сидел он перед судьбой, как птица перед змеей, оце¬
пенев и обессилев от ужаса. Судьба, он теперь это знал, не
приходила откуда-то, она росла в нем самом. Если он не
найдет средства против нее, она сожрет его; тоща страх бу¬
дет преследовать его шаг за шагом, постепенно отнимая у
него разум, шаг за шагом, пока не оттеснит к самому краю,
который, чувствовал Клейн, уже недалек.
Суметь понять — это было бы хорошо, это было бы,
возможно, спасеньем! Он далеко еще не осмыслил своего
положения и того, что произошло. Он чувствовал, что толь¬
ко начинал постигать это. Если ему удастся сейчас собраться
с силами и все тщательно рассудить, систематизировать и
взвесить, тоща он, может быть, найдет нить. Тоща все при¬
обретет какой-то смысл и облик и, может быть, станет тер¬
пимо. Но на это усилие, на этот последний рывок у него не
хватало пороху, он просто не мог их сделать. Чем сосредо¬
точеннее пытался он думать, тем хуже шло дело, вместо
воспоминаний и объяснений он находил в себе только пус¬
тоты, ничего не приходило ему на ум, и при этом его снова
уже преследовал мучительный страх, что самое главное-то
он и забыл. Он судорожно рылся в себе, как нервный пас¬
сажир, способный переворошить все сумки и чемоданы в
поисках билета, который находится у него за лентой шляпы
или даже в руке. Но что толку было от этого «может быть»?
Прежде, час назад или раньше, разве он не открыл, не
нашел чего-то? Что это было, что? Улетело, пропало. Он в
отчаянье стукнул себя кулаком по лбу. Боже правый, дай
мне найти ключ! Не дай мне погибнуть так, так уныло, так
глупо, так грустно! Разорванное на клочья, как тучи в бурю,
проносилось мимо него все его прошлое. Миллионы картин,
вперемешку и вперемежку, неузнаваемых, издевательских,
каждая что-то напоминала — но что? Но что?
Вдруг он нашел на губах у себя имя «Вагнер». Как в
забытьи, он произнес его: «Вагнер... Вагнер». Откуда взя¬
лось это имя? Из какой глубины? Чего оно хотело? Кто
такой Вагнер? Вагнер?
Он вцепился в это имя. У него была теперь задача, про¬
блема, это было лучше, чем витать в облаках бесформенно¬
го. Итак: кто такой Вагнер? Какое мне дело до Вагнера?
367
Почему мои губы, перекошенные губы на моем липё, лице
преступника, бормочут сейчас, среди ночи, имя «Вагнер»?
Он собрался с силами. На ум ему приходила всякая всячи¬
на. Он подумал о Лоэнгрине и тем самым о несколько неяс¬
ном своем отношении к музыканту Вагнеру. В двадцать лет
он, Клейн, неистово любил его. Потом он стал недоверчив,
а со временем нашел множество доводов и возражений про¬
тив него. Он всячески критиковал Вагнера, но, может быть,
критика эта касалась не столько самого Рихарда Вагнера,
сколько его, Клейна, собственной прежней любви к нему?
Ха-ха, он опять уличил себя? Опять открыл обман, малень¬
кую ложь, маленькую нечистоплотность? Ну да, на свет вы¬
ходило одно за другим: в безупречной жизни служащего и
супруга Фридриха Клейна все было совсем не безупречно,
вовсе не так опрятно, в каждом углу таилась нечистая сила!
Да, верно, значит, так было и с Вагнером. Композитора
Рихарда Вагнера Фридрих Клейн резко осуждал и ненави¬
дел. Почему? Потому что Фридрих Клейн не мог простить
себе, что в молодости восторгался этим же самым Вагнером.
В лице Вагнера он преследовал теперь свою собственную
восторженность молодых лет, свою собственную молодость,
свою собственную любовь. Почему? Потому что молодость,
восторженность, Вагнер и все такое мучительно напоминали
ему о потерянном, потому что он позволил женить себя на
женщине, которую не любил или, во всяком случае, любил
не по-настоящему, недостаточно. Ну и так же, как он посту¬
пил с Вагнером, точно так же поступал служащий Клейн со
многими и со многим. Он был порядочный человек, этот
господин Клейн, но за своей порядочностью он прятал не
что иное, как стыд и срам! Да, если быть честным, сколько
тайных мыслей приходилось ему скрывать от себя самого!
Сколько взглядов вслед красивым девушкам на улице,
сколько зависти к парочкам, встречавшимся ему вечерами,
коща он шел со службы домой к жене! И затем эти мысли
об убийстве. И разве не перенес он всю ненависть, которой
заслуживал сам, на того учителя?..
Он вдруг ужаснулся. Опять какая-то связь! Ведь фами¬
лия этого учителя-убийцы была — Вагнер! Так вот где со¬
бака зарыта! Вагнер — так звали того кошмарного, того
безумного преступника, который убил всю свою семью. Не
была ли уже много лет как-то связана с этим Вагнером вся
его жизнь? Не преследовала ли его всюду эта недобрая
тень?
368
Теперь, слава Богу, нить снова нашлась. Да, и на этого
Вагнера он коща-то, в давно прошедшие лучшие времена,
негодовал и ополчался, желая ему самых жестоких кар. А
позднее, не думая больше о Вагнере, вынашивал такую же
мысль и в воображении не раз видел себя убивающим жену
и детей.
И разве это не было, в сущности, очень понятно? Разве
это не было правильно? Разве не было очень легко дойти до
такой точки, коща ответственность за жизнь детей становит¬
ся для человека невыносимой, такой же невыносимой, как
собственная сущность и жизнь, которую ощущаешь лишь
как ошибку, лишь как вину и муку?
Со вздохом додумал он эту мысль до конца. Теперь он
был совершенно уверен, что уже тоща, впервые услышав о
вагнеровском убийстве, он сердцем понял и одобрил его,
одобрил, конечно, лишь как возможность. Уже тоща, коща
он еще не чувствовал себя несчастным, еще не чувствовал,
что его жизнь загублена, уже тоща, много лет назад, коща
он еще полагал, что любит жену и верит в ее любовь, уже
тоща его душа понимала учителя Вагнера и втайне соглаша¬
лась с его ужасным жертвоприношением. То, что он тоща
говорил и утверждал, было всеща лишь мнением его разу¬
ма, но не его сердца. Его сердце — тот сокровенный корень
в нем, из которого вырастала его судьба, — всеща-всеща
было другого мнения, оно понимало преступления и одоб¬
ряло их. Всеща было два Фридриха Клейна, явный и тай¬
ный, служащий и преступник, отец семейства и убийца.
Но в жизни он тоща всеща был на стороне «лучшей»
части своего «я», на стороне добропорядочного человека и
служащего, супруга и благонамеренного гражданина. Тай¬
ного мнения своей души он никоща не одобрял, он даже не
знал его. И все-таки этот внутренний голос незаметно управ¬
лял им и в конце концов сделал отщепенцем и беглецом!
Он благодарно удерживал эту мысль. Тут была все же
какая-то последовательность, было что-то разумное. Этого
было еще недостаточно, все важное оставалось еще темным,
но какая-то ясность, какая-то правда все-таки получилась.
А в правде-то как раз и было все дело. Только бы не поте¬
рять снова короткий конец нити!
Дрожа от усталости между бодрствованием и дремотой,
все время на рубеже между мыслью и снами, он сотни раз
терял эту нить, сотни раз находил ее снова — пока не на¬
ступил день и в окно не грянул уличный шум.
369
2
До полудня Клейн слонялся по городу. Он очутился пе¬
ред гостиницей, сад которой ему понравился, зашел туда,
посмотрел комнаты и снял номер. Лишь уходя, он поинте¬
ресовался названием отеля и прочитал: гостиница «Конти¬
ненталь»! Разве не было знакомо ему это название? Не было
ему предсказано? Так же, как и гостиница «Милано»? Но
вскоре он прекратил поиски и успокоился в этой атмосфере
чужеземности, игры и странной значительности, в которую,
кажется, угодила его жизнь.
Вчерашнее очарование постепенно вернулось. Очень хо¬
рошо, что он на юге, думал он благодарно. Его вела хорошая
рука. Если бы не это, если бы не было кругом этого милого
очарования, если бы нельзя было так спокойно бродить, за¬
быв о себе, он час за часом угнетался бы мыслями и впал
бы в отчаянье. А так ему удавалось часами пребывать в при¬
ятной усталости, не угнетаясь, без страха, без мыслей. Это
действовало на него благотворно. Очень хорошо, что суще¬
ствовал этот юг и что он предписал его себе. Юг облегчал
жизнь. Он утешал. Он одурманивал.
Даже сейчас, среди бела дня, пейзаж казался неправдо¬
подобным и фантастическим, горы были сплошь слишком
близки, слишком круты, слишком высоки, словно их выду¬
мал какой-то чудаковатый живописец. Но прекрасно было
все близкое и маленькое: дерево, кусок берега, дом, выкра¬
шенный в какие-нибудь прекрасные веселые краски, стена
сада, узкая полоска пшеницы под виноградными лозами,
маленькая и ухоженная, как садик при доме. Все это было
мило и приветливо, весело и радушно, дышало здоровьем и
доверием. Этот маленький, приветливый, уютный край с его
спокойно-веселыми людьми можно было полюбить. Воз¬
можность что-то полюбить — какое спасение!
Со страстным желанием забыть и потеряться убегавший
от притаившихся страхов страдалец увлеченно плыл по не¬
знакомому миру. Он вышел за город, в прелестные, прилеж¬
но возделанные угодья. Они напоминали ему не деревню и
не крестьян его родины, а Гомера и римлян, он нашел здесь
что-то древнее, полное культуры и одновременно первобыт¬
ное, невинность и зрелость, которых у Севера нет. Цветные,
часто ветхие, почти сплошь украшенные благодаря детям
полевыми цветами часовенки и фигурки, поставленные в
370
честь святых при дорогах, имели, казалось ему, тот же
смысл и были рождены тем же духом, что многочисленные
капища и святилища древних, которые в каждой роще, в
каждом роднике, в каждой горе чтили какое-нибудь боже¬
ство и веселая религиозность которых благоухала хлебом,
вином и здоровьем. Он вернулся в город, ходил под гулки¬
ми аркадами, уставая от грубых булыжных мостовых, за¬
глядывал в открытые лавки и мастерские, покупал, не соби¬
раясь читать их, итальянские газеты и наконец, совсем ус¬
талый, оказался в великолепном парке у озера. Здесь про¬
гуливались и сидели на скамейках, читая, курортники, и
ветки старых исполинских деревьев, словно бы влюбленных
в свои отражения, висели над черно-зеленой водой темными
сводами. Неправдоподобные растения, змеиные крушины и
скумпии, пробковые дубы и другие диковинки то дерзко, то
робко, то грустно торчали на покрытом цветами лугу, а у
дальних берегов по ту сторону озера плавали светлыми, бе¬
лыми и розовыми пятнами деревни и дачи.
Коща он, рухнув на скамью, уже задремывал, его резко
разбудили чьи-то твердые, упругие шаги. В высоких крас-
новато-коричневых ботинках на шнурках, в короткой юбке
над тонкими ажурными чулками, мимо прошла женщина,
девушка, прошла крепкой, уверенной, очень прямой и вы¬
зывающей походкой, элегантная1 надменная, с холодным
лицом, накрашенными губами и высокой пышной прической
из волос светлой, металлической желтизны. Взгляд ее мель¬
ком упал на него, наметанный, оценивающий, как взгляды
портье и боя в гостинице, и равнодушно последовал дальше.
Конечно, подумал Клейн, она права, я не тот человек, на
которого обращают внимание. На нашего брата такие не за¬
глядываются. Однако холодная мимолетность ее взгляда
втайне уязвила его, у него возникло ощущение, что им пре¬
небрегают, его презирают, видя только поверхность, только
внешнюю сторону, и из глубин его прошлого у него вздыби¬
лись иглы и шипы, чтобы от нее защититься. Уже было
забыто, что ее изящный, ее одушевленный ботинок, ее такая
упругая и уверенная походка, ее тугая нога в тонком шел¬
ковом чулке на миг пленили его и осчастливили. Исчез ше¬
лест ее платья и слабый аромат, напоминавший об ее воло¬
сах и ее коже. Отметено, отринуто было прелестное дуно¬
венье пола и возможной любви, которым она коснулась его.
Вместо этого пришли во множестве воспоминания. Как час¬
то он видел такие созданья, таких молодых, уверенных и
371
наглых особ, гулящих девок или светских львиц, как часто
злила его их бесстыдная наглость, раздражала их уверен¬
ность, отвращало их грубое, холодное кокетство! Сколько
раз он, бывало, на прогулках и в городских ресторанах всей
душой разделял возмущение своей жены такими неженст¬
венными и распутными созданьями!
Он угрюмо вытянул ноги. Эта баба испортила ему хоро¬
шее настроение! Он чувствовал досаду, раздраженье, обиду,
он знал: если эта желтоволосая еще раз пройдет мимо и еще
раз взглянет на него, он покраснеет и покажется себе — в
своей одежде, в своей шляпе, в своих башмаках, со своим
лицом, волосами и бородой — недотепой и ублюдком! Черт
бы; ее побрал! Одни только эти желтые волосы чего стоят.
Они фальшивые, таких желтых волос не существует в при¬
роде. И накрашена она тоже. Как может человек дойти до
того, чтобы красить губы — совсем по-дикарски! И подо¬
бные существа расхаживают так, словно им принадлежит
мир, держатся уверенно, нагло и отравляют всякую радость
порядочным людям.
Со вновь вскипевшими чувствами отвращения, досады и
скованности снова нахлынуло прошлое, и вдруг он спохва¬
тился: ты же ссылаешься на жену, ты же признаешь ее пра¬
воту, ты опять подчиняешься ей! На миг его охватило чув¬
ство: я дурак, что все еще причисляю себя к «порядочным
людям», я ведь уже не такой, я, как и эта желтая, принад¬
лежу к миру совсем иному, чем прежний мой мир, никак не
порядочному, к миру, ще порядочность и непорядочность
ничего не значат, ще каждый живет своей трудной жизнью.
На миг он почувствовал, что его презрение к желтой так же
поверхностно и неискренне, как некоща его возмущение
учителем-убийцей Вагнером и его неприязнь к другому Ваг¬
неру, чью музыку он коща-то находил слишком бурной. На
секунду его контуженное сознание, его потерянное «я» от¬
крыло ему, что всякое возмущение, всякая досада, всякое
презрение — ошибка, ребячество и бьют рикошетом по са¬
мому презирающему.
Это доброе, всезнающее сознание сказало ему также, что
он тут снова стоит перед тайной, разгадка которой важна
для его жизни, что эта гулящая девица или светская дама,
этот аромат изяществ, соблазна и пола вовсе не противны
ему и не оскорбительны, что он только внушил, только
вдолбил себе это в голову из страха перед своим подлинным
естеством, из страха перед Вагнером, из страха перед зверем
372
или бесом, которого он открыл бы в себе, если бы сбросил
с себя оковы и маски мещанских приличий. В нем молнией
встрепенулось что-то похожее на смех, на глумливый смех,
но тут же затихло. Он снова победил неприятное чувство.
Было жутко от безошибочности, с которой каждое пробуж¬
дение, каждая мысль ударяли его именно туда, ще он был
слаб и способен только на муки. И вот он снова на том же
месте, перед лицом своей неудавшейся жизни, своей жены,
своего преступления, своего безнадежного будущего. Вер¬
нулся страх, всезнающее «я» потонуло, как стон, которого
никто не услышал. О, что за мука! Нет, желтая в этом не
виновата. И от всего, что он против нее испытывает, ей-то
не больно, все это ударяет лишь по нему самому.
Он встал и быстро зашагал. Раньше он часто думал, что
живет довольно одиноко, и, не без тщеславия приписывая
себе некую философию довольства малым, слыл и среди
сослуживцев ученым, книжником и тайным эстетом. Госпо¬
ди, да ведь он никоща не был одинок! Он разговаривал с
сослуживцами, женой, детьми, с самыми разными людьми,
и за этим проходил день, и заботы становились терпимее. А
если он и бывал один, то это не было одиночество. Он раз¬
делял мнения, страхи, радости, утешения многих, целого
мира. Всеща вокруг него, да и внутри него, было что-то
общее, и, даже оставаясь один, в страдании, в унынии, он
всеща принадлежал к какой-то массе, к какому-то защища¬
ющему союзу, к миру благопристойных, добропорядочных
и честных. А теперь, теперь он узнал вкус одиночества.
Каждая стрела попадала в него самого, каждый утешитель¬
ный довод оказывался бессмысленным, каждое бегство от
страха приводило только в тот мир, с которым он распле¬
вался, который для него рассыпался и пропал. Все, что всю
его жизнь было хорошим и правильным, теперь перестало
быть таковым. Все надо добывать из себя самого, никто ему
не поможет. А что он находит в себе самом? Увы, неразбе¬
риху и смуту!
Автомобиль, от которого он посторонился, отвлек его
мысли, дал им новую пищу; он почувствовал в невыспав-
шейся голове пустоту и дурноту. «Автомобиль», — подумал
он или произнес, не понимая, что это значит. И, закрыв на
миг глаза от слабости, он снова увидел картину, которая
показалась ему знакомой, напомнила что-то, обновила его
мысли. Он увидел себя за рулем автомобиля, это был сон,
однажды ему приснившийся. В том чувстве, с каким он во
373
сне столкнул водителя и сам завладел рулем, было что-то
похожее на освобождение и торжество. Там было ще-то ка-
кое-то утешение. Трудно найти ще, но было. Была, пусть
лишь в воображении или во сне, отрадная возможность ве¬
сти свою машину совершенно самостоятельно, с презритель¬
ным смехом сбрасывая с сиденья любого другого водителя,
и даже если машина при этом вихляла, наезжала на тротуар,
на дома или на людей, то это было все-таки восхитительно,
куда лучше, чем ехать в безопасности по чужой воле и вечно
оставаться младенцем.
Младенцем! Он усмехнулся. Ему подумалось, что в мла¬
денчестве и в юности он часто проклинал свою ненавистную
фамилию Клейн. Теперь он ее уже не носил. Разве в этом
не было глубокого смысла, иносказанья, символа? Он боль¬
ше не маленький1, не младенец и не даст собой управлять.
В гостинице он выпил за обедом хорошего легкого вина,
которое заказал наудачу и название которого запомнил. Не¬
много на свете вещей, способных помочь, утешить, облег¬
чить жизнь; знать эти немногочисленные вещи важно. Это
вино — такая вещь, и южный воздух, и южный пейзаж —
тоже. Что еще? Есть ли еще что-нибудь? Да, размышление —
это тоже такая отрадная вещь, которая утешает и помогает
жить. Но не всякое размышление. О нет, есть такое раз¬
мышление, что это сущая мука, сущее безумие. Есть раз¬
мышление, которое мучительно роется в одном и том же и
ни к чему, кроме тошноты, страха и отвращения к жизни,
не приводит. Надо искать другое размышление, надо учить¬
ся другому размышлению. Размышление ли оно вообще?
Это состояние, расположение духа, которое всеща длится
лишь какие-то мгновения и от усилия размышлять только
пропадает. В этом вожделенном состоянии приходят озаре¬
ния, воспоминания, видения, фантазии, знания особого ро¬
да. Мысль (или сон) об автомобиле принадлежит к этому
роду, к этом славному и отрадному роду, как и внезапное
воспоминание об убийце Вагнере и о том разговоре, который
он вел по его поводу много лет назад. Странное озарение
насчет фамилии Клейн тоже такого рода. При этих мыслях,
при этих озарениях страх и мерзкое недомогание на какой-
то миг сменяются вспыхивающей вдруг уверенностью —
тоща кажется, что все хорошо, одиночество становится
1 По-немецки «клейн» (klein) значит «маленький».
3/4
сильным и гордым, прошлое преодоленным, грядущее не
ужасает тебя.
Это надо еще осмыслить, понять, этому надо научиться!
Он спасен, если ему удастся часто находить в себе мысли
этого рода, пестовать их в себе и вызывать. И он все думал
и думал. Он не помнил, как провел вторую половину дня,
эти часы растаяли у него как во сне, а может быть, он и
вправду спал, кто знает. Все время мысли его кружили вок¬
руг той тайны. Он очень много и упорно размышлял о своей
встрече с желтоволосой. Что она означала? Как получилось,
что эта мимолетная встреча, этот мгновенный обмен взгля¬
дами с незнакомой, красивой, но не симпатичной ему жен¬
щиной стали для него на долгие часы источником мыслей,
чувств, волнений, воспоминаний, самоистязательства, обви¬
нений? Как это получилось? У других тоже так? Почему
фигура, походка, нога, ботинок и чулок желтоволосой на
миг обворожили его? Почему потом ее холодно оцениваю¬
щий взгляд так отрезвил? Почему этот неприятный взгляд
не просто отрезвил его и вывел из состояния короткой эро¬
тической очарованности, а обидел, возмутил и унизил перед
самим собой? Почему против этого взгляда он выставил сло¬
ва и воспоминания, сплошь принадлежавшие его прежнему
миру? Слова, уже потерявшие смысл, доводы, в которые
сам больше не верил? Он мобилизовал против этой желто¬
волосой особы и ее досадного взгляда суждения своей жены,
слова своих сослуживцев, мысли и мнения своего прежнего
«я», не существующего уже гражданина и служащего Клей¬
на, он пожелал отстоять себя перед этим взглядом всеми
возможными средствами и вынужден был признать, что его
средства — это сплошь старые монеты, уже недействитель¬
ные. И все эти нудные резоны ничего не принесли ему, кро¬
ме подавленности, тревоги и тоскливого чувства собствен¬
ной неправоты! Но на миг он вновь ощутил то другое, же¬
ланное состояние, один миг он как бы качал головой по
поводу всех этих нудных резонов и был умнее. Одну секун¬
ду он был умнее, он знал: мои мысли об этой желтоволосой
глупы и недостойны. Судьба играет ею так же, как мною.
Бог любит ее, как любит меня.
Откуда донесся этот милый голос? Как найти его снова,
как приманить, на какой ветке сидела эта редкая, пугливая
птица? Этот голос говорил правду, а правда была благоде¬
янием, исцелением, прибежищем. Этот голос появлялся,
коща ты бывал внутренне, согласен с судьбой и любил себя
375
сам; то был голос Бога или голос собственного, самого ис¬
тинного, самого сокровенного «я», по ту сторону всякой
лжи, всяких оправданий и комедий.
Почему он слышал этот голос не всеща? Почему правда
всеща пролетала мимо него, как призрак, который можно
мельком увидеть только вполглаза и который исчезает, если
глядеть на него во все глаза? Почему он снова и снова видел
открытой эту дверь к счастью, а коща он хотел войти в нее,
она оказывалась запертой?!
Очнувшись у себя в номере от дремоты, он потянулся к
томику Шопенгауэра*, лежавшему на тумбочке и обычно со¬
провождавшему его в поездках. Он раскрыл книгу наугад и
прочел: «Озираясь на пройденный путь, особенно же при¬
сматриваясь к своим злосчастным шагам и их последствиям,
мы часто не понимаем, как могли мы сделать то-то или не
сделать того-то; сдается, будто наши шаги направляла по¬
сторонняя сила. Гёте говорит в «Эгмонте»: “Человек дума¬
ет, что сам творит свою жизнь, что им руководит собствен¬
ная воля, а на деле сокровенные силы, в нем заложенные,
неудержимо ведут его навстречу его судьбе”» Не содержа¬
лось ли в этих словах чего-то, что касалось его? Что было
тесно и глубоко связано с его сегодняшними мыслями?.. Он
стал жадно читать дальше, но ничего больше не выходило,
дальнейшие строки и фразы его не задевали. Он положил
книгу, взглянул на карманные часы, обнаружил, что они не
заведены и остановились, встал, посмотрел в окно: дело
шло, по-видимому, к вечеру.
Он почувствовал себя несколько утомленным, как после
большого умственного усилия, но не измотанным без толку,
а уставшим с пользой, как после удачной работы. Я про¬
спал, должно быть, час или больше, подумал он, подходя к
зеркальному шкафу, чтобы пригладить щеткой волосы. На
душе у него было на редкость вольно и славно, и в зеркале
он увидел себя улыбающимся. На его бледном, переутом¬
ленном лице, которое он давно видел только искаженным,
окаменевшим, безумным, играла мягкая, приветливая, до¬
брая улыбка. Он удивленно покачал головой и улыбнулся
себе самому.
Он сошел вниз, в ресторане за некоторыми столиками
уже ужинали. Разве он не ел только что? Все равно, ему
опять очень захотелось есть, и, с интересом расспрашивая
официанта, он заказал обильный ужин.
376
— Не угодно ли сударю съездить сегодня вечером в Ка-
стильоне? — спросил официант, накрывая на стол. — От
гостиницы пойдет катер.
Клейн поблагодарил, покачав головой. Нет, такие гости¬
ничные мероприятия не для него... Кастильоне? Он уже
слышал об этом. Какое-то увеселительное местечко с игор¬
ным домом, что-то вроде маленького Монте-Карло. Госпо¬
ди, что ему там делать?
Когда подавали кофе, он вынул из букета, стоявшего
перед ним в хрустальной вазе, маленькую белую розу и су¬
нул ее себе в петлицу. От соседнего столика до него донесся
дым раскуриваемой сигары. Верно, хорошей сигары ему то¬
же хочется.
Затем он в нерешительности побродил перед отелем. Он
не прочь был снова отправиться в ту сельскую местность,
ще вчера вечером, услышав, как поет итальянка, и увидев,
как искрами кружатся светляки в магическом танце, впер¬
вые ощутил сладостную реальность. Но его тянуло и в парк,
к тихой воде в тени листвы, к диковинным деревьям, и,
встреть он снова ту особу с желтыми волосами, ее холодный
взгляд теперь не рассердил бы и не смутил бы его. Кстати,
как невообразимо давно было вчера! Как освоился он уже
на этом юге! Сколько пережил, передумал, узнал!
Он прошел целую улицу, и его омывал славный, ласко¬
вый ветер летнего вечера. Вокруг только что зажегшихся
фонарей страстно кружили ночные бабочки, рачительные
хозяева поздно закрывали свои лавки, стуча по ставням же¬
лезными брусьями, множество детей еще не угомонились и
бегали, играя, между столиками кафе, за которыми прямо
на улице люди пили кофе и прохладительные напитки. В
нише стены в мерцанье свечей улыбалась мадонна. И на
скамейках у озера тоже шла еще жизнь, там смеялись, спо¬
рили, пели, а на воде еще там и сям были лодки с гребцами
без пиджаков и девушками в белых блузках.
Клейн легко нашел дорогу к парку, но высокие ворота
оказались заперты. За высокими железными брусьями сто¬
яла немая темень деревьев, чужая и полная уже ночи и сна.
Он долго смотрел туда. Потом улыбнулся и только теперь от¬
дал себе отчет в тайном желании, которое привело его сюда, к
запертым воротам. Что ж, какая разница, можно и без парка.
Спокойно, сидя на скамейке у озера, он глядел на про¬
хожих. Развернув при ярком свете фонаря итальянскую га¬
зету, он попытался читать. Он не все понимал, но каждая
377
фраза, которую удавалось перевести, доставляла ему удо¬
вольствие. Лишь постепенно начал он следить за смыслом,
не задерживаясь на грамматике, и не без удивления обнару¬
жил, что статья, которую он читал, жестоко ругает его народ
и его отечество. Как странно, подумал он, все это еще суще¬
ствует! Итальянцы писали о его народе в точности так же,
как отечественные газеты всеща писали об Италии, так же
осуждающе, так же возмущенно, с такой же непоколебимой
уверенностью в собственной правоте и чужой неправоте!
Ведь и то, что эта газета с ее ненавистью и хулой не смогла
ни возмутить, ни рассердить его, было странно. Или не бы¬
ло странно? В самом деле, зачем возмущаться? Ведь все это
был стиль и язык мира, к которому он уже не принадлежал.
Пускай это был хороший, лучший, правильный мир — это
не был уже его мир.
Он оставил газету на скамейке и пошел дальше. Из ка-
кого-то сада светились над кустами роз сотни разноцветных
огней. Люди входили туда, он присоединился. Касса, слу¬
житель, стенд с плакатами. Среди сада был зал без стен,
одна только большая шатровая крыша, ще и висели все эти
бесчисленные разноцветные лампочки. Множество наполо¬
вину занятых столиков наполняло этот открытый воздуху
зал; в глубине яркими красками, серебряной, зеленой и ро¬
зовой, ослепительно сверкала узенькая эстрада. Под нею
сидели музыканты, небольшой оркестр, легко и чисто ды¬
шала в разноцветной ночи флейта, глубоко и мощно вторил
гобой, глухо, робко и тепло звучала виолончель. Над ними,
на эстраде, пел комические песенки какой-то старик, его
накрашенный рот неподвижно смеялся, в его голой печаль¬
ной голове, как в зеркале, отражалось буйство огней.
Ничего подобного Клейн не искал, на миг он почувство¬
вал что-то вроде разочарования, критического недовольст¬
ва, старого страха перед сидением в одиночестве среди ве¬
сенней и нарядной толпы; искусственная праздничность, ка¬
залось ему, не подходила к душистому вечернему саду. Од¬
нако он сел, и свет, струившийся из множества пестрых не¬
ярких лампочек, вскоре умиротворил его, окутав как бы
волшебным флером этот открытый зал. Нежно и проникно¬
венно лилась негромкая музыка, смешиваясь с ароматом
множества роз. Довольные, принаряженные, полные сдер¬
жанного веселья люди сидели кругом, прелестно припуд¬
ренные мягким цветным светом, плавали над чашками, бу¬
тылками и вазочками с мороженым светлые лица и перелив¬
378
чатые дамские шляпы, и даже розовое и желтое мороженое
в вазочках, даже бокалы с красными, зелеными, желтыми
напитками, даже они вписывались в эту картину празднич¬
ными драгоценностями.
Никто не слушал комика. Отрешенно и одиноко стоял
этот убогий старик на своей эстраде и пел заученное, вели¬
колепный свет стекал вниз с его бедной фигуры. Он закон¬
чил свой номер и был, казалось, доволен, что можно уйти.
За передними столиками похлопали два-три человека. Пе¬
вец удалился, но вскоре вошел в зал через сад и сел за один
из ближайших к оркестру столиков. Какая-то молодая дама
налила ему в бокал содовой, приподнявшись при этом, и
Клейн взглянул на нее. Это была желтоволосая.
Откуда-то пронзительно, настойчиво и протяжно зазве¬
нел длинный звонок, в зале зашевелились. Многие вышли
без шляп и пальто. Опустел и столик возле оркестра, желтая
ушла вместе с другими, ее волосы помелькали светлым пятном
в сумраке сада. За столиком остался только старик певец.
Клейн заставил себя подняться и направился к нему. Он
вежливо поздоровался со стариком, тот только кивнул.
— Не скажете ли вы, что означает этот звонок? — спро¬
сил Клейн.
— Перерыв, — сказал комик.
— А куда все пошли?
— Играть. Перерыв на полчаса, и пока можно поиграть
в курзале.
— Спасибо... Я не знал, что здесь есть и казино.
— Ерундовое. Детская забавка, высшая ставка — пять
франков.
— Большое спасибо.
Он уже снова приподнял шляпу и повернулся. Но тут
его осенило, что старика можно спросить насчет желтой. Тот
знал ее.
Он помедлил, еще держа шляпу, потом отошел. Что ему,
собственно, нужно? Какое ему до нее дело? Но он чувство¬
вал, что ему есть до нее дело. Это просто робость, какое-то
безумие, какая-то скованность. В нем поднялась тихая вол¬
на недовольства, тонкое облачко. Опять надвигалась тя¬
жесть, опять он был неловок, несвободен, зол на себя. Луч¬
ше пойти домой. Что ему делать здесь, среди веселых лю¬
дей? Ему здесь не место.
Мысли его прервал официант, требовавший денег.
Клейн возмутился:
379
— Не можете подождать, пока вас позовут?
— Простите, я думал, сударь уходит. Мне никто не воз¬
местит убытка, если гость удерет.
Он дал на чай больше, чем следовало.
Выходя из зала, он увидел, что желтая возвращается из
сада. Он подождал, чтобы она прошла мимо него. Держась
очень прямо, она шагала сильно и легко, как на пружинах.
Ее взгляд скользнул по нему холодно, не узнав. Он увидел ее
лицо при ярком свете, спокойное и умное лицо, твердое и
бледное, немного надменное, увидел накрашенный алый рот,
серые настороженные глаза, красивое, хорошо вылепленное
ухо, в котором блеснул продолговатый зеленый камень. Она
шла в белых шелках, ее стройная шея тонула в опаловых те¬
нях, охваченная тонкой цепочкой с зелеными камешками.
Он поглядел на нее, тайно взволнованный и опять с
двойственным впечатлением. Что-то в ней манило, говорило
о счастье и тепле, благоухало плотью, волосами, ухоженной
красотой, а что-то отталкивало, казалось неправильным, за¬
ставляло бояться разочарования. То был старый, привитый
воспитанием и всю жизнь хранимый страх перед тем, что
казалось ему развращенностью, перед выставляющей себя
напоказ красотой, перед открытым напоминанием об отно¬
шениях полов и любовной борьбе. Он чувствовал, что эта
двойственность заключена в нем самом. Вот опять Вагнер,
вот опять мир красоты, но без дисциплины, мир прелести,
но без скрытности, без робости, без нечистой совести. В нем
сидел враг, который не пускал его в рай.
Служители переставили столики, освободив середину за¬
ла. Часть гостей не вернулась.
«Остаться!» — крикнуло желание в одиноком при¬
шельце. Он знал заранее, какая предстоит ему ночь, если
он сейчас удалится. Такая же, как прошлая, а то и поху¬
же. Мало сна, скверные сны, безнадежность и самоистяза¬
ние, вдобавок вопль чувственности, мысль о цепочке зеле¬
ных камней на белой и жемчужной женской груди. Может
быть, он скоро уже, скоро уже дойдет до точки, коща
жизнь станет невыносима. А он ведь привязан к жизни,
как ни странно. Привязан ли в самом деле? Да разве
иначе был бы он здесь? Разве ушел бы он от жены, сжег
бы за собой корабли, заварил бы всю эту кашу, подрубил
бы сук, на котором сидел, разве махнул бы на этот юг,
если бы не был привязан к жизни, если бы в нем не было
380
желаний и будущего? Разве он не почувствовал этого се¬
годня, ясно и великолепно, за хорошим вином, перед за¬
пертыми воротами парка, на скамейке на набережной?
Он остался и нашел место за столиком рядом с тем, ще
сидели певец и желтая. Там собрались шесть-семь человек,
явно своих здесь, составлявших как бы часть этого увесе¬
лительного предприятия. Он то и дело на них поглядывал,
между ними и завсещатаями этого сада были фамильяр¬
ные отношения, оркестранты тоже знали их и время 5т
времени подходили к их столику или громко шутили с
ними, да и те обращались к официантам на «ты» и по
имени. Говорили наперебой по-немецки, по-итальянски и
по-французски.
Клейн наблюдал за желтой. Она оставалась строгой и
холодной, он еще ни разу не видел ее улыбающейся, ее
спокойное лицо казалось неспособным меняться. Он ви¬
дел, что за своим столиком она что-то значила, в том, как
держались с нею мужчины и девушки, чувствовалось това¬
рищеское уважение к ней. Он услыхал и ее имя: Терезина.
Он задумался, красива ли она, нравится ли она ему, в
сущности. Он не мог это определить. Красивы были, не¬
сомненно, ее фигура и ее походка, даже необыкновенно
красивы, ее манера сидеть и движения ее очень ухожен¬
ных рук. Но в ее лице, в ее взгляде его занимали и
раздражали тихая холодность, уверенность и спокойствие,
неподвижность чуть ли не маски. Она выглядела как чело¬
век со своим собственным раем и своим собственным адом,
которых с ним никто не разделит. И в этой душе, казав¬
шейся довольно-таки жесткой и неприступной, возможно,
гордой, даже злой, — в этой душе тоже наверняка горели
желание и страсть. Какие чувства она ищет и любит, от
каких бежит? В чем ее слабости, ее страхи, ее тайны? Как
выглядит она, коща смеется, коща спит, коща плачет,
коща целует?
И как это получилось, что она уже полдня занимает его
мысли, что он наблюдает за ней, изучает ее, боится ее,
сердится на нее, хотя даже не знает, нравится ли она ему
или нет?
Может быть, она его цель и судьба? Не влечет ли его к
ней та же тайная сила, что повлекла его на юг? Какой-то
инстинкт, какая-то линия судьбы, какой-то пожизненный
381
безотчетный порыв? Не предназначена ли ему встреча с
ней? Не написана ли ему на роду?
Напряженно прислушавшись, он выловил обрывок ее ре¬
чи из многоголосого гомона. Он услышал, как она сказала
какому-то смазливому гибкому юнцу с черными кудрями и
гладким лицом:
— Мне хочется еще разок поиграть по-настоящему, не
здесь, не на шоколадки, а в Кастильоне или в Монте-Кар-
ло. — И потом, коща тот что-то ответил, еще раз: — Нет,
вы просто не знаете, каково это! Это, может быть, гнусно,
может быть, неумно, но это захватывает.
Теперь он кое-что знал о ней. Он был доволен, что под¬
стерег и подслушал ее. Через маленькое освещенное оконце
умудрился он, чужеземец и посторонний, на миг, как лазут¬
чик, заглянуть в ее душу. У нее есть желания. Ее мучит
потребность в чем-то волнующем и опасном, в чем-то таком,
из-за чего можно пропасть. Ему было приятно знать это...
А как насчет Кастильоне? Не слышал ли он сегодня уже
однажды об этом? Коща? Где?
Все равно, сейчас он не в состоянии думать. Но сейчас у
него опять, как не раз уже в эти странные дни, появилось
чувство, что все, что он делает, слышит, видит и думает,
полно смысла и необходимо, что его ведет чья-то рука, что
какие-то длинные, далекие ряды причин приносят плоды.
Вот и хорошо, пускай приносят.
Его опять охватило чувство счастья, чувство душевного
покоя и уверенности, восхитительное для того, кто знает
страх и ужас. Он вспомнил одно замечание, услышанное им
в детстве. Они, школьники, говорили между собой о том,
как ухитряются канатоходцы так уверенно и бесстрашно хо¬
дить по канату. И кто-то сказал: «Если провести мелом чер¬
ту по полу, идти точно по этой черте так же трудно, как по
самому тонкому канату. И все же ты по ней преспокойно
проходишь, потому что тут нет никакой опасности. Если ты
представишь себе, что перед тобой просто проведенная ме¬
лом черта, а воздух — это пол, ты уверенно пройдешь по
любому канату».
Это он сейчас вспомнил. Какие прекрасные слова! А раз¬
ве у него не все наоборот? Он ведь и по самому ровному
полу не может пройти уверенно и спокойно — не потому ли,
что принимает его за канат?
Он был страшно рад, что ему приходят в голову такие
отрадные вещи, что они дремлют в нем и время от времени
382
выходят на свет. Внутри себя носишь все, что имеет какое-то
значение, никто со стороны не может тебе помочь. Не быть
на ножах с самим собой, жить с самим собой в любви и
доверии — и тоща сможешь все. Тогда сможешь не только
ходить по канату, но и летать.
Забыв все окружающее, пробираясь по мягким, скольз¬
ким тропам души, как охотник и следопыт, за этими мысля¬
ми, он склонился над столиком. В эту минуту желтая повер¬
нулась в его сторону и поглядела на него. Взгляд ее задер¬
жался на нем ненадолго, но вник в его лицо, и, коща Клейн,
заметив это, тоже взглянул на нее, он почувствовал что-то
похожее на уважение, на участие и на родство. На этот раз ее
взгляд не причинил ему боли, не обидел его. На этот раз он
почувствовал, что она видела его, его самого, не его одежду и
манеры, не его прическу и руки, а все настоящее, неизмен¬
ное, таинственное в нем, все неповторимое, божественное,
судьбу.
Он мысленно попросил у нее прощения за свои недавние
горькие и скверные мысли о ней. Но нет, тут не за что было
просить прощения. Все его злые и глупые мысли и чувства,
направленные против нее, били по нему самому, не по ней.
Нет, все было хорошо.
Вдруг его испугало возобновление музыки. Оркестр за¬
играл какой-то танец. Но эстрада оставалась пустой и тем¬
ной, взгляды гостей были направлены не на нее, а на сво¬
бодный четырехугольник между столиками. Он догадался,
что начинаются танцы.
Вскинув глаза, он увидел, что у соседнего столика под¬
нимаются желтая и юный безусый щеголь. Он усмехнулся
над собой, заметив, что и против этого юнца у него что-то
есть, что он, Клейн, лишь нехотя признает его изящество,
приятность его манер, красоту его волос и лица. Юнец по¬
дал ей руку, отвел ее на площадку, появилась еще одна
пара, и вот обе пары стали изящно, уверенно и красиво
танцевать танго. Клейн мало в этом смыслил, но скоро уви¬
дел, что танцует Терезина великолепно. Он видел: она де¬
лает что-то, в чем знает толк и в чем она мастерица, что
заложено в ней и естественно из нее выходит. Чернокудрый
юнец тоже танцевал хорошо, они подходили друг другу. Их
танец рассказывал зрителям сплошь приятные, ясные, про¬
стые и славные вещи. Легко и нежно лежала рука в руке, с
готовностью и радостью выполняли дышавшую нежностью
и силой работу их колени, руки, ступни, тела. Их танец
383
выражал счастье и радость, красоту и роскошь, сладость
жизни и умение жить. Он выражал также половую любовь,
но не буйную, не пылкую, а любовь, полную естественности,
наивности и прелести. Они танцем показывали богатым лю¬
дям, курортникам все прекрасное, что было в их жизни и
что те сами не могли выразись и без такой помощи даже
почувствовать. Эти оплачиваемые, обученные танцоры слу¬
жили хорошему обществу некоей заменой. Они, которые са¬
ми так хорошо и складно не танцевали, которые не могли
по-настоящему наслаждаться приятным баловством своей
жизни, заставляли этих людей показывать себе танцем, как
хорошо им живется. Но это еще не все. Они не только за¬
ставляли кого-то разыгрывать перед собой легкость и весе¬
лое самодовольство жизни, им еще вдобавок напоминали о
природе, о невинности чувств и ощущений. Из своей сума¬
тошной и сверхзанятой или, наоборот, ленивой и пресыщен¬
ной жизни, мечущейся между неистовой работой, неистовы¬
ми наслаждениями и вынужденным санаторным покаянием,
они глупо, с улыбкой и тайной растроганностью взирали на
танец этих красивых и ловких молодых людей как на пре¬
красную весну жизни, как на далекий, потерянный рай, о
котором только рассказывают детям по праздникам, в кото¬
рый уже почти не верят, но который кажется пределом же¬
ланий и снится ночами.
Во время танца лицо желтоволосой менялось, и Фрид¬
рих Клейн глядел на это с чистым восторгом. Очень посте¬
пенно и незаметно, как розовая полоска на утреннем небе,
появилась на ее строгом, холодном лице медленно вырос¬
шая, медленно согревшаяся улыбка. Глядя прямо вперед,
она улыбалась, как бы проснувшись, так, словно только
благодаря танцу она, холодная, согрелась и долностью
ожила. Улыбался и партнер, улыбалась и вторая пара, и
на всех четырех лицах улыбки были удивительно прекрас¬
ны, хотя и напоминали маски своей безличностью, — но у
Терезины улыбка была прекраснее и таинственнее, чем у
всех, никто не улыбался так, как она, так безучастно ко
внешнему миру, так светясь изнутри от собственной радо¬
сти. Клейн глядел на это с глубокой растроганностью, с
таким волнением, словно открыл некое потайное сокро¬
вище.
— Какие замечательные у нее волосы! — услышал он
чей-то тихий возглас поблизости. Он подумал, что сам-то он
384
ругал и находил сомнительными эти замечательные светло-
желтые волосы.
Танго кончилось. Клейн видел, как Терезина стояла те¬
перь рядом с партнером, еще державшим пальцами ее левую
руку на высоте плеча, видел, как догорал, медленно угасая,
этот волшебный свет на ее лице. Раздались негромкие хлоп¬
ки, и все провожали взглядами обоих танцоров, коща они
легким шагом возвращались к своему столику.
Следующий танец, начавшийся после короткого пере¬
рыва, исполняла только одна пара, Терезина и ее краси¬
вый партнер. Это была вольная фантазия, маленькая ком¬
позиция, почти пантомима, которую каждый танцор играл
самостоятельно и которая лишь в нескольких сверкающих
кульминациях и в стремительном заключении перешла в
парный танец.
С полными счастья глазами Терезина парила так вольно
и самозабвенно, ее невесомое тело отвечало призывам музы¬
ки с таким блаженством, что в зале сделалось тихо и все
только на нее и глядели. Танец закончился вихревым кру¬
жением, при котором партнер и партнерша касались друг
друга лишь ладонями и носками и, низко запрокинув голо¬
вы, вертелись юлой.
Во время этого танца у всех было такое ощущение, что,
жестикулируя и двигаясь, разъединяясь и вновь соединя¬
ясь, то и дело теряя и вновь обретая равновесие, оба танцора
изображали чувства, всем знакомые и для всех желанные,
но которые лишь немногим счастливцам дано испытать так
просто, с такой силой и полнотой: радость здорового чело¬
века от самого себя, возрастание этой радости в любви к
другому, готовность доверчиво отдаться желаниям, мечтам
и играм сердца. Многие на миг задумались и загрустили о
том, что между их жизнью и их порывами царят разлад и
раздор, что их жизнь — не танец, а изнемогание под тяже¬
стями, тяжестями, которые они взвалили на себя, в сущно¬
сти, сами.
Следя за танцем, Фридрих Клейн глядел сквозь множе¬
ство прожитых лет, как сквозь темный туннель, и по ту
сторону, на солнце и на ветру, зеленым сияющим миром
виднелось утраченное: молодость, сильные простые чувства,
доверчивая готовность к счастью, — и все это оказалось
опять странно близко, рукой подать, было приближено и
отражено волшебством.
13 4-161
385
Еще сохраняя на лице проникновенную улыбку танца,
прошла мимо него Терезина. Его пронзила радость, объял
восторг. И, словно он позвал ее, она вдруг проникновенно
на него посмотрела, еще не проснувшаяся, еще полная сча¬
стья в душе, еще с этой прекрасной улыбкой на губах. И он
тоже улыбнулся ей, близкому сиянию счастья, сквозь тем¬
ный туннель стольких потерянных лет.
Одновременно он встал и протянул ей руку, как старый
друг, не говоря ни слова. Танцорка взяла ее и на миг задер¬
жала, не останавливаясь. Он пошел за ней. За столиком
артистов его усадили, теперь он сидел рядом с Терезиной и
видел, как мерцают на светлой коже ее шеи продолговатые
зеленые камни.
Он не участвовал в разговорах, которых почти не пони¬
мал. За головой Терезины он видел, в более ярком свете са¬
довых фонарей, цветущие кусты роз — темные полные ша¬
ры, четко очерченные, с летавшими вокруг них светляками.
Мысли его отдыхали, думать было не о чем. Шары роз пока¬
чивались от ночного ветра, Терезина сидела рядом с ним, в
ухе у нее висел, поблескивая, зеленый камень. Мир был в по¬
рядке.
Теперь Терезина положила руку ему на рукав.
— Мы поговорим. Не здесь. Я вспомнила, что видела вас
в парке. Я буду завтра там, в то же время. Сейчас я устала
и скоро пойду спать. Лучше уйдите раньше, а то мои това¬
рищи попросят у вас денег взаймы.
Она задержала проходившего мимо официанта:
— Эудженио, сударь хочет расплатиться.
Клейн расплатился, пожал ей руку, раскланялся и ушел —
к озеру, куда-нибудь. Немыслимо было сейчас вернуться в
свой номер и лечь. Удаляясь вдоль озера от городка и пред¬
местий, он шел до тех пор, пока не кончились скамейки на
берегу и сады. Потом он сел на парапет набережной и напе¬
вал про себя, без голоса, отрывки из забытых песен времен
своей юности, пока не похолодало и обрывистые горы не
сделались какими-то враждебно чужими. Тут он пошел об¬
ратно, со шляпой в руке.
Дверь ему открыл сонный ночной портье.
— Да, я запоздал, — сказал Клейн и дал ему франк.
— О, нам не привыкать. Вы еще не последний. Катер из
Кастильоне тоже еще не вернулся.
386
3
Танцорка была уже на месте, коща Клейн пришел в
парк. Она пружинящим шагом ходила по саду вокруг газо¬
нов и вдруг очутилась перед ним у тенистого входа в
какую-то рощицу.
Терезина внимательно осмотрела его своими светло-се-
рыми глазами, лицо ее было серьезно и немного нетерпели¬
во. Сразу же на ходу она начала говорить:
— Вы можете мне объяснить, как это вчера вышло?
Как получилось, что мы так сталкивались? Я думала об
этом. Вчера я видела вас в саду курзала два раза. Первый
раз вы стояли у выхода и посмотрели на меня, вид у вас
был скучающий или недовольный, и, увидев вас, я вспом¬
нила: этот мне уже попадался в парке. Впечатление было
неважное, и я постаралась тут же забыть вас. Потом я
увидела вас опять, не далее как через четверть часа. Вы
сидели за соседним столиком, и вид у вас оказался вдруг
совсем другой, я не сразу заметила, что вы — тот самый,
который попадался мне прежде. А потом, после моего
танца, вы вдруг очутились передо мной и держали меня за
руку, или я вас, я уж не помню. Как это вышло? Вы-то,
наверно, что-то знаете. Надеюсь, вы пришли не затем,
чтобы объясниться мне в любви?
Она повелительно взглянула на него.
— Не знаю, — сказал Клейн. — Я пришел без опреде¬
ленных намерений. Я люблю вас со вчерашнего дня, но об
этом нам ведь незачем говорить.
— Да, поговорим о другом. Вчера между нами в какой-то
миг было что-то, что меня заинтересовало и испугало, слов¬
но у нас оказалось вдруг что-то схожее или общее. Что это
такое? И главное — что это за перемена произошла с вами?
Как это получилось, что в течение одного часа у вас было
два совершенно разных лица? У вас был вид человека, с
которым случилось что-то очень важное.
— Какой у меня был вид? — спросил он по-детски.
— Ну, сперва вид пожилого, довольно брюзгливого, не¬
приятного господина. Вид мещанина, привыкшего срывать
на других злость за собственную никчемность.
Он слушал с большим интересом и энергично кивал го¬
ловой. Она продолжала:
13*
387
— А то, что было потом, после, описать трудно. Вы сиде¬
ли, слегка наклонившись вперед; коща вы случайно попа¬
лись мне на глаза, я в первую секунду еще подумала: Госпо¬
ди, до чего же у этих мещан грустные позы! Вы подпирали го¬
лову рукой, и вдруг это стало выглядеть очень странно, так,
будто вы — один в целом мире и вам совершенно все равно,
что будет с вами и со всем миром. Ваше лицо было как мас¬
ка — то ли до ужаса грустно, то ли до ужаса равнодушно...
Она запнулась, как бы ища слов, но ничего больше не
сказала.
— Вы правы, — скромно сказал Клейн. — Вы увидели
все так верно, что мне впору дивиться. Вы прочли меня, как
письмо. Но ведь это, в сущности, естественно и правильно,
что вы все это увидели.
— Почему естественно?
— Потому что, танцуя, вы чуть по-другому выражаете
это же. Коща вы танцуете, Терезина, да и вообще в иные
мгновения, вы, как« дерево, или гора, или животное, или
звезда, совсем одиноки в мире. Вы не хотите быть никакой,
кроме той, какая вы есть, неважно, добрая ли вы или злая.
Разве это не то же самое, что вы увидели во мне?
Она испытующе поглядела на него, не отвечая.
— Вы странный человек, — сказала она затем нереши¬
тельно. — Так что же — вы действительно такой, каким
тоща выглядели? Вам действительно безразлично, что с ва¬
ми будет?
— Да. Только не всеща. Часто мне бывает и страшно.
Но потом опять это возвращается, и страх проходит, и тоща
все небезразлично. Тоща ты силен, или, пожалуй, безраз¬
лично — не то слово, вернее сказать, все восхитительно и
желанно, и будь что будет.
— В какой-то миг я даже сочла возможным, что вы —
преступник.
— Это тоже возможно. Даже вероятно. Понимаете, пре¬
ступник — это так говорится, а имеется в виду, что человек
делает что-то такое, что другие запретили ему делать. Но
ведь сам-то он, преступник, делает только то, что в нем
есть... Понимаете, в этом и состоит сходство между нами:
мы оба порой, в редкие мгновенья, делаем то, что в нас есть.
Это величайшая редкость, большинство людей вообще этого
не знает. И я тоже не знал этого, я говорил, думал, делал
только чужое, только заученное, только хорошее и правиль¬
388
ное, я жил такой заученной жизнью, пока в один прекрас¬
ный день это не кончилось. Я больше не мог, я должен был
уйти прочь, хорошее перестало быть хорошим, правиль¬
ное — правильным, жизнь сделалась нестерпимой. Но я
хочу все-таки терпеть ее, я даже люблю ее, хотя она достав¬
ляет столько мук.
— Может быть, вы скажете мне, как вас зовут и кто вы
такой?
— Я тот, кого вы видели перед собой, и никто больше. У
меня нет имени, нет звания, нет и занятия. От всего этого мне
пришлось отказаться. Дело со мной обстоит так: после дол¬
гих лет добропорядочной и трудовой жизни я в один прекрас¬
ный день упал из гнезда, это случилось не так давно, и теперь
мне придется либо погибнуть, либо научиться летать. До ми¬
ра мне больше нет дела, я теперь совершенно один.
Немного смущенно она спросила:
— Вы не были в лечебнице?
— Сумасшедший, думаете? Нет. Хотя и это могло бы
быть.
Он отвлекся. Мысли захватили его. Забеспокоившись,
он добавил:
— Коща об этом говорят, даже самое простое сразу де¬
лается сложным и непонятным. Не надо нам говорить об
этом!.. Ведь так поступают, ведь говорят об этом только
тоща, коща не хотят это понять.
— Что вы имеете в виду? Я действительно хочу понять.
Поверьте мне! Меня это очень интересует.'
Он оживился и улыбнулся.
— Да, да. Вы хотите об этом побеседовать. Вы что-то
узнали и теперь хотите об этом поговорить. Ах, это не по¬
может. Говорить — это верный путь к тому, чтобы все по¬
нять не так, сделать все плоским и скучным... Вы же не
хотите понять меня, да и себя тоже! Вы хотите только со¬
хранить спокойствие, несмотря на то что почувствовали ка¬
кой-то призыв. Вы хотите отделаться от меня и от этого
призыва тем, что находите рубрику, под которую можно
меня подогнать. Вы бЬрете на пробу преступника и душев¬
нобольного, хотите знать мое положение и имя. Но все это
только уводит от понимания, все это обман, милая барышня,
все это плохие заменители понимания, все это скорее бегство
от желания понять, от обязанности понять.
389
Запнувшись, он страдальчески провел рукой по глазам,
затем, по-видимому, вспомнил о чем-то приятном и опять
улыбнулся.
— Ах, понимаете, когда вчера вы и я в какой-то миг
чувствовали совершенно одно и то же, мы ничего не говори¬
ли, ничего не спрашивали и ни о чем не думали... Мы вдруг
подали руки друг другу, и это было хорошо. А сейчас...
сейчас мы говорим, думаем, объясняем, и все, что было та¬
ким простым, стало странным и непонятным. А ведь вам
совсем легко было бы понять меня так же хорошо, как я
понимаю вас.
— Вы думаете, что так хорошо меня понимаете?
— Да, конечно. Как вы живете, я не знаю. Но вы живете,
как жил я, как живут все, большей частью во мраке и в
разлад? с собой, ради какой-то цели, ка^ой-то обязанности,
какой-то задачи. Так живут почти все люди, этим болен весь
мир, от этого он и погибнет. Но иногда, например коща вы
танцуете, задача или обязанность у вас пропадает, и вы жи¬
вете вдруг совершенно иначе. У вас появляется вдруг такое
чувство, будто вы одна в мире или можете завтра умереть,
и тоща наружу выходит все, что вы действительно собой
представляете. Коща вы танцуете, вы заражаете этим других.
Вот ваша тайна.
Она зашагала быстрее. На самом краю выступа над озе¬
ром она остановилась.
— Вы странный человек, — сказала она. — Многое я
понимаю. Но... что вам, собственно, от меня нужно?
Он опустил голову и на миг погрустнел.
— Вы привыкли, что от вас всеща чегб-то хотят, Тере¬
зина, а мне не нужно от вас ничего, чего не хотите и не рады
сделать вы сами. Что я люблю вас, это вам может быть
безразлично. Быть любимым не есть счастье. Каждый чело¬
век любит себя самого, и все-таки тысячи мучаются всю
жизнь. Нет, быть любимым не есть счастье. Но любить —
это счастье!
— Я бы с удовольствием доставила вам какую-нибудь
радость, если бы могла, — сказала Терезина медленно, как
бы с жалостью.
— Это вы можете, если позволите мне исполнить какое-
нибудь ваше желание.
— Ах, что вы знаете о моих желаниях!
— Правда, у вас не должно бы их быть. Ведь у вас есть
ключ к раю, это ваш танец. Но я знаю, что у вас все-таки есть
390
желания, и это мне приятно. Так знайте же: вот человек, ко¬
торому доставит удовольствие исполнить любое ваше жела¬
ние.
Терезина задумалась. Ее зоркие глаза снова стали остры¬
ми и холодными. Что мог он знать о ней? Ничего не найдя,
она начала осторожно:
— Прежде всего я попросила бы вас быть откровенным.
Скажите, кто рассказывал вам что-нибудь обо мне?
— Никто. Я никогда ни с кем не говорил о вас. Что я
знаю — очень немногое, — я знаю от вас самой. Я слы¬
шал, как вы вчера сказали, что вам хочется поиграть в
Кастильоне.
Ее лицо вздрогнуло.
— Ах, вот как, вы подслушивали.
— Да, конечно. Я понял ваше желание. Поскольку вы
не всеща в ладу с собой, вы ищете возбуждения и забве¬
ния.
— О нет, я не так романтична, как вы думаете. Не за¬
бвения ищу я в игре, а просто денег. Мне хочется разбога¬
теть или хотя бы пожить без забот, не продаваясь за это.
Вот и все.
— Это звучит очень правдоподобно, и все-таки я этому
не верю. Но как хотите! Вы же, в сущности, прекрасно зна¬
ете, что продаваться вам незачем. Не будем об этом гово¬
рить! Но если вам нужны деньги, для игры или еще для>
чего-нибудь, возьмите их у меня! У меня их, думаю, больше,
чем мне нужно, и я не дорожу ими.
Терезина опять двинулась дальше.
— Я вас почти не знаю. Как я могу принять от вас
деньги?
Он вдруг снял шляпу, словно его поразила боль, и
умолк.
— Что с вами? — воскликнула Терезина.
— Ничего, ничего... Позвольте мне уйти! Мы слишком
много говорим, чересчур много. Не надо так много гово¬
рить.
И, не попрощавшись, он быстро побежал по дорожке
между деревьями, словно его понесло, как ветер, отчаяние.
Танцорка смотрела ему вслед с накопившимися разноречи¬
выми чувствами, искренне удивляясь ему и себе.
Побежал он, однако, не от отчаяния, а из-за невыноси¬
мого напряжения и наполненности. Он вдруг оказался не в
391
состоянии сказать или услышать еще хоть слово, ему нужно,
ему необходимо было остаться одному, подумать, прислу¬
шаться, послушать себя. Весь разговор с Терезиной изумил
и застал врасплох его самого, слова возникли помимо его
воли, его вдруг стала душить острая потребность сообщить
свои ощущения и мысли, сформулировать, высказать, вы¬
крикнуть их себе самому. Он удивлялся каждому слову,
которое слышал из собственных уст, но все сильней и силь¬
ней чувствовал, как речь заводит его во что-то такое, что
уже не было простым и правильным, как напрасны его по¬
пытки объяснить непонятное, — и это вдруг стало ему не¬
стерпимо, и он умолк.
Но теперь, пытаясь вспомнить прошедшие четверть часа,
он думал о случившемся радостно и благодарно. Это был
прогресс, это было избавление, подтверждение.
Ненадежность, в которую для него канул привычный
мир, страшно измотала его и измучила. Он сталкивался с
тем чудесным явлением, что наиболее осмысленной жизнь
делается в минуты, коща нам плевать на смысл и все
нипочем. Но снова и снова к нему возвращалось мучитель¬
ное сомнение в том, что такое ощущение действительно
существенно, что оно нечто большее, чем случайная рябь
на поверхности усталой и больной души, каприз по сути,
пошаливание нервов. Теперь он увидел, вчера вечером и
сегодня, что его ощущение соответствует действительно¬
сти. Оно засветилось в нем и преобразило его, оно при¬
влекло к нему другого человека. Стена его одиночества
рухнула, он снова любил, существовал кто-то, кому он
хотел служить и доставлять радость, он мог опять улы¬
баться, опять смеяться!
Это накатило на него волной, как боль и как похоть, он
затрепетал, жизнь взыграла в нем, как прибой, все было
непонятно. Он вытаращил глаза и увидел: деревья на улице,
серебряные блики на озере, бегущая собака, велосипедист —
и все было странно, сказочно и чуть ли не слишком красиво,
все было как новенькое, только что вынутое из груды игру¬
шек Бога, все было здесь только для него, для Фридриха
Клейна, и он сам был здесь только для того, чтобы чувство¬
вать, как пронзает его этот ток чуда, боли и радости. Везде
была красота, в любой куче отбросов на улице, везде было
глубокое страдание, везде был Бог. Да, это был Бог, и имен¬
но таким он коща-то, давным-давно, в детстве, ощущал и
392
искал его сердцем, коща думал «Бог» или «Вездесущий».
Переполненное сердце, не разорвись!
Снова поднимались в нем из всех забытых пластов его
жизни освободившиеся воспоминания, которым не было
числа, — о разных разговорах, о поре, коща он ходил в
женихах, об одежде, какую он носил в детстве, об утрен¬
них часах на каникулах, коща он был студентом, — и
выстраивались вокруг нескольких устойчивых центров:
вокруг образа его жены, вокруг его матери, вокруг убийцы
Вагнера, вокруг Терезины. Строки писателей-классиков
приходили ему на память, и латинские пословицы, взвол¬
новавшие его коща-то в годы ученичества, и глупые сенти¬
ментальные стихи из народных песен. Тень его отца сто¬
яла за ним, он снова переживал смерть тещи. Все, что
коща-либо через глаза и уши ли, через людей ли и книги,
с блаженством ли, с болью ли входило в него и в нем
потонуло, — все опять было как бы при нем, все сразу,
вперемешку, в беспорядке, но все было полно смысла,
важно, значительно, все сохранилось.
Напор этот превратился в муку, которую нельзя было
отличить от величайшего сладострастия. Сердце у него ко¬
лотилось, на глазах были слезы. Он понимал, что он близок
к сумасшествию, но все-таки знал, что не сойдет с ума, и в
то же время глядел на этот новый внутренний мир безумия
с таким же изумлением и восторгом, как на прошлое, как на
озеро, как на небо: здесь тоже все было волшебно, сообразно
и полно значения. Он понимал, почему в верованиях благо¬
родных народов безумие считалось священным состоянием.
Он понимал все, все обращалось к нему, все было ему от¬
крыто. Для этого не существовало слов, неверно и безнадеж¬
но было пытаться обдумать и понять что-либо с помощью
слов! Нужна была только твоя открытость, твоя готовность —
и тоща любой предмет, тоща весь мир нескончаемым шестви¬
ем, как в Ноев ковчег, входил в тебя, и ты обладал им,
понимал его и был с ним един.
Его охватила грусть. О, если бы всем это знать, всем
испытать! А то ведь жили наобум, грешили наобум, слепо и
безмерно страдали! Разве еще вчера он не злился на Тере¬
зину? Разве еще вчера не ненавидел жену, не обвинял ее, не
взваливал на нее ответственность за все беды своей жизни?
Как грустно, как глупо, как безнадежно! Ведь все станови¬
лось таким простым, таким добрым, таким осмысленным,
393
стоило лишь увидеть это изнутри, стоило лишь увидеть за
каждой мелочью ее сущность, его, Бога.
Тут открылся поворот к новым садам озарений и лесам
образов. Как только он обращал свое сегодняшнее чувство
к будущему, сотнями вспыхивали картины счастья — для
него и для всех. Не клясть, не обвинять, не судить надо
его прошлую, тупую, испорченную жизнь, а обновить,
превратить в свою противоположность, полную смысла,
радости, добра, любви. Милость, которой он сподобился,
должна воссиять и действовать дальше. Ему приходили на
ум слова из Библии и все, что он знал о взысканных
милостью праведниках и святых. Так начиналось всеща, у
всех. Им суждено было трусливо и в страхе идти тем же
трудным и темным путем, что и ему, до того, как наступал
час озарения и просветления. «В мире вам страшно»*, —
сказал Иисус своим ученикам. Но кто преодолел страх,
тот жил уже не в мире, а в Боге, в вечности.
Так все учили, все мудрецы мира, Будда и Шопенгау¬
эр, Иисус, греки. Была только одна мудрость, одна вера,
одна мысль: знание о Боге в нас самих. Как извратили
это, как неверно учили этому в школах, церквях, книгах и
науках!
Широко распахивая крылья, летела душа Клейна через
сферы его внутреннего мира, его знания, его образования.
И здесь тоже, как и в его внешней жизни, хватало благ,
сокровищ, источников, но все они существовали сами по
себе, разрозненно, мертвые и бесполезные. А теперь, с
лучом знания, с просветлением, в хаосе забрезжили и
здесь смысл и лад, началось творение, живые связи протя¬
нулись от полюса к полюсу. Самые умозрительные макси¬
мы стали само собой разумеющимися, темное стало свет¬
лым, а таблица умножения стала мистическим вероучени¬
ем. Одухотворенным, пылающим любовью стал и этот
мир. Произведения искусства, которые он любил в моло¬
дости, зазвучали с новым очарованием. Он увидел: зага¬
дочная магия искусства открывается этим же ключом. Ис¬
кусство не что иное, как созерцание мира в состоянии
милостивого просветления. Показывать Бога за каждой
вещью — вот что такое искусство.
Пылая, шагал он в восторге по миру, каждая ветка на
каждом дереве участвовала в экстазе, благороднее устрем¬
лялась вверх, проникновеннее клонилась к земле, была
394
символом и откровением. Тонкие фиолетовые тени облаков
пробегали по зеркалу озера с очаровательным трепетом.
Каждый камень многозначительно лежал рядом со своей
тенью. Таким прекрасным, таким глубоко и священно ми¬
лым мир никоща еще не был, во всяком случае, с таинст¬
венной, сказочной поры раннего детства. «Такими вам не
стать, как дети»*, — вспомнилось ему, и он почувствовал:
я снова стал ребенком, я вошел в царство небесное.
Коща он начал ощущать усталость и голод, он был уже
далеко от города. Теперь он вспомнил, откуда пришел, что
произошло, вспомнил, что, не попрощавшись, убежал от
Терезины. В ближайшей деревне он стал искать трактир.
Его привлекла маленькая сельская распивочная с вкопан¬
ным в землю деревянным столом — в садике под лавро¬
вишней. Он спросил еды, но не было ничего, кроме вина и
хлеба. Супу, попросил он, или яиц, или ветчины. Нет,
таких вещей здесь не было. Никто здесь не ел такого при
нынешней дороговизне. Он поговорил сначала с хозяйкой,
потом с бабкой, сидевшей на каменном пороге входной
двери и чинившей белье. Затем сел под тенистое дерево в
садике, с хлебом и терпким красным вином. В соседнем
саду, невидимом за листвой винограда и развешанным
бельем, пели, слышал он, два девичьих голоса. Вдруг сер¬
дце ему кольнуло слово из песни, хотя он и не разобрал
его. Оно повторилось в следующей строфе, это было имя
Терезина. В песне, куплетах полукомического характера,
речь шла о некоей Терезине. Он понял:
La sua marna alla finestra
Con una voce serpentina:
Veni a casa» о Teresina,
Lasc* andare quel traditor*
Терезина! Как он любит ее! Как чудесно любить!
Он положил голову на стол и забылся, задремал, просы¬
паясь и засыпая много раз. Наступил вечер. Подошла и стала
перед столиком, дивясь гостю, хозяйка. Он достал деньги,
попросил еще стакан вина, спросил ее насчет той песни. Она
* Ее мама у окошка
Змеиным голосом:
Ступай домой, Терезина,
Пусть уходит этот предатель! (итал.)
395
подобрела, принесла вино и стала рядом. Он выслушал весь
текст песни о Терезине и очень порадовался строфе:
Io non sono traditore
Б ne meno lusinghero,
Io son figlio d’un ricco signore,
Son venuto per fare Pamor*.
Хозяйка сказала, что теперь может угостить его супом,
она все равно готовит ужин для мужа, которого ждет.
Он поел овощного супа с хлебом, вернулся домой хозяин,
на серых черепичных крышах деревни догорело позднее сол¬
нце. Он спросил комнату, ему предложили клетушку с тол¬
стыми голыми каменными стенами. Он снял ее. Никоща еще
он не спал в такой клетушке, она показалась ему укрытием из
какой-то драмы о разбойниках. Затем он прошелся по вечер¬
ней деревне, застал еще открытой какую-то лавчонку, купил
шоколаду и роздал его детям, которыми кишела улочка. Они
бегали за ним, их родители приветствовали его, каждый же¬
лал ему спокойной ночи, и он отвечал тем же, кивая всем ста¬
рым и молодым людям, сидевшим на порогах и на приступ¬
ках домов.
С радостью думал он о своей клетушке в трактире, об
этом примитивном, похожем на пещеру пристанище, ще от
серого камня голых стен, на которых не было ничего беспо¬
лезного, ни картинки, ни зеркала, ни коврика, ни занавески,
отваливалась старая штукатурка. Он шел через вечернюю
деревню как через приключение, все было чем-то озарено,
все полно тайного обещания.
Вернувшись в остерию, он увидел из пустой и темной
комнаты для гостей свет за неплотно закрытой дверью, по¬
шел на него и вошел на кухню. Она показалась ему пещерой
из сказки, тусклый свет растекался по красному каменному
полу и, не успев достигнуть стен и потолка, таял в теплом
густом сумраке, а чернота повисшей громадины дымохода
казалась неиссякающим источником темени.
Хозяйка сидела здесь с бабкой, обе сидели, согнувшись,
на низких убогих скамеечках, маленькие и слабые, с отды¬
хавшими на коленях руками. Хозяйка плакала, до вошед¬
*Я не предатель
И не льстец,
Я сын богатого господина,
Я пришел заниматься любовью (шпал.).
396
шего никому не было дела. Он сел на край стола рядом с
овощными очистками, свинцово блеснул тупой нож, багро¬
выми бликами светилась на стенах медная утварь. Хозяйка
плакала, старуха вторила ей, бормоча что-то на местном ди¬
алекте, он постепенно понял, что в доме распря и муж после
очередной ссоры снова ушел. Он спросил, бил ли ее муж,
но ответа не получил. Постепенно он начал ее утешать. Он
сказал, что муж наверняка скоро вернется. Женщина резко
сказала: «Сегодня нет, да и завтра вряд ли». Он оставил
свои попытки, женщина села прямее, сидели молча, плач
затих. Простота событий, по поводу которых не расточали
слов, показалась ему замечательной. Поссорились, помучи¬
лись, поплакали. Теперь прошло, теперь тихо сидели и жда¬
ли. Жизнь как-нибудь да продолжается. Как у детей. Как у
животных. Только не говорить, только не усложнять про¬
стого, только не выворачивать наизнанку душу.
Клейн предложил бабке сварить кофе для всех троих.
Женщины просияли, старуха тотчас наложила в очаг хво¬
росту, хрустели ломающиеся ветки, бумага, затрещал, раз¬
гораясь, огонь. При вспышках пламени он видел освещен¬
ное снизу лицо хозяйки, еще довольно печальное, но все-
таки успокоившееся. Она глядела в огонь, время от време¬
ни улыбаясь, потом вдруг встала, медленно подошла к кра¬
ну и вымыла руки.
Затем они сидели втроем за кухонным столом и пили горя¬
чий черный кофе, прихлебывая старую можжевеловую на¬
стойку. Женщины оживились, они рассказывали и задавали
вопросы, смеясь над речью Клейна, говорившего с трудом и с
ошибками. Ему казалось, что он здесь уже очень давно. Пора¬
зительно, сколько всего произошло за эти дни! Целые эпохи и
полосы жизни вмещались в один вечер, каждый час казался
перегруженным жизнью. Мимолетно в нем зарницами вспы¬
хивал страх, что на него вдруг нападет удесятеренная уста¬
лость и немощь и высосет его так, как слизывает солнце кап¬
лю с камня. В эти очень короткие, но возвращавшиеся мгно¬
вения, в этих незнакомых сполохах он видел себя вживе, чув¬
ствовал и видел свой мозг, видел, что там, работая в тысяче¬
кратно ускоренном ритме, вибрирует от натуги какой-то не¬
выразимо сложный, хрупкий, драгоценный аппарат, похо¬
жий на часовой механизм за стеклом, который может разла¬
диться даже из-за ничтожной пылинки.
397
Ему рассказывали, что хозяин вкладывает деньги в со¬
мнительные дела, часто не бывает дома и водится с женщи¬
нами на стороне. Детей не было. В то время как Клейн
подыскивал итальянские слова для простых вопросов и
справок, за стеклом без устали продолжал лихорадочную
работу этот хрупкий часовой механизм, сразу же включая
каждый прожитый миг в свои расчеты и выкладки.
Он рано поднялся, чтобы пойти спать. Он пожал руки
обеим женщинам, старой и молодой, которая быстро и при¬
стально взглянула на него, в то время как бабка боролась с
зевотой. Затем он вслепую взобрался по темной лестнице с
исполинскими, поразительно высокими ступенями в свою
клетушку. Найдя там приготовленную ему в глиняном кув¬
шине воду, он умыл лицо, мельком отметил отсутствие мы¬
ла, домашних туфель, ночной рубашки, постоял еще с чет¬
верть часа у окна, навалившись грудью на гранитную плиту
подоконника, затем донага разделся и лег в жесткую по¬
стель, суровое полотно которой восхитило его и вызвало в
воображении всякие прелести сельского быта. Не единст¬
венно ли это правильное — всеща жить так, в четырех ка¬
менных стенах, без чепухи обоев, украшений, меблировки,
без всех этих лишних и, по существу, варварских причин¬
далов? Крыша над головой от дождя, простое одеяло от
холода, немного хлеба и вина или молока от голода, утром
солнце, чтобы будило, вечером сумерки, чтобы уснуть, —
что еще человеку надо?
Но едва он погасил свет, как канули куда-то клетушка,
и дом, и деревня. Он снова стоял у озера с Терезиной и
говорил с ней, он лишь с трудом вспоминал сегодняшний
разговор, и становилось неясно, что он, собственно, ей ска¬
зал и не был ли вообще весь этот разговор лишь его мечтой
и фантазией. Темнота была ему приятна — один Бог ведает,
ще он завтра проснется!
Его разбудил шорох у двери. Тихо повернулась ручка,
нить тусклого света упала на пол и замешкалась в щели.
Удивленно и, однако, все уже зная, он взглянул туда, еще
вне места и времени. Дверь отворилась, со свечой в руке
перед ним стояла хозяйка, босиком, неслышно. Она взгля¬
нула на него, быстро и пристально, он улыбался и протянул
руки, изумленно, бездумно. И вот она была уже с ним, и ее
темные волосы лежали рядом на грубой подушке.
Они не проронили ни слова. Загоревшись от ее поцелуя,
он привлек ее к себе. Внезапная близость и теплота прильнув¬
398
шего к нему человека, незнакомая сильная рука, обнявшая
его шею, потрясли его до глубины души. Какими неведомы¬
ми, незнакомыми, какими до боли новыми были для него эта
теплота и близость, как он был одинок, как безмерно одинок
и как долго! Пропасти и геенны огненные зияли между ним и
миром — и вот пришел незнакомый человек, пришел с без¬
молвным доверием и потребностью в утешении, пришла бед¬
ная, забитая женщина, пришла к нему, долгие годы тоже за¬
битому и запуганному, бросилась к нему на шею, давала, бра¬
ла, жадно вылавливала из скудной жизни крупицу радости,
пьяно и все-таки робко искала его рта, играла своими печаль¬
но-нежными пальцами его пальцами, терлась щекой об его
щеку. Приподнявшись над ее бледным лицом, он целовал ее в
оба закрытых глаза и думал: она считает, что берет, и не зна¬
ет, что она — дающая, она гонит свое одиночество ко мне и не
подозревает о моем одиночестве! Только теперь он увидел ее,
возле которой весь вечер сидел как слепой, увидел, что у нее
длинные, тонкие пясти и пальцы, красивые плечи, что лицо
ее полно страха перед судьбой и слепой детской жадности,
что у нее есть нерешительное знание каких-то прелестных до¬
рожек и навыков нежности.
Он увидел также — и огорчился из-за этого, — что сам
он остался в любви мальчиком, новичком, после долгого,
прохладного брака, смирившимся, робким, но лишенным
невинности, чувственным, но полным нечистой совести.
Еще продолжая жадно целовать рот и грудь женщины,
еще ощущая ее нежную, почти материнскую руку на своих
волосах, он уже заранее чувствовал разочарование и тя¬
жесть на сердце, чувствовал, как возвращается самое
скверное — страх, и его пронизывало режущим холодом
от догадки и опасения, что он по самой своей природе не
способен к любви, что любовь может только мучить его и
морочить. Еще не отбушевала короткая буря сладостра¬
стья, а в душу его уже закрадывались тревога и недове¬
рие, недовольство тем, что его берут, а не он сам берет и
завладевает, закрадывалось предчувствие отвращения.
Бесшумно исчезла женщина вместе со светом своей све¬
чи. Клейн лежал в темноте, и среди насыщенности наступил
миг, которого он уже раньше, уже несколько часов назад
боялся, в те вещие, похожие на зарницы секунды, скверный
миг, коща богатейшая музыка его новой жизни нашла в нем
только усталые и расстроенные струны и за тысячи сладо¬
399
стных чувств пришлось вдруг расплачиваться усталостью и
страхом. С колотящимся сердцем чувствовал он, как насто¬
раживаются в засаде его враги — бессонница, депрессия,
удушье. Грубое белье жгло ему кожу, в окно глядела блед¬
ная ночь. Нельзя было оставаться здесь и беззащитно тер¬
петь надвигавшиеся мученья! Увы, все возвращалось, воз¬
вращались вина и страх, печаль и отчаяние! Все преодолен¬
ное, все прошлое возвращалось. Избавления не было.
Он поспешно оделся, без света, поискал у двери свои
пыльные башмаки, пробрался вниз, выскользнул из дому и
усталыми, нетвердыми шагами в отчаянии побрел из дерев¬
ни сквозь ночь, глумясь над самим собой, преследуемый
самим собой и с ненавистью к себе самому.
4
Борясь и отчаиваясь, сражался Клейн со своим демоном.
Все новое, все знание, все избавление, обретенное им за эти
поворотные в его судьбе дни, поднялось в пьяной сумятице
мыслей, в хмельном ясновидении прошедшего дня какой-то
волной, высота которой показалась ему обретенной раз на¬
всегда, а он уже опять начал катиться вниз. Теперь он опять
лежал в низине и сумраке, еще сопротивляясь, еще втайне на¬
деясь, но с глубокой раной. В течение одного дня, одного ко¬
роткого, блестящего дня ему дано было владеть простым ис¬
кусством, знакомым любой травинке. В течение одного бед¬
ного дня он любил себя, ощущал себя единым и целым, не
расщепленным на враждебные части, он любил себя, а в себе
мир и Бога, и отовсюду навстречу ему шли только любовь,
подтверждение и радость. Напади на него вчера бандит, аре¬
стуй его полицейский, это было бы подтверждением, улыб¬
кой, гармонией! А теперь он среди счастья упал и стал ма¬
леньким. Он осуждал себя, в глубине души зная, что всякое
осуждение неверно и нелепо. Мир, который в течение одного
чудесного дня был прозрачен и наполнен Богом, опять отвер¬
дел и отяжелел, и у каждой вещи был свой собственный
смысл, и каждый смысл противоречил любому другому. Вос¬
торг этого дня исчез, умер! Он, священный, был просто кап¬
риз, а встреча с Терезиной — химера, а приключение в трак¬
тире — сомнительная, нечистоплотная история.
400
Он уже знал, что удушающее чувство страха проходит
только тоща, коща он не поучает себя и не критикует, не
бередит своих ран, старых ран. Он знал: все больное, все
глупое, все злое становится своей противоположностью, ес¬
ли ты можешь распознать в нем Бога, добраться до его глу¬
бочайших корней, которые уходят гораздо дальше, чем горе
и благо, чем добро и зло. Он это знал. Но тут ничего нельзя
было поделать, злой дух был в нем, Бог был опять словом,
прекрасный и далекий. Он, Клейн, ненавидел и презирал
себя, и ненависть эта, коща приходила ее пора, охватывала
его так же непроизвольно и неотвратимо, как в другое время
любовь и доверие. И так будет повторяться снова и снова!
Снова и снова будут выпадать ему на долю милость и бла¬
женство и снова и снова их проклятая противоположность,
и никоща не пойдет его жизнь той дорогой, которую указы¬
вает ему собственная его воля. Как мячик, как плавающую
пробку, будет его вечно заносить то туда, то сюда. Пока не
придет конец, пока не накроет волной и его не приберет
смерть или безумие. О, поскорей бы!
Сами собой вернулись давно и горько знакомые ему мыс¬
ли, напрасные страхи, напрасные самообвинения, видеть
бессмысленность которых было лишь еще одной мукой. Вер¬
нулся образ, возникший у него недавно (ему казалось, что
прошло несколько месяцев) в дороге: как славно было бы
броситься на рельсы под поезд головою вперед! Он смако¬
вал эту картину, вдыхал ее, как эфир: головой вперед, все
в клочья и вдребезги, все намотано на колеса и на рельсах
размолото в прах! Его боль глубоко вгрызалась в эти виде¬
ния, он с упоением и сладострастием слышал, видел и ощу¬
щал на вкус полное уничтожение Фридриха Клейна, чувст¬
вуя, как разрываются, разбрызгиваются, раздавливаются
его сердце и мозг, раскалывается болящая голова, вытекают
болящие глаза, расплющивается печень, размалываются
почки, сдираются волосы, растираются в порошок кости,
колени и челюсти. Вот что хотелось почувствовать убийце
Вагнеру, коща он топил в крови жену, детей и себя. Именно
это. О, он так хорошо понимал его! Он сам — Вагнер, че¬
ловек одаренный, способный чувствовать божественное,
способный любить, но слишком обремененный, слишком
легко утомляющийся, слишком хорошо осведомленный о
своих пороках и недугах. Что же делать такому человеку,
такому Вагнеру, такому Клейну? Всеща видеть перед собой
пропасть, отделяющую его от Бога, всеща чувствовать, как
401
проходит через его сердце трещина, расколовшая мир, всег¬
да быть усталым, изнуренным вечными воспарениями к Бо¬
гу, которые вечно кончаются возвратом на землю, — что
еще делать такому Вагнеру, такому Клейну, как не уничто¬
жить себя, себя и все, что может о нем напомнить, как не
метнуть себя назад в темное лоно, откуда непостижимый
всеща и вечно выталкивает бренный мир форм! Да, ничего
другого не остается! Вагнер должен уйти, Вагнер должен
умереть, Вагнер должен вычеркнуть себя из книги жизни.
Может быть, это и бесполезно — кончать с собой, может
быть, и смешно. Может быть, все это и сущая правда, что
говорят о самоубийстве обыватели, живущие в другом мире.
Но разве для человека в таком состоянии существует хоть
что-нибудь, что не было бы бесполезно, не было бы смешно?
Нет, ничего такого не существует. Так лучше уж положить
голову под железные колеса, почувствовать, как она трес¬
нет, и с готовностью нырнуть в бездну.
Нетвердой походкой он неутомимо шел час за часом. На
рельсах железной дороги, к которой его привел его путь, он
некоторое время полежал, даже задремал, головой на желе¬
зе, а проснувшись, забыл, чего хотел, встал и пустился, ка¬
чаясь, дальше с болью в ступнях, с муками в голове, то
падая и напарываясь на колючки, то легко и словно паря,
то еле волоча ноги.
«Заездит ^ерт меня вконец!» — хрипло напевал он себе
позднее. Созреть вконец! В муках дожариться, доспеть, как
косточка в персике, чтобы достичь зрелости, чтобы умереть,
наконец!
Тут в его мраке замаячила искорка, к которой он сразу
же устремился со всем пылом своей растерзанной души.
Мысль: бесполезно кончать с собой, кончать с собой сейчас,
незачем убивать и уничтожать часть за частью свое тело, это
бесполезно! Хорошо зато и избавительно пострадать, до¬
спеть в муках и слезах, окончательно выковаться, снося уда¬
ры и боль. Тоща можно умереть, и тоща это хорошая
смерть, прекрасная и осмысленная, самое большое на свете
блаженство, блаженнее всякой ночи любви: догорев, с пол¬
ной готовностью упасть назад в лоно, чтобы погаснуть, что¬
бы получить избавление, чтобы родиться заново. Только та¬
кая смерть, такая зрелая и хорошая, благородная смерть
имеет смысл, только она — избавление, только она — воз¬
вращение домой. Тоска зарыдала в его сердце. О, ще этот
узкий, трудный путь, ще выход к нему? Он, Клейн, был
402
готов, он стремился туда каждой жилкой своего дрожащего
от усталости тела, своей сотрясаемой смертной мукой души.
Коща на небе забрезжило утро и свинцовое озеро засе¬
ребрилось первым холодным блеском, беглец стоял в каш¬
тановой рощице высоко над городом и озером, среди влаж¬
ных от росы папоротников и высокой цветущей таволги.
Потухшими глазами, но улыбаясь, глядел он на удивитель¬
ный мир. Он достиг цели своего безумного бега: он так ус¬
тал, что испуганная душа молчала. И главное, ночь кончи¬
лась! Бой был выдержан, одна опасность отведена. В изне¬
можении он рухнул как мертвый наземь, среди папоротни¬
ков и корней, головой в листья черники, мир уплыл от его
отказавшего сознания. Вцепившись руками в траву —
грудью и лицом в землю, — он с такой голодной жадностью
отдался сну, словно это был вожделенный последний сон.
Во сне, лишь обрывки которого ему запомнились, он
увидел вот что: у ворот, похожих на вход в театр, висела
большая вывеска с огромной надписью, читавшейся (это бы¬
ло неясно) не то как «Лоэнгрин», не то как «Вагнер». В эти
ворота он вошел. За ними оказалась женщина, похожая на
недавнюю трактирщицу, но и на его жену. Голова ее была
безобразна, слишком велика, а лицо казалось карикатурной
маской. Его охватило сильнейшее отвращение к этой жен¬
щине, он ткнул ее ножом. Но другая женщина, как бы точ¬
ное отражение первой, в отместку напала на него сзади, впи¬
лась ему в горло острыми, сильными когтями и пыталась его
задушить.
Пробудившись от этого глубокого сна, он удивленно уви¬
дел над собой рощу, тело его затекло от лежания на твер¬
дом, но он освежился. С легким испугом ловил он в себе
отзвуки сна. Какая странная, наивная и дикарская игра
фантазии! — подумал он с усмешкой, вспомнив ворота с
призывом войти в театр «Вагнер». Что за блажь изображать
его отношение к Вагнеру таким образом! Дух этого сна был
груб, но гениален. Он попал в самую точку. И он, казалось,
все знал! Театр с надписью «Вагнер» — разве это не он сам,
не призыв войти в себя самого, в неведомую страну истин¬
ной своей сути? Ведь Вагнером был он сам. Вагнер — это
был сидевший в нем убийца и беглец, но Вагнер — это был
и композитор, художник, гений, совратитель, это была тяга
к радостям жизни, к плотским радостям, к роскоши. Вагнер —
это было собирательное название всего подавленного, под¬
спудного, загубленного в бывшем служащем Фридрихе
403
Клейне. И «Лоэнгрин» — разве это тоже не он сам, Лоэнг-
рин, странствующий рыцарь с таинственной целью, у кото¬
рого нельзя спрашивать его имя? Остальное было неясно,
женщина с ужасной головой-маской и другая, с когтями, —
удар ножом ей в живот тоже напомнил ему что-то, он на¬
деялся еще понять это, — атмосфера убийства и смертель¬
ной опасности странно и противоречиво смешалась с атмос¬
ферой театра, масок и игры.
При мысли об этой женщине и об этом ноже он ясно
увидел на миг перед собой свою супружескую спальню. Тут
он сразу вспомнил о детях — как мог он забыть их? Ему
вспомнилось, как они утром вылезали из кроваток в ночных
рубашечках. Ему вспомнились их имена, особенно Элли. О,
дети! Из глаз у него медленно потекли слезы по усталому
от бессонной ночи лицу. Он помотал головой, не без усилия
поднялся и стал стряхивать листья и землю с измятой одеж¬
ды. Только сейчас он ясно вспомнил эту ночь, голую камен¬
ную клетушку в деревенском трактире, чужую женщину у
своей груди, свое бегство, свою гонку. Он смотрел на этот
маленький, несуразный кусок жизни, как глядит больной на
свою отощавшую руку, на сыпь у себя на ноге.
Со спокойной грустью, еще со слезами на глазах, он ти¬
хонько сказал:
— Боже, что еще задумал ты сделать со мной?
Из всех мыслей этой ночи в нем продолжал звучать толь¬
ко один голос, полный тоски: созреть, вернуться домой,
получить право умереть. Далека ли еще его дорога? Далек
ли еще дом? Придется ли вытерпеть еще много-много тяже¬
лого, вытерпеть немыслимое? Он был готов к этому, он себя
не жалел, сердце его было открыто: судьба, вот он я, бей!
Медленно спустился он через горные луга и виноградни¬
ки к городу. Он вернулся в свой номер, помылся и приче¬
сался, переменил одежду. Он пошел обедать, выпил хоро¬
шего вина и почувствовал, как растворяется в его онемев¬
шем теле и делается приятной усталость. Он узнал, коща в
курзале танцуют, и отправился туда к чаю.
Терезина как раз танцевала, коща он вошел. Он обрадо¬
вался, снова увидев на ее лице особо сияющую, танцеваль¬
ную улыбку. Он поздоровался с ней, коща она возвратилась
к своему столику, и сел за него.
— Я хочу пригласить вас поехать сегодня вечером со
мной в Касгильоне, — сказал он тихо.
Она подумала.
404
— Прямо сегодня? — спросила она. — Это так спешно?
—Я могу и позже. Но было бы славно. Гце мне ждать вас?
Она не устояла перед приглашением и перед детской,
странно красивой улыбкой, несколько секунд продержав¬
шейся на его испещренном морщинами одиноком лице, как
держится еще на последней стене сгоревшего и рухнувшего
дома лоскут веселых, пестрых обоев.
— Где же вы были? — спросила она с любопытством. —
Вчера вы так внезапно исчезли. И каждый раз у вас другое
лицо, сегодня тоже... Вы ведь не морфинист? -
Он только улыбнулся странно красивой и немного нео¬
бычной улыбкой, при которой его рот и подбородок сдела¬
лись совсем детскими, в то время как надо лбом и глазами
по-прежнему оставался терновый венец.
— Пожалуйста, зайдите за мной около девяти в ресторан
гостиницы «Эспланада». Кажется, в девять уходит катер.
Но скажите, что вы делали со вчерашнего дня?
— Кажется, я гулял весь день, да и всю ночь. Мне при¬
шлось утешать одну женщину в одной деревне, потому что
от нее ушел муж. И еще я бился с одной итальянской пес¬
ней, которую хотел выучить, потому что в ней фигурирует
некая Терезина.
— Что это за песня?
— Она начинается так: «Su in cima di quel boschetto...»1
— Господи, и эту песенку тоже вы уже знаете? Да, она
сейчас в моде у девчонок-продавщиц.
— О, я нахожу ее очень красивой.
— И женщину вы утешали?
— Да, она грустила, ее муж ушел и изменял ей.
— Вот как? Ну и как же вы ее утешали?
— Она пришла ко мне, чтобы не быть одной. Я ее цело¬
вал и лежал с ней.
— Она была красива?
— Не знаю, не разглядел... Нет, не смейтесь, не смейтесь
над этим! Это было так грустно.
Она все-таки посмеялась.
— До чего вы смешны! Ну, а спать вы вообще не спали?
Судя по вашему виду...
— Нет, я проспал несколько часов, в лесу, там, наверху.
1 На этой лесистой горе... (шпал.)
405
Она проводила взглядом его палец, указавший на пото¬
лок зала, и громко рассмеялась.
— В трактире?
— Нет, в лесу. В чернике. Она уже почти созрела.
— Вы фантазер... Но мне надо танцевать, директор уже
стучит... Г]де вы, Клаудио?
Красивый смуглый танцор стоял уже за ее стулом, заиг¬
рала музыка. В конце танца Клейн удалился.
Вечером он зашел за ней точно в назначенное время и
был рад, что на нем смокинг, ибо Терезина оделась очень
нарядно, в фиолетовое платье со множеством кружев, и вы¬
глядела как княгиня.
На берегу он повел Терезину не к рейсовому катеру, а к
красивой моторной лодке, которую нанял на этот вечер.
Они сели в нее, в полуоткрытой каюте Терезину ждали пле¬
ды и цветы. Крутым виражом быстроходная лодка, фырча,
вышла из гавани в озеро.
Вдали от берега, среди ночной тишины, Клейн сказал:
— Терезина, не жаль ли, право, сейчас толочься в толпе?
Если хотите, поедем дальше, без цели, покатаемся сколько
захочется или съездим в какую-нибудь красивую тихую де¬
ревню, выпьем местного вина, послушаем, как поют девуш¬
ки. Как по-вашему?
Она промолчала, и он сразу увидел разочарование у нее
на лице. Он засмеялся.
— Да это мне просто так вдруг взбрело в голову, прости¬
те. Вы должны повеселиться и получить удовольствие, дру¬
гой программы у нас нет. Мы будем там через десять минут.
— Неужели вас совсем не интересует игра? — спросила она.
— Увидим, сперва мне надо попробовать. Смысл ее мне
пока немного неясен. Можно выиграть и проиграть деньги.
Мне кажется, есть более острые ощущения.
— Но ведь деньги, на которые играют, не обязательно
должны быть просто деньгами. Для каждого это символ,
каждый выигрывает или проигрывает не деньги, а все мечты
и желания, которые деньги для него означают. Для меня
они означают свободу. Если у меня есть деньги, мне никто
не может приказывать. Я живу, как хочу, я танцую, коща,
где и для кого хочу. Я еду, куда хочу.
Он прервал ее:
— Какой вы ребенок, милая барышня! Такой свободы не
существует, кроме как в ваших желаниях. Завтра вы будете
богаты, свободны и независимы, а послезавтра влюбитесь в
406
какого-нибудь малого, который опять отберет у вас деньги
или перережет вам ночью горло.
— Не говорите так гадко! Так вот: будь я богата, я жила
бы, может быть, проще, чем сейчас, но жила бы так только
ради собственного удовольствия, добровольно, а не по при¬
нуждению. Я ненавижу принуждение! И понимаете, коща я
кладу свои деньги на кон, то в каждом проигрыше и каждом
выигрыше участвуют все мои желания, под вопросом все,
чем я дорожу и к чему стремлюсь, а это дает чувство, обре¬
сти которое иначе не так-то легко.
Клейн смотрел на нее, пока она говорила, не очень вни¬
кая в ее слова. Он безотчетно сравнивал лицо Терезины с
лицом женщины, которая приснилась ему в роще.
Лишь коща лодка вошла в кастильонскую бухту, это до¬
шло до его сознания, ибо вид освещенного щита с названием
станции остро напомнил ему вывеску из сна, ту, ще было на¬
писано не то «Лоэнгрин», не то «Вагнер». Совершенно так же
выглядела та вывеска, была таких же размеров, такая же се¬
рая и белая, так же ярко освещена. Не здесь ли та сцена, кото¬
рая его ждала? Не идет ли он к Вагнеру? Теперь он нашел,
что и Терезина похожа на женщину из сна, вернее, на обеих
женщин, из которых одну он заколол ножом, а другая на¬
смерть душила его когтями. От ужаса у него побежали му¬
рашки по коже. Неужели все это было связано? Неужели его
опять вели неведомые силы? Куда же? К Вагнеру? К убийст¬
ву? К смерти?
Сходя на берег, Терезина взяла его под руку, и так, рука
об руку, прошли они через маленькую суматошную пристань
и через деревню в казино. Здесь все приобрело тот полупре-
лестный, полуутомительный блеск неправдоподобия, кото¬
рый всеща есть в увеселениях алчного люда, коща они устра¬
иваются вдали от городов, в тихих местах. Дома были слиш¬
ком велики и слишком новы, свет слишком обилен, залы
слишком роскошны, люди слишком оживленны. Между
большими, темными грядами гор и широким, спокойным озе¬
ром жался маленький рой ненасытных и пресыщенных лю¬
дей, теснясь так боязливо, словно он ни минуты не верил в
свою прочность, словно в любой миг могло что-то стрястись и
его смести. Из залов, где ели и пили шампанское, сочилась
сладкая, перегретая скрипичная музыка, на лестницах меж¬
ду пальмами и фонтанами мелькали цветы и женские платья,
бледные лица мужчин над вырезами вечерних костюмов, си¬
ние лакеи с золотыми пуговицами, деловитые, услужливые и
407
всеведущие, благоухающие дамы с южными лицами, бледны¬
ми и пылающими, красивыми и больными, северные плотные
женщины, крепкие, властные и самоуверенные, старые
джентльмены, словно сошедшие с иллюстраций к Тургеневу
и Фонтане.
Клейн почувствовал недомогание и усталость, как только
они вошли в залы. В большом игорном зале он вынул из
кармана два тысячных билета.
— Ну как? — спросил он. — Будем играть вместе?
— Нет, нет, это не годится. Каждый за себя.
Он дал ей один билет и попросил проводить его. Вскоре
они остановились у стола, ще шла игра. Клейн положил
свой банкнот на какой-то номер, колесо завертелось, он ни¬
чего не понял, увидел только, что его ставку смели и она
исчезла. Быстро идет дело, подумал он удовлетворенно и
хотел улыбнуться Терезине. Ее уже не было рядом с ним.
Он увидел, что она стоит у другого стола и меняет деньги.
Он пошел туда. Вид у нее был задумчивый, озабоченный и
очень занятой, как у домашней хозяйки.
Он последовал за ней к игровому столу и стал наблю¬
дать. Она знала игру и следила за ней с напряженным вни¬
манием. Она ставила маленькие суммы, не больше пятиде¬
сяти франков, то одним, то другим способом, несколько раз
выигрывая, клала банкноты в вышитую бисером сумочку,
снова вынимала банкноты.
— Как дела? — вторгся он с вопросом.
Она была недовольна тем, что ей помешали:
— О, дайте мне поиграть! Я-то уж не оплошаю.
Вскоре она переменила стол, он незаметно последовал за
ней. Поскольку она была так увлечена и не обращалась к
нему за помощью, он прошел и сел на кожаную скамью у
стены. Одиночество обрушилось на него. Он снова погру¬
зился в размышления о своем сне. Очень важно было понять
его. Может быть, впредь у него нечасто будут такие сны,
может быть, это, как в сказке, знаки, которые подают до¬
брые духи: дважды, а то и трижды тебя манят или предо¬
стерегают, и если ты так и не прозреешь, судьба идет своим
чередом и уже никакая дружественная сила больше не вме¬
шивается. Время от времени он искал глазами Терезину,
видел, как она то сидит, то стоит у стола, ее желтые волосы
светились среди фраков.
«Как долго возится она с тысячей франков! — подумал
он, заскучав. — У меня это получилось быстрее».
408
Однажды она кивнула ему. Однажды, через час, подо¬
шла, застала его погруженным в себя и положила руку ему
на рукав:
— Что с вами? Разве вы не играете?
— Я уже поиграл.
— Проиграли?
— Да. О, не так уж много.
— Я кое-что выиграла. Возьмите из моих денег.
— Спасибо, на сегодня хватит... Вы довольны?
— Да, это славно. Ну, я пойду опять. Или вы уже хотите
домой?
Она продолжала играть, .то тут, то там мелькали ее
волосы между плечами игроков. Он отнес ей бокал шам¬
панского и сам выпил бокал. Затем снова сел на кожаную
скамью.
Как это было во сне с обеими женщинами? Они были по¬
хожи и на его жену, и на женщину из трактира, и на Терези¬
ну. Других женщин он не знал уже много лет. Одну он зако¬
лол, из отвращения к ее искаженному, опухшему лицу. Дру¬
гая напала на него сзади и хотела его задушить. Что же вер¬
но? Что важно? Кто кого ранил — он жену или она его? Кто
из-за кого погибнет — он из-за Терезины или она из-за него?
Неужели он не может любить женщину, не нанося ей ран и не
оказываясь раненным ею? Неужели это его проклятье? Или
это общий закон? Неужели у всех так? Неужели любовь во¬
обще такова?
И что связывает его с этой танцоркой? То обстоятельство,
что он любит ее? Он любил многих женщин, которые об этом
так и не узнали. Что привязывает его к ней, стоящей вон там и
занятой азартной игрой, как серьезным делом? Сколько ре¬
бяческого в ее рвении, в ее надежде, сколько в ней здоровья,
наивности и жажды жизни! Что она в этом поймет, если узна¬
ет о его самом сокровенном желании, о тоске по смерти, о
стремлении угаснуть, вернуться домой в лоно Бога! Может
быть, она полюбит его, уже скоро, может быть, станет жить с
ним — но будет ли это иначе, чем было с его женой? Не будет
ли он всеща и вовеки один со своими самыми глубокими чув¬
ствами?
Терезина прервала его мысли. Она остановилась возле
него и вручила ему пачку банкнотов.
— Пусть это пока хранится у вас.
409
Спустя какое-то время, он не знал, вскоре ли или после
долгого отсутствйя, она пришла снова и попросила вернуть
ей эти деньги.
Она проигрывает, подумал он, слава Богу! Надо наде¬
яться, она скоро кончит.
Пришла она вскоре после полуночи, довольная и не¬
сколько возбужденная.
— Ну вот, прекращаю. Вы, бедняга, конечно, устали. Не
поесть ли нам, перед тем как ехать домой?
В буфете они ели яичницу с ветчиной и фрукты и пили
шампанское. Клейн очнулся и взбодрился. Танцорка измени¬
лась, она повеселела и была слегка под хмельком. Она снова
видела и знала, что она красива и хорошо одета, ловя взгля¬
ды, которые посылали ей мужчины с соседних столиков, и
Клейн тоже чувствовал происшедшую в ней перемену, он
снова видел ее полной очарования и соблазнительной преле¬
сти, снова слышал, как звучат в ее голосе вызов и пол, снова
видел ее белые руки и жемчужную шею в кружевных отороч¬
ках.
— Вы крупно выиграли? — спросил он со смехом.
— Порядочно, хотя и не самый большой куш. Что-то
около пяти тысяч.
— Ну, это неплохое начало.
— Да, я, конечно, продолжу, в следующий раз. Но это
еще не то. Надо одним махом, а не по капле.
Он хотел сказать: «Тоща и ставить надо было не по кап¬
ле, а все сразу», но вместо этого выпил с ней за большую
удачу и продолжал смеяться и болтать.
Как красива была эта девушка, как здорова и проста в
своей радости! Всего час назад стояла она у столов для игры,
суровая, озабоченная, собранная, злая, расчетливая. Теперь
у нее был такой вид, словно ее никоща ничто не заботило,
словно она понятия не имела о деньгах, об игре, о делах, а
знала лишь радость и легко скользила по ослепительной по¬
верхности жизни. Неужели все это было подлинным, настоя¬
щим? Ведь сам он тоже смеялся, тоже веселился, тоже доби¬
вался того, чтобы ее глаза светились радостью и любовью, —
а в то же время в нем сидел кто-то, кто в это не верил, кто на
все это глядел с недоверием и насмешкой. А было ли у других
людей по-другому? Ах, как мало, как до отчаяния мало зна¬
ешь о людях! Выучишь в школе сотню-другую дат каких-то
дурацких битв, сотню-другую имен каких-то дурацких ста¬
рых королей, ежедневно читаешь статьи о налогах или о Бал¬
410
канах, а о человеке не знаешь ничего! Если не звонит звонок,
если дымит печь, если застопорится какое-нибудь колесо в
машине, сразу знаешь, ще искать, и вовсю ищешь, и нахо¬
дишь поломку, и знаешь, как исправить ее. Л та штука в нас,
та тайная пружинка, которая одна только и дает смысл жиз¬
ни, та штука в нас, которая одна только и живет, одна только
и способна ощущать радость и боль, желать счастья, испыты¬
вать счастье, — она неизвестна, о ней ничего не знаешь, со¬
всем ничего, и если она занеможет, то уж ее не поправишь.
Разве это не дикость?
Пока он пил и смеялся с Терезиной, в других областях
его души, то ближе к сознанию, то дальше от него, копоши¬
лись такие вопросы. Все было сомнительно, все расплыва¬
лось в неопределенности. Знать бы ему хотя бы одно: эта
неуверенность, эта тоска, это отчаяние среди радости, эта
обреченность думать и спрашивать — сидят ли они и в дру¬
гих людях или только в нем, ни на кого не похожем Клейне?
Одно нашел он, в чем отличался от Терезины, в чем она
была иной, чем он, наивной и первозданно здоровой. Эта
девушка, как все люди и как раньше он сам, всеща инстин¬
ктивно принимала в расчет будущее, завтра и послезавтра,
продолжение жизни. Иначе могла ли бы она играть и так
серьезно относиться к деньгам? И тут, он глубоко это чув¬
ствовал, тут у него дело обстояло иначе. Для него за каж¬
дым чувством, за каждой мыслью была открыта дверь, ко¬
торая вела в никуда. Да, он страдал от страха, от страха
перед множеством вещей, перед безумием, перед полицией,
перед бессонницей, даже от страха перед смертью. Но всего,
перед чем он испытывал страх, он в то же время желал и
жаждал, он был полон жгучей, смешанной с любопытством
тоски по страданию, по гибели, по преследованию, по безу¬
мию и смерти.
Смешной мир, сказал он про себя, имея в виду не окру¬
жавший его мир, а это внутреннее состояние. Болтая, вышли
они из зала и из казино и при бледном свете фонарей прошли
к сонному берегу, ще им пришлось будить своего перевозчи¬
ка. Потребовалось некоторое время, чтобы приготовить лод¬
ку к отплытию, и они в ожидании стояли рядом, очутившись
вдруг после сиянья и пестрой толчеи казино в темной тишине
пустынного ночного берега, еще с принесенным оттуда сме¬
хом на горячих губах и уже овеянные холодом ночи, сонливо¬
сти и страха перед одиночеством. Оба чувствовали одно и то
же. Они неожиданно взялись за руки, растерянно и смущен¬
411
но улыбнулись в темноте, поиграли друг с другом дрожащи¬
ми пальцами. Перевозчик позвал их, они прыгнули в лодку,
сели в каюту, и он рывком прижал к себе светловолосую тя¬
желую голову Терезины и обдал ее внезапным огнем поце¬
луев.
Защищаясь, она выпрямилась и спросила:
— Мы, может быть, скоро опять приедем сюда?
При всем любовном волнении он не мог втайне не усмех¬
нуться.
Она все еще думала об игре, она хотела приехать еще раз
и продолжить свое дело.
— Когда захочешь, — сказал он, добиваясь своего, —
завтра, и послезавтра, и в любой день.
Когда он почувствовал, как играют ее пальцы у него на
затылке, его пронзило воспоминание о том странном чувстве
во сне, коща женщина, мстя, впилась когтями ему в шею.
Сейчас ей следовало бы убить меня, это было бы пра¬
вильно, подумал он, пылая, или мне ее.
Охватывая ладонью ее грудь, он тихо смеялся про себя.
Он не смог бы отличить теперь радость от боли. И его похоть,
его голодная тоска по близости с этой красивой сильной жен¬
щиной была неотличима от страха, он желал ее, как ждет уда¬
ра топором осужденный. Тут было то и другое, пылающее
вожделение и безотрадная грусть, то и другое жгло, лихора¬
дочно вспыхивало звездами, грело, убивало.
Терезина гибко увернулась от слишком смелой ласки,
схватила обе его руки, приблизила свои глаза к его глазам
и прошептала, словно отсутствуя:
— Что ты за человек, скажи? Почему я люблю тебя?
Почему меня тянет к тебе? Ты уже старый и некрасивый —
как же так? Знаешь, я думаю все-таки, что ты преступник.
Разве нет? Твои деньги не краденые?
Он попытался выпутаться:
— Не говори, Терезина! Все деньги краденые, всякая
собственность неправедна. Разве это важно? Все мы греш¬
ники, все мы преступники уже потому только, что живем на
свете. Разве это важно?
— А что важно? — встрепенулась она.
— Важно, что мы выпьем эту чашу, — сказал Клейн
медленно, — все остальное не важно. Может быть, больше
она не вернется. Пойдешь ко мне спать или мне можно пой¬
ти к тебе?
412
— Пойдем ко мне, — сказала она тихо. — Я боюсь тебя,
и все же я должна быть с тобой. Не говори мне своей тайны!
Я не хочу ничего знать!
Мотор умолк, и она очнулась, вырвалась, пригладила,
приходя в себя, волосы и одежду. Лодка тихо подошла к
мосткам. Огни фонарей отражались, разбрызгиваясь, в чер¬
ной воде. Они сошли на берег.
— Постой, моя сумка! — вскрикнула Терезина через де¬
сяток шагов. Она побежала назад к мосткам, прыгнула в
лодку, нашла на сиденье сумку с деньгами, швырнула ку¬
пюру недоверчиво глядевшему на нее перевозчику и броси¬
лась в объятия Клейну, который ждал ее на набережной.
5
Вдруг началось лето, за два жарких дня оно изменило
мир, углубило леса, околдовало ночи. Жарко теснили друг
друга часы и минуты, быстро обегало свой пылающий полу¬
круг солнце, быстро и торопливо следовали за ним звезды,
жизнь пылала лихорадочным жаром, бесшумная жадная
спешка гнала мир.
Однажды вечером танец Терезины в курзале прервала
неистово налетевшая гроза. Погасли лампы, лица искажа¬
лись в белом блеске молний, кричали женщины, ворчали
официанты, с дребезгом разбивались на ветру окна.
Клейн сразу потянул Терезину к своему столику, где он
сидел рядом со старым комиком.
— Великолепно! — сказал он. — Пошли отсюда. Ты ведь
не боишься?
— Нет, не боюсь. Но сегодня тебе не надо идти со мной.
Ты три ночи не спал и выглядишь ужасно. Проводи меня до
дома, а потом ступай спать в свою гостиницу. Прими веро¬
нал, если он тебе нужен. Ты живешь как самоубийца.
Они шли — Терезина в плаще, одолженном у кого-то из
официантов, — сквозь бурю, сквозь вихри пыли по опустев¬
шим, безлюдным улицам, ликующе гулко раскатывались,
вороша ночь, удары грома, и вдруг хлынул дождь, рассы¬
пался по мостовой, припустил с избавительным всхлипы¬
ваньем, забушевал ливнем в густой летней листве.
Промокшие и продрогшие, пришли они в квартиру тан¬
цорки. Клейн не пошел домой, об этом больше не говорили.
413
Облегченно вздохнув, они вошли в спальню, со смехом ски¬
нули с себя промокшее платье. В окне ослепительно сверка¬
ли молнии, в акациях устало метались буря и дождь.
— Мы больше так и не были в Кастильоне,— насмешли¬
во сказал Клейн. — Коща поедем туда?
— Съездим, съездим, не беспокойся. Тебе скучно?
Он привлек ее к себе, обоих лихорадило, и отсвет грозы
горел в их ласке. Толчками врывался в окно охладившийся
воздух с горьким запахом листьев и тупым запахом земли.
После любовной борьбы оба скоро впали в дремоту. На по¬
душке его осунувшееся лицо лежало рядом с ее свежим ли¬
цом, его жидкие, сухие волосы рядом с ее пышными, цвету¬
щими. За окном догорала ночная гроза и, устав, погасла.
Буря уснула. Успокоившись, поливал деревья тихий дождь..
Вскоре после часа ночи Клейн, который уже не знал про¬
должительного сна, очнулся от сумбура тяжелых, душных
видений с хаосом в голове и болью в глазах. Он неподвижно
полежал с открытыми глазами, вспоминая, ще он находится.
Была ночь, кто-то дышал рядом с ним, он был у Терезины.
Он медленно приподнялся. Снова вернулись муки, снова
было ему суждено одиноко лежать час за часом с болью и
страхом в сердце, страдать напрасным страданием, думая на¬
прасные думы, тревожась напрасной тревогой. Из кошмара,
который его разбудил, за ним ползли тяжелые, жирные чув¬
ства, отвращение и ужас, пресыщенность, презрение к себе.
Он ощупью включил электричество. Холодный свет тек
по белой подушке, по стульям, заваленным одеждой, в уз¬
кой стене чернела дыра окна. На отвернувшееся лицо Тере¬
зины падала тень, ее затылок и волосы ярко сияли.
Так лежала, случалось коща-то видеть ему, и его жена,
возле нее он тоже, бывало, лежал без сна, завидуя ее сну,
словно высмеиваемый ее сытым, довольным дыханием. Ни¬
коща, никоща в жизни не бываешь до такой степени, так пол¬
ностью покинут своим ближним, как коща он спит! И снова,
как уже часто, представился ему страждущий Иисус в Гефси-
манском саду, ще его душит смертельный страх, а его учени¬
ки спят, спят.
Он тихонько подтянул к себе подушку вместе со спящей
Головой Терезины. Теперь он увидел ее лицо, такое незнако¬
мое во сне, такое погруженное в себя, такое отстраненное от
него. Одно плечо и грудь были обнажены, под простыней
мягко поднималось ее тело при каждом вздохе. Смешно, по¬
думалось ему, что в любовных речах, стихах и письмах вечно
414
говорят о прелестных губах и щеках и никоща не говорят о
животе, о ноге! Ложь! Ложь! Он долго разглядывал Терези¬
ну. Этим прекрасным телом, этой грудью и этими белыми,
здоровыми, сильными, холеными руками и ногами она часто
еще будет соблазнять его и обнимать, будет брать у него ра¬
дость, а потом спокойно спать, сыто и глубоко, без боли и
страха, красивая, тупая и глупая, как здоровый спящий
зверь. А он будет лежать рядом с ней без сна, с трепещущими
нервами, с измученным сердцем. Часто ли еще? Часто ли
еще? Ах нет, уже не часто, уже не много раз, может быть, ни
разу больше! Он вздрогнул. Нет, он знал это: ни разу больше.
Он со стоном вдавил большой палец в глазницу, ще меж¬
ду глазом и лбом гнездилась эта адская боль. Вагнер тоже,
конечно, испытывал эту боль, учитель Вагнер. Он испыты¬
вал ее, эту безумную боль, конечно, годами, он нес ее и тер¬
пел, думая, что в своих муках, в напрасных своих муках он
созревает и приближается к Богу. Пока в один прекрасный
день не перестал выносить это — как и он, Клейн, не может
выносить это больше! Боль-то пустяк, а вот мысли, сны, кош¬
мары! И вот однажды ночью Вагнер встал и увидел, что нет
смысла множить и множить такие ночи, полные мук, что та¬
ким способом не придешь к Богу, и взялся за нож. Это было,
наверно, бесполезно, это было, наверно, глупо и нелепо со
стороны Вагнера, что он совершил убийство. Кто не знал его
мук, кто не переболел его болью, тот ведь не мог это понять.
Он сам недавно во сне заколол ножом женщину, потому
что ему было нестерпимо видеть ее искаженное лицо. Иска¬
женным, впрочем, бывает всякое лицо, которое любишь, ис¬
каженным и жестоко вызывающим, коща оно перестает
лгать, коща оно молчит, коща оно спит. Тоща видишь его
суть и не видишь в нем ни капли любви, как и в собственном
сердце не находишь ни капли любви, увидав его суть. Там
только жажда жизни и страх, и от страха, от детского страха
перед холодом, перед одиночеством, перед смертью люди бе¬
гут друг к другу, целуются, обнимаются, трутся щекой о ще¬
ку, прижимаются ногами к ногам, бросают в мир новых лю¬
дей. Так оно и ведется. Так пришел он коща-то к своей жене.
Так пришла к нему жена трактирщика в какой-то деревне,
коща-то, в начале его теперешнего пути, в голой каменной
клетушке, босиком и молча, гонимая страхом, жаждой жиз¬
ни, потребностью в утешении. Так и он пришел к Терезине, и
она к нему. Всеща один и тот же инстинкт, одно и то же жела¬
ние, одно и то же недоразумение. И всеща одно и то же раз¬
415
очарование, одна и та же ужасная боль. Думаешь, что близок
к Богу, а обнимаешь женщину. Думаешь, что достиг гармо¬
нии, а всего только сваливаешь свою вину и свою беду на да¬
лекое будущее существо! Обнимаешь женщину, целуешь ее в
губы, гладишь ее грудь и зачинаешь с ней ребенка, и когда-
нибудь этот ребенок, настигнутый той же судьбой, будет
ночью так же лежать рядом с женщиной, и так же очнется от
опьянения, и заглянет в бездну измученными болью глазами,
и все проклянет. Невыносимо додумывать это до конца!
Он очень внимательно разглядывал лицо спящей, плечо
и грудь, желтые волосы. Все это мнилось ему радостью и
счастьем. Теперь кончено, теперь пора свести счеты. Он во¬
шел в театр «Вагнер», он понял, почему любое лицо, как
только обман исчезнет, оказывается таким искаженным и
ненавистным.
Клейн встал с кровати и пошел искать нож. Пробираясь,
он стряхнул со стула длинные светло-коричневые чулки Те¬
резины — и мгновенно вспомнил, как впервые увидел ее в
парке и каким очарованием повеяло на него от ее походки, от
ее ботинка, от ее туго натянутого чулка. С тихим смехом,
словно злорадствуя, он брал в руку предметы одежды Тере¬
зины, один за другим, и, ощупав, ронял их на пол. Затем он
стал искать снова, минутами все забывая. Его шляпа лежала
на столе, он бездумно взял ее в руки, повертел, заметил, что
она мокрая, и надел ее. У окна он остановился, поглядел в
черноту, послушал пенье дождя, которое доносилось словно
бы из давних, других времен. Чего все они от него хотят —
окно, ночь, дождь, какое ему до нее дело, до старой книжки с
картинками из времен детства?
Вдруг он остановился. Взяв в руку вещицу, лежавшую на
столе, он посмотрел на нее. Это было серебряное овальное
зеркало с ручкой, и из зеркала на него выглянуло лицо, лицо
Вагнера, безумное, перекошенное лицо с глубокими, тени¬
стыми впадинами и раздавленными, распавшимися чертами.
Теперь ему поразительно часто случалось неожиданно взгля¬
нуть в зеркало, ему казалось, что раньше он годами не глядел
в зеркало. И это тоже* по-видимому, связано было с театром
«Вагнер».
Он остановился и долго глядел в зеркало. Это лицо быв¬
шего Фридриха Клейна износилось, оно отжило и отслужи¬
ло свое. Каждая моргцина кричала о гибели. Это лицо дол¬
жно было исчезнуть, его надо было уничтожить. Оно было
очень старым, это лицо, в нем многое отражалось, слишком
416
многое, много лжи и обманов, много дождей и пыли оно
повидало. Коща-то оно было красивым и гладким, коща-то
он любил и холил его и радовался ему, но часто и ненави¬
дел. Почему? И то и другое было уже непонятно.
И почему он стоит сейчас здесь, ночью, в этой чужой
комнатенке, с зеркалом в руке и мокрой шляпой на голове,
каким-то нелепым шутом — что это с ним? Чего он хочет?
Он сел на край стола. Чего он хотел? Чего искал? Ведь он
же что-то искал, искал что-то очень важное?
Да, нож.
Потрясенный, он вдруг вскочил и ринулся к кровати. Он
склонился над подушкой, увидел спящую, которая лежала
среди желтых волос. Она еще жива! Он еще ничего не сде¬
лал! Ужас окатил его стужей. Боже мой, вот оно! Вот и
пришло, вот и случилось то, что всеща, всеща уже виделось
ему в его ужаснейшие часы. Вот оно. Вот он, Вагнер, стоит
у постели спящей и ищет нож!.. Нет, он не хочет. Нет, он
не безумец! Слава Богу, он не безумец! Все было хорошо.
Умиротворенный, он медленно оделся, надел штаны,
пиджак, башмаки. Все было хорошо.
Подходя к кровати еще раз, он наступил на что-то мяг¬
кое. Это была лежавшая на полу одежда Терезины — чулки,
серое платье. Он бережно поднял их и развесил на стуле.
Погасив свет, он вышел из комнаты. На дворе тихо и
холодно накрапывал дождь, кругом не было ни огня, ни
души, ни звука, был только дождь. Он запрокинул лицо,
подставив дождю лоб и щеки. Неба не разглядеть. Какая
темень! Очень, очень хотелось ему увидеть звезду.
Он спокойно шел по улицам, промокая под дождем. Ни
души, ни хотя бы собаки навстречу, все вымерло. На берегу
озера он походил от лодки к лодке, они все были подняты на
сушу и прочно закреплены цепями. Только совсем уже за го¬
родом он нашел одну, некрепко привязанную веревкой и лег¬
ко отвязывающуюся. Он отвязал ее и вставил весла в уключи¬
ны. Скоро берег исчез, ушел в серую муть, словно его не бы¬
ло, только серость, чернота и дождь остались на свете, серое
озеро, мокрое озеро, серое небо, мокрое небо, все без конца.
Далеко среди озера он убрал весла. Вот и настало время,
и он был доволен. Прежде ему всеща хотелось в мгновенья,
коща смерть казалась неминуемой, еще немного помедлить,
отложить это дело на завтра, попробовать пожить дальше.
Ничего подобного не было сейчас и в помине. Его маленькая
лодочка — это был он, это была его маленькая, ограничен¬
14 4-161
417
ная, искусственно поддерживаемая жизнь, а серая даль кру¬
гом — это был мир, это был космос и Бог, отдаться ей было
нетрудно, это было легко, это было радостно.
Он сел на борт лодки, ногами наружу, в воду. Он мед¬
ленно наклонялся, наклонялся вперед, пока лодка мягко не
отделилась от него сзади. Он был в космосе.
В немногие мгновенья, прожитые им еще затем, было
пережито куда больше, чем за те сорок лет, что он до сих
пор находился в пути к этой цели.
Началось вот с чего: в тот миг, коща он падал, коща мол¬
ниеносную долю секунды висел между бортом и водой, ему
представилось, что он совершает самоубийство, мальчише¬
ский поступок, нечто не то чтобы скверное, а смешное и до¬
вольно дурацкое. Пафос желания умереть и пафос самого
умирания сник, ничего от него не осталось. Его умирание уже
не было необходимо, теперь уже нет. Оно было желательно,
оно было прекрасно и желанно, но необходимо оно уже не бы¬
ло. С того мига, с той молниеносной доли секунды, коща он с
полным желанием, с полным отказом от всяких желаний, с
полной готовностью решился упасть с борта, упасть в лоно
матери, в объятия Бога, — с этого мига умирание уже не име¬
ло значения. Ведь все было так просто, ведь все было так на
диво легко, не было больше.никаких пропастей, никаких
трудностей. Вся штука была — решиться упасть! Это ярко
вспыхнуло в нем как итог его жизни — решиться упасть!*
Стоило только это сделать, стоило только поддаться, отдать¬
ся, сдаться, стоило только отказаться от всяких опор, от вся¬
кой твердой почвы под ногами, стоило только послушаться
голоса собственного сердца — и все уже было выиграно, все
было хорошо, не было больше ни страха, ни опасностей.
Это было достигнуто, это великое, единственное: он ре¬
шился упасть! То, что он решился упасть в воду и в смерть,
не было необходимо, с таким же успехом он мог бы решить¬
ся упасть в жизнь. Но от этого мало что зависело, важно это
не было. Он был бы жив, он вернулся бы. Но тоща ему уже
не нужно было бы ни самоубийства, ни всех этих странных
обходных путей, ни всех этих утомительных и мучительных
глупостей, ибо тоща он преодолел бы страх.
Чудесная мысль: жизнь без страха! Преодолеть страх —
вот блаженство, вот избавление. Как страдал он всю жизнь от
страха, а сейчас, коща смерть уже схватила его за горло, он
не чувствовал ни страха, ни ужаса, только улыбку, только из¬
бавление, только согласие с происходящим. Он вдруг понял,
418
что такое страх, понял, что преодолеть его может только тот,
кто его познал. Ты страшился тысячи вещей, страшился бо¬
ли, судей, собственного сердца, страшился сна, пробужде¬
ния, одиночества, холода, безумия, смерти — особенно смер¬
ти. Но все это были лишь маски, лишь видимости. На самом
деле страшило тебя только одно — решиться упасть, сделать
шаг в неизвестное, маленький шаг через все существующие
предосторожности. И кто хоть раз, хоть один-единственный
раз отдавался, оказывал великое доверие, полагался на судь¬
бу, тот обретал свободу. Он уже не подчинялся земным зако¬
нам, он падал в мировое пространство и кружился в хороводе
светил. Вот как обстояло дело. Это было очень просто, любой
ребенок мог это понять, мог это узнать.
Он не умом так думал, он этим жил, это чувствовал, ощу¬
щал это на ощупь, на вкус и нюхом. Ощущал нюхом и на
вкус, видел и понимал, что такое жизнь. Он видел сотворение
мира, видел гибель мира, они, как два войска, постоянно дви¬
гались навстречу друг другу, никоща не завершаясь, вечно в
пути. Мир непрестанно рождался и умирал непрестанно.
Каждая жизнь была выдохом Бога. Каждая смерть была вдо¬
хом Бога. Кто научился не сопротивляться, решался упасть,
тот легко умирал, легко рождался. Кто сопротивлялся, тот
страдал от страха, умирал трудно, рождался нехотя.
В серой пелене дождя над ночным озером утопавший
видел отраженную картину игры мироздания. Солнца и
звезды восходили и заходили, сонмы людей и животных,
духов и ангелов стояли друг против друга, пели, молчали,
кричали, вереницы существ тянулись друг другу навстречу,
и каждое не осознавало себя, ненавидело само себя, ненави¬
дело и преследовало себя в каждом другом существе. Тос¬
ковали они все о смерти, о покое, их целью был Бог, было
возвращение к Богу и пребывание в Боге. Эта цель порож¬
дала страх, ибо была заблуждением. Не было на свете ни¬
какого пребывания в Боге! Никакого покоя на свете не бы¬
ло! Были только вечные, вечные, великолепные, священные
выдохи и вдохи, созидание и распад, рождение и смерть,
исход и возврат, без перерыва, без конца. И потому было
на свете только одно Искусство, была только одна Наука,
только одна Тайна: решиться упасть, не противиться воле
Бога, ни за что не цепляться, ни за добро, ни за зло. Тоща
ты избавлен, тоща ты свободен от страдания, свободен от
страха, только тоща.
14*
419
Его жизнь лежала перед ним, как местность с лесами, до¬
линами и селами, которую обозреваешь с гребня высоких
гор. Все было сначала хорошо, просто и хорошо, и все из-за
его страха, из-за его строптивости превратилось в муку и
сложность, в страшные сгустки и спазмы горя и бед! Нет на
свете женщины, без которой нельзя прожить, — и нет женщи¬
ны, с которой нельзя ужиться. Нет на свете ни одной вещи,
которая не была бы такой же прекрасной, такой же желан¬
ной, могла бы так же осчастливить тебя, как ее противопо¬
ложность! Блаженство жить, блаженство умереть, стоит
лишь тебе повиснуть одному в космосе. Покоя снаружи нет,
нет покоя на кладбище, нет покоя в Боге, никакое волшебство
никоща не прервет вечную цепь рождений, бесконечную че¬
реду вздохов Бога. Но есть другой покой, найти который
можно внутри самого себя. Имя ему: решись упасть! Не про¬
тивься! Умри с радостью! Живи с радостью!
Все ипостаси его жизни были с ним, все лики его любви,
все видоизменения его страдания. Его жена была чиста и не¬
виновна, как и он сам, Терезина улыбалась детской улыбкой.
Убийца Вагнер, чья тень так широко упала на жизнь Хлейна,
задумчиво улыбался ему, и эта улыбка говорила, что и злоде¬
яние Вагнера было тоже путем к избавлению, что и оно было
вздохом, и оно — символом, что убийство, кровь, мерзость —
это не подлинно существующие вещи, а лишь оценки нашей
собственной, терзающей себя души. С вагнеровским убийст¬
вом он, Клейн, жил годы, отвергая и одобряя, осуждая и вос¬
хищаясь, ненавидя и подражая, он сотворил себе из этого
убийства бесконечные цепи мук, страхов, горя. Сотни раз
присутствовал он со страхом при собственной смерти, видел
себя на эшафоте, чувствовал, как перерезает ему шею бритва,
как входит пуля ему в висок, — а теперь, коща внушавшая
страх смерть действительно пришла, умирать так легко, так
просто, это радость и торжество! Ничего на свете не надо бо¬
яться, ничего не страшно — только в безумии мучим мы себя
всеми этими ужасами, только в собственной нашей запуган¬
ной душе возникают добро и зло, ценность и ничтожность,
вожделение и болезнь.
Фигура Вагнера растаяла ще-то вдали. Он не Вагнер, уже
нет, никакого Вагнера не существует, это все был обман. Так
пусть Вагнер и умирает! Он, Клейн, будет жить.
Вода лилась ему в рот, и он пил. Со всех сторон, через все
органы чувств в него лилась вода, все растворялось. Его вса¬
сывали, его вдыхали в себя. Рядом с ним, вплотную к нему,
420
сплотившись, как капли в воде, плыли другие люди, плыла
Терезина, плыл старый певец, плыла его, Клейна, бывшая
жена, плыли его отец, мать, сестра и тысячи, тысячи других
людей, а также дома и картины, Венера Тициана и Страсбург¬
ский собор, все уплывало, тесно сплотившись, чудовищным
потоком, гонимое необходимостью, все быстрей и неистовей —
и навстречу этому чудовищному, неистовому, огромному пото¬
ку творений несся другой поток, чудовищный, неистовый,
поток лиц, ног, животов, животных, цветов, мыслей,
убийств, самоубийств, написанных книг, пролитых слез, гус¬
той, могучий поток, детские глаза, и черные кудри, и рыбьи
головы, женщина с длинным застывшим ножом в кровавом
животе, молодой человек, похожий на него самого, с полным
священной страсти лицом, это был он сам, двадцатилетний,
пропавший без вести тогдашний Клейн! Как хорошо, что и
это ему довелось узнать — что времени не существует! Един¬
ственное, что стоит между старостью и молодостью, между
Вавилоном и Берлином, между добром и злом, между тем,
что даришь, и тем, что отнимаешь, единственное, что напол¬
няет мир различиями, оценками, страданием, спорами, вой¬
нами, — это человеческий ум, молодой, яростный и жестокий
человеческий ум в состоянии бурной молодости, еще далекий
от знания, еще далекий от Бога. Он придумывает противоре¬
чия, он придумывает названия. Он называет одни вещи пре¬
красными, другие — безобразными, одни — хорошими, дру¬
гие — плохими. Одна часть жизни зовется любовью, другая —
убийством. Вот до чего этот ум молод, безрассуден, смешон.
Одна из его выдумок — время. Хитрая выдумка, тонкое ору¬
дие, чтобы еще сильнее мучить себя, чтобы сделать мир мно¬
гообразным и трудным! От всего, чего человек жаждет, он
всегда отделен только временем, только этим временем, этой
сумасшедшей выдумкой! Оно — одна из опор, один из мостов,
которые надо прежде всего упразднить, если хочешь свободы.
Не останавливался вселенский поток форм, вбираемый в
себя Богом, и другой, встречный, выдыхаемый. Клейн видел
особей, которые сопротивлялись течению, отчаянно барахта¬
лись и навлекали на себя ужасные муки: героев, преступни¬
ков, безумцев, мыслителей, любящих, верующих. Видел и
других, легко и быстро, подобно ему самому, несшихся по
течению в сладострастном восторге готовности и самоотдачи,
блаженных, как он. Из пения блаженных и из нескончаемого
вопля злосчастных над обоими потоками выстраивался про¬
зрачный свод, как бы купол из звуков, храм из музыки, по¬
421
среди которого, в вечно кипящих волнах музыки вселенско¬
го хора, восседал Бог, яркая, невидимая из-за яркости сияю¬
щая звезда, воплощение света.
Герои и мыслители высовывались из потока, пророки,
провозвестники. «Вот он, Господь Бог, и путь его ведет к ми¬
ру», — восклицал один, и многие следовали за ним. Другой
заявлял, что стезя Бога ведет к борьбе и войне. Один называл
его светом, другой — ночью, третий — отцом, четвертый —
матерью. Один восхвалял его как покой, другой — как дви¬
жение, как огонь, как холод, как судью, как утешителя, как
творца, как ниспровергателя, как дарующего прощение, как
мстителя. Сам Бог никак не называл себя. Он хотел, чтобы
его называли, чтобы его любили, чтобы его восхваляли, про¬
клинали, ненавидели, обожали, ибо музыка вселенского хора
была его обиталищем и его жизнью, — но ему было все равно,
какими словами его восхваляют, любят ли его или ненавидят,
ищут ли у него покоя и сна или пляски и неистовства. Каждо¬
му вольно было искать. Каждому вольно было находить.
Тут Клейн услышал свой собственный голос. Он пел. Он
громко пел новым, сильным, звонким, звучным голосом,
громко и звучно пел хвалу Богу, величал Бога. Он пел,
уносимый неистовым потоком, среди миллионов созданий,
пророк и провозвестник. Громко звенела его песня, высоко
поднимался свод звуков, и в этом своде восседал и сиял Бог.
Потоки, клокоча, неслись дальше.
ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО КЛИНГЗОРА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Последнее лето своей жизни художник Клингзор*, со¬
рока двух лет*, провел в тех южных краях близ Пампам-
бьо, Карено и Лагуно, которые он и в прежние годы
любил и часто навещал. Там родились его последние кар¬
тины, те вольные переложения явлений мира, те странные,
яркие и все-таки тихие, мечтательно-тихие картины с изо¬
гнутыми деревьями и похожими на растения домами, кото¬
рые знатоки предпочитают картинам его «классического»
периода. В его палитре было тоща всего несколько кра¬
сок, очень ярких: желтый и красный кадмий, зеленая «ве-
ронезе», изумрудная, кобальт, фиолетовый кобальт, фран¬
цузская киноварь и гераневый лак.
Весть о смерти Клингзора ужаснула его друзей поздней
осенью. В некоторых его письмах проглядывало предчувст¬
вие или желание смерти. Отсюда, наверно, возник слух,
будто он покончил с собой. Другие слухи — они ведь всегда
пристают к именам, вызывающим споры, — не менее бес¬
почвенны, чем этот. Многие утверждают, будто Клингзор
уже несколько месяцев страдал душевной болезнью, и один
не очень умный искусствовед пытался объяснить порази¬
тельную восторженность его последних картин этим мни¬
мым безумием! Больше оснований, чем эта болтовня, имеет
богатая анекдотами молва о тяге Клингзора к алкоголю. Та¬
кая тяга у него была, и никто не называл ее по имени чис¬
тосердечнее, чем он сам. В определенные периоды, и в част¬
ности в последние месяцы жизни, он не только испытывал
радость от возлияний, но и сознательно искал опьянения,
чтобы заглушить свои боли и часто невыносимую тоску. Ли
Бо*, сочинитель очень глубоких застольных песен, был его
любимцем, и в хмелю он часто называл самого себя Ли Бо, а
одного из своих друзей — Ду Фу*.
423
Его произведения продолжают жить, и по-прежнему жива
в узком кругу его близких легенда о его жизни и о том послед¬
нем лете.
КЛИНГЗОР
Наступило какое-то страстное и быстротечное лето. Жар¬
кие дни, сколь ни были они долги, отгорали, как пламенные
флаги, за короткими душными лунными ночами следовали
короткие душные ночи с дождем; стремительно, как сны, и
так же переполненные картинами, уносились блестящие, ли¬
хорадочные недели.
После полуночи, вернувшись домой с ночной прогулки,
Клингзор стоял на узком каменном балконе своей мастер¬
ской. Под ним головокружительно спускались террасы ста¬
рого сада, беспросветного столпотворения густых крон,
пальм, кедров, каштанов, церцисов, буков, эвкалиптов, опу¬
танных вьющимися растениями, лианами, глициниями. Над
чернотой деревьев белесыми бликами мерцали большие жес¬
тяные листья магнолий с полузакрытыми огромными, бело¬
снежными, с человеческую голову, бледными, как луна и сло¬
новая кость, цветками, от которых легко и мощно поднимал¬
ся густой лимонный дух. Откуда-то издалека усталыми
всплесками долетала музыка, гитара, пианино ли, — нельзя
было разобрать. Г^е-то в птичнике вдруг вскрикнул павлин,
дважды и трижды, прорвав лесистую ночь коротким, злым и
тупым звуком своего несчастного голоса, словно вся боль жи¬
вотного царства надрывно грянула из сокровенных глубин.
Свет звезд тек по лесной долине, высоко и одиноко белела
над бескрайним лесом часовня, зачарованная и древняя. Озе¬
ро, горы и небо неразличимо сливались вдали.
Клингзор стоял на балконе в рубашке, опершись голыми
до локтя руками на железные перила, и мрачновато-горячи¬
ми глазами читал письмена звезд на бледном небе и тусклых
бликов на черных клубах деревьев. Павлин напомнил ему.
Да, опять была ночь, было поздно, и следовало уснуть, не¬
пременно, любой ценой. Наверно, если бы действительно
поспать несколько ночей по-настоящему, часов по шести, по
восьми, можно было бы отдохнуть, глаза стали бы снова
послушны й терпеливы, а сердце спокойнее и прекратилась
бы боль в висках. Но тоща прошло бы это лето, прошел бы
этот сумасшедший сверкающий летний сон, и с ним опорож¬
нились бы тысячи невыпитых чаш, остыли бы тысячи неу-
424
виденных любовных взглядов, погасли бы, неувиденные,
тысячи неповторимых картин!
Он прижался лбом и болящими глазами к прохладным
перилам, от этого на миг стало легче. Через год, может
быть, а то и раньше эти глаза ослепнут, и огонь в его
сердце потухнет. Нет, никто долго не вынесет этой пылаю¬
щей жизни, даже он, даже Клингзор, которому дано де¬
сять жизней. Никто не может все время днем и ночью
гореть всеми своими огнями, всеми своими вулканами, ни¬
кто не может дольше какого-то короткого срока днем и
ночью пылать пламенем, каждый день по многу часов в
жгучем труде, каждую ночь по многу часов в жгучих
мыслях, непрестанно наслаждаясь, непрестанно творя,
всегда, всеми своими чувствами и нервами, оставаясь свет¬
лым и бессонным, как замок, за всеми окнами которого
день за днем гремит музыка, ночь за ночью сверкают
тысячи свечей. Дело идет к концу, растрачено уже много
сил, сожжено много света глаз, истекла кровью изрядная
доля жизни.
Внезапно он рассмеялся и выпрямился. Его осенило: не
раз уже он так чувствовал, так думал, так боялся. Во все
хорошие, плодотворные, пылающие времена своей жизни,
уже и в юности, он жил так же, позволяя своей свече
гореть с обоих концов, жил то с ликующим, то с надрыв¬
ным чувством буйного, сжигающего расточительства, с от¬
чаянной жадностью осушить чашу до дна и с глубоким,
затаенным страхом перед концом. Не раз уже он так жил,
не раз осушал чашу, не раз полыхал ярким пламенем.
Иноща конец бывал ласков, как глубокий, без памяти,
зимний сон. Иноща он бывал ужасен, бессмысленная опу¬
стошенность, нестерпимые боли, врачи, печальное прозя¬
бание, торжество слабости. Во всяком случае, с каждым
разом конец горенья становился все хуже, все печальнее,
все разрушительнее. Но и это всеща превозмогалось, и
через сколько-то недель или месяцев после мук или тупо¬
сти наступало воскресение, начинался новый пожар, но¬
вый взрыв подземного огня, начинались новые жгучие
труды, новая блестящая опьяненность жизнью. Так быва¬
ло, и периоды муки и прозябания, плачевные промежуточ¬
ные периоды, забывались и уходили в небытие. И хорошо.
Уладится, как не раз улаживалось.
Он с улыбкой подумал о Джине, которую видел сегодня
вечером, с которой играли его нежные мысли в течение всего
425
ночного пути домой. Какой красивой, какой теплой была эта
девушка в своей еще неопытной и боязливой пылкости! Играя,
он с нежностью произнес, как будто снова шептал ей в ухо:
— Джина! Джина! Сага1 Джина! Carina2 Джина! Bella3
Джина!
Он вернулся в комнату и снова включил свет. Из беспо¬
рядочной кучки книг он вытащил красный том стихов; ему
вспомнилось одно стихотворение, вернее, кусок стихотворе¬
ния, показавшийся ему несказанно прекрасным и полным
любви. Он долго искал, пока не нашел:
В ночной тоске, во тьме унылой
Не оставляй меня, молю,
Моя звезда, мой светоч милый,
Лицо, которое люблю!*
С глубоким наслаждением впивал он темное вино этих
слов. Как это было прекрасно, как проникновенно и вол¬
шебно: «Мой светоч милый»! И «не оставляй меня, молю»!
Он, улыбаясь, ходил взад и вперед перед высокими окна¬
ми, читал вслух стихи, говорил их далекой Джине: «Не ос¬
тавляй меня, молю!» — и его голос становился глухим от
нежности.
Потом он отпер этюдник, который после долгого рабоче¬
го дня носил с собой и весь вечер. Он открыл альбом для
эскизов, маленький, самый любимый, и отыскал последние
листы, вчерашние и сегодняшние. Вот конус горы с густыми
тенями скал; он сделал ее очень похожей на гримасу, гора,
казалось, кричала, выла от боли. Вот маленький каменный
колодец, полукругом на склоне горы, изгиб кладки напол¬
нен дочерна тенями, над ним кровавое пламя цветущего гра¬
ната. Все понятно только ему, тайнопись только для него
самого, торопливо-жадная запись мгновенья, поспешно
схваченная память о каждой минуте, коща природа и сердце
по-новому и громко звучали в лад. А вот и большие эскизы
в красках, белые листы с яркими акварелями: красная вил¬
ла в роще, пылающая, как рубин на зеленом бархате, и же¬
лезный мост близ Кастильи, красный на сине-зеленой горе,
рядом фиолетовая плотина, розовая дорога. Дальше: труба
кирпичного завода, красная ракета перед прохладно-свет¬
1 Дорогая (итал.).
2 Милая (итал.).
3 Прекрасная (итал.).
426
лой зеленью листвы, синий дорожный указатель, светло-фи-
олетовое небо с густым, словно бы вальцованным облаком.
Этот лист был хорош, это могло остаться. Жаль было въезда
к сараю, краснобурость на фоне стального неба удалась, это
говорило и звучало, но до конца не было доведено, солнце
упало тоща на лист и вызвало безумную боль в глазах. Он
долго потом окунал лицо в ручей. Что ж, краснобурость на
фоне недоброй металлической синевы получилась, это было
хорошо, тут ни в малейшем оттенке, ни в малейшей линии
не было ни фалыпи, ни неудачи. Без капут мортуум* это не
вышло бы. Тут, в этой области, таились тайны. Формы на¬
туры, ее верх и низ, ее утолщения и утончения можно сме¬
щать, можно отказаться от всех простодушных средств, ко¬
торыми подражают природе. И краски тоже можно фальси¬
фицировать, конечно, их можно усиливать, приглушать, пе¬
редавать на сотни ладов. Но если хочешь воссоздать кра¬
ской какую-то часть природы, то надо, чтобы между не¬
сколькими красками было точно то же соотношение, в точ¬
ности то же напряжение, что и в природе. Тут остаешься
зависим, тут остаешься натуралистом пока что, даже если
вместо серой кладешь оранжевую, а вместо черной краплак.
Итак, опять прошел день, а сделано мало. Лист с фабрич¬
ной трубой да красно-синий тон на другом листе и, может
быть, эскиз с колодцем. Если завтра будет пасмурно, он от¬
правится в Карабину: там есть зал с прачками. Может быть,
снова зарядит дождь, тоща он останется дома и начнет писать
маслом ручей. А теперь в постель! Опять уже второй час.
В спальне он скинул рубашку, облился до пояса водой,
расплескав ее по красному каменному полу, влез на высо¬
кую кровать и погасил свет. В окно заглядывала бледная
Монте-Салюте, тысячи раз уже Клингзор разглядывал в по¬
стели ее очертания. Крик совы в лесном ущелье, низкий и
глухой, как сон, как забвение.
Он закрыл глаза и подумал о Джине и о зале с прачками.
Бог ты мой, тысячи и тысячи вещей ждали, тысячи и тысячи
чаш стояли неналитые! Не было на земле такой вещи, кото¬
рую не стоило бы написать! Не было на свете такой женщи¬
ны, которую не стоило бы любить! Почему существует вре¬
мя? Почему всеща только эта идиотская последователь¬
ность, а не бурная, насыщенная одновременность? Почему
он лежит сейчас снова один в постели, как вдовец, как ста¬
рик? Всю короткую жизнь напролет можно наслаждаться,
можно творить, а поешь всеща только одну песню за другой,
427
целиком симфония никоща не звучит одновременно всеми
сотнями своих инструментов и голосов.
Давно, в возрасте двенадцати лет, он был Клингзором с
десятью жизнями. Мальчики тоща играли в разбойников, и у
каждого из разбойников было по десяти жизней, одну из ко¬
торых он терял каждый раз, когда преследователь прикасал¬
ся к нему рукой или копьем. С шестью, с тремя, даже с одной-
единственной жизнью можно было еще освободиться и спа¬
стись, только с десятой ты проигрывал все. А он, Клингзор,
гордо старался пробиться со всеми, со всеми десятью своими
жизнями и считал позором, коща уходил с девятью или с
семью. Таким он был в детстве, в ту невероятную пору, коща
на свете не было ничего невозможного, ничего трудного, ког¬
да Клингзора все любили, коща Клингзор всеми повелеваЛ,
коща Клингзору все на свете принадлежало. И так он про¬
должал вести себя и жил всеща десятью жизнями. И хотя на¬
сытиться, хотя добиться всей бурной симфонии сразу никог¬
да не удавалось, жизнь его все-таки не была однозвучной и
бедной, у него в музыке всеща было побольше, чем у других,
струн, в огне — побольше подков, побольше монет в суме, по¬
больше коней в упряжке! Слава Богу!
С какой полнотой и силой, словно дыхание спящей жен¬
щины, вливалась в комнату темная тишина сада! Как кричал
павлин! Как горел огонь в груди, как билось сердце, и крича¬
ло, и страдало, и ликовало, и кровоточило! Хорошее было
все-таки лето здесь наверху, в Кастаньетте, славно жилось
ему в его старой барской развалине, славно было глядеть
вниз на мохнатые спины сотен каштановых рощ, прекрасно
было время от времени жадно спускаться из этого благород¬
ного старого мира лесов и замков, глядеть на веселые цвет¬
ные игрушки внизу и писать их, писать их веселую, добрую
яркость: фабрику, железную дорогу, синий трамвай, тумбы с
афишами на набережной, гордо шествующих павлинов, жен¬
щин, священников, автомобили. И как прекрасно, и мучи¬
тельно, и непонятно было это чувство в груди, эта любовь,
трепещущая жадность к каждому пестрому лоскуту жизни,
эта сладкая, неистовая потребность смотреть и создавать и
одновременно втайне, под тонкими покровами, глубокое зна¬
ние ребячливости и бренности всех его дел!
Лихорадочно уплывала короткая летняя ночь, из зеле¬
ных глубин долины поднимался туман, в тысячах деревьев
кипели соки, тысячи снов набухали в легкой дремоте
Клингзора, душа его шествовала по зеркальному залу его
жизни, ще все картины, умножаясь, встречались каждый
428
раз с новым лицом и новым значением и входили в новые
связи, словно кто-то перетряхивал в стакане для игральных
костей звездное небо.
Одно сновидение из множества восхитило его и потряс¬
ло. Он лежал в лесу, а на лоне его жейщина с рыжими
волосами, а на плече лежала черная, а еще одна стояла ря¬
дом на коленях, держала его руку и целовала его пальцы, и
везде вокруг были женщины, и девушки, и девочки еще с
тонкими длинными ногами, и в полном расцвете, и зрелые
с печатью знания и усталости на дергающихся лицах, и все
любили его, и все хотели, чтобы он их любил. И тут между
женщинами вспыхнула война, рыжая неистово вцепилась в
волосы черной, стащила ее наземь, свалилась сама, и все
бросились друг на друга, каждая кричала, каждая тащила
кого-то, каждая кусалась, каждая причиняла боль, каждой
было больно самой, смех, крики ярости, стоны звучали на¬
перебой и сливались, везде текла кровь, ногти кроваво впи¬
вались в нежную плоть.
С чувством тоски и подавленности Клингзор минутами
просыпался, глаза его, широко раскрываясь, вперялись в
светлое пятно на стене. Перед его взором еще стояли бесну¬
ющиеся женщины, многих из них он знал и называл по име¬
ни — Нина, Термина, Элизабет, Джина, Эдит, Берта — и
хриплым голосом, еще во сне, говорил: «Девочки, пере¬
станьте! Вы же врете, вы же врете мне. Не друг друга дол¬
жны вы терзать, а меня, меня!»
ЛУИ
Луи Жестокий* свалился как снег на голову, вдруг он
оказался здесь, старый друг Клингзора, непоседа, от кото¬
рого можно было ждать всего, который жил в поездах и чья
мастерская помещалась в походном мешке. Славные часы
капали с неба этих дней, славные дули ветры. Они писали
вместе на Масличной горе и в Карфагене.
— Стоит ли вообще чего-то вся эта живопись? — сказал
Луи на Масличной rope, лежа нагишом в траве, с красной
от солнца спиной. — Ведь пишут только faute de mieux1,
дорогой. Если бы у тебя всеща была на коленях девушка,
которая тебе как раз сейчас нравится, а в тарелке суп, ко¬
* За неимением лучшего (франц.).
429
торого тебе сегодня хочется, ты не изводил бы себя этой
безумной чепухой. У природы десять тысяч красок, а нам
втемяшилось свести всю гамму к двадцати. Вот что такое
живопись. Доволен никоща не бываешь, а приходится еще
подкармливать критиков. А хорошая марсельская уха, саго
mio1, да к ней стаканчик прохладного бургундского, а потом
миланский шницель, а на десерт груши, да еще чашечка
кофе по-турецки — это реальность, сударь мой, это ценно¬
сти! Как скверно едят здесь, в ваших палестинах! Ах, Бог
ты мой, хотел бы я сейчас оказаться под вишней и чтобы
ягоды лезли мне прямо в рот, а как раз надо мной на стре¬
мянке стояла бы та смуглая ядреная девица, которую мы
встретили сегодня утром. Клингзор, хватит писать! Пригла¬
шаю тебя на хороший обед в Лагуно, скоро уже пора.
— Правда? — спросил Клингзор, прищурившись.
— Правда. Только сперва мне нужно ненадолго зайти на
вокзал. По правде сказать, я телеграфировал одной знако¬
мой, что я при смерти, и она может в одиннадцать часов
явиться сюда.
Клингзор со смехом снял с доски начатый этюд.
— Ты прав, дорогой, пошли в Лагуно! Надень рубашку,
Луиджи. Здешние нравы отличаются большой невинностью,
но голым в город тебе, к сожалению, идти нельзя.
Они пошли в городок, они зашли на вокзал, приехала
красивая женщина, они прекрасно обедали в ресторане, и
Клингзор, совсем отвыкший от этого за свои сельские меся¬
цы, удивлялся, что все эти вещи, эти милые веселые вещи
еще существуют: форель, лососина, спаржа, шабли, валлис-
ское «доль», бенедиктин.
После обеда они втроем поехали вверх по канатной до¬
роге через обрывистый город, поперек домов, мимо окон и
висячих садов, было очень красиво, они остались на своих
местах и съездили снова вниз, и еще раз вверх, и опять вниз.
На редкость прекрасен и странен был мир, очень красочен,
чуть-чуть подозрителен, чуть-чуть неправдоподобен, но на
диво красив. Только Клингзор был несколько скован, он
подчеркивал свое равнодушие, боясь влюбиться в приятель¬
ницу Луиджи. Они сходили еще раз в кафе, сходили в пу¬
стой полуденный парк, полежали у воды под исполинскими
деревьями. Много видели они такого, что следовало напи¬
1 Дорогой мой (итал).
430
сать: красные, из драгоценного камня дома в густой зелени,
змеиные крушины и скумпии, синие и ржавые.
— Ты писал очень славные и веселые вещи, Луиджи, —
сказал Клингзор, — я все это очень люблю — флагштоки,
клоунов, цирк. Но больше всего мне нравится одно пятно
на той твоей картине, ще карусель ночью. Помнишь, там у
тебя над фиолетовым шатром, вдалеке от всех этих огней,
высоко вверху вьется маленький прохладный флажок, свет-
ло-розовый, такой прекрасный, такой прохладный, такой
одинокий, такой до ужаса одинокий! Это как стихотворение
Ли Бо или Поля Верлена*. В этом маленьком дурацком ро¬
зовом флажке — вся боль и все бессилие мира и вместе с
тем — весь добрый смех над болью и над бессилием. Напи¬
сав этот флажок, ты оправдал свою жизнь, я считаю его
огромной твоей заслугой, этот флажок.
— Да, я знаю, что ты любишь его.
— Ты и сам любишь. Понимаешь, не напиши ты несколь¬
ких таких штук, тебе не помогли бы ни хорошие обеды, ни ви¬
на, ни бабы, ни кофе, ты был бы бедняком. А так ты богач, па¬
рень хоть куда. Знаешь, Луиджи, я часто думаю так же, как
ты: все наше искусство — всего лишь замена, хлопотная* оп¬
лачиваемая в десять раз дороже замена упущенной жизни,
упущенной животности, упущенной любви. Но ведь это не
так! Все обстоит совершенно иначе. Мы переоцениваем чув¬
ственное, считая духовное лишь заменой чувственного за его
отсутствием. Чувственное ни на йоту не ценнее, чем дух, и на¬
оборот. Все едино, все одинаково хорошо. Обнимать женщи¬
ну и писать стихи — одно и то же. Было бы только главное —
любовь, горение, одержимость, и тоща все равно — монах ли
ты на горе Афон или прожигатель жизни в Париже.
Луи окинул его медленным взглядом насмешливых глаз.
— Не задирай нос, малый!
Вместе с приехавшей красавицей бродили они по округе.
Видеть оба были мастера, это они умели. В окрестностях
нескольких городков и деревень они видели Рим, видели
Японию, видели море у экватора и сами же, играя, рассеи¬
вали эти иллюзии; их прихоть зажигала звезды на небе и
тут же гасила их. В роскошные ночные небеса пускали они
свои фейерверки; мир был мыльным пузырем, оперой, ве¬
селой чепухой.
Луи птицей носился по холмам на своем велосипеде, бы¬
вал в разных местах, а Клингзор писал. Какими-то днями
Клингзор жертвовал, потом снова ожесточенно работал на
431
воздухе. Луи не захотел работать. Луи внезапно уехал вместе
со своей приятельницей, прислал открытку откуда-то издале¬
ка. Вдруг он опять появился, коща Клингзор поставил уже
на нем крест, встал в дверях в соломенной шляпе и открытой
рубашке, словно никуда не исчезал. Еще раз попил Клингзор
из сладчайшей чаши своей молодости вино дружбы. Много
было у него друзей, многие любили его, многих он одаривал,
многим открывал свое быстрое сердце, но только двое из дру¬
зей слышали из его уст и в то лето прежний зов сердца: ху¬
дожник Луи и поэт Герман, по прозвищу Ду Фу.
В иные дни Луи сидел в поле на своем складном стуль¬
чике, или в тени груши, или в тени сливы и не работал. Он
сидел и думал и, прикрепив бумагу к палитре, писал, много
писал, писал множество писем. Счастливы ли люди, кото¬
рые пишут так много писем? Он писал напряженно, Луи
Беззаботный, его взгляд был часами мучительно прикован
к бумаге. Многое, о чем он молчал, не давало ему покоя.
Клингзор любил его за это.
Иначе вел себя Клингзор. Он не умел молчать. Он не мог
скрывать того, что у него на сердце. В тайные беды своей
жизни, о которых мало кто знал, он самых близких все-таки
посвящал. Он часто страдал от страха, от тоски, часто про¬
валивался в яму мрака, порой тени из прежней его жизни
падали, разросшись, на его дни и делали их черными. Тоща
для него было облегчением увидеть лицо Луиджи. Тоща он,
случалось, жаловался ему.
А Луи не любил этих приступов слабости. Они мучили его,
они требовали сочувствия. Клингзор привык изливать душу
другу и слишком поздно понял, что из-за этого теряет его.
Луи снова заговорил об отъезде. Клингзор знал, что за¬
держит его на сколько-то дней, на три дня, на пять дней, но
внезапно Луи покажет ему уложенный чемодан и уедет, что¬
бы опять долго не появляться. Как коротка была жизнь, как
безвозвратно все было! Единственного из своих друзей, кото¬
рый целиком понимал его искусство, единственного, чье ис¬
кусство было близко и под стать его собственному, он испугал
и обременил, расстроил и охладил всего лишь из-за глупой
слабости и распущенности, из-за детской, неприличной по¬
требности не стесняться друга, ничего от него не утаивать, не
держать себя в руках при нем. Какая это была глупость, ка¬
кое ребячество! Так корил себя Клингзор, слишком поздно.
В последний день они вместе бродили по золотым до¬
линам, Луи был в очень хорошем расположении духа,
отъезд был истинной радостью для его сердца птицы.
432
Клингзор держался соответственно, они снова нашли
прежний, легкий, игривый и насмешливый тон и больше
не теряли его. Вечером они сидели в саду трактира. Они
попросили зажарить рыбу, сварить рис с грибами и запи¬
вали персики мараскином.
— Куда ты поедешь завтра? — спросил Клингзор.
— Не знаю.
— К той красавице?
— Да. Может быть. Кто это знает? Не расспрашивай
меня. Давай-ка сейчас, под конец, выпьем еще хорошего
белого вина. Я за «невшатель».
Они выпили; вдруг Луи воскликнул:
— Хорошо, что я хоть уеду, старый тюлень. Когда я
иной раз сижу рядом с тобой, вот так, как сейчас, например,
мне вдруг приходят в голову какие-то глупости. Мне при¬
ходит в голову, что вот здесь сидят те два художника, кото¬
рые только и есть у нашего славного отечества, и тоща у
меня появляется отвратное ощущение в коленях — словно
мы оба из бронзы и должны стоять, взявшись за руки, на
пьедестале, понимаешь, как Гёте и Шиллер. Они же тоже
не виноваты, что должны вечно стоять, держа друг друга за
бронзовые руки, и что постепенно стали нам так неприятны
и ненавистны. Может быть, они были отличные ребята, ми¬
лейшие парни, я как-то прочел одну пьесу Шиллера, это
было совсем недурно. И все же так вышло, что он сделался
знаменитостью и должен стоять рядом со своим сиамским
близнецом, две гипсовые головы рядом, и везде видишь их
собрания сочинений, и их проходят в школах. Это ужасно.
Представь себе, через сто лет какой-нибудь профессор будет
вещать гимназистам: Клингзор, родился в 1877 году, и его
современник Луи, прозванный Обжорой, новаторы живопи¬
си, освобождение от натурализма цвета, при ближайшем
рассмотрении эта пара распадается на три четко различи¬
мых периода! Уж лучше прямо сегодня под паровоз.
— Разумнее бы отправить туда профессоров.
— Таких больших паровозов не бывает. Ты же знаешь,
как мелкотравчата наша техника.
Уже появились звезды. Вдруг Луи стукнул стаканом о
стакан друга.
— Ну вот, чокнемся и выпьем. А потом я сяду на свой
велосипед и adieu. Без долгого прощания! Хозяину заплаче¬
но. Будем здоровы, Клингзор!
433
Они чокнулись и выпили, в саду Луи вскочил на вело¬
сипед, помахал шляпой, исчез. Ночь. Звезды. Луи был в
Китае. Луи был легендой.
Клингзор грустно улыбнулся. Как он любил эту перелет¬
ную птицу! Он долго стоял в усыпанном гравием саду трак¬
тира, глядя вниз на пустую улицу.
ДЕНЬ КАРЕНО
Вместе с друзьями из Баренго, а также с Агосто и Эрси-
лией Клингзор отправился пешком в Карено. Утром, сквозь
душистую таволгу, мимо дрожащих, еще покрытых росой па¬
утинок на опушках, они спустились через обрывистый лес в
долину Пампамбьо, ще у желтой дороги, оглушенные летним
днем, полумертвые, спали, наклонившись вперед, яркие
желтые дома, а у высохшего ручья белые металлические ивы
нависали тяжелыми крыльями над золотыми лугами. Кра¬
сочно плыл караван друзей по розовой дороге сквозь подер¬
нутую дымкой тумана зелень долины: белые и желтые, в по¬
лотне и шелке мужчины, белые и розовые женщины, и вели¬
колепный, цвета «веронезе», зонтик Эрсилии сверкал, как
драгоценный камень в волшебном кольце.
Доктор меланхолически сетовал доброжелательным го¬
лосом:
— Ужасно жаль, Клингзор, через десять лет все ваши
чудесные акварели выцветут; все эти ваши излюбленные
краски нестойки.
Клингзор:
— Да, и хуже того: ваши прекрасные каштановые волосы,
доктор, будут через десять лет сплошь седыми, а чуть позже
наши милые веселые кости будут лежать ще-нибудь в яме, в
земле, — к сожалению, и ваши тоже, Эрсилия, такие пре¬
красные и здоровые кости. Ребята, давайте не будем благора¬
зумны под конец жизни. Герман, что говорит Ли Бо?
Герман, поэт, остановился и прочел:
Жизнь проходит, как луч молнии,
Блеск его нельзя увидеть — он слишком короток,
Вечно стоят неподвижно земля и небо,
Но как быстро летит, изменяясь, время по лику
людей.
Зачем же за полной чашей сидишь и не пьешь,
Кого еще ждешь ты, скажи?
434
— Нет, — сказал Клингзор, — я имел в виду другие сти¬
хи, с рифмами, о кудрях, которые еще утром были темные.
Герман тут же прочел эти стихи:
Утром кудри, словно черный шелк, блестели,
Вечером они белеют сединой.
Чтобы не страдать, пока есть силы в теле,
Чашу поднимай и чокайся с луной .
Клингзор громко рассмеялся своим хриплым голосом.
— Молодец Ли Бо! Он кое о чем догадывался, он многое
знал. Мы тоже многое знаем, он наш старый умный брат.
Этот упоительный день ему бы понравился, это как раз та¬
кой день, на исходе которого хорошо умереть смертью Ли
Бо, в лодке на тихой реке. Увидите, сегодня все будет чу¬
десно.
— Что же это за смерть, которой умер на реке Ли Бо? —
спросила художница.
Но Эрсилия перебила, ее своим добрым грудным голо¬
сом:
— Нет, перестаньте! Кто скажет еще хоть слово о смерти,
того я больше не люблю. Finisca adesso, brutto1 Клингзор!
Клингзор, смеясь, подошел к ней.
— Как вы правы, bambina2! Если я скажу еще хоть слово
о смерти, можете выколоть мне своим зонтиком оба глаза.
Но в самом деле, сегодня чудесно, дорогие! Сегодня поет
птица, это сказочная птица, я уже слышал ее утром. Сегод¬
ня дует ветерок, это сказочный ветерок, это неба сынок, он
будит спящих принцесс и вытряхивает ум из голов. Сегодня
цветет цветок, это сказочный цветок, он синий и цветет один
раз в жизни, и кто его сорвет, тот блажен.
— Он хочет что-то этим сказать? — спросила Эрсилия
доктора. Клингзор услышал ее вопрос.
— Я хочу сказать вот что: этот день никоща не вернется,
и кто его не вкусит, не выпьет, не насладится его вкусом и
благоуханием, тому его во веки веков не предложат второй
раз. Никоща солнце не будет светить так, как сегодня, оно
находится на небе в определенном положении, в определен¬
ной связи с Юпитером, со мной, с Агосто, с Эрсилией и со
всеми, в связи, которая никоща, и через тысячу лет, не
1 Перестань, противный (итал.).
2 Деточка (итал.).
435
повторится. Поэтому я хочу сейчас — ибо это приносит сча¬
стье — идти некоторое время слева от вас и нести ваш изум¬
рудный зонтик, в свете которого моя голова будет походить
на опал. Но и вы тоже должны участвовать, должны спеть
песню, что-нибудь из ваших лучших.
Он взял Эрсилию под руку, его резко очерченное лицо
мягко окунулось в сине-зеленую тень зонтика, в который он
был влюблен и приятно ярким цветом которого восхищался.
Эрсилия запела:
II mlo papa non vuole, .
Ch’io spos’un bersaglier...
Присоединились другие голоса, все с пеньем шагали до
леса и по лесу, пока подъем не стал слишком тяжел; дорога
вела, как стремянка, круто вверх через папоротники по высо¬
кой горе.
— Как замечательно прямолинейна эта песня! — похва¬
лил Клингзор. — Папа против влюбленных, как это всеща
с ним бывает. Они берут нож, который хорошо режет, и
убивают папу. Его больше нет. Они делают это ночью, никто
их не видит, кроме луны, которая не выдает их, и звезд, но
они молчат, и Господа Бога, но тот уж простит их. Как это
прекрасно и откровенно! Сегодняшнего поэта за такое поби¬
ли бы камнями.
Сквозь разорванные солнцем, играющие тени каштанов
они взбирались по узкой горной дороге. Когда Клингзор под¬
нимал глаза, он видел перед собой тонкие икры художницы,
розово просвечивавшие сквозь прозрачные чулки. Когда он
оглядывался, над черной негритянской головой Эрсилии
плыла, как купол, бирюза зонтика. Под ним она была в фио¬
летовом шелке, единственная темная фигура из всех.
У какого-то оранжево-синего крестьянского дома лежали
на лужайке зеленые летние яблоки-паданцы, прохладные и
кислые, они попробовали их. Художница мечтательно рас¬
сказывала об одной поездке по Сене в Париже коща-то до
войны. Да, Париж и блаженное время!
— Оно не вернется. Никоща больше.
— И не надо! — резко воскликнул художник и сердито
тряхнул четко очерченной ястребиной головой. — Ничего
* Мой папа не хочет,
Чтобы я вышла замуж за берсальера...(итал.)
436
не должно возвращаться! Зачем? Что за детские желания!
Война преобразила все, что было раньше, в какой-то рай,
даже самое глупое и ненужное. Что ж, славно было в Пари¬
же, славно было в Риме, славно было в Арле. Но разве
сегодня и здесь менее славно? Рай — это не Париж и не
мирное время, рай здесь, он находится вон там наверху, на
этой горе, и мы будет в нем через час, и мы — это разбой¬
ники, которым сказано: сегодня ты будешь со мной в раю.
Они выбрались из крапчатой тени лесной тропы на от¬
крытую широкую проезжую дорогу; светлая и жаркая, она
большими кругами вела к вершине. Клингзор, в темно-зеле-
ных защитных очках, шел последним и часто отставал, что¬
бы видеть движение и цветовые сочетания фигур. Он ничего
не взял с собой для работы нарочно, даже маленького блок¬
нота, и все же сотни раз останавливался, взволнованный
открывшимися ему картинами. Одиноко стояла его тощая
фигура, белая на красноватой дороге, у края акациевой ро¬
щи. Лето дышало жаром на гору. Свет стекал отвесно, сотни
красок, дымясь, поднимались из глубины. Над ближайши¬
ми горами зеленых и красных тонов с белыми деревнями
виднелись синеватые гряды гор, а за ними, все светлей и
синей, новые и новые гряды, и совсем далеко и неправдопо¬
добно хрустальные вершины в вечном снегу. Над лесом ака¬
ций и каштанов свободнее и мощнее выступал скалистый, в
зазубринах гребень Салюте, красноватый и светло-фиалко-
вый. Красивее всего были люди, как цветки, стояли они на
свету под зеленью, как исполинский скарабей, светился
изумрудный зонтик, под ним — черные волосы Эрсилии,
белая стройная художница с розовым лицом и все осталь¬
ные. Клингзор впивал их жадными глазами, но мысли его
были с Джиной. Он увидит ее только через неделю, она
сидела в конторе в городе и писала на машинке, ему лишь
изредка удавалось увидеть ее, и одну — никоща. А любил
он ее, именно ее, которая понятия о нем не имела, не знала
его, не понимала, для которой он был лишь какой-то редкой
и странной птицей, каким-то знаменитым художником-чу-
жеземцем. Как странно, что именно к ней привязалось его
желание, что никакая другая чаша любви его не удовлетво¬
ряла. Он не привык проделывать долгие пути ради женщи¬
ны. Ради Джины он их проделывал, чтобы побыть часок
рядом с ней, подержать ее тонкие пальчики, подсунуть свой
башмак под ее башмак, быстро поцеловать в затылок. Он
размышлял, был забавной загадкой себе самому. Неужели
437
это уже поворот? Уже старость? Неужели только это, поз¬
дняя любовь сорокалетнего к двадцатилетней?
Гребень горы был достигнут, а за ним открылся глазам
уже новый мир: высоко и неправдоподобно — Монте-Джен-
наро, сплошь из крутых, острых пирамид и конусов, за ней
наискось — солнце, каждое плато блестело эмалью, плавая
на густых фиолетовых тенях. Между дальним и близким —'
мерцающий воздух, и бесконечно глубоко терялся узкий си¬
ний рукав озера, прохлаждаясь за зеленым пламенем леса.
Крошечная деревня на перевале: поместье с маленьким
жилым домом, четыре-пять других домов, каменные, выкра¬
шенные в синий и розовый цвет, часовня, колодец, вишне¬
вые деревья. Общество задержалось на солнце у колодца,
Клингзор прошел дальше, вошел через арку ворот в тени¬
стую усадьбу: три высоких синеватых дома с редкими окош¬
ками, между домами трава и галька, коза, крапива. Какой-
то ребенок пустился наутек, он поманил его, вынул шоколад
из кармана. Ребенок остановился, Клингзор поймал его, по¬
гладил и угостил; ребенок был робкий и красивый, черная
девчушка с испуганными черными глазами зверька, с голы¬
ми, стройными, блестяще-смуглыми ножками.
— Где вы живете? — спросил он, она побежала к ближай¬
шей двери, открывшейся в ущелье домов. Из темного камен¬
ного помещения, как из пещеры первобытных времен, вышла
женщина, мать ребенка, она тоже взяла шоколадку. Из гряз¬
ного платья поднималась смуглая шея, лицо было крепкое,
широкое, загорелое и красивое, губы широкие, полные, глаза
большие, грубой, сладостной прелестью, полом и материнст¬
вом сильно и тихо веяло от крупных азиатских черт. Он со¬
вращающе склонился к ней, она с улыбкой увильнула, втис¬
нула ребенка между ним и собой. Он пошел дальше с решимо¬
стью вернуться. Ему хотелось писать эту женщину или быть
ее любовником, хотя бы лишь час. Она была всем: матерью,
ребенком, возлюбленной, зверем, мадонной.
Медленно, с сердцем, полным мечтаний, вернулся он к
обществу. На каменной ограде поместья, жилой дом которо¬
го казался пустым и запертым, были укреплены старые гру¬
бые пушечные ядра, причудливая лестница вела через кус¬
ты к рощице на холме, на самом верху оказался памятник,
там, вычурно и одиноко, стоял чей-то бюст, костюм Валлен¬
штейна*, локоны, завитая эспаньолка. Что-то призрачное и
фантастическое витало в блестящем полуденном свете вок¬
руг этой горы, чудо словно притаилось, мир был настроен
438
на другую, далекую тональность. Клингзор напился у ко¬
лодца, прилетел мотылек подалирий и приник к расплескав¬
шейся по известняковому краю колодца воде.
Горная дорога шла по хребту дальше, под каштанами, под
орехами, солнечная, тенистая. На одном из поворотов — придо¬
рожная часовня, старая и желтая, в нише — поблекшие старые
картины, ангельски-детская голова святого, коричневый и
красный фрагмент одежды, остальное облупилось. Клингзор
очень любил старые картины, когда они сами вдруг попада¬
лись на глаза, любил такие фрески, любил возврат этих пре¬
красных творений в прах и в землю.
Опять деревья, лозы, ослепительная, жаркая дорога,
опять поворот — вот и цель похода, вдруг, нежданно-нега-
данно: темный проход ворот, большая, высокая церковь из
красного камня, весело и самоуверенно брошенного в небо,
площадь, полная солнца, пыли и покоя, докрасна выжжен¬
ная трава, ломающаяся под ногами, полуденный свет, от¬
швыриваемый назад яркими стенами, колонна, фигура над
ней, невидимая из-за напора солнца, вокруг просторной пло¬
щади каменный парапет над синей бесконечностью. Дальше —
деревня Карено, древняя, узкая, темная, сарацинская, мрач¬
ные каменные пещеры под выгоревшей коричневой черепи¬
цей, угнетающе, до неправдоподобия узкие, полные темноты
улочки, маленькие площади, как вскрики белого солнца, Аф¬
рика и Нагасаки, над этим — лес, под этим — синий обрыв,
наверху — белые, жирные, сытые облака.
— Смешно, — сказал Клингзор, — как много нужно
времени, чтобы немножко разобраться в мире! Коща я од¬
нажды, много лет назад, ехал в Азию, я проезжал в шести
или десяти километрах отсюда и ничего не знал. Я ехал в
Азию, и тоща мне было это очень нужно. Но все, что я
нашел там, я нахожу сегодня и здесь: девственный лес, жа¬
ра, прекрасные иноземцы без нервов, солнце, святыни.
Много же нужно времени, чтобы умудриться побывать за
один-единственный день в трех частях света. Вот они. При¬
вет тебе, Индия! Привет вам, Африка, Япония!
Друзья знали одну молодую даму, которая жила здесь на¬
верху, и Клингзор был очень рад, что они навестят эту незна¬
комку. Он именовал ее Царицей Гор, так называлась одна та¬
инственная восточная сказка в книжках его детских лет.
С большими ожиданиями двинулся караван через синее,
тенистое ущелье улочек, кругом ни души, ни звука, ни ку¬
рицы, ни собаки. Но в полутени оконной арки Клингзор
увидел безмолвную фигуру — красивую девушку, черногла¬
439
зую, в накинутом на черные волосы красном платке. Ее
взгляд, тихо следивший за незнакомыми людьми, встретил¬
ся с его взглядом, в течение одного долгого вздоха они смот¬
рели друг другу в глаза, мужчина и девушка, истово и стро¬
го, два разных мира* сблизившиеся на миг. Затем они ко¬
ротко и сердечно улыбнулись друг другу улыбкой вечного
приветствия полов, старой, сладостной, жадной вражды, и,
шагнув за грань дома, чужой мужчина скрылся, он уже ле¬
жал в ларце девушки, образ, прибавившийся к другим об¬
разам, мечта, прибавившаяся к другим мечтам. Ненасытное
сердце Клингзора екнуло, он помедлил, хотел было вер¬
нуться, Агосто позвал его, Эрсилия начала петь, стена тени
исчезла, и в зачарованном полудне тихо и ослепительно воз¬
никли маленькая яркая площадь с двумя желтыми дворца¬
ми, узкие каменные балконы, закрытые лавки — великолеп¬
ная декорация для первого акта оперы.
— Прибытие в Дамаск! — воскликнул доктор. — Где
живет Фатьма, жемчужина среди женщин?
Ответ пришел неожиданно из меньшего дворца. Из про¬
хладной черноты за полузакрытой балконной дверью выле¬
тел странный звук, еще один и десять раз тот же, затем
октава к нему, десять раз — рояль, который настраивали,
поющий, полный звуков рояль посреди Дамаска.
Вот здесь, конечно, она и жила. Но дом, казалось, был
без ворот, только розово-желтая стена с двумя балконами да
вверху на штукатурке фронтона старинная роспись: цветы,
синие и красные, и попугай. Сюда бы размалеванную дверь,
которая отворялась бы после того, как трижды в нее посту¬
чишь и произнесешь магические слова Соломона, и чтобы
путника встречал аромат персидских благовоний, а за по¬
крывалами, на высоком троне, восседала Царица Гор, и ра¬
быни лепились бы по ступеням у ее ног, и намалеванный
попугай с криком садился бы на плечо повелительницы.
Они нашли в переулке крошечную дверцу, зло и прон¬
зительно завизжал звонок, дьявольский механизм, вверх
круто шла лестница, узкая, как стремянка. Немыслимо, как
проник в этот дом рояль. Через окно? Через крышу?
Большая черная собака бросилась вниз, маленький свет¬
логривый лев — за нею вслед, шум и гам, лесенка громы¬
хала, в глубине рояль пел одиннадцать раз ту же ноту. Из
окрашенной в розовое комнаты лился мягкий, приятный
свет, хлопали двери. Был ли тут попугай?
440
Вдруг появилась Царица Гор, стройный, гибкий цветок,
подтянутая, упругая, вся в красном, жгучий огонь, сама мо¬
лодость. Перед взором Клингзора рассыпались в прах сотни
любимых картин и встала, сияя, новая. Он сразу понял, что
будет писать ее, не с натуры, а сиянье в ней, которое он уви¬
дел, стихотворение, прелестное терпкое созвучие — моло¬
дость, красное, белокурость, амазонку. Он будет смотреть на
нее час, а может быть, много часов. Будет смотреть, как она
ходит, смотреть, как сидит, смотреть, как смеется, смотреть,
может быть, как танцует, слушать, может быть, как поет.
День был увенчан, день обрел смысл. Что приложится, то
уже подарок, уже избыток. Всеща так бывало: событие не
приходило одно, перед ним летели птицы, впереди него всег¬
да шли гонцы и предвестья, материнско-азиатский животный
взгляд там, у двери, черноволосая деревенская красавица в
окне, то ли, другое ли.
Одно мгновение он с дрожью чувствовал: «Будь я на де¬
сять лет моложе, на десять коротких лет, эта могла бы взять
меня, поймать меня, обвести меня вокруг пальца». Нет, ты
слишком молодая, маленькая красная царица, ты слишком
молода для старого волшебника Клингзора! Он будет восхи¬
щаться тобой, выучит тебя наизусть, напишет тебя, навеки за¬
печатлеет песнь твоей молодости; но он не отправится из-за
тебя в паломничество, не взберется к тебе по веревочной лест¬
нице, не совершит из-за тебя убийства, не споет серенаду под
твоим красивым балконом. Увы, нет, всего этого он не сдела¬
ет, старый художник Клингзор, старая овца. Он не будет лю¬
бить тебя, не бросит на тебя взгляда, какой бросил на ту ази¬
атку, какой бросил на ту черноволосую в окне, которая, мо¬
жет быть, нисколько не моложе, чем ты. Для них он не слиш¬
ком стар, только для тебя, Царица Гор, красный цветок на го¬
ре. Для тебя, дикая гвоздика, он слишком стар. Тебе мало
любви, которую может подарить Клингзор между полным ра¬
боты днем и полным красного вина вечером. Тем лучше зато
вопьет тебя мой глаз, стройная ракета, и будет помнить о те¬
бе, коща ты давно для меня потухнешь.
Через комнаты с каменными полами и открытыми арка¬
ми они прошли в зал, ще над высокими дверями мерцали
причудливо-несуразные фигуры лепных украшений, а вок¬
руг, на темном фризе, плыли по сказочному, густо заселен¬
ному морю написанные красками дельфины, белые кони и
розовые амурчики. Несколько стульев да на полу части ра¬
зобранного рояля — больше ничего не было в этой большой
комнате, но две соблазнительные двери выходили на два
441
маленьких балкона над оперной площадью, а напротив, на¬
искосок, выпячивались балконы соседнего дворца, тоже
расписанные картинами, и красный дородный кардинал
плыл там на солнце золотой рыбкой.
Отсюда они уже не пошли дальше. В зале были распакова¬
ны припасы и накрыт стол, появилось вино, редкое белое ви¬
но с севера, ключ к полчищам воспоминаний. Настройщик
пустился наутек, растерзанный рояль молчал. Клингзор за¬
думчиво поглядел на обнаженные кишки струн, затем тихо
закрыл крышку. Глаза его болели, но в его сердце пел летний
день, пела мать-сарацинка, раздольно и мощно пело голубое
виденье Карено. Он ел, чокался, говорил ясно и весело, а за
всем этим работал аппарат в его мастерской, его взгляд охва¬
тывал эту дикую гвоздику, этот цветок мака, как вода рыбку,
в его мозгу сидел усердный хронист и словно бы железными
столбцами цифр записывал формы, ритмы, движения.
Разговоры и смех наполняли пустой зал. Умно и добро¬
душно смеялся доктор, низко и приветливо Эрсилия, сильно
и подспудно Агосто, легко, как птичка, художница, умно
говорил поэт, шутливо говорил Клингзор, наблюдающе и
чуть робко ходила красная Царица между своими гостями,
дельфинами и конями, была там и здесь, стояла у рояля,
присаживалась на подушку, нарезала хлеб, наливала вино
неопытной девичьей рукой. Радость звенела в прохладном
зале, глаза блестели черным и синим блеском, перед свет¬
лыми высокими балконными дверями замер на страже осле¬
пительный полдень.
Ясною струей лилось в стаканы благородное вино, преле¬
стная противоположность простой холодной еде. Ясным пят¬
ном плавал красный цвет платья Царицы по высокому залу,
ясно и зорко следовали за ним взгляды всех мужчин. Она ис¬
чезла и появилась опять с обвязанной зеленым платком
грудью. Исчезла и появилась опять с обвязанной синим плат¬
ком головой.
После еды, устав и насытившись, весело двинулись в
лес, улеглись в траве и мху, зонтики светились, лица пыла¬
ли под соломенными шляпами, сверкая, горел солнечный
день. Царица Гор лежала красным пятном в зеленой траве,
светло поднималась из пламени ее тонкая шея, плотно и
одушевленно сидел ее высокий ботинок на стройной ноге.
Клингзор, вблизи от нее, читал ее, изучал ее, наполнял себя
ею, как в детстве, читая волшебную сказку о Царице Гор,
наполнял себя этой историей. Отдыхали, дремали, болтали,
442
боролись с муравьями, воображали, что слышат змей, в
женских волосах застревала колючая кожура каштанов.
Вспоминали отсутствующих друзей, которые пришлись бы
кстати в этот час, их было немного, жалели, что здесь нет
друга Клингзора, Луи Жестокого, живописца каруселей и
цирков, его фантастический дух витал над собравшимися.
Послеполуденные часы прошли как год в раю. Проща¬
ясь, много смеялись, Клингзор все унес в сердце: Царицу,
лес, дворец и зал с дельфинами, обеих собак, попугая. .
Спускаясь между друзьями с горы, он постепенно пришел
в то радостное и бесшабашное настроение, которое случалось
у него только в те редкие дни, коща он добровольно оставлял
работу. Рука об руку с Эрсилией, с Германом, с художницей,
он вприпрыжку шагал вниз по освещенной солнцем дороге,
запевал песни, по-детски наслаждался остротами, каламбу¬
рами, самозабвенно смеялся. Он забегал вперед и прятался в
каком-нибудь укрытии, чтобы напугать остальных.
Как ни быстро они двигались, солнце двигалось быстрее,
уже у Палаццетто оно зашло за гору, а внизу, в долине, был
уже вечер. Они сбились с дороги, спустились слишком низко,
все устали, проголодались, и пришлось отказаться от планов,
намеченных на вечер: от прогулки через ржаное поле в Ба-
ренго и рыбного блюда в трактире этой приозерной деревни.
— Дорогие мои, — сказал Клингзор, сев на каменную
ограду у дороги, — наши планы были прекрасны, и, конеч¬
но, хороший ужин у рыбаков или в Монте д’Оро вызвал бы
у меня благодарность. Но туда нам уже не дойти, по край¬
ней мере мне. Я устал и проголодался. Отсюда я не пойду
ни на шаг дальше, чем до ближайшего grotto1, который,
конечно, недалеко. Там найдется хлеб и вино, этого доста¬
точно. Кто со мной?
Пошли все. Grotto был найден, среди лесных круч, на
узкой террасе стояли каменные скамьи и столы во мраке
деревьев, из погреба в скале хозяин принес холодное вино.
Хлеб был. Сидели и ели молча, довольные, что наконец-то
сидят. За высокими стволами деревьев погас день, синяя
гора стала черной, красная дорога — белой, слышались шум
повозки и лай собаки внизу на ночной дороге, там и сям
загорались на небе звезды, а на земле огни, и их нельзя
было отличить друг от друга.
1 Здесь: погребок (итал).
443
Клингзор сидел счастливый, отдыхал, глядел в ночь,
медленно наполнялся черным хлебом, тихо осушал голубо¬
ватые чашки с вином. Насытившись, он опять стал болтать
и петь, качался в такт песням, заигрывал с женщинами,
вдыхал аромат их волос. Вино показалось ему хорошим.
Старый совратитель, он легко переубедил предлагавших
продолжить путь, пил вино, наливал вино, нежно чокался,
требовал еще вина. Медленно поднимались из глиняных го¬
лубоватых чашек, символа бренности, пестрые чары, преоб¬
ражали мир, окрашивали звезды и свет.
Высоко парили они на качелях над пропастью мира и но¬
чи, птицы в золотой клетке, без родного дома, без тяжести,
лицом к звездам. Они пели, птицы, пели экзотические песни,
из хмельных сердец бросали они свои фантазии в ночь, в не¬
бо, в лес, в сомнительный, очарованный космос. Отвечали
звезды и луна, деревья и горы, Гёте сидел здесь и Хафиз,
жарко благоухал Египет, проникновенно благоухала Греция,
Моцартулыбался, ГугоВольф*шралнароялев безумной ночи.
Раздался пугающий грохот, резко ударил свет: под ними,
сквозь сердце земли, сотнями ослепительно светлых окон
влетел в гору и в ночь железнодорожный состав, сверху, с не¬
ба, зазвонили колокола невидимой церкви. Соглядатаем под¬
нялся над столом полумесяц, заглянул; отразившись, в тем¬
ное вино, выхватил из темноты рот и глаз одной из женщин,
улыбнулся, поднялся выше, подпел звездам. Дух Луи Жес¬
токого примостился на скамейке, сидел в одиночестве, писал
письма.
Клингзор, Царь Ночи, с высоким венцом в волосах, отки¬
нувшись на каменном сиденье, дирижировал танцем мира,
обозначал такт, вызвал луну, убрал поезд. Тот исчез, как па¬
дает созвездие за край неба. Где Царица Гор? Не звучал ли
рояль в лесу, не лаял ли вдалеке маленький недоверчивый
лев? Разве не только что она была здесь, в синем платке на го¬
лове? Эй, старый мир, смотри не рухни! Сюда, лес! Туда,
черные горы! Не сбиваться с такта! Звезды, какие вы синие и
красные, совсем как в народной песне: «Красные вы очи, си¬
ние уста!»
Писать картины прекрасно, писать картины — это слав¬
ная игра для послушных детей. Другое дело, крупнее и ве¬
сомее, — дирижировать звездами, вносить в мир такт соб¬
ственной крови, хроматические круги собственной сетчатки,
передавать ветру ночи вибрацию собственной души. Прочь,
черная гора! Будь тучей, лети в Персию, пролейся дождем
444
над Угандой! Сюда, дух Шекспира, спой нам свою пьяную
шутовскую песню о дожде, который идет каждый день!
Клингзор целовал какую-то женскую ручку, он присло¬
нился к какой-то приятно дышавшей женской груди. Какая-
то нога под столом играла его ногой. Он не знал, чья рука,
чья нога, он чувствовал нежность вокруг себя, по-новому и
благодарно чувствовал старое волшебство: он был еще мо¬
лод, до конца было еще далеко, еще исходили от него блеск
и соблазн, они еще любили его, славные нерешительные ба¬
бенки, еще рассчитывали на него.
Он расцвел пышнее. Тихим, поющим голосом он начал
рассказывать невероятную эпопею, историю одной любви
или, вернее, одного путешествия в южные моря, ще он в ком¬
пании Гогена и Робинзона открыл остров попугаев и основал
республику Блаженных Островов. Как сверкали на вечерней
заре тысячи попугаев, как отражались их синие хвосты в зе¬
леной бухте! Их крик и стоголосый крик больших обезьян
приветствовал его, как гром, его, Клингзора, коща он про¬
возгласил эту республику. Белому какаду он поручил сфор¬
мировать кабинет, а с мрачной птицей-носорогом пил пальмо¬
вое вино из тяжелых кокосовых чаш. О луна той поры, луна
блаженных ночей, луна над хижиной, стоявшей на сваях сре¬
ди камыша! Ее звали Кюль Калюа, робкую коричневую
принцессу, стройная, удлиненная, шагала она по банановой
роще, отливая медом под сочной сенью огромных листьев, —
глаза лани на нежном лице, кошачья пылкость в сильной,
гибкой спине, кошачий прыжок в упругой лодыжке и поджа¬
рой ноге. Кюль Калюа, дитя, первобытная пылкость и дет¬
ская невинность священного Юго-Востока, тысячу ночей ле¬
жала ты у груди Клингзора, и каждая была новой, каждая
была горячее, была прекраснее, чем все прежние. О праздник
земного духа, коща девы острова попугаев плясали перед бо¬
жеством!
Над островом, Робинзоном и Клингзором, над повестью
и ее слушателями висела куполом белозвездная ночь, тихо,
как дышат грудь и живот, вздымалась гора под деревьями,
под домами, под ногами людей, лихорадочно-торопливо
плясала по полушарию неба влажная луна, преследуемая
звездами в дикой безмолвной пляске. Цепи звезд выстрои¬
лись блестящей ниткой канатной дороги в рай. Девственный
лес по-матерински верещал, первобытный ил дышал распа¬
дом и зачатием, ползла змея, полз крокодил, безбрежно раз¬
ливался поток творений.
445
— А я буду снова писать, — сказал Клингзор, — уже
завтра. Но больше не эти дома, не этих людей, не эти де¬
ревья. Писать я буду крокодилов и морских звезд, драконов
и пурпуровых змей, и все это в становлении, в изменении,
полным жажды стать человеком, стать звездой, полным ро¬
дов, полным тлена, полным Бога и смерти.
Среди его негромких слов и среди сумятицы этого пья¬
ного часа низко и ясно звучал голос Эрсилии, она тихо на¬
певала песню о bel mazzo di fiori1, от ее песни шел покой,
Клингзор слушал ее так, словно она доносилась с далекого
плавающего острова через моря времени и одиночества. Он
опрокинул свою пустую глиняную чашку и больше не на¬
полнял ее. Он слушал. Пел ребенок. Пела мать. Кто же ты —
беспутный мерзавец, прошедший сквозь всю грязь мира, бо¬
сяк и дрянь или малое, глупое дитя?
— Эрсилия, — сказал он почтительно, — ты наша до¬
брая звезда.
Через крутой темный лес, в гору, цепляясь за ветки и
корни, пробирались к дому. Добрались до светлой опушки,
вышли в поле, тропинка в кукурузе дышала ночью и воз¬
вращением домой, отсвет луны на кукурузном листе, косо
убегающие ряды виноградника. Теперь Клингзор пел, тихо,
хрипловатым голосом, пел тихо и много, по-немецки и по-
малайски, со словами и без слов. Тихим пеньем он изливал
скопившееся в нем — так бурая стена излучает вечером со¬
бранный за день свет.
Один за другим откланивались друзья, исчезали в тени
лоз на узких тропинках. Каждый уходил, каждый был сам
по себе, стремился домой, был одинок под небом. Одна из
женщин поцеловала Клингзора на прощанье, жгуче впилась
в его рот губами. Разбрелись, растаяли все. Поднимаясь в
одиночестве по лестнице к своему жилью, Клингзор все еще
пел. Он пел хвалу Богу и себе самому, он славил Ли Бо и
славил доброе вино из Пампамбьо. Как идол, покоился он
на облаках утверждения.
— Внутри, — пел он, — я как золотой шар, как купол со¬
бора, там стоят на коленях, молятся, стены сверкают золо¬
том, на старой картине истекает кровью Спаситель, истекает
кровью сердце Пречистой Девы. Мы тоже истекаем кровью,
мы, прочие, мы, заблудшие, мы, звезды и кометы, семь и
дважды семь мечей пронзают нашу блаженную грудь. Я люб¬
1 Красивый букет цветов (итал).
446
лю тебя, светловолосая и чернокудрая женщина, я люблю
всех, и мещан тоже; вы такие же бедняги, как я, такие же бед¬
ные дети и неудавшиеся полубоги, как пьяный Клингзор.
Привет тебе, возлюбленная жизнь! Привет тебе, возлюблен¬
ная смерть!
клингзор — эдит
Милая звезда на летнем небе!
Как хорошо и правдиво ты написала мне, и какой болью
отзывается во мае твоя любовь — как вечное страдание, как
вечный упрек. Но ты на добром пути, если признаешься
мне, если признаешься себе в каждом движении сердца.
Только никакое движение не называй мелким, не называй
недостатком! Хорошо, очень хорошо любое, и ненависть то¬
же, и зависть, и ревность, и жестокость. Ничем другим мы
и не живем, кроме как нашими бедными, прекрасными, ве¬
ликолепными чувствами, и каждое, которое мы обижаем, —
это звезда, которую мы гасим.
Люблю ли я Джину, не знаю. Весьма сомневаюсь в этом. Я
ничем не пожертвовал бы ради нее. Не знаю, способен ли я
вообще любить. Я способен вожделеть, способен искать себя
в других людях, ловить эхо, искать зеркала, способен стре¬
миться к радости, и все это может выглядеть как любовь.
Мы оба, ты и я, блуждаем в одном и том же лабиринте, в
лабиринте наших чувств, которые в этом скверном мире по¬
терпели убыток, и мы мстим за это, каждый по-своему, этому
злому миру. Но каждый из нас хочет, чтобы мечта другого
уцелела, потому что мы знаем, как красно и сладко вино мечты.
Ясность насчет своих чувств и насчет «возможных по¬
следствий» своих поступков есть только у добрых, благопо¬
лучных людей, верящих в жизнь и не делающих ни одного
шага, который они не одобрили бы и завтра, и послезавтра.
Я не имею счастья причислять себя к ним, я чувствую и
поступаю как человек, который не верит в жизнь и смотрит
на каждый день как на последний.
Милая стройная женщина, я безуспешно пытаюсь выра¬
зить свои мысли. Выраженные мысли всеща так мертвы!
Пускай они живут! Я глубоко и с благодарностью чувствую,
как ты понимаешь меня, как что-то в тебе родственно мне.
Как провести это по бухгалтерской книге жизни, суть ли
наши чувства любовь, похоть, благодарность, сочувствие,
материнские ли они или детские, этого я не знаю. Порой я
447
гляжу на каждую женщину как опытный старый разврат¬
ник, а порой как маленький мальчик. Порой меня больше
всего соблазняет самая непорочная женщина, порой — са¬
мая нескромная. Все прекрасно, все священно, все бесконеч¬
но хорошо, что доводится мне любить. Почему, сколь долго,
в какой степени, этого не измерить.
Я люблю не одну тебя, ты это знаешь, я люблю и не одну
Джину, завтра и послезавтра я буду любить, буду писать дру¬
гие картины. Но раскаиваться я не буду ни в одной любви, ко¬
торую коща-либо чувствовал, ни в одном мудром деле и ни в
одной глупости, которые я из-за нее совершил. Тебя я люблю,
-может быть, потому, что ты похожа на меня. Других я люблю
потому, что они не такие, как я.
Сейчас поздняя ночь, луна стоит над Салюте. Как сме¬
ется жизнь, как смеется смерть!
Брось это глупое письмо в огонь и брось в огонь .
твоего Клингзора*
МУЗЫКА ГИБЕЛИ
Пришел последний день июля, любимого месяца Клинг¬
зора, высокий праздник Ли Бо отцвел, миновал навсеща,
подсолнухи в саду кричали золотом в синюю высь. Вместе с
верным Ду Фу Клингзор странствовал в этот день по местам,
которые он любил: выжженные предместья, пыльные дороги
в высоких аллеях, выкрашенные в красный и оранжевый
цвет хижины на песчаном берегу, грузовики и погрузочные
причалы судов, длинные фиолетовые стены, пестрый бедный
люд. Вечером этого дня он сидел в пыли на краю предместья
и писал пестрые шатры и повозки карусели, у обочины доро¬
ги он примостился на голой, выжженной поляне, впиваясь в
яркие краски шатров. Он вгрызался в выцветший сиреневый
цвет стенки шатра, в радостные зеленый и красный цвета гро¬
моздких фургонов, в сине-белые шесты каркасов. Яростно
рыл он кадмий, люто месил сладковато-прохладный кобальт,
тянул расплывшийся краплак по желтому и зеленому небу.
Еще час, ох, меньше — и конец, наступит ночь, а завтра на¬
чнется уже август, горючий, горячечный месяц, вливающий
столько страха смерти, столько робости в свои обжигающе
жаркие чаши. Коса была наточена, дни шли на убыль, смерть
смеялась, притаившись в побуревшей листве. Звени во весь
голос и греми, кадмий! Громко хвастай, буйный краплак!
Звонко смейся, лимонно-желтая! Сюда, густо-синяя гора да¬
448
ли! Ко мне, к моему сердцу, пыльно-зеленые, вялые деревья!
Как вы устали, как опустили покорные, кроткие ветки! Я пью
вас, прелестные созданья! Я изображаю перед вами проч¬
ность и бессмертие* это я-то, такой бренный, такой скептиче¬
ский, такой грустный, страдающий больше, чем все вы, от
страха смерти. Июль сгорел, скоро сгорит август, внезапно
дохнет на нас холодом из желтой листвы росистого утра вели¬
кий призрак. Внезапно начнет мести над лесом ноябрь. Вне¬
запно засмеется великий призрак, внезапно застынет у нас
сердце, внезапно отвалится у нас от костей милая розовая
плоть, завоет шакал в пустыне, хрипло запоет свою мерзкую
песню стервятник. Какая-нибудь мерзкая газетенка большо¬
го города поместит мой портрет, и под ним будет написано:
«Замечательный художник; экспрессионист, великий коло¬
рист, умер шестнадцатого числа этого месяца».
С ненавистью метнул он борозду парижской лазури под
зеленый цыганский фургон. С горечью кинул кромку хромо¬
вой желтой на придорожные тумбы. С глубоким отчаянием
положил киноварь в оставленный пробел, убрал требователь¬
ную белизну, кровоточа сражался за долговечность, взывал
светло-зеленой и неаполитанской желтой к неумолимому Бо¬
гу. Со стоном бросил больше синей на вялую пыльную зе¬
лень, с мольбой зажег более проникновенные огни на вечер¬
нем небе. Маленькая палитра, полная чистых, несмешанных
красок светящейся яркости, — она была его утешением, его
башней, его арсеналом, его молитвенником, его пушкой, из
которой он стрелял в злобную смерть. Пурпур был отрица¬
нием смерти, киноварь была насмешкой над тленьем. Хоро¬
ший был у него арсенал, блестяще держался его маленький
храбрый отряд, сияя, громыхали быстрые выстрелы его пу¬
шек. Ведь ничто не поможет, ведь,всякая стрельба напрасна,
а все-таки стрелять хорошо, это счастье и утешение, это еще
жизнь, еще торжество.
Ду Фу уходил навестить какого-то приятеля, жившего
там, между фабрикой и грузовым причалом, в своем вол¬
шебном замке. Теперь он пришел и привел его с собой, этого
звездочета-армянина.
Клингзор, закончив картину, облегченно вздохнул, коща
увидел рядом с собой славные светлые волосы Ду Фу, чер¬
ную бороду и улыбавшийся белыми зубами рот мага. А с ними
пришла и тень, длинная, темная, с глубоко запавшими в глаз¬
ницы глазами. Привет и тебе, тень, добро пожаловать, милая!
— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил Клингзор
своего друга.
15 4-161
449
— Последний день июля, я знаю.
— Сегодня я составил гороскоп, — сказал армянин, —
и узнал, что этот вечер кое-что принесет мне. Сатурн стоит
зловеще, Марс нейтрально, Юпитер господствует. Ли Бо,
вы родились не в июле?
— Я родился второго июля*.
— Так я и думал. Ваши звезды находятся в сложном
положении, истолковать их можете только вы сами. Плодо¬
витость окружает вас, как облако, готовое лопнуть. Странно
стоят ваши звезды, Клингзор. Вы должны это чувствовать.
Ли собрал свои принадлежности. Погас мир, которьдо он
писал, погасло желтое и зеленое небо, утонуло синее светлое
знамя, была убита и увяла прекрасная желтизна. Ему хоте¬
лось есть и пить, горло у него было забито пылью.
— Друзья, — сказал он ласково, — давайте проведем
этот вечер вместе. Больше мы, четверо, вместе уже не будем,
я прочел это не по звездам, это написано у меня в сердце.
Мой месяц июль прошел, сумрачно горят его последние ча¬
сы, из бездны зовет великая мать. Никоща не был мир так
прекрасен, никоща не получалось у меня такой прекрасной
картины, дрожат зарницы, зазвучала музыка гибели. Будем
подпевать ей, этой сладостной страшной музыке, останемся
вместе, будем пить вино и есть хлеб.
Возле карусели, шатер которой как раз покрывали кры¬
шей и готовили к вечеру, стояло несколько столов под де¬
ревьями, сновала хромая служанка, в тени укрылся малень¬
кий кабачок. Здесь они остались, уселись за стол из досок,
был подан хлеб, разлито по глиняным чашкам вино, под
деревьями зажглись огни, загремел органчик карусели,
швыряя в вечер свою ломкую, пронзительную музыку.
— Я триста кубков осушу сегодня! — воскликнул Ли Бо и
чокнулся с тенью. — Привет тебе, тень, стойкий оловянный
солдатик! Привет вам, друзья! Привет вам, электрические ог¬
ни, дуговые лампы и сверкающие блестки на карусели! О, ес¬
ли бы здесь был Луи, эта непоседливая птица! Может быть,
он уже прежде нас улетел в небо. А может быть, он уже завтра
вернется, старый шакал, и не застанет нас и поставит дуговые
лампы и шесты с вымпелами на нашу могилу.
Маг тихо удалился и принес еще вина, его красный рот
весело улыбался белыми зубами.
— Печаль, — сказал он, бросив взгляд на Клингзора, —
такая вещь, которую не надо носить с собой. Это так легко —
450
достаточно одного часа, одного короткого напряженного часа
со стиснутыми зубами, чтобы навсегда покончить с печалью.
Клингзор внимательно смотрел на его рот, на светлые,
чистые зубы, которые некоща, в какой-то жгучий час, заду¬
шили и насмерть загрызли печаль. Получится ли и у него
то, что получилось у звездочета? О короткий, сладостный
взгляд в далекие сады: жизнь без страха, жизнь без печали!
Он знал: эти сады ему недоступны. Он знал: ему суждено
другое, по-другому глядел на него Сатурн, другие песни
хотел играть Бог на его струнах.
— У каждого свои звезды, — медленно сказал Клингзор, —
у каждого своя вера. Я верю только в одно: в гибель. Мы едем
в повозке над пропастью, и лошади понесли. Мы обречены на
гибель, мы все, мы должны умереть, мы должны родиться за¬
ново, для нас пришло время великого поворота. Везде одно и
то же: великая война, великий перелом в искусстве, великий
крах государств Запада. У нас в старой Европе умерло все,
что было у нас хорошо и нам свойственно: наш прекрасный
разум стал безумием, наши деньги — бумага, наши машины
могут только стрелять и взрываться, наше искусство — это
самоубийство. Мы гибнем, друзья, так нам суждено, зазвуча¬
ла тональность цзин-цзэ.
Армянин налил вина.
— Как хотите, — сказал он. — Можно сказать «да» и
можно сказать «нет», это всего лишь детская игра. Гибель,
упадок — это нечто не существующее на свете. Чтобы были
упадок или подъем, надо, чтобы были низ и верх. Но низа
и верха нет, это живет лишь в мозгу человека, в отечестве
иллюзий. Все противоречия — это иллюзии: белое и чер¬
ное — иллюзия, жизнь и смерть — иллюзия, зло и добро —
иллюзия. Достаточно часа, одного жгучего часа со стисну¬
тыми зубами, чтобы преодолеть царство иллюзий.
Клингзор слушал его славный голос.
— Я говорю о нас, — ответил он, — я говорю о Европе, о
нашей старой Европе, две тысячи лет считавшей себя мозгом
мира. Это гибнет. Думаешь, я не знаю тебя, маг? Ты посланец
Востока, ты послан и ко мне, может быть, шпион, может
быть, переодетый полководец. Ты здесь потому, что здесь на¬
чинается конец, потому, что ты чувствуешь здесь гибель. Но
мы рады погибнуть, рады умереть, мы не сопротивляемся.
— Ты можешь также сказать: мы рады родиться, — засме¬
ялся азиат. — Тебе кажется это гибелью, а мне, может быть,
рождением. То и другое — иллюзия. Человек, который ве¬
рит, что земля — это устойчивый диск под небом, видит подъ¬
15*
451
ем и гибель и верит в них, а в устойчивый диск верят все, поч¬
ти все! Даже звезды не знают восхода и захода.
— Разве звезды не закатились? — воскликнул Ду Фу.
— Для нас, для наших глаз.
Он налил дополна чашки, он все время исполнял обязан¬
ности виночерпия, все время готов был услужить и улыбал¬
ся при этом. Он сходил с пустым кувшином за новым вином.
Оглушительно кричала карусельная музыка.
— Пойдемте туда, там так прекрасно, — попросил Ду
Фу, и они пошли туда, стали у расписного барьера, смотре¬
ли, как кружится, беснуясь в ослепительном блеске мишуры
и зеркал, карусель, как сотни детей пожирают глазами это
сверканье. На миг Клингзор глубоко и смешливо почувст¬
вовал всю дикарскую первобытность этой вертящейся маши¬
ны, этой механической музыки, этих ярких, буйных картин
и красок, зеркал и нелепых украшенных столбов, во всем
было что-то от знахаря и шамана, от волшбы и старинных
крысоловов, и весь этот дикий, буйный блеск был, в сущно¬
сти, не чем иным, как дрожащим блеском блесны, на кото¬
рую, принимая ее за рыбку, ловится щука.
Всем детям надо было покататься на карусели. Всем детям
давал Ду Фу деньги, всех детей угощала тень. Толпами окру¬
жали они дарителей, приставали, клянчили, благодарили.
Одну красивую белокурую девочку двенадцати лет одарива¬
ли все, она не пропустила ни одного круга. В сиянье огней
прелестно развевалась короткая юбка вокруг ее красивых
мальчишеских ног. Один мальчик плакал. Мальчики дра¬
лись. Бичами хлопали под органчик литавры, вливая огонь в
такт, опиум в вино. Долго стояли они вчетвером среди сутолоки.
Потом они снова сидели под деревом, армянин разливал по
чашкам вино, ворожил гибель, улыбался светлой улыбкой.
— Три сотни чаш мы осушим сегодня, — пел Клингзор;
его загорелая голова пылала желтым огнем, громко звенел
его смех; печаль великаном преклонила колени на его тре¬
пещущем сердце. Он чокался, он славил гибель, желание
умереть, тональность цзин-цзэ. Бурно гремела музыка кару¬
сели. Но в глубине сердца сидел страх, сердце не хотело
умирать, сердце ненавидело смерть.
Вдруг из трактира яростно вырвалась в ночь какая-то вто¬
рая музыка, пронзительная, горячая. На первом этаже, возле
камина, карниз которого был красиво уставлен винными бу¬
тылками, грянуло механическое фортепьяно, пулеметом,
яростно, ругательно, торопливо. Из расстроенного инстру¬
452
мента кричала боль, тяжелым паровым катком давил ритм
стонущие неблагозвучия. Кругом был народ, свет, шум, тан¬
цевали парни и девушки, и хромая служанка тоже, и Ду Фу.
Он танцевал с той белокурой девочкой, Клингзор смотрел на
них, легко и прелестно развевалось ее летнее платьице вокруг
тонких красивых ног, ласково улыбалось полное любви лицо
Ду Фу. Возле камина сидели другие, пришедшие из сада,
вблизи музыки, среди шума. Клингзор видел звуки, слышал
краски. Маг брал бутылки с камина, откупоривал, наливал.
Светлой была улыбка на его смуглом умном лице. Ужасно
гремела музыка в нижнем зале. В шеренге старых бутылок
над камином армянин медленно пробивал брешь — так свято¬
татец забирает из алтарной утвари чашу за чашей.
— Ты великий художник, — шептал звездочет Клингзо-
ру, наполняя его чашку. — Ты один из величайших художни¬
ков этой эпохи. Ты вправе называться Ли Бо. Но ты, Ли, ты
затравленный, жалкий, замученный и запуганный человек.
Ты затянул песнь гибели, ты поешь ее, сидя в своем горящем
доме, который ты сам и поджег, и тббе при этом нехорошо, Ли
Бо, хотя ты каждый день осушаешь три сотни чаш и чокаешь¬
ся с луной. Тебе при этом нехорошо, тебе очень больно при
этом, певец гибели, — не хочется ли тебе перестать? Не хо¬
чется ли тебе жить? Не хочется ли тебе пребывать на свете?
Клингзор выпил и зашептал в ответ своим хрипловатым
голосом:
— Разве можно повернуть судьбу? Разве существует сво¬
бода воли? Разве ты, звездочет, можешь направить мои
звезды иначе?
— Направить — нет, я могу их только толковать. Напра¬
вить себя можешь только ты сам. Свобода воли существует.
Она называется магией.
— Почему я должен заниматься магией, если я могу за¬
ниматься искусством? Разве искусство не так же хорошо?
— Все хорошо. Ничто не хорошо. Магия уничтожает ил¬
люзии. Магия уничтожает ту худшую иллюзию, которую
мы называем «время».
— А разве искусство — нет?
— Оно пытается. Тебе достаточно твоего нарисованного
июля, который ты носишь в своих папках? Ты уничтожил
время? Тебе не страшна осень, не страшна зима?
Клингзор вздохнул и промолчал, он молча выпил, молча
наполнил маг его чашку. Бесновалась, сорвавшись с цепи,
фортепьянная машина, среди танцующих ангельски парило
лицо Ду Фу. Июль кончился.
453
Клингзор поиграл пустыми бутылками на столе, выстро¬
ил их в круг.
— Это наши пушки, — воскликнул он, — этими пушка¬
ми мы расстреляем время, расстреляем смерть, расстреляем
беду. Красками тоже я стрелял в смерть, огненной зеленой,
взрывчатой киноварью, очаровательным гераневым лаком.
Я не раз попадал ей в голову. Белую и синюю я всаживал
ей в глаз. Не раз я обращал ее в бегство. Еще не раз я в нее
попаду, одержу над ней верх, перехитрю ее. Смотрите на
этого армянина, он опять открывает старую бутылку, и за¬
купоренное солнце минувших лет бросается нам в кровь.
Этот армянин тоже помогает нам стрелять в смерть, армя¬
нин тоже не знает другого оружия против смерти.
Маг отломил кусок хлеба и стал есть.
— Против смерти мне не нужно оружия, потому что
смерти нет. А есть одно — страх смерти. Его можно побо¬
роть, против него есть оружие. Это дело одного часа — пре¬
одолеть страх. Но Ли Бо не хочет. Ведь Ли Бо любит
смерть, ведь он любит свой страх смерти, свою печаль, свою
беду, ведь только страх научил его всему, что он умеет и за
что мы любим его.
Он насмешливо чокнулся, его зубы сверкали, лицо его
становилось все веселее, страдание, казалось, было чуждо
ему. Никто не ответил. Клингзор стрелял в смерть из пушки
вина. Громадой стояла смерть у открытых дверей зала, раз¬
бухшего от людей, вина и танцевальной музыки. Громадой
стояла смерть у дверей, тихо трясла черную акацию, мрачно
насторожилась в саду. Все снаружи было полно смерти, по¬
лно смертью, только здесь, в узком громком зале, еще сража¬
лись, еще великолепно и отважно сражались с той черной,
что держала осаду и ныла за окнами.
Насмешливо смотрел через стол маг, насмешливо напол¬
нял чашки. Много чашек Клингзор уже разбил, он подавал
ему новые. Много выпил и армянин, но сидел, как и Клинг¬
зор, прямо.
— Давай пить, Ли, — глумил^ он тихо. — Ты же любишь
смерть, ты же рад погибнуть, рад умереть. Разве ты этого не
говорил, или я ошибаюсь, или ты ввел в заблуждение меня,
да и себя самого? Давай пить, Ли, давай погибнем!
В Клингзоре вскипела злость. Он поднялся, выпрямился
во весь рост, старый ястреб с острой головой, плюнул в вино,
разбил об пол свою полную чашку. Красное вино разбрызга¬
лось по залу, друзья побледнели, посторонние посмеялись.
454
Но маг молча и с улыбкой принес новую чашку, с улыб¬
кой наполнил ее, с улыбкой поднес Ли Бо. Тут и Ли, тут и
он улыбнулся. По его искаженному лицу улыбка пробежала
как лунный свет.
— Дети, — воскликнул он, — пускай говорит этот чужезе¬
мец! Он много знает, старая лиса, он пришел из скрытой и
глубокой норы. Он много знает, но он не понимает нас. Он
слишком стар, чтобы понимать детей. Он слишком мудр, что¬
бы понимать дураков. Мы, мы, умирающие, знаем о смерти
больше, чем он. Мы люди, не звезды. Взгляните на мою руку,
которая держит эту синюю чашечку с вином! Она многое уме¬
ет, эта рука, эта смуглая рука. Она писала множеством кис¬
тей, она вырывала из мрака и показывала людям новые куски
мира. Эта смуглая рука гладила множество женщин под под¬
бородком и соблазнила множество девушек, ее много целова¬
ли, на нее падали слезы, Ду Фу сочинил стихи в ее честь. Эта
славная рука, друзья, скоро будет полна земли и личинок,
никто из вас не станет больше дотрагиваться до нее. Что ж,
именно поэтому я ее и люблю. Я люблю свою руку, люблю
свои глаза, люблю свой белый, нежный живот, люблю их с
сожалением, с насмешкой и с великой нежностью, потому что
всем им суждено скоро увять и сгнить. Тень, сумрачный друг,
старый оловянный солдатик на могиле Андерсена, тебя, ми¬
лая, ждет та же участь! Чокнись со мной, да здравствуют на¬
ши славные части тела и внутренности!
Они чокнулись, сумрачно улыбнулась своими глубоко за¬
павшими глазами тень — и вдруг по залу что-то прошло, как
ветер, как дух. Внезапно умолкла музыка, вдруг, словно по¬
гаснув, исчезли танцоры, поглощенные ночью, и потухла по¬
ловина огней. Клингзор посмотрел на черные двери. За ними
стояла смерть. Он видел, как она стоит. Он слышал ее запах.
Как капли дождя в придорожной листве — так пахла смерть.
Тут Ли отодвинул от себя чашку, оттолкнул стул и мед¬
ленно вышел из зала в темный сад и пошел прочь, в темноте,
под вспышки зарниц над головой, один. Сердце лежало у
него в груди тяжестью, как камень на могиле.
ВЕЧЕР В АВГУСТЕ
Вечером, очень усталый — он после полудня на солнце и
на ветру писал возле Мануццо и Вельи, — Клингзор лесом,
через В елью, пришел в маленькую сонную деревушку Кан-
ветто. Ему удалось вызвать какую-то старуху хозяйку, она
455
принесла ему вино в глиняной чашке, он сел на ореховый пе¬
нек у двери, распаковал свой рюкзак, нашел в нем еще кусок
сыру и несколько слив и стал ужинать. Старуха сидела с ним,
седая, сгорбленная, беззубая, и, шевеля дряблыми складка¬
ми шеи, с затихшими старыми глазами рассказывала о жизни
своего поселка и своей семьи, о войне и дороговизне, о состоя¬
нии полей, о вине и молоке и сколько они стоили, об умерших
внуках и эмигрировавших сыновьях; все эпохи и созвездья
этой маленькой крестьянской жизни были представлены яс¬
но и приветливо, грубые в своей скудной красоте, полные ра¬
дости и заботы, полные страха и жизни. Клингзор ел, пил, от¬
дыхал, слушал, спрашивал о детях и скотине, о священнике и
епископе, учтиво хвалил бедное вино, предложил последнюю
сливу, пожал руку, пожелал спокойной ночи и, опираясь на
палку, с мешком за плечами, медленно побрел в редкий лес, в
гору, к ночлегу.
Был поздний, золотой час, везде еще горел свет дня, но
луна уже поблескивала, и первые летучие мыши плавали в
зеленом мерцающем воздухе. Опушка стояла в мягких по¬
следних лучах, светлые стволы каштанов перед черными
тенями, желтая хижина тихо испускала вобранный за день
свет, мягко пылая, как желтый топаз, розовые и фиолето¬
вые тропинки тянулись через луга, лозы и лес, кое-где вид¬
нелись желтые уже ветки акаций, небо на западе, над бар-
хатно-синими горами, было золотым и зеленым.
О, если бы теперь можно было еще поработать, в послед¬
ние заколдованные четверть часа зрелого летнего дня, кото¬
рый никоща не вернется! Как невыразимо уже было теперь
все, как спокойно, как добро и щедро, как полно Бога!
Клингзор сел в прохладную траву, машинально потянул¬
ся за карандашом и тут же с улыбкой опустил руку. Он
смертельно устал. Его пальцы перебирали сухую траву, су¬
хую, рассыпчатую землю. Как долго еще, прежде чем эта
волнующая игра кончится? Как долго еще, прежде чем ру¬
ки, рот и глаза наполнятся землей? Ду Фу прислал ему на
днях стихи, он вспомнил их и медленно произнес про себя:
Листвой с дерев летит
Мой срок земной.
Как я тобою сыт,
Как пьян тобой,
Как изнуряешь ты,
О мир, манящий
Мельканьем красоты,
Столь преходящей!
456
Ветер будет, летя,
Над могилой моей свистеть,
А мать на дитя
С любовью будет глядеть.
Мне бы только глаза ее вновь увидать,
Взгляд ее — это моя звезда.
Ничего и не нужно больше. Одна лишь мать,
Вечная мать остается всегда,
Всех нас родившая, — только она.
Все остальное радо уйти из мира.
Наши бесчисленные имена
Пишет она на летучей струе эфира .
Вот и хорошо. Сколько еще жизней осталось у Клингзо¬
ра от его десяти? Три? Две? Уж во всяком-то случае, боль¬
ше, чем одна добропорядочная, обыкновенная, заурядная
мещанская жизнь. И он много сделал, много видел, исписал
много бумаги и холста, взволновал много сердец любовью
и ненавистью, внес в мир много скандального и свежего в
искусстве и в жизни. Любил множество женщин, разрушил
множество традиций и святынь, отважился на множество
новых дел. Осушил множество полных чаш, надышался
множеством дней и звездных ночей, загорал под множест¬
вом солнц, плавал во множестве вод. И вот он сидит здесь,
в Италии, или в Индии, или в Китае, летний вечер капризно
теребит кроны каштанов, мир совершенен и хорош. Безраз¬
лично, напишет ли он еще сто картин или десять, проживет
ли еще одно лето или двадцать. Он устал, устал. Все уми¬
рает, все радо уйти из мира. Молодчина Ду Фу!
Пора вернуться домой. Он проковыляет в комнату, его
встретит ветер, влетев в балконную дверь. Он зажжет свет
и распакует свои эскизы. Лесная чаща с большим количе¬
ством хромовой желтой и китайской лазури, пожалуй, хо¬
роша, коща-нибудь выйдет картина. Надо подниматься,
пора.
Однако он продолжал сидеть, с ветром в волосах, в рас¬
пахнутой, вымазанной полотняной куртке, с улыбкой и
болью в вечернем сердце. Мягко и вяло дул ветер, мягко и
бесшумно кружились летучие мыши в гаснущем небе. Все
умирает, все радо уйти из мира. Одна лишь мать, вечная
мать остается всеща.
Можно поспать и здесь, хотя бы час, ведь еще тепло. Он
положил голову на мешок и стал смотреть в небо. Как пре¬
красен мир, сыт становишься им, устаешь от него!
Послышались шаги, кто-то спускался с горы, крепко
ступая свободно подвязанными деревянными подошвами.
457
Между папоротниками и дроком показалась какая-то фи¬
гура, женщина, цвета ее одежды уже нельзя было разли¬
чить. Она приблизилась, шагая ровным, здоровым шагом.
Клингзор вскочил и выкрикнул приветствие. Она немного
испугалась и на миг остановилась. Он посмотрел ей в
лицо. Он знал ее, но не помнил — откуда. Она была
хороша собой и смугла, ее красивые, крепкие зубы ярко
сверкали.
— Вот так так! — воскликнул он и подал ей руку. Он
чувствовал, что что-то связывает его с этой женщиной, ка-
кое-то воспоминание. — Мы разве незнакомы?
— Мадонна! Да вы же художник из Кастаньетты! Вы
меня еще не забыли?
Да, теперь он вспомнил. Она была крестьянка из долины,
ще стоял кабачок, возле ее дома он однажды, в уже потуск¬
невшем и сумбурном прошлом этого лета, писал несколько
часов, брал воду из ее колодца, подремал в тени фигового де¬
рева, а на прощанье получил от нее стакан вина и поцелуй.
— Вы больше не приходили, — пожаловалась она. — А
уж так мне обещали.
Озорство и вызов слышались в ее низком голосе. Клинг¬
зор оживился.
— Ессо1, тем лучше, что сейчас ты пришла ко мне! Ну и
повезло же мне, как раз сейчас, коща я один и грущу.
— Грустите? Не обманывайте меня, сударь, вы шутник,
ни одному вашему слову верить нельзя. Ну, мне надо идти.
— О, тогда я провожу тебя.
— Вам не по пути, да и незачем. Что со мной случится?
— С тобой-то ничего, а вот со мной... Вдруг кто-нибудь
встретится, понравится тебе, пойдет с тобой, будет целовать
твои милые губы, и твою шею, и твою прекрасную грудь,
кто-нибудь другой, а не я. Нет, этому не бывать.
Он положил ладонь ей на затылок и не отпускал ее.
— Звездочка моя! Моя радость! Моя маленькая сладкая
слива! Укуси меня, а то я тебя съем.
Он поцеловал ее, со смехом запрокинувшуюся, в откры¬
тые сильные губы; отбиваясь и возражая, она уступила, отве¬
тила на поцелуй, покачала головой, засмеялась, попыталась
вырваться. Он прижимал ее к себе, свои губы к ее губам, по¬
ложив руку ей на грудь, ее волосы пахли как лето — сеном,
дроком, папоротниками, малиной. Переводя дух, он откинул
* Ну, так (шпал.).
458
назад голову и увидел на потухшем небе первую взошедшую
звезду, маленькую и белую. Женщина молчала, ее лицо стало
суровым, она вздохнула, положила ладонь на его руку и
сильнее прижала ее к своей груди. Он ласково склонился, об¬
нял одной рукой ее ноги, которые не сопротивлялись, и уло¬
жил в траву.
— Ты меня любишь? — спросила она, как маленькая
девочка. — Povera me!1
Они выпили чашу, ветер гладил им волосы и уносил с
собой их дыхание. Коща они расставались, он поискал в
мешке и в карманах куртки, нет ли там чего-нибудь, чтобы
подарить ей, нашел серебряную коробочку, еще наполовину
полную курительного табака, опорожнил ее и дал ей.
— Нет, не в подарок, конечно! — заверил он ее. — Про¬
сто на память, чтобы ты не забывала меня.
— Я тебя не забуду, — сказала она. И: — Ты придешь
еще?
Он погрустнел. Медленно поцеловал ее в оба глаза.
— Приду, — сказал он.
Стоя неподвижно, он еще некоторое время слушал, как
шагала она с горы на деревянных подошвах по траве,
через лес, по земле, по камням, по листьям, по корням. И
вот она исчезла. Чернел в ночи лес, теплый ветер гладил
погасшую землю. Откуда-то, может быть, от грибов, а
может быть, от увядших папоротников, резко и горько
пахло осенью.
Клингзор не мог решиться пойти домой. Зачем теперь
взбираться на гору, зачем идти в свои комнаты ко всем этим
картинам? Он вытянулся в траве и лежал, глядя на звезды,
наконец уснул и спал, пока его не разбудил то ли порыв
ветра, то ли холод росы. Затем он поднялся в Кастаньетту,
нашел свой дом, свою дверь, свои комнаты. Там лежали
письма и цветы, в его отсутствие приходили друзья.
Как он ни устал, он по старой упорной привычке хоть
и среди ночи, а распаковал свои вещи и при свете лампы
просмотрел листы со сделанными за день эскизами. Лесная
чаща была очень хороша, зелень и камень в тени с крапи¬
нами света блестели прохладным, изысканным блеском, как
кладовая алмазов. Он поступил правильно, работая только
хромовой желтой, оранжевой и синей и отставив зеленую
киноварь. Долго глядел он на этот лист.
1 Бедная я! (итал.)
459
Но для чего? Для чего все эти листы, полные красок? Для
чего весь этот труд, пот, вся эта короткая пьяная радость
творчества? Разве это давало избавление? Давало покой? Да¬
вало мир?
Без сил, едва успев раздеться, он рухнул в постель, по¬
гасил свет, пытался уснуть и тихо бормотал стихи Ду Фу:
Ветер будет, летя,
Над могилой моей свистеть.
КЛИНГЗОР ПИШЕТ ЛУИ ЖЕСТОКОМУ
Саго1 Луиджи! Давно не слышно твоего голоса. 'Цы еще
живешь на свете? Или твои кости уже гложет стервят¬
ник?
Ты когда-нибудь ковырялся вязальной спицей в остано¬
вившихся стенных часах? Я однажды это делал и видел, как в
часы вдруг вселился бес и весь запас времени с треском поле¬
тел в тартарары, стрелки пустились взапуски по циферблату,
они как сумасшедшие вращались со страшным шумом,
prestissimo* а потом так же внезапно все кончилось, и часы
испустили дух. Именно это происходит сейчас здесь, у нас:
солнце и луна, обезумев, мчатся, словно их кто-то гонит по
небу, дни летят, время убегает, словно через дыру в мешке.
Надо думать, и конец будет такой же внезапный, и этот пья¬
ный мир погибнет, вместо того чтобы снова взять буржуазно¬
добропорядочный темп.
Весь день я слишком занят, чтобы быть способным о чем-
нибудь думать (как смешно это, между прочим, звучит, коща
произносишь вслух такое так называемое «предложение»:
«чтобы быть способным о чем-нибудь думать»!). Но вечером
мне часто тебя не хватает. Тоща я обычно сижу где-нибудь в
лесу, в одном из множества погребков, и пыо свое любимое
красное вино, которое обычно, правда, бывает не лучшим, но
все-таки помогает сносить жизнь и вызывает сон. Несколько
раз я даже засыпал за столом в grotto, доказывая под ухмыл-
хи туземцев, что с моей неврастенией дело обстоит не так
скверно. Иноща мне составляют компанию друзья и девуш¬
ки, и тоща приходится упражнять пальцы в лепке женского
тела и говорить о шляпах, каблуках и об искусстве. Иноща
1 Дорогой (итал.).
2 Очень быстро (итал.).
460
удается достигнуть хорошей температуры, тогда мы всю ночь
кричим и смеемся, и люди радуются, что Клингзор такой ве¬
селый малый. Здесь есть одна очень красивая женщина, кото¬
рая каждый раз, коща я вижу ее, горячо спрашивает о тебе.
Искусство, которым мы оба занимаемся, все еще слишком
привязано, как сказал бы какой-нибудь профессор, к предме¬
ту (хорошо бы изобразить это в виде ребуса). Мы все еще, хо¬
тя и чуть более вольным почерком и достаточно волнующе
для буржуа, пишем предметы «реальности»: людей, деревья,
ярмарки, железные дороги, ландшафты. В этом мы еще сле¬
дуем некоей традиции. Ведь «реальными» мещанин называет
предметы, которые всеми или хотя бы многими воспринима¬
ются и описываются одинаково. Я собираюсь, как только
кончится это лето, некоторое время писать только фантазии,
главным образом — мечты. Это будет отчасти и в твоем вкусе,
то есть безумно весело и неожиданно, примерно как в истори¬
ях Коллофино, охотника на зайцев в кёльнском соборе*. Хоть
я и чувствую, что почва подо мной стала довольно зыбкой, и в
общем не жажду дальнейших лет и дел, мне все-таки хочется
загнать в глотку этому миру еще парочку-другую шутих.
Один покупатель картин написал мне недавно, что восхища¬
ется, глядя, как я в своих новейших работах переживаю вторую
молодость. В этом, пожалуй, есть доля истины. По-настоящему
я начал писать, мне кажется, только в этом году. Но то, что со
мной сейчас происходит, похоже не столько на весну, сколько
на взрыв. Удивительно, как много еще во мне динамита; но ди¬
намит — неподходящее топливо для экономичной плиты.
Дорогой Луи, я уже не раз радовался про себя, что мы,
два старых распутника, по сути, трогательно стыдливы и
скорее размозжим друг другу стаканами голову, чем как-ни-
будь выдадим свои чувства друг к другу. Пусть так оно и
останется, старый еж!
На днях мы устроили в grotto возле Баренго праздник с
вином и хлебом, великолепно звучало наше пенье в высоком
лесу среди ночи, старые римские песни. Так мало нужно для
счастья, коща стареешь и уже чувствуешь холодок в ногах:
восемь-десять часов работы в день, литр пьемонтского, пол¬
фунта хлеба, виргинская сигара, несколько приятельниц и,
конечно, тепло и хорошая погода. Это у нас есть, солнце ра¬
ботает на славу, моя голова смугла, как голова мумии.
В иные дни у меня бывает такое ощущение, что моя
жизнь, и работа только теперь и начинаются, а иногда мне
кажется, что я восемьдесят лет тяжко трудился и скоро по¬
лучу право на покой и на отдых. Каждый когда-нибудь под¬
461
ходит к концу, милый Луи, и я в том числе, и ты. Бог знает
что я пишу тебе, видно, я не совсем здоров. Это, конечно,
ипохондрия, у меня часто болят глаза, и иноща меня пре¬
следует воспоминание об одной статье об отслоении сетчат¬
ки, которую я прочел много лет назад.
Коща я гляжу вниз через мою знакомую тебе балкон¬
ную дверь, мне становится ясно, что нам надо еще порабо¬
тать! Мир несказанно прекрасен и разнообразен, через эту
зеленую высокую дверь он день и ночь взывает ко мне
своим звоном, кричит, требует, и я снова и снова выбегаю
и ухватываю кусочек его, крошечный кусочек. Благодаря
сухому лету здешние зеленые окрестности стали теперь
удивительно яркими и рыжими, никак не. думал, что снова
возьмусь за красную охру и сиенскую землю. И впереди
еще вся осень, жнивье, сбор винограда, уборка кукурузы,
красные леса. Я во всем этом буду еще раз участвовать
изо дня в день, напишу еще несколько сот этюдов. Но
потом, я это чувствую, я пойду внутрь и снова, как делал
это одно время молокососом, буду писать целиком по па¬
мяти и воображению, буду сочинять стихи и предаваться
мечтам. Нужно и это.
Один большой парижский художник сказал молодому
живописцу, попросившему у него совета: «Молодой чело¬
век, если вы хотите стать художником^ то не забывайте,
что прежде всего нужно хорошо есть. Во-вторых, очень
важно пищеварение, заботьтесь о регулярности стула! И
в-третьих: всегда имейте красивую подружку!» Да, этим
азам искусства я, надо полагать, научился, и тут у меня
никаких загвоздок вроде бы нет. Но в этом году, черт
возьми, у меня и в этих простых вещах нет порядка. Ем я
мало и плохо, часто целыми днями только хлеб, порой я
вожусь с желудком (скажу тебе: это самая пустая на свете
возня!), и нет у меня настоящей подруги, я имею дело с
четырьмя-пятыо женщинами и одинаково часто бываю
утомлен и голоден. Что-то разладилось в часовом механиз¬
ме, и, после того как я ковырнул его спицей, он хоть и
заработал, но спешит как оголтелый и при этом ужасно
тарахтит. Как проста жизнь, коща ты здоров! Ты еще не
получал от меня таких длинных писем, разве что в те
времена, коща мы спорили о палитре. Кончаю, скоро пять
часов, начинается этот прекрасный свет. Тебе шлет привет
твой
Клингзор.
462
Постскриптуму
Помню, что тебе понравилась одна моя маленькая карти¬
на, наиболее китайская из всех мною написанных, с хижи¬
ной, красной дорогой, зубчатыми деревьями «веронезе» и
далеким игрушечным городом на заднем плане. Не могу по¬
слать ее сейчас, да и не знаю, ще ты. Но она твоя, хочу на
всякий случай сказать тебе это.
КЛИНГЗОР ПОСЫЛАЕТ СТИХИ СВОЕМУ ДРУГУ ДУ ФУ
(В те дни, когда он писал автопортрет)
Ночью в роще сижу на ветру, захмелев,
Осень с веток поющих сняла покров,
И за новой бутылкой
Для меня трактирщик спешит в подвал.
Завтра, завтра в красную плоть мою
Всадит звонкую косу мой бледный враг.
Знаю, смерть притаилась,
Настороженных не сводит глаз.
Ей назло я ночь напролет пою,
Пьяные звуки бросаю в усталый лес,
Чтоб над ней поглумиться,
Тяну я песню и чашу пью до дна.
Много выпало дел мне, много досталось бед.
Вот и вечер пришел. Я пью и со страхом жду,
Что сверкнет, отсекая
Голову мне от дрожащего тела, серп*.
АВТОПОРТРЕТ
В первых числах сентября, после многих недель необык¬
новенно сухого зноя, выдалось несколько дождливых дней.
В эти дни Клингзор писал в высокооконном зале своего па¬
лаццо в Кастаньетте автопортрет, который висит сейчас во
Франкфурте.
Это ужасная и в то же время волшебно прекрасная карти¬
на, его последнее вполне законченное произведение, заклю¬
чает работу того лета, заключает некий удивительно пылкий
и бурный период работы как его венец и вершина. Многие за¬
мечали, что каждый, кто знал Клингзора, сразу и безошибоч¬
но узнавал его на этом автопортрете, хотя не было картины, бо¬
лее далекой от всякого натуралистического сходства, чем эта.
Как все поздние произведения Клингзора, этот автопорт¬
рет можно рассматривать с самых разных точек зрения. Для
463
многих, особенно для тех, кто не знал художника, эта карти¬
на прежде всего концерт красок, поразительного тона ковер,
спокойный и благородный при всей пестроте. Другие видят
тут последнюю смелую, даже отчаянную попытку освобожде¬
ния от материальности (лицо, написанное как пейзаж, воло¬
сы, смахивающие на листву и кору деревьев, глазницы как
расселины в скалах), они говорят, что эта картина напомина¬
ет натуру не более, чем иной силуэт горы — человеческое ли¬
цо, иная ветка — руку или ногу, то есть лишь отдаленно,
лишь символически. Л многие, напротив, видят именно в
этом произведении только предмет, лицо Клингзора, разо¬
бранное и истолкованное им самим с неумолимым психоло¬
гизмом, великое откровение, беспощадную, кричащую, тро¬
гательную, страшную исповедь. Другие опять-таки, среди
них некоторые ожесточеннейшие его противники, видят в
этом портрете только результат и свидетельство клингзоров-
ского, по их мнению, безумия. Натуралистически сравнивая го¬
лову на портрете с оригиналом, с фотографиями, они находят в
искаженных, утрированных формах дикарские, дегенератив¬
ные, атавистические черты. Многие из них нападают на непод¬
вижность и фантастичность этой картины, усматривая в них ка¬
кую-то отдающую мономанией самовлюбленность, какое-то ко¬
щунство и самолюбование, какую-то религиозную манию вели¬
чия. Все эти точки зрения возможны, как и еще много других.
В те дни, коща он писал эту картину, Клингзор не вы¬
ходил из дому, кроме как по ночам, чтобы выпить вина, ел
только хлеб и фрукты, которые ему приносила хозяйка, не
брился и при ввалившихся под черным от загара лбом гла¬
зах выглядел в этой запущенности действительно ужасаю¬
ще. Писал он сидя и по памяти, лишь изредка, почти только
во время перерывов в работе, он подходил к большому, ста¬
ромодному в розанах зеркалу на северной стене, вытягивал
шею, таращил глаза, гримасничал.
Много, много ликов видел он за лицом Клингзора в боль¬
шом зеркале между глупыми розанами: детские лица, милые
и удивленные, виски юноши, полные мечтательности и пыла,
насмешливые глаза пьяницы, губы жаждущего, преследуе¬
мого, страдающего, ищущего, распутника, enfant perdu1. Но
голову он сделал величественной и жестокой, идола в дрему¬
чем лесу, влюбленного в себя, ревнивого Иегову, истукана,
перед которым приносят в жертву первенцев и девственниц.
1 Часовой на передовом посту, обреченный на гибель 0франц.).
464
Это были некоторые из его лиц. Другое лицо было лицо про¬
падающего, гибнущего, согласного со своей гибелью, оброс¬
ший мхом череп, кривые старые зубы, трещины в дряблой ко¬
же, и в трещинах парша и плесень. Некоторые друзья любят
в его картине именно это. Они говорят: это — человек, ессе
homo1, усталый, жадный, дикий, инфантильный и изощрен¬
ный человек нашей поздней эпохи, умирающий, желающий
умереть европейский человек — утонченный всеми порыва¬
ми, больной от всех пороков, воодушевленный знанием своей
гибели, готовый ко всякому прогрессу, созревший для всяко¬
го регресса, весь — огонь, но и весь — усталость, покорный
судьбе и боли, как морфинист яду, одинокий, опустошенный,
древний, Фауст и Карамазов одновременно, зверь и мудрец,
совершенно обнаженный, совершенно без честолюбия, совер¬
шенно голый, полный детского страха перед смертью и пол¬
ный усталой готовности умереть.
А еще дальше, еще глубже за всеми этими ликами спали
более далекие, более глубокие, более старые лики, дочелове-
ческие, животные, растительные, каменные, словно за миг до
смерти последний человек на земле еще раз быстро, как во
сне, вспоминал все облики своей древности и своей молодо¬
сти в мире.
В эти неистово напряженные дни Клингзор жил как в
экстазе. Ночью он тяжело нагружался вином и, стоя со
свечой в руке перед старым зеркалом, рассматривал лицо
в стекле, уныло ухмыляющееся лицо пьяницы. В один из
вечеров с ним была любовница, на диване в мастерской, и,
прижав ее, голую, к себе, он глядел через ее плечо .в
зеркало, видел рядом с ее растрепанными волосами свое
искаженное лицо, полное похоти и полное отвращения к
похоти, с покрасневшими глазами. Он пригласил ее прий¬
ти завтра снова, но ее объял ужас, она больше не прихо¬
дила.
Ночью он спал мало. Он часто просыпался после страш¬
ных снов с лицом в поту, одичалый, уставший от жизни, но
сразу же вскакивал, глядел в зеркало шкафа, смотрел на
хаотический пейзаж этих смятенных черт, мрачно, с нена¬
вистью или улыбаясь, как бы злорадствуя. Однажды ему
приснилось, что его пытают, вбивают гвозди в глаза, разры¬
вают крюками ноздри, и он нарисовал это казнимое лицо с
гвоздями в глазах углем на обложке лежавшей под рукой
1 Се человек (лат.).
465
книги; мы нашли этот странный рисунок после его смерти.
В приступе поразившей лицо невралгии он привалился,
скрючившись, к спинке стула, смеялся и кричал от боли,
держа перед зеркалом обезображенное лицо, разглядывал,
как оно дергается, глумился над слезами.
И не только свое лицо или тысячу своих лиц написал он на
этом портрете, не только свои глаза и губы, скорбное ущелье
рта4, расщепленную скалу лба, свилеватые руки, дрожащие
пальцы, сарказм ума, смерть в глазах. Своенравным, пере¬
груженным, убористым и дрожащим почерком своей кисти
он написал еще свою жизнь, свою любовь, свою веру, свое от¬
чаяние. Стаи голых женщин написал он тоже, унесшихся,
как птицы, закланных перед идолом Клингзором, написал и
юношу с лицом самоубийцы, и далекие храмы и леса, и старо¬
го бородатого Бога, могучего и глупого, и рассеченную кин¬
жалом женскую грудь, и бабочек с лицами на крыльях, и на
самом заднем плане, на краю хаоса — смерть, серый призрак,
вонзивший в мозг написанного Клингзора маленькое, как
иголка, копье.
После того как он часами писал, в него вдруг вселялось
беспокойство, он метался по комнатам, распахивал двери,
выхватывал бутылки из шкафа, хватал книги с полок,
срывал скатерти со столов, лежал, читая, на полу, высо¬
вывался, жадно дыша, в окна, искал старые рисунки и
фотографии, заваливал полы и столы, кровати и стулья во
всех комнатах бумагами, картинами, книгами, письмами.
Все смешивалось в печальной неразберихе, коща в окна
залетал ветер с дождем. Среди старых вещей он нашел
свой детский портрет, фотографию, сделанную, коща ему
шел четвертый год, он был на ней в белом летнем костюм¬
чике, из-под белесых волос глядело мило-упрямое мальчи¬
шеское лицо. Он нашел портреты своих родителей, фото¬
графии возлюбленных юных лет. Все занимало, раздража¬
ло, волновало, мучило его, тянуло то туда, то сюда, он все
хватал, снова бросал, наконец, убегал к своей деревянной
доске и писал снова. Глубже бороздил ущелья своего порт¬
рета, шире возводил храм своей жизни, мощнее выражал
вечность каждого существования, надрывнее его брен¬
ность, прелестнее его улыбающуюся символичность, на¬
смешливее его обреченность истлеть. Потом он опять вска¬
кивал, затравленный олень, и, как узник, метался по ком¬
натам. Радость и глубокое блаженство творчества прони¬
зывали его, как влажная ликующая гроза, пока боль опять
не бросала его наземь и не швыряла ему в лицо черепки
466
его жизни и его искусства. Он молился перед своей карти¬
ной и оплевывал ее. Он был безумен, как безумен всякий
творец. Но в безумии творчества он безошибочно умно,
как лунатик, делал все, чего требовало его творение. Он
чувствовал и верил, что в этой жестокой битве за его
портрет вершится не только судьба и отчет отдельного
человека, но и нечто всечеловеческое, общее, необходимое.
Он чувствовал: теперь он снова стоит перед какой-то зада¬
чей, перед какой-то судьбой, а весь предшествующий
страх, все попытки бегства, весь хмель, весь угар были
лишь страхом перед этой его задачей и бегством от нее. А
теперь кончился страх, кончилось бегство, теперь остава¬
лось только «вперед», оставалось только рубить и колоть,
победить и погибнуть. Он побеждал, и он погибал, и стра¬
дал, и смеялся, и пробивал себе путь, убивал и умирал,
рождал и рождался.
Один французский художник пожелал посетить его, хо¬
зяйка провела гостя в загроможденную вещами переднюю,
ще ухмылялись беспорядок и грязь. Клингзор вышел, кра¬
ска на рукавах, краска на лице, серый, небритый, широки¬
ми шагами пролетел через переднюю. Чужестранец привез
приветы из Парижа и Женевы, выразил свое уважение.
Клингзор ходил взад и вперед, казалось не слыша. Гость
смущенно умолк, стал откланиваться, тогда Клингзор
подошел к нему, положил на плечо запачканную краской
руку, пристально посмотрел в глаза.
— Спасибо, — сказал он медленно, с трудом, — спасибо,
дорогой друг. Я работаю, я не могу говорить. Слишком мно¬
го говорят, всеща. Не сердитесь, передайте привет моим
друзьям, скажите им, что я их люблю.
И скрылся в соседней комнате.
Готовую картину он поставил в конце этих неистовых
дней в голой, пустовавшей кухне и запер. Он никому не
показал ее. Затем он принял веронал и проспал сутки. Затем
вымылся, побрился, сменил белье и одежду, поехал в город
и купил фруктов и папирос, чтобы подарить их Джине.
КОММЕНТАРИИ
РОСХАЛЬДЕ
Над этим романом Гессе работал с октября 1912 по январь 1913 года в
Гайенгофене, Баденвайлере и Берне. Журнальный вариант появился в
1913 году, отдельной книгой роман был выпущен издательством С. Фише¬
ра в 1914 году. Писатель признавался, что работа над «Росхальде» помогла
ему преодолеть некоторые личные проблемы, но он поначалу сомневался,
сможет ли книга оказаться полезной и для других. Ему казалось, что этим
романом он подвел черту под своим прежним творчеством, которое пере¬
стало его удовлетворять, и стоит на пороге новых начинаний. «Сегодня
вышла моя новая книга, — писал он отцу в марте 1914 года. — Роман отнял
у меня много сил и стал, по крайней мере временно, прощанием с трудной
проблемой, занимавшей меня в практическом плане. Ибо несчастливое суп¬
ружество, о котором идет речь в книге, заключается не только в ложном
выборе, но и — глубже — в проблеме ♦супружества художника» вообще,
в вопросе, способен ли художник или мыслитель, человек, который не
только живет жизнью инстинктов, но и хочет как можно объективнее уви¬
деть и запечатлеть эту жизнь, — способен ли такой человек вообще на
супружескую жизнь. Ответа на этот вопрос я не знаю; но мое отношение к
этому в книге по возможности уточнено; в ней доведено до конца дело, с
которым я надеюсь справиться в жизни по-иному и которое для меня чрез¬
вычайно важно».
«По-иному» справиться со своими проблемами Гессе не удалось: в 1919
году распался его брак с Марией Бернулли, а еще раньше, в год выхода
романа в свет, словно повторяя судьбу маленького Пьера, переболел ме¬
нингитом (правда, с благополучным исходом) его сын Мартин. Если доба¬
вить к этому, что главный герой романа, художник Bepaiyr, отправляется
в Индию как бы по следам самого Гессе, уже побывавшего там в 1911 году,
то личные мотивы в романе становятся очевидными. Рассказывая о распаде
семьи, Гессе не претендует, подобно Т. Манну в «Будценброках», на изо¬
бражение гибели целого класса или социального слоя, а ограничивается
проблематикой художника в бюргерской среде. Его интересуют не столько
социальные типы, сколько персонажи, наделенные «архетипическими»
свойствами.
Своим новым произведением Гессе доказал, что он в совершенстве ов¬
ладел формой традиционного романа. Перечитывая роман тридцать лет
спустя, Гессе, по его словам, ожидал встретить «вопиющую безвкусицу».
Но книга ему понравилась: «...в ней очень мало фраз, которые бы я сегодня
вычеркнул или изменил, и наоборот, там масса вещей, написать которые
сегодня я уже не смог бы. Тоща, в этой книге, я достиг доступной мне
468
вершины в ремесле и технике и выше уже никоеда не поднимался, — писал
он издателю Петеру Зуркампу в январе 1942 года. — И все же была своя
положительная сторона в том, что тогдашняя война оборвала мою эволю¬
цию и, вместо того чтобы сделать меня мастером совершенной формы, стол¬
кнула меня с проблематикой, перед которой чистая эстетика не могла ус¬
тоять».
Критика откликнулась на появление романа в целом благосклонно, ви¬
дя в нем очередное подтверждение уже достигнутого уровня художествен¬
ного мастерства. И только Курт Тухольский прозорливо увидел в «Рос-
хальде» «вводную главу» большого произведения, написанного художни¬
ком, совсем не похожим на «нашего милого, доброго, старого Гессе...»
На русском языке роман под названием «Росхальда» печатался в пере¬
воде А. Полоцкой в журнале «Русская мысль» (1914, NN 1, 2, 3). Отдель¬
ной книгой не выходил.
7 РоЬхальде — в облике дома и сада много примет загородного имения
Шлосхальде в Остермундигене близ Берна, принадлежавшего худож¬
нику Альберту Вельти (1862—1912), с которым Гессе был дружен.
После смерти художника Гессе, переехав из Гайенгофена (Южная Гер¬
мания) в Швейцарию, некоторое время жил в этом доме, когда роман
еще не был доведен до конца. Кроме того, по признанию Гессе, прото¬
типами Росхальде послужили также загородные дома художников Ган¬
са Штурценеггера, некоторыми чертами напоминавшего Bepaiyra, и
Бальмера.
8 ... сыном художника... — Гессе поддерживал дружеские отношения со
многими живописцами, преимущественно швейцарскими и южнонемец¬
кими, среди которых, помимо уже упомянутых Вельти, Штурценеггера
и Бальмера, были также Густав Гампер, Эрнст Моргенталер и др. В
20-е годы писатель и сам интенсивно занимался живописью, устраивал
выставки своих акварелей.
36 ...так называемых «певцов родного края» — т.е. областников, регио-
налистов, представителей пришедшего в начале века на смену натура¬
лизму направления в литературе и искусстве, которое выступало про¬
тив чрезмерной урбанизации и интернационализации духовной жизни
и делало упор на воспевании «родного угла», идеализации деревенской
жизни.
46 ...у меня с самого начала были трения с женой. — Здесь Гессе опи¬
рается на собственный печальный опыт, полученный от брака, впос¬
ледствии распавшегося, с Марией Бернулли, «Мией».
65 Тэн, Ипполит Адольф (1828—1893) — французский философ-пози¬
тивист, эстетик и писатель, родоначальник эстетической теории нату¬
рализма и основатель культурно-исторической школы в литературове¬
дении; его влияние во второй половине XIX в. испытали многие мыс¬
лители и художники.
73 Я еду с тобой в Индию.. — В местах, которые собирается посетить
Верагут, сам Гессе уже успел побывать во время своего путешествия,
предпринятого летом 1911 г. совместно с художником Г. Штурценегге-
ром и описанного в книге путевых заметок «Из Индии» (1913). Оно
было задумано не только как бегство от опостылевшей «крестьянской»
жизни в деревне Гайенгофен на берегу Боденского озера, не только как
попытка забыть на время о шумной и беспокойной Европе, стремитель¬
но двигавшейся навстречу великим потрясениям, но и как «паломни-
469
чество в страну Востока», в края, вде проповедовали его родители,
пиетистские миссионеры, и провели молодость дед Герман Гундерт и
бабушка Жюли. Позже Гессе признавался, что это морское путешест¬
вие в экзотические земли не стало встречей с духом подлинной Индии
и не принесло ему ничего, кроме усталости и разочарования.
91 Я читал об одном французском художнике... — Речь идет о Поле i
Гогене (1848—1903).
115 ...у него менингит — Описывая болезнь Пьера, Гессе предварительно
получил сведения о ее симптомах и течении у медика Хайнеке. В данном i
случае, как и в написанном значительно позже «Докторе Фаустусе» То¬
маса Манна, болезнь и смерть одаренного ребенка предшествует реши¬
тельным переменам в жизни главных героев.
КНУЛЬП
Три истории из жизни Кнульпа
Под таким заглавием повесть была опубликована в издательстве
С. Фишера (Берлин) в 1915 году. Создавались «истории» с 1907 по 1914
год в Гаенгофене и Берне. Первая часть, «Мои воспоминания о Кнульпе»,
впервые была опубликована в журнале «Нойе Рундшау» в 1908 году; вто¬
рая, «Ранняя весна», — в 1913 году в штутгартском журнале «Дер Грайф»; I
третья, «Конец Кнульпа», — в 1914 году в журнале «Дойче Рундшау». На i
русском языке в переводе Б.Маркович повесть впервые напечатана в сбор¬
нике: Герман Гессе. Избранное, М., «Художественная литература», 1977. i
Образ бродяги, бездомного скитальца издавна притягивал Гессе не
только потому, что бродяжничество в Германии в конце прошлого века i
стало широко распространенным явлением и породило выразительный тип
странника по убеждению, подпитываемый традициями немецкого роман- i
тизма; в его произведениях вообще мало героев, непосредственно связан¬
ный с реальностью материального существования, вплетенных в существу¬
ющие социальные отношения. Его герои — это прежде всего искатели,
скитальцы и бродяги, странствующие из произведения в произведение в i
поисках самих себя, в попытках выразить свою внутреннюю суть. Кнульп —
бродяга по убеждению; всей свой жизнью, да и смертью тоже, он демонст¬
рирует преимущества бездомного странника, отрекшегося от узости осед¬
лого быта во имя духовной подвижности и личной свободы. Его душа рас- i
крыта навстречу природе, навстречу красоте, он ценит в людях не богатст- i
во или общественное положение, а душевные качества. Противопоставляя i
самодовольному бюргеру бездомного бродягу, выбитого из колеи жизни и i
достойного если не насмешки, то, во всяком случае, сожаления, Гессе не i
только оправдывает Кнульпа за его «безделье», но и ставит вопрос о вине !
окружения, которое допускает подобные явления. «В противоположность
многим модным программам я не считаю задачей писателя давать своим i
читателям образцы жизни и человечности, быть всеведущим и служить i
мерилом. Писатель изображает то, к чему испытывает влечение, а образы i
вроде Кнульпа для меня очень привлекательны, — писал он в 1935 году
одной своей читательнице. — Они не «полезны», но они приносят очень i
мало вреда, значительно меньше, чем иные «полезные», и не мое дело i
судить их. Скорее я полагаю, что если одаренные и вдохновенные люди,
4/0
подобные Кнульпу, не находят места в своем окружении, то это окружение
виновно в той же мере, что и сам Кнульп».
135 Сидит усталый странник... — Как указывает комментатор произве¬
дений Гессе Мартин Пфайфер, эти стихи принадлежат другу юности
писателя, Мартину Лангу (1883—1955).
140 Дузе, Элеонора (1859—1924) — итальянская драматическая актриса.
145 Там, на лугу зеленом, все мельница шумит. — Стихотворение немец¬
кого поэта-романтика Йозефа Эйхендорфа (1788—1857), переложен¬
ное на музыку композитором Иоганном Людвигом Фридрихом Глюком
(1793 — 1840).
149...Господь посылает дождь на праведных и неправедных... — Еванге¬
лие от Матфея, 5, 45.
151 ...вот девушка Руфь бредет через поле... — Ветхий завет, Книга
Руфь, 2, 3.
...Спаситель присаживается к детишкам... — Имеется в виду эпизод
благословения детей Христом, воссозданный в Евангелии от Матфея,
19,13-15.
158 Ты ждешь меня напрасно... — Авторство не выяснено. Предположи¬
тельно отрывок из студенческой песни.
162 Кошу я на Неккаре, на Рейне траву... — Народная песня, вошла в
изданный Л.И.Арнимом и К.Брентано сборник «Волшебный рог маль¬
чика» (1806—1808).
166 Я умер рано по весне... — Считается, что эти стихи принадлежат Гер¬
ману Гессе.
169 ...среди прочего даже Толстого... — Л.Н.Толстой входил в круг чте¬
ния Гессе с отроческих лет и во многом определил его тягу к жизни на
лоне природы; позже Гессе неоднократно откликался на появление не¬
мецких переводов книг Толстого.
Я красною юбкой бывала горда... — заключительная строфа народной
песни «Жил-был на свете бравый гусар».
181 Герберзау — под этим названием Гессе воспел швабский городок
Кальв, в котором родился и провел детские годы.
ДЕМИАН
История юности Эмиля Синклера
Роман написан в сентябре-октябре 1917 года. Рукопись под названием
«История юности, написанная Эмилем Синклером» Гессе послал своему
издателю С.Фишеру, указав в сопроводительном письме, что принадлежит
она молодому автору, который серьезно болен, не надеется на выздоровле¬
ние и не намерен сам улаживать свои земные дела. Свое авторство писатель
скрыл не только от издателя, но и от друзей. Из-за трудностей с бумагой
книга вышла только в 1919 году, сразу же за журнальной публикацией в
«Нойе Рундшау», и вызвала поток предположений и догадок относительно
того, кто скрывается за именем Эмиль Синклер. В конце концов загадка
была разгадана, и Гессе, уже получившему премию имени Фонтане, пред-
471
назначенную для поощрения начинающих писателей, пришлось публично
признать свое авторство, а премию вернуть. Начиная с семнадцатого изда¬
ния (1920), «Демиан» получил другой подзаголовок — «История юности
Эмиля Синклера, написанная Германом Гессе».
Существует несколько объяснений того, почему Гессе решил издать
свою книгу под псевдонимом. Среди прочих переводчик «Демиана» на рус¬
ский язык С.Апт называет и чисто практическое, «протокольное» назначе¬
ние этого шага: «Во время первой мировой войны Гессе, которого не взяли
в германскую армию из-за плохого зрения, работал в Швейцарии, в орга¬
низации, оказывавшей помощь немецким военнопленным, и германское
консульство в Берне потребовало, чтобы он воздержался от каких-либо
печатных выступлений на актуальные политические темы» («Иностранная
литература», 1993, № 5, с. 108). Однако, как свидетельствует публицисти¬
ка писателя тех лет, он отнюдь не скрывал своих антивоенных настроений,
а в самом романе не так уж и много прямых высказываний на политические
темы. Скорее, дело тут в болезненно резком переломе, который вызвала в
его мироощущении первая мировая война. «Вы правы, — писал Гессе в
1931 году цюрихскому литератору Ф.Абелю, — когда в моих произведени¬
ях, начиная с «Демиана», чувствуете новую ноту... Для меня самого тоща
перелом был большим событием. Он совпал с мировой войной. До войны
я был отшельником, но тем не менее с отечеством, правительством, обще¬
ственным мнением, официальной наукой и т.д. жил в мире, хотя я был
демократом и охотно участвовал в оппозиции против кайзера и вильгель-
минизма... Потом, во время войны, мне не только стало ясно, что дело не
в одном кайзере, рейхстаге, канцлере, газетах и партиях, что весь народ
был воодушевлен и аплодировал отвратительным жестокостям и правона¬
рушениям, и громче всех это делали профессора и остальная официальная
интеллигенция, — мне стало ясно также, что наша маленькая оппозиция,
наша маленькая критика и демократия были лишь фельетоном, что и среди
нас лишь немногие действовали всерьез и в случае необходимости готовы
были умереть за свое дело. После уничтожения отечественных идолов при¬
шла очередь собственного воображения. Я должен был внимательно иссле¬
довать нашу немецкую духовность, наш сегодняшний язык, наши газеты,
нашу школу, нашу литературу — и все это большей частью оказалось изо-
лганным и пустым, включая меня самого и мое писательство, хотя оно и не
было лишено благих намерений.
Этот перелом, обусловленный войной, которая меня разбудила и от¬
крыла мне глаза, проявился во всем, что я написал после 1915 года».
Тяга к обновлению, к смене обличья в определенные моменты была
свойственна Гессе всеща. Врачу-психоаналитику Й.Б.Лангу, видимо знав¬
шему, кто скрывается за псевдонимом Синклер, он писал в январе 1920
года: «Множатся тревожные признаки того, что автор постепенно будет
угадан. Но я прошу вас ничем этому не способствовать! Все произойдет и
так, к моему сожалению, а я бы предпочел сохранить анонимность. Охот¬
нее всего я бы каждое новое произведение издавал под новым псевдонимом.
Я ведь не Гессе, я был Синклером, был Клингзором, был Клейном и т.д.
и буду кем-нибудь еще».
Выбор псевдонима также не был случаен, само его звучание было ис¬
полнено для Гессе тайного волшебства, было связано с «другой Герма¬
нией», с гуманистической традицией немецкой культуры, напоминало о
поэте-романтике Фридрихе Гёльдерлине и его друге и покровителе Исааке
фон Синклере (1775—1815), означало внутреннее побуждение к новому
осмыслению мира, понимаемого как единство противоположностей.
472
Едва появившись на книжном рынке, роман сразу завоевал огромную
популярность среди немецкой молодежи, особенно среди тех, кто только
что вернулся с фронтов мировой войны. Он потрясал основы старого мира,
отрицал его мораль, религию, этику, все то, что поставила под сомнение
война. В предисловии к американскому изданию книги Т.Манн писал: «Не¬
забываемо электризующее действие, вызванное вскоре после первой миро¬
вой войны романом некоего мистического Синклера «Демиан», произведе¬
нием, которое с беспощадной точностью задело нерв эпохи и вызвало бла¬
годарное восхищение целого поколения молодежи...»
Широкий общественный резонанс, вызванный «Демианом», был обус¬
ловлен тем, что глубоко личная, субъективно окрашенная исповедь героя
романа выражала чаяния определенной части западноевропейской интел¬
лигенции, разуверившейся в «стадных» идеалах предшествующей эпохи и
вступившей на мучительно трудный, но неизбежный «путь внутрь», путь
утверждения своей самобытности.
На этом пути произошла встреча Гессе с «глубинной психологией»
швейцарского ученого Карла Густава Юнга (1875—1961), оказавшаяся для
него чрезвычайно плодотворной. Начиная с романа «Демиан», писал гру¬
зинский исследователь творчества Гессе Резо Каралашвили, действие в
произведениях писателя «почти исключительно разворачивается не в соци¬
ально-эмпирическом пространстве, которое писатель именует «так называ¬
емой действительностью», а в «магической действительности» («магиче¬
ское, — замечает Юнг, — это просто-напросто другое название психиче¬
ского»). С этого же времени и персонажи в его романах перестают быть
суверенными действующими лицами с четко вырисованными характерами,
которыми они, собственно говоря, в полной мере никоща и не были. Их
функция заключается в зримо-образном воплощении определенных вне-
личностных инстанций психеи самого автора» (Р. Каралашвили.
Мир романа Германа Гессе, Тбилиси, 1984, с. 253). В «Демиане» и после¬
дующих крупных произведениях и в самом деле много признаков того, что
Гессе использовал предложенную Юнгом схему индивидуации для превра¬
щения картины душевной драмы становящейся, ищущей себя личности в
широко понимаемый поэтологический принцип, позволяющий рассматри¬
вать персонажи его книг как некие знаки-символы, которые представляют
в художественном тексте юнговские «фигуры» бессознательного — «Тень»,
«Аниму» («Анимус»), «Самость». Индивидуация, по Юнгу, — это приру¬
чение необузданных инстинктов «Тени», превращение скрытых глубин
«Анимы» из автономного комплекса в чистую функцию, помогающую рас¬
крепостить личность, и приближение к «Самости», т.е. к достижению от¬
носительного, но благотворного для индивида равновесия между сферами
сознательного и бессознательного.
Однако указанная психоаналитическая схема не исчерпывает содержа¬
тельного богатства гессевских персонажей и не предполагает их отрыва от
социально-политического опыта эпохи, а тем более от фактов конкретной,
вполне «эмпирической» биографии писателя.
На русском языке роман впервые напечатан в переводе С.Апта в жур¬
нале «Иностранная литература» (1993, № 5).
207 Я ведь всего только и хотел — попытаться жить... — автоцитата,
эпиграф взят из пятой главы «Демиана».
211 Франц Кромер — персонаж, символизирующий «Тень», дикие, не¬
обузданные инстинкты, по мнению Гессе, тоже хочет жить тем, что
рвется из него наружу. «Он делает это на более низком уровне, —
отмечал писатель в одном из писем в 1955 г., — и если не поднимется
473
выше, то кончит банковским директором или каторжником. Тем не
менее его приставания и низости подталкивают измученного Синклера
к развитию в благоприятном направлении».
223 Звали его Макс Демиан. — Существует много предположений относи¬
тельно того, с кого «списан» заглавный образ. Назывались имена со¬
ученика Гессе по Маульброннской семинарии Густава Целлера, напо¬
минавшего Демиана внешним обличьем и манерой держаться, а также
Артура Глезера, чьи отношения с Германом Гессе были в 1916— 1918 гг.
отношениями учителя и ученика. Одни видели в Демиане ♦фигуру
Христа» (Т.Зиолковски), другие — образ демона (Х.Р.Шмцд). Одна¬
ко сам Гессе указывал на внеличностный, знаковый характер этого
персонажа: «Демиан, собственно говоря, не человек, а принцип, воп¬
лощение определенной истины или, если хотите, доктрины». Он при¬
знавался, что не выдумал эту фамилию, она приснилась ему во сне и
до такой степени понравилась, что была вынесена в заглавие романа.
Если исходить из юнговских ♦фигур» бессознательного, то Демиан
представляет «Самость».
Когда в нас вдалбливали историю Каина и Авеля... — Ветхозаветная
история об убийстве Каином своего брата Авеля рассказана в Книге
Бытия (4, 1-15). Демиан — вполне в духе «глубинной психологии» —
дает собственную оценку вероломному братоубийце, отличающуюся от
библейской. Каин в его трактовке не злодей, а мужественный человек,
вставший на путь индивидуализации, отбросивший лицемерное правед-
ничество и признавший наличие в своем существе не только светлых,
но и темных сторон. В одном из писем (апрель 1930 г.) Гессе писал по
этому поводу: «Мне неизвестны литературные источники того, что в
«Демиане» написано о Каине, однако вполне можно предположить, что
нечто подобное есть у гностиков. То, что коща-то было теологией, для
нас, нынешних, в большей мере психология, но истины одни и те же...
И, кажется мне, очень даже возможно рассматривать Каина, этого
преданного поруганию злодея, первого убийцу, как обращенного в
свою противоположность Прометея, как представителя духа и свободы,
попавшего в опалу за свою дерзость и смелость. Меня не волнует то, в
какой мере подобное восприятие может разделяться теологами, как и
то, что его могли не понять и не одобрить неизвестные авторы Пяти¬
книжия. Библейские мифы, как и все мифы человечества, не имеют для
нас никакой ценности, пока мы не осмеливаемся толковать их в личном
плане, для себя и своего времени».
224 Думаю, что это ястреб. — Известно, что у Гессе был «ястребиный»
профиль, и коща он однажды получил от Артура Грезера открытку с
рисунком ястреба, это могло быть воспринято как некий знак, как
побуждение идти по «пути внутрь».
248 ...нам нужно и служение дьяволу. — Гностики, учениями которых
интересовался Гессе, полагали, что человек может постичь окружаю¬
щий мир и свою двойственность и разорванность только через познание
собственной противоречивой сущности. Отсюда идея богодьявола, не¬
обходимость служения не только светлым, но и темным силам.
265 Это был том Новалиса... — Новалис (Фридрих фон Гарденберг,
1772—1801) был одним из любимых Гессе немецких писателей-роман-
тиков. Он написал о нем рассказ («Новалис. Из записок старомодного
человека»), издал подборку его произведений, откликался на выход в
474
свет его книг. Изречение «Судьба и нрав суть имена одного понятия»
взято из второй части романа Новалиса «Генрих фон Офтердинген».
267 Святой Августин — Блаженный Августин Аврелий (354 — 430), хри¬
стианский теолог и церковный деятель, автор философско-теологиче-
ского сочинения «О граде Божием», в котором «земному граду», т.е.
государству, противопоставляется мир души и духа и их заступница —
церковь. Его «Исповедь» напрямую затрагивает волновавшие Гессе
вопросы становления личности.
270 Бога зовут Абраксас, — Согласно ближневосточной мифологии, Аб¬
раксас (или Абрасакс) — брат бога Митры. В представлениях гности¬
ков Абраксас — космологическое существо, верховный глава небес,
символизирующий целокупность мирового времени, мирового про¬
странства и духовного мира. Иконографический образ: существо с го¬
ловой петуха, телом человека и змеями вместо ног. По мнению некото¬
рых исследователей, миф об Абраксасе является дериватом мифа о
солнце.
276 Регер, Макс (1873—1916) — немецкий композитор, органист, теоре¬
тик музыки.
280 Писториус — считается, что под этим именем Гессе вывел ученика
К.Г.Юнга, врача-психотерапевта Йозефа Бернхарда Ланга <1883—
1945), который в 1916—1917 гг. провел с писателем несколько десят¬
ков сеансов психоанализа. Гуго Баль, рассказавший историю взаимо¬
отношений Гессе и Ланга, отмечает, что Гессе был в состоянии сам
поставить себе диагноз и превосходил своего партнера «как в диалек¬
тике, так и в искусстве словесных формулировок»; однако не вызывает
сомнений, что Ланг помог своему пациенту избавиться от депрессии, а
заодно и глубже усвоить использованный в романе психоаналитиче¬
ский аппарат. И все же образ Писториуса не сводим к какому-либо
прототипу, он несет в себе, как почти всеща у Гессе, и внеличностный,
символический смысл.
Букстехуде, Дитрих (1637—1707) — датско-немецкий композитор и
органист, один из крупнейших предшественников И.С.Баха.
282 ...ученичок гернгутерской школы... — т.е. приверженец протестант¬
ской секты гернгутерову зародившейся в саксонском городе Гернгуте
и получившей в XVIII—XIX вв. распространение в Германии, Север¬
ной Америке, Латвии и Эстонии.
• 291 Это были слова о борьбе Иакова с ангелом Бога... — Имеется в виду
ветхозаветный эпизод (Бытие, 32, 25-32), рассказывающий о борении
Иакова с ангелом или с самим Богом, который повредил ему бедро и
нарек Израилем.
293 Юм» — мистический слог в священных индуистских и буддистских
текстах.
294 Каббала — мистическое учение в иудаизме, соединившее идеи гности¬
цизма с иудейской традицией аллегорического толкования Библии.
Практическая каббалистика основана на вере, что человек при помощи
специальных ритуалов и молитв в состоянии вмешиваться в божествен¬
но-космический процесс.
297 Митра — один из главных богов индоиранской религии, бог солнца,
покровитель мира и доброжелательности. Bo II—IV вв. митраизм был
одним из главных соперников христианства.
475
309 Госпожа Ева.... она как всеобщая маты — Путь Синклера к себе ведет
в романе не только через преодоление «темного мира», но и через образ
матери, помогающей герою возвратиться к внутренней раскрепощенно¬
сти и абсолютной правдивости. Госпожа Ева — это и живая, конкрет¬
ная женщина, мать Демиана, и одновременно символ женщины вообще
(это подчеркнуто уже в имени). Созревший для катастрофы мир, что¬
бы возродиться в новом качестве, должен вернуться к своему истоку,
к «праматери». В поэтике романа, соотносимой с юнговскими «фигу¬
рами» бессознательного, госпоже Еве отводится роль «Анимы».
КЛИНГЗОР
Это название объединяет три большие новеллы — «Душа ребенка»,
«Клейн и Вагнер», «Последнее лето Клингзора», впервые опубликованные
отдельной книгой издательством С.Фишера в 1920 году в сборнике, кото¬
рый получил свое название по последней новелле. О том, какое значение
придавал Гессе этой книге, говорит его письмо своему издателю: «Иногда
у меня появляется чувство, что со мной может что-то случиться. На этот
случай прошу вас записать, какие мои книги должны непременно выйти в
свет: сборник из трех новелл, моих самых последних революционных ра¬
бот... Книга с этими тремя новеллами станет важнейшим моим произведе¬
нием, она и «Демиан». Названия для нее у меня еще нет».
Душа ребенка
В новелле описан случай, произошедший с самим Гессе и зафиксиро¬
ванный в дневнике его матери, Марии Гессе. Написано в конце 1918 —
начале 1919 года, журнальная публикация — 1919 год.
Клейн и Вагнер
Новелла написана летом 1919 года, осенью того же года последовала
журнальная публикация. «Недавно я закончил работу, над которой корпел
почти каждый вечер со времени моего прибытия сюда, — писал Гессе сво¬
ему другу Луи Муайе. — Это большая новелла, лучшее из написанного
мной до сих пор, в ней я порываю со своей прежней манерой и начинаю
все сызнова. Прекрасной и очаровательной эту новеллу не назовешь, она
скорее напоминает цианистый калий, но она хороша, я должен был ее
написать».
«Клейн и Вагнер» продолжает тему воровства, преступления, которая
разрабатывалась и в новелле «Душа ребенка», но теперь она получает бо¬
лее глубокое толкование, связанное с категориями «глубинной психоло¬
гии». Бравый чиновник Клейн (по-немецки «маленький», «мелкий», «не¬
значительный»), следуя голосу своего бессознательного, «Тени» в себе,
которая персонифицирована в двуликом образе Вагнера (это школьный
учитель Вагнер, в припадке сумасшествия убивший жену и детей, и одно¬
временно знаменитый композитор Рихард Вагнер), становится вором и по¬
тенциальным убийцей, безуспешно пытается бежать от себя, от своего «нра¬
ва», встречает на своем пути танцорку Терезину — «Аниму», осознает
опасность, исходящую от таящихся в нем темных сил, и выбирает добро-
476
вольную смерть, пантеистически благоговейно воспринимаемую им как
преодоление страха и разрешение всех противоречий.
376 ...он потянулся к томику Шопенгауэра... — О своем отношении к
немецкому философу Гессе писал следующее: «Шопенгауэром я начал
заниматься уже в те отроческие годы, когда моим главным чтением был
Ницше. И чем дальше отступал Ницше на задний план, тем больше
меня притягивал Шопенгауэр — еще и потому, что я, независимо от
него, уже в детстве узнал кое-что об индийской философии».
394 €В мире вам страшно»... — Имеются в виду слова Иисуса, сказанные
им своим ученикам и приведенные в Евангелии от Иоанна: «В мире
будете иметь скорбь; но мужайтесь: я победил мир» (16, 33).
395 *Такими вам не стать, как дети»... Имеются в виду слова Иисуса,
сказанные им своим ученикам: «Истинно говорю вам, если не обрати¬
тесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матфей,
18, 3).
418 ...решиться упастьI — Это выражение, которое можно перевести и
по-другому — «отдаться падению», «не противиться падению», — игра¬
ет важную роль в представлениях Гессе о развитии личности от низко¬
го, эмпирического «я» к «я» высшему, внеличностному, называемому
также «Самостью». Слияние Клейна со стихией, снятие раздвоенности
на бюргера и преступника, растворение в высшем единстве «подразу¬
мевает уничтожение низшего, индивидуального и эмпирического «я»,
его смерть. Смерть эта, однако, означает не конец, не прекращение и
завершение существования, а мыслится писателем как предпосылка
рождения нового, достижение высшей цели индивидуального разви¬
тия. Эта специфическая трактовка смерти является общей для всего
позднего творчества Гессе и подтверждается всеми его книгами»
(Р. Каралашвили. Мир романа Германа Гессе, с. 164).
Последнее лето Клингзора
Написано в июле-августе 1919 года, впервые опубликовано в том же
году. В «Воспоминании о лете Клингзора» (1938) Гессе писал: «Для того
чтобы это лето стало для меня чрезвычайным и неповторимым пережива¬
нием, понадобилось стечение трех обстоятельств: 1919 год, возвращение из
войны в жизнь, из неволи в свободу было самое важное; но к этому доба¬
вились атмосфера, климат и язык юга и, как милость небес, еще и лето,
какое мне редко доводилось переживать, его накал и зной, его соблазны и
искушения захватили меня и, подобно крепкому вину, пропитали все поры.
Это было лето Клингзора. Знойными днями я бродил по деревням и каш¬
тановым рощам, сидел на складном стульчике и пытался с помощью аква¬
рельных красок запечатлеть хоть что-нибудь из этого струящегося чуда;
теплыми ночами я, открыв окна и двери, допоздна просиживал в малень¬
ком замке Клингзора, пытаясь уже более основательно и осмысленно, чем
я это делал кистью, выразить в словах и спеть песню этого невероятного
лета. Так возникла новелла о художнике Клингзоре».
423 Клингзор — в своих комментариях к собранию сочинений Гессе Мар¬
тин Пфайфер перечисляет литературные источники этого имени. В сти¬
хотворном рыцарском романе Вольфрама фон Эшенбаха «Парци-
фаль» (1198—1210) Клингзор — могущественный волшебник, в неза¬
конченном романе Новалиса «Генрих фон Офтердинген» он — патри¬
477
арх поэзии, в новелле Э.Т.А. Гофмана «Состязание певцов» — минне¬
зингер. Наиболее законченное словесно-музыкальное воплощение этот
образ получил в мистерии Рихарда Вагнера «Парцифаль» (1882). В
новелле Гессе Клингзор выступает в роли художника и напоминает Ван
Гога (1853—1890), хотя образ это, несомненно, автобиографический.
...сорока двух лепи.. — Во время работы над новеллой Гессе был в том
же возрасте.
Ли Бо (Ли Тай Бо) (701—762) — китайский поэт, автор застольных
песен и стихотворных пейзажных зарисовок.
Ду Фу (712—770) — китайский поэт. С творчеством этих двух поэтов
Гессе познакомился в 1907 г., коща вышел сборник китайской лирики
в переводах Ганса Бетге «Китайская флейта».
426 В ночной тоске, во тьме унылой... — строфа из стихотворения
И.В.Гёте «Отзвук».
427 Капут мортуум, букв, «мертвая голова» (лат.) — средневековое на¬
звание красной краски, состоявшей из порошка окиси железа.
429 Луи Жестокий — так Гессе называл своего друга, художника Луи
Муайе (1880—1962). Этот образ возникает также в «Паломничестве в
страну Востока».
431 Верлен, Поль (1844—1896) — французский поэт.
434 Жизнь проходит, как луч молнии... — Из стихотворения Ли Бо «За
полной чарой», которое в оригинале новеллы дано в переводе Ганса
Хайльмана.
435 Утром кудри, словно черный шелк, блестели... — Из стихотворения
Ли Бо «Вечное опьянение».
438 Валленштейн, Альбрехт (1583—1634) — немецкий полководец, им¬
перский главнокомандующий в Тридцатилетней войне.
444 Вольф, Гуго (1860—1903) — австрийский композитор и музыкальный
критик, писал песни преимущественно на стихи немецких поэтов-ро-
мантиков.
450 Я родился второго июля. — Второго июля — день рождения Гессе.
457 Листвой с дерев летит.. — стихотворение Гессе, написано в феврале
1919 г.
461...как в историях Коллофино, охотника на зайцев в кёльнском собо¬
ре. — Шутливый намек ни литературные упражнения друга Гессе
Йозефа Файнгальса (1867—1947) по прозвищу Коллофино, торговца
из Кёльна, автора сборника «Истории Коллофино» (1918), куда вошел
также забавный рассказ «Охота на зайцев, или Глубокая тень кёльн¬
ского собора». Это имя фигурирует также в повести «Паломничество
в страну Востока» и в романе «Игра в бисер».
463 Ночью в роще сижу на ветру, захмелев... — стихотворение Гессе
«Клингзор бражничает в осеннем лесу», написано в августе 1919 г.
В.Седельник
СОДЕРЖАНИЕ
РОСХАЛЬДЕ. Перевод В.Седельника 5
*КНУЛЬП. Перевод Е.Маркович 133
ДЕМИАН. Перевод С.Апта 205
*КЛИНГЗОР. Перевод С.Апта 325
Комментарии. В.Седельник 468
Гессе Г.
Г43 Собрание сочинений. В 8 т. Т.2: Пер. с нем. / Соста¬
вители: Н. С. Павлова, В. Д. Седельник; Коммент. В. Д. Се¬
дельника; Художники М. Е. Квитка, О. JI. Пустоварова. —
М.: АО Изд. группа «Прогресс» — «Литера»; Харьков:
Фолио, 1994. — 480с. — (Urbi et Orbi).
ISBN 5-01-003968-0
Во второй том собрания сочинений Германа Гессе вошли романы
и повести «Росхальде», «Кнульп», «Демиан», «Клингзор».
Литературно-художественное издание
ГЕССЕ Герман
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В восьми томах
Том 2
Художественный редактор Б. Ф. Бублик
Технический редактор Е. В. Антонова
Корректор Г. С. Бережнова
Книга отпечатана на бумаге,
предоставленной фирмой «ИСА»
ИБ № 19574
ЛР № 060775 от 25.02.92.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 15.04.94.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура литературная.
Печать офсетная. Уел. печ. л. 25,2. Уел. кр.-отг. 30,45.
Уч.-изд. л. 26,64. Тираж 25 000 экз. Изд. № 49092. Заказ № 4-161.
АО Издательская группа «Прогресс»,
119847, Москва, Зубовский бульвар, 17
«Фолио»
310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34
Книжная фабрика им. М.В. Фрунзе,
310057, Харьков, ул. Донец-Захаржевского, 6/8
ISBN 5-7150-0126-9
г4703010100-190
006(01)-94
Без. объявл.
ББК 84.4Г