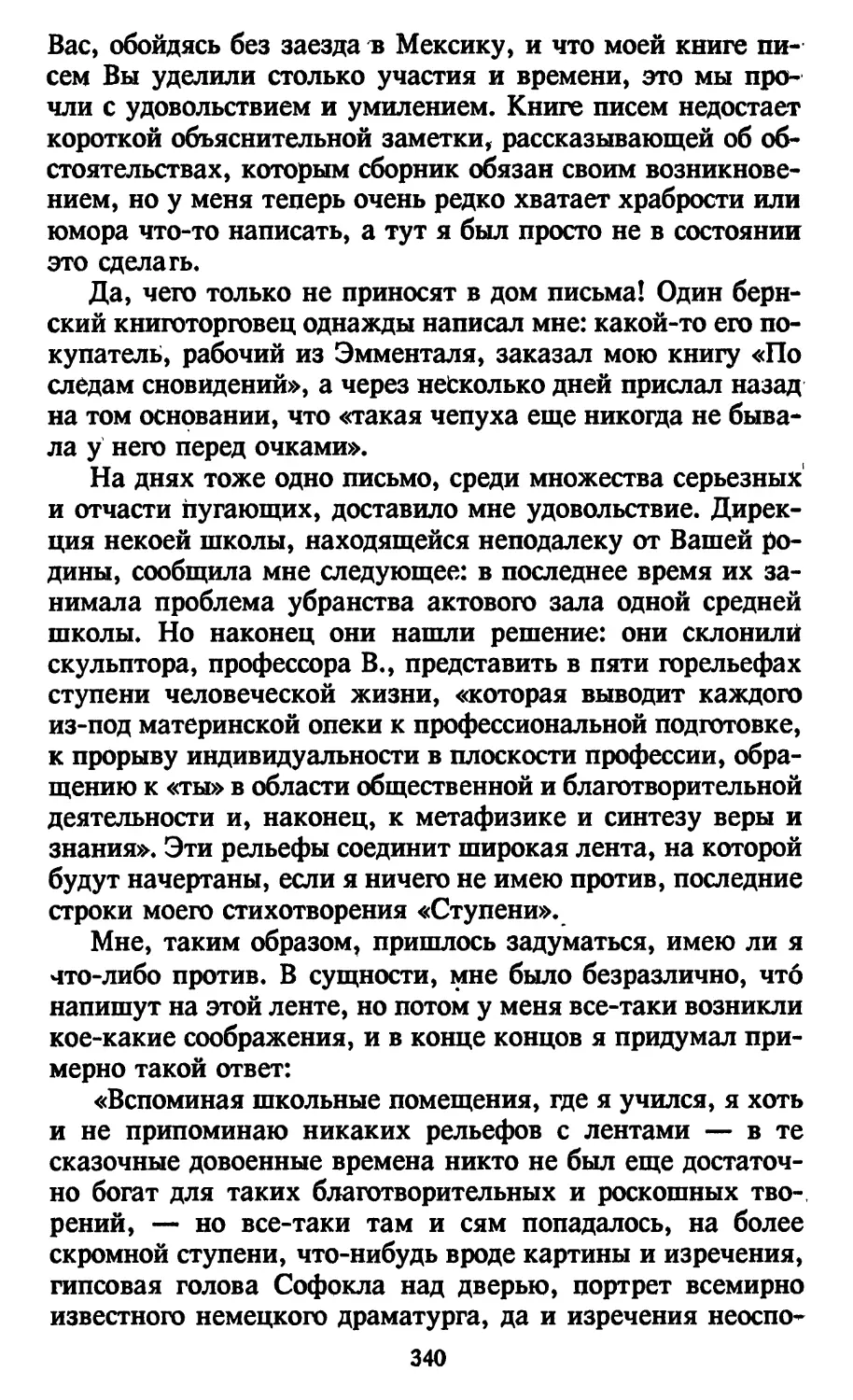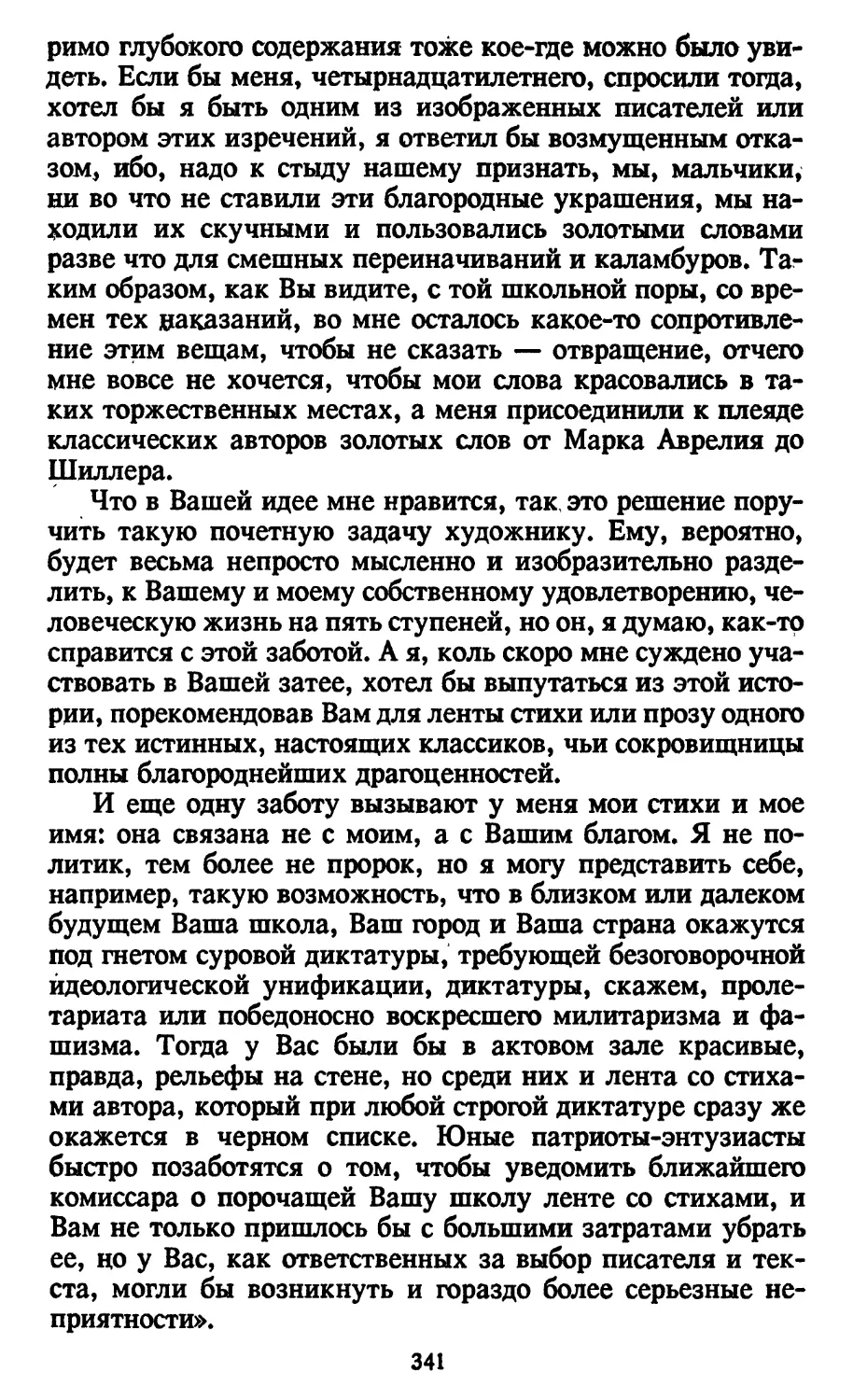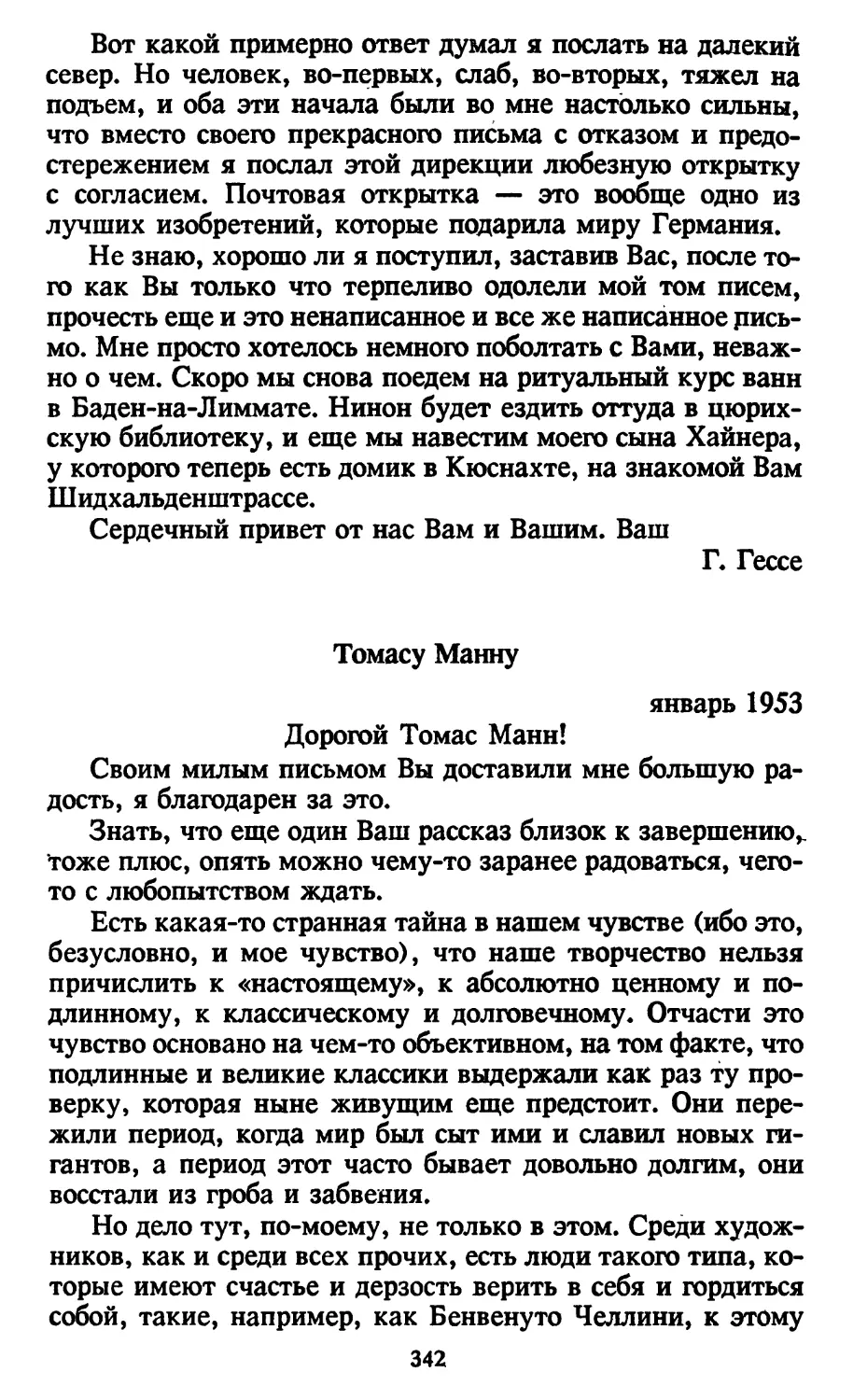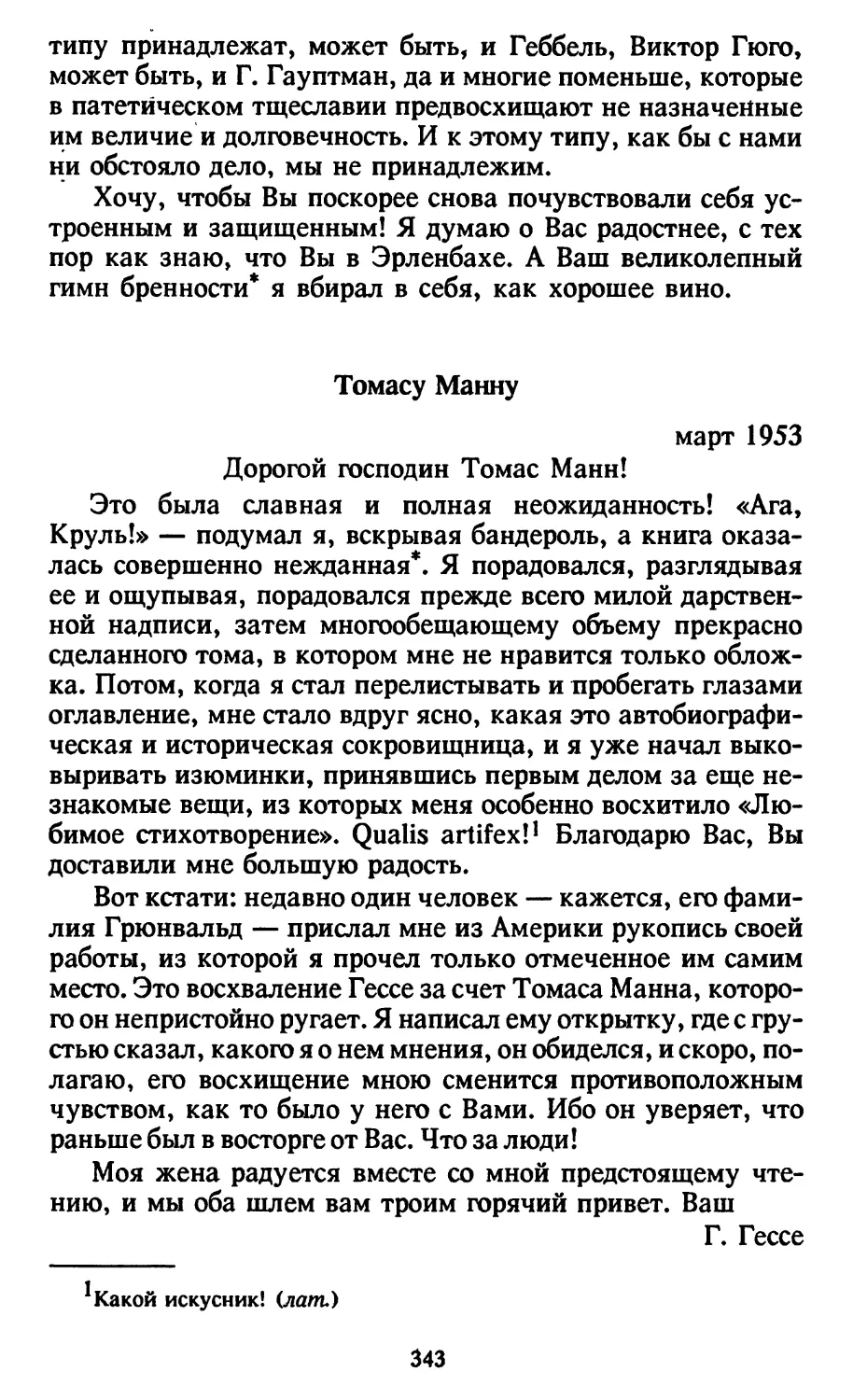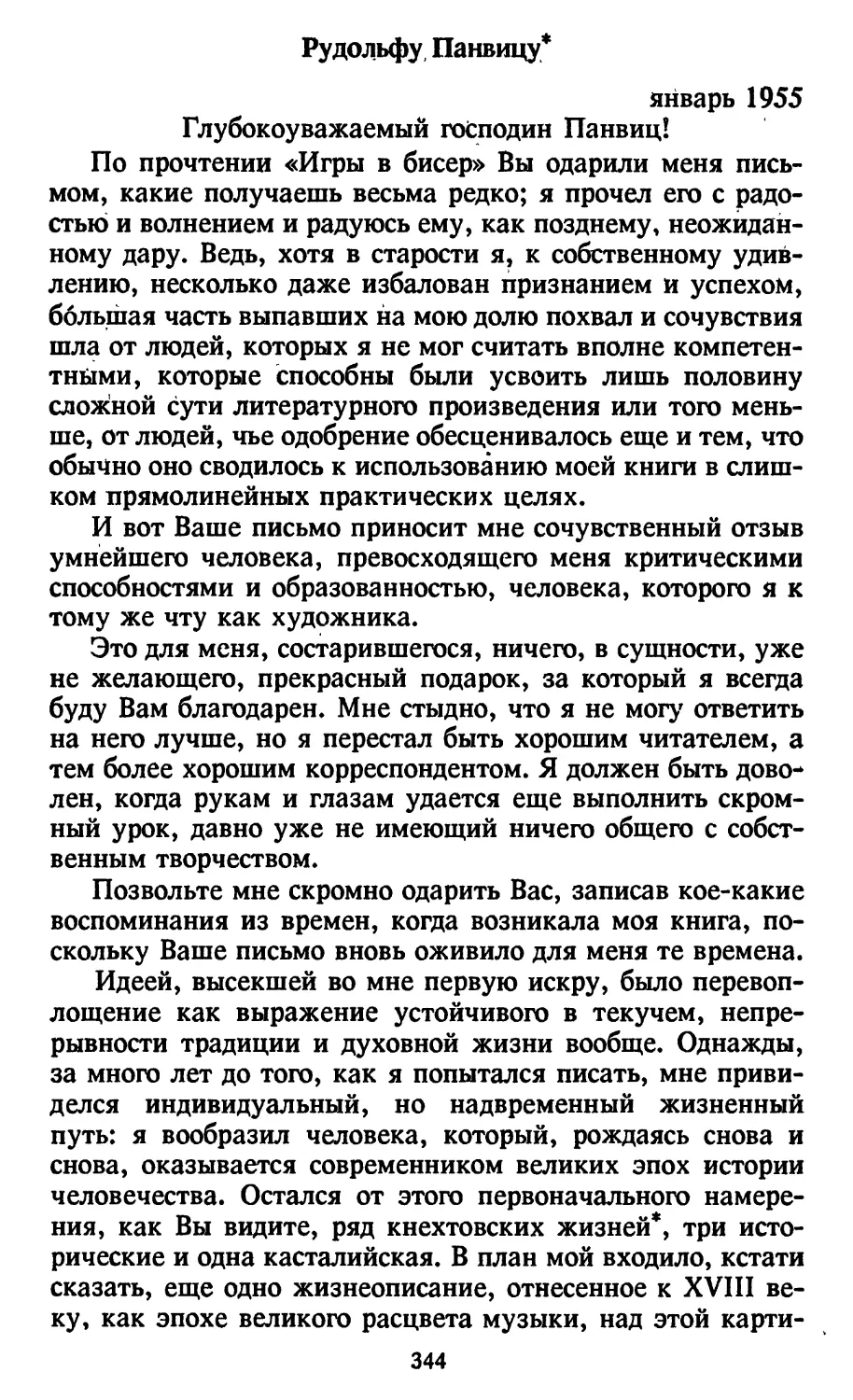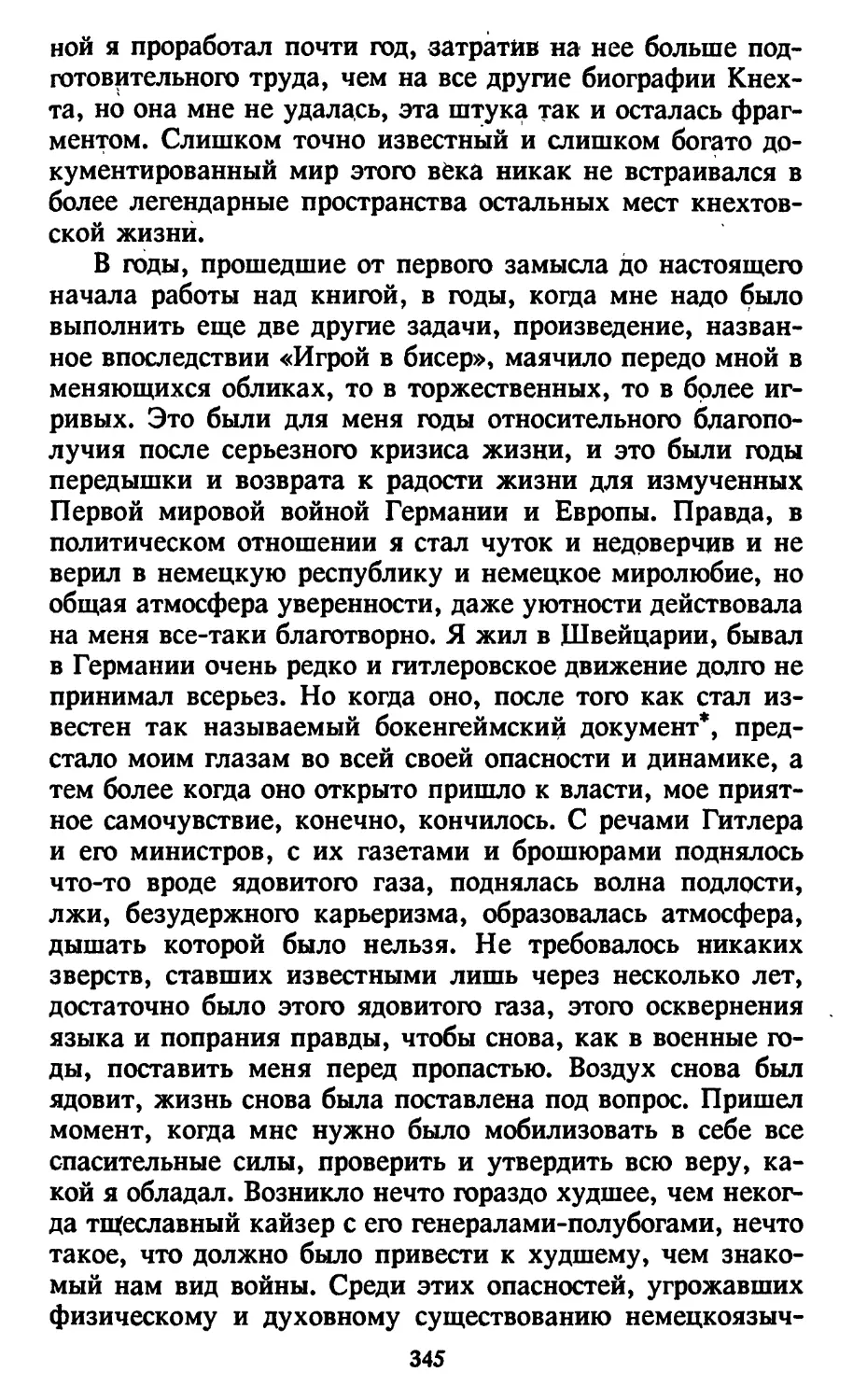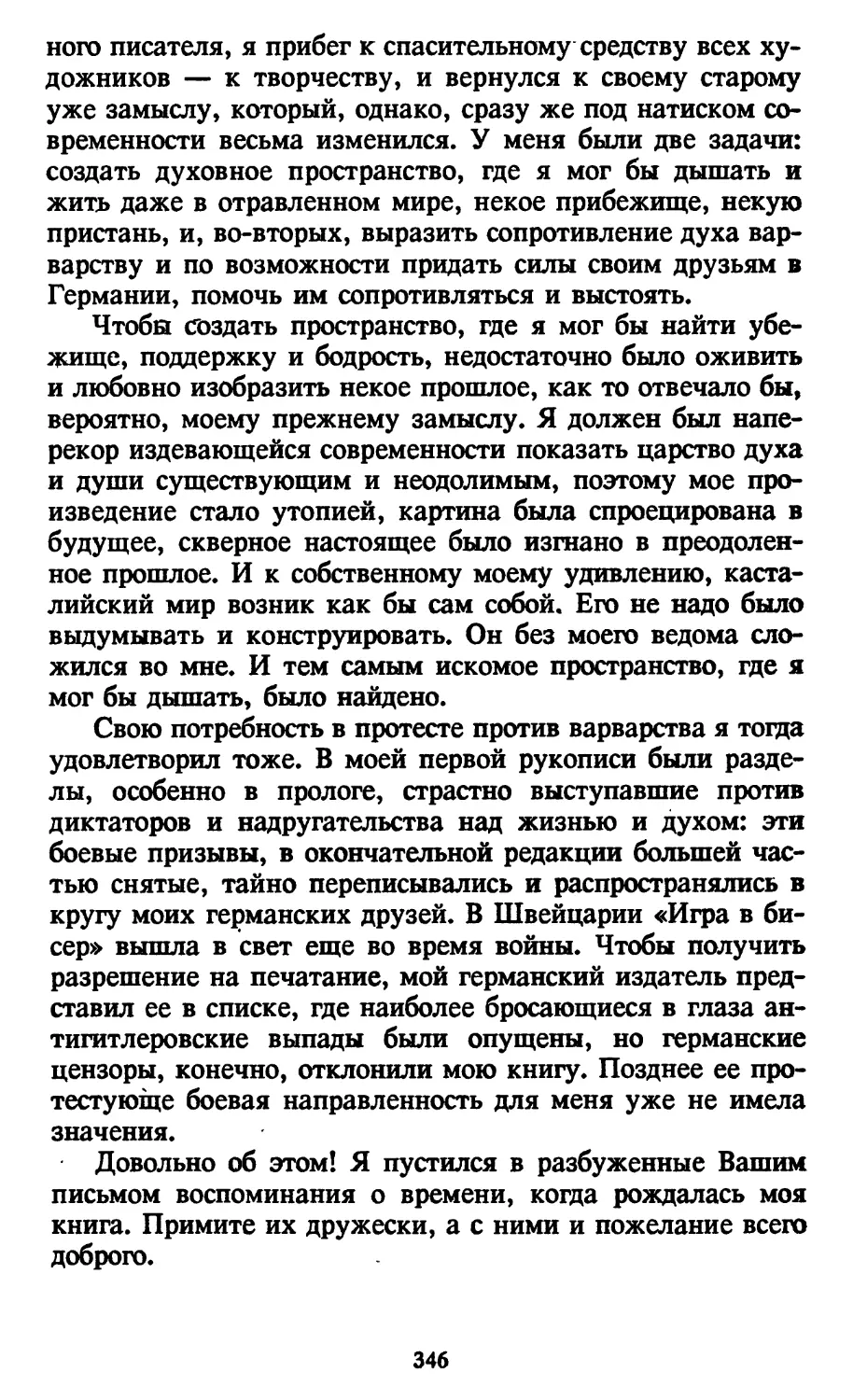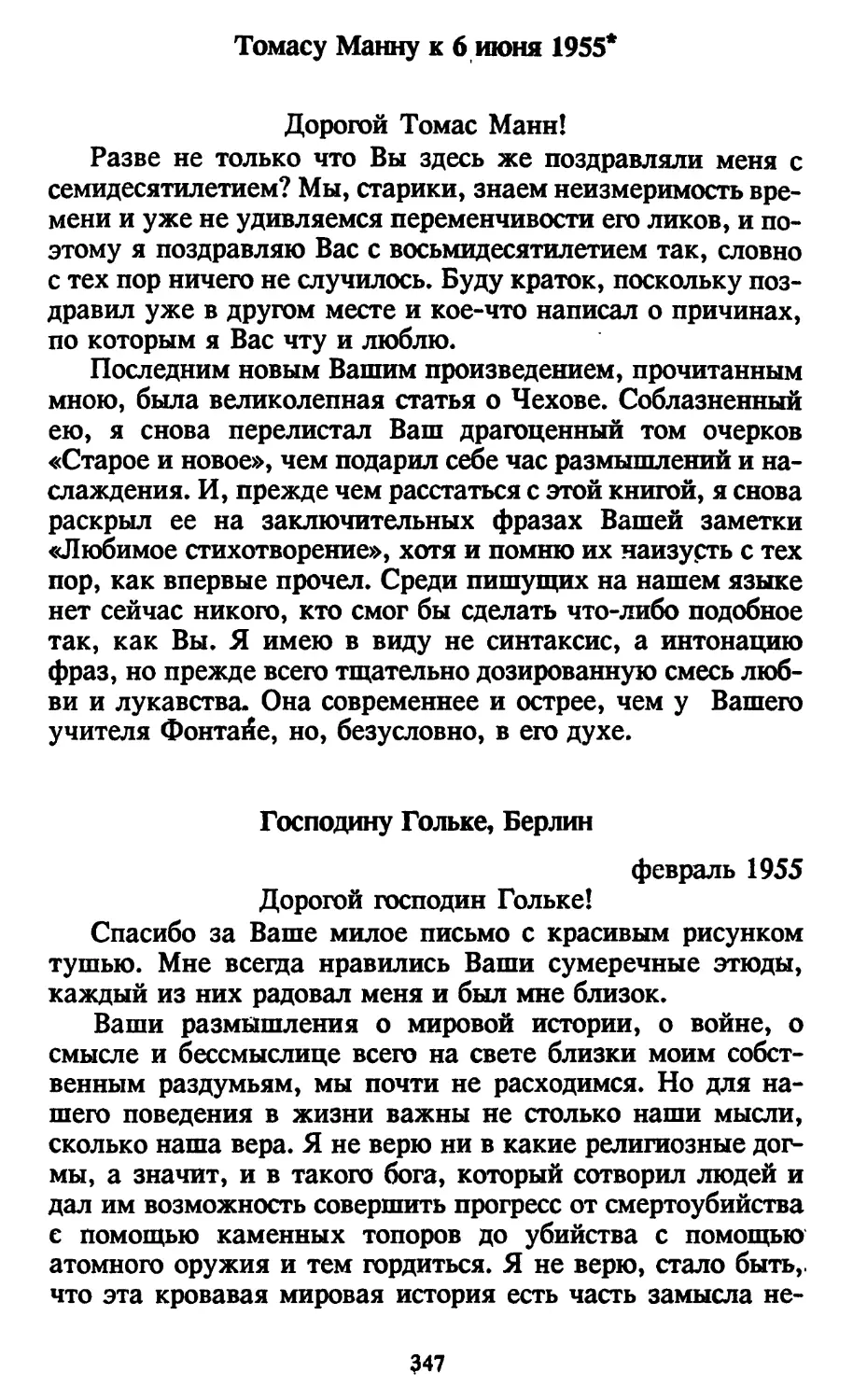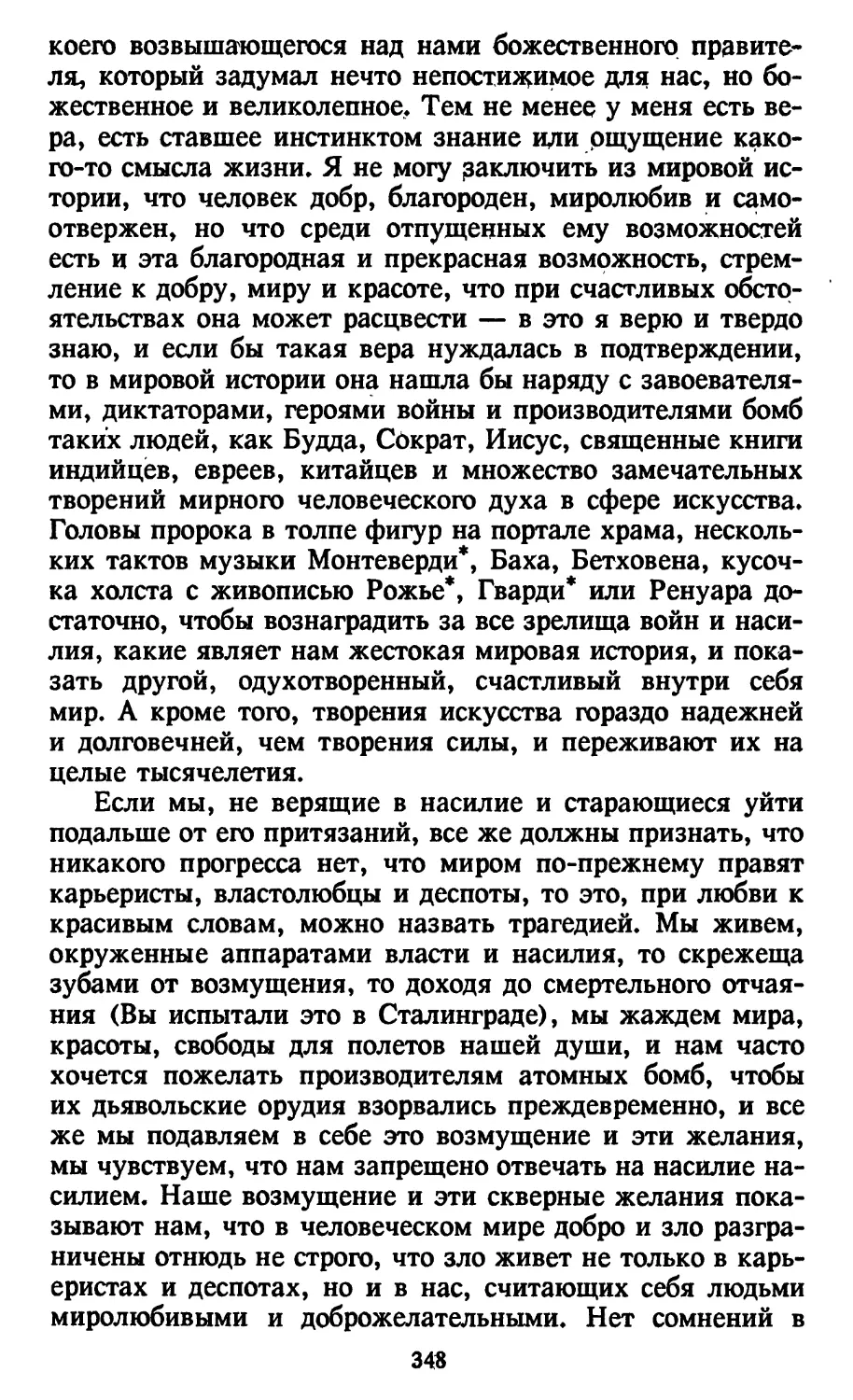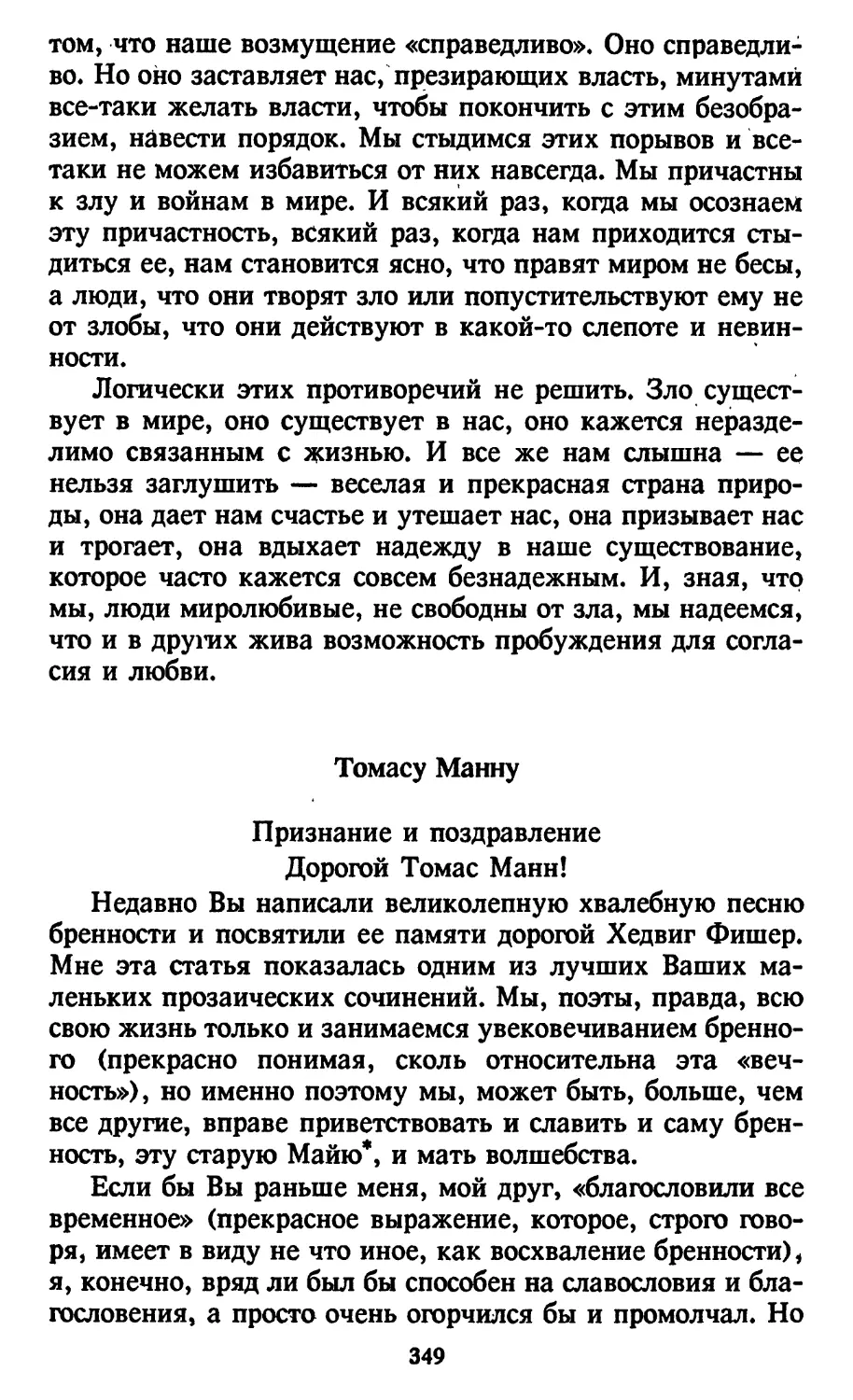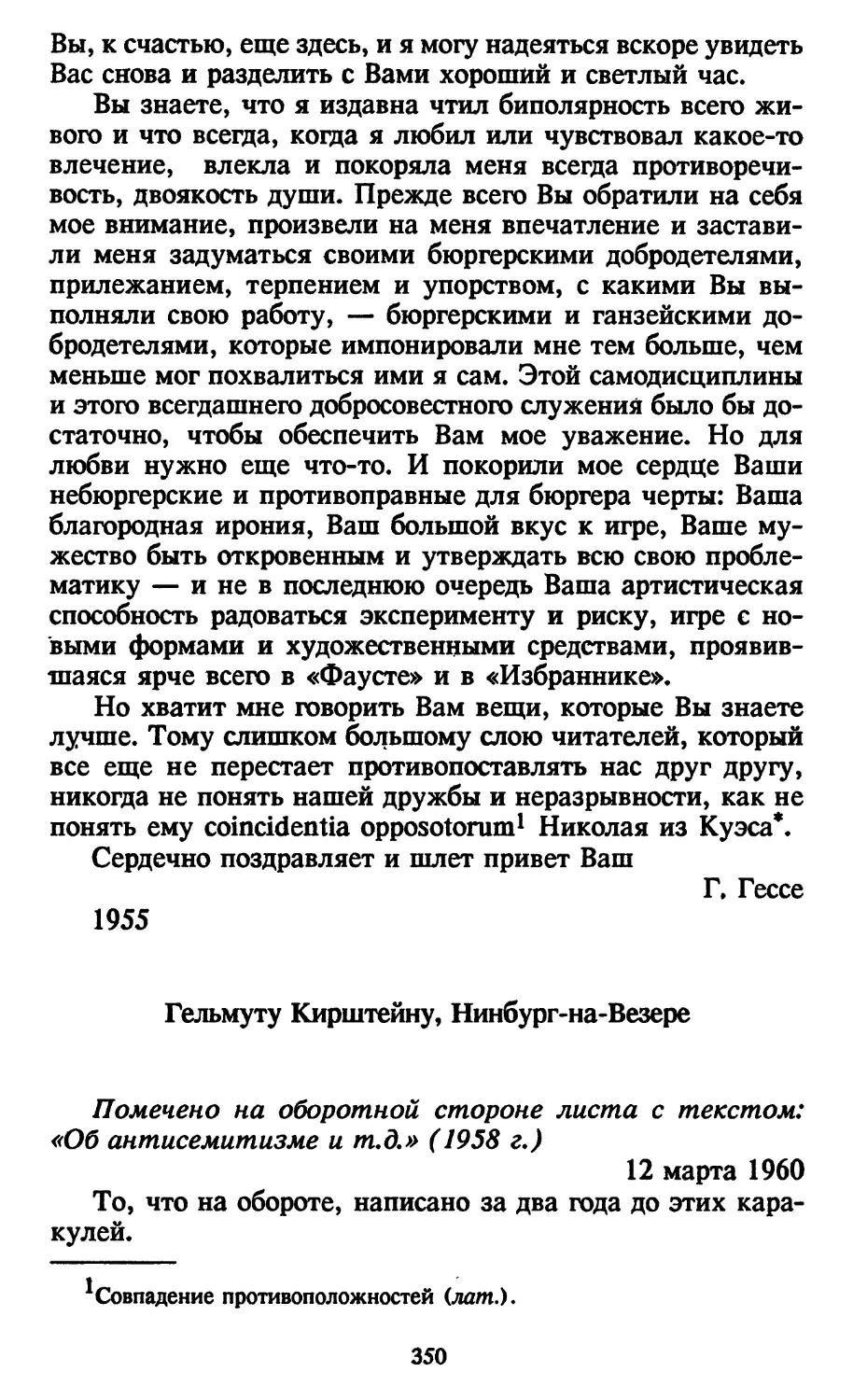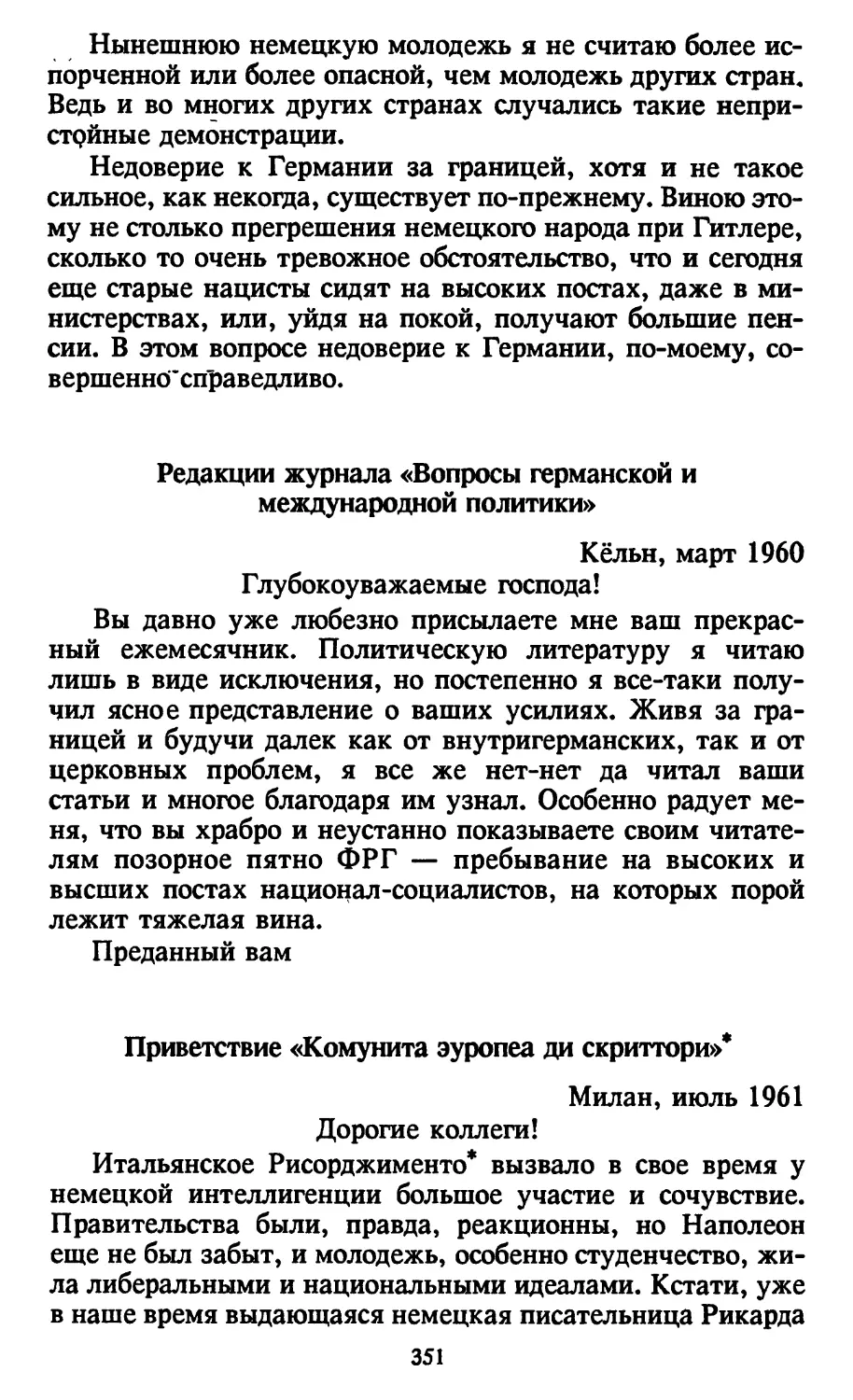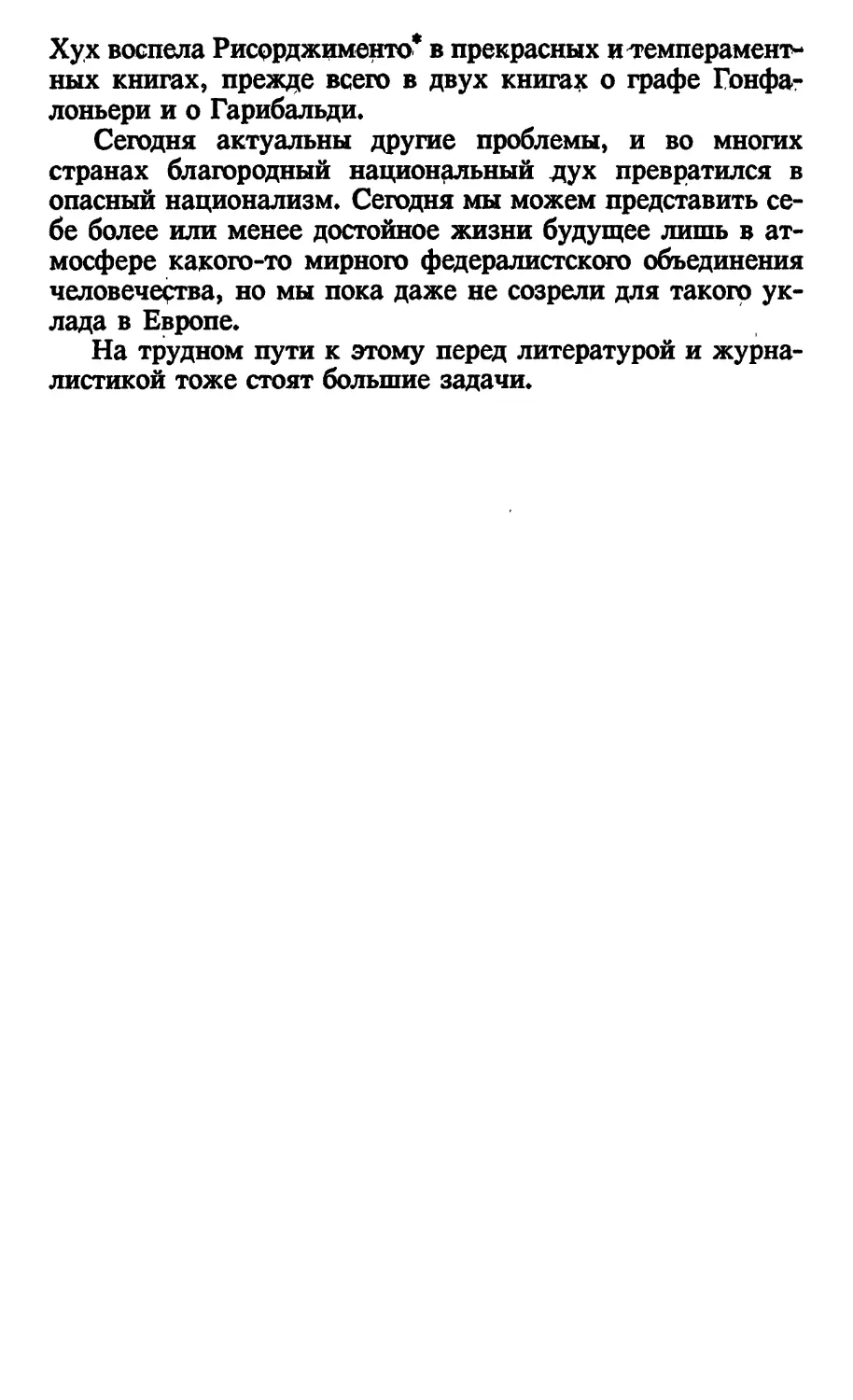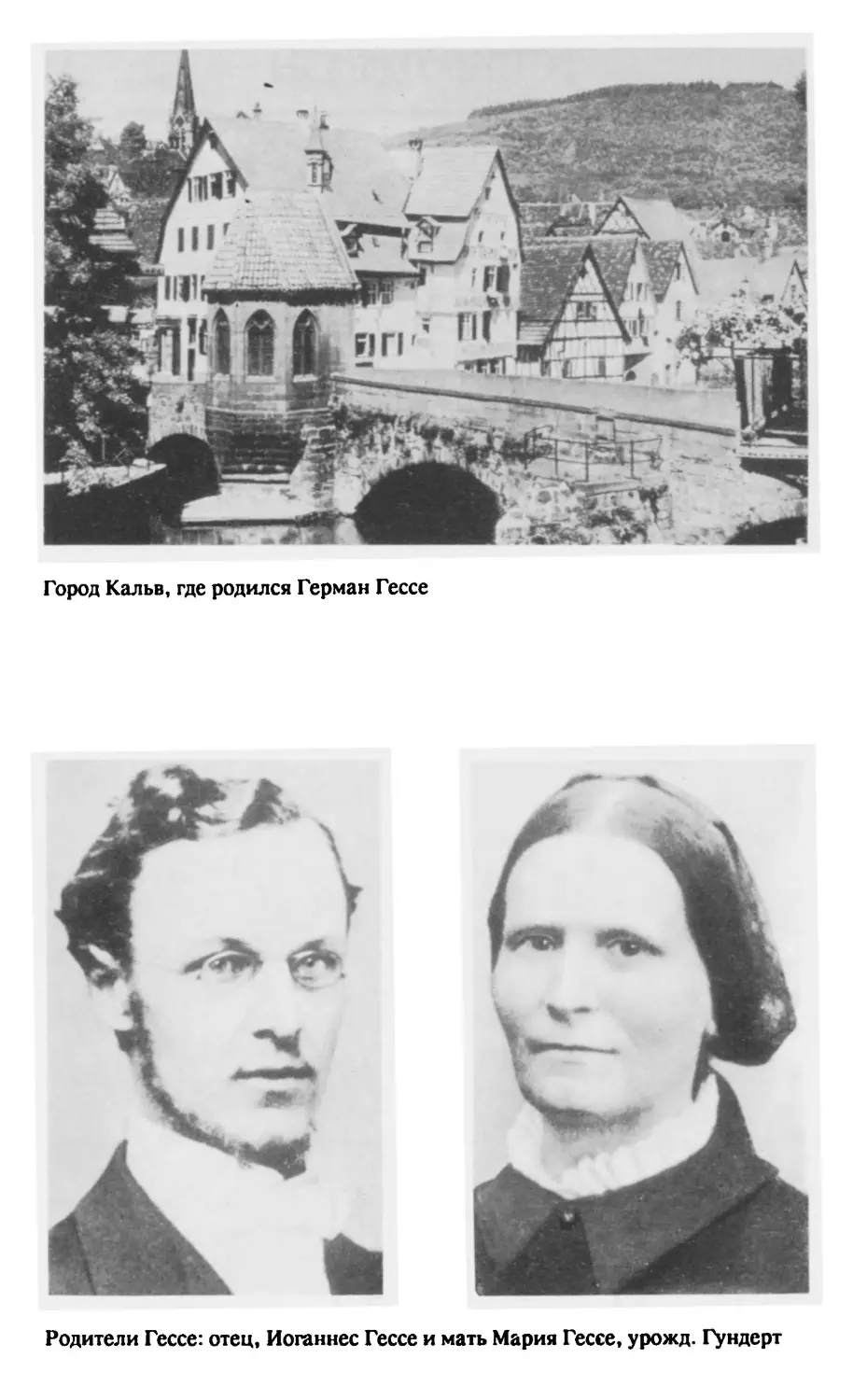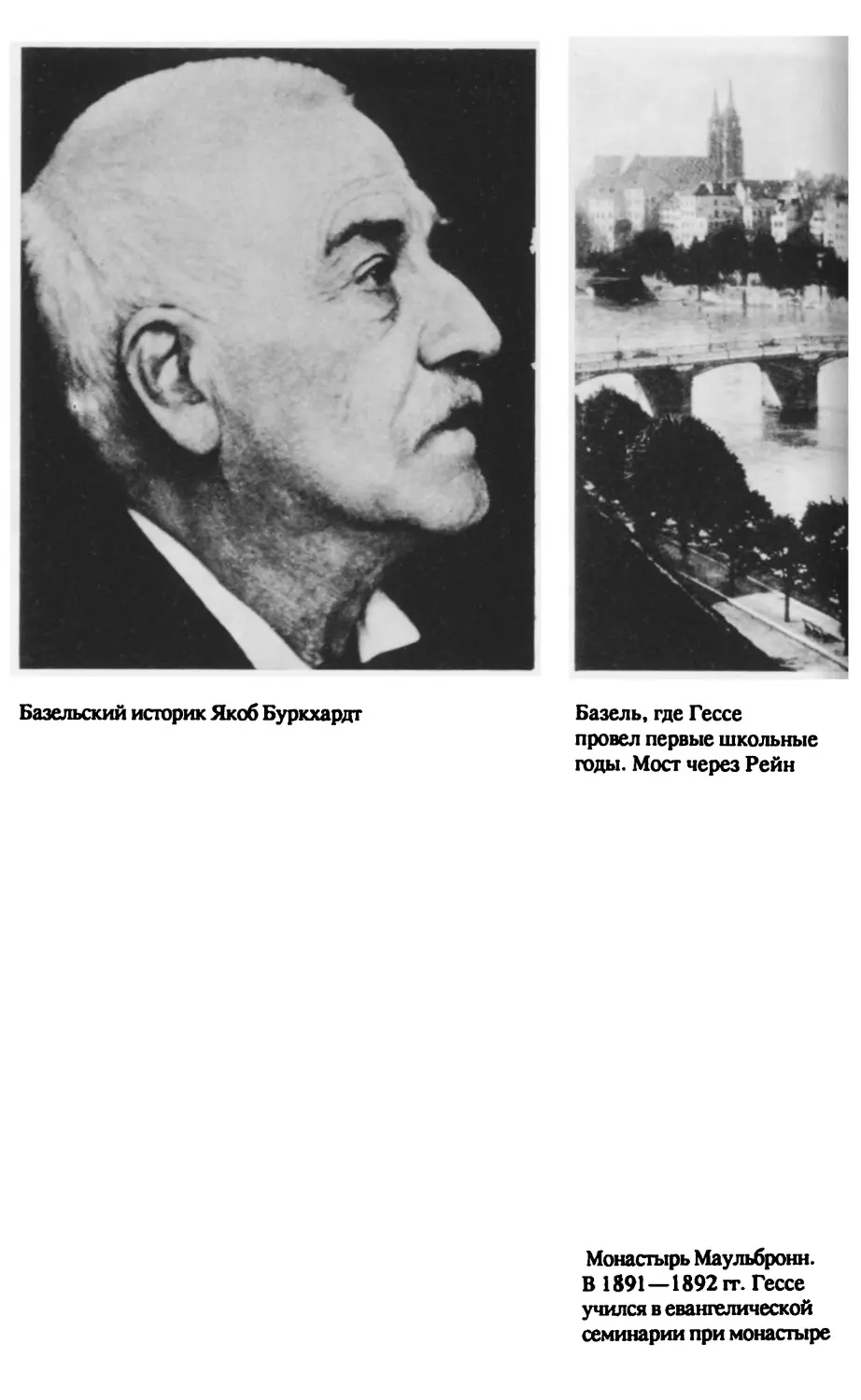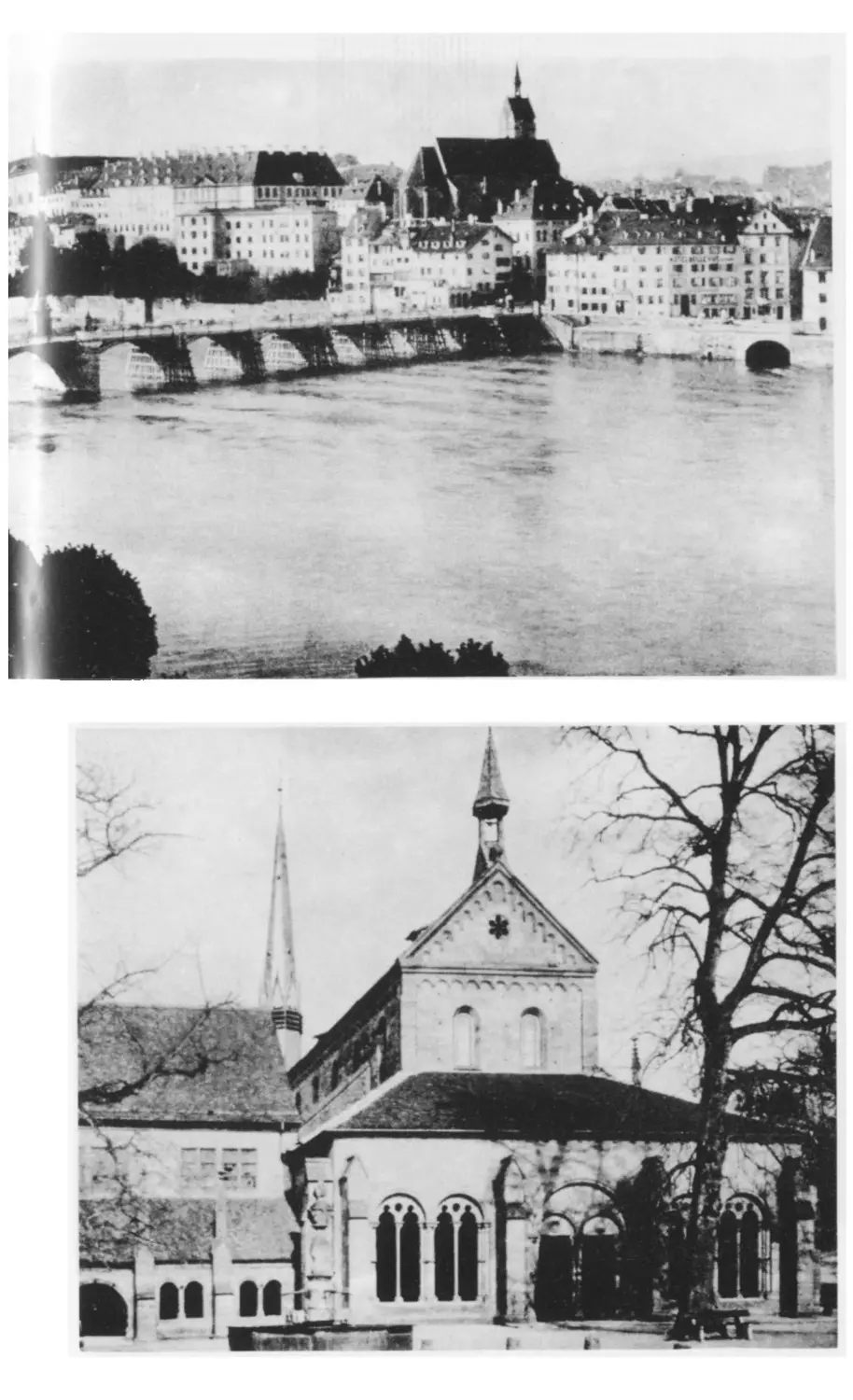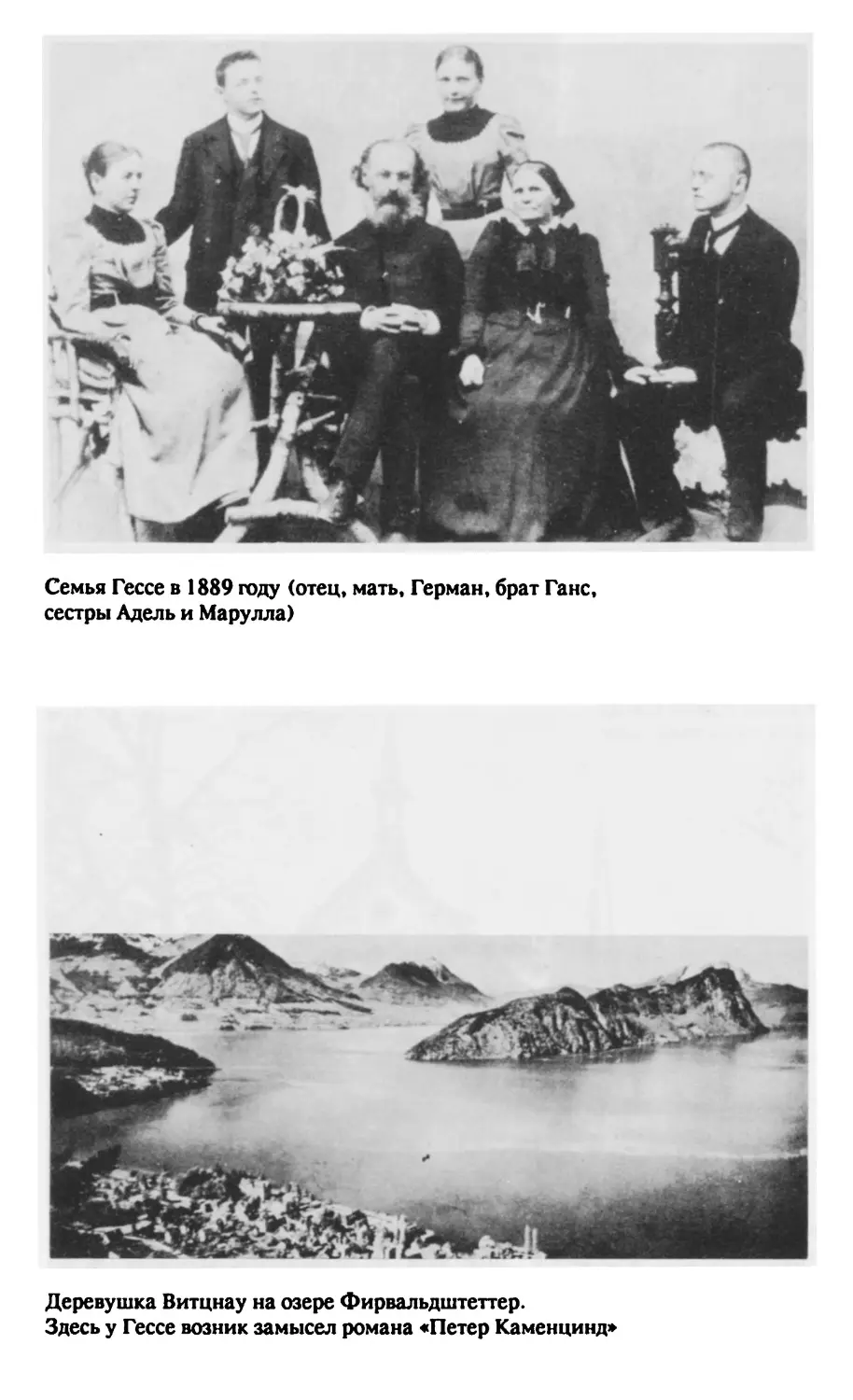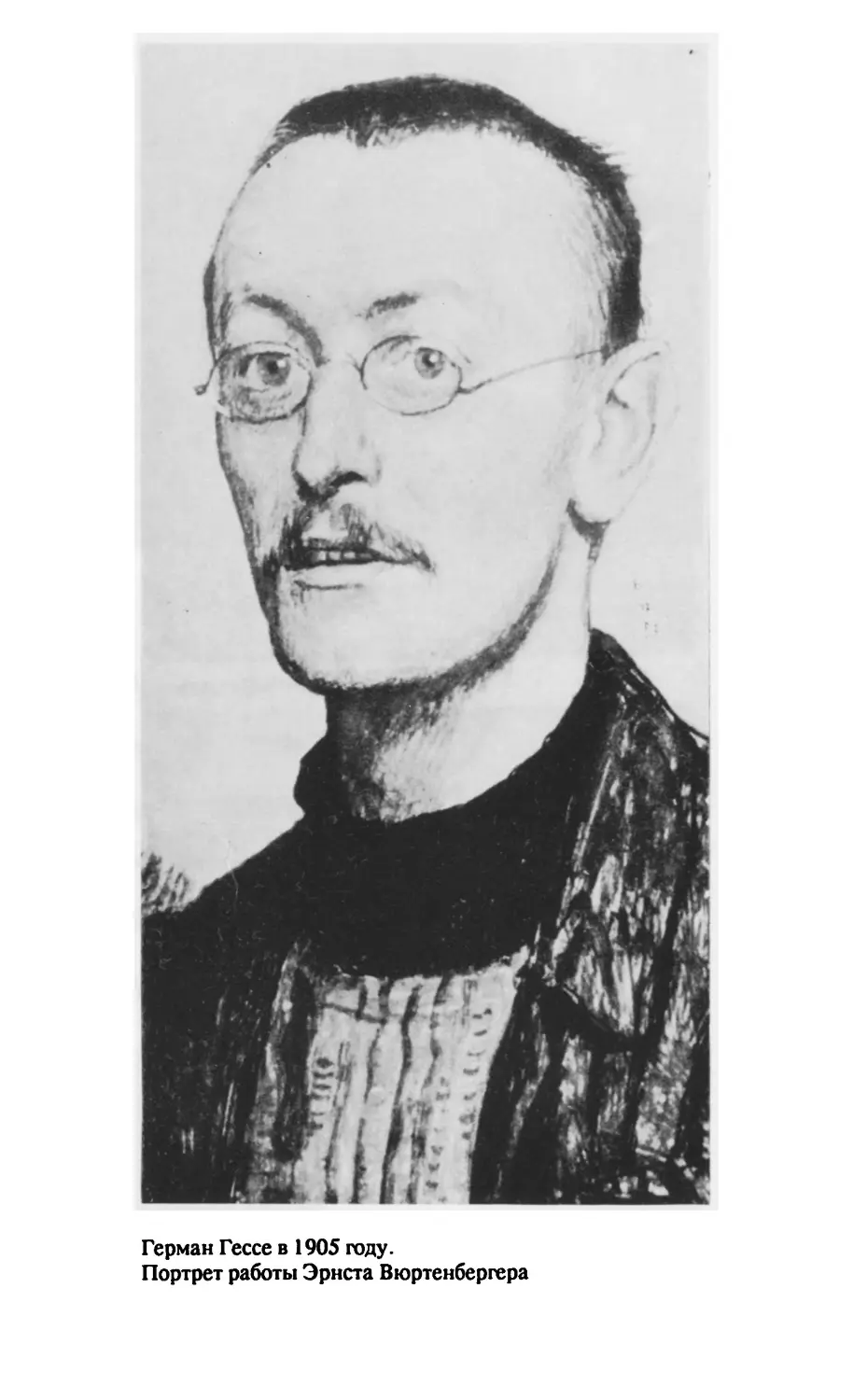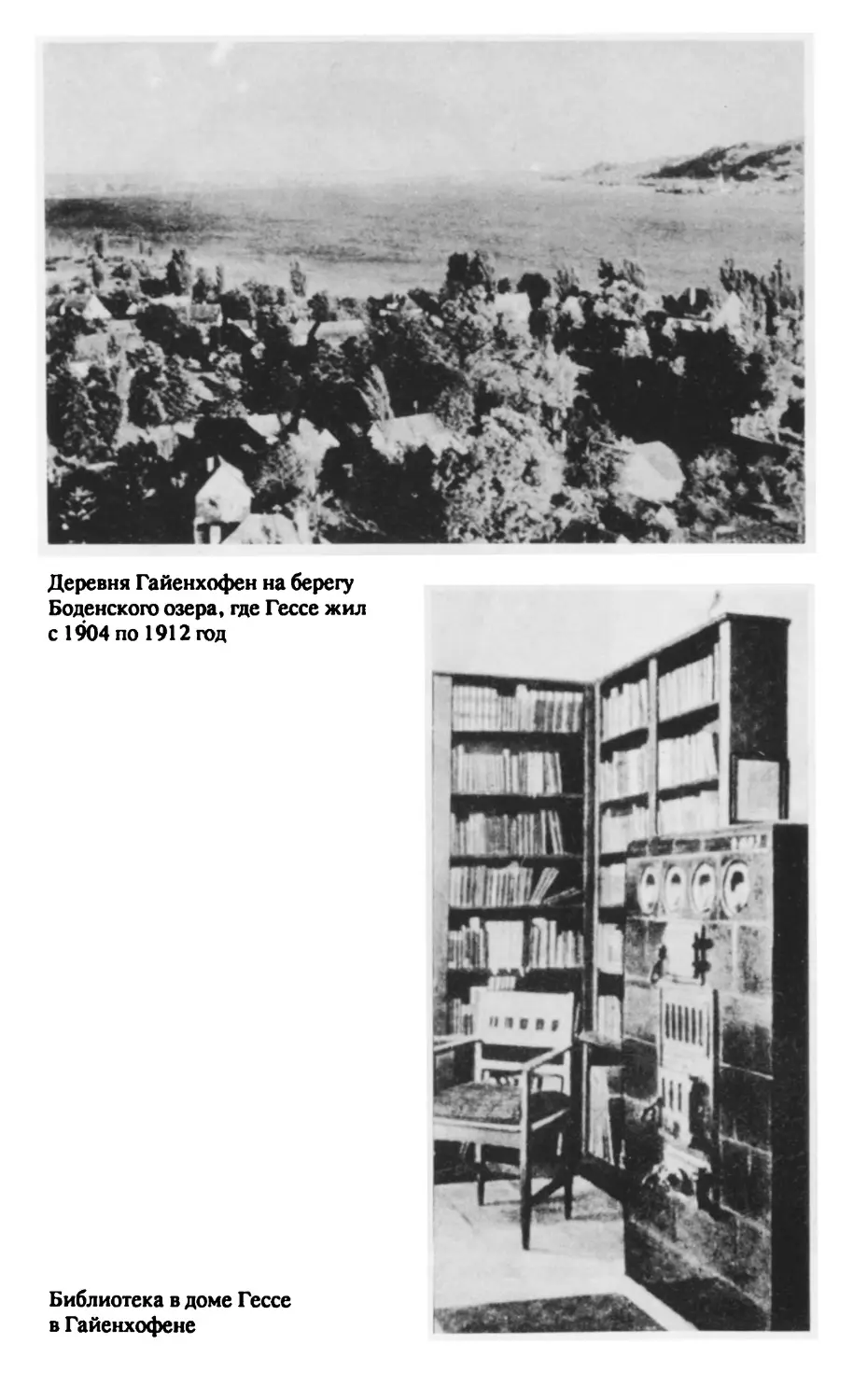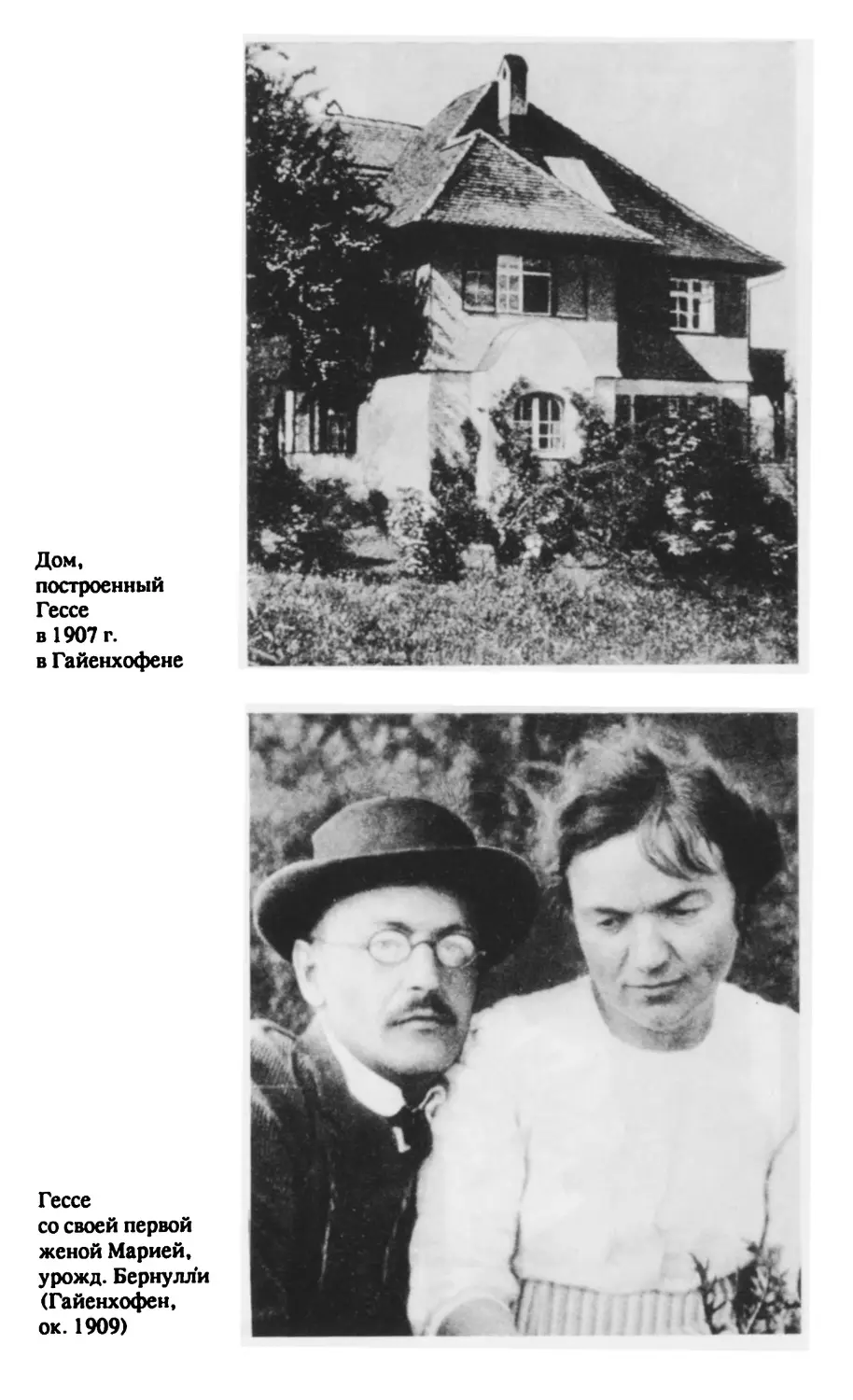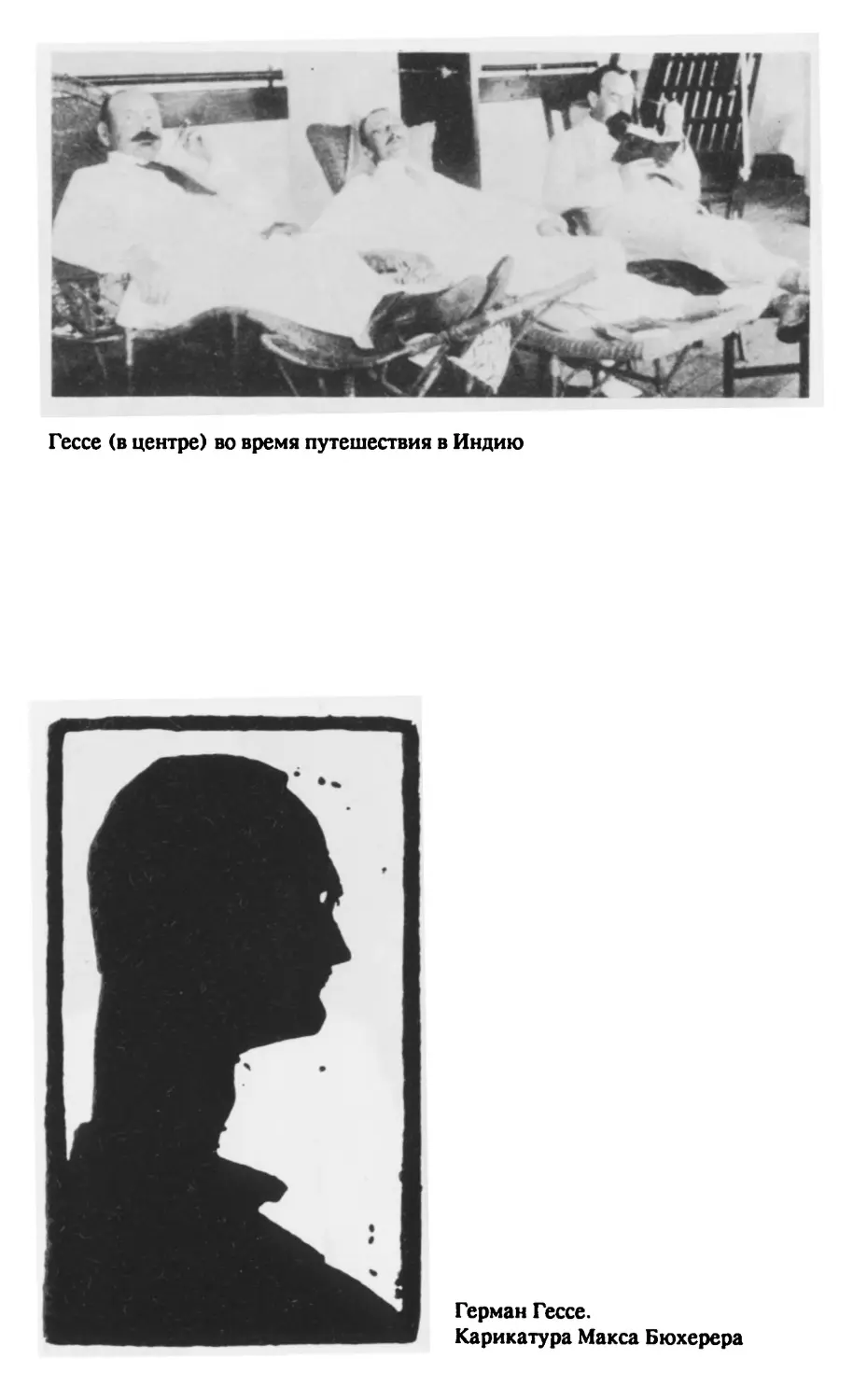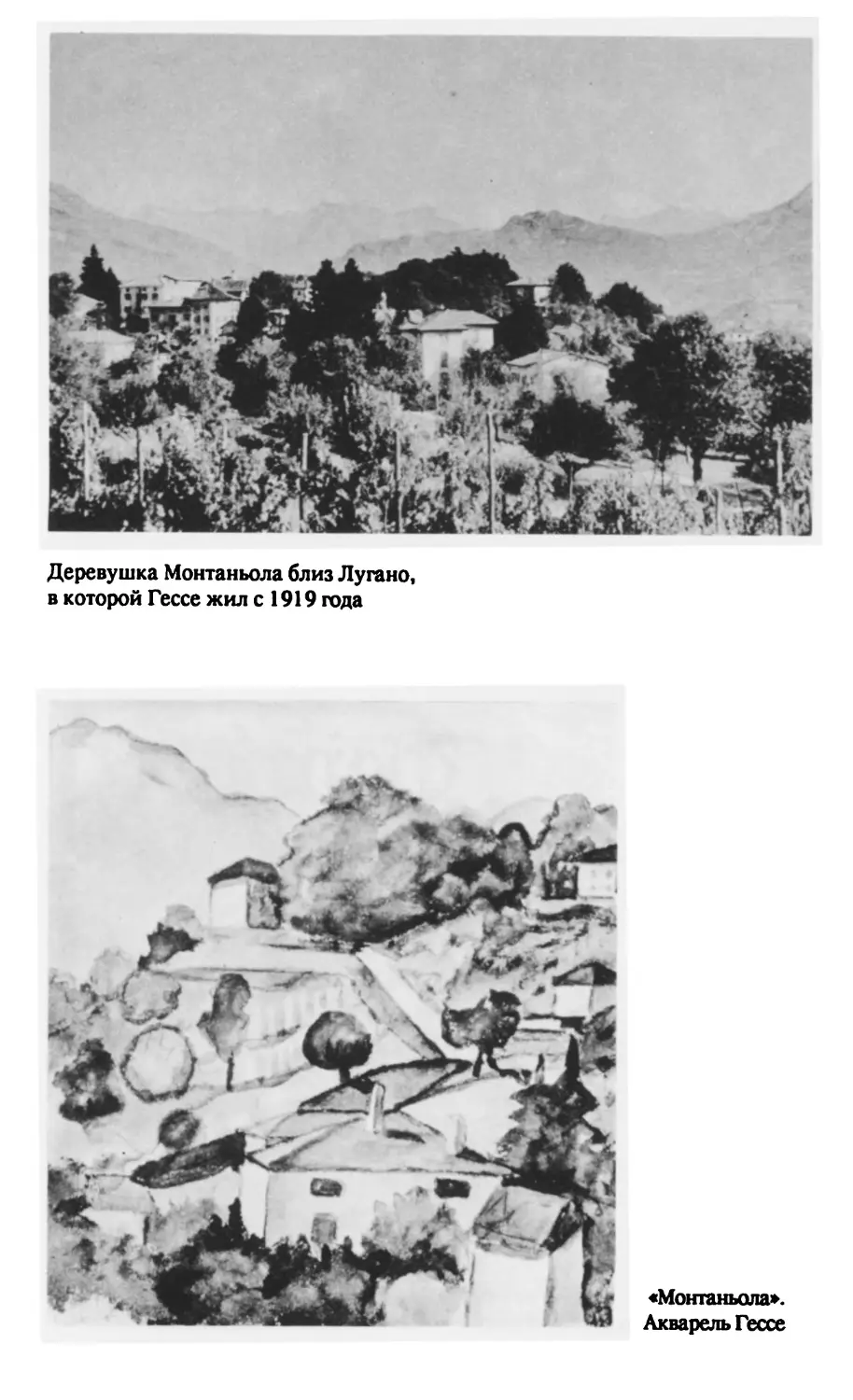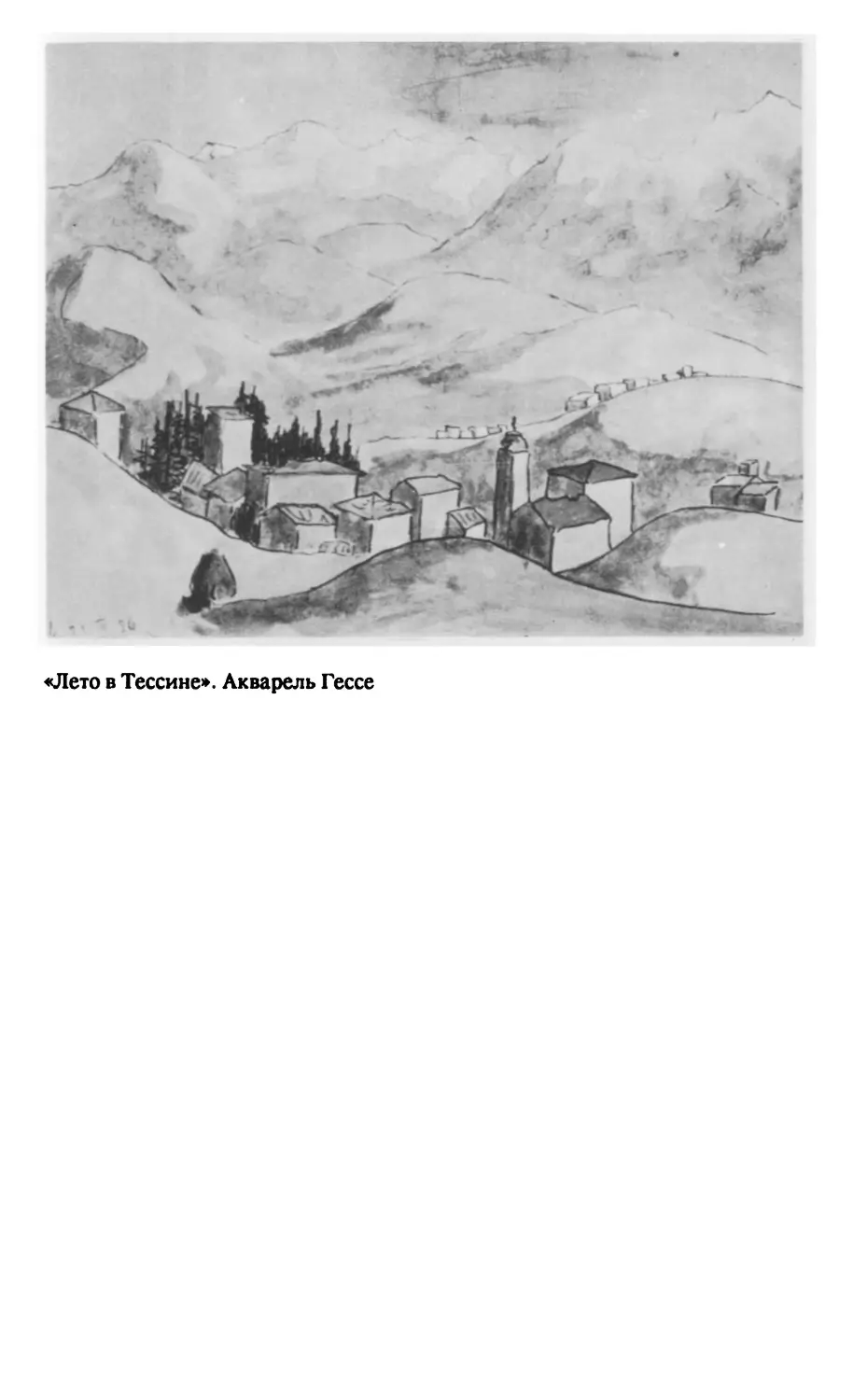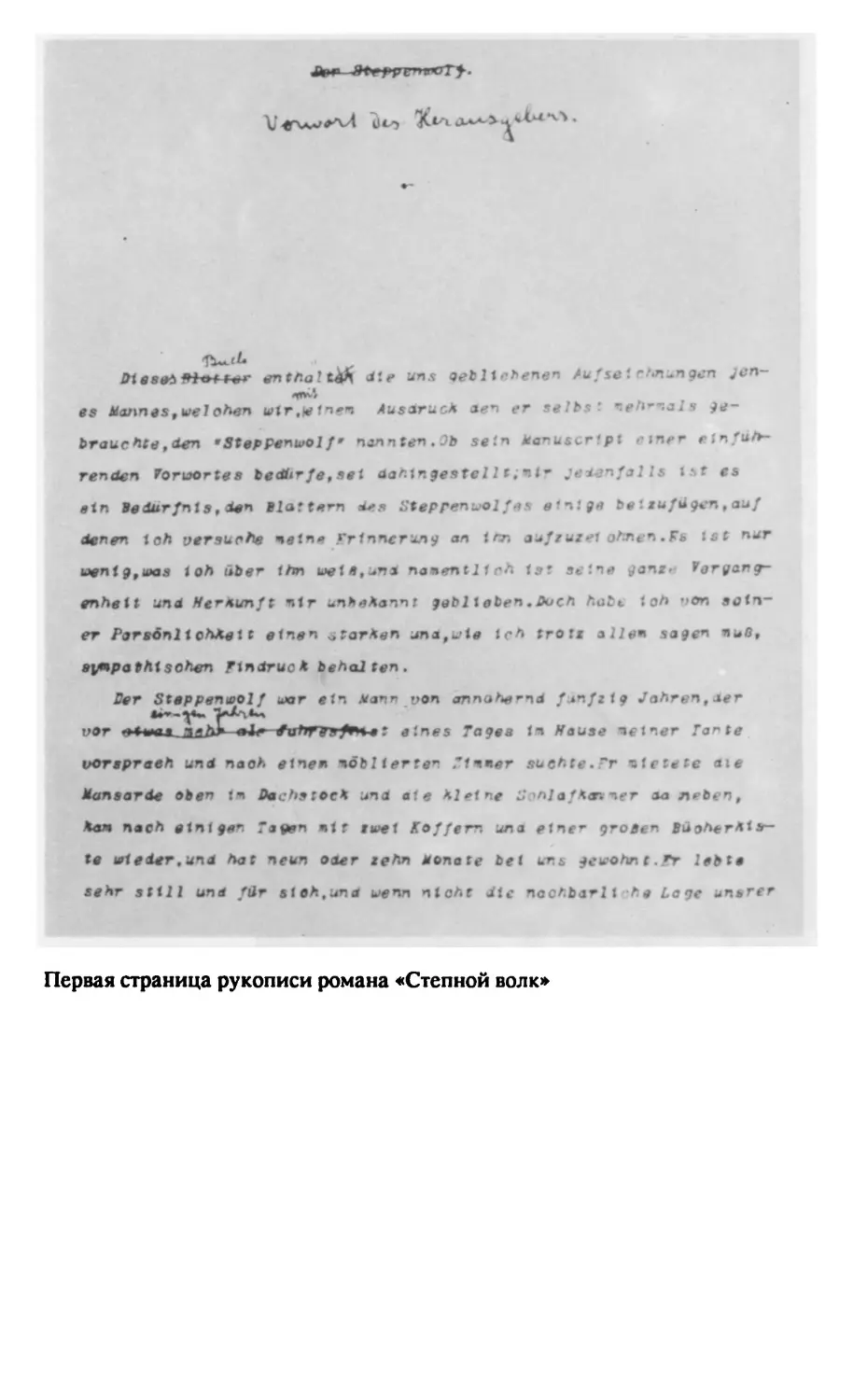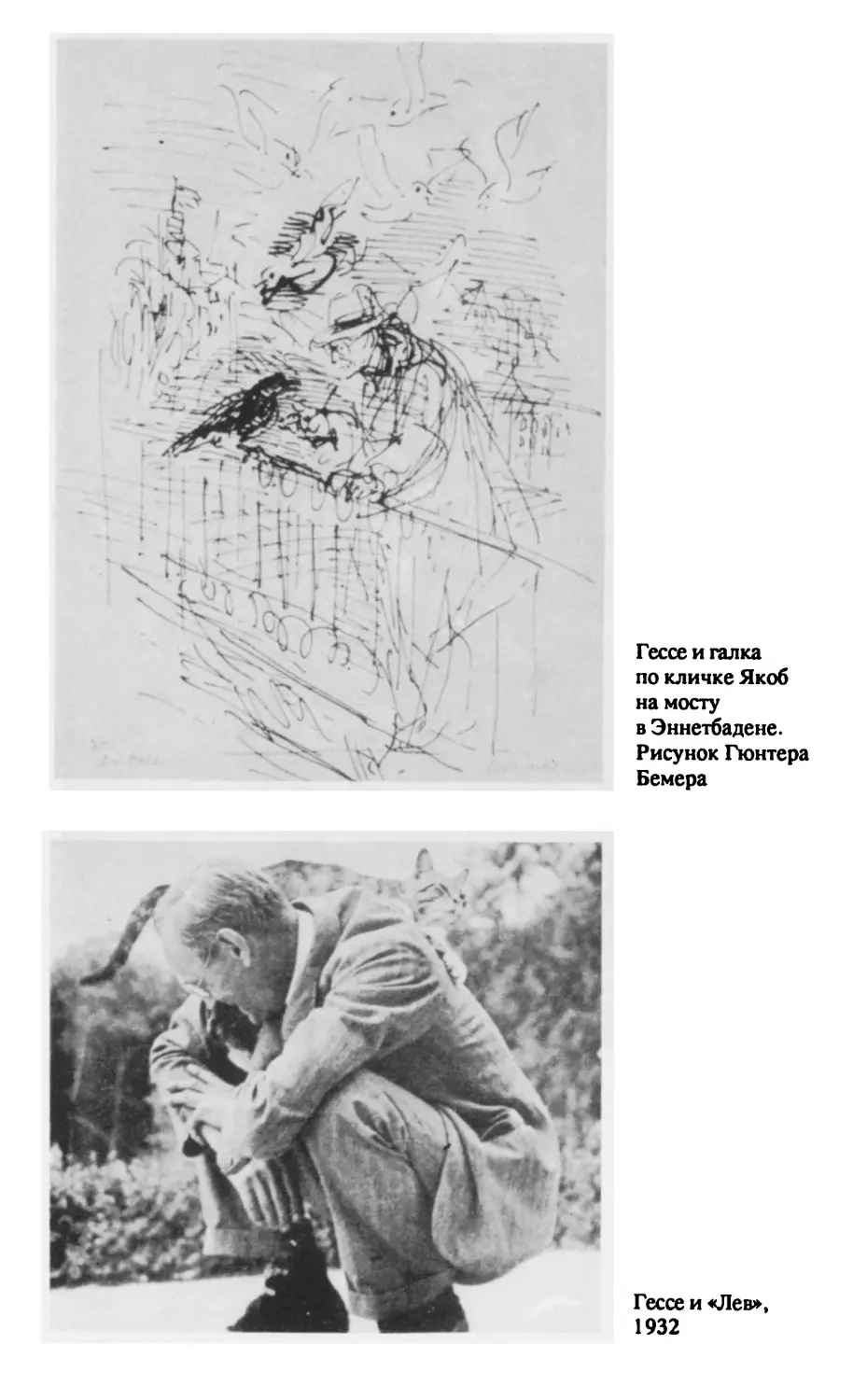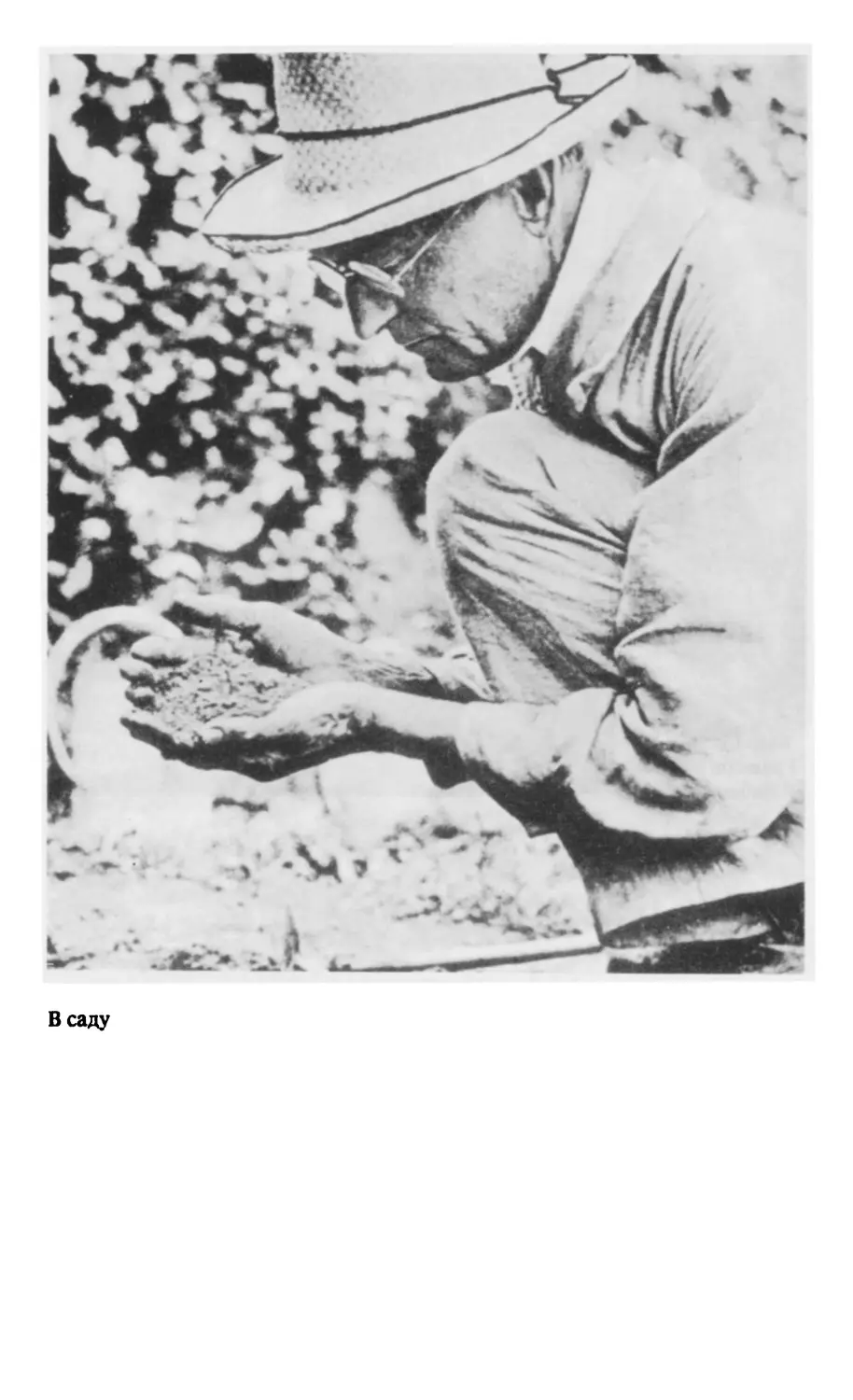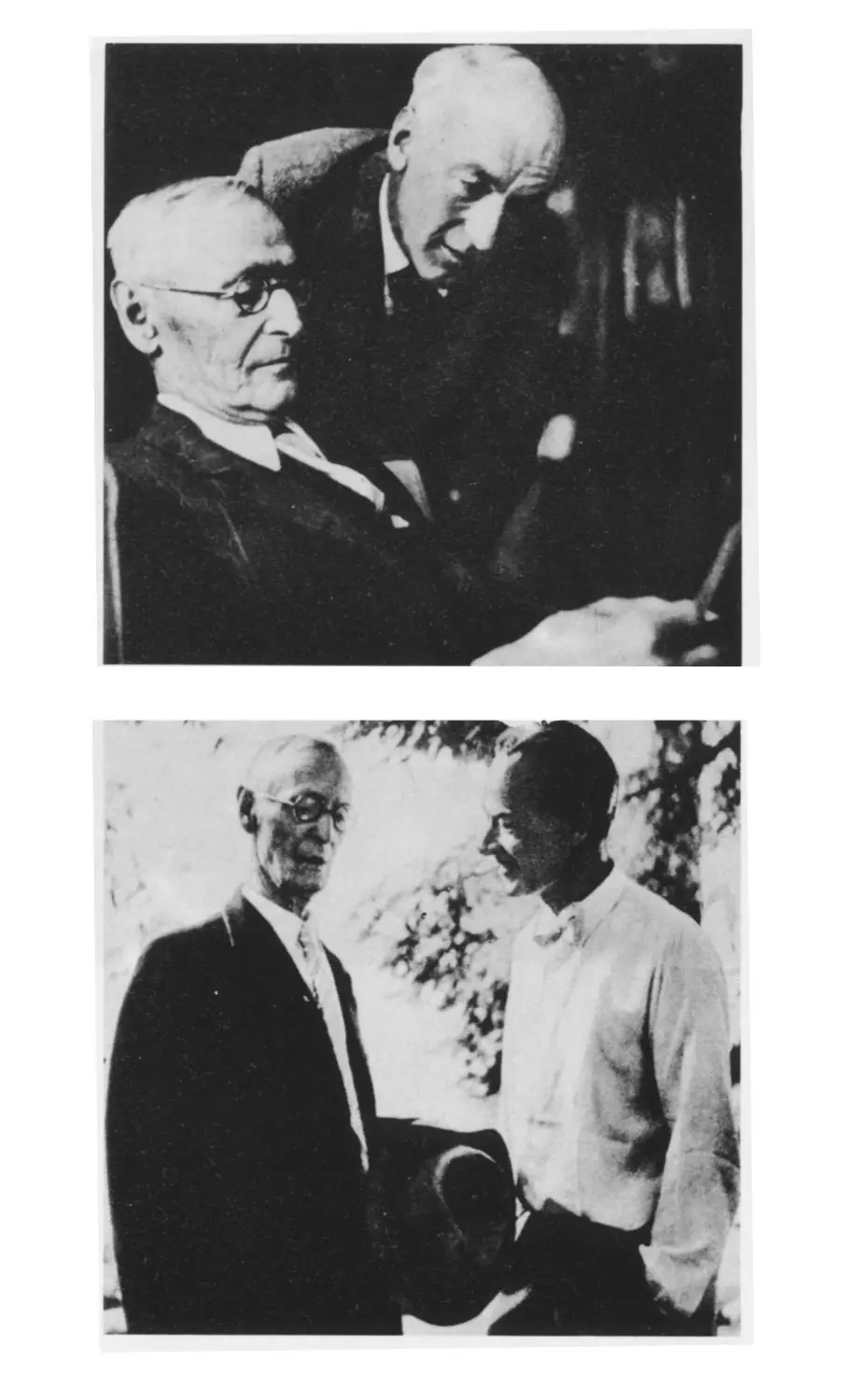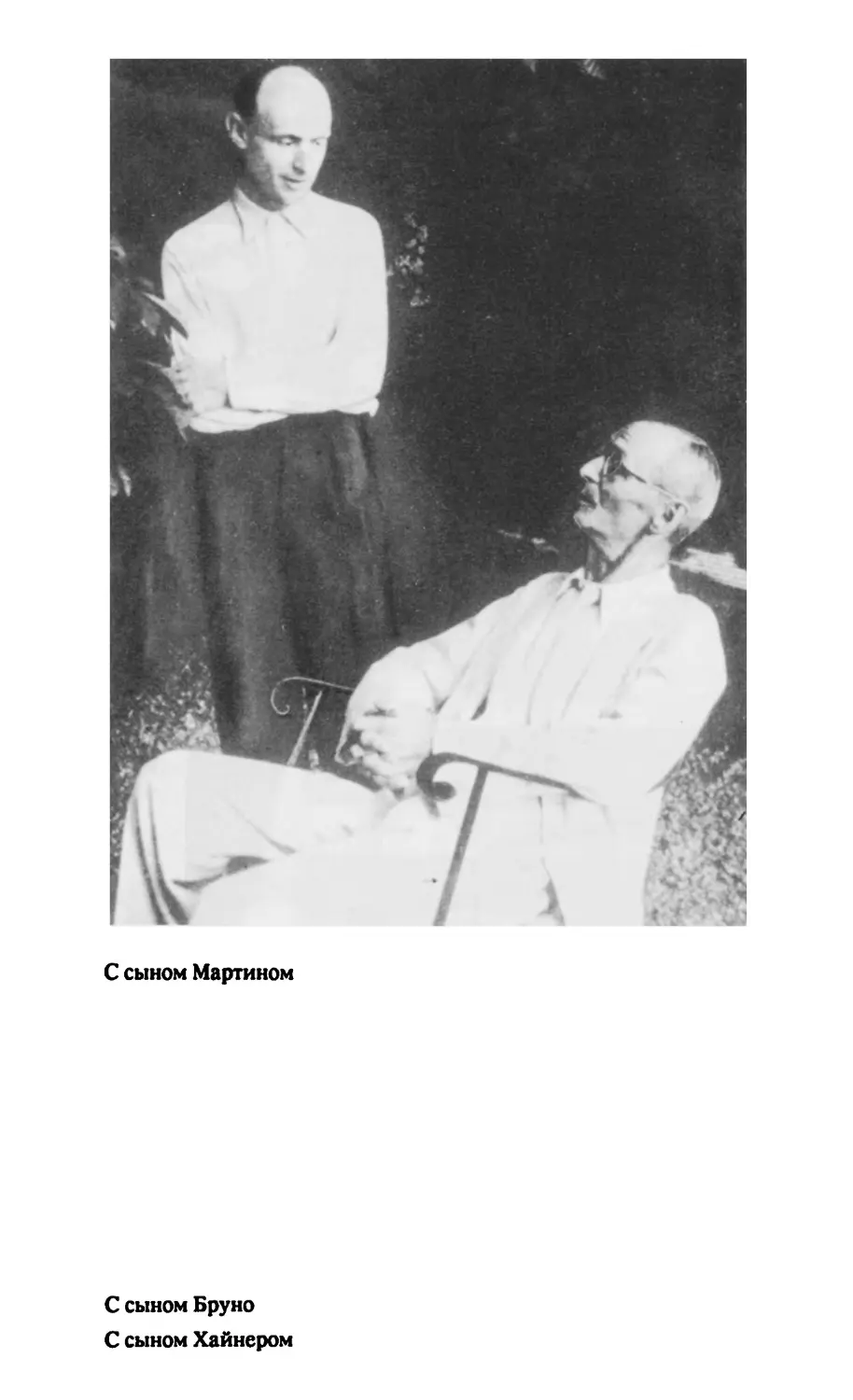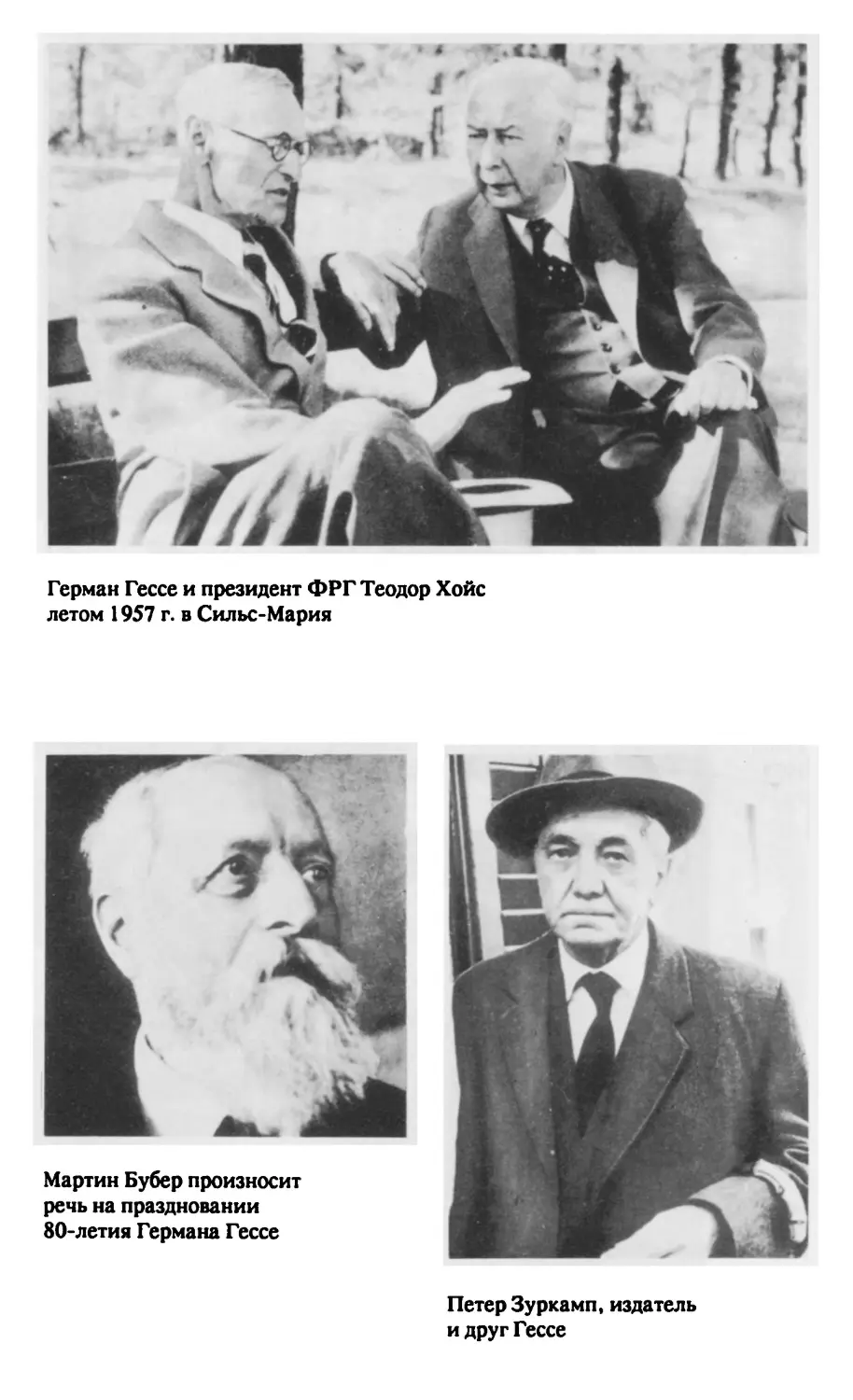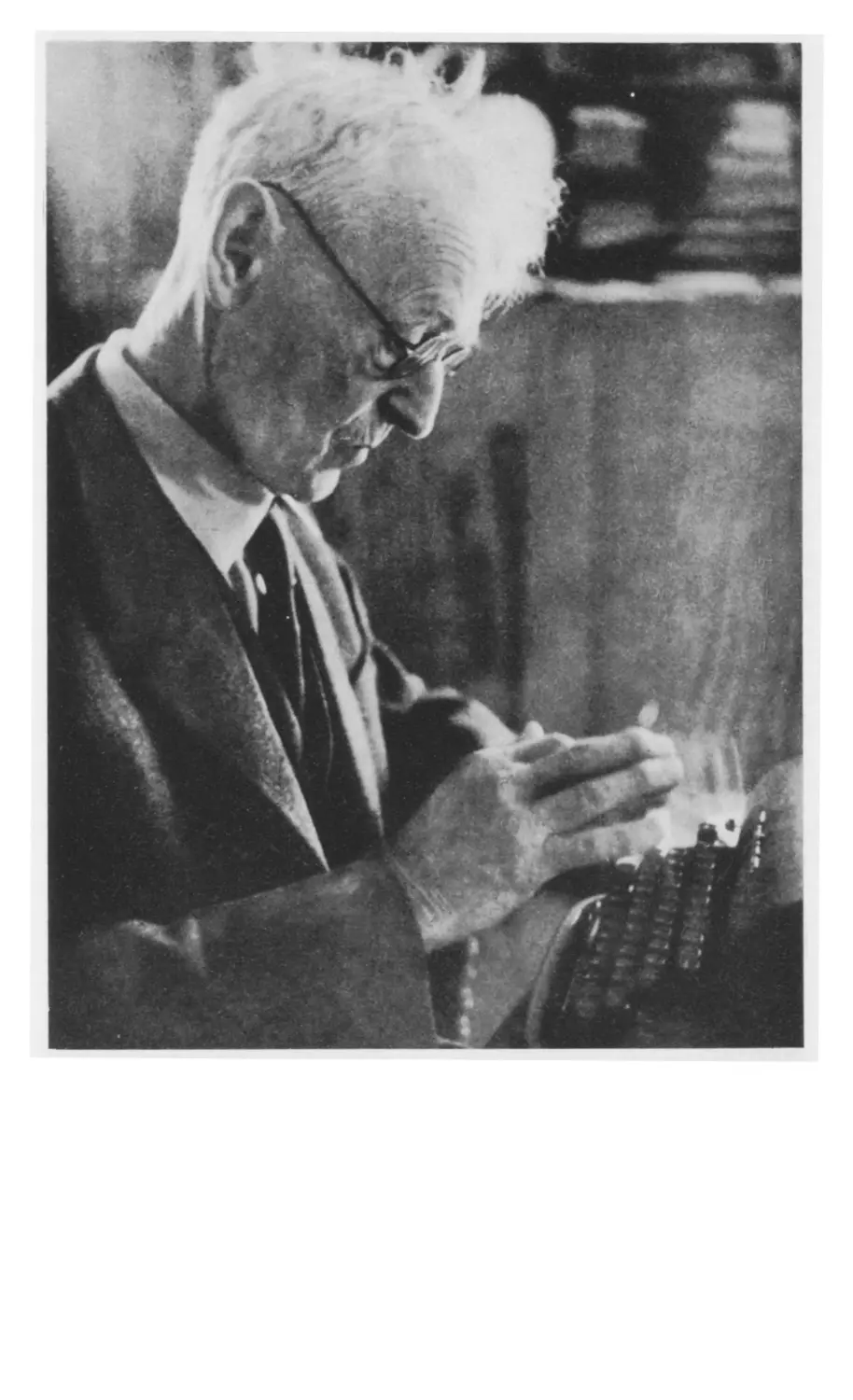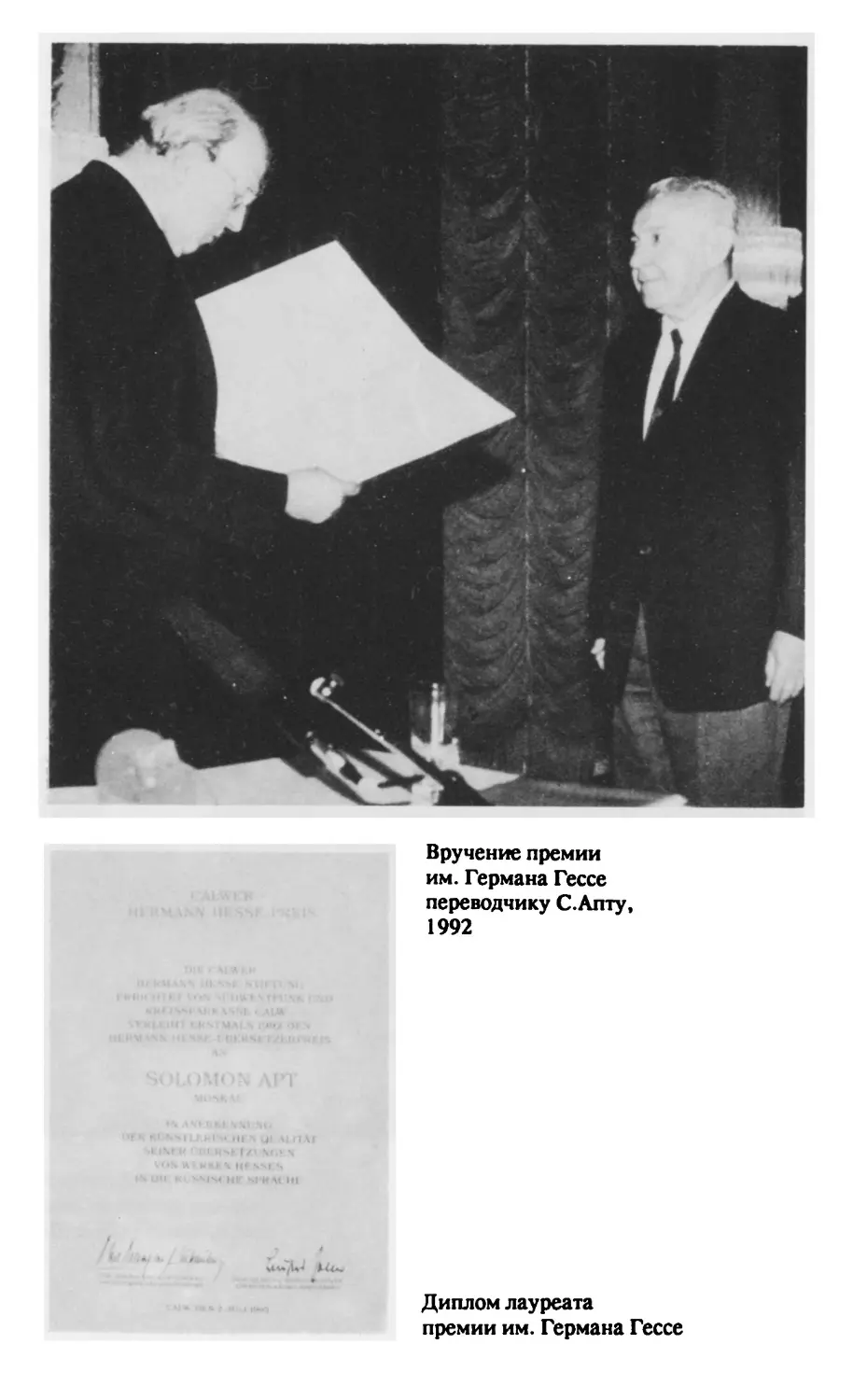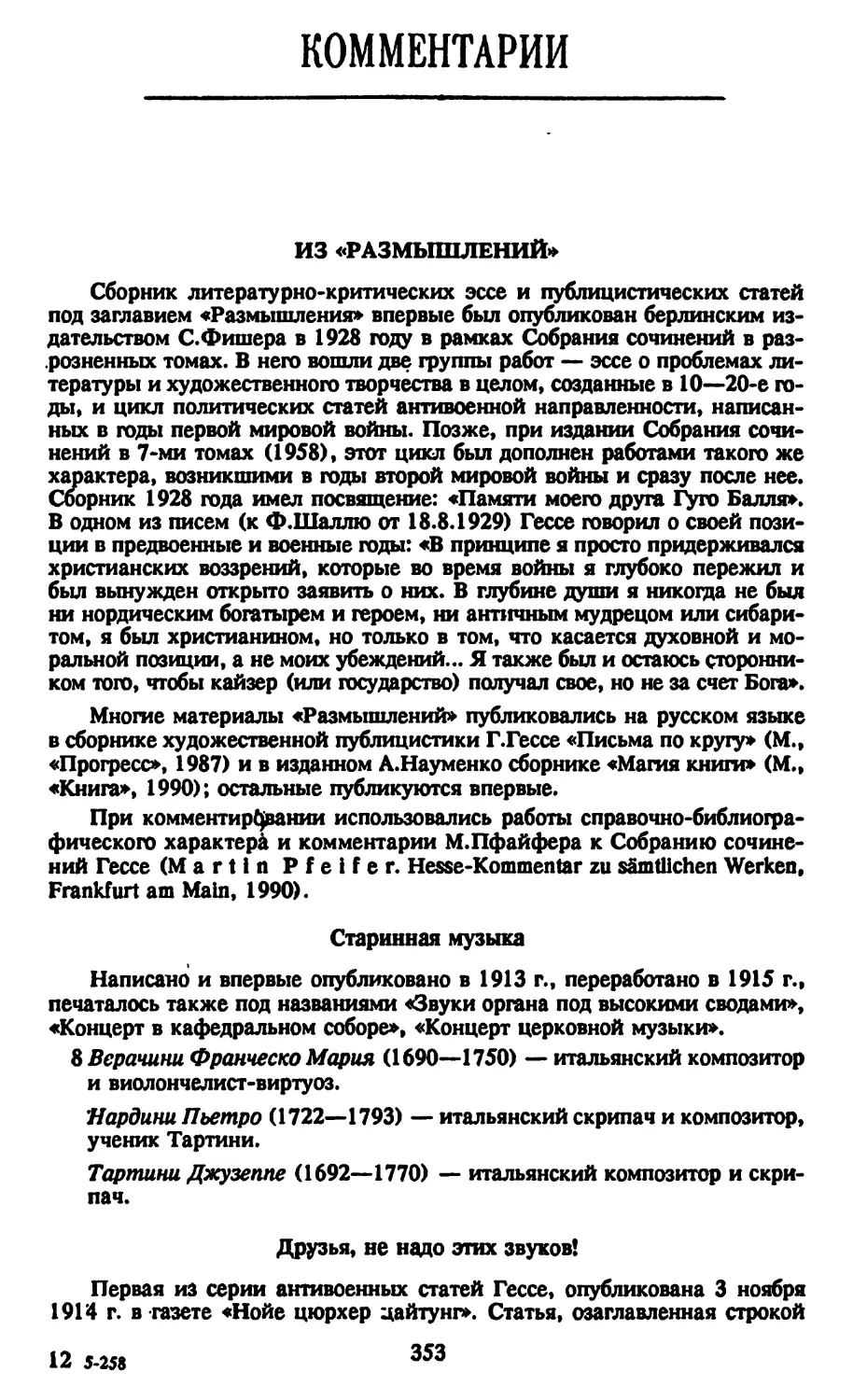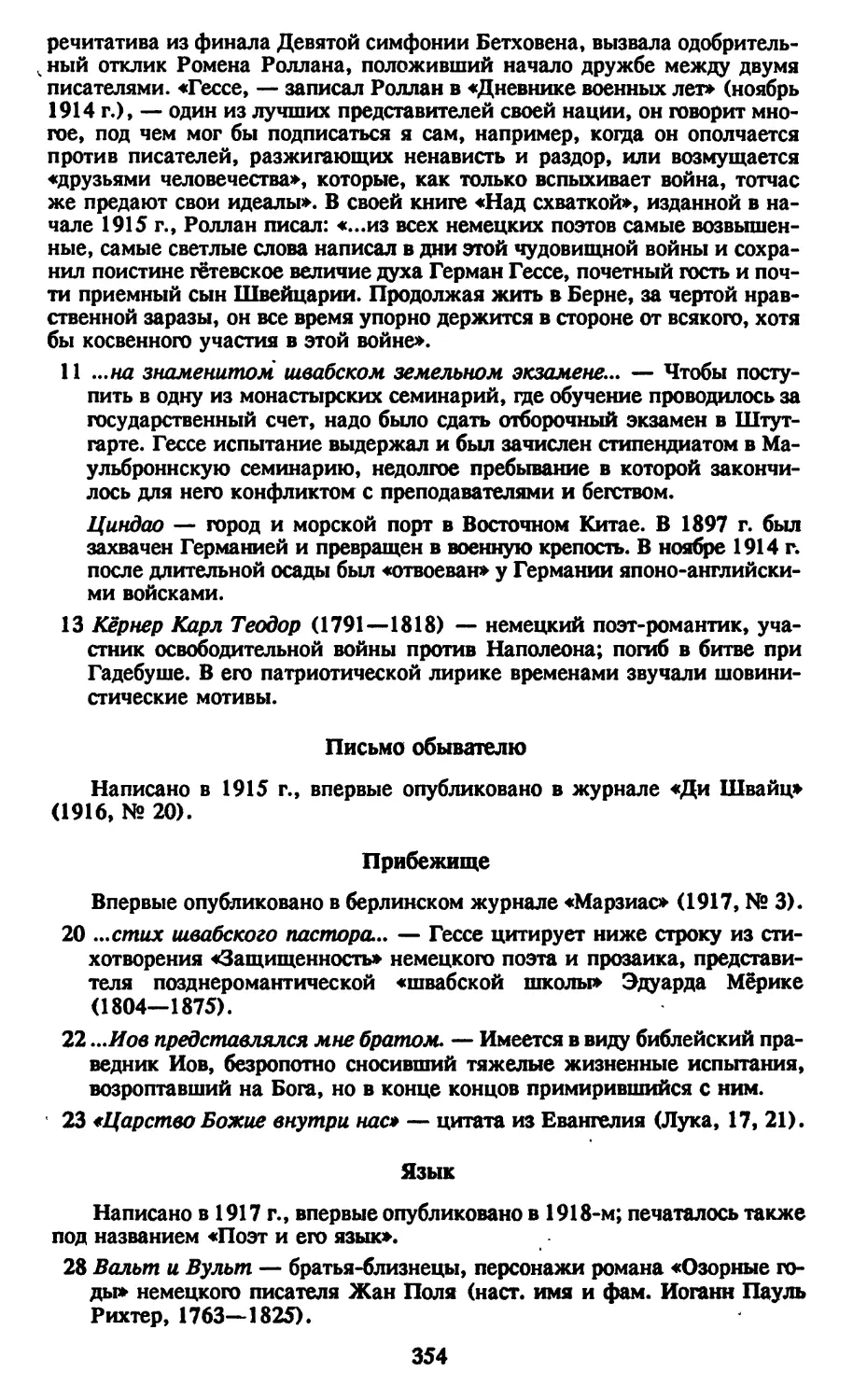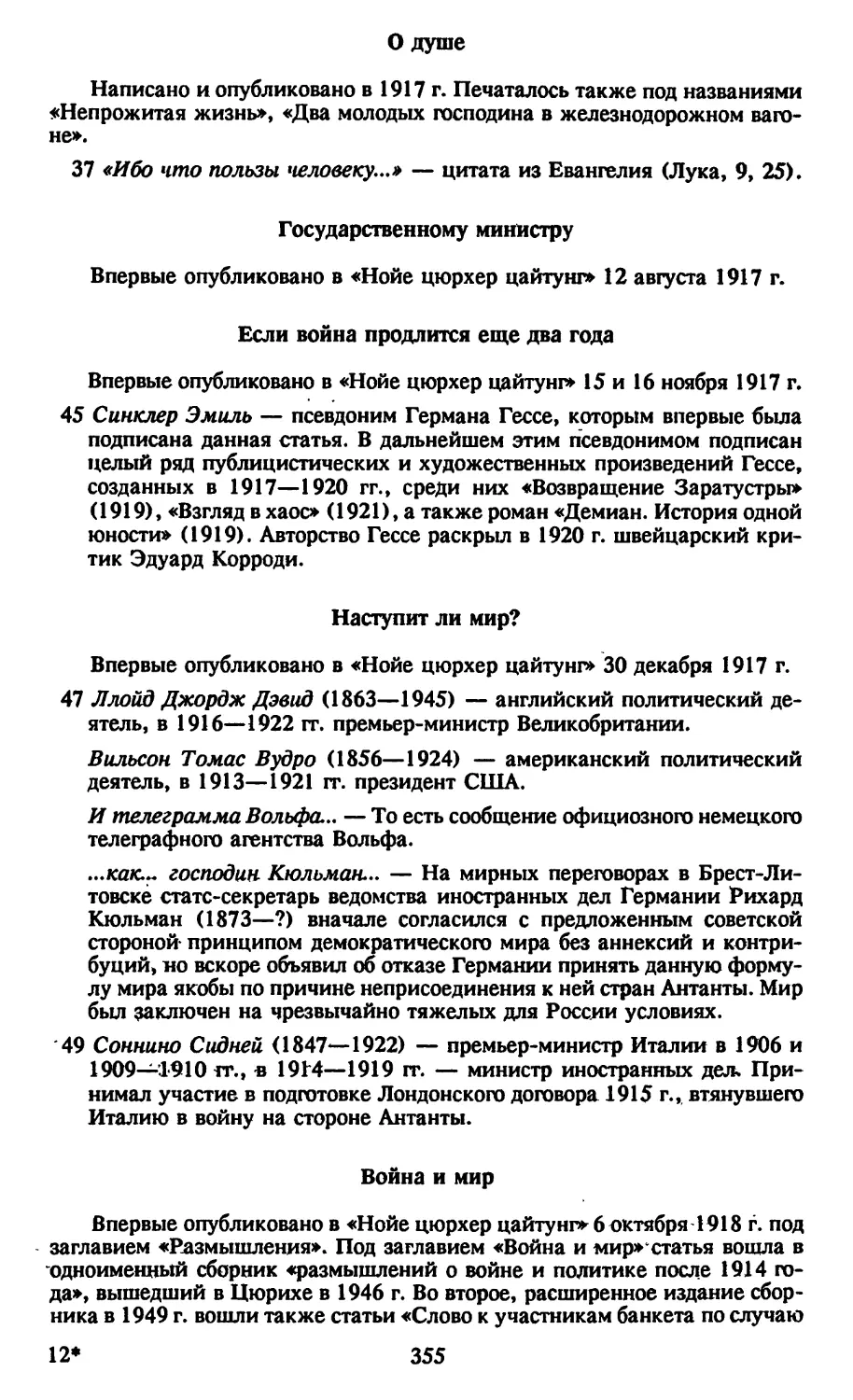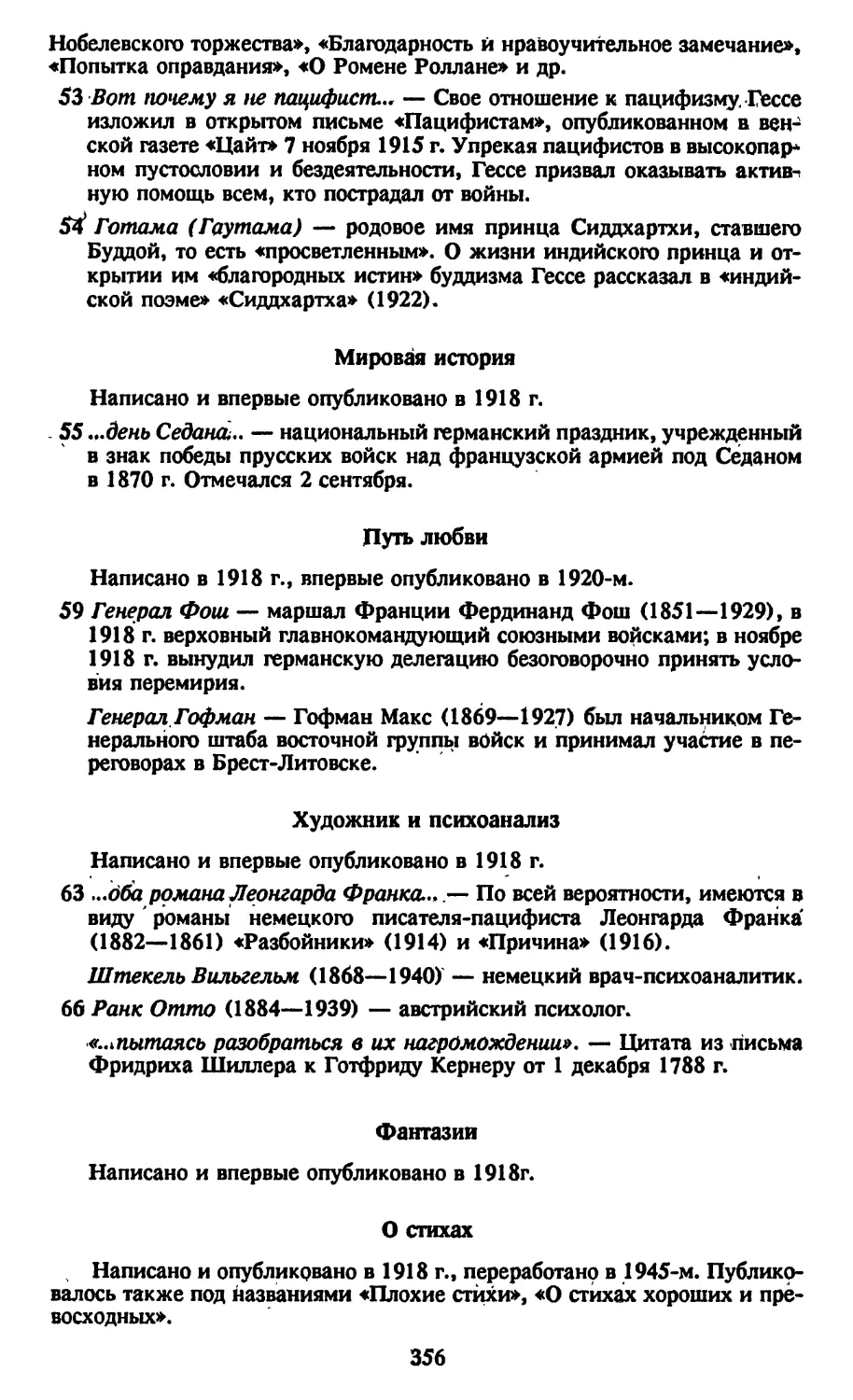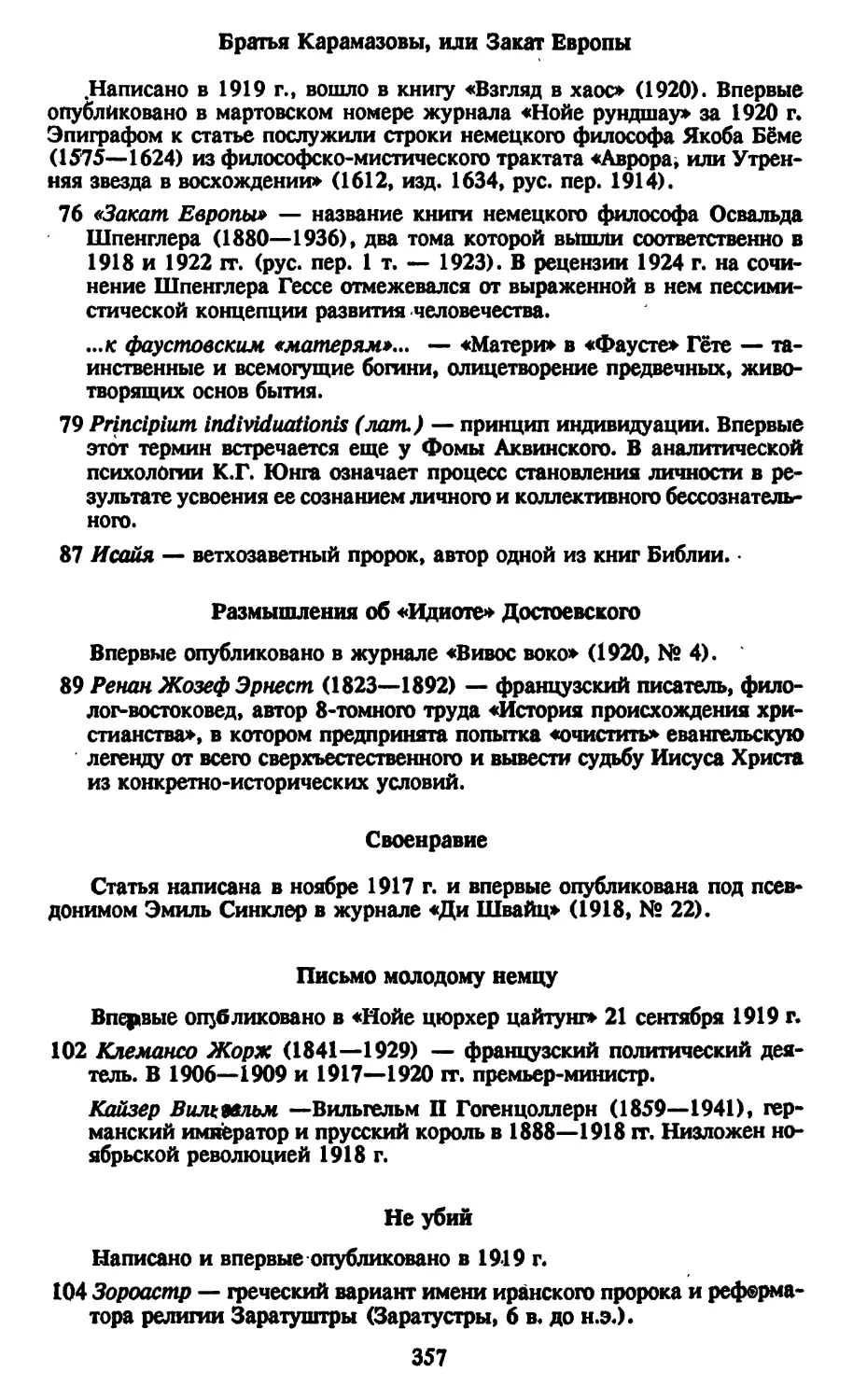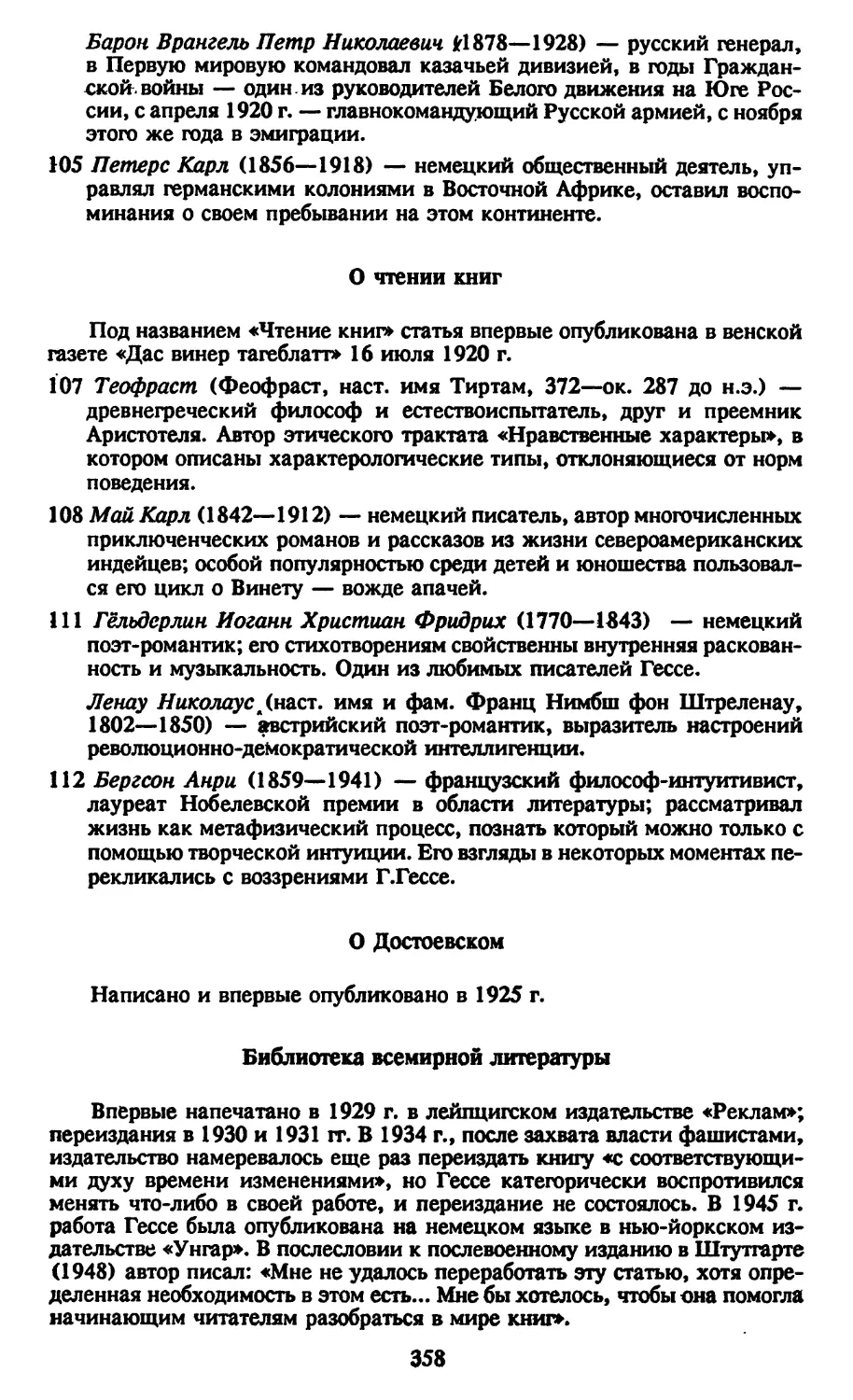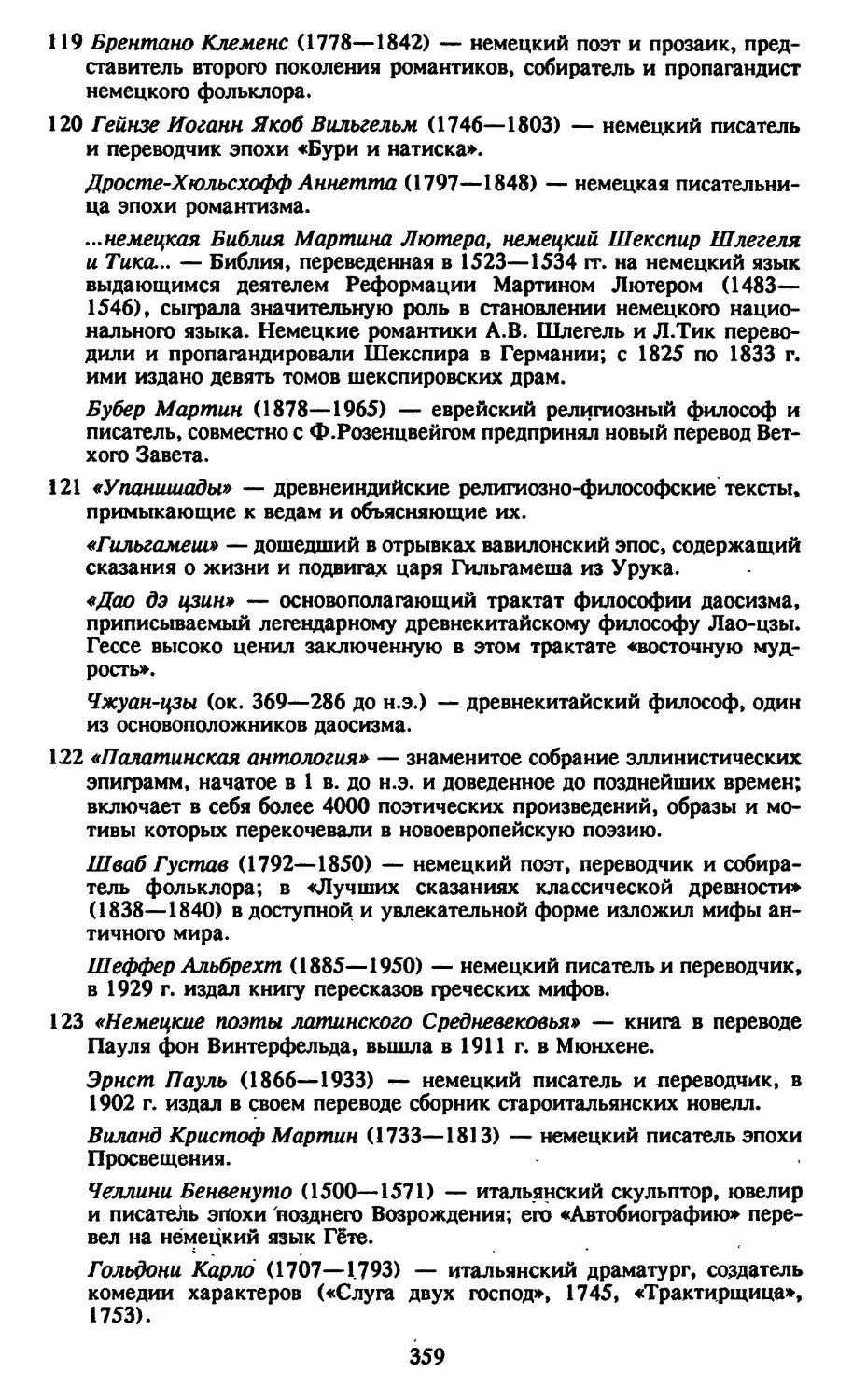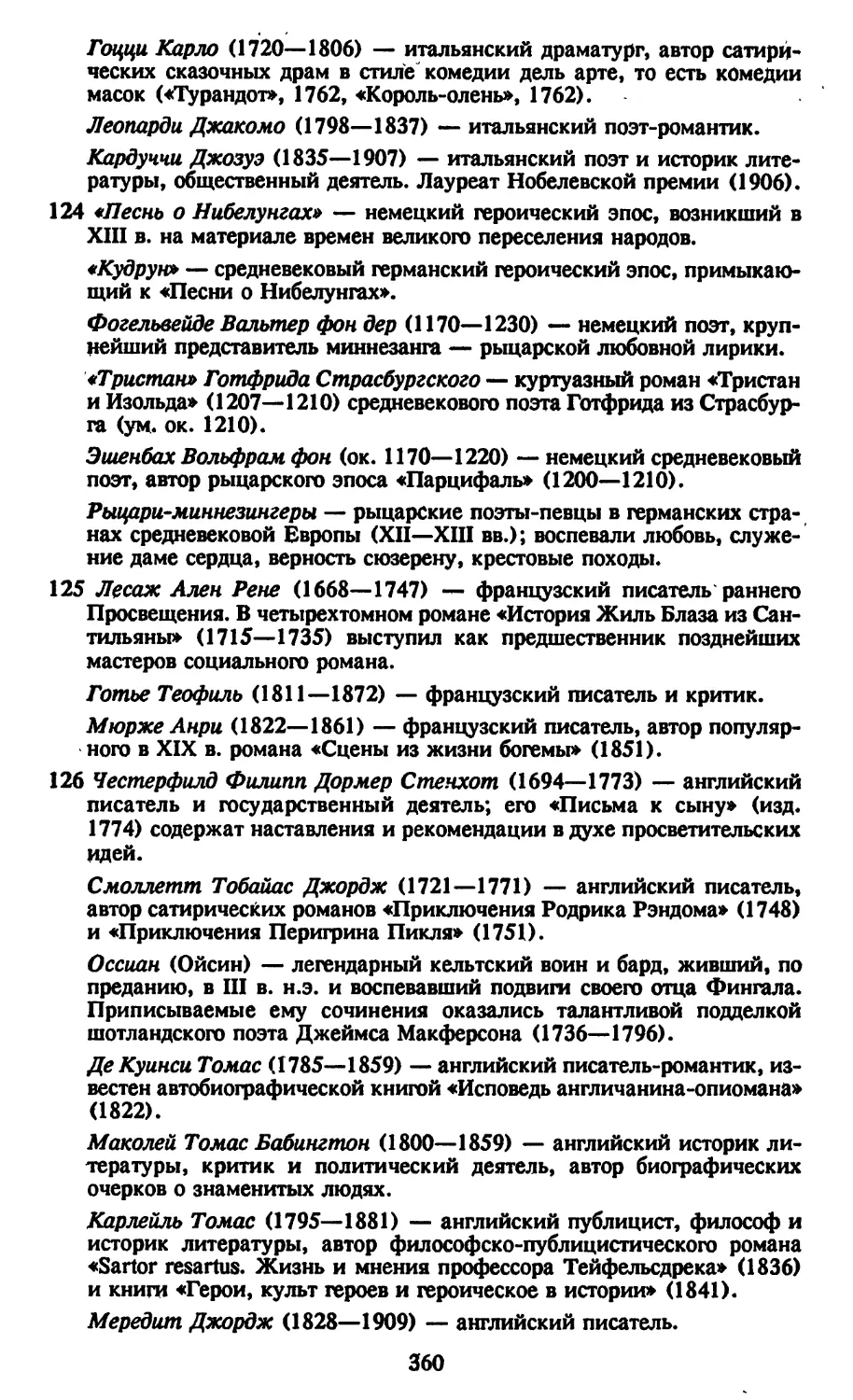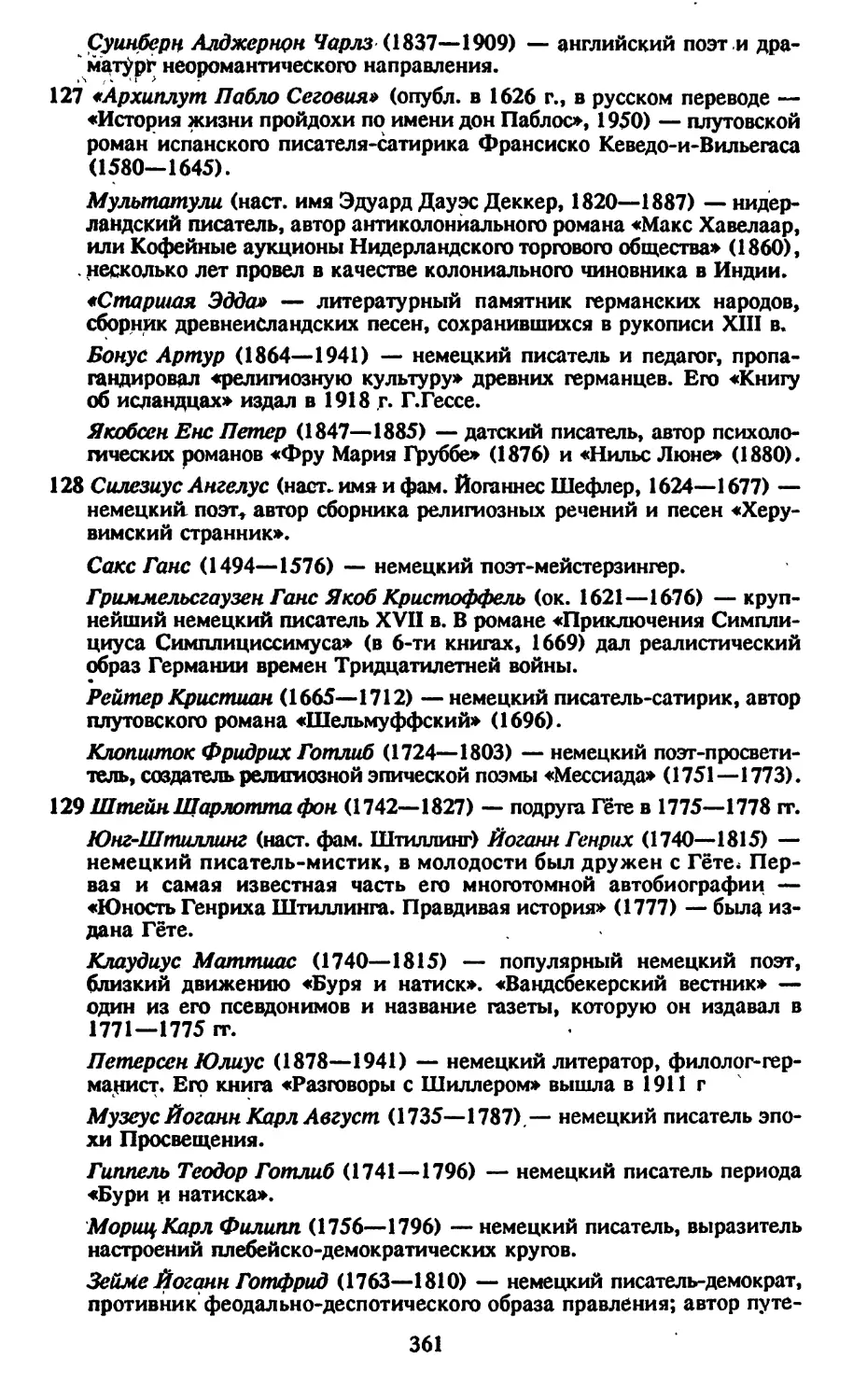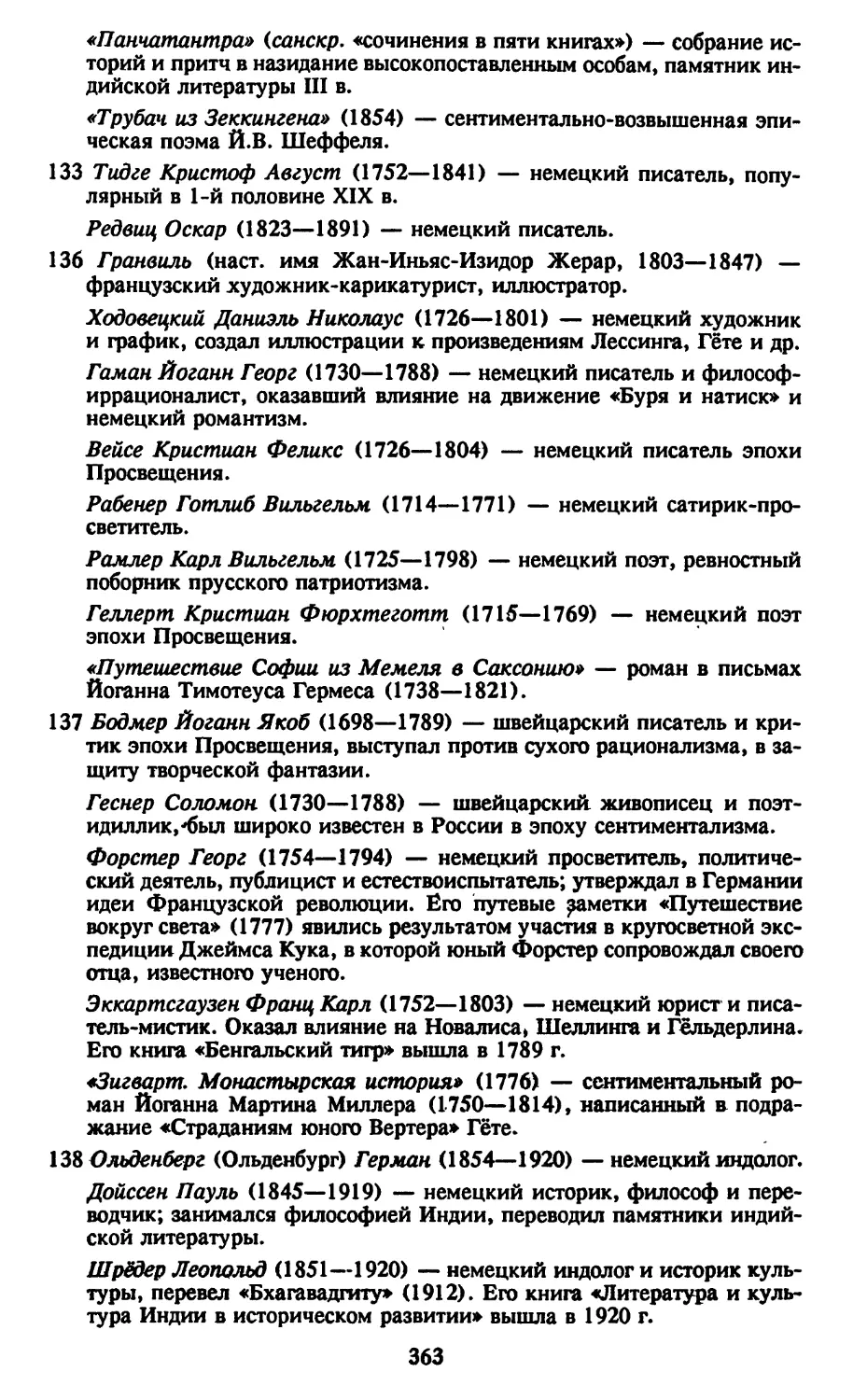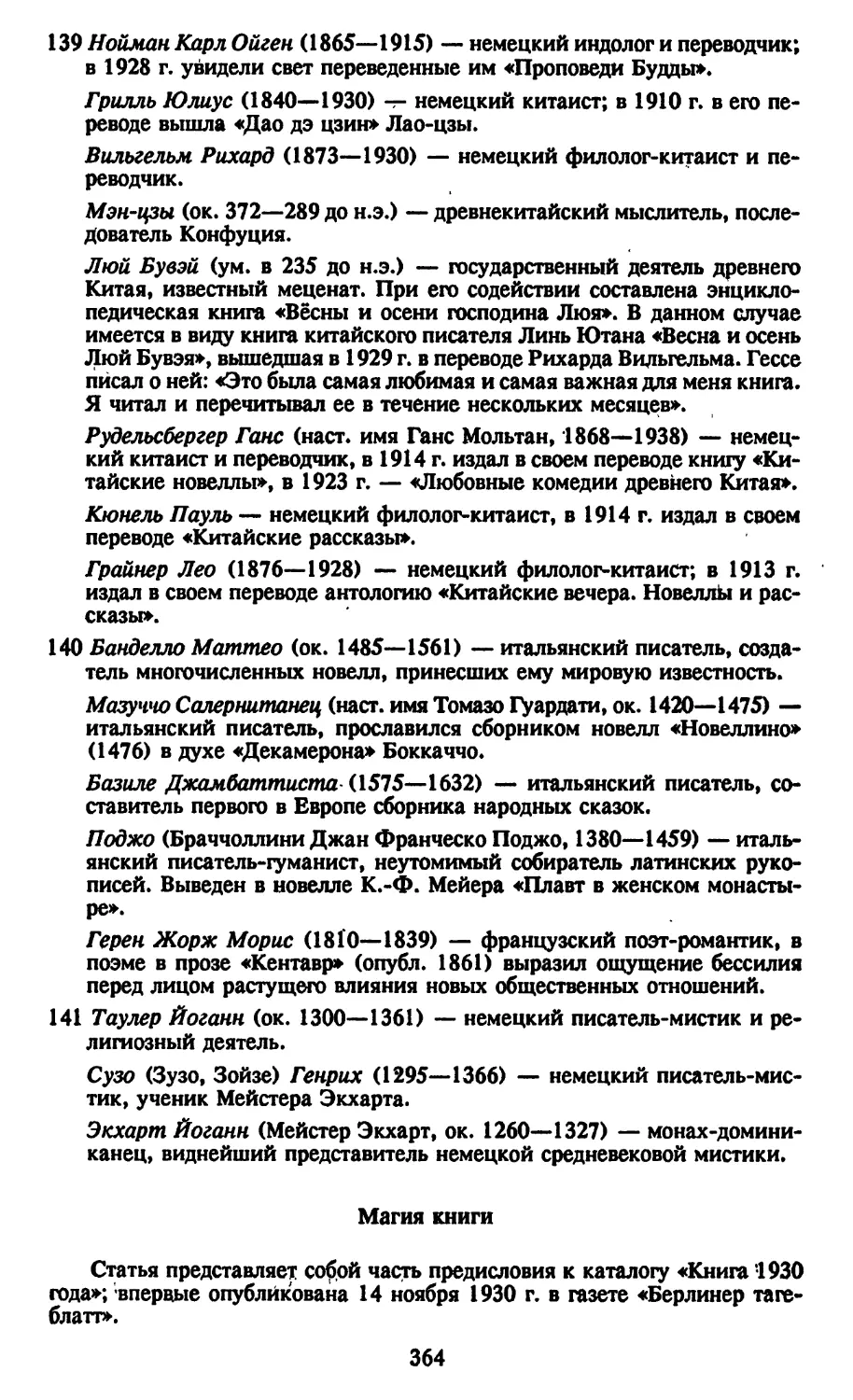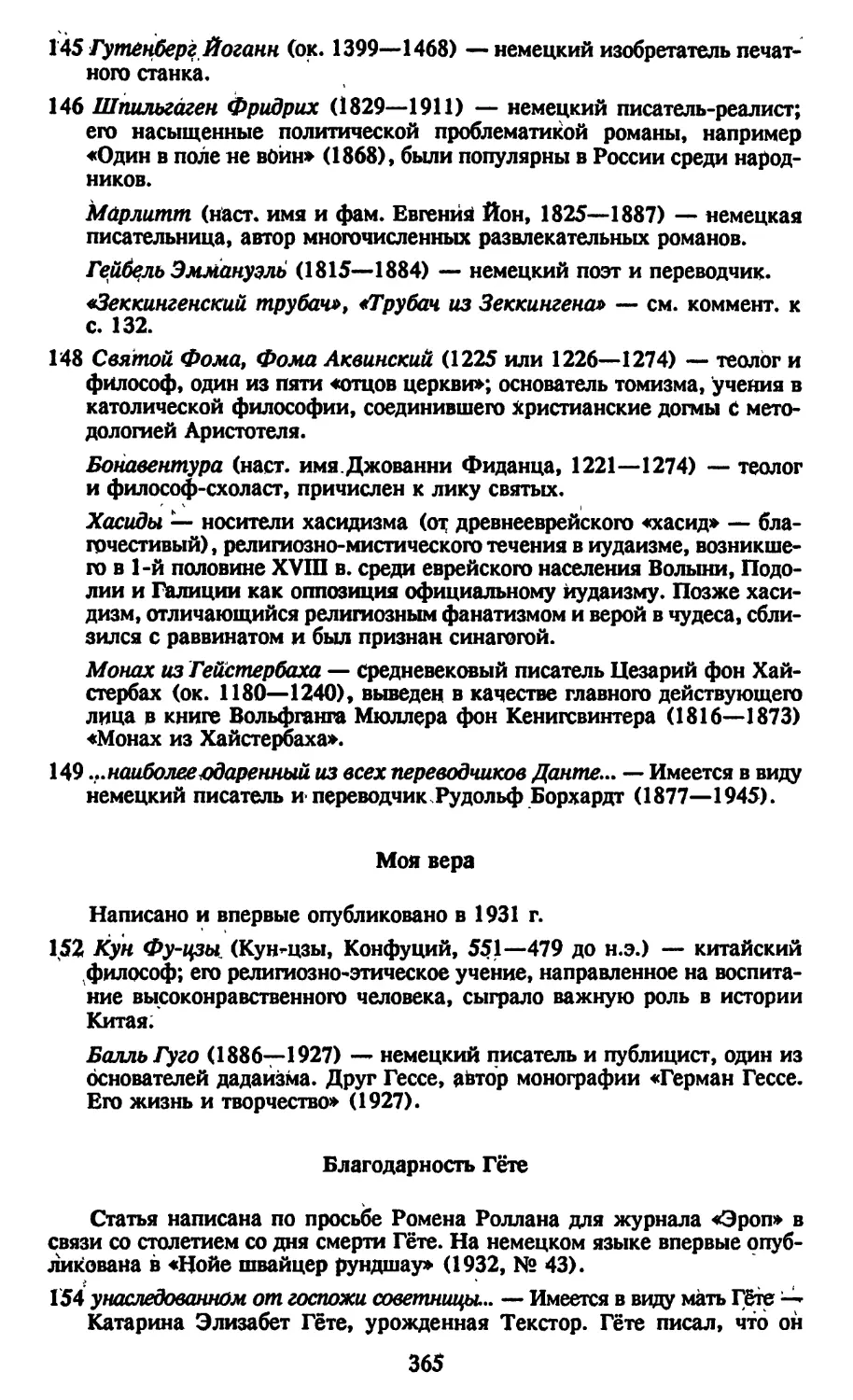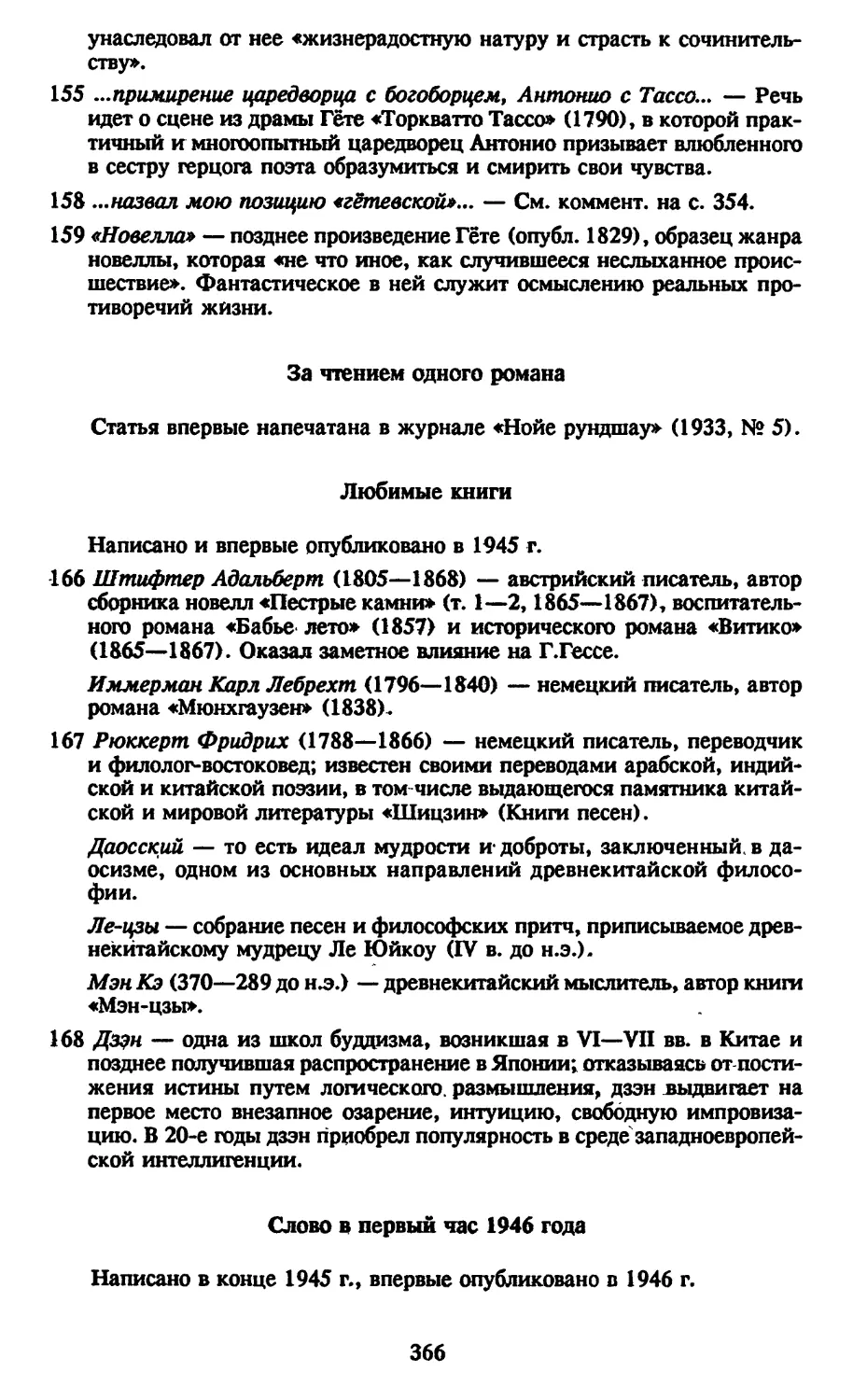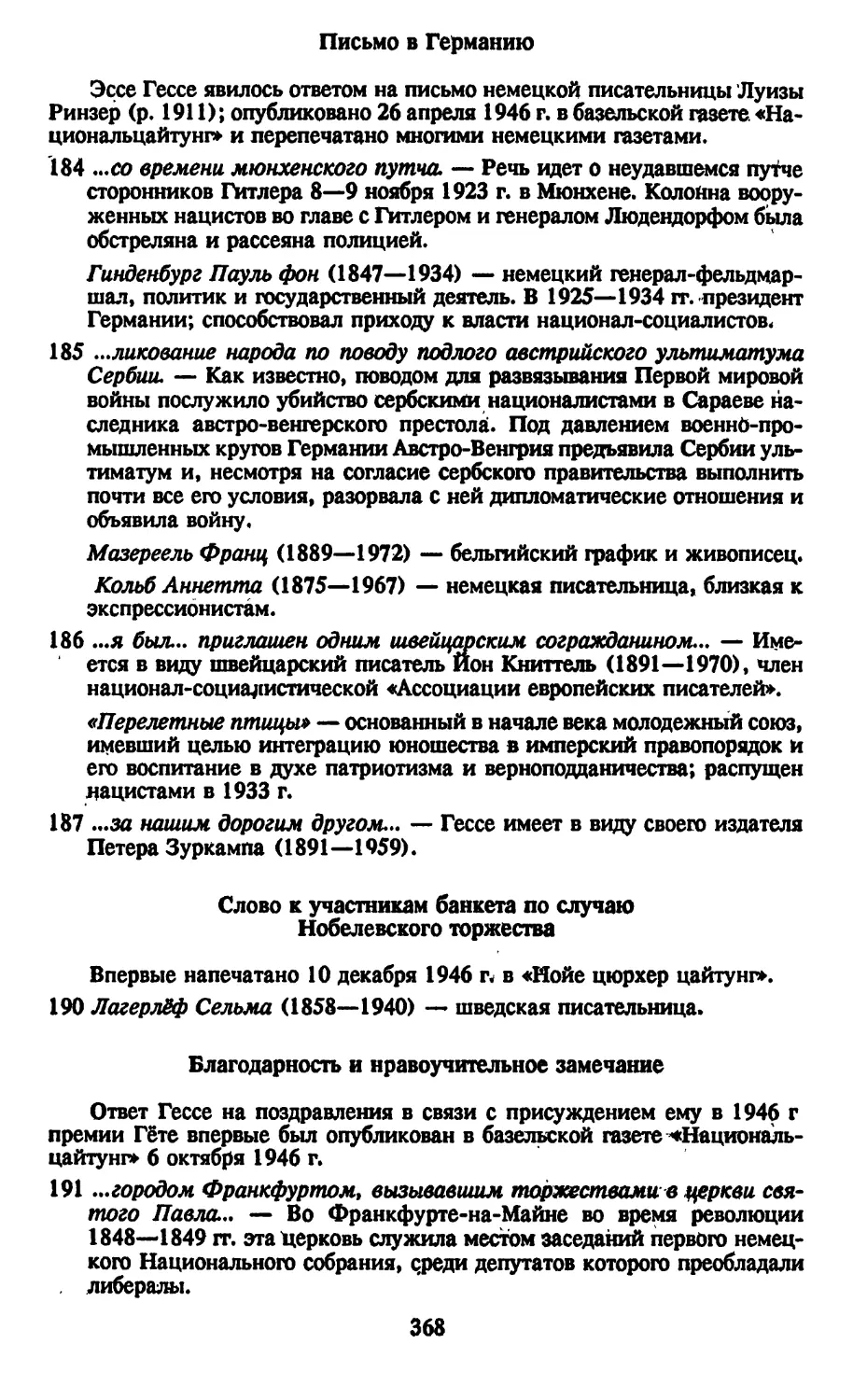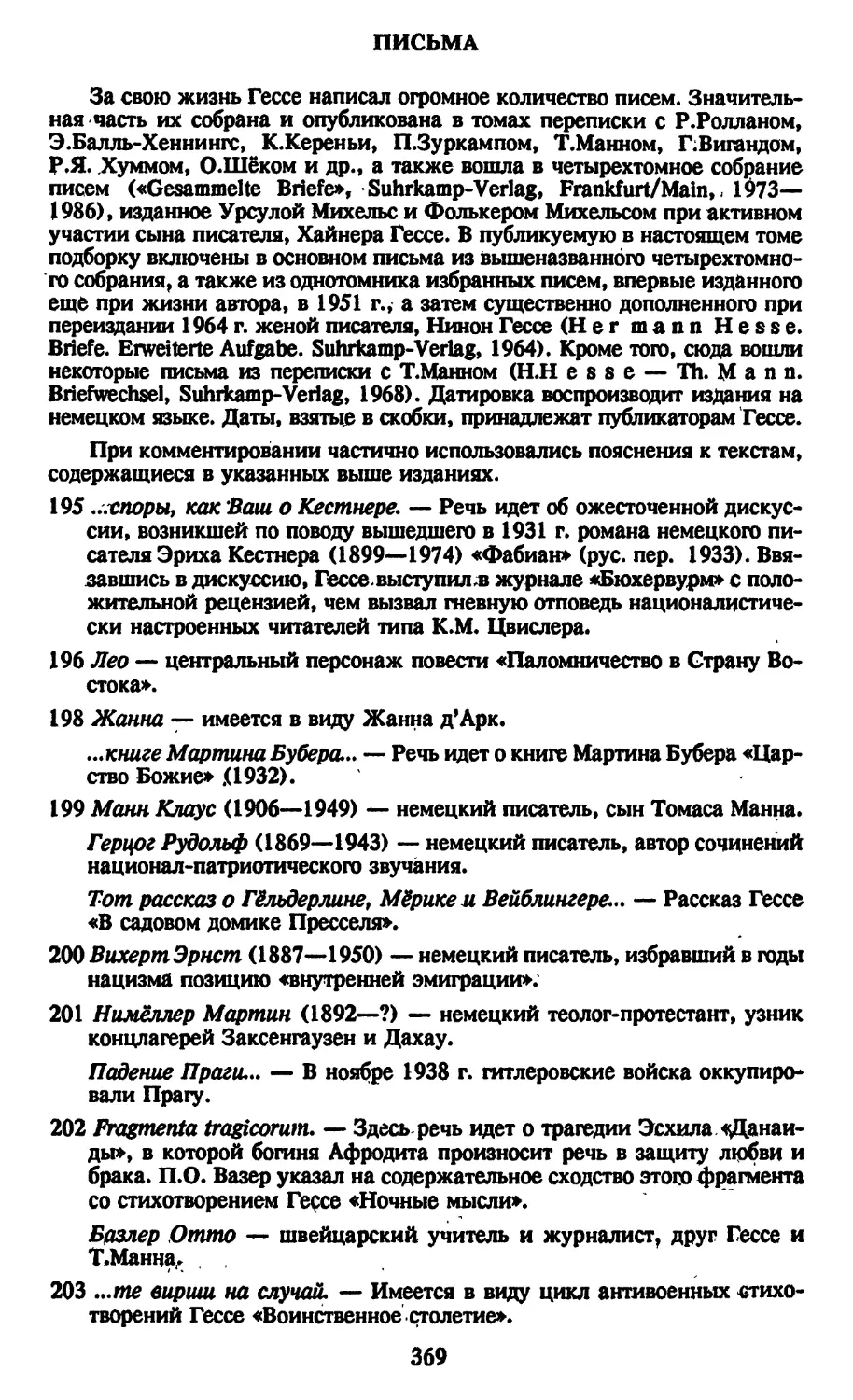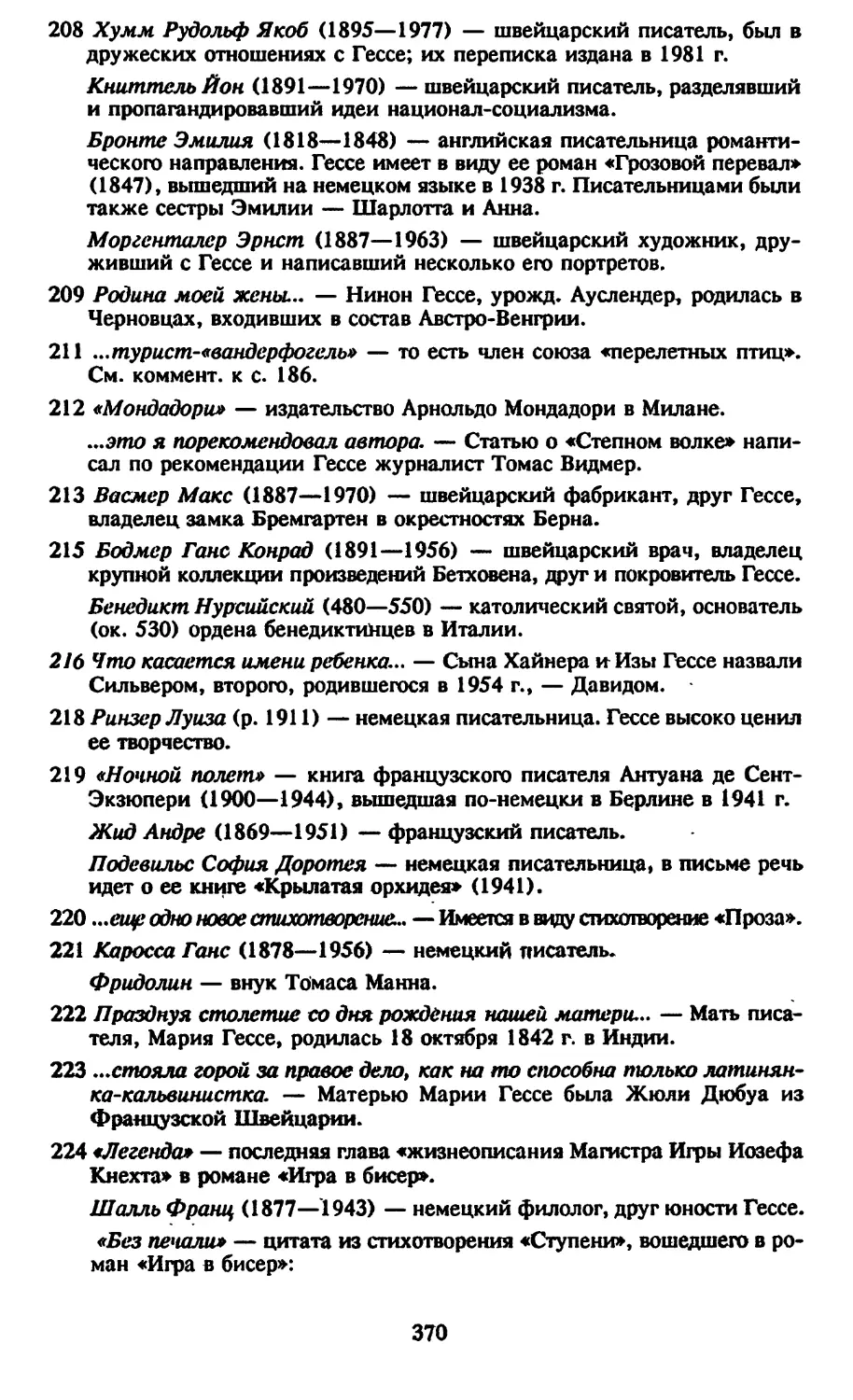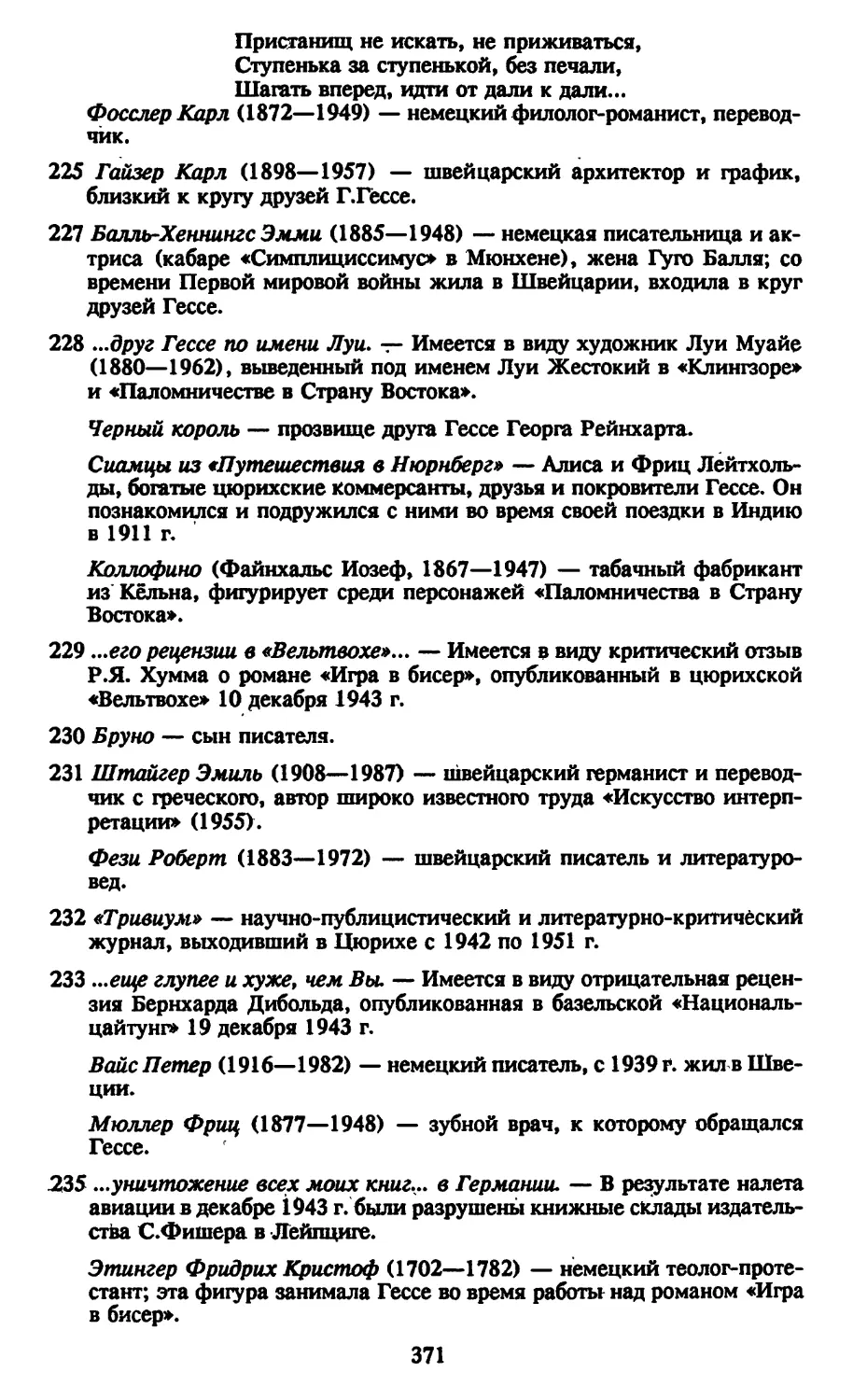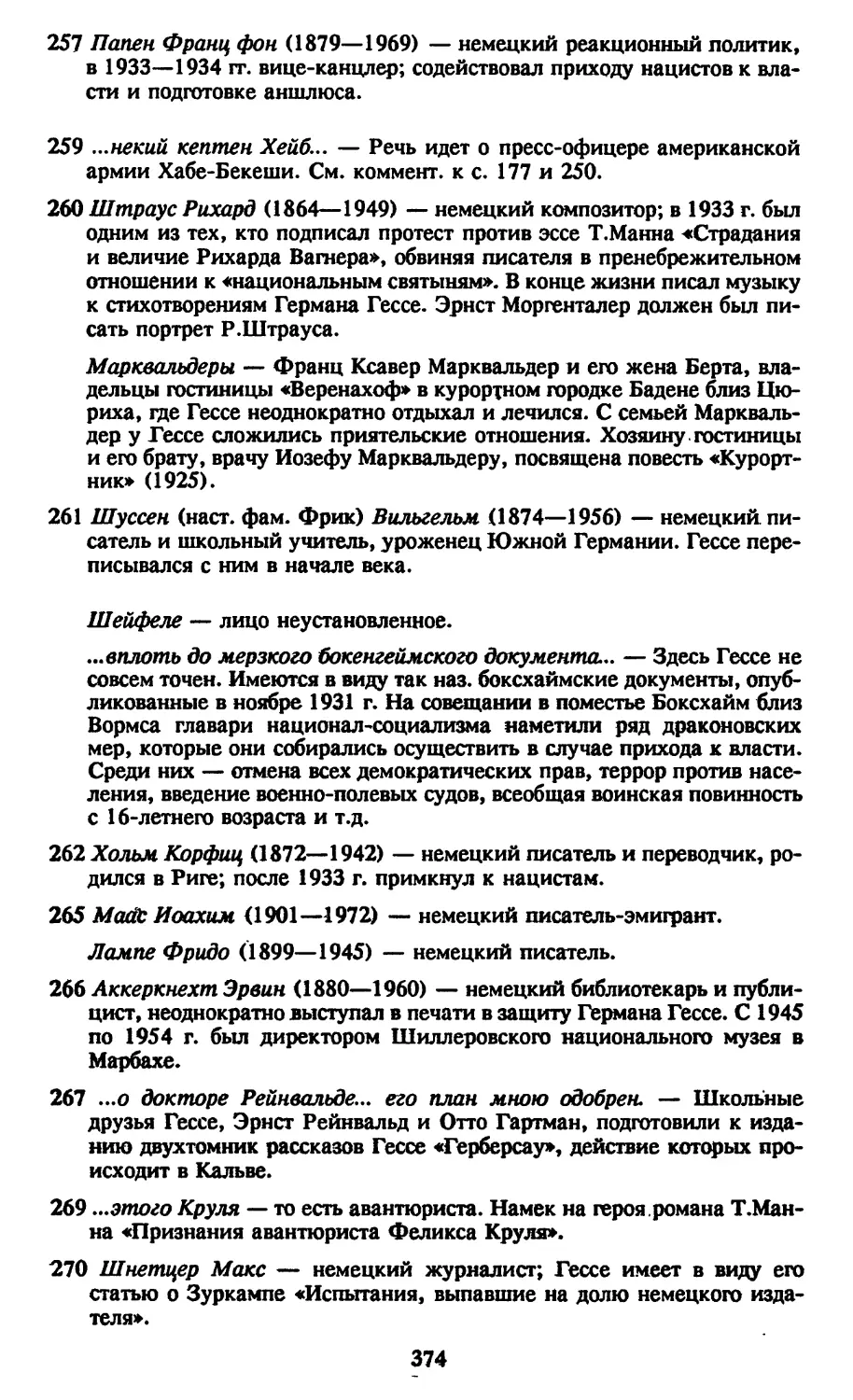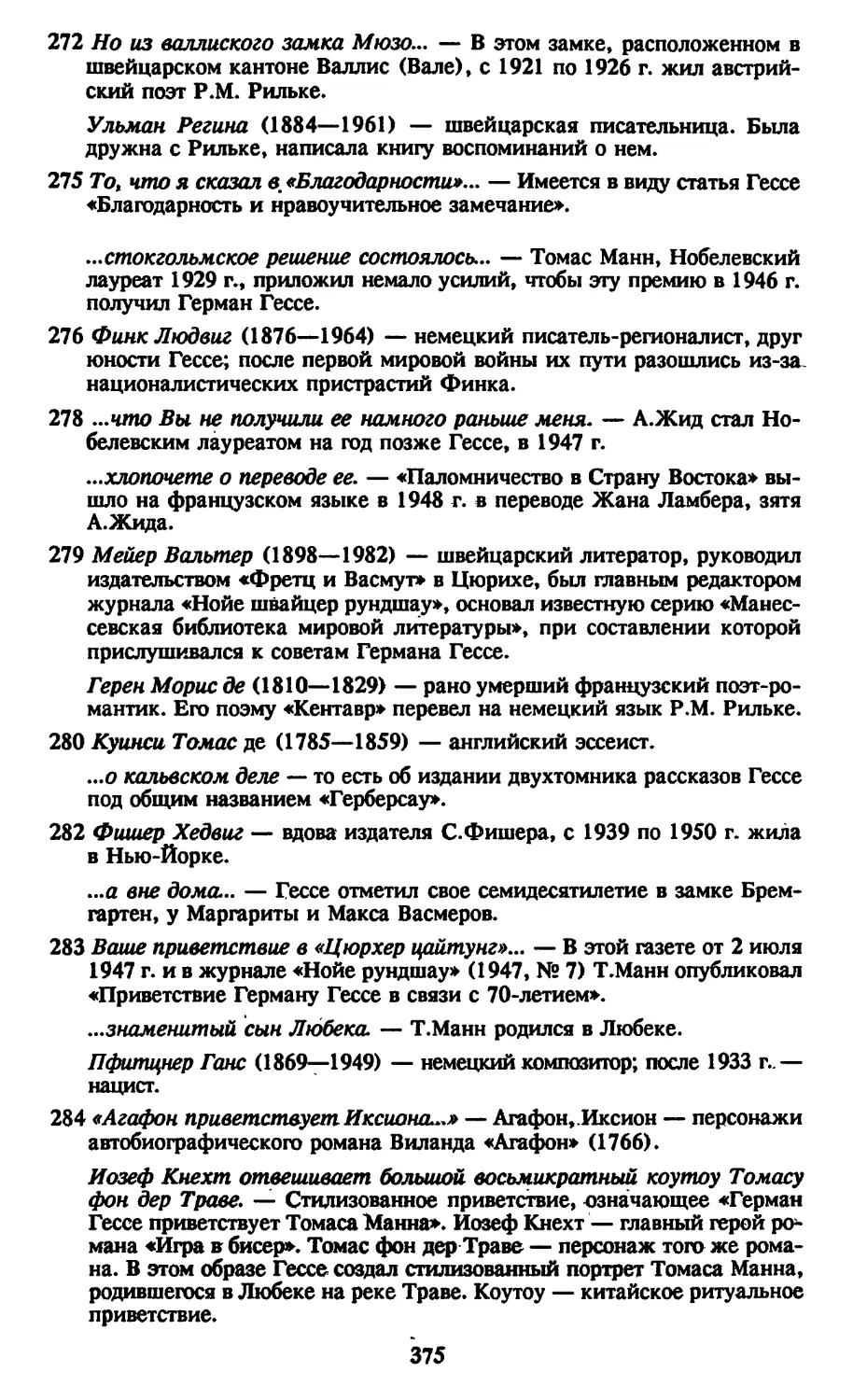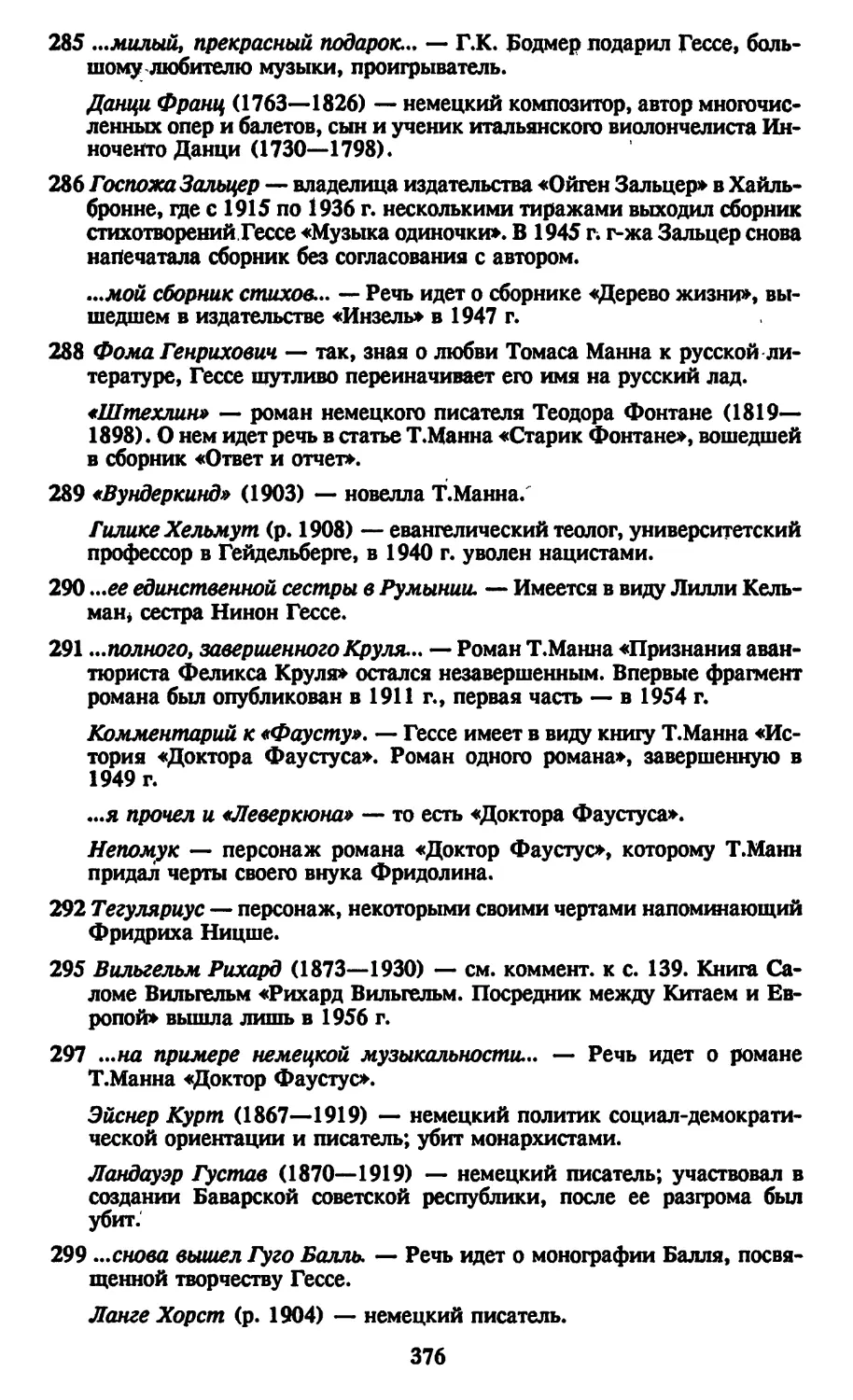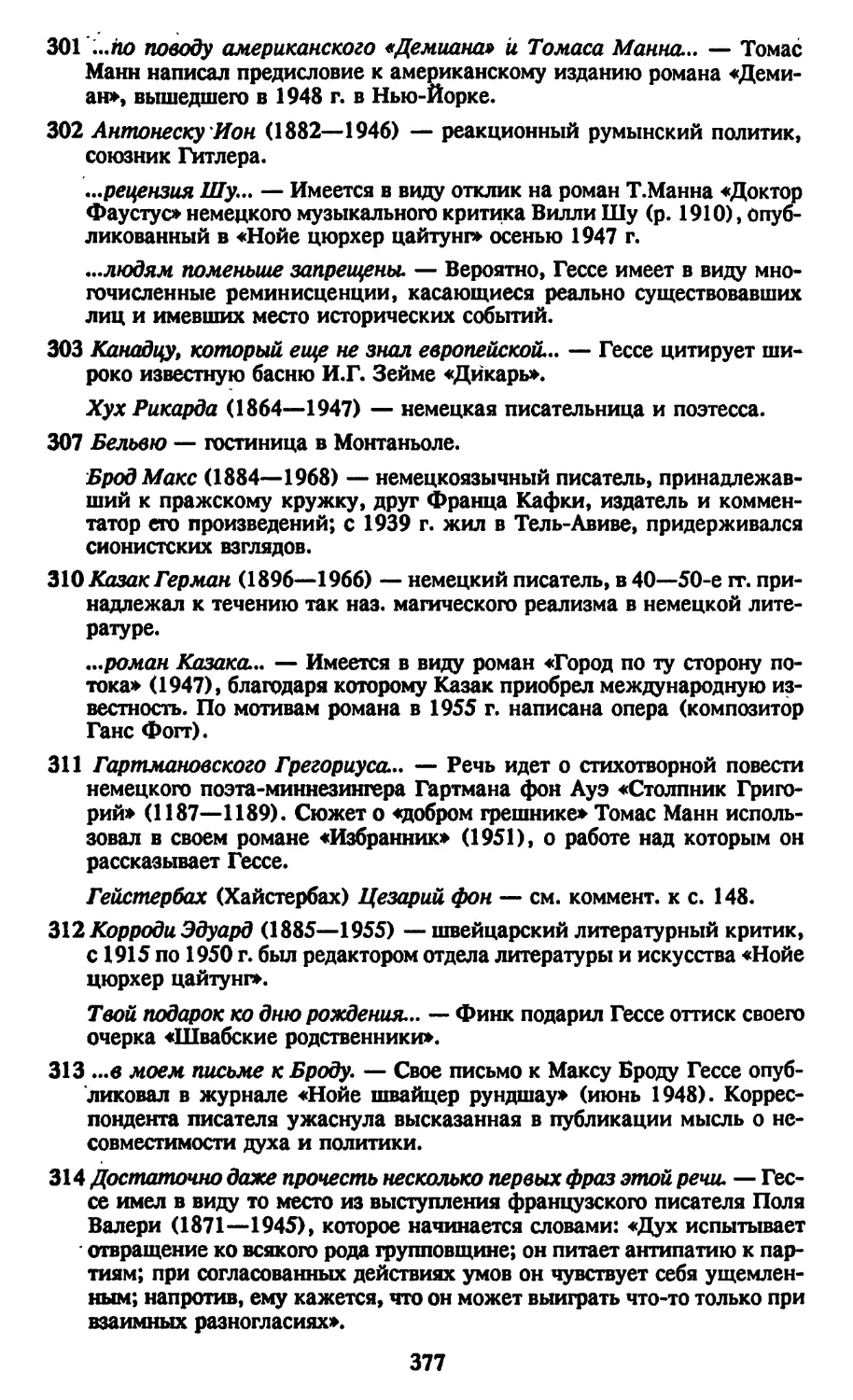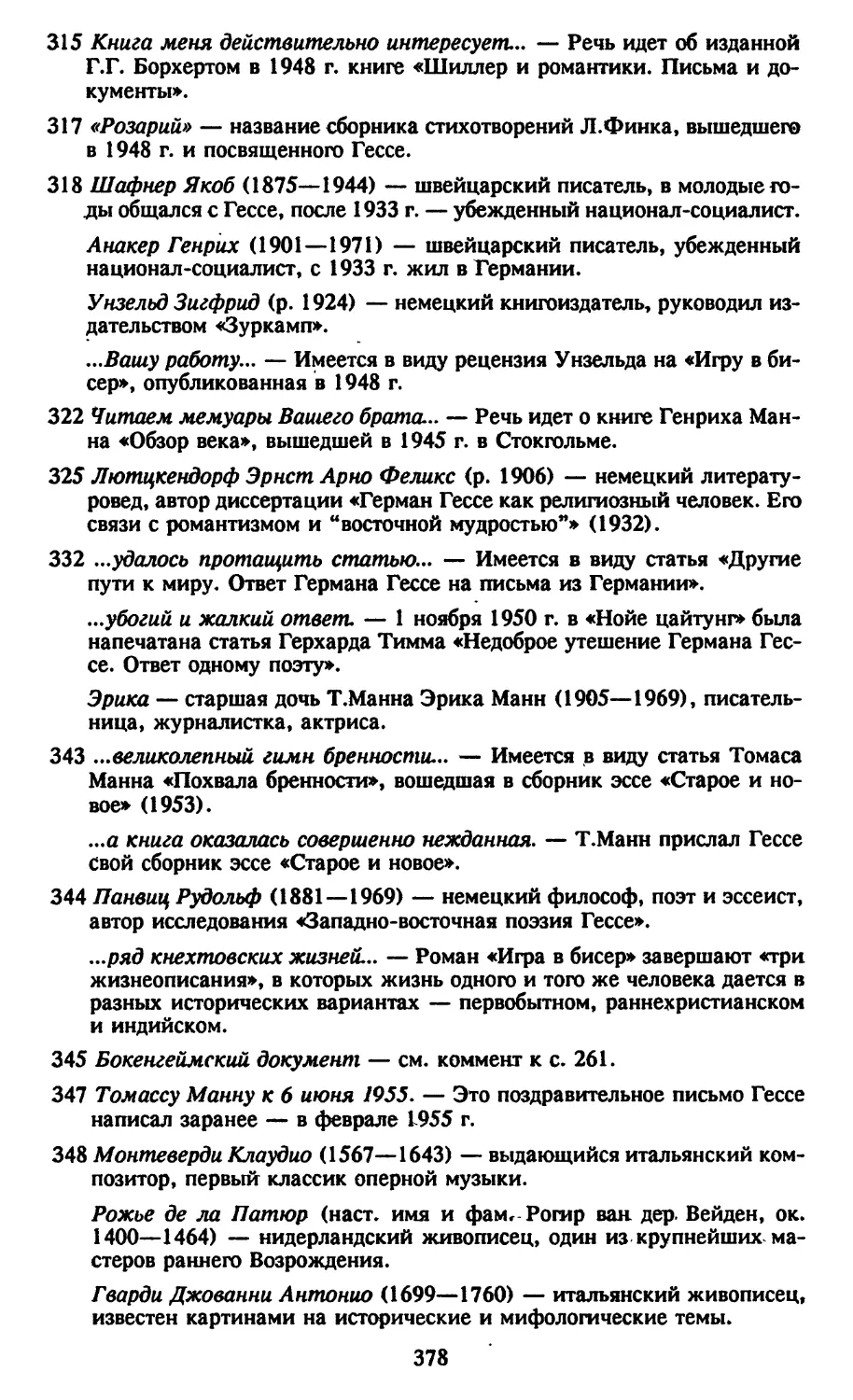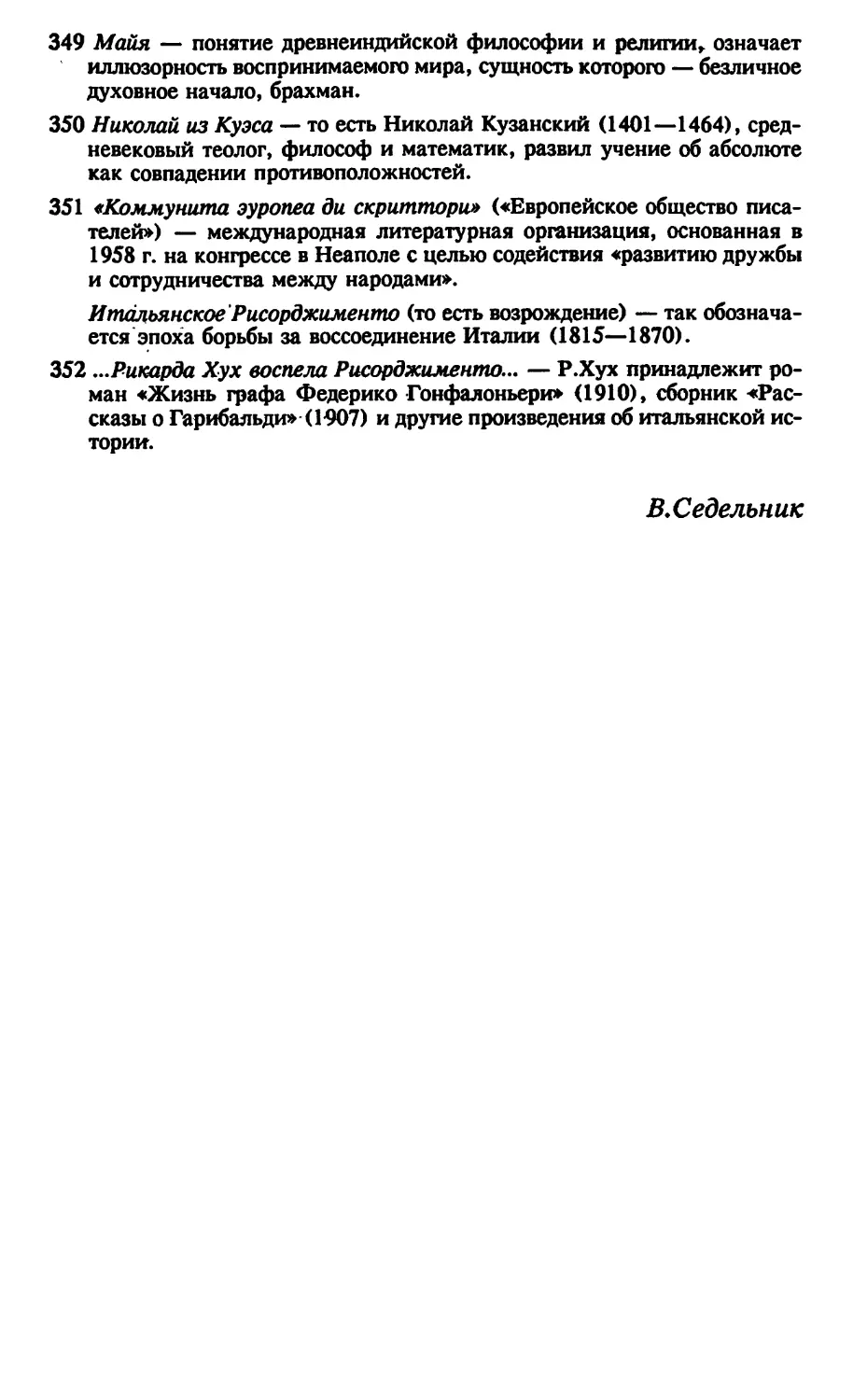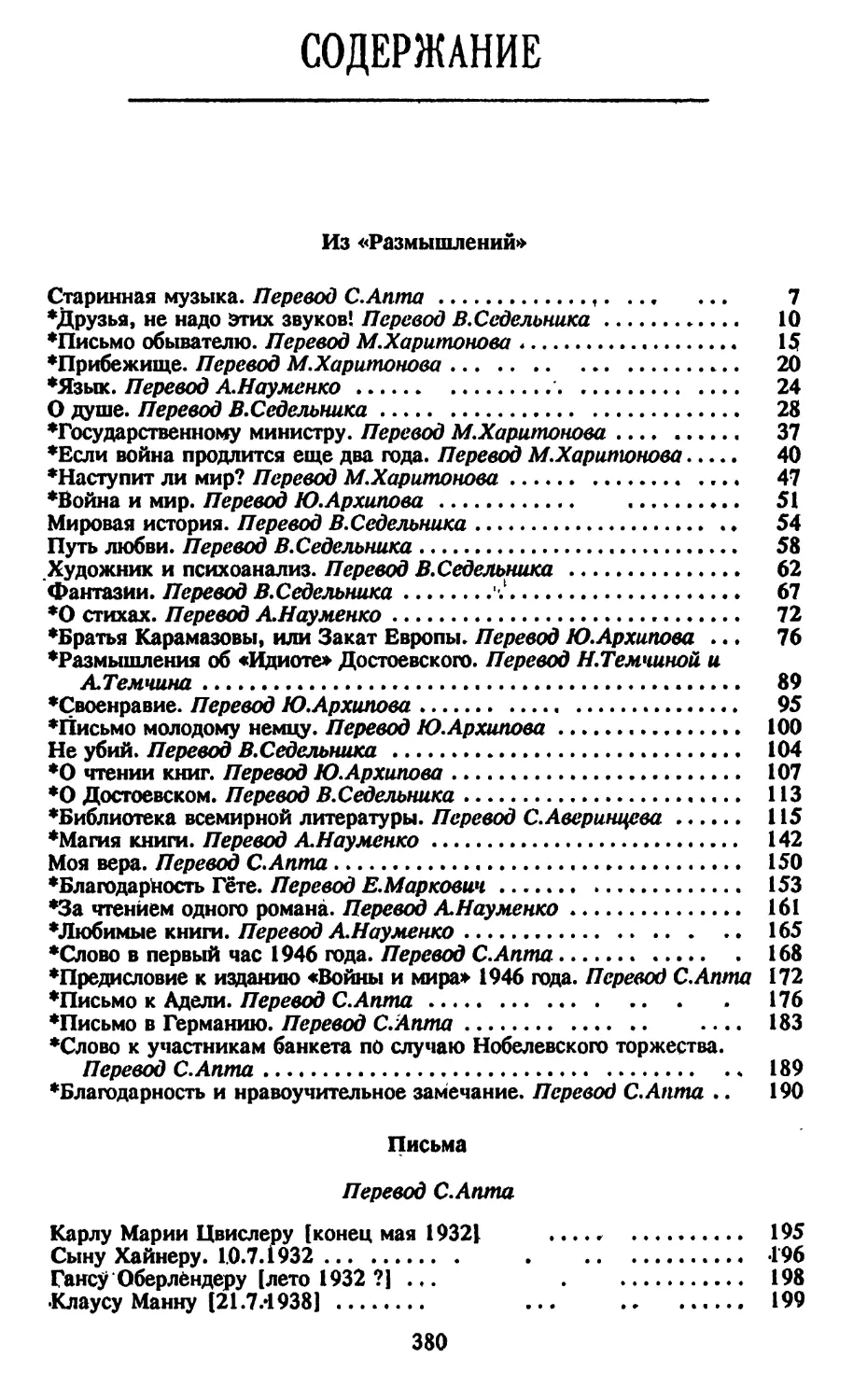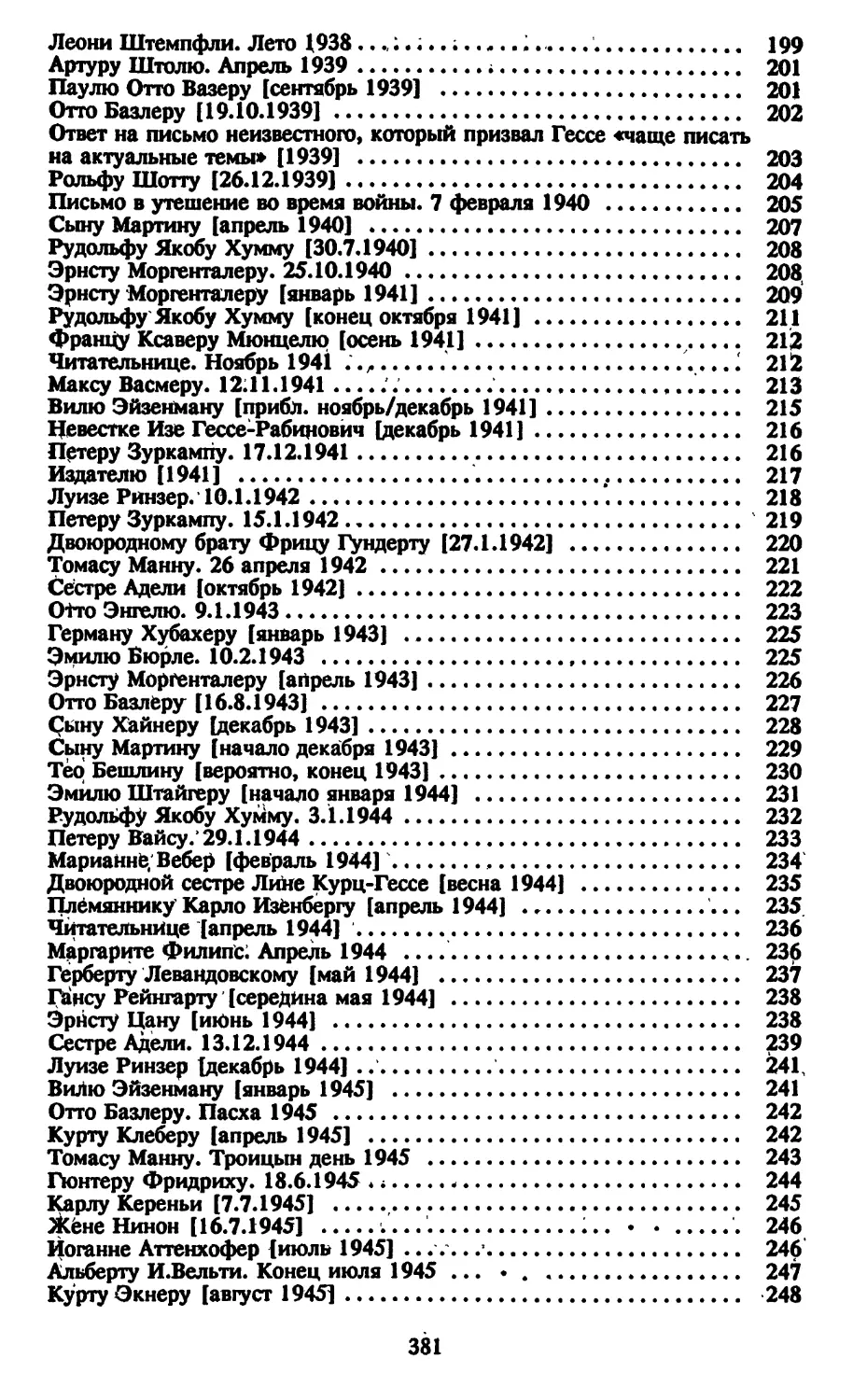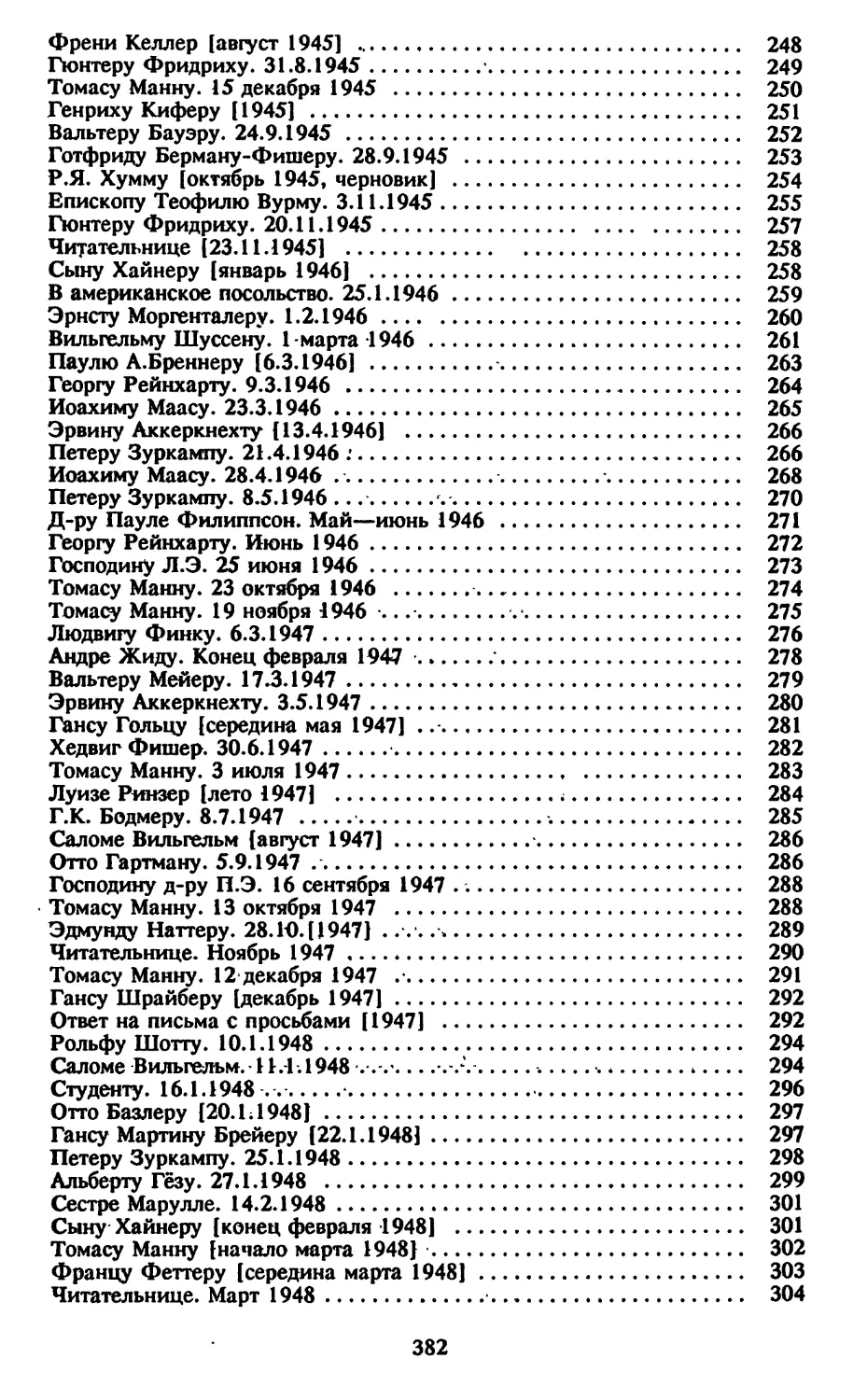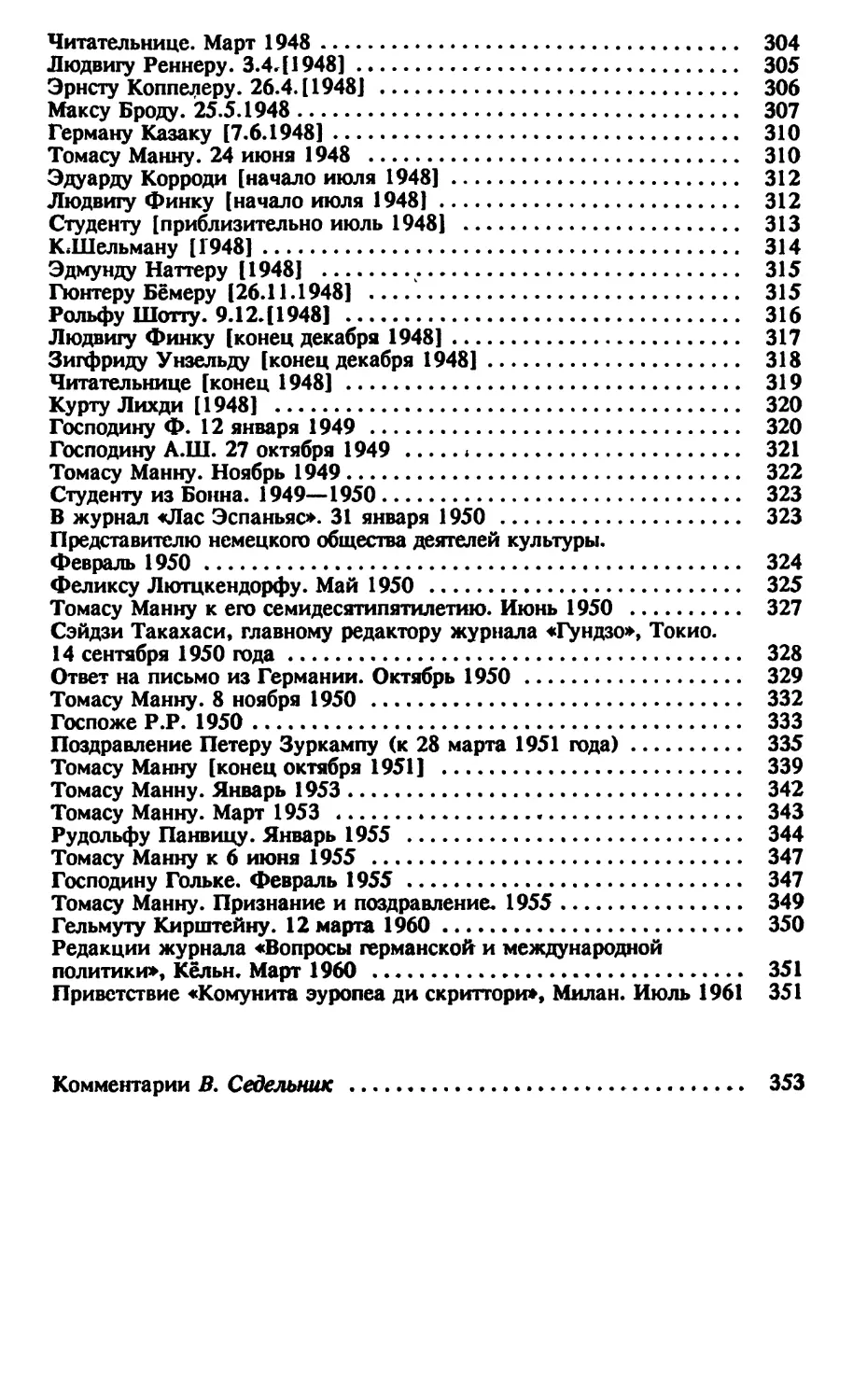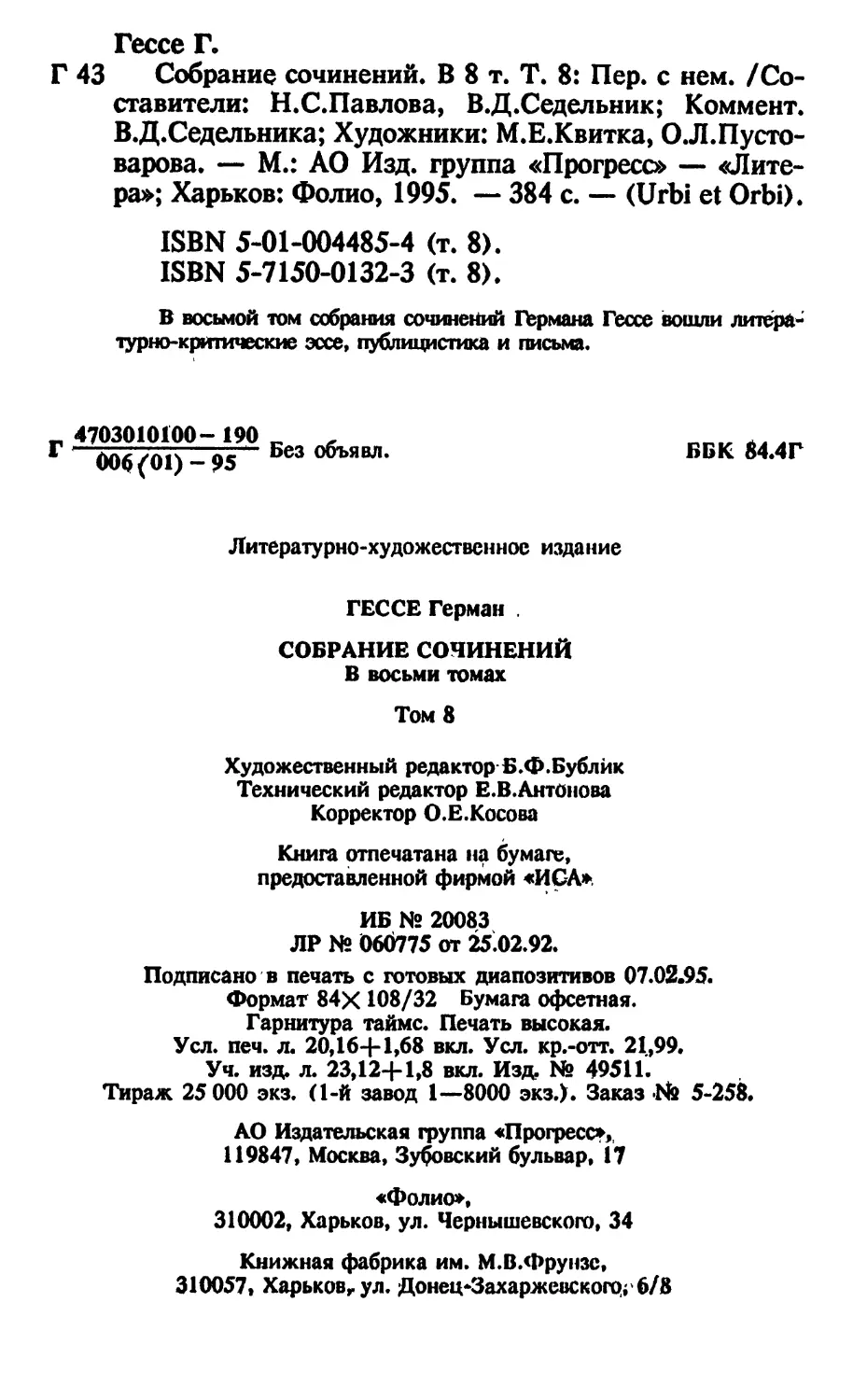Текст
URBI ETORBl
HERMANN
GESAMMELTE WERKE
J.lJi
ГЕРМАН
/П
-Ч
-К
VJv^.
А
СОБРЛПИК СОЧИНЕПИП
в восьми томах
8
I крсвод с немецкого
И.'^ЛЛТЕ.’ШСКЛН ГРУППА ♦ПРОГРКССи—ЛИТКРЛ*
МОСКВА ГКО ♦лет*
ХАРЬКОВ *Фо;1ио*
1995
ББК 84.4Г
Г 43
Серия «Urbi et Orbi»
основана u 1994 тду
Сое Iавитоли
//. С. ПАВЛОВА. В. Д. СЕДЕЛЬНИК
Комментарии
В.ДСЕДЕЛЬПИКуХ
Художники
M.E.K1U1TKA, О.Л.ПУСТОВАРОВА
Редактор
Л.И.ПАВЛОВА
Коорд1^1наюр издапельской нро1раммы
«URHI 1*:т ORBI»
М.Е. ГОПОРИИСКИЙ
4703010!(И) - 190
006 (01 )-Ч5
Псз обьии,1.
ISBN 5-01-004485-4(т.8)
ISBN 5-01-003874-9
ISBN 5-7150-0132-3 (т.8)
ISBN 5-7150-0133-1
© Составление, коммст.фии перевод на рус¬
ский ujbiK, кроме пртивеяении. отмеченных
н содержании*, АО Мзда t с и,с кая группа
^Прогресс» — «Литера».
© Художестве иное оформление И.»л.И(. i.ctbo
<Фолио*,
© Марка серии <Urbi el ()rbi> 11.«л ис исгьо
^11ол>«рис«.
из ^РАЗМЫШЛЕНИЙ
*#;v '
:.Л
АШ «BETRACHTUNGEN»
СТАРИННАЯ МУЗЫКА
О
^ а окнами моего одинокого загородного дома упрямо
и безнадежно лил серый дождь, и мне не хотелось
снова надевать сапоги и проделывать далекий путь в город
по грязной дороге. Но я был один, а глаза у меня болели от
долгой работы, со всех сторон моего кабинета золотые ряды
книг невыносимо глядели на меня вопрошающе и повели¬
тельно, дети уже спали у себя, а слабый огонь в камине
погас. И я репшлся все же пойти, нашел билет на концерт,
надел сапоги, посадил собаку на цепь и в плаще отправился
в путь через грязь и слякоть.
Воздух был свежий и горьковатый, проселочная дорога
чернела между высокими кривыми дубами, причудливыми
извивами огибая соседние имения. В какой-то сторожке
мерцал свет. Залаяла собака, разъярилась, стала лаять все
истошнее и вдруг, захлебнувшись, замолкла. Из какого-то
дома из-за черных кустов доносилась игра на пианино. Нет
ничего прекраснее и томительнее, чем вот так вечером идти
одному по полю и слушать музыку из какого-то одинокого
дома: возникает видение чего-то хорошего и милого, род¬
ного дома и света лампы, вечерней торжественности в ти¬
хих комнатах, женских рук и старинной культуры жилья.
Но вот уже первый фонарь, тихий бледный с^рпост го¬
рода, и еще фонарь, и маячащие невдалеке островерхие
фронтоны предместья, а потом вдруг за углом стены в яр¬
ком свете дуговых ламп трамвайная станция, ожидающие
в длинных плащах, болтающие кондукторы в промокших
фуражках и с тускло мерцающими форменными пуговица¬
ми на влажных ку]ртках. Тарахтя подъехал вагон, светлый
и теплый, с широкими стеклами, под которым сверкали,
спрятавшись, синие молнии. Я вхожу, мы едем, из осве¬
щенной стеклянной коробки я вижу ночные улицы, широ¬
кие и пустынные, на углу то тут, то там встречаются жен¬
щины, ожидающие под зонтиком трамвая, а вот тут уже
улицы посветлее, пооживленней, и вдруг, за высоким мос¬
том, виден весь город в вечернем блеске окон и фонарей, а
под мостом низко и далеко долина реки с темными отсве¬
тами воды и белой пеной запруд.
Я схожу и иду через аркады узкой улицы к кафедраль¬
ному собору. На маленькой соборной площади свет одино¬
кого фонаря слабо и холодно сверкает на мокром булыжни¬
ке, на уступе ходят ходуном ветки каштанов, над красно¬
вато освещенным порталом исчезает в мокрой ночи уплы¬
вающее в бесконечную вышину острие готической башни.
Я немного жду под дождем, наконец бросаю сигару, вхожу
в стрельчатую арку. Люди во влажной одежде стоят плот¬
ной толпой, кассир сидит за своим светлым окошком, меня
просят предъявить билет, я вхожу в собор, держа в руке
шляпу, и от слабо освещенных гигантских сводов на меня
сразу веет полным ожидания священным воздухом. Ма¬
ленькие светильники посылают нерешительные лучи света
вверх по колоннам и рядам колонн, лучи эти теряются в
сером камне, а высоко вверху тепло и мягко растекаются
по выпуклостям. Несколько скамей густо заполнены, даль¬
ше неф и клирос почти пусты. Я пробираюсь на цыпоч¬
ках — и все равно мои шаги гулко звучат в тишине — че¬
рез большое торжественное пространство, на темном кли¬
росе стоят в ожидании старые, тяжелые деревянные скамьи
с резными спинками, я опускаю одно из сидений, деревян¬
ный звук глухо отдается в каменной вышине.
Довольный, я устраиваюсь в широком, глубоком кресле,
вынимаю программу, но в темноте читать нельзя. Я напря¬
гаю память, но не могу точно вспомнить: объявлена была
органная пьеса какого-то умершего французского мастера,
затем старинная итальянская соната для скрипки, неведомо
чья, может быть, Верачини*, или Нардини , или Тартини*,
а затем прелюдия и фуга Баха.
Еще две-три темных фигуры прокрадываются на клирос,
садятся далеко друг от друга, забираются в глубину старых
кресел. Кто-то роняет книгу, позади меня шепчутся два де¬
вичьих голоса. Теперь тишина, тишина. Вдали, на освещен¬
ном возвышении, между двумя круглыми лампами и перед
холодно поблескивающими высокими трубами органа, сто¬
ит человек, он делает знак, садится, шорох ожидания про¬
бегает по немногочисленной публике. Мне никого не хочет¬
ся видеть, откинувшись на спинку, я гляжу вверх, на сво¬
ды, и дышу молчаливым церковным воздухом. Я думаю:
как можно воскресенье за воскресеньем садиться в этих свя-
щенных П0К051Х вплотную друг к другу и слушать пропо¬
ведь, которая, как бы прекрасна и умна она ни была, все
равно должна прозвучать в этом храме трезво и разочаро¬
вывающе.
Наконец раздается высокий, сильный звук органа. Он
заполняет, нарастая, это огромное пространство, он сам
становится пространством, целиком обволакивает нас. Он
нарастает и дает себе роздых, а другие звуки сопровождают
его, и вдруг все они в торопливом бегстве падают, покоря¬
ются, боготворят, но и упрямятся и укрощенно коснеют в
гармоническом басе. И вот они молчат, пауза пролетает по
залам, как дуновение грозы. А теперь снова; мощные звуки
вздымаются в глубокой, в великолепной страсти, бурно на¬
бегают, высоко и самозабвенно в^рикивают свою жалобу
Eoiy, выкрикивают еще раз, пронзительней, громче — и
умолкают. И вновь поднимаются, вновь этот смелый и за¬
бытый мастер поднимает могучий свой голос к Богу, жалу¬
ется и призывает, мощно выплакивает свое горе бурными
вереницами звуков, и затихает, и погружается в свои мыс¬
ли, и славит Бога хоралом благоговения и достоинства,
смыкает золотые своды в высоком cjokipaxe, воздвигает ко¬
лонны и звучащие ряды колонн и возводит собор своего
преклонения, и собор этот высится и держится, он все еще
высится и держится и охватывает нас все^с, когда звуки уже
затихли.
Я думаю: какой все-таки жалко мелочной и скверной
живем мы жизнью! Кто из нас посмел бы выйти к Богу и
к судьбе, как этот мастер, с такими возгласами обвинения
и благодарности, с таким устремленным ввысь величием
объятого глубокими думами существа? Ах, надо жить ина¬
че, быть другими, больше под небом и под деревьями, боль¬
ше для с^я самих и ближе к тайнам красоты и величия.
Орган начинает снова, низко и тихо, длинный, негром¬
кий аккорд; а поверх него поднимается ввысь мелодия
скрипки, дивно размеренными ступенями, не очень жалу¬
ясь, не очень вопрошая, она поет и парит от тайного бла¬
женства и от полноты тайны, она прекрасна и легка, как
поступь красивой девушки. Мелодия повторяется, меняет¬
ся, изгибается, отыскивает родственные фигуры и сотни
тонких, игривых арабесок, текуне извивается на самых уз¬
ких тропинках и, свободная, очищеншя, возвращается
утихшим, просветленным чувством. Здесь нет величия,
здесь нет крика, нет ни глубины страдания, ни высокого
благоговения, здесь нет ничего, кроме красоты довольной,
9
радостной души. Ей нечего сказать нам, кроме того, что
мир прекрасен и исполнен божественного лада, гармонии,
а какую весть сльппим мы реже и какая нужнее нам, чем
эта, радостная!
Чувствуешь, не видя, что сейчас во всей огромной цер¬
кви много лиц улыбается, улыбается радостно и чисто, а
кое-кто находит эту старую немудреную музыку немного
наивной и устарелой и все-таки тоже улыбается и тоже
плывет в простом чистом потоке, отдаваться которому —
блаженство.
Это ощущается даже в паузах: шорохи, шепот, легкое
передвиженье на скамьях звучат радостно и весело, все ра¬
ды и освобожденно идут навстречу новому великолепию.
Размашисто и вольно входит в свой храм мастер Бах, с бла¬
годарностью славит Бога, поднимается, помолившись, и
старается порадоваться своей молитве и своему воскресно¬
му настроению по тексту церковной песни. Но едва начав
и найдя маленькую возможность, он углубляет свои гармо¬
нии, встраивает мелодии одну в другую, гармонии одну в
другую в бурной многоголосице, и подпирает, и поднимает,
и закругляет свое звуковое строение далеко за пределами
церкви в какое-то звездное здание, полное благородных,
совершенных систем, словно Бог ушел спать и оставил ему
свой жезл и мантию. Он бушует в густых тучах и открывает
опять свободные, ясные полосы света, он, ликуя, возносит
планеты и солнца, он безмятежно отдыхает в полдень и
вовремя наводит озноб прохладного вечера. И кончает он
великолепно и мощно, как заходящее солнце, и, умолкая,
оставляет мир полным души и блеска.
Тихо иду через высокий храм и через маленькую сон¬
ную площадь, тихо иду над рекой по высокому мосту и че¬
рез ряды фонарей — в город. Дождь перестал, за огромной
тучей, покрывшей всю местность, угадывается по немногим
разрывам свет луны и прекрасная ясность ночи. Город ис¬
чезает, и дубы у моей дороги шумят на мягком свежем вет¬
ру. И я медленно поднимаюсь по последнему склону и вхо¬
жу в свой спящий дом, в окна заглядывает вяз. Теперь мне
хочется спать и снова испытать жизнь и быть мячом, кото¬
рым она играет.
ДРУЗЬЯ, НЕ НАДО ЭТИХ ЗВУКОВ!
Народы вконец рассорились друг с другом, и каждый
день неисчислимое множество людей мучается и гибнет в
10
жестоких сражениях. Так уж случилось, что, читая тре¬
вожные сообщения с театра военных действий, я вспомнил
давно забытый эпизод детства. Мне только что исполнилось
четырнадцать, знойным летним днем я сидел в Штутгарте
на знаменитом швабском земельном экзамене* и записывал
тему сочинения: «Какие положительные и какие отрица¬
тельные стороны человеческой натуры пробуждает и раз¬
вивает война?» Моя работа на эту тему не основывалась на
каком-либо опыте и, естественно, не попала в число луч¬
ших. То, что я, мальчишка, понимал тогда под войной, под
ее доблестями и тяготами, давно уже не совпадает с моими
нынешними взглядами на эти вещи. В связи с последними
событиями и с упомянутым эпизодом детства я много раз¬
мышлял в эти дни о войне, и, раз уж теперь вошло в ^ы-
чай, чтобы мужи науки и люди искусства публично огла¬
шали свое мнение на сей счет, я решил отбросить, наконец,
колебания и высказать то, что думаю. Я немец, и все мои
симпатии на стороне Германии, но то, о чем я собираюсь
говорить, касается не войны и политики, а позиции и задач
нейтралов. Под нейтралами я разумею не страны, придер-
живаюпщеся политического нейтралитета, а всех тех уче¬
ных, учителей, художников, литераторов, что трудятся на
пользу мира и человечества.
В последнее время обращают на себя внимание прискор>
бные симптомы пагубного смятения мысли. Мы слышим об
отмене немецких патентов в России, о бойкоте немецкой
музыки во Франции, о таком же бойкоте творений духа
«враждебных» народов в Германии. Скоро в большинстве
немецких газет нельзя будет переводить, хвалить или кри¬
тиковать произведения англичан, французов, русских,
японцев. Это не слухи, это факты, такое уже начинает вхо¬
дить в практику.
Стало быть, отныне надо замалчивать прекрасную япон¬
скую сказку или добротный французский роман, точно и
лк^вно переведенный немцем еще до начала войны. Пре¬
красный и добрый дар, от всей души предлагаемый нашему
народу, отвергается только потому, что несколько японских
кораблей осаждают Циндао*. И если я захочу сегодня с по¬
хвалой отозваться о книге итальянца, турка или румына,
то сделать это можно лишь при условии, что до публикации
отзыва какой-нибудь дипломат или журналист не изменит
политическую ситуацию в этих странах!
С другой стороны, мы видим деятелей искусства и уче¬
ных мужей, выступающих с протестами против воюющих
11
держав. Как будто сейчас, коща пожар войны охватил весь
мир, печатное слово имеет хоть какую-нибудь цену. Как
будто художник или литератор, даже самый талантливый
и знаменитый, хоть что-нибудь понимает в военных делах.
Иные участвуют в великих событиях, перенося войну в
свои кабинеты и сочиняя за письменным столом кровожад¬
ные боевые гимны или статьи, пропитанные злобой и раз¬
дувающие ненависть между народами. Вот это, наверно, са¬
мое скверное. Любой солдат на фронте, каждодневно рис¬
кующий жизнью, имеет полное право на ожесточение, на
вспышки гнева и ненависти. Любой активный политик то¬
же. Но только не мы, люди иного склада, — поэты, худож¬
ники, журналисты. Пристало ли нам усугублять то, что и
без того, худо, к лицу ли нам умножать уродливое и достой¬
ное сожаления?
Выиграет что-нибудь Германия, запретив у себя распро¬
странение английских и французских книг? Станет ли мир
хоть чуточку лучше, если французский писатель начнет
осыпать противника площадной бранью и разжигать в вой¬
сках звериную ярость?
Все эти проявления ненависти — от нагло распростра¬
няемых «слухов» до подстрекательских статеек, от бойкота
«враждебного» искусства до хулы и поношений в адрес це¬
лых народов — основываются на скудоумии, на лености
мысли, которую Vлегко простить солдату на фронте, но ко¬
торая не к лицу рассудительному рабочему или труженику
на ниве искусства. Мой укор не относится к тем, для кого
мир и раньше не простирался дальше пограничных столбов.
Я веду здесь речь не о тех, у кого вызывает возмущение
любое доброе слово о французской живописи, кто впадает
в ярость от каждого иностранного выражения. Такие люди
и впредь будут делать то, что делали до сих пор. Но все
остальные, те, кто до недавнего времени сознательно или
неосознанно помогали возводить наднациональное здание
человеческой культуры, а теперь вдруг возжаждали пере¬
нести войну в сферу духа, — вот они творят непоправимое
и вступают на ложный путь. Они до тех пор служили людям
и верили в существование наднациональной идеи челове¬
чества, пока этой идее ничего не угрожало, пока думать и
действовать так было удобно и привычно. Теперь же, когда
приверженность величайшей из идей требует работы, со¬
пряжена с опасностью, становится вопросом вопросов, они
предают ее и затягивают мелодию, которая по душе &ль-
шинству.
12
Само собой, я ничего не имею против патриотических
чувств и любви к своему народу. В эту тяжкую годину меня
не будет среди тех, кто отрекается от своего отечества, и
мне не придет в голову отговаривать солдата от выполнения
своего долга. Раз уж дело дошло до стрельбы, пусть стре¬
ляют, Но не ради самой стрельбы, не ради уничтожения не¬
навистного врага, а чтобы как можно скорее взяться за бо¬
лее возвышенную и достойную работу! Сегодня каждый миг
гибнет многое из того, над чем всю жизнь трудились луч¬
шие из художников, ученых, путешественников, перевод¬
чиков, журналистов. Тут уж ничего не поделаешь. Но тот,
кто хотя бы один-единственный светлый час верил в идею
человечества, в интернациональную науку, в красоту ис¬
кусства, не ограниченного национальными рамками, а те¬
перь, испугавшись чудовищного напора ненависти, отрека¬
ется от прежней веры, а заодно и от лучшего в себе, тот
поступает безрассудно и совершает ошибку. Я думаю, среди
наших поэтов и литераторов вряд ли найдется хотя бы
один, чье собрание сочинений украсит когда-нибудь то, что
сказано и написано им сегодня под влиянием злобы дня. И
среди тех, кто заслуживает право называться писателем,
вряд ли встретится такой, кому патриотические песни Кер¬
нера* были бы больше по душе, чем стихотворения Гёте,
который столь странным образом держался в стороне от ос¬
вободительной войны своего народа.
Вот-вот, тут же воскликнут ура-патриоты, этот Гёте был
нам всегда подозрителен, он никогда не был патриотом, он
заразил немецкий дух тем мягкотелым, холодным интер¬
национализмом, которым мы уже давно болеем и который
изрядно ослабил наше германское самосознание.
В этом суть дела. Гёте никогда не был плохим патрио¬
том, хотя он и не сочинял в 1813 году национальных гим¬
нов. Любовь к человечеству он ставил выше любви к Гер¬
мании, а ведь он знал и любил ее, как никто другой. Гёте
был гражданином и патриотом в интернациональном мире
мысли, внутренней свободы, интеллектуальной совести, и
в лучшие свои мгновения он воспарял на такую высоту, от¬
куда судьбы народов виделись ему не в их обособленности,
а только в подчиненности мировому целому.
Такую позицию можно в сердцах обозвать холодным
интеллектуализмом, которому нечего делать в годину ис¬
пытаний, — и все же это та самая духовная сфера, в кото¬
рой обретались лучшие поэты и мыслители Германии. Се¬
годня самое время напомнить о духовности и призвать к
13
чувству справедливости и меры, к порядочности и челове¬
колюбию, в этой духовности заключенным. Неужели на¬
ступит время, когда немцу потребуется мужество, чтобы
сказать, что хорошая английская книга лучше плохой не¬
мецкой? Неужели дух воюющих сторон, которые сохраня¬
ют жизнь взятым в плен врагам, посрамит дух наших мыс¬
лителей, неспособных признать и оценить противника даже
тогда, когда тот проповедует миролюбие и творит добро?
Что принесет нам послевоенное время, которого мы уже те¬
перь слегка побаиваемся, время, когда путешествия и ду¬
ховный обмен между народами окажутся в полном запусте¬
нии? И кому, как не нам, предстоит работать над тем, что¬
бы все снова стало по-иному, чтобы люди снова йаучились
понимать и ценить друг друга, учиться друг у друга, кому,
как не нам, сидящим за письменными столами, в то время
как наши братья сражаются на фронте? Честь и слава тому,
кто проливает кровь и рискует жизнью на полях сражений
под взрывами гранат! Но перед теми, кто желает добра
своей отчизне и не утратил веры в грядущее, стоит иная
задача: сохранять мир, наводить мосты между народами,
искать пути взаимопонимания, а не потрясать оружием
(пером!) и не разрушать до основания фундамент будущего
обновления Европы.
В заключение несколько слов для тех, кто страдает от
войны и впадает в отчаяние, кому кажется, что она унич¬
тожает остатки культуры и человечности. Войны были всег¬
да, с тех пор как человечество помнит себя, и никогда не
было оснований считать, что с ними наконец покончено.
Если мы и думали иначе, то исключительно потому, что
привыкли к долгому миру. Войны будут до тех пор, пока
большинство людей не научится жить в гётевском царстве
духа. И все же устранение войны остается нашей благород¬
ной целью и важнейшей задачей западной христианской
цивилизации. Исследователь, ищупщй средство против за¬
разной болезни, не откажется от своей работы только по¬
тому, что его застала врасплох новая эпидемия. Мы тем
более не откажемся от нашего идеала и не перестанем бо¬
роться за «мир на земле» и за дружбу всех людей доброй
воли. Человеческая культура возникает из облагоражива¬
ния и одухотворения животных инстинктов, из чувства
стыда, из фантазии и стремления к знанию. Жизнь стоит
того, чтобы ее прожить, — в этом высший смысл и утеше¬
ние всякого искусства, несмотря на то что никому из вос¬
певавших ее не удалось избежать смерти. Пусть эта злопо¬
14
лучная война заставит нас глубже, чем когда бы то ни было,
почувствовать, что любовь выше ненависти, понимание вы¬
ше озлобленности, мир благороднее войны, А иначе какая
же еще от нее польза?
ПИСЬМО ОБЫВАТЕЛЮ
Город Ц,, господину М., 1915
Вы будете- удивлены, господин М., получив от меня
письмо, и удивитесь еще более, узнав, что написать его ме¬
ня побудило воспоминание о нашей последней встрече и на¬
шей беседе; ведь Вы, я думаю, давным-давно забыли и эту
встречу, и этот разговор. Со мной между тем случилось не¬
что противоположное, то есть поначалу я не придал ника¬
кого значения ни самому событию, ни прозвучавшим тогда
словам, я сразу все забыл, господин М., в том числе и ска¬
занное Вами, забыл, так сказать, уже в момент самого раз¬
говора и пошел дальше своей дорогой, не испытывая на сей
счет никаких заметных чувств. Однако позднее, еще вече¬
ром того же дня, наш небольшой глупый разговор вспом¬
нился мне вдруг снова; он застрял в мозгу этакой неприят¬
ной маленькой занозой, а там стал напоминать о себе все
чаще и чаще, все тревожней, все неприятнее. С тех пор
прошло несколько месяцев, почти целый год, и не меньше
двух-трех раз в каждый из этих месяцев я поневоле думал
о Вас, господин М., и перебирал в памяти тот разговор, и
продолжал с Вами долгий мысленный спор, спор, которого
Вы, скорей всего, не заслуживаете и который пересказы¬
вать Вам не стану.
Однако начнем с самого начала, ведь Вы-то наверняка
давно обо всем забыли! Итак, это было месяцев десять-
одиннадцать назад; я прибыл в Ваш город около полудня,
в руках у меня был желтый портфель и зонт, и мы встре¬
тились с Вами у трамвайной остановки на той стороне тон¬
неля. Мне надо было ехать в пригород, где жил мой друг.
Вы же, наверное, возвращались после своих неведомых мне
финансовых дел пообедать к себе домой, ибо, как мог я убе¬
диться тоща, у Вас был там, в прекраснейшей местности за
городской чертой, роскошный дом с большим садом.
Я поздоровался с Вами, поскольку вспомнил, что не¬
сколько раз видел Вас прежде. Я встречал Вас время от вре¬
мени на литературных чтениях, на концертах и тому подо¬
бных мероприятиях. Вы, если не ошибаюсь, входили также
15
в какую-то комиссию по литературе или искусству. Во вся¬
ком случае, нам уже не раз случалось друг с другом бесе¬
довать. Вы проявляли некоторый интерес ко мне, на меня
же произвели впечатление человека приятного, светского,
достаточно образованного, чтобы иметь представление об
искусстве, но все-таки слишком в большой степени дельца,
человека, слишком занятого деньгами, то есть ничем, что¬
бы быть свободным и дышать тем воздухом, в котором толь¬
ко и может естественно расцветать прекрасное. Мне каза¬
лось, Вы были не чужды прекрасному, но Вы знали его
лишь как знают рабыню, которую ценят и втайне предпо¬
читают. Иногда — так мне казалось — Вы ощущали тоску
по какой-то более просветленной жизни, по голосам из ми¬
ра, где нет ни денег, ни финансовых дел. Потому ведь и
заседали Вы в комиссиях по искусству и посещали литера¬
турные вечера, а в комнатах Вашего прекрасного дома на¬
верняка имелось несколько хороших картин.
Итак, я приветствовал Вас дружелюбно, с той невинной
радостью, какую испытываешь, повстречав человека, о ко¬
тором у тебя существуют лишь легкие, добродушные, при¬
ятные, необязательные воспоминания. Вы в том же тоне от¬
ветили мне, в улыбке Вашей была и небольшая радость уз¬
навания, и небольшой оттенок покровительственности, ко¬
торую проявляют едва ли не все богатые или влиятельные
люди по отношению к художникам и им подобным стран¬
ным существам и которая меня отнюдь не оп^алкивает. Воз¬
можности для беседы у нас не было, мы сидели не рядом,
и вагон трамвая в этот дневной час был переполнен.
Но затем Вы бошли на той же остановке, что и я, и напра¬
вились по той же самой ведущей в гору боковой улице, так
что нам еще пришлось подать друг другу руки и обменяться
несколькими словами. Вы дружелюбно поинтересовались,
что привело меня в Ц., и я ответил; я приехал сюда на одну
музыкальную постановку, которой должен был дирижиро¬
вать мой друг и о которой мы затем заговорили. С нами шел
еще третий господин, которого Вы мне также представили, и,
если я верно помню, именно этот третий перевел вяло теку¬
щий разговор (мы поднимались в гору и были все голодны) на
ту тему, которая с тех пор столь часто меня занимала. Он за¬
вел речь о моей новой книге и поинтересовался, не выйдет ли
она этой зимой, сопроводив все полушутливым замечанием о
материальных выгодах литературной работы, о гонорарах и
тиражах. Я с улыбкой постарался отпарировать, и это был
16
единственный момент во всем разговоре, который запомнил¬
ся мне совершенно точно.
Дело в том, что Вы вдруг оживились, и голос Ваш стал
громким и немного язвительным, когда Вы, взглянув на ме¬
ня с насмешливой улыбкой, воскликнули: «А что, вы, ху¬
дожники и поэты, тоже ничуть не отличаетесь от осталь¬
ных! Вы думаете лишь о деньгах да о заработке, ни о чем
больше!»
Так было дело. Я ничего не ответил, и, хотя странно
агрессивная невежливость Ваших глупых слов в первый миг
меня удивила, долго я на них не задерживался. При всем
том они неприятно меня задели, и я был рад, что Вы уже
добрались до своего дома. Я приподнял шляпу, пожелал
Вам всего доброго, но, испытывая все же неприятный оса¬
док, уже не подал Вам руки, почти тут же расстался и со
вторым своим спутником и небольшой остаток пути проде¬
лал один.
А там свидание с моим другом, его женой и детьми, обед,
разговоры и музыка заставили меня совершенно забыть
встречу с Вами, но вечером она вдруг опять вспомнилась.
Я испытывал чувство неудовольствия и беспокойства, даже
нечто вроде мерзкого чувства, будто я чем-то испачкался,
не давало покоя смутное ощупцение, будто меня сегодня ос¬
корбили, будто я был свидетелем чего-то недостойного и
сам при этом вел себя недостойно. И вдруг мне стало ясно,
что связано это с Вашими словами, господин М., Вашими
глупыми и грубыми словами обо мне и вообще о художни¬
ках.
Причем я скоро заметил, что мучило меня не мелкое
оскорбление, которое в Ваших словах можно было бы отне¬
сти к себе, а чувство раскаяния, нечистой совести. Я слы¬
шал, как человек, к которому я привык относиться доста¬
точно уважительно и всерьез, высказался грубо и гадко обо
всех художниках, а я при этом промолчал. Я упустил мо¬
мент, когда в душу этого человека все же могло бы проник¬
нуть серьезное слово, которое пусть на миг, но, может, сму¬
тило бы этого господина М. и заставило бы его внутренне
устыдиться или даже склониться перед миром, в котором
он увидел бы больше чистоты, нежели в собственном.
С тех пор, как уже было сказано, я не раз перебирал
эти слова в памяти. И все более получалось так, что досада
на Вашу персону, господин М., отступала на задний план,
а куда важней оказывалась досада на самого себя. Нетрудно
было раз и навсегда решить, что я с Вами просто больше не
17
стану знаться и подавать Вам руки, но это была мелочь.
Моей ошибки это не могло исправить, моей терпимости это
не извиняло. Я вспомнил: точно такое же чувство недоволь¬
ства собой, досады и стыда, как от мысли, что я молча при¬
нял Ваши дурацкие слова, я уже испытал однажды два-три
года назад. Мне вспомнилась история, которую я, казалось,
совсем забыл, но теперь, вместе с Вашей, она меня какое-то
время стала буквально мучить.
Вот что это была за история. Как-то, путешествуя по
морю, я, покуда наше судно в порту загружалось углем,
сошел на берег вместе с еш:е одним господином. Он уже бы¬
вал в этом экзотическом портовом городе и, взяв на себя
роль проводника, сумел за два-три часа показать мне там
все, что можно было найти по части кафешантанов, танцу¬
лек, увеселительных ресторанов и тому подобных развле¬
кательных заведений. Я же, едва оказавшись в первом из
них, испытал сильнейшее отвращение, мне казалось в вы¬
сшей степени неприятным, отвратительным и недостойным
не только это несимпатичное мне место, но и сам этот гос¬
подин, его подмигивания и смешки, я шел с ним рядом раз¬
драженный, озлобленный и просто не находил в себе муже¬
ства отделаться от своего спутника, вслух или молча выра¬
зить ему свое неодобрение и пойти прочь. Нет, этого просто
не получилось; его жирная, веселая, наивно грубая натура
просто взяла верх над моей, более слабой, я следовал за
ним, как за своим палачом, и сколь жестоко ни досадовал
на него и на самого себя, но речи его выслушивал молча.
Да, так было дело. Оскорбляло меня не то, что в мире
есть мерзость и свинство; на это я мог не обращать внима¬
ния, над этим я мог посмеяться. Но то, что эту сторону ми¬
ра, которую я презираю и отвергаю, я однажды принял спо¬
койно к сведению, так что могло показаться, будто я одоб¬
ряю и эти вещи, и своего провожатого, который их искал и
любил, — вот что осталось сидеть во мне занозой. И к этой-
то занозе добавилась другая — небольшое происшествие с
Вами, господин М.
Я пишу Вам это не для того, чтобы хоть как-то задним
числом оправдать себя, совсем напротив. Я пишу это вооб¬
ще не для Вас, а для себя, и пишу для того, чтобы признать
свою вину. В тот раз я не имел права без протеста выслу¬
шивать Ваши некрасивые слова о художниках. Ведь, мо¬
жет, у Вас на уме было совсем другое! Быть может. Вы,
богатый финансист, в душе изголодавшийся по искусству,
хотели, собственно, лишь поддразнить меня, лишь услы¬
18
шать мои оправдания, лишь спровоцировать меня на ответ,
который подтвердил бы для Вашего усомнившегося сердца
существование идеалов, наличие того самого более чистого
мира. А мое молчание поколебало, загасило и в Вас эту тай¬
ную надежду, это тайное желание верить, и чем дольше я,
расстроенный, шел с Вами молча, тем глубже позволял Ва¬
шей колеблющейся душе погрузиться в неверие, в тот глу¬
пый, дешевый скепсис, который более опасен и враждебен
искусству, жизни духовной, чем любой грех.
Если почти год спустя я делаю Вам такое признание, то
вовсе не для того, чтобы исправить невольно причиненное
Вам. У меня больше нет потребности говорить с Вами и по¬
давать Вам руку. Ах, как было бы легко возразить на Вашу
тогдашнюю глупость, безо всяких сантиментов, одними
фактами, цифрами и расчетами! Но и это теперь ни к чему.
Не Вас обвиняю я, тем более что уже и не придаю Вам осо¬
бого значения, а себя самого я считаю повинным в том, что
своим молчанием, а может, даже и слишком двусмыслен¬
ной улыбкой мог пробудить впечатление, будто я с Вами
согласен и разделяю Ваше мнение, которое на самом деле
я глубоко отвергаю и ненавижу.
Можете думать обо мне что угодно! Можете думать, что
я тогда был с Вами и вправду согласен! Можете, если угод¬
но, думать, что я всегда так считал и до сих пор считаю!
Относите меня к тем художникам, которых связывает с ис¬
кусством лишь случай да ремесло... Мне все равно, я легко
обойдусь и без Вашего уважения. Но ведь сейчас, господин
М., Вы, богатый человек. Вы, в своем доме, в своем краси¬
вом саду, больше уже не полагаете, что можно безнаказан¬
но совершать подобные маленькие убийства, как Вы сдела¬
ли это тогда своими словами! Я знаю. Вы уже давно чувст¬
вуете, что наказаны, я знаю, это наказание становится все
больше, все чувствительней, оно все сильней и сильней от¬
равляет Вам жизнь. И покуда Вы не попытаетесь восстано¬
вить в душе своей веру, покуда Вы заново и всерьез не об¬
думаете мысль о том, существует ли добро, до тех пор Ваша
душа будет болеть и страдать. У Вас всегда будет все, что
можно купить за деньги, но Вы будете обречены видеть, что
именно самого лучшего, самого желанного нигде и никогда
за деньги купить невозможно! Лучшее, прекраснейшее, же¬
ланнейшее в мире можно оплатить лишь собственной ду¬
шой, его нельзя купить, как никогда нельзя купить любви,
а тот, чья душа нечиста, неспособна к добру, неспособна по
крайней мере верить в добро — для того и самое лучшее,
19
самое благородное уже лишено чистоты, — более того, он
обречен навеки довольствоваться уменьшенным, испорчен¬
ным, омраченным образом мира, который создала его соб¬
ственная мысль себе же на муку и на убожество.
ПРИБЕЖИЩЕ
С давних пор одна заветная мечта сопутствовала моей
жизни. И даже не сопутствовала, она пустила во мне корни,
она питалась моими соками, как иногда «сопутствуют» нам
друзья и родственники, которых надо любить и почитать,
так что наш дом становится их домом и наша сила — их
силой.
Со стороны эта мечта могла показаться прекрасной и не
такой уж нескромной. Суть ее можно было определить од¬
ним словом: прибежище. В разные времена прибежиш;е это
рисовалось по-разному. То это был домишко на Фирваль-
штедтском озере, с весельной лодкой у берега. То хижина
дровосека в Альпах, с деревянной лежанкой для сна, в че¬
тырех часах ходьбы до ближайшего жилого дома. Иноща
это была пещера или небольшое нагромождение камней в
скалах Южного Тессина, близ светлой каштановой рощи,
на уровне самого высокого виноградника, с окошком и
дверью, но, может быть, и без них. Другой раз прибежищем
оказывался билет, позволявший занять маленькую каюту
на пароходе, где можно было в одиночестве совершить
трехмесячное путешествие. Иногда же оно имело вид и того
скромней — всего лишь какая-нибудь дыра в земле, ма¬
ленькая могила, худо-бедно выкопанная, с цветами навер¬
ху, с гробом или без гроба.
Но смысл и суть его оставались всегда неизменны. Будь то
домик в деревне или каюта на пароходе, хижина в горах или
сад в Тоскане, пещера в тессинских горах или дыра в кладби¬
щенской земле — смысл был все тот же: прибежище! Деви¬
зом этой мечты всеща оставался для меня стих швабского па¬
стора*, того самого милого болезненного чудака, что, уеди¬
нясь от мира в деревне и ни о чем не забоять, писал:
О мир, оставь, оставь меня в покое!
Мне это казалось пределом желаний: найти бы только
где-нибудь такую нору, такое прибежище, такой тайник,
надежный и тихий, еще бы с лесом и видом на море — и
20
ничего больше не надо, во всяком случае, никаких людей,
приносящих заботы и крадущих мысли, никаких писем, ни¬
каких телеграмм, никаких газет, никаких тебе коммивоя¬
жеров от культуры. Пусть будет там ручей или водопад,
пусть тихо горит там свет солнца на бурых соснах, пусть
порхают мотыльки или пасутся козы, откладывают яйца
ящерки или гнездятся чайки — неважно, главное сохра¬
нить свой душевный покой, свое уединение, свой сон и свою
мечту. Hhktq не вправе был войти в это прибежище, если
я его не позвал, никто не должен был даже знать о нем,
никто не мог ничего от меня хотеть, ни к чему меня при¬
нуждать. Я не значился бы там ни в одной адресной книге,
ни в одном налоговом списке.
Да, прелестна была моя мечта, мое видение, она звучала
скромно и сладостно, она могла ссылаться на образцы, на
знаменитых поэтов. И разве я не имел на нее права? Разве
для человека, который не искал власти, старался по воз¬
можности выполнять все, что от него требовал мир, был
просто поэтом и тихим бюргером, — разве могла для меня
существовать мечта более естественная и понятная, нежели
мечта о своем пристанище, о местечке на юге, об уголке
среди гор, о пещере, об укрытии, о норе, яме? Пусть заго¬
родный домишко или каюта на пароходе — претензия
чрезмерная, но о соломенной лежанке в хижине, о неболь¬
шой могильной яме без имени этого уж не скажешь никак.
Многие часы и многие годы лелеял я свою мечту, я воз¬
вращался к ней в часы прогулок и вр время работы в саду,
засыпая и пробуждаясь, в вагоне поезда и бессонными но¬
чами. Я выстраивал ее, я разрисовывал ее и расцвечивал,
я разыгрывал ее, как музыку, все более нежную, прелест¬
ную, восхитительную, я дописывал ее на лесных тенях,
угадывал в меканье коз, я вплетал в нее нити своей тоски
и вливал в нее свою любовь. Я нежно освещал мою милую,
я, как мать, гладил ее, я ласкал ее, как возлюбленный. Ес¬
ли вспомнить, то, право, не много нашлось бы вещей на
земле, а может, не нашлось бы и вовсе, во что я вложил
столько любви, столько заботы, столько тепла своей крови,
столько силы и страсти.
И как же порой светила она мне, как волновала и уте¬
шала, как проникновенно, сердечно звучала, как пылала
розовым светом, возлюбленная мечта моя! Какими она бы¬
ла пронизана нежнейшими золотыми нитями, какие про¬
никновенные тающие краски украшали ее продуманный
тысячекратно узор!
21
Шли годы, и порой, случалось, иные голоса захватывали
меня, вдруг долетали до меня призывы, касались меня про¬
зрения, которые наносили мечте ущерб, они оставляли мел¬
кие трещины на ее драгоценной разноцветной поверхности,
расстраивали в ней какую-то струну, увядший листок вдруг
становился заметен в ее кроне. Я поскорей старался заде¬
лать трещины, добавить новой любви, клял себя за то, что
позволил мечту замутить, добавлял в нее свежей питатель¬
ной крови! И вот она уже вновь была нетронута и прекрас¬
на. Скажу сразу, она и поныне способна после всех утрат
воспрянуть и заблистать, как прежде.
Но все чаще подступали ко мне мысли, несовместимые
с этим видением. Слово в беседе с друзьями, фраза в книге,
стих в Библии, строка у Гёте поневоле завладевали мной,
одиночество, уход друзей, утрата радостей говорили со
мной на грубом своем языке, боль стала вить во мне свои
гнезда. Все это были лишь возгласы, лишь предостереже¬
ния, на каждое в отдельности можно было и не обращать
внимания, но все вместе они вновь и вновь растравляли од¬
ну и ту же рану. И все было против моей мечты. Шекспир
над ней издевался, Кант опровергал ее. Будда ее отрицал.
Лишь боль то и дело возвращала меня к ней. Может быть,
она утихла бы и исчезла, если бы мне все-таки удалось об¬
рести вдруг свое убежище? Может быть, там, в пещере у
ручья на лоне природы, вдали от шума, вдали от суеты, я
вновь узнаю, что такое сон и чувство голода, улыбка и от¬
крытый взгляд, свободное дыхание и жажда деятельности?
Но и боль становилась сильней, продолжительней, она
была против моей мечты; в иные минуты я уже видел: грош
ей цена. «Прибежище» не исцелит меня, боль не отпустит
ни в лесу, ни в хижине, я нигде не обрету единения с миром
и мира с самим собой.
Все это совершалось медленно, тесные витки спирали
повторялись, и сотни раз желанное видение возвращалось,
ручей отрадно бежал по золотистой гальке, и озеро баюкало
задушевные цветные сны. Но и предостережения звучали
все явственней, а главное, все сильней становилась боль, и
часто Иов представлялся мне братом*.
И вот однажды в мой ум постучало новое понимание,
оно было еще хуже прежнего, еще отчетливей, враждебней,
грозней. Вот что дошло до меня: «Твоя заветная мечта была
не просто ложной, она была не просто ошибкой, не просто
милым ребячеством и мыльным пузырем. Она сожрала те¬
бя, она высосала твою кровь, она украла у тебя жизнь. Уде¬
22
лил ли ты когда-нибудь хоть половину такой же любви, как
ей, другу, женщине, ребенку, столько заботы, столько теп¬
ла, столько дней, ночей, часов вдохновения? Не страшно
ли тебе теперь? Не видишь ли ты теперь, кого ты вскормил,
кого носишь у своего сердца? А кому обязан ты своей уста¬
лостью и своей болью, своим старением, своей слабостью?
Ей, ей, все ей, твоей мечте, ей, змее, ей, кровопийце!»
Это понимание тоже победило не сразу, и, хоть оно си¬
дит во мне глубоко, ему и сейчас ведомы и сомнения, и
поражения. Но оно сохранилось.
И пришел еще один день — и поразил мою мечту в са¬
мое сердце.
Она подверглась последнему испытанию — ей дано бы¬
ло осуществиться. Нашлось прибежище, домик, маленький,
тихий, отдаленный, прекрасный, высоко в горах над юж¬
ным озером, прибежище, укрытие, гнездо покоя, колыбель
сновидений. Его можно было получить, оно было мне пред¬
ложено.
Вот тут-то мечта и попалась. Попалась на всей своей
лживости. Она попросту испугалась, когда ей дано было
осуществиться. Ей не хотелось осуществления, она струси¬
ла, она искала предлогов, она прибегала к отговоркам, она
возражала, она отшатывалась в ужасе.
Ах, иначе и быть не могло! Она так долго обманывала,
так долго сулила, слишком много сулила. Она все получала
и получала, теперь ей вдруг пришлось отдавать. А отдавать
оказалось нечегд. Ей захотелось ускользнуть, как мошен¬
нику, который назвал ложный адрес, и вот его привели ту¬
да, ще никто его не думает узнавать, где ему надо замол¬
кнуть, ще он разоблачен.
Это был смертельный удар.
Но вампиры способны перенести и смертельные удары,
они вдруг оживают опять, они снова тут, они хотят снова
жрать, снова питаться живой кровью. И эта мечта еще жи¬
ва, у нее есть свои лазейки, свои уловки. Только теперь я
знаю, что она мой враг.
Я знаю это с того самого дня, как ко мне пришло по¬
следнее понимание.
Как и всякое понимание, оно явилось в облике хорошо
знакомом, я его уже не раз встречал. Это было изречение,
случайно прочитанное мною в одной книге, старая фраза,
которую я давным-давно знал и помнил наизусть. Но те¬
перь оно звучало по-новому, оно звучало во мне.
Царство Божие внутри нас*.
23
я опять получил что-то, чему могу следовать, чем ру¬
ководствуюсь, чему отдаю свою кровь. Это не желание и не
мечта, это — цель.
Цель эта — снова прибежище. Но не пещера и не ко¬
рабль. Я ищу и жажду прибежища внутри самого себя, ищу
пространства или точки, куда не достигает мир, где я один
дома, оно надежней гор и пещер, надежней и укромней, чем
гроб и могильная яма. Вот моя цель. Туда ничто не может
проникнуть, ибо это слито со мной.
Пусть там могут быть бури и боль, пусть может там
литься кровь.
Я еще далек от этой цели, я пока лишь в самом начале пу¬
ти, но теперь это именно мой путь. А уже не просто мечта.
О глубокое прибежище! Ты недоступно никаким бурям,
тебя не опалит огонь, тебя не разрушит никакая война. Ма¬
ленькая каморка в глубине собственного существа, малень¬
кий гроб, маленькая колыбель, к тебе устремляюсь я.
ЯЗЫК
От несовершенства и скудости языка писатель страдает
более, чем от недостатка всего прочего. Иногда он просто
ненавидит язык, обЁиняет и проклинает его, а точнее — са¬
мого себя за то, что рожден для работы с этим жалким ору¬
дием. С завистью думает писатель о живописце, чей
язык — краски — понятен одинаково всем от Северного
полюса до Африки, или о музыканте, который пользуется
звуками, тоже говорящими на всех человеческих языках,
и которому послушны всякий раз столько новых, неповто¬
римых языков, тонко отличающихся друг от друга, — от
монотонной мелодии до многоголосого оркестра, от трубы
до кларнета, от скрипки до арфы.
Особенно глубоко и постоянно завидует писатель музы¬
канту за то, что он владеет своим языком безраздельно и
только для музицирования! А писатель вынужден исполь¬
зовать тот же язык, на котором и учат в школах, и заклю¬
чают торговые сделки, и строчат телеграммы, и выступают
в суде. Как же беден писатель: не имея для своего искусства
собственного средства, собственного жилища, собственного
сада, собственного окошечка, чтобы смотреть на луну, он
вынужден все делить с обыденной жизнью! Говоря «сердце»
и разумея трепетную живейшую суть в человеке, его со¬
кровеннейшие свойства и слабости, он невольно указывает
24
и просто на мускул. Говоря «сила», он вынужден сражаться
за употребление этого слова с инженером или электриком.
А когда он пишет «блаженство», то в образ, сим обозначен¬
ный, вкрадывается что-то теологическое. Писатель не мо¬
жет употребить ни слова, которое бы одновременно не зна¬
чило и что-то другое, на одном и том же дыхании не при¬
вносило бы чужих, мешающих, нежелательных представ¬
лений, в самом себе не содержало бы преткновений и не¬
ловкого смысла и само бы не гибло, зажатое стенами, о кои
биясь, оно угасает, так и не прозвучав до конца.
Писатель не может быть хитрецом, который, как гово¬
рится, больше дает, чем имеет. Он не в состоянии дать и
десятой и сотой доли того, что хотел бы, он рад, если понят
хотя бы вчуже, хотя бы примерно, мимоходом и кое-как,
хотя бы без грубых недоразумений относительно самого
важного. Большего писатель добивается редко. И повсюду,
ще его хвалят или поносят, где он пожинает успех или на¬
смешки, где его любят или отвергают, речь не собственно
о его мыслях и грезах, а лишь о сотой доле того, что сумело
пробиться через узкий канал языка и не более просторный
канал читательского восприятия.
Потому-то люди так страшно противятся — противятся
не на жизнь, а на смерть, — коща какой-то художник или
целая группа творческой молодежи, сотрясая мучительные
оковы принятых стилей, пытаются ввести в оборот новые
выражения и языки. Ведь для сограждан язык (всякий
язык, усвоенный ими с трудом, не только словесный) —
святыня. Для сограждан святыня все общее и коллективное,
все, что каждый разделяет со многими, по возможности —
со всеми, что не вынуждает думать об одиночестве, рожде¬
нии и смерти, о сокровеннейшем Я. Сограждане, как и пи¬
сатели, лелеют идеал всемирного языка. Но всемирный
язык сограждан отнюдь не таков, каким мечтается он пи¬
сателю, у них он не первобытная россыпь сокровищ, не бес¬
конечный оркестр, а упрощенный набор телеграфных зна¬
ков, экономяпщй силы, слова и бумагу и не мешающий за¬
рабатывать деньги. Ведь литература, музыка и тому подо¬
бное всеща мешают зарабатывать деньги!
Сограждане, разучив язык, считающийся у них языком
искусства, довольны и мнят, что теперь-то они понимают
искусство, теперь-то оно им доступно, а узнав, что язык, с
таким трудом изученный ими, годится лишь для незначи¬
тельной сферы искусства, приходят в негодование. Во вре¬
мена наших дедов жили прилежные и просвещенные люди,
25
которые в музыке, кроме Гайдна и Моцарта, добились по¬
нимания также Бетховена. И почувствовали, что «идут в
ногу со временем». Но, коща появились Шопен, Вагнер и
Лист, предложив им вновь овладевать еще одним языком,
еще раз по-революционному и по-молодому, радостно и без
предвзятостей воспринять нечто новое, они забрюзжали,
заговорили об упадке искусства и вырождении эпохи, в
коей им поневоле приходится жить. То, что случилось с те¬
ми несчастными, вновь происходит со многими тысячами.
Искусство порождает новые лики, новые языки, по-новому
учится говорить и выражать себя, оно сыто по горло вче¬
рашними и позавчерашними языками, оно жаждет не толь¬
ко речи, но также и танца, жаждет сломать все рамки,
сдвинуть шляпу набекрень и пойти зигзагом. И от этого со¬
граждане в ярости, им кажется, что это издевка над ними,
.что с корнем вырывают их ценности, и, разражаясь бранью,
они прячутся с головой под одеяло собственного образова¬
ния. А те сограждане, которые из-за малейшего ущемления
их достоинства немедленно бегут в суд, изощряются в ос¬
корблениях.
Но эта ярость и эта бесплодная суета не освобождают
сограждан, не разряжают и не очищают их нутра, никак не
гасят их внутреннего беспокойства и раздражения. А ху¬
дожник, у которого жаловаться на сограждан оснований не
меньше, выражает свой гнев, презрение, горечь, изыски¬
вая, создавая, разучивая новый язык. Он чувствует, что ру¬
гань тут не спасает, что оскорбляющий всегда не прав. И,
так как в нашу эпоху у художника нет иных идеалов, чем
собственная его личность, так как он не желает ничего ино¬
го, чем быть самим собой и выражать то, что приуготовлено
в нем природой, свою враждебность к согражданам он пре¬
творяет в наивозможно личное, наивозможно прекрасное,
наивозможно выразительное, но не выплескивая гнева с пе¬
ной у рта, а выбирая и строя, отливая и оттачивая справед¬
ливую форму для своего гнева — новую иронию, новый
гротеск, новый способ обратить неприятное и раздражаю¬
щее в приятное и прекрасное.
Как бесконечно много языков у природы и как беско¬
нечно много создано их людьми! Пара тысяч незамыслова¬
тых грамматик, смастеренных людьми за период между
санскритом и волапюком, — достижение сравнительно
скудное. Скудное потому, что эти грамматики довольству¬
ются лишь самым необходимым, а самым необходимым со¬
граждане считают между собою всегда только заработки,
26
выпечку хлеба и прочее. А это не способствует процвета¬
нию языков. Человеческий язык (я имею в виду граммати¬
ку) еще никогда не достигал той легкости, живости, блеска
и изящества, которые расточает кошка извивами своего
хвоста, а райская птичка серебряной россыпью своего сва¬
дебного наряда.
И все же человек, оставаясь собою и не стремясь подра¬
жать муравьям или пчелам, превзошел и райскую птичку,
и кошку, и других животных, и растения. Он выдумал язы¬
ки, бесконечно лучше передающие мысли и чувства, чем
немецкий, греческий или итальянский. Он словно по вол¬
шебству вызвал к жизни религии, архитектуру, живопись,
философию, создал музыку, чья игровая выразительность
и богатство красок превосходят всех райских птичек и ба¬
бочек. Я говорю — «итальянская живопись» и слышу тыся¬
чи изобильных смыслов, пение хоров, преисполненных на¬
божности и сладости, блаженное звучание разнообразных
инструментов, ощущаю прохладу мраморных храмов, вижу
склонившихся в жаркой молитве монахов и прекрасных ма¬
донн, величаво царящих среди мягких ландша4^в. Или я
думаю: «Шопен», — и ночь наполняется кроткими и ме¬
ланхоличными жемчужными звуками, в струнах одиноко
стенает тоска по отчизне: утонченнейшая, личнейшая
скорбь выражена в гармониях и диссонансах куда задушев¬
ней, бесконечно точней, достоверней, чем это возможно у
иного страдальца посредством всяких там терминов, цифр,
кривых или формул.
Кто считает всерьез, что «Вертер> и «Вильгельм Мей-
стер» написаны одним языком? Что Жан Поль говорил на
том же языке, что и наши школьные учителя? А они писа¬
тели! Им приходилось работать с языком, убогим и нищим
орудием, созданным совсем для другого.
Произнеси слово «Египет», и ты услышишь язык, мощ¬
ными, гулкими аккордами славящий Бога, язык, насыщен¬
ный предчувствием вечности и трепета перед бесконечно¬
стью: окаменелым взглядом неумолимо смотрят цари по¬
верх миллионов рабов, поверх всего и вся, но неизменно —
лишь в темные очи смерти; величественно, словно вырос¬
шие из земли, застыли священные животные; нежный аро¬
мат источают цветы лотоса в руках у танцовщиц. Вселен¬
ная, звездное небо, преисполненное бесчисленных ми¬
ров, — лишь одно это слово «Египет». Можно лечь на¬
взничь и целый месяц не думать более ни о чем. Но вдруг
тебе приходит в голову другое. Ты слышишь имя «Рену¬
27
ар» — и улыбаешься, видя, как весь мир составляется из
округлых живописных мазков, розовый, светлый и радост¬
ный. Говоришь «Шопенгауэр» — и тот же мир претворяет¬
ся в черты страдающего человека, который в бессонные но¬
чи создает из скорби своей божество и с горестным ликом
идет по длинной тернистой дороге, ведущей к бесконечно
тихому, неприметному и печальному раю. Или прозвучит
в тебе «Вальт и Вульт»*, и все вокруг, словно облако, по-
жанполевски пластично преобразится в немецкое обыва¬
тельское гнездо, где разделенная на двух братьев человече¬
ская душа как ни в чем не бывало живет и действует среди
кошмара, вызванного безумным завещанием и интригами
филистеров, этой неуемно копошащейся муравьиной ку¬
чей.
Обыватель склонен уподоблять фантаста сумасшедше¬
му. И чутье не обманывает обывателя: он немедленно обе¬
зумеет, если, подобно художнику, верующему, философу,
подпустит себя к бездне собственного нутра. Как бы мы ни
называли эту бездну, душой или бессознательным, именно
она источник всякого движенья нашей жизни. У обывателя
же между ним самим и его душой имеется страж — созна¬
ние, нравственность, институция безопасности; и для обы¬
вателя не существует ничего, что исходит из душевной без¬
дны его непосредственно, без визы охранительного учреж¬
дения. Художник же всёща доверяет душе, а не тому стра¬
жу, и, тайно минуя его, он туда и сюда курсирует через
границу между «сей» и «той» стороной, между сознатель¬
ным и бессознательным, словно он дома и здесь и там.
Находясь по сю сторону, в известной освещенной обла¬
сти, где проживает и обыватель, он чувствует себя неимо¬
верно угнетенным скудостью всех языков, и жизнь писате¬
ля кажется ему тоща тернистой. Но когда он на той сторо¬
не, в области души, то всякое дуновение волшебно стано¬
вится словом, и льется музыка звезд, и улыбаются горы, и
мир. Господень язык, совершенен, в нем под рукой все бук¬
вы и слова, все выразимо, все звучит и все искуплено.
О ДУШЕ
Взгляд желания нечист, он все видит в искаженном све¬
те. Только когда мы ничего не желаем, только коща наше
вглядывание становится чистым созерцанием, раскрывает¬
ся душа вещей, раскрывается красота. Когда я осматриваю
28
лес, который хочу купить, взять в аренду, вырубить, обре¬
менить закладной, в котором собираюсь охотиться, то вижу
не сам лес, а только его отношение к моим желаниям, пла¬
нам и заботам, к моему кошельку. Тогда он состоит из де¬
ревьев, молод ли он или стар, здоров или болен. Если же я
не связываю с ним никаких желаний, а просто «бездумно»
погружаю взгляд в его зеленую глубину, тогда лишь он ста¬
новится лесом, природой, растительностью, тогда лишь он
прекрасен.
Точно так же обстоит дело с людьми и их историями.
Человек, на которого я смотрю со страхом, с надеждой, с
вожделением, с намерениями или претензиями, не чело¬
век, а только тусклое отражение моего желания. Разгля¬
дывая его, я сознательно или неосознанно задаю себе
сплошь сужающие, извращающие существо дела вопросы:
доступен он или заносчив? Уважает ли меня? Можно ли у
него взять в долг? Разбирается ли он в искусстве? Тысяча
подобных вопросов возникает, когда мы смотрим на чело¬
века, к которому у нас дело, и считаемся знатоками людей
и психологии, если нам удается уловить в его внешности
и поведении -то, что соответствует нашим намерениям или
противоречит им. Но это убогая точка зрения, в такого ро¬
да психологии крестьянин, торговец вразнос или подполь¬
ный адвокат превосходит большинство политиков и уче¬
ных.
В тот момент, когда желание унимается и наступает че¬
ред созерцания, чистого лицезрения и самоотверженности,
все становится другим. Человек перестает быть полезным
или опасным, заинтересованным или скучным, добродуш¬
ным или жестоким, сильным или слабым. Он становится
природой, становится прекрасным и необычным, как вся¬
кий предмет, на который направлено чистое созерцание.
Ибо созерцание не исследование и не критика, а только лю¬
бовь. Оно — наивысшее и самое желанное состояние нашей
души: любовь без желания.
Когда мы достигаем этого состояния, будь то на минуты,
часы или дни (сохранить его навсегда было бы совершен¬
ным блаженством), тогда люди выглядят не так, как обыч¬
но. Они уже не зеркальные или искаженные отражения на¬
шего желания, они снова обретают свою естественность.
Прекрасное и уродливое, старость и юность, добро и зло,
открытость и замкнутость, твердость и мягкость уже не
противоположности, уже не мера оценки. Все прекрасны,
29
все своеобычны, никто больше не становится объектом пре¬
зрения, ненависти, непонимания.
И как с точки зрения чистого созерцания вся природа
есть изменчивая форма проявления вечно творящей, бес¬
смертной жизни, так и особая роль и задача человека за¬
ключается в том, чтобы иметь душу. Бессмысленно спо¬
рить, свойственна ли «душа» только человеку, или же она
живет также в животном, в растении! Конечно же, душа
есть повсюду, она повсюду возможна, повсюду подготовле¬
на, повсюду предвосхищаема и желанна. Как носителем и
выразителем движения для нас является не камень, а жи¬
вотное (хотя и в камне есть движение, жизнь, рост, распад,
колебания), так и душу мы ищем прежде всего в человеке.
Мы ищем ее там, где она очевиднее всего, где она страдает
и действует. И человек представляется нам уголком мира,
особой провинцией, актуальной задачей, суть которой в
том, чтобы совершенствовать душу, — как когда-то зада¬
чей человека было встать на ноги, сбросить с себя волося¬
ной покров, изобрести орудия труда, добыть огонь.
Следовательно, мир человека для нас — это мир обита¬
ния души. Как в горе и скале я вижу и люблю исполинские
силы тяжести, а в животном — подвижность и стремление
к свободе, так и в человеке (в котором все это тоже есть)
я вижу прежде всего ту форму и возможность выражения
жизни, которую мы называем «душой» и которая нам, лю¬
дям, представляется не одним из тысяч излучений жизни,
а излучением особенным, избранным, высокоразвитым, ко¬
нечной целью. Ибо все равно, считаем ли мы себя матери¬
алистами, идеалистами или еще кем-нибудь, мыслим ли мы
«душу» как нечто божественное или же как сгорающую ма¬
терию, — все мы тем не менее знаем и ценим ее; для каж¬
дого из нас одухотворенный человеческий взгляд, искусст¬
во, форма душевной организации есть наивысшая, самая
последняя и самая ценная ступень и волна всякой органи¬
ческой жизни.
Таким образом, человек становится для нас самым бла¬
городным, самым возвышенным и самым ценным объектом
созерцания. Не всякий способен естественно и свободно
разделять эту самоочевидную оценку — я знаю это по соб¬
ственному опыту. В молодые годы я поддерживал с ланд¬
шафтами и произведениями искусства более тесные и более
душевные отношения, нежели с людьми, более того, я го¬
дами мечтал написать такое произведение, в котором были
бы только воздух, земля, вода, деревья, горы и животные,
30
но не было бы людей. Я ввдел, что человек настолько от¬
клонился от траектории души, до такой степени оказался
во власти желаний, так жадно и необузданно устремился к
животным, обезьяньим, первобытным целям, оказался та¬
ким падким на всякую мишуру, что мной на некоторое вре¬
мя овладело недоброе заблуждение, будто человек — как
путь к душе — уже развращен и движется вспять, будто
этот источник должен найти себе выход из природы где-ни¬
будь в другом месте.
Когда наблюдаешь, как два обыкновенных нынешних
человека, которые только что случайно познакомились и,
собственно, не ждут друг от друга никаких материальных
выгод, — как эти двое ведут себя, то почти телесно ощу¬
щаешь, насколько плотно каждый человек окружен гнету¬
щей атмосферой, защитной оболочкой, охранительным сло-
•ем, сетью, сплетенной из сплошных отклонений от душев¬
ного ядра, из намерений, страхов и желаний, направленных
на ложные цели и отделяющих человека от всех других це¬
лей. Создается впечатление, что душе всеми силами не да¬
ют выразить себя, что всю ее считают нужным оградить вы¬
сокими заборами, заборами страха и стыда. Только любовь
без желания способна разорвать эту сеть. И отовсюду, где
она разорвана, смотрит на нас душа.
Я сижу в железнодорожном вагоне и наблюдаю, как два
молодых человека приветствуют друг друга, потому что
случай сделал их на два часа соседями. Приветствие их ка¬
жется бесконечно странным, почти трагедийным. Кажется,
будто эти два молодых человека приветствуют друг друга
из немыслимой дали, из холода, с пустынных ледяных по¬
люсов — я, естественно, имею в виду не малайцев или ки¬
тайцев, а современных европейцев, — кажется, будто каж¬
дый из них о!битает в крепости, сооруженной из гордости,
уязвленной гордости, из недоверия и холодности. Для
внешнего наблюдателя то, что они говорят, кажется совер¬
шенным вздором, застывшими иероглифами бездушного
мира, из которого мы постоянно вырастаем и рваные ледя¬
ные ошметки которого постоянно висят на нас. Редко, чрез¬
вычайно редко встречаются люди, чья душа выявляет себя
уже в обыденном разговоре. Они больше чем поэты, они
почти святые. Надо сказать, у «народа» тоже есть душа, у
малайца или негра она проявляется в приветствии в боль¬
шей мере, чем у среднего европейца. Но это не та душа,
которую мы ищем и которой жаждем, хотя и она мила и
близка нам. Душа первобытного человека, не знающего
31
еще ни отчуждения, ни тягот обезвоженного и механизи¬
рованного мира, — это коллективная, простая, детская ду¬
ша, прекрасная и приятная, но не она является нашей
целью. Оба юных европейца в железнодорожном вагоне
уже миновали эту стадию. В них мало или даже совсем нет
души, кажется, они целиком состоят из организованного
желания, из разума, намерения, плана. Они потеряли свою
душу в мире денег, машин, недоверия. Им надо снова об¬
рести ее, и они заболеют и будут мучиться, если не выпол¬
нят эту задачу. Но то, что они обретут, уже не будет утра¬
ченной детской душой, а чем-то значительно более тонким,
значительно более личным, значительно более свободным
и способным к ответственности. Не к детству, не к перво¬
бытному состоянию должны мы стремиться, а дальше, впе¬
ред, к личности, к ответственности, к свободе.
Здесь еще нет и намека на эти цели, на их предвосхи¬
щение. Оба молодых господина — не первобытные люди и
не святые. Они говорят на языке повседневной жизни, на
языке, который столь же мало подходит к устремлениям ду¬
ши, как и волосяной покров гориллы, от которого можно
избавиться только постепенно, после множества робких по¬
пыток.
Этот первобытный, грубый, запинающийся язык звучит
примерно так:
— Доброе утро, — говорит один.
— Здравствуйте, — отвечает другой.
— Вы позволите? — спрашивает первый.
— Пожалуйста, — говорит другой.
Этим сказано все, что должно быть сказано. Слова зна¬
чения не имеют, это чисто декоративные формулы прими¬
тивного человека, их цель и ценность точно такие же, как
и у кольца, которое негр вдевает себе в нос.
Однако тон, каким произносятся эти ритуальные слова,
крайне необычен. Это формулы вежливости. Но по тону
они странно обрывисты, резки, скупы, холодны, чтобы не
сказать злы. Для выяснения отношений нет ни малейшего
повода, наоборот, молодые люди даже в мыслях не держат
друг на друга зла. Но выражение лица и тон холодны, сдер¬
жанны, почти обидчивы. Блондин, произнося свое «пожа¬
луйста», с почти презрительным видом поднимает брови.
Чувства его не таковы. Он употребляет формулу, которая
сложилась за десятилетия бездушного общения между
людьми и служила им защитой. Он полагает, что должен
скрывать свой внутренний мир, свою душу; он не знает, что
32
расцветает она только тоща, коща обнажается и жертвует
собой. Он гордый человек, он личность, он уже не просто¬
душный дикарь. Но гордость его жалка и не}гверенна, ему
приходится окапываться, возводить вокруг себя захцитные
валы холодности. Эта гордость исчезла бы, появись на его
лице улыбка. Но вся эта холодность, весь этот недобрый,
нервный, заносчивый и в то же время неуверенный тон об¬
щения между «образованными» говорит о болезни, о неиз¬
бежной и потому безнадежной болезни души, которая уме¬
ет защищаться от насилия только с помощью таких знаков.
Как робка эта душа, к^к она слаба, какой юной и неприз¬
нанной чувствует она себя на земле! Как она прячет себя,
как боится всего!
Если бы один из молодых людей сделал то, к чему чув¬
ствовал желание, он протянул бы другому руку, погладил
его по плечу и сказал примерно следующее: «Господи, ну
и прекрасное же сегодня утро, все кругом так и золотится,
а у меня каникулы! Не правда ли, мой новый галстук что
надо? Слушай, у меня в чемодане яблоки, хочешь угощу?»
Заговори он так и в самом деле, другой ощутил бы не¬
обыкновенный прилив радости и растроганности, оп^утил
бы желание засмеяться и всхлипнуть. Ибо он почувствовал
бы совершенно точно, что с ним 'заговорила душа другого,
что дело здесь не в яблоках и не в галстуке, а исключитель¬
но в том, что произошел прорыв, что к свету пробилось не¬
что, что и должно быть, но что все мы скрываем, следуя
некоему соглашению, которое еще давит на нас, но гряду¬
щий крах которого мы все-таки уже ощущаем!
Он, стало быть, все это почувствует, но вида не покажет.
Он прибегнет к механическому защитному средству, упот¬
ребит бессмысленный оборот речи, один из тысячи наших
заменителей слов. Он немного помычит и скажет: «Да...
гм... очень хорошо», или что-нибудь в этом роде и, мотнув
головой, отведет в сторону взгляд, полный оскорбленного,
мучительного терпения. Он станет играть цепочкой от ча¬
сов, смотреть в окно и с помощью двадцати подобных же
иероглифов даст понять, что он ни в чем не признается и
ничего не выразит, кроме разве что некоторой жалости к
этому навязчивому господину.
Однако ничего такого не происходит. У брюнета в чемо¬
дане и впрямь есть яблоки, он и впрямь по-детски радуется
чудесному дню, своим каникулам, новому галстуку и жел¬
тым башмакам. Однако если бы блондин вдруг сказал:
«Скверные вещи происходят с валютой», брюнет не сделал
2 5-258 33
бы того, чего хотела его душа, он не воскликнул бы: «По¬
думаешь, какое нам дело до валюты, давайте будем весе-
литы:я!», а с озабоченным лицом и глубоким вздохом про¬
изнес бы: «Н-да, это ужасно!»
Странно видеть, как этим двум господам (как и всем
нам), по всей видимости, не составляет труда вести себя
так, творить над собой такое неслыханное насилие. Они мо¬
гут вздыхать, когда сердце их полно радости, могут притво¬
ряться холодными и равнодупшыми, когда душа их жаждет
участия.
Но понаблюдаем дальше. Где-то же должна таиться ду¬
ша, раз ее нет в словах, в выражении лица, в интонациях
голоса. И вот я вижу: блондин, думая, что за ним никто
не наблюдает, забывается, и когда он смотрит из окна на
зубчатую кромку далекого леса, взгляд его становится рас¬
кованным и непритворным, полным молодости, тоски и
наивной, горячей мечты. Парень и выглядит теперь по-
иному, кажется моложе, проще, наивнее, но прежде всего
красивее. Другой, тоже безупречный и неприступный гос¬
подин, встает и протягивает руку к чемодану в сетке над
головой. Он делает вид, будто хочет проверить, хорошо ли
лежит чемодан, не свалится ли он, но чемодан лежит хо¬
рошо и прочно и не нуждается в подобной заботе. Да мо¬
лодой человек и не'хочет вовсе его поправить, он хочет
только дотронуться до него, убедиться, что он на месте,
нежно к нему прикоснуться. Ибо в безупречно подобран¬
ном кожаном чемодане кроме яблок и белья есть еще что-
то очень важное, еще одна святыня, подарок для любимой,
оставшейся дома, такса из фарфора или кёльнский собор
из марципана, неважно что, во всяком случае нечто такое,
к чему молодой человек сейчас привязан, чем заняты его
мысли, что вызывает его любовь и обожание, что он пред¬
почел бы не выпускать из рук, гладить и восхищенно раз¬
глядывать.
Целый час, пока шел поезд, продолжалось наблюдение
за двумя молодыми людьми, более или менее образованны¬
ми, ничем не примечательными современными людьми.
Они произносили слова, обменивались приветствиями, об¬
менивались мнениями, утвердительно и отрицательно ки¬
вали головой, делали тысячи маленьких вещей, производи¬
ли действия, выполняли движения, и ни в чем этом не при¬
нимала участия их душа, ни в одном слове, ни в одном
взгляде, все было маской, все делалось механически, все,
за исключением рассеянного взгляда из окна в сторону си¬
34
невшего вдалеке леса и короткого, неловкого прикоснове¬
ния к чемодану.
И ты думаешь: о, робкие души! Вырветесь ли вы коща-
нибудь наружу? Быть может, в каком-нибудь дружески
прекрасном спасительном переживании, в единении с неве¬
стой, в борьбе за веру, в поступке й жертве; быть может,
во внезапном, отчаянно-поспешном порыве оскорбленного,
скрытного, угрюмого сердца, в диком обвинении, в преступ¬
лении, в ужасном злодеянии? И я и все мы — как пронесем
мы наши души через эту жизнь? Удастся ли нам помочь
им, впустим ли мы их в наши жесты, в наши слова? Поко¬
римся ли мы судьбе, последуем ли за толпой и за своей
инертностью, станем ли снова и снова запирать птичку в
клетке, снова и снова вдевать себе в нос кольцо?
И ты чувствуешь: повсюду, где вынуты кольца из носа
и сброшен обезьяний волосяной покров, трудится душа. Ес¬
ли бы ей не ставили препон, мы разговаривали бы между
собой, как персонажи Гёте, и каждое свое дыхание воспри¬
нимали бы как песнь. Бедная, прекрасная душа, там, ще
ты, там революция, там разрыв с отжившим, там новая
жизнь, там Бог. Душа — это любовь, это будущее, а все
прочее только вещь, только материал, только попытка по¬
мешать божественной силе в нас лепить новые формы и
разбивать их.
Вслед за этим приходят мысли: разве не живем мы в
эпоху, коща громко заявляет о себе новое, коща разруша¬
ются связи между людьми, коща в чудовищных масшта¬
бах творится насилие, коща свирепствует смерть, коща
вопиет отчаяние? Разве и за этими событиями не таится
душа?
Спроси свою душу! Спроси ее, вобравшую в себя буду¬
щее, олицетворяющую любовь! Не спрашивай свой рассу¬
док, не ищи ответа в мировой истории! Твоя душа не обви¬
нит тебя в том, что ты слишком мало интересовался поли¬
тикой, слишком мало трудился, ненавидел врагов и укреп¬
лял границы. Но, может быть, она пожалуется, что ты
слишком часто пугался ее запросов и спасался от них бег¬
ством, что у тебя никоща не было времени заняться ею,
твоим младшим и прекрасным чадом, поиграть с ней, вслу¬
шаться в ее песнь, что ты слишком часто продавал ее за
деньги и предавал ради выгоды. Так ведут себя миллионы,
и куда ни глянь, везде у людей нервные, измученные, злые
лица, у них находится время только для самых что ни на
есть бесполезных вещей, для биржи и для санатория, и это
2* 35
отвратительное состояние — всего лишь предостерегающая
боль, сигнал крови. Коща ты пренебрегаешь мной, говорит
тебе твоя душа, ты становишься нервным и враждебным
жизни, таковым ты останешься и от этого погибнешь, если
не повернешься ко мне с совершенно новой любовью и за¬
ботой. Болеют недугами времени и утрачивают способность
к счастью ни в коем случае не слабые, не никчемные. Бо¬
леют скорее добрые, несущие в себе семена будущего, те,
чья душалелаходит удовлетворения, те, кто только из ро¬
бости уходят от ^рьбы против ложного мироустройства и
кто, быть может, уже завтра отнесутся к этому со всей серь¬
езностью.
С этой точки зрения Европа напоминает спящего чело¬
века, который в кошмарном сне отчаянно размахивает ру¬
ками и наносит повреждения самому себе.
Тут ты вспоминаешь, как один профессор говорил тебе
нечто подобное — что мир болен материализмом и интел¬
лектуализмом. Он прав, но стать твоим целителем ему не
дано, так же как и своим собственным. Интеллект будет
говорить в нем и дальше, вплоть до самоуничтожения. Про¬
фессор погибнет.
Каким бы ни был ход вещей в мире, целителя и сорат¬
ника, будущее и новое начинание ты найдешь только в себе
самом, в своей бедной, измученной, податливой, неуничто¬
жимой душе. Ей чужды знания, оценки, программы. Ей
свойственны только побуждение, только будущее, только
чувство. Ей следовали великие'святые и проповедники, ге¬
рои и страстотерпцы, великие полководцы и завоеватели,
великие волшебники и художники, все те, чей путь начи¬
нался в повседневности, а заканчивался в блаженных вы¬
сях. У миллионеров другой путь, он заканчивается в сана¬
тории.
И муравьи ведут войны, и пчелы создают государства,
и хомяки копят добро. Твоя душа ищет другие пути, и если
ты принесешь ее в жертву, если добьешься успеха за ее
счет, тебе не улыбнется счастье. Ибо ощущать «счастье»
может только душа, а не рассудок, не брюхо, не голова или
кошелек.
Но к чему долго размышлять и говорить об этом, ведь
существует изречение, в котором все эти мысли давно до¬
думаны до конца и выражены. Оно сформулировано в ста¬
родавние времена и относится к тем немногим мудрым вы¬
сказываниям, которые не стареют, которые вечно новы:
36
«Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя са¬
мого погубить или повредить себе?»*
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МИНИСТРУ
Сегодня вечером после дня напряженной работы я по¬
просил жену сыграть мне сонату Бетховена. Звуки этой му¬
зыки, ангельские голоса вновь позвали меня от дел и забот
вернуться в подлинный мир, в мир той единственной реаль¬
ности, что нам дана, что несет нам муки и радость, реаль¬
ности, в которой и ради которой мы все живем.
Потом я прочел несколько строк в той книге, где есть
Нагорная проповедь и где звучат возвышенные, древние,
насущнейшие для нас слова: «Не убий!»
Но не было почему-то покоя, я не мог ни отойти ко сну,
ни читать дальше. Тревога и страх полнили меня, я пытал¬
ся понять, выяснить, в чем тут причина, и вдруг вспомнил
несколько фраз из Вашей, господин министр, речи, кото¬
рую на днях прочел.
Речь Ваша была благопристойна, но ничего особенно но¬
вого, важного ияи способного будоражить мысль она не со¬
держала. Если выделить ее суть, в ней говорилось примерно
то же, что давно уже, как правило, говорят все правитель¬
ственные деятели: что хотя вообще-то нет для них ничего
более вожделенного, нежели мир, нежели новое единство и
плодотворная деятельность во имя будущего народов, что
хотя ни у кого нет желания наживаться или удовлетворять
страсть к убийству — тем не менее не наступил еще «миг
для переговоров», а посему пока надо храбро сражаться
дальше. Пожалуй, каждый министр каждой воюющей стра¬
ны мог бы произнести такую речь и, наверное, произнесет
ее — не завтра, так послезавтра.
И если речь эта не дает мне все же сегодня спать, хотя
подобные речи со столь же печальными выводами я читаю
уже не впервые, виной тому, теперь мне это совершенно
ясно, соната Бетховена, она да еще та старая книга, что я
читал потом, в которой звучат удивительные заповеди си¬
найские и светлые слова Спасителя.
Музыка Бетховена и слова Библии говорили мне об од¬
ном и том же, это были воды из одного источника — из
того единственного источника, откуда приходит к челове¬
ку добро. И я вдруг почувствовал, что речь Ваша, госпо¬
дин министр, как и речи правящих Ваших коллег, сплошь
37
я рядом берут начало не из этого источника, что в них не
хватает чего-то, придающего значение и цену людским
словам. В них не хватает любви, в них не хватает чело¬
вечности.
В Вашей речи звучит чувство заботы и ответственности
за свой народ, за армию своего народа, за честь своего на¬
рода. Но в ней не звучит чувство общечеловеческое. И она,
коротко говоря, означает десятки тысяч новых человече¬
ских жертв.
Наверно, Вы назовете сентиментальностью мое воспо¬
минание о Бетховене. Слова Иисуса и Библии Вы помянете
скорей уже с некоторым почтением, во всяком случае, пуб¬
лично. Но если Вы действительно верите хотя бы в один из
тех идеалов, во имя которых ведете войну, будь то свобода
стран или морских путей, будь то политический прогресс
или права малых народов, — если Вы действительно в глу¬
бине своей души верите хотя бы в один из этих идеалов, в
одну-единственную из этих неэгоистических мыслей, то,
перечитав свою речь. Вы не сможете не увидеть, что она
этому идеалу не служит, что она не служит вообще ника¬
кому идеалу. Она не есть выражение или плод какой-либо
веры, какого-либо чувства, какой-либо человеческой необ¬
ходимости, но лишь выражение и плод замешательства. За¬
мешательства, конечно, понятного, ибо нет ничего более
трудного, чем сегодня, сейчас признать известное разоча¬
рование результатами войны и искать ближайший путь к
миру.
Между тем замешательство, охвати оно даже десяток
правительств, не может быть состоянием бесконечным.
Сильней замешательства оказывается необходимость. И
коща-нибудь, рано или поздно. Вы и Ваши коллеги-врага
почувствуете, что необходимо и неизбежно это замеша¬
тельство осознать и найти решение, чтобы покончить с
ним.
Ибо все участники этой войны сегодня, да, впрочем,
уже и давно, разочарованы ее результатами. Где бы там
ни одерживались победы, сколько бы ни брали или ни те¬
ряли пленных, какие бы территории ни захватывали и ни
уступали — результат войны все равно не тот, какого от
нее ожидали. Решения, выхода, ясности нет и не предви¬
дится.
Чтобы как-то на время скрыть от себя самих и от своего
народа это состояние великого замешательства, чтобы до
поры до времени отложить большие и важные решения
38
(всегда требующие жертв), Вы и произнесли свою речь —
для этого произносят их и другие правительственные дея¬
тели. Это понятно. Уяснить человеческую супщость проис¬
ходящего и сделать из этого выводы проще революционеру
или писателю, чем ответственному государственному лицу
Людям нашего типа это легче, поскольку мы не отягощены
личной ответственностью за ту чудовищную депрессию, ко¬
торая охватит народ, когда он увидит, что цель войны не
достигнута и что, может быть, сотни тысяч человеческих
жизней, не говоря о миллиардных «ценностях», принесены
в жертву напрасно.
Но не только поэтому Вам трудней осознать замеша¬
тельство и начать поиск решения, чтобы окончить войну.
Вам труднее это и потому, что Вы слишком мало слушаете
музыку, слишком мало читаете Библию и великих писате¬
лей.
Вы усмехнетесь таким словам. Возможно, Вы даже ска¬
жете, что как лицо частное испытываете душевную склон¬
ность к Бетховену, ко всему прекрасному и благородному,
и это действительно так. Но мне бы очень хотелось, чт^
именно в эти дни Вы как-нибудь случайно услышали бла¬
городную музыку и вдруг вняли вновь голосам, исходящим
из этого святого источника! Мне бы очень хотелось, чтобы
в один из этих дней Вы как-нибудь в минуту покоя прочли
бы притчу Иисуса, стихотворение Гёте, изречение Лао-
цзы.
Миг, коща бы Вы это сделали, мог бы оказаться беско¬
нечно важным для мира. Возможно, он принес бы Вам
внутреннее освобождение. Возможно, Ваше зрение и Ваш
слух внезапно открылись бы. Ведь уже не первый год, гос¬
подин министр. Ваше зрение и Ваш слух обращены лишь
к целям теоретическим, но не к действительности. Вы дав¬
но привыкли — это было даже необходимо! — не воспри¬
нимать, не видеть, отстранять от себя массу подлинных
реальностей. Знаете ли Вы, что я имею в виду? Да, Вы это
знаете. Но быть может, голос великого поэта, голос Биб¬
лии, вечно ясный голос человечности, которым говорит с
нами искусство, поможет Вам на миг стать действительно
видящим и слышащим. Ах, что бы Вы тоща увидели и ус¬
лышали! Вы услышали бы не про нехватку рабочих рук и
не про цены на уголь, не про тоннаж, не про союзы, не
про займы, мобилизации и тому подобные вещи, которые
давно стали для вас единственной реальностью. Вы увиде¬
ли бы землю, нашу старую терпеливую землю, усеянную
39
телами мертвых и умирающих, землю растерзанную и
разрушенную, испепеленную и оскверненную. Вы увидели
бы солдат, лежащих между линиями окопов целыми дня¬
ми, неспособных даже согнать простреленными руками
мух со своих ран, от которых они погибают. Вы услышали
бы голоса раненых, крики обезумевших, стоны и прокля¬
тия матерей и отцов, невест и сестер, вопли голода, от ко¬
торого страдает народ.
И если бы Вы только вновь смогли услышать то, что
усердно не позволяли себе слышать месяцами, годами, мо¬
жет быть, тогда Вы заново переосмыслили бы цели войны,
свои идеалы, теории, переоценили бы их и попробовали
бы понять истинную их цену в сравнении с бедствиями
одного-единственного месяца, одного-единственного дня
войны.
Если бы только это когда-нибудь сбылось, если бы мог
состояться этот час музыки, этот возврат к подлинной дей¬
ствительности! Я знаю, голоса человечества коснулись бы
Вашего слуха, я знаю. Вам захотелось бы уединиться и за¬
рыдать. А на другой день Вы попши бы исполнять свой долг
перед человечеством. Вы не посчитались бы с несколькими
миллионами или даже миллиардами затрат, с ничтожными
соображениями незначительной утраты престижа, с ты¬
сячью других вещей (всех тех вещей, за которые Вы теперь
на самом деле только и боретесь); Вы, если надо, поступи¬
лись бы вдобавок своим министерским креслом, зато нача¬
ли бы делать то, чего ждет и о чем молит Вас в несказанных
своих муках и бедствиях человечество, — Вы первым среди
правительственных деятелей прокляли бы эту злосчастную
войну, первым среди облеченных ответственностью выгово¬
рили бы то, что втайне уже чувствуют все: что полгода или
один месяц войны стоят дороже всей возможной выгоды от
нее.
Мы тогда вовек не забыли бы Вашего имени, господин
министр, и человечество оценило бы Ваше деяние выше,
нежели дела всех, кто когда-либо вел и выигрывал войны.
ЕСЛИ ВОЙНА ПРОДЛИТСЯ ЕЩЕ ДВА ГОДА
Еще со времен юности завел я обыкновение время от
времени исчезать, уходить в другие миры, дабы освежить
свои силы; меня какое-то время обычно искали, а потом
обьявляли пропавшим, и, возвратясь, я всегда с удовольст¬
40
вием узнавал суждения так называемой науки о себе и о
своем «рассеянном» или сумеречном состоянии. Хотя я не
делал ничего сверх того, что было для меня естественным
по природе и что рано или поздно смогут делать большин¬
ство людей, этим странным господам я представлялся не¬
ким феноменом. То ли я был одержимым, то ли наделен¬
ным чудесной силой.
Слбвом, какое-то время я опять отсутствовал. После
двух-трех лет войны современность мне изрядно поднадое¬
ла, и я потихоньку ретировался, дабы немного подышать
иным воздухом. Знакомым путем покинул я области, ще
мы обитаем, и погостил в областях иных. Я недолго побыл
в далеком прошлом, мимо меня проносились народы и вре¬
мена, н ничто не давало удовлетворения, я видел все те же
распятия и раздоры, видел приметы прогресса и усовершен¬
ствований на Земле, затем на некоторое время удалился в
области космические.
Когда я вернулся, шел год 1920-й, и народы, к моему
разочарованию, повсюду с тем же бездушным упорством
все еще вели друг с другом войну. Какие-то границы пере¬
двинулись, какие-то регионы самых древних и самых вы¬
соких культур были разрушены с особой тщательностью, но
внешне на земле изменилось, в общем, немногое.
Вот по части выравнивания прогресс был достигнут не-
малв1й. По крайней мере в Европе, как я слышал, во всех
странах можно было увидеть одно и то же, почти исчезло
даже различие между странами воююощми и нейтральны¬
ми. С тех пор как гражданское население начали обстрели¬
вать с помощью аэростатов, которые механически, по ходу
движения сбрасывали свои снаряды с высоты пятнадцати¬
двадцати тысяч метров, границы между странами, хотя они
и охранялись по-прежнему строго, стали довольно-таки ил¬
люзорными. Рассеивание при такой лихой стрельбе с воз¬
духа было столь велико, что люди, посылавпше эти аэро¬
статы, радовались, если снаряды не попадали на их собст¬
венную территорию, а уж сколько там бомб упадет на ней¬
тральные страны или даже в конце концов хоть на терри¬
торию союзников, их и подавно не заботило.
В собственно военной области прогресс, по сути, этим и
ограничился; таким образом, хоть немного прояснился на¬
конец смысл войны. Мир потому и был разделен на два ла¬
геря, стремившихся уничтожить друг друга, что тот и дру¬
гой хотели одного и того же, а именно осво^дить угнетен¬
ных, положить конец насильственным действиям и устано¬
41
вить длительный мир. Мир, не обещавший быть вечным,
вызывал всеобщее сопротивление — если вечного мира
нельзя было достигауть, приходилось со всей решительно¬
стью вести вечную войну, и беззаботность, с какой военные
аэростаты, поднявшись на чудовищную высоту, орошали
оттуда своей благодатью правых и неправых, вполне отве¬
чала смыслу этой войны. В остальном, однако, ее продол¬
жали вести на старый лад, средствами значительными, од¬
нако недостаточными. Скромная фантазия военных и тех¬
ников изобрела еще кое-какие средства уничтожения, но
не так уж много; фантаст, придумавший аэростат для ме¬
ханической бомбардировки, был в своем роде последним,
поскольку с той поры люди духовные: фантасты, поэты и
мечтатели — чем дальше, тем больше теряли к войне ин¬
терес. Ее, как уже было сказано, оставили военным и тех¬
никам, оттого столь невелик был прогресс. Терпение, с ка¬
ким на фронтах противостояли и противолежали друг другу
армии, было невероятным, и, хотя из-за недостатка мате¬
риала солдатские натрады уже давно теперь делались всего
лишь бумажными, храбрость от этого нище не стала суще¬
ственно меньше.
Жилище мое оказалось частично разрушенным бомбар¬
дировками, но все же я намеревался здесь поспать. Было,
однако, холодно и неуютно, щебенка на полу и сырая пле-
сеш> на стенах никак не располагали ко сну, и скоро я вновь
вышел на улицу, решив прогуляться.
Я шел городскими переулками, замечая, как сильно все
изменилось. Прежде всего совершенно исчезли куда-то лав¬
ки. Улицы были безжизненны. Успел я пройти немного,
'когда ко мне подошел человек с жестяным номером на шап¬
ке и спросил, что я тут делаю. Я сказал, что просто гуляю.
А разрешение имеется? — спросил он. Я не понял его слов,
мы перекинулись еще несколькими фразами, и он потребо¬
вал, чтобы я следовал за ним до ближайшего местного уп¬
равления.
Мы вышли на улицу, ще на домах повсюду висели бе¬
лые таблички. На них можно было прочесть названия уч¬
реждений с номерами и буквами.
«Гражданские лица без определенных занятий» — зна¬
чилось на одной табличке, тут же стоял и номер — 2487 Б 4.
Мы вошли туда. Я увидел обычные служебные помещения,
комнаты ожидания и коридоры, ще пахло бумагой, сырой
одеждой, учрежденческим воздухом. Мне задали еще не¬
42
сколько вопросов, потом отвели в комнату 72д и там допро¬
сили.
Передо мной стоял чиновник и смотрел на меня испы¬
тующе.
—А поровней вы стоять не можете? — спросил он строго.
— Нет, — сказал я.
— Почему нет?
— Я этому не утался, — сказал я робко.
— Значит, вы были задержаны, коща прогуливались, не
имея на то документа. Признаете ли вы это?
— Да, — сказал я, — это верно. Но я про документы не
знал. Видите ли, я долго болел.
Он кивнул.
— За это вы будете наказаны: в течение трех дней вам
запрещается ходить в ботинках. Снимайте свои ботинки!
Я снял свои ботинки.
— Э, дорогой! — возмущещю воскликнул чиновник. —
Послушайте, да на вас же кожаные ботинки! Откуда они у
вас? Вы что, совсем спятили?
— Возможно, я не вполне нормален душевно, самому
судить трудно. А ботинки я купил когда-то, в прежние вре¬
мена.
— Вы что, не знаете, что штатским лицам строжайше
запрещено носить какие бы то ни было изделия из кожи?
Ваши ботинки останутся здесь, они конфискованы. Кстати,
покажите-ка ваше удостоверение.
Бог ты мой, да у меня не было никакого удостоверения!
— Такого уже год не бывало! — простонал чиновник и
кликнул охранника: — Отведите этого человека в управле¬
ние 194, комната 8!
Меня босиком провели через несколько улиц, там мы
опять вощли в какое-то учреждение, прошли по коридору,
вдыхая запах бумаг и безнадежности, затем меня втолкну¬
ли в комнату, где я был допрошен еще одним чиновником.
Этот носил униформу.
— Вас задержали на улице без документов. Придется
уплатить штраф, две тысячи гульденов. Сейчас я выпишу
квитанцию.
— Прошу простить, — сказал я робко, — но таких де¬
нег у меня нет. Может, вы вместо этого подержите меня
какое-то время под арестом?
Он засмеялся громко.
— Под арестом? Милый мой, как вы это себе представ¬
ляете? Думаете, что нам охота вас кормить? Ну нет, мой
43
дорогой. Если ры не в состоянии уплатить такую неболь¬
шую сумму, вам не избежать более сурового наказания. Я
вынужден временно лишить вас права на существование.
Пожалуйста, дайте мне вашу карточку на право существо¬
вать.
У меня таковой не было.
Тут чиновник остолбенел совершенно. Он кликнул двух
коллег, долго с ними шептался, несколько раз показывал
на меня, и все посматривали на меня с ужасом и глубоким
изумлением. Затем он велел, покуда дело мое будет обсуж¬
даться, отвести меня в помещение для арестантов.
Там сидело или стояло несколько человек, у дверей де¬
журила вооруженная охрана. Мне бросилось в глаза, что я,
хоть и босой, одет был все-таки гораздо лучше всех осталь¬
ных. Не без почтения мне уступили место, и тотчас ко мне
протиснулся какой-то маленький пугливый человек, осто¬
рожно склонился к моему уху и зашептал:
— Слушайте, я сделаю вам сказочное предложение. У
меня дома есть сахарная свекла! Целая, безупречная сахар¬
ная свекла! Почти в три кило весом. Предлагаю ее вам.
Сколько вы за неё дадите?
Он склонил ухо к моим губам, и я прошептал:
— Скажите сами! Сколько вы за нее хотели бы?
Он тихо прошептал мне в ухо:
— Ну, скажем, полтораста гульденов.
Я покачал головой и погрузился в раздумье.
Да, похоже, я отсутствовал слишком долго. Трудно было
вновь войти в эту жизнь. Много бы я отдал сейчас за пару
ботинок или носков, потому что мои босые ноги совсем за¬
мерзли от хождения по сырым улицам. Но в комнате не
было ни одного обутого человека.
Спустя несколько часов меня увели. Я был доставлен в
управление 285, комната 19ф. Охранник на сей раз остался
тут же, он стал между мной и чиновником. Похоже, это
был чиновник весьма высокого ранга.
— Вы поставили себя в прескверное положение, — на¬
чал он. — Вы остановились в этом городе, не имея при себе
документа на право существования. Да будет вам известно,
что это тягчайше карается.
Я слегка поклонился.
— С вашего разрешения, — сказал я, — у меня есть од-
на-единственная просьба. Я окончательно убедился, что не
созрел для нынешней ситуации и что мое положение будет
становиться лишь все более затруднительным. Что, если бы
44
вы приговорили меня к смерти? Я был бы за это весьма при¬
знателен!
Высокий чиновник сочувственно посмотрел мне в глаза.
— Понимаю, — сказал он мягко. — Но этак каждый бы
захотел. Для этого случая вам надо сначала запастись раз¬
решением на смерть. Но есть ли у вас на это деньги? Раз¬
решение стоит четыре тысячи гульденов.
— Нет, такой суммы у меня нет. Но я бы отдал все, что
имею. После всего, что я видел, мне очень хочется умереть.
Он как-то странно усмехнулся.
— Охотно в это верю, тем более что вы не единствен¬
ный. Но со смертью дело обстоит не так просто. Вы, дорогой
мой, принадлежите государству, и государство распоряжа¬
ется вашей жизнью. Следовало бы это знать. Впрочем, вот
я смотрю, вы записаны тут как Синклер, Эмиль*. Может,
вы тот самый писатель Синклер?
— Разумеется, я тот самый.
— О, весьма приятно. Надеюсь, что смогу вам оказаться
полезным. Шуцман, вы пока свободны.
Охранник вышел, чиновник протянул мне руку.
— Я с большим интересом читал ваши книги, — сказал
он любезно, — и хотел бы по возможности вам помочь. Но
скажите мне, однако, ради Бога, как вы попали в этот не¬
мыслимый переплет?
— Видите ли, я некоторое время отсутствовал. Я уда¬
лился в сферы космические, это длилось года, наверное,
два-три, и признаться вам по чести, я надеялся, что война
тем временем так или иначе кончится. Но скажите, вы мог¬
ли бы устроить мне разрешение на смерть? Я был бы вам
невероятно признателен.
— Думаю, это возможно. Только сначала вам надо по¬
лучить разрешение на существование. Без него вам просто
шагу не ступить. Я дам вам рекомендацию в управление
127, там вы под мое поручительство получите по крайней
мере временный билет на существование. Он, правда, дей¬
ствителен всего на два дня.
—• О, этого более чем достаточно!
— Ну, хорошо! А потом зайдите, пожалуйста, опять ко
мне.
Я пожал ему руку.
— Да, вот еще что, — сказал я тихо. — Можно задать
вам еще один вопрос? Вы сами видите, как я плохо ориен¬
тируюсь в современных событиях.
— Пожалуйста, пожалуйста.
45
— Да, так вот: мне прежде всего хотелось бы понять,
как при нынешних обстоятельствах вообще может продол¬
жаться жизнь. Неужели человек такое выдерживает?
— О да. Ведь это вы находитесь в положении особенно
скверном, вы лицо штатское, да к тому же еще без бумаг!
Штатских уже осталось очень мало. Если ты не военный,
ты чиновник. Это уже делает для большинства жизнь го¬
раздо более сносной, многие даже весьма счастливы. А к
нехваткам человек мало-помалу привыкает. Коща посте¬
пенно не стало картофеля и пришлось привыкать к древес¬
ной каше — ее теперь слегка сдабривают дегтем, выходит
вполне вкусно, — каждый думал, что долго этого не выдер¬
жит. Однако все ведь продолжается. И так во всем.
— Понимаю, — сказал я. — Собственно, тут больше
нечему удивляться. Я не совсем моху осознать только одно.
Скажите мне: ради чего, собственно, прилагает мир такие
колоссальные усилия? Столько лишений, столько законов,
тысячи служащих и чиновников — что в конце концов хо¬
тят с помощью всего этого защитить, поддержать?
Господин удивленно посмотрел мне в лицо.
— Странный вопрос! — воскликнул он и покачал голо¬
вой. — Вы же знаете, что идет война, весь мир воюет! И
все наши законы, все наши жертвы — ради этого. Ради
войны. Без этих крайних мер, без этих усилий армии не
выдержали бы и недели. Они погибли бы от голода — мож¬
но ли перенести такое!
— Да, — медленно сказал я, — какова, однако, идея!
Стало быть, война и есть то благо, которое нужно отстаи¬
вать ценою таких жертв! Но все же — позвольте мне один
странный вопрос — почему вы цените войну так высоко?
Неужели она всего этого стоит? Неужели война — вообще
благо?
Чиновник сострадательно пожал плечами. Он видел, что
я его не понимаю.
— Дорогой господин Синклер, — сказал он, — Вы сильно
оторвались от жизни. Но попробуйте, пройдитесь по любой
улице, поговорите с любым человеком, напрягите хоть не¬
много свои умственные способности и спросите сами себя:
что у нас еще осталось? К чему сводится наша жизнь? Вам
придется сразу же сказать себе: война — вот единственное,
что у нас еще есть! Удовольствия и личные занятия, често¬
любие, алчность, любовь, духовная деятельность — всего
этого больше не существует. Война — только ей одной мы
46
обязаны тем» что в мире есть еще что-то похожее на поря¬
док, закон, мысль и дух. Неужели вы этого не видите?
Да, теперь я это видел, и я от души поблагодарил гос¬
подина.
Потом я покинул его, механически сунув себе в карман
рекомендацию для учреждения номер 217. Я не собирался
пускать ее в дело, у меня не было никакого желания доку¬
чать больше какому бы то ни было учреждению. И пока
никто не мог меня снова заметить и окликнуть, я произнес
про себя небольшую молитву к звездам, остановил биение
своего сердца, дал телу своему исчезнуть в тени куста и
продолжил прежнее свое странствие, не помышляя ^ьше
о возвращении домой.
НАСТУПИТ ЛИ МИР?
Совсем недавно Ллойд Джордж* и Вильсон* заявили о
своей непсжолебимой воле продолжать войну. В итальян¬
ской палате с социалистом Мергари, произнесшим несколь¬
ко естественших, человеческих слов, сошлись, как с поме-
шанным; И ‘^еграмма Вольфа*, опровергающая слухи о
новых мирных предложашях Германии, сформулирована
жестко: «У Германии и ее союзников нет ни малейших при¬
чин повторять свое великодушное предложение мира».
Итак, все продолжается по-прежнему, и, как только где-
нибудь в мире попробует высзшуться мирная травинка, ее
тотчас придавит военный сапог с каблуком, подбитым гвоз¬
дями!
Но одновременно читаешь, как в Брест-Литовске нача¬
лись мирные переговоры, как, открывая их, господин
Кюльман* напомнил о значении Рождества и привел еван¬
гельские слова о мире на земле. Если он говорил это всерь¬
ез, если он хоть смутно, хоть намеком почувствовал смысл
этих потрясающих слов, мир должен установиться. Увы, до
сих пор за библейскими цитатами, произнесенными устами
государственных деятелей, не следовало отрадных дел.
Уже несколько дней взгляды всего мира обращены к
двум местам. Все чувствуют, что именно там решаются
судьбы народов, с ними связано будущее, отсюда грозит
рок. На Востоке, в Брест-Литовске, идут мирные перегово¬
ры, за которыми мир следит с крайним напряжением. Но
одновременно все со страхом прислушиваются к германско¬
47
му Западному фронту, ибо каждый чувствует, каждый зна¬
ет, что здесь, если прежде не случится чуда, предстоит
ужаснейшее в человеческой истории: самая жестокая, са¬
мая лютая, самая кровавая, самая отвратительная схватка,
как]по коща-либо видел мир.
Каждый знает это, и каждого, если не считать несколь¬
ких отчаянных политических говорунов да тех, кто нажи¬
вается на войне, это ввергает в трепет. Относительно исхо¬
да этого массового удушения мнения и надежды расходятся.
Незначительное число людей в каждом из лагерей верит
всерьез в окончательную победу. Но никто, если он не со¬
всем утратил способность мыслить, не верит, что будут осу¬
ществлены те идеальные цели человечества, о которых
столько твердят в своих речах все государственные деятели.
Чем более масштабными, кровавыми, разрушительными
окажутся эти последние битвы мировой войны, тем меньше
смягчатся ненависть и соперничество, тем менее невозмож¬
ной будет казаться идея достичь политических целей пре¬
ступными средствами войны. Если даже и впрямь какая-то
из сторон добьется победы (а только этой целью оправды¬
вают предводители свои поджигательские речи), в вышры-
ше окажется то, что называют «милитаризмом» и что по
справедливости ненавидят! Уму непостижимо, до чего бес¬
смысленны и безумны все устремления участников войны,
если, конечно, считать, что хоть слово о своих идеальных
целях произносилось ими самими всерьез и от души. Уму
непостижимо!
И ради этой путаницы безнадежно ложных выводов, ради
этих противоречивых по внутренней сути планов и надежд
вновь должно начаться смертоубийство необозримых масш¬
табов? В то время как все народы, хоть немного изведавшие
бедствия войны, затаив дыхание, с мольбой ожидают, чем
кончатся мирные переговоры с русскими, в то время как весь
мир от души благодарит и приветствует русских за то, что
они первыми среди народов решили пресечь войну в корне и
положить ей конец, в то время как полмира страдает от голо¬
да и всякая достойная человека деятельность замерла или
идет вполсилы — в это самое время Франция готовит нечто,
о чем как будто боятся говорить вслух, гигантскую бойню,
которая должна решить исход войны, но не решит его, по¬
следний бессмысленный порыв героизма и терпения, послед¬
ний ужасный триумф динамита и машин над человеческой
жизнью и человеческим духом!
48
Перед лицом этого положения долг всех нас, единствен-
ный и святой долг всех людей доброй воли на земле — не
вооружаться равнодушием, не предоставлять событиям раз¬
виваться, как им угодно, а сделать все возможное, Ч1^ы
им воспрепятствовать.
Но что делать? — восклицаете вы. Будь мы государст¬
венными деятелями или правителями, мы бы, конечно, сде¬
лали что могли, но у нас же нет никакой власти!
Этот удобный ответ может снять с человека всякую от¬
ветственность, покуда его совсем уж не припечет. Спросите
у политиков и руководителей, ведь они точно так же кача¬
ют головами и заявляют о своем бессилии. Так что если кто
и мешает нам, то не они.
Мешают наша общая инертность и трусость, наше соб¬
ственное упрямство и неразумие. Точно так же, как Сон-
нино* не пожелал сказать этому храбрецу Мергари «что-
нибудь способное обрадовать врага», точно так же, как упо¬
мянутая телеграмма Вольфа утверждает, что у Германии
нет «ни малейших причин» предпринять еще раз какие-то
чрезвычайные усилия рада мира, — точно так же поступа¬
ем мы все каждый день. Мы принимаем все происходящее
таким, как оно есть, мы радуемся победам, сожалеем о по¬
терях собственной стороны, мы молча одобряем и признаем
войну как средство политики.
Ах, у каждого народа и каждой семьи, у каждого отдель¬
ного человека во всей Европе и далеко за ее пределами есть
более чем достаточно «причин» прибегнуть к крайним и по-
следаим средствам рада мира, о котором мечтают все. Лишь
ничтожно малая горстка людей на земле всерьез желает
продолжения войны — они, впрочем, могут не сомневаться
в нашем презрении и в нашей благородаейшей ненависти.
Никому больше, никому, кроме крошечной кучки больных
фанатиков или бессовестных преступников, война совсем
не нужна — и все-таки — непостижимо! — она длится и
длится, и во всех лагерях браво продолжают вооружаться
рада якобы последней великой бойни на Западе!
Это возможно лишь потому, что все мы слишком косны,
слишком спокойны, слишком робки. Это возможно лишь
потому, что где-то в глубине души мы тайно одобряем и
терпим войну, ибо мы то и дело приносим в жертву все, что
знает наш ум, наша душа, и во имя Господае позволяем
бессмысленной войне катить дальше. Так поступают пра¬
вители, так поступают армии, так поступаем мы, зрители.
49
Что войне, если всерьез захотеть, можно положить конец,
знаем мы все. Мы знаем, что осуществить любое, даже са¬
мое смелое желание можно наперекор всему, если проник¬
нешься чувством, что это необходимо. Изумленно, с сильно
бьющимся сердцем наблюдали мы, как русские положили
оружие и заявили о своем стремлении к миру. Не было на¬
рода, которого бы не захватило это чудесное зрелище, у ко¬
торого оно не взволновало бы сердце и совесть! Но в следу-
юощй же миг оказались отброшены обязательства, налага¬
емые такими чувствами. Каждый политик в мире всей ду¬
шой за революцию, за разум, за то, чтобы отложить ору¬
жие, — но только у врага, не у себя! Если взяться всерьез,^
мы можем покончить с войной. Русские вновь дали нам
урок древний, религиозный, святой, они показали, как уяз¬
вим даже самый могучий. Почему никто за ними не после¬
довал? Почему парламенты и палаты всюду продолжают
лишь болтать о повседневных мелочах, но нище не поддер¬
жат этой великой, единственно насущной сейчас идеи? По¬
чему за самоопределение наций высказываются лишь там,
ще это может быть выгодно? Почему еще верят лживым
фразам официальных ораторов о каких-то идеалах? Давно
было сказано, что каждый народ имеет правительство, ка¬
кого он сам хочет и заслуживает. Что ж, тогда мы, евро¬
пейцы, имеем именно то, чего хотим и заслуживаем, —
кровавую, жестокую и свирепую власть войны.
Но мы же этого все не хотим! Мы же хотим противопо¬
ложного! За исключением небольшого слоя дельцов, ни одна
живая душа на земле не желает, чтобы длилось это постыд¬
ное и прискорбное состояние! Так пошевелимся же! Провоз¬
гласим нашу готовность к миру любым путем! Отвергнем не¬
нужные провокации вроде этого вольфовского опроверже¬
ния, выступим против заявлений таких людей, как Соннино.
Пробил час, когда можно уже не стыдиться небольшого уни¬
жения, уступки, шевеления человеческих чувств! Сейчас,
когда мы все по макушку измараны кровью, не время думать
о мелком национальном тщеславии!
А государственному деятелю, который и сейчас желает
проводить мировую политику, исходя из национально-эго¬
истических программ, который до сих пор не внял голосам
человечества, лучше указать на дверь сегодня же, чем
ждать, пока еще миллионы людей истекут кровью ради его
глупости!
50
и давайте все вместе, великие я малые, воюющие и ней¬
тральные, не закрывать глаза на страшное предостереже¬
ние этого часа, когда готовится невообразимое! Мир — вот
он! Он уже с. нами — как мысль, как желание, как пред¬
ложение, как тихо действующая сила, во всех лагерях, во
всех сердцах. Если каждый отдельно окажется открытым
для него, если каждый будет тверд в стремлении что-то сде¬
лать для мира, быть носителем и проводником его идей, его
предчувствий, если каждый человек доброй воли сейчас бу¬
дет способствовать только тому, чтобы воля к миру не
встречала никаких помех, никаких преград, никаких пре¬
пятствий, тогда у нас будет мир.
И тоща мы все вправе будем сказать, что помогли уста¬
новить его, что достойны его великих задач, — а покуда в
сердцах наших нет чувства сильней, чем чувство своей со¬
виновности.
ВОЙНА И МИР
Положительно правы те, кто считает войну состоянием
первобытно естественным. Поскольку человек принадле¬
жит к животному миру, он живет благодаря борьбе, живет
за счет других, боится и ненавидит других. Жизнь, таким
образом, — это война.
А вот что такое мир, определить труднее. Мир — это и
не состояние первобытого рая, и не (^рма упорядоченной
соглашениями совместной жизни. Мир — это то, чего мы
не знаем, что мы лишь ищем и о чем смутно грезим. Мир —
это некий идеал. Нечто невероятно трудное, неустойчивое,
легкоуязвимое — только дунь, кажется, и он развеется.
Когда всего лишь двое, соединенные какими-либо узами,
живут по-настоящему мирно — и то уже такая удача пред¬
ставляется нам редкостным достижением, куда более труд¬
ным, чем любое другое, моральное или интеллектуальное,
достижение.
При всем том мир, как идея и чаяние, как цель и иде¬
ал, — вещь очень древняя. Уже тысячелетия живут могу¬
чие, основополагающие для этих тысячелетий слова: «Не
убий!» То, что человек способен на такие слова, на такие
неимоверные требования к себе, характеризует его более,
нежели любой другой признак, отличает его от зверя и зри¬
мо выделяет его из «природы».
51
Человек, как чудится нам из этих великих слов, — не
зверь и вообще не что-то определенное, ставшее и готовое,
единственное и однозначное, он — становящееся, некая
попытка, предположение, очерк будущего, воплощенная
тоска энергичной природы по новым формам и возможно¬
стям. «Не убий!» В ту пору, кохда впервые прозвучали эти
слова, они явились требованием неслыханным, чуть ли не
равнозначным требованию «Не дыши!». Они казались не¬
возможными, безумными и губительными. И все же эти
слова продержались Ьека, и сегодня они значат не меньше,
чем всегда, они породили законы, воззрения, этические
учения, они оказались плодоносными и, как лишь не¬
многие другие слова, потрясли и перетряхнули жизнь че¬
ловека.
«Не убий!» — это не мертворожденная заповедь назида¬
тельного «альтруизма». Альтруизм — это то, чего нет в
природе. «Не убий!» вовсе не означает: не причини зла дру¬
гому. Но: не лишай себя самого другого, не причиняй вреда
себе самому! Другой — это ведь не чужой, то есть не нечто
далекое, не имеющее к тебе отношения, живущее само по
себе. Ведь все в мире, все эти несчастные тысячи «других»
существуют для меня лишь постольку, поскольку я их ви¬
жу, ощущаю, имею к ним отношение. Из отношений между
мною и миром, «другими», и состоит, собственно, моя
жизнь.
Постичь это, дойти умом до этого, нащупать эту не¬
простую истину — в этом и был путь человечества до сих
пор. Оно делало шаги и вперед, и назад. Бывали светонос¬
ные идеи, из которых мы возводили мрачные законы, по¬
гребавшие, будто склепы, нашу совесть. Бывали странные
вещи вроде гностики, вроде алхимии, о которых ныне при¬
нято держаться самоуверенно презрительного мнения, хо¬
тя, может быть, как раз эти вещи и были высочайшими
вершинами на пути человеческого познания. А из алхи¬
мии, от которой путь вел к самой чистой мистике и к
окончательному исполнению завета «Не убий!», мы, сме¬
ясь и в полном сознании своего превосходства, (щеяали
техническую науку, производящую взрывчатые вещества
и яды. В чем же прогресс? И’ в чем регресс? Нет ни того,
ни другого.
И великая война настоящего времени являет нам оба
лика, оборачиваясь то прогрессом, то регрессом. Одичалые
толпы и чудовищная техника истребления нередко выгля¬
52
дели как регресс, более того — как издевка над любыми по¬
ползновениями прогресса и духа. Однако некоторые новые,
рожденные войной, потребности, уроки и устремления мы
воспринимаем едва ли не как прогресс. Правда, некий жур¬
налист счел себя вправе окрестить все эти душевные напла¬
стования «нутряным хламом» — но не ошибся ли он? Не
промахнулся ли, обозвав грубым словом как раз самое жи¬
вое, самое тонкое, самое важное и сокровенное, что несет
в себе наше время?
Совершенно неверно, однако, мнение, которое не раз
высказывалось в ходе этой войны: что эта война будто бы
одним своим размахом, своими жуткими гигантскими мас¬
штабами отпугнет будущие поколения и отвратит их от
войн навсегда. Запугивание — плохое средство воспитания.
Кому убийство доставляет удовольствие, того не отвратит
от этого удовольствия никакая война. Не поможет и осоз¬
нание размеров материального ущерба, который она при¬
чиняет. Поступки людей вообще вряд ли больше чем на од¬
ну сотую проистекают из рациональных соображений.
Можно быть полностью убежденным в бессмысленности ка¬
кого-либо деяния и все же отдаваться ему со всем пылом
души. Любой человек, обуреваемый страстями, хорошо
знает это.
Вот почему я не пацифист*, как думают обо мне многие
мои друзья и враги. Я так же мало верю в установление
вечного мира рациональным путем, посредством пропове¬
дей, всяческих объединений и пропаганды, как и в откры¬
тие камня мудрости вследствие какого-нибудь химического
кошресса.
Откуда же в таком случае может явиться истинный мир
на земле? Не из заповедей и не из материального расчета.
Но — как и всякий человеческий прогресс — из познания.
Всякое же познание — если понимать под ним нечто жи¬
вое, а не академическое — имеет один предмет. Истина
едина, хотя ее могут высказывать тысячи людей на тысячи
ладов. Это — познание живого в нас, в каждом из нас, во
мне и в тебе, познание тайного волшебства, тайной боже¬
ственной силы, которую каждый из нас в себе носит. Это —
познание возможности примирения в этой сокровеннейшей
точке всех противоречий, превращения белого в черное, зла
в добро, ночи в день. Индус называет это «атман», кита¬
ец — <дао», христианин говорит о благодати. Там, где об¬
ретается это высшее познание (как у Иисуса, у Будды, у
53
Платона, у Лао-цзы), там преступается некий порог, за ко¬
торым следуют чудеса. Там прекращается война и. вражда.
Об этом можно прочесть в Новом завете и в речах Готамы*,
которые при желании тоже нетрудно осмеять, обозвав «нут¬
ряным хламом». Но кому дано это испытать, для того враг
станет братом, смерть — рождением, позор — честью, бе¬
да — судьбой. Всякая вещь на этой земле имеет две ипо¬
стаси, одну — «от мира сего», и другую — «не от мира се¬
го». Все, что вне нас, может стать врагом, опасностью, стра¬
хом и смертью. Но липа когда понимаешь, что все это
«внешнее» — не только предмет нашего восприятия, но од¬
новременно и творение нашей души, лишь тогда начинает¬
ся превращение внешнего во внутреннее, мира в «я», начи¬
нается просветление.
Я высказываю тут очевидные вещи. Но как всякий уби¬
енный солдат есть вечное повторение одной и той же ошиб¬
ки, так и истина нуждается в том, чтобы ее высказывали
на тысячи ладов ныне и присно.
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
Когда я был ребенком и ходил в скверную латинскую
школу, так называемая «мировая история» казалась мне
чем-то достойным бесконечного уважения, далеким, воз¬
вышенным и величественным, как Иегова или Моисей.
Мировая история происходила в былые времена, когда-то
она была современной и реальной, сверкала и гремела, но
время ее давно миновало, она стала далекой и почитае¬
мой, о ней писали в книгах, ее изучали в школе. Послед¬
ним событием мировой истории, о котором узнавали мы,
мальчишки, была франко-прусская война. Она вызывала
восхищение и волновала: ведь в ней участвовали наши от¬
цы и дяди, да и нам самим довелось бы узнать, что это та¬
кое, родись мы на несколько лет раньше. Как прекрасно,
должно быть, все это выглядело: война, геройские подви¬
ги,развевающиеся знамена, полководцы верхом на конях,
новый, только что избранный кайзер. Нас клятвенно уве¬
ряли, что в этой войне творились чудеса и совершались ге¬
роические поступки, что все и впрямь было великолепно
и вполне на уровне мировой истории, а не так, как вчера,
сегодня и всегда. Мужчины и жешцины добивались неве¬
роятных результатов, переносили невероятные трудности,
54
народ плакал и смеялся в восторге от пьянящих пережи¬
ваний, незнакомые люди обнимались на улице, мужество
и самоотверженность как бы разумелись сами собой. Боже
мой, как нам хотелось испытать все это! Люди, которых
мы знали, вовсе не были героями, не были ими и учителя,
время от времени рассказывавшие нам эти истории, не бы¬
ли ими и наши отцы и дяди, многие из которых и в самом
деле были участниками этой великой героической войны.
Но что-то же было во всем этом, об этом писалось в тол¬
стых книгах с иллюстрациями, на стене в каждом доме ви¬
сел портрет Бисмарка, и каждую осень праздновался день
Ct-дана*, самый прекрасный день в году.
Только когда мне исполнилось пятнадцать, этот блеск
для меня несколько потускнел. Я начал сомневаться в возвы¬
шенности мировой истории и уже не верил в то, что в былые
времена люди были не такие, как сейчас, что жили они тоща
не повседневной жизнью, а жизнью героев опер и народных
сказаний. Я зн^, что наши учителя должны были как можно
больше загружать нас, подавлять нашу волю, требовать от
нас добродетелей, которыми сами не обладали, и точно такой
же, надо полагать, была мировая история, которой они нас
пичкали, — она была выдумкой взрослых, необходимой для
того, чтобы унизить и запугать нас.
Я стал судить о мировой истории безрассудно и неува¬
жительно, и на это были свои причины. Молодые люди не
доверяют критике и негативньш суждениям, они живут
чувствами и идеалами. Со мной товда что-то произошло и
осталось во мне надолго: я перестал доверять голосам извне,
и чем официальнее они были, тем меньше я им доверял. И
вообще я начал чувствовать, что самое интересное и цен¬
ное, то, что нас действительно переполняет, занимает и не
дает нам передышки, находится не вне, а внутри нас. Не
скажу, что я это сознавал, но я это чувствовал, я начал
читать философов, становиться вольнодумцем, углубляться
в любимых поэтов — и все это с неясным чувством, что
именно здесь лежит мой путь, путь, ведущий ко мне само¬
му, а остальные пути не те, которые мне нужны и по ко¬
торым я должен идти. Во мне началось то, что христианин
называет «самоуглублением», а психоаналитик «интровер-
сией». Не могу утверждать, что этот путь, этот способ бы¬
тия и жизни лучше, чем другие; я знаю только, что для
человека верующего и для поэта он необходим, и никогда,
даже если они захотят и будут очень стараться, им не уда-
55
стся научиться тому, что новейшие официальные мудрецы
называют «историческим мышлением».
Много лет я позволял миру идти своим путем, а он не
мешал мне идти моим. То, что считалось важным и играло
значительную роль в речах и газетных передовицах, каза¬
лось мне чепухой и суетой, и наоборот — то, что я делал,
что считал серьезным и святым, в глазах мира было игрой
и причудой. Так все и продолжалось бы до конца жизни,
как вдруг снова заявила о себе мировая история! Газетные
передовицы, университетские профессора и школьные
учителя вдруг снова принялись твердить, что пришло вре¬
мя мировой истории, что вместо будней наступила «вели¬
кая эпоха». Мы, поэты и прочие аутсайдеры, только пожи¬
мавшие плечами в ответ на подобные утверждения, мы,
верующие, предостерегавшие от безумного высокомерия и
ужасающего легкомыслия наших вождей, теперь уже не
были больше безобидными поэтами, над которыми можно
посмеяться, — теперь мы были врагами отечества, пора¬
женцами, критиканами и как еще там звучат все эти но¬
вомодные словечки. На нас писали доносы, нас заносили в
черные списки, в «благонамеренных газетах» нам посвя¬
щали ядовитые пасквили. В частной жизни было то же са¬
мое. Коща весной 1915 года я спросил одного своего не¬
мецкого друга, почему, собственно, ему кажется столь
ужасной мысчь, что при известных условиях мы могли бы
снова отдать Эльзас, он заметил, что хотя он лично мне
многое прощает, но другие за такие слова могут поломать
мне кости.
Все продолжали твердить о «великой эпохе», а мне так
и не удавалось ее увидеть. То есть я хорошо понимал, по¬
чему другим это время кажется «великим». Оно казалось
им таким, потому что у тысяч людей впервые пробудилась
внутренняя жизнь, заговорила душа. Старые девы, до того
кормившие мопсов, могли теперь ухаживать за ранеными,
молодые парни продавали свою шкуру и впервые во всей
полноте с глубоким ужасом осознавали, что такое жизнь.
Это было немало, в этом было нечто великое и ужасное —
но только для тех, кто мыслил исторически и делил времена
на великие и все остальные. Для нас же, верующих, поэтов,
для тех, кто и в будни верит в Бога, кто и раньше знал о
существовании души, это время было таким же, как и лю¬
бое другое, — ни больше, ни меньше. Ибо своими заветны¬
ми мыслями и мечтами мы жили не в нем.
56
Точно так же живем мы и сейчас, коща снова выходит
на сцену мировая история и разыгрывается великий спек¬
такль. Ведь сегодня происходит многое из того, о чем мы
сами мечтали. Рушатся державы, которые мы называли
дьявольскими, со сцены сходят люди, которых мы считали
опасными и зловредными, которых ненавидели и с которы¬
ми боролись.
Но нам и сегодня не удается раствориться в грандиоз¬
ных событиях и вместе со всеми восторженно ощутить но¬
вую «великую эпоху». Мы чувствуем, как под ногами у
нас дрожит земля, мы страдаем вместе с другими жертва¬
ми, мы нищаем и голодаем вместе со всеми, но ни в этом
страдании, ни в красных знаменах, ни в новых республи¬
ках и народном воодушевлении мы и теперь не видим по-
истине «великих» деяний. Мы и сегодня признаем и пере¬
живаем вместе со всеми только то, что представляется нам
истинным одухотворением истории, божественным светом.
Мы бы глубоко сочувствовали кайзеру, который был на¬
шим врагом, если бы он ушел благородным и достойным
образом. Юный солдат, лишившийся жизни в безумном
ослеплении, ради отечества и кайзера, нам бесконечно ми¬
лее и дороя^е, нежели самый умный демократический ора¬
тор, обзывающий солдата глупцом. Нам все равно, чем бу¬
дет государство — демократией или монархией, федера¬
цией или конфедерацией, нас интересует как, а не что. И
если какой-нибудь безумец в душевном порыве совершает
безумный поступок, он нам милее всех профессоров, кото¬
рые, по всей вероятности, будут служить новому режиму
с тем же подобострастием, с каким они склонялись перед
князьями и алтарями. Мы слепые приверженцы «пере¬
оценки всех ценностей», но эта переоценка может про¬
изойти только в наших собственных сердцах, и нигде
больше.
Я слышу голоса тех, кто в нашем неисторическом, не-
политизированном образе мыслей не видит ничего, кроме
высокомерного равнодушия «интеллигентов». Они считают
нас людьми, которые только и умеют, что марать бумагу,
для которых война и революция, смерть и жизнь всего лишь
слова. Наверняка есть и такие. Но с нами они не имеют
ничего общего. У нас тоже есть принципы. Правда, мы не
делим их на «хорошие» и «плохие», на правые и левые; но
мы знаем два типа людей и соответственно делим их на тех,
кто пытается жить по своим принципам, и тех, кто носит
57
свои принципы в нагрудном кармане. Германского верно¬
подданного, который не в силах выносить произошедшие
перемены и в рыцарско-романтическом духе лишает себя
жизни у памятника кайзеру, мы не считаем обращом для
подражания, но мы любим и понимаем его, тогда как пре¬
зираем умника, который сегодня столь же хорошо выража¬
ется на революционном жаргоне, как еще вчера выражался
на старомодно-патриотическом.
Какие могучие сдвиги с^час происходят, сколько сер¬
дец учащенно бьются в эти дни с восторгом и надеждой!
Какие великие перемены намечаются! Мы, чудаки и нелю¬
димы, не стоим в стороне, не взираем равнодушно, не вос¬
паряем над событиями; но «великим» мы по-прежнему счи¬
таем только то, что происходит в человеческих душах. От¬
каз от веры в кайзера и обращение в веру демократическую
для нас всего лишь смена флага. Пусть же для многих тысяч
людей она наполнится более значительным смыслом!
Конец четырехлетней войны, наступивший в эти дни
вслед за перемирием на Западном фронте, нигде не был от¬
празднован. Одни торжественно отметили крзштение деспо¬
тизма, другие — победу. Но ни у кого не вызвало волнения
то обстоятельство, что в урочный час прекратилась вся эта
бессмысленная стрельба, продолжавшаяся четыре года.
Странный мир! В этом мире теперь снова бьют стекла в ок¬
нах и проламывают человеческие черепа из-за вещей куда
менее важных!
ПУТЬ ЛЮБВИ
У кого все хорошо, тот может позволить себе излишест¬
ва и глупости. Но когда приходит конец благополучию и
подступает нужда, начинается воспитание самой жизнью.
Коща непослушный ребенок противится наказанию и не
хочет исправляться, так как, мол, другие дети тоже не от¬
личаются послушанием, мы только улыбаемся и тут же го¬
товы возразить. Но точно так же, как этот непослушный
ребенок, мы, немцы, всю эту прискорбную войну без конца
ссылались на то, что наши враги по меньшей мере не лучше
нас самих. Если заходила речь о захватнических устремле¬
ниях, приводились в пример английские колонии. Если воз¬
никал разговор о личной власти, мы говорили, что Вильсон
58
ло безраздельности правления не сравнится ни с одним не¬
мецким государем. И так далее.
Нужда уже подступила. Так пусть же начнется и вос¬
питание жизнью! Дела у нас, немцев, идут из рук вон пло¬
хо, мы не знаем, как будем жить завтра и будем ли жить
вообще. Но именно сейчас велико искушение поддаться
бесполезньш жестам и чувствам. Мы читаем письма и сти¬
хотворения, статьи и призывы, спекулирующие на самых
дурных наклонностях, которые возникают в душе наказан¬
ного ребенка. То тут, то там опять начинают мыслить «ис¬
торически» (то есть бесчеловечно). Наше теперешнее поло¬
жение сравнивают с положением, в которое мы в 1870 году
поставили Францию, и делают тот же вывод: стиснуть зу¬
бы, вынести неизбежное, но в сердце затаить месть и ког¬
да-нибудь рассчитаться за свои беды!
Когда четыре года назад германские солдаты в радост¬
ном задоре, вызванном начавшейся войной, писали на во¬
ротах своих казарм: «Здесь еще не раз услышат, как обь-
являются войны», мы, думавшие иначе, не смели ничего
возразить. Каждое сказанное любым из нас слово человеч¬
ности, предостережения и серьезной заботы о будущем обо¬
рачивалось хулой и подозрениями, преследованиями и раз¬
рывом дружеских связей.
Мы не хотим, чтобы это повторилось. Выяснилось, что
мы исходили из ложных психологаческих посылок, что в
начале войны мы делали жесты и произносили слова, ис¬
точником которых была не истинная воля, а истерия. Само
собой, «другие» поступали точно так же, и поношения про¬
тивной стороны, затрагивавшие самые благородные надна¬
циональные достижения и свойства, были у некоторых из
наших врагов столь же скверными, как и у нас, там тоже
были недобрые «вожди» народа, которые вели себя истерич¬
но и говорили безответственные вещи.
Но именно к ссылкам на то, что враг-де поступал ничуть
не лучше, нам не следует больше прибегать. Если генерал
Фош* демонстрирует сегодня такую же жесткость, какую
демонстрировал когда-то в Брест-Литовске наш бравый ге¬
нерал Гофман*, то нам не пристало его ругать. Он ведет
себя как победитель, так же как мы в свое время вели себя
как победители.
Сегодня победители не мы. У нас иная роль. И от того,
насколько осознаем мы эту свою роль, насколько серьезной
окажется наша готовность взять на себя последствия своего
59
положения, целиком и полностью зависит наша дальней¬
шая жизнь и процветание в мире.
Необходимость заставила наш народ отречься от старых
вождей и взять на себя властные функции. Как всякий ис¬
тинный поступок, этот поступок зародился в плодоносных
глубинах бессознательного. Он стал отрешением от глубо¬
ких заблуждений, разрывом с окостеневшими традициями,
первым проблеском выстраданной мысли: «Раз националь¬
ные идеалы наших прежних правителей оказались надува¬
тельством, не лучше ли пойти по пути человечности, разу¬
ма и доброй воли?»
К этому призвало нас наше сердце. «Священные ценно¬
сти» прошлого внезапно утратили свое значение, мы отбро¬
сили их, ибо увидели, что они — только раскрашенный те¬
атральный реквизит.
На том и будем стоять. Мы вступили на очень трудный
путь, по которому может пойти человек, не говоря уже о
целом народе, — на путь искренности, на путь любви.
Пройдем мы его до конца, значит, победим. Тогда эта дол¬
гая война и болезненное поражение станут нашей доброй,
заслуженной, обретшей ценность и будущее судьбой, на¬
шим достоянием и нашей гордостью, а не нашей болью и
раной, как было до сих пор.
Путем любви потому так трудно идти, что в мире мало
верят в любовь, что повсюду она натыкается на недоверие.
Мы это видим уже сейчас, в самом начале своего пути. Вра¬
ги твердят: вы прячетесь под красными знаменами, потому
что хотите уйти от ответственности за свои дела! Но теперь
уже нет необходимости доказывать противнику нашу иск¬
ренность с помощью слов. Теперь необходимо постепенно
и неотразимо завоевывать его доверие правдивостью и лю¬
бовью. Все хорошие мысли о человечестве и Лиге Наций, о
братском сотрудничестве всех народов, об отказе от нара¬
щивания военной мощи, — все то, о чем так много и не
всегда всерьез говорилось нами и нашими противниками,
должно навсегда стать нашей самой серьезной и самой за¬
ветной целью, нашим волеизъявлением.
Нам выпала роль и задача побежденных. Древняя, свя¬
щенная задача каждого, кто потерпел поражение в этой
жизни, — нести свой жребий, и не просто нести, а целиком
вобрать его в себя, слиться с ним, осознать его — пока по¬
ражение не будет больше восприниматься как нечто враж¬
60
дебное, как обрушившаяся на нас с небес кара, а станет
частью нашего сушества, направлением наших мыслей.
Этому слиянию с судьбой (как единственной возможно¬
сти ее преодоления) многим из нас мешает прежде всего
ложный стыд. Мы привыкли требовать от себя того, что
природой не заложено ни в одном человеке: героизма! Ког¬
да побеждаешь, героизм выглядит вполне мило. Но коша
терпишь поражение и нуждаешься в поддержке, чтобы
осознать свое положение и совладать с ним, тогда героизм
превращается во враждебную, опасную, парализующую си¬
лу, тогда он проявляет свою подлинную сущность — сущ¬
ность ненасытного Молоха. Героизм, стоивший нам столь
многих тысяч братьев, столько лет правивший миром, слов¬
но обезумевший бог, не должен быть больше нашим идеа¬
лом и нашим вождем!
Нет, мы должны дальше и до конца идти трудным, оди¬
ноким путем искренности и любви, на который мы вступи¬
ли. Ибо мы не хотим и не можем стать тем, чем были ког¬
да-то: могучим народом, у которого имелось много денег и
пушек и которым правили деньги и пушки. И даже если бы
на этом пути мы смогли достичь прежнего могущества и
овладеть миром, мы все же не должны ни идти по нему, ни
заигрывать с ним. В противном случае мы грубо отринем
то, что в глубочайших лишениях и отчаянном самопозна¬
нии начали делать в эти последние недели. Если наша ре¬
волюция была всего лишь попыткой на другом пути легче
отделаться от своего жребия, на какое-то время скрыться
от судьбы, тогда грош цена этой революции.
Но и этого не должно быть! Наше прекрасное, нечаянное,
неожиданно мощное движение — не плод умствования и рас¬
четов, оно вылилось из сердца, из миллионов сердец. Пусть
же то, что вылилось из сердца, продолжится самым сердеч¬
ным и искренним образом! Не дадим соблазнить себя эффек¬
тным, театральным, истеричным героизмом, не станем стро¬
ить из себя строптивцев, понесших незаслуженное наказа¬
ние, и придерживаться той точки зрения, что нам следует
лишить наших нынешних судей права судить нас! Для нас не
имеет никакого значения, достойны или недостойны наши
противники этого ужасного права. Судьбой ведает Бог, и ес¬
ли мы не научимся признавать за ней святость и мудрость,
если не научимся любить ее и подчиняться ей, тогда мы про¬
играли окончательно. Тогда мы уже не будем благородными
61
побежденными, умеюхцимн сносить неизбежное, а останем¬
ся в постыдном положении поверженных.
Искренность — дело хорошее, но она ничего не стоит без
любви. Любовь — это способность превозмогать себя, пони¬
мать других, улыбаться, когда нам больно. Любовь к нам са¬
мим и к нашему уделу, душевное согласие с тем, что замыс¬
лили сделать с нами непостижимые силы, в том числе и тог¬
да, коща мы не можем окинуть взглядом и понять эти замыс¬
лы, — вот наша цель. Возможно, народы России и Австрии
позже пойдут по этому пути вместе с нами, но сегодня нам
нужна только воля и репгамость продолжить начатое.
Из нашей решимости примириться с судьбой, открыться
навстречу новому, из доверия к простому языку наошх ли¬
шений, нашей страдающей человечности вырастут другие,
новые силы. Кто однажды принял на себя всю полноту
своей судьбы, тот яснее увидит и частности. «Добрая воля»,
о которой говорится в благословенной старинной заповеди,
поможет нашим беднякам сносить нищету, а наогам про¬
мышленникам — найти путь от эгоистического капитализ¬
ма к само^ерженному управлению человеческим трудом.
Она наделит наших будущих посланников за рубежом спо¬
собностью достойно, по-новому представлять нашу общую
волю, а не усердствовать в распространении прежней лжи.
Она проявит себя в произведениях наших писателей и ху¬
дожников, во всем, что бы мы ни делали, она незаметно и
неспешно, но настойчиво начнет возвращать нам то, что мы
утратили в глазах всего мира: доверие и любовь.
ХУДОЖНИК и ПСИХОАНАЛИЗ
С тех пор как «психоанализ» Фрейда вызвал интерес за
пределами узкого круга врачей-невропатологов, с тех пор
как ученик Фрейда Юнг создал и частично опубликовал
свою психологию бессознательного и свое учение о типах,
с тех пор как аналитическая психология обратилась непос¬
редственно к мифам, народным сказаниям и литературе,
между искусством и психоанализом существует тесное и
плодотворное соприкосновение. Независимо от согласия
или несогласия с отдельными положениями и частностями
учения Фрейда его бесспорные открытия не вызывают со¬
мнений и оказывают свое воздействие.
62
Можно было ожидать, что к этому новому, во многих
отношениях плодотворному научному подходу проявят жи¬
вой интерес прежде всего художники. Очень многае потя¬
нулись к психоанализу хотя бы уже потому, что были не¬
вротиками. Кроме того, у художника больше желания и го¬
товности заняться совершенно новыми воззрениями на пси¬
хологию, чем у официальной науки. Художника всеща лег¬
че заинтересовать гениальными новшествами, нежели про¬
фессора. Поэтому молодое поколение художников сегодня
чаще обсуждает и охотнее принимает мир мыслей Фрейда,
чем специалисты в области медицины и психологии.
Для тех художников, кто не удовлетворился обсуждени¬
ем новой темы в кафе, тут же открылась возможность из¬
влечь из психологии Фрейда профессиональную пользу,
точнее сказать, возник вопрос, могут ли, и если могут, то
в какой мере новые психологические воззрения пойти на
пользу художественному творчеству.
Я вспоминаю, как года два назад один мой знакомый
порекомендовал мне оба романа Леонгарда Франка*, назвав
их не только весьма ценными художественными произве¬
дениями, но и «своего рода введением в психоанализ». С
тех пор я прочел немало сочинений, в которых явно про¬
сматривались следы увлёчения фрейдовским учением. Мне
самому, никоща ни в малейшей степени не интересовавше¬
муся новейшими открытиями в области психологии^ пока¬
залось, что в некоторых работах Фрейда, Юнга, Штекеля*
и других содержится много нового и важного, я прочитал
их с живым участием и обнаружил, что в них подтвержда¬
ются в общем и целом почти все мои смутные представле¬
ния, почерпнутые из сочинений других писателей или из
собственных наблюдений. В них было выражено и сформу¬
лировано то, что уже частично было моим достоянием —
как предчувствие, мимолетное озарение или неосознанное
знание.
Применительно к литературному творчеству и к наблю¬
дениям за повседневной жизнью плодотворность нового
учения проявилась сразу же. Мы обогатились новым клю¬
чом — не универсальной волшебной отмычкой, а ценным
новым взглядом, новым превосходным инструментом, по¬
лезность и надежность которого подтвердились. При этом я
имею в виду не отдельные историко-литературные штудии,
в которых жизнь писателя оборачивается подробнейшей ис¬
торией болезни. Чрезвычайно ценными для нас оказались
63
уже хотя бы подтверждения и уточнения тех психологиче¬
ских выводов, которые сделал Ницше. Начавшееся иссле¬
дование бессознательного, наблюдения за ним, психиче¬
ские механизмы, истолкованные как вытеснение, сублима¬
ция, регрессия и т.д., — все это придало схеме ясность, не
требующую доказательств.
Однако если теперь практически каждый может легко и
просто заняться психологией, для художника применение
этой психологии остается все же довольно сомнительньш
делом. Как знание истории еще не делает мастера истори¬
ческих романов и повестей, а знание ботаники или геоло¬
гии — мастера ландшафтной живописи, так и самая науч¬
ная психология не гарантирует успеха в изображении че¬
ловека. Мы видели, как психоаналитики сами сплошь и ря¬
дом использовали литературу ранних, доаналитических
эпох в качестве доказательств, источников и подтвержде¬
ний. Следовательно, то, что открыли и научно сформули¬
ровали аналитики, писателям было известно всеща. Более
того, писатель показал себя приверженцем особого рода
мышления, которое шло вразрез с мышлением психоанали¬
тическим. Он был мечтателем, аналитик был толкователем
его грез. И разве остается писателю, при всем внимании к
новой психологии, что-либо иное, кроме как и дальше гре¬
зить и следовать зовам своего бессознательного?
Нет, ничего иного ему не остается. Кто и раньше не был
писателем, кто и раньше не чувствовал внутреннее уст¬
ройство и пульс дзопевной жизни, того никакой анализ не
сделает истолкователем души. Он сможет лишь использо¬
вать новую схему, быть может, сумеет ненадолго удивить
нас, но существенно свои силы не укрепит. Поэтическое
восприятие душевных процессов остается, как и прежде,
делом интуитивного, а не аналитического таланта.
Однако этим вопрос не исчерпывается. В действитель¬
ности путь психоанализа может в значительной мере спо¬
собствовать развитию художника. Он будет не прав, если
станет переносить технику анализа в свою поэтику, но он
будет прав, если отнесется к психоанализу с полной серь¬
езностью. Я вижу три положительных для художника мо¬
мента, которые вытекают из психоанализа.
Прежде всего, это глубокое подтверждение роли фанта¬
зии, вымысла. Если художник взглянет на себя с аналити¬
ческой точки зрения, от него не укроется, что к присущим
ему слабостям следует отнести неверие в свою профессию,
64
сомнение в возможностях фантазии, чужой голос в нем са¬
мом, признающий правоту бюргерских взглядов, бюргер¬
ского воспитания, а в собственных созданиях предпочита¬
ющий видеть «только» красивый вымысел. Однако именно
анализ настоятельно напоминает каждому художнику: то,
что временами воспринимается только как вымысел, имеет
высшую ценность; анализ ipoMKO напоминает ему о суще¬
ствовании главных требований дупш и об относительности
всех авторитарных масштабов и оценок. Анализ утверждает
художника в собственных глазах. В то же время он откры¬
вает перед ним область чисто интеллектуальной деятельно¬
сти в аналитической психологии.
Эту полезную сторону метода не мешает осознать даже
тому, кто пришел к нему со стороны. Однако два других
момента открыты только для того, кто основательно и
всерьез испр(^вал психоанализ на собственном опыте, для
кого анализ — не сугубо интеллектуальное занятие, а ду¬
шевное переживание. Кто удовлетворится тем, что получит
кое-какие разъяснения относительно своего «комплекса» и
научится формулировать кое-какие выводы о своей внут¬
ренней-жизни, тот упустит самые важные аспекты.
Кто хоть немного всерьез прошел по пути анализа, по
пути поисков первопричин душевной жизни в воспомина¬
ниях, 1резах и ассоциациях, тот надолго сохранит то, что
можно было бы назвать «внутренним отношением к собст¬
венному бессознательному». Он на себе почувствует горя¬
чее, животворное, страстное взаимодействие между созна¬
нием и бессознательньш; многое из того, что обычно оста¬
ется «за порогом» и разыгрывается только в мимолетных
снах, он вытащит на свет.
А это в свою очередь находится в тесной связи с воздей¬
ствием психоанализа на этику, на совесть каждого челове¬
ка. Помимо всего прочего, анализ выдвигает главное, ос¬
новное требование, которое незамедлительно мстит за пре¬
небрежительное отношение к себе, жало которого вонзается
глубоко и оставляет прочный след. Он требует такой иск¬
ренности человека по отношению к самому себе, к какой
мы не привыкли. Он учит нас видеть, ценить, исследовать
и принимать всерьез то, что мы успешно вытеснили из сво¬
его сознания, что должны были вытеснять целые поколе¬
ния. Уже коща делаешь в психоанализе первые шаги, это
воспринимается как oipoMHoe, неслыханное переживание,
как потрясение основ. Кто выдерживает и идет дальше, тот
3 5-258 65
с каждым шагом все больше ощущает свое одиночество,
свою обособленность от условностей и унаследованных
представлений, тот вынужден отвечать на вопросы и сомне¬
ния, которые не останавливаются ни перед чем. Зато он все
яснее видит или предчувствует, как из-за рухнувших кулис
традиций неумолимо вырастает образ истины, природы.
Ибо только интенсивный самоанализ позволяет по-настоя-
щему пережить отрезок истории развития, пропитав его
кровоточащим чувством. Только основательный психоана¬
лиз дает возможность через образы отца и матери, кресть¬
янина и бродяги, обезьяны и рыбы серьезно и потрясающе
глубоко пережить путь назад — к истокам, скрытым при¬
вязанностям и надеждам человека. То, что мы изучали, об¬
ретает наглядность, знания обогащаются чувством, и по ме¬
ре того как проясняются страхи, затруднения и вытеснения,
вырастает, становится чище и я'ребовательнее значение
жизни и личности.
Никто, кроме художника, не воспринимает эту воспи¬
тывающую, поощряющую, стимулирующую силу анализа
с большей для себя пользой. Ибо его интересует не удобное
приспособление к миру, к его обычаям, а то неповторимое,
что есть в нем самом как личности.
Некоторые писатели прошлого были очень близки к по¬
ниманию важнейших положений аналитической психоло¬
гии, ближе всего Достоевский, который не только интуи¬
тивно шея по этому пути задолго до Фрейда и его учеников,
но и владел уже известной практикой и техникой такого
рода психологии. Среди великих немецких писателей бли¬
же всего к современному восприятию душевных процессов
стоит Жан Поль. Вместе с тем Жан Поль — блестящий
пример художника, для которого постоянный и доверитель¬
ный контакт с собственным бессознательным, опиравошйся
на глубокую и живую интушщю, неизменно служил обиль¬
ным источником творчества.
В заключение процитирую поэта, которого мы, правда,
привыкли относить не к мечтателям и погруженшм в себя
натурам, а к чистым идеалистам и скорее к художникам
ярко выраженного интеллектуального склада. Отто Ранк*
первым открыл следующее высказывание, которое может
считаться удивительным, предшествовавшим модернизму
аргументом в пользу психологии бессознательного. Шиллер
пишет Кернеру, который жалуется на помехи в творчестве:
«Причина твоих жалоб, как мне кажется, в том давлении,
66
которое твой разум оказывает на твое воображение. Дума¬
ется, нехорошо и вредно для творческой работы души, когда
разум уже, так сказать, у самых ворот слишком вниматель¬
но приглядывается к рождающимся идеям. Идея, если рас¬
сматривать ее изолированно, может быть незначительной
и очень странной, но она может стать значительной благо¬
даря другой, пришедшей вслед, может, благодаря извест¬
ным связям с другими идеями, на первый взгляд такими же
заурядными, дать весьма ценное звено. Разум не в состоя¬
нии судить обо всем этом, если он не удерживает идею до
тех пор, пока она не откроется ему в связи с другими. На¬
против, мне представляется, что у творческой натуры ра¬
зум отзывает стражу от ворот, идеи приходят в голову pele-
mele* и только тоща он обозревает их, пытаясь разобраться
в их нагромождении»*.
Здесь классически выражено идеальное отношение ин¬
теллектуальной критики к бессознательному. Не вытесне¬
ние идей, притекаюпщх из бессознательного, из неконтро¬
лируемых озарений и грез, из игры психических сил, но и
не постоянная приверженность неоформленной бесконеч¬
ности бе^знательного, а ласковое вслушивание в скрытые
источники и только потом критика и отбор из хаоса — так
работали все большие художники. Если какая-либо техни¬
ка и может помочь выполнить это требование, то только
психоаналитическая.
ФАНТАЗИИ
Иноща любопытно и небесполезно проследить, как за¬
рождается то, что называют «ходом мысли», но что по боль¬
шей части представляет собой вереницу случайных сужде¬
ний, произвольно возникающих из хаоса представлений и
фантазий. Собственно говоря, мы «мыслим» весь день (и
даже всю ночь), однако есть часы, коща наши мысли не
достигают сознания, а уже на его пороге тускнеют и угаса-
кУг. Психоанализ приписывает это «цензуре» сознания.
Нижеследующий «ряд мыслей» разворачивался во мне
вчера утром, коща я ра^ал в саду, выпалывая сорняки, и
в моем сознании жила надежда, что утренняя почта не
^Как попало (фращ).
3* 67
очень помешает мне делать эту работу, хотя в глубине ду¬
ши я хотел, чтобы она как следует помешала, одарив меня
новыми задачами и стимулами.
Мои «мысли», если я не ошибаюсь, начались с воспоми¬
нания о том, что одно из направлений научной критики
объявило всякую творческую деятельность и одаренность
родом болезни, а само воспоминание восходило к разговору,
который случился у меня вчера вечером с женой.
Стало быть, думал я, если гений — это безумие, если
любое произведение писателя, живописца или композито¬
ра — всего лишь судорожная попытка в иной, духовной
сфере уравновесить недостатки своей натуры, своей жизни,
своего характера, то, значит, «нормальный» человек свобо¬
ден от подобных воздействий, то есть бездарен. Да, нор¬
мальный человек не может и не должен иметь иного талан¬
та, кроме таланта жить, и жить как можно дольше. На ка¬
кое-то мгновение в моих мыслях появился оттенок иронии,
злорадства по отношению к «нормальным», которых я оби¬
дел этим своим суждением. Но тут же я почувствовал, что
это всего лишь шутка, теряющая свою остроту и исчезаю¬
щая вместе с тем мгновением, коща она появилась, но что
за шутливым утверждением, будто «нормальный человек
лишен дарований», кроются очень серьезные и позитивные
соображения.
До сих пор я выполнял роль писателя, роль «человека
духа», не без злорадства и тайного страха защищая свою
неповторимость, свою сущность, свой талант, свои духов¬
ные потребности от «нормы». Однако за всем этим таилась
зависть и озабоченность, я пережил немало часов и дней,
коща и мне очень хотелось быть «нормальным». Новая
мысль вызвала перемены в моих симпатиях, теперь я скло¬
нялся к тому, чтобы признать правоту нормального чело¬
века, а к «одаренному» отнестись критически, даже враж¬
дебно.
Из того, что я читал в последнее время, мне было зна¬
комо выражение «политизация духа», и мои мысли зацепи¬
лись за это словосочетание, которое всеща было мне глу¬
боко антипатично. Вместо того чтобы с подозрением вос¬
принимать нормального, я начал внимательно присматри¬
ваться к «человеку духа», причем исходной точкой мне по¬
служил вопрос о «политизации умов». Я припомнил призы¬
вы и статьи недавнего времени — видит Бог, этим «интел¬
лигентам» нельзя было не политизироваться! Чего стоит
68
уже одно то, что писатель сам называет себя «интеллиген¬
том». Разве можно до такой степени не понимать и ложно
истолковывать свое призвание? Верным во всем этом было
только одно — то, что «интеллигенты» тоже ощ}щали свою
вину за невзгоды войны и страдания человечества. Да они
и были виноваты, даже очень, даже основательно, эти гос¬
пода «интеллигенты». Давно перестав быть писателями,
они были журналистами, дельцами и всезнайками. И вот
они приходят и требуют политизации писателя! Как будто
вина их состоит в том, что до сих пор они были слишком
мало политизированы, слиппсом мало думали о бюргере, о
законе, о рынке, о так называемой <д:(ействительности»! Бо¬
же мой, да ведь эта пошлая действительность и была их
миром, их прибежищем, они давно уже уклонялись от того,
ради чего и живет на земле поэт, — от священного служе¬
ния не реальному, а вечному миру. Поэтому эти люди, вы¬
ступая публично, называли себя всегда не писателями, а
«интеллигентами», что звучало примерно так, как если бы
влюбленный называл себя «спекулянтом в делах любви».
Поэтому сейчас, когда все идет вкривь и вкось и дела у них
никак не ладятся, они и пришли к мысли о политизации.
Если бы удалось обьединить вокруг себя достаточно боль¬
шое количество людей, чтобы образовать крупный союз,
попасть в рейхстаг и в качестве политически заинтересо¬
ванной стороны укрепить не только промышленность и
сельское хозяйство, но и «дух», то это, полагали они, было
бы уже большим успехом.
Отведя — не без злости и раздражения — по этому по¬
воду душу, я снова вернулся к мыслям о писателе и талан¬
те. В чем их предназначение? Чего ждет от них природа?
Почему их ценят, если именно бесталанные воплощают в
себе здоровье и норму?
На пути от рыбы, птицы и обезьяны к воинствующему
животному напгах дней, на этом долгом пути, идя по кото¬
рому мы надеялись со временем стать людьми и богами,
«ненормальные» продвигались вперед от ступени к ступени.
Нормальные были консервативны, они предпочитали здо¬
ровье и надежность. Нормальной ящерице не могла прийти
в голову мысль о том, чтобы коща-нибудь научиться ле¬
тать. Нормальная обезьяна никогда не думала о том, чтобы
спуститься с деревьев и ходить по земле на двух ногах. Та
из них, что впервые рискнула это сделать, впервые стала
мечтать об этом, была фантазером и чудаком, поэтом и но¬
69
ватором, а не нормальной обезьяной. Нормальные, думал
я, нужны для того, чтобы удерживать, сохранять и закреп¬
лять уже найденные формы жизни, расы и вида — ради на¬
копления запаса прочности. Фантазеры же нужны, чтобы
совершать скачки и мечтать о невозможном, — во имя то¬
го, чтобы рыба однажды могла стать наземным животным,
а обезьяна — человекоподобным.
Стало бьпъ, нормальное» не было чем-то идеальным,
оно тоже обозначало только функцию — консервативную,
служащую сохранению вида. «Талант» и «фантазер» были
означением функции игры, пробы, заигрывания с про¬
блемами. На этом пути можно было сломать себе шею, сой¬
ти с ума, совершить самоубийство. Но при известных усло¬
виях можно было и обрести крылья, сотворить богов. Коро¬
че, если нормальный человек заботился о том, чтобы вид
оставался таким, каким он был, обязанность «духовного че¬
ловека» заключалась в том, чтобы сохранялось и другое,
противоположное свойство человечества — стремление к
идеалу. Между этими двумя полюсами и проходит жизнь
человечества: сохранение того, что уже достигнуто, и от¬
брасывание достигнутого ради устремления к новым рубе¬
жам! И функция писателя в том, чтобы быть на стороне
идеального, иметь предчувствия, создавать идеалы, меч¬
тать.
Этим и объясняется наличие той «действительности», в
которую писатель никогда не верил, — необыкновенно
важного мира бизнеса, партий, выборов, валютных курсов,
почетных званий, орденов, правил внутреннего распорядка
и так далее. И если писатель политизируется, он отрекается
от своей обязанности заглядывать в будущее и служить иде¬
алу и вмешивается в работу практиков, полагающих, будто
своими реформами избирательной системы они способству¬
ют прогрессу, тоща как они плетутся за мыслями людей
духа, отставая на столетия, и пытаются по мелочам претво¬
рять в жизнь те или иные их идеи и предвосхищения. По¬
этому политик, ратующий за вечный мир, напоминает од¬
ного из тысяч муравьев, которые трудятся над осуществле¬
нием древней мечты. Творцом же мечты был тот человек
духа, который много тысячелетий тому назад впервые про¬
изнес великие слова: «Не убий!», то есть возмечтал о том,
чего не было на земле миллионы лет и что с тех пор дей¬
ствует в человечестве как закваска — пока ему не удастся
70
достичь и этой цели, как удалось подняться с четверенек и
избавиться от волосяного покрова.
До этого места мысли выстраивались легко и без помех,
играючи поднимаясь-из глубин бессознательного, как пу¬
зырьки воздуха в родниковой воде. Теперь же появился не¬
большой разрыв, какое-то звено ускользнуло от меня: что-
то вдруг стало мне мешать, вереница только что возникших
представлений стала расплываться, я утратил с ней связь.
Вместо этого снова появилось неприятное чувство, родилась
неприятная мысль: «Почему ты обо всем этом думаешь?
Это ведь не мысли, это же сплошные маски и личины, за
которыми скрывается какое-то побуждение!» Я чувствовал,
что после разговора с женой, который был вчера вечером,
во мне осталась какая-то заноза, что я испытывал потреб¬
ность самому оправдаться перед собой за свою литератур¬
ную работу, так как вчера мы говорили как раз о том, что
почти все художники не осуществляют в своей жизни ни¬
чего или осуществляют очень немногое из того благородно¬
го, идеального и возвышенного, что присутствует в их про¬
изведениях. Так, значит, вот где сидела заноза! Чтобы вы¬
тащить ее, я и проделал сотни мыслительных ходов, из ко¬
торых не зафиксировал здесь и малой доли, прошел, бойко
фантазируя, путь назад — к обезьяне и к ящерице.
Но вот себялюбивый источник моих мыслей обнаружен,
заноза вытащена, и я могу спокойно улыбнуться и помеч¬
тать еще немного.
Я мечтаю: идеал человека должен быть таким — чело¬
век «нормы», которому, как правило, не нужны вытеснения
в сферу духовного, который чз^вствует себя уверенно и хо¬
рошо наедине с самим собой. Но этому человеку, которого
никакие невзгоды не толкают на стезю добродетели, ника¬
кая внутренняя ущербность не побуждает к компенсации в
творческом акте, следует научиться добровольно воспроиз¬
водить эти невзгоды в себе самом. По мере необходимости
он бы вырабатывал в себе — как игру и роскошь — особые
таланты, особые потребности, как это бывает, например,
когда для разнообразия придумывают себе новую прическу.
Тогда он почувствовал и испытал бы блаженство мечты,
муки творчества, страх и сладость рождения нового, не ве¬
дая их проклятия, ибо после каждой такой игры он мог бы
удовлетворенно вернуться к прежнему состоянию и про¬
стым усилием воли так сдвинуть и переместить в себе свои
устремления, чтобы возникло новое, по-иному выстроенное
71
равновесие. Этот идеальный человек мог бы время от вре¬
мени писать стихи, время от времени музицировать, время
от времени вызывать в себе то воспоминание об обезьяне,
то предвосхищение будущих обязательств и надежд и иг¬
рать ими, как опытный атлет с наслаждением поигрывает
отдельными группами мышц. И все это происходило бы с
ним не по принуждению, не по необходимости, а как бы¬
вает со здоровым, благовоспитанным ребенком. И, что са¬
мое прекрасное, этот идеальный человек, чувствуя обра¬
щенное к нему новое требование идеала, не сопротивлялся
бы отчаянно и ожесточенно превращениям в себе самом,
как это делаем мы, несчастные, а был бы в полном и совер¬
шенном согласии с собой, с идеалом, с судьбой, изменялся
бы легко и умирал легко.
Тут я снова попадаю в щекотливое положение. Сам-то
я изменяться не люблю и легко умереть не смогу. Я знаю,
знаю наверняка, что всякая смерть — это одновременно и
рождение, но знаю я это не всем своим существом, множе¬
ством фибр своей души я противлюсь этому, какая-то часть
меня не верит в смерть, испытывает страх и слабость. И я
не люблю, когда мне об этом напоминают. Поэтому я об¬
радовался, когда позвонил почтальон, и с нетерпением по¬
спешил ei^ навстречу.
О СТИХАХ
Однажды, когда мне было десять лет, по книге для чте¬
ния мы проходили в школе одно стихотворение, называлось
оно, кажется, «Сыночек Шпекбахера». В нем говорилось о
маленьком мальчике-герое, который в каком-то сражении
не то собирал патроны, не то совершал что-то еще очень
героическое. Мы, мальчишки, были в восторге. И когда
учитель с оттенком иронии в голосе спросил нас: «Ну так
что, хорошее это стихотворение?» — мы закричали: «Да!»
А он улыбаясь покачал головой и сказал: «Нет, дети, это
плохое стихотворение». Он был прав, по канонам и вкусам
нашего времени и искусства стихотворение было нехоро¬
шим, неизящным, не подлинным, халтурным. И все-таки в
нас, мальчишках, оно вызвало прилив восхищения.
Десять лет спустя, в двадцать один год, с первого же про¬
чтения я бы не задумываясь смог сказать о том стихотворе¬
нии, хорошее оно или плохое. Это было бы просто. Хватило
72
бы одного взгляда, прочтения вполголоса нескольких строк.
Меж тем опять прошло несколько десятилетий, я держал в
руках и читал множество стихов, и ныне я вновь сильно со¬
мневаюсь, смогу ли оценить показанное мне стихотворение.
Мне часто показывают стихи, их авторы обычно молодые
люди, желающие получить о них «суждение» и найти изда¬
теля. И юные поэты всякий раз удивлены и разочарованы,
видя, что у их старшего коллега, которому они приписывали
опытность, никакого опыта нет; неуверенно листая рукопись
со стихами, он ничего не решается сказать об их качестве.
То, что в двадцатилетием возрасте я бы абсолютно уверенно
сделал за две минуты, стало теперь трудно, нет, не столько
трудно, сколько невозможно. «Опыт» к тому же — еш:е и не¬
что, о чем в юности думалось, что оно приходит само собой.
Но опыт сам собой не приходит. Есть люди, талантливые по
части опыта, у них он есть всегда, есть со школьной скамьи,
если уже не в материнской утробе; есть и другие, к ним отно¬
шусь и я, — они могут прожить сорок, шестьдесят или сто лет
и умереть, так по-настоящему и не усвоив и не поняв, что же
это, собственно, такое «опыт».
В двадцать лет моя уверенность в суждении о стихах
зиждилась на любви к определенным стихам и поэтам,
любви столь сильной и исключающей почти все остальное,
что каждую книгу и стихотворение я тотчас сравнивал с
ними. Бели сходство обнаруживалось, они были хороши, и,
если нет, никуда не годились.
У меня и сегодня есть несколько особенно любимых по¬
этов, и некоторые из них те же, что и прежде. Но сегодня
чаще всего я недоверчив по отношению именно к тем сти¬
хам, звучание которых тотчас приводит на память одного
из этих поэтов.
Но поведу я речь не о поэтах и стихах вообще, а только о
«плохих», то есть о таких, которые почти всеми, кроме самих
поэтов, в два счета объявляются посредственными, захуда¬
лыми, неполноценными. Подобных стихов за истекшее вре¬
мя прочел я немало и раньше совершенно точно знал, что они
плохие и почему. Сегодня я уже не так уверен в этом. Но и
эта уверенность и это знание, как бывает со всякой привыч¬
ностью и всяким знанием, как-то раз показались мне в со¬
мнительном свете, стали внезапно скучными, сухими, чу¬
жими и ущербными, все возмутилось во мне против них, и, в
конце концов, они обернулись чем-то отжившим, что уже
позади и чью ценность я больше не понимаю.
73
и теперь у меня со стихами бывает порою так, что хо¬
чется одобрить и даже превознести несомненно «плохие»
стихи, а хорошие и даже отличные кажутся зачастую по¬
дозрительными.
То же чувство испытываешь иноща по отношению к
профессору, чиновнику или сумасшедшему. Ведь обычно
хорошо знаешь и убежден в том, что чиновник — безуп¬
речный человек, законное дитя Божье, вставленный в свое
гаездо и полезный гражданин общества, а сумасшедший —
бедолага, несчастный больной, которого терпят, жалеют, но
считают неполноценным. Однако приходят дни или только
часы, когда, бывает, необычно много наобщаешься с про¬
фессорами или сумасшедшими, и тогда истина вдруг обра¬
щается в свою противоположность: в сумасшедшем начина¬
ешь видеть тихого, уверенного в себе счастливца. Божьего
любимца, человека по-своему с характером и довольного
собственной верой, а профессор или чиновник кажутся
жалкими, посредственными, безликими, марионеточными
фигурами, каких на дюжину приходится двенадцать.
Так вот то же самое бывает у меня порою и с плохими сти¬
хами. Вдруг они начинают казаться совсем не плохими, вне¬
запно приобретают для меня аромат, своеобразие, детскую
живость, и их очевидные слабости и недостатки становятся
трогательными, оригинальными, милыми и восхитительны¬
ми, а прекрасное стихотворение, впрочем любимое, по срав¬
нению с ними предстает бесодетным, шаблонным.
С появлением экспрессионизма нечто подобное видим
мы и в творчестве некоторых наших молодых поэтов: они
принципиально больше не пишут «хороших» или «краси¬
вых» стихов. Они считают, что красивых стихов уже доста¬
точно много, что сами они рождены и живут в этом мире
вовсе не для того, чтобы продолжить вереницу очарователь¬
ных стихов и играть в начатую предыдущими поколениями
игру «кто кого перещеголяет». Наверно, они совершенно
правы, и стихи их порою звучат столь же трогательно, как
это, впрочем, бывает липп> с «плохими» стихами.
И понятно, в чем здесь дело. Причина появления на све¬
те стихов предельно однозначна. Они — разрядка, зов,
крик, вздох, жест, реакция взволнованной души, стремя¬
щейся выплеснуть или осознать возбуждение, эмоцию. В
этой главной, изначальной и важнейшей своей функции не
поддается оценке никакое стихотворение. Прежде всего оно
обращено лишь к самому поэту, оно — его дыхание, его го¬
74
лос, его греза, его улыбка, его припадок. Кто возьмется су¬
дить об эстетической ценности ночных сновидений и о це¬
лесообразности движений рук и головы, мимики и поход¬
ки?! Грудной ребенок, засовывающий в рот большой палец
руки или ноги, поступает столь же правильно и умно, как
и автор, грызущий кончик своего пера, или павлин, распу¬
скающий хвост. Ни один из них не поступает лучше, чем
другой, ни один не больше и не меньше прав.
Иногда бывает, что стихотворение, давая разрядку и об¬
легчение автору, может радовать, волновать и трогать так¬
же и других людей, бывает оно и красивым. Это происхо¬
дит, вероятно, тогда, когда стихотворение выражает нечто
присущее многим, нечто возможное у всех. Но не обяза¬
тельно только тогда!
Вот здесь-то и начинается проблематичное круговраще¬
ние. «Красивые» стихи делают поэтов любимцами публики,
из-за чего рождается вновь тьма стихотворений, которые, со¬
вершенно забыв о своей изначальной, предмировой, священ¬
нослужительской функции, все до одного хотят быть только
красивыми. Такие стихи по своему рождению созданы для
других, для слушателей, для читателей. Они более не грезы,
не движения танца или крики души, не реакция на пережи¬
тое, не косноязыкие желанные видения или заклинания, не
лик мудреца или гримаса безумца, а всего лишь выдуманные
изделия, фабрикаты, конфеты для 11ублики. Их смастерили,
чтоб распространять и продавать, чтобы покупатели их по¬
требляли для собственного увеселения, возвышения души
или отвлечения. И именно и стихи пользуются успехом. В
них не нужно погружаться серьезно и любовно, они не мучат
и не потрясают, а весело, уютно качают на своих красивых и
мерных волнах.
Эти «красивые» стихи могут показаться порою столь же
неприятными и сомнительными, как и все приглаженное и
подогнанное по рамке, как профессора и чиновники. И когда
правильным миром становишься сыт по горло и хочется бить
фонари и поджигать храмы, — в такие дни все «красивые»
стихи, вплоть до святых классиков, кажутся немного цензу¬
рированными, кастрированными, слишком уж приемлемы¬
ми, слишком прирученными, слишком добропорядочными.
Т оща обращаешься к плохим. Тогд» вообще у же нет ни одно¬
го достаточно плохого стихотворения.
Но и здесь подстерегает разочарование. Чтение плохих
стихов — удовольствие слишком краткое, они быстро вызы¬
75
вают насыщение. Но зачем читать? Почему бы каждому са¬
мому не сочинять плохие стихи? Возьмитесь, и вы увидите,
что сочинение плохих стихов делает человека намного сча¬
стливее, чем чтение самых распрекрасных стихотворений.
БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ, ИЛИ ЗАКАТ ЕВРОПЫ
Ничего нет вне, ничего — внутри,
ибо что вне, то и внутри.
Придать связную и удобочитаемую форму мыслям, ко¬
торыми я хочу здесь поделиться, оказалось для меня невоз¬
можным. Способности не те, а кроме того, мне кажется до¬
статочно нескромной и сама манера — из нескольких при¬
шедших в голову соображений выстраивать некое эссе с
претензией на законченность и последовательность, в то
время как на небольшое количество мыслей в нем прихо¬
дится большое количество начинки. Нет, у меня, верующе¬
го в «Закат Европы»*, причем в закат культурной Европы
в первую очередь, и вовсе нет причин заботиться о форме,
которая неминуемо показалась бы мне маскарадом и
ложью. Скажу словами самого Достоевского из последней
книги «Братьев Карамазовых»: «А впрочем, вижу, что луч¬
ше не извиняться. Сделаю как умею, и читатели сами пой¬
мут, что я сделал лишь как умел».
Как мне представляется, в произведениях Достоевского,
а всего сильнее в «Братьях Карамазовых» с невероятной от¬
четливостью выражено н предвосхищено то, что я называю
«Закатом Европы». В том факте, что именно в Достоев¬
ском — не в Гёте и даже не в Ницше — европейская, в осо¬
бенности немецкая, молодежь видит теперь своего величай¬
шего писателя, я нахожу что-то судьбоносное. Стоит лишь
бросить взгляд на новейшую литературу, как всюду заме¬
чаешь перекличку с Достоевским, пусть и на уровне про¬
стых и наивных подражаний. Идеал Карамазовых, этот
древний азиатски оккультный идеал начинает становиться
европейским, начинает пожирать дух Европы. В этом я и
вижу закат Европы. А в нем — возвращение к праматери,
возвращение в Азию, к источникам всего, к фаустовским
«матерям»*, и, разумеется, как всякая смерть на земле,
этот закат поведет к новому рождению. Как закат этот про¬
цесс воспринимаем только мы, его современники; точно так
76
же, покидая дорогие сердцу родные края, только старики
испытывают чувство печали и невозвратимой утраты, мо¬
лодых же влечет новизна, влечет будущее.
Но что же это за «азиатский» идеал, который я нахожу
у Достоевского и о котором думаю, что он намерен завое¬
вать Европу?
Это, коротко говоря, отказ от всякой нормативной этики
и морали в пользу некоего всепонимания, всеприятия, не¬
коей новой, опасной и жуткой святости, как возвещает о
ней старец Зосима, как живет ею Алеша, как с максималь¬
ной отчет/швостью формулируют ее Дмитрий и особенно
Иван Карамазов.
У старца Зосимы еще одерживает верх идеал справедли¬
вости, для него, во всяком случае, существуют добро и зло,
хотя своею любовью он одаривает предпочтительно носите¬
лей зла. У Алеши этот вид новой святости осуществляется
уже куда свободнее и живее, он ступает по грязи и сору свое¬
го окружения почти с аморальной непринужденностью, не¬
редко он вызывает в моей памяти благороднейший завет За¬
ратустры: «Я дал обет удаляться от всякого отвращения!» Но
взгляните-ка: братья Алеши проводят эту мысль еще даль¬
ше, ступают по этому пути еще решительнее, и зачастую де¬
ло вопреки всему выглядит прямо так, будто соотношение
братьев Карамазовых на протяжении толстой, трехтомной
книги круто меняется, так что все незыблемо непреложное
становится все более и более сомнительным, святой Алеша
становится все более и более светским человеком, его свет¬
ские братья делаются все более святыми, а самый необуздан¬
ный и бедовый из них, ДмкГтрий, — прямо-таки самым свя¬
тым, самым чутким и сокровенным пророком новой свято¬
сти, новой морали, новой человечности. Это весьма странно.
Чем безудержнее карамазовщина, чем больше порока и пья¬
ной грубости, тем сильнее светит сквозь покров этих грубых
явлений, людей и поступков новый идеал, тем больше духа и
святости копится там, внутри. И рядом с пьяницей, убийцей
и насильником Дмитрием и циником-интеллектуалом Ива¬
ном все эти безупречно порядочные типы вроде прокурора и
других представителей буржуазности выглядят тем некази¬
стее, тем бесцветнее, тем ничтожнее, чем более они торжест¬
вуют внешне.
Итак, «новый идеал», угрожающий самому существова¬
нию европейского духа, представляется совершенно амо¬
ральным образом мьппления и чувствования, способностью
77
прозревать божественное, необходимое, судьбинное и в зле,
и в безобразии, способностью чтить и благословлять их. По¬
пытка прокурора в своей длинной речи изобразить эту ка¬
рамазовщину с утрированной иронией и выставить на ос¬
меяние обывателей — эта попытка на самом деле ничего
не утрирует, она даже выглядит слишком робкой.
В этой речи с консервативно-буржуазных позиций изо¬
бражается «русский человек», ставший с тех пор популяр¬
ным, этот опасный, трогательный, безответственный, хотя
и с ранимой совестью, мягкий, мечтательный, свирепый,
глубоко ребячливый «русский человек», которого и по сию
пору любят так называть, хотя он, как я полагаю, давно
уже намерен стать человеком европейским. Ибо в том-то и
состоит закат Европы.
На этом русском человеке стоит задержать взгляд. Он
намного старше, чем Достоевский, однако именно Достоев¬
ский окончательно представил его миру во всем плодотвор¬
ном значении. Русский человек — это Карамазов, это Фе¬
дор Павлович, это Дмитрий, это Иван, это Алеша. Ибо эти
четверо, как они ни отличаются друг от друга, накрепко
спаяны между собой, вк^есте образуют они Карамазовых,
ъместе образуют они русского человека, вместе образуют
они грядущего, уже приближающегося человека европей¬
ского кризиса.
Между прочим, стоит обратить внимание на одну весьма
и весьма странную вещь, а именно: как в ходе повествова¬
ния Иван из цивилизованного человека делается Карама¬
зовым, из европейца — русским, из оформленного истори¬
ческого типа — бесформенным материалом будущего! Это
осуществлено с единственной, сомнамбулической точно¬
стью — это соскальзывание Ивана с первоначального пье¬
дестала выдержанности, разума, трезвости и научности, это
постепенное, напряженное, отчаянное падение как раз того
из Карамазовых, кто производит наиболее благопристойное
впечатление, в истерию, в русскую стихию, в карамазов¬
щину! Именно он, скептик, под конец беседует с чертом!
Но этом мы еще поговорим*
Итак, русский человек (который давно распространился
и у нас, в Германии) не сводим ни к истерику, ни к пьянице
или преступнику, ни к поэту или святому; в нем все это
помещается вместе, в совокупности всех этих свойств. Рус¬
ский человек, Карамазов, — это одновременно и убийца;^ и
судия, буян и нежнейшая душа, законченный эгоист и ге¬
78
рой совершеннейшего самопожертвования. К нему не при¬
менима европейская, то есть твердая морально-этическая,
догаатическая точка зрения. В этом человеке внешнее и
внутреннее, добро и зло, бог и сатана неразрывно слиты.
Оттого-то в душе этих Карамазовых копится страстная
жажда высшего символа — бога, который одновременно был
бы и чертом. Таким символом и является русский человек
Достоевского. Бог, который одновременно и дьявол, — это
ведь древний демиург. Он был изначально; он, единствен¬
ный, находится по ту сторону всех противоречий, он не знает
ни дня, ни ночи, ни добра, ни зла. Он — ничто, и он — все.
Мы не можем познать его, ибо мы познаем что-либо только в
противоречиях, мы — индивидуумы, привязанные ко дню и
ночи, к теплу и холоду, нам нужен ^г и дьявол. За гранью
противоположностей, в ничто и во всем живет один лишь де¬
миург, бог вселенной, не ведающий добра и зла.
Об этом много можно было бы толковать, но и сказанного
достаточно. Мы уяснили себе существо русского человека.
Это человек, который рвется прочь от противоположностей,
от определенных свойств, от морали, это человек, который
намерен раствориться, вернувшись вспять в principiimi
individuationis^*. Этот человек ничего не любит и любит все,
он ничего не боится и боится всего, он ничего не делает и де¬
лает все. Этот человек — снова праматериал, неоформлен¬
ный материал душевной плазмы. В таком виде он не может
жить, он может лишь гибнуть, падать метеоритом.
Этого-то человека катастрофы, этот ужасный призрак и
вызвал своим гением Достоевский. Нередко высказывалось
мнение: счастье еще, что его «Карамазовы» не окончены,
не то они взорвали бы не только русскую литературу, но и
всю Россию, и все человечество.
Но и то, что высказано — даже если сказавший не до¬
говорил до конца, — нельзя загнать вспять, в небытие, сде¬
лать несказанным. Наличное, продуманное, возможное
нельзя стереть с лица земли. Русский человек давно уже
существует, причем существует и за пределами самой Рос¬
сии; он правит половиной Европы, и грохот вызвавшего
столько опасений взрыва был достаточно слышен в послед¬
ние годы всюду. Выяснилось, что Европа утомлена, выяс¬
*Принцип индивидуации (лапи).
79
нилось, что ей хочется повернуть вспять, отдохнуть, воз¬
никнуть заново, возродиться.
Тут мне приходят в голову два высказывания одного ев¬
ропейца — европейца, который для любого из нас, вне вся¬
кого сомнения, символизирует старую, бывшую, обречен¬
ную ныне на табель Европу. Я имею в виду кайзера Виль¬
гельма. Одно из этих изречений он некоща вписал под не¬
сколько странное аллегорическое изображение, призывая в
нем народы Европы беречь свои «святыни» от грозящей с
Востока опасности.
Кайзер Вильгельм не был, конечно, особенно прозорли¬
вым и глубоким человеком, и все же как поклонник и по¬
борник старомодного идеала он обладал некоторой долей
прозорливости по отношению к опасностям, упюжавшим
этому идеалу. Он не был человеком духовного склада, не
любил читать хорошие книги, да, кроме того, слишком
много занимался политикой. Так и упомянутое изображе¬
ние с предостерегающим призывом к народам Европы воз¬
никло не после чтения Достоевского, как можно было бы
подумать, но скорее под влиянием смутного страха перед
народными массами Востока, которых честолюбив Японии
могло бы привести в движение против Европы.
Кайзер едва ли осознавал, чтб именно вложил он в свое
высказывание и до какой чудовищной степени оно справед¬
ливо. Он наверняка не был знаком с «Карамазовыми», у
него не было, повторяю, склонности к хорошим и глубоким
книгам. Но у него было невероятно тонкое чутье. И как раз
та опасность, которую он учуял на сей раз, как раз она дей¬
ствительно существовала и с каждым днем приближалась.
То были Карамазовы — кого он боялся. То была зараза,
шедшая с Востока в Европу, то было падение усталого ев¬
ропейского духа вспять — к азиатской материи, и он боял¬
ся всего этого справедливо.
А вот и второе высказывание кайзера, о котором я
вспомнил и которое произвело на меня в свое время ужас¬
ное впечатление (не знаю, действительно ли он так сказал
или то были слухи): «Войну выиграет нация, у которой по¬
крепче нервы». Коща в то время, в самом начале войны, до
меня дошло это высказывание, я воспринял его как глухой
раскат приближающегося землетрясения. То есть было яс¬
но, что кайзер хотел сказать что-то очень лестное для Гер¬
мании. Возможно, у него самого были отличные нервы, как
80
у его товарищей по охоте и военным смотрам. Знал он и
ст’арую глупую сказочку о растленной и порочной Франции
и о добродетельных, семейственных германцах — и верил
в нее. Но для других, тех, кто знал, или, точнее, догады¬
вался, предчувствовал, что будет завтра и послезавтра, —
для них это его высказывание прозвучало ужасно. Ибо они-
то знали, что у Германии нервы вовсе не лучше, а хуже,
чем у неприятелей на Западе. И для них это высказывание
тощашнего лидера прозвучало как жуткое и роковое пред¬
сказание слепо надвигающейся катастрофы.
Нет, нервы у немцев были вовсе не лучше, чем у фран¬
цузов, англичан или американцев. Разве что получше, чем
у русских. Ибо «иметь дурные нервы» — это ведь бытовое
выражение для истерии и неврастении, для moral insanity^
и всех прочих неприятностей, которые можно по-разному
определять, но которые в их совокупности равнозначны ка¬
рамазовщине. Перед лицом Карамазовых, перед лицом До¬
стоевского, перед лицом Азии Германия занимала беско¬
нечно более безнадежную и слабую позицию, чем любая
другая европейская страна, исключая Австрию.
Таким образом, и кайзер на свой лад предвидел и дваж¬
ды предсказал закат Европы.
Однако совершенно иной вопрос: как следует оценивать
этот закат старой Европы? Тут расходятся пути многих
умов. Убежденные приверженцы прошлого, верные почи¬
татели освященной благородной формы и культуры, рыца¬
ри привычной морали — все они могут лишь, насколько
это возможно, противостоять этому закату или безутешно
оплакивать его, коли он настанет. Для них закат — это ко¬
нец, но для других — это начало. Для одних Достоев¬
ский — преступник, для других — святой. Для одних Ев¬
ропа и ее духовная культура — это нечто единственное,
крепко сбитое, неприкосновенное, нечто прочное и бытий¬
ное, для других — это нечто становящееся, изменчивое,
вечно преобразующееся.
Карамазовский элемент, как и все азиатское, хаотиче¬
ское, дикое, опасное, аморальное, как и вообще все в мире,
можно оценивать двояко — позитивно и негативно. Те, кто
попросту отвергает весь этот мир, этого Достоевского, этих
Карамазовых, этих русских, эту Азию, эти демиурговы
^Душевное нездоровье (англ.).
81
фантазии, обречены теперь на бессильные проклятия и
страх, у них безрадостное положение там, ще Карамазовы
явно доминируют — более, чем когда-либо прежде. Но они
заблуждаются, желая видеть во всем этом одно лишь фак¬
тическое, наглядное, материальное. Они смотрят на закат
Европы как на ужасную катастрофу с разверзающимся не¬
бесным грохотом, либо как на революцию, полную резни и
насилий, либо как на торжество преступников, коррупции,
воровства, убийств и всех прочих пороков.
Все это возможно, все это заложено в Карамазове. Коща
имеешь дело с Карамазовым, то не знаешь, чем он нас оша¬
рашит в следующий миг. Может, ударит так, что и убьет,
а может, споет пронзительную песнь во славу Божию. Сре¬
ди них есть Алеши и Дмитрии, Федоры и Иваны. Они ведь,
как мы видели, определяются не какими-либо свойствами,
но готовностью в лю^е время перенять любые свойства.
Но пусть пугливые не ужасаются тем, что сей непред¬
сказуемый человек будущего (он существует уже и в на¬
стоящем!) способен творить не только зло, но и добро, спо¬
собен основать царство Божье так же, как царство дьявола.
То, что можно основать или свергнуть на земле, мало ин¬
тересует Карамазовых. Тайна их не здесь — как и цен¬
ность, и плодотворность их аморальной сути.
Эти люди отличаются от других, прежних людей поряд¬
ка, расчета, ясной положительности, в сущности, лишь тем,
НТО они столько же живут внутри себя, сколько вовне, тем,
что у них вечные проблемы с собственной душой. Карамазо¬
вы способны на любое преступление, но совершают они пре¬
ступление лишь в виде исключения, ибо им по большей час¬
ти достаточно совершить преступление в мыслях, во сне, в
игре с возможностями. В этом их тайна. Поищем же ей фор¬
мулу.
Любое формирование человека, любая культура, любая
цивилизация, любой порядок основываются на соглашении
относительно разрешенного и запрещенного. Человек, нахо¬
дящийся на пути от животного к далекому человеческому
будущему, постоянно должен многое, бесконечно многое в
себе подавлять, скрывать, отрицать, чтобы быть человеком
порядочным, спос^ным к человеческому общежитию. Че¬
ловек заполнен животным, заполнен древним прамиром, за¬
полнен чудовищными, вряд ли укротимыми инстинктами
по-звериному жестокого эгоизма. Все эти опасные инстинк¬
ты у нас в наличии, всегда в наличии, однако культура, со¬
82
глашение, цивилизация их скрыли; их не показывают, с де¬
тства учась прятать и подавлять эти инстинкты. Но каждый
из этих инстинктов время от времени прорывается наружу.
Каждый из них продолжает жить, ни один не искоренен до
конца, ни один не облагорожен и не преобразован надолго,
навечно. И ведь каждый из этих инстинктов сам по себе не
так уж и плох, не хуже любых других, вот только у всякой
эпохи и всякой культуры существуют инстинкты, которых
опасаются и которые преследуют больше других. И вот коща
эти инстинкты снова просыпаются, как необузданные, лишь
поверхностно и с трудом укрощенные стихии, коща звери
снова рычат, а рабы, которых долгое время подавляли и сте¬
гали бичами, восстают с воплями древней ярости, вот тогда
появляются Карамазовы. Коща устает и начинает шататься
культура, эта попытка одомашнить человека, тоща все более
и более распространяется тип людей странных, истериче¬
ских, с необычными отклонениями — подобных юношам в
переходном возрасте или беременным женпщнам. И в душах
поднимаются порывы, которым нет имени, которые — исхо¬
дя из понятий старой культуры и морали—следует признать
дурными, которые, однако, способны говорить таким силь¬
ным, таким естественным, таким невинным голосом, что
всякое добро и зло становятся сомнительными, а всякий за¬
кон — зыблемым.
Такими людьми и являются братья Карамазовы. Они с
легкостью относятся к любому закону как к условности, к
любому законнику — как к филистеру, с легкостью пере¬
оценивают всякую свободу и непохожесть на других, с пы¬
лом влюбленнь1х прислушиваются к хору голосов в собст¬
венной груди.
Но из хаоса, царящего в этих душах, вовсе не обязатель¬
но рождается преступление и произвол. Стоит придать про¬
рвавшемуся наружу древнему инстинкту новое направле¬
ние, новое имя, новый свод ценностей — как возникнут кор¬
ни новой культуры, нового порядка, новой морали. Ибо так
обстоит дело с Л1^й культурой: убить в себе инстинкты, то
есть зверя, мы не можем, поскольку с ними умерли бы и мы
сами, но мы можем в какой-то мере направить их, в какой-то
мере их успокоить, в какой-то мере подчинить их служению
«доброму» — как впрягают норовистого коня в приносящую
пользу повозку. Вот только блеск этого «доброго» время от
времени стирается, блекнет, инстинкты утрачивают в него
веру, не желают &льше ему подчиняться. Тоща рушится
83
культура — чаще всего не сразу, как, например, столетиями
умирало то, что мы именуем «античностью».
А пока старая, умирающая культура и мораль еще не
сменились новыми, в это глухое, опасное и болезненное
безвременье человек: должен снова заглянуть в свою душу,
должен снова увидеть, как вздымается в ней зверь, как иг¬
рают в ней первобытные силы, которые выше морали. Об¬
реченные на это, призванные к этому, предназначенные и
приготовленные к этому люди — и есть Карамазовы. Они
истеричны и опасны, они так же легко становятся преступ¬
никами, как аскетами, они ни во что не верят, их безумная
вера — сомнительность всякой веры.
Любой символ имеет сотню толкований, из которых
каждое может быть верным. И Карамазовы могут иметь
сотню толкований, мое — лишь одно из них, одно из ста.
Человечество, находящееся на пороге великих преобразо¬
ваний, создало себе в этой книге некий символ, образ —
так же, как спящий создает во сне образ раздирающих его
и уравновешивающих друг друга инстинктов.
Это чудо, что один человек смог написать «Карамазо¬
вых». Что ж, раз чудо случилось, нет нужды его объяснять.
Зато есть нужда, и очень глубокая нужда истолковать это
чудо, прочесть сие писание с наивозможной полнотой, с наи-
возможной всесторонностью, с наивозможной силой про¬
никновения в его светлую магию. Один из опытов в этом
роде и есть моя попытка высказать некоторые мысли и со¬
ображения, не более того.
Пусть, однако, не думают, будто я держусь того мнения,
что Достоевский сознательно разделял высказанные здесь
мною мысли и соображения! Напротив, ни один великий
ясновидец или поэт никогда не мог до конца истолковать
собственные видения!
Под конец я хотел бы кратко отметить, как в этом ро¬
мане-мифе, в этом сне человечества не только изображен
порог, через который ныне переступает Европа, этот мучи¬
тельный, опасный момент провисания между ничем и всем,
но и, как всюду, в нем чувствуются и угадываются богатые
возможности нового.
В этом отношении особенно удивительна фигура Ивана.
Он предстает перед нами как человек современный, приспо¬
собившийся, культурный — несколько холодный, несколько
разочарованный, несколько скептический, несколько утом¬
ленный. Но чем дальше, тем он становится моложе, стано¬
84
вится теплее, становится значительнее, становится более
Карамазовым. Это он сочинил «Великого инквизитора». Это
он проходит путь от отрицания, даже презрения к убийце, за
которого он держит брата, к глубокому чувству собственной
вины и раскаяния. И это он всех резче и причудливее пере¬
живает душевный процесс конфронтации с бессознатель¬
ным. (А ведь вокруг этого все и крутится! В этом ведь смысл
всего заката, всего возрождения!) В последней книге романа
имеется престранная глава, в которой Иван, возвращаясь от
Смердякова, застает в своей комнате черта и битый час бесе¬
дует с ним. Этот черт — не что иное, как подсознание Ивана,
как всплеск давно осевшего и, казалось бы, забытого содер¬
жимого его души. И он знает это. Иван знает это с порази¬
тельной уверенностью и ясно говорит об этом. И все же он бе¬
седует с чертом, верит в него — ибо что внутри, то и снару¬
жи! — и все же сердится на черта, набрасывается на него,
швыряет в него даже стакан — в того, о ком он знает, что тот
живет внутри него самого. Пожалуй, никоща прежде не изо¬
бражался в литературе столь отчетливо и наглядно разговор
человека с собственным подсознанием. И этот разговор, это
(несмотря на вспышки злобы) взаимопонимание с чертом —
это как раз и есть тот путь, на который призваны нам указать
Карамазовы. Здесь, у Достоевского, подсознание изобража¬
ется в виде черта. И по праву — ибо зашоренному, культур¬
ному да моральному нашему взгляду все вытесненное в под¬
сознание, что мы несем в себе, представляется сатанинским
и ненавистным. Но уже комбинация из Ивана и Алеши могла
бы дать более высокую и плодотворную точку зрения, осно¬
ванную на почве грядущего нового. И тут подсознание уже
не черт, но богочерт, демиург, тот, кто был всегда и из кого
все выходит. Утвердить добро и зло заново — это дело не
предвечного, не демиурга, но дело человека и его маленьких
богов.
Отдельную главу можно было бы написать еще об одном
Карамазове, о пятом, который играет в романе невероятно
важную роль, хотя он остается полускрытым. Это Смердя¬
ков, незаконнорожденный Карамазов. Это он убил старика.
Он — убийца, убежденный во всеприсутствии Бога. Это он
способен преподать урок из области материй божественных и
сокрытых и самому всезнайке Ивану. Он — самый неспособ¬
ный к жизни и в то же время самый знающий из всех Карама¬
зовых. Но у меня здесь не находится места, чтобы воздать
85
должное и ему, этому самому загадочному и жуткому персо¬
нажу.
Книга Достоевского неисчерпаема. Я бы мог целыми
днями искать и находить в ней черты, указующие на одно
и то же направление. Вот вспомнилась еще одна — пре¬
красная, восхитительная — истерия обеих Хохлаковых.
Здесь перед нами карамазовский элемент — зараженность
всем новым, больным, дурным — дан в двух фигурах. Одна
из них, Хохлакова-мать, просто больна. В ней, чья сущ¬
ность коренится еще в старом, традиционном, истерия —
это только болезнь, только слабость, только глупость. У ро¬
скошной дочери ее — это не усталость, превращенная в ис¬
терию, проявленная в ней, но некий избыток, но будущее.
Она, терзаемая муками прощающейся с детством, созрева¬
ющей любви, доводит свои причуды и фантазии до куда
большего зла, чем ее незначительная мать, и все же и у
дочери проявления даже самые обескураживающие, непот¬
ребные и бесстыдные исполнены такой.невинности и силы,
которые указывают на плодотворное будущее. Хохлакова-
мать — истеричка, созревшая для клиники, и ничего боль¬
ше. Дочь ее — неврастеничка, болезнь которой является
знаком благородных, но скованных сил.
И что же, эти душевные бури выдуманных романных
персонажей должны означать закат Европы?!
Разумеется. Они означают его точно так же, как в гла¬
зах нашей души любая травинка весной означает жизнь и
ее вечность и как всякий носимый ветром лист в ноябре
означает смерть и ее неизбежность. Ведь закат Европы бу¬
дет, возможно, разыгрываться лишь внутри, лишь в душев¬
ных недрах поколения, лишь в переиначивании устарев¬
ших символов, в переоценке душевных ценностей. Как и
античность — это первое блестящее воплощение европей¬
ской культуры — погибла не из-за Нерона, не из-за Спар¬
така и не из-за германцев, но всего лишь из-за порожден¬
ной в Азии мысли, той простой, стародавней, немудреной
мысли, которая существовала испокон веков, но которая
как раз в ту пору обрела форму учения Иисуса.
Конечно, «Карамазовых» при желании можно рассмат¬
ривать и сугубо литературно, как «произведение искусст¬
ва». Если подсознание целого материка и целой эпохи воп¬
лощается в видениях одного-единственного пророка-мечта-
теля, если оно прорвалось наружу в его жутком хриплом
крике, то этот крик можно, разумеется, рассматривать и с
86
точки зрения учителя просодии. Достоевский, вне всякого
сомнения, был и весьма одаренным писателем, несмотря на
нагромождения чудовищных несообразностей, которыми
полнятся его книга и от которых свободен какой-нибудь ма¬
ститый «только-писатель», например Тургенев. Исайя* так¬
же был весьма одаренный писатель, но разве это в нем важ¬
но? У Достоевского, и особенно в «Карамазовых», отыски¬
ваются следы той почти неестественной безвкусицы, кото¬
рой не бывает у артистов, которая встречается только там,
где стоят уже по ту сторону искусства. Как бы там ни было,
но и как художник этот русский пророк всюду дает почув¬
ствовать свою силу в качестве художника мирового значе¬
ния, и странно думать о том, какие художники считались
великими европейскими писателями в ту пору, когда До¬
стоевский уже написал все свои произведения.
Но я сбиваюсь на второстепенное. Я хотел сказать: чем
менее такая, мирового значения, книга является произве¬
дением искусства, тем, может быть, истиннее заключенное
в ней пророчество. При этом, конечно, и «роман», и «сю¬
жет», и «^разы» Карамазовых говорят так много, выска¬
зывают столько значительного, что кажутся непроизволь¬
ной игрой фаотазии отдельного человека, не произведени¬
ем литератор^. Взять хотя бы такой, говорящий сразу обо
всем, пример: ведь главное в романе заключается в том, что
Карамазовы не виновны!
Эти Карамазовы, все, все четверо, отец и сыновья, — лю¬
ди подозрительные, опасные, ненадежные, у них странные
прихоти, странная совесть, странная бессовестность, один из
них пьяница, другой сладострастник, один—бегущий от ми¬
ра фантаст, другой — тайный создатель богохульных творе¬
ний. В них заключено много угрозы, в этих странных брать¬
ях, они хватают людей за бороды, они отнимают чужие день¬
ги, грозят убийством — и все же они невиновны, и все же ни
один из них не совершил никакого реального преступления.
Единственные убийцы в этом длинном романе, речь в кото¬
ром почти исключительно ведется об убийстве, разбое и пре¬
ступлении, единственные убийцы, единственные виновные в
убийстве — это прокурор и присяжные, представители ста¬
рого, «доброго», устоявшегося порядка, эти безупречные
граждане. Они приговаривают невиновного Дмитрия, они
глумятся над его невиновностью, они — судьи, они судят Бо¬
га и мир по своду своих законов. И как раз они заблуждают¬
ся, как раз они совершают ужасную несправедливость, как
87
раз они становятся убийцами, убийцами из бессердечия, из
страха, из ограниченности.
Это уже не выдумка, это уже не литература. Это не рас¬
считанная на эффект изобретательная страсть детективщи¬
ка (а и таковым является Достоевский) и не сатирическая ед¬
кость умного автора, принимающего на себя роль критика
задворок общества. Это все нам известно, этот тон нам зна¬
ком, и мы давно уже ему не верим! Но нет, у Достоевского
невиновность преступников и вина судей — вовсе не какая-
нибудь хитрая конструкция, она так ужасна, она возникает
и вырастает так незаметно и из такой глубокой почвы, что
перед ней останавливаешься как вкопанный совершенно
внезапно, почти в самом конце книги, как перед стеной, как
перед всей болью и всей бессмыслицей мира, как перед всем
страданием и всеми заблуждениями человечества!
Я сказал, что Достоевский, собственно, не писатель или
не в первую очередь писатель. Я назвал его пророком.
Трудно, однако, сказать, что это, собственно, означает —
пророк! Мне кажется, примерно следующее: пророк — это
больной, так же, как Достоевский в действительности был
истериком, почти эпилептиком. Пророк — это такой боль¬
ной, который утратил здоровый, добрый, благодетельный
инстинкт самосохранения, являющийся воплощением всех
буржуазных добродетелей. Пророков не может быть много,
иначе мир распался бы. Подобный больной, будь то Досто¬
евский или Карамазов, наделен той странной, скрытой, бо¬
лезненной, божественной способностью, которую азиат
чтит в каждом безумце. Он — прорицатель, он — знаю¬
щий. То есть в нем народ, эпоха, страна или континент вы¬
работали себе орган, некие щупальца, редкий, невероятно
нежный, невероятно благородный, невероятно хрупкий ор¬
ган, которого нет у других, который остался у других, к их
вящему счастью, в зачаточном состоянии. Эти щупальца,
это ясновидческое чутье не надо понимать грубо, считая их
чем-то вроде глупой телепатии и фокусов, хотя этот дар
может проявляться и в таких экстравагантных формах. Де¬
ло обстоит скорее так, что «больной» этого рода обращает
движение собственной души в общее, общечеловеческое. У
каждого человека бывают видения, у каждого человека есть
фантазия, каждый человек видит сны. И каждое видение,
каждый сон, каждая фантазия или мысль человеческая на
пути от подсознания к сознанию может обрести тысячи раз¬
личных толкований, каждое из которых может быть пра-
88
ввльным. Ясновидец же и пророк толкует свои видения не
сам: кошмар, его угнетающий, напоминает ему не о собст¬
венной болезни, не о собственной смерти, но о болезни и
смерти общего, чьим .органом, чьими щупальцами он явля¬
ется. Этим общим может быть семья, партия, народ, но им
может быть, и все человечество.
То в душе Достоевского, что мы привыкли называть исте¬
рией, некая болезнь и способность к страданию послужили
человечеству подобным органом, подобным путеводителем и
барометром. И человечество начинает замечать это. Уже
пол-Европы, уже по меньшей мере половина восточной Ев¬
ропы находится на пути к хаосу, мчится в пьяном и святом
раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие пел
Дмитрий Карамазов. Над этими гимнами глумится обижен¬
ный обыватель, но святой ясновидец слушает их со слезами.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ «ИДИОТЕ» ДОСТОЕВСКОГО
Князя Льва Мышкина, этого созданного Достоевским
«идиота», часто сравнивали с Иисусом. Такое, разумеется,
вполне допустимо. Любого человека можно сравнить с
Иисусом, приобщившимся к некоей магической истине, не
отделявшим с тех пор мыслей от жизни и потому желав¬
шимся одиноким даже в кругу близких и врагом для всех.
Поэтому сходство Мышкина и Иисуса не кажется мне осо¬
бенно удивительным; лишь одна, правда, важная черта его
удивляет; робкое целомудрие. Скрытый страх перед полом
и зачатием — черта, отнюдь не чуждая «историческому»,
евангельскому Иисусу. И это явственным образом относит¬
ся к его мировой миссии. Даже то поверхностное изображе¬
ние Христа, какое дает Ренан*, не лишено этой черты.
Но вот что странно: как бы мало ни нравилось мне вечное
сравнение Мышкина с Христом, я все же усматриваю какую-
то непостижимую связь между этими двумя образами. Такое
пришло мне на ум лишь позднее — и довольно занятным пу¬
тем. Однажды, когда я размышлял об этом безумце, я вдруг
понял, что первая моя мысль о нем всеща обращена на что-то
второстепенное. Когда я размышляю о нем, в первый момент
он видится мне в какой-то особой, побочной сцене, которая
не важна сама по себе. Точно так же и Христос. Когда какая-
нибудь ассоциация вызывает во мне образ Иисуса или же
слово «Иисус» настигает меня посредством слуха или зре¬
89
ния, я в первое мгновение никогда не вижу Иисуса на кресте,
или Иисуса в Пустыне, творящего чудеса, или Иисуса, вос¬
ставшего из гроба, а вижу его в тот момент, коща он в Гефси-
манском саду испивает до дна последнюю чашу одиночества,
коща душа его разрывается от мук, от неизбежности смерти
и рождения в новом, высшем качестве и коща он в по-детски
трогательной жажде последнего утешения ищет глазами сво¬
их учеников, ищет немного тепла и человеческого участия,
мимолетного возвышенного обмана посреди своего безна¬
дежного одиночества, — а ученики в это время спят! Они улег¬
лись и спят — честный Петр, красавчик Иоанн, все эти слав¬
ные люди, в которых Иисус по великой своей доброте привык
раз за разом ошибаться, которым он внушает свои мысли,
крупицы своих мыслей, словно бы эти люди способны понять
его язык, словно бы им и впрямь можно внушшъ его мысли,
вызвать в них какие-то родственные чувства, найти какое-то
понимание, какую-то близость и солидарность. И вот теперь,
в минуту невыносимой муки, он ищет глазами своих спутни¬
ков, тех единственных, которые есть у него, и весь он — сама
отзывчивость, сама человечность, само страдание, теперь он
мог бы стать им ближе, чем коща бы то ни было, мог бы каж¬
дое их глупое слово, каждое мало-мальски приветливое вы¬
ражение лица воспринять как утешение и ободрение—но не
тут-то было, их нет рядом, они спят и храпят во сне. Не знаю,
каким образом, но этот ужасный момент с самых ранних лет
глубоко врезался мне в сознание, и, как уже сказано, коща я
думаю об Иисусе, всякий раз во мне тут же непременно воз¬
никает воспоминание об этом мгновении.
Коща я думаю о Мышкине, об этом «идиоте», он тоже ви¬
дится мне сначала не в какой-нибудь важный момент, а
именно в момент такой же неправдоподобный, полный изо¬
ляции, трагического одиночества. Сцена, которую я имею в
виду, — вечер в Павловске, в доме Лебедева., ще князь, через
несколько дней после эпилептического припадка, на правах
выздоравливающего принимает визит семьи Епанчиных.
Неожиданно среди этого веселого, элегантного общества,
чувствующего тем не менее какую-то скрытую напряжен¬
ность и тревогу, появляются молодые господа, бунтари и ни¬
гилисты — такие, как словоохотливый малый Ипполит со
своим так называемым сыном Павлищевым, «боксером», и
прочими. При чтении эта противная, во всяком случае не¬
приятная, сцена вызывает возмущение и кажется отврати¬
тельной, коща все эти ограниченные, обманутые молодые
90
люди оказываются как бы на залитой чересчур ярким, рез¬
ким светом арене, голые и уязвимые в своей беспомощной оз¬
лобленности. Каждое, буквально каждое сказанное ими сло¬
во причиняет боль дважды: во-первых, своим воздействием
на доброго Мышкина, а во-вторых — той жестокостью, что
разоблачает самого говорящего, дает возможность понять
цену ему. Вот эту сцену — редкостную, незабываемую, но не
особенно важную и не отмеченную как-либо в самом рома¬
не — я ц.имвю в виду. С одной стороны — общество, элегант¬
ные светские люди, богатство, влиятельность и консерва¬
тизм; с другой — разъяренная молодежь, безжалостная, не
признающая ничего, кроме мятежа, кроме ненависти к су¬
ществующему порядку вещей, безрассудная, беспутная,
буйная, невыразимо тупая, при всем своем теоретическом
интеллектуализме, а между обеими группами — князь, оди¬
нокий, легко уязвимый, под критическими, пристальными
взглядами с обеих сторон. И как же разрешается это положе¬
ние? Оно разрешается тем, что Мышкин-, совершив лишь не¬
сколько мелких промахов, вызванных волнением, поступает
в полном соответствии со своей доброй, нежной, детской на¬
турой, с улыбкой терпя невыносимое, на бесстыдство отве¬
чая самоотверженностью, готовностью взять на себя всякую
вину, счесть ее своей, — и он терпит полное поражение, под¬
вергаясь осмеянию со стороны не той или другой группы,
скажем, молодых, или пожилых людей, но с обеих сторон!
Все отворачиваются от него, он задел всех. В один миг внеш¬
ние расхождения этого общества — возраст, образ мыслей —
исчезли; все едины, полностью едины в своем возмущении и
гневе против того единственного поистине чистого человека,
какой оказался среди них!
Почему же такого рода безумцы невыносимы в мире
иных людей? Почему их никто не понимает, хотя они по-
своему любят почти всех, хотя их кротость располагает к
ним почти всех, часто кажется даже примером для подра¬
жания? Что отделяет этих зачарованных людей от осталь¬
ных, обыкновенных? И почему последние оказываются
правыми, отвергая их? Почему они могут поступать так и
не ошибаться? Почему у них все получается как у Иисуса,
которого в конце концов оставил не только весь свет, но и
все его ученики?
Это происходит потому, что безумец мыслит иначе, не¬
жели другие. Дело не в том, что он мыслит не просто менее
логично, не просто более по-детски, ассоциативно, чем они.
91
Его мышление я назвал бы «магическим». Он, этот кроткий
безумец, отрицает целиком жизнь, мышление, чувство —
вообще мир и реальность всех прочих людей. Для него дей¬
ствительность совершенно иная, нежели для них. Их дей¬
ствительность ему кажется всецело призрачной. И вот по¬
тому, что он видит совершенно новую действительность и
требует осуществления ее, он делается врагом для всех.
Разница не в том, что те ценят власть и деньга, семью
и государство, а он — нет. И не в том, что он представляет
нечто духовное, а они — материальное, или как бы там все
это ни называлось! Не в этом тзпг дело. Материальное су¬
ществует и для безумца, он тоже признает значимость та¬
ких вещей, даже если и считает их не многого стоящими.
Его требования, его идеалы несхожи с устремлением ин¬
дийских аскетов, стремящихся уйти прочь от мира иллю¬
зорной действительности ради удовлетворенности духа са¬
мим собою, что и представляется им единственно, реальным.
Нет, о взаимных притязаниях природы п духа, о необхо¬
димости их совместного действия Мышкин легко договорил¬
ся бы с прочими. Но для них совместность существования и
равная значимость обоих миров — лишь нечто теоретиче¬
ское, а для него—сама жизнь! Чтобы это стало яснее, попро¬
буем представить себе дело с несколько иной стороны.
Мышкин отличается от прочих людей тем, что он «иди¬
от» и эпилептик, но также и весьма неглупый человек, со¬
стоит куда более в близких и непосредственных отношени¬
ях с бессознательным, нежели они. Наиболее возвышенное
из пережитого им — это те доли секунды высшей силы чув¬
ства и проницательности, которые он пережил однажды,
ощутив свою способность на какой-то, словно освещенный
молнией миг стать всем: сочувствовать- всем, сострадать
всем, понять и принять все, что только есть на свете. Он
владеет волшебством, и свою мистическую мудрость он не
вычитал, ценя ее, не выучил, удивляясь ей, но действи¬
тельно вжился в нее (пусть даже на мгновения). Его не
только посещают редкие мысли, важные прозрения; однаж¬
ды или даже не раз он оказывается на той таинственной
грани, за которой можно принять все, за которой верна не
только данная мысль, но и мысль, ей противоположная.
Это страшно, и не зря он внушает страх другим. Он ведь
не совсем одинок, не весь свет против него. Есть несколько
человек, весьма сомнительных, внушающих опасения и пря¬
мо опасных, которые временами сочувствуют ему и понима¬
92
ют его: Рогожин, Настасья Филипповна. Его понимают пре¬
ступник и истеричка — его, невинное, кроткое дитя! Но, Бог
мой, это дитя не столь кроткое, каким кажется. Невинность
его отнюдь не безобидна, и не зря люди боятся его.
Безумец временами близок к той грани, за которой вме¬
сте с данной мыслью ему представляется истинной и про¬
тивоположная. Значит, у него возникает чувство, будто не
существует вообще никаких мыслей, никаких законов, ни¬
каких видов и форм, которые были бы правильны и истин¬
ны не иначе, как при рассмотрении с одного полюса, то есть
что с каждым полюсом соотносится ему противоположный.
Но установление единственного полюса, определение одной
точки зрения, откуда рассматривается и организуется мир,
есть первейшая основа всякого разграничения, всякой
культуры, всякого общества и морали. Кто считает, что дух
и природа, добро и зло могут хоть на единый миг поменять¬
ся местами, тот злейоюй враг всякого порядка. Ибо отсюда
происходит противоположность этого самого порядка, от¬
сюда начинается хаос.
Образ мысли, возвращающий нас к бессознательному, к
хаосу, уничтожает всякий человеческий порядок. «Идиоту»
сказали однажды, что он обязан говорить ща» ли1пь истине,
только и BcerOfc — воспоследовало же нечто устрашающее!
Вот так-то: все истинно, всему можно сказать «да». Но что¬
бы упорядочить мир, чтобы достигнуть какой-либо цели,
чтобы стали возможными закон, общество, организация,
культура и мораль, для этого за «да» должно следовать
«нет», мир должен быть поделен на противоположности, на
добро и зло. Даже если первоначально введение каждого
«нет», каждого запрета вполне произвольно, оно делается
священным, как только стало законом, как только обрело
далеко идущие последствия, как только сделалось основой
некоторой системы взглядов, порядка.
Высшая реальность для человеческой культуры — вот
такое деление мира на тьму и свет, добро и зло, дозволен¬
ное и запретное. Для Мышкина же высшей реальностью
представляется обратимость каждого установления, равно¬
значность данного и противоположного полюсов. «Иди¬
от» — продолжая мысль до конца — вводит матриархат
бессознательного, упраздняет культуру. Он не разбивает
скрижалей закона, он обращает их другой стороной и по¬
казывает, что там начертано противоположное.
93
и то, что этот враг порядка, этот грозный разрушитель
выведен не преступником, а милым, робким человеком,
полным какой-то детской прелести, сердечной верности и
самозабвенной доброты, — есть тайна этой устрашающей
книги. Из самых глубоких побуждений Достоевский изо¬
бражает этого человека больным, эпилептиком. Все носи¬
тели нового, устрашающего, неизвестного будущего, все
предвестники уже ощущаемого хаоса — у Достоевского
больные, подозрительные, отягощенные чем-то люди: Рого¬
жин, Настасья Филипповна, позже — четверо Карамазо¬
вых. Все они — странные, особенные фигуры, но перед их
исключительностью и болезненностью мы испытываем сво¬
его рода священный трепет — вроде того, с каким жители
Азии относятся к умалишенным.
Примечательным же и необычным, важным и наводя¬
щим на размышления следует считать не то, что где-то в Рос¬
сии пятидесятых и шестидесятых годов гениальный эпилеп¬
тик был обуреваем подобными фантазиями и создал подо¬
бные образы. Важно то, что в последние три десятилетия мо¬
лодежь Европы все сильнее чувствует значительность и про¬
роческий смысл этих книг. Необычно то, что в преступников,
истериков и безумцев Достоевского мы вглядываемся совсем
иначе, нежели в образы преступников и сумасшедших, вы¬
веденных в романах других писателей, что мы так трево¬
жимся за них, так странно их любим, что мы и в себе находим
нечто родственное этим людям, сходное с их чертами.
Дело тут не в случайности и отнюдь не в сторонних обсто¬
ятельствах или литературных особенностях произведений
Достоевского. Некоторые черты его просто сбивают с толку;
вспомним хотя бы о том, что он предвосхитил так развившу¬
юся потом психологию неосознанного; его произведение
удивляет нас не какими-либо особенно высокими достиже¬
ниями или законченностью, не художественным отображе¬
нием в основном знакомого и привычного нам мира — нет,
мы воспринимаем его как пророчество, как предвестника
разрушения и хаоса, какими на наших глазах несколько лет
назад была охвачена Европа. Мир созданных им фигур едва
ли можно понимать как изображение будущего, как некий
идеал; таким его и не считал никто. Нет, мы видим в Мышки¬
не и других подобных ему фшурах не (^разец для подража¬
ния: «Таким ты должен стать!» — но неизбежность: «Через
это мы должны будемпройти, это наша судьба!»
94
Будущее неопределенно, путь же к нему указан здесь
недвусмысленно. Направление его — к новому душевному
строю, он ведет через Мышкина, требует «магического»
мышления, принятия хаоса. Это возврат к неупорядочен¬
ному, возврат к бессознательному, лишенному формы, к
животному состоянию и еще далее — к началу начал. Не
ради того, чтобы превратиться в животное или стать пер¬
возданной материей, но чтобы обрести новые ориентиры,
чтобы у корней нашего бытия отыскать забытые инстинкты
и возможности нашего развития, чтобы вновь приняться за
созидание, оценку, разграничение нашего мира. На этом
пути не стоит искать какой-то протраммы, и никакой пере¬
ворот не откроет туда дверь.
Каждый вступает на него в одиночку, сам по себе. В
жизни каждого из нас будет время, когда мы окажемся у
той хорошо известной Мышкину грани, за которой исчеза¬
ют одни истины и возникают другие. Каждый из нас в ка-
кое-то мгновение своей жизни испытывает примерно то же,
что Мышкин в секунды озарения и что сам Достоевский ис¬
пытал в те минуты, когда уже стоял на эшафоте, сойдя с
которого он обрел взор пророка.
СВОЕНРАВИЕ
Есть добродетель, единственная, которую я очень люб¬
лю. Называется она своенравием. Ни одна из добродетелей, о
коих читаем мы в книгах или слышим от наставников, не вы¬
зывает у меня такого почтения. Ведь все это мнопх^разие
изобретенных человеком добродетелей можно свести к одно¬
му имени. Добродетель — это послушание. Вопрос лишь в
том, кому ты послушен. Ибо и своенравие—это тоже послу¬
шание. Однако все прочие столь излюбленные и высоко це¬
нимые добродетели являются послушанием по отношению к
законам, данным людьми. И только своенравие не спраши¬
вает об этих законах. Кто своенравен, подчиняется другому
закону, единственному непреложно святому, тому закону,
что заключен в самом человеке — «своему нраву».
Как жаль, что своенравие так мало любят! Внушает ли
оно хоть какое-нибудь уважение? О нет, его даже считают
пороком или, во всяком случае, чем-то вроде непроститель¬
ной невоспитанности. В полный голос его поминают лишь
тоща, коща оно мешает и вызывает ненависть. (Кстати, ис-
95
тинйые добродетели всевда мешают и вызывают ненависть.
Пршлеры: Сократ, Иисус, Джордано Бруно и все прочие
своенравные.) Когда же хотят хоть в какой-то степени воз¬
дать должное своенравию если не как добродетели, то как
занятному украшению человека, то обычно прибегают к
смягчению грубого названия сей добродетели. «Характер»
или «личность» звучит все же не так резко и почти поро¬
чаще, как «своенравие». В ходу и «оригинальность», что
звучит приличнее. Но это слово применяют к испытанным
чудакам — художникам и прочим индивидуумам. В искус¬
стве, где своенравие не з^грожает заметным ущербом капи¬
талу и обществу, оригинальность даже в почете: художни¬
ку определенная доза своенравия даже как бы вменяется в
обязательное условие хорошей оплаты. В остальном же под
«характером» или «личностью» нынешний повседневный
язык понимает нечто крайне путаное, а именно такой ха¬
рактер, который хоть и имеется в наличии и при случае
может себя показать, но во всяком действительно важном
деле неукоснительно подчиняется чужим законам. «С ха¬
рактером» — говорят о человеке> у которого имеется собст¬
венное мнение и взгляды, но который не живет в согласии
с ними. Он лишь дает время от времени понять, что мыслит
иначе, что у него есть свое мнение. Приняв такую смягчен¬
но тщеславную форму, такой характер и при жизни может
стяжать ему славу человека добродетельного. Однако если
у человека действительно есть мнение, и он живет в согла¬
сии с ним, то он немедленно лишается похвального отзы¬
ва — «характер» — и за ним признается лишь «своенра¬
вие». Но давайте же вдумаемся в смысл этого слова! Что
же такое своенравие? То, что имеет собственный нрав, то
есть природу, смысл. Разве нет?
Но ведь «собственный нрав» имеет всякая вещь на этой
земле, попросту всякая. Любой камень, любая травинка,
любой цветок, любой куст, любой зверь растет, живет, дей¬
ствует и ощущает лишь по «собственному нраву», и в этом-
то основа того, что мир добр, богат и прекрасен. В мире есть
цветы и плоды, дубы и березы, лошади и куры, цинк и же¬
лезо, золото и уголь — и все это лишь потому, что любая,
пусть и самая малая, вещь во вселенной имеет собственный
«нрав», несет в себе свой собственный закон и с безошибоч¬
ной уверенностью следует собственному закону.
И только два бедных, проклятых существа на сей земле
не могут следовать этому вечному зову и быть такими, то
96
есть так расти, жить и умирать, как велит им врожденный
собственный нрав. Только человек и укрощенное им до¬
машнее животное обречены на то, чтобы заглушать в се<бе
голос жизни и роста, следуя неким законам, выдуманным
людьми и время от времени нарушаемым, изменяемым эти¬
ми же людьми. И что самое любопытное: те немногие, что
не желают считаться с этими произвольными законами и
следуют законам собственным, естественным, — они хоть
и бывали всегда осуждены и побиваемы камнями, зато
впоследствии именно они провозглашались на веки вечные
героями и освободителями. То самое человечество, которое
провозглашает величайшей добродетелью послушание сво¬
им произвольным законам и требует его от живущих, при¬
нимает в свой вечный пантеон как раз тех, кто отказыва¬
ется подчиняться этим требованиям и скорее готов про¬
ститься с жизнью, чем изменить «своему нраву».
«Трагическое» — это чудесно высокое, мистически свя¬
тое слово, исполненное трепета времен мифической' юности
человечества, а ныне выданное произволу любого поденно¬
го репортера; так вот, «трагическое» не означает ничего,
кроме судьбы героя, гибнущего из-за того, что он следует
своей звезде вопреки сложившимся установлениям. Отсю-
да-то, и только отсюда, узнает человечество о «своем нра¬
ве». Ибо трагический герой, своенравный вновь и вновь, яв¬
ляет миллионам обыкновенных людей, трусов, что непо¬
слушание людскому диктату — вовсе не грубый произвол,
но верность куда более высокому и священному завету.
Иначе говоря: стадное чувство требует от всякого человека
прежде всего приспособления и подчинения, однако самые
почетные лавры оно оставляет вовсе не терпеливцам, мол¬
чальникам, трусам, но своенравным, героям.
Как репортеры всуе пользуются словом, называя всякое
происшествие на фабрике «трагическим» (что для них, про¬
фанов, значит примерно то же, что «печальное» происше¬
ствие), так и мода не права, когда она говорит о «героиче¬
ской» смерти солдат, этих бедняг, загнанных на бойню. Это
ведь тоже одно из излюбленных речений людей сентимен¬
тальных, в особенности тех, кто остался дома. Разумеется,
солдаты, павшие на войне, заслуживают нашего самого
большого участия. Нередко на их долю выпадают чудовищ¬
ные страдания, и в конце концов они отдают свою жизнь.
Но одно это еще не делает их «героями»; не становится ге¬
роем, наткнувшись на смертельную пулю, простой солдат,
4 5-258 97
на которого еще недавно кричал офицер. Массовый, мил¬
лионократный «герой» — вещь достаточно бессмысленнаа.
«Герой» — это не послушный, бравый бюргер, исполня¬
ющий свой долг. Героические деяния может совершать
только единственный, положивший «свой нрав», свое бла¬
городное и естественное своенравие в основу своей судьбы.
«Судьба и характер — это разные названия одного и того
же понятия», — сказал Новалис, один из самых глубоких
и потаенных немецких умов. Но только герой обретает му¬
жество следовать своей судьбе.
Если бы таким мужеством и таким своенравием обладало
большинство живущих на земле людей, земля выглядела бы
иначе. Наши получающие свое жалованье учителя (те са¬
мые, что так умеют расхваливать своенравие героев преж¬
них времен) говорят, что тоща бы все просто погибло. Дока¬
зательств у них нет, и они в них не нуждаются. В действи¬
тельности же если бы люди следовали своему собственному
закону и нраву, то и жизнь в целом была бы богаче и возвы¬
шеннее. Может, тогда иное бранное словцо или выходка ос¬
тались бы ненаказанными—из числа тех, коими занимается
сегодня почтенный государственный судия. Случались бы
иной раз и убийства — но разве не случаются они теперь, не¬
смотря на все законы и наказания? Зато многие ужасы и не¬
мыслимо печальные безумства, которые, как мы видим, про¬
цветают в упорядоченном мире, были бы неизвестны и не¬
возможны. К примеру, войны между народами.
В ответ на это мне приходится сльшгать от особ, обле¬
ченных духовным саном: «Ты проповедуешь революцию».
Опять заблуждение, возможное только среди стадных
людей. Я проповедую своенравие, а не переворот. С какой
стати желал бы я революции? Ведь революция не что иное,
как война, и точно так же, как война, она есть «продолже¬
ние политики иными средствами». Однако человеку, кото¬
рый обрел мужество быть самим собой и услышал голос соб¬
ственной судьбы, о, такому человеку до политики нет ровно
никакого дела, будь она монархической или демократиче;
ской, революционной или консервативной! Его заботит
другое. Его «своенравие», как и глубокое, великое. Богом
данное своенравие любой травинки, занято только собст¬
венным ростом. «Эгоизм» — если угодно.. Однако же, этот
эгоизм не имеет ничего общего с пресловутым эгоизмом
толстосума или одержимого властью!
98
Человек «своенравный» в моем смысле не станет искать
денег или уласти. Он пренебрегает этими вещами вовсе не
потому, что его распирает добродетель или п>ызет альтру¬
изм, — напротив! Однако деньги и власть, как и все прочие
вещи, ради которых люди мучают и в конце концов стре¬
ляют друг в друга, 'имеют в его глазах мало цены. Одно
только ценит он высоко — таинственную силу в себе са¬
мом, которая призывает его жить и помогает расти. И день¬
гами эту силу невозможно ни сохранить, ни углубить, ни
увеличить. Ибо деньги и власть изобретены недоверием.
Кто не доверяет жизненной силе в себе самом, у кого нет
этой силы, тот восполняет ее таким заменителем, как день¬
ги. А кто верит в себя, кто не желает ничего другого, кроме
как свободно и чисто изжить собственную судьбу, испить
свою чашу, для того эти тысячекратно превознесенные и
переоцененные вещи становятся второстепенными, вспомо¬
гательными инструментами жизни, обладание и пользова¬
ние которыми может быть приятным, но никоща не бывает
решающим.
О, как я люблю эту добродетель — своенравие! Стоит
только познать ее и обнаружить хоть толику в себе самом —
и насколько же сомнительными становятся все многочис¬
ленные хваленые добродетели.
Например, патриотизм. Ничего не имею против него. Он
ставит на место единственного целый обширный комплекс.
Однако в качестве истинной добродетели он выступает,
лишь коща начинается пальба — это наивное и столь сме¬
хотворно недостаточное средство «продолжить политику».
Ведь солдата, убивающего врага, всегда считают большим
патриотом, чем крестьянина, с предельной добросовестно¬
стью возделывающего свое поле. крестьянин имеет с
того свою выгоду. А, как это ни комично, наша архислож-
ная мораль считает сомнительной как раз ту добродетель,
которая служит ко благу и выгоде ее обладателя!
А почему, собственно? Потому что мы привыкли дости¬
гать благ только за счет других. Потому что мы придержи¬
ваемся угрюмого убеждения, что нам не хватает как раз
того, что есть у другого.
Вождь дикарей верит в то, что жизненная сила убитых
им врагов переходит в него самого. Не лежит ли сия скуд¬
ная дикарская вера в основе всякой войны, всякой конку¬
ренции, всякого недоверия между людьми? Нет, мы были
бы куда счастливее, если бы уравняли в-своем мнении слав¬
4* 99
ного хлебопашца с солдатом! Если бы смогли отказаться от
предубеждения, будто всякий выигрыш в жизненной силе
отдельного человека или целого народа должен неминуемо
произойти за счет кого-нибудь другого!
Тут я слышу учительский глас: «Все это звучит преми¬
ло, однако взгляните, пожалуйста, на сию материю по-де¬
ловому — с национально-экономической точки зрения!
Мировая продукция...»
На что я возражаю: «Покорно благодарю. Точка зрения
национальной экономики отнюдь не деловая; это очки,
сквозь которые можно видеть что угодно. Например, перед
войной с помооц>ю соображений национальной экономики
можно доказать, что мировая война невозможна или что
она не продлится долго. Нынче — с помощью той же наци¬
ональной экономики — можно доказать обратное. Нет уж,
будем лучше держаться в своих размышлениях действи¬
тельности, а не этих фантазий!»
В них не много проку, в этих «точках зрения», как бы
они ни нарекали себя и какие бы откормленные профессора
их ни представляли. Все они — весьма скользкий лед! Мы
не счетные машины и не какие-нибудь механизмы. Мы лю¬
ди. А для человека существует только одна естественная
точка зрения, только один естественный масштаб. Это точ¬
ка зрения и масштаб своенравия. Для человека своенрав¬
ного нет ни капитализма, ни социализма, для него нет ни
Англии, ни Америки, для него ничего не существует, кроме
тихого и неотвратимого закона в собственной груди. Сле¬
довать ему для человека обыкновенного представляется де¬
лом бесконечно сложным. Для человека своенравного —
это и Божий глас, и судьба.
ПИСЬМО МОЛОДОМУ НЕМЦУ
Вы пишете мне, что Вы в отчаянии и не знаете, что де¬
лать, не знаете, во что верить, не знаете, на что надеяться.
Вы не знаете, существует Бог или нет. Вы не знаете, имеет
жизнь какой-нибудь смысл или нет, имеет отечество какой-
нибудь смысл или нет, лучше употреблять свои силы на ос¬
воение духовных богатств или просто набивать себе утробу,
поскольку все равно ведь мир так скверно устроен.
Я нахожу состояние Вашей души совершенно нормаль¬
ным. Что Вы не знаете, существует ли Бог, и что Вы не
100
знаете, существуют ли добро и зло, — это гораздо лучше,
чем если бы Вы это знали. Пять лет назад, если Вы можете
это вспомнить, Вы, вероятно, знали довольно точно, что
Бог есть, и так же точно знали, ще добро и ще зло, и Вы,
конечно, делали то, что казалось Вам добром, и пошли на
войну. И с тех пор целых пять лет — лучшие годы Вашей
юности — Вы неотступно совершали это добро, стреляли,
шли в атаку, валялись в грязи, погребали павших, перевя-
зшали раненых, но постепенно это добро сделалось сомни¬
тельным « со временем стало совершенно неясно, не явля¬
ется ли сие прекрасное добро, которому Вы служили, злом
или глупостью и великой нелепостью.
Так оно и было. Добро, которое Вы некогда так точно
себе представляли, оказалось, очевидно, не истинным до¬
бром, не тем нерзшшмым, вечным добром, и бог, о котором
Вы тогда были наслышаны, не был истинным Богом. То
был, надо полагать, национальный бог наших консистори-
альных советников и военных поэтов, тот бог, что восседа¬
ет, яко на престоле, на пушках, избрав любимыми цветами
черный, белый и красный. Конечно, то был бог, и весьма
могучий, грозный, более великий, чем Иегова, и в жертву
ему приносились сотни тысяч кровавых закланий, в его
честь вспарывались сотни тысяч животов и разрывались на
клочки сотни тысяч легких, он был более кровожаден и же¬
сток, чем любой языческий божок или идол, а сии кровавые
жертвоприношения сопровождались пением жрецов, то
бишь наших теологов, исполнявших дома свои хорошо оп¬
лачиваемые гимны. И те остатки религиозного чувства, ко¬
торые тлели еще в наших оскудевших сердцах и в наших
столь оскудевших и обезлюдевших храмах, погибли на¬
прочь. Обратил ли кто-нибудь внимание, подивился ли кто-
нибудь тому, как наши теологи сумели похоронить за эти
четыре года свою собственную религию, свое собственное
христианство? Они служили любви и проповедовали нена¬
висть, они служили человечеству и перепутали человече¬
ство с казенным учреждением, где они получают жало¬
ванье. Они (не все, разумеется, но их предводители) хитро
и многоречиво доказали, что война великолепно уживается
с христианством и что можно быть безупречным христиа¬
нином и в то же время превосходно стрелять и колоть шты¬
ком. Совместить это, однако, нельзя, и если бы наши обе
церкви не были бы церквами на службе у трона и войска,
то были бы воистину церквами Господа, они стали бы в го¬
101
ды войны тем, чего нам так страшно недоставало: оплотом
человечности, святыней для обездоленных душ, постоян¬
ным призывом к сдержанности, мудрости, любви к челове¬
ку, служению Богу.
Пожалуйста, поймите меня правильно! Не подумайте,
что я упрекаю кого-то! Я хочу только назвать вещи своими
именами, никого не обвиняя. К этому у нас не привыкли,
у нас привыкли только к крику, обвинениям, ненависти.
Люди нашей эпохи — и мы, немцы, не менее других —
обучились роковому искусству виноватить других, если нам
самим плохо. И только против этого я и выступаю, в этом
и есть все мои упреки. В том, что вера наша оказалась столь
слаба, в том, что казенноспасаемый бог наш оказался столь
кровожаден, в том, что мы не смогли отделить добро от зла,
мир от войны, — во всем этом все мы равно виновны, хоть
и равно невиновны. Вы и я, кайзер и пастор — все мы со¬
ратники в этом деле и не можем упрекать друг друга.
Если Вы теперь задумаетесь над тем, где можно было
бы найти утешение и нового, лучшего бога и веру, то Вам,
посреди Вашего теперешнего одиночества и отчаяния, сразу
же станет ясно, что просветление не придет больше извне,
из специальных источников, из Библии, с кафедр, с тронов.
Не может она прийти и от меня. Его Вы сможете отыскать
только в Вас Самих. Оно там, где обитает Бог — более вы¬
сокий и вечный, чем патриотический бог 1914 года. Мудре¬
цы всех времен постоянно возвещали о нем, но придет он
к нам не из книг, он живет в нас самих и должен проснуться
в собственной нашей душе, иначе всякое знание о нем бес¬
полезно. Он живет и в вас, этот Бог. В вас прежде всего — в
вас, разбитых, отчаявшихся. Люди, страдающие от бед сво¬
его времени, не бывают маленькими. И не бывают дурными
те люди, что не довольны богами и божками позавчераш¬
него дня.
Но куда бы Вы ни кинулись теперь, нигде не встретите
Вы пророка и учителя, который снял бы с Вас тяготы поиска
и обращения к себе самому. Весь немецкий народ, все мы
сегодня в таком же положении, как Вы. Мир наш рухнул,
гордость сломлена, деньги пропали, друзья погибли. И вот
мы — почти все мы — ищем по старому доброму рецепту
виновного, ищем злодея, называем его Америкой, называем
его Клемансо*, называем его кайзером Вильгельмом* или
еще как-нибудь, бегаем с этими обвинениями по кругу и не
достигаем цели. Довольно было бы, однако, хоть на час от,-
102
бросить этот детский и не очень разумный вопрос о винов¬
ном и вместо него задать другой: «А как обстоит дело со
мной самим? Насколько я сам невиновен? Не был ли и я
где-то слишком шумен, слишком нагл, слишком легкове¬
рен, слишком суетен и тщеславен? Где во мне та почва, на
которую могло пасть посеянное дурной прессой семя удуш¬
ливой веры в национального Иегову и во все прочие, столь
быстро сгинувшие заблуждения?»
Час, в который задаешь себе подобные вопросы, не из
приятных. Кажешься себе слабым и дурным человеком, ма¬
леньким и придавленным тяжким гнетом. Однако раздав¬
ленным до конца себя не чувствуешь. Просто убеждаешься:
вины нет. Нет ни злодея кайзера, ни злодея Клемансо, и ни¬
кто не прав — ни победившие демократии, ни побежденные
варвары. Виновность и невиновность, правота и неправота —
это упрощения, это детские понятия, и первый наш шаг к
святыне нового бога — в понимании этого. Благодаря этому
мы не научимся ни предупреждать будзщие войны, ни воз¬
вращать себе богатства. Мы научимся только одному: не об¬
ращаться с наболевшими вопросами, со всеми нашими «про¬
блемами вины» и проблемами совести ни к старому Иегове,
ни к фельдфебелю, ни в редакции газет, ожидая от них реше¬
ния, — но решать их в собственном сердце. Мы должны ре¬
шиться стать не мальчиками, но мужами. Люди будущего,
быть может, объяснят потерю нами флота, машин, денег в
том духе, что вот, мол, отняли у ребенка все его великолеп¬
ные игрушки, и ребенок, вдоволь наплакавшись и набранив¬
шись, успокоился и стал мужчиной. По этому пути мы и дол¬
жны идти, другого нет. И первый шаг на этом пути каждый
из нас делает в одиночку, в собственном сердце.
Перечитайте, коль уж Вы любите Ницше, последние
страницы тех «Несвоевременных размышлений», в которых
речи нет о пользе и тщете истории! Прочтите слово за сло¬
вом еще раз те места о молодежи, на долю которой выпал
жребий, свернуть шею гибнущей псевдокультуре и начать
все сначала! Как суров, как горек этот жребий — и как ве¬
лик, как свят! Эта молодежь и есть вы, все вы, сегодняшние
юноши, в сегодняшней побитой Германии. На ваших пле¬
чах эта тяжесть, в ваших сердцах — задача.
Но не останавливайтесь перед Ницше или перед каким-
нибудь другим советчиком и пророком. Не наше дело —
учить вас, снимать тяжесть с ваших плеч, указывать вам
путь. Наше дело — лишь напомнить вам о том, что Бог су-
юз
ществует и что Бог этот живет в вашем сердце и там вы
должны яскать его и беседовать с ним.
НЕУБИЙ
Укрощение человека, его развитие от гориллы к суще¬
ству культурному проходит долгий, медленный путь. Прак¬
тические, закрепленные в обычаях и законах завоевания
ненадежны, кровожадные инстинкты проявляются при
каждом удобном случае, и все то, что, казалось бы, завое¬
вано раз и навсегда, теряет силу. Если мы хотим найти пер¬
воначальную цель становления человека в духовных тре¬
бованиях, которые выдвигались духовными вождями чело¬
вечества со времен Зороастра* и Лао-цзы, то нам следует
признать, что человечество сегодня стоит еще значительно
ближе к горилле, чем к человеку. Мы еще не люди, мы
только на пути к человечности.
Несколько тысячелетий тому назад религиозный закон
народа, поднявшегося на высокий уровень развития, вы¬
двинул основополагающий закон: «Не убий». Когда весной
1919 года барон Врангель* сформулировал перед неболь¬
шой интернациональной группой идеалистов в Берне тре¬
бование, чтобы в будущем ни один человек не был при¬
нуждаем убивать другого, «даже находясь на службе оте¬
честву», это было воспринято как про1рессивное и ценное
явление. Закон, который Моисей сформулировал на Си¬
нае, спустя несколько тысячелетий снова выдвигается — с
ограничениями и в осторожной, несмелой формулиров¬
ке — небольшой группой благонамеренных людей. Ни
один цивилизованный народ мира не включил в свое за¬
конодательство безоговорочный запрет на убийство чело¬
века. Самое элементарное, по-человечески очевидное и се¬
годня еще является предметом робких дискуссий. Каждый
приверженец Лао-цзы, каждый ученик Иисуса, каждый
последователь Франциска Ассизского много столетий тому
назад стоял на бесконечно более высокой ступени разви¬
тия, чем та, на которой находятся сегодня закон и разум
цивилизованного мира.
Это как будто ставит под сомнение ценность вышеозна¬
ченных высоких требований и просто-напросто отрицает
прогресс, те возможности, которые он открывает перед че¬
ловечеством. В пользу данного аргумента можно было бы
104
привести сотни других примеров. Однако этот печальный
опыт отнюдь не затрагивает общечеловеческих требований
и прозрений. Тысячи людей в течение тысячелетий доро¬
жили ^поведью «Не убий» и следовали ей. Вслед за Ветхим
Заветом появился Новый, стал возможен Христос, стало
возможно частичное освобождение евреев, человечество
породило Гёте, Моцарта, Достоевского. И всеща существо¬
вало меньшинство благоразумных, веривших в будущее
людей, которые соблюдали законы, не зафиксированные ни
в каких гражданских кодексах. Вот и в этой отвратительной
войне тысячи людей о^явили себя сторонниками неписа¬
ных, высших законов, проявляли, будучи призванными на
военную службу, милосердие и уважение к противнику или
же упорно уклонялись от обязанности убивать и ненавидеть
и за это лишались свободы и подвергались жестоким пре¬
следованиям.
Чтобы оценить этих людей и их деяния, чтобы преодо¬
леть сомнение в возможностях развития от животного к че¬
ловеку, необходимо жить в вере. Необходимо мысли ценить
столь же высоко, как ружейные пули и монеты, необходимо
любить возможности и пестовать их в себе, необходимо
ощущать в себе самом предвосхищения будущего, звенья
развития и уметь мечтать о них.
«Практик», который на заседаниях и в комиссиях всегда
оказывается прав, вне своих комиссий правым никоща не
будет. Правда всегда на стороне будущего, на стороне мыс¬
ли и веры. Именно отсюда человечество черпает силу, и
ниоткуда больше. И кто мысли о судьбах человечества объ¬
являет прекраснодушными мечтаниями, заботу о буду¬
щем — беллетристикой, а тревожные раздумья — болтов¬
ней, тот все еще горилла, и ему предстоит долгий путь,
прежде чем он станет человеком.
Вот прекрасный пример, который оценят и «практики»;
Петерс* в своих воспоминаниях о колониальной жизни рас¬
сказывает о неграх, которым он приказал сажать кокосовые
пальмы. Негры отказались выполнять столь трудную и бес¬
смысленную работу. Петерс объяснил им, что посаженные
сегодня деревья через восемь-десять лет вырастут, станут
плодоносить и сторицей воздадут за нынешние труды. Не¬
гры это понимали, они народ отнюдь не глупый. Но чтобы
человек уже сегодня изводил себя трудом, который даст
плоды только через десять лет, — такое они сочли безуми¬
ем и от души посмеялись над наивностью белых людей.
105
Именно нам, людям духа, поэтам, проввдцам, глупцам
и мечтателям выпало на долю сажать деревья в расчете на
будущее. Многие из этих деревьев не разовьются, многие
семена не прорастут, многие наши мечты окажутся оши¬
бочными, окажутся заблуждениями, несбывшимися надеж¬
дами. Что за беда!
Не нужно только пытаться сделать поэтов практиками,
верующих — людьми расчетливыми, мечтателей — орга¬
низаторами. Во время войны художников, поэтов и работ¬
ников умственного труда сделали солдатами и землекопа¬
ми. Теперь их хотят «политизировать» и превратить в за¬
ложников ньшешнего развития. Это все равно, что забивать
гвозди барометром. Раз мы оказались сегодня в трудном по¬
ложении, надо, мол, усилия каждого использовать для по¬
вседневных нужд, волю каждого поставить на службу те¬
кущему моменту.
Однако когда нужда вопиет к небу, показной активно¬
стью делу не поможешь. Ситуация не изменится к лучше¬
му, если вы поэтов сделаете народными трибунами, а фи¬
лософов министрами. К лучшему ситуация изменится толь¬
ко там, где человек будет делать то, к чему он призван, что
требует от него его натура, что он, следовательно, будет
делать хорошо и в охотку. А забота о будущем, вера в гря¬
дущего человека и осмотрительная игра с возможностями
отдаленного будущего, даже если в глазах практиков это
всегда было роскошью, тем не менее снова и снова будут
необходимы в той же мере, в какой необходимы политиче¬
ские организации, возведение домов и выпечка хлеба.
И мы, сохранившие веру в будущее, будем снова и снова
выдвигать древЦее требование: «Не убий». Даже если зако-
ноуложения всего мира когда-нибудь запретят убийство
(включая убийство на войне и убийство руками палача),
это требование никогда не утратит силу. Ибо оно — осно¬
вополагающее требование всякого прогресса, всякого ста¬
новления человека. Мы убиваем так много! Убиваем не
только в дурацких сражениях, в глупых уличных пере¬
стрелках во время революций, с помощью нелепых каз¬
ней — мы убиваем на каждом шагу. Убиваем, когда вы¬
нуждаем молодых людей выбирать профессии, которые не
соответствуют их внутреннему складу. Убиваем, когда за¬
крываем глаза на нищету, нужду, пороки. Убиваем, когда
удобства ради спокойно взираем на отжившие учреждения
общества, государства, школы, религии и лицемерно выра¬
106
жаем им свое одобрение, вместо того чтобы решительно от
них отвернуться. Как для последовательного социалиста
собственность есть кража, так для последовательного при¬
верженца нашей веры всякое непризнание жизни, всякая
жестокость, BCiucoe равнодушие и всякое презрение суть не
что иное, как убийство. Убивать можно не только настоя¬
щее, но и будущее. Малая толика язвительного скепсиса в
состоянии убить в молодом человеке массу будущего. По¬
всюду притаилась жизнь, повсюду расцветает будущее, но
мы почти не замечаем этого и многое постоянно топчем но¬
гами. Мы убиваем на каждом шагу.
Перед каждым из нас стоит лишь одна задача, если
иметь в виду развитие человечества. Не в том наша с тобой
задача, собрат, чтобы продвинуть человечество хотя бы не¬
множко вперед, чтобы усовершенствовать какое-то отдель-
аое учреждение или упразднить какой-то способ убийства,
какой бы прекрасной и достойной похвалы эта задача ни
была. А задача наша вот в чем: внутри своей собственной,
неповторимой, личной жизни сделать шаг вперед по пути
от животного к человеку.
ОЧТЕШШКНИГ
Врожденная потребность нашего духа — устанавливать
типы и подразделять на них все человечество. От «Харак¬
теров» Теофраста* и четырех темпераментов наших праде¬
душек и вплоть до наисовременнейшей психологии посто¬
янно ощущается эта потребность в типологизирующем по¬
рядке. Да и любой человек часто бессознательно делит лю¬
дей своего окружения на типы — по сходству с теми харак¬
терами, которые стали важными для него в детстве. Как ни
привлекательны и благодатны такие деления — неважно,
исходят ли они из чисто личного опыта или стремятся к
некоей научной типологии, — иной раз может оказаться
уместной и плодотворной попытка наметить новый срез
опыта, констатируя, что в любом человеке имеются черты
любого типа и что самые противоположные характеры и
темпераменты, как сменяющие друг друга состояния, могут
отыскаться в каждой отдельной личности.
Так что если я в нижеследующих заметках намечу три
типа или, лучше сказать, три ступени читателей, то я вовсе
не хочу тем самым утверждать, что весь читательский мир
107
делится на эти три категории таким образом, будто этот
принадлежит к этой категории, а тот — к той. Но каждый
из нас в разное время своей жизни принадлежит то к одной,
то к другой группе.
Вот прежде всего читатель наививий. Каждый из нас вре¬
менами читает наивно. Такой читатель проглатывает кни¬
гу, как едок пип^y, он лишь берущий, он ест и пьет досыта,
будь то мальчик за книжкой об индейцах, горничная за ро¬
маном из жизни 1рафини или студент за Шопенгауэром.
Такой читатель относится к книге не как личность к лич¬
ности, но как лошадь к овсу или даже как лошадь к кучеру:
книга ведет, читатель следует за ней. Сюжет книги вос¬
принимается объективно, принимается за действитель¬
ность. Но не только сюжет! Есть весьма образованные и да¬
же рафинированные читатели художественной литературы,
которые целиком принадлежат к классу наивных. Они хоть
и не ограничиваются сюжетом, оценивают роман не по то¬
му, сколько встречается в нем смертей и свадеб, но воспри¬
нимают самого автора, эстетическую природу книги как
объективную. Они разделяют все восхищения и воспарения
автора, они полностью вживаются в его мироощущение и
беспрекословно принимают те толкования, которые автор
дает плодам своего воображения. Что для простых душ оз¬
начает сюжет, обстоятельства, действие, то для этих изо¬
щренных — мастерство, язык, знания автора, его духов¬
ность; они воспринимают все это как нечто объективное,
как последнюю и высочайшую ценность литературы —
точно так же, как юный читатель Карла Мая* принимает
деяния Старого Чулка за существующую реальность.
Этот наивный читатель в его отношении к чтению во¬
обще не является личностью, то есть самим собой. Он либо
оценивает события романа по их напряженности, их насы¬
щенности опасными приключениями, их эротике, их бле¬
ску или нищете, либо вместо этого оценивает самого авто¬
ра, достижения которого он меряет той меркой, которая в
конце концов всегда оказывается привычкой. Такой чита¬
тель не сомневается в том, что книга для того единственно
и существует, чтобы с чувством и толком прочесть и по до¬
стоинству оценить ее содержание или форму. То есть кни¬
га — это что-то вроде хлеба или постели.
Однако, как и ко всему в мире, к книге можно отно¬
ситься иначе. Стоит только человеку следовать своей при¬
роде, а не воспитанию, как он становится ребенком и на¬
108
чинает играть с предметами; тоща хлеб превращается в
гору, в которой прорывают тоннель, постель становится
пещерой, садом или полем, занесенным снегом. Что-то от
этой детскости и этого игрового гения обнаруживает в себе
второй тип читателя. Этот читатель ценит не столько сю¬
жет или форму произведения, сколько его истинные, более
важные ценности. Этот читатель знает, как знают дети,
что у каждой вещи может быть и десять и сто значений.
Этот читатель может, например, следить за тем, как пи¬
сатель или философ пытается навязать себе самому и -чи¬
тателю свою оценку вещей, — и улыбаться этим усилиям,
усматривая в кажущейся свободе и произволе автора толь¬
ко пассивность и принуждение. Этот читатель ведает и то,
что по большей части остается совершенно неизвестным
профессорам-литературоведам и литературным критикам:
что таких вещей, как свободный выбор сюжета и формы,
вообще не существует. Где историк литературы говорит,
что Шиллер избрал в таком-то году такой-то сюжет и ре¬
шил изложить его пятистопным ямбом, там такой чита¬
тель знает, что ни сюжет, ни ямб не были предметом сво¬
бодного выбора поэта, и удовольствие для него состоит в
том, чтобы видеть не что делает с сюжетом поэт, но что
делает сюжет с поэтом.
Для подобной точки зрения так называемые эстетиче¬
ские ценности почти вовсе теряют свою цену, и как раз вся¬
кие промахи и несовершенства могут приобрести большую
привлекательность. Ибо такой читатель идет за писателем
не как лошадь за кучером, а как охотник по следу, и вне¬
запный взгляд, брошенный по ту сторону кажущейся поэ¬
тической свободы, взгляд, подмечающий пассивность и
принуждение поэта, может извлечь в нем больший восторг,
нежели все прелести добротной техники и изысканного сло¬
весного мастерства.
Двигаясь по этому пути еще дальше, мы встречаем
третий, и последний, тип читателя. Еще раз подчеркнем,
что никто из нас не обязан на веки вечные оставаться в
одной из этих категорий, что любой из нас может сегодня
принадлежать ко второй, завтра к третьей, а послезавтра
снова к первой группе. Итак, наконец, третья, и послед¬
няя, ступень.
Она выглядит полной противоположностью тому, что
принято именовать «хорошим» читателем. Этот третий чи¬
татель в такой степени личность, настолько ни на кого не
109
похож, что он — полный властелин в царстве своего чте¬
ния. Он не ищет в книге ни просвещения, ни развлечения,
он использует книгу — как и любую другую вещь в этом
мире — только как отправную точку, как побуждение.
Ему, в сущности, все равно, что он читает. Он читает фи¬
лософа не затем, чтобы ему верить, чтобы перенять его
учение, и не затем, чтобы противодействовать ему и кри¬
тиковать его, он читает поэта не для того, чтобы тот объ¬
яснил ему, как устроен мир. Он сам все о^ясняет. Он, ес¬
ли угодно, совершенное дитя. Он играет со всем — а с оп¬
ределенной точки зрения нет ничего плодотворнее и при¬
быльнее, чем все превращать в игру. Ежели такой чита¬
тель находит в книге какую-нибудь красивую сентенцию,
истину, изречение, то он первым делом переворачивает
находку наизнанку. Он давно знает, что и отрицание вся¬
кой истины тоже истинно. Он давно знает, что всякая точ¬
ка зрения в области духа является полюсом, у которого су¬
ществует столь же славный противополюс. Он, как ребе¬
нок, в достаточной степени ценит ассоциативное мышле¬
ние, но он знает и другое. Таким образом, этот читатель,
или, вернее, каждый из нас, когда он находится на этой
ступени, может читать что угодно — роман, грамматику,
расписание дорожного движения, образцы типографских
шрифтов. В то время, когда наша фантазия и ассоциатив¬
ная способность находятся на высоте, мы все равно ведь
читаем не то, что написано на бумаге, но купаемся в по¬
токе озарений и побуждений, изливающихся на нас из
прочитанного. Они могут явиться из текста, но могут воз¬
никнуть и из колонок наборного шрифта. И объявление в
газете может стать откровением. Самая счастливая и тор¬
жествующая мысль может возникнуть из совершенно без¬
жизненного слова, которое крутят так и этак, играя в его
буквы, как в мозаику. В таком состоянии сказку о Крас¬
ной Шапочке можно читать как некую космогонию или
философию или как роскошную эротическую поэзию.
Можно просто прочесть «Colorado maduro» на каком-ни-
будь ящике с сигарами и, предавшись игре в эти слова,
буквы и звуки, совершить сокровенное путешествие по
всем ста царствам знания, памяти и мысли.
Но — тут могут упрекнуть меня — чтение ли это?
Можно ли вообще назвать читателем человека, прочиты¬
вающего страницу Гёте, не давая себе труда вникнуть в
намерения и мнения Гёте, словно это какое-нибудь объяв¬
110
ление или случайный набор букв? Не является ли та сту¬
пень чтения, которую ты называешь третьей, и последней,
на самом деле самой низкой, самой детской, самой варвар¬
ской? Куда девается для такого читателя музыка Гёльдер¬
лина*, страсть Ленау*, воля Стендаля, глубина Шекспира?
Что ж, упрек справедлив. Читатель третьей ступени — не
читатель вовсе. Человек, который задержался бы на этой
ступени надолго, в конце концов вообще перестал бы чи¬
тать, потому как рисунок ковра или расположение камней
в ограде представляли бы для него не меньшую ценность,
чем самая прекрасная страница, составленная из идеально
упорядоченных букв. Единственной книгой для него стал
бы листок с буквами алфавита.
Так и есть: читатель, находящийся на этой последней
ступени, — более не читатель. Плевать ему на Гёте. И
Шекспир ему нипочем. Читатель, находящийся на этой
последней ступени, вообще не читает больше. Да и что
ему книги? Разве не заключен целый мир в нем самом?
Кто задержался бы на этой ступени надолго, не стал бы
больше ничего читать. Но надолго никто на ней не задер¬
живается. Кто, однако, незнаком с этой ступенью вовсе —
тот плохой, незрелый читатель. Ведь он не знает, что вся
поэзия и вся философия мира заложены и в нем самом, что
и самый великий поэт черпал из того самого источника, что
скрыт в каждом из нас. Побудь хоть раз в жизни, пусть
недолго, пусть один только день, на этой третьей ступени
«уже-не-чтения» — и ты потом станешь (вернуться ведь
так легко!) куда лучшим читателем, слушателем и толко¬
вателем всего написанного. Постой хоть единственный раз
на ступени, на которой придорожный камень значит для
тебя столько же, сколько Гёте или Толстой, — и ты потом
сумеешь извлечь из Гёте, Толстого и всех прочих писателей
неизмеримо больше ценностей, больше сока и меда, больше
утверждения жизни и тебя самого, чем когда-либо прежде.
Ибо произведения Гёте — это не Гёте, а тома Достоевско¬
го — это не Достоевский, это лишь их попытка, их отча¬
янная, никогда до конца не удающаяся попытка укротить
многоголосие и многозначность мира, в эпицентре которого
они находились.
Попробуй хоть раз удержать короткую цепь мыслей,
возникших у тебя на прогулке. Или — что кажется еще бо¬
лее легким — простенький сон, увиденный ночью! Тебе
снилось, будто некто сначала угрожал тебе палкой, а потом
III
вручил орден. Но кто это был? Ты силишься вспомнить, на¬
ходишь в нем сходство со своим другом, отцом, но есть что-
то в нем совсем чужеродное, что-то женское, каким-то об¬
разом напоминающее твою сестру, твою возлюбленную. А
ручка палки, коей он тебе угрожал, вдруг напомнила тебе
шток, с которым ты еще школьником совершил свое первое
путешествие, и тут прорываются сотни тысяч воспомина¬
ний, и если ты захочешь удержать в памяти и записать со¬
держание простого сна, хотя бы стенографически или от¬
дельными словами, то, прежде чем ты доберешься до орде¬
на, у тебя получится целая книга, или две, или десять. Ибо
сон — это дыра, сквозь которую ты можешь увидеть содер¬
жимое собственной души, а сие содержимое — это мир, не
больше и не меньше, чем целый мир, весь мир от рождения
твоего и до настоящей минуты, от Гомера до Генриха Ман¬
на, от Японии до Гибралтара, от Сириуса до Земли, от
Красной Шапочки до Бергсона*. И, так же как твоя попыт¬
ка передать свой сон относится к миру, объятому твоим
сном, так и произведение автора относится к тому, что он
хотел сказать.
Над второй частью «Фауста» Гёте ученые и дилетанты
колдуют уже почти сто лет, накопив множество прекрас¬
нейших и глупейших, глубочайших и банальнейших тол¬
кований. Однако в каждом литературном произведении
присутствует та тайная, скрытая под поверхностью, безы¬
мянная многозначность, которую новейшая психология
именует «сверхдетерминированностью символов». Без того,
чтобы хоть раз распознать ее в ее бесконечной полноте и
неисчерпаемости смысла, будешь лишь узко воспринимать
любого писателя и мыслителя, будешь принимать за целое
лишь часть его, будешь верить толкованиям, которые едва
ли захватывают и поверхность.
Перемещения читателя между этими тремя ступенями
возможны, как, разумеется, с любым человеком в любой
области. Те же три ступени с тысячью промежуточных сту¬
пеней можно подметить в архитектуре, живописи, зооло¬
гии, истории. И всюду есть эта третья ступень, на которой
ты более всего равен самому себе, и всюду она грозит унич¬
тожить читателя в тебе, грозит разложением литературы,
разложением искусства, разложением мировой истории. И
все-таки, не пройдя этой ступени, ты будешь читать книги
и познавать науки и искусства лишь так, как ученик читает
грамматику.
112
о ДОСТОЕВСКОМ
о Достоевском трудно сказать что-либо новое. Все, что
можно было сказать о нем умного и дельного, уже сказано,
все казавшееся когда-то новым и оригинальным устарело в
свой черед, но всякий раз, когда в годину горя и отчаяния
мы обращаемся к нему, притягательный и страшный образ
писателя является нам в ореоле вечно новых тайн и зага¬
док.
Истинным читателем Достоевского не может быть ни
скучающий буржуа, которому призрачный мир «Преступ¬
ления и наказания» приятно щекочет нервы, ни тем более
ученый умник, восхищающийся психологией его романов и
сочиняющий интересные брошюры о его мировоззрении.
Достоевского надо читать, когда мы глубоко несчастны,
когда мы исстрадались до предела наших возможностей и
воспринимаем жизнь, как одну-единственную пылающую
огнем рану, когда мы переполнены чувством безысходного
отчаяния. И только когда мы в смиренном уединении смот¬
рим на жизнь из нашей юдоли, когда мы не в состоянии ни
понять, ни принять ее дикой, величавой жестокости, нам
становится доступна музыка этого страшного и прекрасного
писателя. Тогда мы больше не зрители, не сибариты и не
критики, а бедные братья среди всех этих бедолаг, населя¬
ющих его книги, тогда мы страдаем вместе с ними, затаив
дыхание, зачарованно смотрим их глазами в водоворот
жизни, на вечно работающую мельницу смерти. И только
тогда мы воспринимаем музыку Достоевского, его утеше¬
ние, его любовь, только тогда нам открывается чудесный
смысл его страшного, часто дьявольски сложного поэтиче¬
ского мира.
Две силы захватывают нас в его творениях, из столкно¬
вения двух противоречивых начал рождается магическая
глубина и поразительная объемность его музыки.
Первая — это отчаяние, постижение зла, непротивле¬
ние свирепой, кровавой жестокости, сомнение в существе
человечности. Этой смертью нужно умереть, через этот ад
нужно пройти, прежде чем мы услышим иной, божествен¬
ный голос мастера. Предпосылкой тому является искреннее
и откровенное признание, что наша жизнь, наша человеч¬
ность — дело жалкое, сомнительное и, может быть, безна¬
дежное. Нужно отдать себя во власть страдания, покориться
смерти, научиться без содрогания смотреть на дьявольскую
113
ухмылку юлой действительности, прежде чем мы осознаем
глубину и истинность иного, второго голоса.
Первый голос принимает смерть и отвергает надежду,
отказывается от каких бы то ни было философских и поэ¬
тических украшательств и смягчений, с помощью которых
приятные нам писатели привычно отвлекают нас от опас¬
ностей и ужасов человеческого существования. Но второй
голос, поистине божественный второй голос указывает нам
на иной, небесной стороне другое начало, противоположное
смерти, другую действительность, другую сущность: со¬
весть человека. Пусть человеческая жизнь наполнена вой¬
нами и страданиями, подлостью и мерзостью, но ведь име¬
ется еще и что-то иное: совесть, способность человека дер¬
жать ответ перед Богом. Конечно, и совесть ведет через
страдание и страх смерти к отчаянию и вине, но она выво¬
дит нас из невыносимой бессмысленности одиночества,
приближает к пониманию смысла, сущности, вечности. Эта
совесть не имеет ничего общего с моралью и законом, она
может быть с ними в самом страшном, смертельном разла¬
де, и все же она бесконечно сильна, она сильнее косности,
сильнее корыстолюбия, сильнее тщеславия. Она все время,
даже в глубочайшем несчастье и крайнем смятении держит
открытой узенькую тропку, которая ведет не назад, к об¬
реченному на гибель миру, а через него к Богу. Труден
путь, ведущий человека к его совести, почти все преступа¬
ют ее законы, противятся ее власти, тяжко обременяют се¬
бя и гибнут от ее угрызений, но для каждого в любой миг
открыт тайный путь, который наполняет жизнь смыслом и
облегчает смерть. Одни до тех пор неистово грешат против
совести, пока не пройдут через все круги ада и не осквернят
себя до предела, чтобы в конце со вздохом облегчения осоз¬
нать заблуждение и пережить минуту душевного преобра¬
жения. Другие живут со своей совестью в полном согласии.
Их мало, этих святых счастливцев, и, какая бы с ними ни
приключилась беда, она затрагивает их только извне и ни¬
когда не поражает в сердце, они всегда сохраняют чистоту,
и улыбка не сходит с их лица. Таков князь Мышкин.
Оба эти голоса, оба эти учения я услышал у Достоев¬
ского во времена, когда, подготовленный отчаянием и стра¬
данием, был прилежным читателем его книг. Есть худож¬
ник, который заставил меня пережить нечто подобное, му¬
зыкант, которого я не всегда люблю и могу слушать, точно
так же как не всегда я могу читать Достоевского. Это Бет¬
114
ховен. Ему свойственно такое знание о счастье, о мудрости
и гармонии, которого не обрести на равнинных дорогах, ко¬
торое озаряет нас только у края пропасти, которое не сры¬
ваешь с улыбкой, как цветы, а обретаешь со слезами на
глазах, обессилев от страданий. В его симфониях и кварте¬
тах есть места, где из глубины горя и отрешенности излу¬
чается что-то бесконечно трогательное, по-детски неж¬
ное — предвосхищение смысла, предчувствие избавления.
Такие места я нахожу и у Достоевского.
БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Истинное образование не подчинено утилитарной цели;
его высший смысл — стремление к совершенству* Если че¬
ловек стремится к физической силе, ловкости и красоте, то
не ради того, чтобы стать богатым, знаменитым или могу¬
щественным, но ради самоутверждения, которое способст¬
вует росту его жизненной активности, укрепляет его веру
в себя, вселяет в него бодрость и радость, делает более ин¬
тенсивным ощущение уверенности и благополучия; совер¬
шенно так же стремление к образованию, то есть совершен¬
ствованию ума и души, — это не утомительный путь к тем
или иным ограниченным целям, это расширение нашего
кругозора, обогащение нашей способности жить и радовать¬
ся жизни. Поэтому настоящее образование, как и настоя¬
щая культура тела, — это одновременно гармония и стрем¬
ление к ней, это ощущение достигнутой цели и вместе с
тем желание двигаться дальше; это блуждание в бесконеч¬
ности, ритмическое движение в единстве с мировым целым,
сопричастность надвременному. Его цель — не тренировка
отдельных способностей, не овладение высотами; образова¬
ние помогает нам осмыслить нашу жизнь, разгадать про¬
шлое и смело смотреть в будущее.
Среди путей, ведущих к такому образованию, один из
важнейших изучение всемирной литературы, постепен¬
ное овладение неисчерпаемой сокровищницей мыслей, пе¬
реживаний, символов, вымыслов и фантазий, завещанных
нам веками и сохраняемых в творениях поэтов и мыслите¬
лей разных стран. Путь этот бесконечен, никто не прошел
его до конца, никто не смог полностью узнать всю литера¬
туру хотя бы одного народа, не говоря уже о литературе
всего человечества. Но зато каждый раз, когда нам удается
115
проникнуть в суть произведения замечательного поэта или
мыслителя, это — наслаждение и радостный опыт, это не
мертвое знание, но живое восприятие и понимание. Важно
не то, чтб мы прочитаем и сколько будем знать, важно по
собственному вкусу отобрать для себя великие творения,
всей душой наслаждаться ими в часы досуга, чтобы почув¬
ствовать широту и полноту человеческих раздумий и поры¬
вов, чтобы духовно соприкоснуться с жизнью и биением
сердца <1еловечества. В этом, собственно, и состоит смысл
всего нашего существования, по крайней мере нашей ду¬
ховной жизни.
Чтение должно не развлекать, но, напротив, заставлять
нас думать, не уводить нас от сознания несовершенства на¬
шей жизни, не утешать нас сладкими речами, но помогать
нам бороться за высокие и благородные идеалы.
Выбор произведений всемирной литературы будет у
каждого разным; это зависит не только от того, как много
времени и средств читатель может пожертвовать на эту
благородную цель, но и от многих других обстоятельств.
Для одного почитаемым мудрецом будет Платон, а горячо
любимым поэтом — Гомер, и они навсеща останутся для
него образцом литературы, сквозь призму которой он будет
давать оценку всему прочему; у другого будут иные идеалы.
Один окажется способным наслаждаться благозвучием поэ¬
зии, вживаться в сложный мир фантазии, в многозвучие
языка, подход другого будет строго рассудочным; один всег¬
да предпочтет то, что написано на его родном языке, более
того, не захочет читать ничего иного, тоща как другой во¬
зымеет особое влечение к французским, треческим или рус¬
ским авторам. К этому надо добавить, что даже самый об¬
разованный человек знает лишь ограниченное число язы¬
ков и что далеко не все примечательные творения разных
времен и народов переведены на другие языки; очень мно¬
гие поэтические тексты вообще непереводимы. Например,
настоящая лирика — это не просто образы, воплощенные в
благозвучно построенных стихах. В ней обретают матери¬
альность сами слова и рифмы, а музыка творческого языка
становится символом мироздания и нашей жизни. Такая
лирика всегда связана с неповторимым языком поэта, не
только с языком его народа, но и с его личным, лишь для
него возможным поэтическим языком и потому неперево¬
дима. Некоторые из самых драгоценных и благородных сти¬
116
хотворений — дсчл'аточно вспомнить стихи провансальских
трубадуров — вообще доступны как предмет насдаясдения
лишь для весьма немногочисленных ценителей, ибо язык,
на котором они написаны, знают немногие. Но нам еще по¬
везло, и в нашем распоряжении необычайно богатый запас
хороших переводов с чужих и мертвых языков.
Чтобы отношение читателя ко всемирной литературе
было живым, прежде всего нужно, чтобы он познал себя и
свои эстетические вкусы, а не следовал какой-нибудь жес¬
ткой схеме или программе. Он должен идти путем любви,
а не путем долга. Заставлять себя читать тот или иной ше¬
девр лишь потому, что он знаменит и его стыдно не знать,
было бы сущим безумием. Пусть каждый начинает с того,
что для него естественно читать, познавать и любить. Один
уже в школьные годы открывает в себе любовь к стихам,
другой любит историю или легенды своего края, третий ув¬
лекается народными песнями, а еще кто-то испытывает ра¬
дость и интерес, если находит точное исследование и умуд¬
ренное истолкование чувств собственного сердца. Путям
несть числа. Можно начать со школьной книги для чтения,
с календаря и прийти к Шекспиру, Гёте или Данте. Если
нам расхваливали книгу, если мы пытались ее читать, а она
нам не понр^^вилась, закрылась перед нами, не пожелала
впустить нас^в свой мир, нам лучше не пытаться одолеть
ее ни силой, ни терпением, а отложить в сторону. Поэтому
детей и подростков не надо чересчур поощрять или понуж¬
дать к чтению определенных книг; так можно на всю жизнь
внушить им отвращение к самым прекрасным книгам, бо¬
лее того, к чтению вообще. Пусть каждый берет за исход¬
ную точку те стихи, ту песню, тот рассказ, что ему полю¬
бились, и затем начинает поиски других книг в том же роде.
Двери в царство всемирной литературы открыты каждо¬
му, и пусть никого не пугает обилие книг, потому что не в
количестве дело. Есть читатели, которые всю жизнь обхо¬
дятся дюжиной книг и все же являют собой истинных чи¬
тателей. Есть другие, которые все проглотили и обо всем
умеют поговорить, и все же труды их бесплодны. Подлин¬
ное образование означает осмысление прочитанного и за¬
висит от характера и способностей личности. Где этого нет,
где образование, лишенное субстанции, осуществляется
как бы в пустоте, там может возникнуть знание, но не лю¬
бовь и не жизнь. Чтение без любви, знание без благогове¬
117
ния, образование без души принадлежат к числу тягчайших
грехов против разума.
Но ближе к делу! Не ставя перед собой ученых цапей,
не силясь исчерпать вопрос, следуя всего-навсего своему су¬
губо личному житейскому и читательскому опыту, я попы¬
таюсь описать на этих страницах некую идеальную библи¬
отеку всемирной литературы. Но сначала несколько прак¬
тических советов, как обходиться с книгами.
Кто уже миновал начало пути и немного освоился в бес¬
смертном мире книг, очеиъ скоро начнет вступать в новые
отношения не только с тем» что в книгах, но и с самой кни¬
гой. Что книги следует не только читать, но и приобретать,
можно услышать везде и всюду, и я на"правах старого лю¬
бителя и обладателя немалой библиотеки могу по своему
опыту заверить, что приобретение книг существует на свете
не только для того, чтобы кормить книготорговцев и писа¬
телей: в собирании книг, занятии, отличном от чтения
книг, есть своя радость и своя этика. Например, как увле¬
кательно следить за каталогами и даже при весьма скудных
средствах, покзшая дешевые издания, умно, настойчиво и
постепенно собирать свою собственную библиотеку. Напро¬
тив, для образованных богачей нет ничего более приятного,
чем охотиться за самым красивым изданием книги, соби¬
рать редкие старые книги и заказывать оригинальные до¬
рогие переплеты. Здесь можно встретить крайности: от за¬
ботливого откладывания сбереженных грошей до расточи¬
тельной роскоши.
Кто начинает собирать собственную библиотеку, пусть
прежде всего старается иметь дело только с хорошими из¬
даниями. Под «хорошими изданиями» я понимаю отнюдь
не дорогие, но такие, ще работа над текстом велась с бла¬
гоговением и тщательностью, которой заслуживают слав¬
ные создания человеческого гения. Бывают роскошные из¬
дания, переплетенные в кожу, снабженные золотым обре¬
зом, украшенные иллюстрациями, которые, однако же, сде¬
ланы без любви и умения, и есть дешевые книги для ши¬
рокой публики, над которыми издатели потрудились с от¬
менной добросовестностью. В последнее время почти повсе¬
местно укоренилась вредная практика: выпускаются произ¬
ведения автора под титулом «Собрание сочинений», между
тем как часто подобные издания оказываются лишь скром¬
ной подборкой. И до чего же по-разному подходят различ¬
ные писатели к отбору произведений! Совсем небезразлич¬
на
но, кто осуществляет этот отбор: человек, который не один
год знаком с творчеством автора, который читал и перечи¬
тывал его книги, или первый попавшийся литератор, на ко¬
торого по чистой случайности свалился такой заказ и кото¬
рый в спешке и без всякой души бросает в кучу положенное
число произведений. Далее, необходимо, чтобы перед каж¬
дым переизданием текст выверялся бы самым тщательным
образом. При переиздании литературных произведений ча¬
сто перепечатывают текст из предыдущего издания без
сверки с оригиналом, в результате чего в тексте появляется
масса ошибок и всякого рода искажений. Я мог бы привести
поразительные примеры. К сожалению, невозможно четко
разграничить издательства на образцовые и посредствен¬
ные, почти у каждого из них были свои удачи и промахи;
например, у одного и того же издателя мы находим совер¬
шенно полного Гейне с отличными, выверенными текстами
и в то же время плохо отработанные издания других авто¬
ров. Недавно одна известная фирма, в классической серии
которой со стихами Новалиса десятилетиями обращались
самым ужасным образом, выпустила новое издание того же
Новалиса, отвечающее самым строгим требованиям. При
выборе книг не нужно гнаться только за качеством бумаги
и переплета и не нужно ради внешнего единообразия при¬
обретать всех «классиков» в однотипном оформлении; сле¬
дует искать и спрашивать, пока не разыщешь лучшее из
наличных изданий автора, чьи творения ты намерен ку¬
пить. Многие читатели достаточно самостоятельны, чтобы
знать, каких авторов они желают иметь в возможно более
полных изданиях, а в каких случаях удовлетворятся под¬
боркой. Многих авторов пока вообще нет в полных издани¬
ях, а иные полные собрания сочинений начали выходить
уже годы и десятилетия назад, но, кажется, нет никаких
шансов дождаться их завершения. Тогда приходится либо
довольствоваться современным урезанным вариантом, либо
прибегнуть к услугам букинистов и добывать себе старые
выпуски. Некоторые немецкие авторы существуют в трех
или четырех приличных изданиях, некоторые — в одном-
единственном, других, к сожалению, нет вообще. До сих
пор нет полного Жан Поля, нет удовлетворительного Брен-
тано*. Несколько десятилетий назад в прекрасном оформ¬
лении выпши очень важные юношеские сочинения Фрид¬
риха Шлегеля, которые сам Шлегель не включал в собра¬
ние своих произведений, однако эта книга давно уже ис¬
119
чезла из продажи и переиздания не последовало. Есть ав- ,
торы (Гейнзе*, Гёльдерлин, Дросте-Хюльсхофф*), которые
очень долго оставались без внимания, но как раз в наше i
время были великолепно изданы. Что касается дешевых из- i
даний для широкого читателя, где можно было бы найти
творения всех времен и народов, то здесь первое место бес- i
спорно остается за серией «Universal-Bibliotheb> («Всеоб¬
щая библиотека») издательства «Реклам». Немногих авто- i
ров, которых я люблю настолько, что хотел бы иметь все i
их произведения, пусть даже самые маленькие и наименее
известные, приходится иметь в двух или трех вариантах, i
каждый из которых содержит нечто недостающее в других.
Уж если так обстоит дело с нашим собственным достоя- i
пнем, с текстами наших лучших немецких авторов, то с :
переводной литературой все намного сложнее. Число по¬
длинно классических переводов невелико: сюда относится i
немецкая Библия Мартина Литера, немецкий Шекспир
Шлегеля и Тика*, шедевры, долгое время помогавшие на- i
шему народу узнавать эти великие произведения. Но и они
не вечны! Та же Лютерова Библия, например, уже не была
бы понятна большей части нашего народа, если бы ее не- i
прерывно не перерабатывали, приноравливая ее язык к тре- i
бованиям времени. Написанная языком начала XVI в., Лю- i
терова Библия превратилась в архаизм, непонятный совре¬
менным немцам. А недавно появилась совершенно новая :
Библия, выполненная под руководством Мартина Бубера*, i
в которой трудно узнать привычную книгу нашего дет- i
ства — до того изменился ее облик. Единственное в своем i
роде исключение — итальянский народ со своим Данте, из ,
поэмы которого очень многие итальянцы до сих пор знают
наизусть целые страницы. Ни один европейский поэт не i
смог достичь подобного возраста, не подвергаясь адаптахщ- :
ям или даже переводам на современный язык. Что касается :
нас, в каком немецком переводе читать Данте — вообще
неразрешимый вопрос, каждый из них дает только прибли- i
жение, и, если то или иное место в тексте захватывает нас, .
мы жадно устремляемся к подлиннику и силимся понять i
сердцем староитальянский язык, на котором обращаются к
нам досточтимые строки.
Мы переходим к нашей задаче — составлению библио- i
теки всемирной литературы, и сейчас же сталкиваемся с об¬
щим законом всей истории человеческого духа: самые ста- i
рые книги меньше всего устаревают. То, что модно и при¬
120
влекательно сегодня, может завтра оказаться на свалке; то,
что ново и интересно сегодня, послезавтра будет забыто. Но
то, что сумело пережить столетия, не затеряться в челове¬
ческой памяти, таковым останется и на нашем веку.
Начнем с самых древних и чтимых памятников челове¬
ческого духа — со священных писаний и сказаний. Помимо
всем нам знакомой Библии, я ставлю на полку нашей биб¬
лиотеки л-у-часть древнеиндийской мудрости, которую на¬
зывают ведантой, в форме подборки из «Упанишад»*. Сюда
же поместим избранные места из проповедей Будды, а рав¬
но и подаренный нам Вавилоном «Гильгамеш»*, грандиоз¬
ный эпос о герое, вступившем в борьбу со смертью. Из
Древнего Китая возьмем беседы Конфуция, «Дао дэ цзин»*
Лао-цзы и чудесные притчи Чжуан-цзы*. Здесь отражены
основные темы всей древней литературы: стремление к за¬
кону и порядку, воплотившееся в Ветхом Завете и у Кон¬
фуция, вещие поиски избавления от пороков земного бы¬
тия, о которых говорят индусы и Новый Завет, вера в веч¬
ную гармонию по ту сторон беспокойного и пестрого мира
явлений, почитание природных и духовных сил и почти од-
невременное с этим ясное или смутное предчувствие, что
боги — только символы, что величие и слабость, восторг и
мука жизни в руках самогб человека. Все умозрение отвле¬
ченной мысли, вся многогранность словесного искусства,
вся скорбь о бренности нашего бытия, все возможности уте¬
шения и юмора, противостоящие этой скорби, уже вырази¬
лись в этих немногих книгах. Сюда же следует присовоку¬
пить подборку классической китайской лирики.
Из более поздних творений Востока нашей библиотеке
не обойтись без собрания сказок «Тысяча и одна ночь», это¬
го источника нескончаемых удовольствий и самой богато
иллюстрированной на свете книги. Хотя все народы мира
сочиняли восхитительные сказки, одной этой волшебной
книги поначалу хватит для нашей коллекции, которую нам
стоило бы дополнить немецкими народными сказками в со¬
брании братьев Гримм. Весьма желательной была бы для
нас антология персидской лирики, но, к сожалению, такой
книги в немецком переводе нет, хотя, например, Хафиза и
Омара Хайяма переводили часто.
Переходим к европейской литературе. Из чудесного бо¬
гатства античной поэзии мы выберем прежде всего не толь¬
ко обе поэмы Гомера, в которых уже заключена вся атмос¬
121
фера и жизнь Древней Греции, а равно и трех великих тра¬
гиков — Эсхила, Софокла, Еврипида; сюда же надо доба¬
вить «Палатинскую антологию»*, классическую коллекцию
лирических стихотворений. Ковда же мы обращаемся к ми¬
ру греческой мудрости, нас постигает разочарование: Со¬
крата, самого влиятельного и, пожалуй, самого выдающе¬
гося из мудрецов Эллады, мы должны по кусочкам выиски¬
вать в сочинениях других мыслителей, прежде всего Пла¬
тона и Ксенофонта. Книга, представляющая обозримый
свод наиболее ценных свидетельств о том, как жил и чему
учил CoKpaTj явилась бы сущим благодеянием. Филологи
на такое предприятие не решаются, ибо это задача не из
легких, Филосо<^в в собственном смысле слова я в нашу
библиотеку включать не буду. Однако нам не обойтись без
Аристофана, чьи комедии достойно открывают славный ряд
европейских юмористов. Нужно иметь один-два томика
Плутарха, мастера героической биографии, не помешает и
сатирик Лукиан. Но в нашей коллекции не хватает одной
важной книги: сборника мифов о героях и богах Греции.
Таких сборников немного. За отсутствием лучшего возьмем
«Сказания классической древности» Густава Шваба*, где,
пусть неглубоко, но с блеском пересказывается множество
прекраснейших ^ифов. Впрочем, в наше время у Шваба на¬
шелся достойный преемник: это Альбрехт Шеффер*, кото¬
рый работает над книгой греческих мифов; ее первые части
вышли в свет и имели большой успех.
Среди римлян я всегда предпочитал поэтам историков;
и все же возьмем Горация, Вергилия и Овидия, рядом с ни¬
ми поставим Тацита и еще Светония, а также «Сатирикон»
Петрония, этот комический роман нравов эпохи Нерона, и
«Золотого осла» Апулея. Оба романа являют нам упадок ан¬
тичного мира во времена Римской империи. В противовес
этим изощренным, скептическим книгам римского декадан¬
са я поставлю нечто совсем иное, тоже шедевр латинского
стиля, но принадлежащий другому миру, миру молодого
христианства, — «Исповедь» Блаженного Августина. Отно¬
сительное спокойствие римской античности уступает место
более напряженной атмосфере — начинается Средневе¬
ковье.
Духовный мир Средневековья, которое до недавнего
времени повсеместно принято было именовать «мрачным»,
не был избалован вниманием наших отцов и дедов, вслед¬
ствие чего мы располагаем лишь незначительным количе¬
122
ством современных изданий и переводов латинских средне¬
вековых авторов. Похвальное исключение — замечатель¬
ный труд Пауля фон Винтерфельда «Немецкие поэты ла¬
тинского Средневековья»*, который мне очень хотелось бы
включить в нашу библиотеку. Продолжает жить «Божест¬
венная комедия» Данте — воплощение величия средневе¬
кового духа, его вершина. Правда, серьезно читают и знают
ее немногие, разве что сами итальянцы да ученые-филоло-
ги, но она продолжает глубоко воздействовать на самую
суть нашей культуры. Это одна из тех великих книг, какие
являются раз в тысячелетие.
Как ближайший по времени образец старинной италь¬
янской литературы возьмем «Декамерон» Боккаччо. Это со¬
брание новелл, прославленное, но и ославленное недотро¬
гами за свои непристойности, являет собой первый великий
образец европейской повествовательной традиции; написа¬
но оно на староитальянском языке, поразительно живом, и
не раз переводилось на языки многих народов мира. Необ¬
ходимо предостеречь против множества недоброкачествен¬
ных изданий; из тех, которые выходили за последнее время
на немецком языке, я рекомендовал бы подготовленное из¬
дательством «Инзель». Что касается многочисленных пре¬
емников Боккаччо, за три последующих столетия написав¬
ших немало известных новеллистических сборников, ни
один из них не достиг его уровня, однако некоторые из но¬
велл могли бы войти в нашу библиотеку (например, сбор¬
ник, составленный Паулем Эрнстом)*. Из итальянских по¬
вествовательных поэтов Ренессанса нам не обойтись без
Ариосто, творца «Неистового Роланда»: это чудесный ро¬
мантический лабиринт, полный восхитительных образов и
хитроумных выдумок, образец для позднейших последова¬
телей, пожалуй, лучшим из которых был Виланд*, замк¬
нувший традицию. Рядом поставим сонеты Петрарки и не
забудем стихотворений Микеланджело, чья маленькая,
строгая книга так одиноко и гордо высится среди произве¬
дений своей эпохи. Как живой памятник атмосферы италь¬
янского Ренессанса возьмем автобиографию Бенвенуто
Челлини*. Более поздняя итальянская литература интерес¬
на нам в меньшей степени, можно отобрать разве что две-
три комедии Гольдони*, романтические пьесы-сказки Гоц¬
ци*, а в девятнадцатом столетии — великолепную лирику
Леопарди* и Кардуччи*.
123
к самому прекрасному, что создало Средневековье, от¬
носятся героические сказания французов, англичан и нем¬
цев, прежде всего легенды о рыцарях короля Артура. Кое-
какие из-этих сказаний, распространившихся в свое время
по всей Европе, нашли приют в «Немецких народных кни¬
гах», которым по праву принадлежит в нашей коллекции
почетное место. Они должны стоять рядом с «Песнью о Ни-
белунгах»* и с «Кудрун»*, хотя в противоположность по¬
следним это не первозданные творения, но позднее переве¬
денные с различных языков перелицовки широко извест¬
ных сюжетов. О стихах провансальских трубадуров шла
речь выше. За ними следуют стихотворения Вальтера фон
дер Фогельвейде*, «Тристан» Готфрида Страсбургского* и
«Парцифаль» Вольфрама фон Эшенбаха*, которые мы с
благодарностью примем в нашу библиотеку, равно как и
хорошую подборку песен рыцарей-миннезингеров*. Вот мы
и подошли к концу Средневековья. Одновременно с увяда¬
нием христианско-латинской литературы, с оскудением ве¬
ликих родников легенд в жизни и литературе Европы ро¬
дилось нечто новое: обособившиеся национальные языки
мало-помалу вытеснили латынь и тип литературного твор¬
чества, начавшийся в Италии с Боккаччо, уже не мона¬
стырский и не анонимный, но бюргерский и авторский,
праздновал свои первые шаги.
Во Франции в это время одиноко и гордо жил замеча¬
тельный поэт Франсуа Вийон, чьи необычные, неистовые
стихи не имеют себе равных. Продвигаясь дальше по фран¬
цузской литературе мы обнаружим немало такого, без чего
невозможно обойтись. По меньшей мере один том эссе Мон-
теня иметь необходимо, равным образом — «Гаргантюа и
Пантагрюэля» Франсуа Рабле, учащего нас юмору и пре¬
зрению к филистерам; нужны «Мысли», а пожалуй, и
«Письма к провинциалу» Паскаля, этого одинокого правед¬
ника и аскетического мыслителя. Из трагедий Корнеля дол¬
жно взять «Сида» и «Горация», из трагедий Расина —
«Федру», «Аталию» и «Беренику», и к этим отцам и клас¬
сикам французского театра следует добавить третью звез¬
ду — комедиографа Мольера, лучшие пьесы которого мы
дадим в подборке: не раз будем мы возвращаться к нему,
мастеру насмешки, создателю «Тартюфа». Баснц Лафонте¬
на и «Телемах» Фенелона также должны стоять на нашей
полке. Без драм, а равно и стихотворений Вольтера мы
обойдемся, но один-два томика его блистательной прозы
124
иметь нужно, прежде всего «Кандвда» и «Задига» — там
есть то упоение насмешкой, которое долго служило для все¬
го мира образцом французского остроумия. Но литература
Франции, в том числе и революционной Франции, много¬
гранна, так что, помимо Вольтера, возьмем также «Же¬
нитьбу Фигаро» Бомарше и «Исповедь» Руссо. Однако я
пропустил «Жиля Блаза» Лесажа*, чудесный плутовской
роман, и «Манок Леско», трогательную любовную историю
аббата Прево. Потом идет французская романтика и ее по¬
следователи, великие романисты, — здесь можно было бы
назвать сотни книг, но ограничимся тем, что в самом деле
своеобразно и неповторимо! Для начала возьмем романы
Стендаля «Красное и черное» и «Пармская обитель», ще из
борьбы неистовой души с недоверчивым и независимым
рассудком рождается совершенно новый вид литературного
творчества. Такая же неповторимость присуща «Цветам
зла» Бодлера — рядом с этими гигантами кажутся карли¬
ками Мюссе, с его прелестными персонажами, и очарова¬
тельные романтические рассказчики Готье* и Мюрже*. Да¬
лее идет Бальзак, из романов которого надо взять хотя бы
«Отца Горио», «Евгению Гранде», «Шагреневую кожу» и
«Тридцатилетнюю женщину». К этим яростным, перепол¬
ненным жизнью, едва сдерживающим в себе натиск реаль¬
ности книгам мы добавим мастерские, чистокровные новел¬
лы Мериме и шедевры самого тонкого из французских про¬
заиков, Флобера, — «Мадам Бовари» и «Воспитание
чувств». Золя стоит на несколько ступенек ниже, но его то¬
же нужно включить, скажем «Западню» или «Вину аббата
Муре»; можно также отобрать некоторые из прекрасных,
хотя и несколько болезненных новелл Мопассана. Итак, мы
подошли к границе новейшего времени, которую не хоте¬
лось бы переступать, не назвав еще ряд замечательных про¬
изведений. Но нельзя не вспомнить стихотворений Верле¬
на, в которых едва ли не больше души, чем во всей осталь¬
ной французской поэзии.
Знакомство с английской литературой начнем с «Кен¬
терберийских рассказов» Чосера, отчасти заимствованных
у Боккаччо, но отличающихся новизной тона. Это первый
истинно английский поэт. Рядом с Чосером поставим Шек¬
спира, не в подборке, а целиком. Наши учителя с благого¬
вением рассказывали нам о «Потерянном рае» Мильтона,
но, спрашивается, прочитал ли его кто-нибудь из нас? Нет!
Ну так и не будем его давать, хотя, возможно, мы поступим
125
против справедливости. «Письма к сыну» Честерфилда* —
книга отнюдь не благонравная, но мы ее рекомендуем. Из
сочинений Свифта, этого гениального ирландца, подарив¬
шего нам «Гулливера», мы включим все, что только воз¬
можно: его душевная щедрость, его горький юмор, его яр¬
кий гений перевешивают все издержки его чудачеств. Из
многочисленных сочинений Даниэля Дефо для нас имеют
значение «Робинзон Крузо» и «История Молль Фландерс».
С них начинается длинный ряд английских классических
романов. По возможности надо включить «Тома Джонса»
Филдинга и «Перегрина Пикля» Смоллетта*, но совершен¬
но необходимо — «Тристрама Шенди» и «Сентиментальное
путешествие» Стерна, две книги с истинно английским на¬
строением, легко переходящим от чувствительности к са¬
мому причудливому юмору. Из Оссиана*, этого романтиче¬
ского барда, хватит того, что мы находим у Гёте в «Верте-
ре». Нельзя не вспомнить Шелли и Китса, чьи стихи при¬
надлежат к лучшим образцам лирики, созданным челове¬
чеством, Но вот что касается Байрона, какое бы восхище¬
ние ни внушал мне этот пылкий гений, вполне достаточно
одной из его поэм, скорее всего «Чайльд Гарольда». Пиетета
ради возьмем какой-нибудь один из исторических романов
Вальтера Скотта, скажем «Айвенго». Примем в нашу кол¬
лекцию и книгу несчастного Де Куинси «Исповедь опиома-
на»*, хотя это крайне патологическая вещь. Без тома эссе-
истики Маколея* не обойтись; у полного горечи Карлейля*
возьмем, помимо «Героев», пожалуй, еще и «Sartor
resartus» ради столь неподдельно английского остроумия
этой вещи. Затем следуют два великих романиста: Текке-
рей, с его «Ярмаркой тщеславия» и «Книгой снобов», и Дик¬
кенс, который при всей время от времени нападающей на
него слезливости остается королем английских повествова¬
телей. Из его произведений, наполненных сердечной добро¬
той и блистательным юмором, надо взять по меньшей мере
«Записки Пиквикского клуба» и «Дэвида Копперфильда».
Среди его последователей особенную ценность представля¬
ет Мередит*, прежде всего его роман «Эгоист»; по возмож¬
ности возьмем еще и «Ричарда Февереля». Не следует за¬
бывать прекрасные стихи Суинберна* (впрочем, почти не¬
переводимые!); возьмем также один-два томика Оскара
Уайльда, прежде всего «Портрет Дориана Грея» и кое-что
из эссеистики.
126
Американская литература будет представлена томом но¬
велл Эдгара По, специалиста по части ужасов, и дерзно¬
венными патетическими стихами Уолта Уитмена.
Из испанской литературы возьмем прежде всего «Дон
Кихота», одну из самых грандиозных и восхитительных
книг всех времен, историю двух бессмертных героев: стран¬
ствующего рыцаря, сражающегося с воображаемыми злоде¬
ями, и его толстого оруженосца Санчо Пансы. Не откажем¬
ся и от новелл Сервантеса, поистине драгоценных образцов
писательского совершенства. Следует также взять хотя бы
один из знаменитых испанских плутовских романов, про¬
образов «Жиля Блаза». Выбор нелегок, но я решаю в пользу
«Архиплута Пабло Сеговии»*, сочной вещи, полной бурных
приключений и фантастического остроумия. Среди испан¬
ских романтиков, образующих длинную и славную череду,
нам необходим Кальдерон, великий поэт барокко, волшеб¬
ник сцены, то светский и пышный, то набожный и назида¬
тельный.
Из голландской и фламандской литератур выберем «Ти¬
ля Уленшпигеля» Де Костера и «Макса Хавелаара» Муль-
татули*. Роман Костера, в некотором роде поздний орат
«Дон Кихота», — это эпос фламандского народа. «Макс Ха-
велаар» — основное произведение страдальца Мультатули,
несколько десятилетий назад посвятившего свою жизнь
борьбе за права угнетенных малайцев.
Из мира скандинавских литератур возьмем в нашу биб¬
лиотеку песни «Старшей Эдды»*, переведенные братьями
Гримм, а также какую-нибудь из исландских саг, например
сагу о скальде Эгиле, или что-нибудь избранное вроде
«Книги об исландцах» Бонуса*. Из новейшей поры дадим
сказки Андерсена и рассказы Якобсена*, наиболее извест¬
ные пьесы Ибсена и несколько томов Стриндберга, хотя
возможно, что два последних писателя не будут значить так
много для наших потомков.
Особенно богата русская литература девятнадцатого
столетия. Поскольку Пушкин, великий классик русского
языка, принадлежит к авторам непереводимым, начнем с
Гоголя, чьи «Мертвые души» и рассказы войдут в нашу биб¬
лиотеку; возьмем также «Отцов и детей» Тургенева, ныне
несколько забытый шедевр, и «Обломова» Гончарова. Из
произведений Толстого, высокое художественное мастерст¬
во которого подчас забывают за его проповедничеством и
реформаторством, во всяком случае, невозможно обойтись
127
без «Войны и мира» (может быть, самого прекрасного из
русских романов) и «Анны Карениной», но не хотелось бы
отказываться и от его рассказов для народа. Из вещей До¬
стоевского нельзя забывать ни «Братьев Карамазовых», ни
«Преступления и наказания», ни «Идиота», самой одухо¬
творенной из его книг.
Итак, мы совершили путешествие по литературам раз¬
ных народов от Китая до России, от самой отдаленной древ¬
ности до наших дней, мы нашли немало произведений, до¬
стойных любви и восхищения, а между тем немецкой ли¬
тературе, нашему национальному богатству, пока еще не
уделено внимания вовсе. Выше упоминались только «Песнь
о Нибелунгах» и некоторые произведения позднего Средне¬
вековья. Теперь нам осталось с особой любовью рассмотреть
мир немецкого словесного искусства после 1500 г. и ото¬
щать то, что покажется нам самым привлекательным и са¬
мым близким.
Главное творение Лютера уже упоминалось в самом на¬
чале, но хорошо было бы добавить томик его малых сочи¬
нений: или что-нибудь из его обращений к народу, или под¬
борку его застольных бесед, или что-нибудь вроде книги
под заглавием «Лютер как немецкий классик», вышедшей
в 1871 г. Во времена контрреформации в Бреслау появился
замечательный человек и поэт, который интересует нас как
автор книжечки стихов, принадлежащих к лучшим образ¬
цам немецкой поэзии, — «Херувимский странник» Ангелу-
са Силезиуса*. В остальном же лирика времен, предшест¬
вовавших Гёте, может быть представлена одной из сущест¬
вующих подборок. Впрочем, из эпохи Лютера следовало бы
взять в нашу коллекцию народного нюрнбергского поэта
Ганса Сакса*. Рядом с ним поставим роман Гриммельсгау-
зена «Приключения Симплициуса Симплициссимуса»*, в
котором так неистово и резко звучат отголоски Тридцати¬
летней войны, вещь удивительно свежую и отмеченную яр¬
кой оригинальностью. За ним следует «Шельмуффский»
Кристиана Рейтера*, сочного юмориста; он много скромнее,
но все же заслуживает нашей любви. В этот же раздел на¬
шей библиотеки поставим «Приключения барона Мюнхга¬
узена», появившиеся в XVIII в. И вот мы уже подошли к
порогу новой немецкой литературы. Радость доставят нам
несколько томов Лессинга; нет нужды, чтобы это было пол¬
ное собрание сочинений, но что-нибудь из писем дать надо.
Как быть с Клопштоком*? Лучшие из его од войдут в нашу
128
антологию, и этого хватит. Труден вопрос насчет Гердера,
которого в наше время забыли, но о котором не все еще
сказано, — листать его временами чрезвычайно полезно,
хотя ни одна из его больших вещей уже не удовлетворяет
как целое. Издательство «Реклам» выпустило хорошую
подборку его произведений.
В случае с Виландом без полного собрания сочинений
тоже вполне можно обойтись, но «Оберона» нужно дать не¬
пременно, а по возможности и «Абдеритов». Благожела¬
тельный и насмешливый, искусный мастер формы, выуче¬
ник древних и французов, приверженец Просвещения, не
жертвовавший, однако, фантазией в пользу рассудка, Ви-
ланд — автор незаурядный, и забыли его несправедливо.
Гёте надо будет взять в самом доброкачественном и пол¬
ном издании, какое только позволят нам наши средства. Из
его драм, статей, рецензий можно было бы еще кое от чего
бтказаться, но собрание его художественных произведений,
включая лирические стихотворения, нужно иметь целиком.
Здесь, в этих томах, нашло отклики все, что составляет ис¬
торию нашей души, и многое выражено в слове раз и на¬
всегда. И какой путь от «Страданий юного Вертера» к «Но¬
велле», от ранних стихотворений ко второй части «Фауста»!
Наряду с сочинениями необходимо иметь важнейшие био¬
графические документы — «Разговоры с Гёте» Эккермана
и кое-что из писем, прежде всего переписку с Шиллером и
с Шарлоттой фон Штейн*. Кое-что вышло из-под пера дру¬
зей юного Гёте: пожалуй, лучшее — это «Молодость Ген¬
риха Штиллинга», принадлежащая Юнгу-Штиллингу*. Эту
милую книгу мы поставим рядом с Гёте, а равно и подборку
сочинений Маттиаса Клаудиуса — «Вандсбекерского вест¬
ника»*.
Что касается Шиллера, тут я склонен к компромиссам.
Хотя большую часть им написанного мне едва ли придет на
ум перечитывать, личность этого человека, его дух и его
жизнь сохраняют для меня обаяние чего-то значительного.
Мы остановим выбор на его прозаических сочинениях по
искусству и лучших стихотворениях, которые были напи¬
саны около 1800 г., и к ним добавим книгу Петерсена* «Раз¬
говоры с Шиллером». Охотно взял бы я еще что-нибудь из
книг той эпохи — вещи Музеуса*, Гиппеля*, Морица , Зей-
ме*, — но приходится быть беспощадным, ибо нельзя же в
библиотеку, где Мюссе или Виктора Гюго вообще нет, на¬
таскивать с черного хода милые, но не очень значительные
5 5-258 129
вещи. Начало XIX в., в духовном отношении самое плодо¬
творное для Германии время, и так предлагает нам ряд ав¬
торов самого крупного масштаба, отчасти таких, которые
под действием веяний моды или вследствие несправедливо¬
сти суждений наших литературоведов в последнее время
были либо вовсе забыты, либо чудовипщо недооценивались.
Так, например, о Жан Поле, одном из великих умов Гер¬
мании, популярные курсы истории литературы, служащие
руководством для тысяч студентов, по сие время судят
вкривь и вкось, перепевая давно устаревшую критику и не
оставляя ничего от облика этого писателя. Но мы совершим
акт мести, включив самое полное собрание сочинений Жан
Поля, какое сумеем найти. Кто найдет это чрезмерным,
пусть знает, что и ему не обойтись хотя бы без главных
вещей — «Годов шалостей», «Зибенкеза» и «Титана». Не
следует забывать и «Шкатулки с драгоценностями» Гебе¬
ля*, классического рассказчика анекдотов, вместе с его же
стихотворениями на алеманнском диалекте.
Теперь появилось несколько хороших и полных изданий
Гёльдерлина; одно из них мы с благоговением поставим на
нашу полку. Часто будем мы заклинать его славную тень,
часто внимать его волшебному голосу. По одну сторону от
него поставим сочинения Новалиса, по другую — Клемен¬
са Брентано; к сожалению, последнего до сих пор не удо¬
сужились удовлетворительно издать. Его новеллы и сказки
не забывались никогда, но глубокую словесную музыку его
стихов открыли лишь немногие. Память о нем и о его сестре
Беттине — «Весенний венок»*. Подготовленное Брентано
вместе с Арнимом* собрание немецких народных песен —
«Волшебный рог мальчика», — конечно, тоже должно вой¬
ти в нашу библиотеку на правах одной из лучших и ори¬
гинальнейших книг Германии. Что касается Арнима, сле¬
дует обзавестись хорошим сборником его новелл, где были
бы такие чудные вещи, как «Изабелла Египетская» и
«Старшинство в роду». Добавим несколько рассказов Тика
(прежде всего «Белокурого Экберта», «Преизбыток жизни»,
«Мятеж в Севеннах» и его же «Кота в сапогах» — может
быть, самый причудливый образчик немецкой романтики).
Геррес, увы, так и не дождался приличного издания. Даже
такая любопытная книга, как «История Мерлина» Фридри¬
ха Шлегеля, не переиздавалась уже несколько десятиле¬
тий! Из сочинений Фуке* стоит говорить только о прелест¬
ной «Ундине».
130
Произведения Генриха фон Клейста должны присутст¬
вовать все: и драмы, и новеллы, и статьи, и анекдоты. Он
тоже не сразу был признан своими соотечественниками. Из
Шамиссо* с нас хватит «Петера Шлемиля», но этой книжи¬
це отведем почетное место. Эйхендорфа надлежит иметь в
самом полном издании; наряду со стихотворениями и всеми
любимым «Бездельником» необходимы и остальные его но¬
веллы, между тем как без пьес и теоретических работ мож¬
но обойтись^ Э.Т.А» Гофман — самый виртуозный рассказ¬
чик романтизма, и его тоже следовало бы иметь в несколь¬
ких томах, не только популярнейшие из его новелл, но и
его роман «Эликсир Сатаны».
Сказки Гауфа* и стихи Уланда* — только на выбор;
важнее стихи Ленау и Анетты Дросте — они владели не¬
сравненной музыкой слова. Из драм Фридриха Геббеля* —
один или два тома, в придачу дневники, хотя бы выборочно;
обязательно Гейне в приличном издании, включающем
стихи и прозу. Затем — какое-нибудь солидное, как можно
более полное издание Мёрике*, прежде всего стихотворе¬
ния, затем «Моцарт по пути в Прагу» и «Старичок из су¬
шеных плодов», по возможности еще «Живописец Ноль-
тен». Рядом пусть станут вещи Адальберта Штифтера, по¬
следнего классика немецкой прозы: «Бабье лето», «Вити-
ко», «Этюды» и «Пестрые камешки».
Швейцария подарила немецкой литературе последнего
столетия трех вьщающихся писателей: Иеремию Готхель-
фа*, уроженца Берна, величавого творца крестьянского
эпоса, и двух авторов из Цюриха — Готфрида Келлера* и
Конрада Фердинанда Майера*. Из прозы Готхельфа возь¬
мем оба романа о батраке и арендаторе Ули, из прозы Кел¬
лера — «Зеленого Генриха», «Людей из Зельдвилы» и, по¬
жалуй, «Изречение», из прозы Майера — «Юрга Енача».
Келлер и Майер писали также достойные уважения стихи,
но их мы найдем вместе со многими другами поэтами, пе¬
речислять которых нет возможности, в любой хорошей ан¬
тологии новой поэзии, какие существуют в достаточном ко¬
личестве. По желанию можно добавить «Эккехарда» Шеф-
феля*, а еще я хотел бы замолвить словечко за Вильгельма
Раабе*: отказаться от его «Абу Тельфана» и «Шюддервум-
па» было бы жаль. Но тут нам надо остановиться — не за¬
тем, конечно, чтобы повернуться спиной к современной ли¬
тературе; о нет, для нее должно быть место и в нашей го¬
лове, и в нашей библиотеке — просто у нас иная тема. Мы
5* 131
не можем знать, что от нашего собственного времени оста¬
нется как долговечное достояние потомков.
Окидывая взглядом проделанную работу, убеждаешься,
насколько наша подборка фрагментарна и неравноценна по
качеству. Ну справедливо ли включать в библиотеку все¬
мирной литературы «Приключения барона Мюнхгаузена»
и оставаться без «Бхагавадгиты»? Имеем ли мы право от¬
бросить чудные комедии старых испанцев, народные песни
сербов, волшебные сказки ирландцев и многое другое? Не¬
ужели томик новелл Келлера перевешивает Фукидида*,
«Живописец Нольтен»* — «Панчатантру»* или китайскую
книгу оракулов «И цзин»? Нет, конечно, нет! Понятно, что
наш отбор текстов всемирной литературы чрезвычайно
субъективен, ибо зависит от наших личных предпочтений.
Что трудно — более того, невозможно, — так это заменить
его другим, абсолютно справедливым, абсолютно обьектив-
ным. Тоща пришлось бы включить всех авторов и все со¬
чинения, имена и названия которых привычны нам с дет¬
ства и встречаются в любой истории литературы. Да ведь и
литературоведы переписывают сведения о писателях и кни¬
гах друг у дрзпга, ибо жизнь человеческая слишком коротка,
чтобы прочитать бее самому. К тому же, говоря по чести,
хорошая строка немецкого поэта, мелодику которого я могу
прочувствовать до тонкостей, дает мне подчас гораздо боль-
ше^ чем почтенный текст на санскрите в каком-нибудь тя¬
желовесном, малопонятном лереводе. К тому же признание
того или иного писателя непостоянно во времени. Мы чтим
сегодня писателей, которые двадцать лет назад вообще не
упоминались историками литературы. (Боже мой, мы же
-позабыли умершего в 1837 г. Георга Бюхнера, автора «Вой¬
цека», «Смерти Дантона», «Леонса и Лены». Конечно, без
него нельзя!) То, что кажется нам сегодня существенным
и живым в немецкой литературе классической эпохи, ни¬
коим образом не совпадает по объему с тем, что назвал бы
непреходящим знаток этой литературы лет двадцать пять
назад. Пока немецкий народ читал «Трубача из Зеккинге-
на»*, а ученые рекомендовали как классика Теодора Кер¬
нера, Бюхнер оставался неизвестным, Брентано был совер¬
шенно забыт, Жан Поль фигурировал в черном стгаске как
сбившийся с пути гений! Так же точно наши сыновья и вну¬
ки найдут наши взгляды и оценки отсталыми. От этого ни¬
что не страхует, даже эрудиция. Но это вечное колебание
132
оценок, когда кого-то забывают на десятилетия, а потом от¬
крывают заново и осыпают похвалами, — не просто прояв¬
ление человеческой слабости, человеческого непостоянст¬
ва, оно подчиняется законам, которые невозможно строго
сформулировать. Всякое духовное достояние, в течение из¬
вестного срока отстаивавшее себя и оказывавшее свое воз¬
действие, входит в сокровищницу человеческой культуры,
откуда его в каждый момент можно извлечь и пробудить к
новой жизни, заставить служить душевным потребностям
нового поколения. Наши деды не только имели совсем иные
представления о Гёте, чем мы, они не только предали за¬
бвению Брентано и переоценивали Тидге*, Редвица* или
других модных писателей — они вовсе не знали «Дао де
цзин» Лао-цзы, одну из величайш[их книг человечества,
потому что открыть заново Древний Китай и его мудрость
дано было нашему поколению, нашему времени, а не вре¬
мени наших дедов. С другой стороны, мы, без сомнения,
потеряли из виду не одно великое и славное творение че¬
ловеческого духа, которое ценили наши деды и которое за¬
ново откроют наши внуки.
Конечно, в работе над нашей библиотекой мы действо¬
вали довольно-таки ipy6o, мы оставляли без внимания дра¬
гоценные творения, мы полностью обходили целые миры
ушедших культур. Где у нас, например, Египет? Неужели
несколько тысячелетий высокой и цельной культуры, блеск
династий, религия, с ее величавыми теологическими систе¬
мами и культом мертвых, не имеют для нас никакого зна¬
чения и не оставят следа в нашей библиотеке? Именно так
и обстоит дело. История Египта принадлежит для меня к
тому типу книг, которые я совершенно исключил из нашего
рассмотрения, — к разряду иллюстрированных альбомов,
книжек с картинками. Имеются многочисленные труды о
египетском искусстве с великолепными фотографиями, я
часто держал их в руках, из них я многое узнал о Египте.
Но книги, которая делала бы для нас близкой литературу
Египта, я не знаю. Много лет назад я с большим вниманием
читал работу о египетской религии, в которой приводились
в отрывках египетские тексты — законы, надгробные над¬
писи, гимны и молитвы, и, хотя эта тема меня чрезвычайно
интересовала, в памяти от прочитанного почти ничего не
осталось; все это было занимательно, но это не была клас¬
сика. Поэтому Египта в нашей коллекции так и нет. Но
здесь мне еще раз приходит на ум моя непостижимая за¬
133
бывчивость, мой грех упущения! Если припомнить как сле¬
дует, образ Египта у меня восходит отнюдь не только к упо¬
мянутым иллюстрированным изданиям и к той работе по
истории религии, он возник в моем воображении и благо¬
даря чтению одного любимого мною греческого писателя, а
именно Геродота, который обожал египтян и явно отдавал
им предпочтение перед своими ионийскими земляками. По¬
думать только, что я так основательно забыл о Геродоте!
Мою вину надо исправить, Геродоту принадлежит среди
греков почетное место.
Когда я снова и снова просматриваю предложенный
мною каталог «идеальной» библиотеки, то, сколь бы не¬
полным и несовершенным я ни находил его, не это ка¬
жется мне самым досадным его недостатком. Чем больше
я силюсь представить себе как целое это собрание книг,
составленное субъективно и весьма произвольно, но все же
на базе какого-то знания и опыта, тем больше мне сдает¬
ся, что портит его, по сути дела, не избыток субъективно¬
сти, не случайный характер, а скорее нечто противопо¬
ложное. Наша библиотека при всех своих недостатках
для меня чересчур идеальна, чересчур упорядочена, черес¬
чур напоказ. Положим, что-то мы забыли в нее включить,
но, в общем, самые ценные образцы литературы всех вре¬
мен на месте, вряд ли ее можно намного превзойти. Но
когда я представляю себе все эти воображаемые полки с
книгами и пытаюсь увидеть, кто бы мог быть создателем
и владельцем библиотеки, у меня ничего не получается:
этот человек не может быть ни старым чудаковатым уче¬
ным с глубоко ввалившимися глазами и лицом аскета, ис¬
тощенным ночными бдениями, ни светским господином в
богатом особняке, это не сельский врач, не священник, не
дама. Наша библиотека имеет вид весьма приятный и
весьма идеальный, но чересчур безличный; каталог ее та¬
ков, что мог бы быть составлен любым старым книголю¬
бом. Если бы мне довелось увидеть нашу библиотеку воп¬
лотившейся в реальность, я подумал бы: почтенное собра¬
ние, ни одна книга не вызывает сомнений, но неужели у
ее владельца нет никаких пристрастий, капризов, стра¬
стей, неужели в его сердце одна только история литерату¬
ры? Например, если у него два романа Диккенса и два ро¬
мана Бальзака, значит, он поддался на уговоры посторон¬
них советчиков. Если бы он выбирал самостоятельно, то он
или любил бы обоих и уж тогда старался иметь того и
134
другого в возможно большем количестве, или предпочитал
бы одного другому; например, мягкий, симпатичный, оба¬
ятельный Диккенс нравился бы ему куда больше, чем не¬
сколько жестокий и грубый Бальзак, или же, напротив, он
любил бы Бальзака и тогда покупал бы все его книги, а
атишком сладкого, слишком добронравного, слишком на¬
зидательного Диккенса вышвырнул бы из своей библиоте¬
ки. В любом случае его библиотека приобрела бы личный,
избирательный характер, что мне по душе.
Чтобы внести чуточку беспорядка в наш непомерно
правильный^ непомерно бесцветный каталог, чтобы пока¬
зать, как идут дела при личном, живом, страстном отно¬
шении к книгам, я не вижу иного пути, как сознаться в
кое-каких собственных моих читательских пристрастиях.
Я очень рано сжился с книгами, стремление к разумному
и справедливому выбору моего чтения среди сокровищ ми¬
ровой литературы тоже не осталось мне неведомым, я ел
со многих блюд и не раз обязывал себя узнать и понять
как раз то, что было мне чуждо. Но все это — чтение как
изучение, ознакомление с чужими литературами из воли
к самообразованию и к справедливости — не соответство¬
вало моей природе, снова и снова среди моих блужданий
по миру книг меня охватывала влюбленность в какой-то
особый предмет, меня восхищало то или иное открытие,
меня согревало новое увлечение. Многие из моих пристра¬
стий со временем исчезали, другие периодически вспыхи¬
вали вновь, некоторые глубокие переживания были непов¬
торимы, и я терял их. Поэтому и собственная моя домаш¬
няя библиотека никоим образом не похожа на описанный
выше образец, хотя почти все поименованные в нем книги
у меня имеются. Но моя библиотека обнаруживает то там,
то здесь диспропорции, какие-то ее части сильно расшире¬
ны, и так будет происходить со всякой библиотекой, ро¬
дившейся из подлинной потребности: одни ее разделы бу¬
дут пополняться скупо, из чувства долга, а другие станут
«любимчиками», предметами нежной заботы, и вид у них
будет самый ухоженный.
Такие разделы, пестуемые с особой приязнью, имеет и
моя библиотека, обо всех здесь и не расскажешь, придется
ограничиться самыми важными. Я хочу в нескольких сло¬
вах дать понятие о том, как всемирная литература отража¬
ется в каждом человеке, как она притягивает его то одной,
135
то другой своей стороной, как она формирует его характер
и сама же страдает от этого характера.
Любовь к книгам и вкус к чтению появились у меня
рано, и в юности мне была известна и доступна лишь одна
большая библиотека — библиотека моего деда. Большая
часть этого многотысячного собрания книг меня не инте¬
ресовала и так и не заинтересовала, я просто не мог по¬
нять, как можно в таком количестве копить книги такого
рода — журналы по истории и этнографии, расставленные
длинными* рядами, теологические трактаты на англий¬
ском, французском языках, английские золотообрезные
назидательные книжки для молодежи, бесконечные ряды
ученой периодики, аккуратно переплетенной или связан¬
ной в пачки по годам. Все это казалось мне нудным, пыль¬
ным и едва ли заслуживаюпцш сохранения. Но в библио¬
теке этой, как я notreneHHO обнаруживал, имелись и дру¬
гие разделы.
Поначалу меня привлекали к себе какие-то отдельные
книги, и уже они побудили меня мало-помалу обшаривать
целиком эту столь тоскливо выглядевшую библиотеку и вы¬
уживать то, что представляло для меня интерес.
Был там «Робинзон Крузо» с совершенно восхититель¬
ными рисунками Гранвиля*, немецкое издание «Тысячи и
одной ночи», два тяжелых тома ин-кварто тридцатых годов
прошлого века, тоже с иллюстрациями. Обе книга показали
мне, что в этом унылом море можно найти не одну жемчу¬
жину, и я уже не прекращал розысков по высоким полкам,
мне сл]гчалось часами просиживать на верху приставной
лестницы или лежать на полу, 1де повсюду лежали стопка¬
ми неисчислимые книга.
И вот там-то, в этой комнате, полной тайн и пыли, я
совершил первое ценное открытие в области художествен¬
ной литературы: я открыл для себя немецких авторов XVIII
столетия! Они были представлены в этой необыкновенной
библиотеке с редкостной полнотой — не только «Страда¬
ния юного Вертера», «Мессиада» и несколько альманахов с
хравюрами Ходовецкого*, но и менее известные сокровища:
полное собрание сочинений Гамана* в девяти томах, пол¬
ный Юнг-Штиллинг, полный Лессинг, стихи Вейсе*, Рабе-
нера*, Рамлера*, Геллерта*, шесть томов «Путешествия Со¬
фии из Мемеля в Саксонию»*, несколько литературных
журналов и отдельные тома Жан Поля. Заодно вспоминаю,
что именно там я впервые прочел имя Бальзака, там было
136
несколько томиков в синих переплетах — немецкое изда¬
ние его произведений in sedicimo^, появившееся еще при
его жизни. Помню, как я первый раз взял в руки этого пи¬
сателя и как мало я понял. Я начал читать один из томиков,
там подробно описывались финансовые обстоятельства ге¬
роя: сколько он получает в месяц со своего имения, как ве¬
лико материнское наследство, каковы перспективы полу¬
чить еще несколько наследств, сколько он задолжал и пр.
Я был глубоко разочарован. Я ожидал, что мне будут рас¬
сказывать о страстях и приключениях, о путешествиях в
дикие страны и сладких запретных любовных переживани¬
ях, а вместо этого мне предлагали интересоваться кошель¬
ком какого-то молодого человека, о котором я и знать-то
еще ничего не знал! С отвращением поставил я синий то¬
мик на место и после этого многие годы не читал ни одной
книги Бальзака, пока не открыл его для себя заново, много
позднее, на сей раз всерьез и навсегда.
Но самое главное, что я узнал из библиотеки деда, —
это немецкая литература XVIII столетия. Там я познако¬
мился с удивительными, давно забытыми вещами: с «По¬
томками Ноя» Бодмера*, с «Идиллиями» Геснера*, с «Пу¬
тешествием вокруг света» Георга Форстера*, с полным
Маттиасом Клаудиусом, с «Бенгальским тигром» гофрата
фон Эккартсгаузена*, с монастырской историей «Зиг-
варт»*, с «Крестовыми походами вдоль и поперек» Гиппеля
и многими, многими другими. Конечно, в этом царстве-
старых книг имелось и такое, без чего можно было спокой¬
но обойтись; там я нашел справедливо забытые и отверг¬
нутые вещи, а также дивные оды Клопштока, страницы
изящной и нежной прозы Геснера и Виланда, великолеп¬
ные каскады остроумия Гамана. Но'стоит жалеть и о том,
что я прочитал менее ценное, ибо познакомиться основа¬
тельно с определенным историческим периодом тоже не¬
бесполезно. Короче говоря, я изучил немецкую словес¬
ность целого столетия с такой полнотой, с какой ее изуча¬
ет не всякий специалист, и от этих книг, со всеми их
странностями и причудами, на меня все же веяло духом
языка, моего любимого родного языка, который достиг
своего расцвета как раз в это столетие. Читая альманахи,
запыленные романы и героические сказания, я познавал
% одну шестнадцатую листа (лет.).
137
немецкий язык, и, когда вскоре я познакомился с произ¬
ведениями Гёте и других гениев немецкой литературы,
мой слух, мое языковое чутье уже были обострены; спе¬
цифический склад духовной культуры, на котором были
воспитаны Гёте, немецкие классики, также был для меня
знакомым и близким. У меня до сих пор сохранилось при¬
страстие к этому виду словесности, кое-какие забытые
творения и сегодня стоят на моих полках.
Прошло несколько лет, я успел немало пережить и не¬
мало перечитать, и меня начала манить к себе другая об¬
ласть истории культуры — Древняя Индия. Я пришел к
этому не сразу. От друзей мне попали в руки книги осо¬
бого рода, которые тогда именовались теософскими и при¬
тязали на знание всей оккультной премудрости. Книги
эти, частью объемистые тома, частью дешевенькие бро¬
шюрки, были весьма непривлекательного свойства; они
настырно поучали и с важным видом говорили обо всем на
свете; в них была, правда, некая идеальность, отрешен¬
ность от мира сего, которая притягивала меня, но вместе
с ней такая анемичность, такая стародевическая напыщен¬
ность, что меня охватывал ужас. Все же я не мог отказать¬
ся от их чтения, и вскоре я разгадал секрет их привлека¬
тельности. Все эти тайные учения, якобы нашептанные со¬
чинителям этих сектантских книжек незримыми духовны¬
ми наставниками, обнаруживали общее происхождение —
из Индии. Едва поняв это, я принялся искать дальше и
вскоре был вознагражден первой находкой, прочитав с заг
миранием сердца перевод «Бхагавадгиты». Перевод был
прескверный, я до сих пор не знаю ни одного по-настоя¬
щему хорошего перевода этой в1ещи, хотя читал их нема¬
ло, — но здесь я в первый раз отыскал крупицу того зо¬
лота, мечта о котором вдохновляла мои поиски: я открыл
для себя восточную идею всеединства в ее индийском воп¬
лощении. С тех пор я бросил читать претенциозные бро¬
шюры о карме и перевоплощениях, бросил кипятиться по
поводу их узости и всезнайства, а вместо этого стал при¬
лагать усилия к тому, чтобы усвоить как можно больше из
подлинных источников, я прочитал труды Ольденберга* и
Дойссена* вместе с их переводами санскритских текстов,
книгу Леопольда Шрёдера* «Литература и культура Ин¬
дии», а также несколько старых переводов из индийской
поэзии. Вместе с системой Шопенгауэра, которая значила
для меня в эти годы очень много, древнеиндийские мудро¬
138
сти и доктрины на протяжении нескольких лет существен¬
но влияли на мой образ мысли и на мою жизнь. И все же
что-то не удовлетворяло меня до конца. Начать с того, что
доступные мне переводы индийских памятников были поч¬
ти все весьма несовершенны, разве что «Шестьдесят Упа-
нишад» Дойссена и немецкие «Проповеди Будды» Нойман-
на* давали мне радость живого прикосновения к миру Ин¬
дии. Однако беда была не только в переводах. Я искал в
этом мире то, чего там не было, некий род мудрости, ко¬
торый, как я смутно ощущал, возможен и где-то сущест¬
вует, непременно должен существовать, но который так
мне и не открылся.
Прошло много лет, й мою неистребимую потребность к
познанию удовлетворило новое читательское пережива¬
ние — насколько в таких делах вообще возможно удов¬
летворение. Еще раньше, следуя совету моего отца, я по¬
знакомился с Лао-цзы, в то время в переводе Грилля*.
Впоследствии начала выходить в свет книжная серия —
переводы Рихарда Вильгельма* из китайских классиков.
Одна из самых утонченных и высокоразвитых культур че¬
ловечества, известная дотоле немецкому читателю разве
что на правах забавного курьеза, стала доступна нам не
окольными путями, к каким мы успели привыкнуть, не
через латинские или английские переводы, не из третьих
и четвертых рук, но непосредственно, в переводах немца,
который прожил в Китае полжизни, который сумел по¬
знать саму суть китайской духовной традиции, отлично
владел не только китайским, но и немецким языком, ис¬
пытал на себе самом, чтб может значить китайская куль¬
тура для европейца. Серия начала выходить в йенском из¬
дательстве Дидерихса, ее открывали беседы Конфуция, и
я никоща не забуду, с каким изумлением, с каким удо¬
вольствием я поглощал книгу, каким все в ней было не¬
ожиданным, но одновременно каким-то правильным, дав¬
но желанным, восхитительным. С тех пор серия разрос¬
лась, за Конфуцием последовали Лао-цзы, Мэн-цзы*, Люй
Бувэй*, китайские народные сказки. Одновременно целый
ряд переводчиков занялись китайской лирикой, а также —
и с большим успехом — фольклором Китая. Много пре¬
красного сделали в этой области Мартин Бубер, Г.Рудель-
сбергер*, Пауль Кюнель*, Лео Грайнер* и пр. Они прият¬
ным образом дополнили труды Рихарда Вильгельма.
139
Уже несколько десятилетий моя приязнь к этим китай¬
ским книжкам непрерывно возрастает. То, чего недоставало
индусам, — близость к жизни, гармония между благородной
духовностью, готовой требовать от себя высших нравствен¬
ных усилий, и чувственной прелестью повседневной жизни,
разумное сочетание строгой дисциплины духа и простодуш¬
ного жизнелюбия — все это было здесь в избытке. Если Ин¬
дия дала много возвышенного и трогательного по части аске¬
зы и монашеского отрешения от мира, то Древний Китай до¬
стиг не менее удивительных высот в воспитании строя мыс¬
лей, для которого дух и природа, религия и повседнев¬
ность — противоположности, каждая из которых имеет свои
неотъемлемые права. Если аскетическая индийская муд¬
рость обнаружила в радикализме своих требований пуритан¬
ский пвм юности, то мудрость Китая ■— это мудрость умст¬
венно зрелого, не чуждого юмору мужа, чей жизненный
опыт не привел к разочарованию и цинизму.
Лучшие представители немецкой мысли на протяжении
двух последних десятилетий были затронуты этим благо¬
творным потоком. На фоне стольких шумных, но недолго¬
вечных начинаний работа Рихарда Вильгельма обретала
широту и значимость.
•Пристрастие к немецкому восемнадцатому столетию,
поиски индийской мудрости, постепенное ознакомление с
доктринами и поэзией Китая во многом преобразили и обо¬
гатили мою библиотеку. Такое же действие имели и другие
мои переживания и умственные увлечения. Так, было вре¬
мя, когда я держал у себя в оригинале всех великих италь¬
янских новеллистов — Банделло* и Мазуччо*, Базиле* и
Поджо*. Позднее мною овладела ненасытная потребность в
сказках и легендах других народов. Одни интересы тихо
угасли. Другие, напротив, остались и, как кажется, сдела¬
лись к старости не слабее, а сильнее. Сюда относится тяга
к мемуарам, письмам и биографиям людей, однажды про¬
изведших на меня впечатление. Еще в ранней молодости я
несколько лет подряд собирал и читал все, что мог раздо¬
быть, о личности и жизни Гёте. Моя любовь к Моцарту по¬
будила меня прочесть почти все его письма и записки о нем
других людей. Такую же любовь я чувствую к Шопену, к
французскому поэту Герену*, автору «Кентавра», к вене¬
цианскому живописцу Джорджоне, к Леонардо да Винчи.
То, что мне случалось прочесть о них, были не Бог весть
какие существенные книги, и все же я получил от них поль¬
зу, потому что в основе чтения лежала любовь.
140
Современный мир склонен недооценивать книги. Сегод¬
ня встречаешь множество молодых людей, которым кажет¬
ся смешным и недостойным любить книги вместо живой
жизни, они полагают, что для чтения книг наша жизнь
слишком коротка и слишком драгоценна, хотя они находят
время на развлечения. Как бы ни была «реальна» жизнь в
высотах учебных заведениях и мастерских, на биржах и в
увеселительных местах, мы никогда не приблизимся к на¬
стоящей жизни, если не будем уделять один-два часа в день
чтению древних мыслителей и поэтов. Конечно, от обиль¬
ного чтения возможен вред, и книги могут заслонить кар¬
тину жизни. Но это не основание пренебрегать чтением во¬
обще.
Я мог бы рассказать еще о многом. К тем пристрастиям,
о которых я уже поведал, прибавилось еще одно — попыт¬
ку проникнуть в жизнь христианского средневековья. Под¬
робности политической истории этого периода меня не ин¬
тересовали, для меня было существенным противоборство
двух основных сил — государства и церкви. И особое мое
любопытство вызывала монашеская жизнь — не своей ас¬
кетической стороной, но потому, что в искусстве и литера¬
туре монастырских кругов мне открылись удивительные ве¬
щи, а также потому, что орден и монастырь представлялись
мне приютом созерцательной жизни, прибежищем культу¬
ры и воспитания духа. Блуждая по миру монашеского сред¬
невековья, я не раз находил книги, которые не вошли в на¬
шу «идеальную» библиотеку, но все же доставили мне мно¬
го удовольствия, а порой я находил и такие, которые вполне
могли бы войти в наш список, например проповеди Тауле-
ра*, житие Генриха Сузо*, проповеди Мейстера Экхарта*.
Моё представление о всемирной литературе коща-ни-
будь покажется моим сыновьям неполньш и однобоким,
равно как оно показалось бы смешным моему отцу или де¬
ду. Нужно принять неизбежное, нечего воображать, будто
мы умнее отцов наших. Стремление к объективности и
справедливости — чудесная вещь, только бы мы не забы¬
вали, насколько недостижимы подобные идеалы. Цель на¬
ша при составлении нашей скромной библиотеки не в том,
чтобы через чтение выйти в ученые или тем паче в судьи
над миром, а единственно в том, чтобы отыскать доступные
нам врата святилища духа. Так пусть каждый начинает с
того, что ему понятно и дорого! Научиться чтению в вы¬
сшем смысле слова возможно не на газетных статьях и не
141
на случайных литературных однодневках, а только на ше¬
деврах. Часто у шедевров не такой приятный и не такой
пикантный вкус, как у модных вепщц. Они требуют, чтобы
их принимали всерьез, они требуют усилий. Куда легче
воспринимать разухабистые ритмы какого-нибудь амери¬
канского танца, чем размеренные и упругие, как сталь, пе¬
риоды трагедии Расина или тончайпгае движения богатой
игры юмора у Стерна или Жан Поля.
Прежде чем подвергнуть шедевры испытанию, нам са¬
мим придется пройти испытание их мерой.
МАГИЯ КНИГИ
Из многочисленных миров, не полученных человеком в
дар ot природы, а произведенных им самим из собственного
духа, мир книг наибольший. Каждый ребенок, выводя на
школьной доске первые буквы и делая первые попытки чи¬
тать, вступает в рукотворный и столь сложный мир, что для
полного познания его законов и правил обращения с ним
не хватит ни одной человеческой жизни. Без слова, без
письменности и беэ книг нет истории, нет понятия челове¬
чества. И пожелай кто-нибудь попытаться в небольшом
пространстве, в одном-единственном доме или в одной-
единственной комнате, разместить и изучить историю че¬
ловеческого духа, он сможет это сделать лишь в форме биб¬
лиотеки. Мы, правда, убедились, что заниматься историей
и исторически мыслить небезопасно, и в последние десяти¬
летия наше мироощущение не на шутку бунтовало против
истории, но благодаря именно этому мы усвоили, что отказ
от- захватов и присоединений все новых духовных наслед¬
ственных масс отнюдь не возвращает невинность нашему
бытию и мышлению.
У всех народов слово и письмо есть нечто священное и
магическое; именование и написание — действа изначаль¬
но магические, они — магическое овладевание природой
посредством духа, и письмо всюду превозносилось как дар
божественного происхождения. Умение читать и писать у
большинства народов считалось священными тайнами ис¬
кусства, заниматься которыми имели право только жрецы;
и великим, чрезвычайным делом было решение какого-ни-
будь юнца изучить эти могучие искусства, нелегкие, не
всем дозволенные и достававшиеся самоотречением и жер¬
твами. С точки зрения наших демократических цивилиза¬
142
ций духовность была в те времена чем-то более редким, но
и более благородным, более священным, чем ныне, она
пользовалась божественным покровительством и давалась
не всякому, к ней вели многотрудные пути, и за нее при¬
ходилось расплачиваться. Мы можем себе лишь смутно
представить, что значило в культурах иерархическо-ари-
стократического строя владеть секретом письма среди не¬
грамотного народа! Это значило избранничество и власть,
белую и черную магию, это было талисманом и волшебной
палочкой.
Но совершенно иным это стало лишь с виду. Кажется,
что сегодня мир письма и духовности открыт перед всяким,
и более того — желающего увильнуть вталкивают в него
насильно. Кажется, что умение читать и писать значит ны¬
не не многим больше, чем умение дышать или в лучшем
случае ездить верхом. Кажется, что письмо и книга лиши¬
лись сегодня всякого отличительного достоинства, всякого
волшебства, всякой магии. В религии, правда, еще сущест¬
вует понятие «священной», явленной Откровением Книги;
но так как единственная еще действительно могуществен¬
ная церковь не придает особого значения тому, что Библия
распространилась как чтение светское, то и священных
книг уже не осталось нигде, если не считать немногих на¬
божных евреев и адептов некоторых протестантских сект.
Правда, кое-где при отправлении служебной присяги еще
действует предписание, по которому клянущийся возлагает
на Библию руку, но этот жест лишь хладный прах того, что
полнилось некогда огненной силой и, как и сама формула
присяги, для среднего человека наших дней не содержит
никакой магической связи. Книги перестали быть таинст¬
вом, они доступны каждому — так кажется. С демократи-
ческо-либеральной точки зрения это — прогресс и само со¬
бой разумеется, но с других точек зрения это также обес¬
ценивание и вульгаризация духовности.
Но не дадим лишить себя приятного чувства достигну¬
того прогресса и порадуемся тому, что чтение и письмо уже
не привилегия какой-нибудь гильдии или касты, что с мо¬
мента изобретения печати книга стала всеобщим, распро¬
страненным в огромных количествах предметом потребле¬
ния и роскоши, что большие тиражи понижают цены на
книги и что всякий народ свои лучшие книги (так называ¬
емых классиков) может сделать доступными даже для очень
необеспеченных людей. Давайте также не скорбеть чрез¬
мерно и о том, что из понятия «книга» выхолощено почти
143
все его былое величие, что в последнее время благодаря ки¬
но и радиовещанию ценность и притягательность книги
упала, кажется, даже в глазах толпы. Но все же нам вовсе
не следует опасаться будущего искоренения книги, напро¬
тив; чем больще со временем будут удовлетворены опреде¬
ленные потребности масс в развлечении и образовании с по¬
мощью других изобретений, тем больше достоинства и ав¬
торитета вернет себе книга. Ибо и до инфантильнейших,
опьяненных прогрессом людей вскоре дойдет, что функции
письма и книги непреходящи. Станет очевидным, что вы¬
ражение в слове и передача этого выражения посредством
письма не только важнейшие вспомогательные, но и един¬
ственные средства вообще, благодаря которым человечество
имеет историю и непрерывное сознание самого себя.
Мы еще не совсем достигли момента, когда молодые со¬
перничающие изобретения — радио, кино и другие — спо¬
собны лишить печатную книгу именно тех ее функций, ко¬
торых не жаль. К чему, в самом деле, возражать, например,
против распространения в литературном отношении нецен¬
ного, но изобилующего острыми моментами, образами, ин-
тересньши местами и щекочущего чувства развлекательно¬
го романа в виде последовательности кадров, как в кино,
или посредством радио, или будущей комбинацией того и
другого, чтобы не вынуждать тысячи людей тратить на та¬
кие книги уйму времени и силу зрения. Но разделение тру¬
да, которое внешне еще не заметно, давно уже частично
происходит в тайных пределах мастерских. Уже сегодня мы
нередко сльшшм, что тот или иной «писатель» от литера¬
туры или театра обратился к кино. Необходимое и жела¬
тельное разделение здесь уже произошло. Ибо утвержде¬
ние, что «сочинять» и делать фильмы — одно и то же или
имеют много общего, — ошибочно. Я бы совсем не хотел
превозносить здесь «писателя», и ничто мне так не чуждо,
как в сравнении с ним рассматривать создателя фильмов
как человека ущербного. Но человек, устремленный к то¬
му, чтобы описание или рассказ передать средствами слова
и письма, делает нечто совершенно и принципиально иное,
чем человек, который ту же историю берется поведать с по¬
мощью определенным образом расставленных и снятых на
пленку человеческих ipynn. Словесный сочинитель может
быть жалким халтурщиком, а киношник гением, дело не в
этом. Но то, о чем публика еще не догадывается и что она,
возможно, узнает очень нескоро, в кругу сочинителей уже
144
начало определяться; коренное различие в средствах, кото¬
рыми достигается та или иная художественная цель. Конеч¬
но, и после разделения средств будут выходить убогае ро¬
маны и халтурные фильмы, создаваемые дикорастущими
талантами, пиратами в областях, ще им не хватает компе¬
тенции. Но для прояснения понятий и разгрузки литерату¬
ры, а также для ее теперешних конкурентов это разделение
даст очень много. И тогда литературе кино причинит ущерб
не больший, чем тот, который фотография, к примеру, при¬
чинила живописи;
Но вернемся к нашей теме! Я уже говорил, что книга
лишь «кажется» утратившей ныне свою магическую силу,
что лишь «кажется», будто неграмотные стали ныне редко¬
стью. Почему же «кажется»? Разве древняя волшба ще-ни-
будь еще существует, разве в наши времена все еще есть
священные книги, сатанинские книги, магические книги?
Разве понятие «магия книги» не относится целиком и пол¬
ностью к прошлому и к сказке?
Да, но дело в том, что законы духа изменяются столь
же мало, как и законы природы, и столь же мало поддаются
«упразднению». Можно упразднить священство и гильдии
астрологов или лишить их привилегий. Знания и литерату¬
ру, бывшие до сих пор тайным достоянием и сокровищем,
можно сделать доступными многим и даже вынудить этих
многих хоть как-то овладеть ими. Но все это происходит
предельно поверхностно, и в мире духа на самом деле ни¬
чего не изменилось с тех пор, как Лютер перевел Библию,
а Гутенберг'* изобрел печатный пресс. Вся магия книга не
устранилась, как не устранился и дух таинства в иерархи¬
чески организованной ipynne избранных, только эта ipynna
теперь безымянна. Йот уже несколько столетий, как письмо
и книга стали у нас достоянием всех классов — подобно то¬
му, как после упразднения сословных предписаний об
одежде стала все^щим достоянием мода. Только вот право
диктовать моду, как и прежде, сохранилось за немногими,
и платье, которое носит женщина красивая, хорошо сло¬
женная и с хорошим вкусом, выглядит странньш образом
иначе, чем такое же платье на женщине обыкновенной.
Кроме того, с процессом демократизации в области духа
произошел очень курьезный и вводяощй в заблуждение
сдвиг: выскользнув из рук священников и ученых, руковод¬
ство сместилось куда-то, тде оно уже больше не может быть
закреплено ни за кем, ще оно уже не может быть больше
узаконено и возведено к какому-нибудь авторитету. Ибо те
145
носители духовности и письма, которые казались когда-то
руководящими, потому что создавали общественное мнение
или по меньшей мере выдвигали актуальный лозунг, более
не тождественны носителям творческого начала.
Но давайте не углубляться в абстракции. Возьмем лю^
бой пример из новейшей истории духа и книг! Представим
себе образованного, начитанного немца периода между
1870 и 1880 годами — судью, врача, университетского про¬
фессора, например, или частного человека, — который лю¬
бит книги: что он читал, что знал о творческом гении своего
времени и своего народа, в чем выражалось его участие в
живой жизни и будущем? Г^е ньше литература, признан¬
ная тогдашней критикой и общественным мнением хоро¬
шей, желательной и достойной чтения? От нее почти ниче¬
го не осталось. И в то время, когда писал свои книги До¬
стоевский, а Ницше неизвестным или осмеянным одиноч¬
кой скитался по разбогатевшей и влюбленной в удовольст¬
вия Германии, немецкие читатели, старые и молодые, вы¬
соко- и низкопоставленные, читали, например, Шпильга-
гена* и Марлитт* или в лучшем случае что-нибудь вроде
милых стишков Эмануэля Гейбеля*, издававшихся такими
тиражами, какие с тех пор вряд ли даже снились лириче¬
ским поэтам и по распространенности и популярности пре¬
восходили даже знаменитого «Зеккингенского трубача»*.
Примеров наберется множество. Видно, что, хотя духов¬
ность, кажется, и демократизировалась и духовные сокро¬
вища времени, кажется, принадлежат всякому современни¬
ку, научившемуся читать, все важное свершается на самом
деле втайне и безымянно, и, кажется, что где-то во чреве
земли скрываются жрецы или заговорщики, направляющие
судьбы духа из анонимного подполья, и своих глашатаев,
снабженных властью и взрывной силой для многих поколе¬
ний, шлют в мир под масками и без легитимаций, заботясь
о том, чтобы общественное мнение, радующееся своей про¬
свещенности, не заметило ничего магического, которое
свершается прямо у него под носом.
Но и в более узком и простом кругу мы ежедневно мо¬
жем видеть, сколь удивительны и сказочны судьбы книг,
обладающих то силой полностью околдовывать человека, то
способностью делать его незримым. Мы видим, как писате¬
ли живут и умирают, известные лишь немногим или неиз¬
вестные никому, и как после смерти, нередко десятилетия
спустя, их книги, осиянные, внезапно воскресают, будто не
существует никакого времени. Мы были очарованными сви¬
146
детелями того, как единодушно отверженный своим наро¬
дом и для дк-жины умов давно исполнивший свою миссию
Ницше несколько десятилетий спустя превратился в люби¬
мого автора, тиражей которого все время не хватает, или
как стихи Гёльдерлина более сотни лет после их создания
внезапно опьянили учащуюся молодежь, или как через ты¬
сячелетия в древней сокровищнице китайской мудрости Ев¬
ропа послевоенных лет неожиданно обнаружила Лао-цзы,
который, плохо переведенный и мало кем читаемый, ока¬
зался модой, как Тарзан или фокстрот, но при этом сильно
повлиял на живых, производительных носителей духовно¬
сти.
И каждый год мы видим тысячи и тысячи детей, иду¬
щих в первый класс, рисующих первые буквы, читающих
первые слоги, и вновь убеждаемся, что умение читать
большинство детей быстро начинают воспринимать как не¬
что обычное и неценное, в то время как другие из года в
год, от десятилетия к десятилетию все очарованнее и
удивленнее прибегают к волшебному ключу, врученному
им школой. Хотя возможность научиться читать дается
ныне каждому, лишь немногие замечают, как могущест¬
вен талисман, который они получили. Ребенок, гордясь
недавно приобретеншЁм знанием букв, одолевает стихо¬
творение или притчу, затем первый небольшой рассказ,
первую сказку, но непризванные будут вскоре упражнять
свои навыки чтения лишь на газетных и коммерческих но¬
востях и лишь немногие останутся навсеща околдованы
особой силой буквы и слова (ведь не случайно и то и дру¬
гое было коща-то чудом и магическим заклинанием!). Из
этих немногих и выходят читатели. Детьми открывают
они для себя в книге для чтения пару стихов или историй,
стихотворение Клаудиуса, например, или рассказ Гебеля
или Гау(^ и, научившись бегло читать, не отворачивают¬
ся от этих вещей, а продвигаются в мире книг все дальше
и дальше, обнаруживая шаг за шагом, как велик, разно¬
образен и отраден этот мир! Поначалу казался он им дет¬
ским палисадником с грядкой тюльпанов и небольпшм
озерцом с золотыми рыбками, но постепенно палисадник
стал парком, ландша(^м, частью света, всем миром. Эде¬
мом и Берегом Слоновой Кости и все манит и манит но¬
выми чудесами, расцветает все новыми красками. И то,
что вчера казалось палисадником, парком или девствен¬
ным лесом, сегодня-завтра предстанет как храм с тысячью
147
сводов, залов, придворий — как обитель духа всех времен
и народов, духа, ждущего неоднократных пробуждений в
готовности ощутить вновь и вновь многоголосое разнооб¬
разие форм как единство своего проявления. И для каждо¬
го настоящего читателя этот необъятный книжный мир
выглядит по-своему, каждый ищет и находит в нем н са¬
мого себя. Один от детских сказок и книг об индейцах на¬
щупывает путь к Шекспиру или Данте, другой от первого
школьного описания звездного неба идет к Кеплеру или
Эйнштейну, третьего детская молитва ведет под священ¬
но-прохладные своды Святого Фомы* или Бонавентуры*,
или к торжественной вычурности Талмуда, или навстречу
подобным весне притчам упанишад, к трогательной муд¬
рости хасидов* или к лапидарным и при этом столь дру¬
жески интимным, столь благородным и веселым учениям
Древнего Китая. Тысячи путей ведут через дремучий лес
к тысяче целей, и ни одна из целей не окончательная, за
каждой открываются новые дали.
От мудрости и везения подлинного адепта зависит, за¬
блудится ли он в девственном лесу книжного мира, погиб¬
нет или найдет в нем дорогу — претворит свой читатель¬
ский опыт в опыт личный и пользу для бытия. Те, кому
вообще невдомек чары книжного мира, рассуждают, как
немузыкальные люди о музыке, и нередко обвиняют чте¬
ние как болезненную и опасную страсть, делающую чело¬
века недееспособным в жизни. Конечно, они чуть-чуть
правы; хотя надо бы прежде определить, что именно по¬
нимают они под «жизнью» и мыслима ли жизнь лишь как
противоположность духа при том, что немало мыслителей
и учителей, от Конфуция до Гёте, были на диво практич¬
ными людьми. Книжный мир действительно по-своему
опасен, и это известно всякому воспитателю. Но подумать
о том, насколько он опаснее, чем жизнь без вселенских
книжных просторов, мне до сих пор было все недосуг. Ведь
сам я тоже читатель, один из тех, кто с детства очарован
книгой, и, живись мне как монаху из Гейстербаха*, на
сотни лет я мог бы затеряться в храмах и лабиринтах,
пещерах и океанах книжного мира, не чувствуя сужения
его.
При этом я еще не имею в виду, что книг становится
в мире все больше и больше! Нет, даже не читая ни од-
ной-единственной новой книги, всякий настоящий чита¬
тель непрерывно мог бы познавать сокровища минувших
148
времен, бороться за овладение ими, испытывать радость от
них. Каждый новый язык, который мы изучаем, приносит
нам новые впечатления, а языков чрезвычайно много, их
много больше, чем говорили в ппсоле! Ведь есть не только
испанский, или итальянский, или немецкий, или три не¬
мецких языка: древневерхненемецкий, средневерхнене¬
мецкий и нововерхненемецкий, — нет, имеются сотни не¬
мецких; и испанских, и английских столько же, сколько в
каждом из этих народов существует образов мыслей, от¬
тенков мироощущения; языков почти столько, сколько
есть оригинальных мыслителей и писателей. Современник
Гёте, к сожалению, как следует им не распознанный, Жан
Поль писал на своем совершенно ином и вместе с тем
очень немецком языке. И все эти языки в сущности непе¬
реводимы! Попытка высокоразвитых народов (в первую
очередь немцев) усвоить всемирную литературу в перево¬
дах — явление замечательное, и в ряде случаев она дала
великолепные плоды, но все-таки эта попытка не только
не совсем удалась, но и неосуществима принципиально.
Еще не написаны немецкие гекзаметры, которые действи¬
тельно бы звучали, как у Гомера. За несколько сотен лет
десятки раз и успешно перекладывалась на немецкий ве¬
ликая поэма Данте, а последний и поэтически наиболее
одаренный из всех переводчиков Данте*, осознав нереаль¬
ность попыток передать средневековый язык современным,
чтобы воссоздать это произведение на немецком, изобрел
к нашему восхищению совершенно особый язык, поэтизи¬
рованный на средневековый лад.
Но даже если читатель не овладеет новыми языками
и не познакомится с новыми литературами, доселе ему не¬
известными, чтение одних и тех же книг он сможет про¬
должить до бесконечности, обнаруживая незамеченные
прежде детали, укрепляя первые впечатления, получая
очередные. Одна и та же книга какого-нибудь мыслителя,
одно и то же стихотворение какого-нибудь поэта каждую
пару лет будут представляться читателю иными, будут
восприниматься по-другому, затрагивать ранее молчавшие
струны. Прочтенное мною впервые в юности и тогда лишь
частично понятое «Избирательное сродство» Гёте было со¬
вершенно другой книгой, чем то «Избирательное сродст¬
во», которое сейчас читаю я вновь, вероятно, уже в пятый
раз! Таинство и величие читательского опыта заключается
в том, что чем больше деталей и взаимосвязей мы обнару¬
149
живаем, чем тоньше при чтении наши чувства, тем боль¬
ше видим мы уникальность, индивидуальность и строгую
обусловленность каждой мысли, каждого произведения,
тем больше уясняем себе, что вся красота и очарование
порождены именно этой индивидуальностью и уникально¬
стью, и тем отчетливее, кажется, понимаем, что сотни ты¬
сяч голосов различных народов жаждут одного и того же,
под разными именами взывают к одним и тем же богам,
повествуют об одних и тех же грезах, стенают от одних и
тех же бед. Сквозь тысячеслойное кружево бесчисленных
языков и книг, сквозь пространство нескольких тысячеле¬
тий в моменты озарений проступает перед читателем ма¬
гически возвышенный и сверхреальный призрак — из ты¬
сячи противоречивых черт завороженный в целое лик че¬
ловека.
МОЯ ВЕРА
Не только в статьях высказывался я иной раз на этот
счет, но однажды, немного более десяти лет тому назад,
сделал попытку изложить свою веру в книге. Книга эта
называется «Сиддхартха», и ее религиозное содержание
часто проверялось и обсуждалось индийскими студентами
и японскими священниками, но не их коллегами-христиа-
нами.
То, что у моей веры в этой книге индийское имя и ин¬
дийское лицо, не случайно. Я узнал религию в двух фор¬
мах, как сын и внук убежденно-благочестивых протестан¬
тов и как читатель индийских откровений, среди которых
на первое место ставлю «Упанишады», «Бхагавадгиту» и ре¬
чи Будды. Не случайно было и то, что я, выросший среди
настоящего и живого христианства, изведал первые порывы
собственной религиозности в индийском обличье. Мой отец,
равно как и моя мать и ее отец состояли всю жизнь на служ¬
бе христианской миссии в Индии, и хотя только одного из
моих двоюродных братьев и меня осенило, что иерархии ре¬
лигий не существует, уже у отца, матери и деда было не
только богатое и довольно основательное знание индийских
форм веры, но была и лишь наполовину осознанная симпа¬
тия к этим индийским формам. Духовное индийство я со¬
вершенно так же впитывал в себя с детства, как христиан¬
ство.
150
Зато христианство я узнал в уникальной, застывшей,
врезавшейся в мою жизнь форме, в слабой и преходящей
форме, которая сегодня уже отжила свое и почти исчезла.
Я узнал его в виде протестантства с пиетистской окраской,
и впечатление это было глубокое и сильное: ибо жизнь мо¬
их дедов и родителей целиком определялась царством
Божьим и состояла в служении ему. На мою жизнь сильно
повлияло это величайшее событие моего детства, этот
унаследованный взгляд людей на свою жизнь как на
жизнь Бога, их попытка жить не эгоистическими стремле¬
ниями, а служением Богу и в жертву ему. «Мир» и мир¬
ских людей я совсем всерьез никогда не принимал и с го¬
дами принимаю их всерьез все меньше и меньше. Но если
это христианство моих родителей, христианство как живая
жизнь, как служение и жертва, как общность и назначе¬
ние было великим и благородным, то конфессиональные,
отчасти сектантские формы, в каких мы, дети, узнавали
его, уже очень рано показались мне подозрительными, а
частично и вовсе невыносимыми. Приходилось порой чи¬
тать и петь такие изречения, такие стихи, которые просто
оскорбляли во мне поэта, и когда первая пора детства кон¬
чилась, от меня отнюдь не укрылось, как страдали, как
мучались люди типа моего отца и деда от того, что у них
не было, как у католиков, твердого вероучения, догмата,
настоящего, проверенного ритуала, настоящей, подлинной
церкви.
Что так называемой «протестантской» церкви не суще¬
ствовало, что она распадалась на множество маленьких
господствующих церквей, что история этих церквей и их
владык, князей-протестантов, была ничуть не благород¬
нее, чем поносимой папской церкви, что, наконец, почти
все подлинное христианство, почти все подлинное служе¬
ние царству Божьему верпшлись не в этих скучных сек¬
тантских церквах, а в еще более сектантских, но зато
пылких, экзальтированных тайных сборищах сомнитель¬
ной и нестойкой (^рмы — все это не было для меня уже
в довольно ранней юности тайной, хотя о господствующей
церкви и ее традиционных формах в отцовском доме гово¬
рили не иначе, как с уважением (уважение это я рано за¬
подозрил в неискренности). Да и не было у меня за всю
мою христианскую юность никаких религиозных впечат¬
лений, которым я был бы обязан церкви. Домашние, лич¬
ные молебны и молитвы, образ жизни моих родителей, их
15’
царственная бедность, их щедрость при виде нужды, их
братское отношение к сохристианам, их забота о язычни¬
ках, весь вдохновенный героизм их христианской жизни
черпали силу, правда, в чтении Библии, но не в церкви,
и ни воскресные богослужения, ни занятия с конфирмую¬
щимися, ни курсы для детей никаких впечатлений мне не
прибавили.
По сравнению с этим туго стиснутым христианством, с
этими слащавыми стихами, с этими часто скучнейшими
священниками и проповедями мир индийской религии и по¬
эзии был, конечно, куда заманчивее. Здесь никакая бли¬
зость не угнетала меня, здесь не пахло ни скучными, окра¬
шенными в серый цвет кафедрами, ни пиетистскими уро¬
ками Библии, у моей фантазии был простор, первые вести,
доходившие до меня из индийского мира, я мог восприни¬
мать без сопротивления, и они оказывали свое действие всю
жизнь.
Впоследствии моя личная религия еще часто меняла
свои формы, это никоща не происходило внезапно, в виде
обращения, а всегда медленно, в виде прироста и развития.
Если мой «Сиддхартха» ценит выше всего не знание, а лю¬
бовь, если он отвергает догмат и ставит в центр всего чув¬
ство единства, то в этом можно усмотреть какой-то возврат
к христианству, даже какую-то поистине протестантскую
черту.
Еще позднее индийского духовного мира открылся мне
китайский, и это повлекло за собой новую эволюцию;
классическое китайское понятие добродетели, в свете ко¬
торого Кун Фу-цзы* и Сократ становились для меня брать¬
ями, а также скрытая мудрость Лао-цзы с ее мистической
динамикой сильно занимали меня. Пришла и еще одна
волна христианского влияния благодаря общению с неко¬
торыми католиками высокого духовного уровня, особенно
с моим другом Гуго Баллем*, чью беспощадную критику
Реформации я признал справедливой, не став, однако, ка¬
толиком. Я понаблюдал тогда также за действиями като¬
ликов и их политикой и видел, как человека чистоты и ве¬
личия Гуго Балля его церковь и ее духовные и политиче¬
ские представители в зависимости от конъюнктуры то ис¬
пользовали в пропагандистских целях, то переставали
поддерживать и бросали. Эта церковь тоже явно не была
идеальным пространством для религии, здесь тоже явно
хватало карьеризма и чванства, свар и грубого властолю¬
152
бия, здесь тоже христианская жизнь явно предпочитала
уйти в частную и скрытую сферу.
Таким образом, христианство играет в моей религиоз¬
ной жизни хоть и не единственную, но все же главенству¬
ющую роль, это больше мистическое христианство, чем
церковное, и оно не без конфликтов, но все-таки без вой¬
ны живет рядом с религиозностью индийско-азиатского
толка, единственный догмат которой — идея единства. Я
никогда не жил без религии и не прожил бы без нее и дня,
но всю свою жизнь обходился без церкви. Отдельные, кон¬
фессиональные и политически разделенные церкви мне
всегда, особенно во время мировой войны, казались кари¬
катурами на национализм, и неспособность протестант¬
ских вероучений к надконфессиональному единству всегда
казалась мне обвинительным символом немецкой неспо¬
собности к единству. В прежние годы я при таких мыслях
с некоторой почтительностью и завистью взирал на рим¬
ско-католическую церковь, и моя протестантская тоска по
твердой форме, по традиции, по зримости духа помогает
мне и поньгае сохранять почтение к этой величайшей
культурной формации Европы. Но и эта замечательная
католическая церковь вызывает у меня такое почтение
только на расстоянии, а стоит мне к ней приблизиться, и
она уже, как всякое человеческое установление, сильно
пахнет кровью и насилием, политикой и подлостью. И все
же иной раз я 'завидую католику из-за возможности про¬
износить молитву перед алтарем, а не в часто очень тес¬
ной клетушке и изливать исповедь в отверстие испове¬
дальни, вместо того чтобы всегда только подставлять ее
под иронические удары одинокой самокритики.
БЛАГОДАРНОСТЬ ГЁТЕ
Среди всех немецких поэтов я больше всего благодарен
Гёте, он занимал меня больше всего, угнетал, ободрял, по¬
нуждал следовать за ним или с ним спорить. Он не был
поэтом, которого я больше всех любил, стихами которого
наслаждался, против которого поднимал маленькие бунты;
нет, тут на первом месте стоят другие: Эйхендорф, Жан
Поль, Гёльдерлин, Новалис, Мёрике и пр. Но ни один из
этих любимых мною поэтов не стал для меня серьезной
проблемой и важным нравственным стимулом, ни с одним
153
мне не приходилось вступать в борьбу и выяснять отноше¬
ния, тогда как с Гёте я вынужден был постоянно вести
мысленные разговоры и мысленные бои (один из них —
один из сотен — изображен в «Степном волке»). Поэтому
я попытаюсь показать, что значит для меня Гёте и каковы
аспекты, в которых он мне преимущественно являлся.
Я был почти мальчиком, когда впервые узнал его юно¬
шеские стихи и «Вертера», совершенно околдовавшие меня.
Я легко и всецело предался поэту Гёте, ибо от него веяло
духом юности, ароматом лесов, полей и лугов, а в его язы¬
ке, унаследованном от госпожи советницы*, сохранялись
глубина и шутливость народной мудрости, отзвуки природы
и ремесла и к тому же высокая степень музыкальности.
Этот Гёте, чистейший поэт, вечно юный и наивный певец,
никогда не становился для меня проблемой, омрачавшей
меня.
Но в свои юношеские годы я столкнулся с другим Гёте:
с великим писателем и гуманистом, с идеологом и воспи¬
тателем, с рецензентом и автором программных заявле¬
ний, с веймарским литератором Гёте, другом Шиллера,
собирателем произведений искусства и основателем жур¬
налов, с сочинителем бесчисленных статей и писем, с дик¬
татором Эккермана, и этот Гёте также сделался для меня
бесконечно важен. Сначала я восхищался им и почитал
его без всяких оговорок и порой защищал перед своими
друзьями даже самые канцелярские его писания. Хотя об¬
лик поэта временами казался мне несколько бюргерским,
обывательским, чиновничьим, хотя он слишком уж уда¬
лился от тех мест, где блуждал Вертер, все равно масштаб
был огромен, всеща имелась в виду высокая цель, благо¬
роднейшая из всех целей: обоснование и осуществление
жизни, управляемой духом, и не только для него самого,
но и для всей нации, всей эпохи. Всегда, даже в его оши¬
бочных действиях, была попытка всесторонне освоить зна¬
ния и весь жизненный опыт своей эпохи и поставить их на
службу высокому духу, благородной личности, более того,
безлйчной духовности и нравственности. Писатель Гёте
создал для лучших людей своего времени образ, вернее,
образец человека, приблизиться к которому, походить на
который было идеалом всех людей доброй воли.
У поэта Гёте можно было многим наслаждаться, но не¬
чему было учиться. То, чем он владел, было уникально и
неповторимо. Поэтому он и не стал для меня образцом
154
или. проблемой. Напротив, литератор, гуманист и идеолог
Гёте очень скоро сделался для меня величайшей из всех
проблем: ни один другой писатель, кроме Ницше, так не
тревожил, не привлекал и не мучил меня, так не побуж¬
дал к спору. Некоторое время литератор Гёте и поэт Гёте
шли, казалось, параллельными путями и почти сливались
воедино, затем они вдруг расходились, противоборствова¬
ли один с другим и наносили друг другу взаимный урон.
Хотя поэт был симпатичнее и доставлял больше радости,
зато литератора Гёте всегда приходилось принимать всерь¬
ез и нельзя было обойти вниманием; я ощутил это уже в
свои двадцать лет, потому что он воплощал собой самую
великую и на первый взгляд удавшуюся попытку постро¬
ить немецкую жизнь на основе духа. Далее, то была един¬
ственная в своем роде попытка синтеза немецкой гениаль¬
ности с разумом, примирение царедворца с богоборцем,
Антонио с Тассо*, музыкально-дионисийского энтузиазма
с верой в ответственность и нравственный долг.
Удалась эта попытка, видимо, все-таки не вполне. Да и
как она могла удаться! Тем не менее она неизбежно должна
была повторяться снова и снова, ибо постоянное стремление
к высочайшему и невозможному как раз и является, по мо¬
ему мнению, отличительной приметой духа. Гёте не вполне
посчастливилось объединить в собственной жизни и в соб¬
ственном творчестве наивного поэта и умного царедворца,
душу с разумом, поклонника природы с проповедником ду¬
ха, там и сям зияли трещины, разрывы, возникали мучи¬
тельные и труднопереносимые конфликты. Порой разум и
добродетель свисали с головы поэта, как непомерно боль¬
шой парик, а наивная гениальность задыхалась в тисках чо¬
порности, возникшей из стремления к осознанности и са-
мообузданию.
Более того, Гёте, видимо, не удалось утвердить в жизни
свой образец человека и оставить после себя настоящую
школу или учение. Даже те поэты и писатели, которые изо
всех сил старались следовать этому образцу, не смогли до¬
стичь желанного единства, они остались далеко позади сво¬
его предшественника. Один из многих тому примеров —
Штифтер, весьма любимый мною писатель первого ряда,
который в своем замечательном романе «Бабье лето» порой,
совсем как маленький Гёте, произносит деревянным язы¬
ком избитые филистерские фразы об искусстве и жизни —
натыкаешься на них и пугаешься: как они могут стоять так
близко к волшебным красотам? Образец просматривается
155
вполне явственно, и поневоле вспоминаешь: в «Вильгельме
Мейстере» тоже дивные поэтические страницы соседствова¬
ли с подобной безнадежной сушью.
Нет, Гёте не так уж удалась его попытка, и поэтому он
становился мне порой неприятен и вызывал досаду. В конце
концов не был ли он и вправду, как полагали некоторые,
его не читавшие, всего лишь героем восходящего бюргерст¬
ва, одним из творцов второстепенной, недолговечной, давно
уж отжившей сегодня идеологии?
Я мог бы отложить его в сторону и остаться при своем
разочаровании. Но в том-то и дело, что я этого не мог! В
том-то и заключалось самое удивительное, прекрасное и
мучительное: от него нельзя было освободиться, приходи¬
лось постоянно восходить вместе с ним на его вершины, му¬
читься его поражениями и открывать его двойственность в
себе самом!
Ужб одно было притягательно и казалось грандиозным:
то, что он не удовлетворялся мелкими целями, но искал
великую, что он выдвигал идеалы, которые были неосуще¬
ствимы. Но прежде всего с годами неотступно росло мое
понимание, что проблема Гёте — это не только его лич¬
ная проблема, не только проблема бюргерства, но и про¬
блема каждого немца, приемлющего всерьез дух и слово.
Нельзя быть немецким писателем и уходить в сторону от
гётевского образца и его попыток, все равно, пусть они да¬
же не удались или удались не вполне. Возможно, другим
литераторам лучше удалось представить дух своего време¬
ни в слове, возможно, Вольтер, например, отобразил свою
эпоху и среду точнее и полнее. Но не потому ли Вольтер
кажется нам сегодня отжившим, не потому ли он для нас
не более чем воспоминание, имя великого виртуоза? Разве
его стремления и мысли пробуждали наше сердечное уча¬
стие и чувство ответственности? Нет. Гёте, напротив, не
умер со своим веком, он имел к нам самое прямое отно¬
шение, он был для нас невероятно актуален.
Много лет я таким образом мучился и единоборствовал
с Гёте, он стал возмутителем спокойствия моей духовной
жизни, он и Ницше. Если бы не началась мировая война,
я все еще додумывал бы в тысячный раз те же мысли и ко¬
лебался бы теми же колебаниями. Но пришла война, и
вместе с войной старая немецкая проблема писателя —
трагическая судьба духа и слова в немецкой жизни —
предстала передо мной в еще более прискорбном виде. 06-
156
наружилось полное отсутствие трибуны, на существование
которой уповал некогда Гёте. На поверхность вылезла без¬
ответственная писанина, наполовину опьяненная востор¬
гом, наполовину подкупленная, очень патриотическая, но
глупая, лживая и грубая, недостойная Гёте, недостойная
духа, недостойная немецкого народа; даже знаменитые
ученые и литераторы вдруг начали писать, как унтер-офи¬
церы; казалось, что не только разрушены все мосты между
духом и народом, но что духа вообще больше не сущест¬
вует. (Я не собираюсь здесь исследовать вопрос, было ли
это явление чисто немецким, настолько оно оказалось
присуще многим или даже всем воюющим странам: для
меня оно представляло важность именно в немецкой фор¬
ме, и в немецкой форме оно призвало меня на борьбу с
ним. Мой долг заключался не в том, чтобы исследовать,
покинул ли дух также Францию и Англию, не предосте¬
регать их от ежедневно возрастающей опасности измены
духу, но делать все это на моей собственной земле.)
Только на первый взгляд проблема Гёте на долгое время
ушла из моей жизни; вернее, она стала называться теперь
не «Гёте», но «война», а когда война кончилась, она стала
называться «Европа»: ведь и сегодня еще дело обстоит так,
что во всех странах Европы лишь ничтожное меньшинство
мыслящих людей точно уяснило себе проблемы и требова¬
ния момента, а что касается официального курса и полити¬
ки, то они все еще сражаются на краю бездны за пестрые
знамена умерших идеалов.
Была война, и на время показалось, что нет больше
никакого Гёте, тоща как его великая проблема — челове¬
ческая жизнь, руководимая духом, — вдруг стала единст¬
венной жгучей мировой проблемой. Мы, литераторы, в той
мере, в какой мы не были подкуплены или опьянены вой¬
ной, почувствовали необходимость ощутить основы собст¬
венной духовной жизни и шаг за шагом уяснить себе соб¬
ственную ответственность. Для моих духовных забот на¬
стала горячая пора. Но даже в разгар войны время от вре¬
мени случались встречи с Гёте, и бывало, что актуальный
конфликт внезапно вызывал к жизни его образ, который
вновь оказывался для меня символом. Та духовная и нрав¬
ственная проблема, превратившая в первый период войны
мою жизнь в непрестанную борьбу и муку, состояла во
внешне неразрешимом противоречии между духом и лю¬
бовью к отечеству. Если поверить тогдашним официаль¬
157
ным голосам, от великих ученых до газетных писак, то
дух (а точнее, истина и служение ей) является смертель¬
ным врагом патриотизма. Если человек желает быть пат¬
риотом, то, по общему суждению, ему не должно быть де¬
ла до истины, он ей ничем не обязан, она — игрушка и
химера; внутри же патриотизма дух разрешен лишь в тех
пределах, в каких его можно использовать для поддержки
пушек. Истина была роскошью, а ложь — разрешена и
похвальна во имя отечества и ради служения отечеству.
Как ни любил я Германию, я не мог принять эту мораль
патриотов, потому что дух не был для меня безразличным
орудием или боевым оружием и сам я не был ни генера¬
лом, ни канцлером, но состоял на службе духа. Вот тоща-
то в связи со всем этим жизнь снова свела меня с Гёте.
Патриоты, стремившиеся в тот момент использовать вся¬
кое достояние нации как боевое оружие, очень скоро убе¬
дились, что Гёте для этого абсолютно непригоден: он не
был националистом и даже не раз осмеливался высказы¬
вать своему народу неприятные истины. Поэтому с лета
1914 года акции Гёте сильно упали, а вместе с ним и ак¬
ции многих других добрых духов нации, и, чтобы запол¬
нить брешь (и^ «великие люди» нужны были для отвра¬
тительной «культурной пропаганды»), пришлось оживить
и разрекламировать другие имена, которые лучше подхо¬
дили для оправдания национализма и войны; самой ус¬
пешной из таких раскопок был Гегель.
Когда Ромен Роллан в одной из своих тогдашних статей
открыл во мне своего единомышленника и назвал мою по¬
зицию «гётевской»*, это слово оказалось для меня самым
проникновенным призывом: оно напомнило мне о Гёте, пу¬
теводной звезде моей юности, и укрепило меня во всем, что
было для меня свято, хотя одновременно я не мог не заме¬
тить, что название «гётевский» с официальной немецкой
точки зрения звучало почти как бранное слово.
И этот период миновал. Даже вызванный им сильней¬
ший перелом в нашей жизни не смог разлучить меня с Гёте,
сделать его для меня безразличным.
В чем же причина такого явления? Значит, в конечном
итоге Гёте есть нечто большее, чем просто писатель, потер¬
певший частичное поражение, нечто большее, чем просто
идеолог и даже чем просто гениальный виртуозный поэт?
Почему необходимо было постоянно к нему возвращаться,
158
несмотря н.а непрекращающийся спор с ним, несмотря на
то что в важных вещах ты совсем от него отошел?
Когда я пытаюсь до этого докопаться, перед моим мыс¬
ленным взором возникает н^вый Гёте, незнакомый, менее
четко обрисованный, почти совсем незримый и весьма та¬
инственный: Гёте-мудрец. Как ни ясно зрим для меня лю¬
бимый образ Гёте-поэта, как ни ясно представляю я себе
Гёте — литератора и учителя, за этими двумя фигурами,
как бы просвечивая сквозь них, маячит и другая фигура.
В этой, высшей для меня, гётевской ипостаси объединяют¬
ся противоречия, она не тождественна ни одностороннему
аполлоновскому классицизму, ни темному духу Фауста,
отправившемуся на поиски матерей; она как раз и суще¬
ствует в двухполюсности, обитая везде и нигде. Отдельные
высказывания и поэтические творения этого таинственно¬
го мудреца мы обнаруживаем в его позднем творчестве: в
стихах, на последних страницах «Фауста», в письмах, в
«Новелле»*. Но тот же умудренный, уже вполне безлич¬
ный Гёте — теперь, когда мы его знаем, — порой явст¬
венно глядит на нас из многих произведений и свиде¬
тельств его зрелой и юношеской поры. Он был всегда, он
только часто и подолгу скрывался. Он не имеет примет
времени, ибо всякая мудрость безвременна. Он безличен,
ибо всякая мудрость преодолевает личность.
Эта мудрость Гёте, которую сам он часто утаивал, ко¬
торая часто казалась ему самому утерянной, ускользнув¬
шей, — уже не мудрость бюргерства, не «буря и натиск»,
не классицизм или бидермайер, она даже уже не совсем
«гётевская», она дышит одним воздухом с мудростью
Древней Индии, Китая, Греции, она больше не воля и не
интеллект, но благочестие, благоговение, готовность к
служению: дао. Каждый истинный поэт несет в себе искру
этой мудрости, без нее невозможно ни искусство, ни рели¬
гия, и, конечно, она живет и в самом коротеньком стихо¬
творении Эйхендорфа, но в творчестве Гёте она иной раз
отчеканилась в таких магических словах, какие для нее
находятся не у каждого народа и не в каждом столетии.
Она выше всякой литературы. Она есть не что иное, как
обоготворение жизни, как благоговение перед жизнью, она
желает лишь служить ей, и у нее нет никаких притяза¬
ний, требований или прав. Это та самая мудрость, о кото¬
рой предания всех благородных народов знают, что она
была во времена великих властителей; но позже властите¬
159
ли и их слуги ей изменили, и возвращение к ней есть
единственный способ вновь примирить землю с небом.
Мне, который питает особую любовь к сочинениям
древних китайцев, сдается порой, что эта мудрость и у Гё¬
те носит китайские черты. Поэтому мне радостно знать,
что Гёте в самом деле не раз обращался к китайским мо¬
тивам и удивительный маленький стихотворный цикл, со¬
здание совсем старого Гёте (он относится к 1827 году),
озаглавлен «Китайско-немецкие времена года и дня». В
наших новых-литературах мы находим очень мало свиде¬
тельств этой древней мудрости. В Германии она вообще
редко выражалась в слове, Германия благочестивее, зрелее
и мудрее в музыке.
То, что Гёте благодаря своему поэтическому и писа¬
тельскому дару порой взмывал к этим высочайшим верши¬
нам, к этому покою над вихрями, как раз и привлекало
меня в нем и заставляло перечитывать вновь и вновь даже
иные сомнительные, неудачные его творения. Ибо нет бо¬
лее возвышенного зрелища, чем человек, который сумел
стать мудрецом и освободился от оков временного и лич¬
ного. И есчи мы знаем такого человека и верим, что он
этого достиг, он обретает для нас ни с чем не сравнимый
интерес. И когда мы начинаем отчаиваться во всякой вере,
во всякой мудрости, каким утешением может стать для
нас возможность следовать за мудрецом его путями и ви¬
деть, что и он порою был только человеком, слабым и не¬
совершенным.
По многим признакам я могу заключить, что немецкая
молодежь сегодня едва ли знает Гёте. Видимо, ее учите¬
лям все же удалось внушить к нему отвращение. Если бы
я руководил средней или высшей школой, я бы вообще за¬
претил чтение Гёте и разрешал знакомство с ним лишь в
качестве высшей награды самым лучшим, самым зрелым,
самым достойным. И тогда бы они с удивлением открыли,
с какой непосредственностью он ставит перед сегодняшним
читателем главный сегодняшний вопрос: вопрос о судьбе
Европы. И в своих поисках духа, который мог бы нас спа¬
сти, и в готовности, не боясь никаких жертв, служить это¬
му духу они не смогли бы найти себе лучшего вождя и
лучшего товарища, чем Гёте.
160
ЗА ЧТЕНИЕМ ОДНОГО РОМАНА
Недавно читал я роман, сочинение одного небесталан¬
ного, пользующегося определенной известностью автора,
добротное молодежное произведение, которое меня заин¬
тересовало и местами даже доставило мне удовольствие,
хотя говорилось в нем сплошь о вещах и людях, в дейст¬
вительности для меня почти безразличных. В нем говори¬
лось о людях, живущих в больших городах и увлеченно
занятых насыщением собственной жизни как можно боль¬
шим числом «впечатлений», удовольствий и острых ощу¬
щений, чтобы жизнь эта не стала бессмысленной, ненуж¬
ной, недостойной познания и рассказа о ней. Таких рома¬
нов много, и порою беру я один из них, чтобы просветить
себя, сельского и уединенно живущего человека, о жизни
своих современников, особенно тех, от которых, мне ка¬
жется, я оторван большими расстояниями; это совершенно
чужие мне люди, и, следовательно, их страсти и мнения
приобретают для меня очарование чуда, экзотики и непо¬
стижимости. Словом — я интересуюсь жизнью обитателей
больших городов и любителей удовольствий. К этим лю¬
дям я испытываю не только любопытство европейца к сло¬
нам и крокодилам, но и обоснованное, законное: ведь и
мне осталось небезызвестно, что большие города могут от¬
части влиять — да насколько порою сильно и ощутимо! —
на жизнь и самочувствие даже такого человека, как я, ти¬
хо существующего на своем сельском клочке земли! Ибо
именно там, в той сутолоке, в той лихорадочной атмосфе¬
ре, в той движимой инстинктами и потому непредсказуе¬
мой жизни решается: быть войне или миру, как изменится
рынок и курс валюты, — но решается не людьми, а мо¬
дой, биржей, настроениями, «улицей», «Жизнью» обитате¬
ли больших городов называют все то, что происходит поч¬
ти исключительно в названной сфере, и, кроме политики,
они понимают под нею также бизнес и общество, а под об¬
ществом в свою очередь — преимущественно ту область
собственной жизни, что посвящена погоне за острыми
ощущениями и удовольствиями. Большой город, инород¬
ной мне жизнью которого я не живу, определяет, однако,
кое-какие вещи, в известной степени важные и для меня.
Кроме того, я достаточно осведомлен, что ббльшая часть
читателей моих книг — это обитатели больших городов,
хотя пишу я и способен писать отнюдь не только для них,
6 S-258 161
ведь знаю я их очень издалека и то малое^ что вижу из
внешней их жизни, воспринимаю ничуть не серьезней,
чем собственный кошелек или нынешнюю форму правле¬
ния, то есть — почти что никак.
Но тем самым я не сужу о ценности ни большого города,
ни романов, о нем повествуюпщх. Хотя мне было бы на¬
много приятней и интересней читать произведения о более
значительных и более образцовых людях. Но я сам литера¬
тор и давно уже знаю, что писатели, «выбирающие» свой
материал, — не писатели и недостойны, чтобы их читали,
знаю, что материал произведения не подлежит ценностно¬
му суждению. Произведение может содержать великолеп¬
нейший исторический материал и ничего не стоить и, на¬
против — может рассказать о ерунде, о потерянной иголке
или пригоревшем супе, и при этом быть подлинной лите¬
ратурой.
Так что роман того автора читал я без особого благо¬
говения перед его материалом; благоговеть перед матери¬
алом должен сам автор, а не читатель. Читатель же обязан
с уважением относиться только к литературе, к тому, что
делает писатель, и, не обращая внимания на материал, су¬
дить лишь о качестве его обработки. К этому готов я всег¬
да и даже все больше и больше склоняюсь к тому, чтобы
добротность профессиональных умений ставить выше
идейных и эмоциональных содержаний. Ибо за несколько
десятилетий своей жизни и писательского труда я убедил¬
ся, что имитировать или подделать идеи и чувства можно
легко, а добротность профессиональной работы — никог¬
да. Итак, я читал роман с пониманием и коллегиальным
уважением, местами не все понимая, очень немногому
улыбаясь, многое честно признавая за заслугу. Герой кни¬
ги — молодой литератор, который делит со своими друзь¬
ями все удовольствия, что ему очень мешает заниматься
профессиональной деятельностью; кроме того, он вынуж¬
ден тратить время на женщин, чья влюбленность в него —
источник его доходов. К большому городу, обществу, жур¬
налистским сенсациям автор испытывает немалое отвра¬
щение, ибо чувствует, что именно они порождают бессер¬
дечность, всяческую эксплуатацию и войну. Но у его ге¬
роя не хватает характера как-нибудь порвать с этим ми¬
ром, и он бежит от него лишь по кругу — путешествуя,
непрерывно меняя одно удовольствие на другое, одну лю¬
бовь на другую.
162
Таков материал. Он влечет за собой необходимость
описывать, помимо прочего, рестораны, железнодорожные
вагоны, гостиницы, называть суммы, уплаченные по сче¬
там за ужин и тому подобное, и, вероятно» по-своему ин¬
тересны и эти вещи. Но вот я дошел до места,, которое ме¬
ня озадачило. Герой приезжает в Берлин, останавливается
в гостинице, а именно — в комнате под номером одиннад¬
цать. Читая это (как и каждую строчку — заинтересован¬
но и любознательно, потому что автор мой коллега), я ду¬
маю: «Зачем ему так точно называть номер комнаты?» Чи¬
таю дальше, убежденный, что число одиннадцать вскоре
обнаружит какой-то смысл, вероятно, даже ошеломляю¬
щий, замечательный, привлекательный. Но разочаровыва¬
юсь. Через две или три страницы герой возвращается в
свою гостиницу, и вдруг оказывается, что живет он в две¬
надцатом номере! Листаю назад, я не ошибся, там напи¬
сано одиннадцать, а здесь двенадцать. И нет в этом нн
шутки, ни игры, ни интереса, ни тайны; просто оплош¬
ность, недобросовестность, небольшой ремесленный ляп.
Один раз автор написал «двенадцать», а другой раз —
«одиннадцать»; он, очевидно, не перечитал написанное,
как, наверное, не читал и корректуры или читал ее так же
равнодушно и небрежно, как писал те цифры: ведь дело не
в мелочах, ведь литература, черт пс^ерв» не школа, где
спрашивают строго за все оговорки и описке, ведь жизнь
так к(^)отка, а большой город требует напряжения» и мо¬
лодому автору в нем некогда работать. Все это так; и, как
и прежде, честь и хвала автору за его неприятие безответ-
ственн1лх газетных сенсаций, поверхностности и безразли¬
чия, которые так характерны для жизни большого города!
Но с момента, как я наткнулся на этот разнобой в цифрах,
доверие к автору у меня упало» я начал вдруг во всем со¬
мневаться и читать сверхпридирчиво; такие же небрежно¬
сти, как и с цифрой «двенадцать»» я обнаружил и в других
местах, открыл их по памяти и в том» что еще позавчера
читал я с доверием. И внезапно вся книга стала утрачи¬
вать внутреннюю весомость, основательность, подлин¬
ность и субстанциальность, а все из-за этой дурацкой
цифры «двенадцать». Внезапно у меня возникло чувство,
что эта милая книжка написана жителем большого города
для жителей большого города, то есть для одного дня» для
одного мгновения, что автор относится к ней не очень-то
всерьез, а следовательно, и его страдания по поводу бес¬
сердечности и поверхностности жизни большого города не
6* 163
серьезнее, чем сочное происшествие для какого-нибудь
очеркиста.
Размышляя над этим, я вспомнил о столь же малень¬
ком казусе, случившемся при чтении одной книги уже
много лет назад. Молодой автор, уже довольно известный,
прислал мне свой роман с просьбой, чтобы я о нем выска¬
зался. Помимо прочего, в романе говорилось об очень за¬
сушливом лете и жаре: земля изнемогала, крестьяне были
в отчаянии, урожай горел на корню, пожухла вся трава.
Но через несколько страниц герой или героиня, я уже не
помню, тем же самым летом идет по той же земле и на¬
слаждается веселыми цветами, пышно цветущими злака¬
ми! Я написал автору, что эта забывчивость и небреж¬
ность испортила мне чтение всей книги. А он отказался
даже говорить со мною об этом: жизнь слишком коротка,
он давно уже был занят другими работами, которые тоже
торопили. Он только ответил, что я мелочный педант, что
в художественном произведении важны не такие пустяки,
а совсем другие вещи. Я пожалел, что высказался, и с тех
пор таких писем не писал. Чтобы в художественном про¬
изведении, именно в художественном, были неважны
правда, достоверность, детальность, тщательность?! Как
хорошо, что и поныне есть молодые писатели, которые
изображают достоверно и пустяки, тщательно преподнося
их с грациозной легкостью, сродни той, которой искусство
акробатики добивается дисциплинированным и добросове¬
стным трудом.
Пусть я буду занудой и старомодным донкихотом ху¬
дожнической морали. Но разве не знаем мы, что девяносто
процентов всех книг пишется на скорую руку, без чувства
ответственности, что послезавтра вся напечатанная бумага,
включая и мои занудства, станет макулатурой? Зачем же
тогда так серьезно относиться к мелочам? И зачем тогда
автору, пишущему интересные книги-однодневки, предъяв¬
лять претензии, читая его так, словно писал он для вечно¬
сти?
И все-таки я не могу изменить свое мнение. Серьезное
отношение к большим вещам и естественно несерьезное к
малым — начало всякого упадка; С того, что, высоко по¬
читая человечество, мучат отдельных людей, ему служа¬
щих, с того, что, считая священными свое отечество, цер¬
ковь или партию, при этом плохо, халтурно выполняют
будничную работу, и начинается всякая коррупция. Про¬
164
тив нее есть единственное спасительное средство: прежде
всего в себе самом, а потом и в д^л'гих, отвлечься от так
называемых высоких и святых вещей — от умонастрое¬
ний, мировоззрений, патриотизма — и со всей серьезно¬
стью отнестись к малым и очень малым, сиюминутным де¬
лам. Кто отдает в починку велосипед или плиту, требует
от мастера не любви к человечеству, не веры в величие
Германии, а добросовестной работы и совершенно справед¬
ливо судит о человеке по ней, и только по ней. Почему же
работа только потому, что она называется художествен¬
ным творчеством, не должна быть тщательной и добросо¬
вестной? И почему «маленькие» профессиональные огрехи
должны мы прощать ради масштабной идеологии? Нет, да-
вайте-ка посмотрим на обратную сторону медали. Ведь что
все эти большие размахи, идеология и программы, как не
медали, которые при переворачивании ошеломляют нас
порою лишь тем, что оказываются из картона?
ЛЮБИМЫЕ КНИГИ
Бессчетно много раз мне задавали вопрос: «Что больше
всего вы любите читать?»
Человеку, любящему всю мировую литературу, отве¬
тить на такой вопрос трудно. Я прочел несколько десятков
тысяч книг, некоторые не раз, некоторые по многу раз, и
принципиально против исключения из моей библиотеки,
из круга моих симпатий и интересов каких-то литератур,
направлений или авторов. И все-таки вопрос справедли¬
вый, и ответить на него в какой-то мере можно. Каким бы
благодарным едоком ни был человек, с каким бы удоволь¬
ствием ни принимал он все, от черного хлеба до спинки
косули, от моркови до форели, у него есть все-таки три-
четыре любимых блюда. И если, говоря о музыке, человек
прежде всего имеет в виду Баха, Генделя и Глюка, то это
не означает, что он пренебрегает Шубертом или Стравин¬
ским. Так и я, если сосредоточиться, во всякой литературе
обнаруживаю области, эпохи и тональности, которые мне
ближе и дороже, чем другие. У греков, например, Гомер
мне ближе, чем трагики, Геродот ближе, чем Фукидид.
Самому себе я должен признаться и в том, что мое отно¬
шение к писателям патетического склада не совсем есте¬
ственное — читая их, я совершаю над собой какое-то на¬
165
силие; я их, в сущности, не люблю, и мое глубокое ува¬
жение к ним не свободно от принуждения, идет ли речь о
Данте или Геббеле, Шиллере или Стефане Георге.
Область всемирной литературы, которую за свою
жизнь посещал я чаще всего и знаю, наверно, лучше ос¬
тальных, — это кажущаяся ныне бесконечно далекой,
ставшая чуть ли не преданием Германии столетнего пери¬
ода между 1750 и 1850 годами, чье средоточие и верши¬
на — Гёте. В эту область, где я застрахован и от разоча¬
рований, и от сюрпризов, я неизменно возвращаюсь из по¬
ходов в самые отдаленные места и времена, возвращаюсь
к писателям, эпистоликам и биографам, которые все до
одного замечательные гуманисты и, однако, почти все пе¬
редают дух родной земли, родного народа. Особенно же,
конечно, непосредственно восприятие у меня книг, в кото¬
рых места, обитатели и язык мне хорошо знакомы и в ко¬
торых я с детства чувствую себя дома; при чтении их я ис¬
пытываю ни с чем не сравнимое счастье от понимания
тончайших нюансов, сокровеннейших наигрышей, тишай¬
ших созвучий; возвращение от них к книгам переводным
или таким, чьи язык и музыкальность вообще не органич¬
ны, не подлинны и не естественны, всякий раз заставляет
меня собраться с духом и испытать небольшое мучение.
Счастье доставляет мне прежде всего немецкий язык юго-
западной части Германии, алеманский и швабский, доста¬
точно назвать только Мёрике и Гебеля, но ликование ох¬
ватывает меня и тогда, когда я читаю почти всех немец¬
ких и швейцарских писателей благословенных времен —
от молодого Гёте до Штифтера*, от «Юности Генриха
Штиллинга» до Иммермана* и Дросте-Хюльсхофф, и в
том, что большинство этих великолепных и милых сердцу
моему книг имеются ныне лишь в очень немногих библи¬
отеках, публичных или частных, я усматриваю неприят¬
нейшие и отвратительнейшие симптомы нашей ужасной
эпохи.
Но чувство родины, родной земли и родного языка —
это еще не все, даже в литературе; помимо них есть также
и человечество и есть неизменно удивительная и отрадная
возможность открывать для себя родину в самых отдален¬
ных и самых чужих областях, полюбить вещи, на первый
взгляд самые герметичные и недоступные, сродниться с
ними. В первой половине жизни это случилось у меня со
свидетельствами сначала индийского, а затем и китайского
духа. С Индией все понятно, к ней у меня были ходы и
166
предрасположенность, мои родители жили в Индии, знали
ее языки и кое-что вкусили от ее духа. Но то, что суще¬
ствует чудесная китайская литература, китайская разно¬
видность человеческого бытия и человеческого духа, что
она станет для меня не только любимой и дорогой, но и
многим больше того — духовным прибежищем и второй
родиной, до своих тридцати лет я не подозревал. Но потом
случилось неожиданное: я, не знавший о литературном
Китае ничего, кроме «Шицзин» в переложении Рюккерта*,
благодаря переводам Рихарда Вильгельма и других узнал
такое, без чего не смог уже жить — китайский даосский*
идеал мудрости и доброты. Поверх двух с половиной ты¬
сячелетий мне, не знающему ни слова по-китайски и ни¬
когда не бывавшему в Китае, выпало счастье обрести в
древнекитайской литературе подтверждение своих пред¬
чувствий, иную духовную атмосферу и родину наряду с
теми, которыми я обладал в мире, заданном мне рождени¬
ем и языком. Китайские учителя и мудрецы, о которых
поведали великолепные Чжуан-цзы, Ле-цзы* и Мэн Кэ*,
оказались прямой противоположностью патетиков, на диво
безыскусными, близкими к народу и повседневному быту;
они никому не давали сбить себя с толку и, радуясь жизни
в добровольной изоляции и довольстве малым, умели вы¬
ражать себя так, что вновь и вновь очаровываешься и во¬
сторгаешься их словом. Кун Фу-цзы, великого антагониста
Лао-цзы, систематика и моралиста, законодателя и храни¬
теля нравственности, единственного из мудрецов древно¬
сти, в котором есть что-то торжественное, характеризуют,
например, порою так: «Разве это не тот человек, который
знает, что ничего не выйдет из того, что он делает, и все-
таки делает?» Ни в одной литературе я не знаю аналога
этой невозмутимости, юмора и простоты. Это изречение,
равно как и другие высказывания, я вспоминаю порою,
размышляя и о событиях в мире, и по поводу притязаний
тех, кто в ближайшие годы и десятилетия собираются сде¬
лать мир совершенным и управлять им. Они поступают
как великий Кун-цзы, но за их делами не кроется знание
того, «что ничего не выйдет».
Не могу не упомянуть и японцев, хотя они занимали
и питали меня далеко не так обильно, как китайцы. Но
в Японии, которая, подобно Германии, знакома нам те¬
перь как исключительно милитаристская страна, на про¬
тяжении многих столетий имелось, как имеется и сейчас,
167
нечто великолепное и вместе с тем смешное, нечто очень
одухотворенное и при этом очень решительное, как, на¬
пример, направленное на сугубо практическую жизнь уче¬
ние «дзэн»*, в формировании которого принимали участие
буддистская Индия и буддистский Китай, но которое по-
настоящему расцвело только в Японии. Я считаю «дзэн»
одним из лучших достояний, какими когда-либо обладали
народы, это мудрость и практика на уровне Будды и Лао-
цзы* И кроме того, я наслаждался чарами японской лири¬
ки, хотя и с большими перерывами, прежде всего — ее
стремлением к внешней простоте и краткости. От япон¬
ской поэзии невозможно сразу же перейти к чтению со¬
временной немецкой лирики; наши стихи кажутся непо¬
мерно раздутыми и жеманными. У японцев есть, к приме¬
ру, такое чудесное изобретение, как стихотворная форма
из семнадцати слогов, и они всегда знали, что искусство
состоит не в облегчении творческой задачи, а наоборот —
в ее усложнении. Так, один японский поэт написал однаж¬
ды стихотворение из двух строк, в котором говорится, что
в заснеженном лесу расцвели несколько сливовых веток!
Это стихотворение автор дал прочесть знатоку, и тот ска¬
зал, что «совершенно достаточно одной-единственной сли¬
вовой ветки». Поэт понял не только правоту суждения, но
и то, как далек он еще от подлинной простоты, и, после¬
довав совету друга, сделал свое стихотворение бессмерт¬
ным.
Иногда просто смешно наблюдать перепроизводство
книг в нашей маленькой стране. Но будь я помоложе и поз¬
доровее, то сегодня не занимался бы ничем, кроме издания
и печатания книг. Эту работу по обеспечению непрерывно¬
сти духовной жизни мы не должны откладывать до той по¬
ры, пока воевавшие страны не придут в себя, но не должны
рассматривать ее и как краткосрочный конъюнктурный
бизнес, в котором не обязательно быть слишком добросове¬
стным. Поспешные и плохие новые издания угрожают все¬
мирной литературе опасностью не меньшей, чем война и ее
последствия.
СЛОВО в ПЕРВЫЙ ЧАС 1946 ГОДА
Дорогие друзья! Новый год встречает нас неведомыми
обещаниями и угрозами, и, хотя сегодняшний полуночный
час значит не больше, чем любой другой час нашей жизни,
168
мы отмечаем его все же как праздник, и праздник серьез¬
ный, и это хорошо, ибо любая возможность, любой повод
уйти-на час от обыденности и как бы задуматься, взглянуть
назад и вперед, проверить других и себя, свести счеты, со¬
браться с мыслями — это в нашей беспокойной и обеднен¬
ной жизни благодеяние. Одно уже раздумье о ходе времени,
о бренности нашей жизни и наших дел, грустное или от¬
важно радостное, означает некое очищение и испытание,
звучит в сумятице наших дней ясно и неумолимо, как ка¬
мертон, и показывает нам, насколько отступили мы внут¬
ренне от чистой настройки, от нашего места в мировой гар¬
монии. Хорошо время от времени прислушиваться к этому
камертону. Хорошо даже тоща, когда это посрамляет нас и
бьет по нашему самолюбию.
А на сей раз, думается, новый, желанный, еще такой
незапятнанный год есть нечто совершенно особенное и
важное. После долгих лет кровопролития и уничтожения
пришла к нам первая новогодняя ночь, когда нет войны,
когда мир вокруг нас перестал быть полным адских мук
и смертей, а над нами не гремят в темноте, стремясь к
своим злосчастным целям, гигантские машины уничто¬
жения. Пусть мы еще не осмеливаемся произносить сло¬
во «мир», пусть мы полны недоверия к этой еще непри¬
вычной тишине в воздухе, но и это недоверие, и эта тре¬
вога за хрупкость и зыбкость данного и всякого мира мо¬
гут помочь и помогут нам принести жертву прекрасному
и страшному часу, задумчиво взглянуть на мир и на са¬
мих себя.
Снова привыкли мы за несколько лет жить не обычны¬
ми, частными годами, не просто человеческим временем и
человеческой жизнью, а «мировой историей», и снова, как
после всех так называемых великих эпох, вызывает у нас
эта мировая история великое омерзение. Как чудесно, как
многообещающе звучали для нас слова «мировая история»,
когда мы были еще школьниками или юнцами, как часто
мечтали мы, дети, стать и впрямь свидетелями, а то и уча¬
стниками этой замечательной мировой ^истории, которую
мы знали только по книгам и картинам! Ах, никто из нас
больше не мечтает об этом! Мы с горечью узнали, что на¬
стоящая мировая история — не такая, как в учебниках и
роскошных иллюстрированных изданиях, что это не жем¬
чужная нить великих подвигов, а поток, океан великих
страданий. Как осточертело нам все великое, что годами
обрушивали на нас ежедневно мировые известия, великое
169
время, величайшие морские, наземные и воздушные сра¬
жения всех веков, вся эта причудливая и страшная свисто¬
пляска рекордов ужаса!
Но с мировой историей дело обстоит не иначе, чем с
жизнью и родом человеческим вообще. Подобно тому, как
мы научились считать лучшими эпохами мировой истории
те, когда меньше всего замечаешь мировую историю, каж¬
дый из нас и в своей частной жизни постепенно научился
предпочитать тихие и гармоничные полосы бурным, при- •
чем мера, которой мы мерим и по которой судим, идет не
от какой-то там философии, а просто от нашего хорошего
самочувствия. Это негероично и банально, но в этом кое-
что есть, это хотя бы искренне.
Выходит, наша жизнь светлее всего, когда в ней случа¬
ется как можно меньше событий, а мир счастливей всего,
когда у него нет никакой истории, а есть только бытие? От
этой мысли мы уже снова отшатываемся, она кажется очень
уж убогой и пошлой, она для нас все-таки неприемлема. И
тут из давно заброшенных кладовых памяти нам приходят
на ум всякие мудрые слова и стихи, например слова Гёте,
что нет ничего несноснее, чем череда хороших дней. Ах, а
мы ведь так жаждем хороших дней! Но мудрость тем не
менее остается права: человек полон стремления к сча¬
стью — и все-таки не выносит счастья долго. Так бывает в
жизни отдельного человека: счастье утомляет его, делает
вялым, вообще перестает быть счастьем через какое-то вре¬
мя! Это прекрасный, милый, но очень недолговечный цве¬
ток — счастье. Может быть, и в мировой истории дело об¬
стоит так же, и малое число, и краткие сроки эпох, которые
кажутся нам хорошо темперированными и завидными, надо
покупать бедствиями, потоками крови и слез мировой ис¬
тории.
Но чего же тогда, собственно, и желать нам, если есть
только выбор между адом героической и мелкостью лишен¬
ной истории жизни?
Мы долго размышляли бы об этом и в итоге не нашли
бы никакого ответа, если бы нас не осенило, что вопрос,
чего нам надо желать, поставлен неверно, что это совер¬
шенно бесполезный, просто детский вопрос. Долгий грохот
войны сделал нас, по-видимому, немного ребячливыми,
немного ребячливыми и примитивными, мы довольно дав¬
но забыли почти все, что нашли и чему учили великие
учителя человечества. Ведь они учат одному и тому же ве¬
ками, и любой теолог, да и любой гуманитарно образован¬
но
ный человек может сказать нам это самыми ясными сло¬
вами, независимо от того, склоняется ли он больше к Со¬
крату или к Лао-цзы, больше к невозмутимо улыбающе¬
муся Будде или к Спасителю в терновом венце. Все они,
да и вообще всякий знающий, всякий пробудившийся и
просветленный, всякий истинный знаток и учитель рода
человеческого, учили одному и тому же, а именно: что че¬
ловек не должен желать себе ни величия, ни счастья, ни
героизма, ни сладких плодов, что он вообще ничего не
должен желать себе, ничего, кроме чистого, чуткого ума,
храброго сердца, а также верности и мудрости терпения,
чтобы благодаря им выносить и счастье, и страдание, и
шум, и тишину.
Этих благ мы и пожелаем себе. У всех у них одно и то
же происхождение. Они — от Бога, они — не что иное, как
искра Божья в нас. Мы чувствуем эту искру не каждый
день, мы часто подолгу не чувствуем ее вовсе и забываем
о ней, но одно-единственное мгновение может вдруг снова
подарить нам ее, порой мгновение ужаса и отчаяния, порой
мгновение блаженнейшей тишины: когда мы заглядываем
в тайну чашечки цветка, слышим какие-то такты музыки,
когда к нам устремлен доверчивый взгляд ребенка. В эти
мгновения, мгновей^ ^льшой беды и мгновения глубо¬
чайшей отзывчивости, каждый из нас знает, даже если и
не может выразить это словами, тайну всякого знания и
всякого счастья, тайну единства. Что один Бог живет в каж¬
дом из нас, что каждое место на земле — отечество нам,
каждый человек — родственник нам и брат, что знание
этого божественного единства разоблачает всякое деление
на расы, народы, на богатых и бедных, на вероисповедания
и партии как призрак и обман — вот точка, к которой мы
возвращаемся, когда страшная беда или великая нежность
открывает наш слух и делает наше сердце способным к
любви.
Пожелаем этого внутреннего мира себе и всем: тем, кто
в этот час ложится в постель в своем надежном доме, и тем,
кто без дома и без постели мыкает горе. Мы желаем его
победителям, чтобы победа не сделала их гордыми и сие-
пыми, и побежденным, чтобы они не кляли и не накликали
на чужие головы постигшего их горя, а были готовы выне¬
сти его и услышать в нем голос Бога.
Долго жить в таком мире и в таком добром, простом
знании мы, за исключением разве что редких святых, не
способны, мы все это знаем и сотни раз стыдились этого.
171
Но если уж мы знаем, что путь к более высокому и более
благородному человечеству проходит единственно через
эту школу, через все повторяющееся ощущение единства,
через все обновляющееся понимание простой истины, что
мы, люди, братья и происхождение наше божественно, ес¬
ли уж мы были однажды воистину пробуждены и ранены
этой молнией, то мы не можем совсем уснуть снова и це¬
ликом погрузиться в горячечный сон того состояния духа,
из которого выходят войны, расовые преследования и бра¬
тоубийственные сражения между людьми.
Год за годом мы были свидетелями ужасного, часто не¬
выносимого, а другие, менее привилегированные, чем мы,
претерпели это со всеми физическими и душевными мука¬
ми, претерпевают повсюду еще и поныне — и тут, среди
крови и слез, многие отрешились от тех мнений и катего¬
рий, с помощью которых средний человек приводит в по¬
рядок мир в спокойные времена, многие пробудились, у
многих заговорила совесть, многие дали обет: если я это
переживу, я стану другим и лучше. Это сегодня, как всег¬
да, hominis bonae voluntatis, люди доброй воли, им явил
себя Бог, им приоткрылась тайна мира, только им, а не
каким-то нациям, сословиям, союзам или организациям
доверено будущее, только они обладают тайной силой
веры.
Однажды бессонной ночью, не в силах уснуть под впе¬
чатлением сотворенных при Гитлере злодеяний, я написал
стихотворение, в котором наперекор ужасу попытался вы¬
разить свою веру. Последние строки этого стихотворения
таковы:
Путь любви даже в распре горькой
Нам, заблудшим братьям, не заказан.
И не тяжба, не злость,
А любовь и терпенье.
Терпенье в любви
Нас к святой приближает цели.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ
«ВОИНЫ И МИРА» 1946 ГОДА
Составление этой книга не было для автора отрадной
работой, такой, которая будит приятные воспоминания и
оживляет любимые картины. Напротив, каждая отдельная
статья жгуче напоминала мне времена страданий, борьбы,
172
обособленности, вражды и непонимания, горького отреше¬
ния от приятных идеалов и приятных привычек. Поэтому,
чтобы противопоставить этим призракам, которые сегодня
более, чем когда-либо, уродливы и актуальны, что-то
светлое, я оживил в посвящении этой книги благородный
образ одного любимого друга и с ним то единственно пре¬
красное и долговечное, что принесли мне когда-то борения
и муки. Я забыл многое из тех удручающих дней 1914 го¬
да, когда возникла самая ранняя из этих статей, но не тот
день, когда ко мне, как единственный сочувственный от¬
клик на эту статью, пришло письмо от Ромена Роллана
одновременно с сообщением об его новой книге. У меня
оказался попутчик, единомышленник, который, как и я,
отшатнулся от кровавого безумия войны и военного пси¬
хоза и восстал против них, и это был не кто-нибудь, а че¬
ловек, которого я высоко ценил как автора первых томов
«Жана Кристофа» (других его произведений я тогда еще
не знал) и который сильно превосходил меня политиче¬
ской выучкой и сознательностью. Мы остались друзьями
до его смерти. Мы жили территориально слишком далеко
друг от друга и выросли в слишком разных традициях
культуры и мысли, чтобы я смог стать его последователем
и многому научиться у него в политическом отношении.
Но это и не было важно. Я уже начал свой политический
путь — очень поздно, почти в сорок лет, пробужденный и
растормошенный ужасной реальностью войны, глубоко по¬
раженный легкостью, с какой мои прежние товарищи и
друзья отдавались во власть Молоха, я уже изведал не¬
сколько первых потерь в кругу друзей и несколько первых
нападок, угроз и поношений, с которыми в так называе¬
мые великие времена конформисты неизменно набрасыва¬
ются на индивидуалистов. Было неясно, вьщержу ли я, не
погибну ли от конфликта, превратившего в ад мою дотоле
довольно счастливую и не по заслугам успешную жизнь.
Было благом, было спасением и счастьем знать, что есть
кто-то, кто во «вражеском», французском лагере выступил
с тем же протестом совести против требования покориться
и участвовать в оргиях ненависти и больного национализ¬
ма. Ни в годы войны, ни потом я никогда, собственно, не
вел политических разговоров с Ролланом, но все же я не
знаю, сумел ли бы я выстоять в те годы без его товари¬
щеской близости. Об этом необходимо было упомянуть
здесь.
173
Об истории этой книги надо сказать следующее. Боль¬
шинство заметок о войне 1914 года было опубликовано
тогда в «Нойе цюрхер цайтунг». Я был тогда (и оставался
до 1923 года) германским подданным. С тех пор мне, по
сути, так и не простили в Германии, что я когда-то кри¬
тиковал патриотизм и воинственность, и, хотя тогда, как
и сегодня снова, непосредственно после проигранной вой¬
ны^ определенный слой в Германии был настроен очень
мирно и очень интернационально и всячески откликался
на мои мысли, недоверие ко мне не исчезло, и задолго до
первых успехов национал-социализма я для официаль¬
ной Германии принадлежал к безусловно подозритель¬
ным, с грехом пополам терпимым, нежелательнь»!, в сущ¬
ности, элементам. Затем, во времена своего владычест¬
ва, гитлеровская партия с удовольствием отомстила мо¬
им книгам, моему имени, моему бедному берлинскому
издателю.
Кто прочтет оглавление моей книги, увидит, что «по¬
литические», или злободневные, заметки я писал лишь в
определенные годы. Однако из этого, не надо делать вывод,
будто в промежутках я опять засыпал и предоставлял ми¬
ровой истории идти своим чередом. Это мне, к великому
моему сожалению, после первого страшного пробуждения
во время первой мировой войны никогда больше не удава¬
лось. И кто займется всей совокупностью сделанного мною
за жизнь, тот быстро заметит, что и в те годы, которые не
дали статей на злобу дня, мысль о тлеющей у нас под но¬
гами преисподней,, чувство грозной близости катастроф и
войн никогда не покидали меня. От «Степного волка», ко¬
торый среди прочего был тревожным предостережением от
завтрашней войны и который соответственно бранили или
высмеивали, до такого с виду далекого от времени и от ре¬
альности мира образов «Игры в бисер» читатель то и дело
натыкается на это, да и в стихах эта нота слышится снова
и снова.
Когда я называю свои статьи «политическими», я всегда
беру это слово в кавычки, ибо политического в них нет ни¬
чего, кроме атмосферы, в какой они возникали. В осталь¬
ном они — прямая противоположность политическому, ибо
все эти заметки пытаются подвести читателя не к мировой
арене и ее политическим проблемам, а к его собственному
внутреннему миру, к его личной совести. В этом я отнюдь
не един с политиками любых направлений и всегда оста¬
нусь неисправим в том отношении, что признаю в отдель¬
174
ном человеке, в его душе области, для политических по¬
буждений и форм недостижимые. Я индивидуалист и счи¬
таю христианское благоговение перед каждой человеческой
душой самым лучшим и самым святым в христианстве. Воз¬
можно, что поэтому я принадлежу к паяувымершему уже
миру, что возникает, а кое-где уже и возник коллективный
человек без одиночной души, который кладет конец всей
религиозной, а также индивидуалистической традиции че¬
ловечества. Желать этсао или бояться этого — не мое дело.
Мне пришлесь-служить ботам, которых я признавал живы¬
ми и способными помочь, и я пытался служить им и то1!ца,
когда в ответ это вызывало вражду или насмешки. Путь,
которым мне приходилось идти между требованиями мира
и требованиями собственной души, не был ни красив, ни
удобен, мне не хотелось бы идти им еще раз, и кончается
он печально и большими разочарованиями. Но я доволен,
что после первого пробуждения я в отличие от большинства
моих коллег и критиков не был способен через 1зждые не¬
сколько лет переучиваться и переходить от одного знамени
к другому.
Мое поведение, моя нравственная реакция на всякое
большое политическое событие определялись после того
первого пробуждения тридцать лет назад всегда инстинк¬
тивно и совершенно непроизвольно, мои суждения никогда
не колебались. Поскольку я человек весьма аполитичный,
меня самого удивляла эта надежность реакций, и я часто
размышлял об источниках, из которых вытекал этот нрав¬
ственный инстинкт, о воспитателях и учителях, которые,
хотя я никогда систематически не интересовался полити¬
кой, сформировали меня таким образом, что я всегда бы¬
вал уверен в своем суждении и обладал повышенной со¬
противляемостью массовым психозам и духовной заразе
всякого рода. Надо признавать себя частицей того, что те¬
бя воспитало, с^рмировало, определило, и поэтому, по¬
размыслив, я должен сказать: было три сильных, действо¬
вавших всю жизнь влияния, которые так воспитали меня.
Это был христианский и почти совсем не националистиче¬
ский дух моего отчего дома, это было чтение великих ки¬
тайцев, и это было не в последнюю очередь влияние един¬
ственного историка, к которому я когда-либо был привя¬
зан доверием, почтением и благодарным ученичеством, —
Якоба Буркхардта*.
175
письмо к АДЕЛИ*
Дорогая Адис!
Вот я опять сажусь писать тебе — и ради тебя, и ради
себя, ведь ты больна, а у меня, при моем одиночестве здесь,
на нашем холме, одиночестве, какого ты не можешь и пред¬
ставить себе, тоже все Bp^su возникает потребность пого¬
ворить с человеком, довериться человеку, относительно ко¬
торого я уверен, что он не поймет меня превратно и не зло¬
употребит моей откровенностью. Конечно, я живу не один,
у меня есть Нинон, верный товарищ, но день иногда тянет¬
ся долго, а она, как все домашние хозяйки, перегружена, а
по вечерам я и так докучаю ей игрой в шахматы и чтением
вслух.
Поэтому я сегодня утром решил написать тебе, послать
привет и напомнить старые времена. Но это не так-то лег¬
ко. У меня ведь опять нет никаких сведений о тебе; знаю
только, что живется тебе плохо, что ты нуждаешься в таком
уходе, который у вас невозможен, я не знаю даже, жива ли
ты еще, сестричка, а если бы и знал, то все равно я могу
представить себе тебя, но не могу представить себе твою
жизнь, твою квартиру, твою комнату, твой день. У тебя еще
есть квартира, это у вас считается уже великим счастьем,
но квартира эта битком набита людьми и подвергается на¬
пору гостей, и как вы там вместе живете, о чем говорите,
что думаете, всего этого мы здесь не представляем себе —
ни в^ших забот, ни ваших радостей, которые тоже ведь, на¬
верно, случаются, все это происходит в бесконечно дале¬
кой, чужой, темной стране, чуть ли не на другой планете,
где забота и радость, день и ночь, жизнь и смерть подчине¬
ны иным, чем у нас, правилам, имеют иные, чем у нас,
формы и смысл. Это происходит там, в мифической Герма¬
нии, которой мы до недавних пор боялись из-за ее агрес¬
сивной жестокости и боимся сегодня, как боятся умираю¬
щего или умершего перед нашей дверью соседа: он внзпшает
нам ужас, приносит с собой неведомые страшные болезни
и в своей смерти не менее жуток нам, чем бал при жизни.
Я ничего не знаю о делах, в которых и с которыми ты жи¬
вешь, об одежде, которую ты носишь, о скатерти на твоем
столе, о твоих чашках и тарелках; не знаю, сколь близко
от твоих окон начинается этот ужас — разрушенные дома,
развороченные улицы и сады, не знаю, насколько этот ужас
и эта печаль входят в вашу каждодневную жизнь, насколь¬
ко они зарубцевались и заглохли под порослью нового.
176
и, я уверен, подобно тому, как мы не представляем себе
вашей жизни, вы вряд ли способны вообразить нашу. Мо¬
жет быть, вы представляете ее себе такой, какой она была
до войны или даже до Гитлера, ведь нас беда миновала, мы,
говорят, ничего не испытали, ничего не потеряли, не при¬
несли никаких жертв, нам, жителям маленькой нейтраль¬
ной страны, на ваш взгляд и на взгляд победителей, выпало
незаслуженное счастье: мы нисколько не пострадали, у нас
были и есть крыша над головой и каждый день миска супа.
Думая о моей деревне и о моем доме, ты видишь, наверно,
островок мира, маленький рай, а мы кажемся себе обеднев¬
шими, опустившимися, обманутыми в своих лучших на¬
деждах. Один из наших германских друзей не может, по¬
лемизируя со статьей в швейцарской печати, удержаться от
таких слов, как «обожравшиеся пряниками», а один знаме¬
нитый перевоспитатель вашего народа* сообщил мне, что
такой человек, как я, который во время гитлеровщины и
войны спокойно жил себе в солнечном Тессине, не имеет
права голоса в сегодняшней Германии. Мне-то это может
быть безразлично, поскольку я никогда не притязал и не
буду притязать на право голоса в сегодняшней Германии;
но это показывает, как видит нас мир. Мы сидели себе в
солнечном Тессине и «обжирались пряниками», вот как
просто можно увидеть и сформулировать то сложное, что
пережили мы за эти годы. Что наши сыновья год за годом
несли солдатскую службу, несли ее и тоща уже, когда Аме¬
рика отнюдь не торопилась сделать военные выводы из сво¬
его возмущения Гитлером; что из-за Гитлера и авиабомб
погиб весь труд моей жизни, а родные и близкие моей жены
задушены газом в гиммлеровских лагерях — это для лю¬
дей, ожесточенных войной и всякого рода горем, не стоит
и упоминания. Короче, откуда ни взглянешь, везде между
нами и тем, что находится за нашей границей, зияет про¬
пасть отчужденности, непонимания и, конечно, обоюдного
нежелания понимать.
Чтобы навести мост через эту отвратительную пропасть
и обратиться к тебе без скованности и без маски, я должен
повернуться спиной ко всему нынешнему и обратиться к
нашим общим ценностям и воспоминаниям. Тогда все сразу
становится на свои места. Тогда ты Адис, а я Герман, я не
швейцарец, ты не немка и между нами нет никакого Гит¬
лера, и если ты не можешь представить себе моей сегод¬
няшней жизни, а я не могу представить себе твоей, то стоит
лишь нам в царстве наших бесчисленных воспоминаний на¬
177
звать имя какого-нибудь родственнижа, какого-нибудь со¬
седа, какой-иибуда портнихи, какой-нибудь служанки,
произнести назшшие какой-нибудь улочки, какого-шгбудь
ручья, какой-нибудь ршцицы — и образы эти сразу же
встанут перед нами как живые, излучая такой покой, та¬
кую красоту и первозданную силу, до которых уже далеко,
расплывчатым и сумбурным образам нашей позднейшей
жизни.
Дойдет ли до тебя мое письмо или нет, я теперь пере-
шагаул пропасть, отбросил отчужденность и хочу погово¬
рить часок с тобой^ напомнить тебе м себе тот шср образов,
который кажется таким невозвратимо далеким и все же мо¬
жет быть воскрешен, ожить и засиять в полную шлу. Если
мне и нелегко найти тебя в твоей теперешней Германии, в
твоей нынешней кваргаре и теперешней домашней обста¬
новке, то я сразу и полностью нахожу т^, вспомнив д(ш
на Мюллервег в Базеле и каштан в саду, или наш старый
дом в Кальве, где можно было подняться по лестницам на
несколько этажей и затем на самом верху, под крышей,
выйти прямо в поднимавшийся на гору сад, или дорогу в
Метлинген, с которыгм наш дом и наша жизнь были со вре¬
мен доктора Барта* и знаменитого Блюмгардта* связаны
близкими и дружескими отношениями, и летние воскрес¬
ные утра, когда мы вдвоем брели туда через нолные василь¬
ков и маков поля, и сухие пустоши с чертополохом, близ
которого часто вдела горечавка с ее высокими стеблями.
Будь ты здесь, мы могли бы беседовать. Ты бы вызвала к
жизни еще сотни других картин и часть их пробудила бы и
обновила во мне. Но и так они бесчисленны, как цветы на
лугу, и когда мы принимаем их и открываемся им, воскре¬
сает не только золотая сказка нашего детства, а встает и
образ мира, который нас окружал, растил н воспитывал,
мир родителей и предков, столь же немецкий, сколь и хри¬
стианский, столь же швабский, сколь и интернациональный
мир, где каждая душа, и уж подавно каждая христианская
душа, значила одинаково много и где ни еврей, ни негр, ни
индус, ни китаец не были чужими и не вызывали нетерпим
мости. Благодаря миссионерской службе наших родителей
и дедов даже эти нэетные братья были особой составной ча¬
стью нашего вневшего и внутреннего мира, мы не только
знали о них и об их странах, мы зналии отдельных их пред¬
ставителей, которые, приезжая, гостпи у нас; я когда у
деда бывал гость из Индии, буда> то индиец или вынувший¬
ся оттуда европеец, в разговоре можно было услышать 1ю
178
только санскритское скавдирование, но и слова и фразы на
многих языках сегодняшней Индии. Да и в собственшм на¬
шем доме, в самой нашей семье — какая ненациональ¬
ная — не то что националистическая — царола там атмос¬
фера! Рядом с дедом-швабом была бабка-францз^енка,
отец наш был русским подданным, а из нас, детей, стар¬
ший, родившийся в Ищии, был англичанином, второй, по¬
скольку ему пришлось з^читься в Швабии, натурализовался
в Вюртемберге, а мы, остальные, были базельскими граж¬
данами, потому что наш отец в свои базельские годы при¬
обрел там «права г{ижданства». Конечно, не только эти обг
стоятельства сделали нас на всю жизнь неспособными ни
к какому настоящему национализму, но они сыграли нема¬
лую роль. Хорошо для нас обоих, что среди разгула на зем¬
ле национального чванства нам достаточна лишь вспомнить,
наше детство и происхождение, чтобы быть застрахованны¬
ми от этого безумия. Поэтому ты нико17^а не была для меня
«немкой», а я никогда не был для тебя «обожравшимся пря¬
никами».
Прошлым летом я с помощью^ Нинок снова подготовил
сборник своих стихов, третий за двадцать пять лет. Полу¬
чилась красивая, портативная и дешевая книжечка, и на
обороте титульной страницы написано «Посвящается моей
сестре Адели». Тебе не довелось увидеть ее, но, может быть,
это письмо все-таки дойдет до тебя, тоща ты хотя бы узна¬
ешь, что во время этой работы, которая была ведь и ретрос¬
пективным обзором моей жизни, я думал о тебе и чувство¬
вал тебя рядом с собой. А кроме того, я снова напечатал в
дешевом народном издании знакомый тебе рассказ «Пре¬
красна юность»? это из моих 1ИННИХ рассказов того време¬
ни, когда еще не было ни войн, ни кризисов, мой, да и твой,
наверно, самый любимый, потому что он довольно верно
передал и изобразил нашу юность, наш отчий дом и нашу
тогдашнюю родину. Но что это был за мир, в котором мы
выросли и который сформировал нас, это я в ту пору, когда
писал свой рассказ, не совсем еще знал. Это был мир опре¬
деленно немецкого и протестантского склада, но сообщаю¬
щийся и связанный со всей землей, и это был целостный,
единый, цельный, здоровый мир, мир без дыр и таинствен¬
ных покровов, гуманный и христианский мир, в который
лес и река, лисица и лань, сосед и тетки вписывались так
же точно и органично, как Рождество и Пасха, латынь и
греческий, Гёте, Маттиас Клаудиус и Эйхендорф. Мир этот
был богат и разнообразен, но он был упорядочен, он был
179
точно отцентрован, и он принадлежал нам, как принадле¬
жали нам воздух и солнечный свет, дождь и ветер. Что этот
мир заболеет, заболеет смертельно, что он покроется смер¬
тельной коростой, проказой полуреальности и нереально¬
сти, уйдет от нас в туман полного отчуждения, что)5ы оста¬
вить нам вместо себя призрачную сумятицу и пустоту ны¬
нешней картины мира — кто бы мог это подумать коща-то,
до того как война и вся прочая дьявольщина столкнули нас
с этим?
В том, что мы способны вернуться туда, способны нести
в душе образ цельного, целостного, здорового, упорядочен¬
ного мира и беседовать с этим образом — в этом заключены
наше сокровище и остаток счастья, а не в том, что у нас
есть руки и ноги, крыша над головой и кусок хлеба. Тут у
нас сохранился не только некий божественный, прекрас¬
ный, благородный мир, ще мы находим убежище, 1де мы,
при всей нашей разобщенности в настоящем, можем друг с
другом встретиться и все друг о друге знать; тут у нас со¬
хранилось и нечто такое, чего уже нет у наших детей и
внуков или от чего у них остался лишь бледный отсвет. Тут
я отыскиваю тебя в тени дедов и в шелесте деревьев преж¬
них времен вновь молодой и веселой, и ты тоже находишь
в этом краю молодой и цельный мой образ той поры. Мы
думаем о жимолости и флоксах в садике нашей матери, об
индийских статуэтках и тканях в шкафах наших деда и
бабки, о запахе ларца из сандалового дерева, о клубах та¬
бачного дыма в кабинете деда и киваем друг другу, видим,
как высится башня кальвской церкви, как на галерее, возле
колоколов, на самом верху, городские музыканты трубят
воскресным утром хорал, тот самый хорал, который мы то¬
же знаем благодаря Герхардту*, Терштеегену* или Иоганну
Себастьяну Баху, и входим в «парадную» комнату, ще на
Рождество стоят елка и «Вифлеем»* и где у рояля на эта¬
жерке лежат тома хоралов и песен, зильхеровских и шу-
бертовских, и клавиры наших ораторий. А еще в доме был
другой Шуберт, бюст, он стоял высоко на шкафу, в пере¬
дней, и изображал доктора Готхильфа Генриха Шуберта*,
автора «Символики сна» и «Истории души», который тоже
коща-то был с этим домом в добрых отношениях. В этой
просторной передней, выложенной большими из красного
песчаника плитами, или дальше, в зале с тысячами книг,
а не в саду, прятали на Пасху при ненастной погоде яйца,
и на самых красивых ярко выделялись на медово-коричне¬
вом фоне букетики цветов, травинки и папоротники. Во
180
всех этих комнатах сохранил свое могущество, когда сам
он уже умер, дух деда, о нем нельзя было не вспомнить при
каждом возвращении домой на каникулы. Иногда мы боя¬
лись, но куда больше почитали и любили его, индийского
мудреца и кудесника, и как замечательно, как трогательно
когда-то в один критический день прогнал он улыбкой и
превратил в шутку страх, который я перед ним испытывал!
Мне было четырнадцать лет, и я совершил великий просту¬
пок, я убежал из своей школы, из маульброннского мона¬
стыря. На следуюпдай день после моего возвращения на ро¬
дину мне непременно надо было сходить к деду, я должен
был предстать перед ним, явиться к нему на суд и расправу.
С колотящимся сердцем поднялся я по лестнице к его ка¬
бинету, постучал, вошел, подошел к бородатому старику,
широко сидевшему на кушетке, протянул ему руку. И что
же сказал он, внушавший боязнь, всезнаюпщй? Он привет¬
ливо посмотрел на меня, увидел мое бледное, испуганное
лицо, улыбнулся чуть не плутовато и произнес: «Я слышал,
Герман, что ты совершил путешествие гения?» «Путешествие
гения» — так называли в его студенческие годы подобные эс¬
капады. Больше он не сказал ни слоэа по этому поводу.
Оттуда, от деда и от родителей, светит все, что сделало
•нашу юность прекрасной, а нашу дальнейшую жизнь пло¬
дотворной, теплой и полной любви. Добрая мудрость деда,
неистощимая фантазия и любовь нашей матери, утончен¬
ная способность к страданию и чуткая совесть нашего от¬
ца — они нас воспитали, и, хотя мы никоща не казались
себе людьми одного с ними ранга, мы все-таки из того же
теста, сотворены по их образу и подобию и какой-то их свет
пронесли оттуда в этот все более мрачный и незнакомый
мир. К тому же ведь мы оба не отрекались от культа пред¬
ков и посвятили их памяти не одну работу и не один ис¬
писанный лист. Это тоже не пропадет, даже если наши кни¬
ги сейчас раскуплены, сожжены и уничтожены. Если так
быстро идет прахом пустое и искусственное, если так скоро
ничего не остается, ни от тысячелетних царств, ни от дру¬
гих хвастливых химер, то все, что принадлежит действи¬
тельно значительному, органичному, цельному миру, рас¬
считано на долгий срок. Мы ведь увидели это, сравнив наши
воспоминания юности с воспоминаниями темной поры войн
и диктаторов: последние — не больше, чем тени и паутина,
а первые выпуклы, конкретны и красочны, как сама жизнь.
И поэтому стоит лишь нам на какой-то час отвлечься,
мы снова богаты, мы снова — царские дети, как во време¬
181
на, когда я приносил тебе на каникулах моих поэтов »ara
картины моих художников и бывал вместе с тобою у них в
гостях. Конечно, такая возможность есть у нас не в любую
минуту, только в хорошую и редкую, наши дни — это дни
старых и разочарованных людей, и нам не так уж важно,
чтобы они длились дальше. Думаю, что у вас там не очень
боятся смерти и не недооценивают ее, в этом, как и во мно¬
гом другом, вы, наверно, опередили нас.
Иногда мне хочется поговорить с тобой о том или дру¬
гом, что я вижу иначе, чем видит это сегодняшний мир. Я
думаю о людях, которые горели среди вас, как светочи, и
которых никто не видел! В то время как десяток диких бол¬
ванов играли в «великих людей», они жили у вас на глазах
и как бы не жили, их не замечали, от них ничего не зави¬
село. Одним из них был мой дорогой Гуго Балль; теперь,
через много лет после его смерти, то тут, то там вновь от¬
крывают его тревожные книги. Одним из них был Кристоф
Шремпф*; он был известен в кругу друзей, его семнадца¬
титомный труд никому не ведом и никем не открыт, люди
занимались и занимаются другими, предоставляя будуще¬
му отдать ему должное, предпочитая кормиться бумагой из
рук тайных советников, чем благородным хлебом из его до¬
брых рук. Так еще, видно, богат мир, если он способен на
подобное расточительство! По моему убеждению, Шремпф
и его труд, как всякий благородный подвиг и всякая чисто
мученическая смерть среди ужасов этого темного времени,
не пропали напрасно. Если благодаря чему-либо мир вы¬
здоровеет, а человечество оправится и очистится, то только
благодаря подвигам и страданиям тех, кого нельзя было ни
согнуть, ни купить, кто предпочел расстаться с жизнью,
чем со своей человечностью, и к числу их принадлежат та¬
кие наставники, как Шремпф, чье значение во всем его
объеме смогут увидеть только потомки. Часто кажется, что
на свете нет больше ничего настоящего, подлинного — ни
человечества, ни доброты, ни правды; но они все-таки есть,
и мы не хотим принадлежать к тем, кто забыл их.
Прекрасно было сентябрьское солнце в те высокие
праздники нашего детства, когда мы ели под старыми
каштанами пирог со сливами, а мальчики стреляли в де¬
ревянного орла, как то делал уже ходатай по делам бед¬
ных Зибенкез*. Прекрасны были открытые тропки в высо¬
ком пихтарнике с папоротниками и красными цветами на¬
перстянки, и порой наш отец останавливался у какой-ни¬
будь пихты, делал надрез перочинным ножом и набирал в
182
пузырек несколько капель смолы, которую хранил, чтобы
при случае смазать ранку или просто понюхать. Ведь в
воздухе и запахах, в кислороде и озоне он знал толк и
умел ими наслаждаться, этот чистый человек, вообще-то
не позволявший себе предаваться ни наслаждениям, ни
порокам. Хотел бы я еще раз увидеть его могилу на пре¬
красном корнтальском кладбище, но в нашем положении
лучше не иметь подобных желаний.
Умей я писать такие письма, какие писала коща-то на¬
ша мать, ты многое узнала бы о нашей теперешней жизни.
Но я не умею писать так, да и наша любимая мать, великая
рассказчица, сегодня, наверно, онемела бы тоже. Нет, нет,
она умудрилась бы, даже в хаос этой жизни она внесла бы
порядок и сумела бы сделать ее поддающейся рассказу.
За письмом к тебе прошел день, в окна виден голубова¬
тый снег, я уже зажег свет и так устал, как устают только
старики.
Надо отвыкать от желаний. Но я все-таки желаю, чтобы
это письмо коща-нибудь дошло до тебя и было не послед¬
ним, которое я пишу тебе.
ПИСЬМО в ГЕРМАНИЮ
Странно обстоит дело с письмами из Вашей страны! В
течение многих месяцев письмо из Германии было для меня
событием редким и почти всегда радостным. Письмо при¬
носило весть, что еще жив тот или иной друг, о котором я
долго ничего не знал и за которого, быть может, боялся.
Оно означало также маленькую, правда, случайную и не¬
надежную, связь со страной, которая говорила на моем язы¬
ке и на попечение которой я оставил бы все, что сделал за
жизнь, со страной, еще несколько лет назад дававшей мне
хлеб и моральное оправдание моей работы. Такое письмо
приходило всегда неожиданно, всегда удивительными об¬
ходными путями, в нем не было болтовни, было только са¬
мое важное, и написано оно часто бывало наспех за те не¬
сколько минут, что его ждали машина с красным крестом
или возвращающийся домой швейцарец, или оно, написан¬
ное в Гамбурге, Галле или Нюрнберге, приходило через не¬
сколько месяцев кружным путем через Францию или Аме¬
рику, куда захватил его, отправляясь в отпуск на родину,
какой-нибудь доброжелательный солдат.
183
Затем эти письма зачастили и стали длиннее, н к ним
прибавилось множество писем из лагерей военнопленных
из самых разных стран, печальных клочков бумаги из-за
колючей проволоки лагерей в Египте и Сирии, из Франции,
Италии, Англии, Америки и среди этих писем было уже
много таких, которые не доставляли мне радости и отвечать
на которые у меня скоро пропала охота. В больпшнстве
этих писем военнопленных содержались горькие жалобы и
жестокая брань; авторы их требовали невозможного в смыс¬
ле помощи, подвергали саркастической критике Бога и мир,
а порой и просто угрожали новой войной. Случались тут и
благородные исключения, но редко. Вообще же люди гово¬
рили только о том, что им довелось претерпеть, и горько
жаловались на несправедливость долгого плена. О другом,
о том, что они, как немецкие солдаты, годами творили с
миром, не говорилось ни слова. Мне при этом всеща при¬
ходила на память фраза из одной немецкой военной книги
времен вторжения в Россию. Автор, человек вообще-то не
вредный и более или менее свободный от нацистского мыш¬
ления, признался в ней, что, хотя каждого солдата весьма
занимала мысль о возможности быть убитым, другая сто¬
рона дела — убивать самому — была всего лишь вопросом
<ctaKTH4ecKHM». Все эти авторы писем кивали на Гитлера,
никто не считал себя совиновным.
Один пленный из Франции, не малое дитя, а промыш¬
ленник и отец семейства, с докторской степенью и хорошим
образованием, задал мне вопрос: чтб, по-моему, мог сде¬
лать благонамеренный, доброжелательный немец в годы
гитлеровощны? Он, мол, не в силах был ничему помешать,
не в силах ничего предпринять против Гитлера, это стоило
бы ему хлеба и свободы, а в итоге и жизни. Я мог только
ответить: опустошение Польши и России, осада, а затем бе¬
зумное удерживание Сталинграда до горького конца тоже
были, надо полагать, не совсем безопасны, и все же немец¬
кие солдаты старались тут вовсю. И почему это они откры¬
ли Гитлера лишь в 1933 году? Разве не должны были они
знать его по меньшей мере со времени мюнхенского путча*?
Почему они, вместо того чтобы поддерживать и беречь
единственный отрадный плод первой мировой войны, не¬
мецкую республику, почти единодушно саботировали ее,
почему единодушно голосовали за П1нденбурга*, а позднее
за Гитлера, при котором, правда, стало потом опасно для
жизни быть порядочным человеком? Авторам таких писем
я при случае напоминал также о том, что немецкая беда
184
началась ведь еще до Гитлера, что уже летом 1914 года
многах могло, в сущности, насторожить хмельное ликова¬
ние народа по поводу подлого австрийского ультиматума
Сербии*. Я рассказывал, что пришлось выдержать и выне¬
сти в те годы Ромену Роллану, Стефану Цвейгу, Францу
Мазереелю*, Аннете Кольб* и мне. Но этого никто не слу¬
шал, никому вообще не нужно было никакого ответа, никто
не хотел действительно дискутировать, действительно че¬
му-то поучиться, о чем-то задуматься.
Или вот что написал мне из Германии один достопоч¬
тенный старик священник, человек набожный, храбро де¬
ржавшийся и сильно пострадавший при Гитлере: он лишь
теперь прочел мои заметки о первой мировой войне, напи¬
санные двадцать пять лет назад, и как немец и христианин
целиком соглашается с каждым их словом. Но он должен и
честно добавить: попадись ему на глаза эти статьи тоща,
когда они были новы и злободневны, он возмущенно от¬
швырнул бы их прочь, ибо тоща, как всякий порядочный
немец, был непоколебимым патриотом и националистом.
Все чаще и чаще стали приходить письма, и теперь, с
тех пор как они снова доставляются обычной почтой, мой
дом каждый день наводняется ими в количестве гораздо
большем, чем следовало бы и чем я способен прочесть. Но,
хотя отправителей сотни, все письма, в сущности, только
пяти или шести видов. За исключением немногих настоя¬
щих, совершенно личных и неповторимых документов на¬
шей бедственной эпохи — и к этим немногим, к лучшим
из них принадлежит и Ваше дорогое мне письмо, — все эти
письма суть выражение определенных, повторяющихся, ча¬
сто слишком очевидных позиций и потребностей. Очень
многие из их авторов сознательно или неосознанно хотят
уверить отчасти адресата, отчасти цензуру, отчасти самих
себя в своей невиновности в немецкой беде, и у многих,
несомненно, есть все основания для подобных усилий.
Таковы, например, все те старые мои знакомые, которые
прежде годами писали мне, но перестали писать, как только
заметили, что перепиской со мной, человеком, состоящим
под наблюдением, можно навлечь на себя неприятности. Те¬
перь они сообщают мне, что еще живы, что всегда тепло
вспоминают меня и завидуют мне, счастливцу, живущему в
швейцарском раю, что они, как я, конечно, понимаю, никог¬
да не сочувствовали этим проклятым нацистам. Многие из
непричастных, однако, состояли долгие годы в партии. Те¬
перь они подробно рассказывают, как все эти годы они были
185
одной ногой в концентрационном лагере, а мне приходится
отвечать им, что всерьез принимать я могу только тех про¬
тивников Гитлера, которые были в этих лагерях обеими но¬
гами, а не одной ногой в лагере, а другой в партии. Еще я на¬
поминаю им о том, что в годы войны мы здесь, в швейцар¬
ском «раю», каждый день могли ждать «добрососедского» ви¬
зита коричневых бесов и что в нашем раю нас, людей из чер¬
ного списка, уже ждала тюрьма или виселица. Впрочем, я
признаю, что время от времени творцы нового порядка в Ев¬
ропе бросали нам, черным овцам, и соблазнительные при¬
манки. Так, уже довольно поздно я был, к своему удивле¬
нию, приглашен одним швейцарским согражданином* и
именитым коллегой приехать за «его» счет в Цюрих, чтобы
обсудить с ним мое вступление в основанный министерством
Розенберга союз европейских коллаборахщонистов.
Есть и старые простодушные «перелетные птицы»* —
эти пишут мне, что тоща, году в 1934-м, они после тяжелой
внутренней борьбы вступили в партию с единственной
целью — стать там благотворным противовесом слишком
диким и грубым элементам и т.д.
У других — комплексы скорее частного свойства, и, жи¬
вя в жестокой нужде, среди забот, право, более важных,
они находят в избытке бумагу, чернила и темперамент,
чтобы выразить мне в длинных письмах свое глубокое пре¬
зрение к Томасу Манну или свое возмущение тем, что я
дружу с таким человеком.
И еще целую группу составляют те, кто открыто и ре¬
шительно помогал тянуть триумфальную колесницу Гитле¬
ра, некоторые коллеги и друзья прежних времен. Они пи¬
шут мне трогательно-дружеские письма, подробно расска¬
зывая о своем быте, о последствиях бомбежек и домашних
заботах, о своих детях и внуках, словно ничего не случи¬
лось, словно Ничего не стояло между нами, словно они не
помогли убить родных и друзей моей жены — она еврей¬
ка, — а труд моей жизни дискредитировать и в конце кон¬
цов уничтожить. Ни один из них не пишет, что он раскаи¬
вается, что смотрит теперь на вещи иначе, что он был ос¬
леплен. И ни один не пишет, что он был нацистом и оста¬
нется им, что ни в чем не раскаивается и хранит верность
своему делу. Какой нацист станет хранить верность своему
делу, когда дело это кончилось плохо? Ах, от всего этого
просто тошнит.
Небольшое число корреспондентов ждут от меня, что я
стану сегодня на сторону Германии, поеду туда, буду уча¬
186
ствовать в ее перевоспитании. Гораздо многочисленнее те,
кто призывает меня возвысить свой голос и в качестве ней¬
трального представителя человечества выступить перед
всем миром с протестом против злоупотреблений или нера¬
дивости оккупационных армий. Вот сколько тут оторванно¬
сти от мира, сколько непонимания мира и современности,
сколько трогательной и позорной наивности!
Возможно, весь этот частью наивный, частью злобный
вздор Вас ничуть не удивит, возможно, Вы знаете все это
лучше, чем я. Вы ведь намекаете, что написали мне длин¬
ное письмо по поводу духовной ситуации в Вашей бедной
стране, но по цензурным причинам не послали его. Так вот,
я хотел только дать Вам представление о том, чем запол¬
нена ббльшая половина моих дней и часов, а тем самым и
объяснить, почему отдаю в печать это письмо к Вам. Не
могу же я ответить на кипы писем, большинство которых
к тому же требует и ждет невозможного, а между тем среди
этих писем есть и такие, просто отмахиваться от которых,
по-моему, непозволительно. Их авторам я и пошлю это пе¬
чатное письмо — хотя бы уже потому, что все они добро¬
желательно и озабоченно спрашивают, как мне живется.
А Ваше дорогое письмо нельзя отнести ни к одной катего¬
рии, в нем нет ни одного шаблонного слова и нет — порази¬
тельная вещь в нынешней Германии! — ни одного слова жа¬
лобы или обвинения. Оно подействовало на меня необычай¬
но благотворно. Ваше доброе, умное и храброе письмо, и то,
что в нем сказано о собственной Вашей судьбе, глубоко
взволновало меня. Так, значит, за Вами тоже, как и за на¬
шим дорогим другом*, следили и шпионили. Вас тоже, зна¬
чит, бросили в гестаповскую тюрьму и даже приговорили к
смерти! Читая, я ужасался, тем более что и мои письма, при
всей осторожности, служили обвинением против Вас, но, по
сути, Ваши сообщения не были для меня неожиданностью.
Ведь я никогда не представлял себе, чтобы Вы могли быть од¬
ной ногой в тюрьме или в лагере, а другой ногой в партии, ни¬
когда не сомневался в том, что Вы храбро и деятельно, как то
подобает Вашему ясному взгляду на вещи и Вашему уму,
стоите на той стороне, где следует. И тут уж Вы, конечно, на¬
ходились в величайшей опасности.
Видите, с большинством моих немецких корреспонден¬
тов у меня не находится общего языка. Многое напоминает
конец первой мировой войны, правда, сегодня я старше и не¬
доверчивее, чем тогда. Так же как сегодня, веемой немецкие
друзья едины в осуждении Гитлера; тогда, при образовании
187
немецкой республики, они были едины в осуждении милита¬
ризма, войны и насилия. С нами, противниками войны, по¬
всюду братались, поздновато, но от души. Ганди и Роллана
чтили почти как святых. «Никогда больше не воевать!»—та¬
ков был девиз. Но уже через несколько лет Гитлер мог отва¬
житься на свой мюнхенский путч. Вот почему я не слишком
всерьез принимаю сегодняшнее единодушие в проклятиях
Гитлеру и не вижу в этом единодушии никакой гарантии
политической переориентировки или хотя бы политического
просвещения и опыта. Но всерьез, очень даже всерьез прини¬
маю я переориентацию, очищение и зрелость тех одиночек,
которым в чудовищных бедствиях, в адских муках этих лет
открылся путь внутрь, путь к сердцу мира, у которых откры¬
лись глаза на вневременную реальность жизни. Эти пробу¬
дившиеся опо'тили, пережили, выстрадали эту великую тай¬
ну совершенно так же, как пережил ее некогда, в горькие го¬
ды после 1914-го, я, только происходило это теперь под куда
большим нажимом, при более жестоких страданиях, и, не¬
сомненно, несметное множество людей пало и погибло на пу¬
ти к этому ощущению и пробуждению, так и не успев до¬
стичь зрелости.
Из-за колючей проволоки одного африканского лагеря
для военнопленных один немецкий капитан пишет мне о
«Записках из Мертвого дома» Достоевского и о Сиддхартхе,
пишет о том, как в жалких условиях, не позволяюпщх
уединиться ни на минуту, он стремится пойти тропой по¬
гружения и добраться до самого нутра, «хотя воля к отре¬
шению от всего поверхностного не стала окончательной и
бесповоротной». А один бывший узник гестапо пишет:
«Благодаря тюрьме я многому научился, и обывательские
заботы меня больше не угнетают». Это положительный
опыт, это свидетельства подлинной жизни, и я мог бы при¬
вести еще много таких слов, будь у меня время и хорошее
зрение, чтобы перечесть все эти письма.
На Ваш вопрос, как мне живется, ответить просто. Я
состарился и устал, и уничтожение моей работы, начатое
гитлеровскими министерствами и доведенное до конца аме¬
риканскими бомбами, сделало основным тоном моих по¬
следних лет разочарование и печаль. Утешаюсь тем, что
при этом основном тоне еще возможны какие-то маленькие
мелодии, и в иные часы мне и теперь еще удается жить вне
времени. Чтобы от моей работы что-то осталось, я время от
времени устраиваю швейцарское переиздание какой-ни-
будь своей много лет назад исчезнувшей книги, это не более
188
чем жест, ибо эти издания существуют, конечно, лишь для
Швейцарии.
Старость и склероз прогрессируют, иногда кровь отка¬
зывается поступать как следует в мозг. Но эти беды имеют
в конце концов и свою хорошую сторону: не все уже вос¬
принимаешь так ясно и так горячо, многое пропускаешь
мимо ушей, иных ударов и булавочных уколов вообше не
чувствуешь, и часть существа, которое некогда называлось
«я», находится уже там, где скоро будет все целиком.
К хорошим вещам, для восприятия которых у меня еще
есть возможность, к вещам, способным еще доставить мне
радость и затмить все мрачное, принадлежат редкие, но все
же имеющиеся признаки дальнейшего существования по¬
длинной духовной Германии, а ищу я их и нахожу не в усер¬
дии теперешних деятелей культуры и конъюнктурных де¬
мократов Вашей страны, а в таких отрадных выражениях ре¬
шимости, бодрости и храбрости, лишенной иллюзий уверен¬
ности и готовности, как, например. Ваше письмо. Благодарю
Вас за него. Берегите этот росток, храните верность свету и
духу, вас очень мало, но вы, может быть, соль земли.
СЛОВО к УЧАСТНИКАМ БАНКЕТА
ПО СЛУЧАЮ НОБЕЛЕВСКОГО ТОРЖЕСТВА
Сердечно и почтительно приветствуя ваше праздничное
собрание, я прежде всего выражаю свое сожаление по по¬
воду того, что сам не могу быть вашим гостем, не могу сам
приветствовать вас и поблагодарить. Здоровье мое всегда
было очень слабым, а передряги всех лет после 1933 года,
уничтожившие в Германии весь труд моей жизни и непре¬
станно возлагавшие на меня тяжкие обязанности, сделали
меня надолго совсем инвалидом. Но духовно я не сломлен
и чувствую себя связанным со всеми вами прежде всего той
мыслью, которая лежит в основе Нобелевского фонда, мыс¬
лью о сверхнациональности и интернациональности духа и
его обязанности служить не войне и разрушению, а миру и
примирению. В том, что присужденная мне премия одно¬
временно означает признание немецкого языка и немецко¬
го вклада в культуру, я вижу жест миролюбия и доброй во¬
ли возобновить духовное сотрудничество всех народов.
Но мой идеал отнюдь не состоит в сглаживании нациот
нальных характеров ради духовно унифицированного чело¬
вечества в целом. О нет, да здравствуют многообразие, раз-
189
ноо^азие и градации на нашей милой земле! Это велико-
лецно, что есть много рас и народов, много языков, много
разновидностей склада ума и мировоззрений. Если я нена¬
вистник и непримиримый противник войн, завоеваний и
аннексий,, то в числе прочего и потому, что жертвой этих
темных сил сжазываются многие исторически сложившие¬
ся, глубоко индивидуальные многообразнейшие особенно¬
сти человеческой культуры. Я враг «grands simplificatears»*
и сторонник качества, сторонник сформировавшегося, не¬
подражаемого. И поэтому я как ваш благодарный гость и
коллега приветствую вашу страну Швецию, ее язык и куль¬
туру, ее богатую и гордую историю, ее стойкость в сохра¬
нении в развитии сюей естественной самобытности.
Я никоо^ца не был в Швеции, но уже десятки лет ко мне
приходили из вашей страны добрые и дружеосие дары, с
тех пор как я получил из Швеция первый подарсж: это было
лет сорок назад, и это была шведская книга, первое издание
«Легешт о Христе» с собственноручной надписью Сельмы
Лагерлёф*. В ходе лет у меня было много драгоценного об¬
щения с вашей страной — и вот последний великий пода¬
рок, которым она меня только что неожиданно одарила.
Благодарю ее от всей души.
БЛАГОДАРНОСТЬ И НРАВОУЧИТЕЛЬНОЕ
ЗАМЕЧАНИЕ
Этими строчками мне хочется поблагодарить за при¬
сланные мне поздравления с Гётевской премией. Мои чув¬
ства и мысли при получении этих поздравлений были столь
двойственны, что мне оказалось трудно выразить их хотя
бы частично. Прошу моих друзей быть снисходительными
к тому, что получилось.
Многие из вас будут удивлены, а то и смущены тем, что
я принял эту честь, и, правда, моя первая, чисто инстинк¬
тивная реакция на нее была не «да», а «нет». Для такой
безотчетной реакции нашлись резоны вроде следующих:
для старого, и без того переутомленного человека это будет
чувствительным добавочным бременем. Кроме того, это со¬
здаст видимость некоего примирения с официальной Гер¬
манией. Да и само по себе было бы неверно и странно при-
^«Beликиe упростители» (франц.).
190
нимать в форме этой премии некую компенсацию или мзду
от страны, банкротство которой я вторично целиком разде¬
ляю и которая лишила меня довереннсях) ей труда Modi
жизни. Нет, говорил я себе в этом первом порыве, от Гер¬
мании я смею ждать и требовать удовлетворения моего про¬
стого права, моей реабилитации после шельмования, кото¬
рому меня подвергали при Ге^ельсе и Розе^ерге, кюста-
новления мо^ 1»боты или хотя бы части ее и естмлвенно-
го, простейшего вознаграждения в виде денег и куска хлеба.
Но ведь такой Германии, во власти которой было бы испол¬
нить это мое желание, больше не существует. И какими
колючими и сложными, какими острыми и тяжелыми ^лла
со времени первой мировой войны отношения между этим
загадочным, великим, капризшям тародом я мной! Как раз
в те дни, когда мне надо было решить, принимать ли пре¬
мию, из Германии снова приходили кипы ругательных'пи¬
сем, и в них я, в обш:ем-то, видел довольно аджватное вы¬
ражение отношений между мною и этим народом, язык
был моим орудием и моей духовной родиной и чье полити¬
ческое поведение в мире я с 1914 года наблюдал, да и не
раз комментировал со все бо^кшей неприязнью.
Но не успед я осознать эти первые порывы, как нашлись
столь же убедительные контрдоводы. Ведь эта честь была
предложена мне не той Германией, которой больше не су¬
ществовало, а иным, старым, демократичным, связанным с
еврейской культурой городом Франкфуртом, вызывавшим
торжествами в церкви святого Павла* ненависть Гогенцол-
лернов, предложена комитетом, который в дни тяжких ис¬
пытаний при Гитлере вел себя не просто пристойно, а дей¬
ствительно храбро и прекрасно знал, что, выбрав меня, сно¬
ва вызовет вражду к себе со стороны того слоя народа, от¬
куда как раз и приходили эти злобные письма, побежден¬
ного в данный момент, но отнюдь не исчезнувшего с лица
земли слоя националистов-фанатиков.
Если бы с получением премии была связана для меня
какая-либо материальная выгода, я, конечно, не смог бы ее
принять. Но это не так, денежная сумма останется в Гер¬
мании и будет раздарена.
Премии и почести — это не совсем то, чем они кажутся
нам в молодости. На взгляд награжденного, это не удоволь¬
ствие, не праздник и не что-то заслуженное им. Они — ма¬
ленькая составная часть того сложного, построенного в ос¬
новном на недоразумениях феномена, который называется
известностью, и видеть в них нужно то, чем они являются:
191
попытки официального мира отделаться от смущения при
виде неофициальных успехов. Это с обеих сторон символи¬
ческий жест, акт воспитанности и вежливости.
Тот факт, что премия носит имя Гёте, наперед запре¬
щает награжденному считать себя достойным ее. Большин¬
ство награжденных ранее, наверно, и не считали себя до¬
стойными. Ни с художником, ни с человеком Гёте мы, дети
страшного времени, не смеем и сравнивать себя. Тем не ме¬
нее я с усмешкой вспоминаю некоторые его слова о харак¬
тере немцев и в иные минуты думаю, что, будь Гёте нашим
современником, он в какой-то мере согласился бы с моим
диагнозом обеих великих болезней нашего времени. Ведь
нынешним состоянием человечества мы обязаны, по-мое-
му, двум душевным болезням: мании величия, которой
страдает техника, и мании величия, которой страдает на¬
ционализм. Они определяют облик нынешнего мира и его
самосознание, они принесли нам две мировые войны с их
последствиями и повлекут за собой, прежде чем отбушуют,
еще много аналогичных последствий.
Сопротивление обеим этим болезням мира — вот в чем
состоит сегодня важнейшая задача духа на земле и его оп¬
равдание. Этому сопротивлению служила и моя жизнь, ма¬
ленькая волна в потоке.
Довольно нравоучений. Для нас, людей старых, особенно
когда нам плохо, мир — это прежде всего нравственный фе¬
номен, нравственная проблема, и лицо мира то ужасно, то
мрачно. А для ребенка, для преданного Богу праведника, для
поэта, для мудреца мир — это нечто совсем другое, и у него
тысячи лиц, в том числе несказанно прелестных. И если я се¬
годня немного пользуюсь правом стариков и морализирую,
то не будем за этим забывать: завтра или послезавтра, по эту
ли или по ту сторону смерти я, возможно, опять буду поэтом,
праведником, ребенком, и мир, и мировая история предста¬
нут мне уже не нравственной проблемой, а вечным, божест¬
венным зрелищем, книжкой с картинками.
И наша смертельно больная Европа, полностью отказав¬
шись от своей ведущей и активной роли, может быть, снова
станет понятием, несущим в себе заряд высшей ценности,
тихим вместилищем, сокровищницей благороднейших вос¬
поминаний, прибежищем душ — примерно в том смысле, в
каком до сих пор мои друзья употребляли вместе со мной
магическое название «Страна Востока».
ПИСЬМА
%
*SP .ЬиЬвЙ^Л-^
ш
BRIEFE
Карлу Марии Цвислеру
[конец мая 1932]
Дорогой господин Цвислер!
Жизнь коротка, а моя скоро кончится, так что не сле¬
довало бы тратить время, мысли, зрение на такие бесплод¬
ные споры, как Ваш о Кестнере*. Тем не менее скажу еще
кое-что по этому поводу, потому что тут у меня есть прин¬
ципиальные соображения.
L Если Кестнер Вам не нравится, то и не надо Вам его
читать. Но Вы должны знать, хорошенько знать, что Ваша
неприязнь. Ваше критическое, даже раздраженно-враждеб-
ное отношение к нему отнюдь не усиливает Ваше суждение,
а затуманивает его.
2. И даже если Вы действительно правы, а Кестнер —
гнуснейший искатель успеха и плут, что Вы выиграли бы?
Выигрывает всегда тот, кто умеет любить, терпеть и про¬
щать, а не тот, кто знает лучше и осуждает.
3. Чувствительность людей к тому, что Вы называете
порнографией, различна, и Ваша вовсе не норма и не эта¬
лон, она так же субъективна, как всякая другая.
Вы, например, весьма наивно полагаете, что мои книги
никому не кажутся грубыми, эротическими, ни на кого не
производят отталкивающего впечатления. Тут Вы, однако,
сильно ошибаетесь. По поводу «Степного волка» я получил
больше ста писем, в которых читатели открещиваются от
меня, потому что не выносят этого «копания в грязи», этих
«описаний непотребства». То же самое было с любовными
сценами в «Златоусте». Десятки людей писали мне об этом
возмущенно. Один молодой гитлеровец из Швабии написал
мне, что это «похотливая чувственность» стареющего муж¬
чины и он надеется, что я скоро издохну совсем. Одна жен¬
щина написала мне, что никогда больше не будет читать
моих книг, когда-то ей нравились «Каменцинд» и «Росхаль-
195
лс», но у нее есть сыновья, и она никогда не позволит им
читать такие вещи, как «Златоуст».
Видите: так же, как Вы ругаете Кестнера, другие ругают
меня.
Что сделал бы и сказал тут Лео*? Он промолчал бы,
улыбнулся и постарался бы немного убавить гнусность в
мире маленькой добавкой молчания, улыбки, доброжела¬
тельства и спокойствия.
Пишите мне, когда захотите, но давайте совершенно
принципиально отставим дискуссии такого рода. У Вас есть
достаточно коллег, с которыми Вы можете обмениваться
художественно-моральными суждениями. Мне это нисколь¬
ко не интересно. Я радовался, что книга Кестнера показа¬
лась мне славной, что я воспринял ее как подлинное дети¬
ще, подлинный документ своего времени, что она пробуди¬
ла во мне не ненависть, а доброжелательность. Вы напрасно
стараетесь отобрать у меня это преимущество, его уже ни¬
чем нельзя отнять у меня, даже тем, что мое мнение -ока¬
жется вдруг действительно неверным. Это все равно как ес¬
ли двое идут гулять и одному сегодняшняя погода кажется
ужасно сырой, душной, противной, а другому отличной,
приятной. Кто прав, этого никто не может решить. Но кто
испытывает какое-то положительное ощущение, кто возда¬
ет должное данной погоде от всей души и делает ее плодо¬
творной для себя, это легко увидеть. [... ]
Addio, привет от Вашего
Сыну Хайнеру
10.7.1932
Дорогой Хайнер!
[... ] То, что ты говоришь о коммунистах, которые в по¬
вседневной жизни показывают себя хорошими, готовыми
помочь, храбрыми и самоотверженными людьми, это совер¬
шенно верно. У меня немало друзей-коммунистов, и такие
среди них есть. Но это не имеет ровно никакого отношения
к их партии и к их вероисповеданию. В любой партии и во
власти любой догмы на свете может быть либо хороший,
либо дурной человек, так всегда было, это же, собственно,
банальная истина.
Приверженность к коммунизму, однако, ставит перед
тем, кто требует от себя идейного отчета, вопрос: «Хочу ли
я революции, одобряю ли ее? Могу ли я сказать «да», когда
196
убивают людей для того, чтобы другим людям потом, может
быть, было лучше?» Вот в чем идейная проблема. И для
меня, сознательно и до отчаяния идейно выстрадавшего ми¬
ровую войну, вопрос этот раз навсегда решен: я не при¬
знаю за собой права на революцию и на убийство. Это не
мешает мне считать невиновной народную массу, если она
где-либо убивает и взрывается в горе и ярости. Но сам я,
если бы я в этом участвовал, не был бы невиновен, ибо тог¬
да я отрекся бы от одного из тех нескольких священных
принципов^ которые у меня есть.
Ты написал мне в своем письме одно слово, особенно
меня трогающее. Ты называешь свое состояние недовольст¬
ва, равнодушия, уныния и т.п. «болезнью». В этом, несом¬
ненно, есть какая-то правда, и это не становится безобид¬
нее оттого, что множество людей твоего поколения больны
той же болезью.
Когда-то, после твоего выпускного экзамена, когда ты
приехал в Цюрих, я тоже думал, что многое в твоей не¬
приязни ко мне и к жизни основано на болезни, а именно
на каком-то расстройстве с той поры, когда тебя из-за ду¬
шевной болезни твоей матери и отчаянного положения
всей нашей семьи грубо выхватили из детства, швырнули
в люди и т.д. Я думал тогда и о том, чтобы послать тебя
поэтому к д-ру Лангу и попробовать лечение психоанали¬
зом, и поныне полагаю, что это было бы не бесполезно и
многое бы исправило. Я тогда тебе это и предложил, но ты
не проявил интереса. А принуждать тебя к чему-либо важ¬
ному против твоей воли — от этого я тогда уже давно от¬
казался.
Но такие «болезни», то есть душевные шрамы, оставши¬
еся от юных лет, есть почти у каждого сколько-нибудь
сложного человека, и есть кроме психоанализа масса спо¬
собов с ними справляться. Каждая религия — это такой
способ, а еще надо прибавить каждый заменитель религии,
например принадлежность к какой-нибудь партии.
Каким путем пойдет это у тебя, я не могу знать. Все
начинается с ближайших и простейших жизненных задач,
в твоем случае, значит, с ответственности за жену и ребен¬
ка, с заботы о них.
Я считаю себя более больным и менее «нормальным»,
чем ты, и мне всегда бывало очень трудно придать своей
жизни смысл и что-то похожее на удовлетворенность. Ка¬
кую-то долю этого я нашел в искусстве, в добросовестности
работы. Не менее важно было то, что мне всегда приходи¬
197
лось заботиться о ком-тоу за кого-то нести ответственность
и что кроме заботы о себе самом у меня была забота о не¬
которых других. Благодаря этому жить как-то удавалось,
не блестяще, но все-таки. [... ]
Addio, Хайнер, сердечный привет от твоего папы.
Гансу Оберлендеру
[лето 1932?]
Дорогой господин Оберлендер!
[... ] Ваш теологический вопрос мне только наполовину
по силам. Устно, думаю, я сумел бы ясно высказаться по
этому поводу, а так — нет, мне не хватает спокойствия и
времени, у нас по-прежнему тревожно.
Если Жанна* воодушевляет и спасает свой народ, а на¬
род воодушевлен этим и провозглашает ее святой, то про¬
тив этого ничего не скажешь. Между человеком голых ин¬
стинктов естественного эгоизма и растворяющимся в Боге
святым есть много ступеней, одна из них — ступень
семьи, другая — национальная, и так далее, без числа. На
воодушевление масс не надо смотреть свысока, в нем есть
свое величие,/и какие связаны с ним и с нами замыслы
Бога, знать это нам не по чину. Но растворение в матери¬
альной общности, каковой является нация Жанны, мы
все-таки не должны путать с растворением в Боге. Успе¬
хом и степенью народного воодушевления не измеряется
близость к Богу той или иной силы, того или иного дви¬
жения. Вы знаете: у царства Божьего другие законы, чем
у царства земли, и тот, кто здесь последний, может быть
первым там. Событиям и восторгам, волнующим большие
группы^ я не могу из-за их многочисленности приписывать
ббльшую близость к Богу, чем тем, которые наполняют
одну отдельную душу.
Об еврейской, ветхозаветной форме потусторонности
Божьих целей и ценностей кое-что очень хорошо сказано в
последней книге Мартина Бубера* (это лекции за двенад¬
цать лет, издательство Шоккен).
У нас жарко, и мы вовсю трудимся в саду. Но я чувствую
скорее подавленность физическую, и вообще из-за того, что
после всех этих недель известного беспокойства вокруг со¬
стояние мое резко ухудшилось, у меня постоянно перебои
в сердце и приходится делать все медленно и осторожно.
108
Все же могу работать по нескольку часов в день. Добрые
пожелания шлет Вам Ваш
Клаусу Манну*
[21Л.1938]
Дорогой господин Клаус Манн!
Ваше письмо обрадовало меня, спасибо Вам за него.
У нас бомбы еще не грохают, но я уже снова живу почти
так же среди войны, как в 1916—1919 годах, когда я зани¬
мался помощью военнопленным, только сегодня допекают
меня судьбы и нужды эмигрантов и беженцев, и большая
часть моей работы — для них. Хотя я вижу тщетность своих
усилий, меня это опять втянуло, на этот раз главным обра¬
зом через мою жену, она родом из Австрии, и там были все ее
близкие, родственники и друзья. У нас в доме полно бежен¬
цев, мы сидим за машинками, пишем биографии, заявления
о въездных визах, прошения в полицию, словом, я опять за¬
нят бумажной войной, и она ничуть не лучше, чем тоща.
Тогда я снабжал военнопленных журнальчиком, который
сам редактировал, и чтением, а также нотами, музыкальны¬
ми инструментами, научными книгами для людей с высшим
образованием и т.п. Однажды я вложил в ящик с книгами,
посланный вместо библиотеки в один из трудовых лагерей во
Франции, дешевое изданьице гофмановского «Золотого гор¬
шка» и схлопотал головомойку от получателя: немецкие
пленные и воины не хотят пробавляться такой романтиче¬
ской ерундой прадедовских времен, а требуют чтения, кото¬
рое держало бы их в контакте с сегодняшним днем и настоя¬
щей, полнокровной жизнью современности, например сочи¬
нений Рудольфа Герцога*. Таким же примерно будет конеч¬
ный результат и теперешних моих хлопот.
Тот рассказ о Гёльдерлине, Мёрике и Вейблингере*, что
Вы прочли в Барселоне, уже стар; он написан году в 1913-м.
Надеюсь, мы когда-нибудь увидимся, я был бы рад.
Леони Штемпфли
Лето 1938
Дорогая госпожа д-р Штемпфли!
Спасибо за Ваше письмо; рад был узнать, что Вы эту
книжечку тогда нашли и приветливо приняли. Я выпустил
ее, отчасти чтобы иметь возможность снова подарить
199
друзьям какую-нибудь мелочь, отчасти чтобы поддержать
этого молодого печатника из Майнца, который что-то мо¬
жет и чего-то хочет и которому я не мог ответить «нет»
на его запрос о тексте для особо красивой печати. Кстати
сказать, вряд ли уже сможет выйти в Германии какая-ли¬
бо моя книга.
То настроение и та ступень жизни, которыми рождено
Ваше письмо, мне, хотя они у меня позади, достаточно по¬
нятны, чтобы серьезно отнестись к Вашему письму и оце¬
нить выраженное в нем доверие. В нас всех заложено инс¬
тинктивное стремление к счастью и тем самым сопротивле¬
ние страданию, смерти, старости и т.д., и я не считаю, что
хорошо и чем-то полезно сознательно подавлять в себе это
стремление и это сопротивление. И все же каждый шаг впе¬
ред в жизни и в познании есть приятие темной стороны
жизни, пробуждение к трагической действительности чело¬
веческого существования. Сегодня ведь это каждому оче¬
видно, когда вокруг нас земля стонет от горя подвергшихся
насилию, изгнанных, ограбленных. Уже несколько месяцев
не было ни дня, чтобы моя почта, не говоря уж о моих соб¬
ственных заботах, не содержала нескольких просьб, вопро¬
сов, призывов помочь со стороны друзей, коллег или даже
незнакомых людей, чье положение требовало немедленной
помощи. Одних надо вытащить из ада, в который превра¬
тилась Вена, других, кому уже удалось бежать в Швейца¬
рию, со дня на день может выслать полиция, многих уже
месяцами, а иных и годами выталкивают из страны в стра¬
ну, от границы к границе, у них нет дома, нет возможности
как-то работать, как-то прийти в себя, на них орут люди в
мундирах, за ними везде следят, их повсюду преследуют, с
ними везде обращаются как с преступниками, их боятся,
как воров, хотя они никому не причиняют зла. С такими
вещами я сталкивался, в сущности, непрестанно, с тех пор
как пробудился и понял действительность жизни (с начала
мировой войны), и теперь эта волна снова поднялась так
высоко, что у меня часто бывает такое чувство, будто я весь
день был по колено в крови и грязи и уже не выношу че¬
ловеческой жизни, не принимаю ее всерьез. Однако, по су¬
ти, и независимо от этих настроений, от этой усталости,
моя вера нисколько не поколеблена, свое знание, свое ощу¬
щение смысла жизни я буду считать верным и в том случае,
если бы Гитлеру, Сталину или Муссолини вздумалось по¬
стращать пыткой в одном из своих застенков лично меня.
Мой коллега и друг Эрнст Вихерт*, наряду с Нимёлле-
200
ром* — одним из немногих немцев, обладающих некоторой
храбростью, сейчас сидит в тюрьме, как и многие другие
мои друзья, если они уже не убиты или не покончили са¬
моубийством.
Так мы плывем через наш день и через наше время,
каждый на свой лад, каждый старается отогнать от себя
страдание, и чужое, и собственное, и все же каждый окру¬
жен этим страданием и втайне подвластен ему, и находится
на пути к такому состоянию, когда страдание уже не при¬
чиняет боли, а счастье уже не кажется желанным. Я все
это просто бормочу про себя, несколько одурев от страшной
жары и долгой бессонницы, довольствуйтесь этим, не хоте¬
лось оставлять Ваше милое письмо без ответа.
Артуру Штолю
Монтаньола, апрель 1939
Дорогой господин профессор Штоль!
Надеялся послать Вам на Пасху привет — оттиск новой
главы моего «Йозефа Кнехта». Но вот издательство, кото¬
рое вечно медлит, задержалось с печатанием, и вместо кра¬
сивого оттиска могу послать Вам лишь экземпляр верстки
в качестве запоздалого пасхального привета.
«Иозеф Кнехт» стал настоящим произведением старо¬
сти, уже семь лет прошло с тех пор, как я начал его.
Падение Праги* принесло нам ряд новых потерь, у нас
там близкие друзья, да и родственники жены, ее единст¬
венная сестра тоже в опасности.
Жаль, мы не доживем до того, как снова потерпят про¬
вал героические попытки современного человека упро¬
ститься до зверя и все их последствия. Тем не менее я не
сомневаюсь в том, что в обозримом будущем человек снова
попробует встать на ноги с четверенек, быть может, лишь
на наших могилах, но все-таки... Сегодняшние конвульсии
не вечны.
Дружеский привет Вам и Вашим от Вашего
Паулю Отто Вазеру
[сентябрь 1939]
Дорогой, глубокоуважаемый господин доктор Вазер!
Спасибо Вам за такое милое письмо. Вы доставили
им радость мне и моей жене, она сразу принесла
201
Fragmenta tragicorumi* и прочитала мне это место и пе¬
ревела его.
Значит, перед самым началом долгожданной мировой
драмы Вы были еще там, у тевтонов. Да, это все еще стран¬
ная страна. С начала разбойного похода на Польшу я по¬
лучал письма от немцев, главным образом от дам, ничем
не уступающих немцам лета 1914-го, ничего не измени¬
лось, ничему не научились, только все мысли и слова на
несколько степеней глупей, грубей и более варварские. У
меня там есть, например, один приятель, проведший всю
жизнь в восточной Азии, друг тамошних ученых и худож¬
ников, привыкший иметь дело с акварелями на шелке, ве¬
сти беседы с буддийскими бонзами, сам ставший за десятки
лет азиатом, — так его несколько лет назад, когда он вер¬
нулся в Германию, его сыновья обратили в свою веру, и он,
тонкий, добросовестный ученый, стал настоящим поклон¬
ником Гитлера и фанатиком Третьей империи.
Помогает мне взирать на настоящее и сносить его мысль
о восточных мифологиях. Мир как после сражения самых
диких демонов и как юдоль горя и гибели, над миром —
радостная улыбка Вишну, который всеща готов играючи со¬
творить заново разрушенный мир, — это неплохая карти¬
на. Сильнее всего хочется ведь лечь, уснуть и больше не
просыпаться. Но если разобраться, каковы, собственно, мои
совсем личные желания и заботы, то засыпание окажется
все-таки не на первом месте, сперва мне хочется все же
довести до конца сочинение, с которым я провел последнее
десятилетие, и по возможности передать его миру, где оно
было бы напечатано и прочтено. Моя жена шлет горячий
привет. С уважением и коллегиальностью Ваш
Отто Базлеру*
[19.10.1939]
Дорогой господин Базлер!
[... ] Война началась не неожиданно, и если бы Гитлер
захватил Данциг и Коридор, а все прочие опять промолча¬
ли, то это было бы хуже, чем война. Я чуть ли не боялся
этого, а в Германии многие так и представляли это себе.
По-моему, я уже давно говорил Вам, что, на мой
взгляд, это невыносимое положение сперва потребует для
^Фрагменты трагической поэзии Оигт.).
202
своего краха и своей ликвидации ряда военных катастроф,
первой из которых была мировая война.. Мерзко, что нам
приходится среди этого жить, но ничего неожиданного тут
не было.
Я принадлежу к старикам и эгоистам, которые втайне
надеются, что умрут раньше, чем граната грохнет в их ком¬
нате. Но если подумать, то я хотел бы до того все-таки как-
то кончить «Йозефа Кнехта».
Приходит много писем с полевой почтой, позавчера —
прекрасное письмо от Моргенталера. Мой старший сын,
ополченец, получит сейчас длительный отпуск.
Много добрых пожеланий шлет Вам Ваш
Ответ на письмо неизвестного, который призвал Гессе
«чаще писать на актуальные темы»
[1939]
Спасибо за Ваше милое письмо. Ваше понимание зада¬
чи писателя или его функции в обществе я не вполне раз¬
деляю. Писатель отличается от нормального человека
главным образом тем, что он более индивидуален, чем
тот, и если писк^елем он смог стать только потому, что
осуществил эту индивидуальность, не считаясь с нормаль¬
ностью и не приспосабливаясь к ней, то создать что-то как
писатель он может, лишь подчиняясь, своему собственному
термометру и барометру, который часто отклоняется от
всеобщего. Поэтому едва ли у меня найдутся еще какие-
нибудь слова по поводу этой войны, после того как я (к
собственному удивлению) написал те стихи, те вирши на
случай*.
Вообще я должен подчиняться своим собственным тре¬
бованиям и укладу своей собственной жизни. Я, старый и
довольно изношенный человек, лет дев;ять назад взялся за
сочинение, проблематика которого требует полной самоот¬
верженности и которому я и отдаю остаток своей жизни.
Работая над ним больше восьми лет, я понемногу отдалился
от всего другого, чтобы не отрываться от своей пряжи, не¬
зависимо от того, стбящая ли это работа или просто причу¬
да. Эту работу, отдельные части которой уже несколько лет
печатались то там, то сям, я и должен теперь продолжать,
иначе эти годы пойдут насмарку.
Кстати, война, которую мы оба ненавидим, питается
своей вечной тенденцией к «тотальности». Во время войны
203
не только стреляют солдаты, носят каски школьные учите¬
ля и точат штыки пекари, но еще и любой мальчуган стре¬
мится получить нарукавную повязку и быть уже не маль¬
чуганом, а функционером войны. Чем более поддается пи¬
сатель этой тенденции, чем больше он признает за войной
право распоряжаться им, тем дальше уходит он от поэзии,
для которой ведь понятия «актуальность» не должно суще¬
ствовать.
Рольфу Шотту
[26.12.1939]
Дорогой, глубокоуважаемый господин Шотт!
Спасибо за Ваше письмо! Мне почти совестно от выра¬
жения Вашей приязни; я усталый старик, который сидит
за столом со слишком обильной почтой и порой радуется,
что со смертью ему обеспечено избавление от одной давно
уже заигранной и неподходящей роли. Между тем я пре¬
красно знаю, что выказываемые нам, знаменитостям, лю¬
бовь и уважение никак нельзя недооценивать, что они ис¬
кренни, что ошибочны только та или иная персонифика¬
ция, тот или иной культ личности, что любовь эта отно¬
сится к чему-то гораздо большему. Если кто-то сегодня
чтит писателя или художника или музыканта, то чтит он
в нем, сознавая это или не сознавая, все блага цивилиза¬
ции и человечности, поздним наследником и представите¬
лем которых тот случайно является и которые сегодня, как
со страхом сознает каждый, отрицаются и находятся в
опасности. Поэтому, если тебе случайно выпала роль зна¬
менитости, надо иногда, как епископ, позволять целовать
себе руку и подразумеваемую тут жертву направлять
дальше, по верному адресу.
Что меня изрядно заботит, так это завершение моего со¬
чинения. Я много лет корпел над настоящим творением ста¬
рости, важнейшее сделано, и на худой конец как фрагмент
позднее довольно ясно показало бы, что имелось в виду, но
завершение стоит все же под очень большим вопросом. Я
был недостаточно прилежен и придавал слишком большое
значение тому, чтобы для каждого малого этапа этой рабо¬
ты созреть и успокоиться — за этим меня застигли старость,
начинающееся одряхление, и вопрос уже не в том, доста¬
точно ли я зрел и умен для еще недостающих частей, а в
том, хватит ли небольшого запаса сил, охоты и стимулов,
204
чтобы снова, несмотря на неизбежные простои и долгое пе¬
рерывы, вернуть себе продуктивность. Сейчас все уже не¬
сколько месяцев стоит на месте. А сколько хватает на каж¬
дый день силы, восприимчивости, внимания — все уходит
на актуальность, правда> не на чтение газет, такой привыч¬
ки у меня нет, а на ту актуальность войны, смерти, нище¬
ты, бездомности, несправедливости и насилия, которую
каждый день преподносит мне в форме военных, эмигран¬
тских, беженских и другах судеб. Я передаю сведения о
членах семьи и друзьях, помогаю искать пропавших, время
от времени борюсь, чаще безуспешно, с нашей полицией по
делам иностранцев, а при этом у меня есть собственные за¬
боты, материально я завишу от берлинского издательства,
от которого меня отделяет граница и колючая проволока
валюты, трое моих сыновей служат в швейцарской армии
и Т.Д.
Вы уже видите теперь, что сегодня я унылый старый эго¬
ист, йедостойный прекрасного солнца, которое светит мне
через плечо с Дженерозо. Я подождал бы до завтра, но и
завтра, да и позднее, едва ли станет лучше, старость — не
враг, которого можно одолеть, а то и посрамить, это гора,
которая, обрушившись, нас заваливает, медленно распол¬
зающийся газ, который нас душит. [... ]
От всей души Ваш
Письмо в утешение во время войны
7 февраля 1940
Глубокоуважаемый адресат!
Когда в лесу молодое деревце сломлено или вырвано с
корнем, оно, бывает, валится на старое дерево, и тут ока¬
зывается, что и от старого нет толку, что оно,~такое еще на
вид стройное, на самом деле дуплисто и шатко и рушится
под тяжестью молодого. Примерно то же могло бы случить¬
ся с Вами и со мной. Но все выходит иначе. В Ваше поло¬
жение я способен войти, я пережил 1914—1918 годы и был
в эти четыре года на грани габели, а на сей раз у меня три
сына в солдатах (старший с недавних пор в пикете, два дру¬
гах служат с 1 сентября).
Как я смотрю на всю эту историю, Вам лучше всего по¬
кажет, пожалуй, один пример из ми4юлогаи. В индийской
мифологои, например, есть сказание о четырех эпохах; ког¬
да кончается последняя, когда война, упадок, бедствия до¬
205
ходят до предела, тоща вмешивается Шива, борец и убор¬
щик среди богов, тоща он растаптывает мир в пляске. Как
только он это совершит, прелестный бог-творец Вишну, ле¬
жащий где-нибудь на лугу, видит прекрасный сон, и то ли
из этого сна, то ли из воздуха, то ли из волоска Вишну
встает новый, прекрасный, молодой, восхитительный мир,
и все начинается заново, но не механически, а вдохновенно
и очаровательно.
Так вот, я думаю, что наш Запад находится в четвертой
эпохе и что Шива уже пляшет по нашему миру; я думаю,
что почти все погибнет. Но я думаю также, что все начнется
сначала, что люди вскоре снова зажгут жертвенный огонь
и построят святилища.
И поэтому я, усталый старый хрыч, рад, что я достаточно
стар и истрепан, чтобы умереть без сожаления. Но моло¬
дежь, в том числе и своих сыновей, я оставляю не в безнадеж¬
ности, а только среди тягостного и страшного, в огне испыта¬
ний, нисколько не сомневаясь в том, что все, что было свято и
прекрасно для нас, будет и для них, и для будущих людей
прекрасно и свято. Человек, думается мне, способен на ве¬
ликие взлеты и на великое свинство, он может возвыситься
до полубога и опуститься до полудьявола; но, совершив что-
то довольно-таки великое или довольно-таки мерзкое, он
всеща снова становится на ноги и возвращается к своей мере,
и за взмахом маятника к дикости и бесовству неизменно сле¬
дует взмах в противоположную сторону, следует неукосни¬
тельно присущая человеку тоска по мере и ладу.
И поэтому я думаю, что хотя сегодня старому человеку
ничего хорошего ждать извне уже не приходится и самое
лучшее для него — отправиться к праотцам, но прекрас¬
ные стихи, музыка, искреннее воспарение к божественно¬
му сегодня по меньшей мере так же реальны, так же по¬
лны жизни и ценны, как прежде. Более того, оказывается,
что так называемая реальность техников, генералов и ди¬
ректоров банков становится все нереальнее, все иллюзор¬
нее, все неправдоподобнее, даже война, возлюбив тоталь¬
ность, утратила почти всю свою притягательность и вели¬
чавость: в этих материальных битвах сражаются друг с
другом гигантские призраки и химеры — а всякая духов¬
ная реальность, все истинное, все прекрасное, всякая то¬
ска по нему сегодня, кажется, реальнее и существеннее,
чем коща-либо.
206
Сыну Мартину
[апрель 1940]
Дорогой Мартин!
[... ] Прилагаю последнюю редакцию нового стихотворе¬
ния. Да, это смешно: в то время как весь мир в окопах,
убежищах и т.п., готовится вдребезги расколошматить наш
доселешний мир, я целыми днями занимался тем, что от¬
делывал маленькое стихотворение. Сперва в нем было че¬
тыре строфы, а теперь только три, и я надеюсь, что оно
стало от этого проще и лучше, не утратив ничего сущест¬
венного. В первой строфе мне уже с самого начала мешала
четвертая строка, и, часто переписывая эти стихи для дру¬
зей, я начал перкутировать строчку за строчкой и слово за
словом, проверяя, что лишнее и что нет.
Девять десятых моих читателей вообще не замечают, в
той ли редакции дано стихотворение или в другой. От га¬
зеты, которая это напечатает, я получу в лучшем случае
франков десять, независимо от того, в той ли редакции пой¬
дут стихи или в другой. Для мира, стало быть, такое заня¬
тие — бессмыслица, какая-то игра, что-то смешное, какое-
то даже сумасшествие, и возникает вопрос: зачем поэту ус¬
траивать себе столько хлопот из-за каких-то своих стишков
и так тратить время?
И можно ответить, во-первых, так: хотя то, что делает
в данном случае поэт, наверно, бесполезно, ибо маловеро¬
ятно, что он сочинил как раз одно из тех очень немногих
стихотворений, которые живут потом сто и пятьсот лет, —
все же этот смешной человек делал нечто более безвредное,
безобидное и желательное, чем то, что делает сегодня боль¬
шинство людей. Он делал стихи, нанизывал на нитку слова,
а не стрелял, не взрывал, не рассеивал газ, не производил
боеприпасов, не топил судов и т.д. и т.д.
А можно ответить и по-другому: когда поэт так выиски¬
вает, расставляет и подбирает слова, находясь в мире, ко¬
торый завтра, возможно, будет разрушен, это в точности то
же самое, что делают анемоны, примулы и другие цветоч¬
ки, которые растут сейчас на всех лугах. Находясь в мире,
который, может быть, завтра окутает ядовитый газ, они
тщательно образуют свои листочки и чашечки, с пятью или
четырьмя или семью лепестками, гладкими или зубчатыми,
делают все точно и как можно красивее.
207
Рудольфу Якобу Хумму*
[30.7.1940]
Дорогой господин Хумм!
[... ] Кроме многих других качеств у Достоевского, как
мало у кого в его веке, есть прежде всего одно качество —
величие. Ведь он же не только вводит нас в муки и смуты,
но и большей частью проводит через них, и — что немно¬
гие его читатели в сущности замечают — у него удиви¬
тельно много юмора для проблематика и пророка; напри¬
мер, «Подросток» полон юмористических черт, «Идиот» —
тоже.
Что господин Книттель* разъезжает теперь с такой мис¬
сией, это ему, собственно, вполне к лицу.
Книгу Эмилии Бронте* я читал когда-то в немецком
переводе, и у меня осталось от нее сильное впечатление.
С сестрами Бронте я при чтении не раз встречался, а не¬
давно прочел и книгу о них, вышедшую у Рашера по-не¬
мецки, к сожалению, это ужасная ерунда, сентимен¬
тальный биографический роман самого дурного свойст¬
ва, но есть там интересные факты и запоминающиеся
иллюстрации (портреты и фотографии), старик-отец, в
частности, выглядит в точности как персонаж из романа
Эмилии. [... ]
Всего доброго Вам и Вашей книге, сердечный привет Ва¬
шей жене и дочери.
Эрнсту Моргенталеру*
Монтаньола, 25.10.1940
Дорогой друг!
I... 1Я читаю процесс разложения государственной мо¬
рали и политики неудержимым и, безусловно веря в конец
этого ада и в возвращение людей к терпимому виду человеч¬
ности, политики и государства, отнюдь не думаю, что какая-
либо нация, какой-либо уклад в мире застрахованы от ката¬
строфы и надругательства. Ад тоталитарного государства —
это фаза в ходе национализма, ад этот не будет длиться веч¬
но, но прежде чем рухнет, уничтожит почти полностью то,
во что мы верим и для чего, по-вашему, стоит жить. В такие
времена это хорошая школа — в противовес слепому патрио¬
тизму иметь в своей жизни прямую связь с преследуемыми и
бедствующими, например в форме брака с еврейкой; тогда
208
переносишь все это свинство уже не слепо, и те, кто это вы¬
держит, будут потом полезны.
Родина моей жены* уже несколько месяцев занята
большевиками. Ее двоюродный брат, который хотел пере¬
браться из Румынии в эту область, предпочитая обрусение
румынству, был в дороге убит румынами. Единственная
сестра жены, теперь, она под русской властью, не могла с
начала оккупации до самых последних дней прислать нам
письмо или открытку; заграничного паспорта, а значит,
возможности увидеться с сестрой она уже никоща не по¬
лучит. Теперь наконец пришла открытка, которую рус¬
ские пропустили, она написана предельно дипломатично.
Каждое слово выбрано так тщательно и каждое сообще¬
ние облечено в такую нейтральную форму, как то могло
бы быть разве что в самом осторожном письме, провезен¬
ном, скажем, из германского концентрационного лагеря.
[... ] В последние недели исполнилось одно давнее жела¬
ние моей жены: нашлась филологиня, которая погостит у
нас некоторое время и за это она ежедневно по два часа
читает с Нинон Эсхила, а также повторяет грамматику.
Она здесь уже три или четыре недели, приятная гостья.
Привет Саше; я иногда думаю о ней, когда на террасе
своего кабинета смотрю на отводки того растения, семена
которого я много лет назад увез от вас в кошельке, самый
старший из этих отводков ростом уже метра в два.
Эрнсту Моргенталеру
[январь 19411
Дорогой друг!
Я должен отчитаться перед Сашей за растение, которое
вы дали мне три года назад на Пасху; я увез с со^й в ко¬
шельке три крошечных чешуйки и посадил их здесь в гор¬
шок. Из нйх получилось потом растений сто, а то и больше,
несколько я тоже раздал знакомым. Но только одно из этих
растений, одно из старейших и, вероятно, одно из тех трех
изначальных, прошло до сих пор весь путь развития. Оно
быстро росло, сейчас его высота 265 сантиметров, не считая
всех изгибов и извилин, которые описывает его стебель,
привязанный в нескольких местах к колу. Стебель, толщи¬
ной с детский палец, деревянистый и очень твердый, на две
трети высоты голый, потом начинаются те веточки, распо¬
ложенные вокруг ствола, на концах которых возникают и
209
опадают новые чешуйки, чтобы внизу снова превратиться
в растения. Но теперь наступила еще одна, вероятно, по¬
следняя стадия развития: на самом верху, чуть повыше верх¬
них веточек, за последние недели медленно образовался
зонтик, состоящий из четырех пучков по 6—10 красивых
чашечек в каждом, большинство которых еще почки, а рас¬
пустившиеся имеют благородную форму чаши красивого
светло-красного цвета.
Вероятно, оно принадлежит к тем растениям, что цветут
один раз в жизни и потом умирают; во всяком случае, я
хотел сообщить Вам вышеизложенное, чтобы Вы знали, что
вышло из Вашего подарка.
Поразительные вещи произрастают на земле. На днях я
узнал о кончине одного друга, о котором уже тревожился
и чьи заботы раньше часто делил. Он был еврей, состоя¬
тельный, родом из Судетской области. В 1914 году он пошел
на войну элегантным австрийским лейтенантом, попал в
плен, провел несколько лет в Сибири, пришел оттуда пеш¬
ком в Чехию, позднее вступил во владение небольшой фаб¬
рикой отца, был в товарищеских отношениях со своими ра¬
бочими, частью обращавшимися к нему на «ты», очень дол¬
го оставался холост, разбирался в индийской и каббалисти¬
ческой литературе, много лет переписывался со мной, не¬
однократно приезжал к нам сюда, один раз с дамой, на ко¬
торой вскоре женился. Только он женился, как стал заме¬
чать, что Судеты скоро перейдут в Германию, он покинул
родные места и уехал в Прагу. Родина его и вправду отошла
к немцам, за свою фабрику он не получил ни гроша. В Пра¬
ге он жил сперва на широкую ногу, потом все скромнее,
под конец в полной нищете, а коща Прага оказалась в не¬
мецких руках, упорно, но с самообладанием и терпеливо
старался спастись, то есть получить разрешение на въезд в
какую-либо страну мира. О фешенебельных странах давно
уже не могло быть и речи, они, как наша, герметически
замкнулись или требовали огромной взятки за визу; поэто¬
му делались попытки с Перу, Боливией, Шанхаем и т.д. и
т.д., но нигде ничего не удавалось. Наконец, полгода назад
он доверил себя и жену пароходу с еврейскими беженцами,
отправлявшемуся по Дунаю через Румынию в Палестину.
С этой ужасной дороги, длившейся при голоде, мученьях и
строжайшей охране много недель, я получил несколько по¬
следних строк непосредственно от него — с кое-какими по¬
ручениями, которые я по возможности выполнил. Потом
ничего не приходило, а теперь я узнал завершение этой ис¬
210
тории. Пароход действительно пришел в Хайфу, но людей
(не знаю, на пароходе или в бараках) не выпускали, а де¬
ржали под полицейским надзором. И однажды их забросали
бомбами летчики, и бедствие сотен полуживых от голода
людей пришло к своему концу. Труп его жены будто бы не
могли опознать, а труп моего друга не найден.
Мы оба лежали с простудой, теперь я каждый день не¬
надолго встаю.
Addio, привет от твоего
Рудольфу Якобу Хумму
[конец октября 1941 ]
Дорогой господин Хумм!
[... ] Позавчера со мной случилась маленькая незадача,
вернее, большая глупость. Дело было незадолго до предве¬
чернего чая, к чаю ждали двух гостей, поэтому я несколько
раньше вернулся из сада, помылся и сел в мастерской чуть-
чуть отдохнуть. Кстати, как всегда с начала осени, у меня
довольно сильно болели пальцы рук и ног. Тут меня вспуг¬
нул какой-то чужой голос: кто-то украдкой обогнул дом и
очутился перед открытой дверью моей мастерской. Это был
молодой человек, впрочем, уже не совсем молодой, по типу
и по одежде вылитый немецкий турист-«вандерфогель*»,
одетый во все коричневое, цвета натуральной кожи со
смесью показной бедности, кокетства и пристрастия к ху¬
дожественным промыслам. Он бродил по этим местам, го¬
ворил на литературном немецком языке и пришел, чтобы
поблагодарить меня за мои книги. Поскольку говорил он
литературно, имел очень немецкий вид, поскольку он, как
то свойственно его братии, пробрался к дому задами и за¬
хватил меня в моих укромных покоях врасплох (подозре¬
вая, вероятно, что у парадного могут быть слуги и возник¬
нут препятствия), я разозлился и сказал ему, что людей его
нации я в дом не пускаю, а когда он с улыбкой стал раз¬
глагольствовать о любви к людям, не смеющей проклинать
целые нации и т.п., я разозлился еще больше и буквально
заорал на него, отчего, когда пришли настоящие, званые
гости, был совершенно без сил и до сих пор еще не вполне
отделался от скверного настроения.
Мой издатель, обещавший приехать в середине сентяб¬
ря, так и не появлялся, а поскольку никаких известий от
него нет, я полагаю, что за его почтой снова следят и поэ¬
тому он за границу не пишет.
211
у «Мондадори»* должна была выйти итальянская «Рос-
хальде». Но недавно издательство поручило какому-то че¬
ловеку, приехавшему в Швейцарию, передать мне по теле¬
фону: они справлялись в Риме, как относятся ко мне в Гер¬
мании, и узнали, что я принадлежу к авторам хоть и не
запрещенным, но нежелательным, и при таких обстоятель¬
ствах они, конечно, не могут издавать мои книги.
«Степной волк» выйдет, наверно, на днях. Статья о нем
в журнале книжной гильдии отнюдь не попадает в яблочко,
но я сам виноват, это я порекомендовал автора*.
Addio, привет Вам и Вашим от
Францу Ксаверу Мюнцелю
[осень 1941 ]
Дорогой господин Мюнцель!
Большое спасибо! Деньги за посылку я одновременно
перевожу по почте.
Прилагаю два стихотворения, которые мне недавно при¬
слали. Одновременно один молодой немец прислал мне с
русского фронта письмо, где в конце сказано, что к ценно¬
стям, которые должна защищать там, на востоке, немецкая
армия, принадлежит и мое творчество. Что в голове у этих
бедных мальчишек! Впору плакать. И в то время как этот
мальчик думает, что «защищает» меня и мои книги, из
Италии мне сообщают, что задуманное там итальянское из¬
дание «Росхальде», к сожалению, не состоится, ибо, спра¬
вившись в Берлине, узнали, что я принадлежу к авторам
хоть и терпимым, но нежелательным. У них даже не хва¬
тило храбрости сообщить мне это прямо, и прислали они
это сообщение окольным путем.
Подагра снова одолевает меня. Очень надеюсь, что смо¬
гу приехать в ноябре в Баден.
Сердечный привет.
Читательнице
Баден, ноябрь 1941
Глубокоуважаемая фрейлейн!
Ваше письмо я взял с собой из Монтаньолы в Баден, ку¬
да приехал для лечения на 3—4 недели.
Вы не ждали ответа, да и ответ — трудное для меня де¬
ло, ведь смысл всей моей авторской работы состоит в том,
212
чтобы укреплять индивидуальное, защищать его от «нор¬
мального» и нормированного, и ничего нет труднее, чем
вкратце повторять то, что ты множество раз высказал в
другой форме, в образах, в вымысле.
Ваши сетования мне вполне понятны. Однако стремле¬
ние, выраженное Вашим письмом, стремление приспосо¬
биться и слиться воедино с массой и обыденностью, я счи¬
таю невыполнимым. Можно искать общества, но подру¬
житься с нормированной жизнью человек одинокий с силь¬
ным личным началом может лишь условно и в неудовлет¬
ворительной мере. Поэтому лучше все же искать и де¬
ржаться другого общества, общества всех тех, с кем чувст¬
вуешь родство, поэтов, мыслителей, одиночек, и если ни¬
чего другого из этого не получится, то хотя бы заменой,
богатой и в общем-то безотказной заменой, будет вам зна¬
ние о вечном братстве тех, с кем мы схожи, которое во все
времена, у всех народов и на всех языках выражало себя в
книгах, мыслях, произведениях искусства.
Попытки жить якобы «настоящей» и здоровой всеобщей
жизнью, конечно, не лишены ценности. Но в конце концов
они все-таки всегда приводят нас в мир, с ценностями и
мерками которого мы внутренне не согласны, и то, что мы
приобретаем при этом, распадается у нас в руках.
А кроме мыслителей и поэтов нам^ открыта еще и при¬
рода, сопричастность миру, где нет условностей, который
открыт только тому, кто действительно способен отдаваться
и созерцать. Природа, как она предстает воскресному экс¬
курсанту и участнику туристических походов, — это при¬
зрак.
Случайно могу послать Вам маленький подарок, прила¬
гаю его.
Но довольно, такие длинные письма, собственно, выхо¬
дят за пределы позволенного мне и посильного.
Максу Васмеру*
Баден, 12.11.1941
Дорогой друг Васмер!
Обращак!)сь к Вам с нашей большой заботой и просьбой
помочь нам. Речь идет о тревоге, давно уже нами испыты¬
ваемой, о тревоге за единственную сестру моей жены, чья
жизнь и свобода находятся под большой угрозой. Она жи¬
вет у себя на родине, в Черновцах (бывший Черновиц),
пережила два года назад отход к русским, теперь — войну
213
и взятие снова румынами, а сейчас ей с мужем каждый
день грозят погром, депортация, концентрационный ла¬
герь и т.п. Ценой всяких усилий и жертв нам наконец уда¬
лось получить для обоих кубинские визы. Эти визы, для
доктора Хайнца Кельмана и г-жи Лилли Кельман, прожи¬
вающих в Черновцах, должны не сегодня-завтра прийти в
кубинское консульство в Берне. Получив подтверждение
от этого консульства, жена хочет сразу же послать его
Вам. И вот я от всей души всячески прошу Вас, дорогой
друг, помочь в этом деле. Мы просим Вас, как только Вы
получите это подтверждение, обратиться с этим докумен¬
том в общешвейцарскую полицию по делам беженцев в
Берне и добиться там транзитной визы для супругов Кель¬
ман. Итак, разрешение на проезд через Швейцарию по
пути на Кубу с правом одномесячного пребывания в
Швейцарии на следующем основании: при нынешних об¬
стоятельствах они не могут поехать из Черновцов в Бер¬
лин, где находится единственная для Румынии кубинская
миссия, они не могут, стало быть, поехать в Берлин, что¬
бы получить визу там. Поэтому мы попросили прислать
визу в Берн. Во-вторых, моя жена хочет повидаться со
своей единственной сестрой перед ее окончательной эмиг¬
рацией, побыть с ней некоторое время и помочь ей подго¬
товиться к дальней дороге.
Еще кое-что. Если это ходатайство будет удовлетворено,
что было бы ведь только человечно и естественно, швей¬
царское консульство в Бухаресте должно написать или луч¬
ше телеграфировать (велика опасность, что депортация
произойдет раньше) супругам Кельман в Черновцы, чтобы
они приехали в Бухарест за швейцарской транзитной ви¬
зой.
А мы тем временем будем добиваться с помощью одного
тессинского адвоката разрешения кантона на их временное
пребывание в Тессине. Мы знаем, что Берн может дать
только принципиальное согласие на въезд, а для этого нуж¬
но сначала разрешение кантона.
Пока тянется это дело, Нинон старается добыть кубин¬
ские визы для своей старейшей черновицкой подруги с сы¬
ном и его женой. Мы не хотим соединять это второе дело с
первым, куда более важным для нас, но хотим спросить
Вас, считаете ли Вы, что мы могли бы с видами на успех
ходатайствовать о проезде через Швейцарию с остановкой
лишь на 5—6 дней и этих трех лиц.
214
Моя жена сейчас в Цюрихе, у Г.К.Бодмера*, Беренгас-
се, 22. Но с четырех часов они почти каждый день нахо¬
дятся у меня в Веренахофе,
Все расходы я, конечно, тотчас же возмещу.
Addio, да не оставит Бог это письмо. Очень не хочется
мне обременять Вас, но другого пути не оказалось.
Билю Эйзенману
[прибл. ноябрь/декабрь 1941 ]
Дорогой господин Эйзенман!
[...] Ваши слова об «аскетах» и творцах, которых Вы
противопоставляете им, я прочел с истинным удовольстви¬
ем и одобрением, не забывая, однако, что, конечно, проти¬
воположное мнение могло бы быть столь же верным и иметь
такие же основания. Когда Вы говорите о художниках. Вы
разбираетесь в своем предмете прекрасно и стоите на твер¬
дой почве. Вашу хвалу творцам произведений искусства я
как нельзя более одобряю. Но я немного сомневаюсь в том,
что Вы способны вполне проникнуть мыслью в настоящую
религиозную жизнь. Она резко и в корне отличается от
жизни нерелигиозной. Соотношение с Богом каждого шага
жизни, сосредоточение всей жизни вокруг Бога создает со¬
вершенно другой образ мира, чем наш светский взгляд. При
этом социальный момент, сострадание при виде нужды и
несправедливости, отнюдь не стоит на первом месте; рели¬
гиозной жизни без сострадания и готовности помочь, ко¬
нечно, нет, но главенство этой социальной нужды необяза¬
тельно и порождается отчасти духом времени, а значит мо¬
дой. .
Не совсем ясно мне, что Вы подразумеваете под «аске¬
тами». Аскеза как самоцель может быть прекрасна, героич¬
на и великолепна, как всякое чрезвычайное напряжение,
но, например, в монашеско-христианской жизни она лишь
изредка играет эту роль самоцели, и поэтому европейское
монашество никак нельзя считать чем-то диаметрально
противоположным культуре и артистичности. Наоборот: в
течение всего средневековья, с VI века и святого Бенедик¬
та*, большинство монастырей были не только местами ас¬
кезы и отрешенности от мира, но родиной для всякой куль¬
туры, всякой учености, всякой музыки, школьного дела,
ухода за больными и помощи бедным.
Однако пора кончить письмо. Моя жена тоже охотно на¬
писала бы несколько слов, но она страшно занята, почта у
215
нее — как у всемирно знаменитого тенора, и каждую ми¬
нуту долгие телефонные разговоры и обмен телеграмма¬
ми — надо надеяться, все это в конце концов даст хоть ка-
кой-нибудь результат и действительно удастся что-нибудь
сделать для ее родственников. Если бы нынешний Фран¬
циск пожелал как можно теснее связать себя со всеми че¬
ловеческими бедами в мире, ему следовало бы жениться на
черновицкой еврейке.
Невестке Изе Гессе-Рабинович
Баден [декабрь 1941 ]
Дорогая Иза!
Большое спасибо за привет и приложение — очарова¬
тельную статью Вашей матери.
Что касается имени ребенка*, то я не хочу вмешиваться,
но все-таки хочу напомнить, что ветхозаветные имена, как
Давид и т.п., могут сегодня осложнить и затруднить жизнь
ребенку. Антисемитская волна еще отнюдь не схлынула,
она еще будет все больше подниматься в Швейцарии.
Есть, правда, забавным образом, и противоположные
случаи, когда имя с еврейским звучанием приносило пользу
нееврею. Я по крайней мере знал одного эмигранта, у ко¬
торого не было ни капли еврейской крови, но его звали Да¬
вид, и он долгое время получал поддержку от одной еврей¬
ской кассы взаимопомощи. [... ]
Сердечный привет, и Вашим родителям тоже!
Петеру Зуркампу
Монтаньола, 17.12.1941
Дорогой господин Зуркамп!
Еще раз хочу горячо поблагодарить Вас за Ваш приезд;
и правда, пора было обсудить наконец снова наши дела. На¬
деюсь, Вы чувствуете себя хорошо и вернулись не пере¬
утомленным.
По вопросу моего швейцарского гражданства, на кото¬
рый я, кстати, уже много лет назад ответил издательству,
я обещал дать Вам письменное разъяснение, вот оно.
Родители моего отца, родившегося в Эстонии, были рус¬
ские подданные, но по крови и языку — прибалтийские не¬
мцы. Из родителей моей матери отец был вюртембержец,
мать — швейцарка (кантон Невшатель).
216
Мой отец с 1880 по 1886 год жил в Базеле. В этот период,
собираясь остаться там навсегда и не очень, как все при¬
балтийские немцы, ценя свое русское подданство, он полу¬
чил права гражданства в Базеле, с тех пор мы, его дети,
швейцарцы и базельцы. Году в 1886-м отца перевели из Ба¬
зеля в Кальв в Вюртемберге, и поскольку благодаря шваб¬
скому деду была тесная связь с Вюртембергом и его шко¬
лами, а мне предстояло держать экзамен для поступления
в тамошнюю богословскую семинарию, то (кажется, в 1890
или 1891 году) я натурализовался в Вюртемберге, став, сле¬
довательно, германским подданным, тогда как остальные
члены семьи сохранили швейцарское гражданство.
Потом я жил то в Вюртемберге, то в Базеле, женился в
1904 году на швейцарке, а в 1912 году окончательно пере¬
брался в Швейцарию и вот уже почти тридцать лет непре¬
рывно живу в Швейцарии.
Поскольку я увидел, что, наверно, навсегда останусь в
Швейцарии, а дети мои росли среди швейцарского быта и
говора, то, конечно, довольно рано возникла мысль восста¬
новить свое швейцарское гражданство. Я так и сделал бы,
если бы не мировая война. Во время войны 1914 года и пер¬
вых последуюш;их лет отказ от германского подданства по¬
казался бы мне непристойным. Вот почему я и пропустил
десятилетний срок, в течение которого мог претендовать на
безвозмездное восстановление своего швейцарского граж¬
данства. Лишь после расторжения моего первого брака три
моих сына стали швейцарцами, и я решил, что пора и мне
ходатайствовать о швейцарском гражданстве. Натурализа¬
ция состоялась в 1923 году.
Прошу Вас сохранить эти заметки.
Издателю
[1941]
Глубокоуважаемый сударь!
[... ] Если я как литератор имею сколько-нибудь хоро¬
шую репутацию, то основано это не в последнюю очередь
на том, что я никогда не продавался и не принимал заказов,
тем более срочных. Вы очень легко найдете литератора, ко¬
торый сделает Вам любое количество страниц в любой ко¬
роткий срок. Почему это должен быть именно я, не пони¬
маю.
С глубоким уважением
217
Луизе Ринзер*
10.1.1942
Дорогая госпожа Ринзер!
Ваше письмо добиралось до меня очень долго, оно при¬
шло только после Нового года. Беря его в руку, я испыты¬
ваю то же чувство, что было у меня, когда я читал Вашу
книгу: передо мной почерк, черты и формы которого, строч¬
ка за строчкой, радуют и завлекают меня, он течет так лег¬
ко и при этом так четок и ясен, и, читая его, можно поду¬
мать, что у вас непременно должна быть легкая, довольно
безоблачная жизнь. Это мне понятно. По-другому, а может
быть, и так же, как Вы, я умел славно и обаятельно рас¬
сказывать о своей жизни или размышлять о ней, а сама-то
эта жизнь стоила мне массы усилий и огорчений, и в иные
времена я был готов в любой день покончить с ней счеты.
Наши рассказы опять-таки поощряют тех, кто их читает,
любить и защищать свою обильную такими же терниями
жизнь, а часто и делать из своей слабости добродетель, и
таким образом наша тяжкая доля продолжает жить и пере¬
дается по наследству, делая жизнь труднее и интереснее,
чем она могла ф>1 быть. Иногда хочется проклясть это по¬
ложение и это воздействие, а иногда только благодаря им
жизнь и мила.
Советов я не могу Вам давать; по своему нраву я скорее
посоветовал бы отпустить, а не удерживать, но я же не
знаю, что значит у Вас отпустить или удержать; может
быть, своей храброй защитой Вы удерживаете и отстаиваете
светлое начало в себе, и отпустить означало бы измену.
Мне больно знать, что Вы в бедственном положении, и все
же я нахожу эти беды понятными и чуть ли не естествен¬
ными, представляя себе Вас по Вашей книге. Могу только
пожелать Вам, чтобы кроме стойкости у Вас оказалось
столько легкомыслия, столько способности забыться, сколь¬
ко нужно в тяжелом положении, когда среди отчаяния, со¬
всем, казалось бы, перед катастрофой, какая-то картина,
какой-то цветок, чей-то взгляд может так поразить, восхи¬
тить, соблазнить и зачаровать человека, что все тяжести
вдруг распределяются в нас по-новому.
Вы должны были получить от меня небольшой новогод¬
ний подарок, нечто печатное, но я чувствую себя неважно
и во всем сильно опаздываю; но скоро эта штука будет все-
таки послана.
Сердечный привет. Ваш
218
Петеру Зуркампу
15.1.1942
Дорогой господин Зуркамп!
Посхле возвращения из Бадена, благотворнейшее влия¬
ние которого, к сожалению, вскоре снова сошло на нет, я
прочел три книги Вашего издательства, и все три произвели
на меня большое впечатление. Первая — «Ночной полет»*.
Вами подаренный и вызвавший у меня при повторном чте¬
нии почти точно такие же чувства и реакцию, как в первый
раз. Прекрасная и серьезная книга, и все же я отвергаю ее
как раз по тем же причинам, по каким А. Жид* ее хвалит.
Прекрасная эта книга защищает, даже обожествляет чело¬
века достаточно железного, чтобы из ночи в ночь посылать
молодых людей рисковать жизнью в служении какой-то
компании, какой-то зарабатывающей деньги машине, в
лучшем случае какому-то примитивному божеству по име¬
ни «техника» или «прогресс». Я такие божества отвергаю и
считаю неправильным приносить им жертвы и притом об¬
ращаться как раз к благородным сторонам души этих
жертв, апеллировать к их мужеству, к их героизму, к их
способности вдохновиться. А.Жид стал из-за своих взглядов
и своего восхищения железными людьми большевиком,
другие идут другими путями. Понимаю, они поступают так
из благородных побуждений, но сегодня, как и прежде, я
это очарование отвергаю.
Вторая книга, которую я прочел, — соч]инение Поде-
вильс*. В ней есть слабые стороны, есть какая-то внешняя
романтика, но для первого опыта она очень искусна, и она
очень мила мне потому, что выполняет первое и важнейшее
предварительное условие художественного произведения:
писательница знает немецкий язык, любит его и хлопочет
о нем. Можно ведь быть немецким писателем, не зная не¬
мецкого, но это, по сути, все-таки заблуждение, и я согла¬
сен с теми нациями, которые этого парадокса не признают.
В-третьих, я впервые лет за двадцать шесть перечитал
«Росхальде». Я сделал это по внешнему поводу, и мне долго
не хотелось за это браться: я ожидал посрамления, думал,
что ужаснусь безвкусице. Но все оказалось не так. Книга
мне понравилась и выдержала экзамен; есть в ней совсем
немного фраз, которые я сегодня вычеркнул бы или изме¬
нил, но зато в ней есть масса таких вещей, которые сегодня
были бы мне не по силам. В свое время этой книгой я достиг
возможной для меня вершины мастерства и техники и в
219
этом никогда выше не поднимался. Тем не менее имело
свой добрый смысл то, что тогдашняя война столкнула меня
с этого пути и, не дав мне превратиться в мастера хороших
форм, ввела в проблематику, перед которой чистая эстети¬
ка меркла... Вот что я хотел сообщить Вам.
Привет Вам и Вашей жене от Вашего
Двоюродному брату Фрицу Гундерту
[27.1.1942]
Дорогой Фриц!
Твое новогоднее письмо было для меня как гость из ва¬
шей страны и из давних мест, которые все больше и больше
становятся для меня легендой.
С тех пор возникло еще одно новое стихотворение*,
рожденное, как и предьщущее, атмосферой Йозефа Кнехта,
но связанное с нею не прямо. Для меня кнехтовская педа¬
гогическая провинция и игра в бисер были вот уже лет
одиннадцать убежищем и воздухом моей внутренней жиз¬
ни: если внешний мир не дает нам ни родины, ни процве¬
тания, ни хотя бы уюта, нам приходится самим создавать
себе воздух для дыхания, и поэтому для меня существует
множество понятий и представлений, которые поймет ког¬
да-нибудь только тот, кто познакомится со всей моей кни¬
гой.
Ты спрашиваешь, каково у меня на душе, когда я огля¬
дываюсь на труд моей жизни. Это, конечно, сложный воп¬
рос, ибо собой и своей жизнью я равно доволен и недоволен.
В такие времена, как нынешние, для людей моего склада
самое трудное — это не разочароваться при виде полного
нравственного провала того, о чем они думали и чему в ка¬
кой-то мере «учили». Я, например, отчасти по случаю Рож¬
дества и Нового года, отчасти в ответ на рассылку «малень¬
ких заметок» получил сейчас множество писем, несколько
сотен, и каждый из этих корреспондентов — более или ме¬
нее усердный, во всяком случае, доброжелательный мой чи¬
татель, более или менее верящий, что то, во что я верю,
обладает какой-то реальностью и переживет нас; но каж¬
дый из них работает в системе, помогающей* сохранять и
умножать горе, беду, войну, горячку, шум, никто из них
не принес бы настоящей жертвы, чтобы снять чары, и почти
все обеими ногами увязли в партийных, социальных, по¬
220
литических традициях, позициях и оценках, ни одной из
которых я не разделяю.
Но так обстоит дело в сущности с любым трудом жизни:
ценность его ничем не измеряется. Мы, художники, могли
бы, слегка преувеличивая, сказать: ценность моей работы
соответствует мере удовольствия, которое она доставила
мне. Оказывает действие и остается не задуманное, выду¬
манное, выстроенное, а жест, озарение, мимолетное очаро¬
вание, подобно тому как в опере Моцарта ценность пред¬
ставляют не фабула или мораль пьесы, а жест и мелодия,
свежесть и прелесть, с какой проходит и изменяется не¬
сколько музыкальных тем.
Этим вещам и посвящено мое новое стихотворение. Это
хвала не какому-то определенному писателю, а самой про¬
зе, инструменту, языку. Всю жизнь она была моим орудием
труда и игрушкой, а теперь, когда почти все другие радости
от меня упши, она осталась верна мне и стала, пожалуй,
еще милее.
Среди немецких романов этого года есть, наряду с Ка-
россой*, две необыкновенно хорошие вещи совсем молодых
женщин: «Стеклянные кольца» Луизы Ринзер и «Орхидея»
Подевильс. Обе книги вышли у С. Фишера.
Желаю тебе и твоим всего хорошего в новом году.
Томасу Манну
Монтаньола, 26 апреля 1942
Дорогой господин Манн!
Три дня назад получил Ваше милое письмо от 15 марта,
значит, относительно быстро. Вы обрадовали меня им, а это в
наши дни кое-чего стоит. Рад я также, что мой последний от¬
тиск дошел до Вас: страшно много экземпляров пропало, осо¬
бенно в Германии. Большое удовлетворение доставила нам
обоим также превосходная фотография — Вы с Фридоли-
ном*, чье лицо так похоже чертами на лицо Вашей жены. У
меня сейчас как раз есть фотография моего сына Хайнера с
дочерью, живупщх в Цюрихе. Эту (^тографию прилагаю. [... ]
Вы так участливо справляетесь о моем здоровье, что я
не могу в ответ промолчать, но хвастаться тут нечем. Сус¬
тавный ревматизм, хорошо знакомый мне уже много лет,
не отпускал меня почти два года, полтора года я не могу
сжать кулак и не могу ничего крепко держать в руке, порой
я не мог держать даже перо, но это прошло. С тем я и сми¬
221
рился и лишь время от времени пытаюсь немного поправить
дело то лекарствами и массажем, то лечением в Бадене.
Пр^1 этом работа моя не очень движется, однако история об
Йозефе Кнехте почти закончена — примерно через один¬
надцать лет после ее начала.
Мои книги' в Германии не запрещены, но не раз дело
было близко к тому и может снова быть близко в любой
день, и платить мне гонорар не раз запрещали. О моей
швейцарской и европейской позиции там, конечно, осве¬
домлены, но,_в общем, довольствуются тем, что зачисляют
меня в список «нежелательных». Сейчас большая часть мо¬
их книг распродана, и большинство из них, конечно, не
удастся переиздать. Но, в конце концов, войны длятся не
вечно, и хоть я не могу представить себе мир в конце этой
войны, я все же наивно полагаю, что тогда наши вещи все-
таки переиздадут. Сейчас одно цюрихское издательство,
«Фретц», вздумало издать сборник моих стихов; при подго¬
товке выяснилось, что я написал около одиннадцати тысяч
стихотворных строк. Меня ужаснуло это число.
Мир всячески старается облегчить нам, старикам, проща¬
ние с ним. Сумма разума, методичности, организованности, с
какой творится нечто бессмысленное, снова изумляет — не
меньше, чем сумма неразумия и простодушия, с какой народы
делают из нужды добродетель, а из резни — свои идеологии.
Столько зверства и столько простодушия в человеке!
Здесь война давно чувствуется во всем. Мои три сына
уже три года в армии, с перерывами и отпусками, но везде
штатская, человеческая, естественная жизнь зажата госу¬
дарственностью. Порой вся военная свистопляска после
1914 года кажется мне гигантской попыткой человечества
сломать сверхорганизованную броню своих государствен¬
ных машин, что, однако, никак не удается.
Привет всем Вашим, прежде всего Вашей милой жене,
от нас обоих! С самыми лучшими пожеланиями.
Ваш Г. Гессе
Сестре Адели
[октябрь 19421
Дорогая Адис!
Празднуя столетие со дня рождения нашей матери*, по¬
думайте минутку и обо мне и вообразите, что мысленно я
с вами. Вы вспомните при этом многие из тех октябрьских
222
дней, когда мы праздновали материнскую годовщину. По-
моему, однажды с нами был Людвиг Финк, но, возможно,
это было в твой собственный день рождения; мы набрали в
лесу полную корзину прекрасных грибов. Вспомните вы и
о том, как радовалась этому мать и как она умела готовить
праздники и всякие радости, как подбирала цветы для сво¬
их букетов и т.д. Это ее голос запевал утром в наши дни
рождения удивительную песню «Плохо ли на свете челове¬
ком быть?». Можно и сегодня задать себе этот вопрос, он
не устарел, хотя одно время так казалось.
Удивительной и таинственной была для меня всегда в
нашей матери смесь качеств, доставшихся си от родителей.
Во многом она была как дед, чью мудрость я глубоко чту,
а с другой стороны, она была так деятельна, нравственна,
так стояла горой за какое-нибудь правое дело, как на то
способна только латинянка-кальвинистка*.
Наши родители наделили нас многим, в том числе проти¬
воречиями и трудностями, наследство это не простое и не
легкое, но оно богато и благородно, оно призывает и обязыва¬
ет, и оно часто помогает держать глаза открытыми и ясно ви¬
деть и судить самому, когда большинство довольствуется
модными словами. Наши родители требовали от нас весьма
многого, но куда большего от самих себя, они своей жизнью
подали нам некий пример — редкий теперь и незабываемый.
Нам пытаются сегодня внушить, что их вера, их мировоззре¬
ние, их взгляды — отсталые, устаревшие; но я должен ска¬
зать, что если в юности я иногда думал о них так же, то с года¬
ми все стало на свои места и приобрело другой вид.
Жаль, что у нас не осталось от матери действительно
хороших портретов последних лет! Но в себе мы храним ее
образ в целости.
Привет всем, кто будет при этом!
Отто Энгелю
Монтаньола, 9.1.1943
Дорогой господин доктор Энгель!
Ваше декабрьское письмо пришло ко мне вчера. И более
ранняя открытка, которую Вы упоминаете в письме, тоже
пришла тогда, она датирована 28 октября. За это время и
у меня тоже произошло кое-что, почти пять недель я ле¬
чился в Бадене, у меня было совещание с моим издателем,
многое приходилось устраивать заново, появились и не про¬
223
ходят ужасные глазные судороги, а в ноябре у моей первой
жены, Мни, в Асконе сгорел дом; вопрос, что теперь будет
с ней, еще не решен. С Йозефом Кнехтом теперь все опре¬
делилось; поскольку в Берлине его отвергли, он должен в
течение года выйти в Цюрихе, а значит, как и стихи, будет
недоступен немецким читателям, кроме тех, кому я подарю
эти книги, что пока все еще разрешается.
Что касается средств к жизни, то я проедаю свои сбере¬
жения, наверно, их и до конца хватит; доходов почти нет
больше, ведь в Германии мои книги почти полностью разо¬
шлись, а в Швейцарии крошечный рынок почти ничего не
приносит. Но по крайней мере я смог издать стихи (они
посланы к Вам), переиздать в одном книжном товарищест¬
ве «Степного волка» и выпущу Йозефа Кнехта; я рад, что
моя рукопись, пролежавшая больше чем полгода в Берлине,
опять у меня.
Ну, вот, я и ответил на Вашу информацию о положении
Ваших дел своей информацией. Замыслов у меня больше
нет; проделать надо только работу над книжным изданием
Кнехта, глазам придется над этим помучиться, но меньше,
чем над стихами. Сверх этого ничего не хочу и не вижу, я
заговорил бы о заслуженном отдыхе, не звучи это сегодня
слишком мирно.
Иозеф Кнехт идет от идеи, не от наблюдений, он весьма
абстрактен, что поэтически никуда не годится, поэтому я
старался влить в него что-то живое, это должно быть заметно
и в «Легенде»*, если она удалась. Если ток между двумя по¬
люсами — абстрактностью и зримостью — действительно
циркулирует, то получившееся можно назвать не абстракт¬
ным, а, пожалуй, притчеобразным. Но это не важно.
О Вас я часто думал. Ваши дела и заботы занимают меня
больше, чем я могу передать; становишься бережлив, когда
сам еле дышишь. Часто думаю я и о своем друге Шалле*,
боюсь, что дела его плохи.
Рад, что у друга Шремпфа что-то получилось с «Леген¬
дой» — вот уж не наде тхся. А Ваши слова о стихотворении
«Ступени» доставили м^ле удовольствие. То, что у Вас было с
«без печали»*, бывает, конечно, порой и с самим автором, да
и вообще за смелость высказывать такие вещи, какие сказа¬
ны в «Сиддхартхе», в «Трактате» или в «Кнехте», приходит¬
ся платить, тут царит фатальная порой справедливость.
Как романист-филолог. Вы, наверно, знаете, что у моего
любимого К.Фосслера* вышли немецкий Данте и два сле¬
дующих томика «Романии», у меня они есть, но читать б^ду
224
не скоро. Я давно уже при длительном напряжении испы¬
тываю адские муки с глазами. Моя жена шлет привет. Ты¬
сяча самых лучших пожеланий от Вашего
Герману Хубахеру
[январь 1943]
Дорогой друг!
Спасибо за твое милое письмо, оно меня обрадовало. А
извиняться из-за книги, конечно, не стоило! Я с удоволь¬
ствием подарил ее тебе и ничего взамен ни в коем случае
не принял бы.
Скуплюсь я на экземпляры по той причине, что уйму
приходится раздаривать германским читателям: эта могучая
империя давно уже не хочет платить ни пфеннига за загра¬
ничные товары, а подарки принимает за милую душу. По¬
скольку империя и отдельные люди — вещи разные и по¬
скольку многие из этих отдельных людей мне очень близки,
а иные даже как читатели лучше здешних, приходится да¬
рить, ничего не поделаешь. Еще важнее это будет с Иозе^м
Кнехтом, когда он выйдет. Пока мы еще советуемся насчет
формата, набора и т.п., и, к сожалению, небольшая часть
текста, десяток-другой страниц, требует еще переделки.
Ты спрашиваешь, перестал бы я работать, если бы у ме¬
ня б1лл выбор? Но выбора-то как раз у меня и нет, и меня
не спрашивали, а работа почти совсем прекратилась.
И с привязанностью к жизни дело обстоит примерно так:
предложи мне сейчас на выбор — быть расстрелянным на
месте или продолжать жить, я бы, конечно, побледнел и
вдруг нашел бы всяческие доводы в пользу того, чтобы про¬
должать жить. А холодно рассудив, чего хорошего и чего
плохого я довольно уверенно могу еще ждать, я, видит Бог,
решительно предпочел бы не жить больше. Ведь сама по
себе мысль, что когда-нибудь действительно перестанут на¬
конец болеть глаза и ничего не услышишь ни о диктаторах,
ни о военных сводках, — это уже избавление.
Addio, привет вам всем от
Эмилю Бюрле
10.2.1943
Глубокоуважаемый господин Бюрле!
Недавно мой друг Моргенталер рассказал мне о его ви¬
зитах к Вам и о Вашем посещении Гайзера*. Он сказал, что
8 5-258 225
сперва Вы не проявили склонности помочь Гайзеру предло¬
женным способом, а потом предпочли предложить худож¬
нику твердое месячное жалованье сроком на один год.
Если Вы действительно не решаетесь помочь, бесспорно,
самому значительному швейцарскому скульптору столь щед¬
ро, как то намечалось раньше, я могу это понять: экономиче¬
ское положение внушает тревогу, у меня тоже экономический
спад и отвращение ко мне германских правителей совершенно
выбили почву из-под ног. Однако другое предложение помочь
Гайзеру, которое Вы сделали, предложение назначить месяч¬
ное жалованье, я все же прошу Вас выполнить.
Я не заинтересован в этом лично, Гайзер не является
моим другом, мы знакомы лишь поверхностно и не виде¬
лись много лет. Но за его художническую силу я всегда го¬
тов поручиться, и видеть, что такому недюжинному даро¬
ванию грозит деградация оттого, что этот художник, к со¬
жалению, не художник по части умения жить и финансов,
и оттого, что в нашей стране еще нет чуткости к таким не¬
обыкновенным явлениям, — это не дает мне покоя. Изви¬
ните великодушно, что я потревожил Вас снова!
Эрнсту Моргенталеру
[апрель 1943 ]
Дорогой друг!
Твое милое письмо с двумя чудесными набросками при¬
шло как раз вовремя, коща я нуждался в обществе и, как
говорят баварцы, в «оклике». Я на пять дней остался один.
Нинон в отъезде, и я сижу в окружении бутылок с лекар¬
ствами и виши и счетами аптекарей [... ].
Ты прав — если бы генералов можно было заставить
ежеутренне часок-другой писать красками, мир был бы
иным. Но генералы и диктаторы не любят пятен от краски
на штанах, и честолюбие их направлено не на то, чтобы
мучить на своем стуле в роли модели какого-то одного не¬
счастного, а на то, чтобы командовать тысячами и милли¬
онами; честолюбия этого нашему брату так же не понять,
как не понять генералу наших радостей и забот.
Вспоминаю одну историю, связанную с живописью, В
марте 1918 года я был в Локарно, я тогда только-только на¬
чал писать красками и попытался сделать несколько аква¬
рельных пейзажей; однажды по моей просьбе меня взял с со¬
бой «на натуру» художник Густав Гампер, лихой, умелый
акварельщик. Мы отправились со своими рюкзаками и
226
стульчиками в сторону Гордолы, я — с трепетом, страшась
предстоящих задач; по пути я с мольбой сказал Гамперу:
«Только будь добр — без водопадов!» Ибо это казалось мне
труднее трудного. Вдруг он остановился на каком-то поворо¬
те дороги, за невысокой стеной шла коричнево-фиолетовая
рощица, сквозь которую виднелись ущелье с водопадом, над
ними — часовня, еще выше — гора с несколькими хижина¬
ми. Он тут же распаковал свой мешок—да и правда, вид был
великолепный, — и все мои возражения остались втуне. И вот
мы уселись и принялись писать. Мы уже кончали, как вдруг
подкатила какая-то конная колясочка с какой-то тессинской
семьей, и Гампер воскликнул: «Напишем-ка быстренько и
колясочку!» — и действительно, за две минуты она появи¬
лась в его картине, я только поражался и совсем приуныл.
Это было в 1918 году. А недавно пришла посылка от
Гампера, ему хотелось что-нибудь подарить мне, и он по¬
дарил мне как раз ту акварель! Я долго искал и наконец
нашел и свою — без колясочки, с буйным кустарником и с
белыми пятнами водопада. [... ]
Отто Базлеру
[Замок Бремгартен, 16.8.1943]
Дорогой господин Базлер!
[... ] Был когда-то город, из которого я годами получал
больше писем, чем из какого-либо другого, он был полон
друзей, хотя большинство из них не знали друг друга. Город
этот назывался Гамбург. Его больше не существует. Кто из
друзей мертв, я еще не знаю. Пока я знаю только о двух,
которые потеряли кров и все имущество и, как беженцы и
нищие, находятся на пути в южную Германию; один из них
мой двоюродный брат Вильгельм Гундерт, которому коща-
то — вместе с Ролланом — был посвящен «Сиддхартха».
Дочь Эмми Балль*, вышедшая замуж в Риме, теперь бе¬
женкой, затравленная и потрясенная, приехала в Герма¬
нию в смертельном страхе за мужа, которого не выпустили.
А моя сестра, живущая близ Штутгарта, пишет мне: стран¬
ное чувство, когда, ложась вечером спать, никогда не зна¬
ешь, будешь ли еще утром в живых.
[... 1 Все снова и снова удивляются как раз тому, что в
моих поэтических, с виду свободно выдуманных рассказах
и стихах всюду встречается что-то действительно сущест¬
вующее и пережитое, даже документированное. То и дело
кто-нибудь из читателей поражается или смеется, узнав,
8* 227
что в самом деле существует друг Гессе по имени Луи* и
художник, что в самом деле есть и замок Бремгартен, и
черный король*, и сиамцы из «Путешествия в Нюрнберп>!
И так же есть еще множество другах известных только мне
мест, где в свободном с виду вымысле прячется дань памяти
о подлинном и пережитом.
Еще один пример.
Сказочный персонаж Коллофино (Файнхальс)*, неодно¬
кратно встречающийся в моих историях. Существуют и Кол¬
лофино, и его сочинения, я одно время немного дружил с
ним, и мы не раз обменивались приветами и подарками. В
последний раз он появляется совсем скрытно в латинской ци¬
тате, предпосланной как эпиграф «Игре в бисер». Там сказа¬
но «ed. Collof», т.е. «издание Коллофино», и по праву, ибо ла¬
тинская версия этой сентенции, которая по-немецки сочине¬
на мною и приписана некоему Альбертусу Секундусу, воз¬
никла при сотрудничестве Коллофино. Другим сотрудником
был Франц Шалль, и его я тоже назову в книге. Сентенция
эта была по моей просьбе переведена на средневековую ла¬
тынь Шаллем, блестящим латинистом, я показал ее потом
Файнхальсу, и тот нашел нужным кое-что там отшлифовать,
по поводу чего и завязал тогда, много лет назад, небольшую пе¬
реписку с Шаллем. Результат — окончательная редакция этой
сентенции в теперешнем ее виде. Видите, за иной мелочью
скрывается больше работы, чем то полагаешь при чтении.
Шалля уже нет в живых. А Коллофино, который был в
Кёльне очень богат и имел собственный жилой дом, наби¬
тый произведениями искусства, написал мне недавно из од¬
ной баденской больницы: в июне его контора — а через не¬
сколько дней и его жилой дом — были уничтожены, так что
от того и другого никакого следа не осталось. Такие сегодня
дела. Коллофино около семидесяти четырех лет.
Сыну Хайнеру
[декабрь 1943]
Дорогой Хайнер!
Вчера я чувствовал себя так хорошо, правда, всего один
час. Чтобы я выдержал поездку, мне сделали утром укол,
и встреча с вами и друзьями в Цюрихе, особенно с Силь¬
вером, Ьыла для меня чистой, глубокой радостью. Что при
этом заходила речь и о Хумме, я уже в следующую минуту
забыл. Но ничего даром не дается. Потом, вместо того что¬
бы вспоминать этот прекрасный час, мне пришлось выслу¬
228
шивать рассказ Нинон о ваших разговорах, а сейчас, хотя
я вот-вот свалюсь от переутомления и передо мной десятки
еще не прочитанных писем, мне приходится объясняться с
тобой из-за Хумма. При этом ты ведь не читал его резенции
в «Вельтвохе»*, да и самой книги еще не читал, и можешь
ли ты, или может ли Хумм лучше моего судить о том, что
я под конец жизни, как некую ее квинтэссенцию, писал в
течение двенадцати лет, это вопрос.
Дорогой Хайнер, жизнь подходит к концу, дыхания мне
уже ни на что не хватает, а адская боль в глазах держит
меня уже с девяти часов утра, после всего получаса работы,
словно в тисках. Могу тебе только сказать: Хумм мне по-
прежнему симпатичен, и я всячески силюсь быть справед¬
ливым к нему, но его отзыв о моей книге, этак сверху вниз
и с указанием, что ждешь, собственно, совсем не того, что
у меня получилось, отзыв этот разочаровал меня и причи¬
нил мне боль, а то, что он разгласил некоторые мои интим¬
ные обстоятельства, — это, на мой взгляд, грубая бестакт¬
ность. Дай мне спокойно как-то покончить с этим. Признаю
и за тобой, и за Хуммом право на любое мнение, но я не
стал бы всякое мнение и всякое замечание о друге выбал¬
тывать в светском листке.
Папа
Сыну Мартину
[Баден, начало лекабря 19431
Почтовый штамп 3.12.1943
Дорогой Мартин!
Сегодня днем выдался хороший час. Было 4 часа, я лежал
в постели и ждал Нинон, которая приезжает обнчно в это
время. Приехав, она сразу сказала, что встретила в поезде
Макса Васмера, его жену и Луи Муайе, они по пути хотят ме¬
ня навестить. Я встал, и мы впятером посидели часок внизу,
пока гостям не пришло время отправиться на поезд. Нинон
пробыла здесь до 7 часов, сегодня вечером она слушает ка¬
кой-то доклад в Цюрихе. И вот теперь после ужина у меня
остается время написать тебе несколько строк.
Что представляет собой и чего хочет моя толстая новая
книга, это ясно сказано в эпиграфе, предпосланном книге
по-латыни и по-немецки. Она хочет представить что-то не¬
существующее, но возможное и желательное так, словно
оно действительно есть, и тем самым на шаг приблизить
эту идею к возможности ее осуществления.
229
Кстати, эпиграф этот не есть мысль некоего средневеко¬
вого ученого, за каковую он себя выдает (хотя вполне мог
бы ею быть), а сочинен мной, по-немецки, затем, уже мно¬
го лет назад, его по моей просьбе перевел на латинский мой
теперь уже умерший друг Шалль.
Для меня самого эта книга была в течение одиннадца¬
ти с лишним лет, за которые она создавалась, чем-то куда
большим, чем идея и игрушка, она была мне броней про¬
тив гнусного времени и магическим убежищем, куда я
мог, когда духовно был к этому готов, уходить на много
часов и куда не проникал ни один звук из мира текущих
событий.
Если я в эти годы невыносимо отягчил свою жизнь, во-
первых, связанностью всего моего существования и труда с
берлинским издательством, а во-вторых, браком с австрий¬
ской еврейкой, то зато в те сотни часов, что я провел за игрой
в бисер, я находил мир совершенно чистый, совершенно сво¬
бодный от всего сиюминутного и волнующего, мир, где я мог
жить. Кое-кто из читателей найдет здесь то же.
Хорошо, что я смог дописать книгу вот уже скоро два
года назад, прежде чем мои духовные силы пошли на
убыль. Я вовремя поставил точку, и это примиряет меня
со многими глупостями, которые я натворил в жизни.
В воскресенье, наверно, приедет Бруно*. Хайнер был
здесь в понедельник недолго, всего полтора часа, но это бы¬
ло очень славно.
Привет тебе от твоего отца.
Тео Бешлину
[вероятно, конец 1943]
Дорогой Тео!
Почти невозможно рассказать тебе об «Игре в бисер»; я
невыносимо перегружен, да и неинтересно мне это, я счи¬
таю пустым занятием объяснять поэтические произведе¬
ния, и кто на основании самой книги, когда она перед ним,
не сможет составить себе приблизительной картины игры в
бисер, тому до нее и дела нет.
Представь себе это примерно так: наподобие того, как по
нотным знакам можно прочесть музьжальную пьесу, а по
математическим — алгебраическую или астрономическую
формулу, умельцы игры в бисер выстроили за века язык
знаков, позволяющий им передавать мысли, формулы, му-
зьпсу, поэзию и Т.Д. и Т.Д. всех времен чем-то вроде нотного
230
кода. Новое состоит только в том, что эта игра обладает
как бы общим знаменателем для всех дисциплин, то есть
охватьшает и объединяет некое множество координатных
рядов.
Кстати, подробности даны там и сям в имеющемся у те¬
бя тексте, например в главе «Студенческие годы», да и в
других местах. Выискивать эти места, чтобы избавить тебя
от работы, я из-за своих постоянно перенапряженных до¬
нельзя глаз не в состоянии.
Надеюсь, твои каникулы будут благотворны!
Эмилю Штайгеру*
[начало января 1944 ]
Глубокоуважаемый господин профессор!
Ваше милое письмо доставило мне истинную радость.
После того как моя книга прошла через первое, неприятное
соприкосновение с публикой, через обсуждение авторами
литературных отделов, где единственным серьезным был
голос прс^ессора Фези*, понемногу начинается ее воздей¬
ствие на тех читателей, которым она предназначена, и пока
прекраснейшим знаком этого воздействия было Ваше пись¬
мо. Оно принесло мне такой прекрасный и богатый отклик,
что я сегодня, несмотря на ужасное самочувствие, испыты¬
ваю полное удовольствие.
Собственно, ни об утопии (в смысле какой-то догмати¬
ческой программы), ни о пророчестве я, работая над этой
книгой, не думал, я пытался изобразить то, что считаю од¬
ной из насто{шщх и законных идей и осуществление чего
можно почувствовать на многих моментах мировой исто¬
рии. Что я при этом не сбился на что-то невозможное,
сверхчеловеческое и театральное, свидетельствует, к моей
радости. Ваше письмо. Много духов окружало меня во вре¬
мя работы над этой книгой — собственно, все духи, кото¬
рые воспитали меня, и среди них есть такие человечно¬
простые, настолько далекие от всякой патетики и мистифи¬
кации, как духи китайских мудрецов, исторических и леген¬
дарных.
Так же как Ваше суждение о бодрости и простоте в ма¬
нере моей книги, меня радуют Ваши слова об ее смысле и
возможном воздействии. Смысл ее кратко выражен в пред¬
посланном книге эпиграфе и примерно таков: заклинание
идеи, показ ее осуществления есть уже шажок к этому осу¬
231
ществлению (paululum appropinquant*). И тут Ваш отзыв
служит мне подтверждением.
Благодаря Вас за радость, которую Вы мне доставили,
должен сказать Вам также, что знаю Вас по ряду Ваших
работ, например в «Тривиуме»*, и Вы мне приятны. У меня
часто бывало такое чувство: вот работают люди, которым
важно именно то, что я имею в виду.
Рад был бы когда-нибудь увидеть Вас. Поскольку я уже
недостаточно подвижен, чтобы делать визиты, может быть,
Вам удастся, будучи в наших местах, навестить нас, меня
и мою жену, которая тоже знает толк в этих делах.
Рудольфу Якобу Хумму
3.1.1944
Дорогой господин Хумм!
[... ] Хотя мы и не виделись, между Вами и мной про¬
изошло кое-что, о чем я должен сегодня сказать. Сперва
появилась Ваша статья в «Аннабелле». Я немного покачал
головой по поводу ее изрядных бестактностей, но и посме¬
ялся над ними и на том успокоился. Я-то успокоился, но
не успокоились многие мои друзья, иные из которых устно
и в письмах прямо-таки возмущались Вашим репортажем.
Порядка ради надо сказать, что среди этих резко осуждаю¬
щих и возмущенных голосов был и другой, который горячо
брал Вас под защиту и всячески отстаивал Вашу статью.
Это был мой сын Хайнер.
Такова была история с «Аннабеллой». В конце концов
помирились на том, что повод слишком мелок, чтобы па¬
лить из пушек, и что длительное сотрудничество в таких
изданиях, как «Вельтвохе» и «Аннабелла», не может сде¬
лать лучше даже такого опрятного человека, как Хумм.
Но вот появилось еще кое-что, появилась Ваша рецен¬
зия на мою книгу в «Вельтвохе». Я случайно прочел ее в
баденской гостинице, и меня удивило уже то, что ни Вы,
ни редакция не подумали послать мне эту рецензию, я
вполне мог бы и вообще не увидеть ее. Поскольку Ваша
рецензия отнюдь не приняла мою книгу всерьез и не поняла
ее, я подумал, что Вы устыдились своей статьи и потому
решили не посылать мне ее.
^Немного приближается {лат.).
232
Но вот снова, устно и в письмах, люди стали высказы¬
ваться примерно так: если Хумм, будучи шутником и кри¬
тиком «Вельтвохе», хочет посмеяться над Гессе и его кни¬
гами, никто не может Хумму этого запретить. Но если тот
же Хумм в другом месте ссылается на то, что он друг Гессе
и хорошо его знает, дело становится все-таки нечистым.
Я не могу не согласиться в этом с моими друзьями. Что
Вы мою книгу читали плохо и не поняли, это меня не тро¬
гает. «Национальцайтунп» высказалась о ней глупее и ху¬
же, чем Вы*. Но что Вы так сверху вниз, без понимания,
смотрите на нечто столь важное и священное для меня, как
эта книга, что Вы так пренебрежительно похлопываете ме¬
ня за нее по плечу, это все-таки ошеломило меня.
Век живи, век учись, друзья тоже всегда могут ошело¬
мить. Но если бы мне можно было чего-то пожелать себе
на Новый год, то я пожелал бы, чтобы Вы больше ничего
обо мне не писали. Мне было довольно противно писать Вам
это. Но теперь уж это написано.
Петеру Вайсу*
29.1.1944
Дорогой господин Вайс!
Приятно было снова услышать о Вас, и в общем такие
отрадные новости!
Дом, сад, лес и площадка для игры в бочча — без осо¬
бых перемен. Зато ни славного Льва, ни сиамцев уже нет.
Год прожил у нас сынок Льва и маленькой сиамки, по клич¬
ке Карлик, очень милое и красивое животное, но прошлым
летом он издох от воспаления легких.
Скверная вещь случилась у нас на днях. Единственный
друг, который у меня здесь был и который часто меня на¬
вещал, д-р Мюллер*, недавно опять был у меня. Уходя ве¬
чером в темноте, он на дороге близ дома упал с крутого
склона через высокую стену и лежит сейчас в больнице,
плечо и рука выше локтя раздроблены, есть опасность, что
он не сможет больше работать по специальности.
Д-р Иозеф Кнехт — книга называется теперь «Игра в
бисер» — вышел в декабре в Цюрихе и, как и стихи, про¬
дается пока только в Швейцарии. Для меня из этого следу¬
ет, что нравственно я отрезан от своего истинного поля воз¬
действия, а материально почти ничего не получаю за эти
книги, тогда как другие, вышедшие в Берлине, почти пол¬
ностью распроданы много лет назад и больше не печатают¬
233
ся. Как это ни неприятно, я все-таки рад, что Кнехт суще¬
ствует теперь в виде книги, что он уже не пропадет из-за
какой-нибудь случайности и переживет меня.
У нас сейчас, в конце января, стоят такие теплые дни,
что даже жутко становится. Все еще цветут с осени не¬
сколько роз, рядом с ними вылезли первые подснежники, а
у камелий набухли почки. Вчера я видел, как летают три
бабочки-лимонницы. Привет Вашей жене и Вашему брату.
Марианне Вебер
[февраль 19441
Дорогая фрейлейн Вебер!
Ваше предвесеннее письмо от 2 февраля самым прекрас¬
ным образом подтвердило мне то, что я часто предполагал:
что вы там, среди ваших бед, гораздо более способны к ра¬
дости, к сиюминутному счастью, к восторгу мгновенья, чем
мы в «благополучной» стране, где все — на месте, но нет
больше воздуха, чтобы дышать! Ну, молодежь-то, конечно,
есть и здесь, но у нас, стариков, у меня в частности, нет
больше сил, нам конец.
Славная это история — об офицере, который после ноч¬
ного ученья читает мои стихи! Но было немало офицеров,
которые после расстрела десяти или ста заложников или
сожжения деревни мыли руки, ложились и еще часок чи¬
тали Рильке или Гёте. Мне был бы милее один-единствен-
ный, который не читает ни Рильке, ни Гессе, но научил бы
своих солдат стрелять не в русских и не в евреев, а в соб¬
ственных вождей. Когда-то, году в 1919-м, была в Герма¬
нии усталая от войны, очень пацифистская и интернацио¬
налистская молодежь, особенно студенты, они читали Рол-
лана и Гессе и казались закваской, но уже вскоре у Гитлера
была мальчишеская армия из ста тысяч парней, которую
народ добровольно отдал в его распоряжение и коричневое
обмундирование которой сам оплатил. Увы, в Германии не
верят ни во что, кроме как в лик Януса, в «фаустианца»,
который сегодня сжигает деревни, а завтра чудесно сыграет
Моцарта. А как раз это-то и осточертело. Ну, извините, что
я написал в таком настроении. Но когда ты настроен так
много лет, иначе не напишешь. Сердечный привет от Ва¬
шего
234
Двоюродной сестре Лине Курц-Гессе
[весна 1944]
Дорогая Лина!
[... ] Немецкой беде еще долго не будет конца. Несчастье
это вполне заслуженно; от убийства евреев, от разбойничь¬
их нападений на Австрию, Чехию, Польшу и, наконец,
почти на всю Европу нельзя было ожидать лучших плодов.
Боюсь, что там, в Германии, лишь очень и очень мало кто
знает, что произошло и за что они тоже теперь в ответе.
То, как они сейчас, сами уже на краю пропасти, наспех
отправили на убой несколько сот тысяч евреев в Венгрии,
этого одного уже хватило бы, чтобы надолго сделать слово
«немецкий» ругательством во всем мире. Ах, лучше помол¬
чим об этом.
Мне во всем этом выпало на долю уничтожение всех мо¬
их книг, запас которых еще имелся в Германии*. Сердеч¬
ный привет вам всем.
Племяннику Карло Изенбергу
[апрель 1944]
Дорогой Карло!
Прилагаемое письмо, которое, надеюсь, доставит тебе
удовольствие, я получил недавно от одного читателя «Йозе¬
фа Кнехта», органиста из Базеля.
[... 1 Снова перечитываю жизнь прелата Этингера*. Это
не какие-то там подготовительные штудии, я читаю это
скорее как историю про индейцев, но меня снова забавляет
и мне импонирует то, как он из Библии, Якоба Бёме, не-
множно из Лейбница, древнееврейского языка и Каббалы
строит теологию, которая не хуже любой сегодняшней, при
этом у него много прекрасных, благородных, да и таинст¬
венных черт, и вокруг него полно легенд. Шубарт написал
ведь о нем два стихотворения. В рифмованном некрологе,
сочиненном одним его коллегой, говорится:
Обычно не упоминается
И мало кому известен
Его путь в этом мире.
Но короткий земной упрек
Не умалит благородство слуги.
Который любезен своему Господу.
[... ] Если нам суждено пережить войну, то мне, пожа¬
луй, страшно будет снова встретиться с людьми из зару¬
235
бежья. С одной стороны, трудно будет понять друг друга, а
с другой — вы среди всех этих испытаний и страданий по¬
знаете и претерпите такую степень доблести, героизма,
терпения, щедрости, до какой мы, тучные побеги мира, не
доросли. Ну, пока это праздные заботы. Прощай.
Читательнице
[апрель 1944]
Дорогая фрейлейн Г.!
Спасибо за письмо. Хорошо, что у Вас есть друг с такой
библиотекой и такими собраниями! У меня тоже есть кое-
какие первые издания романтиков. Некоторые из них не¬
давно опять побывали у меня в руках, когда мы читали вы¬
шедшую у Котты книгу Брентано об А.В.Шлегеле*.
Иллюстрированный «Кнульп» еще далеко не готов, я да¬
же корректуры еще не видел. Но клише рисунков, правда,
готовы.
Вы правы в своем высказывании об иллюстрациях, с ни¬
ми дело обстоит так же, как с положенными на музыку сти¬
хами. Девять десятых этой музыки не нужны, но их под¬
держивает и оправдывает удавшаяся одна десятая, и было
бы все-таки жаль, если бы у нас не было песен Шуберта на
стихи Гёте и Вольфа* на стихи Мёрике. В принципе я за
то, чтобы не чинить препятствий в иллюстрировании ода¬
ренному графику (впрочем, я часто отказывал в таком раз¬
решении), но каждая книга должна существовать в обык¬
новенном, не иллюстрированном издании. С «Кнульпом»
так оно и получится, иллюстрированное издание будет
только для любителей этих рисунков, а старый «Кнульп»
без картинок будет существовать наряду с ним. С Бёмером*
было тогда несколько другое дело: этим заказом (это была
его первая иллюстрированная книга) я мог открыть дорогу
совсем молодому тогда, очень одаренному графику, потому
я так и поступил. Добрые пожелания и привет от Вашего
Маргарите Филипс
апрель 1944
Дорогая фрейлейн Филипс!
Ваше письмо обрадовало меня. Моя книга, сопровождав¬
шая и занимавшая меня почти двенадцать лет, вышла в та¬
236
кое время, когда для подобных вещей нет места на свете:
не говоря уж о том, что я мог ее только дарить, рискуя при
этом умереть с голоду, почти никто не проявляет интереса
и не откликается, люди заморочены, им некогда, они разу¬
чились думать, а часто и чувствовать, и поэтому вокруг ме¬
ня удваивается пустота, которая и так-то образуется, когда
расстаешься с многолетней работой. Я мог это, в сущности,
предвидеть, вряд ли могло быть иначе. Да я и не жалею:
книгу надо было напечатать, а то бы она была подвержена
всяческим случайностям и опасностям; теперь она сущест¬
вует, ее уже нельзя уничтожить, и она может меня пере¬
жить. Значит, по существу, все в порядке, и тем и удовлет¬
воримся. А что помимо того книга раз-другой попадала еще
и в руки, умеющие с ней обращаться, и в души, с понима¬
нием на нее откликающиеся, это подарок.
То, что вы говорите о мелодии прозы, намеком сказано
и в моем стихотворении «Проза», одном из последних в
сборнике стихов.
Спасибо Вам и дружеский привет от Вашего
Герберту Левандовскому
(май 1944]
Дорогой господин Левандовский!
Спасибо за Ваше милое письмо. С «Игрой в бисер» не
торопитесь, придет еще время.
В своем стихотворении, хотя оно мне не нравится. Вы
как нельзя более правы, ужасно, что действительность
именно такова! И мне тоже часто страшно трудно жить в
ней. Кажется, нет ни одного фронта в мире, где бы у меня
кого-нибудь не было, мои ближайшие родственники в Гер¬
мании, в большинстве старики, как я, проводят ночи в под¬
валах, многие погибли, часть моих друзей, если они еще
живы, в эмиграции, а что оставалось от моих книг в Гер¬
мании — все уничтожено бомбами.
Порадовало меня в Вашем письме то, что Вы неукосни¬
тельно работаете. И то, что Вы обнаруживаете такие дале¬
кие и забытые вещи, как мои рецензии на книги той поры,
когда я еще пытался отстаивать в Германии дела, которым
грозила опасность.
«Златоуста» много лет не было в продаже, его не разре¬
шалось переиздавать в Германии. Скоро выйдет швейцар¬
ское издание в «Книжной гильдии».
237
Гансу Рейнгарту
[середина мая 1944]
Дорогой господин Рейнгарт!
Вашему письму, которого Вы, к счастью, не разорвали,
я был очень рад. Хотя вещи видятся мне иначе, чем Вам
(каждый пребывает ведь в своей шкуре), ничто не могло
обрадовать меня больше, чем Ваша готовность к благодар¬
ности и радости во всякое счастливое мгновенье.
Что союзники сильнее гитлеровцев, я испытал на себе.
Ведь итог всей моей работы состоял в том, что в Берлине
лежала огромная куча книг, в мирные времена их было сот¬
ни тысяч, они составляли материальную основу нашей жиз¬
ни, моего издателя и моей. Затем пришли гитлеровцы и по¬
пытались покончить с этим. Но возникло много препятст¬
вий. Во-первых, мои книги, как-никак, приносили немного
валюты, затем не хотелось поднимать ненужный шум, и,
наконец, с начала войны правители знали, что не только
старые тетки, но и молодежь и солдаты читают мои книги
и любят их, книги эти значились во всех заказах полевых
книжных лавок, госпитальных библиотек и т.д. Поэтому
мне позволяли кое-как жить, ничего нового, правда, у меня
не брали, но время от времени разрешали переиздавать са¬
мые невинные мои старые книги маленьким тиражом (ко¬
торый обычно закреплялся за армией), А книготорговцам,
редакциям и библиотекам объявили мои книги «хоть и не
запрещенными, но нежелательными». И в результате, к не¬
удовольствию чиновников, в Берлине на складе скопилось
несколько тысяч моих книг. Но тут подоспела американ¬
ская бомба и все смела.
В Берне мой младший сын обручился, а мой старший
собирается с женой и детьми навестить меня. Жду этого с
радостью.
Эрнсту Цану*
[июнь 1944]
Дорогой господин Цан!
Ваше милое письмо и дружеское предложение как-то
помочь мне в следуюпщй раз в расчетном отделе очень при¬
ятны и утешительны. Спасибо Вам за это.
Практически этот отдел, вероятно, надолго потеряет для
меня важность, ибо не думаю, что получу что-либо из Гер¬
мании в обозримое время. Но это, конечно, не мешает чи¬
238
новникам в Цюрихе то и дело приставать ко мне с какими-
нибудь придирками. Это раковая болезнь, которой болей
весь наш мир, — гипертрофия ставших самоцелью и идо¬
лом государства и его чиновничества, автоматически стре¬
мящегося с помощью все новых ненужных формальностей
и должностей показать, что без него нельзя обойтись и чис¬
ленно увеличиться.
Что касается Вашего отношения к Германии как к есте¬
ственному для нашего брата месту издания, то, по сути, я
его разделяю. Вот только Германия думает об этом иначе.
Ряд моих книг был запрещен, другие хотя и терпели, но
четко объявили «нежелательными». А когда я почти уже
два с половиной года назад, нехотя и сжав зубы, разре¬
шил своему берлинскому издателю предъявить властям,
чтобы получить разрешение на печатание, рукопись «Игры
в бисер», ему в этом разрешении отказали на том основа¬
нии, что книги такого рода совершенно нежелательны.
Для меня поэтому издание в Швейцарии было просто
единственным выходом, если я хотел обеспечить существо¬
вание моей книги, труда двенадцати лет.
С другой стороны, я тщательно избегал всякой связи с
авторами, которые на стороне нацистов (прежде всего с
Книттелем). Не реагировал я и на пренебрежение швейцар¬
ской книжной торговли к нашим изданным в Германии
книгам, да и вообще принципиально не предпринимаю ни¬
каких шагов для распространения моих книг, включая пе¬
реводы и т.п.
Посылаю Вам единственное стихотворение*, которое я
написал за два года, больше ничего у меня сейчас нет.
Сестре Адели
Баден, 13.12.1944
Дорогая Адис!
Вчера пришло письмо от Лене*, в котором она благода¬
рит за книжечку. Спасибо и сердечный привет ей.
Пишу я тебе еще раз из Бадена, накануне отъезда, по¬
тому что этот д-р Маурах только что написал мне еще раз,
привожу из его письма некоторые сведения о семье.
«Потомки старого дяди Германа в Эстонии по мужской
линии вымерли вместе с Вашими двоюродными братьями.
Два внука олайского пастора Германа Г.* (сын младшего
олайского пастора Германа, Георг, и сын берлинского хи¬
239
мика Вилли, Герман) — оба погабли. Второй не вернулся
из полета в северной Финляндии, а первый замерз ужасной
русской зимой, коща, обессилев, отстал на марше.
Есть, кстати, письменные свидетельства о Вашем дяде,
по-моему, куда более яркие и свежие, чем записки Мони¬
ки Гунниус*. Это воспоминания одного моего двоюродного
деда, ревельского врача Ойгена Клевера, друга юности и
жениха старой тети Женни, который потом, благодаря за¬
мужеству своей сестры, породнился и с Гессе. В этих от¬
носящихся к старой Эстонии воспоминаниях Ваш дед тоже
играет большую роль. В замечательных эпизодах этих не¬
напечатанных воспоминаний фигура этого великолепного,
часто очень самовластного человека вырисовывается весь¬
ма отчетливо, например его ухаживание за одной из двух
первых его жен. Он впервые видит ее на пикнике и тут же
решает: эта или никто. Чтобы отделить ее от компании, он
решительно предлагает ей пробежаться наперегонки до
стоящего поодаль дерева. Прибежав, он хлопает ее по пле¬
чу и спрашивает: «Хотите быть моей женой?» На что де¬
вушка ответила согласием... На первый взгляд это могло
бы показаться чуть ли не равнодушием, коща он, сидя у
смертного одра своей второй жены, в ответ на ее щадяще
грустные слова, что она скоро умрет, коротко сказал: «Ми¬
лая Лина, ступай». Но это, по-видимому, действительно
прочувствованное одобрение Божьей воли. Полна жизни и
сцена, показывающая почти диктаторскую власть старого
доктора над маленьким городком. Отец автора этих воспо¬
минаний, старый друг и сосед дяди Германа, строит новый
дом для своей разрастающейся семьи. Доктор то и дело
проходит мимо и высказывает свое мнение о постройке.
Оказывается, что дом будет на несколько футов выше ста¬
рого I... ] Вся семья рада этому. Когда об этом узнает док¬
тор, он возмущается и выговаривает своему другу за этот
признак высокомерия и нескромности. Его влияние так ве¬
лико, что от задуманного новшества отказываются, и дом,
к молчаливому огорчению семьи, строится таким же невы¬
соким, как старый».
Теперь тебе есть что почитать, хотя в большей части это
для тебя, наверно, не ново.
Сегодня собираем вещи, а завтра едем. Недавно я еще
раз был два часа в Цюрихе у Хайнера, дети были нездоро¬
вы, но милы.
Привет и всего доброго вам всем.
240
Луизе Ринзер
[декабрь 1944]
Дорогая госпожа Ринзер!
Ваш рождественский подарок, славный разговор о поэте
С Базаровым, напомнивший мне мою юность и первое чте¬
ние Тургенева, поехал вслед за мной на лечение в Баден и
прочитан здесь. Большое Вам спасибо.
Надеюсь, прибудут к Вам и мои дары, бандероль с не-
обыкновенно_хорошей статьей о стихах и моя книга.
От друга Зуркампа я узнал, что он потерял свое жилье
и имущество, но издательство еще сохранилось. За это вре¬
мя, правда, опять многое произошло.
Желаю Вам сносной жизни и возможности работать. Это
все еще лучшее средство приобрести какой-то иммунитет
против мировой чумы.
Для меня этого средства не существует скоро уже два
года, с тех пор как закончен Иозеф Кнехт; с той поры я ни
строчки не написал. Зато мне на помощь приходит какое-то
равнодушие и безразличие, дар старости, который нельзя
недооценивать.
Вилю Эйзенману
[январь 1945]
Дорогой господин Эйзенман!
Смешные часто выпадают обязанности. Так мне выпала
теперь обязанность извиняться перед Вами за то, что не до¬
шел в возмущении художником Штёклином* до той степе¬
ни кипения, которой вы считаете возможным от меня тре¬
бовать. Но я, право, ничего не могу поделать. Конечно,
штёклинский Кнульп — не мой, конечно, он гораздо гру¬
бее, глупее и жирнее. Но если бы при тысячах романсов на
мои стихи я каждый раз при промахе композитора заболе¬
вал от обиды, меня уже десятки лет не было бы в живых.
У меня всегда находились другие и лучшие дела, чем уби¬
ваться из-за такой ерунды. Если мой Кнульп чего-то стоит
и переживет меня, то скоро придет время, когда любой ил¬
люстратор и любой издатель смогут обойтись с ним как им
заблагорассудится, и тогда Вы, чего доброго, придете на
мою могилу и потребуете, чтобы я перевернулся в гробу.
Но я этого не сделаю.
Действительно грустно в этой кнульповской истории
только одно: без желания Штёклина сделать иллюстрации
241
к моему Кнульпу ни один швейцарский издатель не взду¬
мал бы пробудить моего Кнульпа от летаргаи и переиздать
его хотя бы для Швейцарии. Вот что грустно. А над осталь¬
ным могу только посмеяться.
Отто Базлеру
Пасха 1945
Дорогой господин Базлер!
Спасибо за Ваше последнее письмо. На этот раз можно
и впрямь надеяться, что Ваша военная служба — послед¬
няя.
То пасхальное стихотворение*, к сожалению, не такое
хорошее, каким оно видится Вашему энтузиазму. Конечно,
все, что в нем сказано, справедливо и верно, но исполнению
не хватает истинного обаяния, того неуловимого, что со¬
ставляет ценность стихотворения. Это добропорядочное
стихотворение, не более того.
Поскольку Вы то и дело что-то слышали от меня о моем
бедном дорогом друге и издателе Зуркампе, я сообщил Вам
последнее известие о нем. Жив ли он еще, неизвестно. Бол¬
ваны в Англии вдруг стали возмущаться всей Германией,
Словно зверствовал в лагерях действительно немецкий на¬
род, а молчат о тысячах тихих мучеников и героев, которые,
как Зуркамп, упорно и непрестанно сопротивлялись превос¬
ходящей силе, неоднократно рискуя свободой и жизнью, и
самым благородным образом представляли немецкий народ в
его труднейшее время... Теперь, в 1945-м, англичане обна¬
ружили те ужасы лагерей, которые уже в 1934 году описыва¬
лись в пражских журналах, ужасы, которые должны были бы
•тогда в Берлине заставить английских послов отшатнуться
от Гитлера, а не раскланиваться перед ним, как то они дела¬
ли, эти болваны. Об этом никто сегодня не говорит. А в Ита¬
лии многих из тех, кого преследовали прежде немцы и фа¬
шисты и кого знал народ как честных антифашистов, союз¬
ники вплоть до сегодняшнего дня держали в тюрьме.
Курту Клеберу*
[апрель 1945]
Дорогой господин Клебер!
Спасибо за Ваш прекрасный пасхальный привет. Эти
стихи — голос побежденных, голос Европы, и победители
242
на западе и на востоке не станут их слушать или выслуша¬
ют только с кривой усмешкой. Тем не менее мы не вправе
перестать выражать человеческое страдание, даже если нас
слушают только побежденные и страдающие.
Посылаю Вам ответный подарок. Он неказист, этот от¬
ветный подарок, и я посадил на него красное пятно, при¬
чем собственной кровью. Сделал я это не от восторженно¬
го отношения к словам из «Заратустры»: «Из всего напи¬
санного я люблю только то, что написано кровью». Я на¬
хожу это изречение таким же пустым и выспренним, как
вся эта книга, и считаю, что ни собственной, ни чужой
кровью пытаться писать не следует. Но руки и ноги мои
стали очень неловки, я сейчас с трудом ковыляю по ком¬
нате, и сегодня, открывая пакет, рассадил себе ножницами
большой палец, отсюда и это дурацкое украшение на
книжке.
Привет вам обоим* и добрые пожелания.
Томасу Манну
Монтаньола, Троицын день 1945
Дорогой господин Томас Манн!
Несколько дней назад пришло Ваше письмо, рассказав¬
шее мне о Вас и о Вашем чтении «Игры в бисер». Это очень
обрадовало меня, особенно Ваши заметки о забавной сто¬
роне моей книги. И с особой радостью и интересом прочел
я, конечно, заглавие «книжечки», которой Вы заняты*. У
Вас продуктивность сохраняется, видимо, дольше, чем у
меня; за последние четыре года я ничего не написал, кроме
нескольких стихотворений, но я доволен^ что успел кончить
биографию Йозефа Кнехта, до того как сдали силы. Она,
кстати, пролежала тогда полгода в Берлине, поскольку я
был твердо намерен выполнить свои обязательства перед
верным Зуркампом (а он долго сидел в гестаповских тюрь¬
мах, наконец, совершенно изможденный, попал в какую-то
потсдамскую больницу, которую вскоре бомбили, и я не
знаю, жив ли еще этот верный друг). Однако берлинские
министерства нашли выход моей книги «нежелательным»,
и она поныне неизвестна публике, если не считать не¬
скольких десятков читателей в Швейцарии.
О «политизации» духа мы думаем, надо полагать, не
очень различно*. Когда дух чувствует себя обязанным уча¬
ствовать в политике, когда мировая история призывает его
243
к этому, он, по кнехтовскому и моему мнению, непременно
должен следовать этому зову. Сопротивляться он должен в
том случае, когда его призывают или на него нажимают из¬
вне — государство, генералы, власти предержащие, подо¬
бно тому как в 1914 году элиту немецкой интеллигенции,
в общем-то, вынуждали подписывать глупые и лживые воз¬
звания.
С начала марта у нас, за исключением считанных дней,
необыкновенно тепло, в конце апреля началось уже лето,
а сейчас так жарко, как вообще-то бывало здесь лишь в раз¬
гар лета. Из Франции и Англии приходят иногда письма, а
больше ни звука ни из одной соседней страны.
Думая о Вас, я буду теперь думать и о докторе Фаустусе.
Я не раз вспоминал Вас при чтении последнего тома «Иоси¬
фа», и часто вспоминали мы Меди*, когда читали «Марш
фашизма»*, до которого я добрался лишь этой зимой.
От души желаю Вам того же, что Вы мне. Вам шлет при¬
вет по-прежнему верный Вам
Г.Гессе
Гюнтеру Фридриху
Монтаньола, 18.6.1945
Дорогой Гюнтер!
Позавчера пришло ко мне твое письмецо, спасибо тебе
за него, мне только жаль, что не могу ничего послать те¬
бе, кроме этих строк. Еще недавно я хотя бы мог время
от времени посылать немецким друзьм-эмигрантам в Ан¬
глии книжки в подарок, но с «конца войны» и это пре¬
кратилось, почта ничего, кроме писем, не принимает. А
с Германией у нас после капитуляции вообще нет связи,
я ровно ничего не знаю ни о своих сестрах и друзьях, ни
о своем бедном, верном издателе, который долгое время
сидел в гестаповских тюрьмах, не знаю даже, жив ли он.
Поэтому и о твоих ничего сообщить тебе не могу, однако
оснований для опасений нет, только с продовольствием
во всей Германии дело обстоит, вероятно, очень скверно,
и это лучше, что твоя семья живет не в большом городе.
Ты говоришь в своем письме, что было бы лучше, если
бы Гитлер погиб при покушении на него. Это верно по¬
стольку, поскольку для Германии все сложилось бы чуть-
чуть лучше. Но тот факт, что Германия отдалась Гитлеру,
что она, напав, разграбила Чехию, Австрию, Польшу,
Норвегию и наконец полмира, убила миллионы людей,
244
грабила страну за страной, этот прискорбный факт остался
бы фактом и в том случае, если бы Гитлер погиб чуть
раньше. И ведь беда и позор Германии состоят не в том,
что теперь она побеждена и ей тоже приходится постра¬
дать, а в том, что она много лет творила эти мерзости.
Вы скрежетали зубами от злости, когда ваши рекруты
еще до 1939-го пели: «Сегодня нам принадлежит Герма¬
ния, завтра — весь мир», и нам грустно оттого, что ваш
народ, по-видимому, до сих пор не понимает, что он на¬
творил.
Довольно об этом. Но в своем первом письме к тебе мне
не хотелось обходить это молчанием.
Хочу, чтобы твоя участь была сносной и чтобы ты еще
застал восстановление!
Карлу Кереньи*
[7.7.19451
Дорогой господин Кереньи!
Ваше милое письмо. Ваше одобрение моего «Письма к
немцу». Ваша статья о гуманизме* и, наконец, прекрасное
эссе о Вас в «Ди тат»* — все это приятные и радостные для
меня и для моей жены дары. Я сейчас ничем не могу ода¬
рить Вас, кроме этого оттиска, который я заказал ко дню
своего рождения.
С Вашей проблемой гуманизма связаны все раны, все
возможности исцеления, все надежды этого дикого време¬
ни. Для меня самый прекрасный плод гуманизма — это
pietas, благоговение перед человеком, перед его возможно¬
стями создавать и страдать. Нехватка этого пиетета, убыль
человеческой ценности в жизни, политике, общественном
мнении отнюдь не излечена ампутацией самого больного
члена, нацизма, и если Европа действительно погибнет и
останется лишь прекрасным воспоминанием, тогда и гума¬
низму конец. В сущности, я не могу в это поверить.
Мои друзья вновь обрели одного пропавшего венгерского
родственника, он был депортирован и давно исчез, а нашел¬
ся в группе угнанных, попавшей в руки американцев. Ус¬
лышать бы и Вам такое известие!
Сердечный привет Вам от нас обоих.
245
Жене Нинон
[16.7.1945]
Жаль, что ты откладывала свое возражение до того, как
наберут книгу! Было время сделать это на много лет рань¬
ше! Теперь я оказываюсь перед Фретцем, у которого нет
ни юмора, ни тонкого чутья, в весьма глупом положении.
Я думаю об этих строчках в «Фогеле»* совершенно иначе,
чем ты, и сам никогда не позволял себе вмешиваться в кни¬
ги Балля, например, и других в тех местах, где меня или
моих друзей упоминают даже критически.
Решение может быть только такое, что я пожертвую ради
тебя сказкой, из-за которой «даже» Бёмер жалеет тебя. Но,
по-моему, было бы правильно, чтобы и ты принесла при этом
маленькую жертву, взяв на себя труд сообщить издательству
Фретца эту неприятную новость — что мы по семейным при¬
чинам должны выбросить один из главных рассказов книги,
отчего пострадает и красивый титульный лист, который, по
моему замыслу, должен был не обидеть тебя, а послужить
приветствием к твоему пятидесятилетию.
Что ты напишешь Фретцу, это твое дело. Но можешь ска¬
зать, что я готов оплатить набор ненужного теперь «Фогеля».
Иоганне Аттенхофер
[июль 1945]
Глубокоуважаемая госпожа Аттенхофер!
Опять Вы одарили меня. Благодарю Вас и постараюсь
пристроить луковицы тюльпанов, хотя места мало, участок
мой — старый виноградник, очень крутой, очень камени¬
стый, большая часть занята лозами, между ними, ще позволяет
место, частью земляника, частью овопщ и немного цветов.
По «немецкому вопросу» мне не хочется больше выска¬
зываться в частном порядке. Меня это слишком тяжело заде¬
вает. Несколько лет назад весь труд моей жизни был уничто¬
жен, кроме нескольких цюрихских изданий, которые можно
продавать только в маленькой Швейцарии, не существует
уже ни одной моей книги. До сих пор была надежда, что по
окончании войны я снова обрету читателей в Германии (95
процентов моих читателей) и кусок хлеба; но сейчас банк¬
ротство Германии оказалось, естественно, и моим банкрот¬
ством. Конечно, мои книги там будут печатать снова, но вряд
ли мне, пока я жив, удастся снова получать деньги оттуда.
Но, пожалуйста, никому об этом не говорите.
246
Что касается «вопросов вины», то всего, что болтают об
этом частным образом и в газетах, я не принимаю всерьез.
Стоит лишь взглянуть на вещи националистически, отож¬
дествить себя с какой-либо нацией, и мир видится хоть и
приятно упрощенным, но от этого ничуть не правильнее.
Юнг тоже свихнулся на этом в некоторых своих формули¬
ровках*.
Если, например, националистически смотреть на то, что
сейчас, на правах победителей, творили французы в Юж¬
ной Германии — разбойничали, насиловали и т.д., — то
надо из французов снова сделать «заклятого врага» немцев.
Что, конечно, неверно.
Довольно, мне трудно писать.
Альберту И. Вельти*
Монтаньола, конец июля 1945
Дорогой господин Вельти!
Ваше письмо пришло в такое время, когда жизнь снова
довольно трудна для меня, и обрадовало меня, за это я Вам
благодарен.
Я не забыл ЪаС, как не забыл и Вашего отца, Вашей
матери и Вашего брата. Мир не так богат незаурядными,
неконформистскими умами и душами, чтобы легко забы¬
вать тех, кого довелось узнать. Я, правда, десятки лет поч¬
ти ничего не знал о Вас и когда году в 1918-м услыхал, что
Вы будто бы ненавидите меня, поколение Вашего отца и
особенно немцев, мне стало горько, и я подумал: как может
что-то измениться на свете к лучшему, если уж такие силь¬
ные и самобытные умы смотрят на мир сквозь шаблоны и
зачисляют человека в друзья или во враги из-за его возра¬
ста или национальности! Кстати, тогда я меньше, чем ког-
да-либо, принадлежал к какому-либо «кругу». Я был напо¬
ловину немец, наполовину швейцарец, у меня был герман¬
ский паспорт, а в Германии меня вовсю ругали и оплевы¬
вали как противника войны и кайзера: я был как бы слу¬
жащим германского посольства, опекавшим военноплен¬
ных, жил среди людей, сплошь более чуждых мне, чем ка¬
кие-то уроды, и единственным моим товарищем по духу
был тогда Ромен Роллан.
Все это было давно, и каждый раз, когда при мне назы¬
вали Ваше имя или вызывала разговоры какая-либо Ваша
книга, я радовался и вспоминал дом на Meльxeнбюльвeг^.,
где и я провел самое-трудное и горькое время своей жизни.
247
и привет от Вас, при всей его внезапности, кажется мне
сейчас чуть ли не долгожданным, давно желанным. Иск¬
ренний привет и Вам!
Курту Экнеру
(август 1945)
Дорогой господин Экнер!
Сил у меня уже не так много, но хочу сообщить, что
Ваше письмо дошло, и ответить на него этим приношением.
Хороших новостей нет ниоткуда, иногда ужас берет перед
бездной разочарования, злобы, ненависти и нищеты, раз¬
верзающейся вместо мира и обновления. Военнопленные во
всех странах мира, от которых приходит множество писем,
жалоб и просьб, тоже сильно способствуют этому унынию,
а увещевательные или успокоительные слова священников
и пр. только раздражают их и делают еще циничнее. Везде,
во всех положениях и лагерях, животное «человек» глядит
на тебя злобным и угрожающим взглядом и забыло, кажет¬
ся, или растратило все великолепные возможности, в нем
заложенные.
Моя вера, т.е. мой образ человека и мира, не поколеб¬
лена и подавно не уничтожена, только я очень устал и бьы
бы рад поскорее проститься.
Добрые пожелания и привет Вам от Вашего
Френи Келлер
(август 1945(
Дорогая фрейлейн!
Я старый человек, и каждодневная почта моя слишком
велика, чтобы ответить Вам достаточно подробно. Удовлет¬
воритесь немногим и статьей, которую прилагаю* и прошу
вернуть мне.
У поэтов, как и у всех художников, первое условие —
талант, то есть недюжинное владение языком и чувство
языка. Но к таланту нужен еще характер, то, что Вы на¬
зываете «прилежанием», усердный труд. Процесс создания
стихотворения начинается большей частью с наития, с того,
что сперва появляется либо какая-то мысль, какой-то внут¬
ренний образ, либо какие-то слова, это идея, это самое важ¬
ное. Лишь потом, разрабатывая и контролируя записанное,
работаешь сознательно и по правилам. У музыкантов, на¬
248
пример, часто бывает так, что появляется какая-то музы¬
кальная идея, зафиксировать которую нотами кажется поч¬
ти невозможным и к которой они потом должны подсту¬
питься с помощью правил.
Вы, следовательно, почувствовали совершенно верно:
одним прилежанием произведение искусства создать нель¬
зя. С другой стороны, именно тем и отличается дилетант от
художника, что дилетант обычно уже довольствуется пер¬
вой идеей и чурается языковой и ритмической ее разработ¬
ки. Настоящему художнику, наоборот, доставляет радость
как можно более совершенное исполнение своей работы,
даже если ее приходится много раз исправлять.
В статье, которую прошу вернуть, я несколько лет назад
в письме к одному из своих сыновей написал кое-что об
этом виде работы; может быть, кое-что Вам пригодится.
Гюнтеру Фридриху
31.8.1945
Дорогой Гюнтер!
Сегодня пришло твое письмо от 11 августа — одновре¬
менно с известием, что в Берне у меня родилось шестое вну¬
чатое дитя, первый ребенок моего сына Мартина, девочка.
В своем замечании, что к приходу Гитлера Австрия была
почти сплошь нацистской, ты, конечно, отчасти прав. Од¬
нако в последний час бедный Шушниг* предложил тогда
провести референдум по этому вопросу, а Гитлер это отверг
и предпочел вторгнуться силой, что вряд ли сделал бы, если
бы была полная уверенность в восьмидесяти процентах. Та¬
кие оценки всегда обманчивы. В свое время считалось, что
Германия на 80—90 процентов с нацистами, а сегодня каж¬
дый от них открещивается. Когда в деревне дебоширы под¬
нимают шум, двадцать человек могут создать впечатление,
что орет вся деревня.
Я уже трижды пробовал послать твоей матери известие
о тебе и твой адрес, но неизвестно, когда она получит их и
получит ли, это зависит от случая, почтового сообщения с
Германией нет. Время от времени доходит какой-нибудь
скупой привет оттуда — через Красный Крест или через
случайных путников. Жив ли мой берлинский издатель, не
знаю; он долго был узником гестапо.
Желаю тебе, чтобы не нужно было запасаться терпень»
ем надолго!
249
Томасу Манну
Баден близ Цюриха, 15 декабря 1945
Дорогой господин Томас Манн!
Под конец своего лечения в Бадене, за несколько дней
до возвращения домой, я получил Ваше письмо, в котором
Вы высказываетесь по поводу истории с капитаном Хабе-
Бекеши* и которое просто своим хоропгам настроением и
милой прихотливостью интонации подействовало на меня
благотворно, доставило мне удовольствие и радость. В мире
все сейчас так нетонко, так грубо, примитивно и голо, что
настоящее письмо от настоящего человека, написанное на¬
стоящим языком, — это редкость и драгоценность. И еще
приятно было узнать, что моя книга «По следам снов» бла¬
гополучно дошла до Вас: это тоже удача.
Моя позиция по отношению к нахальному письму этого
пресс-офицера состояла в молчании, но, к сожалению, из-
за одной бестактности дело это попало в швейцарскую пе¬
чать, и мне пришлось дать отбой честным усилиям прессы
просветить американцев и обелить меня, ибо я, естествен¬
но, не испытывал ни малейшего желания оправдываться
перед ложными авторитетами и просить о реабилитации.
Ну, это уже в прошлом.
Немецкие отклики на Ваше письмо к Моло немного кос¬
нулись и меня*; некоторые редакции и частные лица сооб¬
щили мне, что теперь они знают, чего можно ждать от этого
Т.Манна и от меня; и если какое-то время казалось, что
слишком уж быстро и жадно призывают нас в братья и то¬
варищи, то теперь все стало на места, что мне очень при¬
ятно. Исключение составил город Констанц. Там почти 20
лет назад, к моему пятидесятилетию, назвали моим именем
какую-то улочку, но через несколько лет табличку поспеш¬
но сняли и заменили название другим, а сейчас в ходе де¬
шевой очистительной кампании муниципалитет вспомнил
давние времена и повесил прежнюю табличку. Впору бы
посмеяться над тем, какие у людей заботы сегодня, но, к
сожалению, сейчас не до смеха, ибо за всеми этими глупо¬
стями и неловкостями стоит чудовищная, животная, эле¬
ментарная нужда, такая нищета, что каждый, у кого еще
есть в Германии родные и близкие, просыпается иногда по
ночам от кошмаров.
В политическом отношении никто там ничему не на¬
учился, но есть маленький, сведенный к минимуму Гитле¬
ром и Гиммлером слой, который знает, что к чему, и с ко¬
250
торым я как-то связан. Но этого слоя гумуса далеко не до¬
статочно, чтобы стать почвой новой республики. Пока при¬
ходится довольствоваться тем, что хотя бы нет больше
средств принуждения, которыми можно было бы злоупот¬
реблять.
Здесь-то, в Гельвеции, у нас замечательная, образцовая
конституция. Если бы были использованы ее возможности,
жизнь была бы здесь не такой унылой и робкой, как сейчас.
Но по крайней мере время от времени у какого-нибудь Вин-
кельрида* хватает духа назвать какого-нибудь проворовав¬
шегося высокопоставленного военного вором, и порой это
имеет даже неприятные последствия для данного офицера.
Народ этому радуется, а в остальном глядит с робкой на¬
деждой на могущественную Америку, которая, он чувству¬
ет, хоть и не понимает его, но находится, слава Богу, да¬
леко и потому вызывает меньше страха, чем совсем при¬
близившаяся Россия.
Будьте благополучны и не торопитесь посетить Европу.
Сердечный привет Вам и Вашей жене от нас обоих (моя
жена в Цюрихе, она часто навещает меня и была в восторге
от Вашего письма).
Ваш
Генриху Киферу
[1945J
Дорогой господин Кифер!
При невероятной переутомленности и большой устало¬
сти я могу лишь в виде исключения писать частные письма,
но хочу все-таки поблагодарить Вас за прекрасный и милый
лист с чертополохом и высказаться по поводу Вашего пись¬
ма, в котором вы поете старую немецкую песню о злобной
критике, о злом разуме, об исключительной ценности души
и восторга. Эти нотки, вот уже полвека входившие в про¬
грамму немецкой молодежи — их поддерживал и Гам-
сун*, — мы, иностранцы, не можем слушать, не вспоминая
при этом речей Геббельса, ще он называл критиков «злопы¬
хателями», а интеллигентов «интеллигентскими бестиями».
Дорогой сударь, Германию к ее нынешнему положению при¬
вела прежде всего ее готовность считать критику и разум не¬
полноценными и отвергать их, но зато восхвалять душу и во¬
сторг. С этим восторгом ваши мальчишки опустошали потом
251
Польшу и Россию до Кубани, жгли гетто и совершали все
прочие подвиги освобожденного от разума восторга.
Нет, способности к восторгу немецкая молодежь, навер¬
но, никогда не утратит, воспитывать в ней эту способность
нет никакой надобности, а нужно ей уважение к разуму, к
разумному, к человеческой мере, к критике, ибо этого ей
всегда очень недоставало.
Довольно, привет от Вашего
Вальтеру Бауэру
Монтаньола, 24.9.1945
Дорогой господин Бауэр!
Ваше письмо, написанное в конце августа, пришло ко
мне на днях, и я хочу хотя бы попытаться ответить на Ваш
привет.
В соревновании немецких интеллигентов по поводу то¬
го, кого из них причислять к эмигрантам, к антинацистам
и т.д., я не собираюсь участвовать. В конце первой мировой
войны я навсегда повернулся спиной к политической Гер¬
мании, а затем стай поскорее швейцарцем, на чем и покон¬
чил с политикой.
Мы все теперь многое пережили и потеряли и должны
заниматься не взаимными упреками, а другими делами. Я
тоже из-за Гитлера и политического безразличия немецко¬
го народа потерял свой «труд жизни», т.е. все, что я за
жизнь наработал, уничтожено, отчасти запретами и кавер¬
зами Ваших властей, отчасти авиабомбами. Несколько лет
РО всем мире не было в продаже ни одной моей книги, кроме
нескольких швейцарских переизданий, которые я здесь за¬
казал и которые, поскольку их нельзя вывозить из Швей¬
царии, ограничены крошечным рынком. Такое положение
продлится, видимо, еще долго, ибо по сей день не знаю, жив
ли еще в Берлине мой дорогой и верный друг и издате;п^
Зуркамп, он долго, отчасти, к сожалению, из-за меня, си¬
дел в гестаповской тюрьме, был в феврале смертельно бо¬
лен, а сейчас я ничего не знаю о нем. Поскольку ему при¬
надлежат права почти на все мои книги, я пока никаких
шагов предпринимать не могу. Негоже мне также по собст¬
венному почину добиваться того, чтобы Германия, отказав¬
шаяся от моих книг при Гитлере, реабилитировала меня и
снова печатала.
252
прилагаю нечто, написанное мною коща-то в конце
первой войны, недавно здесь это напечатали снова. А вско¬
ре надеюсь послать Вам нечто похожее, но новое, из чего
Вы получите какое-то представление о том, что я думаю цо
поводу нынешних немецких вопросов. Решить и обезвре¬
дить все эти вопросы должна, конечно, сама Германия, но
хорошо бы нам, живутцим за границей, поскорее расстаться
с ролью умников и столпов нравственности. Долг каждого
народа, участвовавшего и совиновного в этом всемирном
свинстве, — не копить обид... Желаю Вам продержаться и
шлю дружеский привет.
Готфриду Берману-Фишеру*
Монтаньола, 28.9.1945
Дорогой друг!
Спасибо за твое интересное письмо! Важнее всего в нем
было для меня известие о Зуркампе, хотя и очень короткое.
Но значит, он жив! У нас здесь нет никакой почтовой связи
с Германией, т.е. время от времени доходит письмо или
привет, например, через проезжающих или служащих кон¬
сульства, но редко и только из южной Германии. И о доро¬
гом Зуркампе у меня бесконечно долго не было никаких
сведений.
Он был образцово верен мне, и я отвечу ему тем же. Без
Зуркампа я никаких решений в издательских делах не при¬
му. Да это и не к спеху. Мне было бы милее всего, если бы
Зуркамп и ты вместе создали что-то вроде старого издатель¬
ства Фишера.
Как бы это дело ни повернулось, я, во всяком случае,
оставлю за собой права на все мои книги для Швейцарии.
Да и напрасный, по-моему, получился бы труд, если бы мои
книги издавались одновременно в Цюрихе и в Стокгольме.
Ведь рынок в Скандинавии, Америке и т.д. для швейцар¬
ского издательства тоже открыт.
А вот для Германии мне, конечно, понадобится изда¬
тельство, которое обоснуется там. Надеюсь еще обсудить
это с то^й и Зуркампом.
Мы обрадовались приветам от госпожи Фишер в твоем
письме, ведь мы много лет ничего не знали о ней. Передай
ей и Тутти сердечный привет от нас.
Великая ошибка моей жизни, «Игра в бисер», которой я
отдал больше одиннадцати лет и которая ничего мне не
253
принесла, ни материально, ни морально, распространяется,
кажется, на множество раздаренных экземпляров, получе¬
ние которых в целом ряде случаев не подтверждено адре¬
сатами. Это два толстых тома, они стоят 26 швейцарских
франков. Тебе я послал книгу сразу же по выходе, а в этом
году, поскольку ты не получил ее, велел издательству еще
раз послать тебе экземпляр, но, кажется, и он не дошел.
Посвященного юбилею Томаса Манна номера «Рунд-
шау» с моей статьей я не получил и вообще не видел.
Написал я тебе так коротко и сухо, потому что не очень
работоспособен, я сильно сдал, хотя и не болен серьезно.
Сердечный привет и пожелания успеха в твоем начина¬
нии от твоего
P.S. Оба стихотворения 1944 года под заголовком «Два
стихотворения Г.Г.» предназначены для «Рундшау». Гоно¬
рар предлагаю такой: за оба 80 швейцарских франков.
Р.Я.Хумму
[октябрь 1945, черновик]
Дорогой господин Хумм!
Жаль, опять я, значит, все сделал неверно*. Иноща я в
самом деле всерьез завидую Вам из-за Вашей уверенности,
Вашей чистой совести, из-за Вашего точного знания, чтб
справедливо, чтб — нет, что делает другой хорошо, что —
плохо.
Я, считать ли меня «большим» (как Вы выражаетесь)
или находить во мне скорее что-то патологическое, я ни¬
когда, ни одного часа в жизни, не обладал такими, как Вы,
знаниями и никогда не был способен судить или исправлять
других. Время от времени я рассказывал, чтб пережил и
что при этом думал, но отнюдь не в убеждении, что изре¬
каю правила или даже аксиомы мировой справедливости,
а — и тут я менее глуп, чем то видится Вам, — всегда точ¬
но зная, что говорю как одиночка, не как функционер не¬
коей обьективной истины, не как проповедник какой-то ве¬
рящей в себя организации или доктрины.
Притом я знал и знаю, что не могу этим наделать вреда,
ведь и в своем «Дневнике. На горе Риги» я обращаюсь вовсе
не к немецкому народу, как Вы это неверно вычитали, а к
совершенно определенной, очень маленькой элите, к слою
254
таких же-, как -я сам, одиночек, индивидуалистов, и те пре¬
красно знают, чтб я имею в виду и как с этим быть.
Хотя у меня столько сомнений и нет такого, как у Вас,
божественно точного знания, чтб справедливо, чтб — нет,
но зато я знаю одно: со своим методом — сообщать людям
не доктрины, не мнимо точные истины, а пережитое, су^-
ективное, то есть не «истинное», а действительное, — с
этим своим методом я, может быть, не добьюсь эффекта в
Вашем смысле и бросаю слова на ветер (что, однако, не так,
ибо из тысяч писем и разговоров знаю, какого рода влияние
могу оказывать), но зато я уверен, что из-за меня, из-за
моей правды, из-за моего подхода никогда не будут пресле¬
довать ни одного человека, ни подавно какой-то народ, что
мое учение никогда не будет насаждаться полицией, юсти¬
цией, армией, будь то в смысле мирового мудреца Сталина
или в смысле бундесрата Штейгера*, который обладает не
менее точным знанием насчет справедливости. На моем пу¬
ти, дорогой Хумм, никогда не будет литься кровь и чинить¬
ся насилие, а будет — на Вашем, на пути притязания на
безусловную истину, на которую притязает каждая партия,
каждый народ, каждая политическая организация, пытаясь
более или менее насильственно претворить ее в жизнь. Вот
преимущество моего подхода и моего пути. Поэтому чита¬
телям, которым те строки предназначались, я сообщал не
вечные истины, а кое-что из того немногого, что сам испы¬
тал. Это был опыт освобождения от национальности, кото¬
рый дала мне первая война.
Довольно, такое письмо обходится мне безумно дорого,
гораздо дороже, чем оно стоит, гораздо дороже, чем то впо¬
ру тратить на разговор с человеком, который ведь не хочет
узнать ничего личного, а сведущ в математике мировой
справедливости и умеет, боюсь, читать лишь формулы, а
не действительно человеческие слова.
Привет Вам от Вашего старого
Г.Г.
Епископу Теофилю Вурму*
Монтаньола, 3.11.1945
Глубокоуважаемый, дорогой господин доктор Вурм!
Спасибо за Ваше письмо, которое я получил позавчера!
Как мне жаль, что Вам все еще не разрешили выезжать!
То, что Вы говорите о нежелании властей утруждаться
255
дифференциацией, подтверждается моим собственным
опытом. После того как Гитлер и Геббельс отняли у меня
труд моей жизни, доходы от него и его влияние, руково¬
дитель восстанавливаемой окк)гпационной властью немец¬
кой печати сообщает мне, что мой голос не принадлежит
к тем, которые дадут сейчас снова услышать в Германии.
Возможно, человек этот лично зловреден, но, наверно, он
просто не ориентируется и слишком ленив, чтобы разо¬
браться. Все это противно, да, и все-таки мы рады, что
Германия нак“онёц разбита и больше не пытают и не уби¬
вают каждый день тысячи людей. Моя жена — еврейка из
Буковины, она уже год ничего не знает о своей единствен¬
ной сестре и почти всех своих родственников и близких
друзей потеряла в газовых печах Освенцима. Слишком
сильно еше, конечно, проклятие этих вещей, лежащее во
внешнем мире на нас, но это так.
Когда я в первые годы после первой войны увидел, как
вся Германия, ничему не научившись, почти единодушно
саботировала свою республику, мне стало легко принять
швейцарское гражданство, чего я во время войны, несмотря
на свое осуждение германской политики силы, сделать не
мог. В одной из своих книг я тогда со страхом предупреждал
о грядущей второй войне, но меня только снисходительно
высмеяли. Тогда я навсегда отрекся от политической Гер¬
мании. Сегодня я получаю много писем от немцев, которые
были в 18-м году молодыми и пишут мне, что в ушах у них
еще звенят мои статьи того времени и что лучше бы им и
всем отнестись к моим предостережениям серьезнее.
Что ж, мне было легче, чем другим, не быть национа¬
листом. Наша семья была очень интернациональной, что
вязалось и с миссионерством, и я уже рано ощущал, кроме
духа Лютера и Бенгеля*, дух Индии. Такие люди, как мой
дед Гундерт* и мой отец, собственно, уже и не могли быть
националистами, но потребовалось еще одно поколение,
чтобы это стало ясно. За это мы стоим теперь перед новы¬
ми, пугающими бедами и задачами! Согласен с Вами, что
с мерками наказания и возмездия далеко не уйдешь и что
освободиться от этого должны как раз те, кто сейчас тя¬
желее прочих страдает. Я часто радуюсь, что я стар и уже
довольно дряхл. Но во многих письмах немецких друзей и
читателей, особенно из лагерей военнопленных в Англии,
Америке, Италии, Франции, Египте и т.д., я нахожу
столько разума и доброй воли, столько просветленности
256
тяжкими страданиями, что не могу, расстаться с надеждой.
Тепло думает о Вас и шлет Вам привет
Гюнтеру Фридриху
Баден близ Цюриха, 20.11.1945
Дорогой Гюнтер!
Уже несколько дней я лечусь в Бадене и только вчера
получил твое письмецо от 4 ноября.
Ты прав, предпочитая вовсю работать, а не ржаветь, это
наверняка лучше.
Слой интеллигентов, которых я имею в виду в «Днев¬
нике. На горе Риги» и которые действительно всерьез про¬
тивились Гитлеру и не давали ему подкупить себя, я счи¬
таю' довольно тонким. Сегодня никто из всех этих трусов
не хочет признать, что был нацистом, даже Геринг или Па-
пен*. Но на самом деле большинство «интеллектуалов», как
то всеща было в Германии со времени Бисмарка, да и рань¬
ше, молчало и проспособлялось, а многие, хотя они сегодня
об этом забыли, извлекали и выгоды из своего приспособ¬
ленчества.
Недавно мне написал 78-летний вюртембергский епи¬
скоп Вурм; он п^'чел сейчас мои статьи 191S года и со всем
согласился; а тогда, в 18-м или 19-м году, согласиться не
смог бы, (Тишком националистически был он настроен. Ес¬
ли, стало быть, добронамеренный и умный старый человек,
к тому же христианин, может лишь через 25 лет, после гит¬
леровского террора и после второй проигранной мировой
войны, принять и одобрить мысли и требования простой че¬
ловечности, то чего уж ждать от других? Я не строю себе
на этот счет никаких иллюзий. Но в конце концов и зани¬
мает меня не масса народа и не от нее я чего-то жду, а все
дело в нескольких добронамеренных одиночках.
[... ] Ах, оттого, что мы все еще ничего не можем послать
в Германию, часто становится больно; это было бы так нуж¬
но. Но должно же это коща-нибудь снова стать возможным.
Если я снова смогу послать обеим своим сестрам немного
кофе, чаю и сахару и переписываться со своим берлинским
издателем, это будет для меня большим облегчением.
До сёредины декабря собираюсь пробыть в Бадене, по¬
том буду снова дома.
5 S-25* 257
Читательнице
Баден, [23.11 Л9451
Дорогая госпожа СЛ
Большое Вам спасибо за Ваше прекрасное письмо, ohOi
меня обрадовало.
А пускать в печать эту глупость насчет американского
запрета не следовало, это произошло из-за какой-то непо¬
нятной мне болтливости.
Я в жизни всегда был на стороне униженных, гонимых
и страдающих и почитал за честь для себя автоматически
становиться противником тех, кто сегодня могуч и груб,
будь то немецкие патриоты, нацисты или американцы. То,
что этому болвану из американской армейской печати ока¬
зывают честь, отвечая на его угрозы мне, даже оправдывая
меня, словно в том есть нужда, — это идиотство. И начнут
ли в Германии снова печатать мои книги за пять минут до
моей смерти или лишь несколько лет спустя, совершенно
все равно.
А Вам спасибо за Ваше отношение и верность.
Сыну Хайнеру
(январь 19461
Дорогой Хайнер!
Спасибо за письмо. Жаль, что тебе не нужны сигары.
Придется, наверно, отдать их в Красный Крест или в ка¬
кой-нибудь лагерь для беженцев.
Ты горячо реагировал на слово «Бог» в моем новогоднем
рассуждении, а также на мой скептический взгляд на «про-
гресо> в мировой истории.
Я со своей стороны не считаю, что два или шесть, или
бессчисленные виды мировоззрения не могут мирно суще¬
ствовать рядом. С тем, что способ человека смотреть на мир
есть средство борьбы и должен таковым быть, я не согласен.
У меня есть своя вера, которой я обязан наполовину про¬
исхождению, наполовину опыту, и она не мешает мне ни
проявлять уважение к иноверцам, ни сотрудничать в ка-
ком-либо начинании, имеющем целью улучшить человече¬
скую жизнь. Очень большая часть моего труда в жизни со¬
стояла в работах этого рода, и в годы с 1919-го по примерно
1925-й вся пацифистская и космополитически мыслящая
молодежь в Германии признавала прежде всех других два
имени — Ромена Роллана и мое. Роллан, некогда убежден^
25S
ный приверженец Ганди и «неприменения силы» впослед¬
ствии одобрил чрезвычайно кровавую русскую революцию
и стал на сторону коммунизма, что никак не затронуло и
не омрачило нашей дружбы. Каждый из нас знал, что мир
не может жить и не продвинется вперед без людей, способ¬
ных к вере и к преданности этой вере. И я верил в своего
«Бога», а он — в свой коммунизм, и каждый оставлял за
другим право на его веру,
Я никоща не ждал от тебя и подавно не требовал, чтобы
ты разделял взгляды старика, который почти целиком по¬
святил свою жизнь философии и поэзии. Полагаю, что и ты
не станепш от меня требовать, чтобы я отбросил то, что ос¬
талось во мне плодом прожитого, поскольку нынешний мир
обзавелся другими взглядами и другим лексиконом.
Сердечный привет тебе и вам всем, твой
папа.
В американское посольство
[Черновик, письмо не послано ]
Монтаньола, 25.1.1946
Глубокоуважаемые господа!
Как Вам известно, осенью 1945 года некий кептен
Хейб*, в то время руководивший в Бад-Наугейме несколь¬
кими газетами, издаваемыми американской армией, напра¬
вил мне письмо, где сообщил, что я недостоен выступать в
нынешней Германии в качестве писателя и играть какую-
либо литературную роль. Это странное заявление, выдер¬
жанное в надменном, подчеркнуто враждебном тоне, было
оставлено мной без ответа, потому что говорить в таком то¬
не я не могу, потому что этот господин Хейб явно вообще
ничего не знал ни обо мне, ни о моем творчестве, ни о моей
политической позиции и ее влиянии, потому, наконец, что
отнюдь не рвусь сотрудничать в нынешних немецких газе¬
тах.
Через моих друзей, с которыми я говорил о письме Хей-
ба, что-то из этой комичной истории, против моего жела¬
ния и к большому моему неудовольствию, проникло в часть
швейцарской печати — в таком смысле, что будто бы Аме¬
рика внесла меня в «черный список» или запретила печа¬
тать меня в Германии. В газеты, которые сочли нужным
взять меня под защиту, я сразу же написал, чтобы они
больше не упоминали об этой истории, а многие газеты,
9* 259
прежде всего «Нойе цюрхер цайтунг», попросил по теле^-
HV ничего по этому поводу не печатать.
Недавно от господина Хейба снова пришло письмо, ко¬
пию которого прилагаю. Он в нем считает само собой ра.зу
меющимся, что эти отклики в прессе «организованы» мною
а в остальном повторяет свои выпады против меня.
На всякий случай хочу уведомить Вас этими строчками
что я совершенно в том не повинен, если некоторые швей¬
царские газеты заговорят об этой истории. Нападки госпо¬
дина Хейба, на которые я не ответил ни одним словом, я
никогда не принимал за официальные американские заяв¬
ления, а считал личным нахальством этого господина.
Копию первого письма Хейба, ще он упрекает меня за
то, что я, в отличие от Томаса Манна, не метал в Гитлера
статей и речей по радио, я послал своему другу Томасу
Манну, прилагаю его ответ с замечанием, что это письмо
должно, разумеется, послужить только для Вашей инфор¬
мации и ни в коем случае не может быть передано дальше,
а тем более опубликовано.
Не жду от Вас ни ответа, ни высказывания, я хотел Вас
только проинформировать.
С уважением
Эрнсту Моргенталеру
Монтаньола, 1.2.1946
Дорогой друг!
(... 1 Что касается Р.Штрауса*, то боюсь, что твое пред¬
чувствие тебя не обманывает: как бы ты ни поступил, потом
это будет тебя как-то М5гчить! Такова уж гнусность тепе¬
решнего нашего положения, что все фронты пересекаются,
что каждую минуту, поступив только что, казалось бы,
правильно, спрашиваешь себя: а не было ли это все же
ошибкой? Со мной происходит то же самое.
Коща я был в Бадене, Штраус был там, и я всячески
избегал знакомства с ним, хотя этот красивый старик мне
очень нравился. Однажды, коща я договаривался с Марк-
вальдерами* встретиться вечером, они обрадовались: какое
удачное совпадение, Штраус тоже придет к ним в это ке
время и будет рад познакомиться со мной. Я ретировался,
сказав, что не хочу знакомиться со Штраусом. Ему а^-
пшга об этом, конечно, не в такой форме, а придумали мнё
какое-то оправдание.
260
То,, что у Штрауса есть родственники евреи, это, конеч¬
но, никакая не рекомендация, никакое не оправдание для
негб, ибо именно из-за такого родства ему, давно уже сы¬
тому по горло, следовало бы не принимать привилегий и
почестей еще й от нацистов. Он был достаточно стар, чтобы
суметь удалиться и держаться подальше. То, что он не су¬
мел так сделать, это, видимо, следствие его жизненной си¬
лы. «Жизщ>» означала для него: успехи, почести, огромные
доходы, банкеты, премьеры и т.д. и т.д. Без этого он не мог
и не хотел, жить, вот он и не нашел способа не поддаться
дьяволу. Мы не вправе корить его. Но думаю, что мы все-
таки вправе держаться от него на расстоянии.
. Больше мне нечего сказать по этому поводу. В конечном
счете Штраус всеща будет в выигрыше, ибо он никогда не
станет рвать на себе волосы и мучиться угрызениями сове¬
сти. Ведь он, несмотря на свое приспособленчество при на¬
цистах, принадлежит к тем немногим немцам, которые сра¬
зу же получили от господ победителей разрешение на въезд
в Швейцарию. Других, такого же возраста, как он, стра¬
давших при Гитлере и сидевших в тюрьмах, Швейцария
больше чем полгода назад пригласила приехать на отдых,
но их победители не выпускают. Изжога начинается, как
об этом подумаео1ь.
Вильгельму Шуссену*, Тюбинген
1 марта 1946
Дорогой господин Шуссен!
Спасибо Вам за Ваше милое письмо от 14 февраля и за
милого Шейфеле*! Я давно уже жду возможности послать
кшпп в Вашу страну; как только будет оказия. Вы что-ни¬
будь получите.
Ваше письмо тронуло меня, но и очень испугало. Вы,
значит, решительно ни о чем не знали! Не знали, что мюнг-
хенский путч Гитлера показал, как он опасен, не знали,
что ваши «республиканские» власти баловали его, вместо
тбгЬ чтобы наказать и т.п. и т.п., вплоть до мерзкого бокен-
геймского документа*, который задолго до приход^ Гитлера
к кпасти был на:печатан во всех германских газетах и дол¬
жен 6iM окончательно рткроть глаза каждому, кто хоть ма-
л9-;мальскй не хотел быть слепым. А потом, начийая с „193.^
года, эё бьшр курорта в Вашей стране, возле KOTopbjro н6
ёрос^ось бы в глаза большое обьявлеше «Бв|>е:и не:^елаг
тельны», не говоря уж о встречавшейся на каждом шагу
надписи «Жиды, сдохните», по которой любой, кто не был
слеп, мог ясно понять, что не за горами погромы. Нет, уже
за много лет до своего прихода к власти Гитлер перестал
быть для меня загадкой, перестал быть загадкой, к сожале¬
нию, и немецкий народ, который потом выбрал этого сата-,
ну, перед ним преклонялся и разрешал ему творить любые
мерзости. Я рад, что уже во время первой войны порвал с
Германией и ее проклятой политикой пушек. Жизнь без ро¬
дины — тоже не сахар, но она была мне бесконечно милее,
чем соответственность за немецкую слепоту и равнодуш¬
ную тупость в делах политических. Что и такой человек,
как Вы, мог остаться слепым и наивным, это, если глядеть
отсюда, со стороны, просто непостижимо. Что люди типа
Корфица Хольма* ни о чем не знали и не хотели знать, это
меня нисколько не удивляет. Большинство моих друзей в
Германии знали, что происходит, и одни в 1933 году сразу
же эмигрировали, а другие исчезли в застенках гестапо, как
исчезли в гиммлеровских печах в Освенциме почти все до
одного родные и близкие моей жены. И Вы обо всем этом
ничего не знали! Никто Вам, конечно, не поверит, ибо
представить себе, как можно ничего не знать и быть неви¬
новным, когда^ты уже по колено в крови, ни один другой
народ не в сосЮянии.
Но хватит об этом, что толку... В моих симпатиях к
германским друзьям происшедшие события мало что изме¬
нили, ведь жизнь состоит не только из политики. Для нас
за границей хуже всего была, собственно, полоса между
1933 и 1939 годами, когда эта мерзость все росла и росла
и не видно было никаких признаков того, что мир возму¬
тится и объявит ей войну. Начало войны было для нас, не¬
смотря ни на что, облегчением. Наконец что-то произош¬
ло! И мы желали гибели Гитлера, и мы молились о гибели
его полчищ, хотя в них не счесть было моих родных и
близких.
Сегодня нас навестит епископ Вурм, который находится
сейчас в Швейцарии. Мой верный берлинский издатель
жив, он долго был узником гестапо, но мои письма до него
не доходят; я давно отказался от надежды дожить до вос¬
становления моей родины. Обойдутся и без меня, я устал
от мира и уже не привязан к нему. Сердечный привет Вам
от Вашего
262
Паулю А.Бреннеру
16.3.19461
Дорогой господин Бреннер!
Много раз я держал Ваше последнее письмо в руках, со¬
бираясь ответить Вам, но сил у меня стало так мало, что
обычно мне удается только прочитать текущую почту.
Много месяцев мне хочется поправить для переиздания од¬
ну из моих уже 15 лет назад распроданных книг, но книга
так и лежит, сил на это уже не хватает.
Не будем беспокоиться из-за Нобелевской премии; она
явилась бы слишком поздно, чтобы доставить мне удоволь¬
ствие, т.е. большее удовольствие, чем тот факт, что мне всю
мою жизнь почти целиком удавалось оставаться не заме¬
ченным официальными инстанциями и властями: ни госу¬
дарственной премии, ни почетного докторства, ничего та¬
кого; я не против того, чтобы так и остаться уж совсем не¬
запятнанным. А ведь для Нобелевской премии важно и то,
что я уже много лет назад перестал быть немецким или ев¬
ропейским автором, я теперь только швейцарец, и «Игра в
бисер» вышла чуть ли не втайне от публики, вне Швейца¬
рии никто об этом не знает.
Недавно у меня провел полдня епископ земли Вюртем¬
берг Вурм, нашлось о чем поговорить. А сегодня я получил
от «Книжной гильди11» «Свободный дух» Ромена Роллана,
там на странице 169 упомянута единственная официальная
почесть, которой я одно время гордился.
В Германии есть еще люди совершенно незамаранные,
но их бесконечно мало. Надежды на то, что там «переучат¬
ся», у меня нет. Но возможность, что Германия станет опас¬
на на долгое время, вероятно, все же исключена. Позабо¬
тятся о том, чтобы война не вымерла, теперь, пожалуй,
другие нации и национализмы.
После почти года молчания я недавно опять написал не¬
сколько стихотворений, которые хочу, переписав покраси¬
вей, послать Вам. Мое «Письмо Адели» в «Цюрхер цайтунх^
Вы, наверно, читали. Больше ничего нового нет.
Сидя по полдня без дела, как всегда, с адской болью в
глазах, я иногда думаю о Вас и о Ваших глазах. Juvat soctos
habere malorum'.
^Хорошо иметь товарищей в беде (лат.).
263
Георгу Рейнхарту
Монтаньола, 9.3.1946
Дорогой господин Рейнхарт!
Это было прекрасно и очень меня обрадовало, что Вы
еще раз написали мне по поводу моего стихотворения. Я
ведь в том же возрасте, что и Вы, и гораздо дряхлее, я
слишком хорошо знаю, что иной раз случается из-за забыв¬
чивости и т.д. Оттого-то я и спросил о стихотворении, что
вполне,допускал, что послал его Вам лишь в собственном
воображении.
Вы полагаете, что благодаря дару и привычке форму¬
лировать поэт освобождается от своих переживаний и все¬
го, что обременяет его. Ведь что-то подобное происходит,
когда, просто выговорившись, излив душу, испытываешь
порой известное облегчение, но для этого не нужны худо¬
жественные средства, и простейшая исповедь или откро-
вешшй разговор с близким человеком способны сослужить
ту же службу, что самое лучшее стихотворение. Напро¬
тив, художник, облекая пережитое в слова, отчасти, прав¬
да (полностью — никогда), осознает его, но обычно это
служит художнику только для того, чтобы придать пе¬
режитому интенсивности, а не для того, чтобы распутать
е^. Так, например, желание умереть, высказанное р
том стихотворении, у меня благодаря этим стихам не
прошло, а давно уже почти главенствует в моем состоя¬
нии.
Вы говорите: читая вслух и диктуя, можно многое себе
облегчить. Может быть, у меня тут мало опыта. Правда,
много лет назад, когда домашние хозяйки еще не были за¬
мученными рабынями, моя жена ежедневно подолгу читала
мне вслух (сегодня это удается лишь вечерами^ не больше
полутора-двух часов), но диктовать я никогда не умел. Да¬
же держи я секретаря, о чем не может быть и речи, по¬
скольку после гибели труда моей жизни я живу главным
образом на сбережения, давно уже не на доходы, — я и тогг
да вряд ли бы уже научился диктовать, разве лишь что-ни¬
будь незначительное, чисто (^рмальное.
В «Книжной гильдии» наконец снова вышли давние во¬
енные статьи Ромена Роллана, на сей раз под заглавием
«Свободный дух». То, что он сказал в 1Й5 году обо мне и
о моем отношении к войне, ^ это единственное из всего
написанного обо мне, чем я когда-то некоторое время гор¬
264
дился.. Сегодня и эти оценки потерйли свою ценность,
мы — железный лом.
Простите опечатки! Моя милая старая машинка была
только что дважды подряд в починке, но, кажется, никак
уже не оправится, все в ней спотыкается и запинается.
Сердечный привет. Ваш
Иоахиму Маасу*
Монтаньола, 23.3.1946
Дорогой господин Маас!
Спасибо'за Ваше письмо. К состоянию непродуктивно¬
сти, яешюсобности работать я отаюшусь так же, как Вы; в
старости, коща и физические силы бастуют, надо рассчи¬
тывать не на недеш! и месяцы, а сразу на годы. Работа над
«Ипюй в бисер», пребшание в Касталии и вера в какой-то
смысл моей усеченной работы позволили мне перетерпеть
гитлеровское время и затем войну до весны 1942 года, тоща
я написал несколько последних страниц, смерть Кнехта.
Тому уже ртвно четыре года, и с тех пор у меня нет ни
прибежища'; ни утешения, ни смысла существования. Что¬
бы обрести что-то подобное, хотя бы на какие-то часы, я
время от-времени писал такие вещи, как дневничок, «Ук¬
раденный чемодан» и еще два-три пустяка. Мое время и си¬
лы сжираеБлочта, с тех пор как я лишился издателя, а Ни¬
нон может помогать лишь в очень ограниченной мере (бу¬
дучи домаЩней хозяйкой, корреспонденткой, посредницей
и Т.Д. для эмигрантов всех стран, она еще измученнее, чем
я), это стало крайне тяжело. Мои родные в Германии голо¬
дают, я продаю оттиски за наличные, богатые жмутся, бед¬
ные дают, с декабря я смог отправить туда на тысячу фран¬
ков посылок и пригласил к себе четырех человек на отдых,
что влечет за соб<^ массу переписки и пр. с властями, двое
из них — мои сестры. О случаях в моем кругу, под^ных
случаю Вашего доброго Лампе*, я промолчу, ведь много лет
уже нас захлестывает вся эта бедственная бессмыслица, и
здесь, в Европе, жизнь совсем потеряла свою суть. Впрочем,
и это хорошо в том,же смысле, в каком снова и снова вое-
хзйщаепш:я. миром: снова и снова, даже в самые ужасные
времена,-Л)н.-внушает восторг молодым, снова и снова облег^;
чает прснцавие. опытным.
Цетеауяас весна,., и гс^убые, белые и желтые цветьцяа
лес^ по крайней мере еще те же^
265
Сердечный привет Вам от Нинон и меня, желаем Вам
и Вашей книге успеха, мы очень любим «Магический год».
Недавно пришел январский номер «Рундшау».
Ваш
Эрвину Аккеркнехту*
[13.4.19461
Дорогой господин доктор Аккеркнехт!
Спасибо за Ваше письмо, первую прямую весть от Вас!
Посылаю Вам три приложения, скорее всего, заинтересует
Вас, наверно, реферат о моих последних книгах. [... ]
Приведу цитату из одного письма, необыкновенно меня
взволновавшее.
Я всегда видел в Т.Манне совершенного светского чело¬
века, хотя и с ароматом учености, нежного, правда, но всег¬
да уверенного в себе и своей позиции человека, перед ко¬
торым я порой испытывал какую-то робость. Таков он и
был и таким вскоре после того времени стал опять. Но тог¬
да, в момент великого перелома в его жизни, весной 1933
года, он воспринимал меня и мое поведение как нечто та¬
кое, с чем он не только соглашался, но чего он чуть ли не
желал себе самому.
Из письма писателя Александра М.Фрея от 16 марта
1946 года (Герману Гессе):
«Я знаю, как ценит и любит Вас Томас Маня. Много лет
назад — коща мы как раз бежали из Германии и были от¬
торгнуты — он написал мне нечто поразившее меня тогда:
он хотел бы уметь писать и жить, как Герман Гессе. Такая
тоска, пусть даже недолгая, такое освящение некоего обра¬
за как-то потрясали в человеке, который делает свое дело
по-своему поистине великолепно».
Петеру Зуркампу
21.4.1946
Дорогой друг Зуркамп!
Вчера я получил Ваше милое тшсьмо от 6 апреля, бла¬
годарю за него.
Ваше условие относительно обязательных экземпляров
я передал Фретцу и «Книжной гильдии». Что Вам нельзя
посылать книги. Вы знаете ведь. Многое уже подходит к
266
концу, например «Игра в бисер», но раньше осени думать
о новом тираже не приходится.
Вы неверно поняли то, что я часто говорил об уничто¬
жении труда моей жизни. Я никогда еще не сомневался в
том, что какая-то часть этого труда необходима и пережи¬
вет это время, т.е. позднее снова обретет свою жизнь в мире
и оправдает ее. Это одно. А другое — это то, что я старик,
чья жизнь кончается в разочаровании и горе и для которого
нет никакой радости в знании, что через десять или через
двадцать лет многое из написанного им появится снова и
будет продолжать жить. У меня уже годами изо дня в день
просят мои книги из всех стран мира, просят то скромно,
то нагло, а часто с упреками, что я, мол, скверно забочусь
о своем творчестве, нигде не достанешь моих книг. Сотни
книг я в эти годы раздарил и раздарйваю, сейчас больше
всего военнопленным. Но из сотен просивших у меня книг
ни один не задался вопросом: «На что живет этот человек»
если ни одной его книги нельзя купить?» или: «Может быть,
для автора это еще огорчительнее, чем для нас, читателей,
если от его сорокатомного труда ничего не осталось?».
Если услышите что-то о докторе Рейнвальде в Кальве,
то знайте — о^ мой друг, и его план мною одо1брен*.
В последние недели, с ранней весны, мои силы быстро по¬
шли на убыль. Ничего опасного, только немного участивши¬
еся боли в печени, опять подагра, беспрерывно пустота в го¬
лове, звон в ушах, головокружение. Каждый день масса поч¬
ты: сплошь просьбы, жалобы, сплошь сваливающиеся на ме¬
ня чужие беды, заклинания — поднять свой голос, защитить
или спасти то-то и то-то, изо дня в день посетители, ни одно¬
го из которых не принимаю. Я всеща любил одиночество, те¬
перь я боюсь людей. Они прокрадываются к дому, хотят по¬
смотреть на жирафу, хотят быть тут как тут, коща меня хва¬
тит первый удар. Ах вы, болваны! Единственно хорошее в та¬
ком состоянии — это то, что все уже не вполне реально, что
все протекает и возникает лишь на поверхности.
Вы не получили посылку? Южногерманские пришли по
назначению. Хорошо бы увидеться с Вами, Вам надо бы тог¬
да поговорить с Нинон, а возможно, с одним из моих сыно¬
вей по поводу прав моих наследников. Давно уже пригла¬
шены и мои сестры, их тоже до сих пор не выпускают.
Спасибо за Ваше письмо! Вот все-таки человеческое
слово.
Сердечный привет Вам и Вашей жене от нас обоих!
267
Иоахиму Маасу
Воскресенье, 28.4.1946
Дорогой господин Маас!
Вчера с той же почтой, что и Ваше письмо от 19-го, при¬
шел и новый номер «Рундшау», и вечером Нинон сразу же
прочла мне Вашу статью об «Игре в бисер» — отнюдь не
куцую и ни в каком отношении не сырую, а ясно и красиво
выражающую самое главное; благодарю Вас за нее, ведь это
первое печатное аюво о моей книге, основанное на подлин¬
ном понимании.
Спасибо также и за информацию о «Рундшау» и условиях
сотрудничества; с удовольствием буду иметь это в виду, если
снова смогу что-нибудь послать. Спасибо также за Ваше со¬
чувствие моим издательским заботам, но, чтобы по-настоя¬
щему объяснить их Вам, нужно гораздо больше времени, бу-
маги'и охоты писать, чем то есть у меня. Хочу сегодня побла¬
годарить Вас за статью и письмо, не связывая с этим никаких'
те^пщх дел. И перед тем как сесть за это письмо, я собрал
ДУ1Я Вас бандероль — в основе ее неботашая рукопись стихов,
а в придачу все новое, что у меня вышло. Ведь, несмотря на
свою ахабость и пер^гружейность (она, с тех пор как возоб¬
новилась почтовая связь с Германией, стала ужасна), я дол¬
жен время от времени все-таки высказываться публично, хо¬
тя бы по причинам практическим, которые в «Письме Адели»,
и «Письме в Германию» вполне очевидны.
Что, увы, сильно уменьшает мою радость по поводу при¬
вета от Вас, так это сообщение о Вашей печени. Этот цен¬
ный орган не в порядке и у меня, и уже больше трех лет я
должен соблюдать довольно строгую диету, а вскоре при¬
дется снова отправиться на обследование. Хоть бы Вам су¬
мели помочь и облегчить дело; плохо лежать ночью с болью
и проклинать Зевесоца орла, клюющего печень.
Одновременно с Вашим пришло письмо из. Женевы, где
скорбят о Лиге Наций и пытаются заткнуть дыру всеми
подручными средствами; меня пригласили выступить там
на международном совещании о европейском духе и пред¬
ложили такие заманчивые условия (среди прочего две не¬
дели с сопровождающим лицом бесплатно'в лучшей женев¬
ской гостинице), что в прежние годы, когда, впрочем, таких,
условий не предлагали, я,, конечно, согласился бы. Женева
от меня так же далека, как Шанхай или Саут-Хэдли, ибо
даже Лугано стал для меня почти чужбинрй, и постепенно
ею становится также деревня Монтаньола, где бываю не ча¬
268
ще чем раз в полтора месяца. А недавно, хотя я никогда не
был членом Пен-клуба, меня пригласили на его заседание
добрые стокгольмцы — тоже на правах гостя, с оплатой го¬
стиницы, проезда по железной дороге и морем и т.д. Так
обстоит дело с вещами, которые в молодости обрадовали бы,
а в старости создают embarras de richessei.
Эта вчерашняя почта, принесшая Ваше письмо и «Рунд-
шау», была загружена и кое-какими другими дарами, не
стану ими Вам докучать, но среди них было одно письмо,
которое Вас позабавило бы. Оно пришло из Баварии и на¬
чиналось четверостишием:
Пользуйся золотыми часами юности.
Они ^розвратны,
Ускользнув, исчезнув.
Юность не возвращается!
Первые строки этого длинного, очень забавного письма
таковы:
^ «Чтобы напомнить Вам о моей персоне, нужно прежде
всего перенестись на много лет назад; стоял 1928 год, когда
мне довелось познакомиться с Вами и Вашим господином
племянником на октябрьском празднике в заведении «Вино¬
дел Фендль»; я была в сопровождении своего отца и дядюш¬
ки, вскоре завязалась приятная беседа, во время которой Вы
вручили мне свою визитную карточку; тоща я не подозрева¬
ла, что передо мной такая выдающаяся личность». Чтобы я
узнал ее, корреспондентка описывает себя так: «Ваша йокор-
ная слуга бйла м^енькая толстушка, черненькая и озорная;
ну вот теперь Вы представляете себе меня». Чудесное пись¬
мо! Десятки лет спустя, стало быть, я снова нападаю на след
того авантюриста, который когда-то долгие годы играл Гессе
в Берлине, Мюнхене и во многих других местах, знакомясь с
девушками, доводил дело чуть ли не до помолвки, во всяком
случае, до крупного денежного займа и имел визитные кар¬
точки, на которых под фамилией значилось; «Автор «П. Ка-
менцинда», «Под колесами», «Демиана» и т.д. и т.д., сотруд¬
ник «Франкфуртер цайтунг», «Берлинер тагеблатт» и т.д. и
Т.Д.». Благодаря Зуркампу, пытавшемуся накрыть этого
Круля*, я как-то увидел такую его карточку, она выглядела
так, что любой из нас, взглянув на нее, расхохотался бы, но
этот малый знал свою публику и много лет добывал этими
карточками средства к жизни, создав мне в кругах, куда я
^Затруднение от избытка (франц.).
269
иначе вряд ли проник бы, весьма сомнительную репутацию.
Видимо, он был шармёр, если маленькая толстушка поныне
не забыла его.
Дорогой господин Маас, теперь я написал столько,
сколько способен за утро, больше мне не позволяют глаза
и пальцы, ибо с писанием связана еще и упорная борьба с
сорокапятилетней машинкой, почти такой же немощной,
как я, машинкой, которая после каждой новой починки об¬
наруживает новые слабости и пороки. Надо заканчивать.
Жена шлет Вам множество приветов, будь Вы здесь, она
потащила бы Вас к разным врачам. Ах, найти бы Вам та¬
кого, который нужен! Сердечный привет Вам от Вашего
Петеру Зуркампу
3.5.1946
Дорогой господин Зуркамп!
Ваше милое письмо, где Вы пишете о «Письме Адели» и
Т.Д., я получил в двух экземплярах, один только вчера, дру¬
гой — уже несколько дней назад. С участием читал я также
о Вашей поездке, о встрече с родиной и матерью, о прият¬
ном англичанине.
Но то, что я часто писал Вам о своем творчестве, Вы,
как и многие другие друзья, поняли совершенно превратно.
Я никогда ни секунды не сомневался в том, что мое твор¬
чество, по крайней мере часть его, останется жить. Я не¬
плохо знаю литературу этого века, особенно немецкую, и
довольно точно представляю себе место, которое занимает
и сохранит в ней моя работа. Как могли Вы вычитать в моем
письме какие-либо сомнения на этот счет? Нет, но ведь со¬
всем другое дело тот факт, что работа эта сейчас погублена,
ценность труда моей жизни заморожена и мне ни матери¬
ально, ни морально не дожить до ее восстановления. В этом
ничего не меняет и бесконечный поток писем, все эти годы
прибывавший ко мне из всех стран, одно время оскудев¬
ший, а теперь снова набирающий силу. Меня вспоминают,
меня снова считают авторитетом, меня упрекают за то, что
я не обзавожусь хорошим издателем, который быстренько
переиздаст мои книги, но извлечь из моего творчества и
моей жизни какие-то морально-политические уроки, по¬
искать в нем чего-то другого, чем красивость и музыкаль¬
ность, это никому не приходит в голову. Баста!
Напечатанное письмо посылаю Вам сейчас вторично.
Получили ли Вы репортаж Шнетцера*? И как обстоит дело
270
с Вашим приглашением? Приглашение моих сестер, кото¬
рое тянется столь же долго, теперь наконец близится к осу¬
ществлению.
Д-ру Пауле Филиппсон, Базель
май—июнь 1946
Дорогая, глубокоуважаемая госпожа Филиппсон!
Спасибо за Ваше доброе письмо! Я, правда, не могу раз¬
делить Ваших радужных взглядов на будущее и на влияние,
которое окажет на немецкое мышление «Игра в бисер». Я
человек усталый, разочарованный и скептический и пока
даже не верю, что какая-либо моя книга там, в Германии,
действительно выйдет; и все же Ваше милое письмо, доста¬
вило мне радость. Практически дело обстоит так, что Зур-
камп уже больше года назад получил лицензию и аннонси-
рует «Игру в бисер»; но, даже если сегодня или завтра дей¬
ствительно удастся приступить к печатанию, бумаги, на ко¬
торую может надеяться Зуркамп, хватит самое большее на
тысячу экземпляров.
Своим «Письмом в Германию» я уже совсем недоволен;
тем не менее я заказал несколько сотен оттисков, которые
еще не готовы, специально, чтобы разослать их по Герма¬
нии. Но что факт, то факт: у немецкого народа в целом нет
ни малейшего чувства ответственности за то, чтб он при¬
чинил миру и себе самому. Доносятся отдельные голоса
вроде трогательного голоса госпожи М., чьи строки мне до¬
велось прочесть. Но они крайне редки, и как раз этим не¬
многим, вовсе не нуждающимся в напоминаниях о дейст¬
вительности, причиняешь своими неуклюжими попытками
только боль, я уже не раз в этом убеждался и предпочел бы
вообще замолчать. Но когда каждый день приходит кипа
писем, нельзя оставаться совершенно ^здеятельным. Ах,
все неверно, что бы ты ни сделал в таком положении! Если
бы можно было практически помочь! Пока я отправлял по¬
сылки в Германию, у меня не было чувства, что я делаю
что-то бесполезное, но, за тремя исключениями, — а посы¬
лок было послано много — подтверждений насчет их до¬
ставки не поступало!
И все-таки не перестаешь полагать, что должны же со
временем и в Германии заговорить о том, что народу не
надо быть только объектом, только управляемой и насилу¬
емой массой, а можно быть правомочным и способным от¬
вечать за свои поступки субъектом.
271
Несколько дней подряд почти не прекращались грозы, а
с тех пор чуть ли не без перерыва льет дождь, и везде целые
озера воды, и стало холодно. Но из валисского замка Мюзо*
мы позавчера получили букет роз из сада Рильке, прислан¬
ный Региной Ульман*, которая сейчас там. А из моего род¬
ного городка Кальва французская администрация пригла¬
сила меня приехать на затеваемый гессевский праздник. Я '
посмеялся и вспомнил: коща-то, еще в начале первой вой¬
ны, в кальвском местном совете прозвучало предложение
назвать моим именем улицу, но нашлись умные люди, ко¬
торые тоща уже предчувствовали, что я скоро стану, чего
доброго, не украшением, а позорным пятном, как то и слу¬
чилось, и от проекта этого отказались. [... ]
Георгу Рейнхарту
Июнь 1946
Дорогой господин Рейнхарт!
Ваше письмо обрадовало меня, спасибо Вам за него. Что
у Вас так мало частной почты, что Вы можете отвечать на
нее почти полностью собственноручными письмами, этому,
конечно, можно позавидовать. Иметь извесгао&'имя--^! во-
обще-то бывает тягостно, а если вдобавок, как я, живешь в
Швейцарии, а одна половина твоей семьи и твоих друзей в
Германии, а другая в эмиграции, то с 1933 года «се, что
касается писем, передачи новостей и т.п. и т.п., не могло
не стать tяжкoй службой. К этому прибавляется великое
разочарование, каким кончается моя в целом богатая и ча¬
сто счастливая жизнь: гибель моего труда, возведение вы>-
соченной стены между мною и кругом действительного мо¬
его влияния, а это снова влечет за собой странные тяготы^
Не проходит и дня, чтобы из Германии меня не просили
срочно позаботиться о том, чтобы там опять появились в
продаже мои книги; или, еще проще, просят прислать их.
Многие так наивны, что прямо-таки ругают меня и корят
за то, что я не выполняю своего долга перед читателями и
Т.Д. Как будто уничтожение моих книг, возможности моего
влияния, моих материальных доходов мне самому не так
неприятны, как этим нетерпеливым читателям. И это лишь
малая и маловажная часть моей почты. Другая часть свя¬
зана с голодом, третья, очень большая, с военнопленными^
сотни тысяч которых давно обезумели в неволе, годами си¬
дя за колючей проволокой в Египте, Марокко, Сирии и т;д.
При голоде и при военнопленных дело идет не об интелт,
272
лектуальной, не о литературной переписке, а о немедлен¬
ной материальной помощи, по части которой Красный
Крест и пр. оказались, к сожалению, совершенно беспо¬
мощными механизмами. Поэтому мне давно пришлось сде¬
лать все это своим частным делом. Я дарю пленным сколько
MOiy хорошие книги, разослал уже сотни томов по избран¬
ным адресам, отклики приходят самые благодарные. А по¬
мимо того я задался целью спасти от голода небольшое чис¬
ло ценных и дорогих мне людей в Германии, добрую дю¬
жину, а это уже нелегко и доставляет несказанно много
хлопот, ибо деньги приходится добывать малыми частя¬
ми — продажей авторских изданий, рукописей, разорени¬
ем собственной библиотеки и т.д. и т.д. Но довольно об
этом. Я хотел только дать Вам понять, в какой обстановке
написано, например, «Письмо в Германию». Оно вообще-то
первоначально было адресовано определенному человеку,
который, как и мой бедный издатель, долго сидел в заклю¬
чении и ждал смерти. [...)
С недели на неделю, с месяца на месяц я тщетно жду
обеих своих уже несколько месяцев назад приглашенных
сестер из Швабии, двух семидесятилетних больных жен¬
щин, которые сейчас, несмотря на две-трияаши продоюяь-
ственные посылки, серьезно страдают от голода, ^ерикан-
цы и французы ввели для подавления всего человечного и
разумного систему придирою, которая, пожалуй, хуже,,?1ем
при Гитлере. Жаль, эти победители, еще год назад герои
прекрасной и дорогой всему миру идеи, теперь впали л .со¬
всем скверное состояние, не из-за жулья и гангстеров, ко¬
торых среди них, может быть, и немало, а, по существу,
из-за отсутствия бдительности, фантазии, любви, отзывчи¬
вости и готовности к серьезной дифференцирующей работе.
Давно уже только от англичан слышишь что-то человечно-
благородное и достойное благодарности.
Сегодня солнечно и жарко, кукушка кукует у дома«все
утро, и политые дождем розы начинают благоухать.
Господину Л.Э., Витце
25^юня 1-946
[... ] По Вашему письму я вижу ^только, что ^Вы- ничего
не усвоили из мыслей, которые содержатся в моих книгах.
Вместо того чтобы задуматься о собственной-вине н о соб-'
ственных внутренних-возможностях. самоанализа и> новоро-
та« лучшему^ Вы судите другие народы. Таким путем вп^
273
ред не продвинешься. Вы говорите также, что проиграли
войну, потому что были хуже подготовлены к ней. Это одна
из разновидностей немецкой лжи, распространенных еще и
сегодня. Войну эту, с сатанинским безумием развязанную
вашим нападением на соседние страны, вы проиграли не
из-за этого; коща она началась, ни Англия, ни Франция,
ни Россия не были серьезно подготовлены к ней. Вы проиг¬
рали ее потому, что немецкая страсть захватывать и уби¬
вать снова стала невыносима для всего мира. А против кого
весь мир, тот терпит поражение. А потерпев поражение,
пытается, вместо того чтобы извлечь из него какой-то урок,
придираться к другим. Обращайтесь с этим к победителям,
не ко мне. [... ]
Это мое первое и последнее письмо к Вам. Вы не извле¬
чете из него никакого урока, потому что не хотите, но я, к
сожалению, был все-таки обязан его написать.
Томасу МаНну
Монтаньола, 23 октября 1946
Дорогой господин Томас Манн!
Великий недуг, угнетающий духовную часть Европы и
меня, родил и нечто приятное, подарив мне письмо от Вас,
которым Вы очень обрадовали меня. Спасибо от души за
этот знак памяти в минуту серьезного кризиса мрей жизни.
Через несколько дней я покину Монтаньолу (почтовым
адресом она будет служить и впредь), чтобы попробовать
пожить в санатории одного моего приятеля-врача. Дом в
Монтаньоле будет — по крайней мере на эту зиму — за¬
перт. Содержать его в порядке стало в последние годы для
его хозяйки так трудно и тягостно, что эта тяжесть сожрала
или, во всяком случае, сильно омрачила все другое. Таков
важнейший повод для моего скверного состояния. К этому
прибавляется физическая слабость: трудно жить, коща го¬
дами не бывает буквально и дня без боли, причем боли не
в коленях, в пальцах- ног или спине (с подагрой, ревматиз¬
мом и т.п. я всегда без особого ропота справлялся), а в гла¬
зах и в голове.
Но, конечно, внутренние неурядицы важнее и меньше
поддаются контролю.
Итак, я попробую уединиться в санатории, где, кстати,
не собираюсь проходить какого-либо курса лечения, а хочу
только отдохнуть, избавившись от некоторых каждоднев¬
ных забот. Может быть, это удастся,, и, может быть, вместе
274
со временем высвободится и часть сил для какой-нибудь
славной работы. Благодаря сосредоточенности на «Игре в
бисер» я пережил все годы гитлеровщины без крушений,
но, когда работа кончилась и уйти в нее уже было нельзя,
моя позиция в войне нервов, которую весь мир ведет против
человечности, стала очень незащищенной, и, хотя я не¬
сколько лет держался, сейчас выясняется, что при этом я
сильно страдал и многое потерял.
Еще одно. То, что я сказал в «Благодарности»* о Европе,
значит для меня гораздо больше, то есть имеет гораздо бо¬
лее положительный смысл, чем для Вас. Европа, которую
я имею в виду, будет не «сувенирной шкатулкой», а идеей,
символом, источником духовной силы, так же как идеи
«Китай», «Индия», «Будда», «Конфуций» — это для меня
не просто приятные воспоминания, а самое реальное, самое
содержательное, самое существенное, что есть на свете.
То обстоятельство, что в Германии насильники и спеку¬
лянты, садисты и гангстеры уже не нацисты, говоряоще по-
немецки, а американцы, практически хоть и часто злит ме¬
ня, но в принципе сильно облегчает совесть. В немецком
свинстве мы все чувствовали себя как-то виновными, а в
этом я невиновен и впервые после перерыва в десятки лет
обнаруживаю в своей груди порыв национализма, не не¬
мецкого, правда, а европейского.
Я от души рад Вашему собственноручному подтвержде¬
нию, что Вы блестяще справились с гнусным легочным при¬
ступом и снова работоспособны. Этим и своим дружеским
приветом Вы доставили мне истинную радость.
Моя жена, которая сперва, по-видимому, съездит в Цю¬
рих, а потом приедет ко мне в санаторий, была рада Ваше¬
му письму не меньше, чем я, и шлет Вам самый горячий
привет. Всегда Ваш
Г. Гессе
Томасу Манну
Марен близ Нёвшателя
19 ноября 1946
Дорогой господин Томас Манн!
За Ваше поздравление, как и за Ваши заслуги в том,
что стокгольмское решение состоялось*, я благодарен Вам
от всей души, и мне хотелось бы сказать об этом в письме,
которое было бы более достойно Вас и такого повода. Но
275
в последнее время мой огонек еле теплится, а часто ка¬
жется, что и вовсе погас, поэтому не обессудьте. Этот год
npraiec мне много вообще-то благих и желанных даров; ле¬
том я смог принять на несколько недель обеих своих сес- >
тер, подкормить, приодеть и утепгать их перед тем, как ^
отпустить в сумрачную Неметчину. Затем в Нюрнберге >
повесили самого заклятого и злого врага, какой у меня '
когда-либо был, его звали Розенберг. А теперь ноябрь при¬
нес Нобелевскую премию. Первое из этих событий, приезд
сестер, было прекрасно, только оно и составляло для меня
истинную реальность. Другие пока по-настоящему еще не
дошли до меня, потери я воспринимал и переваривал всег¬
да быстрей, чем успехи, и то, что целую неделю шведские
и прочие журналисты буквально оцепляли и осаждали ме¬
ня, как детективы, потому что им не дали моего адреса,
было для меня чуть ли не шоком. Однако положительные
стороны этого счастливого случая все-таки все больше и
больше дают мне о себе знать, и мои друзья, прежде всего
моя жена, радовались, как дети, и пили шампанское.
Друг Базлер тоже в восторге, и многие мои старые чи¬
татели радуются, что их всегдашняя слабость ко мне
оказалась явно не просто капризом. Если я со временем
поправлюсь, то все это еще доставит мне немало удо¬
вольствия.
Жму Вашу руку и вспоминаю день, коща я с Вами по¬
знакомился в Мюнхене, в гостинице, ще жили Фишеры,
году этак в 1904-м.
Надеюсь, Вы получили книжечку с моими статьям, они
довольно немудрены, но по крайней мере позиция й убеж-,
дения были всегда одни и те же.
Сердечный привет и добрые пожелания Вам и Вашим от
Вашего
Г, Гессе
Людвигу Финку*
Баден, 6.3.1947
Дорогой Финк!
Пишу тебе это письмо, полагая, что ты можешь пока¬
зать его в следственной комиссии. Сам я обращаться к ней;
или к другой инстанции, немецкой ли, оккупационной ли^^
никак не могу,
276
Ты знаешь, как я с 1915-го примерно года относился и
отношусь к твоим политическим взглядам и страстям. Мне
твоя разновидность патриотизма всеща претила, и ты сво¬
им именем, своим талантом, своим авторитетом всегда
стоял на противоположной мне стороне. Ты был и явля-
епи>ся типичным немцем-националистом, а это они при¬
несли нам Гитлера и всю его бесовхцину. То, что ты верил
и в самого Гитлера, и в его партию как в чистое, патрио¬
тично-идеалистическое дело, печально и непростительно,
это грех девяноста процентов немецкой интеллигенции, и
народ и мир дорого заплатили за этот величайший немец¬
кий .грех.
Но эту вину, или грех, или глупость, как это ни назови,
ты разделяешь с тысячами коллег, которых и пальцем не
тронули. Грех этот совершили и такие люди, как Герхарт
Гауптман, однако его творчество и его память чтут и пог
ныне.
С нравственно-чмовеческой стороны главное в твоем
случае то, что действовал ты хоть и глупо и. вредоносно,
но от чистого сердца, искренне и не пресле^ц^я личных вы¬
год. . Ты несешь ту же вину, что все другие немцы, сабо¬
тировавшие с 1919 года молодзчо немецкую республику и
сдавшие вошо^ым возникновение гитлеровщины, это.
нач^ось уже с избрания Гинденбурга, даже гораздо рань¬
ше, и наказывать за это сегодня было бы совершенно не-
лфпо. Ва^о теперь не то, что ты верил в Гитлера и в его
ложь, а то, Что ты делал это не из эгоизма, а от чистого
сердца.
' И не то важно, что ты вопреки партийной доктрине
вступался, скажем, за еврея или пытался вступиться за
меня (о чем я тебя, право, никогда не просил), а то, что
ты не боялся при Гитлере вступать в конфликты с его
представителями и властителями и навлекать на себя их
неприязнь, коща того требовала от тебя твоя совесть.
Нравственно — это главное. Ты был ослеплен, но ты не
был ни труслив, ни своекорыстен. Ты хотел служить сво¬
ему народу и своим идеалам и тоща, коща это станови¬
лось опасно для тебя самого и вредило тебе. Тем самым ты
невиновнее, чем десятки тысяч вышедших сегодня сухими
из воды.
G моими книгами, кстати, произошло то же, что и с тво¬
ими. Они вместе со всем моим издательством уничтожены^
и;уже много лет я не получал от всей своей работы никакого
другого дохода, кроме того крошечного, который мне дава¬
277
ла маленькая Швейцария. Так оно и останется, ибо я ни-
коща не верил, что за те мои книги, которые Германия те¬
перь печатает, она заплатит мне иначе, чем обесцененными
активами, на которые был наложен секвестр. Поэтому и по¬
скольку я подкармливаю несколько десятков людей у вас,
очень рад был Нобелевской премии, которая вообще-то ни¬
чего для меня не значит. Гётевскую премию я сразу разда¬
рил внутри Германии.
Андре Жиду
конец февраля 1947, Баден
[примерно до 15 марта]
Дорогой, многочтимый Андре Жид!
Среди страшного множества писем, полученных мною
после Стокгольмской премии, ни одно, пожалуй, не доста¬
вило мне такой радости, как Ваше. В этой натраде меня
среди прочего копило и то, что Вы не получили ее намно¬
го раньше меня*. И теперь вот Вы радуете меня тем, что
выражаете свою любовь к «Паломничеству в Страну Вос¬
тока», одной из самых любимых моих книг, и даже хлопо¬
чете о переводе ее*. Спасибо Вам, Вы доставили мне этим
чистую радость, независимо от того, выйдет ли из этого
что-нибудь.
С правами на перевод моих книг дело обстоит так: с
тех пор как из-за них возникла слишком большая конку¬
ренция, я препоручил всю эту корреспонденцию моей же¬
не, она занимается ею при участии одного цюрихского ад¬
воката.
А с французскими правами дело обстоит вот как: изда¬
тельство «Кальман-Леви» заинтересовалось этим еще перед
Нобелевской премией и обеспечило себе преимущественное
право на ряд книг. Среди этих книг — их шесть — есть и
«Паломничество в Страну Востока». Кальман еще не ре¬
шил, издаст ли он эту книгу или нет, но немецкий текст у
него есть, и она обещана ему на тот случай, если он решит
издать ее.
Позднейшие, окончательные соглашения я и тут дол¬
жен буду поручить жене, поскольку постоянно чувствую
себя плохо, но прошу Вас, если это Вам не противно, лю¬
безно справиться у Кальмана, намерен ли он издать «Па¬
ломничество». Если нет, то оно отдается в распоряжение
Вашего молодого друга. Если же Кальман не хочет отка¬
278
зываться от этой книги, то ему будет, наверно, только
приятно, что Вы рекомендуете ему такого подходящего пе¬
реводчика.
Очень надеюсь, что моя информация не разочарует Вас.
Ничего неприятнее для меня быть не могло бы. Моя любовь
к Вашим книгам, хотя большинство их я знаю лишь в пе¬
реводах, осталась прежней, не далее как осенью я с вели¬
чайшим наслаждением и искренним восторгом перечитал
«Фальшивомонетчиков», а незадолго до того «Пастораль¬
ную симфонию».
Хотя мое «Паломничество» не осталось в новой немец¬
кой литературе без последствий, но публика и в Германии
до сих пор еще не открыла его. Тем больше рад я, что имен¬
но эта книга Вам полюбилась. Со старой любовью и восхи¬
щением шлет Вам привет Ваш
Вальтеру Мейеру*
Баден, 17.3.1947
Глубокоуважаемый господин доктор Мейер!
Перед тем как покинуть Баден, хочу послать Вам при¬
вет.
Порой, коща я лежу с адской болью в глазах и ничего
больше не могу делать, я думаю о Вашей «Манессевской
библиотеке», и мне в голову приходит всякая всячина, со¬
вершенно субъективные и случайные мысли, иные из кото¬
рых все же хочу сообщить Вам.
Один томик мог бы содержать небольшое по объему
творчество Герена*, автора «Кентавра», в лучших (или но¬
вых) переводах.
Об античных авторах мы никогда не говорили, не знаю,
включены ли они вообще в Ваш план. Но если да, то мне
хотелось бы видеть среди них Геродота — взамен давно
уже распроданного прекрасного карманного издания «Ин-
зель».
Может быть, следует рискнуть и снова попытаться со¬
ставить биографический и психологический портрет Сокра¬
та из сохранившихся его слов и сочинений Платона и Ксе-
но(}юнта. Очень щекотливая задача, но по меньшей мере
столь же необходимая, как Франциск Ассизский или Ми¬
келанджело.
И нечто совсем другое. Можно представить себе краси¬
вый и очаровательный том под названием, скажем, «Па¬
27®
рижский романтизм» или «Романтизм.во Франции» или в>
этом роде, тут можно было бы дать документы, например.
отклики на премьеру «Эрнани» и т.д., письма и мемуары
Берлиоза, Тео Готье, Делакруа и прежде всего иметь в ви¬
ду, правда, очень фельетонные, но частью и весьма обая¬
тельные куски из Histoire du romantisme en France.
Т.Готье. Для романиста, знающего литературный, музы-^
кальный и художественный Париж тех лет, это было бы
очень славное издание. Коцечно, все зависит от того,, кто
это сделает.
Напомнить хочу также о Томасе де Куинси*, но этот у
Вас, конечно, давно уже в списке. ,
Дружеские приветы Ва№И пожелания-. Надеюсь, что ца
днях CMOi^,отправиться в путь.
Всей душой Ваш
Эрвину Аккеркнехту
Моетаньола, 3.5.1947
Дорогой доктор Аккеркнехт!
Спасибо за Ваше письмо от 19 апреля. Единственное,
что мне не понравилось в нем, было известие о господине
Лейнсе из Тюбингена. Ор, значит,, хочет летом переиздать
книжечку о нашем отце! Мне он не сказал об этом ни сло¬
га, да и о кальвском деле* не написал ни строчки! Однаж¬
ды, во времена, коща возвысился Гитлер; он.довольно хо¬
лодно сообщил мне, что . запасы этой книжки (Адели и
моей) занимают на его складе слишком много места, поэ¬
тому он отправит нераспроданный остаток в макулатуру.
А сейчас он, примерно через 17 лет, заново печатает
книжку, даже не спрашивая авторов, согласны ли они и
хотят ли они просмотреть текст. Точно так же поступил в
Гамбурге некий господин Дульп с «Игрой ца органе». За¬
пуганный при Гитлере, он тогда порвал связь со мной, не
отвечал на письма, првдержал причитавшиеся мне плате¬
жи и авторские экземплярь!, а сегодня, когда Гессе — сногч
ва хорошее дельце, он, не спрашивая меня, просто neper
печатывает это сочинение, не выполняет нынешних .своих
обязательств так же, как не выполнял прежних., обкрады^
ваот.меня,у меня на глазах только потому^ что он, i^p^sqe
его коллеги, прекрасно здгает, что^.не стану на него^ж^т
ловаться, .ибо принудить его .платить мне .нельз,я„р11 зд^.,
что-Гв1Н4ания украла у меня мой труд,, и хоч*^ .лрдуч^ть»
280
свою долю украдедного. Не могу сказать, в какой мере
способствовало последние два года моему краху отношение
ко мне немецких издателей, редакторов и т.д. Мы здесь, в
Швейцарии, жертвуем больше, чем половиной своего тру¬
да, своих сил, забот, средств для того, чтобы облегчить
бедственное положение Германии, а в ответ у вас там об¬
чищают наши карманы. Ни один из моих немецких друзей
(которые все это тоже знают) палец б палец для меня не
ударил, большинство считает, что все это вообще не стоит
упоминания. Зато в десятках писем из Германии нам еже¬
дневно, в совершенно прежнем немецком тоне объясняют,
что немецкий народ ни в чем не повинен и что свою кри¬
тику и своюг антипатию нам следует теперь обратить на
союзников и Т.Д. и Т.Д. Уже несколько лет тошнит от этото
каждый день.
Собирался приехать Гартман, и Зуркамп, и Каросса, но,
поскольку ни у кого ничего не получается, я простился с
надеждами.
, Через несколько дней я, вернее, то, что от меня оста¬
лось, снова отправлюсь в клинику на долгие исследования
и мученья.
Гансу Гольцу
[середина мая 19471
Глубокоуважаемый сударь!
С участием и симпатией прочел я Ваше коммюнике и
жалею, что у меня нет времени и сил ответить Вам больше;
Чем этими немногими строчками. Но я уже давно очень пе¬
регружен, а последний год постоянно болен и послезавтра
должен снова отправиться в клинику.
Обращения, подобные Вашим, приходят ко мне из мно¬
гих стран, но в большинстве своем — из Германии, и' это
естественно, ибо побежденные в данный момент всегда, по
крайней' мере с виду, больше других созревают для паци¬
физма. Мы получаем сейчас из Вашей страны все те при¬
зывы к человечности, которых нам пятнадцать лет так не
хватало, и мир склоняется к мысли: теперь, котда им плсЯ*
xd, они вдруг опять стали благородны. Я не разделяю этих
мыслей. Ваши намерения я принимаю всерьез. Но я не ду^
маю, что Германия должна и' вправе обраощться с такимй
воззваниями к человечеству,'величайшим врагом которого
она на какое-то время стала. При йынешнем положении в
2^1
мире я считаю, что люди добронамеренные должны каж¬
дый в своей стране бороться с безумием национализма и
гонки вооружений, каждый в своем, доступном ему кругу,
от человека к человеку, от дома к дому. Все прочее, при
самых добрых намерениях, сразу же непременно превра¬
тится в бумагу и пустую идеологию.
Довольствуйтесь этим. Привет от преданного Вам
Хедвиг Фишер*
Монтаньола, 30.6,1947
Дорогая^ глубокоуважаемая госпожа Фишер!
Ваше милое поздравительное письмо уже у меня, и,
поскольку я с Нинон и моей гостящей у нас сестрой буду
праздновать свой день рождения не здесь, а вне дома* с
сыновьями, хочу еще до того поблагодарить Вас, ибо по¬
том гора почты меня поглотит. Правильнее и красивее бы¬
ло бы, конечно, провести такой день дома, со зваными го¬
стями, но ведь чуть ли не все условия нынешней нашей
жизни и некрасивы, и неправильны, вот и нашелся такой
выход.
Да, вот мне и правда семьдесят лет, я несколько не¬
твердо держусь на ногах, но еще, стало быть, существую
на свете. Удивительная была у меня жизнь, очень хоро¬
шая и богатая и все же полная противоречий. Все, что я
больше всего ценил и к чему стремился, сбывалось у меня
всеща лишь ненадолго и было непрочно, зато мне на долю
выпало многое другое, о чем я и не помышлял. Надо при¬
нимать жизнь такой, какова она есть, мало что в ней за¬
висело от тебя самого, и благодарен я прежде всего за то,
что куда как большую часть своей жизни мне удава¬
лось делать свое, свободно выбранное дело и жить неза¬
висимо.
В нашем празднике, кроме друзей, в доме которых он
состоится, будут участвовать три моих сына с женами. По¬
том как-нибудь надеюсь встретиться также с Томасом
Манном, что пока не получалось, оттого что я тяжел на
подъем.
На днях я велел послать Вам один небольшой оттиск и
надеюсь, что он благополучно дойдет до Вас. Думаю сегод¬
ня о Вас и об отце Фишере с благодарностью и грустью,
шлю Вам самый сердечный привет. Всеща Ваш
282
Томасу Манну
Монтаньола, 3 июля 1947
Дорогой сударь и друг!
Коща, обращаясь к знаменитому человеку, его называет
49ФУГОМ» человек незнаменитый или менее знаменитый, в
этом я всеща нахожу что-то смешное. Но если уж один раз
назвать Вас так, то именно сейчас, коща для этого есть по¬
вод, и я пользуюсь формулой «сударь и друг», которую
Якоб Буркхардт любил применять к особенно уважаемым
и чтимым друзьям.
Ваше приветствие в «Цюрхер цайтуш^* было для меня
полной неожиданностью. Поскольку в этом номере шла моя
статья, я заказал несколько экземпляров, и, когда вскрыл
бандероль, мне чуть ли не пугающе улыбнулся заголовок
Вашего приветствия, я сел и стал читать и читал Ваши тон¬
кие и милые слова с приятнейшим чередованием растроган¬
ности и усмешек.
Уже сутки лежит передо мной письмо от одного очень
ценимого мной человека из Швабии, письмо, где он просит
меня сказать Вам, как это ободрило и утешило бы тех Ва¬
ших германских поклонников, которые были противниками
и жертвами Гитлера, если бы Вы все-таки ненадолго пока¬
зались в Германии. Выполнять его поручение, сделанное из
самых лучших и самых сердечных побуждений, я не буду,
но что мне так понравилось в его письме, так это совершен¬
но равномерное распределение старой и верной почтитель¬
ной читательской любви между Вами и мною. А ведь куда
как часто недалекие «перелетные птицы» говорили и писа¬
ли мне, как они ценят во мне то, что я не такой холодный
интеллектуал и светский франт, как этот знаменитый сын
Любека*. Уверен, что и Вы столь же часто выслушивали
дифирамбы, старавшиеся придать себе особую пряность ле¬
стными сравнениями с голубоглазым идилликом-швабом.
Мне в таких случаях не раз приходилось давать отповедь и
в совершенно частном порядке ломать копья из-за этого сы¬
на Любека.
В Вашем приветствии коллеги и друга нет ни одного сло¬
ва, ни одного намека, которые не были бы мне по душе, ни
одного чувства, на которое я не мог бы точно и живо отве¬
тить. И как хорошо, как забавно, что судьба подбросила
Вам письмо этого музыканта (я склонен думать, Пфитцне-
ра*)! Ваш ответ этой канарейке сам по себе позабавил меня
и доставил мне удовольствие.
283
Чувствую себя неважно, да и жары, которую всю жизнь
любил, уже не переношу, а то бы я написал Вам еще не
один листок.
«Агафон приветствует Иксиона»*, — сказал ^дто бы
Виланд Шуберту, придя к нему в Гейслингене. «Иозеф
Кнехт отвешивает большой восьмикратный коутоу Томасу
фон дер Траве»*, — говорю я на сей раз и со старой любо¬
вью и благодарностью остаюсь Вашим
Г. Гессе
Луизе Ринзер
[Лето 1947]
Дорогая госпожа Ринзер!
Ваше письмо с рукописью пришло. Письмо жена мне
прочла, мы как раз возвращаемся с «каникул», проведя не¬
сколько дней в Берне. Может быть, нам удастся, еще здесь
прочесть рекомендуемые Вами страницы рукописи —^ ес™
же нет, то в этой жизни такого случая уже не представится.
На эти так называемые каникулы мы взяли с (ю^й полче¬
модана еще не прочитанных писем и половину привезем
домой, так и не ответив на них, потому что чуть ли не каж¬
дый день приходит столько новых писем, что хорошо еще,
если успеваешь п^ючёсть их, большей частью что-то оста¬
ётся.
Есть люди, которые «живут» с искусственными ногдми^
без глаз или только с одной почкой. Что касается меня, то
я живу уже два года без частной жизни, ее у меня начисто
ампутировали, и я очень надеюсь, что этому уродливому,
совершенно недостойному и притом безумно утомленному
виду существования скоро придет конец.
По Вашему письму я вижу, что у Вас еще есть частная
жизнь и что сейчас Вы горячо отстаиваете ее. Делайте это
и изо всех сил ищите соответствующую Вам форму жизни,
даже пренебрегая из-за этого всеми <долгами». Большую
часть своей священности, если не всю. ее, долги черпают в
нехватке у нас мужества бороться за частную жизнь. Цще
несколько лет назад у меня была эта частная жизнь, li
борьбу я вел за нее часто 1^ровавую и жестокую,, и это бы^
лр прекрасно. А остатка уже не жаль. Привет Вам рт Ва¬
шего -
284
Г.К.Бодмеру
Монтаньола, 8.7.1947
Дорогой сударь и друг!
Моя благодарность за Ваш милый, прекрасный подарок*
немного опаздывает, ибо день рождения, то есть домашнее
празднование в Монтаньоле,- нам пришлось перенести, по¬
скольку 2 июля праздновалось в замке Бремгартен, ще нам
очень недоставало Вас и фрау Эльзи. Кроме моих сыновей
и их жен, присутствовали Моргенталер и Луи Жестокий,
моя старшая внучка, а также господин и госпожа Лейт-
хольд, вместе с другом Вассмером, стало быть, почти тот
же круг, что и десять лет назад на Берстенберге. Обедали
в великолепном зале стиля рококо, а потом, во второй по¬
ловине дня, состоялось большое, довольно утомительное, но
славное и достойное торжество. Пришли музыканты, пиа¬
нист и исполнители на деревянных духовых, они шрали
Данци* и Моцарта. Затем явилась депутация из трех про¬
фессоров и депутация из трех студентов. Они вручили мне
диплом почетного доктора, и студенты тоже принесли мне
торжественную грамоту.
3-го мы вернулись домой и в воскресенье праздновали
здесь, пригласив несколько друзей: Бёмера с женой, худож¬
ника Пуррмана и госпожу Эмми Балль. Кроме того, как и
в Бремгартене, присутствовала и моя сестра Адель. Утром
Нинон подвела меня к столу с дарами, а потом повела на¬
верх в кабинет, ще стоит радиоприемник, и показала мне
Ваш чудесный, подарок, и в Вашу честь, дорогие друзья,
был проигран кончерто Генделя.
Огромное, спасибо обоим вам за память и за ваш дар!
Сотни раз будем мы, пользуясь проигрывателем, вспоми¬
нать вас, и за ваше здоровье мы выпили также. То, что вас
не было с нами в Бремгартене, — единственный недостаток
того праздника.
Прибавились еще сообщения о торжествах и докладах в
Германии, пошла какая-то мода на Гессе, и я очень наде¬
юсь, что на этом иа остаток моих дней дело и кончится, с
меня вполне довольно, иногда я кажусь себе обезьяной, ко¬
торую вырядили генералом. Особое тор^жество было в Каль-
ве,^1;де меня объявили почетным 1ра^анином и назвали
моим именем площадь.
Теперь мы сидим над охромной почтой, нужно все рас¬
печатать, прочесть и на все ответить.
2^5
Желаем вам еще приялгных дней там и благополучного
возвращения домой. С радостью ждем этого возвращения и
встречи.
Саломе Вильгельм
[август 1947}
Дорогая госпожа Me!
Спасибо, за Ваше милое письмецо о саранче. Что Вас
тревожит Китай, мне вполне понятно. С тех пор как ком¬
мунизм» национализм и милитаризм стали братьями, Вос¬
ток временно потерял свое очарование.
У меня ничего нового. Скоро придет одна печатная ве¬
щица. Я теперь привык рассылать вместо книг эти штуки
и писать их так, чтобы они были адресованы скорее друзь¬
ям, чем публике.
Отто Гартману
5.9Л947
Дорогой друг!
К моей радости, позавче!» приош> твое письмо от 27
августа. Марулла, которая с 1 сентября у нас, слушала его
тоже. Она шлет тебе привет.
С госпожой Зальцер* у меня происходит то же, что
почги каждый день с двадцатью немецкими редакциями,
издательствами, радиостанциями и т.д.х духовная собст¬
венность писателя принадлежит не ему, а тому, кому она
как раз понадобилась и кто хочет ею воспользоваться,
будь то ради денег, тщеславия или «культуры». Ваш на¬
род, с годами становившийся для меня все загадочнее и
несимпатичнее, обобрал меня подчистую. Если мне за всю
мою работу не дают куска хлеба, то уж оставили бы за
мной ;сотя бы остальные естественные права автора. Но
даже издательство «Инзель», некоща символ порядочно¬
сти, теперь, когда Гессе не позор для него, преспокойно
перепечатывает мой сборник стихов*, не спросив меня, со¬
гласен ли я, не хочу ли я по прошествии десятилетий что-
то исправить, что-то добавить и т.д. и т.п. Поскольку эту
эксплуатацию моей особы и моего труда постоянно допол¬
няет поток попрошайнических и ручеек ругательных пи¬
сем, Германия, которая изо дня в день преподносит мне
все это и стоит мне 90 процентов моих сил, моего време¬
2S6
ни, >юих пшз, моей жизни, стала для меня каким-то чу¬
довищем, пугалом, это, конечно, не объективная действи¬
тельность, но в моей я^зни и не по моей вине ота стала
такой 1римасой. Вчера я говорил об этом с Мартином Бу¬
бером и его женой, которых очень люблю и вчера снова
впервые увидел с тех пор, как они покинули Евроту, —
они поразительньш образом сохранили свою неиспорчен¬
ность и свободны от этой неприязни. К счастью, я не ci^o-
нен переносить свои чувства к Германии на отдельных
лиц. Когда я имею дело с отдельньши людьми, призрак
рассеивается, и я реагирую просто и правильно. Но когда
в тысячах немецких писем вопят и визжат о немецкой ни¬
щете, о позоре, о голоде, а о н»«^цсой вине, как и о ни¬
щете других народов, ни звука, — это отвратительно. Ду¬
маю, что во всей Англии не наберется десятка людей, спо¬
собных на такие письма. Ну, довольно об этом1 Макс Вас-
смер, которого ты знаешь по стихотворению, — это владе¬
лец бремгартенсксяо замка, мы дружим с ним с 1919 года,
моим читателям он известен как мифическая фигура по
«Паломничеству в Стра!^^ Востока».
О Зуркампе я ничего не знаю^ кроме того что в Цюри¬
хе снова, как у^ не раз за эти два года, прошел слух, что
он скоро приедет в Швейцарию. Зато здесь был д-р Бер¬
ман, зять С.Фишера и теп^ь, вместе с Зу{Ясампом, владе¬
лец эт(их> издательства, которое снова будет называп>ся
по-старому -«С.Фишер». Он навестил нас в Венгене. Кроме
берлинского издательства с франкфуртским филиалом, он
открывает издательство в Вене, там тоже выйдет кое-что
мое, сперва «Златоуст», конечно, я и оттуда не получу ни¬
чего.
Не нравится мне, что уже наступает осень, а ты так и
не приехал. Но, может быть, нам все-таки доведется уви¬
деться. Очень этого хочу.
Маульброннский эфорус указал мне швейцарскую орга¬
низацию, через котхфую я шог бы посылать семинарской
библиотеке книги в подарок. Я отправил большую посылку,
но это (жазалось опять мечтой, ничего не вышло, и священ¬
ник этой организации не придумал ничего лучшего, чем по¬
просить меня, чтобы я подахшл киши им, а не каким-то
недостижимым немецким адресатам. Что я, однако, отверг.
Книга для Штутгартской земельной библиотеки и для Ак-
керкнехта (музей Шиллера) у меня давно отложены в Цю¬
рихе л ждут оказии. - . .
287
«Hipa к бисер», уже два года как расп|роданная в Цю¬
рихе из-за отсутствия бумага, теперь наконец должна
выйти снова — как и стихи. В Цюрихе готово дополнен¬
ное несколькими мелочами новое издание «Заметок на па¬
мять».
Так постепенно здесь, в Швейцарии, появляются снова
главные мои книга, но без возможности вывоза за границу,
а потому только маленькими тиражами.
Прощай, прости вышестоящее брюзжанье, сердечный
привет тебе от твоего
Господину д-ру П.Э., Дрезден
16 сентября 1947
[... ] Это один пункт, он не так важен. Весомее другой,
который выдвигает Ваше письмо. Я огорчен тем^ что и
Вы, как сотни моих читателей и корреспондентов, не
можете ценить Гессе, не принижая взамен Томаса Ман¬
на. Мне это совершенно непонятно. Если Бог дал Вам
дар понимать Гессе, а Манна — нет, если у Вас нет та¬
кого органа, чтобы постичь и оценить это замечательное
и в высшей степени уникальное явление в сфере немец¬
кого языка, то меня это не касается. Но что я, будучи
не только личным ‘другом, но и старым и верным по¬
клонником Томаса Манна, должен вечно расплачиваться
за это противопоставление меня Манну, это мне в вы¬
сшей степени противно. Я не хочу ни поучать, ни тем
более причинять. Вам боль, о нет, но это надо было скат
зать, и теперь все сказано.
Томасу Манну
13 октября 1947
Дорогой, глубокоуважаемый Фома Генрихович*}
Уже некоторое время я все хотел передать Вам какой-
нибудь привет, подать какой-нибудь признак жизни, по¬
слать знак памяти и симпатии, ибо мы много о Вас думаем
и недавно перечли почти все статьи из «Ответа и отчётй^,
а потом, вдохновленные Вами, опять после долгах лет вая¬
лись за «Штехлина»* и читаем его по вечерам. А сегбдн$(
было и более сильное напоминание о Вас. Мы слушали по
радио магаитофонную запись Вашего чтения «Вундеркин¬
288
да»*, радовались Вашему голосу и Вашему языку и опять
были сильно взволнованы тем, что уже в ранних и даже
самых маленьких Ваших произведениях с такой закончен¬
ностью и точностью предстают не только Ваша интонация
и манера, но и необыкновенно верно отмечен центр Вашей
тематики и проблематики.
Впрочем, не требовалось ни этой встречи по радио, ни
еще какого-либо напоминания, чтобы я с любовью и благо¬
дарностью думал о Вас. Мир не очень богат людьми, а тем
более коллегами, чье существование и воздействие излуча¬
ет свет и доставляет чистую радость, а на старости лет все
труднее принимать новые явления и типы; тем благодарнее
мы за немногих спутников, существование и дарование ко¬
торых приносит лишь радость...
Эдмунду Наттеру
28.10. [19471
Дорогой Наттер!
Большое спасибо за твое письмо.
Твой рассказ о проф. Тилике* и о твоих сомнениях в
этой связи сильно задел меня. Это, конечно, чисто личный
вопрос для каждого, насколько он выполнил свой долг и
можно ли бишо требовать последней жертвы именно от не¬
го. Передо мной тоже то и дело встают эти вопросы. Зву¬
чат они для меня приблизительно так. Во-пе]^вых, на¬
сколько прав был я, когда во время первой войны считал
национализм и патриотизм устаревшими идеалами, кото¬
рых я уже не могу разделять, и отказался от своей (и так-
то не органической) принадлежности к Германии? Во-вто-
рых, способен ли был бы я перед лицом какой-нибудь ин¬
квизиторской власти, которая поставила бы меня перед
выбором между отказом от своих убеждений и пыткой или
расстрелом, сохранить твердость и пойти на смерть, хоть
какая-то формула спасла бы меня? Я так же не мргу от¬
ветить на это, как ты на свои сомнения, ибо самой этой
ситуации я не испытал, а жертвы и отказы, которых прак¬
тически требовала от меня обстановка, я ведь все-таки со¬
вершал. Наша совесть — инстанция высокая, но я сомне¬
ваюсь в том, что это — глас Божий, и счастье, конечно,
что ей противостоит другая инстанция, простой инстинкт
сохранения жизни. В твоем случае, конечно, чисто прак¬
тически разумно сказать, что летом 1944 года план, подо¬
10 5-258 289
бный плану этого профессора, не имел никакой политиче¬
ской ценности; при тогцашнем положении стремиться
можно было только к тому, чтобы путем покушения и т.д.
и Т.Д. хотя бы сократить войну и, может быть, спасти еще
десяток городов. Офицеры и пыхались ведь это сделать.
Довольно, жена призывает меня к важным делам, речь
идет о жизни и спасении ее единственной сестры в Румы¬
нии*.
Читательнице
Ноябрь 1947
Дорогая фрейлейн!
Я больной старик, чьих сил уже не хватает на то, что¬
бы хотя бы прочесть целиком каждодневную почту. Но к
Вашему письму надо отнестись серьезно, поэтому попыта¬
юсь кратко ответить.
В моей книге Вы, конечно, нашли много такого, о
чем я и сам ничего не знаю. С другой стороны, соответ¬
ственно Вашей ступени жизни Вы, конечно, многого в
книге еще не поняли, в том числе жертвенной смерти
Козефа Кнехта. Он мог бы умно и тонко избежать
прыжка в ледяную воду, сославшись на недомогание.
Однако он его делает, потому что что-то в нем сильнее
ума, потому что он не может разочаровать этого непо¬
датливого мальчика. И он оставляет после себя такого
Тито, для которого эта жертвенная смерть человека,
стоящего гораздо выше его, будет всю жизнь напомина¬
нием и руководством, сделает больше для его воспита¬
ния, чем все проповеди мудрецов.
Со временем, надеюсь. Вы, может быть, тоже это поймете.
Но в конце концов не так уж важно, поймете ли Вы
это, я хочу сказать: примете ли умом и одобрите ли эту
смерть Кнехта. Ибо смерть эта уже оказала на Вас свое
воздействие. Она оставила в Вас, как и в Тито, занозу, на¬
поминание, которого уже нельзя забыть совсем, она про¬
будила или усилила в Вас духовную тоску или духовную
совесть, которые будут оказывать свое действие и тогда,
коща Вы забудете мою книгу и свое письмо. Прислушай¬
тесь только к этому голосу, который идет уже не из книги,
а из Вашего собственного нутра, он поведет Вас дальше.
290
Томасу Манну
Баден, 12 декабря 1947
Дорогой господин Томас Манн!
Ничего лучшего в эти скучноватые, сонные недели ле¬
чения в Бадене я не мог и пожелать себе, чем письмо от
Вас, и притом такое приятное и многообе1цающее, ибо оно
сулит мне две чудесные вещи или, во всяком случае, по¬
казывает, что они возможны и что Вы сами стремитесь к
ним. Обе мне хотелось бы прочесть — одну, полного, за¬
вершенного «Круля»*, уже десятки лет, другую, коммен¬
тарий к «Фаусту»*, ad usum Germanorumi, тоже не раз в
последние годы. О «Круле» нечего и говорить. Вы давно
знаете, как люблю я эту фигуру, и понимаете, как я же¬
лаю не только себе этого читательского наслаждения, но и
Вам дальнейшей занятости этой работой, прелестная инто¬
нация и атмосфера которой ведь уже существует, работой,
которую я, помимо всего прочего, представляю себе и про¬
гулкой в высокогорном воздухе артистизма, в игре с мате¬
рией, свободной от злободневных и мрачных проблем. Да
пребудут над этим счастливые звезды!
За время, что Вы не получали вестей от меня, я прочел
и «Леверкюна»*. Это великая удача и смелость, не только
по постановке проблем и по волшебно светлой, невещест¬
венной манере, в какой эта проблематика переводится в
область музыки и анализируется там с объективностью и
спокойствием, возможными только в абстрактном. Нет,
поражает и волнует меня то, что этот чистый препарат,
эту идеальную абстракцию Вы не уносите в идеальное
пространство, а вставляете в реалистическую картину ми¬
ра и времени, мира, вызывающего любовь и смех, нена¬
висть и омерзение. Тут много, конечно, такого, за что на
Вас обидятся, да ведь это дело привычное. Вы не станете
очень уж убиваться. Мне самому после первого чтения
внутренний мир Леверкюна кажется гораздо яснее, про¬
зрачнее, кажется куда более упорядоченным, чем окру¬
жающий его мир, и мне как раз нравится, что этот ок¬
ружающий мир представлен множеством фигур, очень
многообразно и разнообразно, что в нем есть место и для
карикатурных теологов из Галле, и для прекрасного
ребенка Непомука*, что автор так щедро нас одарил и
Предназначенный для немцев (лат.).
10* 291
никогда не теряет, хорошего настроения, радости от спек¬
такля.
Видите, книга у меня уже есть, правда, потрепанная и за¬
читанная. Если у Вас коща-нибудь найдется для меня экзем¬
пляр покрасивее, в переплете, буду, конечно, очень благода¬
рен Вам за него.
Вот что еще: над некоторыми страницами Вашей кни¬
ги, где анализируется леверкюновская музыка, я вспомнил
один второстепенный персонаж «Игры в бисер» — Тегуля-
риуса*, чьи партии имеют порой тенденцию при самом за¬
конном с виду развитии кончаться иронией и меланхо¬
лией.
Мой курс лечения завершен, через несколько дней я вер¬
нусь домой. Сердечнейший привет вам обоим от Нинон и от
Вашего
Г.Г.
Гансу Шрайберу
[декабрь 1947]
Дорогой господин Шрайбер!
На письмо я неспособен, я слишком перегружен. Вашего
мнения, что художник-исполнитель должен быть в момент
исполнения захвачен и потрясен исполняемым произведени¬
ем искусства, я никоим образом не разделяю. Если бы дело
обстояло так, то невозможны были бы никакое театральное
представление на свете, никакое выступление оркестра.
Нет, потрясение должно предшествовать, в нем певец или
чтец переживает произведение творца, но передавать его
он должен уметь без того, чтобы каждый раз заново вызы¬
вать в себе такое потрясение. Певцы, которым это необхо¬
димо, почти всеща не «настроены», как то бывает с рояля¬
ми, и из десяти концертов они девять либо проваливают,
либо отменяют. Это дилетанты, и это бывает иной раз пре¬
красно, только не как дело жизни.
Ответ на письма с просьбами
[1947J
Письма с просьбами приходят ко мне сотнями, в таком
количестве, что я, будучи уже и так-то не очень работоспосо-
292
бен и постоянно перегружен, вынужден прибегнуть для отве¬
та к этим печатным строчкам.
Не могут быть приняты во внимание бесчисленные
просьбы незнакомых лиц о продовольствии и подобных да¬
рах. Я с большим трудом выполняю обязательства, уже
взятые на себя в этом отношении, в течение двух лет под¬
держивая регулярными посылками некое число дорогих
мне людей в Германии. Чтобы не прекращать этой помо¬
щи, каждый месяц приходится расходовать несколько сот
франков, и расширять этот круг я не в силах.
Никому из этих многочисленных просителей не прихо¬
дит в голову, что я, как автор книг на немецком языке, в
полной мере затронут великим банкротством Германии.
Доверив весь труд своей жизни Германии, я именно поэ¬
тому и лишился его. Уже много лет я не получал ни пфен¬
нига от моих немецких издателей, и нет никаких видов на
то, что при моей жизни тут что-либо изменится.
Во время германской мании величия мои книги были
частично запрещены, частично подавлены другими спосо¬
бами. Все, что еще оставалось от них, как и все другие за¬
пасы, матрицы набора и т.д., без остатка уничтожено бом¬
бами заодно с издательством «Фишер—Зуркамп».
В последние годы я, правда, выпустил ряд своих книг
в швейцарских переизданиях. Но маленькая Швейца¬
рия — это крошечный рынок сбыта, здесь возможны лишь
совсем маленькие тиражи, и ни в Германию, ни в Австрию
вывозить эти книги нельзя.
В Берлине мой верный издатель П.3уркамп всячески
старается переиздать некоторые мои книги. По мере воз¬
можности я помогаю ему довести эти книги до действи¬
тельно серьезных читателей, ибо иначе они оказались бы
объектом спекуляции скупщиков.
Кроме просьб о продовольствии и о книгах, ко мне по¬
ступают и просьбы, основанные на полном незнании дей¬
ствительной ситуации: просьбы о швейцарской въездной
визе с разрешением работать, даже о немедленном предо¬
ставлении гражданства, о работе, о службе, о должностях.
Мучительно читать все эти часто фантастические просьбы,
ни одну из которых нельзя выполнить.
Мои друзья знают, что' я делаю все, что могу, и с кон¬
ца войны посвятил больпую lacTb моей работы и моих
средств немецкой беде. Они знают также, что крошечная
Швейцария постоянно в удивительном объеме помогает и
делает подарки огромной голодной Германии, хотя другие
293
дружественные нам страны находятся не в лучшем поло¬
жении и хотя все еще очень многае швейцарцы по понят¬
ным причинам к Германии отнюдь не благоволят. Печаль¬
но, что на каждый случай, когда мы можем помочь, при¬
ходятся сотни невыполнимых просьб. Мы тут ничего не
можем поделать.
Рольфу Шотту
10.1.1948
Дорогой господин Шотт!
Я получил из Англии анкету миссис Аркуордт с Вашим
рекомендательным письмом. Литературы по усовершенст¬
вованию мира, создаваемой благодетельными и слишком
богатыми дамами, у меня предостаточно, и я не хочу ум¬
ножать ее. Даме этой отвечать не могу, я каждый день до
отчаяния занят не усовершенствованием мира, а настоя¬
щей, практической, насущной помощью и, к сожалению,
не могу распивать чаи со всеми этими дамами, как бы они
ни были милы и полны добрых намерений. Пусть каждая
из этих дам отдаст свой автомобиль и вместо своих секре¬
тарей кормит нескольких голодающих гениев, тоща мир
уже чуточку продвинется дальше.
Addio, всего Вам доброго. Я думаю о Вас с тревогой, но
ведь нет ничего и никого, о чем сегодня можно было бы ду¬
мать без тревоги.
Саломе Вильгельм
Монтаньола, 11.1.1948
Дорогая, глубокоуважаемая госпожа Вильгельм!
Ваше милое декабрьское письмо делает меня буквально
несчастным. Вы явно не получили или еще не получили
двух моих писем, где я намекал Вам на свое положение и
объяснял, почему не могу прочесть роман Вашего знако¬
мого. Положение же таково: добрых два года я ежедневно
получаю столько писем, что просто один раз прочесть их,
не отвечая, было бы и для молодого, здорового человека
утомительным трудом, это каждый день от ста до пятисот
страниц, непрерывный поток, который изо дня в день за¬
топляет мои комнаты, мои глаза, мою голову, мое сердце
своей мутной и часто едкой водой, открывает мне мир бед,
294
горя и беспомощности, но также глупости и подлости и
всеми средствами, от простой просьбы до угрозы, добива¬
ется от меня, чтобы я помог, выразил свое отношение,
дал, посоветовал. Кроме того, я должен подкармливать де¬
сятка два людей в Германии, то есть добывать побочной
работой несколько сот франков, чтобы не дать умереть мо¬
им сестрам и друзьям. Глаза уже много лет никуда не го¬
дятся, у меня уже много лет не бывает и дня без глазных
спазмов, а помогает мне только моя и так-то перегружен¬
ная домашним хозяйством, гостями, прмощью эмигрантам
и Т.Д. жена, которая постепенно увядает и, как я, гибнет
в этой горькой суете.
Еще три-четыре года назад меня мало что так обрадо¬
вало бы, как известие, что готовится что-то вроде биогра¬
фии Вильгельма* и что я могу тут помочь. А сегодня mhq
уже приходится принять лишний порошок и потрудиться
целый час сверхурочно, чтобы написать Вам это жалкое
послание.
Единственный совет, который могу Вам дать, таков:
попросить на основании старых связей доктора К.Г.Юнга
в Кюснахте близ Цюриха сделать что-нибудь для Вашей
рукописи. Сам он вряд ли сумеет что-либо предпринять,
он был тяжело болен и наверняка так же перегружен, как
я. Но у него есть то, чего нет у меня, — всяческие помощ¬
ники, секретарпга, ученики и т.п., и достаточно, может
быть, чтобы он попросил своего цюрихского издателя Ра-
шера ознакомиться с рукописью, она вполне может подой¬
ти его издательству.
Ах, довольно об этом. Жизнь идет к неведомому и пока
нежелательному, я, мне кажется, давно уже не дышал
воздухом и не ел хлеба, и еще благо, что хотя бы могу, с
трудом сколотив средства, отводить голодную смерть от
нескольких славных людей, когда-то добросовестно спо¬
собствовавших избранию Гинденбурга, а отчасти и Гитле¬
ра. Кстати, чтобы сказать и кое-что положительное: есть
действительно исправившиеся, прозревшие и благородные
бывшие нацисты, их немного, но благородных людей бы¬
вало немного всегда и везде. Прощайте, не сердитесь на
меня, но Вы и не сбрдитесь, зная, что я, несмотря ни на
что, думаю всегда о Вас и о Вильгельме с преданностью и
благодарностью.
295
Студенту
16.1.1948
Дорогой господин Й.!
Для меня стало редким исключением писать частные
письма, при болезнях и безумной перегруженности у меня
такой возможности почти не бывает, но на Ваше письмо,
которое меня обрадовало, я хочу ответить не только печат¬
ным приветом.
Если я. не. забыл Вас и Ваш приезд в Монтаньолу, то не
только по той причине, что Вы сын Г.Н. Ваш приезд не был
забыт потому, что он поставил меня перед неразрешимыми
проблемами. По рекомендации своей матери, которая со
мной в дружбе, ко мне явился этакий немецкий мальчик
или юноша, серьезный и взрослее своих лет, приверженный
из-за отца и всего своего воспитания к чуждому нам, нена¬
вистному нам, злосчастному мировоззрению, милый, моло¬
дой человек, которого ты был бы рад дружески похлопать
по плечу, если бы не знал, что вскоре, может быть, этот
самый юноша, став солдатом или молодым офицером, по¬
может убивать наших друзей и родных. Ничего мне так не
хотелось тогда, как отвести Вас в сторону и сказать Вам:
«Милый мальчик, вы верите в учение, которое на самом
деле обман, и в богов, которые на самом деле бесы. Скоро
вы будете носить ружье или другое орудие убийства и вме¬
сте с миллионами себе подобных поможете разрушить мир».
Я не мог произнести это предостережение, это было бы все
равно что потребовать от Вас самоубийства. И потому мы
промолчали о главном и отпустили Вас к Вашей «гитлер-
югенд», в Вашу страну убийств и лжи, во всю немецкую
грязь и беду.
Теперь это позади. Многих моих друзей вы убили и поч¬
ти всех родственников моей жены, она еврейка. И вы, по
крайней мере отчасти, пробудились от сна, и мы рады за
каждого, кто проснулся действительно. Поэтому я обрадо¬
вался Вашему письму. Не все молодые немцы так думают,
сотни присылали мне после 1945 года глупейшие и непри¬
стойнейшие письма с руганью и угрозами.
Больше нам, если мы снова встретимся, незачем гово¬
рить о прошлом, да и мало вероятно, что мы когда-либо
снова увидимся.
В знак благодарности посылаю Вам несколько оттисков
и распоряжусь, чтобы Вам послали книгу. Надеюсь, мои
296
бандероли дойдут до Вас. В своем письме Вы пишете, что
учитесь в прекрасном городке Марбурге, а в обратном ад¬
ресе указываете не Марбург, а Гиссен, Дружеский привет.
Отто Базлеру
120.1.19481
Дорогой господин Базлер!
[... ] Вероятно, [Томас] Манн хотел посмотреть на «фа¬
устовскую» немецкость — какой он ее знал и носит в себе
самом — с ее дьявольской стороны, а именно на примере
немецкой музыкальности*, которая ведь и, безусловно, вы¬
сокий дар, и в то же время — порок, подобно тому как сам
Манн чувствует, вероятно, проблематичность и опасность
своей глубокой любви к Вагнеру. Это, пожалуй, первоосно¬
ва. Затем он прибавил сюда и другое, долю современной
истории и «шлюссель-романа» *, худшую, но и более зани¬
мательную часть произведения, и попал тут в самую точку
постольку, поскольку в истории реакционных тенденций
Мюнхен действительно играл и, вероятно, поныне еще иг¬
рает ведущую роль. Уже до 1914 года он был оплотом «пан¬
германистов», особенно некоторые издатели поддерживали
это движение. После первой войны он стал средоточием
сентиментального национализма, здесь убили Эйснера* и
Ландауэра*, взрастили Гитлера, превратили в фарс его за¬
ключение в крепость после путча 1923 года и т.д. и т.д. [... ]
Гансу Мартину Брейеру
122.1.1948]
Дорогой господин Брейер!
Спасибо за Ваше письмо с песней! К воздействию своих
работ, к реакциям читателей и критиков, к толкованиям и
т.п. я отношусь в принципе безразлично. Каждому читате¬
лю вольно вычитывать у писателя и делать из него то, что
ему, читателю, подходит и требуется, а если у него доста¬
точно храбрости, то он волен высказываться об этом пуб¬
лично и возвращать писателю его труд с поправками и по¬
* Schlusselroman (нем.) — роман, в котором изображены фактические
события и лишь изменены имена героев.
297
учительными комментариями — я должен с этим мирить¬
ся, таков мир, но большей частью я это игаорирую, не чи¬
таю литературы о Гессе и не испытываю потребности вно¬
сить какие-либо собственные поправки в удивительно на¬
ивные, как правило, критические разборы. Поэтому ничего
не могу сообщить Вам о том, как приняла критика «Игру в
бисер». Но хочу сказать, что Ваше письмо обрадовало меня,
и то воздействие, которое оказала моя книга на Вас, я счи¬
таю самым лучшим и правильным.
С музыкой на стихи дело обстоит так же, как с выска¬
зываниями читателей и критиков, это реакция, эхо на текст
поэта, у нее свои собственные законы, автор текста не дол¬
жен судить о ней — так я считал всегда.
Поскольку Ваше письмо показывает, что мои дилетант¬
ские мысли о музыке отчасти родственны Вашим, посылаю
Вам бандеролью несколько музыкальных статеек. Надеюсь,
они дойдут до Вас и покажут Вам, что Ваше письмо было
мне по душе.
Петеру Зуркампу
25.1.1948
Дорогой господин Зуркамп!
Опять из Вашей поездки ничего не вышло, это печаль¬
но, растет разобшенность и чувство, что тебя обманули. У
нас, во всяком случае, вполне вероятно, приобретет сейчас
остроту одно предприятие, годами готовившееся с несказан¬
ными заботами, расходами и ухищрениями: мы надеемся,
что вскоре к нам смогут приехать единственная оставша¬
яся в живых сестра моей жены с мужем. У них нет ничего,
кроме того, что на них надето, ни вещей, ни денег, билет
до нас им надо выслать на венгерскую границу; ничего,
кроме разрешения на въезд в Швейцарию самое большое
на три месяца, у них не будет, нет также никакой визы в
какую-либо страну, они делают прыжок в пустоту, но этот
прыжок я все-таки посоветовал бы сделать любому, кто на¬
ходится в Румынии в их положении.
Как там с нашими делами, мне так и не удалось нигде
узнать. Полагая и надеясь, что когда-нибудь умру, напо¬
минаю Вам, что в Вашем владении почти весь труд моей
жизни, наследниками которого станут моя жена и три моих
сына.
298
Еще вот что: если Вы совершенно искренне считаете, что
мои ложные активы, пострадавшие от инфляции, у Вас еще
сохранят после оздоровления финансов какую-то ценность,
то не трогайте этих активов. Если нет, то прошу Вас дать мне
знак и срочно перевести с моего счета десять тысяч марок мэ¬
рии города Кальва (Вюртемберг, французская зона) с указа¬
нием: «В пользу пострадавших от наводнения от Г.Г.».
P.S. (26 января 1948)
Говорят, у Вас снова вышел Гуго Балль*. Вы мне его не
прислали и даже ничего не сообщили об этом.
Фрейлейн Марта Филипс из Мариенау пишет мне, что
у нее до сих пор нет «Игры в бисер». Книга была обещана
лично господином Зуркампом, но она не получила ее. Она
полагает, наверно, по праву, что книготорговец припрятал
ее и выменяет на муку или масло. Вычеркните, пожалуй¬
ста, всех этих мошенников-книготорговцев из списка тех,
кого Вы снабжаете книгами.
«Игра в бисер» отняла у меня одиннадцать лет, но я не
получил за нее ничего, кроме карманных денег, которые
принес сбыт в Швейцарии. А в Германии десятки людей
живут тем, что выменивают мои книги на муку. В Италии
печатают мои книги, а я их даже в глаза не вижу. Зато
каждый день приходит стопка попрошайнических писем
из Германии или от немецких военнопленных, которые
хотят, чтобы за воинские подвиги их вознаграждали те¬
перь книгами, продовольствием, передачей новостей и т.д.
и Т.Д. Я все давал и давал, а потом придет вдруг ругатель¬
ное письмо какого-нибудь немецкого аристократа-юнца,
воспитанного на Георге, или какой-нибудь отдыхающий в
Швейцарии немецкий литератор (например, Хорст Лан¬
ге*) начнет вдруг с невозможной нелепостью просвещать
наш пастушеский народ насчет миссии немецких писате¬
лей. Безумно хочется вернуться в мир, ще еще есть люди,
природа, красота и смех.
Альберту Гёзу
Монтаньола, 27.1.1948
Дорогой господин Гёз!
Что попы в нынешней Германии покажут в нападках
на нашего брата такую стойкость и агрессивность, каких
Гитлеру они не выказывали, этого можно было ожидать,
299
тут нет для меня ничего удивительного. Примите и Вы это
спокойно к сведению и наплюйте на это. Если они нападут
на Вас как на священника за то, что Вы рекомендовали
меня, то можете сослаться на то, что епископ Вурм и мно¬
гие городские священники в Швабии цитировали в своих
речах и проповедях мои слова и стихи для назидания. По¬
пы никоща не вызывали у меня ни страха, ни уважения,
какого бы они ни были вероисповедания, римские, пожа¬
луй, хуже лютеранских, потому что их авторитет держит¬
ся на более крепком фундаменте. Жаль было бы только,
если бы вдобавок к отвращению к Германии привилось бы
и отвращение к христианству, постараемся как-то убе¬
речься от этого.
Большая мода на христианство приносит нам и другие
цветочки. На швейцарском радио введен теперь один час в
неделю, когда находяхциеся в Швейцарии немецкие интел¬
лигенты, подкрепившись молоком и маслом, поучают пас¬
тушеский народец насчет Германии и миссии немецкого ду¬
ха. Я слушал только одного из них, его зовут Хорст Ланге,
раньше он писал довольно талантливые, но немножко
«странные», какие-то болезненные и мрачные истории. Тем
полньш спокойного превосходства, четким в артикуляции
и елейным голосом, который прежде то смешил нас у севе¬
рян, то раздражал, он теперь сообщил нам, что немецкая
литература не смеет больше преследовать эстетические це¬
ли, а должна быть прежде всего религиозной. Он еще раз
открыл нам Иеремию Готхельфа и доброжелательно хода¬
тайствовал за него перед нами, и почему в цюрихской сту¬
дии позволили ему свысока обо всем этом вещать, а не вы¬
ставили его — понять невозможно.
Но что вообще можно понять сегодня? Понятно, что об¬
становка либо превращает нас, интеллектуалов и художни¬
ков, в патетических «философов» экзистенциализма, либо
воспитывает из нас сюрреалистов. Если бы мне довелось в
этой жизни еще что-нибудь сочинить, это вышло бы, веро¬
ятно, еще сюрреалистичнее, чем «Паломничество в Страну
Востока» и подобные вещи. Ибо, не слушаясь пастора Хор¬
ста Ланге, я жду от искусства и художника не этики и «ре¬
лигиозности» прежде всего, а красоты, радости, игры, дет¬
ской благодарности Богу и миру, а этими регистрами вла¬
деет даже сюрреалистическое искусство, но попы и радио¬
этики не владеют.
300
Addio, дорогой Гёз, Вы, конечно, не сердитесь на меня
за слово «попы», оно все же входит в железный фонд лю¬
теранского лексикона.
Сестре Марулле
14.2.1948
Дорогая Марулла!
Спасибо за письмо. Твои замечания по поводу амери¬
канского «Демиана» и Томаса Манна* доставили мне удо¬
вольствие. Он по памяти упростил дело и слил имена обоих
мастеров игры. Так, например, когда-то, двадцать пять лет
назад, он прочел «Kurgast», но называл его, говоря о нем
со мной, «Badegast»^.. Тут мне вспоминается, как старая
тетупоса Рейнигер любила называть меня, когда я ее наве¬
щал, Георгом. Я возражал и называл свое имя, но через
полчаса, когда я уходил, она говорила: «До свиданья, Ге-
opft>. Было бы, однако, большой ошибкрй считать это у То¬
маса Манна признаком старости; он состарился гораздо
меньше, чем я, но таково уж свойство его пере1руженной
памятигдля упрощения он многое переиначивает по-своему
и потом этого придерживается. [... J
Addio, привет от твоего Германа.
Сыну Хайнеру
[конец февраля 1948 ]
Дорогой Хайнер!
Вот кое-что к твоему дню рождения — с моими позд¬
равлениями.
После того как у нас пробыли несколько недель боль¬
ная госпожа Герё, а затем несколько дней мой бедный бер¬
линский издатель с женой, теперь наконец, после несколь¬
ких месяцев нелепых забот и волнений, вот уже две неде¬
ли назад, до нас добрались наши румынские беженцы,
единственная сестра Нинон с мужем. У них больше нет
родины и пока нет разрешения на иммиграцию ни в одну
страну в мире. Лишь на короткий срок, в качестве моих
русском переводе (В. Куреллы) эта новелла Гессе называется «Ку¬
рортник*. — Прим. перев.
301
гостей, их впустили «на отдых» в Швейцарию, взять с со¬
бой им не разрешили ни гроша, даже билеты им не позво¬
лили купить в Бухаресте, деньги на проезд нам пришлось
отправить им с посланцами на венгерскую границу. По
крайней мере из Румынии они выбрались, как-то спаслись
от позорного конца, ведь они не только нежелательные
интеллигенты, но и евреи, а Румыния, теперь хоть и ком¬
мунистическая и верная Сталину, гордится тем, что анти¬
семитизма в ней не меньше, чем при Гитлере и Антоне-
ску*. Весь слой населения, к которому принадлежат родст¬
венники Нинон, последовательно «ликвидируется». Мы,
конечно, оставим их обоих у себя, с помощью или без по¬
мощи властей, пока не найдется какая-нибудь виза в ка-
кую-нибудь страну, ще им, может быть, удастся устроить¬
ся. Они прошли через несказанные му чения, о чем если и
обмолвятся, то лишь между прочим и нечаянно, и снова
стыдишься, что принадлежишь этому адскому миру, ще
человеческая жизнь или десять тысяч человеческих жиз¬
ней стоят меньше, чем фунт муки.
Addio, дорогой Хайнер, горячий привет тебе и твоим от
твоего отца.
Томасу Манну
[начало марта 1948 ]
Дорогой господин Томас Манн!
Ваш подарок прибыл, прекрасный экземпляр «Фаусту¬
са», большое Вам за это спасибо. Вчера из Констанца при¬
шел журнал, где Ваша книга рецензируется вместе с моей,
но я еще не успел об этом прочесть, номер этот, конечно,
уже на пути и к Вам. Несмотря на сильные политические
отвлечения, все уже проявляют величайший интерес к Ва¬
шей книге, но пока среди написанного о ней мне ничего
особенно умного и верного, собственно, не попадалось,
лучшей была (чисто музыкальная) рецензия Шу*. Да и
нельзя подходить к этой адской и восхитительной книге с
привычными категориями, она выходит за них в обе сто¬
роны, вверх и вниз, в возвышенность и в карикатурность,
ее возвышенной эзотерике соответствует экзотерика, эки¬
пировка, работающая почти любыми средствами, в том
числе и такими, которые людям поменьше запрещены*. Не
могу это сформулировать и рад, что не обязан, но как раз
302
эти разлады, эти разрывыу эта дьявольщина доставляют
мне тут главное удовольствие, леверыоновский микрокосм
очень часто напоминает мне образы индийской мифоло¬
гии, с которыми Гёте еще не нашел связи и в которых ме¬
ня, именно потому, что они облекают высочайшие челове¬
ческие помыслы, восхищает и поражает именно их ди¬
кость, похотливость, карикатурность и гипертрофирован-
ность. Ваш Фаустус очень волнует Германию, нище его не
поймут и не смогут понять, как там. Канадцу, который
еще не знал европейской* и т.д. и т.д., все это покажется
чрезмерным, страшным и очень сложным, но для нас, ев¬
ропейцев, это родное и нужное.
Сердечный привет Вам и Вашим от нас обоих.
Ваш Г. Гессе
Францу Феттеру
[середина марта 1948]
Дорогой господин Феттер!
Спасибо за Ваше письмо. Злободневности я открыт не
меньше, чем Вы, хотя и в другом месте и под другим зна¬
ком. Открыт в столь большой мере, что мне вообще неког¬
да задуматься над вопросами, которые Вы ставите по по¬
воду новейшей поэзии и т.д. Немецкую литературу по¬
следних двадцати лет я знаю мало, и прекраснейшее не¬
мецкое стихотворение, которое попалось мне за последние
годы, написано не мальчиком, а старой Рикардой Хух*.
То, что нынешние Ваши критики и фельетонщики (кото¬
рые мне ничуть не милее конъюнктурщиков гитлеровской
эпохи) болтают насчет «романтики» и т.д., это чепуха, ни¬
чего больше. Возможно, что немецкий язык, который
ведь и так-то сильно деградировал за последние десяти¬
летия, уже не оправится и не будет способен создавать
произведения истинно поэтические — тут ничего нельзя
было бы поделать. Но я в это не верю и не верю, что
устарело то, что мы всю жизнь считали поэзией. Недав¬
но я получил французское издание «Паломничества в
Страну Востока», книга называется «Voyage еп Orient»,
то есть «Путешествие на Восток»; от живой энергии язы¬
ка, заключенной в «Morgenlandfahrt», ничего не оста¬
лось...
303
Кроме стихотворения Р.Х., прилагаю еще кое-что и ду¬
маю о Вас, как и обо всем немецком, с тревогой и добрыми
пожеланиями.
Читательнице
Монтаньола, март 1948
Глубокоуважаемая госпожа фон Геминген!
Спасибо за Ваше милое письмо с чудесным сном. Сон
этот, по-моему, высокое и важное событие, а именно встре¬
ча с собой: во сне Вы встретились со своей истинной, глу¬
бочайшей судьбой. То, что это произошло с моей подмогой
и с помощью приписанного мне волшебного слова, прекрас¬
но и радует меня.
По поводу волшебного слова мне вспоминается вот что.
Мой дед Гундерт, великий индолог, составивший среди
прочего первую грамматику и первый словарь малайялама,
сказал однажды моей матери: после воскресения Бог даст
каждому из нас новое имя, не случайное, а настоящее, ис¬
тинное, все выражающее имя, которое полностью охваты¬
вает и выражает всю сущность названного им.
Это волшебное имя Вам приснилось, и вполне естест¬
венно и правильно, что Вы не смогли запомнить его.
В виде ответного дара за Ваше письмо посылаю Вам не¬
что напечатанное и прошу принять это дружески.
Читательнице
Монтаньола, март 1948
Глубокоуважаемая фрейлейн Феллер!
Спасибо за Ваше милое письмо. Ваше предположение
верно: моя деятельность в пользу Германии продолжается,
скоро уже три года, как она заполняет мои дни, и, наверно,
на этой службе я и умру, потому что серьезного изменения
ситуации в обозримом будущем ждать не приходится. Не
далее как вчера здесь был мой двоюродный брат, заведую¬
щий одной штутгартской клиникой, одержимый своей про¬
фессией врач, он работает в полуразрушенном здании, где
каждый день огромный наплыв пациентов и гце не хватает
не только комнат и коек, но всего вообще, ще каждый миг
304
начатый курс лечения тяжелобольного прерывается оттого,
что нужные медикаменты кончаются и добыть их нельзя.
•Моя собственная деятельность на одну треть состоит в
том, чтобы снабжать продовольствием два с лишним десят¬
ка очень близких мне людей в Германии, это добрая треть
моих доходов. К этому надо прибавить снабжение книгами
и еще хлопоты, связанные с военнопленными: материал для
чтения, советы, наставления и т.д. Есть люди, которые уже
три-четыре года живут за колючей проволокой в пустьше,
ще-нибудь А Африке или в Сирии, и для которых даже са¬
мая маленькая хорошая книга — это уже чуть ли не спа¬
сение. Военнопленным я разослал за эти три года около
двух тысяч книг. Эту службу, кстати сказать, я уже и в
Первую мировую войну нес больше трех лет. [... ]
Хватит, однако: таково уж безумие нашего времени, что
даже письма не напишеохь никому, не взвалив на него но¬
вых тягот и бед, хотя у него, наверно, давно и своих пре¬
достаточно.
Посылаю Вам все мои не предназначенные для продажи
оттиски, которых у Вас, вероятно, еще нет. Если можете и
хотите, дайте мне за это по своему усмотрению какую-то
сумму для армии моих подопечных.
Людвигу Реннеру
3.4. [1948]
Саго amico!^
Спасибо за Ваше письмо, оно меня обрадовало да и
взволновало, ибо, наряду с личным, оно полно сегодняшней
атмосферы, которая у Вас, конечно, еще напряженнее на
несколько градусов.
Что дз^мают у вас младшие поколения обо мне и о моих
книгах, это они сами говорят мне в той прямодушной, не¬
принужденной и нарочито ухарской манере, которая нам
так ненавистна в немцах, прямо говорят по сто раз в день,
что никакой надобности во мне нет. И официальная крити¬
ка «Игры в бисер» тоже не принесла ничего существенного,
кроме подтверждения, старых впечатлений: хотят потреб¬
лять, хотят читать, а потом умничать по этому поводу, но
^Дорогой друг! (итая.)
305
отсутствует какая-либо способность, какая-либо готовность
принять прочитанное действительно всерьез, какое-либо
понятие о том, что тут речь может идти о сути, о реально¬
стях, об истинах, а не только о развлечении или, как гово¬
рили сто лет назад, об «увеселении ума и души».
Ну да все это не ново.
Наши родственники из Бухареста, сестра и зять Ни¬
нон, теперь здесь. Что там вытерпели после гибели старой
Австрии, особенно в Буковине и особенно евреи, при по¬
стоянной, смене систем, языков, форм правления и все том
же диком, упрямом, зверском антисемитизме — это ни в
какие ворота не лезет. Наши гости — храбрые и милые
люди. Они у нас уже почти два месяца, срок их паспортов
скоро истечет, тоща они окажутся без гражданства, при
полном безденежье, но мы, думаю, все же добудем им
здесь или во Франции какое-нибудь пристанище. Болыпие
денежные жертвы на заокеанскую визу и т.п. пропали да¬
ром, но это неважно.
Финк пишет столь же мило, сколь -и глупо, прямо не
знаю, как и ответить. Привет Вам.
Эрнсту Коппелеру
Монтаньола, 26.4. [19481
Дорогой господин доктор!
Поскольку в последнее время я часто о Вас думал и за¬
давался мыслями о Вашем самочувствии, на Ваше письмо
я ответил бы сразу же, если бы ежедневной работы было
поменьше и если бы уже много недель мне не было так трудно
писать из-за подахрической боли в руках и пальцах. [... ]
Если в тамошней семинарии з^чителя не благоволят ко
мне, то меня это не удивляет. Молодые люди находят в мо¬
их книгах укрепление индивидуальности, а учителя стре¬
мятся к прямо противоположному, к возможно большей
нормальности и стандартизации молодых душ, это в поряд¬
ке вещей и вполне понятно. Что обе функции — моя, со¬
вращающая к индивидуализму, и нормализующая ф)гнкция
школы — необходимы и должны дополнять друг друга, что
они неразделимы, как вдох и выдох и как все биполярные
процессы, — чтобы понять это и знать, что в любви ты един
с противником, даже когда вынужден сопротивляться ему,
для этого требуется немножко мудрости и немножко благо¬
306
говения и благочестия, а это качества, которых сегодня от
учителя так же, как и от прочих людей, не приходится
ждать. Мир сейчас находится и, может быть, еще долго пре¬
будет в руках Grands Simplificateurs*, и избавиться от этого
удастся, возможно, лишь после катастрофы, начало кото¬
рой довелось нам после 1914 года увидеть. [... ]
Недели три назад моя жена стала обладательницей ав¬
томобиля, но, поскольку дорога к нам уже несколько меся¬
цев назад стала непроезжей, а гаража у нас еще нет, ма¬
шина стоит у Бельвю*, и наша жизнь так забита каждо¬
дневными заботами, что я по сей день не проехал на маши¬
не и метра. Но жена ездит, когда удается, и иногда еще
берет уроки езды. Прощайте, дорогой доктор.
Максу Броду*
Монтаньола, 25.5.1948
Дорогой, глубокоуважаемый господин Брод!
Почти каждый день приходит ко мне небольшая стопка
писем с просьбами, главным образом из Германии. Кто-то
болен, и его надо поместить в санаторий с хорошим пита¬
нием. Кто-то литератор, ученый или художник, он давно
живет в одной комнате с тремя-четырьмя другими людь¬
ми, в его распоряжении нет даже стола; чтобы спасти его,
ему нужно предоставить на некоторое время комнату, по¬
кой, отдых и возможность работать. «Вам ведь достаточно
только шевельнуть пальцем, и известные организации, за¬
нимающиеся социальной опекой, сделают все, чтобы по¬
мочь», — пишет один, а другой пишет: «Вам стоит только
сказать слово федеральным властям, чтобы добыть бедно¬
му человетсу разрешение на въезд и на трудовую деятель¬
ность, а может быть, и гражданство». На это я каждый раз
отвечаю, что в нашей стране нет ни таких властей, ни
других организаций, ни санаториев, ни даже булочной,
которые, шевельни я пальцем или скажи слово, хотя бы
просто накормили голодного, кто бы он ни был. Чем пора¬
зительны эти просьбы и чем они причиняют боль, так это
сказочной верой просителей в мнимого волшебника, кото-
^Великие упростители (франц.).
307
рому достаточно шевельнуть пальцем, чтобы беда превра¬
тилась в счастье, а война — в мир.
А теперь и Вы, старый друг глубокого трагика Кафки,
обращаетесь ко мне с таким ходатайством, и на сей раз я
должен поддержать не одного человека или нескольких от¬
дельных лиц, а целый народ и помочь «восстановить мир»!
Это пугает меня, ибо я должен признать полное свое не¬
верие в единение «людей духа», а тем более в добрую во¬
лю «цивилизованного мира». Дух не имеет с количеством
ничего общего, и дело это одинаково безнадежное, десять
или сто «выдающихся» попросят сильных мира сего что-то
сделать или чего-то не делать. Обратись Вы, уже несколь¬
ко лет назад, с призывом к человечности, страху Божьему
и отказу от насилия, например к молодым, прошедшим
террористическую школу представителям Вашей собст¬
венной нации. Вы услышали бы в самых ясных словах,
что думают об этих идеалах люди действия и люди с
оружием.
Нет, как ни прекрасны, как ни благородны Ваши на¬
мерения, Вашего взгляда я не могу разделить. Я, наобо¬
рот, считаю всякие мнимые акции «духовного» характера,
всякие призывы, просьбы, проповеди или даже угрозы ин¬
теллигентов, обращенные к властителям мира, неправиль¬
ными, считаю их дальнейшим унижением и посрамлением
духа, чем-то таким, чего ни в коем случае нельзя допу¬
скать. Наше царство, дорогой Макс Брод, «не от мира се¬
го». Мы не должны ни проповедовать, ни приказывать, ни
просить, мы должны выстоять среди ада и бесов, нисколь¬
ко не уповая ни на свою знаменитость, ни на сплоченность
как можно большего числа таких, как мы. По большому
счету, конечно, мы будем всегда победителями, что-то от
нас сохранится и тоща, когда ни от одного сегодняшнего
министра или полководца в памяти человеческой ничего
не останется. Но по малому счету, вот здесь и вот сейчас,
мы бедняги, и мир отнюдь не собирается приобщить нас к
своей игре. Мы, поэты и мыслители, что-то представляем
собой лишь потому, что мы люди, лишь потому, что, при
всех наших ошибках, у нас есть душа и ум и братское по¬
нимание всего естественного и органичного. Министры и
прочие политиканы кладут в основу своей недолгой власти
не душу и ум, а массу тех, чьими «представителями» они
являются. Они оперируют тем, чем мы не можем и не
смеем оперировать, числом, количеством, и это поле мы
308
должны предоставить им. Им тоже нелегко, нам нельзя
это забывать, им даже труднее, чем нам, ибо у них нет
своей собственной жизни, своего собственного спокойствия
и беспокойства, их несут, толкают и смахивают прочь
миллионы их избирателей. И они отнюдь не остаются не
задетыми той мерзостью, что творится у них на глазах и
отчасти из-за их ошибок, они бывают в весьма затрудни¬
тельном положении. У них есть свои правила игры, кото¬
рые их покрывают и, возможно, делают их ответствен¬
ность более сносной. Мы, прочие, мы, хранители духовной
субстанции, мы, служители слова и истины, смотрим на
них с ужасом и состраданием в одинаковой мере. Но наши
правила игры, думается нам, больше чем правила игры,
это подлинные заповеди, подлинные законы, вечные, бо¬
жественные. Хранить их — цель нашего служения, и мы
подвергаем его опасности любым компромиссом, любой ус¬
тупкой тем «правилам игры», хотя бы и с самыми благо¬
родными намерениями.
Высказывая все это так откровенно, я рискую, конеч¬
но, навлечь на себя подозрение людей поверхностных, что
я принадлежу к тем мечтательным художническим нату¬
рам, с точки зрения которых искусство не имеет с полити¬
кой ничего общего и художник должен укрыться в эстети¬
ке, как в башне из слоновой кости, чтобы не испортить се¬
бе настроение или, того хуже, замарать руки прикоснове¬
нием к грубой действительности. Я знаю, что перед Вами
мне в этом отношении не нужно оправдываться. С тех пор
как Первая мировая война неумолимо пробудила меня к
действительности, я не раз возвышал голос и жертвовал
большой частью своей жизни той ответственности, которая
тогда проснулась во мне. Но при этом я всегца строжайше
соблюдал границы, как поэт и литератор, я неизменно пы¬
тался напоминать своим читателям о священных запове¬
дях человечности, но сам никоща не пытался влиять на
политику, как то торжественно, но впустую и в ущерб ав¬
торитету гуманизма делалось и делается в сотнях призы¬
вов, протестов и воззваний интеллигентов. На том я и бу¬
ду стоять.
Если я не смог выполнить Ваше желание, то я, как
Вы видите, по крайней мере попытался изложить и пе¬
редать Вашу заботу другим, публикуя Ваше письмо и
мой ответ.
309
Герману Казаку*
[7.6.1948]
Дорогой господин Казак!
Спасибо за Ваше письмо. На положение в целом я смот¬
рю примерно так же, как Вы. Я не думаю о конце света,
гибели духа и тому подобном, но перед механикой и дина¬
микой нынешней жизни, не только политической, я со сво¬
им христианско-гуманистически-европейским воспитанием
прихожу в некоторую растерянность, даже в уныние. Кто
ничему из военного дела не учился, кроме как изящно и
рыцарственно биться на шпагах, тому ведь, пожалуй, не¬
мудрено растеряться перед оперативными группами и бом¬
бами.
Только что я получил от Макса Брода слезное письмо,
призыв к «последнему усилию всех людей духа» и tj^. по
поводу Палестины и вынужден был ответить ему, что не
жду от таких усилий ничего, кроме как дальнейшего уни¬
жения и ослабления духа. Свой ответ, ввиду определенных
формулировок, я послал в «Цюрхер цайзуш», и мне вер-
•нули его, потому что газета не публикует мнений, столь
далеких от мнения редакции. Вот я и сижу в своей малень¬
кой Швейцарии, лишившись даже органа, ще мог бы при
случае печататься, ибо НЦЦ, несмотря ни на что, единст¬
венная в немецкой Швейцарии газета приличного уровня.
Писал ли я Вам, что один читатель из Ганновера написал
мне, что «Игра в бисер», на его взглад, слишком академич¬
на и несвоевременна, то ли дело роман Казака*, он дейст¬
вительно зл^дневен и лю^пытен. Но среди всего этого
один кантор из Хальберштадта прислал мне безукоризнен¬
но построенную пассакалью с фугой на тему моей фамилии.
С участием думаем о Вас, особенно о Вашей дочери.
Сердечный привет.
Томасу Манну
Монтаньола, 24 июня 1948
Дорогой господин Томас Манн!
Получить из Америки конверт такого изящного и разум¬
ного небольшого формата — уже редкость, а еще и узнать
на нем знакомый Ваш почерк было для меня среди моей
повседневной замученности чем-то очень праздничным. А
310
так как со времени несчастного случая с Вами я никаких
сведений о Вас непосредственно не получал, меня очень об¬
радовали хорошие вести от Вас и превосходное настроение,
самый тон Вашего милого письма. Ваша эскапада в средне¬
верхненемецкий и в эту на диво богатую образами и сим¬
волами атмосферу позднего средневековья вызывает у меня
в моем совсем стерильном старческом слабоумии уже чуть
ли не зависть. Гартмановского Грегориуса* я знаю только
по имени, но то, что Вы рассказываете о нем, будит во мне
яркие воспоминания о Роберте Дьяволе и о Gesta
Romanorum Цезариуса фон Гейстербаха*. Если мы доживем
до этого Вашего сочинения, во мне оно найдет благодарного
и, наверно, неравнодушного к большинству его нюансов чи¬
тателя.
В связи со средневерхненемецким вспоминаю нечто тро¬
гательное и забавное. Из немецкого хаоса до меня, кроме
попрошайнических, льстивых и ругательных писем, то и
дело, совсем не редко, доходят звуки из той легендарной,
сказочной Германии, гибель которой так часто констатиру¬
ют и которая все еще существует, как корень чудо-дерева,
вновь и вновь срубаемого и сжигаемого, но вновь и вновь
являющего свою неодолимую силу и пускающего побеги.
Недавно, с промежутками в несколько дней, я получил из
Германии два подарка, не носящих никаких следов ни гит¬
леровского воспитания, ни воспитания оккупирующими де¬
ржавами. Первый — безукоризненно построенная и до¬
вольно красивая пассакалья и фуга на тему моей фамилии:
Н — Е — Es — Es — Е, сочинение одного кантора из
Хальберштадта. Второй, еще неожиданней, — каллиграфи¬
чески исполненная ин-кварто, готическая рукопись 26 моих
стихотворений, переведенных на готский язык студентами
готского семинара Высшего технического училища в Дрез¬
дене. Русская цензура, наверно, с удивлением глядела на
этот курьез.
В середине июля мы хотим уехать отсюда, т.е моей жене
это необходимо, так как она не переносит летней жары, и
мы собираемся пойти по Вашим следам и остановиться в
Вашей флимсской гостинице.
Привет Вам и Ваи^^ досточтимой милой жене от нас
обоях!
Ваш
Г. Гессе
311
Эдуарду Коррода*
[начало июля 19481
Дорогой господин д-р Корроди!
Мне прислали Вашу статью о манерности, и я прочел ее
с удовольствием. [... ]
Я, кстати сказать, всегда был в довольно дружеских отно¬
шениях с манерностью, и моя первая прозаическая книга
«Час после полуночи» была в 1899 году, когда она вышла, по
праву сочтена весьма манерной. Я тоща ничего не знал ни о
Георге, ни о Рильке, но испытывал острую потребность, во-
первых, в точности и дифференциации, во-вторых, в извест¬
ном достоинстве выражения в прозе. От той поры у меня до
сих пор сохранились, хотя я десятки лет не перечитывал их,
некоторые тома манерных французов, например Тео Готье и
Т.Д. Рильке я всю жизнь то восхищенно любил, то мне прети¬
ла его жеманность, а еще больше, конечно, претило обезья-
ничанье под Рильке — как можно определить девять десятых
немецкой лирики последних двадцати пяти лет. Однако не
перестаю напоминать себе, что и «простота» вовсе не абсо¬
лютный идеал и что подражатели «простых» поэтов кончают
сходством с песенниками или доморощенным простодуши¬
ем. Нет, как образец для подражания предпочесть надо, по¬
жалуй, манерных, потому что молодым поэтам следует спер¬
ва хотя бы по-настоящему потрудиться.
Кстати, должен признаться, что и «просто» писать, если
относиться к этому серьезно, с годами становится все труд¬
ней и трудней.
Людвигу Финку
[начало июля 1948 ]
Твой подарок ко дню рождения* добрался до меня через
Кёльн, и я благодарю тебя за него.
Ты же давно знаешь, что у нас с тобой разные убежде¬
ния и что я никогда не разделял веры в кровь и культ пред¬
ков. В Тюбингене ты и я сошлись, по-моему, благодаря сти¬
хам, которые мы писали, и поэтам, которых мы оба люби¬
ли, не благодаря предкам. Нашлись бы ведь десятки других
студентов, в чьей родословной значилась бы та же самая
прародительница.
312
Но твои воспоминания о прекрасной тюбингенской поре
и о том великолепном опьянении юности все же отозвались
во мне и тронули меня до глубины души, спасибо тебе за
это. 1
Студенту
[Приблизительно июль 1948]
Дорогой господин Ц.!
Я старый больной человек, и уже три года меня доводят
до полного изнеможения актуальные, по сути, совершенно
чуждые мне задачи — заботы о голодающих, ежедневная
почта, с которой не справился бы и самый молодой и здо¬
ровый получатель, — поэтому я не в состоянии ответить
Вам подобающим образом.
В своем письме, симпатичном мне своей серьезностью.
Вы, недолго думая, отождествляете себя с «поэтами и мысли¬
телями», о которых говорится в моем письме Броду*. Вы сту¬
дент и как студент имеете право при виде какой-либо не¬
справедливости в мире устраивать вместе со своими коллега¬
ми собрания и демонстрации и торжественно протестовать
против этой несправедливости, чтобы потом, поскольку Вы
ведь свое дело сделали, спокойно возобновить свои занятия.
Но когда старый человек, которого причисляют к поэтам и
мыслителям и который всю жизнь работал для людей боль¬
ше, чем то сделает большинство из вас, размышляет, дейгт-
вительно ли "имеет смысл еще более обесценивать дух и ос¬
лаблять его и так-то небольшой авторитет патетическими и
совершенно недейственными протестами, то это, право, не¬
что существенно иное. Вы не можете понять меня, потому
что у Вас нет за плечами моей жизни и ее труда.
Представьте себе на минуту, как президент Трумэн, Ста¬
лин, король Трансиордании, вожди еврейских и арабских
террористических групп читают протест, подписанный
мною, Томасом Манном, Эйнштейном и пятьюдесятью дру¬
гими известными интеллектуалами. Представьте себе, какое
лицо сделает каждый из этих политиков, когда ему напом¬
нят, что наследие Новалиса или ценное собрание картин мо¬
гут быть, чего доброго, уничтожены завтра. Неужели Вы
всерьез полагаете, что кто-нибудь из этих носителей свет¬
ской власти хоть на секунду побеспокоится об этих вещах?
313
Нет, как ни разнообразны могут быть задачи духа, одна
задача остается важнейшей — забота об истине, забота о
том, чтобы видеть и понимать действительность. 99 процен¬
тов всех людей никогда не видят, не замечают этой дейст¬
вительности, потому что они не выносят ее. В эту действи¬
тельность входит и то, что написано о духе и его возмож¬
ностях действия в моем письме к Броду.
Если Вы ищете среди людей духа других свидетелей,
прочтите-ка речь, которую в память Гёте произнес в 1932
году в Сорбонне Поль Валери, Достаточно даже прочесть
несколько первых фраз этой речи*. Вряд ли кто-либо в наше
время ясней обрисовывал нынешнее соотношение между
духом и властью.
Довольно, сегодня меня ждет еще много других задач, и
если я каждой из них буду отдавать столько сил и времени,
сколько Вашему письму, то день должен был бы длиться месяц.
Идите в жизнь, и если Вы не можете вынести то, что
испугало Вас в моих словах, забудьте это. У Вас, вероятно,
в жизни другие задачи, чем у меня. Ваши глаза должны
быть, наверно, открыты на другие аспекты жизни, и никто
не требует от Вас того, чего требует от меня Макс Брод или
Вы. Тогда Вы предоставите бесполезные протесты тем, кто
имеет на них право, молодым и еще безответственным, и
тем строже будете повиноваться своей совести в истинной
сфере Вашего влияния.
К.Шельману
[19481
Дорогой господин Шельман!
Ваше дружеское письмо, к сожалению, опоздало, я боль¬
ше не в состоянии что-либо воспринимать и не испытываю
желания высказываться, я уже несколько лет живу в тисках
болезни и ежедневной бессмысленной перегрузки и наде¬
юсь, что вскоре буду избавлен от этого.
По поводу «Не убий» я когда-то, лет двадцать пять назад,
написал статью, найти которую, однако, не позволяет мне
мое состояние. Тогда на моей стороне была большая часть не¬
мецкой молодежи, они были, правда, настроены куда менее
радикально, чем я, но все-таки пацифистски и не национа¬
листически, что ведь даже воинственным и самоупоенным
народам после тяжелого поражения легко удается. Чего сто¬
314
или эти настроения, обнаружилось вскоре, и сегодня я совер¬
шенно скептически отношусь решительно ко всем миролю¬
бивым и всерьез христианским движениям в Вашей стране. Я
остерегаюсь, конечно, это высказывать, нов долговечность и
стойкость таких настроений, в том числе и большого сейчас
христианского движения в Вашей стране, я не верю. До поза¬
вчерашнего дня орали: «Евреи, издохните!» и т.п. и будут,
если конъюнктура на то толкнет, орать это снова. Так обсто¬
ит дело в Германии, так обстоит дело в большинстве других
стран мира.
Видите, от меня уже толку мало. С поправкой на этот
скепсис я во многом могу согласиться с обеими присланны¬
ми Вами статьями.
Эдмунду Наттеру
[1948]
Дорогой Наттер!
Твой милый, прекрасный подарок я получил вместе с
рукописным приветом, от души благодарю тебя, дорогой.
Книга меня действительно интересует*, отношение моло¬
дых романтиков к Шиллеру, то есть положительную и от¬
рицательную сторону этого отношения, я знаю отчасти из
множества писем романтиков, которые я когда-то читал:
Фридрих и Доротея [Шлегель], например, относились к
знаменитому профессору Шиллеру агрессивно-иронически.
Я лично, правда, считаю, что как поэт Шиллер безусловно
переоценен, а влияние его риторического идеализма опре¬
деленно скверно, оно сильно потом поддержало немецкое
самодовольство и немецкую патетику, апогеем которой
стал потом любимец Гитлера РЗагнер. Напротив, личность
Шиллера, его нравственность по-прежнему вызывают у ме¬
ня почтение, ведь у вещей и людей есть не только одна сто¬
рона. [... 1 Тебе желает всего доброго твой
Гюнтеру Бёмеру
[Баден, 26.11.19481
Дорогой Бёмер!
Спасибо за Ваше милое письмо и приложенные картин¬
ки. Вы доставили мне этим радость. Теперь мне бы только
найти силы, чтобы съездить в Баден и посмотреть Вашу вы¬
315
ставку — цюрихская закрылась как раз в тот день, коща
пришло Ваше письмо, да и в Цюрих я за эти две недели
еще ни разу не выбрался. Завтра, правда, я хочу навестить
Моргенталера, меня отвезут к нему в Хёнг на машине, на
час-другой, не заезжая в город. Гости приезжают каждый
день, вчера здесь несколько часов провел Мартин из Берна.
То, что Вы говорите о недоразумениях по поводу иллю¬
стратора Бёмера, которые теперь сменились недоразумени¬
ями по поводу живописца Бёмера, пожалуй, верно, так и
со мной быЛо всю жизнь. Но эти недоразумения не больше
и не иного характера, чем те, которые составляют передний
план всякого контакта, всякого общения между людьми.
Ведь и мнения художников об их собственной работе —
это, наверно, такие же недоразумения, как и мнения пуб¬
лики, и никакой истины вообще тут установить нельзя.
Причины, которыми нынешний читатель объясняет свою
любовь к Данте или Сервантесу, вряд ли имеют что-либо
общее с тем, что думали, объясняя и оправдывая свои про¬
изведения, сами эти писатели, и все же эти произведения
продолжают жить, помогают формировать людей, потря¬
сать людей. Не помню дословно фразы Рильке, где он го¬
ворит о воздействии произведения искусства, что оно взы¬
вает к нам: измени свою жизнь! Содержащаяся тут «исти¬
на» есть смещение эстетического взгляда, есть замена его
взглядом нравственным и с субъективными импульсами и
оправданиями художника ничего общего вообще не имеет,
ведь крайне редко нравственные и воспитательные по за¬
мыслу картины вызывают у зрителя стремление изменить
свою жизнь. И тем не менее в словах Рильке есть глубокая
правда.
Addio, привет от души вам обоим и друзьям.
Рольфу Шотту
[Баден], 9.12.[1948]
Дорогой господин Шотт!
Я застрял в Бадене, где снова прошел курс лечения. Мне
давно следовало вернуться домой, но вот уже пять или
шесть дней я лежу в постели со скучной, но неопасной про¬
студой и транспортабелен буду, наверно, только через не¬
делю.
316
Здесь, в Бадене, и получил я Ваше письмо. То, что Вы
говорите о молодежи, очень сходно с моим ощущением. Как
обстоит дело с шедеврами, проверить я не могу, но по край¬
ней мере в музыке есть достаточно примеров шедевров, со¬
зданных в совсем молодые годы. Нет, что мне противно уже
десятки лет, так это, во-первых, глупое преклонение перед
молодежью и моложавостью, каковое процветает в Амери¬
ке, и потом, еще более, то оформление молодежи в сосло¬
вие, в класс, в «движение», немецкое изобретение, которого
во времена, когда я сам был молод, к счастью, еще не было.
На письма, скапливающиеся на моей тумбочке с тех
пор, как я слег, я смотрю, как смотрел в детстве на снего¬
пад, время от времени я вытаскиваю какое-нибудь одно и,
всегда немного оглушенный порошками, которые мне дает
врач, пишу его автору такое любезно-полусонное письмо,
как это.
Отнеситесь к нему так, как оно того заслуживает: как к
привету, кивку. Пятьдесят лет назад в Тюбингене один сту¬
дент смотрел, высунувшись в окно, а внизу на улице в жару
двое рабочих сонно чинили мостовую. Один крикнул дру¬
гому: «Карле». Другой, через несколько минут, отвечает:
«Чего?» Первый, опять после долгого перерыва, говорит: «А
ничего».
Вот й я ничего не хотел сказать, только кивнуть на
пыльной улице, не больше.
Людвигу Финку
[конец декабря 1948 ]
Дорогой У гель!
Случайно твоя бандероль с «Розарием»* не попала в гору
почты, с которой я борюсь после возвращения из Бадена,
из которой ежедневно что-нибудь убираю и которая все же
не уменьшается, потому что дважды в день прибавляется
новая почта. Поэтому твою книжечку с твоим приветом от
21 декабря я открыл и прочел почти без промедления и могу
поблагодарить тебя за нее и пожелать, чтобы она доставила
тебе радость.
Ты просишь меня еще раз пожать тебе руку, старина
Угель. Да, я сделаю это охотно, я ведь давно это сдечал.
Нам было хорошо вместе, и мы могли дать друг другу много
хорошего, когда-то. Пути наши разошлись не тогда, коща
317
я уехал в Берн, а несколько лет спустя, когда ты распевал
военные песни и выбрал себе в хозяева кайзера, генералов,
а затем и коричневых. По стихам твоим это незаметно, в
них много милого и хорошего, но забывать и закрывать гла¬
за этаким «вечным Гансом-непомнящим» мне невозможно
и непозволительно, и Ганди не принял бы твоего запозда¬
лого посвящения. Так уж обстоит дело, и никуда от этого
не денешься. Мы должны знать, что лишь до определенного
времени (примерно до 1915 года) шли рука об руку, а потом
служили другим, взаимовраждебным идеям и силам.
Что ты лично не пытал евреев, не сжигал и не запрещал
моих книг, что вообще намерения у тебя были самые до¬
брые, это я знаю, У гель, но ты подчинялся, и этот рубеж
остается в силе, и из-за него твое посвящение кажется мне
излишним; оно создаст у читателей неверное впечатление,
будто нас связывают и соединяют не только воспоминания
нашей прекрасной юности, а мы связаны и едины в мыслях
и в душе.
Мне было очень тяжело написать тебе это. Но зачем ты
сам напрашиваешься? Ты же прекрасно знал, на чем я стою
и что думаю. Я еще слишком хорошо помню, как ты с пре¬
зрением писал мне об «этих Маннах» (т.е. о Томасе Манне,
его брате и его сыновьях) и посылал мне пригласительные
билеты литературно-нацистских сборищ, подписанные в
числе прочих Шафнером* и Анакером*, Твое счастье, что
ты так забывчив! Но я не таков.
Оставим это, дорогой, искренне, от всей души пожелаем
друг другу, чтобы каждый из нас еще немного порадовался
солнцу и затем нашел милосердный конец.
Сердечный привет от твоего старого
Зигфриду Унзельду*
[конец декабря 19481
Дорогой господин Унзельд!
Спасибо за дружеский дар. Я мог только мельком про¬
смотреть Вашу работу*, я стар и уже несколько лет еже¬
дневно по горло занят большей частью задачами, не имею¬
щими никакого отношения к литературе. Но мне сразу же
в первой фразе бросилось в глаза утверждение о «неудач¬
ных попытках». Но была только одна-единственная попыт¬
ка, которую предприняли я и мой отважный берлинский из¬
318
датель Зуркамп. Мы хотели в разгар войны протащить в
Германию книгу, во всех смыслах направленную против
Гитлера и официальной Германии, и представили рукопись
властям, надеясь, что они, может быть, ничего не заметят,
но печатать не разрешили, хотя некоторые особенно ясные
места мы в представленном экземпляре выбросили. Зур-
камп заплатил за свою отвагу и за свою верность мне тюрь¬
мой, концлагерем, мучениями и приговором к повешению,
он лишь случайно остался жив.
Вообще же по тем местам Вашей работы, которые я смог
прочесть, я увидел, что Вы, в отличие от отрицательных
критических отзывов с советской и с протестантской сторо¬
ны, по существу, приняли и одобрили мою книгу. Воздей¬
ствие моей работы — не моя забота, но Ваше мнение меня
обрадовало.
Своими китаистскими занятиями Вы вступили на путь,
по поводу которого могу Вам позавидовать и на котором
Вас ждет бесконечно прекрасное. Как раз на днях я полу¬
чил письмо от вдовы Рихарда Вильгельма, синолога, чьим
переводам и толкованиям я больше всего обязан. Она жила
с двумя сыновьями в Пекине, недавно была оттуда эваку¬
ирована и ждет теперь в Шанхае возможности вернуться в
Германию.
Довольно, такие длинные частные письма я могу по¬
зволить себе лишь изредка. Я послал бы Вам книгу, но ва¬
ши оккупационные власти и по сей день не пропускают в
вашу зону бандеролей от частных лиц. Попытаюсь хотя бы
доставить Вам окольным путем два-три небольших отти¬
ска.
Дружески и с добрыми пожеланиями шлет Вам привет
Ваш
Читательнице
[конец 1948]
|... ] Просил бы Вас никогда больше не писать мне. У
Вас нет обо мне, о моей натуре и вере, ни малейшего пред¬
ставления. И пусть Бог, которым Вы ведь так заняты и ко¬
торый подарил миру великолепный немецкий язык, про¬
стит Вам ужасные стихи, которыми Вы глумитесь над этим
языком. Преданный Вам
319
Курту Лихди
[1948]
Дорогой Курт Лихди!
[... ] Твои тревоги — это, конечно, и мои тоже. Если Ев¬
ропу война обойдет стороной, то произойдет это потому,
что коммунистам еще некоторое время придется повозиться
с Азией. Войны делаются людьми, которым жизнь других
безразлична, они делают свои войны имуществом, кровью
и жизнью других, и что мы, другие, по этому поводу дума¬
ем и при этом терпим, им все равно. Все же и они немного
боятся, и опасение, что к ним применят их же собственные
средства разрушения, конечно, непритворно.
Однако же, солнце еще светит, и то, что у тебя снова
есть дом, тоже благо, порадуемся этому. И постараемся по
возможности сохранить в себе какое-то ядро, какой-то соб¬
ственный груз, чтобы не попасть в бессмысленную центро¬
бежную круговерть, которая становится все страшнее и
вдали от всякой политики тоже сказывается в темпе, гонке
и суете. Блажен тот, у кого есть пристанище в собственном
сердце.
Господину Ф.
12 января 1949
(... 1 Та немецкая сущность, которую мы любим, к ко¬
торой мы причастны, перед которой мы в долгу и которую
Вы чтите в Бахе, Лютере, Гёте, — почему она нуждается
в защите оружием? Вы, по-моему, переводите тут, как это
часто делается, нравственно проблему в другую плоскость,
вернее — Вы мучитесь сомнениями и угрызениями совести
из-за чего-то пустого, уходя тем самым от Вашей настоя¬
щей, подлинной проблемы.
Во время победного немецкого разбойничьего похода че¬
рез половину России немецкие мальчики-солдаты писали
мне иногда так: «Мы стоим у Кавказа, чтобы защищать вы¬
сочайшие ценности немецкого духа, к которым мы относим
и Ваше творчество» — и тому подобный мальчишеский
вздор. В действительности все эти глупые герои помогали
правившим «отечеством» извергам вконец погубить все по-
хорошему и по-настоящему немецкое. А теперь и Вы еще
320
бьетесь-над вопросом, не должны ли Вы в конце концов по¬
мочь мечом Германии Гёте встать на ноги!
Нет, Вы не предадите ни Гёте, ни Баха, если не поднимб-
те меч ради них. Но Вы предадите свою немецкую сущность,
если уйдете от своей духовно-нравственной задачи — всё
крепче и все плодотворнее соединяться именно с этой бес¬
смертной духовной немецкой сущностью, — если Вы уйдетё
от этой задачи в сентиментальности меланхолии, греха или
самоубийства. Вёдь стремление к самоубийству перестает
быть сентиментальным только после того, как дело сделано.
Господину А.Ш., Гейслинген
27 октября 1949
Дорогой господин Ш.!
Сколько типично немецкого в том, что Вы рассказали
мне о Вашем «пожилом друге». Он пережил все мерзкое, что
было после 1933 года, он живет сейчас среди немецких бед и
разрухи; но что его беспокоит и заставляет призывать к «ог¬
ню и мечу» — так это забота о нравственности Норвегии, не¬
правильно, на его взгляд, поступающей с одним изменни¬
ком, который, к сожалению, является еще и большим писа¬
телем. Во Франции Гамсун оказался бы в первом ряду рас¬
стрелянных «коллаборационистов». В Германии он выпутал¬
ся бы. «Правильно» ли поступает с ним Норвегия, я не знаю,
при подобной дилемме никакого «правильно» не существует
вообще. Мне лично было бы, конечно, больше по душе, если
бы его отпустили на все четыре стороны и предоставили на¬
роду самому решить, как к нему относиться.
Если отвлечься от Гамсуна, который был ведь не только
другом нацистов, но и в большинстве своих книг злобным
врагом духовности, то меня огорчает, что, поучая другие на¬
роды, вместо того чтобы создать в своей собственной стране
ячейку мира и стройки. Ваш друг делает это настолько про¬
тивным способом, что требует от нас, писателей, и так-то до¬
статочно горько сожалеющих о судьбе Гамсуна, как она ни
заслуженна, — требует теперь от нас, чтобы мы прибегли к
«огню и мечу». Именно к этим орудиям насилия, глупости и
жестокости. Мы отворачиваемся, и нам стьщно.
Хорошо, что Вы сами не заразйлись глупостью этого
«друга» и думаете так разумно и верно! Ибо с тем, что Вы
И S-258 321
говорите о любви и «процессе преображения», я целиком
согласен. С дружеским приветом.
Томасу Манну
Монтаньола в ноябре 1949
Дорогой господин Томас Манн!
Оказывается, этот господин из Союза писателей, явив¬
шийся ко мне в конце лета и оставивший для подписания ад¬
ресованную Вам открытку, сам того не ведая, доставил мне
радость и преподнес подарок — письмо от Вас.
Я рад, что Неру Вы сочли подходящей фигурой, по порт¬
ретам он и на меня производил хорошее впечатление, но его
мемуары прочесть я не смог, на это давно уже не хватает ни
дней, ни глаз.
В этом году у меня случилась радость и одна большая ут¬
рата: в начале лета я смог в последний раз пригласить к себе
на несколько недель свою сестру Адель, самую любимую и
близкую спутницу всей моей жизни. Потом в сентябре у нас
тххпгила вторая моя сестра, и еще при ней пришло известие о
Смерти Адели... Но, пожалуйста, не считайте нужным выра¬
жать соболезнование, мы же достаточно стары, чтобы хоро¬
шо все знать.
Серьезной заботой и бедствием стало для меня немецкое
нашествие, которое страшит меня несколько лет. Посетите¬
ли валят валом, а во время долгих каникул целые толпы сту¬
дентов — ребята отчасти милые и интересные, но в таком ко¬
личестве я и их не выношу — «отрабатывают» неделю-дру-
гую в сельском хозяйстве, затем у них еще остаются канику¬
лы в Швейцарии, и с помощью автостопа они посещают все
знаменитые места и всех знаменитых людей, они являются
каждый день и чуть ли не каждый час, смеются над надписью
«Пожалуйста, воздержитесь от посещения», нападают на
меня в укромнейших уголках сада и уже трижды приводили
меня, старого отшельника, в ярость, приступы которой ос¬
тавляли на много часов сердцебиение и страшную головную
боль.
А сейчас мы собираемся снова в Баден на четыре недели.
Читаем мемуары Вашего брата*, и поэтому получается^
что мы почти каждый день немного о Вас говорим.
Сердечный привет вам обоим от Вашего
П Гессе
322
Студенту из Бонна
1949—1950
Дорогой господин Б л
Ваше письмо и то, что Вы пишете в нем о своем откры¬
тии <'Двузначности» некоторых писателей и книг, не только
не вызывает у меня возражений, как Вы, кажется, боитесь,
но вызывает полное мое одобрение. Большинство настоя¬
щих произведений обладало этой двузначностью, то есть
волновало, интересовало, трогало, с одной стороны, народ
и простых читателей, с другой — маленький верхний слой
интеллигенции. Это происходило не всегда одновременно,
произведению технически сложному и новаторскому требо¬
вался порой некоторый срок, чтобы прийтись по вкусу на¬
роду, а иногда людям образованным и тонким казалось
слишком простым и их недостойным произведение, качест¬
ва которого открывались им лишь впоследствии. Ведь чело¬
век образованный только образованнее, но отнюдь не ум¬
ней, чем народ.
В еврей собственной авторской жизни я с обоими слоями
читателей имел дело тысячи раз. Ученые и студенты писали
мне более умные письма, но признание необразованного
читателя, что какая-то моя книга обрадовала и утешила его
или поддержала и укрепила его нравственную позицию,
бывало мне по меньшей мере так же дорого, как самое бли¬
стательное письмо какого-нибудь начинающего умельца
игры в бисер по касталийским вопросам. А что касается
главной и первичной ценности всякого поэтического произ¬
ведения, силы его языка, то об этом «народ» судит, пожа¬
луй, даже точнее и увереннее, чем люди с филологически¬
ми или эстетическими анализами и доводами. И особенно
при отрицательных, осуждающих отзывах мнения, идущие
от «народа», задевают меня глубже и больше, чем оценки
интеллигентов.
В журнал «Лас Эспаньяс»
Юкатан, 31 января 1950
Глубокоуважаемые господа!
Ваши усилия, направленные на дальнейшее сопротивле¬
ние фашистскому франкистскому правительству в Испа¬
нии, вызывают у меня, как вы и предполагали, полное co¬
ll* 323
чувствие. Сколь йи огорчит(Е^льно to, что США склонны, по-
видимому, отстаивать демократическую Идеологию только
в оккупированных странах, я все же надеюсь, что совесть
мира не уснет снова и испанский народ обретет более до¬
стойную его политическую форму существования.
Представителю немецкого общества деятелей культуры
Февраль 1950
Глубокоуважаемый господин доктор!
Большое спасибо Вам за Ваше милое письмо, многое в
нем было приятно и по душе мне.
Однако Ваше предложение вступить в учреждаемое не¬
мецкое общество деятелей культуры как член совета я при¬
нять не могу — даже на время и без обязательств, как Вы
предлагаете, ибо вопрос этот решен наперед. Уже многим
академиям и обществам подобного рода я отвечал на такие
предложения отказом и отступать от этого правила не могу.
Мы здесь, в маленькой Швейцарии, еще и до Гитлера
относились к вступлению во всякие такие дружеские связи
с соседними народами болезненно и недоверчиво, и особен¬
но болезненно относилась Швейцария к требованиям объе¬
диниться на основе общности языка. Это началось со ссЫлок
на времена, когда нынешних государственных структур
еще не существовало, началось с подчеркивания общих за¬
слуг по части культуры, с упорных напоминаний о любви
Гёте к Швейцарии — а кончилось печатанием пропаган¬
дистских географических карт, где Швейцария изобража¬
лась южным округом Великой Германии.
Я швейцарец не по рождению, неполновесный — из че¬
тырех моих бабок и дедов лишь одна бабка была швейцар¬
кой (она говорила, однако, не по-немецки, а по-француз¬
ски), но именно как добровольный переселенец, получив¬
ший права гражданства, я вдвойне соблюдал лояльность.
Было достаточно областей, где сказывалось и проявлялось
на деле полное отсутствие у меня национализма или, если
Вам угодно, патриотизма и по отношению к моей второй,
швейцарской родине; во внешней политике я всегда одоб¬
рял и поддерживал швейцарскую позицию безусловной за¬
щиты собственной территории и политической независимо¬
сти, а также безусловного отказа от каких-либо аннексий.
Один-единственный раз я сделал исключение и после пер¬
324
воначального отказа и долгих уговоров рогласился принять
избрание в одну германскую корпорацию —• в Берлинскую
академию. При этом я ясно заявил о своей политической
принадлежности к Швейцарии и о том, что отвергаю всякие
великогерманские и паигерманские притязания. Но уже
вскоре мне пришлось снова писать в Берлин, чтобы заявить
о своем уходе, на чем дело и кончилось.
С тех пор отклонять подобные приглашения мне тем
легче, что возраст и усталость настраивают меня все скеп¬
тичнее в отношении того, что можно достичь всякими об¬
ществами, академиями, организациями. Я решил умереть
строптивым, вызывающим усмешку индивидуалистом.
Феликсу Лютцкендорфу*, Мюнхен
май 1950
Дорогой господин доктор Л.!
Больше месяца лежит у меня и ждет ответа Ваше пись¬
мо. Такое опоздание можно было бы легко оправдать, но в
отношении Вас мне не хочется довольствоваться чистой
вежливостью. Двадцать или двадцать пять лет назад Вы на¬
писали .обо мне лучшую тогда диссертацию, где особо ис¬
следовали мои религиозные и мои азиатские корни и связи.
Вы достигли недюжинной меры понимания, а потом, после
всех бурь, бушевавших с 1933 года, не раз дружески сбли¬
жались со мной, мы обменивались письмами, и я, старый
младенец, приятно жил в прекрасном заблуждении, что Вы
все еще понимаете и принимаете меня всерьез.
Это заблуждение Ваше письмо отчасти рассеяло, и от¬
сюда, как я лишь теперь ясно вижу, возникла та внутрен¬
няя помеха, из-за которой мне было так трудно ответить
Вам.
Вы хотели, чтобы я разрешил Вам экранизировать одну
из моих книг. И когда я Вам, как уже многим другим, от¬
казал в этом, Вы сделали выводы, которые разочаровали
меня.
Вы пишете, что я «не хочу иметь ни малейшего дела, с
дьявольщиной кинематографа», словно я какой-то старый
пастор или аскет, который видит в кинематографе опас¬
ность для «нравственности народа».
Возможно, Вы успели уже одуматься, но я все же хочу,
насколько это позволяет мне заполненный до предела ра¬
325
бочий день, поправить Ваше слишком наивное представле¬
ние о моем отношении к кино.
Я вовсе не вижу в кинематографе «дьявольщины» и не
имею решительно ничего против того, чтобы он конкури¬
ровал с литературой и книгой. Есть фильмы, которые я це¬
ню и которыми восхищаюсь как свидетельствами высокого
художественного вкуса и достойного образа мыслей. И я от¬
нюдь не против того, чтобы литературно образованное и
плодовитые таланты, к которым принадлежите и Вы, обра¬
щались к кинематографу. Напротив, я думаю, что кинема¬
тограф как раз и предоставляет иным дарованиям соответ¬
ствующее им поприще, как раз и делает их действительно
творческими и уберегает от дилетантства в других искусст¬
вах. Есть немало дарований, чья радость и сила состоят в
ощущении и создании напряженности, в возбуждении уча¬
стливого интереса ко всяческим вершинам и безднам жиз¬
ни, в придумывании интересных и характерных ситуаций
и сцен, дарований с мощным воображением, благородным
любопытством к тыСячеликости жизни, а порой и с высокой
нравственностью, то есть сильным чувством ответственно¬
сти за души десятков тысяч зрителей, на которые они воз^
действуют К тому же не только теоретически допустимо,,
но уже и доказано конкретными примерами, что автор хо¬
рошего сценария может быть настоящим писателем.
Но есть большая разница между фильмом, который со¬
чинен писателем, и фильмом, который присваивает и ис¬
пользует для своих целей уже существующее литературное
произведение. Первый — это настоящий и законный труд,
второй — воровство или, выражаясь изящнее, заимствова¬
ние. Литературное произведение, работающее чисто лите¬
ратурными средствами, то есть исключительно словом,
нельзя, по-моему, эксплуатировать другому искусству сво¬
ими средствами. Это, во всяком случае, деградация и вар¬
варство.
Вы, кстати сказать, совершенно правы в своих замеча¬
ниях о действенности кинематографа и о бесконечном мно¬
жестве голодных, жаждущих искусства душ, до которых
фильм может дойти, которые он может удовлетворить, на
которые он может повлиять, тогда как письменное и печат¬
ное слово до лих не доходит. Но экранизируя «Раскольни-,
кова», «Мадам Бовари»,. «Зеленого Генриха» или какое-ли-
бо другое литературное произведение, экранизируя его с
величайшим вкусом, мастерством и даже с высочайшей
326
нравственной ответственностью» Вы уничтожите главный,
глубочайший смысл этого произведения и в самом лучшем
случае достигнете примерно того же, чего может достичь
перевод этого произведения на язык эсперанто. Останется
воспоминание о чем-то сентиментальном или нравствен¬
ном, душа и смысл, неподражаемое и неповторимое пропа¬
дет.
Но пропадет тем самым и та часть старой и еще живой
культуры, которая заключена во всяком произведении сло¬
весного искусства.
Экранизатора литературного произведения можно, ко¬
нечно, сравнить и с его иллюстратором и сослаться на то,
что иной иллюстратор бывал талантливее, чем произведе¬
ние, которое он иллюстрировал. Что ж, согласен, но тем
вреднее все иллюстрации, художественная ценность кото¬
рых ниже, чем ценность иллюстрированного произведения.
Возможно и даже вероятно, что в ближайшем будущем
человеческая жизнь пойдет так, что на кинематограф лягут
все те задачи, которые до сих пор были задачами литера¬
туры, и долгое время никто не будет в силах читать книги.
Но что касается меня, то я бы и тогда выступал против эк¬
ранизации моих книг, и мне не стоило бы никакого усилия
удержаться от соблазна мировой славы и денег. Ибо как раз
чем больше оп^ность, грозящая литературе и слову как
средству искусства, тем дороже они для меня и священнее.
Ах, какие длинные письма! Я в самом деле устал. Не
обессудьте и примите дружеский привет от Вашего
Томасу Манну к его семидесятипятилетию
Июнь 1950
Дорогой господин Томас Манн!
Прошло немало времени, с тех пор как я познакомился
с Вами. Это случилось в одной мюнхенской гостинице, куда
мы оба были приглашены нашим издателем С.Фишером. У
Вас вышли тогда первые новеллы и «Будденброки», у меня
«Петер Каменцинд», мы оба были еще холосты, и от каж¬
дого из нас ждали чего-то прекрасного. В остальном, прав»
да, мы не очень походили друг на друга, это было видно
даже по одежде и обуви, и первая эта встреча, при которой
я, между прочим, спросил Вас, не в родстве ли Вы с автором
трех романов герцогини д’Асси, проходила больше под зна¬
327
ком случая и чисто литературного любопытства, чем под
янаком начинающегося товарищества и дружбы.
Чтобы дело все же дошло до товарищества и дружбы, од¬
ной из самых радостных и самых безоблачных дружб моей
поздней жизни, для этого должно было произойти многое, о
чем мы в тот веселый мюнхенский час и думать не думали,
для этого каждый из нас должен был проделать тяжелый и
часто мрачный путь от мнимой защищенности нашей нацио¬
нальной принадлежностью через одиночество и отвержен¬
ность к чистому и холодноватому воздуху мирового граждан¬
ства, которое опять-таки имеет у Вас совсем другой облик,
чем у меня, и все же связывает нас гораздо крепче и надеж¬
нее, чем все, что могло быть у нас общего тоща, во времена
нашей нравственной и политической невинности.
Мы стали между тем старыми людьми, из наших тогдаш¬
них спутников мало кто еще жив. А сейчас Вы празднуете
свое семидесятипятилетие, и я праздную его тоже, благодар¬
ный за все, что Вы сочинили, обдумали, выстрадали, благо¬
дарный за Вашу столь же умную, сколь и очаровательную,
столь же неумолимую, сколь и игривую прозу, благодарный
за тот великий, тот в позорно малой мере знакомый Вашим
бывшим соотечественникам источник любви, сердечности и
увлеченности, из которого вышел труд Вашей жизни, за вер¬
ность своему языку, которую Вы хранили, искренность и
теплоту убеждений, которые, как я надеюсь, будут после нас
одним из элементов новой всемирно-политической морали,
мировой совести, на чьи еще младенческие первые шаги мы
сегодня с тревогой и надеждой глядим.
Будьте еще долго среди нас, дорогой Томас Манн! При¬
ветствую и благодарю Вас не по поручению какой-либо на¬
ции, а как одиночка, чье настоящее отечество, точно так
же как Ваше, еще в становлении.
Искренне Ваш...
Сэйдзи Такахаси, главному редактору журнала «Гундзо»,
Токио
14 сентября 1950
Глубокоуважаемый господин Такахаси!
Вы просите меня высказаться по поводу морально-поли¬
тического положения в Вашей стране. Ваш народ, с одной
стороны, ясно заявил в своей новой конституции об осуж¬
328
дении войны и всякой политики силы и отказался от армии
и воинской повинности, а с другой — испуган и встревожен
политическими и военными событиями в Азии. Он находит¬
ся, почти в таком же положении, как Германия: еще под
оккупацией победителей, обезоруженный, он не желает ни¬
чего, кроме мира, но испытывает глубокий страх перед гро¬
зящей ему катастрофой. Только, может быть, Ваш народ
основательнее осознал учиненное им зло и морально разо¬
ружился.
Мое мнение относительно Вашей дилеммы недвусмыс¬
ленно. Я считаю, что мировых войн можно избежать, но не
вооружением и новым накоплением средств уничтожения,
а разумом и уживчивостью, и не верю, что какой-либо на¬
род в мире может на поверку выиграть от вооружения и
войны и спасти с их помощью свою честь и свободу. Я про¬
тивник фанатизма, который хочет разделить все человече¬
ство на два фронта и натравить эти фронты, со всеми их
дьявольскими средствами убийства, один на другой. И по¬
этому я не верю в то, что ремилитаризация пойдет на благо
Вашей стране. Лучше терпеть зло, чем причинять зло.
Ошибочно добиваться желаемого запрещенными средства¬
ми. Для генералов это вздор, и политики смеются над этим,
но это старые и проверенные истины. Новая и более светлая
эпоха мировой истории и отношений между народами будет
создана, конечно, не победителями в следующих мировых
войнах, а, вероятно, пострадавшими и отказавшимися от
насилия.
Ответ на письмо из Германии
Октябрь 1950
Спасибо за Ваше письмо, где столько интересного и при¬
ятного для меня, хотя оно все-таки больше испугало и уди¬
вило меня, чем обрадовало, ибо оно так полно симптомов
великой сегодняшней болезни мира, так наполнено и насы¬
щено отчаянным страхом перед войной и паникой перед
большевиками, что на него только и можно ответить: «Да,
если уж вы в Западной Германии впадаете в такое уныние
и такое отчаяние даже от первых приступов массового пси¬
хоза и войны нервов, то очень скоро у нас и впрямь будет
та самая, накликанная вами война, которую вы так покор¬
но и так наивно ждали».
329
Приди написанное Вами письмо не от Вас, человека, я
знаю, умного и начитанного, не раз до сих пор убеждавшего
меня в совпадении наших мыслей и взглядов, или будь оно
только единичным заявлением отдельного лица, сделанным
в минуту малодушия, я не стал бы и отвечать на него. Но
тот же взвинченный, истерический страх перед войной, та
же податливость слухам, та же слепая вера сатанинским
внушениям и то же глупое, без проверки распространяемое
мнение, будто ареной надвигающегося ужаса опять станет,
разумеется, «бедная Германия», налицо и во многих других
письмах, статьях и прочих сообщениях, поступающих от¬
туда ко мне. С мазохистской любовью к сенсации предают¬
ся страху, дрожат от трусости, дышат отравленной атмо¬
сферой взвинченности, слухов и лжи, безответственно и не¬
критично повторяя то, что твердят сеятели страха и поджи¬
гатели войны. Точно так же как совсем недавно вы, веря
болтовне гитлеровской пропаганды, проникались таким
страхом перед большевиками, что весь народ был готов сно¬
ва ввязаться в войну, точно так же сегодня вы доставляете
радость людям, заинтересованным в развязывании новой
войны, , тем, что, как завороженные, верите их рекламной
пропаганде и соглашаетесь с ней.
Дорогой друг, война не сваливается с неба, она, как вся¬
кая другая человеческая затея, требует подготовки, нужда¬
ется в стараниях и содействии людей, чтобы стать возмож¬
ной и претвориться в действительность. А хотят войны, го¬
товят и внушают ее те люди и силы, которым она приносит
прибыль. Она приносит им либо прямую прибыль чистога¬
ном, как, например, военной промышленности (а как толь¬
ко начинается война, бесчисленное множество безобидных
дотоле предприятий становятся военными, и капитал авто¬
матически течет к ним), или приносит им авторитет, ува¬
жение и власть, как, например, безработным генералам и
полковникам. Таким образом, в ремилитаризации Герма¬
нии, Японии и других невоенизированных сейчас стран за¬
интересованы тысячи и десятки тысяч людей, людей с же¬
стоко расчетливой или честолюбиво милитаристской ду¬
шой, и к средствам, которыми эти люди стараются подго¬
товить желанную для них войну, принадлежит распростра¬
нение неуверенности и страха — а вы, друзья, поддаваясь
этой заразе, помогаете тем самым сделать возможной войну -
и ее развязать. И если после всего, что вы пережили с 1914
года по нынешний день, вас на этот счет еще приходится
330
просвещать, то это печально и позорно и подтверждает одну
неприятную, будто бы гегелевскую сентенцию: единствен¬
ное, чему учит мировая история, это то, что она еще никого
ничему не научила.
Я вовсе не жду от вас, чтобы вы закрыли глаза на дей¬
ствительность и предались прекрасным мечтам. Мир полон
опасностей и возможностей войны, и «большевики» отнюдь
не единственная угроза, они находятся под таким же дав¬
лением и в большинстве своем так же, наверно, не горят
желанием стрелять и падать под пулями, как и мы. Угро¬
жают нашей'земле и всякому миру те, кто хочет войны,
кто готовит ее и туманными обещаниями грядущего мира
или страхом перед нападением извне пытается заставить
нас содействовать их планам.
Этим ;п}одям и группам, для которых война — дельце,
и притом более выгодное, чем мир, этим отравителям и
поджигателям Вы, дорогой друг, оказываете услугу, покор¬
но поддаваясь их внушениям. Тем самым Вы тоже берете
на себя ответственность за возможную войну. Вместо того
чтобы собрать и укрепить в душе все светлое, всю бдитель¬
ность, всю храбрость и бодрость, как то подобало бы Вам,
Вы вешаете голову, распространяете яд слепоты и страха и
отдаете себя и свое окружение во власть бессмысленного
ужаса. Не знаю, представляете ли Вы себе, до чего мне
больно и насколько я разочарован тем, что именно такой
старый, верный читатель, ученик и последователь, как Вы,
бросил меня и убедил в бесплодности всех моих усилий. За¬
думаться на миг и об этом тоже было бы, пожалуй, полезно,
это, пожалуй, помогло бы немного рассеять окутавший Вас
мрак.
Если Вам придется голосовать по поводу ремилитариза¬
ции Вашей страны, я не даю Вам совета отвечать «да» или
«нет», я надеюсь, что Вы проголосуете после ясного и до¬
бросовестного размышления, а не под давлением этой ис¬
терии. Считая разум и отказ от насилия единственным пу¬
тем к лучшему будущему, я тем не менее признаю, что в
конкретных странах и конкретных случаях нельзя не при¬
спосабливаться к существующей обстановке. Так, напри-,
мер, я никогда не выступал из пацифистского чистоплюй¬
ства против содержания здесь, у нас, в Швейцарии, армии
только для защиты нашей страны от нападения, армии, ко¬
торая выдержала испытание в двух войнах. В каждом мо¬
гущественном ныне государстве мира есть, конечно, партия
331
войны, но и в побежденных, обезоруженных странах нет
недостатка в людях, предпочитающих получить военные
заказы сегодня, а не завтра, и в людях, которым хотелось
бы, чтобы их снова величали «господин полковник» или
«господин лейтенант», а не «господин Мюллер». И так об¬
стоит дело везде.
Мы, друзья мира и правды, Вы и я, не должны слушать¬
ся этих дельцов и карьеристов, не должны помогать им, а
должны всегда отстаивать свою веру в то, что есть др]ггае
пути к миру и другие средства привести в порядок и дезин¬
фицировать землю, чем бомбы и войны.
Томасу Манну
Монтаньола, 8 ноября 1950
Дорогой господин Томас Манн!
В том, что ко мне приносит сейчас почта, радости мало.
Даже очень смирно и осторожно написанная статья о страхе
войны вызвала в Германии опять возмущение и враждеб¬
ность. Все же благодаря этой осторожности мне удалось
протащить статью* не только в «Национальцайтунг», но и
в «Мюнхенер нойе цайтунг». Обе газеты восприняли эту ве¬
щицу как литературное эссе и не почувствовали некоторой
ее поэтической остроты. Зато Н.Ц. тотчас же получила
нагоняй от Америки, за которым через несколько дней вос¬
последовал убогий и жалкий ответ*. Но наплевать, статья
все же попалась на глаза многим, и многие заметили, о чем
идет речь.
И вот среди этой дурацкой почты дня — письмо, напи¬
санное Вашей рукой, милое и очень отрадное письмо, к то¬
му же с приятной вестью об окончании Грегориуса! Это ра¬
дость чистая и большая, и хотя Вам, может быть, теперь
не хватает Вашего Грегориуса и каждодневных с ним раз¬
влечений, мы все-таки поздравляем Вас и предвкушаем но¬
вое появление этой сказочной фшуры и этой истории. Бес¬
конечное число людей будет радо ему. Большинства чита¬
телей хватит на то, чтобы почувствовать иронию Вашего
восхитительного сочинения, но не все, наверно, разглядят
серьезность и кротость, стояоще за этой иронией и как раз-
то и придающие ей истинную, высшую веселость.
Единственное, чем озаботило нас Ваше письмо, — это
состояние фрау Эрики*. В своем диагнозе Вы правы, и я
332
очень хорошо представляю себе состояние такого высоко и
разносторонне одаренного человека в этой парализующей
атмосфере. Недавно я получил от Вашей дочери очень ми¬
лое письмо, и дружба с ней принадлежит к нескольким до¬
брым и чистым подаркам этого удивительного года.
Мы в большом напряжении, иначе бы я давно написал
Вам, а через неделю мы снова поедем в Баден. Кроме ванн,
там ждет Нинон цюрихская библиотека, а нас обоих —
близость многих друзей, Мартин Бубер тоже будет тогда в
Швейцарии и, конечно, навестит меня в Бадене.
Радостный настанет день, когда Грегориус окажется у
нас в руках в виде красивой книжки, а свидеться снова нам
тоже, будем надеяться, доведется.
С добрыми пожеланиями думает о вас троих и шлет вам
привет Ваш
Г. Гессе
Госпоже P.P., П1ссен
1950
Дорогая госпожа Р.!
Жизнь, собственно, слишком коротка для такой перепи¬
ски. Но к своей проблеме Вы относитесь слишком серьезно,
и мое уважение к Вам слишком велико, чтобы я позволил
себе просто отложить в сторону Ваше ответное письмо. Да
и вопрос ведь поднят, смешное дело, очень актуальный, ко¬
торый каждый день задают себе тысячи людей. Это вопрос,
действительно ли ум — противник души, «думание» —
всего лишь интеллигентский спорт, а чутье — наш первый
и, может быть, единственный ориентир в нравственных ре¬
шениях. Об этом написано несколько тысяч томов, но ведь
мы с Вами сходимся в том, что интересует нас не филосо¬
фия, а прежде всего практическая проблема повседневной
жизни, проблема «интеллектуалов».
Когда я пишу малоприятное слово «интеллектуалы»,
мне неизменно приходит на ум другое, гораздо более про¬
тивное выражение, изобретенное некоща «интеллектуала¬
ми» Третьей империи. А именно «интеллектуальная бес¬
тия», которое, слава Богу, снова исчезло из многострадаль¬
ного немецкого языка.
В ту пору, когда «вождями» Германии была бестии,
гнусное это выражение придумали как раз гитлеровские
333
интеллектуалы. Они в этом смыслили, ведь они же сами
продали ум власти и взяли на себя задачу сделать ум, коль
скоро он не продавался Гитлеру, подозрительным, обесце¬
нить его и выдать на растерзание «народному гневу», инс¬
танции, придуманной этими же бестиями. С тех пор люди,
не любящие думать, поборники крови и почвы, народной
души и народного гнева, продолжали культивировать свою
враждебность к тому, что они называют «цухом»^ «умом»,
свой страх перед мыслями и суждениями, свою боязнь кри¬
тики и точных формулировок, стараясь оградить нежную и
чистую народную душу от вторжения мира грубой дейст¬
вительности. И всегда с каким-то подобием права, ибо не
самые худшие люди боялись и боятся разоблачающего, об¬
нажающего, циничного слова, порядочных и добросовест¬
ных оно тоже отпугивает. Они боятся ниспровергательства,
цинизма, поэтому они боятся «ума», «духа» и предпочита¬
ют ему «душу», как царство невинных чувств.
Ни «дух», ни «душу» не следовало бы, однако, брать в
кавычки. По христианскому учению, человек состоит из
плоти, души и духа, да и психология до недавнего времени
видела в способностях и деятельности разума часть жизни
души. Они неразрывны и неразделимы, дух и душа, разум
и сердце, и кто переоценивает и превозносит одно за счет
другого, а тем более в пику другому, тот ищет и лелеет по¬
ловину вместо целого, он болен, он уже не человек, а спе¬
циалист. Кто, стало быть, превозносит критическое слово,
анализирующий, жаждущий познания разум, тот делает
это за счет целого, за счет человечности. Вот что Вы часто
чувствовали, и вот что сделало Вас недоверчивой к разуму.
Но если мы не принимаем всерьез и не считаем полноцен¬
ными людей, признающих лишь разум и критику, то мы
должны знать также, что только сердца и воображения то¬
же недостаточно, чтобы сделать человека полноценным, а
его действия полезными.
Забавное наблюдение: человек чисто умственный, каких
бы золотых слов и тонких суждений мы от него ни слыша¬
ли, нам очень скоро надоедает. И благородные энтузиасты
души, поэтические и восторженные специалисты по части
сердца нам точно так же вскоре надоедают. И у самодовле¬
ющего благородного ума, и у полагающейся только на себя
благородной души одинаково не хватает одного измерения.
Это дает себя знать в быту и в политической жизни; еще
отчетливее это дает себя знать в искусстве. Ум и задушев¬
334
ность, дерзость и благородство — без своей кровной проти¬
воположности они неполны, неубедительны, необаятельны.
Человек становится нам скучен, когда у него только два
измерения.
Мы были свидетелями того, как специализированный и
покорный власти ум Геббельсов старался культивировать в
народе, натравливая ее на разум, именно душу. Поскольку
критиковать власть уже не разрешалось, поскольку легче
всего было управиться с инфантильно некритичным наро¬
дом, то этим извергам требовалось как можно больше го¬
лубоглазой, мечтательной инфантильности.
По моим впечатлениям, в Германии это все-таки не
вполне уяснили себе. Мы знаем: величие народа в способ¬
ности терпеть, а не учиться. И все-таки очень хочется, что¬
бы при всех бесконечных страданиях он и что-то узнавал,
чему-то учился. Но где там!
Специализированная, отборная интеллигенция проти¬
востоит народу, который не может ничему у нее научиться,
потому что он не в силах ее полюбить. Видеть это, страдать
от этого, бороться с этим — вот задача не специализиро¬
ванных, не ставших противниками души людей духа, а зна¬
чит, и Ваша.
Довольно, ужасно длинное получилось письмо! И ниче¬
го в нем нет, кроме само собой разумеющегося!
Поздравление Петеру Зуркзхмпу (к 28 марта 1951 года)
Дорогой друг!
Когда ты недавно был в Бадене и Цюрихе и нам снова
довелось поговорить, общие друзья уже поручили мне со¬
проводить наш подарок на твой день рождения поздрави¬
тельным посланием, и я воспринял это поручение как лю¬
бое подобное — то есть как тяжкое бремя. Ведь насколько
мне приятно пожелать друзьям добра, пожать им руку или
выпить с ними вина, когда на то есть повод, настолько мне
неприятно делать это публично и официально; я кажусь се¬
бе тогда каждый раз каким-то напыщенно-неестественным
и готов послать к черту весь этот празднично-поздравитель¬
ный балаган. К тому же писать мне становится все трудней
и трудней, отчасти из-за старческой немощи, но отчасти и
из-за остатков авторского тщеславия; кто некогда со сма¬
335
ком, с артистическим удовольствием пользовался языком и
пером, но потерял радость от этого занятия и все огорчи¬
тельнее чувствовал его сомнительность, тот уже без одыш¬
ки и головокружения на высокий канат взобраться не смо¬
жет. И вот я в растерянности, удрученный своим поруче¬
нием, с которым ношусь уже несколько недель, как с вос¬
палением горла, сижу за письменным столом и пытаюсь ус¬
тановить, чтб я, собственно, должен тебе сказать.
Человеческая и частная наша близость, тот факт, что
мы друзья, «то любим друг друга и желаем друг другу до¬
бра, разумеется ведь сама собой. Это, как говорят на своем
ужасном языке философы, данность, и надо быть моложе,
одаренней и беззаботней, чем я, чтобы выразить это обсто¬
ятельнее и декоративнее, чем рукопожатием. Ведь дружба
между мужчинами, особенно если она возникла уже в по¬
жилом возрасте, тем чопорнее и тем скупее на слова, чем
она сердечнее, и есть немало шестидесяти-семидесятилет-
них и старше дружеских пар, чьи чувства не нуждаются ни
в каком ином выражении, чем, к примеру: «Ну, да...» или
«Так выпьем...». Мы тоже обошлись бы этим, и уж подавно
при торжественном поводе, юбилее, примерке лаврового
венка и некролога. И даже позволь мы друг другу когда-
нибудь выразить свою симпатию и дружбу, мы не позволи¬
ли бы присутствовать при этом другим, свидетелям, слуша¬
телям и зрителям, которые весело, растроганно, а то и с
отвращением наблюдали бы за тем, как два старичка обме¬
ниваются прекрасными чувствами и словами. Нет, amice,
от этого мы воздержимся, и отнюдь не только из благора¬
зумия.
Другая, уже более заманчивая возможность приветст¬
вия и объяснения по такому юбилейному случаю — это
отбросить стеснение и сказать друг другу все, что друг
против друга имеешь, дать полную волю критике и всяко¬
му накипевшему недовольству. На это еще можно согла¬
ситься, и от такого о^яснения было бы больше толку, оно
было бы интереснее растроганных объятий с музыкальным
обрамлением. Но и на это нет у меня охоты, да и основу
для такой критики, для такого полемического объяснения
у меня, к сожалению, давно перехватило гитлеровское ге¬
стапо, которое после вторжения в Голландию, среди войны
и побед, в своей дотошной добросовестности не поленилось
тщательно сфотографировать и предъявить тебе несколько
336
критич^к-цх замечащ1Й, посланных мной в дурном на¬
строен™ в. одно голландское издательство, ибо гестапо бы¬
ло тогда как, раз на рз^ку нас рассорить. Я, слава Богу, уже
не помню точного текста тогдашнего моего критического
высказывания о тебе, но, конечно, не сомневаюсь, что они
были обоснованны. Эту пхутку, стало быть, как многие
другие шутки, испортили нам повара мировой истории. И
вздумай мы с тобой, дорогой Петер, обменяться мнениями
о них, поварах мировой истории, дуэт хотя и получился
бы прекрасный и дружный, но вряд ли это была бы та тор¬
жественная музыка, которая подошла бы к твоему шести¬
десятилетию.
Грызть ручку, что в прежние времена давало хорошие
результаты, теперь, к сожалению, из-за невкусных и до¬
рогих вечных перьев не принято, а то бы сейчас как раз
впору было прибегнуть к этому стилистическому приему.
Поэтому надо продолжать, и я продолжаю, приступая к
тому вопросу, который занимает меня с тех самых пор,
как я опрометчиво пообещал сочинить это поздравление,
к вопросу — на чем, собственно, основана моя к тебе при¬
язнь, что придает ей этот особый оттенок, который реши¬
тельно отличает ее от прочих моих привязанностей. Двад¬
цать и тридцать лет назад, когда я еще был психологом
или таковым ошл, я не мог поставить и этот вопрос, ибо
тогда мы друг друга еще не знали. Лично познакомились
и подружились мы же только за два или за три года до на¬
чала Второй мировой войны во время моего последнего ко¬
роткого пребывания в Германии. Я застал тебя тогда хоть
и в угрожаемом, но еще относительно блестящем положе¬
нии, в роли по-рыцарски готового к жертвам и битвам
преемника и наместника дорогого старика С. Фишера, и,
хотя о грядущем мы думали одинаково, у нас еще не было
речи о жестоких битвах и жертвах, к которым приведет
твоя, может быть, слишком рыцарственная верность. Од¬
нако ты и тогда уже был сторонником сопротивления гос¬
подствовавшим тогда методам и идеологии террора, и, на¬
верно, чувствовалось какое-то предвестье, какое-то пред¬
восхищение ожидавших тебя испытаний и бед, ибо в моем
восприятии тебя уже в ту первую, прекрасную встречу в
Бад-Эйльзене было что-то вроде опасения и сочувствия.
Сколь оправданны были это сочувствие и эта-тревога, до¬
казали через несколько лет твои испытания в аду гитле¬
ровских тюрем и концентрационных лагерей — а когда
337
ты, надломленный и истерзанный, но живой, вырвался из
этого ада, вскоре начались новые испытания и 15еды, кото¬
рые не преодолены и поныне и, может быть, горше, чем
те первые, ибо теперь тебе противостояли уже не враги и
дьяволы, а бывшие друзья, которые, за немногими исклю¬
чениями, отвернулись от тебя и отплатили за твою вер¬
ность неблагодарностью. На сей раз у меня была по край¬
ней мере возможность поддержать тебя и показать тебе
свою верность.
У нас в то время были другие заботы, чем теперь, за¬
боты, которыми, несмотря на их относительную незначи¬
тельность, даже смехотворность, нельзя было делиться
письменно из-за бдительных глаз германской цензуры.
Формально запретить мои книги и лишить меня граждан¬
ства нацисты никак не могли, хотя и мои писания, и сам
я были им очень противны. Я давно уже не был герман¬
ским подданным, а мои книги, правда, значились в списке
нежелательной литературы, но пользов^ись в Германии
симпатией определенных кругов, которые предпочтитель¬
ней было не раздражать; кроме того, они продавались и за
границей, принося властителям валюту на мелкие расхо¬
ды. Поэтому довольствовались тем, что не переставали
твердить книготорговле и прессе, как я малоприятен, и в
общем-то закрывали глаза, если мои книги не красовались
в витринах или на прилавках, а продавались со стыдливой
усмешкой. Зато вместо запрета придумали другое средство
давления: не давали лицензии на бумагу для переиздания
нежелательных книг. Так, много лет не было на рынке
книги «Размышления», содержавшей мои статьи времен
прежней войны, а когда наступал срок переиздания книг,
возникали странные вопросы и опасения. Большинство
этих вопросов я забыл, но два еще помню. В моем сборни¬
ке стихов «Утешение ночи» было много стихотворений с
посвящениями друзьям, а среди таковых были и евреи, и
эмигранты. Меня спросили, готов ли я устранить это не-
благообразие. Книга была мне дорога, я хотел спасти ее и
потому снял посвящения, разумеется, не только нежела¬
тельные, а все вообще. Иначе обстояло дело со «Злато¬
устом». Там есть несколько строк об антисемитизме и по¬
громах в средневековой Германии, и вычеркнуть эти стро¬
ки значило бы сделать непозволительную уступку наци¬
стам. И эта книга, так же как «Размыпшения», исчезла и
вышла снова только после проигранной второй войны.
338
Если в моем отношении к тебе сочувствие и озабочен¬
ность всегда играли и играют какую-то роль, то это никогда
не было сочувствие второстатейное, какое порой способен
испытывать сильный — к слабому, благополучный — к
бедняге. Нет, всегда именно в тех случаях, когда казалось,
что ты в опасности, измучен, нуждаешься в защите, я чув¬
ствовал в твоей натуре и в твоем страдании родственную
моей собственной натуре разновидность незапщщенности и
ранимости. Я часто почти со злостью желал тебе больше
твердости, больше сопротивляемости и агрессивности и
меньше терпимости, меньше покорности, и все же именно
этот недостаток твердости, эту терпимость и готовность
страдать я в душе понимал, именно им я сочувствовал,
именно они открывали мое сердце тебе. «Петер, стань твер¬
же!» — не раз восклицал я, за то и любя тебя, что тверже
ты не был.
Но не хочу заниматься психологией и подробнее разби¬
рать, в какой мере основывалась наша дружба на противо¬
положности, в какой — на сходстве наших натур.
Не будем больше касаться этого. Я из' чистого эгоизма
желаю тебе сегодня, чтобы силы твои еще долго не иссяка¬
ли. Издателей, которые могут жить и без авторов, предо¬
статочно, а наоборот не бывает.
Ты живешь жизнью, которая как нельзя более чужда
моей и на нее непохожа, жизнью непоседливой, хлопотли¬
вой, переполненной людьми, поездками, посетителями,
телефонными разговорами, вихрящейся, как в центрифу¬
ге. Так живут многие, так живет большинство. И все-таки
от тебя исходит спокойствие, ты никогда не действуешь на
меня взбудораживающе, я редко видел тебя не замотан¬
ным, не перегруженным, но никогда — нетерпеливым. В
тебе есть что-то глубоко христианское и одновременно
что-то восточно-тихое, налет дао, скрытая связь с естест¬
вом, с сердцем мира. Об этой тайне я буду еще часто раз¬
мышлять.
Томасу Манну
[конец октября 19511
Дорогой господин Томас Манн!
Ваше письмо принесло радость в нашу хижину. Что
Ваша поездка прошла хорошо и Ваша дочь добралась до
339
Вас, обойдясь без заезда ъ Мексику, и что моей кш1ге пи¬
сем Вы уделили столько участия и времени, это мы про¬
чли с удовольствием и умилением. Книге писем недостает
короткой объяснительной заметки, рассказывающей об об¬
стоятельствах, которым сборник обязан своим возникнове¬
нием, но у меня теперь очень редко хватает храбрости или
юмора что-то написать, а тут я был просто не в состоянии
это сделать.
Да, чего только не приносят в дом письма! Один берн¬
ский книготорговец однажды написал мне: какой-то его по¬
купатель, рабочий из Эмменталя, заказал мою книгу «По
следам сновидений», а через несколько дней прислал назад
на том основании, что «такая чепуха еще никогда не быва¬
ла у него перед очками».
На днях тоже одно письмо, среди множества серьезных
и отчасти пугающих, доставило мне удовольствие. Дирек¬
ция некоей школы, находящейся неподалеку от Вашей ро¬
дины, сообщила мне следующее: в последнее время их за¬
нимала проблема убранства актового зала одной средней
школы. Но наконец они нашли решение: они склонилй
скульптора, профессора В., представить в пяти горельефах
ступени человеческой жизни, «которая выводит каждого
из-под материнской опеки к профессиональной подготовке,
к прорыву индивидуальности в плоскости профессии, обра¬
щению к «ты» в области общественной и благотворительной
деятельности и, наконец, к метафизике и синтезу веры и
знания». Эти рельефы соединит широкая лента, на которой
будут начертаны, если я ничего не имею против, последние
строки моего стихотворения «Ступени».
Мне, таким образом, пришлось задуматься, имею ли я
что-либо против. В сущности, ^е было безразлично, чтб
напишут на этой ленте, но потом у меня все-таки возникли
кое-какие соображения, и в конце концов я придумал при¬
мерно такой ответ:
«Вспоминая школьные помещения, где я учился, я хоть
и не припоминаю никаких рельефов с лентами — в те
сказочные довоенные времена никто не был еще достаточ¬
но богат для таких благотворительных и роскошных тво¬
рений, — но все-таки там и сям попадалось, на более
скромной ступени, что-нибудь вроде картины и изречения,
гипсовая голова Софокла над дверью, портрет всемирно
известного немецкого драматурга, да и изречения неоспо¬
340
римо глубокого содержания тоже кое-т:це можно бшю уви¬
деть. Если бы меня, четырнадцатилетнего, спросили тоща,
хотел бы я быть одним из изображенных писателей или
автором этих изречений, я ответил бы возмущенным отка¬
зом, ибо, надо к стыду нашему признать, мы, мальчики,
ни во что не ставили эти благородные украшения, мы на¬
ходили их скучными и пользовались золотыми словами
разве что для смешных переиначиваний и каламбуров. Таг
КИМ образом, как Вы видите, с той школьной поры, со вре¬
мен тех ]^казаний, во мне осталось какое-то сопротивле¬
ние этим вещам, чтобы не сказать — отвращение, отчего
мне вовсе не хочется, чтобы мои слова красовались в та¬
ких торжественных местах, а меня присоединили к плеяде
классических авторов золотых слов от Марка Аврелия до
Шиллера.
Что в Вашей идее мне нравится, так это решение пору¬
чить такую почетную задачу художнику. Ему, вероятно,
будет весьма непросто мысленно и изобразительно разде¬
лить, к Вашему и моему собственному удовлетворению, че¬
ловеческую жизнь на пять ступеней, но он, я думаю, как-то
справится с этой заботой. А я, коль скоро мне суждено уча¬
ствовать в Вашей затее, хотел бы выпутаться из этой исто¬
рии, порекомендовав Вам для ленты стихи или прозу одного
из тех истинных, настоящих классиков, чьи сокровищницы
полны благороднейших драгоценностей.
И еще одну заботу вызывают у меня мои стихи и мое
имя: она связана не с моим, а с Вашим благом. Я не по¬
литик, тем более не пророк, но я могу представить себе,
например, такую возможность, что в близком или далеком
будущем Ваша школа. Ваш город и Ваша страна окажутся
под гнетом суровой диктатуры, требующей безоговорочной
идеологической унификации, диктатуры, скажем, проле¬
тариата или победоносно воскресшего милитаризма и фа¬
шизма. Тогда у Вас были бы в актовом зале красивые,
правда, рельефы на стене, но среди них и лента со стиха¬
ми автора, который при любой строгой диктатуре сразу же
окажется в черном списке. Юные патриоты-энтузиасты
быстро позаботятся о том, чтобы уведомить ближайшего
комиссара о порочащей Вашу школу ленте со стихами, и
Вам не только пришлось бы с большими затратами убрать
ее, но у Вас, как ответственных за выбор писателя и тек¬
ста, могли бы возникнуть и гораздо более серьезные не¬
приятности».
341
Вот какой примерно ответ думал я послать на далекий
север. Но человек, во-первых, слаб, во-вторых, тяжел на
подъем, и оба эти начала были во мне настолько сильны,
что вместо своего прекрасного письма с отказом и предо¬
стережением я послал этой дирекции любезную открытку
с согласием. Почтовая открытка — это вообще одно из
лучших изобретений, которые подарила миру Германия.
Не знаю, хорошо ли я поступил, заставив Вас, после то¬
го как Вы только что терпеливо одолели мой том писем,
прочесть еще и это ненаписанное и все же написанное рись-
мо. Мне просто хотелось немного поболтать с Вами, неваж¬
но о чем. Скоро мы снова поедем на ритуальный курс ванн
в Баден-на-Лиммате. Нинон будет ездить оттуда в цюрих¬
скую библиотеку, и еще мы навестим моего сына Хайнера,
у которого теперь есть домик в Кюснахте, на знакомой Вам
Шидхальденштрассе.
Сердечный привет от нас Вам и Вашим. Ваш
Г. Гессе
Томасу Манну
январь 1953
Дорогой Томас Манн!
Своим милым письмом Вы доставили мне большую ра¬
дость, я благодарен за это.
Знать, что еще один Ваш рассказ близок к завершению,,
тоже плюс, опять можно чему-то заранее радоваться, чего-
то с любопытством ждать.
Есть какая-то странная тайна в нашем чувстве (ибо это,
безусловно, и мое чувство), что наше творчество нельзя
причислить к «настоящему», к абсолютно ценному и по¬
длинному, к классическому и долговечному. Отчасти это
чувство основано на чем-то обьективном, на том факте, что
подлинные и великие классики выдержали как раз ту про¬
верку, которая ныне живущим еще предстоит. Они пере¬
жили период, когда мир был сыт ими и славил новых ги¬
гантов, а период этот часто бывает довольно долгим, они
восстали из гроба и забвения.
Но дело тут, по-моему, не только в этом. Среди худож¬
ников, как и среди всех прочих, есть люди такого типа, ко¬
торые имеют счастье и дерзость верить в себя и гордиться
собой, такие, например, как Бенвенуто Челлини, к этому
342
типу принадлежат, может быть, и Геббель, Виктор Гюго,
может быть, и Г. Гауптман, да и многае поменьше, которые
в патетическом тщеславии предвосхищают не назначенные
им величие и долговечность. И к этому типу, как бы с нами
ни обстояло дело, мы не принадлежим.
Хочу, чтобы Вы поскорее снова почувствовали себя ус¬
троенным и защищенным! Я думаю о Вас радостнее, с тех
пор как знаю, что Вы в Эрленбахе. А Ваш великолепный
гимн бренности* я вбирал в себя, как хорошее вино.
Томасу Манну
март 1953
Дорогой господин Томас Манн!
Это была славная и полная неожвданность! «Ага,
Круль!» — подумал я, вскрывая бандероль, а книга оказа¬
лась совершенно нежданная*. Я порадовался, разглядывая
ее и ощупывая, порадовался прежде всего милой дарствен¬
ной надписи, затем многообещающему объему прекрасно
сделанного тома, в котором мне не нравится только облож¬
ка. Потом, когда я стал перелистывать и пробегать глазами
оглавление, мне стало вдруг ясно, какая это автобиографи¬
ческая и историческая сокровищница, и я уже начал выко¬
выривать изюминки, принявшись первым делом за еще не¬
знакомые вещи, из которых меня особенно восхитило «Лю¬
бимое стихотворение». Qualis artifex!' Благодарю Вас, Вы
доставили мне ^льшую радость.
Вот кстати: недавно один человек — кажется, его фами¬
лия Грюнвальд — прислал мне из Америки рукопись своей
работы, из которой я прочел только отмеченное им самим
место. Это восхваление Гессе за счет Томаса Манна, которо¬
го он непристойно ругает. Я написал ему открытку, где с гру¬
стью сказал, какого я о нем мнения, он обиделся, и скоро, по¬
лагаю, его восхищение мною сменится противоположным
чувством, как то было у него с Вами. Ибо он уверяет, что
раньше был в восторге от Вас. Что за люди!
Моя жена радуется вместе со мной предстоящему чте¬
нию, и мы оба шлем вам троим горячий привет. Ваш
Г, Гессе
^Какой искусник! (лат.)
343
Рудольфу, Панвицу*
январь 1955
Глубокоуважаемый господин ГТанвиц!
По прочтении «Игры в бисер» Вы одарили меня пись¬
мом, какие получаешь весьма редко; я прочел его с радо¬
стью и волнением и радуюсь ему, как позднему, неожидан¬
ному дару. Ведь, хотя в старости я, к собственному удив¬
лению, несколько даже избалован признанием и успехом,
бблыпая часть выпавших на мою долю похвал и сочувствия
шла от людей, которых я не мог считать вполне компетен¬
тными, которые способны были усвоить лишь половину
слож!ной сути литературного произведения или того мень¬
ше, от людей, чье одобрение обесценивалось еще и тем, что
обычно оно сводилось к использованию моей книги в слиш¬
ком прямолинейных практических целях.
И вот Ваше письмо приносит мне сочувственный отзыв
умнейшего человека, превосходящего меня критическими
способностями и образованностью, человека, которого я к
тому же чту как художника.
Это для меня, состарившегося, ничего, в сущности, уже
не желающего, прекрасный подарок, за который я всегда
буду Вам благодарен. Мне стыдно, что я не мог>' ответить
на него лучше, но я перестал быть хорошим читателем, а
тем более хорошим корреспондентом. Я должен быть дово¬
лен, когда рукам и глазам удается еще выполнить скром¬
ный урок, давно уже не имеющий ничего общего с собст¬
венным творчеством.
Позвольте мне скромно одарить Вас, записав кое-какие
воспоминания из времен, когда возникала моя книга, по¬
скольку Ваше письмо вновь оживило для меня те времена.
Идеей, высекшей во мне первую искру, было перевоп¬
лощение как выражение устойчивого в текучем, непре¬
рывности традиции и духовной жизни вообще. Однажды,
за много лет до того, как я попытался писать, мне приви¬
делся индивидуальный, но надвременный жизненный
путь: я вообразил человека, который, рождаясь снова и
снова, оказывается современником великих эпох истории
человечества. Остался от этого первоначального намере¬
ния, как Вы видите, ряд кнехтовских жизней*, три исто¬
рические и одна касталийская. В план мой входило, кстати
сказать, еще одно жизнеописание, отнесенное к XVHI ве¬
ку, как эпохе великого расцвета музыки, над этой карти¬
344
ной я проработал почти год, затратйв на нее больше под¬
готовительного труда, чем на все другие биографии Кнех¬
та, но она мне не удалась, эта штука так и осталась фраг¬
ментом. Слишком точно известный и слишком богато до¬
кументированный мир этого вёка никак не встраивался в
более легендарные пространства остальных мест кнехтов-
ской жизни.
В годы, прошедшие от первого замысла до настоящего
начала работы над книгой, в годы, когда мне надо было
выполнить еще две другие задачи, произведение, назван¬
ное впоследствии «Игрой в бисер», маячило передо мной в
меняющихся обликах, то в торжественных, то в более иг¬
ривых. Это были для меня годы относительного благопо¬
лучия после серьезного кризиса жизни, и это были годы
передышки и возврата к радости жизни для измученных
Первой мировой войной Германии и Европы. Правда, в
политическом отношении я стал чуток и недоверчив и не
верил в немецкую республику и немецкое миролюбие, но
общая атмосфера уверенности, даже уютности действовала
на меня все-таки благотворно. Я жил в Швейцарии, бывал
в Германии очень редко и гитлеровское движение долго не
принимал всерьез. Но когда оно, после того как стал из¬
вестен так называемый бокенгеймский документ*, пред¬
стало моим глазам во всей своей опасности и динамике, а
тем более когда оно открыто пришло к власти, мое прият¬
ное самочувствие, конечно, кончилось. С речами Гитлера
и его министров, с их газетами и брошюрами поднялось
что-то вроде ядовитого газа, поднялась волна подлости,
лжи, безудержного карьеризма, образовалась атмосфера,
дышать которой было нельзя. Не требовалось никаких
зверств, ставших известными лишь через несколько лет,
достаточно было этого ядовитого газа, этого осквернения
языка и попрания правды, чтобы снова, как в военные го¬
ды, поставить меня перед пропастью. Воздух снова был
ядовит, жизнь снова была поставлена под вопрос. Пришел
момент, когда мне нужно было мобилизовать в себе все
спасительные силы, проверить и утвердить всю веру, ка¬
кой я обладал. Возникло нечто гораздо худшее, чем неког¬
да тщеславный кайзер с его генералами-полубогами, нечто
такое, что должно было привести к худшему, чем знако¬
мый нам вид войны. Среди этих опасностей, угрожавших
физическому и духовному существованию немецкоязыч¬
345
ного писателя, я прибег к спасительному средству всех ху¬
дожников — к творчеству, и вернулся к своему старому
уже замыслу, который, однако, сразу же под натиском со¬
временности весьма изменился. У меня были две задачи:
создать духовное пространство, ще я мог бы дышать и
жить даже в отравленном мире, некое прибежище, некую
пристань, и, во-вторых, выразить сопротивление духа вар¬
варству и по возможности придать силы своим друзьям в
Германии, помочь им сопротивляться и выстоять.
Чтобы создать пространство, где я мог бы найти убе¬
жище, поддержку и бодрость, недостаточно было оживить
и любовно изобразить некое прошлое, как то отвечало бы,
вероятно, моему прежнему замыслу. Я должен был напе¬
рекор издевающейся современности показать царство духа
и души существующим и неодолимым, поэтому мое про¬
изведение стало утопией, картина была спроецирована в
будущее, скверное настоящее было изгнано в преодолен¬
ное прошлое. И к собственному моему удивлению, каста-
лийский мир возник как бы сам собой. Его не надо было
выдумывать и конструировать. Он без моего ведома сло¬
жился во мне. И тем самым искомое пространство, ще я
мог бы дышать, было найдено.
Свою потребность в протесте против варварства я тоща
удовлетворил тоже. В моей первой рукописи были разде¬
лы, особенно в прологе, страстно выступавшие против
диктаторов и надругательства над жизнью и духом: эти
^евые призывы, в окончательной редакции большей час¬
тью снятые, тайно переписывались и распространялись в
кругу моих германских друзей. В Швейцарии «Итра в би¬
сер» вышла в свет еще во время войны. Чтобы получить
разрешение на печатание, мой германский издатель пред¬
ставил ее в списке, ще наиболее бросающиеся в глаза ан¬
тигитлеровские выпады были опущены, но германские
цензоры, конечно, отклонили мою книгу. Позднее ее про¬
тестующе боевая направленность для меня уже не имела
значения.
Довольно об этом! Я пустился в разбуженные Вашим
письмом воспоминания о времени, коща рождалась моя
книга. Примите их дружески, а с ними и пожелание всего
доброго.
346
Томасу Манну к б июня 1955*
Дорогой Томас Манн!
Разве не только что Вы здесь же поздравляли меня с
семидесятилетием? Мы, старики, знаем неизмеримость вре¬
мени и уже не удивляемся переменчивости его ликов, и по¬
этому я поздравляю Вас с восьмидесятилетием так, словно
с тех пор ничего не случилось. Буду краток, поскольку поз¬
дравил уже в другом месте и кое-что написал о причинах,
по которым я Вас чту и люблю.
Последним новым Вашим произведением, прочитанным
мною, была великолепная статья о Чехове. Соблазненный
ею, я снова перелистал Ваш драгоценный том очерков
«Старое и новое», чем подарил себе час размышлений и на¬
слаждения. И, прежде чем расстаться с этой книгой, я снова
раскрыл ее на заключительных фразах Вашей заметки
«Любимое стихотворение», хотя и помню их наизурть с тех
пор, как впервые прочел. Среди пишущих на нашем языке
нет сейчас никого, кто смог бы сделать что-либо подобное
так, как Вы. Я имею в виду не синтаксис, а интонацию
фраз, но прежде всего тщательно дозированную смесь люб¬
ви и лукавства. Она современнее и острее, чем у Вашего
учителя Фонтайе, но, безусловно, в его духе.
Господину Гольке, Берлин
февраль 1955
Дорогой господин Гольке!
Спасибо за Ваше милое письмо с красивым рисунком
тушью. Мне всегда нравились Ваши сумеречные этюды,
каждый из них радовал меня и был мне близок.
Ваши размышления о мировой истории, о войне, о
смысле и бессмыслице всего на свете близки моим собст¬
венным раздумьям, мы почти не расходимся. Но для на¬
шего поведения в жизни важны не столько наши мысли,
сколько наша вера. Я не верю ни в какие религиозные дог¬
мы, а значит, и в такого бога, который сотворил людей и
дал им возможность совершить прогресс от смертоубийства
с помощью каменных топоров до убийства с помощью
атомного оружия и тем гордиться. Я не верю, стало быть,,
что эта кровавая мировая история есть часть замысла не¬
347
коего возвышающегося над нами божественного правите-
ля, который задумал нечто непостия^имое для нас, но бо¬
жественное и великолепное. Тем не менее у меня есть ве¬
ра, есть ставшее инстинктом знание иди ощущение како¬
го-то смысла жизни. Я не могу заключить из мировой ис¬
тории, что человек добр, благороден, миролюбив и само¬
отвержен, но что среди отпущенных ему возможностей
есть и эта благородная и прекрасная возможность, стрем¬
ление к добру, миру и красоте, что при счастливых обсто¬
ятельствах она может расцвести — в это я верю и твердо
знаю, и если бы такая вера нуждалась в подтверждении,
то в мировой истории она нашла бы наряду с завоевателя¬
ми, диктаторами, героями войны и производителями бомб
таких людей, как Будда, СОкрат, Иисус, священные книги
индийцев, евреев, китайцев и множество замечательных
творений мирного человеческого духа в сфере искусства.
Головы пророка в толпе фигур на портале храма, несколь¬
ких тактов музыки Монтеверди*, Баха, Бетховена, кусоч¬
ка холста с живописью Рожье*, Гварди* или Ренуара до¬
статочно, чтобы вознаградить за все зрелища войн и наси¬
лия, какие являет нам жестокая мировая история, и пока¬
зать другой, одухотворенный, счастливый внутри себя
мир. А кроме того, творения искусства гораздо надежней
и долговечней, чем творения силы, и переживают их на
целые тысячелетия.
Если мы, не верящие в насилие и старающиеся уйти
подальше от его притязаний, все же должны признать, что
никакого прогресса нет, что миром по-прежнему правят
карьеристы, властолюбцы и деспоты, то это, при любви к
красивым словам, можно назвать трагедией. Мы живем,
окруженные аппаратами власти и насилия, то скрежеща
зубами от возмущения, то доходя до смертельного отчая¬
ния (Вы испытали это в Сталинграде), мы жаждем мира,
красоты, свободы для полетов нашей души, и нам часто
хочется пожелать производителям атомных бомб, чтобы
их дьявольские орудия взорвались преждевременно, и все
же мы подавляем в себе это возмущение и эти желания,
мы чувствуем, что нам запрещено отвечать на насилие на¬
силием. Наше возмущение и эти скверные желания пока¬
зывают нам, что в человеческом мире добро и зло разгра¬
ничены отнюдь не строго, что зло живет не только в карь¬
еристах и деспотах, но и в нас, считающих себя людьми
миролюбивыми и доброжелательными. Нет сомнений в
348
том, что наше возмущение «справедливо». Оно справедли¬
во. Но оно заставляет нас, презирающих власть, минутами
все-таки желать власти, чтобы покончить с этим безобра¬
зием, навести порядок. Мы стьщимся этих порывов и все-
таки не можем избавиться от них навсегда. Мы причастны
к злу и войнам в мире. И всякий раз, коща мы осознаем
эту причастность, всякий раз, когда нам приходится сты¬
диться ее, нам становится ясно, что правят миром не бесы,
а люди, что они творят зло или попустительствуют ему не
от злобы, что они действуют в какой-то слепоте и невин¬
ности.
Логически этих противоречий не решить. Зло сущест¬
вует в мире, оно существует в нас, оно кажется неразде¬
лимо связанным с жизнью. И все же нам слышна — ее
нельзя заглушить — веселая и прекрасная страна приро¬
ды, она дает нам счастье и утешает нас, она призывает нас
и трогает, она вдыхает надежду в наше существование,
которое часто кажется совсем безнадежным. И, зная, что
мы, люди миролюбивые, не свободны от зла, мы надеемся,
что и в друшх жива возможность пробуждения для согла¬
сия и любви.
Томасу Манну
Признание и поздравление
Дорогой Томас Манн!
Недавно Вы написали великолепную хвалебную песню
бренности и посвятили ее памяти дорогой Хедвиг Фишер.
Мне эта статья показалась одним из лучших Ваших ма¬
леньких прозаических сочинений. Мы, поэты, правда, всю
свою жизнь только и занимаемся увековечиванием бренно¬
го (прекрасно понимая, сколь относительна эта «веч¬
ность»), но именно поэтому мы, может быть, больше, чем
все другие, вправе приветствовать и славить и саму брен¬
ность, эту старую Майю*, и мать волшебства.
Если бы Вы раньше меня, мой друг, «благословили все
временное» (прекрасное выражение, которое, строго гово¬
ря, имеет в виду не что иное, как восхваление бренности),
я, конечно, вряд ли был бы способен на славословия и бла¬
гословения, а проста очень огорчился бы и промолчал. Но
349
Вы, к счастью, еще здесь, и я могу надеяться вскоре увидеть
Вас снова и разделить с Вами хороший и светлый час.
Вы знаете, что я издавна чтил биполярность всего жи¬
вого и что всегда, когда я любил или чувствовал какое-то
влечение, влекла и покоряла меня всегда противоречи¬
вость, двоякость души. Прежде всего Вы обратили на себя
мое внимание, произвели на меня впечатление и застави¬
ли меня задуматься своими бюргерскими добродетелями,
прилежанием, терпением и упорством, с какими Вы вы¬
полняли свою работу, — бюргерскими и ганзейскими до¬
бродетелями, которые импонировали мне тем больше, чем
меньше мог похвалиться ими я сам. Этой самодисциплины
и этого всегдашнего добросовестного служения было бы до¬
статочно, чтобы обеспечить Вам мое уважение. Но для
любви нужно еще что-то. И покорили мое сердце Ваши
небюргерские и противоправные для бюргера черты: Ваша
благородная ирония. Ваш большой вкус к игре. Ваше му¬
жество быть откровенным и утверждать всю свою пробле¬
матику — и не в последнюю очередь Ваша артистическая
способность радоваться эксперименту и риску, игре с но¬
выми формами и художественными средствами, проявив¬
шаяся ярче всего в «Фаусте» и в «Избраннике».
Но хватит мне говорить Вам вещи, которые Вы знаете
лучше. Тому слишком большому слою читателей, который
все еще не перестает противопоставлять нас друг другу,
никогца не понять нашей дружбы и неразрывности, как не
понять ему coincidentia opposotorum^ Николая из Куэса*.
Сердечно поздравляет и шлет привет Ваш
Г. Гессе
1955
Гельмуту Кирштейну, Нинбург-на-Везере
Помечено на оборотной стороне листа с текстом:
«Об антисемитизме и т.д.» (1958 г.)
12 марта 1960
То, что на обороте, написано за два года до этих кара¬
кулей.
^Совпадение противоположностей (тт.).
350
Нынешнюю немецкую молодежь я не считаю более ис¬
порченной или более опасной, чем молодежь других стран.
Ведь и во многих других странах случались такие непри-
стрйные демонстрации.
Недоверие к Германии за границей, хотя и не такое
сильное, как некогда, существует по-прежнему. Виною это¬
му не столько прегрешения немецкого народа при Гитлере,
сколько то очень тревожное обстоятельство, что и сегодня
еще старые нацисты сидят на высоких постах, даже в ми¬
нистерствах, или, уйдя на покой, получают большие пен¬
сии. В этом вопросе недоверие к Германии, по-моему, со-
вершенно'справедливо.
Редакции журнала «Вопросы германской и
международной политики»
Кёльн, март 1960
Глубокоуважаемые господа!
Вы давно уже любезно присылаете мне ваш прекрас¬
ный ежемесячник. Политическую литературу я читаю
лишь в виде исключения, но постепенно я все-таки полу¬
чил ясное представление о ваших усилиях. Живя за гра¬
ницей и будучи далек как от внутригерманских, так и от
церковных проблем, я все же нет-нет да читал ваши
статьи и многое благодаря им узнал. Особенно радует ме¬
ня, что вы храбро и неустанно показываете своим читате¬
лям позорное пятно ФРГ — пребывание на высоких и
высших постах национал-социалистов, на которых порой
лежит тяжелая вина.
Преданный вам
Приветствие «Комунита эуропеа ди скриттори»*
Милан, июль 1961
Дорогие коллеги!
Итальянское Рисорджименто* вызвало в свое время у
немецкой интеллигенции большое участие и сочувствие.
Правительства были, правда, реакционны, но Наполеон
еще не был забыт, и молодежь, особенно студенчество, жи¬
ла либеральными и национальными идеалами. Кстати, уже
в наше время выдающаяся немецкая писательница Рикарда
351
Хух воспела Рисррджимента* в прекрасных и темперамент¬
ных книгах, прежде всего в двух книгам о графе Гонфа-
лоньери и о Гарибальди.
Сегодня актуальны другие проблемы, и во многих
странах благородный нацнон^ный дух превратился в
опасный национализм. Сегодня мы можем представить се¬
бе более или менее достойное жизни будущее лишь в ат¬
мосфере какого-то мирного федералистскс»^) объединения
человечества, но мы пока даже не созрели для такого зак¬
лада в Европе.
На трудном пути к этому перед литературой и журна¬
листикой тоже стоят большие задачи.
ФОТОМАТЕРИАЛЫ
Город Кальв, где родился Герман Гессе
Родители Гессе: отец, Иоганнес Гессе и мать Мария Гессе, урожд. Гундерт
Дом в Кальве, где 2 июля 1877 года родился
Герман Гессе (на фото крайний справа)
Мемориальная доска на доме,
где родился писатель
Базельский историк Якоб Буркхардт
Базель, где Гессе
провел первые школьные
годы. Мост через Рейн
Монастырь Маульбронн.
В 1891—1892 гг. Гессе
учился в евангелической
семинарии при монастыре
Ии
Й^игиУ
-3imi
Семья Гессе в 1889 году (отец, мать, Герман, брат Ганс,
сестры Адель и Марулла)
Деревушка Витцнау на озере Фирвальдштеттер.
Здесь у Гессе возник замысел романа «Петер Каменцинд»
Герман Гессе в 1905 году.
Портрет работы Эрнста Вюртенбергера
Деревня Гайенхофен на берегу
Боденского озера, где Гессе жил
с 1W4 по 1912 год
Библиотека в доме Гессе
в Гайенхофене
Дом.
построенный
Гессе
в 1907 г.
в Гайенхофене
Гессе
со своей первой
женой Марией,
урожд. Бернулли
(Гайенхо<^н,
ок. 1909)
Гессе (в центре) во время путешествия в Индию
Герман Гессе.
Карикатура Макса Бюхерера
с женой и сыном Хайнером
Ъсшша
^ic^c|a)id)te efmr<$ugen2!)
Vc !U!i -Omclair
Обложка первого
издания романа
«Демиан»
Деревушка Монтаньола близ Лугано,
в которой Гессе жил с 1919 года
«Монтаньола».
Акварель Гессе
с?
* »
«Каза Камуцци». Дом Гессе в Монтаньоле
Гессе — художник
4,
У "
Гуго Балль, написавший первую биографи|о Гессе,
и его жена Эмми Балль-Хеннингс
I>ia8»iilH^H~*^ ent/ialt^ dte '-tns 9ebli>'f>enen /ufse^'^^^^n^r^gcл jcn-
es Hafmas ,we} ш1г,м?(п^ч АиззгисЛ ле~^> t*r '^e'bs'
brauc , den •Stepp^nufol f* naлn^вn.J^ s«;n karuscrlpi rtne^ t^in'ufy-
renoen fortjortes bedtirfe^nei aafitngestell tt ■.f es
ein V«dur/nl5, (i«n *loft>rrn ::teprenuol e?n:je bet жи/йд4:п ,au/
dgrteri iofi уггяигЛв neintt rrfnncrxny an irr. aufruz^: аЛп^п.Рь 1st nur
ioentfffiaas tofi (iber f/m u>ei9,u^2 nan^tli r^- tst i?o*ir' Удг^/алд-
tnheit ипл HerAunft ntr itn^^^Aannr jabliebe^»AjCfi Autt i oh моп soi'^~
er ParsSrtliof^ei t elnen ^carA^n ana,uie tc^ trotz alien sa^en fiuB,
ai^pathisoh^ findruo^ behaltgn.
Der St0ppenioolf war etn Мапл von <mno^e*-nd f.infzi9 >^а^геп,лег
vor /ubf^B^Kr aines Tapea Майзе Ta^te
vorapraeh und пвоЛ etne» '^obUerter ."f*4wer sucf^te.Pr •atctete aie
Manaarde oban Двс/*дг©с* w^a ai e 'п/а/л<п ner ла j%eben,
Лая nmoh aintger. Tai^n nit gwti Koffer^. 'ur\a elnf»- ^roBen Fuort^rA**-
t« leieder^unA f\at neun олег xefvt Monate bet игъ ^eii'Ohr t. РУ lebte
S0hr asm und ftlr sicH,una uenn ntoAr Jie пссЛЬа’-Л Лв La^e ипвгег
Первая страница рукописи романа «Степной волк»
Гессе и галка
по кличке Якоб
на мосту
в Эннетбадене.
Рисунок Гюнтера
Бемера
Л
Гессе и <(Лев»,
1932
I
Нинон Дольбин, урожд. Ауслендер, жена Гессе с 1931 г.
(фото 1927)
Герман Гессе и Томас Манн в Санкт-Морице,
1932
Герман и Нинон Гессе
во время освящения
нового дома в Монтаньоле,
1931
Монтаньола,
1931
Кофе в библиотеке. Гессе, его жена Нинон и сестра жены
Лилли Кельман
Карл Густав Юнг.
Гравюра работы
Г.Рабиновича
М
/ ■' ■ . ^ ■''• ; •.
,ч-,< V'.
• '■ ' -ЛнЯчгл ' 'Ai’^ у. '
Письмо
Германа Гессе,
адресованное
Юнгу 26 июля
1955 г.
'Л
ч *
V_ i \
J
V.
% I
ч 4/1
с сыном Мартином
С сыном Бруно
С сыном Хайнером
За письменным столом
. -■
I- ‘
|v.- ^
7-^ir Л;
Ll'l
с женой Нинон
в Монтаньоле,
1957
Отдых
•:_ I f; 11
Герман Гессе и президент ФРГ Теодор Хойе
летом 1957 г. в Сильс-Мария
Мартин Бубер произносит
речь на праздновании
80-летия Германа Гессе
Петер Зуркамп, издатель
и друг Гессе
f
Вручение премии
им. Германа Гессе
переводчику С.Апту,
1992
Диплом лауреата
премии им. Германа Гессе
КОММЕНТАРИИ
ИЗ «РАЗМЫШЛЕНИЙ»^
Сборник литературно-критических эссе и публицистических статей
под заглавием «Размышления» впервые был опубликован берлинским из-
дателыпъом С.Фишера в 1928 году в рамках Собрания сочинений в раз¬
розненных томах. В него вошли две группы работ — эссе о проблемах ли¬
тературы и художественного творчества в целом, созданные в 10—20-е го¬
ды, и цикл политических статей антивоенной направленности, написан¬
ных в годы первой мировой войны. Позже, при издании Собрания сочи¬
нений в 7-ми томах (1958), этот цикл был дополнен работами такого же
х^актера, возникшими в годы второй мировой войны и сразу после нее.
Сборник 1928 года имел посвящение: «Памяти моего друга гуго Балля».
В одном из писем (к Ф.Шаллю от 18.8.1929) Гессе говорил о своей пози¬
ции в предвоенные и военные годы: «В принципе я просто придерживался
христианских воззрений, которые во время войны я глубоко пережил и
был вьшухсден открыто заявить о них. В глубине души я никогда не был
ни нордическим богатырем и героем, ни античным мудрецом или сибари¬
том, я был христианином, но только в том, что касается духовной и мо¬
ральной позиции, а не моих убеждений... Я также был и остаюсь сторонни¬
ком того, чтобы кайзер (или государство) получал свое, но не за счет Бога».
Многие материалы «Размьпилений» публиковались на русском языке
в сборнике художественной публицистики Г.Гессе «Письма по Kpyiy» (М.,
«Прогресс», 1987) и в изданном А.Науменко сборнике «Магия книги» (М.,
«Книга», 1990); остальные публикуются впервые.
При комментир(]|вании использовались работы справочно-библиофа-
фического характера и комментарии М.Пфайфера к Собранию сочине¬
ний Гессе (Martin Pfeifer. Hesse-Kommentar zu sSmtUclien Werken,
Frankfurt am Main, 1990).
Старинная музыка
Написано и впервые опубликовано в 1913 г., переработано в 1915 г.,
печаталось также под названиями «Звуки органа под высокими сводами»,
«Концерт в кафедральном соборе», «Концерт церковной музыки».
8 Верачини Франческо Мария (1690—1750) — итальянский композитор
и виолончелист-виртуоз.
Нардини Пьетро (1722—1793) — итальянский скрипач и композитор,
ученик Тартини.
Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский композитор и скри¬
пач.
Друзья, не надо этих звуков!
Первая из серии антивоенных статей Гессе, опубликована 3 ноября
1914 г. в газете «Нойе цюрхер цайтунг». Статья, озаглавленная строкой
12 5-2J* 353
речитатива из финала Девятой симфонии Бетховена, вызвала одобритель-
, ный отклик Ромена Роллана, положивший начало дружбе между двумя
писателями. «Гессе, — записал Роллан в «Дневнике военных лет» (ноябрь
1914 г.), — один из лучших представителей своей нации, он говорит мно¬
гое, под чем мог бы подписаты:я я сам, например, коща он ополчается
против писателей, разжигающих ненависть и раздор, или возмущается
«друзьями человечества», которые, как только вспыхивает война, тотчас
же предают свои идеалы». В своей книге «Над схваткой», изданной в на¬
чале 1915 г., Роллан писал: «...из всех немецких поэтов самые возвьпиен-
ные, самые светлые слова написал в дни этой чудовищной войны и сохра¬
нил поистине гётевское величие духа Герман Гессе, почетный гость и поч¬
ти приемный сын Швейцарии. Продолжая жить в Берне, за чертой нрав¬
ственной заразы, он все время упорно держится в стороне от всякого, хотя
бы косвенного участия в этой войне».
11 „.на знаменитом швабском земельном экзамене,,* — Чтобы посту¬
пить в одну из монастырских семинарий, ще обучение проводилось за
государственный счет, надо было сдать отборочный экзамен в Штут¬
гарте. Гессе испытание выдержал и был зачислен стипендиатом в Ма-
ульброннскую семинарию, недолгое пребьгаание в которой закончи¬
лось для него конфликтом с преподавателями и бегством.
Циндао — город и морской порт в Восточном Китае. В 1897 г. был
захвачен Германией и превращен в военную крепость. В ноябре 1914 г.
после длительной осады был «отвоеван» у Германии японо-английски¬
ми войсками.
13 Кернер Карл Теодор (1791—1818) — немецкий поэт-романтик, уча¬
стник освободительной войны против Наполеона; пог^ в битве при
Гадебуше. В его патриотической лирике временами звучали шовини¬
стические мотивы.
Письмо обывателю
Написано в 1915 г., впервые опубликовано в журнале «Ди Швайц»
(1916, N2 20).
Прибежище
Впервые опубликовано в берлинском журнале «Марзиас» (1917, № 3).
20 .„стих швабского пастора.,, — Гессе цитирует ниже строку из сти¬
хотворения «Защищенность» немецкого поэта и прозаика, представи¬
теля позднеромантической «швабской школы» Эдуарда Мёрике
(1804-1875).
22 .„Иов представлялся мне братом, — Имеется в виду библейский пра¬
ведник Иов, безропотно сносивший тяжелые жизненные испытания,
возроптавший на Бога, но в конце концов примирившийся с ним.
23 4сЦарство Божие внутри нас» — цитата из Евангелия (Лука, 17, 21).
Язык
Написано в 1917 г., впервые опубликовано в 1918-м; печаталось также
под названием «Поэт и его язык».
28 Вальт и Вульт — братья-близнецы, персонажи романа «Озорные го¬
ды» немецкого писателя Жан Поля (наст, имя и фам. Иоганн Пауль
Рихтер, 1763-1825).
354
о душе
Написано и опубликовано в 1917 г. Печаталось также под названиями
«Непрожитая жизнь», «Два молодых господина в железнодорожном ваго¬
не».
37 «Ибо что пользы челоееку,.,» — цитата из Евангелия (Лука, 9, 25).
Государственному министру
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 12 ав1уста 1917 г.
Если война продлится еще два года
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтун1> 15 и 16 ноября 1917 г.
45 Синклер Эмиль — псевдоним Германа Гессе, которым впервые была
подписана данная статья. В дальнейшем этим псевдонимом подписан
целый ряд публицистических и художественных произведений Гессе,
созданных в 1917—1920 гг., среди них «Возвращение Заратустры»
(1919), «Взгляд в хаос» (1921), а также роман «Демиан. История одной
юности» (1919). Авторство Гессе раскрыл в 1920 г. швейцарский кри¬
тик Эдуард Корроди.
Наступит ли мир?
Впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 30 декабря 1917 г.
47 Ллойд Джордж Дэвид (1863—1945) — английский политический де¬
ятель, в 1916—1922 гг. премьер-министр Великобритании.
Вильсон Томас Вудро (1856—1924) — американский политический
деятель, в 1913—1921 гг. президент США.
И телеграмма Вольфа... — То есть сообщение официозного немецкого
телефафного агентства Вольфа.
...как.^ господин Кюльман... — На мирных переговорах в Брест-Ли-
товскё статс-секретарь ведомства иностранных дел Германии Рихард
Кюльман (1873—?) вначале согласился с предложенным советской
стороной принципом демократического мира без аннексий и контри¬
буций» но вскоре объявил об отказе Германии принять данную форму¬
лу мира якобы по причине неприсоединения к ней стран Антанты. Мир
был заключен на чрезвычайно тяжелых для Россяи условиях.
49 Соннино Сидней (1847*—1922) — премьер-министр Италии в 1906 и
1909—1910 тт., в 19Н—1919 гг. — министр иностранных дел При¬
нимал участие в подготовке Лондонского договора 1915 г., втянувшего
Италию в войну на стороне Антанты.
Война и мир
впервые опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг» 6 октября 1918 г. под
заглавием «Размышления». Под заглавием «Война и мир» статья вошла в
одноименный сборник «размышлений о войне и политике после 1914 го¬
да», вышедший в Цюрихе в 1946 г. Во второе, расширенное издание сбор¬
ника в 1949 г. вошли также статьи «Слово к участникам банкета по случаю
12* 355
Нобелевского торжества», «Благодарность й нра1воучительное замечание»,
«Попытка оправдания», «О Ромене Роллане» и др.
53 Вот почему я не пацифист.,, — Свое отношение к пацифизму, Гессе
изложил в открьггом письме «Пацифистам», опубликованном в вен¬
ской газете «Цайт» 7 ноября 1915 г. Упрекая пацифистов в высокопар^
ном пустословии и бездеятельности, Гессе призвал оказывать актива
ную помощь всем, кто пострадал от войны.
54^ Готама (Гаутама) — родовое имя принца Сиддхартхи, ставшего
Буддой, то есть «просветленным». О жизни индийского принца и от¬
крыта им «благородных истин» буддизма Гессе рассказал в «индий¬
ской поэме» «Сиддхартха» (1922).
Мировая история
Написано и впервые опубликовано в 1918 г.
. 55 .*,день Седана^.» — национальный германский праздник, учрежденный
в знак победы прусских войск над французской армией под Седаном
в 1870 г. Отмечался 2 сентября.
Путь любви
Написано в 1918 г., впервые опубликовано в 1920-м.
59 Генерал Фоиг — маршал Франции Фердинанд Фош (1851—1929), в
1918 г. верховный главнокомандующий союзными войсками; в ноябре
1918 г. вынудил германскую делегацию безоговорочно принять усло¬
вия перемирия.
Генерал Гофман — Гофман Макс (1869—1927) был начальником Ге¬
нерального штаба восточной группы вОйск и принимал уча^е в пе¬
реговорах в Брест-Литовске.
Художник и психоанализ
Написано и впервые опубликовано в 1918 г.
63 ...дба романа Яеонгарда Франка.,,По всей вероятности, имеются в
виду романы немецкого писателя-пацифиста Леонгарда Франка
(1882—1861) «Разбойники» (1914) и «Причина» (1916).
Штекель Вильгельм (1868—1940) — немецкий врач-психоаналитик.
66 Ранк Отто (1884—1939) — австрийский психолог.
^„тытаясь разобраться в их нагромождении», — Цитата из лисьма
Фридриха Шиллера к Готфриду Кернеру от 1 декабря 1788 г.
Фантазии
Написано и впервые опубликовано в 1918г.
О стихах
Написано и опубликрвано в 1918 г., переработано в 1945-м. Публико¬
валось также под названиями «Плохие стихи», «О стихах хороших и пре¬
восходных».
356
Братья Карамазовы, или Закат Европы
.Написано в 1919 г., вошло в книгу «Взгляд в хаос» (1920). Впервые
опубликовано в мартовском номере журнала «Нойе рундшау» за 1920 г.
Эпифафом к статье послужили строки немецкого философа Якоба Бёме
(1575—1624) из философско-мистического трактата «Аврора^ или Утрен¬
няя звезда в восхождении» (1612, изд. 1634, рус. пер. 1914).
76 «Закат Европы» — название книги немецкого философа Освальда
Шпенглера (1880—1936), два тома которой вьшши соответственно в
1918 и 1922 гг. (рус. пер. 1 т. — 1923). В рецензии 1924 г. на сочи¬
нение Шпенглера Гессе отмежевался от выраженной в нем пессими¬
стической концепции развития человечества.
.„к фаустовским «матерям»... — «Матери» в «Фаусте» Гёте — та¬
инственные и всемо1ущие богини, олицетворение предвечных, живо¬
творящих основ бытия.
79 Principium individuationis (лат.) — принцип индивидуации. Впервые
этот термин встречается еще у Фомы Аквинского. В аналитической
психологии К.Г. Юнга означает процесс становления личности в ре¬
зультате усвоения ее сознанием личного и коллективного бессознатель¬
ного.
87 Исайя — ветхозаветный пророк, автор одной из книг Библии. •
Размышления об «Цдио1е>^ Достоевского
Впервые опубликовано в журнале «Вивос воко» (1920, № 4).
89 Рент Жозеф Эрнест (1823—1892) — французский писатель, фило¬
лог-востоковед, автор 8-томного труда «История происхождения хри¬
стианства», в котором предпринята попытка «очистить» евангельскую
легенду от всего сверхъестественного и вывести судьбу Иисуса Христа
из конкретно-исторических условий.
Своенравие
Статья написана в ноябре 1917 г. и впервые опубликована под псев¬
донимом Эмиль Синклер в журнале «Ди Швайц» (1918, № 22),
Письмо молодому немцу
BneiMBbie опубликовано в «Нойе цюрхер цайтунг^ 21 сентября 1919 г.
102 Клемансо Жорж (1841—1929) — французский политический дея¬
тель. В 1906—1909 и 1917—1920 гг. премьер-министр.
Кайзер ВилкШьм —Вильгельм П Гогенцоллерн (1859—1941), гер¬
манский император и прусский король в 1888—1918 гг. Низложен но¬
ябрьской революцией 1918 г.
Неубий
Написано и впервые опубликовано в 1919 г.
104 Зороастр — 1реческий вариант имени иранского пророка и реформа¬
тора религии Заратуштры (Заратустры, 6 в. до н.э.).
357
Барон Врангель Петр Николаевич И878—1928) — русский генерал,
в Первую мировую командовал казачьей дивизией, в годы Граждан¬
ской войны — один из руководителей Белого движения на Юге Рос¬
сии, с апреля 1920 г. — главнокомандующий Русской армией, с ноября
этого же года в эмиграции.
105 Петерс Карл (1856—1918) — немецкий общественный деятель, уп¬
равлял германскими колониями в Восточной Африке, оставил воспо¬
минания о своем пребывании на этом континенте.
О чтении книг
Под названием «Чтение кни1> статья впервые опубликована в венской
газете «Дас винер тагеблатт» 16 июля 1920 г.
107 Теофраст (Феофраст, наст, имя Тиртам, 372—ок. 287 до н.э.) —
древнегреческий философ и естествоиспьггатель, друг и преемник
Аристотеля. Автор этического трактата «Нравственные характеры», в
котором описаны характерологические типы, отклоняющиеся от норм
поведения.
108 Май Карл (1842—1912) — немецкий писатель, автор многочисленных
приключенческих романов и рассказов из жизни североамериканских
индейцев; особой популярностью среди детей и юношества пользовал¬
ся его цикл о Винету — вожде апачей.
111 Гёльдерлин Иоганн Христиан Фридрих (1770—1843) — немецкий
поэт-романтик; его стихотворениям свойственны внутренняя раскован¬
ность и музьпсальность. Один из любимых писателей Гессе.
Ленау Николаусимя и фам. Франц Нимбш фон Штреленау,
1802—1850) — ввстрийский поэт-романтик, выразитель настроений
революционно-демократической интеллигенции,
112 Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ-итуитивист,
лауреат Нобелевской премии в области литературы; рассматривал
жизнь как метафизический процесс, познать который можно только с
помощью творческой интуиции. Его взгляды в некоторых моментах пе¬
рекликались с воззрениями Г.Гессе.
О Достоевском
Написано и впервые опубликовано в 1925 г.
Библиотека всемирной литерапуры
Впервые напечатано в 1929 г. в лейпцигском издательстве «Реклам»;
переиздания в 1930 и 1931 гг. В 1934 г., после захвата власти фаитстами,
издательство намеревалось еще раз переиздать кншу «с соответствующи¬
ми духу времени изменениями», но Гессе категорически воспротивился
менять что-либо в своей работе, и переиздание не состоялось. В 1945 г.
работа Гессе была опубликована на немецком язьпсе в нью-йоркском из«
дательстве «Унгар». В послесловии к послевоенному изданию в Штутгарте
(1948) автор писал: «Мне не удалось переработать эту статью, хотя опре¬
деленная необходимость в этом есть... Мне бы хотелось, чтобы она помогла
начинающим читателям разобраться в мире кнга».
358
119 Брентано Клеменс (1778—1842) — немецкий поэт и прозаик, пред¬
ставитель второго поколения романтиков, собиратель и пропагандист
немецкого фольклора.
120 Гейнзе Иоганн Якоб Вильгельм (1746—1803) — немецкий писатель
и переводчик эпохи «Бури и натиска».
Дросте-Хюльсхофф Аннетта (1797—1848) — немецкая писательни¬
ца эпохи романтизма.
...немецкая Библия Мартина Лютера, немецкий Шекспир Шлегеля
и Тика,,. — Библия, переведенная в 1523—1534 гг. на немецкий язык
выдающимся деятелем Реформации Мартином Лютером (1483—
1546), сыграла значительную роль в становлении немецкого нацио¬
нального языка. Немецкие романтики А.Б. Шлегель и Л.Тик перево¬
дили и пропагандировали Шекспира в Германии; с 1825 по 1833 г.
ими издано девять томов шекспировских драм.
Бубер Мартин (1878—1965) — еврейский религиозный философ и
писатель, совместно с Ф.Розенцвейгом предпринял новый перевод Вет¬
хого Завета.
121 «Упанишады» — древнеиндийские религиозно-философские тексты,
примыкающие к ведам и о^ясняющие их.
«Гильгамеш» — дошедший в отрывках вавилонский эпос, содержащий
сказания о жизни и подвигах царя Гильгамеша из Урука.
^Дао дэ цзин* — основополагающий трактат философии даосизма,
приписываемый легендарному древнекитайскому философу Лао-цзы.
Гессе высоко ценил заключенную в этом трактате «восточную муд¬
рость*.
Чжуан-цзы (ок. 369—286 до н.э.) — древнекитайский философ, один
из основоположников даосизма.
122 «Палатинская антология» — знаменитое собрание эллинистических
эпиграмм, начатое в 1 в. до н.э. и доведенное до позднейших времен;
включает в себя более 4000 поэтических произведений, образы и мо¬
тивы которых перекочевали в новоевропейскую поэзию.
Шваб Густав (1792—1850) — немецкий поэт, переводчик и собира¬
тель фольклора; в «Лучших сказаниях классической древности»
(1838—1840) в доступной и увлекательной форме изложил мифы ан¬
тичного мира.
Шеффер Альбрехт (1885—1950) — немецкий писательи переводчик,
в 1929 г. издал книгу пересказов греческих мифов.
123 «Немецкие поэты латинского Средневековья» — книга в переводе
Пауля фон Винтерфельда, вьшша в 1911 г. в Мюнхене.
Эрнст Пауль (1866—1933) — немецкий писатель и переводчик, в
1902 г. издал в своем переводе сборник староитальянских новелл.
Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель эпохи
Просвещения.
Челлини Бенвенуто (1500—1571) — итальянский скульптор, ювелир
и писатель эпохи позднего Возрождения; его «Автобиографию» пере¬
вел на немецкий язык Гёте.
Гольдони Карло (1707—1793) — итальянский драматург, создатель
комедии характеров («Слуга двух господ», 1745, «Трактирщица»,
1753).
359
Гощи Карло (1720—1806) — итальянский драматург, автор сатирй*
ческих сказочных драм в стиле комедии дель арте, то есть комедии
масок (^сТурандот», 1762, «Король-олень», 1762).
Леопарди Джакомо (1798—1837) — итальянский поэт-романтик.
Кардучни Джозуэ (1835—1907) — итальянский поэт и историк лите¬
ратуры, общественный деятель. Лауреат Нобелевской премии (1906).
124 itllecHb о Нибелунгах» — немецкий героический эпос, возникший в
XIII в. на материале времен великого переселения народов.
4(Кудрук^ — средневековый германский героический эпос, примыкаю¬
щий к «Песни о Нибелунгах».
Фогельвейде Вальтер фон дер (1170—1230) — немецкий поэт, круп¬
нейший представитель миннезанга — рыцарской любовной лирики.
^Тристан» Готфрида Страсбургского — куртуазный роман «Тристан
и Изольда» (1207—1210) средневекового поэта Готфрида из Страсбур¬
га (ум. ок. 1210).
Эшенбах Вольфрам фон (ок. 1170—1220) — немецкий средневековый
поэт, автор рыцарского эпоса «Парцифаль» (1200—1210).
Рыцари-миниезингеры — рыцарские поэты-певцы в германских стра¬
нах средневековой Бвропы (XII—XIII вв.); воспевали любовь, служе¬
ние даме сердца, верность сюзерену, крестовые походы.
125 Лесаж Ален Рене (1668—1747) — французский писатель раннего
Просвещения. В четырехтомном романе «История Жиль Блаза из Сан-
тильяны» (1715—1735) выступил как предшественник позднейших
мастеров социального романа.
Готье Теофиль (1811—1872) — французский писатель и критик.
Мюрже Анри (1822—1861) — французский писатель, автор популяр¬
ного в XIX в. романа «Сцены из жизни богемьг» (1851).
126 Честерфилд Филипп Дормер Стенхот (1694—1773) — английский
писатель и государственный деятель; его «Письма к сыну» (изд.
1774) содержат наставления и рекомендации в духе просветительских
идей.
Смоллетт Тобайас Джордж (1721—1771) — английский писатель,
автор сатирических романов «Приключения Родрика Рэндома» (1748)
и «Приключения Перигрина Пикля» (1751).
Оссиан (Ойсин) — легендарный кельтский воин и бард, живший, по
преданию, в III в. н.э. и воспевавший подвит своего отца Фингала.
Приписываемые ему сочинения оказались талантливой подделкой
шотландского поэта Джеймса Макферсона (1736—1796).
Де Куинси Томас (1785—1859) — английский писатель-романтик, из¬
вестен автобиографической книгой «Исповедь англичанина-опиомана»
(1822).
Маколей Томас Бабингтон (1800—1859) — английский историк ли¬
тературы, критик и политический деятель, автор биографических
очерков о знаменитых людях.
Карлейль Томас (1795—1881) — английский публицист, философ и
историк литературы, автор философско-публицистического романа
«Sartor resartus. Жизнь и мнения профессора Тейфельсдрека» (1836)
и книги «Герои, культ героев и героическое в истории» 0841).
Мередит Джордж (1828—1909) — английский писатель.
360
Суинберн Алджернон Чарлз ilH2i7—1909) — английский поэт и дра¬
матург неоромантического направления.
127 «Архиплут Пабло Сеговия» (опубл. в 1626 г., в русском переводе —
«История жизни пройдохи по имени дон Паблос», 1950) — плутовской
роман испанского писателя-01тирика Франсиско Кеведо-и>Вильегаса
(1580-1645).
Мультатули (наст, имя Эдуард Дауэс Деккер, 1820—1887) — нидер¬
ландский писатель, автор антиколониального романа «Макс Хавелаар,
или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» (1860),
. эерсолько лет провел в качестве колониального чиновника в Индии.
4(Старишя Sddaj^ — литературный памятник германских народов,
сборник древнеисландских песен, сохранившихся в рукописи XIII в.
Бонус Артур (1864—1941) — немецкий писатель и педагог, пропа¬
гандировал я>елигиозную культуру» древних германцев. Его «Книгу
об исландцах» издал в 1918 г. Г.Гессе.
Якобсен Енс Петер (1847—1885) — датский писатель, автор психоло¬
гических романов «Фру Мария ГТруббе» (1876) и «Нильс Люне» (1880).
128 Силезиус Ангелус (наст^ имя и фам^ Йоганнес Шефлер, 1624—1677) —
немецкий^ поэт^ автор сборника религиозных речений и песен «Херу¬
вимский странник».
Сакс Ганс (1494—1576) — немецкий поэт-мейстерзингер.
Гриммельсгаузен Ганс Якоб Кристоффель (ок. 1621—1676) — круп¬
нейший немецкий писатель XVII в. В романе «Приключения Симпли-
циуса Симплициссимуса» (в 6-ти книгах, 1669) дал реалистический
о<5раз Германии времен Тридцатилетней войны.
Рейтер Кристиан (1665—1712) — немецкий писатель-сатирик, автор
плутовского романа «Шельмуффский» (1696).
Клогштюк Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт-просвети-
тель, создатель релишозной эпической поэмы «Мессиада» (1751—1773).
129 Штейн Шарлотта фон (1742—1827) — подруга Гёте в 1775—1778 гг.
Юнг-Штиллинг (наст. фам. Штиллинг) Йоганн Генрих (1740—1815) —
немецкий писатель-мистик, в молодости был дружен с Гёте* Пер¬
вая и самая известная часть его многотомной автобиографии —
«Юность Генриха Штиллинга. Правдивая история» (1777) — была из¬
дана Гёте.
Клаудиус Маттиас (1740—1815) — популярный немецкий поэт,
близкий движению «Буря и натиск». «Вандсбекерский вестник» —
один из его псевдонимов и название газеты, которую он издавал в
1771—1775 гг.
Петерсен Юлиус (1878—1941) — немецкий литератор, филолог-гер-
манист. Его книга «Разговоры с Шиллером» вышла в 1911 г
Музеус Йоганн Карл Август (1735—1787),— немецкий писатель эпо¬
хи Просвещения.
Гиппель Теодор Готлиб (1741—1796) — немецкий писатель периода
«Бури и натиска».
Мориц Карл Филипп (1756—1796) — немецкий писатель, выразитель
настроений плебейско-демократических кругов.
ЗейМе Йоганн Готфрид (1763—1810) — немецкий писатель-демократ,
противник феодально-деспотического образа правления; автор путе¬
361
вых заметок «Пр01улка в Сиракузы» (1803), «Мое лето 1805 года»
(1806) и др.
130 Гебель Йоганн Петер (1760—1826) — немецкий писатель и поэт,
известен сборником веселых историй «Шкатулка с драгоценностями
рейнского друга дома» (1811).
Память о нем и о его сестре Беттине — «Весенний венок». — Речь
идет о немецкой писательнице Беттине Арним (1785—1859), сестре
К. Брентано и жене Л.Й. Арнима. «Весенний венок» — изданная Бет-
тиной в 1844 г. юношеская переписка с К.Брентано, включающая в
себя много стихотворений.
Арним Людвиг Йоахим (1781—1831) — немецкий писатель-роман¬
тик, совместно со своим другом К.Брентано издал в 1806—1808 гг.
сборник «Волшебный рог мальчика», куда вошли обработанные в духе
романтизма народные стихи, песни и баллады.
Фуке Фридрих де ла Мотт (1777—1843) — немецкий писатель, от¬
прыск старинного французского рода, эмигрировавшего в Германию.
По мотивам его романтической повести «Ундина» (1811) создана од¬
ноименная сказка-опера Э.Т.А. Гофмана. Русскому читателю повесть
стала известна в переложении В.А. Жуковского (изд. 1837).
131 Шамиссо Адельберт фон (1781—1838) — немецкий писатель и уче¬
ный-естествоиспытатель, по происхождению француз, потомок ста¬
ринной аристократической семьи, бежавшей^мз Франции во время ре¬
волюции 1789—1793 IT. Автор романа «Удивительная история Петера
Шлемиля» (1814), в котором 4^нтастический сюжет сочетается с ре¬
алистическими зарисовками быта Германии начала XIX в.
Гауф Вильгельм (1802—1827) — немецкий писатель-сказочник, пред¬
ставитель позднего романтизма.
Уланд Людвиг (1787—1862) — немецкий поэт-романтик, исследова¬
тель литературы и политический деятель, один из лидеров либераль¬
но-демократической оппозиции феодальной реакции.
Геббель Кристиан Фридрих (1813—1863) — немецкий драматург и^
теоретик драмы.
.Мёрике Эдуард — см. коммент. к с. 20.
Готхельф Иеремия (наст, имя и фам. Альберт Бициус, 1797—1854) —
швейцарский писатель, автор романов о жизни крестьян «Ули-батрак»
(1841) и «Ули-арендатор» (1849).
Келлер /Ътфрид (1819—1890) — швейцарский писатель-реалист, ав¬
тор романа «ЗеленьЛ Генрих» (1855) и нескольких сборников новелл.
Оказал заметное влияние на раннего Г.Гессе.
Майер Конрад Фердинанд (1825—1898) швейцарский писатель,
один из крупнейших мастеров исторической новеллы.
Шеффель Йозеф Виктор (1828-1886) — немецкий писатель, автор
исторического романа «Эккехард» (1855).
Раабе Вильгельм (1831—1910) — немецкий писатель-реалист, оказал
влияние на раннего Гессе.
132 Фукидид (ок. 460—400 до н.э.) — древнегреческий проник и историк.
Его «История» считалась образцом точности и стилистическ^ого совер¬
шенства!
«Живописец Нольтен» — лирический роман Э.Мёрике.
362
«Панчатантра» (санскр. «сочинения в пяти книгах») — собрание ис¬
торий и притч в назидание высокопоставленным особам, памятник ин¬
дийской литературы III в.
«Трубач из Зеккингена» (1854) — сентиментально-возвышенная эпи¬
ческая поэма Й.В. Шеффеля.
133 Тидге Кристоф Август (1752—1841) — немецкий писатель, попу¬
лярный в 1-й половине XIX в.
Редвиц Оскар (1823—1891) — немецкий писатель.
136 Гранвиль (наст, имя Жан-Иньяс-Изидор Жерар, 1803—1847) —
французский художник-карикатурист, иллюстратор.
Ходовецкий Даниэль Николаус (1726—1801) — немецкий художник
и график, создал иллюстрации к произведениям Лессинга, Гёте и др.
Гаман Йоганн Георг (1730—1788) — немецкий писатель и философ-
иррационалист, оказавший влияние на движение «Буря и натиск» и
немецкий романтизм.
Вейсе Кристиан Феликс (1726—1804) — немецкий писатель эпохи
Просвещения.
Рабенер Готлиб Вильгельм (1714—1771) — немецкий сатирик-про¬
светитель.
Рамлер Карл Вильгельм (1725—1798) — немецкий поэт, ревностный
поборник прусского патриотизма.
Геллерт Кристиан Фюрхтеготт (1715—1769) — немецкий поэт
эпохи Просвещения.
«Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» — роман в письмах
Йоганна Тимотеуса Гермеса (1738—1821).
137 Бодмер Йоганн Якоб (1698—1789) — швейцарский писатель и кри¬
тик эпохи Просвещения, выступал против сухого рационализма, в за¬
щиту творческой фантазии.
Геснер Соломон (1730—1788) — швейцарский живописец и поэт-
идиллик,^ыл широко известен в России в эпоху сентиментализма.
Форстер Георг (1754—1794) — немецкий просветитель, политиче¬
ский деятель, публицист и естествоиспытатель; утверждал в Германии
идеи Французской революции. Ёго путевые ^метки «Путешествие
вокруг света» (1777) явились результатом участия в кругосветной экс¬
педиции Джеймса Кука, в которой юный Форстер сопровождал своего
отца, известного ученого.
Эккартсгаузен Франц Карл (1752—1803) — немецкий юрист и писа-
тель-мистик. Оказал влияние на Ноталиса^ Шеллинга и Гельдерлина.
Его книга «Бенгальский тигр» вышла в 1789 г.
4вигварт. Монастырская история» (1776) — сентиментальный ро¬
ман Йоганна Мартина Миллера (1750—1814), написанный е подра¬
жание «Страданиям юного Вертера» Гёте.
\ЪЪ Ольденберг (Ольденбург) Герман (1854—1920) — немецкий индолог.
Дойссен Пауль (1845—1919) — немецкий историк, философ и пере¬
водчик; занимался философией Индии, переводил памятники индий¬
ской литературы.
Шрёдер Леопольд (1851—1920) — немецкий индолог и историк куль¬
туры, перевел «Бхагавадгиту* (1912). Его книга «Литература и куль¬
тура Индии в историческом развитии» вышла в 1920 г.
363
139 Нойман Карл Ойген (1865—1915) — немецкий индолог и переводчик;
в 1928 г. увидели свет переведенные им «Проповеди Будды».
Грилль Юлиус (1840—1930) -г- немецкий китаист; в 1910 г. в его пе¬
реводе вьпыла «Дао дэ цзин» Лао-цзы.
Вильгельм Рихард (1873—1930) — немецкий филолог-китаист и пе¬
реводчик.
Шн-цзы (ок. 372—289 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, после¬
дователь Конфуция.
Люй Бувэй (ум. в 235 до н.э.) — государственный деятель древнего
Китая, известный меценат. При его содействии составлена энцикло¬
педическая книга «Вёсны и осени господина Люя». В данном случае
имеется в виду книга китайского писателя Линь Ютана «Весна и осень
Люй Бувэя», вышедшая в 1929 г. в переводе Рихарда Вильгельма. Гессе
пйсал о ней: «Это была самая любимая и самая важная для меня книга.
Я читал и перечитывал ее в течение нескольких месяцев».
Рудельсбергер Ганс (наст, имя Ганс Мольтан, 1868—1938) — немец¬
кий китаист и переводчик, в 1914 г. издал в своем переводе кншу «Ки¬
тайские новеллы», в 1923 г. — «Любовные комедии древнего Китая».
Кюнель Пауль — немецкий филолог-китаист, в 1914 г. издал в своем
переводе «Китайские рассказы».
Грайнер Лео (1876—1928) — немецкий филолог-китаист; в 1913 г.
издал в своем переводе антологию «Китайские вечера. НовеллЫ и рас¬
сказы».
140 Банделло Маттео (ок. 1485—1561) — итальянский писатель, созда¬
тель многочисленных новелл, принесших ему мировую известность.
Мазуччо Салернитанец (наст, имя Томазо Гуардати, ок. 1420—1475) —
итальянский писатель, прославился сборником новелл «Новеллино»
(1476) в духе «Декамерона» Боккаччо.
Базиле Джамбаттиста i\575-~l632) — итальянский писатель, со¬
ставитель первого в Европе сборника народных сказок.
Поджо (Браччоллини Джан Франческо Поджо, 1380—1459) — италь¬
янский писатель-гуманист, неутомимый сс^иратель латинских руко¬
писей. Выведен в новелле К.-Ф. Мейера «Плавт в женском монасты¬
ре».
Герен Жорж Морис (1810—1839) — французский поэт-романтик, в
поэме в прозе «Кентавр» (опубл. 1861) выразил ощущение бессилия
перед лицом растущего влияния новых общественных отношений.
141 Тоулер Йоганн (ок. 1300—1361) — немецкий писатель-мистик и ре¬
лигиозный деятель.
Сузо (Зузо, Зойзе) Генрих (1295—1366) — немецкий писатель-мис¬
тик, ученик Мейстера Экхарта.
Экхарт Йоганн (Мейстер Экхарт, ок. 1260—1327) — монах-домини¬
канец, виднейший представитель немецкой средневековой мистики.
Магия книги
Статья представляет собой часть предисловия к катало1у «Книга 1930
года»; впервые опублйкована 14 ноября 1930 г. в газете «Берлинер таге-
блатт».
364
l4s Гутенберг Йоганн (ок. 1399--1468) — немецкий изобретатель печат¬
ного станка.
146 Шпильгаген Фридрих (1829—1911) — немецкий писатель-реалист;
его насыщенные политической проблематикой романы, например
«Один в поле не войн» (1868), были популярны в России среди народ¬
ников.
Мйрлитт (наст, имя и фам. Евгения Йон, 1825—1887) — немецкая
писательница, автор многочисленных развлекательных романов.
Гейбель Эммануэль (1815—1884) — немецкий поэт и переводчик.
^веккингенский трубач», иТрубач из Зеккингена» — см. коммент. к
с. 132.
148 Святой Фома, Фома Аквинский (1225 или 1226—1274) — теолог и
философ, один из пяти «отцов церкви»; основатель томизма, учения в
католической философии, соединившего ^сристианские догмы с мето¬
дологией Аристотеля.
Бонавентура (наст. имя.Джованни Фиданца, 1221—1274) — теолог
и философ-схоласт, причислен к лику святых.
Хасиды — носители хасидизма (от; древнееврейского «хасид» — бла¬
гочестивый), религиозно-мистического течения в иудаизме, возникше¬
го в 1-й половине ХУШ в. среди еврейского населения Волыни, Подо-
лии и Шо1ции как оппозиция официальному иудаизму. Позже хаси¬
дизм, отличающийся религиозным фанатизмом и верой в чудеса, сбли¬
зился с раввинатом и был признан синагогой.
Монах из Гейстербаха — средневековый писатель Цезарий фон Хай-
стербах (ок. 1180—1240), выведен в качестве главного действующего
лица в книге Вольфганга Мюллера фон Кенигсвинтера (1816—1873)
«Монах из Хайстербаха».
149,наиболее4)даренный из всех переводчиков Данте.,. — Имеется в виду
немецкий писатель и переводчик sPyдoльф Бopxapдт (1877—1945).
Моя вера
Написано и впервые опубликовано в 1931 г.
152 Кун Фу-цзы^ (Кун-цзы, Конфуций, 551—479 до н.э.) — китайский
философ; его религиозно-этическое учение, направленное на воспита¬
ние высоконравственного человека, сыграло важную роль в истории
Китая:
БалльГуго (1886—1927) — немецкий писатель и публицист, один из
основателей дадаизма. Друг Гессе, а^тор монографии «Герман Гессе.
Его жизнь и творчество» (1927).
Благодарность Гёте
Статья написана по просьбе Ромена Роллана для журнала «Эроп» в
связи со столетием со дня смерти Гёте. На немецком языке впервые опуб¬
ликована в «Нойе швайцер рзшдшау» (1932, № 43).
154 унаследованном от госпожи советницы.,, — Имеется в виду мать Гёте ^
Катарина Элизабет Гёте, урожденная Текстор. Гёте писал, что он
365
унаследовал от нее «жизнерадостную натуру и страсть к сочинитель¬
ству».
155 ...примирение царедворца с богоборцем, Антонио с Тассо... — Речь
идет о сцене из драмы Гёте ♦Торкватто Тассо» (1790), в которой прак¬
тичный и многоопытный царедворец Антонио призывает влюбленного
в сестру герцога поэта образумиться и смирить свои чувства.
158 ...назвал мою позицию <1гётевской»... — См. коммент. на с. 354.
159 «Новелла» — позднее произведение Гёте (опубл. 1829), образец жанра
новеллы, которая «не что иное, как случившееся неслыханное проис¬
шествие». Фантастическое в ней служит осмыслению реальных про¬
тиворечий жизни.
За чтением одного романа
Статья впервые напечатана в журнале «Нойе рундшау» (1933, № 5).
Любимые книги
Написано и впервые опубликовано в 1945 г.
166 Штифтер Адальберт (1805—1868) — австрийский писатель, автор
сборника новелл «Пестрые камни» (т. 1—2,1865—1867), воспитатель¬
ного романа «Бабье лето» (1857) и исторического романа «Витико»
(1865—1867). Оказал заметное влияние на Г.Гессе.
Иммерман Карл Лебрехт (1796—1840) — немецкий писатель, автор
романа «Мюнхгаузен» (1838).
167 Рюккерт Фридрих (1788—1866) — немецкий писатель, переводчик
и филолог-востоковед; известен своими переводами арабской, индий¬
ской и китайской поэзии, в том числе выдающегося памятника китай¬
ской и мировой литературы «Шицзин» (Книги песен).
Даосский — то есть идеал мудрости и доброты, заключенный, в да¬
осизме, одном из основных направлений древнекитайской филосо¬
фии.
Ле~цзы — собрание песен и философских притч, приписываемое древ¬
некитайскому мудрецу Ле Юйкоу (IV в. до н.э.).
Мэн Кэ (370—289 до н.э.) — древнекитайский мыслитель, автор книги
«Мэн-цзы».
168 Дз^н — одна из школ буддизма, возникшая в VI—VII вв. в Китае и
позднее получившая распространение в Японии; отказываясь от пости¬
жения истины путем логического, размышления^ дзэн :вьщвигает на
первое место внезапное озарение, интуицию, своб6;^ю импровиза¬
цию. В 20-е годы дзэн приобрел популярность в среде западноевропей¬
ской интеллигенции.
Слово в первый час 1946 года
Написано в конце 1945 г., впервые опубликовано в 1946 г.
366
Предисловие к изданию «Войны и мира»
1946 года
Написано и впервые напечатано в 1946 г.
175 Буркхардт Якоб (1818—1897) — швейцарский философ и историк
культуры, оказавший большое влияние на Гессе; под именем отца
Иакова вьшеден в романе Гессе «Ифа в бисер».
Письмо к Адели
Впервые напечатано 10 февраля 1946 г. в «Нойе цюрхер цайтуш>.
176 Гессе Адель (1875—1949) — старшая сестра Гессе. Была замужем за
двоюродным братом писателя, священником Германом Гундертом
(1876—1956). В 1934 г. издала кишу чсМария Гессе. Биография в пись>
мах и дневниках». Герман Гессе не виделся с сестрой с 1939 г.
177 ...знаменитый перевосттатель вашего народа... — Имеется в виду
австрийский писатель-эмигрант Ганс Хабе (р. 1911), доброволец аме¬
риканской армии (выступал также под именем Янош Бекеши). Будучи
главным редактором издававшейся военной администрацией США в
Мюнхене «Новой газеты», он публично упрекнул Гессе в том, что в
годы фашизма тот якобы спокойно отсиделся в нейтральной Швейца¬
рии, а tenepb-де пытается говорить от имени Германии.
178 Барт Кристиая Готлоб (1799—1862) — немецкий теолог, основа¬
тель пиетистского издательства в Кальве, руководителями которого бы¬
ли позже дед и отец Гессе.
Блюмгардт Кристоф (1842—1919) — вюртембергский теолог, руко¬
водитель исправительного заведшшя для трудновоспитуемых подрост¬
ков, в котором проходил 4д1ечение» и Гессе. Попытки Блюмгардта на¬
ставить строптивого подростка на «путь истинный» не увенчались ус¬
пехом, и он отправил будущего писателя к родителям.
180 Герхардт Пауль (1607—1676) — немецкий теолог, сочинитель рели-
шозных песнопений.
Терштееген Герхард (1697—1769) — немецкий религиозный писа¬
тель-пиетист.
^Вифлеем» — распространенное у христиан изображение (в рисунке
или в материале) рождения Иисуса Христа: младенец в яслях, над ним
Мария и Иосиф, на заднем плане волхвы с дарами. По преданию, Хри¬
стос родился в палестинском городе Вифлееме.
Шуберт Готхильф Генрих (1780—1860) — немецкий философ и ес¬
тествоиспытатель.
182 Шремпф Кристоф (1860—1944) — немецкий философ и теолог-про¬
тестант, издатель и переводчик произведений Кьеркегора. Бто критика
в адрес официальной религии и последующее отлучение от церкви
произвели на юного Гессе сильное впечатлшие.
Зибенкез — персонаж романа Жан Поля «Цветы, плоды и тернии» или
Супружество, смерть и женитьба адвоката бедняков Ф.Ш. Зибенкеза
в местечке Кушнаппель» (1796—1797).
367
Письмо в Германию
Эссе Гессе явилось ответом на письмо немецкой писательницы Луизы
Ринзер (р. 1911); опубликовано 26 апреля 1946 г. в базельской газете. «На-
циональцайтунг» и перепечатано многими немецкими газетами.
184 ...со времени мюнхенского путча. — Речь едет о неудавшемся путче
сторонников Пгглера 8—9 ноября 1923 г. в Мюнхене. Колойна воору¬
женных нацистов во главе с Гитлером и генералом Людецдорфом бьша
обстреляна и рассеяна полицией.
Гинденбург Пауль фон (1847—1934) — немецкий генерал-фельдмар¬
шал, политик и государственный деятель. В 1925—1934 гг. президент
Германии; способствовал приходу к власти национал-социалистов.
185 .„ликование народа по поводу подлого австрийского ультиматума
Сербии. — Как известно, поводом для развязывания Первой мировой
войны послужило убийство сер^кими националистами в Сараево на¬
следника австро-венгерского престол^. Под давлением военно-про¬
мышленных кругов Германии Австро-Венгрия предьявила Сербии уль¬
тиматум и, несмотря на согласие сербского правительства выполнить
почти все его условия, разорвала с ней дипломатические отношения и
объявила войну.
Мазереель Франц (1889—1972) — бельгийский фафик и живописец.
Кольб Аннетта (1875—1967) — немецкая писательница, близкая к
экспрессионистам.
186 ...я был... приглашен одним швейцмским согражданином... — Име¬
ется в виду швейцарский писатель Ион Книттель (1891—1970), член
национал-социа^систической «Ассоциации европейских писателей».
«Перелетные птицы» — основанный в начале века молодежный союз,
имевший целью интеграцию юношества в имперский правопорадок и
его воспитание в духе патриотизма и верноподданичества; распущен
нацистами в 1933 г.
187 ...за нашим дорогим другом... — Гессе имеет в виду своего издателя
Петера Зуркампа (1891—1959).
Слово к участникам банкета по случаю
Нобелевского торжесгва
Впервые напечатано 10 декабря 1946 rw в «Иойе цюрхер цайтунг».
190 Лагерлёф Сельма (1858—1940) — шведская писательница.
Благодарность и нравоучительное замечание
Ответ Гессе на поздравления в связи с присуждением ему в 1946 г
премии Гёте впервые был опубликован в базелккой газете ^Националь-
цайтунг» 6 октября 1946 г.
191 ...городом Франкфуртом, вызывавишм торжествами в церкви свя¬
того Павла... — Во Франкфурте-на-Майне во вре^ революции
1848—1849 гг. эта Церковь служила местом заседаний первого немец¬
кого Национального собрания, (^реди депутатов которого преобладали
либералы.
368
ПИСЬМА
За свою жизнь Гессе написал огромное количество писем. Значитель¬
ная часть их собрана и опубликована в томах переписки с Р.Ролланом,
Э.Балль-Хеннингс, К.Кереньи, П.Зуркампом, Т.Манном, ПВигандом,
Р.Я. Хуммом, О.Шёком и др., а также вошла в четырехтомное собрание
писем («Gesammelte Briefe», Suhrkamp>Verlag, Frankfurt/Main». 1973—
1986), изданное Урсулой Михельс и Фолькером Михельсом при активном
участии сьша писателя, Хайнера Гессе. В публикуемую в настоящем томе
подборку включены в основном письма из вышеназванного четырехтомно¬
го собрания, а также из однотомника избранных писем, впервые изданного
еще при жизни автора, в 1951 г., а затем существенно дополненного при
переиздании 1964 г. женой писателя, Нинон Гессе <Нег mann Hesse.
Briefe. Erweiterte Aufgabe. Suhrkamp-Verlag, 1964). Кроме того, сюда вошли
некоторые письма из переписки с Т.Манном (Н.Н esse — Th. Mann.
Briefwechsel, Suhrkamp-Verlag, 1968). Датировка воспроизводит издания на
немецком языке. Даты, взятьиз в скобки, принадлежат публикаторам Гессе.
При комментироюнии частично использовались пояснения к текстам,
содержащиеся в указанных вьпие изданиях.
195 ...г:поры, как Вам о Кестнере. — Речь идет об ожесточенной дискус¬
сии, возникшей по поводу вышедшего в 1931 г. романа немецкого пи¬
сателя Эриха Кестнера (1899—1974) «Фабиан» (рус. пер. 1933). Ввя¬
завшись в дискуссию, Гессе.выступилз журнале «Бюхервурм» с поло¬
жительной рецензией, чем вызвал гневную отповедь националистиче¬
ски настроенных читателей типа К.М. Цвислера.
196 Лео — центральный персонаж повести «Паломничество в Страну Во¬
стока».
198 Жанна — имеется в виду Жанна д’Арк.
,.*книге Мартина Бубера... — Речь идет о книге Мартина Бубера «Цар¬
ство Божие» .(1932).
199 Манн Клаус (1906—1949) — немецкий писатель, сын Томаса Манна.
Герцог Рудольф (1869—1943) — немецкий писатель, автор сочинений
национал-патриотического звучания.
Тот рассказ о Гёльдерлине^ Мёрикеи Вейблингере... — Рассказ Гессе
«В садовом домике Пресселя».
200 ВихертЭрнст (1887—1950) — немецкий писатель, избравший в годы
нацизма позицию «внутренней эмиграции».
201 Нимёллер Мартин (1892—?) — немецкий теолог-протестант, узник
концлагерей Заксенгаузен и Дахау.
Падение Праги... •— В ноябре 1938 г. гитлеровские войска оккупиро^
вали npaiy.
202 Fragmenta tragicorum. — Здесь речь идет о трагедии Эсхила/Данаи¬
ды», в которой богиня Афродита произносит речь в защиту любви и
брака. П.О. Вазер указал на содержательное сходство это1Х> фрагмента
со стихотворением Ге^се «Ночные мысли».
Вазлер Отто — швейцарский учитель и журналист, друг Гессе и
Т*Манн^»
203 ...те вириш на случай. — Имеется в виду цикл антивоенных стихо¬
творений Гессе «Воинственное столетие».
369
208 Хумм Рудольф Якоб (1895—1977) — швейцарский писатель, был в
дружеских отношени$1х с Гессе; их переписка издана в 1981 г.
КншптельЙон (1891—1970) — швейцарский писатель, разделявший
и пропагандировавший идеи национал-социализма.
Бронте Эмилия (1818—1848) — английская писательница романти¬
ческого направления. Гессе имеет в виду ее роман «грозовой перевал»
(1847), вышедший на немецком языке в 1938 г. Писательницами были
также сестры Эмилии — Шарлотта и Анна.
Моргенталер Эрнст (1887—1963) — швейцарский художник, дру¬
живший с Гессе и написавший несколько его портретов.
209 Родина моей жены... — Нинон Гессе, урожд. Ауслендер, родилась в
Черновцах, входивших в состав Австро-Венфии.
211 ...турист-^вандерфогель» — то есть член союза «перелетных птиц».
См. коммент. к с. 186.
212 Шондадори» — издательство Арнольдо Мондадори в Милане.
...это я порекомендовал автора. — Статью о «Степном волке» напи¬
сал по рекомендации Гессе журналист Томас Вцдмер.
213 Васмер Макс (1887—1970) — швейцарский фабрикант, друг Гессе,
владелец замка Бремгартен в окрестностях Берна.
215 Бодмер Ганс Конрад (1891—1956) — швейцарский врач, владелец
крупной коллекции произведений Бетховена, друг и покровитель Гессе.
Бенедикт Мурсийский (480—550) — католический святой, основатель
(ок. 530) ордена бенедиктинцев в Италии.
216 Что касается имени ребенка... — Сьша Хайнера иИзы Гессе назвали
Сильвером, второго, родившегося в 1954 г., — Давидом.
21S Ринзер Луиза (р. 1911) — немецкая писательница. Гессе высоко ценил
ее творчество.
219 «Ночной полет» — книга французского писателя Антуана де Сент-
Экзюпери (1900—1944), вьппедшая по-немецки в Берлине в 1941 г.
Жид Андре (1869—1951) — французский писатель.
Подевильс София Доротея — немецкая писательница, в письме речь
идет о ее книге «Крылатая орхидея» (1941).
220 одно новое стихотворение... — Имеется в вцду стихогаорение «Проза».
221 КароссаГанс (1878—1956) — немецкий писатель*
Фридолин — внук Томаса Манна.
222 Празднуя столетие со дня рождения нашей матери... — Мать писа¬
теля, Мария Гессе, родилась 18 октября 1842 г. в Индии.
223 ...стояла горой за правое дело, как на то способна только латинян-
ка-кальвинистка. — Матерью Марии Гессе была Жюли Дюбуа из
Французской Швейцарии.
224 «Легенда» — последняя глава «жизнеописания Магистра Игры Йозефа
Кнехта» в романе «Игра в бисер».
Шалль Франц (1877—1943) — немецкий филолог, друг юности Гессе.
«Без пе»ити» — цитата из стихотворения «Сгупени», вошедшего в ро¬
ман «Игра в бисер»:
370
Пристанищ не искать, не приживаться.
Ступенька за ступенькой, без печали.
Шагать вперед, 1адти от дали к дали...
ФосслерКарл (1872—1949) — немецкий филолог-романист, перевод¬
чик.
225 Гайзер Карл (1898—1957) — швейцарский архитектор и график,
близкий к Kpyiy друзей Г.Гессе.
227 Балль-Хеннингс Эмми (1885—1948) — немецкая писательница и ак¬
триса (кабаре «Симплициссимус» в Мюнхене), жена Гуго Балля; со
времени Первой мировой войны жила в Швейцарии, входила в круг
друзей Гессе.
228 ,..друг Гессе по имени Луи, — Имеется в виду художник Луи Муайе
(1880—1962), выведенный под именем Луи Жестокий в «Клингзоре»
и «Паломничестве в Страну Востока».
Черный король — прозвище друга Гессе Георга Рейнхарта.
Сиамцы из ^[Путешествия в Нюрнберг» — Алиса и Фриц Лейтхоль-
ды, богатые цюрихские коммерсанты, друзья и покровители Гессе. Он
познакомился и подружился с ними во время своей поездки в Индию
в 1911 г.
Коллофино (Файнхальс Иозеф, 1867—1947) — табачный фабрикант
из Кёльна, фшурирует среди персонажей «Паломничества в Страну
Востока».
229 „.его рецензии в «Вельтвохе»,.. — Имеется в виду критический отзыв
Р.Я. Хумма о романе «Игра в бисер», опубликованный в цюрихской
«Вельтвохе» 10 декабря 1943 г.
230 Бруно — сын писателя.
231 Штайгер Эмиль (1908—1987) — 1йвейцарский германист и перевод¬
чик с греческого, автор широко известного труда «Искусство интерп¬
ретации» (1955>.
Фези Роберт (1883—1972) — швейцарский писатель и литературо¬
вед.
232 «Тривиум» — научно-публицистический и литературно-критичёский
журнал, выходивший в Цюрихе с 1942 по 1951 г.
233 .,.еш/г глупее и хуже, чем Вы, — Имеется в виду отрицательная рецен¬
зия Бернхарда Дибольда, опубликованная в базельской «Националь-
цайтунг» 19 декабря 1943 г.
Вайс Петер (1916—1982) — немецкий писатель, с 1939 г. жил в Шве¬
ции.
Мюллер Фриц (1877—1948) — зубной врач, к которому обращался
Гессе.
235 „.уничтожение всех моих книг... в Германии. — В результате налета
авиации в декабре 1943 г. были разрушень! книжные склады издатель¬
ства С.Фишера в Лейпциге.
Этингер Фридрих Кристоф (1702—1782) — немецкий теолог-проте-
стант; эта фигура занимала Гессе во время работьь над романом «Игра
в бисер».
371
236 ,.,книгу Брентат обА,В, lilMzejie^^ Бернард фон Брентано (1901—
1964) •— немецкий писатель и публицист, в 1943 г. в Штутгарте вышла
его книга «Август Вильгельм Шлегель. История романтическогр духа».
Вольф Гуго (I860—-1903) — австрийский композитор-песенник.
Бёмер Гунтер (р. 1911) — швейцарский художник и 1рафик.
238 Цан Эрнст (1867—1952) — швейцарский писатель-регионалист, был
владельцем привокзальной гостиницы в Гёшенене.
239 ...единственное стихотворение... — Речь идет о стихотворении «Про¬
щай, юдоль земная», написанном в апреле 1944 г.
Лене — приемная дочь Адели, сестры Гессе.
...алайского пастора Германа Г. — Олай — город в Эстонии, с 1967 г. —
в составе Латвии.
240 ...записки Моники Гунниус. — Ш1еется в виду книга воспоминаний
Моники гунниус «Мой дяда Герман», вышедшая в 1927 г. и рассказы¬
вающая об эстонских родственниках Гессе по отцовской линии.
241 Штёклин Никлаус (1896—1982) — швейцарский художник и tp?lt
фик, представитель новой деловитости и магического реализма.
242 То пасхальное стихотворение... — Речь идет о стихотворении «На¬
встречу миру».
Клебер Курт (1897—1959) — немецкий прозайк и поэт, автор многих
произведений для детей и юношества, с 1924 г. жил в Швейцарии.
243 Привет вам обоим — то есть Курту Клеберу и его жене, писательнице
Лизе Тецнер (1894—1963).
...заглавие ^книжечки», которой Вы заняты. — Речь идет о романе
Т.Манна «Доктор Фаустус. Жизнь немецкого композитора Адриану
Леверкюна, рассказанная его другом».
О ^политизации» духа мы думаем*»* не очень различно. — В апреле
1945 г. Томас Манн писал Гессе: «Я полагаю, ничто живое сегодня не
обходится без политики. Аполитичность — это тоже политика, но
только политика вредная».
244 Меди — так звали дочь Томаса Манна Элизабет.
Шарш фашизма» — роман Г.А. Борджезе, зятя Томаса Манна.
245 Кереньи Карл (1897—1973) — венгерский филолог и философ, пи¬
савший на немецком языке. Полностью его переписка с Гессе опубли^
кована в 1972 г. в Мюнхене.
...статья о гуманизме... — Речь едет о статье Кереньи «Основные
понятия и потенциальные возможности гуманизма», опубликованной
в журнале «Швайцер монатсхефте» (1945, № 2).
...эссе о Вас в иДи тот»... — Имеется в виду статья Макса Рюхнера
«Общение с богами», опубликованная в цюрихской газете ^и тат» и
посвященная творчеству Кереньи.
246 ...об этих строчках в ^Фогеле»... — В сказке Гессе «Фогель» (Vogel
(нем.) -- ттща), очень автобиографичной по содержанию, есть пер¬
сонаж по имени Иностранка (фамилия жены писателя Нинон — Аус-
лёцдер, то есть «инострашса»); о которой говорится, что она умела «ло¬
вить птичек и годами удерживать их в плену»'.
372
247 Юнг тоже свихнулся на этом.,. — Известно, что швейцарский пси¬
хоаналитик Карл Густав Юнг (1875—1961) в 30-е годы высказывал
мысли о «коллективном бессознательном» нации, которые звучали в
унисон с некоторыми положениями национал-социалистской идеоло¬
гии.
Вельти Альберт И, (1894—1965) — швейцарский писатель, сын ху¬
дожника Альберта Вельти (1862—1912), с которым Гессе был дружен
в молодости.
248 ...статьей, которую прилагаю,.. — Гессе послал своей корреспонден¬
тке этюд ^Листок из записной книжки», опубликованный в 1940 г. в
«Нойе цюрхер цайтунг» и содержавший отрывок из письма писателя
своему младшему сыну Мартину.
249 Шушниг Курт (1897—1977) — федеральный канцлер Австрии в
1934—1938 гг. Обьявленный им в феврале 1938 г. всенародный рефе¬
рендум был расценен Гитлером как нарушение ранее заключенного
соглашения. После захвата Австрии гитлеровцами бьш брошен в кон¬
центрационный лагерь.
250 ...Вы высказываетесь по поводу истории с капитаном Хабе-Ве-
кеши... — См. коммент. к с. 177. Томас Манн осудил бестактный и
несправедливый выпад американского пресс-офицера.
Немецкие отклики на Ваш письмо к Моло немного коснулись и ме¬
ня,... — 4 ав1уста 1945 г. немецкий писатель Вальтер фон Моло
(1880—1958) в открытом письме в «Мюнхенской газете» призвал
Т.Манна быстрее вернуться на родину. В ответном «Письме в Герма¬
нию» Т.Манн отклонил предложение и сослался на пример Гессе, дав¬
но порвавшего е политической Германией и сохранившего критиче¬
скую дистанцию по отношению к ней.
251 ...у какого-нибудь Винкельрида — то есть у смелого швейцарца. Ар¬
нольд Винкельрид — швейцарский народный герой, отличавшийся не¬
обыкновенной храбростью и павший в битве при Земпахе (1386).
Гамсун (наст. фам. Педерсен) Кнут (1859—1952) — норвежский пи¬
сатель, лауреат Нобелевской премии. Бьш осужден за сотрудничество
с гитлеровцами в годы оккупации Норвегии.
253 Берман-Фишер Готфрид (1897—?) — зять С.Фишера, возглавивший
после его смерти издательство.
254 ...опять я... все сделал неверно. — В письме к Гессе от 30 сентября
1945 г. Р.Я. Хумм критически отозвался о «Дневнике. На горе Риги»,
опубликованном в сентябрьском номере «Нойе швайцер рундшау».
255 Штейгер Эдуард фон (1881—1962) — швейцарский политик крайне
консервативной ориентации, в то время шеф федерального департа¬
мента юстиции и полиции.
Вурм Теофиль (1868—1953) — немецкий теолог-протестант, епископ
земли Вюртемберг, был в оппозиции к фашизму, после войны возглав¬
лял Совет немецкой евангелической церкви.
256 Венгель Йоганн Альбрехт (1687—1752) — протестантский теолог,
один из представителей вюртембергского пиетизма.
Гундерт Герман (1814—1893) — пиетистский миссионер, ученый-
индолог, руководитель издательского союза в Кальве, дед писателя по
материнской линии.
373
257 Папен Франц фон (1879—1969) ~ немецкий реакционный политик,
в 1933—1934 гг. вице-канцлер; содействовал приходу нацистов к вла¬
сти и подготовке аншлюса.
259 „.некий кептен Хейб.,. — Речь идет о пресс-офицере американской
армии Хабе-Бекеши. См. коммент. к с. 177 и 250.
260 Штраус Рихард (1864—1949) — немецкий композитор; в 1933 г. был
одним из тех, кто подписал протест против эссе Т.Манна чсСтрадания
и величие Рихарда Вагнера», обвиняя писателя в пренебрежительном
отношении к «национальным святыням». В конце жизни писал музыку
к стихотворениям Германа Гессе. Эрнст Моргенталер должен был пи¬
сать портрет Р.Штрауса.
Марквальдеры — Франц Ксавер Марквальдер и его жена Берта, вла¬
дельцы гостиницы «Веренахоф» в курортном городке Бадене близ Цю¬
риха, где Гессе неоднократно отдыхал и лечился. С семьей Маркваль¬
дер у Гессе сложились приятельские отношения. Хозяину гостиницы
и его брату, врачу Йозефу Марквальдеру, посвящена повесть «Курорт¬
ник» (1925).
261 Шуссен (наст. фам. Фрик) Вильгельм <1874—1956) — немецкий пи¬
сатель и школьный учитель, уроженец Южной Германии. Гессе пере¬
писывался с ним в начале века.
Шейфеле — лицо неустановленное.
.„вплоть до мерзкого бокенгеймского документа.., — Здесь Гессе не
совсем точен. Имеются в виду так наз. боксхаймские документы, опуб¬
ликованные в ноябре 1931 г. На совещании в поместье Боксхайм близ
Вормса главари национал-социализма наметили ряд драконовских
мер, которые они собирались осуществить в случае прихода к власти.
Среди них — отмена всех демократических прав, террор против насе¬
ления, введение военно-полевых судов, всеобщая воинская повинность
с 16-летнего возраста и т.д.
262 Хольм Корфиц (1872—1942) — немецкий писатель и переводчик, ро¬
дился в Риге; после 1933 г. примкнул к нацистам.
265 МааТ: Иоахим <1901—1972) — немецкий писатель-эмигрант.
Лампе Фридо (1899—1945) — немецкий писатель.
266 Аккеркнехт Эрвин <1880—1960) — немецкий библиотекарь и публи¬
цист, неоднократно выступал в печати в защиту Германа Гессе. С 1945
по 1954 г. был директором Шиллеровского национального музея в
Марбахе.
267 ...о докторе Рейнвальде.., его план мною одобрен. — Школьные
друзья Гессе, Эрнст Рейнвальд и Отто Гартман, подготовили к изда¬
нию двухтомник рассказов Гессе «Герберсау», действие которых про¬
исходит в Кальве.
269 ...этого Круля — то есть авантюриста. Намек на героя.романа Т.Ман¬
на «Признания авантюриста Феликса Круля».
270 Шнетцер Макс — немецкий журналист; Гессе имеет в виду его
статью о Зуркампе «Испытания, выпавшие на долю немецкого изда¬
теля».
374
272 Но из валлиского замка Мюзо,,, — В этом замке, расположенном в
швейцарском кантоне Валлис (Вале), с 1921 по 1926 г. жил австрий¬
ский поэт P.M. Рильке.
Ульман Регина (1884—1961) — швейцарская писательница. Была
дружна с Рильке, написала кни1у воспоминаний о нем.
275 Т(9, что я сказал в ^(Благодарности».., — Имеется в виду статья Гессе
«Благодарность и нравоучительное замечание».
...стокгольмское решение состоялось... — Томас Манн, Нобелевский
лауреат 1929 г., приложил немало усилий, чтобы эту премию в 1946 г.
получил Герман Гессе.
276 Финк Людвиг (1876—1964) — немецкий писатель-регионалист, друг
юности Гессе; после первой мировой войны их пути разошлись из-за.
националистических пристрастий Финка.
278 ...что Вы не получили ее намного раньше меня. — А.Жид стал Но¬
белевским лауреатом на год позже Гессе, в 1947 г.
...хлопочете о переводе ее. — «Паломничество в Страну Востока» вы¬
шло на французском языке в 1948 г. в переводе Жана Ламбера, зятя
А.Жида.
279 Мейер Вальтер (1898—1982) — швейцарский литератор, руководил
издательством «Фретц и Васмут> в Цюрихе, был главным редактором
журнала «Нойе швайцер рундшау», основал известкую серию «Манес-
севская библиотека мировой литературы», при составлении которой
прислушивался к советам Германа Гессе.
Герен Морис де (1810—1829) — рано умерший французский поэт-ро¬
мантик. Его поэму «Кентавр» перевел на немецкий язык P.M. Рильке.
280 Куинси Томас де (1785—1859) — английский эссеист.
...о кальвском деле — то есть об издании двухтомника рассказов Гессе
под общим названием «Герберсау».
282 Фишер Хедвиг — вдова издателя С.Фишера, с 1939 по 1950 г. жила
в Нью-Йорке.
...а вне дома... — Гессе отметил свое семидесятилетие в замке Брем-
гартен, у Маргариты и Макса Васмеров.
283 Ваше приветствие в «Цюрхер цайтунг»... — В этой газете от 2 июля
1947 г. и в журнале «Нойе рундшау» (1947, № 7) Т.Манн опубликовал
«Приветствие Герману Гессе в связи с 70-летием».
...знаменитый сын Любека. — Т.Манн родился в Любеке.
Пфитцнер Ганс (1869—1949) — немецкий композитор; после 1933 г. -
нацист.
284 «Агафон приветствует Иксиона...» — Агафон,.Иксион — персонажи
автобиографического романа Виланда «Ага^юн» (1766).
Иозеф Кнехт отвешивает большой восьмикратный коутоу Томасу
фон дер Траве. — Стилизованное приветствие, означающее «Герман
Гессе приветствует Томаса Манна». Иозеф Кнехт — главный герой ро^
мана «Игра в ^сер». Томас фон дер Траве — персонаж того же рома¬
на. В этом образе Гессе создал стилизованный портрет Томаса Манна,
родившегося в Любеке на реке Траве. Коутоу — китайское ритуальное
приветствие.
375
285 ...милый, прекрасный подарок... — Г.К. Бодмер лодарил Гессе, боль-
moN^ любителю музыки, проигрыватель.
Дашщ Франц (1763—1826) немецкий композитор, автор многочис*
ленных опер и балетов, сьш и ученик италь$шского виолончелиста Ин-
ночентоДанци (1730—1798).
286 Госпожа Залы^р — владелица издательства «Ойген Зальцер» в Хайль-
бронне, iT^e с 1915 по 1936 г. несколькими тиражами выходил сборник
стихотворений Гессе «Музыка одиночки». В 1945 г; г-жа Зальцер снова
напечатала сборник без согласования с автором.
...мой сборник стихов... — Речь идет о сборнике «Дерево жизни», вьь
шедшем в издательстве «Инзель» в 1947 г.
288 Фома Генрихович — так, зная о любви Томаса Манна к русской ли¬
тературе, Гессе шутливо переиначивает его имя на русский лад.
иШтехлин» — роман немецкого писателя Теодора Фонтане (1819—
1898). О нем идет речь в статье Т.Манна «Старик Фонтане», вошедшей
в сборник «Ответ и отчет».
289 «Вундеркинд» (1903) — новелла Т.Манна.
Гилике Хельмут (р. 1908) — евангелический теолог, университетский
профессор в Гейдельберге, в 1940 г. уволен нацистами.
290 ...ее единственной сестры в Румынии. — Имеется в виду Лилли Кель-
ман^ сестра Нинон Гессе.
291 ...полного, завершенного Круля... —• Роман Т.Манна «Признания аван¬
тюриста Феликса Круля» остался незавершенным. Впервые фрагмент
романа был опубликован в 1911 г., первая часть — в 1954 г.
Комментарий к «Фаусту». — Гессе имеет в виду кншу Т.Манна «Ис¬
тория «Доктора Фаустуса». Роман одного романа», завершенную в
1949 г.
...я прочел и «Леверкюна» — то есть «Доктора Фаустуса».
Непомук — персонаж романа «Доктор Фаустус», которому Т.Манн
придал черты своего внука Фридолина.
292 Тегуляриус — персонаж, некоторыми своими чертами напоминающий
Фридриха Ницше.
295 Вильгельм Рихард (1873—1930) — см. коммент. к с. 139. Книга Сла¬
ломе Вильгельм «Рихард Вильгельм. Посредник между Китаем и Ев¬
ропой» вьш1ла лишь в 1956 г.
297 ...на примере немецкой музыкальности... — Речь идет о романе
Т.Манна «Доктор Фаустус».
Эйснер Курт (1867—1919) — немецкий политик социал-демократи¬
ческой ориентации и писатель; убит монархистами.
Ландауэр Густав (1870—1919) — немецкий писатель; участвовал в
создании Баварской советской республики, после ее разгрома был
убит.
299 ...снова вышел Гуго Баллы — Речь идет о монографии Балля, посвя¬
щенной творчеству Гессе.
Ланге Хорст (р. 1904) — немецкий писатель.
376
301 :..>w поводу американского «Демиана» и Томаса Манна.., — Томас
Манн написал предисловие к американскому изданию романа «Деми-
ан», вышедшего в 1948 г. в Нью-Йорке.
302 Антонеску Ион (1882—1946) — реакционный румынский политик,
союзник Гитлера.
•^.рецензия Шу.,, — Имеется в виду отклик на роман Т.Манна «Доктор
Фаустус» немецкого музыкального критика Вилли Шу (р. 1910), опуб¬
ликованный в «Нойе цюрхер цайтунг» осенью 1947 г.
...людялс поменьше запрещены, — Вероятно, Гессе имеет в виду мно¬
гочисленные реминисценции, касающиеся реально существовавших
лиц и имевших место исторических событий.
303 Канадцу, который еш/е не знал европейской,,. — Гессе цитирует ши«
роко известную басню И.Г. Зейме «Дикарь».
Хух Рикарда (1864—1947) — немецкая писательница и поэтесса.
307 Бельвю — гостиница в Монтаньоле.
Брод Макс (1884—1968) — немецкоязычный писатель, принадлежав¬
ший к пражскому кружку, друг Франца Кафки, издатель и коммен¬
татор его произведений; с 1939 г. жил в Тель-Авиве, придерживался
сионистских взглядов.
Ъ\0 Казак Герман (1896—1966) — немецкий писатель, в 40—50-е гг. при¬
надлежал к течению так наз. магического реализма в немецкой лите¬
ратуре.
.„роман Казака,,, — Имеется в виду роман «Город по ту сторону по¬
тока» (1947), благодаря которому Казак приобрел международную из¬
вестность. По мотивам романа в 1955 г. написана опера (композитор
Ганс Фогт).
311 Гартмановского Грегориуса,,, — Речь идет о стихотворной повести
немецкого поэта-миннезингера Гартмана 4юн Ауэ «Столпник Григо¬
рий» (1187—1189). Сюжет о добром грешнике» Томас Манн исполь¬
зовал в своем романе «Избранник» (1951), о работе над которым он
рассказьгаает Гессе.
Гейстербах (Хайстербах) Цезарий фон — см. коммент. к с. 148.
312 Корроди Эдуард (1885—1955) — швейцарский литературный критик,
с 1915 по 1950 г. был редактором отдела литературы и искусства «Нойе
цюрхер цайтунг».
Твой подарок ко дню рождения,,, — Финк подарил Гессе оттиск своего
очерка «Швабские родственники».
313 ...в моем письме к Броду, — Свое письмо к Максу Броду Гессе опуб¬
ликовал в журнале «Нойе швайцер рундшау» (июнь 1948). Коррес¬
пондента писателя ужаснула высказанная в публикации мысль о не¬
совместимости духа и политики.
314 Достаточно даже прочесть несколько первых фраз этой речи, — Гес¬
се имел в виду то место из выступления французского писателя Поля
Валери (1871—1945), которое начинается словами: «Дух испытывает
отвращение ко всякого рода групповщине; он питает антипатию к пар¬
тиям; при согласованных действиях умов он чувствует себя ущемлен¬
ным; напротив, ему кажется, что он может выиграть что-то только при
взаимных разногласиях».
377
315 Книга меня действительно интересует... — Речь идет об изданной
Г.Г. Борхертом в 1948 г. книге «Шиллер и романтики. Письма и до¬
кументы».
317 «Розарий» — название сборника стихотворений Л.Финка, вышедшего
в 1948 г. и посвященного Гессе.
318 Шафнер Якоб (1875—1944) — швейцарский писатель, в молодые го¬
ды общался с Гессе, после 1933 г. — убежденный национал-социалист.
Анакер Генрих (1901—1971) — швейцарский писатель, убежденный
национал-социалист, с 1933 г. жил в Германии.
Унзельд Зигфрид (р. 1924) — немецкий книгоиздатель, руководил из¬
дательством «Зуркамп».
...Вашу работу,.. — Имеется в виду рецензия Унзельда на «Ифу в би¬
сер», опубликованная в 1948 г.
322 Читаем мемуары Вашего брата... — Речь идет о книге Генриха Ман¬
на «Обзор века», вышедшей в 1945 г. в Стокгольме.
325 Лютцкендорф Эрнст Арно Феликс (р. 1906) — немецкий литерату¬
ровед, автор диссертации «Герман Гессе как религиозный человек. Его
связи с романтизмом и “восточной мудростью”» (1932).
332 ...удалось протаи^ить статью... — Имеется в виду статья «Другие
пути к миру. Ответ Германа Гессе на письма из Германии».
...убогий и жалкий ответ. — 1 ноября 1950 г. в «Нойе цайтунг» была
напечатана статья Герхарда Тимма «Недоброе утешение Германа Гес¬
се. Ответ одному поэту».
Эрика — старшая дочь Т.Манна Эрика Манн (1905—1969), писатель¬
ница, журналистка, актриса.
343 ...великолепный гимн бренности... — Имеется в виду статья Томаса
Манна «Похвала бренности», вошедшая в сборник эссе «Старое и но¬
вое» (1953).
...а книга оказалась совершенно нежданная. — Т.Манн прислал Гессе
свой сборник эссе «Старое и новое».
344 Панвиц Рудольф (1881—1969) — немецкий философ, поэт и эссеист,
автор исследования «Западно-восточная поэзия Гессе».
...ряд кнехтовских жизней... — Роман «Ифа в бисер» завершают «три
жизнеописания», в которых жизнь одного и того же человека дается в
разных исторических вариантах — первобытном, раннехристианском
и индийском.
345 Бокенгеймский документ — см. коммент к с. 261.
347 Томассу Манну к 6 июня /955; — Это поздравительное письмо Гессе
написал заранее — в феврале 1955 г.
348 Монтеверди Клаудио (1567—1643) — выдающийся итальянский ком¬
позитор, первый классик оперной музыки.
Рожье де ла Патюр (наст, имя и фам, Рогир ван дер. Вейден, ок.
1400—1464) — нидерландский живописец, один из крупнейших ма¬
стеров раннего Возрождения.
Гварди Джованни Антонио (1699—1760) — итальянский живописец,
известен картинами на исторические и мифологические темы.
378
349 Майя — понятие древнеиндийской философии и религии^ означает
иллюзорность воспринимаемого мира, сущность которого — безличное
духовное начало, брахман.
350 Николай из Куэса — то есть Николай Кузанский (1401—1464), сред¬
невековый теолог, философ и математик, развил учение об абсолюте
как совпадении противоположностей;
351 «Коммуншпа эуропеа ди скриттори» («Европейское общество писа¬
телей») — международная литературная организация, основанная в
1958 г. на конгрессе в Неаполе с целью содействия «развитию дружбы
и сотрудничества между народами».
Игпадьянское Рисорджименто (то есть возрождение) — так обознача¬
ется эпоха борьбы за воссоединение Италии (1815—1870).
352 .,,Рикарда Хух воспела Рисорджименто,,, — Р.Хух принадлежит ро¬
ман «Жизнь графа Федерико Гонфалоньери» (1910), сборник «Рас¬
сказы о Гарибальди» (1907) и другие произведения об итальянской ис¬
тории.
В.Седельник
СОДЕРЖАНИЕ
Из «Размышлений»
Старинная музыка. Перевод С.Апта ... ... 7
♦Друзья, не надо Этих звуков! Перевод В,Седельника 10
♦Письмо обывателю. Перевод М.Харитонова 15
♦Прибежище. Перевод М.Харитонова 20
♦Язык. Перевод АНауменко 24
О душе. Перевод В.Седельника 28
♦Государственному министру. Перевод М^Харитонова 37
♦Если война продлится еще два года. Перевод М.Харитонова 40
♦Наступит ли мир? Перевод М.Харитонова 47
♦Война и мир. Перевод Ю, Архипова 51
Мировая история. Перевод В.Седельника 54
Путь любви. Перевод В.Седельника 58
Художник и психоанализ. Перевод В.Седельника 62
Фаитазт. Перевод В.Седельника 67
♦О стихах. Перевод АНауменко 72
♦Братья Карамазовы, или Закат Европы. Перевод Ю.Лрхипова ... 76
♦Размышления об «Идиоте» Достоевского. Перевод Н.Тем^шной и
А.Темчина 89
♦Своенравие. Перевод Ю.Архипова 95
♦Письмо молодому немцу. Перевод Ю.Архипова 100
Не убий. Перевод В.Седельника 104
♦О чтении книг. Перевод Ю.Архипова 107
♦О Достоевском. Перевод В.Седельника 113
♦Библиотека всемирной литературы. Яб'рева? С. 115
♦Магия книги. Перевод АНауменко 142
Моя вера. Перевод С.Апта 150
♦Благодарность Гёте. Перевод Е.Маркович 153
♦За чтенйем одного романа. Перевод АНауменко 161
♦Любимые книги. Перевод АНауменко 165
♦Слово в первый час 1946 года. Перевод С.Апта 168
♦предисловие к изданию «Войны и мира» 1946 года. Перевод С.Апта 172
♦Письмо к Адели. С.Л/шш . 176
♦Письмо в Германию. Перевод С.Апта 183
♦Слово к участникам банкета по случаю Нобелевского торжества.
Перевод С.Апта 189
♦Благодарность и нравоучительное замечание. Перевод С.Апта .. 190
Письма
Перевод С.Апта
Карлу Марии Цвислеру [конец мая 19321 ..... 195
Сыну Хайнеру. 10.7.1932 196
Гансу Оберлбндеру (лето 1932 ?1 .,. . 198
.Клаусу Манну (21.7.-1938) 199
380
Леони Штемпфли. Лето 1938 199
Артуру Штолю. Апрель 1939 201
Паулю Отто Вазеру [сентябрь 1939] 201
Отто Бааперу [19.10.1939] 202
Ответ на письмо неизвестного, который призвал Гессе «чаще писать
на актуальные темы» [1939] 203
Рольфу Шотту [26.12.1939] 204
Письмо в утешение во время войны. 7 февраля 1940 205
Сыну Мартину [апрель 1940] 207
Рудольфу Якобу Хумму [30.7.1940] 208
Эрнсту Моргенталеру. 25.10.1940 208,
Эрнсту Моргенталеру [январь 1941] 209
Рудох^у Якобу Хумму [конец октября 1941] 211
Францу Ксаверу Мюнцелю [осень 1941] 212
Читательнице. Ноябрь 1941 ^ 2112
Максу Васмеру. 12.11.1941 213
Вилю Эйзенману [прибл. ноябрь/декабрь 1941] 215
Цевестке Изе Гессе-Рабиновйч [декабрь 1941] 216
Петеру Зуркампу. 17.12.1941 216
И^телю [1941] 217
Луизе Ринзер. 10.1.1942 218
Петеру Зуркампу. 15.1.1942 219
Двоюродному брату Фрицу Гундерту [27.1.1942] 220
Томасу Манну. 26 апреля 1942 221
Сестре Адели [октябрь 1942] 222
OtTO Энгелю. 9.1.1943 223
Герману Хубахеру [январь 1943] 225
Эмилю Бюрле. 10.2.1943 225
Эрнсту Моргенталеру [апрель 1943] 226
Отто Базлеру [16.8.1943] 227
^ыну Хайнеру [декабрь 1943] 228
Сы^ Мартину [начало декабря 1943] 229
Тёо Бешлину [вероятно, конец 1943] 230
Эмилю Штайгеру [начало января 1944] 231
Рудол1;фУ Якобу Хумму. 3.1.1944 232
Петеру Вайсу. 29.1.1944 233
МарианнЬ; Вебер [февраль 1944] 234
Двоюродной сестре Лике Курц-Гессе [весна 1944] 235
Племяннику Карло Р1^нбер1у [апрель 1944] 235
Читательнице [апрель 1944] 236
Маргарите Филипс: Апрель 1944 23^
Герберту Левандовскому [май 1944] 237
TiiHcy Рейнгарту [середина мая 1944] 238
Эрйсту Цану [июнь 1944] 238
Сестре Адели. 13.12.1944 239
Луизе Ринзер {декабрь 1944] 241,
Вшкю Эйзенману [январь 1945] 241
Отто Базлеру. Пасха 1945 242
Курту Кле^ру [апрель 1945] 242
Томасу Манну. Троицьш день 1945 243
Понтеру Фридриху. 18.6.1945 * * * 244
Карлу Кереньи [7.7.1945] 245
^ёне Нинон [16.7.1945] • 246
Иоганне Аттенхофер {июль 1945] .......’ 246
Альберту И.Вельти. Конец июля 1945 ... . . 247
Курту Экнеру [август 194^ 248
381
Френи Келлер (август 1945] 248
Гюнтеру Фридриху. 31.8.1945 249
Томасу Манну. 15 декабря 1945 250
Генриху Киферу (1945) 251
Вальтеру Бауэру. 24.9.1945 252
Готфриду Берману-Фишеру. 28.9.1945 253
Р.Я. Хумму (октябрь 1945, черновик) 254
Епископу Теофилю Вурму. 3.11.1945 255
Гюнтеру Фридриху. 20.11.1945 257
Читательнице (23.11.1945] 258
Сыну Хайнеру (январь 1946J 258
В американское посольство. 25.1.1946 259
Эрнсту Моргенталеру. 1.2.1946 260
Вильгельму Шуссену. 1-марта 1946 261
Паулю А.Бреннеру (6.3.1946] 263
reopiy Рейнхарту. 9.3.1946 264
Иоахиму Маасу. 23.3.1946 265
Эрвину Аккеркнехту (13.4.1946] 266
Петеру Зуркампу. 21.4.1946 ; 266
Иоахиму Маасу. 28.4.1946 268
Петеру Зуркампу. 8.5.1946 270
Д-ру Пауле Филиппсон. Май—июнь 1946 271
Георгу Рейнхарту. Июнь 1946 272
Господину Л.Э. 25 июня 1946 273
Томасу Манну. 23 октября 1946 274
Томао^ Манну. 19 ноября 1946 275
Людвигу Финку. 6.3.1947 276
Андре Жиду. Конец февраля 1947 278
Вальтеру Мейеру. 17^.1947 279
Эрвину Аккеркнехту. 3.5.1947 280
Гансу Гольцу (середина мая 1947] 281
Хедвиг Фишер. 30.6.1947 282
Томасу Манну. 3 июля 1947 283
Луизе Ринзер (лето 1947] 284
Г.К. Бодмеру. 8.7.1947 285
Саломе Вильгельм (ав1уст 1947] 286
Отто Гартману. 5.9.1947 286
Господину д-ру П.Э. 16 сентября 1947 288
Томасу Манну. 13 октября 1947 288
Эдмунду Наттеру. 28.10.(1947] 289
Читательнице. Ноябрь 1947 290
Томасу Манну. 12 декабря 1947 .* 291
Гансу Шрайберу [декабрь 1947] 292
Ответ на письма с просьбами (1947] 292
Рольфу Шотту. 10.1.1948 294
Саломе Вильгельм. И. 1.1948 ...' 294
Студенту. 16.1.1948 * 296
ОттоБазлеру (20.Ы 948] 297
Гансу Мартину Брейеру (22Л. 1948] 297
Петеру Зуркампу. 25.1.1948 298
Альберту Гёзу. 27.1.1948 299
Сестре Марулле. 14.2.1948 301
Сыну Хайнеру (конец февраля 1948] 301
Томасу Манну (начало марта 1948] 302
Францу Феттеру (середина марта 1948] 303
Читательнице. Март 1948 304
382
Читательнице. Март 1948 304
Людвигу Реннеру. 3.4г[1948] 305
Эрнсту Коппелеру. 26.4. [1948J 306
Максу Броду. 25.5.1948 307
Герману Казаку [7.6.19481 310
Томасу Манну. 24 июня 1948 310
Эдуарду Корроди [начало июля 1948] 312
Людвигу Финку [начало июля 1948) 312
Студенту [приблизительно июль 1948] 313
К.Шельману [1948] 314
Эдмунду Наттеру [19481 315
Гюнтеру Бёмеру [26.11.19481 315
Рольфу Шотту. 9Л2Л19481 316
ЛЮДВИ17 Финку [конец декабря 19481 317
Зигфриду Унзельду [конец декабря 19481 318
Читательнице [конец 19481 319
Курту Лихди [19481 320
Господину Ф. 12 января 1949 320
Господину А.Ш. 27 октября 1949 * 321
Томасу Манну. Ноябрь 1949 322
Студенту из Бонна. 1949—1950 323
В журнал 4jlac Эспаньяс». 31 января 1950 323
Представителю немецкого общества деятелей культуры.
Февраль 1950 324
Феликсу Лютцкендорфу. Май 1950 325
Томасу Манну к его семидесятипятилетию. Июнь 1950 327
Сэйдзи Такахаси, главному редактору журнала «Гундзо»» Токио.
14 сентября 1950 года 328
Ответ на письмо из Германии. Октябрь 1950 329
Томасу Манну. 8 ноября 1950 332
Госпоже Р.Р. 1950 333
Поздравление Петеру Зуркампу (к 28 марта 1951 года) 335
Томасу Манну [конец октября 1951] 339
Томасу Манну. Январь 1953 342
Томасу Манну. Март 1953 343
Рудольфу Панвицу. Январь 1955 344
Томасу Манну к 6 июня 1955 347
Господину Гольке. Февраль 1955 347
Томасу Манну. Признание и поздравление* 1955 349
Гельмуту Кирштейну. 12 марта 1960 350
Редакции журнала «Вопросы германской и международной
политики», Кёльн. Март 1960 351
Приветствие «Комунита эуропеа ди скриттори», Милан. Июль 1961 351
Комментарии В. Седельник 353
Гессе Г.
Г 43 Собрание сочинений. В 8 т. Т. 8: Пер. с нем. /Со¬
ставители: Н.С.Павлова, В.Д.Седельник; Коммент.
В.Д.Седельника; Художники: М.Е.Квитка, О.Л.Пусго-
варова. — М.: АО Изд. группа «Прогресс» — «Лите¬
ра»; Харьков: Фолио, 1995. — 384 с. — (Urbi et Orbi).
ISBN 5-01-004485-4 (т. 8).
ISBN 5-7150-0132-3 (т. 8).
в восьмой том собрания сочинений Пгрмана Гессе вошли литфа-
турно-критические эссе, публицистика и письма.
Литературно-художественнос издание
ГЕССЕ Гермаи .
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В восьми томах
Том 8
Художественный редактор Б.Ф.Бублйк
Технический редактор Е.В.Антонова
Корректор О.Е.Косова
Книга отпечатана на бумаге,
предоставленной фирмой «ИСА».
ИБ № 20083
ЛР № 066775 от 25.02.92.
Подписано в печать с готовых диапозитивов 07.02.95.
Формат 84Х 108/32 Бумага офсетная.
Гарнитура тайме. Печать высокая.
Уел. печ. л. 20,16+1,68 вкл. Уел. кр.-отт. 21,99.
Уч. изд. л. 23,12+1,8 вкл. Изд, № 49511.
Тираж 25 000 экз. (1-й завод 1—8000 экз.У. Заказ N<2 5-258.
АО Издательская группа «Прогресс»^,
119847, Москва, Зуевский бульвар, 17
«Фолио»,
310002, Харьков, ул. Чернышевского, 34
Книжная фабрика им. М.В.Фрунзе,
310057, Харьков,, ул. Донец^Захаржевскогр; 6/8
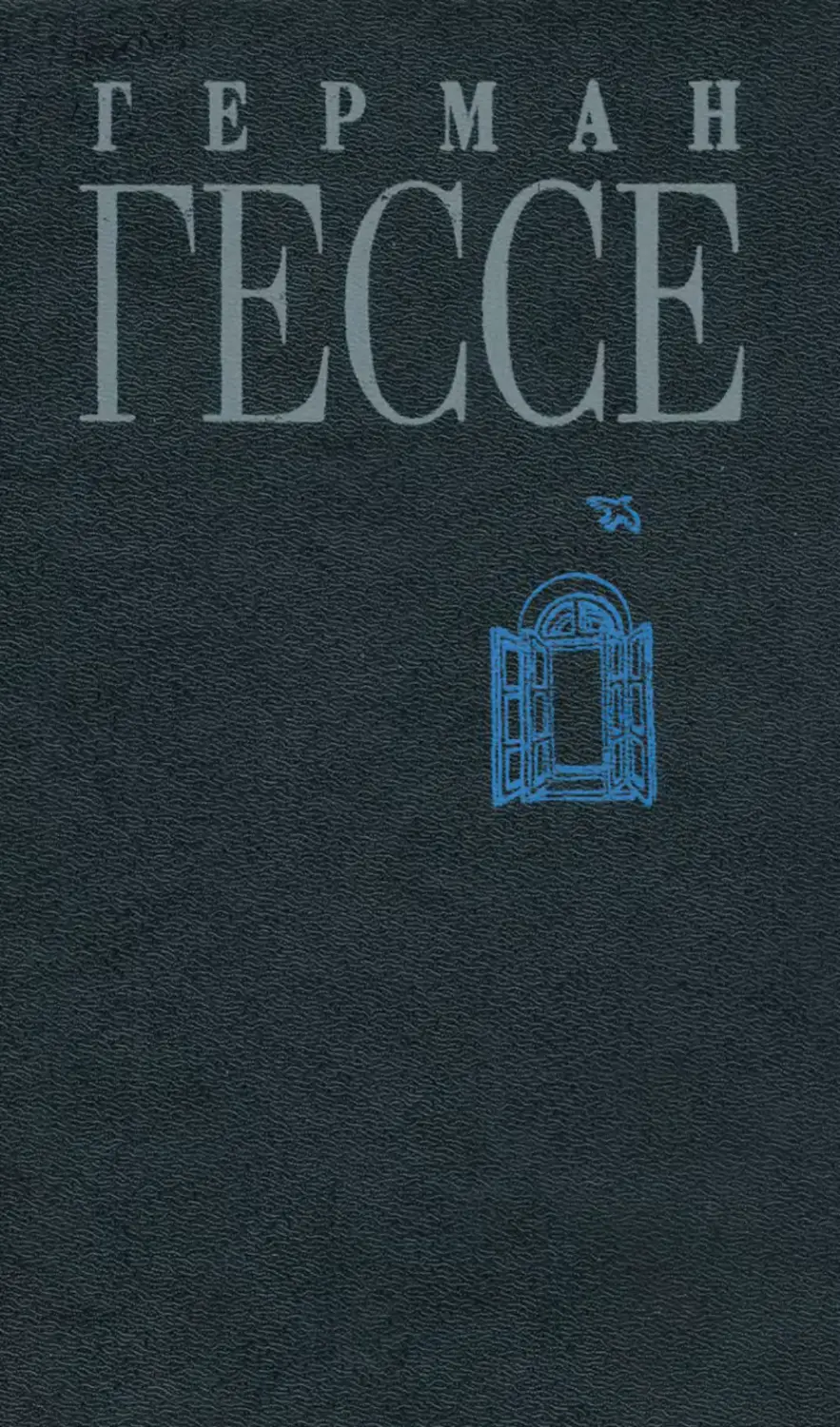
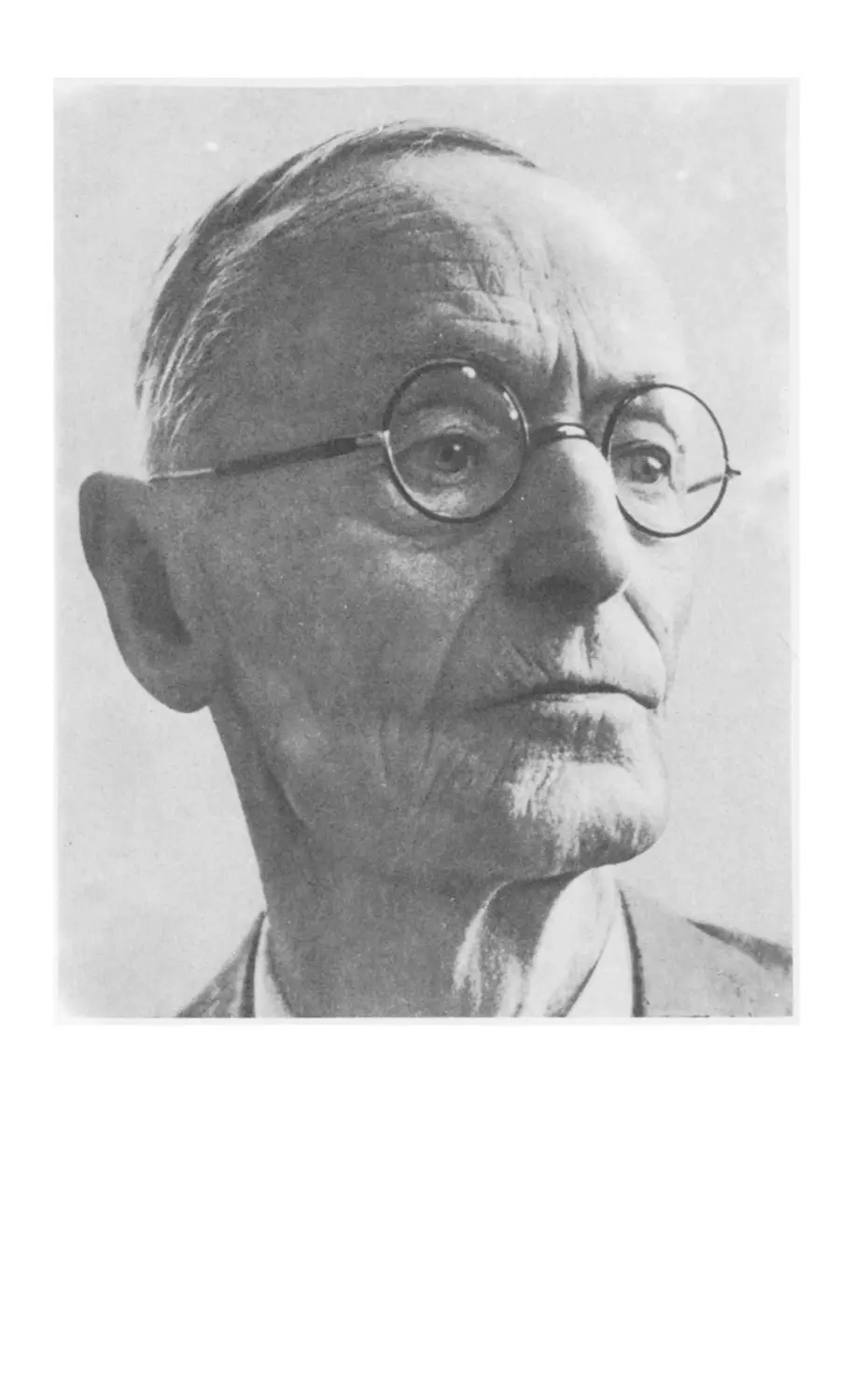


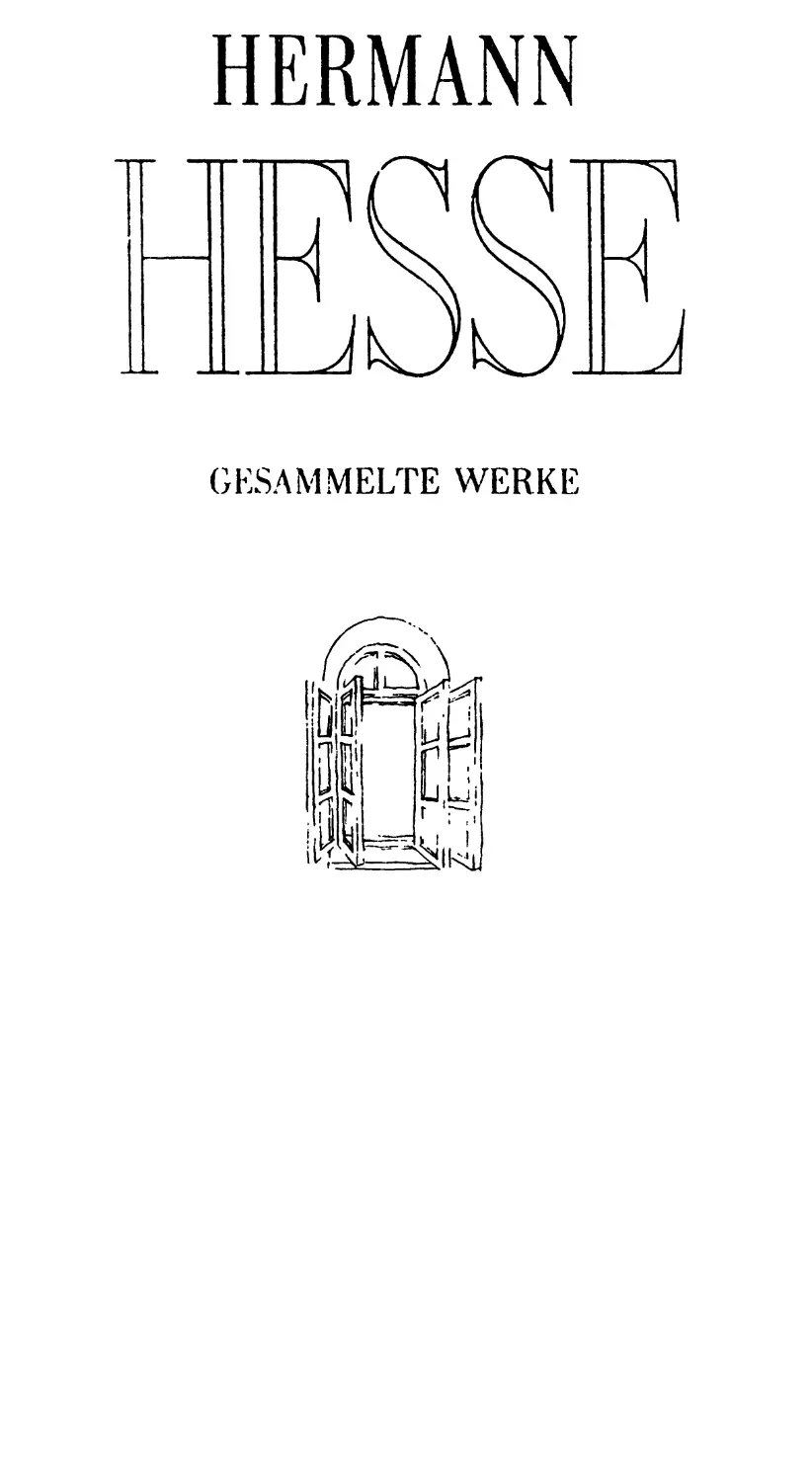
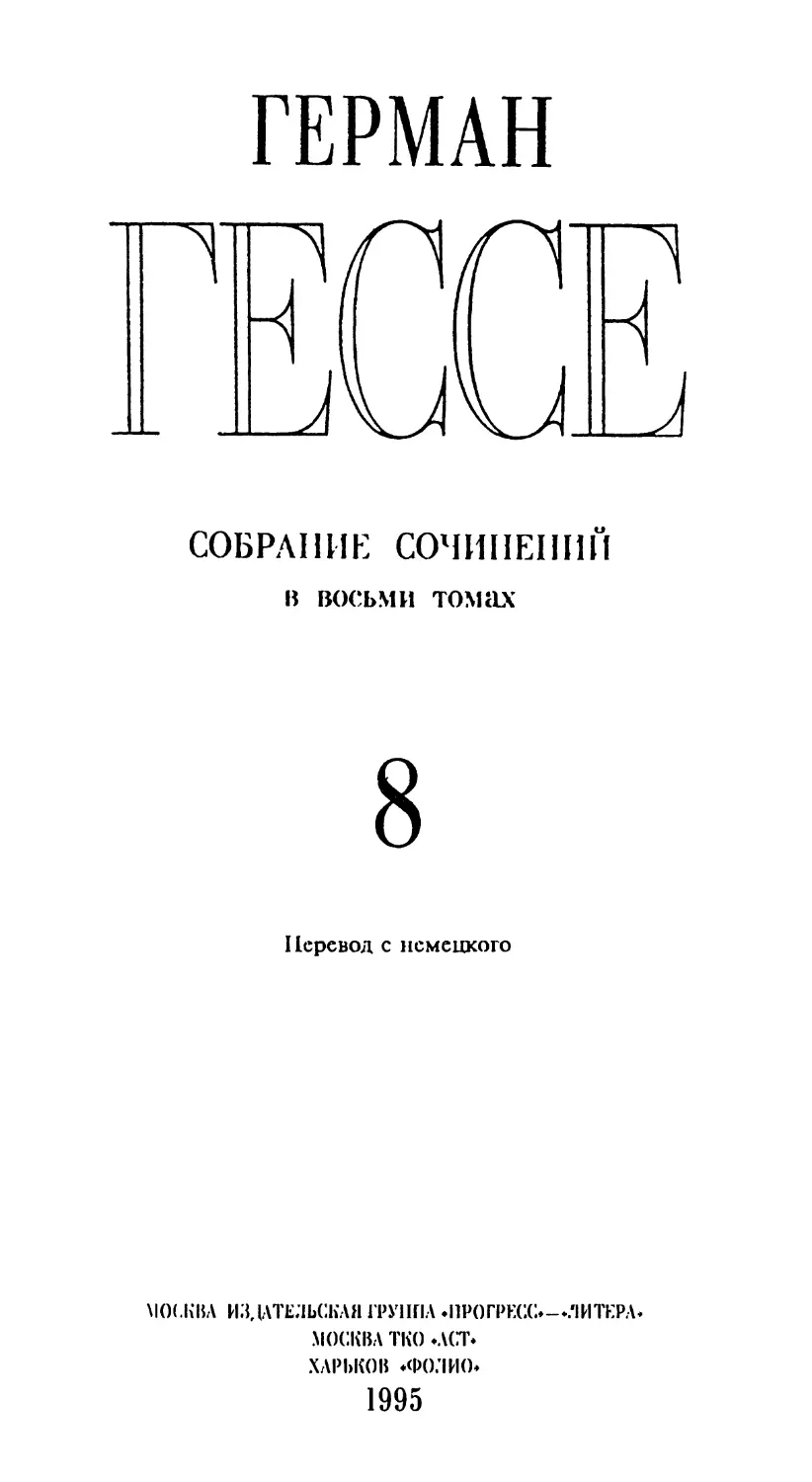
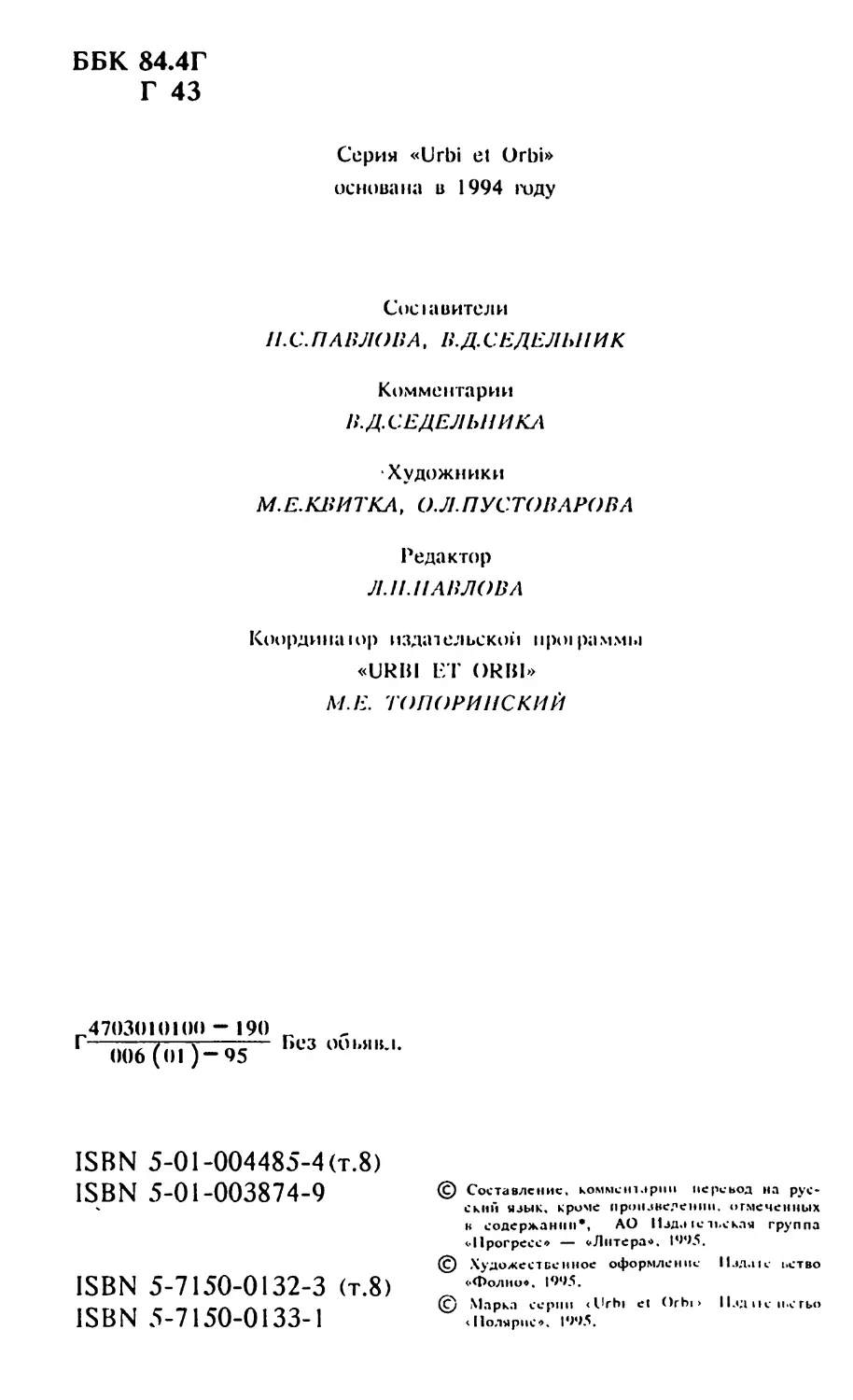


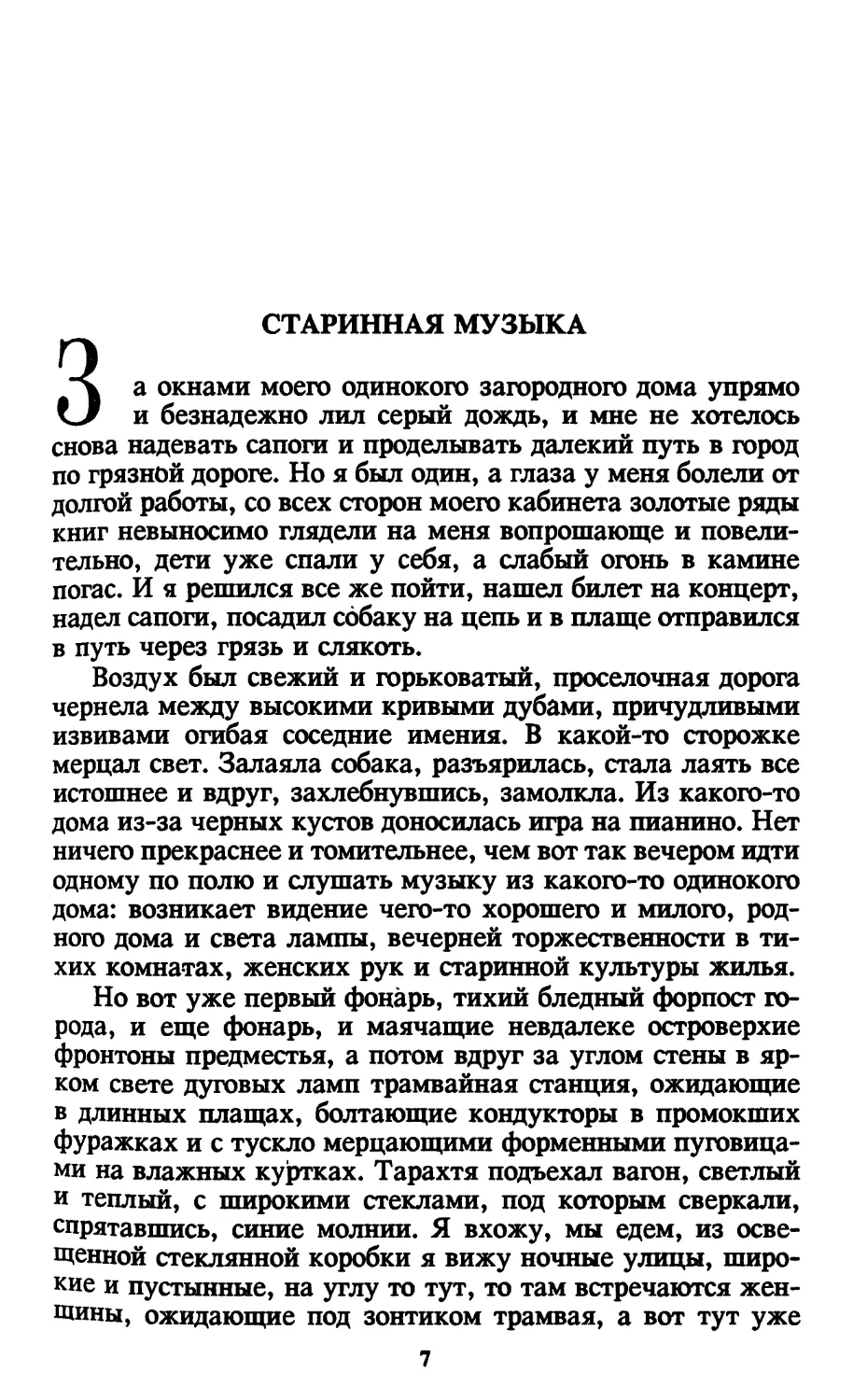
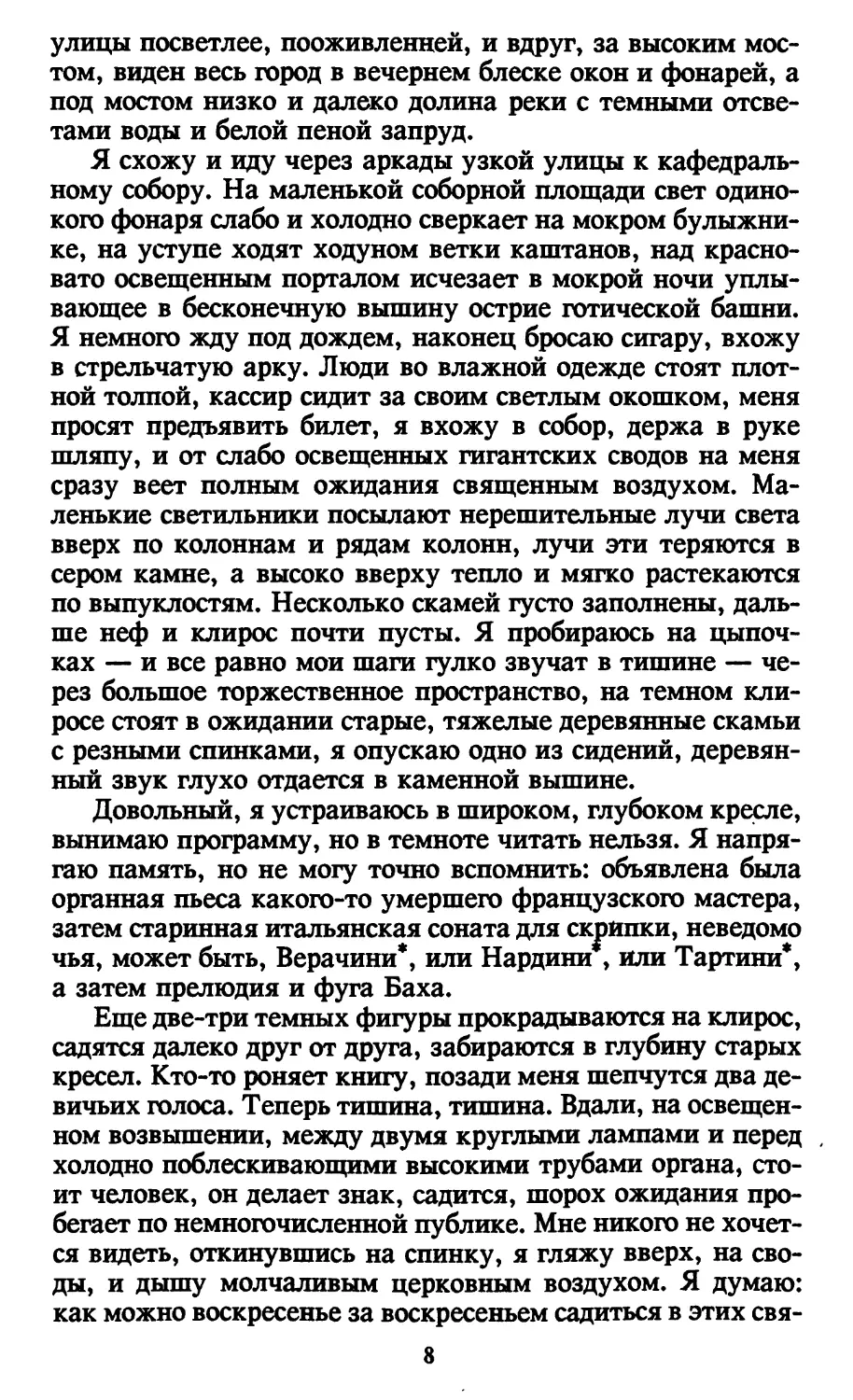
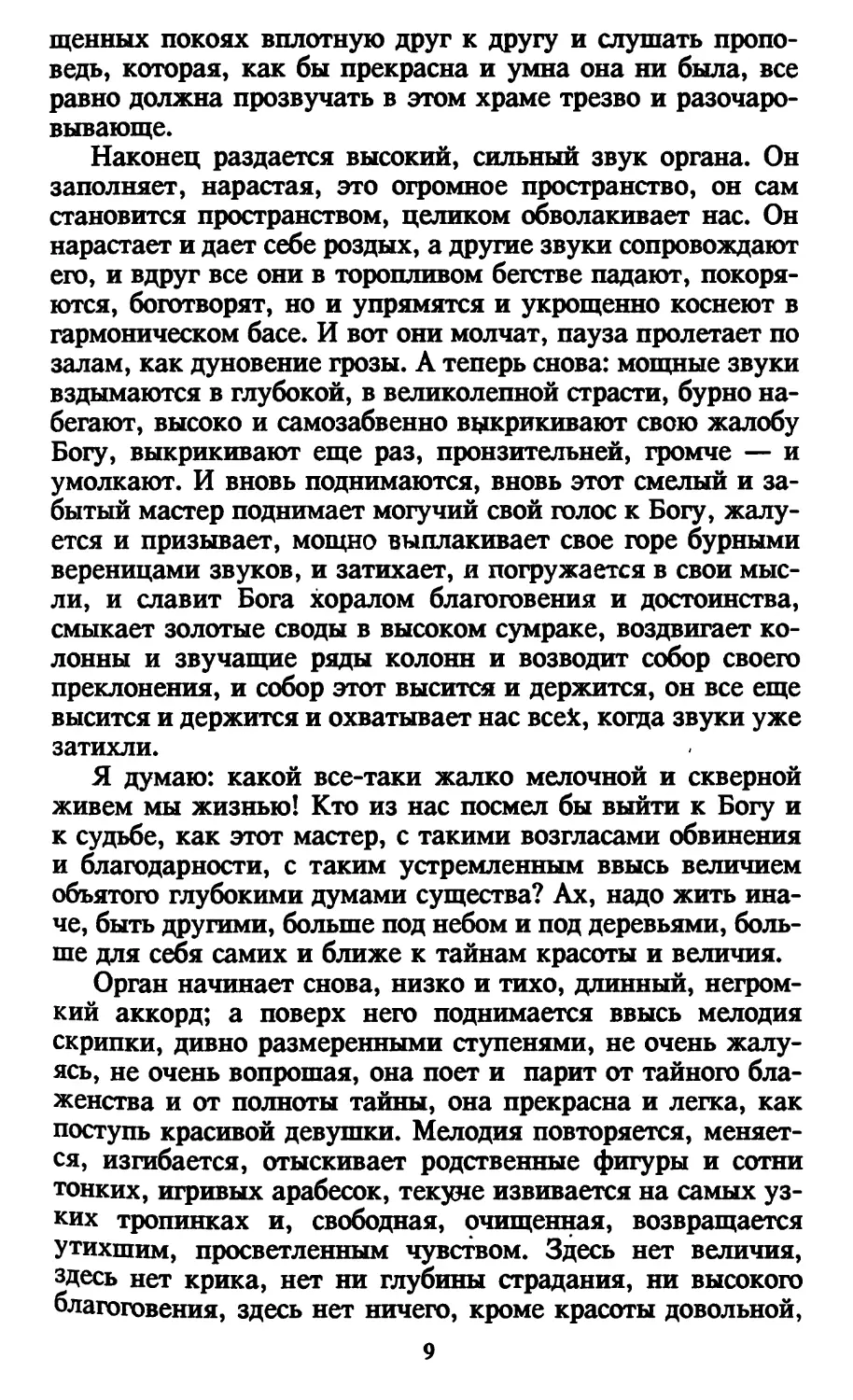
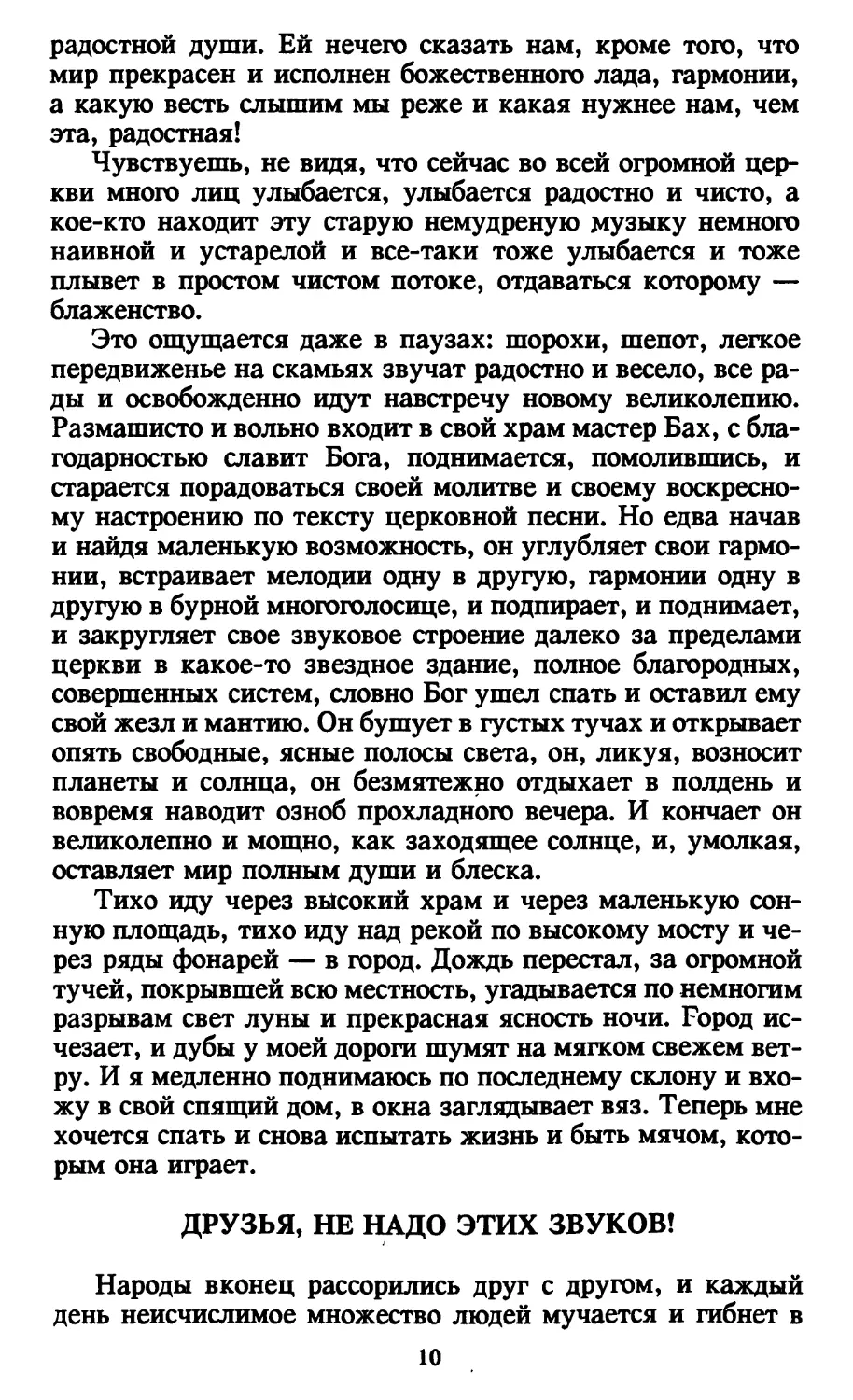
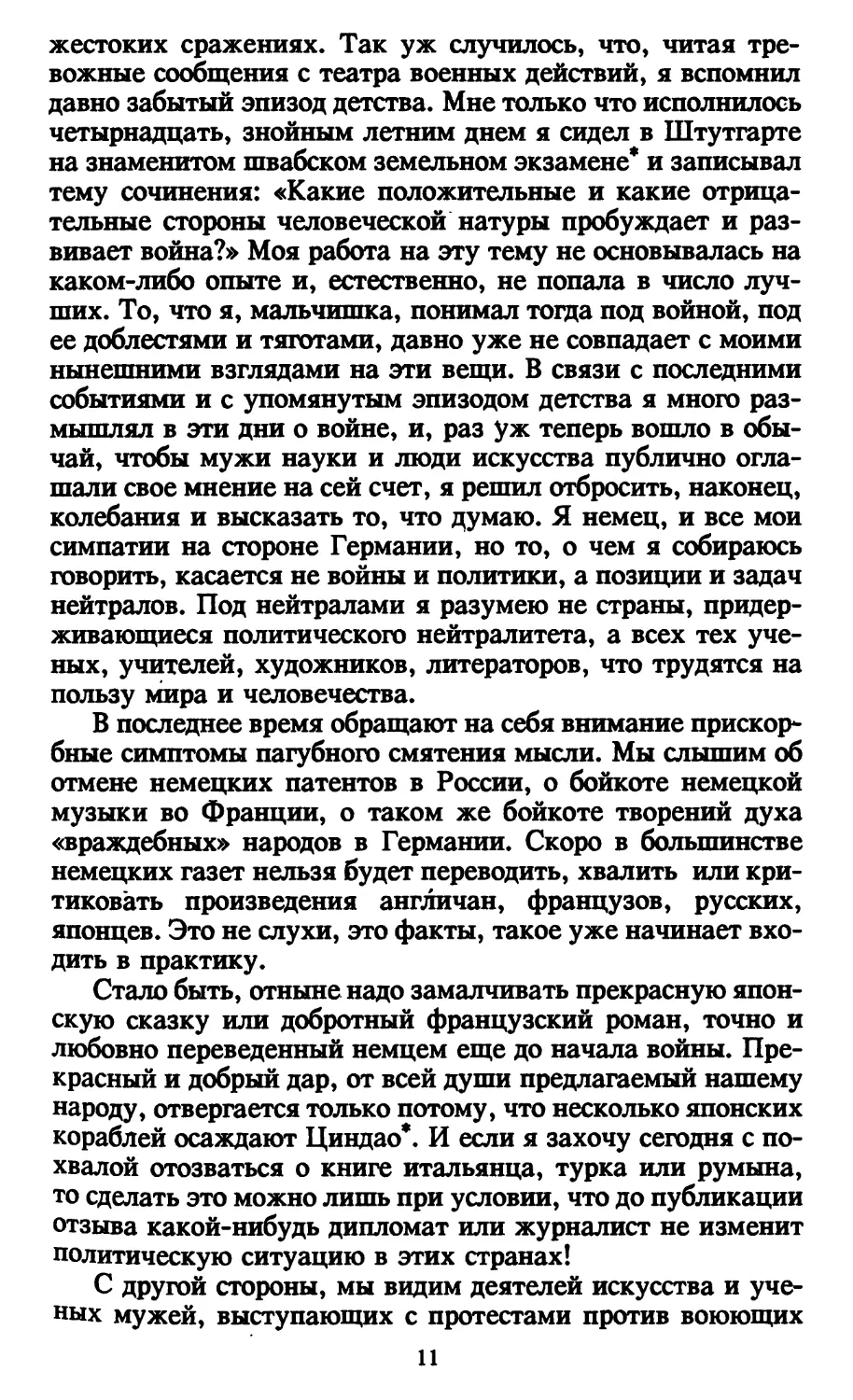
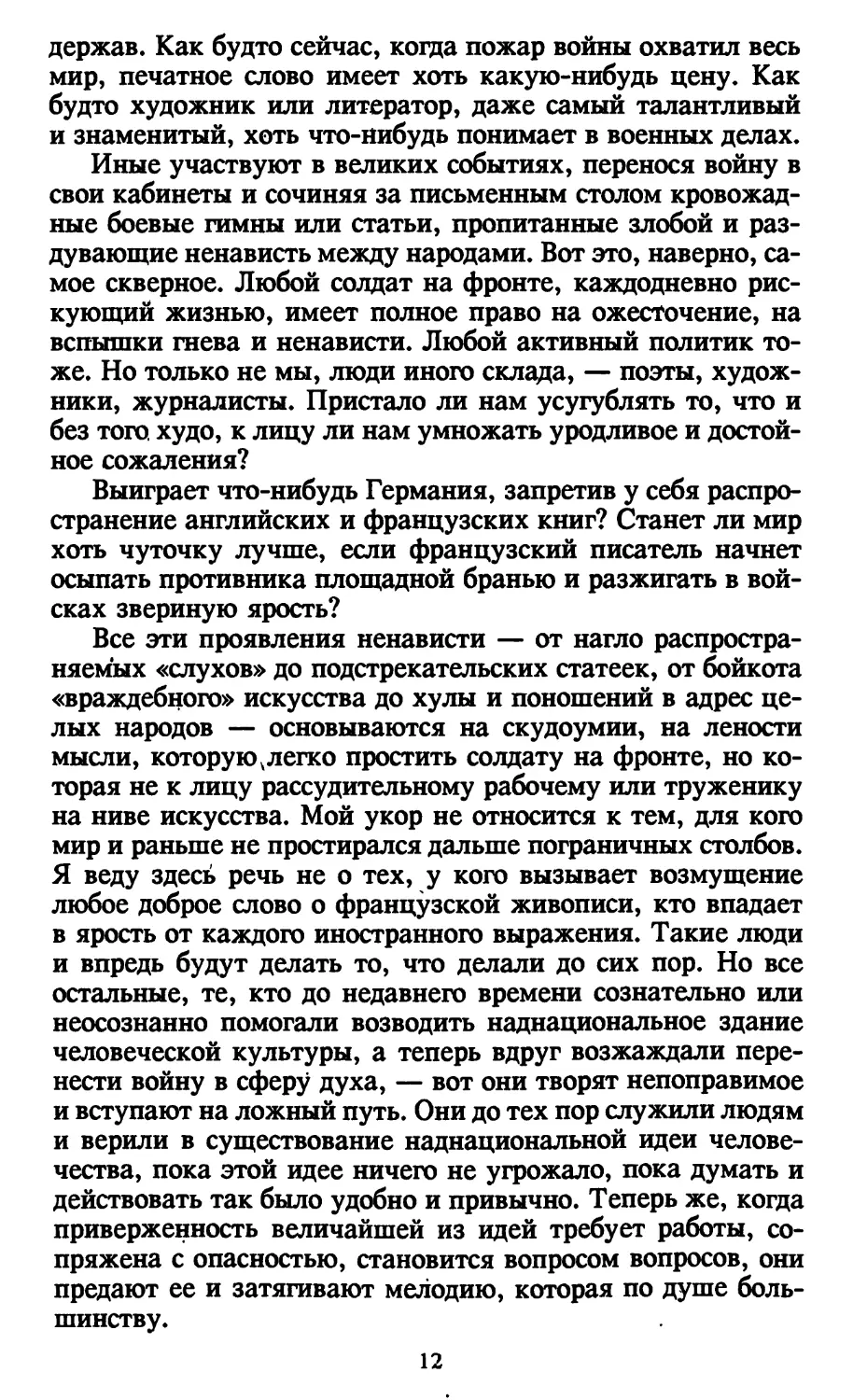
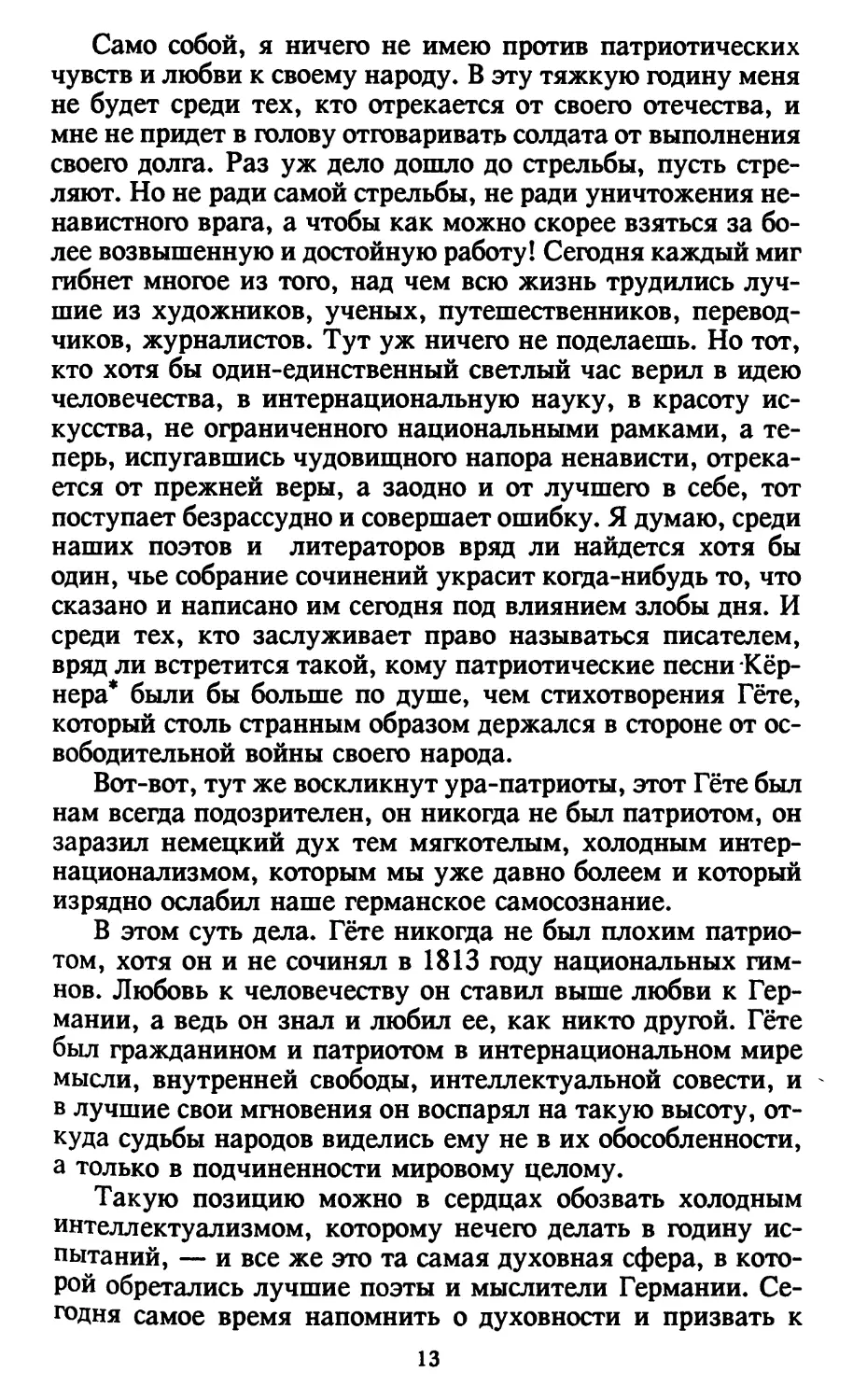
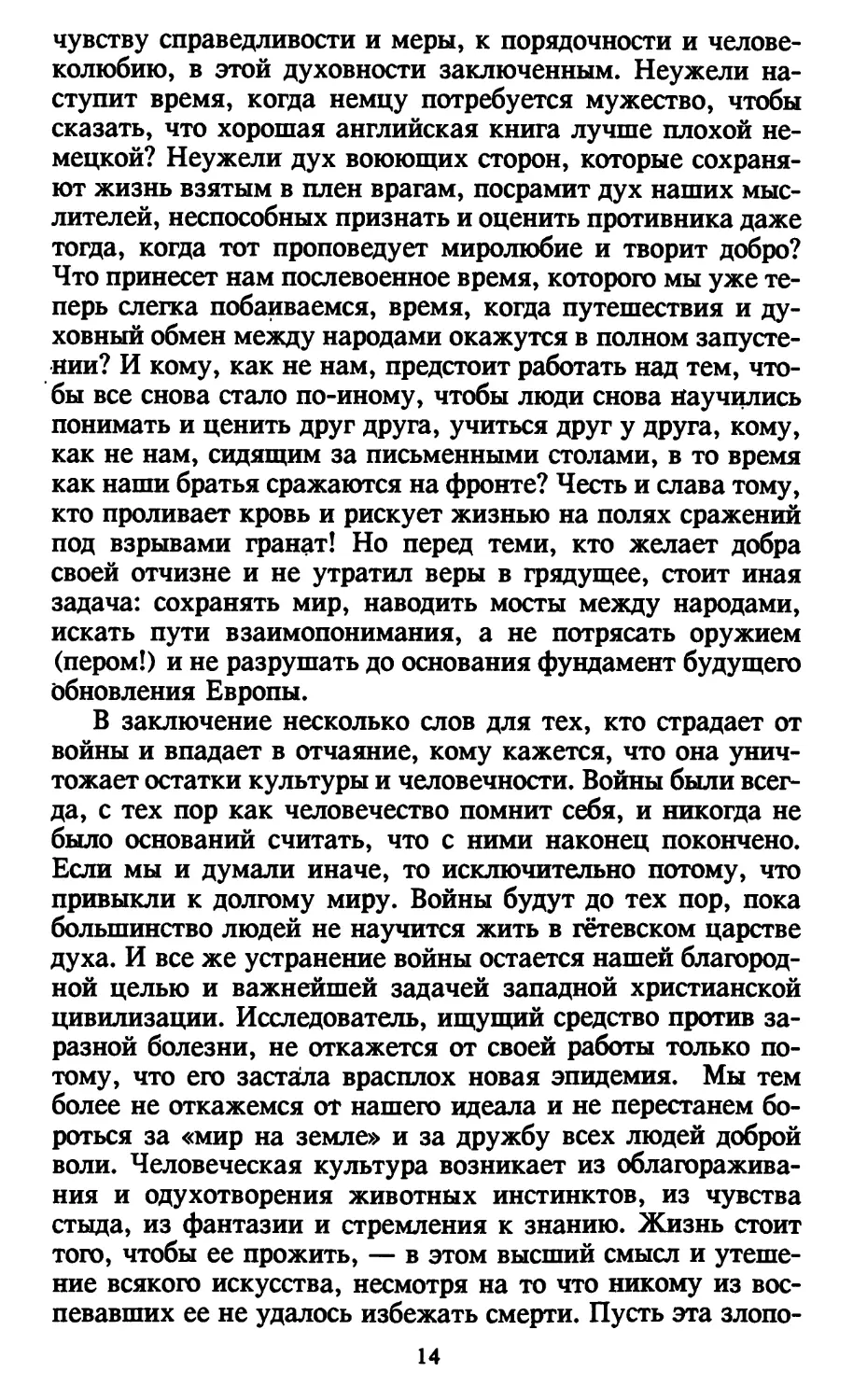
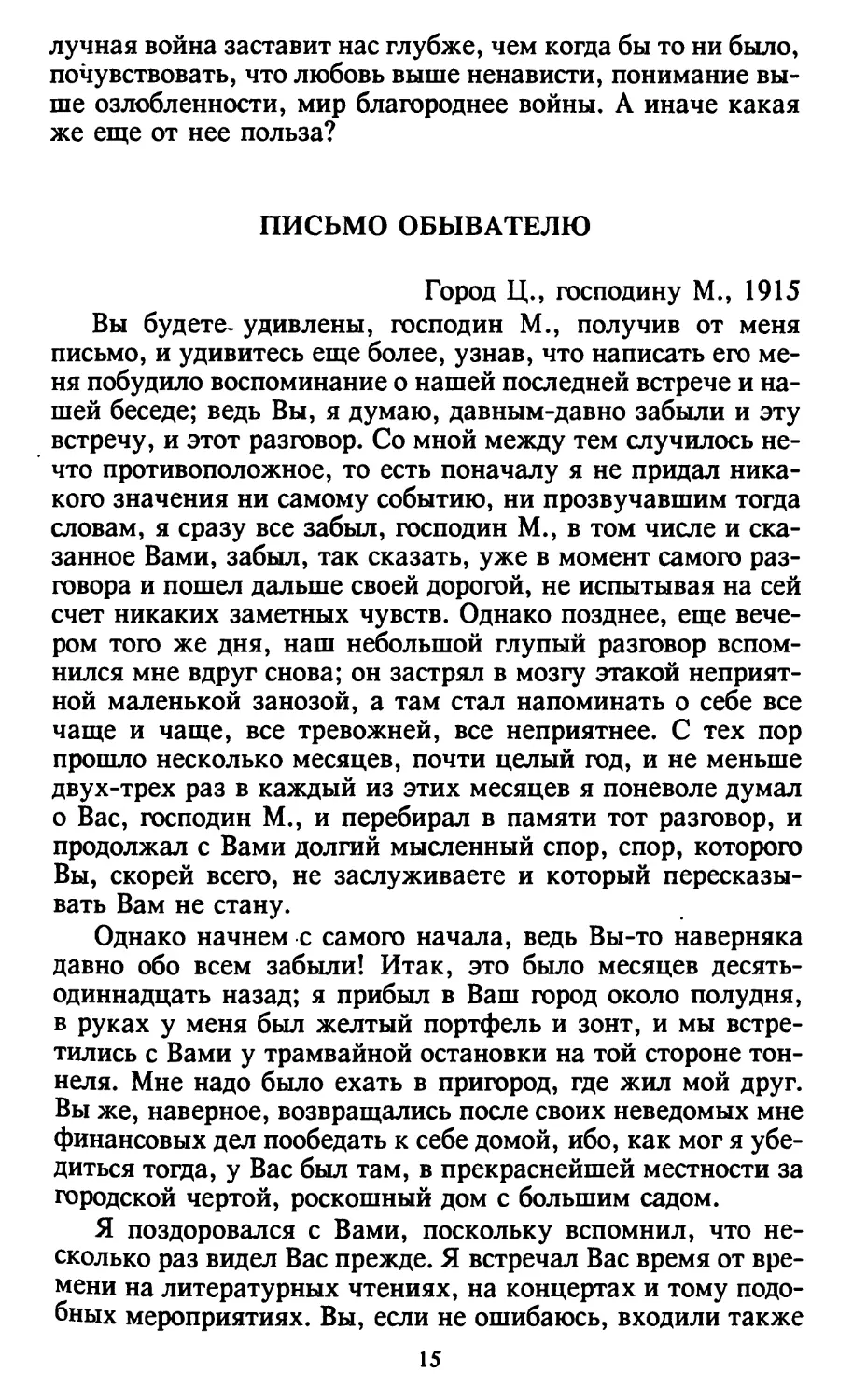
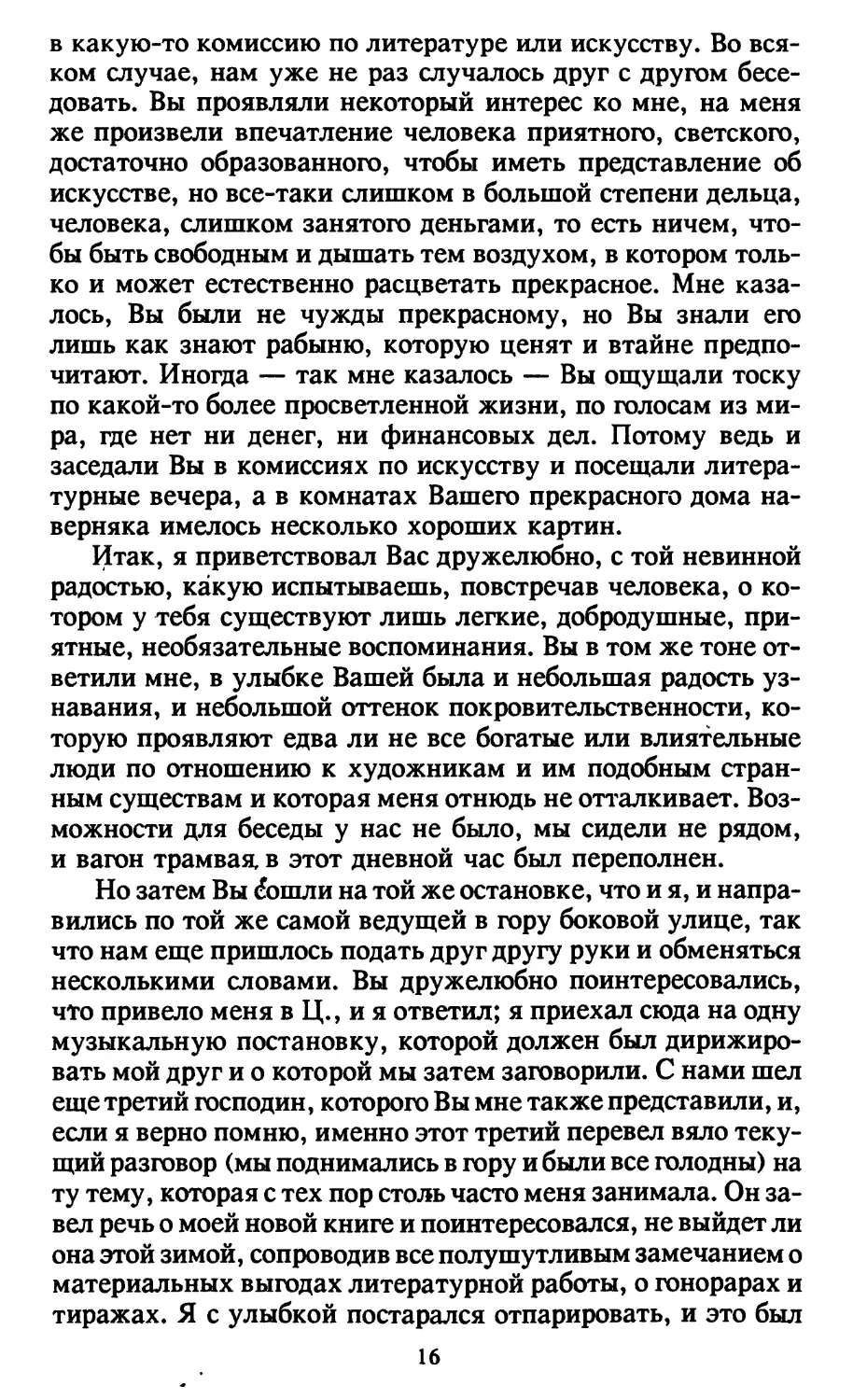
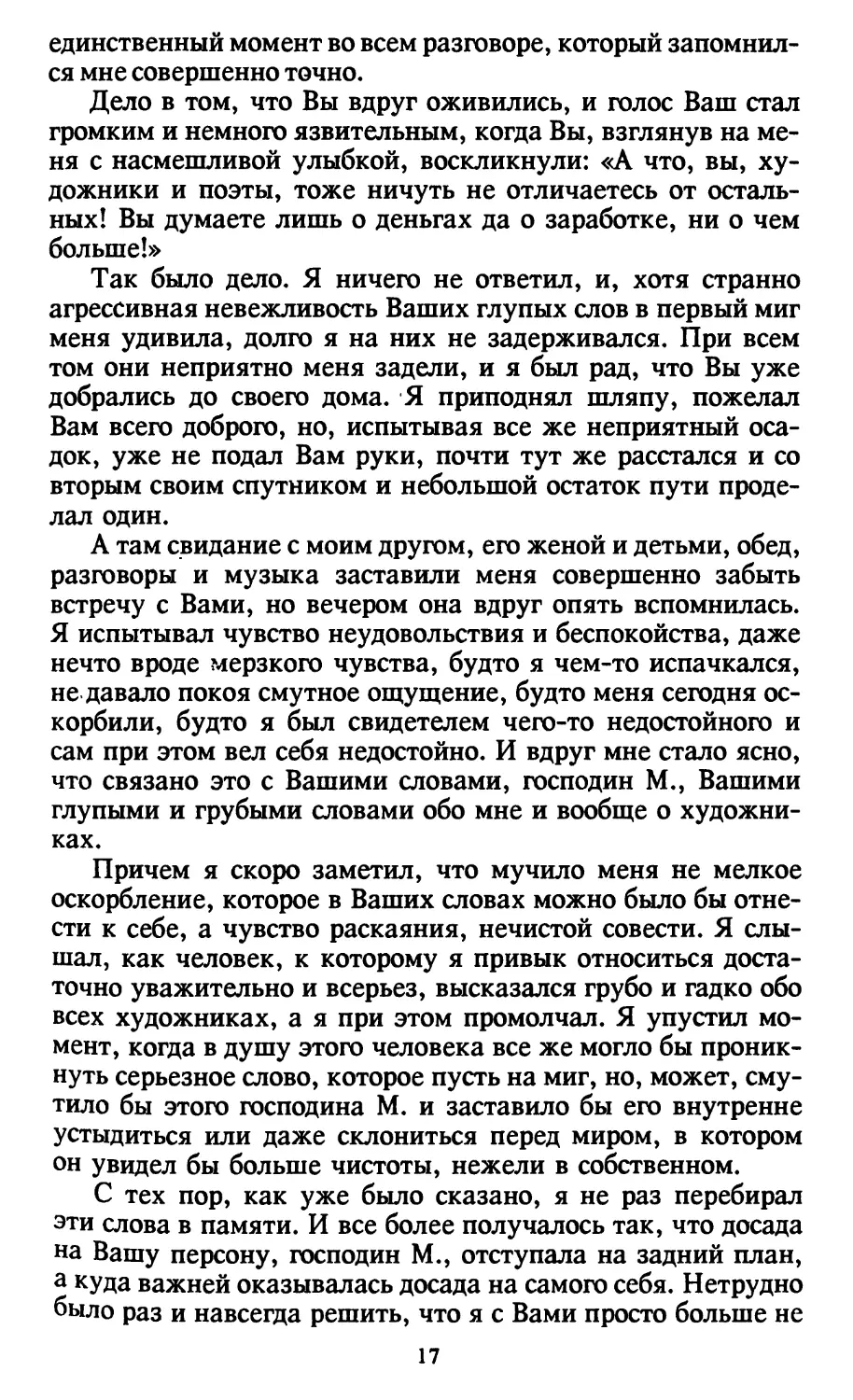
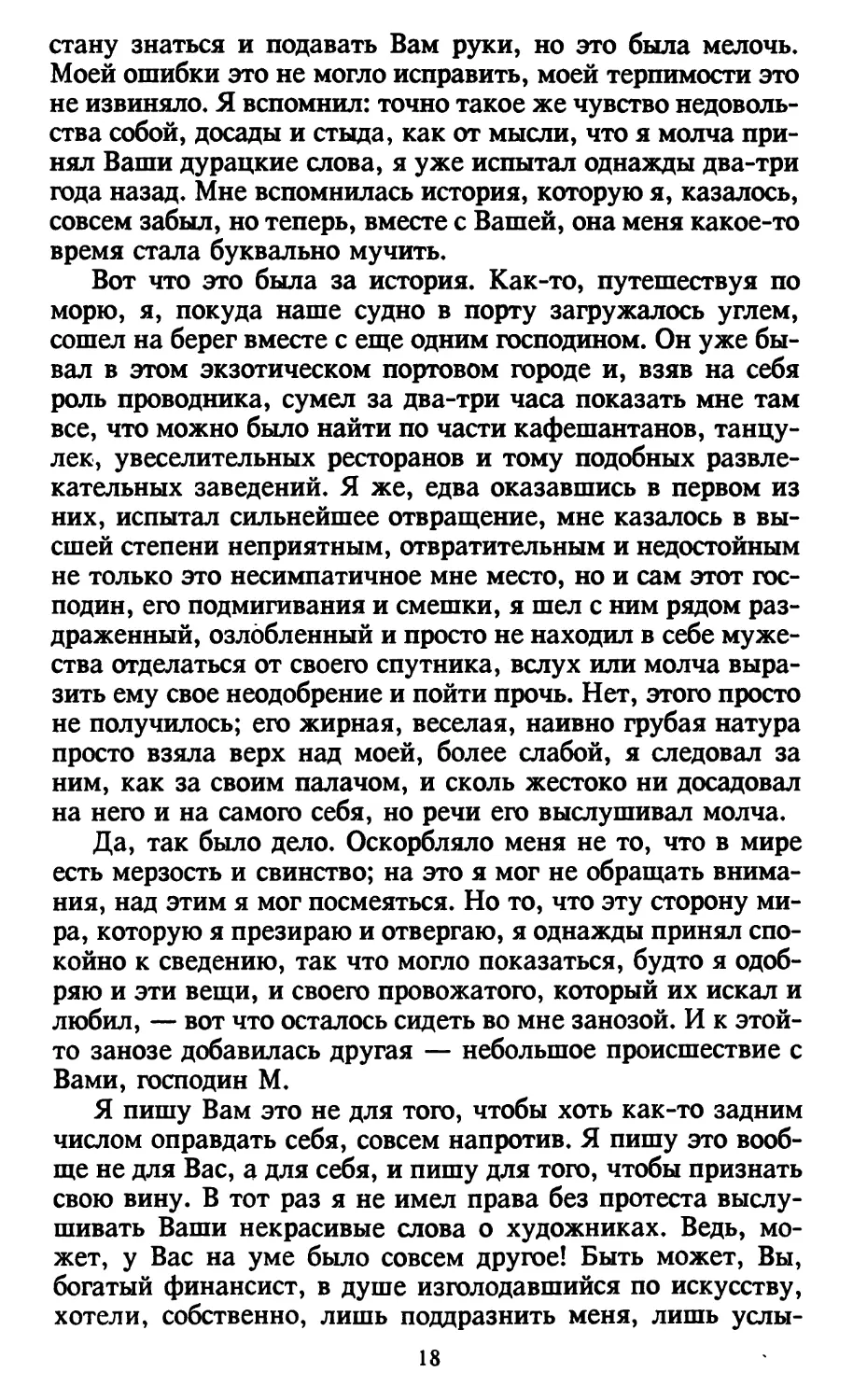
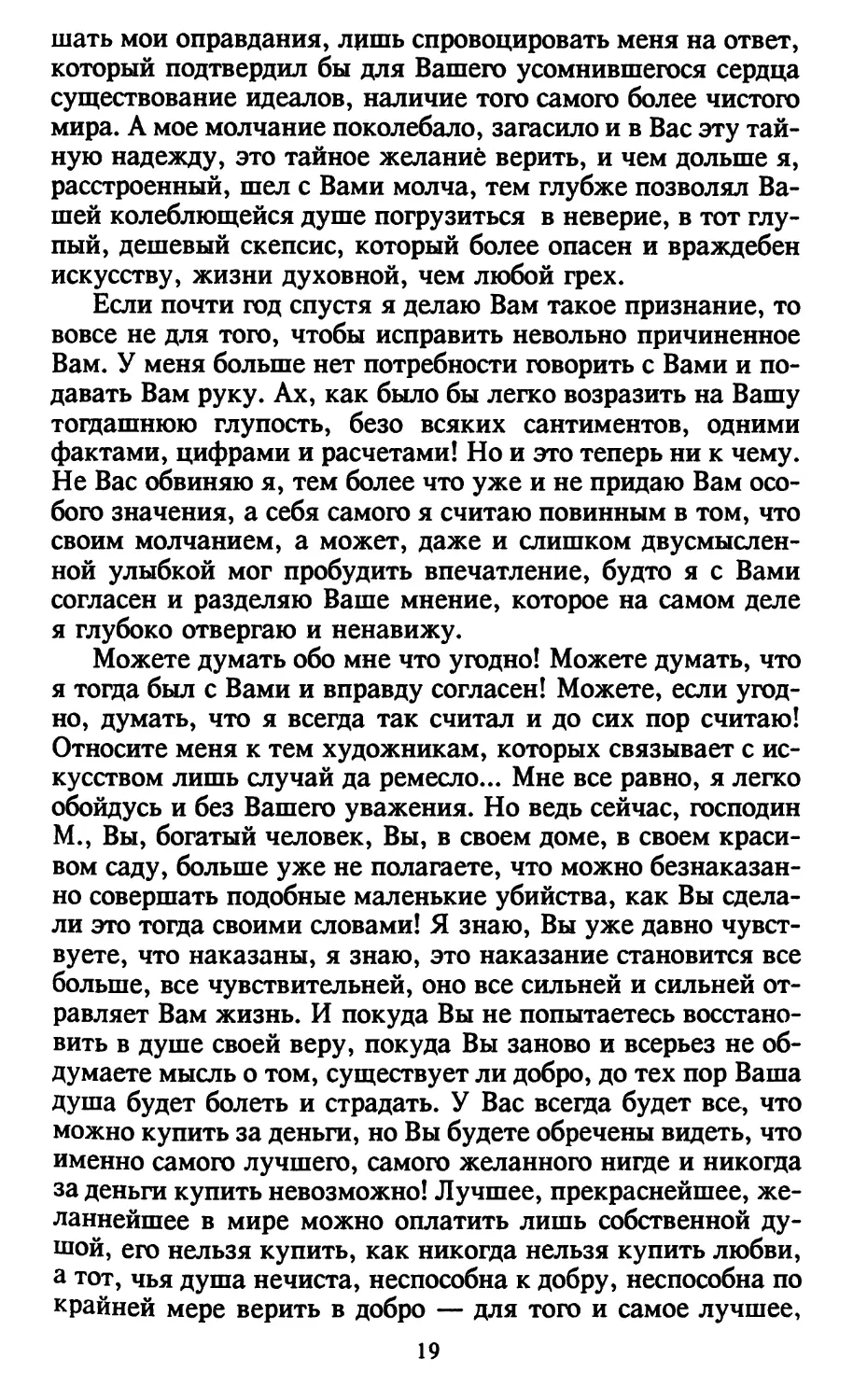
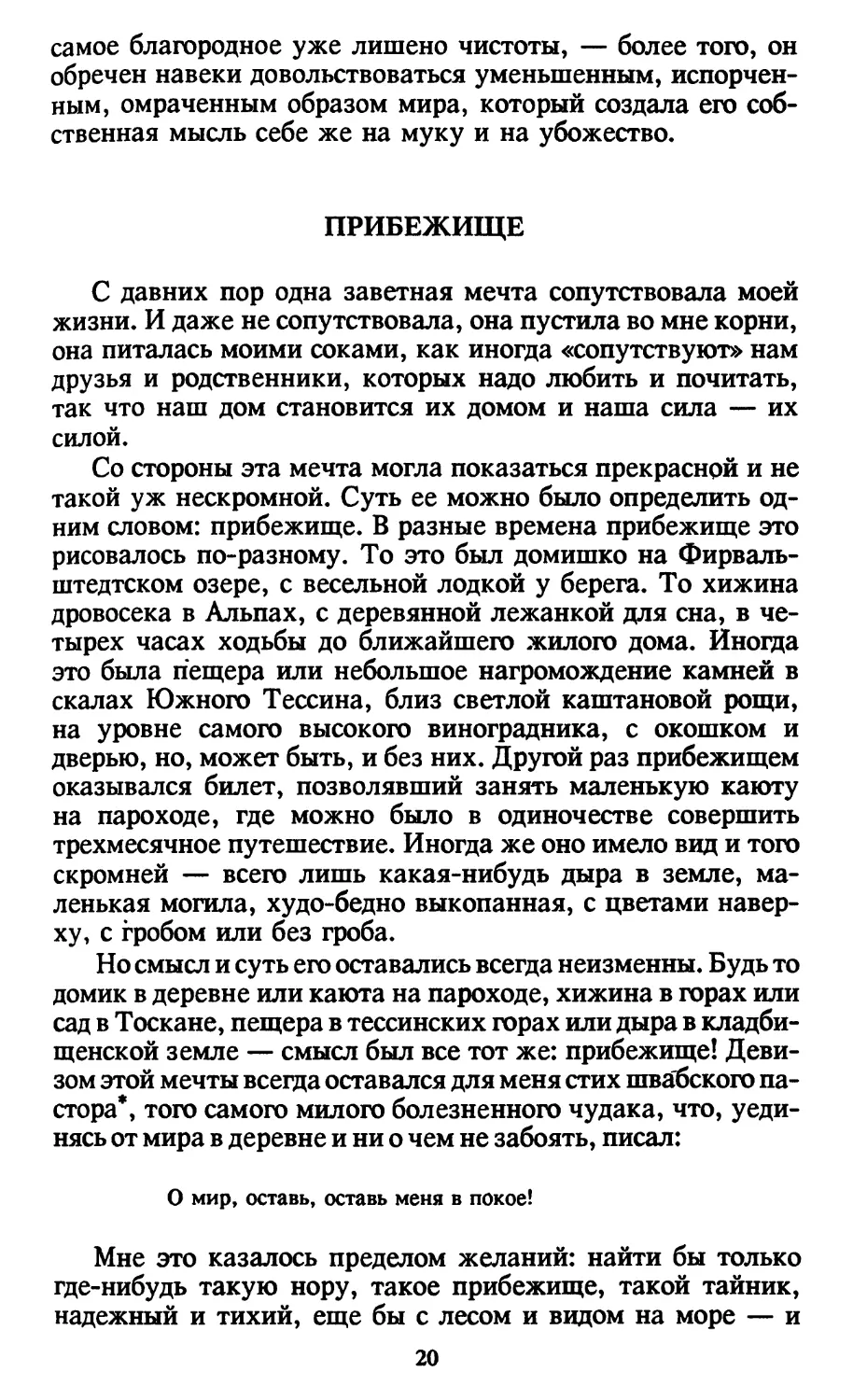
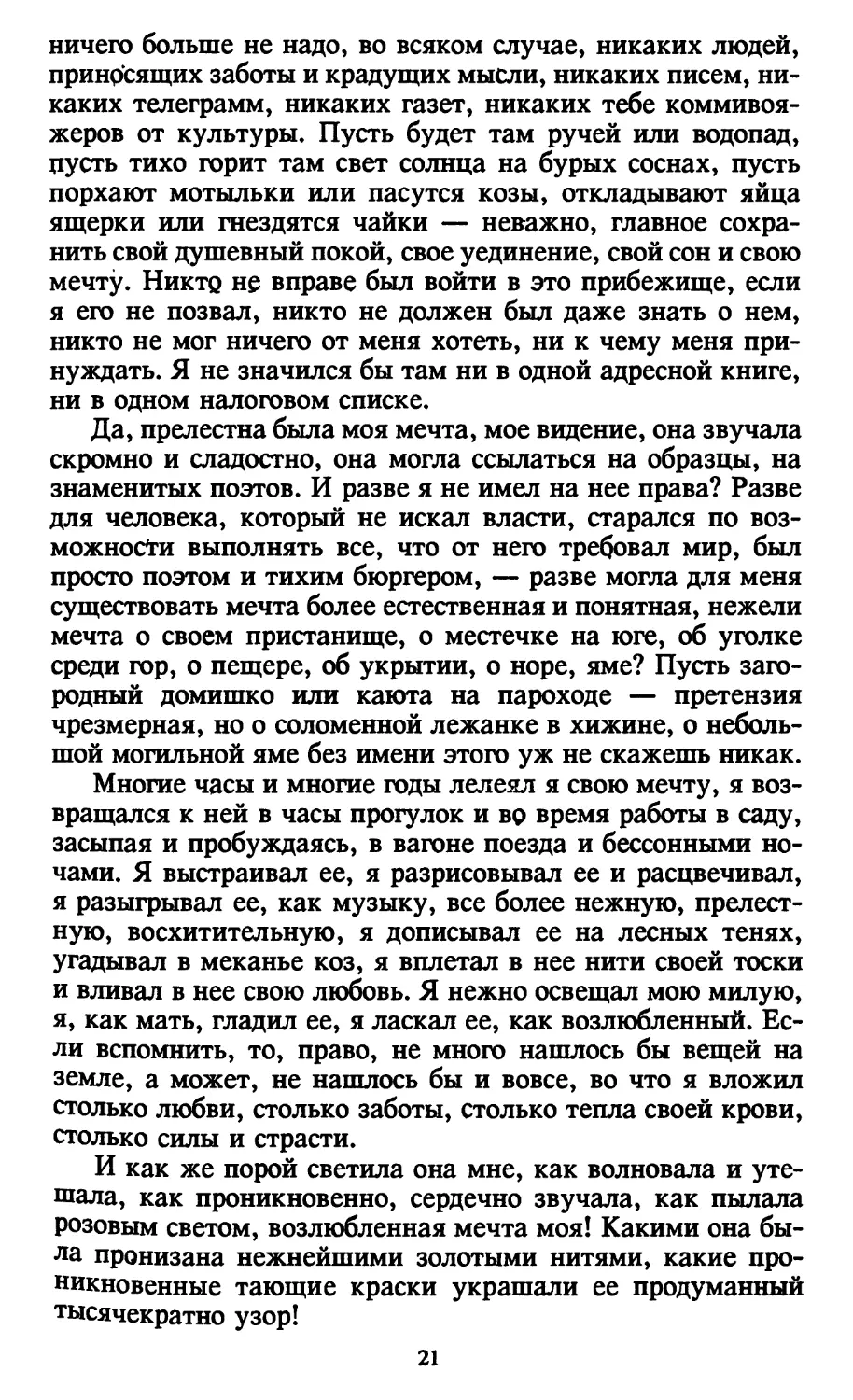
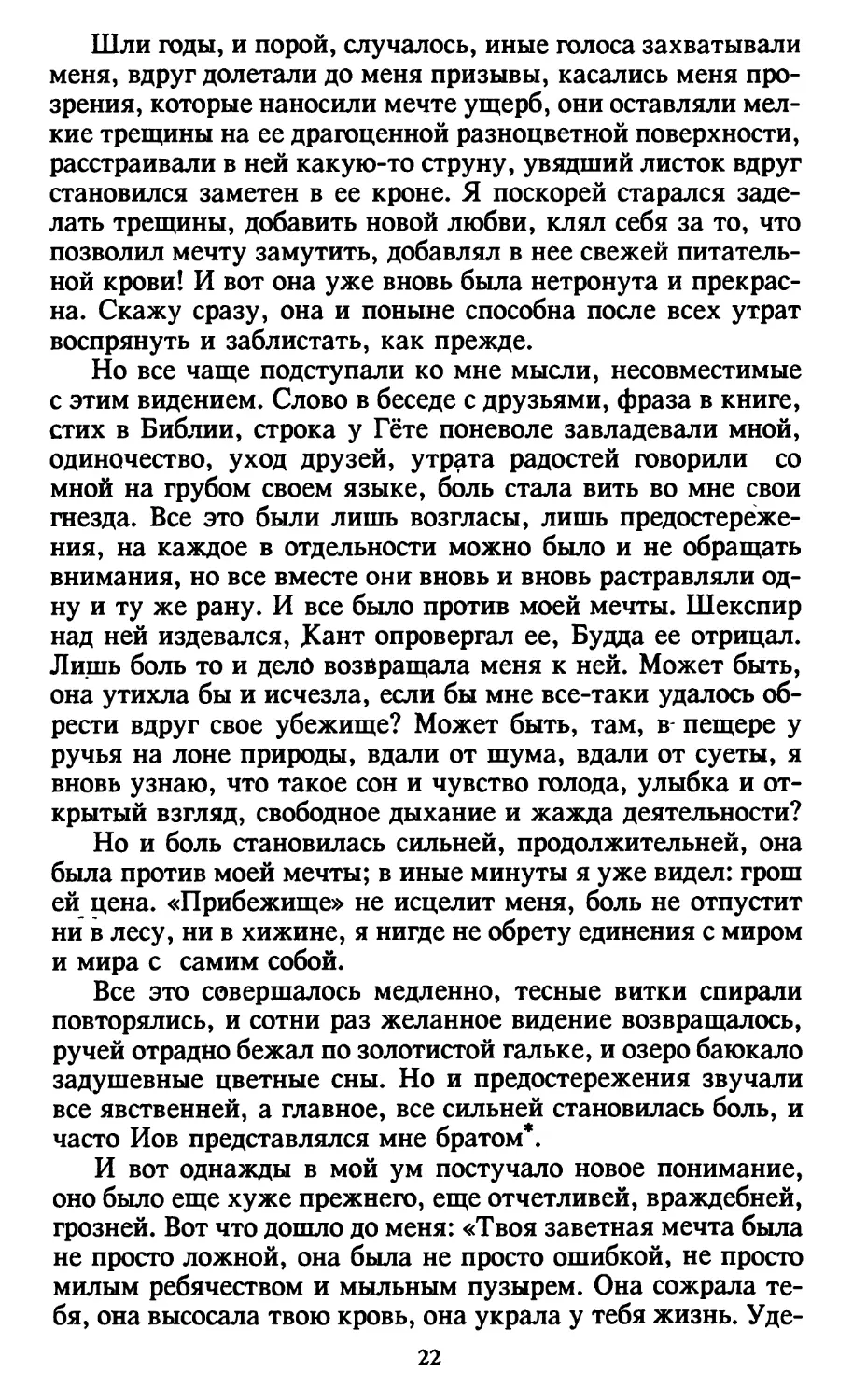
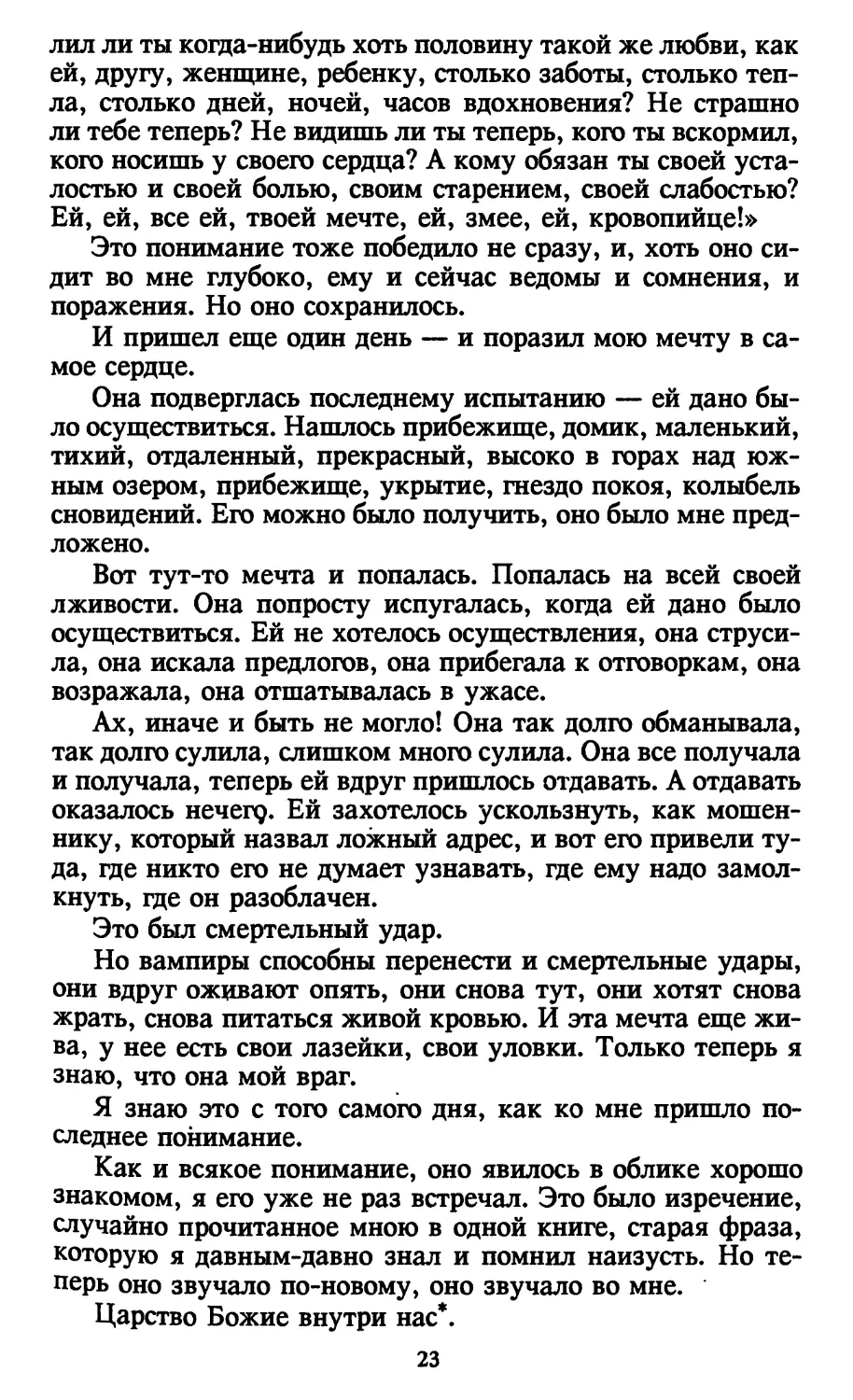
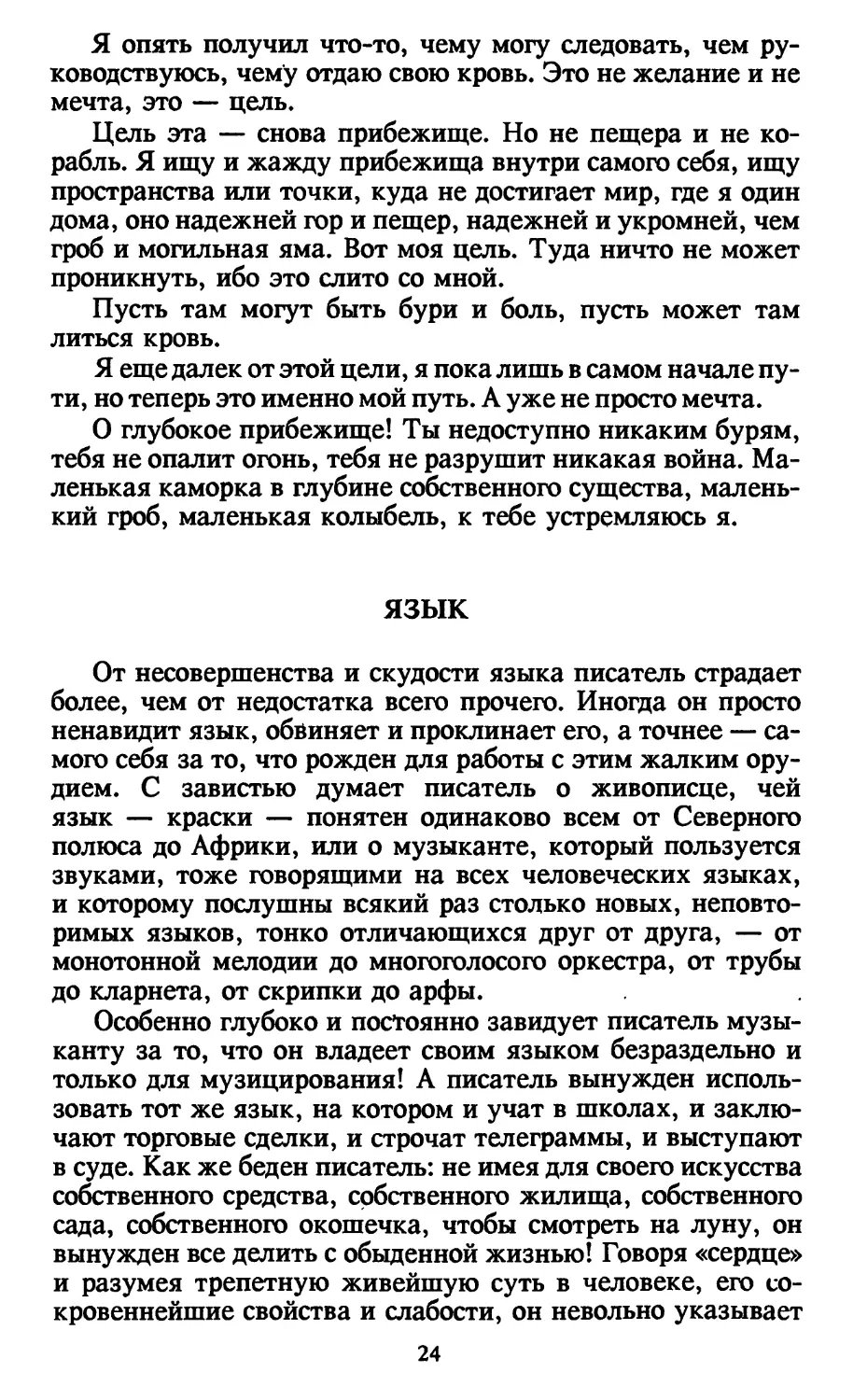
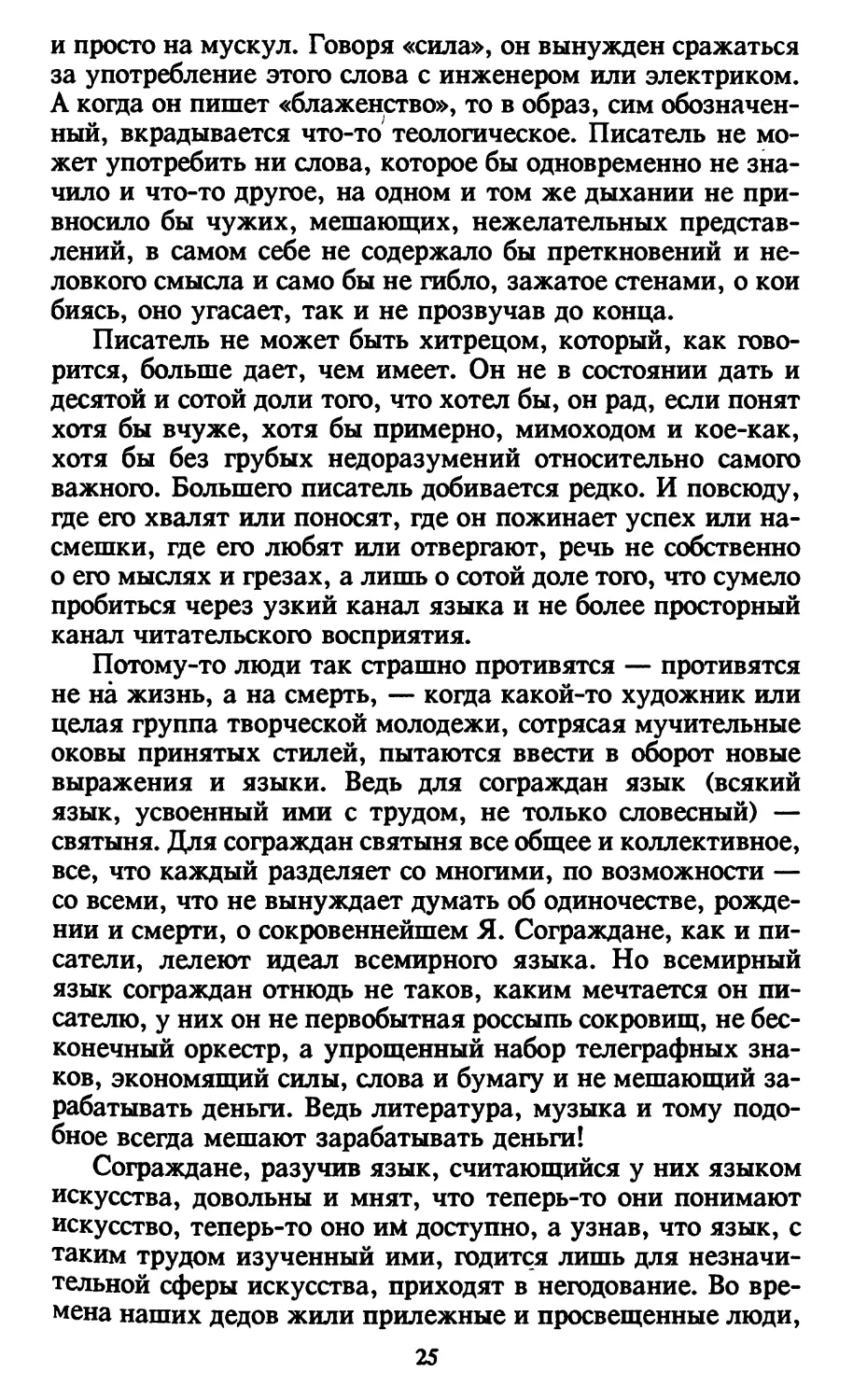
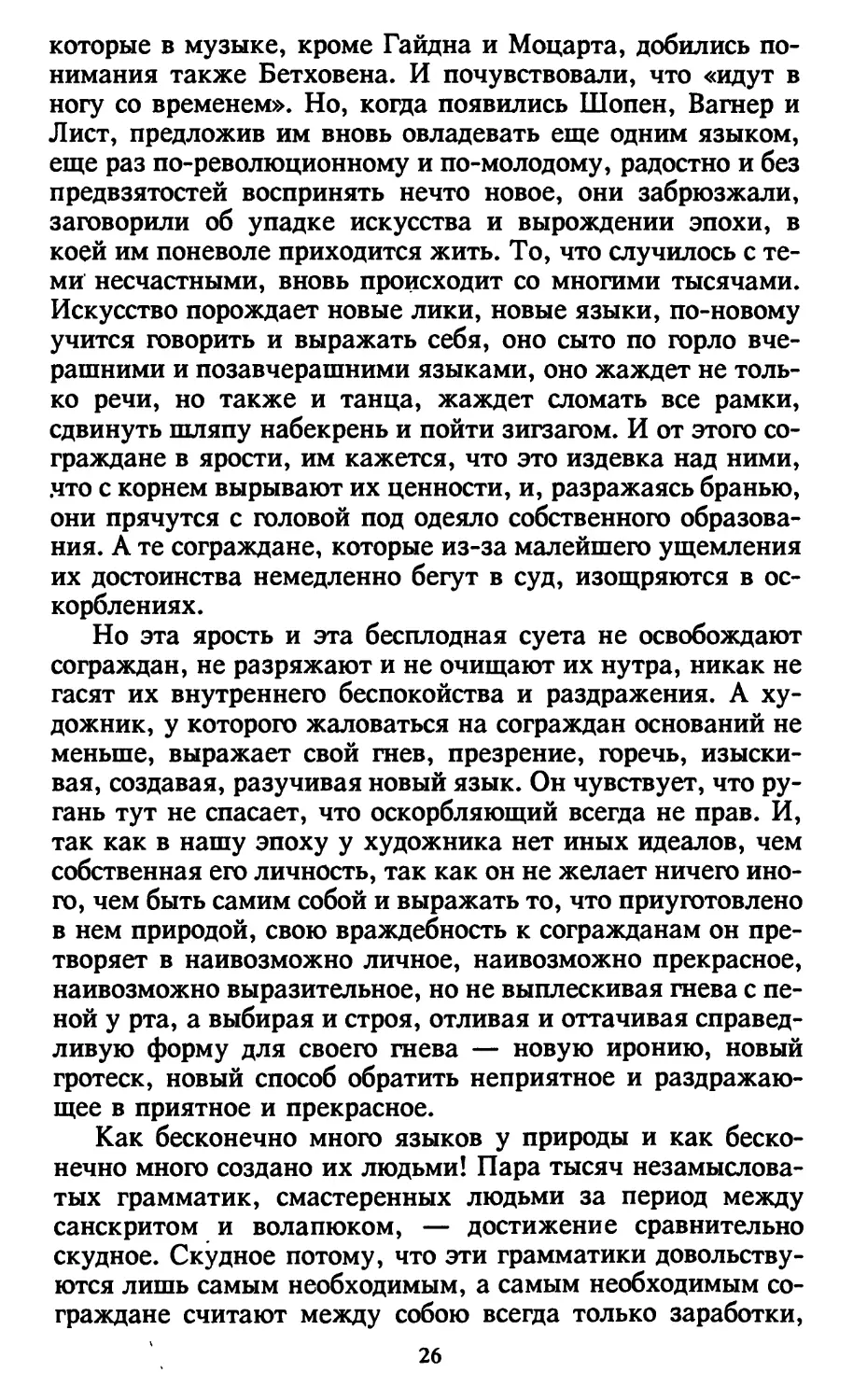
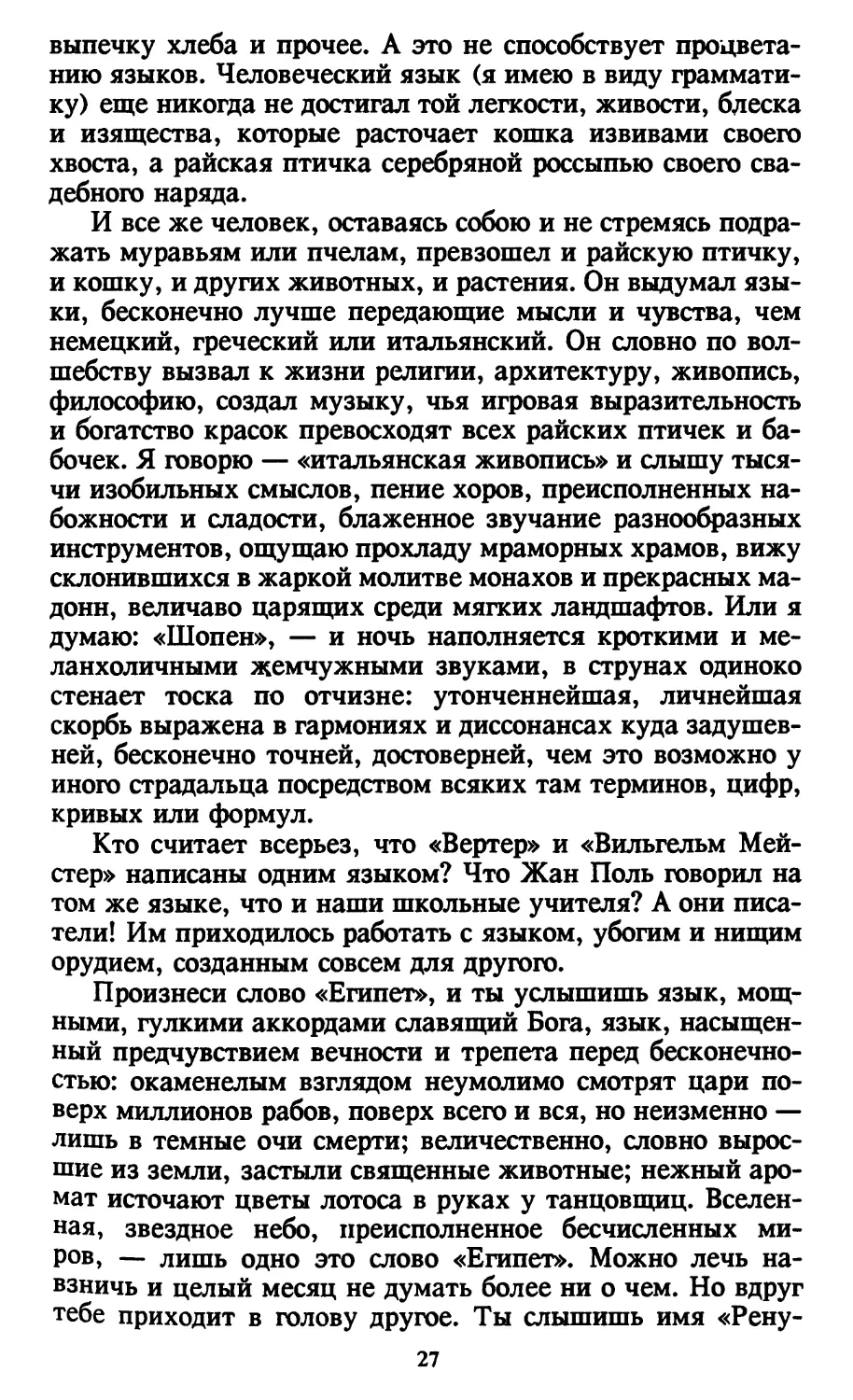
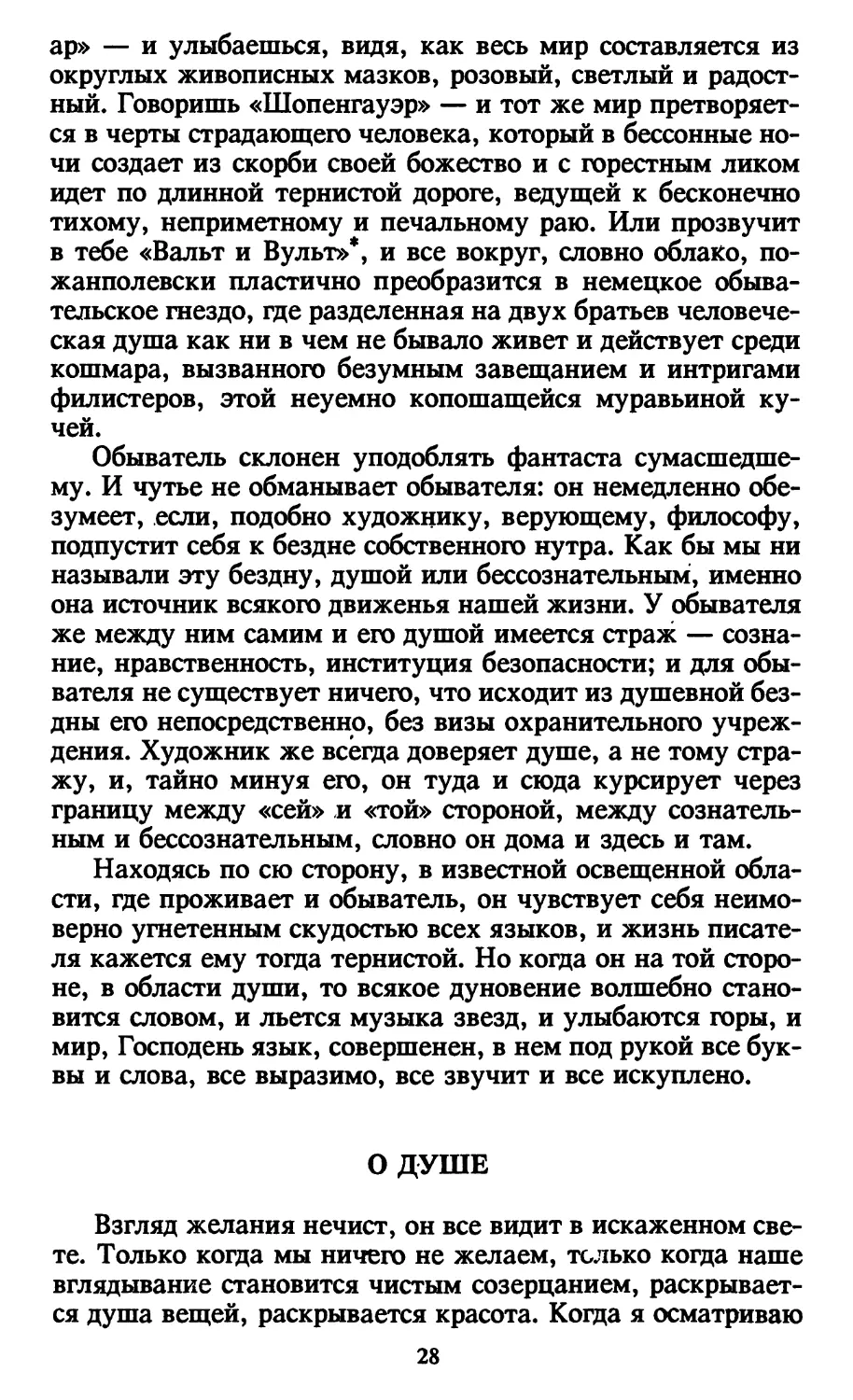
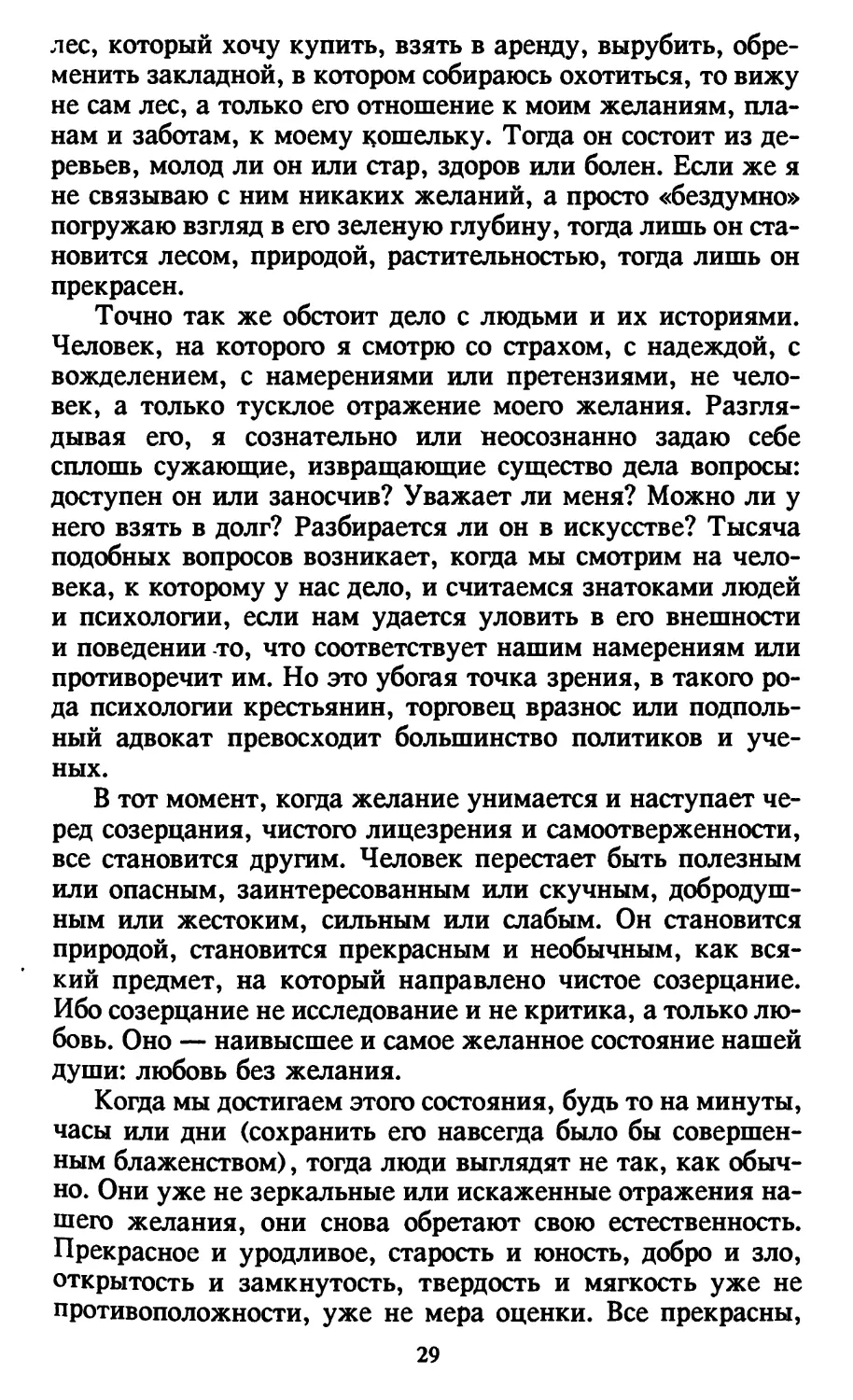
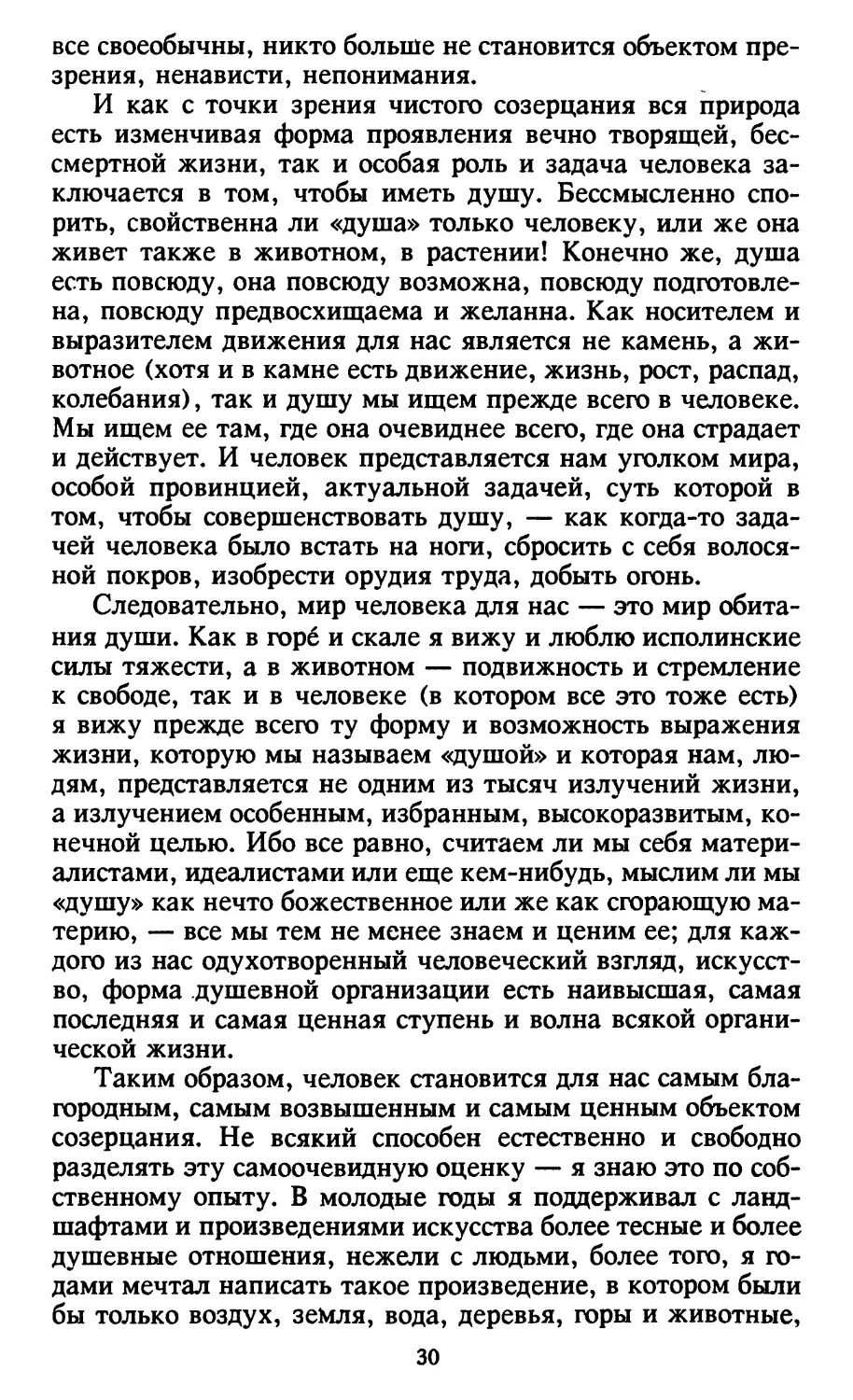
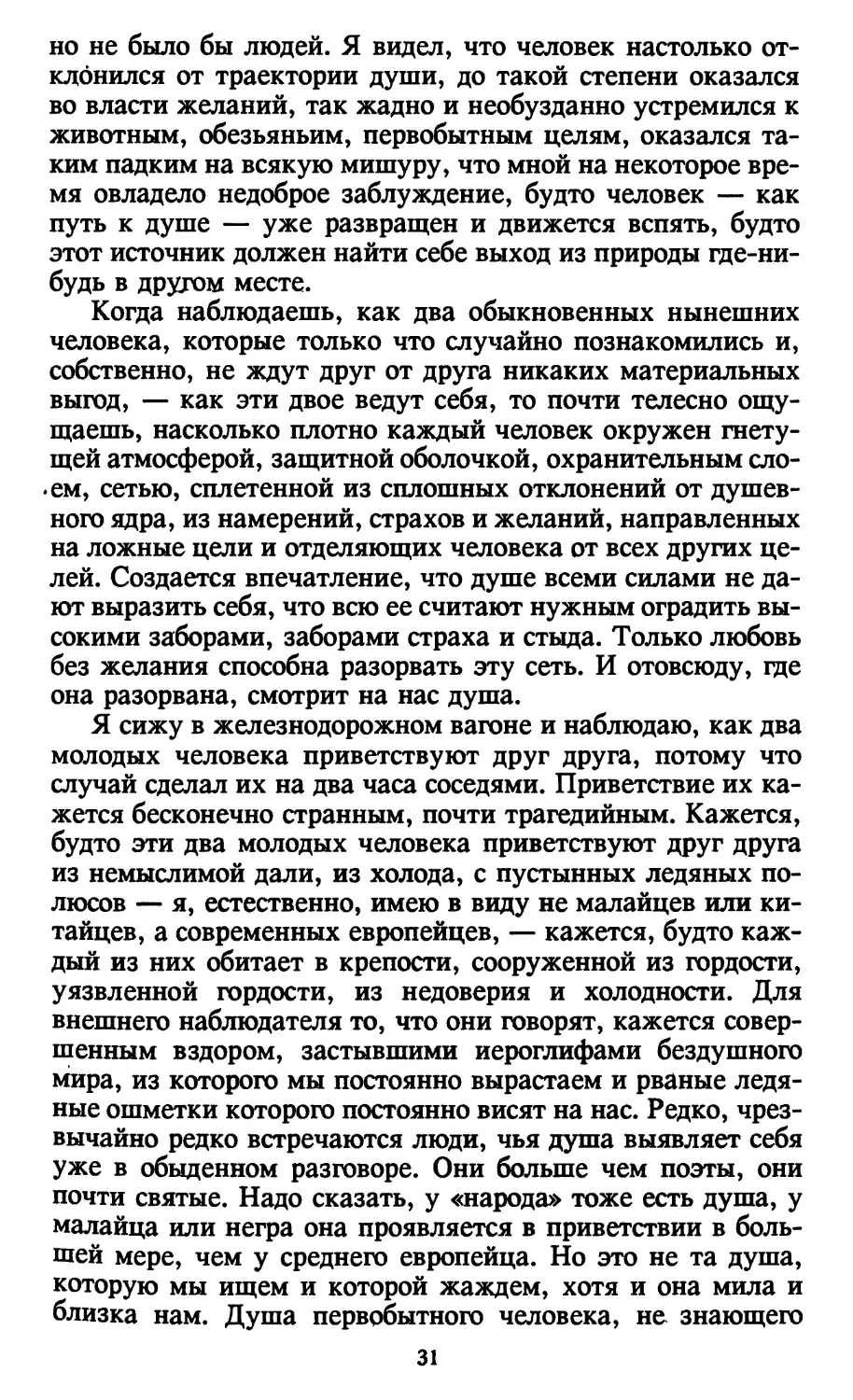
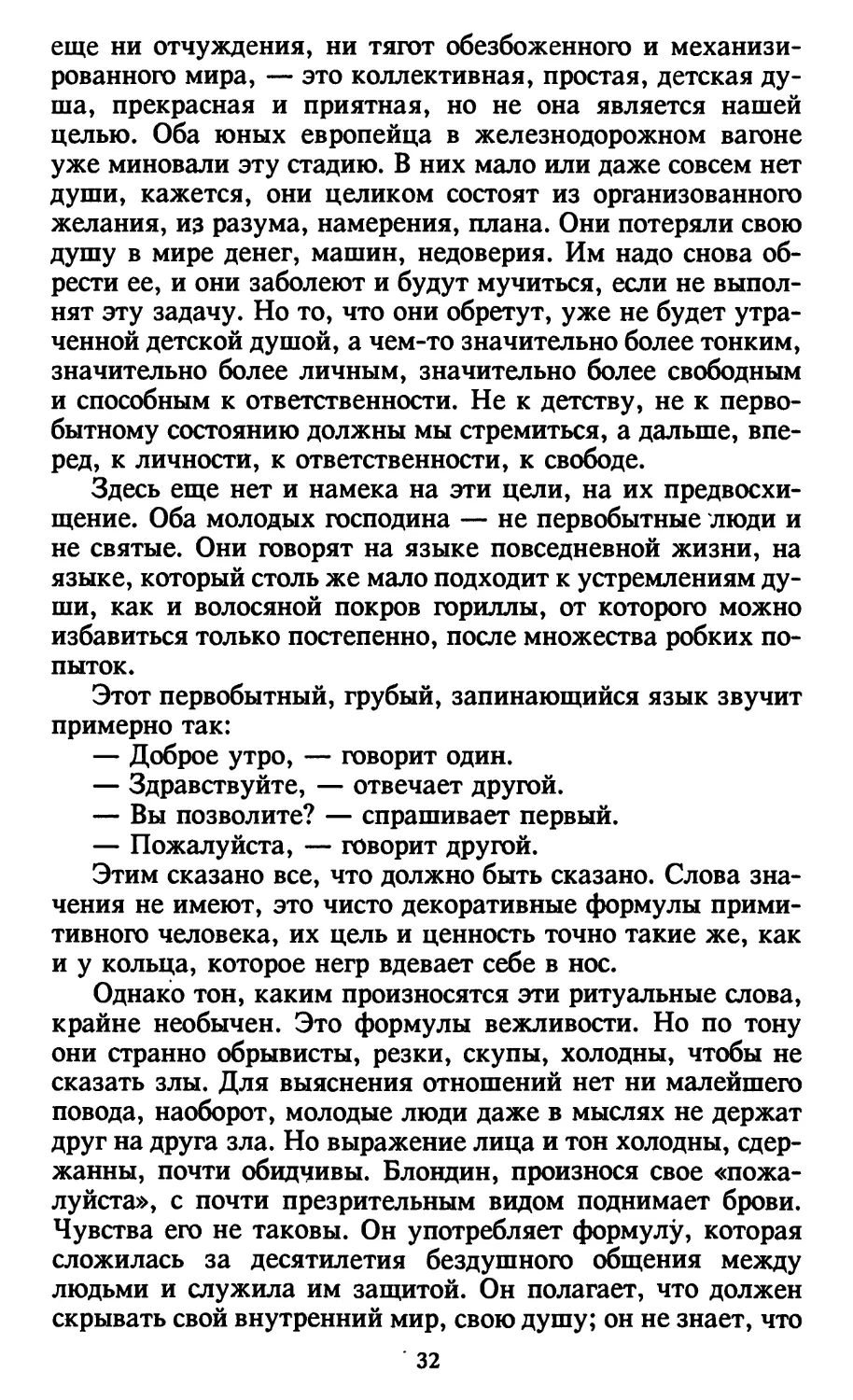
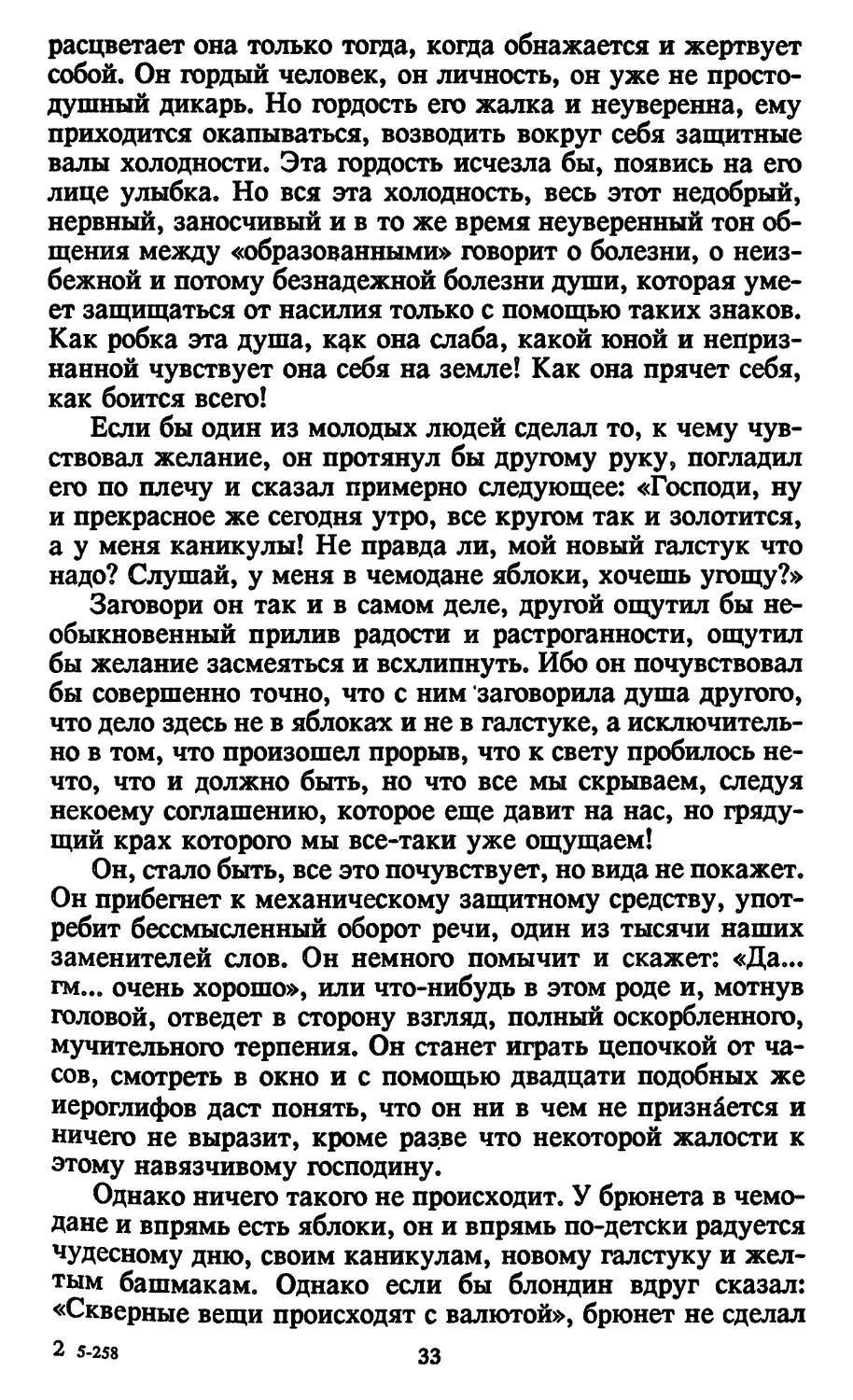
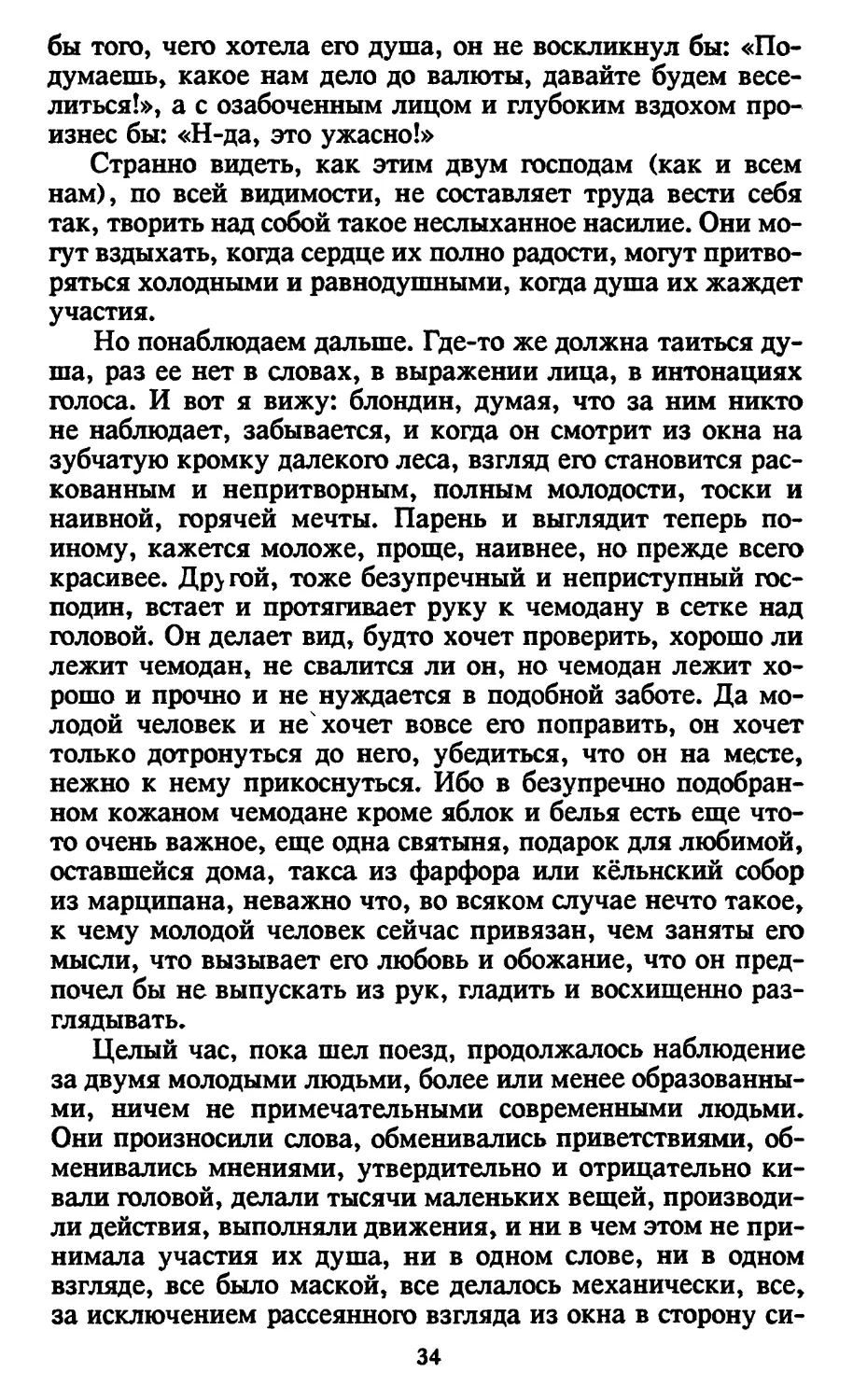
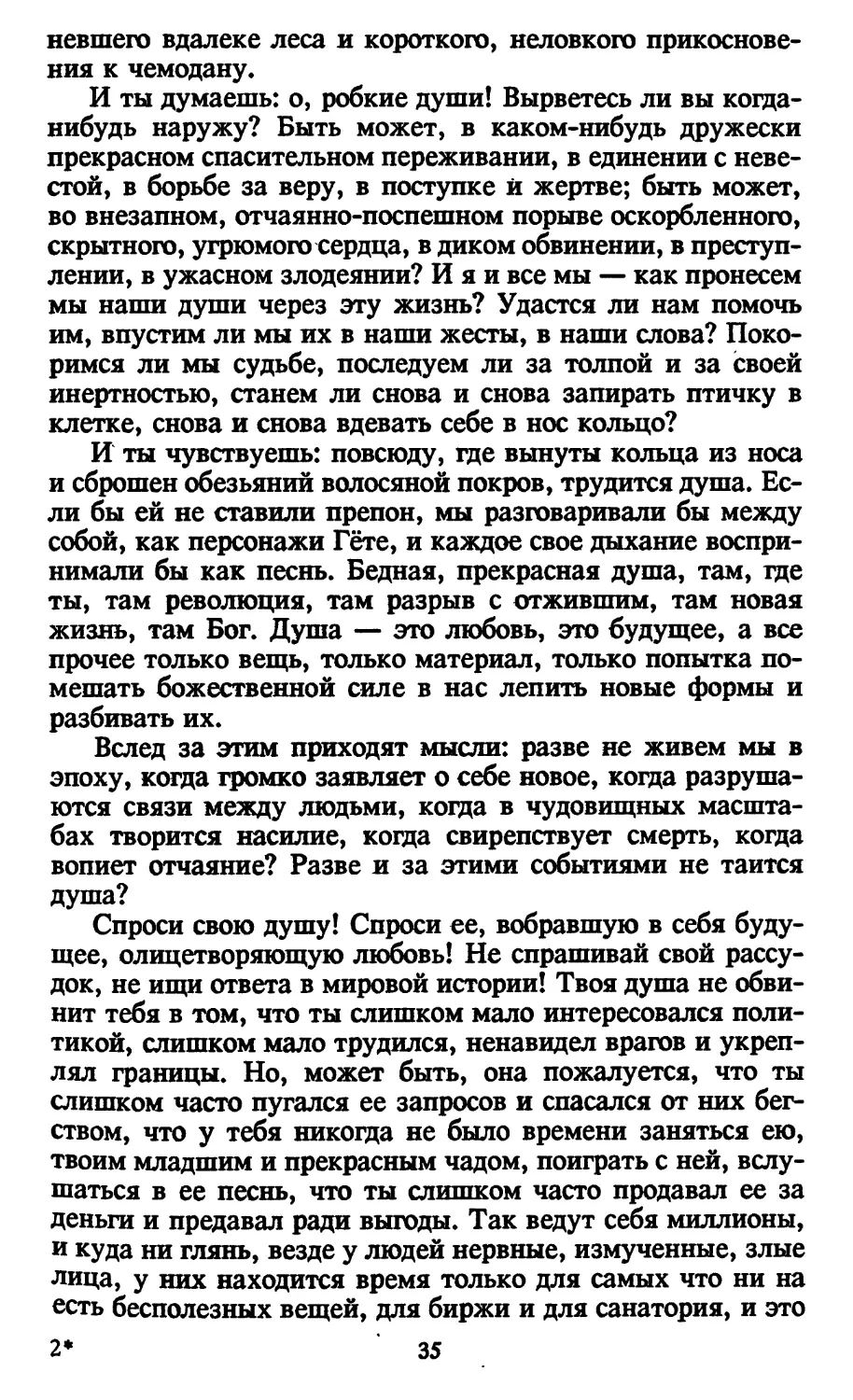
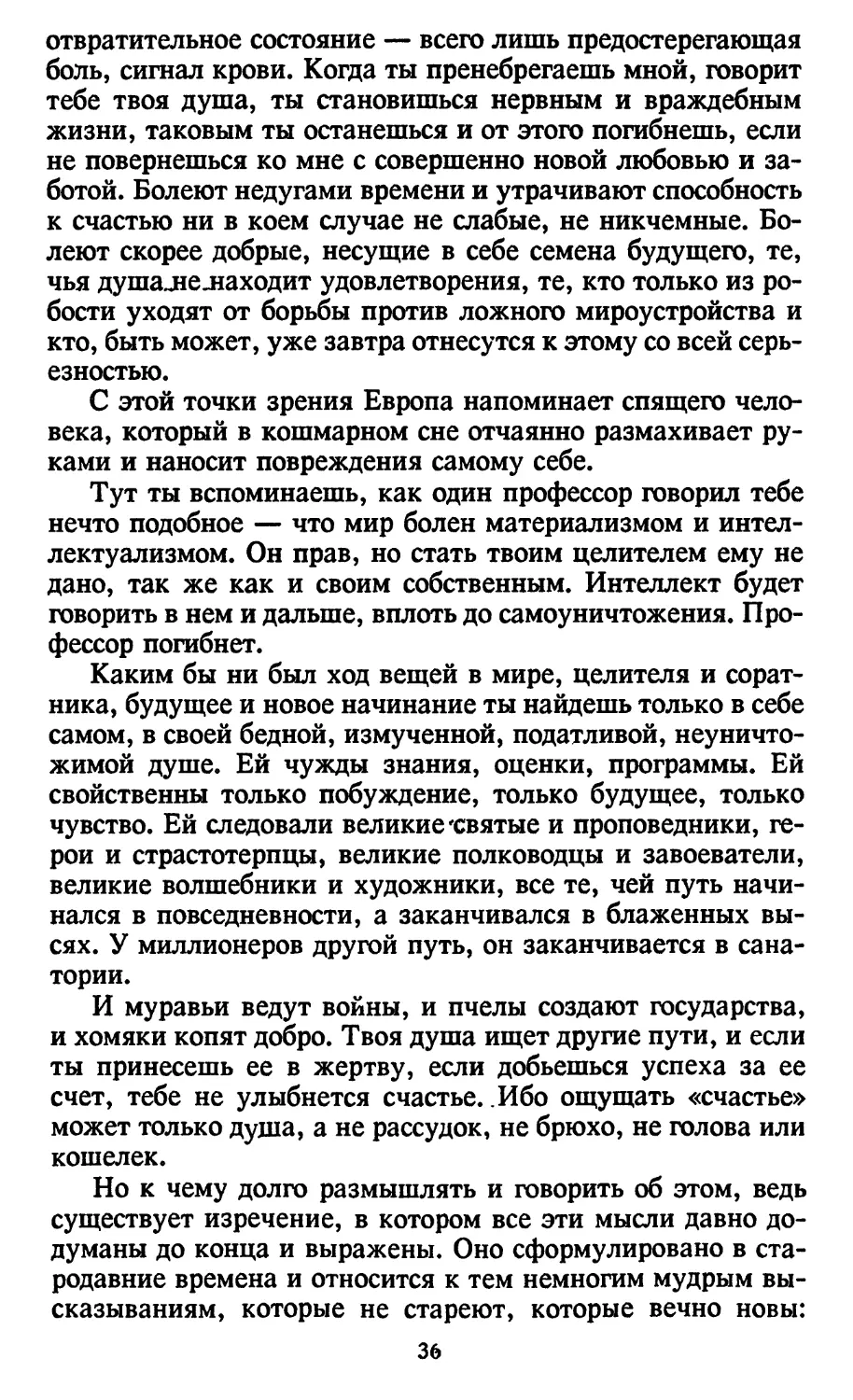
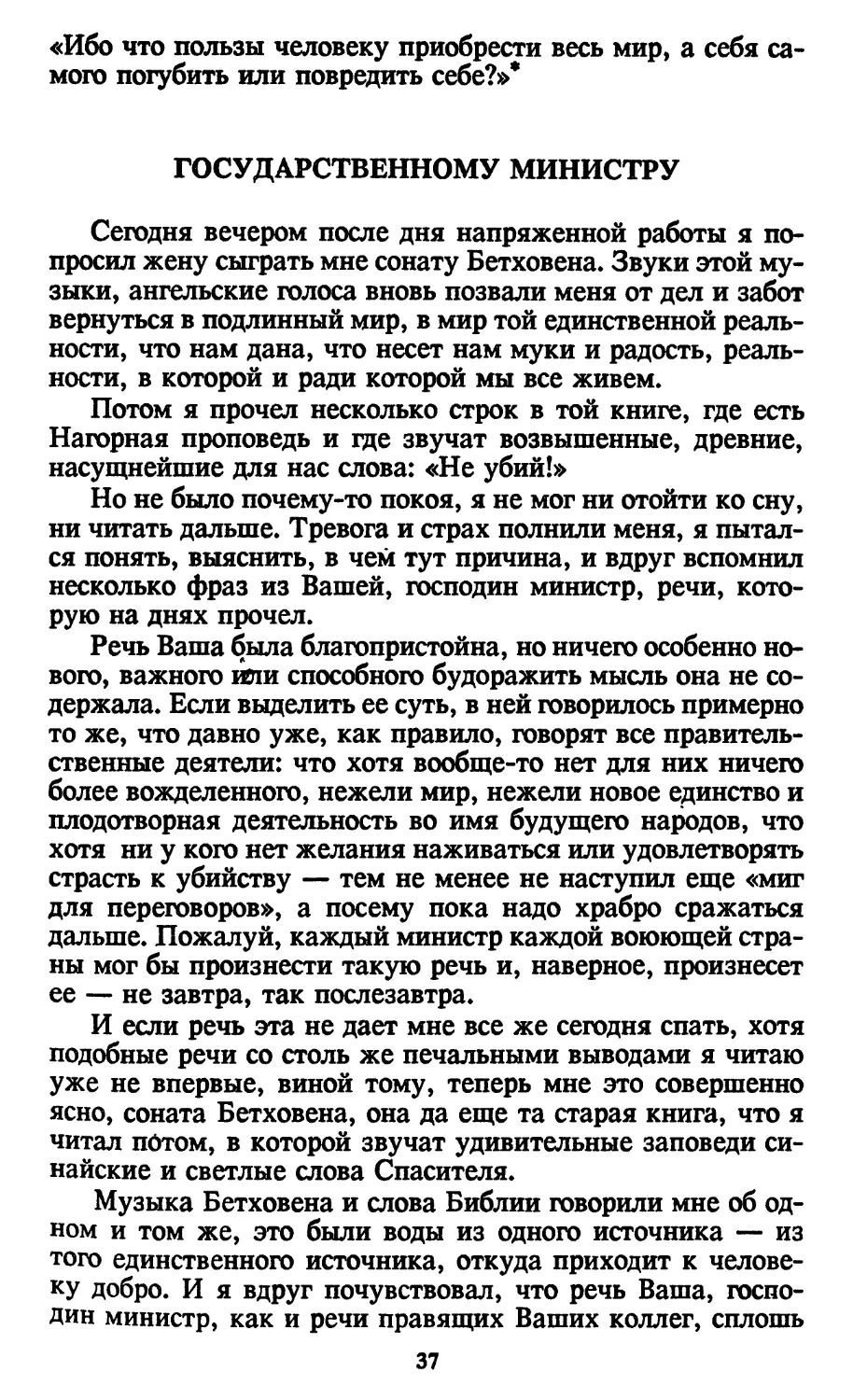
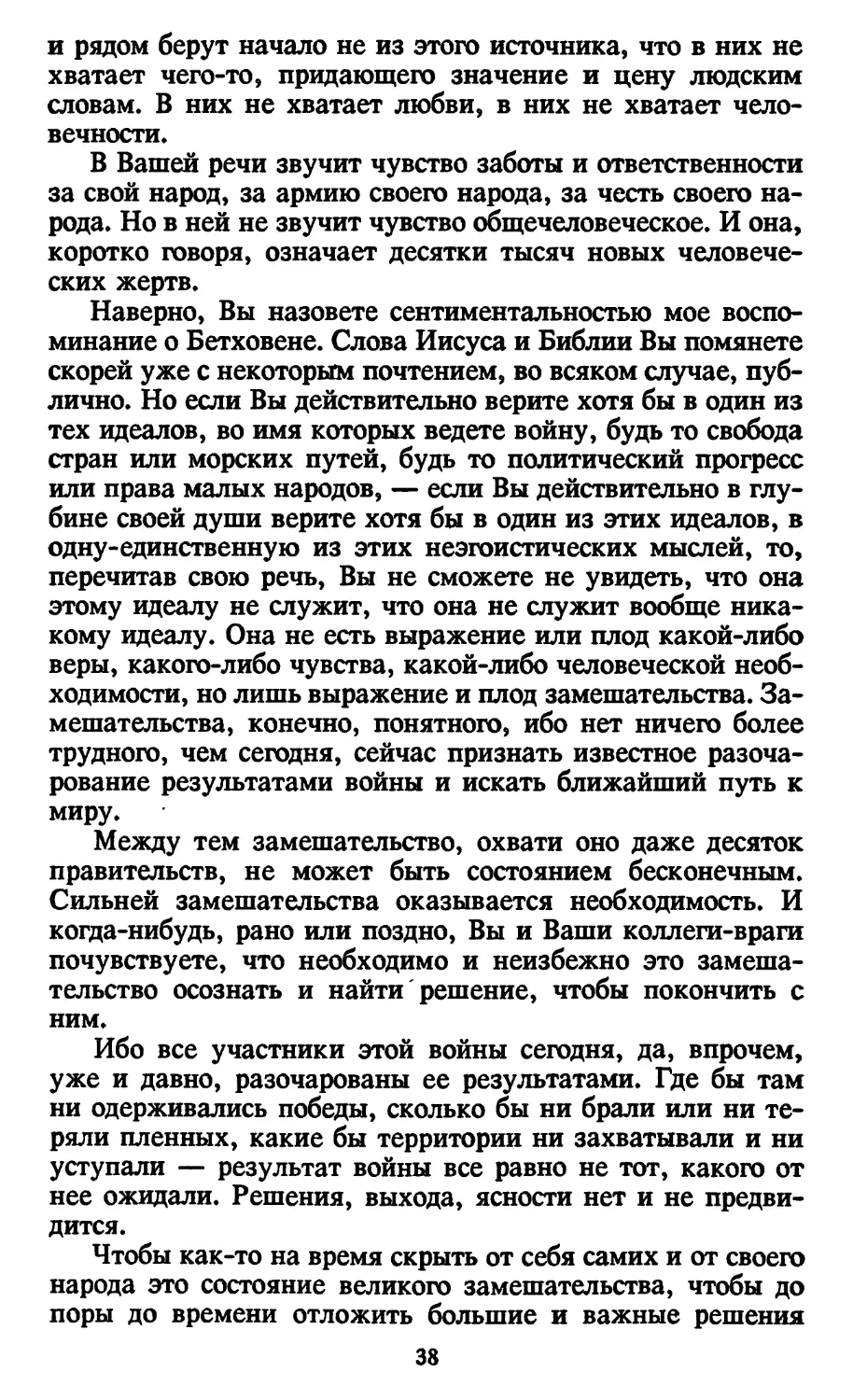
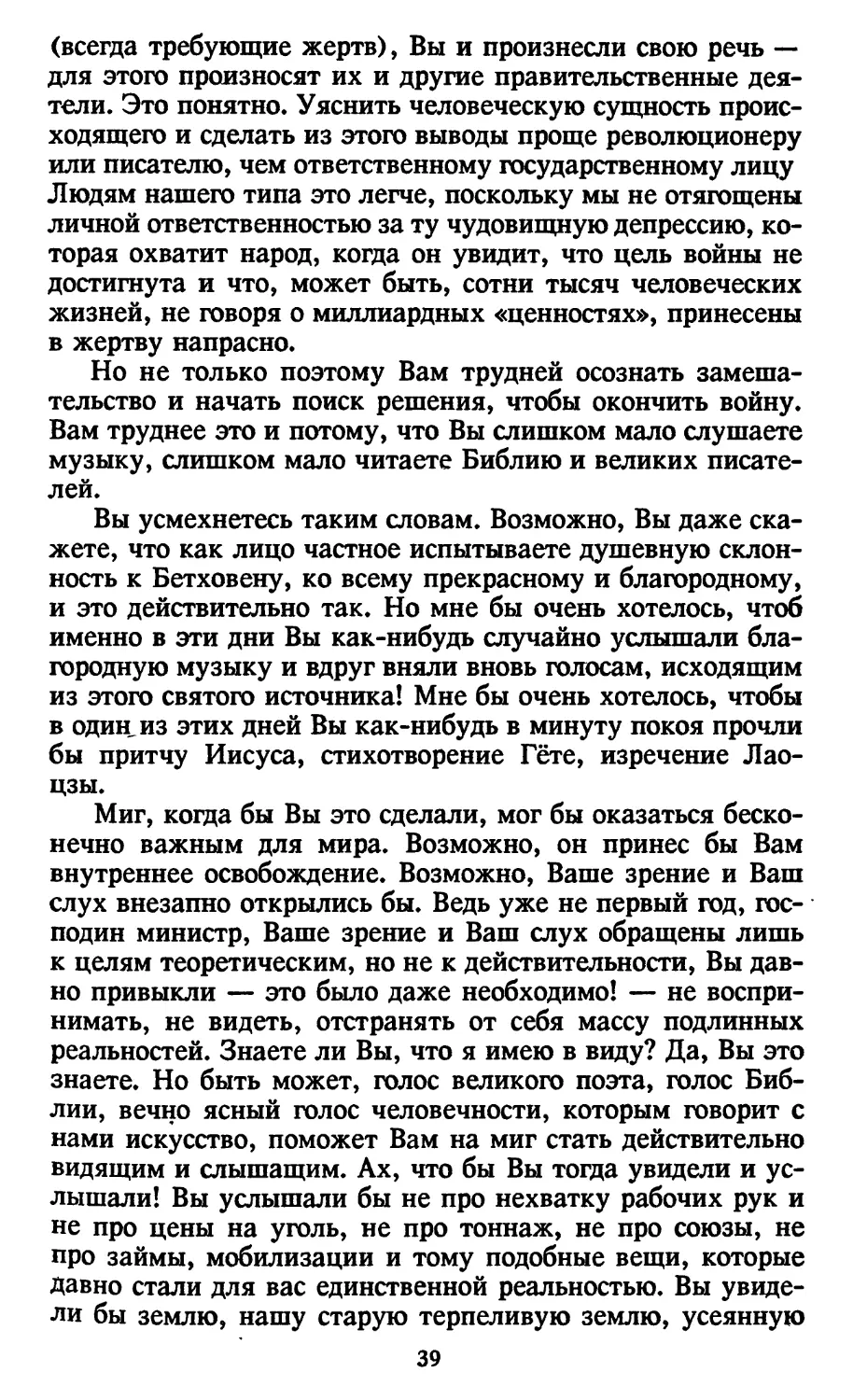
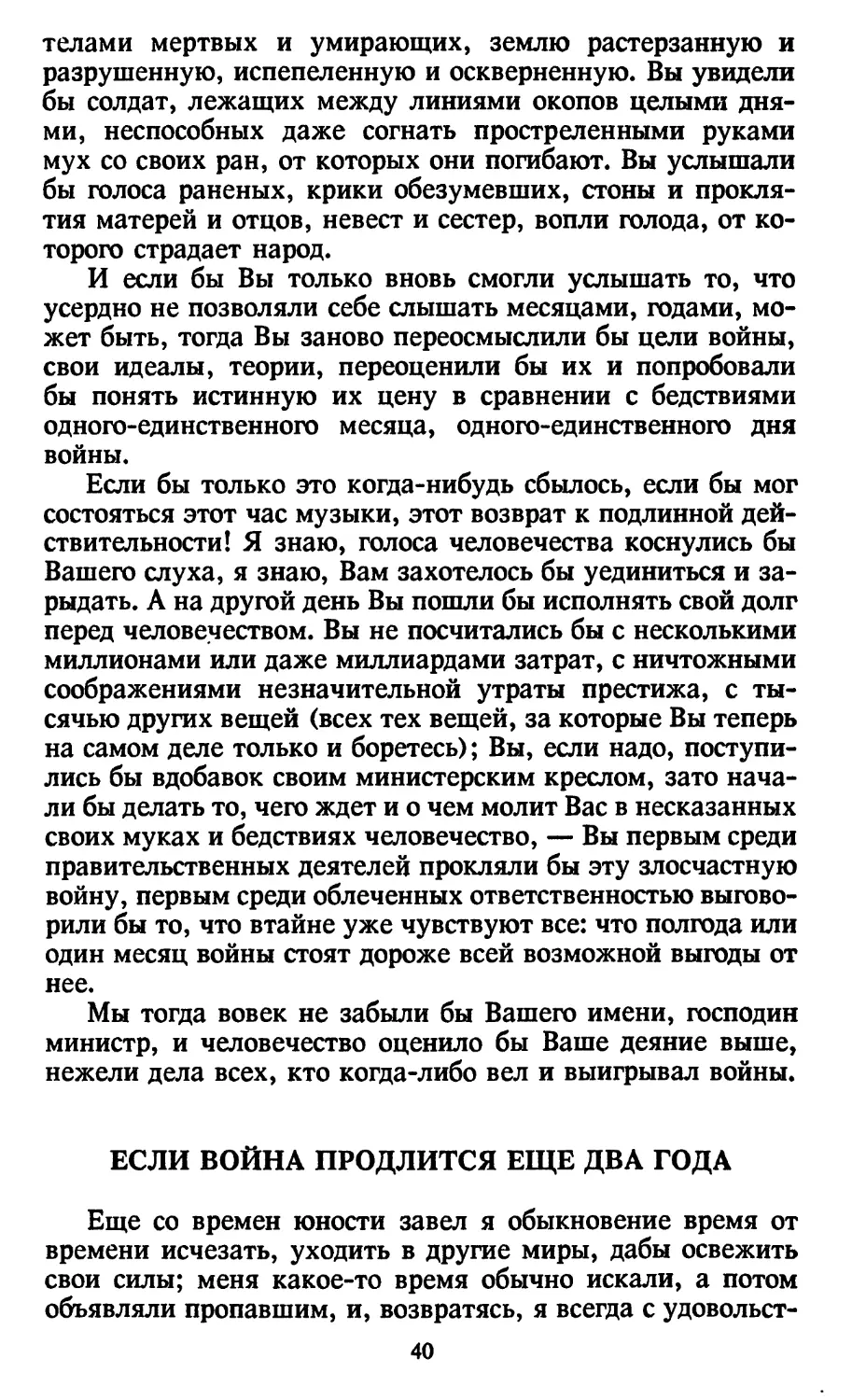
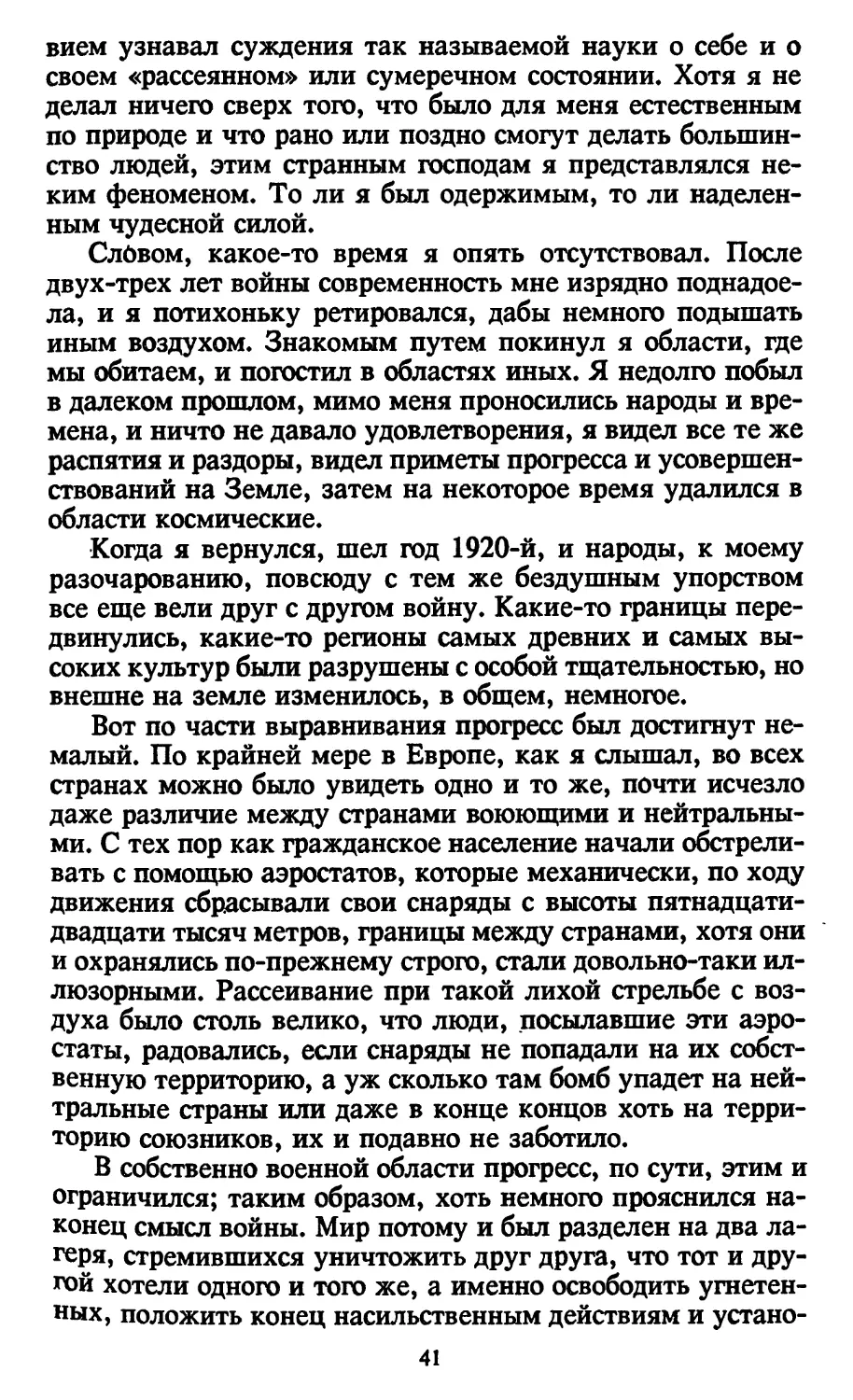
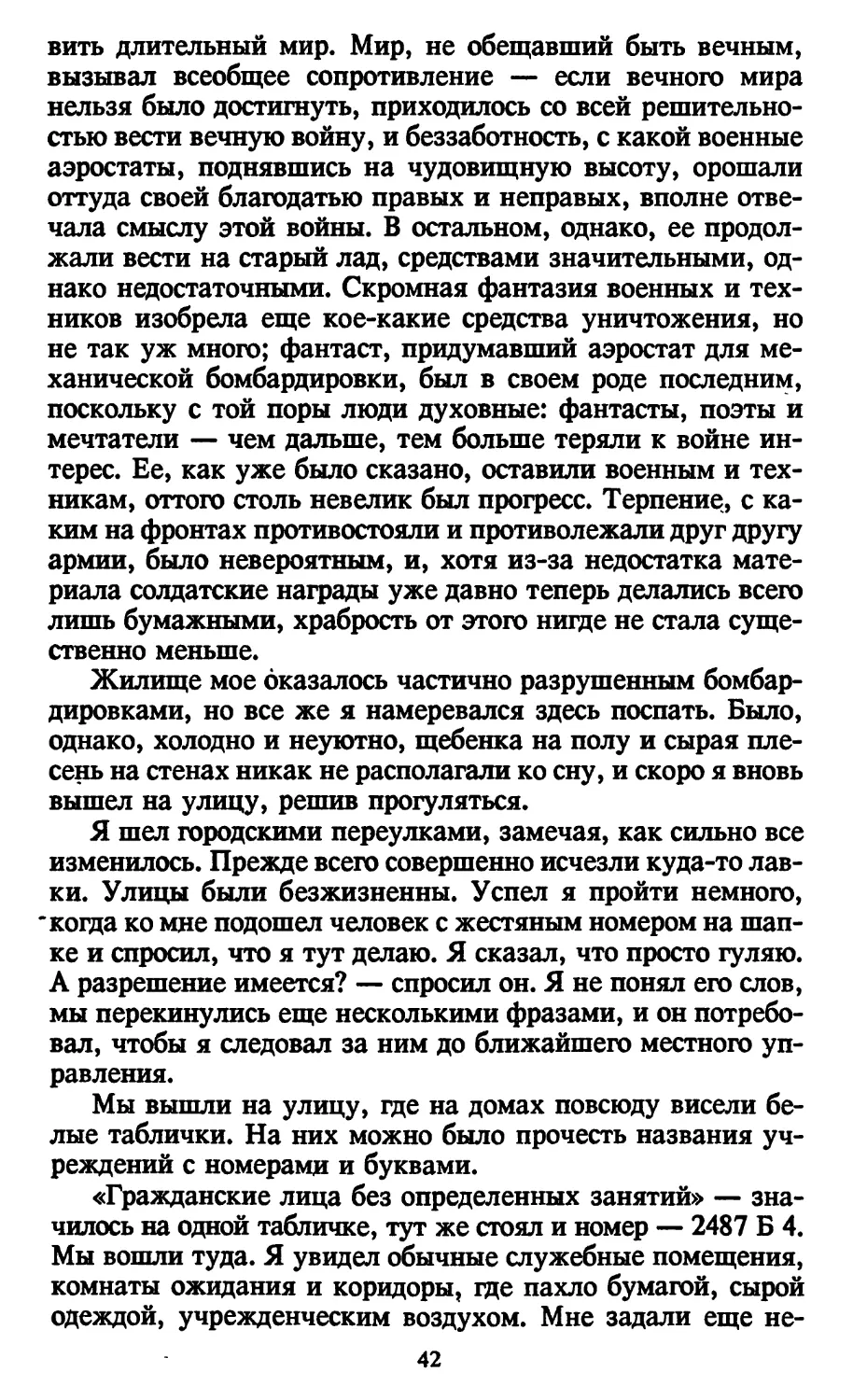
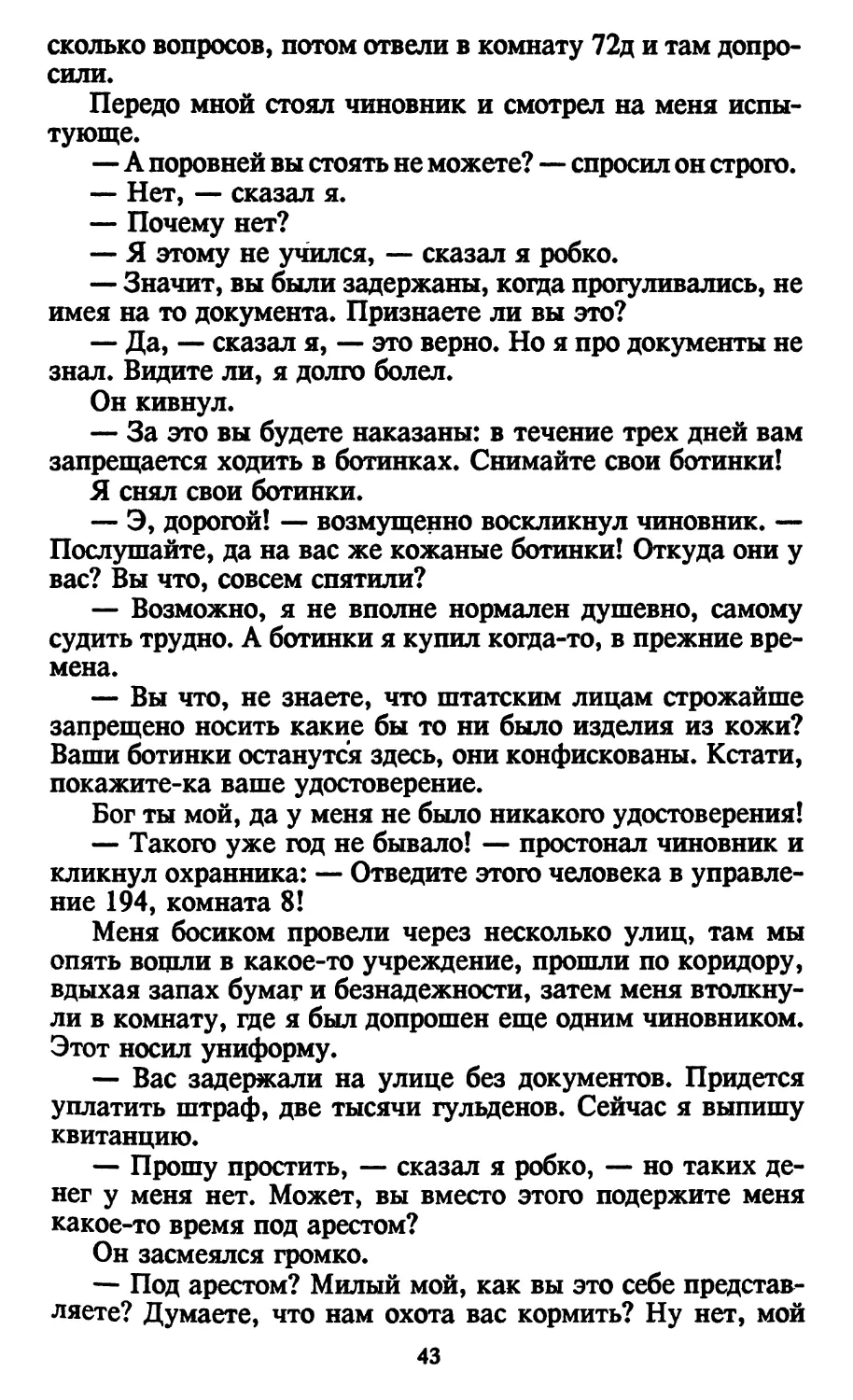
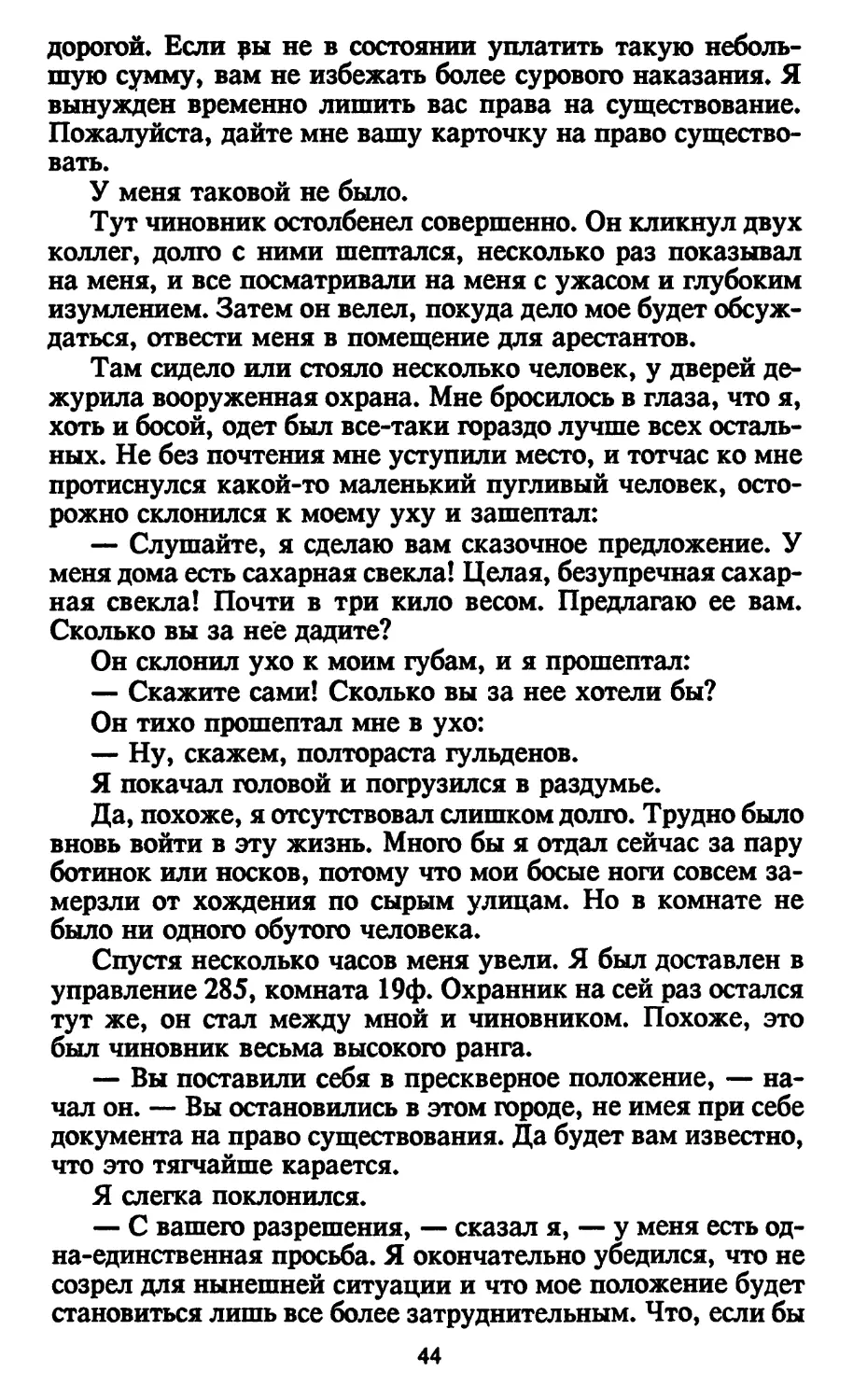
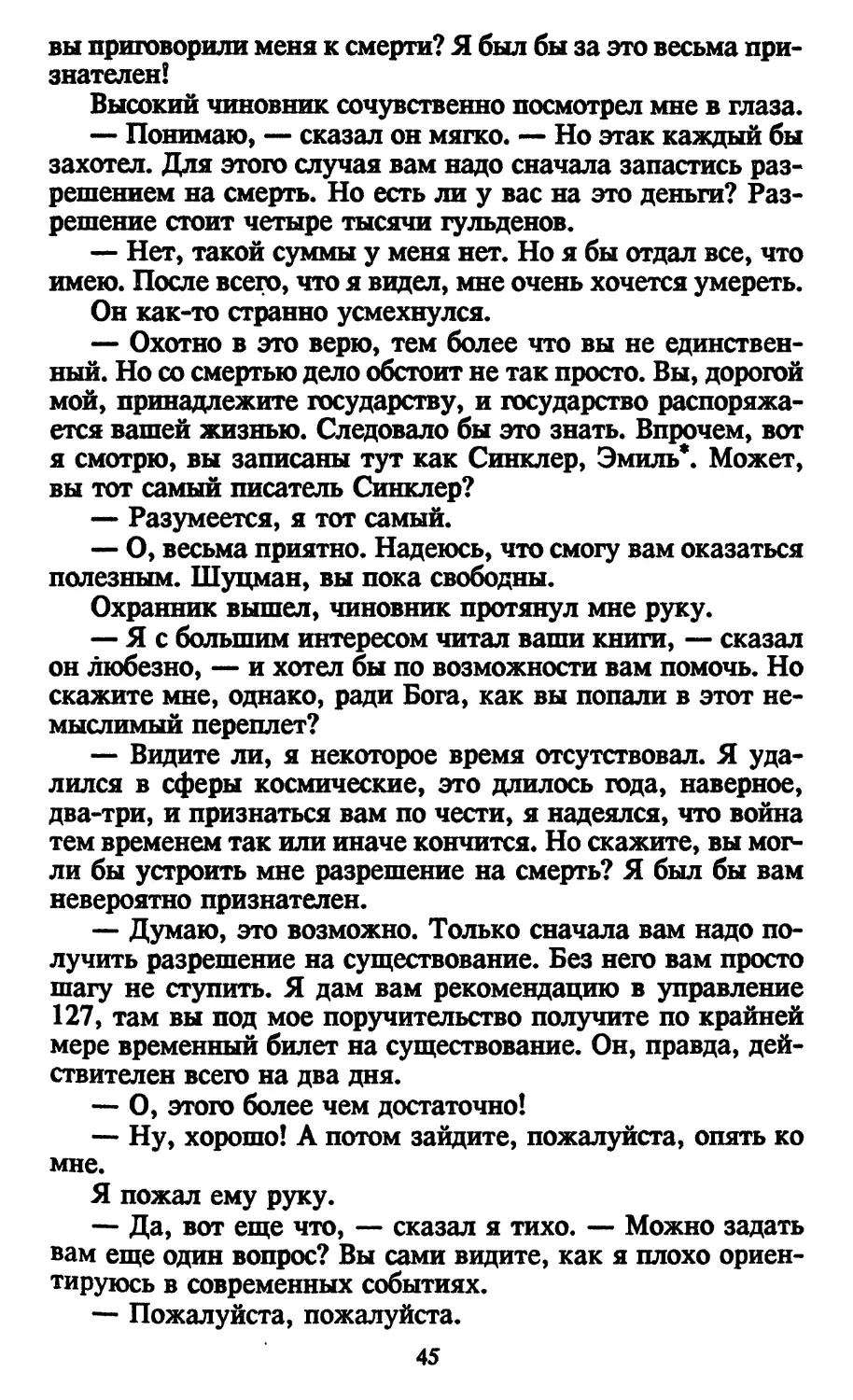
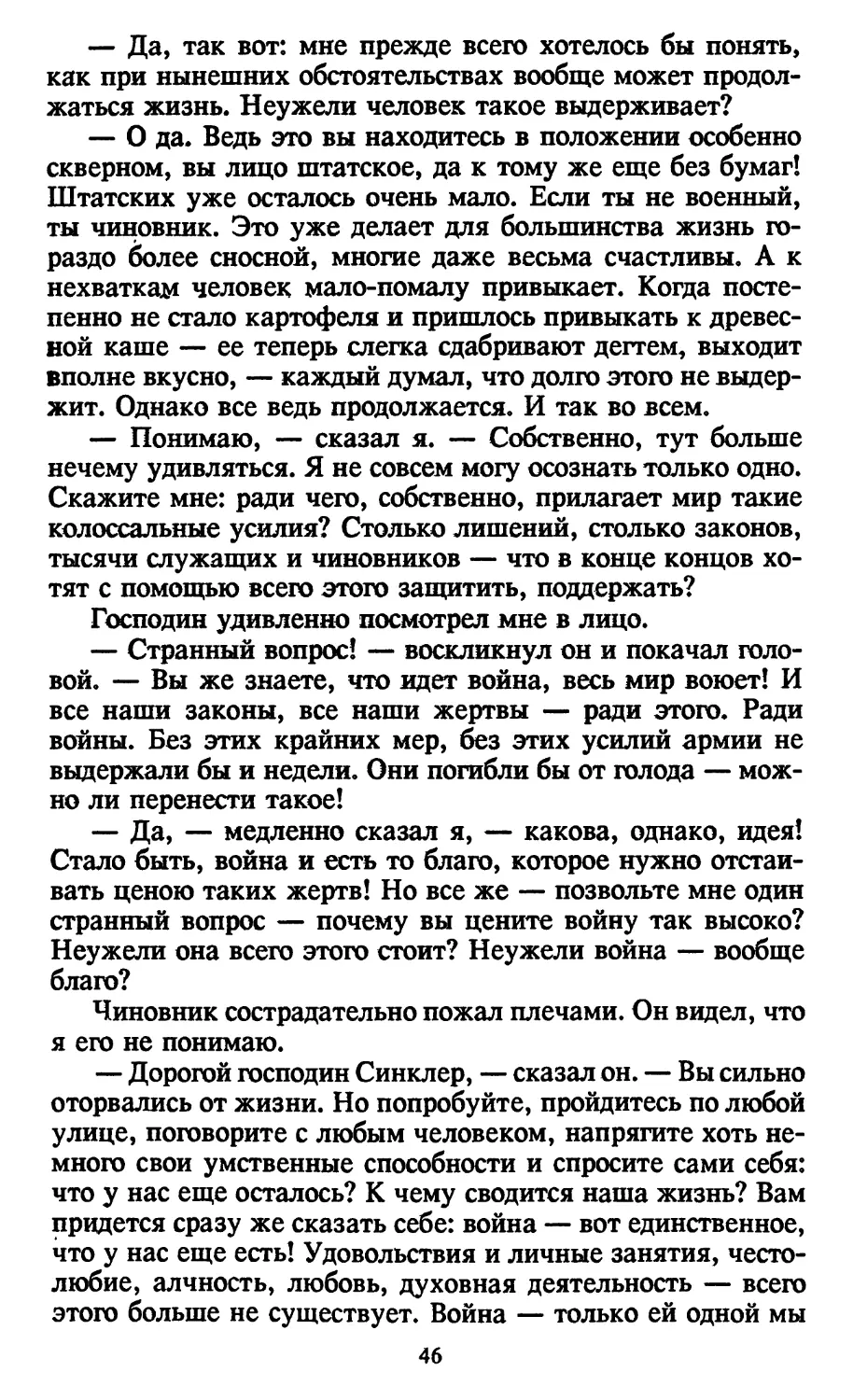
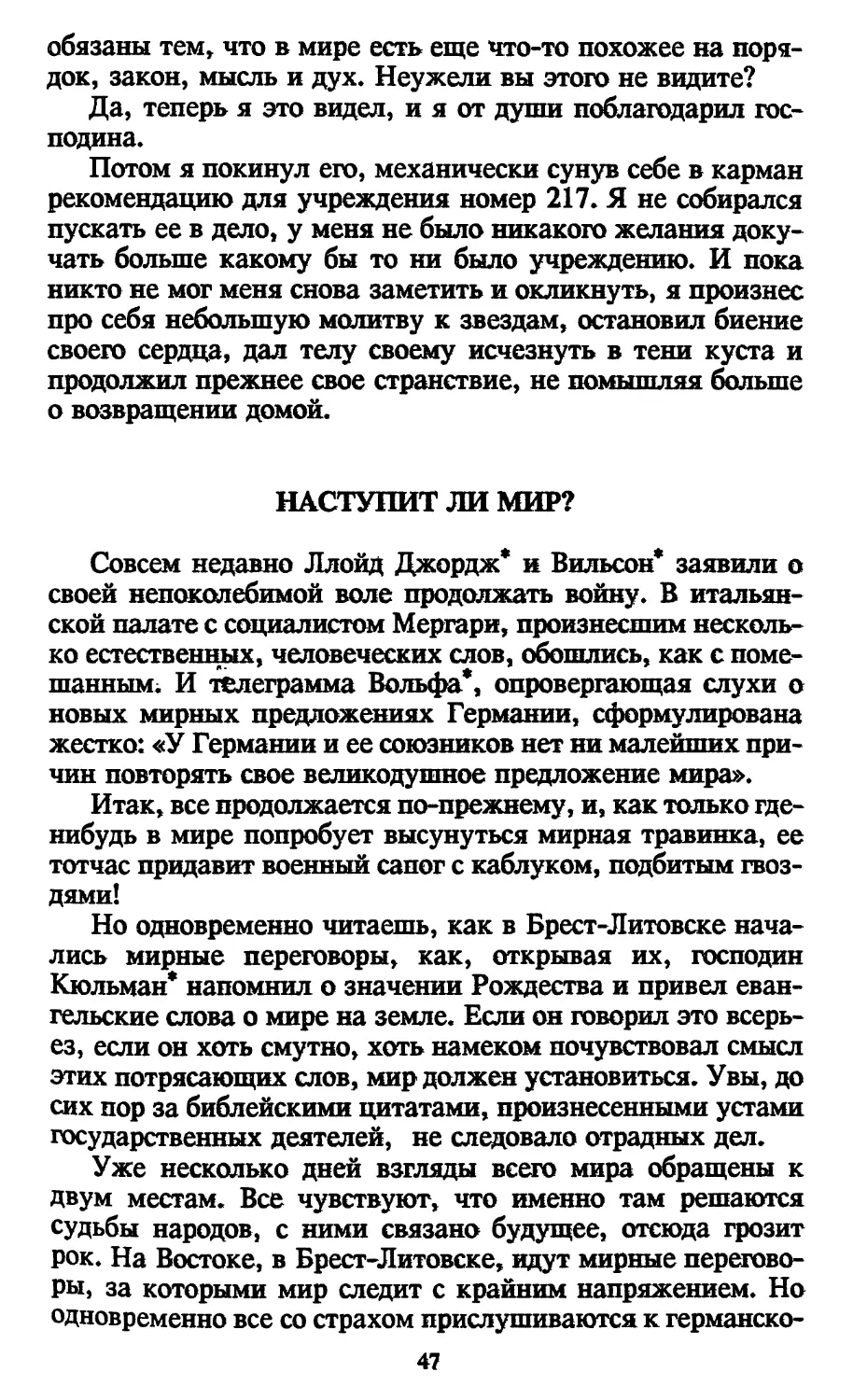
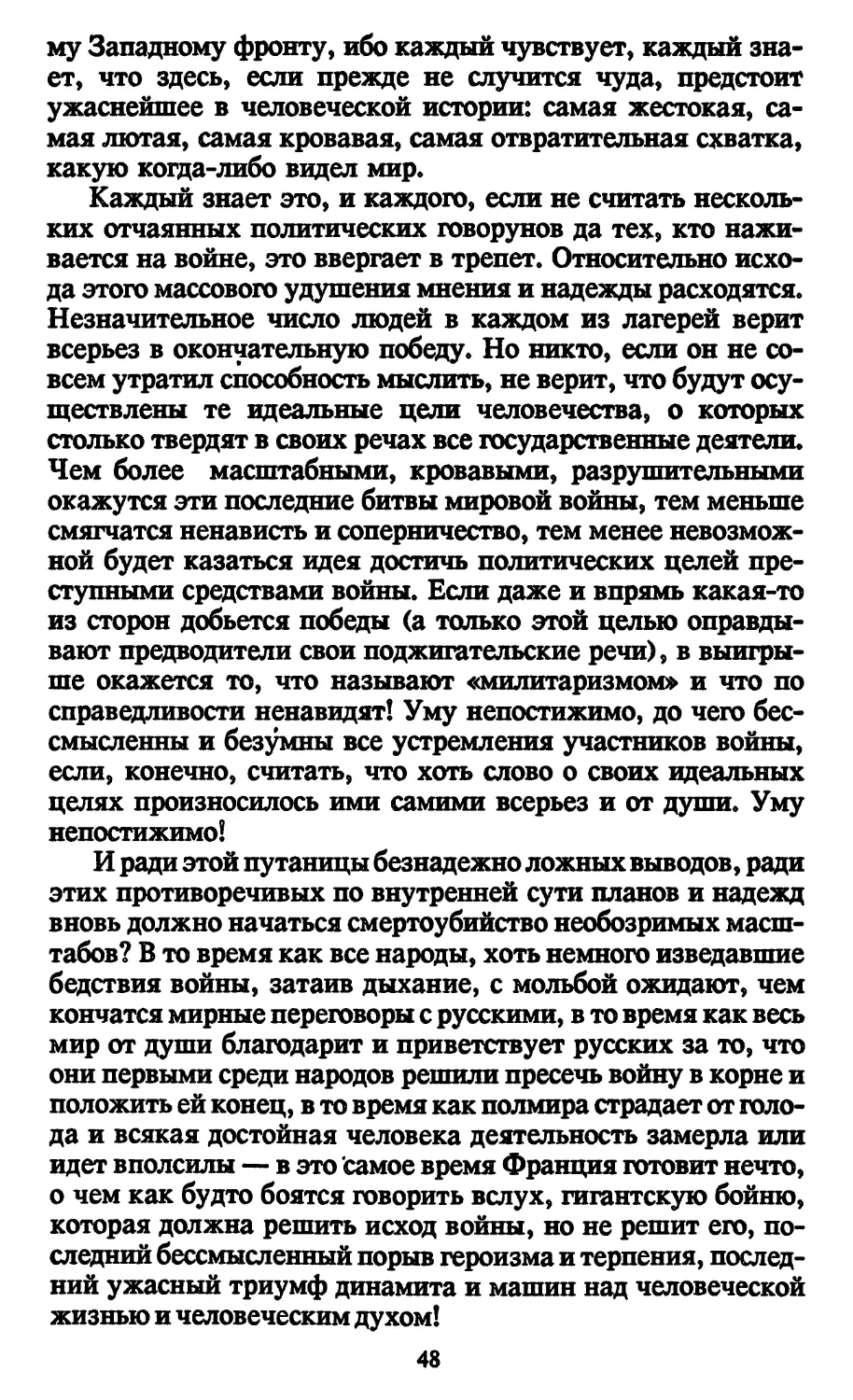
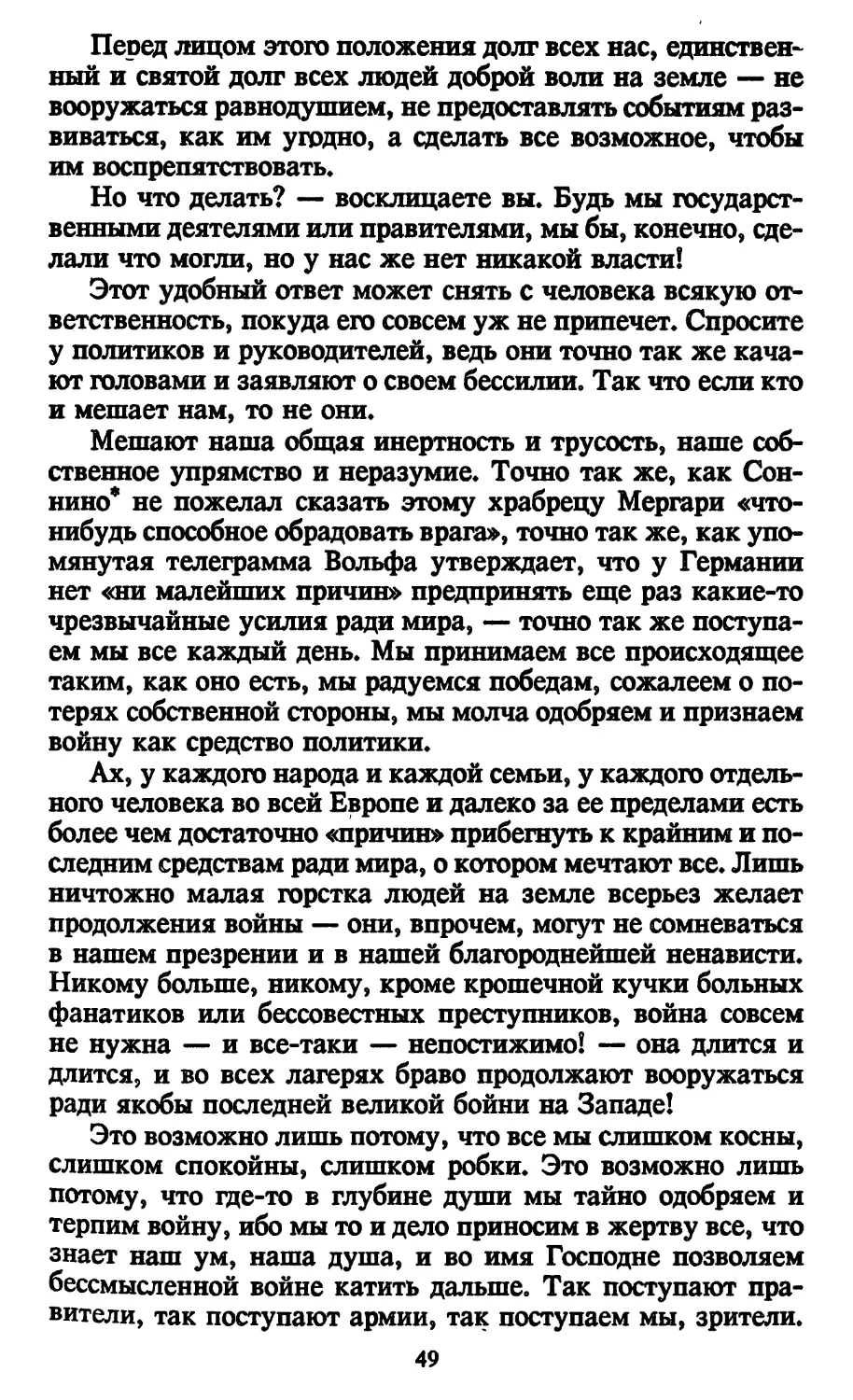
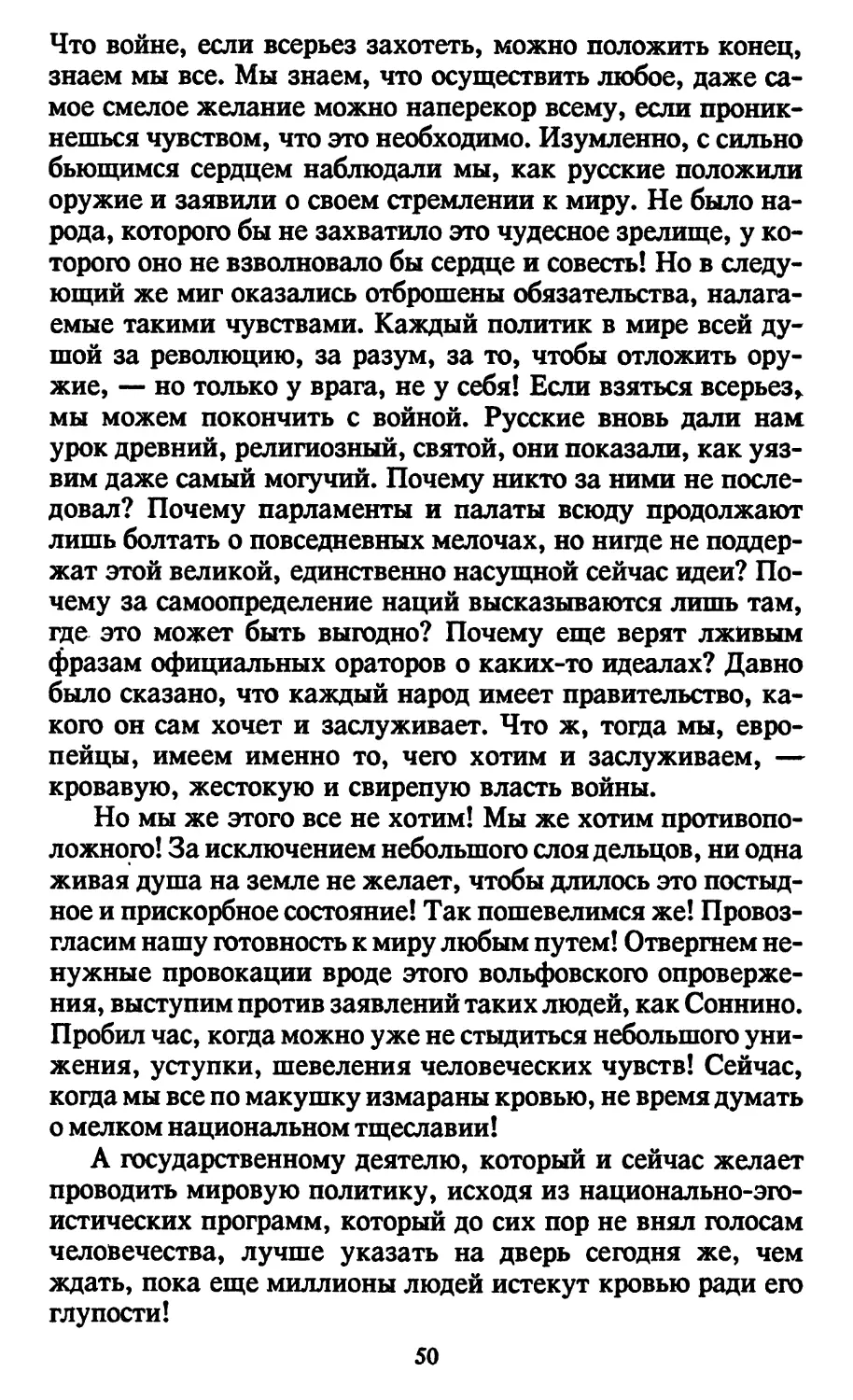
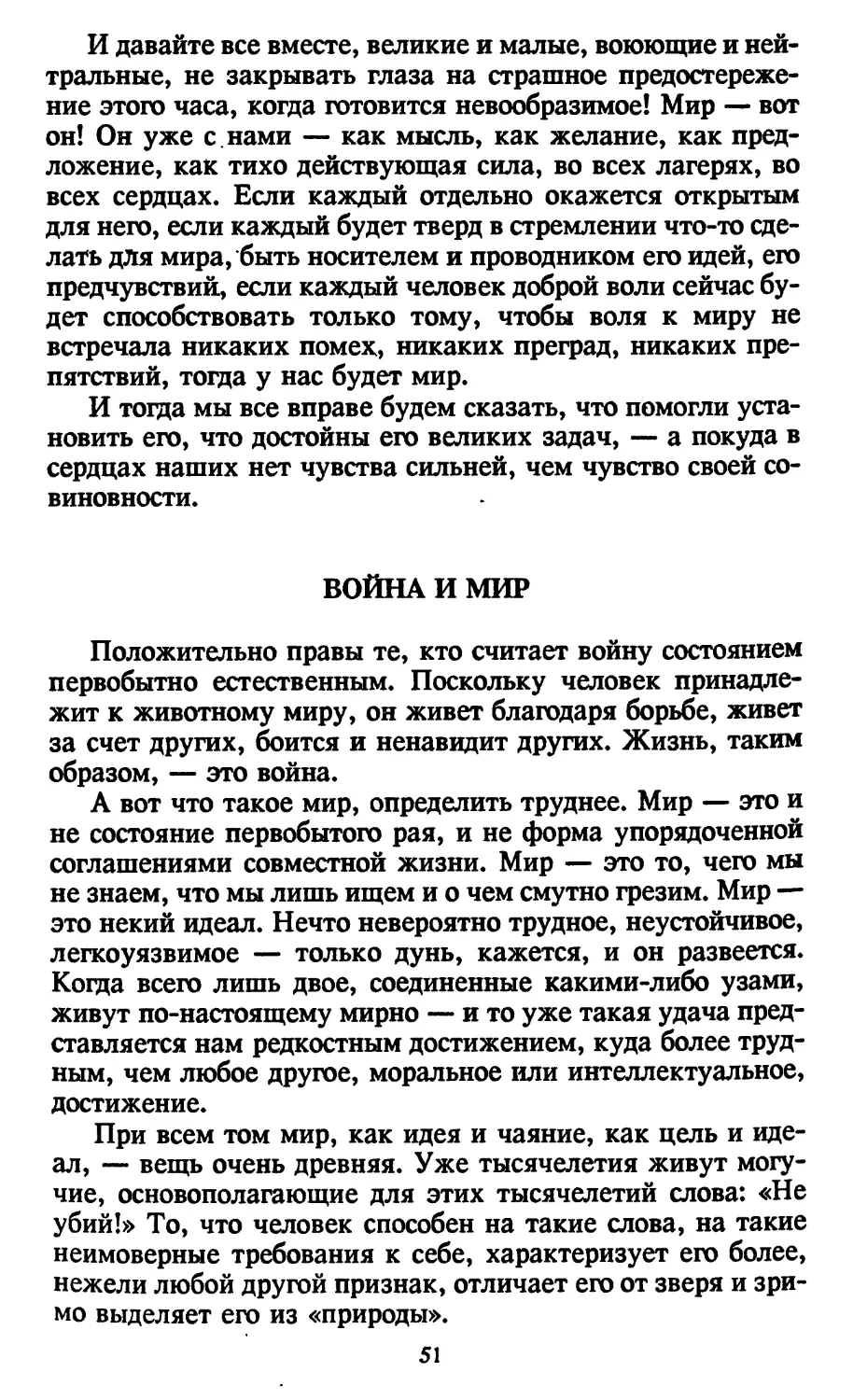
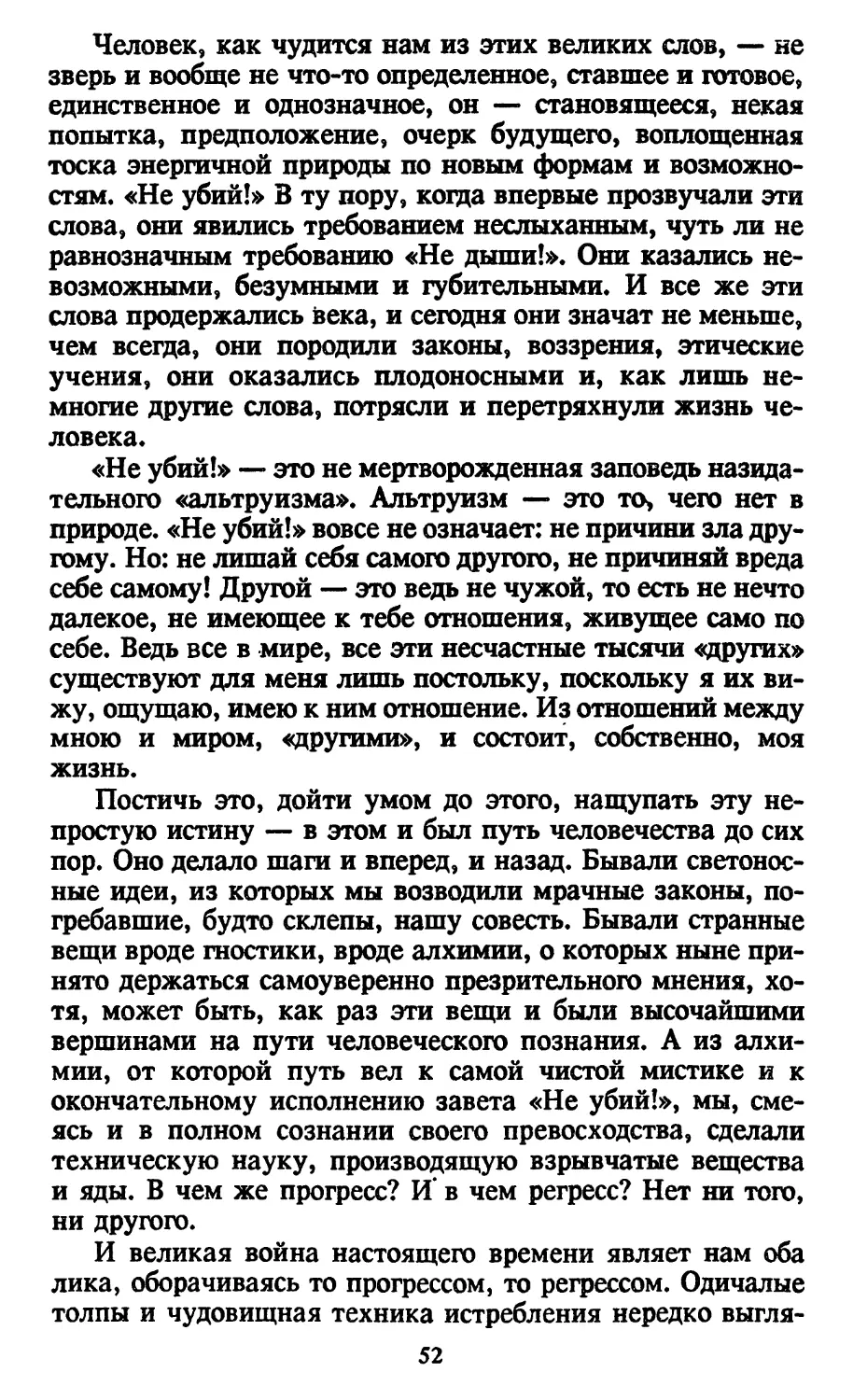
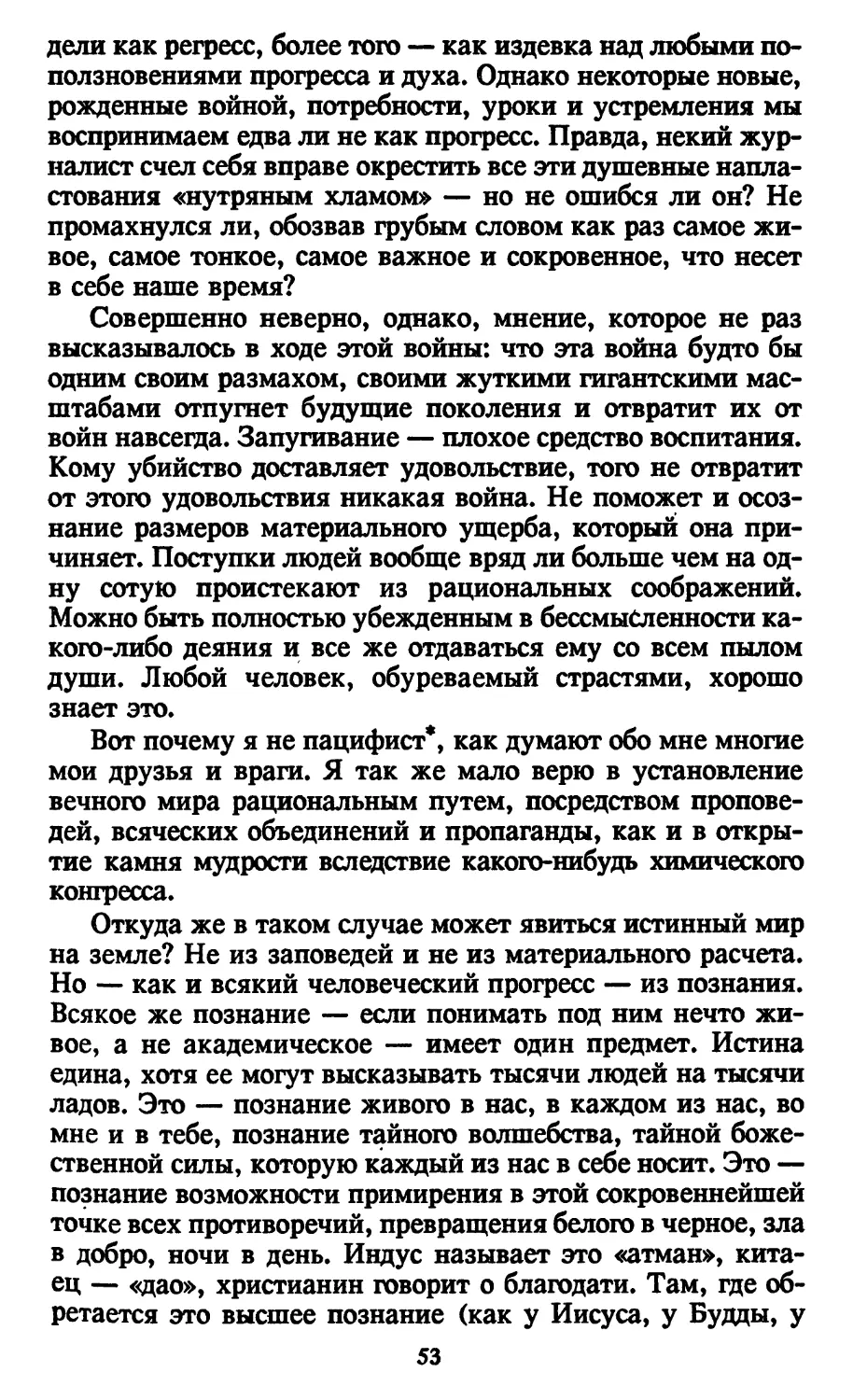
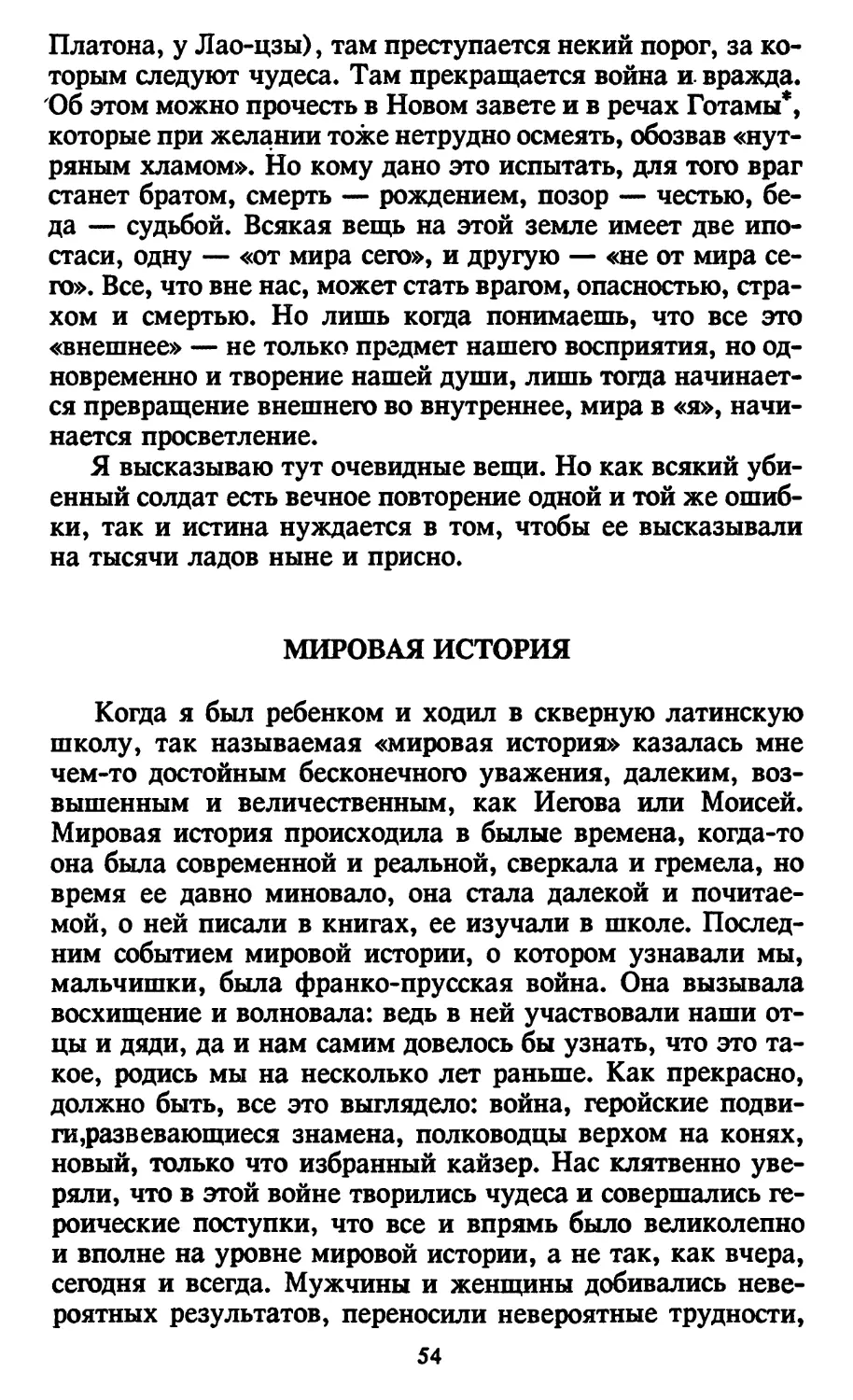
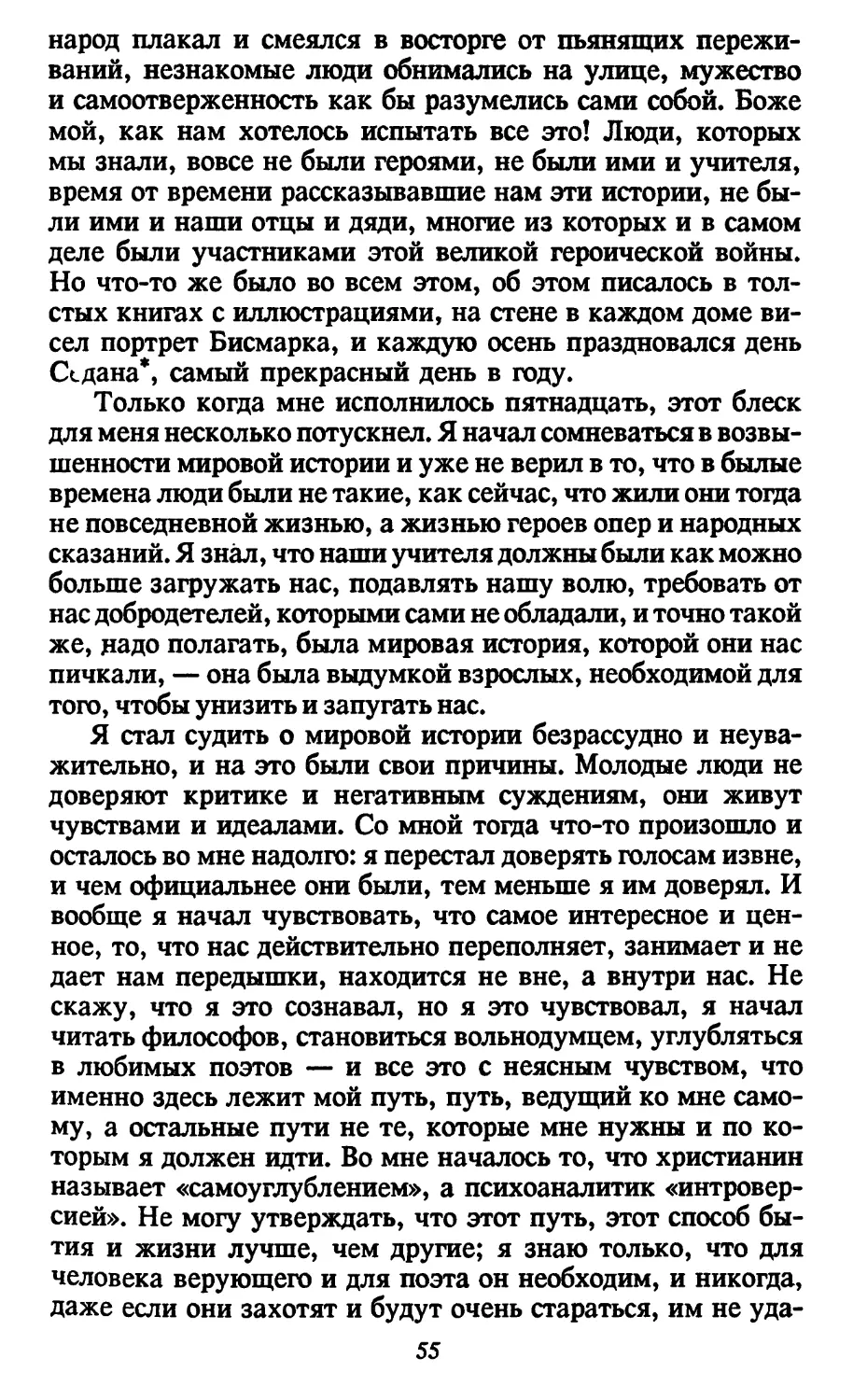

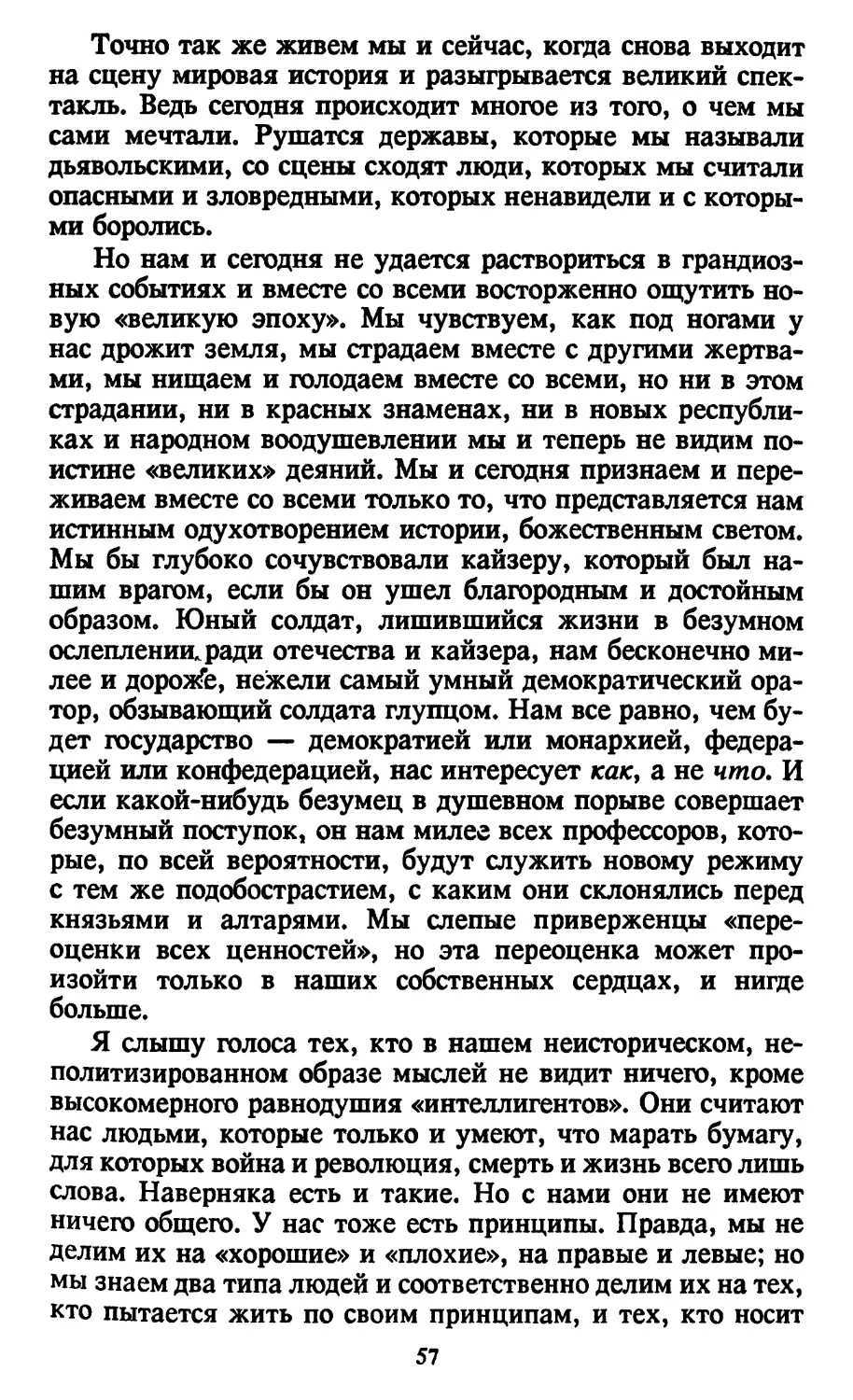
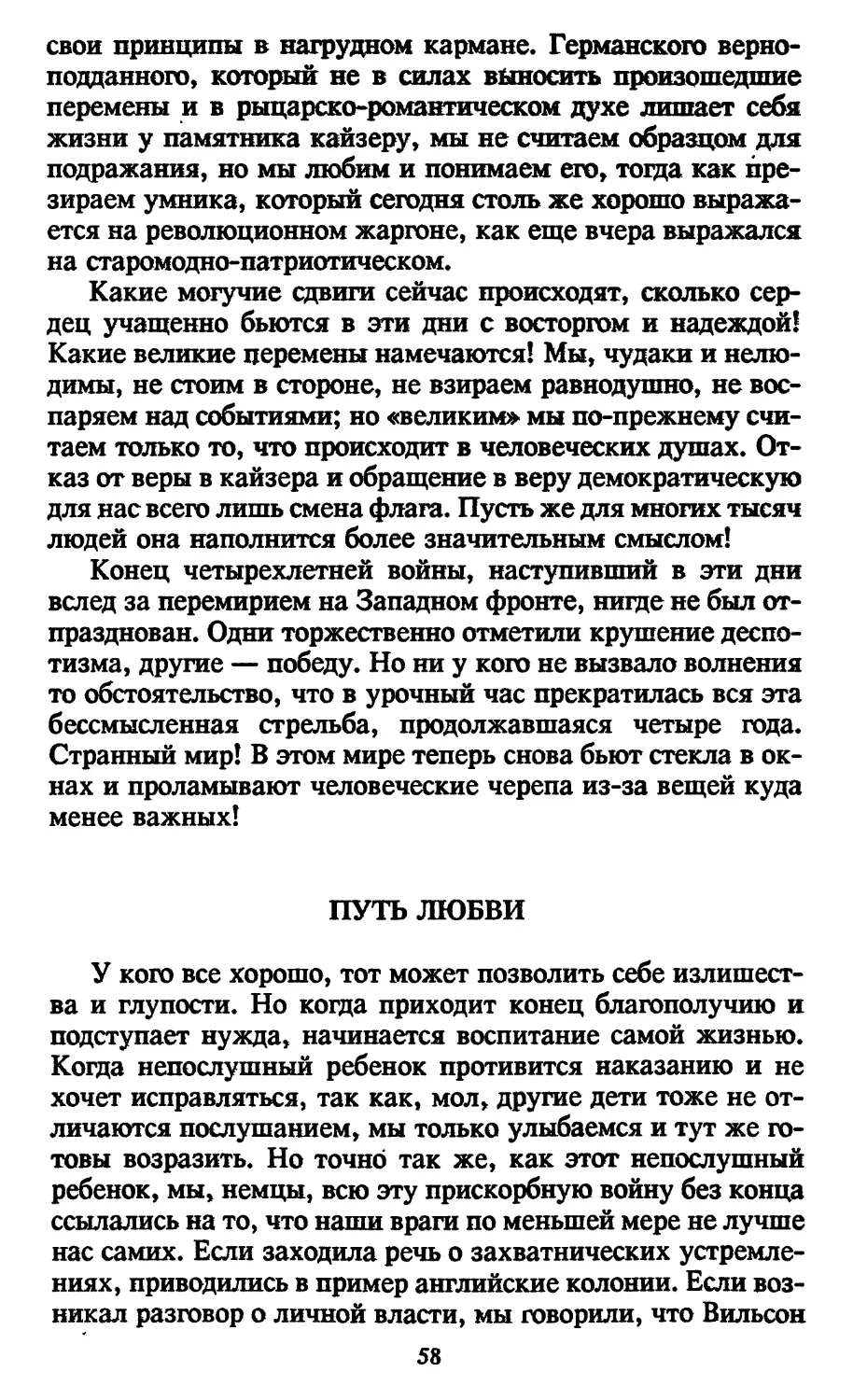
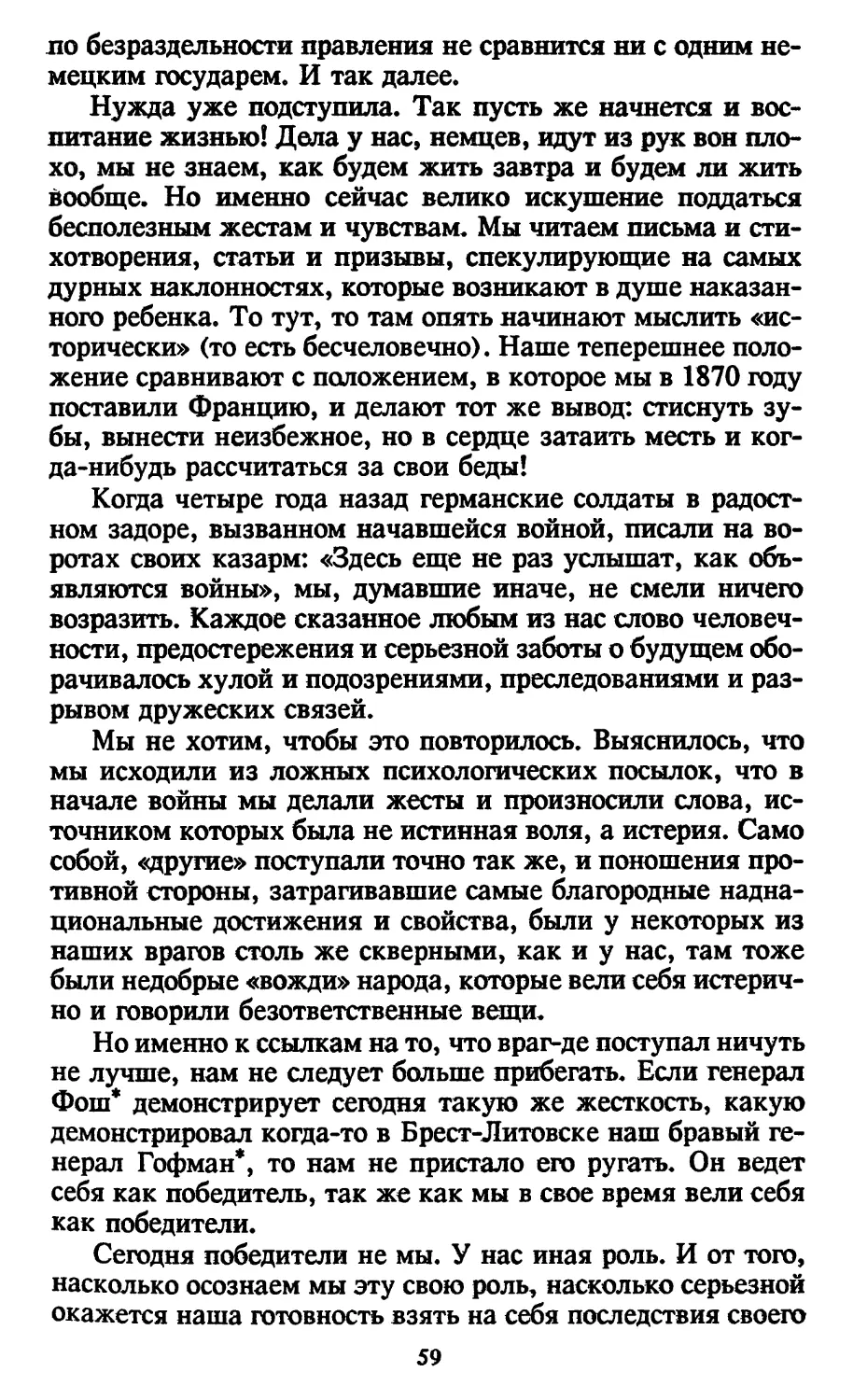
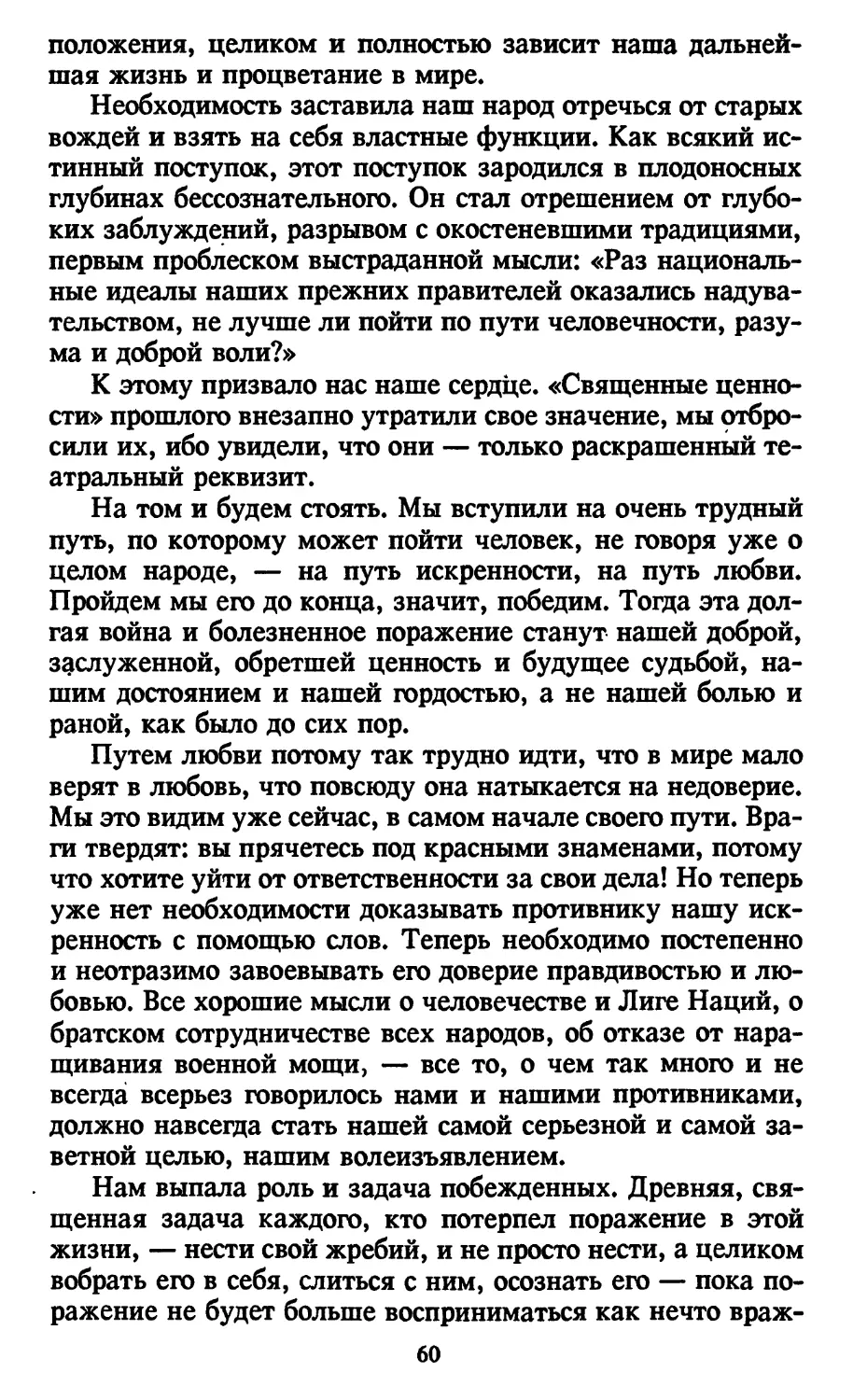
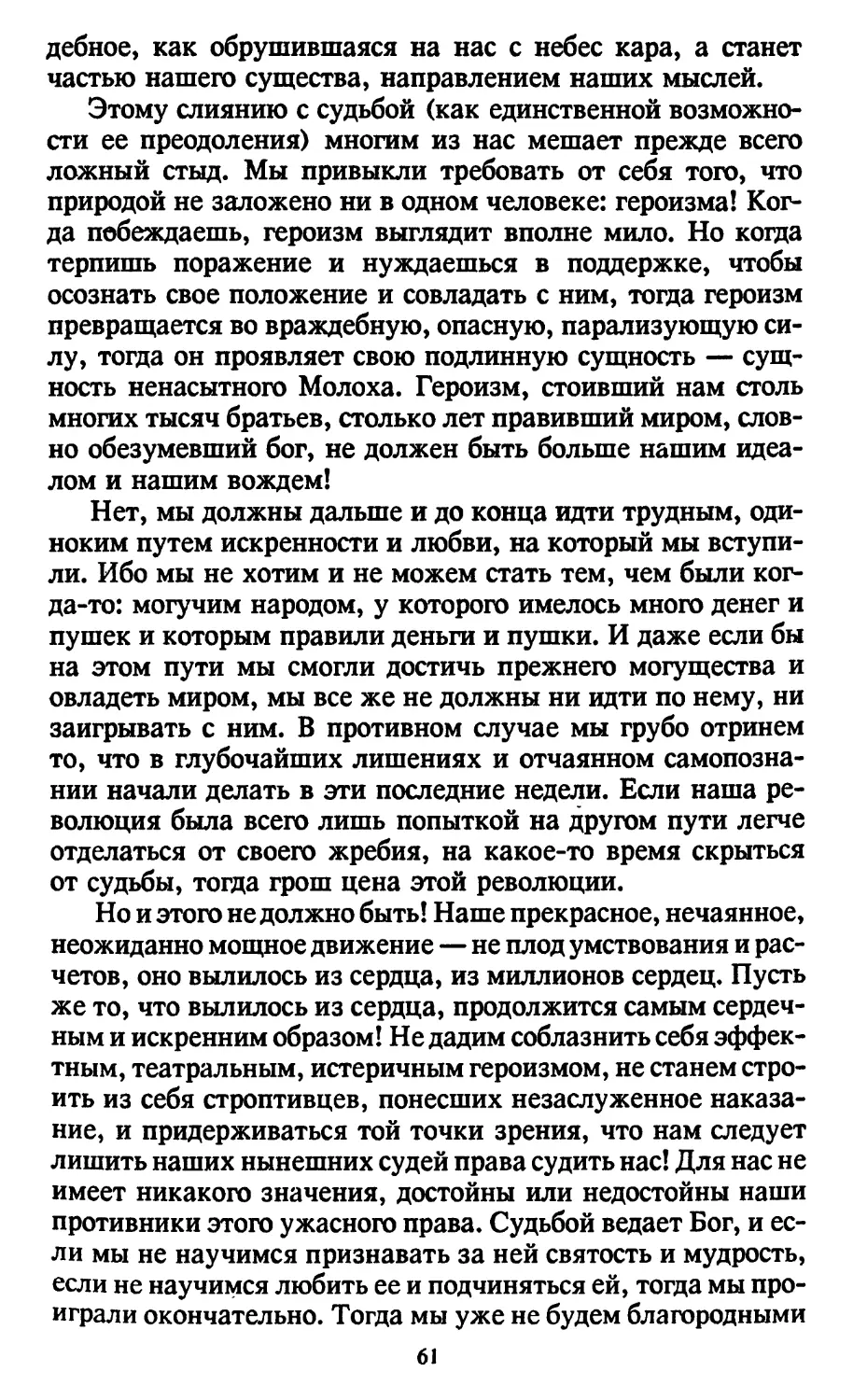
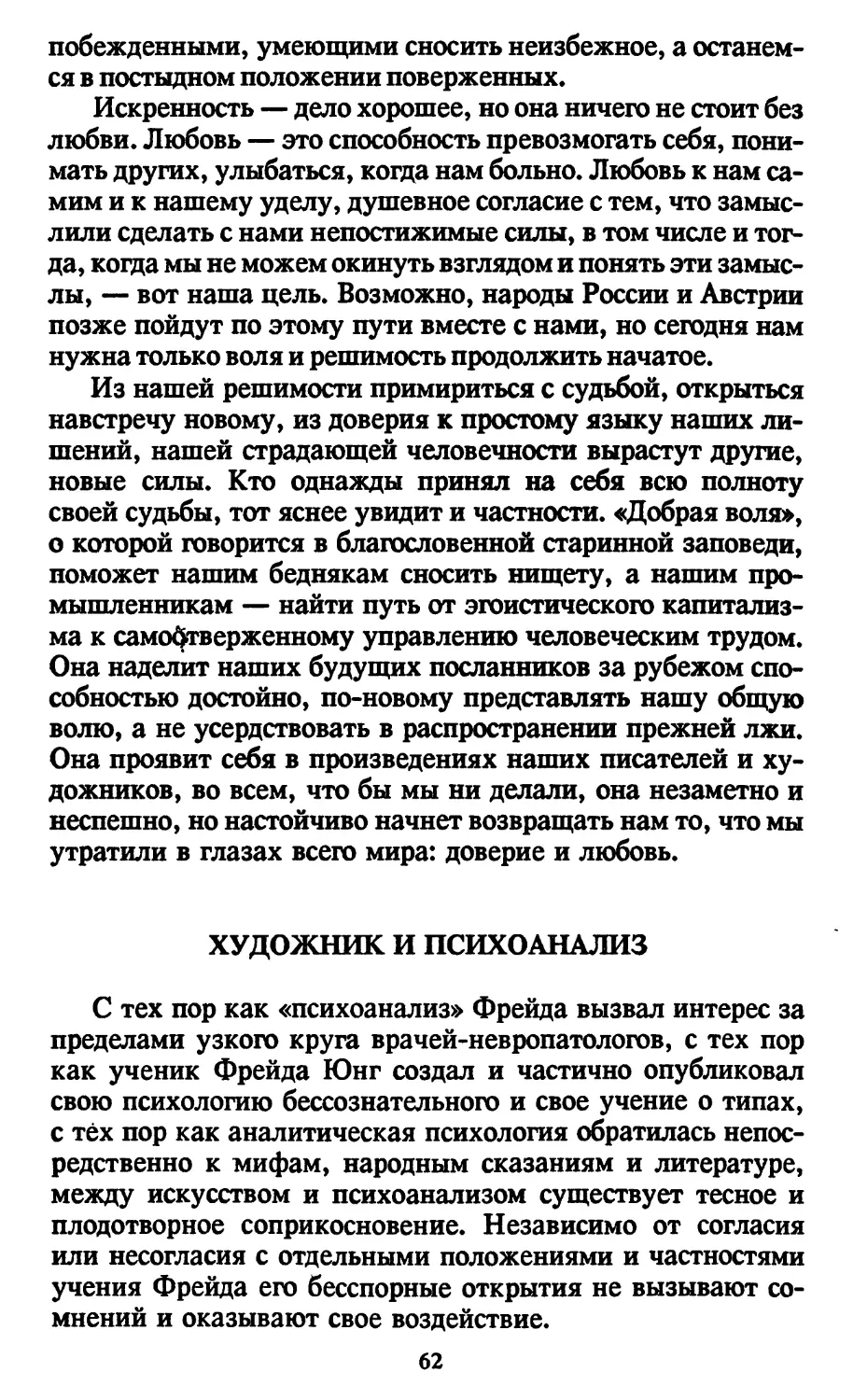
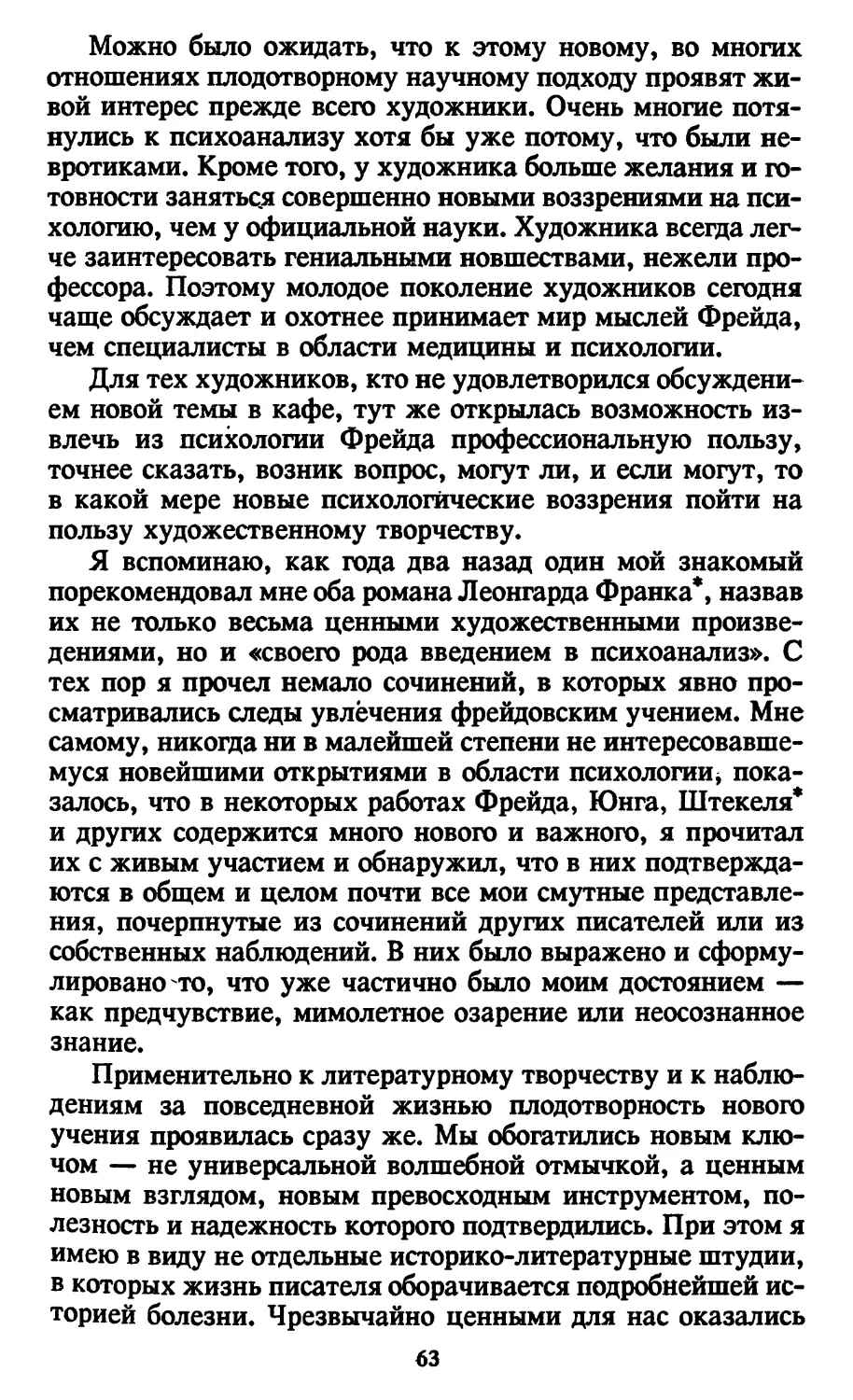
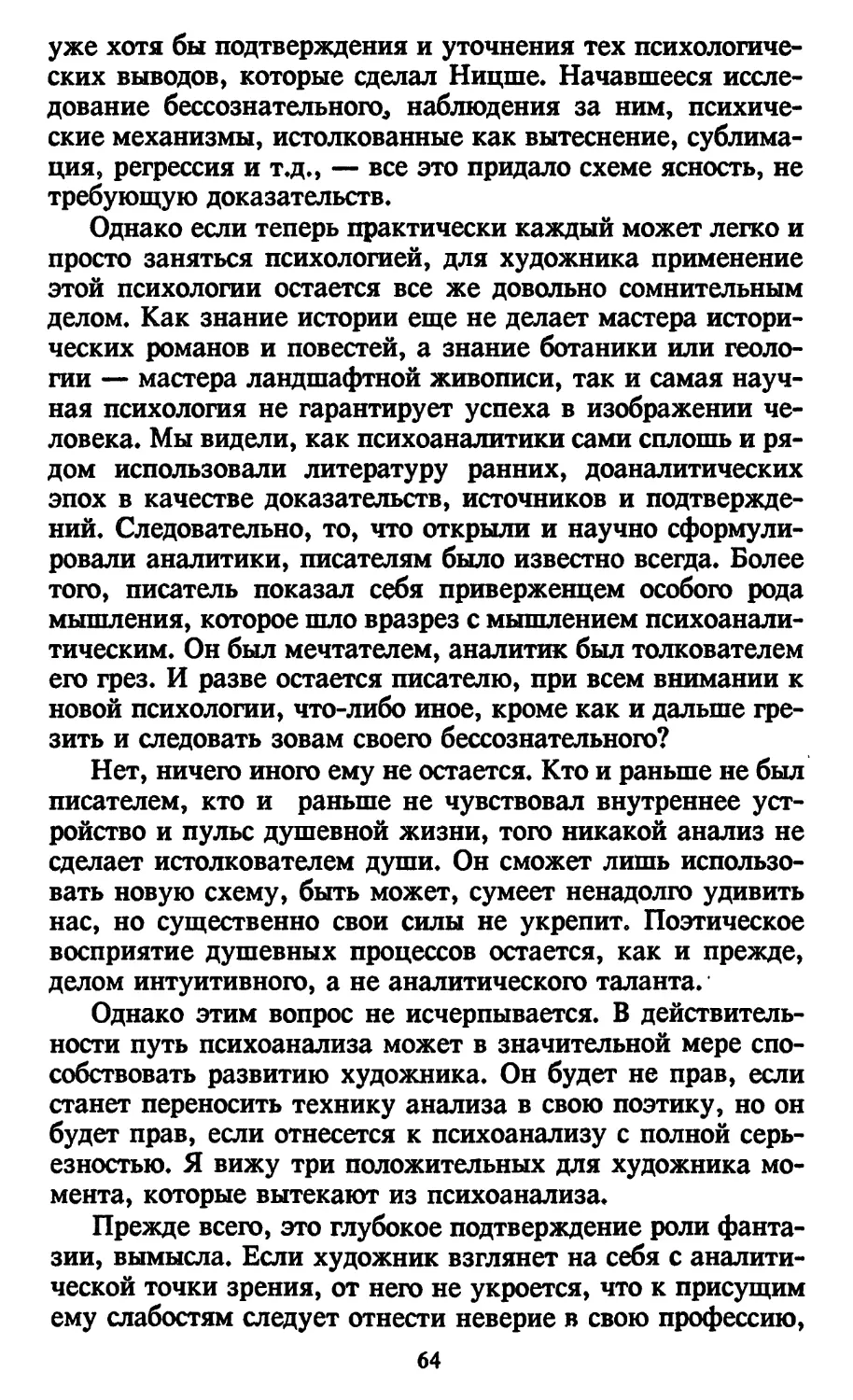
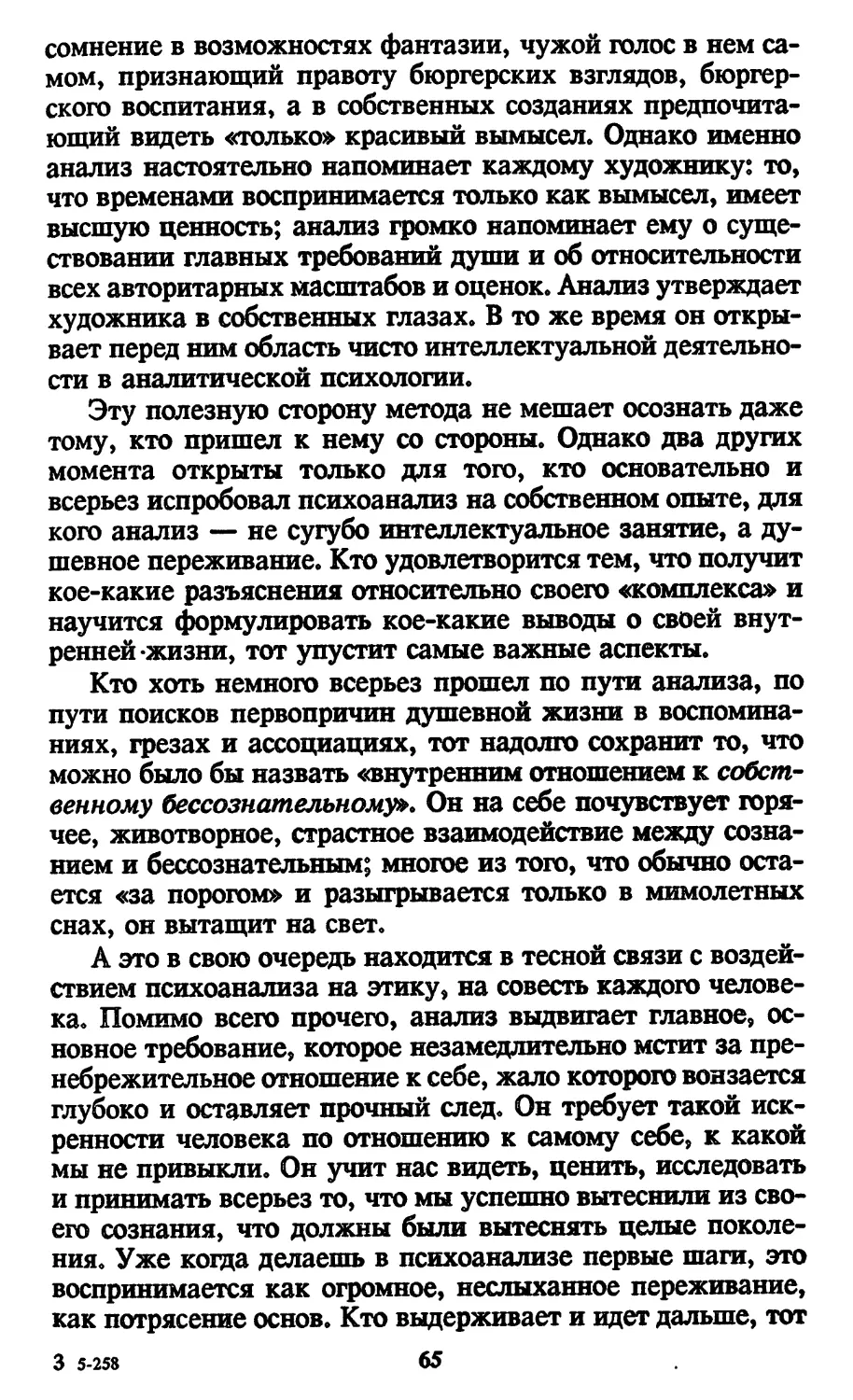
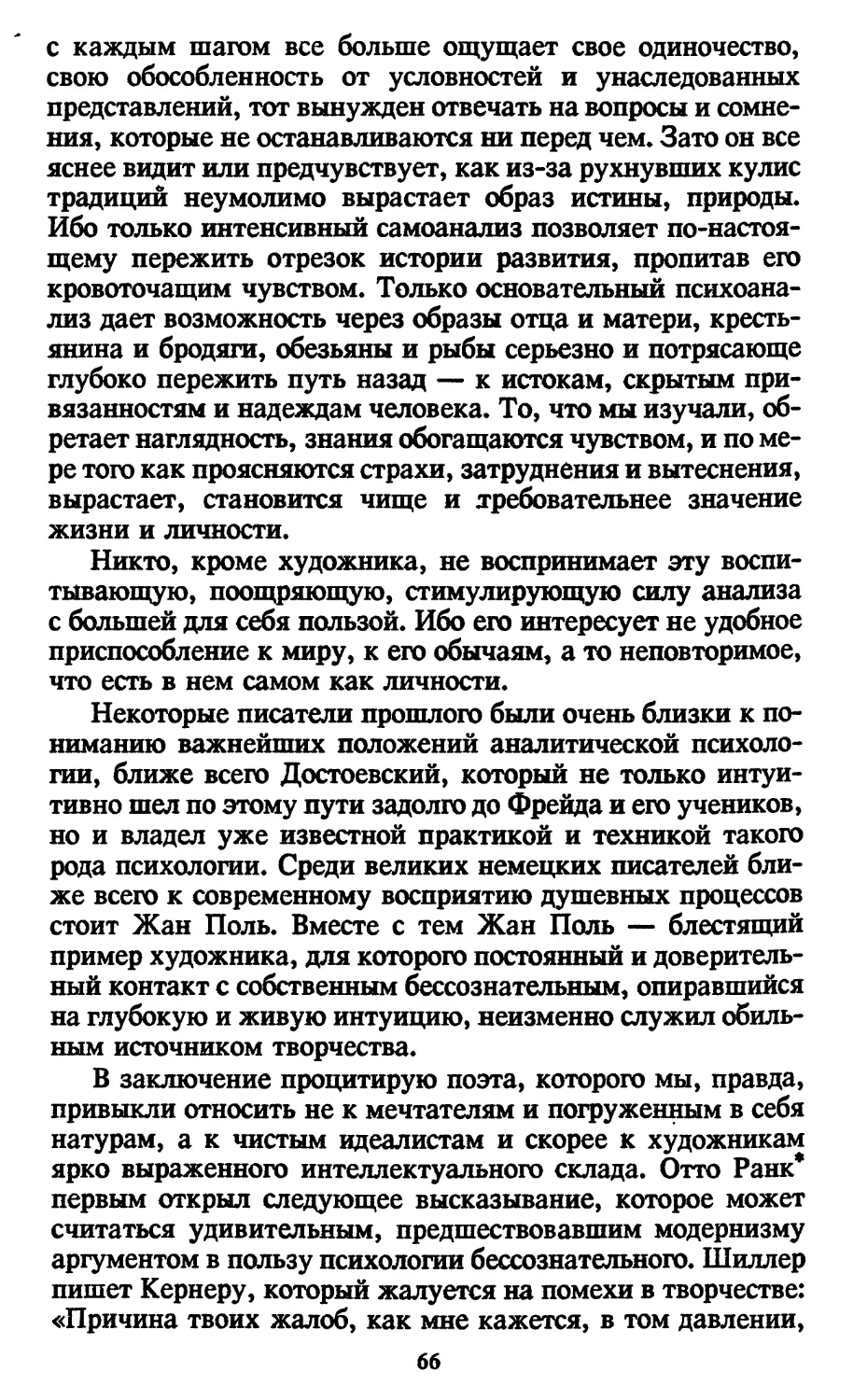
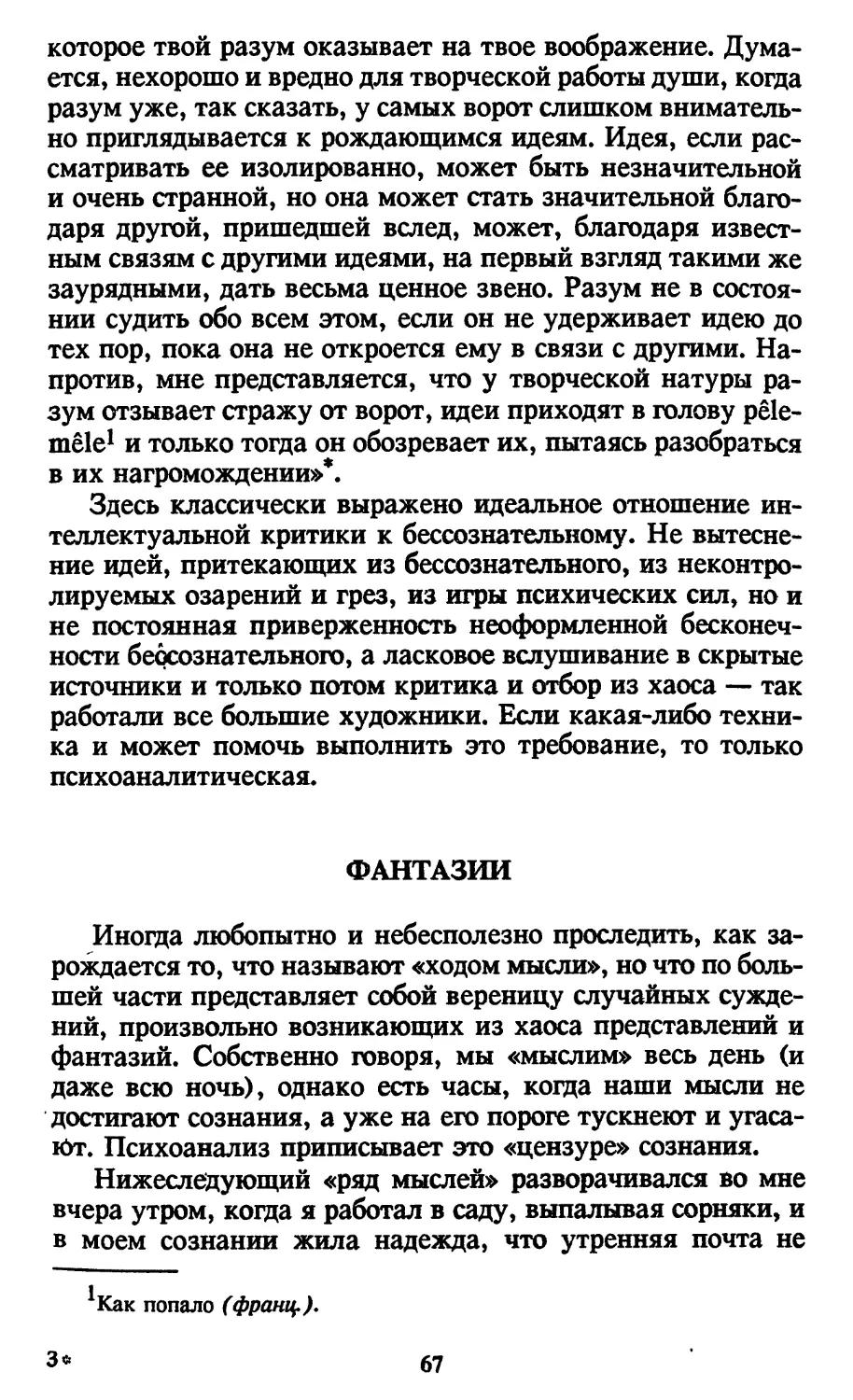
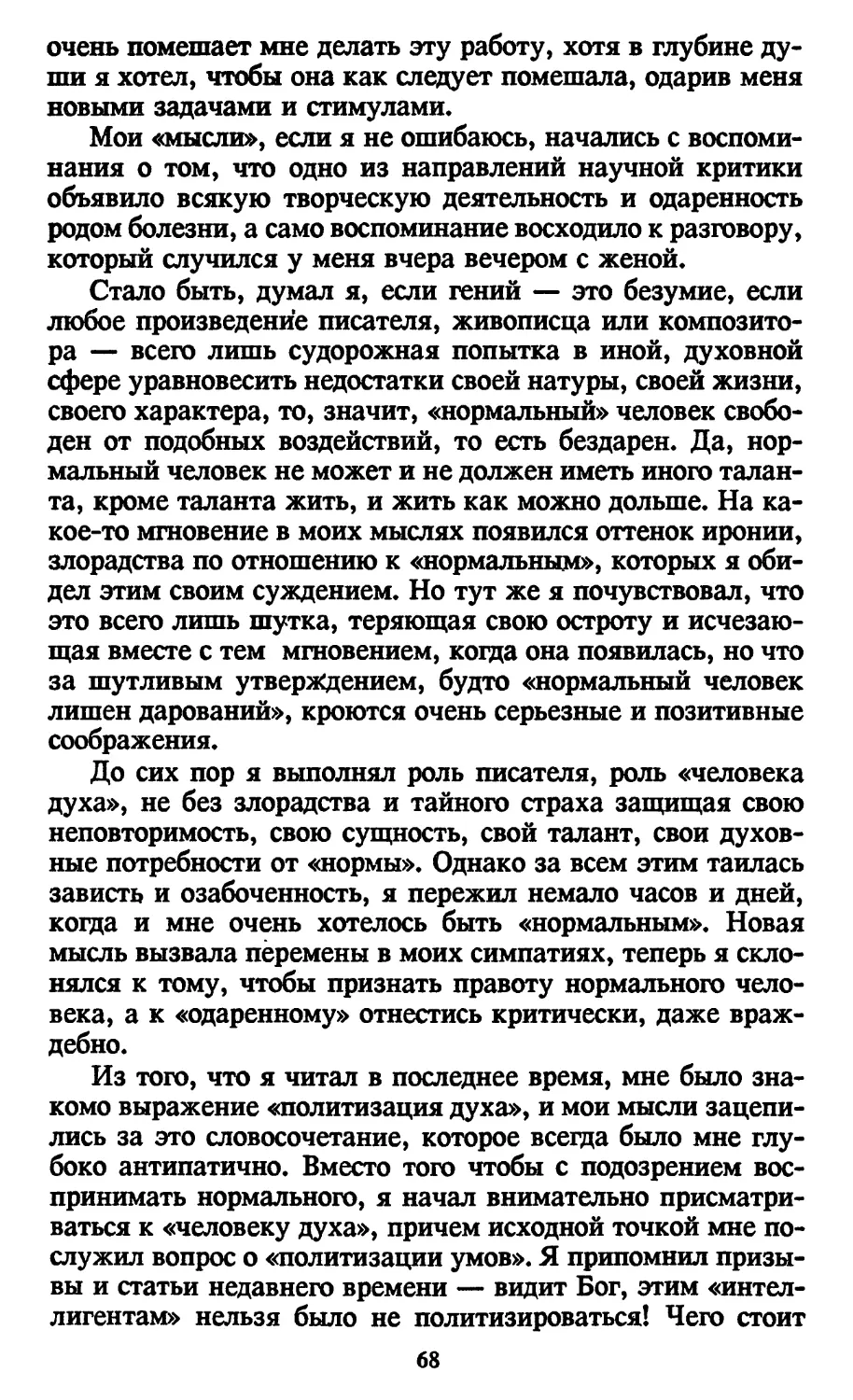
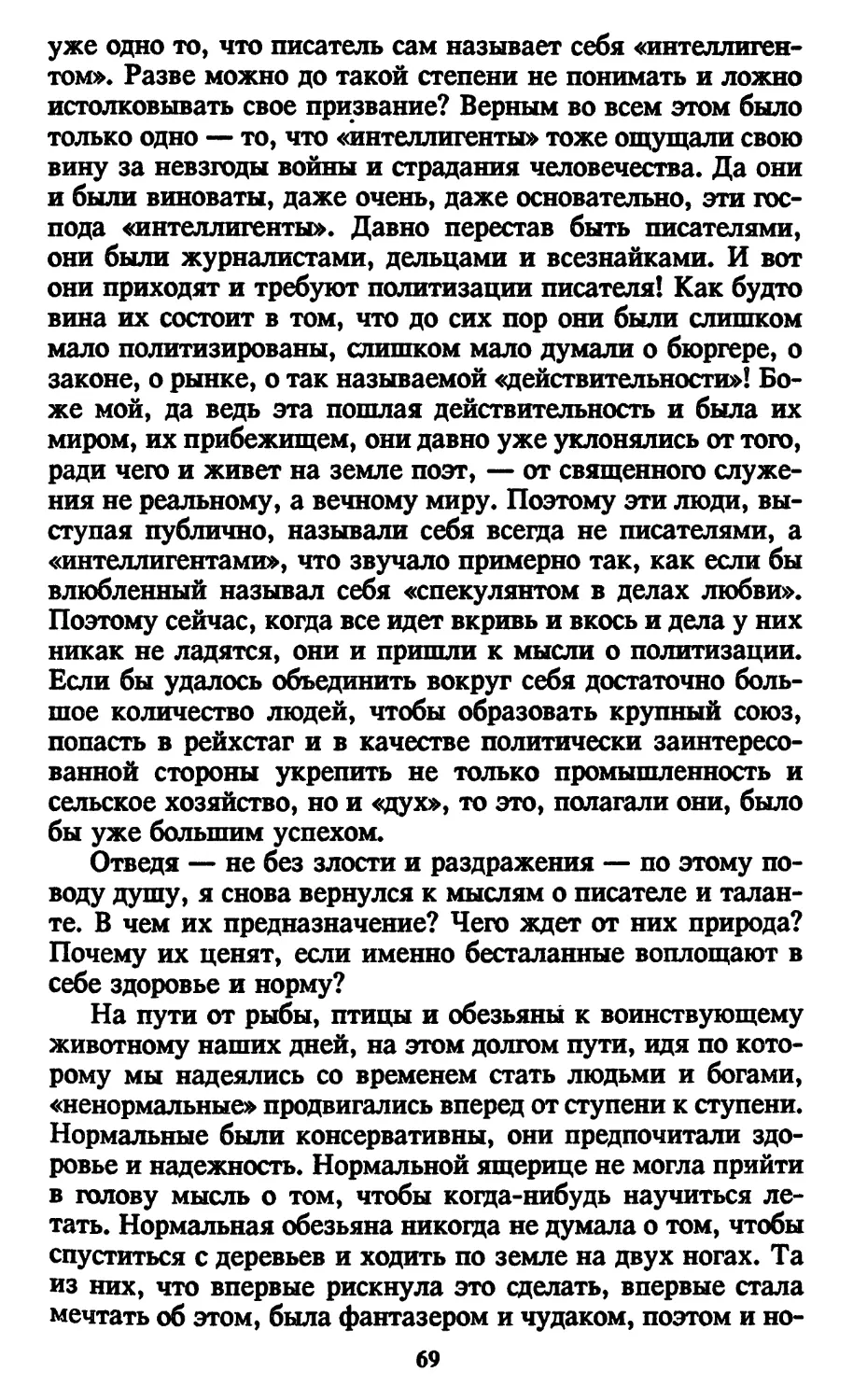
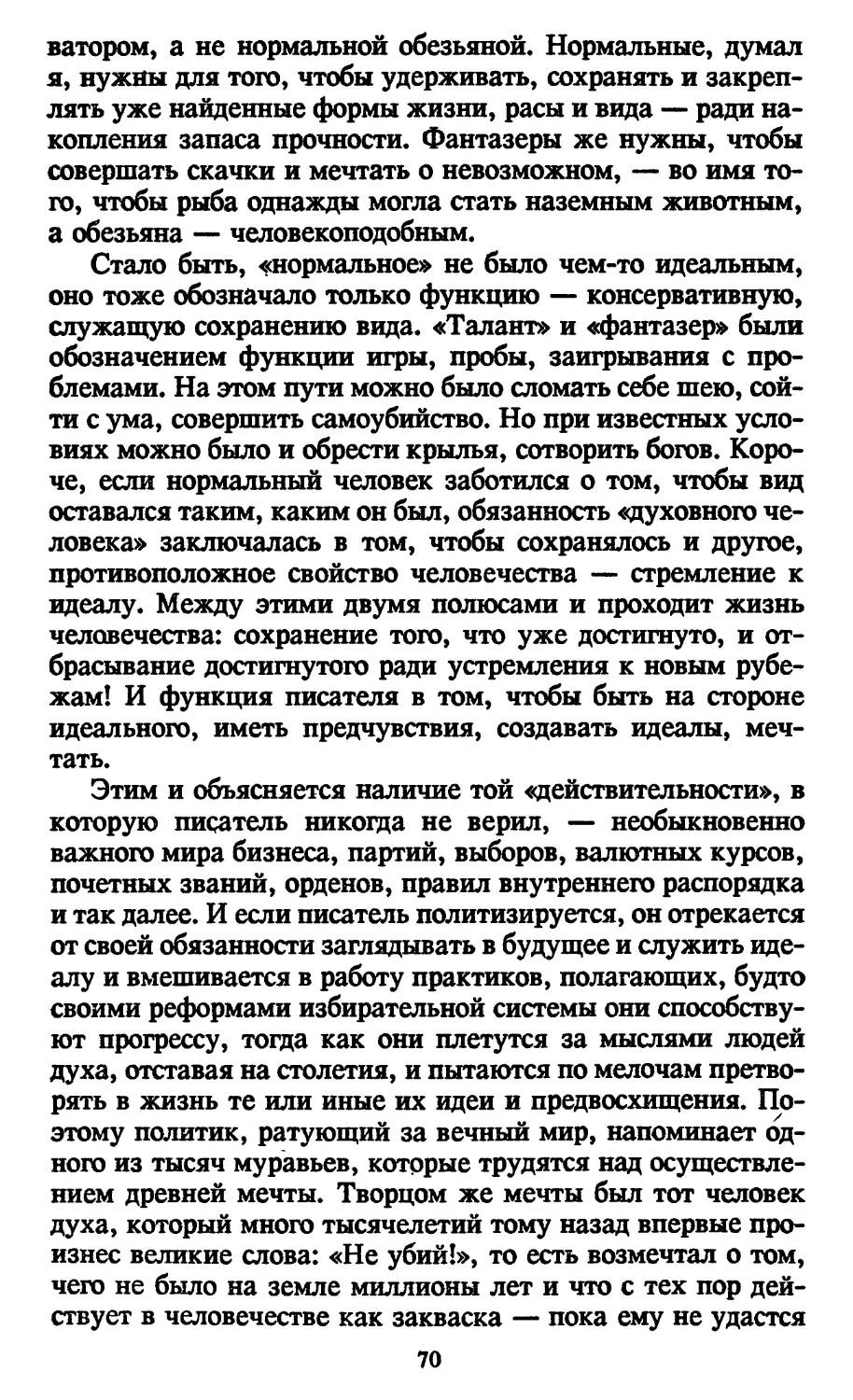
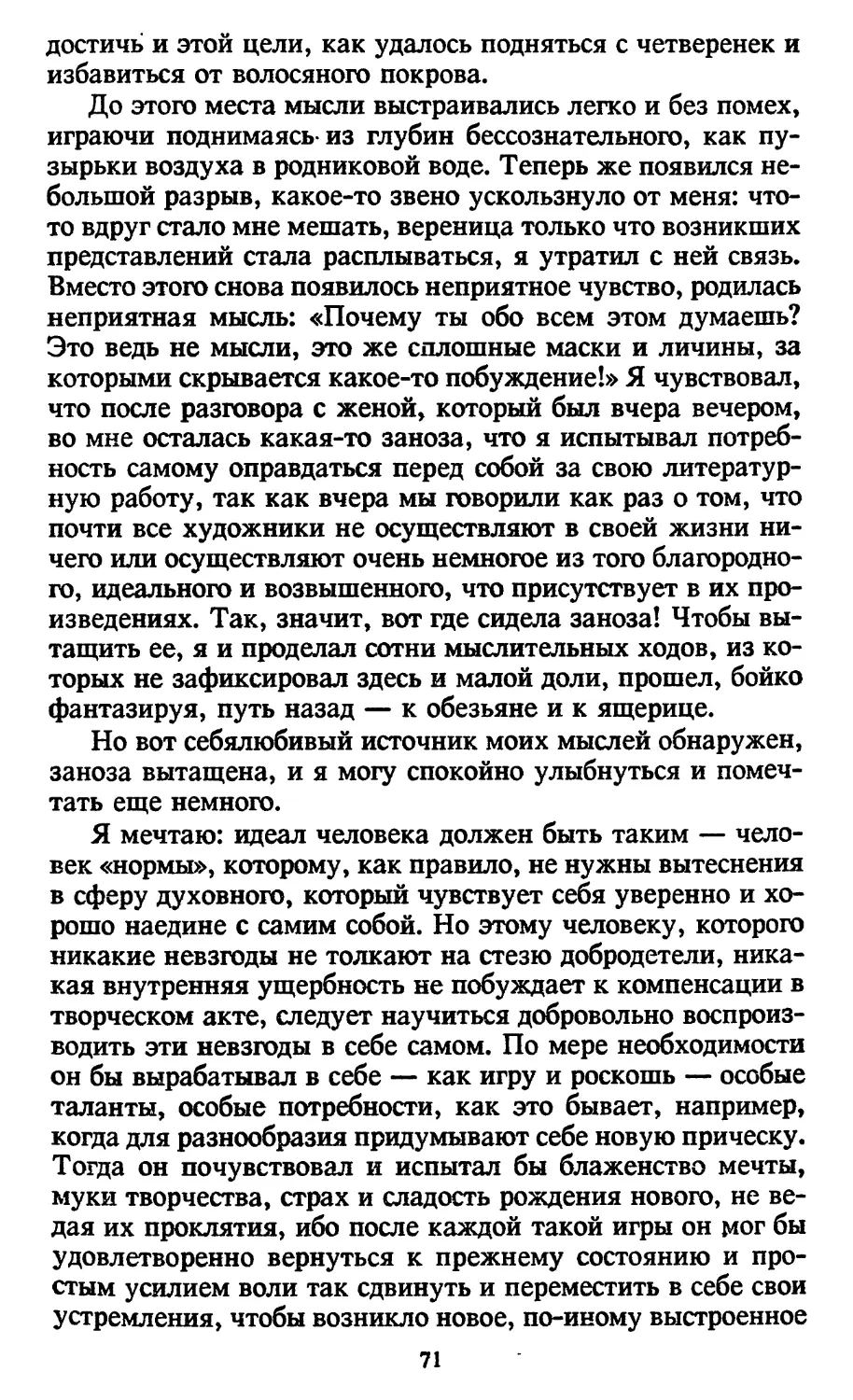
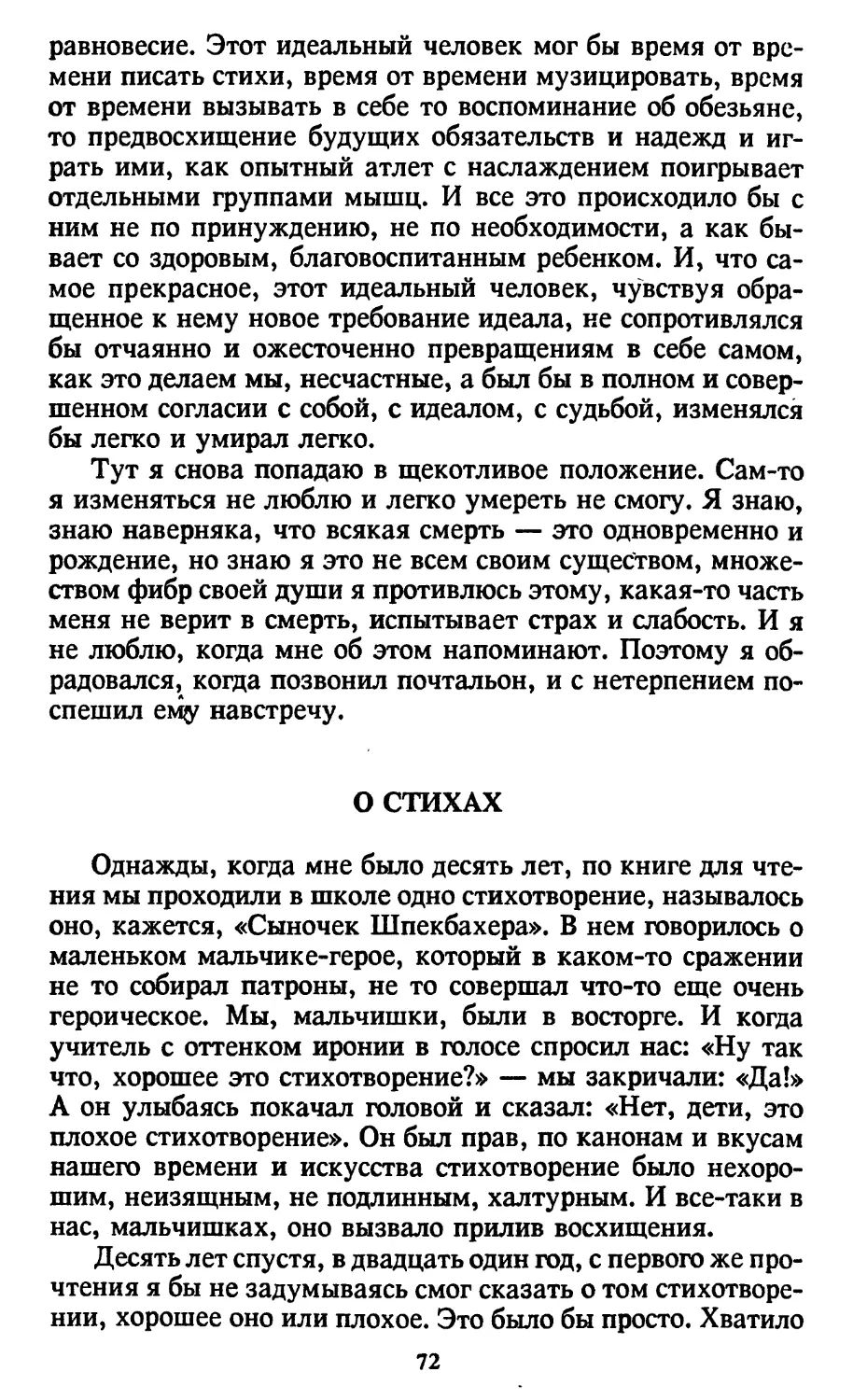
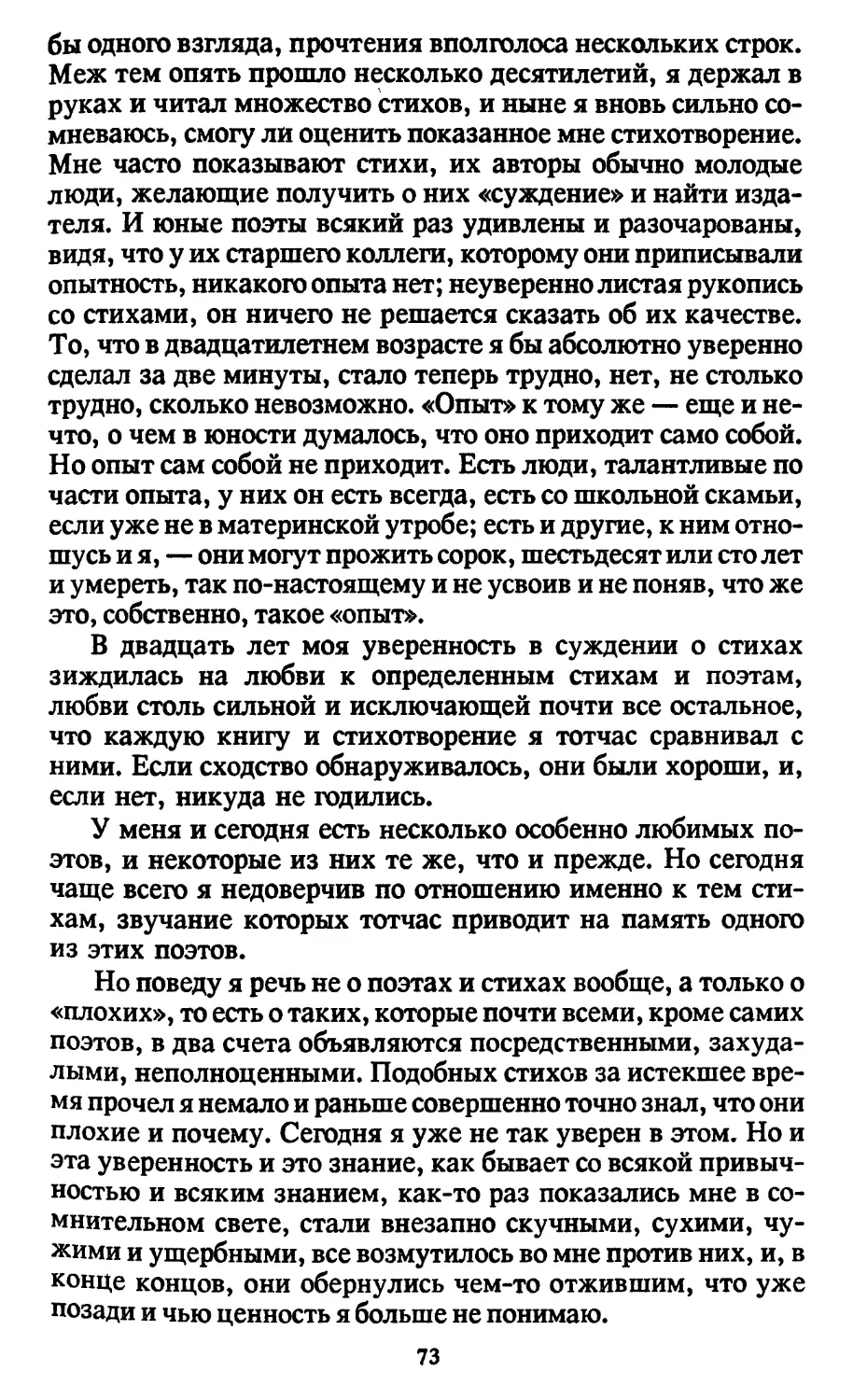
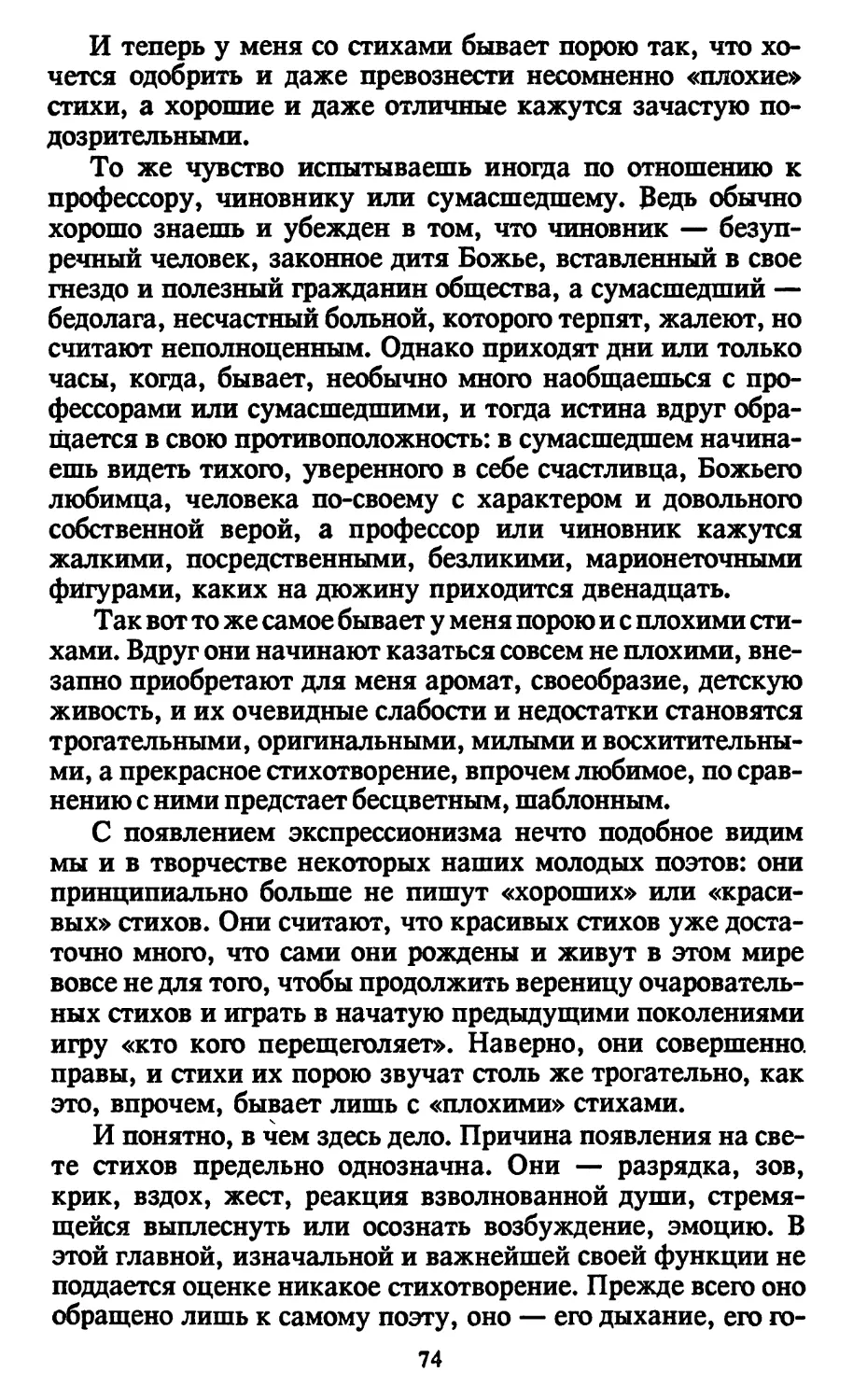
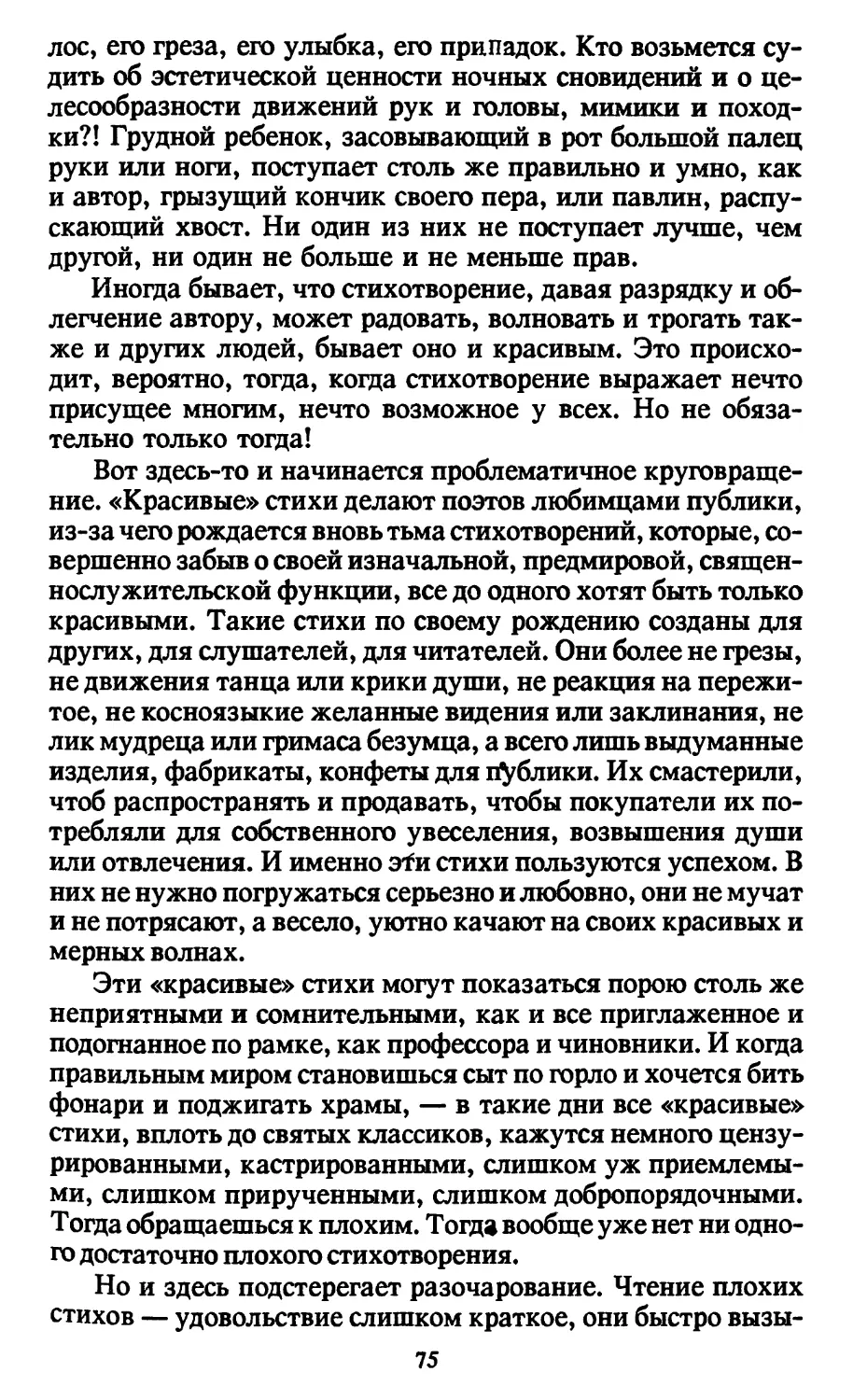
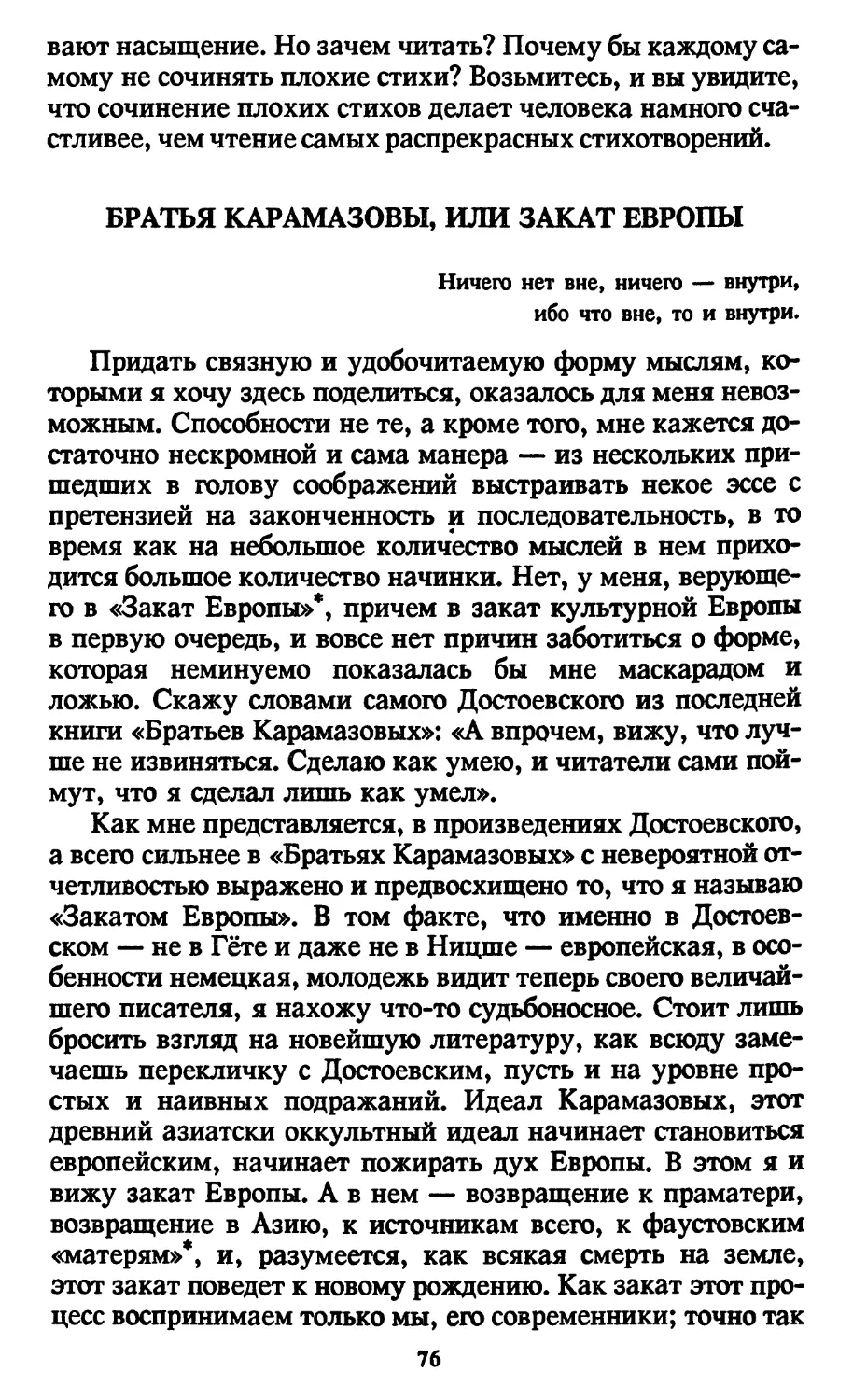
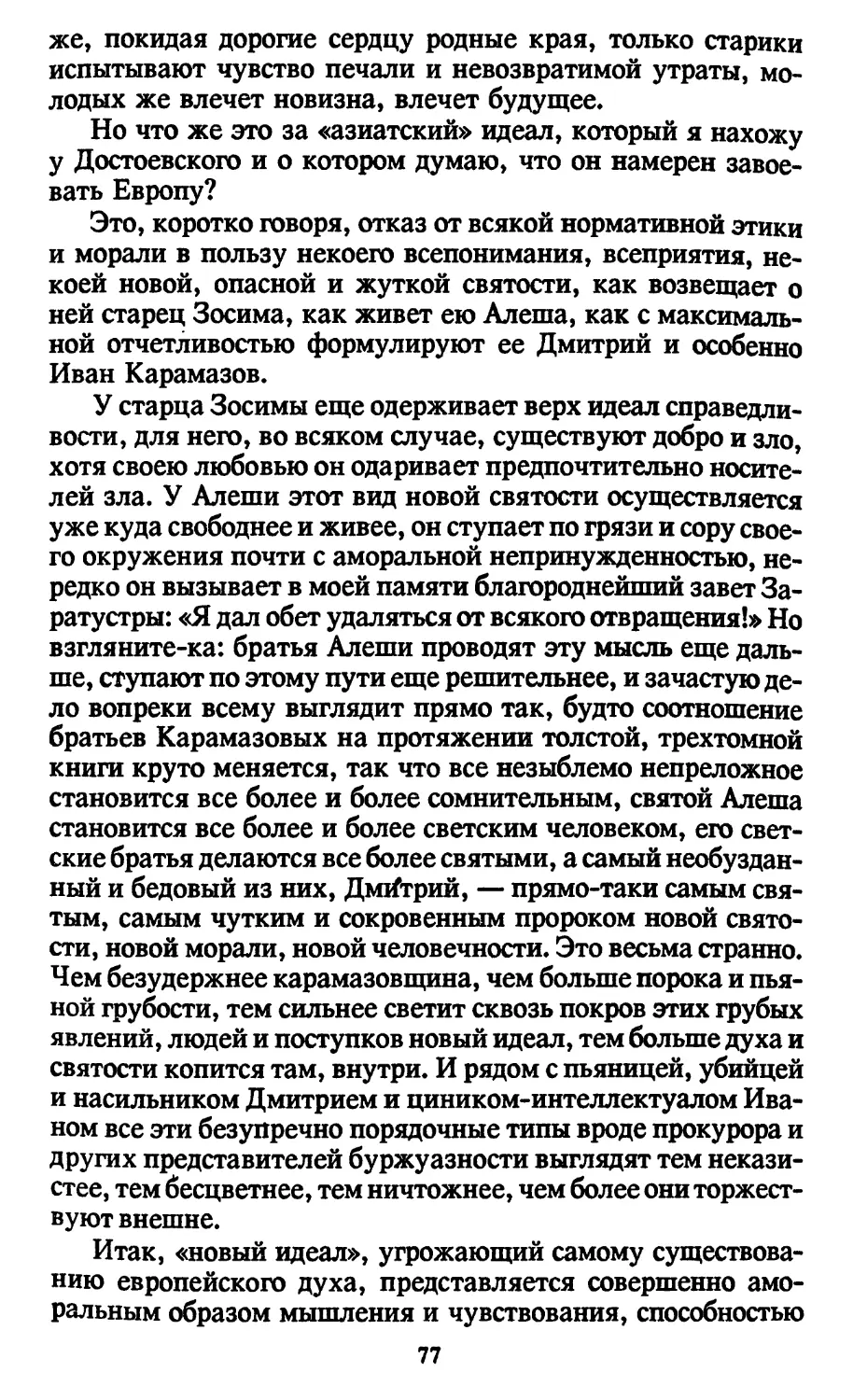
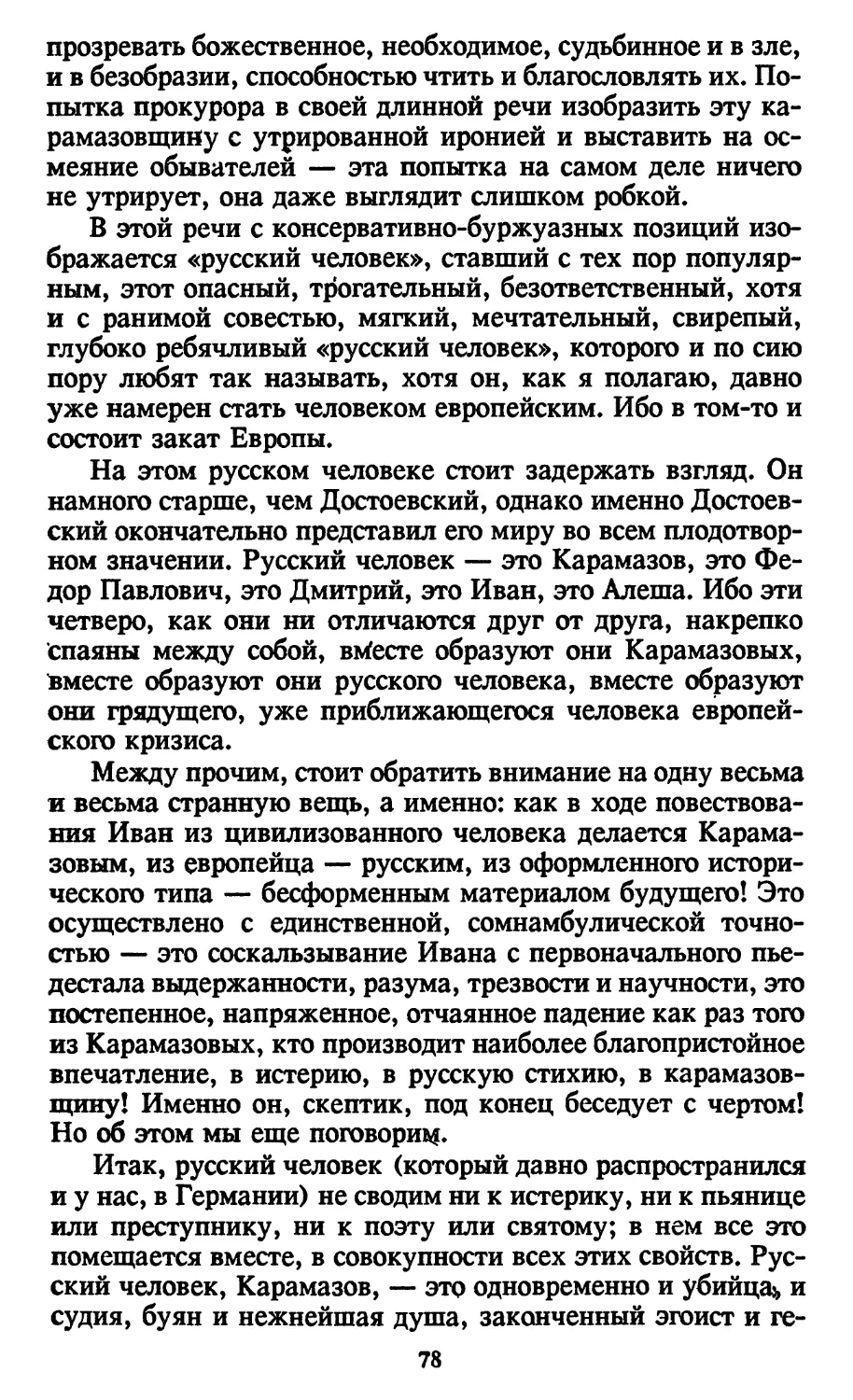

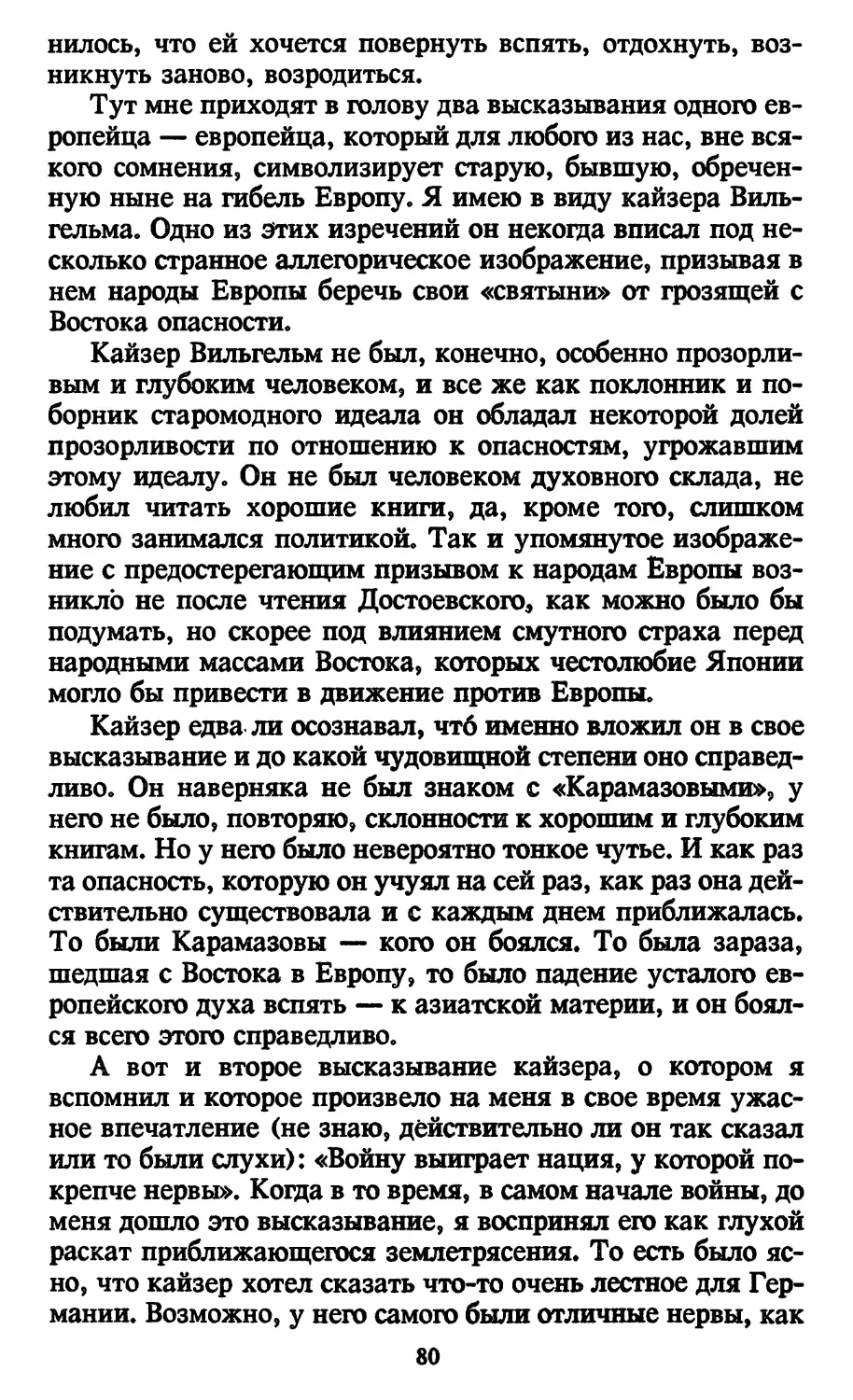
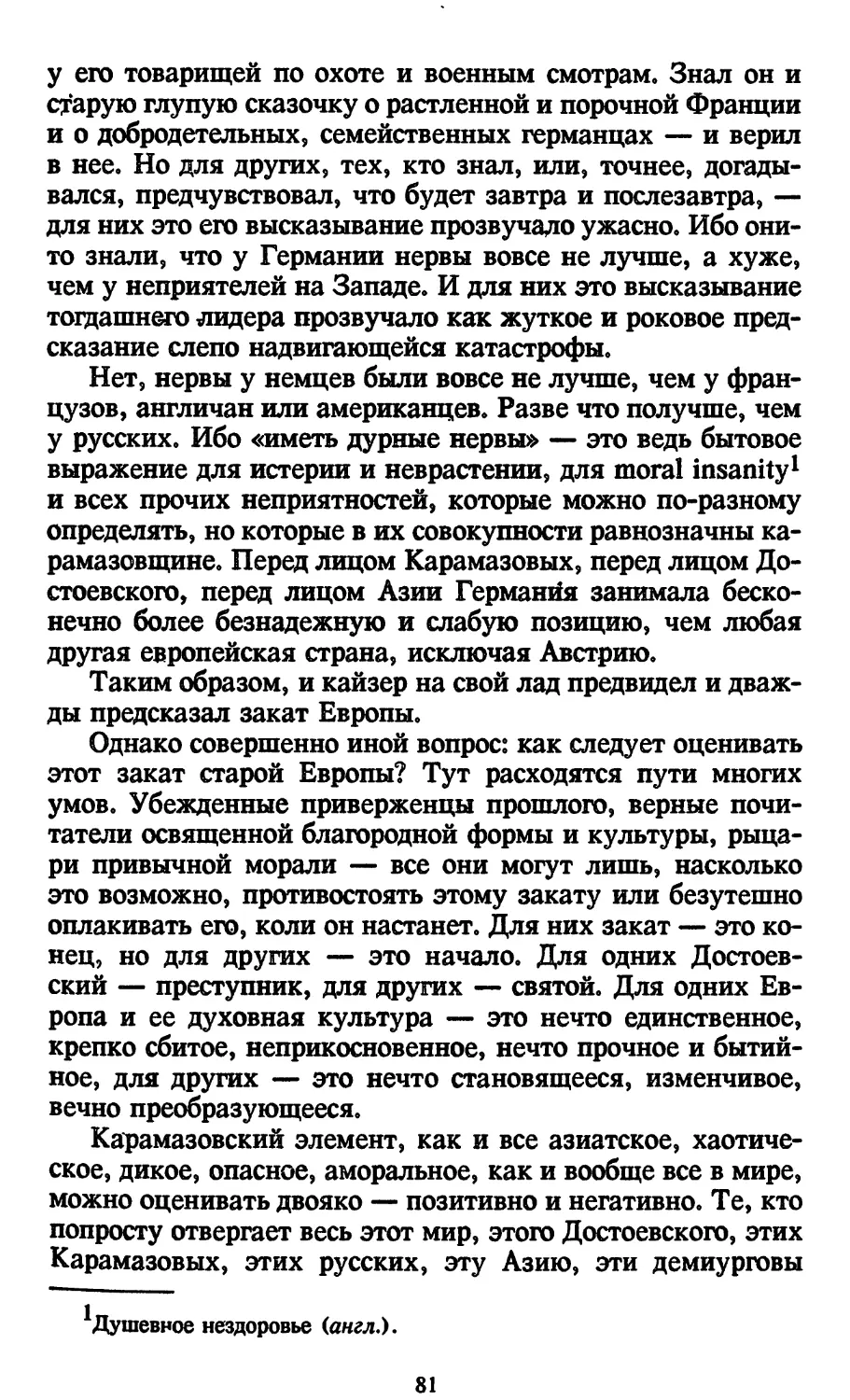
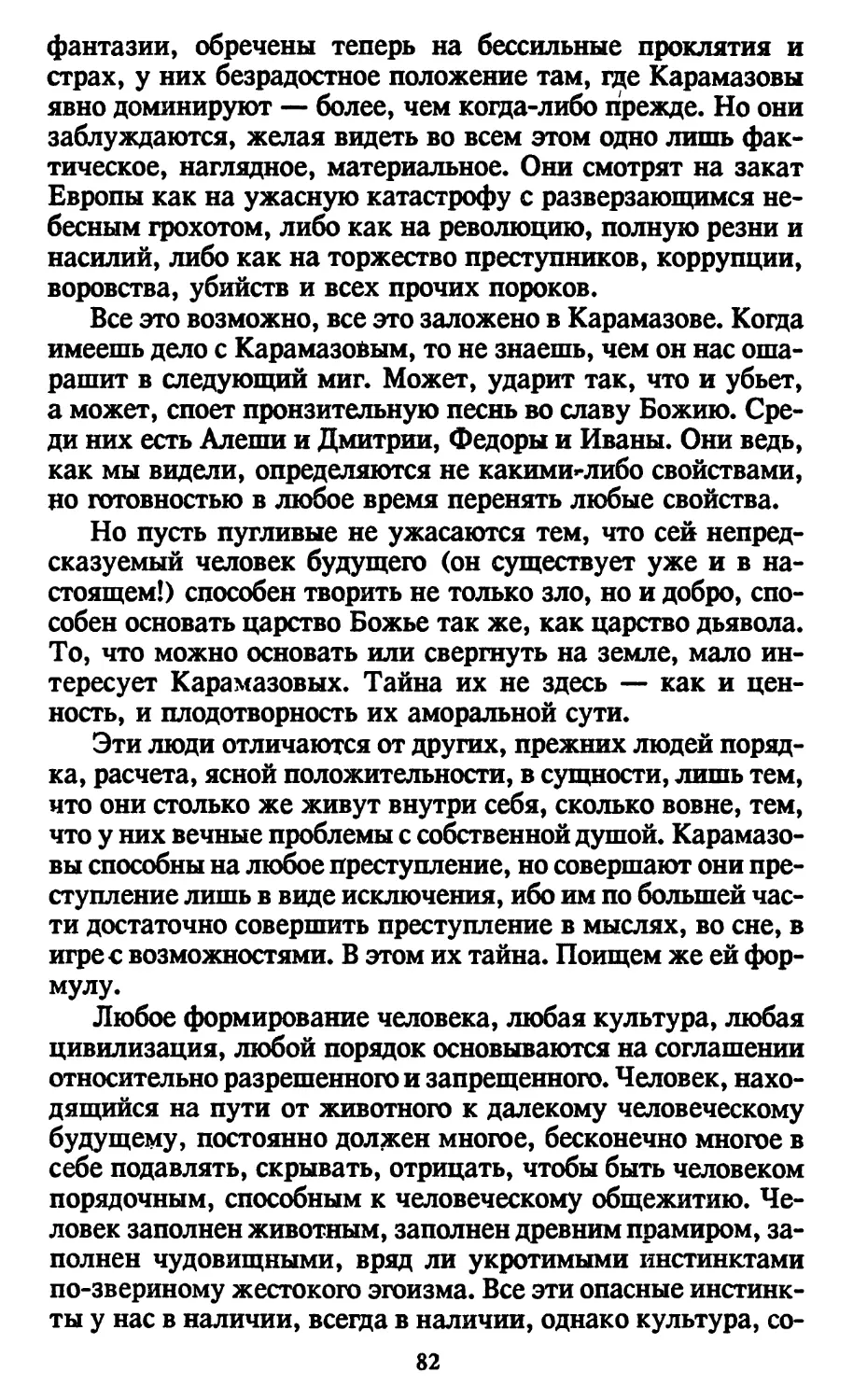
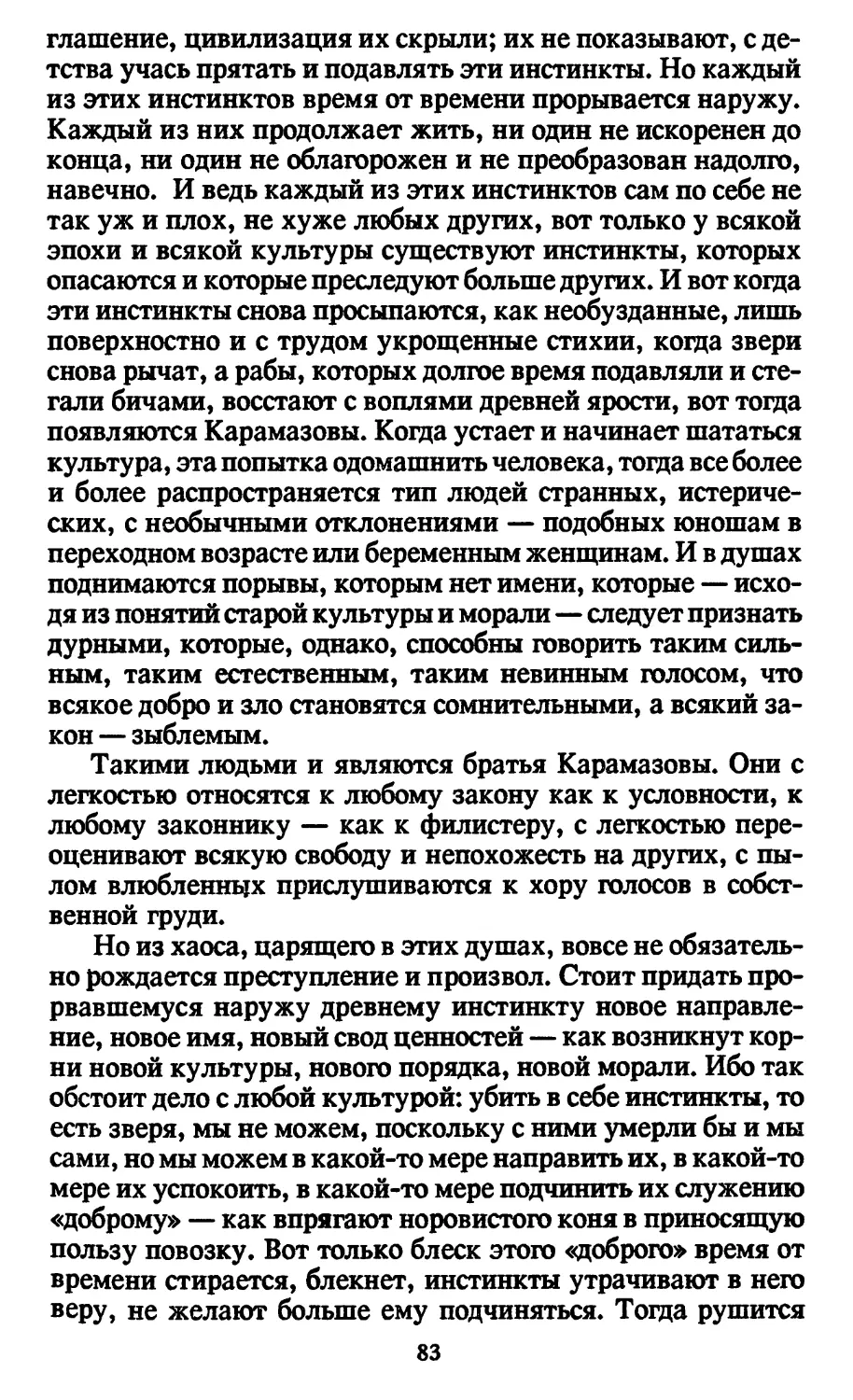

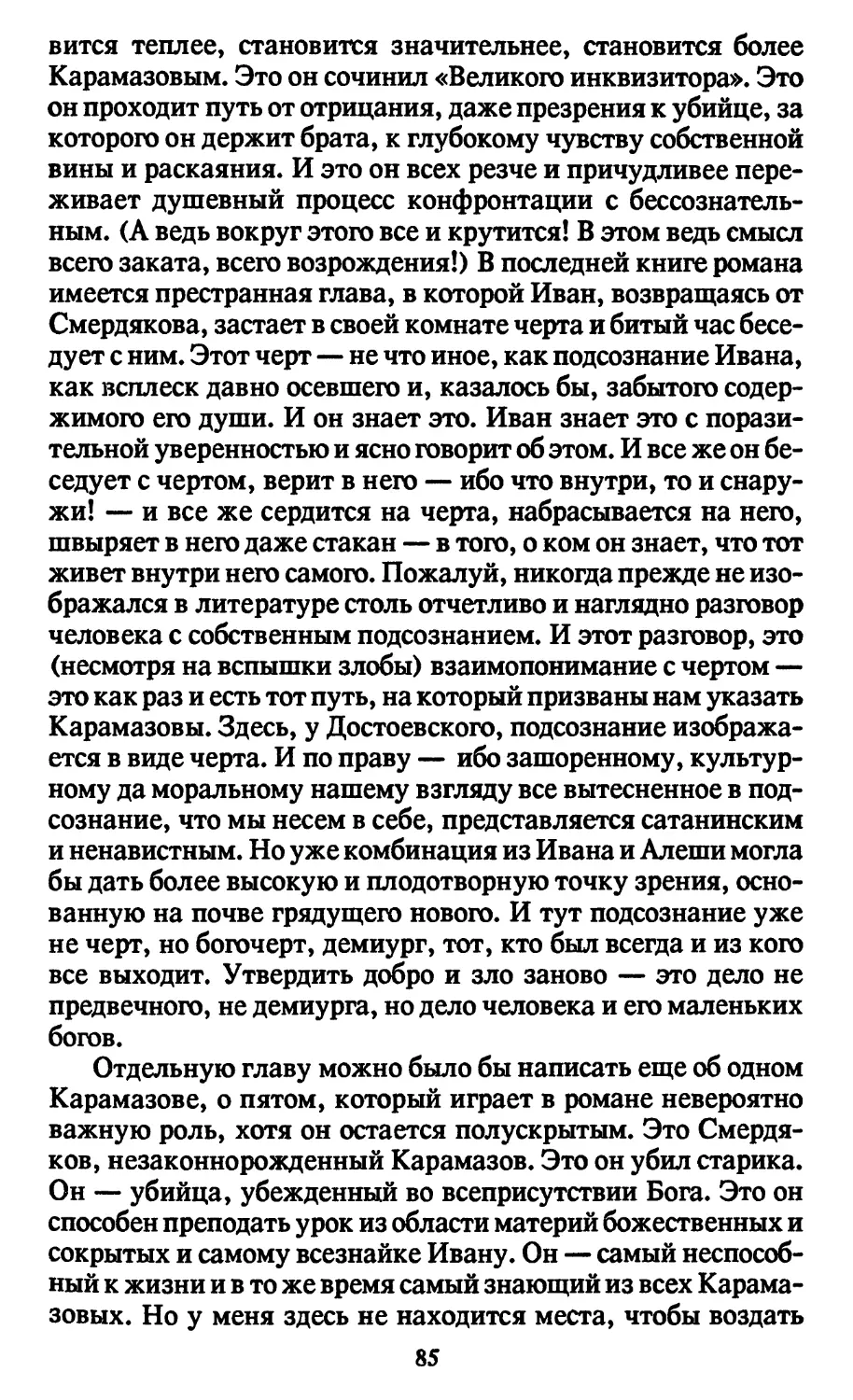
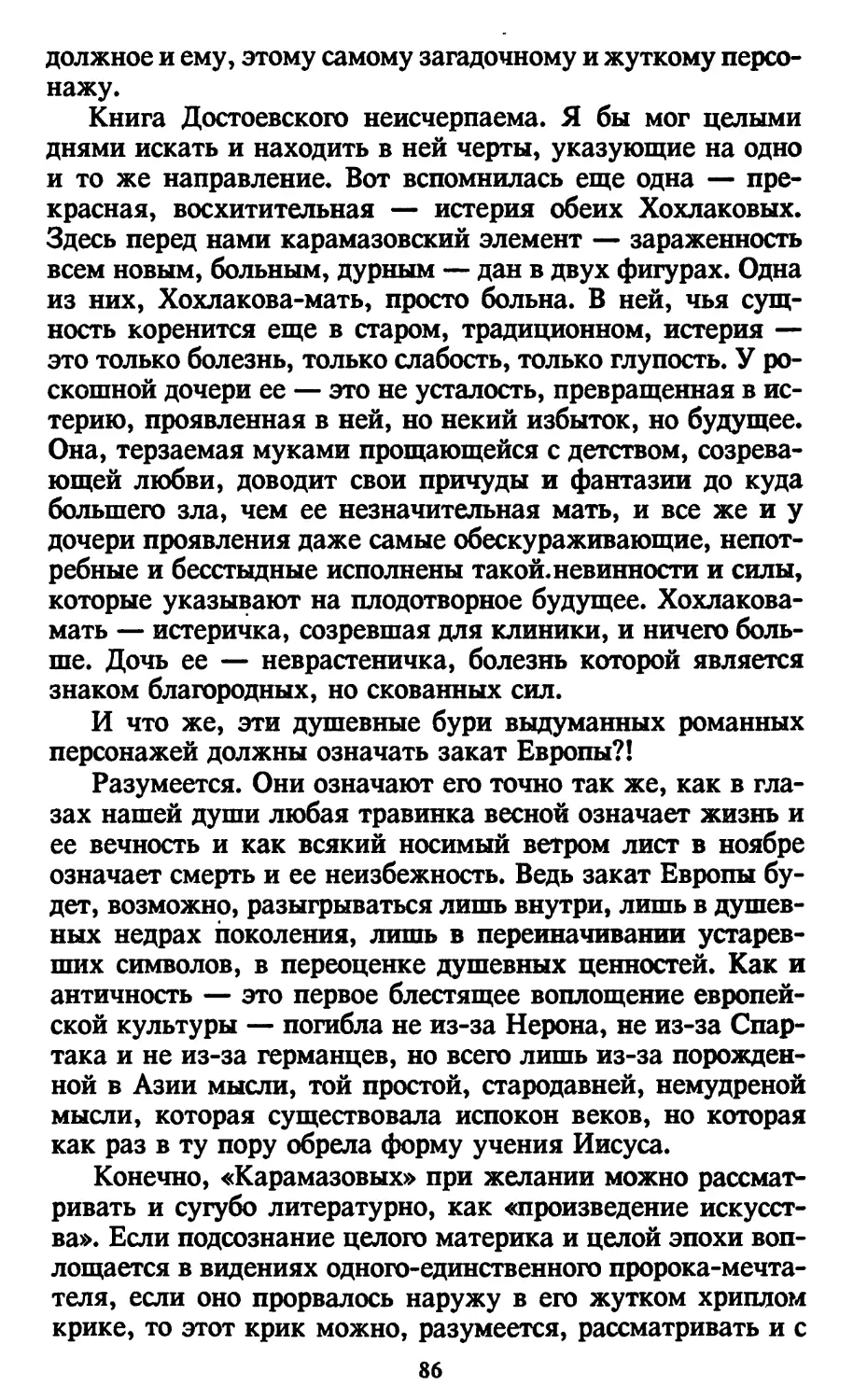

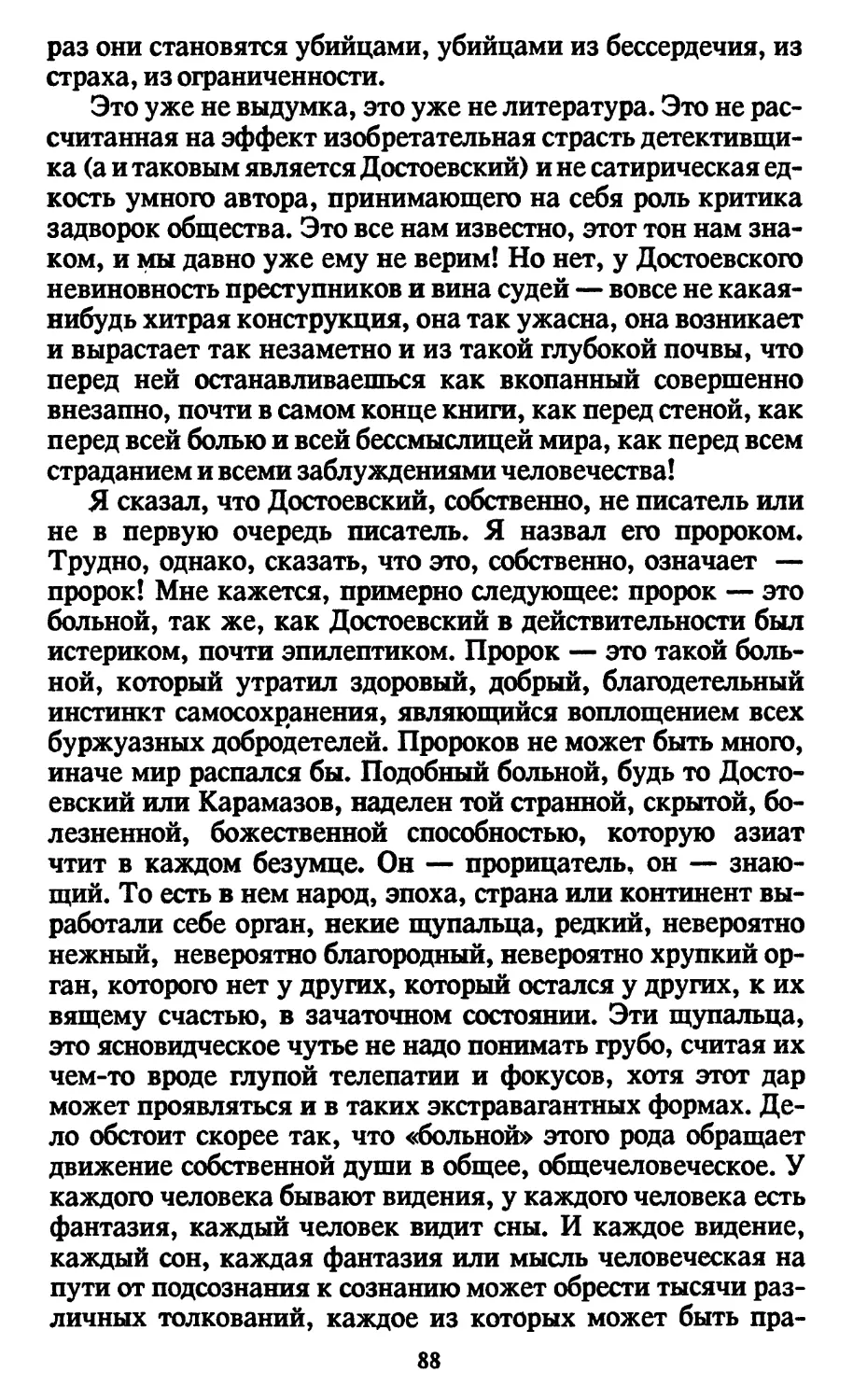
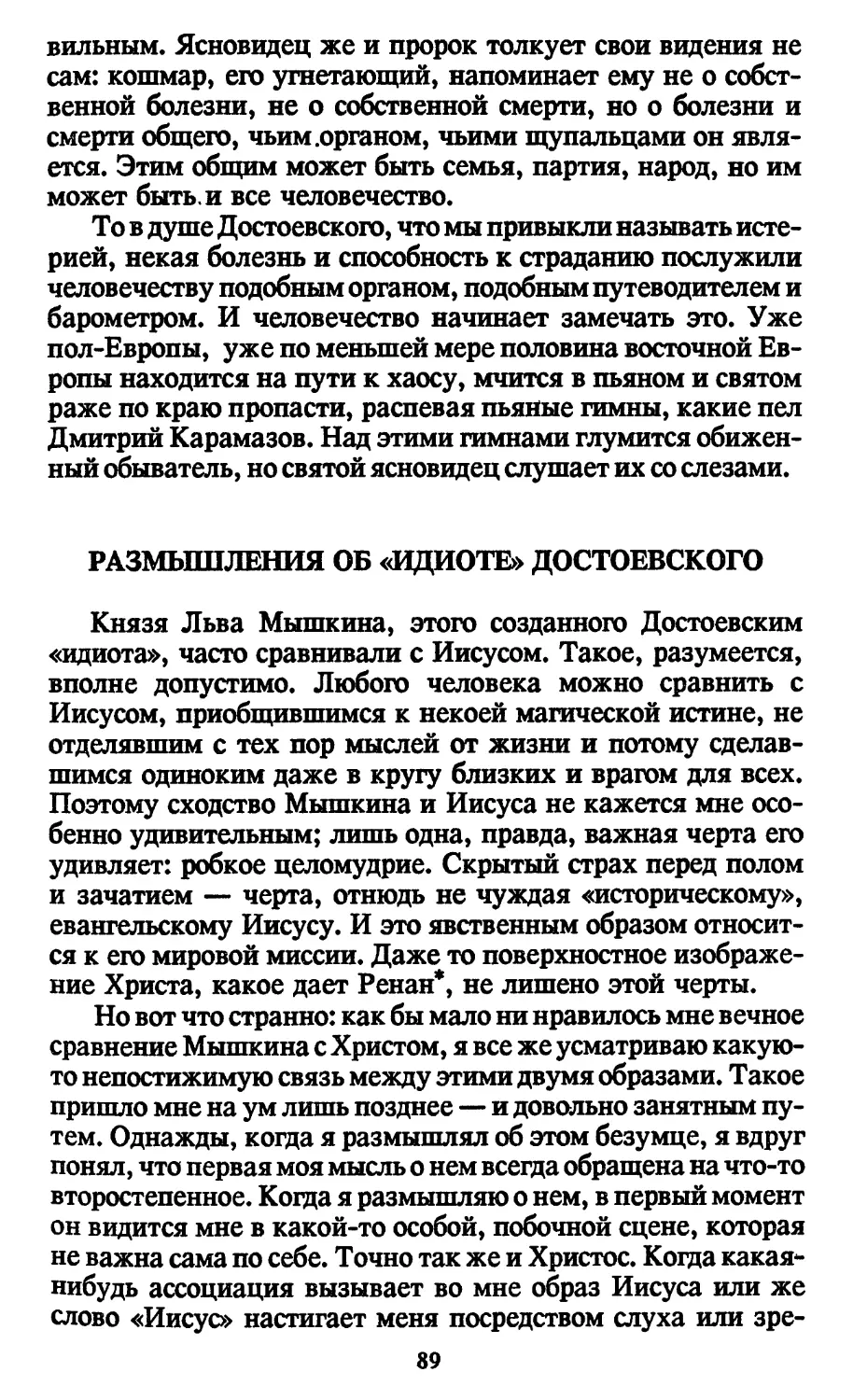
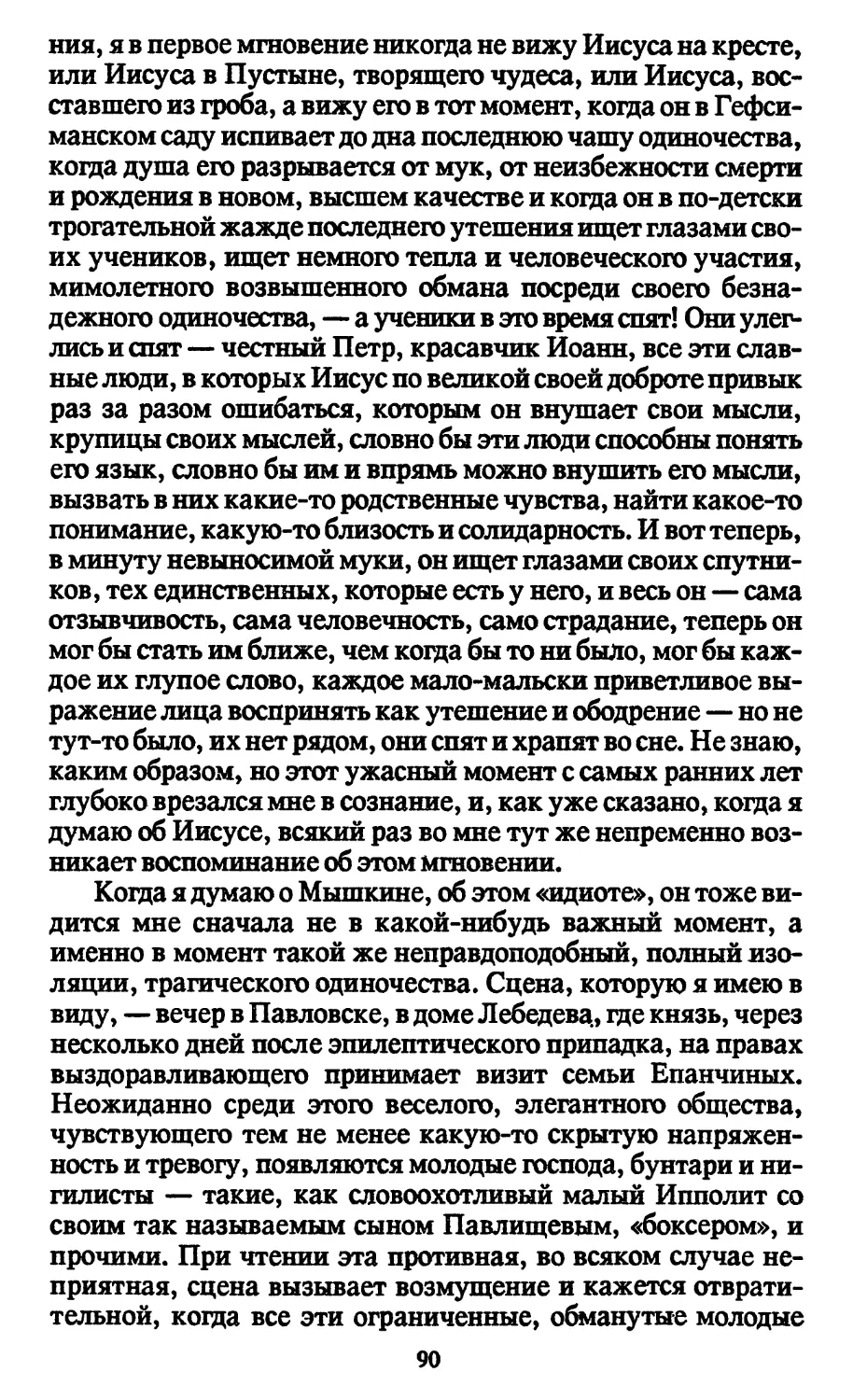

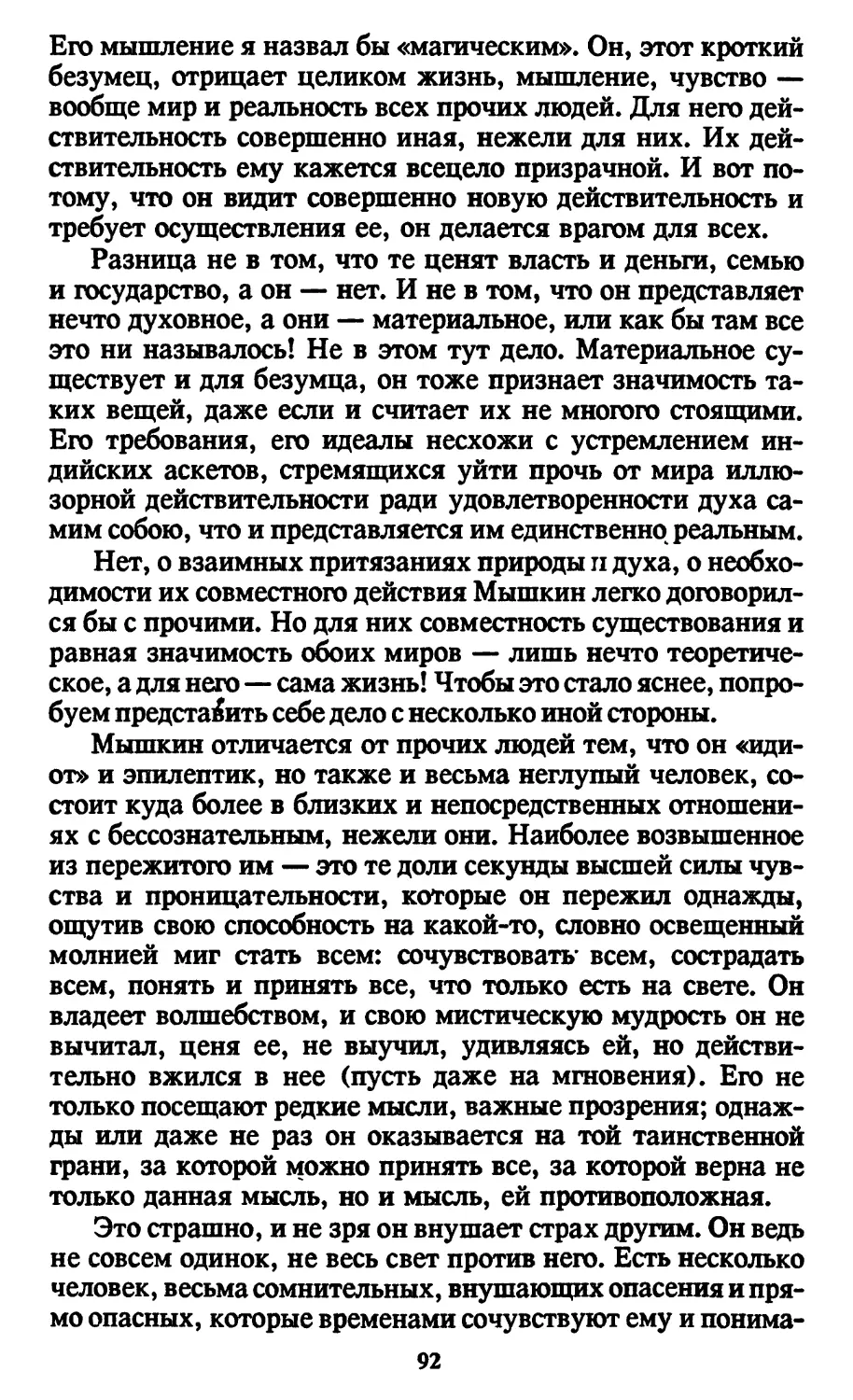
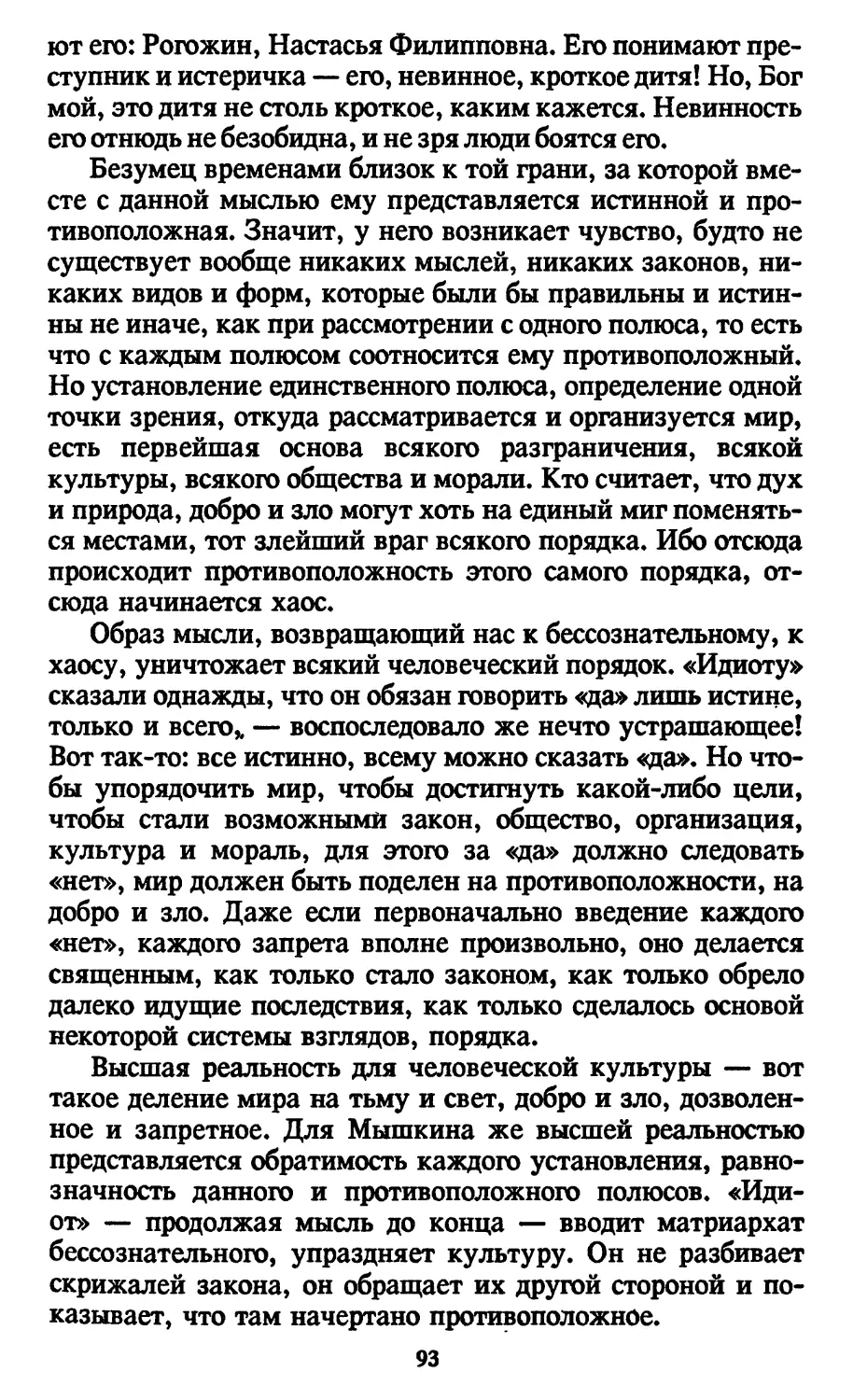
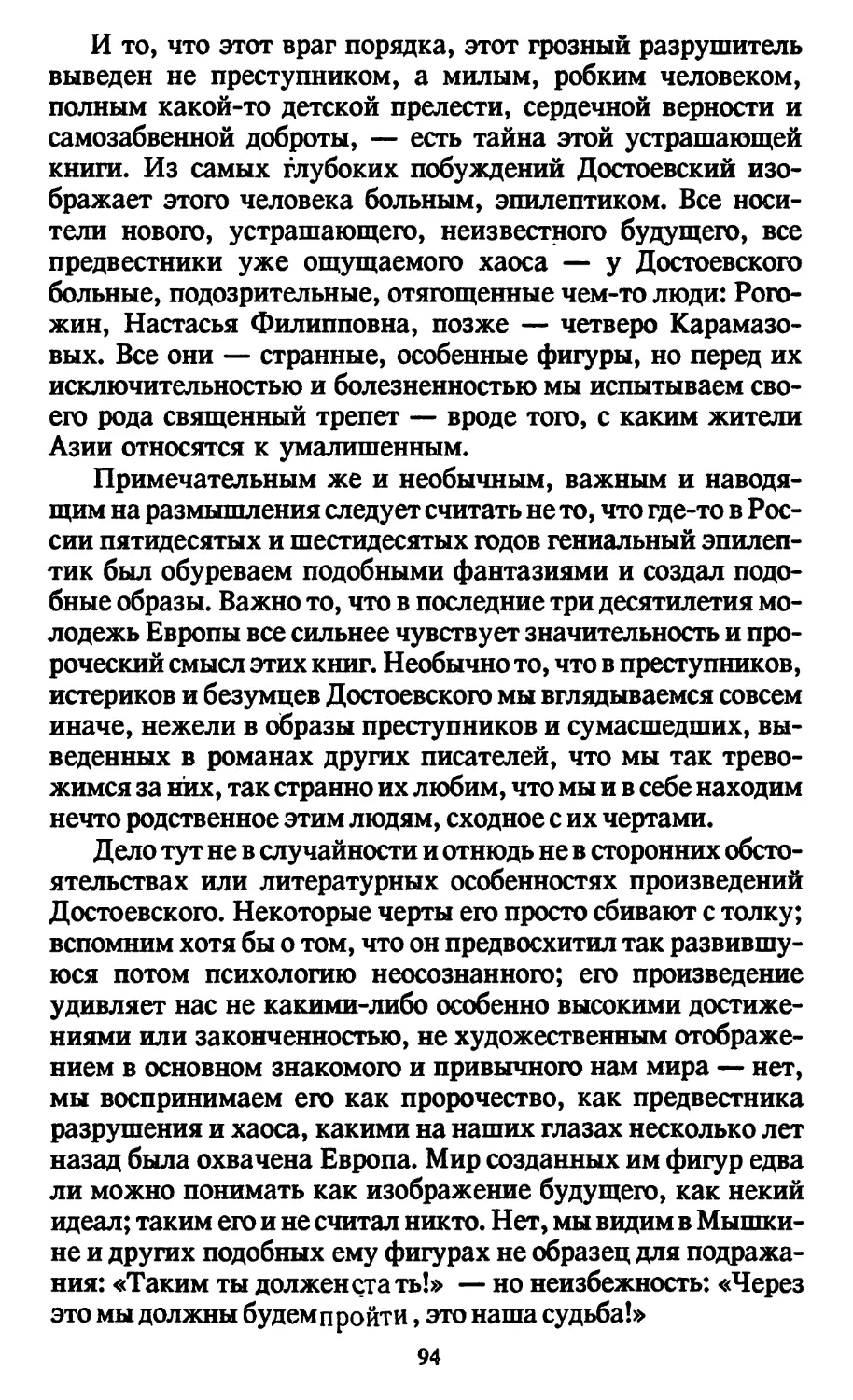
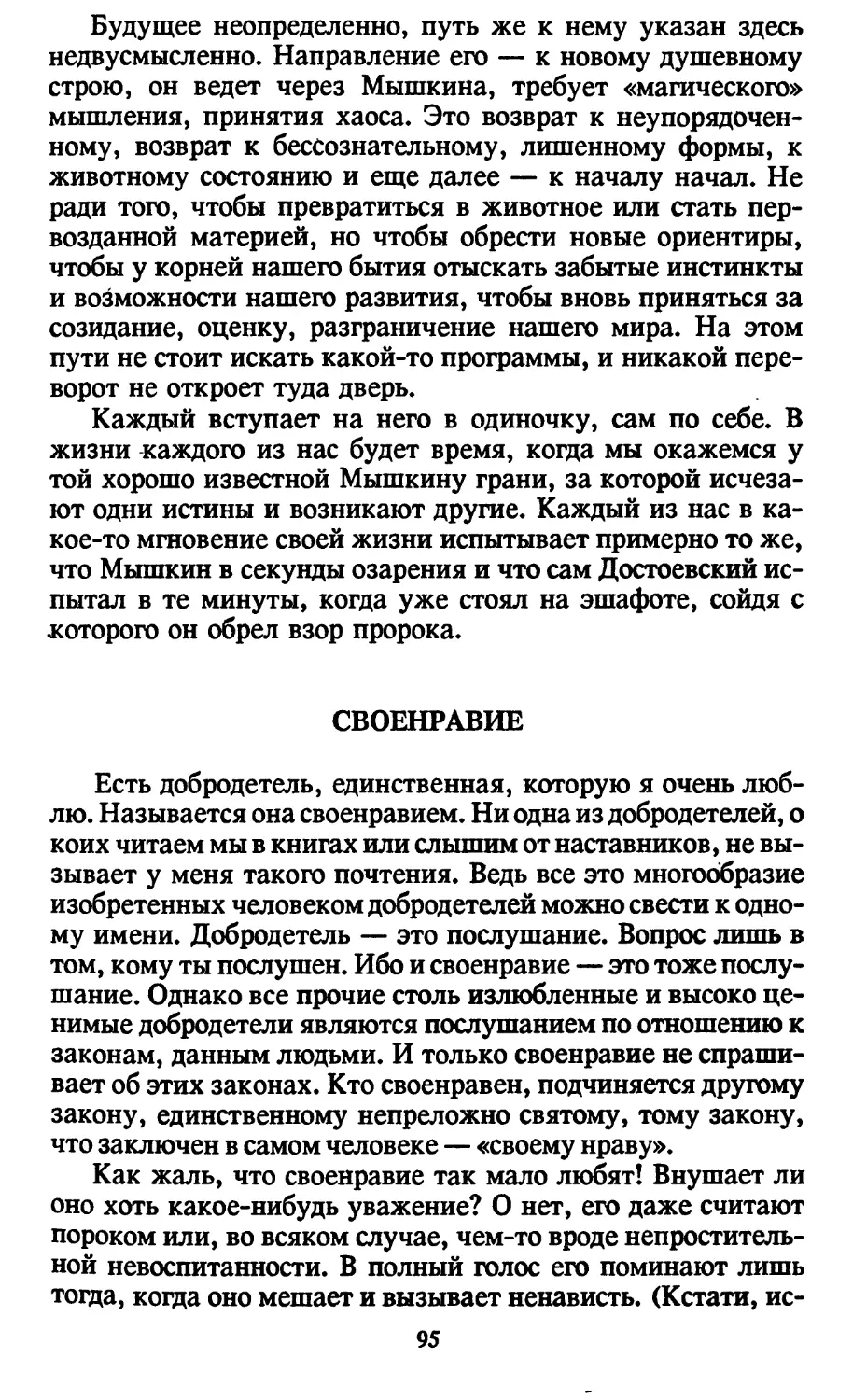
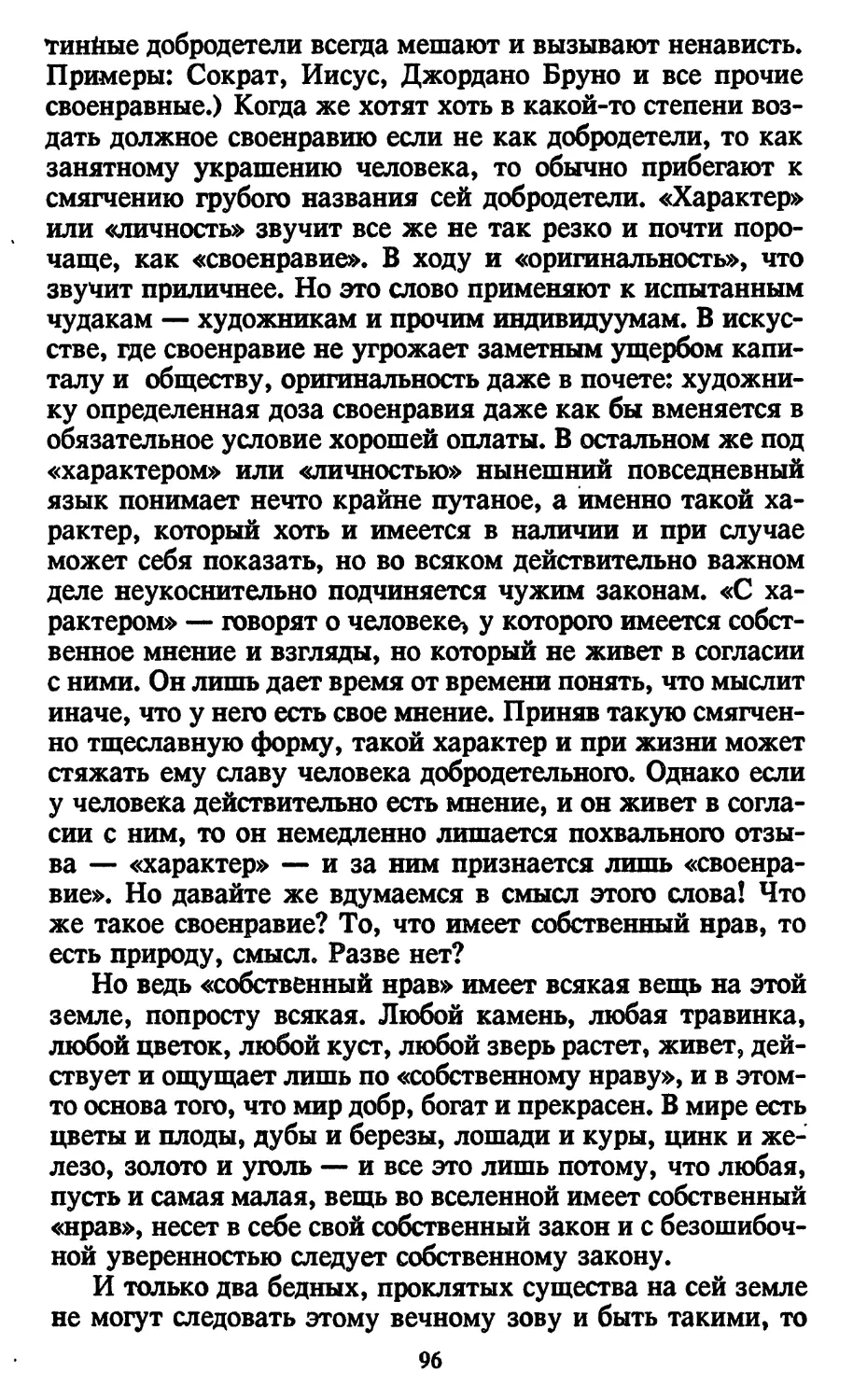
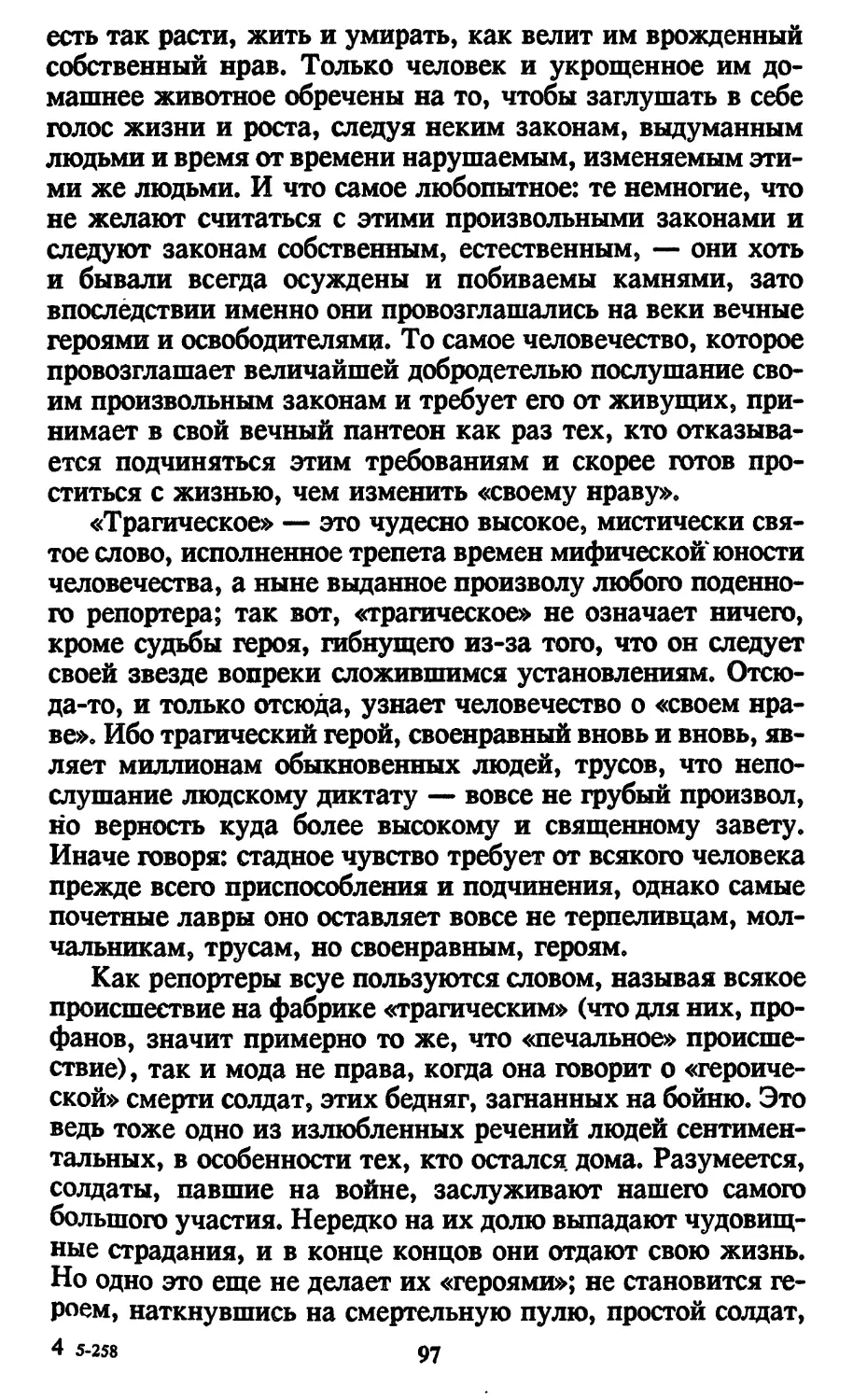
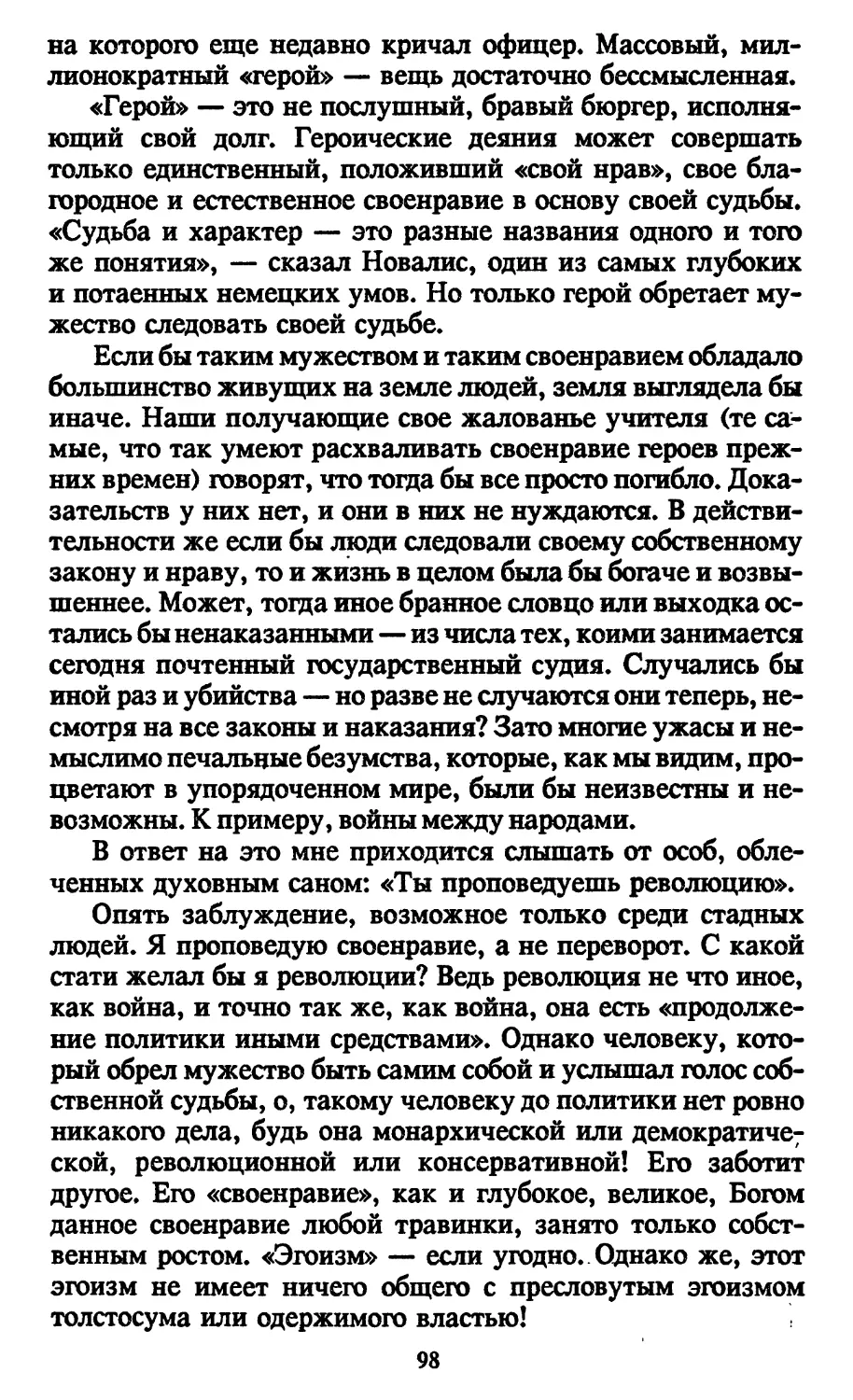
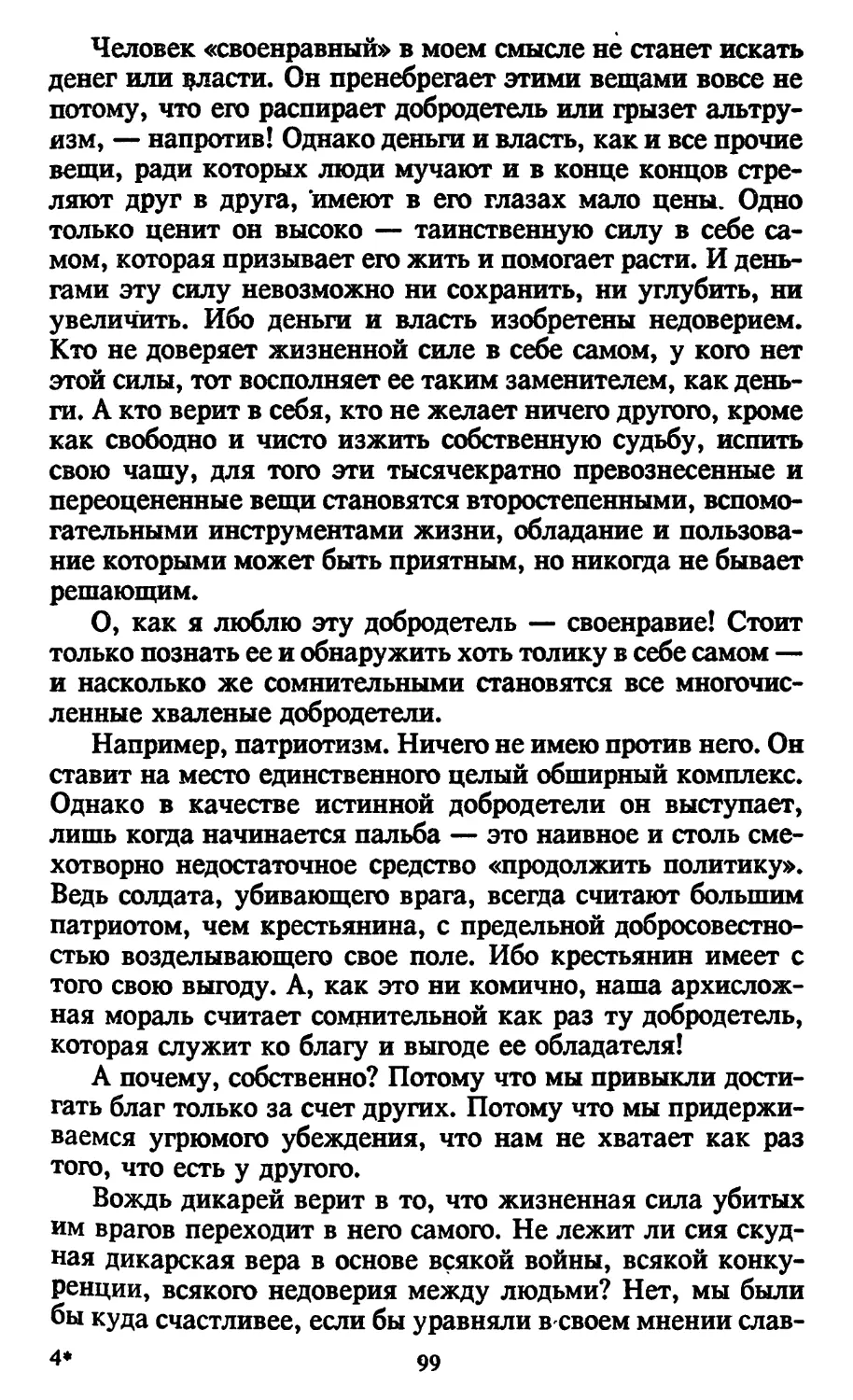
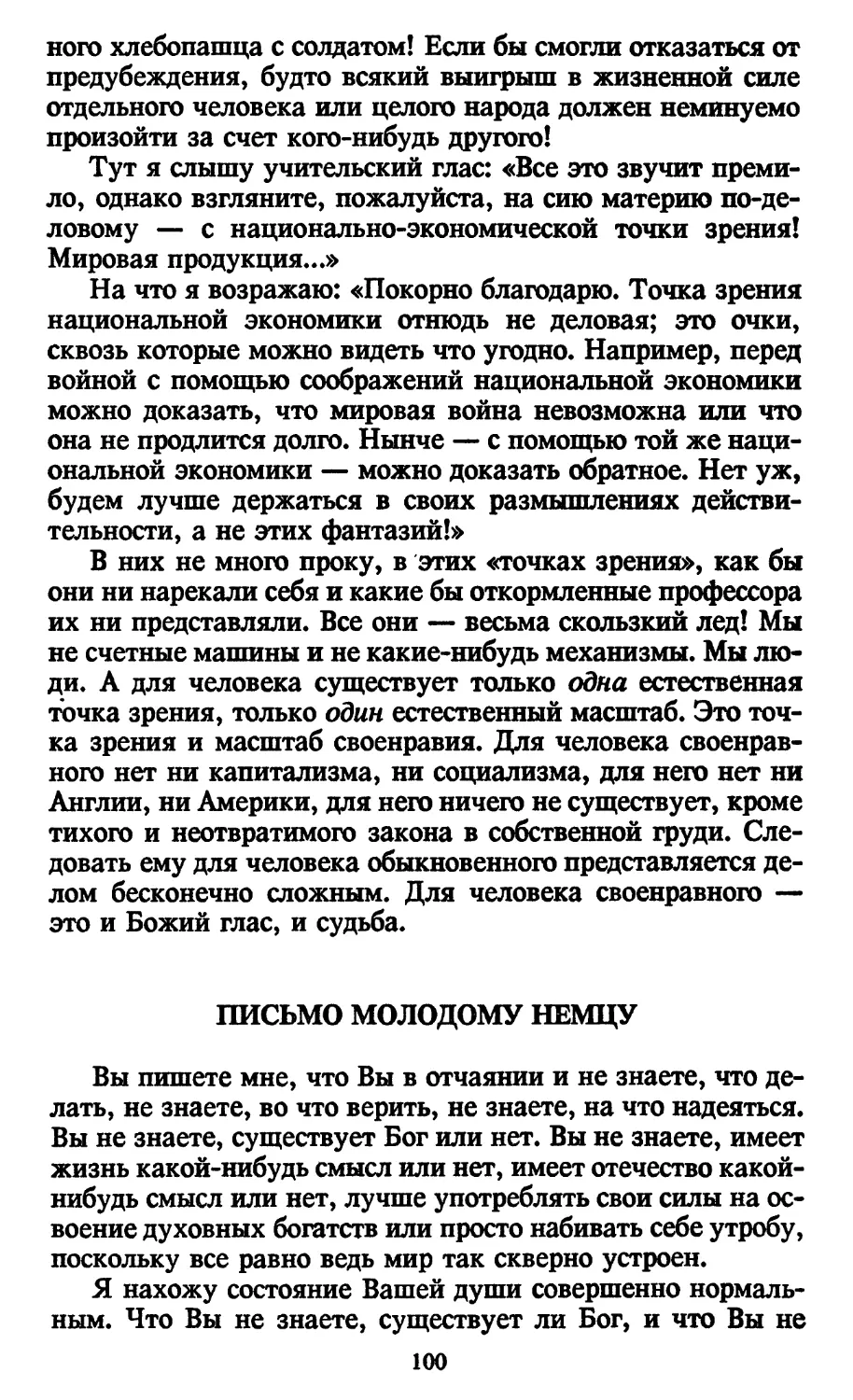
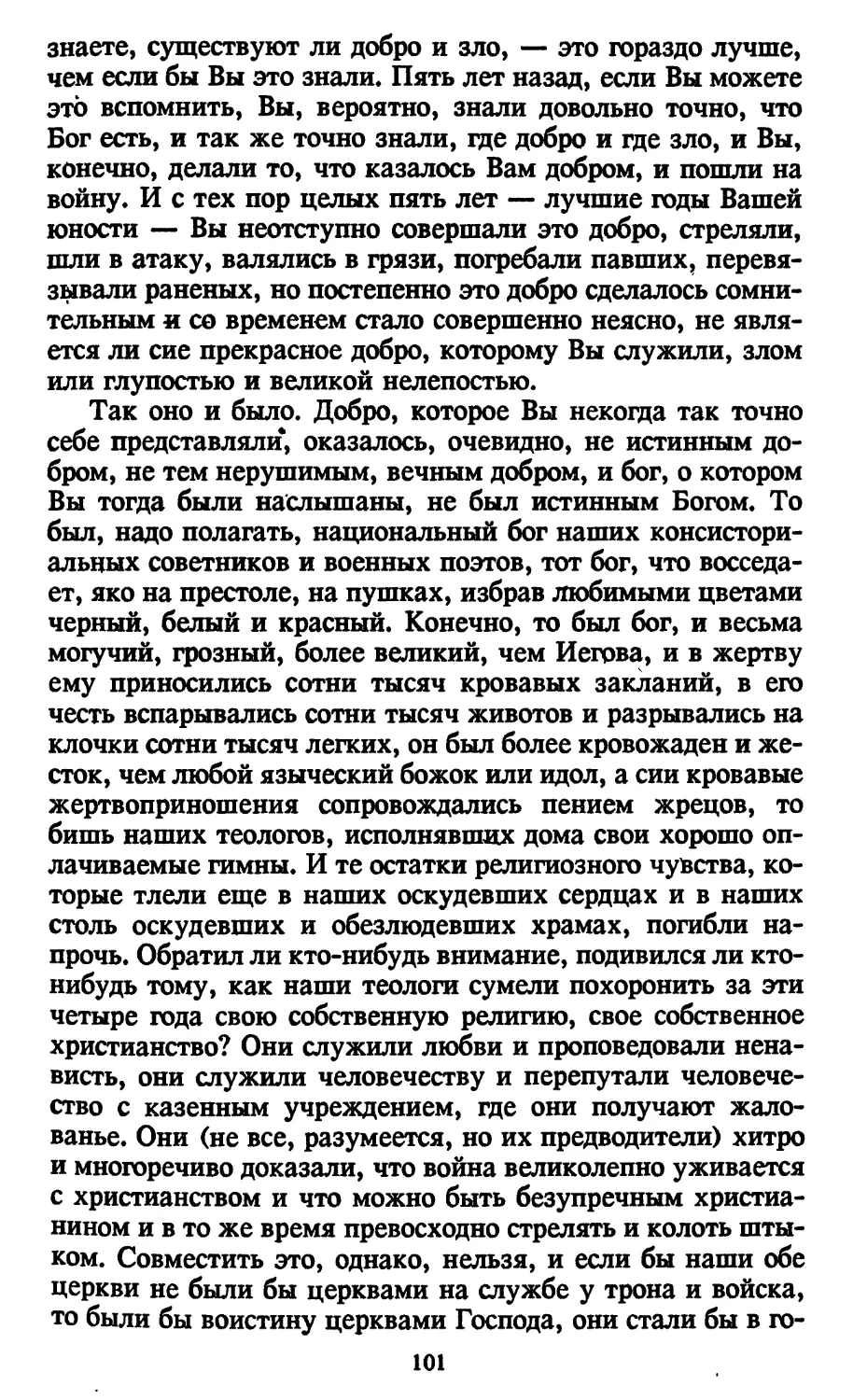
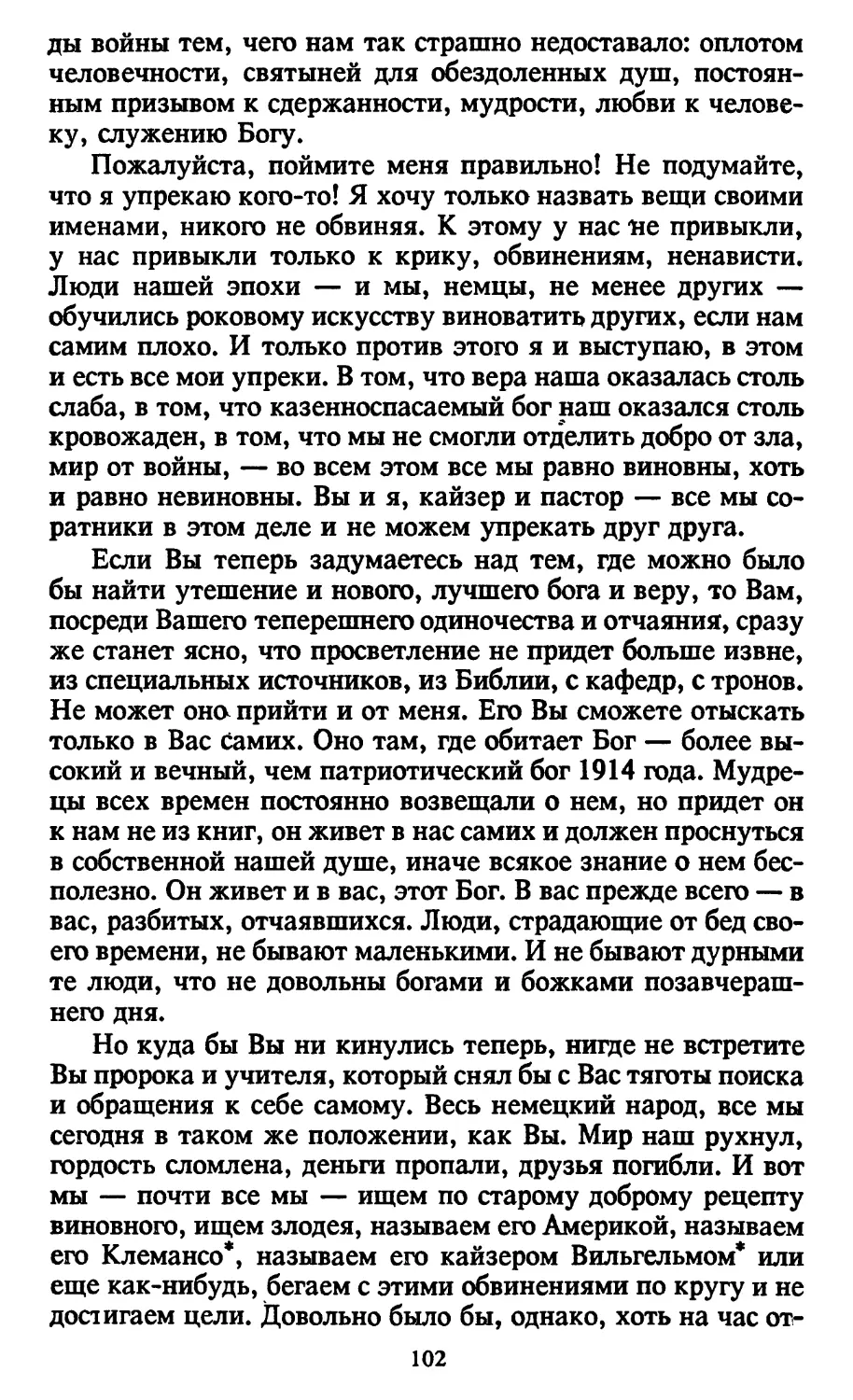
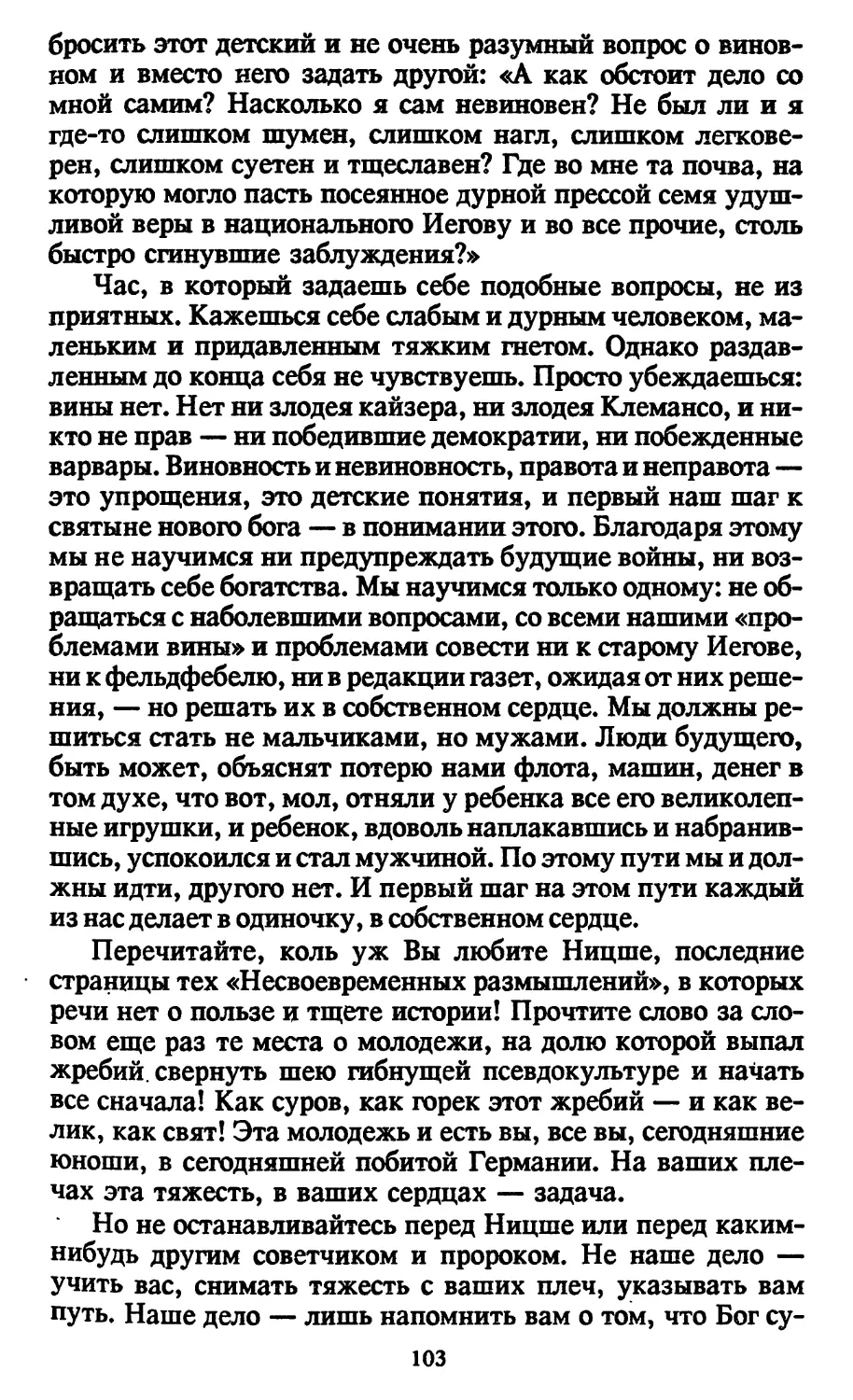
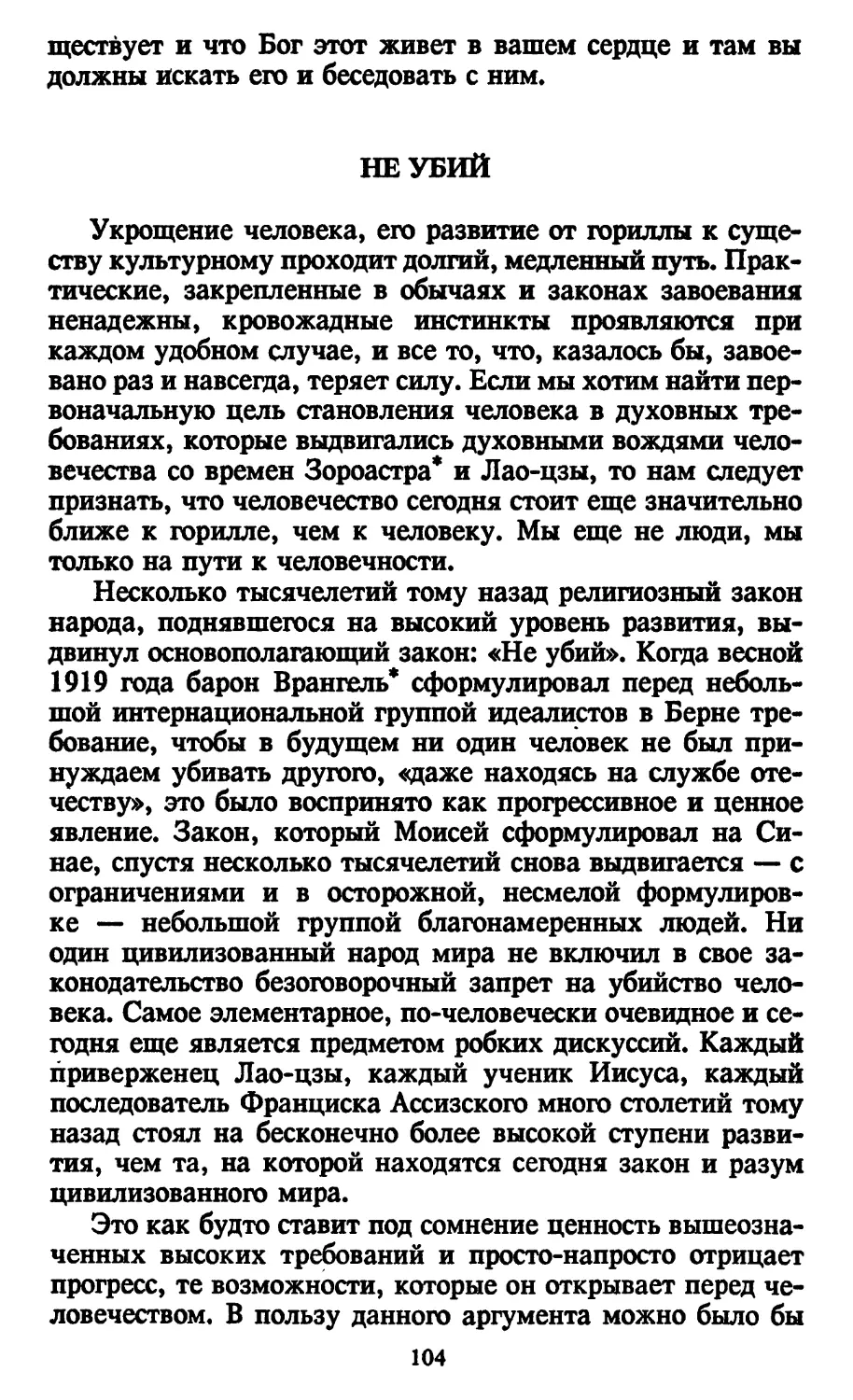
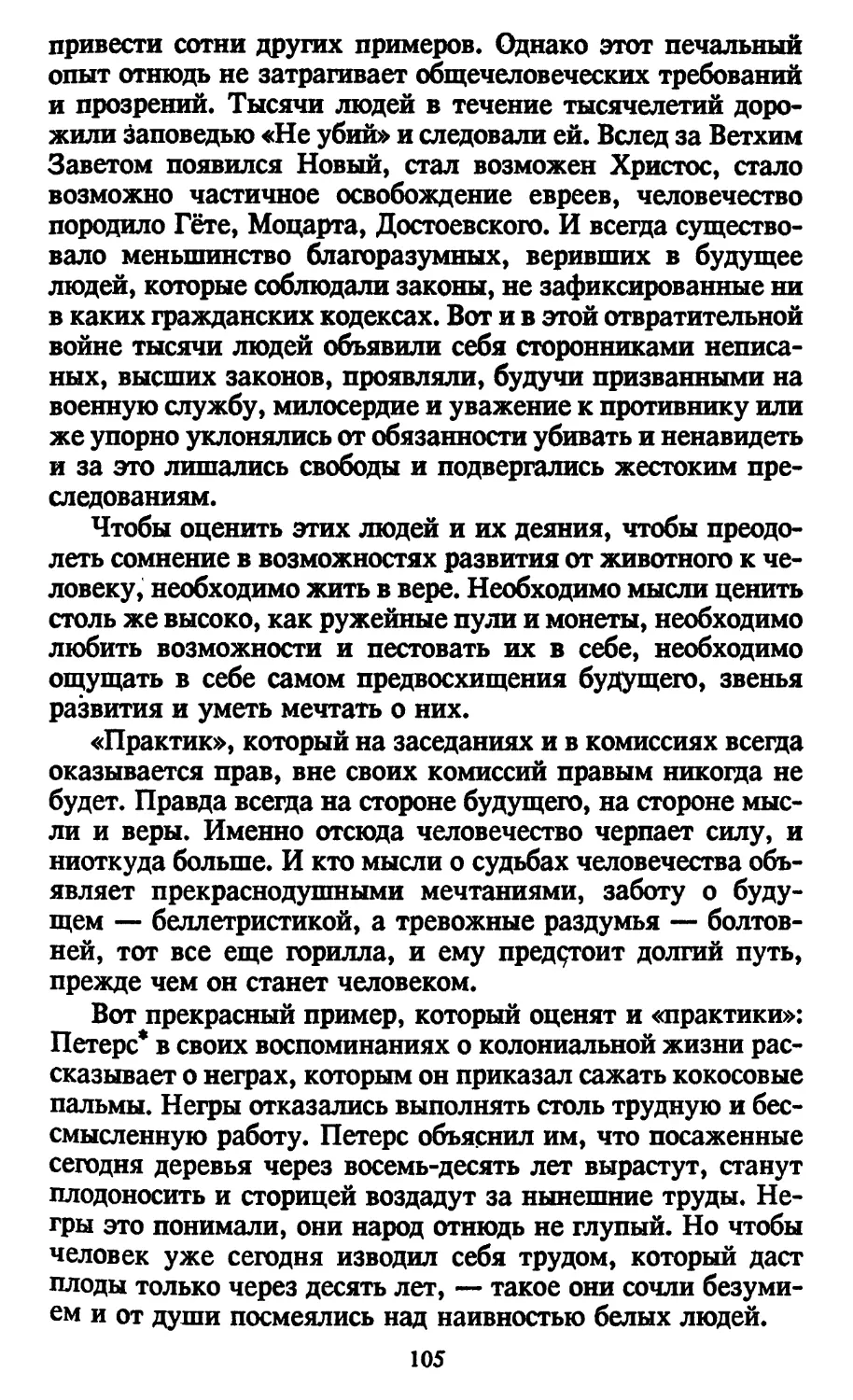
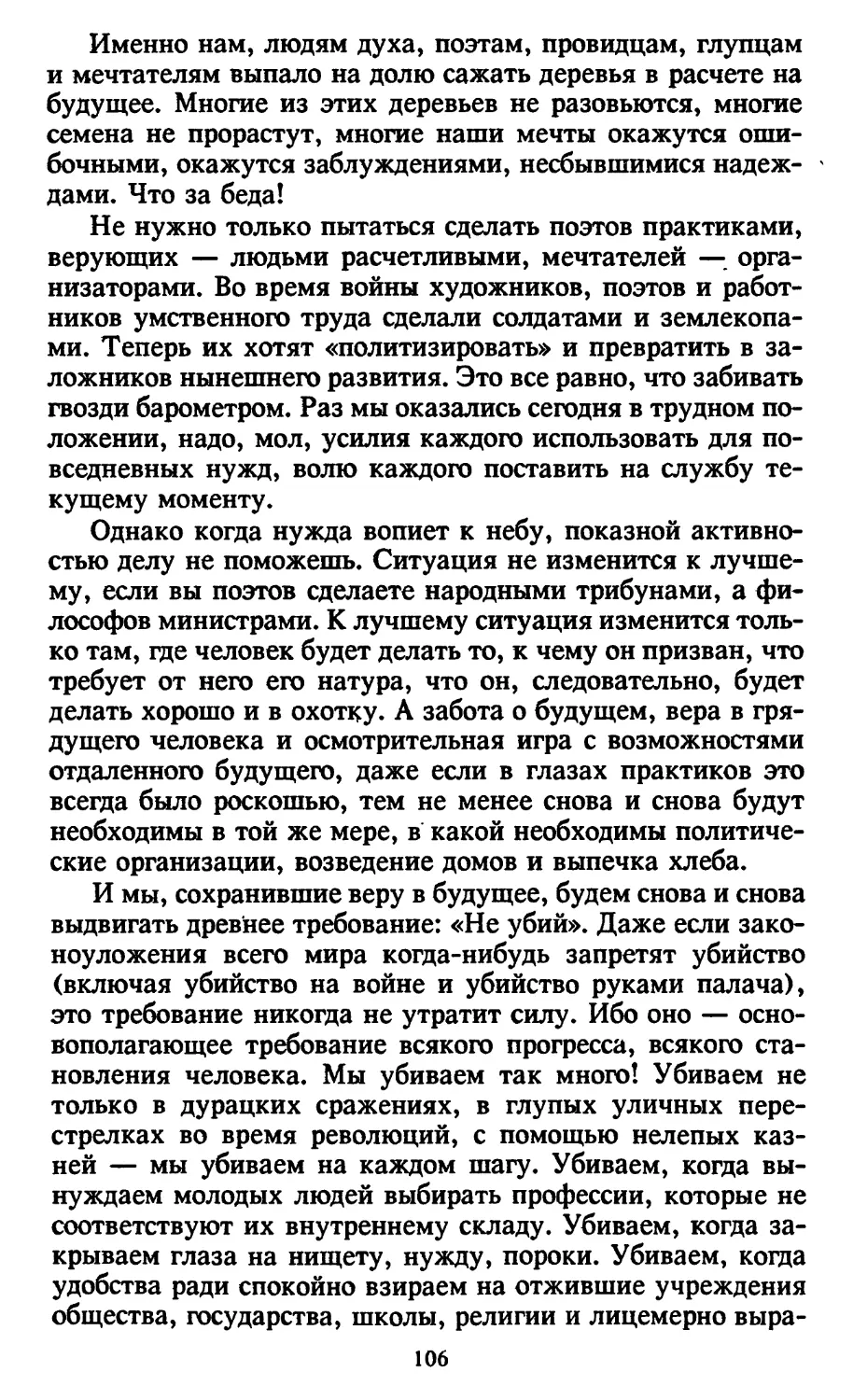
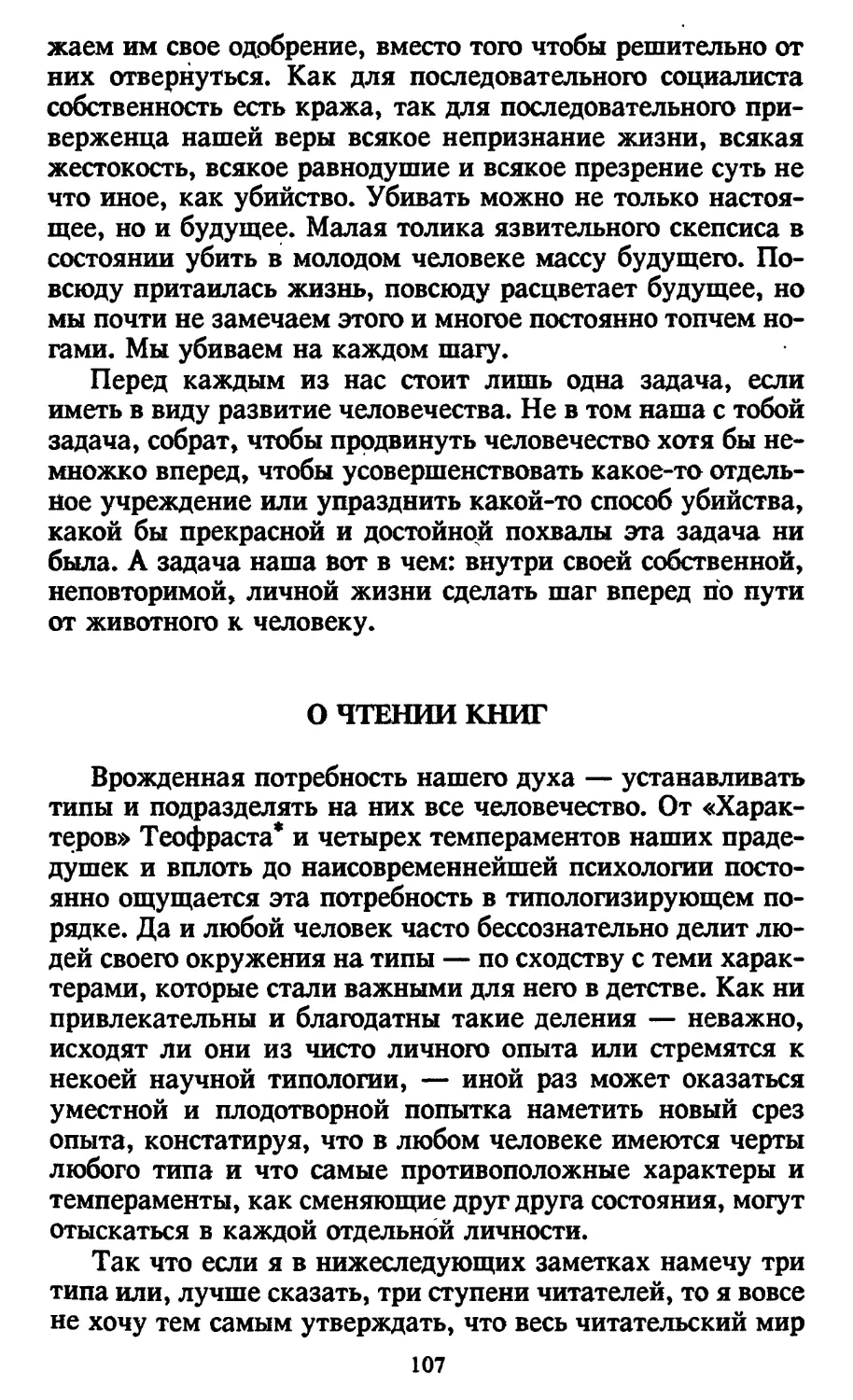
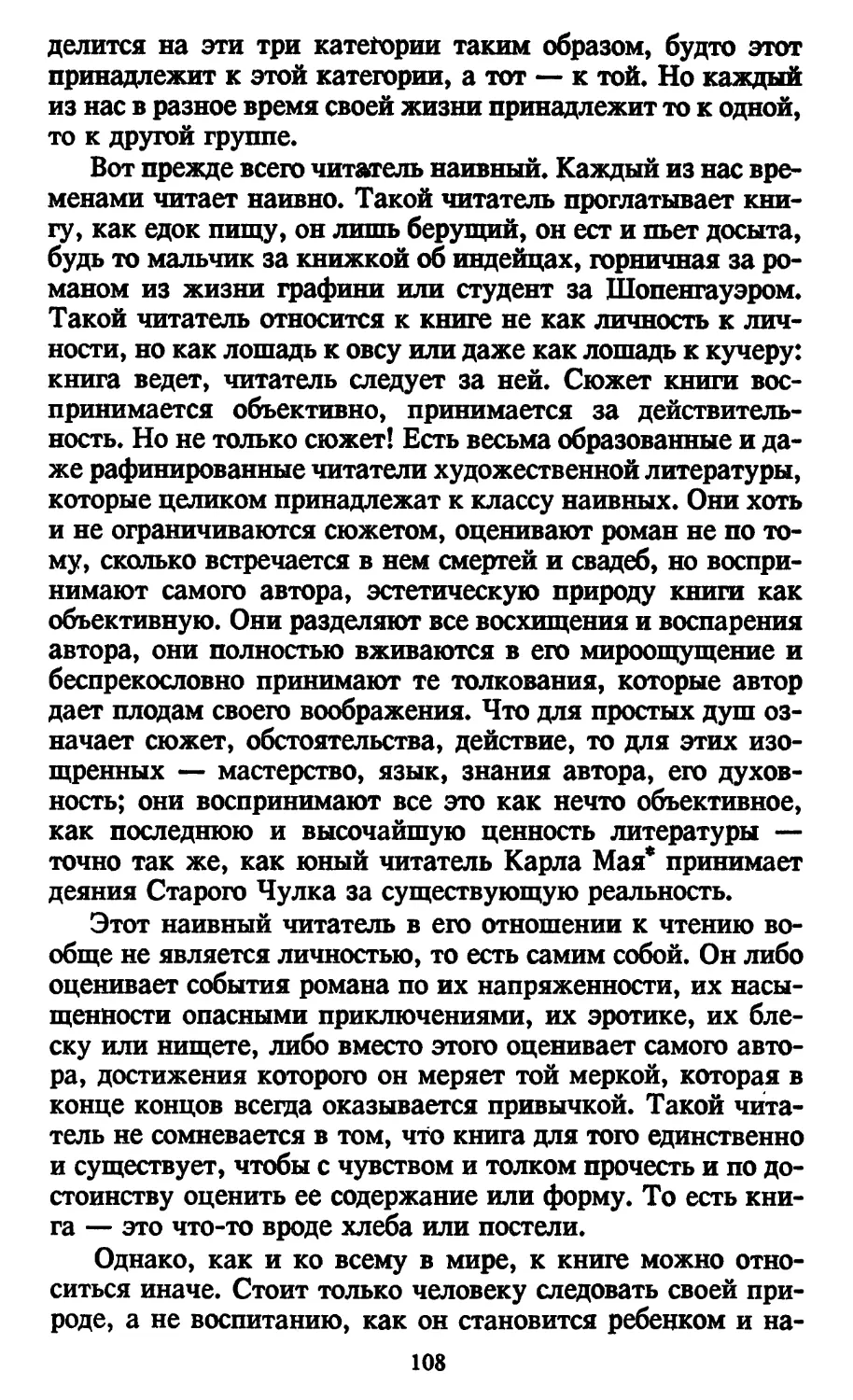
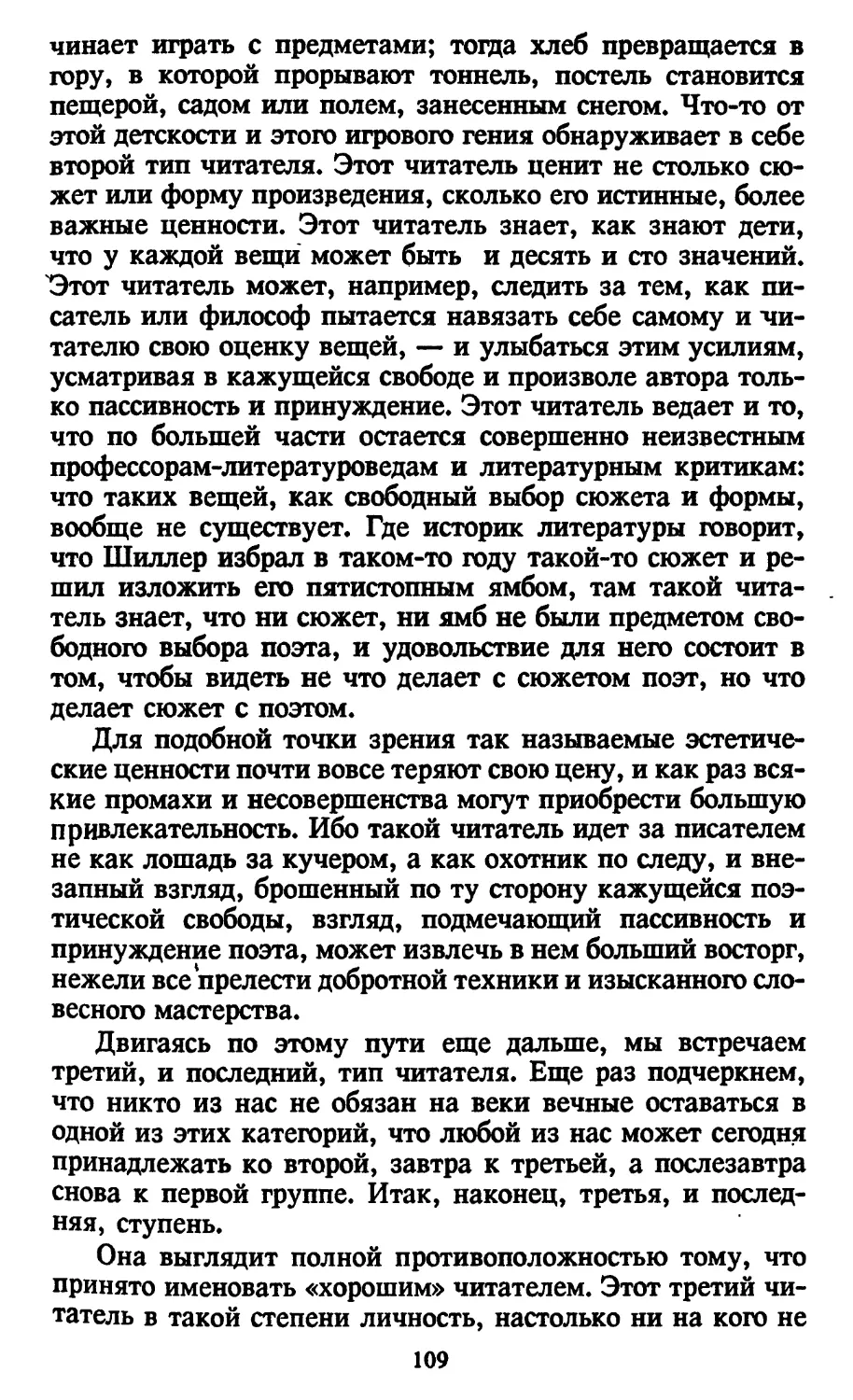
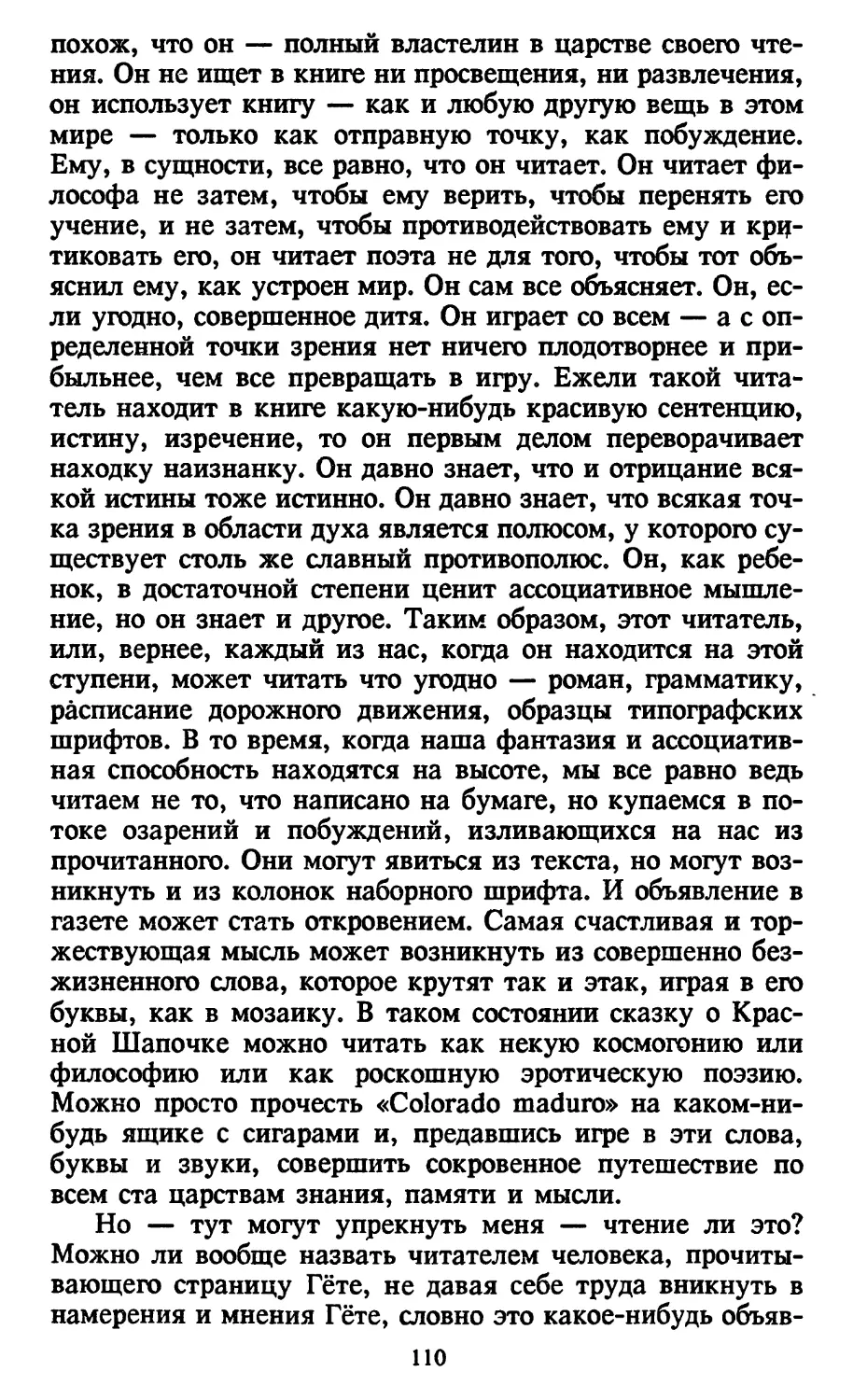
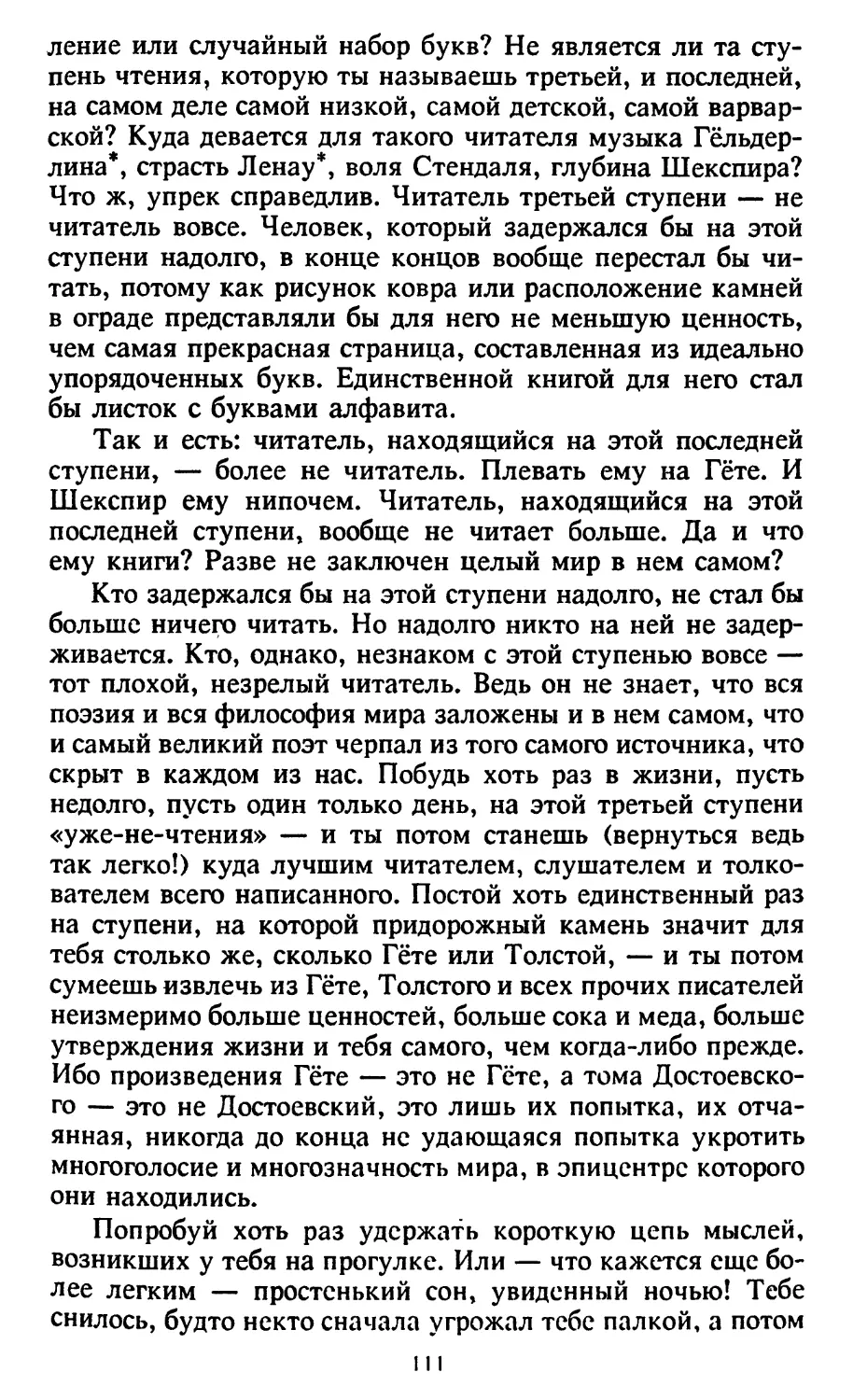
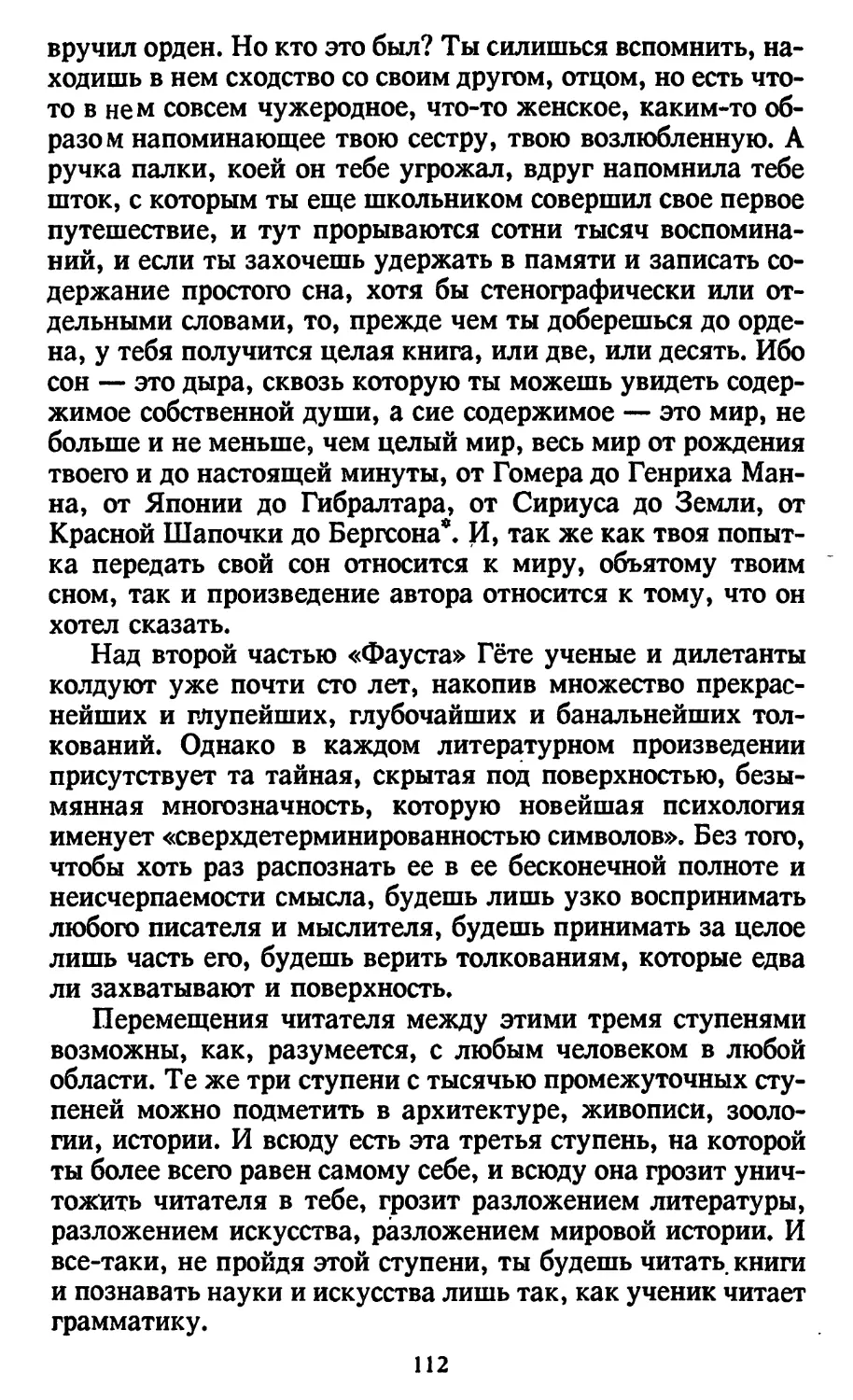
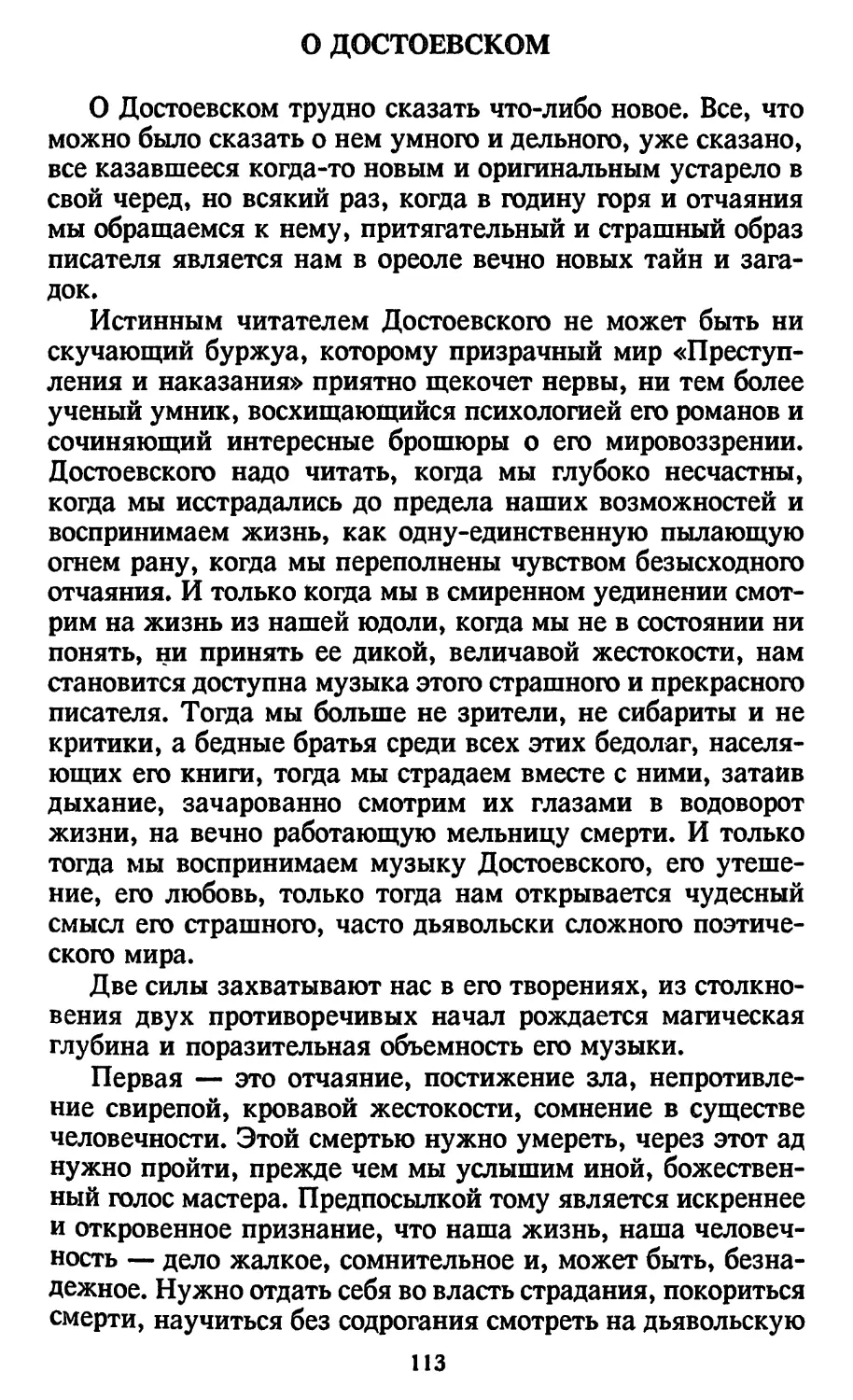
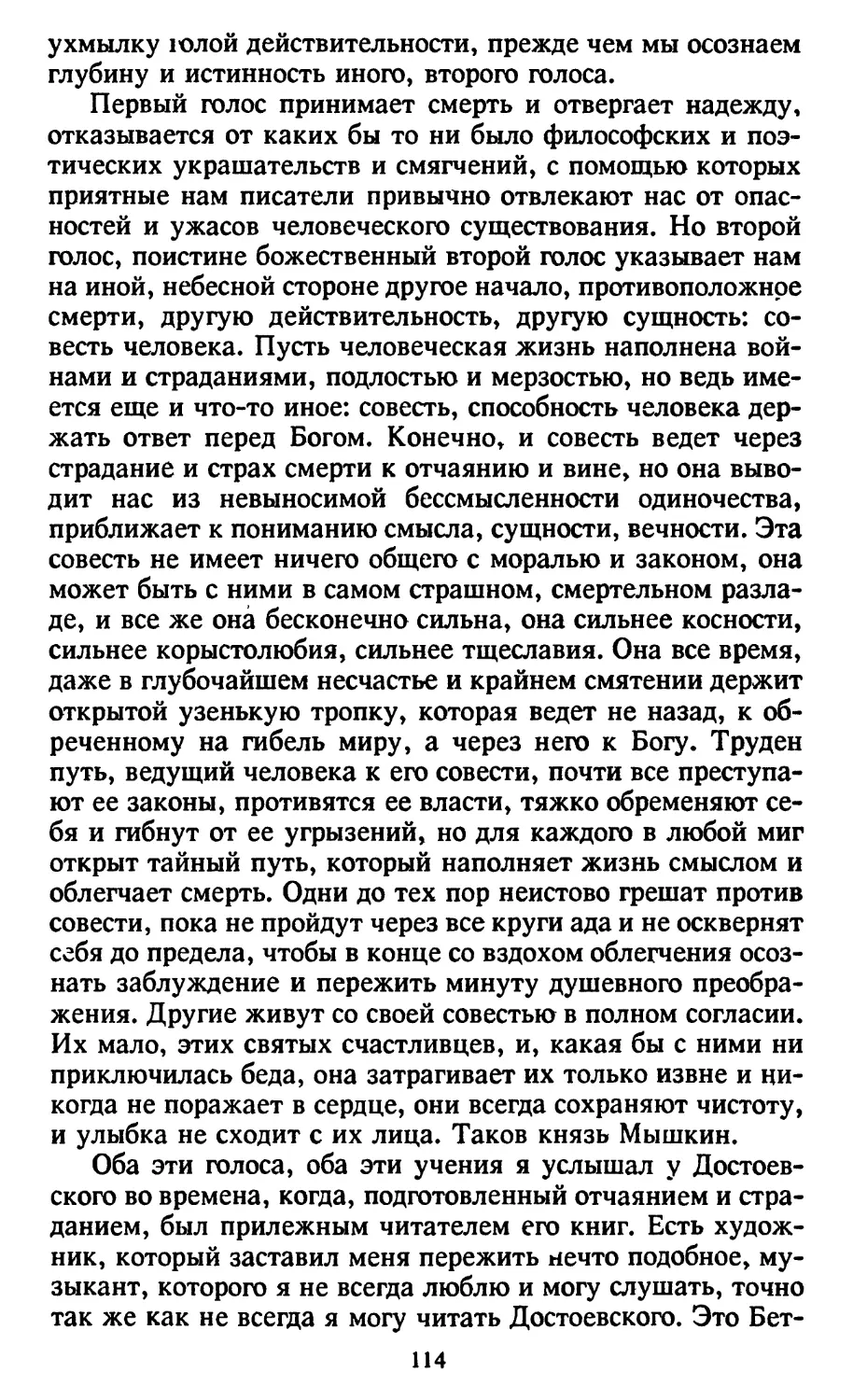
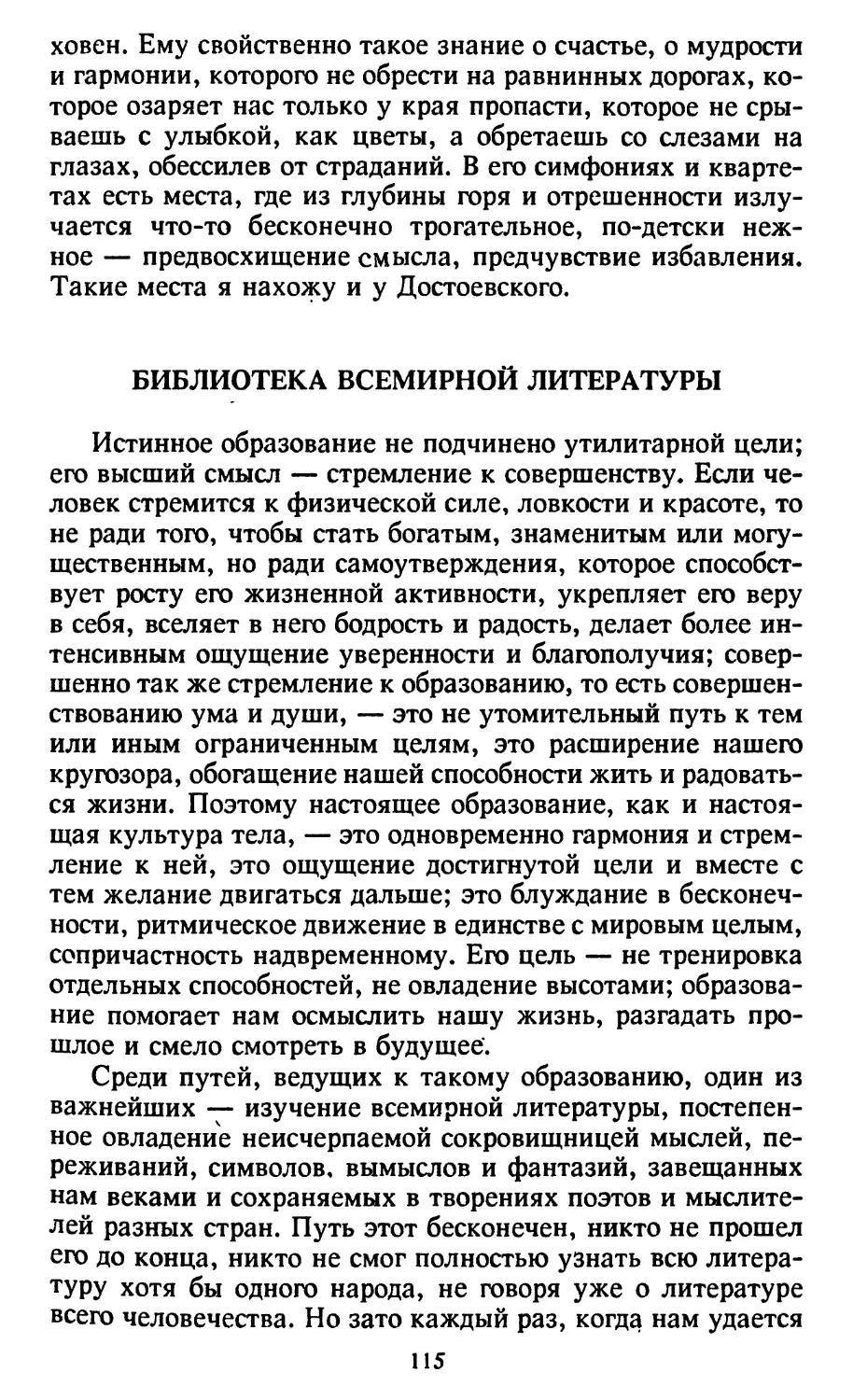
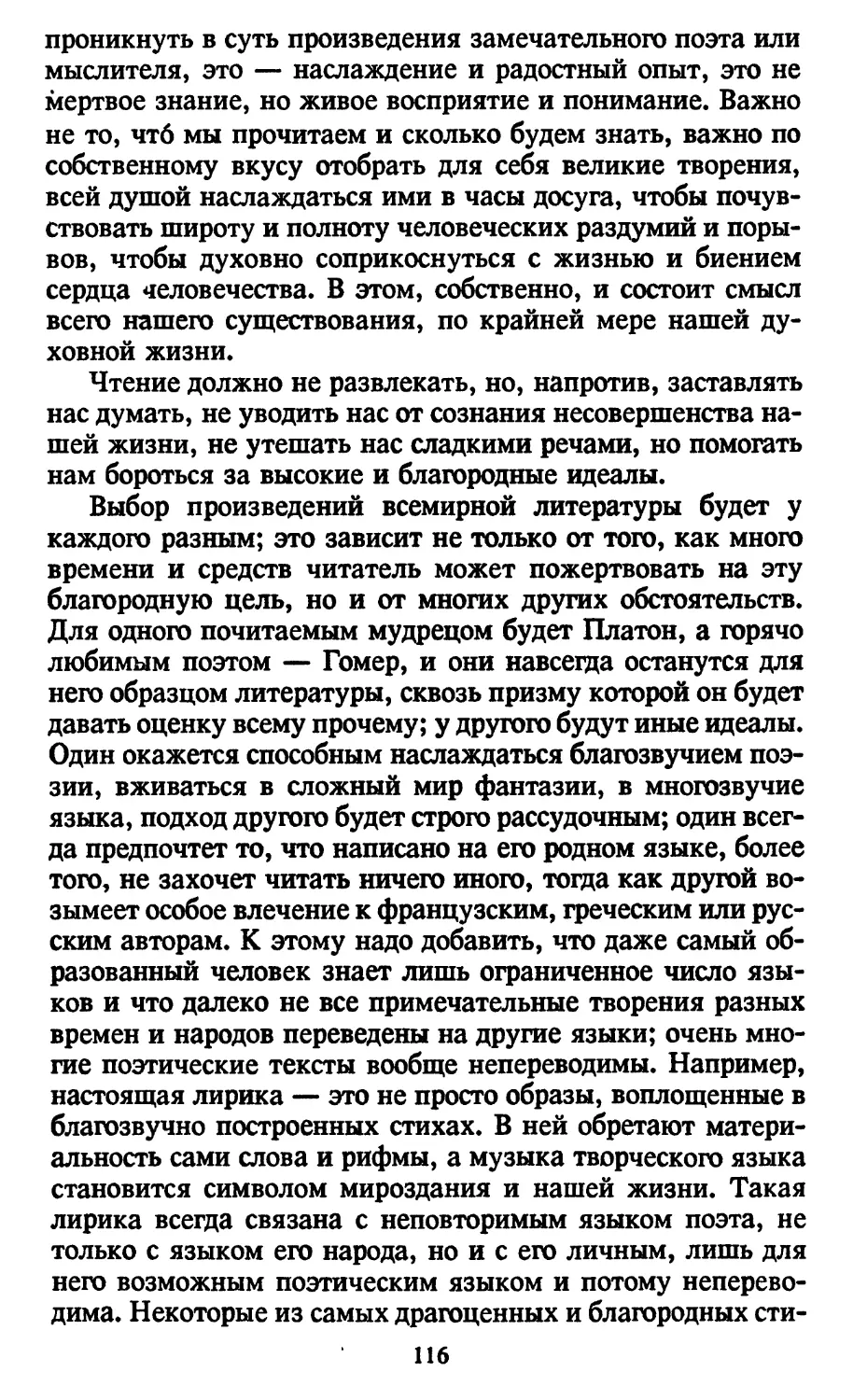
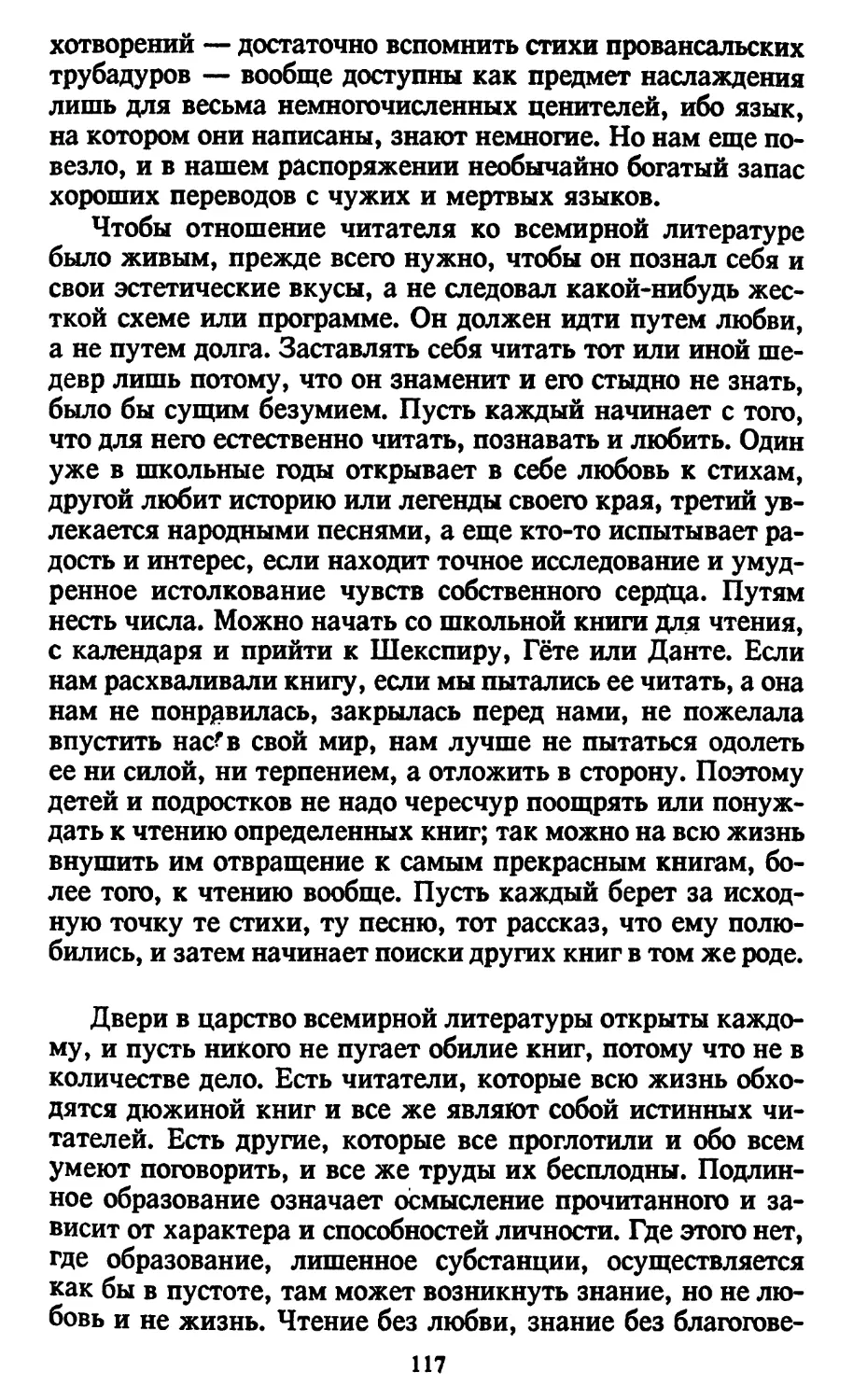
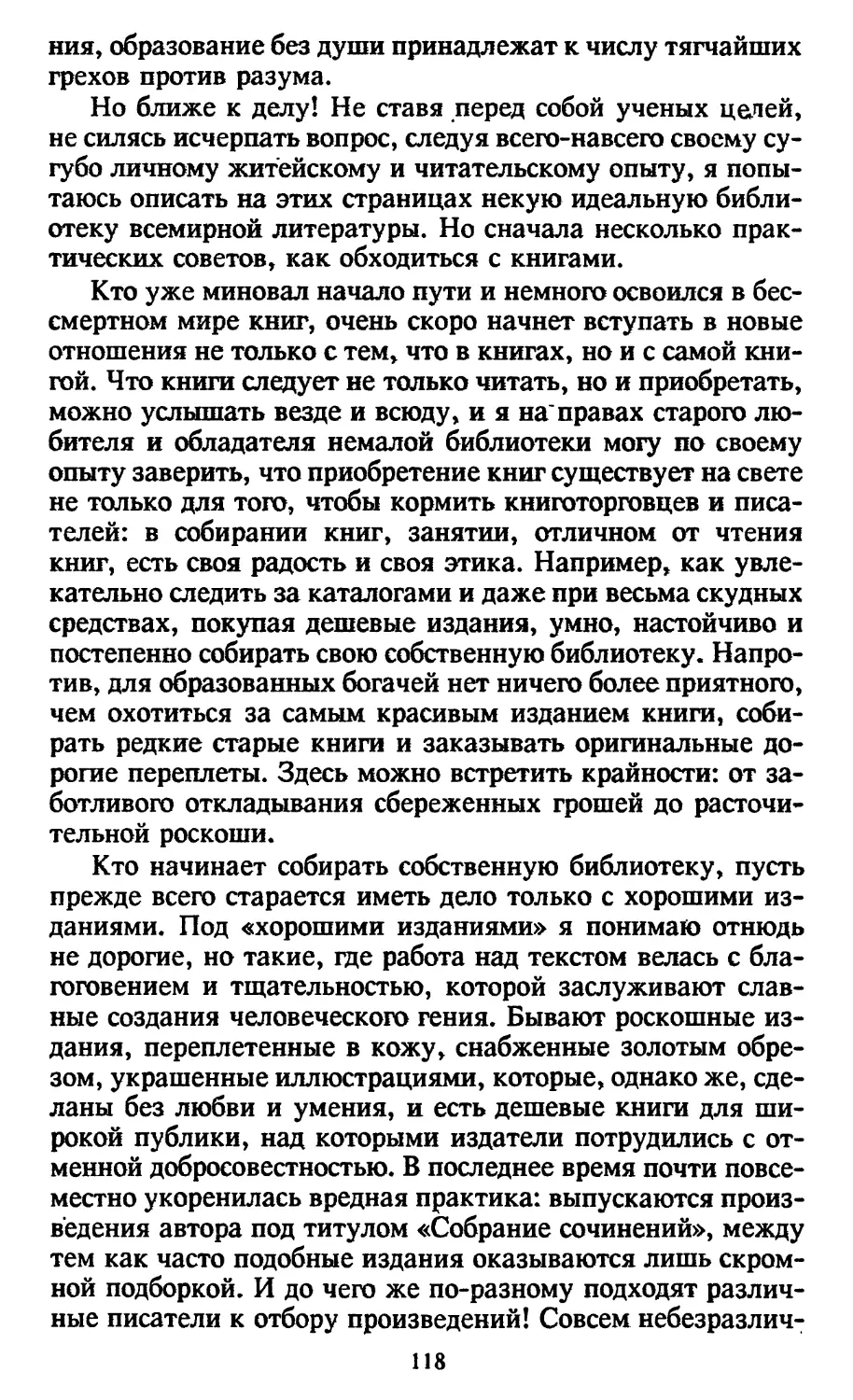
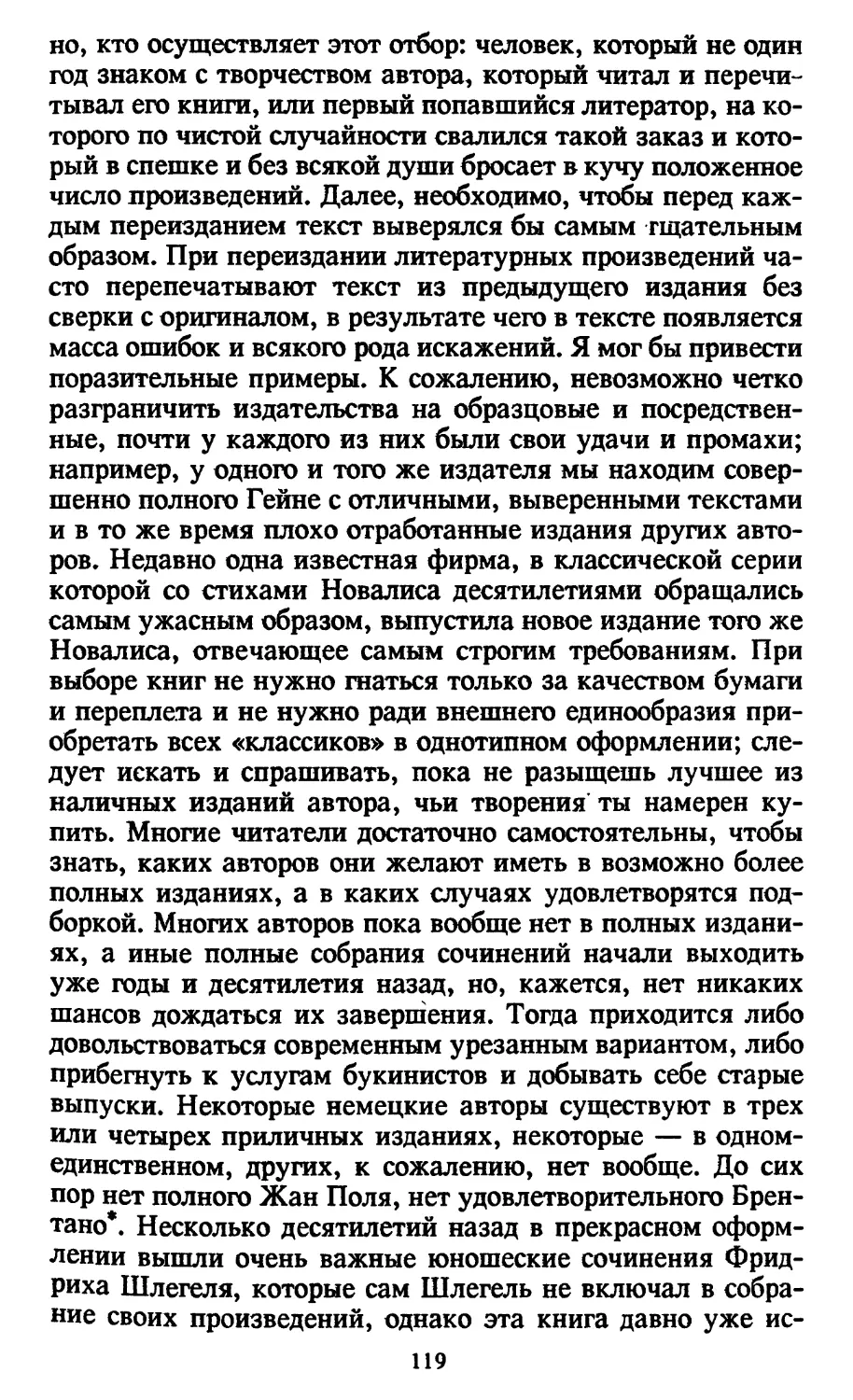
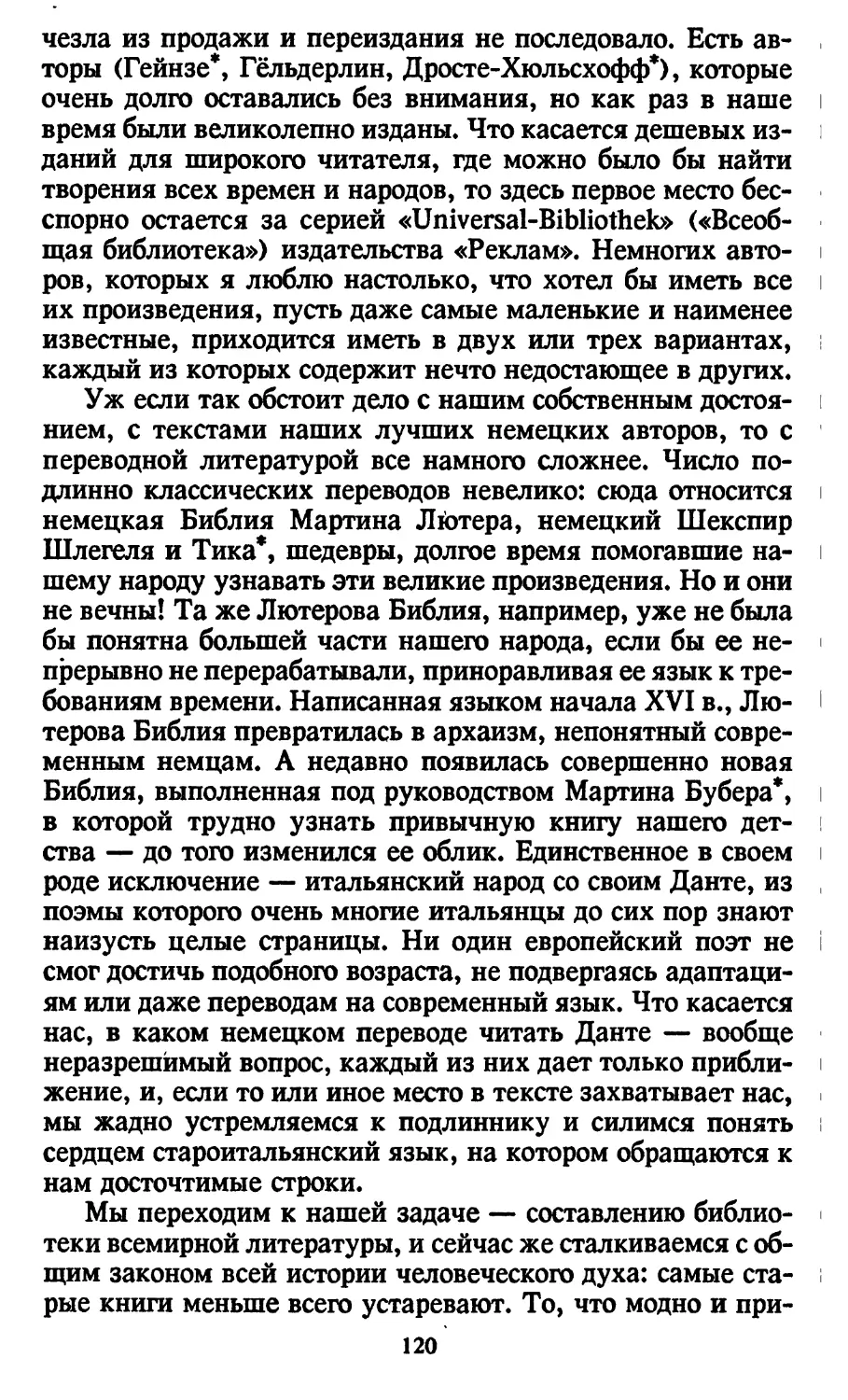
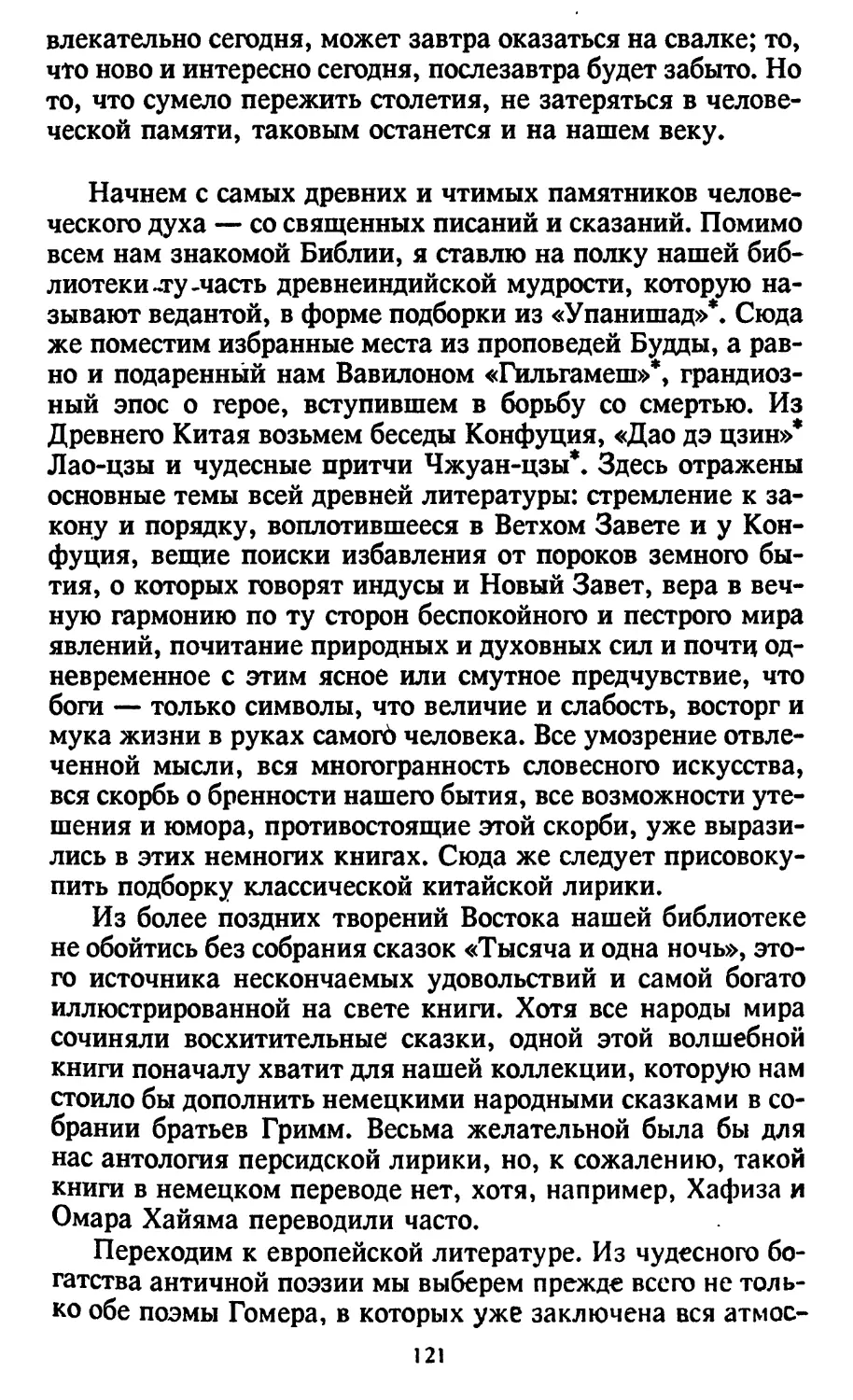
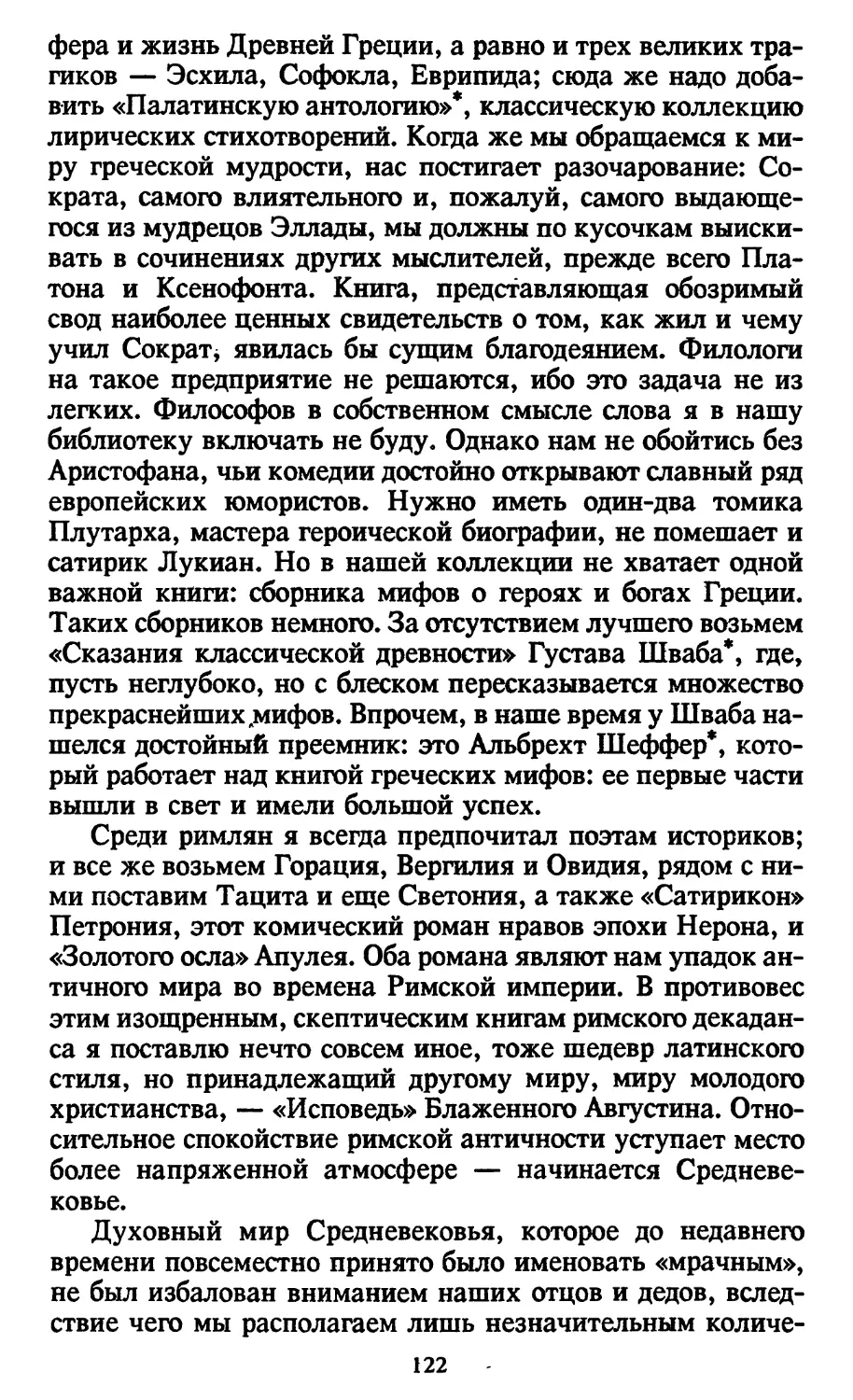
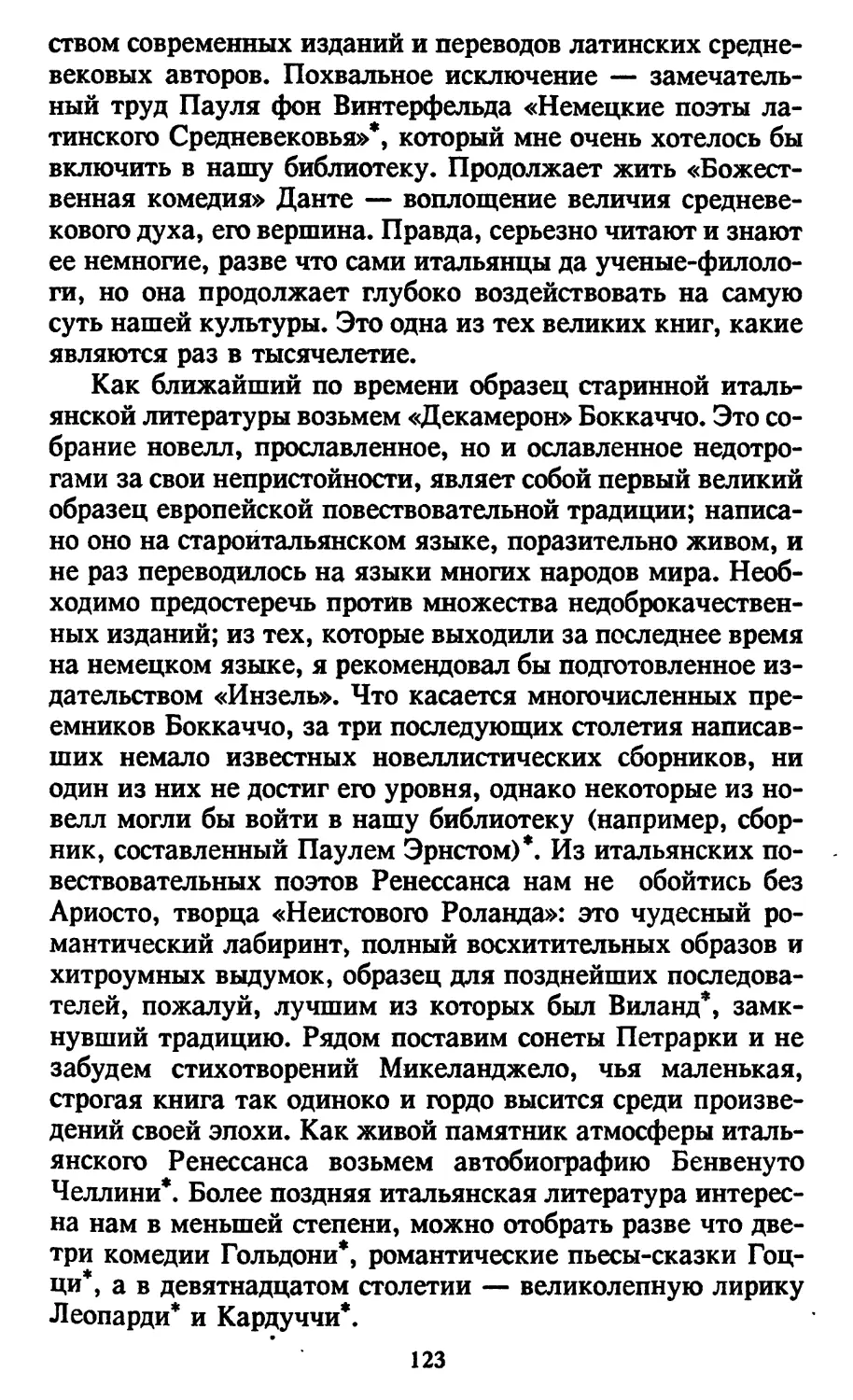
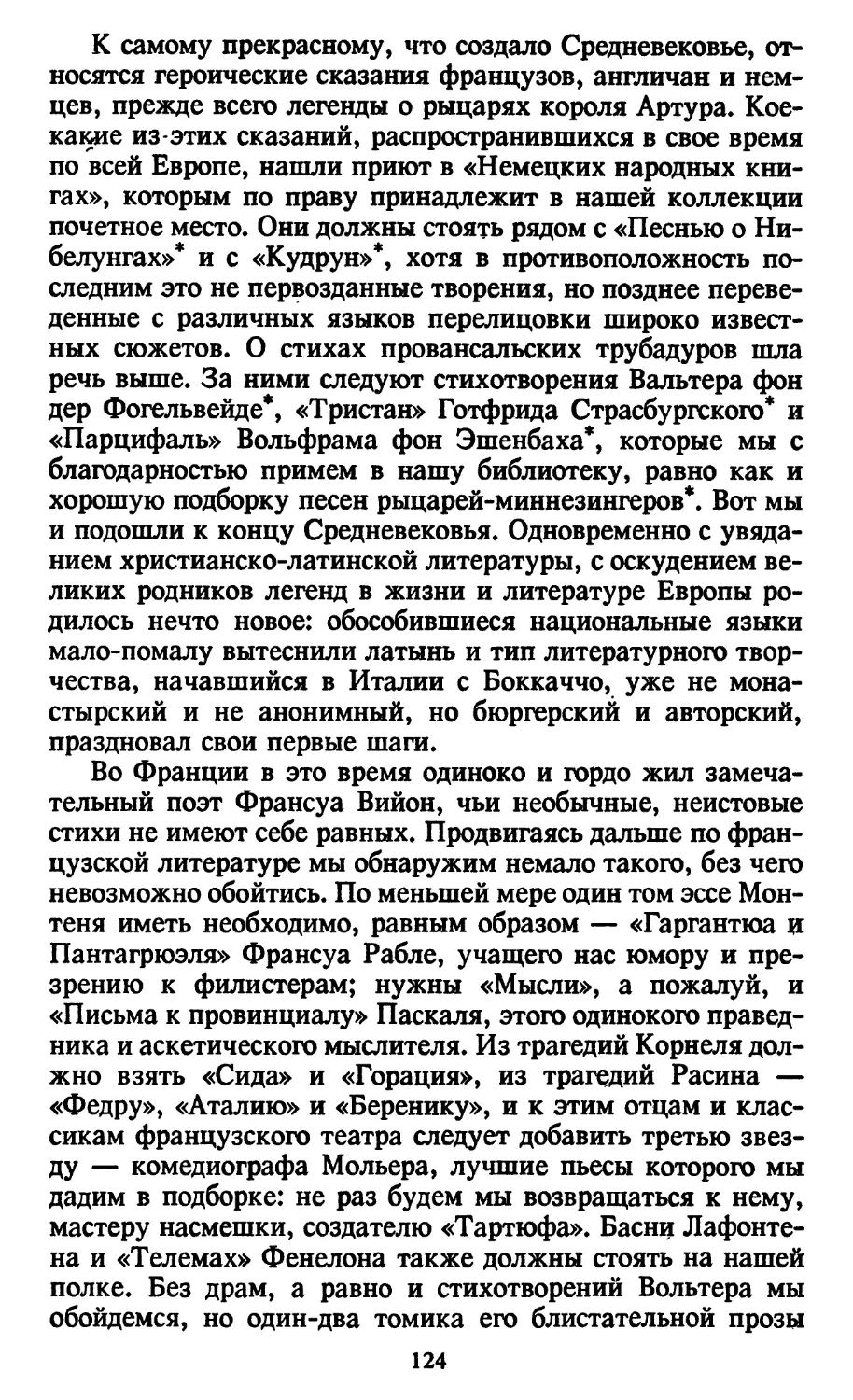
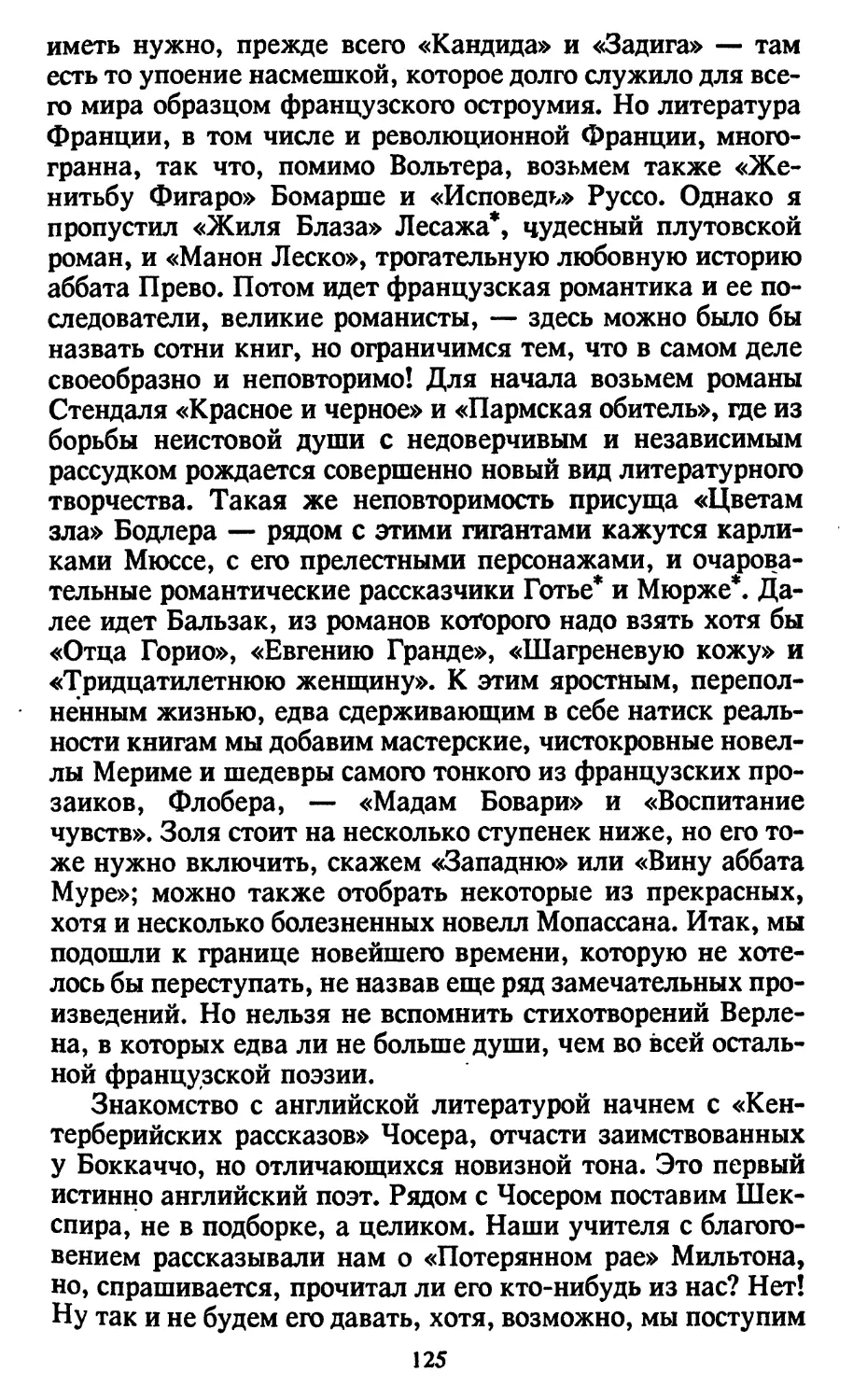
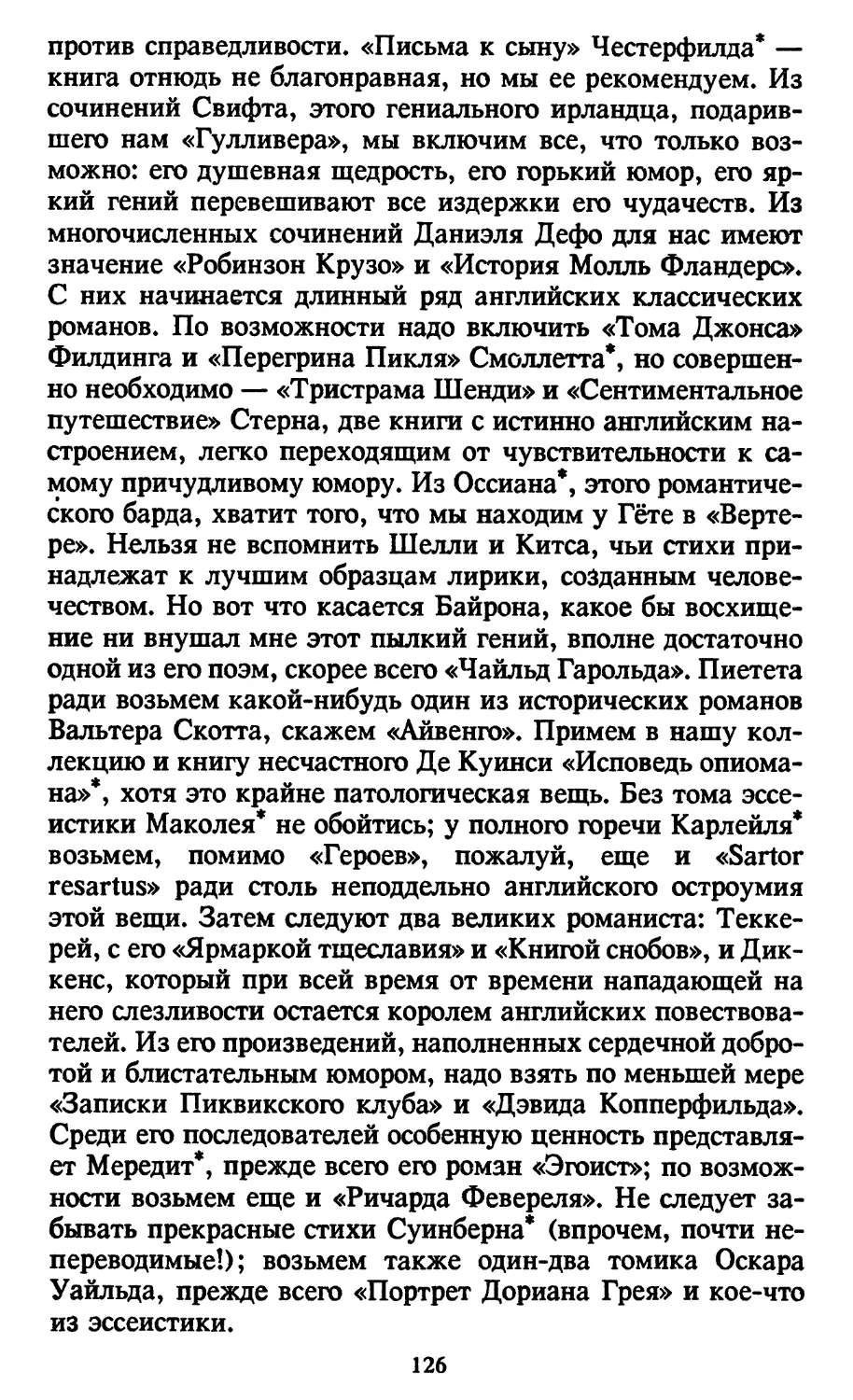
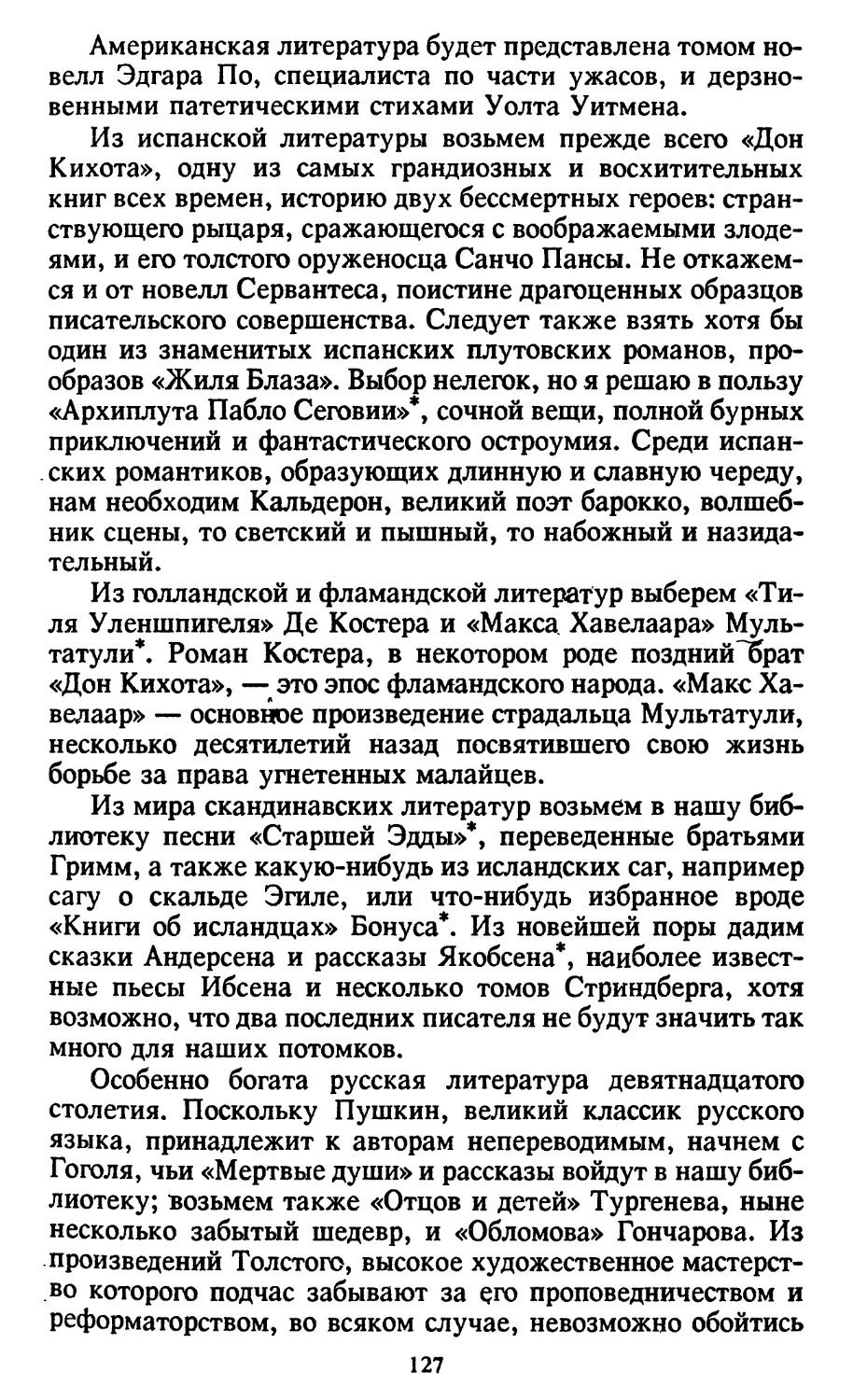
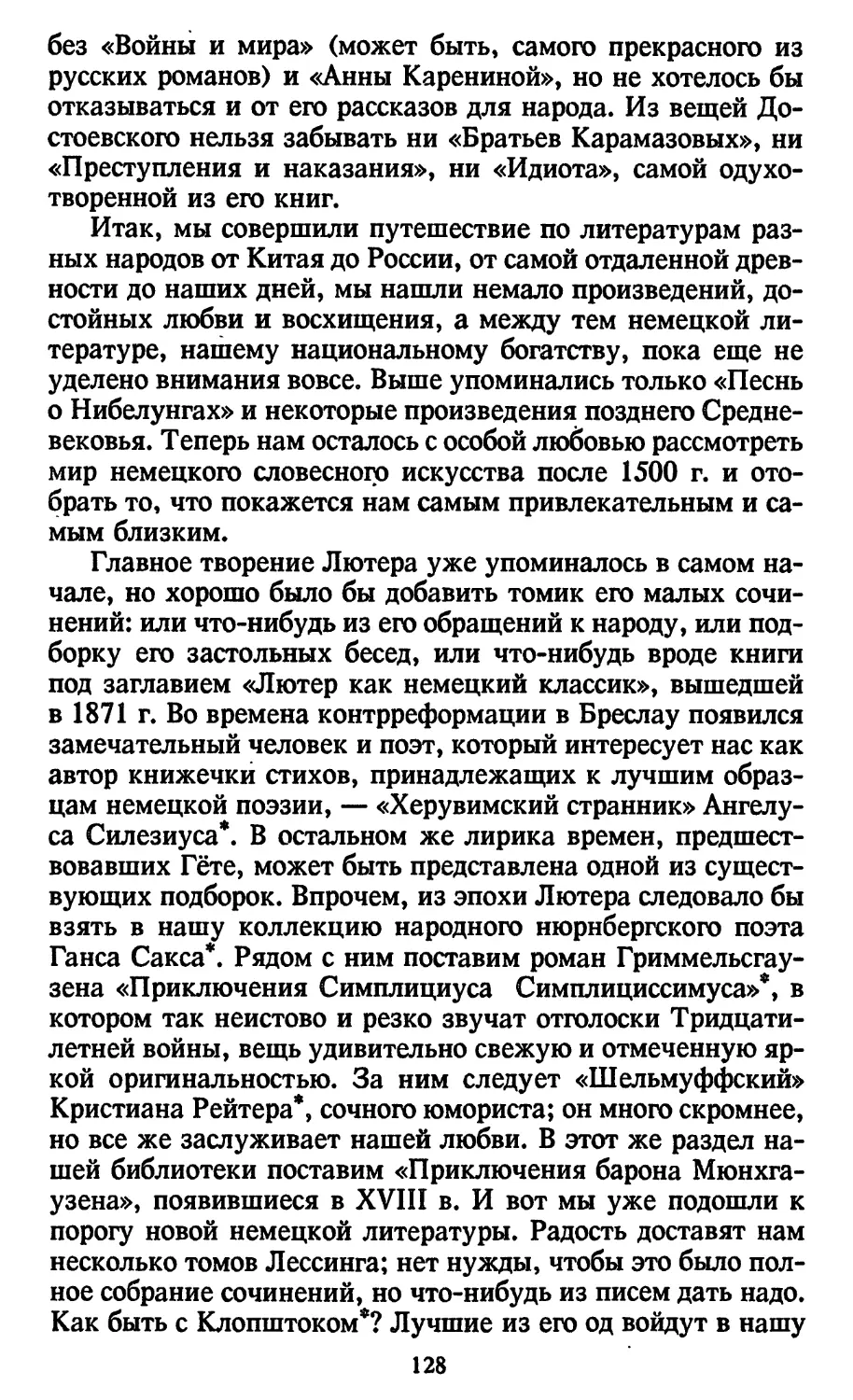
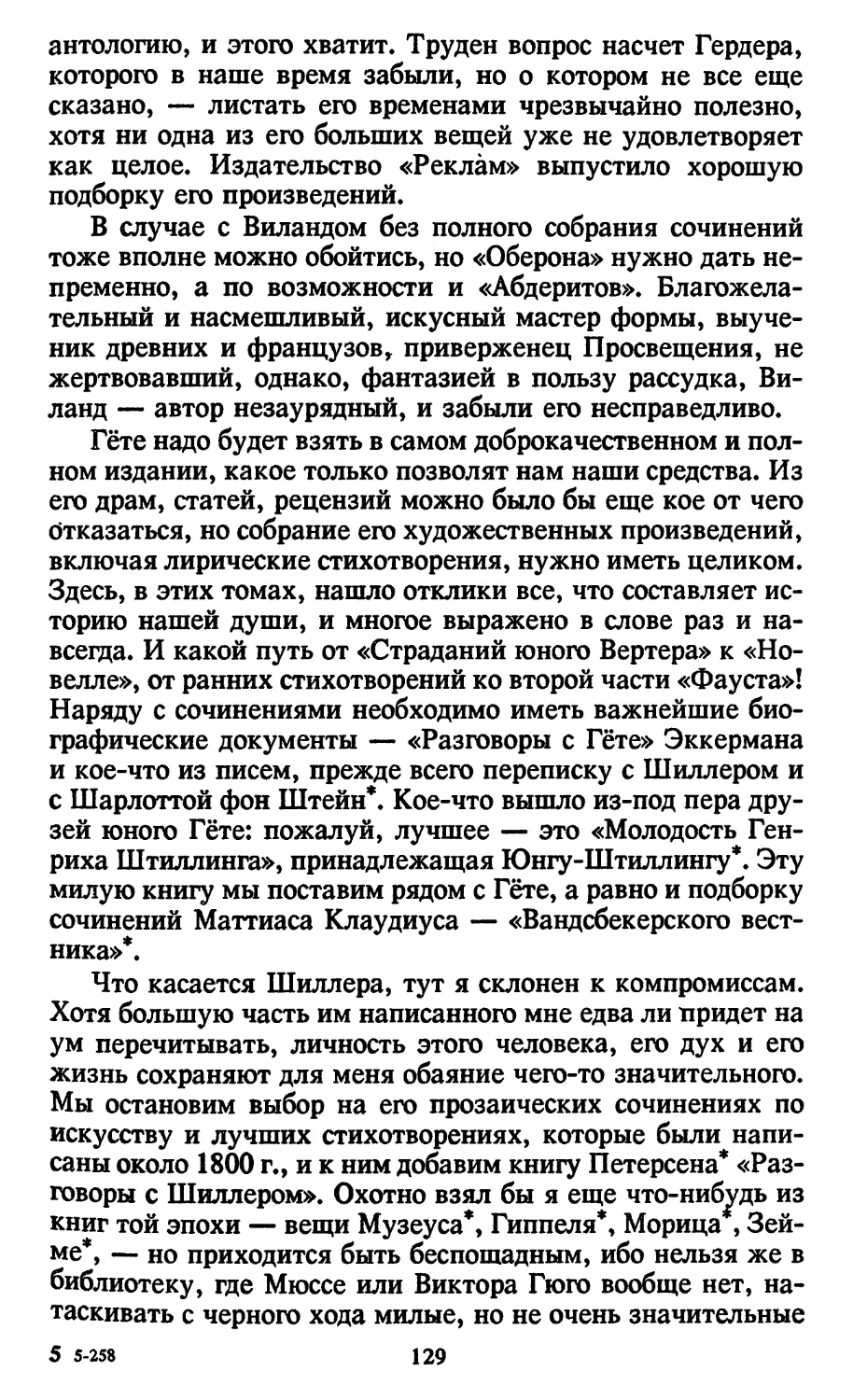
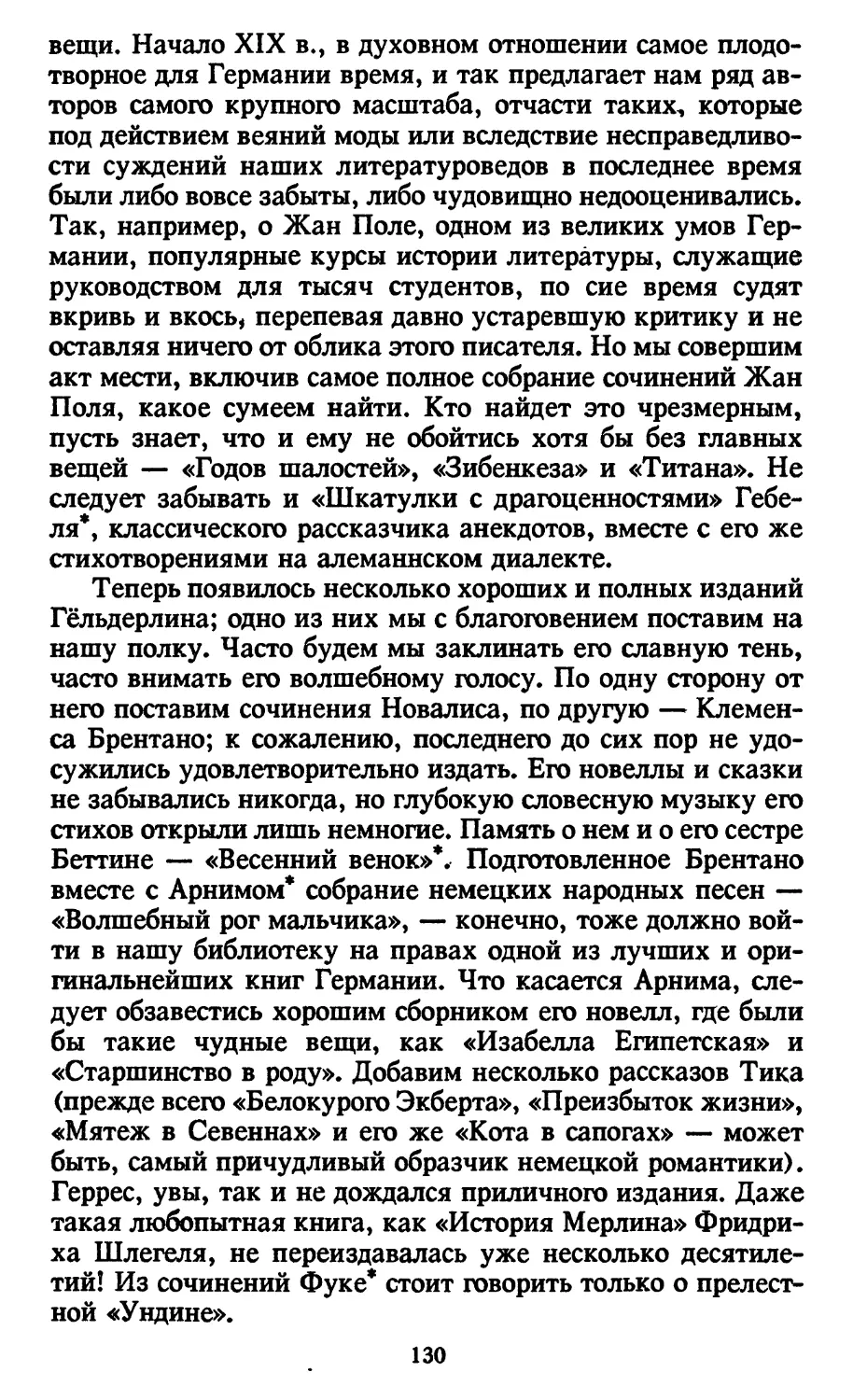

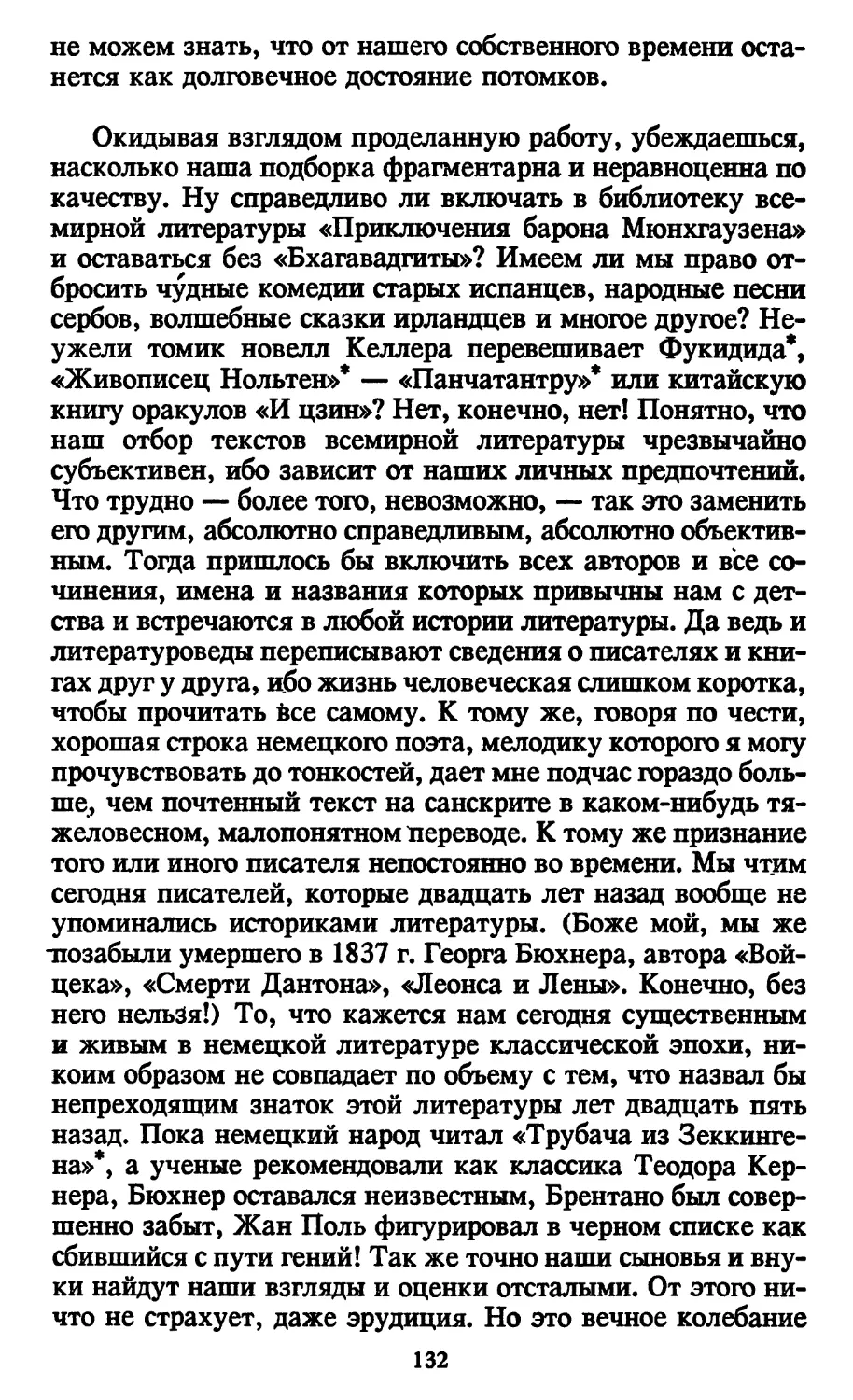
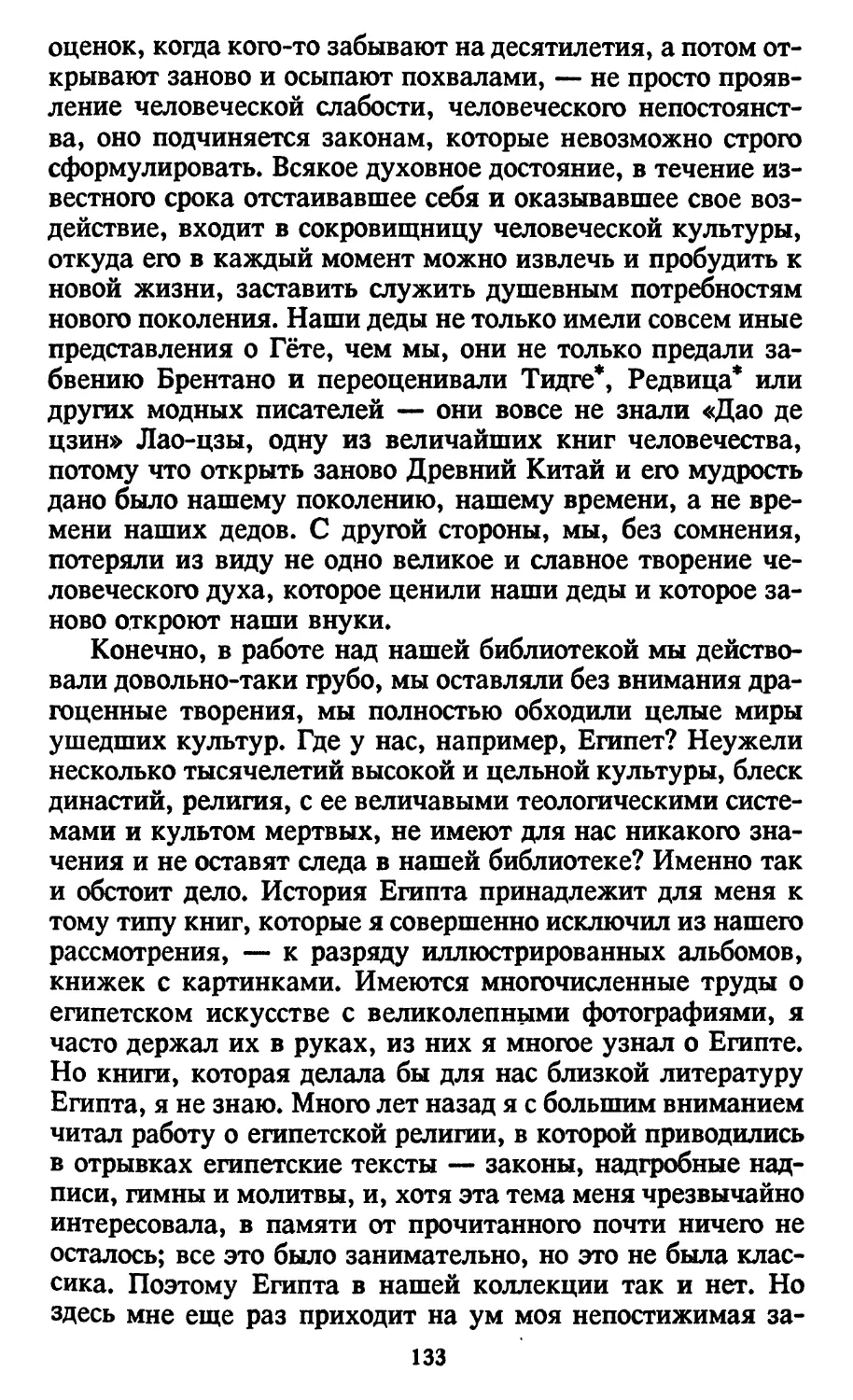
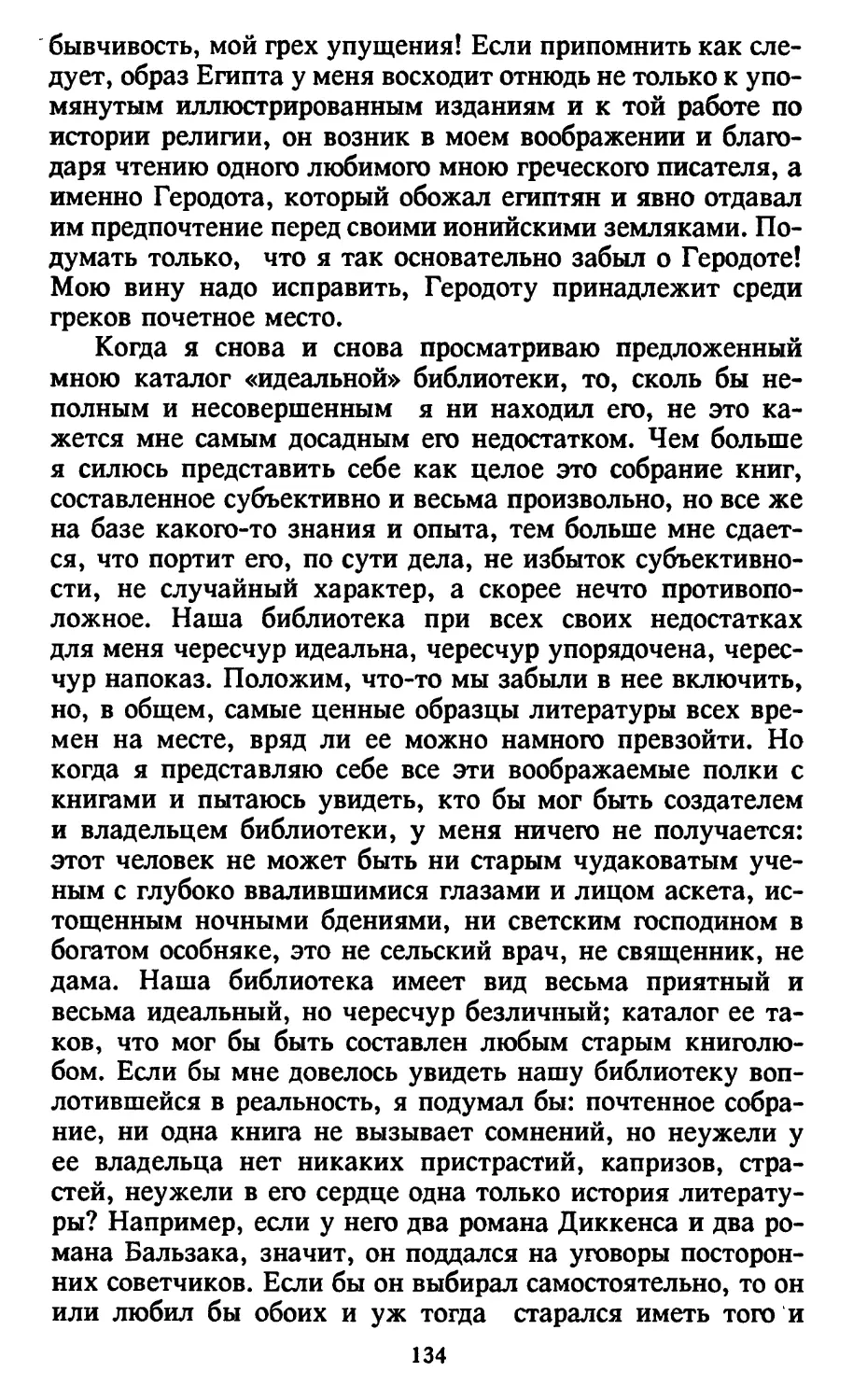
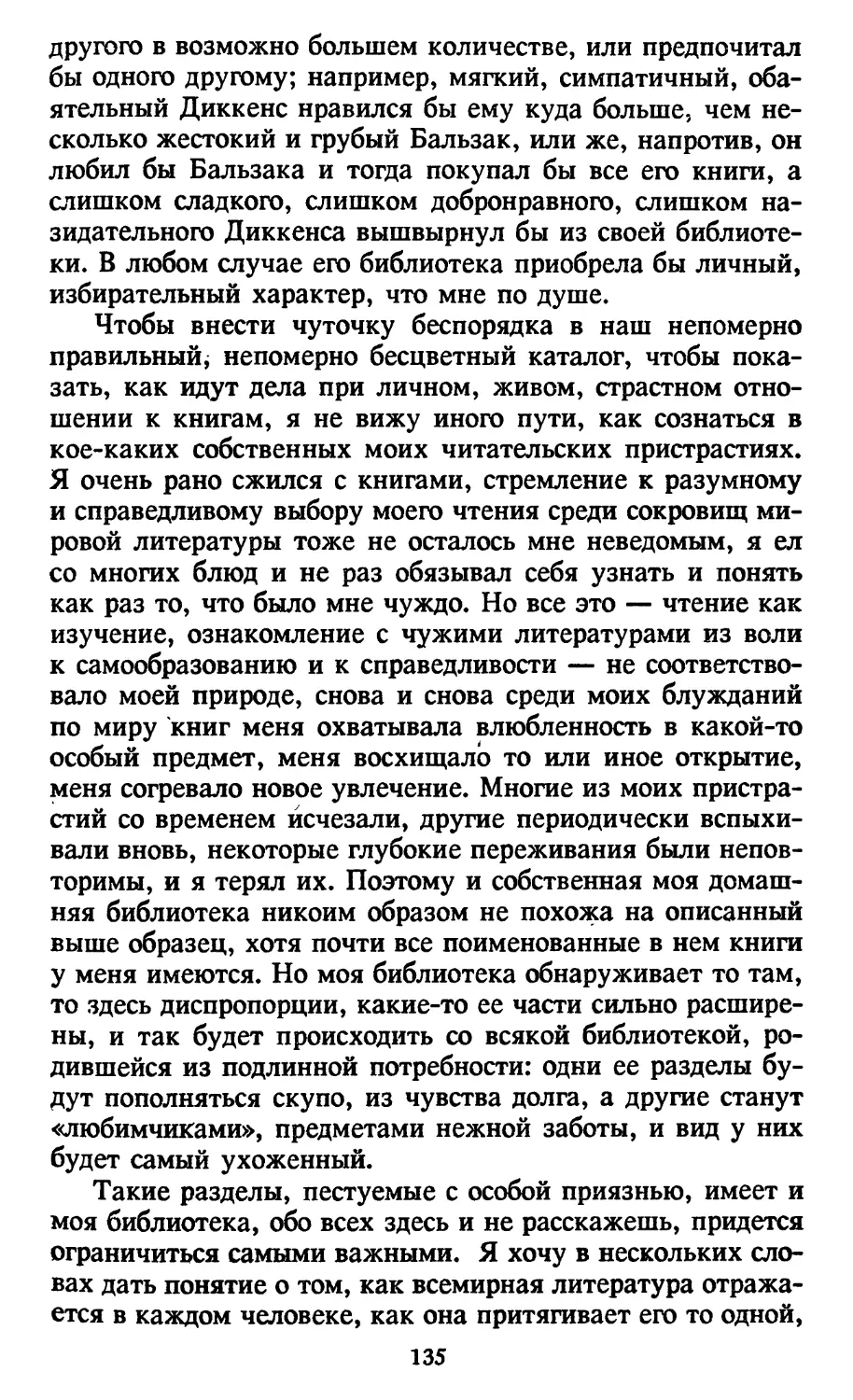
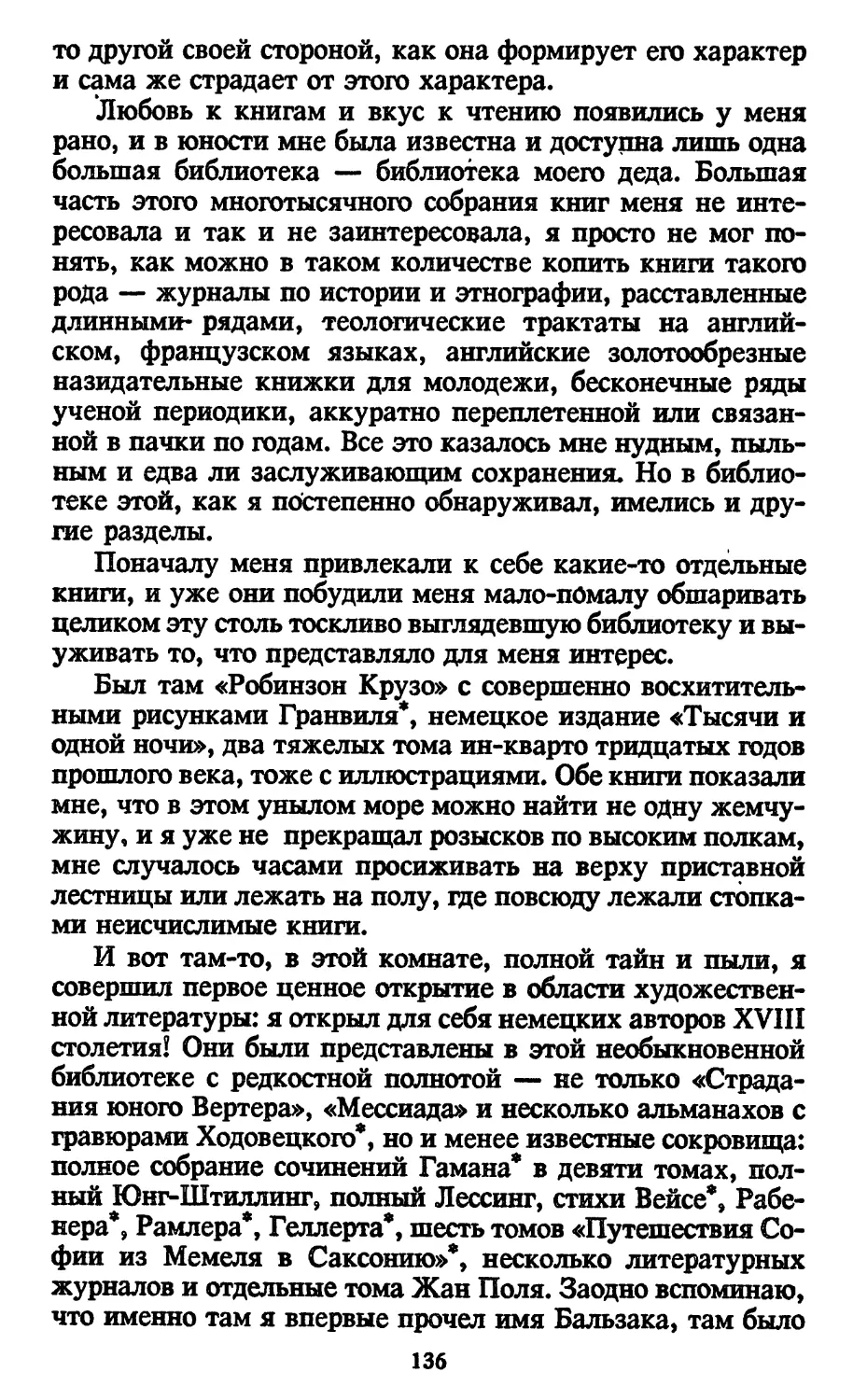
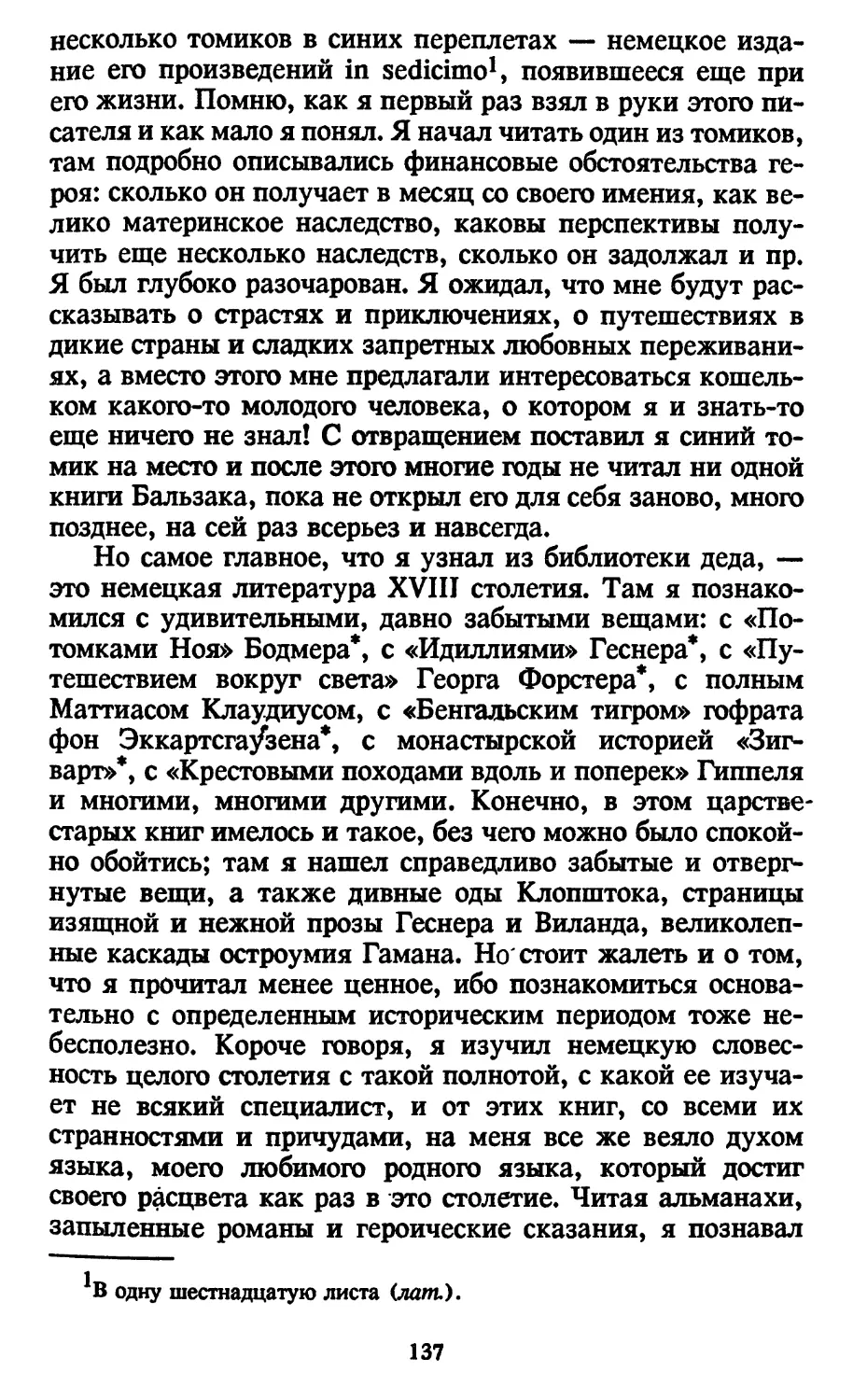
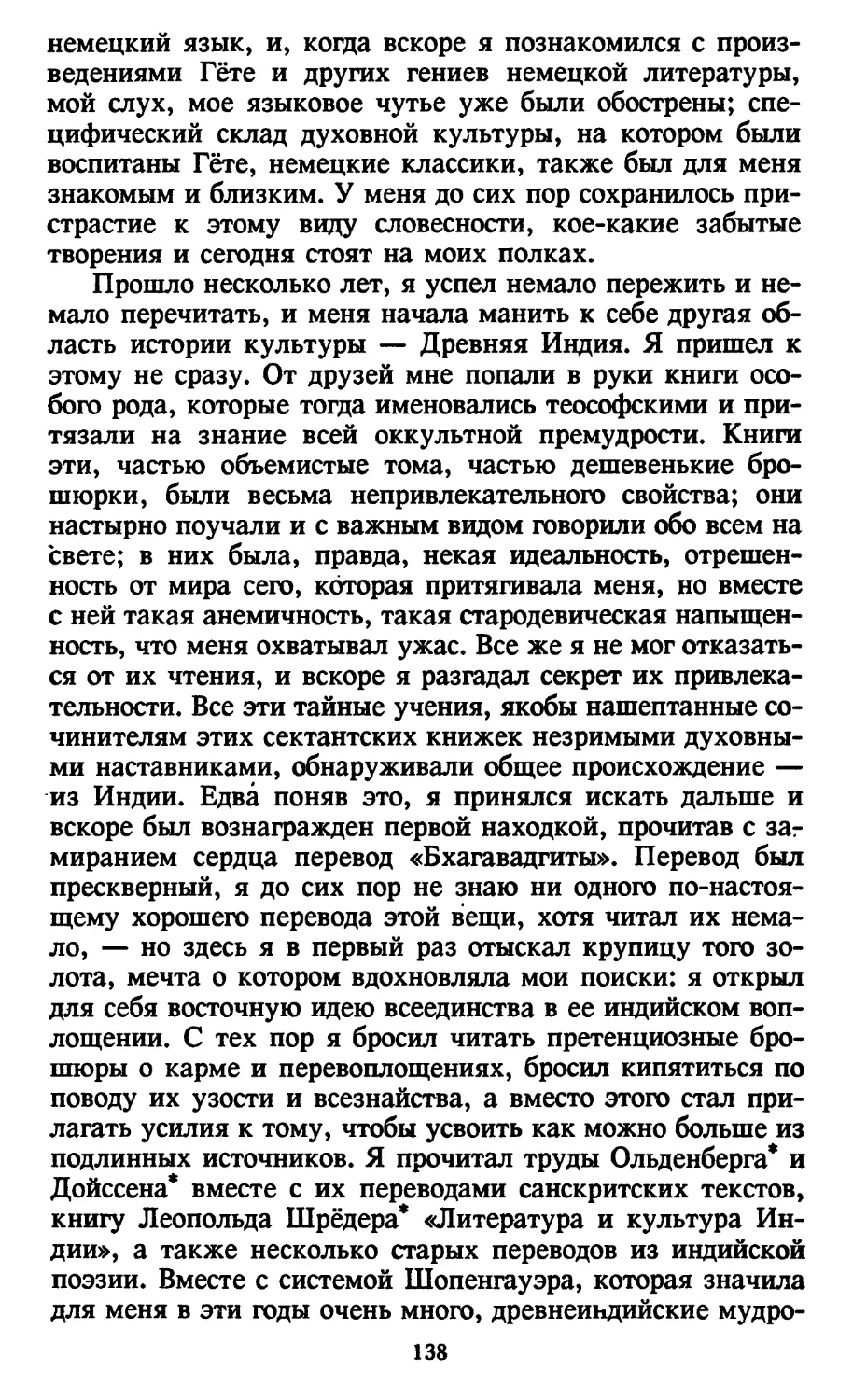
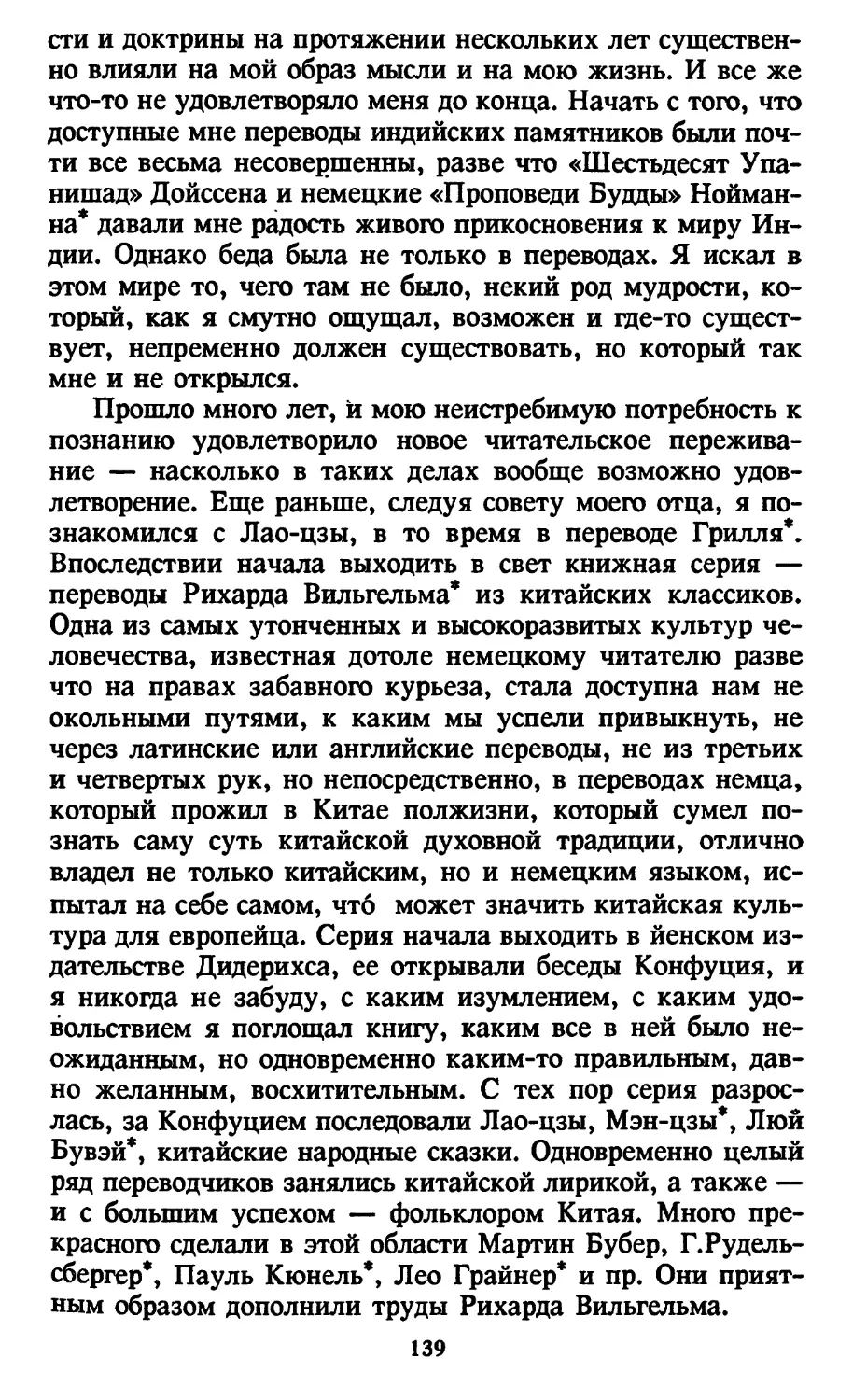
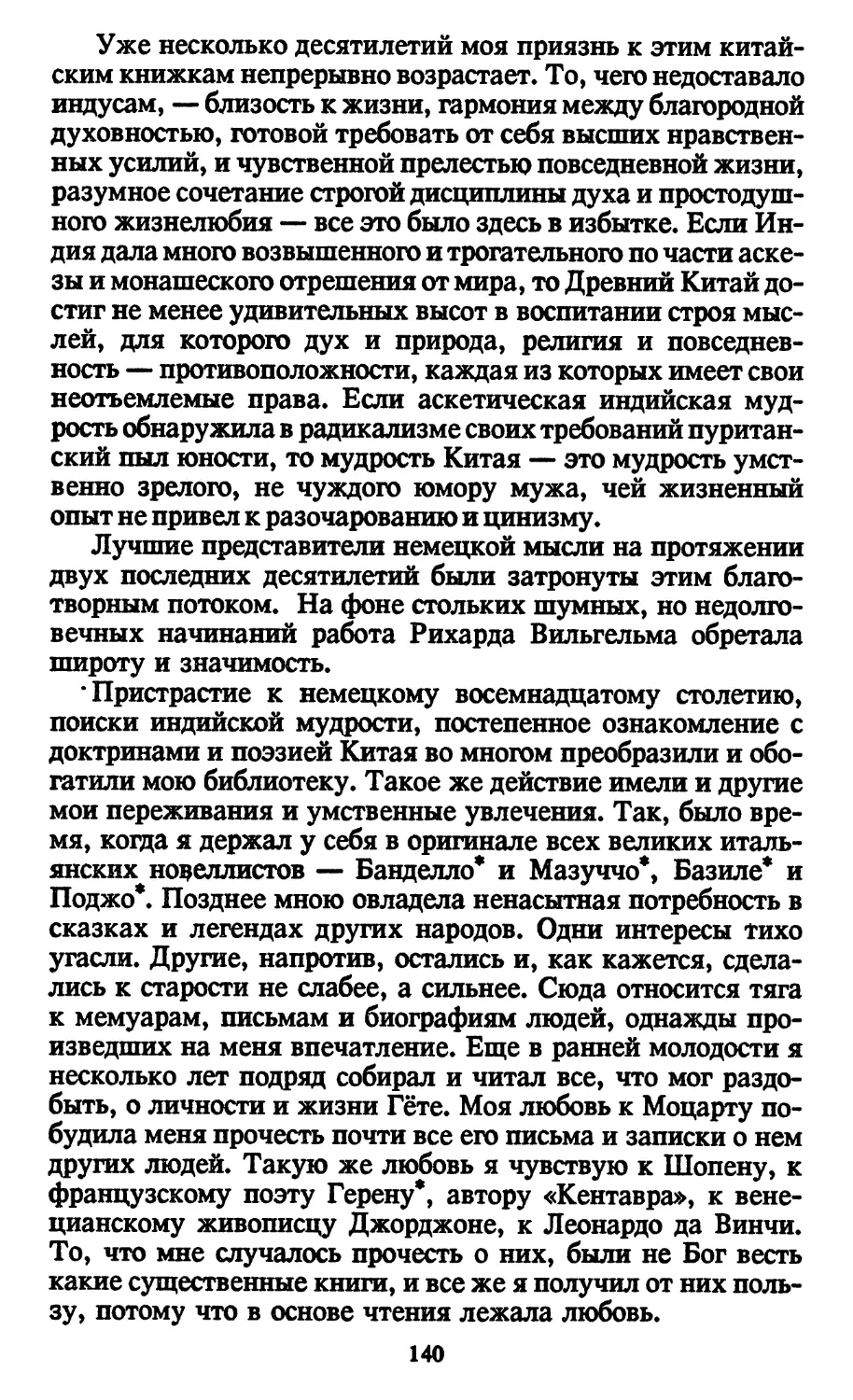
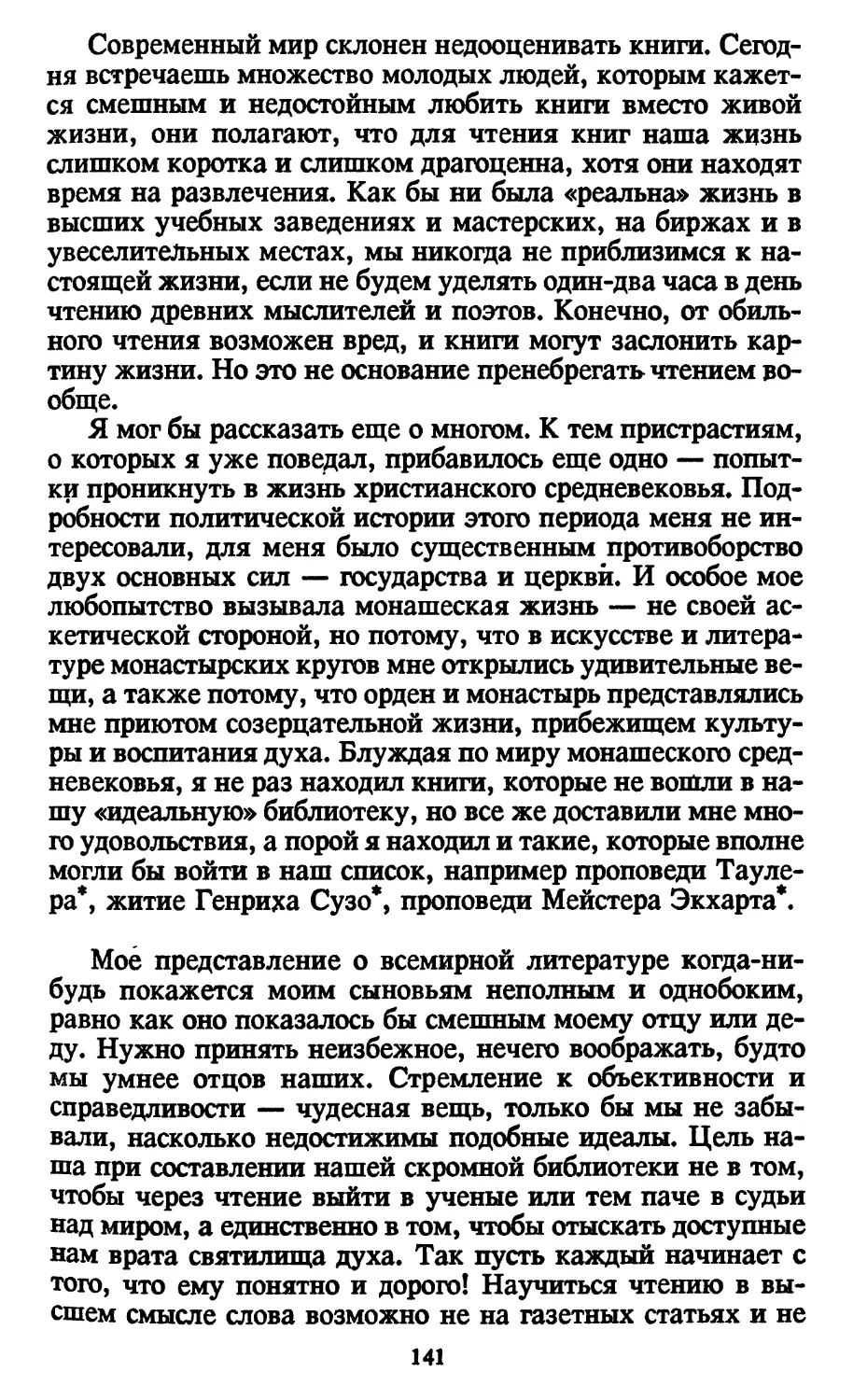
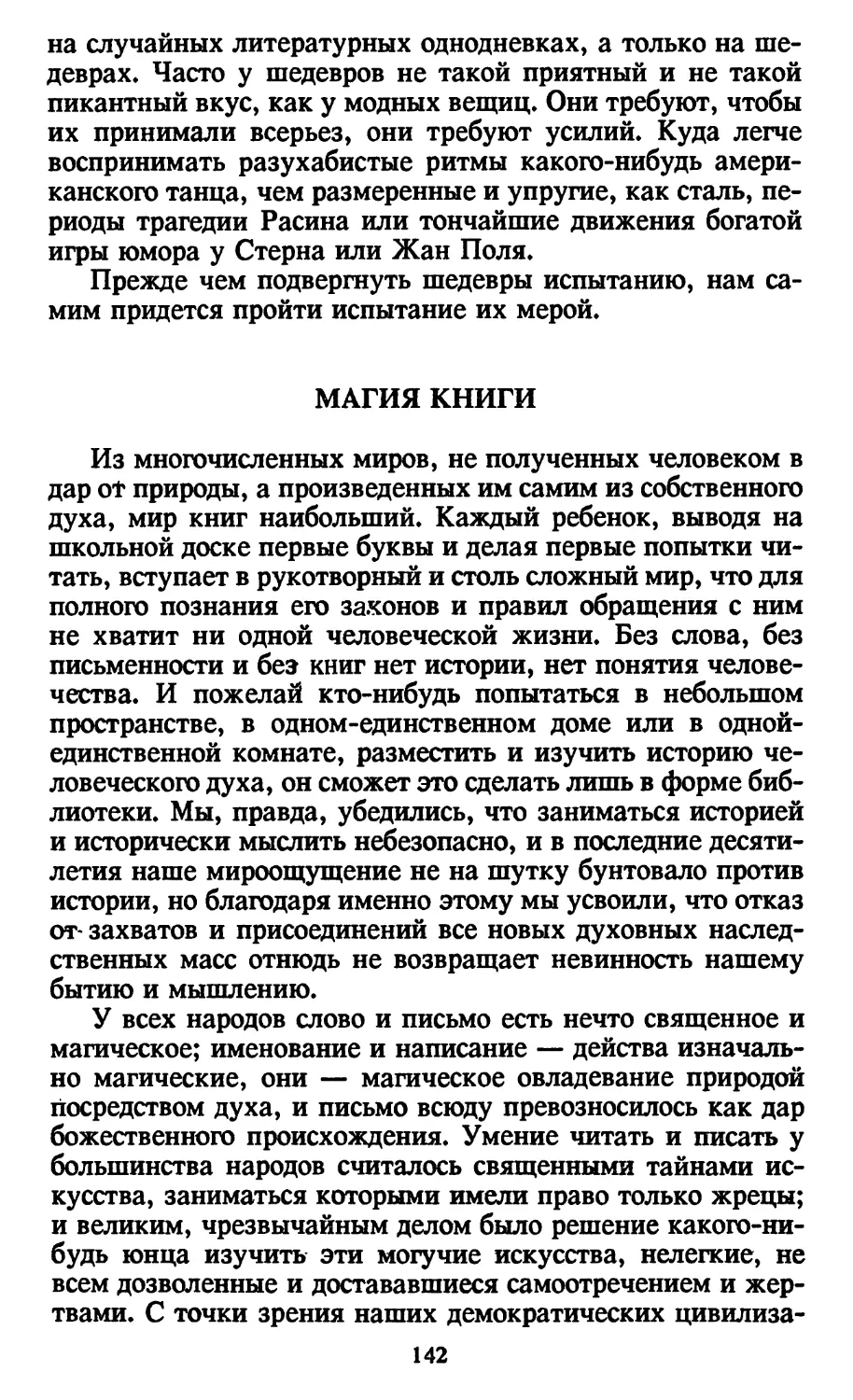
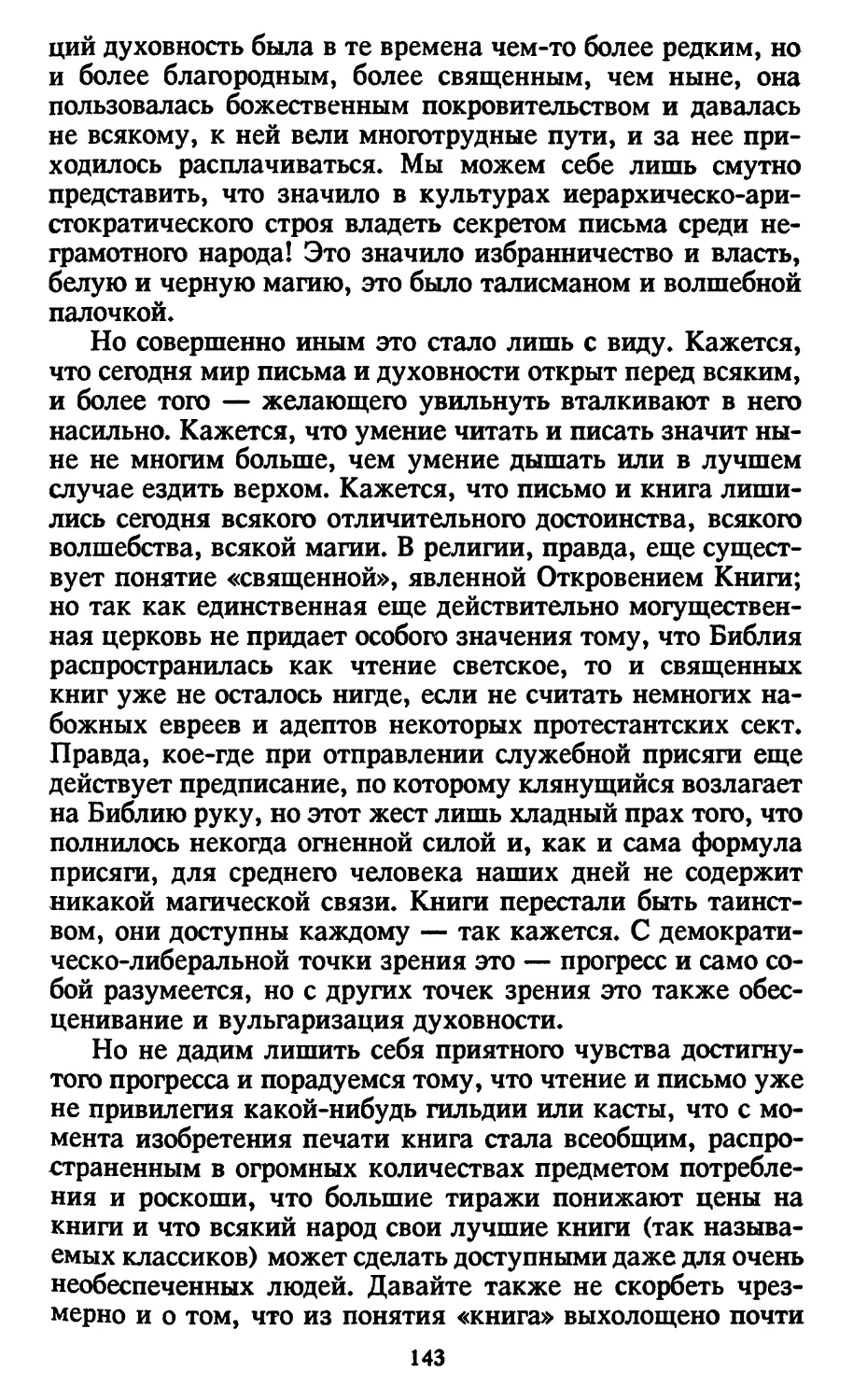
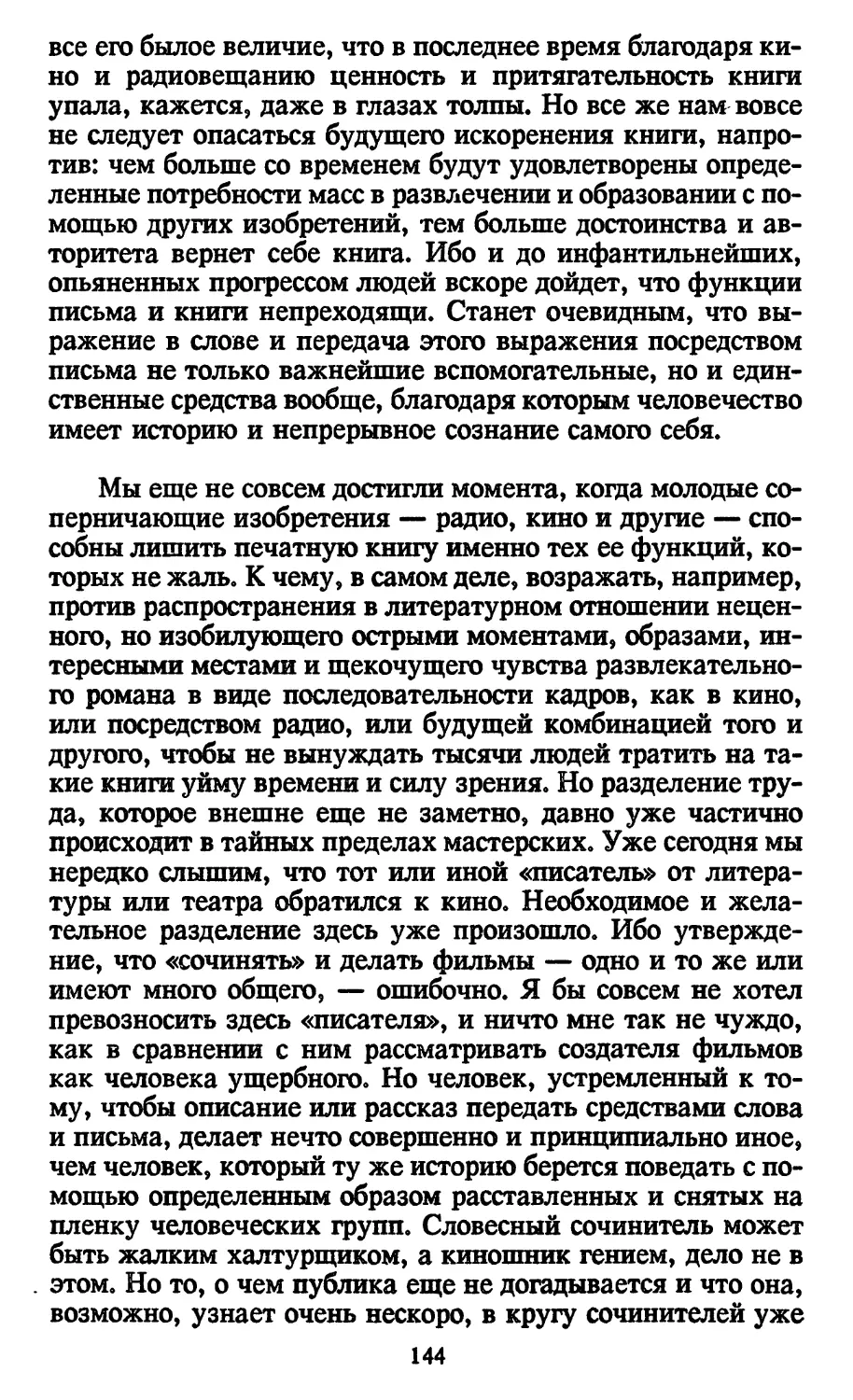
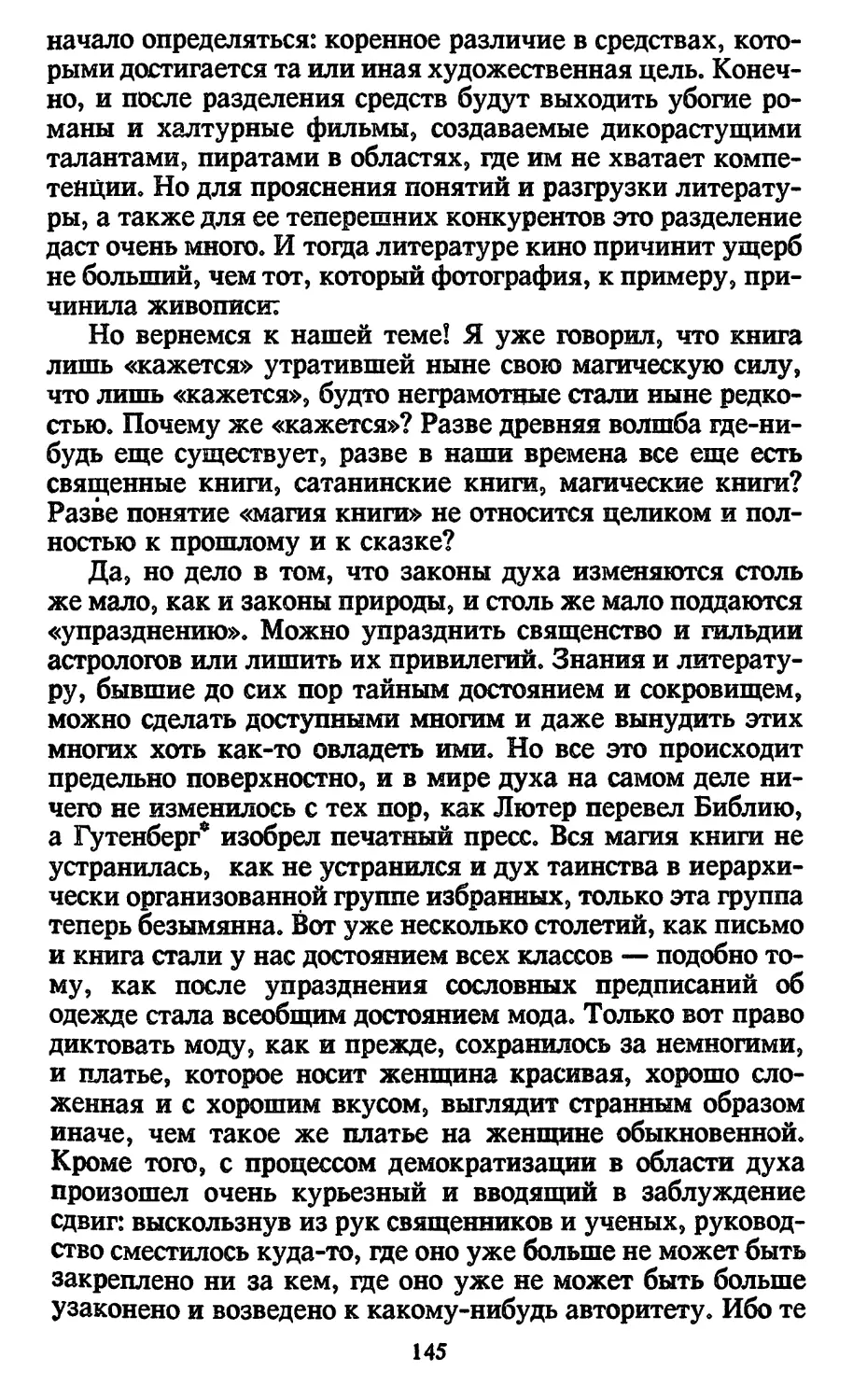
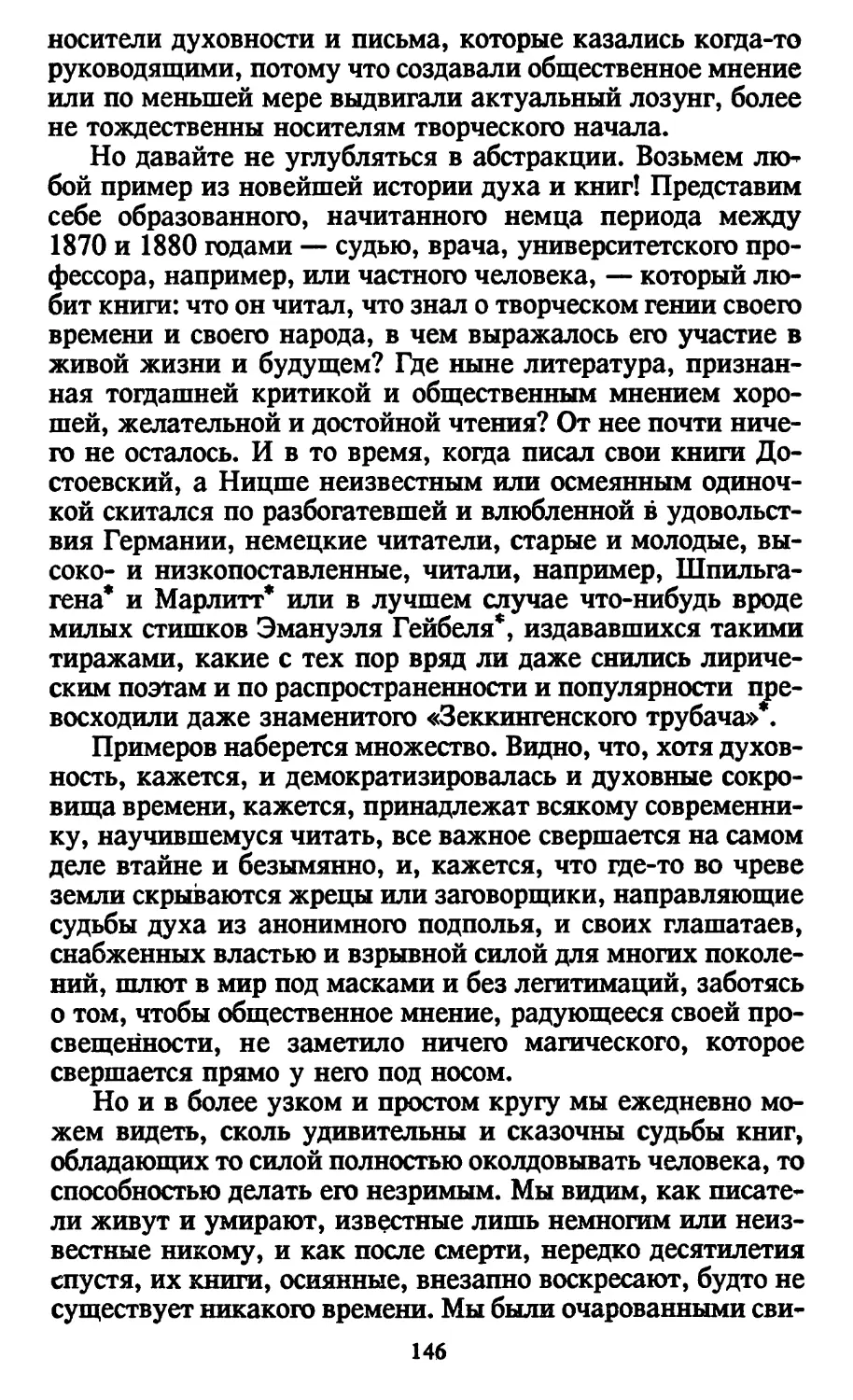
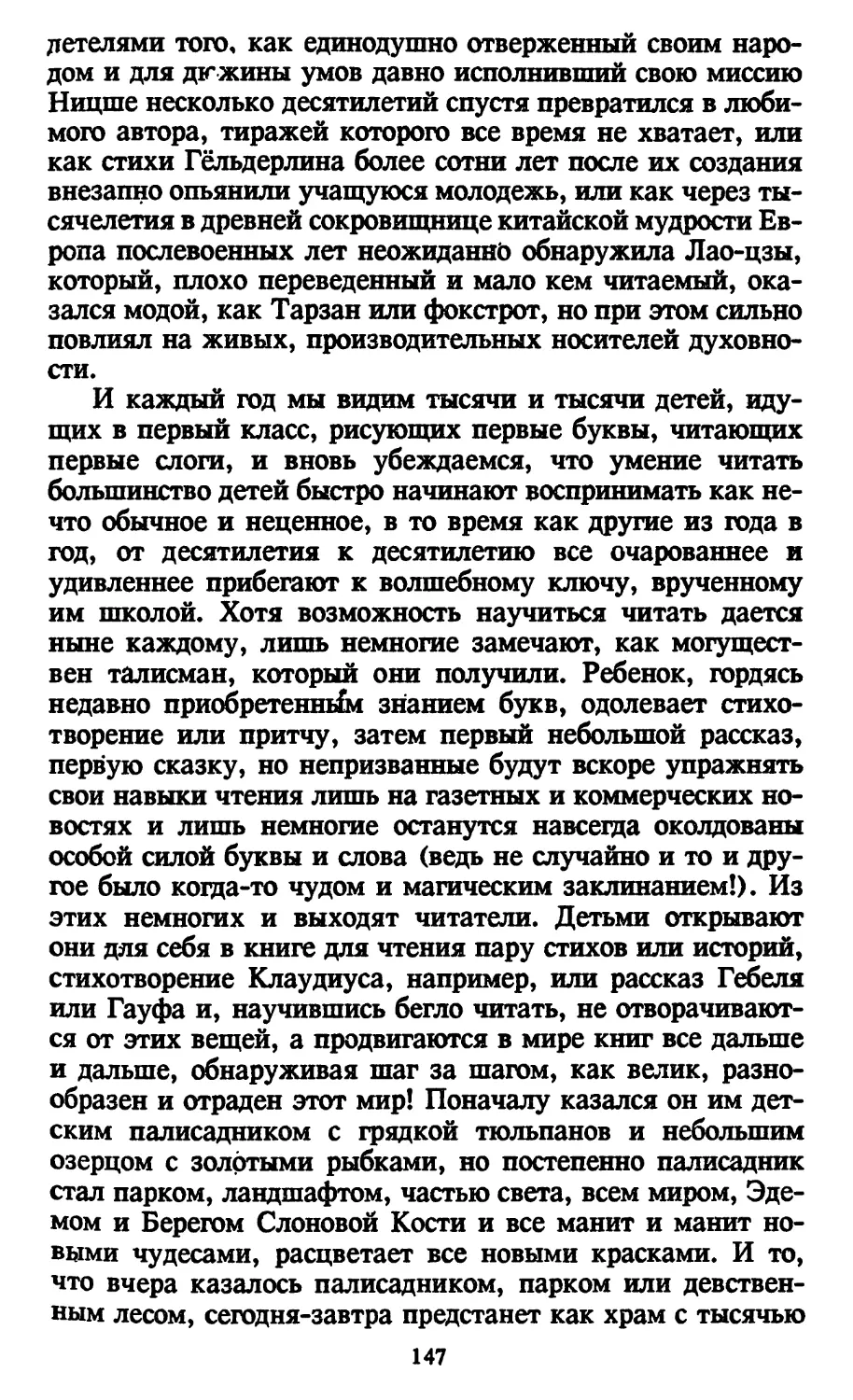
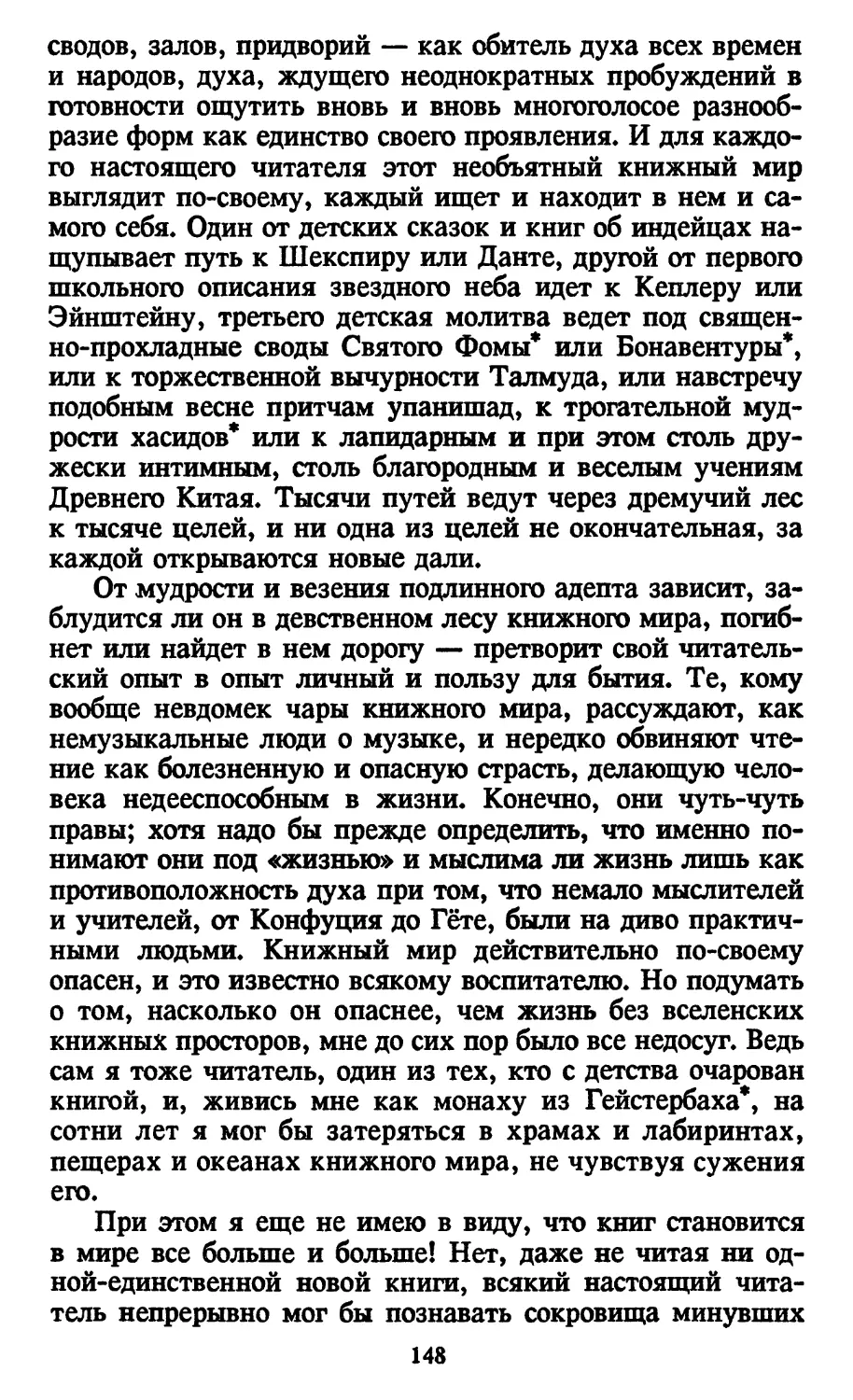
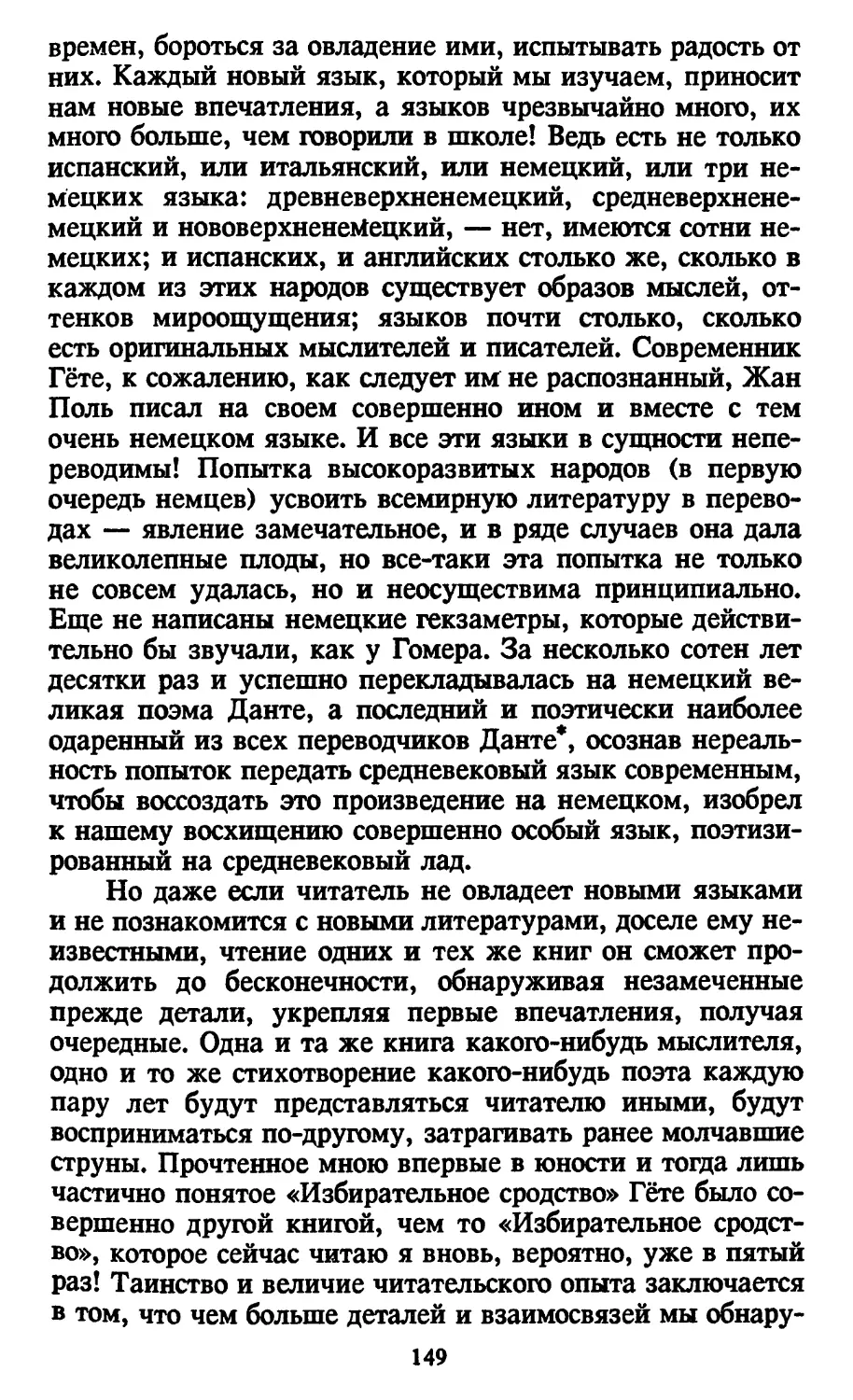
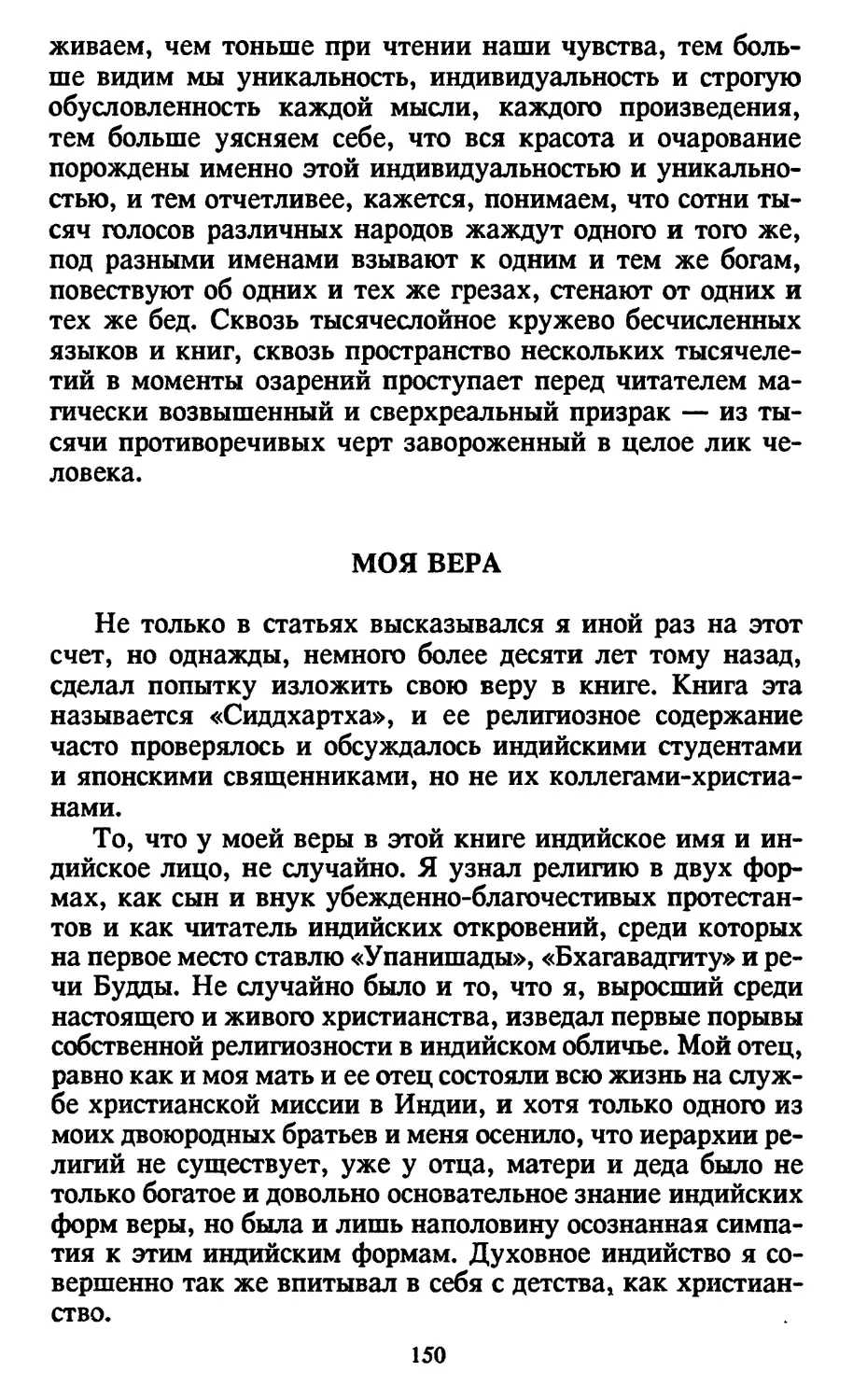
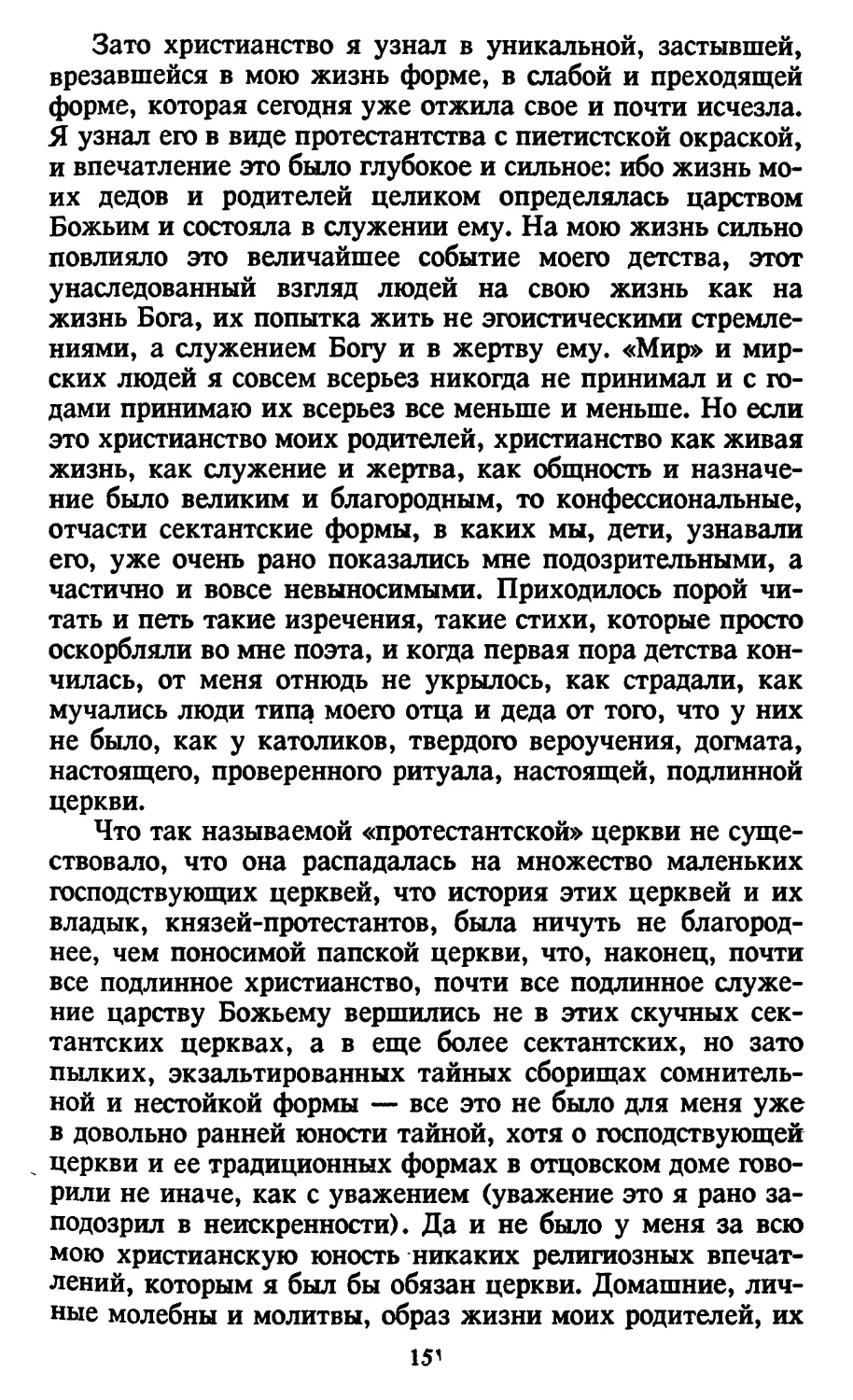
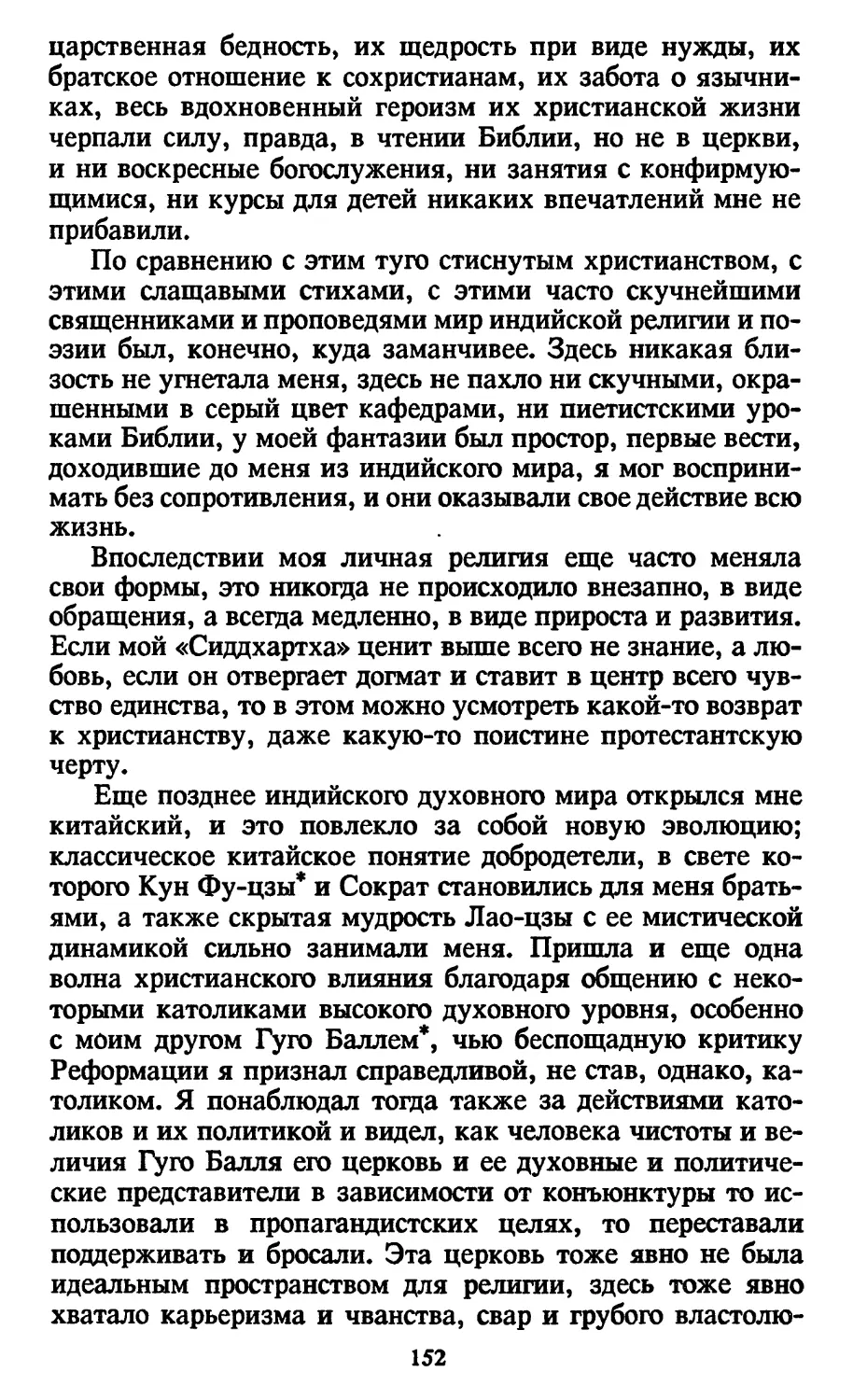
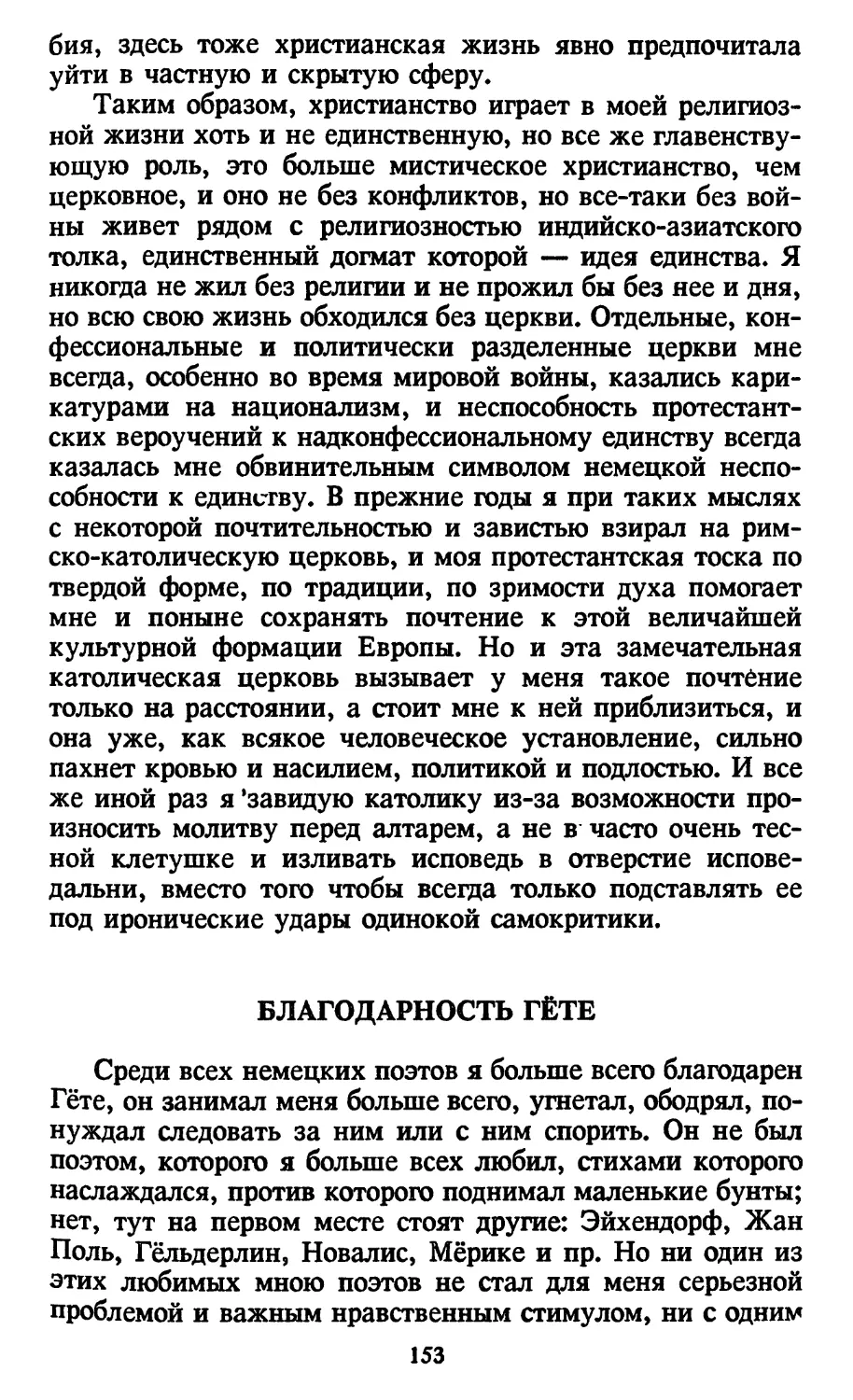

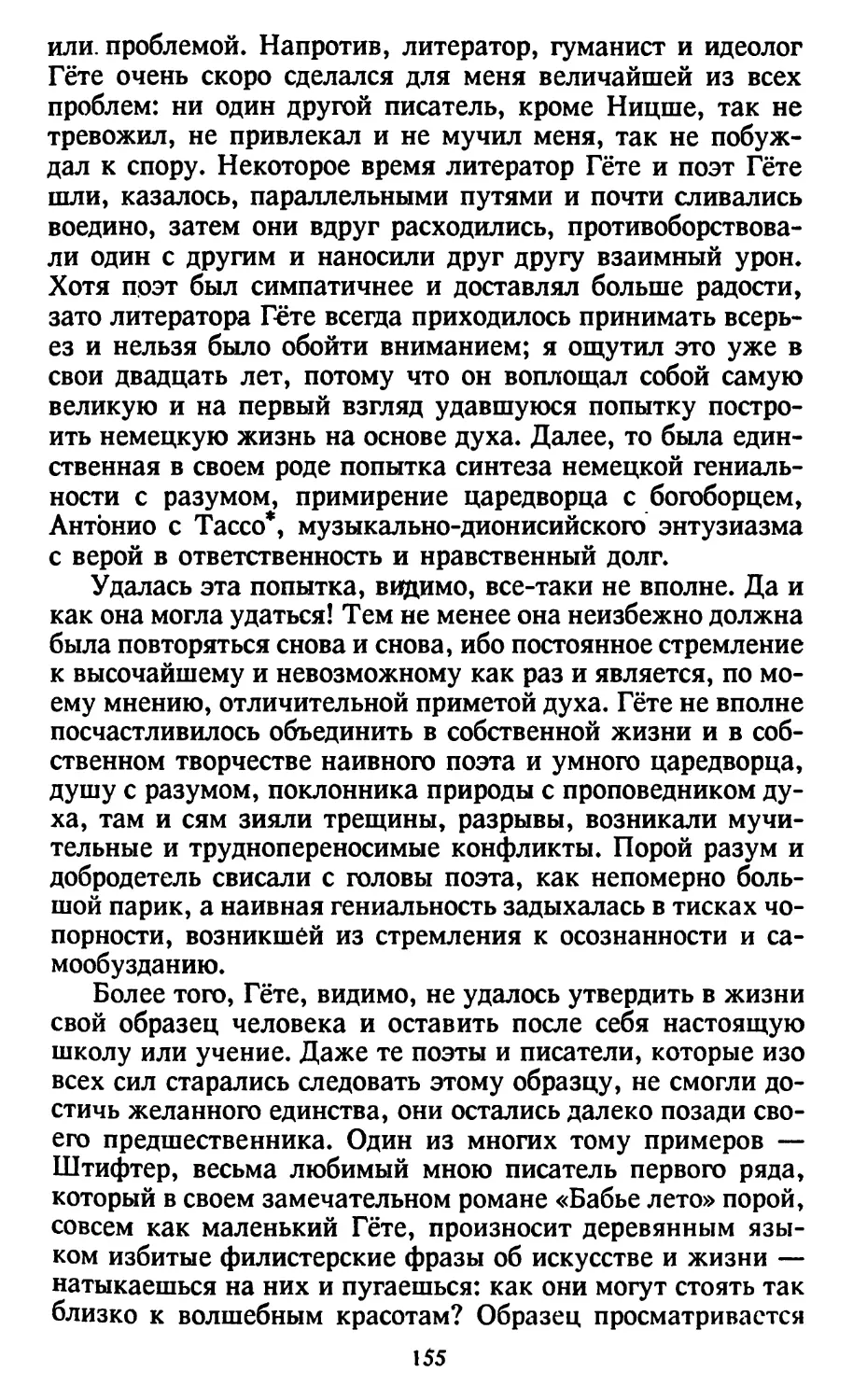
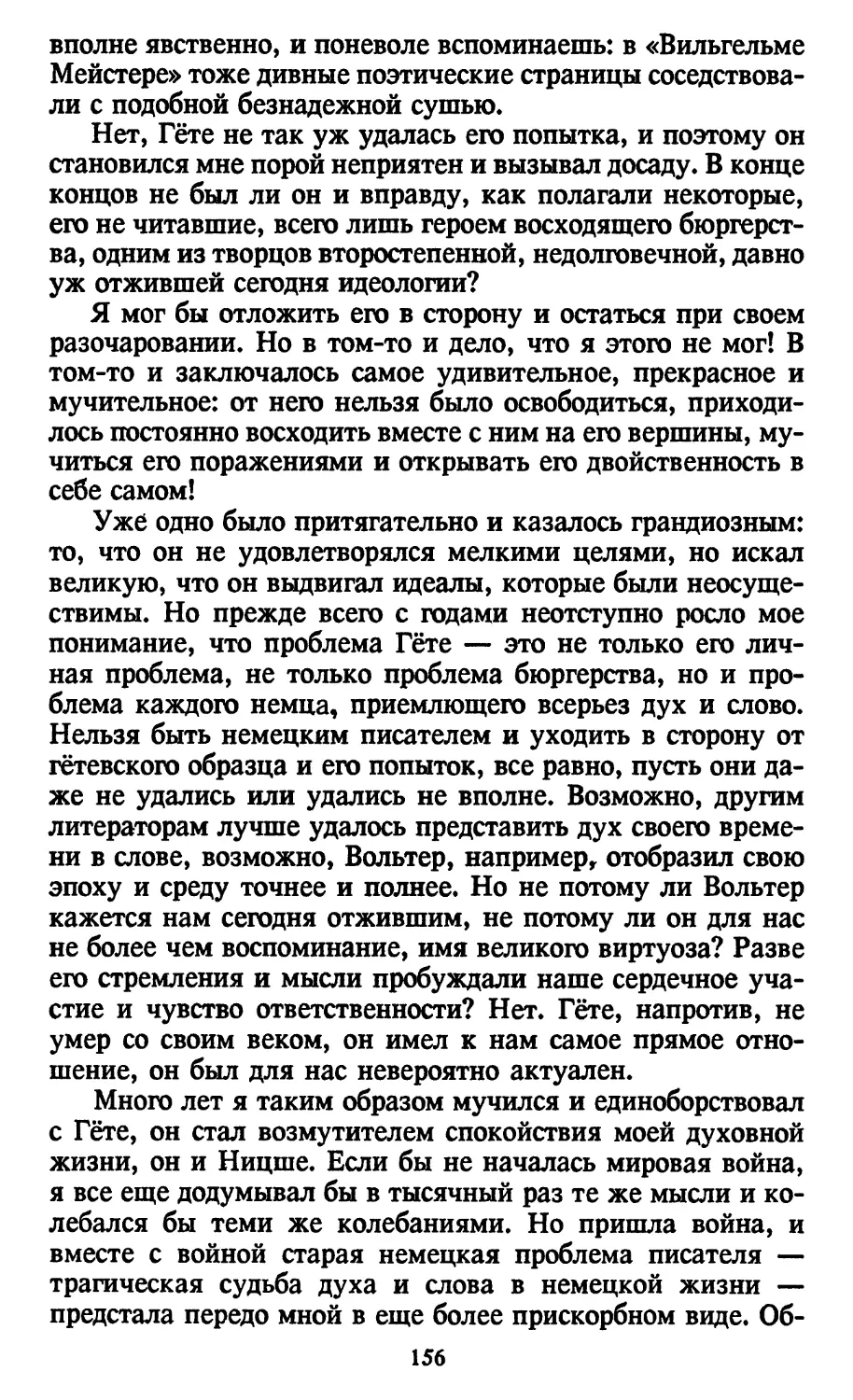

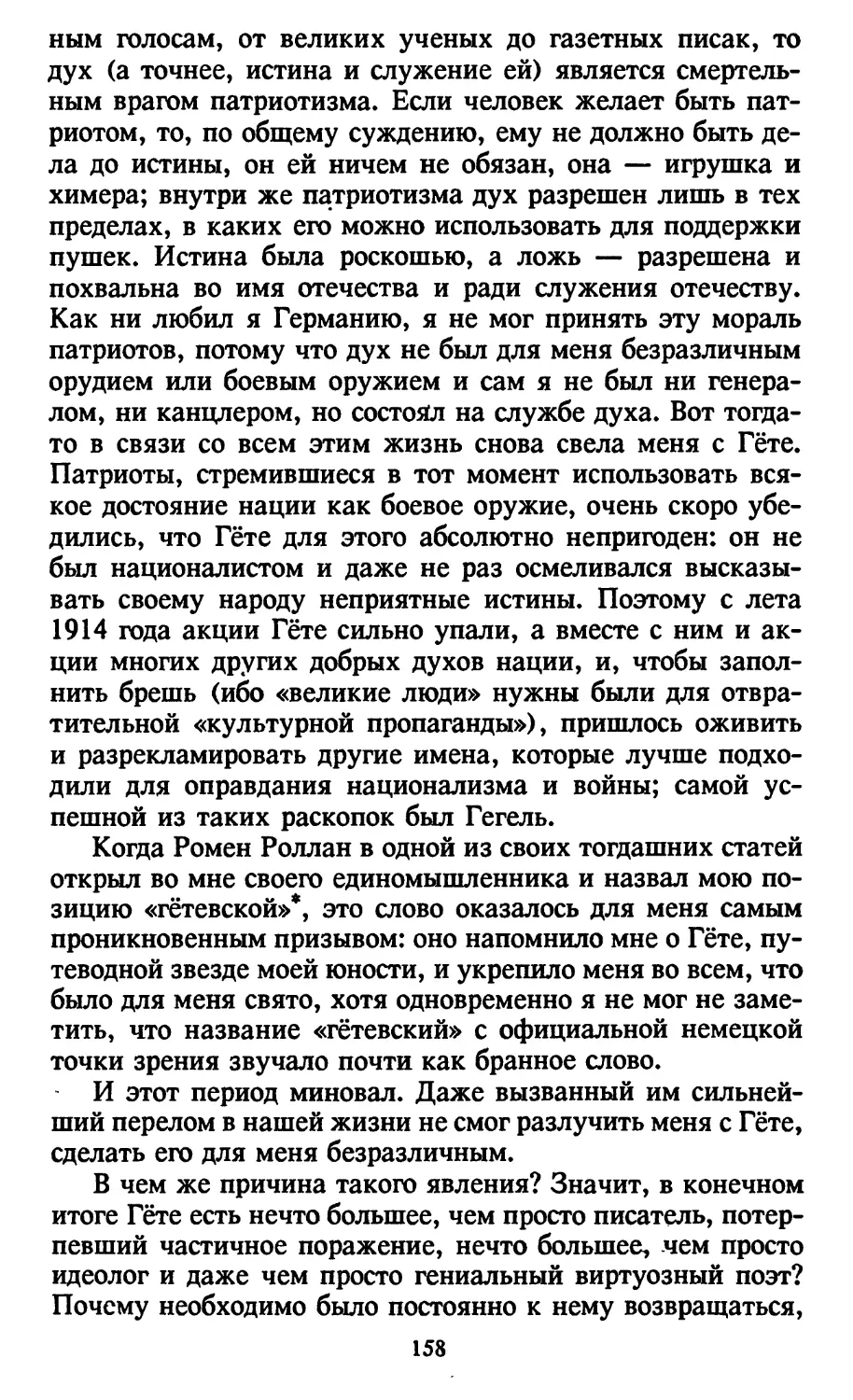
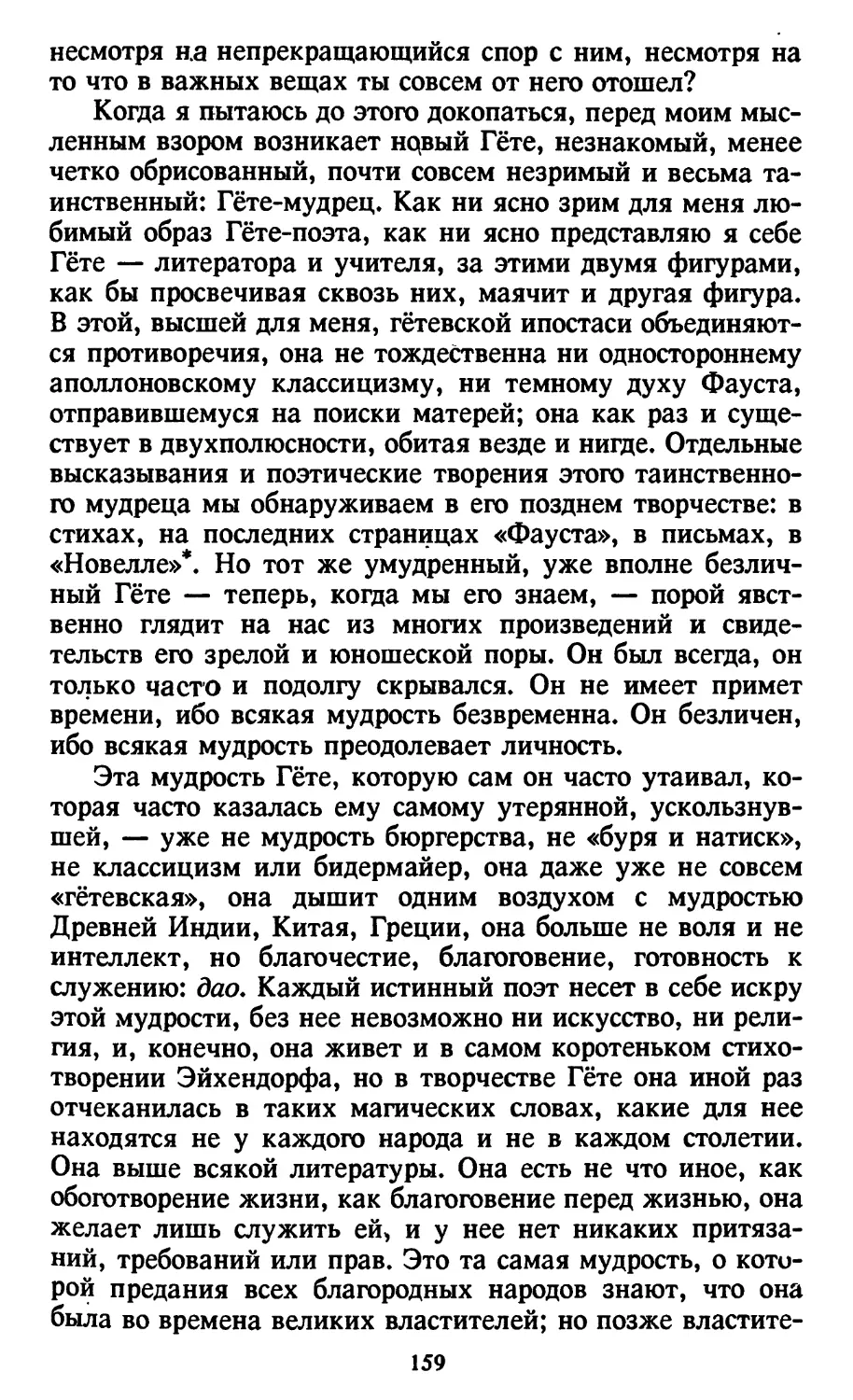
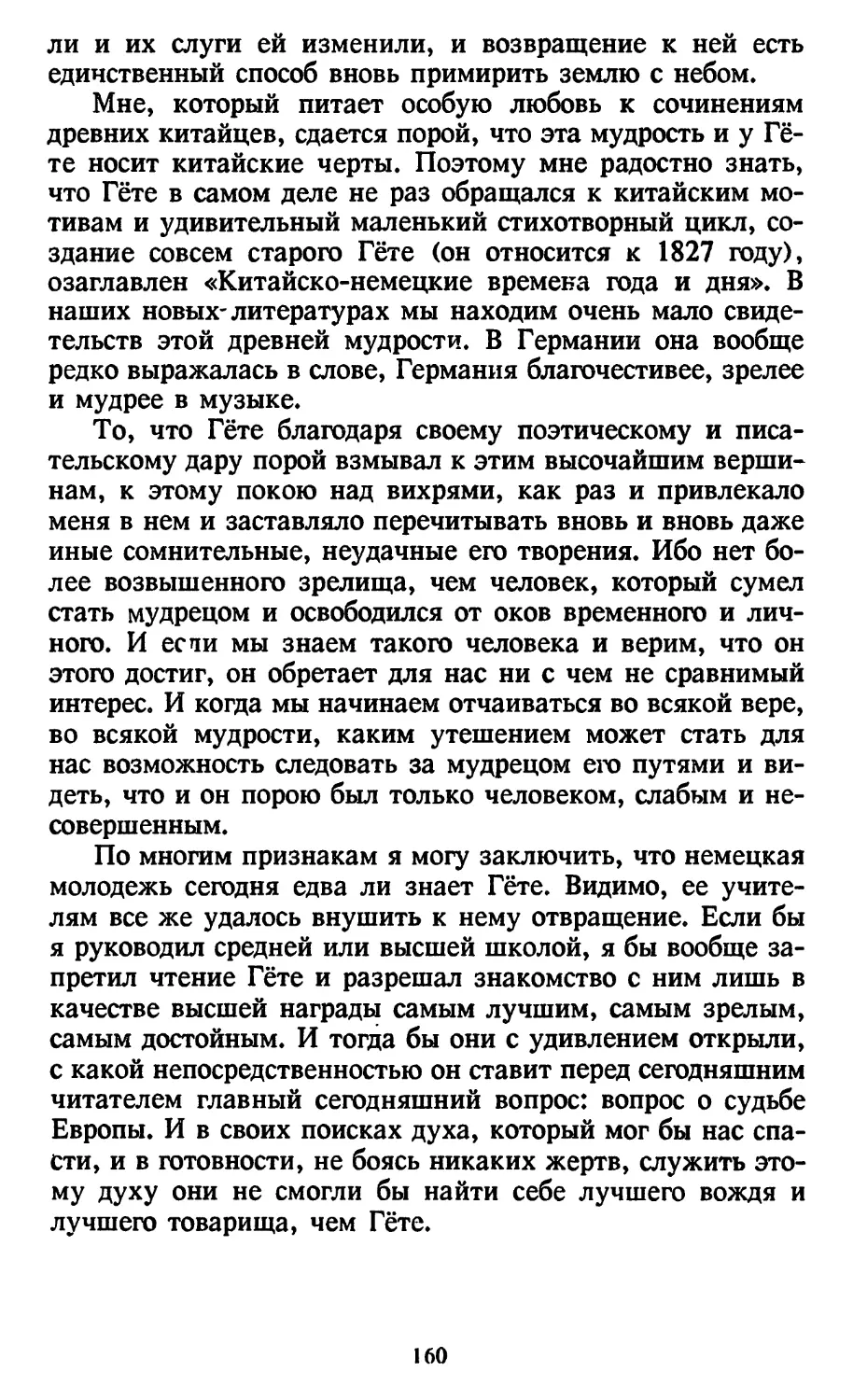
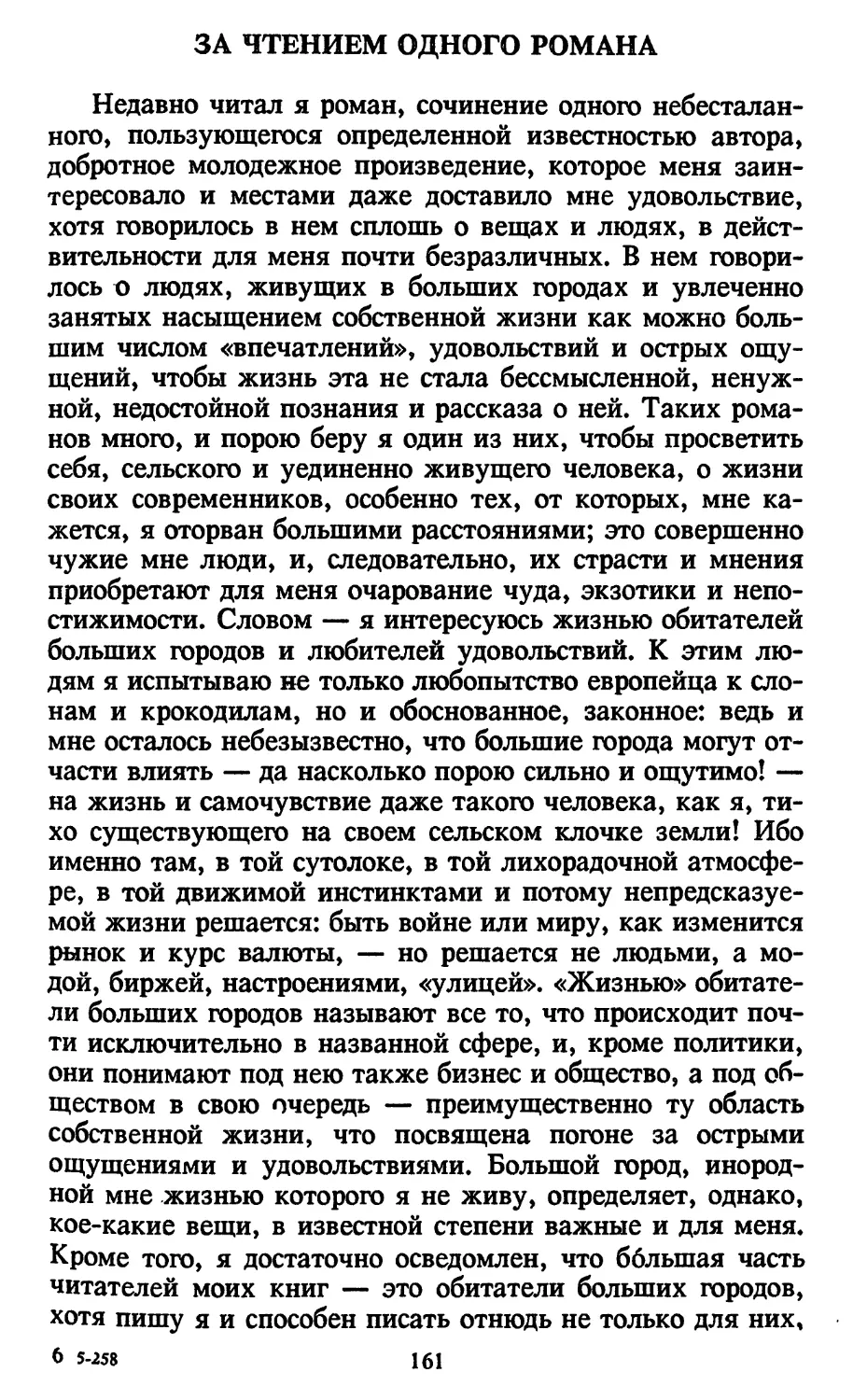
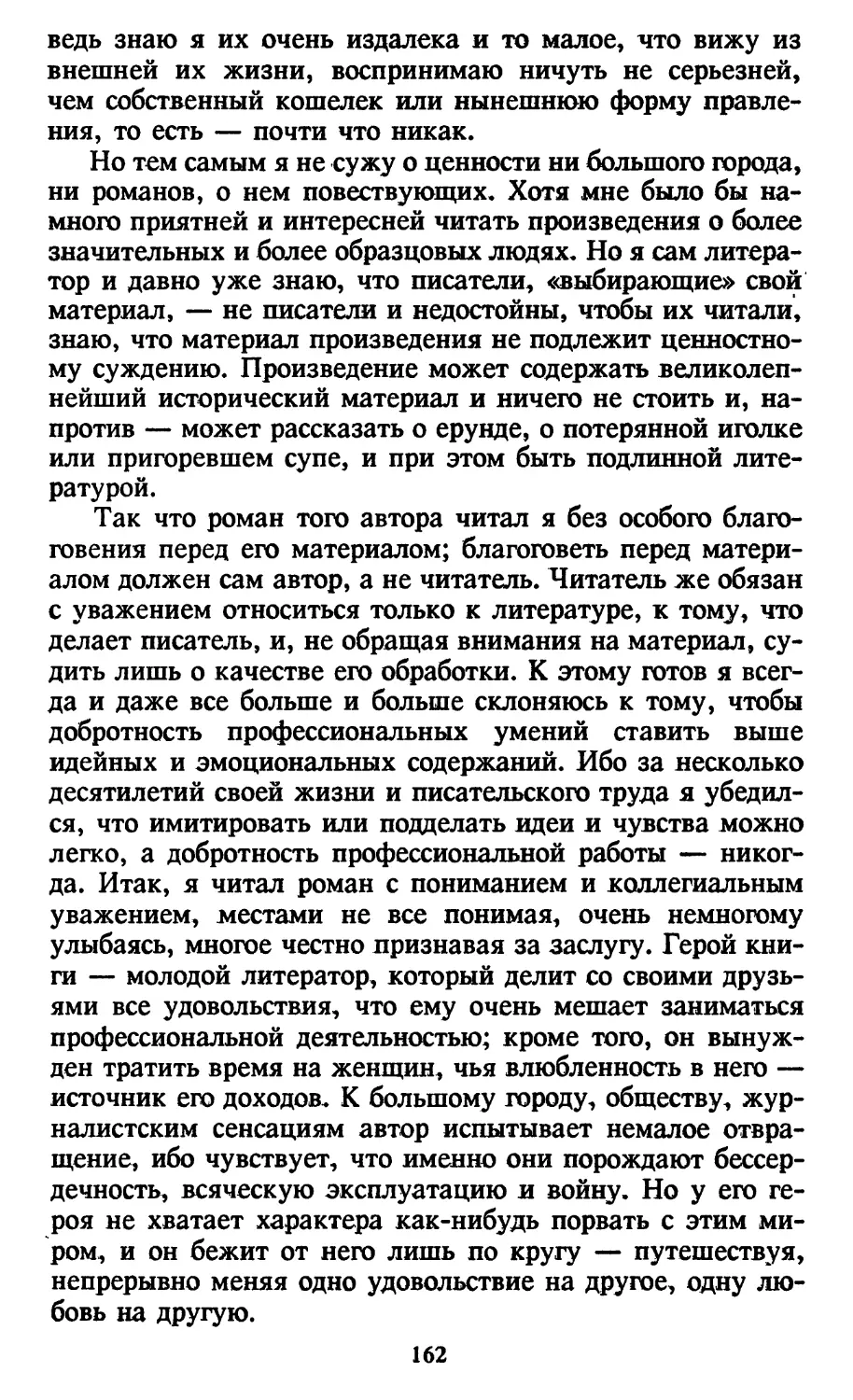
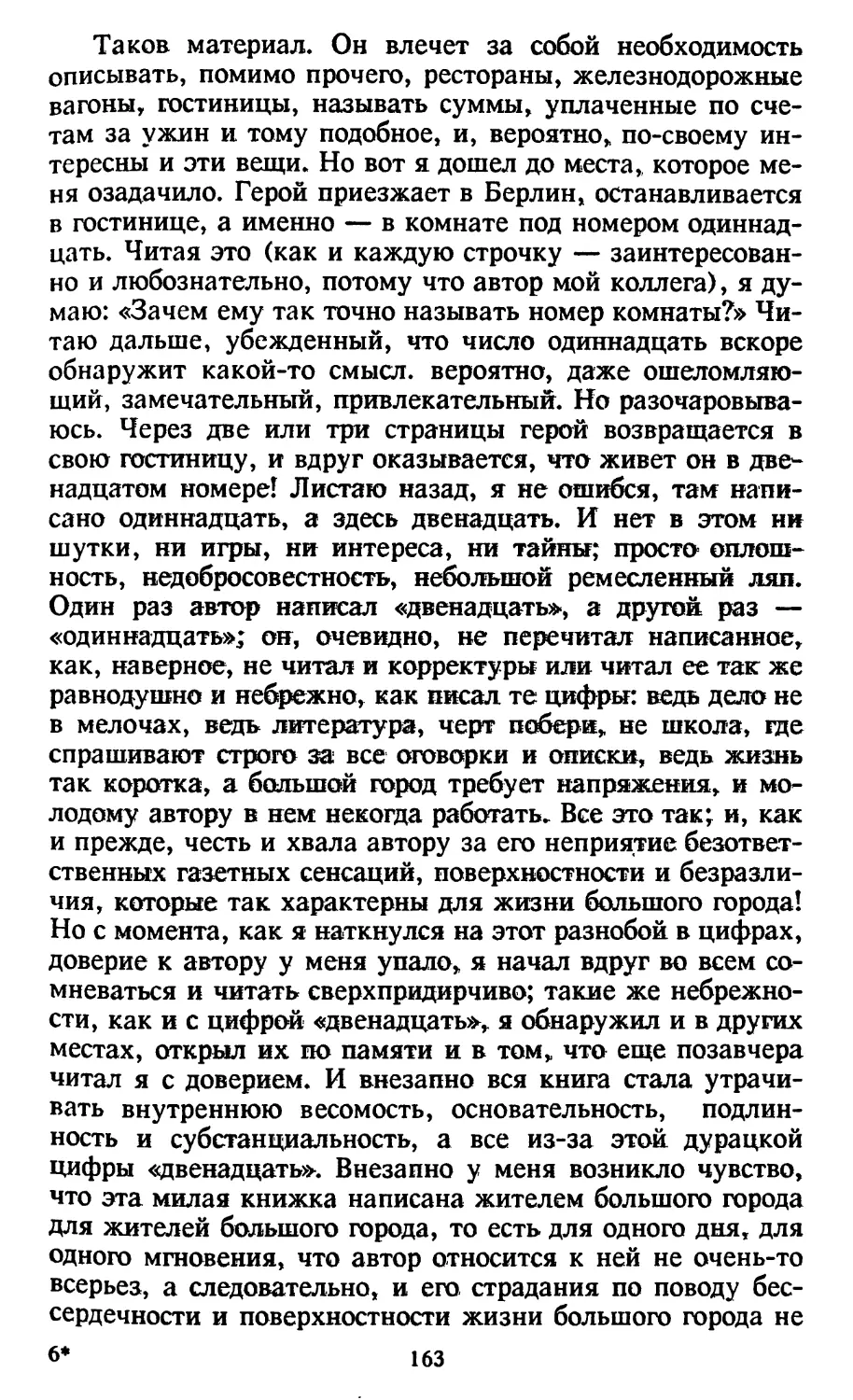
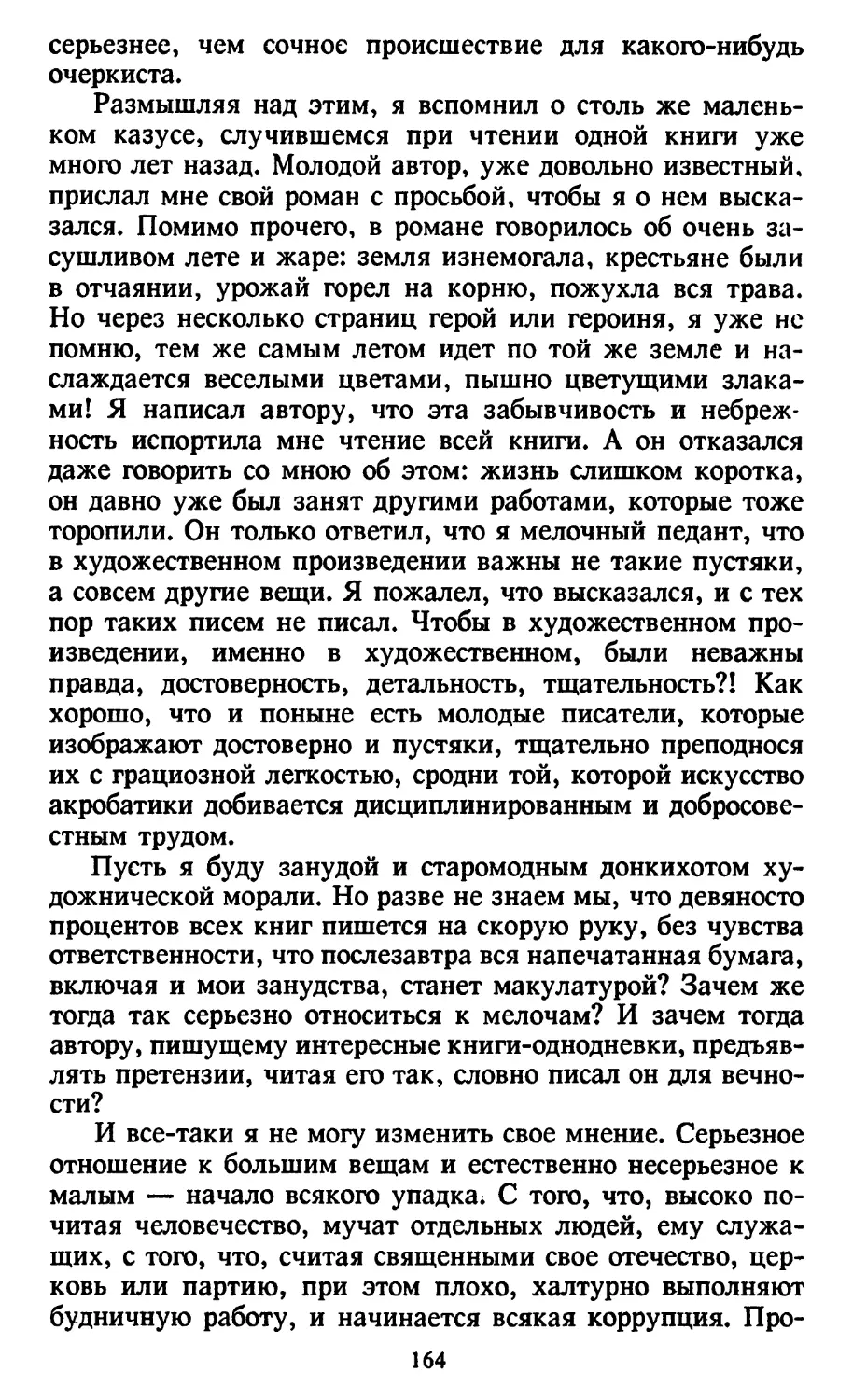
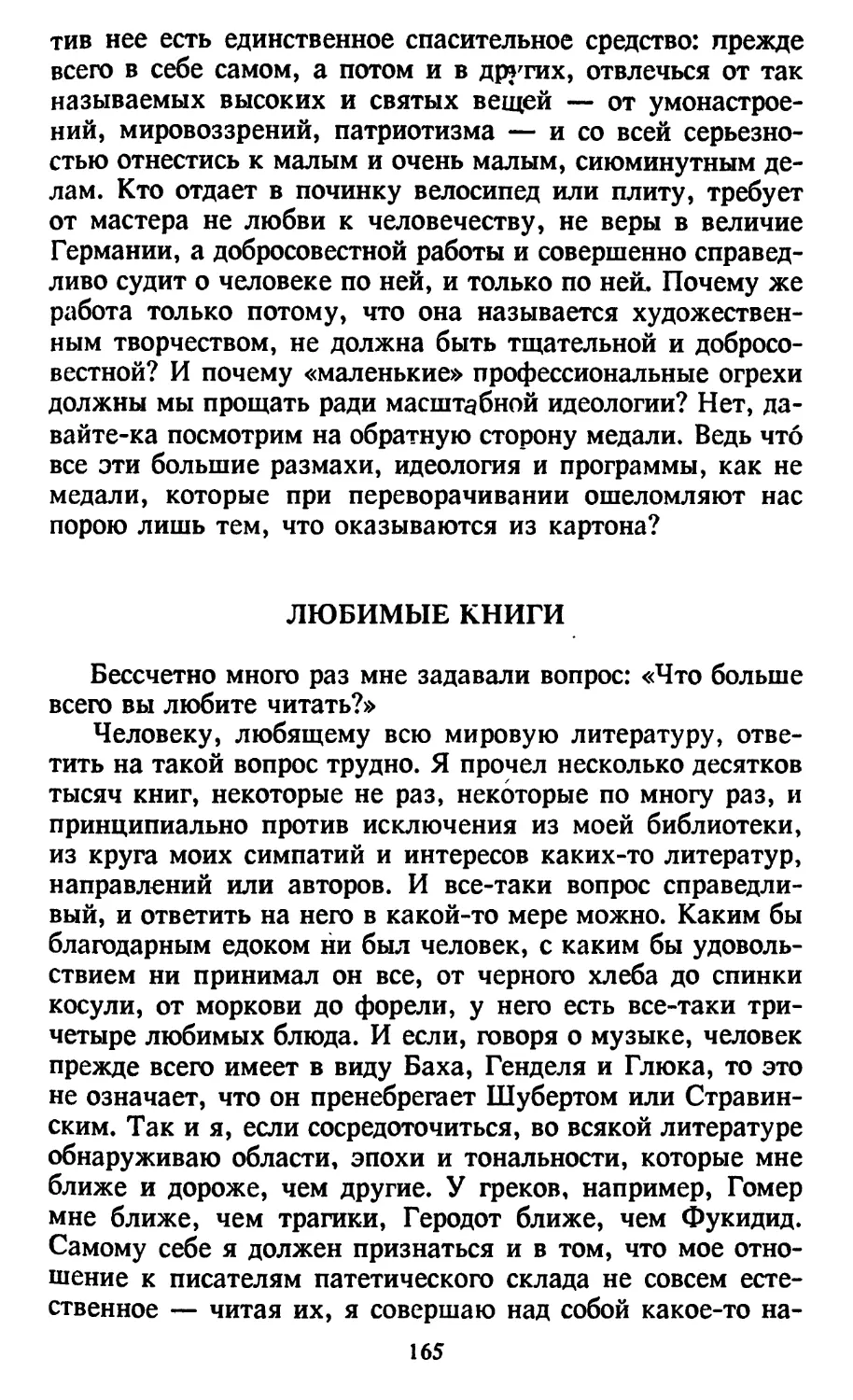

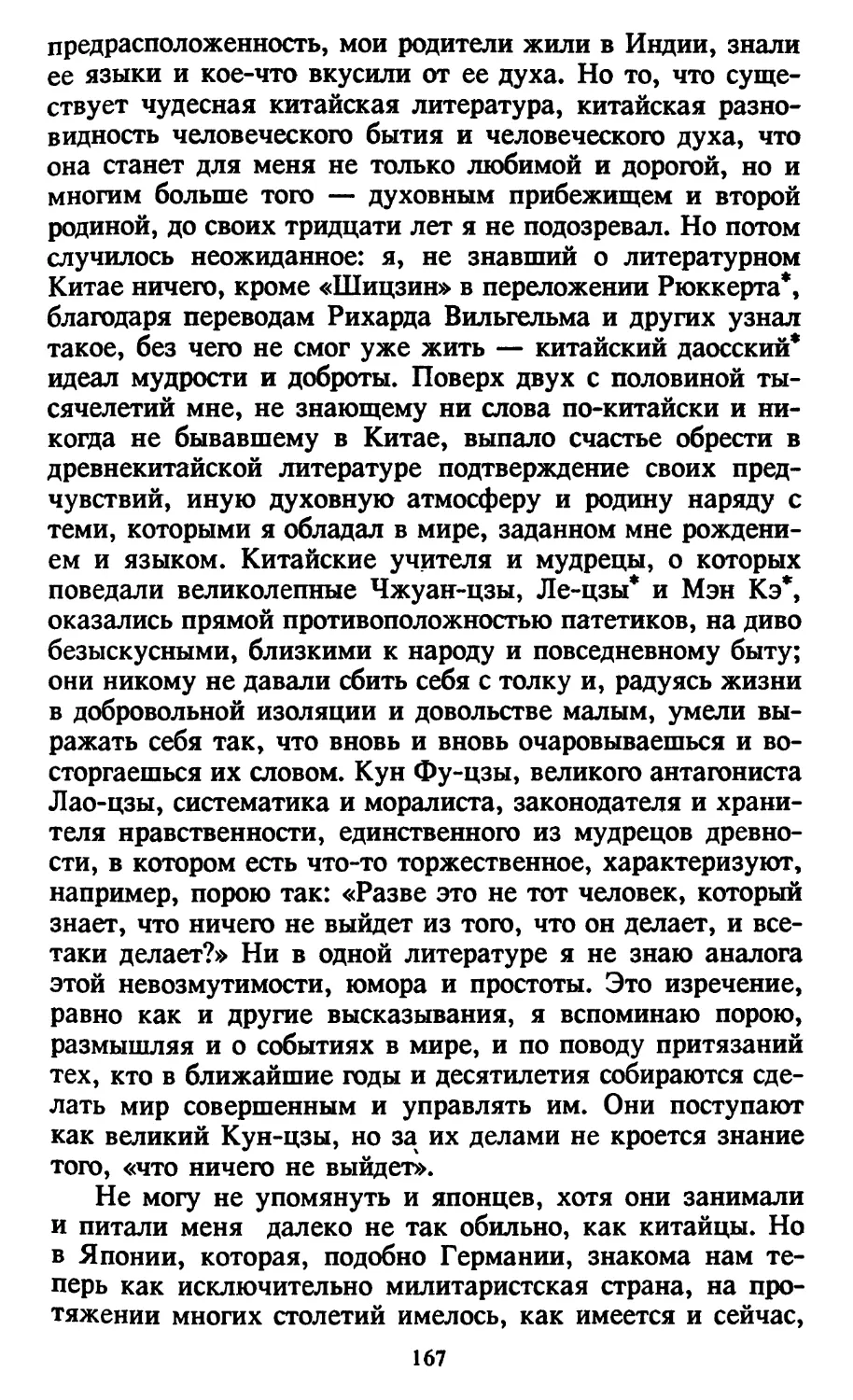
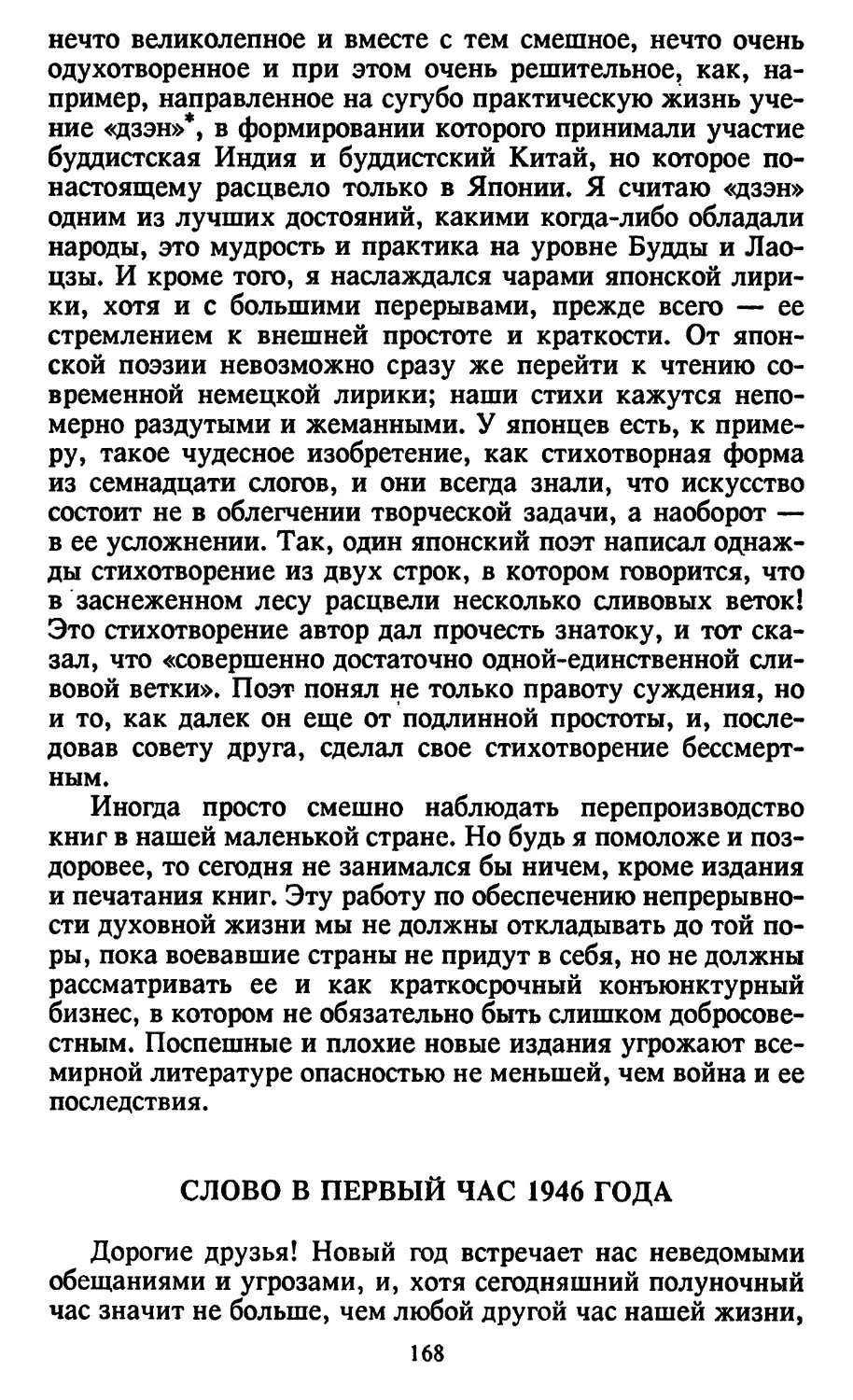
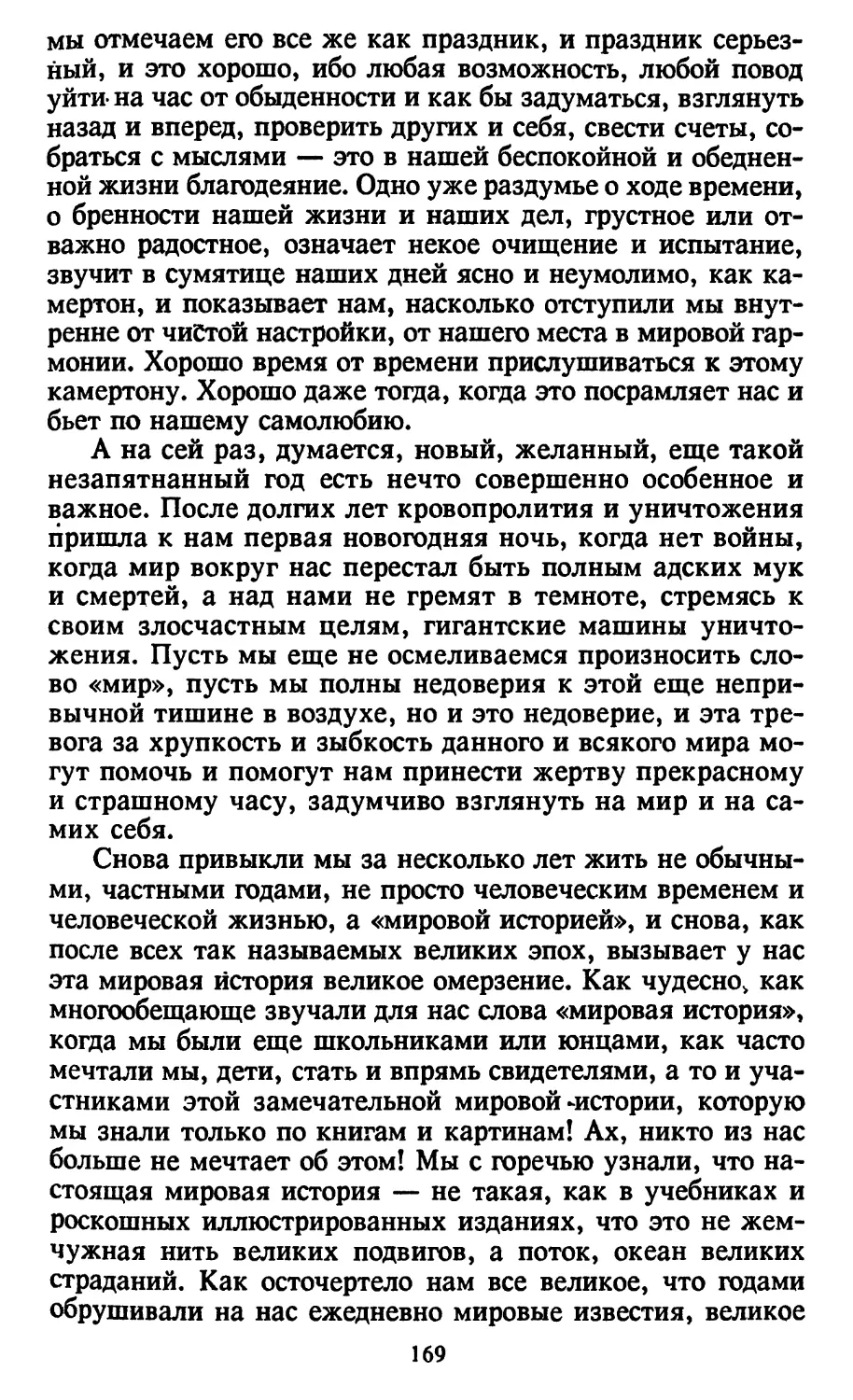
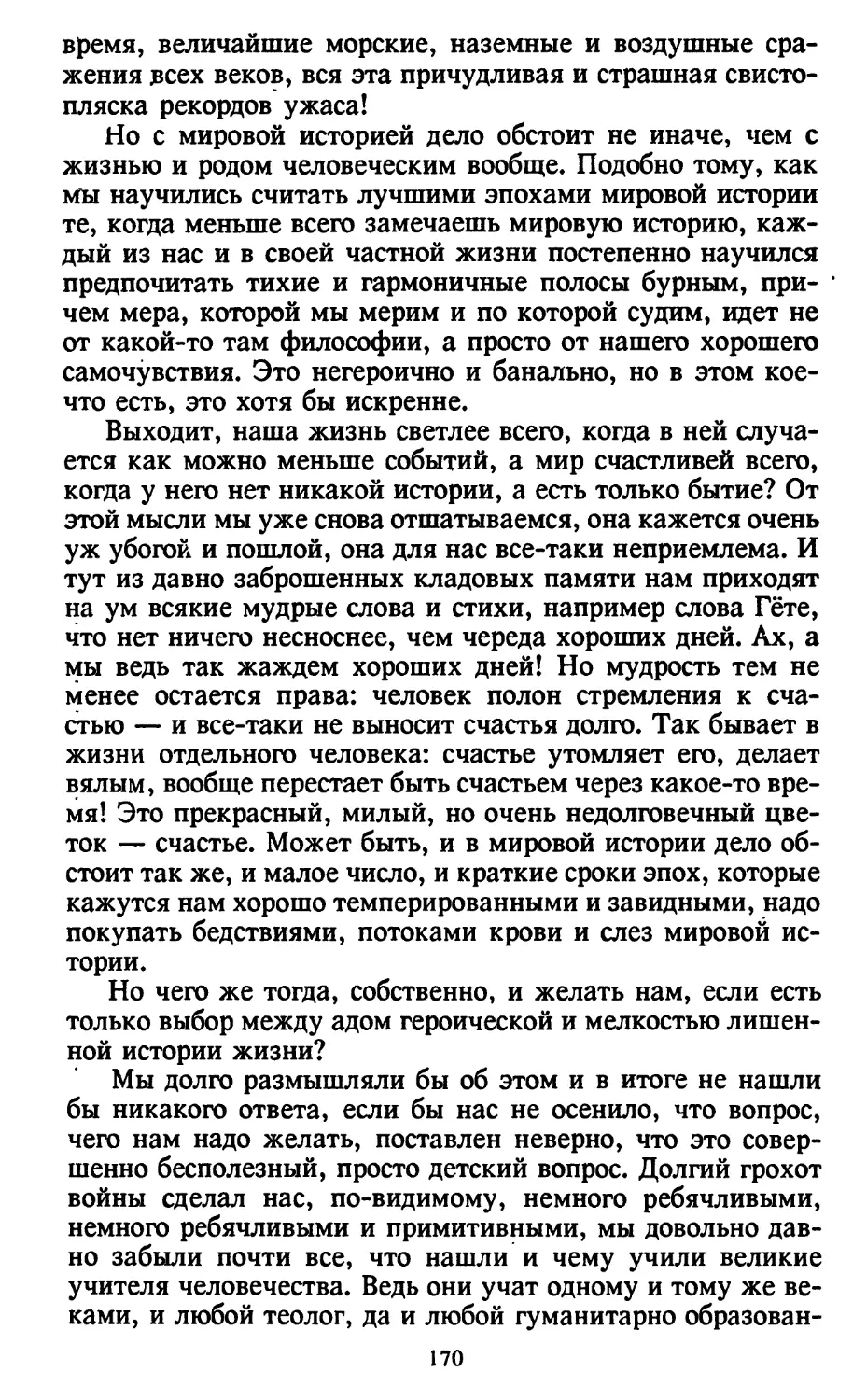
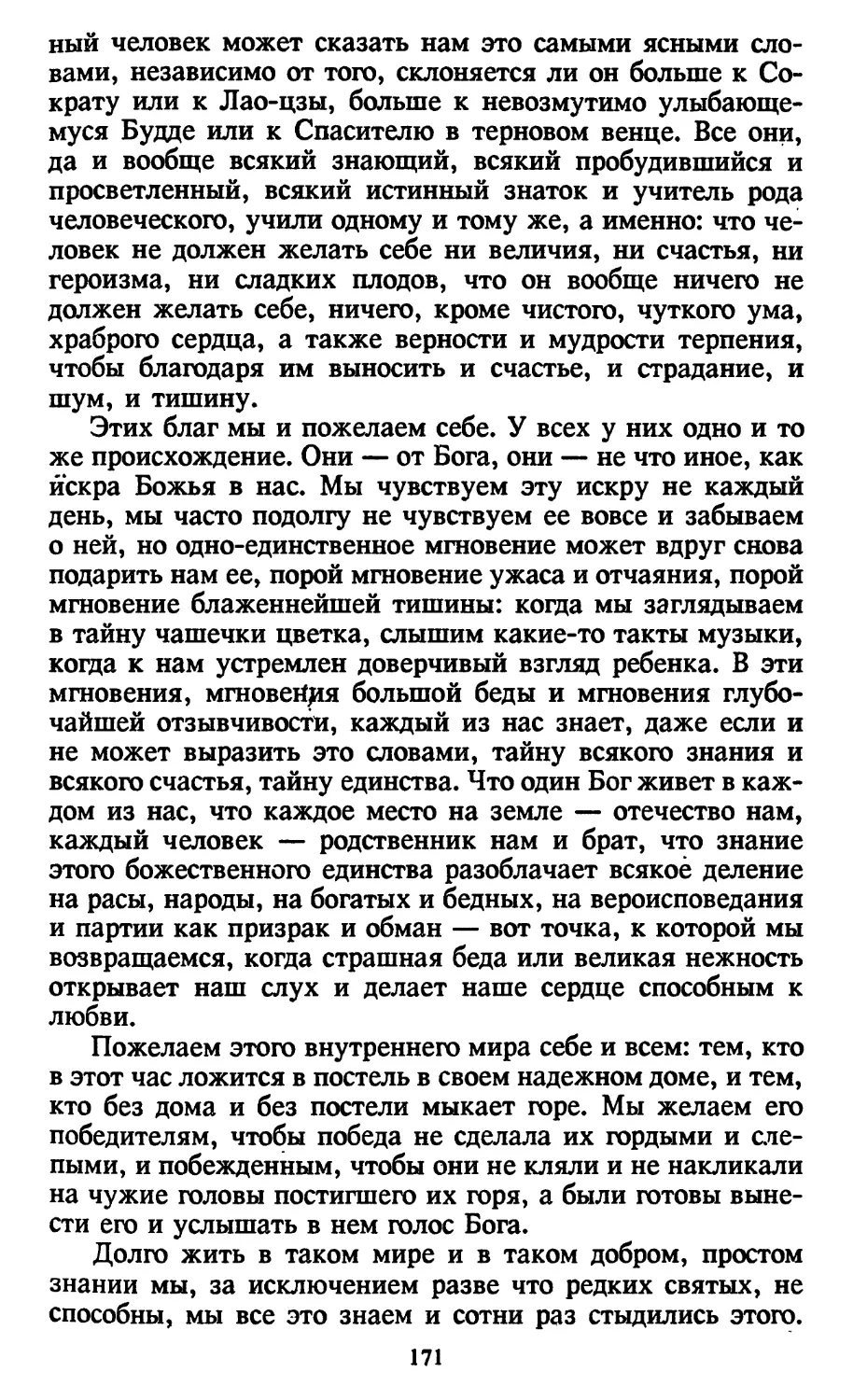
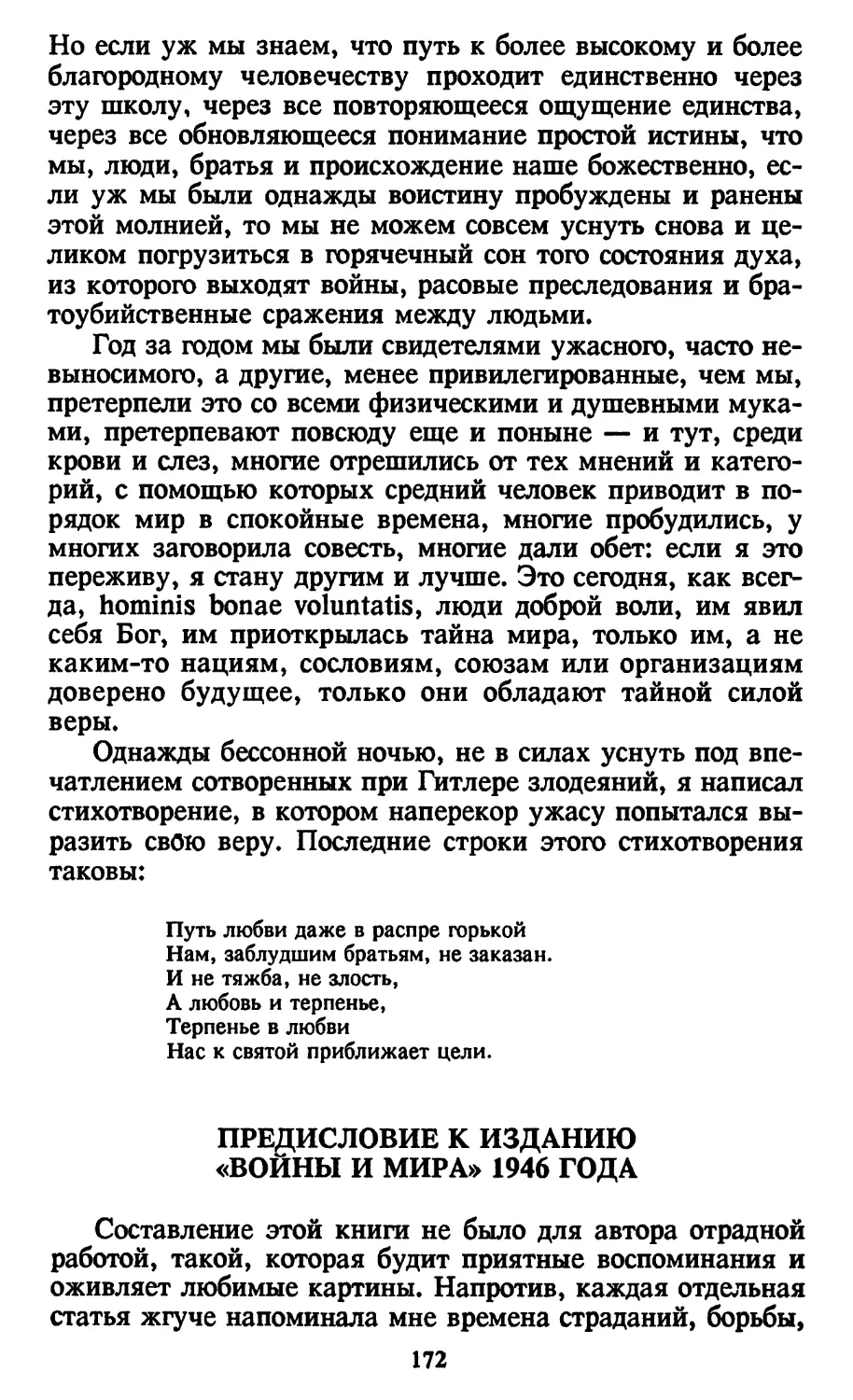
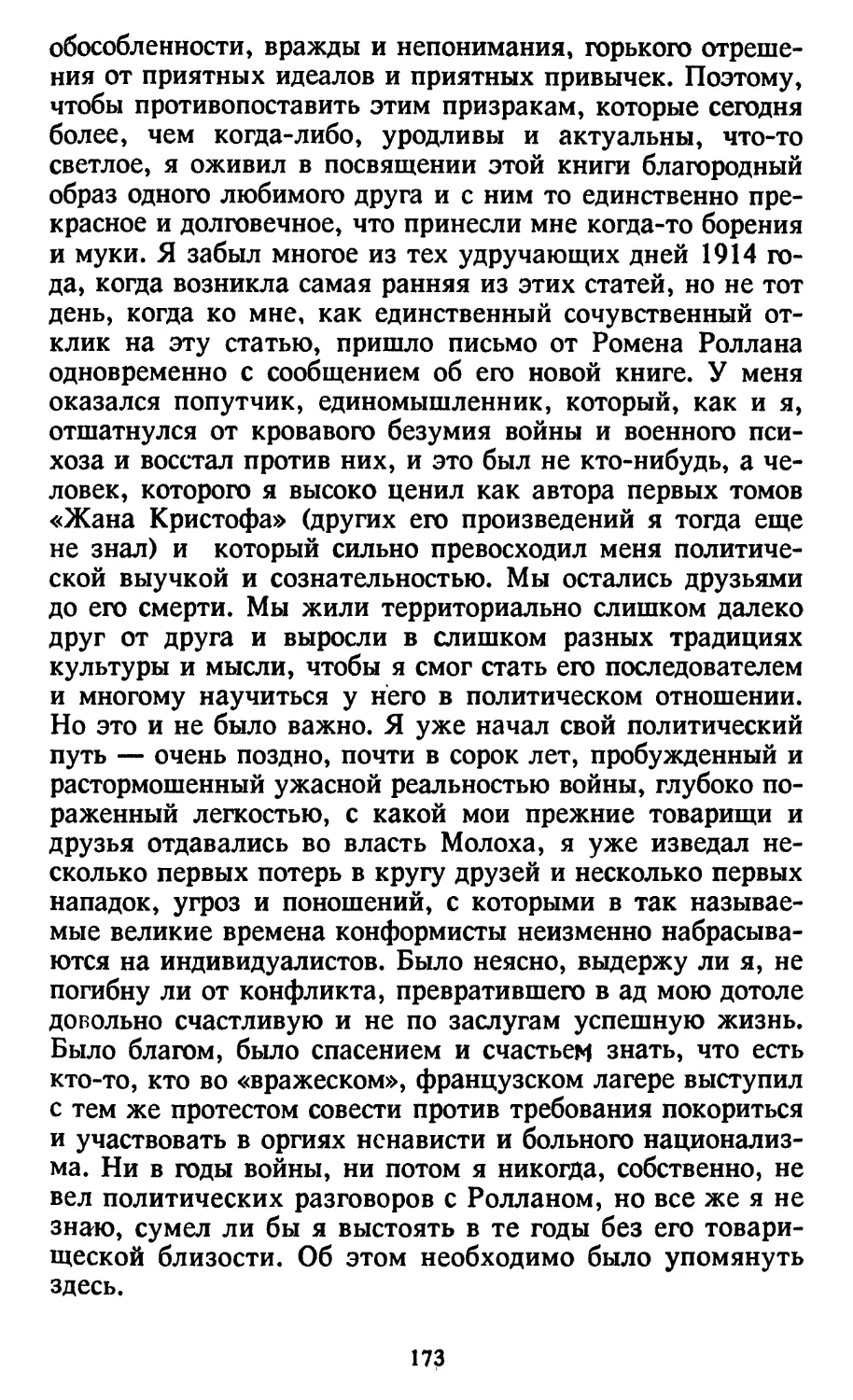
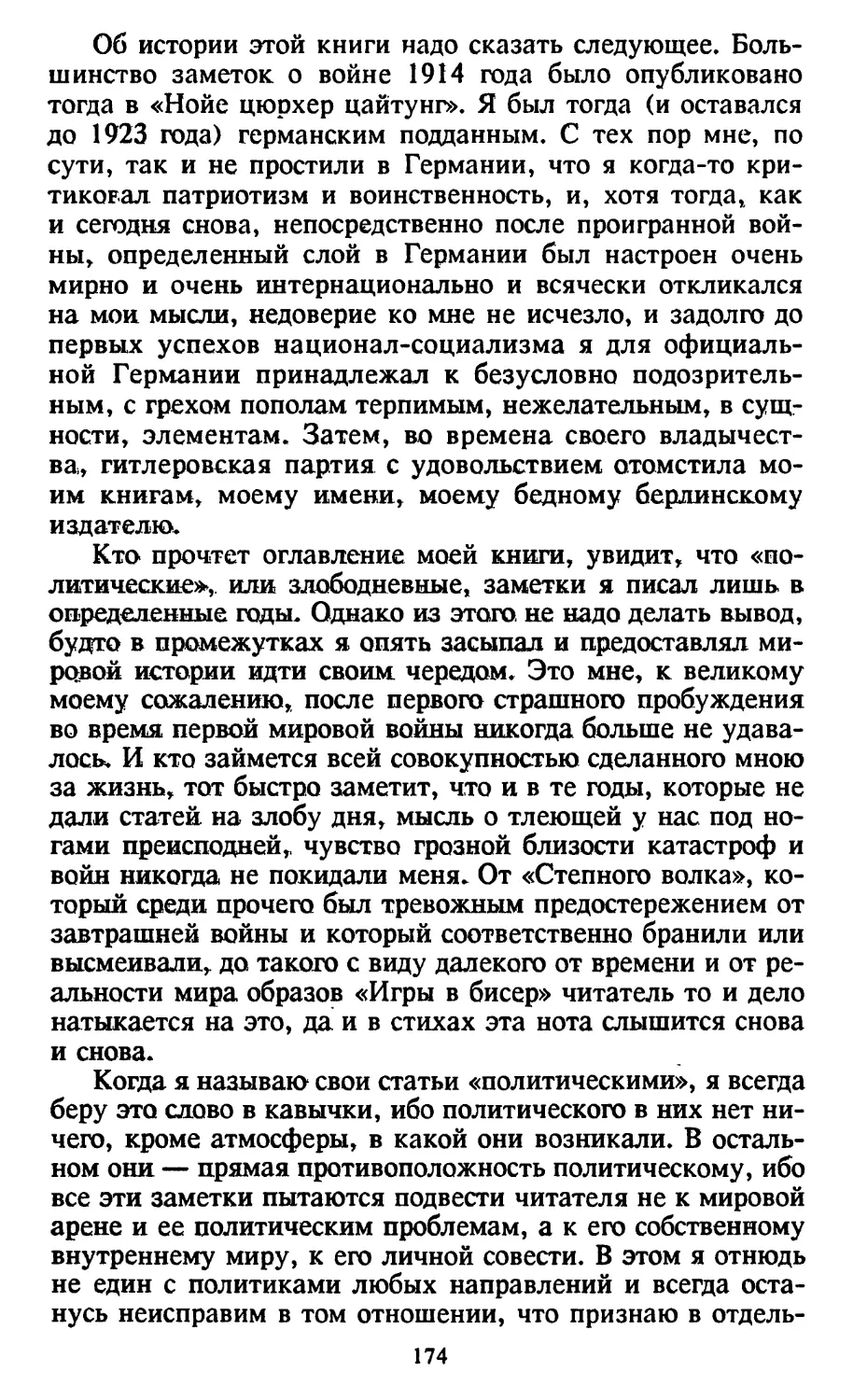
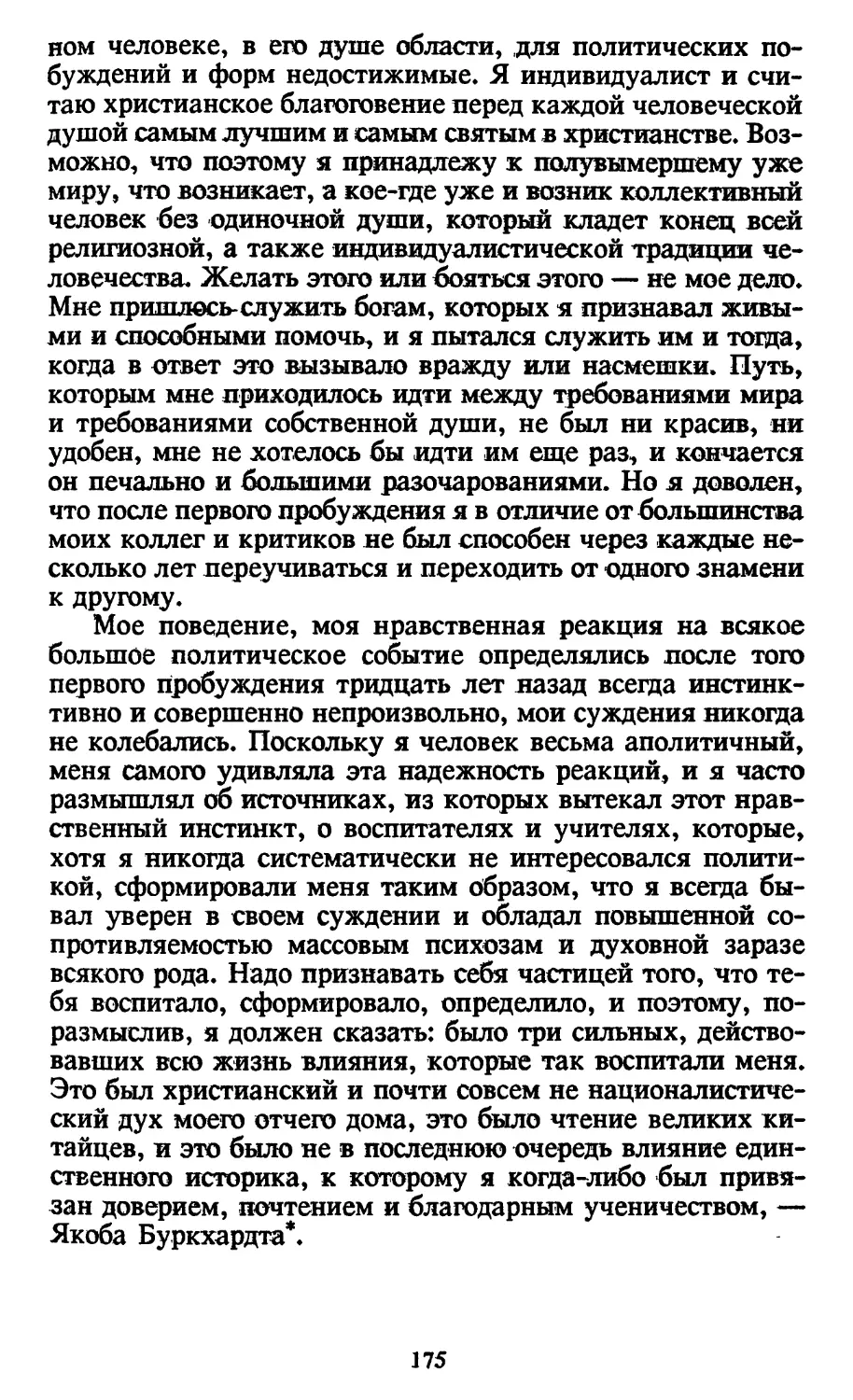
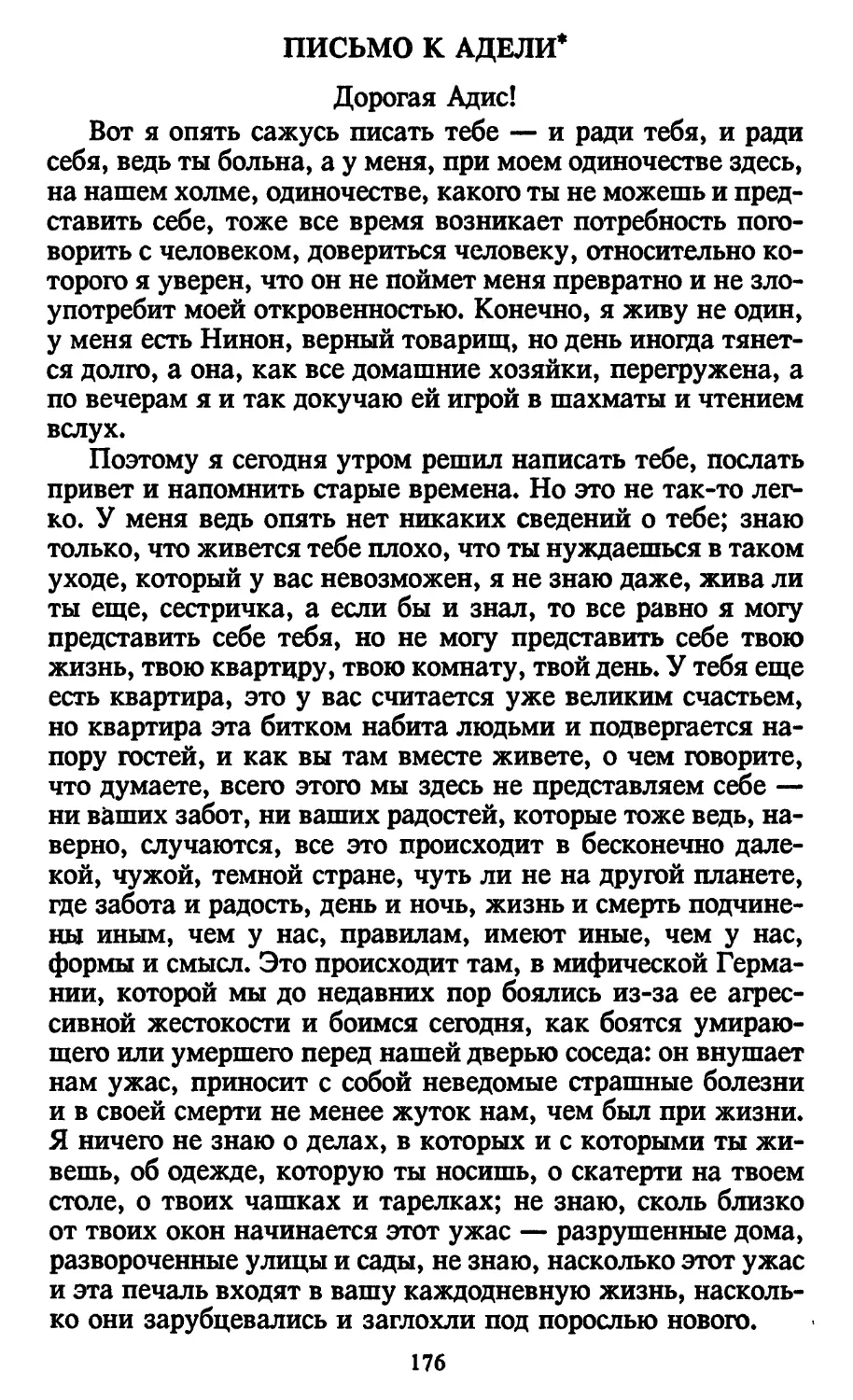
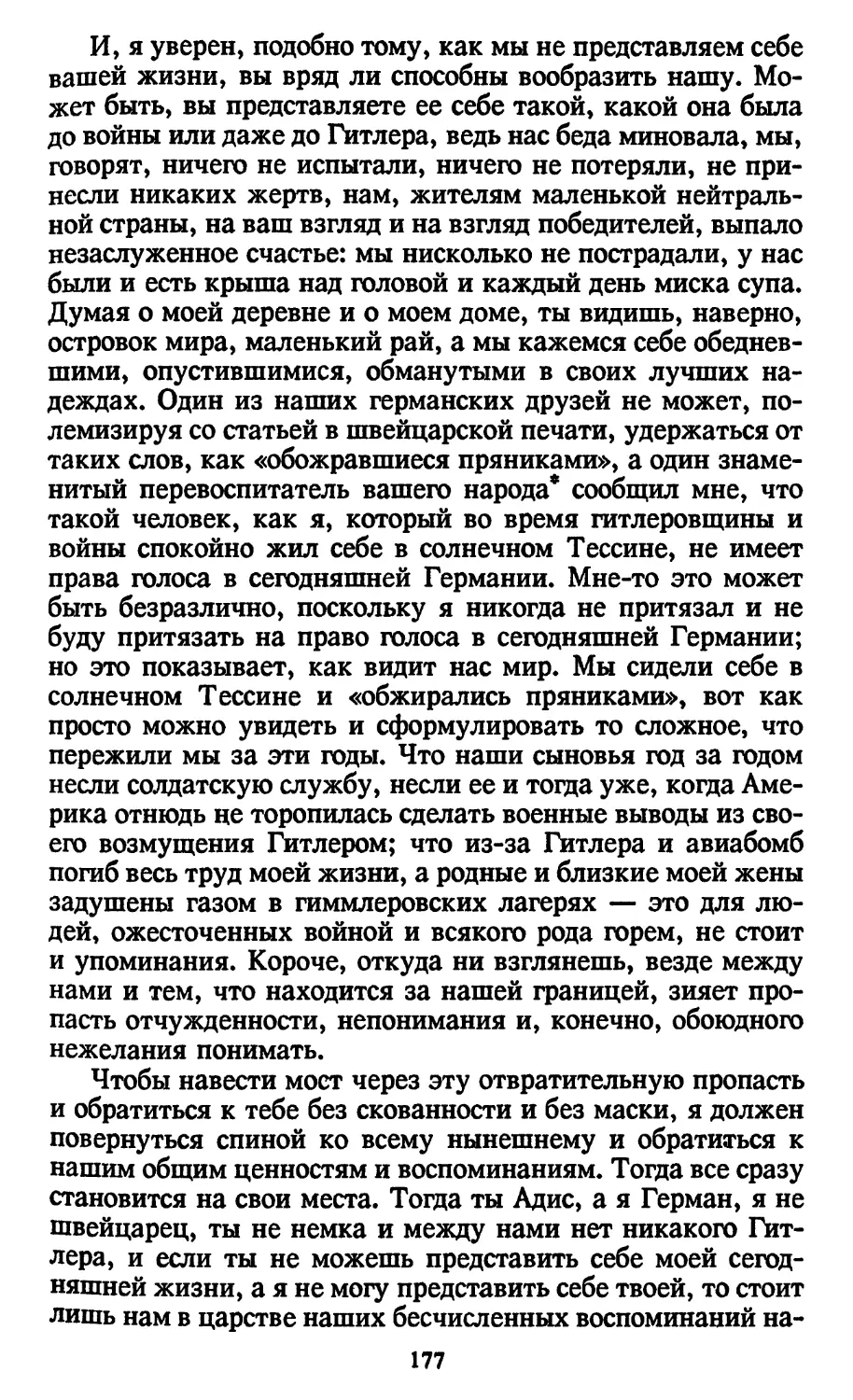
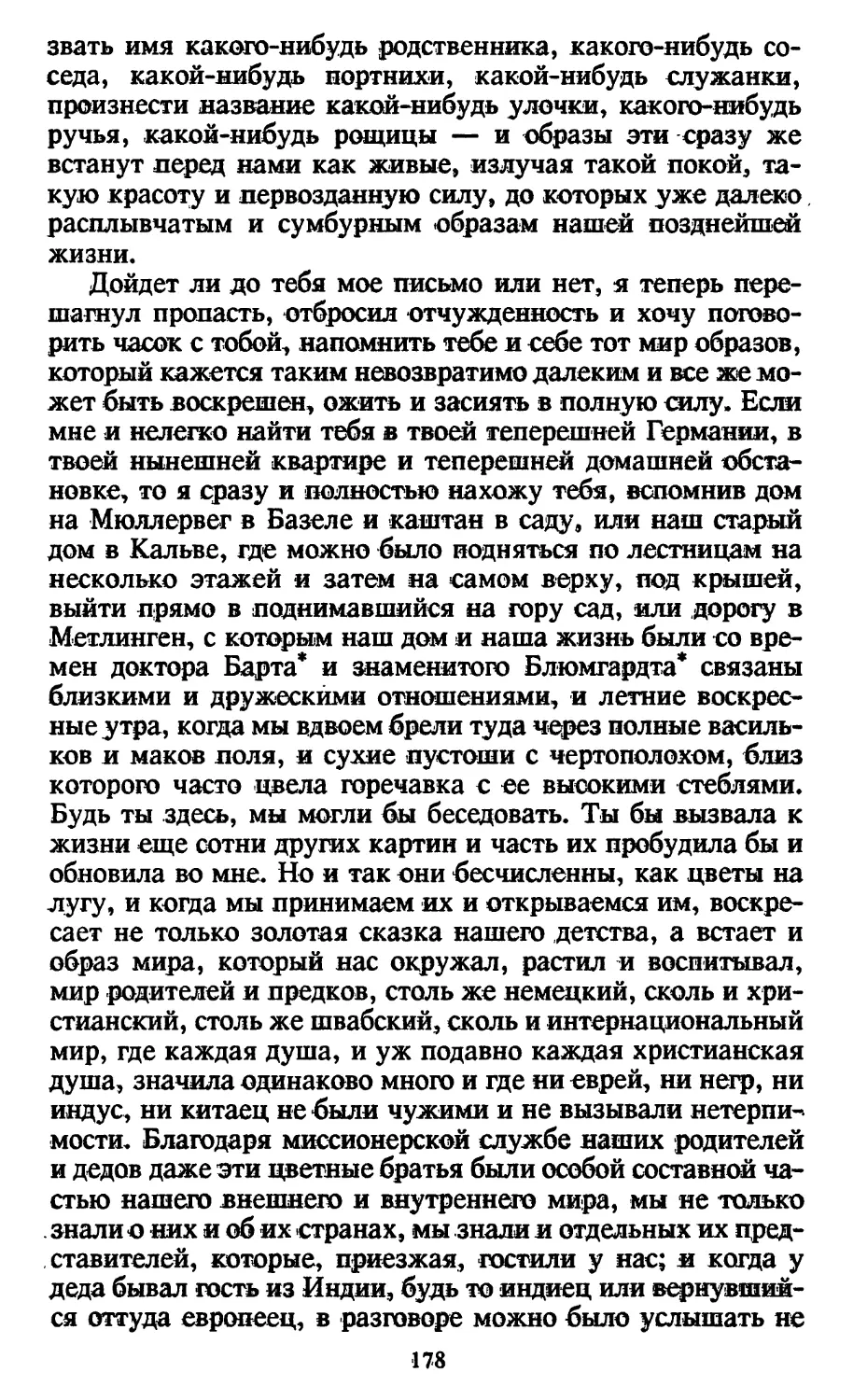
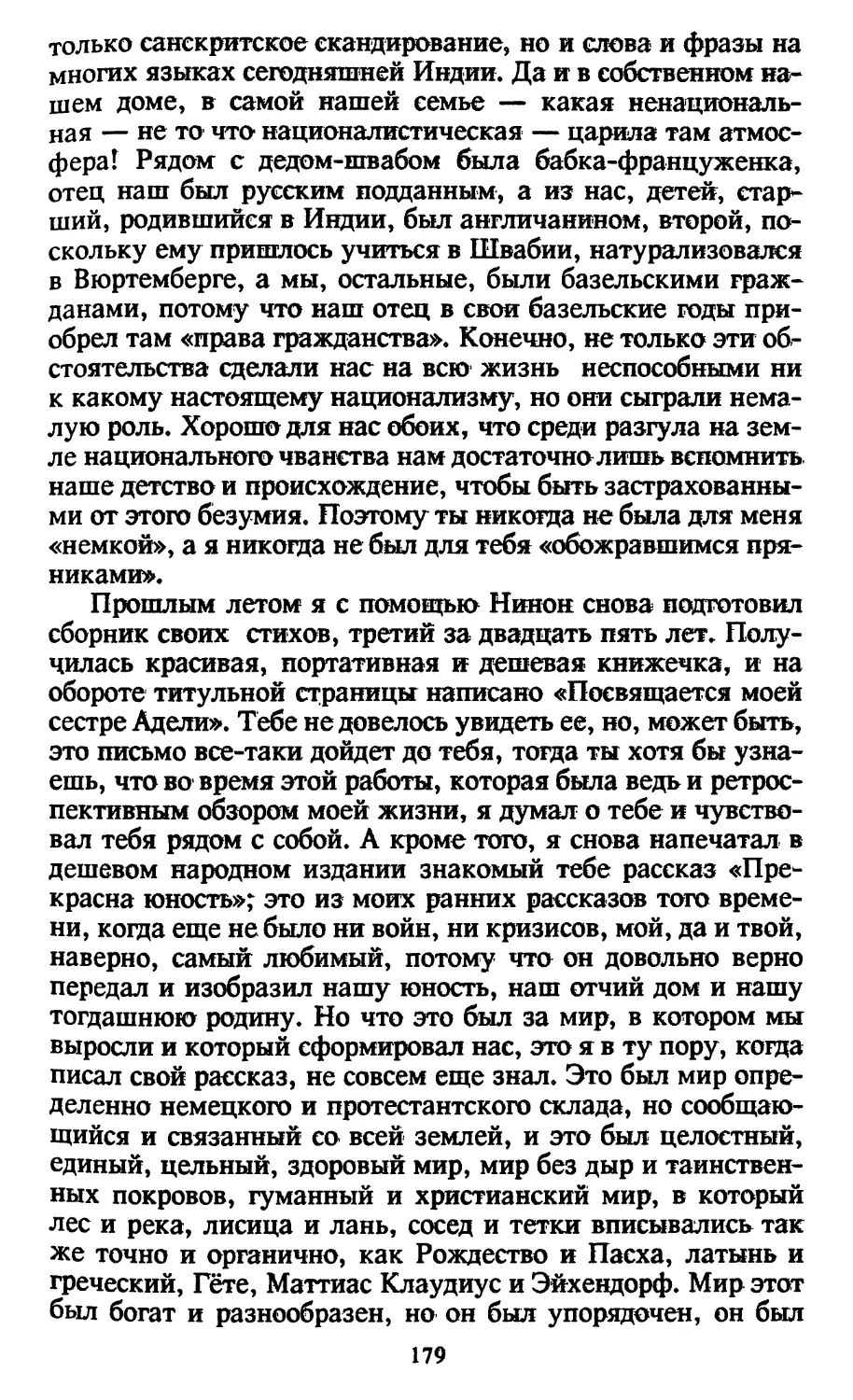
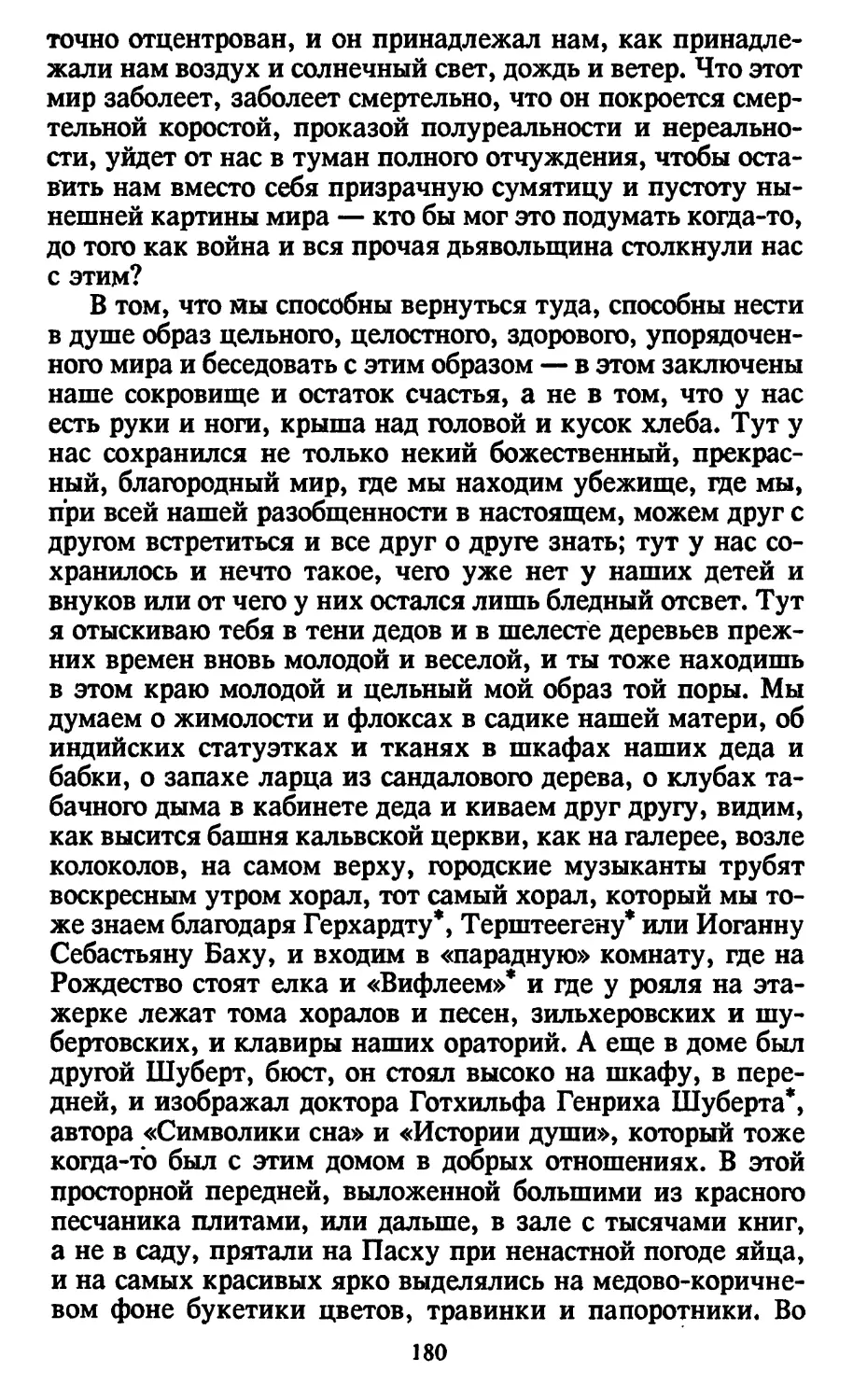
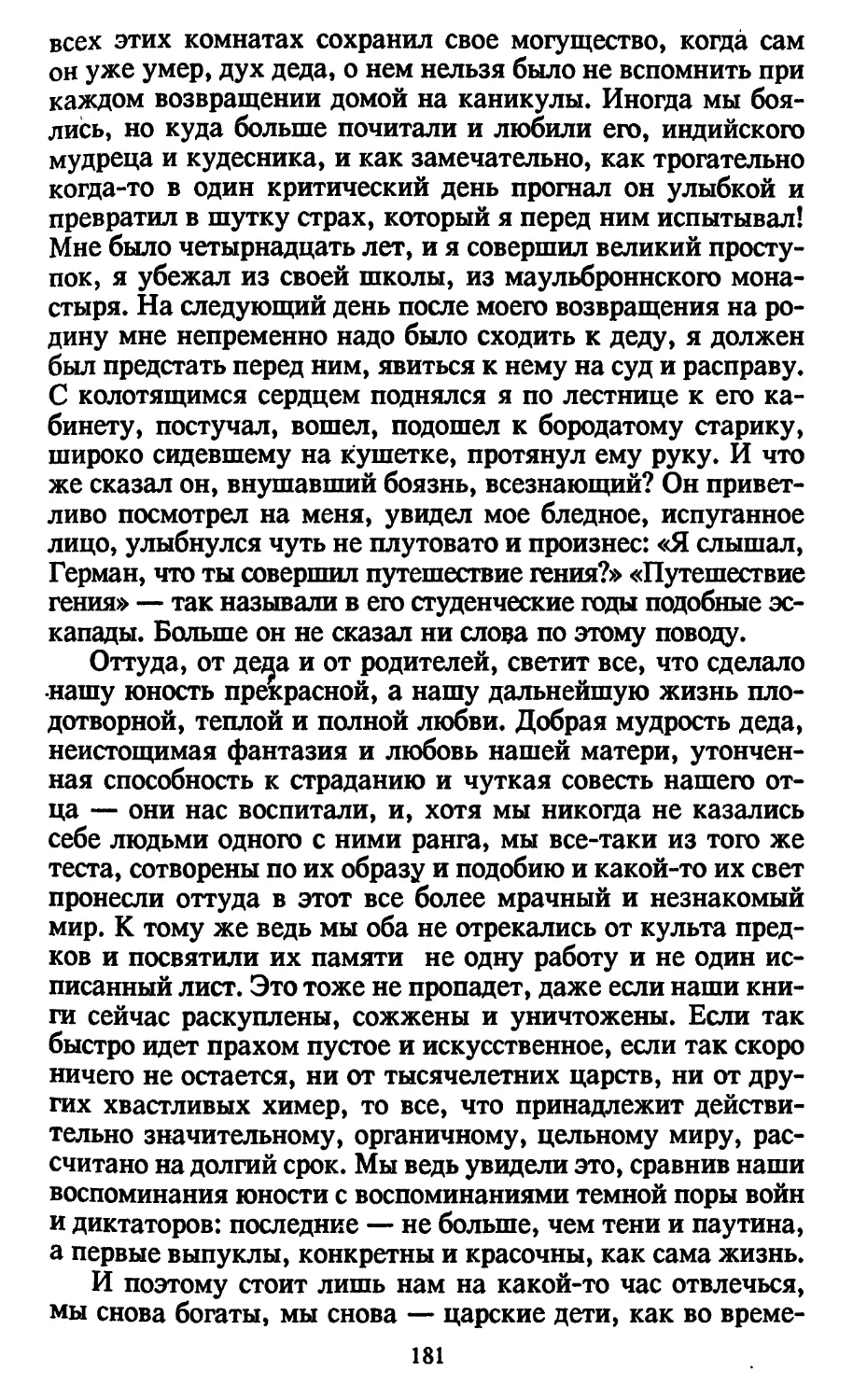
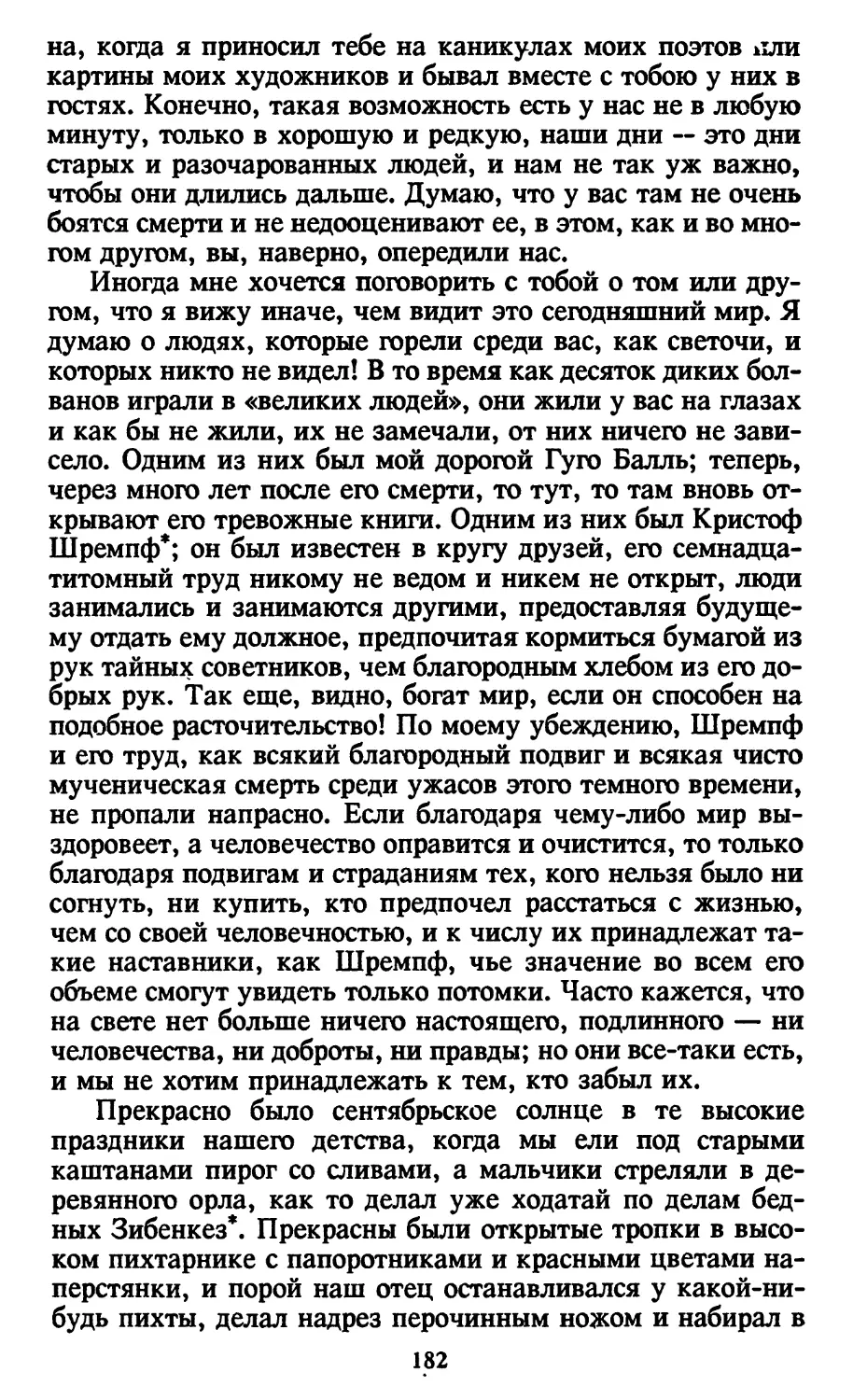
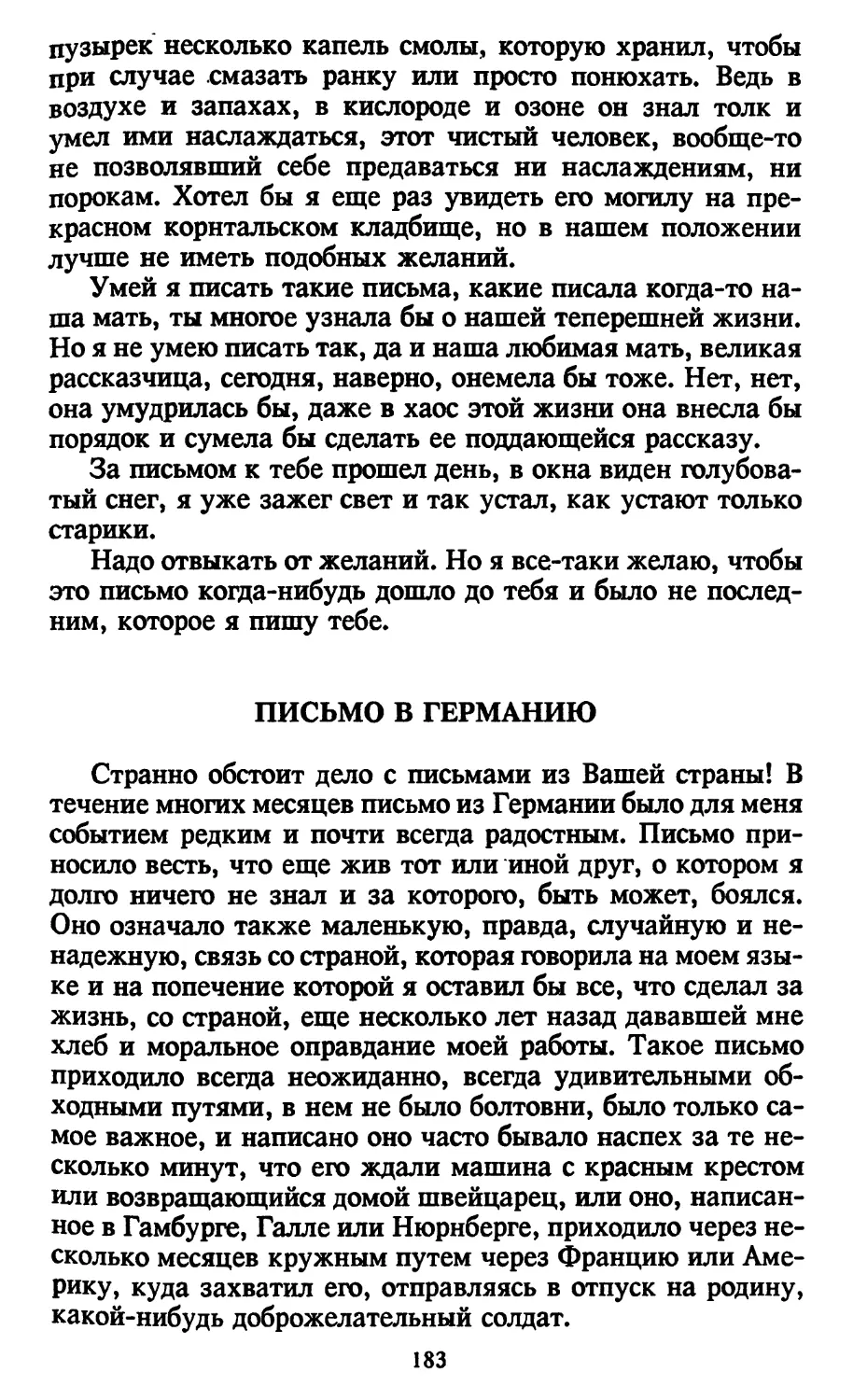
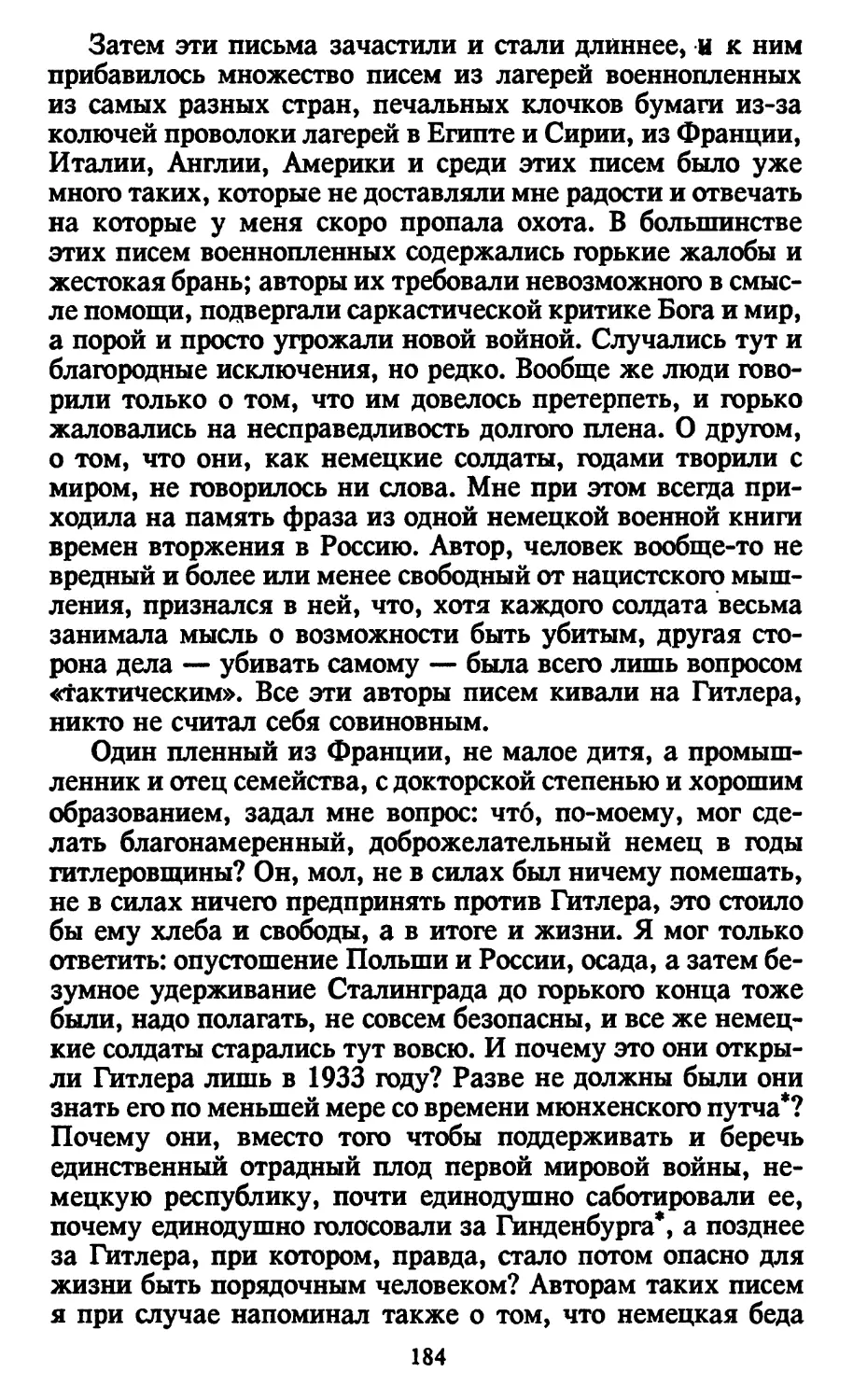
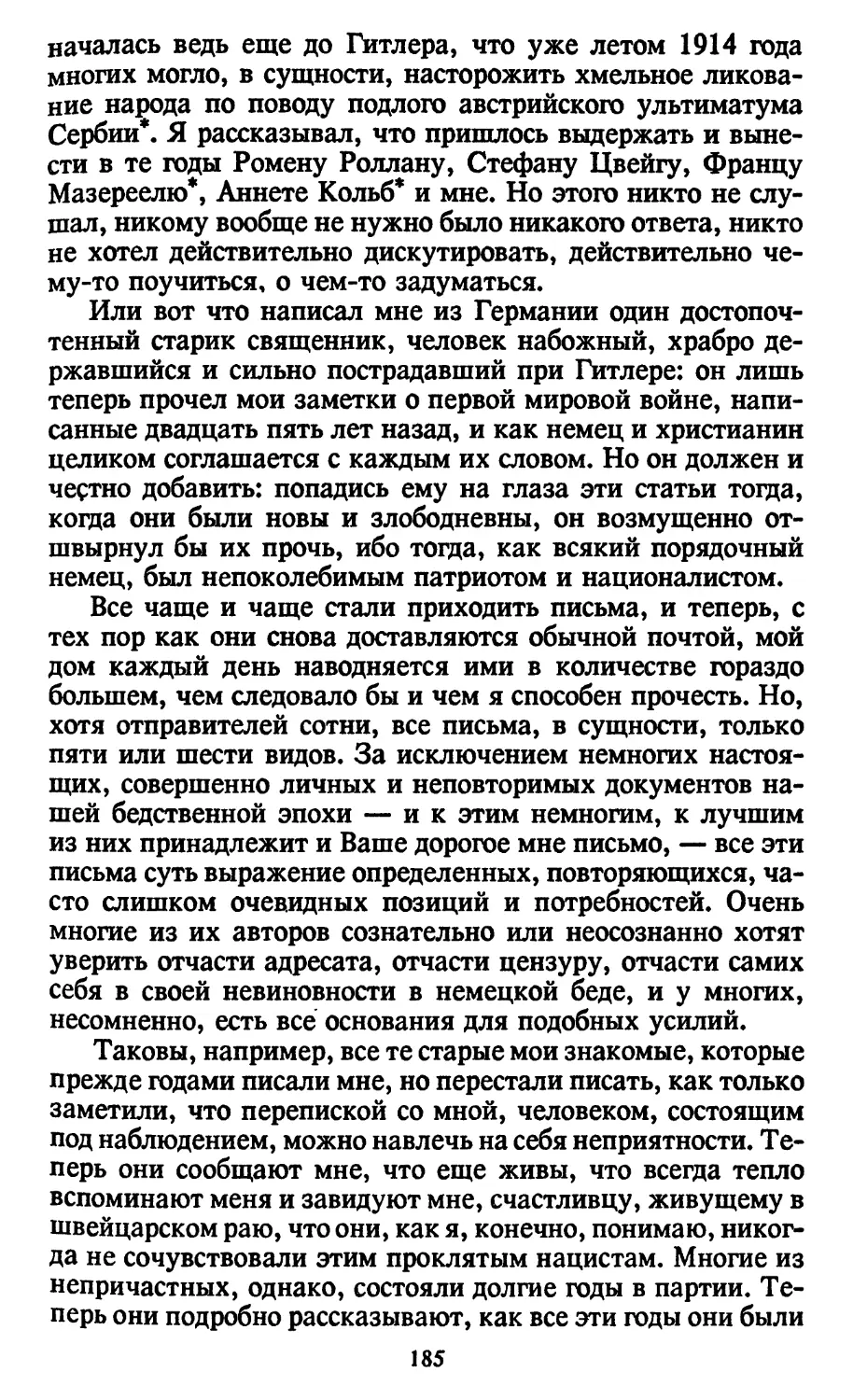
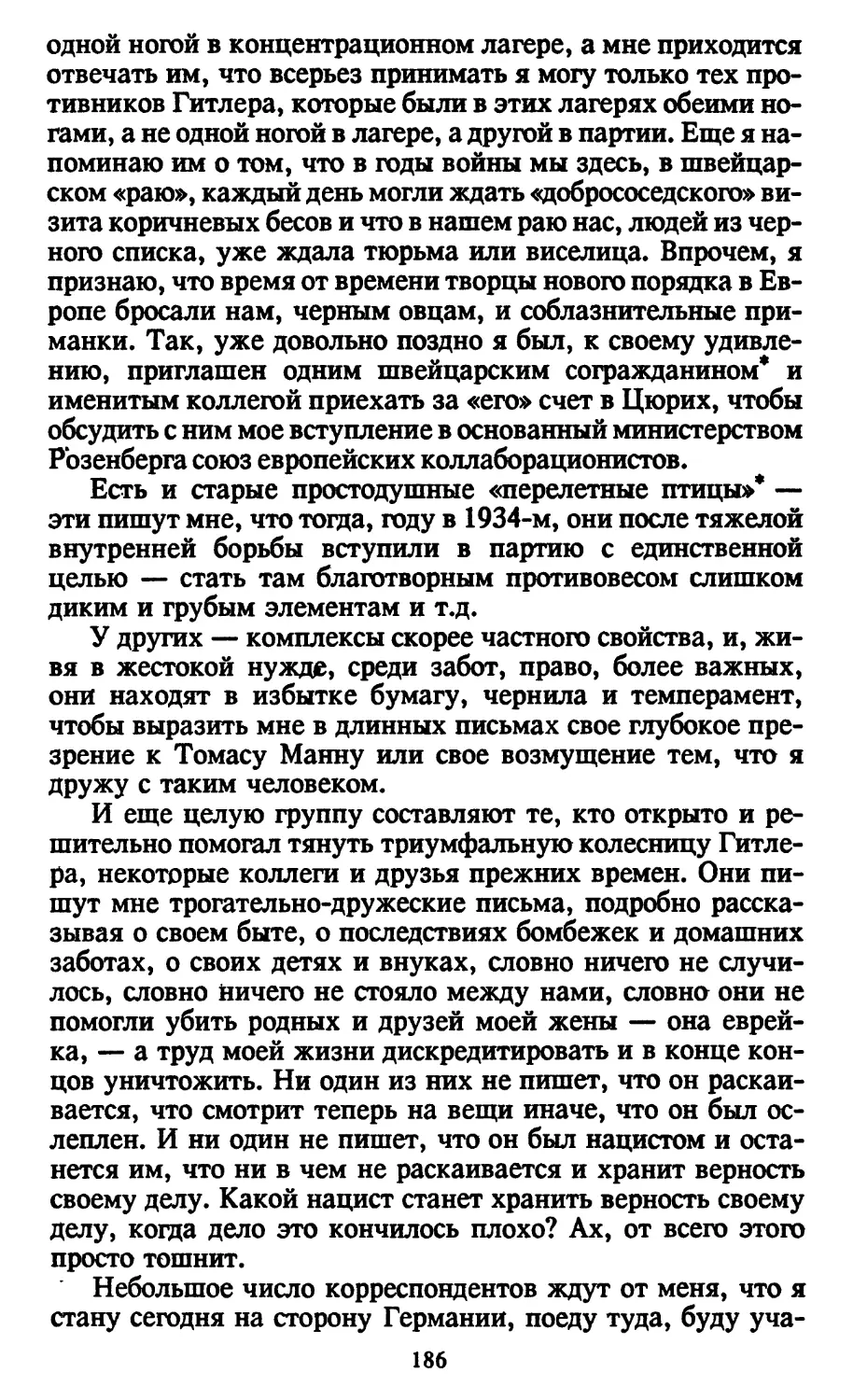
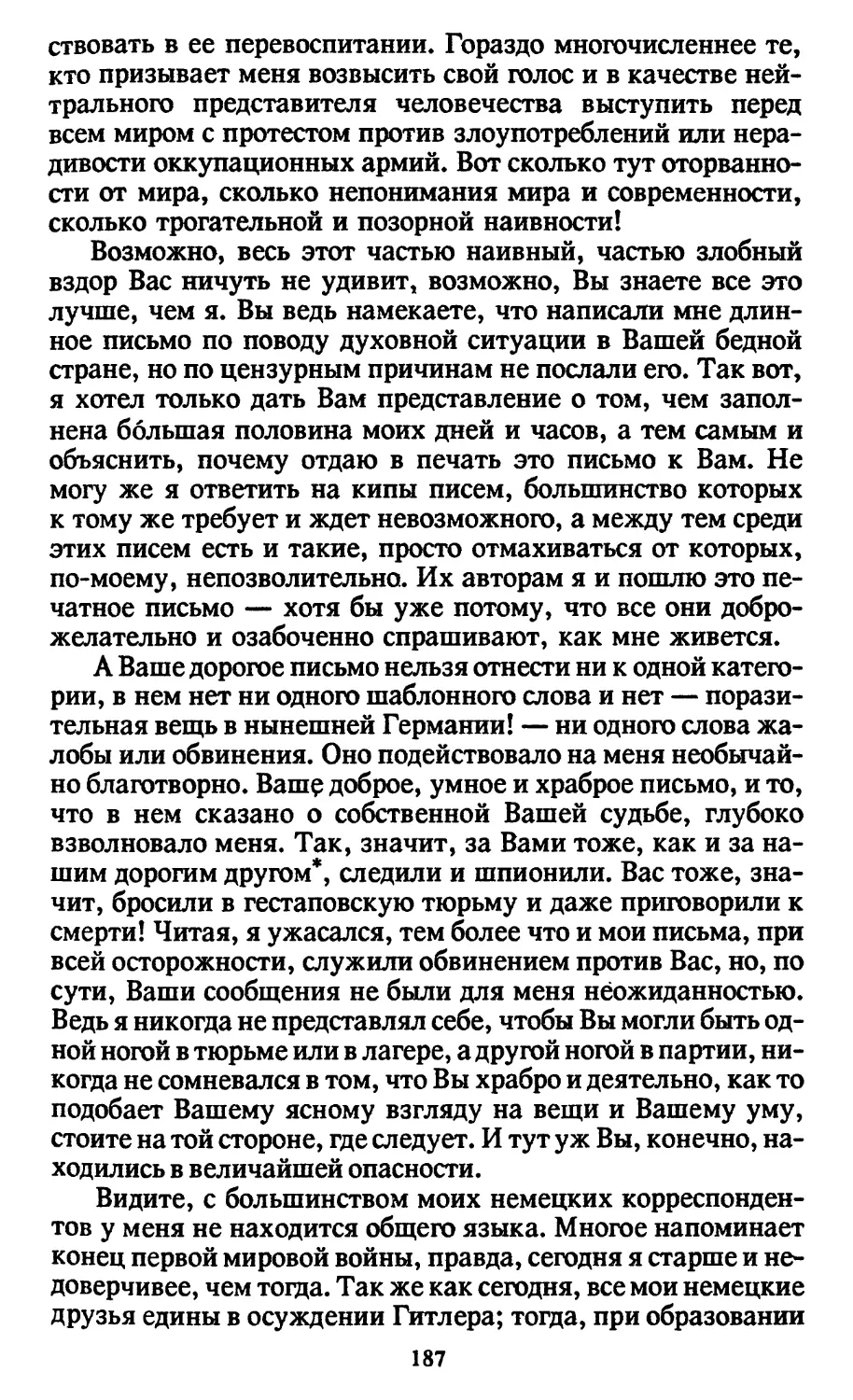
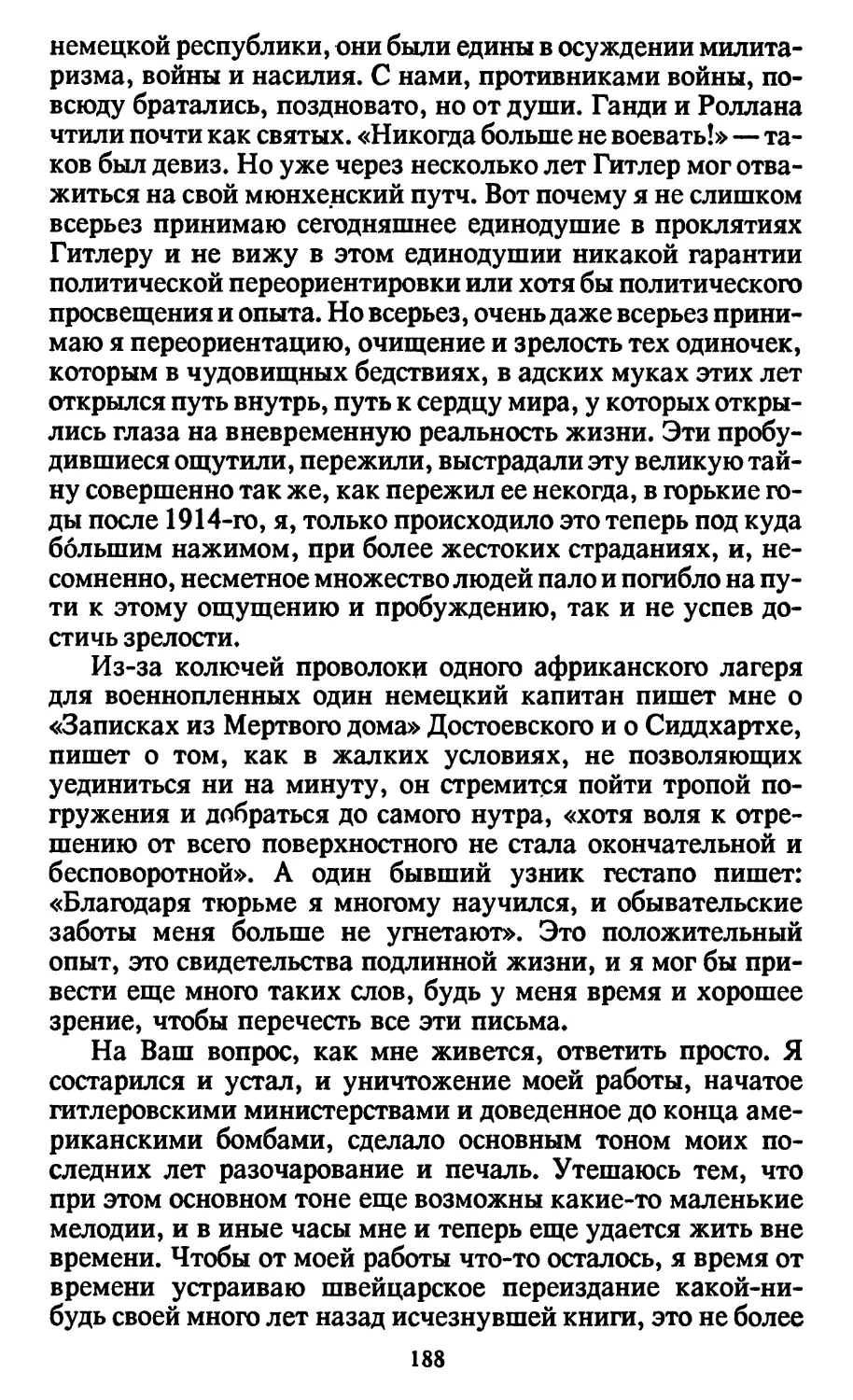
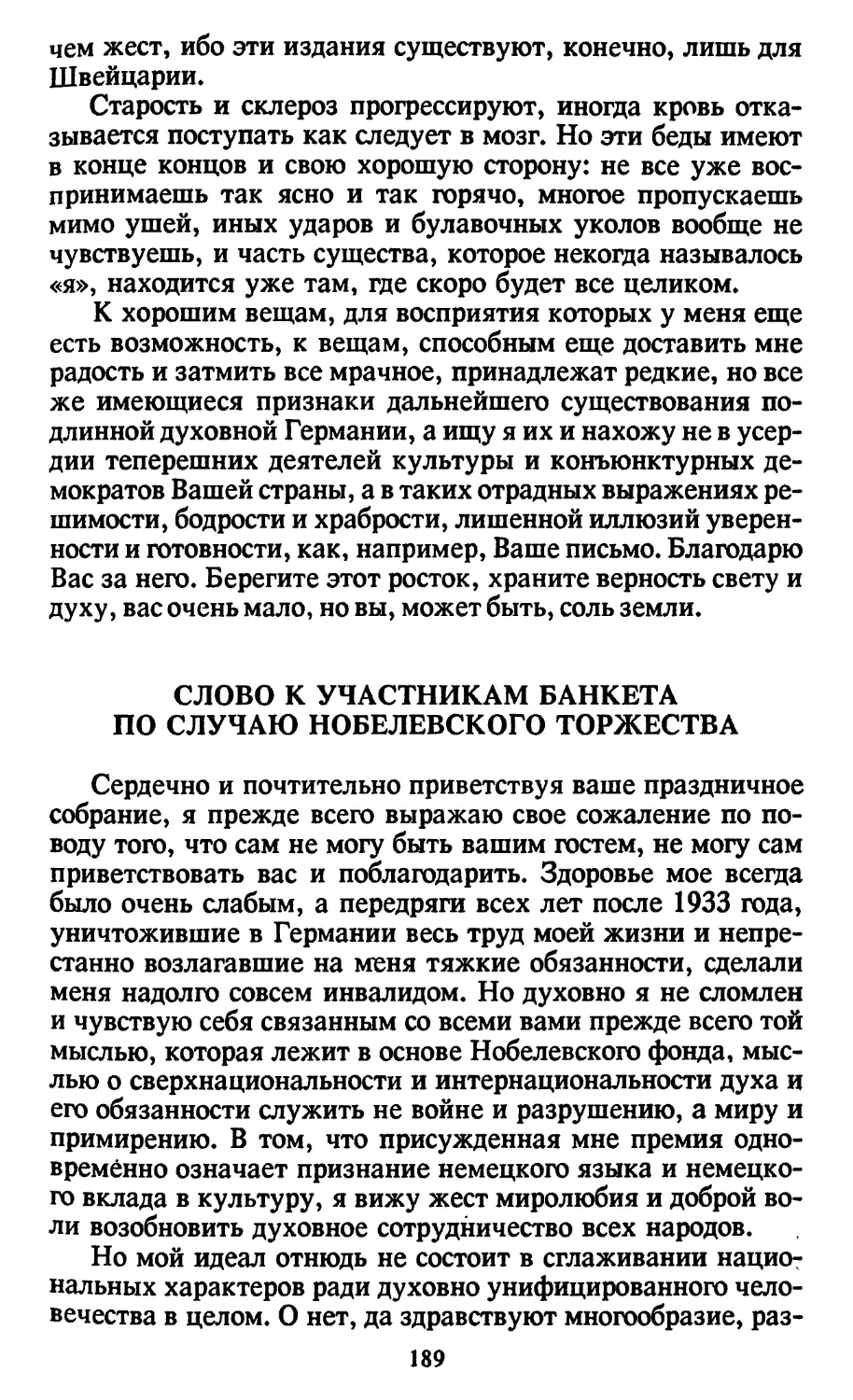
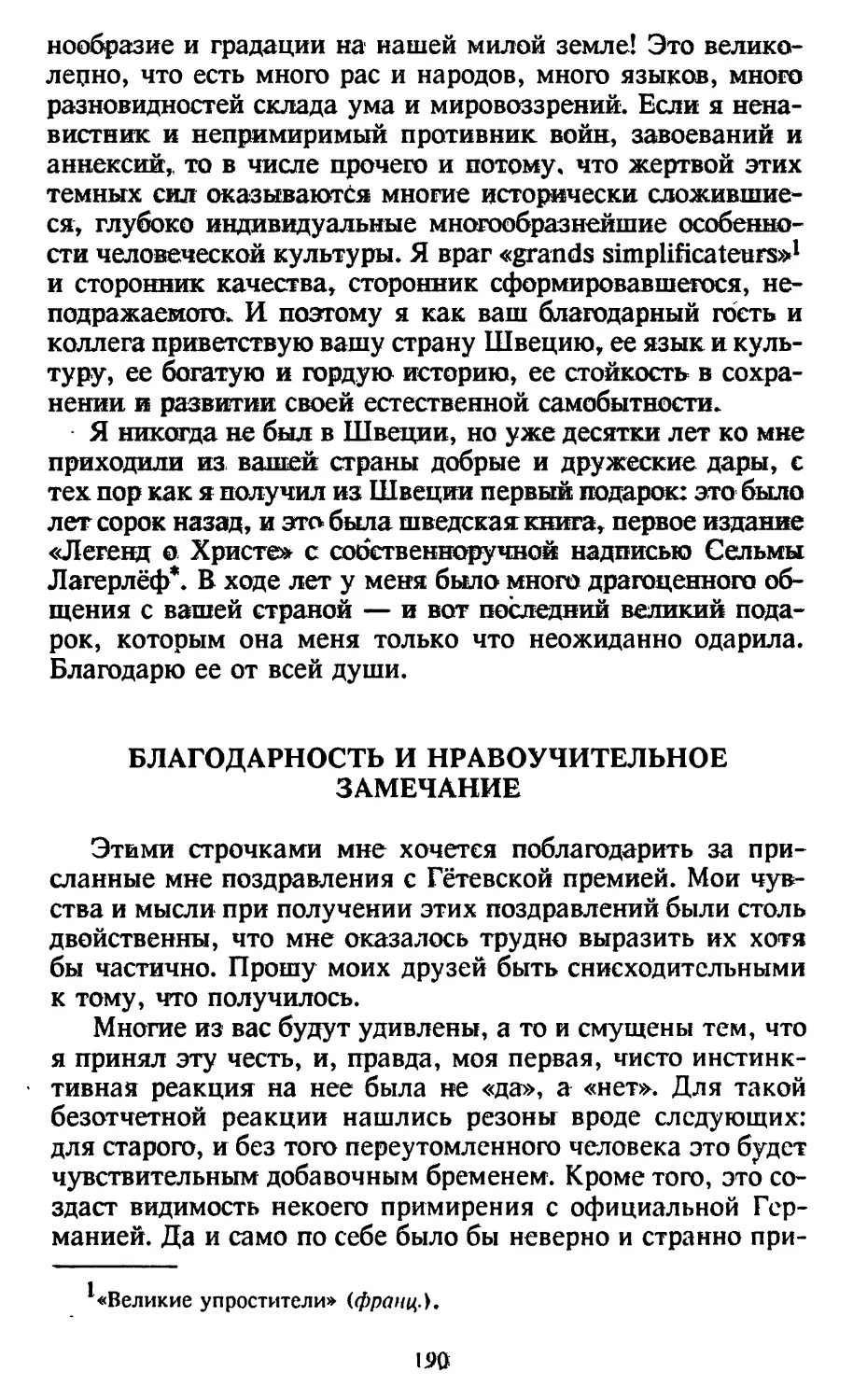
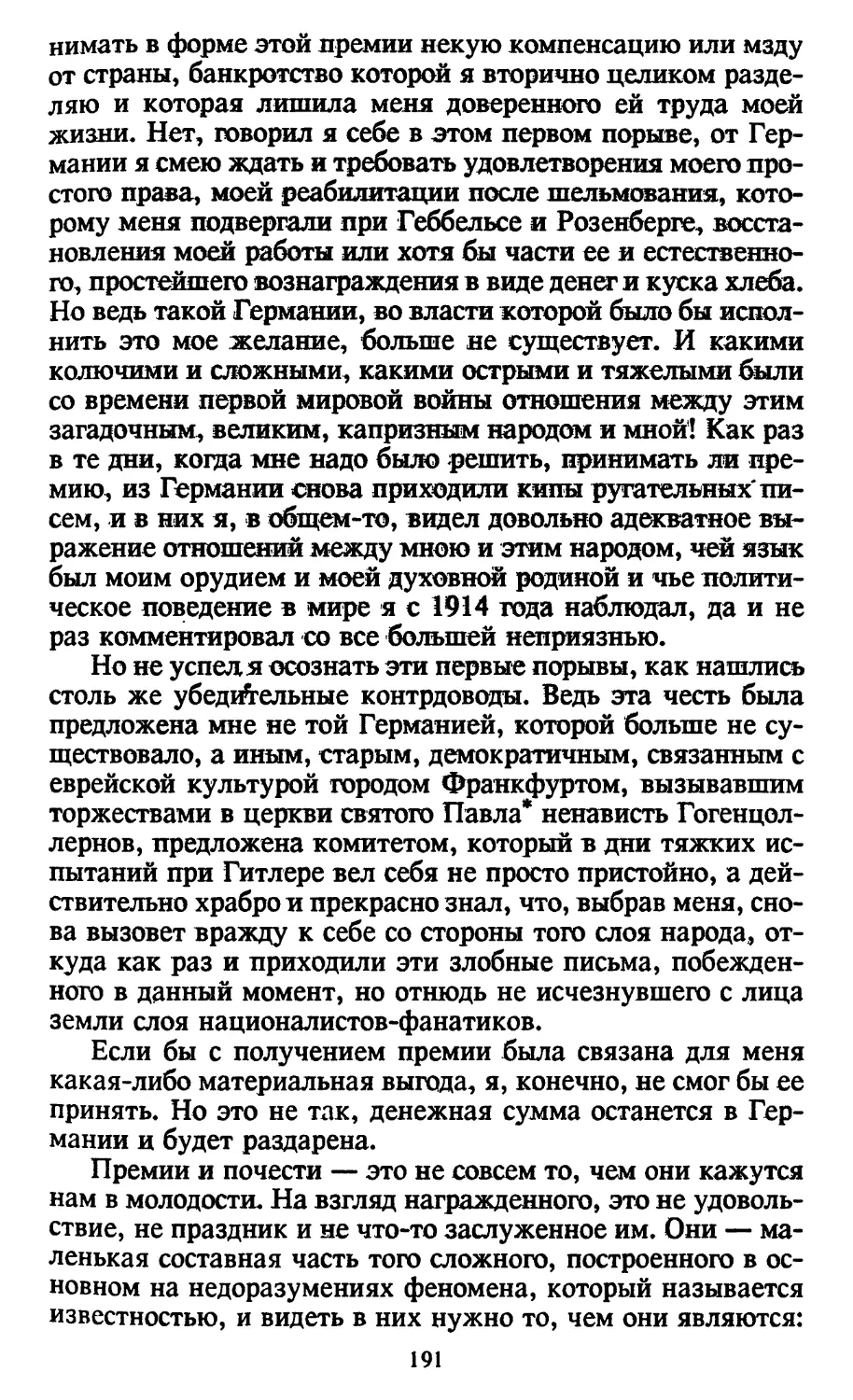
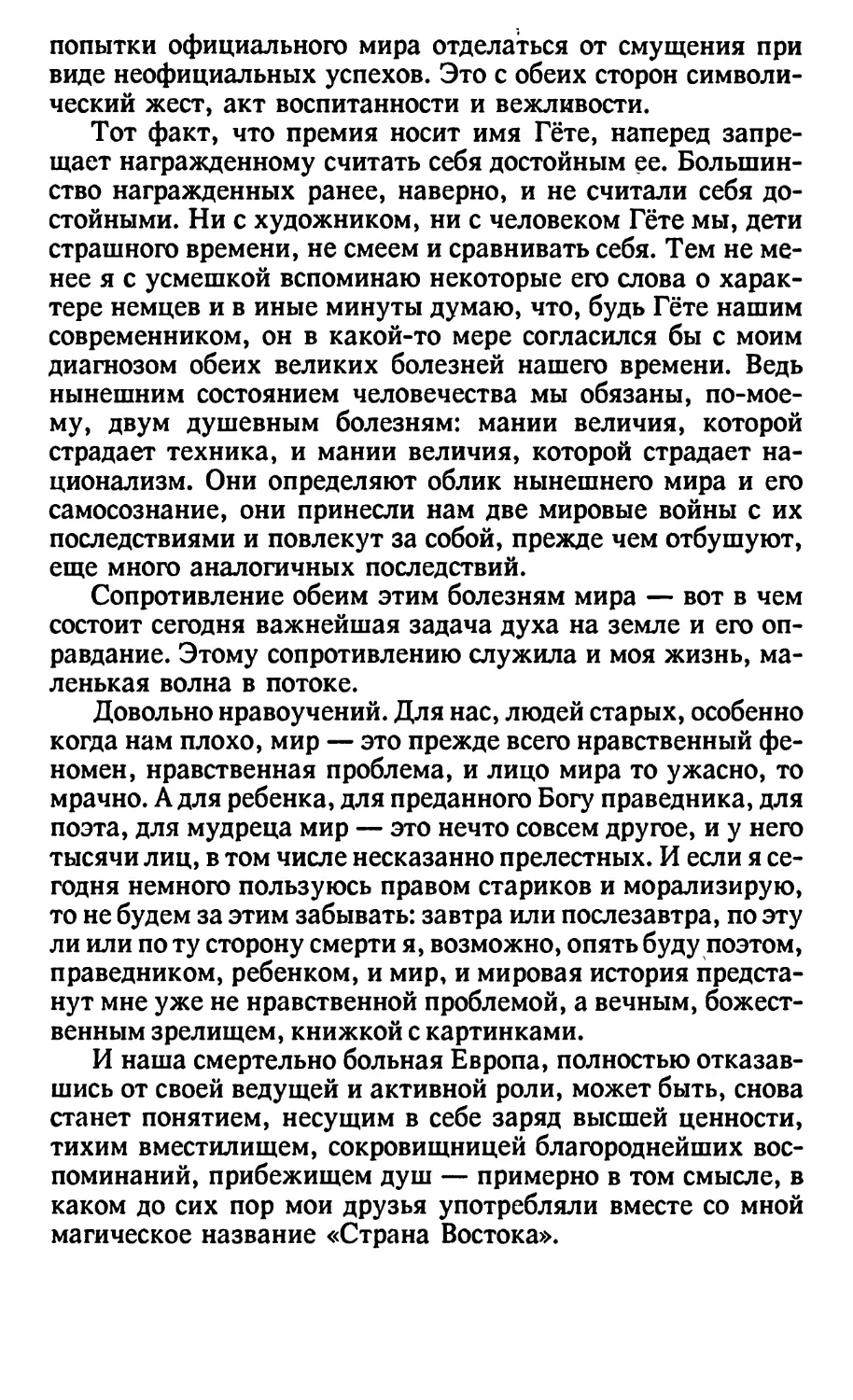


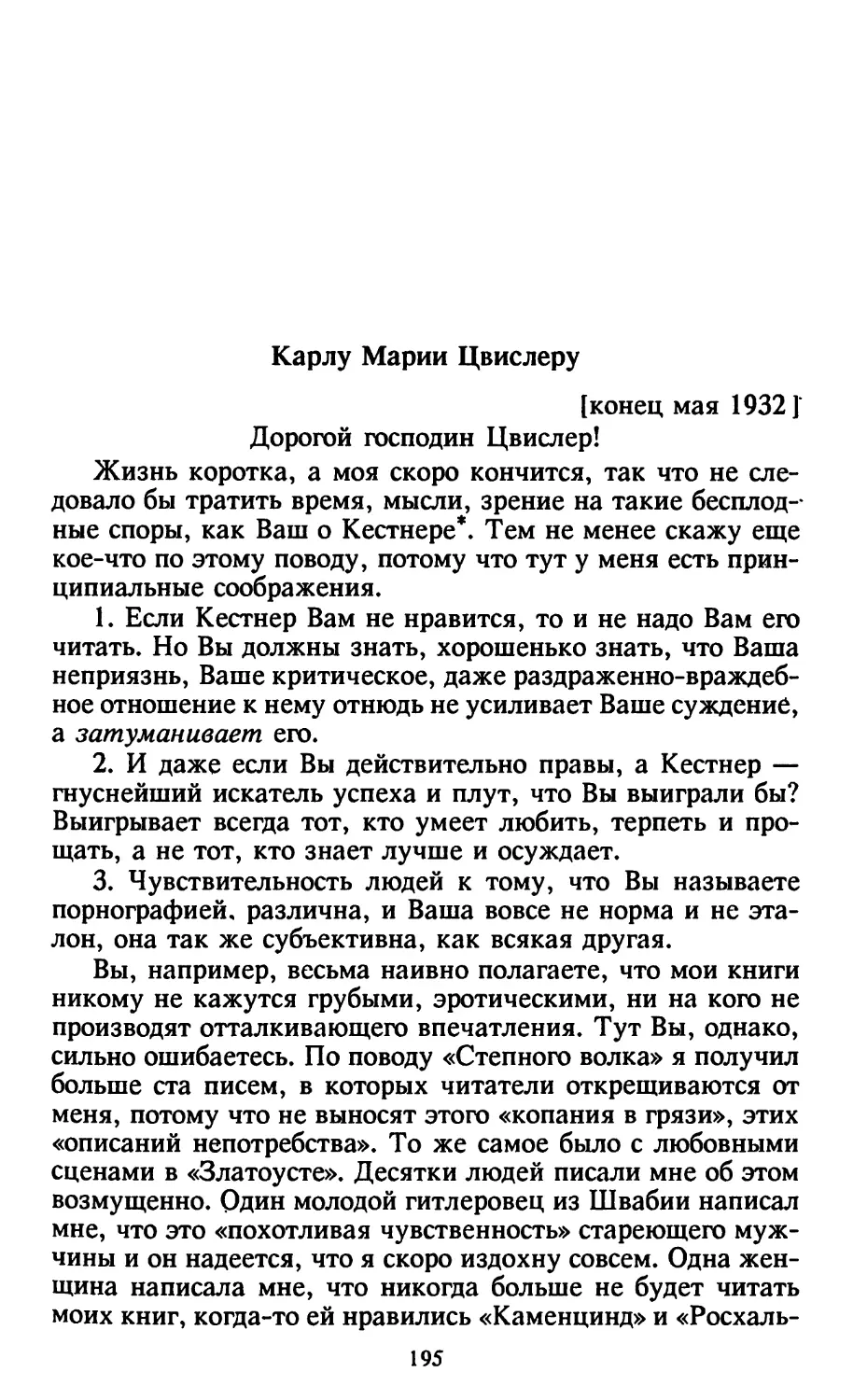
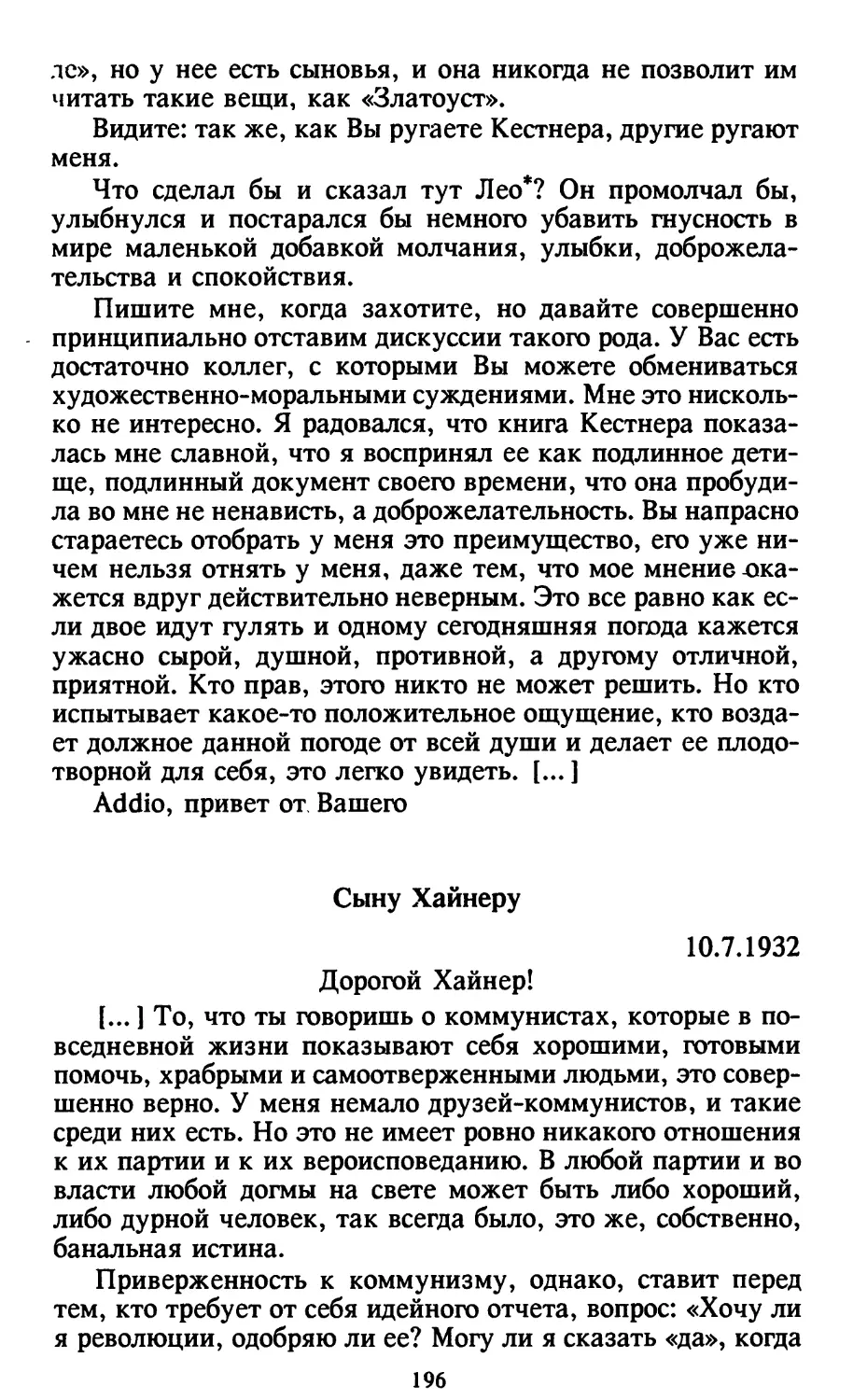
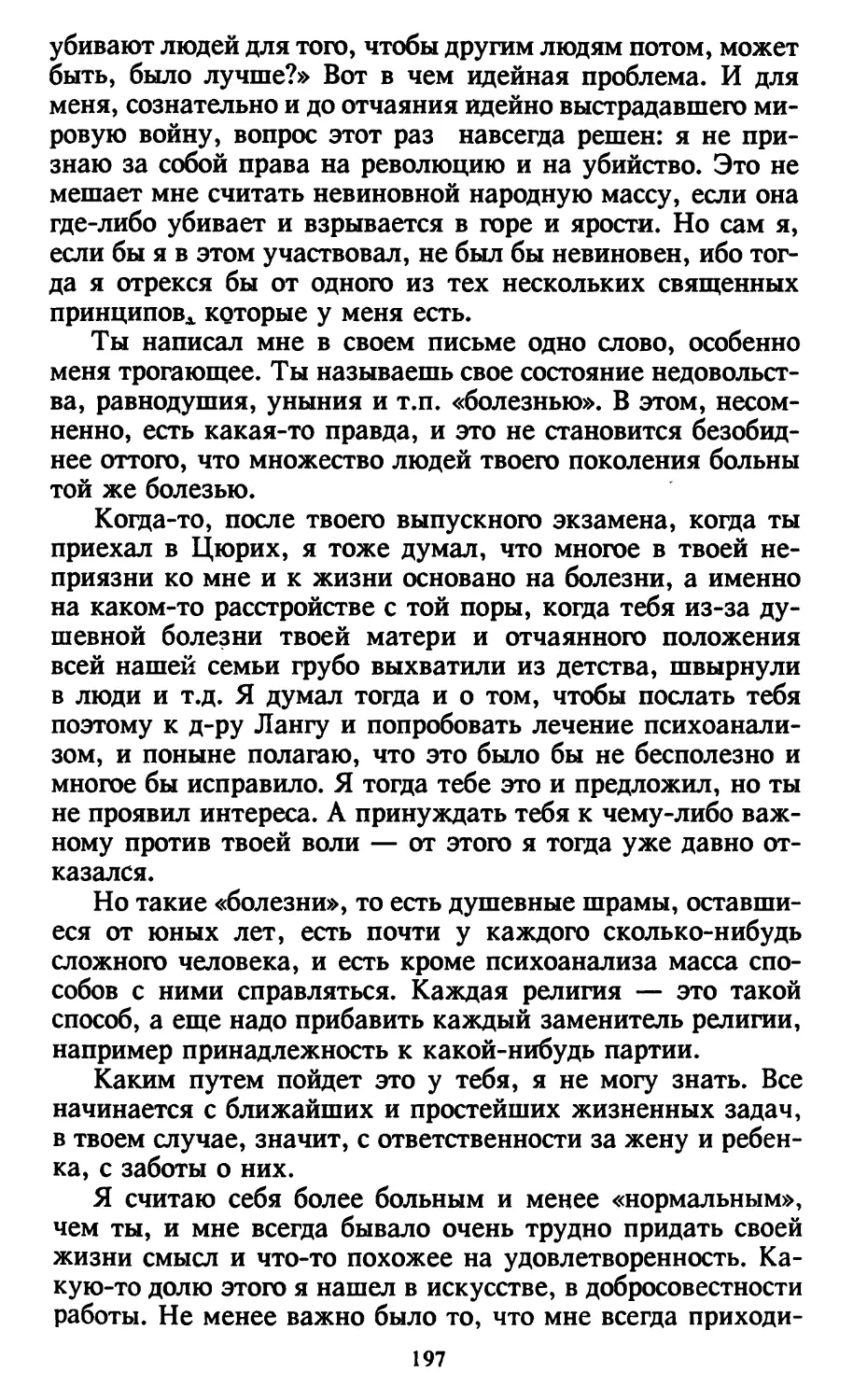
![Гансу Оберлендеру [лето 1932 ?]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/201.webp)
![Клаусу Манну [21.7.-1938]
Леони Штемпфли. Лето 1938](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/202.webp)
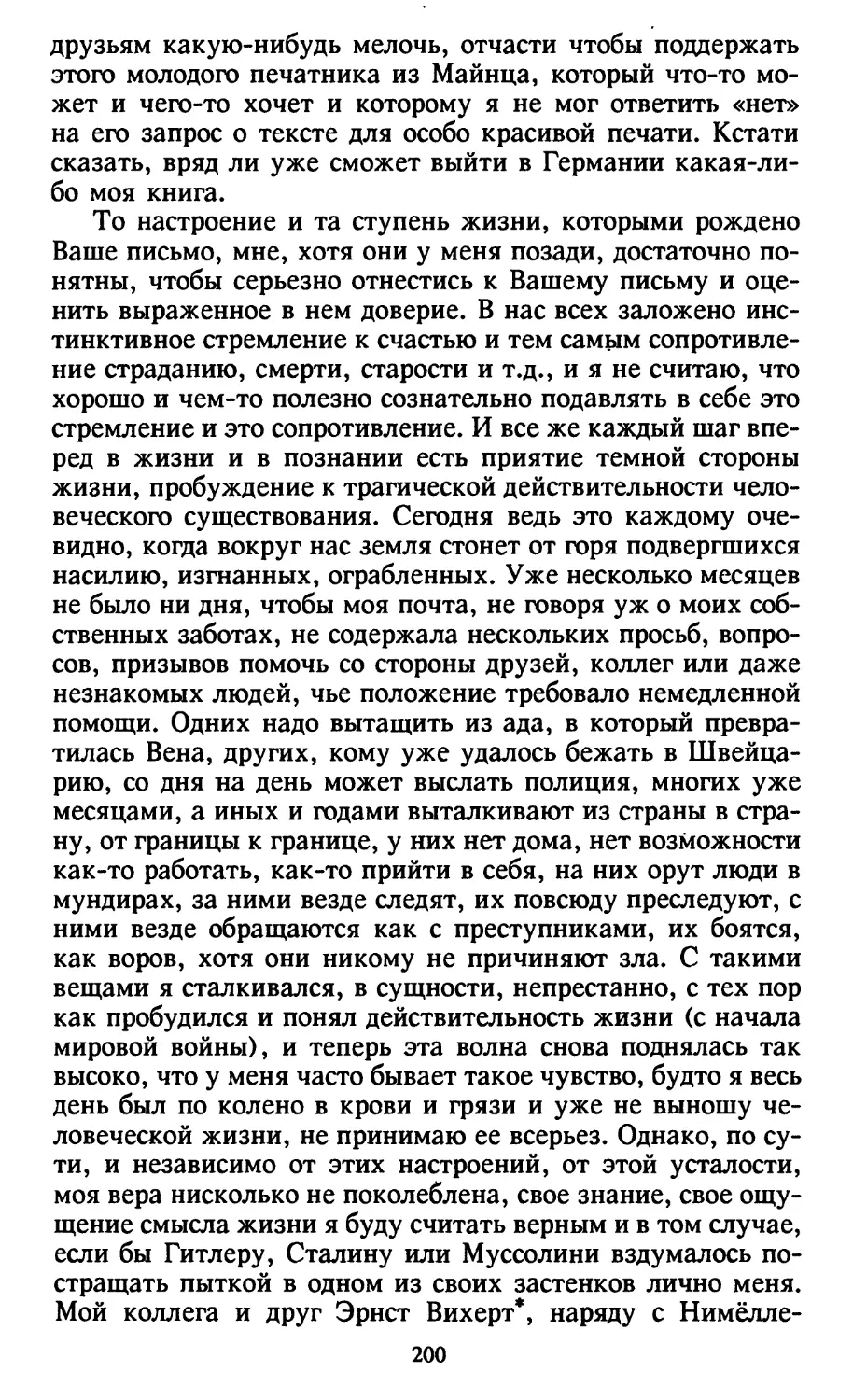
![Артуру Штолю. Апрель 1939
Паулю Отто Вазеру [сентябрь 1939]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/204.webp)
![Отто Базлеру [19.10.1939]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/205.webp)
![Ответ на письмо неизвестного, который призвал Гессе «чаще писать на актуальные темы» [1939]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/206.webp)
![Рольфу Шотту [26.12.1939]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/207.webp)
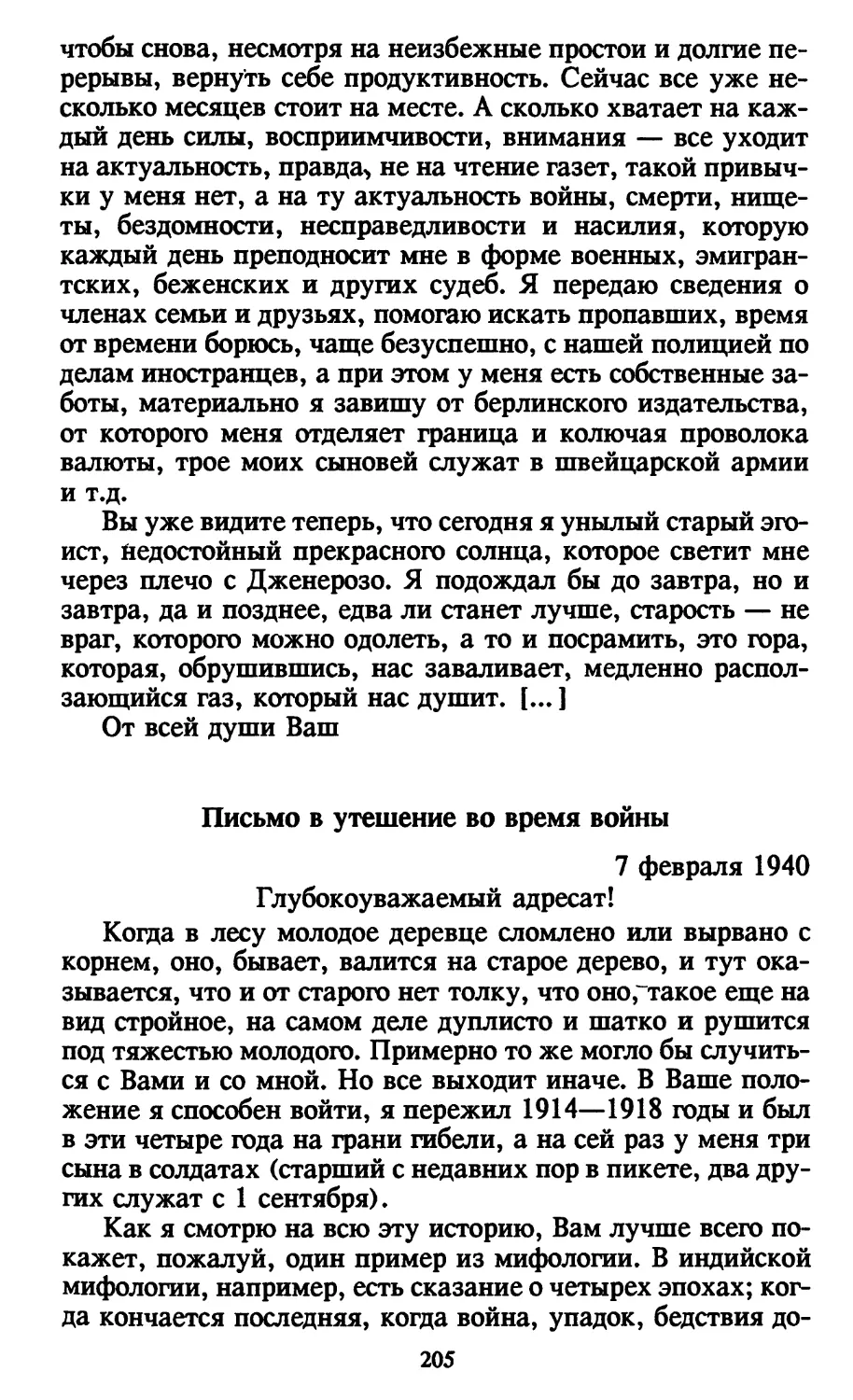
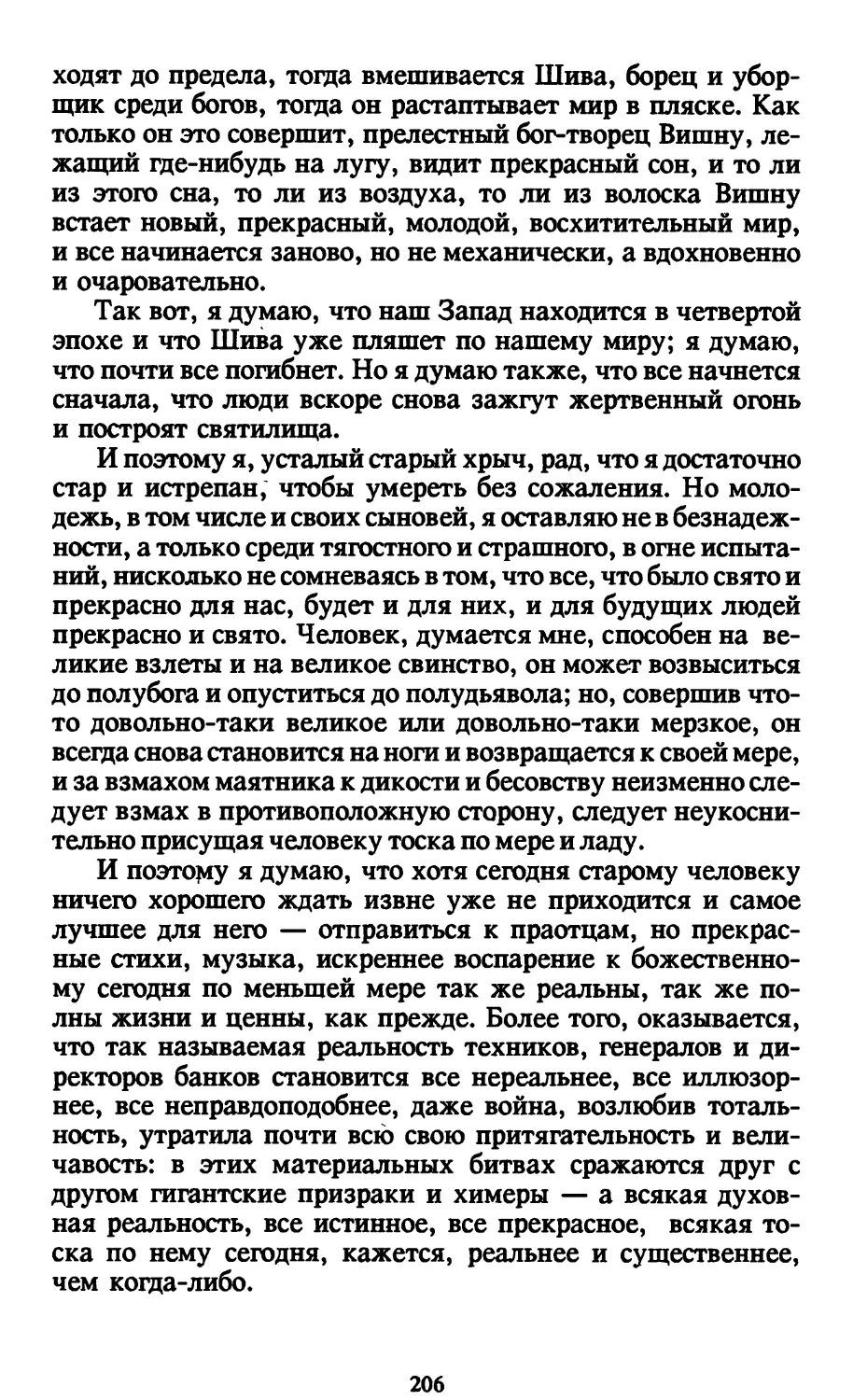
![Сыну Мартину [апрель 1940]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/210.webp)
![Рудольфу Якобу Хумму [30.7.1940]
Эрнсту Моргенталеру. 25.10.1940](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/211.webp)
![Эрнсту Моргенталеру [январь 1941]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/212.webp)
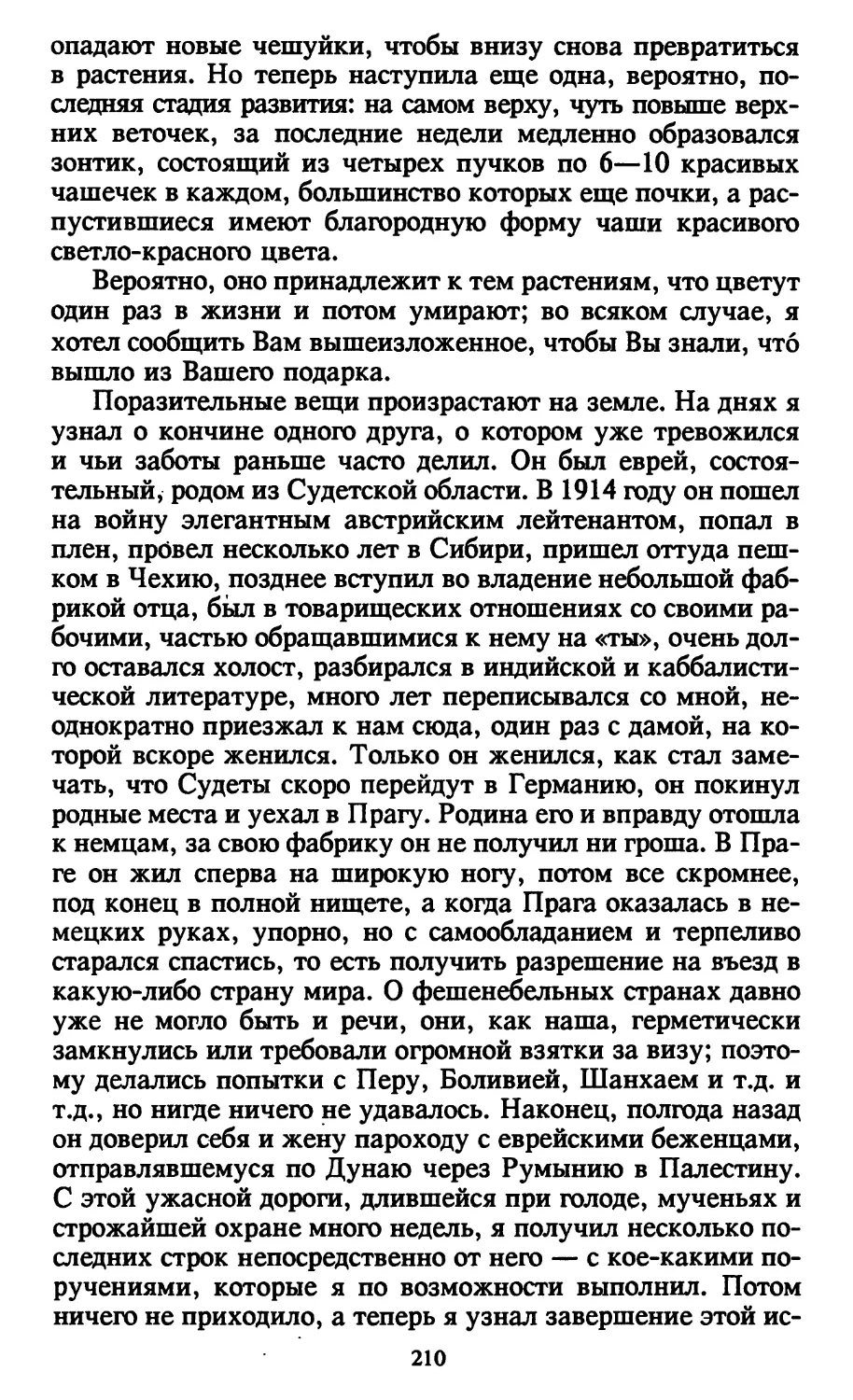
![Рудольфу Якобу Хумму [конец октября 1941]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/214.webp)
![Францу Ксаверу Мюнцелю [осень 1941]
Читательнице. Ноябрь 1941](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/215.webp)
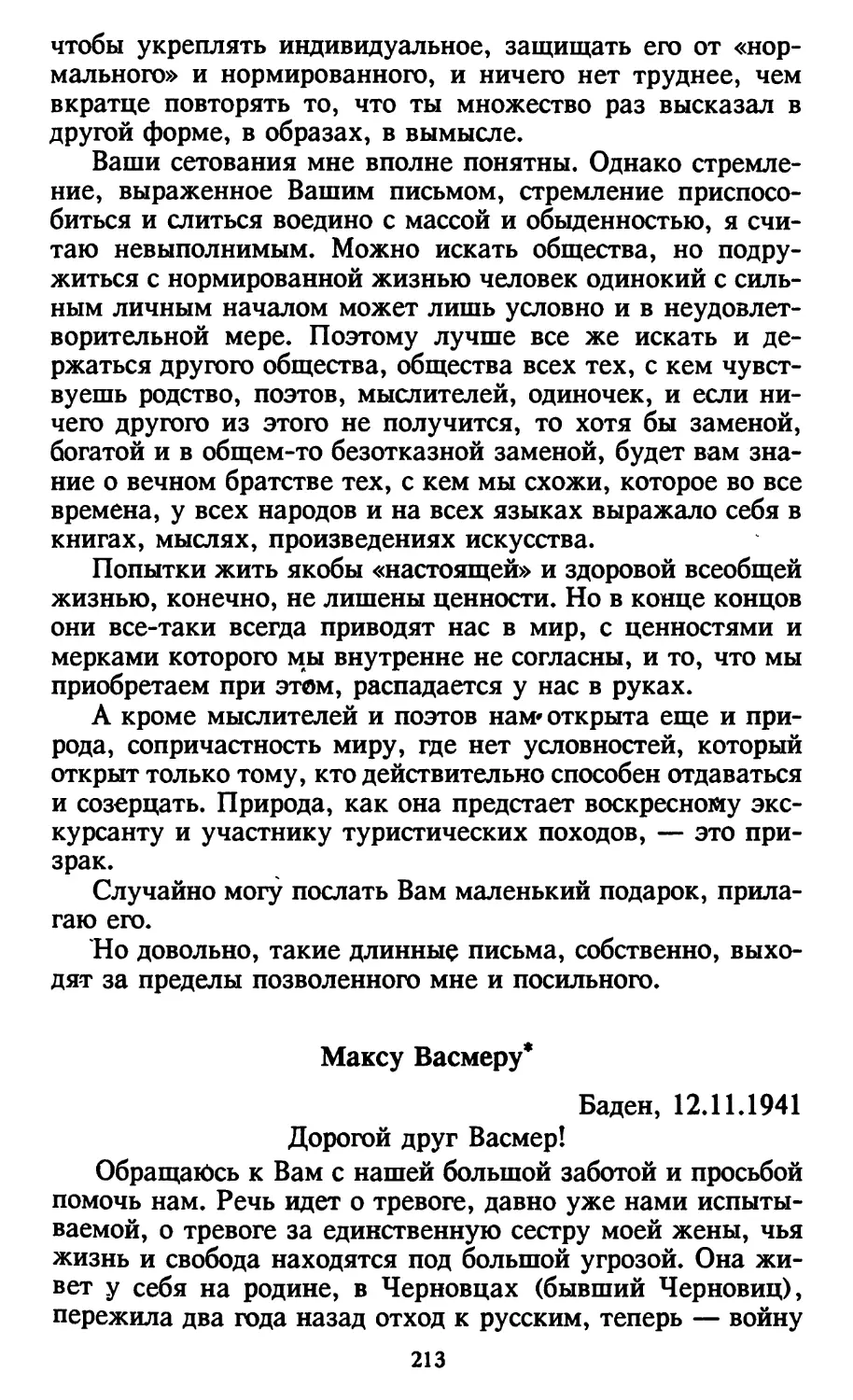
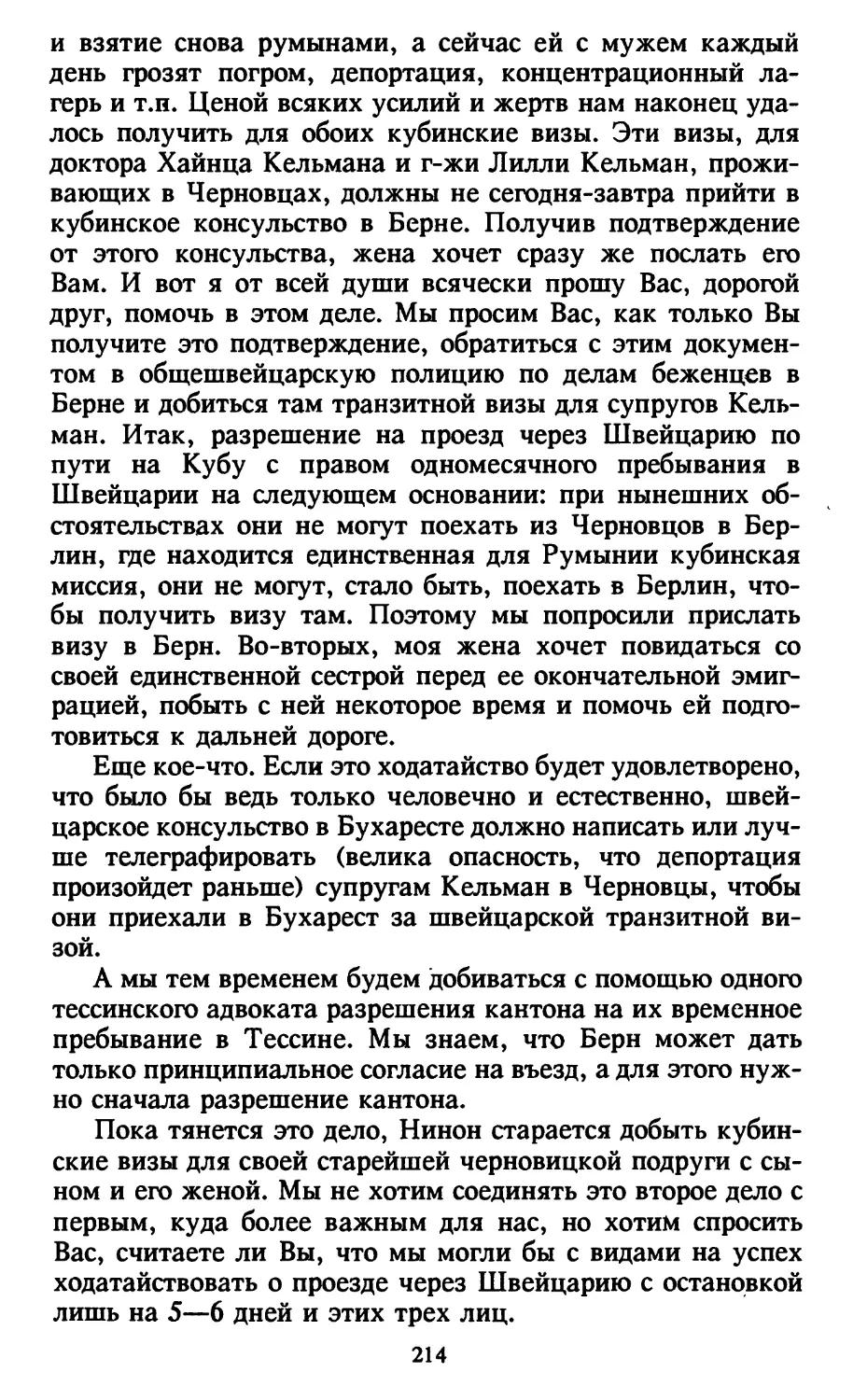
![Вилю Эйзенману [прибл. ноябрь/декабрь 1941]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/218.webp)
![Цевестке Изе Гессе-Рабинович [декабрь 1941]
Петеру Зуркампу. 17.12.1941](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/219.webp)
![Издателю [1941]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/220.webp)
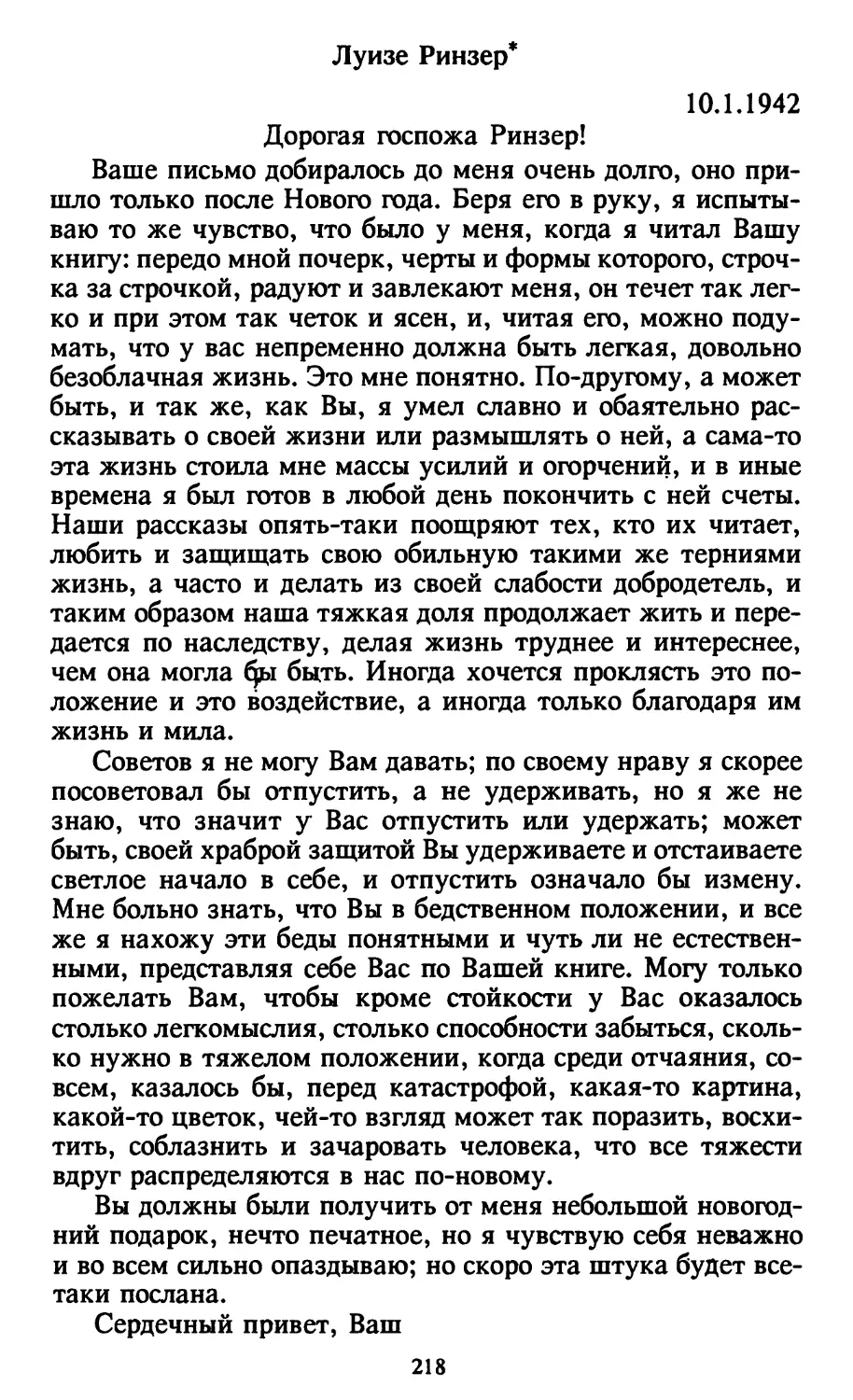
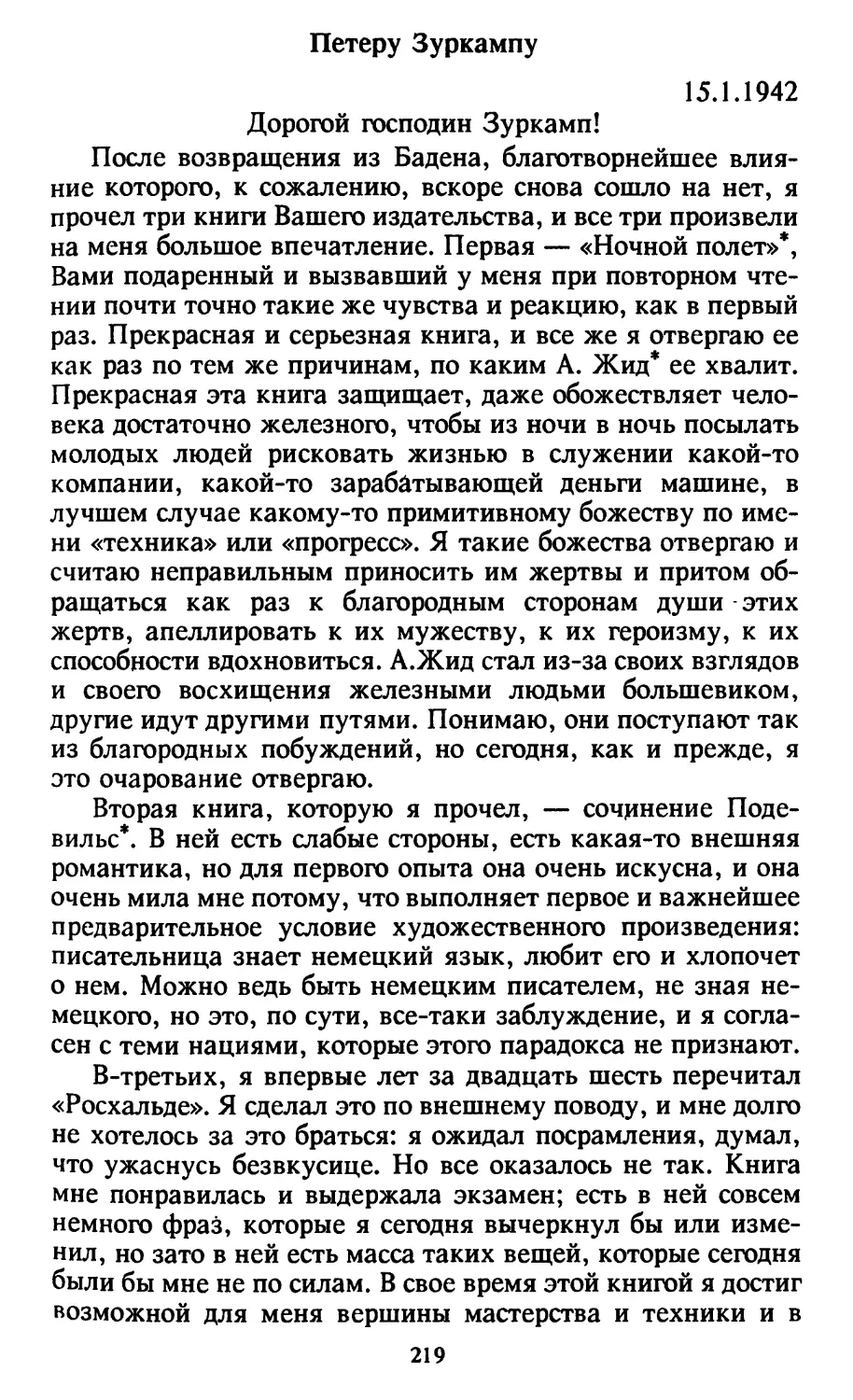
![Двоюродному брату Фрицу Гундерту [27.1.1942]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/223.webp)
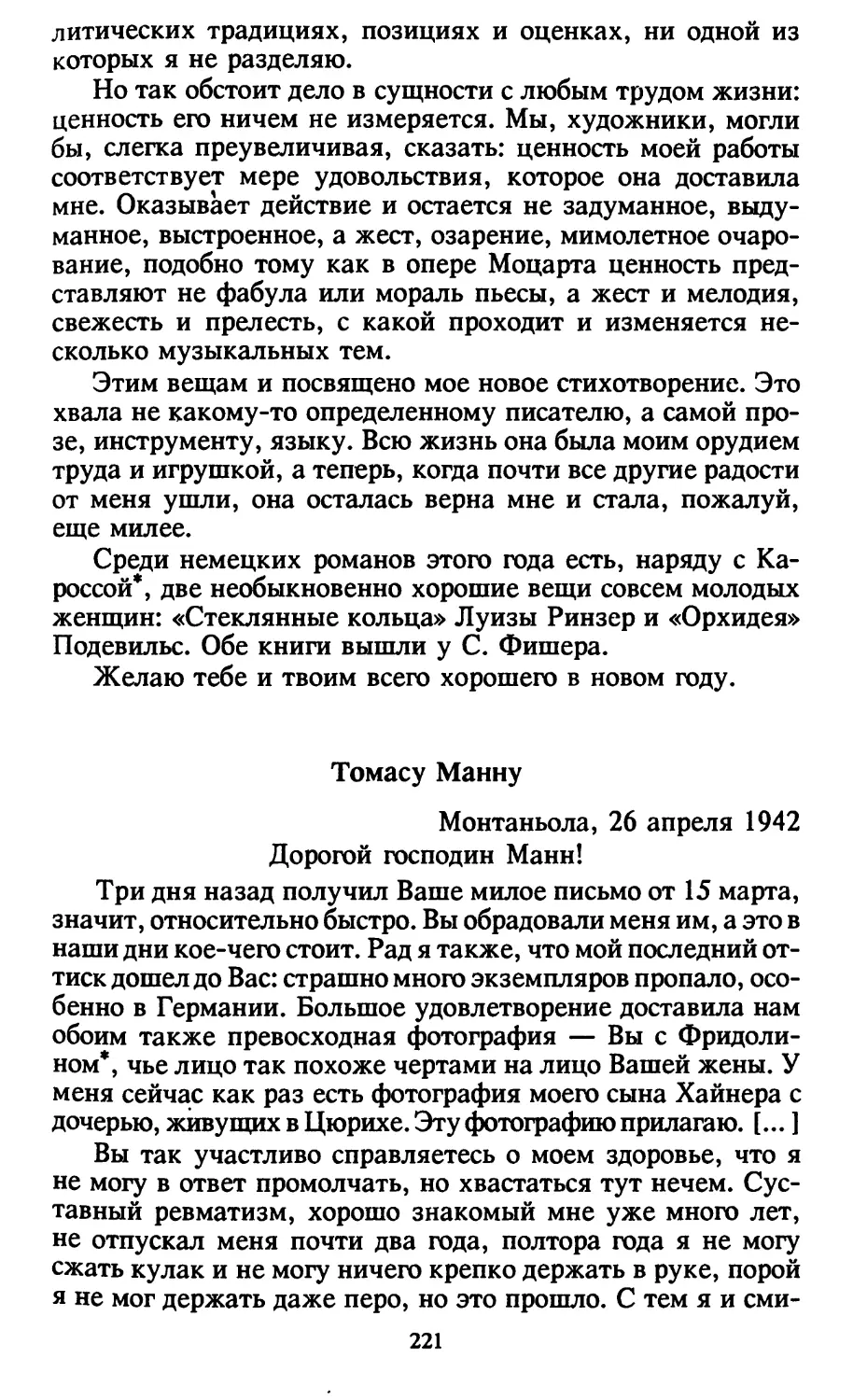
![Сестре Адели [октябрь 1942]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/225.webp)
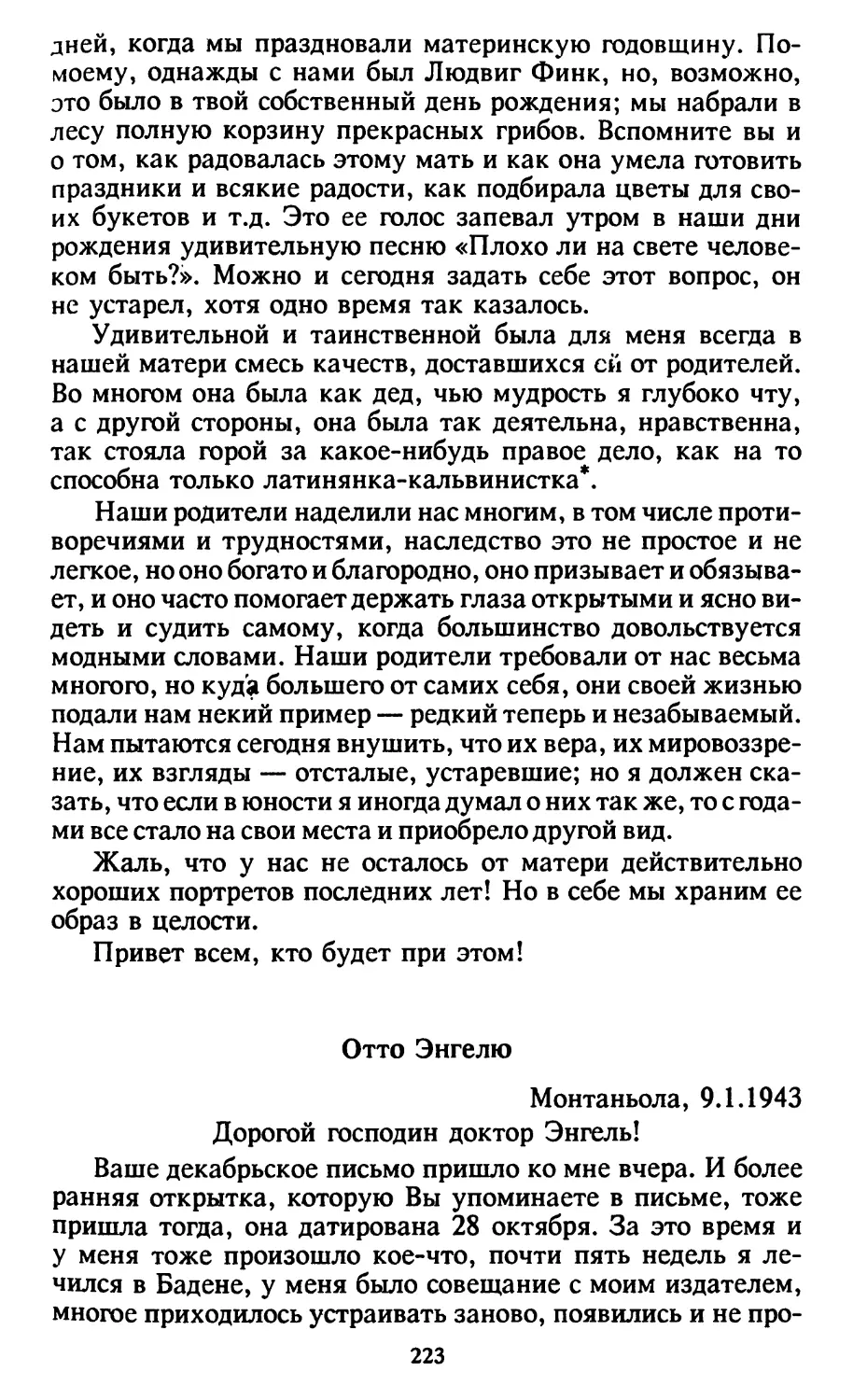
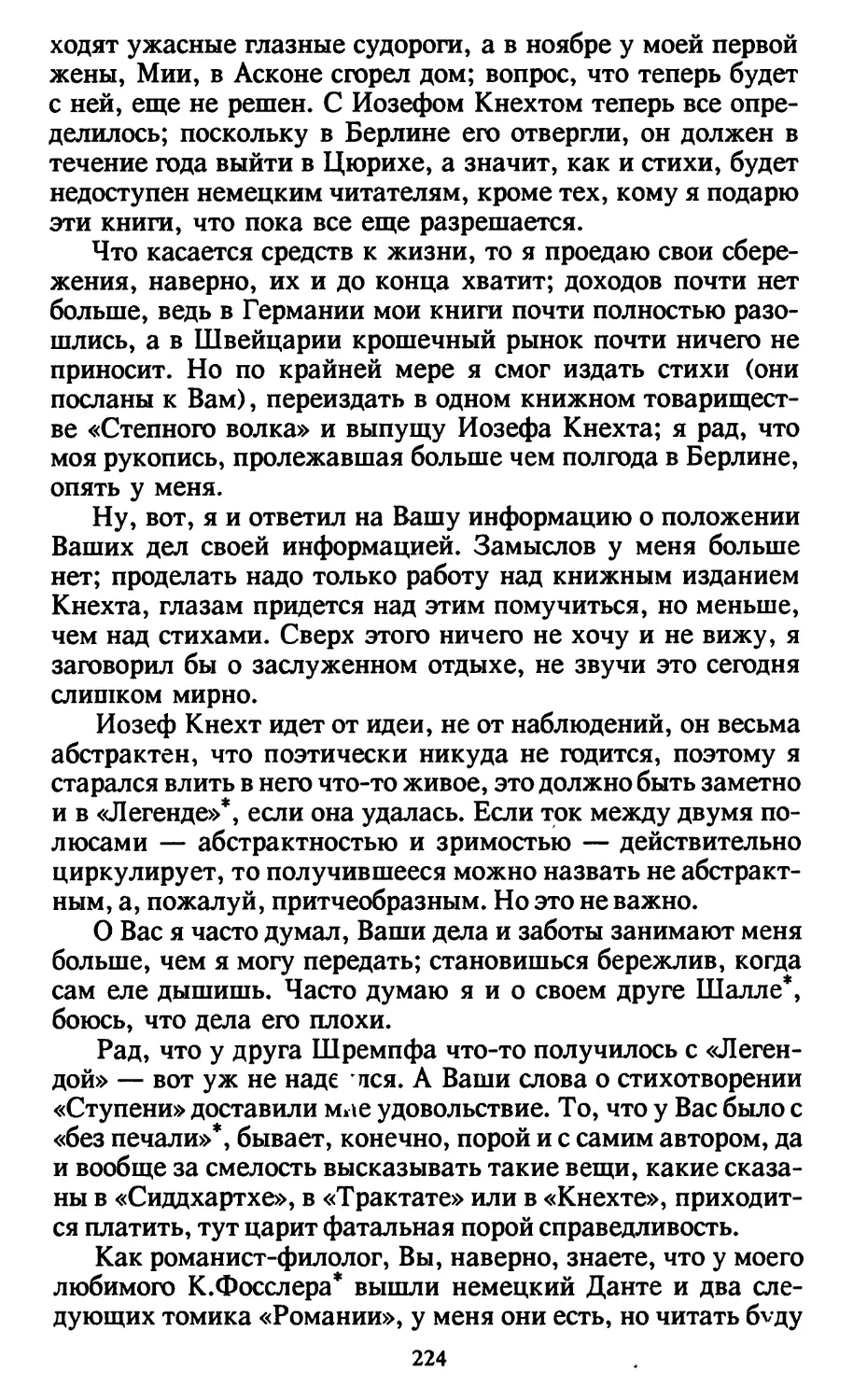
![Герману Хубахеру [январь 1943]
Эмилю Бюрле. 10.2.1943](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/228.webp)
![Эрнсту Моргенталеру [апрель 1943]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/229.webp)
![Отто Базлеру [16.8.1943]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/230.webp)
![Сыну Хайнеру [декабрь 1943]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/231.webp)
![Сыну Мартину [начало декабря 1943]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/232.webp)
![Тео Бешлину [вероятно, конец 1943]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/233.webp)
![Эмилю Штайгеру [начало января 1944]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/234.webp)
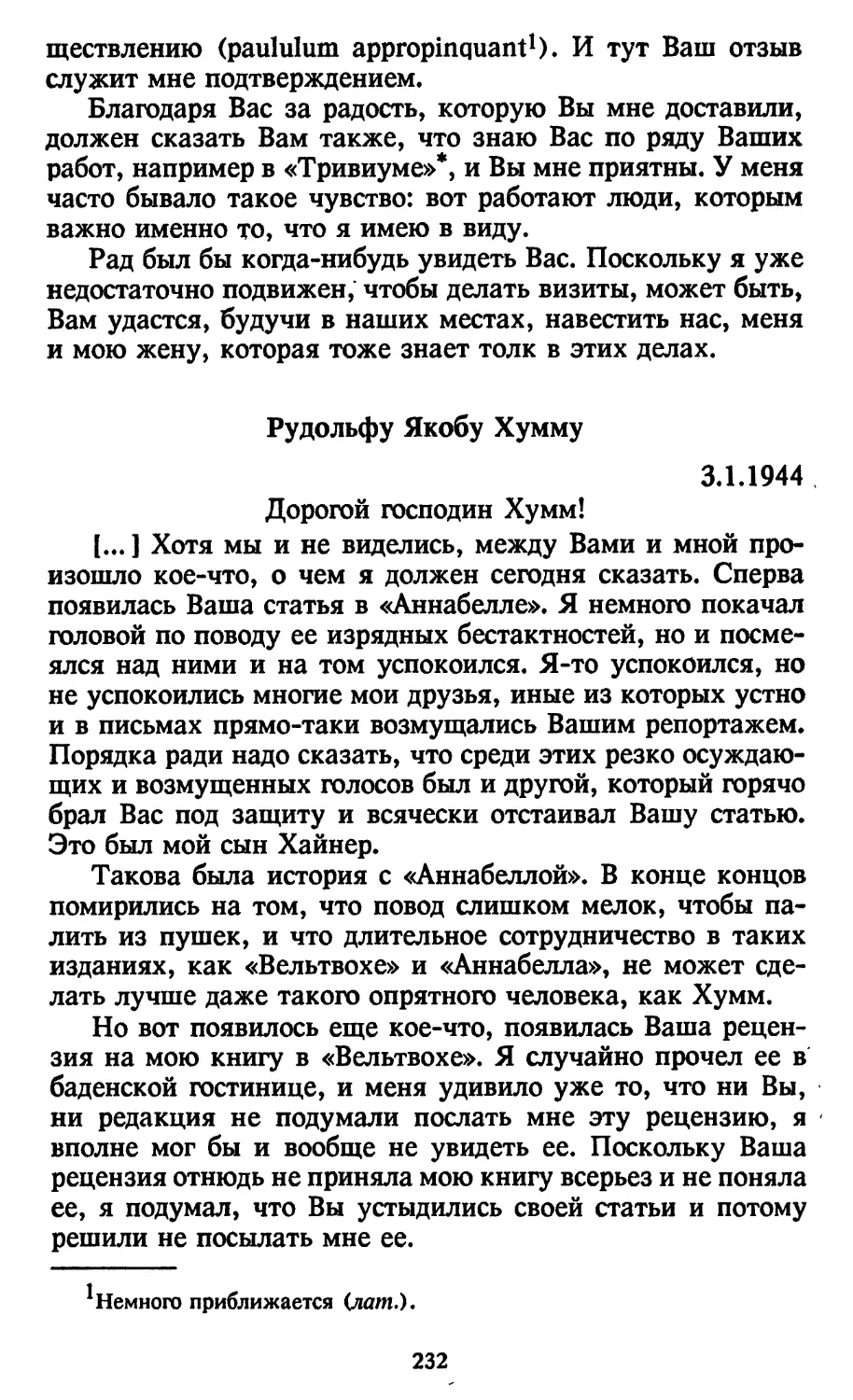
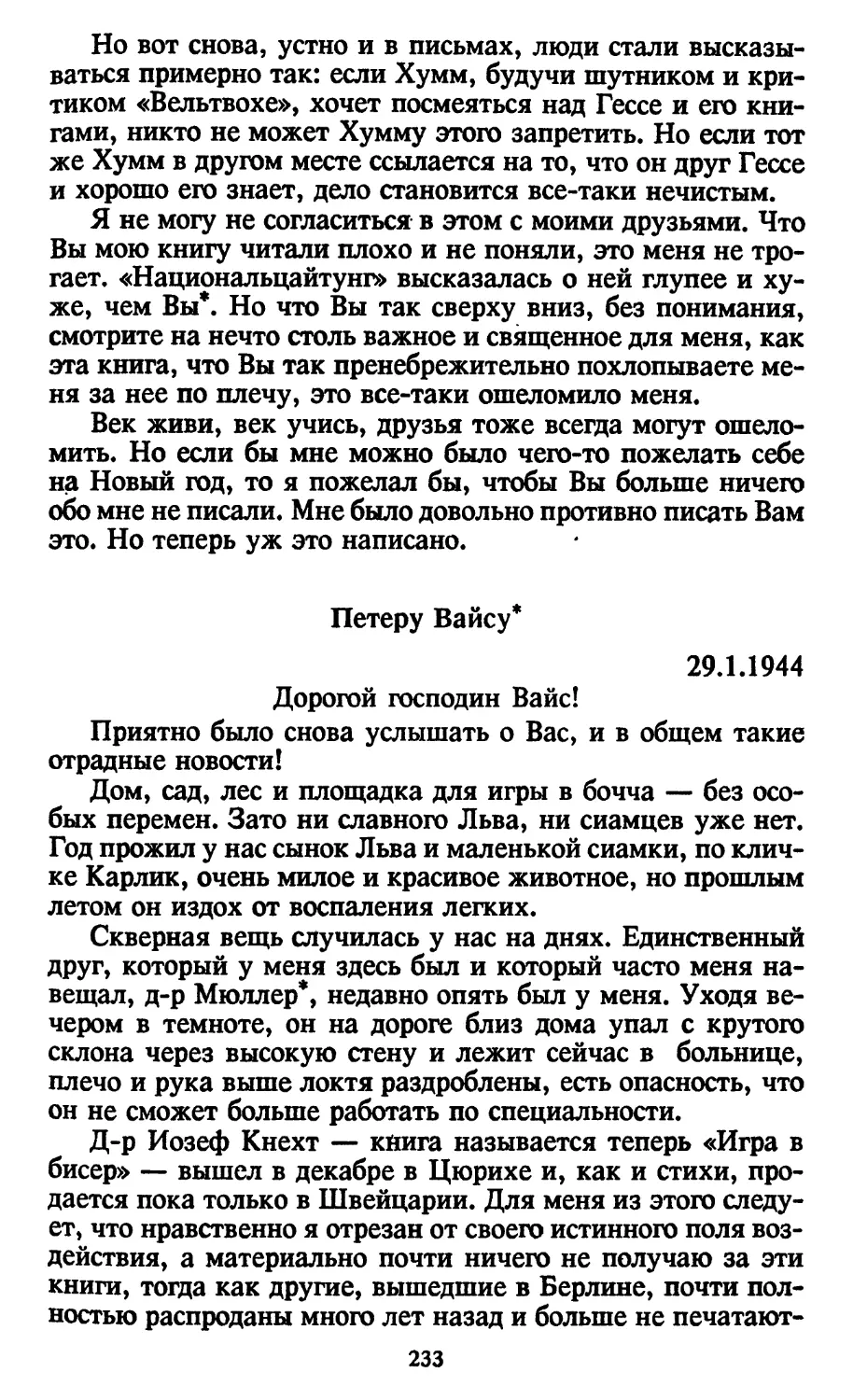
![Марианне Вебер [февраль 1944]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/237.webp)
![Двоюродной сестре Лике Курц-Гессе [весна 1944]
Племяннику Карло Изенбергу [апрель 1944]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/238.webp)
![Читательнице [апрель 1944]
Маргарите Филипс. Апрель 1944](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/239.webp)
![Герберту Левандовскому [май 1944]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/240.webp)
![Гансу Рейнгарту [середина мая 1944]
Эрнсту Цану [июнь 1944]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/241.webp)
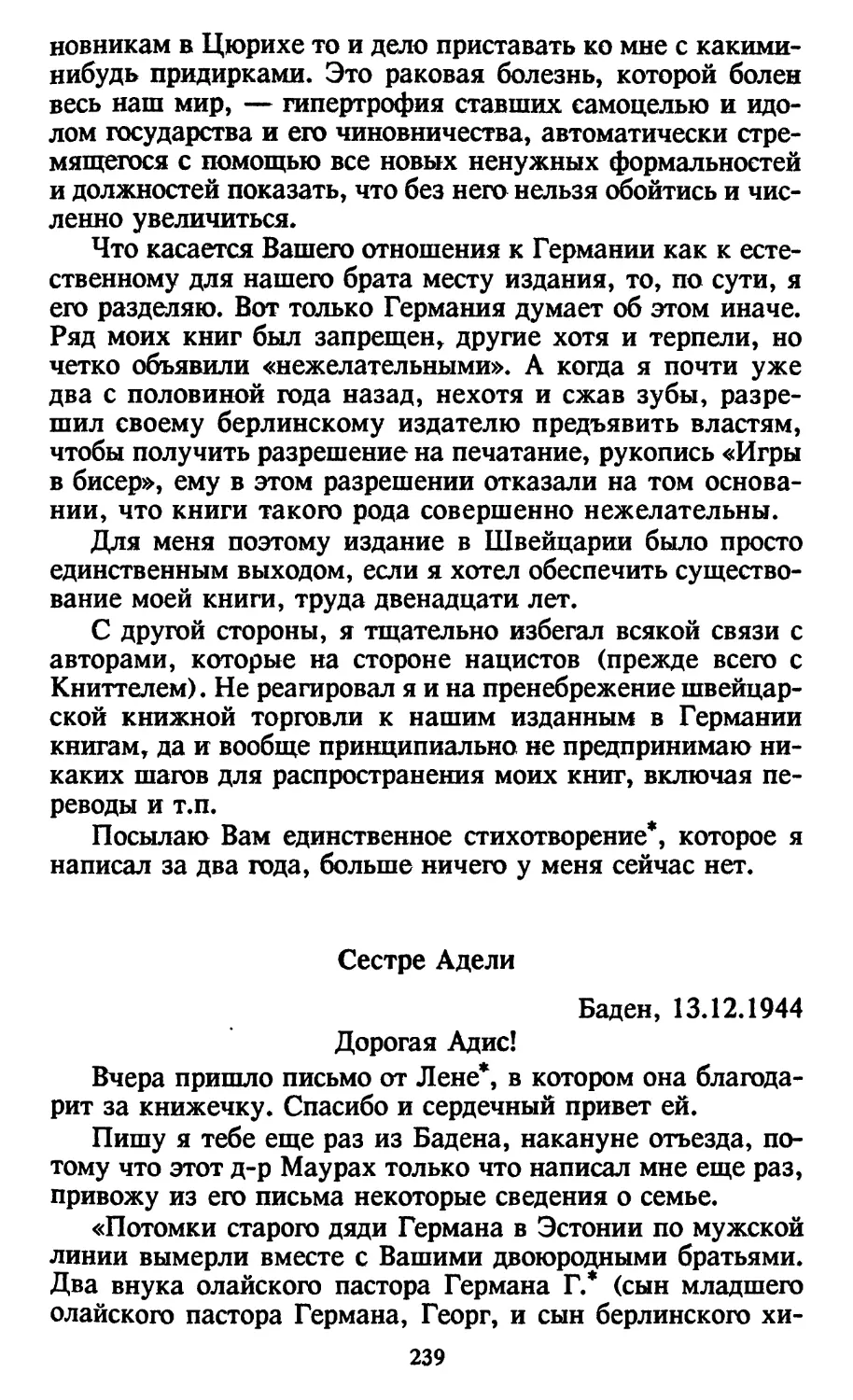
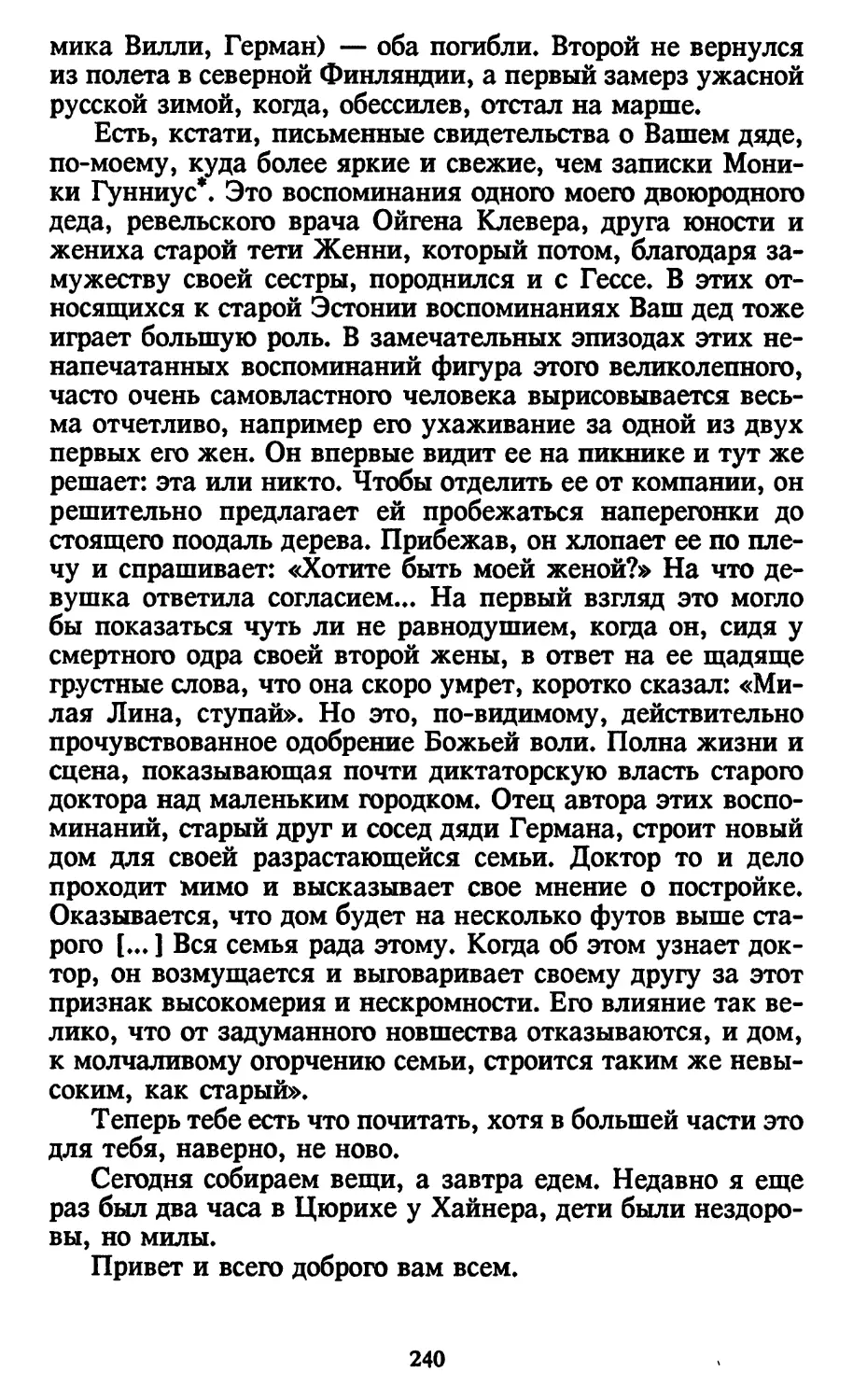
![Луизе Ринзер [декабрь 1944]
Вилю Эйзенману [январь 1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/244.webp)
![Отто Базлеру. Пасха 1945
Курту Клеберу [апрель 1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/245.webp)
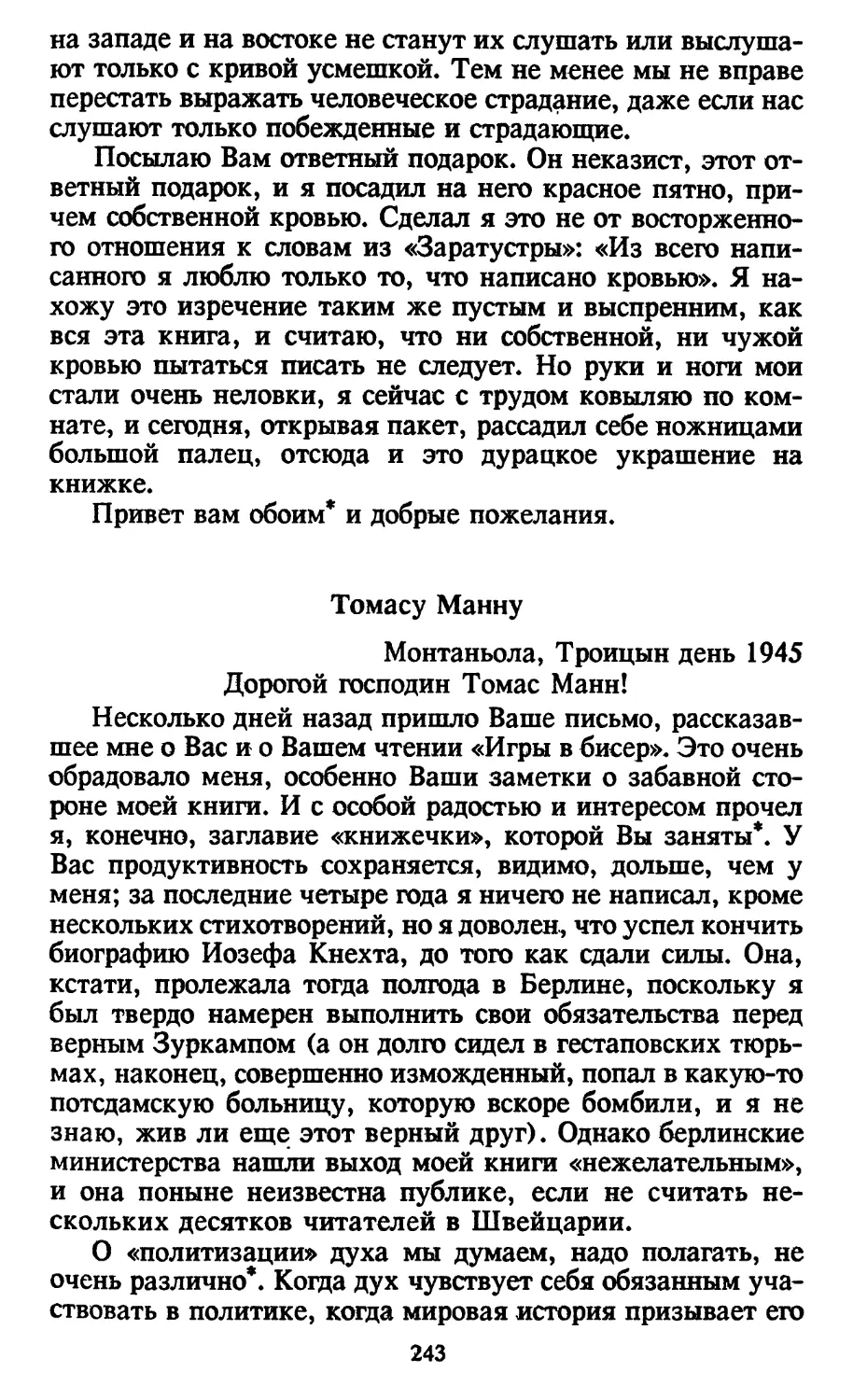
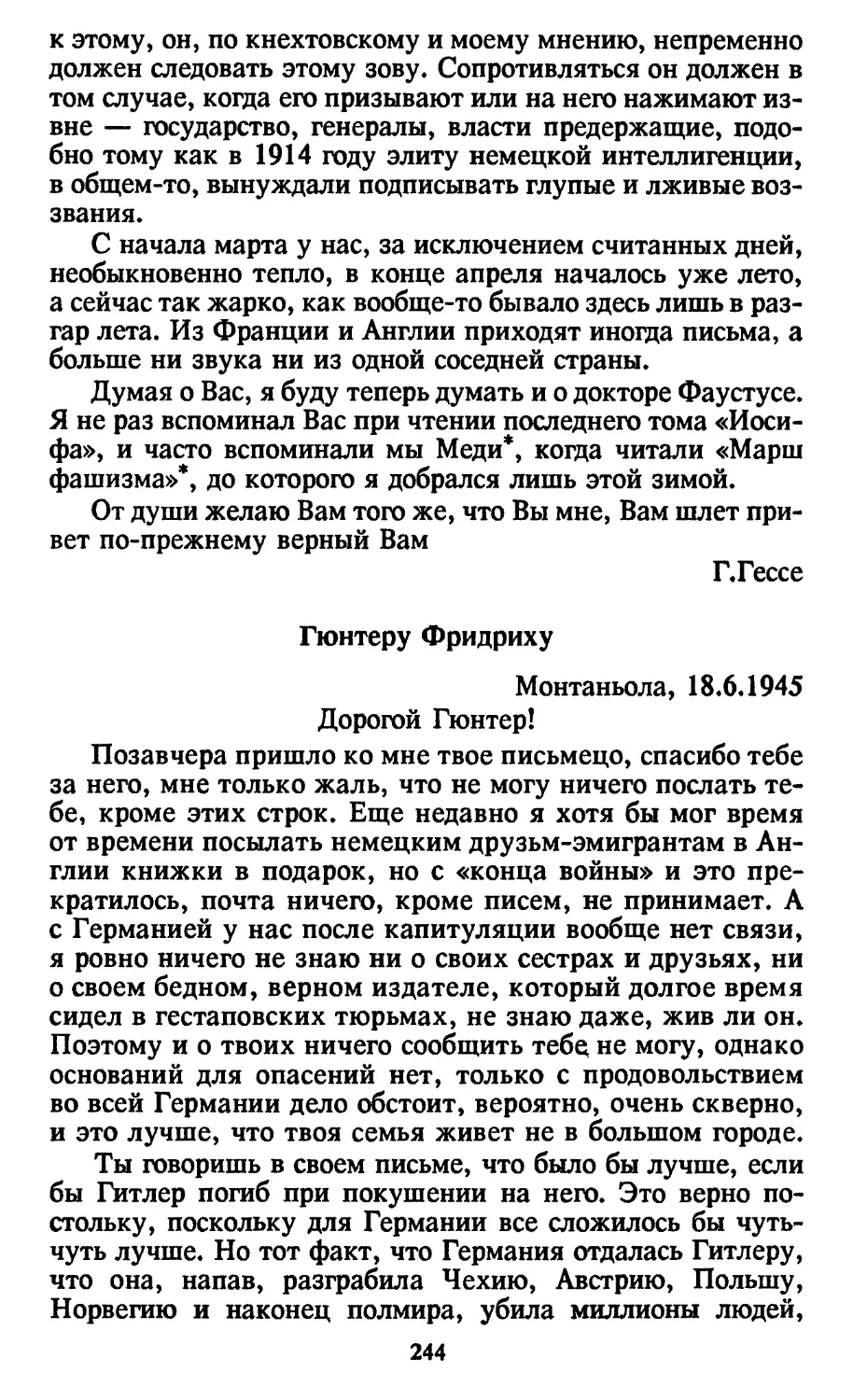
![Карлу Кереньи [7.7.1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/248.webp)
![Жене Нинон [16.7.1945]
Иоганне Аттенхофер [июль 1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/249.webp)
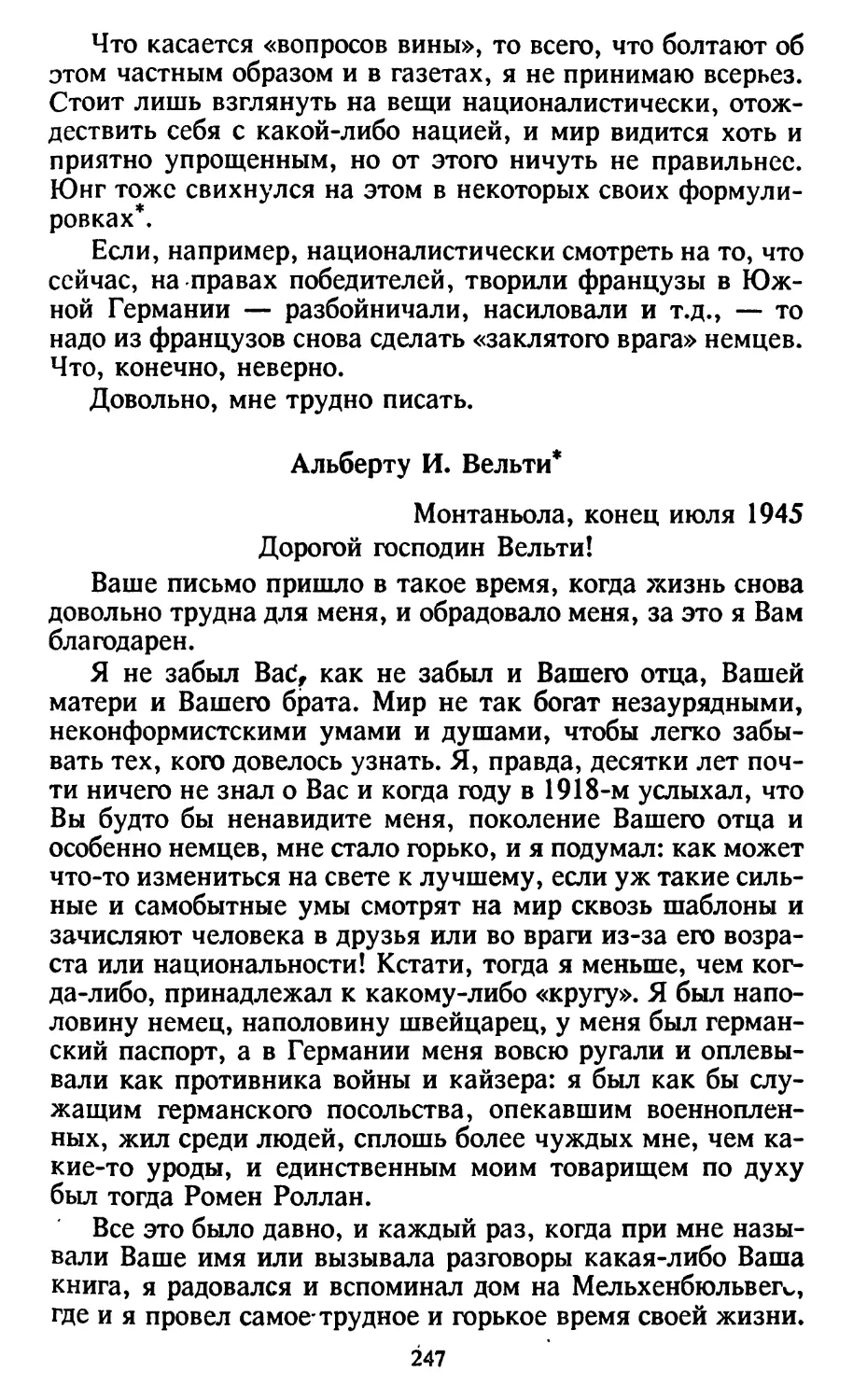
![Курту Экнеру [август 1945]
Френи Келлер [август 1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/251.webp)
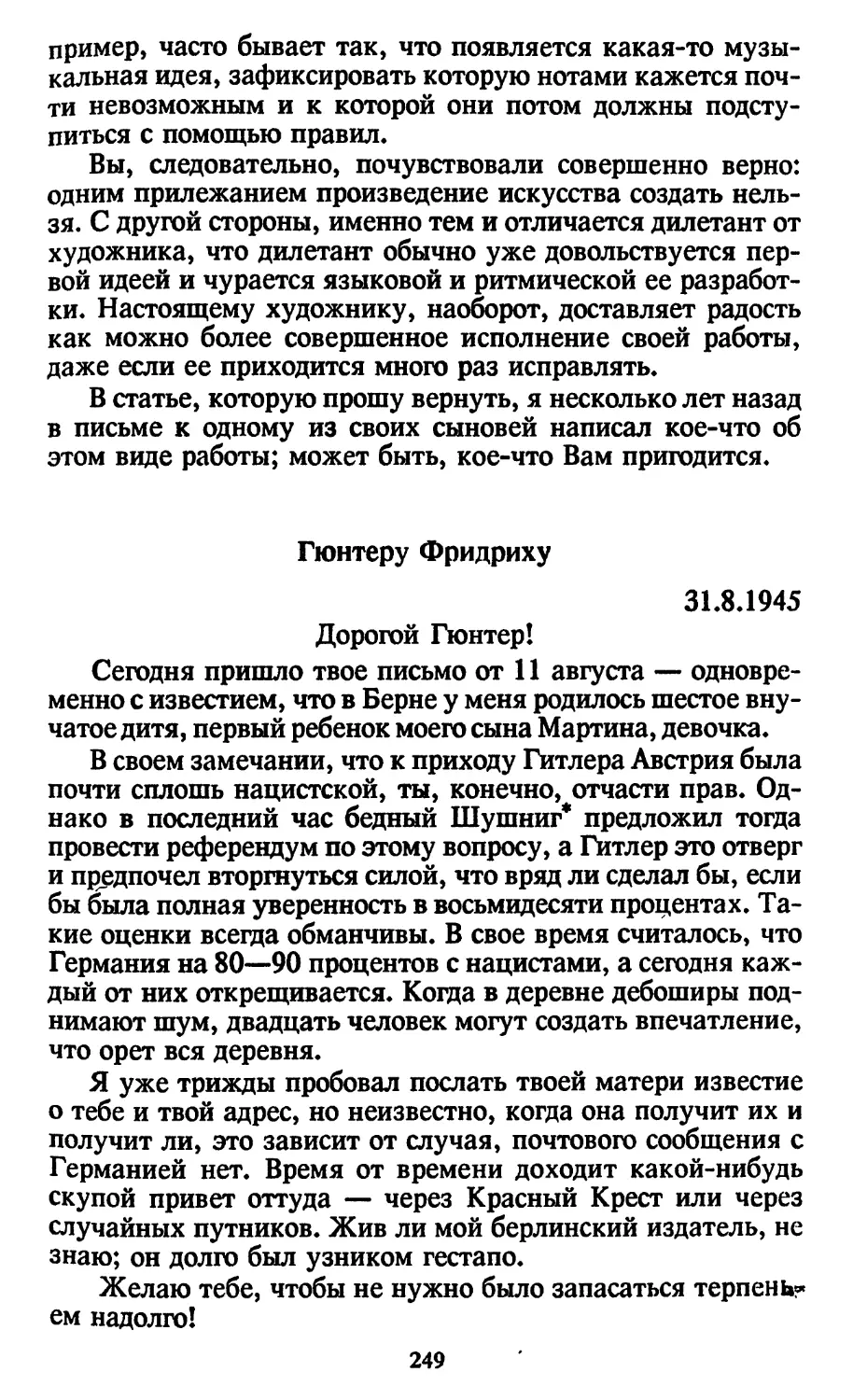
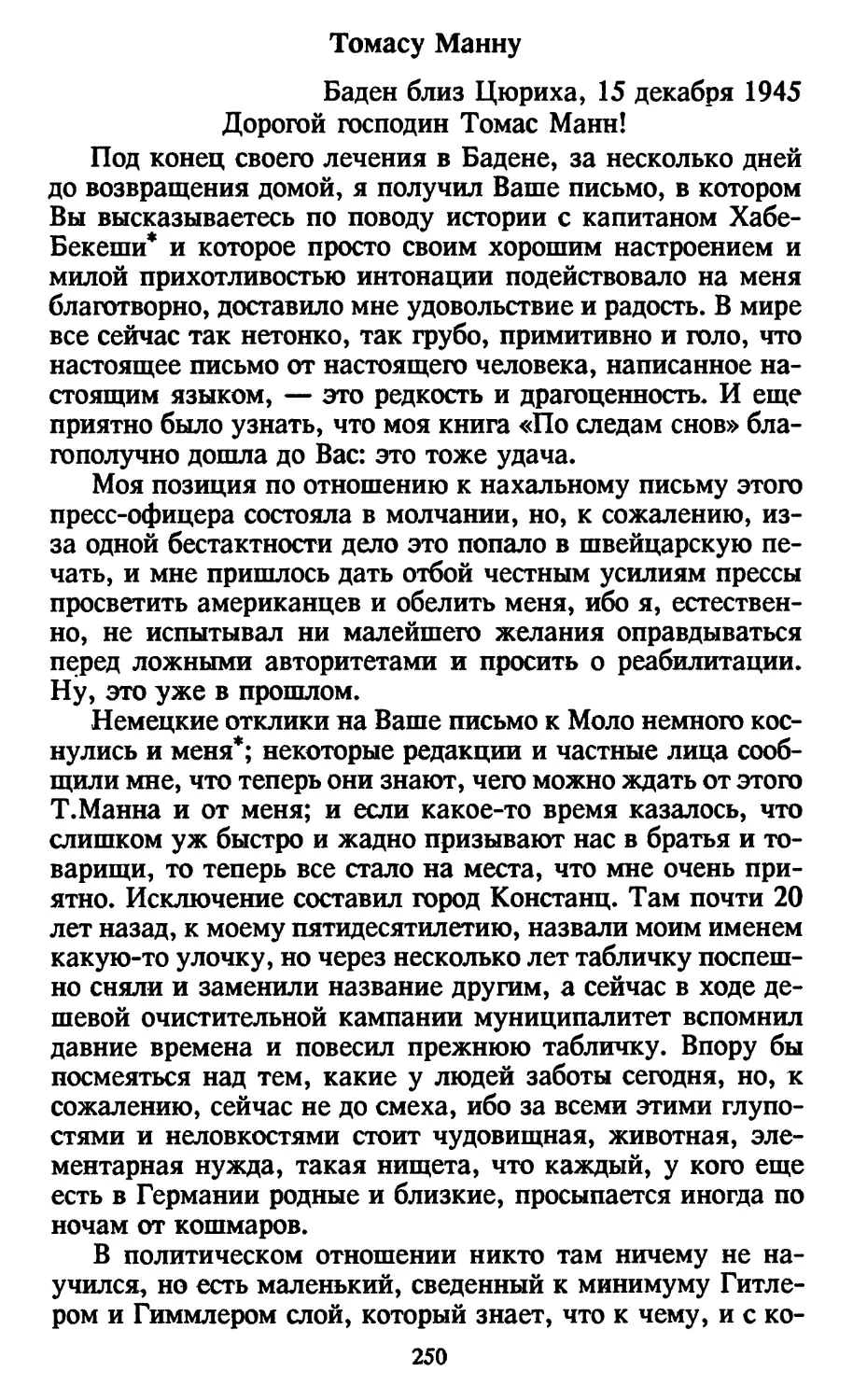
![Генриху Киферу [1945]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/254.webp)
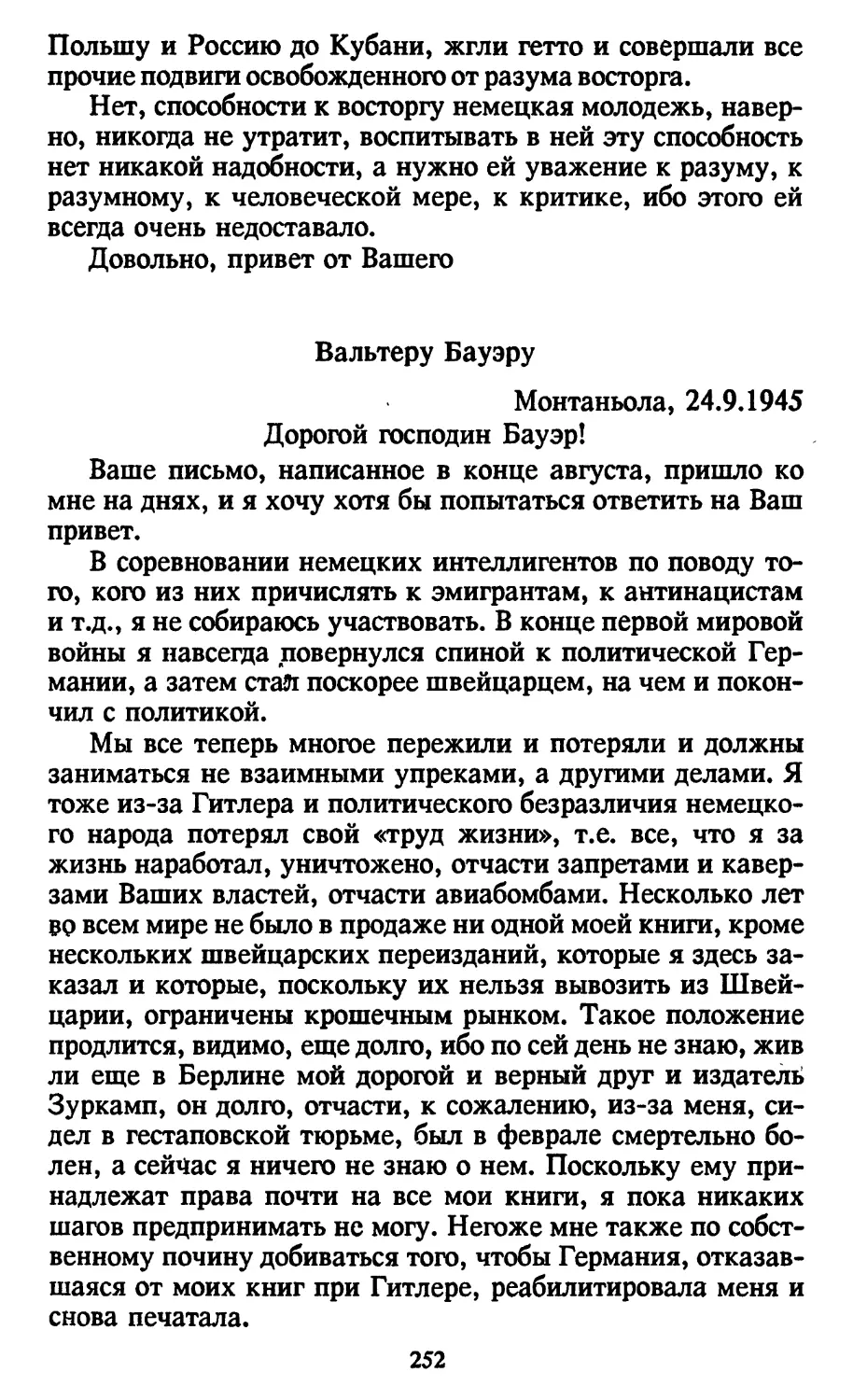
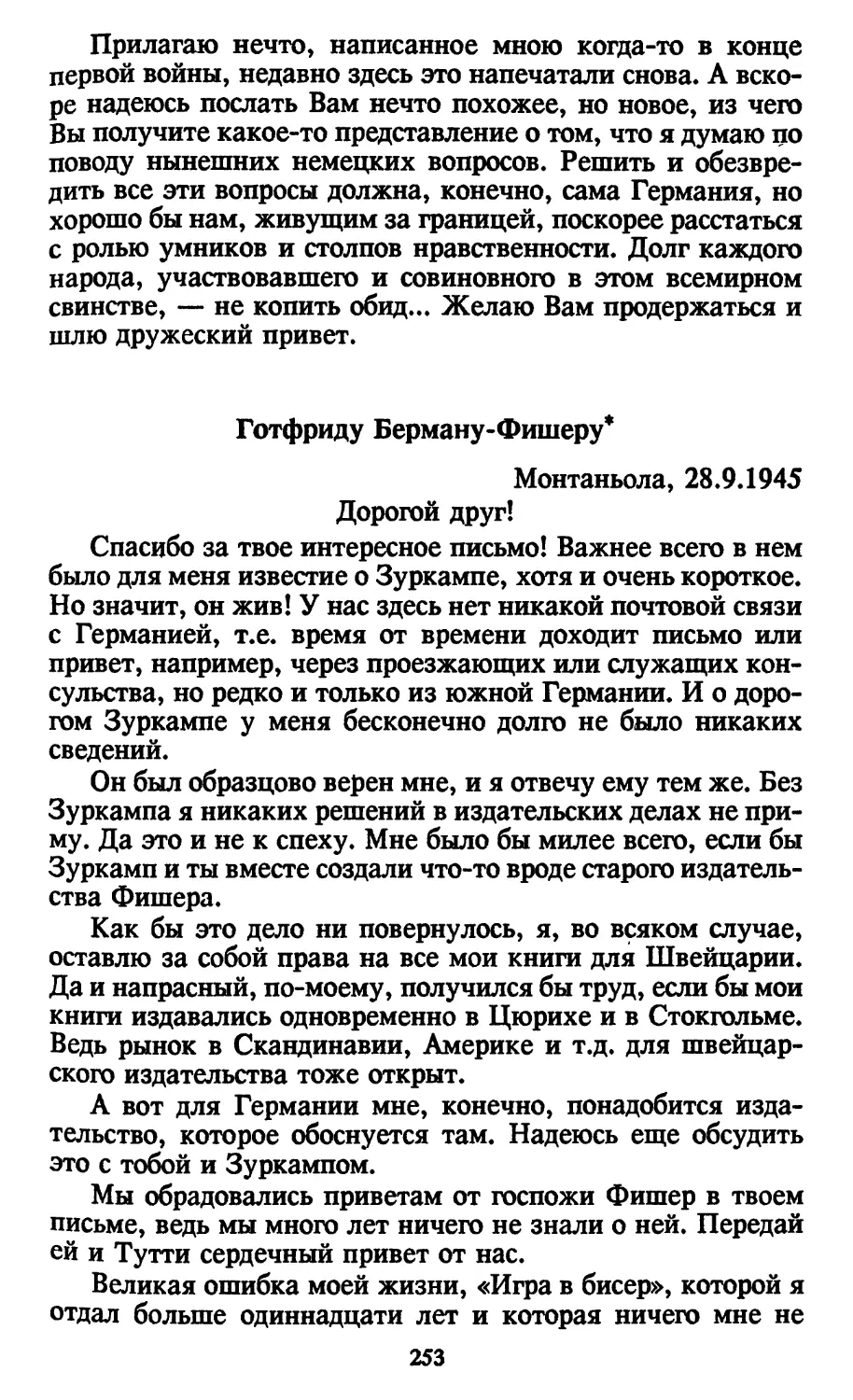
![Р. Я. Хумму [октябрь 1945, черновик]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/257.webp)
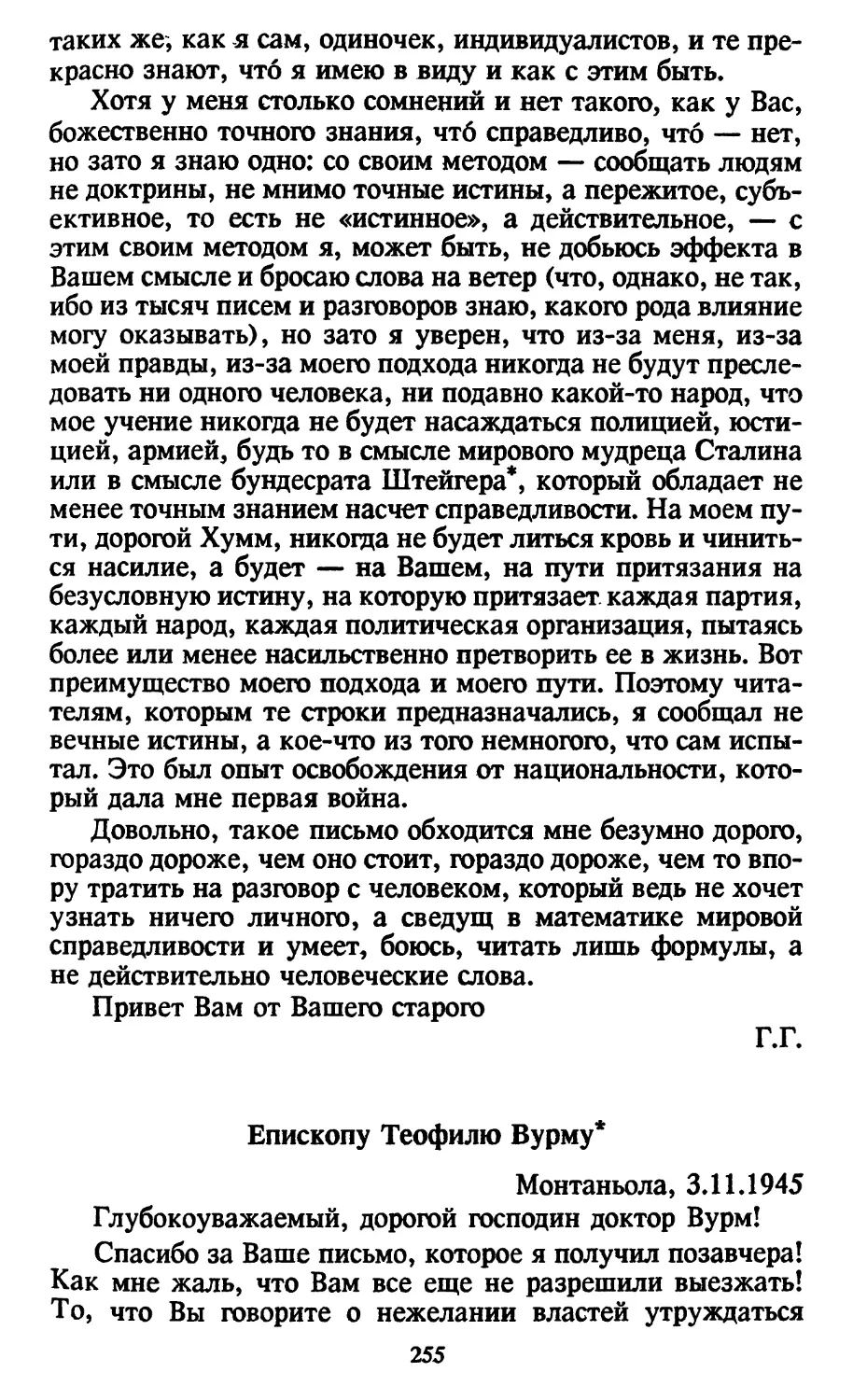
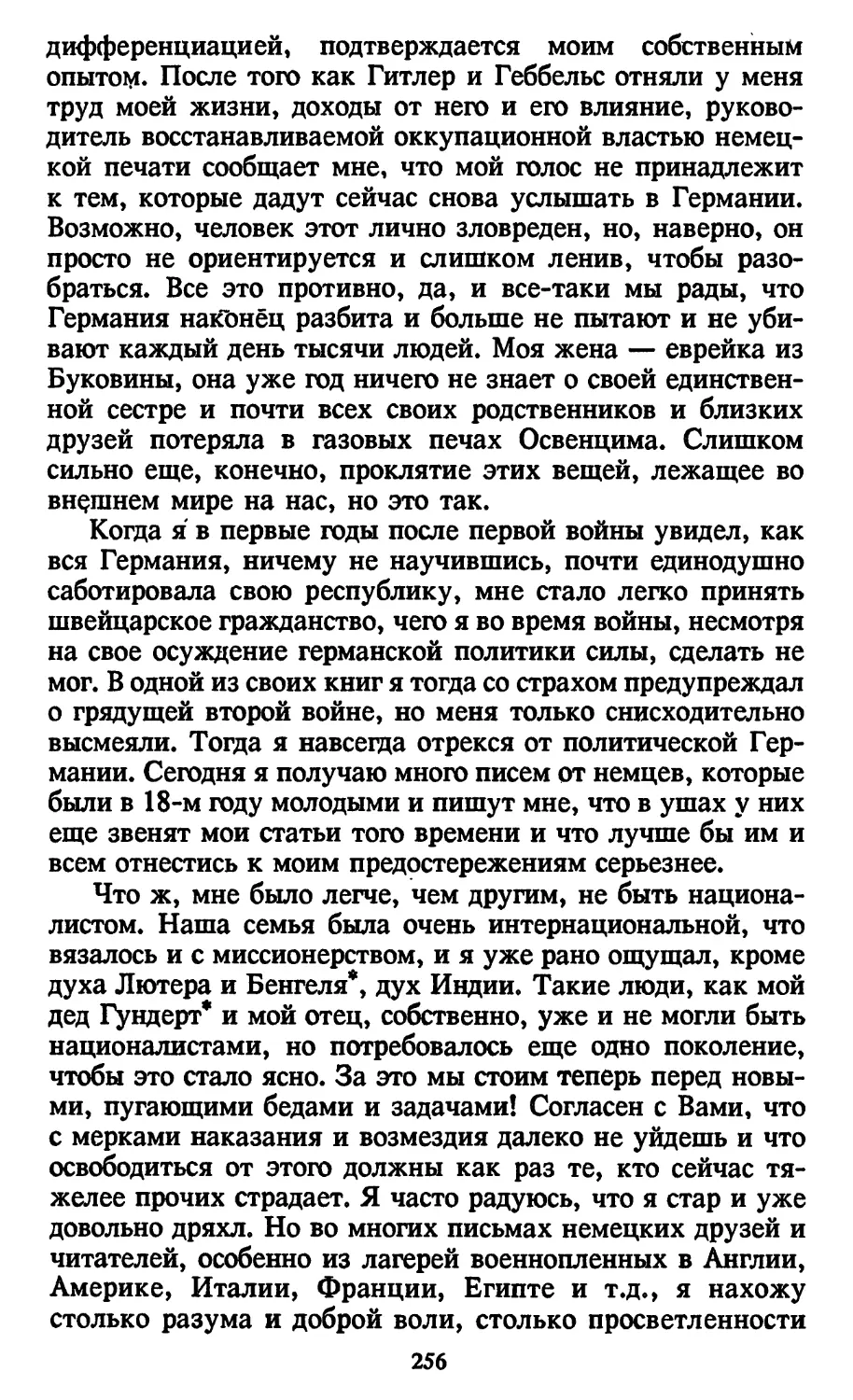
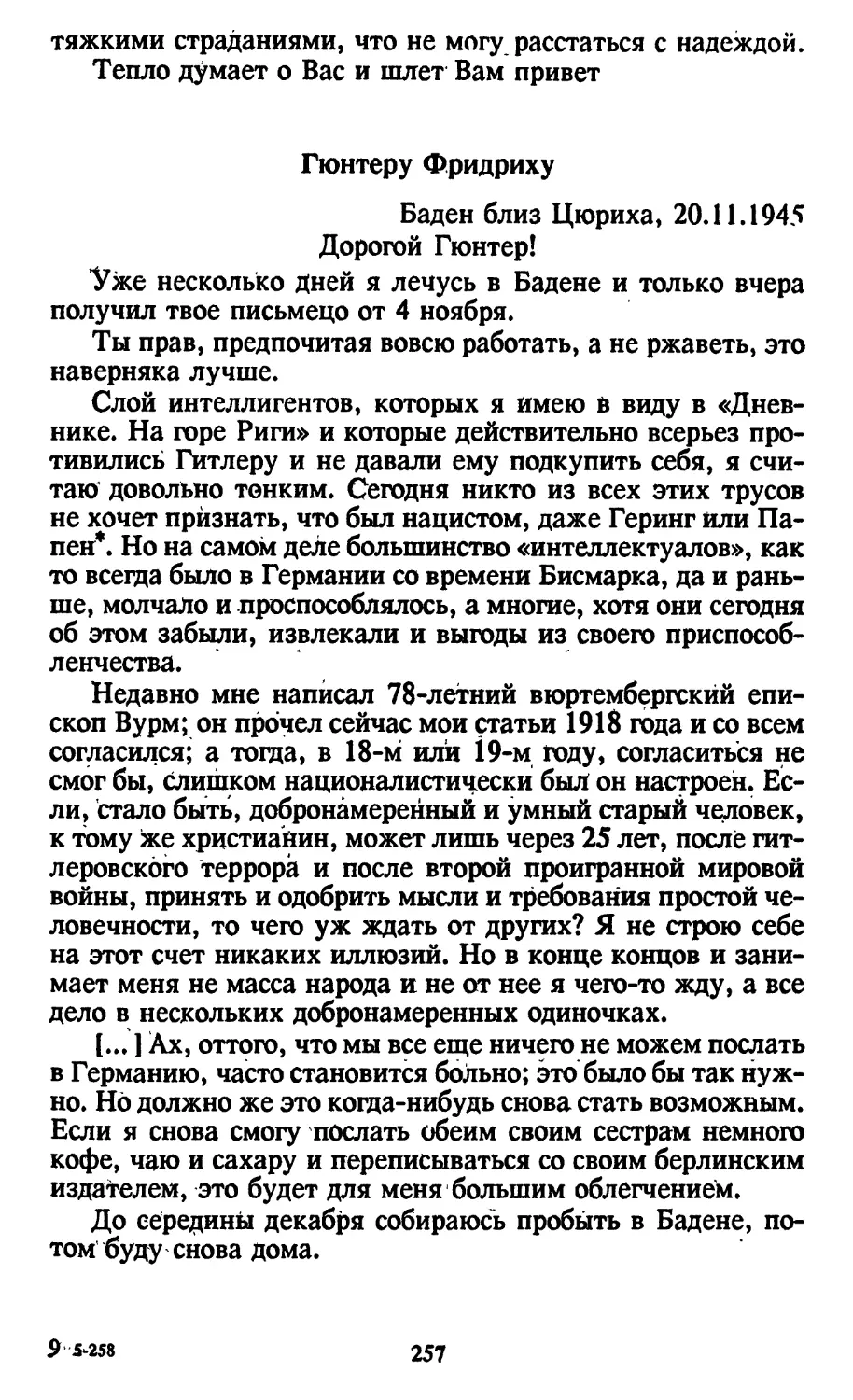
![Читательнице [23.11.1945]
Сыну Хайнеру[январь 1946]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/261.webp)
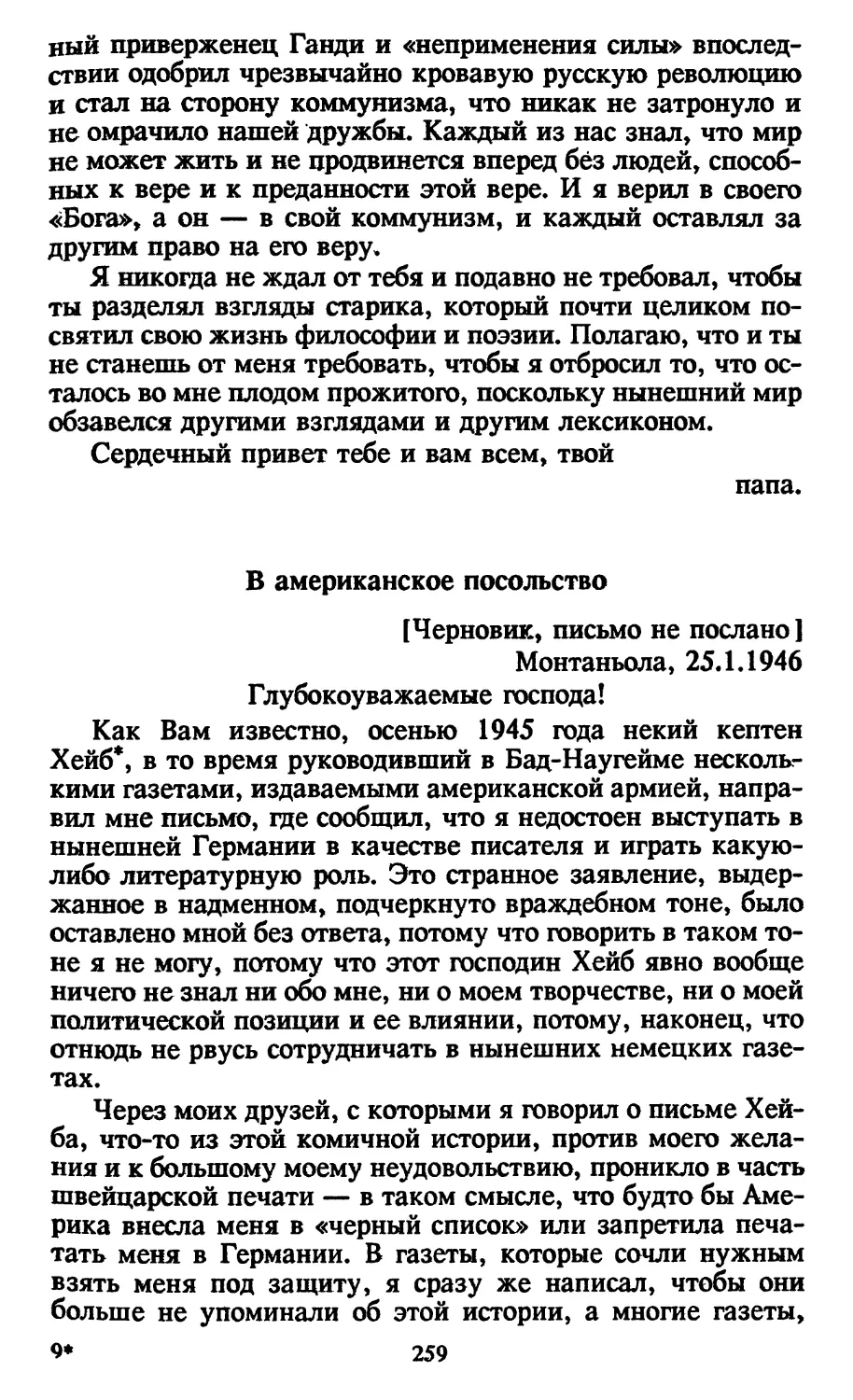
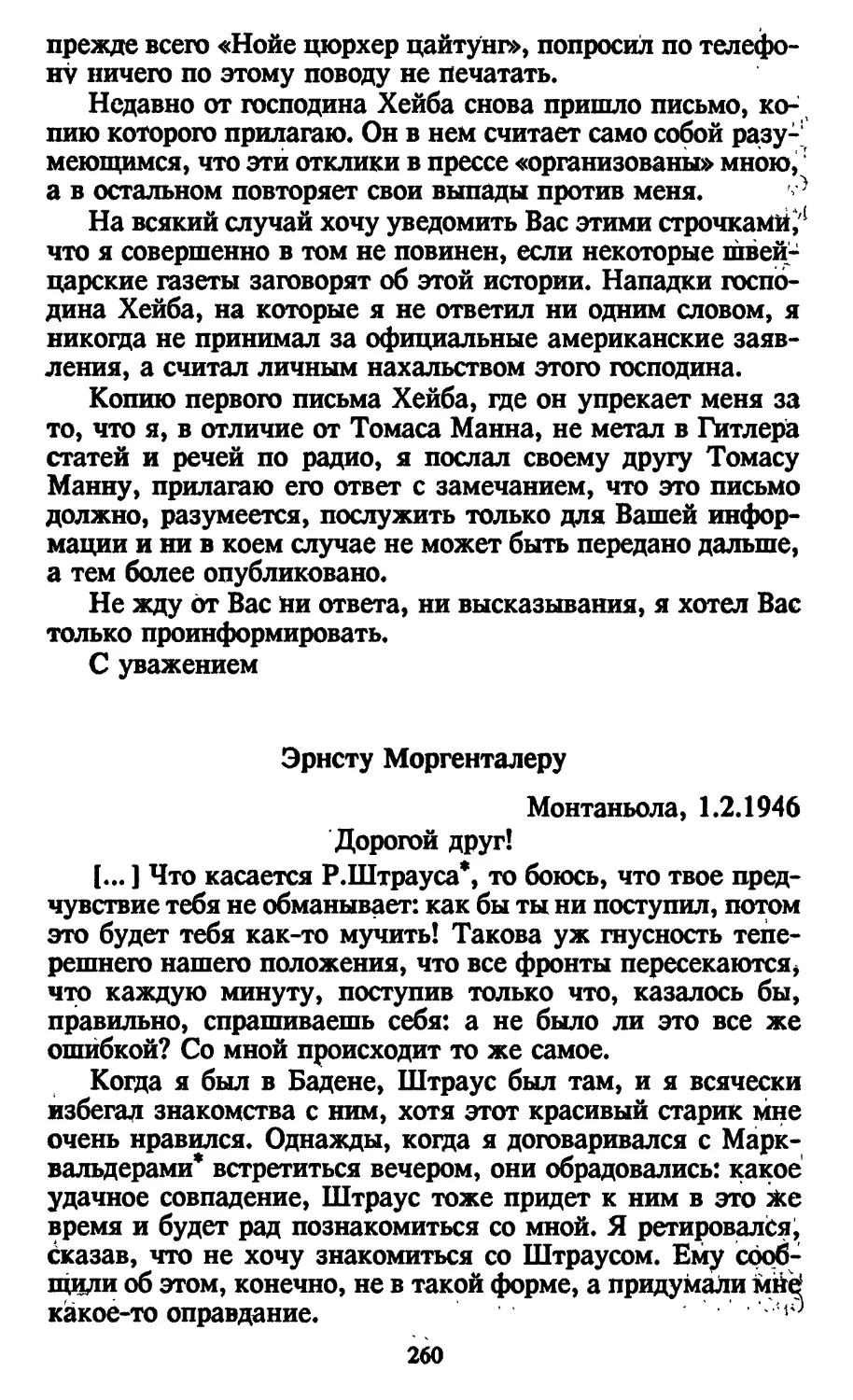
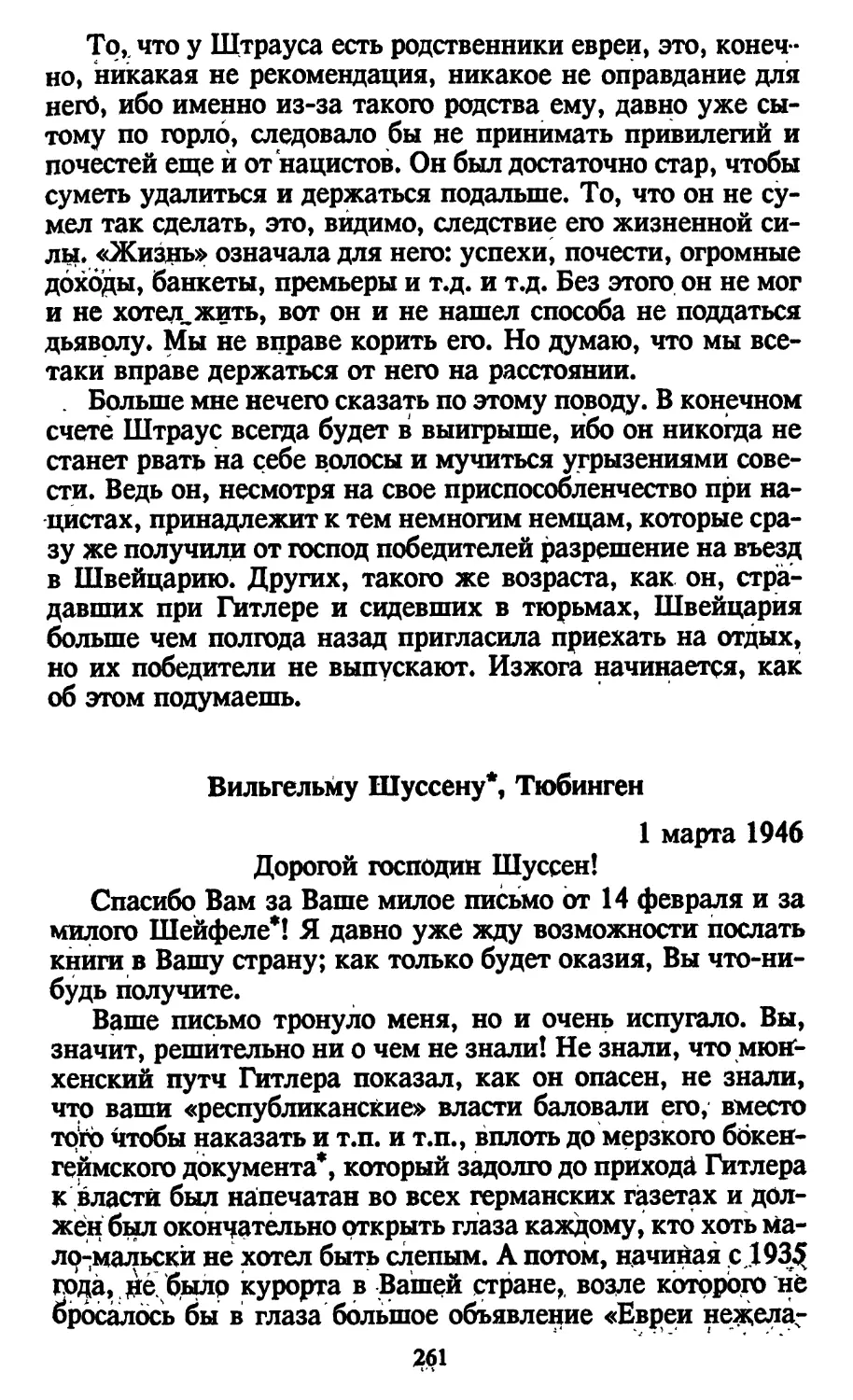
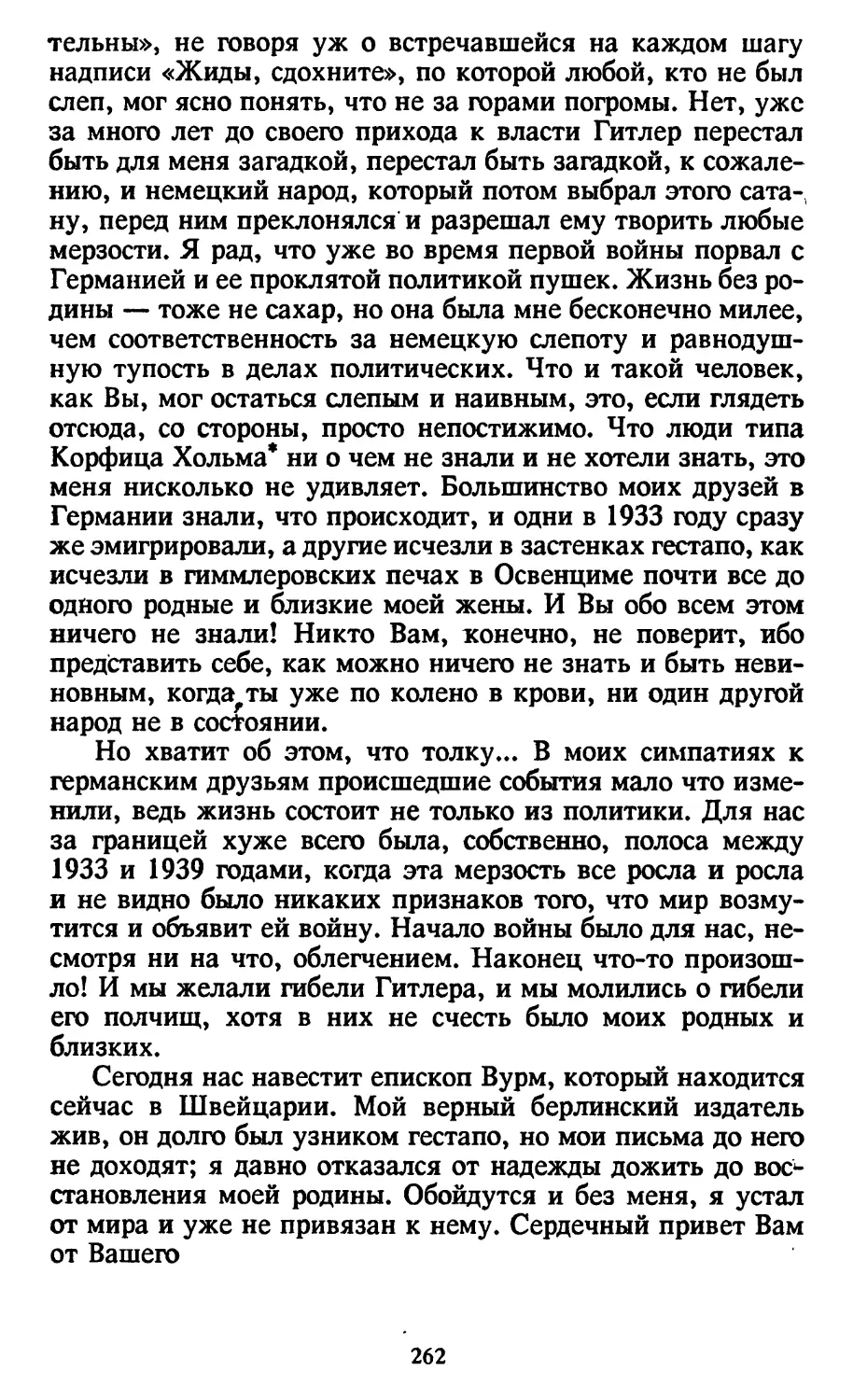
![Паулю А. Бреннеру [6.3.1946]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/266.webp)
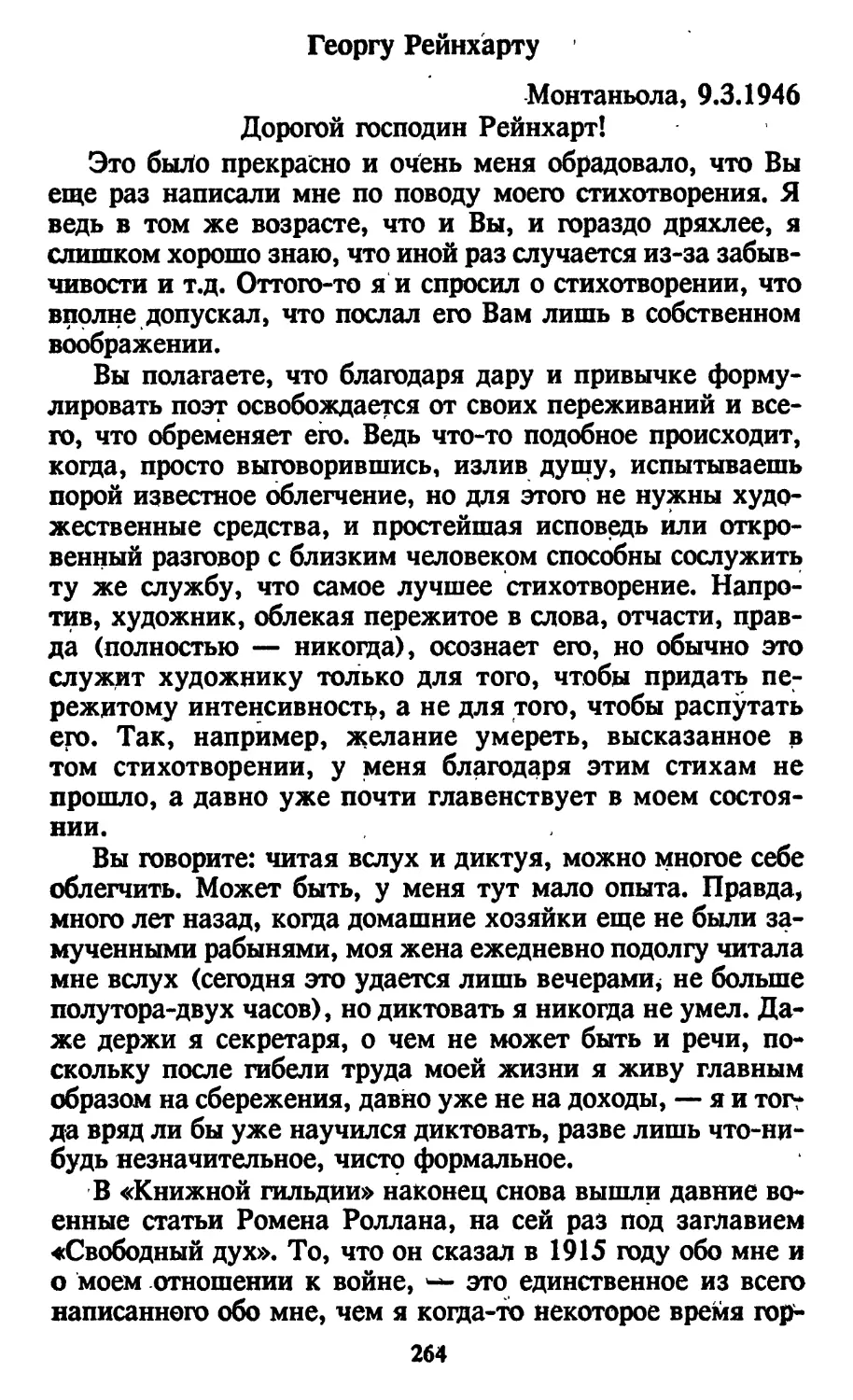
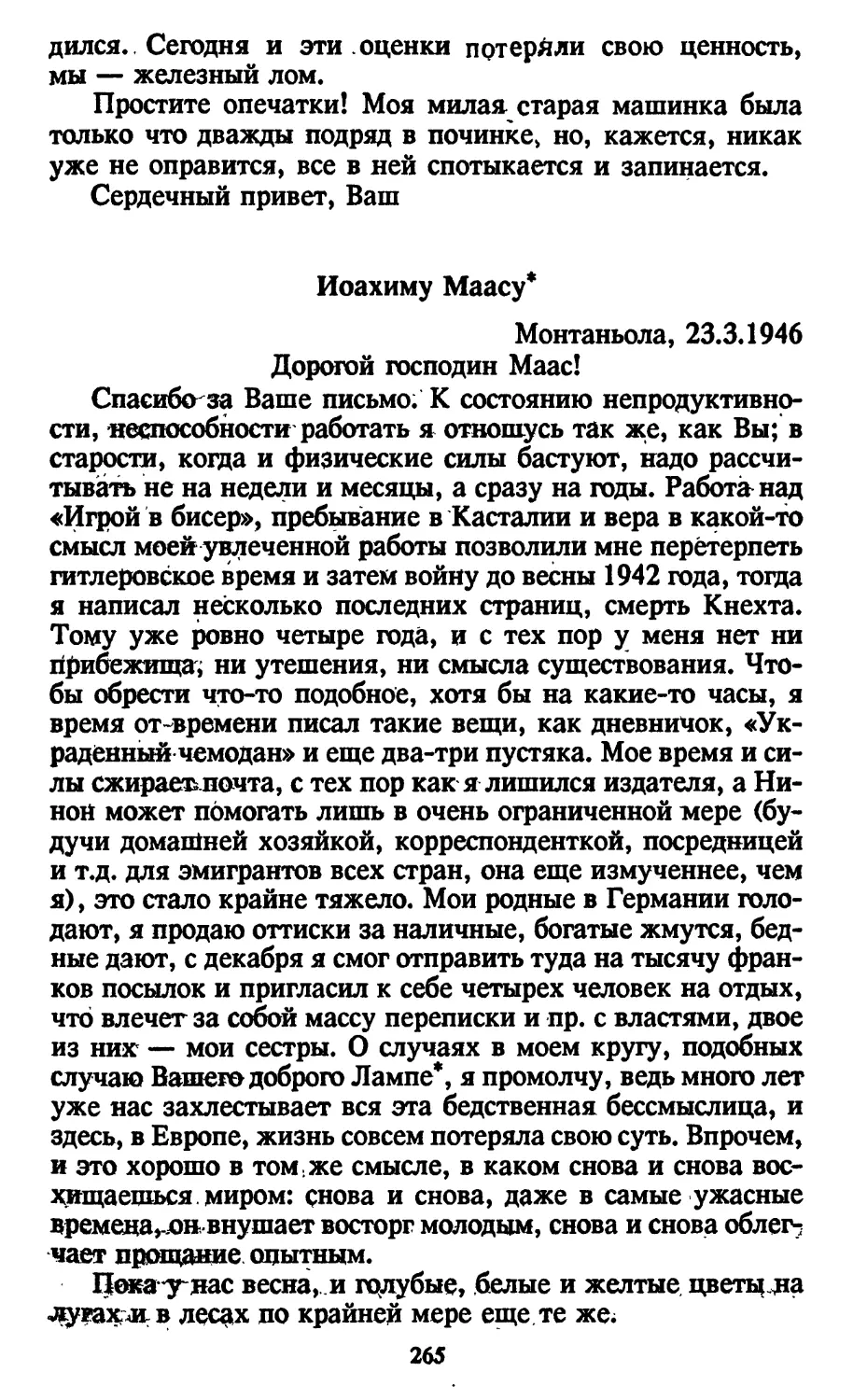
![Эрвину Аккеркнехту [13.4.1946]
Петеру Зуркампу. 21.4.1946](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/269.webp)
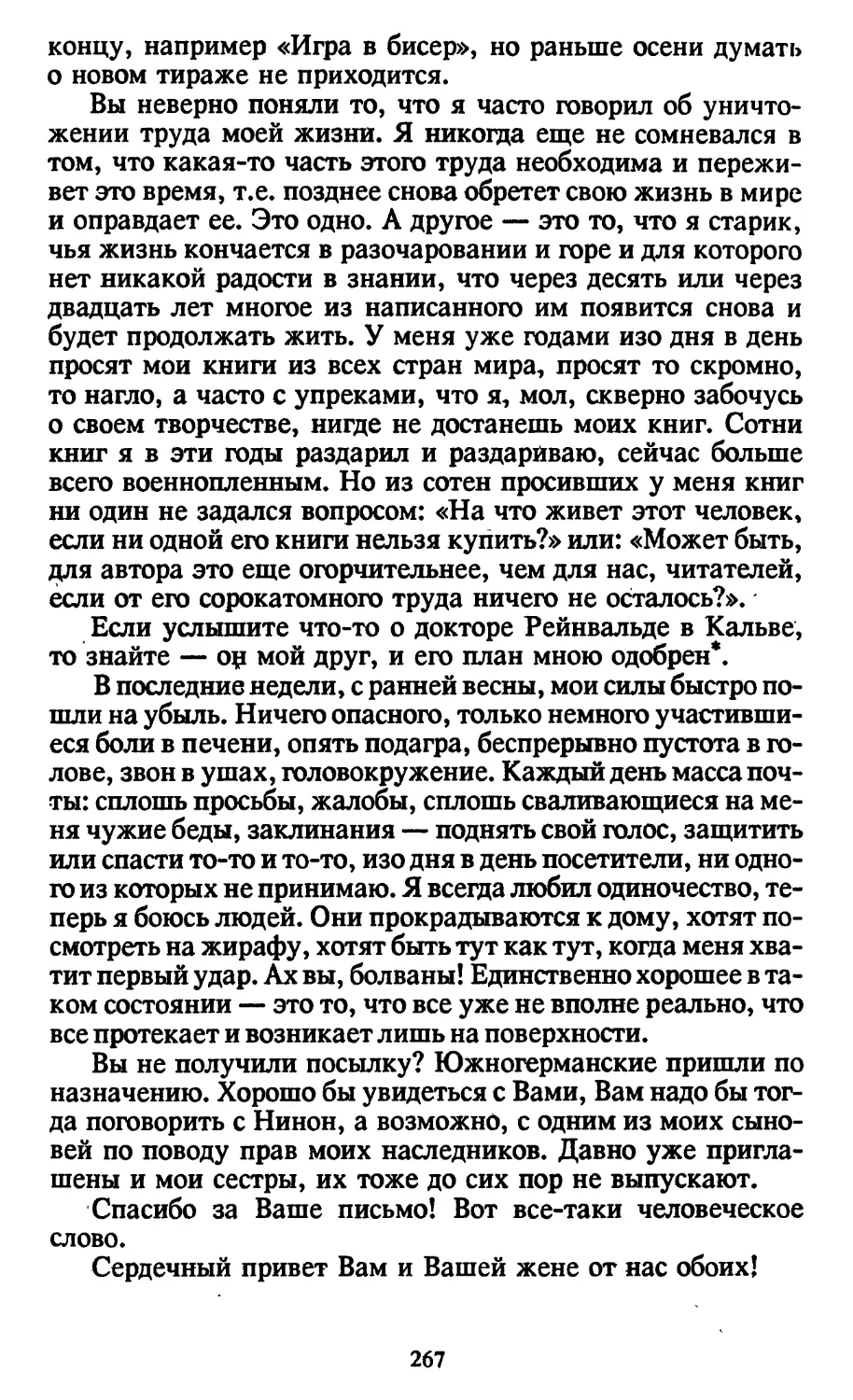
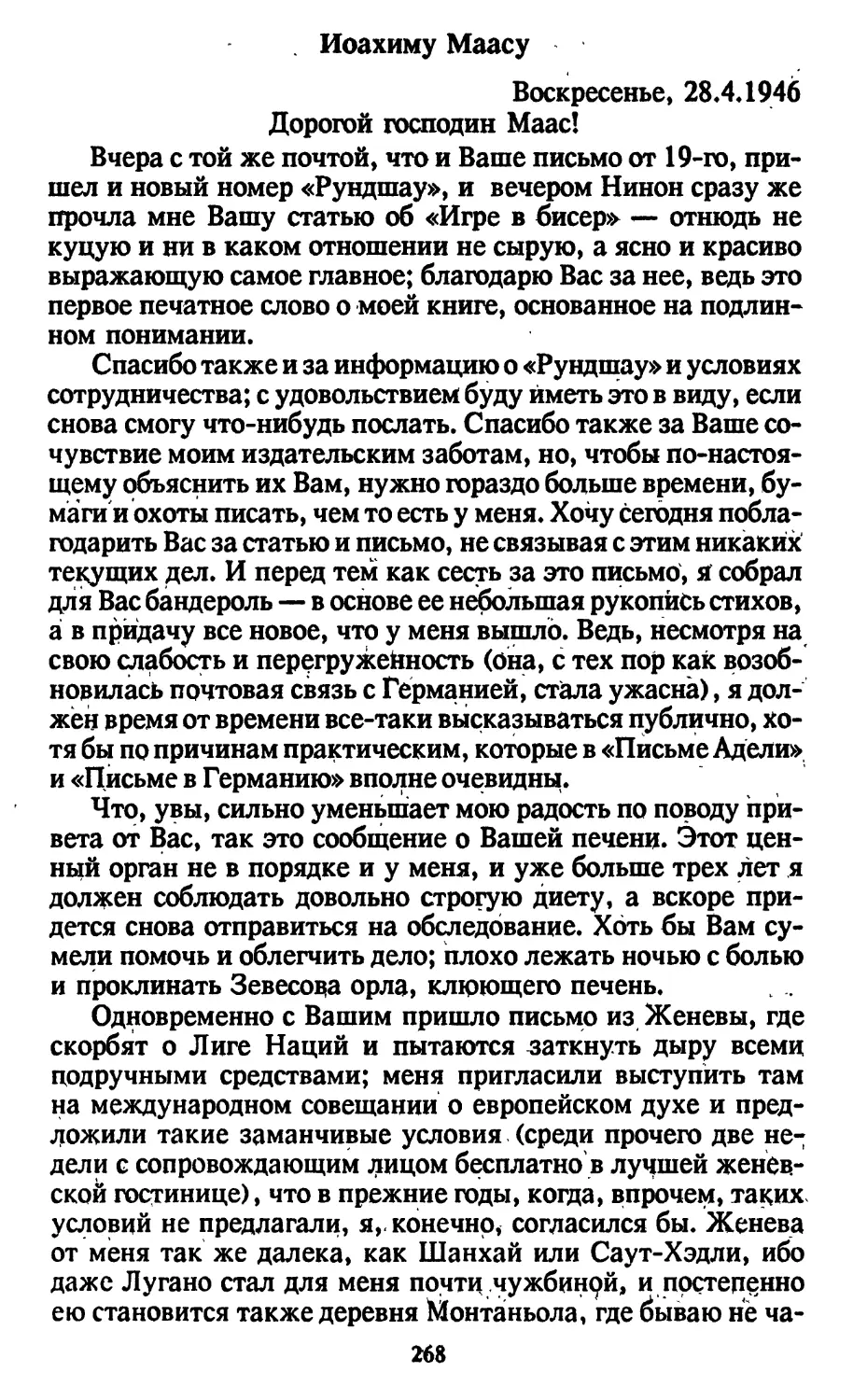
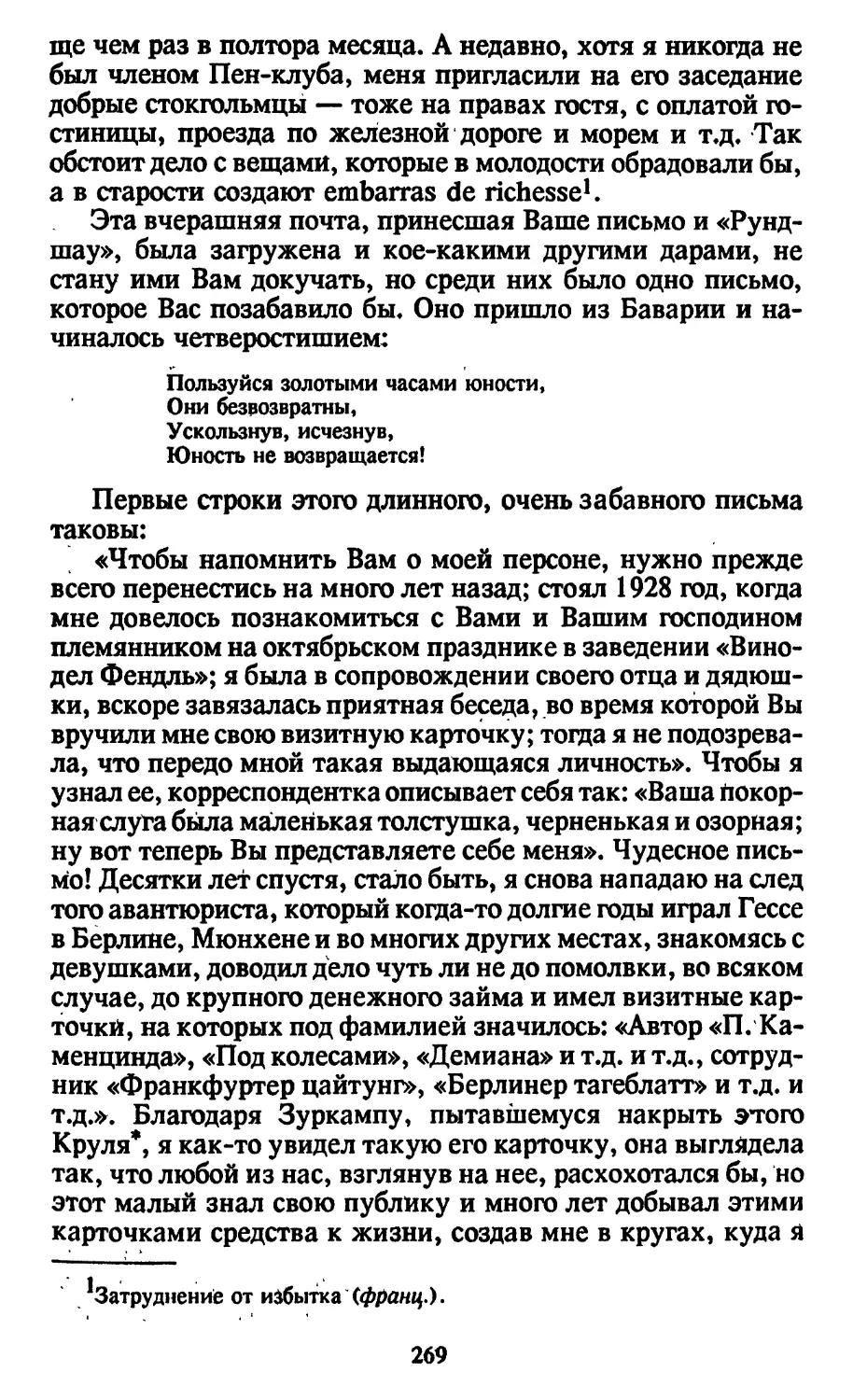
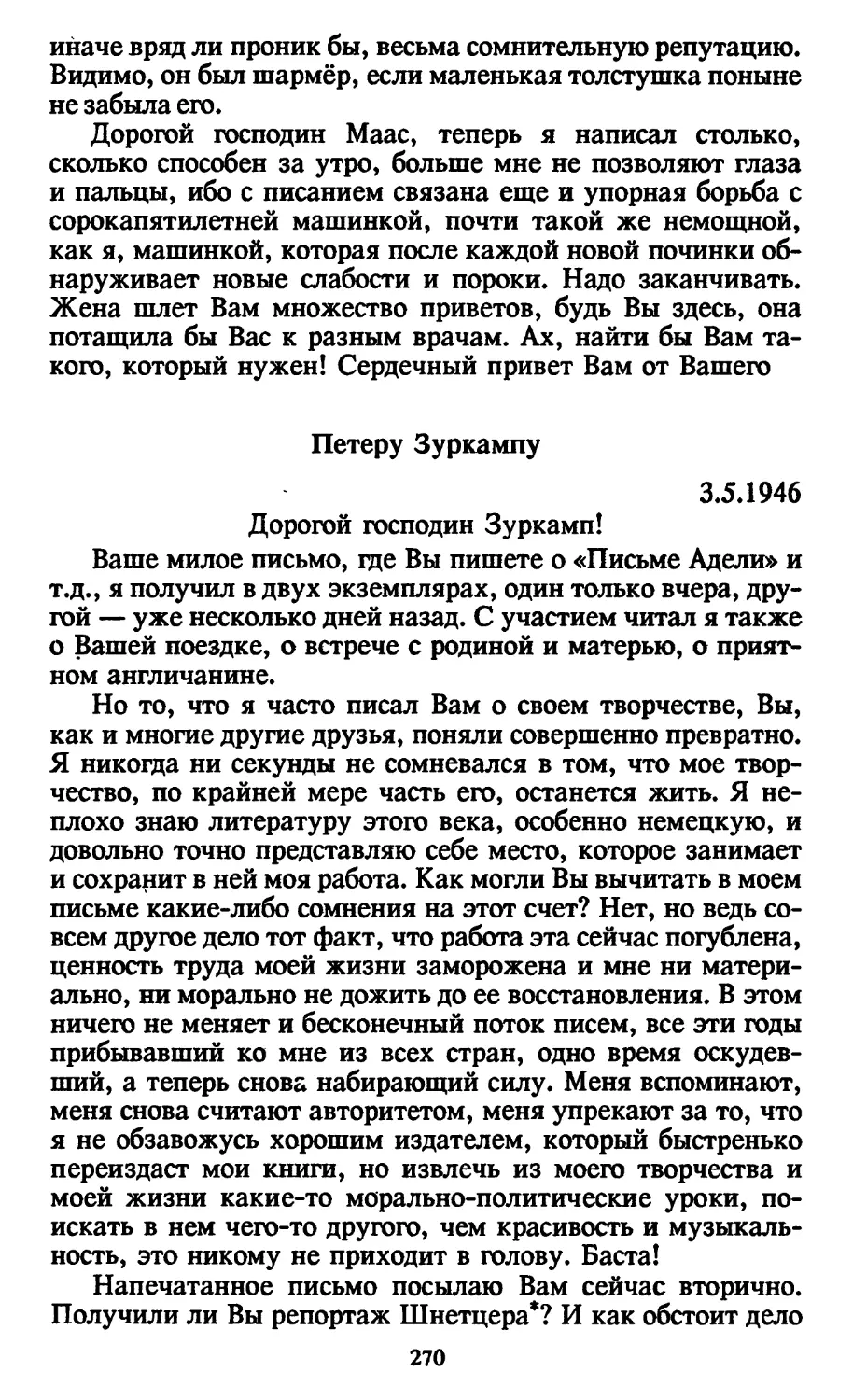
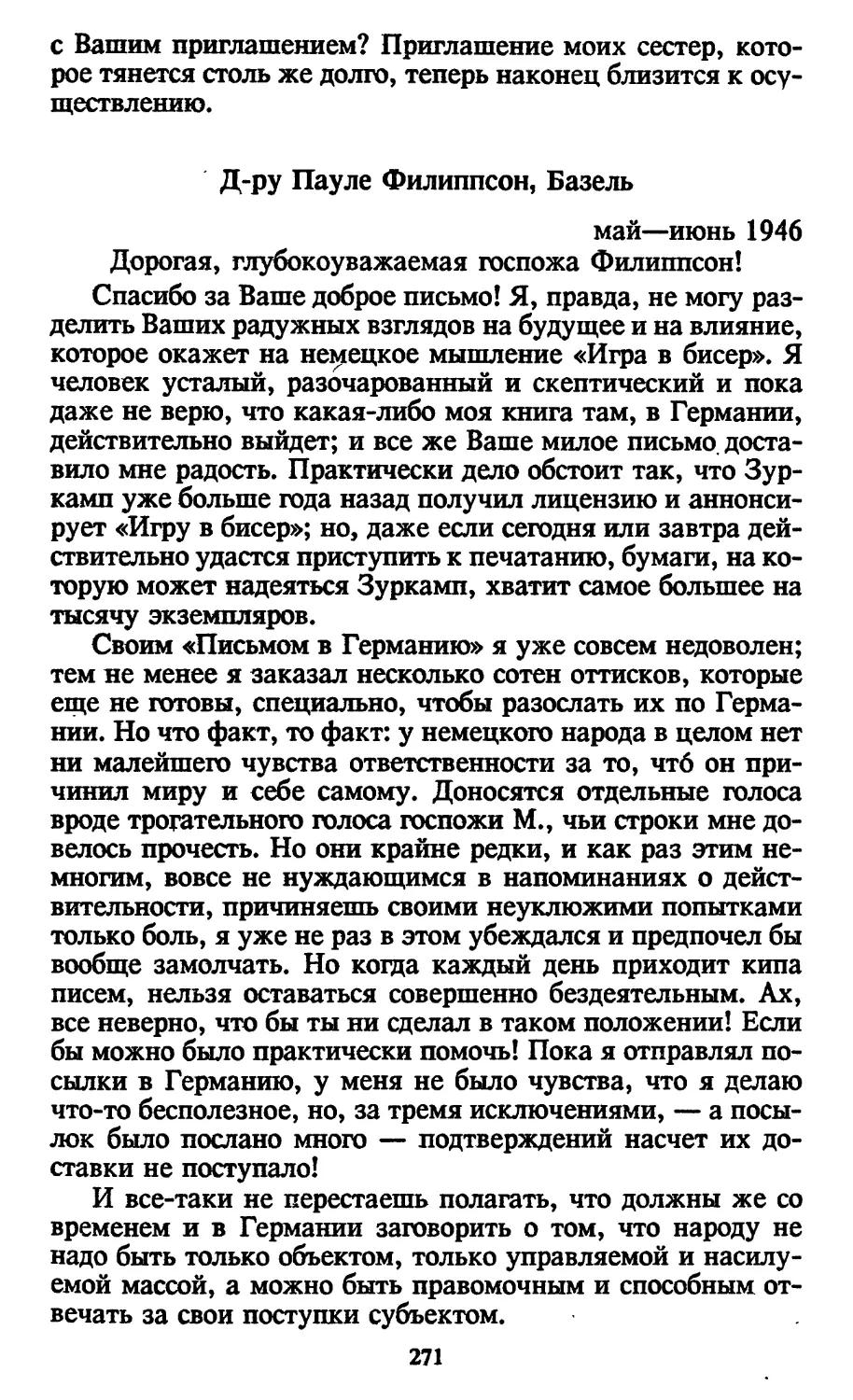
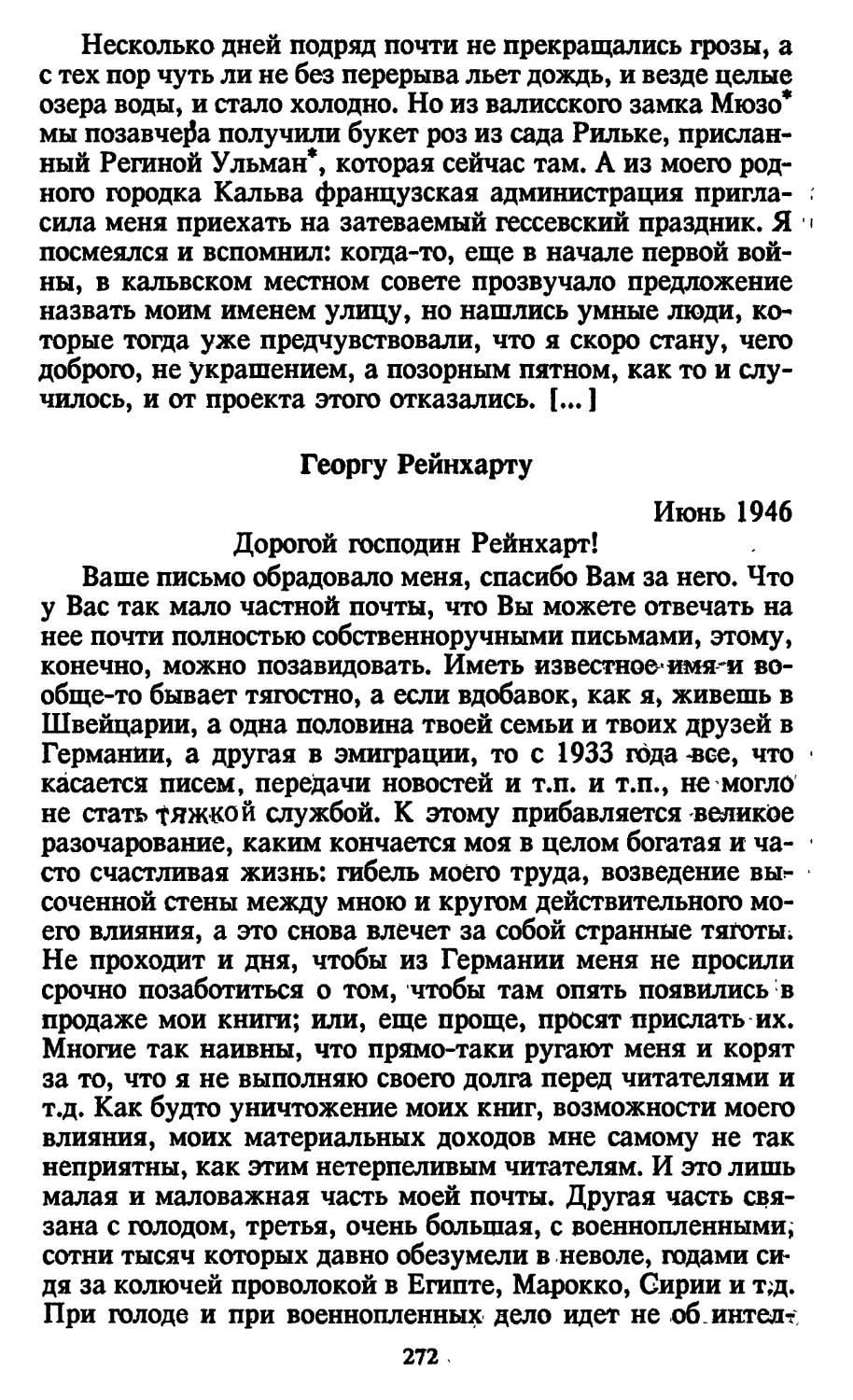
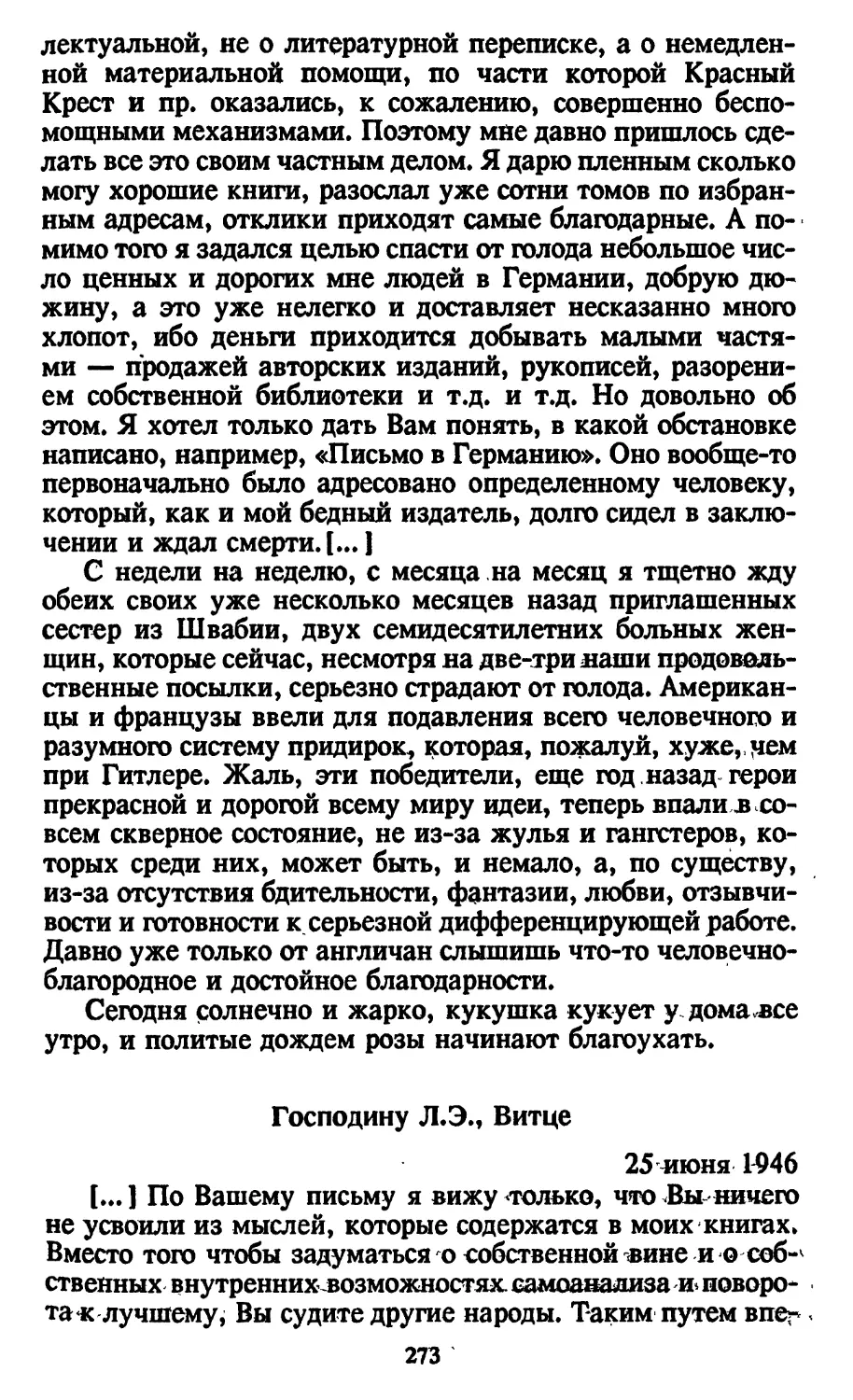
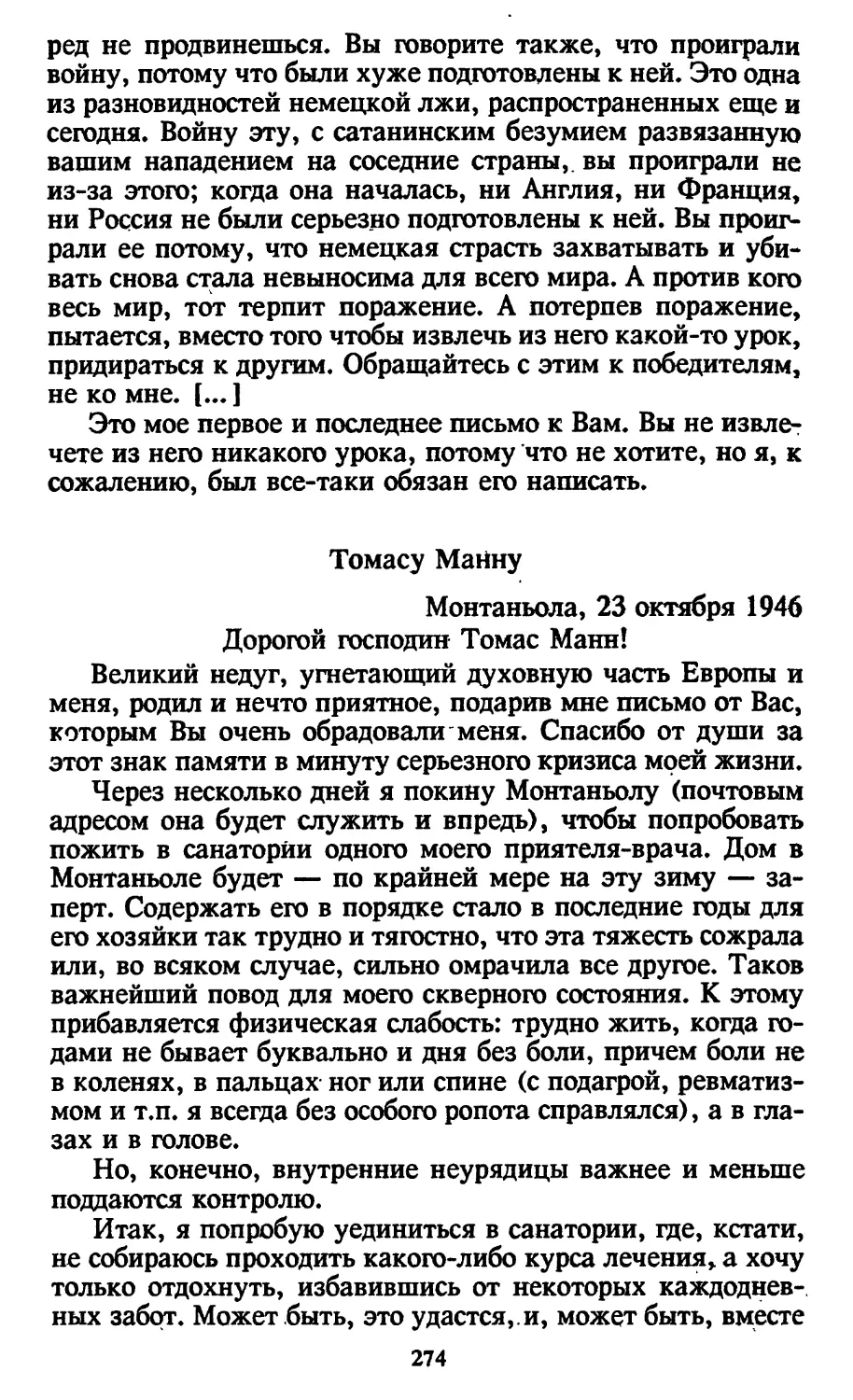
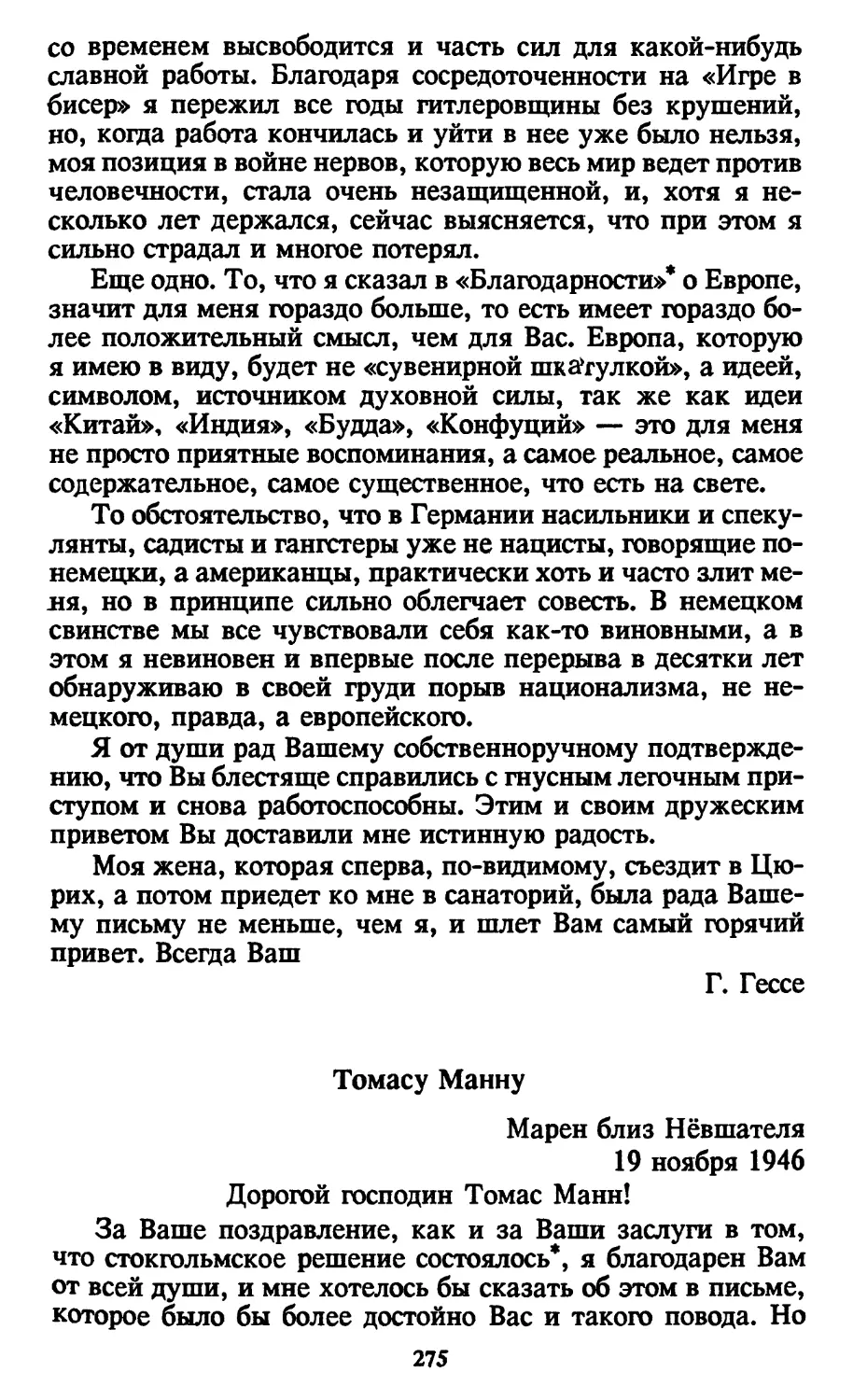
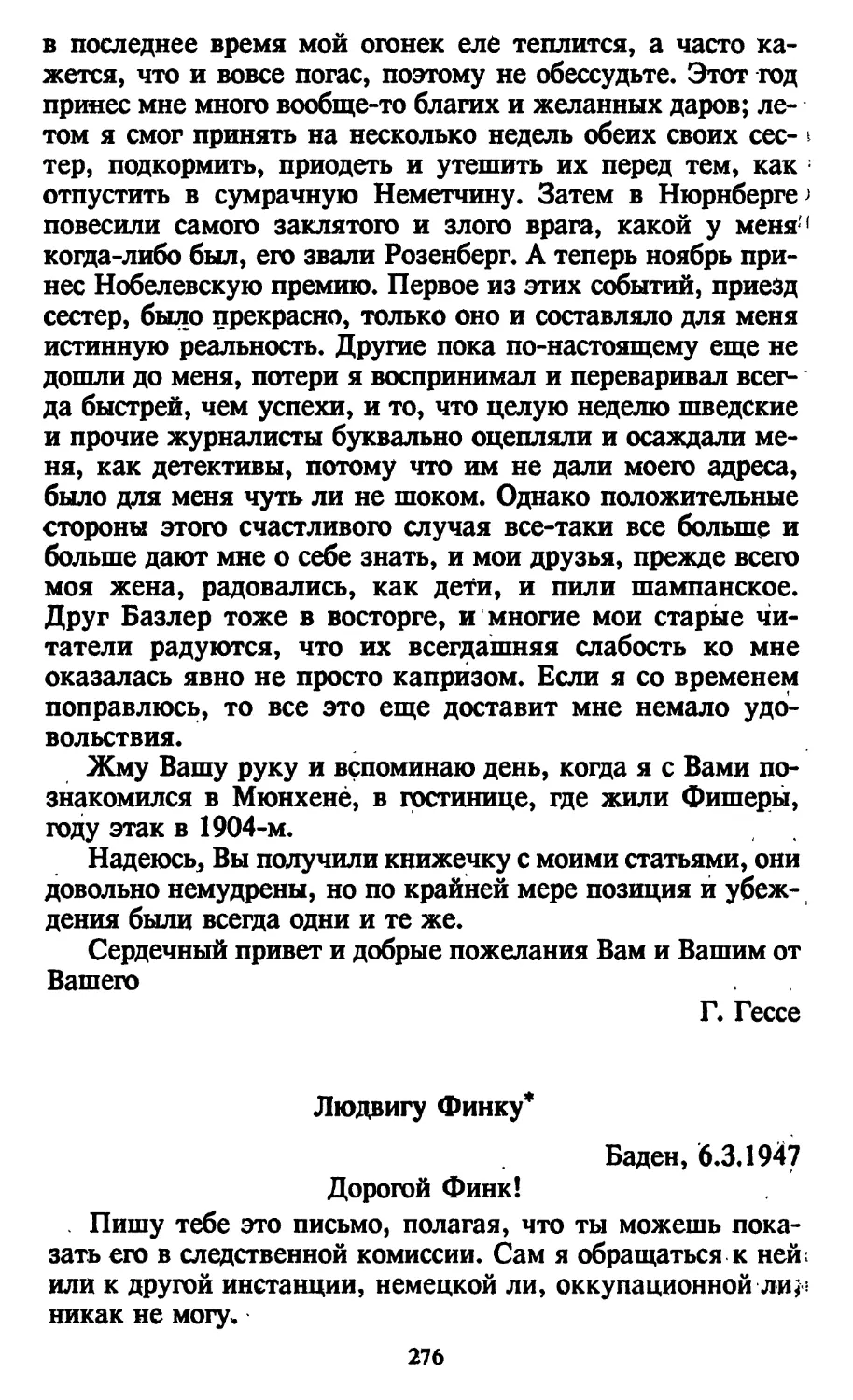

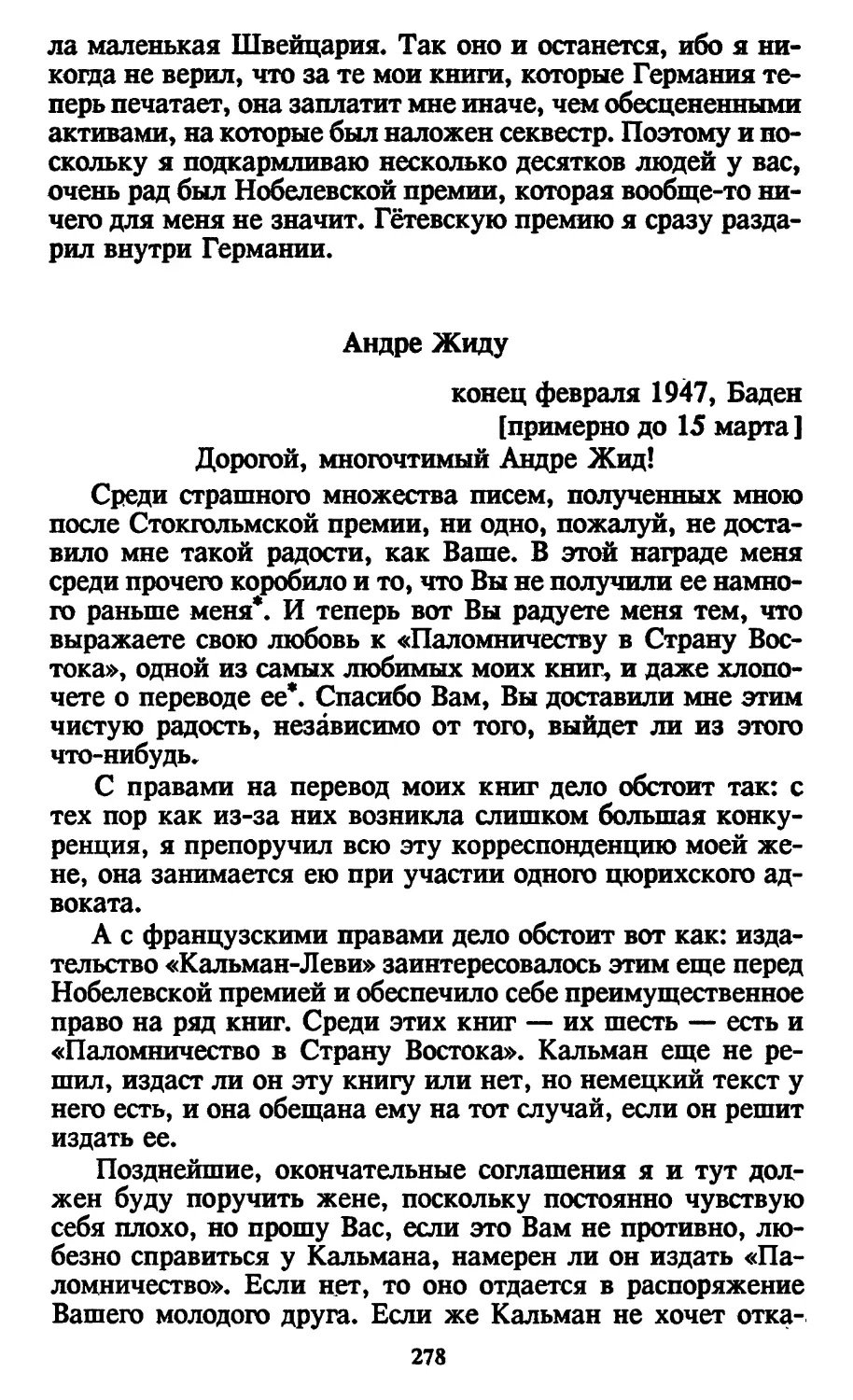
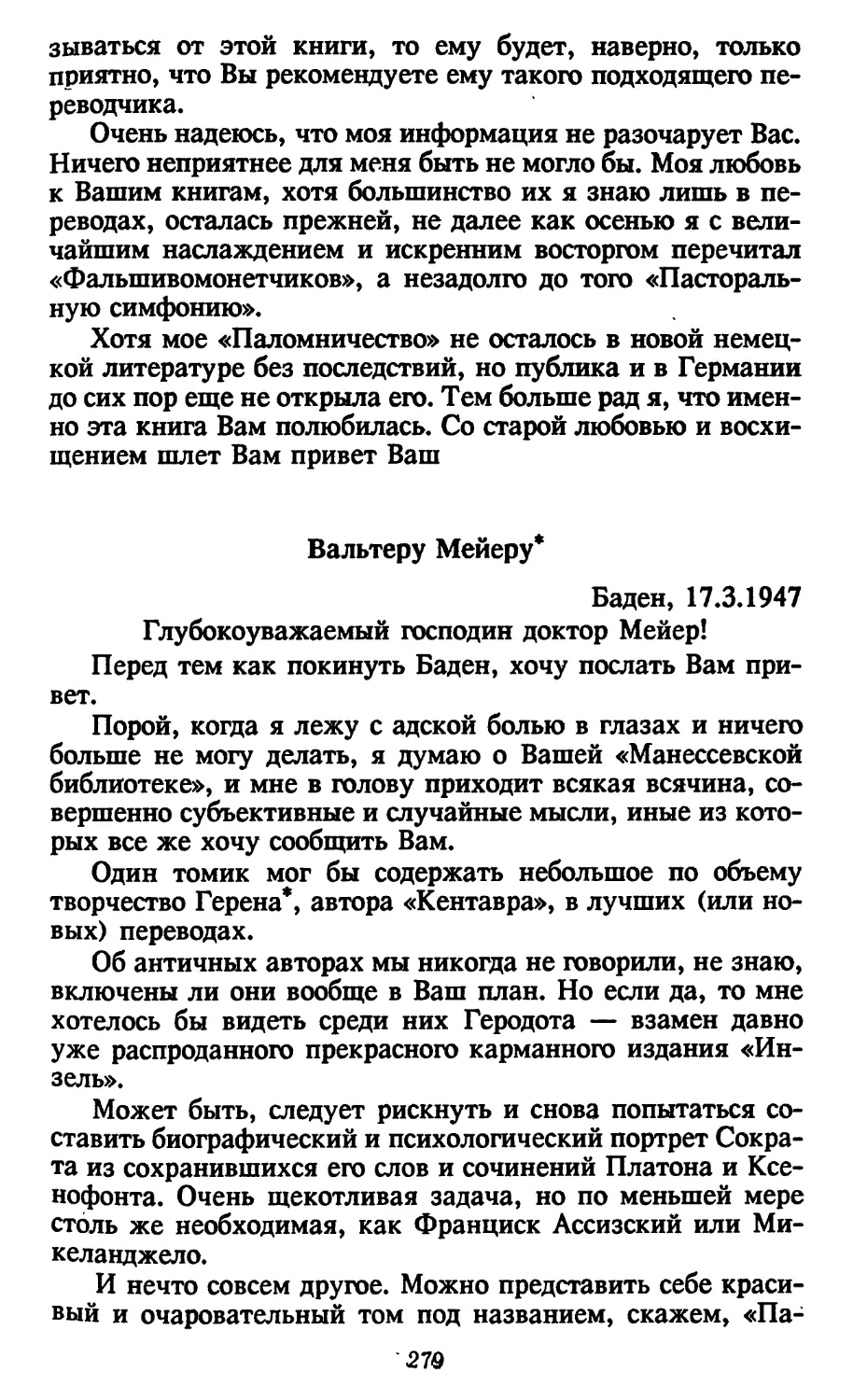
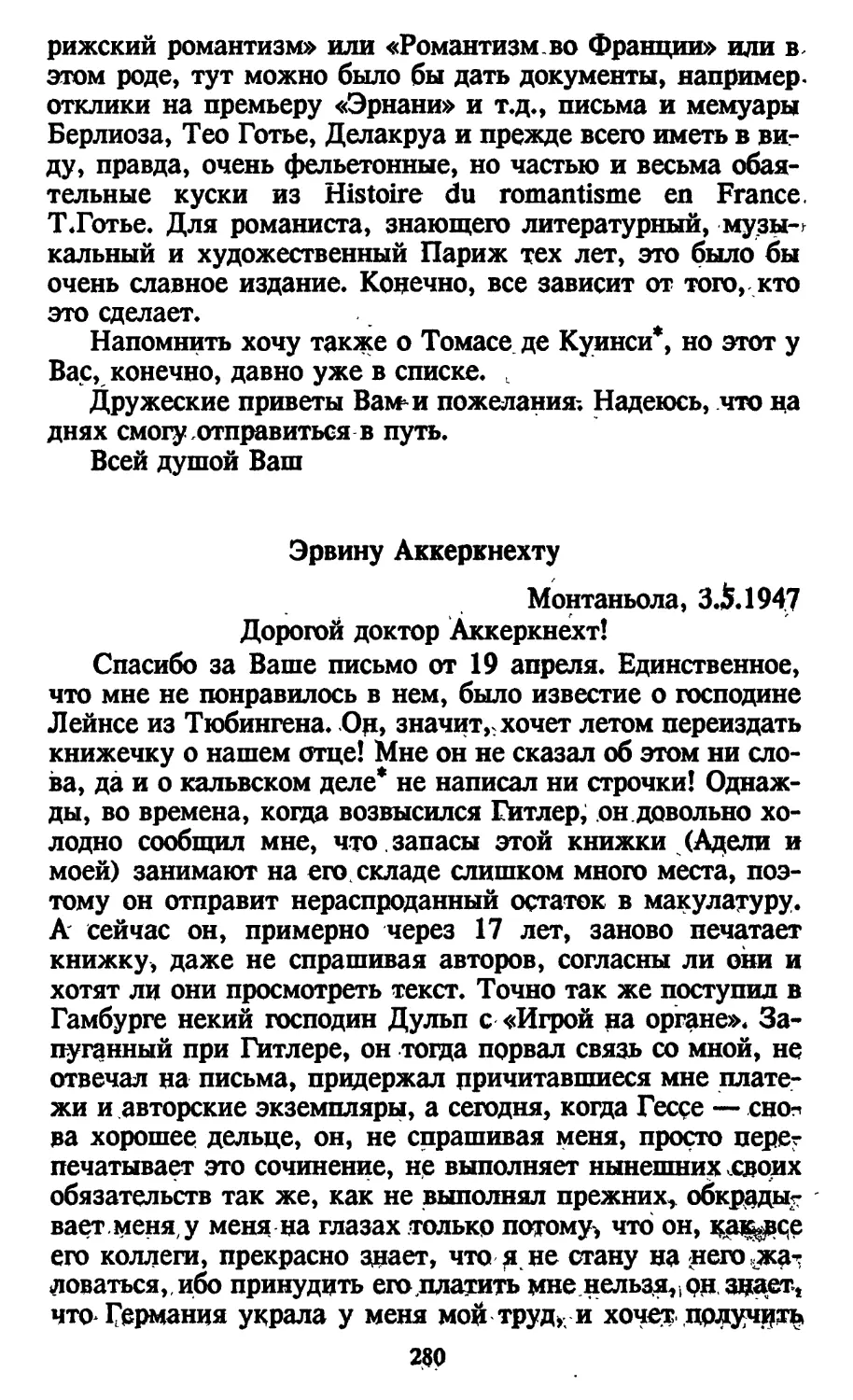
![Гансу Гольцу [середина мая 1947]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/284.webp)
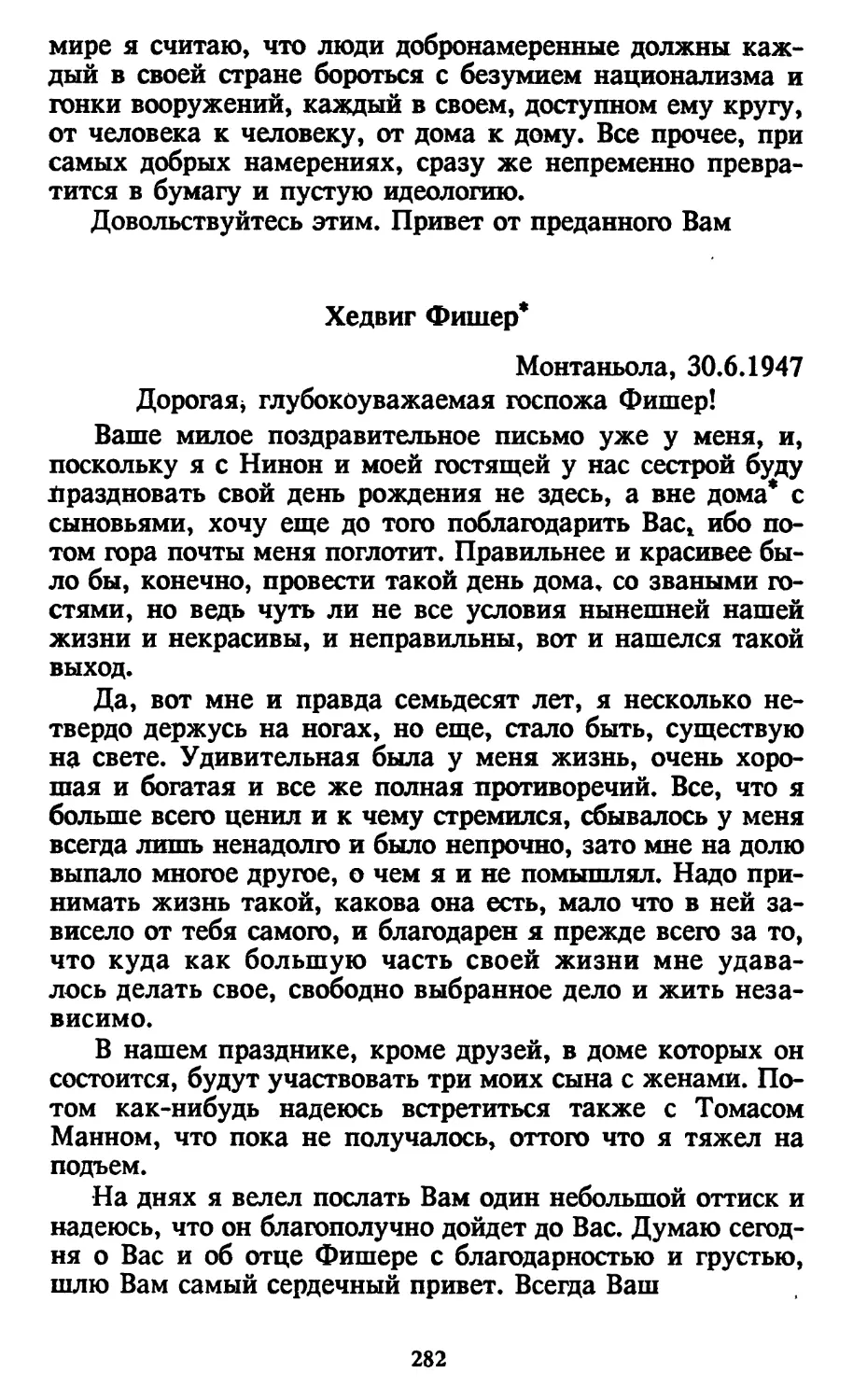
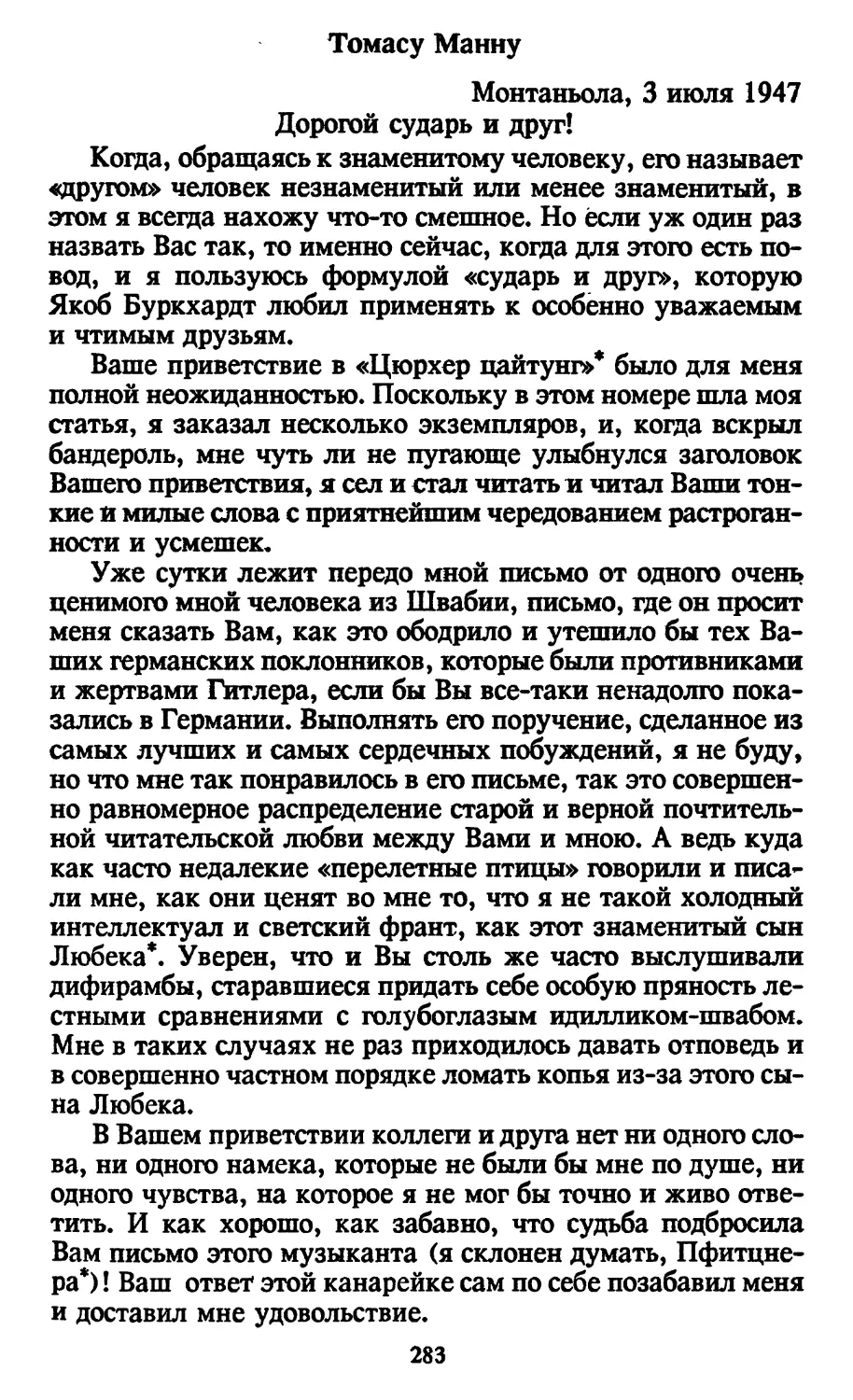
![Луизе Ринзер [лето 1947]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/287.webp)
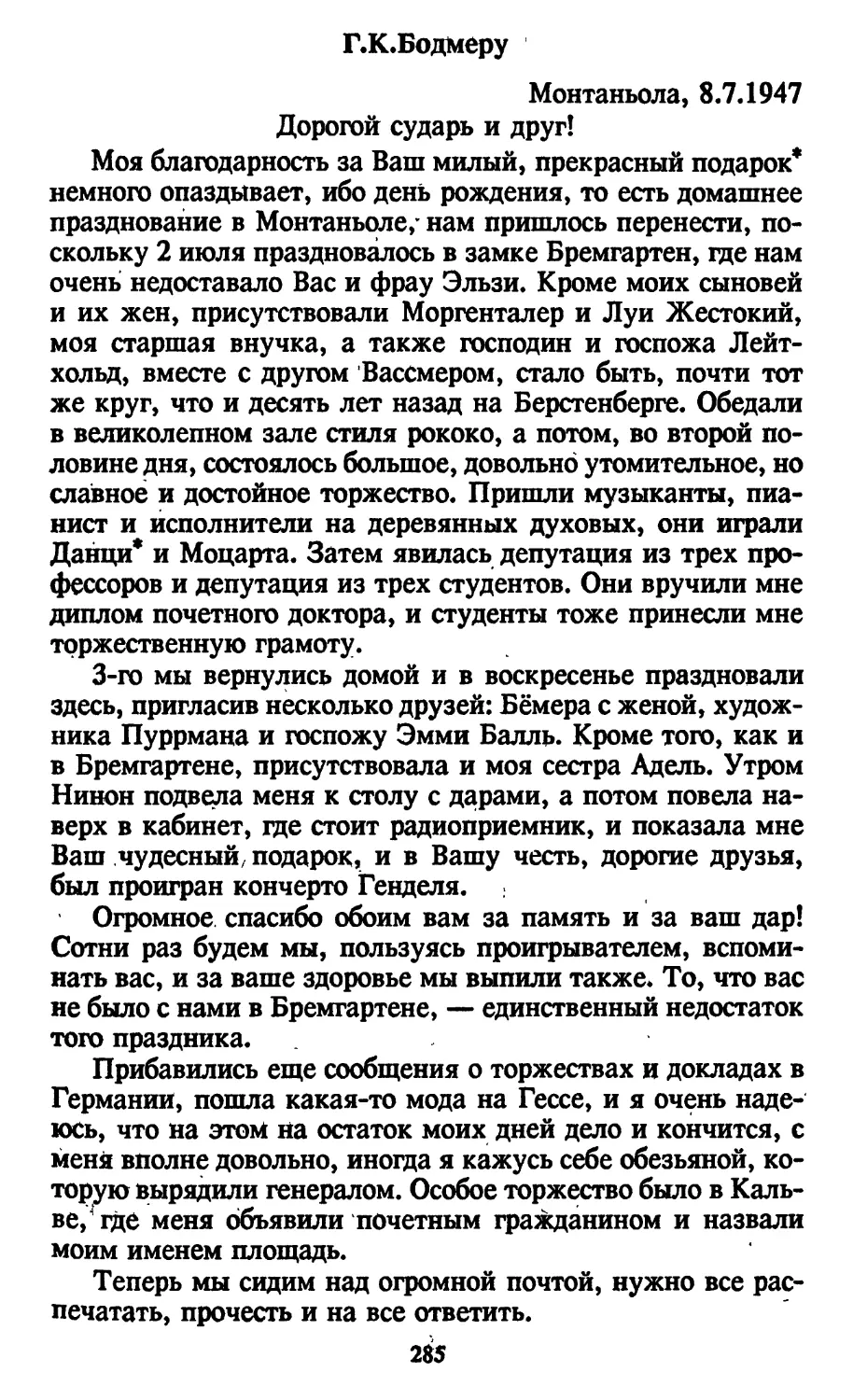
![Саломе Вильгельм [август 1947]
Отто Гартману. 5.9.1947](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/289.webp)
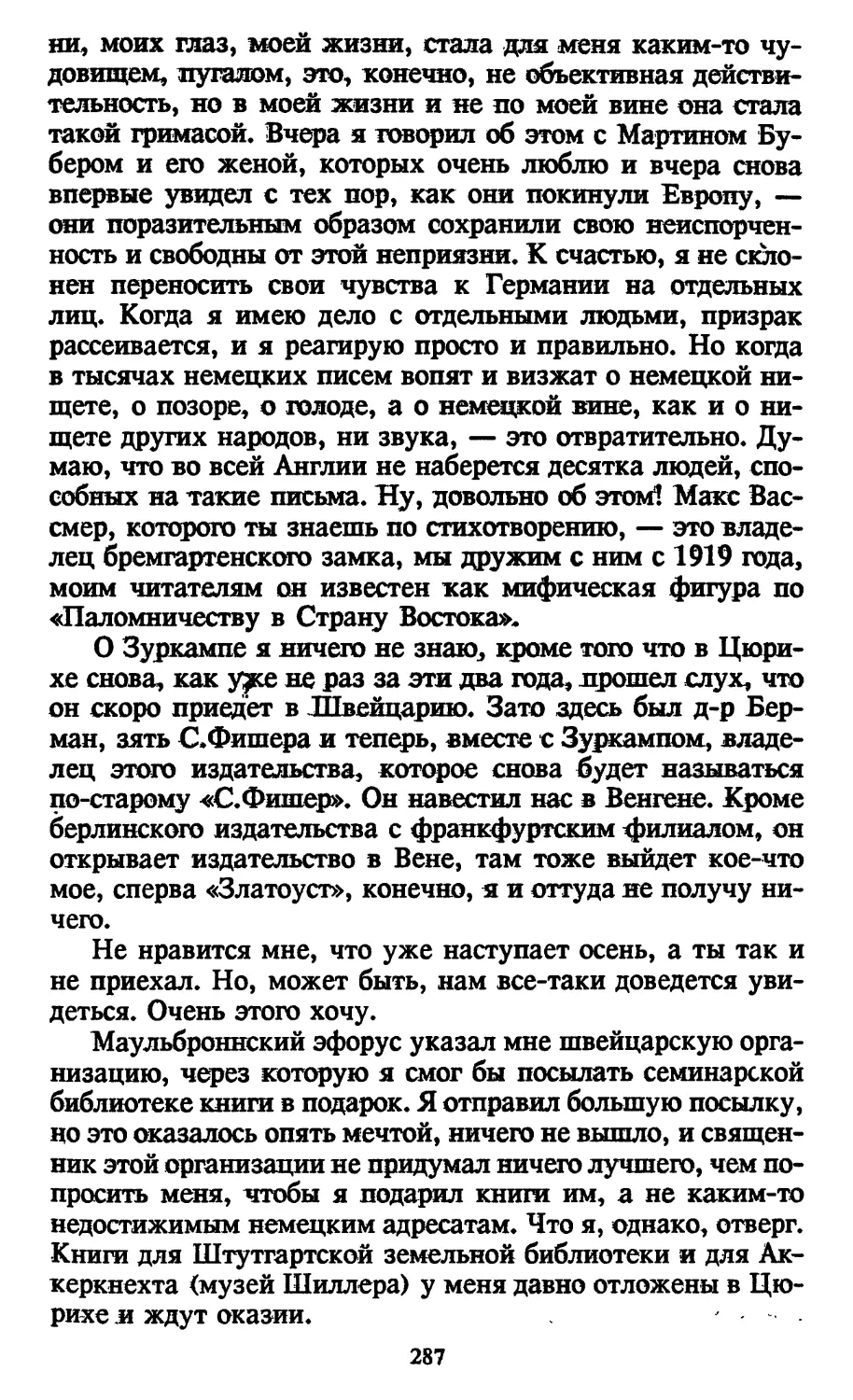
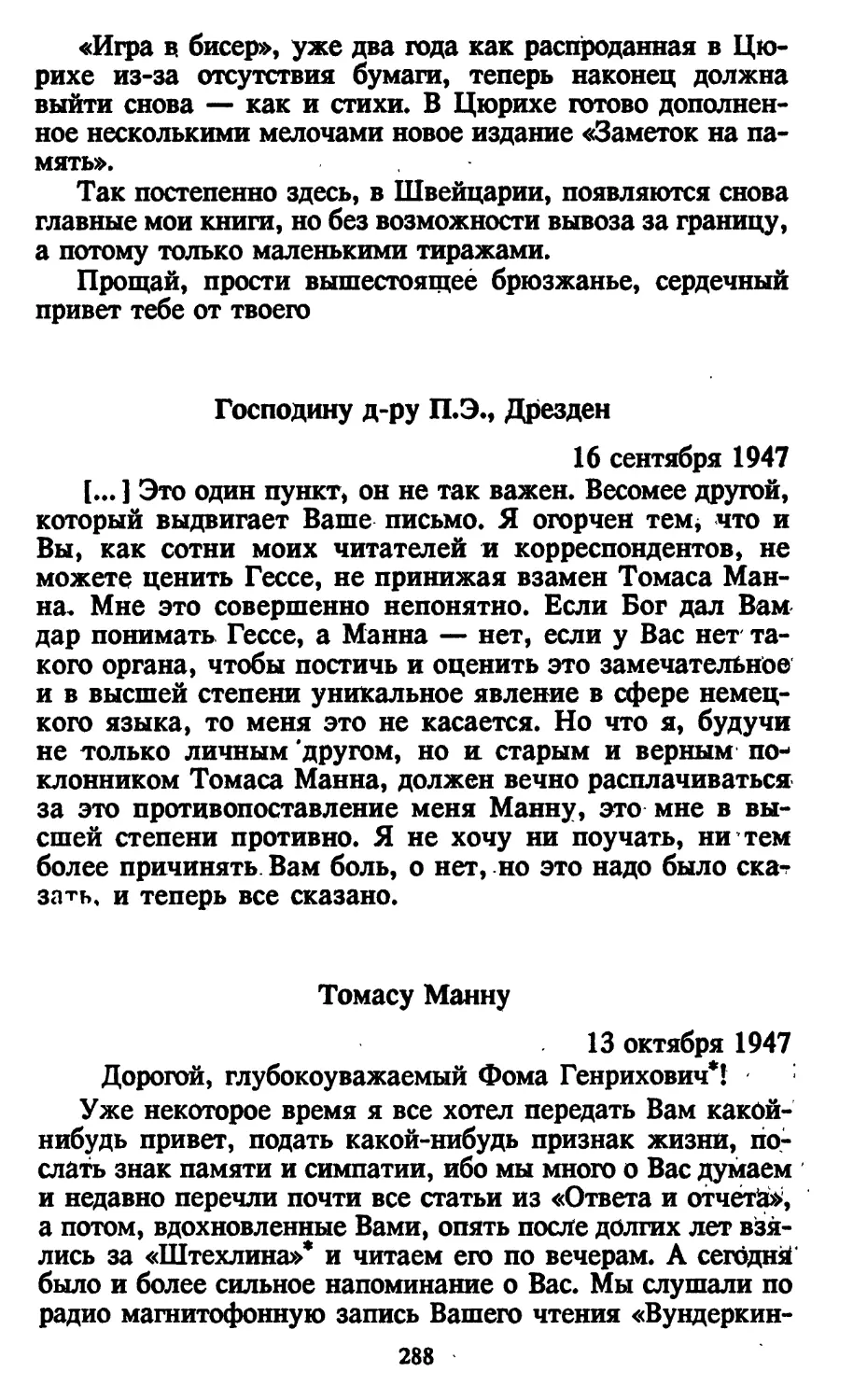
![Эдмунду Наттеру. 28.10.[1947]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/292.webp)
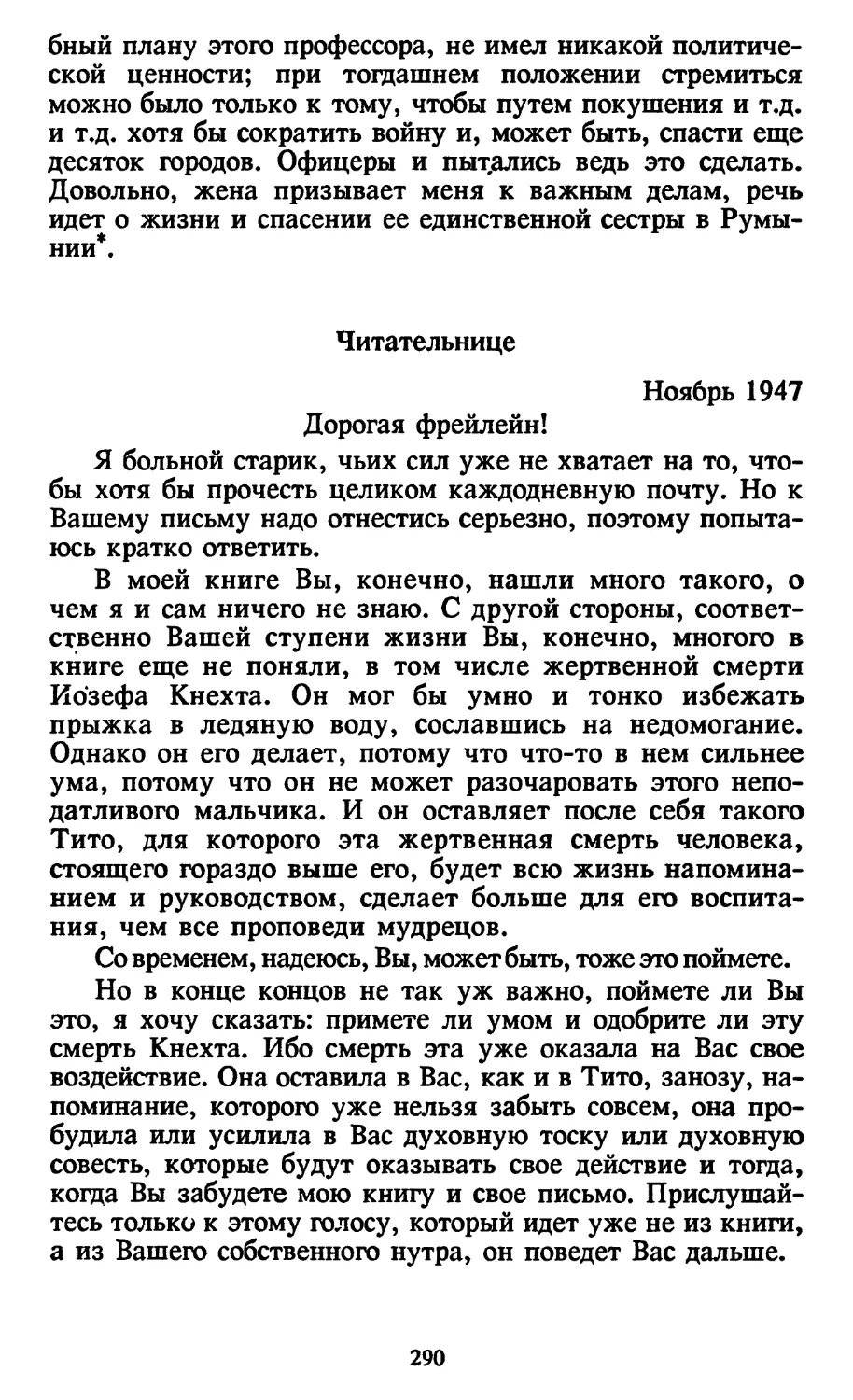
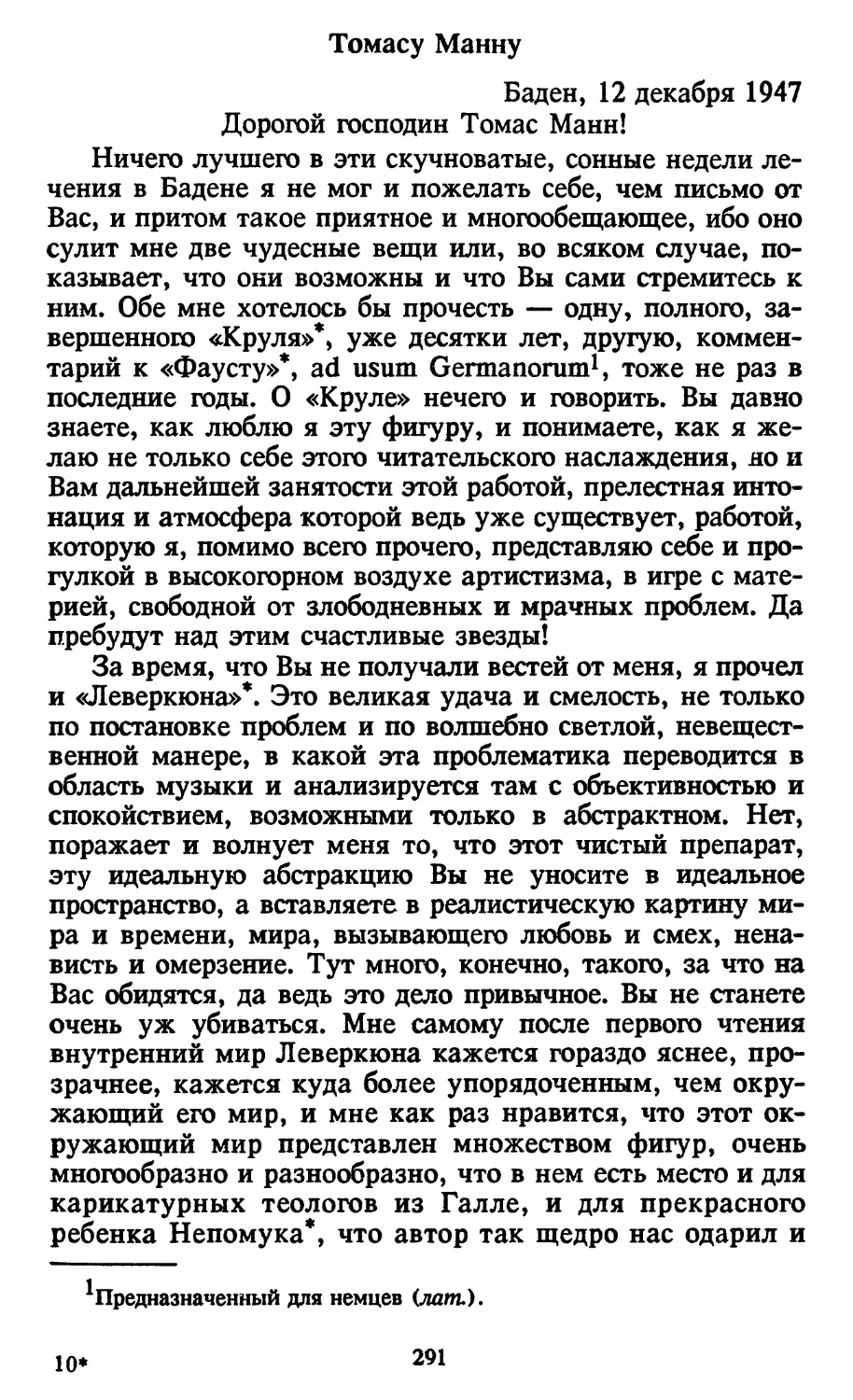
![Гансу Шрайберу [декабрь 1947]
Ответ на письма с просьбами [1947]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/295.webp)
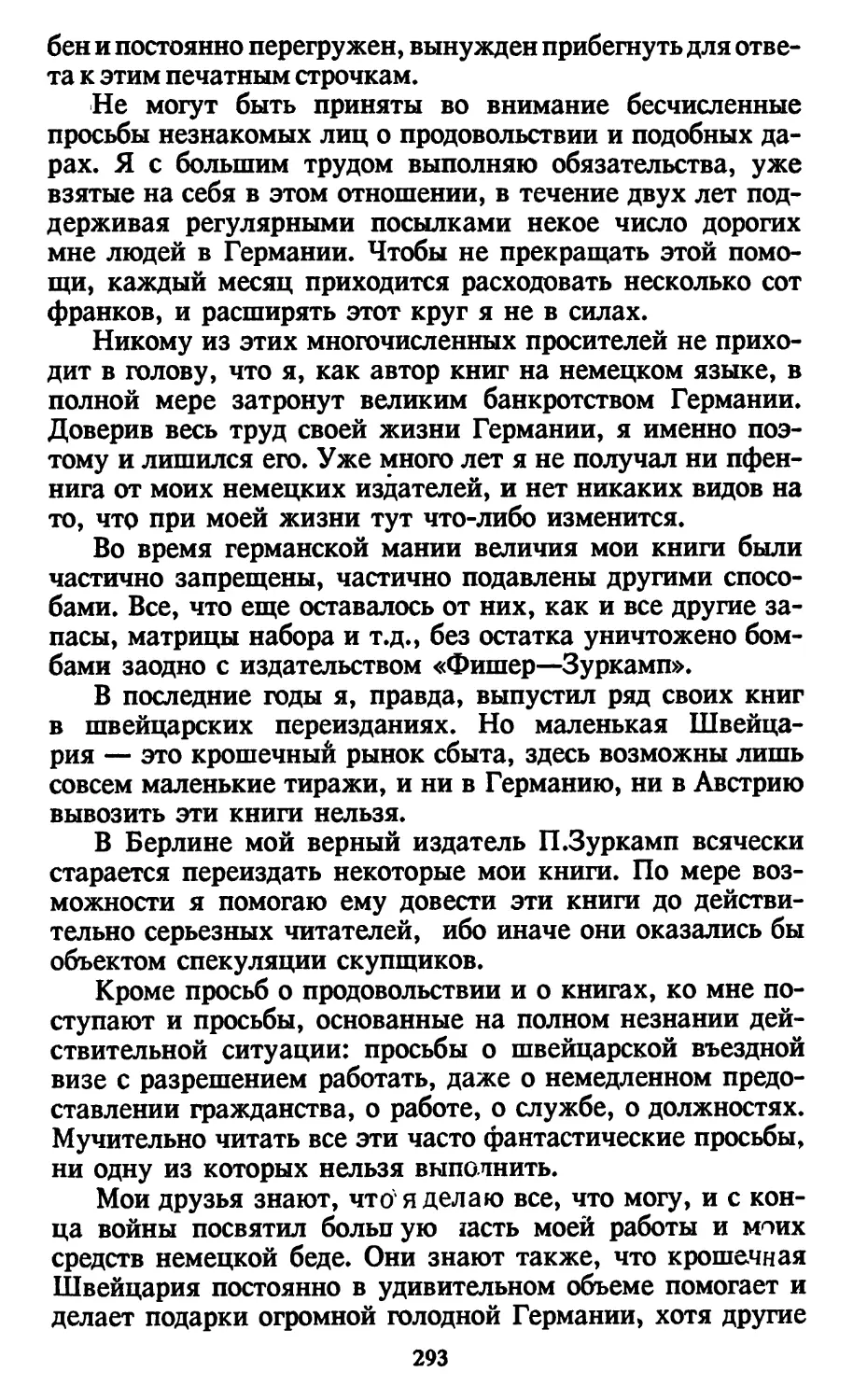
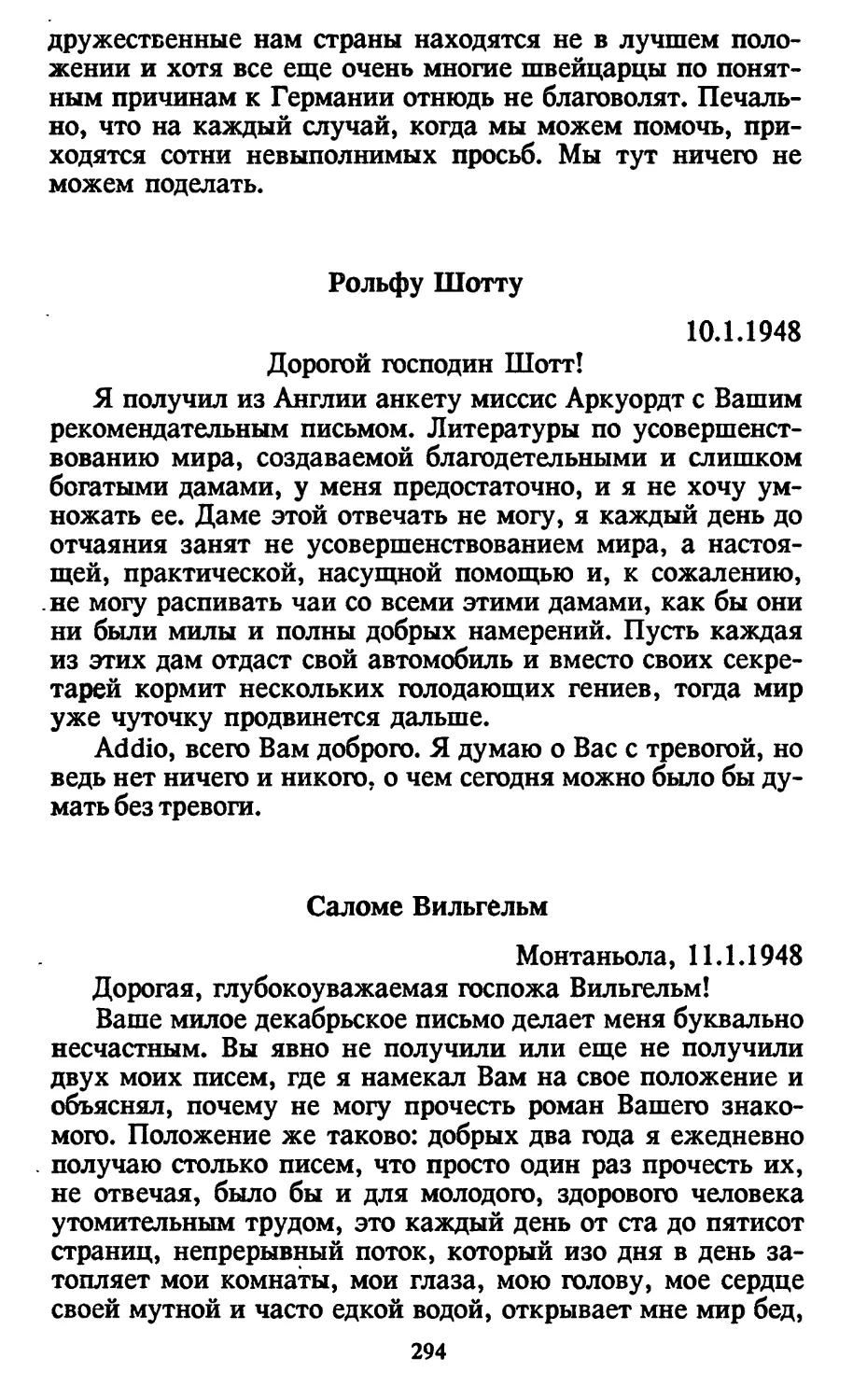
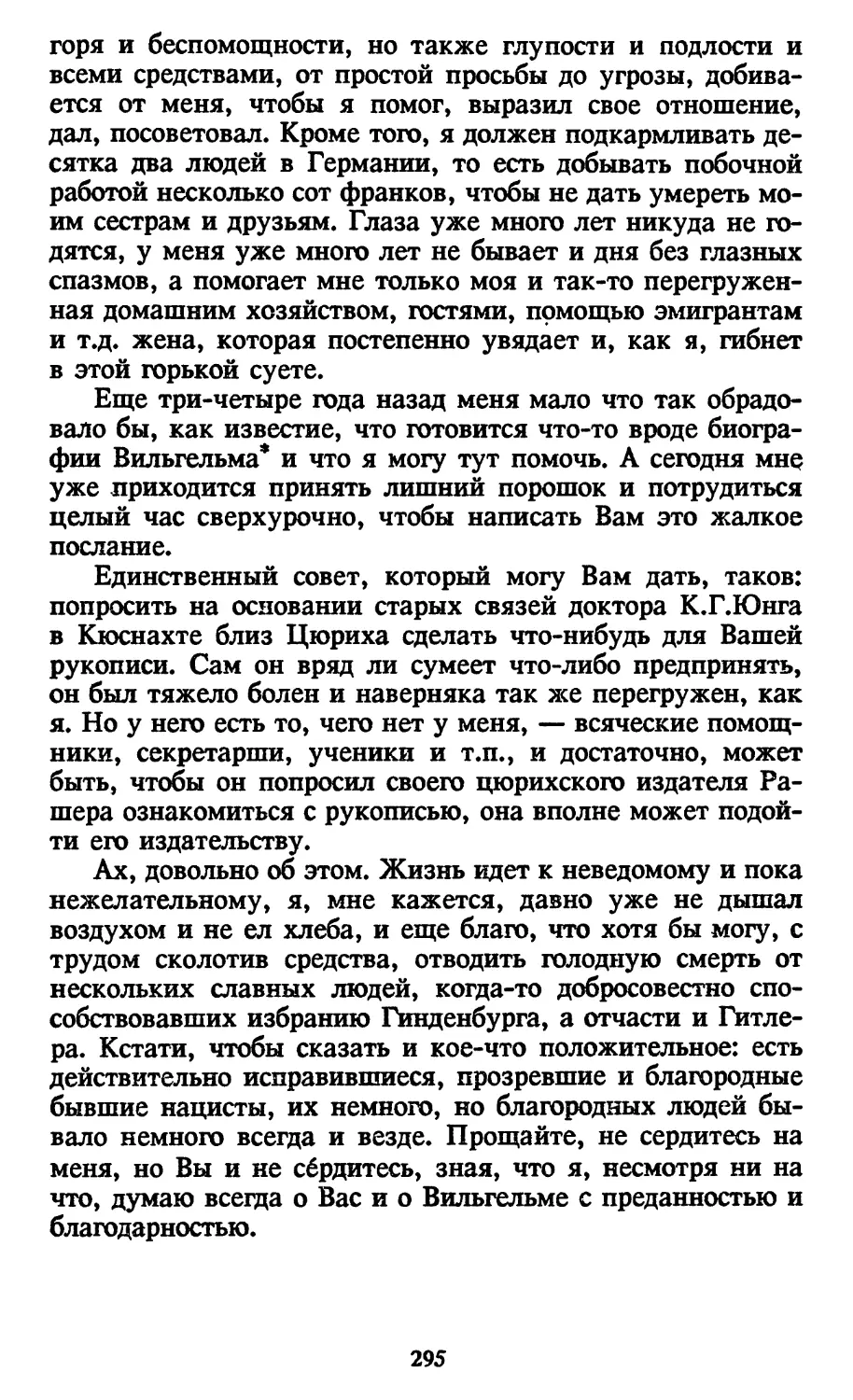
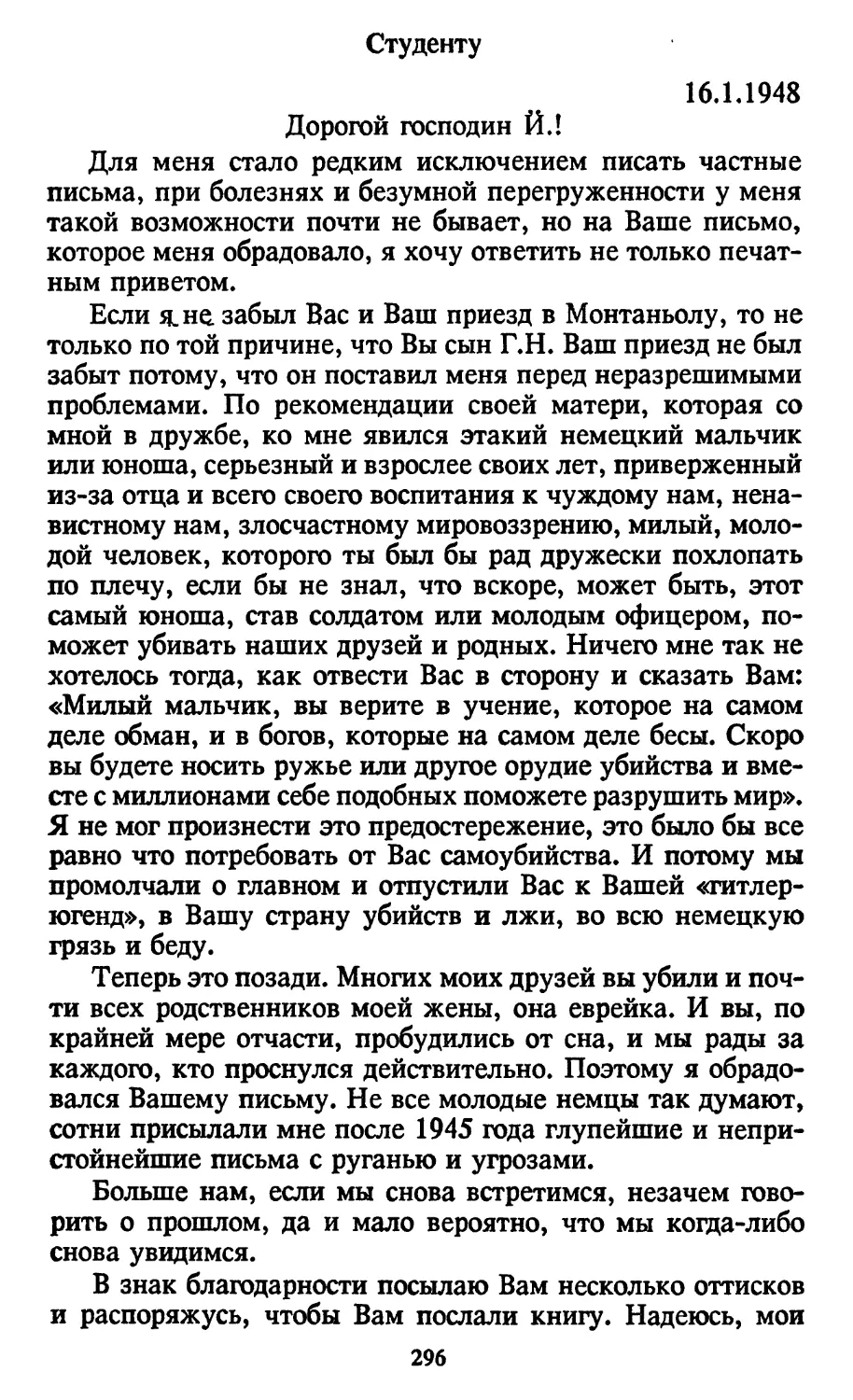
![Отто Базлеру [20.1. 948]
Гансу Мартину Брейеру [22.1.1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/300.webp)
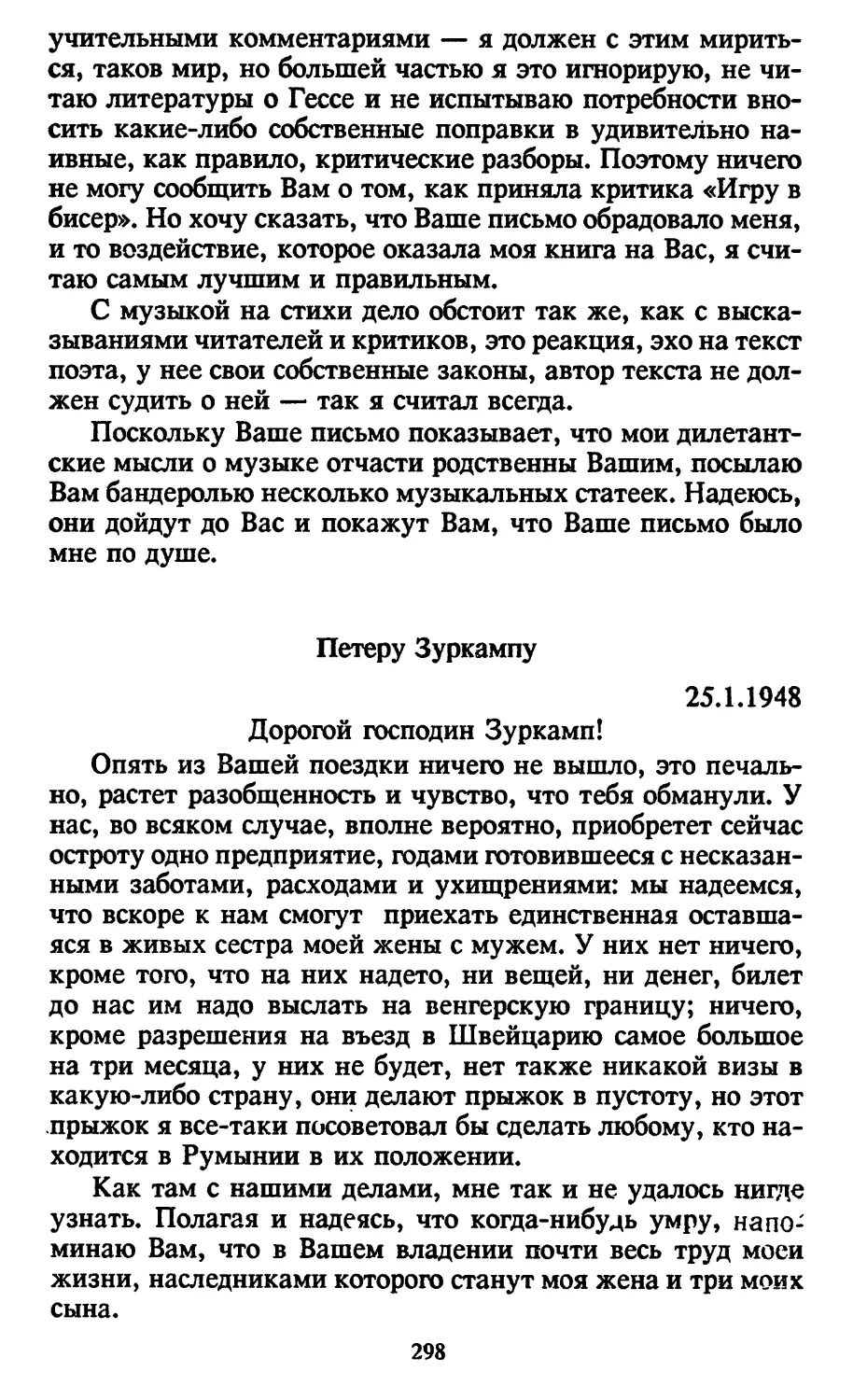
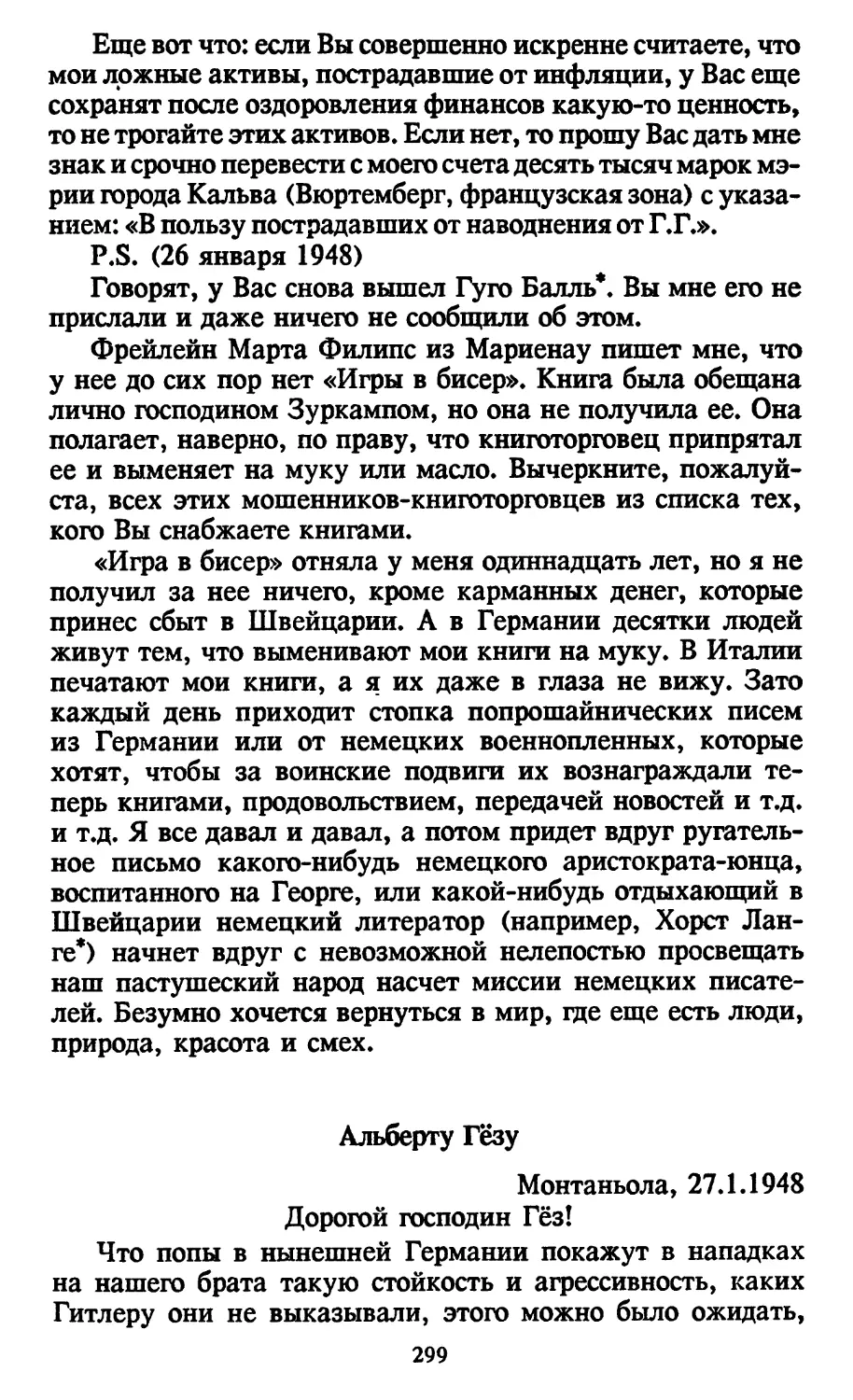
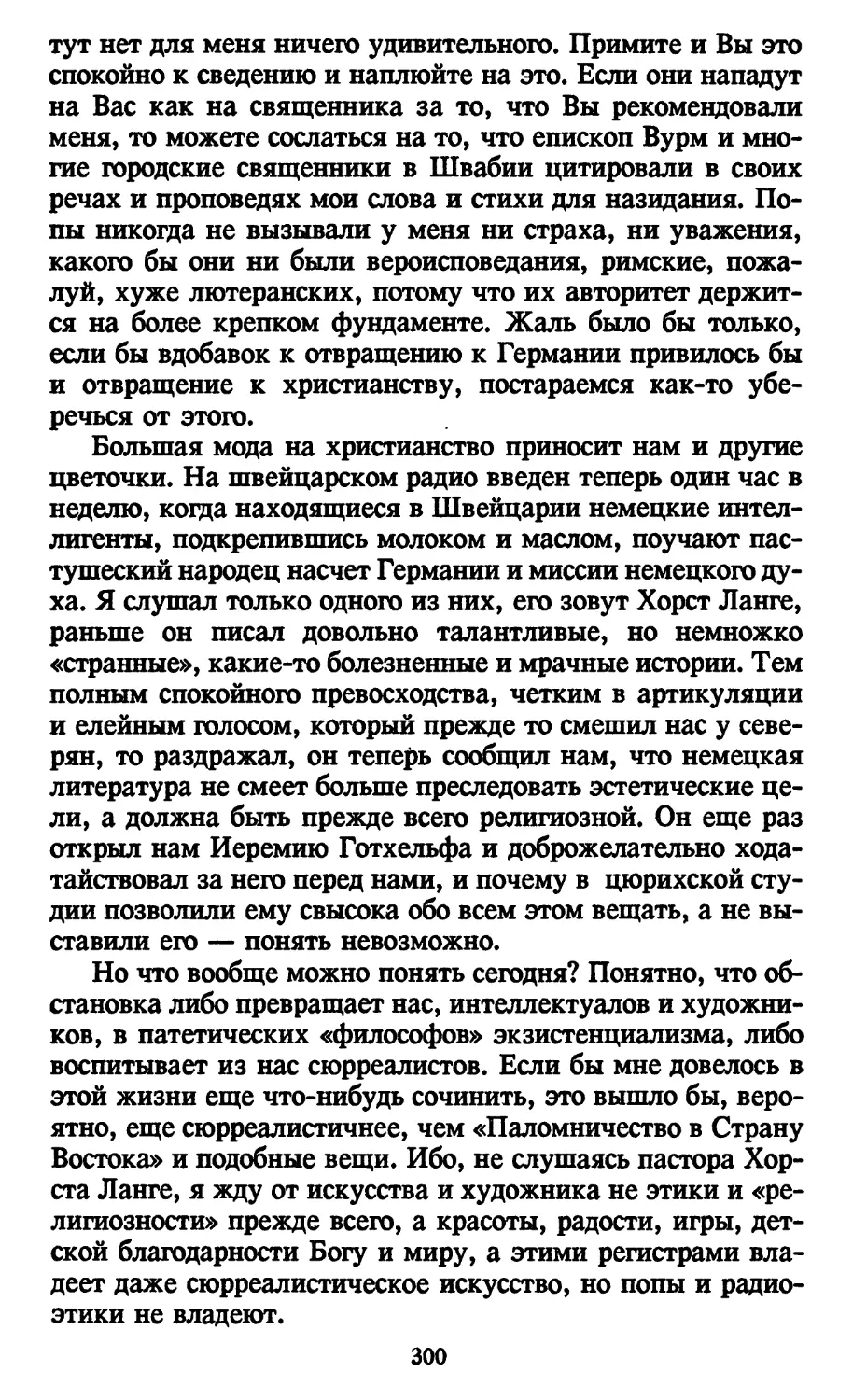
![Сестре Марулле. 14.2.1948
Сыну Хайнеру [конец февраля 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/304.webp)
![Томасу Манну [начало марта 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/305.webp)
![Францу Феттеру [середина марта 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/306.webp)
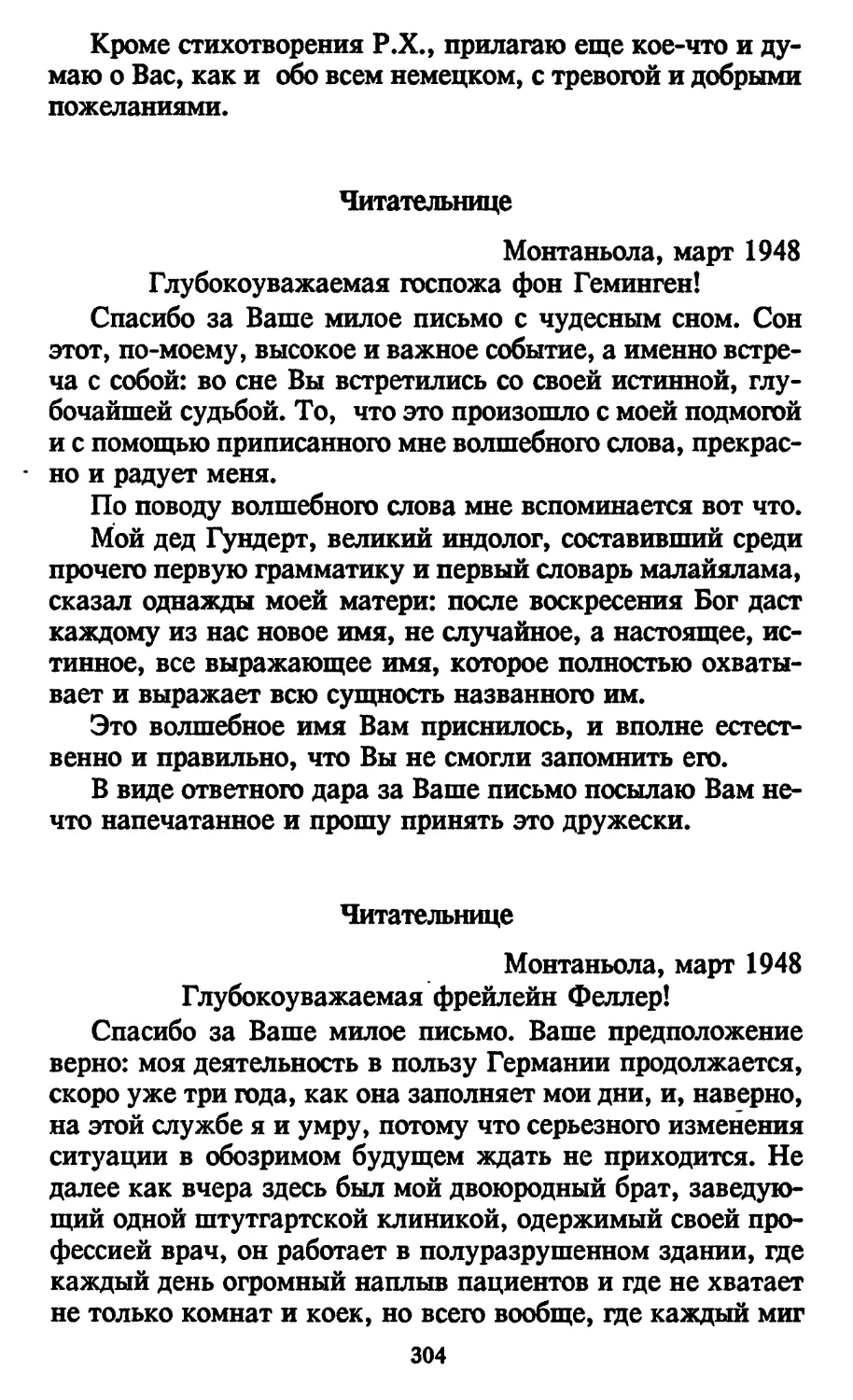
![Людвигу Реннеру. 3.4.[1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/308.webp)
![Эрнсту Коппелеру. 26.4. [1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/309.webp)
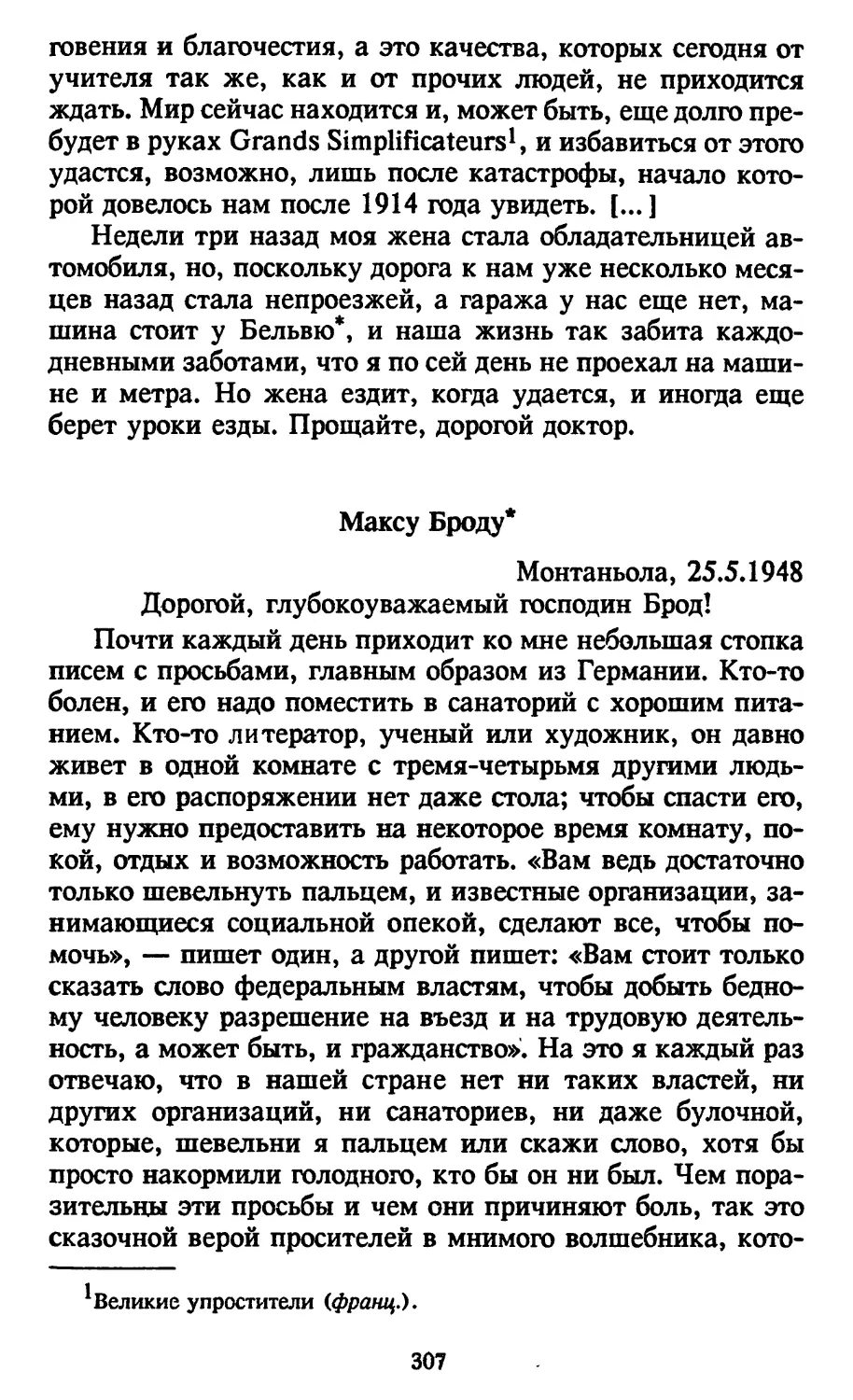
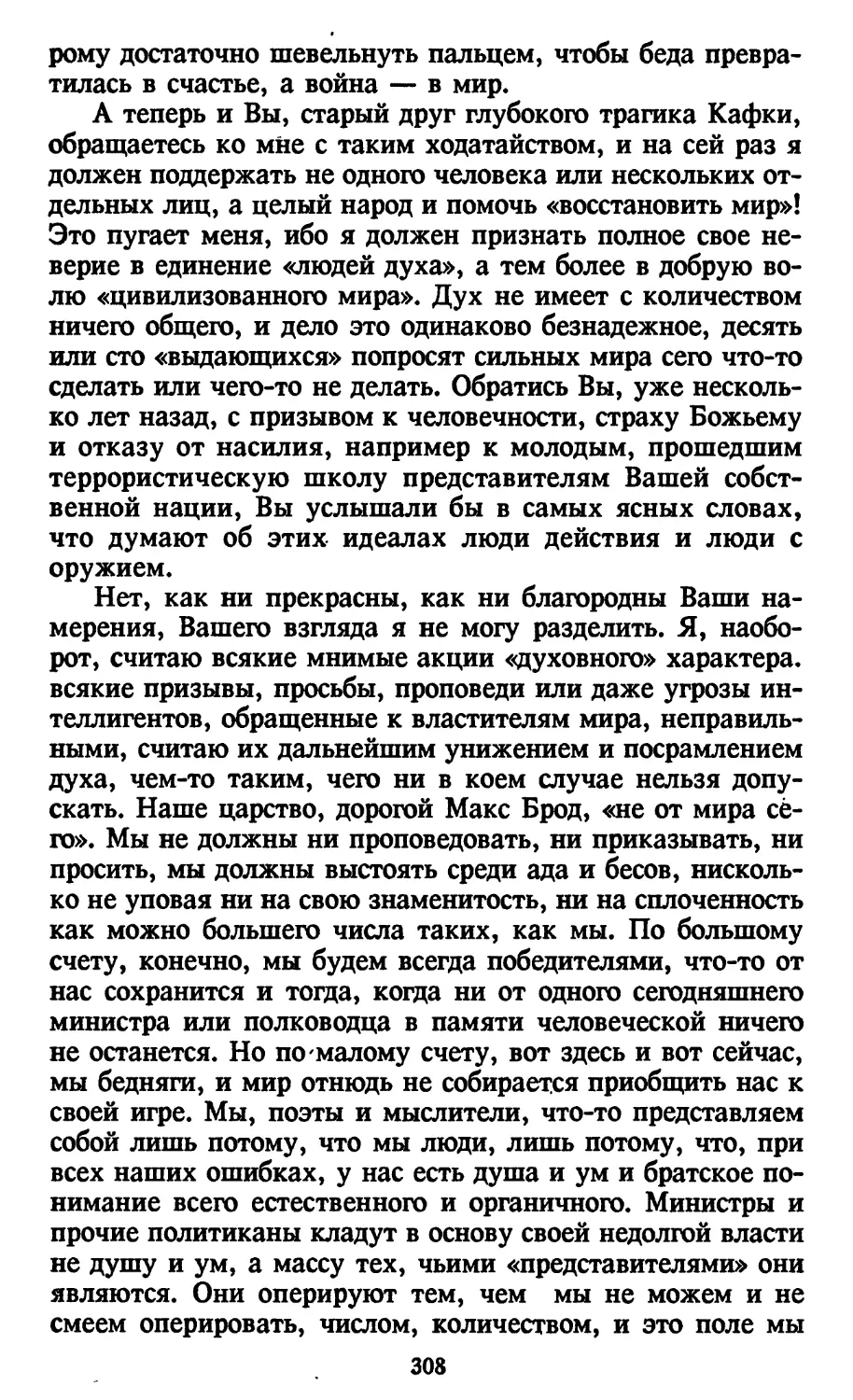
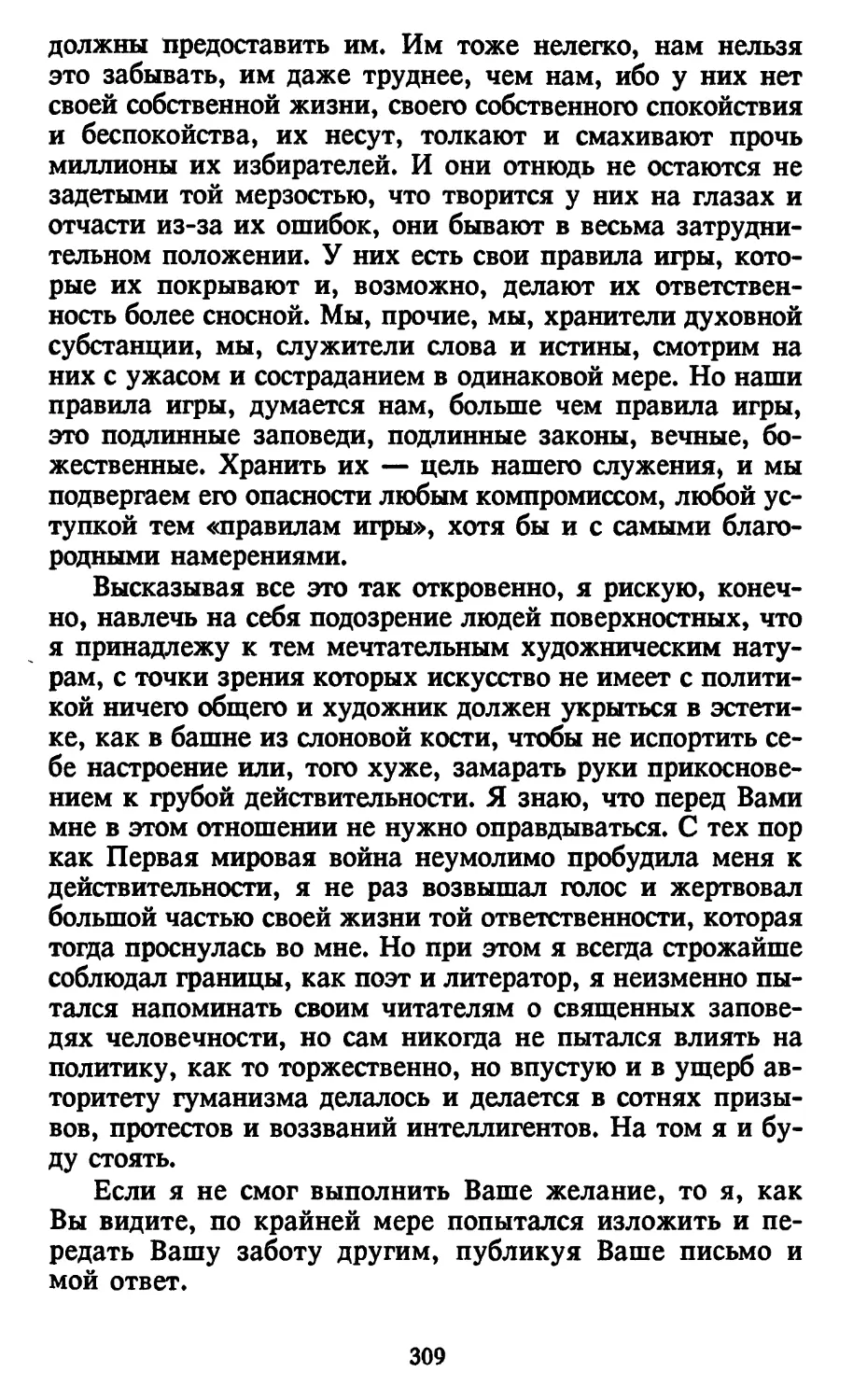
![Герману Казаку [7.6.1948]
Томасу Манну. 24 июня 1948](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/313.webp)
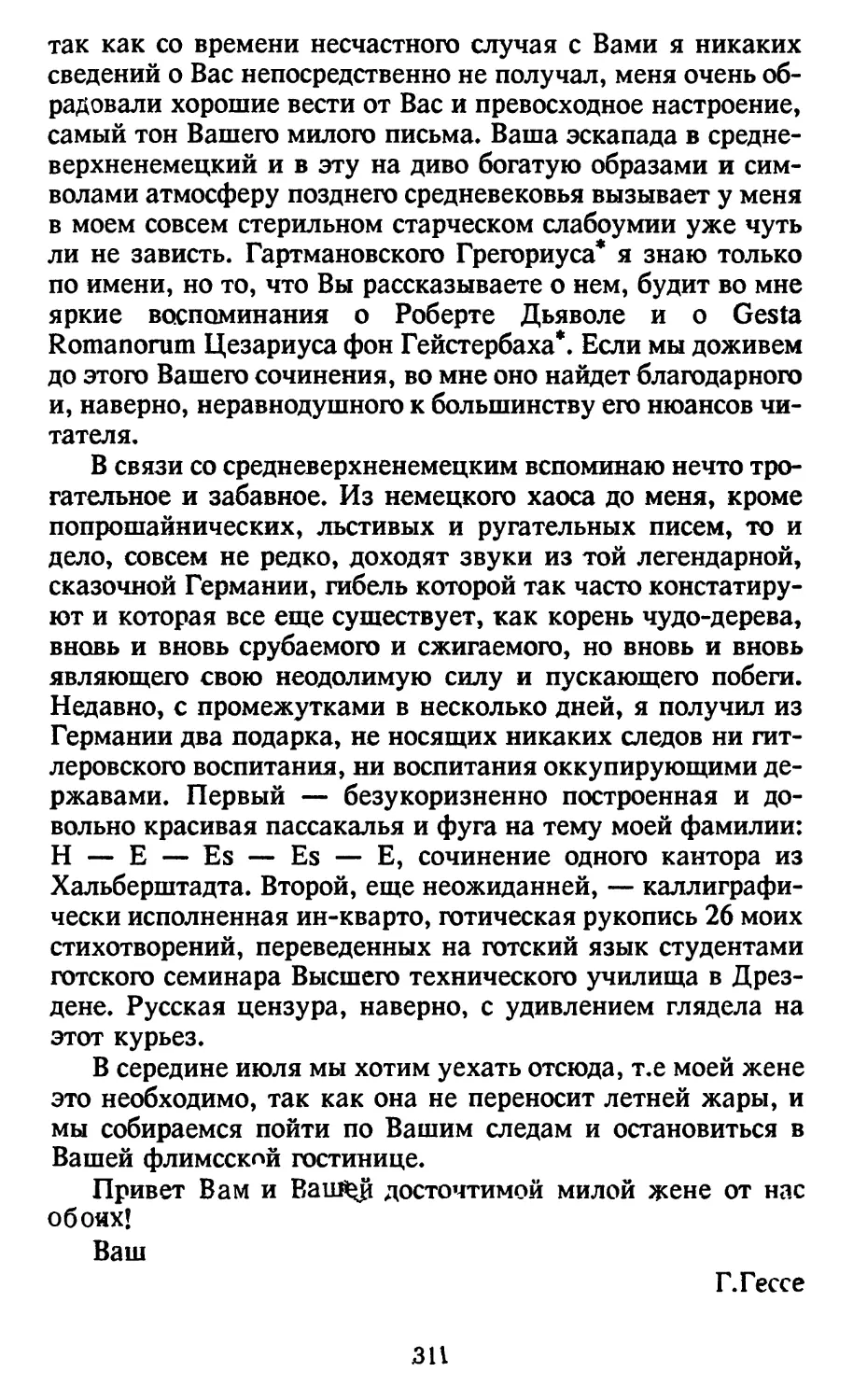
![Эдуарду Корроди [начало июля 1948]
Людвигу Финку [начало июля 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/315.webp)
![Студенту [приблизительно июль 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/316.webp)
![К. Шельману [1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/317.webp)
![Эдмунду Наттеру [1948]
Гюнтеру Бёмеру [26.11.1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/318.webp)
![Рольфу Шотту. 9.12[1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/319.webp)
![Людвигу Финку [конец декабря 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/320.webp)
![Зигфриду Унзельду [конец декабря 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/321.webp)
![Читательнице [конец 1948]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/322.webp)
![Курту Лихди [1948]
Господину Ф. 12 января 1949](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/323.webp)
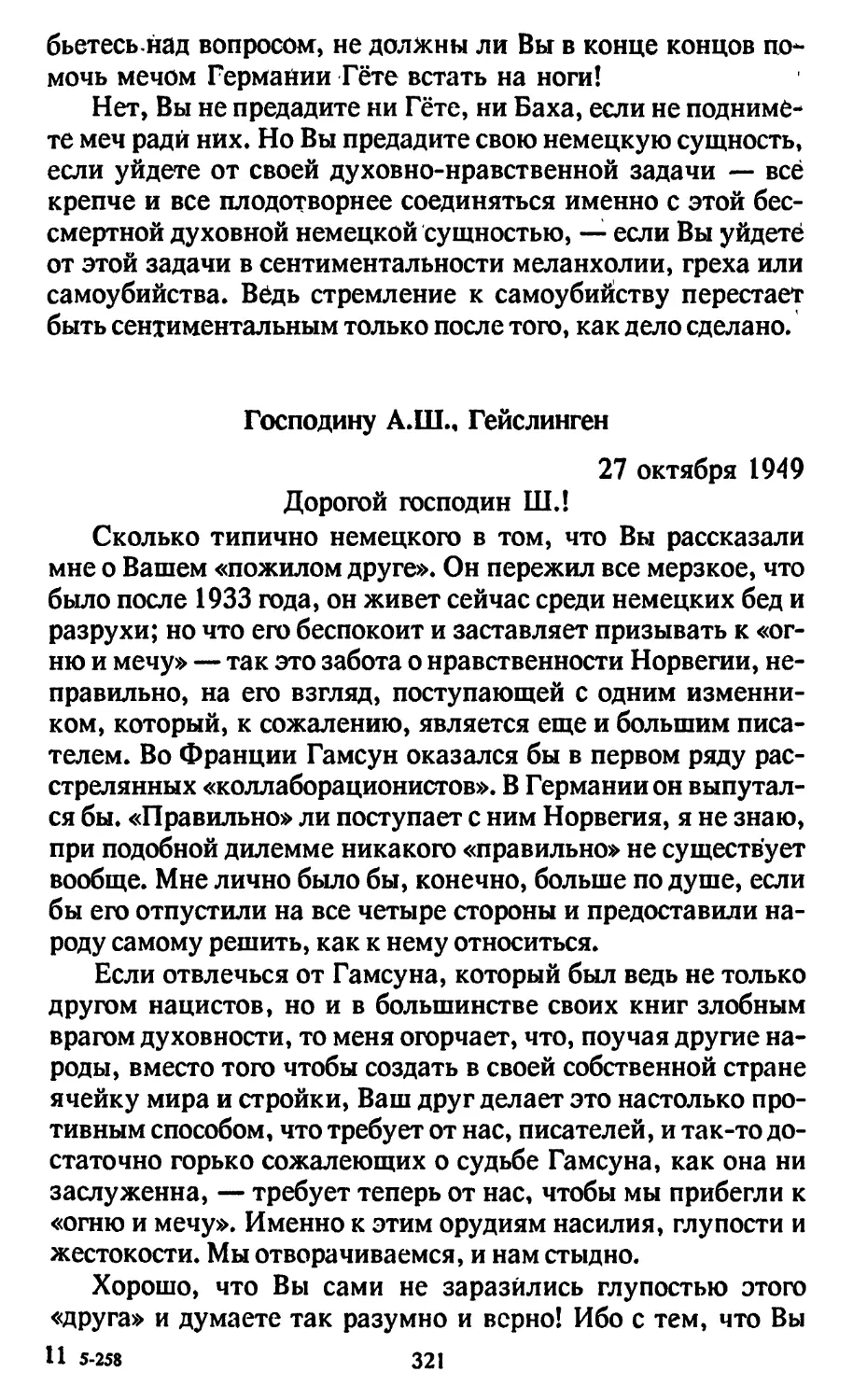
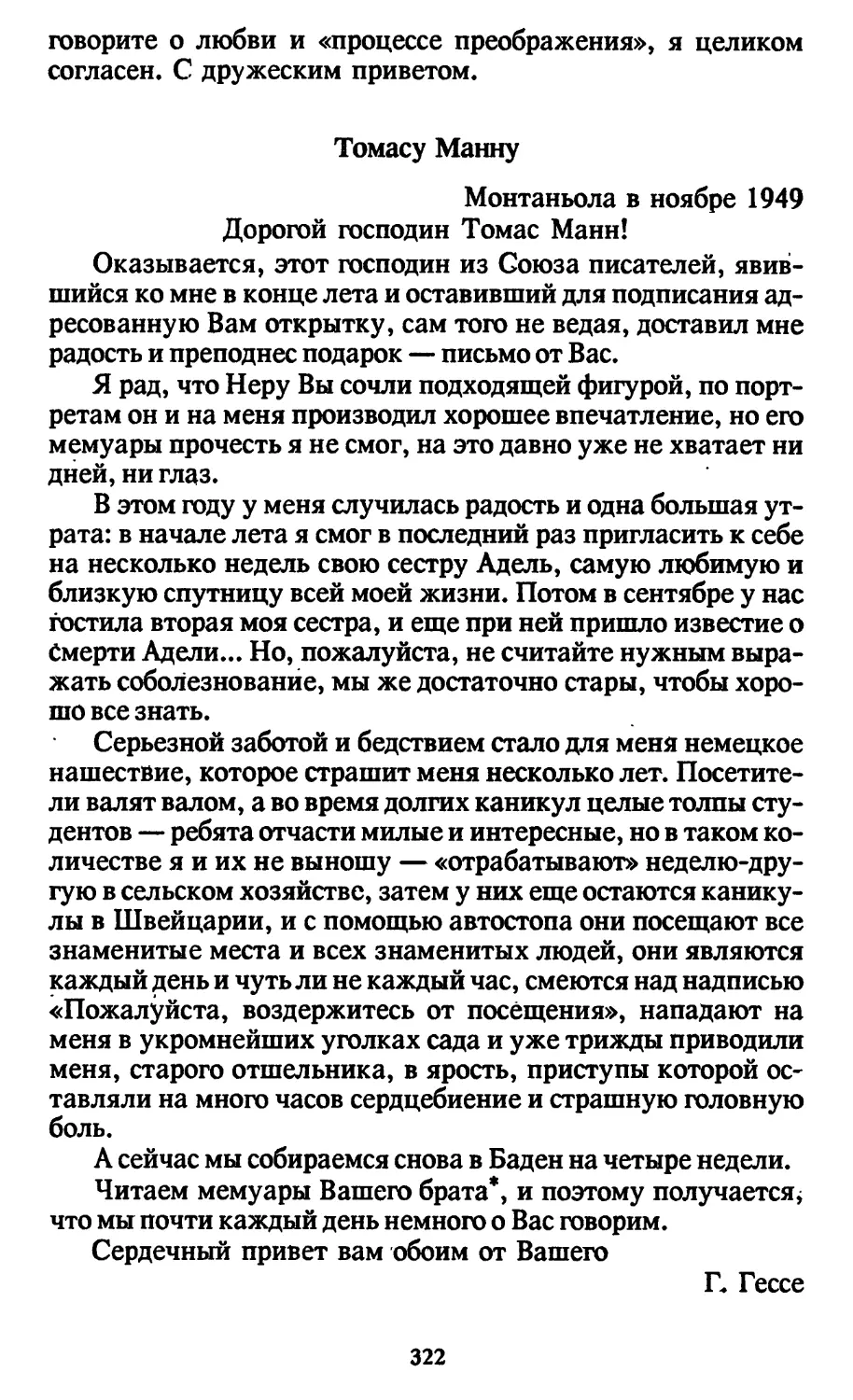
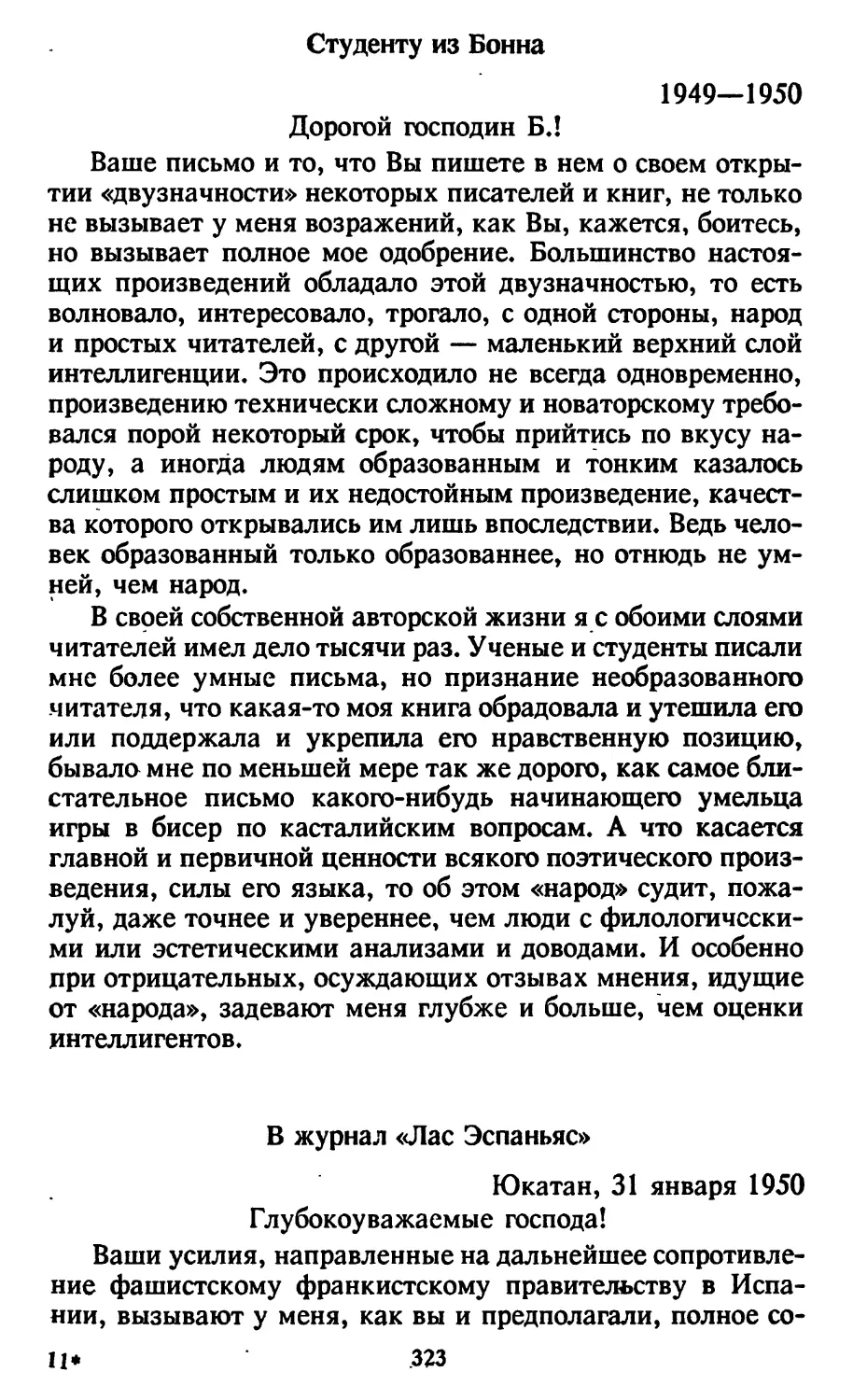
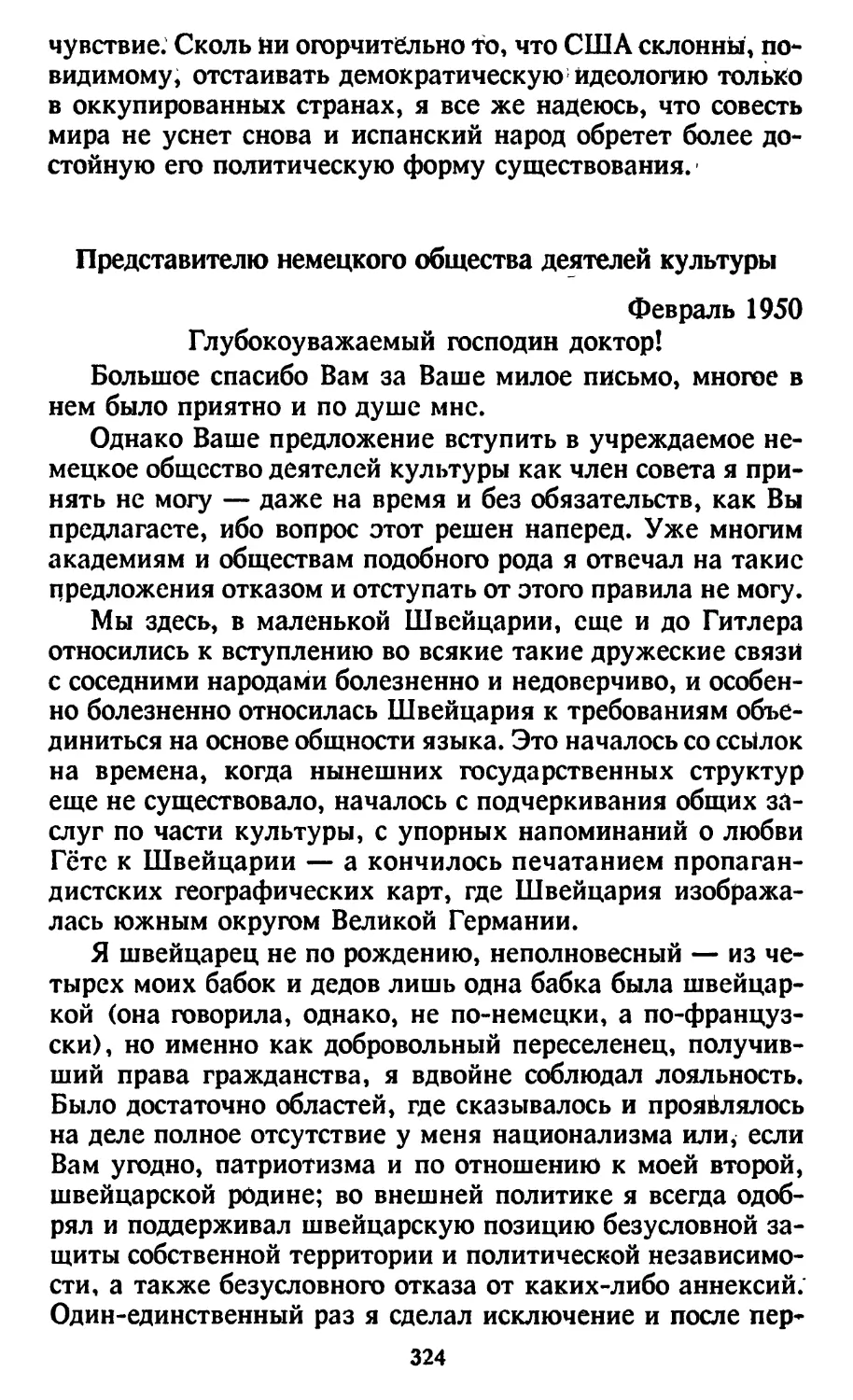
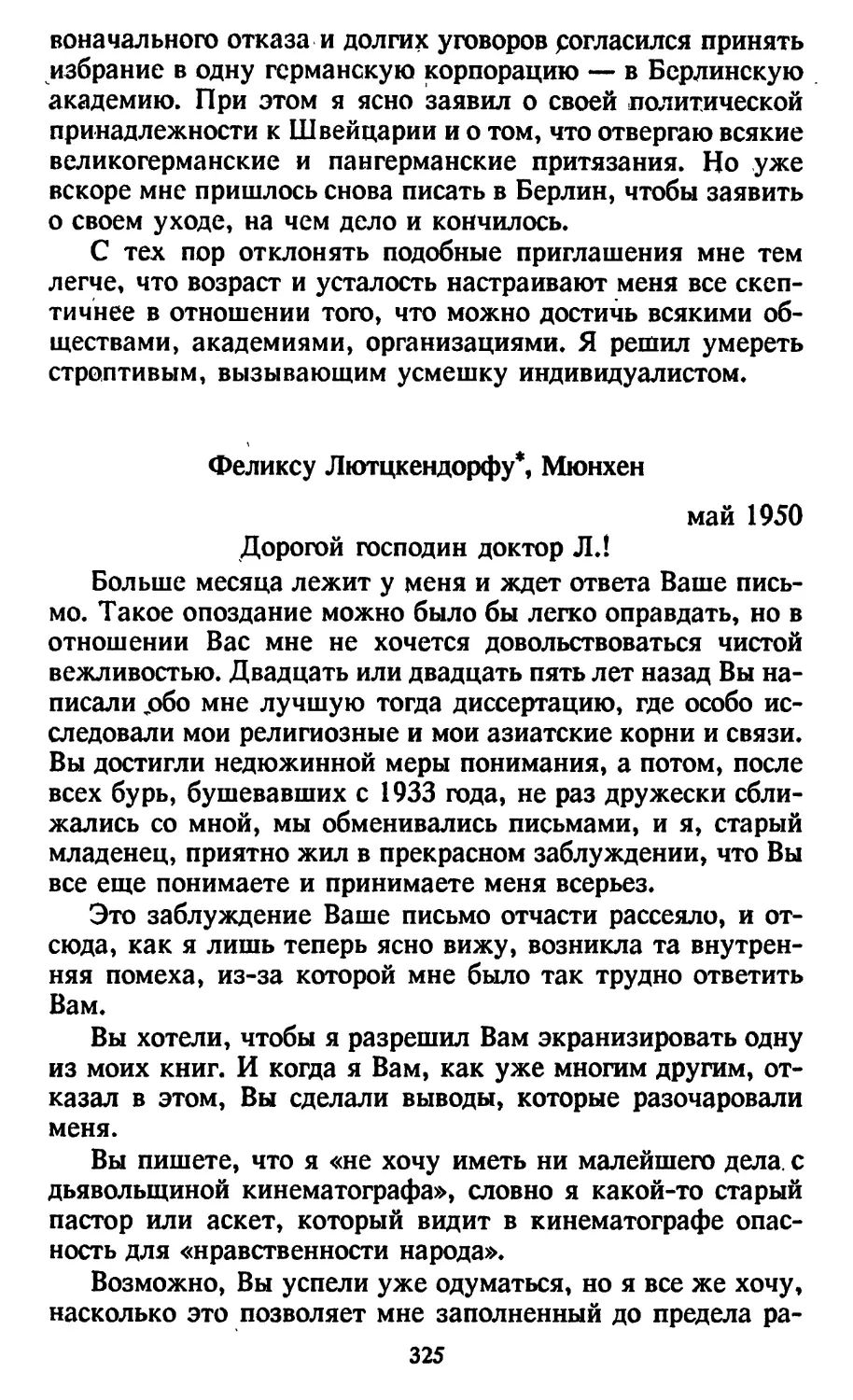
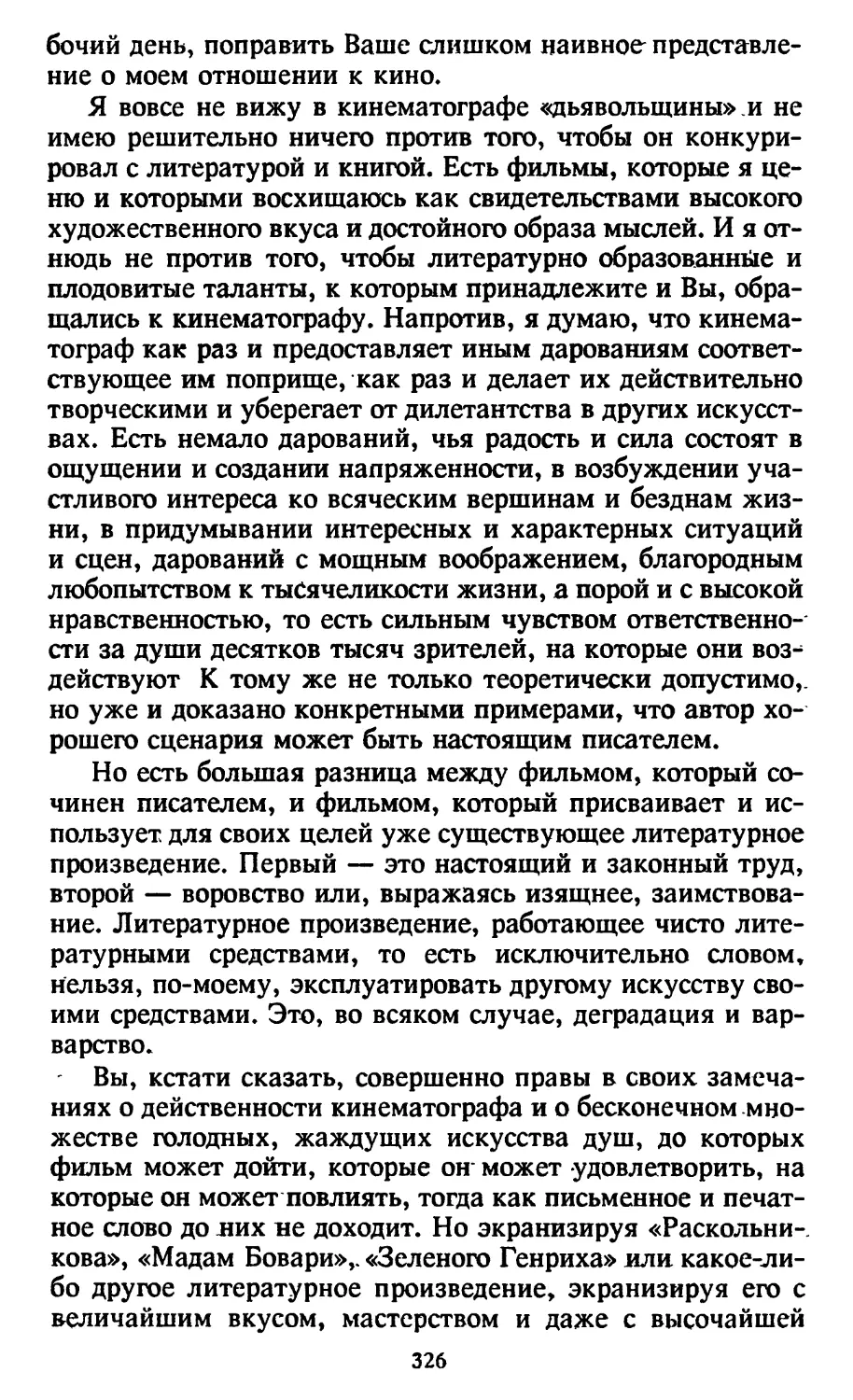
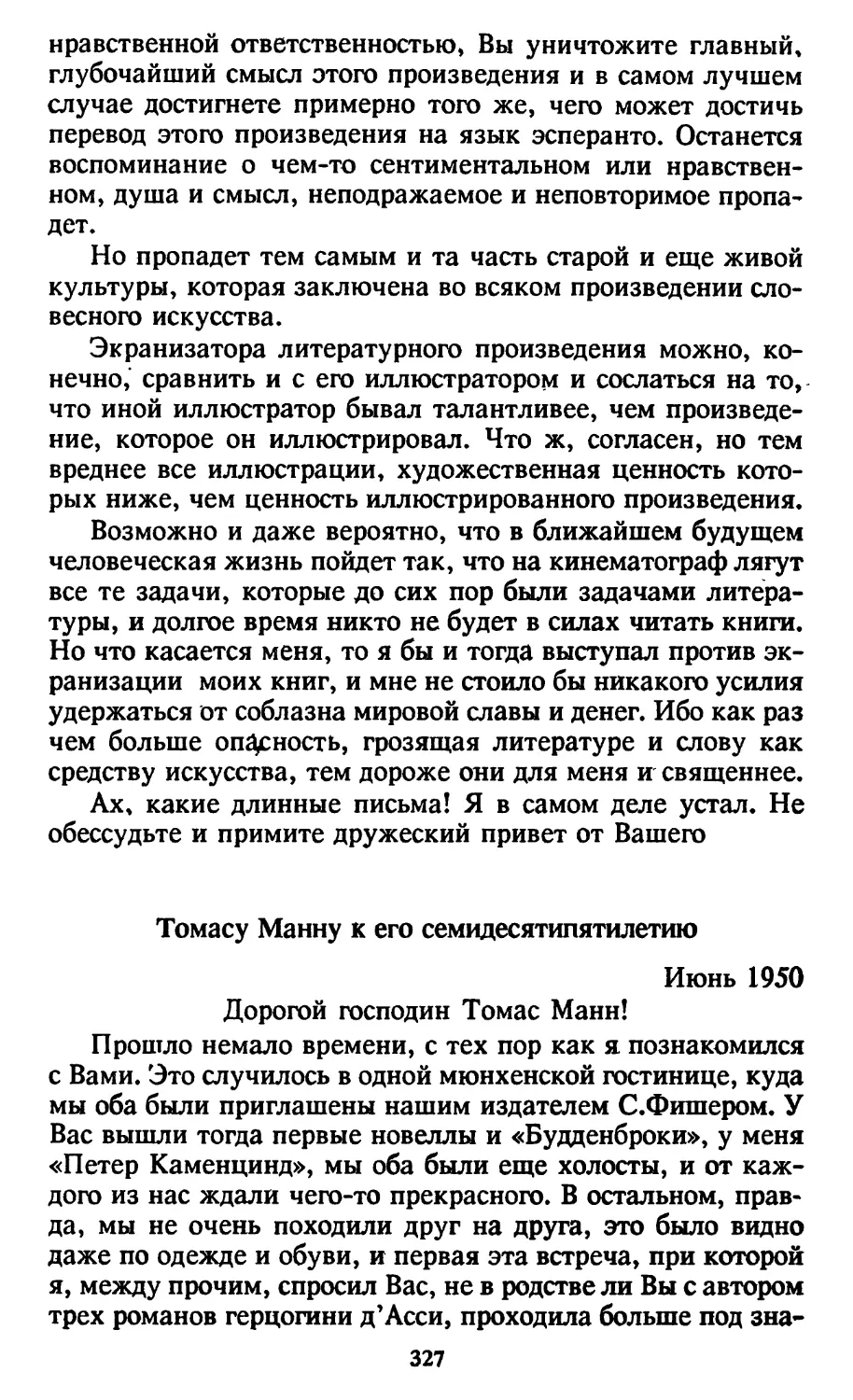
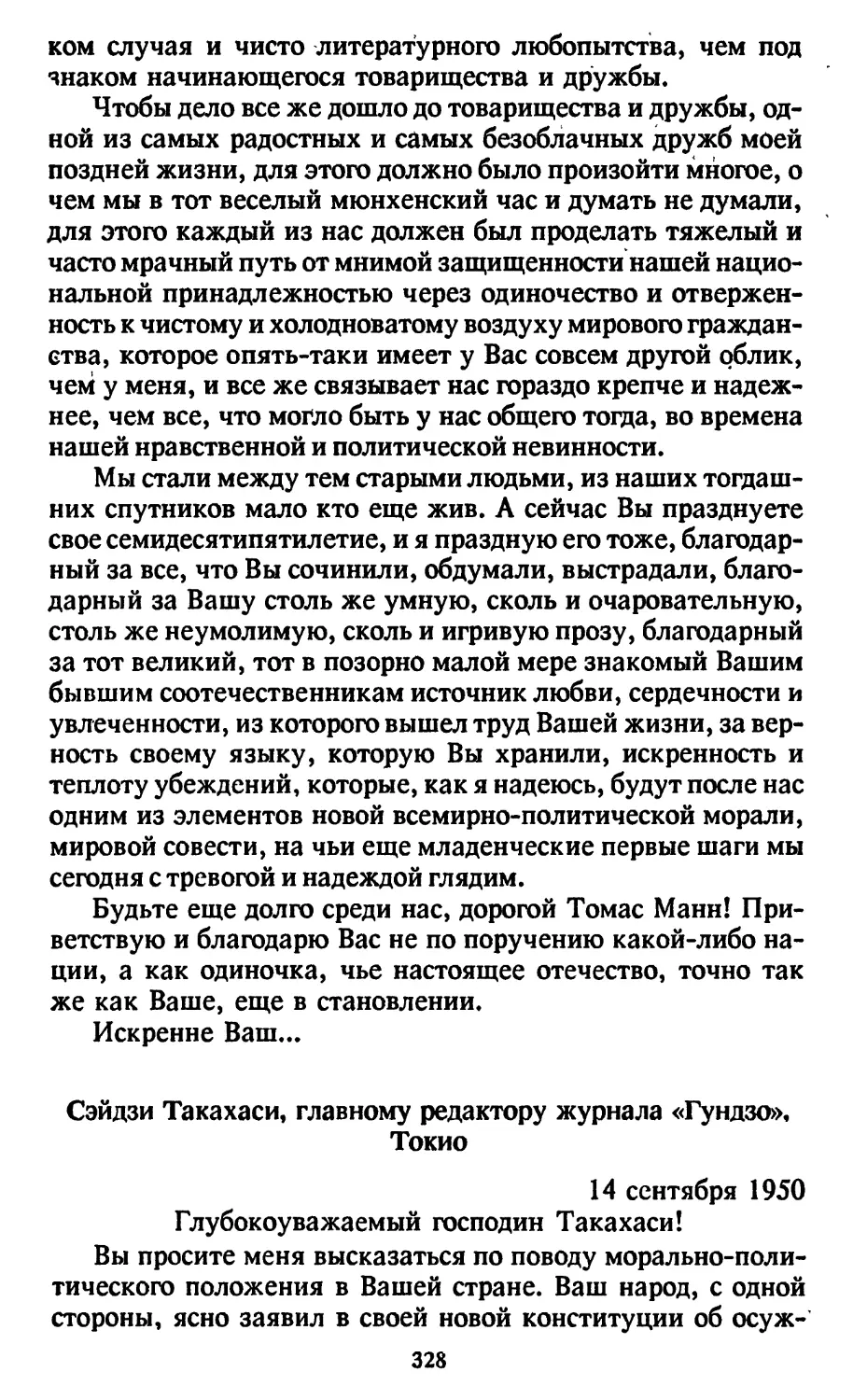
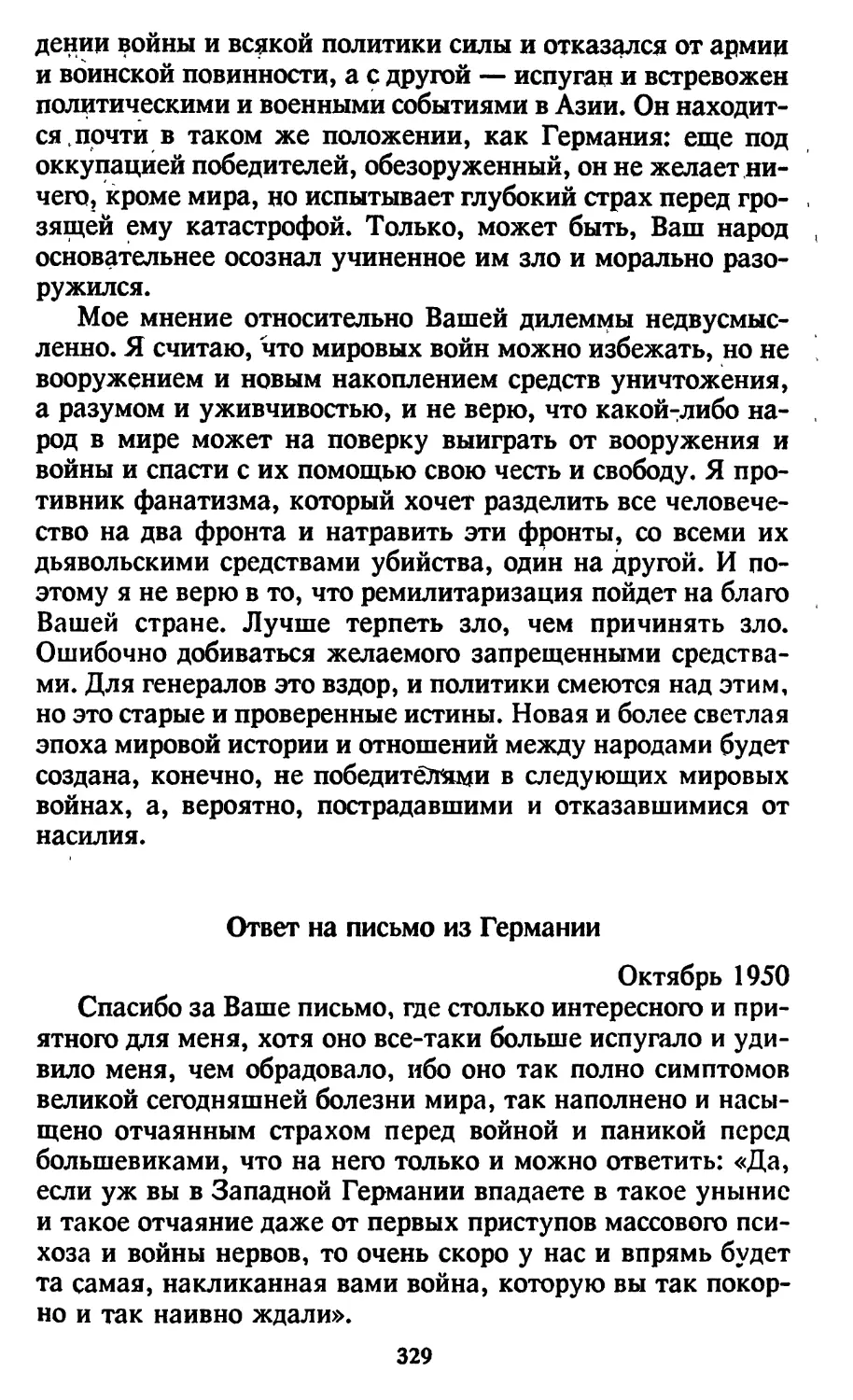
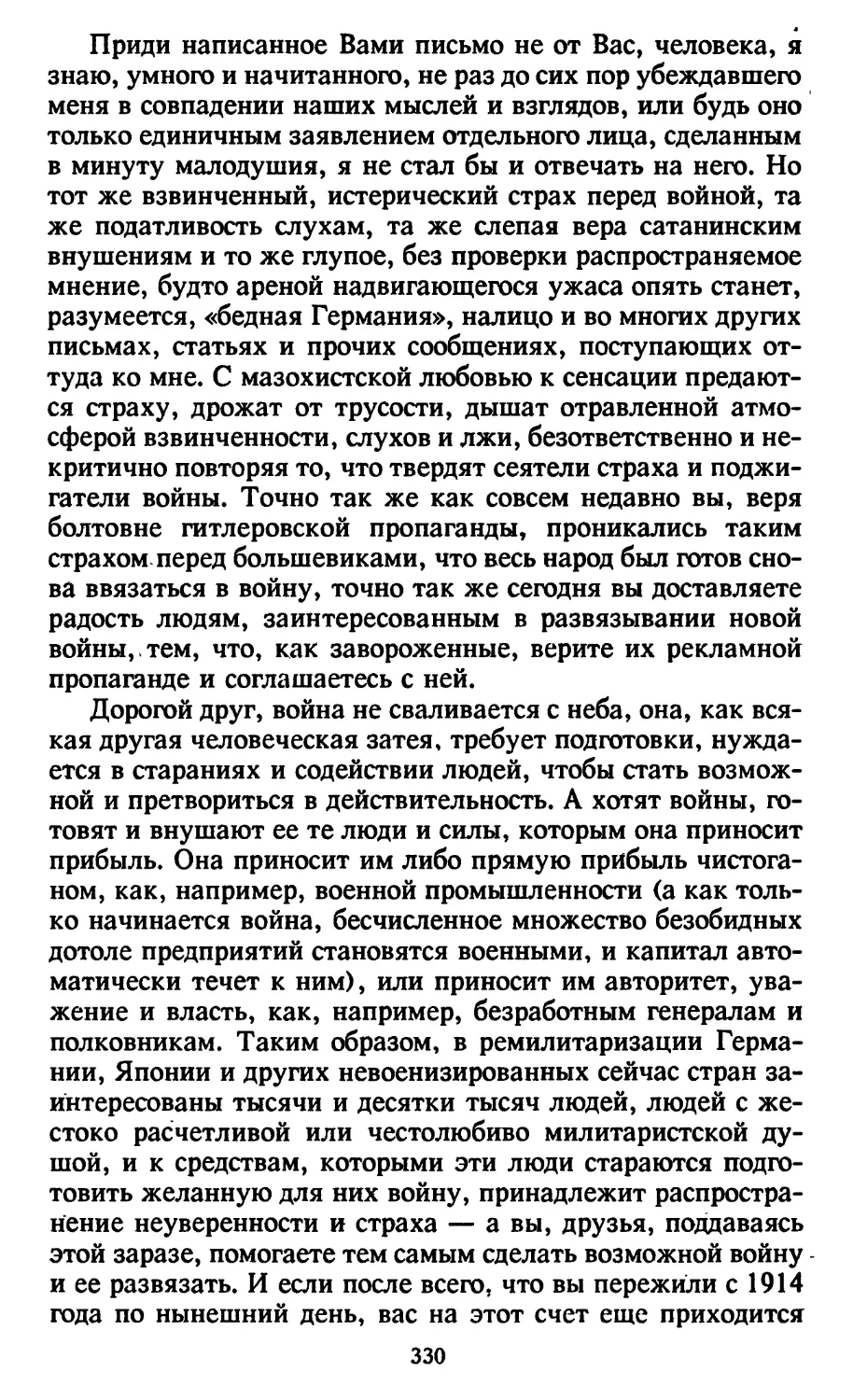
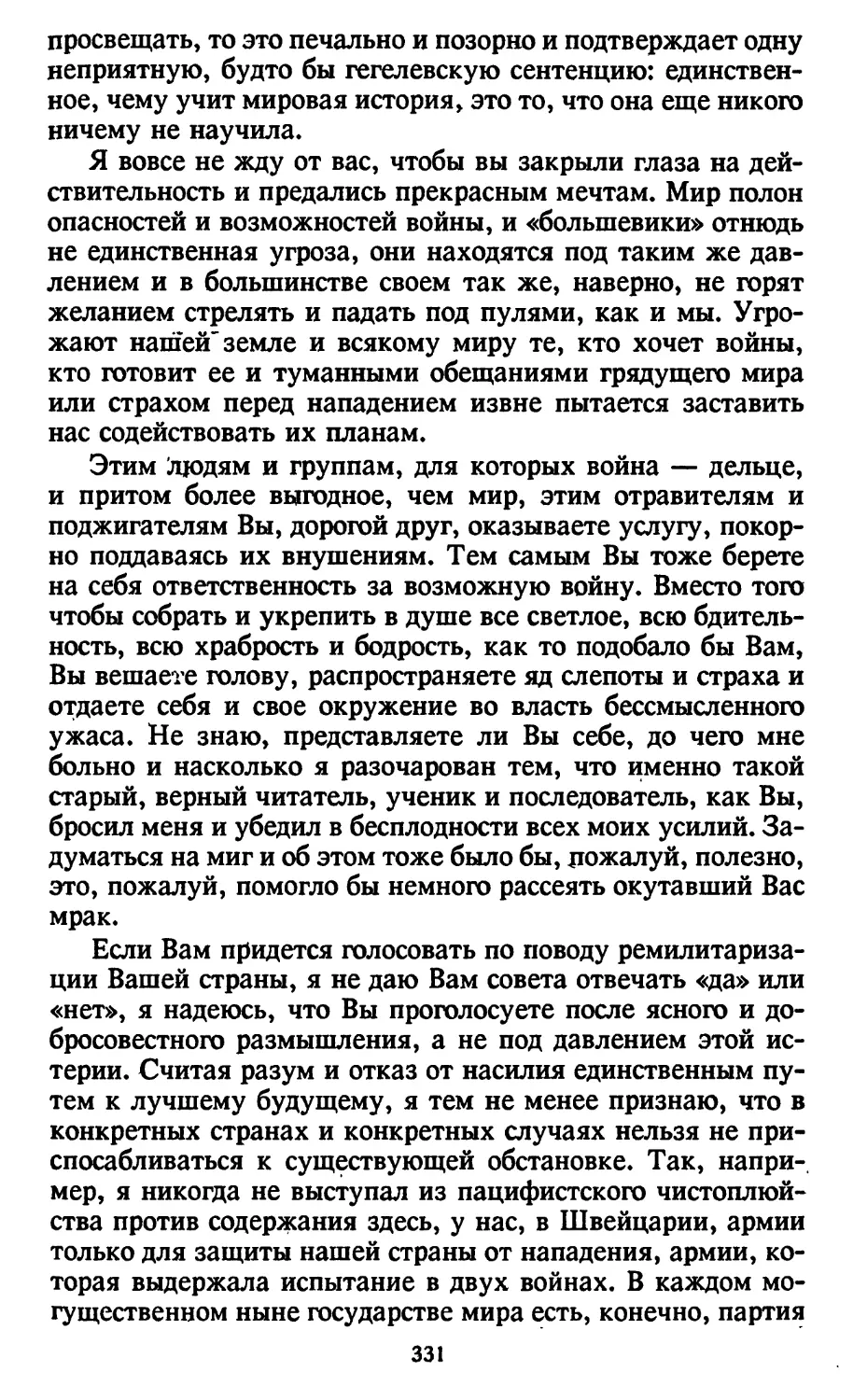
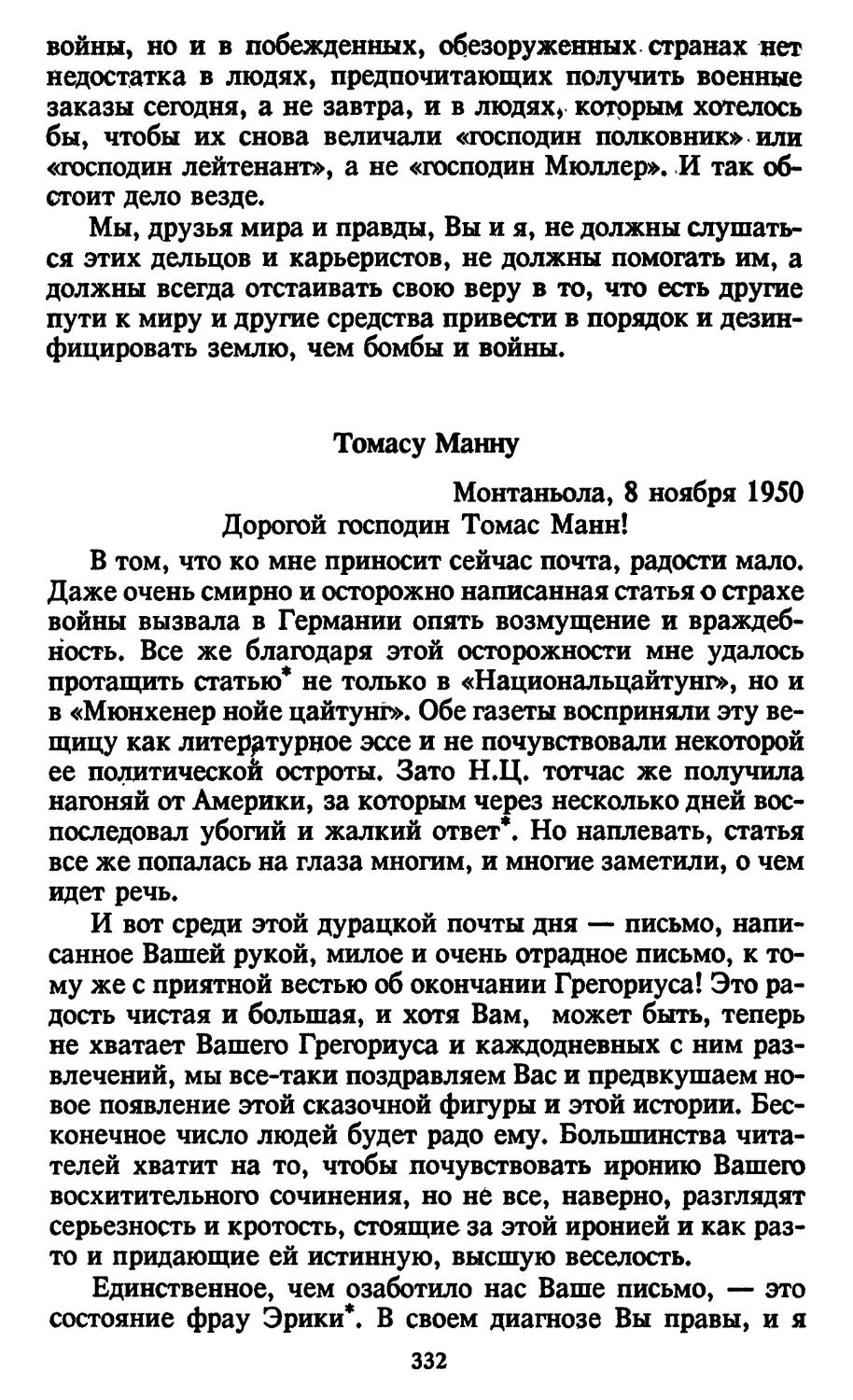
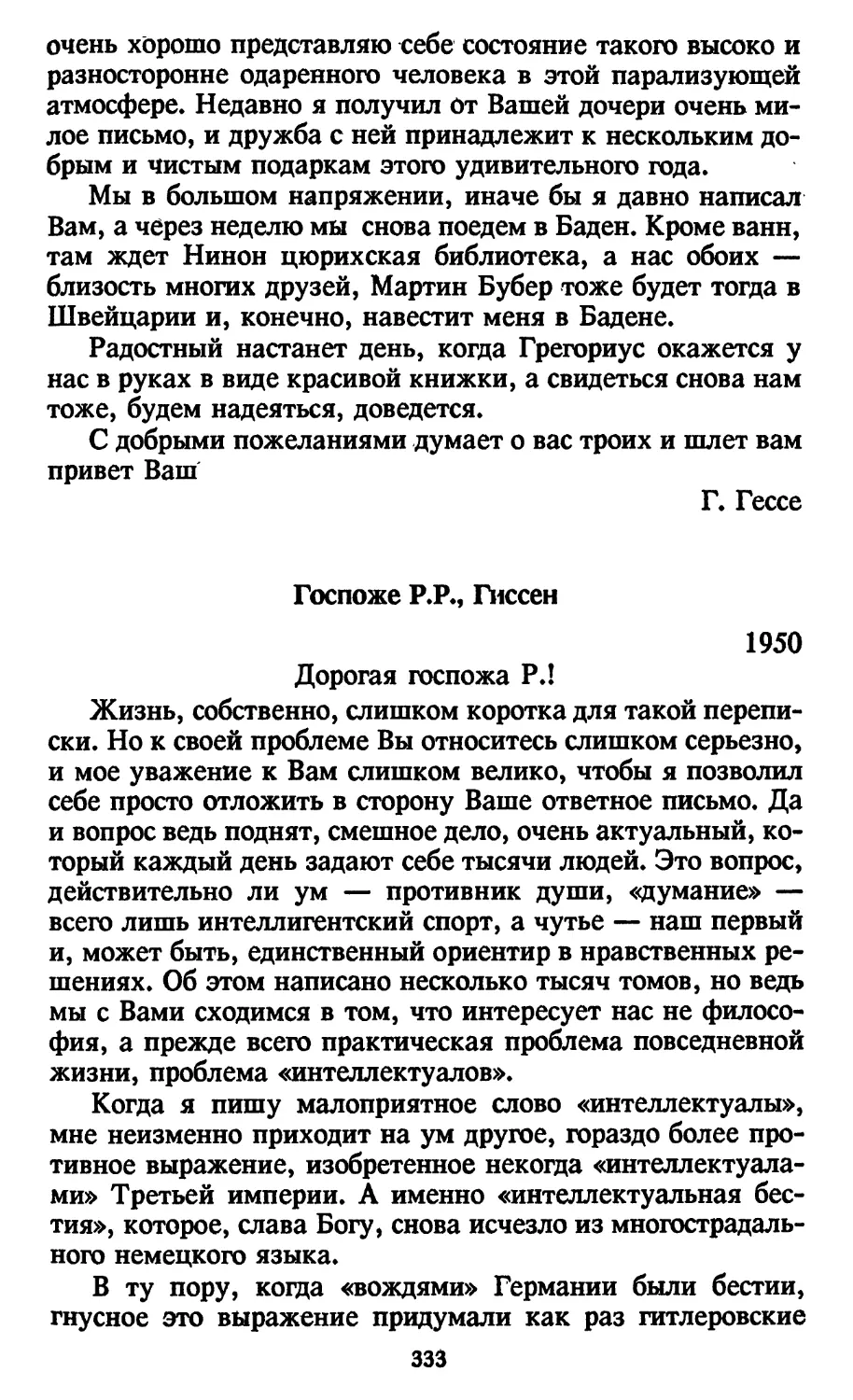
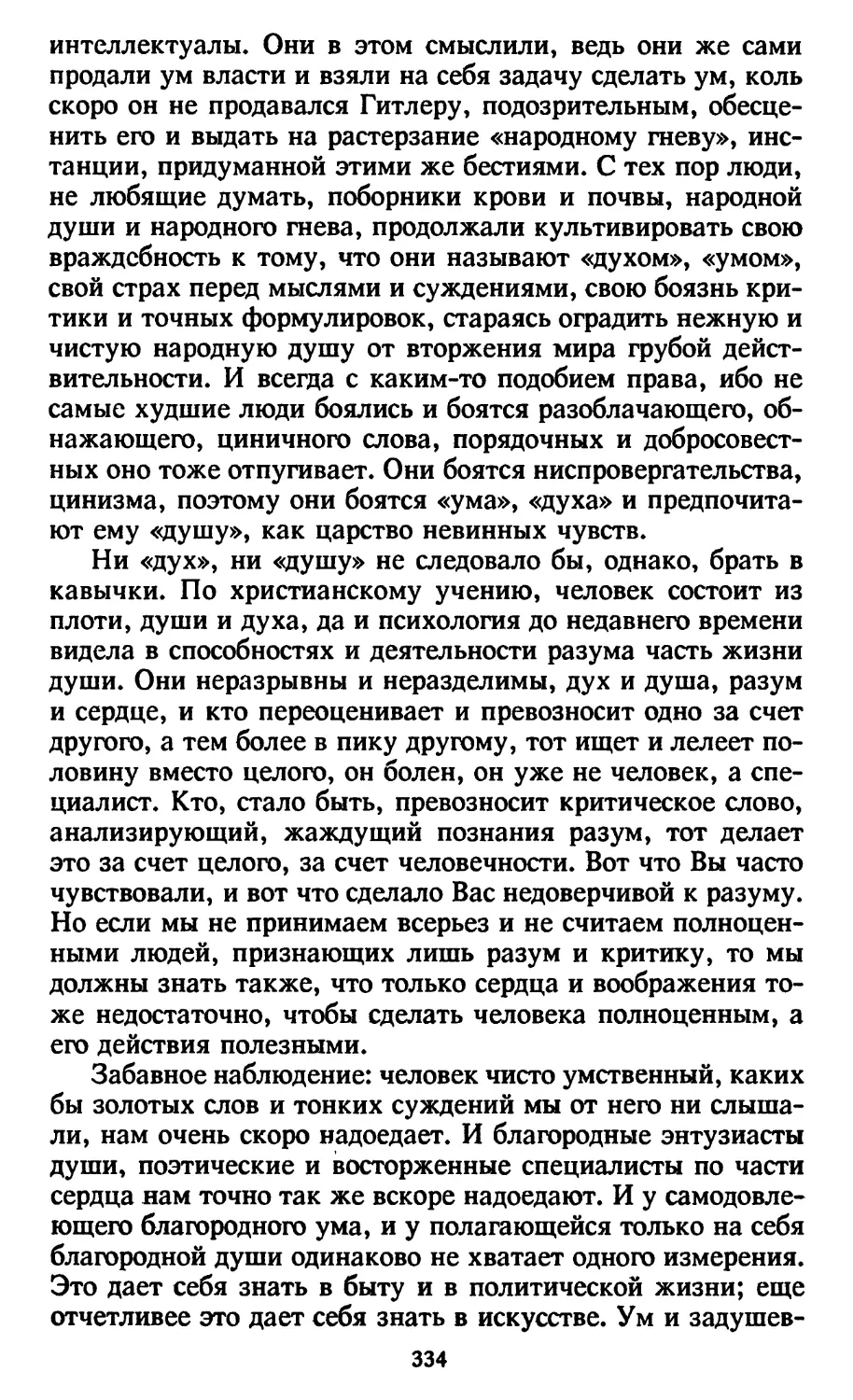
![Поздравление Петеру Зуркампу [к 28 марта 1951 года]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/338.webp)
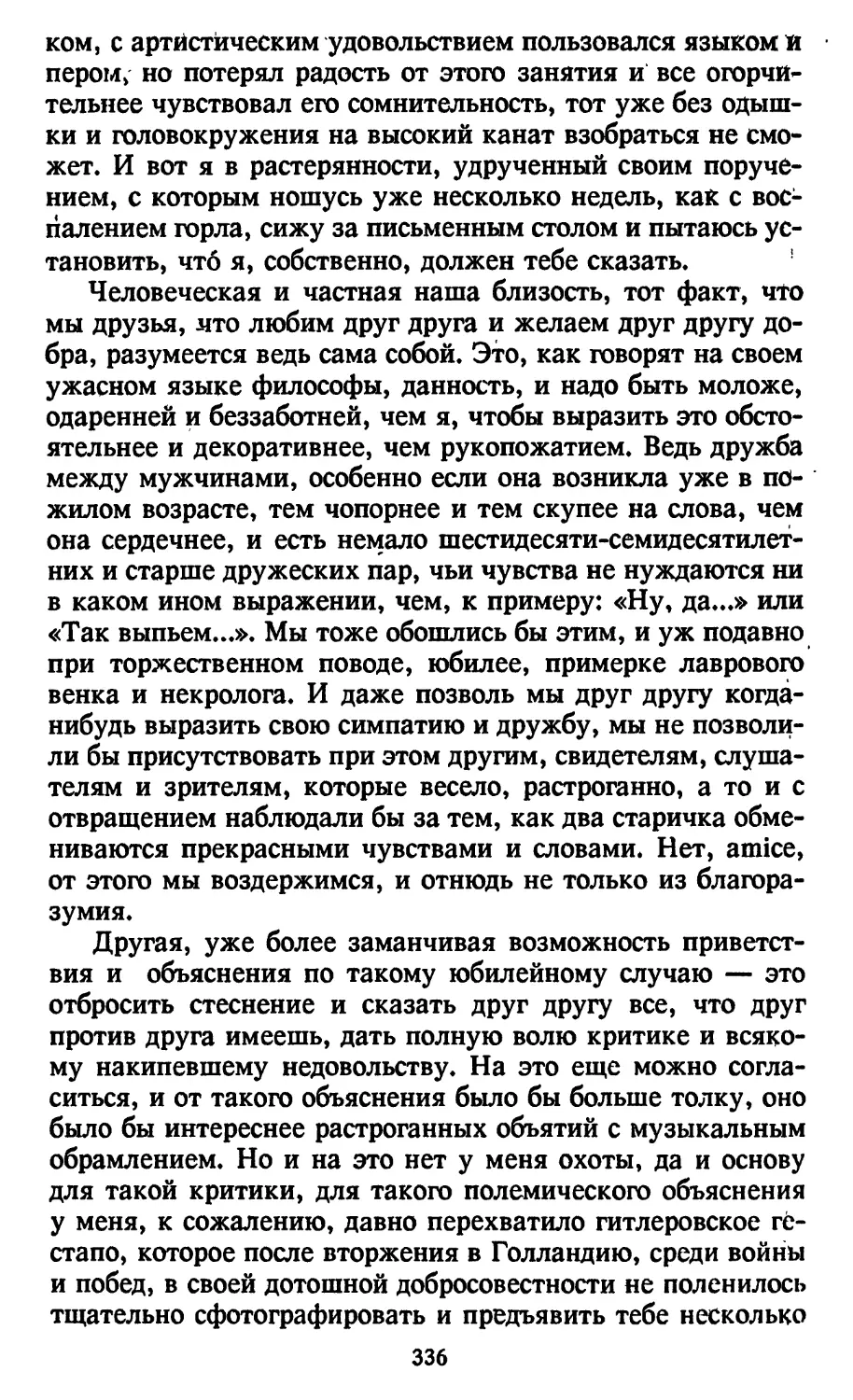
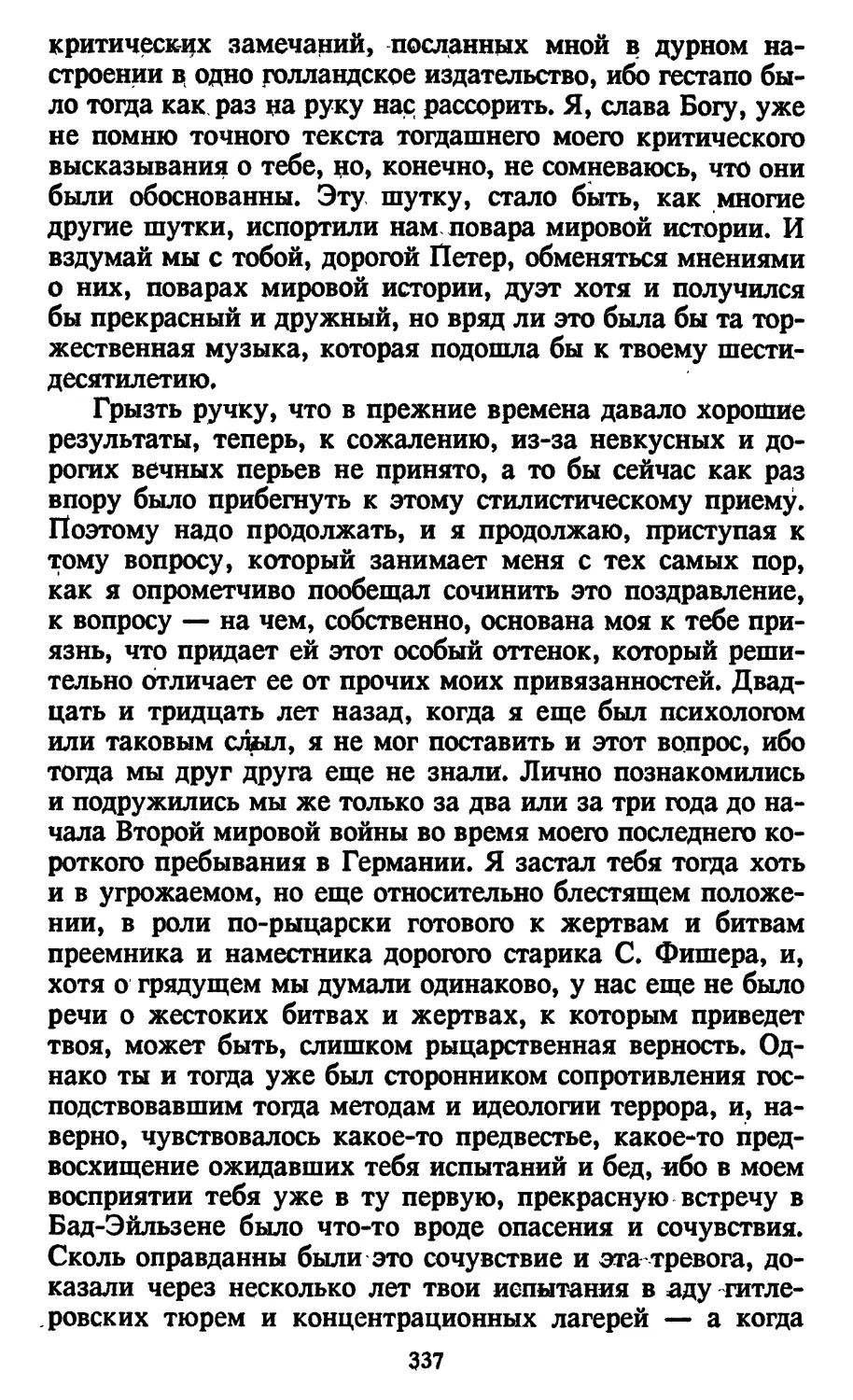
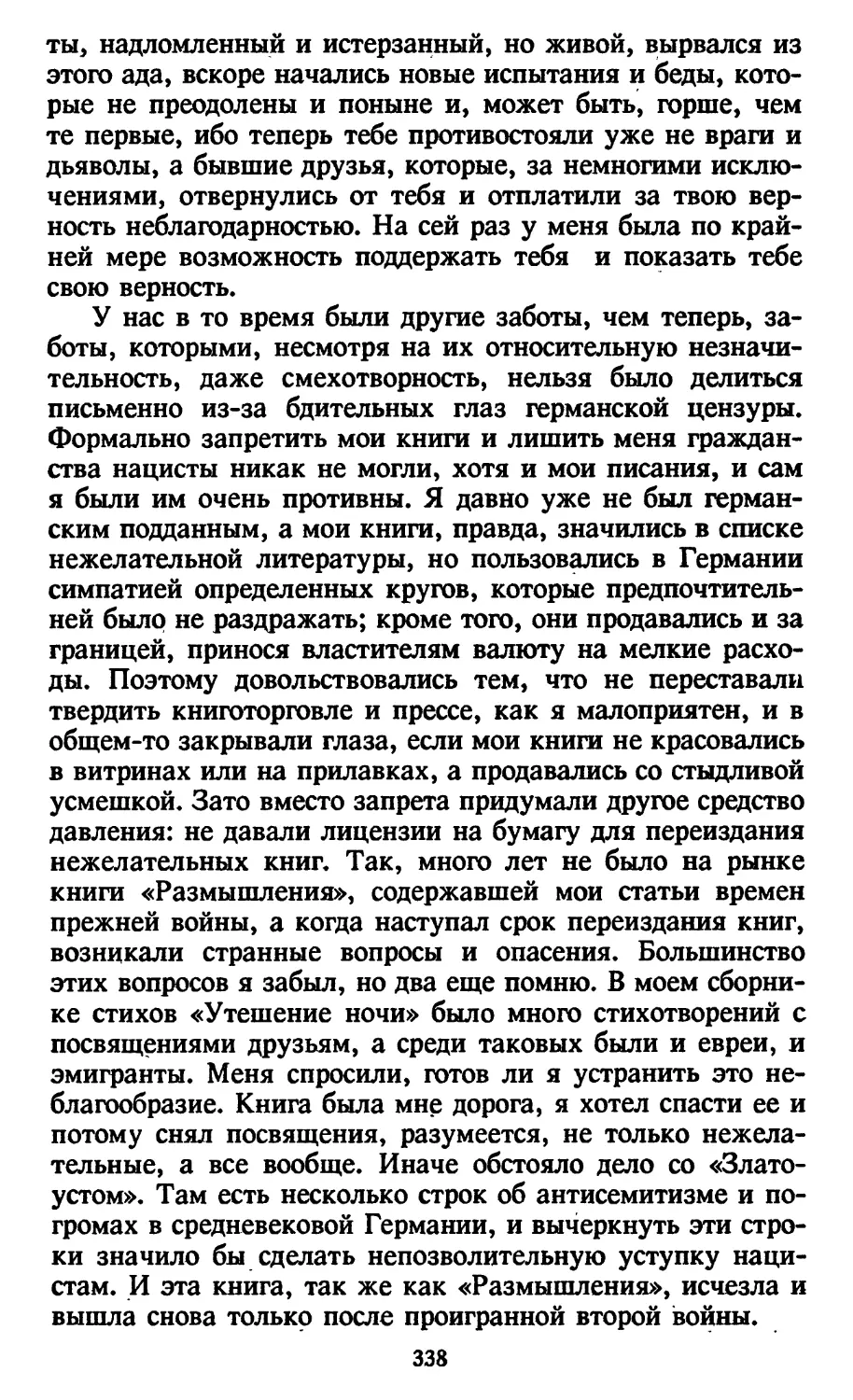
![Томасу Манну [конец октября 1951]](https://djvu.online/jpg/L/i/f/LifqgSzCmAxkm/342.webp)